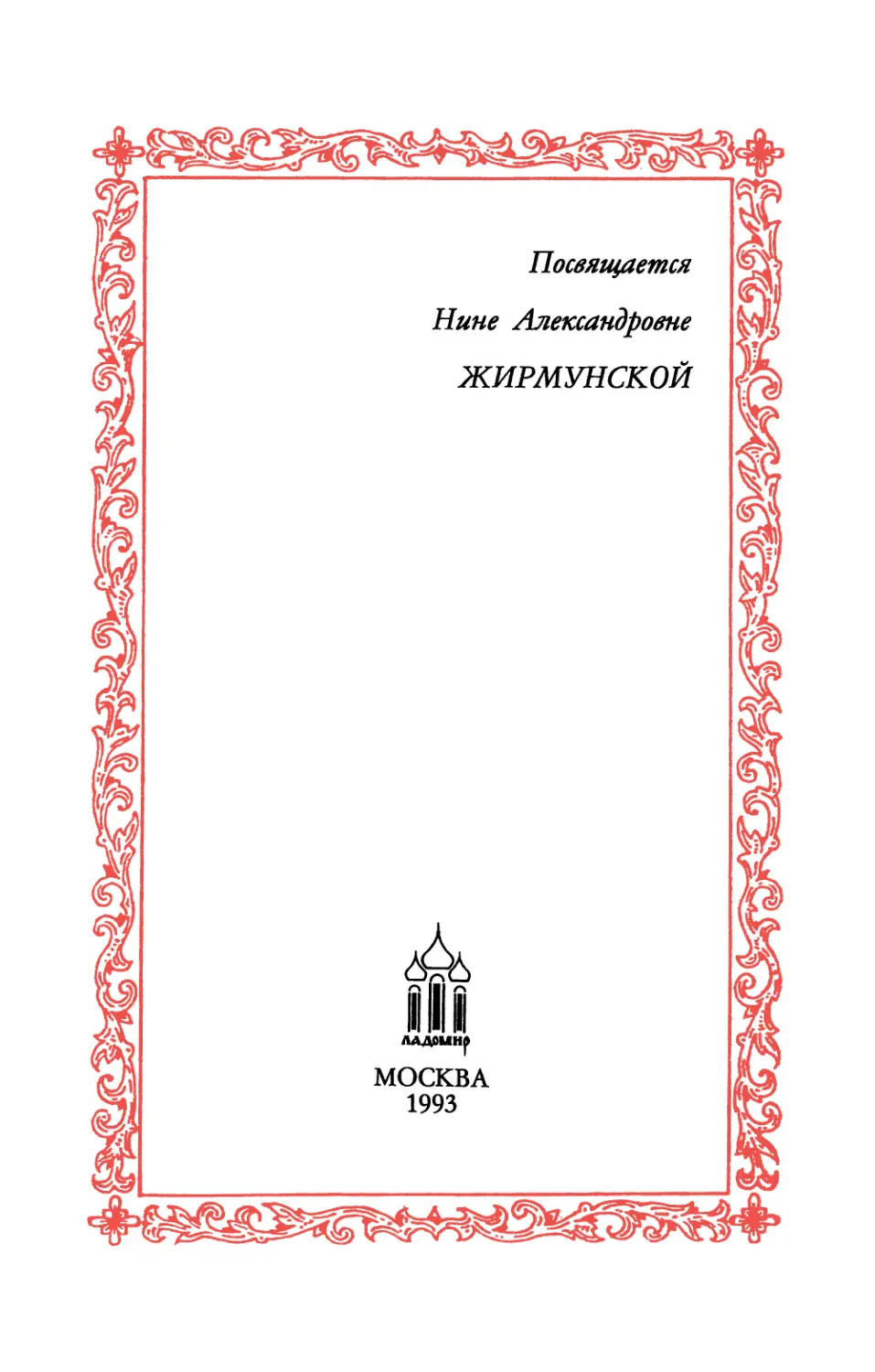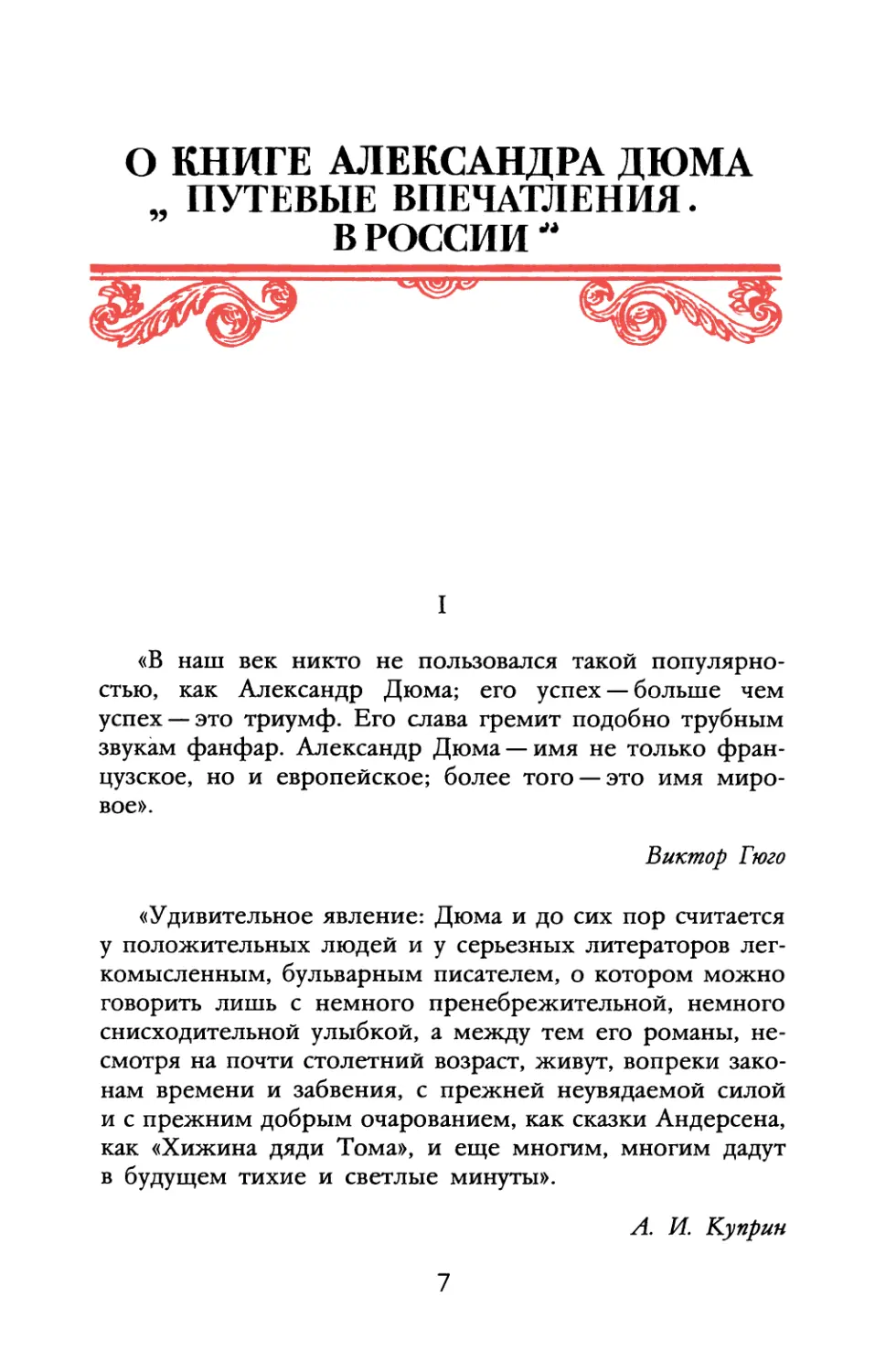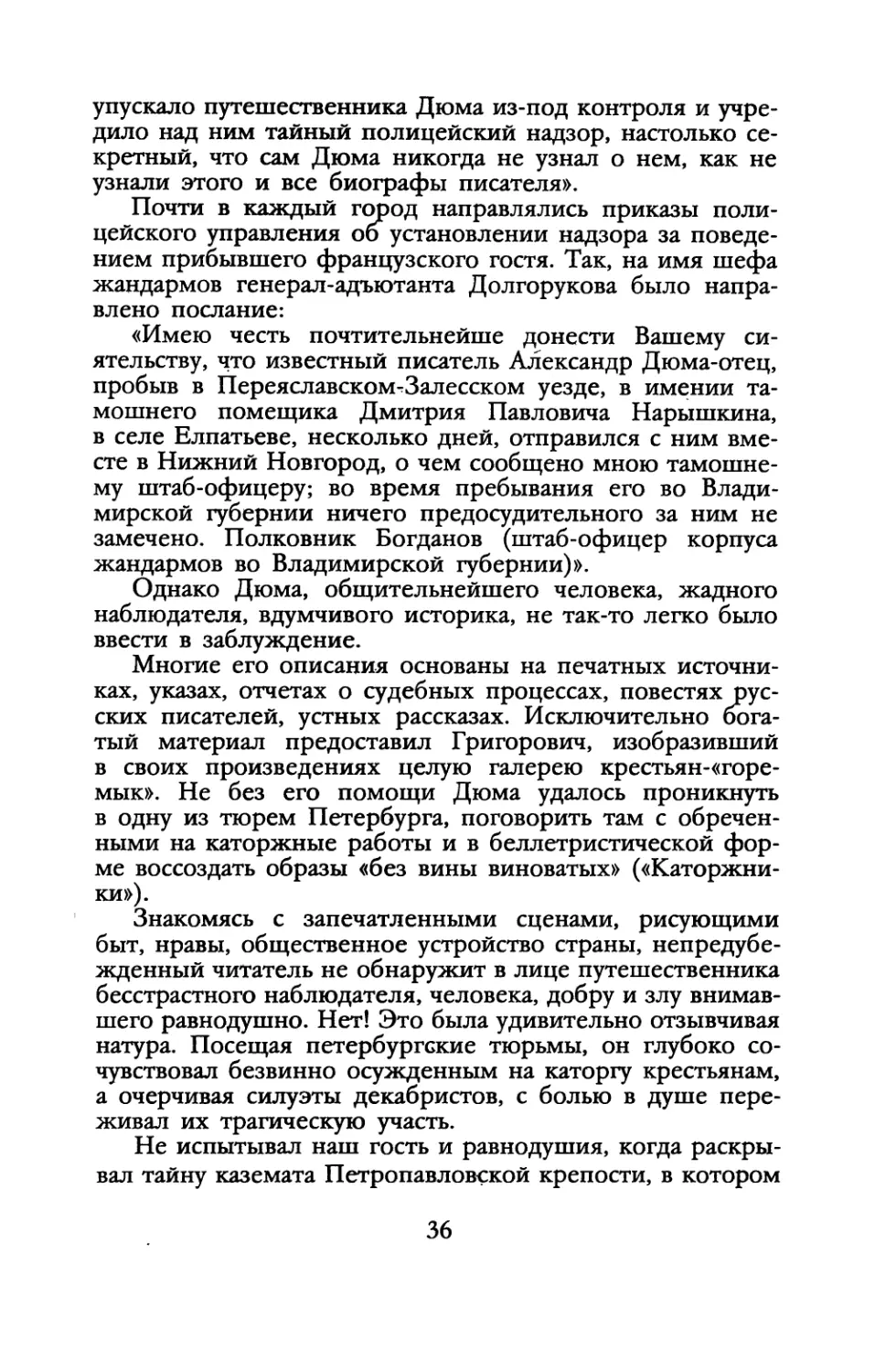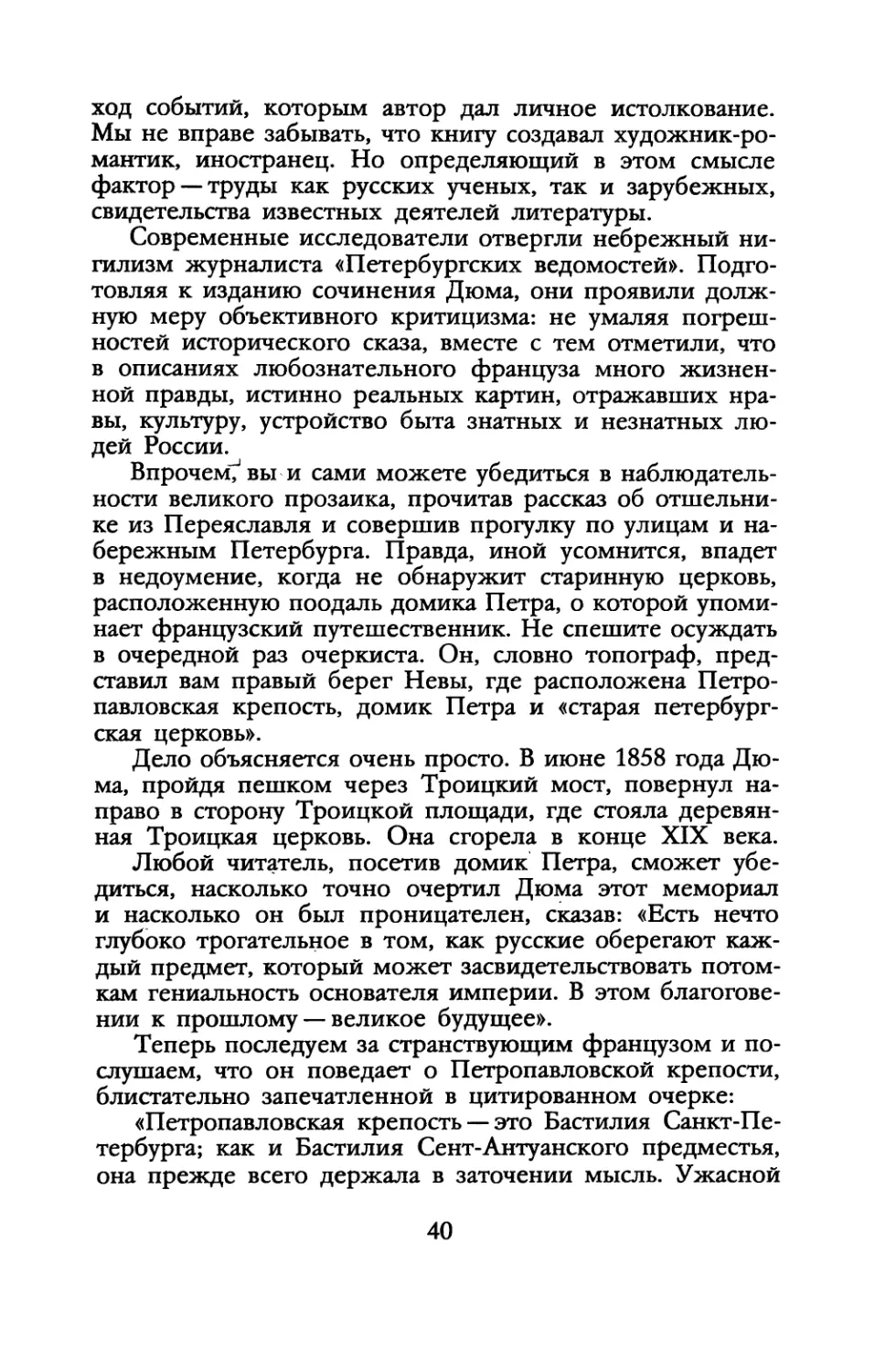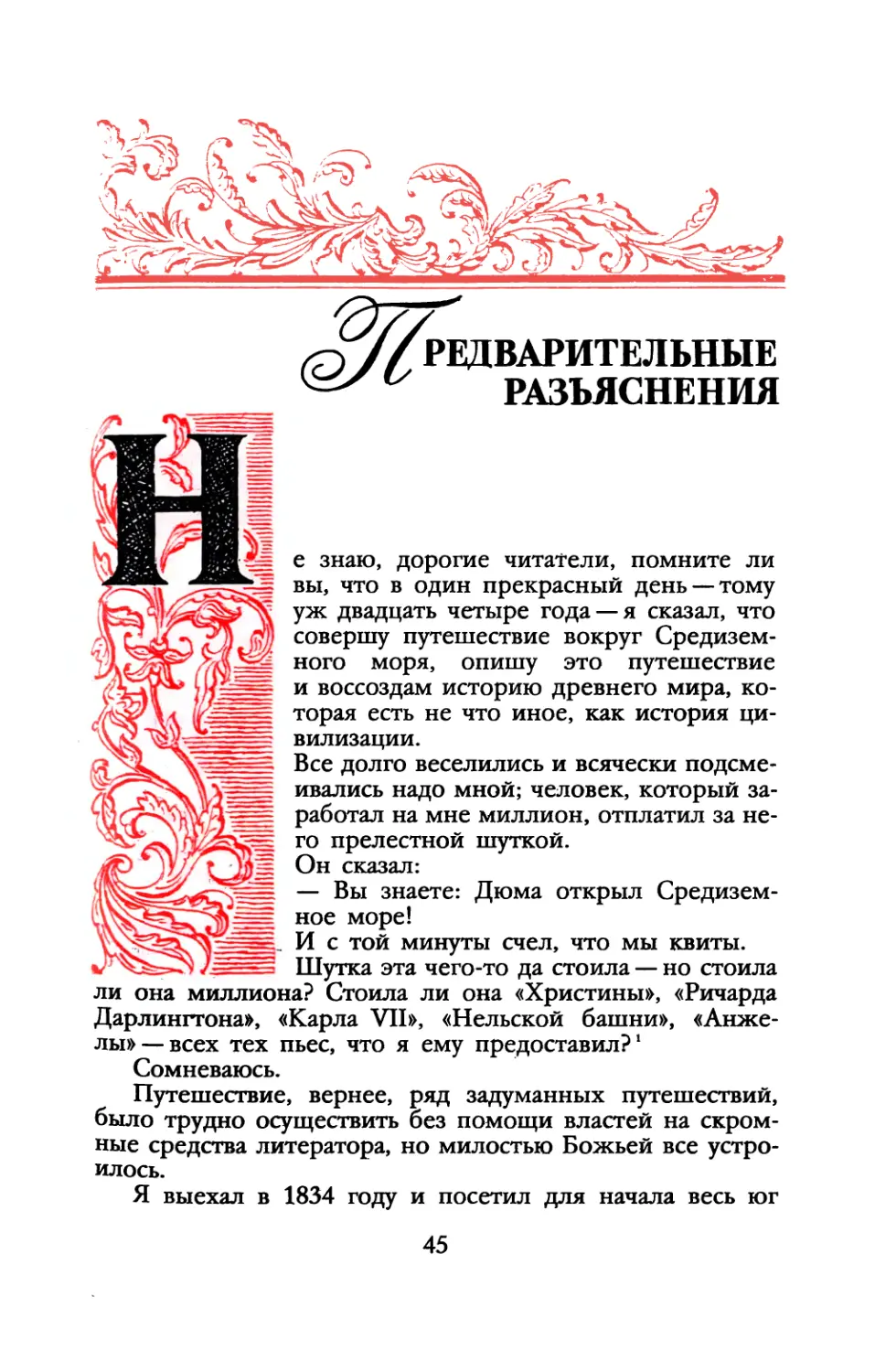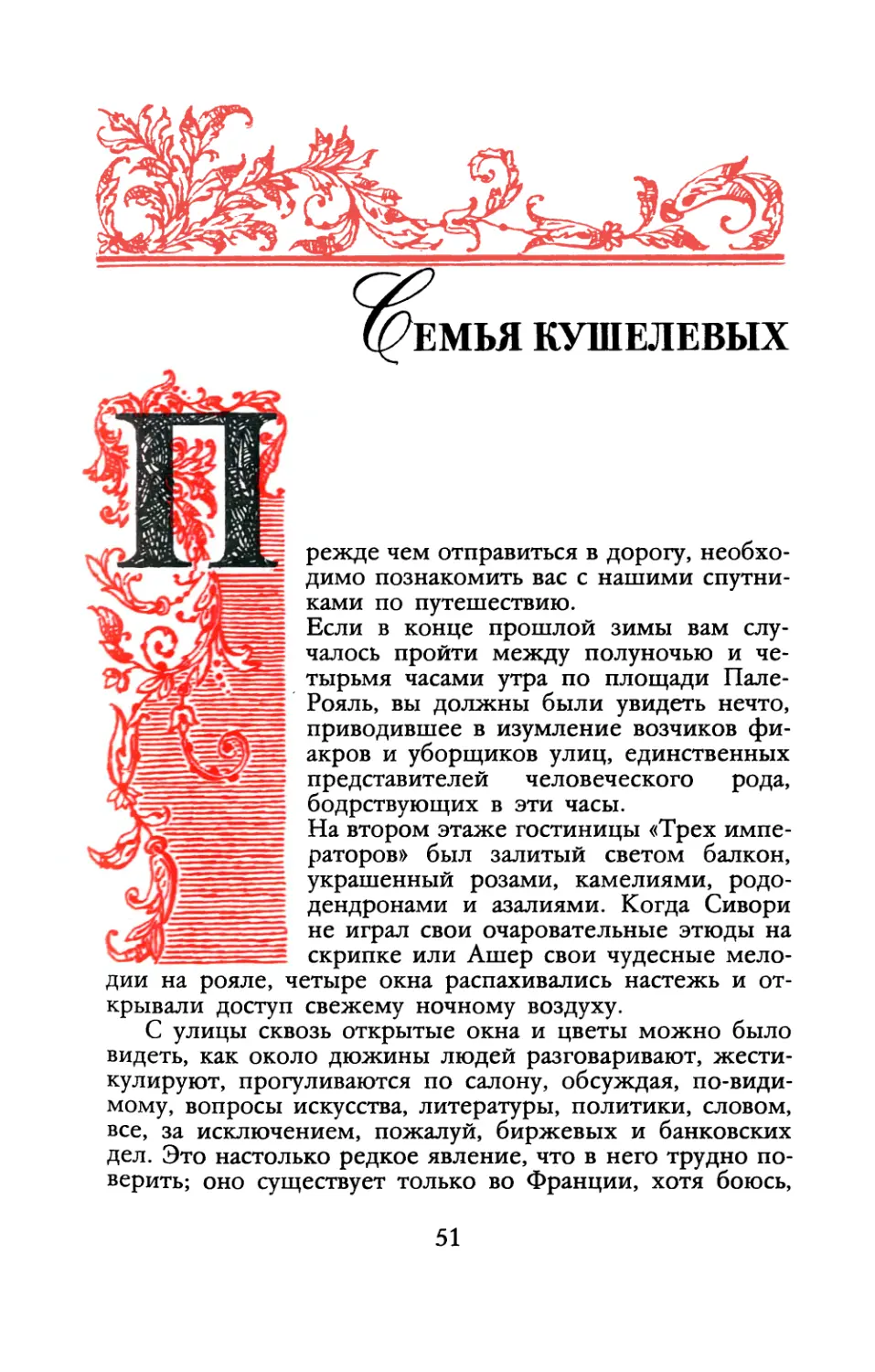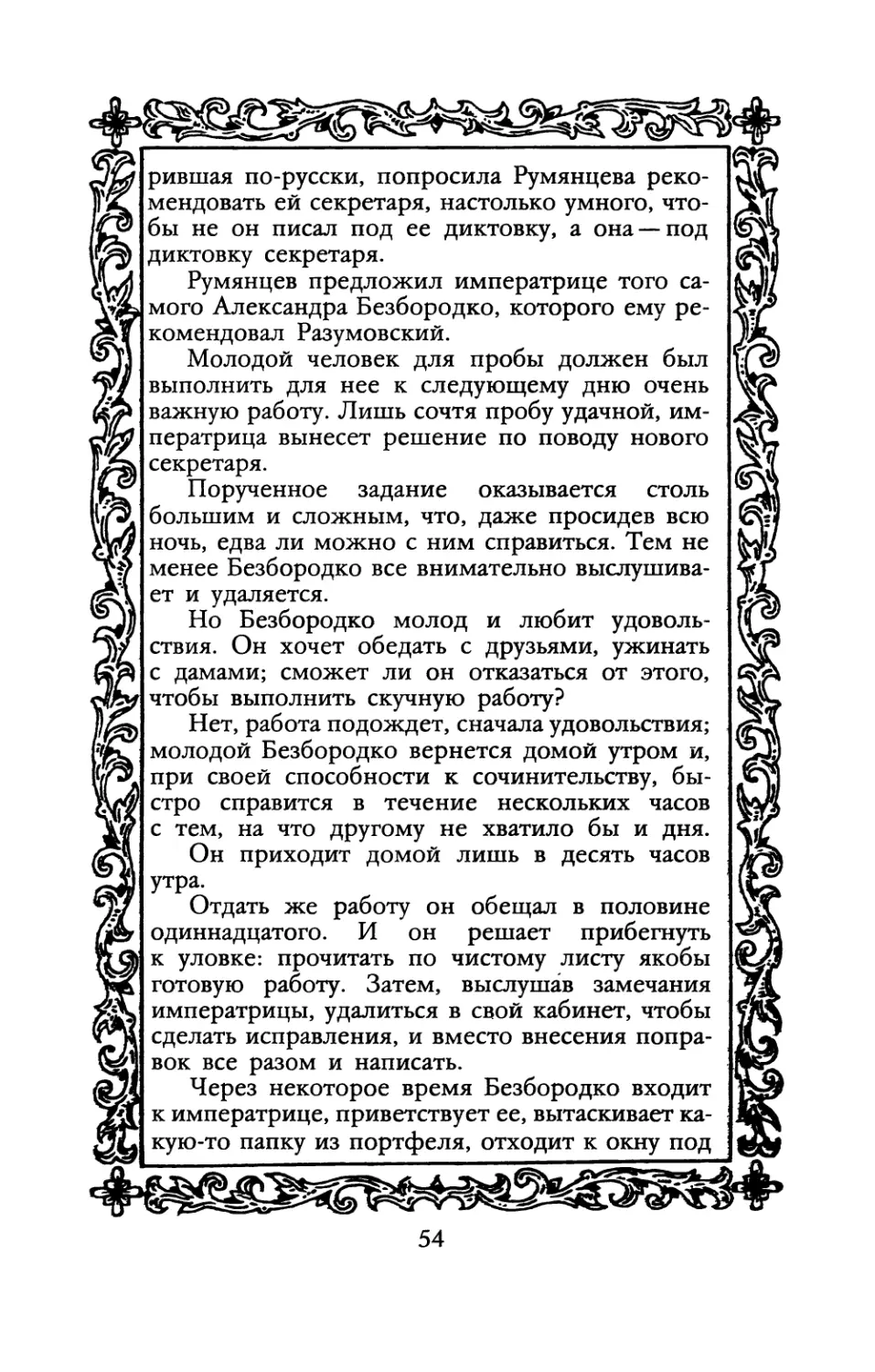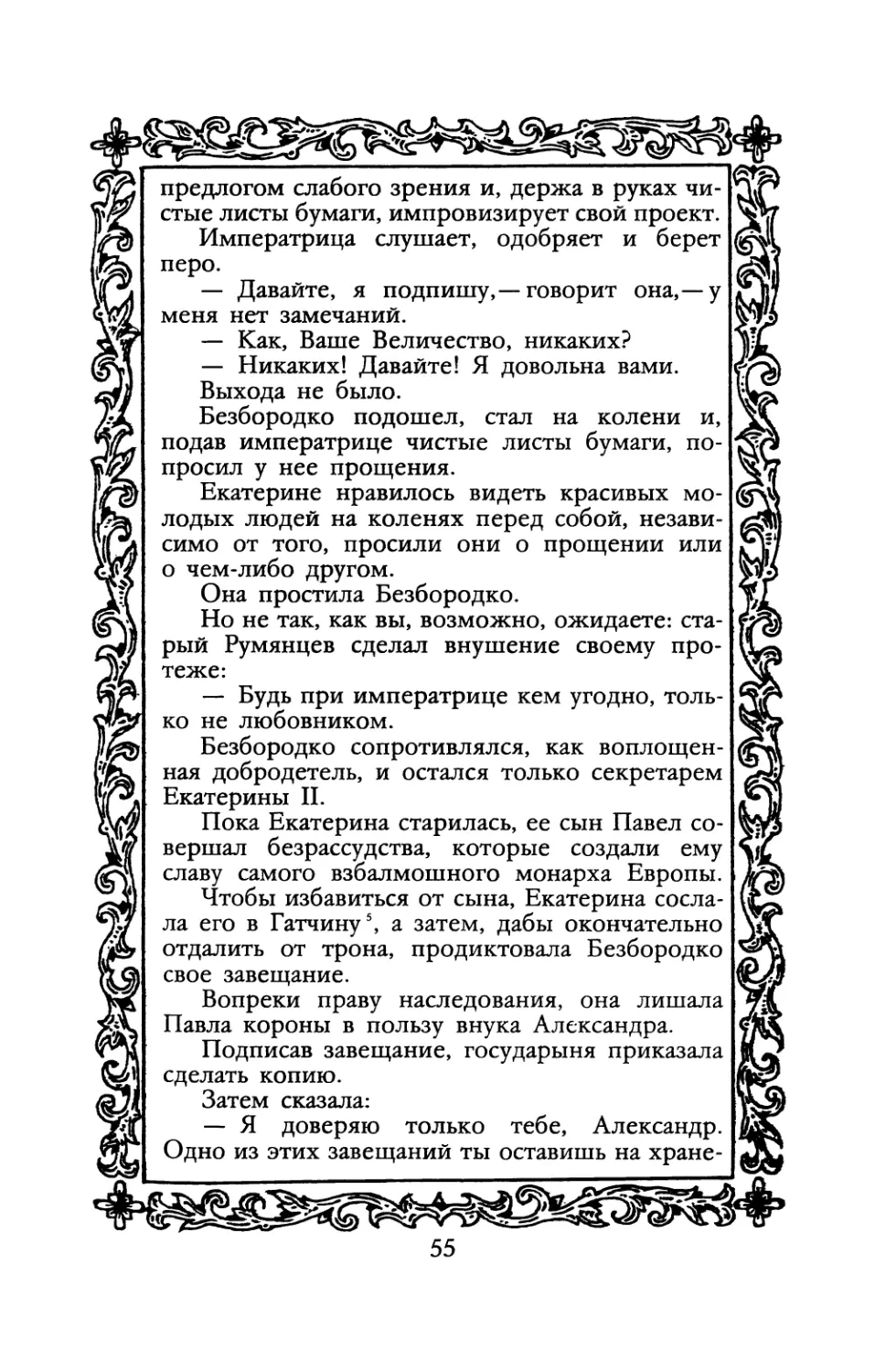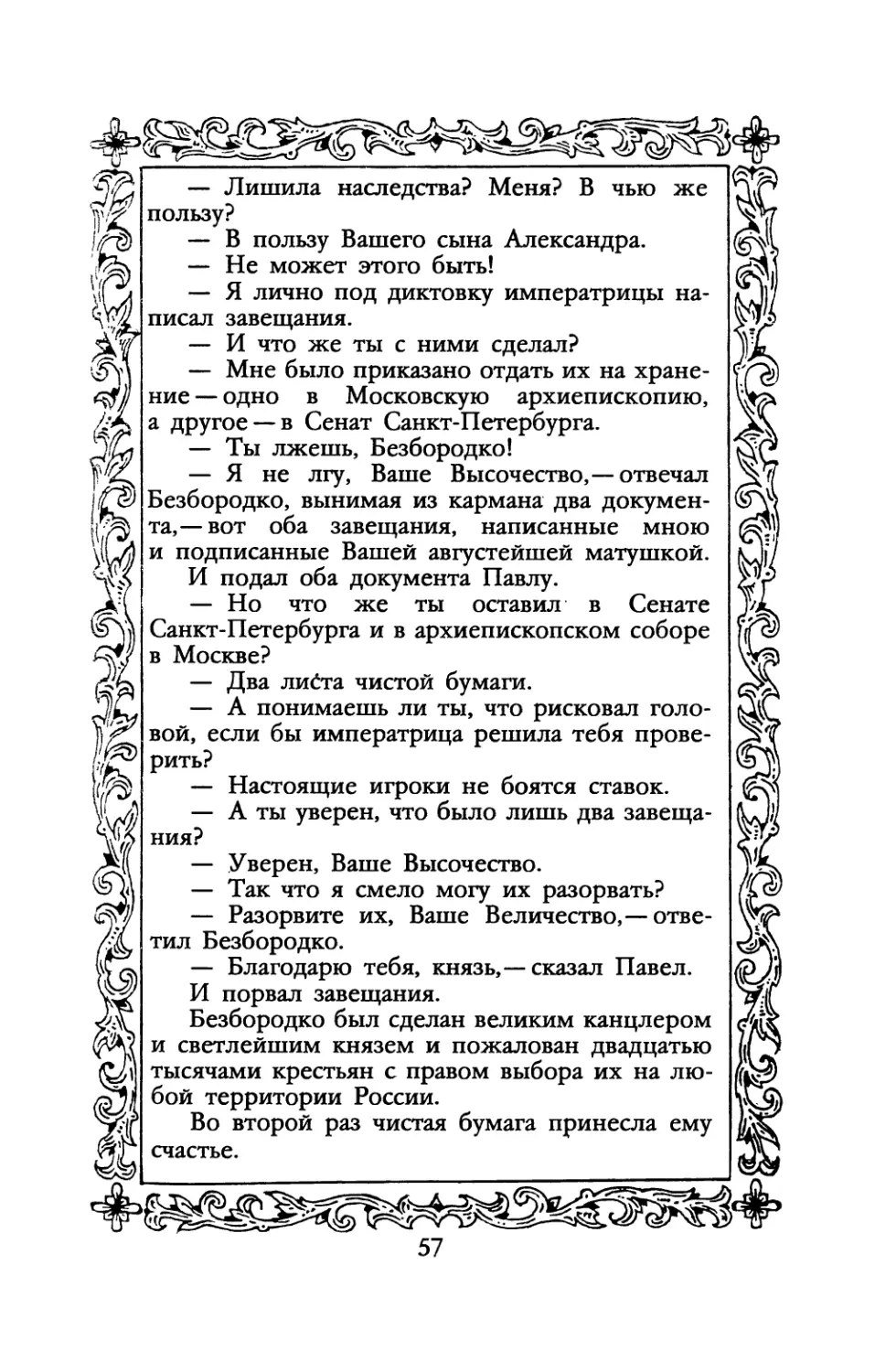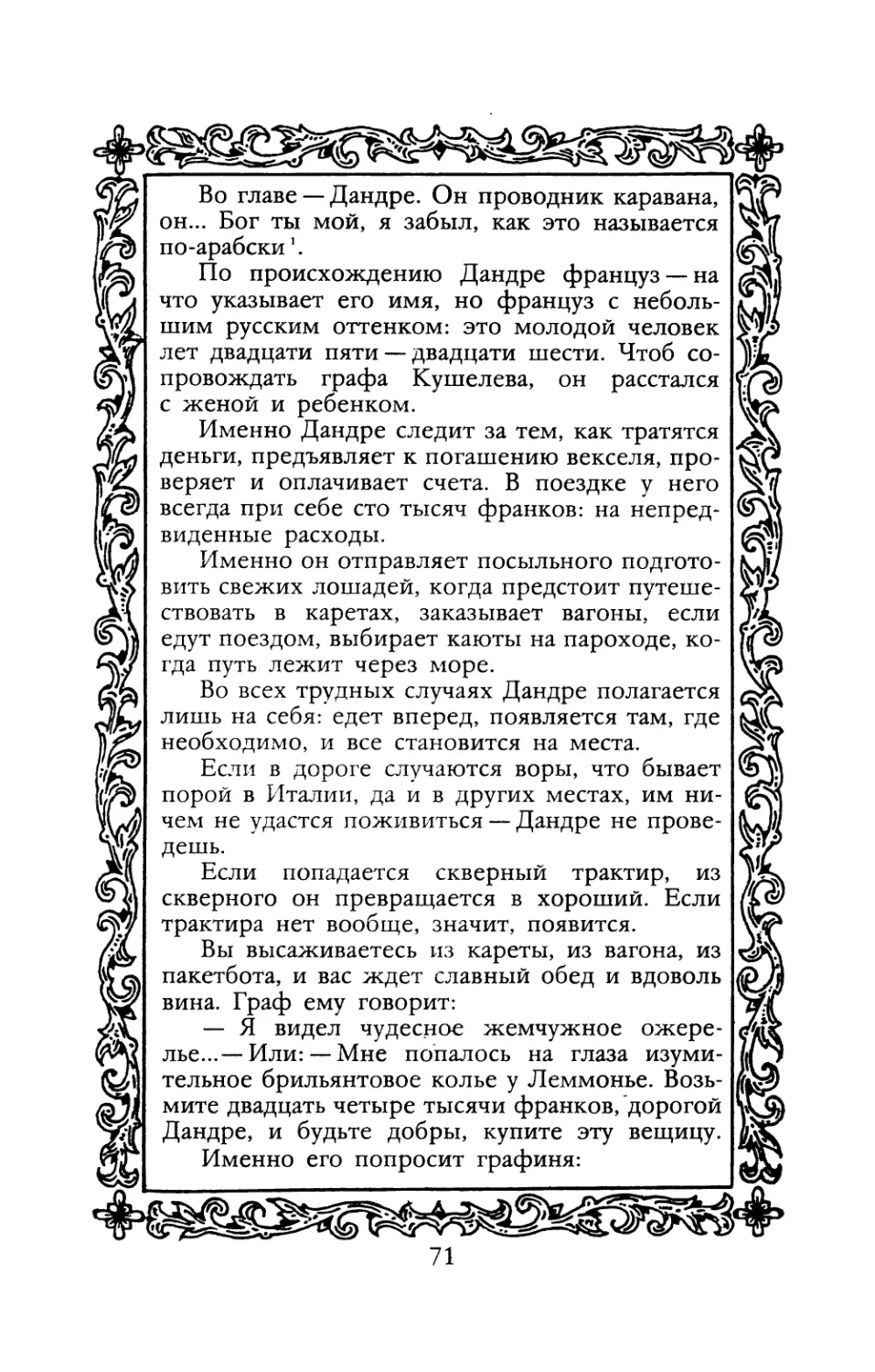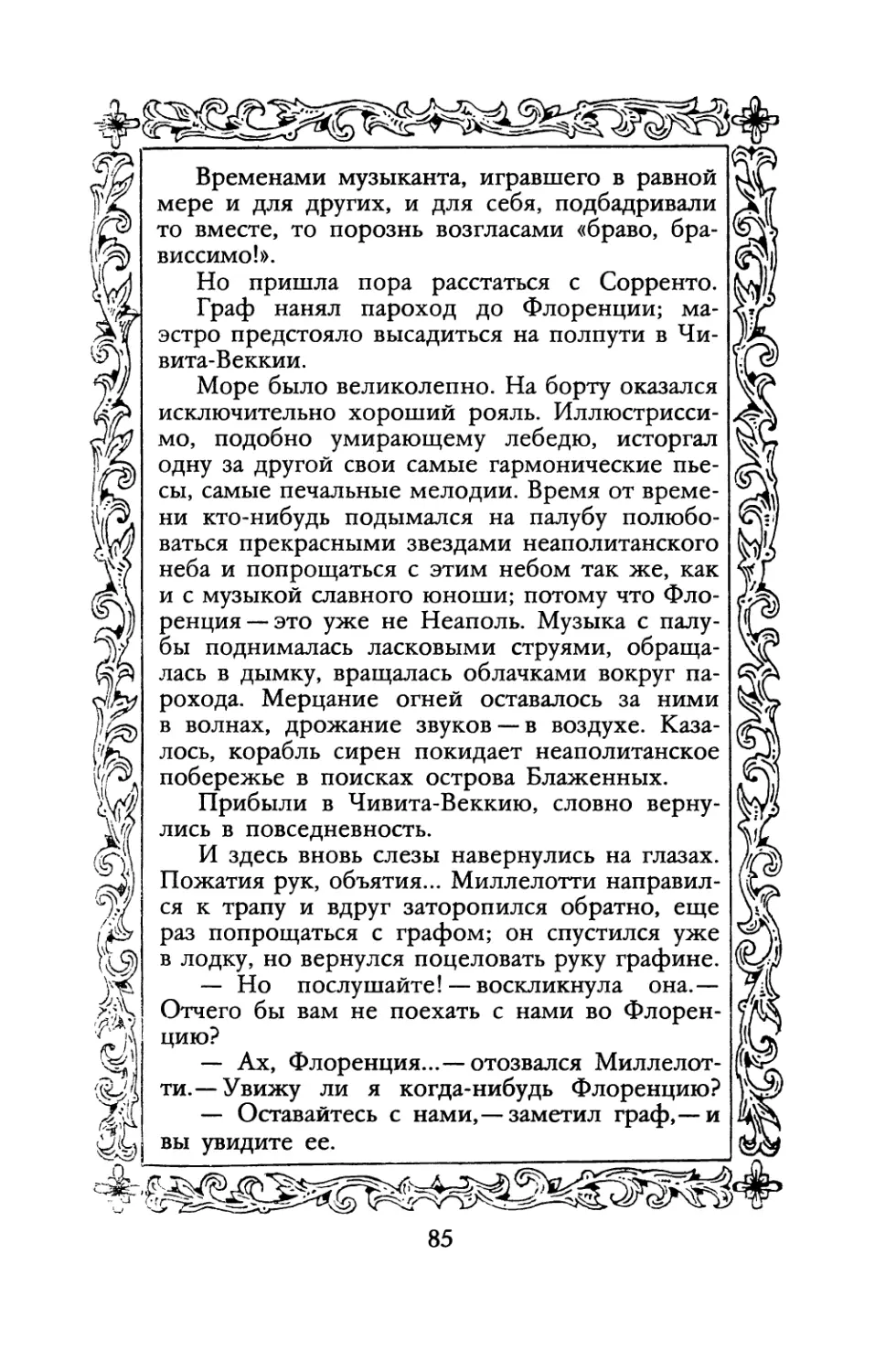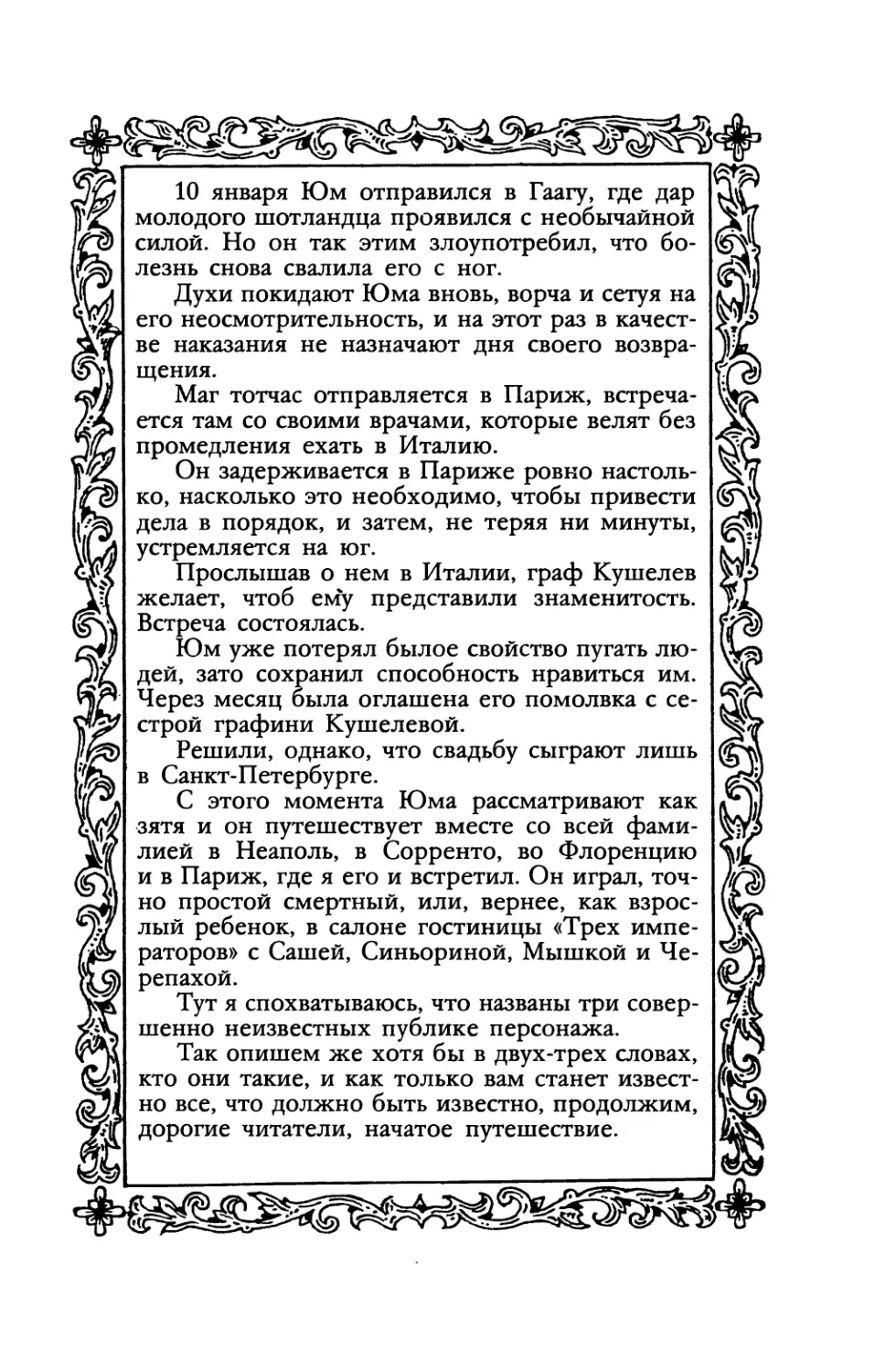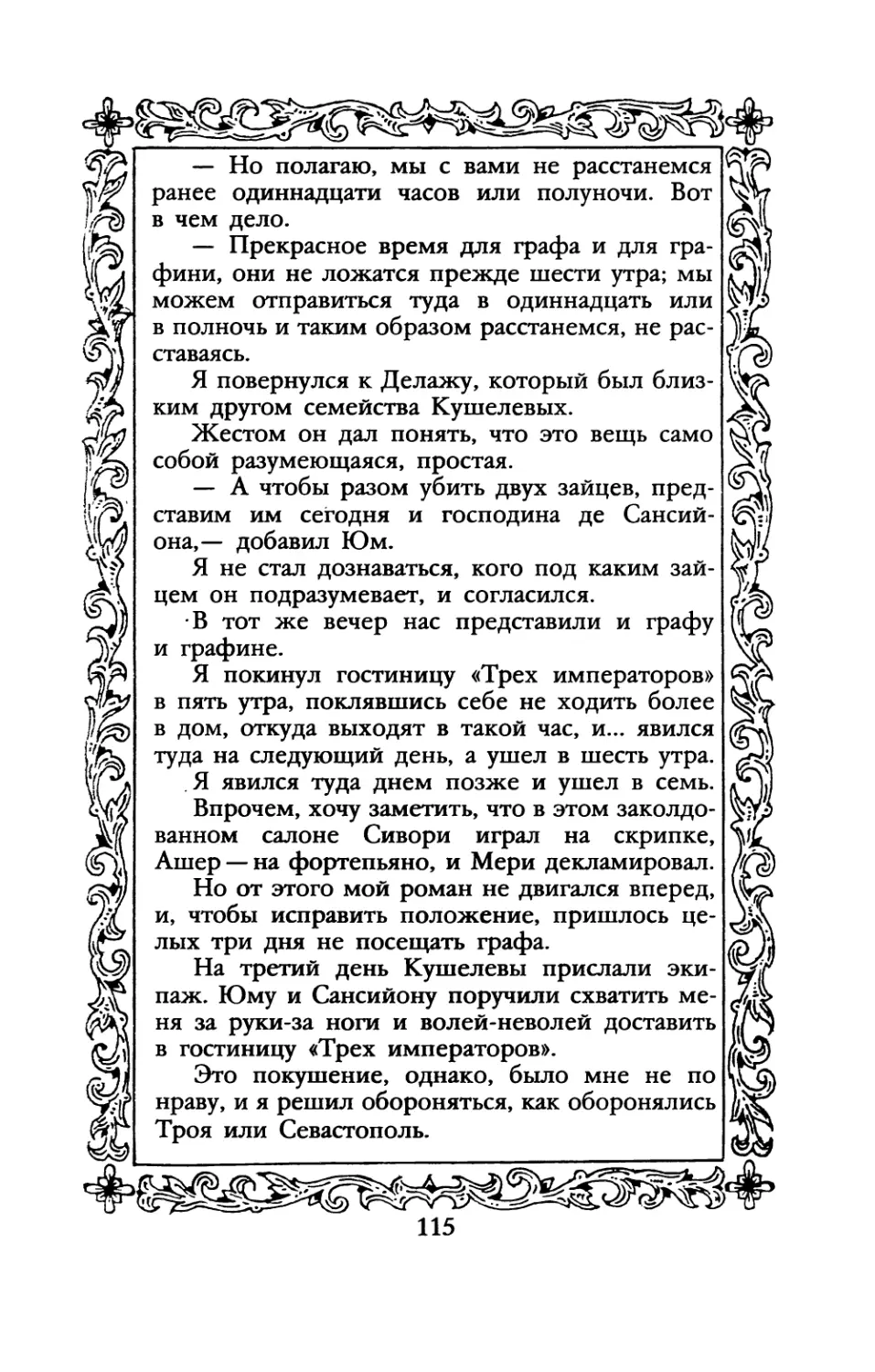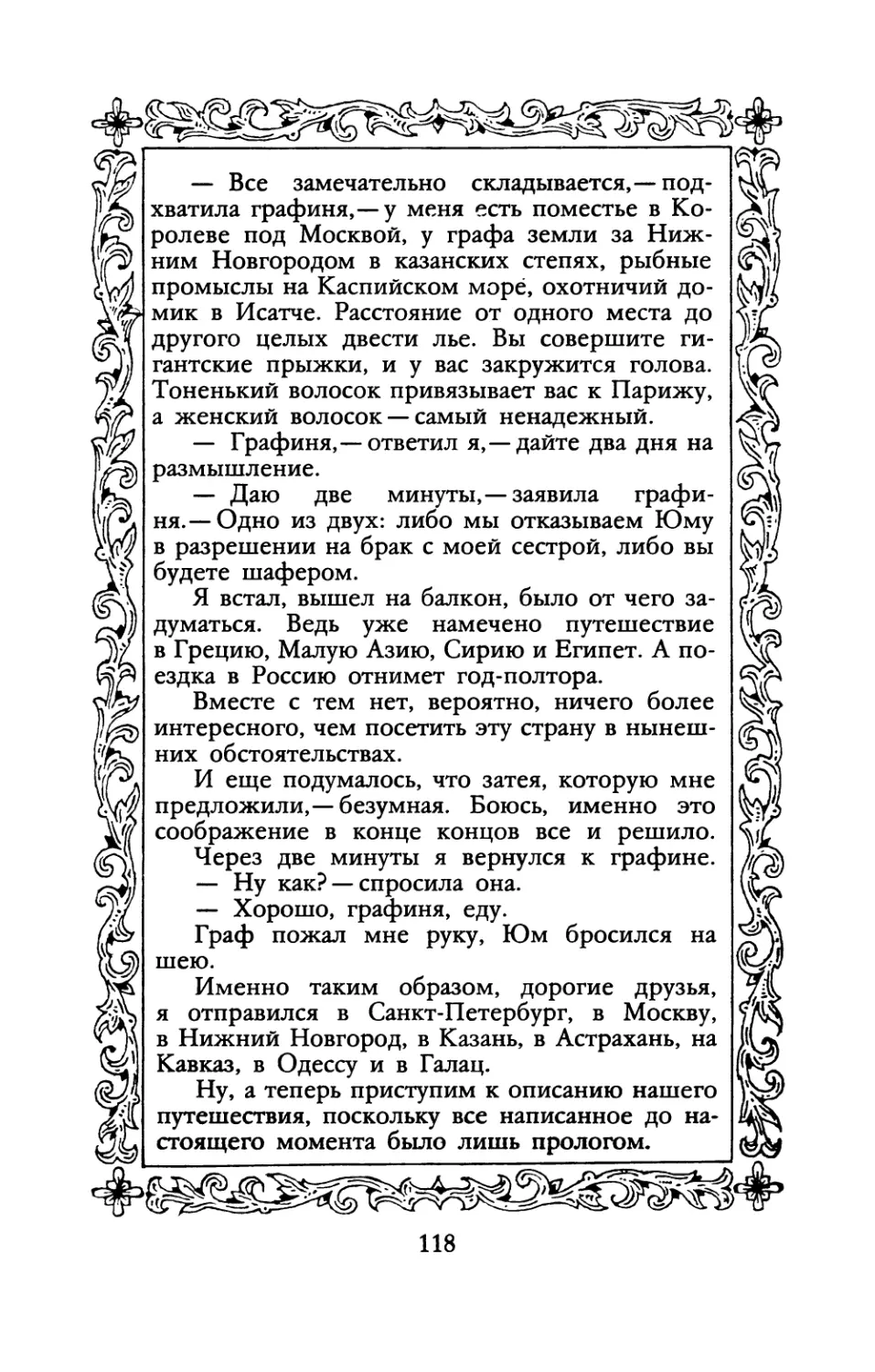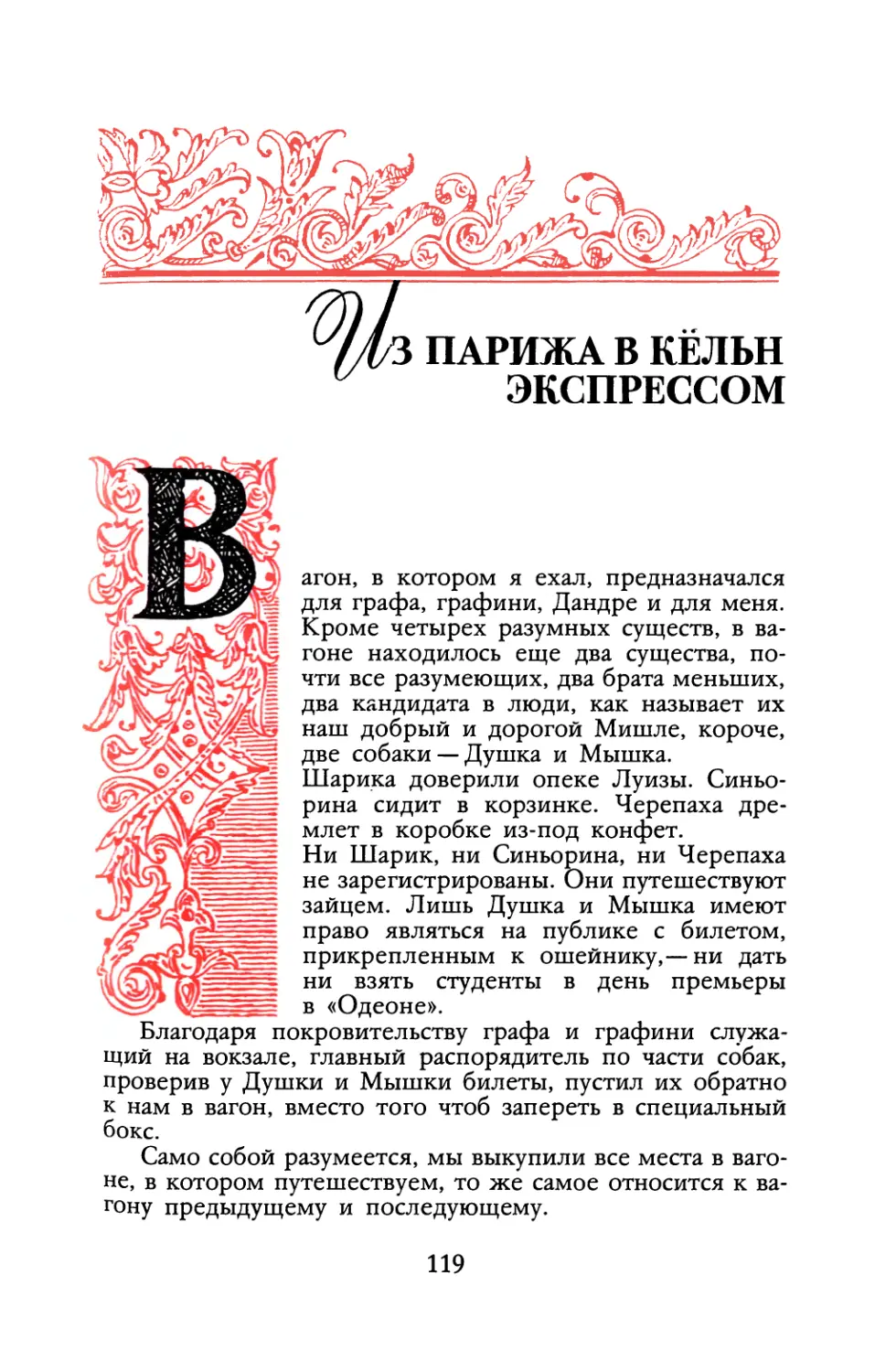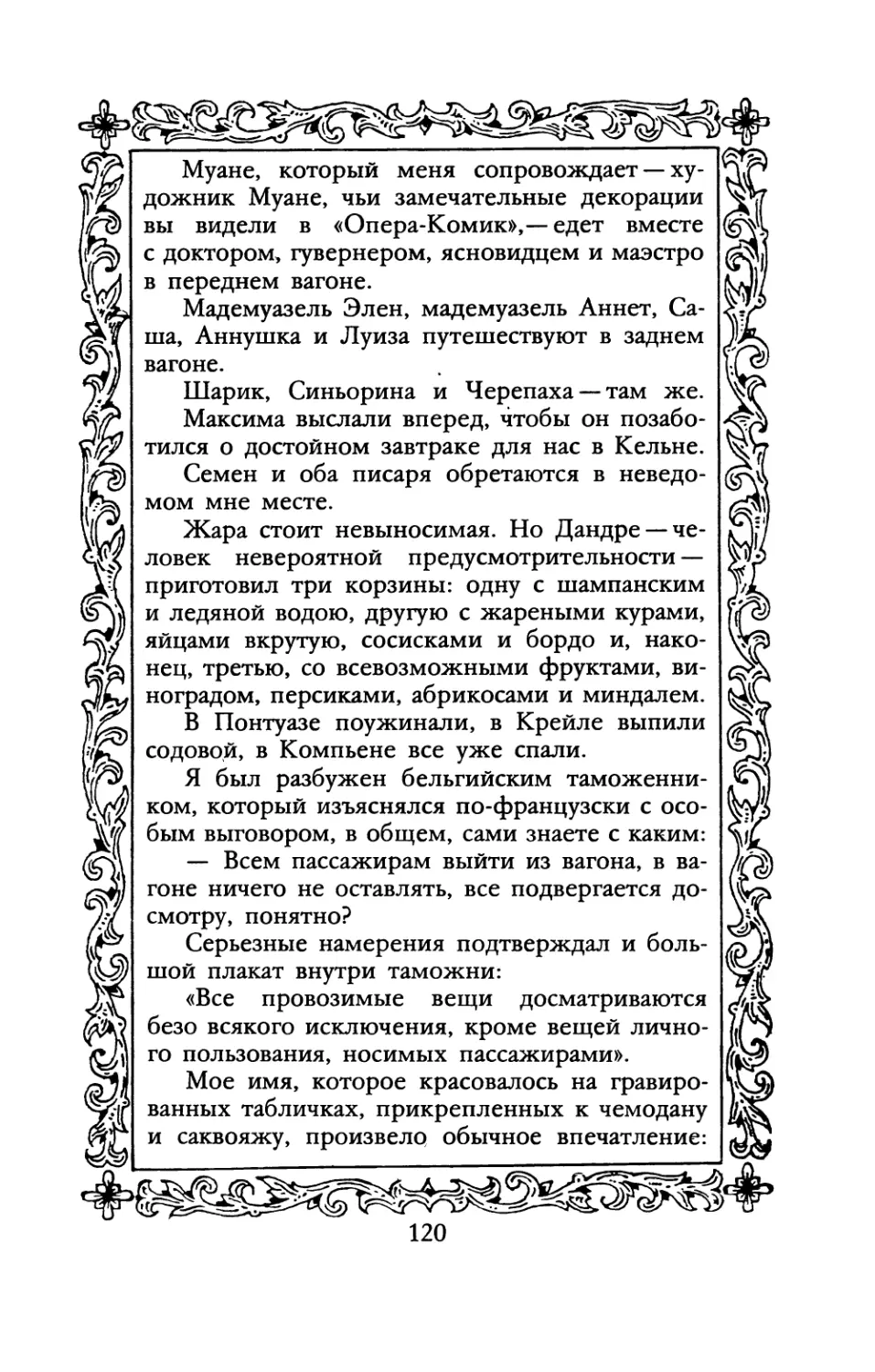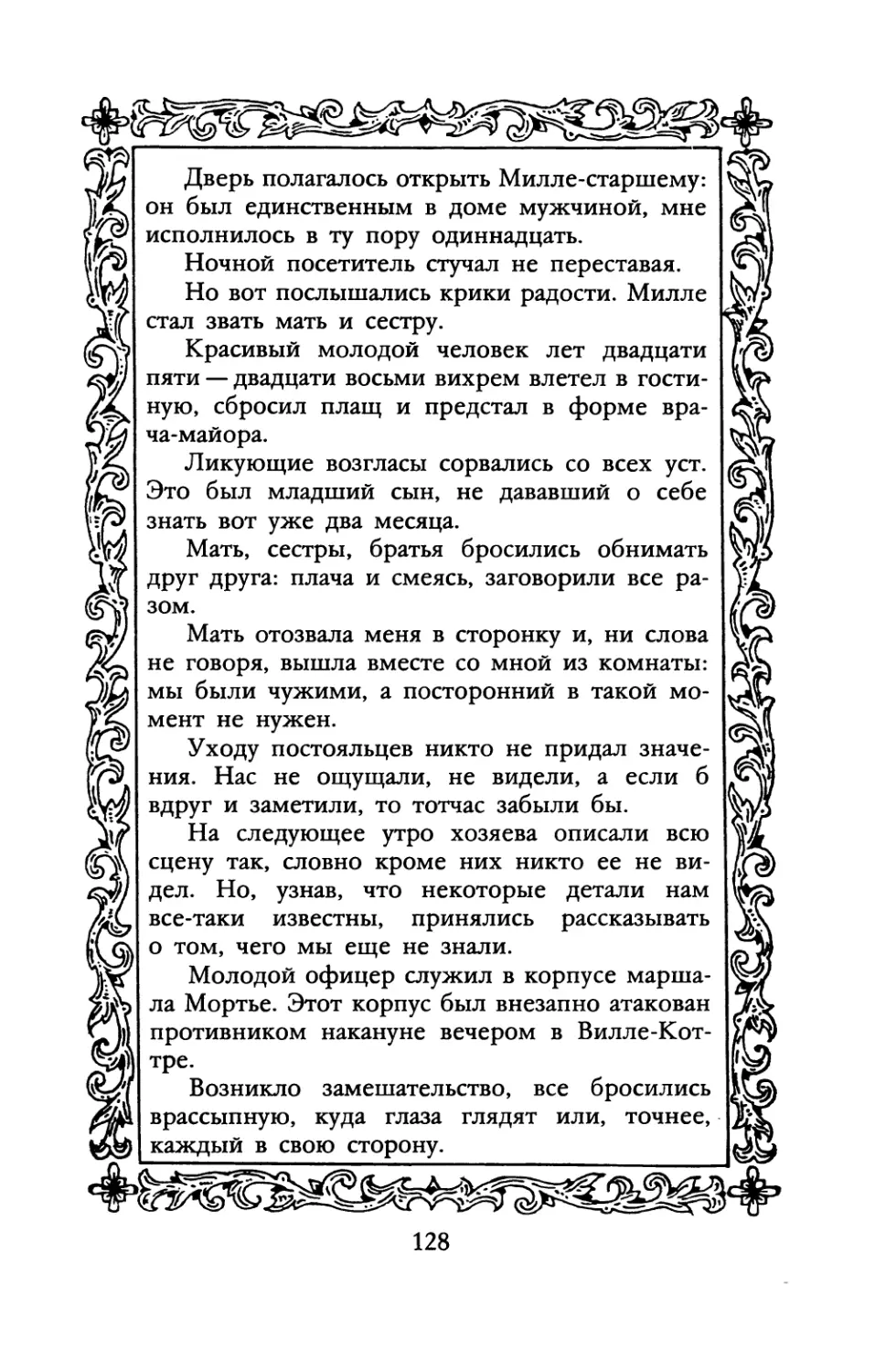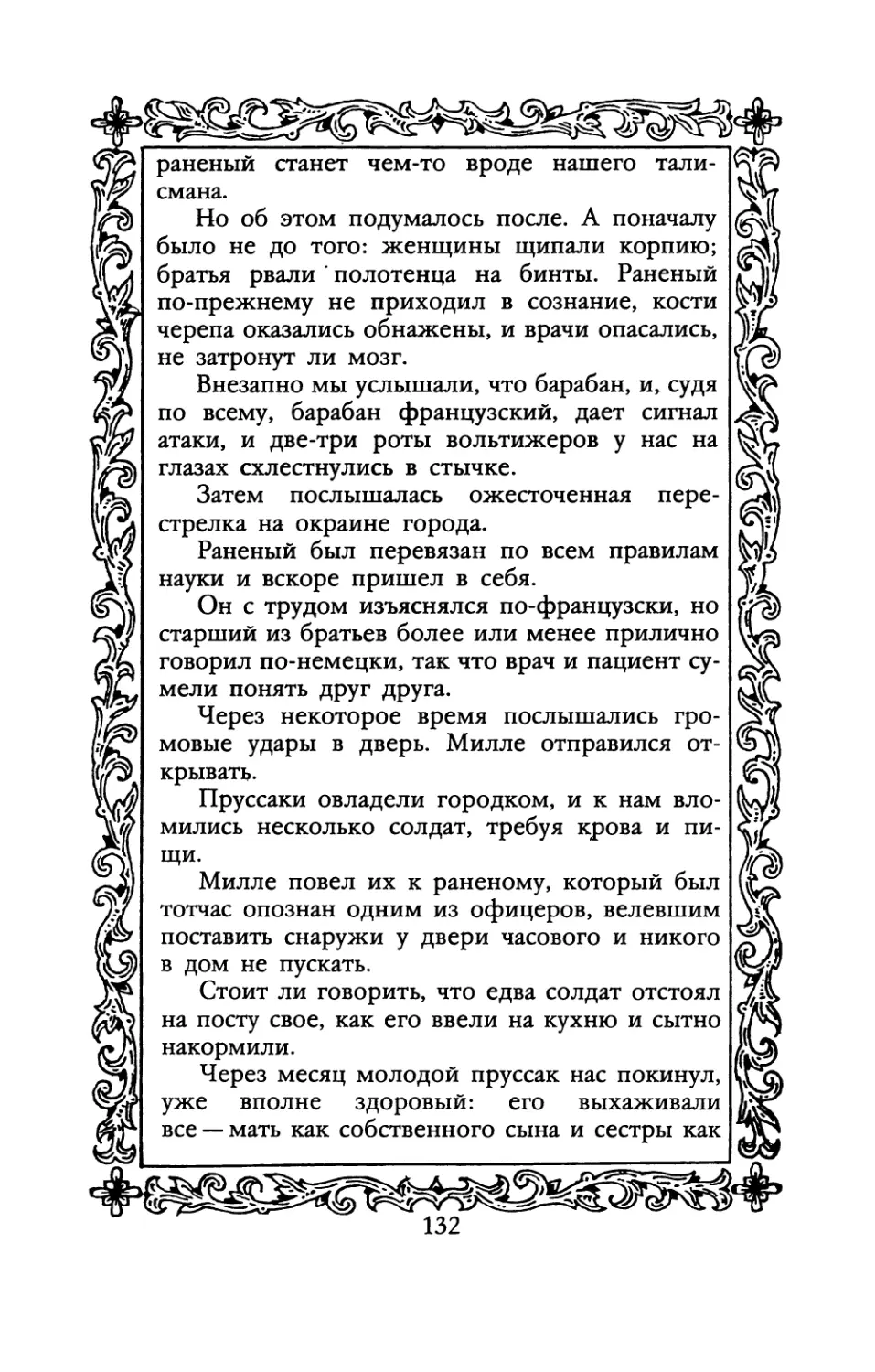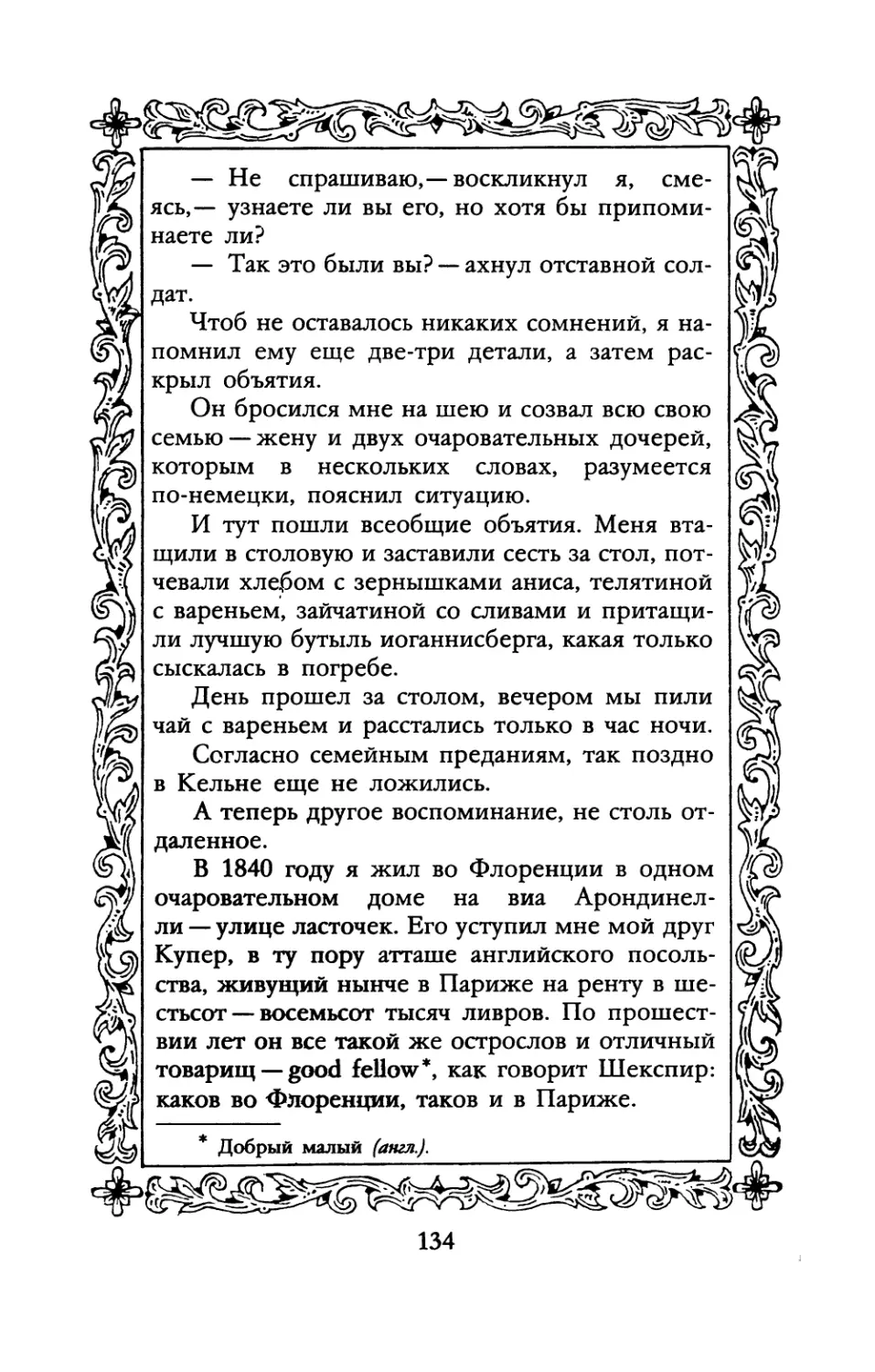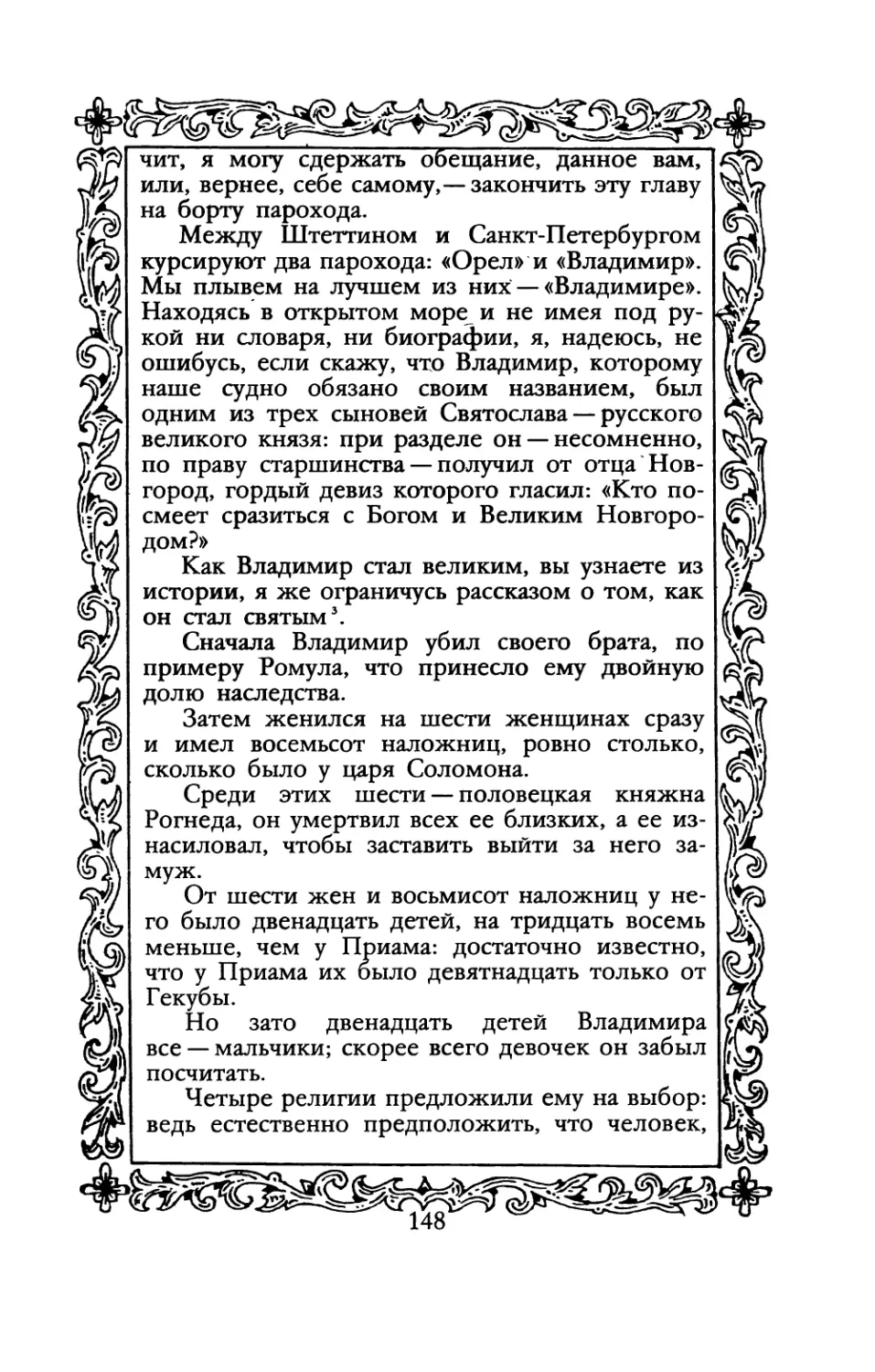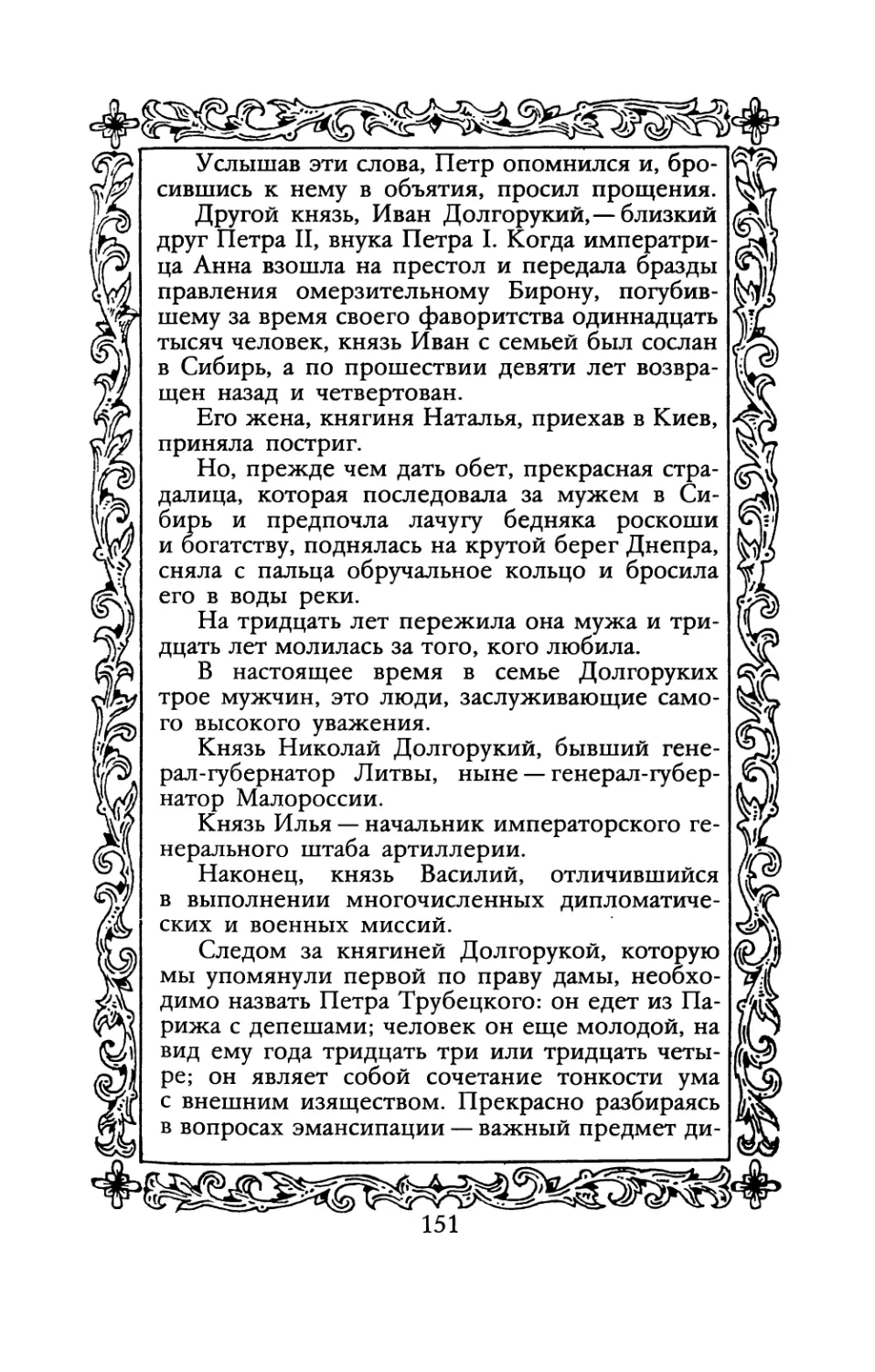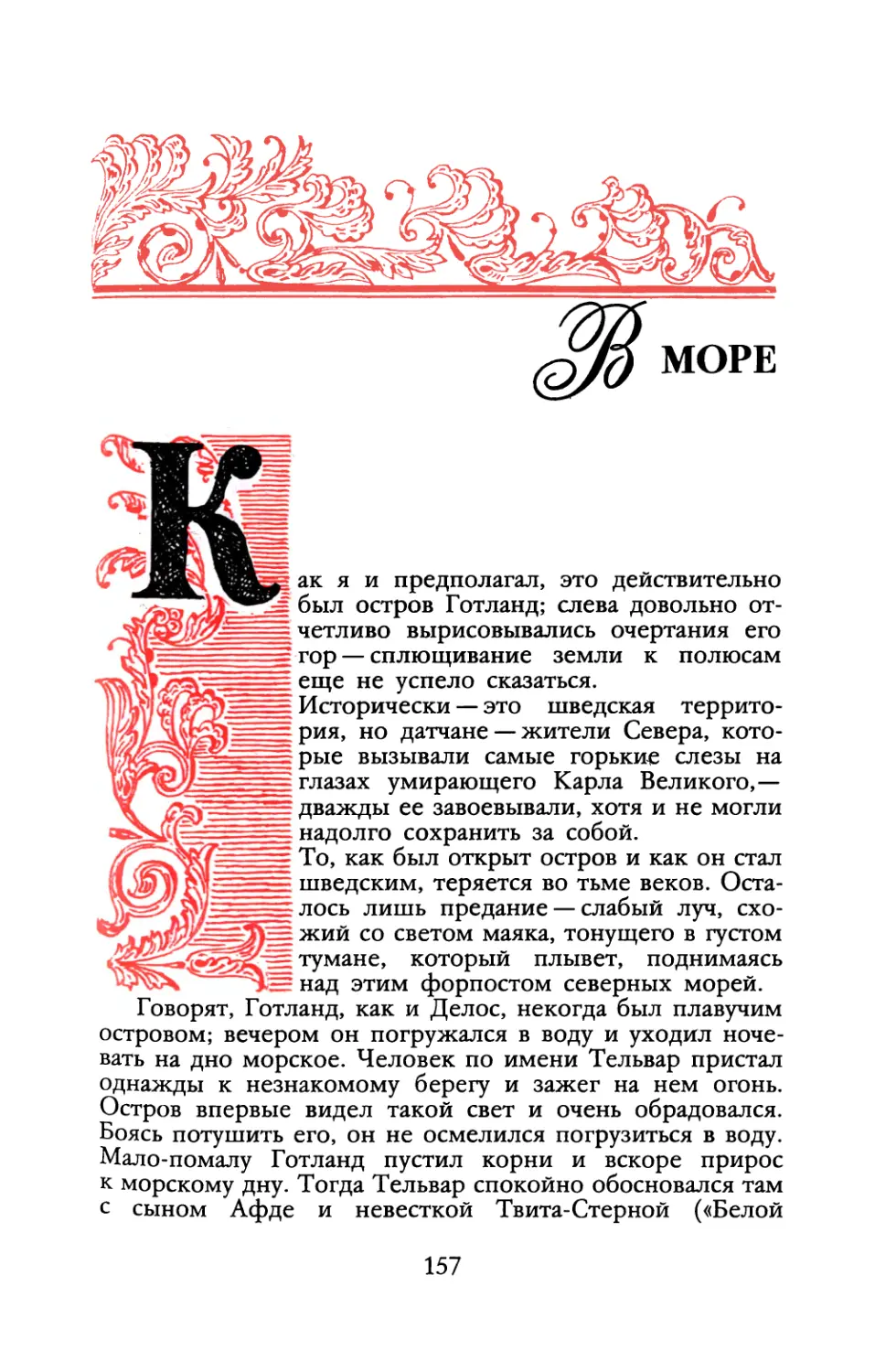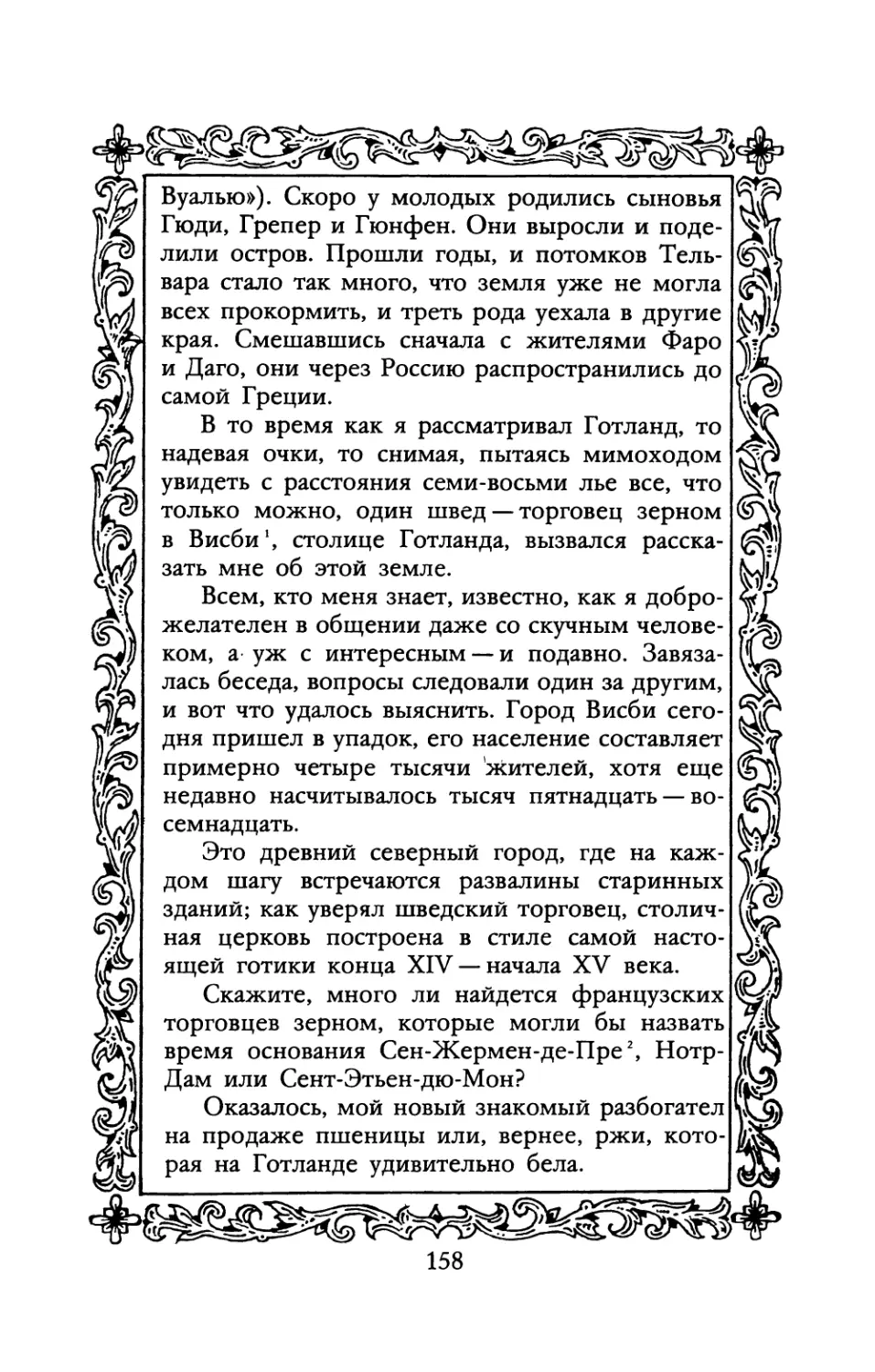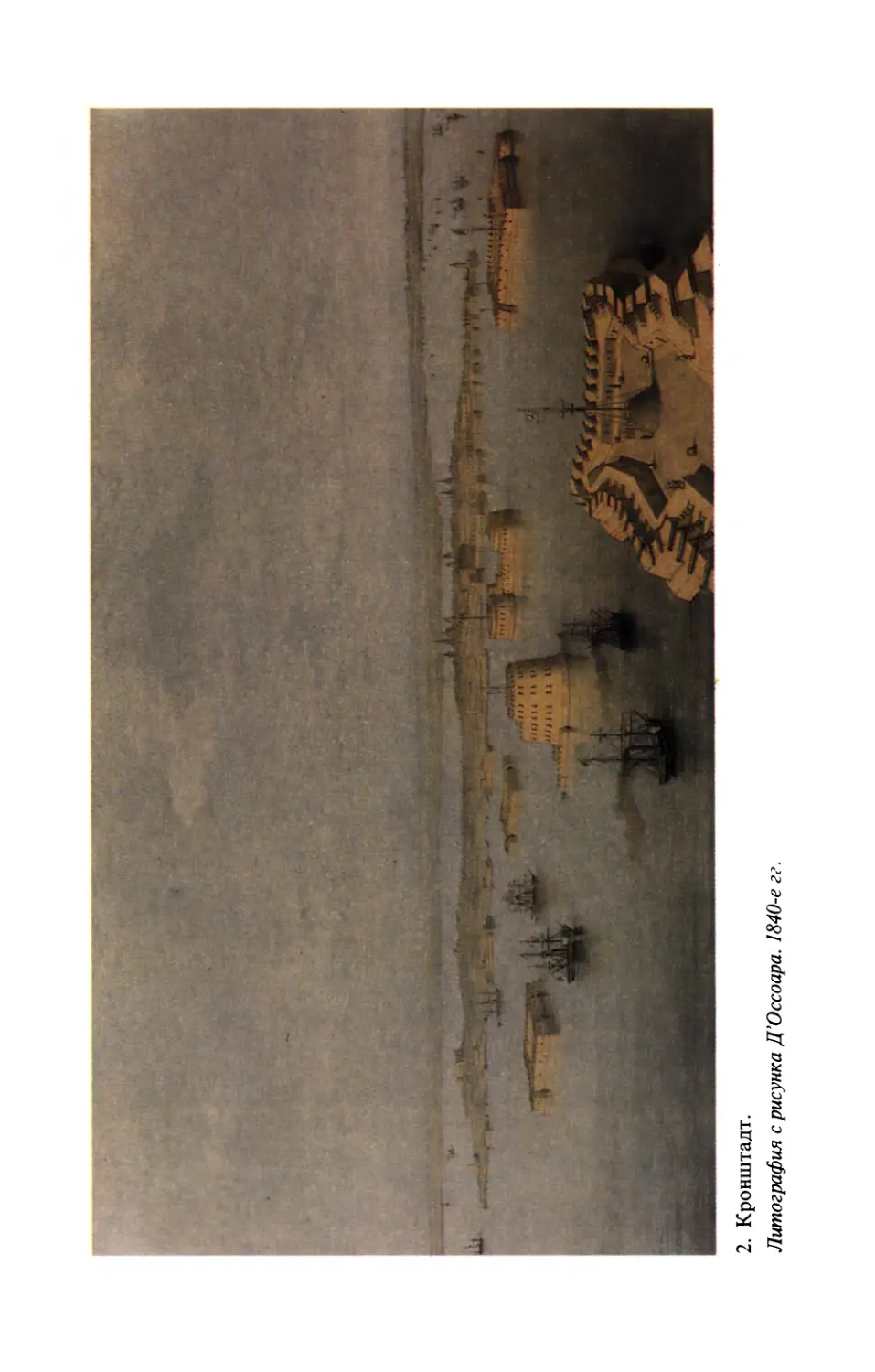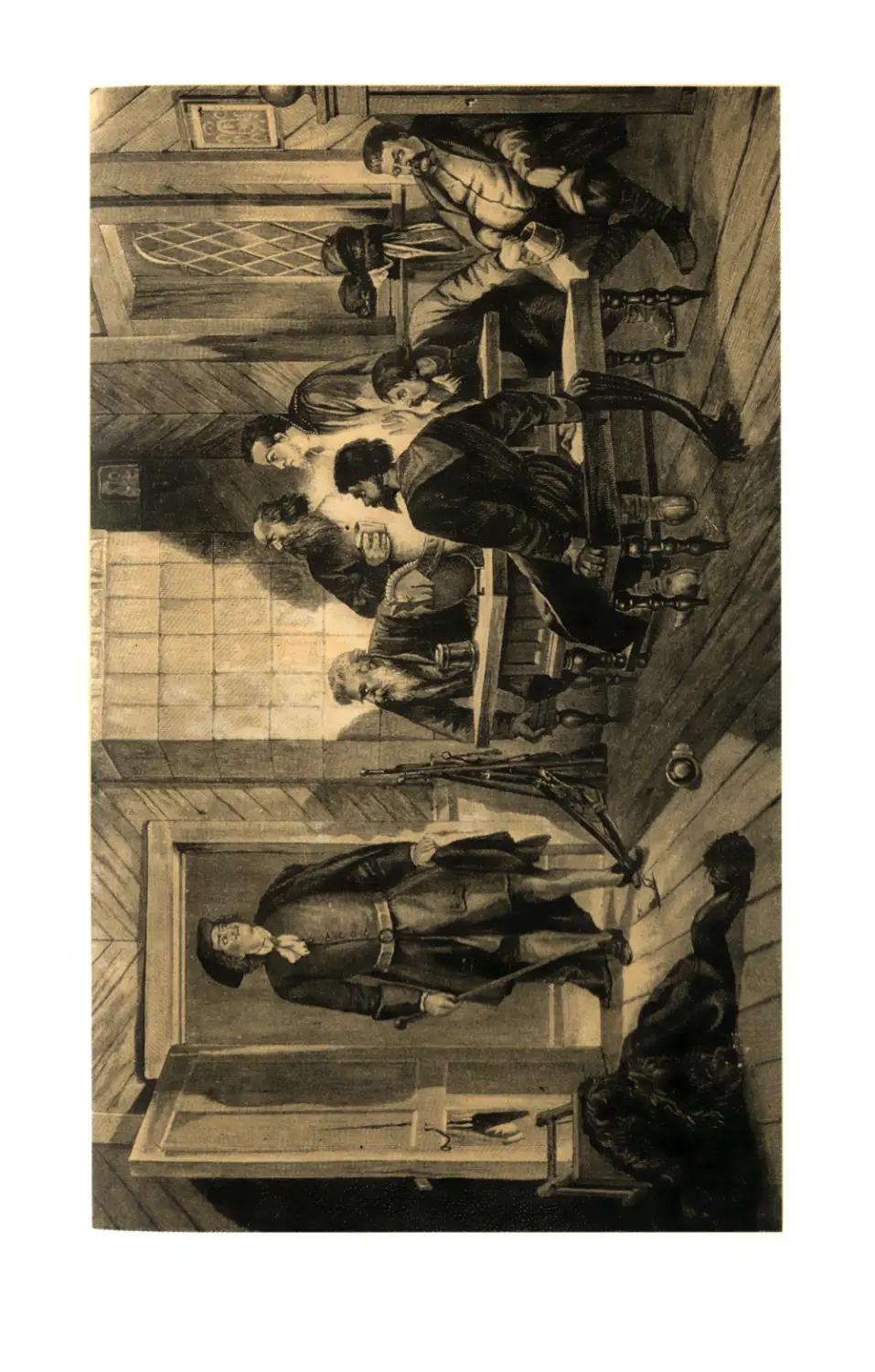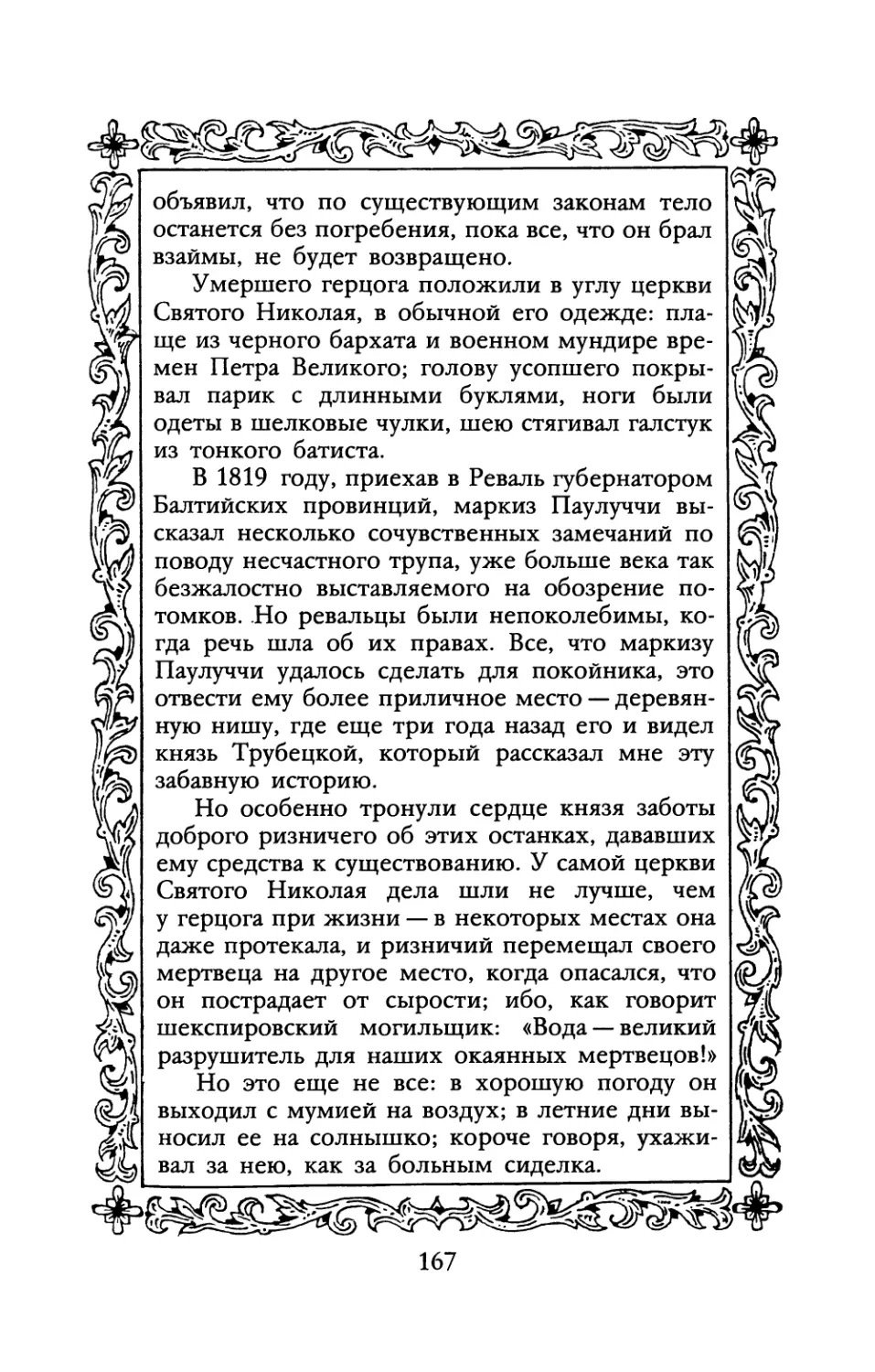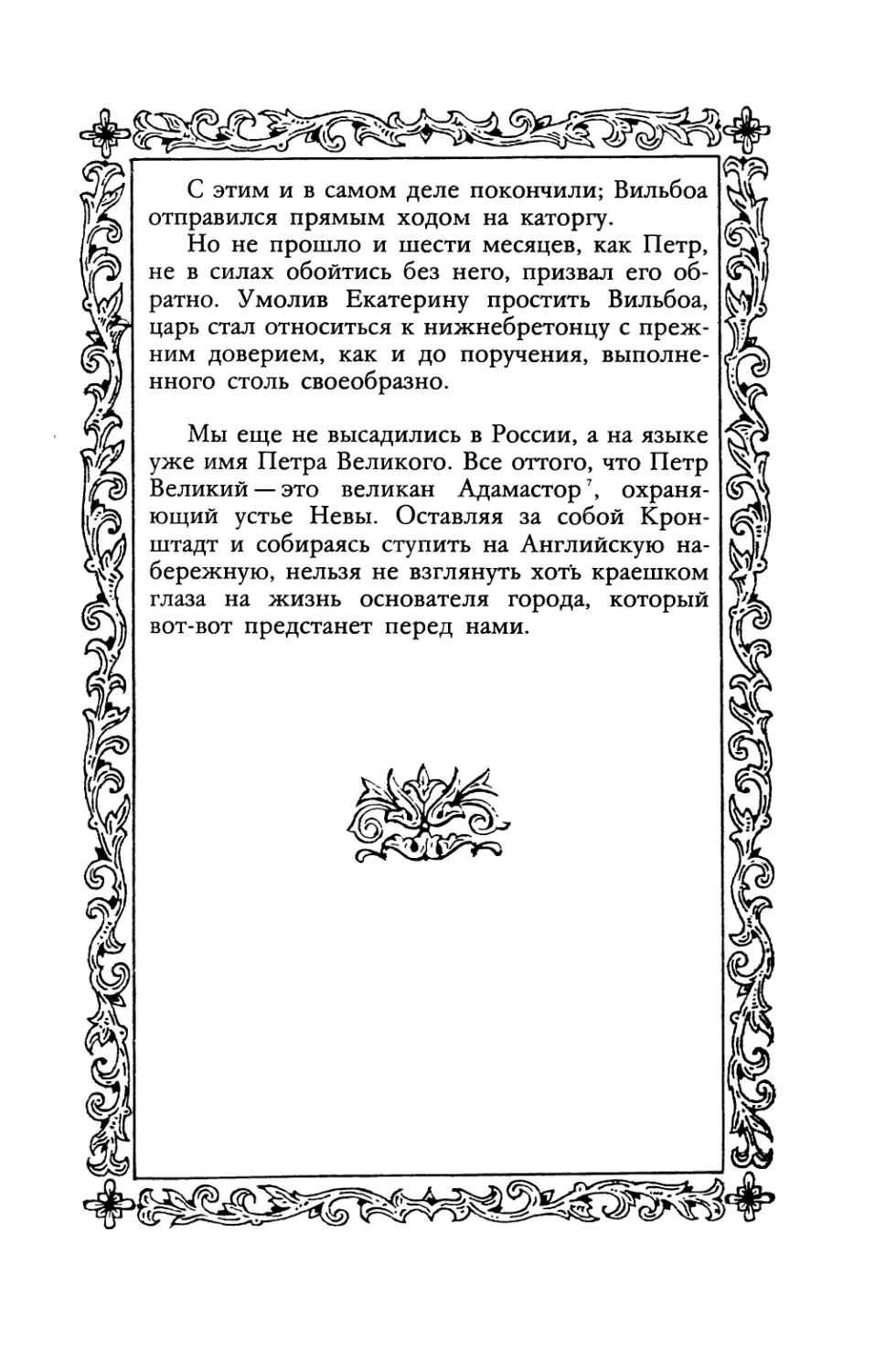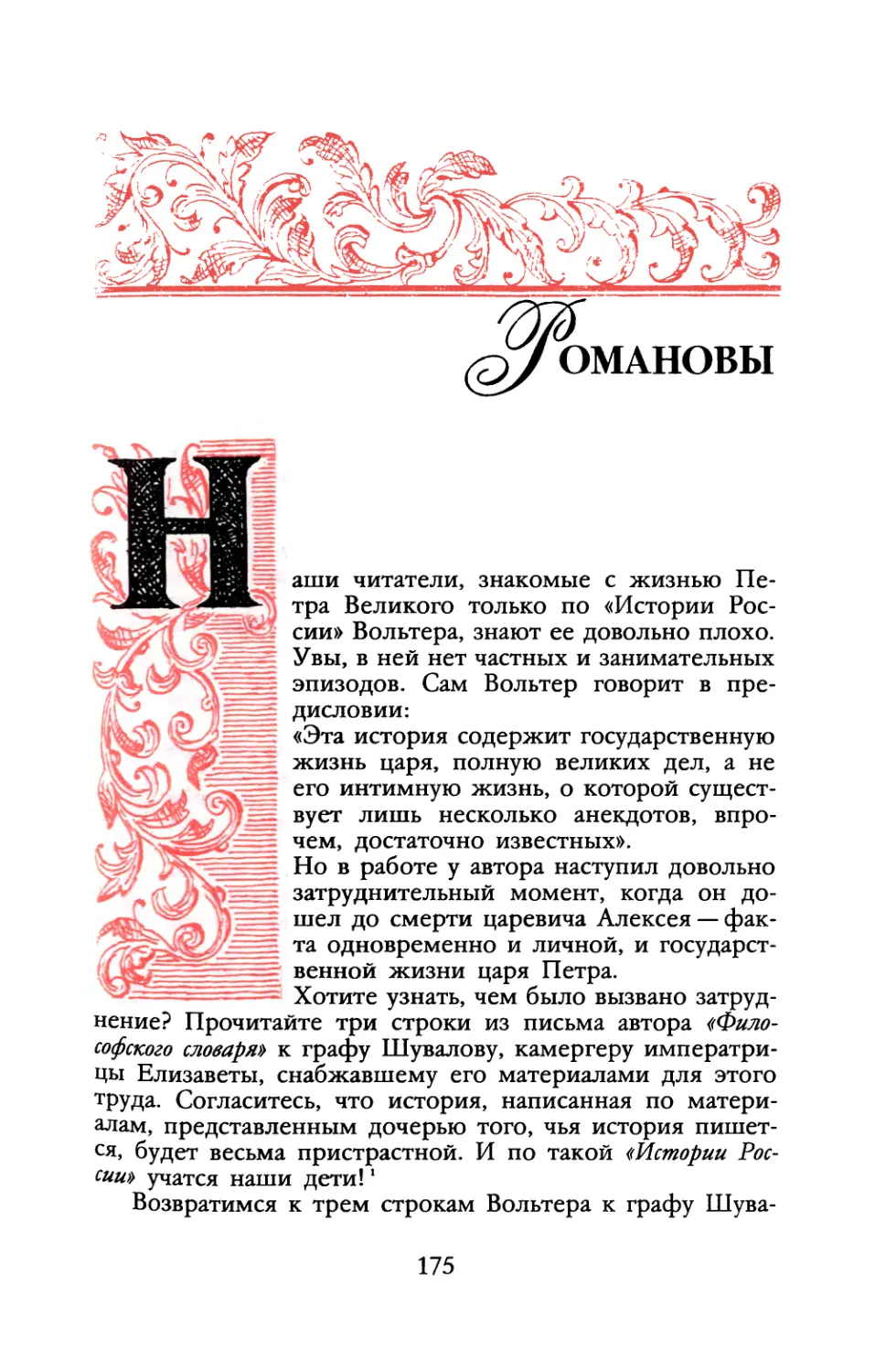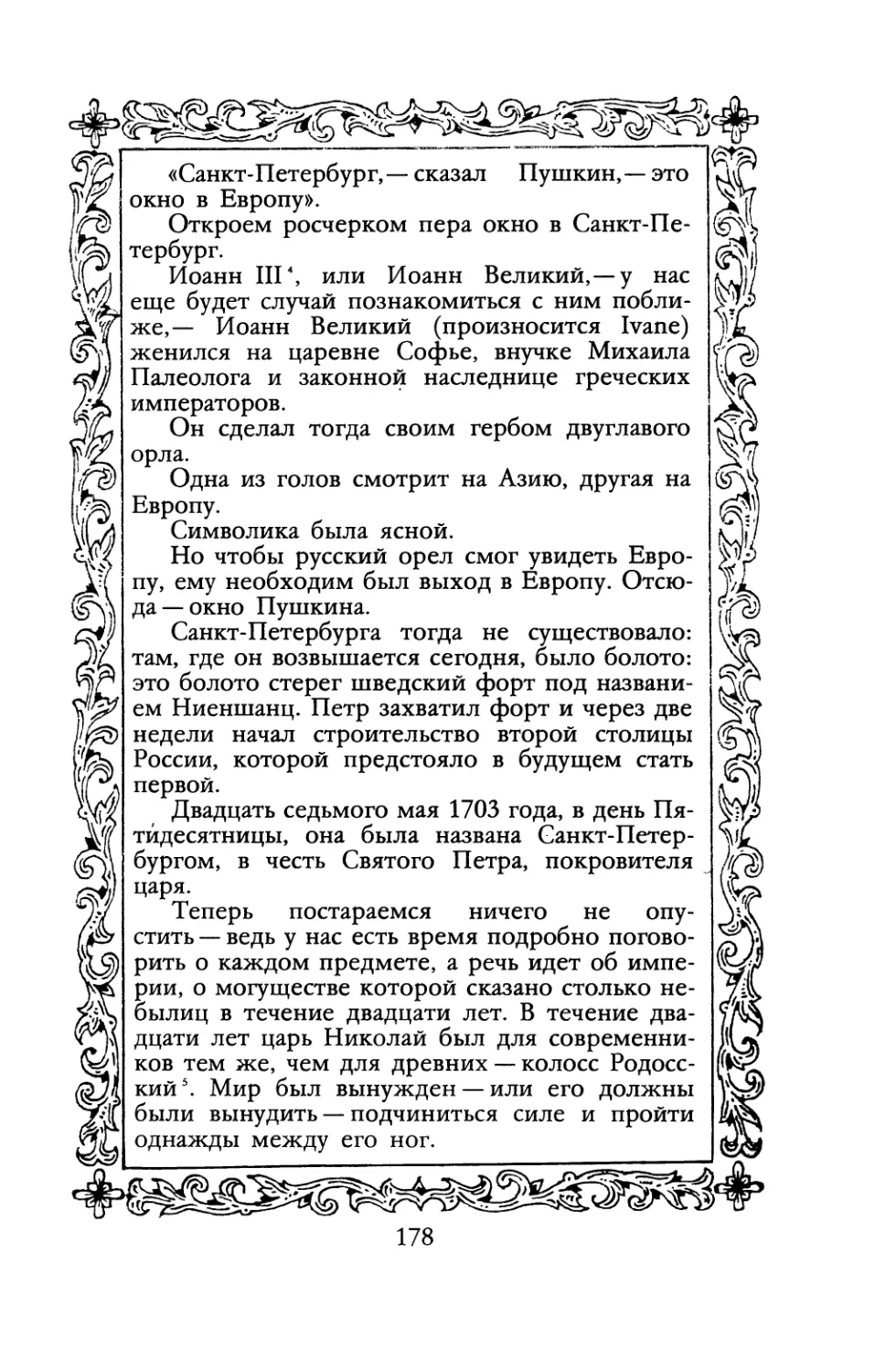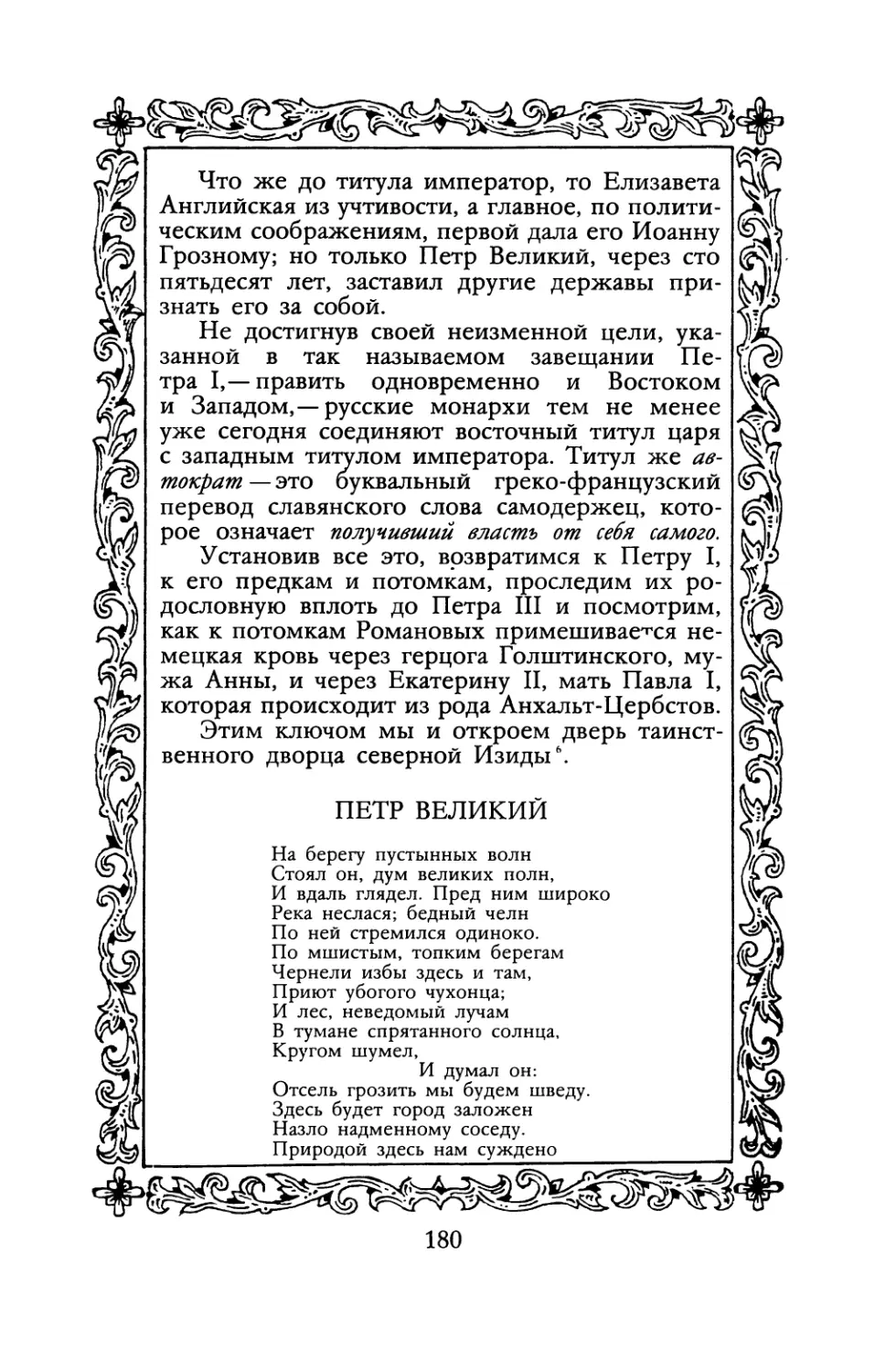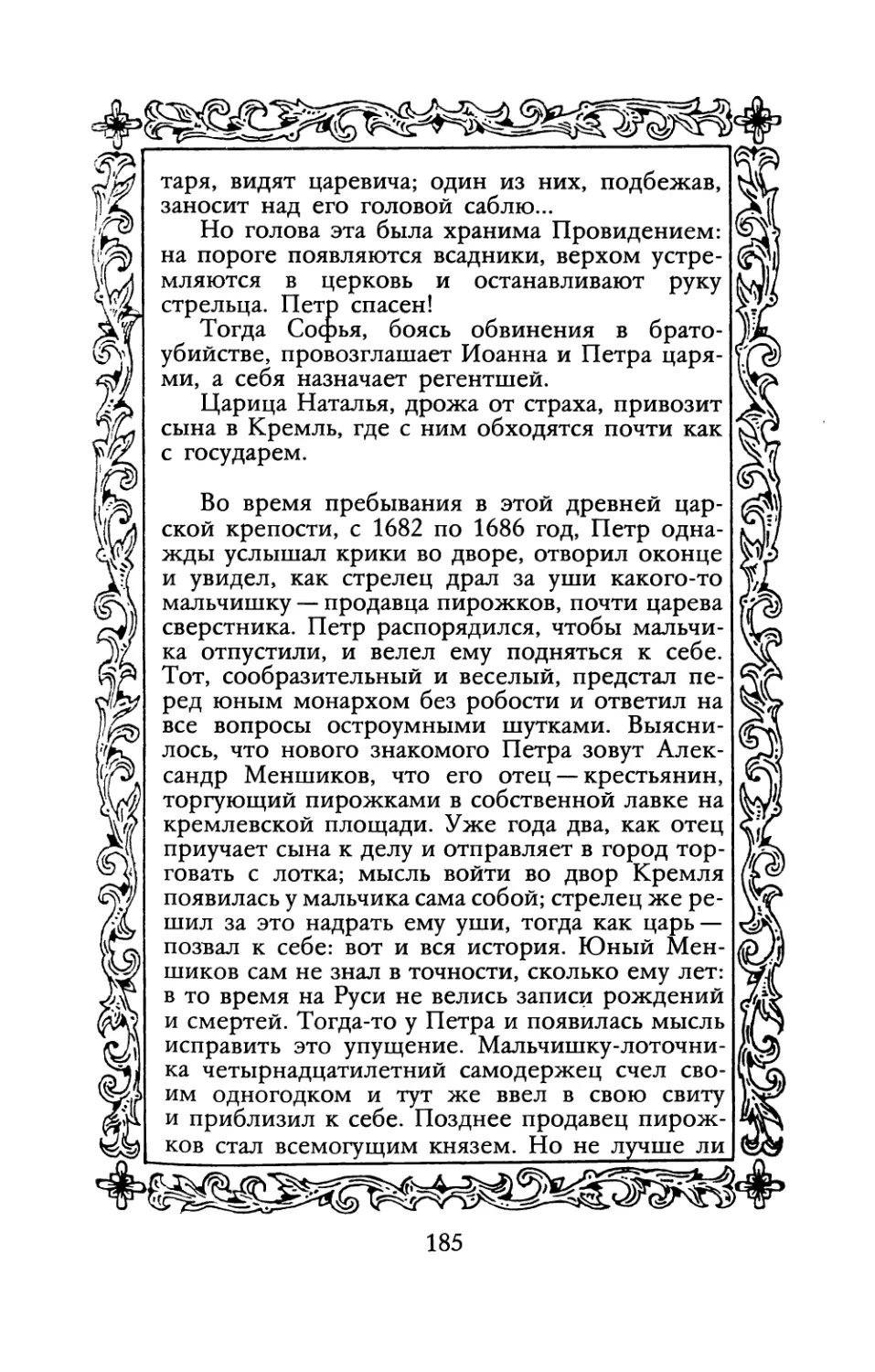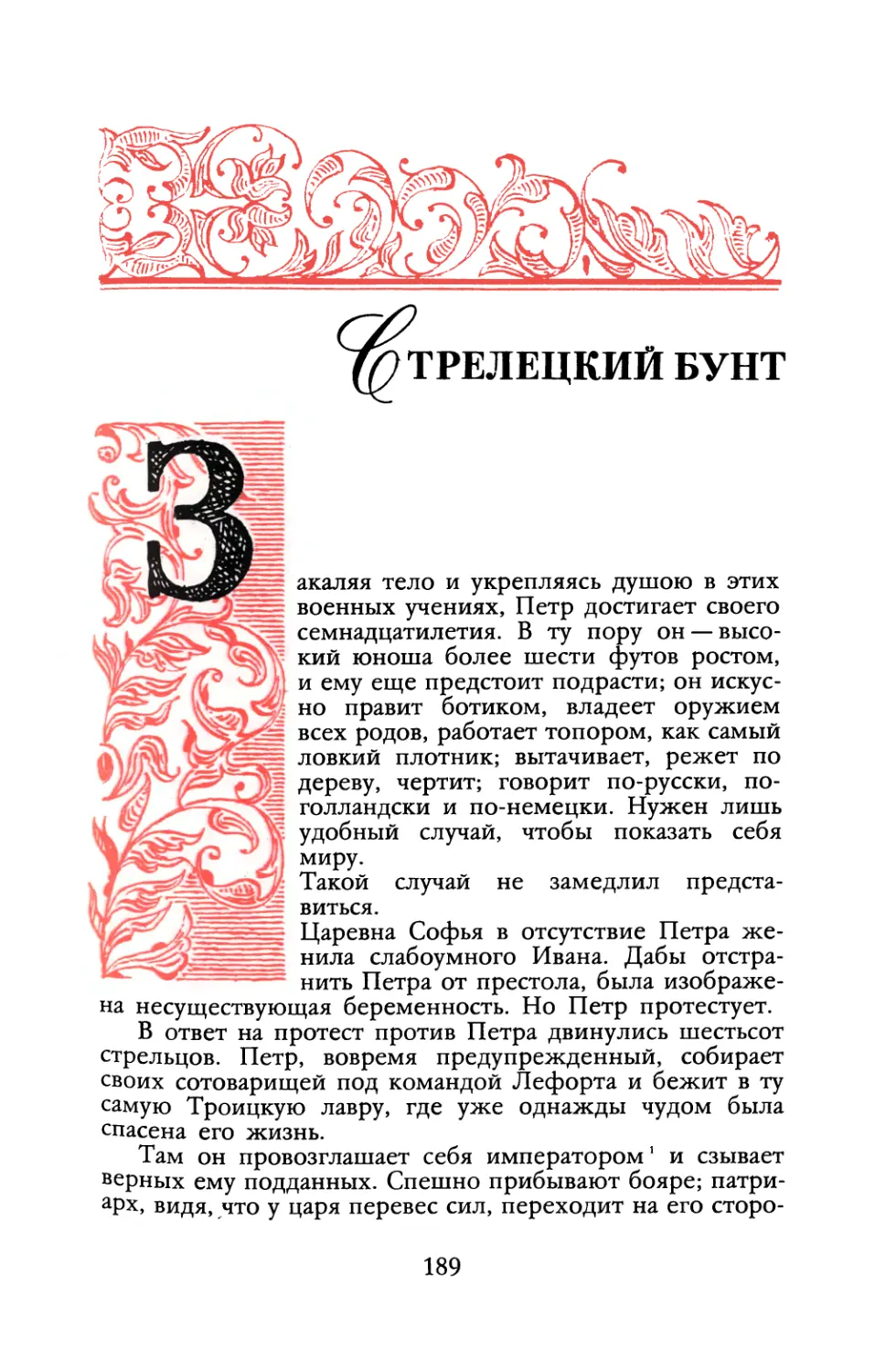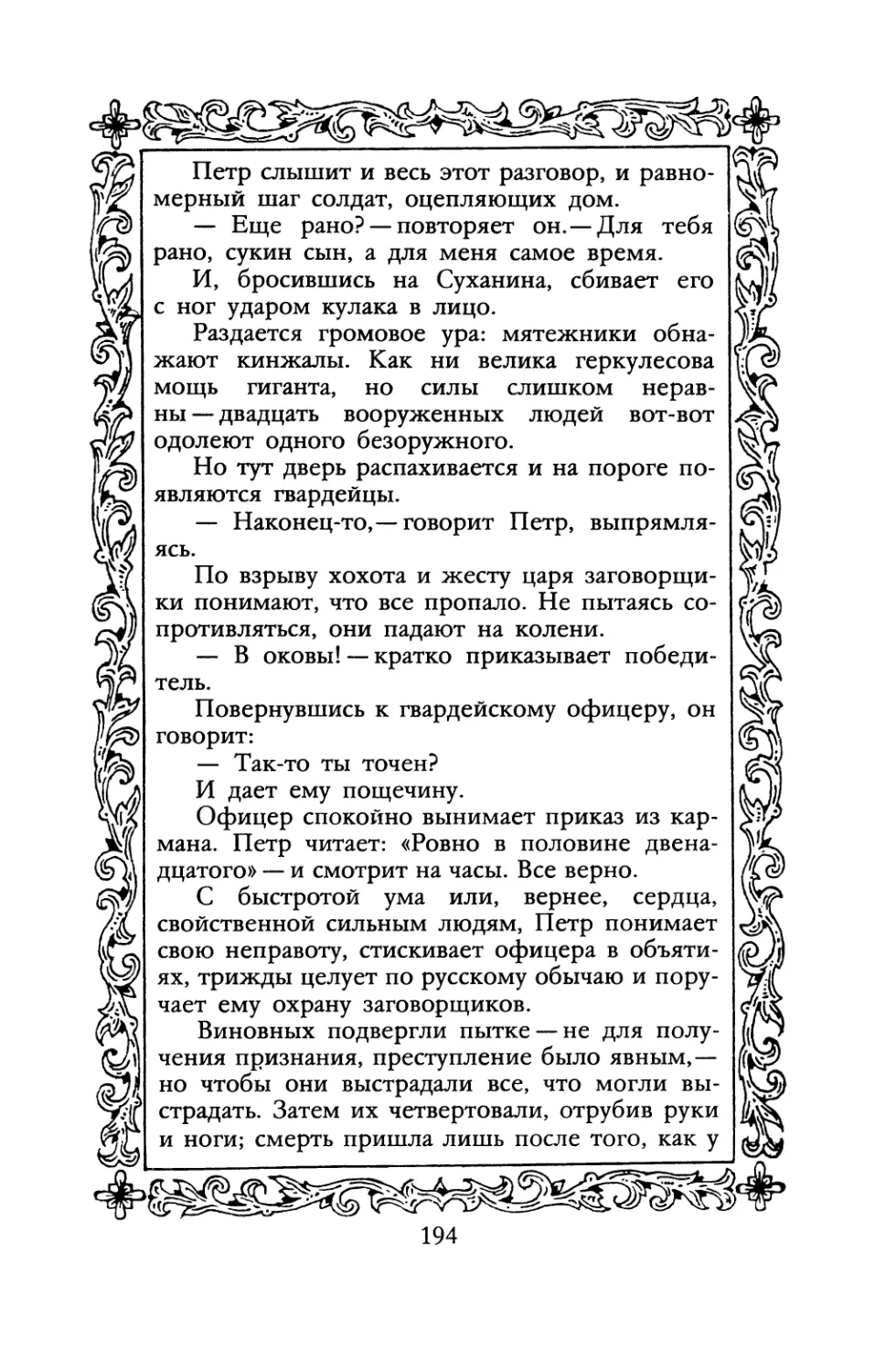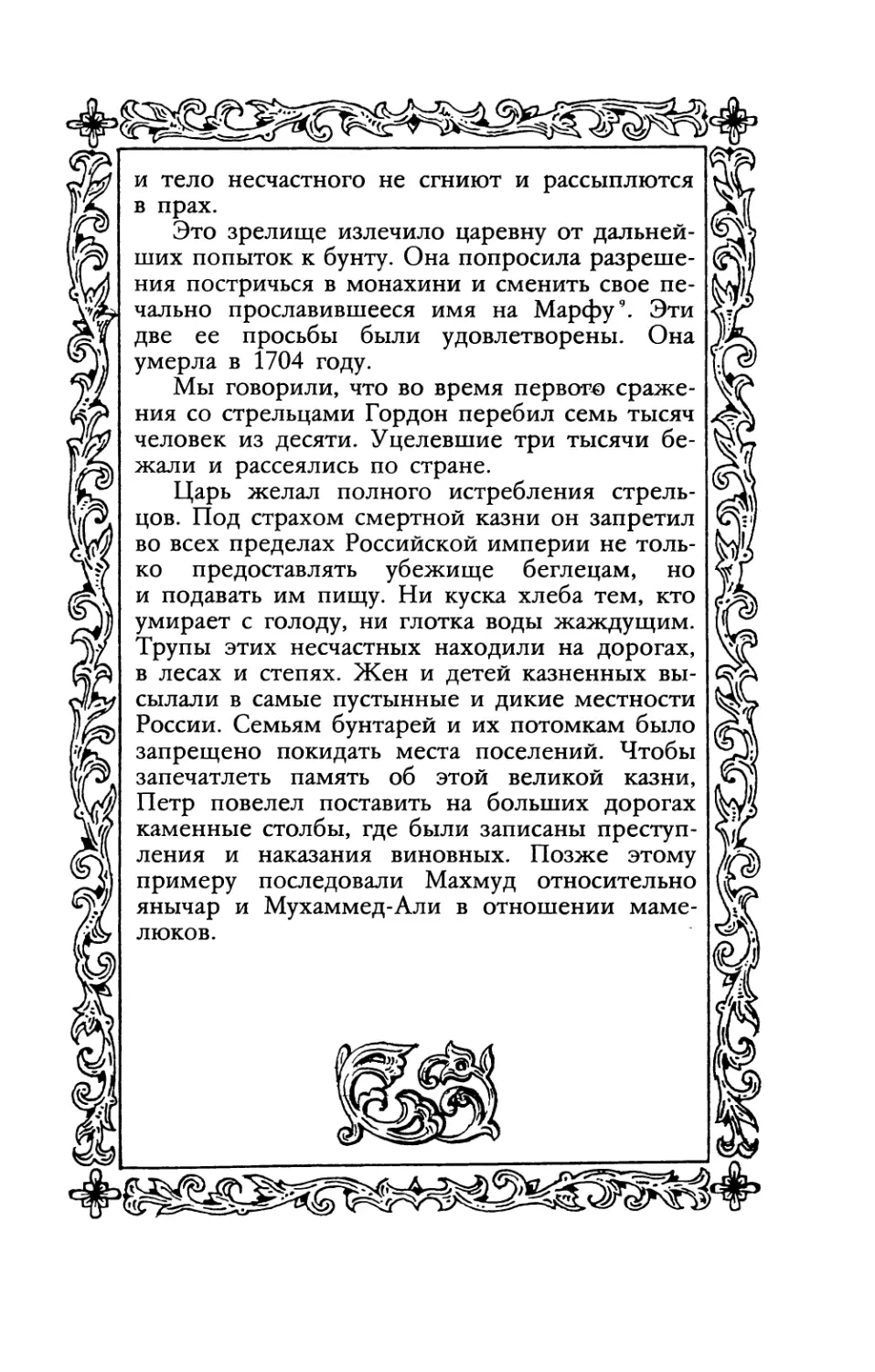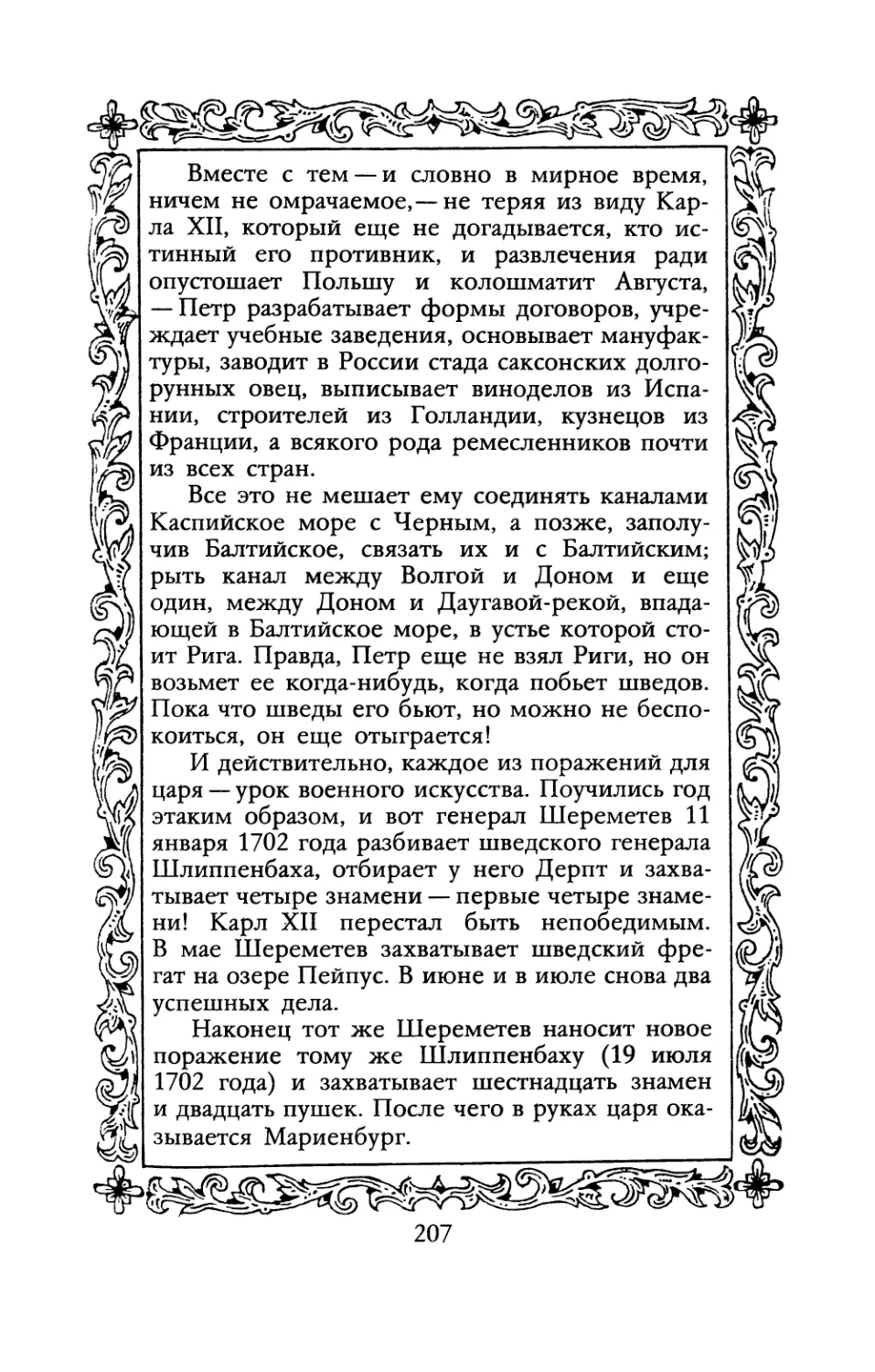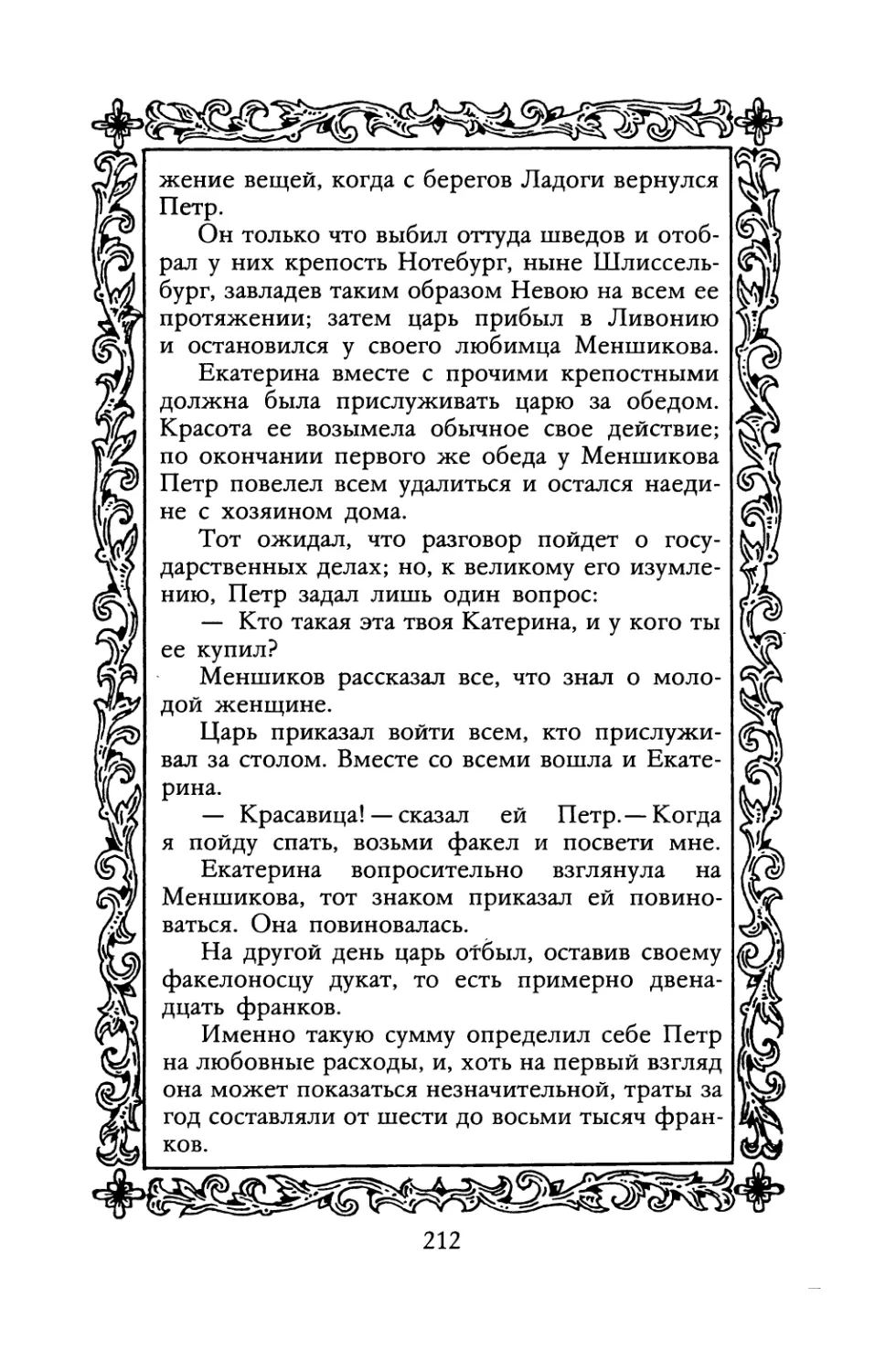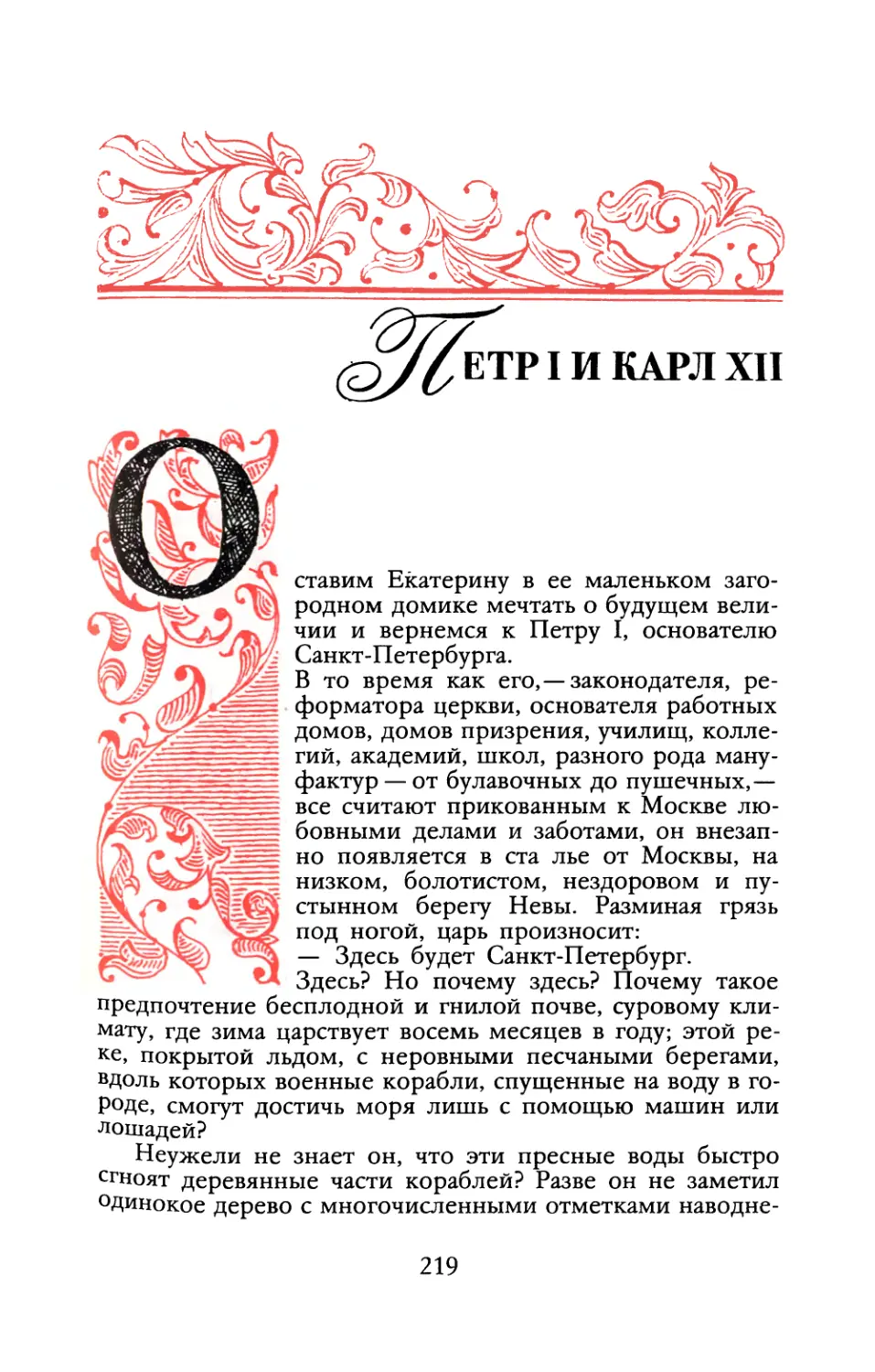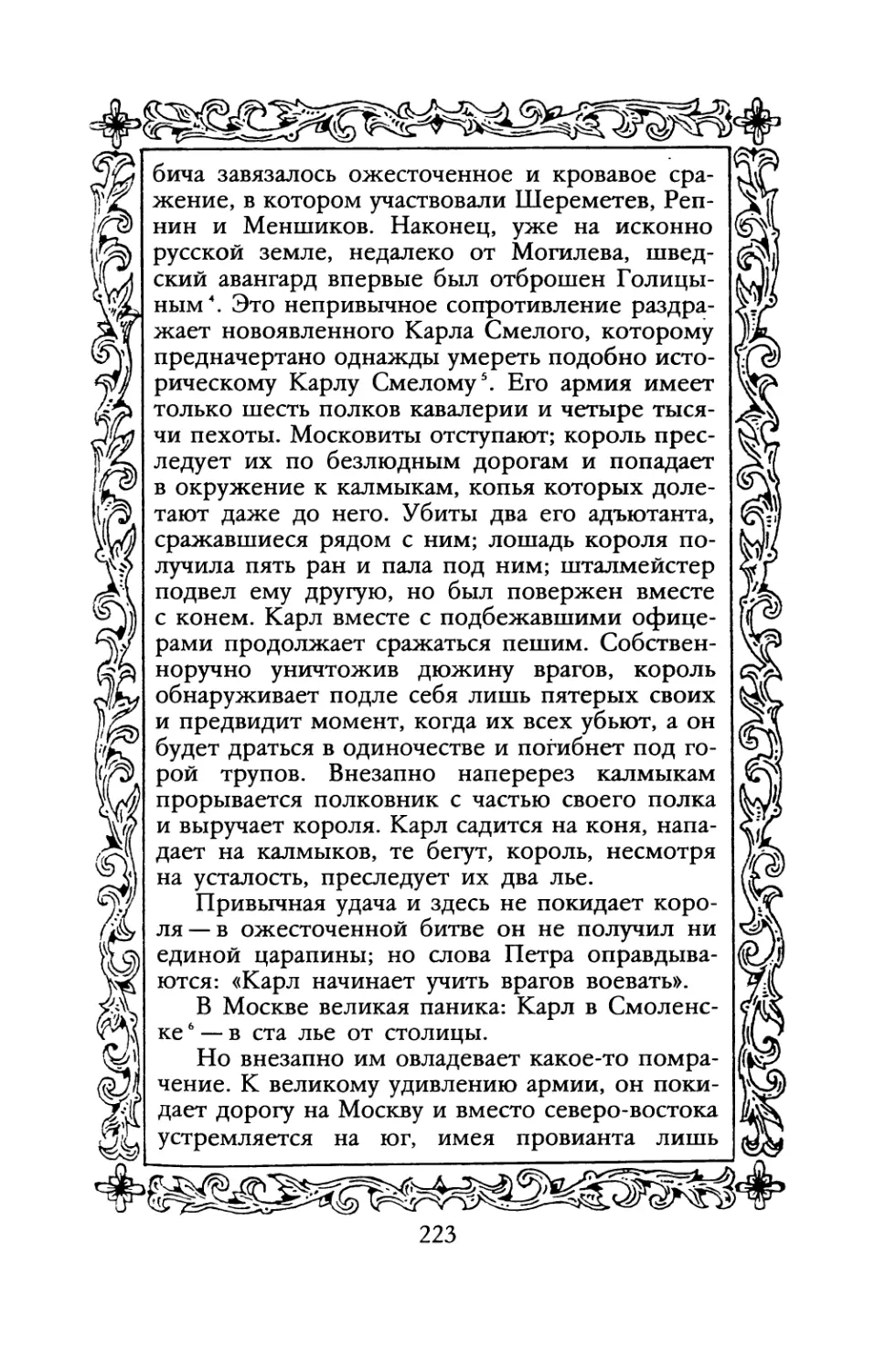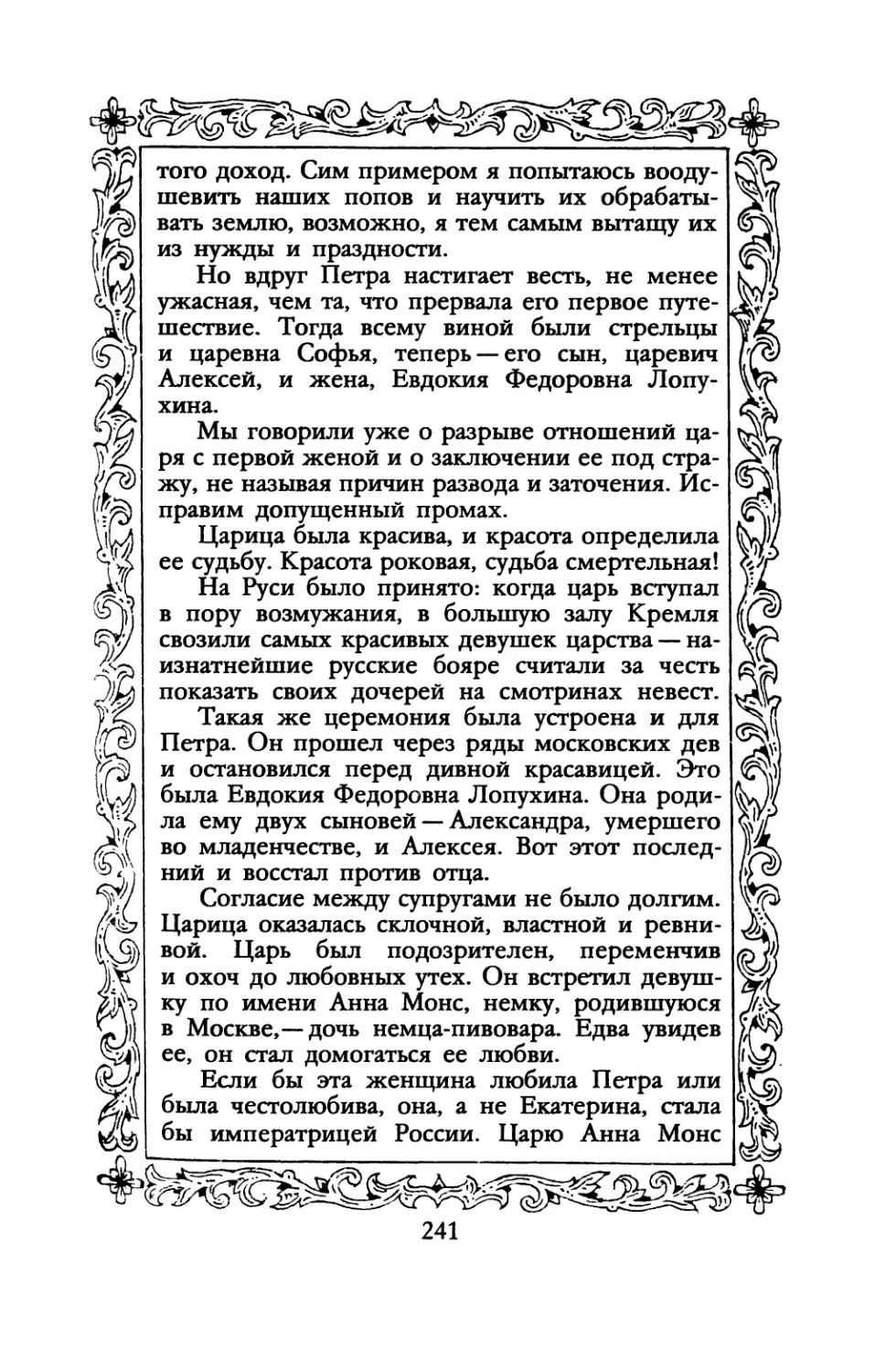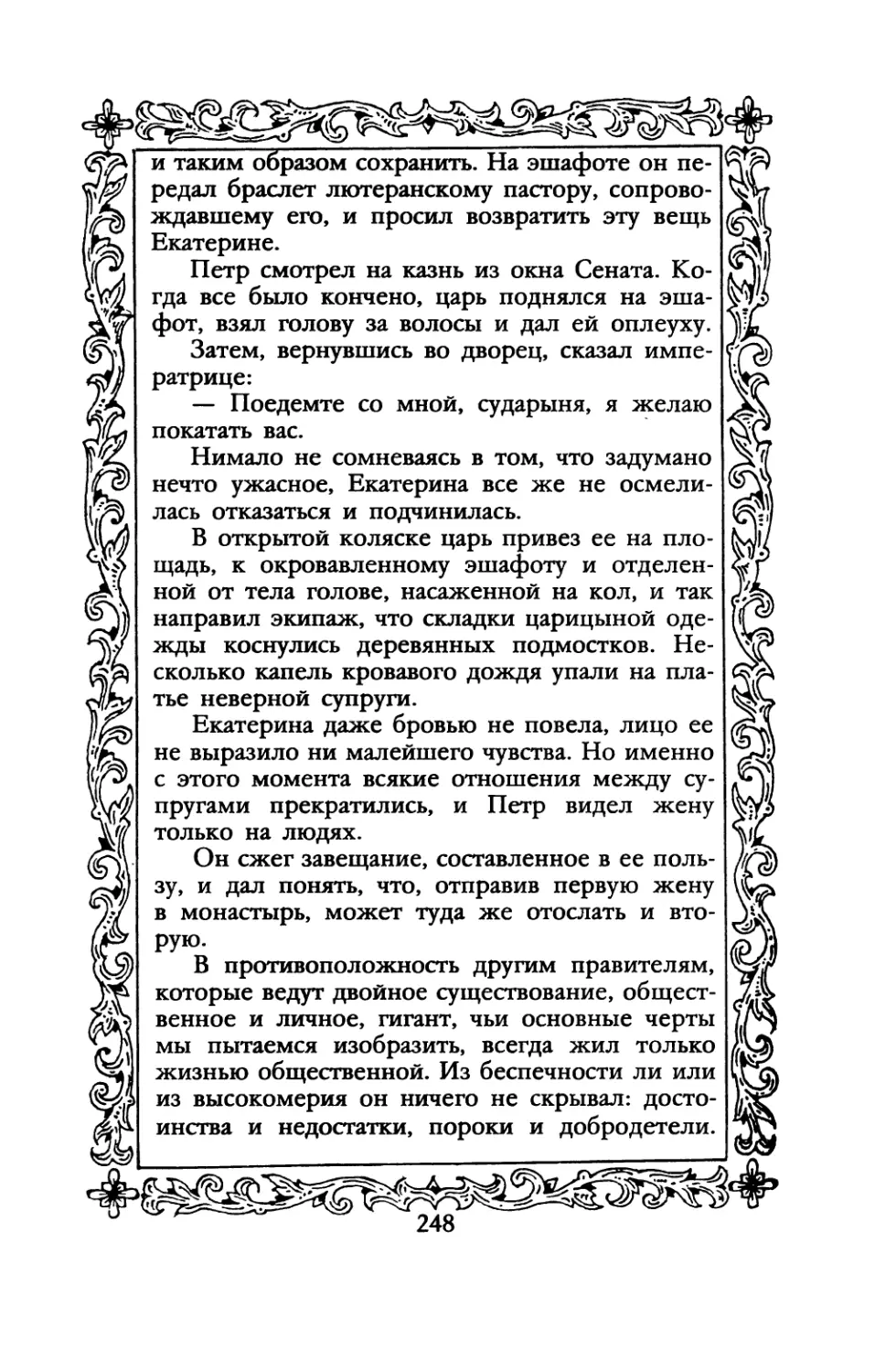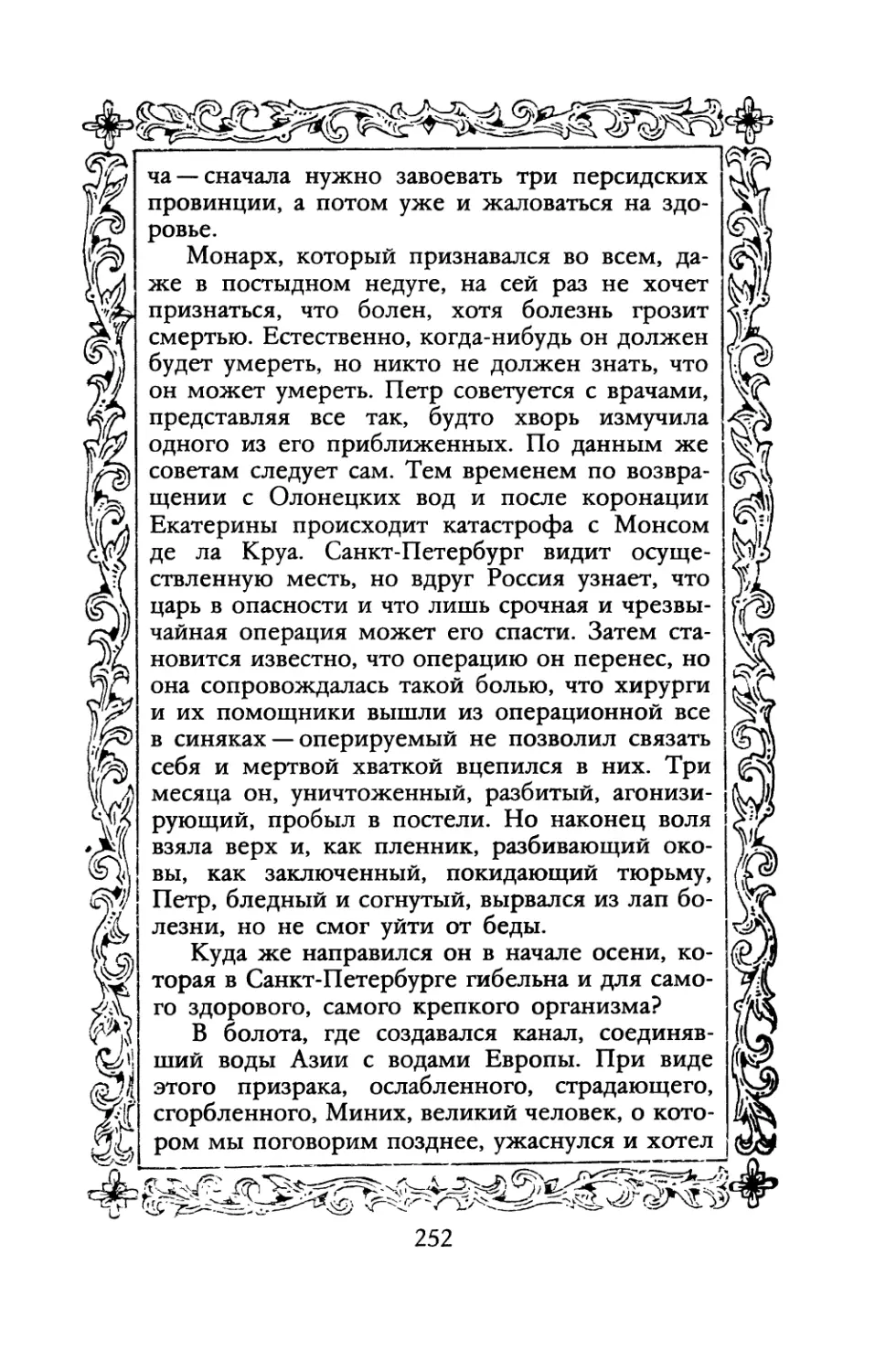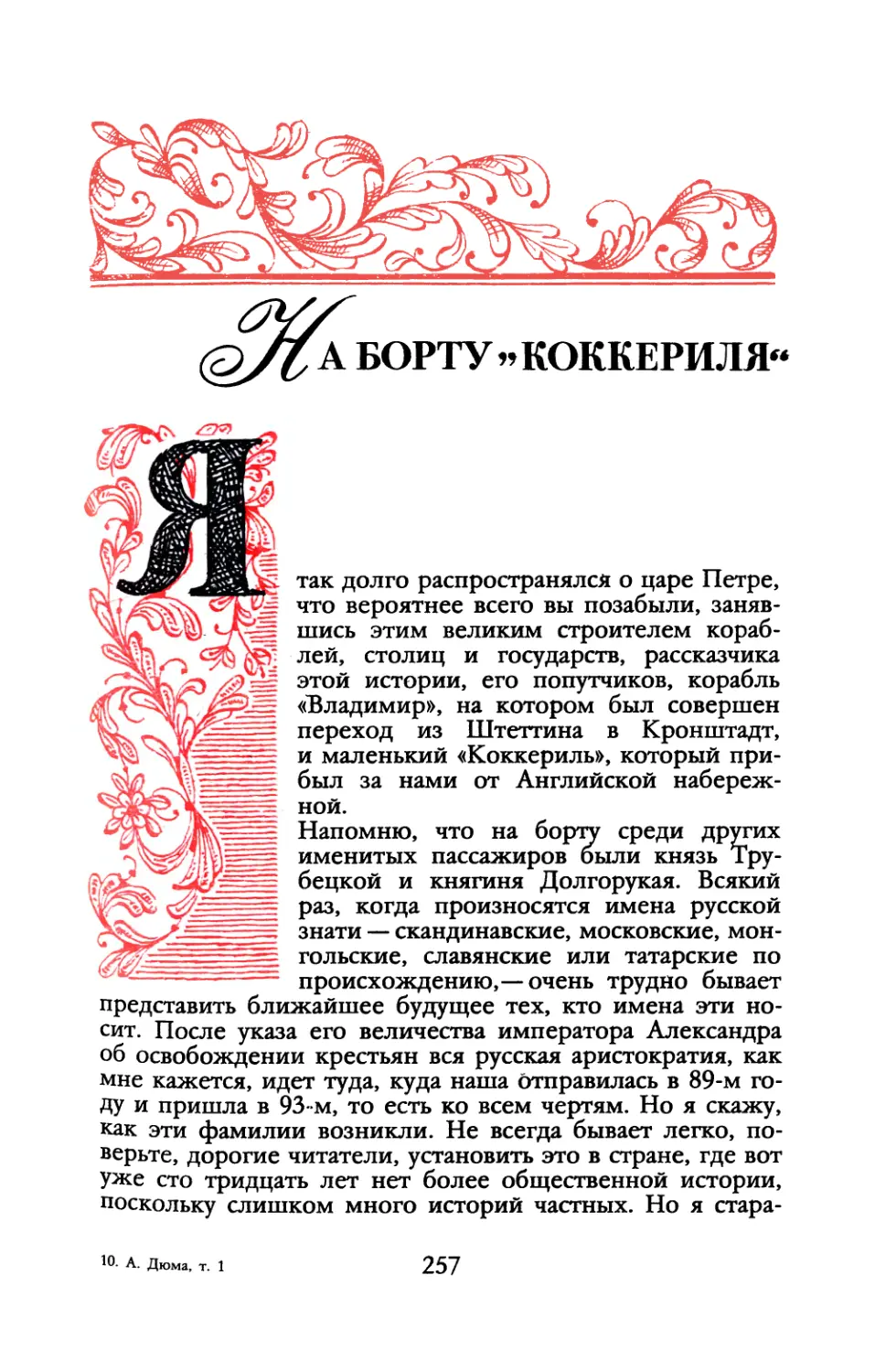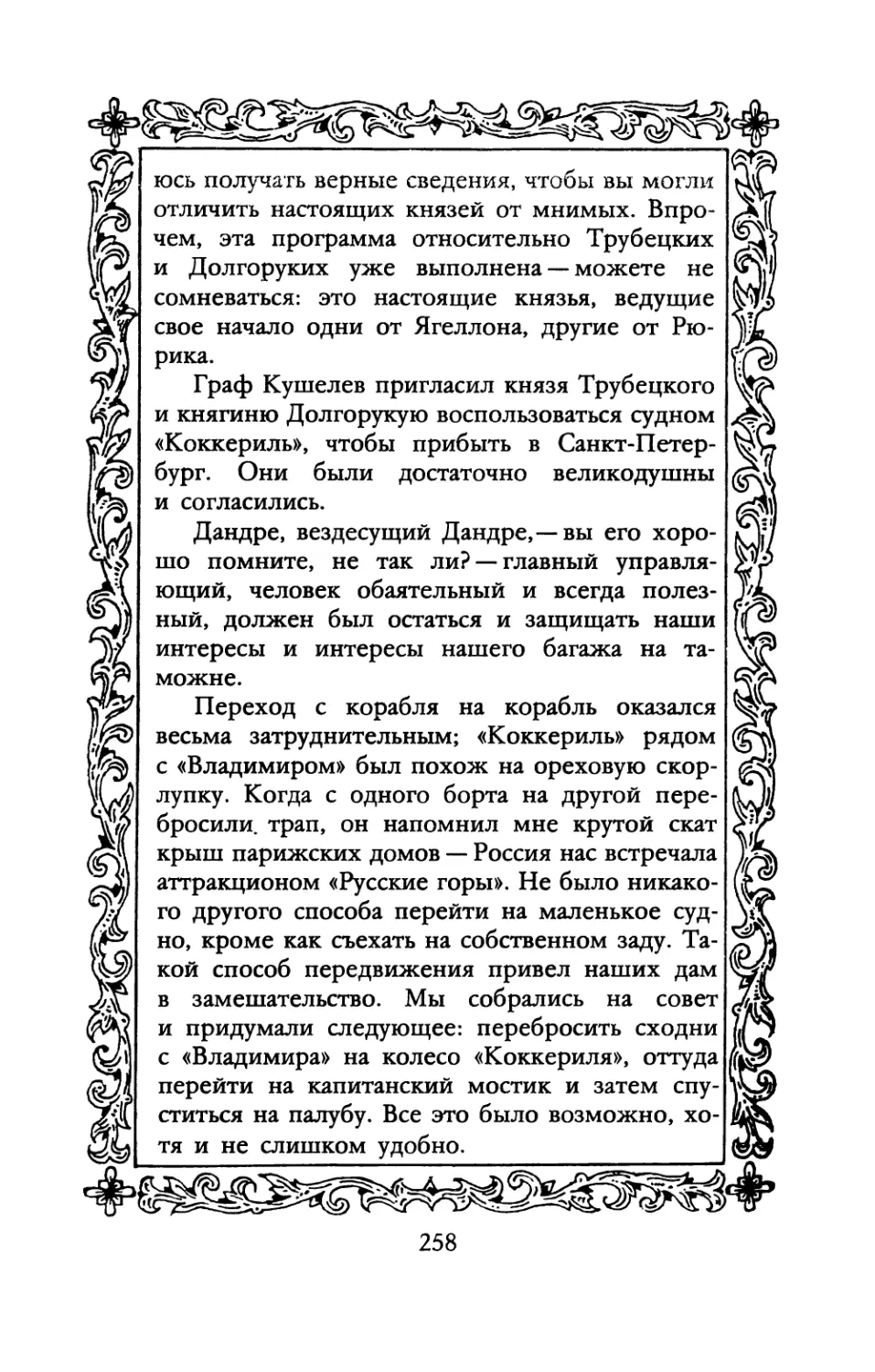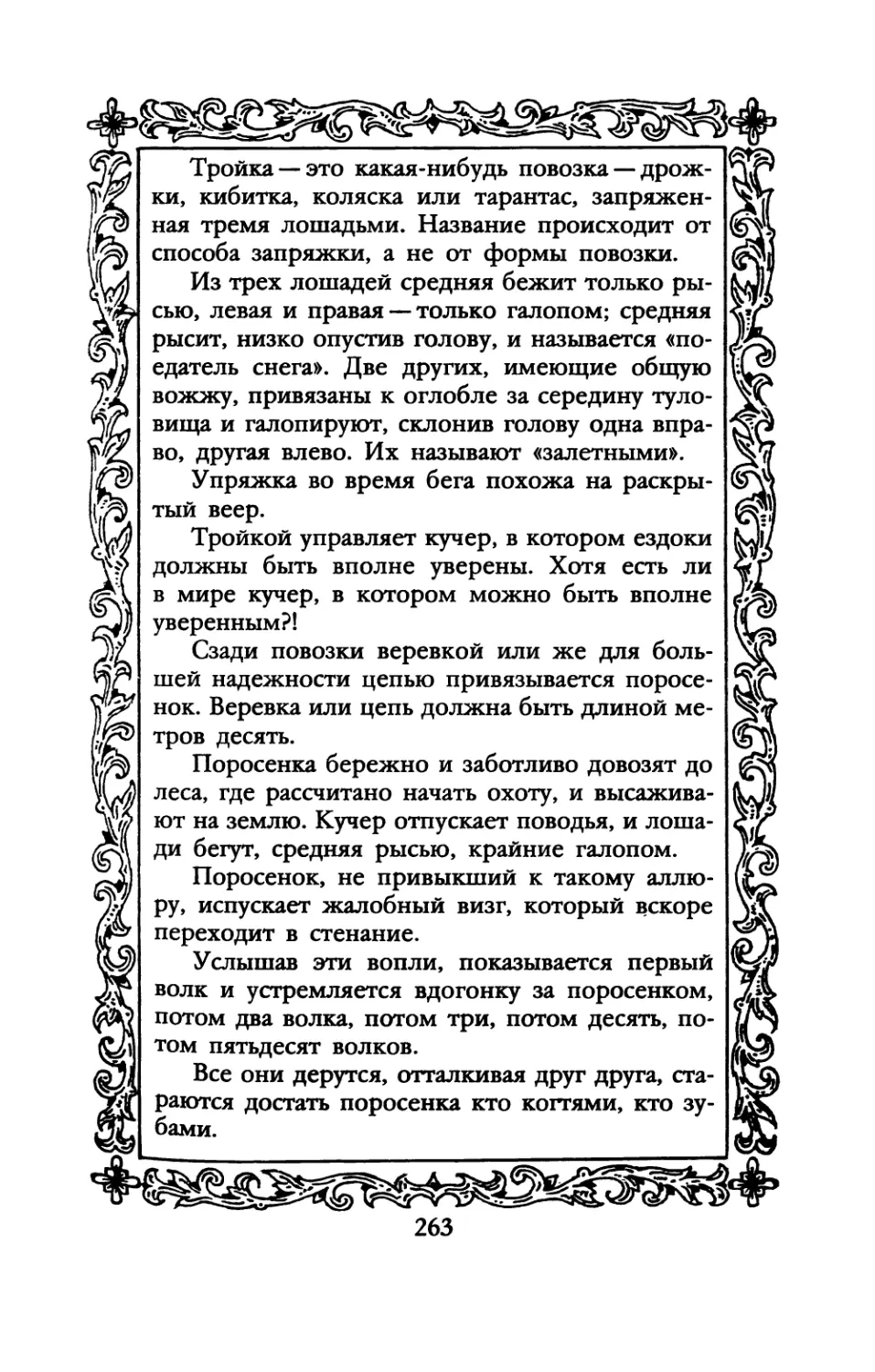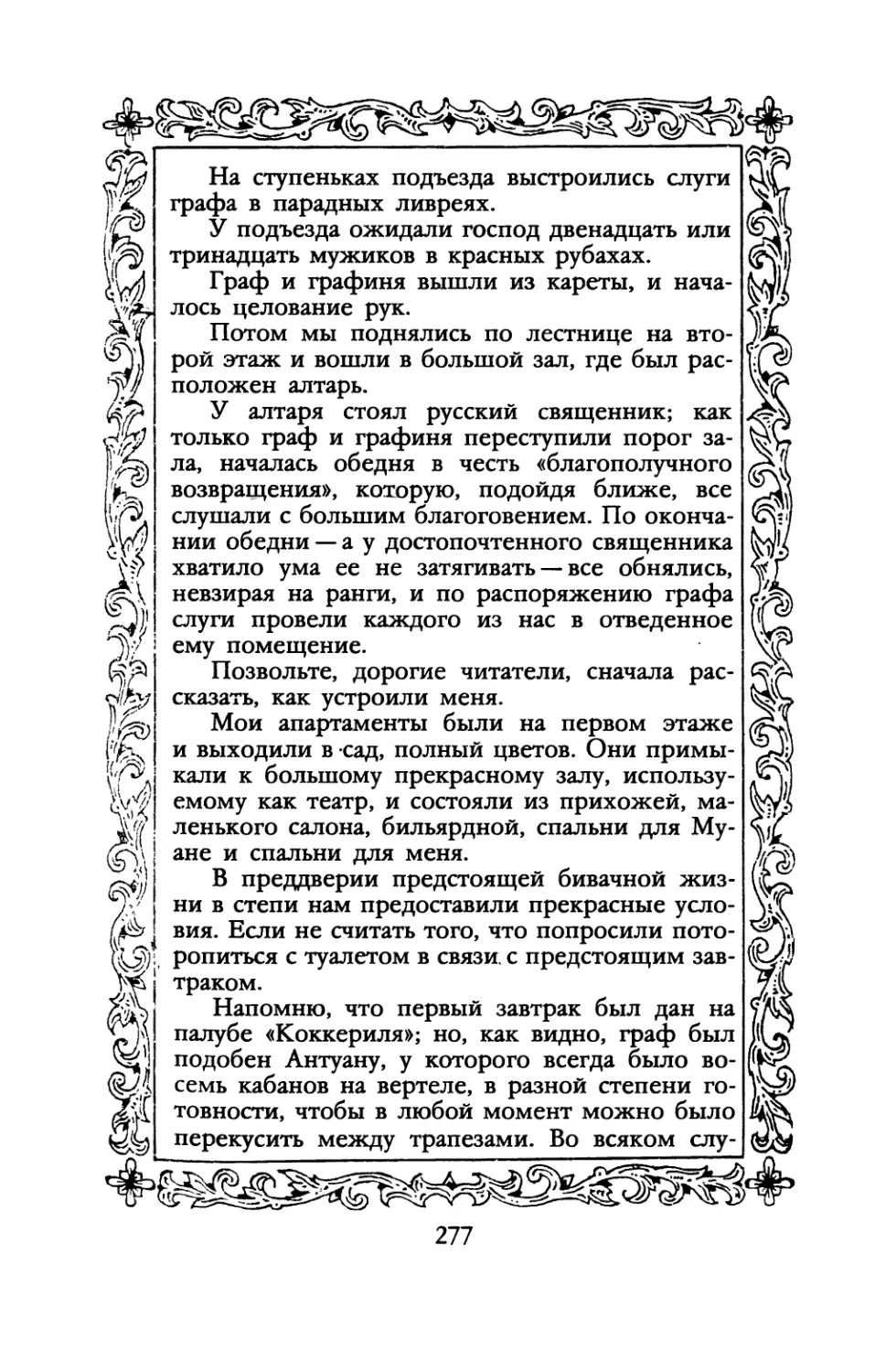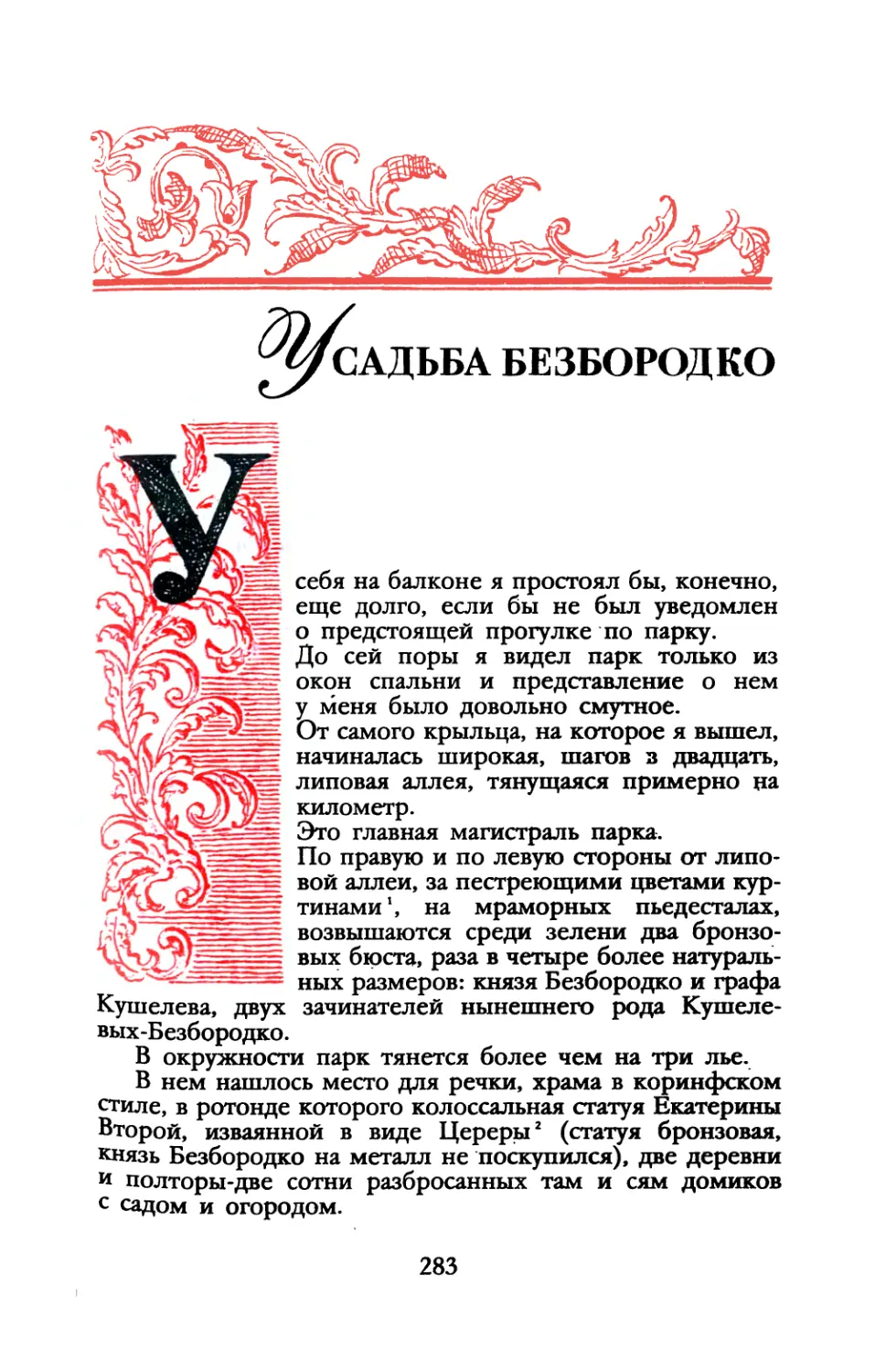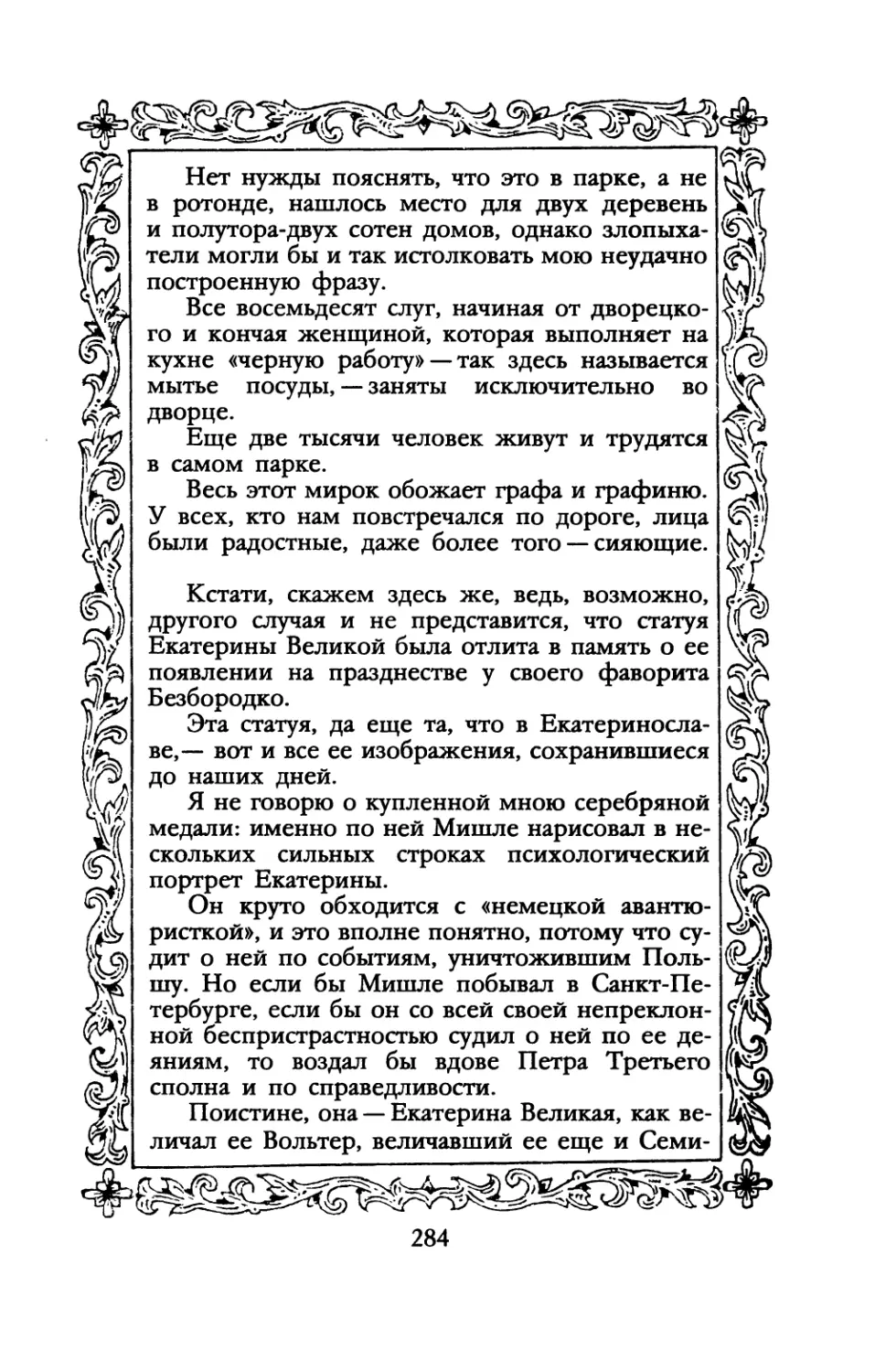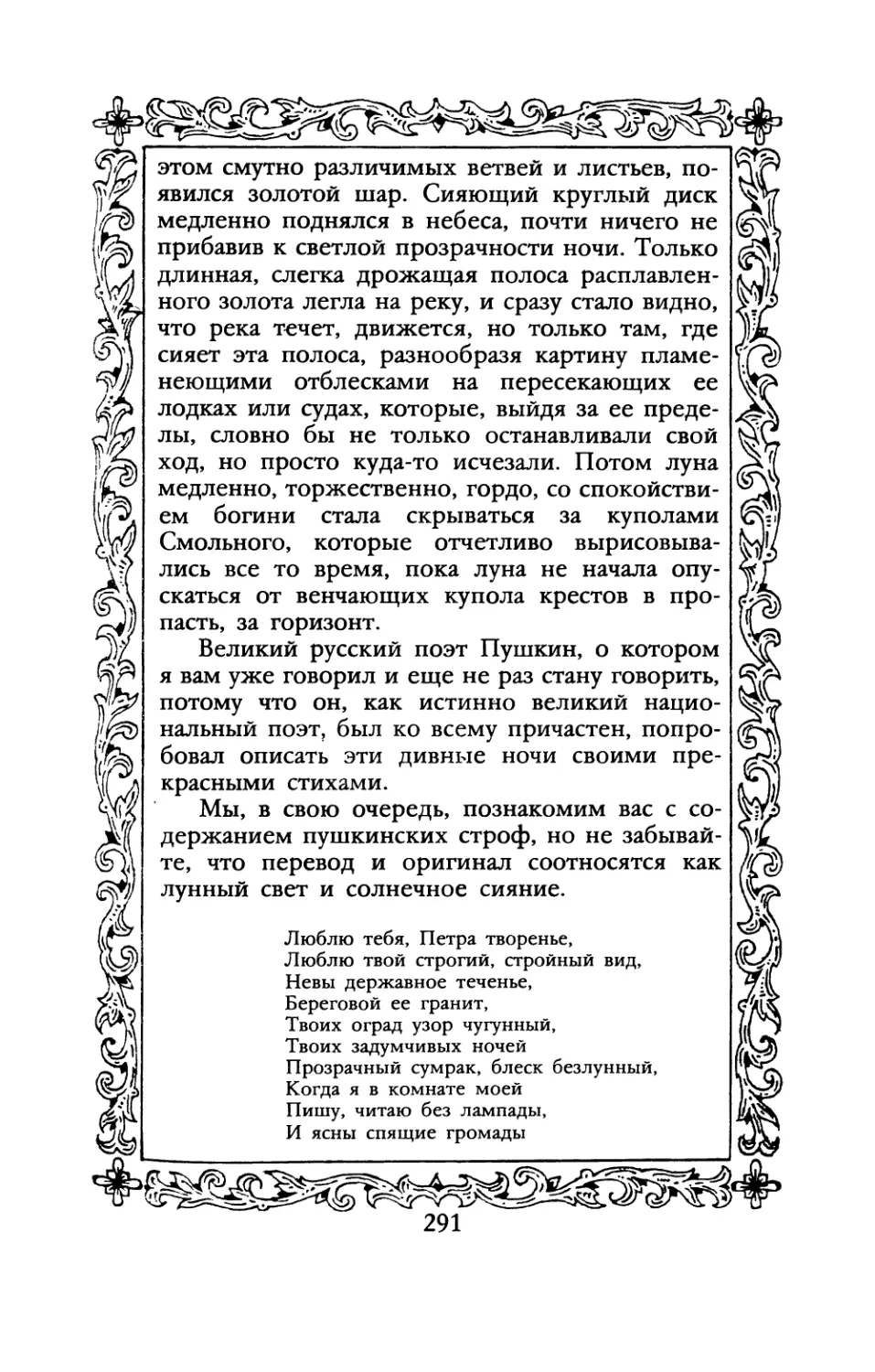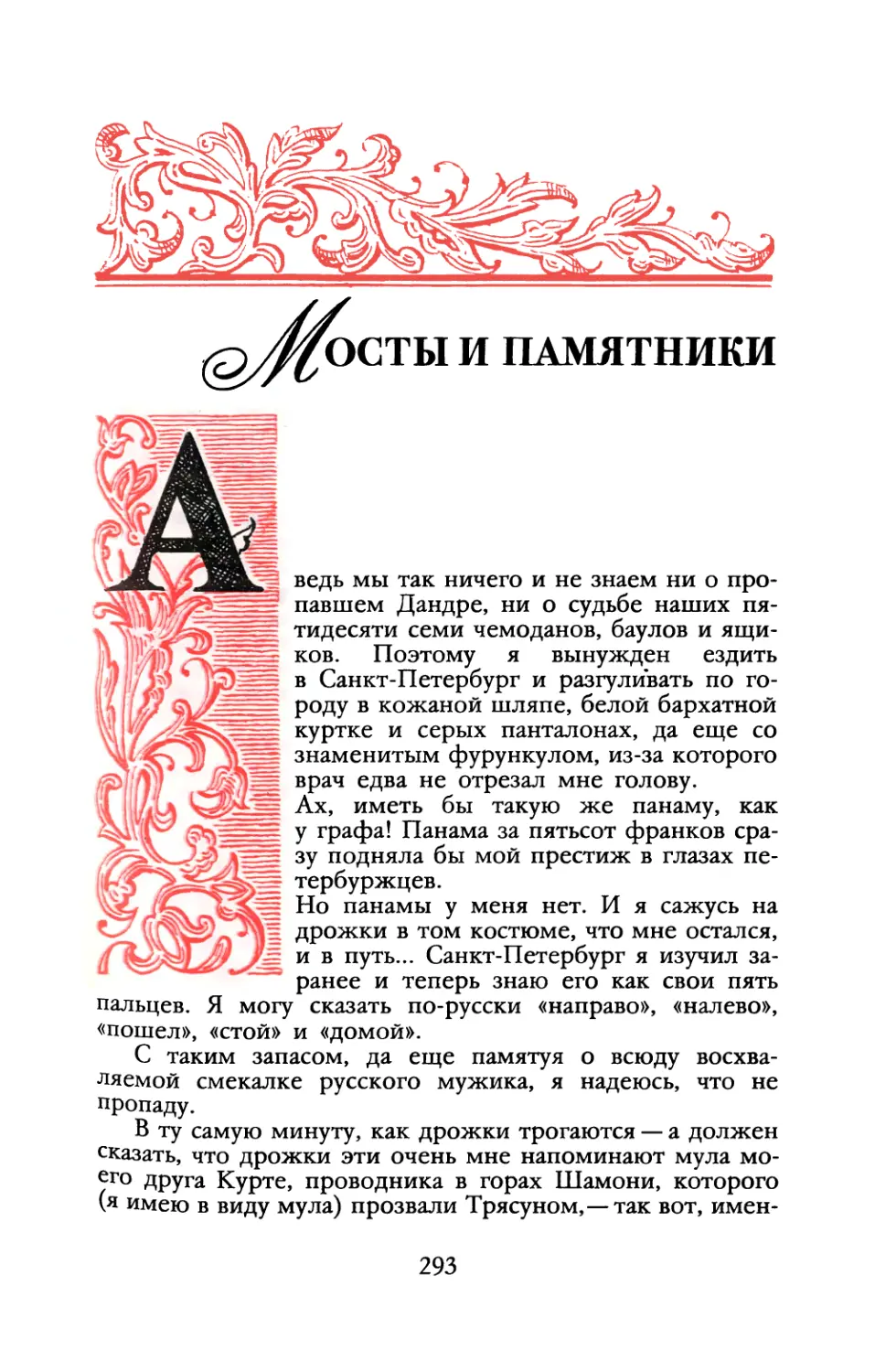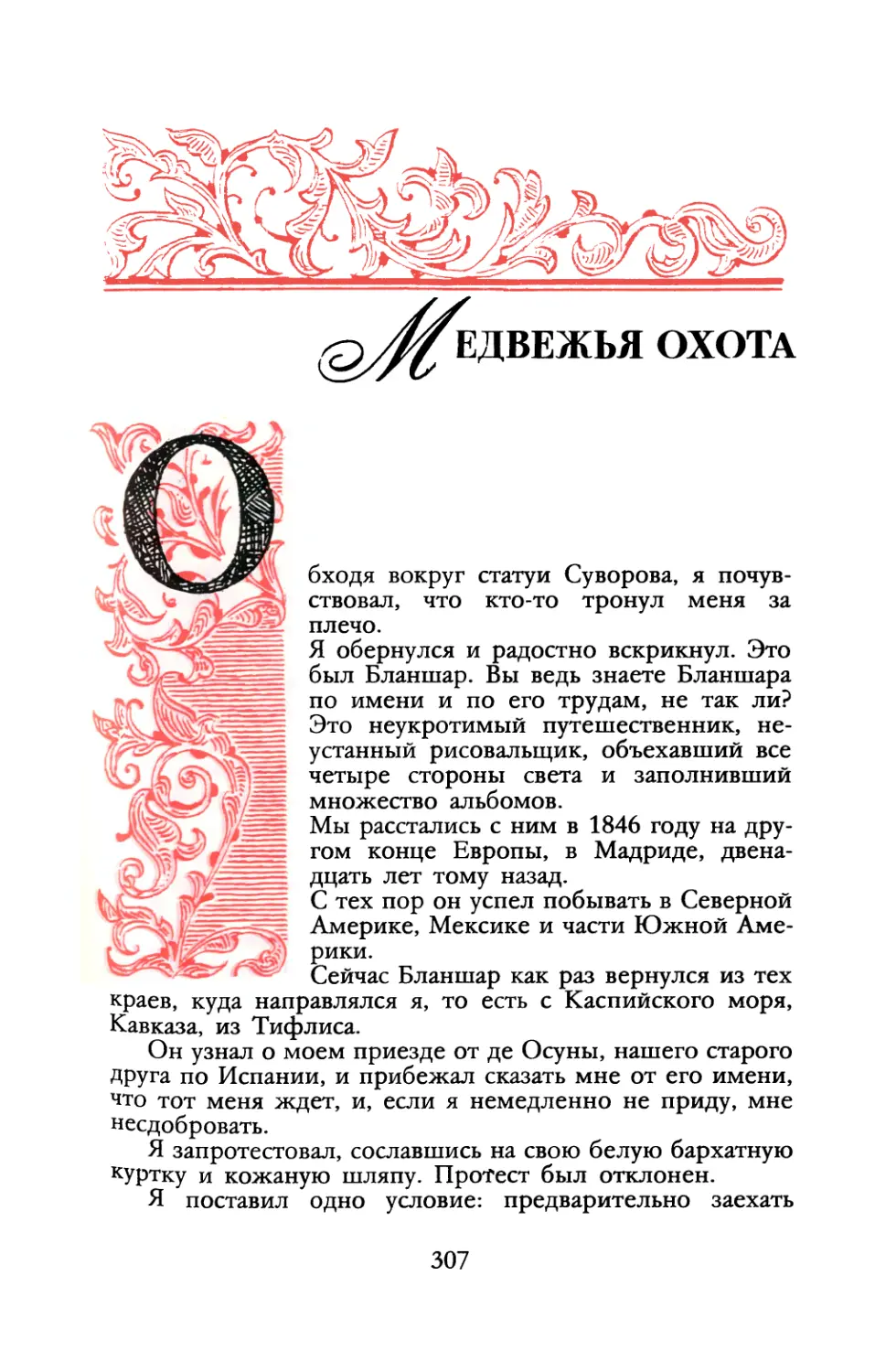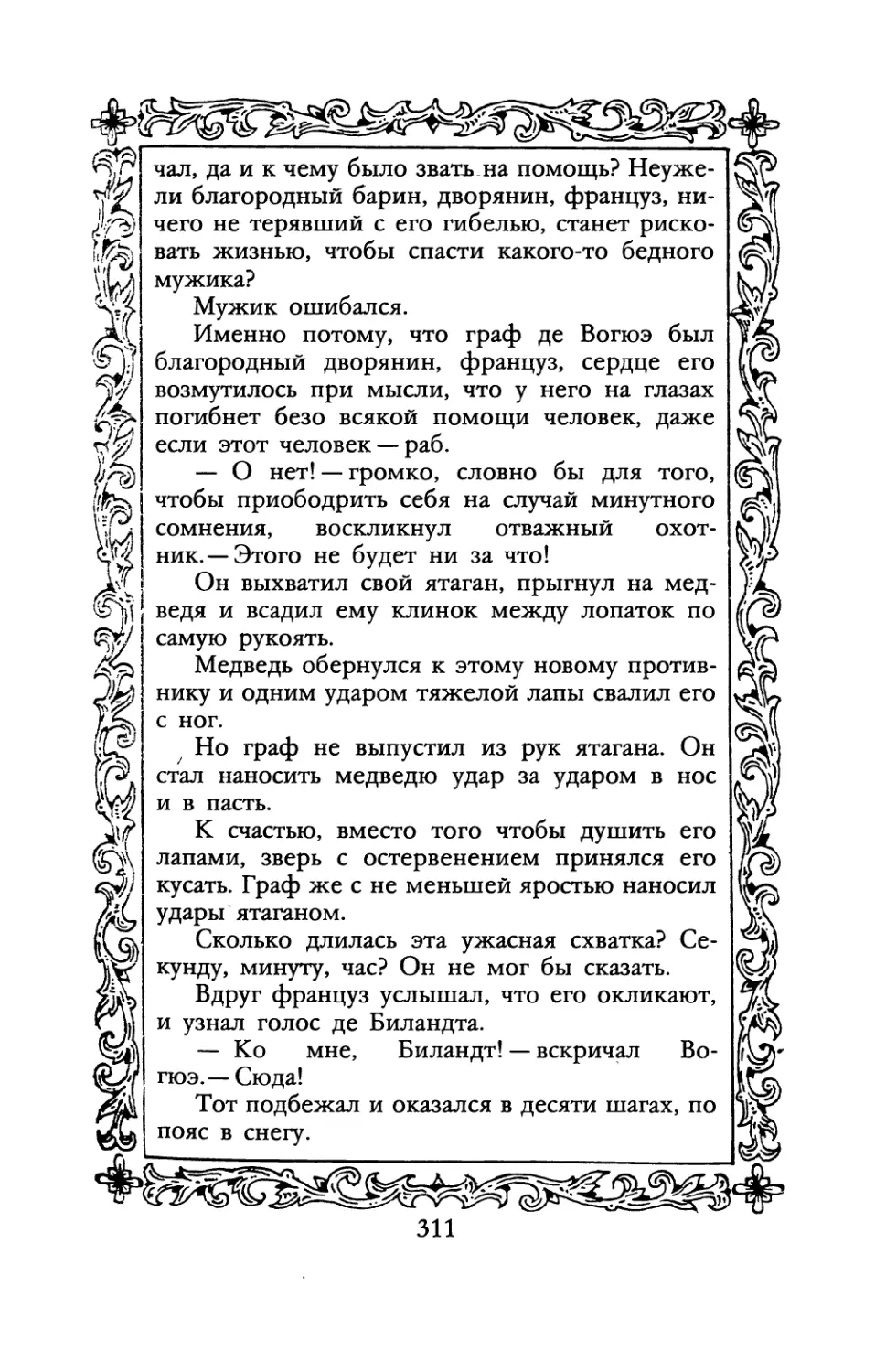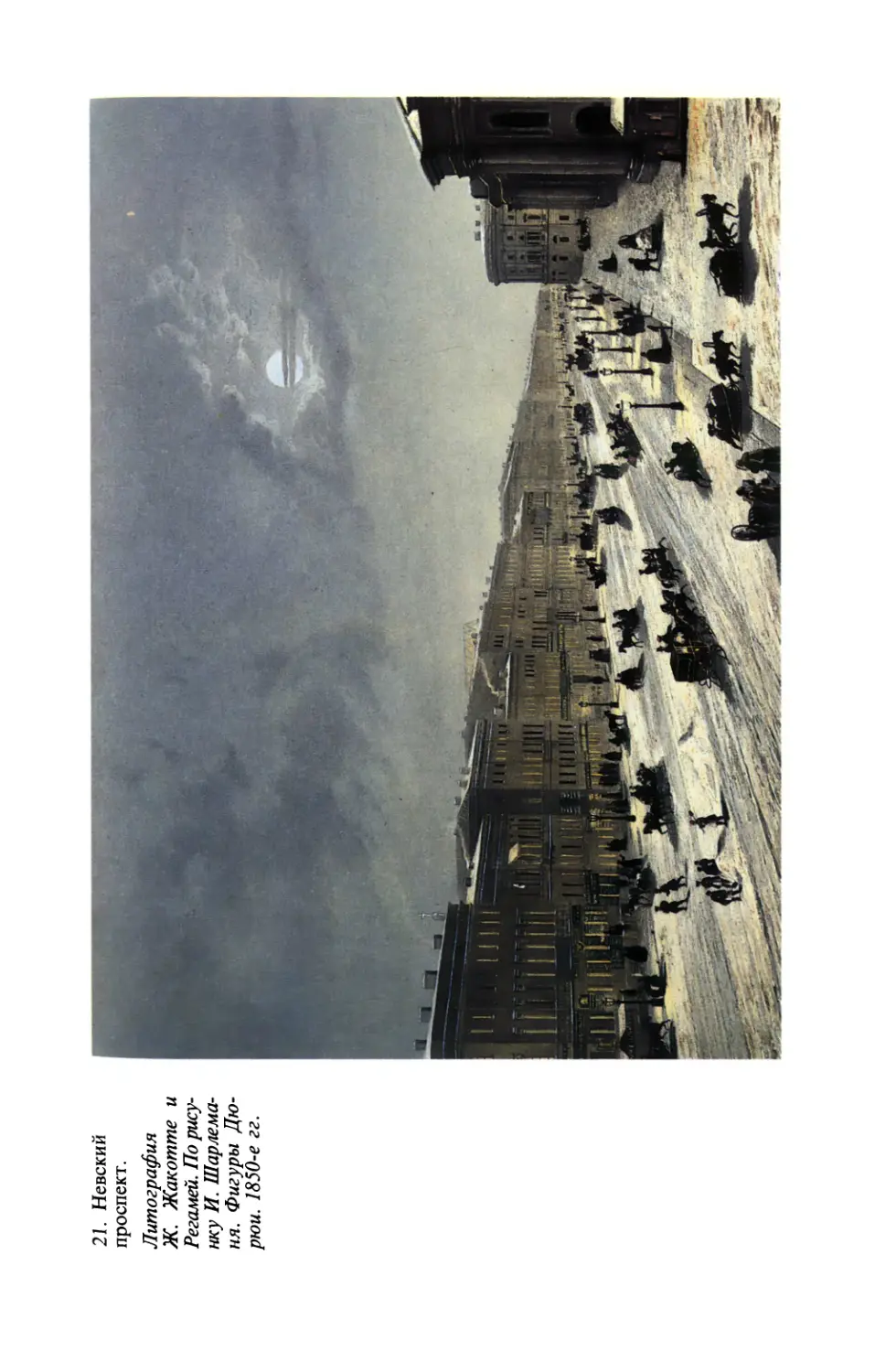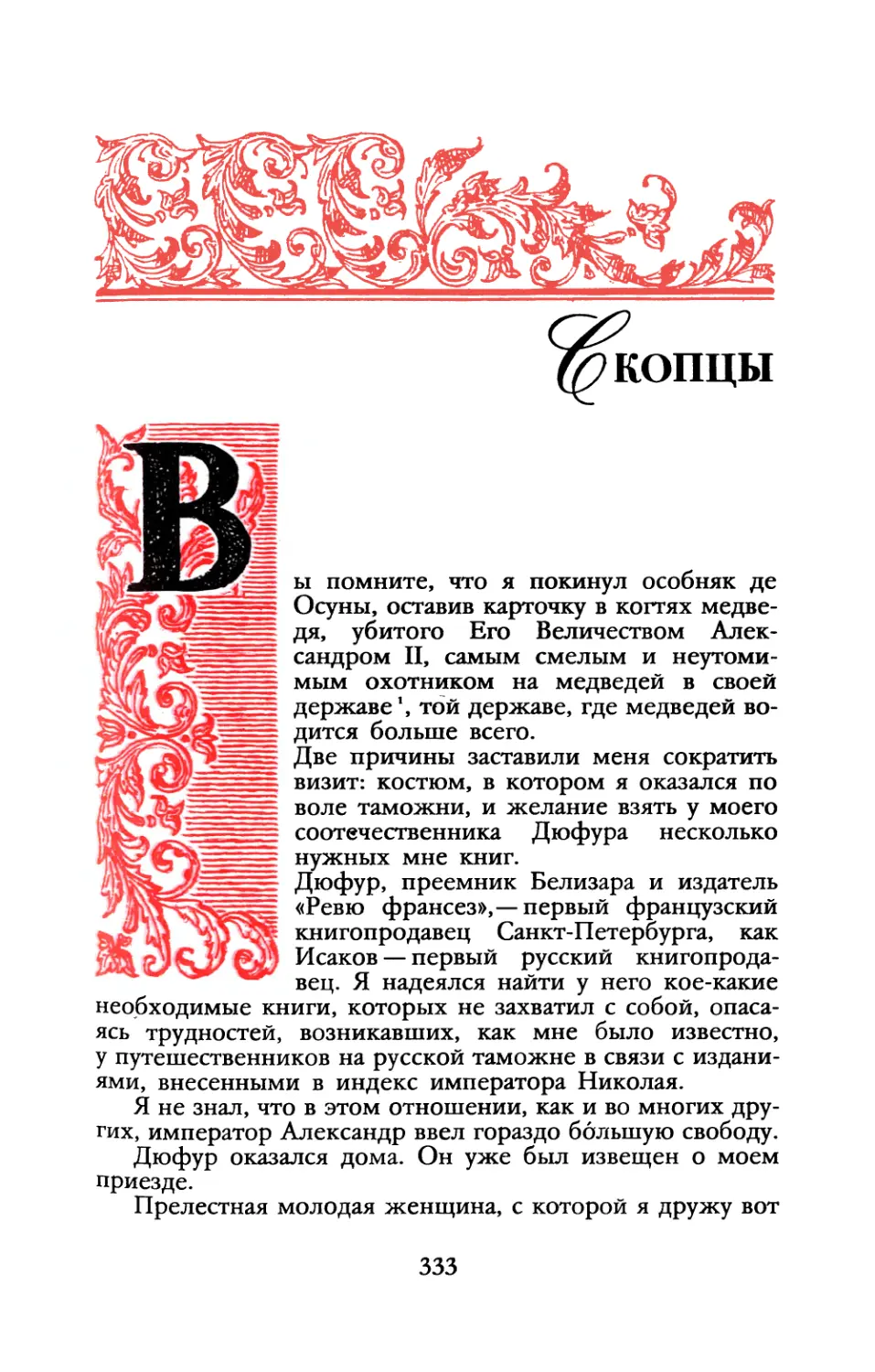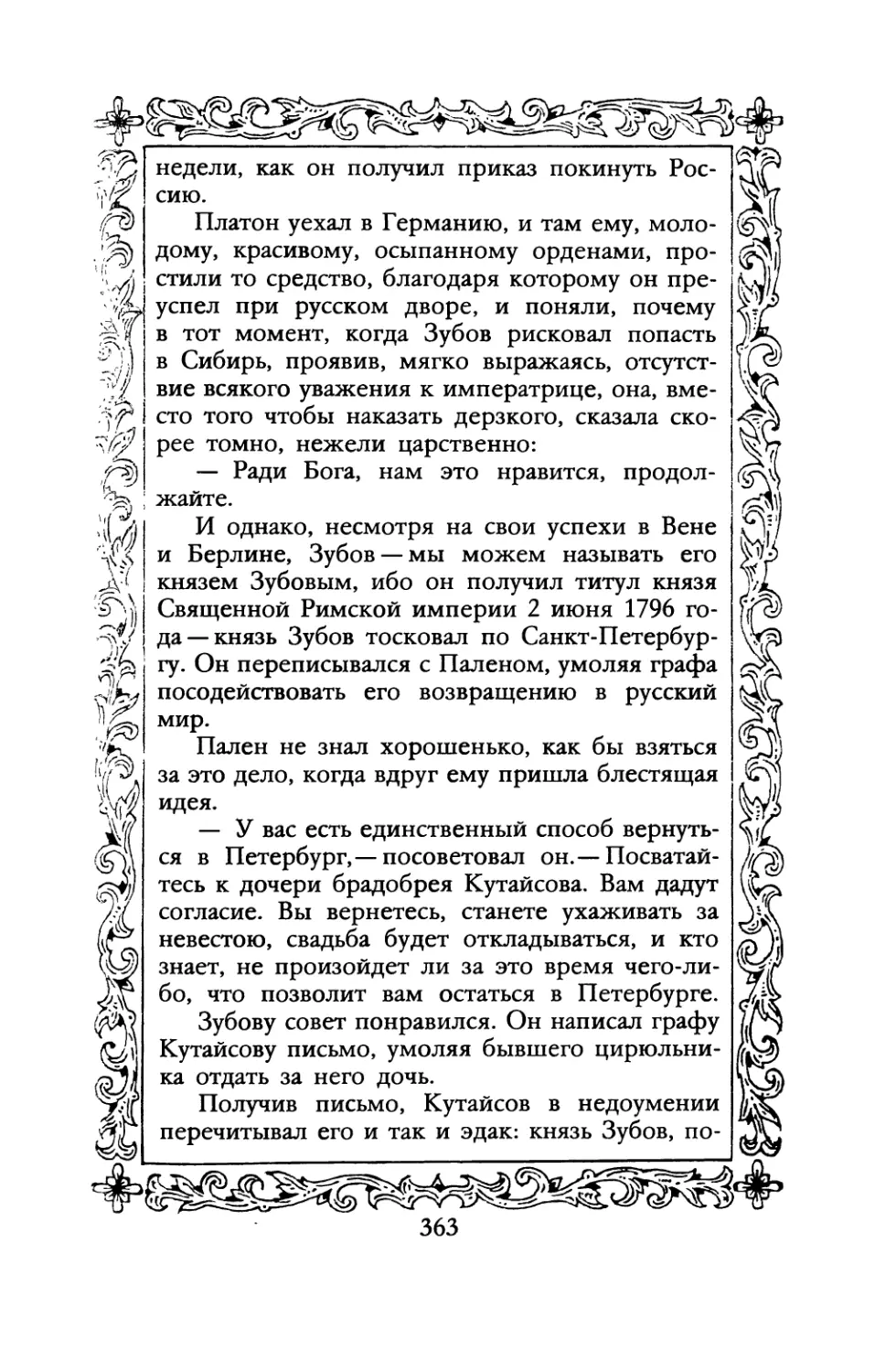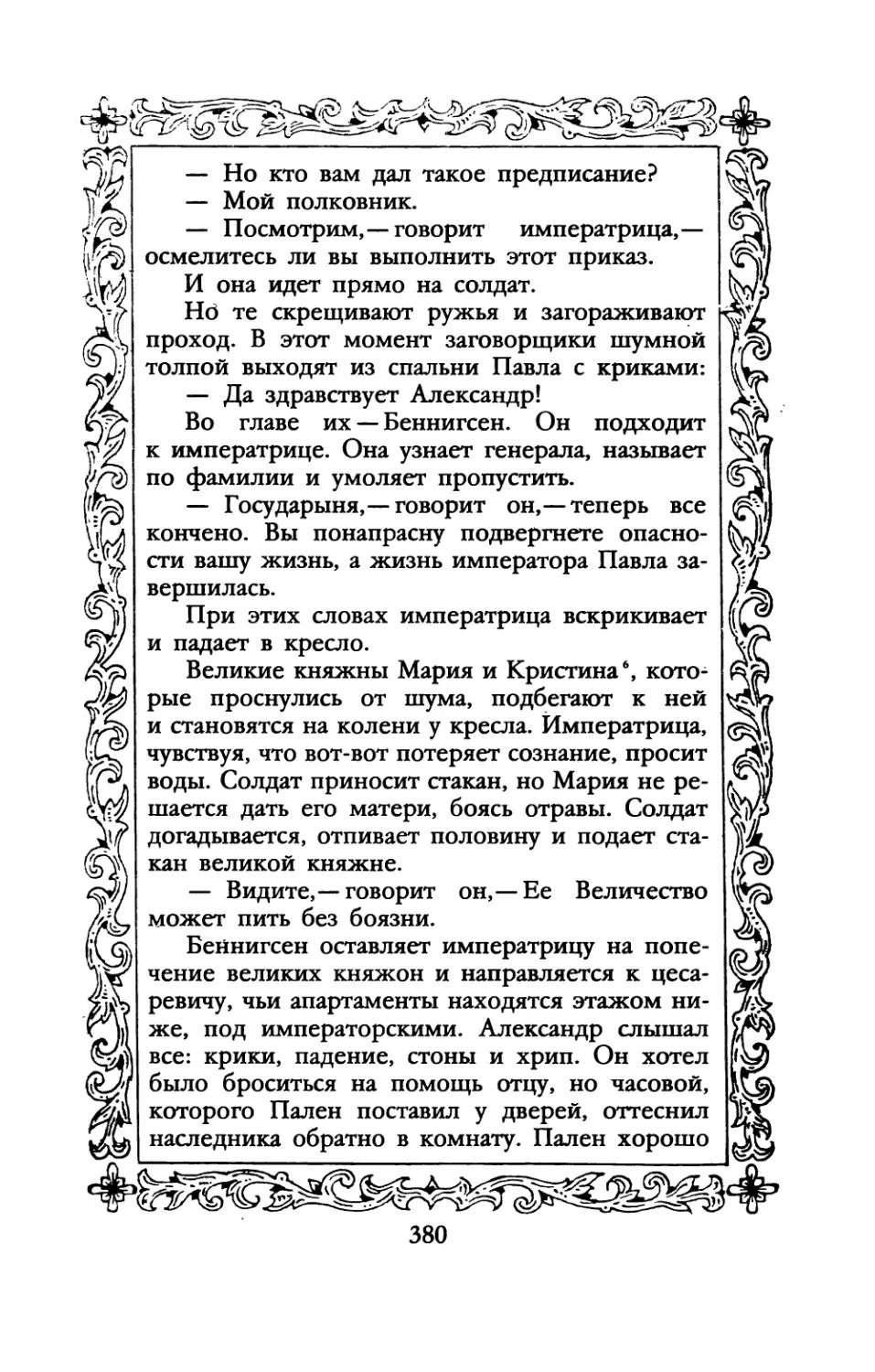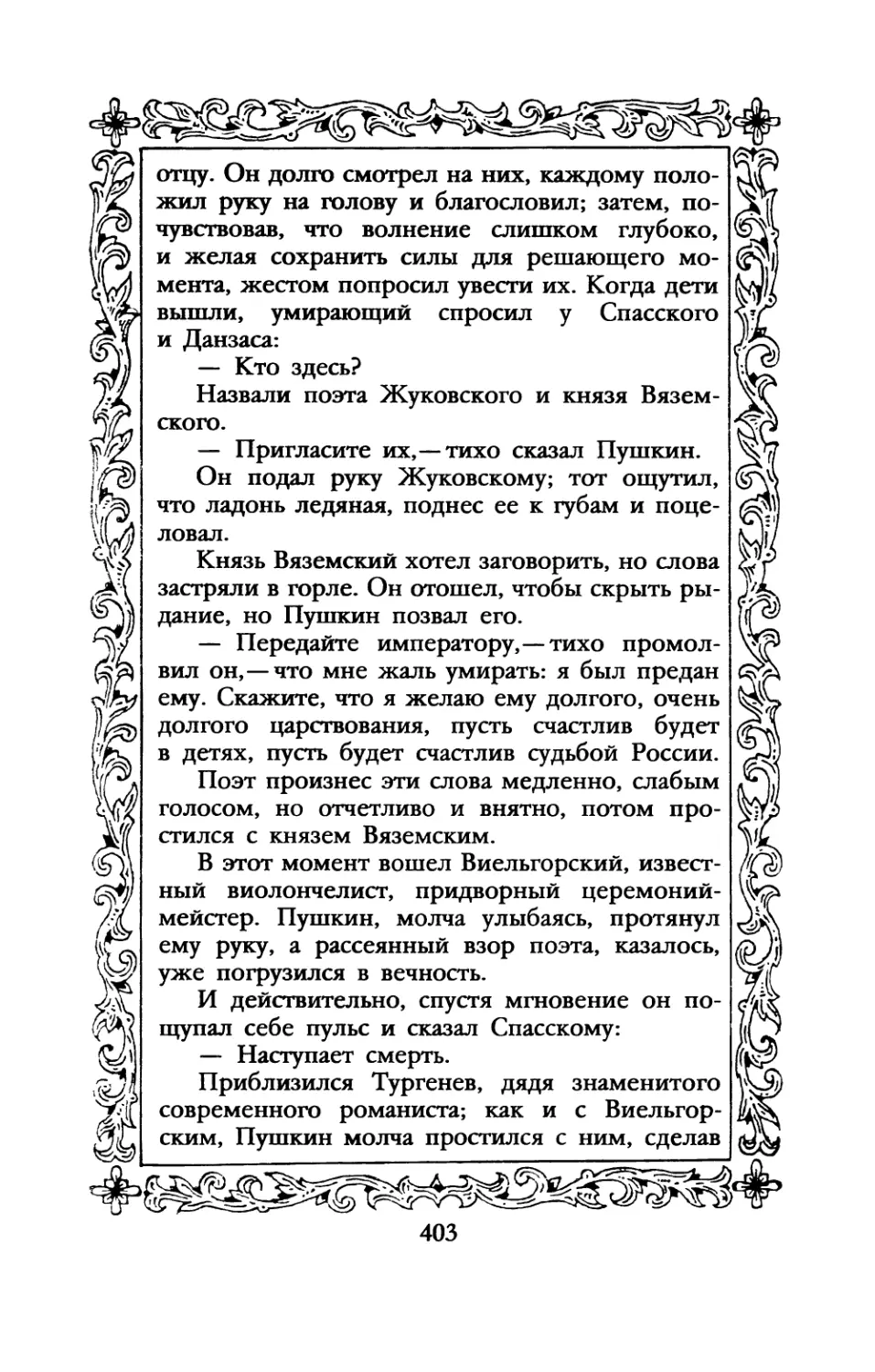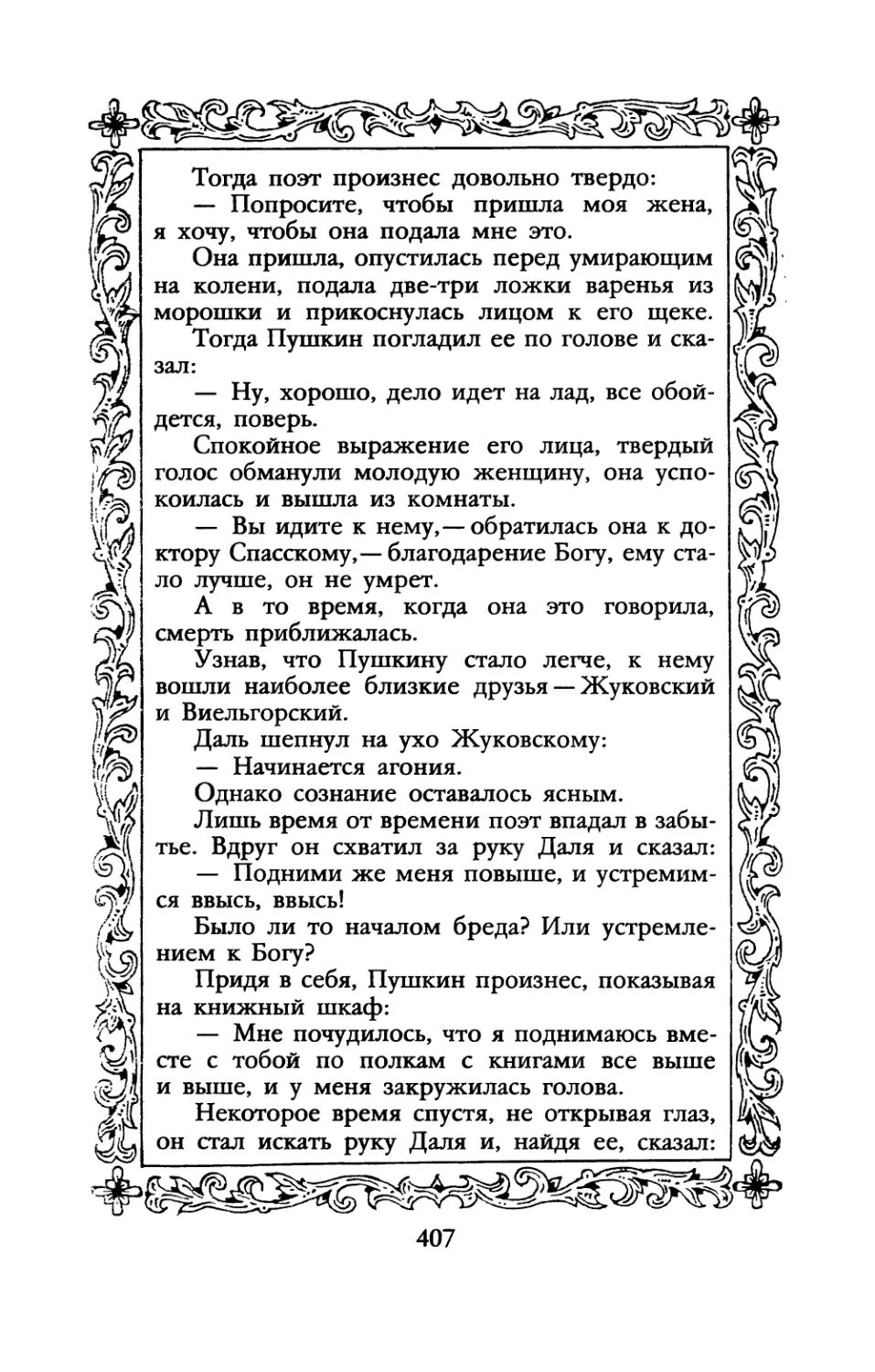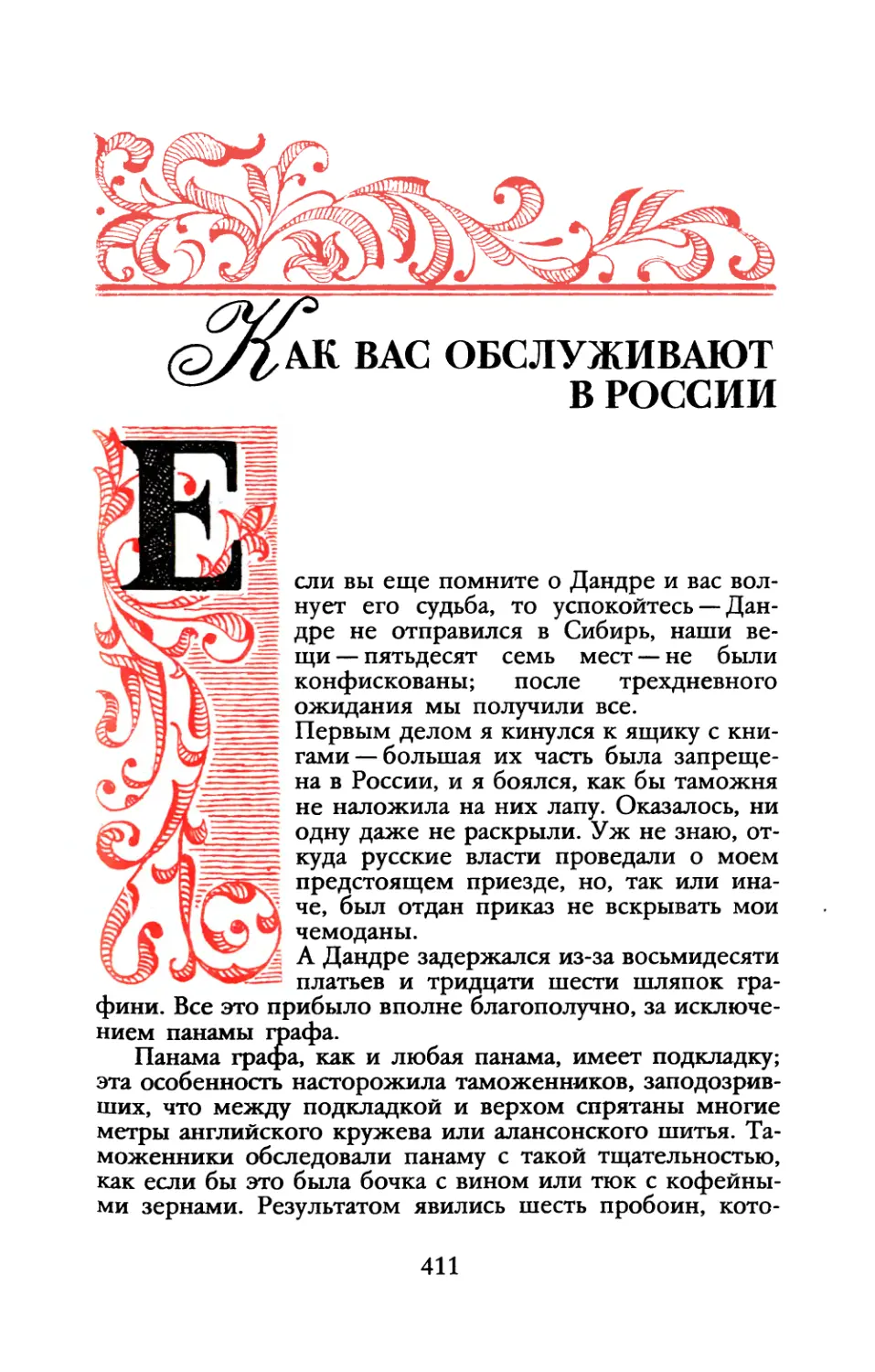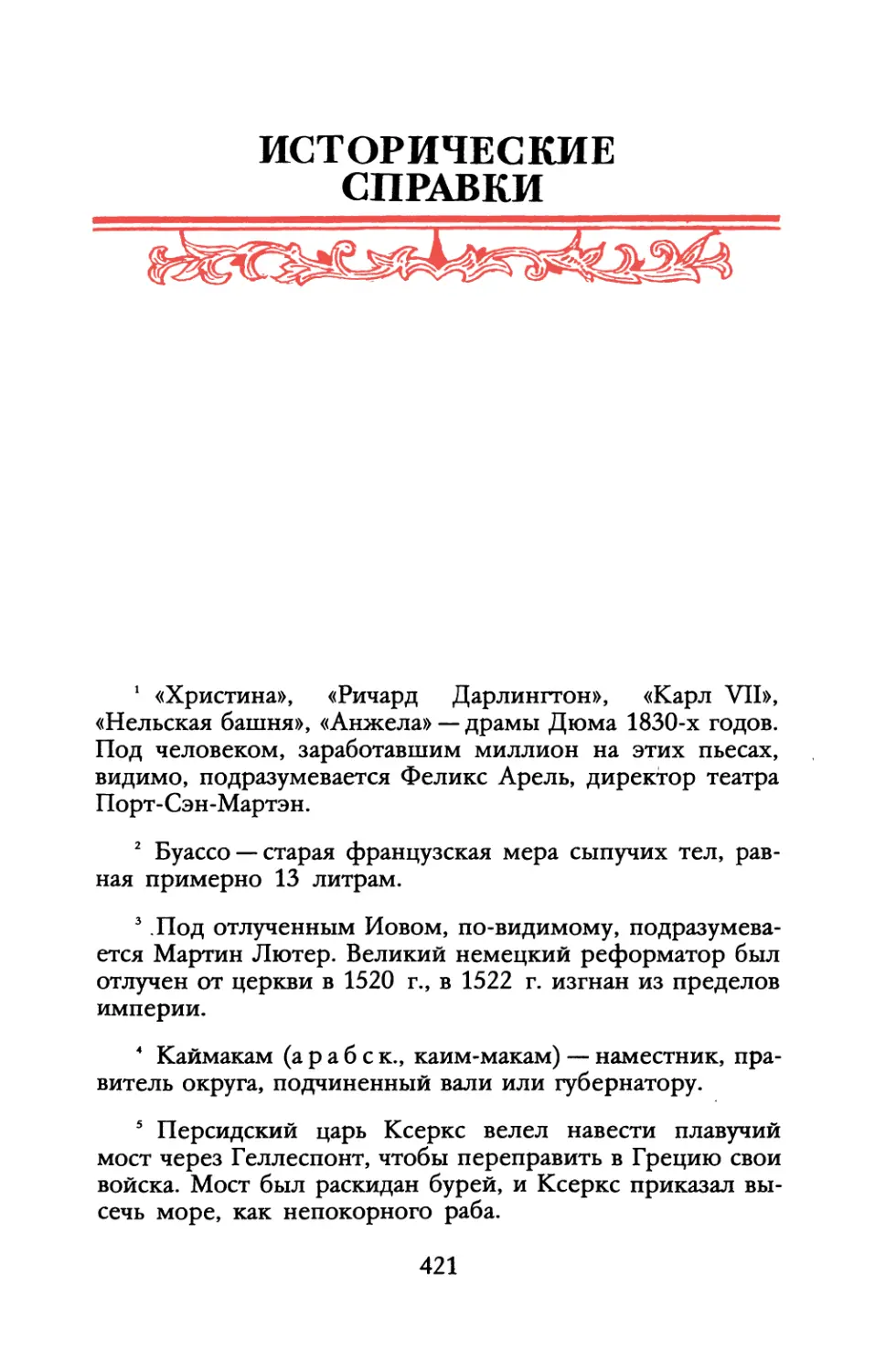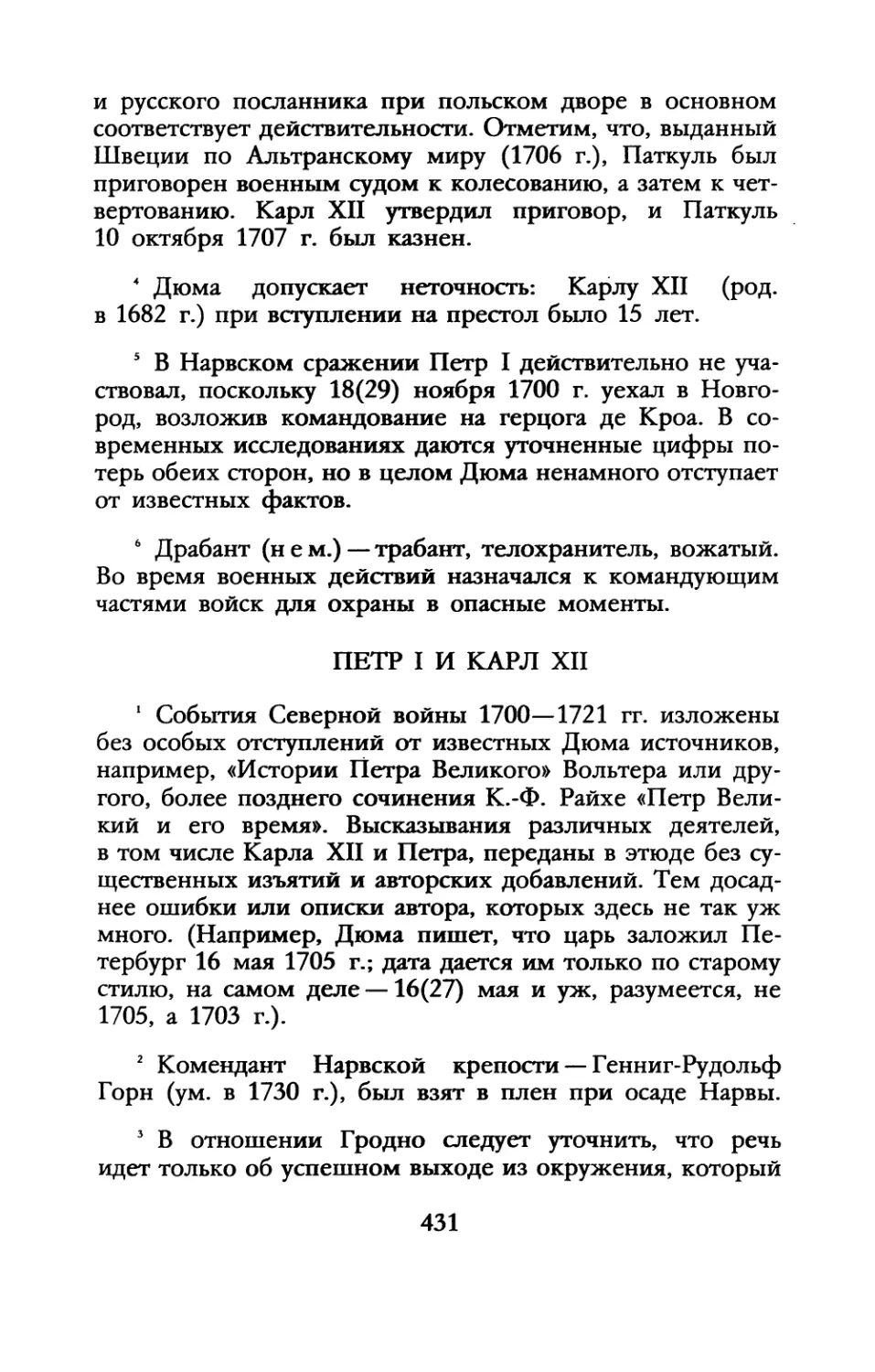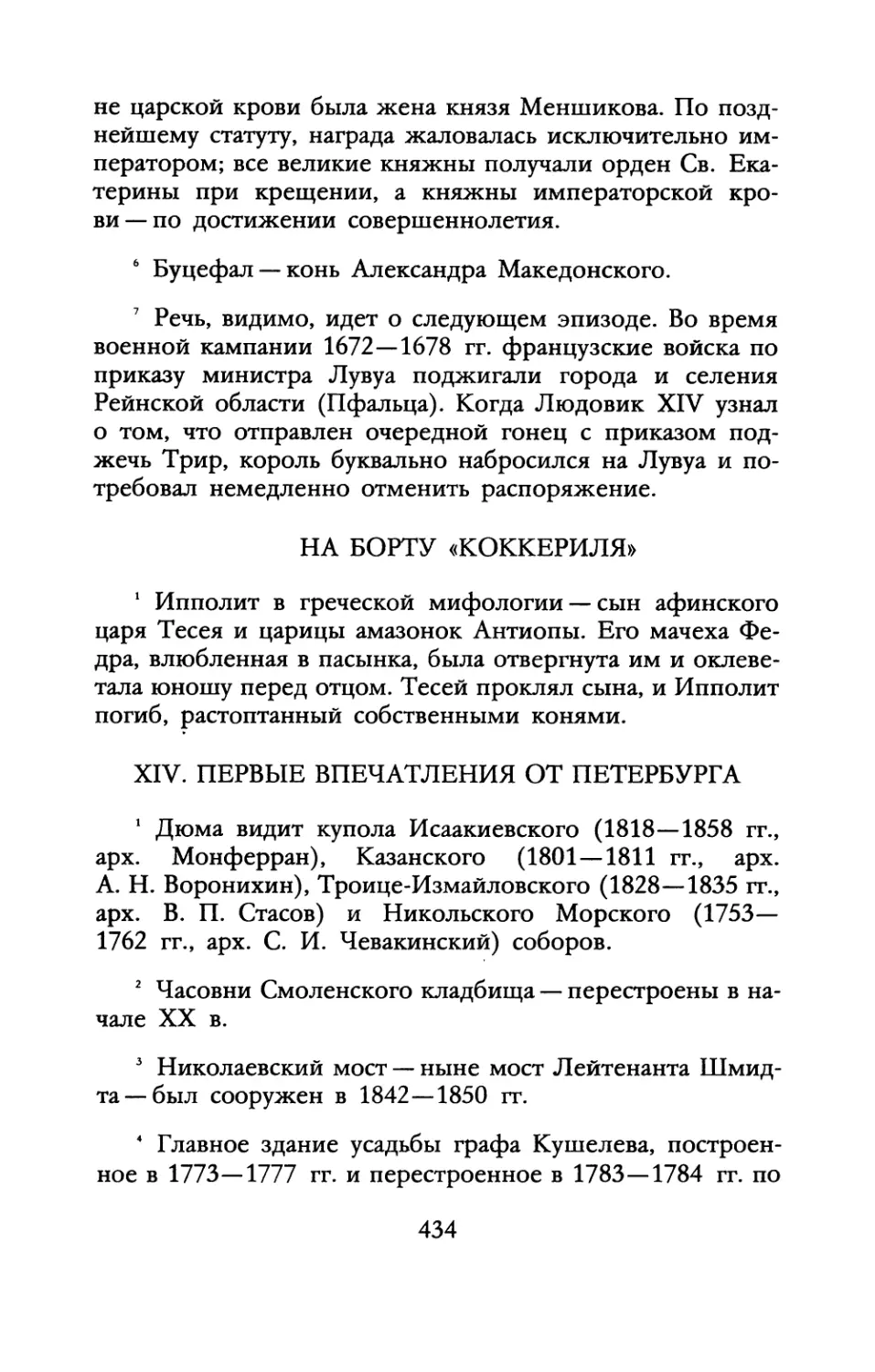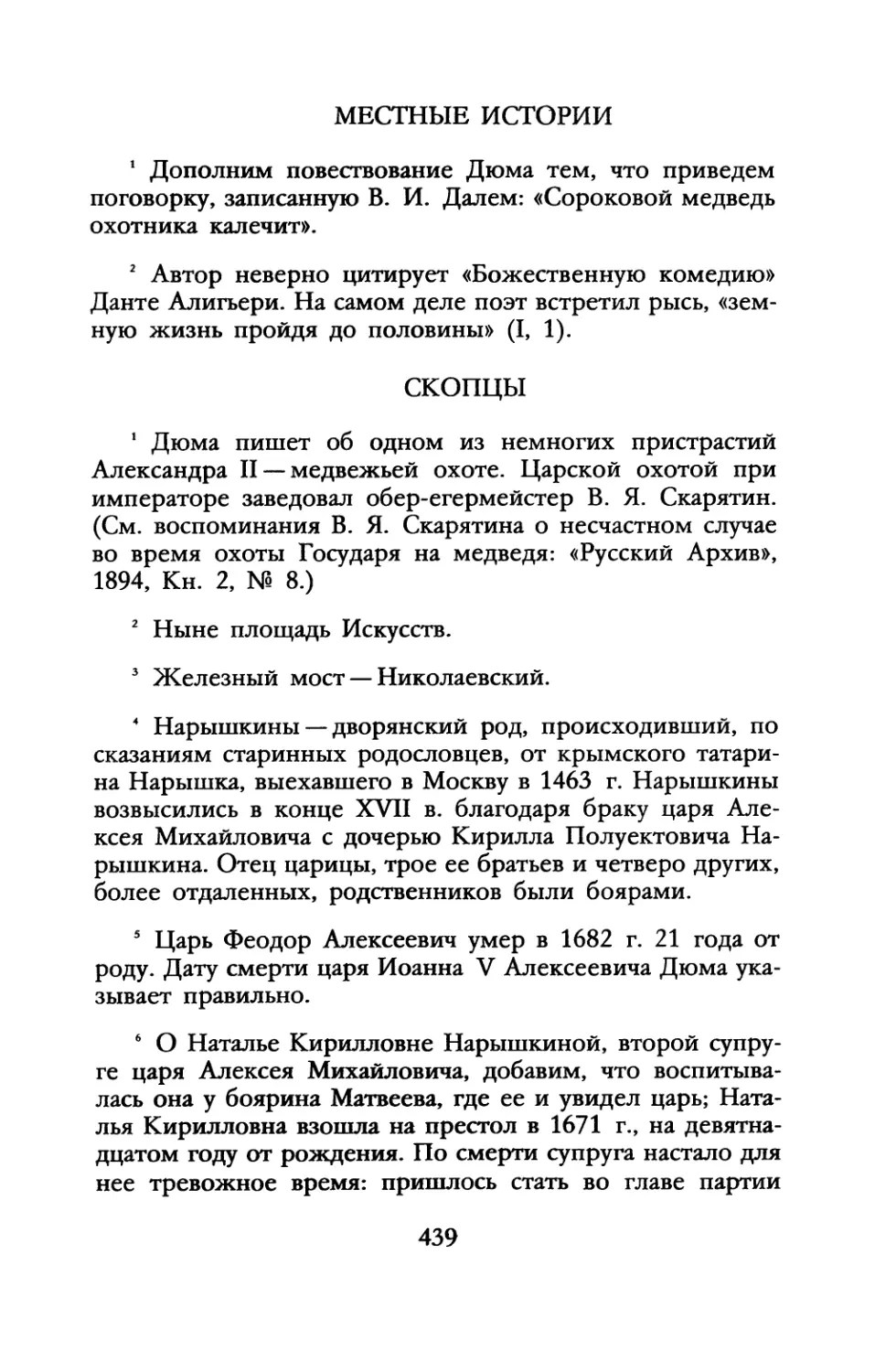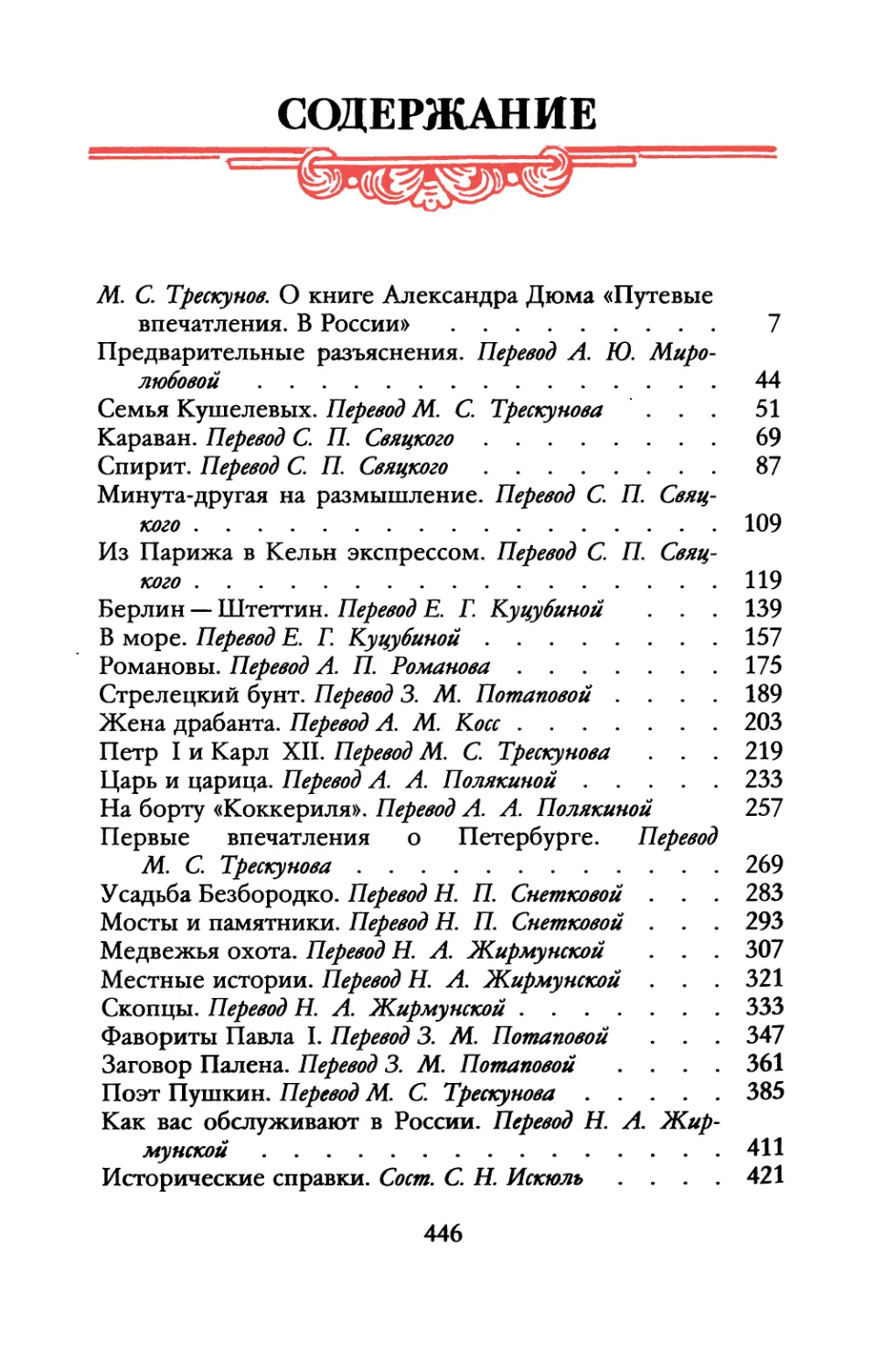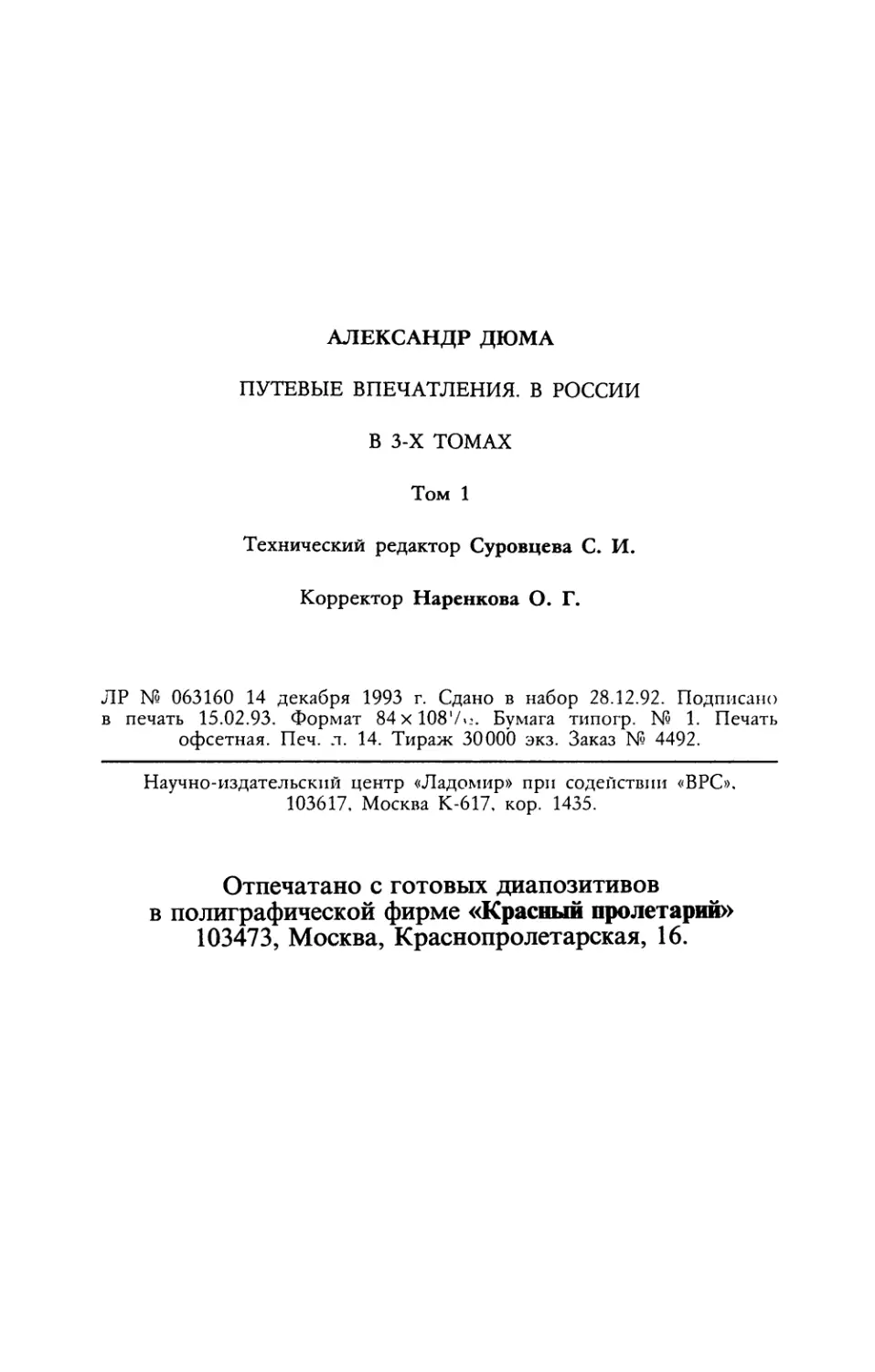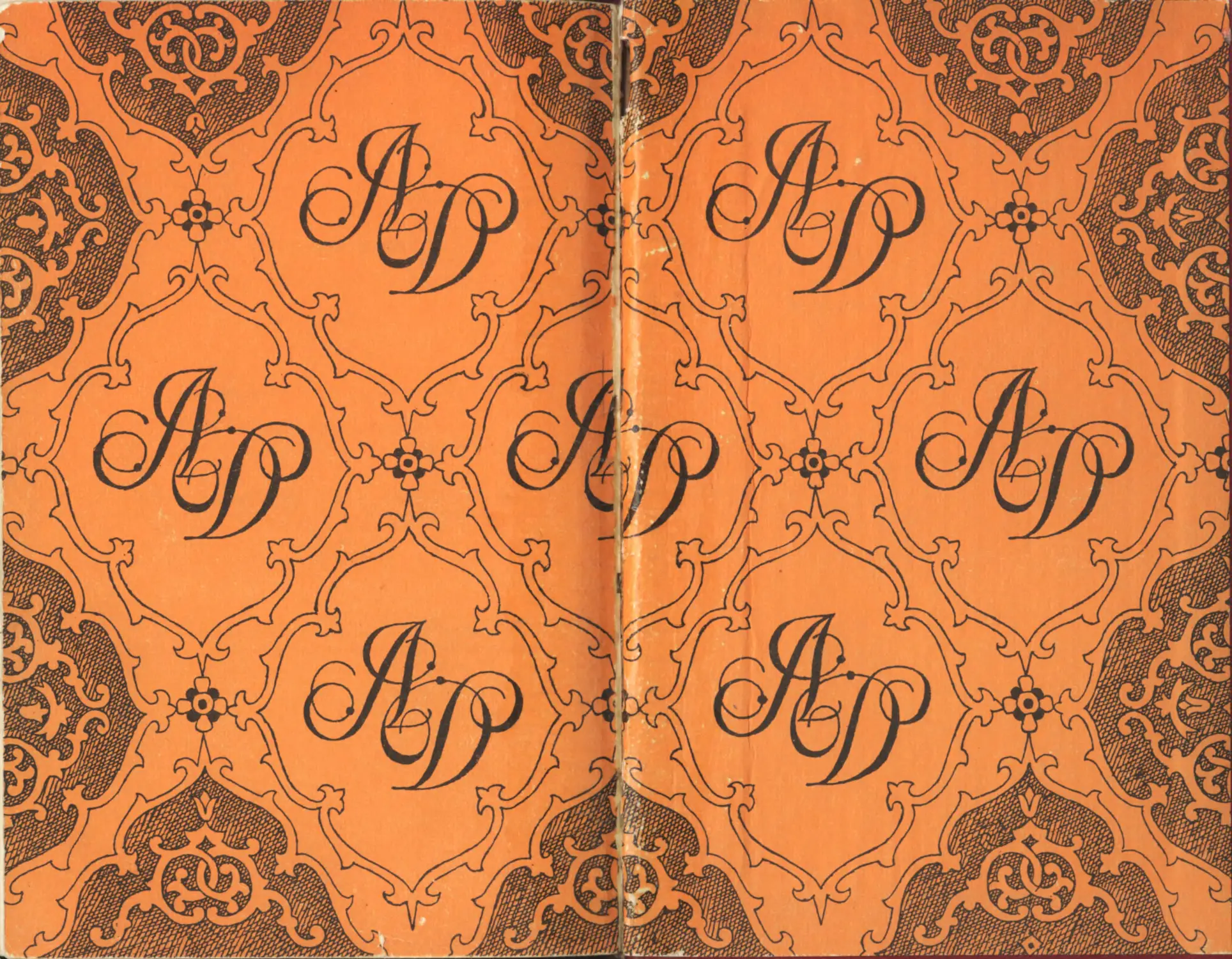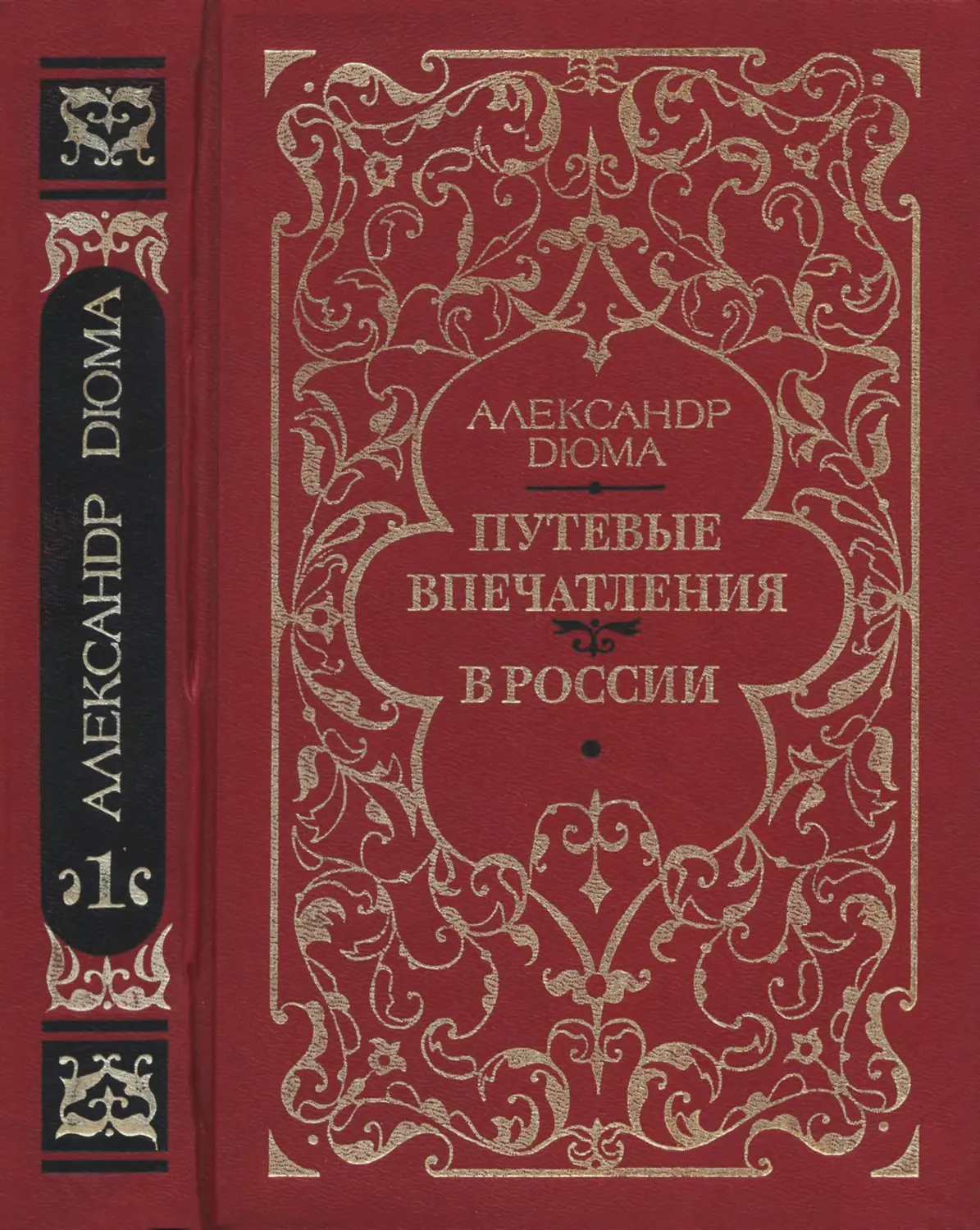Текст
AAEKCAHDP
ЭЮМА
ф.
СОЧИНЕНИЕ В ТРЕХ ТОМАХ
ЛАДОМН^
МОСКВА
19 9 3
AAEKCAHDP
DïOMA
Ф
СОЧИНЕНИЕ В ТРЕХ ТОМАХ
ТОМ ПЕРВЫЙ
еЖтквык
ВПЕЧАТЛЕНИЯ В (^ОССИИ
ЛАДМИНр
МОСКВА
19 9 3
ББК 84. 4Фр. Д 96
Переводы с французского
Предисловие М. Треску нова
Исторические справки С. Искюля
Редакторы
Н. Жирмунская, А. Миролюбова
Состав иллюстраций А. Таманцевой
Оформление Д. Шимилиса
д
4703000000-012 593(03)-93
Без объявл.
© Коллектив авторов (см. содержание), 1993. © Д Б. Шимилис. Оформление, 1993.
ISBN 5-86218-039-7 (т. 1) © Научно-издательский центр «Ладомир»,
ISBN 5-86218-038-9 1993.
Репродуцирование (воспроизведение) данного издания любым способом без договора с издательством запрещается
О КНИГЕ АЛЕКСАНДРА ДЮМА „ ПУТЕВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ.
В РОССИИ "
i
«В наш век никто не пользовался такой популярностью, как Александр Дюма; его успех — больше чем успех —это триумф. Его слава гремит подобно трубным звукам фанфар. Александр Дюма —имя не только французское, но и европейское; более того —это имя мировое».
Виктор Гюго
«Удивительное явление: Дюма и до сих пор считается у положительных людей и у серьезных литераторов легкомысленным, бульварным писателем, о котором можно говорить лишь с немного пренебрежительной, немного снисходительной улыбкой, а между тем его романы, несмотря на почти столетний возраст, живут, вопреки законам времени и забвения, с прежней неувядаемой силой и с прежним добрым очарованием, как сказки Андерсена, как «Хижина дяди Тома», и еще многим, многим дадут в будущем тихие и светлые минуты».
А. И. Куприн
7
Да, действительно, оба писателя — и современник и потомок, отдаленный во времени и в пространстве,— совершенно правы: Дюма не только не был обойден славой при жизни, но и впоследствии интерес к его творчеству не иссяк. Велик он и в настоящее время, когда прошло уже 190 лет со дня рождения писателя. Весь мир отдает должное мастерству романиста, но в нашей стране к нему относятся с особенной теплотой. В России было выпущено два собрания сочинений Дюма — в 1913 и в 1974 году. Сейчас выходят еще два — в издательстве «Пресса» и в приложении к журналу «Огонек». А бесчисленное множество отдельных произведений, увидевших свет не только на русском, но и на украинском, белорусском, грузинском, латышском, литовском языках, просто невозможно поименовать.
Однако иная грань творчества Дюма — путевые этюды, описания многочисленных путешествий — остается фактически неизвестной современному читателю.
Правда, в 1839 году в Санкт-Петербурге появились его «Путевые впечатления» от поездки по Швейцарии в переводе Дмитрия Журавского, но следующая книга этого жанра — «Путешествие в Египет» — вышла в издательстве «Наука» лишь в 1988 году в переводе М. Е. Таймановой. Следует также назвать книгу «Кавказ» — перевод П. Н. Роборовского (1861), второе издание которой вышло в свет в 1988 году под редакцией М. И. Буянова (редактор написал к этому изданию статью и пространные комментарии).
Но, как это ни парадоксально, книга, представляющая, быть может, наибольший интерес для нас, россиян,— «Путевые впечатления. В России»,— выходит в свет впервые. Полное издание, несомненно, углубит не только наше представление о творческом наследии Дюма, но и наше знание о самих себе, о прошлом России, к которому сейчас, в эти смутные времена, мы обращаемся так часто.
Вилле-Котре — ничем когда-то не примечательный город близ Парижа. Здесь 24 июля 1802 года у генерала Тома-Александра Дюма и Марии-Луизы Лабуре родился сын Александр.
8
Юные годы Александр провел в родном городе. Окончив коллеж, он в 1824 году направился в Париж и первое время был вынужден жить на весьма и весьма скудные средства. Правда, скоро, при содействии друзей он получил должность секретаря в канцелярии герцога Орлеанского. Но служба мало интересовала молодого человека. Увлеченный литературой и театром, юноша с особой энергией предается чтению великих драматургов — Шекспира, Шиллера, Мольера, историков Баранта и Тьерри, становится постоянным посетителем театра «Комеди Франсез», общается с видными деятелями нового романтического искусства — В. Гюго, Ш. Нодье, А. Мюссе, всецело воспринимая их эстетику.
Александр Дюма начал литературную деятельность в эпоху Реставрации, когда видную роль в идеологической борьбе с дворянской и клерикальной реакцией сыграл ряд научных трудов, освещавших в либеральном духе бурные события конца XVIII столетия. В то время историческая наука во Франции переживала расцвет. Известные историки пытались философски осмыслить важные этапы прошлых эпох, уловить существенную особенность длительного пути человечества от «мрака» к «свету», от «необходимости» к «свободе», то есть от древних времен, теократии феодального строя к венчавшей этот длительный путь развития человечества Великой французской революции 1789—1794 годов.
Формирование Дюма как писателя историко-приключенческого жанра проходило под знаком постоянного обращения к трудам современных ему историков, что и сказалось не только в его романном творчестве, но и — впоследствии — во многих сочинениях жанра «путешествий».
Однако в начале писательской карьеры блистательный талант романтика е особой силой сказался в исторической драме «Генрих III и его двор», поставленной на сцене театра «Комеди Франсез» 11 февраля 1829 года. То было первое обращение драматурга к XVI столетию Франции, исполненному волнующих событий. О значении этой драмы Андре Моруа писал: «Была ли его пьеса исторической? Не больше и не меньше, чем романы Вальтера Скотта. История полна тайн. У Дюма все оказалось ясным и определенным. Екатерина Медичи держала в руках нити всех интриг. Генрих III расстраивал планы герцога де
9
Гиза. Дюма и сам отлично понимал, что в действительности все эти приключения были куда более сложными. Но какое это имело для него значение? Он хотел лишь одного— бурного действия. Эпоха Генриха III с ее дуэлями, заговорами, оргиями, с разгулом политических страстей напоминала ему наполеоновскую эпоху. История в обработке Дюма была такой, какой ее хотели видеть французы: веселой, красочной, построенной на контрастах, где Добро было по одну сторону, Зло —по другую. Публика 1829 года, наполнявшая партер, состояла из тех самых людей, которые совершили великую революцию и сражались в войсках империи. Ей нравилось, когда королей и их дела представляли в «картинах героических, полных драматизма и поэтому им знакомых». Вслед за «Генрихом III» Дюма создает ряд известных драм и комедий, пользовавшихся в свое время громкой славой. К ним относятся «Христина», «Антони», «Кин, гений и беспутство», «Нельская башня».
Сложившаяся во Франции в 30-х годах общественная обстановка оказала благотворное воздействие на творчество драматурга, к тому же он не был сторонним наблюдателем происшедшей в июле 1830 года революции: тогдашние газеты с похвалой отметили смелые действия молодого литератора — при захвате в Суассоне склада пороха и оружия, столь необходимого новым властям для упрочения будущего буржуазного королевства.
С участием Дюма происходило и республиканское восстание 1832 года, после которого по совету обеспокоенных друзей, опасавшихся его ареста, он направился в Швейцарию, где не только наблюдал живописные ландшафты, но и с увлечением готовил обширный очерк «Галлия и Франция». То было одно из первых сочинений, в котором автор демонстрировал свое мастерство исторического публициста.
Книга «Галлия и Франция» свидетельствовала об осведомленности автора в вопросах национальной старины. Рассказывая о ранней эпохе становления галльского племени, борьбе галлов с франками, Дюма цитирует труды Огюстена Тьерри, Шатобриана и многих других исследователей. В заключительной главе дается критическая оценка правления Луи-Филиппа — короля крупных фабрикантов, землевладельцев, финансистов, и предсказыва-
10
ется, что во Франции в будущем возникнет Республика как форма широкого народного представительства.
Положительный отзыв об этом произведении самого Тьерри окрылил автора, и он с еще большим усердием принялся за изучение многих капитальных исследований, хроник, мемуаров.
Став известным драматургом, пьесы которого успешно ставились во Франции и в других странах, Александр Дюма увлекся особым литературным жанром — «историческими сценами». То был вид романа, повести, новеллы, в которых построенное на историческом материале повествование перемежалось живым, динамичным диалогом, а описательный элемент сводился до минимума, с тем чтобы с первых же страниц книги ввести вереницу лиц в стремительно развивающееся действие. Этот метод был применен в посвященных XV столетию романе «Изабелла Баварская» (1835) и повести «Правая рука кавалера де Жиака» (1838).
Поразительно плодотворными для Дюма были сороковые годы, когда он создал знаменитую трилогию «Три мушкетера» (1844), «Двадцать лет спустя» (1845), «Виконт де Бражелон» (1848—1850), а также «роман века» «Граф Монте-Кристо» (1844—1845). Вслед за XV веком он обращается к блистательному и вместе с тем кровопролитному XVI столетию. Прологом к изображению этой эпохи послужила уже упоминавшаяся драма «Генрих III и его двор», положительно воспринятая французскими историками и зрителями. Гигантский сериал, рисующий времена позднего Возрождения Франции, включает в себя романы «Асканио» (1843), «Две Дианы» (1846), трилогию «Королева Марго» (1845), «Графиня де Монсоро» (1846), «Сорок пять» (1848). К тому же именитый драматург в 1846 году основал «Исторический театр», где с успехом исполнялись драматические инсценировки его романов.
Кроме того, еще находясь в Швейцарии, он готовил материалы для трехтомного сочинения «Путевые впечатления» (1834) — своего первого опыта в популярном в то время жанре «путешествий».
И
Поэтика «путевого» сочинения не укладывается в какую-либо строгую систему эстетических принципов; любой писатель, посещая чужую страну, стремился прежде всего запечатлеть увиденное — «Choses vus», воссоздать «картину с натуры», не ограничивая полета воображения и не замыкаясь в рамки определенной эпохи. Это импонировало Дюма, который писал: «Если читатель, с неизменной снисходительностью сопровождавший нас в наших частых странствиях по старой Франции, согласится и на этот раз перенестись в далекое прошлое, мы окажемся в нескольких лье от Авранша». Вслед за тем очеркист в своем воображении переносится в XV столетие и воссоздает батальную сцену — бретонская армия, осаждающая замок Сен-Джемс. В «Путевых впечатлениях» представала пестрая вереница лиц легендарных и исторических — от мало кому известного русского путешественника и ученого Иосифа Христиановича Ганеля (1788—1861) до императора Наполеона. Какой бы город или кантон Швейцарии ни посетил Дюма, он напрямую обратится к читателю и превратит диалог в завершенный этюд о веках минувших и днях недавних. Например, драматург рассказывает, как и почему он принял участие в известном восстании 1832 года, о парижской хронике, сообщившей о его аресте и расстреле, а потом, будто красноречивый чичероне, вспоминает, что находится в Монтро, городе, где в разные века произошли события, в которых Иоанн Бесстрашный и Наполеон играли главнейшие роли.
Дюма постоянно придерживается литературного приема, позволяющего ему, художнику-романтику, пренебрегая бегом времени, изображать зримые картины современности в свободном сочетании с обстоятельствами минувших эпох. Трудное восхождение на Монблан, которое пытался совершить писатель, постоянно прерывается обращением ко все новым и новым лицам, и каким лицам— Жан-Жаку Руссо, Байрону... Каждое из этих имен говорит о многом, внушает поклонение. Рассказывая историю Женевы, путешественник упоминает имена Берте- лье и Боннивара. Один кончил жизнь на эшафоте. Другой для освобождения отечества пожертвовал свободой и пробыл шесть лет в заточении в Шильонском замке («С тех пор тюрьма мученика превратилась в храм, а гранитный столб, к которому цепями был привязан Боннивар,—
12
в алтарь»). И далее история узников завершается эпизодом, воскрешающим образ великого поэта:
«В 1816 году, в одну из тех ночей, которые, казалось, Бог создал для одной только Швейцарии, по озеру тихо плыла лодка, оставляя за собою искристую полосу раздробленных лучей месяца; она направляла путь к белеющим стенам замка Шильона и пристала к берегу тихо, не колыхнувшись, как переплывает лебедь; из лодки вышел бледный мужчина с острым взглядом, с челом открытым и надменным, он был закутан в широкий черный плащ, однако заметно было, что он прихрамывал. Он спросил тюрьму Боннивара и пробыл в ней долго, наедине с воспоминаниями. После него нашли в подземелье, на столбе, к которому был прикован мученик, новое имя: Byron»*.
Посетив в Люцерне Шатобриана, своего великого современника, Дюма не только набросал его портрет как политического деятеля, но главное внимание уделил повседневной жизни знаменитого писателя. Дюма со страстью выискивал что-то особенное, что характеризовало бы человека в домашней обстановке. И вот после разговора на политическую тему, после рассуждений о высоких материях автор «Гения христианства» пригласил любопытствующего путешественника к озеру,— и для чего бы вы думали? — чтобы покормить крошками хлеба прирученных водоплавающих курочек. Эта реалия из личной жизни великого романтика и послужила темой очерка «Куры господина Шатобриана»**.
В другой главе возникает образ Наполеона в момент сражения при Ватерлоо. Перед читателем предстает грандиозная битва. Наполеону уже кажется, что он победитель Европы. Император объявляет: «Теперь я ближе к Вене, чем они к Парижу», погружаясь в воспоминания прежних побед и надеясь, что враг повержен. И вдруг приходит адъютант с донесением, что неприятель уже в десяти лье от Парижа. Император выслушал эту весть, ни один мускул не дрогнул на его лице, а затем распорядился, чтоб ему подвели коня, и направился в Фонтенбло.
* Дюма А. Путевые впечатления. Часть 1. Санкт-Петербург, 1838, с. 127—128.
** Oeuvres de Alex. Dumas. Bruxelles, т. 1, 1838, p. 348. (В Санкт-Петербургском издании 1838 года эта глава исключена.)
13
Так совсем не в эпических тонах предстает поражение великой армии.
Путешествие по Швейцарии весьма плодотворно сказалось на формировании писателя, на его литературной деятельности; из посещения соседнего государства он извлек обширные исторические знания, зародилась и мысль о будущих романах. Метод труда над книгой о Швейцарии был применен и в других сочинениях жанра путевых записок, таких, как «Путешествие в Египет» (1839), «Новые впечатления о Южной Франции» (1840), «Из Парижа в Кадис» (1847) и, конечно же, в четырехтомном произведении, посвященном России.
Невозможно назвать всех известных писателей, ученых, архитекторов, композиторов, живописцев Франции, посетивших Россию в XVIII—XIX столетиях.
Каждый из них оставил после себя мемуары, журнальные статьи, очерки о культурной и политической жизни Российской империи.
В недавно вышедшей во Франции фундаментальной антологии «Путешествие в Россию», составленной Клодом де Грэвом*, включены литературные этюды Бернар- дена де Сен-Пьера и Дидро, Сегюра и госпожи де Сталь, д’Арленкура и Ксавье Мармье, Бальзака и де Кюстина.
Писатели, совершавшие поездки по различным странам мира, «увиденное» запечатлевали в различных литературных формах: дневниках, письмах, очерках. Каждый из них отличался оригинальной манерой изложения, каждый выбирал те объекты, которые были ему по душе, находил те выразительные средства, которые в наибольшей степени отвечали его творческой натуре; потому установить какие-то каноны жанра едва ли возможно и, конечно же, стиль и содержание книги ПГ. Готье о России не обладает сходством с многотомным сочинением А. Дюма на ту же тему, так же как суждения Бальзака о жизни крестьян в России отличаются от того, что писал о них А. де Кюстин, К. Мармье.
* Grève. Claude de. Le voyage en Russie. Anthologie des voyageurs français aux. XVIII-e et XIX-е S. P., R. Laffont, 1990.
14
Клод де Грэв особое место отводит в антологии Теофилю Готье и Александру Дюма, блистательно представившим жанр «путешествий». «Благодаря этим двум писателям, хорошо известным нашей публике, Россия сблизилась с читателями Франции. Она предстала со своими памятниками, проспектами, бульварами, живописными пейзажами»,— пишет составитель.
Александр Дюма многие годы лелеял мысль о поездке в Россию: ему было известно, что его драмы идут в русских театрах и что «Генриха III» и «Кина» исполняет в своем переводе великий трагик Василий Андреевич Каратыгин. В 1845 году чета Каратыгиных находилась в Париже. Состоялась их встреча с любимым драматургом. А. М. Каратыгина запечатлела эту встречу в своих «Воспоминаниях»: «Со свойственной ему любознательностью расспрашивая нас о России, Дюма высказывал давнишнее свое желание посетить нашу родину, взглянуть на обе столицы, на окрестности Москвы, на поле Полтавы, но в особенности желал взглянуть на нашего императора. Он припомнил при этом о недавней поездке Бальзака в Россию, сказав: «И я очень желал бы сделать то же, если только позволит ваш батюшка» (под словом «батюшка» он подразумевал государя Николая Павловича).
Мы отвечали, что за исключением завзятых республиканцев и вообще лиц, находящихся на дурном счету у нашего правительства, въезд иностранцев в Россию не воспрещен; если же наш двор не с прежним радушием приглашает приезжающих в Петербург именитых или чем-либо особенно замечательных французских подданных, причиной тому гнусная неблагодарность маркиза де Кюстина. К поступку Кюстина Дюма отнесся с негодованием» *.
История, связанная с именем Астольфа де Кюстина, вкратце сводится к следующему. Маркиз де Кюстин, известный путешественник и писатель, принадлежавший к аристократической семье, которая пострадала в период Великой французской революции, посетил Россию в 1839 году и был ласково принят при дворе Николая I: никто не сомневался, что маркиз напишет книгу о России и что эта книга будет доброжелательной. Однако в Петербурге
* Каратыгина А. М. Воспоминания.— В кн.: Караты -
г и н В. А. Записки, т. 2. Л., 1930, с. 229.
15
ошиблись: «Кюстин действительно описал свое путешествие, но записки его стали не апологией, а памфлетом. После появления этого сочинения, названного «Николаевская Россия» («Россия в 1839 г.»), сторонники монархии яростно ополчились на автора книги, пытаясь опровергнуть его критические рассуждения. С этой целью за границей на французском, немецком и английском языках публиковались статьи русских журналистов, содержавшие «беззубую критику Кюстина и холопскую лесть императору Николаю».
Ф. И. Тютчев отверг доводы «так называемых заступников России», заявив, что они представляются ему «людьми, которые, в избытке усердия, в состоянии поспешно поднять свой зонтик, чтобы предохранить от дневного зноя вершину Монблана»*.
Как бы то ни было, но из разговора с Каратыгиными писатель понял, что в данное время его поездка в Россию неосуществима. Он, как и Астольф де Кюстин, доставил много неприятностей императору Николаю I.
В 1848 году во Франции произошла буржуазно-демократическая революция. Писатель отрицательно относился к монархии Луи-Филиппа, и весть о крушении королевского трона встретил с воодушевлением. В то тревожное время он основал журнал «Ежемесячное обозрение» («Le Mois») и опубликовал в нем ряд статей в защиту республиканского строя. Но Республика просуществовала недолго. В декабре 1851 года президент Луи-Бона- парт — племянник Наполеона I —произвел государственный переворот. Законодательное собрание было распущено, конституция отменена, а через год во Франции была провозглашена империя, которую возглавил Наполеон III.
Вслед за Виктором Гюго Дюма уехал в Брюссель, где начал писать «Мемуары», которые по своим художественным достоинствам не уступают его лучшим беллетристическим сочинениям, а возвратившись в Париж в 1853 го¬
* Тютчев Ф. И. Россия и Германия.—Русский архив, 1873, nTq 10, с. 1195. Цит. по кн.: Кюстин А. де. Николаевская Россия. М., 1990, с. 21.
16
ду, основал собственную газету «Мушкетер», в которой пытался оставаться независимым по отношению к новому режиму.
В 1857 году Дюма предпринимает издание нового журнала («Монте-Кристо») и становится его основным автором и редактором-составителем. В первых же номерах началась публикация романа «Граф Монте-Кристо», печатались в этом издании очерки, стихотворения и романы иностранных писателей. Журнал пользовался большой популярностью и аккуратно выходил каждую неделю. Но какой огромной энергией надо было обладать, чтобы издание не потерпело крах. Божественный дар романиста и обозревателя — единственное, что обеспечивало успех журнала. Вот восторженный отзыв поэта А. Ламартина об издательской деятельности его друга: «Вы спрашиваете, что я думаю о вашем журнале? У меня есть определенное мнение о вещах, созданных обыкновенным человеком, но о чудесах у меня не сложилось мнение. Вы совершили нечто сверхчеловеческое. Мое мнение — это восклицательный знак! Люди искали вечный двигатель, вы нашли нечто лучшее — искусство вечно изумлять! Прощайте. Живите, то есть пишите. Вы всегда найдете во мне восторженного читателя».
Чувство восхищения трудом своего собрата выразил и Виктор Гюго. В письме с острова Джерси он сообщал: «Дорогой Дюма, читаю ваш журнал. Вы вернули нам Вольтера. Это огромное утешение для униженной Франции».
Надо было оправдывать доверие друзей, многочисленных подписчиков, и редактору «Монте-Кристо» приходилось постоянно искать материалы для выпусков популярного журнала. Дюма уже было собрался в очередное путешествие по Средиземному морю, с тем чтобы отразить увиденное в «Монте-Кристо», но «Господин великий случай» распорядился по-иному.
Проживал в 1858 году в Париже известный литератор, меценат Г. А. Кушелев-Безбородко. Именно он, поразительно общительный и радушный, пригласил жаждавшего посетить Россию писателя к себе в гости, а затем пообещал показать Петербург и любые другие русские горо¬
17
да, ведь при Александре И, возвратившем декабристов из Сибири, создались более благоприятные условия для такой поездки.
Давняя мечта прозаика осуществилась. Прибыв в Петербург 23 июня, он остановился у Кушелевых, здесь же свел знакомство с Д. В. Григоровичем, А. К. Толстым, Л. А. Меем. Григорович познакомил гостя с Н. А. Некрасовым и супругами Панаевыми.
Пребывание прославленного литератора в Петербурге — это не только визиты к друзьям и знакомым, посещение дворцов и музеев. Большую часть дня писатель проводил за письменным столом. Он обязан был вести размеренный трудовой образ жизни, чтобы сдержать слово, данное читателям «Монте-Кристо»,— еженедельно оповещать их о всех увиденных достопримечательностях России. Вот еще одно свидетельство И. И. Панаева о том, как был заполнен день именитого француза: «Деятельность, подвижность и энергия г. Дюма изумительны. В этом случае он не уступает никакому молодому человеку, несмотря на то, что ему 58 лет. Мы приехали в Ораниенбаум в 11 часов вечера — и в 12 часов он уже был с пером в руках за работой и писал до двух часов; от 7 до 11 утра он также работал, потом осматривал ораниенбаумские дворцы; после осмотра их он снова принялся за перо и писал до половины шестого, то есть до самого обеда. Г. Дюма хочет передать своим соотечественникам роман г. Лажечникова «Ледяной дом», с помощью одного из известных наших литераторов, и я уже видел первые полчасти этого романа, переведенные и написанные его рукой».
«Известный литератор» — не кто иной, как Дмитрий Васильевич Григорович, о котором Панаев отзывается с величайшим восхищением как о «лучшем путеводителе Петербурга, знатоке Эрмитажа и всех замечательных частных галерей Петербурга, одном из самых известных наших литераторов по таланту, по живости, по остроумию»*.
В первом же очерке, отправленном в Париж в редакцию «Монте-Кристо», Дюма, не мудрствуя лукаво, хотя и не столь изысканно и филигранно, как Теофиль Готье,
* Панаев И. И. Петербургская жизнь.— В кн.: Григоро - вич Д. В. Литературные воспоминания. Л., 1928, с. 491.
18
рассказал парижанам о поразившем его чуде — граде Петра. Французский гость был очарован видом Исаакиевско- го собора, да и другие соборы — Казанский, Троицкий— произвели на него сильное впечатление.
Проходя по набережной Невы, писатель с любопытством взглянул на Летний сад и на его знаменитую решетку, ведь ради одной этой решетки некий англичанин совершил путешествие в Петербург.
Продолжая свой путь через Троицкий мост, путешественник рассмотрел Петропавловскую крепость, колокольню собора, но особенно поразила его Нева: «Благодаря этой великолепной реке в немногих столицах есть такие грандиозные пейзажи, как в Санкт-Петербурге».
Понравился нашему гостю и Таврический дворец, словно «построенный руками волшебников».
В Петербурге Дюма провел полтора месяца, затем направился в Москву. Далее предпринял путешествие по Волге от Нижнего Новгорода до Астрахани, через Кизляр и Баку добрался до Кавказа и только в марте 1859 года возвратился во Францию.
Вот график поездки А. Дюма по России:
15 июня 1858 года — отъезд из Парижа; 16—18 июня —Берлин; 19 июня — Штеттин; 19—21 —из Штеттина в Кронштадт и Санкт-Петербург; 22 июня —3 августа— пребывание в Петербурге, поездка на Валаам, окрестности города; 4 августа — 18 сентября — прибытие в Москву, посещение Троице-Сергиевой лавры; 20—30 сентября — пребывание в Елпатьевске; 1 октября — Каля- зино; 3—6 октября — Нижний Новгород; 7 октября — Казань; 12 октября — Астрахань; 15—24 октября — Саратов, экскурсия к соленым озерам, Царицын; 25 октября— Астрахань: в гостях у князя Тюменя; 3 но¬
ября— отъезд на Кавказ; 6—7 ноября — Кизляр; 8—23 ноября — посещение Дербента и Баку; январь 1859 г.—Тифлис; 4—13 февраля — Поти; 16 февраля— Трапезунд; отъезд во Францию на пароходе «Сюлли»; 2 марта — прибытие в Марсель.
В результате поездки по России Александр Дюма создал обширный цикл очерков и исторических рассказов. По завершенности, образности, драматическому напряжению они напоминают главы-фельетоны, из которых составлялись знаменитые романы: «Три мушкетера», «Короле¬
19
ва Марго» и другие, которые тоже регулярно появлялись из номера в номер.
Книга о России создавалась на протяжении ряда лет. Вначале автор опубликовал в «Монте-Кристо» сорок три очерка. Публикация была завершена в апреле 1859 года. Этот состав глав-очерков уже в 1859 году появился в Саксонии под названием «Впечатления о путешествии по России». Тот же состав книги, но под названием «От Парижа до Астрахани», запрещенный, видимо, по дипломатическим соображениям, к публикации во Франции, был издан в Бельгии. Вслед за тем в 1860 году выходит третье издание «От Парижа до Астрахани», также далеко не полное. Автор, проживая в Неаполе, трудясь над «Историей итальянских Бурбонов», готовил одновременно материалы о посещении Валаама, Москвы, волжских городов. Только в 1861 году (в журнале «Constitutionnel», сентябрь— октябрь) были напечатаны по формуле «продолжение следует» ряд литературных этюдов, в том числе и глава впечатлений об Астрахани, но это еще не окончательный состав книги.
В марте — августе 1862 года вновь в «Монте-Кристо» продолжалась публикация следующих этюдов под общим названием «В Калмыкии»: «Армяне и татары в Калмыкии», «Праздник у князя Тюменя», «Продолжение праздника», «Дикие лошади», «Степи».
Полный текст книги «Путевые впечатления. В России» вышел в свет в четырех томах в издательстве Кальмана Леви в 1865 году. Это издание было дополнено довольно объемным исследованием «Письма о крепостном праве в России».
«Путевые впечатления» еще в прошлом веке были переведены на испанский, итальянский, немецкий языки, опубликованы в США.
Сравнительно недавно во Франции увидело свет новое издание этой книги под названием «Путешествие по России» (Dumas A. Voyage en Russie. P., 1960.) с предисловиями Андре Моруа и Жака Сюффеля.
II
«...Во время Ваших ночных бдений дайте себе труд прочесть то, чего Вы, вероятно, никогда еще не читали:
20
«Путешествие по России и Кавказу». Это чудесно! Вы проделаете три тысячи лье по стране и по ее истории, не переводя дыхания и не утомляясь...»
Александр Дюма-сын. Из письма к Жорж Санд от 19 апреля 1871 года.
Литературные этюды, относящиеся к различным периодам русской истории, а также те очерки, в которых была отражена повседневная жизнь городов и деревень, обрели различное стилистическое выражение. В «Путевых впечатлениях» каждому рассказу, очерку придана своеобразная тональность, соответствующая излагаемому сюжету. Так в прозе писателя создается сплав различных жанров: исторический сказ, легенда, картины семейной жизни, интимная драма. К тому же редактор «Монте-Кристо» заполняет страницы своего журнала письмами к друзьям, к сыну, переводами поэзии и прозы. При описании последних дней жизни А. С. Пушкина Дюма почти дословно переводит некоторые фрагменты из известного письма В. А. Жуковского к отцу поэта — С. Л. Пушкину.
Обширный цикл глав-очерков посвящен русской истории. Среди них: «Романовы», «Стрелецкий бунт», «Жена драбанта», «Петр I и Карл XII», «Царь и царица». Эти главы, получившие нумерацию при повторных изданиях «От Парижа до Астрахани», были включены в том первый «Путевых впечатлений». Во второй том вошли: «Заговор Палена», «Регентство Бирона», «Елизавета и Лесток», «Другая легенда московской Бастилии», «Меншиков», «Александр I», «Правая рука царя», «Северное общество», «Мученики», «Изгнанники». Все это составило целую панораму драматических и трагических событий, в которых отразилась 250-летняя история Российского государства.
В исторических очерках выделяются фигуры властителей— Ивана Грозного, Петра Великого, Павла I, Александра I, Николая I, Александра II.
Портреты царственных мужей в своеобразном очертании Дюма характеризуют не только их государственную значимость, но и дают представление о том, как вели себя венценосцы в обыденной жизни. Внимательно читая «Историю империи России времен Петра» Вольтера, беллетрист несомненно позаимствовал что-то из солидного
21
труда французского просветителя. Так, отголоски суждений Вольтера явно наличествуют в главах «Петр I и Карл XII», «Стрелецкий бунт». Но тем не менее автор «Путевых впечатлений» развенчивает методологию предшественника, исключавшего из портретов самодержцев черты их личной жизни. «Эта история содержит государственную жизнь царя, которая была полезной, а не его частную жизнь», заявлял Вольтер, не желая описывать «страшный эпизод» смерти царевича Алексея. Не одобряя и недоумевая, Дюма отвергает посылку историка: «Не надо,— говорит Вольтер,— рассказывать потомкам вещи, недостойные их». Но кто вам скажет, что их достойно, а что недостойно?! Верить, что потомки увидят вещи с вашей точки зрения—это крайняя гордыня.
Расскажите все, потомки сделают свой выбор.
Современные исследования, прекрасные работы Си- монда де Сисмонди, Огюстена Тьерри и Мишле показали нам историю совсем иначе, чем ее представляли в XVIII веке. Сегодня мы хотим прочесть не только о событиях какого-нибудь царствования, узнать не только о падении империи, но еще и о подоплеке этих событий, о причинах этих катастроф» («Романовы»).
И далее исторический обозреватель ничтоже сумня- шеся говорит о том, что он представит, и добрые и дурные деяния тиранов или пастырей народов, «и пусть те, кто уже держит ответ перед Богом, пославшим их на эту землю, договариваются с потомками как смогут» («Романовы»).
Не следует искать в книге точного изложения событий. Дюма никогда такой цели перед собой не ставил, а если бы и поставил, то не смог бы ее осуществить при свойственном ему динамичном методе труда, а главное, при той исторической концепции, которой придерживался.
Сопоставляя путевые очерки Виктора Гюго с работами Адольфа Тьера, наш автор отдает явное предпочтение книге Гюго «Рейн», заявляя, что господин Тьер «считался с историей меньше всех остальных историков. Какими замечательными историками стали бы поэты, пожелай они сделаться учеными». Доказательством тому А. Ламартин и его «История жирондистов», имевшая огромный успех во Франции. Успех, по мнению Дюма, был предопределен тем обстоятельством, что поэт в своем сочинении не
22
только представил реальные факты французской революции, но и применил принципы романного искусства, стал «настоящим писателем-романистом».
Андре Моруа уточнил правомерность этого творческого метода: «Нельзя сказать, что Дюма поднял роман до уровня истории — этого не хотел бы ни он сам, ни его читатели,—но он вывел на народную сцену историю и роман, воплотив их в незыблемых образах, сделал достоянием самой широкой публики, которая только и является настоящей публикой, и под лучами его прожекторов история и роман зажили новой жизнью, к великой радости всех времен и народов»*.
Итак, художник-романтик обрисовал силуэты венценосцев самодержавного государства в присущей его творческой манере технике контрастов, но с той долей объективности, которая отложилась в сознании путешественника, внимательно изучавшего русскую историографию и работы французских историков, посвященные России. Не следует забывать, что непревзойденный классический труд H. М. Карамзина «История государства Российского» получил широкое отражение в сочинениях французских ученых, и это опосредованно сказалось на «Путевых впечатлениях». В частности, очерки об Иоанне Грозном, Бироне, Меншикове, Екатерине II составляют в некотором роде параллель к историческому материалу, изложенному H. М. Карамзиным либо пересказанному другими русскими учеными. В многотомном издании «Мои мемуары» (1852) Дюма признавал, что «основные сведения о главных событиях русской империи» он извлек из творений H. М. Карамзина, притом выражал сожаление о том, что великий историк не довел свое исследование до XIX века**, о котором идет речь у французского писателя.
Важное значение для труда над задуманной книгой о России приобрело и публицистическое сочинение Жюля Мишле — «Польша и Россия», впервые опубликованное в 1854 году, в затем включенное в однотомник «Северные демократические легенды»***. Ряд мотивов из этого издания перекочевал в некоторые эпизоды, изложенные Дю¬
* Моруа А. Три Дюма. М., 1962, с. 214.
^** Dumas A. Mes mémoires. T. IV. P., 1852, p, 177.
*** Michelet J. Légendes démocratiques du Nord. P., p. 46.
23
ма; в частности, сцена допроса декабристов императором Николаем I приведена и в книге Жюля Мишле.
Естественно, эти исторические мотивы и образы воспроизводились Дюма в его манере: с изрядной долей фантазии, вымысла, беллетризации — правомерными художественными средствами романиста историко-приключенческого жанра. К тому же автор «Королевы Марго» поучал: «История завещала нам факты, они наши по праву наследования, они неопровержимы, они принадлежат поэту: он поднимает из могил людей прошлого, одевает их в разнообразные одежды, наделяет свойственными им страстями, усиливая или ослабляя накал этих страстей в зависимости от желательной ему степени драматизма».
Взгляд на историю у автора «Трех мушкетеров» можно сопоставить с известным суждением Ф. М. Достоевского, который утверждал: «Верностью поэтической правде несравненно более можно передать об истории нашей, чем верностью только истории».
Несомненен дух историзма во многих исполненных драматизма картинах и эпизодах, представленных французским романтиком.
Об Александре Дюма нельзя сказать то, что Герцен сказал об авторе «Николаевской России» — Астольфе де Кюстине: «Взгляд его оскорбительно много видит». Страницы «Путевых впечатлений» в большинстве своем проникнуты чувством душевного уважения к людям, о которых Дюма стремился дать представление французскому обществу. Вот в главе «Петр I и Карл XII» перед нами предстают знаменитые государи Швеции и России перед Полтавской битвой 8 июля 1709 года:
«Первый раздавал государства, венчал и свергал королей; второй с большим трудом сделался императором и начинал приобщать свою империю к цивилизации.
Один — любитель опасности ради опасности, обладающий львиной храбростью, сражающийся ради удовольствия, второй — осторожный политик, сражающийся только в интересах своего народа... Если бы был убит Петр I, то погиб бы не только человек, но и цивилизация, империя потерпела бы крушение».
Совсем иное отношение выразил наш гость к царствованию Иоанна IV, обличив в этюде «Иван Грозный» безумие, кошмар злодеяний, совершенных лютым деспотом; а в очерке «Александр I» для характеристики личности
24
Николая I Дюма привел автограф императора, выставленный в Эрмитаже на видном месте и датированный 17 марта 1808 года: «Царь Иоанн Васильевич был строг и буен, из-за чего его и прозвали «Грозным». Но при этом он был справедлив, храбр, щедр к своим подданным и стране принес особое благополучие и процветание. Николай».
В очерках «Заговор Палена», «Александр I», прежде чем поведать читателям «Монте-Кристо» о деятельности декабристов, Александр Дюма, как романист исторического жанра, передает колорит александровской эпохи, выявляет приметы времени, уродливые стороны крепостнического строя.
Чтобы охарактеризовать миросозерцание Александра I, французский писатель цитирует письмо будущего императора к другу, русскому послу в Константинополе В. П. Кочубею от 10 мая 1796 года. В этом письме цесаревич сознавался, что не рожден для высокого сана, который предопределен ему в будущем и от которого он дал себе клятву отказаться под тем или иным предлогом. Наследник престола критически отзывался о состоянии страны и доказывал, что даже выдающийся ум не может один успешно управлять такой огромной державой, как Россия.
«Мне представляется, — пишет Александр,—что по всей империи порядок изгнан раз и навсегда, крайне плачевно состояние государственных дел, повсеместное грабительство, губернии плохо управляемы».
Далее, осуждая всю придворную знать, великий князь откровенно признается, что страдает на приемах, когда видит, как унижаются высокопоставленные чиновники, чтобы добиться внимания какого-нибудь вельможи, за которого* «он не дал бы и трех грошей».
Но вслед за тем «путешественник по русской истории» подчеркивает контраст между либеральными декларациями Александра I и деспотическим характером его правления. С одной стороны, он обещал выработать конституцию, а с другой — наделил всей полнотой власти Аракчеева.
В очерке «Правая рука царя» Дюма рассказал об Аракчееве, о том, какой это был свирепый человек, о созданных им военных поселениях, где солдаты терпели всяческие унижения, непрерывную муштру. Этот сановник не считался с авторитетом даже заслуженных генералов.
25
Герой Бородинского сражения генерал Ермолов, которого декабристы предполагали ввести в состав Временного правительства, попытался возражать Аракчееву и был подвергнут опале, на чем едва не закончилась его карьера. Писатель недоумевает, как могло произойти, что во имя блажи временщика чуть не пожертвовали Ермоловым, одержавшим победу над маршалом Коленкуром, Ермоловым, захватившим главный редут Бородинского поля. А могло это произойти потому, что Александр I всецело перешел на охранительные позиции — волна революций, прокатившаяся в европейских странах, напугала императора, и Аракчеев стал «его правой рукой». Именно при Александре I была запрещена легальная деятельность масонских лож и других союзов, преследовавших цель нравственного воспитания людей. Тогда возникли тайные организации революционеров — Южное общество, во главе с Пестелем, и Северное, руководимое вначале Никитой Муравьевым, а затем Рылеевым.
Дюма, фиксируя различные направления правительственного курса, решительно осуждал реакционные мероприятия, связанные с внешней политикой Александра I, и рассматривал Священный союз как «Союз монархов против народов».
Совсем с другим чувством описывал он деятельность русских революционеров.
Она нашла отражение в творчестве поэтов и писателей ряда стран —к декабристам обращались Мицкевич и Словацкий в Польше, Шамиссо в Германии, Стендаль, де Виньи, Гюго во Франции — таков далеко не полный перечень известных имен, в той или иной мере запечатлевших героическую борьбу демократов, посягнувших на основы монархического государства.
Александр Дюма, опубликовав несколько романов на сюжеты национальной истории, уже в ранний период творчества проявил интерес к России. В 1840 году он издал «Записки учителя фехтования, или Полтора года в Санкт-Петербурге». Свод суждений, образы этого романа тематически связаны с очерками «Северное общество», «Мученики», «Изгнанники», «Нижний Новгород», вошедшими в наше издание.
Читателю предстоит встреча с декабристами в ряде глав настоящей книги, и, быть может, в знак внимания к тому, кто вдохновил Дюма написать этот роман — а
26
именно к Огюстену Гризье,— следует сказать о нем несколько слов. Огюстен Гризье — преподаватель фехтования в петербургском Высшем военно-инженерном училище— был знаком со многими декабристами, находился в дружеских отношениях с И. А. Анненковым, А. Н. Муравьевым, С. П. Трубецким. Будучи человеком гуманным, француз не одобрял произвола судебных властей. В присутствии одного из членов царской семьи он открыто высказался против ссылки участников восстания в Сибирь.
Возвратившись во Францию, Гризье основал в Париже школу фехтования, преподавал в столичных учебных заведениях и в 1847 году опубликовал большой труд «Фехтование и дуэль». В этой книге среди учеников французского преподавателя назван и А. С. Пушкин.
Гризье любил общество литераторов и художников. Его парижский дом стал литературным салоном, где бывали Александр Дюма, Эжен Сю, Жюль Жанен, живописец Орас Верне, поэт-романтик Эмиль Дешан.
По словам самого Дюма, он получил от Гризье рукопись под названием «Записки учителя фехтования, или Полтора года в Санкт-Петербурге».
О том, что французское издание «Учителя фехтования» было знакомо декабристам, свидетельствует письмо И. И. Пущина к Н. Д. Фонвизиной (от 23 апреля 1841 г., г. Туринск)*.
Русский перевод романа появился липи* в 1925 году, в Ленинграде, к столетию со дня восстания декабристов.
Несомненно, «Записки» Гризье были одним из важных, но не единственным источником этой книги для воссоздания колорита эпохи. Дюма использовал и другие исторические материалы. При оценке «Учителя фехтования» и, в частности, степени его исторической правдивости следует учитывать ряд обстоятельств. Прежде всего мы не вправе забывать, что Александр Дюма одним из первых написал роман о русских революционерах, причем в эпоху, когда тенденциозная ложь придворных историков выдавалась за научно-достоверное истолкование событий истории России.
* Пущин И. И. Записки о Пушкине. Письма. М., 1988,
с. 162-163.
27
Известный литературовед С. Дурылин весьма объективно и содержательно охарактеризовал значение книги французского писателя: «Роман Дюма был повествованием о декабристе, основанном не на вымысле, а на исторической правде, и повествованию этому, вышедшему из-под пера популярнейшего писателя современности, был обеспечен успех и внимание широкого европейского читателя. Для Николая I это не могло не быть весьма неприятным сюрпризом. Роман Дюма привлекал внимание— и сочувственное внимание — широкой европейской аудитории к людям, самое имя которых для Николая I было ненавистно. Присуждая декабристов к каторжному молчанию сибирских пустынь, Николай хотел казнить их жестокой казнью полного забвения. Дюма своим романом отменял этот приговор для одного из декабристов и тем самым привлекал внимание к судьбе всех остальных. Эти остальные героическими тенями проходят в романе»*. И действительно, стоит прочесть описание событий, происходивших 14 декабря на Сенатской площади, и можно убедиться, что Дюма всецело на стороне храбрых солдат и офицеров, принявших участие в памятном восстании.
Лекоторые мотивы и образы «Учителя фехтования» будут развиты и художественно обогащены в таких главах, как «Фавориты Павла Первого», «Заговор Палена», «Екатерина Великая». Но особенного внимания заслуживает очерк «Нижний Новгород», в котором двадцать лет спустя вновь возникают главные герои «Учителя фехтования».
Это —Иван Александрович Анненков и француженка Полина Гебль, принявшая имя Прасковьи Егоровны Анненковой, запечатлевшая пребывание на каторге в книге воспоминаний.
В Сибири Прасковья Егоровна и Иван Александрович прожили тридцать лет. В 1854 году их навестил находившийся в ссылке Ф. М. Достоевский, хорошо знавший, сколько вытерпели они горя. Несколько позднее он писал В. И. Анненковой: «Я всегда буду помнить, что с самого прибытия моего в Сибирь Вы и все превосходное семейство Ваше брали во мне и в товарищах моих по несча¬
* Дурылин С. Александр Дюма-отец и Россия.—В кн.: Литературное наследство. М., 1937, N3 31-32, с. 513.
28
стью полное и искреннее участие. Я не могу вспомнить об этом без особенного, утешительного чувства и, кажется, никогда не забуду»*.
В 1856 году декабрист с супругой переехали на постоянное жительство в Нижний Новгород. Здесь Анненков служил в губернском управлении, состоял членом комитета по улучшению быта крестьян, был избран почетным мировым судьей, принимал деятельное участие в проведении крестьянской реформы.
Романист посвятил свое раннее произведение реальным лицам, которых лично не знал. Каковы же были его изумление и радость, когда через двадцать лет он встретил воочию героев «Учителя фехтования»!
Как же это произошло?
В Нижнем Новгороде Дюма ждал декабрист Александр Иванович Муравьев (1792—1863), ставший после возвращения из ссылки (1856) городским главой (до 1861). Муравьев устроил в честь гостя прием, заранее предупредив, что готовится сюрприз. Прибыв в 10 часов вечера в губернаторский дом, наш путешественник среди гостей увидел княгиню Шаховскую и сына H. М. Карамзина.
Вот что пишет Дюма об этой ошеломительной встрече с реальными лицами, художественные образы которых были воссозданы им двадцать лет тому назад.
«Как только я занял свое место в кружке, невольно думая о сюрпризе, который, по словам генерала, должен был быть приятным, как дверь отворилась и объявили:
— Граф и графиня Анненковы**.
Я встал, трепеща от неясных воспоминаний.
Генерал взял меня за руку и подвел к вновь прибывшим.
— Господин Александр Дюма.
Затем, обратившись ко мне:
* Цит. по кн.: Анненкова П. Е. Воспоминания. Красноярск, 1977,+ с. 26.
Анненков Иван Александрович, служивший с 1839 года в'Сибири по гражданской части, был восстановлен в правах по манифесту 26 августа 1856 года и, по ходатайству Муравьева А. Н., в 1857 году был назначен состоять при нем чиновником особых поручений. Анненков пробыл в этой должности до 1861 года, когда был избран нижегородским уездным предводителем дворянства. Графом Иван Александрович никогда не был.
29
— Граф и графиня Анненковы, герой и героиня вашего романа «Учитель фехтования».
Я вскрикнул от удивления и очутился в объятиях мужа и жены.
Это были те Алексей и Полина, приключения которых мне рассказал Гризье и о которых я написал роман».
«Самое большое счастье за время этого путешествия,— замечает А. Моруа,— доставило Дюма открытие, что образованные русские знают Ламартина, Виктора Гюго, Бальзака, Мюссе, Жорж Санд и его самого так же хорошо, как парижане. В Финляндии он встретил игуменью, которая зачитывалась «Монте-Кристо».
Писатель гордился таким явным свидетельством всемирной славы — и своей, и своих соотечественников,—но его щедрой натуре, отзывчивой и впечатлительной, был чужд высокомерный шовинизм де Кюстина, который считал, что «самый воздух этой страны враждебен искусству».
Редактор «Монте-Кристо», напротив, проявил живейший интерес к русской литературе, тогда еще мало известной в Европе.
Большая заслуга Дюма как раз и состояла в том, что он познакомил французского читателя с поэтами и прозаиками России и тем самым содействовал сближению культур, упрочению дружеских связей двух народов. Не зная русского языка, по подстрочнику беллетрист создал поэтические переводы из Пушкина, Рылеева, Лермонтова, Полежаева, Некрасова; он также перевел ряд повестей Бестужева (Марлинского), «Ледяной дом» Лажечникова.
Привлекали его и биографии поэтов, чей жизненный путь был отмечен высоким трагизмом.
«Ужасная, черная судьба выпадает у нас на долю всякого, кто осмелится поднять голову выше уровня, начертанного императорским скипетром; поэт ли, гражданин, мыслитель — всех их неумолимый рок толкает в могилу. История нашей литературы — или мартиролог, или реестр каторги. Даже те, которых правительство пощадило, едва распустившись, погибают, спеша покинуть жизнь» — так говорил Герцен.
В этом смысле судьба Рылеева не имеет себе равных.
Представив Кондратия Федоровича своим соотечественникам в качестве «политического вождя» восстания
30
14 декабря, автор включил в книгу «Впечатлений» известные шедевры гражданской лирики из поэм «Войнаровс- кий» и «Наливайко», подвергнутых в России строжайшему запрету.
В очерке «Мученики», отдав должное революционному поэту, восставшему против ‘«утеснителей народа», Дюма и в других сказах развивает некоторые тираноборческие мотивы Рылеева. Так, стихи из сатиры «К временщику»:
Надменный временщик, и подлый и коварный,
Монарха хитрый льстец и друг неблагодарный,
Неистовый тиран родной страны своей,
Взнесенный в важный сан пронырствами злодей! —
напрашиваются на сопоставление с повествованием «Правая рука царя», где очерчен реальный образ Аракчеева — «злого гения» России.
Пушкину, «солнцу русской поэзии», Дюма посвящает отдельный рассказ, а в других главах цитирует образцы его лирики. «Обращает на себя внимание,— пишет академик М. П. Алексеев по поводу перевода «Во глубине сибирских руд»,—то, что Дюма в лирике Пушкина в особенности привлекают свободолюбивые стихотворения и, в частности, такие, какие еще не были известны в русской печати и обращались в рукописных списках; тексты подобных списков предоставлялись Дюма его русскими переводчиками, например, Д. В. Григоровичем»*.
Объективно рассматривая переводческий труд Дюма, представившего читателям Франции шедевры русской прозы и поэзии, при всех огрехах, в которых сам переводчик признавался, все же следует признать огромную значимость этого рода деятельности великого романиста. Будем помнить, что стихи А. С. Пушкина «Во глубине сибирских руд» впервые обрели печатную форму во Франции. Е. Ростопчина сообщает Дюма в письме от 30 октября 1858 года: «Вот вам на десерт стихотворение Пушкина, которое не было и нигде не сможет быть напечатано на русском языке: придя однажды в дом друга, он узнал, что там пишется письмо к изгнанникам в Сибирь, к тем, кого мы зовем декабристами: он взял перо и экспромтом написал следующие стихи: «К изгнанникам»**.
+* Алексеев М. П. Пушкин. Л., 1972, с. 415
Ростопчина Е. Стихотворения. Проза. Письма. М., 1986,
с. 384.
31
Французский писатель опубликовал в своем переводе и ряд поэтических произведений М. Ю. Лермонтова, в том числе «Демон» и «Утес».
Любопытна встреча царя и поэта, как ее изобразил Дюма:
«Лермонтов служил в гвардии, когда написал свои первые стихи. Император вызвал его к себе.
— Мне докладывали, сударь, что вы пишете стихи?
— В самом деле, Ваше Величество, иногда случается.
— На это есть особые лица, милостивый государь. Моим офицерам незачем заниматься поэзией. Вы поедете воевать на Кавказ — это дело более вас достойно.
Лермонтов только об этом и мечтал. Он поклонился, уехал на Кавказ и там, глядя на величественную горную гряду, где был прикован Прометей, написал свои лучшие стихи».
Импровизируя диалог царя и поэта, Дюма придерживался реальных фактов из жизни поэта, о которых узнал от той же графини Ростопчиной, подготовившей подстрочник «Послания в Сибирь».
Определяя место Лермонтова в русской литературе, Дюма говорит: «После Пушкина он первый поэт России. Сосланный на Кавказ за стихи, написанные после смерти Пушкина, убитого на дуэли, он и сам погиб здесь на поединке».
Написанная Е. П. Ростопчиной биография поэта была переведена Дюма на французский и включена в книгу «Кавказ».
Характеризуя в кратких словах творения Лермонтова, издатель «Монте-Кристо» сообщал: «Теперь дадим читателю представление об одаренности человека, физический и нравственный портрет которого начертало живописное перо бедной графини Ростопчиной... Мы не будем долго выбирать, а просто возьмем наудачу из стихотворений Лермонтова некоторые, сожалея, что не можем познакомить наших читателей с его крупной поэмой «Демон», как познакомили их с его лучшим романом «Печорин», но гений его проявляется везде, и он может быть оценен лучше благодаря переменчивости, которой он может подвергнуться, и формам, которые он может принять.
Вот стихотворение «Дума»: «Печально я гляжу на наше поколенье...» Это плач, где, Лермонтов, может быть,
32
весьма мизантропически оценивает поколение, к которому принадлежит сам.
Оставьте в стороне слабость перевода и увидите, что Байрон и де Мюссе не написали ничего более горького».
В той же книге «Кавказ» французский писатель уделил внимание Бестужеву-Марлинскому, вначале приговоренному к пятнадцати годам каторжных работ в Якутске, а затем служившему солдатом в действующей армии на Кавказе.
Александр Александрович стал в те годы признанным писателем, его романтические повести, изображенные в них герои, исполненные неистовых страстей, вызывали восхищение читателей. Некоторые его вещи хвалил Белинский. Николай I не дорожил талантом известного прозаика и поэта, некогда написавшего вместе с Рылеевым агитационные песни; Бестужев был вынужден нести тяжелую солдатскую службу и 7 июня 1837 года погиб в сражении на мысе Адлер.
Дюма не остался равнодушным к судьбе талантливого декабриста. На страницах «Монте-Кристо» появились повести Марлинского «Аммалат-Бек», «У кавказской стены».
А что произошло с Полежаевым, автором сатирической поэмы «Сашка», после того как Николай I вызвал поэта к себе во дворец?
В «Былом и думах» А. И. Герцен изобразил эту известную встречу: «Полежаева позвали в кабинет. Государь стоял, опершись на бюро, и говорил с Ливеном. Он бросил на вошедшего испытывающий и злой взгляд, в руке у него была тетрадь.
— Ты ли,— спросил он,—сочинил эти стихи?
— Я,— отвечал Полежаев.
— Читай эту тетрадь вслух,— прибавил он, обращаясь снова к Полежаеву.
Волнение Полежаева было так сильно, что он не мог читать. Взгляд Николая неподвижно остановился на нем. Я знаю этот взгляд и ни одного не знаю страшнее, безнадежнее этого серо-бесцветного, холодното,_.оловянного взгляда.
— Я не могу,— сказал Полежаев.
— Читай! — закричал высочайший фельдфебель»*.
* Герцен А. И. Собрание сочинений, т. VIII. М., 1956,
с. 165-166.
2. А. Дюма. т. 1
33
Вслед за тем по повелению императора попавший в опалу стихотворец был отдан в солдаты.
«В России это делается очень быстро,— замечает Дюма,— Полежаева отвели в полицейский участок, посадили на табурет, обрили голову, ударили в лоб, надели серую шинель, и все было кончено». Но прежде чем покинуть пересыльную тьюрьму, поэт успел написать стихи:
О ты, который возведен Погибшей вольности на трон Иль, просто говоря,
Особа русского царя,
Поймешь ли ты, как мудрено Сказать в душе: все решено!
Как тяжело сказать уму:
«Прости мой ум, иди во тьму».
И как легко черкнуть перу:
«Царь Николай. Быть посему!»
Дюма точно передал средствами французской поэтической речи высокую и благородную мысль этого стихотворения, а вот повеление «Быть посему!» включил в строфу на русском языке.
III
«Я не из тех путешественников, которые высказывают притворный восторг, любуются тем, чем проводник рекомендует им любоваться, и делают вид, оудто испытали при виде людей и зданий, которыми принято восхищаться, чувство, на самом деле отсутствующее в их сердце. Нет, я перебрал, продумал свои впечатления и описал их для тех, кто прочтет эти строки; быть может, сделано это плохо, но я не описывал ничего такого, чего бы не пережил».
А. Дюма
Конечно, автор популярнейших исторических романов не мог пройти мимо богатого драматического материала, какой предоставила ему история России — и древняя и современная. Дюма вступал под своды палат, которые помнили московских государей, входил в домик Петра I, хранящий следы обыденной жизни великого ре¬
34
форматора, глядел на Петропавловскую крепость, овеянную и множеством мрачных легенд. Это оживляло факты, почерпнутые из исторических трудов, превращало их в образы, исполненные жизни. Надо признать, что знаменитый беллетрист, при его богатейшем воображении и умении работать с источниками, нарисовал картины, столь же яркие и не менее достоверные, как и в ряде глав «Учителя фехтования».
Нельзя согласиться с С. Дурылиным, утверждавшим, что «Дюма любит описывать, как люди едят и пьют, его мало интересует их экономический быт, их правовой уклад. До Дюма словно не доносится ни одного всплеска, ни одной волны из огромного народного моря, глухо шумящего повсюду на его пути. Крепостной крестьянин, городской ремесленник, волжский бурлак, простой солдат, далее: чиновник, учитель, студент, профессор,— их нет на размашистых страницах, словно их не было в русской жизни»*.
В журнальных публикациях основателя «Монте-Кри- сто» приведено немало фактов, характеризующих нестерпимый гнет, дикий произвол помещиков, бремя оброка— все то, что приходилось претерпевать российскому крестьянству накануне «освобождения сорока миллионов рабов». Проводя аналогию между Россией и Францией, писатель сожалеет, что в России на протяжении последних трех веков не произошло радикального изменения форм государственного устройства, после которого «были бы разорваны последние цепи рабства и отменены последние привилегии дворянства».
Узнать в России истину о том, чем живет крестьянская деревня, было не так-то легко.
С. Дурылин справедливо замечает: «Прервать это историческое путешествие Дюма было не во власти русского правительства: оно совершалось в Париже, на страницах «Монте-Кристо». Правительство Александра II понимало, что времена Николая I отошли в вечность, поэтому оно не прервало и географического путешествия Дюма и даже не вставляло палок в колеса его экипажа, направлявшегося из Петербурга в Москву, в Нижний Новгород, в Астрахань и Тифлис. Но правительство ни на минуту не
* Дурылин С. Александр Дюма и Россия. Литературное наследство, т. 31-32. М., 1937, с. 531.
35
упускало путешественника Дюма из-под контроля и учредило над ним тайный полицейский надзор, настолько секретный, что сам Дюма никогда не узнал о нем, как не узнали этого и все биографы писателя».
Почти в каждый город направлялись приказы полицейского управления оо установлении надзора за поведением прибывшего французского гостя. Так, на имя шефа жандармов генерал-адъютанта Долгорукова было направлено послание:
«Имею честь почтительнейше донести Вашему сиятельству, что известный писатель Александр Дюма-отец, пробыв в ПереяславскомЗалесском уезде, в имении тамошнего помещика Дмитрия Павловича Нарышкина, в селе Елпатьеве, несколько дней, отправился с ним вместе в Нижний Новгород, о чем сообщено мною тамошнему штаб-офицеру; во время пребывания его во Владимирской губернии ничего предосудительного за ним не замечено. Полковник Богданов (штаб-офицер корпуса жандармов во Владимирской губернии)».
Однако Дюма, общительнейшего человека, жадного наблюдателя, вдумчивого историка, не так-то легко было ввести в заблуждение.
Многие его описания основаны на печатных источниках, указах, отчетах о судебных процессах, повестях русских писателей, устных рассказах. Исключительно богатый материал предоставил Григорович, изобразивший в своих произведениях целую галерею крестьян-«горе- мык». Не без его помощи Дюма удалось проникнуть в одну из тюрем Петербурга, поговорить там с обреченными на каторжные работы и в беллетристической форме воссоздать образы «без вины виноватых» («Каторжники»).
Знакомясь с запечатленными сценами, рисующими быт, нравы, общественное устройство страны, непредубежденный читатель не обнаружит в лице путешественника бесстрастного наблюдателя, человека, добру и злу внимавшего равнодушно. Нет! Это была удивительно отзывчивая натура. Посещая петербургские тюрьмы, он глубоко сочувствовал безвинно осужденным на каторгу крестьянам, а очерчивая силуэты декабристов, с болью в душе переживал их трагическую участь.
Не испытывал наш гость и равнодушия, когда раскрывал тайну каземата Петропавловской крепости, в котором
36
долгие, долгие годы томился одинокий согбенный узник («Легенда о Петербургской крепости»).
В живописных полотнах французского романтика, овеянных душевной теплотой, представала Русь и «великая и убогая».
В мире образов, общественных явлений, изображенных на страницах «Путевых впечатлений», «убожество» обличено и отвергнуто, «Величие» воспето.
Уезжая из России, великий француз не скрывал своих мыслей и искренних желаний. Вот что он хотел бы услышать из уст Александра II:
«Народ мой! В предыдущие царствования и господа и крестьяне были рабами. Моим предшественникам требовались тюрьмы. Мне это не нужно. В мое царствование все свободны — и господа и крестьяне!» Тогда, Ваше Величество, вы услышали бы возгласы не просто радости, но восторга; они раздались бы на берегах Невы и имели бы отклик во всех четырех сторонах света».
Тем не менее уже первые «русские» публикации в «Монте-Кристо» вызвали серьезное недовольство императора и правительственных кругов.
В письме к жене (6 августа 1858 г.) великий поэт и в то же время председатель Комитета цензуры иностранной Ф. И. Тютчев сообщал: «Я грубо прерван приходом курьера, посланного ко мне министром Ковалевским* с очень спешным письмом, в котором он просит меня убедиться, наш ли цензурный комитет пропустил некий номер журнала, издаваемого Дюма и называемого «Монте-Кристо» **.
Как раз я вчера узнал случайно в Петергофе от княгини Салтыковой* * о существовании этого номера, содержащего, по-видимому, довольно нескромные подробности о русском дворе, так что добрейшая княгиня, очень
* Ковалевский Евграф Петрович (1790—1886) — с 23 марта 1858 года по 21 июня 1861 года был министром народного просвещения, в ведении которого находилась цензура.
До тревоги, поднятой Александром II, по поводу писем А. Дюма о Павле I, «Монте-Кристо» был по мнению Комитета цензуры иностранной журналом благонадежным.
Салтыкова Е. В. (родилась в 1791 г.) — гофмейстерина при Дворе Александра И.
37
наслаждавшаяся их чтением, не могла скрыть от меня своего удивления, что подобные вещи допускаются в печати. К счастью, наш бедный комитет неповинен в столь преступной снисходительности, по крайней мере как целый комитет, и надо полагать, что один из цензоров, на свою личную ответственность, пропустил этот злополучный номер. Пока, так как мы по высочайшему повелению будем делать расследование, что сильно затруднено тем, что сегодня праздник, ты можешь себе представить, в какую лужу мы сели, и потому моя голова недостаточно свободна, чтобы написать такое пространное письмо, как я хотел»*.
Это вызвало соответствующую реакцию в прессе.
Вот какую заметку опубликовали «Санкт-Петербургские ведомости» (1859, 11 января) в связи с пребыванием в России Теофиля Готье и Александра Дюма:
«...Для народов существуют общие характеристики; французов называют ветрениками, англичан — себялюбивыми, русских — терпеливыми и т. д., но, Боже мой, сколько каждый из нас встречал глубокомысленных французов, самоотверженных англичан и крайне нетерпеливых русских... Это отступление внушено нам двумя французскими писателями, из которых один недавно гостил в Петербурге, а другой и до сих пор живет среди нас, гг. Александр Дюма и Теофиль Готье. Оба они французы, оба писатели, оба, приехав к нам, не знали ни России, ни русских, оба пишут и о русских, и о России, а какая огромная между ними разница! Один нашумел, накричал, написал о нас чуть не целые тома, в которых исказил нашу историю, осмеял гостеприимство, наговорил на нас с три короба самых невероятных небылиц; другой приехал без шума, живет скромно, более нежели скромно, знакомится с нами исподволь и пишет только
э|сэйс
о том, что успел изучить основательно...»
Действительно, запечатленные французскими писателями картины резко отличались по манере письма, по избранным объектам, по характерам суждений, так же как отличается роман Готье «Капитан Фракасс» от «Трех муш¬
* Цит. по статье: Дурылин С. Александр Дюма-отец и Россия. Литературное наследство. М., 1937, с. 528.
* Цит. по кн.: Готье Т. Путешествие в Россию. М., 1988, с. 15.
38
кетеров» Дюма, от «Шуанов» Бальзака. Иначе и быть не могло.
К тому же мы не вправе забывать о целях, которые ставили перед собой Готье и Дюма, направляясь в Россию.
Выдающийся поэт-романтик, Готье был еще и уче- ным-искусствоведом, автором книг «Изящные искусства в Европе», «Современное искусство», «История драматического искусства во Франции за последние двадцать пять лет» (1858—1859). Он приехал в Россию для того, чтобы собрать сведения и иллюстративный материал для серии альбомов «Художественные сокровища древней и новой России».
Научная цель поездки, предпринятой поэтом, во многом определила содержание его подлинного шедевра в жанре путешествий. Конечно же, после сверкающего, озаренного всеми цветами радуги стиля поэта Готье поток речений Дюма, проникнутых вольной манерой сказа, добродушным юмором, может показаться несколько необузданным. Самодеянный летописец не мог переделать себя, изменить Богом данному ему дару — дару злато- уста-рассказчика.
И все же для современного читателя более существенно суждение наших современников, обладающих исторической дистанцией, нежели информативная, на злобу дня, заметка давних «Санкт-Петербургских ведомостей».
Вот что говорит автор вступительной статьи к книге Теофиля Готье «Путешествие в Россию» А. Михайлов: «Иной предстала Россия в многословных и во многом недостоверных описаниях Дюма-отца. Его книга «Из Парижа в Астрахань» (1858) была, однако, пронизана искренней симпатией к России. Это следовало бы подчеркнуть, ведь книга появилась вскоре после окончания Крымской войны, когда во Франции еще не улеглись антирусские настроения»*.
Несомненно, в этом многотомном повествовании обнаруживаются многие несуразности, различного рода ошибки в хронологии и географии, названии имен и местностей. Все это так. Наша справочная литература, исторические исследования помогут установить истинный
* Готье Т. Путешествие в Россию, с. 12.
39
ход событий, которым автор дал личное истолкование. Мы не вправе забывать, что книгу создавал художник-романтик, иностранец. Но определяющий в этом смысле фактор —труды как русских ученых, так и зарубежных, свидетельства известных деятелей литературы.
Современные исследователи отвергли небрежный нигилизм журналиста «Петербургских ведомостей». Подготовляя к изданию сочинения Дюма, они проявили должную меру объективного критицизма: не умаляя погрешностей исторического сказа, вместе с тем отметили, что в описаниях любознательного француза много жизненной правды, истинно реальных картин, отражавших нравы, культуру, устройство быта знатных и незнатных людей России.
Впрочем^ вы и сами можете убедиться в наблюдательности великого прозаика, прочитав рассказ об отшельнике из Переяславля и совершив прогулку по улицам и набережным Петербурга. Правда, иной усомнится, впадет в недоумение, когда не обнаружит старинную церковь, расположенную поодаль домика Петра, о которой упоминает французский путешественник. Не спешите осуждать в очередной раз очеркиста. Он, словно топограф, представил вам правый берег Невы, где расположена Петропавловская крепость, домик Петра и «старая петербургская церковь».
Дело объясняется очень просто. В июне 1858 года Дюма, пройдя пешком через Троицкий мост, повернул направо в сторону Троицкой площади, где стояла деревянная Троицкая церковь. Она сгорела в конце XIX века.
Любой читатель, посетив домик Петра, сможет убедиться, насколько точно очертил Дюма этот мемориал и насколько он был проницателен, сказав: «Есть нечто глубоко трогательное в том, как русские оберегают каждый предмет, который может засвидетельствовать потомкам гениальность основателя империи. В этом благоговении к прошлому — великое будущее».
Теперь последуем за странствующим французом и послушаем, что он поведает о Петропавловской крепости, блистательно запечатленной в цитированном очерке:
«Петропавловская крепость — это Бастилия Санкт-Петербурга; как и Бастилия Сент-Антуанского предместья, она прежде всего держала в заточении мысль. Ужасной
40
историей была бы летопись этой крепости. Все она слышала, всякое повидала, только еще ничего не раскрыла.
Настанет день —и она разверзнет свое чрево, как Бастилия, и устрашит глубиной, сыростью и мглою своих темниц; настанет день — и она заговорит, как замок Иф. В этот день Россия обретет Историю; пока у нее есть только легенды».
Можно сослаться и на критический отзыв ученого Н. Эйдельмана об очерке «Мученики».
«Казалось бы, что нового может сказать о русском движении французский беллетрист? Оказывается, может. Дело в том, что во время путешествия по России и в переписке с русскими литераторами он много спрашивал и многое узнал. Не так давно академик М. П. Алексеев опубликовал интересный вариант пушкинского послания в Сибирь. Французский писатель получил этот вариант из России примерно в то время, когда писался данный очерк.
«Мученики» тоже содержат немало живых, интересных подробностей, в том числе личные воспоминания автора о встрече с отцом декабристов Иваном Муравье- вым-Апостолом. В очерке есть ряд ошибок и неточностей (неверно представлен возраст некоторых декабристов, многие их речи явно беллетризованы). И все же заметим: для того времени ошибок очень мало. Привлекает относительная точность многих деталей и характеристик, явно полученных от осведомленных современников. Даже иные неточности интересны как отражение ходивших слухов. Наконец, нас не может не привлекать явное сочувствие французского писателя русским революционерам. Эта публикация лишний раз подчеркивает, какой резонанс в Европе имело выступление декабристов против самодержавия» *.
Журнал «Вокруг света» опубликовал в 1991 году один из очерков Дюма под названием «Из Парижа в Астрахань. Свежие впечатления от путешествия в Россию» в переводе Вл. Ишечкина (No VI—VIII). Доктор исторических наук А. Жуковская завершила данную публикацию весьма примечательным выводом: «Заканчивая комментарий
к путешествию А. Дюма по Волге, хочется обратить вни¬
* Дюма А. Учитель фехтования. Черный тюльпан. М., 1981, с.
41
мание не только на занимательность изложения, остроумные пассажи — тех, кто читал романы А. Дюма, этим не удивишь,— но на достаточно высокую точность в описании этнографических деталей быта тех народов, у которых он побывал во время своего путешествия, и разных социальных групп этих народов»*.
После поездки в Россию автор «Путевых впечатлений» остался верен своему характеру и убеждениям — и в жизни и в творчестве.
Наступает 1860 год, вызвавший в энергичной натуре писателя прилив новых сил. Он по-прежнему по горло погружен в литературные дела, по-прежнему увлечен происходящими в мире важными событиями. Дюма был лично знаком с Джузеппе Гарибальди и написал о его легендарной «тысяче» повесть «Гарибальдийцы» (1862), перевел на французский язык его мемуары.
Весной 1860 года Гарибальди со своим отрядом высадился на острове Сицилия, чтобы помочь восставшим патриотам. Вслед за освобождением острова полководец перенес борьбу на материк, занял Неаполь и изгнал неаполитанских Бурбонов. Правое дело легендарного героя, боровшегося за единую Италию, поддерживали Виктор Гюго и Жорж Санд. Дюма пожертвовал на покупку оружия для гарибальдийцев пятьдесят тысяч франков. В сентябре 1860 года он направился в Неаполь, где Гарибальди назначил его директором национальных музеев. Писатель руководил раскопками Помпеи и основал газету «L’Jndepen- dant», выходившую на итальянском и французском языках, для которой сам писал статьи и рассказы.
В 1866 году неутомимый француз вновь посетил Неаполь и Флоренцию, а затем побывал в Пруссии и в Австрии, между которыми в то время шла война. С фронта он шлет в парижские газеты обзоры военных действий и одновременно работает над новым романом — «Прусский террор» (1867), в котором под именем графа Безеверка рисует портрет прусского канцлера Бисмарка.
Весной 1870 года великий труженик уезжает на юг Франции, чтобы подготовить к изданию ряд книг. Однако
* «Вокруг света», 1991, № 8, с. 29.
42
франко-прусская война, в которой Франция терпела поражение за поражением, и седанская катастрофа произвели на писателя тяжкое впечатление, его здоровье резко ухудшилось. Он умер 6 декабря 1870 года и был похоронен в Вилле-Котре.
Дюма прожил большую и яркую жизнь, он был другом великих людей и очевидцем великих событий. А еще он был великим волшебником. Коснулось его перо французской истории — и та заиграла причудливыми красками, исполнилась драматизма и смелых контрастов. Теперь под этим же самым пером предстанут в неожиданном ракурсе с детства известные нам события русской истории, в ином свете явятся наши, отечественные, венценосцы, мятежники, поэты.
«Путешествовать,— писал Дюма,— это жить в полном смысле слова; это забыть о прошлом и будущем во имя настоящего; это дышать полной грудью, наслаждаться всем, овладевать творением как чем-то тебе принадлежащим, это искать в земле никем не открытые золотые рудники, в воздухе — чудеса, которых никто не видел; это пройти следом за толпой и собрать под травой жемчуг и алмазы, которые она, несведущая и беззаботная, принимала за хлопья снега или за капли росы. Многие прошли до меня там, где прошел я, и не увидели того, что увидел я, и не услышали тех рассказов, которые были рассказаны мне, и возвращались они, не наполнив своих рук тысячами поэтических сувениров, освобожденных, порой с большим трудом, от пыли прошедших столетий».
Так последуем за Дюма в это удивительное путешествие. Счастливого пути!
М. Трескунов
Ш-
РЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ w РАЗЪЯСНЕНИЯ
е знаю, дорогие читатели, помните ли вы, что в один прекрасный день — тому уж двадцать четыре года —я сказал, что совершу путешествие вокруг Средиземного моря, опишу это путешествие и воссоздам историю древнего мира, которая есть не что иное, как история цивилизации.
Все долго веселились и всячески подсмеивались надо мной; человек, который заработал на мне миллион, отплатил за него прелестной шуткой.
Он сказал:
— Вы знаете: Дюма открыл Средиземное море!
И с той минуты счел, что мы квиты. Шутка эта чего-то да стоила — но стоила ли она миллиона? Стоила ли она «Христины», «Ричарда Дарлингтона», «Карла VII», «Нельской башни», «Анжелы»— всех тех пьес, что я ему предоставил?1
Сомневаюсь.
Путешествие, вернее, ряд задуманных путешествий, было трудно осуществить без помощи властей на скромные средства литератора, но милостью Божьей все устроилось.
Я выехал в 1834 году и посетил для начала весь юг
45
Франции, от Сета до Тулона: Эгморт, Арль, Тараскон, Бо- кер, Ним, Марсель, Авиньон, Воклюз.
Затем, спустя год, снова собрался в путь и провел в дороге уже два года.
Осмотрел Йер, Канн, Жуанский залив, Грас, Ниццу, Ла-Корниш, Геную, Флоренцию, Пизу, Ливорно, Турин, Милан, Пистойю, Перуджу, Рим, Неаполь, Мессину, Палермо, Агридженто, Катанию, взошел на Этну и Стром- боли, побывал на Липарских островах, вплоть до Лампедузы, вернулся в Реджо, прошел пешком всю Калабрию до Постума. Первый раз меня задержали в Неаполе по воле его величества Фердинанда; я уже собирался возвращаться через Венецию, когда в Фолиньо по воле его святейшества Григория XVI был задержан вторично, препровожден карабинерами к Тразимендскому озеру и оставлен там с предписанием как можно скорее выехать во Францию.
И я это сделал.
А в 1842 году, не отступаясь от задуманного, нанял лодку в Ливорнском порту, и на этой лодке, рискуя десять раз пойти ко дну, достиг все-таки островов Эльба, Пьяноса, Горгона, Монте-Кристо и Корсика.
В 1846 году отправился в Мадрид, посетил Барселону, Малагу, Гранаду, Кордову, Севилью, Кадис; перешагнул через пролив, проследовал в Танжер, из Танжера в Тету- ан, из Тетуана в Гибралтар, из Гибралтара в Мелилью, из Мелильи в Газавет, из Газавета в Оран, из Орана в Алжир.
В Алжире я сделал передышку: в глубине материка мне хотелось посмотреть Блиду, ущелье Мусайя, Мили- ану.
Потом вновь отправился в путь, останавливаясь в Джиджелли, в Колло, в Сторе, в Филипвиле; проехал до Константины и вернулся в Стору, морем приплыл в Тунис и на острова Керкенна, посетил римский амфитеатр в Джемджеме.
За время первого путешествия, в пределах Франции, я потратил 6 тысяч франков, за время второго путешествия, по Италии,— 18 тысяч, за время третьего — 4 тысячи, наконец, за время последнего — 33 тысячи. Из этого следует вычесть десять тысяч, полученные от министерства просвещения. Итого: 51 тысяча франков.
46
Но мой замысел оказался пусть наполовину, да осуществленным— и какая разница, во что это обошлось? В итоге появились на свет «Путешествие на юг Франции», «Год во Флоренции», «Вилла Пальмьери», «Сперонар», «Капитан Арена», «Коррикола», «Из Парижа в Кадис», «Быстрый».
Так вот, теперь, чтобы завершить задуманное, осталось посмотреть Венецию,- Иллирию, Ионические острова, Грецию, Константинополь, побережье Малой Азии, Сирию, Палестину, Египет, Киренаику, Триполи.
Прежде чем продолжить свои разъяснения, не могу не поблагодарить администрацию имперских почтовых перевозок, которая предложила мне и моему секретарю — совершенно бесплатно и без всякой мзды — проезд на почтовых кораблях.
Все было бы замечательно, если бы.:.
Если бы поплыть на почтовом корабле — не значило пристать на Мальте, на Сиросе, в Александрии, в Бейруте, в Смирне и в Константинополе, увидеть то же, что видят все, и рассказать об этих местах лучше или хуже других, но неизбежно после других.
Я же хочу предпринять путешествие, какого до меня еще никто не предпринимал,—выйти в открытое море на надежном собственном корабле, с осадкой не более полутора метров, и, не боясь мелководья, заходить во все порты Греческого архипелага, во все бухточки Азиатского побережья.
Такой корабль когда-нибудь у меня будет, и, надеюсь, не в столь уж отдаленном будущем.
А пока что — принимаю приглашение друга отправиться в Санкт-Петербург и быть шафером на свадьбе его свояченицы, а также присутствовать при великом деянии— освобождении 45 миллионов крепостных.
Я не собираюсь ограничиваться Санкт-Петербургом.
После того, как я выдам замуж сестру моего друга, увижу Невский проспект, Эрмитаж, Французский театр, Таврический дворец, Петропавловский собор, Елагин остров, Большую Миллионную, Казанский собор, памятник Петру I; после того, как проведу на берегах Невы несколько из тех пленительных прозрачных ночей, когда возможно разбирать почерк любимой женщины, каким бы он ни был бисерным, отправлюсь в Москву.
47
Но по дороге увижу Тверь, город двенадцати тысяч лодочников, и тверской кремль, построенный в 1182 году владимирским князем Всеволодом,— Владимир, как наша Бургундия, наша Бретань, был особым княжеством, прекратившим существование лишь в 1490 году при Иоанне III, северном Людовике XI, который убил своего младшего сына, а старшего упрятал в застенок, что, впрочем, не помешало ему именоваться Иоанном Великим, ибо он освободил страну от татарского ига, а в глазах потомков всегда велик тот, кто изгоняет чужеземца из родной земли.
Потом мы вступим в священный город, который по- ‘ мнит еще наше крушение, одно из тех великих крушений, какие стоят победы.
Мы поднимемся в крепость царей и будем не только смотреть оттуда на золотые и зеленые купола дворцов, на колокольни церквей, на жилые кварталы, называемые Земляной город, Белый город, Китай-город; на Кремль, на самую высокую в городе колокольню Ивана Великого, где находился когда-то колокол весом в 330 тысяч фунтов; на неуклюжий Кремлевский дворец, на Оружейную палату, на театр, на собор,— мы еще будем искать следы ужасного пожара, пожравшего город в 350 тысяч жителей и обрекшего на стужу армию в полмиллиона человек. Мы спустимся вниз по Москве-реке и найдем в ее долине остатки Большого редута, где пал Коленкур и где Ней получил княжеский титул, а затем вернемся назад, чтобы побывать на московских, уже восточных, базарах, на Красной площади, у Владимирских ворот; наконец, расскажем чудесные предания о торговце пирожками Меншикове и о литовской служанке Екатерине.
Потом отправимся в Нижний Новгород, как раз ко времени великолепной ярмарки, привлекающей купцов из Персии, Индии, Китая; здесь можно сыскать кавказское оружие, тульское серебро, тифлисские кольчуги; здесь малахит и лазурит продают целыми плитами, а бирюзу меряют на буассо;2 _здесь тюками сбывают ткани из Смирны и Исфагана и закупают знаменитый караванный чай: Россия —на в et серебра, Англия и мы —на вес золота.
Удовлетворив наше любопытство, пустимся в плавание по Волге, этой королеве европейских рек, подобно
48
тому, как Амазонка — королева рек американских; Волга омывает губернии Тверскую, Ярославскую, Костромскую, Нижегородскую, Казанскую, Симбирскую, Саратовскую и Астраханскую; в нее впадают: справа — Ока, слева — Сура, Молога, Шексна, Кама, Уфа, Самара; сама же она, пробежав шестьсот лье, семьюдесятью рукавами вливается в Каспийское море.
Здесь мы найдем Астрахань и три ее базара, предназначенные для русских, для индусов и для азиатов; Астрахань, которая правую руку подает донским казакам, левую— уральским, а повернув голову, устремляет взор в бескрайние киргизские степи, чьи зеленые волны движутся столь же неизменно и однообразно, как и прибой Каспия.
Там остановимся на несколько дней, чтобы увидеть вновь длиннобородых всадников в остроконечных шапках и красных шароварах — тех самых всадников, чьих копий, луков и колчанов мы трепетали в детстве; тех, кого жестокая вьюга сорвала с границ Азии и Туркестана и бросила на наши долины и города; мы будем охотиться на дроф верхом на низкорослых лошадках, чьи предки объедали кору с деревьев Булонского леса и пытались сбросить с бронзового пьедестала статую Наполеона; затем, посетив неоглядные рыбные промыслы, где можно выловить осетра, способного насытить целую деревню, или стерлядь, могущую доставить средства для жизни целой семье, снова сядем на пароход и через Кизляр и Дербент отправимся в Салиерс. Оттуда поднимемся вверх по Куре до Караимских степей, где нас будет ждать тарантас до Тифлиса.
Передохнем немного в Теплом городе, название которого восходит к сернистым источникам. Выглянем в окно дворца, принадлежащего очаровательной княгине Голицыной, и станем наблюдать, как Европа идет в Индию, а Индия —в Европу.
Мы—на перекрестке, в столице Грузии, в резиденции Картлийских царей. Чингисхан в XII веке, Мустафа-паша в 1576 году захватили ее и разграбили, Ага-Мухаммед-хан разрушил ее еще через двести лет, наконец, русские захватили ее и отстроили в 1801 году.
49
Сейчас это изумительный город, в нем 40 тысяч жителей, два архиепископства: грузинское и армянское, прекрасный собор, казармы и базары.
У подножия Кавказа мы непременно пройдем перед скалой, где был прикован Прометей, и посетим лагерь нового титана, Шамиля, который, подобно тому отлученному от церкви Иову, что в своем бюргерском городке воевал с германским императором3, воюет в родных горах с русским царем.
Знает ли Шамиль мое имя, разрешит ли провести ночь под своим шатром?
Почему бы и нет? Бандиты Сьерры знали меня и позволили провести три ночи в своих шалашах.
Нанеся этот визит, спустимся в долины Ставрополья: справа от нас окажутся калмыки, слева —- причерноморские казаки, мы же прибудем в Ростов, что на Азовском море, древних меотийских болотах; там возьмем лодку и отправимся в Таганрог, где Александра I убили сожаления—а может, и совесть,—и потом в Керчь, древнюю Пантикапею милетцев, где Митридат, теснимый римлянами, покончил с собой; здесь снова сядем на пароход, который, простояв два дня в Севастополе, отвезет нас в Одессу, а оттуда прямо в Галац.
И тут я окажусь во владениях моих старых друзей, господарей Ясс и Бухареста, Стурдзы и Гики. По пути пожму руку нынешнему каймакаму \ которого знавал ребенком—он и тогда уже был принцем Самосским. Погляжу, воюют ли еще Семлин с Белградом, поднимусь к Вене, осмотрю там Шенбрун, дворец-усыпальницу, Ваграм, долину ужасных воспоминаний, остров Лобау, где Наполеон, который, как некогда Ксеркс, хотел заковать реку5, получил от нее первое предзнаменование о своей судьбе.
Ну, а Вена — это уже Париж: через три дня, милые читатели, я буду с вами и тогда скажу: «За шесть месяцев я проделал три тысячи лье. Узнаете ли вы меня? Вот и я!»
ЕМЬЯ КУШЕЛЕВЫХ
режде чем отправиться в дорогу, необходимо познакомить вас с нашими спутниками по путешествию.
Если в конце прошлой зимы вам случалось пройти между полуночью и четырьмя часами утра по площади Пале- Рояль, вы должны были увидеть нечто, приводившее в изумление возчиков фиакров и уборщиков улиц, единственных представителей человеческого рода, бодрствующих в эти часы.
На втором этаже гостиницы «Трех императоров» был залитый светом балкон, украшенный розами, камелиями, рододендронами и азалиями. Когда Сивори не играл свои очаровательные этюды на скрипке или Ашер свои чудесные мелодии на рояле, четыре окна распахивались настежь и открывали доступ свежему ночному воздуху.
С улицы сквозь открытые окна и цветы можно было видеть, как около дюжины людей разговаривают, жестикулируют, прогуливаются по салону, обсуждая, по-видимому, вопросы искусства, литературы, политики, словом, все, за исключением, пожалуй, биржевых и банковских дел. Это настолько редкое явление, что в него трудно поверить; оно существует только во Франции, хотя боюсь,
51
что и во Франции начинает пропадать благодаря появлению, сигар и исчезновению званых ужинов.
Время от времени лежавшая на диване молодая женщина двадцати трех или двадцати четырех лет, стройная, как англичанка, грациозная, как парижанка, томная, как азиатка, поднималась, орала за руку того, кто находился рядом с нею, лениво шла к балкону и появлялась там, до пояса скрытая цветами.
Там она вздыхала, временами поднимая глаза к небу, произносила несколько фраз, музыка которых звучала подобно голосам эльфов и виллисов1 из сказочного мира, и возвращалась в салон, чтобы принять на диване свою прежнюю позу, полувосточную, полуевропейскую.
Но при звуках польки или мазурки ленивая дочь севера оживлялась и начинала танцевать, живая и легкая, как дитя Севильи или Кадиса, не останавливаясь до тех пор, пока не смолкнет музыка, не стихнут фанфары.
В моменты сильного возбуждения, казалось бы, этой женщине не свойственного, облик ее менялся, так же, как и поведение: бархатистые глаза, скорее томные, чем живые, обведенные темными кругами, словно подрисованные умелой арабской кистью, сверкали, точно грани черного алмаза; лицо, цветом напоминавшее лепесток камелии, начинало светиться карминовым цветом, заставлявшим бледнеть розы, запах которых она вдыхала; нос, необычайно тонкий, расширялся, губы раздвигались, обнажая зубы, мелкие и белые, созданные скорее для угрозы, чем для поцелуев.
Покинув свой диван и двигаясь по комнате, она почти всегда старалась пройти вблизи молодого человека лет двадцати пяти или двадцати шести, тонкого, с бледным лицом и странно
блестящими глазами, которые, будучи устремлены на кого-нибудь, завораживали, как глаза Манфреда2 или лорда Рутвена. Руки у него были изящные и тонкие, украшенные перстнями, ноги точеные и стройные, как у аристократа. Проходя мимо, женщина подставляла ему лоб или руку, и он, с улыбкой, озарявшей на мгновение его бледное чело, прикасался губами к ее лбу или руке с такой деликатностью, как если бы это были драгоценный камень или цветок.
Эта молодая особа — графиня, молодой человек — граф Кушелев-Безбородко.
Оба они русские; мужчина происходит из старинного рода, наполовину казак, наполовину русский.
Первый Безбородко давно появился на исторической арене. Он был родом из запорожских казаков, живших за днепровскими порогами. В войне с турками ему повредили подбородок.
Отсюда и прозвище Безбородко, то есть без подбородка. Как видите, он, подобно Гетцу фон Берлихингену3,— из дворянского сословия, из настоящего, добротного и красивого, которое сеет на полях брани, чтобы иметь право снимать урожай в истории.
Семья с этим прозвищем появилась в эпоху Алексея Михайловича. Андрей Безбородко4— последний главный писец и верховный судья запорожских казаков.
Однажды фельдмаршал Румянцев проезжал по Украине и попросил у последнего гетмана Разумовского рекомендовать ему начальника канцелярии.
Гетман назвал Александра Безбородко, сына великого судьи.
В свою очередь, Екатерина II, великая Екатерина, немка по происхождению, плохо гово-
рившая по-русски, попросила Румянцева рекомендовать ей секретаря, настолько умного, чтобы не он писал под ее диктовку, а она — под диктовку секретаря.
Румянцев предложил императрице того самого Александра Безбородко, которого ему рекомендовал Разумовский.
Молодой человек для пробы должен был выполнить для нее к следующему дню очень важную работу. Лишь сочтя пробу удачной, императрица вынесет решение по поводу нового секретаря.
Порученное задание оказывается столь большим и сложным, что, даже просидев всю ночь, едва ли можно с ним справиться. Тем не менее Безбородко все внимательно выслушивает и удаляется.
Но Безбородко молод и любит удовольствия. Он хочет обедать с друзьями, ужинать с дамами; сможет ли он отказаться от этого, чтобы выполнить скучную работу?
Нет, работа подождет, сначала удовольствия; молодой Безбородко вернется домой утром и, при своей способности к сочинительству, быстро справится в течение нескольких часов с тем, на что другому не хватило бы и дня.
Он приходит домой лишь в десять часов утра.
Отдать же работу он обещал в половине одиннадцатого. И он решает прибегнуть к уловке: прочитать по чистому листу якобы готовую работу. Затем, выслушав замечания императрицы, удалиться в свой кабинет, чтобы сделать исправления, и вместо внесения поправок все разом и написать.
Через некоторое время Безбородко входит к императрице, приветствует ее, вытаскивает какую-то папку из портфеля, отходит к окну под
54
предлогом слабого зрения и, держа в руках чистые листы бумаги, импровизирует свой проект.
Императрица слушает, одобряет и берет перо.
— Давайте, я подпишу,—говорит она,—у меня нет замечаний.
— Как, Ваше Величество, никаких?
— Никаких! Давайте! Я довольна вами.
Выхода не было.
Безбородко подошел, стал на колени и, подав императрице чистые листы бумаги, попросил у нее прощения.
Екатерине нравилось видеть красивых молодых людей на коленях перед собой, независимо от того, просили они о прощении или о чем-либо другом.
Она простила Безбородко.
Но не так, как вы, возможно, ожидаете: старый Румянцев сделал внушение своему протеже:
— Будь при императрице кем угодно, только не любовником.
Безбородко сопротивлялся, как воплощенная добродетель, и остался только секретарем Екатерины И.
Пока Екатерина старилась, ее сын Павел совершал безрассудства, которые создали ему славу самого взбалмошного монарха Европы.
Чтобы избавиться от сына, Екатерина сослала его в Гатчину5, а затем, дабы окончательно отдалить от трона, продиктовала Безбородко свое завещание.
Вопреки праву наследования, она лишала Павла короны в пользу внука Александра.
Подписав завещание, государыня приказала сделать копию.
Затем сказала:
— Я доверяю только тебе, Александр. Одно из этих завещаний ты оставишь на хране-
55
ние в Московской архиепископии, а другое — в Санкт-Петербургском Сенате и проследишь, чтобы оно было выполнено.
Безбородко поклонился и вышел с двумя завещаниями. Он вернулся через восемь дней.
— Ну как? — спросила Екатерина.
— Приказания Вашего Императорского Величества выполнены.
И Екатерина, которая была уверена в безусловной преданности своего секретаря, перестала беспокоиться о будущем.
Принятое императрицей решение явилось как нельзя более своевременным; однажды утром она почувствовала колики и прошла в свой ватерклозет, как говорят наши соседи англичане.
Через несколько мгновений послышался крик; когда фрейлины подбежали, они нашли императрицу на полу бездыханной.
Услышав эту новость, Безбородко поскакал в Гатчину и там нашел Павла.
— Ваше Высочество,— сказал он,— я должен сообщить Вам ужасную новость.
— Какую? — с испугом спросил принц. Будучи пленником, он ждал худшего. Ведь уже был прецедент с царевичем Алексеем.
— Ваше Высочество, Ваша августейшая матушка скончалась.
— Моя матушка скончалась? — вскричал принц.
— Да, Ваше Высочество.
— Тогда ты ошибаешься, Безбородко; я больше не Высочество, я — Величество.
Безбородко покачал головой.
— Как не Величество?
— Августейшая императрица лишила Вас наследства.
— Лишила наследства? Меня? В чью же пользу?
— В пользу Вашего сына Александра.
— Не может этого быть!
— Я лично под диктовку императрицы написал завещания.
— И что же ты с ними сделал?
— Мне было приказано отдать их на хранение — одно в Московскую архиепископию, а другое — в Сенат Санкт-Петербурга.
— Ты лжешь, Безбородко!
— Я не лгу, Ваше Высочество,— отвечал Безбородко, вынимая из кармана два документа,— вот оба завещания, написанные мною и подписанные Вашей августейшей матушкой.
И подал оба документа Павлу.
— Но что же ты оставил в Сенате Санкт-Петербурга и в архиепископском соборе в Москве?
— Два либга чистой бумаги.
— А понимаешь ли ты, что рисковал головой, если бы императрица решила тебя проверить?
— Настоящие игроки не боятся ставок.
— А ты уверен, что было лишь два завещания?
— Уверен, Ваше Высочество.
— Так что я смело могу их разорвать?
— Разорвите их, Ваше Величество,— ответил Безбородко.
— Благодарю тебя, князь,— сказал Павел.
И порвал завещания.
Безбородко был сделан великим канцлером и светлейшим князем и пожалован двадцатью тысячами крестьян с правом выбора их на любой территории России.
Во второй раз чистая бумага принесла ему счастье.
Ь]
Сейчас мы далеко от площади Пале-Рояль и от балкона гостиницы «Трех императоров»; но, будьте покойны, мы туда вернемся, я могу еще многое сказать вам по этому поводу.
Познакомившись с одним из предков графа— Безбородко, посмотрим, кем был предок Кушелев.
В эпоху Иоанна Грозного на берегах озера Пейпус находилась маленькая Псковская республика.
Иоанн Грозный, как и Геракл, обладал львиной шкурой; но, в отличие от античного героя, завоевывавшего пигмеев, Иоанн завоевывал республики.
Он покорил республику Псков.
Но, вместо того чтобы сжечь город и уничтожить жителей, как поступил в Новгороде, даровал псковичам жизнь и даже раздал должности тем республиканцам, которые были достаточно сговорчивы, чтобы принять их.
Одним из этих республиканцев был предок графа Кушелева.
Когда Екатерина II сослала своего сына Павла в Гатчину, его сопровождал небольшой двор из молодых аристократов, среди которых был и дед графа Кушелева.
Павел, став императором благодаря уничтоженным Безбородко завещаниям, дал молодому Кушелеву, одному из тех, кого больше всех любил, титул графа и должность командующего флотом.
Должности министра тогда еще не существовало: она была введена императором Александром.
Почему же Павел I был сослан в Гатчину? Почему Екатерина лишила наследника трона? Почему хотела отдать трон, отнятый у Павла, его сыну Александру?
SW
58
По трем причинам.
Первая: она чувствовала непреодолимую неприязнь, которую питал к ней Павел, он не мог ни забыть, ни простить ей смерть Петра III.
Вторая: она овладела троном и удерживала его, отстранив законного наследника; правда, эта узурпация привела к блестящему царствованию.
Третья: она знала характер Павла и предвидела, что, вступив на престол, тот будет совершать бесчисленные сумасбродные поступки.
Действительно, едва успев надеть корону, Павел начал делать противоположное тому, что делала Екатерина: провозгласил себя
сторонником старых монархических идей; выступил против церкви, приняв сан великого магистра Мальтийского ордена6, отмененного Францией; стал главой второй коалиции. Затем неожиданно, после того как шесть тысяч пленных, взятых Брюнном в голландской кампании, Бонапарт отослал обратно в Голландию не только вместе с обозом и без выкупа, но даже вновь экипированными и вооруженными, он воспылал любовью к Бонапарту и пылко восхищался этим человеком, который впоследствии если и не был причиной его смерти, то, во всяком случае, не помешал ей.
Что же касается эксцентричности, настораживавшей Екатерину II, то ее нельзя считать недостатком Павла.
Будучи небольшого роста, он считал себя высоким; будучи некрасивым, мнил себя красавцем; одевался как король Фридрих, которого во всем считал образцом, хотя его двоюродная бабка Елизавета упорно воевала с Пруссией — Семилетняя война7 стоила Франции, Канады и части Индии. Как у Фридриха, у Павла была табакерка, палка и шляпа. Треуголка На-
59
1
j
полеона — лишь уменьшенная копия шляп этих двух монархов.
Однако в начале царствования у нового самодержца еще не было признаков безумств, которых опасалась только что скончавшаяся Екатерина. Императрица Мария, супруга Павла, первая бросилась к его ногам и поздравила с императорским титулом сразу после Безбородко. Он помог подняться ей и детям, заверил их в своей отеческой и императорской благосклонности и в тот же день принял, согласно табели о рангах, губернаторов и военных, сановников и своих приверженцев. Гвардейская часть, еще накануне охранявшая Павла скорее как пленника, чем как наследника престола, принесла присягу царю. Затем он поехал в Санкт-Петербург, и послышалось бряцание оружия, крики командиров, щелкание шпор, скрип военных сапог в тех самых апартаментах, где только что навек заснула его великая мать. Павел I, у которого едва не отобрали корону, должен был быть провозглашен императором, а его сын царевич Александр — наследником престола.
Павлу минуло сорок три года. Если бы он наследовал своему отцу в законном порядке, то царствовал бы уже 34 года. Но эти 34 года были годами ссылки и безвестности; за это время будущий монарх много выстрадал и потому считал, что многому научился. Он вступил на престол, имея в запасе множество законов, подготовленных в период ссылки, и теперь, став главой государства, торопился проводить их в жизнь.
Чтобы показать свое неприятие не только политики, но и администрации матери, Павел отменил указ Екатерины о поставке рекрутов, по которому в солдаты забирали одного кре-
постного из ста. Эта мера принесла новому императору признательность дворянства, на котором висела сия повинность, и крестьян, которые ее выполняли.
Зубов, последний фаворит Екатерины, считал себя конченым человеком после смерти императрицы; он опасался за свое имущество, свободу и жизнь и держался вдали от царя, ожидая его распоряжений. Император вызвал его к себе, оставил ему его должность и вернул жезл командующего — знак генерал-адъютанта.
— Продолжайте,— сказал он Зубову,— исполнять свои обязанности. — Присутствуйте при похоронах моей матери. Надеюсь, вы будете мне таким же преданным слугой, каким были для нее.
Это благодеяние не пропало даром: спустя пять лет мы находим Зубова среди убийц Павла I.
Костюшко, адъютант Вашингтона, генерал-майор у Понятовского, победитель при Ду- беке, атакованный в октябре 1794 года в Ма- цийовицах русской армией, в три раза превосходившей его армию, пал под ударами, крича: «Finis Polonioe» *. Его взяли в плен и отправили в Санкт-Петербург, где поместили в доме покойного графа Ангальтского; находясь под охраной майора, он ел вместе с ним и спал в его комнате. Павел сам отправился объявить ему об освобождении, а затем вышел, не дожидаясь благодарности. Тогда тот, желая убедиться, что это не сон, и поблагодарить императора, попросил доставить его во дворец; голова поляка все еще была забинтована. Павел не ограничился освобождением Костюшко, он
*
Польша погибла (лат.).
предложил ему землю и крестьян в своей империи; но генерал отказался, прося вместо этого денег, чтобы отправиться жить и умирать, куда захочет. Павел дал ему сто тысяч рублей, и через 21 год Костюшко скончался в Солере.
После всех этих неотложных дел настало время отдать последние почести императрице. Павел мечтал об исполнении двойного сыновнего долга.
В течение 34 лет имя Петра III произносилось на Руси только шепотом. Павел I отправился поклониться праху отца в Лавру Святого Александра Невского, спустился в подземелье и, приказав старому монаху показать забытую гробницу, заставил ее открыть, преклонил колена перед останками, снял с руки скелета перчатку и три раза поцеловал хладную длань, после чего долго и благоговейно молился, приказав поднять гроб на хоры. Он распорядился, чтобы все те почести, которые воздавали во дворце умершей Екатерине II, были возданы также Петру III. И — последняя дань восстановленной справедливости — велел сопровождать тело самим же убийцам —тем, кто был еще жив.
Поскольку Петр III не был коронован, Павел приказал короновать его в гробу, затем перевезти тело во дворец и выставить рядом с телом Екатерины; отсюда останки обоих самодержцев, столь трагически разделенных при жизни и так странно соединенных после смерти, были перевезены в крепость, поставлены на одном помосте, к которому в течение восьми дней приходили для прощания: народ — из религиозных побуждений, придворные — из низменных соображений.
Но у подножия гробницы мудрость, которая руководила его первыми деяниями, поки-
нуля Павла. Он почувствовал себя одиноким; дворец в Павловске ему надоел, и он не знал, чем заняться. Не получив образования, способного внушить возвышенные идеи, император находил удовольствие в мелочах военного устава, чистя пуговицы своего мундира и полируя до блеска пряжки портупей. Он придумал множество изменений в военном костюме и строго следил за их соблюдением. Сначала изменил цвет русской кокарды: найдя, что белый цвет делает ее мишенью для вражеских пуль, он превратил ее в черную с желтой каемкой. Изменил и форму плюмажа, высоту сапог, количество пуговиц на гетрах, учредил во дворце ежедневный смотр в три часа пополудни и назвал его вахтпарадом, ставшим скоро едва ли не важнейшим делом его правления, но также центральным пунктом всех имперских дел. Во время смотра отдавались распоряжения, диктовались указы; для этих парадов были изобретены даже особые кожаные штаны. Независимо от времени года, солдаты могли их надеть, лишь смочив; высохнув, они принимали форму трико. На этих парадах присутствовали и великие князья — Александр и Константин (великий князь Николай был еще слишком молод). Каждый день при любой погоде Павел, без шубы, с непокрытой лысой головой, лицом к северному ветру, закинув одну руку за спину, а другой то поднимая, то опуская трость, кричал: раз, два, раз, два. Он не обращал внимания на двадцатиградусный мороз и лишь топал ногами, чтобы согреться.
Однажды во время такого вахтпарада один из полков плохо маршировал: император велел повторить маневр, но и во второй раз оыло не лучше.
— Шагом марш в Сибирь! —- закричал Па¬
вел.
И полк, который умел лишь безоговорочно подчиняться, с командиром во главе, покинув дворцовый плац, отправился в Сибирь. И дошел бы до Сибири, если бы не устроил привал в 80 верстах от Санкт-Петербурга, где примчавшийся курьер и передал полковнику депешу об отмене приказа.
Но безрассудные реформы Павла касались не только солдат, которых он одевал и раздевал, как кукол. Часто они затрагивали и гражданских лиц.
Французская революция была жупелом для Павла. Революция, введя в моду круглые шляпы, внушила ему ужас к этой моде; в одно прекрасное утро появился указ, запрещавший кому бы то ни было появляться в круглых шляпах на улицах Санкт-Петербурга.
Жители императорской столицы, застигнутые врасплох, то ли из-за нехватки треуголок, то ли из особого расположения к круглым шляпам, не сменили моду так быстро, как этого желал император, требовавший беспрекословного повиновения. Тогда он поставил в начале каждой улицы казаков и полицейских с требованием снимать шляпы с ослушников. Во время такой экзекуции, когда, к счастью, снимали только шляпы, а не головы, он лично проезжал по улицам, дабы наблюдать за выполнением своего приказа.
Во время одной из таких прогулок, уже по дороге ко дворцу, он заметил англичанина. То ли находя, что шляпа ему к лицу, то ли решив, что указ о шляпах — покушение на личную свободу, англичанин не захотел, ссылаясь на привилегии своей нации, расстаться с полюбившимся головным убором — круглым или просто казавшимся таковым.
Император остановился и приказал обнажить голову дерзкому островитянину, позво-
лившему прогуливаться на Адмиралтейской площади.
Офицер подбежал к провинившемуся и увидел, что у того треугольная шляпа.
Разочарованный, он поворачивается и возвращается к императору.
Император поднимает лорнет, направляет его на англичанина и видит круглую шляпу.
Офицер отправлен под арест; адъютанту дан приказ снять круглую шляпу с головы мятежника.
Адъютант отправляется выполнять приказ, как если бы дело шло о занятии редута; и через несколько минут возвращается к государю, уверяя, что на англичанине треуголка.
Император вновь направляет лорнет на наглеца: на том, несомненно, круглая шляпа. Адъютант отправлен под арест вместе с офицером.
Генерал предлагает свои услуги для выполнения поручения, которое не удалось выполнить двум его предшественникам; император знаком выражает согласие. Генерал скачет галопом, ни на секунду не теряя из виду того, к кому направляется.
Но то ли взгляд его, устремленный в одну точку, притомился, то ли мираж стал всему виной, но генералу кажется, что, чем ближе к нему злополучный головной убор, тем явственней из круглого он превращается в треугольный. В самом деле, когда генерал подъезжает к англичанину, он видит на нем треуголку.
Но на этот раз генерал хочет проверить себя: берет нарушителя и на санях увозит к императору. Наконец все объясняется.
Чтобы примирить свою национальную гордость с тем, что, по мнению суверена, гость должен делать в государстве, по которому пу-
f
AYU
X
к
ш
ж
уд
тешествует, англичанин заказал шляпу, которая с помощью внутренней пружинки превращается из запрещенной в законную.
Император нашел идею оригинальной, помиловал офицера, помиловал адъютанта и разрешил англичанину носить любую шляпу, какую тот пожелает.
После указа о шляпах последовал указ о каретах. Этот указ запрещал запрягать лошадей по русскому обычаю, когда ямщик садится на лошадь справа.
Чтобы переделать упряжки на немецкий манер, владельцам карет, ландо и дрожек давалось пятнадцать дней. По истечении пятнадцати дней полиция получила приказ обрезать постромки у экипажей, запряженных не по указу.
Впрочем, реформа не ограничивалась лошадьми и колясками, она касалась и кучеров.
Кучерам-извозчикам предписывалось одеваться по-немецки: к великому своему отчаянию, они должны были сбрить бороду и, к великому неудовольствию, пришить к вороту ярлычок, да так, чтобы он всегда оставался на месте, куда бы ни поворачивалась голова, направо или налево. Один офицер, у которого не хватило времени тщательно подготовить карету согласно указу, решил пойти на вахтпарад пешком, чтобы не навлечь на себя гнев императора. Он закутался в плащ, за ним следовал солдат, несший его шпагу.
Павел встретил офицера и солдата, офицера сдал в солдаты, а солдата сделал офицером.
В царствование Екатерины был закон, восходивший еще к древности, согласно которому при встрече на дороге с императором или царевичем человек должен спешиться, если он верхом; если в карете — выйти из нее, не считаясь с тем, раскалена ли мостовая или покрыта льдом, метет ли снег или льет дождь,
ш
%
ta»)
3«
ш
j/д
Ж
Vit
(0 \Ч
ж
ы
г ({ ш
66
пасть ниц, если встречный — мужчина, или почтительно поклониться — если женщина.
Екатерина отменила этот закон.
Павел его восстановил.
Следствием сего произошли два события.
Один из генералов, кучер которого не узнал экипаж царя, был задержан на улице, разоружен и арестован на пятнадцать суток.
По окончании срока генералу хотели отдать шпагу, но тот отказался принять ее, заявив, что эта шпага была пожалована ему Екатериной, и никто не имел права ее отбирать.
Павел осмотрел шпагу и увидел, что она действительно золотая и украшена бриллиантами. Он позвал генерала, собственноручно вручил ему шпагу и заверил, что не держит на него зла; но, тем не менее, повелел в течение трех суток отправиться в армию.
Инцидент закончился благополучно, но так случалось не всегда. Один из самых храбрых армейских бригадиров, Ликавов, заболел в походе, и врачи прописали ему лекарство. Мадам Ликавова никому не хотела доверить покупку лекарства и сама поехала в Санкт-Петербург, не зная об указе, изданном в ее отсутствие.
К несчастью, она столкнулась с прогуливавшимся верхом императором и, ни о чем не подозревая, продолжала путь, не воздав полагавшейся Его Величеству почести.
Тот направил вслед за экипажем офицера. Кучер и трое слуг был отданы в солдаты, а графиня посажена в тюрьму.
Граф скончался от удара, узнав об этих событиях, а графиня сошла с ума, узнав о смерти мужа.
Внутри дворца Павел установил не менее строгий этикет.
Каждый дворянин, допущенный к целованию руки монарха, должен был, громко чмокнув губами, пасть на колени.
Князь Георгий Голицын, потомок древних литовских князей, чья фамилия со времен Михаила Ивановича происходит от прозвища Голица («боевая рукавица»), считал, что он такого же знатного происхождения, как сын герцога Голштинского и Анхальт-Цербстской принцессы. При целовании руки этот вельможа не чмокнул губами, недостаточно сильно стукнулся об пол коленями и был на месяц посажен в тюрьму.
Из всех причуд царя мы коснемся лишь одной, которая естественно приведет нас к графу Кушелеву-Безбородко: то был приказ Павла бездетному графу Безбородко жениться на племяннице графа Кушелева, который вместе с Павлом был в гатчинской ссылке.
Бракосочетание совершилось.
Так как Безбородко умер бездетным, так же, как его брат и племянник, сын графа Кушелева и мать князя Безбородко объединили состояния Безбородко и Кушелева.
Отсюда происходит богатство графа Григория Кушелева, из окон дома которого до шести часов утра на площадь Пале-Рояль лился такой яркий свет.
АРАВАН
теперь объясним, как граф Кушелев и его семья очутились в Париже в гостинице «Трех императоров».
Год назад граф решил совершить путешествие по Польше, Австрии, Италии и Франции, в то время как его младший брат затеял поездку по Греции, Малой Азии, Сирии и Египту.
Граф Кушелев сделал то, что сделал бы на его месте граф Монте-Кристо: он взял переводные векселя суммой на два миллиона на имя всех Ротшильдов: в Вене, в Неаполе и в Париже — и отправился в путь.
Путешествовало с ним двенадцать человек.
Кроме этих двенадцати, графа Кушеле- ва, а вернее графиню, сопровождало некое бесформенное существо, напоминавшее более всего муфту. Это была затерявшаяся в своей шерсти собака из породы кинг-чарлз-спаниель.
Давайте, читатель, устроим смотр всех главных и второстепенных персонажей этих заметок и познакомимся с ними.
Вначале, после графа и графини, по праву родства следует девятнадцатилетняя девушка и шестилетний мальчик.
69
I
J
a'/à
Ш,5
Девушка, скорее изящная, чем хорошенькая, стройная, с подкупающей улыбкой, с живым умом — родная сестра графини. Она обручена, и я получил приглашение на ее свадьбу. Но об этом буду повествовать с великим тактом и с осторожностью, и лишь тогда, когда придет время рассказывать о флердоранже, в каком Александрина — так зовут невесту — пойдет к алтарю.
Что же касается мальчика, то это чудо воспитанности и красоты.
Он ни за что не будет путаться под ногами и приставать с вопросами, никогда не вскарабкается к вам на колени и не ткнет палкой в глаз, не станет дергать за волосы, запускать игрушкой в голову, оглушать боем своего барабанчика. Ребенок в той же гостиной, что и вы, да, но где он? Вы его не заметили: оказывается, играет где-то за креслом, под столом или под роялем. Вот мальчуган сел вместе со всеми за стол, но вы его не видите. Стоит ему насытиться, как он тут же встает, исчезает и больше не показывается на глаза.
Желаю таких детей всем моим знакомым и прежде всего себе самому. А какой славненький! Круглый, как булочка, а поцелуешь — свежий, как персик.
В дороге просто не знаешь, где он, а выясняется— с мадемуазель Элен или с одной из горничных. Приезжаешь на место и видишь: улыбается, словно цветок, готовый вот-вот распуститься.
Зовут его Александром, уменьшительно Сашей.
Затем следует остальная семья, точнее, фамилия в том смысле, в каком это слово употреблялось в Древнем Риме.
м
ш
%
*j
Ш
J/л
])}
№
,о)
•Afs
к
№:
70
Во главе — Дандре. Он проводник каравана, он... Бог ты мой, я забыл, как это называется по-арабски \
По происхождению Дандре француз —на что указывает его имя, но француз с небольшим русским оттенком: это молодой человек лет двадцати пяти — двадцати шести. Чтоб сопровождать графа Кушелева, он расстался с женой и ребенком.
Именно Дандре следит за тем, как тратятся деньги, предъявляет к погашению векселя, проверяет и оплачивает счета. В поездке у него всегда при себе сто тысяч франков: на непредвиденные расходы.
Именно он отправляет посыльного подготовить свежих лошадей, когда предстоит путешествовать в каретах, заказывает вагоны, если едут поездом, выбирает каюты на пароходе, когда путь лежит через море.
Во всех трудных случаях Дандре полагается лишь на себя: едет вперед, появляется там, где необходимо, и все становится на места.
Если в дороге случаются воры, что бывает порой в Италии, да и в других местах, им ничем не удастся поживиться — Дандре не проведешь.
Если попадается скверный трактир, из скверного он превращается в хороший. Если трактира нет вообще, значит, появится.
Вы высаживаетесь из кареты, из вагона, из пакетбота, и вас ждет славный обед и вдоволь вина. Граф ему говорит:
— Я видел чудесное жемчужное ожерелье...— Или: — Мне попалось на глаза изумительное брильянтовое колье у Леммонье. Возьмите двадцать четыре тысячи франков, дорогой Дандре, и будьте добры, купите эту вещицу.
Именно его попросит графиня:
71
— Дорогой Дандре, мне рассказали про бедную женщину, мать троих детей, она только что родила четвертого. У нее нет хлеба для старших и белья для маленького: сделайте одолжение, возьмите пять тысяч франков и отнесите ей.
Француз, как мы видим, незаменим.
Он темпераментный рассказчик, наделенный к тому же редким чувством юмора, неутомимый путешественник, пересекший Персию и Турцию. Этот молодой человек принимал участие в войне на Кавказе: девять раз проделал путь от Санкт-Петербурга до Тифлиса как чиновник особых поручений при графе Воронцове.
Граф Кушелев открыл его в канцелярии министерства и, оценив по достоинству, забрал и из канцелярии, и от министров.
В пути Дандре мог бы незаметно для хозяев заработать сто тысяч франков в качестве комиссионных у торговцев и у посредников.
Но Дандре только смеется им в лицо, лишь затем, разумеется, чтобы показать при случае свои зубы, а они у него, шельмеца, великолепные!
После Дандре представляю доктора Кудрявцева.
Доктору от двадцати восьми до тридцати лет, он чистокровный русский; по-французски не знает ни слова. Единственная его забота—лечить больных, и наш медик вряд ли ею тяготится. Он родился в Королеве, во владениях графини, и, не захвати его граф проездом из Москвы в Звенигород (звенящий город), достойно выполнял бы свой долг, как прежде, в родных краях. Это практикующий врач, человек простой, золотое сердце.
щ
ft
л
ц
ы
)}
\(£
/0
(5Т5-
Доктор Кудрявцев, далекий от того, чтобы порисоваться, не расстается, однако, с двумя предметами, уже неотделимыми от его облика. Рассмотрим их повнимательнее, сделав маленькую передышку в путешествии.
Первый предмет — это плед, подарок графини, в который он живописно драпируется.
Второй — тросточка, смастеренная им самим из... флакона от духов графа. Этой тросточкой он размахивает без устали.
Как можно сделать тросточку из флакона, дорогие читатели?
Сейчас объясню, и вы согласитесь: то, что кажется сложным с первого взгляда, легко осуществимо на деле.
Граф, человек нервный, ходил повсюду с флаконом эфира.
В один прекрасный день этот флакон разбился.
Кудрявцев подобрал его, как подобрал бы раненого, чтоб вернуть к жизни, если это возможно. Но раненый испустил дух.
Тогда Кудрявцев понял: из старого флакона можно сделать новую тросточку.
Он отделил от него верхнюю часть, которая была изготовлена из золота и открывалась с одной стороны с помощью пружинки, с другой — с помощью зажима; приобрел трость шириной с горло флакона и, соединив то и другое, получил элегантную вещицу с эмалированным, черненым, гильошированным2 набалдашником.
Этот набалдашник обладал одним интригующим свойством: он открывался, как открывается флакон. Доктор всунул в верхнюю часть горлышка кусок пропитанной духами ваты и получил сразу и тросточку, которой мог вво-
щ
0
%
tn»)
щ
т
ш
Щ),
№
№
%
[((
mb
лю размахивать, и вместилище для благовоний, которые мог вдыхать.
Кудрявцев оказался в Риме в пору карнавала. Человек серьезный, он вначале не терял солидности, презирая Дандре, напяливавшего на себя самые фантастические наряды; но внезапно, соблазненный его примером, с тростью и пледом в руках смешался с толпой, нацепив на себя искусственный нос; затем, все так же украшенный пледом и вооруженный тростью, рискнул облачиться в костюм Пьеро, потом, не расставаясь по-прежнему со своими атрибутами, вырядился Пульчинелло3. И наконец, переходя из царства человеческого в царство растительное, становился то кочаном капусты, то морковкой, то луком-пореем, а благодаря пледу и тросточке — самым забавным пугалом на Корсо и на площади Испании. Желаете застыдить его насмерть — напомните эти часы безумия, когда он уронил свое достоинство и скомпрометировал науку.
У доктора Кудрявцева куда больше обязанностей, чем можно себе представить.
Именно он занимается всеми теми шишками, которые посадит себе Саша, мигренями графини и порезами мадемуазель Элен, мадемуазель Аннет и обеих горничных.
В настоящее время, кроме меня, больных у него нету. Присматривая за фурункулом величиной с голубиное яйцо, которому угораздило вскочить на правой щеке вашего покорного слуги, доктор уверяет, что благодаря его заботам я отделаюсь шрамом на манер герцога Гиза. Дай-то Боже! А то боюсь, как бы не лишиться в один прекрасный день головы, ради спасения остального.
После доктора Кудрявцева следует профессор Рельченский — бывший гувернер графа.
74
и
щ
ж
Ц
ml
Когда образование Кушелева было завершено, сей ученый муж счел приютивший его дом вполне подходящим и остался в нем навсегда.
Этот скорее коллекционер.
Все, что отвергают, выбрасывают, разбивают, разламывают, он берет себе в коллекцию. В Петербурге, в зимнем доме графа, у Рель- ченского в нижнем этаже комната. Истинная лавка древностей, где он собрал не скажу чтобы все на свете, но почти все: инкрустированные сундуки с негодными замками, трехногие столы, к которым приставил четвертую конечность, фаянсовую посуду и изделия Бернара де Палисси, разбитые и склеенные вновь таким образом, каким бы и я хотел быть вылеченным: без шрамов; эмали, поцарапанные и погнутые, а затем тщательно отреставрированные, картины с облупившимся лаком, подмалеванные и восстановленные; замаранные чем-то, но очищенные от сальных пятен ткани, превращенные позже в портьеры и гардины. Сколько на все это потребовалось терпения, надежно схватывающего клея и неаполитанского мыла!
Привезя свои сокровища в Париж и выставив их на аукционе, профессор выручил бы двадцать тысяч франков.
Покончив с мужчинами, обратимся к женщинам.
Первым номером, возглавляя процессию, идет мадемуазель Элен, старая знакомая графини, подруга ее покойной матери, которая почти заменила ей мать. Нежное сердце, улыбающееся лицо, переполненная заботами душа.
Одна из этих забот — чай и все, что его касается. Она знает, кто любит с лимоном, кто — со сливками, кому мало сахару, кому много. В ее распоряжении находятся чашки, которые соответствуют телосложению, аппетитам и прочим
Щ
3
&
yk
im
ж
№
Ш
\Ч
№
75
особенностям гостей: открыв в моем лице большого любителя этого напитка, она раздобыла мне сосуд вместимостью не менее трех чашек.
Подкупает в мадемуазель Элен прежде всего то, что она радуется общей радостью.
После мадемуазель Элен следует мадемуазель Аннет.
Аннет — воспитанница графини. Моложе ее на пять-шесть лет, она уже двенадцать лет живет в доме Кушелевых.
Это типично русская девушка: пышущая здоровьем, полненькая, привязчивая, не слишком бойкая, глазки небольшие, маленький носик и ротик, щечки кругленькие, и в целом очень приятное впечатление. Играет на фортепьяно, бегло говорит по-французски, танцует с удовольствием, но без воодушевления.
Ей предстоит выйти замуж за художника по фамилии Чумаков. Граф дает за ней двести тысяч ливров приданого.
Аннет аккуратнейшим образом заваривает чай, который потом щедро разливает мадемуазель Элен.
И в конце шли два лакея, Семен и Максим, и две горничные, Аннушка и Луиза. Кроме того, еще два писаря, которых я ни разу не видел и узнавать их имена мне было без надобности. Затем любимая собачка графини — Душка.
Душка, как мы уже упоминали, существо женского пола из аристократической породы кинг-чарлз-спаниель. Из Петербурга она отбыла в ожидании потомства, причем ни у кого не было точных сведений об отце будущего семейства, одни говорили о борзой, другие —о спаниеле.
Ощенилась она в Вене. Лишь теперь удалось установить ее избранника: это был спани-
Ту.
ель, потомки оказались уродливы до невозможности.
Чтоб материнское сердце Душки не разорвалось от горя, ей были оставлены все четыре щенка. Подросших, их роздали трем друзьям графини, которые сделали вид, будто восхищены очаровательными существами, но едва графиня выехала из Вены, свернули, надо полагать, щенятам шеи или же велели для верности утопить их в Дунае, чтоб жить в полной уверенности, что собачонки не воскреснут и не вернутся.
Вторая горничная Луиза попросила — для себя лично, разумеется,— четвертую собачку. Ту самую, что была очаровательнее всех или, точнее, не так безобразна.
Луиза уверяла, что придет день, когда Дед- ре и Джозеф Стивенс станут умолять ее на коленях сделать им честь и дать возможность написать портрет этого пса —Аполлона или Антиноя собачьего царства.
Все, знавшие папашу-спаниеля, уверяли, что его отпрыск вылитый отец в миниатюре: собака с картины «Похороны бедняка» Виньерона. Имя красавчика было Шарик.
Как беспристрастному историку, мне надлежит еще объяснить, каким образом караван пополнился в пути тремя двуногими, двумя четвероногими и одним пресмыкающимся.
Трое двуногих принадлежат к человеческой расе, иэ двух четвероногих одно — к собачьей породе, одно — к кошачьей, пресмыкающееся было черепахой. Тех, кто полагает, что слово «двуногие» употребляется нами в применении к людям с уничижительным оттенком, просим считаться с тем обстоятельством, что нами используется терминология, принятая у естествоиспытателей.
77
В глазах Квинта Курция, Тита Ливия и Светония Ганнибал, Александр и Цезарь — это полубоги.
В глазах Бюффона, Кювье и Жоффруа Сент-Илера — они двуногие.
Пишущий эти строки тоже двуногий, или бипед, только он пользуется чаще передними, а не задними конечностями, и более правой, чем левой, даже скорее более пальцами, чем всей рукой, а из числа пальцев — большим, указательным и средним, почти пренебрегая безымянным и мизинцем.
И тем не менее нельзя, подобно Платону, утверждать, что человек — животное о двух ногах и без перьев.
Теперь, когда чувствительное самолюбие удовлетворено, будем продолжать и опишем двуногих, воздав каждому по заслугам.
Принадлежащая к человеческой расе троица, это: поэт Половский, маэстро Миллелот- ти, ясновидец Юм.
А, дорогой читатель, при имени Юма ты широко открыл глаза и навострил уши. Будь спокоен, до Юма мы еще доберемся.
Может, тебе покажется, что сборы в дорогу слишком долгие, но ведь предстоит сделать три тысячи лье — проехать треть земного шара— прежде чем вновь встретиться во Франции. Согласитесь, вполне естественно, что я стараюсь поосновательней познакомить вас с товарищами по путешествию.
Впрочем, прежде чем сделаться романистом, я был драматургом и в качестве оного просто обязан представить публике всех своих персонажей.
Мне предстоит сделать совместно с ними первый отрезок пути в восемьсот лье — это
в три раза больше протяженности всей Франции. Ну-ка прикиньте!
Итак, я продолжаю.
Господин Половский жил в Риме. Поэт и мечтатель, он несколько раз повстречался графу в Колизее и соборе Святого Петра. Земляки за границей — братья. Завязался разговор. У графа был проект открыть в Санкт-Петербурге литературный журнал. Он поделился с Половским своим замыслом и попросил того представить план будущего издания.
Половский план представил, и графу он понравился. Было решено, что руководство журналом Половский возьмет на себя. С этого самого дня он сделался членом фамилии и стал путешествовать вместе с Кушелевыми.
Наш поэт — человек очаровательный, мечтатель, как Байрон, и такой же рассеянный, как Лафонтен.
Рассеянность его простирается в основном на шляпы, на перчатки и на пальто, которые люди необдуманно кладут рядом с вещами этого любимца муз. Однако, по невнимательности, он же сам и остается обычно внакладе.
Но обратимся к другому сыну Аполлона — ведь поэзия и музыка — сестры, обратимся к маэстро Миллелотти.
Это «Илиада», какое там «Илиада», это целая «Одиссея» — история маэстро Миллелотти. Так воспоем же ее наподобие Гомера.
Начнем с того, что граф, будучи в Риме, обосновался в гостинице «Минерва» примерно так же, как в Париже в гостинице «Трех императоров»,—то есть держал дом всегда открытым, ночью в салоне жгли свечи и в сутки тратили что-то две или три тысячи франков. И вот среди назойливых прихлебателей, всегда окру-
жающих путешественников такого рода, внезапно появился еще один земляк.
Этот земляк был композитором и сочинил оперу, рядом с которой, как он считал, «Вильгельм Телль» Россини, «Роберт-дьявол» Мейербера, «Норма» Беллини, «Немая из Портичи» Обера, «Лючия» Доницетти, «Дон-Жуан» Моцарта и «Трубадур» Верди должны померкнуть навеки.
Этот гений не желал упускать мецената и знатока такого калибра, как граф Куше- лев-Безбородко, не дав тому приятной возможности познакомиться с его оперой, которая превзойдет все итальянские, французские и немецкие оперы, настоящие и будущие.
Вдыхая эфир из флакона и теребя свой надорванный уже платок — действия чисто машинальные,— граф имел неосмотрительность сказать: «Отлично, отлично...» И тем уподобился человеку средневековья, в тело которого проник какой-нибудь Бегемот или Астарот4.
Все дни недели Лазарев — такова была фамилия петербургского Орфея — просиживал в гостинице с пяти вечера до пяти утра.
С небольшими перерывами на еду он беспрестанно напевал, насвистывал, намурлыкивал свою оперу, фрагменты из которой еще и наигрывал одним пальцем на фортепьяно. В перерывах, когда композитор не демонстрировал свой шедевр, не пел и не играл, он, не закрывая рта, рассказывал о концерте, который вскоре даст, чтобы воспроизвести хоть часть оперы.
Маэстро довел графа до неистовства. Желая отделаться от музыканта, он пожертвовал триста римских экю на будущий концерт с условием, что Лазарев навсегда оставит его в покое.
Победитель Россини и Моцарта взял восемнадцать тысяч франков и удалился.
Граф был уже убежден, что избавился от докучливого сочинителя, как вдруг однажды вечером его апартаменты стали неожиданно заполняться певцами и музыкантами.
Вздымая дирижерскую палочку, словно Ат- тила карающий бич, маэстро вел их всех за собою. В хвосте следовал аккомпаниатор.
По знаку Лазарева он сел за фортепьяно, скрипачи и виолончелисты стали настраивать инструменты, флейты и гобои затянули свое «ля», пианист прошелся по клавишам, синьора Сприкиа, сопрано, синьор Паталуччо, тенор, синьор Сапрегонди, первый бас, сморкались, покашливали, — словом, началась какофония.
Предстояло исполнение той самой знаменитой оперы, которой полагалось затмить Россини, Мейербера, Беллини, Доницетти, Моцарта и Верди.
Мы уже наслышаны о впечатлительности графа. Вместо того чтоб уподобиться Иисусу, который изгнал торгующих из храма, он ушел и лег в постель в комнате, которая была расположена далее всего от гостиной.
Ввиду отсутствия графа волей-неволей пришлось взять на себя все обязанности главы дома графине. Пожертвовав собою, она велела разносить прохладрггельные напитки, села за ужином во главе стола, аплодировала маэстро, благодарила певцов и музыкантов.
Среди исполнителей ей бросился в глаза аккомпаниатор, молодой человек лет двадцати пяти — двадцати шести, который, вопреки своему истинному таланту, а может, благодаря ему, был прост и скромен и к тому же казался в стесненных обстоятельствах. Графиня, добрая, как добрые феи средних веков, не выносившие чужого страдания, подошла к пианисту, заговорила с ним и выяснила, что он,
81
единственная опора своей престарелой матери, с трудом зарабатывает на хлеб, участвуя в концертах.
Она предложила ему приходить в гостиницу и давать ей уроки пения — два экю за урок. Молодой человек согласился — два экю! Столько он зарабатывал в полмесяца! — и попросил назначить день первого урока.
Графиня, полагая, что новый учитель пения спешит более ее самой, велела прийти на следующий день в три часа пополудни.
На следующий день Миллелотти — таково было имя артиста — явился в условленный час. Но вместо урока графиня заставила его наигрывать польки. Миллелотти, ходячая нотная библиотека, играл до пяти вечера.
В пять объявили, что подано кушать.
Миллелотти силой принудили сесть за стол.
После обеда отправились в коляске на прогулку в виллу Памфили.
Вернулись в полночь, решили помузицировать. Граф, сам недурной музыкант и композитор, положил перед Миллелотти ноты двух или трех своих романсов, которые тот прочитал с листа.
Граф принялся петь и нашел, что еще никто никогда ему так не аккомпанировал.
В два часа накрыли стол для ужина. Миллелотти хотел было удалиться, но его тем же манером уговорили остаться. В пять утра пианист, оглушенный, ослепленный, исполненный восторга, покинул «Минерву».
С него взяли слово явиться завтра к двум, и он слово сдержал. Так и пошло.
Все повторилось на следующий день и еще через день.
Итальянец был неутомим: исполнял польки, мазурки, контрдансы, экосезы, тарантеллы,
этюды, наигрывал мелодии — словом, беспрерывная музыка; то был луч гармонии, слившийся с солнечными лучами, проникавшими в окна.
Приближался день отъезда. Для Иллю- стриссимо — так прозвали Миллелотти в доме— это было большим горем.
Поспешим сообщить, что горечь предстоящей разлуки разделяла вся фамилия. Все так свыклись с его длинными растрепанными волосами, похожими на листву плакучей ивы, с напоминающим соколиный клюв носом, с ласковыми и печальными глазами, с его маленькой испанской шапочкой, с плащом à la Криспен5, а главное, со сладостными мелодиями, уже ставшими постоянным аккомпанементом жизни.
Холод проникал не только в тело, но и в сердце, на глазах наворачивались слезы.
— Но отчего же,— спросила внезапно графиня,— отчего Иллюстриссимо нас вдруг покидает? Разве нельзя всем вместе поехать в Неаполь?
— В самом деле,— поддержал ее граф,— что вам мешает?
— В Неаполь! — исторг вздох Иллюстриссимо.— Увы! Путешестие в Неаполь — это мечта моей жизни.
— Ну так едемте!—воскликнула графиня.
— В Неаполь! В Неаполь! — поддержали ее все хором.
— Ma la madré?* — заикнулся Иллюстриссимо.
— Ба! La madré!** Пойдите, попрощайтесь
* Но мама! (um.)
** Мама! (um.)
с нею. Дандре все устроит, и вам ни о чем не придется беспокоиться.
Иллюстриссимо подлетел к роялю и, словно веселая птица, которая оглашает окрестность своей лучшей трелью, грянул самую бешеную тарантеллу.
Затем схватил свою маленькую испанскую шляпу, свой плащ à la Криспен и выбежал из «Минервы».
Дандре стоило немалого труда поспевать за ним следом.
Однако ни у кого не оказывается таких длинных ног, как у Дандре, если предстоит совершить доброе дело.
Он догнал бы Иллюстриссимо, даже перегнал его, знай он, где живет бедная старушка.
Сын отпросился у матери, и, само собой разумеется, во время его непродолжительного отсутствия она была всем обеспечена.
На следующий день Кушелевы-Безбородко отправились в Неаполь, где и провели месяц. Потом месяц в Сорренто. Это была весна-время, когда цветут апельсины, это был земной рай.
Иллюстриссимо не помнил себя от счастья: фортепьяно выражало все его блаженство, славки и соловьи, слушая его, умирали от зависти.
Граф снял небольшую превосходную виллу, немедленно заполнившуюся знакомыми нам особами, и закипела все та же жизнь.
Что ни вечер — праздники, иллюминации, фейерверки, и все на фоне исходящей из уголка гостиной изящной мелодии, которая, расправляя крылья, парит в воздухе, как жаворонок, и падает на веселый Декамерон6 гармоническими жемчужинами.
I
i
Яч
№
Г/д
Ж
W
ъ ii
(т
84
Временами музыканта, игравшего в равной мере и для других, и для себя, подбадривали то вместе, то порознь возгласами «браво, бра- виссимо!».
Но пришла пора расстаться с Сорренто.
Граф нанял пароход до Флоренции; маэстро предстояло высадиться на полпути в Чи- вита-Веккии.
Море было великолепно. На борту оказался исключительно хороший рояль. Иллюстрисси- мо, подобно умирающему лебедю, исторгал одну за другой свои самые гармонические пьесы, самые печальные мелодии. Время от времени кто-нибудь подымался на палубу полюбоваться прекрасными звездами неаполитанского неба и попрощаться с этим небом так же, как и с музыкой славного юноши; потому что Флоренция— это уже не Неаполь. Музыка с палубы поднималась ласковыми струями, обращалась в дымку, вращалась облачками вокруг парохода. Мерцание огней оставалось за ними в волнах, дрожание звуков — в воздухе. Казалось, корабль сирен покидает неаполитанское побережье в поисках острова Блаженных.
Прибыли в Чивита-Веккию, словно вернулись в повседневность.
И здесь вновь слезы навернулись на глазах. Пожатия рук, объятия... Миллелотти направился к трапу и вдруг заторопился обратно, еще раз попрощаться с графом; он спустился уже в лодку, но вернулся поцеловать руку графине.
— Но послушайте! — воскликнула она.— Отчего бы вам не поехать с нами во Флоренцию?
— Ах, Флоренция...— отозвался Миллелотти.— Увижу ли я когда-нибудь Флоренцию?
— Оставайтесь с нами,— заметил граф,— и вы увидите ее.
— Ma la madré?..—обеспокоился Иллю- стриссимо.
— La madré? Ее адрес вы дадите Дандре, и Дандре ей напишет. Да вы напишите ей сами, когда прибудете во Флоренцию.
— Ах, Флоренция, Флоренция!..
— Поехали с нами во Флоренцию! — воскликнул хор.
Кто-то отнял у Иллюстриссимо шляпу, кто-то взял из рук плащ; его подвели к инструменту и усадили на стул.
И опять руки маэстро простерлись над клавишами, но на сей раз не бешеная тарантелла, не веселая полька, не блистательная мазурка вырвалась из-под пальцев виртуоза.
Это была «Последняя мысль» Вебера, меланхолическое прощание del figlio a la madré*.
Стоит ли говорить, что с Миллелотти Куше- левы не расстались и во Флоренции, как не расстались в Риме и в Чивита-Веккии, а в Париже не распрощались с ним точно так же, как не распрощались во Флоренции?
Сегодня Иллюстриссимо принадлежит к фамилии: Дандре поручили вести переписку с la madré, и все будет великолепно до самой зимы.
Вот только как Иллюстриссимо вырвется из цепких лап петербургской зимы в своей испанской шапочке, кургузеньком плащике à la Криспен при двадцати градусах мороза!
№
/ГЗ)
ж
сына с матерью (um.).
ПИРИТ
оговорив об Иллюстриссимо, перейдем к другой знаменитости: к заклинателю, колдуну, магу по имени Юм.
Если вы не видели Юма, то, конечно, о нем слыхали. Для тех, кто с ним не встречался, попытаюсь описать его наружность: одному лишь Господу, сотворившему это удивительное творение и ведающему, для чего он его создал, дано описать его душу.
Юм — это молодой человек, вернее, взрослый ребенок лет двадцати трех — двадцати четырех, небольшого роста, худой, нервный и впечатлительный, как женщина. Мне довелось видеть, как ему дважды в один и тот же вечер сделалось дурно,—и все потому, что я пытался гипнотизировать его.
Если бы я действительно захотел загипнотизировать Юма, он уснул бы от одного моего взгляда.
Кожа на лице у него белая, местами розоватая, даже чуть красная; русые волосы того приятного теплого оттенка, когда они уже не белокурые, но еще не рыжие, глаза голубые, мягко очерченные брови, небольшой немного вздернутый нос; одного цвета с шевелюрой усы и под ними красиво посаженный рот с великолепными зубами, гу-
бы тонкие, бледные. Белые, женственные холеные руки унизаны перстнями.
Одет — всегда с элегантностью и, хотя не чурается европейского платья, ходит почти постоянно в шотландской шапочке с серебряной пряжкой, на которой герб: рука с коротким мечом и девиз: «Vinceïe-aut morire»*.
Поинтересуемся теперь, каким образом Юм отправился вместе с графом в Неаполь? Как он вместе с прочими совершил путешествие из Неаполя во Флоренцию и из Флоренции в Париж? Каким образом очутился на Луврской площади в гостинице «Трех императоров»? Все это вы узнаете из моего рассказа.
Юм — Даниель-Дуглас Юм — появился на свет в Кьюрере близ Эдинбурга 20 марта 1833 года.
Его мать, как бывает порой в шотландских семьях и о чем упоминает, кстати, Вальтер Скотт, обладала даром прорицания.
Когда она ждала ребенка, ей было видение: этот ребенок, сын, сидит за одним столом с императором, императрицей, королем и принцессой.
Двадцатью годами позднее все это сбылось во дворце Фонтенбло.
Семья была бедна и проедала остатки прежнего состояния — существовавшей некогда фабрики. Однако материнская любовь преодолевала все трудности.
Ребенок рос хилым, никто не верил, что его удастся спасти, и только мать, без тени сомнения, с улыбкой на устах уверяла всех, что дитя выживет.
В бедном доме не было ни кормилицы, ни няньки, но неизменно спокойная мать уверяла,
* «Победить или умереть» (лат.).
что колыбелька ее ребенка качается сама собою, а ночью два ангела стоят у его изголовья.
Когда мальчику исполнилось три года, дар ясновидения, которым она обладала, обнаружился и у сына: он увидел, как за тридцать лье от их жилища умирает его маленькая кузина, и перечислил всех, кто склонился над кроваткой.
— Ты забыл про ее отца,—заметили ему.
— Я не забыл,— ответил мальчик,— я просто его не вижу.
— А ну-ка посмотри хорошенько, может, ты его все-таки увидишь.
Ребенок, казалось, мгновение во что-то вглядывался.
— Он на море,— пояснил малыш,— и когда вернется, тело Мэри уже остынет.
Девочка и в самом деле умерла, прежде чем успел приехать отец.
Когда Даниелю исполнился год, его увезли из родного селения к тете и дяде в Портобел- ло, маленький портовый городишко близ Эдинбурга.
В семилетием возрасте он уехал в Глазго.
Когда мы говорим «уехал», это лишь оборот речи, на самом деле ребенок, конечно, не может переезжать по собственному желанию.
В Глазго Юм жил до десяти лет.
Мечтательный мальчик любил уединение. Ему не хотелось общаться с другими детьми, у него не было товарищей. Так продолжалось до десятилетнего возраста.
Из Шотландии он переехал в Америку, из расположенного у подножия гор Глазго попал в равнинный Коннектикут, в Норвич и там встретил подростка по имени Эдвин, двумя годами старше себя. Между ними возникла
E
дружба, причем самого необыкновенного свойства.
Оба ребенка, встретясь друг с другом, молча направлялись в лес: там они расходились в разные стороны, чтобы предаться чтению, и через какое-то время обменивались посетившими их мыслями и обсуждали в подробностях прочитанные книги.
В один прекрасный день Даниель заметил, что Эдвин бледен и сильно взволнован.
— Ты знаешь,— сказал Эдвин,— я только что прочитал очень странную вещь. Это история двух друзей, любивших друг друга и связанных клятвой, которая была написана кровью: тот из них, кто раньше умрет, должен явиться на прощание к тому, кто остался. И когда один из них умер, другой сдержал слово. Не хочешь ли ты, чтобы мы сделали так же и чтобы наша судьба была такой же?
— Хочу, даже очень хочу! — воскликнул Даниель.
Мальчики отправились в церковь и там поклялись: тот, кто умрет первым, явится попрощаться с товарищем.
Затем, следуя примеру предшественников, каждый наколол иглой палец и выдавил несколько капель крови. Они смешали эту кровь и таким образом скрепили свой обет.
Семейные обстоятельства разлучили двух друзей. Юм вместе с теткой отправился на жительство в Трой (штат Нью-Порт), в трехстах милях от Норвича.
Эдвин остался в Норвиче. Минул год.
Однажды Юм поздно вернулся домой и, не обнаружив ни огня в очаге, ни свечи на столе и опасаясь, как бы тетка не стала его бранить, прокрался бесшумно к себе в комнату и забрался в постель.
90
Вскоре откуда-то донесся непривычный для жилища звук, и он поднял веки.
Яркое сияние, несомненно, свет луны, озарило наискось комнату.
В этом не было ничего особенного, и потому мальчик не удивился; странным показалось, однако, то, что у изножья кровати витала некая дымка, постепенно густевшая.
Понемногу в этой дымке, которая, переливаясь, поднялась на высоту четырех или пяти футов, обозначилась человеческая фигура, похожая на укрепленный на цоколе бюст.
Видение имело черты Эдвина, только мальчик был очень бледен, лицо будто мраморное.
Внезапно глаза ожили и глянули на Юма, который меж тем смотрел на пришельца, не в силах оторвать взора. Губы ночного гостя зашевелились, и, хотя изо рта не вырвалось ни звука, Юм услышал нечто наподобие эха, которое зазвучало в нем самом:
— Ты узнал меня, Даниель?
Даниель ответил кивком.
— Я исполнил свое обещание. До встречи на небесах!
Из дымки вышла рука и указала ввысь.
Затем видение понемногу растаяло, превратилось в облачко, облачко стало туманом, и все исчезло. На следующий день Юм сообщил тетке:
— Умер Эдвин.
— Кто тебе сказал? — спросила тетка.
— Он сам. Сегодня ночью он приходил со мной прощаться.
Тетку охватила внезапная дрожь, она заявила, что племянник сошел с ума, и велела ему молчать. Однако на следующий день пришло известие о смерти Эдвина.
91
V
Тот являлся своему другу в течение трех ночей, и неизменно в час своей кончины.
В 1848 году Даниель вернулся с тетушкой и дядюшкой в Норвич, куда на следующий год к ним приехала мать.
Но вскоре ей снова пришлось покинуть их, чтоб отправиться в Гартфорд, расположенный в пятидесяти милях от Норвича.
Однажды ночью возник тот же свет и тот же туман, но на этот раз Юму предстала его мать. С трудом заставив себя заговорить, он задал ей вопрос:
— Мама, ты умерла?
И тогда внутри себя он услышал голос, который ответил:
— Пока еще нет. Но завтра в полдень я умру.
После чего все исчезло и мальчик заснул.
Утром видение так живо стояло у него перед глазами, что он с плачем прибежал к тетке.
— Что с тобой? — спросила у него тетка.— Почему ты плачешь?
— Потому что мама умрет сегодня в полдень.
— Кто тебе это сказал?
— Она сама.
— Когда?
— Нынче ночью.
— Замолчи ты, в конце концов накаркаешь еще одно несчастье!— закричала тетка.
Мальчик не произнес больше ни звука. Но через день узнал о смерти матери, она умерла ровно в полдень.
Это как бы предваряло общение Юма с миром духов.
Пять-шесть месяцев спустя, ложась около десяти вечера в постель, он услышал, как
92
кто-то трижды постучал у изножья кровати. Потом еще трижды. И еще. Юм не проронил ни звука, но чей-то голос сказал:
— Это духи.
В ту ночь ему не довелось сомкнуть глаз.
Бледный и изможденный встал он утром с постели. Заметим, что после этого бедняга в течение нескольких недель харкал кровью.
Тетка зовет его к чаю; но, вместо того чтобы взять чашку, мальчик в порьгае тоски кладет голову на руки.
—- Что с тобой? — спрашивает тетка.
Но он не смеет заговорить, поскольку помнит, с каким неудовольствием восприняла добрая женщина два его предыдущих признания.
Внезапно по столу постучали, Юм поднял голову и прислушался.
Тетка тоже услышала стук, так что молчать было бесполезно.
— Что это такое? — спросила она.
— Это духи,— потупившись ответил мальчик.
— Что ж, бесы в вас всех сидят, что ли? — воскликнула женщина. И это «в вас всех» имело под собой определенные основания.
Незадолго до этого две девушки, сестры Фокс, прославились на всю округу тем, что у них обнаружились стучащие духи.
Впрочем, те духи ограничивались одним лишь стуком и никогда, подобно духам, овладевшим Юмом, не приподнимали столов, не передвигали мебель, не заставляли рояль играть сам собою, не прикасались ни к кому то горячей, то ледяной рукой.
— Увы! — воскликнул ребенок, отвечая на вопрос тетки.— Я ничего не знаю. Знаю только,
что было со мной сегодня ночью.— И поведал обо всем, о чем еще не успел рассказать.
Едва мальчик кончил, тетка схватила перо и бумагу и отправила письма трем духовным особам: баптисту, методисту и пресвитерианину. В три часа пополудни прибыли все трое.
— Так, значит, в тебе сидит бес? — поинтересовался баптист.
— Не знаю...
— А что ты предпринимаешь, чтобы изгнать беса?
— Ничего,—ответил насмерть перепуганный мальчик.
Видя, что ребенок трясется от страху, к нему подошел пресвитерианин.
— Успокойся, дитя мое,—сказал он ласково.— Если в тебя и в самом деле вошел бес, то не ты призвал его в свою плоть.
— Как бы то ни было,— заметил баптист,— помолимся, чтоб изгнать его оттуда.
И все трое забормотали молитвы.
Но едва ли не после каждой фразы, точно поддразнивая священников, духи стучали вновь.
После окончания молитвы баптист, видя, что духи упрямятся, решил пообщаться с ними.
Он знал, что следует предпринять, поскольку имел уже возможность беседовать с духами сестер Фокс.
Знайте это и вы, дорогие читатели.
Вдруг пригодится.
И пусть после этого урока кто-нибудь посмеет утверждать, будто мои книги не сеют просвещения!
Так вот. Если вопрошаемый дух ответит одним ударом, то это означает «нет». Если тремя, то «да».
w
Если дух отвечает пятью ударами, значит, он требует алфавита.
Если он требует алфавита, значит, хочет говорить.
И тогда тот, кто желает задать духу вопрос, перечисляет по порядку все буквы алфавита.
Когда спрашивающий дойдет до той буквы, которая необходима духу, чтобы выразить свою мысль, раздается стук, и на бумаге следует записать избранный духом знак.
Продвигаясь от буквы к букве, составляют предложение.
От вопроса к вопросу и от ответа к ответу разговор движется вперед.
Если дух в настроении, ему дают карандаш и он пишет сам.
Но вернемся к разговору, который затеял преподобный Мозес. Так звали баптиста.
— Здесь ли дух моего отца? — осведомился он.
Послышался один-единственный удар, что, как мы уже сообщили, на языке демонологии означает «нет».
— А дух моего брата? — не унимался вопрошающий.
Дух стукнул пять раз, потребовав алфавита и поставив присутствующих таким образом в известность, что ему есть о чем сказать.
Экзорцист произносил по очереди буквы алфавита и после пяти минут совместных трудов получил такой ответ:
— Как ты осмеливаешься спрашивать о духах двух людей, которые живы? Духи твоего отца и твоего брата не могут присутствовать здесь. Но духи твоей матери и твоей сестры рядом.
В самом деле, и мать и сестра баптиста уже
умерли.
Тогда тот решил обескуражить духа таким вопросом:
— Назови их имена.
Дух назвал обеих по фамилии и по тому имени, под которым их крестили.
С баптиста оказалось довольно: он ушел, уводя обоих своих собратьев и заявляя, что против таких духов у него нет средства.
Можете себе представить, какое впечатление в городе произвел этот спиритический сеанс.
Однако священники — за исключением пресвитерианина — растрезвонили повсюду, что мальчик одержим бесом. И для американцев, представьте, не было более притягательного зрелища, чем наблюдать дьявола в теле юного шотландца.
Люди требовали, чтоб им во что бы то ни стало показали одержимого, предлагали за это деньги, и у дома выстроилась целая очередь.
Если б тетка Юма сумела воспользоваться благоприятным случаем, она сколотила бы целое состояние.
Но нервная, болезненная и впечатлительная женщина заупрямилась, закрыла наглухо дверь и осталась при своей бедности.
После явления или, точнее сказать, демонстрации духов мальчику стало лучше и кровохарканье прекратилось.
Улучшение было воспринято как некая уловка беса. Тетка предпочла бы, чтобы болезнь стала развиваться. Умри ее племянник — и вместе с ним в преисподнюю отправятся духи.
Следует добавить, что в доме с той поры не было ни минуты покоя — вечная сарабанда: стулья пляшут с креслами, кровати со столами, каминные щипцы с совками, вертела с кастрюля-
ми. Бес вселился не только в несчастного Юма, но и во всю утварь.
В одно прекрасное утро тетка заявила, что терпение у нее лопнуло, и вечером выгнала племянника на улицу.
Чтоб хорошенько проучить духов, она выбрала ночь с ливнем.
Изгнанный из дома, мальчик попросился к соседу по имени Эли. Тот был отзывчив к чужому горю и принял ребенка и всю его невидимую свиту.
В первую ночь духи, опасаясь, несомненно, как бы их не вытолкали в шею, сидели тихо.
Но уже на следующий день их было не сдержать, и безумие началось вновь.
Эли решил отправить своего гостя в деревню. Мальчик с покорностью воспринимал все происходящее; он полностью зависел от окружающих и позволял другим делать с собой все, что им заблагорассудится. В компании духов он провел в деревне целый месяц и был с ними запанибрата, никто не вмешивался в их отношения.
Вместе с тем состояние far niente* тяготило ребенка, вернее, молодого человека, потому что к этому времени Юму исполнилось восемнадцать. Он хотел чем-то заняться, хотел, научившись какому-нибудь ремеслу, содержать себя сам, ведь ясно, что быть одержимым—еще не профессия.
Эли, покровитель юноши, направил его с письмом к мистеру Грину, своему другу из Нью-Джерси. Прошло два месяца; столы уже не летали, но состояние сомнамбулизма не покидало нашего героя и на новом месте.
4. А Дюма, i
97
/})
Тогда мистер Грин в свою очередь направил его к Каррингтону в Нью-Йорк.
Каррингтон свел Юма с одним профессором — сведенборгианцем. Стоит ли пояснять, дорогой читатель, что Сведенборг является, или, точнее, являлся, поскольку в 1772 году он умер, главой знаменитой религиозной секты, у которой были свои собственные храмы в Лондоне и в Америке1.
Профессор Буше — так звали сведенборги- анца — вознамерился сделать из юноши проповедника своей религии.
Юм попробовал, но тут же отказался за отсутствием истинного призвания.
Меж тем он получил несколько^ писем от одного известного медика из Нью-Йорка; тот предлагал молодому человеку свое гостеприимство, которое с благодарностью было принято.
Врач по профессии, новый хозяин дома Юма оказался человеком неверующим. Но духи не желали, чтоб их любимец жил у атеиста, и увлекли его в Бостон.
Именно там шотландец начал давать свои сеансы. Если учесть, что его не покидала мысль об одержимости дьяволом, то это как раз и было способом получить все с дьявола причитающееся.
К юноше быстро пришла слава, которая сопутствовала ему всю жизнь.
Чтоб взглянуть на медиума, люди приезжали из самых глухих уголков AlMCPhioh, а только одному Богу известно, сколько в Америке с ее площадью в двести семьдесят семь тысяч квадратных лье глухих уголков!
Став знаменитым, спирит вскоре понял, что ему никто не нужен и что он сам для себя является лучшей рекомендацией.
98
Однако именно в пору этих головокружительных успехов возобновилось кровохарканье.
Юм консультировался с лучшими европейскими врачами, и ему посоветовали совершить путешествие в Италию. Однако пойти на столь серьезный шаг и покинуть Америку, не посоветовавшись с духами, он не мог.
Призванные на консультацию духи подтвердили совет врачей.
Ничто более не задерживало мага в Бостоне.
Распрощавшись с Соединенными Штатами, Юм пересек Атлантический океан, сошел на берег в Англии и в апреле 1855 года прибыл в Париж, где и провел лето.
Он чувствовал себя плохо, и сеансы пока не возобновлялись. Не говоря никому ни слова о своей чудесной силе, медиум занялся изучением французского языка.
Однако духи-полиглоты ему все же помогли: через пять месяцев Юм говорил по-французски так же, как говорит сейчас, то есть самым блистательным образом. В сентябре он отправился во Флоренцию.
Сразу по прибытии в город Медичи ему нанесла визит миссис Троллоп, знаменитая путешественница. Она пробовала познакомиться с ясновидцем и раньше, когда тот был проездом в Лондоне, но Юм, которому сильно нездоровилось, ее не принял.
Отбиться от англичанки теперь возможности не было. Впрочем, не было и надобности, поскольку самочувствие улучшилось.
Стоило миссис Троллоп попасть в дом Юма, или, вернее, стоило Юму переступить порог миссис ТроллЪп, как у него не осталось средств для защиты. Сеансы начались снова.
Дар Юма расцвел в ту пору необыкновенно, духи не покидали его. Куда бы он ни напра-
влялся, под рукой всегда оказывалось два-три духа.
Никогда султану в Константинополе, шаху в Исфагане, радже в Лахоре или Кашмире не служили невольники с таким проворством и усердием, как Юму духи.
Он творил чудеса, и мне остается лишь пожалеть, что я их не видел. Особенно впечатляли сеансы у мадам Орсини, дочери Григория Орлова2, и у очаровательной фрейлейн Венцель. Я знавал обеих: они держали тогда самые приятные дома во Флоренции; сегодня обе уже отошли в мир иной.
Мадам***, дама в высшей степени утонченная, добрый гений всех французов, явилась их преемницей и, не забывая обеих, не забывает и себя.
В тех салонах духи творили чудеса, доказывая, что им по нраву люди, обладающие сердцем.
Они поднимали столы, устраивали бег с препятствиями для софы и кресел, играли двумя бесплотными руками на рояле и затем, самое удивительное, заставили дух отца хозяйки написать на листке бумаги пять слов:
«Моя дорогая Антуанетта...
Григорий ОРЛОВ».
Почерк был так разительно похож на почерк покойного, что все друзья графа, кому только ни показывали записку, тотчас узнавали руку.
Но во Флоренции слишком опасно увлекаться чудесами, пример тому Савонарола, которого сожгли живьем за то, что он слишком самозабвенно отдался подобному делу. Юму дали знать, что святая инквизиция им заинтере-
совалась, и он вместе с графом Александром Браницким отправился в Неаполь.
Граф не боялся духов, не знаю, боялся ли он чего-либо вообще. Он только что ездил в Африку с Жераром, чтоб выяснить, есть ли у него все-таки чувство страха и проявится ли оно при встрече со львами.
У меня будет еще возможность поговорить о его матери, госпоже Браницкой, и при случае о Потемкине, его дяде. Госпожа Браницкая, слава Богу, еще жива, и из ее собственных уст я слышал рассказ о том, как умер фаворит Екатерины Великой: рядом с канавой, на своем синем плаще.
Итак, Юм направился в Неаполь вместе с графом Браницким. Но при отъезде возникли осложнения. Сперва банкир, к которому у него был переводной вексель, отказывался выдать деньги.
Затем взбунтовалась чернь: она уже давно никого не разрывала на части, даже не наблюдала со стороны, как это делают с каким-нибудь колдуном. О, эта славная флорентийская чернь! Ей подобного действа сильно недоставало.
В течение трех суток она осаждала виллу Коломбайа, где жил Юм.
Понадобилось вмешательство самого графа Браницкого, чтобы снять осаду.
Впрочем, если вдуматься, то об этом следовало бы позаботиться вовсе не графу, а духам. Уж если вы поставили человека в затруднительное положение, то надобно его и выручать, иначе какие же вы, в конце концов, духи?
Правда, через полтора месяца после прибытия в Неаполь, 10 февраля 1856 года, духи покинули Юма, объявив, что, к их глубокому сожалению, им пора удалиться.
м
S4s<
Q)
%
1
w
®3l.
Где они пребывали? Об этом они не проронили ни звука и сохранили тайну даже тогда, когда вернулись вновь 10 февраля 1857 года.
Юм воспользовался их непродолжительным отсутствием, чтобы съездить в Рим и перейти там в католичество. Мало смысля в религиозной принадлежности своих потусторонних спутников, он был не прочь тем не менее откреститься от них с помощью святой воды.
Ведь очевидно, что если бы это были злые духи, дети сатаны, то они не сохранили бы на католика того влияния, какое имели на протестанта.
Имелось, однако, обстоятельство, которое заставляло Юма верить в то, что его духи — благие: всякий раз, когда он затевал с ними разговор о вере, они твердили: «Молиться, молиться, молиться!»
Впрочем, в Риме у него появилась возможность встретиться с экзорцистом высочайшего класса, с самим папой. Юм испросил аудиенции у Пия IX.
Пий IX был наслышан о шотландском маге и принял его по первой же просьбе, поставив при этом одно-единственное условие: явиться в Ватикан в обществе священника.
Маг избрал себе в сопровождающие не просто священника, но ученого-богослова, преподобного Тальбо.
В присутствии его святейшества преподобный Тальбо рассказал о том, как Юм повелевает столами, стульями и роялями, короче, всею меблировкою без изъятия.
К несчастью, Юм свое могущество утратил и не смог дать его святейшеству доказательства прежних чудес.
Папа велел ему поцеловать распятие и произнес:
*
г
}(Г$)
А
ШЁ
щ
к
1№
102
vT*
ш
rb
\Щ}
Й
— Вот тот святой стол, который мы вам предлагаем; приблизьтесь к нему по мере возможности, и вас ждет спасение.
В Италии здоровье Юма улучшилось, и когда граф Браницкий направился во Францию, к нему присоединился и молодой спирит.
В Париже Браницкий жил в уединении на улице Мадам и общался исключительно с поляками.
В декабре слухи о чудесах Юма в Италии распространились по Франции, и его пригласили ко двору.
Юм ответил, что магическая сила вернется к нему лишь 10 февраля 1857 года и что, следовательно, он не будет давать пока сеансов. Ведь не выходит же на промысел охотник, если уверен. что дичи нет.
Немного позднее молодой человек познакомился с отцом Равиньяном.
Он поведал ему всю свою историю. Священник внимательно выслушал Юма и затем заявил:
— Вы были одержимы дьяволом, дитя мое, но теперь вы, слава Богу, католик. И более к этому не вернетесь.
Юм покачал головой в ответ:
— Я знаю своих духов, они шотландские, значит, очень упрямые. Они предупредили, что вернутся десятого февраля, значит, вернутся.
— Устроим девятерицу,— сказал отец Ра- виньян.
— Согласен,—отвечал Юм, который, с одной стороны, боялся поссориться со своими духами, а с другой — был не прочь от них избавиться.
Последним днем молитвенного радения — девятерицы — было как раз 10 февраля, с такой тревогою ожидаемый день.
Гг
Щ\ те
Ш
Ъ)
%(
(g\VS
Щ
т/
4У
111
и
кф)
\\
i '
1к
я
fab
103
Хотя девятерица уже свершилась, Юм беспрерывно молился и в одиннадцать вечера отправился спать. В полночь прозвонили стенные часы.
Еще не смолк отзвук последнего удара, как духи постучали — не в дверь — потому что если бы в дверь, им бы просто не открыли, и весь разговор,—нет, они по старой привычке постучали в изножье кровати.
Духи столь радовались, что обрели вновь свое прежнее обиталище, что громыхание не прекращалось всю ночь. Юму не удалось сомкнуть глаз. Едва наступил день, как он бросился на поиски отца Равиньяна, но тот опередил его своим появлением.
— Ну как, дитя мое? — осведомился он.
— Отец мой,— в отчаянье ответил Юм,— они вернулись.
— Нельзя ли мне их послушать?
Не успел прославленный проповедник договорить, как духи, словно торопясь доставить ему удовольствие, принялись стучать то справа, то слева, то в пол, то в потолок.
Святой отец был не в силах поверить.
— Кто-то спрятался в комнате рядом,— воскликнул он и заглянул в комнату направо, затем в комнату налево. Комнаты, однако, были совершенно пусты. Тогда он стал молиться, но шуму от этого только прибавилось.
Всякий раз при имени Бога духи стучали сильнее.
— К сожалению, сын мой, я вынужден удалиться,— сказал Равиньян.— Но перед уходом благословлю вас.
Юм стал на колени, и священник его благословил. Не знаю, что это было, радость праведных духов или же злоба исчадий ада, но только в момент благословения стук стал в два
раза громче. Крестное знамение, казалось, вывело духов из себя.
Отец Равиньян удалился.
Едва знаменитый златоуст переступил порог, как объявился маркиз де Бельмон, камердинер императора.
Господин Бельмон осведомился, явились ли духи обратно, как обещали. Ему достало лишь послушать, чтоб убедиться в их присутствии всюду: в столах, в стульях, в креслах и особенно в кровати.
У Юма не было теперь никаких оснований отказываться от визита ко двору. Аудиенцию назначили в Тюильри3. Он отправился туда 13 февраля вечером.
Расстанемся же с ним на нижней площадке парадной лестницы.
Какому-нибудь Данжо современного двора надлежит рассказать обо всем, что было на этом достопамятном сеансе, о котором ходило столько разных толков и который завершился тем, что императрица удочерила младшую сестру мага.
Юм, дитя моды, чье имя у всех на устах, незаменимая личность, предмет всеобщей зависти, был меж тем самым несчастным человеком на свете.
На следующий день после приема в Тюильри, который, надо полагать, был великолепен, аббат Равиньян не замедлил явиться снова.
— Ну что, сын мой? — спросил он.
— Увы, отец мой,—в отчаянии ответил ему Юм,— силы у меня как никогда прибыло.
— Значит, не надо было ходить в Тюильри.
— Разве мог я отказаться?
— Вас повлекло туда тщеславие.
— Да, это правда. Там сомневались, а мне хотелось доказать.
— Вам следует запереться в доме, никому не открывать, никого не слушать, ни с кем не разговаривать.
— Невозможно. Я сойду с ума.
Отец Равиньян ушел в отчаянии. Он решил, что не станет ни во что вмешиваться, разве что случится нечто чрезвычайное.
После него явился граф де Комар, большой друг графа Браницкого, кузен принца де Бово. Юноша был разбит и уничтожен. Граф посоветовал ему поискать другого священника.
Юм отправил записочку аббату де Г... Аббат де Г... примчался бегом. Слухи о прославленном спирите коснулись его ушей. Он был в восторге, что познакомится с магом.
Юм сообщил ему о совете, данном аббатом Равиньяном.
Аббат де Г... пожал плечами.
— Не лучше ли уж вам сразу лечь в гроб?
Впрочем, произошло нечто, отвлекшее
Юма от всех этих обстоятельств. Как мы уже сообщали, императрица намеревалась заняться воспитанием сестры Юма.
И Юм, хоть и плохо переносил морские путешествия, отправился один, без сопровождения, за своей сестрою.
Он уехал в Америку 21 марта, вернулся— 21 мая.
Два месяца, день в день, его не было во Франции.
Его внезапный отъезд, причину которого объясняли чем угодно, кроме истинных побуждений, обострил до крайности любопытство парижан. Во всех салонах только про Юма и говорили.
23 декабря ему пришла телеграмма с повелением явиться в Фонтенбло, где в то время находился баварский король.
Таким образом осуществилось пророческое видение его матери, сын сидел за одним столом с императором, императрицей, королем и принцессой.
В середине мая его дар исчез вновь, и духи, расставаясь, сообщили, что это необходимо для его здоровья.
В конце июня, когда он должен был отправиться в Константинополь, нанес уже все визиты, закрыл на ключ все чемоданы, и в доме леди Гамильтон, Баденской принцессы, прощался с Ее Высочеством, духи вернулись к нему вновь и объявили, что в Константинополь он не поедет.
В самом деле, на следующий день доктора прописали магу воды Баден-Бадена вместо вод Золотого Рога.
Юм направляется в Баден и дает там шесть сеансов: один для Вюртембергского короля, три для принца Альберта Прусского, один для принцессы де Нассау и один для принцессы Бу- тера.
Французский двор находился в Биаррице. Юм был приглашен ко двору телеграммой, как обычно.
Но его дар ослабевал, а вместе с ним таяли и милости. Близость к коронованным особам возбудила большую зависть в обществе, о Юме ходили самые невероятные слухи, и ему показалось, что достойнее будет удалиться.
Он направился в Париж к графу де Комару, где пробыл до января 1858 года, и там получил известие, что одна старая англичанка, умирая, оставила ему пожизненную ренту в шесть тысяч франков. Лишь у старых англичанок бывают такие причуды!
Вскоре пришло приглашение от голландского двора.
*
Г
Цф)
%
).v\
М
((te¬
rn
10 января Юм отправился в Гаагу, где дар молодого шотландца проявился с необычайной силой. Но он так этим злоупотребил, что болезнь снова свалила его с ног.
Духи покидают Юма вновь, ворча и сетуя на его неосмотрительность, и на этот раз в качестве наказания не назначают дня своего возвращения.
Маг тотчас отправляется в Париж, встречается там со своими врачами, которые велят без промедления ехать в Италию.
Он задерживается в Париже ровно настолько, насколько это необходимо, чтобы привести дела в порядок, и затем, не теряя ни минуты, устремляется на юг.
Прослышав о нем в Италии, граф Кушелев желает, чтоб ему представили знаменитость. Встреча состоялась.
Юм уже потерял былое свойство пугать людей, зато сохранил способность нравиться им. Через месяц была оглашена его помолвка с сестрой графини Кушелевой.
Решили, однако, что свадьбу сыграют лишь в Санкт-Петербурге.
С этого момента Юма рассматривают как зятя и он путешествует вместе со всей фамилией в Неаполь, в Сорренто, во Флоренцию и в Париж, где я его и встретил. Он играл, точно простой смертный, или, вернее, как взрослый ребенок, в салоне гостиницы «Трех императоров» с Сашей, Синьориной, Мышкой и Черепахой.
Тут я спохватываюсь, что названы три совершенно неизвестных публике персонажа.
Так опишем же хотя бы в двух-трех словах, кто они такие, и как только вам станет известно все, что должно быть известно, продолжим, дорогие читатели, начатое путешествие.
'ИНУТА-ДРУГАЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ
иньорина, Мышка, Черепаха — это три особи собачьей, кошачьей и пресмыкающейся породы, и я предуведомил вас, что к ним еще вернусь.
Синьорина — кошка, Мышка — собачка, а Черепаха —это черепаха.
Говорил ли я вам, кто такая Синьорина? Должно быть, говорил. А впрочем... Я пишу быстро, стараюсь не прерываться во время работы, поэтому могу забыть что-нибудь или, наоборот, повториться. Синьорина — римского происхождения. Граф посещал магазин известного мозаичиста Галанти с намерением сделать там покупки, правда, сравнив прежде его цены с ценами в других лавках. Синьорина подскочила к графине, выгнув спину и громко мурлыкая.
— Ах, какая красавица,—воскликнула графиня,—продайте!
Галанти ответствовал, что кошка не продается, но можно взять ее бесплатно. Графиня взяла Синьорину в качестве подарка; граф же закупил у торговца на сорок тысяч франков мозаики.
Таким образом Синьорина была оплачена, причем щедро оплачена.
109
Одно лишь беспокоило графиню: известно, что кошка — создание особого рода, она привязывается к месту, а не к хозяину и потому, возможно, будет тосковать по лавке синьора Га- ланти.
Но вскоре пришлось убедиться в обратном: Синьорина принадлежит к чрезвычайно редкой породе кошек — путешественниц, у нее череп с хорошо развитой шишкой передвижения. Выбравшись по прибытии в гостиницу из муфты графини, она встряхнулась, вылизала свою похожую на мех горностая блестящую шерстку, погляделась в зеркало и решила пройтись по апартаментам.
Добравшись до спальни, киска была, казалось, удовлетворена тем, что поиски увенчались успехом: грациозно вспрыгнула на кровать, свернулась клубком и, выставив розовый носик, мирно уснула.
Ни разу не явилась она причиною какого-либо замешательства. В момент отъезда ее помещали в корзинку, чему эта римлянка вначале противилась, но с чем впоследствии примирилась, не прекращая, впрочем, проявлять признаки неудовольствия. Так она и путешествовала: на остановках высовывала голову из корзинки, съедала кусок пирога, напивалась воды из миски и пряталась вновь под крышку. А по прибытии в гостиницу отряхивалась и вылизывала шерстку, после чего пробегала по комнатам и, хорошенько поужинав и никому не докучая, спокойно проводила ночь.
Так Синьорина совершила вояж из Рима в Неаполь, из Неаполя в Сорренто, из Сорренто во Флоренцию и из Флоренции в Париж.
И только между Эксом и Турином имело место серьезное происшествие.
Значительную часть багажа решили отправить вперед.
Среди вещей оказалась и корзиночка с кошкой.
Это обнаружилось, когда все усаживались в вагоны. Поезд двинулся с места, и не было возможности исправить ошибку.
Утешали себя тем, что заберут Синьорину по пути на той станции, куда уже прибыла поклажа.
Но поезд был скорый, и потому станцию, к великому горю графини, миновал на большой скорости.
На следующей остановке воспользовались телеграфом, кроме того, отправили нарочным письма к начальнику станции и начальнику телеграфной службы.
Послали также сто франков за причиненное служащим беспокойство, еще пятьдесят на пропитание кошки и ко всему присовокупили просьбу доставить Синьорину в особняк Ротшильда в Париже.
Граф прибыл в Париж и обосновался в гостинице «Трех императоров», а два дня спустя сюда же прибыла Синьорина. Она превосходно перенесла злоключения, доказав тем самым, что знает себе цену и верит в то, что о ней позаботятся. Аристократка из лавки Галанти прогулялась по парадным комнатам богатого банкира, но, не будучи ослеплена их великолепием, впервые, может быть, с облегчением прыгнула к себе в корзину, когда ей сообщили, что она покидает особняк на улице Лаффит.
Прибыв в гостиницу, Синьорина навестила, как всегда, по очереди все свои владения и после перенесенных волнений решила выспаться на постели графини.
История двух других животных короче и не связана со столь бурными перипетиями.
Мышка — это крохотный терьер, черный, без единого белого волоска. Его привезли графу из Лондона в Париж в подарок от молодого англичанина по фамилии Деринг, с которым граф познакомился в Риме.
Деринг прибыл с Голубого Нила. Он поднимался на двести лье выше Хартума, охотился на слонов, гиппопотамов, страусов, крокодилов и газелей; ему, как и всем, достигавшим седьмого или восьмого градуса широты, приходилось много слышать об единороге, но видеть— не довелось. До поездки по Голубому Нилу Деринг побывал в Лахоре, в Дели и в Бенаресе.
Что же до черепахи, которую звали просто Черепахой, то ее купили в магазине Шеве, чтоб развлечь Сашу.
Это было,— впрочем, таковым оно остается еще и сегодня,— мрачноватое существо, которое, не вступая ни с кем в беседу, прячется по углам и молча жует листья салата и нарезанную кружочками морковку — свой незамысловатый корм.
Теперь, когда вы уже познакомились с графом, графиней, с незаменимым и вездесущим Дандре, доктором Кудрявцевым, профессором Рельченским, маэстро Иллюстриссимо, мадемуазелью Александриной (Сашей), с Элен, с Аннет, с поэтом Половским и спиритом Юмом, что мне еще остается? Остается лишь, дорогие читатели, рассказать о причинах, которые побудили меня самого отправиться в Россию, что я и сделаю в двух-трех словах, хоть вы, думаю, уже наслышаны, будто поездка в Санкт-Петербург связана с намерением написать пьесу для «Комеди Франсез» и надеждой
112
получить орден Святого Станислава1, что ни в коей мере не соответствует действительности, честное слово!
Мой рассказ будет краток.
Юм еще в пору расцвета своего дарования не раз просил, чтоб его представили мне, приглашал на спиритические сеансы. Но ни знакомство, ни, тем более, участие в сеансах не состоялось, однако не потому, что не было желания, а из-за вечной моей занятости. Впрочем, разговор пошел уже всерьез, когда один, а точнее сказать, двое из моих близких друзей—граф де Сансийон и Делаж — однажды предупредили:
— Завтра привезем к вам Юма.
Дорогие читатели, позвольте прервать повествование и представить графа де Сансийона, одного из самых элегантных, самых одухотворенных, самых благородных дворян Франции.
Ему еще предстоит путешествовать со мной по Волге, Уралу, Каспийскому морю, Кавказу, по Крыму и по Дунаю; и оттого будет хорошо, если вы с ним познакомитесь заранее.
По семейным обстоятельствам он задержался в Париже, но в ближайшее время должен к нам присоединиться, и я жду его с нетерпением.
Что касается Делажа, то кто ж его не знает? Он автор нескольких книг по оккультным наукам, которые наделали много шуму в обществе.
Итак, Сансийон и Делаж сказали: «Завтра привезем к вам Юма». И услышали в ответ:
— Приезжайте все вместе на обед.
Именно такой способ знакомства я предпочитаю другим, потому что, как прочие великие труженики, более всего боюсь, что мне поме-
i
л
шают в работе, хоть это и случается не менее пятидесяти раз на дню. Однако в любом случае обедать, надо: больше — меньше, хуже — лучше, короче — дольше, так отчего же не принять за столом тех людей, которых хотят мне представить, разумеется, если они согласны на прием такого рода?
Именно этому обстоятельству я обязан репутацией хорошего кулинара. На следующий день в половине седьмого прибыли Сансийон, Делаж и Юм, и знакомство состоялось как раз в тот самый момент, когда мы поглощали консоме, рецепт которого сообщу вам в ближайшее время.
Избегая беседовать с Юмом о его недавних триумфах в Париже и при дворе из опасения, как бы мысль о потере дара не отразилась на его пищеварении, я завел разговор о своих путешествиях, а он говорил о Риме, Неаполе и Флоренции.
Юм рассказал, как в Риме свел знакомство с графом и графиней Кушелевыми, как сделался женихом свояченицы графа, затем скромно добавил, что граф и графиня, узнав, что он едет ко мне обедать, изъявили желание со мной познакомиться.
— Что ж, пусть граф и графиня окажут мне честь и приедут на обед,— заявил я, верный своим принципам,— с удовольствием познакомлюсь с ними так же, как имел возможность познакомиться с вами.
— Не уместнее ли вам самому посетить их? — заметил на это Юм.
— Отлично, буду иметь честь представиться им завтра в гостинице «Трех императоров».
— Отчего ж не сегодня?
— Но полагаю, мы с вами не расстанемся ранее одиннадцати часов или полуночи. Вот в чем дело.
— Прекрасное время для графа и для графини, они не ложатся прежде шести утра; мы можем отправиться туда в одиннадцать или в полночь и таким образом расстанемся, не расставаясь.
Я повернулся к Делажу, который был близким другом семейства Кушелевых.
Жестом он дал понять, что это вещь само собой разумеющаяся, простая.
— А чтобы разом убить двух зайцев, представим им сегодня и господина де Сансий- она,— добавил Юм.
Я не стал дознаваться, кого под каким зайцем он подразумевает, и согласился.
•В тот же вечер нас представили и графу и графине.
Я покинул гостиницу «Трех императоров» в пять утра, поклявшись себе не ходить более в дом, откуда выходят в такой час, и... явился туда на следующий день, а ушел в шесть утра.
Я явился туда днем позже и ушел в семь.
Впрочем, хочу заметить, что в этом заколдованном салоне Сивори играл на скрипке, Ашер — на фортепьяно, и Мери декламировал.
Но от этого мой роман не двигался вперед, и, чтобы исправить положение, пришлось целых три дня не посещать графа.
На третий день Кушелевы прислали экипаж. Юму и Сансийону поручили схватить меня за руки-за ноги и волей-неволей доставить в гостиницу «Трех императоров».
Это покушение, однако, было мне не по нраву, и я решил обороняться, как оборонялись Троя или Севастополь.
Но человек слаб, я тяжко вздохнул и последовал за своими мучителями.
Опишем походя одно событие, которое доказывает, что жалобы Юма, будто его дар исчез, не вполне соответствовали действительности.
Мы ехали по Амстердамской улице в коляске, запряженной парой, Сансийон и я — на заднем сиденье, Юм —на переднем.
Вдруг послышался шум, казалось, нас преследует огненная колесница. Я приподнялся и оглянулся.
Пролетка, влекомая — а ведь все возможно — взбесившейся лошадью, мчалась вихрем по улице и могла вот-вот врезаться в коляску. Чтобы избежать столкновения, кричу нашему кучеру:
— Правее! Правее!
Но он не понял, и потому пришлось кричать вновь во весь голос.
— Не опасайтесь,— спокойно сказал Юм,— вы едете со мной.
Не успел он еще окончить фразы, как пролетка зацепилась за заднее колесо и развернула нашу лошадь вместе с кучером в ту сторону, откуда мы ехали.
Наступил момент помрачения, неизбежный при встряске такого рода. Затем, удостоверившись, что Юм, Сансийон, экипаж, лошади, кучер и я живы и невредимы, оборачиваюсь, чтоб узнать, что же случилось с пролеткой.
Опрокинувшаяся, она лежала на тротуаре слева; рядом, задрав все четыре копыта, билась в конвульсиях лошадь; кучер, без чувств, простерся на мостовой. Что же касается нас, то ни у кого не было ни царапины.
Едва я вошел, граф и графиня поднялись
с мест, подошли, усадили меня в кресло и сами уселись по обе стороны.
— Господин Дюма,—сказал граф,—мы заметили, что к шести часам, когда вы нас покидаете, вы утомлены.
— Скажу откровенно, граф, это нарушает мои привычки.
— Да, да,—подхватила графиня,—отныне будем отпускать вас в полночь.
— Легко сказать, графиня: в полночь... Но попытаемся.
— Однако при одном условии,— заметил граф.
— При каком?
Объяснение взяла на себя графиня.
— При условии, что вы поедете в Петербург вместе с нами.
Я даже подпрыгнул в кресле — столь дикой показалась мне эта мысль.
— Пляшите, пляшите,— заметила графиня с иронией.— Мы приготовились к этому.
— Но это невозможно, графиня!
— Отчего ж невозможно? — осведомился граф.
— А. очень просто. Вы уезжаете в будущую среду, то есть через пять дней; мне же за пять дней никак не подготовиться к путешествию. К тому же,—добавил я, обращаясь больше к самому себе,—быть в Санкт-Петербурге— еще не значит быть в России.
— Вы совершенно правы! — воскликнул граф. — Санкт-Петербург — это город Петра, и это еще не Россия.
— Ну вот, а хотелось бы посмотреть Моск¬
ву,— продолжал я,— Нижний Новгород, Казань, Астрахань, Севастополь и вернуться домой по Дунаю.
— Все замечательно складывается,—подхватила графиня,—у меня есть поместье в Королеве под Москвой, у графа земли за Нижним Новгородом в казанских степях, рыбные промыслы на Каспийском море, охотничий домик в Исатче. Расстояние от одного места до другого целых двести лье. Вы совершите гигантские прыжки, и у вас закружится голова. Тоненький волосок привязывает вас к Парижу, а женский волосок — самый ненадежный.
— Графиня,— ответил я,—дайте два дня на размышление.
— Даю две минуты,— заявила графиня.— Одно из двух: либо мы отказываем Юму в разрешении на брак с моей сестрой, либо вы будете шафером.
Я встал, вышел на балкон, было от чего задуматься. Ведь уже намечено путешествие в Грецию, Малую Азию, Сирию и Египет. А поездка в Россию отнимет год-полтора.
Вместе с тем нет, вероятно, ничего более интересного, чем посетить эту страну в нынешних обстоятельствах.
И еще подумалось, что затея, которую мне предложили,—безумная. Боюсь, именно это соображение в конце концов все и решило.
Через две минуты я вернулся к графине.
— Ну как? — спросила она.
— Хорошо, графиня, еду.
Граф пожал мне руку, Юм бросился на шею.
Именно таким образом, дорогие друзья, я отправился в Санкт-Петербург, в Москву, в Нижний Новгород, в Казань, в Астрахань, на Кавказ, в Одессу и в Галац.
Ну, а теперь приступим к описанию нашего путешествия, поскольку все написанное до настоящего момента было лишь прологом.
3 ПАРИЖА В КЕЛЬН ЭКСПРЕССОМ
агон, в котором я ехал, предназначался для графа, графини, Дандре и для меня. Кроме четырех разумных существ, в вагоне находилось еще два существа, почти все разумеющих, два брата меньших, два кандидата в люди, как называет их наш добрый и дорогой Мишле, короче, две собаки — Душка и Мышка.
Шарика доверили опеке Луизы. Синьорина сидит в корзинке. Черепаха дремлет в коробке из-под конфет.
Ни Шарик, ни Синьорина, ни Черепаха не зарегистрированы. Они путешествуют зайцем. Лишь Душка и Мышка имеют право являться на публике с билетом, прикрепленным к ошейнику,— ни дать ни взять студенты в день премьеры в «Одеоне».
Благодаря покровительству графа и графини служащий на вокзале, главный распорядитель по части собак, проверив у Душки и Мышки билеты, пустил их обратно к нам в вагон, вместо того чтоб запереть в специальный бокс.
Само собой разумеется, мы выкупили все места в вагоне, в котором путешествуем, то же самое относится к вагону предыдущему и последующему.
119
Муане, который меня сопровождает — художник Муане, чьи замечательные декорации вы видели в «Опера-Комик»,— едет вместе с доктором, гувернером, ясновидцем и маэстро в переднем вагоне.
Мадемуазель Элен, мадемуазель Аннет, Саша, Аннушка и Луиза путешествуют в заднем вагоне.
Шарик, Синьорина и Черепаха —там же.
Максима выслали вперед, чтобы он позаботился о достойном завтраке для нас в Кельне.
Семен и оба писаря обретаются в неведомом мне месте.
Жара стоит невыносимая. Но Дандре — человек невероятной предусмотрительности — приготовил три корзины: одну с шампанским и ледяной водою, другую с жареными курами, яйцами вкрутую, сосисками и бордо и, наконец, третью, со всевозможными фруктами, виноградом, персиками, абрикосами и миндалем.
В Понтуазе поужинали, в Крейле выпили содовой, в Компьене все уже спали.
Я был разбужен бельгийским таможенником, который изъяснялся по-французски с особым выговором, в общем, сами знаете с каким:
— Всем пассажирам выйти из вагона, в вагоне ничего не оставлять, все подвергается досмотру, понятно?
Серьезные намерения подтверждал и большой плакат внутри таможни:
«Все провозимые вещи досматриваются безо всякого исключения, кроме вещей личного пользования, носимых пассажирами».
Мое имя, которое красовалось на гравированных табличках, прикрепленных к чемодану и саквояжу, произвело обычное впечатление:
ь.
таможенники ограничились вопросом, не провожу ли я чего-либо такого, что необходимо представить к декларации, и ввиду отрицательного ответа один из них начертал на моих пожитках знак не менее таинственный, чем египетские иероглифы, расшифрованные Шам- польоном — символ, который обозначал:
«Пропустите этого господина не только с носимыми им вещами, но и с теми, которые он несет».
Все это было выражено одним знаком, почему я и подозреваю, что язык таможни похож на тот примечательный турецкий, который упоминается у Мольера1 и на котором можно выразить столь многое в столь немногих словах.
Час спустя мы вновь расположились в вагоне и мчались в направлении Ахена.
Все великолепно обстояло до Вервье, иначе говоря, до прусской границы.
Здесь начались наши мучения или, точнее сказать, мучения Дандре.
В дверях возникла фигура, потребовавшая билеты.
Дандре предъявил все четыре.
— С вами собаки? — осведомился прусский чиновник.
— Вот их билеты,— ответствовал Дандре.
Чиновник заглянул в вагон, собак не увидел
и, предположив, что они в боксе, удалился. Раздался свисток, мы тронулись в путь. На вокзале в Ахене появился другой чиновник и в свою очередь спросил:
— Ваши билеты.
Билеты были предъявлены.
— Отлично. С вами собаки?
%
Т$)
щ
ф
ш
Ьм
ГЛй
Г
À
та
121
— Вот их билеты,—ответствовал Дандре.
Служащий, проверив билеты, удалился бы
подобно своему коллеге, но тут Душка, поняв, несомненно, что речь идет о ней, высунула нос из шалей и кружев и залаяла пруссаку прямо в лицо.
— Да у вас собаки! — воскликнул тот едва ли не с угрозой.
— Вам об этом известно, вот их билеты.
— Да, но собаки не имеют права ехать в том же вагоне, что и пассажиры.
— Но почему?
Нам пришлось бы несомненно выслушать объяснения столь достойного чиновника, не раздайся в это мгновение свисток и не тронься вагон с места.
Немец поторчал еще некоторое время на ступеньках, упрямо твердя инструкцию: «Собаки не имеют права ехать в тех же вагонах, что и пассажиры». Но затем наступило мгновение, когда он, рискуя отправиться с нами в Кельн, вынужден был спрыгнуть с подножки.
Весь перегон наш разговор вертелся вокруг одной и той же темы: «Почему в Пруссии собаки не должны ездить в тех же вагонах, что и люди, если это можно делать во Франции?»
Удовлетворительно ответить на этот вопрос не удалось никому.
На следующей станции, едва поезд остановился, на ступеньки вспрыгнул железнодорожник.
— Собаки! — заорал он в ярости, не обращая на нас ни малейшего внимания. Нами перестали уже интересоваться.
— Что значит «собаки»?
— У вас собаки.
— Вот их билеты.
— Собаки не имеют права ехать в тех же вагонах, что и пассажиры.
— Но почему? — спросил Дандре, надеясь все же узнать, в чем тут дело.
— Потому что они могут помешать пассажирам.
— Исключено: ведь собаки наши,— возразил на превосходном немецком граф, который впервые открыл рот.
— Это ничего не значит, они могут помешать пассажирам.
— Но ведь пассажиры — это мы, кроме нас здесь никого нет,—продолжал настаивать граф.
— Они могут вам помешать.
— Но они нам не мешают.
— Такова инструкция.
— Я понимаю, если пассажиры — посторонние люди, ну а если весь вагон занят хозяевами собак?
— Такова инструкция.
— Инструкция не может быть столь абсурдной. Позовите начальника станции.
Прибыл начальник станции. У него были усы, крест и три медали.
— У вас собаки? — осведомился он.
— Да.
— Собак следует отдать и поместить в бокс.
— Мы просили вас прийти только потому, что хотим, чтоб собаки были с нами.
— Это невозможно.
— Но почему?
— Собаки не имеют права ехать в тех же вагонах, что и пассажиры.
— Но поскольку пассажиры — это мы, поскольку собаки наши, поскольку вагон выкуплен нами целиком...
— Такова инструкция. Отдайте собак.
Мы собрались было уже покориться, но в это мгновение раздался свисток.
Вагон тронулся с места.
— Отлично, отлично,— воскликнул в ярости начальник,—до следующей станции!
Долго еще слышалось это полное угрозы «до следующей станции!».
В тревоге мы ждали продолжения событий.
Едва поезд остановился, как двое служащих, без сомнения заранее обо всем предупрежденных, бросились к нашему вагону и распахнули дверь с криком:
— Собаки!
Теперь спасения уже не было: один из пруссаков успел схватить Душку.
Но Мышка исчезла, словно сквозь землю провалилась.
— Другая собака! — вопил второй пруссак.— Другая собака! Где другая собака?
Невольник инструкции готов был искать Мышку даже в тех закоулках, где той никогда не вздумалось бы спрятаться. И тут Дандре осенило:
— Другая собака —в следующем вагоне, пойдемте!
И, бросившись в следующий вагон, он, несмотря на протесты Луизы, сунул руку в тот угол, где обычно находился Шарик, которому вопреки нежной заботе его покровительницы пришлось присоединиться к Душке.
Восхищенный своим триумфом, блюститель порядка запер Шарика и Душку в бокс
и вернулся закрыть дверь за Дандре, а заодно и пожелать нам счастливого путешествия.
На лице у него играла блаженная улыбка человека с чистой совестью, удовлетворенного делом рук своих. Он исполнил инструкцию.
Этот эпизод внес некоторое успокоение: мы поели фруктов, выпили по стакану ледяной воды и уснули.
На следующей станции все были взбудоражены криком:
— У вас три собаки!
— Две,— ответил еще не очнувшийся со сна Дандре.—Две. Вот их билеты.
— Три! — настаивал контролер.
И указал на Мышку, которая, выбравшись из укрытия и не ведая, что речь идет о ней, преспокойно уселась на несессере графини.
Мы вынуждены были признаться в нарушении закона, лепетали что-то самым унизительным образом, служащий сделал нам выговор, который со смирением был принят. Пришлось купить третий билет для Мышки и, прежде чем тронуться в путь, отправить ее туда же, где находились Душка и Шарик.
В полдень поезд прибыл в город трех волхвов2, где девятнадцать лет тому назад я оказался впервые с несчастным Жераром де Нерва- лем. Два разных воспоминания, одно — детское, другое — зрелых лет, связано у меня с Кельном.
В 1814 году в момент вторжения иностранных войск3 моя мать побоялась остаться в Вил- ле-Коттре и решила, что в Крепи-ан-Валуа безопаснее. Хотя в этом маленьком глухом городишке безопасность определялась лишь тем, что он не располагался, в отличие от Вилле-Кот-
тре, на главной дороге; мы спрятали в погребе белье, серебро, кое-что из мебели — в общем, все, что представляло собой хоть какую-то ценность,— после чего верхом на ослике совершили наше бегство в Египет.
Через три с половиной часа мы прибыли на место и устроились у некой старой дамы, чьи дети ходили вместе со мной в школу. Даму звали мадам де Лонгпре, и она была вдовой бывшего лакея Людовика XV, который вместе с другими подарками пожаловал ей,—возможно, она была достаточно мила, чтобы король заметил одну из своих подданных,— великолепный старый китайский сервиз.
У меня еще и сейчас перед глазами огромные супницы, гигантские блюда, циклопические салатницы, украшенные цветами, изобретенными фантазией безвестного Диаса, и испещренные драконами безымянного Ариосто: такой сервиз лишил бы сейчас рассудка любого ценителя древностей.
Но в 1814 году этот род красоты не чтили, десятки раз несчастная женщина, небогатая, к тому же еще любительница выпить, пыталась продать королевский подарок весь целиком. Но в ту пору в моде были этруски, отнюдь не китайцы \
Она не могла сбыть свою единственную ценность даже за деньги, которые дают нынче за сервиз крейльского фарфора.
И потому, когда ей не терпелось пропустить рюмку-другую, она брала один из предметов, супницу или блюдо, и шла по соседям в надежде пристроить свой товар.
Когда случалось выручить сорок су за вещь стоимостью в двести франков, бедняжка мча-
VJ
1
лась к лавочнику, выпивала глоток за глотком два, четыре, шесть стаканчиков водки и являлась домой совершенно пьяная.
Так все и расползлось по штучке.
Мы прожили у нее всего несколько дней. Моя бедная мать, не пившая ничего, кроме воды, и мечтавшая передать мне по наследству страсть только к этому напитку, не желала наблюдать сама, и особенно не желала, чтоб наблюдал я, это постыдное зрелище.
Она договорилась о постое со вдовой врача, жившей с двумя сыновьями, которые, как и отец, тоже были врачами: один — военным, другой — гражданским. Старший, тот, что не служил в армии, оставался с матерью. Ну а младший, хирург в чине майора, вверг к тому времени всю семью в сильнейшую тревогу: последнее известие от него пришло накануне битвы при Бриенне5, но после битвы — ничего. Погиб ли он? Ранен? Попал ли в плен?
В той славной семье по фамилии Милле, кроме двух братьев, были еще две сестры, Аме- ли и Адель.
Достойная вдова предоставила в наше распоряжение комнатку с двумя кроватями.
Из этой комнатки на втором этаже, выходившей во двор, просматривалась тем не менее и улица, то есть проезжая дорога из Крепи в Вилле-Коттре.
Что же касается стола, то мы садились за еду все вместе, но каждый вносил при этом свою долю в общие расходы.
В день нашего приезда в час ночи в дверь громко постучали. Объятые тревогой, все выскочили из постелей: думали, это вражеские солдаты.
Дверь полагалось открыть Милле-старшему: он был единственным в доме мужчиной, мне исполнилось в ту пору одиннадцать.
Ночной посетитель стучал не переставая.
Но вот послышались крики радости. Милле стал звать мать и сестру.
Красивый молодой человек лет двадцати пяти — двадцати восьми вихрем влетел в гостиную, сбросил плащ и предстал в форме вра- ча-майора.
Ликующие возгласы сорвались со всех уст. Это был младший сын, не дававший о себе знать вот уже два месяца.
Мать, сестры, братья бросились обнимать друг друга: плача и смеясь, заговорили все разом.
Мать отозвала меня в сторонку и, ни слова не говоря, вышла вместе со мной из комнаты: мы были чужими, а посторонний в такой момент не нужен.
Уходу постояльцев никто не придал значения. Нас не ощущали, не видели, а если б вдруг и заметили, то тотчас забыли бы.
На следующее утро хозяева описали всю сцену так, словно кроме них никто ее не видел. Но, узнав, что некоторые детали нам все-таки известны, принялись рассказывать о том, чего мы еще не знали.
Молодой офицер служил в корпусе маршала Мортье. Этот корпус был внезапно атакован противником накануне вечером в Вилле-Кот- тре.
Возникло замешательство, все бросились врассыпную, куда глаза глядят или, точнее, каждый в свою сторону.
I
SÄ
§
l\
éJl
В свою сторону устремился, разумеется, и Фредерик Милле.
За три лье от родного города он вспомнил про свою мать, про сестер, про мирный дом, про садик, который так часто дарил ему, как крестьянке перед танцами, букет цветов. Он сориентировался на местности и, пробежав напрямик полями, перешел вброд речушку по названию Восьенн, отыскал дорогу в Тийетский лес и постучал в знакомые двери.
Теперь, повидавшись с матерью, братом и сестрами, он хотел найти свой корпус.
Но, разыскивая его, не попадет ли он в руки к пруссакам и не лишится ли таким образом свободы, а то и жизни?
Не лучше ли дождаться вестей, а за отсутствием их определить ситуацию по отдаленному рокоту пушек? Как говорится, военного человека пушка отыщет сама.
Однако неприятель мог появиться с минуты на минуту, и Фредерик, опасаясь, что в нем опознают французского офицера, сбрил усы и облачился в гражданское платье.
Аккуратно сложенный мундир был вместе со шпагой засунут в глубину шкафа.
Едва это сделали, как вдали появился французский отряд — и пехота и кавалерия,— направляющийся в Крепи.
Милле-младший помчался выяснять, кто прибыл. Оказалось, что это колонна, отбившаяся от армии герцога Рагузского.
Французы намеревались расставить часовых и передохнуть. Но враг следовал по пятам. Едва Фредерик вошел в дом, как раздался ружейный выстрел, затем солдат, занимавший пост
Ж
Sai
I
ВТ
(SvS
J7M
si
м
К
т
5. А Дюма, т 1
129
в конце нашей улицы, вбежал в город с криком: «К оружию!»
Галопом приближался отряд прусской кавалерии. Эти всадники еще и сейчас у меня перед глазами: синие ментики с белыми доломанами, серые рейтузы.
Стоило вражеским копытам загрохотать по мостовой, как все окна и двери тотчас захлопнулись. Солдата, мчавшегося с криком «К оружию!» догнали бы и пристрелили, прежде чем он достиг центра города, где стояли французы, не открой Милле-старший ведущую на улицу дверь и не помани солдата внутрь. Тот бросился в дом и через секунду очутился в саду.
Дверь за солдатом закрылась столь же стремительно, сколь стремительно поворачивается театральная машина. Было самое время. Мы видели из верхних окон, как через несколько минут кавалеристы завернули за угол и вошли в город. Они неслись ураганом.
Милле отворил меж тем калитку и указал французу кратчайший путь, по которому тот мог выйти к своим. Солдат успел лишь опрокинуть стаканчик вина и перезарядить ружье. Дверь снова закрыли и задвинули все засовы.
Нетрудно понять, как мы, обитатели этого дома, приняли к сердцу разыгравшуюся в городке драму. Мы все превратились в глаза и уши.
Внезапно послышался такой же, как прежде, топот подков по мостовой: пруссаки мчались обратно.
Если в городок они вошли бурей, то с еще большей стремительностью его покидали. По пятам за ними следовали наши гусары.
ж
%
s
à «K %
Sfr
M
ML
il
№
BÊSs
130
Несмотря на сопротивление матери, я бросился к окну и имел возможность наблюдать ни с чем не сравнимое и ужасное зрелище— рукопашный бой.
Противники сошлись грудь в грудь, бились на саблях, пускали в ход пистолеты.
Сначала пруссаки пытались овладеть ситуацией, но напор французов был слишком велик: тогда немцы препоручили себя резвости своих лошадей и обратились в бегство.
Вся эта человеческая масса, не переставая сражаться, промчалась по улице и исчезла в дыму и грохоте за углом, осталось лишь несколько трупов на мостовой.
Три неподвижных тела простерлись в луже крови, но четвертое поднялось и потащилось к двери нашего дома, наверняка для того, чтобы, положив голову на порог, спокойно умереть на каменном ложе с именем родины на устах.
Это был человек в синем ментике, следовательно, пруссак.
Он истекал кровью.
Братья бросились к двери, распахнули ее и подхватили на руки потерявшего сознание солдата.
Затем дверь, которая открывалась с равным милосердием для друга и недруга, захлопнулась вновь. Немца, получившего в рукопашной удар саблей в лицо, рассекшей ему лоб, перенесли в гостиную.
С этого момента все наше внимание сосредоточилось на нем.
Если победителями вернутся французы, тогда нечего опасаться, если же придут пруссаки,
раненый станет чем-то вроде нашего талисмана.
Но об этом подумалось после. А поначалу было не до того: женщины щипали корпию; братья рвали ' полотенца на бинты. Раненый по-прежнему не приходил в сознание, кости черепа оказались обнажены, и врачи опасались, не затронут ли мозг.
Внезапно мы услышали, что барабан, иг судя по всему, барабан французский, дает сигнал атаки, и две-три роты вольтижеров у нас на глазах схлестнулись в стычке.
Затем послышалась ожесточенная перестрелка на окраине города.
Раненый был перевязан по всем правилам науки и вскоре пришел в себя.
Он с трудом изъяснялся по-французски, но старший из братьев более или менее прилично говорил по-немецки, так что врач и пациент сумели понять друг друга.
Через некоторое время послышались громовые удары в дверь. Милле отправился открывать.
Пруссаки овладели городком, и к нам вломились несколько солдат, требуя крова и пищи.
Милле повел их к раненому, который был тотчас опознан одним из офицеров, велевшим поставить снаружи у двери часового и никого в дом не пускать.
Стоит ли говорить, что едва солдат отстоял на посту свое, как его ввели на кухню и сытно накормили.
Через месяц молодой пруссак нас покинул, уже вполне здоровый: его выхаживали
все — мать как собственного сына и сестры как
брата. Вместе с изъявлениями благодарности он оставил свою фамилию и адрес:
Антониус Мария Фарина, Кельн.
Спасенный оказался племянником знаменитого Джованни Мария Фарины, первого изготовителя одеколона, имя которого известно всему миру.
В 1838 году я предпринял свое первое путешествие на берега Рейна и, прибыв в Кельн, осведомился об Антониусе Мария.
Теперь он уже не обменивался с врагами сабельными ударами, а сделался коммерсантом и торговал кельнской водою.
Мне указали на магазин.
Зайдя туда под предлогом купить коробочку с душистым товаром и не застав никого, кроме приказчика, я попросил хозяина. Выяснилось, что тот обедает.
Прервав это весьма важное занятие, он вышел ко мне тем не менее с любезной улыбкой.
Я глянул на лоб, и всякие сомнения исчезли: рубец на месте.
Озадаченный особым к себе вниманием, владелец магазина осведомился, чем оно вызвано.
Тогда я спросил, где ему рассекли лоб.
«В маленьком французском городке Крепи»,—последовал ответ.
— А имя семьи, что приняла вас, помните?
— Конечно. Семья Милле.
Тогда я еще спросил, не забыл ли герр Антониус мальчика десяти — двенадцати лет, державшего, когда он очнулся, тазик с водой, окрашенной кровью. Фарина глянул на меня с любопытством.
У1
№
%
{ГР)
IS
А51/
т
^v1
]>
ШЛ
pt
il
т
133
— Не спрашиваю,—воскликнул я, смеясь,— узнаете ли вы его, но хотя бы припоминаете ли?
— Так это были вы? — ахнул отставной солдат.
Чтоб не оставалось никаких сомнений, я напомнил ему еще две-три детали, а затем раскрыл объятия.
Он бросился мне на шею и созвал всю свою семью — жену и двух очаровательных дочерей, которым в нескольких словах, разумеется по-немецки, пояснил ситуацию.
И тут пошли всеобщие объятия. Меня втащили в столовую и заставили сесть за стол, потчевали хлебом с зернышками аниса, телятиной с вареньем, зайчатиной со сливами и притащили лучшую бутыль иоганнисберга, какая только сыскалась в погребе.
День прошел за столом, вечером мы пили чай с вареньем и расстались только в час ночи.
Согласно семейным преданиям, так поздно в Кельне еще не ложились.
А теперь другое воспоминание, не столь отдаленное.
В 1840 году я жил во Флоренции в одном очаровательном доме на виа Арондинел- ли — улице ласточек. Его уступил мне мой друг Купер, в ту пору атташе английского посольства, живущий нынче в Париже на ренту в шестьсот— восемьсот тысяч ливров. По прошествии лет он все такой же острослов и отличный товарищ —good fellow*, как говорит Шекспир: каков во Флоренции, таков и в Париже.
* Добрый малый (англ.).
Так вот, во Флоренции мне как-то сказали, что меня желает видеть немецкий пастор. Немецкий пастор! Но зачем?
— Хорошо,—говорю,—пусть войдет.
Я ожидал увидеть почтенного старца с седою бородой и готовился уже подойти под его благословение, как вдруг появился тридцатилетний мужчина, белокурый, розовый, толстощекий, веселый, и протянул мне руку. С улыбкой я сделал то же самое и осведомился:
— Чем могу-, быть полезен, сударь?
— Вы один можете показать мне Рим, город моей мечты,—сказал пастор в ответ,— но если вы не оправдаете моих ожиданий...
— Надеюсь, все-таки их оправдаю. А теперь скажите, каким образом я могу показать вам Рим.
— Позвольте мне рассказать свою историю, это не отнимет много времени.
— Сначала сядьте, потом расскажете.
Гость уселся.
— Моя фамилия С...,— сообщил он.— Я сын знаменитой трагической актрисы С..., брат известного комика Д...
— Выходит, я знаю всю вашу семью.
— Это меня ободряет.
— Так продолжайте.
— У меня небольшой приход в Кельне, за собором. Если вам случится быть когда-либо в городе Агриппины6, милости прошу.
Я поклонился.
— Мое жалованье — десять тысяч франков в год. Из них удалось сэкономить тысячу и предпринять давно задуманное путешествие в Италию. В особенности хотелось посмотреть Рим.
— Еще бы.
— Так вот, сударь, представьте, из тысячи франков у меня осталось ровно столько, сколько необходимо, чтобы вернуться в Кельн, так и не увидев Рима.
Я принялся хохотать.
— И вы отыскали меня затем, чтоб все же побывать в Риме? — осведомился я.
— Ну разумеется! Я возьму у вас в долг пятьсот франков, которые никогда не верну, предупреждаю заранее, будьте к этому готовы. В противном случае мне придется питаться хлебом и водою в течение пяти лет. Разумеется, если вы потребуете, я сделаю это, но, уж поверьте, безо всякого удовольствия.
— О, дорогой господин С...,— воскликнул я,— ведь вы не думаете, что я столь жесток?
— Нет, не думаю, потому-то к вам и обратился.
— Вы увидите Рим и вместе с тем будете выпивать свой стаканчик доброго рейнского винца и съедать после супа добрый кусок жаркого. Пойдемте со мной.
— Я в вашем распоряжении.
— Чудесно.
Мы отправились в банк Плауден и Френч, где у меня был кредит, и славному пастору С... достались сто римских экю, что составило шестьсот франков вместо пятисот. Потом я указал ему пальцем в направлении Рима. Он бросился мне в объятия, плача от радости.
— Ну что же, счастливого пути,— сказал я на прощание,— и не забывайте меня в своих молитвах.
— Разве добрым сердцам нужно, чтобы за них молились? — осведомился пастор.— Я буду
думать о вас, я буду вас любить; и не просите ни о чем более.
Два года спустя я ехал с сыном через Кельн и решил навестить пастора С...
Как он и говорил, дом его было нетрудно отыскать.
Мы вошли к нему без предуведомления. Он испустил крик радости.
Потом спросил не без страха:
— Надеюсь, вы не пришли требовать у меня сто римских экю?
— Нет, просто зашел узнать, видели ли вы Рим и как он вам понравился.
Пастор возвел очи горе, воскликнув:
— Что за город! И подумать только: благодаря вам я не умру, не повидав Рима.
И обнял меня.
— Пойдемте,— продолжал он,—я вам
кое-что покажу.
И повел в спальню, продемонстрировав там мой портрет между портретами Гюго и Ламартина.
— Вот оно как! — воскликнул я.—Но объясните, почему эти господа в рамке, а я всего лишь на паспарту?
— Потому что настоящая для вас рамка— мое сердце,— заключил он.
Вот два эпизода, связанные для меня с Кельном, которыми вам придется удовлетвориться вместо описания города: оное есть в моих «Впечатлениях от путешествия на берега Рейна».
Вы полагаете, вероятно, что, прибыв на сей раз в Кельн, я нанес два традиционных визита. Увы!
Антониус Мария Фарина, этот красивый юноша, которого я помогал перевязывать в 1814 году, умер в возрасте семидесяти лет год назад. А мой друг С..., путешественник, покинул Кельн, чтоб поселиться в деревне вблизи от города, где получил приход, который дает ему на двести франков более.
Да покоится один с миром в своей могиле! Да наслаждается другой жизнью в своем приходском доме!
ы прибыли в Кельн, сев на поезд в четыре часа пополудни, и застали Дандре, который приехал раньше, за обсуждением важного вопроса со служащим железной дороги из департамента по делам собак. Конечно, камнем преткновения был наш зверинец.
Мы так и предполагали с самого начала; но на сей раз речь шла не о Душке, не о Мышке, не о Шарике; дело было в Синьорине.
В этот раз, чтобы избежать забот и огорчений предыдущего путешествия, Дандре решил обговорить все, так сказать, от морды до хвоста, и, страшась неприятностей, которые могли бы приключиться с четвероногими при такого рода передвижении, определить каждому его место.
Все было прекрасно, пока речь шла о собаках; без малейших затруднений выдали билеты «Душеньке», «Мы- шеньке», «Шарику», но за собаками следовала кошка, за Шариком — Синьорина.
Услышав имя Синьорина и узнав, какого она пола и роду-племени, служащий удивился.
— Кошкам нельзя ездить на поезде,— решительно заявил он.
139
— Как это нельзя? — возмутился Дандре.
— Нельзя! — стоял на своем чиновник.
— Но собаки же ездят.
— Собаки — другое дело.
— Если можно собакам, почему нельзя кошкам.
— Потому, потому... потому что для кошек не установлена проездная плата, а раз они за проезд не платят, значит, не должны ездить.
Пруссаки не подозревали, что бывают пассажиры-кошки.
Правду сказать, пассажир-кот — это был новый вид пассажира, открытый графом Кушеле- вым и введенный в обиход Дандре. Он родился на юге, а, познакомившись с русскими семьями, к которым можно присоединиться, перебирается на север.
Так и ехала бы с ними Синьорина, если бы в Кельне, колонии Агриппины, в городе трех царей и одиннадцати тысяч девственниц1, ей не объявили, что кошкам нельзя ездить на поезде.
Пришлось обратиться к начальнику вокзала, тот поначалу, казалось, был слегка ошарашен, но, пообещав вынести этот вопрос на административный совет, дал разрешение заранее, заявив, что хоть для кошек и не установлена проездная плата, все верно, но было бы правонарушением, с его точки зрения, делать Синьорину жертвой какой-то забывчивости и применять к ней такие строгости, которые сродни политическому изгнанию, поэтому Синьорина поедет, но с условием, что за нее заплатят как за собаку.
И поскольку кошки вообще не внесены в железнодорожный тариф и в правилах ничего не сказано о том, что они могут стеснить пассажиров, то решено было оставить Синьо-
рину в ее корзине, а корзина поедет вместе с Луизой, в том же вагоне.
После Синьорины шла Черепаха. Та, к счастью, несмотря на все принятые меры предосторожности— ее положили в коробку из-под варенья, окружив листьями салата,— была в полном бесчувствии. Служащие клали ее по очереди на живот и на спину, но так как ни в одном из этих положений она не подавала признаков жизни, то ее объявили умершей и, в качестве покойницы, назвали «панцирем», то есть стали считать ее просто сувениром.
Между прочим, обратите внимание: на родине Гумбольдтов и Циммерманов кошки считаются собаками, а черепахи приравнены к сувенирам. Это — новая классификация, о которой я по возвращении не премину сообщить моему другу, Исидору Жофруа-Сент-Илеру.
Разобравшись, ко всеобщему удовольствию, со всеми вопросами, с кошками, собаками и черепахами, мы разошлись по вагонам, и состав, который ждал только конца нашего ученого спора, отправился в путь.
Не стоит расспрашивать меня о красотах дороги из Кельна в Берлин. Стояла такая дикая жара и, главное, такая густая пыль, что пришлось задернуть занавески купе и развлекаться собственными средствами.
Уступки* которые мы при этом делали друг другу, позволили нам провести время до десяти часов вечера, когда, пожелав соседу доброй ночи, каждый постарался благополучно заснуть.
Лишь два смутных^ воспоминания сохранились у меня об этой ночи.
Первое — о клубничном шербете, который будто бы принес мне Юм — было восхитительно, но слишком кратко.
ь.
jY .
в®'
Л)
m
ж
G
I
Л ml
Второе — хороводы зайцев, что-то вроде шабаша, который я увидел, подняв занавески в купе; но, возможно, это всего лишь всплыла в памяти моя последняя поездка в Мангейм, когда весь день слева и справа по пути следования нашего поезда целый легион этих животных предавался самым фантастическим забавам.
О Германия! Германия! Земля обетованная для охотников и влюбленных!
Прошла ночь, наступил день, и мы пробудились от сна, засыпанные толстым слоем песка, как жители Помпеи.
Каждый проделал в песке отверстие, протер глаза и, взглянув на соседа, в открытую расхохотался. Комплименты последовали потом. Кто бы мог подумать, что графиня, припудренная в стиле марешаль, будет так привлекательна. В одиннадцать часов утра мы прибыли в Берлин.
К нашим услугам были экипажи, ожидавшие на пристани, и завтрак в отеле «Рим». Мис- сам, который по пути сюда не останавливался в Кельне и приехал в Берлин на шесть часов раньше нас, все устроил.
Как крик души, наш первый вопрос был: нельзя ли принять ванну?
Как раз в гостинице и можно было это сделать.
Ванные комнаты находились в полуподвальном помещении, необыкновенно прохладном.
Я решил не встречаться в Берлине абсолютно ни с кем и сохранять королевское инкогнито, но отнюдь не потому, что пренебрегал городом Фридриха II. Дело в том, что несмотря на английский пластырь и предписанный доктором диахил, фурункул, который вскочил у меня на скуле, приобрел колоссальные разме-
в
Щ
ve
ц
Ьм
ffâ))
щ
г
d
/Ù>
W
К
К
142
ры, и мне совсем не хотелось показываться на люди в таком виде.
Стоило мне только добраться до ванны, в дверь постучали, и я крикнул:
— Войдите,—тем привычно невыразительным тоном, каким я повторяю это слово в Париже шесть раз на дню.
Воспользовавшись разрешением, на пороге показался слуга и вручил мне визитную карточку. В Берлине уже знали, что я приехал.
Кто меня предал: неизвестный курьер, почтовый голубь, электрический телеграф?
Несомненно, все это предстояло мне узнать сейчас из поданной визитной карточки.
Я прочел: «Александр Дюнкер, книготорговец».
Книготорговец — да это почти член семьи, здесь нечего стесняться. И я снова крикнул:
— Войдите!
Дюнкер вошел.
Он был уведомлен о моем приезде —- кем, неизвестно — и пришел предложить мне свои услуги для осмотра города. Я выставил свой фурункул. На что Дюнкер заметил, что нарыв находится в таком месте, где он скорее достопримечательность, чем уродство; ни в коем случае не желая лишать берлинцев этой достопримечательности, я пообещал доброму книготорговцу прийти в два часа к нему в магазин, и мы, Муане, он и я, походим по городу. В два часа мы были у него.
Я настаивал в первую очередь на посещении нового Музея, где Каульбах сейчас писал свою шестую фреску; г-н Дюнкер уступил просьбе с тем большей готовностью, что гравюры фресок Каульбаха издавал он сам.
Если бы Теофиль Готье с его удивительной образной манерой повествования был на моем
V.
ж
месте, он описал бы вам эти шесть фресок до мельчайших подробностей, от альфы до омеги; я же в своих слишком тесных туфлях только прошествовал перед ними, и все, что я помню, так это, что они замечательно красивы и что немецкая школа настенной живописи, в особенности берлинская, превосходит все прочие.
Лучше всего — фигуры, изображающие Архитектуру, Поэзию, Живопись и Музыку.
Пожалуй, я бы сделал Каульбаху маленькое замечание; но даже такая мелочь может пойти на пользу талантливому человеку. На его фреске «Архитектура» две крылатых фигуры, несущие : одна — Парфенон2, другая — Страсбургский собор, на вид одинаковы. Это представляется нам ошибочным не только в художественном и археологическом отношении, но еще и с религиозной точки зрения.
Каждая из фигур должна по характеру соответствовать тому сооружению, которое она несет: одну следовало изобразить гением, другую — ангелом.
По лестнице мы проследовали на выставку греческого искусства.
Это одновременно музей ценнейших современных фресок и прекрасных античных статуй.
Но, увы! Здесь, как и всюду, создается впечатление, что античность и современность для того только помещены рядом, чтобы наглядно показать превосходство ваятелей Греции над теперешними скульпторами.
В наше время скульптор два-три года изучает анатомию в каком-нибудь анатомическом театре. Не хуже врача знает, где находится двуглавая, дельтовидная и портняжная мышцы. Он разбирается в сложном механизме, с помощью которого действуют в двух противопо-
¥
i %
'*>)
s
щ
J
Зв
ввк
jij
\i£
0 ite
if
fob
144
ложных направлениях лучевая и локтевая кости. И тем не менее, когда речь идет о том, чтобы изобразить эти мышцы, проступающие сквозь кожу при малейшем усилии, нет такого скульптора, за исключением Микеланджело, который не ошибся бы в их размерах или местонахождении.
Греки, напротив, не имели теоретических знаний в области анатомии: расчленять трупы людей считалось святотатством у этих апостолов прекрасного.
Как повествует сам Гиппократ, чтобы иметь какое-то понятие о строении человека, он вынужден был следовать за войсками и изучать на полях сражений внутреннее устройство человеческого тела, пользуясь страшными ранами убитых, нанесенными секирами и обоюдоострыми мечами.
Тот же запрет установили вслед за греками и христиане; но по другой причине. Крепостные, бедняки, почти все, кто принадлежал к низшим слоям общества, относились к смерти не как к несчастью — они видели в ней освобождение. Поэтому у них считалось преступлением искать в смерти способ для продолжения жизни. Раб или бедняк все равно не умирает достаточно рано.
И вот, несмотря на это незнание мускулатуры, из античного мира до нас дошел «Лаоко- он», «Умирающий гладиатор», «Борцы», «Геракл Фарнезе», «Точильщик» и двадцать, сто, тысяча других шедевров.
Что за кладезь эта Греция, из которого при Перикле черпают Афины, Коринф, Сиракузы; при Августе —Рим, Александрия, Неаполь, Тарант, Арль, Геркуланум, Помпея; а при Наполеоне — Париж, Лондон, Мадрид, Вена, Петербург, Берлин! Весь мир!
iÿ3
vÉ
lÙ*
Щ
d
M
ж
t'I^I
I
Ж.
i'Jk
И откуда такое совершенство форм у Праксителя, Фидия, Клеомена и двадцати других, неизвестных, скульпторов, оставивших нам эти полчища мраморных изваяний, этот лес шедевров?
Постоянное созерцание обнаженного тела, врожденное чувство прекрасного, образ, живущий в памяти,—вот те три основы, которые не встретишь в современном искусстве.
Что поделаешь! Ведь у нас есть пар, электричество, железные дороги, аэростаты, газеты, которых не было у древних: нельзя иметь все.
У нас есть даже памятник Фридриху Великому, скульптора Рауха; но, хотя его очень расхваливали, особенно берлинцы, все это не идет ни в какое сравнение с обыкновенной конной статуей Бальба, найденной в Геркулануме и относящейся уже не к греческому, а к римскому искусству.
Что касается самого Берлина, то лучше, чем мой французско-немецкий путеводитель, о нем не расскажешь:
«Берлин — столица Пруссии, насчитывает 13000 домов и 480000 жителей, включая гарнизон из 16000 солдат. Один из самых крупных городов в Европе, он имеет строгую планировку. В городе площадью четыре лье — триста улиц, среди них Фридрихштрассе — длиной 4200 шагов и место прогулок Унтер-ден-Лин- ден — длиной 1088 и шириной 170 футов. В самом начале улицы Унтер-ден-Линден находится королевский замок с 420-ю большими окнами, имеющими в длину — 460 и в высоту — 100 футов».
Ну вот, а теперь представьте себе: в городе площадью четыре лье, где тринадцать тысяч домов и триста улиц, причем одна — длиной 4220
%
5W)
Sill
№
J/Д
Y^?J)
%
^4
Г
%
tçê
w
V л
f
м
№
Ш
146
шагов, для меня не нашлось комнаты и кровати! И это чистая правда!
В восемь часов вечера, когда я или, вернее, мы с Муане уже готовы были просить пристанища у короля Пруссии, который, владея замком длиной 460, а высотой 100 футов, возможно, не отказал бы нам, я вспомнил о ванной комнате, такой прохладной, и о такой просторной ванне, где утром по приезде мы провели восхитительный час.
Я спросил: заняты ли ванные комнаты и пусты ли ванны?
Получив отрицательный ответ на первый вопрос и положительный — на второй, я велел принести два матраса и четыре простыни и постелить нам в ваннах.
Вот каким образом, дорогие читатели, к великому изумлению запоздалых берлинцев, созерцающих меня через отдушину, которая служит мне окном, я пишу вам из своей ванны, лежа в которой и молю Бога о ванне сна, столь же освежающей, как утренняя ванна воды и звуков.
Если вы когда-нибудь попадете в Берлин и непременно захотите остановиться в отеле «Рим», и не будет номеров, спросите ванную № 1: уверяю вас, лучшего места нет!
Завтра вечером мы отправляемся в Штеттин и там послезавтра в час сядем на пароход.
Если Балтийское море отнесется к нам благосклонно, я смогу продолжать свои записи на борту судна, которое следует в Санкт-Петербург...
С борта парохода «Владимир», 25 июня, между Данией и Курляндией
Воды Балтики — тусклые и серые воды северного моря — спокойны как зеркало; и, зна-
чит, я могу сдержать обещание, данное вам, или, вернее, себе самому,— закончить эту главу на борту парохода.
Между Штеттином и Санкт-Петербургом курсируют два парохода: «Орел» и «Владимир». Мы плывем на лучшем из них — «Владимире». Находясь в открытом море и не имея под рукой ни словаря, ни биографии, я, надеюсь, не ошибусь, если скажу, что Владимир, которому наше судно обязано своим названием, был одним из трех сыновей Святослава — русского великого князя: при разделе он — несомненно, по праву старшинства — получил от отца Новгород, гордый девиз которого гласил: «Кто посмеет сразиться с Богом и Великим Новгородом?»
Как Владимир стал великим, вы узнаете из истории, я же ограничусь рассказом о том, как он стал святым3.
Сначала Владимир убил своего брата, по примеру Ромула, что принесло ему двойную долю наследства.
Затем женился на шести женщинах сразу и имел восемьсот наложниц, ровно столько, сколько было у царя Соломона.
Среди этих шести — половецкая княжна Рогнеда, он умертвил всех ее близких, а ее изнасиловал, чтобы заставить выйти за него замуж.
От шести жен и восьмисот наложниц у него было двенадцать детей, на тридцать восемь меньше, чем у Приама: достаточно известно, что у Приама их было девятнадцать только от Гекубы.
Но зато двенадцать детей Владимира все — мальчики; скорее всего девочек он забыл посчитать.
Четыре религии предложили ему на выбор: ведь естественно предположить, что человек,
который начал с убийства своего брата, насиловал, имел шесть жен и восемьсот наложниц, является эклектиком в вопросах культа.
И Владимир хотел на чем-то остановиться.
Первым было мусульманство.
— Нет,— покачал головой Владимир.—Мне не нужна религия, которая запрещает пить вино, напиток сей необходим русским, и он есть веселие для них.
Значит, магометанскую религию он отверг.
Затем — католицизм. Он снова покачал головой. Его смущал папа.
— Я не желаю знакомиться с Богом на земле, вот Бог на небе — другое дело.
Ему посоветовали иудаизм. Но неофит ответил:
— Оказаться среди скитальцев, наказанных небом, и разделить с ними наказание за преступление, которого не совершал,— мне кажется, это неразумно.
Настал черед греческой религии.
Не знаю, в чем состояли ее достоинства, но известно, что он ее принял.
И поскольку Владимир ничего не делал наполовину, он сейчас же в угоду своему новому Богу отказался от ложных божков, которым до сих пор поклонялся, велел страже бить их кнутом и, привязанных к хвостам лошадей, тащить волоком и сбросить в Днепр.
Затем он приказал собирать всех жителей, как стадо, и, дабы распространилась на подданных благодать, столь чудесным образом снизошедшая на него, согнал их на берега рек и заставлял там крестить их тысячами, гоня толпу за толпой и нарекая именем одного святого десять тысяч человек кряду.
Усердие сына Святослава было вознаграждено, и в святцах добавилось имя нового святого: святого Владимира.
¥i
¥
к
i
I
m
w
Познакомив вас не только с нашим пироскафом4, но еще и со святым, имя которого он носит, я сейчас представлю кое-кого из тех, с кем мы повстречались на палубе.
Начну с княгини Долгорукой и ее трех дочерей, самой старшей только шестнадцать лет. Княгиня утверждает, что ей самой — пятьдесят; но, я полагаю, делает это для того, чтобы обезопасить себя во время путешествия, и на самом деле ей всего тридцать пять — сорок, не больше.
Очень образованная, скорее сдержанная, чем общительная, она без сомнения становится привлекательной, когда перестает быть чопорной.
Долгорукие принадлежат к самым знатным людям России; род их восходит к Рюрику, их предки — великие князья, по прозвищу одного из них они именуются Долгорукими5, что значит «Длинная Рука». Это то же самое прозвище, что у Артаксеркса, сына Ксеркса.
Другой предок княгини — князь Григорий, прозываемый Роща (Перелесок), отстоял в 1608—1610 годах Троицкий монастырь Святого Сергия, сражаясь против поляков и казаков, предводительствуемых четырьмя храбрецами: Сапегой, Лисовским, Тышкевичем и Константином Вишневецким; наконец, одна из княжон Долгоруких в 1624 году вышла замуж за царя Михаила Романова, основателя ныне царствующей династии.
Князь Яков Долгорукий был другом и советником царя Петра I. Однажды перед всем Сенатом он разорвал царский указ, который счел несправедливым.
Вспыльчивый от природы, Петр бросился на него со шпагой в руках.
— Убей меня,— сказал князь Яков,— тогда ты будешь как Александр, а я —как Клит.
(çV
ш
%
"&)
I?
Ж
(«1 ш
№
0
W
\i \
Ji, ?
il
Ж
150
Услышав эти слова, Петр опомнился и, бросившись к нему в объятия, просил прощения.
Другой князь, Иван Долгорукий,— близкий друг Петра II, внука Петра I. Когда императрица Анна взошла на престол и передала бразды правления омерзительному Бирону, погубившему за время своего фаворитства одиннадцать тысяч человек, князь Иван с семьей был сослан в Сибирь, а по прошествии девяти лет возвращен назад и четвертован.
Его жена, княгиня Наталья, приехав в Киев, приняла постриг.
Но, прежде чем дать обет, прекрасная страдалица, которая последовала за мужем в Сибирь и предпочла лачугу бедняка роскоши и богатству, поднялась на крутой берег Днепра, сняла с пальца обручальное кольцо и бросила его в воды реки.
На тридцать лет пережила она мужа и тридцать лет молилась за того, кого любила.
В настоящее время в семье Долгоруких трое мужчин, это люди, заслуживающие самого высокого уважения.
Князь Николай Долгорукий, бывший генерал-губернатор Литвы, ныне — генерал-губернатор Малороссии.
Князь Илья — начальник императорского генерального штаба артиллерии.
Наконец, князь Василий, отличившийся в выполнении многочисленных дипломатических и военных миссий.
Следом за княгиней Долгорукой, которую мы упомянули первой по праву дамы, необходимо назвать Петра Трубецкого: он едет из Парижа с депешами; человек он еще молодой, на вид ему года тридцать три или тридцать четыре; он являет собой сочетание тонкости ума с внешним изяществом. Прекрасно разбираясь в вопросах эмансипации — важный предмет ди-
скуссии сегодня,— он проявляет в этом больше либерализма, чем кто бы то ни было, хотя имеет миллион денежной ренты, пущенной в дело.
Трубецкие — из старых русских дворян; они ведут свой род от Ольгерда, великого князя литовского, сына великого Гедимина и отца знаменитого Ягеллона. Фамилия Трубецкой происходит от Трубчевска, находившегося в их владении.
Предок Петра Трубецкого князь Димитрий— один из самых блестящих военачальников в освободительной войне начала XVII века, когда Россия боролась с поляками, завоевателями Москвы, и с проникновением в страну католицизма, которое, естественно, было вызвано их завоеванием.
После изгнания поляков, в конце 1612 года, для выборов царя, будущего основателя новой династии, собрался большой совет империи.
Предложено было три кандидата: князь Дмитрий, князь Мстиславский и князь Пожарский.
Князю Дмитрию, за которым стояли казаки и часть армии, не удалось собрать большинства в совете.
Мстиславский, которого в монархи прочили бояре, говорил всем и каждому:
— Я не претендую на престол; меня вынуждают к этому силой, сам я предпочел бы сделаться монахом.
Наконец, князь Пожарский, без всяких объяснений, решительно отказался от верховной власти, а ведь именно он был народным героем, единственным кумиром большинства крестьян и солдат.
И тогда,— а все, что я здесь говорю о князе Трубецком, понадобится нам сейчас для рассказа о Петре Великом,— тогда-то боярин Федор
Шереметьев, женатый на двоюродной сестре Михаила Романова, и предложил избрать на царство вышеупомянутого Михаила Романова, которому едва исполнилось шестнадцать лет и который легко позволил бы руководить собой в вопросах государственного устройства, будучи мягким и податливым.
План удался, и 21 февраля 1613 года Михаил Романов был избран царем после трех дней ожесточенных схваток, причем некоторые из них развертывались в самой законодательной палате.
Итак, если в роду у князя Трубецкого и нет царей, то, во всяком случае, есть человек, который имел честь оспаривать трон у семьи, правящей и поныне.
Кроме тех, о ком я вам только что рассказывал, самой замечательной фигурой на нашем пароходе был английский турист, возвращавшийся с Голубой реки, где он охотился на крокодила, слона и бегемота. Не давая себе времени передохнуть, он держал путь дальше на Торнеа, чтобы посмотреть на восход солнца в полночь.
Известно, что солнце в этой самой северной части Европы наблюдается на горизонте всю ночь с 23 на 24 июня.
Самое любопытное, что наш англичанин совершал это путешествие во второй раз.
В первый раз он не успел увидеть это зрелище или опоздал; в десять часов вечера, падая с ног от усталости, измученный, разбитый, он пришел на вершину горы Ава-Сакса, где производился этот астрономический эксперимент.
Там он уснул, сказав слуге, на которого всегда мог положиться, чтобы он разбудил его в полночь. Верный слуга не сводил глаз с часов.
Без пяти двенадцать он воскликнул:
— Милорд! Милорд, проснитесь! Уже полночь.
Тот не отвечал; можно было подумать, что он умер, если бы не присущий ему недуг, говоривший, что в нем есть жизнь. Он храпел.
Слуга подергал его за руку.
— О Джон! — произнес англичанин.—Дайте мне спать.
— Но вы велели разбудить вас!.. Сегодня последний день!.. Завтра уже не будет времени!
— Не важно! Приеду на будущий год,— промолвил англичанин.
И он проспал всю ночь, если можно, конечно, назвать ночью те двенадцать часов, с 23 на 24 июня, когда солнце не садится.
В следующем году он не смог приехать, как собирался; но он приехал снова через три года и выполнил свое обещание.
С ним был верный Джон. Я дал англичанину свой адрес, и он обещал написать 25 июня в Париж, до востребования, обо всем, что увидит, и свои впечатления от увиденного.
Но вернемся в Штеттин и продолжим наше путешествие.
Штеттин! Вот уж где никому не советовал бы останавливаться. Какие кровати, Боже мой!
Плохо набитый диван, на который стелют простыню, ее покрывают сверху стеганым пикейным одеялом; простыню стирают время от времени, одеяло — никогда.
К счастью, мы провели здесь только одну ночь, но она никак не кончалась!
Ровно в одиннадцать часов пароход отошел от пристани, скользя по глади Одера меж изумрудных от зелени берегов, сплошь усеянных сгрудившимися там и тут домами с красной крышей. Больше всего это напоминает Нормандию.
Часов через пять-шесть мы уже плыли морем; еще час или два видны были берега Померании, которые, постепенно опускаясь, стали сначала вровень с морем, а затем погрузились в него с первыми сумерками.
Проезд и питание от Штеттина до Санкт-Петербурга стоят двести тридцать два франка с человека. Из Парижа до Санкт-Петербурга можно доехать в общей сложности за четыреста франков, включая сюда жилье и питание. Это приблизительно десять су за лье; как видите, совсем недорого. В девять часов позвали пить чай.
После чая все вышли на палубу, чтобы за разговорами провести время до полуночи. Мы дышали воздухом впервые со дня нашего отъезда из Парижа.
Однако надо было на что-то решиться; русские, какие только были на судне, стучали зубами, несмотря на предвещающую грозу июньскую духоту; многие, в том числе графиня, велели постелить себе на палубе.
Около двух часов ночи полил дождь, и, как в песне, не помню уж кого из поэтов, надо было белых баранов домой загнать; шум, который подняли бараны, когда закрывали овчарню, разбудил меня.
Море было бурное. Я решил, что мне представляется хороший случай пойти по стопам нашего англичанина на горе Ава-Сакса и не открывать глаза. Эта мысль так меня вдохновила, что я открыл их только в семь часов утра. Я привел себя в порядок и поднялся на палубу.
Первое, что я увидел, был Юм, бледный как смерть. Всю ночь напролет он провел в непосредственном общении с Балтикой.
К счастью, снова установилась хорошая погода; солнце, уже не такое яркое, всходило на
j
%
ц$>)
iS
ЯВ
щ
X
&
(?y1
м
№
fcê
w
&
€
155
горизонте, море было синее, безбрежное и пустое.
Все радовались новой встрече друг с другом; не столь уж долго длится плавание из Штеттина в Санкт-Петербург, чтобы успеть им пресытиться.
Крупный, красивый и свежий блондин лет двадцати шести — двадцати восьми подошел ко мне, намереваясь свести знакомство.
Поскольку некому было представить нас друг другу, он назвался: это был князь Голицын.
Голицыны принадлежат к старинному русскому дворянскому роду. Их имя или, вернее, фамилия, происходит от слова «голица» (латная рукавица).
Основатель династии Ягеллонов, второй сын Гедимина, является пращуром князей Хованских, Голицыных и Куракиных.
Это самый многочисленный из княжеских домов России. Все его представители пронумерованы, чтобы различаться между собой.
Русский император как-то сказал одному из них:
— Вы все имеете номера, как фиакры.
— Да, государь, и как цари,— ответил тот.
Князь Голицын — заядлый охотник, охотник милостью Божьей. Мы как раз говорили об охоте, когда он заметил мне, что слева от нас земля.
Я подумал, что это, должно быть, остров Готланд.
МОРЕ
ак я и предполагал, это действительно был остров Готланд; слева довольно отчетливо вырисовывались очертания его гор — сплющивание земли к полюсам еще не успело сказаться.
Исторически — это шведская территория, но датчане — жители Севера, которые вызывали самые горькие слезы на глазах умирающего Карла Великого,— дважды ее завоевывали, хотя и не могли надолго сохранить за собой.
То, как был открыт остров и как он стал шведским, теряется во тьме веков. Осталось лишь предание — слабый луч, схожий со светом маяка, тонущего в густом тумане, который плывет, поднимаясь над этим форпостом северных морей.
Говорят, Готланд, как и Делос, некогда был плавучим островом; вечером он погружался в воду и уходил ночевать на дно морское. Человек по имени Тельвар пристал однажды к незнакомому берегу и зажег на нем огонь. Остров впервые видел такой свет и очень обрадовался. Боясь потушить его, он не осмелился погрузиться в воду. Мало-помалу Готланд пустил корни и вскоре прирос к морскому дну. Тогда Тельвар спокойно обосновался там с сыном Афде и невесткой Твита-Стерной («Белой
157
ь.
Вуалью»). Скоро у молодых родились сыновья Гюди, Грепер и Гюнфен. Они выросли и поделили остров. Прошли годы, и потомков Тель- вара стало так много, что земля уже не могла всех прокормить, и треть рода уехала в другие края. Смешавшись сначала с жителями Фаро и Даго, они через Россию распространились до самой Греции.
В то время как я рассматривал Готланд, то надевая очки, то снимая, пытаясь мимоходом увидеть с расстояния семи-восьми лье все, что только можно, один швед — торговец зерном в Висби1, столице Готланда, вызвался рассказать мне об этой земле.
Всем, кто меня знает, известно, как я доброжелателен в общении даже со скучным человеком, а уж с интересным — и подавно. Завязалась беседа, вопросы следовали один за другим, и вот что удалось выяснить. Город Висби сегодня пришел в упадок, его население составляет примерно четыре тысячи жителей, хотя еще недавно насчитывалось тысяч пятнадцать — восемнадцать.
Это древний северный город, где на каждом шагу встречаются развалины старинных зданий; как уверял шведский торговец, столичная церковь построена в стиле самой настоящей готики конца XIV — начала XV века.
Скажите, много ли найдется французских торговцев зерном, которые могли бы назвать время основания Сен-Жермен-де-Пре2, Нотр- Дам или Сент-Этьен-дю-Мон?
Оказалось, мой новый знакомый разбогател на продаже пшеницы или, вернее, ржи, которая на Готланде удивительно бела.
I
%
Щ
fî/
(Syï
s
)h
pk
rrB
111 d
/0
ftä
К
158
Особенность почвы здесь такова, что земля перемешана с большим количеством извести и поэтому сохраняет солнечное тепло. Она вся высохла бы, если бы поля не покрывали зелеными ветками. Нужно добавить, что на Готланде нет ни озер, ни рек— только ручьи, пересыхающие летом.
Кроме торговли зерном, местные жители занимаются разведением шелковичных червей и скота. Услышав мои презрительные высказывания по поводу баранины вообще, мой собеседник принялся уверять, что я изменил бы свое мнение, если бы попробовал мяса здешних длинношерстных баранов, которое, по его словам, на вкус напоминает то ли зайца, то ли косулю.
Прекрасный вкус мяса готландских животных объясняется, несомненно, той же самой причиной, которая принесла известность ляжкам наших баранов, выкормленных на солончаках: то есть близостью моря. Чтобы спокойно заниматься своими делами, крестьяне летом и весной в течение пяти-шести месяцев обычно оставляют животных одних пастись на пустынных островках; там они находятся под надежной охраной общественного мнения, еще не было случая, чтобы хоть одного украли; и там их мясо приобретает вкус дичины.
Начиная с XII века Готланд имел морской кодекс, принятый, вернее, одобренный императором Лотарем III; его перевел и прокомментировал наш ученый-законовед господин Пар- десю.
Мой чичероне жаждал показать мне остров и предлагал высадиться вместе: ему очень хотелось, чтобы я побывал на празднике летне-
го солнцестояния, который здесь отмечается
23 июня. И в самом деле, все жители Севера отмечают этот праздник в ночь святого Иоанна, и если бы нам посчастливилось оказаться ночью вблизи острова, мы увидели бы его холмы в праздничных огнях.
Это тот самый праздник, который существовал у древних скандинавов в честь бога Бальдра.
В скандинавской мифологии, Эдде, Бальдр — бог, блистающий красотой. Он был избранником природы; все воздавали ему почести: и звезды на небе, и цветы на земле. По просьбе его матери Фригг, все сущее: доброе и злое, живое и неживое,—поклялось не причинять ему зла. Так же, как мать Ахилла, мать Бальдра уже считала сына неуязвимым, но тут дух зла Локи увидел тростник, росший неподалеку от Вальхаллы. Фригг настолько была уверена в безобидности этого растения, что позабыла взять с него клятву, которую дали ей другие растения.
Локи срезал забытый тростник, сделал из него стрелу и смертельно ранил Бальдра.
Вся природа тотчас оделась в траур. Понурив головы, боги, люди и звери обливались слезами, деревья истекали соком, травы роняли росу. Лишь убийца не пролил ни слезинки.
Сложили костер, тело Бальдра положили на него и торжественно сожгли в ночь с 23 на
24 июня.
Отсюда обычай зажигать огни, перенятый народами Запада у народов Севера, огни, которые мы сами зажигаем в детстве, думая, что празднуем день Святого Иоанна, а на самом деле чествуя Бальдра.
Готландцы, в свою очередь, заимствовали
№
aj
rit
%
'fîjÿ
[$ГЛ
ш
flps)
'Y
Ï
À
0
ШМ
№
1. Г. А. Кушелев-Безбородко. Фото. Вторая половина XIX в.
2. Кронштадт.
Литография с рисунка Д’Оссоара. 1840-е гг.
3. Царь Михаил Федорович Романов.
Гравюра И. Меку с портрета Г. Беннера. 1817 г.
4 Царь Алексей Михайлович.
Гравюра Л. А. Сер Якова с гравюры Бортмана. 1744 г.
5. Царица Наталья Кирилловна.
Гравюра Л. А. Серякова с гравюры Н. Колпакова. 1766 г.
6. Ileip I.
Гравюра с портрета Г. Кнеллера. 1697 г.
Великий провел свое детство.
53 ?<i
S i«
•я S
Ci,
g «
ûj
8*
8. Первый российский солдат Сергей Леонтьев, сын Бухвостов.
Гравюра М. Махаева. Вторая половина
XVIII в.
10. Петр I среди заговорщиков, 1695 г.
Гравюра на дереве с картины И. Шарле маня. 1889 г.
9. Ботик, найденный Петром I (1688) в селе- Измайлове.
Гравюра на дереве. 1880-е гг. По рисунку А. К. Беггрова. 1820-е гг.
11. РЕПИН И. Е. Царевна Софья.
Масло, холст. 1879 г.
12. ГЕ H. Н. Петр I допрашивает царевича Алексея.
Масло, холст. 1871 г.
13. СУРИКОВ В. И. Утро стрелецкой казни. Масло, холст. 1881 г.
15. Петр I, император российский.
Гравюра Я. Хубракена. 1720-е гг. По портрету К. Моора. 1717 г.
14. Сражение при Полтаве. Начало сражения 27 июня 1709 г.
Гравюра Н. Лармессена по картине П. Д. Мартена-младшего. После 1724 г.
16. Екатерина I.
Рисунок на камне 77. Боре- ля. 1870-е гг. С гравюры Я. Хубракена. По портрету К. Моора. 1717 г. 17. Петр Великий на Лах-
те спасает погибающих во время бури 1 ноября 1724 г.
Гравюра на дереве К. Вейер- мана. 1860-е гг. По картине 77. Я. Шамшина.
18. Английская набережная. Литография Ж. Жакотте по рисунку И. Шарле ианя. Фигуры Дюрюи. 1850-е гг.
19. Дворцовый мост. Литография Ж. Жакотте и Баше !ье по рисунку И. Шарлеманя. Фигуры Дюрюи. 1850-е гг.
20. Католическая церковь и Михай-
л я
S
я
W
cd US
о и
о я
8§ S ^
^ »3 2,^
§<\>
Cü ^
'©Л55
S s
Со
g S
£ .5
5 * .
gl I
Сх, ^ Ci,
у нас майский праздник, так чудесно описанный Бульвер-Литтоном в романе «Гарольд, или Последний король саксонский». Но, поскольку на Севере в мае листвы на деревьях иногда еще нет, это празднество только в июне разворачивается в полную силу, что не мешает готландцам неизменно называть его «Майстанг». Получается, что у них два праздника — рождение листьев и. смерть Бальдра — слиты в один.
По местному преданию, именно в эту ночь шведские девушки могут увидеть своего нареченного.
Его появление связано с волшебным букетом, который составляется из девяти различных цветов, собранных с девяти разных полей. Девушка, которая хочет испытать судьбу, должна во время сбора цветов соблюдать полное молчание: закончив букет, она кладет его под подушку и ложится спать.
А во сне видит своего суженого, по одежде которого определяет его сословие; он приближается к ней, подходит ближе, просовывает руку под подушку, достает букет, целует его, кладет на прежнее место и удаляется. Сон длится не более пятнадцати секунд. Но девушке их вполне достаточно, чтобы запомнить того, кто в один прекрасный день непременно станет ее мужем.
Можно узнать свою судьбу и иначе: в ночь с 23 на 24 июня девушке следует, заранее приготовив таз с водой и белое полотенце, лечь спать на террасе и накрыться простыней.
Тогда ей является юноша, который просит разрешения умыться. Он и есть жених.
Пока я выслушивал описание всех этих язы-
ческих обычаев, Готланд проносился мимо, все более удаляясь от нас.
Колокол ударил к обеду, пассажиры спустились вниз, а когда вернулись на палубу, никакой земли и в помине не было, только открытое море вокруг.
Оставляя Швецию слева, справа мы огибали берега Курляндии, воспринимая остров Эзель3 скорее как мираж, чем как реально существующую землю. Это уже была Россия.
Курляндия, завоеванная в 1274 году рыцарями Тевтонского ордена, стала вассальным герцогством Польши, наследственным владением дома Кеттлеров. Род этот угас, а Морица Саксонского4, нашего победителя при Фонтенуа, к которому Курляндия должна была перейти по наследству, оттеснила Анна, вдова последнего герцога, ставшая русской императрицей. Вместо доблестного Морица на курляндский трон она возвела своего любовника, бесчестного Бирона. Ему наследовал Петр, сложивший с себя титул в 1795 году. Екатерина II присоединила Курляндию к России.
Что касается острова Эзель с населением в тридцать пять тысяч человек и Ливонского залива, завоеванного, как и Курляндия, тевтонскими рыцарями, то они перешли сначала к датчанам, потом к шведам.
В 1721 году при царе Петре остров становится русским и с тех пор таковым и остается.
В пьесе Александра Дюваля «Подруга невесты» один из главных персонажей — торговец из Риги, столицы острова.
Пришли доложить, что чай подан. Я посмотрел на часы и поднес их к уху — решил, что
162
забыл завести, они показывали девять, а день был в разгаре. Что за наваждение?
Спросил у соседа, сколько времени; оказалось одиннадцать! Выяснилось, что еще в Берлине он учел разницу между Санкт-Петербургским и парижским временем и заранее перевел свои часы.
Чем дальше мы плыли, тем скорее должны были наступить те знаменитые белые ночи, благодаря которым день на севере России в течение целого месяца длится двадцать четыре часа.
Я бросил взгляд на запад — солнце садилось.
Говорили, что через три часа оно взойдет. Спать не хотелось. Прошу принести чай на палубу, беру книгу и за чтением в полудремоте жду восхода солнца.
Когда мои часы показывали двенадцать, а часы соседа — два, небо на горизонте порозовело; только восток находился по отношению к нам гораздо севернее, чем в Париже.
С появлением солнца ночь, такая блестящая и торжественная на юге и на западе, растеряла всю свою величественность; дневное светило сейчас было не ярче, чем бывает у нас луна темной ночью в июле и августе. Я дождался, пока оно все не поднялось над линией горизонта, и пошел спать. А когда через три часа проснулся, жизнь уже шла полным ходом; день обещал быть великолепным. Пароход снова плыл в открытом море. К десяти утра стали видны мигающий свет маяка — справа и слева— темнеющая земля.
Маяк, выстроенный на нескольких скалах, был Кокехар.
/0
WI
1
т
¥
щ
й
ш!
Земля — Эстония, Петр Великий в 1721 году присоединил ее к России по Ништадтскому миру.
Император Александр I в 1816 году опробовал на эстонцах свои первые антикрепостнические проекты и дал им свободу:
Подплывая все ближе, мы начинали различать берега, покрытые лесом. Казалось, он рос прямо из воды, которая здесь имеет особое свойство не наносить вреда растительности, так что прибрежные деревья окунают свои ветви в самые балтийские волны. Правда, и влияние Невы ощущается во всем Финском заливе. От Санкт-Петербурга вниз по течению вплоть до Кронштадта можно пить почти пресную воду. Море как таковое доходит только до Ревеля, и рыбы, привыкшие к соленой воде, никогда не заплывают дальше. В Санкт-Петербурге едят только пресноводную рыбу.
По берегам, выделяясь на темной зелени леса, то тут, то там белели домики.
К полудню начал вырисовываться силуэт города с тремя высокими колокольнями.
Это был Ревель, или Реваль: во Франции говорят обычно — Ревель, а на Балтике — Реваль.
Если верить преданию, которое связано с основанием столицы Эстонии, то следовало бы говорить Реваль и даже Рефаль.
Вальдемар I5, король Дании, захватил в 1200 году замок Линданис — сердце Эстонии. Замок был великолепно расположен — у моря, высоко на вершине горы. Место казалось прямо созданным для столицы нового королевства, которое грозный завоеватель предполагал основать по другую сторону Балтийского моря. Линия крепостных укреплений появилась, ко-
'Tfc
ß.
%
с
¥
*
]|
/À
щ
fi
||(
vQm
Ш
164
ь.
гда город еще не получил названия; но вот однажды Вальдемар охотился на косулю, животное устремилось с высоты вниз по склону и, падая, повредило себе ноги.
— Вот и имя для моего города,— сказал Вальдемар,— он будет называться Рефаль — «падение косули».
Ревальцы, вовсе не считавшие себя побежденными, покорились могучему соседу, но сохранили многие свои вольности, за соблюдением которых строго следили, о чем свидетельствует следующая легенда.
Привилегией ревальской буржуазии было вершить правосудие: рассматривать мелкие дела, дела важнейшие и даже выносить смертные приговоры. Перед законом все были равны, включая знать.
Случилось так, что в 1535 году по приказу некоего барона Уксуля де Ризенберга в черте города удавили крестьянина.
Городской суд объявил Уксуля вне закона.
Барон не придал значения приговору и в тот же день вышел прогуляться по улицам Реваля. Но, не пройдя и ста шагов, был арестован, несмотря на сопротивление.
Состоялся процесс, и убийца, пусть даже барон, был приговорен к смерти.
Только тут, осознав всю серьезность происходящего, семья барона стала хлопотать о нем, они просили, умоляли, предлагали плату за кровь, выкуп, но все оказалось напрасно.
Преступник был повешен и похоронен у ворот, именуемых Кузнецкими.
Потом — через много лет, наверное, век спустя — вновь пришла к власти аристократия, и по заключенному между буржуазией и зна-
PyS
ё
II
$<(
щ
J
f/м
S’fâù)
Sr«
I
/й)
165
тью договору ворота надлежало заделать каменной кладкой.
Ворота заделали, и надгробный камень с именем покойного и описанием совершенного им преступления исчез.
Но в 1794 году буржуазия восстановила свое влияние, Кузнецкие ворота открыли вновь, и памятник демократическому правосудию опять стал общедоступен.
Другое доказательство незыблемости привилегий ревальцев хранилось до последнего времени в церкви Святого Николая, отчетливо различимой с борта нашего парохода.
Этим доказательством служило мумифицированное тело Карла-Евгения герцога де Кроа, принца Священной Германской империи, маркиза де Монте Корнето и де Рента.
Останки его находились в собственности добрейшего ризничего, показывавшего их за сходную плату всякому, кто пожелает.
Герцог де Кроа, принадлежавший к той старинной и прославленной бельгийской семье, чьи предки состояли в родстве с королями Венгрии, родился в середине XVII века. При датском короле Христиане V он стал генерал-лейтенантом, а при Леопольде I Австрийском, воюя с турками, над которыми он одерживал многочисленные победы, — фельдмаршалом
и генерал-аншефом. Затем службу в Австрии он сменил на службу в Саксонии и, наконец, в России. Под Нарвой герцог был ранен, взят в плен Карлом XII и перевезен в Реваль, где и умер 20 января 1702 года.
За короткое время, проведенное в Ревале, де Кроа наделал долгов, которые не смог заплатить. Он умер банкротом. Городской суд
объявил, что по существующим законам тело останется без погребения, пока все, что он брал взаймы, не будет возвращено.
Умершего герцога положили в углу церкви Святого Николая, в обычной его одежде: плаще из черного бархата и военном мундире времен Петра Великого; голову усопшего покрывал парик с длинными буклями, ноги были одеты в шелковые чулки, шею стягивал галстук из тонкого батиста.
В 1819 году, приехав в Реваль губернатором Балтийских провинций, маркиз Паулуччи высказал несколько сочувственных замечаний по поводу несчастного трупа, уже больше века так безжалостно выставляемого на обозрение потомков. Но ревальцы были непоколебимы, когда речь шла об их правах. Все, что маркизу Паулуччи удалось сделать для покойника, это отвести ему более приличное место — деревянную нишу, где еще три года назад его и видел князь Трубецкой, который рассказал мне эту забавную историю.
Но особенно тронули сердце князя заботы доброго ризничего об этих останках, дававших ему средства к существованию. У самой церкви Святого Николая дела шли не лучше, чем у герцога при жизни — в некоторых местах она даже протекала, и ризничий перемещал своего мертвеца на другое место, когда опасался, что он пострадает от сырости; ибо, как говорит шекспировский могильщик: «Вода — великий разрушитель для наших окаянных мертвецов!»
Но это еще не все: в хорошую погоду он выходил с мумией на воздух; в летние дни выносил ее на солнышко; короче говоря, ухаживал за нею, как за больным сиделка.
К несчастью для бедного ризничего, молодой император Николай все это воспринял как кощунство и повелел, чтобы герцога де Кроа, платежеспособен он там или нет, похоронили по-христиански.
Воле императора ревальцы не посмели перечить и выполнили августейший приказ, к великому огорчению ризничего.
Теперь в церкви Святого Николая осталась единственная достопримечательность — картина «Бегство в Египет».
Вместо того чтобы изобразить традиционного осла, везущего Святую Деву с младенцем Иисусом на руках, и рядом — Иосифа с посохом, художник поместил святое семейство в роскошный экипаж, запряженный четверкой лошадей, которыми лихо правит святой Иосиф в напудренном парике, в то время как ангелы, порхая у окон, своими крыльями навевают прохладу святым путешественникам.
Будем надеяться, что этому живописцу воздастся не по его делам, но по его бесспорно добрым намерениям.
Первое, что я увидел, выйдя на палубу около пяти часов утра,— это маневры русского флота в Балтийском море. Флагманский штандарт отмечал судно, где находился великий князь Константин.
Князь очень любит море и, по-видимому, не торопился возвращаться в Кронштадт. Он поднял только три своих марселя, тогда как можно было плыть под всеми парусами.
Хотя «Владимир» не слишком быстроходен, мы вскоре его обогнали.
ь.
Около семи над бурным рыжеватым морем выступили крепостные укрепления Кронштадта.
Город заложен Петром Великим, его основание датируется 1710 годом6. С точки зрения пуристов, название города следовало бы писать как Кроунштадт, «город Короны», но, питая пристрастие к голландскому языку, Петр назвал его Кронштадтом, так же, как сначала Петербург Питербургом.
Здесь находится резиденция русского генералитета; я говорю о Кронштадте, разумеется.
Во время последней войны адмиралу Напье поручили захватить эту крепость. По его мнению, для английского флота это было минутным делом. Он собирался завтракать в Кронштадте, а обедать в Петербурге. Когда подымали якорь перед походом, адмирала спросили о последних приказаниях.
Грозный коммодор потребовал двойную порцию хлороформа.
В судовые аптеки доставили удвоенное количество хлороформа; но, подойдя к Кронштадту, Напье удовольствовался только тем, что просалютовал ему.
Кронштадт неприступен — и все. Вот чего не знал адмирал. Он утешился, когда мы взяли Бомарзунд.
Пароход, идущий из Штеттина в Петербург, и, я полагаю, все остальные суда, имеющие слишком большой тоннаж, чтобы плыть вверх по Неве до Английской набережной, делают остановку именно в Кронштадте.
Здесь пассажиры пересаживаются на корабль с малым водоизмещением.
f
эй
J
iS
45
)ij
\t£
гСф)
щ
№
169
Граф Куш ел ев, обладая способностью легко решать любые проблемы, написал из Парижа, чтобы за ним сюда прислали судно. Таким образом, мы не испытали никаких неудобств ожидания и, оставив все свои вещи, тотчас отправились дальше в Петербург.
Если уж не прибытие, то хотя бы наше отплытие удостоилось артиллерийского салюта.
Великий князь Константин салютовал Кронштадту двадцатью одним пушечным выстрелом, и Кронштадт, в свою очередь, приветствовал великого князя двадцатью одним выстрелом из пушки.
Итого — сорок два артиллерийских залпа. Нужно быть очень уж требовательным, чтобы пожелать большего.
Панорама Кронштадта напомнила мне случай, который произошел у г-на де Вильбоа с императрицей Екатериной I.
Вам известно, какова была сия самодержица, но вы, вероятно, не знаете, что представлял собой г-н де Вильбоа — дерзкий искатель приключений, один из многих, кто в прошлом веке ездил в Россию искать счастья. Отпрыск знатного рода из Нижней Бретани, он начал с того, что занялся контрабандой. Попавшись на ночном налете со стрельбой и двумя или тремя убитыми таможенниками, он вынужден был уехать в Англию, где благодаря привезенным с собой рекомендательным письмам поступил на службу в чине младшего офицера на военный корабль.
В один из рейсов корабль, на котором плавал Вильбоа, зашел в порт Тексель. Царь Петр, под видом простого матроса изучавший в Саар- даме строительное дело, явился на борт ан-
глийского судна и, зная, что оно отправляется обратно в Лондон, нанялся в команду «инкогнито». После того как он изучил плотницкое ремесло, это был способ научиться еще и навигации.
Провидение сослужило царю хорошую службу. Внезапно начался шторм. Буря, в которую попал когда-то Цезарь, показалась бы по сравнению с этой просто порывом ветра.
Три дня бушевала стихия.
В последний момент, когда капитан, его помощник и команда, истощив все свое умение и, главное, силы, уже не знали, какому святому молиться, Вильбоа хватает руль и отдает приказ произвести такой маневр, который спасает корабль.
Царь заметил храброго офицера и распознал в нем одного из тех людей слова и дела, которые так необходимы основателям империй и реформаторам. Когда опасность миновала, Петр подошел к Вильбоа и заключил его в объятия. Панибратство со стороны простого голландского матроса оскорбило чувства высокородного нижнебретонца.
Вильбоа спросил наглеца, кто он такой и почему позволяет себе подобную бесцеремонность с французским дворянином. Матрос сказал, что он царь Петр.
Другой подумал бы: с ним хотят сыграть шутку, но Вильбоа и сам был семи пядей во лбу. Одного взгляда оказалось достаточно, чтобы узнать льва в медвежьей шкуре. Без лишних слов и без колебаний склонился он перед его царским величеством, как человек, который узнает своего господина в любом обличье и всюду воздает ему почести.
171
d
¥
ы\
&
2>l
}a\
Царь назначил Вильбоа своим адъютантом и одновременно присвоил ему звание лейтенанта флота.
Наш нижнебретонец был наделен всеми достоинствами и недостатками своих соотечественников: он был хорошим офицером, смелым до жестокости, настойчивым до упрямства, любил выпить и пил без удержу. И если, к несчастью, не напивался до полного бесчувствия и не падал под стол, то мог пуститься во все тяжкие.
Таким был и сам царь Петр, который по достоинству оценил, что Вильбоа не отстает от него ни в бою, ни в застолье.
Правда, не помня себя, француз трижды совершал убийства.
Но на подобные преступления царь смотрел сквозь пальцы.
К несчастью для Вильбоа, его возлияния не всегда кончались так безобидно.
Однажды Петр, находясь у себя во дворце в Стрельне, на берегу Санкт-Петербургского залива, дал адъютанту поручение к императрице Екатерине, в Кронштадт.
Стояла зима; термометр показывал 10—12 ниже нуля, залив замерз. Вильбоа сел в сани, не забыв вооружиться против стужи бутылкой водки.
Пока он добрался до Кронштадта, бутылка опустела.
Для Вильбоа это было почти воздержание; он показался совершенно трезвым даже офицерам стражи, которым, как полагалось, представился, прежде чем войти к царице. Екатерина спала. И ее следовало разбудить.
à
¥
цЪ!
Vf
J
Ъя
{rgj)
CSrA
¥
172
Пока ее будили, Вильбоа ждал в натопленной комнате, поскольку зимой в Санкт-Петербурге в комнатах топят; перемена температуры произвела в нем настоящий переворот. Когда придворные дамы подвели его к постели Екатерины и оставили с ней вдвоем, он забыл, что стоит перед императрицей, он видел прекрасную женщину и решил доказать ей свое восхищение. Вильбоа был человек решительный и быстрый: императрица напрасно звала придворных,—когда они явились, француз уже привел свои доказательства. Его арестовали немедленно.
К царю послали нарочного, которому поручено было рассказать о происшествии со всеми возможными предосторожностями.
Царь выслушал рассказ от начала до конца и дал волю своему гневу.
— Итак, что вы с ним сделали? — спросил он затем.
— Государь, его связали по рукам и ногам и отправили в тюрьму,— ответил посланный.
— И что было дальше, в тюрьме?
— Он сразу уснул.
— Узнаю его! — к великому изумлению нарочного вскричал Петр, расхаживая большими шагами по комнате с видом человека скорее смущенного, чем рассерженного.—Бьюсь об заклад, завтра он даже не вспомнит, что произошло. Хотя он, скотина этакая, и невиновен, поскольку не ведал, что творил, наказать его следует примерно — другим неповадно будет. Царица будет в ярости, если его не наказать. Пусть-ка посидит два года на цепи. И покончим с этим.
С этим и в самом деле покончили; Вильбоа отправился прямым ходом на каторгу.
Но не прошло и шести месяцев, как Петр, не в силах обойтись без него, призвал его обратно. Умолив Екатерину простить Вильбоа, царь стал относиться к нижнебретонцу с прежним доверием, как и до поручения, выполненного столь своеобразно.
Мы еще не высадились в России, а на языке уже имя Петра Великого. Все оттого, что Петр Великий — это великан Адамастор7, охраняющий устье Невы. Оставляя за собой Кронштадт и собираясь ступить на Английскую набережную, нельзя не взглянуть хоть краешком глаза на жизнь основателя города, который вот-вот предстанет перед нами.
ОМАНОВЫ
аши читатели, знакомые с жизнью Петра Великого только по «Истории России» Вольтера, знают ее довольно плохо. Увы, в ней нет частных и занимательных эпизодов. Сам Вольтер говорит в предисловии:
«Эта история содержит государственную жизнь царя, полную великих дел, а не его интимную жизнь, о которой существует лишь несколько анекдотов, впрочем, достаточно известных».
Но в работе у автора наступил довольно затруднительный момент, когда он дошел до смерти царевича Алексея — факта одновременно и личной, и государственной жизни царя Петра.
Хотите узнать, чем было вызвано затруднение? Прочитайте три строки из письма автора «Философского словаря» к графу Шувалову, камергеру императрицы Елизаветы, снабжавшему его материалами для этого труда. Согласитесь, что история, написанная по материалам, представленным дочерью того, чья история пишется, будет весьма пристрастной. И по такой «Истории России» учатся наши дети!1
Возвратимся к трем строкам Вольтера к графу Шува-
175
лову. Вот они: «Пока мне никак не удается выстроить страшный эпизод смерти царевича, и поэтому я принялся за другое сочинение».
Вольтер не говорит, какое сочинение он начал; но даже если это «Философский словарь», времени на его завершение потребовалось бы меньше, чем на выстраивание подобного эпизода.
Рассказать же его не сложнее, чем историю Брута2, посылающего на смерть двух своих сыновей.
Перед Петром стояла дилемма, которую он должен был разрешить: «Если мой сын будет жить, Россия погибнет!»
Оставить жить Алексея означало погубить империю. Царь Петр, ничего не сделавший для царевича, но сделавший все для своего народа, предпочел убить наследника, чтобы жила Россия.
С нашей точки зрения, здесь нечего выстраивать, надо только прямо и просто изложить все как было.
Автор, который выстраивает какое-либо событие,—просто фальсификатор истории.
Пишите правду или то, что вы считаете правдой, или же не пишите совсем. «Не надо,— говорит Вольтер,—рассказывать потомкам вещи, недостойные их». Но кто вам скажет, что их достойно, а что не достойно? Верить, что потомки увидят вещи с вашей точки зрения,— это крайняя гордыня. Расскажите все, потомки сами сделают свой выбор. И вот вам доказательства: являясь потомками Вольтера, мы многое из прошлого воспринимаем совсем по-другому.
Современные исследования, прекрасные работы Симонда де Сисмонди, Огюстена Тьерри и Мишле, показывают историю иначе, чем она представлялась в XVIII веке. Сегодня хочется прочесть не только о событиях какого-нибудь
царствования, узнать не только о падении империи, но еще и о подоплеке этих событий, о причинах этих катастроф.
Именно в этом и заключается философия истории, ее назидание, в этом ее интерес.
В течение пятидесяти лет история Франции казалась наискучнейшей. Еще бы! Она была изложена Мэзре, Велли и Даниелем.
Расскажите историю Трои и опустите похищение Елены сыном Приама3 под предлогом, что это событие относится к частной жизни Менелая, уберите гнев Ахилла после похищения Брисеиды под предлогом, что похищение Брисеиды относится к частной жизни Агамемнона; уберите нежную привязанность, быть может, немного чрезмерную, Ахилла к Патроклу под предлогом, что это чувство относится к личной жизни Ахилла, и «Илиады» больше нет, как нет и истории.
Тогда, спрошу я вас, что предложите вы вместо «Илиады»? Как подниметесь с земли на небо, если закроете единственные врата, ведущие на Олимп?
Но, скажут мне, «Илиада» ведь — эпическая поэма, а не история.
Но что же есть история, если не эпическая поэма Бога?
Таким образом, вы можете не беспокоиться: того, что мы собираемся рассказать о Петре I, вы не найдете в «Истории России» Вольтера. Что же касается событий, пусть даже самых ужасных, мы не попросим у вас времени, чтобы их выстроить; мы просто изложим, как они действительно происходили. Выстраивать — дело творцов событий, а не тех, кто их описывает. Приведем и добрые и дурные деяния тиранов или -пастырей народов, и пусть те, кто уже держит ответ перед Богом, пославшим их на эту землю, договариваются с потомками как смогут.
«Санкт-Петербург,— сказал Пушкин, — это окно в Европу».
Откроем росчерком пера окно в Санкт-Петербург.
Иоанн III4, или Иоанн Великий,—у нас еще будет случай познакомиться с ним поближе,— Иоанн Великий (произносится Ivane) женился на царевне Софье, внучке Михаила Палеолога и законной наследнице греческих императоров.
Он сделал тогда своим гербом двуглавого орла.
Одна из голов смотрит на Азию, другая на Европу.
Символика была ясной.
Но чтобы русский орел смог увидеть Европу, ему необходим был выход в Европу. Отсюда—окно Пушкина.
Санкт-Петербурга тогда не существовало: там, где он возвышается сегодня, было болото: это болото стерег шведский форт под названием Ниеншанц. Петр захватил форт и через две недели начал строительство второй столицы России, которой предстояло в будущем стать первой.
Двадцать седьмого мая 1703 года, в день Пятидесятницы, она была названа Санкт-Петербургом, в честь Святого Петра, покровителя царя.
Теперь постараемся ничего не опустить — ведь у нас есть время подробно поговорить о каждом предмете, а речь идет об империи, о могуществе которой сказано столько небылиц в течение двадцати лет. В течение двадцати лет царь Николай был для современников тем же, чем для древних — колосс Родосский5. Мир был вынужден — или его должны были вынудить — подчиниться силе и пройти однажды между его ног.
Севастопольское землетрясение его повергло.
Но Царь Петр, другой колосс, на бронзовых ногах, стоит по-прежнему на своей скале, и его не страшат землетрясения.
Мы обещали ничего не упустить — значит прежде всего необходимо выяснить значение слова и/грь.
Откуда оно произошло? Это довольно трудно установить, мнения ученых на сей счет сильно разошлись. Вольтер утверждает, что слово царь татарского происхождения. Этимологи, у которых он позаимствовал это мнение, или же те, кто примкнул к мнению самого Вольтера, действительно утверждали, что Иоанн Грозный, завоеватель ханств Казанского, Астраханского и Сибирского, взял этот титул у верховных властителей завоеванных владений и сделал его своим.
Однако где же те сами его взяли или от кого они его получили? Может быть, от императоров Востока? И не является ли тогда слово царь испорченной формой слова кесарь, титула константинопольских императоров, с которыми великие князья, velikikness — в нашем переводе grands-ducs,— имели общие интересы, искусства, обычаи, нравы и прежде всего религию?
Таково мнение многих авторов, но не Карамзина. Для Карамзина слово царь — восточное слово, ставшее известным на Руси через славянский перевод Библии. По-персидски оно означало трои, власть, повеление; имена монархов Ассирии и Вавилона всегда оканчиваются этим созвучием. Фала-царь, Набона-^sÿb означает Фала-монарх, Набона-монарх. Савл и Давид названы царо. Царство означает royaume. Царствовать соответствует инфинитиву глагола régner.
Что же до титула император, то Елизавета Английская из учтивости, а главное, по политическим соображениям, первой дала его Иоанну Грозному; но только Петр Великий, через сто пятьдесят лет, заставил другие державы признать его за собой.
Не достигнув своей неизменной цели, указанной в так называемом завещании Петра I,— править одновременно и Востоком и Западом,—русские монархи тем не менее уже сегодня соединяют восточный титул царя с западным титулом императора. Титул же автократ — это буквальный греко-французский перевод славянского слова самодержец, которое означает получивший власть от себя самого.
Установив все это, возвратимся к Петру I, к его предкам и потомкам, проследим их родословную вплоть до Петра III и посмотрим, как к потомкам Романовых примешиваемся немецкая кровь через герцога Голштинского, мужа Анны, и через Екатерину II, мать Павла I, которая происходит из рода Анхальт-Цербстов.
Этим ключом мы и откроем дверь таинственного дворца северной Изиды6.
ПЕТР ВЕЛИКИЙ
На берегу пустынных волн Стоял он, дум великих полн,
И вдаль глядел. Пред ним широко Река неслася; бедный челн По ней стремился одиноко.
По мшистым, топким берегам Чернели избы здесь и там,
Приют убогого чухонца;
И лес, неведомый лучам В тумане спрятанного солнца,
Кругом шумел,
И думал он:
Отсель грозить мы будем шведу.
Здесь будет город заложен Назло надменному соседу.
Природой здесь нам суждено
В Европу прорубить окно, Ногою твердой стать при море. Сюда по новым им волнам Все флаги в гости будут к нам, И запируем на просторе.
\
1
Таким царь Петр предстает Пушкину, и о его стихах не следует судить по моему переводу: Пушкин — великий поэт, поэт из семьи Байрона и Гете. К несчастью, он был убит в расцвете сил и таланта. России не везет: все ее великие поэты, все ее великие художники, все ее великие музыканты отняты у нее смертью— либо естественной, либо насильственной — в молодом возрасте. Должно быть, ветви дерева не стали еще достаточно крепкими, чтобы выдерживать такие плоды.
Возвратимся к Петру I.
Мы сказали, каким образом род Романовых взошел на трон. Безвестный немец, кажется, пруссак, был в основании древа этого славного дома, но древо это за двести с лишним лет пустило столь глубокие корни в русскую землю, что и сок и сердцевина — все в нем стало русским. Михаил Романов царствовал с 1613 по 1645 год. Его сын Алексей — с 1645 по 1676 год. Он оставил двух царевичей и шесть царевен от первого брака с дочерью боярина Милославского, а от второго брака с Натальей Нарышкиной — Петра, ставшего Петром I, и царевну Наталью.
Старшим сыном от первого брака был Феодор. Он взошел на престол после смерти отца, но был слаб и хил, процарствовал едва пять лет и назначил наследником престола самого младшего брата, Петра, которому было лишь десять лет от роду. Он не допустил к трону Иоанна из-за неспособности того к царствованию.
Но царевна Софья, третья дочь от первого брака Алексея, твердая духом и честолюбивая, видя, что Иоанн не может править из-за неспо-
собности, а Петр — по причине малолетства, решила царствовать вместо них. Был очень простой способ достичь этой цели: избавиться от Петра и царствовать от имени Иоанна.
Обстоятельства казались благоприятными.
Через два дня после погребения царя Феодора стрельцы с оружием в руках побежали к Кремлю, жалуясь на девятерых своих полковников, задержавших им жалованье.
С полковниками справились, и стрельцы получили то, что им причиталось.
Но им показалось мало: они вновь принялись за этих девятерых, били их батогами; затем, по восточному обычаю, заставили еще благодарить себя и заплатить за науку.
Как раз этими волнениями и воспользовалась царевна Софья; она передала стрельцам список сорока бояр, назвав их государевыми врагами. Ее агенты стали рассказывать среди пьяных солдат, что один из двух Нарышкиных, братьев царицы Натальи, завладел платьем царя Иоанна и сел вместо него на трон; что он хотел задушить императора и что Феодор, которого считали угасшим по слабости здоровья, был отравлен голландским врачом по имени Даниил Вангард. Все это сопровождалось раздачей денег на месте и обещаниями увеличить жалованье в будущем. Царевна не могла ничего сказать против Петра, десятилетнего ребенка, но надеялась, что и он исчезнет в сумятице.
В начале списка стояли имена князей Долгорукого и Матвеева. Главари мятежников идут прямо к ним, выбрасывают обоих из окошка, солдаты ловят их на пики. Затем, чтобы наказать Ивана Нарышкина за якобы совершенное святотатство, они вторгаются во дворец и обнаруживают только Афанасия, но на всякий случай выбрасывают в окошко и его; затем выламывают дверь церкви, где укрылись трое из списка, и убивают всех троих у самого алтаря.
ь.
щ
é
т
№
Г
ж
щ
}Л
Царица Наталья понимает, что вся эта резня—лишь начало; она прижимает сына к груди и бежит из Кремля через потайную дверь, бежит полями, наугад, куда глаза глядят.
Стрельцы продолжают свое кровавое дело. Им повстречался молодой боярин из рода Салтыковых; в списке его нет, не беда! — убивают и его — кто-то закричал, что это Иван Нарышкин. Потом, убедившись в ошибке, они несут тело отцу для погребения. Это отребье внушает такой ужас, что старик благодарит их и дает деньги за окровавленный труп. Несчастная мать поражена таким жалким самообладанием, она упрекает супруга в слабости.
— Подождем часа отмщения,—тихо отвечает старик. Но, на беду, это услышал стрелец, уже вышедший из покоев.
Он возвращается со своей ватагой, хватает старого Салтыкова за волосы, волочит на порог и перерезает ему горло.
Другой стрелецкий отряд, искавший врача Вангарда, встречает его сына и допытывается:
— Где твой отец?
— Понятия не имею,— отвечает молодой человек.
— Тогда сам расплатишься за него! —кричат негодяи и закалывают юношу.
Немного спустя они набрасываются на другого врача-немца.
— Я не Вангард,— отвечает юноша.
— Пусть так, но ты лекарь?
— Да.
— Если ты не отравил царя Феодора, то отравил кого-нибудь другого.— И убивают его.
Наконец Вангарда находят; бедняга переоделся нищим. Его волокут ко дворцу.
Добрые царевны — кроме царевны Софьи, как мы помним, было пять царевен от первого брака и одна от второго,— вступаются за врача,
183
но стрельцы неумолимы: лекарь заслужил смерть не только как отравитель, но и как колдун-—у него нашли высушенную жабу и кожу змеи, а разве не по этим двум предметам распознают колдунов? Они требуют и выдачи Ивана Нарышкина, будто бы спрятанного во дворце; грозятся, что иначе сожгут царские палаты вместе со всеми их обитателями. Тогда сестра Нарышкина и другие царевны, перепугавшись, идут в укрытие и объявляют молодому человеку, что не могут более укрывать его от палачей. Иван заявляет, что готов умереть, но просит церковного утешения. Патриарх, за которым посылают, приходит, исповедует его, дает причастие, соборует, затем с чудотворным образом Богоматери в одной руке, другой ведет юношу к палачам, пытаясь защитить его святой иконой.
Но без всякого почтения к Богоматери, не щадя царевен, они вырывают Ивана из рук патриарха, волочат вниз по лестнице к Вангарду и приговаривают обоих к смерти. Им предстоит подвергнуться китайской казни десяти тысяч кусков, то есть тело каждого разрубят на десять тысяч частей. Казнь совершается, и мучители выставляют на железных пиках ограды ноги, руки и головы казненных.
Тем временем Софья обнаружила бегство царицы Натальи и Петра. Она оросает стрельцов в погоню.
Юный царевич с матерью уже проделали шестьдесят верст, когда заметили за собой облако пыли; скоро послышались крики преследователей. Наталья, готовая до последнего защищать дитя от убийц, видит церковь, увлекает сына туда, и они прячутся в надежде, что, быть может, величие места остановит убийц. Это была церковь Святой Троицы.
Сын стоит на алтаре, мать рядом, моля Бога. Стрельцы бросаются, выламывают врата ал-
тар я, видят царевича; один из них, подбежав, заносит над его головой саблю...
Но голова эта была хранима Провидением: на пороге появляются всадники, верхом устремляются в церковь и останавливают руку стрельца. Петр спасен!
Тогда Софья, боясь обвинения в братоубийстве, провозглашает Иоанна и Петра царями, а себя назначает регентшей.
Царица Наталья, дрожа от страха, привозит сына в Кремль, где с ним обходятся почти как с государем.
Во время пребывания в этой древней царской крепости, с 1682 по 1686 год, Петр однажды услышал крики во дворе, отворил оконце и увидел, как стрелец драл за уши какого-то мальчишку — продавца пирожков, почти царева сверстника. Петр распорядился, чтобы мальчика отпустили, и велел ему подняться к себе. Тот, сообразительный и веселый, предстал перед юным монархом без робости и ответил на все вопросы остроумными шутками. Выяснилось, что нового знакомого Петра зовут Александр Меншиков, что его отец — крестьянин, торгующий пирожками в собственной лавке на кремлевской площади. Уже года два, как отец приучает сына к делу и отправляет в город торговать с лотка; мысль войти во двор Кремля появилась у мальчика сама собой; стрелец же решил за это надрать ему уши, тогда как царь — позвал к себе: вот и вся история. Юный Меншиков сам не знал в точности, сколько ему лет: в то время на Руси не велись записи рождений и смертей. Тогда-то у Петра и появилась мысль исправить это упущение. Мальчишку-лоточни- ка четырнадцатилетний самодержец счел своим одногодком и тут же ввел в свою свиту и приблизил к себе. Позднее продавец пирожков стал всемогущим князем. Но не лучше ли
ж
IV
Wb
щ
J1
*
ДО vi
f£
№
185
Ш)
было для него никогда не вступать во двор Кремля?
Вскоре после этого, казалось бы, незначительного, события юный царь, гуляя в Измайлове, загородном владении своего прадеда Михаила, обнаружил брошенный вельбот для плавания и на веслах, и под парусом.
— Почему эта шлюпка сделана иначе, чем лодки, которые я вижу на Москве-реке? — спрашивает ребенок у своего учителя математики Тиммерманна.
— Потому что лодки на Москве-реке ходят только на веслах,— отвечает тот,— а эта может ходить еще и под парусом.
— Испытаем ее,— говорит монарх.
— Ваше Величество больше не боится воды? — спрашивает Тиммерманн.
— Царь,—отвечает ребенок,— не должен бояться.
И действительно, в детстве Петр, испуганный ревом водопада, испытывал такое отвращение к воде, что падал в судорогах, когда приходилось переправляться через реку. Но в один прекрасный день он сам бросился в воду и таким образом укротил ужас, внушаемый ему стихией.
Этому мальчишке, дрожавшему при шуме водопада, предстояло однажды услышать, не поведя бровью, рев океана.
Шлюпку вытащили из сарая, но ее надо было оснастить и починить. Тогда Петр стал расспрашивать о плотнике, построившем ее.
— Это мастер Брандт,— ответили ему.
— А где он?
— Должно быть, в Москве.
— Тйк разыщите сего умельца.
Стали искать мастера Брандта и нашли его.
В России, под рукой у царя Петра этот иноземец оказался вот как.
186
-Алексей в свое время пригласил из Голландии за большую плату корабела по имени Бот- лер вместе с плотниками и моряками.
Ботлер привез с собой мастера Брандта. Ботлер и Брандт построили на Волге фрегат и яхту, предназначавшиеся для торговли в Каспийском море, и спустились на них до Астрахани. Но в этот момент вспыхнул бунт. Атаман бунтовщиков, одно время бравший верх, захватил оба судна и, вместо того чтобы ими воспользоваться, их уничтожил, как настоящий варвар, вырезав почти всю команду во главе с капитаном. Те из матросов, что ушли от сабли Стеньки Разина (таково было имя вожака), спаслись в Персии. Брандт остался на Руси и возвратился в Москву. Это была одна из тех случайностей, какие Бог приберегает для великих людей. Мастер починил старую шлюпку и стал ходить на ней вместе с юным монархом.
Между тем царевна Софья, у которой были свои планы, отправила подрастающего царя в село Преображенское за восемнадцать верст от Москвы. Пятьдесят молодых россиян последовали за ним — не как пятьдесят спутников Сезостриса, составлявших элиту Египта, и не как пятьдесят знатных отпрысков, сподвижников Кира, отборное войско персов,— но в качестве верных приближенных, любимцев,— в общем, компании для развлечений. Если у мальчика, как уже начинали опасаться, есть некоторые задатки гения, то разгул погасит их.
Петр берет с собой Меншикова, перевозит свою любимую шлюпку на озеро по соседству с деревней и призывает верного Брандта.
В этот момент Провидение направило ему нового сподвижника. За несколько дней до отъезда из Москвы датский посланник представил и рекомендовал царю своего секретаря Лефорта. Петр коротко поговорил с ним. Это был пьемонтец, по происхождению француз,
чья семья жил i сначала « Турине, потом в Женеве. Он приема л в Россию с полковником Вестерном, которой добился от царя Алексея поручения набрать солдат в Бельгии; но когда оба искателя приключений прибыли в Архангельск с солдатами, цфь Алексей уже умер и Россия переживала смуту. Комендант Архангельска бросил полковника Вестерна, Лефорта и солдат в жесточайшей нужде. Тогда каждый решил действовать самостоятельно. Преодолевая тысячи опасностей, наименьшей из которых была голодная смерть, Лефорт добрался до Москвы и представился датскому посланнику, который и взял его к себе секретарем.
Вот этого секретаря, чей ум сразу оценил датский дипломат, представили царю Петру. Юный монарх решил, что его обязанность — возвратить долг отца, и предложил Лефорту следовать в Преображенское. Тот согласился. Под руководством француза поселение, куда Петр был отправлен, превратится в военную школу: его пятьдесят сподвижников станут офицерами полка, который по имени села будет называться Преображенским.
Но прежде чем стать офицерами, соратники Петра послужат в солдатах. Царь не сделает исключения и для себя: пройдет по всем ступеням службы и получит чины — барабанщика, солдата, офицера — только тогда, когда их заслужит.
Он сам, в тачке, сделанной собственными руками, будет возить землю для насыпи редута; ночами стоять возле него на часах, а затем штурмовать его на учениях как простой сапер, сокрушая топором ворота, им же построенные с таким трудом.
ТРЕЛЕЦКИЙ БУНТ
акаляя тело и укрепляясь душою в этих военных учениях, Петр достигает своего семнадцатилетия. В ту пору он — высокий юноша более шести футов ростом, и ему еще предстоит подрасти; он искусно правит ботиком, владеет оружием всех родов, работает топором, как самый ловкий плотник; вытачивает, режет по дереву, чертит; говорит по-русски, по- голландски и по-немецки. Нужен лишь удобный случай, чтобы показать себя миру.
Такой случай не замедлил представиться.
Царевна Софья в отсутствие Петра женила слабоумного Ивана. Дабы отстранить Петра от престола, была изображена несуществующая беременность. Но Петр протестует.
В ответ на протест против Петра двинулись шестьсот стрельцов. Петр, вовремя предупрежденный, собирает своих сотоварищей под командой Лефорта и бежит в ту самую Троицкую лавру, где уже однажды чудом была спасена его жизнь.
Там он провозглашает себя императором1 и сзывает верных ему подданных. Спешно прибывают бояре; патриарх, видя, что у царя перевес сил, переходит на его сторо-
189
ну; царевна Софья объявлена узурпаторшей, и Петр победоносно вступает в Москву во главе Преображенского полка.
Воцарение Петра происходит на пороге XVIII века; к этому времени угроза с Азии почти устранена: император Леопольд победил Мустафу Второго; Собеский умирает2, отчаявшись в спасении Польши; Август Саксонский, этот знаменитый выпивоха, воссел на престол, оттеснив принца Конти; Вильгельм Первый правит Англией; Людовик XIV берется за перо, чтобы подписать Рийсвикский мир3; курфюрст Бранденбургский выторговывает себе прусский престол; дни Карла XI сочтены.
Россия, повернувшаяся на Восток при потомках Рюрика, теперь стала оборачиваться к Западу. Столь естественное для Севера стремление искать тепла и света, пресеченное злосчастным татарским нашествием, снова набирает силу.
Российские пределы: на востоке — река
Урал, на юге —линия, тянущаяся от Астрахани до Киева, на западе — Днепр и Двина, на севере—два разоренных Иоанном Грозным города— Псков и Новгород. А еще дальше на север — Белое море, дикое, бушующее пять месяцев в году, а остальные семь месяцев — скованное, неподвижное, пустынное.
Петр унаследовал огромную державу и чувствовал себя в ней запертым в клетке один на один с варварством, бунтарством и насилием.
Его замысел — сначала покончить с этими тремя рыкающими зверями, а потом обратиться лицом к северо-западу. Там есть европейское море, правда гиперборейское4, но берега его уже цивилизованы. Там Финский залив и порт Рига —две отдушины, через которые выветрятся застойные, удушливые испарения
w
1
Азии. От этого моря царя отделяют лишь земли, принадлежащие шведам — воинственной, самой грозной в мире нации. Эти земли ощетинились крепостями и штыками армии, втрое превосходящей русскую. Ну и что из того!
Когда пробьет час, император прямиком двинется на препятствие, возьмет быка за рога и повергнет его, как Геркулес Ахелоя*. Но, чтобы побеждать других, надо сначала победить самого себя, чтобы учить других, надо самому обладать знанием; чтобы избавить царство от варварства, надо самому приобщиться к цивилизации.
Петр оставит в Москве гражданским правителем старого боярина Ромодановского, в чьей жесткости и непоколебимой преданности он уверен, а военными начальниками назначит Лефорта и Гордона. Лефорта мы уже знаем, а Гордон —верный шотландец, готовый, не раздумывая, отдать за Петра свою кровь и самую жизнь. Эти люди будут управлять Россией, что же касается Петра, то с компасом, топором и скальпелем в руке он объедет Европу и, подобно нашим цеховым подмастерьям, в старину обходившим всю Францию, вернется к родному очагу, только получив звание мастера.
Удивительный пример явил миру этот государь, деспот по рождению, по положению, по духу, властелин народа, где дворянин — раб суверена, а народ — раб дворянина, где сын — раб отца, жена — рабыня мужа: он сделал для свободы всех этих людей больше, чем любой из нынешних патриотов или античных республиканцев!
Ему предстояло огнем и мечом навести порядок в царстве многовекового рабства. Вы увидите, как дворяне и священники, женщины и дети — весь народ будет цепляться за древнее
варварство, за грубые нравы, за весь этот мрак, превращающий Россию — по словам одного из ее писателей — скорее в темный лес, чем в государство.
С Петром Россия не продолжалась — она начала все с начала.
На кого падут первые удары богатыря? На янычар, духовенство, боярство?.. На тех, кто первым встанет поперек дороги —на стрельцов. Они недовольны более всех и уверены во всеобщем недовольстве. Полки, устроенные на европейский манер, грозят занять их место. Двенадцать тысяч еретиков под командованием француза и шотландца стали хозяевами Москвы, святого города, а они, стрельцы, отправлены в войска, сражающиеся на границах. Но их дело — не воевать против турка или казака, а возводить на трон или свергать царей. Петр откладывает свой отъезд. Циклер и Суханин замышляют заговор6 против юного царя, в котором они угадывают непримиримого врага. Он должен погибнуть. А затем Ивана вызволят из его дворца, Софью — из заточения и их именем будут долго править Жестокость, Бесчинства и Грабеж, в которых состоит смысл жизни этих новых преторианцев7.
Как намереваются заговорщики достичь цели? Слава Богу, нет ничего проще. Молодой царь неосторожен. Подожгут дом. Царь примчится при первых языках пламени, чтобы тушить пожар, и смешается с толпой. Тогда-то и пойдут в ход кинжалы; с Петром и всеми прочими еретиками, оскверняющими священную русскую землю, будет покончено. Исполнение плана назначено на полночь. А в одиннадцать часов все соберутся на ужин с вином и другими крепкими напитками — нужно при-
дать силы тем, кому может изменить мужество.
Но еще до вечерней трапезы оно иссякает у двух соучастников. Они просят, чтобы их допустили к царю, и во всем сознаются.
Петр принимает меры: призывает капитана своей гвардии и приказывает ровно в половине двенадцатого окружить дом, где соберутся изменщики. Когда их схватят, он войдет и решит их судьбу! Однако царь совершает ошибку — от нетерпения путает время: ему кажется, что капитану велено ворваться в дом в одиннадцать, сам является туда в четверть двенадцатого и... застает заговорщиков свободными, со стаканами в руках, с саблями на боку. Петр сам оказался в ловушке.
К счастью, лев иной раз умеет прикинуться лисой. Царь входит в круг удивленных сообщников с улыбкой на устах.
— Друзья,— говорит он,— я услышал звон стаканов за ставнями и решил, что здесь веселятся. Место для доброго сотоварища!
Петр усаживается посреди растерявшихся заговорщиков и, налив себе вина, говорит:
— Выпьем за мое здоровье!
И будущие цареубийцы вынуждены пить за здоровье царя.
Но вскоре застигнутые врасплох сообщники приходят в себя. Они обмениваются угрожающими взглядами. Провидение сделало для них больше, чем они могли желать. Жертва саг ма пришла подставить себя под удар.
Циклер наклоняется к Суханину, наполовину вытащив кинжал из ножен.
— Брат,— говорит он,— час настал!
Но у Суханина не хватает духа.
— Еще рано,— звучит ответ.
Петр слышит и весь этот разговор, и равномерный шаг солдат, оцепляющих дом.
— Еще рано? — повторяет он. —Для тебя рано, сукин сын, а для меня самое время.
И, бросившись на Суханина, сбивает его с ног ударом кулака в лицо.
Раздается громовое ура: мятежники обнажают кинжалы. Как ни велика геркулесова мощь гиганта, но силы слишком неравны — двадцать вооруженных людей вот-вот одолеют одного безоружного.
Но тут дверь распахивается и на пороге появляются гвардейцы.
— Наконец-то,—говорит Петр, выпрямляясь.
По взрыву хохота и жесту царя заговорщики понимают, что все пропало. Не пытаясь сопротивляться, они падают на колени.
— В оковы! — кратко приказывает победитель.
Повернувшись к гвардейскому офицеру, он говорит:
— Так-то ты точен?
И дает ему пощечину.
Офицер спокойно вынимает приказ из кармана. Петр читает: «Ровно в половине двенадцатого» — и смотрит на часы. Все верно.
С быстротой ума или, вернее, сердца, свойственной сильным людям, Петр понимает свою неправоту, стискивает офицера в объятиях, трижды целует по русскому обычаю и поручает ему охрану заговорщиков.
Виновных подвергли пытке —не для получения признания, преступление было явным,— но чтобы они выстрадали все, что могли выстрадать. Затем их четвертовали, отрубив руки и ноги; смерть пришла лишь после того, как у
9
жертв не осталось более ни крови, ни сил, чтобы терпеть мучения.
Наконец головы умерщвленных были выставлены напоказ на столбе — а отрубленные члены развешены вокруг в виде украшения.
Покончив с этой казнью, царь вернулся к планам своего путешествия. Но, прежде чем отправиться в Европу, он захотел заключить мир с Китаем и повоевать против турок.
С Небесной империей шел спор о нескольких русских фортах на Амуре — «Черной реке» для маньчжурских татар и «Дракон-реке» для китайцев.
Амур берет свое начало в горах Хингана в Монголии, течет сначала на юго-восток, затем поворачивает к северо-востоку, проходит через озеро Хулуньчи, орошает Маньчжурию, вбирает в себя Шилку и Сунгари и, пробежав 800 лье, впадает в Охотское море. В настоящее время американцы предлагают русскому императору построить железную дорогу от Москвы до Амура и пустить пароходы по Амуру до Охотского моря. В качестве концессии они просят всего лишь версту территории вправо и влево от проложенных ими путей на всем протяжении железнодорожного полотна. Но русский император отказывается; эти буйные янки представляются ему слишком беспокойными соседями.
Вернемся к спорам царя с Небесной империей. Китайцы послали своих представителей на берега реки Керби. Туда же прибыл губернатор Сибири Головин с блестящей свитой. Два иезуита, француз Гербийон и португалец Перейра, служили переводчиками; в результате границы между империями окончательно определились. Это были две самые обширные империи земного шара.
После заключения мира с китайцами пришла пора воевать с Турцией. Момент для войны оказался подходящим. Венеция, разбитая некоторое время назад турками, оправилась, и Морозини, ранее отдавший им Кандию, теперь отбирал у них Пелопоннес. Леопольд одерживал победы в Венгрии, поляки оттесняли крымских татар.
Нужно было проскользнуть между сражавшимися и овладеть Азовом — ключом к Черному морю, дорогой к Азии. Положив этот ключ в карман, царь мог попытаться захватить Ноте- бург, который в свою очередь был ключом к Балтике, дорогой в Европу. Балтийский ключ присоединился бы к черноморскому.
Гордон пошел на Азов с пятью тысячами войска, у Лефорта было двенадцать тысяч, вдобавок Шереметев спустился по Дону со стрельцами и внушительным корпусом казаков. Петр находился в армии, но лишь в качестве волонтера.
Мы уже говорили, что царь заслужил все воинские звания своей шпагой: был барабанщиком, потом солдатом; победитель Азова, он стал капитаном-бомбардиром и именно в этом ранге проходил во время победного парада перед своим пустующим троном.
Настанет день, когда Меншиков, которого он сделал генерал-аншефом, откажет ему в звании полковника и назначит вместо него офицера, более заслужившего этот чин. Правда, позже, за победу при Полтаве, царь получит звание генерал-майора и, наконец, после морского сражения станет вице-адмиралом.
Российский самодержец будет считать себя поистине императором только после того, как, победив других, победит себя самого.
ъ.
i
ц$
Пока он осаждает Азов, умирает бездетным брат Иоанн. Итак, теперь Петр единоличный обладатель престола. Есть еще, конечно, царевна Софья, но с нее не спускают глаз.
Молодой монарх одержал двойную победу: взял Азов и разбил турецкий флот. Наступило время триумфа. По примеру Помпея и Цезаря в Риме он пожелал вернуться в Москву как победитель и повелел выстроить триумфальные арки, но не себе, а в честь победы. Под этими арками прошли Шереметев, Гордон, Лефорт, солдаты, выигравшие сражение на море — ибо царь хотел прежде всего основать именно морскую державу — затем прошествовали прочие офицеры и генералы армии, в рядах которой, как мы говорили, он занял лишь свое место капитана-бомбардира.
Итак, мир с Китаем заключен, турки разбиты. Можно теперь посетить Европу. Но прежде нужно расквитаться с двумя долгами. Царь велит перевезти брандтовский ботик на большое озеро поблизости от Троицкой лавры. Сейчас это суденышко стоит вблизи Петропавловской крепости у маленького домика Петра. Благодарные потомки почитают его как реликвию и называют «дедушкой русского флота».
Далее Петр велит написать портрет первого солдата в списках Преображенского полка— того полка, который в свою очередь является дедушкой русской армии. Гравюра с этого портрета до сих пор находится в Императорской библиотеке. Имя солдата — Бухвостов. Наконец, в 1697 году царь уезжает за границу. Но подобно тому, как в триумфальном марше он участвовал всего лишь как капитан-бомбардир, на этот раз он едет в составе свиты трех своих послов.
%
irto Щ
т
г/д
&
4$
197
Эти послы — Лефорт, адмирал Головин, только что подписавший мирный договор с Китаем, и Войницын, статс-секретарь, давно уже представительствовавший при иностранных дворах. В свите этих послов были четыре первых секретаря, двенадцать дворян, шесть пажей и пятьдесят гвардейцев — офицеров и солдат Преображенского полка.
При самом Петре состояли лишь камердинер, лакей и карлик.
Стражами Москвы остались: как военная власть Гордон и его двенадцать тысяч наемников — искателей приключений, совершивших чудеса при осаде Азова; и боярин Ромодановский, сиречь Россия, воплощенная в одном из своих сынов.
Что бы ни произошло, царь может положиться на этих двух людей. Ради него дни пойдут на смерть.
Проехав Померанию, Берлин, посольство поворачивает к Виндену, посещает Вестфалию и прибывает в Амстердам.
Петр приезжает на две недели раньше своих послов и сначала поселяется в доме Вест-Индской компании, но, чтобы не быть слишком на виду, скоро перебирается в маленький домик на верфях Адмиралтейства. Затем в одежде лоцмана едет в Саардам и под именем мастера Питера поступает на службу к строителю. Время от времени он отлучается в Амстердам, чтобы подзаняться анатомией у Рюйша и физикой у Вистена.
Мы уже рассказали о поездке царя в Англию, знакомстве с Вильбоа и о том, каковы были последствия этого знакомства в отношении императрицы Екатерины.
Так вот, в гостях у британцев царь узнает, что стрельцы, которых он задерживал на Укра-
198
ине, подстрекаемые царевной Софьей, взбунтовались, покинули свои гарнизоны, двинулись на Москву и оказались разбиты Гордоном в двух стычках. В первом сражении они оставили на поле боя семь тысяч убитых, во втором — восемь тысяч сложили оружие. Петр был вне себя от радости. Итак, грозное ополчение разгромлено полностью. Он устремляется в Москву.
Каким же образом из тридцати пяти — сорока тысяч стрельцов осталось всего семнадцать — восемнадцать тысяч?
Они были истреблены в результате искусного маневра Петра. Сначала в сражениях с турками стрельцов постоянно ставили в первые линии как лучших солдат, и поэтому их было убито предостаточно. Правда, офицерам следовало пополнять свои части. Но монарх, обычно весьма строгий к соблюдению правил, закрывал глаза на поредевшие ряды этой привилегированной гвардии, а поскольку командирам по-прежнему выдавалось жалованье на сорок тысяч человек, хотя на самом деле личного состава оставалось не более семнадцати — восемнадцати тысяч, они не считали необходимым быть в этом отношении щепетильнее самого государя.
Петр так спешил с возвращением, что въехал в одну из московских застав в то самое время, когда пленных стрельцов вводили через другую. Настала возможность раз и навсегда покончить с этими разбойниками, и царь не упустил случая. Он приказал вести судопроизводство по законам об убийцах. Две тысячи стрельцов были приговорены к повешению и пять тысяч — к отсечению головы8.
Казнь длилась всего один день. Царь отличался изобретательностью в делах такого рода. Вот как это свершилось.
Семь тысяч осужденных находились на площади, обнесенной частоколом, в кругу которого выстроили двести виселиц. На каждой можно было вздернуть десять человек разом.
Петр сидел на троне; подле, на ступенях, расположились все князья, высокопоставленные лица и офицеры двора.
Стрельцов выводили по десяткам; венценосец сам их пересчитывал. Затем на приговоренных накидывали петли и выводили десять следующих. Царь вел счет таким образом до двух тысяч. К одиннадцати часам утра эта первая часть казни закончилась.
Приступили ко второй — отсечению головы. Приготовления к ней велись столь же тщательно— самому умелому театральному режиссеру нечего было бы прибавить.
Напротив виселиц установили не отдельные плахи, а бревна, положенные на стойки; их оказалось так много, что в каждом ряду бревен можно было обезглавить сто приговоренных.
Царь велел вывести первых сто стрельцов и этой сотне отрубил головы собственноручно. Обучаясь плотницкому делу, Петр овладел искусством работы топором. Продемонстрировав его, он велел раздать сто топоров своим приближенным.
— Теперь ваша очередь,—сказал государь.— Я свое дело сделал, делайте и вы свое.
Здесь были адмирал, великий канцлер, Меншиков, Апраксин, Долгорукие; быть может, у кое-кого дрожали руки, но никто не осмелился ослушаться. После того, как каждый отсек по десять — двенадцать голов, царь смилостивился и разрешил передать топоры солдатам, которые завершили дело, но по-прежнему на глазах у царя и придворных.
Помилования удостоился лишь один стрелец. Это был красивый молодой человек лет двадцати с небольшим, по имени Иван и по прозвищу Орел.
Подходя к плахе, он споткнулся о тело, преграждавшее ему дорогу.
— Ну-ка пропусти меня,— сказал он,— сейчас мой черед,— и оттолкнул труп ногой. Это хладнокровие поразило Петра.
— Помиловать его,— закричал царь солдату, который уже занес топор над головой Ивана.
И топор застыл в воздухе. Но это было не все. Петр зачислил Орла в свой линейный полк. Стрелец выслужился в офицеры и, следственно, получил дворянство. Его сын, Григорий, генерал-губернатор Новгорода, имел пятерых сыновей: Ивана, Григория, Алексея, Федора и Владимира. Это и были пять братьев Орловых.
Григорий был любовником Екатерины и чуть не стал ее мужем. Алексей был убийцей Петра III и героем Чесменской битвы. Таким образом, один из потомков стрельца, спасенного Петром Великим, сделал Екатерину Великой. Вместе с молодым Орлом пощадили еще трех стрельцов, но ненадолго, а чтобы позже сделать их казнь еще более ужасной.
Это были три автора прошения, призывавшего на царство Софью, сестру царя, которая всю жизнь строила против него козни. Мы говорили, что Софью заточили в монастырь. Трех стрельцов повесили на виселице, выстроенной под окнами ее кельи. В руку одного из повешенных вложили прошение. Виселица стояла так близко, что застывшая рука с письмом просунулась в царевнино окно. Петр приказал, чтобы все оставалось как есть, пока рука
и тело несчастного не сгниют и рассыплются в прах.
Это зрелище излечило царевну от дальнейших попыток к бунту. Она попросила разрешения постричься в монахини и сменить свое печально прославившееся имя на Марфу9. Эти две ее просьбы были удовлетворены. Она умерла в 1704 году.
Мы говорили, что во время первого сражения со стрельцами Гордон перебил семь тысяч человек из десяти. Уцелевшие три тысячи бежали и рассеялись по стране.
Царь желал полного истребления стрельцов. Под страхом смертной казни он запретил во всех пределах Российской империи не только предоставлять убежище беглецам, но и подавать им пищу. Ни куска хлеба тем, кто умирает с голоду, ни глотка воды жаждущим. Трупы этих несчастных находили на дорогах, в лесах и степях. Жен и детей казненных высылали в самые пустынные и дикие местности России. Семьям бунтарей и их потомкам было запрещено покидать места поселений. Чтобы запечатлеть память об этой великой казни, Петр повелел поставить на больших дорогах каменные столбы, где были записаны преступления и наказания виновных. Позже этому примеру последовали Махмуд относительно янычар и Мухаммед-Али в отношении мамелюков.
ак уже говорилось, главной заботой Петра I было найти предлог для войны со Швецией. Только эта держава могла дать России выход к Балтийскому морю. К несчастью, как раз в это время умирает в сорок шесть лет Лефорт, правая рука царя1. Петр находит — или полагает, что нашел — ему замену в лице того самого герцога де Кроа, историю которого мы рассказали в заметках, посвященных Ревелю.
По приказу Петра адмиралу были оказаны величайшие почести, государь самолично шел в его свите с пикой в руке следом за капитанами, в звании всего лишь лейтенанта, несущего службу в генеральском полку.
Тем временем Петру представилась возможность провести реформу, которая для него была равнозначна победе на поле боя. Патриарх Адриан скончался, и Петр провозгласил себя не только мирским, но и духовным владыкой государства2, заявив, что патриархов больше не будет. С тех пор он часто повторял: «Людовик XIV во многих отношениях превосходил меня в величии; в одном лишь я свершил более, чем он, в одном превзошел его: я понудил мое духовенство к миру и повиновению, а он своему отдался во власть».
203
Ливония или, по крайней мере, часть Ливонии, включая всю Эстонию, была уступлена Карлу XI Польшей. Однако ж народности, населявшие эти земли, в качестве непременного условия поставили сохранение своих привилегий. Все или почти все эти привилегии Карл XI нарушил.
В 1692 году один ливонский дворянин по имени Иоганн Рейнхольд Паткуль3 вместе с шестью депутатами провинции прибыл ко двору Карла XI с петицией, писанной слогом почтительным, но твердым.
Карл XI арестовал шестерых депутатов, посадил их в тюрьму, а Паткуля приговорил к позорной казни.
Паткуль не стал дожидаться исполнения приговора: он бежал и, воспользовавшись тем, что Август Саксонский был только что избран королем Польши, ринулся к нему и напомнил о клятве, которую Август некогда дал: если он взойдет на престол, то вернет провинции, отнятые шведами.
Как раз в это время Петр, со своей стороны, подумывал о завоевании Ингрии и Карелии. И тут Паткуль прибыл в Москву. Он намерен был напомнить Петру, что Ингрия и Карелия искони принадлежали России и шведы завладели ими во времена войн Лжедимитрия. Петр, впрочем, об этом не забывал.
Паткуль взял на себя роль посредника между русским царем и королем Польши; затем, для большей надежности, усилил коалицию участием Фридриха IV, короля Дании.
Карл XI умер и передал престол своему сыну Карлу XII.
w
Карлу XII было всего лишь восемнадцать лет4, и, что он собою представляет как воин, никто не знал. Паткуль был назначен генерал-майором с заданием осаждать Ригу.
Петр отправил в поддержку перебежчику шестьдесят тысяч человек — правда, из этих шестидесяти лишь двенадцать тысяч с трудом могли сойти за регулярные войска — и осадил Нарву. Город этот он выбрал, потому что тот стоит на Балтике.
Фридрих Датский, узнавший обо всем последним, собрал армию, дабы содействовать операциям союзников.
Но Карл XII не дал ему на это времени: он ринулся в Данию и за пять недель справился с Фридрихом и с его армией. Затем прислал подкрепление к Риге и вынудил Паткуля снять осаду.
Потом отправился собственной персоной,— выражаясь слогом военных реляций,— к Нарве и в отсутствие Петра —тот был в Новгороде с Меншиковым, а командование передал Кроа — разгромил для начала первый русский корпус к северу от Ревеля и затем всю армию под Нарвой5. Эта новость подействовала на Петра как гром среди ясного неба.
Невероятно: имея в своем распоряжении девять тысяч человек и десять орудий, Карл XII разгромил шестидесятитысячное войско со ста сорока пятью орудиями.
И эти девять тысяч не только разметали шестидесятитысячное войско, но семь тысяч человек убили и двадцать пять тысяч взяли в плен.
Катастрофа была чудовищная, и весть о ней разнеслась по всей стране, дойдя до самых глухих уголков, до простонародья и духовенства.
Царь, однако же, не пал духом; казалось даже, что ошеломляющая весть ничуть его не встревожила.
— Я знаю,— сказал он,— в сравнении со шведами мы всего лишь ученики; но они нас били не без толку: битье — тоже ученье, и мы в свой черед научимся их бить.
Первым долгом Петр занялся артиллерией: людей всегда можно найти, пушки — другое дело. Он мчится в Москву, отбирает колокола у монастырей и церквей, велит везти их со всех уголков России, отливает сто крупнокалиберных орудий, сто сорок три полевых, мортиры, ядра — и все посылает в Псков.
Затем вступает в переговоры с королем Дании, берет у него взаймы три пехотных полка и три конных.
Наконец, устремляется в Бирзен, на границе меж Курляндией и Литвой, предлагает польскому королю шестьсот тысяч франков звонкой монетой и двадцать тысяч русских солдат на таких условиях: франки тот пусть оставит себе, русских же вернет ему, Петру, но в цивилизованном состоянии; затем царь возвращается в Москву, посылает Репнина с четырехтысячной ратью к Риге, вербует, через посредничество Паткуля, немецких, ливонских, польских солдат и офицеров; строит на озере Пейпус флот, который откроет ему путь к Нарве, да на Ладожском озере еще один, который откроет ему путь к Нотебургу, самолично обучает матросов морскому делу, чуть не тонет вместе со шлюпом во время одной из тех ужасных бурь, когда Ладога словно соревнуется с океаном; но ему, цезарю, судьбой назначенному творить великое дело цивилизации, все бури нипочем.
Вместе с тем — и словно в мирное время, ничем не омрачаемое,— не теряя из виду Карла XII, который еще не догадывается, кто истинный его противник, и развлечения ради опустошает Польшу и колошматит Августа, — Петр разрабатывает формы договоров, учреждает учебные заведения, основывает мануфактуры, заводит в России стада саксонских долгорунных овец, выписывает виноделов из Испании, строителей из Голландии, кузнецов из Франции, а всякого рода ремесленников почти из всех стран.
Все это не мешает ему соединять каналами Каспийское море с Черным, а позже, заполучив Балтийское, связать их и с Балтийским; рыть канал между Волгой и Доном и еще один, между Доном и Даугавой-рекой, впадающей в Балтийское море, в устье которой стоит Рига. Правда, Петр еще не взял Риги, но он возьмет ее когда-нибудь, когда побьет шведов. Пока что шведы его бьют, но можно не беспокоиться, он еще отыграется!
И действительно, каждое из поражений для царя — урок военного искусства. Поучились год этаким образом, и вот генерал Шереметев 11 января 1702 года разбивает шведского генерала Шлиппенбаха, отбирает у него Дерпт и захватывает четыре знамени — первые четыре знамени! Карл XII перестал быть непобедимым. В мае Шереметев захватывает шведский фрегат на озере Пейпус. В июне и в июле снова два успешных дела.
Наконец тот же Шереметев наносит новое поражение тому же Шлиппенбаху (19 июля 1702 года) и захватывает шестнадцать знамен и двадцать пушек. После чего в руках царя оказывается Мариенбург.
Город сдался безоговорочно: дабы молить победителя о милосердии, жители отправили к нему своего священнослужителя, пастора Глюка. Достойный муж отправился к Шереметеву, не столько парламентером, сколько просителем.
Ему был оказан добрый прием. Но генерал заметил среди членов его фамилии — а слово это мы употребляем в том смысле, в котором его понимали древние римляне, включавшие в фамилию всех обитателей дома,— итак, среди членов его фамилии генерал заметил молодую женщину ослепительной красоты и осведомился, кто она такая.
Ему сказали, что зовут ее Екатериной. Фамилию назвать было невозможно, она сама ее не знала; и было о ней известно лишь то, что знала она сама.
По предположениям Екатерины, родилась она в Дерпте, около 1668 года; знала, что принадлежит к римско-католической церкви; ей помнилось, что в Дерпте жила до того времени, когда родители, устрашившись чумного поветрия, обрушившегося на Ливонию, укрылись в окрестностях Мариенбурга. Но от чумного поветрия не ушли: чума гналась за ними и все-таки настигла — отец с матерью умерли, оставив на волю Божию трех беспомощных малолеток; одну из дочерей они перед бегством пристроили в Дерпте у родичей, а маленькую Екатерину и ее брата привезли в Мариенбург.
Один крестьянин взял на свое попечение мальчика; трехлетняя девочка была вверена заботам какого-то пастора.
Но одновременно с маленькой Екатериной в дом священника вступила чума; пастор умер
и с ним часть его домочадцев. Девочка снова оказалась в полном одиночестве.
К счастью для нее, господин Глюк, имя которого уже упоминалось, будучи в ту пору архипресвитером провинции, прибыл в Мариен- бург, дабы доставить умирающим утешение Церкви. Он вошел в дом пастора, когда тот испустил последний вздох. В комнате покойника, забившись в уголок, сидела на корточках девочка — единственное живое существо, оставшееся в зачумленном доме; увидев вошедшего, она подбежала, ухватилась за его одеяние, назвала папенькой, попросила хлеба и уже не отходила ни на шаг.
Достойный священнослужитель не отверг ребенка, посланного ему Провидением, и поскольку никто из местных жителей не заявил своих прав на сироту, господин Глюк взял ее с собою й во время всей поездки держал при себе.
По возвращении в Ригу, где пастор жил постоянно, он вверил девочку попечениям своей жены; Екатерина росла вместе с двумя дочерьми господина Глюка и жила в доме на положении служанки или вроде того.
Едва ей сравнялось шестнадцать, как священник заметил — а может быть, ему просто показалось — что сын его поглядывает на девушку нежнее, чем подобало бы сыну архипресвитера; Екатерина и впрямь была хороша на диво. Было сочтено за лучшее выдать ее замуж.
По принятии сего решения и без дальних проволочек, поскольку общественное положение девушки таковых не требовало, ей предложено было вступить в брак с молодым драбантом 6 из лейб-гвардии* Карла XII, расквартиро-
ванной в Мариенбурге; молодой человек и раньше имел на девушку виды.
Три дня спустя после свадьбы гарнизону было приказано присоединиться к шведской армии, действовавшей в Польше.
Драбанту поневоле пришлось покинуть новобрачную, а та, не зная, куда деваться, вернулась в дом господина Глюка и продолжала служить у него в семье, словно ее положение ничуть не изменилось.
Мы уже сказали, что жители Мариенбурга попросили архипресвитера сообщить генералу Шереметеву, что город сдается на милость победителя; рассказано было и о том, что генерал заметил Екатерину.
Он воспользовался правом победителя и, указав на нее, потребовал ее себе как положенную ему часть добычи.
Священнослужитель попытался возразить; Екатерина попробовала что-то сказать; но волей-неволей молодой женщине пришлось расстаться с местом служанки в доме священника, чтобы занять при генерале место с другими обязанностями.
Екатерина горько расплакалась. Из вчерашней служанки она превратилась в крепостную наложницу.
Надо сказать, что в те времена господин был волен распоряжаться даже жизнью своего крепостного раба.
«Чтобы показать, какая власть дана в России господину над рабом,— замечает уже известный нам Вильбоа,— расскажу о решении, принятом Святейшим Синодом по делу одного монаха, которого мальчик-прислужник обвинил в противоестественных покушениях на его невинность.
Синод вызвал монаха, и тот после очной ставки сознался, что маленький прислужник говорил правду. Члены Синода осведомились, состоит ли ребенок на жаловании или всего лишь крепостной раб; поскольку доказано было, что он раб, Синод объявил, что монах вправе делать с сим отроком что угодно, и жалобе не дали ходу. Монаху всего-навсего посоветовали продать этого раба!»
А потоку Екатерина не последовала примеру мальчика, не стала жаловаться и покорилась воле своего господина.
Она пробыла месяцев семь рабыней Шереметева, когда в Ливию пожаловал Менши- ков — еще не граф, не принц священной империи, не русский князь; но уже влиятельнейший вельможа и искусный полководец. Он приехал, дабы вступить в должность командующего российской армией в Ливонии; при нем был приказ, согласно коему Шереметеву надлежало ехать к царю в Польшу. Пуститься в путь он должен был тотчас же.
Шереметев повиновался; в Ливонии он оставил почти всех своих домочадцев, взяв с собой только тех, без кого не мог обойтись.
Екатерина оказалась в числе оставшихся и приглянулась Меншикову, видевшему ее несколько раз. Он предложил Шереметеву уступить ему эту крепостную. Тот согласился.
Девушка оказалась в выигрыше: теперь она принадлежала господину куда более молодому и веселому и потому повиновалась на сей раз не из одного только послушания.
Любовь рождает ответное чувство. Менши- ков влюбился в свою рабыню, и Екатерина теперь уже не выполняла распоряжений по дому, а распоряжалась сама. Таково было поло-
жение вещей, когда с берегов Ладоги вернулся Петр.
Он только что выбил оттуда шведов и отобрал у них крепость Нотебург, ныне Шлиссельбург, завладев таким образом Невою на всем ее протяжении; затем царь прибыл в Ливонию и остановился у своего любимца Меншикова.
Екатерина вместе с прочими крепостными должна была прислуживать царю за обедом. Красота ее возымела обычное свое действие; по окончании первого же обеда у Меншикова Петр повелел всем удалиться и остался наедине с хозяином дома.
Тот ожидал, что разговор пойдет о государственных делах; но, к великому его изумлению, Петр задал лишь один вопрос:
— Кто такая эта твоя Катерина, и у кого ты ее купил?
Меншиков рассказал все, что знал о молодой женщине.
Царь приказал войти всем, кто прислуживал за столом. Вместе со всеми вошла и Екатерина.
— Красавица! — сказал ей Петр.— Когда я пойду спать, возьми факел и посвети мне.
Екатерина вопросительно взглянула на Меншикова, тот знаком приказал ей повиноваться. Она повиновалась.
На другой день царь отбыл, оставив своему факелоносцу дукат, то есть примерно двенадцать франков.
Именно такую сумму определил себе Петр на любовные расходы, и, хоть на первый взгляд она может показаться незначительной, траты за год составляли от шести до восьми тысяч франков.
По отбытии Петра Екатерина осыпала Мен* шикова упреками. Тот оправдывался, ссылаясь на всемогущество государя и на то, что всем ему обязан; но укоры наложницы лишь усилили его любовь. Казалось, сейчас самое лучшее и для нее, и для Меншикова — позабыть обо всем случившемся: Петр — в отъезде, уступила царю Екатерина поневоле, ничьей вины тут не было.
Но Петр возвратился; ему подали множество жалоб на великие лихоимства Меншикова, да и сам заручился доказательствами того, что его фаворит впрямь в них повинен.
В одно прекрасное утро, к немалому изумлению Меншикова, Петр пожаловал к нему без предупреждения. Изумление усугубилось, и превесьма, когда царь для начала отходил его. что было мочи тростью, с которой никогда не расставался. Таков был обычай у этого властелина: десять минут спустя после экзекуции он уже обращался с наказанным так, словно ничего не произошло.
Произведя экзекуцию, государь объяснил, в чем причина, представил любимцу доказательства того, что кара заслуженная, и объявил, что намерен остаться в Ливонии на некоторое время, но поселиться своим домом, дабы не стеснять Меншикова. Пообещал, однако ж, что будет обедать у того дважды в неделю.
Царь сдержал слово. Два-три раза и впрямь отобедал, а о прекрасной рабыне как будто и не помышлял.
Но однажды сказал все же:
— А кстати, Катерина где?
— Катерина? — пролепетал Меншиков.
— Да, что-то ее не видно. Уж не ревнуешь ли, случаем?
— Все в этом доме принадлежит моему господину и благодетелю.
— Что ж, я хочу снова увидеть эту девушку; позвать ее.
Екатерину вызвали, она явилась, краснея и смущаясь.
Меншиков же то краснел, то бледнел, не как господин, уступающий свою рабыню другому, а как любовник, у которого отнимают подругу.
Царь заметил и ее смущение, и его встрево- женность; он слегка побалагурил с Екатериной. Но, почувствовав, что в ответах молодой прислужницы больше почтения, чем нежности, впал в задумчивость, отстранил женщину рукою, несколько мгновений молчал, а потом в течение всего ужина подчеркнуто не заговаривал с нею.
После ужина принесли ликеры. Подавала Екатерина: с подносом, на котором стояли рюмочки, она приблизилась к царю.
И когда склонилась перед ним, тот поглядел на нее долгим взглядом, словно позабыл, по какой причине она здесь оказалась.
Затем Петр проговорил, и голос его звучал мягче обычного:
— Катерина, сдается мне, мы уже не в тех добрых отношениях, что прежде!
Молодая женщина потупилась, и поднос у нее в руках задрожал так сильно, что рюмки зазвенели.
— Но я надеюсь,— продолжал царь,— что нынче ночью мы помиримся.
Затем резко повернулся к фавориту:
— Вот что, Меншиков! Я увожу ее!
Сказано — сделано: он встал, надел шляпу,
взял Екатерину под руку и повел в дом, где остановился.
Петр виделся с Меншиковым и назавтра после того, и на следующий день, но ни словом не обмолвился относительно возвращения молодой женщины; лишь на третий день, поговорив о различных государственных делах, он сказал внезапно и без околичностей:
— Послушай, Катерину я оставлю себе, она мне нравится; ты должен уступить.
Меншиков онемел, так сжалось у него сердце; он смог лишь отвесить низкий поклон и хотел было удалиться, но царь прибавил:
— Кстати, не забудь, у бедной девушки и одежки-то почти нет, так что ты уж пришлешь ей, полагаю, что надеть. Я хочу, чтобы она была nippée* как подобает, понял, Меншиков?
Слово «nippée» он намеренно произнес по-французски, словно ради пущей выразительности.
Меншиков хорошо изучил своего повелителя и знал, как надобно выполнять его волю. Он накупил, сколько смог, женских нарядов нужного размера и прибавил к ним ларчик с великолепными бриллиантами. Доставить все это должны были двое крепостных, которых он отдавал в распоряжение Екатерины на столько времени, на сколько она пожелает.
Когда крепостные доставили вещи, Екатерина была в царской опочивальне; и о подарках узнала, лишь когда вернулась к себе. Обнаружив их, молодая женщина крайне удивилась, вернулась к царю и проговорила, улыбнувшись
м
%
Ш
Г/д
^v1 М
À
/tcà
одета, наряжена (фр., разг.).
той задорной улыбкой, которая принесла ей корону:
— Я столько раз и столь подолгу бывала у вас в покоях, государь, что вам не грех заглянуть на миг и ко мне; идемте, надобно показать вам кое-что любопытное.
Царь последовал за ней. Подобно Менши- кову, и этот господин уже стал превращаться в раба.
У себя в опочивальне Екатерина подвела его к тюку с нарядами, полученными от Мен- шикова, и добавила уже вполне серьезно:
— Сие, думаю, означает, что я останусь здесь на столько времени, насколько будет благоугодно вашему величеству; а коли так, надобно, чтобы вы, государь, узнали, какими богатствами я владею.— И она, смеясь, распаковала тюк и разбросала наряды по постели и по стульям.
Но, накинув на плечи последнее платье, заметила ларчик.
— О, должно быть, Меншиков ошибся,— воскликнула молодая женщина,— это наверняка не мое.
Однако, не совладав с любопытством, все же открыла шкатулку и увидела кольцо, ожерелье и прочие драгоценности, стоимостью тысяч в двадцать рублей. Екатерина пристально поглядела на царя.
— От кого этот дар,— проговорила она,— от прежнего моего господина или от нынешнего? Если от Меншикова, он с неслыханной щедростью награждает рабынь, которым дает отставку.
И вдруг смолкла; постояла безмолвно и неподвижно. Две слезы поползли по щекам.
— Бедный Меншиков! — прошептала она, но справилась с собою и продолжала: — Если
ь.
подарки эти от прежнего моего господина, колебаться нечего, отошлю все обратно.
Она вынула узенькое дешевое колечко, показала царю.
— Вот все, что приму от него, пусть это колечко напоминает о том, как он был добр ко мне. А богатств сих —не надобно... Увы! Я надеялась, он одарит меня чем-то куда ценнее.
И не в силах сдерживаться более, молодая женщина залилась слезами и упала без чувств. Петр позвал челядинцев, и лишь с помощью воды королевы Венгерской Екатерину удалось привести в сознание.
Когда она пришла в себя, царь сказал, что бриллианты присланы Меншиковым ей на память, их должно оставить, и он признателен своему любимцу за великодушие.
— Прими подарок,— сказал Петр,— а я поблагодарю его сам.
Екатерине пришлось подчиниться царской воле.
Мы уже сказали, что Петр был вынужден позвать слуг во время ее беспамятства; и челя- динцы приметили, как заботливо и нежно он, человек, сведущий в медицине, помогал возвращать ее к жизни. Обстоятельство это казалось тем примечательнее, что такого рода изысканная внимательность была совсем не в обычае у царя; и по сей причине многие предположили, что государь влюбился всерьез. Эти люди не ошиблись.
С того дня и все время, покуда Петр пребывал в Ливонии, он никому Екатерину не показывал и ни с кем о ней не говорил; затем, когда приспела пора возвращаться в Москву, поручил одному лейб-гвардейскому капитану
м
%
J1
ш
217
доставить туда же молодую женщину, причем повелел оказывать ей в пути всяческое почтение и настоятельно требовал оповещать его каждодневно о том, каково ей в дороге.
По прибытии в Москву Екатерину поселили в малолюдной части города, в доме одной барыни знатного рода, но не очень состоятельной.
В этот дом и приходил проведать ее царь — влюбленный, исполненный таинственности : он надвигал себе на брови широкополую шляпу и кутался в широкий и длинный плащ.
В этом доме Екатерина родила царевну Анну и царевну Елизавету; и та, и другая родились в двойном грехе, ибо Петр в то время пребывал в супружестве с Евдокией, а Екатерина— со своим драбантом.
В те поры Людовик XIV являл пример всему миру, а Петр следовал его примеру во многих отношениях.
ставим Екатерину в ее маленьком загородном домике мечтать о будущем величии и вернемся к Петру I, основателю Санкт-Петербурга.
В то время как его,—законодателя, реформатора церкви, основателя работных домов, домов призрения, училищ, коллегий, академий, школ, разного рода мануфактур — от булавочных до пушечных,— все считают прикованным к Москве любовными делами и заботами, он внезапно появляется в ста лье от Москвы, на низком, болотистом, нездоровом и пустынном берегу Невы. Разминая грязь под ногой, царь произносит:
— Здесь будет Санкт-Петербург.
Здесь? Но почему здесь? Почему такое предпочтение бесплодной и гнилой почве, суровому климату, где зима царствует восемь месяцев в году; этой реке, покрытой льдом, с неровными песчаными берегами, вдоль которых военные корабли, спущенные на воду в городе, смогут достичь моря лишь с помощью машин или лошадей?
Неужели не знает он, что эти пресные воды быстро сгноят деревянные части кораблей? Разве он не заметил одинокое дерево с многочисленными отметками наводне-
219
ний на реке? Что это? Фантазия самодержца, причуда победителя?
Нет, это вовсе не причуда и отнюдь не фантазия. У такого человека, как Петр, фантазии могут быть связаны только с пустяками, но не с серьезными делами.
Его выбор — результат трезвого, глубокого анализа.
Созданные природой препятствия, о которых императора предупреждали, он считал преодолимыми. Главным в его выборе было то, что три важнейшие части света: Азия, Европа и Америка примыкают к Северному полюсу. Россия по своему географическому положению является одновременно американской, европейской и азиатской страной. Российская империя, до сих пор почти не известная Европе и находящаяся на краю земли, через Берингов пролив входит в контакт с Америкой, через Каспийское море — с Азией и через Понт Эвксинский и Балтику — с Европой.
Завоеваниями на суше и на море Петр предоставил своей империи возможность пользоваться тремя частями света. Орлиный взор основателя сквозь невские болота, сквозь глубины Финского залива смог увидеть место соединения этого великого целого.
Санкт-Петербург — порт, наиболее близкий к Волге, великой артерии, воротам России. В Санкт-Петербурге соединятся не только коммерсанты, но также воды Европы и Азии, а может — кто знает? — и воды Белого моря, Северного Ледовитого океана и Америки.
Он все перенесет в Санкт-Петербург: сокровища, торговлю, столицу, дворянство, правительство; он поселит здесь сенаторов, чтобы их обслуживали торговцы, построит корабли и снабдит их матросами. Он прекрасно созна-
вал, что вначале будет долгая и кровопролитная борьба с препятствиями, что при этом погибнут сотни тысяч людей, но какое это имело значение? Разве у него в то время их не было восемнадцать миллионов?
И разве через сто лет после его кончины наследники его не будут властвовать над шестьюдесятью миллионами подданных?
Что касается дерева, предсказывавшего будущее по прошлому, этого дерзкого свидетеля, предупреждавшего каждого, кто хочет прислушаться, о том, что западный ветер порой поднимает невские воды на такую высоту, что в двадцать четыре часа они могут затопить Санкт-Петербург,— это дерево срубят.
Срубив дерево, забудут об опасности, а забытая опасность как бы и не существует.
Шестнадцатого мая 1705 года1 царь заложил первый камень крепости, вокруг которой был затем построен Санкт-Петербург.
«Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною; и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог: да будет свет. И стал свет». (Библия, Бытие, 1: 2, 3.)
Предоставим же Санкт-Петербургу расти по велению его основателя. Петру пришло время стать генералом. Его ожидали Дерпт и Нарва.
Осада Нарвы; три бастиона крепости: Победа, Честь и Слава — отражают все атаки русских.
Со шпагой в руке Петр овладевает этими бастионами.
Нарва взята.
В разгар резни, грабежа и насилия Петр мечется подобно ангелу-мстителю: он наносит удары не по врагу, а по собственным солдатам.
Он кричит им: «Вы — грабители и убийцы!»
Трижды его шпага убивает тех, кто отказывается повиноваться.
Наконец спокойствие восстановлено.
К нему приводят пленника — графа Горна2, коменданта, защищавшего город до последней возможности.
В гневе Петр бросается на него, ударяет по лицу рукояткой шпаги.
— Это ты причинил столько бед! Ты должен был сдаться, ты знал, что не получишь подмоги!
Затем, показав на клинок своей шпаги, покрытый кровью:
— Видишь кровь, это не шведская, а русская кровь, и эта шпага спасла несчастных жителей города, которые могли стать жертвой твоего упорства.
В довершение царь воскликнул:
— Благодаря Богу мы смогли победить шведов, когда нас было вдвое больше; будем же надеяться, что когда-нибудь научимся побеждать равными силами.
Петр предложил мир Карлу XII. Тот ответил:
— Мы еще посмотрим, когда будем в Москве.
— О! — сказал Петр.— Мой брат Карл Двенадцатый хочет играть роль Александра, но он не найдет во мне Дария.
Карл не сомневался в победе.
— Достаточно будет моего хлыста,— сказал он,— чтобы не просто выгнать этот русский сброд из Москвы, но и сжить его со свету.
И король нисходит до этого сброда, до этой пыли, чтобы развеять ее своим дуновением,— сам отправляется возглавить поход. В Гродно, где была первая битва3 и первая победа, ему казалось, что он прав; а несколько позже у Би-
бича завязалось ожесточенное и кровавое сражение, в котором участвовали Шереметев, Репнин и Меншиков. Наконец, уже на исконно русской земле, недалеко от Могилева, шведский авангард впервые был отброшен Голицыным4. Это непривычное сопротивление раздражает новоявленного Карла Смелого, которому предначертано однажды умереть подобно историческому Карлу Смелому5. Его армия имеет только шесть полков кавалерии и четыре тысячи пехоты. Московиты отступают; король преследует их по безлюдным дорогам и попадает в окружение к калмыкам, копья которых долетают даже до него. Убиты два его адъютанта, сражавшиеся рядом с ним; лошадь короля получила пять ран и пала под ним; шталмейстер подвел ему другую, но был повержен вместе с конем. Карл вместе с подбежавшими офицерами продолжает сражаться пешим. Собственноручно уничтожив дюжину врагов, король обнаруживает подле себя лишь пятерых своих и предвидит момент, когда их всех убьют, а он будет драться в одиночестве и погибнет под горой трупов. Внезапно наперерез калмыкам прорывается полковник с частью своего полка и выручает короля. Карл садится на коня, нападает на калмыков, те бегут, король, несмотря на усталость, преследует их два лье.
Привычная удача и здесь не покидает короля— в ожесточенной битве он не получил ни единой царапины; но слова Петра оправдываются: «Карл начинает учить врагов воевать».
В Москве великая паника: Карл в Смоленске6 — в ста лье от столицы.
Но внезапно им овладевает какое-то помрачение. К великому удивлению армии, он покидает дорогу на Москву и вместо северо-востока устремляется на юг, имея провианта лишь
на пятнадцать дней. Генералу Левенгаупту полководец посылает приказ присоединиться к нему с армейским корпусом в пятнадцать тысяч человек, со съестными и боевыми припасами.
С Карлом было почти двадцать тысяч солдат.
Имея же сорок пять тысяч, то есть вдвое больше, чем у Александра Македонского, разве он не завоюет весь мир?
Разве шведы —не македонцы XVIII века?
Сначала надо овладеть Украиной, где его ожидает Мазепа, а потом вернуться, чтобы завоевать Москву.
Какое же ослепление поразило Карла? Уж не преследовал ли его призрак Паткуля, которого он несправедливо, без всяческих оснований, велел четвертовать? Со времени этой казни Бог отвернулся от короля.
Еще раз судьба дарует ему проблеск надежды на берегах Десны, одного из притоков Днепра. Шведский монарх прибыл сюда истощенный голодом и усталостью.
Корпус из восьми тысяч московитов расположился на противоположном берегу, отдохнуть можно будет, лишь разбив врага.
Берега здесь такие крутые, что шведы спускаются к реке с помощью веревок; затем они переплывают реку и нападают на восьмитысячное войско противника; тот отходит, оставляя поле боя.
Провидение погубило короля, сделав его победителем; в случае поражения он бы отступил, и не было бы Полтавы.
Петр, оставаясь у стен Москвы, следил за Карлом с радостью, смешанной с удивлением: бродить по болотам, углубляться в степи, блуждать в лесах, оставляя в них своих людей, ло-
шадей, артиллерию, обозы— в расчете на помощь Левенгаупта!
Царь решает атаковать и разбить сначала Левенгаупта, а затем уже и Карла: короля — после его подданного.
Левенгаупт везет с собой обоз из восьми тысяч повозок: золото, захваченное в Литве, пушки, порох, продовольствие.
Он уже миновал Борисфен7 выше Могилева и прошел двадцать лье по дороге на Украину, когда неожиданно у Черикова, в месте, где сливаются Пройна и Соса перед впадением в Днепр, появляется царь во главе сорокатысячной армии.
Левенгаупт и его шестнадцать тысяч шведов вместо того, чтобы дожидаться царя с сорока тысячами московитов, идут прямо на них.
Разве шведы не привыкли побеждать один против пятерых?
Поражение было ужасным; полторы тысячи московитов остались лежать на покрытой кровью земле.
Петр видит смятение в войсках, понимает, что он и Россия погибнут, если Левенгаупт присоединится к Карлу со своей победоносной армией. Он бежит к арьергарду, состоящему из казаков и калмыков, выстраивает их в одну линию и кричит:
— Убивайте всех, кто отступит, даже меня, если я струшу!
Затем он присоединяется к авангарду, принимает на себя командование и выстраивает войска для сражения против Левенгаупта.
Но Левенгаупт имеет приказ присоединиться к королю, а не вступать в сражение с царем. Его вполне устраивают оказанные ему
г*
V
vS|
ш
$
Л
т
ш
к
Sr«
¥
№
/О
№
j£
jl(
225
У
я
почести; швед не принимает боя и отправляется в путь.
Теперь настает момент нападать Петру. Назавтра он догоняет неприятеля, идущего вдоль болота, окружает его со всех сторон и атакует.
Армии встретились лицом к лицу. Битва длится три часа; шведы теряют две тысячи человек, а московиты — пять тысяч; но ни одна из сторон не отступает ни на пядь. Утром положение остается неясным —и это победа для Петра.
В четыре часа, когда усталость заставляет прервать сражение, царь видит приближение генерала Бойко с подкреплением в шесть тысяч человек. Император становится во главе этих свежих сил и бросается на шведов; вновь начинается битва и продолжается до ночи.
Наконец, сказывается преимущество в численности: шведы разбиты, обращены в бегство, откинуты за свой обоз. Они строятся позади обоза и видят, что их уцелело только девять тысяч.
Семь тысяч убиты или смертельно ранены в трех битвах. Оставшиеся собираются вместе, строятся в шеренги и проводят ночь в боевом порядке.
Петр также проводит ночь, оставаясь вооруженным.
Офицерам под страхом разжалования и солдатам под страхом смерти запрещено заниматься грабежом.
Ночью Левенгаупт отошел на высоту, заклепал орудия, которые не могли следовать за ним, и поджег повозки.
Петр подоспел вовремя, чтобы погасить огонь; четыре тысячи повозок попали в его руки.
Затем он атаковал шведов в пятый раз, одновременно предложив почетную капитуляцию.
Левенгаупт принял битву, а от капитуляции отказался.
Сражение длилось весь день; вечером шведский генерал переправился через Сосу с оставшимися четырьмя тысячами человек. Он потерял двенадцать тысяч, выдержал пять сражений против сорока тысяч. Его вынудили отступить, но ряды его войск были в порядке; он был раздавлен, но не побежден.
Это сопротивление врагов вызывало восхищение и отчаяние Петра.
В пяти сражениях он потерял десять тысяч человек и чувствовал, как враг ускользает из РУК-
Из этих пяти сражений результаты двух были неопределенны, а три закончились победой.
Левенгаупт присоединился к королю Швеции с четырьмя тысячами человек, но без боевых и съестных припасов для армии, которая так в них нуждалась.
С Польшей связи больше не было; вокруг— враждебная страна и ожесточенный враг; наконец, приближалась зима, эта ужасная зима 1709 года, с которой может сравниться лишь зима 1812-го!
Карл потерял две тысячи солдат в этих степях и вышел из них с кавалерией без лошадей и с пехотинцами без сапог.
Часть артиллерии была оставлена в болотах или затоплена в реках; не было лошадей, чтобы ее везти.
Рассказывают об одном офицере, который начал роптать; об этом услышал король.
— Не скучаешь ли ты случайно по своей жене? — спросил его полководец.— Чтобы ты
стал настоящим солдатом, ушлю-ка я тебя подальше от Швеции, туда, где ты вряд ли будешь вообще получать новости из дома.
Рассказывают анекдот о солдате, у которого на весь день был лишь кусок черного хлеба из ячменя или овса; он показал этот хлеб Карлу.
Тот взял хлеб, рассмотрел и съел до последней крошки.
Затем, обращаясь к ошеломленному солдату, которого оставил голодным до следующего дня, сказал:
— Хлеб не очень хорош, но вполне съедобен.
И продолжал путь.
В итоге у Карла оставалось двадцать четыре тысячи человек, изможденных и умирающих от голода; но это были шведы, а они восстанавливают свои силы при звуке пушек.
В армии распространились болезни; с первого февраля вновь начались бои, и в апреле у короля осталось восемнадцать тысяч человек.
Приближалась Полтава.
Карл получил подкрепление — несколько тысяч валахов, проданных ему татарским ханом; со своими восемнадцатью тысячами шведов и двенадцатью тысячами валахов он собирался осадить Полтаву, где находились богатые склады с провиантом, оружием и боеприпасами.
Полтаву необходимо было взять, ибо наступала зима — грозный враг для Карла, но союзник для Петра, приближавшегося во главе семидесятитысячной армии.
Карл торопился с осадой.
Во время обстрела случайная пуля, один из ничтожных кусочков свинца, которые тем не менее решают не только судьбы людей, но и империй, следуя путем, предначертанным
Богом, вошла королю в пятку и раздробила кость.
Карл даже не поморщился. Он принадлежал к школе греческого философа, который говорил: «Боль! Ты вовсе не зло!»
Шесть часов он оставался в седле, не высказав ни одной жалобы, и никто из окружения не заметил, что король ранен.
Наконец один из слуг увидел кровь, текшую из сапога.
Он позвал на помощь и как раз вовремя: король чуть не падал с лошади.
Его сняли с седла, разрезали сапог. Решили, что ногу надо отнять.
Отнять ногу королю Карлу было все равно, что обезглавить его.
Один из врачей осмелился высказаться против ампутации и взял на себя ответственность.
Коллеги доверили ему больного.
— Что вы собираетесь делать? — спросил Карл, оставшись с медиком наедине.
— Глубокий разрез, ваше величество, чтобы удалить из раны кости, они могут помешать заживлению.
— Приступайте.
Хирург позвал кого-то.
— Кто вам нужен? — спросил король.
— Два человека, ваше величество.
— Для чего?
— Чтобы держать ногу вашего величества.
— Не надо. Я буду держать ее сам.
И Карл протянув ногу, следил за операцией, как если бы она проводилась на ком-то другом.
Хирург наложил повязку, король отдал приказ назавтра начать осаду; но в тот момент, когда адъютант выходил для передачи приказа,
229
вошел другой адъютант и сообщил о прибытии царя с семьюдесятью тысячами войска.
— Хорошо!— воскликнул Карл, не проявив ни малейшего волнения при этом известии.— Мы разобьем царя, а потом возьмем Полтаву.
И отдал приказ о начале сражения.
Затем, утомленный атакой и операцией, он уснул и проснулся только назавтра утром.
Это завтра было 8 июля 1709 года.
Восходящее солнце озарило битву, подобную битвам при Арабелле, Марафоне, Заме, Акциуме, Бовине 8, Ватерлоо, решавшим судьбы империй.
По одну сторону был Карл XII, то есть девять лет непрерывных побед; по другую — Петр I, то есть двенадцать лет казней, забот, борьбы.
Первый раздавал государства, венчал и свергал королей; второй с большим трудом сделался императором и начинал приобщать свою империю к цивилизации.
Один — любитель опасности ради опасности, храбрец, сражающийся ради удовольствия, второй — осторожный политик, воюющий только в интересах народа.
Один — безрассудный, от рождения расточительный, другой — расчетливый и целеустремленный. Один — целомудренный и воздержанный по темпераменту; другой — любитель вина и женщин. Один уже завоевал титул Непобедимого, но рисковал потерять его при первом поражении; другой только собирался завоевать титул Великого, и никто и ничто не могли бы его отнять у него. Один — рискующий прошлым, другой — будущим.
Если бы Карл XII был убит, это в конце концов была бы только потеря человека; Шве-
ж
ш
ъ
щ
т
}/£
ivi
¥к
Ь
Ni1
JV|
%
Я
(ftô
230
ция осталась бы такой, какой она была, какой должна была быть.
Если бы был убит Петр I, то погиб бы не только человек, но и цивилизация, империя потерпела бы крушение.
Поезжайте в Полтаву, и в шести верстах от города вы увидите холм высотой в двадцать пять футов; это курган, похоронивший шведскую армию, это гробница, в которой погребена слава Карла XII.
На поле битвы, где возвышается эта гробница, Петр, покрытый порохом и обрызганный кровью, но с венцом славы на челе, обратился к своей победоносной армии:
— Солдаты, приветствую вас, любимые дети моего сердца, я создавал вас в поте лица своего, вы — душа Родины, без которой тело мертво.
Затем, оставив Карла в его безрассудном гневе в Бендерах, Петр отправился пожинать плоды Полтавской битвы вместе с Польшей, Пруссией и Данией. Станислав лишился трона и уступил Польшу королю Саксонии.
Петр был теперь слишком силен, чтобы не понять слабости короля Августа.
Русский царь стал генералом и бомбардиром у стен Риги, правителем и законодателем в Москве, инженером и конструктором в Санкт-Петербурге.
Он основал Кронштадт, довел свою армию до тридцати трех полков пехоты, двадцати четырех полков кавалерии и пятидесяти тысяч гарнизонных солдат.
Продавца пирожков он назначил генерал-аншефом. Государство, состоявшее из разрозненных частей, превратил в могущественную и победоносную империю. Ливонскую крестьянку Екатерину, служанку пастора Глю-
ка, сделал царицей, а потом и наследницей престола.
Настоящая царица Евдокия Лопухина была уже пять лет в монастыре.
Екатерина будет официально признана и коронована лишь через двенадцать лет9.
И вот по какой причине.
Среди пленных, взятых в Полтаве, находился гвардеец, бывший два дня мужем Екатерины.
Он был отправлен в Москву вместе с четырнадцатью тысячами пленных шведов и появился следом за Петром в старой столице русской империи, которую вскоре затмит новая столица — Санкт-Петербург.
Здесь гвардеец и узнал, что произошло между Екатериной и царем.
Вместо того, чтобы испугаться, несчастный воспылал какой-то призрачной надеждой и признался начальнику над пленными, кто он такой.
Тот немедленно сообщил царю.
Петр написал на обороте сообщения:
«Этот человек сумасшедший, ему не следует причинять зла. Обращаться с ним, как и с другими пленными».
Вместе с другими пленными он был отправлен в Сибирь.
Сибирь — это вечная ночь, из которой нико- ' гда не выйдешь, чтобы увидеть день.
Гвардеец умер в ссылке в конце 1721 года.
Петр I всегласно признал Екатерину лишь тогда, когда получил известие о смерти драбанта.
АРЬ И ЦАРИЦА
друг среди триумфов и увеселений царь узнает, что вследствие тайной интриги, затеянной Карлом XII, две армии, турецкая и татарская, идут походом на Яссы \
Эта объединенная армия насчитывает две сотни тысяч человек, и эти две сотни тысяч находятся под командованием Мехмета Балтаджи, прозванного Мехме- том-дровоколом. И действительно — Мехмет был слугой в гареме. Всесильный поддержкой господина, он, памятуя о своем происхождении, вначале отказывается от командования такой огромной армией. Но Великий Повелитель настаивает и даже вручает ему палаш, осыпанный драгоценными камнями. Лишь тогда Мехмет соглашается, говоря при этом:
— Ты, о Великий Повелитель, знаешь, что я привык пользоваться топором дровосека, а не саблей командующего армиями; постараюсь хорошо служить тебе, но в случае поражения вспомни, как я умолял не делать из меня генерала.
Петр, возгордившийся Полтавской победой и оценивающий турок и татар так, как Карл XII еще недавно оценивал московитов, идет против этих двухсот тысяч варваров с тридцатью тысячами солдат.
233
Конечно, эти тридцать тысяч — отборные русские войска, зародыш цивилизации, надежда Севера.
Петр заключает договор с двумя греками — Кантемиром, господарем Молдавии, и Бранко- вяну, господарем Валахии.
Преданный обоими, он оказывается прижатым к самой реке Прут, без продовольствия, без боеприпасов, без артиллерии и зарядов,— последних хватило бы выстрелить из пушки раза три.
— Черт побери! — говорит царь.—Вот и мне так же худо, как было брату Карлу под Полтавой.
И удаляется в свою палатку, запретив кому бы то ни было его беспокоить; требует назавтра напрячь все силы и диктует в Сенат следующее послание:
«Не терять мужества, думать лишь о благе и процветании государства, не принимать во внимание никаких приказов, которые могут вырвать у меня в неволе; даже заменить меня на престоле самым достойным, и, если благо общества потребует, я заранее отказываюсь, пока еще свободен, от царства, коим хотел править лишь для его славы».
До сего момента Петр руководствовался образцами правителей Европы, а в нескольких этих строках возвращает им долг.
Затем он вызывает Шереметева и приказывает сжечь ночью весь обоз. Каждый старший офицер должен оставить себе лишь одну повозку: если армию ждет поражение, врагу, по крайней мере, не достанется добыча.
На заре начнется штыковая атака/
Шереметев выходит; приказы царя будут выполнены.
Петра же охватывает судорожный припадок. Все великие люди, начиная от Цезаря и кончая Наполеоном, в большей или меньшей степени страдали эпилепсией. Открыв глаза, Петр видит перед собой Екатерину — своего самого близкого советника. Петр потрясен тем, что любимая, последовавшая за ним на Прут, тверда и спокойна, в то время как он, могучий атлет, мечется по постели, нагой и сраженный горем.
Царица пришла вернуть ему утраченную силу, помочь возродиться погибающей надежде.
Не следует, утверждает она, вступать в сражение с врагом,— необходимо договориться с ним, а точнее — подкупить, обольстить его. Без сомнения, перед золотом и дарами не устоит ни каймакам, ни великий визирь. Екатерина просит прочесть ей — сама она не умеет ни читать, ни писать — депеши графа Толстого, российского посла в Константинополе, который знает толк в предательстве: это он изменил когда-то царевне Софье ради царя Петра, а сейчас, Екатерина уверена, поможет организовать подкуп неприятеля, главное — назначить цену.
Ей известен один надежный и ловкий младший офицер, которого также можно привлечь к этой сделке.
При звуках ее голоса царь приходит в себя, подымается и обретает не только прежнюю храбрость, но и силу. Приводят посланника, тот получает устное распоряжение — предлагать каймакаму и визирю до четырех миллионов— и удаляется.
Потом царь смотрит на Екатерину.,
— Если наше предложение примут,— спрашивает он,—как раздобыть деньги для этих двух подлецов? Обещаниями их не накормишь.
235
L
— Здесь бриллианты, которые я привезла с собой,— отвечает императрица,—и еще до возвращения посланника у меня будут все деньги, что есть в армии — до последней копейки.
— Ступай, да поможет тебе Бог,—молвит Петр. Девиз Екатерины был Deo adjuvante*, и это знали все.
Мужественная женщина тут же садится на коня и объезжает весь лагерь. Обращаясь к офицерам и солдатам, она* говорит:
— Друзья мои, у нас только два выхода: один — с оружием в руках спасти свою свободу или погибнуть, другой — откупиться от наших врагов; если мы выберем первый путь, то есть смерть в бою, золото и драгоценности станут нам не нужны. Так используем же их, чтобы соблазнить нечестивцев. Я уже пожертвовала все свои деньги и бриллианты, но этого мало, необходимо, чтобы каждый из вас внес свою долю.
Затем, спрашивая каждого офицера отдельно:
— Вот, скажем, ты что можешь дать? Когда выберемся отсюда, я тебе все верну сторицей да еще и представлю тебя государю.
И все, от генерала до простого солдата, отдали последнее. Вскоре образовалась целая груда золота.
Вернулся посланник: великий визирь потребовал посредника для переговоров о мире.
Иные говорят, что в лагерь неприятеля был послан великий канцлер Шафиров, другие утверждают, что Екатерина, не желая довериться постороннему, сама направилась туда.
Вот как объясняют благополучное завершение сделки: царица была необычайно хороша
С Божьей помощью (лат.).
236
собой, а всем известно, какое могущественное влияние оказывает красота на последователей Магомета, не зря они сочли достойными себя лишь райские кущи, населенные гуриями, всегда невинными и всегда прекрасными.
Екатерина не являлась гурией по всем признакам, но красоты ее вполне достало бы и на двух небесных красавиц.
Первый ответ визиря был:
— Пусть царь отречется от своей веры и станет нашим братом, тогда нам нечего будет требовать от него.
— Скорее я отдам туркам всю землю, вплоть до Керчи, у меня еще будет возможность отвоевать ее когда-нибудь. Но потеря веры непоправима. Как великий визирь сможет верить моим обещаниям, если я нарушу обещание, данное Богу.
Во второй раз великий визирь потребовал, чтобы царь и его армия сдались на волю победителя.
— Через четверть часа,— ответил старый канцлер,—мой господин атакует вашу армию, и мы скорее погибнем все до единого, чем согласимся на постыдные условия.
Я склонен думать, что именно в этот момент Шафиров оставил переговоры, и Екатерина его заменила.
Как бы то ни было, той же ночью договор был подписан.
Царь возвращал противнику Азов, сжигал в порту свои корабли, разрушал крепости, выстроенные на древних меотийских болотах, оставлял всю крепостную артиллерию и боеприпасы Великому Повелителю, покидал Польшу и соглашался вновь платить татарам подать в размере сорока тысяч золотых цехинов, подать, уничтоженную предыдущими по-
бедами, но возобновленную вследствие разгрома и кабального договора.
При таких условиях русский монарх получал свободу отступления армии и артиллерии со знаменами и обозом2.
Турки, ко всему прочему, обязались поставить ему продовольствие.
Договор уже был подписан, когда в стане великого визиря внезапно появился Карл XII. Он промчался пятьдесят лье. верхом от Бендер до Ясс, оставалось лишь три лье до переправы через Прут напротив лагеря татар. Карл XII не мог выдержать промедления и, рискуя утонуть, тотчас бросился в воду; пересек участок, занятый армией царя, и, как мы уже сказали, прибыл в стан.
В это время московское войско, которое великодушный противник снабдил провиантом, начинало отступление.
Разъяренный швед все видел, все понял. С упреками он бросился в шатер великого визиря.
Визирь с истинно мусульманским спокойствием отвечал:
— Я имею право вести войну или заключать мир.
— Но ведь в твоей власти было все московское войско,— воскликнул король.
— Наш закон,— важно проговорил мусульманин,— велит оказывать милость врагам, если они этого просят.
— Разве твой закон велит заключать плохой договор, если можно заключить хороший?— вскричал Карл.—Ты, предатель, мог бы привести царя в Константинополь, а вместо этого — отпускаешь!
— Э! —холодно заметил турок.— Кто же будет управлять ого страной в его отсутствие?
Совсем не нужно, чтобы правители покидали свои земли.
Услышав это, Карл в ярости бросился на софу и в момент, когда великий визирь проходил перед ним,"выставил ногу и шпорой разодрал ему платье.
Затем выбежал наружу, вскочил на коня и ускакал в Бендеры. Сердце его сжимала печаль.
Карл XII возвратился в Швецию и впредь не смог оправиться от Полтавского поражения.
Известно, что он был убит перед Фридрих- схоллом в момент, когда, наклонившись, наводил пушку на цель.
Один из офицеров, возможно, тот самый, который был отослан подальше от жены и на три года лишен всяческих сведений о ней, раскроил ему череп пистолетом.
До наших дней сохранились скульптурные портреты двух противников — Карла и Петра. Голова Петра —голова гения, она похожа на голову Наполеона. Голова Карла XII — голова идиота, она походит на голову Генриха III.
Пошатнувшееся положение Швеции и ее короля дали передышку царю. На Руси в это время почти все спокойно: стрельцы уничтожены, турки соблюдают договор Фальчи, духовенство затаилось, Санкт-Петербург растет, Финский залив, Архангельская губа и Каспийское море покрываются кораблями. Петр может покинуть Россию и отправиться под ласковое солнце Европы в поисках новых знаний и умений, накопленных там за время между первым и вторым его путешествиями.
В этот раз он берет с собой и царицу, которую зовет своим добрым гением. Кроме Германии и Голландии он хочет показать ей Францию, но формальности придворного этикета
тому препятствуют. Екатерина публично не принята, двор Людовика XV не признает за ней прав царствующей особы.
Подробно известны все детали пребывания Петра I во Франции: его свидание с маленьким королем Людовиком XV и мадам де Мец- тенон,. его визит на могилу Ришелье, где была произнесена величайшая из когда-либо звучавших над усыпальницей министра надгробная речь: «Великий человек! Я отдал бы половину моего государства, чтобы научиться у тебя управлять другой половиной!»
Всегда верный самому себе, он отказался от приготовленного для него дворца, отверг почести, которые ему хотели оказать, отказался от роскоши, которой хотели его окружить. Царь нашел прибежище в маленьком домике, сказав: «Я солдат. Мне достаточно куска хлеба и кружки пива. Маленькие комнаты я предпочитаю большим апартаментам. Не нужны мне и торжественные выходы, я не желаю утомлять столько людей».
Затем, покидая Версаль, он изрекает пророчество, которое сбудется через шестьдесят лет: «Я оплакиваю Францию и ее маленького короля, которому суждено будет потерять королевт ство в результате излишеств и роскоши».
Проезжая после столь загадочного пророчества по Франции, он останавливается там, где находит нужным: то возле идущего за плугом пахаря, спрашивая его о земледелии и одновременно зарисовывая орудия крестьянского труда; то рядом со священником, который, подобно библейскому виноградарю, собственными руками возделывает свой клочок земли.
— Напомните мне в России об этом славном человеке,—говорит царь окружающим,— его труд приносит ему и сидр, и вино, и сверх
того доход. Сим примером я попытаюсь воодушевить наших попов и научить их обрабатывать землю, возможно, я тем самым вытащу их из нужды и праздности.
Но вдруг Петра настигает весть, не менее ужасная, чем та, что прервала его первое путешествие. Тогда всему виной были стрельцы и царевна Софья, теперь — его сын, царевич Алексей, и жена, Евдокия Федоровна Лопухина.
Мы говорили уже о разрыве отношений царя с первой женой и о заключении ее под стражу, не называя причин развода и заточения. Исправим допущенный промах.
Царица была красива, и красота определила ее судьбу. Красота роковая, судьба смертельная!
На Руси было принято: когда царь вступал в пору возмужания, в большую залу Кремля свозили самых красивых девушек царства — наизнатнейшие русские бояре считали за честь показать своих дочерей на смотринах невест.
Такая же церемония была устроена и для Петра. Он прошел через ряды московских дев и остановился перед дивной красавицей. Это была Евдокия Федоровна Лопухина. Она родила ему двух сыновей — Александра, умершего во младенчестве, и Алексея. Вот этот последний и восстал против отца.
Согласие между супругами не было долгим. Царица оказалась склочной, властной и ревнивой. Царь был подозрителен, переменчив и охоч до любовных утех. Он встретил девушку по имени Анна Моне, немку, родившуюся в Москве,— дочь немца-пивовара. Едва увидев ее, он стал домогаться ее любви.
Если бы эта женщина любила Петра или была честолюбива, она, а не Екатерина, стала бы императрицей России. Царю Анна Моне
.vs
Ste
(§
ум
ш
um
Ш
ъ
уступила с крайней холодностью, полная какого-то странного, нескрываемого отвращения. Но императрица была очень оскорблена неверностью мужа,—царь впервые не таил своей привязанности,—и однажды ночью она отказала ему в супружеских ласках:
Петр посоветовался с наиболее уважаемыми богословами государства, желая узнать, существует ли какой-нибудь способ объявить его брак недействительным. Они отвечали отрица- тельнО;
— Тем хуже для нее! — сказал царь и сослал жену в монастырь, где заставил постричься в монахини3.
Мы видели историю его любви к Екатерине и восшествия ее на престол.
В это время царица Евдокия была не так плотно укутана монастырским покрывалом, чтобы совсем скрыться от посторонних глаз, и не так крепко заперта в келье, чтобы никто к ней не мог проникнуть.
Некий ростовский дворянин по фамилии Глебов влюбился в Лопухину и при помощи ее брата, который, будучи архиепископом, имел право посещать монастырь, проник к той, что была отвергнута царем Петром.
Вскоре любовная интрига переросла в интригу политическую.
Задумано было свергнуть Петра и убить, а вместо него посадить на царский трон царевича Алексея. Заговор оказался раскрытым.
Царицу наказали розгами и заточением в Шлиссельбург.
Глебова посадили на кол на эшафоте, а на четырех углах выставили тела еще четырех колесованных и обезглавленных преступников — архиепископа, способствовавшего амур-
242
ным делам Евдокии, Авраама Лопухина, второго брата мятежной монахини, и еще двух бояр.
— Когда огонь встречает солому,—сказал царь,—он ее пожирает, но, когда он встречает железо,— гаснет.
Вечером, узнав, что Глебов после двенадцати часов ужасных мучений еще жив, царь велит запрячь дрожки и едет прямо к эшафоту. Затем выходит из экипажа, идет к страдальцу, у которого даже под пытками не могли вырвать ни одного признания, призывает его, прежде чем предстать перед Господом, сказать правду.
— Подойди, — отозвался Глебов,—тебе одному скажу. Петр подошел, и Глебов плюнул ему в лицо.—Безумец! Неужели ты думаешь, что, не сказав ничего даже в обмен на жизнь, я заговорю теперь, когда уже никто и ничто не может спасти меня!
И царь, побежденный, удалился, унося в сердце ярость.
Ненаказанным к тому времени оставался только его сын, Алексей, вечный заговорщик, пособник матери, сын, которого император давно уже и не считал наследником, ведь с берегов Прута, опасаясь плена, он писал в Сенат: «После меня передайте престол наиболее достойному».
Петр отдал сына под трибунал, который 6 июля 1718 года приговорил царевича к смерти.
7 июля чернь восстала, слышались крики в пользу Алексея, перед царем предстала депутация, пришедшая нижайше просить его помиловать наследника.
— Хорошо, да будет так, я прощаю его. Пусть идут к нему и объявят эту добрую весть.
>7.
Депутация поспешила в острог, а царь тем временем вызывает своего лекаря и говорит:
— Доктор, вам известно, насколько царевич нервен. Милость, которой он не ждет, может произвести на него роковое действие. Пойдите в тюрьму и сделайте ему обильное кровопускание.
И когда врач уже закрывал за собой дверь, добавил голосом, полным ненависти к несчастному, коего материнские советы вовлекли в борьбу святотатственную и кощунственную:
— В четырех конечностях.
Через два часа царевич был мертв.
Так, сын ли, чужой ли, должен был пасть всякий, кто осмеливался сопротивляться этому человеку нечеловеческого роста и сверхчеловеческих страстей. Природа лепит колоссов по-крупному, целыми блоками, пренебрегая деталями — детали для существ незначительных, ничтожных, которых она предназначает для малых усилий и производит во времена спокойные, в дни умиротворения.
Но разве можно требовать суда по общим законам над этим человеком, которого ужас и яд сделали эпилептиком, который четырежды бывал внезапно разбужен звуками мятежа, который, нагим вскочив с постели, трижды боролся с ночным убийцей и трижды выигрывал в этих схватках? Разве можно требовать ангельского терпения от коронованного плотника, который могучими ударами топора создал колоссальную империю, пожертвовав стране свою кровь, пот, счастье, жизнь, а теперь видит, как сын тайно подбирается к его творению с факелом в руке?
Или сын будет жить, но творение погибнет, или сын падет, но творение останется жить.
%
\Г$>)
Щ(
rJh
W
%
«
ж
vii
rCê
w
\u
щ
%
(té
244
Творение живет. Русская империя, выйдя из рук Петра Великого еще не сформированной, простирается сегодня на треть земного шара и прославляет своего создателя на тридцати различных языках, а Алексей, затерянный в углу церкви святых Петра и Павла, спит в немой могиле всего шести футов длиной!
Но успокойтесь. Господь безжалостен к гениям. Это сердце, как сердце Брута, оставшееся непоколебимым перед смертью сына, разобьется от неверности женщины.
Однажды ему сказали, что та, которую он освободил от рабства, чтобы сделать своею любовницей, женой, царицей, что Екатерина, литовская крестьянка, коронованная им, восседающая на троне, залитом кровью стольких чудовищных казней, та, которая должна была бы если не любить его, то хоть трепетать перед ним,—имеет любовником его фаворита, брата давней холодной его любовницы — камергера Монса де ла Круа.
Сначала Петр не хочет этому верить, хотя известие исходит от Ягужинского, человека, которому он полностью доверяет и которого называют «глаз Петров». Но все равно нужно убедиться самому. Петр якобы покидает Петербург, объявляя, что будет отсутствовать в течение двух или трех недель, а в нескольких лье от города поворачивает обратно, возвращается во дворец и посылает пажа передать императрице привет так, словно сам находится в Кронштадте. Пажу приказано за всем наблюдать и по возвращении доложить, что видел или даже заподозрил. Паж возвратился, и его доклад не оставил царю никаких сомнений.
Было два часа пополуночи, когда Петр прошел прямо в спальню Екатерины. Сестра Мон-
<!/
са бодрствовала в передней. Увидев ее, самодержец разгневался еще более —все, кого он любил, предавали его. Он оттолкнул испуганную немку. Паж, явно не узнавший царя, пытался защитить дверь в комнату императрицы. Петр повалил его ударом кулака и вошел: Екатерина, потерявшая голову, вскочила с постели, чтобы защитить любовника. Петр чуть было не убил ее своей тростью. Взгляд его обратился в сторону алькова: де ла Круа лежал в постели, ожидая смерти, спокойный и покорный судьбе.
Царь вышел из спальни, не сказав ни единого слова.
Потом он явился к Репнину и приказал:
— Встань и слушай.
Князь встал и протянул руку к своей одежде.
— Тебе не надо одеваться,— сказал царь. И рассказал все.
Потрясенный известием, Репнин спросил, какое будет решение.
— Я решил,—отвечал Петр,—отрубить голову императрице, как только настанет утро.
Князь бросился ему в ноги.
— А ваши дочери, царевны Анна и Елиза¬
вета?
— А что мои дочери?..
— Подумайте, вы обесчестите их, государь, подумайте, вы ставите под сомнение законность их происхождения.
Петр вздохнул.
— Кажется,— произнес он,— я имею на это основания.
— О! — вскричал Репнин.— Делайте как хо¬
тите.
Царь вернулся к себе, не прибавив ни слова.
Наутро Моне де ла Круа был арестован по обвинению в государственной измене, его сестра арестована как соучастница. Было проведено расследование. У царя снова начались припадки гнева, близкие к помешательству.
Однажды вечером, возвратясь из крепости, где происходило дознание, Петр внезапно вошел в комнату, где юные царевны занимались рукоделием. Необычайно грозный, бледный как смерть, он был вне себя. Лицо и все его тело конвульсивно дергались, глаза сверкали. Некоторое время он ходил по комнате,' не произнося ни слова, и лишь глаза его, жуткие, полные угрозы и жажды мщения, останавливались порой на юных царевнах.
Обе, дрожа от ужаса, покинули комнату.
Молодая француженка, их воспитательница, скользнула под стол и сидела там, неподвижная, безгласная, затаив дыхание. Она видела, как царь многократно вытаскивал из ножен свой охотничий нож и задвигал его обратно, топал ногами, стучал кулаком, бросал на пол свою шляпу, бил вдребезги все, что попадало под руку, и наконец вышел из комнаты, хлопнув дверью с такой яростью, что она раскололась.
Де ла Круа был приговорен к смерти, его сестра к наказанию кнутом, которое произвел сам царь. После этого ее сослали в Сибирь.
27 ноября 1724 года Моне де ла Круа, сказав все, что требовалось Петру, признав себя виновным во взяточничестве, вредительстве и тайном заговоре, сложил голову на плахе4. Он шел на казнь как мученик. На запястье бедняга всегда носил маленький браслет с бриллиантами, подаренный царицей. При аресте ему удалось спрятать свою реликвию за подвязку
и таким образом сохранить. На эшафоте он передал браслет лютеранскому пастору, сопровождавшему его, и просил возвратить эту вещь Екатерине.
Петр смотрел на казнь из окна Сената. Когда все было кончено, царь поднялся на эшафот, взял голову за волосы и дал ей оплеуху.
Затем, вернувшись во дворец, сказал императрице:
— Поедемте со мной, сударыня, я желаю покатать вас.
Нимало не сомневаясь в том, что задумано нечто ужасное, Екатерина все же не осмелилась отказаться и подчинилась.
В открытой коляске царь привез ее на площадь, к окровавленному эшафоту и отделенной от тела голове, насаженной на кол, и так направил экипаж, что складки царицыной одежды коснулись деревянных подмостков. Несколько капель кровавого дождя упали на платье неверной супруги.
Екатерина даже бровью не повела, лицо ее не выразило ни малейшего чувства. Но именно с этого момента всякие отношения между супругами прекратились, и Петр видел жену только на людях.
Он сжег завещание, составленное в ее пользу, и дал понять, что, отправив первую жену в монастырь, может туда же отослать и вторую.
В противоположность другим правителям, которые ведут двойное существование, общественное и личное, гигант, чьи основные черты мы пытаемся изобразить, всегда жил только жизнью общественной. Из беспечности ли или из высокомерия он ничего не скрывал: достоинства и недостатки, пороки и добродетели.
Его домашним кровом было огромное про- странство великой империи. Сестра, пытавшаяся захватить власть, бесчестные возлюбленные, незаконнорожденная дочь, неверная жена, сын-святотатец — он не только выставлял все это на обозрение, но и всячески подчеркивал. Это было право гения, и он им пользовался. Живя для блага общества, он и жил открыто, лицом к этому обществу.
Представьте себе, Петр не скрывал болезни, от которой умрет, как не скрывал и всего остального, хотя болезнь эта из тех, в которых обычно не признаются. Он не только во всеуслышанье заявил о своем недуге, но и раскрыл его источник.
— Остерегайтесь генеральши! — кричал иногда царь, скрипя зубами и невероятно мучаясь.— Это лучший совет, какой я могу дать своим друзьям.
Правда и то, что дама эта, ничего не отрицая, возвращала ему комплимент.
— Но почему вы не вылечите государя?— спрашивали у доктора, англичанина Аткинса.
— Как же я могу вылечить человека, у которого в крови целый легион демонов прелюбодейства.
Надо отметить, что в смерти Петра сыграли свою роль и моральные страдания. Сердце, полное счастья, поддержало бы тело, разбитое сердце подкосило его.
Он, видевший, не дрогнув, заговоры сестры, восстания и чудовищные деяния стрельцов, измену первой жены, интриги собственного сына, он, который вершил суд и расправу скоро, ужасно, а затем быстро отворачивался от мученика и мучений, не думая более ни о том, ни
\
о другом—-не мог перенести неблагодарности литовской служанки, которую сначала сделал наложницей, потом тайной любовницей, затем любовницей явной, тайной женой, женой провозглашенной, в чью честь, памятуя о великом и ужасном дне на реке Прут, основал орден Святой Екатерины5.
Непонятная щепетильность в мужчине, который простил неслыханную дерзость Вильбоа и, по-видимому, сам разрешил Екатерине все предложить великому визирю! Дело, наверное, в том, что и великий визирь, и случай с Вильбоа— все это затрагивало лишь ее плоть, тогда как Монсу де ла Круа Екатерина отдала и свое сердце! И в какой момент! Через четыре месяца после того, как стала царицей и наследницей престола после венчания на царство — явления на Руси небывалого, здесь женщин никогда не короновали. Та, о которой Петр говорил: «Это не только супруга, но и друг, не только женщина для постельных утех, но еще и государственный советник»,— поспешила отплатить ему изменой. Екатерина была благодарна, пока могла надеяться на большее: как только нечего стало больше желать, она решила, что и давать более нечего.
О да! Конечно! Смерть царя могла возвысить ее еще на одну ступень: как бы высок ни был его престол, могила его была бы еще выше.
Потому-то к ее истинному преступлению история, или скорее легенда, прибавляет еще и преступление предполагаемое. Петр умирает, и в его смерти обвиняются Екатерина и Меншиков, те, для кого он сделал невероят-
но много, больше он сделал лишь для России— гораздо меньше для своих детей.
Забылись нескромные признания Петра, его хорошо известный всем недуг, который он лечил на Олонецких водах; забылся огромный груз, который этот атлант держал на плечах в течение тридцати лет и который вынудил его сойти в могилу; забылось огромное количество дел, ночные излишества, припадки эпилептического гнева, бесконечные оргии, бессонные ночи; забылось, наконец, илго, что, подобно Александру, уставшему укрощать своего Буцефала6, Петр также мог устать, укрощая свой народ.
Но высшая справедливость в том, что тот, кто не наказан за реальное преступление, уносит с собой в могилу обвинение в преступлении предполагаемом. Так уж сотворена толпа: если в течение двадцати лет смотришь .на человека снизу вверх, сотворив из него полубога, невозможно допустить, что он способен умереть как другие.
Слух распространился в свете, что Наполеон умер от рака на острове Святой Елены.
— Рак политический! — ответствовал свет. И Англия, которая уже сожгла Жанну д’Арк и обезглавила Марию Стюарт, оказалась ложно обвиненной в отравлении Наполеона.
Ну что ж! Расскажем, как умер Петр Великий, для нас его смерть прекрасно согласуется с его жизнью и достойно увенчивает его земное существование.
Царю было лишь пятьдесят два года, но в течение сорока лет он боролся, шпага, которая так часто вытаскивалась из ножен для сражения, истрепала наконец сами ножны.
С 1722 года он тяжко страдает от расстройства мочеиспускания, но страдает мол-
251
ча— сначала нужно завоевать три персидских провинции, а потом уже и жаловаться на здоровье.
Монарх, который признавался во всем, даже в постыдном недуге, на сей раз не хочет признаться, что болен, хотя болезнь грозит смертью. Естественно, когда-нибудь он должен будет умереть, но никто не должен знать, что он может умереть. Петр советуется с врачами, представляя все так, будто хворь измучила одного из его приближенных. По данным же советам следует сам. Тем временем по возвращении с Олонецких вод и после коронации Екатерины происходит катастрофа с Монсом де ла Круа. Санкт-Петербург видит осуществленную месть, но вдруг Россия узнает, что царь в опасности и что лишь срочная и чрезвычайная операция может его спасти. Затем становится известно, что операцию он перенес, но она сопровождалась такой болью, что хирурги и их помощники вышли из операционной все в синяках — оперируемый не позволил связать себя и мертвой хваткой вцепился в них. Три месяца он, уничтоженный, разбитый, агонизирующий, пробыл в постели. Но наконец воля взяла верх и, как пленник, разбивающий оковы, как заключенный, покидающий тюрьму, Петр, бледный и согнутый, вырвался из лап болезни, но не смог уйти от беды.
Куда же направился он в начале осени, которая в Санкт-Петербурге гибельна и для самого здорового, самого крепкого организма?
В болота, где создавался канал, соединявший воды Азии с водами Европы. При виде этого призрака, ослабленного, страдающего, сгорбленного, Миних, великий человек, о котором мы поговорим позднее, ужаснулся и хотел
252
увезти его из тинистой, грязной, зловонной местности, царства беспощадной лихорадки.
Но царь сказал:
— Канал сей будет питать Санкт-Петербург и Кронштадт, доставит туда строительные материалы и другие товары великой империи и будет способствовать процветанию торговли России со всем миром. Мое место здесь.
Установив направление канала, он едет на озеро Ильмень. Ему всегда нужна вода, этому человеку, который присоединил к своему государству два моря: Балтийское и Каспийское, море ледяное и море, дышащее огнем. Затем с солеварен Старой Руссы он возвращается в Петербург, едет далее, не останавливаясь, в Финляндию, где 5 ноября, в разгаре зимы, попадает в шторм на Лахтинском озере. Но царь спасся. Хижина укрывает его, печь согревает.
Перед тем как пуститься в обратный путь, он смотрит в последний раз на это море, казалось, подчинившееся ему, как и степи, казаки, турки, шведы, датчане, и улыбается своему триумфу.
Но что он видит? Баркас сел на мель, баркас, полный солдат и матросов. Ужас охватил их, гибель неминуема.
Сначала Петр бежит к берегу и кричит терпящим бедствие, как нужно маневрировать лодкой. Но голос его теряется в шуме волн и людских воплях. Петр приказывает выручить утопающих, но все вокруг застыли в нерешительности. Тогда, забыв о двойной опасности, он сам бросается в лодку, но та, несмотря на его усилия, не двигается с места; Петр кидается в воду, вплавь добирается до судна, совершает нужный маневр и приводит баркас к берегу. Люди спасены.
На сколько же локтей Петр на Лахте опередил Людовика XIV на реке Рейн7?
В тот же вечер императора охватила лихорадка, спазм дизурии сжал мертвой хваткой все его внутренности, в тяжелейшем состоянии он был привезен в Санкт-Петербург.
На сей раз царь не встанет со своего смертного ложа. Но отсюда, с этого смертного одра, он, собрав последние силы, будет давать наставления, команды, приказания. Это по его распоряжению Беринг отправится в плавание, подобно Лаперузу, но Берингу повезет больше: он^ распространит границы Российской империи до Америки и его именем назовут остров, ставший для него могилой.
По царскому приказу Миниху отправят двадцать тысяч рабочих для завершения строительства канала, и подчинят ему Сенат.
Екатерине он поручит свою Академию наук и представит Остермана, говоря: «Россия не может обойтись без него, и он знает ее истинные интересы».
И все же царь, превозмогая жестокую стужу и мучительные боли, подымется еще раз в Крещение, 17 января 1725 года. Победивший суеверия, он будет набожен до конца!
А уже 18 января ему станет плохо как никогда. И это уже агония, приближение смерти. 19 января все доктора Санкт-Петербурга съезжаются к умирающему. Посланы курьеры в Берлин и Лейден за консультациями. В течение целых десяти дней используются средства самые сильные и способы, еще более жестокие, чем сам недуг, исторгающие у больного такие вопли, каких хворь вырвать не могла; наука, находящаяся в зачаточном состоянии, грубая и неловкая, как дитя, борется с призраком
и не может изгнать его из комнаты, а царь, униженный собственной слабостью, стыдящийся самого себя и впервые побежденный страданием, кричит: «Человек во мне лишь жалкое животное!» Наконец 26 января он признает себя побежденным, примиряется с неизбежным, перестает бороться и обращается к небу; Петр просит оплатить все его долги, освободить заключенных и принимает последнее причастие со словами: «Господь, надеюсь, будет милосерден ко мне за все хорошее, что я сделал для своей страны». 27 января он чувствует себя спокойнее и хочет записать свою последнюю волю, но это спокойствие —- часть того вечного покоя, что уже распростерся над ним; больного с трудом поднимают, вкладывают в пальцы перо; с большим усилием ему удается написать два слова: «отдайте все...» Но тут перо выскальзывает из руки, он падает на подушки, слышен его шепот: «Анна! Пусть позовут мою дочь Ан- ну!»,Та, которую зовет своим последним зовом отец, прибегает. Но уже слишком поздно: руки парализованы, голос угас. Разум еще живет в нем, глаза пытаются что-то сказать, но душа стремится вырваться из тела и не связывает его более с миром. Еще в течение пятнадцати часов сердце борется со смертью. И 28 января 1725 года около четырех утра, в час, когда глаза царя привыкли встречать. рассвет, они закрылись навсегда.
Но великая сущность, воплощавшаяся в великом человеке, не умирает вместе с ним; она переходит в следующие поколения, просачивается в будущее: почти полтора века прошло со дня смерти Петра, а Русь живет еще жизнью своего могущественного императора. И действительно, память о нем —повсюду: от Балтий-
ского моря до Каспийского, от Архангельска до Риги, от Волги до Дуная, от Азова до Ботнического залива. Куда бы вы ни направились, вы идете по его стопам. Противу обыкновения других наций, русские благодарны ему за все, свершенное для блага народа. В Москве и в Санкт-Петербурге, в городах и селениях, в лесных сторожках и на полях сражений с благоговейным тщанием собраны многочисленные воспоминания, предания, легенды, связанные с его именем. Эти воспоминания, легенды, предания мы открываем для себя с чувством глубокого почтения, какое внушает обычно человеческий гений, будь то Цезарь или Карл Великий, святой Людовик или Великий Петр, Густав-Адольф или Наполеон.
Теперь, после знакомства с царем-гигантом, отважно войдем в его царство.
А БОРТУ »КОККЕРИЛЯ"
так долго распространялся о царе Петре, что вероятнее всего вы позабыли, занявшись этим великим строителем кораблей, столиц и государств, рассказчика этой истории, его попутчиков, корабль «Владимир», на котором был совершен переход из Штеттина в Кронштадт, и маленький «Коккериль», который прибыл за нами от Английской набережной.
Напомню, что на борту среди других именитых пассажиров были князь Трубецкой и княгиня Долгорукая. Всякий раз, когда произносятся имена русской знати — скандинавские, московские, монгольские, славянские или татарские по происхождению,—очень трудно бывает представить ближайшее будущее тех, кто имена эти носит. После указа его величества императора Александра об освобождении крестьян вся русская аристократия, как мне кажется, идет туда, куда наша отправилась в 89-м году и пришла в 93-м, то есть ко всем чертям. Но я скажу, как эти фамилии возникли. Не всегда бывает легко, поверьте, дорогие читатели, установить это в стране, где вот уже сто тридцать лет нет более общественной истории, поскольку слишком много историй частных. Но я стара-
10. А. Дюма, т. 1
257
юсь получать верные сведения, чтобы вы могли отличить настоящих князей от мнимых. Впрочем, эта программа относительно Трубецких и Долгоруких уже выполнена — можете не сомневаться: это настоящие князья, ведущие свое начало одни от Ягеллона, другие от Рюрика.
Граф Кушелев пригласил князя Трубецкого и княгиню Долгорукую воспользоваться судном «Коккериль», чтобы прибыть в Санкт-Петербург. Они были достаточно великодушны и согласились.
Дандре, вездесущий Дандре,— вы его хорошо помните, не так ли? —главный управляющий, человек обаятельный и всегда полезный, должен был остаться и защищать наши интересы и интересы нашего багажа на таможне.
Переход с корабля на корабль оказался весьма затруднительным; «Коккериль» рядом с «Владимиром» был похож на ореховую скорлупку. Когда с одного борта на другой перебросили. трап, он напомнил мне крутой скат крыш парижских домов — Россия нас встречала аттракционом «Русские горы». Не было никакого другого способа перейти на маленькое судно, кроме как съехать на собственном заду. Такой способ передвижения привел наших дам в замешательство. Мы собрались на совет и придумали следующее: перебросить сходни с «Владимира» на колесо «Коккериля», оттуда перейти на капитанский мостик и затем спуститься на палубу. Все это было возможно, хотя и не слишком удобно.
Со стороны Выборга начало тянуть одним из тех чудесных финских ветерков, которые секли лицо Гамлета на крепостных стенах Эльси- нора. Море, чувствительное к такой ласке, становилось все более и более зыбким, и каждая волна, вздымаемая его дыханием, сближала или разводила стоящие рядом корабли.
Четыре молодых матроса, по два с каждой стороны, ухватились за подвижной мостик и сделались живой опорой, одни на «Коккери- ле», другие на «Владимире». Необходимо было воспользоваться моментом, когда корабли сблизятся наиболее тесно, чтобы совершить переход. Как это всегда делается при кораблекрушениях, сначала позаботились о детях, затем о женщинах. Что же касается мужчин, то им было предоставлено право спасаться кто как может. Вся операция сопровождалась восклицаниями и взрывами смеха и кончилась благополучно. Дандре остался на «Владимире» один.
На сходе с капитанского мостика нас ожидали двое слуг в праздничных ливреях. В кают-компании был накрыт завтрак на двадцать персон. Но любопытство удерживало всех на мостике, и завтрак перенесли на более поздний час. Какая неосмотрительность! Наконец была принята последняя горничная, произведена перекличка, три собаки, кошка и черепаха оказались в целости и сохранности, и раздался приказ отчаливать. «Коккериль» кашлянул, выпустил струю дыма, забил колесами по воде и отшвартовался от своего громадного собрата, как ласточка, улетающая от дома, к которому прилеплено ее гнездо.
ь.
Дандре, покинутый нами в окружении пятидесяти семи тюков, бросил на нас печальный взор. Мы ободряюще помахали ему и отправились в Санкт-Петербург. Что случилось дальше — никому не ведомо. То ли «Владимир» пошел на дно, то ли среди наших пятидесяти семи тюков и чемоданов нашли нечто компрометирующее, но только и багаж, и его поручитель исчезли. Уж не отправлены ли они в Сибирь? Бог их не оставит! Со времени восшествия на престол нового императора всем известно, что и оттуда возвращаются.
В ожидании багажа целых три дня у нас не было ни жилетов, ни галстуков, ни рубашек, не считая тех, что таможня сочла носимыми вещами, как говорится в бельгийских таможенных правилах.
Так уж получилось, дорогие читатели, что я вынужден был написать следующее послание очаровательной нашей соотечественнице, от которой получил приглашение на обед по случаю ее именин:
«Самому прекрасному из всех ангелов
самый грязный из всех смертных.
Мы надеемся получить наши чемоданы с минуты на минуту, если они прибудут, не сомневайтесь — я с величайшей радостью явлюсь к вам по вашему приглашению.
Ну, а если мы их не получим, как же смогу я осквернить ваш цветник подобным грязным пятном?
Сообщите мне по электрическому телеграфу, какой святой или какая святая покрови-
щ
%
Ж<1
J
ii
(?v1
г
№
/о
3'
ëj$
jp!
ji(
№
тельствует таможне, и я поставлю свечку, толстую, как я сам, и высоченную, как обелиск.
Не ждите нас, но оставьте для нас прибор. Целую ваши ручки, Муане целует ваши ножки в ожидании, когда будет иметь право достичь той высоты, на которой нахожусь я.
Почитающий вас всем сердцем
Алекс. Дюма».
Но возвратимся на «Коккериль».
Море из волнующегося сделалось штормовым; ветер дул нам наперерез, что сообщало «Коккерилю» бортовую качку, которая не замедлила произвести свое действие.
Дамы начали жаловаться на недомогание и расселись. Юм, утратив свою власть над земными духами, как видно, потерял ее и над морскими, цвет лица его менялся от розового к желтому, от желтого к бледно-зеленому, и он крепко обнял маэстро Миллелотти; мужчины цеплялись за такелаж, а я, я отправился завтракать, испытывая чувство, которое обычно производит на меня штормящее море — то есть здоровый аппетит.
К несчастью, в момент, когда наконец удалось, совершив чудеса эквилибристики, спуститься по лестнице и поставить ногу на порог кают-компании — вероятно, это была левая нога — весь завтрак, тарелки, бутылки, стаканы — все, что не было прикреплено к столу,—потеряв точку опоры, с ужасающим грохотом рухнуло на паркет.
Все, что было фарфорового и стеклянного, разбилось.
Я подобрал кусок хлеба и ломоть ветчины и поднялся на палубу как ра? в то время, когда Юм производил действия, обратные моим.
На носу корабля собралась группа пассажиров, не слишком подверженных морской болезни.
Сквозь туман Муане различил золотой купол и пытался показать его Юму, который самым энергичным образом отказывался поднять голову — настолько опасным для здоровья казалось ему всякое движение.
Я подошел и дерзко выдвинул предположение, что это купол собора Святого Исаакия, построенного нашим соотечественником Мон- ферраном.
Князь Трубецкой подтвердил мою догадку.
Подошел князь не только для этого, но и для того еще, чтобы пригласить меня на волчью охоту в лесах Гатчины, где, как говорят, волков такая прорва, как зайцев в Сен-Жер- менском лесу. Охота на волков, так же как охота на медведей,— одно из излюбленных удовольствий русских, и, поскольку потомки Рюрика любят опасность ради опасности, они придумали развлечение, которому сопутствуют сразу две опасности: первая— быть съеденными волками, как Бодуэн I, император Константинополя, а вторая — разбиться вдребезги на колеснице, как Ипполит, сын Тезея1.
Вот как осуществляется этот хитроумный замысел — зимой, конечно, когда недостаток пищи делает волков кровожадными.
Три или четыре охотника, каждый с двустволкой, садятся на тройку.
Тройка — это какая-нибудь повозка — дрожки, кибитка, коляска или тарантас, запряженная тремя лошадьми. Название происходит от способа запряжки, а не от формы повозки.
Из трех лошадей средняя бежит только рысью, левая и правая — только галопом; средняя рысит, низко опустив голову, и называется «по- едатель снега». Две других, имеющие общую вожжу, привязаны к оглобле за середину туловища и галопируют, склонив голову одна вправо, другая влево. Их называют «залетными».
Упряжка во время бега похожа на раскрытый веер.
Тройкой управляет кучер, в котором ездоки должны быть вполне уверены. Хотя есть ли в мире кучер, в котором можно быть вполне уверенным?!
Сзади повозки веревкой или же для большей надежности цепью привязывается поросенок. Веревка или цепь должна быть длиной метров десять.
Поросенка бережно и заботливо довозят до леса, где рассчитано начать охоту, и высаживают на землю. Кучер отпускает поводья, и лошади бегут, средняя рысью, крайние галопом.
Поросенок, не привыкший к такому аллюру, испускает жалобный визг, который вскоре переходит в стенание.
Услышав эти вопли, показывается первый волк и устремляется вдогонку за поросенком, потом два волка, потом три, потом десять, потом пятьдесят волков.
Все они дерутся, отталкивая друг друга, стараются достать поросенка кто когтями, кто зубами.
Бедняга от стенаний переходит к отчаянным воплям.
Этот визг будит волков в самых дальних уголках леса.
Все серые за три лье в округе сбегаются, и тройку преследует уже целая стая.
Вот тут-то и становится необходимым хороший кучер.
Лошади, испытывающие к волкам инстинктивный ужас, шалеют.
Та, что бежала рысью, скачет галопом, галопирующие закусывают удила.
Все это время охотники стреляют как попало, не целясь,— но в этом и нет необходимости.
Поросенок визжит, лошади ржут, волки завывают, ружья стреляют. Подобному концерту позавидовал бы и сам Мефистофель на шабаше.
Упряжка, охотники, поросенок, стая волков — не более чем смерч, вздымающий вокруг себя снег, грозовая туча, которая мечет громы и молнии.
Если кучер не теряет управления лошадьми, как бы они ни несли,— все идет хорошо.
Но если управление потеряно, если упряжка зацепилась, если тройка опрокинулась — тогда все кончено.
Завтра, послезавтра, через неделю будут найдены обломки коляски, ружейные стволы, скелеты лошадей и наиболее крупные кости охотников и кучера.
Прошлой зимой князь Репнин был на подобной охоте, которая едва не сделалась самой последней в его жизни.
В одном из своих имений, что граничит со степью, он с двумя друзьями решил поохотиться на волков или скорее дать волкам поохотиться на себя.
Были приготовлены широкие сани, где три любителя острых ощущений могли удобно устроиться, в сани запрягли трех мощных лошадей. Кучером взяли местного жителя, человека многоопытного и смелого.
На каждого стрелка приходилось по паре двуствольных ружей и по полторы сотни патронов. Места распределили следующим образом: князь Репнин сидел спиной к кучеру, его друзья —по бокам саней.
В степь, то есть в бескрайнюю пустыню, покрытую снегом, приехали, как и хотели, ночью.
Полная луна блистала в небе, и лучи ее, отраженные снегом, распространяли такое сияние, что светло было почти как днем. Поросенка спустили, сани пришли в движение. Чувствуя, что его волокут куда-то помимо воли, поросенок закричал.
Появилось несколько волков, сначала робких, державшихся в отдалении, но, по мере того как их становилось больше, они все смелее приближались к охотникам, а те не стремились понукать испуганных лошадей — хотелось поскорее приступить к делу.
Хищников было уже около двадцати, когда они оказались достаточно близко, чтобы началось побоище. Раздался выстрел — один волк упал.
Стая пришла в волнение, и стрелкам показалось, что число нападавших уменьшилось вдвое: совершенно наперекор пословице, что
•у/
f
ворон ворону глаз не выклюет, семь или восемь голодных зверей отстали: они уже рвали мертвого собрата.
Но вскоре стая опять увеличилась. Со всех сторон доносился вой; отовсюду видны были острые морды и сверкающие, как карбункулы, глаза. Волки были на расстоянии ружейного выстрела, и охотники открыли беглый огонь. Но, хотя почти все пули достигали цели, число преследователей не уменьшалось, а, напротив, росло.
Бег хищников был так стремителен, словно они летели над снегом, и так легок, что не слышно было ни малейшего шума, их движение походило на безмолвный морской прилив, неумолимо приближавшийся, невзирая на безжалостный огонь смельчаков.
Стая вытянулась за тройкой огромным полумесяцем, концы которого грозили сомкнуться перед лошадьми.
Ее численность возрастала с такой скоростью, что казалось, будто волки являлись из-под земли. Это было нечто сверхъестественное: две-три тысячи особей в той степи, где днем с трудом удавалось обнаружить двух или трех!
Поросенка давно уже втянули обратно в сани, чтобы его вопли не разжигали азарта голодного зверья.
Огонь продолжался, хотя добрую половину боеприпасов уже израсходовали. Оставалось лишь на пару сотен выстрелов, а волков, преследующих тройку, сбежалось несколько тысяч.
Концы полумесяца неумолимо сближались,
М
ш
ßS\\
ш
Y/Jt,
Г
№
/О)
Ж
угрожая сомкнуться вокруг саней, лошадей и охотников.
Если бы хоть одна лошадь упала, все было бы кончено; от испуганных рысаков валил пар, они неслись вперед громадными скачками.
— Что ты думаешь об этом, Иван? —спросил князь у кучера.
— Я думаю, наши дела не больно-то хороши, князь.
— Боишься?
— Черти попробовали крови, и, чем больше вы будете стрелять, тем больше их будет.
— Ну, и что ты предлагаешь?
— Ежели позволите, князь, я отпущу вожжи.
— А ты в лошадях уверен?
— Я отвечаю за них.
— А за нас?
Кучер не сказал ничего, видно, не хотел бросать слов на ветер.
Он направил лошадей к дому и отпустил вожжи.
Благородные животные, от которых, казалось, уже нечего ожидать, так они были измучены, удвоили скорость, подстегиваемые ужасом. Расстояние до дома стремительно сокращалось. Кучер подбодрил их резким свистом в тот момент, когда сани приблизились к тонкому рогу волчьего полумесяца. Волки расступились. Охотники не скрывали своей радости.
— Ради Бога, не стреляйте больше, поберегите свою жизнь! — крикнул Иван.
Его послушались.
Волки, удивленные этим неожиданным маневром, на минуту остановились в нерешитель-
267
ности. За эту минуту тройка пролетела версту. Когда звери кинулись в погоню, было уже поздно: они не смогли догнать упряжку.
Четверть часа спустя охотники уже находились невдалеке от дома. Князь утверждал, что за эти минуты его лошади пробежали более двух лье.
Назавтра друзья вернулись на поле боя; там было более двух сотен волчьих скелетов.
Теперь вы понимаете, что такая охота— волнующее занятие.
Тех же, кого интересует моя судьба, заранее прошу не беспокоиться: в лесах князя Трубецкого будет просто охота, а не охота на тройке.
ВПЕЧАТЛЕНИЯ О ПЕТЕРБУРГЕ
то время, как князь Трубецкой рассказывал о подробностях охоты на волков, Санкт-Петербург постепенно возникал из вод залива. Первым поразил нас своим великолепием Исаакиевский собор; его купол — позолоченный, купола других соборов: Казанского, Троицкого, Никольского 1 — не так высоки и покрыты звездами.
Воздержимся от упоминания других культовых зданий, ибо в Санкт-Петербурге их не сорок сороков, как когда-то в Москве, а лишь сорок шесть приходских и кафедральных соборов, сто церквей и сорок пять фамильных часовен; во всех них шестьсот двадцать шесть колоколов.
Все эти сооружения расположены не очень живописно, ибо Санкт-Петербург построен на плоской равнине.
Прежде всего бросаются в глаза два отвратительных желтых здания, похожих на казармы, с двумя зелеными куполами: это купола двух часовен кладбища2. Русские предпочитают красить в зеленый цвет купола своих церквей и крыши домов; в том и другом случае мне это не кажется удачным, ибо зеленый цвет куполов составляет рез-
269
кий контраст с синевой неба, а зеленый цвет крыш не гармонирует с зеленью деревьев.
Верно и то, что небо здесь не всегда синее и что деревья не так уж долго зеленеют.
— У нас,— говорила Екатерина,— не лето и зима, а белая зима и зеленая зима.
Через некоторое время мы вошли в Неву, устье которой раз в шесть шире Сены, проплыли вдоль Английской набережной и наконец пристали близ Николаевского моста3, построенного восемь лет назад.
В эпоху Петра I не было мостов через Неву. Этот государь считал, что каждый житель города должен стать таким же заядлым моряком, как он сам. Реку пересекали на лодках, что было не всегда безопасно.
Нас встречало около тридцати человек.
Вдруг Юм, оживший после обильной дани, принесенной рыбам Финского залива, хлопает в ладоши, подпрыгивает от радости и обнимает меня.
Среди встречавших он увидел свою невесту. Меня никто не встречал, и я никого не ожидал.
На этот раз спуск с «Коккериля» на набережную был легок —даже багаж не отягощал нас.
Распрощавшись с княжной Долгорукой и с князем Трубецким,— он повторил мне свое приглашение приехать пострелять волков в Гатчине,— мы разместились в трех или четырех каретах графа Кушелева, уже поджидавших нас, чтобы отвезти в загородный дом Безбородко4, расположенный на правом берегу Невы, в окрестностях Санкт-Петербурга, в километре от Арсенала, напротив Смольного монастыря.
Первое, что поражает иностранца в русской столице,— это кареты, запряженные одной ло-
5:
шадью, так называемые дрожки, с кучерами в длинных одеждах, подпоясанных кушаком, расшитым золотом или со следами золотой вышивки, в картузах цвета паштета из гусиной печенки и с медными ромбовидными бляхами на спинах.
На бляхе — номер извозчика, она всегда доступна седокам: если они захотят пожаловаться на кучера, достаточно снять бляху и отослать в полицию.
Само собой разумеется, русская полиция, как и французская, редко принимает сторону извозчиков.
Русские кучера, как и почти все население Санкт-Петербурга, не коренные жители столицы— как правило, это крестьяне, приехавшие из Финляндии, Великороссии и Малороссии, Эстонии и Ливонии.
Они занимаются извозом с разрешения своих господ, которым за эту полусвободу платят дань, называемую оброком,— от двадцати пяти до шестидесяти рублей, то есть от ста до двухсот пятидесяти или двухсот восьмидесяти франков.
Дрожки бывают двух типов.
Первый — нечто вроде небольшого тильбюри, в котором, если потесниться, могут ехать двое. Они не выше, чем наши детские экипажи.
Другой тип — не имеет аналога во Франции: представьте себе седло на крупе лошади, сделанное для одного, но на которое садятся двое.
На дрожки садятся верхом, как на лошадь; но ноги ставят не в стремя, а на двойную скамейку.
Кучер* сидящий спереди, похож на старшего из сыновей Эймона, везущего троих своих братьев на большой турнир дяди, императора Карла Великого5.
/S J/Д
ïiT/>
№
Ж
271
Этот экипаж, очевидно, полутатарского-по- луотечественного происхождения, тогда как первый — иностранный, импортированный
и измененный по обычаям и потребностям страны.
Мы спустились на набережную, проехали мимо дома господина де Лаваль-Монморанси6 и оказались на Адмиралтейской площади, она постепенно утрачивает старое название и все чаще именуется Исаакиевской.
Здесь я уже мог ориентироваться, поскольку основательно изучал этот город. Изучал именно потому, что никогда прежде в нем не был.
На набережной слева стоял дворец, справа — Сенат, вдали — Исаакиевский собор, впереди—две колонны7, статуя Петра Великого работы Фальконе, и Адмиралтейство, выходившее на бульвар,— обычное место прогулок императоров Николая и Александра; они приходили сюда, чтобы общаться с народом, подобно Генриху IV.
У нас еще будет возможность поговорить об этих памятниках; сейчас мы лишь проедем мимо них.
Через несколько минут мы добрались до Марсова поля, на нем выделяются казармы Павловского полка, куда до сих пор зачисляются только курносые, подобные императору, основателю казарм8.
Бедный Одри. Если бы он приехал в Санкт-Петербург, то, наверное, даже против своей воли был бы назначен полковником Павловского полка.
Когда проезжаешь по Марсову полю, привлекает внимание дворец9, окрашенный теперь в красный цвет — резиденция Павла, памятник трегических событий. Как и дворец в Ропше,
272
эти стены слышали предсмертные крики самодержца.
Я заметил угловое окно, всегда закрытое и задрапированное уже в течение пятидесяти семи лет — окно траурной комнаты.
Раньше было запрещено останавливаться и рассматривать его. Молодого ливонца, пренебрегшего этим запрещением, провели внутрь замка — теперь Инженерного училища,— раздели, обрили и сдали на двадцать лет в солдаты. Это было при императоре Николае.
Теперь же, во времена царствования императора Александра, Муане мог открыто при дневном свете, сидя у Летнего сада, делать свои зарисовки с натуры, не боясь сдачи в солдаты или ссылки в Сибирь.
Мы свернули налево, проехали мимо статуи Суворова10 (не произносите — Суваров; мы, французы, обычно безжалостно коверкаем имя одного из величайших полководцев, когда-либо живших на свете), и очутились на набережной, напротив крепости.
Скажем походя, что это не только скверная, но и достаточно смешная статуя Суворова в облике Ахиллеса.
Ахиллес приносит несчастье тому, кто заимствует его облик или одеяние, будь он нагим или в доспехах (вспомните статую Веллингтона в Гайд-парке). Не сомневаюсь: при жизни Суворов никогда не разрешил бы поставить себе такой памятник, ибо был слишком умен для этого.
Когда-нибудь мы еще поговорим о Суворове, а теперь, дорогие читатели, как вы сами понимаете, после трехсот пятидесяти лье по железной дороге, после четырехсот лье на пароходе мы стремились побыстрее добраться до места назначения.
я
Проезжая по набережной, я с удовольствием взглянул на Летний сад и на его знаменитую решетку11. Только ради этой решетки один англичанин совершил путешествие в Санкт-Петербург.
Сойдя с парохода на Английской набережной, он нанял дрожки и произнес:
— Летний сад.
А доехав до решетки, приказал:
— Стой! — Дрожки остановились.
Англичанин в течение десяти минут осматривал решетку, бормоча про себя:
— Очень хорошо, очень хорошо!
Затем закричал извозчику:
— Параход! Паскарее, паскарее!
Извозчик привез англичанина на Английскую набережную как раз к отплытию парохода на Лондон.
— Харашо,— сказал англичанин извозчику, дал ему гинею, поднялся на палубу и уехал.
Он хотел видеть в Санкт-Петербурге только решетку Летнего сада, и он ее увидел.
Так как я приехал не только ради нее, то продолжал свой путь и проехал через Деревянный мост12, разглядывая крепость, колыбель Санкт-Петербурга, и колокольню собора Петра и Павла, всю в лесах. Эти леса, были так же красивы, как сама колокольня; они показались мне произведением искусства, которое, наверное, можно было бы сравнить с самой колокольней, какой бы прекрасной она ни явилась однажды из-под них.
Нева — великолепна. С Деревянного моста она видна во всей своей красе. Благодаря этой величественной реке в немногих столицах есть такие грандиозные пейзажи, как в Санкт-Петербурге.
Поймите меня правильно: я говорю о грандиозной видимости, а не о грандиозно# сущности.
Позже мы поясним разницу между видом и сущностью города.
Внешность и существо совпадают лишь для мостовых Санкт-Петербурга.
Представьте себе овальные камни, одни величиной с череп патагонца13, другие —с голову самого маленького ребенка, положенные рядом и качающиеся в своих лунках, кареты, подпрыгивающие на них, и пассажиров, трясущихся в каретах. Представьте посередине улицы рытвины, как на проселочной дороге, кучи-камней, которые ждут, когда их используют на мостовой, и которые пока еще не нужны. Некоторые части мостовой замощены длинными качающимися досками, один конец которых поднимается вверх, когда карета проезжает по другому концу; после досок нужно преодолеть четверть версты по щебенке, превратившейся в пыль, затем опять идут камни, рытвины, и опять доски, и опять пыль. Таковы мостовые в Санкт-Петербурге.
Князь Вяземский написал оду, в которой описывает состояние России XIX века: уже первая строфа была посвящена улицам и проселочным дорогам.
Заметьте, дорогие читатели, что это говорю не я, а русский князь, генеральный секретарь Министерства внутренних дел14, которому были знакомы и рытвины, и проселочные дороги.
РУССКИЙ БОГ
Бог метелей, Бог ухабов,
Бог мучительных дорог,
Станций — тараканьих штабов,
Вот он, вот он, русский Бог.
Бог голодных, Бог холодных,
Нищих вдоль и поперек,
Бог имений недоходных,
Вот он, вот он, русский Бог.
Бог всех с анненской на шеях,
Бог дворовых без сапог,
Бар в санях при двух лакеях,
Вот он, вот он, русский Бог.
К глупым полон благодати,
К умным беспощадно строг,
Бог всего, что есть некстати,
Вот он, вот он, русский Бог.
Поскольку мы находимся в России, будем довольствоваться этим добрым Богом, не будем более придирчивы, чем россияне.
После знакомства с мостовыми Санкт-Петербурга, способными разрушить за три года самую хорошую английскую или французскую карету, мы проехали мимо Арсенала, огромного здания, сооруженного из кирпича; его строителю хватило ума оставить зданию естественный цвет. Затем, свернув направо,— оказались на берегу Невы; на другом берегу мы увидели очаровательный Смольный монастырь.
Проехали по набережной еще с версту. Я самодовольно заметил, что могу употреблять русские слова! Дорогие читатели, раз и навсегда знайте, что верста — это километр, эти слова равнозначны. Итак, мы проехали еще с версту по набережной и остановились перед большой виллой, два крыла которой полукругом отходили от главного корпуса.
Вилла построена не так, как у нас — между двором и садом, а между двумя садами. Экипажи проехали один за другим среди цветущей сирени. В Санкт-Петербурге мы оказались весной, с которой расстались в Париже два месяца назад.
На ступеньках подъезда выстроились слуги графа в парадных ливреях.
У подъезда ожидали господ двенадцать или тринадцать мужиков в красных рубахах.
Граф и графиня вышли из кареты, и началось целование рук.
Потом мы поднялись по лестнице на второй этаж и вошли в большой зал, где был расположен алтарь.
У алтаря стоял русский священник; как только граф и графиня переступили порог зала, началась обедня в честь «благополучного возвращения», которую, подойдя ближе, все слушали с большим благоговением. По окончании обедни — а у достопочтенного священника хватило ума ее не затягивать — все обнялись, невзирая на ранги, и по распоряжению графа слуги провели каждого из нас в отведенное ему помещение.
Позвольте, дорогие читатели, сначала рассказать, как устроили меня.
Мои апартаменты были на первом этаже и выходили в сад, полный цветов. Они примыкали к большому прекрасному залу, используемому как театр, и состояли из прихожей, маленького салона, бильярдной, спальни для Му- ане и спальни для меня.
В преддверии предстоящей бивачной жизни в степи нам предоставили прекрасные условия. Если не считать того, что попросили поторопиться с туалетом в связи, с предстоящим завтраком.
Напомню, что первый завтрак был дан на палубе «Коккериля»; но, как видно, граф был подобен Антуану, у которого всегда было восемь кабанов на вертеле, в разной степени готовности, чтобы в любой момент можно было перекусить между трапезами. Во всяком слу-
277
чае, у дворецкого, несмотря на завтрак в Кронштадте, для нас был подготовлен еще один.
Я принял приглашение с некоторым опасением, боясь отведать русской кухни, о которой ранее слышал довольно плохие отзывы.
Наконец сели за стол.
Мы еще вернемся к русской кухне, о которой можно многое сказать, и не только с точки зрения гастрономии, но и гигиены.
После завтрака я отправился на балкон салона, чтобы осмотреть окрестности. Передо мной открылся чудесный вид. Прямо перед домом внизу — набережная, к ней по речному откосу спускаются две большие гранитные лестницы, над которыми воздвигнут шест футов в пятьдесят высотою.
На вершине шеста развевается знамя с графским гербом. Это — пристань графа, куда ступила Великая Екатерина, когда оказала милость князю Безбородко и приняла участие в празднике, устроенном в ее честь.
В этом месте перед пристанью Нева замедляет свое течение и медленно омывает своими водами пристань; здесь она в восемь или десять раз щире Сены в Париже у моста Искусств. Река покрыта судами с длинными красными вымпелами, развевающимися по ветру. Суда гружены еловыми бревнами для строительства и дровами, которые везут из центра России по внутренним каналам, построенным Петром.
Эти суда никогда не возвращаются туда, откуда начали путь. Их продают вместе с грузом и разрубают на дрова. Экипаж судов возвращается домой пешком.
На другом берегу реки, как раз напротив балкона, возвышается самое прекрасное куль-
товое здание Санкт-Петербурга — Смольный монастырь15, ныне пансион для благородных девиц.
Он замыкает перспективу с правой стороны.
Ансамбль Смольного состоит из центрального собора, повернутого к востоку; его большой купол окружен четырьмя другими, поменьше и пониже.
Еще четыре собора, расположенные на четырех концах прямоугольника где-то в пятистах шагах один от другого, соединены стеною, похожей на крепостную.
Живописность ансамбля немного портит своим казарменным видом огромное четырехугольное здание, равномерно прорезанное шестьюдесятью или восемьюдесятью окнами.
В этом здании живут молодые девушки благородного происхождения, поступившие в Смольный. Здание было построено в- царствование Екатерины II итальянским архитектором Растрелли и служило церковью для института дворянских вдов. Слева от меня Нева делает поворот и уходит вдаль к Ладожскому озеру, расположенному в ста восьмидесяти верстах от Санкт-Петербурга.
Кроме тех судов, что стоят на якоре у самых берегов, ближе, однако, к правому берегу, чтобы оставалась свободной середина русла, река буквально кишит кораблями, которые идут под парусами вверх и вниз по течению; между ними плавает множество лодок, они снуют от одного берега к другому, верткие, как рыбы, пестро окрашенные в зеленый, желтый и красный цвета — карикатура на кайки16 Константинополя. Если не считать двух колоколен на том берегу, где мы находимся, то есть на правом, все строения низкие и без претензий.
%
ш
'W lim
11 г i
%
л'|
ГГ
[{[
Ш
è
$3j
I
Не надо забывать, что мы за пределами города. Плоским пространствам недостает живости, и тем большее очарование им придают великолепные массы зелени.
Примерно в одном лье от меня Нева исчезает за излучиной. Слева от Смольного монастыря, если исходить из его положения на другом берегу реки, возвышается Таврический дворец с плоской ротондой и обширным ветвистым парком, над которым, как над ковром темной зелени, вдали возвышается золотой купол собора Св. Владимира17.
Вблизи эта каменная импровизация Потемкина не производит особого впечатления, но издали, на расстоянии, когда детали исчезают, ее вид очень эффектен.
Говорят, что Таврический дворец, его великолепную мебель, мраморные статуи, пруды с золотыми рыбками, сов из золота, поворачивающих головы и вращающих глазами, механического золотого павлина, распускающего хвост веером, и поющего петуха (мы нашли этих птиц в Эрмитаже вместе с золотым деревом) Потемкин подарил Екатерине II, чтобы отпраздновать завоевание края, название которого носит дворец. Но удивляет не роскошь дарителя: Потемкин каждый год в январе дарил императрице корзиночку вишен, которая стоила десять тысяч рублей, он приучил Екатерину к подаркам; важен эффект неожиданности, сюрприз, который сохранялся в секрете с чисто религиозным благоговением.
Дворец, занимающий вместе с парком четыре арпана, был сооружен в центре столицы, но Екатерина ничего не знала об этом. Однажды вечером, когда Потемкин пригласил императрицу на ночной праздник в ее честь, на месте заболоченных лугов она увидела словно по вол-
шебству возникший дворец, сияющий огнями, полный очарования, украшенный живыми цветами.
Мы еще вернемся к Потемкину2: благосклонная судьба познакомила нас с его племянницей, на руках которой князь скончался; сейчас ей 86 лет. Это позволит нам дать о Потемкине некоторые сведения, которые о нем никогда не сообщали историки.
Однако эти сведения слишком отдалят нас от нашей панорамы, поторопимся же вернуться к ней.
С правой стороны, охватывая горизонт и пропадая за ним, раскинулся Петербург — необъятное скопление домов, разделенных рекой; над ними возвышаются кораблик Адмиралтейства, золотые купола Исаакия и покрытые звездами купола Измайловского собора18. Все это, кроме нежной зелени крыш, наилуч^ шим образом выделяется на фоне серо-перламутрового неба с синим оттенком.
Зеленый цвет — болезнь, которой подвержены петербуржцы. Подобно барону Жерару, автору «Въезда Генриха IV в Париж», который все видел в зеленом цвете, русские архитекторы все видят в зеленом.
Скажем сразу об истинной причине этой художественной ереси.
С незапамятных времен петербуржцы не потому так красят свои крыши, что хотят изобрести пятьдесят третий оттенок этого колера, которых, я думаю, в природе есть уже пятьдесят два, но потому, что крыши у них из кровельного железа и их необходимо предохранять от ржавчины. Нужно выбрать цвет, который максимально долго выдерживал бы действие снега, дождя и мороза. Черная краска дешева и долго держится, поэтому некогда поло-
вина крыш на севере и западе России была в трауре. Но император Николай нашел этот цвет похоронным и запретил его использовать, оставив данную привилегию лишь для своих дворцов.
Красный цвет близок к цвету фабрик и достаточно хорошо выглядит на фоне деревьев и неба; но он нестоек и после трех лет любители красного вынуждены были перекрашивать свои крыши.
Напротив, зеленый цвет, в который входит мышьяк, сохраняется семь лет, это почти папский срок. Счастливые римляне подсчитали, что, начиная со святого Петра и кончая Пием IX, владычество одного папы длилось в среднем около девяти лет. Никто не царствовал двадцать пять лет за исключением святого Петра. Говорят также, что очередного кандидата скорее выберут в папы, если он всем своим видом — бледным, худосочным, страдающим, рахитичным, подагричным иди склонным к параличу— дает шанс своему преемнику и основание подумать: «Вот еще один, который не доживет до лет святого Петра». Мой друг папа Григорий XVI едва не опроверг эти предсказания; но в конце концов покорился обычаю и умер на двадцать четвертом году правления.
себя на балконе я простоял бы, конечно, еще долго, если бы не был уведомлен о предстоящей прогулке по парку.
До сей поры я видел парк только из окон спальни и представление о нем у меня было довольно смутное.
От самого крыльца, на которое я вышел, начиналась широкая, шагов з двадцать, липовая аллея, тянущаяся примерно на километр.
Это главная магистраль парка.
По правую и по левую стороны от липовой аллеи, за пестреющими цветами куртинами1, на мраморных пьедесталах, возвышаются среди зелени два бронзовых бюста, раза в четыре более натуральных размеров: князя Безбородко и графа Кушелева, двух зачинателей нынешнего рода Кушеле- вых-Безбородко.
В окружности парк тянется более чем на три лье.
В нем нашлось место для речки, храма в коринфском стиле, в ротонде которого колоссальная статуя Екатерины Второй, изваянной в виде Цереры2 (статуя бронзовая, князь Безбородко на металл не поскупился), две деревни и полторы-две сотни разбросанных там и сям домиков с садом и огородом.
283
Нет нужды пояснять, что это в парке, а не в ротонде, нашлось место для двух деревень и полутора-двух сотен домов, однако злопыхатели могли бы и так истолковать мою неудачно построенную фразу.
Все восемьдесят слуг, начиная от дворецкого и кончая женщиной, которая выполняет на кухне «черную работу» —так здесь называется мытье посуды, — заняты исключительно во дворце.
Еще две тысячи человек живут и трудятся в самом парке.
Весь этот мирок обожает графа и графиню. У всех, кто нам повстречался по дороге, лица были радостные, даже более того — сияющие.
Кстати, скажем здесь же, ведь, возможно, другого случая и не представится, что статуя Екатерины Великой была отлита в память о ее появлении на празднестве у своего фаворита Безбородко.
Эта статуя, да еще та, что в Екатериносла- ве,— вот и все ее изображения, сохранившиеся до наших дней.
Я не говорю о купленной мною серебряной медали: именно по ней Мишле нарисовал в нескольких сильных строках психологический портрет Екатерины.
Он круто обходится с «немецкой авантюристкой», и это вполне понятно, потому что судит о ней по событиям, уничтожившим Польшу. Но если бы Мишле побывал в Санкт-Петербурге, если бы он со всей своей непреклонной беспристрастностью судил о ней по ее деяниям, то воздал бы вдове Петра Третьего сполна и по справедливости.
Поистине, она — Екатерина Великая, как величал ее Вольтер, величавший ее еще и Семи-
>r.
рамидой Севера', памятуя, без сомнения, о том, что Семирамида Востока отравила своего мужа Нина.
Оказавшись здесь, мы убедимся, что ни Петр Первый не мог спасти Россию, не избавившись от Алексея, ни Екатерина не могла продолжать дело Петра Первого, не избавившись от Петра Третьего.
Да не обвинят нас в пристрастности, но я все же полагаю, что историограф — и даже писатель-романист, этот историограф для народа,— не должен быть несправедлив к монархам только лишь по той единственной причине, что они монархи.
Безусловно, преступление всегда преступление, история и запечатлевает его как таковое, но ведь и для суда присяжных — суда, воздающего по заслугам обычным людям, и для суда потомков, воздающего по заслугам монархам, огромное значение имеют смягчающие обстоятельства.
Не поставите же вы на одну доску Вильгельма Тел ля, убившего Гёсслера ради свободы Швейцарии, и кюре Менгра, разрезавшего свою служанку на куски ради того, чтобы скрыть, что она беременна.
Но вернемся в графский парк.
Около пятидесяти арпанов4 парка предназначены исключительно для графа и его семейства, но даже и эти пятьдесят арпанов по воскресным дням открыты для публики, как и остальная часть парка.
Трижды на неделе для удовольствия гуляющих играет музыка.
По воскресеньям музыканты одного из полков Санкт-Петербургского гарнизона играют прямо перед дворцом, шагах в тридцати от
т
%
J
Ьл
&
)!н
/о)
Щ
и’
т
léj
%
it(
№
285
крыльца, в самом начале той широкой липовой аллеи, о которой я вам уже говорил; липыусей- час в цвету, как у нас в мае, хотя сегодня на дворе конец июня и вся аллея жужжит от пчел.
На музыку ко дворцу по воскресеньям собирается до трех тысяч слушателей.
И ни один мальчик — кстати, почти все мальчики, из какой бы семьи они ни были, одеты в русский национальный костюм (маленькая шапочка с павлиньим пером, красная или желтая шелковая рубашка, широкие полосатые штаны, заправленные в сапожки с красными отворотами)5 и выглядят очаровательно,—так вот, ни один мальчик не ступит на куртину и ни одна женщина — мы хотели бы себе позволить сказать о женщинах то же самое, что о мальчиках! — не сорвет цветка.
Среди пестрой толпы прогуливаются кормилицы, одетые в старинное русское платье: сарафан в крупных цветах и кокошник из золотой парчи.
Каждая семья, даже и купеческая — понятно, что речь идет о богатых купцах,— старается нарядить кормилицу получше. Иные из этих платьев стоят по полторы-две тысячи франков.
Что здесь поражает, особенно нас, французов, по природе своей людей болтливых, так это какая-то всеобщая молчаливость, сковывающая уста гуляющих под звуки музыки людей.
Их даже нельзя счесть за привидения; выходцы с того света, как вам известно, обычно ведут себя шумно: волочат цепи, гремят ими, стонут, переворачивают мебель, иные и разговаривают, а случается и произносят довольно длинные монологи, свидетельство тому — тень отца Гамлета.
Но русские! Русские — это даже не привидения, это призраки; сосредоточенно вышагивают они рядом или друг за дружкой, на лицах ни радости, ни печали, и ни слова, ни вольного жеста...
Даже дети не смеются; правда, что и не плачут.
По этой причине здешние улицы напоминают наши кладбищенские аллеи в День Поминовения или аллеи в общественных садах древних греков на Елисейских полях6.
В Санкт-Петербурге всего один Пассаж, выходит он на Перспективу и на Итальянскую улицу7.
Со стороны Перспективы, одной из трех главных магистралей города, в Пассаже есть кафе, где собираются французы, назначая там встречи. С этой стороны Пассаж живет, шумит, он полон движения.
Но если пройти подальше, то может показаться, будто вы вступаете под могильные своды, и на вас веет холодом.
Тот, другой, конец Пассажа мертв.
Пассаж подобен паралитику, у которого работает голова, движутся руки и он еще чувствует свои ноги, но они уже мертвы. Они окоченели.
Даже кучера не кричат здесь, как в Париже, предупреждая пешеходов, чтобы они посторонились вправо или влево или же чтобы другие возницы уступили им дорогу.
Нет, от здешних кучеров услышишь разве что сказанное жалобным тоном словцо «поберегись»—вот и все.
Если бы какого-нибудь русского внезапно перенесли с Перспективы или с Большой Морской на бульвар Капуцинов или на Рю
287
де-ла-Пэ, он бы сошел с ума, не дойдя и до Мадлен или до колонны на Вандомской площади.
Поистине здесь не больше жизни, чем в той стране, куда ушел несчастный мальчик, которого мы повстречали на пристани, когда сходили с пароходика у виллы Безбородко: в гробу, под серебристым покровом его увозили на черном катафалке к месту последнего упокоения.
Несчастный народ! Не привычка ли к рабству приучила тебя молчать? Говори, пой, читай, радуйся!
Теперь ты свободен.
Да, я тебя понимаю: к свободе еще нужно привыкнуть.
Вы говорите мужику:
— Теперь ты свободен!
А он вам в ответ:
— Вроде бы так, ваше благородие.
Сам-то он все равно ничему не верит. Для
того, чтобы чему-нибудь поверить, надо это «что-нибудь» знать, а у русского крестьянина никакого понятия о свободе нет.
Во время восстания тысяча восемьсот двадцать пятого года Муравьеву, Пестелю и Рылееву, чтобы научить солдат кричать «Да здравствует Конституция», пришлось их уверить, что Конституция — это жена Константина.
Впрочем, не думайте, будто отсутствие всякого понятия о свободе ослабит силу последствий, которые вызвал указ императора Александра Второго об освобождении рабов. Они, возможно, будут даже несколько иными, чем многие ожидают.
Но это такой серьезный вопрос — мы имеем в виду освобождение крестьян,—что лучше займемся им отдельно.
jy
IA
ji
d
ÔV2
ж
I
4V
jÂ
&
yA
щ
В парке хватило места и для театра. Теперь там собираются сыграть «Приглашение на вальс» и еще русскую пьесу, сочинения самого графа, как только один мой друг, виконт де Сансийон, который должен к нам присоединиться, прибудет из Парижа.
Если бы не обед, мы никогда бы не поверили, что уже шесть часов.
Если бы не свечи и лампы, зажженные по обыкновению, мы бы в полночь поклялись, что сейчас шесть часов.
Ничто на свете, дорогие мои читатели, не поможет вам представить себе июньскую ночь в Санкт-Петербурге — ни перо, ни кисть.
Это какое-то наваждение.
И если предположить, что Елисейские поля в самом деле существуют и что над ними разлит серебристый свет, то вот у здешнего света тот же самый оттенок, какой должен быть при хорошей погоде в царстве мертвых.
Вообразите себе, что все вокруг вас жемчужное, переливается опаловыми отсветами, но не так, как бывает на рассвете или в сумерках: свет бледный, и все же в нем нет ничего болезненного, он озаряет предметы сразу со всех сторон. И ни один предмет не отбрасывает тени. Прозрачные сумерки, не ночь, а лишь отсутствие дня; сумерки, но все предметы вокруг легко различить, словно наступило затмение солнца, но в душе нет смятения и тревоги, как бывает во всей природе при затмении; лишь освежающее душу молчание, радующий сердце покой, тишина, к которой все время прислушиваешься: не раздастся ли ангельское пение или глас Божий!
я
$
«Й
(§у\
т
Ьл
ДО
11 А Дюма, Т 1
289
Любовь в такую ночь была бы вдвойне прекрасной.
В одну из тех ночей, что воспел Вергилий и нарисовал Феокрит, я поймал едва ощутимое дуновение бриза и скользнул в бухту Баиа, в Неаполитанский залив, на рейд Палермо, в Мессинский пролив. Переполненный юношескими мечтаниями —а я был юн тогда,— я улегся на палубе и, глядя в небо, без толку пытался пересчитать бесчисленные звезды, усеявшие его густую синеву, которая накрывала сразу и Сицилию, и Калабрию, и Грецию; я видел Алжир, его белые дома, пальмы и смоковницы, отражающиеся по ночам в водах африканского моря; я видел Тунис, дремлющий в тех местах, где вечным сном спит Карфаген; я видел амфитеатр Джем-джема, римские аркады которого отчетливо вырисовываются среди пустыни при пламенеющем свете августовской луны. Нигде не видел я ничего подобного петербургским ночам.
Приехав к вечеру, всю свою первую ночь в Петербурге, всю без остатка, я провел на балконе виллы Безбородко, ни минуты не помышляя о сне, хоть и устал за предшествовавшие ночи, проведенные в дороге.
Муане оставался со мною на балконе, он был так же потрясен, как и я. Мы восторгались новым для нас зрелищем, но даже не обменивались своими восторгами. Бескрайняя Нева катила к нашим ногам серебряные воды. Большие суда, как сложившие крылья ласточки, бесшумно шли вверх и вниз по серебряной реке, оставляя за собой легкий след. Ни огонька на берегах, ни звезды в небе. Внезапно слева от нас, над однотонным темно-зеленым лесом, прорезавшим перламутр небес мощным силу-
этом смутно различимых ветвей и листьев, появился золотой шар. Сияющий круглый диск медленно поднялся в небеса, почти ничего не прибавив к светлой прозрачности ночи. Только длинная, слегка дрожащая полоса расплавленного золота легла на реку, и сразу стало видно, что река течет, движется, но только там, где сияет эта полоса, разнообразя картину пламенеющими отблесками на пересекающих ее лодках или судах, которые, выйдя за ее пределы, словно бы не только останавливали свой ход, но просто куда-то исчезали. Потом луна медленно, торжественно, гордо, со спокойствием богини стала скрываться за куполами Смольного, которые отчетливо вырисовывались все то время, пока луна не начала опускаться от венчающих купола крестов в пропасть, за горизонт.
Великий русский поэт Пушкин, о котором я вам уже говорил и еще не раз стану говорить, потому что он, как истинно великий национальный поэт, был ко всему причастен, попробовал описать эти дивные ночи своими прекрасными стихами.
Мы, в свою очередь, познакомим вас с содержанием пушкинских строф, но не забывайте, что перевод и оригинал соотносятся как лунный свет и солнечное сияние.
Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное теченье,
Береговой ее гранит,
Твоих оград узор чугунный,
Твоих задумчивых ночей Прозрачный сумрак, блеск безлунный,
Когда я в комнате моей Пишу, читаю без лампады,
И ясны спящие громады
Пустынных улиц, и светла Адмиралтейская игла,
И, не пуская тьму ночную На золотые небеса,
Одна заря сменить другую Спешит, дав ночи полчаса.
Стихи Пушкина прекрасны, но вот ночи Санкт-Петербурга...
Стихи Пушкина — это поэзия земная, а ночи Санкт-Петербурга — поэзия божественная.
ведь мы так ничего и не знаем ни о пропавшем Дандре, ни о судьбе наших пятидесяти семи чемоданов, баулов и ящиков. Поэтому я вынужден ездить в Санкт-Петербург и разгуливать по городу в кожаной шляпе, белой бархатной куртке и серых панталонах, да еще со знаменитым фурункулом, из-за которого врач едва не отрезал мне голову.
Ах, иметь бы такую же панаму, как у графа! Панама за пятьсот франков сразу подняла бы мой престиж в глазах петербуржцев.
Но панамы у меня нет. И я сажусь на дрожки в том костюме, что мне остался, и в путь... Санкт-Петербург я изучил заранее и теперь знаю его как свои пять пальцев. Я могу сказать по-русски «направо», «налево», «пошел», «стой» и «домой».
С таким запасом, да еще памятуя о всюду восхваляемой смекалке русского мужика, я надеюсь, что не пропаду.
В ту самую минуту, как дрожки трогаются — а должен сказать, что дрожки эти очень мне напоминают мула моего друга Курте, проводника в горах Шамони, которого (я имею в виду мула) прозвали Трясуном,— так вот, имен-
293
но в эту минуту я вижу, как очаровательный пароходик пришвартовывается у графской пристани, а потом летит, как ласточка, по Неве, прямо к Летнему саду. Вот мне и подсказка на следующую прогулку. Хотя, конечно, если поехать на пароходе, то уж не постоять на Деревянном мосту, а Петербург так прекрасен, когда глядишь на него с этого места, что хочется стоять и глядеть, глядеть... И я останавливаюсь на мосту и смотрю на крепость. Прежде всего в глаза бросается то, что колокольня Петропавловского собора одета в леса: ее реставрируют.
Вот уж год как поставили леса, и они будут стоять еще год, два, а возможно, и три.
В России это называется «подновление тра- ченого», но можно перевести и как «присвоение растраченного». В России невозможно, как говорят у нас в народе, поужаться в тратах; здесь всякая трата неизбежно переходит в растрату, и, однажды начав, здесь никак не могут остановиться.
В Царском Селе есть Китайский мостик1,— там на пьедесталах стоит с полдюжины уродцев в человеческий рост. Как-то раз Екатерина, проходя по мосту, сказала:
— Надо бы подкрасить этих уродцев, что-то они осыпаются.
Желание императрицы было тут же записано. На другой же день на уродцев напустили живописца. И каждый год при жизни Ее Величества в один и тот же день их всех перекрашивали.
Вот уже шестьдесят три года, как императрица скончалась, но каждый год, в один и тот же день, их перекрашивают.
На злополучных уродцев наложено теперь восемьдесят слоев краски — там уже не только лица не разглядеть, но и сами очертания их
Ту.
стерлись. До дерева можно было бы добраться, только соскоблив краску дюйма на два.
Вот что называется «подновлением траче- ного».
Я нарочно поеду в Царское Село, чтобы взглянуть на бедняг-уродцев, заключенных теперь в футляры из кобальта и киновари.
Екатерина Вторая не выносила сальных свечей, которые до нее жгли в императорских покоях. Она запретила их жечь где бы то ни было, даже в швейцарской.
Прошло два года, и как-то, просматривая счета за год, она наталкивается на это слово и на цифру: «Сальные свечи, 1500 рублей».
Это приблизительно 6000 франков в наших деньгах.
Императрица пожелала узнать, кто дерзнул ослушаться ее приказа и по какому поводу, велела провести расследование.
Выяснилось, что, вернувшись с охоты, Великий князь Павел как-то раз попросил сальную свечу, чтобы смазать жиром ссадину на той части тела, которая соприкасается с седлом.
Ему принесли свечу ценою в два су. Два су превратились в тысячу пятьсот рублей. Вот это и означает хоть «подновление траченого», хоть «присвоение растраченного».
Такой же случай был и у царя Николая, когда он вместе с князем Волконским просматривал расходы императорской фамилии и наткнулся на запись о том, что губной помады за год потребили на 4500 рублей.
Уж очень большой показалась ему эта сумма.
Тогда Его Величеству напомнили, что зима стояла суровая и потому императрица всякий день, а фрейлины — каждые два дня потребляли по баночке помады, чтобы губы были свежие.
Царь нашел, что у всех означенных особ губы были достаточно свежие, но все же не на-
*
^v1
Jlj
Sai
‘C&
&
295
столько, чтобы это стоило восемнадцати тысяч франков.
Он осведомился у императрицы, и та ответила, что не выносит помады.
Он осведомился у фрейлин, и те ответили, что раз Ее Императорское Величество не пользуется опийной помадой, они тоже ее не употребляют.
Наконец, Николай осведомился у Великого князя Александра, ныне царствующего, и тот постарался припомнить и в самом деле вспомнил, что на Крещение он возвратился в Зимний дворец с потрескавшимися губами и послал за баночкой помады. Послали теперь за такой же: цена ей была три франка!
Пропорция конечно же иная, чем в случае с сальной свечой, которая стоила-то всего два су. Но и здесь перед нами — подновление тра- ченого и присвоение растраченного.
Так чему удивляться, ежели леса на колокольне Петропавловского собора простоят год, два — хоть и десять лет! Удивительно будет, если их вообще когда-нибудь снимут.
Между тем с колокольней Петропавловского собора приключилась пренеприятная история, которая, должно быть, заставит архитектора ускорить ремонтные работы.
В тысяча восемьсот тридцатом году заметили, что одно крыло у ангела, который венчает колокольню, да к тому же служит флюгером, надломилось и грозит свалиться при первой же сильной буре.
Для починки ангельского крыла потребовалось бы воздвигнуть леса очень высокие и потому очень дорогие: высота колокольни сто пятьдесят пять английских футов, то есть приблизительно четыреста футов французских.
Прикинули, что такие леса обойдутся в двести тысяч франков.
Очень дорого, если вспомнить, что и всего-то надо будет вбить в ангельское крыло четыре гвоздя: выходит, что пятьдесят тысяч за гвоздь.
Совещались, совещались и начали уж было склоняться к мысли, что Бог с ним, с этим крылом, пусть себе падает. Уж нашлись и такие радетели-экономы, которые полагали, будто, сбросив одно крыло, ангел станет легче поворачиваться и точнее показывать направление ветра. Но тут как раз некий крестьянин по имени Петр Телушкин2, по занятию своему кровельщик, попросил у властей разрешения на ремонтные работы, которые он брался провести безо всяких лесов и других затрат, кроме платы за его труд, да и в этом полагался на щедрость архитектора.
Предложение показалось заманчивым и было принято.
Работу Телушкин выполнил, к вящей славе своей, только с помощью веревки, молотка и гвоздей, да ведь и следует учесть, что молоток и гвозди предназначались одному ангелу и никакой помощи от них при подъеме не было. Велика была радость петербуржцев и гордость простого народа, когда все увидали, как Телушкин добрался до цели и, осенив себя крестным знамением, возблагодарил Господа за то, что тот в своей милости не допустил, чтобы Телушкин свернул себе шею.
Крыло было водворено на место, а Телушкин вновь оказался на мостовой, которую покинул пять дней назад,—камни, конечно, качались, что свойственно мостовым Санкт-Петербурга, но все же не до такой степени, как золоченый бронзовый шпиль, по которому Телушкин только что поднимался и спускался.
Внизу его ждала ликующая толпа и разъяренный архитектор.
Средь шумных изъявлений народного восторга архитектор пробрался к Те лушкину и сказал:
— Крыло прибито криво.
— По-моему, Ваше благородие ошибается,— сказал тот.
— А я говорю: крыло косое,— настаивал архитектор.
— Ну так ступайте, да и исправляйте сами,— сказал Телушкин и ушел.
И так как вознаграждение зависело от доброй воли архитектора, то Те лушкин ничего не пол ил.
i ушел, и за несколько месяцев о нем никто и не вспомнил. Но как-то раз господин Оленин, директор Академии3, услышал обо всех этих перипетиях и о том, что несчастный кровельщик никакого вознаграждения так и не получил; приказав ему явиться, господин Оленин еще раз выслушал историю с начала до конца и представил мастерового императору Николаю, который наградил Телушкина медалью и четырьмя тысячами рублей серебром.
Получив в руки такое богатство, Телушкин погиб. До той поры, то ли из-за отсутствия средств, то ли по своей умеренности, он не пил. А начиная с того самого дня, как он получил капитал, Телушкин пил без просыпу.
К несчастью, в России пьянство в некоторой мере поощряется правительством; право на торговлю вином и другими напитками, которыми под тридцатью разными названиями утоляет жажду русский народ, предоставлено спекулянтам, называемым «откупщики». Так что, чем больше народ пьет, тем больше доход государству.
Телушкин принялся изо всех сил обогащать казну.
В результате во время холерного бунта тысяча восемьсот тридцать первого года он, вдре-
безги пьяный, очутился на Сенной площади, в самом горячем месте бунта, и выбросил в окно с четвертого этажа некоего лекаря. И каким бы сведущим этот лекарь ни был, от удара он скончался на месте.
Телушкин, опознанный одним из зачинщиков бунта и уличенный в том, что это он выбросил врача в окно, был приговорен к битью кнутом и ссылке в Сибирь.
Его били кнутом и погнали в Сибирь.
С тех пор о нем и слуху не было.
Если вы пройдете Деревянный мост, спуститесь на набережную и направитесь на запад, первые же купы зелени, попавшиеся вам на пути, и будут Летним садом.
По дороге к Летнему саду надобно пересечь речку Фонтанку по очень горбатому мостику. Этот мостик — одно из творений Петра I.
Как-то случилось ему самому править дрожками, в которых еще сидел начальник полиции, приглашенный отобедать в царском домике4,—мы о нем еще поговорим, его не следует путать с первым, совсем простым домиком Петра подле крепости, тем, что накрыт ныне стеклянным колпаком; и когда царь с полицмейстером переезжали через Фонтанку по деревянному мосту, тот под императорскими дрожками возьми да и рухни.
Император и начальник полиции провалились в реку.
Петр выбрался на берег, помог выбраться начальнику полиции, а потом, увидев, что тот цел и невредим, поднял свою знаменитую палку, с помощью которой имел обыкновение творить расправу, и хорошенько отдубасил своего спутника — кто ж, как не он, начальник полиции, должен ответить за неисправный мост?
Ж
Ж
щ
/А,
299
Поколотив же проштрафившегося, сказал:
— Теперь пойдем обедать, потому как ведь я бил начальника полиции, а не моего гостя.
О том, хорошо ли кушал гость в тот день, предание умалчивает.
Летний сад для петербуржцев все равно, что Люксембургский для парижан; квадратный, он ограничен с одной стороны Фонтанкой, а с другой — рвом.
Внутри, как и снаружи, все по ниточке.
Променад этот был бы довольно скучным, если бы Екатерине не пришло в голову расставить здесь для развлечения гуляющей публики статуи и бюсты, которые после раздела Польши вывезли из Варшавских городских парков5.
Я никогда не видел зрелища более нелепого, чем все это сборище мраморных богов, богинь и нимф, в стиле Помпадур, с торчащими кверху буклями и ртами сердечком. Правда, есть там подмигивающее Сладострастие, улыбающаяся Аврора и Сатурн, пожирающий своих детей,—три статуи, ради которых стоило бы уподобиться некоему англичанину, что приехал в Петербург только ради решетки Летнего сада.
В числе этих польских мраморов в русском саду есть бюст Яна Собеского, спасителя Вены.
Как-то случилось —а было это в тысяча восемьсот пятьдесят пятом — императору Николаю проходить через Летний сад со своим генерал-адъютантом Ржевуским, как видно из имени, поляком,— и он остановился перед бюстом Собеского, молча поглядел на него и, обо- ротясь к адъютанту, спросил:
— А знаешь ли ты, кто после Собеского самый большой дурень на свете?
Адъютант, затрудняясь в выборе, недоуменно взглянул на императора.
— Да я же, я,— сказал Николай,— ведь это я во второй раз спас Австрию.
Войдя в Летний сад и повернув налево, оказываешься перед Малым дворцом Петра I, тем самым, куда он вез обедать начальника полиции, которого по-отечески отдубасил за провалившийся мост через Фонтанку. За двадцать копеек инвалид покажет вам часы, сработанные самим Петром I, шкафы и столы, которые ему служили, и даже более того — печь, в которой Екатерина, не позабывшая, как она жила у пастора Глюка и чем там занималась, собственноручно пекла пирожки.
Едва ступив на Русскую землю, вы должны привыкать к слову, вернее, к двум словам: «на чай».
Это то же самое, что «бакшиш» у жителей Востока, «trinkgeld» у немцев, «pourboire» у французов.
Чай — национальный напиток русских.
Нет в России семьи, даже самой бедной, в которой не было бы самовара, то есть прибора для кипячения воды.
Голландцы сами не свои до огурцов, а русские крестьяне — до горячей воды.
Невозможно себе представить, что такое чаепитие русского мужика и сколько бутылок кипятку он высасывает с «парой сахару», то есть с двумя кусками, похожими на два маленьких боба, которые он и не думает класть в стакан — заметьте, в России мужчины пьют чай из стаканов, а женщины из чашек, откуда идет это разделение, я не знаю; так вот: мужик и не думает класть сахар в стакан, он кладет его себе в рот по маленькому кусочку все то время, пока длится чаепитие.
Вот русский и просит «на чай», и просит непрестанно, без всяких оснований, просто так, ничего не сделав, чтобы заслужить мзду, так
же, как неаполитанец, из одного-единственно- го соображения: а вдруг дадут?
Русское предание гласит, что едва Бог создал славянина, как тот повернулся к Всевышнему и протянул руку: «На чаек с Вашей милости!»
В двадцати шагах от дома Петра I стоит памятник баснописцу Крылову.
Пьедестал украшен четырьмя барельефами на сюжеты басен поэта; Крылова окружают обезьяны, черепахи, ящерицы, зайцы, собаки, ежи, журавли, лисицы — все, кто благодаря ему заговорил. Сам он сидит на некоем подобии скалы посреди всей этой компании бегающих, летающих и ползающих, крылатых и пресмыкающихся.
У памятника, который и сам по себе не больно хорош, есть еще один недостаток: его местонахождение. Поставленный перед уборными— единственными, как мне кажется, во всем Санкт-Петербурге,—он словно бы является вывеской этих весьма полезных учреждений.
Теперь, если позволите, мы выйдем из Летнего сада через те же ворота, через которые вошли, и спустимся по набережной до прославленного памятника Суворову.
Кто автор скульптуры, я не знаю, да и не стремлюсь узнать6.
Суворов почти так же известен во Франции, как и в России. Если в честь господина Маль- брука была сложена песенка, то русского воителя, победившего Макдональда и Жубера, обессмертила мода: почти целый год Европа носила сапоги à la Суворов.
Он был внуком Ивана Суворова, священника одной из кремлевских церквей, принадлежавшего к окружению этой интриганки, царевны Софьи, о которой мы уже рассказывали. Сын его начал службу солдатом, потом стал
офицером и получил дворянство; потом, поднимаясь постепенно все выше и выше, дослужился до генерал-аншефа; в 1729 году у второго Суворова тоже родился сын — он-то и стал воплощенным в бронзе Ахиллом, которого мы видим перед собой.
Этот последний Суворов добился того, чего только и можно добиться в России, если ты не рожден императором.
Начинал он в Семилетнюю войну, которая стоила нам Канады и Индии. В чине бригадира командовал осадой Кракова, одержал победу над польской армией при Столовичах, разбил турок, замирил ногайских татар, получил звание генерал-аншефа и должность губернатора Крыма; вместе с князем Кобургским выиграл битвы при Фокшанах и Рымнике, взял штурмом Измаил, подавил восстание Костюшко под Мациевицами и, устроив резню, в пригороде Варшавы Праге, вошел в столицу Польши.
В 1799 году Павел I послал его в Италию с тридцатью тысячами войска. После битвы, длившейся три дня и три ночи, он перешел через Требби, где его хотел задержать Макдональд, и в конце концов французы были разгромлены, а Жубер убит при Нови.
Тут Суворов узнает, что в ущелье при Шви- це и Гларусе Корсаков и Елачич разбиты Ле- курбом и Молитором. Воитель, у которого голова закружилась от удач, напишет своим генералам:
— Выступаю, чтобы исправить ваши ошибки; стойте каменной стеною, ответите головой за каждый шаг, на который отступите.
И он пришел.
Двадцать восьмого октября 1799 года изумленные швейцарцы видели, как со снеговых вершин Роштокского хребта спускаются пять тысяч русских солдат, прошедших там, где
охотники на серн снимают башмаки, чтобы не скатиться в пропасть.
Там, на вершинах, где даже орлы не вьют гнезд, его поджидал Массена, великий полководец, тоже получивший за победы титулы и награды: как Суворов стал называться Рым- никским и Италийским, так и Массена был удостоен титула герцога Риволи и князя Эслингского.
Была минута, когда пастухи и крестьяне подумали, что это гремит над ними такая гроза, какой они отродясь не слыхали, да и отцы их тоже. Была минута, когда вспыхнули вершины снежных гор, словно бы ледяные титаны, вновь ожившие для борьбы с Юпитером8, зажгли их огнем. Была минута, когда в долину хлынули потоки крови и покатились в пропасти людские лавины.
На этих высотах кизнь никогда не до-
стервятники — единственные и последние хозяева поля боя — выклевывали у мертвых лишь глаза, пренебрегая остальным изобилием пиршества.
Спустя неделю фельдмаршал, написавший Корсакову и Елачичу, что они головой ответят за каждый шаг, на который отступят, сам бежал, оставив в горах восемь тысяч человек и десять орудий, и переправился через Реусс по мосту из двух сосен, связанных офицерскими шарфами. Правда, увидев, как бегут солдаты, он приказал вырыть яму и заявил, что хочет умереть и быть похороненным здесь, где отступили русские, чтобы не отступать с ними вместе. Но страх сильнее угроз. Суворов, бледный от гнева, словно призрак собственной славы, вынужден был вылезти из могилы и последовать за бегущей армией.
Павел I, который восьмого августа присвоил ему титул князя Италийского, в специальном
биралась, смерть
такую жатву, что
указе объявил его самым великим человеком, когда-либо существовавшим на земле, и приказал всем своим подданным воздавать фельдмаршалу соответствующие почести, узнав о поражении в Швейцарии, не только утратил к нему всяческое расположение, но и вовсе позабыл приличия, не уделив внимания старику, сорок лет подряд одерживавшему пооеды. Вместо того чтобы выйти ему навстречу и взять под уздцы коня, который, подобно скакунам Александра, Цезаря и Аттилы, топтал еще теплые пепелища стольких городов, император удовольствовался тем, что прислал к полководцу графа Кутайсова.
Кем же был этот граф Кутайсов, которого не следует путать с Кутузовым?
Пленный черкес, привезенный в Санкт-Петербург, стал камердинером великого князя Павла и, как Оливье Ле Дем, превратился из брадобрея в обер-шталмейстера, потом в барона и, наконец, получил титул графа.
Ко всем горестям Суворова из-за военных неудач прибавился еще и этот оскорбительный прием.
Но Суворов был умен и встретил посланца любезной улыбкой, делая, однако, вид, что совершенно его не помнит.
И поскольку Кутайсов был, казалось, удивлен такой странной забывчивостью, Суворов стал извиняться.
— Простите, сударь, бедного старика, ум которого угасает. Граф Кутайсов, граф Кутайсов,— твердил он, будто бы пытаясь припомнить.— Нет, никак не могу найти истоки вашего прославленного имени. Без сомнения, вы получили графский титул, выиграв какую-нибудь битву?
— Нет, князь, я никогда не был военным,— отвечал бывший брадобрей.
— Ах, понимаю: вы пошли по дипломатической части. Были послом?
— Тоже нет, князь.
— Тогда министром?
— Совсем нет.
— Какую же важную должность вы занимали?
— Я имел честь быть камердинером Его Величества.
— О, это очень достойная должность, господин граф.
И, вызвав звонком своего слугу, Суворов обратился к нему:
— Это ты, Трошка?
— Да, барин,— отвечал тот.
— Друг мой Трошка, ты ведь не станешь отрицать, что я каждый Божий день твержу тебе, что ты дурень, потому что пьешь и меня обворовываешь.
— Верно, барин.
— Ты вот не хочешь меня слушать, а посмотри на этого господина...
И он пальцем указал своему слуге на Кутай- сова.
— Барин этот был, как и ты, камердинером, да только не был пьяницей и вором. И теперь он обер-шталмейстер Его Величества, кавалер всех российских орденов и граф империи. Старайся, мой друг, следовать его примеру.
Согласитесь, дорогие читатели, что, если бы Суворов не заслужил себе памятника победами, он заслужил бы его этой шуткой.
бходя вокруг статуи Суворова, я почувствовал, что кто-то тронул меня за плечо.
Я обернулся и радостно вскрикнул. Это был Бланшар. Вы ведь знаете Бланшара по имени и по его трудам, не так ли? Это неукротимый путешественник, неустанный рисовальщик, объехавший все четыре стороны света и заполнивший множество альбомов.
Мы расстались с ним в 1846 году на другом конце Европы, в Мадриде, двенадцать лет тому назад.
С тех пор он успел побывать в Северной Америке, Мексике и части Южной Америки.
Сейчас Бланшар как раз вернулся из тех краев, куда направлялся я, то есть с Каспийского моря, Кавказа, из Тифлиса.
Он узнал о моем приезде от де Осуны, нашего старого Друга по Испании, и прибежал сказать мне от его имени, что тот меня ждет, и, если я немедленно не приду, мне несдобровать.
Я запротестовал, сославшись на свою белую бархатную куртку и кожаную шляпу. Протест был отклонен.
Я поставил одно условие: предварительно заехать
307
в мастерскую Бланшара и посмотреть его рисунки.
Все сошлось как нельзя лучше: ателье Бланшара находилось по дороге. Мы сели в мои дрожки и отправились на Малую Морскую, где он жил. Там художник выложил передо мной добрую сотню набросков, сделанных в Мексике, на Кавказе, в Турции, в России.
Только что он закончил русский альбом для императрицы.
К сожалению, с нами не было Муане: медлительность таможни повредила ему еще больше, чем мне.
Когда я перелистал все картоны, от первого до последнего, Бланшар напомнил о визите к его превосходительству чрезвычайному послу Ее Величества Изабеллы II, герцогу де Осуне. Мы снова сели в дрожки и велели ехать в резиденцию герцога, на Английскую набережную, дом Ларского.
Через десять минут швейцар ввел нас в переднюю, где входящих любезно встречал величественный медведь.
Это был трофей Его Императорского Величества Александра II, отважного и ловкого охотника на такого рода дичь.
Надпись подтверждала, что сие гигантское четвероногое имело честь быть убитым августейшей рукой.
Медведь, ростом в семь футов, стоял опер шись на раздвоенный ствол дерева. Зверь был сибирской породы, которая особенно страшна своей силой и — вопреки кажущейся грузности— быстротой и легкостью в движениях.
Де Осуна только что ушел; он прождал нас
«
%
0
\i1
éjs
7à
mé
до двух часов. Я опустил свою визитную карточку в лапу медведя и уехал.
Медвежья охота — настоящая страсть русских; те, кто к ней привык, уже не могут от нее отказаться.
Это первое, что предлагает русский охотни- ку-иностранцу, приехавшему в Россию. В армии это называется «прощупать новичка».
Обычно иностранец, если он француз, принимает предложение. Так поступил и граф де Вогюэ, который два года назад достойно поддержал честь своей страны; память о его отваге сохранится во многих поколениях охотников.
Охота происходила в имении графа Алексея Толстого в Новгородской губернии.
Действующие лица драмы, которую мы собираемся представить, были граф Мельхиор де Вогюэ, граф де Биландт, голландский поверенный в делах, и граф Сухтелен, шталмейстер русского двора.
Выследили медведицу с детенышами. Это был крупный зверь самого высокого роста.
Медведи, да и любые животные, становятся, как известно, особенно свирепыми, когда им приходится защищать не только свою жизнь, но и потомство.
Поднятый загонщиками зверь пошел сперва на графа де Биландта, который с первого же выстрела легко ранил его.
Оставляя на снегу кровавый след, медведь устремился к графу де Вогюэ.
Граф де Вогюэ, стрелявший с расстояния не более сорока — пятидесяти шагов, послал в него две пули, и обе его задели.
Граф Сухтелен находился примерно в ста
шагах с двумя заряженными ружьями — одно у него, другое у слуги.
Услыхав три выстрела и решив, что стрелявшие оказались, быть может, в трудном положении, он послал слугу с ружьем на звук выстрелов.
Действительно, граф де Вогюэ, увидев приближающегося слугу, отшвырнул свое ружье, взял заряженное и пустился вдогонку за раненым зверем.
Следовать за ним было легко — он оставлял кровавую дорожку.
Медведь углубился в лес, граф де Вогюэ, по-прежнему в сопровождении мужика,—за ним.
Ослабев от трех ран, медведь остановился перевести дух, граф де Вогюэ подошел на сорок шагов, прицелился и выстрелил. Зверь зарычал и, вместо того чтобы пуститься наутек, обернулся и кинулся на охотника. Граф выстрелил еще раз, но пуля, по-видимому, не задела медведя, и он ускорил свой бег.
Ждать становилось опасно — ружье было разряжено, и у графа не оставалось никакого оружия, кроме ятагана, который одолжил ему граф де Биландт. Он бросился бежать в ту сторону, где надеялся встретить Биландта. Мужик побежал следом.
Но медведь, гнавшийся за ними, бежал гораздо резвее. Вогюэ, молодой и проворный, намного опередил русского крестьянина, как вдруг сзади послышался крик.
Граф обернулся — и увидел только медведя.
Крестьянин, почти настигнутый зверем, зарылся в снег и прикрыл голову руками. Медведь кинулся на него. Крестьянин уже не кри-
чал, да и к чему было зватъ на помощь? Неужели благородный барин, дворянин, француз, ничего не терявший с его гибелью, станет рисковать жизнью, чтобы спасти какого-то бедного мужика?
Мужик ошибался.
Именно потому, что граф де Вогюэ был благородный дворянин, француз, сердце его возмутилось при мысли, что у него на глазах погибнет безо всякой помощи человек, даже если этот человек — раб.
— О нет! — громко, словно бы для того, чтобы приободрить себя на случай минутного сомнения, воскликнул отважный охотник.—Этого не будет ни за что!
Он выхватил свой ятаган, прыгнул на медведя и всадил ему клинок между лопаток по самую рукоять.
Медведь обернулся к этому новому противнику и одним ударом тяжелой лапы свалил его с ног.
Но граф не выпустил из рук ятагана. Он стал наносить медведю удар за ударом в нос и в пасть.
К счастью, вместо того чтобы душить его лапами, зверь с остервенением принялся его кусать. Граф же с не меньшей яростью наносил удары ятаганом.
Сколько длилась эта ужасная схватка? Секунду, минуту, час? Он не мог бы сказать.
Вдруг француз услышал, что его окликают, и узнал голос де Биландта.
— Ко мне, Биландт! — вскричал Вогюэ.—Сюда!
Тот подбежал и оказался в десяти шагах, по пояс в снегу.
Внезапно де Вогюэ услышал выстрел, и ему почудилось, что на него обрушилась гора. Но он продолжал разить ятаганом.
Через минуту француз почувствовал, что его подхватили под мышки и тащат наружу, словно клинок из ножен.
Это были граф де Биландт и граф де Сух- телен, высвобождавшие его из-под медведя.
Что до мужика, то он оставался так же недвижен, как мертвый зверь, хотя и был вполне живой.
Его вытащили из-под снега и тоже поставили на ноги.
Увидев графа де Вогюэ целым и невредимым, он понял, что обязан жизнью этому благородному дворянину, который мог убежать и преспокойно оставить его на растерзание медведю, но не побоялся рискнуть жизнью, чтобы спасти его; мужик кинулся ему в ноги, стал целовать их и называть охотника отцом родным.
Вечером, вернувшись домой, граф де Вогюэ хотел отдать Биландту ятаган; но тот отказался взять его обратно. Вогюэ дал ему взамен двадцатикопеечную монетку, так как согласно русскому поверью нельзя дарить другу колющее или режущее оружие.
Господин де Биландт велел вставить эту монетку в виде инкрустации в приклад своего ружья, а отец г-на де Вогюэ заказал Виару картину, изображающую сцену этой охоты, и портрет графа де Биландта.
Я знавал одного весьма сурового охотника на медведей, который отвагой мог соперничать с такими, как Жерар, Гордон Камминг и Вес-
сьер. Это был красивый джентльмен лет двадцати шести — двадцати восьми, настоящий герой романа, стройный и изящный, скрывавший под хрупкой внешностью поразительную физическую силу; он был среднего роста, но пропорциональностью и совершенством телосложения вполне мог служить моделью скульптору; цвет лица у него был свежий и яркий; глаза, обычно кроткие, как у женщины, в минуты воодушевления загорались небывалой гордостью и метали молнии; добавьте к этому безупречный овал лица, окаймленного темно-каштановыми волосами и бакенбардами чуть рыжеватого оттенка. Он был сыном адмирала на русской службе и сам служил в гвардейском кирасирском полку. Звали его Гамильтон.
Страсть Гамильтона к охоте порой заставляла его манкировать обязанностями по полку. Но его прелестный характер, кроткий и вместе с тем твердый, внушал такую любовь не только товарищам, но и начальству, что все, словно сговорившись, хранили в тайне его провинности и спасали от неминуемых наказаний.
Атлетическая сила, которую он так умело скрывал под внешним изяществом, позволяла ему пренебрегать любыми трудностями, а мужество толкало навстречу любым опасностям.
Его сноровка была не менее примечательна, чем сила и отвага, у него была твердая рука, зоркий взгляд; не осталось такой дичи, за исключением рыси, которую он хоть раз в жизни не подстрелил бы из своей двустволки,— от вальдшнепа до лося, в том числе и кабанов и медведей.
Впрочем, он дошел до того, что не охотился на крупного зверя с ружьем, а предпочитал
рукопашную схватку, в особенности с медведем; по его словам, это был для него единственный достойный противник во всей Европе.
Обычно театром его охотничьих подвигов была Олонецкая губерния, окрестности Ладоги, в пятидесяти верстах от Санкт-Петербурга. Там действительно тянутся необозримые леса, где не проложена ни одна дорога, куда не заглядывал лесничий и вообще не ступала нога человека. Здесь неприступное убежище для волков, медведей и лосей; сюда, как в леса Нового Света, можно отважиться войти лишь с компасом в руке.
Но Гамильтон пользовался компасом не более, чем ружьем; у него были зрение, слух и обоняние дикаря, инстинкт и наблюдательность могиканина. Он узнавал четыре стороны света по наклону и внешнему виду деревьев — с южной стороны ветви всегда более частые, густые и толстые. Никто не мог, как он, определить давность следов на снегу; тронув снег кончиком пальца, он, судя по плотности его или рыхлости, мог сказать, старый это след или свежий, мог обозначить с точностью до получаса, в какое время дня или ночи прошел здесь зверь. Когда Гамильтон отправлялся на охоту, никто, в том числе и он сам, не знал ни дня, ни часа возвращения. Случалось, что он бродил по лесу пятнадцать дней, три недели, месяц, не приближаясь к человеческому жилью, не имея иного укрытия над головой, кроме туманного или морозного неба, иной постели, кроме снега, на котором он спал, завернувшись в шубу; так что эти охотничьи вылазки были настоящими экспедициями, которые он совершал в сопровождении своих собак и двух крестьян.
Правда, эти двое, верные и преданные спутники, отличались испытанным мужеством и силой; они так часто помогали друг другу в минуту опасности, так часто господин бывал обязан своим спасением крестьянам, а крестьяне — господину, что они были связаны не на жизнь, а на смерть. В особенности один из мужиков отличался такой необыкновенной силой, что когда случалось убить медведя, какого бы роста тот ни был, он, содрав со зверя тут же на месте шкуру, скатывал ее, еще совсем свежую, перекидывал через плечо —а весила она порой восемьдесят — сто фунтов — и, добавив эту новую ношу к своему охотничьему багажу, скользил по снегу на коньках с такой быстротой, будто не нес ничего.
Мимоходом заметим, что эти коньки, на которых бегут по снегу, ничем не напоминают те, на которых скользят по льду: они обычно сделаны из липового дерева, имеют ширину стопы, а длину — до полутора метров, оба конца у них — тонкие и слегка загнутые вверх. Пара хороших коньков — бесценная вещь для охотника; Гамильтон был обладателем такой пары и не променял бы ее, как сам говорил, даже на лучшее ружье графа Ланкастера. Добавлю, что нужно обладать сноровкой и привычкой, чтобы пользоваться этими приспособлениями, и что Гамильтон, так же ловко владевший ногами, как и руками, превосходно с ними управлялся.
Крестьяне, сопровождавшие Г амильтона, были из казенных деревень, где охотник обычно останавливался, прежде чем отправиться в свои экспедиции. В этих деревнях его знали и боготворили как друга и благодетеля. Дело в том; что не раз Медвежатник — Гамильтон
был известен под этим именем — отстраивал за свой счет их избы, уничтоженные пожаром, и приумножал их достаток, отдавая им свои трофеи.
Сперва Гамильтон охотился на медведя с карабином; но, как мы уже говорили, это оказалось для него слишком легкой забавой, которой он быстро пресытился. Ему требовались более сильные ощущения, и он решил ходить на медведя только с копьем.
Двое крестьян, охотник и собаки отправлялись на поиски берлоги; найдя ее, поднимали медведя сами или с помощью собак; иногда зверь принимал бой тотчас же; но чаще всего пускался наутек.
Тогда все преимущество было на стороне преследователей, которые быстро скользили по снегу на своих коньках, между тем как медведь нередко проваливался по грудь. Вот тогда-то и разворачивалась драма: один из крестьян отставал, в его обязанности входило подбирать все предметы, от которых на бегу освобождались Гамильтон и второй мужик. Иногда они бежали так быстро, что при тридцати градусах по Реомюру постепенно сбрасывали не только все свое охотничье снаряжение, включая карабины, которые имели при себе на крайний случай, но и шубы, так что в конце концов гнались за зверем в одних рубашках и только с копьем в руке. Медведь бежал, задыхаясь, с налитыми кровью глазами, свесившимся из пасти языком, из ноздрей у него валил густой пар, вокруг вздымался снежный вихрь; время от времени он оглядывался и испускал свирепый рев, словно вот-вот вступит в борьбу, но, завидев вблизи охотников, вновь ускорял
свой бег. Тогда, подобно индейцу, вызывающему врага на бой, крестьянин, к великому удовольствию Гамильтона, принимался всячески поносить медведя, чтобы уязвить его самолюбие и заставить остановиться.
— А, трус, сын труса! — кричал он.—Я убил твоего отца, убил твою мать, а ты недомерок, слабак, несмышленыш. Вот ужо погоди!
Этот дурень искренне был уверен, что пускает в ход лучшее средство, чтобы вынудить беглеца принять бой; и в самом деле, случалось, что зверь, не столько подвигнутый оскорблениями, сколько изнуренный усталостью, в конце концов оборачивался к врагам, иногда кидаясь им под ноги. В этом случае тот, на кого медведь нападал, вонзал ему в нос кончик копья; зверь мгновенно вставал на задние лапы и замахивался передними, чтобы обхватить и задушить противника. Гамильтон, пользуясь ! моментом, вонзал копье ему в сердце, вернее, медведь сам кидался на копье, как бык на шпагу тореадора.
Тогда второй охотник быстро погружал свое копье в рану и наваливался на него, между тем как первый выдергивал свое, чтобы сразу хлынула кровь, а это почти мгновенно вызывало смерть зверя.
Зверь падал, одно короткое мгновение со страшным ревом бился в судорогах и испускал дух. Но далеко не всегда дело шло по заведенному порядку. В арсенале Гамильтона сохранилось копье, железный наконечник которого, толщиной с древко, был погнут, как простая жестянка.
Кроме того, многое зависело от случая.
Однажды Гамильтон преследовал медведя на неровной местности. Подбежав к ручью, который из-за быстрого течения замерз только у берегов, зверь попытался перепрыгнуть через него. Но оттого ли, что ручей оказался слишком широк, оттого ли, что он плохо рассчитал, медведь упал в воду, не достигнув другого берега. В ту же минуту охотники, вооруженные копьями, примчались по следу и с разбегу упали в воду в нескольких шагах от него.
Но Гамильтон в мгновение ока вскочил на ноги и прежде чем медведь сообразил воспользоваться своим преимуществом, насквозь пронзил его копьем и пригвоздил ко дну. Мужик почти столь же быстро и ловко сделал то же самое с другого бока, и соединенными усилиями они оба удерживали зверя в воде, пока тот не захлебнулся.
Это был черный медведь особенно крупной породы, самый красивый из всех, каких Гамильтону случалось убить. Сейчас он находится в Лондонском зоологическом кабинете, которому подарил его удачливый охотник. Его рост — около восьми английских футов.
Судите сами, какая нужна была физическая сила, чтобы два человека могли удержать в воде этакое страшилище, да еще бившееся в судорогах агонии, которые удваивали его сопротивление.
Гамильтон рассказывал еще об одном приключении, не столь драматичном, но тем не менее весьма любопытном.
Крестьяне пришли сказать ему, что в сорока шагах от опушки леса лежит павшая корова и вечерами туда приходит медведь, чтобы под-
кормиться. Гамильтон решил подстеречь зверя и прикончить его.
Для этого он вырыл яму напротив леса, на расстоянии ружейного выстрела, прикрыл ее ветками, забрался в шалаш и стал поджидать любителя свежего мяса.
Дело было в конце мая, в одну из тех прекрасных летних ночей, когда в час самых густых сумерек все видно, как днем.
Гамильтон, безмолвный и неподвижный, находился в засаде уже добрых два часа. Уставившись на корову, он время от времени окидывал взглядом окрестности в радиусе двух-трех верст и удивлялся, что никто не появляется, как вдруг почувствовал у себя на плече теплое дыхание и услышал шумный вздох.
Он вздрогнул, но не от испуга, а от неожиданности, и быстро обернулся, чтобы оказаться лицом к лицу с врагом.
Врагом оказался медведь, который почуял неладное и, описав большой круг, подошел к яме сзади, чтобы узнать, что там внутри, да так осторожно и тихо, что Гамильтон, обладая слухом серны, не услышал ни треска веток, ни шороха листьев.
И тут произошло непредвиденное: зверь, напуганный открытием, пустился наутек, да так быстро, что скрылся из виду раньше, чем Гамильтон, раскидав ветки, успел прицелиться.
Наконец, убив копьем или из карабина полторы сотни медведей и пресытившись этим, вдохновленный рассказами Жерара, Вессьера и Гордона Камминга, он решил отправиться на мыс Доброй Надежды, проникнуть в сердце Африки и поохотиться на слонов, пантер и львов. Он уже отдал необходимые распоря-
жения, назвал друзьям день отъезда, как вдруг на его пути встретилась пара прекрасных глаз. Человек предполагает, любовь располагает.
Будущий истребитель львов, слонов и пантер сам был сражен и, вместо того чтобы отправиться на мыс Доброй Надежды, женился на прелестной женщине, мадемуазель Андерсон, и уехал с ней в отдаленный уголок Ирландии, где зажил мирной жизнью помещика, охотясь только на лис, зайцев и вальдшнепов.
Желаю вам, любезные читатели, закончить свои дни столь же по-христиански, как прекрасный охотник за медведями Гамильтон.
21. Невский проспект.
3 ô
Q >2 ^ ^ on
МИ*
^Nil'll
22. Зимний дворец.
Литография
i .© <\j
if
оо
: ^
. Ï й О
fe' 's è1 °: a
S g £
§ a g-
s s f\J
I §;*
U *
îysits
евского собора в Санкт-Петербурге.
Литография.
£
°с
’5
5 U5 3
о Ê4 «\î
и1 1^1
•Л О 5^3
(N S s!
26. Церковь
w
cd Ч О и s
ac
cd
U
§
fs*
CV <\J
l|-Ÿ
«ч©5
27. Лдмиралтей-
J
Чо Cl
cs
28. Собор Казанской Богородицы.
Литография К. Ланга.
1830—1850-е гг.
st .
* Is
<ÿ
O' *
<n a
§
*§.. Cl f\J 1> SS &00
30. Памятник
Суворову.
31. Решетка Летнего сада.
Арх. Фелыпеч. Фото 1913 г.
32. А. В. Суворов.
Литография П. Боре- ля. 1860-е гг.
33. Павел I.
Гравюра С. Клаубера.
Чо портрету Вуаля. 1797 г.
34. Павловский рец.
о
CQ
п
ш.
^ ^ . а.
Ni§H
«|5 I I
Illi
I N «
35. КИПРЕНСКИЙ О. А. А. С. Пушкин.
Мае ю, холст. 1827 г.
36. БРЮЛЛОВ А. П.
“• Н. Пушкина.
Акварель. 1831—1832 гг.
37. ЧЕРНЕЦОВ Г. И. А. Крылов, А. С. Пушкин, В. А. Жуковский, Н. И. Гнедич. Этюд к картине «Парад на Марсовом поле».
Масло, холст. 1832 г.
40. Дом Волконского на Мойке, в котором скончался А. С. Пушкин.
Литография В. Тимма. 1861 г.
38. В. А. Жуковский.
Гравюра Вендрамини Ф. По портрету Кипренского О. А. 1817 г.
39. В. И. Даль. Литография.
X .
W (U
S &
« s
s 1
« S
ni Л
s*
X PQ
D
a <u X со o> w CU X « «
. s
-H eu Tt- E
§
•e»
Ö
S-
O
S
S
е думайте, что мы покончили с медведями.
Нет, мне остается рассказать о роковом медведе, единственном, которого действительно следует бояться даже самому отважному и самому опытному охотнику. Роковым на Руси прозвали сорокового медведя. Можно убить тридцать девять, не получив ни одной царапины, но сороковой отомстит за всех остальных. Это поверье настолько распространено в России, что самый смелый, самый искушенный и ловкий охотник, который, и глазом не моргнув шел на тех тридцать девять медведей, с трепетом пойдет на сорокового.
И, с трепетом пойдя на сорокового, упустит его, а вот сороковой медведь не упустит охотника1.
Наверное, в этом действительно что-то есть, поскольку в России двадцать, тридцать, а может быть, и сто охотников были убиты своим сороковым медведем.
Но уж коль скоро сороковой убит, русский охотник, если он ходил на медведя с ножом, пойдет на сорок первого с перочинным ножиком, а если охотился с карабином, пойдет с карманным пистолетом.
Мы сказали — если ходил с ножом, потому что в Си-
А Дюма.
321
ь.
ж
и
м
ж
i'Jk
(%Л
бири казаки, совсем как наши пиренейские горцы, охотятся на медведя с ножом.
Обнаружив берлогу, казак натягивает кожаный капюшон, непроницаемый для когтей, берет в левую руку рогатину, идет к жене, если он женат, или к любовнице, если холост, чтобы она повесила ему на правую руку нож. После этого отправляется прямо к логову зверя, идет на него один на один, левой рукой сворачивает ему голову рогатиной, а правой вспарывает брюхо до самой грудины, по возможности по прямой, ибо убить медведя — полдела, главное— не испортить шкуру.
На эту тему существует прелестная басня Крылова; к сожалению, у меня нет под рукой сочинений знаменитого писателя. В противном случае я бы вам ее пересказал.
Но вместо этого поведаю другую историю.
Один сибирский казак, человек лет пятидесяти, уже убивший тридцать девять медведей, отправился на охоту за сороковым в сопровождении сына — двадцатилетнего юноши,—вооружившись карабином, а не ножом. Эти меры предосторожности были вызваны серьезными причинами. Мы уже говорили, что казак шел на своего сорокового медведя.
Сын был вооружен рогатиной и ножом.
И вдруг вместо медведя им навстречу выскочил леопард, ни по красоте шкуры, ни по свирепости повадок не уступавший тому, которого встретил Данте в начале жизненной дороги.
Животное, по-видимому, забрело сюда из родных мест, сбившись с пути: скорее всего оно пришло из Индии через Среднюю Азию, добралось до бескрайних просторов Южной Сибири, до Барнаула близ Аральского моря, на берегах которого прижились самые роскошные растения Китая.
А
%
IS
авд
J
JM
f/?j)
ш
№
hc<t>)
322
Юноша, никогда не видевший такого страшного зверя, испугался. Леопард кинулся на отца: вместо того чтобы прийти на помощь, сын бросился бежать.
Казак, с хладнокровием бывалого охотника, подождал, пока животное приблизится на двадцать шагов, прицелился ему в голову и выстрелил.
Зверь сделал гигантский скачок и упал мертвым.
Казак обернулся, ища сына: не вернется ли он на звук выстрела, но юноша даже не повернул головы, он все бежал и бежал.
Тогда казак перезарядил ружье, взял в зубы нож и приблизился к животному.
Он не знал повадок этой породы, а сходство с кошкой заставляло подозревать какое-нибудь коварство.
Охотник подошел к животному вплотную, оно было мертво.
Это был леопард самой крупной и красивой породы, его шкура ценилась по меньшей мере рублей в семьдесят пять.
Казак освежевал зверя, перекинул шкуру через плечо и в глубокой задумчивости побрел домой.
Предмет его размышлений был серьезным: он решал, какой кары заслуживает трус, покинувший друга в опасности.
И пришел к такому выводу:
«Сын, покинувший отца, хуже, чем просто трус, это предатель».
Когда казак вернулся домой, приговор был вынесен.
Охотник пошел к сыну, который заперся в своей комнате, и велел отворить. Юноша повиновался и кинулся отцу в ноги. Но тот прика-
w
ж
(Jnt
ivi
(ЙЧЯ
зал, не объясняя, для какой цели, взять лопату и следовать за ним, сам он прихватил другую.
Он увел сына за четверть версты от дома и там очертил лопатой по земле четырехугольник длиной в шесть футов, шириной в три, потом начал копать, знаком приказав юноше делать то же самое.
Молодой человек принялся за работу, разумеется, не представляя себе или лишь смутно догадываясь, что он делает.
Через два часа они вырыли яму, в которую мог улечься человек.
— Довольно,— сказал, выпрямляясь, старик.— А теперь помолись.
Юноша начал понимать, но в тоне отца звучала такая решимость, что осужденный даже не пытался сопротивляться. Он опустился на колени и стал молиться.
Родитель дал ему время окончить молитву, потом отмерил такое же расстояние, с какого стрелял в леопарда, взял карабин, прицелился и всадил сыну пулю в голову, в то самое место, что и леопарду. Молодой человек упал замертво.
Отец положил его в могилу, закидал комьями земли, вернулся домой, надел праздничную одежду и отправился к судье рассказать о случившемся.
— Несчастный! — воскликнул тот, выслушав рассказ старика.—Что ты сделал?
— Привел в исполнение справедливый
приговор, — ответил убийца. — Г осподь Бог,
я уверен, видит мою правоту.
— Хорошо, — сказал судья, — отправляйся в тюрьму и жди решения генерал-губернатора.
Старик повиновался все с тем же невозмутимым спокойствием.
324
ж
ж
Э h
Судья тотчас же послал рапорт генерал-губернатору Сибири, который имеет право казнить или миловать.
Тот вынес резолюцию, написав ее поверх донесения.
«Трое суток отец будет держать на коленях голову сына, отделенную от туловища. Если он умрет или сойдет с ума, это будет кара Божия. Если выдержит, значит, он судил не в припадке гнева, а по отцовской совести. Такое дело может рассудить только Всевышний».
Отправив приговор судье, губернатор одновременно послал копию рапорта с резолюцией императору Александру.
Приговор был объявлен старому казаку, который трое суток подряд, не моргнув глазом, держал на коленях голову сына и вынес испытание, не выказав какой-либо видимой слабости.
Через три месяца пришло решение императора, подтверждавшее приговор. Генерал-губернатор распорядился немедленно освободить казака. Тот дожил до восьмидесяти лет, спокойный и счастливый, без всяких приключений убил своего сорокового медведя, а после него еще немало других.
Он умер в 1851 году, и его смертный час не был омрачен даже малейшей тенью угрызений совести.
Это происшествие, прекрасно рисующее патриархальные нравы России, было сообщено генералом Саманским-Быковец, офицером на сибирских рудниках, который был его очевидцем.
Раз уж речь зашла о странных историях, вот две, которые мне только что рассказали: преподношу их вам с пылу, с жару.
фк
Êv
Ш
кд
325
Лет двадцать пять тому назад граф *** слыл одним из самых элегантных дворян Москвы, но одновременно — заядлым игроком и волокитой. Он не пропускал ни одной юбки: цыганки и светские дамы, дворовые девки и купеческие дочки — все были ему хороши. Он покидал постель только для застолья, а застолье— только для карточной игры. Единственная, кого он не то чтобы боялся, но почитал, была его мать, тридцатисемилетняя вдова, которая вполне еще могла числиться среди самых красивых женщин второй столицы России.
Однажды ее горничная прибежала вся в слезах и сказала, что отчасти мольбами, отчасти угрозами молодой граф вынудил у нее обещание ждать его в эту ночь в своей комнате, куда он явится после очередной оргии, которую устраивает с товарищами.
— Ты с ним окончательно условилась? — спросила графиня.
— Еще нет: я хотела сначала все рассказать вам; но он требовал в течение дня утвердительного ответа: если бы ваша милость соблаговолила отправить меня в имение, пока не пройдет каприз господина графа!
— Хорошо, ты поедешь сегодня вечером, пока он будет на ужине. Но все равно согласись на свидание и поставь условием, что примешь его без света. Ждать в твоей комнате буду я; мне давно хочется пристыдить повесу.
Обещание было дано, девушка благополучно отбыла, а графиня стала поджидать сына в темной комнате.
Что же произошло между матерью и сыном во время ночного свидания? Никто этого не узнал, поскольку само свидание осталось в тайне.
Но вот что стало известно всем — молодой граф, который никогда не мог добиться от своей любящей матери разрешения на путешествие, так трудно было ей с ним расстаться, на следующий же день начал готовиться в дорогу и уехал через восемь дней.
Он странствовал пять лет, когда же вернулся в Москву, оказалось, что графиня удалилась в монастырь в Тамбовской губернии, где находилось самое большое ее имение.
Молодой граф ничего не мог понять: его мать всегда была набожна, однако не настолько, чтобы можно было предвидеть подобный исход после блестящей светской, но безупречной жизни.
Он навестил графиню в ***ском монастыре и был поражен сдержанностью, с какой она его встретила, уклоняясь от сыновних ласк, и, под предлогом строгости монастырского устава, даже не позволила поцеловать себе руку.
Тем не менее мать уговаривала юношу жениться, зажить упорядоченной жизнью, хотя не настаивала, а только советовала.
Граф возразил, что он слишком молод, еще не испытывает влечения к женитьбе, что, быть может, со временем это и придет, как пришло к матери призвание к монашеской жизни, и тогда, мол, посмотрим. Пока же, поскольку нельзя видеться с ней и в ее душе любовь к Богу возобладала над материнской любовью — тем единственным, что удерживало его в России,— он просит разрешения продолжить путешествия.
Разрешение было дано; молодой человек уехал, и только известие о смерти матери заставило его вернуться домой.
Граф остался холостяком; но ему стукнуло уже сорок: страсти улеглись, и из юного кра-
савчика-дворянина, безрассудного, влюбчивого и беспутного, он превратился в важного господина, спокойного и серьезного, растерявшего за границей национальные предрассудки и обогатившегося изрядной дозой социальной философии.
Итак, он решил жениться, хотя бы для того, чтобы не допустить угасания своего рода; но, обладая миллионным состоянием, дал себе слово жениться только по любви. Случай не замедлил представиться.
Граф отправился помолиться на могиле матери и встретил там молодую девушку в черном, как и он, которая плакала и молилась на той же могиле. Насколько можно было разглядеть под густой черной вуалью, это была красивая девушка лет семнадцати — восемнадцати, тонкая, изысканная, прелестная.
Пока они находились рядом в церкви, граф, удерживаемый двойным почтением, не решался заговорить; но, выйдя на улицу, стал ее расспрашивать.
Она была сирота, воспитанная графиней, которая заменила ей мать. Умирая, графиня оставила воспитаннице состояние, делавшее ее вполне независимой, и выразила желание, впрочем совсем необязательное, чтобы девушка посвятила себя Богу, если жизнь в миру не посулит ей счастья. До сей поры ее кругозор был ограничен стенами монастыря; она никого не любила и не пожертвовала бы ничем, отдав Богу девственное, свободное и чистое сердце, никому не принадлежащее.
Граф вернулся домой в глубокой задумчивости. Он почувствовал к этой девушке какую-то необъяснимую симпатию, но решил пока ничем не обнаруживать ее.
9
Я
В течение целого года он следил за сиротою со стороны, скрывая свое все возраставшее чувство. Через год он был уже убежден, что нашел женщину, созданную Богом для его счастья; они встретились вновь на той же могиле. Перед ним была все та же красивая девушка, что и год назад,—скромная, наивная. Решение было принято. На следующий день граф явился к сироте и просто, но со всей серьезностью, сказал, что любит ее и умоляет стать его женой.
Девушка упала на колени и, воздев руки к небу, воскликнула:
— И я тоже люблю вас!
Ничто не препятствовало браку, который сулил счастье обоим. Через месяц союз был заключен.
Целых пятнадцать лет граф был счастливейшим человеком в России. Он повторил с молодой женой те путешествия, которые когда-то совершил один, показал ей Европу и Европе — ее.
Потом, вернувшись на родину, обосновался в Санкт-Петербурге, и лишь одно омрачало его счастье: Бог не благословил его детьми, которые любили бы мать так, как он любил жену. Этот нежный и взаимный союз остался бесплодным.
Однажды по Санкт-Петербургу, а оттуда и по России пронеслась удивительная весть: граф***, пятидесяти шести лет от роду, пустил себе пулю в лоб, а его вдова удалилась в монастырь, пожертвовав все состояние на благочестивые цели.
Долгое время никто не знал причин самоубийства и пострига, но потом вот что просочилось по поводу этой странной истории.
329
m
ш.
1
I
&
ж
В тот далекий вечер граф вернулся с ужина настолько разгоряченный вином, что не узнал свою мать, подавил ее сопротивление объятиями, заглушил слова поцелуями.
На другой день, не говоря ни слова, мать удалила его от себя и осталась наедине с угрызениями совести.
Они-то и заставили графиню уйти в монастырь, это преддверие могилы. Умирая, она исповедовалась священнику и сказала, что от кровосмесительной ночи родилась девочка.
Граф, вернувшись в Россию, увидел ту, которая была его сестрой и дочерью одновременно, влюбился в нее и женился на ней.
Священник не решался рассказать о случившемся: не значило ли это нарушить тайну исповеди?
Но когда настал его смертный час, он написал обо всем в Синод, предоставив ему суд над этим страшным казусом совести.
Синод счел, что нужно все открыть графу и потребовать, чтобы он немедленно расстался с женой.
Граф получил послание Синода и передал его супруге. Пока слуга нес письмо в комнату графини, он пустил себе пулю в лоб. Вдова удалилась в монастырь.
Это первая из обещанных историй. Перейдем ко второй: вы увидите, что она произошла совсем недавно.
В начале прошлого мая г-н Суслов, богатый помещик из Олонецкой губернии, или, во всяком случае, слывший богатым, ехал быстрой рысью по Невскому проспекту в двухместном экипаже, запряженном парой лошадей.
Ехал он с дочерью, юной особой семнадцати — восемнадцати лет, восхитительной кра-
Я
Л
>]
if й
£
щ
■ii
ы
№
\K^)j
ззо
соты обрученной вот уже три месяца с человеком, которого она любила.
Люди, хорошо осведомленные о состоянии г-на Суслова, говорили, что предстоящий брак его дочери был очень выгодным и превосходил все возможные ожидания. Девушка была вполне счастлива. Что касается отца, то самые близкие друзья уверяли, что за последние пятнадцать — шестнадцать лет ни разу не видели на его лице улыбки.
Внезапно г-н Суслов вспомнил о том, что забыл заехать еще в одно место, и попросил дочь сказать кучеру, чтобы он сейчас же повернул в другую сторону.
Дочь высунулась из кареты, но не успела вымолвить и слова, как мимо них молнией пронеслись дрожки и оглоблей проломили ей голову.
Девушка упала в карету с раскроенным черепом, и г-н Суслов принял в свои объятия труп.
Вся его жизнь была в этой девочке, она была единственным, что привязывало отца к миру. Друзья не раз слышали от него, что если когда-нибудь он ее потеряет, то пустит себе пулю в лоб.
И тем не менее г-н Суслов не проронил ни слезинки.
Он велел кучеру ехать домой, взял на руки труп дочери и послал за врачом, не для того, чтобы попытаться вернуть ее к жизни — душа уже давно покинула тело,— но чтобы удостоверить смерть.
После того как это было сделано, отец занялся похоронами, скорбный, но, как всегда, холодный. Посторонний, увидев его, не заподозрил бы, что перед этим человеком только что разверзлась бездна.
Через три дня состоялись похороны, и на земле не осталось ничего от прекрасной лилии, на миг расцветшей с таким блеском.
Прямо с кладбища господин Суслов явился к оберполицмейстеру, назвал себя и был принят.
— Ваше превосходительство,— сказал он.— Десять лет тому назад я отравил тестя и тещу, чтобы поскорее заполучить их состояние. С момента преступления, о котором никто не подозревает, мне ни в чем не было удачи, напротив, все оборачивалось против меня и тех, кто меня окружал. Банк, где я поместил сто тысяч рублей, лопнул; мои леса и деревни сгорели, и я так и не узнал, кто же их поджег; мой скот пал от моровой язвы; моя жена умерла от злокачественной лихорадки. Наконец, моя дочь только что погибла от непостижимого несчастного случая, о котором вы знаете. Тогда я сказал себе: «Десница Божия простерлась над тобою; предайся в руки правосудия и искупи свое преступление». Я пришел, ваше превосходительство. Я во всем сознался. Делайте со мной что хотите.
Господин Суслов был отправлен в крепость; там он ожидает приговора и выглядит если не веселее, то спокойнее, чем когда-либо.
Мои истории совсем не забавны; но признайтесь, любезные читатели, они не лишены своеобразия. Дело в том, что эта страна, с виду хоть и офранцуженная, не похожа ни на какую другую.
ы помните, что я покинул особняк де Осуны, оставив карточку в когтях медведя, убитого Его Величеством Александром II, самым смелым и неутомимым охотником на медведей в своей державе1, той державе, где медведей водится больше всего.
Две причины заставили меня сократить визит: костюм, в котором я оказался по воле таможни, и желание взять у моего соотечественника Дюфура несколько нужных мне книг.
Дюфур, преемник Белизара и издатель «Ревю франсез»,— первый французский книгопродавец Санкт-Петербурга, как Исаков — первый русский книгопродавец. Я надеялся найти у него кое-какие необходимые книги, которых не захватил с собой, опасаясь трудностей, возникавших, как мне было известно, у путешественников на русской таможне в связи с изданиями, внесенными в индекс императора Николая.
Я не знал, что в этом отношении, как и во многих других, император Александр ввел гораздо большую свободу.
Дюфур оказался дома. Он уже был извещен о моем приезде.
Прелестная молодая женщина, с которой я дружу вот
333
уже двадцать пять лет, хотя ей всего тридцать три, как раз выходила от книгопродавца, у которого пыталась узнать, видел ли он меня и знает ли, где я поселился в Петербурге.
Эта моя приятельница, любезный читатель (кстати, отчасти и ваша, ибо она вам знакома),—Женни Фалькон, сестра Корнелии Фаль- кон, которой вы десять лет аплодировали в Опере и продолжали бы еще аплодировать, если бы болезнь голосовых связок не заставила ее покинуть сцену в расцвете таланта.
Я знал Корнелию с самого ее дебюта. Чисто братская дружба связала нас в 1832 году. Ее сестра Женни была в ту пору семилетней девочкой... Но, нужно сказать, самой хорошенькой, самой лукавой и самой избалованной из всех семилетних девочек.
Ее мать, тогда тридцати семи лет, считалась одной из красивейших женщин Парижа. Вы ведь помните Корнелию? Как она была хороша! Так вот, ее мать, выглядевшая ее старшей сестрой, вполне могла соперничать с нею.
Корнелия занялась воспитанием младшей сестренки.
От природы общительная и непринужденная, девочка попала в один из лучших пансионов Парижа, где ее уму придали такое изящество и благородство, какое редко приходится встречать, и не испортили при этом сердца, что случается еще реже.
Женни дебютировала в театре Жимназ в пьесе Скриба лет шестнадцать — семнадцать тому назад. Дебют оказался удачным, и Санкт-Петербург, как это водится, завладел талантливой молодой актрисой.
Ей было тогда шестнадцать. В двадцать шесть она получила пенсию, покинула сцену и
стала хозяйкой одного из самых элегантных зимних салонов Санкт-Петербурга.
Не было ни единого из известных французов, который, находясь в Санкт-Петербурге, не побывал бы у мадемуазель Женни Фалькон на Михайловской площади2.
Вот уже пятнадцать лет она сохраняет за собой привилегию давать самые приятные балы, держать лучших рысаков и самые изящные сани, когда-либо мчавшиеся на острова по Деревянному и Железному мостам3.
Один мой приятель, связанный со мной двадцатилетней дружбой, обладатель одной из самых прославленных, а пожалуй, и самых древних фамилий в России, вот уже десять или двенадцать лет делит с актрисой честь быть хозяином этого салона.
Моего друга зовут Дмитрий Павлович Нарышкин \
Мужественная Наталья Кирилловна, которая во время стрелецкого бунта увезла своего сына Петра в Троицкую лавру, была Нарышкина.
Она была второй женой царя Алексея Михайловича и имела от него единственного сына— царя Петра.
От первого брака у Алексея был Феодор, умерший двадцати трех или четырех лет от роду5, слабоумный Иван, короткое время деливший престол с Петром и умерший в 1696 году, и, наконец, знаменитая царевна Софья, которая сыграла такую драматическую роль в жизни брата.
Нарышкины никогда не стремились стать графами или князьями, они остались просто Нарышкиными; вот только в гербе у них российский орел.
Ц
I
щ
(§>А
W6
J/i
*
ii]
№
ш
335
К
us Ti
Ilk
g4i
fa ï\
ЙГЛ
Существует очень красивое предание, может быть, и ложное — я и за исторические данные не отвечаю, а тем более за предание! Итак, существует очень красивое предание об этой Наталье Кирилловне и о том, каким образом она попала ко двору.
Боярин Матвеев, впоследствии убитый стрельцами вместе со Львом и Афанасием Нарышкиными, чью историю я рассказал, проезжал через деревеньку Киркино, расположенную в Рязанской губернии, в двадцати пяти верстах от городка Микачева, и почти целиком населенную разорившимися дворянами, которых называют однодворцами, то есть владельцами только одного двора. На пороге какого-то дома сидела прелестная девочка лет двенадцати— тринадцати и горько плакала.
Пока перепрягали лошадей, Матвеев осведомился о причине ее горя.
Он узнал, что единственная крепостная девушка, служившая ей и горничной и нянькой, повесилась.
Вот почему бедняжка проливала слезы.
Расспросив ее, боярин узнал, что девочка— сирота из хорошей семьи, родом из^ Крыма; он увез ее с собой, воспитал как родную дочь и представил ко двору.
Овдовев, Алексей Михайлович увидел ее, полюбил и сделал своей женою6.
Насколько правдиво предание? Я уже сказал, что не отвечаю за это; но и поныне в родной деревне царицы Натальи Кирилловны народная поговорка гласит: <(Если бы девка
в Киркине не повесилась, Петр Великий не появился бы на свет».
Бесспорно одно: отец и дед Натальи Кирилловны занесены в боярскую книгу.
Итак, Женни Фалькон, моя маленькая приятельница в 1832 году, а ныне — мой большой и добрый друг, пришла осведомиться обо мне у Дюфура.
Она оставила записочку, в которой предлагала, не откладывая ни на минуту, прийти и обнять ее.
В записке значилось также, что я застану у нее моего друга Нарышкина, которому также не терпится увидеть меня.
Я поспешил на Михайловскую площадь, где при входе в гостиную две пары рук раскрыли мне объятия, не считая третьей, простертой маменькой Фалькон из столовой.
Эти люди ждали меня вот уже восемь дней.
Как вам это нравится: я еще не знал, что покину Париж, а в Санкт-Петербурге уже знали, что я приеду.
Чтобы повидать меня, Женни и Нарышкин отложили свою поездку в Москву.
Если я пробуду в Санкт-Петербурге не более пятнадцати дней, они подождут еще, чтобы нам ехать вместе.
На все время моего пребывания в Москве они любезно пригласили меня к себе на дачу в Петровском парке.
Вот как понимают в России гостеприимство. В этом отношении нет на свете никого радушнее, чем русские аристократы.
Я просил дорогих друзей не беспокоиться и согласился поселиться во флигеле, который они мне предложили; единственно — нужно было столько посмотреть в Санкт-Петербурге, что я не хотел заранее назначать дату отъезда.
Назавтра был день рождения Женни. Мы условились, что я приму участие в празднестве, если получу на таможне свой гардероб.
337
Покинув Михайловскую площадь, я спросил дорогу к меняле — хотел обменять на русские ассигнации две-три тысячи золотых французских франков.
Известно ли вам, любезные читатели, что в России — стране золотых приисков и серебряных рудников — почти нет в ходу золотой монеты, только бумажные деньги, банковские билеты от сторублевого до рублевого? Я знал, что каждый мой золотой стоит пять рублей.
Каково же было мое удивление, когда меняла дал мне не только мои семьсот пятьдесят рублей, но сверх того еще лишку на двадцать пять или тридцать франков. Курс французского золота повысился, и франк стоит пять рублей со сколькими-то копейками.
Я внимательнее пригляделся к честному меняле и, поскольку он немного говорил по-французски, попросил объяснить, откуда взялась неожиданная прибавка.
Меняла объяснял, а я слушал и разглядывал его.
У него был голос ясного, серебристого тембра, вроде тех, какие можно иногда услышать в Сикстинской капелле, жиденькая, клочковатая бороденка.
Я понял, что имею дело с субъектом, принадлежащим к секте скопцов. Есть ли у вас русский словарь? Поищите слово скопец.
Если у вас нет словаря, а вы все-таки хотите знать, что такое скопец, я попытаюсь вам объяснить, хотя заранее предупреждаю, что это нелегкое дело.
Вот, например, перед вами в кресле лежит красивый ангорский кот с длинной шерстью, который, вместо того чтобы бегать по крышам и прыгать с одной водосточной трубы на другую, гоняясь за кошками, только и знает, что
жрать, жиреть и спать. Он явно из секты скопцов.
Или — на вашем обеденном столе лежит на блюде один из добрых граждан города Мэна, воспетых нашим Беранже7, покоится, как блаженные в сем миру, жирный, сочный, аппетитно и как раз в меру поджаренный, с мясом самого изысканного вкуса и головой, лишенной горделивого украшения петуха. Он принадлежит к секте скопцов.
Однажды в детстве король Луи-Филипп спросил у своей гувернантки мадам де Жанлис:
— Что такое бык?
— Отец теленка.
— А корова?
— Мать теленка.
— А вол?
Тут автор «Вечеров в замке» на секунду смешалась: трудно было подыскать нужное определение; наконец она нашла перифраз:
— Это дядя теленка.
Ну, так вот, дядя теленка принадлежит к секте скопцов.
Вам понятно, не правда ли?
Теперь мне остается объяснить, каким образом, обладая свободной волей, можно по собственному желанию вступить в подобную секту.
Попробую. Слово раскол означает по-русски ересь; ересиархов зовут раскольниками. Скопцы —раскольники8.
Раскольники появились в царствование Алексея Михайловича. Когда его любимец патриарх Никон перевел или, вернее, модернизировал Священное писание, фанатики остались привержены старому тексту и отказались признать новый; отсюда — бунт.
339
После принятия нового текста бунтовщики стали ересиархами.
Путешественники, писавшие о России, мало или совсем ничего не говорили о раскольниках.
Да, но я рассчитываю рассказать много такого, о чем еще не говорили.
И для начала, как это ни трудно, расскажу о скопцах, которые представляют собой одну из ветвей раскольничьей ереси.
Знаете ли вы, сколько в России насчитывается раскольников?
Официально пять миллионов; на самом деле одиннадцать.
Как видите, они стоят рассказа, тем более что эти одиннадцать миллионов человек, число которых возрастает с каждым днем, по-моему, обязательно сыграют в будущем известную социальную роль.
Раскольники делятся на множество сект, резко противостоящих друг другу и придерживающихся самых нелепых взглядов.
Самая нелепая, но, можно сказать, и самая страшная из этих сект — секта скопцов9; скопцы верят в земное существование Иисуса, Пресвятой Богородицы и Иоанна Крестителя.
В царствование императора Павла эта секта чрезвычайно разрослась; своего Христа скопцы видели в некоем крестьянине, Марию — в простой женщине из народа, а в свирепом мужике— Иоанна Крестителя.
Вот только его крещение было крещение кровью.
Оно состояло в оскоплении, и поскольку исполнитель был варваром, он проделывал эту операцию варварским способом, с помощью раскаленной докрасна проволоки.
Каждый третий адепт умирал.
После рождения первого младенца мужского пола, предназначенного продолжать род, мужчину превращали в импотента, женщину делали бесплодной.
Напротив Знаменской церкви10, что возле Невского проспекта перед нынешним Московским вокзалом, стоял большой деревянный дом с постоянно закрытыми ставнями.
Именно здесь и совершались все таинства.
Сюда приходили поклоняться Христу, который, по их убеждению, был первым сыном обожествленного ими императора Петра III.
Приняв на веру легенду о том, что после рождения первого ребенка Петр III вследствие несчастного случая потерял мужскую силу, они отказывались признать права Павла I, которого считали рожденным в блуде и узурпатором.
Что касается Петра III, факт убийства в Роп- ше для них как бы не существует. Петр только исчез, но не умер, он вернется на землю, и это будет день славного воцарения.
Вы видите: здесь есть некое подобие иудейскому Мессии.
В дни собраний, а мы уже сказали, что они происходили в том большом доме с закрытыми ставнями, Христос, сын Петра III и Бог, как и он, восседал на троне рядом с матерью, Девой Марией. Сектанты входили и простирались ниц.
Потом Пресвятая Дева поднималась и произносила речь, увещевая их быть чистыми и приверженными культу.
Затем начинался ужин, состоявший исключительно из фруктов, овощей и молочной пищи. Мясо, рыба, словом, все живое, скопцам решительно запрещено.
Тем не менее иногда, при известных обсто-
(r^
?
i
ятельствах, в гигиенических целях можно есть рыбу, но сырую, чтобы не распалять кровь.
После ужина начиналась страда, производное от глагола страдать, что значит терпеть муку.
Слово страда — старое, забытое слово, которое помнят только ученые.
Страда была пляской, сначала медленной и спокойной, потом, наподобие пляски кружащихся дервишей, она становилась все неистовее и опоясывала трон Христа и Богородицы все более стремительными кругами. Эта пляска обычно кончалась обмороком пляшущего, который, исполняя ее, испытывал ежеминутное наслаждение, смешанное с неслыханными страданиями — и то и другое к вящей славе Бога. Отсюда и слово страда.
Во время плясок производились операции.
Павел I проведал про эту секту и пожелал увидеть Христа. Он призвал к себе мужика, игравшего роль Иисуса. Царь увидел фанатика, уверовавшего в свое божественное происхождение и убежденного в своем праве не только на корону небесную, но и на корону всея Руси.
Павел сослал Христа и Марию в Сибирь, а Иоанна Крестителя в Олонецкую губернию.
Поскольку Христос и Мария, поглощенные ужасными просторами, которые так редко выпускают добычу, больше не появлялись, скопцы решили, что божества вознеслись на небо, и до сих пор ждут их возвращения.
Что касается Иоанна Крестителя, то адепты утешились тем, что не теряли его из виду, поскольку Олонецкая губерния находится неподалеку от Санкт-Петербурга. Он умер в Олонецкой губернии, там и находится его могила. Сектанты совершают к ней паломничество,
ж
%
§
щ
JL
*
si м
№
/0
\t" JV
éjs
м
(m
342
унося с собой осколки надгробного камня или горсточку земли. Эту землю они растирают в порошок и, растворив в воде, пьют как лекарство.
Пока незаметно, чтобы от этого их умирало больше, чем тех, кого пользуют тамошние лекари.
Поскольку могила считается священным местом, ночью там производят операции.
Эта секта, преследуемая правосудием, очень богата. А правосудие в России подобно Аталан- те: оно останавливается, когда ему кидают золотые яблоки11.
Почти все менялы — скопцы. Меняла происходит от слова менять. Менялы сосредоточили в своих руках все золото и серебро империи, которое поэтому и встречается редко. Поскольку их вера запрещает всякое излишество в еде, а положение исключает любовь, они живут, почти ничего не тратя, без каких-либо пристрастий и увлечений, и почти всегда накапливают огромные состояния.
Скопцы поступают так не только из любви к наживе, но и для того, чтобы иметь все деньги, когда настанет славное воцарение, то есть в день, когда Святое семейство вновь снидет на землю.
Скопец — единственное число от «скоп- щы» — питает ужас и отвращение к иноземцам, но, быть может, еще в большей степени — к своим православным соотечественникам. Все, к чему прикоснулся иноземец, считается поганым, то есть оскверненным.
Мы уже говорили, что раскольники разделились на множество ветвей, надо сказать, самых противоположных.
В число сект, образующих прямой контраст со скопцами, входит секта Татаринова.
Татаринов был государственным советником в чине бригадного генерала. Он возглавлял эту секту12.
Некая пророчица собрала в своем доме адептов и называла себя Матерью Христа.
В секту принимали после множества обрядов инициации, при этом давали две клятвы: хранить тайну и оставаться навеки холостяком. Женщины, со своей стороны, клялись никогда не выходить замуж, а если бы их к этому вынудили родители, все равно не порывать с новой верой.
После инициации гасили свет и как попало совокуплялись друг с другом.
Вот как все это раскрылось.
Некий молодой человек, по фамилии Апри- лев, брат которого был товарищем министра, женился вопреки клятве, данной сообществу.
Другой сектант-фанатик, Павлов, мать которого совершила два пеших паломничества в Иерусалим, прося милостыню, хотя и была полковницей, спрятался однажды за дверью супружеской спальни Априлевых и, ударив хозяина кинжалом, вскричал:
— Это я!
Априлев упал мертвым. Убийца даже не пытался бежать.
Арестованный и заточенный в крепость, Павлов был подвергнут старинной пытке испанским сапогом и приговорен к смерти. Один старик, просидевший в крепости пятьдесят пять лет — дело было, кажется, в 1812 году,— говорил моему другу, что на его памяти это было за полвека второй раз, когда применялась пытка. Первый раз ее применили к Ми- рбвичу, который пытался похитить юного Ивана. Эту историю я расскажу вам, когда мы поедем в Шлиссельбург.
Павлов не выдержал пытки. Он сознался во всем, донес на общество, которое после этого было рассеяно по разным монастырям. Татаринов и пророчица исчезли.
В России, как и в Венеции, люди исчезали13.
Император Александр II недавно объявил, что в его царствование такого больше не будет, и любой виновный, кто бы он ни был, будет судим открытым судом.
Татаринов имел двоих дочерей, которых вынудил вступить в секту, предав их тем самым свальному греху.
Не кажется ли вам, что я рассказываю эпизод античных вакханалий, поднимаю край завесы, скрывающей мистерии Доброй Богини?14
Перечитайте-ка страницу, заимствованную у Мишле:
«Некий Тит Семпроний Рутил предложил своему пасынку, чьим опекуном он состоял, приобщить его к мистериям вакханалий, перекочевавшим в Рим из Этрурии и Кампаньи. Юноша рассказал об этом куртизанке, которая его любила, а та пришла в ужас и сказала, что, по всей видимости, мачеха и отчим боятся дать отчет в том, как они распоряжались его состоянием, и хотят отделаться от пасынка. Он укрылся у одной из своих теток и сообщил обо всем консулу. Куртизанка на допросе сначала все отрицала, боясь мести посвященных в таинства; потом созналась. Эти вакханалии являлись неистовым культом жизни и смерти, в ритуал входили проституция и убийство. Тех, кто отказывался предаваться гнусностям, хватали с помощью хитрого механизма и кидали в глубокие пещеры. Мужчины и'женщины без разбору совокуплялись в темноте, потом мчались как безумные к Тибру, окунали в воду пылающие факелы, которые, появляясь на поверх-
ности, вспыхивали вновь — то был символ бессилия смерти перед неугасимым светом вселенской жизни.
Дознание вскорости показало, что в одном только Риме семь тысяч человек участвовало в этих мерзостях.
Повсюду поставили стражу, ночью пошли облавы; женщины, во множестве оказавшиеся среди виновных, были переданы родным и подвергнуты домашнему наказанию. Из Рима террор распространился по всей Италии: консулы проводили расследование в одном городе за другим».
Так вот, эти секты не исчезли, а вербуют ежедневно новых прозелитов в России.
ПАВЛА ПЕРВОГО
ы уже упоминали мельком Красный дворец, ныне перекрашенный в желтый цвет,— эту бывшую императорскую резиденцию, ставшую теперь Инженерным замком. Он возвышается близ Летнего сада, на другой стороне Фонтанки, за мостиком.
Построен дворец Павлом I, как и казарма знаменитого Павловского полка, куда набирали только курносых, ибо это оыл императорский полк, а у императора нос был вздернут. Подземным ходом казарма соединялась с дворцом, который своей красной окраской был обязан капризу любовницы Павла, носившей красные перчатки. Звали ее Анна Лопухина. Она происходила из семейства несчастной Евдокии Лопухиной, первой жены Петра Великого, сына которой, Алексея, распинали на пытках, любовника — посадили на кол, одного брата четвертовали, не говоря уж о другом, чью могилу Петр повелел распилить, не имея возможности сделать то же с его шеей.
Павел был без ума от своей любовницы. Ее отец, генерал-прокурор, то есть министр юстиции, был одержим желанием, которого не испытывали Нарышкины, хотя
и у них в роду была императрица: Лопухину хотелось стать графом. Однажды, подстрекаемая отцом, Анна попросила этой милости у Павла.
— Ладно,— сказал тот,— понимаю, вы хотите стать графиней. Так вы будете княжной, моя красавица!
И на следующий день, 18 января 1799 года, Лопухины стали князьями.
Павлу свойственны были фантазии такого рода, и он часто забавлялся, поднимая на верхние ступени любой служебной лестницы — военной либо штатской — кого-нибудь из своих любимчиков скорее, чем подсыхали чернила на соответствующей грамоте.
Как-то раз, прогуливаясь в открытой карете, император увидел прапорщика, чье лицо ему понравилось. Он останавливает экипаж и делает прапорщику знак приблизиться. В гневе ли, в веселье —лицо Павла всегда хранило устрашающее выражение. Прапорщик подходит, весь дрожа.
— Кто ты, пыль? — спрашивает Павел.
Павел называл «пылью» подчиненных любого ранга. Разве не все они лишь пыль для всемогущих государей?
«Пыль» отвечает:
— Ваш покорнейший слуга, прапорщик полка Вашего Императорского Величества.
— Врешь,—отвечает император,—ты подпоручик. Садись сюда.
И указывает юноше место на запятках своей кареты, откуда ссаживает лакея. Юноша повинуется, экипаж трогается с места.
Через двадцать шагов император оборачивается.
— Ты кто? — снова спрашивает он молодого человека.
— Подпоручик, государь, Вашей императорской милостью.
— Врешь, ты — поручик.
Еще через двадцать шагов император снова оборачивается.
— Ты кто? — спрашивает он опять.
— Поручик.
— Врешь, ты — капитан.
Когда они доехали до дворца, прапорщик стал уже генералом. Если б Красный дворец отстоял на сто шагов подальше, прапорщик доехал бы туда фельдмаршалом.
У Павла бывали такие странные привязанности. Примером тому — генерал Копьев. Копьев служил камер-пажом при Павле, когда тот после своей гатчинской ссылки стал всемогущим государем. Этот маленький паж был беден, но обладал живым умом и сообразительностью.
Большие глаза отпрыска Екатерины, не пугавшие Копьева в бытность Павла великим князем, не устрашали пажа и после того, как его господин стал императором всея Руси.
Павел вечно страдал одышкой. Оставаясь один, он мерил комнату большими шагами, потом подходил к окну, сам распахивал его, вдыхал воздух полной грудью, закрывал раму, шел к столу, брал понюшку табаку на манер Фридриха Великого (Павел, как и Петр III, был фанатичным поклонником прусского короля), закрывал табакерку, ставил ее на стол, снова прохаживался, задыхался еще больше, шел к окну, открывал его, дышал, закрывал, снова брал понюшку и начинал в десятый раз все сначала.
Это была его любимая табакерка. Без приказа императора никто не смел дотрагиваться до нее. Нарушитель запрета был бы испепелен
%
1
м
<й\
W
Т *f
'fb
ьа
i?
д
ш
точно так же — и даже с большею вероятностью,— как если бы наложил руку на святой ковчег.
Однажды Копьев заключил с товарищами пари: он не только дотронется до священной табакерки, что было бы святотатством, но и возьмет из нее понюшку, что явится уже оскорблением Величества.
Сие казалось столь невозможным, что ставили два против одного, как это бывает на скачках, когда некоторые участники почти полностью уверены в выигрыше.
Но Копьев не мог упустить шанса. Он верил в свою счастливую звезду. Не единожды его шутовские выходки заставляли императора смеяться, а смеялся Павел не часто.
Другой на месте Копьева вошел бы, когда император стоял спиной, и потихоньку открыл бы табакерку. Но Копьев вошел, когда император повернул от окна к двери. Входя, он нарочно скрипнул дверью, заскрипел сапогами, заскрипел и паркет. Подойдя к столу, он открыл табакерку, стукнув крышкой, нахально всунул в нее два пальца, взял изрядную понюшку и вопреки всем правилам приличия громко засо пел. Император наблюдал за ним, ошеломлен ный такой наглостью.
— Что ты делаешь, плутишка?
— Как видит Ваше Величество, беру по нюшку.
— Ас чего это ты берешь понюшку?
— Ас того, что я со вчерашнего вечера на дежурстве у Вашего Величества: как полагается, всю ночь глаз не сомкнул и чувствую, что меня, того и гляди, сон сморит. Вот я и решил: пусть лучше буду наказан за неприличное поведение, чем за невыполнение долга, и взял понюшку, чтобы проснуться.
350
— Ладно,— сказал Павел, смеясь.— Раз уж ты взял табаку, так возьми вдобавок и табакерку.
Табакерка была украшена бриллиантами и стоила двадцать тысяч рублей.
Копьев продал табакерку, а деньги проел и пропил. Их хватило на год. Целый год кутили пажи Его Величества. Истратив все до последнего гроша, Копьев предложил другое пари. Речь шла о том, чтобы во время обеда дернуть императора за косичку, да так сильно, чтобы он вскрикнул. Пари состоялось.
Дернуть за косичку человека, заставлявшего женщин вылезать из кареты в грязь, когда он проезжал по улице, и отправлявшего полк, который плохо показал себя на маневрах, в полном составе в Сибирь, было безумным замыслом. Но Копьев подготовил почву заранее.
В те времена носили косички на манер Фридриха Великого, так же, как употребляли табакерки à la Фридрих, носили сапоги и шляпы à la Фридрих. У пажей, как и у императора, тоже были Фридриховы косички, которым полагалось лежать ровно посередине спины.
Два-три раза Копьев прошел впереди императора с косичкой, съехавшей набок. В первый раз император сделал ему выговор, во второй — посадил под арест в комнате, в третий— отправил в крепость.
Выйдя оттуда, Копьев вернулся на службу во дворец. В его обязанности входило стоять за стулом Павла во время обеда. И вот посреди обеда Копьев вдруг хватается за косичку Его Величества, словно за шнурок звонка, и так сильно дергает ее, что император вскрикивает.
— Чего изволите? — говорит Копьев.
— Что ты там делаешь с моей косичкой, подлец?
ж
%
№
j'i.
ж
Vil
(0
\к
№
351
— Она съехала набок, государь, и я ее спрямил.
— Мог бы спрямить, плут, не дергая так сильно.
И Копьев отделался этим невинным нагоняем, напоминающим знаменитый шлепок, который получил Тюренн по заднему месту.
Постепенно Копьев пробивал себе дорогу и стал занимать при дворе более высокие должности. И вот в один прекрасный день он прогуливался перед дворцом, тоже, по-видимому, на пари, в сапогах и шляпе на манер Фридриха Великого, в таком же камзоле, с такими же косичкой и тростью. Все это было настолько точно скопировано с императорского костюма, что Копьев превратился в карикатуру на Павла.
Первым, на кого натолкнулся император при выходе, был Копьев.
На этот раз оскорбление было слишком серьезным. Копьева разжаловали. Но однажды ему довелось как солдату стоять на часах перед дворцом с восьми до десяти утра.
В девять начальник полиции по фамилии Чулков, отец которого женился на своей кухарке, проходит мимо Копьева, чтобы отдать императору рапорт о происшествиях за минувшую ночь.
— Эй,— говорит ему Копьев,— твой папаша был чулок и взял в жены котелок. Объясни-ка мне, дружок, как чулок в котле варился и дурак от них родился.
Взбешенный начальник полиции идет к императору и рассказывает о случившемся, требуя сурово наказать дерзкого часового. Император велит привести солдата и узнает в нем Копьева.
Вместо наказания Копьев снова попадает в фавор, продолжает свою военную карьеру и дослуживается до генеральского звания.
Генерал Копьев сидел в крепости за одну из своих выходок вроде тех, о которых мы рассказали, когда появился указ Павла, согласно которому любой экипаж обязан остановиться при появлении императора, а всякий, кто имеет честь с ним встретиться, обязан вылезти из экипажа и, невзирая на погоду, преклонить колено или, если это окажется женщина, сделать реверанс.
Накануне выхода из крепости Копьев, который, попадая туда довольно часто, чувствовал себя в каземате как дома, распорядился купить штук пять гусей, двух-трех индюков и с полдюжины уток. На следующий день он загнал весь этот птичник в карету и сам сел туда же.
Копьев знал привычки Павла лучше своих собственных. Любитель дисциплины, Павел был размерен, как немец. Вчерашний заключенный точно рассчитал, когда его экипаж встретится с каретой Павла. При виде ее кучер Копьева остановил лошадей: Копьев, выскочив оттуда в сопровождении своих гусей, индюков и уток, хлопнулся на колени.
— Что все это значит? — спросил император, удивленный странною сценой.
— Это генерал Копьев с домочадцами вышел из крепости,— докладывают ему.
— Ах, они вышли из крепости,— отвечает Павел,— так пусть они туда возвращаются.
И генералу Копьеву с его птичьим семейством пришлось снова отправиться в крепость.
И все же император не мог обходиться без Копьева, чья неистощимая фантазия его развлекала.
Но угрюмых людей Павел терпеть не мог. Он выслал знаменитого Дибича, которому было всего шестнадцать лет, поскольку, как гово-
\ рилось в указе, его лицо было настолько безоб- I ji: разным, что наводило уныние на солдат.
/flS ! Позже Дибич стал фаворитом Александра, | I был ранен при Аустерлице, отличился при Эй- : \(| /) лау и Фридланде, в 1814 году дал совет идти на Париж, а в войне против турок в 1828 году со- jâx'/1 вершил переход через Балканы, за что получил ; приставку к фамилии — «Забалканский» — и i был произведен в фельдмаршалы; он командо- ! вал русской армией в польской кампании 1831 J года, победил под Остроленкой, затем был раз- I бит поляками и после этого поражения умер t/â’; одной из тех таинственных смертей, относи- ! тельно причины которых история колеблется между самоубийством, апоплексией, холерой ! или отравлением.
После того, как во Франции упразднили религиозные ордена, Мальтийский орден пришел в упадок, и император Павел, невзирая на то, что он возглавлял православную церковь, самолично произвел себя в магистры сего рыцарского сообщества и очень гордился новым званием, хотя, согласно статусу, в этот сан мог быть возведен только католик апостольской римской церкви. Но Павел не стал входить в такие подробности, и на большинстве портретов он предстает с четырехконечной мальтийской звездой на груди.
Скоро ему пришла на ум другая фантазия: поскольку Мальтийский орден — религиозный, то он как великий магистр может служить обедню. Ему напомнили, что католические священники соблюдают безбрачие, но Павел ответил, что это было препятствием, пока Мальтийский орден оставался европейским, теперь же он сделался русским, а православные священники женятся, и, следовательно, его собственный брак не является препятствием.
354
Затем император стал упражняться в церковном пении и назначил уже торжественный день, когда он будет отправлять церковную службу и как глава православной религии, и как великий магистр Мальтийского ордена.
Все русское духовенство обуял великий ужас: святотатство, совершаемое самим императором в религиознейшей на свете стране, было тяжким поступком.
Наконец знаменитый архимандрит Троицы Платон, у которого просили совета, напал на верную мысль. Он специально отправился в Петербург и явился к императору, который его весьма почитал.
— Государь, вы не можете служить обедни.
— Это почему же? — возразил Павел.— У нас священники женятся.
— Да, но они могут жениться только один раз, а Ваше Величество состоит во втором браке.
—■ Верно,—согласился Павел.
И отказался от прихоти служить обедню.
Будучи цесаревичем, Павел совершил путешествие по Европе под именем графа Северного.
Прибыв в Версаль, он пожелал присутствовать на церемонии утреннего туалета короля и, несмотря на настоятельные приглашения выйти вперед, замешался в толпу простых дворян.
Предупрежденный об этом Людовик XVI подошел к Павлу, взял за руку и спросил, почему он уклонился от почестей, подобающих его сану.
— Государь,—ответил цесаревич,—я хотел на мгновение иметь счастье ощутить себя вашим подданным.
В молодости, в своей гатчинской ссылке, Павел был очень гостеприимен и, хотя Екате-
рина крайне скупо давала ему необходимые средства из страха, как бы сын не употребил деньги на какой-нибудь заговор, он устраивал в своем дворце чудесные приемы для тех, кто его навещал. А после встречи гостей еще поднимался в мансарды посмотреть, хорошо ли устроили слуг.
Французскую революцию Павел ненавидел: тот, кто неумышленно напоминал о ней фактом, сравнением, цитатой, хоть одним словом, немедленно попадал в немилость.
Однажды император возвращался из Гатчины в двухместных дрожках в сопровождении одного из фаворитов; сзади ехал экипаж с интендантом и двумя секретарями.
Они проезжали великолепный лес, позже исчезнувший, как исчезают один за другим все русские леса.
— Смотрите, какие величественные сосны,— сказал Павел фавориту.
— Да,— ответил тот,— это представители ушедших веков.
— Представители?! — вскричал Павел.— Словечко отдает французской революцией! Пересаживайтесь в другой экипаж, сударь.
Павел высадил фаворита и отправил его к секретарям.
Пока был жив Павел, этот фаворит так и остался в немилости из-за того, что некогда ударился в историческую поэзию по поводу соснового леса.
Говоря о Суворове, мы упоминали, как император принял его после возвращения из Италии. Расскажем два анекдота, относящихся ко времени, предшествовавшему его отъезду туда.
Старый воин, попавший в немилость, жил в Новгородской губернии, когда Павел, пожелав назначить Суворова командующим армией
! в Италии, послал за ним двух своих гене- , рал-адъютантов.
Это было в середине зимы, стоял двадцати- I градусный мороз. Суворов без шубы, в одном i кителе —белом полотняном сюртуке —сел в экипаж с генералами, которые, не осмеливаясь надеть шубы в присутствии высшего начальства, проделали в обычных мундирах более чем стоверстный путь и чуть не умерли от холода. А старый полководец,, нечувствительный к морозу, еще и жаловался на духоту и время от времени распахивал дверцы экипажа.
Император, готовивший Суворову торжественный прием, ожидал его, сидя на троне, окруженный министрами и послами иностранных государств.
Тут ему. докладывают, в каком костюме собирается предстать Суворов под предлогом того, что находится в отставке. Император немедленно посылает адъютанта сообщить Суворову, что он не только не в отставке, но и произведен в фельдмаршалы. Тогда Суворов возвращается в свой петербургский дом, надевает приготовленный заранее фельдмаршальский мундир, садится в каретсу и едет во дворец.
Но, войдя в тронный зал, он делает вид, что оступился, падает на четвереньки и таким образом пробирается к трону.
— Что с вами, фельдмаршал? — восклицает Павел в бешенстве от этой выходки.
— Что ж вы хотите, государь,— отвечает Суворов.— Я привык ходить по полю сражения, по твердой земле, а паркет ваших императорских дворцов такой скользкий, что по нему можно продвигаться только ползком.
И лишь у последней тронной ступени он поднялся на ноги.
— Теперь, государь,— сказал он,— я жду ваших приказаний.
Павел протянул ему руку, утвердил в звании фельдмаршала и объявил, что созывает большой совет русских генералов в своем присутствии, чтобы разработать план итальянской кампании.
В назначенный день Суворов явился на совет— на этот раз в парадном мундире — и, не проронив ни слова, выслушал предложения, в основном касавшиеся перехода войск через Тироль и ломбардскую низменность.
Но по ходу совещания Суворов то вдруг подпрыгивал на зависть любому клоуну, то подтягивал голенища сапог и засучивал панталоны и, наконец, вскричал:
— На помощь! Я вязну! Вязну!
Это все, что можно было услышать от него, пока длился совет.
По его окончании император, который привык к эксцентричным выходкам Суворова и к тому же был уверен, что тот имел причины для подобного поведения, отпустил генералов и задержал фельдмаршала.
— А теперь, старый штукарь,— сказал он, смеясь,— объясни мне, что ты.хотел изобразить, когда прыгал как серна, засучивал панталоны и кричал «Я вязну!».
— Государь,— ответил Суворов,— совет состоит из генералов, совершенно не знающих топографию Италии. Следя за маршрутом, который они наметили для моей армии, я подпрыгивал как серна, когда они хотели, чтоб я проходил горами, где могут пробираться только серны. Когда я засучивал панталоны, это означало переход рек, где сначала воды будет по колено, а потом и сверх головы. А кричал «Вязну!» потому, что меня и мою артилле-
!Ж
358
рию завели в болото, где я вопил бы и по-другому, если бы имел несчастье туда забраться.
Павел расхохотался и сказал:
— Да что, в сущности, значит мнение этих дураков? Я предоставляю вам все полномочия.
— О, в таком случае я согласен,—отвечал Суворов.
— Только обещайте забыть совершенную по отношению к вам несправедливость.
— Да, но при условии, что вы, государь, разрешите мне исправить такую же несправедливость в отношении другого.
— Кто этот другой?
— Не все ли равно, ведь это я буду восстанавливать справедливость.
— Ладно, делай по-своему, старый упрямец, я и в этом предоставляю тебе полную власть.
Суворов простился с императором, вернулся к себе и послал за старым офицером, который впал в немилость четыре года назад, хоть и заслужил громкую репутацию за умение вести партизанскую войну.
Когда офицер приехал, Суворов в знак величайшего удовольствия три раза прокукарекал по-петушиному. После третьего «кукареку» он с пафосом продекламировал следующие стихи собственного сочинения, в которых упоминались места сражения, где отличился старый вояка:
За Бреслау —
Георгий во славу,
А за Прагу —
Золотую шпагу,
За Тульчин —
Анна на шею И подполковничье звание с нею.
Напоследок награжденье
Королю всех партизан: Получай пятьсот крестьян За свое долготерпенье.
Потом фельдмаршал расцеловал подполковника и отправил его спокойно доживать век в почестях, богатстве и счастии.
Император подписал все, что Суворов обе- кцал от его имени. Ибо Павел был скорее маньяком, чем злодеем. Но власть в руках маньяка—опасное оружие. Кроме того, его непрестанно преследовало воспоминание о Петре III, убитом в Ропше. Павел воздвиг Красный дворец и, как мы говорили, устроил подземный ход из дворца в казарму Павловского полка, находившуюся по другую сторону Марсова поля. В своей спальне он велел прорезать тайный люк, который открывался нажатием каблука на пружину и через который можно было? спуститься в подполье, в коридор, ведущий к подземному ходу.
На фасаде своего дворца император повелел сделать надпись, которая существует и поныне:
«На доме твоем благословение Господне во веки веков».
Но Господь не благословил ни этого дома, ни того, кто приказал его построить. Коронованный строитель был убит. И дом долго оставался необитаемым. Вот каким в 1817 году он явился Пушкину:
Когда на мрачную Неву Звезда полуночи сверкает И беззаботную главу Спокойный сон отягощает,
Глядит задумчивый певец На грозно спящий средь тумана Пустынный памятник тирана,
Забвенью брошенный дворец.
Посмотрим, что происходило там в ночь на 23 марта 1801 года.
еперь вы познакомились с императором Павлом I. И, очевидно, поняли, что такое правление, пришедшее на смену умному, искусному царствованию Екатерины II, было невыносимым для русской знати: ложась спать вечером, никто не был уверен, что не проснется завтра утром в крепости или, садясь в экипаж, не отправится в Сибирь.
Однако в разгаре всех этих ссылок и опал два человека сохраняли свое положение и, казалось, приросли к своим постам.
Одним из них был граф Кутайсов, турок-цирюльник, историю которого мы рассказали по поводу статуи Суворова. Другим был граф Пален.
Барон Петр Пален, которого Павел I сделал графом 22 февраля 179? года, происходил из знатного курляндского дворянства. Предкам его пожаловал баронство король Швеции Карл IX. Пален, ставший генерал-майором при Екатерине олагодаря дружбе с Платоном Зубовым, последним фаворитом императрицы1, получил пост губернатора города Риги.
Незадолго до своего восшествия на трон великий князь Павел, проезжая бывшую столицу Ливонского гер-
361
,<л
ш
w
>1?
ут
№
И
м
¥
цогства, был принят там графом Паленом со всеми почестями, подобающими наследнику престола. То были времена, когда Павел находился, можно сказать, в ссылке. Не привыкший к подобным приемам, он был признателен рижскому губернатору за то, что тот осмелился для него сделать с риском навлечь на себя неудовольствие императрицы. И, унаследовав трон, Павел призвал Палена в Санкт-Петербург, наградил его высшими орденами империи, назначил начальником гвардии и губернатором города. Ради Палена он сместил своего сына, великого князя Александра, чье почтение и любовь не могли усыпить подозрений отца.
Но именно с высоты того положения, которое Пален занял при императоре, он увидел, сколько людей попадали в фавор по капризу — и по капризу же оказывались в немилости. Он повидал стольких павших и разбившихся при падении, что сам не понимал, по какой странности судьбы не последовал за другими. Особенно поразил графа последний пример непостоянства человеческой фортуны.
Его бывший покровитель Зубов, за которым Павел после смерти Екатерины сохранил чин придворного генерал-адъютанта и доверил охрану гроба усопшей матери, вдруг беспричинно оказался в опале; на его канцелярию наложили печати, двух секретарей прогнали, и все офицеры его штата были отправлены в свои полки или в отставку.
Более того: на следующий день удалили остальных его подчиненных, еще днем спустя Зубов лишился двадцати пяти или тридцати должностей, которые занимал, и не прошло
Уг
¥
362
недели, как он получил приказ покинуть Россию.
Платон уехал в Германию, и там ему, молодому, красивому, осыпанному орденами, простили то средство, благодаря которому он преуспел при русском дворе, и поняли, почему в тот момент, когда Зубов рисковал попасть в Сибирь, проявив, мягко выражаясь, отсутствие всякого уважения к императрице, она, вместо того чтобы наказать дерзкого, сказала скорее томно, нежели царственно:
— Ради Бога, нам это нравится, продолжайте.
И однако, несмотря на свои успехи в Вене и Берлине, Зубов — мы можем называть его князем Зубовым, ибо он получил титул князя Священной Римской империи 2 июня 1796 года— князь Зубов тосковал по Санкт-Петербургу. Он переписывался с Паленом, умоляя графа посодействовать его возвращению в русский мир.
Пален не знал хорошенько, как бы взяться за это дело, когда вдруг ему пришла блестящая идея.
— У вас есть единственный способ вернуться в Петербург,— посоветовал он.— Посватайтесь к дочери брадобрея Кутайсова. Вам дадут согласие. Вы вернетесь, станете ухаживать за невестою, свадьба будет откладываться, и кто знает, не произойдет ли за это время чего-либо, что позволит вам остаться в Петербурге.
Зубову совет понравился. Он написал графу Кутайсову письмо, умоляя бывшего цирюльника отдать за него дочь.
Получив письмо, Кутайсов в недоумении перечитывал его и так и эдак: князь Зубов, по-
следний любовник Екатерины, самый красивый, элегантный и богатый среди русской знати, хочет породниться с ним!
Кутайсов поспешил во дворец, бросился к ногам императора и показал ему письмо.
Тот в свою очередь прочел и сказал, возвращая послание:
— Вот первая здравая мысль, пришедшая в голову этому безумцу. Ну что же, пусть возвращается.
Через две недели Зубов был-в Санкт-Петербурге и с одобрения Павла стал ухаживать за дочерью фаворита2.
Едва Зубов оказался в Петербурге,—здесь словно только того и ждали,— как стал составляться заговор.
Сначала соучастники говорили только об отречении Павла, всего лишь о простой замене правителя: императора отправят под надежной охраной куда-нибудь в отдаленную провинцию, в какую-нибудь неприступную крепость, а великий князь, которым распоряжались без его согласия, взойдет на престол.
Лишь немногие осознавали, что вместо шпаги вытащат кинжал, а обнаженный кинжал входит обратно в ножны только обагрившись кровью; эти люди, зная цесаревича Александра и понимая, что он не согласится на регентство, решили устроить так, чтобы трон можно было унаследовать.
Да будет мне позволено позаимствовать у самого себя подробности страшного дела, которое возвело Александра на престол всея Руси.
Пален, будучи главою заговора, тем не менее вел себя чрезвычайно осмотрительно и вся¬
чески избегал подозрений; таким образом, в зависимости от хода событий, он мог либо поддержать сотоварищей, либо помочь Павлу. Эта его сдержанность вносила известный холодок в совещания, и, быть может, дело затянулось бы еще на год, если б сам Пален не ускорил события своеобразной стратегией, которая, как он полагал, зная характер Павла, не могла не привести к успеху.
Он написал царю анонимное письмо, предупреждая об опасности, которая грозит империи. К письму прилагался список всех заговорщиков.
Первым движением Павла по прочтении письма было удвоить караулы в Михайловском замке и вызвать Палена. Тот ожидал вызова и немедленно явился. Он нашел монарха в его спальне на втором этаже. Это была большая квадратная комната с дверью напротив камина и двумя окнами, выходящими во двор. Против окон располагалась кровать, а у ее изно- ! жья — потайная дверь, которая вела в покои i императрицы. В полу, в месте, известном лишь императору, был врезан люк. Я уже говорил, i что люк открывался нажимом каблука на пружину, и по лесенке можно было спуститься в подземный коридор и бежать из дворца.
Когда Пален переступил порог, Павел большими шагами ходил по комнате, бормоча что-то угрожающее.
Обернувшись, он остановился, скрестил руки и устремил взор на Палена.
— Граф,—сказал он, помолчав,—знаете ли вы, что происходит?
— Я знаю,— ответил Пален,—что мой госу-
дарь призвал меня, и я поспешил явиться по его приказанию.
— Но знаете ли вы, почему я вас вызвал?— воскликнул Павел с нетерпением.
— Я почтительно ожидаю, что Ваше Величество соизволит сообщить мне это.
— Я призвал вас, сударь, потому, что против меня составился заговор.
— Мне это известно, государь.
— Как, вам это известно?
— Еще бы. Я — один из заговорщиков.
— Так вот; мне доставили список. Взгляните.
— А у меня, государь, есть дубликат. Вот он.
— Пален! — пробормотал испуганный Павел, еще не зная, чему верить.
— Государь,— продолжал граф,— вы можете сравнить оба списка. Если доносчик хорошо информирован, то они должны совпасть.
— Посмотрите,— сказал Павел.
— Да, все так,— спокойно сказал Пален,— однако три лица пропущены.
— Кто? — взволнованно спросил император.
— Государь, осторожность мешает мне назвать этих людей. Но после того доказательства точности моих сведений, которые я дал Вашему Величеству, надеюсь, император соизволит полностью довериться мне и положиться на мое усердие и стремление обеспечить его безопасность.
— Не выйдет! — энергично прервал его Павел— страх придал ему новые силы.— Кто они? Я хочу знать, кто они, и немедленно.
5/^ i
-И
!
Ü
"M
% \ ,1
— Государь,— ответил Пален, опустив голову,-—почтение не позволяет мне назвать августейшие имена.
— Понимаю,—заговорил Павел глухим голосом, бросив взгляд на потайную дверь, ведущую в апартаменты жены.— Вы хотите сказать: императрица, не правда ли? Вы хотите сказать: цесаревич Александр и великий князь Константин?
— Закон должен знать лишь тех, кого может настичь.
— Закон настигает всех, сударь, и преступление, кто бы его ни совершил, не останется безнаказанным. Пален, вы немедленно арестуете обоих великих князей, и завтра они будут отправлены в Шлиссельбург. Императрицей займусь я сам; что же до остальных заговорщиков— это ваше дело.
— Государь,— сказал Пален,— дайте мне письменный приказ, и, как бы высоко ни стояли те, кого должен настичь удар, я повинуюсь.
— Мой добрый Пален! — вскричал император.— Ты единственный верный слуга, который мне остался. Охраняй меня, Пален: вижу, все они хотят моей смерти, и у меня нет никого, кроме тебя.
Тут Павел подписал приказ об аресте обоих великих князей и вручил его Палену3.
Именно этого и добивался ловкий заговорщик. С приказом он помчался в дом к Платону Зубову, где, как он знал, собрались посвященные.
— Все открылось,—объявил Пален.—Вот приказ о вашем аресте. Нельзя терять ни минуты. Сегодня ночью я еще губернатор Петербур¬
367
га, а завтра, быть может, окажусь в тюрьме. Решайте же, что предпринять.
Колебаться было нельзя, ибо колебание означало эшафот или в лучшем случае Сибирь. Заговорщики назначили встречу в ту же ночь у графа Талызина, генерала Преображенского полка4. Поскольку соучастников было не так уж много, то решили привлечь всех арестованных в тот день. А день выдался удачный: еще утром около тридцати офицеров, принадлежащих к лучшим фамилиям Петербурга, были разжалованы и приговорены к тюрьме или ссылке за проступки, едва заслуживающие выговора. Граф приказал держать наготове дюжину саней у ворот различных тюрем, чтобы вывезти тех, кого намечено было присоединить к заговору. Увидев, что его сообщники полны решимости, Пален отправился к Александру.
Этот последний только что встретил императора в коридоре дворца и пошел было рядом с ним. Но Павел, отстранив его рукою, велел вернуться в свои покои и оставаться там до нового приказа. Поэтому Пален застал Александра в тревоге, тем большей, что тот не понимал причины гнева, который читался в глазах отца. И едва Пален вошел к цесаревичу, тот сразу спросил, не принес ли он от императора какого-нибудь приказа.
— Увы! — ответил Пален.— Я принес ужасный приказ.
— Какой? — спросил Александр.
— Взять Ваше Высочество под стражу и потребовать вашу шпагу.
— Мою шпагу! — вскричал Александр. — Но почему?
— Потому что с этого часа вы пленник.
368
— Я пленник? В каком же преступлении меня обвиняют, Пален?
— Ваше Императорское Высочество не может не знать, что, к несчастью, здесь подчас подвергаются каре, не совершив проступка.
— Император — вдвойне хозяин моей судьбы,— ответил Александр,— и как мой государь и как мой отец. Покажите приказ, и, какой бы он ни был, я готов подчиниться.
Граф вручил ему приказ. Александр развернул бумагу, поцеловал подпись отца и стал читать. Он дошел до того места, где говорилось о Константине.
— И брата тоже! — вскричал он.— Я надеялся, что приказ касается только меня.
Потом цесаревич дошел до пункта, касавшегося императрицы.
— О, моя мать, моя безупречная матушка! Святая, сошедшая к нам с небес! Это слишком, Пален, это слишком!
И Александр, уронив приказ, закрыл лицо руками.
Пален счел, что наступил благоприятный момент.
— Ваше Высочество,— воскликнул он, бросаясь к ногам Александра.— Выслушайте меня. Надо предупредить большие несчастья. Нужно положить конец заблуждениям вашего августейшего отца. Сегодня он лишает вас свободы, а завтра, быть может, посягнет на вашу...
— Пален!
— Ваше Высочество, вспомните о судьбе царевича Алексея.
— Пален, вы клевещете на моего отца!
— Нет, Ваше Высочество, ибо я виню не сердце монарха, а его рассудок. Столько стран-
ных противоречий, невыполнимых распоряже- | ний, незаслуженных наказаний могут объясняться лишь воздействием ужасной болезни. Это говорят все приближенные императора, и все, кто далеки от него, повторяют это: Ваше Высочество, ваш отец безумен.
— Боже мой!
— Так вот, Ваше Высочество, надо спасти императора от него самого. Это не я даю вам совет, а дворянство, Сенат, вся империя, я всего лишь их посланец. Нужно, чтобы император отрекся от престола в вашу пользу.
— Пален! — сказал Александр, отступив.— Что вы говорите! Чтобы я наследовал трон при живом отце! Чтобы я сорвал корону с его головы и вырвал скипетр из рук! Это вы сошли с ума, Пален... Никогда! Никогда!
— Но, Ваше Высочество, вы же видели приказ! Вы думаете, речь идет просто о тюрьме? Нет, нет, поверьте, жизнь Вашего Высочества в опасности.
— Спасите брата, спасите императрицу! Это все, о чем я прошу! — вскричал Александр.
— Да разве я волен в этом? — отвечал Пален.— Ведь приказ касается их, как и вас. Когда вы все будете арестованы и окажетесь в тюрьме, не сыщутся ли слишком усердные царедворцы, которые, желая услужить императору, пойдут дальше его намерений? Посмотрите, что творится в Англии, Ваше Высочество: там происходит то же самое, хотя ограниченная власть ограничивает и опасность. Принц Уэльский готов принять управление страной, а ведь безумие короля Георга — это мягкое, безобидное помешательство5. И последнее, Ваше Высочество: быть может, согласившись на то, что
вам предлагают, вы спасете жизнь не только великого князя и императрицы, но и вашего отца!
— Что вы хотите сказать?
— А то, что царствование Павла настолько тяжко, что дворянство и Сенат решили положить ему конец любым способом. Вы не соглашаетесь на его отречение? Быть может, завтра вы будете вынуждены простить убийство.
— Пален! — сказал Александр.— Не могу ли я увидеть отца?
— Невозможно, Ваше Высочество. Вам решительно запрещается доступ к нему.
— И вы говорите, что жизнь моего отца в опасности?
— У России одна надежда на вас, Ваше Высочество, и, если надо выбирать между приговором, который нас погубит, и преступлением, которое нас спасет, мы выберем преступление.
И Пален повернулся к выходу.
— Пален,— вскричал Александр, удерживая его одной рукой, а другой хватаясь за свой нательный крест на золотой цепочке.— Поклянитесь мне на этом кресте, что жизнь отца не подвергнется опасности и что вы, если будет нужно, умрете, защищая его. Поклянитесь, или я вас не выпущу.
— Ваше Высочество,— ответил Пален,—я сказал все, что должен был сказать; подумайте о предложении, которое вам сделано, а я подумаю о клятве, которой вы от меня требуете.
С этими словами Пален вышел и поставил у дверей Александра часового, приказав ему не выпускать наследника из его покоев. Затем прошел к великому князю Константину и к императрице Марии и объявил им приказ импера-
371
тора, но не принял тех мер предосторожности, о которых распорядился относительно Александра.
Было восемь часов вечера, и уже наступила I темнота, так как стояли лишь первые дни весны. Пален поспешил к графу Талызину, где за столом собрались заговорщики. Его засыпали вопросами.
— Отвечать нет времени,— сказал он.— Главное, все идет хорошо, и через полчаса я привезу вам подкрепление.
Прерванная трапеза возобновилась, а Пален поехал в тюрьму. Перед ним, петербургским губернатором, распахнулись все двери. Узники, видя, как городской глава входит с суровым лицом, в сопровождении стражи, решили, что их отправляют в Сибирь или же переводят в еще более мрачную тюрьму. Пален таким тоном приказал всем садиться в сани, что несчастные молодые люди укрепились в этом предположении. Они повиновались; у дверей их ожидала рота гвардейцев. Пленники покорно забрались в сани, и кони галопом унесли их прочь.
Однако, против ожидания, через каких-нибудь десять минут сани остановились во дворе великолепного особняка; пленникам предложили сойти, они подчинились. Двери дома захлопнулись, стража осталась снаружи, с ними оказался только Пален.
— Следуйте за мной,— сказал граф и пошел вперед.
Не понимая, что происходит, арестованные повиновались.
Войдя в комнату, соседнюю с той, где собрались заговорщики, Пален сдернул со стола наброшенный плащ; там лежали шпаги.
372
— Вооружайтесь,—сказал он.
Пока ошеломленные пленники, смутно догадываясь, что происходит нечто странное и неожиданное, хватали шпаги, которые только этим утром у них позорно отобрали, губернатор распахнул дверь, и новоприбывшие увидели, как за столом со стаканами в руках сидят друзья, те самые друзья, с которыми, как думалось еще десять минут назад, они разлучены навсегда. Раздался крик: «Да здравствует Александр!», и все кинулись в зал. В нескольких словах недавних арестантов оповестили о происходящем. Они были еще полны стыда и гнева за то, что претерпели в минувший день. Поэтому предложение о цареубийстве было встречено криками радости и никто не отказался от той роли, которая ему предназначалась в предстоящей ужасной трагедии.
В одиннадцать часов вечера заговорщики — примерно человек шестьдесят — вышли из дома Талызина и, закутавшись в плащи, направились к Михайловскому замку. Заправляли всем: генерал-лейтенант Беннигсен, Платон Зубов, Пален, командир Семеновского полка генерал Депрерадович, полковой адъютант Преображенского полка Аргамаков, генерал-майор артиллерии князь Яшвиль, командир Преображенского полка генерал Талызин, полковой адъютант конногвардейцев Гор данов, майор Татаринов, князь Вяземский и штабс-капитан Измайловского полка Скарятин.
Заговорщики вошли в садовую калитку Михайловского замка и оказались меж больших деревьев, тенистых летом, но теперь простиравших во тьме свои оголенные ветви. Стая воронья, разбуженная шумом, слетела с деревьев,
и заговорщики, встревоженные мрачным карканьем, которое считается в России зловещим предзнаменованием, заколебались, идти ли дальше. Но Зубов и Пален подбодрили их, и все снова двинулись вперед. Войдя во двор, они разбились на две группы: одна под предводительством Палена вошла в боковую дверь, которой обычно пользовался сам граф, когда хотел незаметно проникнуть к императору. Другая, возглавляемая Зубовым и Беннигсеном, направилась, по указанию Аргамакова, к парадному входу, пройдя туда беспрепятственно, так как Павел сменил дворцовый караул и поставил вместо солдат офицеров-заговорщиков. Один-единственный часовой, которого забыли подменить, завидя их, крикнул: «Кто идет?» Беннигсен приблизился к нему и, распахнув плащ, показал свои ордена.
— Молчать,— сказал он,— не видишь, куда мы идем?
— Проходите, патруль,— отозвался солдат, кивнув головой в знак понимания.
И убийцы вступили во дворец.
Войдя в коридор, ведущий в переднюю, они обнаружили офицера, переодетого солдатом.
— Как император? — спросил Платон Зубов.
— Вернулся час назад и, наверное, уже лег,— ответил офицер.
— Хорошо,— сказал Зубов.
И цареубийственный патруль пошел дальше.
Действительно, Павел, по своему обыкновению, провел вечер у княгини Гагариной. Увидев, что император бледнее и мрачнее обычно-
го, княгиня стала настойчиво расспрашивать, что с ним такое.
— Что со мной? — ответил Павел.—А то, что пришло время нанести могучий удар, и через несколько дней полетят головы тех, кто был мне очень дорог!
Напуганная этой угрозой, княгиня, которая знала о недоверии Павла к семье, под первым же предлогом покинула гостиную, набросала несколько строк Александру, предупреждая, что его жизнь в опасности, и отослала записку в Михайловский замок. Офицеру, стоявшему на часах у дверей пленника, было приказано лишь не выпускать цесаревича, и поэтому он разрешил посланному войти. Александр получил записку, и, поскольку он знал, что княгиня Гагарина посвящена во все секреты императора, его тревога усилилась.
Около одиннадцати часов, как это и сказал часовой, Павел вернулся во дворец, сразу же удалился к себе, улегся и только что заснул, полагаясь на Палена.
В этот момент заговорщики дошли до апартаментов императора, и Аргамаков постучал в дверь передней.
— Кто там? — спросил камердинер.
— Аргамаков, адъютант Его Величества.
— Что вам нужно?
— Я с рапортом.
— Ваше превосходительство изволят шутить. Уже почти полночь.
— Полно, вы ошибаетесь; сейчас шесть часов утра, открывайте быстрей, я боюсь, что император разгневается.
— Право, не знаю, должен ли я...
— Я на дежурстве, и я вам приказываю.
i
Камердинер повиновался. Заговорщики со шпагами в руках ринулись в переднюю, испуганный слуга забился, в угол. Однако польский гусар, несший дежурство, кидается к двери императорской спальни и, догадываясь о намере- . ниях ночных посетителей, велит им удалиться.
Зубов отказывается и пытается оттолкнуть его. Раздается пистолетный выстрел, но в ту же минуту единственный защитник того, кто еще час назад был господином пятидесяти трех миллионов, обезоружен, сбит с ног и схвачен.
Павел, проснувшись от выстрела, вскочил с постели, кинулся к потайной двери, ведущей к императрице, и попытался открыть ее. Но он забыл, что три дня назад, охваченный подозрением, велел заколотить эту дверь, и она так и осталась закрытой. Тогда Павел вспомнил о люке и бросился в угол комнаты. Но так как, к несчастью, он был босой, пружина не поддалась и люк не открылся. В этот момент дверь передней высадили, и император успел лишь скрыться за каминным экраном.
Беннигсен и Зубов ворвались в спальню; Зубов бросился к постели, но она оказалась пустой.
— Все пропало,— вскричал Зубов.— Он бежал.
— Нет,— сказал Беннигсен.— Вот он.
— Пален,—закричал император, увидев, что его обнаружили.—Ко мне, Пален, на помощь!
— Государь,— заговорил Беннигсен, подходя к Павлу и салютуя ему шпагой,—вы напрасно зовете Палена. Он с нами. Впрочем, вашей жизни ничто не угрожает. Но вы — пленник именем императора Александра.
— Кто вы? — спросил Павел, столь потрясенный, что не узнавал говоривших при бледном свете ночника.
— Кто мы? —ответил Зубов, вынимая акт отречения. — Мы — посланцы Сената. Возьми эту бумагу и сам решай свою судьбу.
С этими словами Зубов одной рукой протянул Павлу бумагу, а другой переставил лампу на угол камина, чтобы император мог прочесть акт. Павел действительно берет бумагу и пробегает ее глазами; прочитав примерно треть, поднимает голову и смотрит на заговорщиков.
— Но что я вам сделал, великий Боже,— восклицает он,— за что вы меня так поносите?
— Вы нас четыре года тираните,— кричит кто-то.
Император снова принимается за чтение. Но с каждой строкой обвинения нарастают, все более оскорбительные выражения глубоко ранят его; гнев берет верх над достоинством: Павел забывает, что он один, не одет, безоружен, окружен людьми, не снявшими шляп, со шпагами в руках. Павел яростно комкает акт отречения и швыряет его себе под ноги.
— Никогда! — говорит он.—Лучше смерть!
С этими словами император пытается схватить свою шпагу, лежащую на кресле в нескольких шагах от него.
Тут входит второй отряд. Он в большинстве своем состоит из молодых дворян, разжалованных или отставленных от службы; среди них — один из главарей, князь Яшвиль, который поклялся отомстить за оскорбление.
Едва войдя, он кидается на императора, схватывается с ним врукопашную, и оба валятся на пол, опрокидывая лампу и экран. Импе-
ж
w
«Л
д'/à
ратор испускает страшный крик: падая, он ударился лицом об угол камина и получил глубокую рану. Испугавшись, что этот крик услышат, Татаринов, Вяземский и Скарятин кидаются на царя, и он, едва привстав, снова падает. Все это происходит в темноте, слышатся крики, стоны, то пронзительные, то глухие. Наконец императору удается отстранить руку, зажимающую ему рот.
— Господа,—кричит он по-французски,— пощадите меня, дайте время помолиться, Бо...
Последнее слово обрывается: один из убийц развязал свой шарф и сдавил грудь жертвы, не осмеливаясь душить за шею —ведь тело будет выставлено на обозрение, и нужно, чтобы смерть признали естественной. Стенания переходят в хрипы, постепенно замирает и хрип, наступают конвульсии, которые скоро прекращаются, и, когда Беннигсен входит со светильником, император мертв. Только теперь замечают рану на щеке. Но это несущественно: ведь если у Павла приключился апоплексический удар, то нет ничего удивительного, что, падая, он ударился о мебель и сам себя поранил.
В тишине, наступившей вслед за преступлением, когда при свете свечей, принесенных Беннигсеном, все смотрят на безжизненное тело, со стороны смежной двери раздается стук. Это — императрица, которая, услышав сдавленные крики и глухие угрожающие голоса, подбежала к двери. Сначала заговорщики пугаются, но, узнав голос, успокаиваются. Ведь дверь, заколоченная Павлом, закрыта и для нее. У них, следовательно, есть время беспрепятственно довершить начатое.
378
Беннигсен приподнимает голову императора и, видя, что он недвижим, распоряжается перенести тело на кровать. Лишь в этот момент является Пален со шпагой в руке. Верный своей двоякой роли, он выжидал, когда все будет кончено, чтобы присоединиться к заговорщикам. При виде государя, на лицо которого Беннигсен накинул покрывало, Пален бледнеет и прислоняется к стене, уронив руку со шпагой.
— Итак, господа,—говорит Беннигсен, который был вовлечен в заговор одним из последних и во время роковой сцены единственный сохранял неизменное хладнокровие,—теперь настало время принести присягу новому государю.
— Да, да,—беспорядочно закричали присутствующие, которые теперь больше торопились покинуть эту комнату, чем недавно стремились ворваться в нее.— Да, пойдем присягать императору. Да здравствует Александр!
Пока все эти события совершались, императрица Мария, убедившись, что смежная дверь заперта, и слыша продолжающуюся суматоху, пошла в обход, но в одном из салонов натолкнулась на поручика-семеновца Полторацкого во главе тридцати солдат. В соответствии с полученными указами Полторацкий преграждает ей дорогу.
— Прошу прощения, сударыня,— говорит он, кланяясь,— но вам нельзя пройти.
— Разве вы меня не знаете? — спрашивает императрица.
— Разумеется, сударыня, я знаю, что имею честь говорить с Ее Императорским Величеством, но именно вас и не должно пропускать.
— Но кто вам дал такое предписание?
— Мой полковник.
— Посмотрим,—говорит императрица,— осмелитесь ли вы выполнить этот приказ.
И она идет прямо на солдат.
Но те скрещивают ружья и загораживают проход. В этот момент заговорщики шумной толпой выходят из спальни Павла с криками:
— Да здравствует Александр!
Во главе их — Беннигсен. Он подходит к императрице. Она узнает генерала, называет по фамилии и умоляет пропустить.
— Государыня,—говорит он,— теперь все кончено. Вы понапрасну подвергнете опасности вашу жизнь, а жизнь императора Павла завершилась.
При этих словах императрица вскрикивает и падает в кресло.
Великие княжны Мария и Кристина6, которые проснулись от шума, подбегают к ней и становятся на колени у кресла. Императрица, чувствуя, что вот-вот потеряет сознание, просит воды. Солдат приносит стакан, но Мария не решается дать его матери, боясь отравы. Солдат догадывается, отпивает половину и подает стакан великой княжне.
— Видите,—говорит он,— Ее Величество может пить без боязни.
Беннигсен оставляет императрицу на попечение великих княжон и направляется к цесаревичу, чьи апартаменты находятся этажом ниже, под императорскими. Александр слышал все: крики, падение, стоны и хрип. Он хотел было броситься на помощь отцу, но часовой, которого Пален поставил у дверей, оттеснил наследника обратно в комнату. Пален хорошо
^1
$xti.
f-JSi
Г"-’
• 'c^
'-Ьч
'X.
'J/J
fl£'~y
4
щ
продумал меры предосторожности: Александр в плену и ничему помешать не может.
Беннигсен в сопровождении заговорщиков входит к цесаревичу. Крики «Да здравствует император Александр!» возвещают, что все кончено. Не приходится сомневаться, каким путем достался ему трон — и, увидев Палена, который входит последним, Александр восклицает:
— Ах, Пален, какова первая страница моей истории!
— Г осударь, — отвечает Пален, — последующие страницы заставят забыть первую.
— Но разве вы не понимаете,— кричит Александр,—что меня будут считать отцеубийцей?
— Государь,— говорит Пален,— сейчас вы должны думать только об одном.
— О чем мне думать сейчас, Боже мой, как не об отце?
— Думайте о том, чтобы вас признала армия.
— Но моя мать,—восклицает Александр,— что станется с императрицей?
. — Она в безопасности, государь; во имя неба не будем терять ни минуты.
— Что же я должен делать? — спрашивает Александр, до такой степени подавленный, что не в силах сам принять решение.
— Государь,—отвечает Пален,—надо ехать тотчас же, ибо малейшее промедление может повлечь самые ужасные несчастья.
— Делайте со мной что хотите,— следует ответ.—Я готов.
Пален увлекает императора в экипаж, который стоял наготове, чтобы отвезти Павла в Пе
381
ш
тропавловскую крепость. Александр со слезами на глазах садится, дверцы захлопываются. Пален и Зубов становятся на запятки вместо выездных лакеев, и экипаж, везущий новые судьбы России, несется к Зимнему дворцу под эскортом двух гвардейских батальонов. Бенниг- сен остался при императрице, ибо Александр, перед тем как уехать, настоятельно просил позаботиться о матери.
На Адмиралтейской площади молодой царь видит основные гвардейские полки в строю.
— Император! Император!— кричат Пален и Зубов, извещая, что они везут Александра.
— Император! Император! — вторят батальоны, сопровождающие его.
— Да здравствует император! — в один голос скандируют полки.
Люди бросаются к карете. Распахивают дверцы; бледного, растерянного Александра высаживают, куда-то ведут, увлекают за собой. Клятву в верности ему приносят с таким энтузиазмом, что новый монарх убеждается: заговорщики, пусть ценой преступления, выполнили всеобщие чаяния. И следовательно, при всем своем желании отомстить за отца, он не сможет покарать убийц.
А те разошлись по домам, еще не зная, какое решение примет о них государь.
На следующий день императрица сама принесла присягу сыну. Согласно российскому обычаю, наследовать трон после мужа предстояло ей, но, видя сложное, чрезвычайное положение, она добровольно отказалась от своих прав.
Хирург Ветт и медик Штоф, которым было поручено вскрытие тела, заявили, что импера-
vSï
I
<$)
щ
Я
ш
vi!
Œ
382
X
j} I
fi
■ iUî ^ !
i
vJj
”~^4ï ‘i I
тор скоропостижно скончался от апоплексии; рану на щеке объяснили падением в момент несчастья.
Набальзамированное тело в течение пятнадцати дней было выставлено на парадном ложе. Повинуясь этикету, Александр неоднократно стоял поблизости и всякий раз при этом бледнел или проливал слезу.
Постепенно заговорщики были удалены от двора; одни получили назначения в отъезд, других перевели в полки, расквартированные в Сибири. Оставался только Пален, сохранивший должность военного губернатора Санкт-Петербурга; вид его стал чуть ли не упреком для молодого императора, поэтому Александр воспользовался первым удобным случаем, чтобы удалить и Палена.
Через несколько дней после смерти Павла некий священник явил икону, которую, как он утверждал, принес ангел и на которой виднелась надпись: «Бог покарает всех убийц Павла I». Узнав, что народ толпами валит в церковь, где выставлена чудесная икона, и предчувствуя, что эти происки могут произвести неприятное впечатление на императора, Пален попросил разрешения положить конец козням священника. Александр дал такое разрешение. Святого отца подвергли бичеванию, и он под плеткою заявил, что действовал по приказу императрицы. В доказательство своих слов он утверждал, что в молельне Ее Величества есть такой же образ. Пален приказал осмотреть часовню императрицы, и там действительно обнаружили подобную икону. Ее унесли. Императрица с полным основанием усмотрела в этом обиду и потребовала от сына удовлетво-
рения. Александр искал лишь предлог, чтобы удалить Палена, и не упустил представившейся возможности. Тут же г-ну Беклешову было поручено передать графу Палену приказ императора удалиться в свое имение.
— Я ожидал этого,—улыбаясь ответил Пален,— и мои сундуки уже заранее уложены.
Через час граф Пален прислал Александру прошение об отставке со всех должностей и уже вечером был на дороге в Ригу.
ПОЭТ оУ^УШКИН
есколько раз мы уже приводили стихи Пушкина, позвольте же мне посвятить очерк этому великому человеку. Пушкин, убитый в 1837 году, столь же популярен в России, как Шиллер в Германии; у нас же он едва известен.
А ведь он воплотил в поэзии единство мыслей и формы, это был поэт и патриот.
До него, за исключением баснописца Крылова, Россия не могла породить национального гения — ей не хватало живительных сил.
Народ лишь тогда может считаться интеллектуально развитой нацией, когда у него возникает свойственная его духу литература. Избранные басни Крылова и поэзия Пушкина знаменуют начало духовного развития России. Ныне Россия действительно имеет и поэтов: Крылов, Пушкин, Лермонтов, Некрасов, графиня Ростопчина, и романистов: Писемский, Тургенев, Григорович, Толстой, Щедрин, Жадовская, Туо, Станицкий.
Со времен царствования Александра берут свое начало освободительные идеи, а может быть, и сама история. Однако вернемся к Пушкину.
15 А.Дюма, т.1
385
Поэт родился в 1799 году в Псковской губернии. Он был сыном помещика, и по материнской линии —внуком арапа Петра I Ганнибала1.
Ганнибал, захваченный на берегах Гвинеи2, бросился за борт, увозившего его судна, когда до берега уже было более двадцати пяти лье. Несчастный пленник не надеялся на спасение, он жаждал только смерти. Но смерть подвела: с корабля спустили шлюпку и подобрали его, затем, заковав в цепи, бросили в трюм, а в Голландии выволокли и продали.
В Амстердаме юного раба увидел Петр I. Царю рассказали историю Ганнибала; растроганный свободолюбием негра, Петр купил его и увез в Россию, где смышленый африканец достиг генеральского звания и стал создателем русской артиллерии.
Князь Петр Долгоруков в своей книге «О знатных фамилиях России» утверждает, что Пушкин происходит от женской линии того самого рода, две ветви которого — Бобрище- вы-Пушкины и Мусины-Пушкины — когда-то проживали в Раче; в XII веке их потомки перебрались из Германии в Россию, подарив приютившей их стране в XVII и XIX веках многих бояр.
Но в это трудно поверить. Скорее всего представители этих семей после смерти Пушкина попытались приобщиться к славе поэта и украсить его именем свою родословную — но определенно известно, что при жизни поэта не было и речи об этом родстве.
Пушкин заговорил о своих предках, когда Булгарин в своем журнале намекнул на его низкое происхождение — поэт ответил стихами, похожими на песню «Да, я холоп» нашего Беранже. Эту эпиграмму мы приводим в возможно более точном переводе:
Решил Фиглярин, сидя дома,
Что черный дед мой Ганнибал Был куплен за бутылку рома И в руки шкиперу попал.
Сей шкипер был тот шкипер славный,
Кем наша двинулась земля,
Кто придал мощно бег державный Рулю родного корабля.
Пушкин воспитывался в Царскосельском лицее, основанном в 1811 году Александром I, и был поистине несносным учеником; поступив в лицей в год его основания, он еще находился там в 1818 году, когда сочинил оду «Вольность» и бросил ее под ноги императору, во время его приезда. Александр поднял ее и прочел.
Ода заканчивалась стихами о смерти Павла I:
Самовластительный злодей! Тебя, твой трон я ненавижу, Твою погибель, смерть детей С жестокой радостию вижу. Читают на твоем челе Печать проклятия народы,
Ты ужас мира, стыд природы, Упрек ты Богу на земле.
Когда на мрачную Неву Звезда полуночи сверкает И беззаботную главу Спокойный сон отягощает, Глядит задумчивый певец На грозно спящий средь тумана Пустынный памятник тирана, Забвенью брошенный дворец —
И слышит Клии страшный глас За сими страшными стенами, Калигулы последний час Он видит живо пред очами,
Он видит — в лентах и звездах, Вином и злобой упоенны,
Идут убийцы потаенны,
На лицах дерзость, в сердце страх.
Молчит неверный часовой,
Опущен молча мост подъемный,
Врата отверсты в тьме ночной Рукой предательства наемной...
О стыд! о ужас наших дней!
Как звери вторглись янычары!
Падут оесславные удары...
Погиб увенчанный злодей.
И днесь учитесь, о цари:
Ни наказанья, ни награды,
Ни кров темниц, ни алтари Не верные для вас ограды.
Склонитесь первые главой Под сень надежную закона,
И станут вечной стражей трона Народов вольность и покой.
Признаться, я перевожу эту оду с чувством внутреннего неприятия: оскорбительная брань не свойственна ни таланту моему, ни характеру; перевод предлагается лишь для того, чтобы оттенить как снисходительность Александра, так и величие гения Пушкина.
Пушкин был несправедлив, изобразив тираном несчастного императора, доведенного до безумия одиночеством и постоянным страхом. И тем не менее, выставив покойного Павла на всеобщее позорище во время царствования его сына, вольнодумец не был ни арестован, ни судим, ни наказан: ему было предписано покинуть Санкт-Петербург и вернуться домой3.
Некоторое время спустя, когда он жил уже у отца, поэту было велено отправиться на Кавказ. У нас пойти в поход с оружием в руках, с риском для жизни считается не наказанием, а почетной миссией. Уединение, горы, потоки, снежные вершины, сверкающее море— все это обогатило созерцательный ум
Пушкина, развило поэтический дар, которым восхищается вся Россия.
И действительно, в ущельях Терека, на берегах Каспия он создавал свои стихи для России, и ветер Азии доносил их до Москвы и Санкт-Петербурга.
Именно тогда появился «Кавказский пленник»—поэма, современная творениям Байрона, способная соперничать с «Корсаром» и «Гяуром».
Гений Пушкина стал его ходатаем перед императором, и поэт получил разрешение возвратиться к отцу.
Он жил в Пскове, когда готовился знаменитый заговор Пестеля, Рылеева, Муравьева-Апостола, Бестужева и Каховского.
Рылеев пытался вовлечь в заговор Пушкина, но, проявив на сей раз благоразумие, поэт не веривший в успех заговора, отказался в нем участвовать.
Однако же 5 или 6 декабря, желая присутствовать при назревавших событиях, он взял паспорт своего друга и, покинув Псков, куда был сослан, направился на почтовых в Санкт-Петербург.
Поэт не проехал и трех верст, как дорогу ему перебежал заяц.
В Россси, самой суеверной из всех стран мира, заяц, пересекающий дорогу,— плохая примета, сулящая беду или, по крайней мере, предупреждающая о том, что продолжать путь опасно. У римлян такой приметой было споткнуться о камень; известна печальная шутка Бальи, запнувшегося о булыжник по дороге к эшафоту: «Римлянин вернулся бы домой».
При всей своей суеверности Пушкин пренебрег приметой и на вопрос ямщика, обернувшегося в нерешительности, крикнул:
389
— Вперед!
Ямщик повиновался.
Проехали три или четыре версты — тот же знак беды: второй заяц пересек дорогу. Опять ямщик в недоумении. Пушкин мгновение колеблется, размышляя. Затем произносит по-французски:
— Ну что ж, глупости тем лучше, чем они короче: вернемся.
Этому случаю поэт, по всей вероятности, обязан был свободой, а то и жизнью. Будь он арестован после декабрьских событий, да еще с таким прошлым, его повесили бы вместе с Рылеевым или сослали в Сибирь с Трубецким.
В Пскове он узнал о смерти и ссылке друзей. Борец по натуре, он тотчас выразил свои чувства: «Еще все-таки я надеюсь на коронацию: повешенные повешены, но каторга 120 друзей, братьев, товарищей ужасна»4.
Знал ли император Николай о новом оскорблении, нанесенном Пушкиным царской власти? Несомненно лишь одно — сразу же вслед за процессом декабристов стихотворец вновь попал в фавор.
Дело в том, что письмо, в котором поэт отказывался принять участие в заговоре, было обнаружено в бумагах подсудимых и представлено императору, а тот, не углубляясь в суть причин, побудивших Пушкина принять подобное решение, просто обрадовавшись поводу оказать милость после столь жестокой расправы, повелел Пушкину возвратиться в Санкт-Петербург.
Когда приказ царя явиться к нему был передан Пушкину, тот решил, что погиб. Быть может, вступив на престол, Николай пожалел о снисходительности Александра? Не намере-
(
V
вался ли он еще раз предъявить поэту счет за оду «Вольность», за которую тот уже достаточно поплатился; или, что еще страшнее, не стало ли известно императору только что написанное двустишие?
В любом случае нельзя было ослушаться царского приказа. Пушкин направился в Санкт-Петербург и, к великому своему удивлению, встретил там самый любезный прием. Император назначил поэта историографом России и для начала велел написать историю Петра I.
Но по свойственному поэтам своенравию Пушкин вместо истории царствования Петра I написал «Историю Пугачевского бунта».
Сами русские не особенно ценят это произведение; новая должность мало вдохновляла Пушкина.
Но следует заметить, что милость императора ни в коей мере не изменила убеждений поэта, и в особенности его симпатий — он не только не забыл своих близких друзей, томившихся в Сибири, нет, они стали Пушкину еще дороже и при всяком удобном случае он посылал изгнанникам стихи, исполненные стонов лебедя либо клекота орла.
Ежегодно воспитанники Царскосельского лицея устраивали обед в честь основания школы, а также для того, чтобы упрочить узы лицейской дружбы, столь тесные в годы учения, но слабеющие среди развлечений света.
Четыре наиболее блестящих ученика, окончившие лицей в один день с Пушкиным, отсутствовали на этом обеде: здесь не было Воль- ховского, который сражался на Кавказе, морского офицера Матюшкина, совершавшего кру-
ь.
М
Ш
ш
к
госветное путешествие, Пушкина * и Кюхельбекера— декабристов, что томились на каторге в Сибири.
Во время обеда Пушкин встал и, хоть, если б на него донесли, ему угрожала бы Сибирь, произнес тост:
Бог помочь вам, друзья мои,
В заботах жизни, царской службы,
И на пирах разгульной дружбы,
И в сладких таинствах любви!
Бог помочь вам, друзья мои,
И в бурях, и в житейском горе,
В краю чужом, в пустынном море И в мрачных пропастях земли!
Вслед за последней строкою воцарилась гробовая тишина, затем весь зал огласился бурей аплодисментов.
На обеде присутствовали шестьдесят лицеистов — и среди них не оказалось ни одного доносчика! Это было бы прекрасно в любой стране, но в николаевской России это выглядело прекраснее, чем где бы то ни было.
Однажды Пушкин неожиданно зашел к одному своему другу — тот как раз писал письмо в Сибирь декабристу. Поэт тоже взял перо и написал:
Во глубине сибирских руд Храните гордое терпенье,
Не пропадет ваш скорбный труд И дум высокое стремленье.
Несчастью верная сестра,
Надежда в мрачном подземелье,
Разбудит бодрость и веселье,
Придет желанная пора.
Любовь и дружество до вас Дойдут сквозь мрачные затворы
%
т
Л г if
I/
ш
V*
/0)
Пущин И. И.
392
Как в ваши каторжные норы Доходит мой свободный глас.
Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут — и свобода Вас примет радостно у входа,
И братья меч вам отдадут.
Стихи эти не могли быть напечатаны, но они широко распространялись в списках и слава Пушкина росла с каждым днем среди молодежи, которой всегда близки великодушные идеи.
Вскоре Пушкин страстно влюбился в молодую девушку и женился на ней.
Тогда, в раннюю пору счастливой семейной жизни, он опубликовал несколько стихотворений—разных по форме, но неизменно полных печали и горькой иронии.
Безграничен поэтический мир Пушкина: гибкий ум его улавливал все, и могучий гений все подчинял той форме, какую поэту угодно было избрать.
По нашему несовершенному переводу вы смогли оценить пушкинскую оду.
А вот эпиграмма:
У Кларисы денег мало,
Ты богат — иди к венцу;
И богатство ей пристало,
И рога тебе к лицу.
Мадригал:
Что можем наскоро стихами молвить ей?
Мне истина всего дороже.
Подумать не успев, скажу: ты всех милей;
Подумав, я скажу все то же.
Любовная лирика:
В крови горит огонь желанья, Душа тобой уязвлена,
Лобзай меня: твои лобзанья Мне слаще мирра и вина. Склонись ко мне главою нежной, И да почию безмятежный,
Пока дохнет веселый день И двигается ночная тень.
Элегия:
Ревет ли зверь в лесу глухом, Трубит ли рог, гремит ли гром, Поет ли дева за холмом,—
На всякий звук
Свой отклик в воздухе пустом Родишь ты вдруг.
Ты внемлешь грохоту громов,
И гласу бури и валов,
И крику сельских пастухов —
И шлешь ответ;
Тебе ж нет отзыва... Таков И ты, поэт!
Поэтическая фантазия:
Ворон к ворону летит,
Ворон ворону кричит:
«Ворон, где б нам отобедать? Как бы нам о том проведать?»
Ворон ворону в ответ:
«Знаю, будет нам обед;
В чистом поле под ракитой Богатырь лежит убитый,
Кем убит и отчего,
Знает сокол лишь его,
Да кобыла вороная,
Да хозяйка молодая.
Сокол в рощу улетел,
На кобылку недруг сел,
А хозяйка ждет милого,
Не убитого, живого.
Приведенные стихи вместе с отрывками о Петре и о летних ночах дадут, надеюсь, представление о поэзии Пушкина; к тому же всякий раз при встрече с поэтом мы не упустим случая перевести его стихотворения на французский язык.
Еще Пушкин создал два тома прозаических произведений: первый посвящен заговору Пугачева, второй содержит несколько повестей; одна из них — «Капитанская дочка» — знакома читателям Франции.
Мы перевели другие три повести: «Выстрел», «Метель» и «Гробовщик».
Талант Пушкина достиг своего расцвета, и исключительной популярности, когда произошли события, лишившие Россию гения, которому не исполнилось и тридцати восьми лет.
Русская аристократия завидовала Пушкину, стяжавшему гораздо более громкую славу, нежели отпрыски самых знатных родов.
Во время войны лира поэта заглушала бряцание оружия. В мирное время она запечатлевала малейшее трепетанье воздуха, многозвучные жалобы души.
Сыграть решили на страстной натуре поэта, в котором бурлила африканская кровь: уж если не разбить ему сердце, так нанести кровоточащую рану.
Не проходило и дня, чтобы Пушкин не получал анонимного письма.
Письма эти были заполнены самыми оскорбительными намеками по поводу супружеской чести.
Подозрения касались молодого человека по имени Дантес, посещавшего дом Пушкина.
Пушкин дал понять Дантесу, что ему не по душе эти визиты. Дантес перестал бывать в доме поэта.
На некоторое время все успокоилось, но однажды вечером, возвращаясь домой, Пушкин снова встретил Дантеса на лестнице.
Гнев ослепил поэта. Не вступая в объяснения, он схватил молодого человека за горло и принялся душить.
Дантес, отбиваясь, смог пробормотать несколько слов — шел он, оказывается, не к жене Пушкина, а к ее сестре.
— Докажите, что вы не лжете,— произнес Пушкин.— Вы любите сестру моей жены?
— Да.
— Ну так женитесь на ней.
— Я прошу руки вашей свояченицы, сударь,— ответил Дантес.— Благоволите передать мою просьбу ее родителям.
Месяц спустя Дантес женился на мадемуазель Гончаровой, свояченице Пушкина.
После такого доказательства невиновности Дантеса и госпожи Пушкиной делу, казалось, пришел конец.
Но вновь посыпались анонимные письма. В них говорилось, что женитьба служит лишь постыдным прикрытием близости любовников.
Несколько месяцев Пушкин сдерживал ярость, горечь, ненависть, кипевшие в его сердце; затем, не в силах больше видеть свояка, объявил ему, что тот должен или покинуть Россию, или драться на дуэли.
Дантес привел все доводы, чтобы убедить Пушкина, но Пушкин обезумел.
Он угрожал, что публично оскорбит Дантеса— пусть выбирает между дуэлью и бесчестием.
396
riö
Дантес умолял отложить дуэль на две недели, надеясь, что тем временем ревнивец успокоится и откажется от своего ужасного решения.
Пушкин согласился подождать две недели, йо утром на пятнадцатый день его секундант, подполковник Данзас, ныне генерал, явился к Дантесу.
Тот через посредничество секунданта пытался воззвать к лучшим чувствам Пушкина. Будучи исключительно смелым человеком, он все же испытывал глубокое отвращение к этой бессмысленной дуэли.
В конце концов пришлось уступить — Пушкин поставил жесткие условия. Решили стреляться из пистолетов. В России все дуэли происходят на пистолетах, так дрался Лермонтов — поэт, наследовавший гению Пушкина, тоже пал, сраженный пулей.
В тот же день противники сошлись на поляне, в полуверсте от Невы, в лесу на окраине города. Пистолеты были заряжены.
Пушкин сам осмотрел оружие, чтобы убедиться, что пули не вынуты.
Отмерили тридцать шагов. Противники должны были стреляться, двигаясь навстречу друг другу. Каждый дуэлянт мог пройти десять шагов, таким образом, стреляли с десяти метров.
Дантес оставался на месте; он выстрелил, когда Пушкин шел ему навстречу, сделав всего восемь шагов. Следовательно, Дантес стрелял с двадцати двух шагов. Пушкин упал, но тотчас привстал, прицелился и нажал курок.
Дантес ждал, закрыв лицо разряженным пистолетом.
Пуля прошла навылет через предплечье и вырвала пуговицу мундира.
— Продолжим,— сказал Пушкин.
Но тут силы оставили поэта, и он вновь упал.
Дантес хотел было подойти, но ненависть пересилила боль: Пушкин жестом отстранил его. Дантес отошел.
Тогда секунданты осмотрели рану Пушкина. Пуля прошла в правую часть живота между печенью и нижними ребрами и застряла во внутренностях.
Пушкина перенесли в экипаж и отвезли домой. Было шесть часов вечера.
Данзас передал раненого слуге. Тот, взяв поэта на руки, отнес его по лестнице в квартиру.
— Где вас положить, барин? — спросил- слуга.
— В кабинете,— ответил Пушкин,— и смотри, чтобы жена не увидела.
Госпожа Пушкина ничего не знала.
Пушкина внесли в кабинет. Он стоял, опираясь на кресло, пока с него снимали одежду, окровавленную рубашку и надевали чистое белье; затем лег на диван.
Слуга уже накрывал его простыней, когда Пушкин услыхал шаги жены.
— Не входи,— закричал он,— у меня люди.
Но жена, заподозрив неладное, все же
вошла.
— Что с тобой, Боже мой? — спросила она, видя, что муж, бледный, лежит на диване.
— Мне нездоровится, и я прилег,— ответил Пушкин.
— Послать за врачом?
— Да, за Арёндтом, напиши ему записку.
Таким способом удалось заставить жену
удалиться. В ее отсутствие поэт дал указание лакею: если не найдут Арендта, пойти к Шоль-
398
цу и Задлеру, двум знакомым врачам, затем предупредить ^друзей — Жуковского и доктора Даля, скорее литератора, чем врача.
Ни Жуковского, ни Даля, ни Арендта не оказалось дома. Лакей застал лишь Шольца и Задлера. Оба сразу же примчались. Данзаса и госпожу Пушкину попросили выйти, вернее, Данзас увел супругу поэта, и врачи осмотрели рану.
— Мне очень худо,—сказал Пушкин, с мукой поворачиваясь, чтобы врачи могли лучше видеть.
Шольц подал знак Задлеру, и тот поехал за хирургическими инструментами. Оставшись наедине с Шольцем, раненый спросил:
— Что вы думаете о моем состоянии, говорите откровенно.
— Не могу от вас скрыть: рана тяжелая и опасная,— ответил Шольц.
— Договаривайте: я обречен, не так ли?
— Придет время, и я сочту своим долгом сказать вам всю правду. А теперь подождем Арендта, он очень сведущий медик, мы должны обменяться мнениями. Лишнее суждение, каково бы оно ни было, вам не помешает.
— Благодарю,— сказал Пушкин по-французски,— вы ведете себя как порядочный человек. Мне надо устроить домашние дела.
— Может, предупредить кого-нибудь из ваших родственников или друзей? — спросил j Шольц.
Пушкин промолчал; потом повернул голову к книгам и сказал по-русски:
— Прощайте, мои добрые друзья. !
Но нельзя было понять, к кому он обращал-
ся — к мертвым или к живым. \]
Немного погодя спросил:
— Думаете, я проживу еще час?
— О, несомненно! Я спросил только потому, что полагал, вам будет приятно увидеть кого-нибудь из близких, например, господина Плетнева, он здесь.
— Да,— ответил Пушкин,— но прежде всего я хотел бы увидеть Жуковского.
Потом внезапно попросил:
— Дайте воды, у меня останавливается сердце.
Шольц пощупал пульс, рука была холодная, пульс слабый, ускоренный. Он вышел из комнаты, чтобы приготовить питье.
Пока Шольц готовил питье, вошел Задлер с хирургическими инструментами. Он привел доктора Саломона.
Тем временем прибыл и доктор Арендт. При первом же исследовании он убедился, что никакой надежды нет.
Арендт прописал холодные компрессы на рану и освежающее питье.
Лечение помогло — раненому стало легче.
Тут появился домашний врач Спасский, Арендт поручил ему уход за больным.
Три других доктора, зная, что Спасский — опытный врач, а кроме того, друг Пушкина, удалились вместе с Арендтом.
— Мне очень плохо, мой милый Спасский,— сказал больной, когда врач подошел ближе.
Спасский попытался его успокоить, но Пушкин обреченно махнул рукой. С этой минуты он уже, казалось, перестал думать о себе, мысли о жене всецело поглотили его.
— Главное, не обнадеживайте ее,— сказал он Спасскому,— не скрывайте моего состояния. Вы ведь знаете, как она слаба. А со мной делайте что угодно, я на все согласен, готов ко ! всему.
Ь;
И действительно, госпожа Пушкина, не зная, сколь велика опасность, была в полном отчаянии, и это легко понять: убежденная в своей невиновности, она вместе с тем прекрасно понимала, из-за чего произошла дуэль; жена поэта не могла себе простить, что стала невольной причиной несчастья, всей глубины которого она пока не подозревала. Время от времени она неслышно, словно тень входила в комнату мужа. Он лежал, повернувшись к стене, и не мог ее видеть, но каждый раз, когда она оказывалась рядом, несомненно, чувствовал ее присутствие и тихо говорил Спасскому:
— Здесь моя жена, уведите ее, прошу вас.
Казалось, раненого беспокоили не столько
собственные страдания, сколько то, что их увидит жена.
— Бедняжка,— сказал он как-то Спасскому, слегка пожав плечами, — свет осудит ее с наслаждением, а между тем она не виновна.
Обо всем этом он рассуждал спокойно, будто был здоров, как обычно: за исключением двух-трех часов первой ночи, когда страдания превышали пределы человеческих сил, он был поразительно сдержан.
— Я присутствовал при тридцати сражениях,— часто повторял впоследствии доктор Арендт,— видел многих умирающих, но не встречал ни одного, обладавшего таким мужеством, как Пушкин.
Произошло нечто, еще более поразительное. У Пушкина был раздражительный и вспыльчивый нрав. Так вот. Когда первые часы страдания прошли, поэт стал неузнаваем. Буря, клокотавшая всю жизнь в его сердце, казалось, совершенно утихла, не оставив и следа. Поэт не произнес ни единого слова, которое
401
напоминало бы о его былой несдержанности. Словно умиротворенный близостью смерти, его дух парил над человечеством, забыв о ненависти и прочих земных страстях. Греч и Булгарин постоянно нападали на Пушкина в своем журнале, и почти всегда он отвечал им с мрачной горечью. Так вот, во время мучений он вспомнил, что накануне получил известие о том, что умер сын Греча.
— Кстати,— сказал он Спасскому,— если увидите Греча, передайте ему привет и сердечные соболезнования.
Раненому предложили исповедаться и причаститься. Он на все согласился, спросил у врача, доживет ли до завтрашнего дня, и, получив утвердительный ответ, распорядился привести священника к семи часам утра.
По совершении обряда Пушкин, казалось, обрел еще большую ясность духа. Он позвал Спасского и попросил отыскать кое-какие бумаги, указав, где они находятся. Это были записки, сделанные его рукой.
Затем пригласил Данзаса, приехавшего рано утром справиться о здоровье больного, и попросил подполковника записать некоторые свои долги.
Это занятие так утомило Пушкина, что он даже не пытался отдать другие распоряжения, о которых говорил прежде.
Он вдруг почувствовал страшную слабость, и ему показалось, будто он сейчас умрет. Задыхаясь, он обратился к Спасскому:
— Жену, позовите жену!
Госпожа Пушкина, находившаяся, вероятно, за дверью, сразу же вошла в комнату.
Трудно описать эту скорбную сцену.
Пушкин попросил позвать детей: они еще спали, их разбудили и полусонных привели к
402
отцу. Он долго смотрел на них, каждому положил руку на голову и благословил; затем, почувствовав, что волнение слишком глубоко, и желая сохранить силы для решающего момента, жестом попросил увести их. Когда дети вышли, умирающий спросил у Спасского и Данзаса:
—- Кто здесь?
Назвали поэта Жуковского и князя Вяземского.
— Пригласите их,— тихо сказал Пушкин.
Он подал руку Жуковскому; тот ощутил,
что ладонь ледяная, поднес ее к губам и поцеловал.
Князь Вяземский хотел заговорить, но слова застряли в горле. Он отошел, чтобы скрыть рыдание, но Пушкин позвал его.
— Передайте императору,—тихо промолвил он,— что мне жаль умирать: я был предан ему. Скажите, что я желаю ему долгого, очень долгого царствования, пусть счастлив будет в детях, пусть будет счастлив судьбой России.
Поэт произнес эти слова медленно, слабым голосом, но отчетливо и внятно, потом простился с князем Вяземским.
В этот момент вошел Виельгорский, известный виолончелист, придворный церемониймейстер. Пушкин, молча улыбаясь, протянул ему руку, а рассеянный взор поэта, казалось, уже погрузился в вечность.
И действительно, спустя мгновение он пощупал себе пульс и сказал Спасскому:
— Наступает смерть.
Приблизился Тургенев, дядя знаменитого современного романиста; как и с Виельгор- ским, Пушкин молча простился с ним, сделав
403
1
знак рукою, потом произнес с трудом, ни к кому не обращаясь:
— Госпожа Карамзина*5.
Ее здесь не было. За ней послали. Она приехала. Свидание длилось всего минуту, но когда Карамзина хотела удалиться, Пушкин снова позвал ее и сказал:
— Екатерина Алексеевна, перекрестите вашего друга.
Госпожа Карамзина перекрестила раненого, и поэт поцеловал ей руку.
Только что принятая доза опиума и смягчающие компрессы, приложенные к ране, несколько облегчили боль. Он стал кротким, как дитя; ни на что не жалуясь, послушно помогал тем, кто ухаживал за ним, так что могло показаться, будто ему лучше.
В таком состоянии его застал доктор Даль, писатель и врач, о котором мы уже упоминали.
При виде друга, которого он ожидал с прошедшего вечера, Пушкин сделал отчанное усилие.
— Друг мой,—сказал он, улыбаясь,—ты вовремя пришел, мне очень плохо.
Даль ответил:
— Все мы надеемся на твое выздоровление, почему же один ты отчаиваешься?
Пушкин покачал головой.
— Нет,— сказал он,— земные дела уже не для меня, я умираю. Значит, так надо.
Пульс был жесткий и наполненный, больному приложили пиявки, пульс участился и стал слабее.
Пушкин заметил, что Даль менее удручен, чем другие, он взял его за руку и спросил:
* Вдова историка. (Примеч. Л. Дюма.)
— Даль, здесь кто-нибудь есть?
—* Никого,— ответил тот.
— Тогда скажи, я скоро умру?
— Умрешь! О чем ты? Мы надеемся на выздоровление.
Улыбка невыразимой печали скользнула по губам Пушкина.
— Вы надеетесь,— сказал он,— благодарю.
Всю ночь 29 января Даль провел подле его
ложа, между тем как Жуковский, Вяземский и Виельгорский бодрствовали в соседней комнате. Раненый почти все время держал Даля за руку, но уже не произносил ни слова, прикасался губами к стакану с холодной водой, отирал льдом свои покрытые потом виски, прикладывал к ране теплые салфетки, которые менял сам, и, несмотря на страшные боли, ни на что не жаловался.
Только один раз в унынии произнес, закинув руки за голову:
— О, как мне все надоело, сердце мое словно раскалывается, но почему оно не может разбиться совсем?
Он попросил Даля поддержать его и помочь повернуться, положить подушку повыше или пониже, но, не давая времени исполнить все это, бормотал:
— Ладно, так хорошо, очень хорошо.— И затем: — Оставь, оставь, не нужно, немного только потяни меня за руку!
Как-то он спросил:
— Даль, кто у моей жены?
— Много благородных людей, которые сочувствуют твоим страданиям. Гостиная и передняя полны.
— Благодарю,— отозвался Пушкин,—пойди к жене, скажи, что все хорошо, ведь она может подумать Бог знает что.
И действительно, многие приходили сами от себя осведомиться о состоянии поэта; были и такие, которых посылали справиться, так что дверь передней, расположенная по соседству с кабинетом Пушкина, все время хлопала. Этот шум беспокоил поэта. Дверь закрыли и открыли другую, из буфетной, так что в столовую проходили лишь наиболее близкие друзья. Вдруг Пушкин спросил:
— Который теперь час?
— Десять часов вечера,— ответил Даль.
— Боже, сколько времени я должен еще страдать? Ради Бога, скорее бы... скорее! Когда же конец? Скорее... скорее!
Он попытался приподняться, но, обессиленный, упал, обливаясь потом.
Когда раненого одолевала слишком сильная боль или охватывало невыносимое чувство безысходности, он зажимал рот рукой и потихоньку стонал.
— Увы, мой бедный друг,— сказал ему Даль,—надо потерпеть, только не стыдись своей боли, можешь стонать, тогда будет легче.
— Нет, нет,—ответил Пушкин,—жена услышит. Смешно, если эта нелепица, которую называют болью, возобладает над моей волей.
К пяти часам утра боли усилились, возбуждение сменилось предсмертной мукой. Только тогда Арендт сказал определенно:
— Все кончено, он не проживет и дня.
Пульс слабел, руки похолодели, глаза были
закрыты, пальцами умирающий медленно и в молчании брал кусочки льда, чтобы приложить ко лбу.
В два часа дня Пушкин открыл глаза и попросил морошки. Морошка — это нечто среднее между нашей ежевикой и садовой малиной. Ему поднесли то, что он просил.
Тогда поэт произнес довольно твердо:
— Попросите, чтобы пришла моя жена, я хочу, чтобы она подала мне это.
Она пришла, опустилась перед умирающим на колени, подала две-три ложки варенья из морошки и прикоснулась лицом к его щеке.
Тогда Пушкин погладил ее по голове и сказал:
— Ну, хорошо, дело идет на лад, все обойдется, поверь.
Спокойное выражение его лица, твердый голос обманули молодую женщину, она успокоилась и вышла из комнаты.
— Вы идите к нему,— обратилась она к доктору Спасскому,— благодарение Богу, ему стало лучше, он не умрет.
А в то время, когда она это говорила, смерть приближалась.
Узнав, что Пушкину стало легче, к нему вошли наиболее близкие друзья — Жуковский и Виельгорский.
Даль шепнул на ухо Жуковскому:
— Начинается агония.
Однако сознание оставалось ясным.
Лишь время от времени поэт впадал в забытье. Вдруг он схватил за руку Даля и сказал:
— Подними же меня повыше, и устремимся ввысь, ввысь!
Было ли то началом бреда? Или устремлением к Богу?
Придя в себя, Пушкин произнес, показывая на книжный шкаф:
— Мне почудилось, что я поднимаюсь вместе с тобой по полкам с книгами все выше и выше, и у меня закружилась голова.
Некоторое время спустя, не открывая глаз, он стал искать руку Даля и, найдя ее, сказал:
— Ну, пойдем же, ради Бога, пойдем вместе.
Даль, рискуя причинить раненому боль, взял его на руки и приподнял.
Вдруг, словно пробудившись от этого движения, Пушкин открыл глаза, лицо его просияло и он произнес:
— Ну, вот! Значит, все кончено, я ухожу, ухожу...
Вслед за тем, упав на подушку, добавил:
— Я едва дышу, задыхаюсь.
То были последние его слова.
Движение груди, до тех пор ровное, стало
прерывистым, последовал вздох, такой нежный, спокойный, легкий, что никто из присутствующих его не заметил. А ведь это был его последний вздох.
— Ну, что? — спросил Жуковский после минутного молчания.
— Все кончено,— ответил Даль6.
Это произошло 29 января 1837 года, в два часа сорок пять минут. Пушкину еще не исполнилось тридцати восьми лет.
А вот что последовало за смертью поэта.
Жуковский решил снять маску с лица покойного друга, послали за формовщиком, и маска была снята.
Смерть еще не успела изменить выражение его лица, смиренное и величественное.
Нужно было позаботиться и о покойном, и о его вдове. Княгиня Вяземская и госпожа Загряжская постоянно находились при ней. Другие занялись похоронами.
На следующий день ближайшие друзья Пушкина — Даль, Жуковский, Виельгорский и Тургенев — положили его тело в гроб.
В течение всего времени, пока тело покойного оставалось в квартире, дом был заполнен
множеством посетителей. Более десяти тысяч человек приходили отдать последний долг поэту. Отовсюду слышались рыдания: одни потеряли родственника, иные — друга, страна — великого поэта.
Отпевание состоялось первого февраля. Присутствовал весь высший свет Санкт-Петербурга, министры русские и иностранные. После окончания панихиды гроб поместили в склеп, где он должен был находиться до тех пор, пока его не увезут из города.
Третьего февраля в десять часов вечера все собрались вновь на последнюю панихиду. Вслед за тем в полночь при свете луны, которая, казалось, с особой печалью освещала последний путь своего певца, гроб установили на сани, и они тронулись. Один лишь Тургенев сопровождал покойного поэта.
Пушкин не однажды говорил жене, что хочет быть похороненным подле монастыря Успения Пресвятой Богородицы, рядом со своей матерью.
Монастырь этот расположен в Опочецком уезде Псковской губернии,: в четырех верстах от села Михайловского. В молодости Пушкин провел здесь несколько светлых, поэтических лет.
Четвертого февраля в девять часов вечера сани с гробом прибыли во Псков, откуда кортеж отправился к месту последнего упокоения. Путь лежал мимо трех одиноких сосен, столь любимых Пушкиным и воспетых им в стихах. В монастырь прибыли пятого февраля в семь часов вечера.
Гроб с телом усопшего установили в кафедральном соборе, где в тот же вечер произошло отпевание.
Ночью для покойника вырыли могилу рядом с могилой его матери, а на следующий день рано утром после малой обедни гроб с телом был опущен в могилу в присутствии Тургенева и крестьян села Михайловского, пришедших отдать последний долг своему барину.
На гроб упали первые комья земли, и особенно печально прозвучало произнесенное священником библейское речение: «Прах ты
и в прах возвратишься».
Но, к счастью, когда речь идет о поэте, это смиренное и грустное напутствие относится лишь к телу. У поэта две души: одна возносится в небеса и возвращается к Богу, другая со своими песнями остается на земле.
Быть может, я слишком долго рассказывал о предсмертных часах моего героя; сведения эти я почерпнул из письма Жуковского к отцу поэта. Могут сказать, что оно интересно лишь родителю, только что потерявшему сына.
Но у поэта не только две души — у него есть и две матери. Первая лежит в могиле и ждет, когда сын соединится с нею, как это произошло с Пушкиным; вторая живет вечно и следит за могилой, это ревностная мать, которой тоже интересно, как умерло ее дитя. Имя этой матери — бессмертная Память в потомстве.
AK ВАС ОБСЛУЖИВАЮТ
В РОССИИ
ели вы еще помните о Дандре и вас волнует его судьба, то успокойтесь — Дандре не отправился в Сибирь, наши вещи— пятьдесят семь мест — не были конфискованы; после трехдневного ожидания мы получили все.
Первым делом я кинулся к ящику с книгами— большая их часть была запрещена в России, и я боялся, как бы таможня не наложила на них лапу. Оказалось, ни одну даже не раскрыли. Уж не знаю, откуда русские власти проведали о моем предстоящем приезде, но, так или иначе, был отдан приказ не вскрывать мои чемоданы.
А Дандре задержался из-за восьмидесяти платьев и тридцати шести шляпок графини. Все это прибыло вполне благополучно, за исключением панамы 1рафа.
Панама графа, как и любая панама, имеет подкладку; эта особенность насторожила таможенников, заподозривших, что между подкладкой и верхом спрятаны многие метры английского кружева или алансонского шитья. Таможенники обследовали панаму с такой тщательностью, как если бы это была бочка с вином или тюк с кофейными зернами. Результатом явились шесть пробоин, кото-
411
рые сделали злополучную панаму непригодной к употреблению.
Граф отнесся к этому философски и распорядился, чтобы ему купили панаму русского производства. Можно понять его упорство в выборе именно соломенной, а не фетровой шляпы — жара стоит ужасная: тридцать градусов в тени.
Я завладел своими тремя тюками и велел отнести их к себе в комнату. Наконец-то у меня есть сорочки и парадная пара, и я смогу в надлежащем виде отпраздновать день рождения моей соотечественницы.
Здесь все делается не так, как везде; нынче утром, часов около семи, меня разбудил четкий строевой шаг — словно бы приближался патруль. Топот стих в комнате Муане — соседней с моей, затем последовал какой-то спор на русском и французском языках.
Муане, по-видимому полагавший, что я сплю, преградил путь в мою комнату.
В какой-то момент мне показалось, что Муане сдал позиции и вынужден уступить.
И в самом деле, шаги приблизились, столь же размеренные и четкие, дверь распахнулась, и передо мной предстал отряд человек в двенадцать, все в красных и розовых рубахах, каждый вооружен полотерной щеткой и прочими инструментами.
Это были графские полотеры. Они тотчас завладели моей комнатой и принялись за работу—-все разом. Я взгромоздился на стул, как потерпевший крушение лезет на скалу, спасаясь от бушующих волн. Здесь волны бушевали со страшной силой — одни скользили, приплясывая на одной ноге, другие терли пол, стоя на четвереньках, я же перепрыгивал со стулом
.iS
с места на место. Через пять минут паркет сверкал как зеркало. Во Франции это продолжалось бы более часа.
Такая куча полотеров имеет свои преимущества, но и свои неудобства. Мужику свойствен совершенно особый запах, известный во Франции под названием «русская кожа».
Мужик ли придает этот запах коже, кожа ли — мужику? Глубокая и таинственная загадка, так до сих пор и не решенная.
Но как бы там ни было, моя комната после натирки полов до того пропахла русской кожей, или мужиком, что я вынужден был распахнуть окна и пожечь немного ароматического уксуса.
Ту же операцию и с той же быстротой проделали в комнате Муане. За два-три часа весь первый этаж особняка Безбородко — площадью в несколько сот квадратных метров — был натерт. Для такой гигантской работы одному человеку потребовалась бы неделя, так что, закончив последнюю комнату, он должен был бы начать все сначала.
Вообще невозможно себе представить всю армию разного рода слуг, суетящихся внутри русского дома. Даже хозяин точно не знает, сколько их на самом деле. Я уже говорил, что в доме графа было около восьмидесяти слуг.
При этом я имел в виду только дневных: а ведь есть еще и ночные. В городе они зовутся дворниками: это наши портье. В деревне их называют караульными: это сторожа.
В городе портье ночует у себя дома только через день. Каждый портье сговаривается с соседом: один портье присматривает за двумя домами. В любую погоду он всю ночь напролет находится на улице. Это уже его забота, как
413
укрыться от проливного дождя осенними ночами или от 25—30-градусного мороза зимой.
В одной руке у него доска, в другой барабанная палочка. Он выбивает на доске некий мотив — всегда один и тот же,— который дает знать, что дворник бодрствует и, следовательно, исправно несет свою службу.
Порою он обходится без доски и выбивает свой мотивчик на деревянных колоннах фасада. Так получается еще звонче.
От этого вы каждый час просыпаетесь, но, по крайней мере, знаете, что можно спать спокойно: дворник бодрствует.
Дворник — это полиция, которую содержит и оплачивает не правительство, а частные лица.
Дворник удобен еще и тем, что если ночью вы разыскиваете какой-нибудь дом, то, переходя от дворника к дворнику, в конце концов обязательно его найдете.
Более того, если у вас какое-то дело к жильцу, дворник, имеющий ключи от двух охраняемых домов, присмотрится к вам и, если ваша одежда и манеры внушают доверие, откроет вам нужную дверь, а если вы в этом доме впервые, возьмет вас за руку и проведет в темноте на нужный этаж. Это имеет как преимущества, так и неудобства.
Вы не сможете прибегнуть к последнему средству — к шнурку, за который наш сонный парижский портье дергает с таким величественным равнодушием и затем, гарантируя вам абсолютное инкогнито, предоставляет полную свободу действий.
Но неудобства дворника исчезают с помощью рубля или даже более скромной суммы, а поскольку в России портье исключительно
414
мужского пола, ваши любовные тайны не становятся предметом пересудов.
Обратимся теперь к караульным.
Караульный (единственное число от караульные) — это обычно отставной солдат. В России отставные солдаты, хотя и вышедшие из крепостного сословия (рекрутский набор составляет обычно восемь душ на тысячу), после восемнадцати, двадцати или двадцати пяти лет службы возвращаются в родные места свободными. Во Франции мы бы выразились поэтически: вернулись к родному очагу.
Но увы! В России для бедняги-ветерана до сих пор нет родного очага. У него уже нет права на жилище, на земельный надел, жалкий клочок земли в шесть арпанов, нет права на застольную и вообще нет права ни на что. Отслужив своему отечеству, он стал парией.
В награду за службу правительство гонит его, а помещик не пускает на порог.
Правда, по дороге в Царское Село есть приют для инвалидов, возведенный по типу нашего, он рассчитан на три тысячи душ. Но в этом доме новейшего образца — сто пятьдесят служащих и восемнадцать инвалидов.
В России, как и везде, но больше, чем где бы то ни было, благотворительные заведения имеют целью прежде всего содержать известное число чиновников. Те, для кого они были основаны,— это уж во вторую очередь, если очередь вообще до них доходит.
Ну и что из того! Заведение существует; больше ничего и не требуется. Россия — это громадный фасад. А что за этим фасадом — никого не интересует. Тот, кто силится заглянуть за фасад, напоминает кошку, которая, впервые
i
$
ж
\{[
и
увидев себя в зеркале, ходит вокруг, надеясь найти за ним другую кошку.
И самое удивительное — в России, стране злоупотреблений, все, от императора до дворника, жаждут пресечь их. Все о них говорят, все о них знают, их обсуждают и сетуют на них; остается лишь воздеть очи к небу и воскликнуть: «Отче наш на небеси! Избавь нас от злоупотреблений!» А злоупотребления шествуют с гордо поднятой головой.
На императора Александра II возлагают большие надежды в смысле их пресечения, и те, кто так думает, правы; он искренне, от всего сердца желает всеобщей реформы. Но как только в России пытаются прикоснуться к какому-либо злоупотреблению, знаете, кто испускает самые пронзительные вопли? Те, кого в нем обвиняют? О нет, это было бы очень уж неуклюже.
Громче всех вопят виновные в совсем других злоупотреблениях, боясь, что наступит и их черед.
В артишоках первыми съедают самые жесткие листья, которые труднее всего оборвать. Злоупотребления — это гигантский артишок, весь усеянный колючками,— пока доберешься до сердцевины, исколешь себе все пальцы. Впрочем, к этой теме мы еще вернемся.
Если русские считают, что я плохо отзываюсь о России, когда говорю о злоупотреблениях, представляющих подлинную язву их страны, они глубоко ошибаются. Так ребенок видит врага в медике, ставящем ему пиявки, или в дантисте, удаляющем больной зуб.
Но вернемся к караульным.
Итак, мы выяснили, что солдаты, отслужившие свой срок,— настоящие парии, лишенные
^57
416
ж
S
w
ш
l)I
права на жилье, на обработку шести арпанов, на застольную.
Если у солдата есть семья и эта семья сжалится над ним, ветеран возвращается в семью; и если он сохранил целыми руки-ноги, он будет помогать родным; его труд будут терпеть.
Но если у него нет семьи, он даже не имеет права наняться в работники.
Если у него нет медалей, ему остается одно — воровать.
Если у него две или три медали, он нищенствует, стоит на коленях на большой дороге или на церковной паперти, целует землю у ваших ног и живет на те четыре-пять копеек в день, которые кидают ему сердобольные души.
В те дни, когда сердобольные души не встречаются,— а такие дни в календаре бывают,— он обходится без еды, разве что накануне был избыток сердобольных душ.
Если у него пять, шесть или восемь медалей, он имеет шанс стать караульным —у караульных графа до шести или восьми медалей. Я уже говорил, что караульными зовутся деревенские сторожа. Караул буквально значит служба, стража.
Если на человека напали ночью, он кричит: «Караул! Караул!»
Значит, он зовет стражу.
Итак, нас охраняют шесть или восемь караульных, которые день и ночь на ногах.
Они стоят снаружи, у ворот, у входа в дом, у начала каждой аллеи, по углам сада.
По-видимому, они сменяются, и пока одни бодрствуют, другие спят. Но вот что мне доподлинно известно: в какое бы время дня или ночи нам ни случалось выходить, мы видели
щ
Щ\
Щ
ш
d
0 V4
RÎ
Ä
16 А.Дюма, т.1
417
9
караульного в передней, караульного у дверей и караульного у входа в сад.
При нашем появлении бедняги вскакивали и вытягивались по струнке, взяв под козырек.
Шагу не ступишь, не встретив в любое время суток караульного — левая рука по шву, правая приложена к фуражке.
Представьте себе чудака, который, вместо того чтобы справить нужду дома, выйдет на вольный воздух, чтобы при свете луны произвести некое действие, предусмотренное нашим старым, превосходным префектом Сены, г-ном де Рамбюто. Так вот, пока этот оригинал не завершит свою акцию, в двух шагах от него будет торчать по меньшей мере один караульный, не отводя взгляда и не меняя позы.
Сначала это стесняет, как если бы мимо окон вечно следовала похоронная процессия; потом привыкаешь.
А помянуть добрым словом де Рамбюто меня заставило вот что: начальники русской полиции не настолько привержены чувству живописного, чтобы воздвигнуть на Невском проспекте, или на Большой Морской, или на набережных маленькие колонки, увенчанные голубым в звездочках куполком, наподобие тех, что украшают парижские бульвары.
Для иностранца, который, не делая проблемы из отсутствия таких полых колонок, сочтет это простым упущением, установлен штраф.
Запрещается курить, а также останавливаться у стен домов или на углу — разве для того, чтобы поправить подвязку или завязать шнурки ботинок.
Каждое из этих нарушений карается штрафом в размере одного рубля.
Однажды император Николай встретил француза, который, по неведению или пренебрегая запретом, курил чистейшую гаванскую сигару, со вкусом пуская плотные колечки дыма.
Николай, по обыкновению, в одиночестве совершал свою прогулку на дрожках.
Он велел французу сесть рядом, привез его в Зимний дворец и ввел в курительную великих князей. «Курите здесь, сударь,— сказал он.—Это единственное место в Санкт-Петербурге, где дозволено курить».
Француз докурил сигару и, выходя, спросил, кто этот господин, так любезно доставивший его в единственное место в Санкт-Петербурге, где дозволено курить. Ему ответили: «Это император».
Впрочем, такой запрет вполне понятен в стране, где все строения деревянные и неосторожно брошенный окурок порой приводит к пожару, уничтожающему целую деревню. Поэтому курят на Неве.
Пожары в России случаются часто, и они ужасны.
С историческим пожаром Москвы не могла справиться армия в сто двадцать тысяч человек, каждый из которых был кровно заинтересован в том, чтобы погасить огонь.
Там и сям на площадах возвышаются башни с укрепленными на них блоками и канатами. Блоки предназначены для того, чтобы поднимать вверх шары — это вместо нашего крика: «Пожар!»
Первыми прибывают пожарные того квартала, где случился пожар, поскольку они ближе всего, другие являются позже.
I
щ
%
Ш
ЬА
м
кш
fois
419
Если огонь не очень большой и его можно легко погасить, пожарных, чье присутствие необязательно, не вызывают; при сильном огне, который угрожает распространиться, созывают пожарных из всех кварталов. Нас заверили, что мы не покинем Россию, не увидев хотя бы одного грандиозного пожара. К тому же, как нам сказали, в окрестностях Санкт-Петербурга горят пять или шесть лесов.
Кстати, любезные читатели, его высочество великий князь Константин пригласил к себе нашего спутника г-на Юма.
Господин Юм ответил с грустью и смирением, что он в отчаянии, но не может явиться, ибо уже не обладает былой силой и возможностями.
Если эта сила и возможности к нему вернутся, даю слово, что в тот же миг сообщу вам об этом.
ИСТОРИЧЕСКИЕ
СПРАВКИ
1 «Христина», «Ричард Дарлингтон», «Карл VII», «Нельская башня», «Анжела» — драмы Дюма 1830-х годов. Под человеком, заработавшим миллион на этих пьесах, видимо, подразумевается Феликс Арель, директор театра Порт-Сэн-Мартэн.
2 Буассо — старая французская мера сыпучих тел, равная примерно 13 литрам.
3 .Под отлученным Иовом, по-видимому, подразумевается Мартин Лютер. Великий немецкий реформатор был отлучен от церкви в 1520 г., в 1522 г. изгнан из пределов империи.
4 Каймакам (а р а б с к., каим-макам) — наместник, правитель округа, подчиненный вали или губернатору.
5 Персидский царь Ксеркс велел навести плавучий мост через Геллеспонт, чтобы переправить в Грецию свои войска. Мост был раскидан бурей, и Ксеркс приказал высечь море, как непокорного раба.
421
СЕМЬЯ КУШЕЛЕВЫХ
1 Эльфы — духи в мифологии германских народов; виллисы (виллы) — в южнославянской мифологии духи- женщины, очаровательные девушки с крыльями и с распущенными волосами.
2 Манфред — герой одноименной поэмы Байрона; лорд Рутвен — герой романа Дж.-В. Полидори «Вампир».
3 Гец фон Берлихинген — рыцарь-разбойник, герой одноименной драмы Гете.
4 Имя светлейшего князя А. А. Безбородко тесно связано с екатерининским веком истории России. Безбородко был докладчиком по делам многих ведомств, и недаром императрица, ценившая ум и способности царедворца, называла его своим «фактотумом», то есть доверенным лицом. Однако то, что Дюма говорит о престолонаследных распоряжениях императрицы и об участии в этом А. А. Безбородко, все это — с привлечением художественного вымысла и прямой речи уединившихся собеседников,— большей частью основано на желании пойти дальше известных фактов.
5 Гатчина была куплена в 1783 г. Екатериной II и подарена великому князю Павлу Петровичу. Говорить о ссылке Павла в Гатчину невозможно, просто потому, что это не соответствовало действительности. Другое дело условности придворного этикета, соблюдать который обе стороны были обречены. Между матерью и сыном существовала холодность, но не более. По обоюдному желанию императорский двор пребывал в Петербурге или в Царском Селе, а великокняжеский — большей частью в Гатчине или в Павловске, но это не значило, что дворы не встречались, когда того требовал церемониал.
6 Мальтийский орден основан в XI в., получил свое название в 1530 г., когда о. Мальта был выделен из владе¬
422
ний Сицилийского герцогства и передан Ордену иоанни- тов под условием защиты Средиземноморья от турок. Рыцари ордена оставались на острове до 1798 г., когда остров захватили французы, лишив орден своих владений. Павел I, который ранее разрешил учредить в России Великое приорство ордена (январь 1797 г.), а затем издал манифест «об установлении в пользу российского дворянства ордена Св. Иоанна Иерусалимского», в декабре 1798 г. был избран Великим магистром Св. Иоанна Иерусалимского. Павел возложил на себя знаки нового сана. Резиденция ордена была перенесена в Петербург.
7 Семилетняя война (1756—1763 гг.), в которой участвовали почти все европейские государства, возникла в результате противоборства между Австрией и Пруссией из-за Силезии и в вопросе о Саксонии; возвышение Пруссии, а значит, и распространение протестантизма сплотили католические державы против Фридриха II. Англия и Швеция решили защитить свои владения на континенте с помощью Пруссии. Борьба из-за колоний также в полной мере проявилась в эпоху Семилетней войны.
КАРАВАН
1 По-арабски проводник каравана — караван-баши.
2 Гильошированный — украшенный узорами из пересекающихся линий.
3 Пьеро, Пульчинелло — персонажи итальянской комедии масок.
4 Бегемот, Астарот — духи зла в средневековой демонологии.
5 Криспен — нарицательное имя лакея в итальянской комедии; часть его костюма — короткий плащ с капюшоном.
6 Дюма сравнивает «фамилию» Кушелевых с кругом рассказчиц и рассказчиков из «Декамерона» Боккаччо.
423
СПИРИТ
1 Эммануил Сведенборг, родившийся в 1688 г., действительно умер в 1772 г. Поначалу ученый-натуралист, Сведенборг стал впоследствии знаменитым духовидцем и известным теософом новых времен, основателем секты сведенборгиан. Духовное учение известного математика, механика, астронома, почетного члена Петербургской академии наук отличалось оригинальностью прежде всего в том, что не имело никаких книжных источников: даже в Библии Сведенборг находил основу для своих мыслей лишь при условии того особого толкования, которое он давал священным текстам.
Учение Сведенборга есть абсолютное христианство, поскольку оно предполагает, что самостоятельно существует лишь Христос. Сущность нравственного добра, по мысли ученого, состоит в любви к Богу и к ближнему. Популярности учения шведского мистика несомненно способствовали его ясновидения и духовидения, а также отношение к нему официальной церкви.
2 Утверждение Дюма о том, что г-жа Орсини — дочь Г. Г. Орлова, вызывает сомнения. У Орлова было две дочери — Софья, вышедшая замуж за Буксгевдена, и Елизавета, в браке Клингер.
3 Тюильри — дворец, существовавший в Париже на правом берегу Сены, служивший Наполеону официальной резиденцией. В 1852—1870 гг. являлся резиденцией императора Наполеона III. Во время смут Коммуны пожар уничтожил центральную часть дворца, но пощадил павильоны.
МИНУТА-ДРУГАЯ НА РАЗМЫШЛЕНИЕ
1 Орден Св. Станислава был учрежден в Польше в 1765 г. После присоединения герцогства Варшавского к России Александр I стал награждать им своих польских подданных. В 1831 г. был присоединен к прочим российским орденам. Имел четыре степени, в 1839-м — четвертая была упразднена. Девиз: «Награждая, поощряет».
424
ИЗ ПАРИЖА В КЕЛЬН ЭКСПРЕССОМ
1 В комедии «Мещанин во дворянстве»: «Таков турецкий язык: всего несколько слов, а сказано много» (действие IV, явление VI).
2 Кельн называют городом трех волхвов, поскольку именно в Кельне, в знаменитом соборе, были помещены после разрушения Милана в 1164 г. мощи волхвов, принесших свои дары Спасителю мира в рождественскую ночь.
3 Интервенция 1814 г., о которой пишет А. Дюма,— это продолжение войны союзников — Англии, Австрии, России и Пруссии — против Франции. Три армии —Богемская, Силезская, Северная,— соединившись под Лейпцигом (16—18 октября 1813 г.), после сражения двинулись к Рейну. В первых числах января 1814 г. войска союзников перешли на левый берег Рейна и двинулись к Парижу тремя различными дорогами. Во время этой кампании Наполеон одержал ряд блестящих побед в стремлении остановить неприятеля, но силы были слишком неравны и внутриполитическое положение во Франции не всегда благоприятствовало императору. Враждебность французского населения к оккупантам нередко выливалась в открытые стычки и партизанскую войну.
4 Мода на китайские мотивы отошла в Европе вместе со стилем барокко. На рубеже XVIII и XIX веков, с возникновением классицизма в архитектуре и в особенности в оформлении интерьеров, стали преобладать элементы ранней античности, в особенности эпохи этрусков, чье искусство впервые получило столь широкую известность.
5 Сражение при Бриенне между французской армией и армией союзников имело место 17(29) января 1814 г.
6 Дюма называет Кельн городом Агриппины. Юлия Агриппина, дочь римской императрицы Агриппины и императора Германика, родилась в 16 г. н. э. в г. Убиэр (Кельн) на Рейне. Здесь же по ее желанию была устроена колония и названа в ее честь Colonia Agrippina.
425
БЕРЛИН - ШТЕТТИН
1 В кельнской церкви Св. Урсулы наряду с могилой этой святой покоятся также мощи 11000 девственниц, которые, по преданию, сопровождали Св. Урсулу на пути в Рим и по возвращении из паломничества были убиты гуннами (VII в.).
2 Парфенон — храм богини Афины, построенный на Акрополе в 447—438 гг. до н. э.; Страсбургский собор Норт-Дам (XII—XV вв.) — памятник готической архитектуры.
3 Все, что сообщает Дюма о первоначальной российской истории, восходит к «Истории государства Российского» H. М. Карамзина (точнее к т. 1, гл. IX «Великий князь Владимир, названный в крещении Василием»).
4 Пироскаф (г р е ч.) — поэтическое название парохода.
5 Род князей Долгоруковых, о котором говорится далее в этюде, происходит по прямой линии от князя Михаила Черниговского (замученного в Орде в 1246 г.) и, таким образом,—от Рюрика. Но Григорий Борисович Долгоруков (Роща), защитник Троице-Сергиевой лавры,— это уже младшая ветвь рода Долгоруковых.
Михаил Феодорович (1596—1645) женился в 1624 г. на княжне Марии Владимировне Долгоруковой.
В МОРЕ
1 Город Висби расположен на острове Готланд, принадлежащем Швеции. В эпоху средневековья Висби являлся важным портом Балтики, входил в состав Ганзейского союза, но в 1361 г. был захвачен датским королем Вальдемаром II и после этого не смог вполне оправиться, но благодаря своему положению продолжал играть большую роль в деле торговли. Городское право Висби послужило образцом для городов Прибалтийского края.
2 Сен-Жермен-де-Пре — самая древняя церковь в Париже, построена в VIH в. (перестраивалась в 990—
426
1021 гг.); Нотр-Дам (Собор Парижской Богоматери) — знаменитый памятник готического зодчества (арх. Жан де Шелль, Пьер де Монтрей, закончен в 1345 г.); Сент- Этьен-дю-Мон — церковь в Париже (1610—1626 гг.).
3 Эзель — прежнее название о. Сааремаа.
4 Дюма упоминает Морица, графа Саксонского (1696—1750), маршала, побочного сына курфюрста Августа II. В 1745 г. Мориц Саксонский одержал победу при Фонтенуа над англо-ганноверскими войсками. Ранее избрание Морица герцогом Курляндским действительно не состоялось: со смертью Фридриха-Вильгельма, герцога Курляндского, и после ссоры его преемника Фердинанда с курляндским рыцарством претендентами на курляндский трон явились князь А. Д. Меншиков и Мориц Саксонский (притворившийся влюбленным в Анну Иоанновну), но эти планы были расстроены вмешательством петербургского кабинета, избравшего Анну императрицей (1730).
5 Дюма неточен. Речь идет о датском короле Вальде- маре II (1170—1241), который в 1219—1220 гг. предпринял два крестовых похода на Восток и захватил северную Эстонию. В остальном, что касается событий из истории прибалтийских земель, автор придерживается известных фактов.
6 Основание Кронштадту было положено в 1703 г., когда, по модели Петра I, Меншиков построил форт Кроншлот на отмели в южной части острова Котлин. В 1710 г. в Кроншлоте были заложены новые форты и строительство продолжалось.
7 Дюма сравнивает Петра Великого с гигантом Адама- стором. Поясним, что Адамастор, которого Л. де Камоэнс называет также «гигантом бурь»,— вымышленный персонаж поэмы «Лузиады» (1572). Адамастор, страж мыса Доброй Надежды, встает на пути португальского мореплавателя Васко да Гамы, достигшего со своими кораблями этого мыса, и пытается помешать ему идти дальше для открытия Индии.
427
РОМАНОВЫ
1 Дюма в целом прав в своих оценках «Истории Российской империи в царствование Петра Великого» Вольтера (1759—1763). Сочинение, написанное по заказу, вполне отвечало взыскательному вкусу императрицы Екатерины: имя Вольтера придавало известную достоверность предлагаемым трактовкам, а изящество стиля с успехом оттеняло отдельные мрачные страницы российской истории.
2 Речь идет о Луции Юнии Бруте, сыне Марка Юния и дочери Тарквиния Гордого. Сыновья Брута участвовали в заговоре в пользу свергнутого тирана Тарквиния Гордого; заговор был раскрыт, и Брут, осудив сыновей, присутствовал при их казни.
3 Сын Приама — Парис, похитивший жену Менелая Елену, что послужило причиной Троянской войны.
4 Иоанн III Васильевич, Великий князь Московский, женился вторично на Зое (Софие) Палеолог, племяннице последнего византийского императора Константина IX Палеолога в ноябре 1472 г. Брак оказался важным в деле укрепления престижа Руси и авторитета великокняжеской власти.
5 Колосс Родосский — одно из восьми чудес древнего мира. Бронзовая статуя Гелиоса высотой 33 м стояла на о. Родос у входа в порт, между ногами исполина проходили корабли. Упала при землетрясении в 224 г. до н. э.
6 Изида (Исида) — в древнеегипетской мифологии богиня плодородия, воды, ветра, мореплавания.
СТРЕЛЕЦКИЙ БУНТ
1 События, связанные с борьбой правительницы Софьи с Петром I, относятся к 1689 г. Однако «императором» Петр в Троице-Сергиевой лавре провозгласить себя не мог, ибо уже был в то время царем наряду со своим
428
братом Иоанном V Алексеевичем. Императором Петр стал только в 1721 г.
2 Дюма упоминает о победе императора Леопольда I над турками. Он имеет в виду поражение армии турецкого султана Кара-Мустафы в битве под Веной 12 сентября 1683 г., нанесенное войсками союзника империи короля Яна Собеского. Польскому королю из-за корыстной политики Австрии зта блестящая победа ничего не принесла. Ввести наследственную монархию в Речи Посполитой Яну Собескому не удалось из-за сопротивления польской шляхты и противодействия со стороны Австрии и Бранденбурга. Король умирает в 1696 г.
3 Рийсвикский мирный договор завершил войну 1688—1697 гг. между Францией и Аугсбургской лигой. Мир был подписан 20 сентября 1697 г. между Францией и Великобританией, Францией и Голландией, Францией и Испанией, и 30 октября между Францией и Священной Римской империей. Франция отказалась от многих своих завоеваний, но уже в 1701 г. мир оказался нарушен войной за испанское наследство.
4 Гиперборейское (г р е ч.) — северное.
5 Поединок между Геркулесом и Ахелоем (могущественное речное божество, сын Океана и богини Фетиды) состоялся за право обладания Деянирой, дочерью этолий- ского царя. Ахелой, обратившийся сначала в змею, затем в быка, был побежден Геркулесом, который сломал ему рог.
6 О заговоре думного дворянина и воеводы И. Е. Ци- клера, наперсника Ф. Шакловитого и ненадежного приверженца Софьи, следует сказать, что он возник в начале
1696 г., когда Цикл ер был вызван в Москву и назначен к строению крепостей на Азовском море. В феврале
1697 г. Петр I узнал, что Циклер, окольничий Саковнин и стольник Пушкин составили заговор в намерении поджечь дом, в котором находился Петр, и во время пожара его убить. Царь явился на место собрания заговорщиков
429
и лично арестовал их. В марте 1697 г. Циклер и его сообщники были казнены.
7 Преторианцы — в Древнем Риме личная охрана императора. В эпоху заката империи нередко совершали дворцовые перевороты.
8 После поражения восставших стрельцов в 1698 г. в стенах Иерусалимского монастыря было назначено следствие. 57 стрельцов казнили, остальных отправили в ссылку, но по приказу Петра I, срочно вернувшегося из-за границы 26 августа 1698 г., началось новое следствие («великий розыск»). С сентября 1698 г. по февраль 1699 г. были казнены 1182 стрельца, бит кнутом, клеймен и сослан 601 стрелец.
9 Дюма неточен: после подавления восстания стрельцов Софья была пострижена под именем Сусанны в монахини Новодевичьего монастыря, где и скончалась в 1704 г.
ЖЕНА ДРАБАНТА
1 Дюма допускает неточность: Ф. Я. Лефорту (род. в 1656 г.) было 43 года на момент его смерти в 1699 г.
2 Десятый и последний патриарх всея Руси Адриан (в миру Андрей) (1636—1700) возведен в патриархи в 1690 г. По смерти Адриана преемника ему назначено не было. Местоблюстителем патриаршего престола поставили митрополита Рязанского (а не Крутицкого, что было внове) Стефана Яворского. Эта мера, а также взгляд Петра I на церковь как на правительственное учреждение, подготовили введение духовной коллегии (Синода) как высшего церковного и правительственного учреждения России.
3 Все, что Дюма пишет о деятельности И.-Р. фон Пат- куля (1660—1707), генерал-майора польской службы
430
и русского посланника при польском дворе в основном соответствует действительности. Отметим, что, выданный Швеции по Альтранскому миру (1706 г.), Паткуль был приговорен военным судом к колесованию, а затем к четвертованию. Карл XII утвердил приговор, и Паткуль 10 октября 1707 г. был казнен.
4 Дюма допускает неточность: Карлу XII (род.
в 1682 г.) при вступлении на престол было 15 лет.
5 В Нарвском сражении Петр I действительно не участвовал, поскольку 18(29) ноября 1700 г. уехал в Новгород, возложив командование на герцога де Кроа. В современных исследованиях даются уточненные цифры потерь обеих сторон, но в целом Дюма ненамного отступает от известных фактов.
6 Драбант (н е м.) — трабант, телохранитель, вожатый. Во время военных действий назначался к командующим частями войск для охраны в опасные моменты.
ПЕТР I И КАРЛ XII
1 События Северной войны 1700—1721 гг. изложены без особых отступлений от известных Дюма источников, например, «Истории Петра Великого» Вольтера или другого, более позднего сочинения К.-Ф. Райхе «Петр Великий и его время». Высказывания различных деятелей, в том числе Карла XII и Петра, переданы в этюде без существенных изъятий и авторских добавлений. Тем досаднее ошибки или описки автора, которых здесь не так уж много. (Например, Дюма пишет, что царь заложил Петербург 16 мая 1705 г.; дата дается им только по старому стилю, на самом деле —16(27) мая и уж, разумеется, не 1705, а 1703 г.).
2 Комендант Нарвской крепости — Генниг-Рудольф Горн (ум. в 1730 г.), был взят в плен при осаде Нарвы.
3 В отношении Гродно следует уточнить, что речь идет только об успешном выходе из окружения, который
431
осуществили русские войска по приказу Петра в марте 1706 г.
4 Вероятно, автор говорит о поражении, которое нанесли русские шведскому авангарду 30 августа (10 сентября) 1707 г.
5 Имеется в виду —в зените славы.
6 До Смоленска Карл XII не дошел, но меры на случай его продвижения в направлении города приняты были.
7 Борисфен (г р е ч.) — Днепр, в позднейшее время поэтическое название этой реки.
8 Упоминаются битвы при Арбелле (Гавгамелы), между войсками Александра Македонского и персидского царя Дария I (331 г. до н. э.), в которой македонцы одержали решительную победу; у мыса Акция (31 г. до н. э.), когда флот Октавиана под командованием Марка Агриппы разбил флот Антония и Клеопатры; в сражении при Заме (202 г. до н. э.) римскими войсками Сципиона был повержен Ганнибал; в побоище при Марафоне (490 г. до н. э.) греки под командованием Мильтиада рассеяли персидские войска; в сражении при Бовино (1734 г.) испанцы потерпели поражение от имперских войск.
9 Что касается того, что Петр I якобы не признавал официально Екатерину своей женой до смерти ее первого «мужа» в 1721 г., то к этому не следует относиться серьезно, ибо отношения между Петром и Екатериной были скреплены церковным браком еще в 1712 г.
ЦАРЬ И ЦАРИЦА
1 События относятся к Прутскому походу Петра Великого (1711 г.), когда, потерпев неудачу в битве под Полтавой, Карл XII, усилиями своего поверенного в Констан¬
432
тинополе графа Понятовского, добился того, что султан объявил России войну.
2 Российские войска действительно получили свободный выход из Молдавии в обмен на возвращение султану Азова и ликвидацию русских крепостей на побережье Азовского моря и Днепра. Кроме того, Петр обязался не вмешиваться в дела Польши и признал власть турок над запорожцами. Неожиданную готовность султаната заключить мир одни историки объясняют тем, что визирь Ба- талджи-паша был подкуплен с помощью драгоценностей Екатерины, другие же — тем, что визирь был вынужден пойти на соглашение с царем из-за бунта янычар. Первая версия наиболее устойчива в историографическом плане. (См., например, работу «Histoire de la Russie et ses projets des envahissements», принадлежащую перу А.-Л. Равер- жи, вышедшую в Париже в 1854 г., в которой цитируется письмо царя Сенату и честь освобождения русской армии приписывается целиком Екатерине.)
3 Евдокия Лопухина была пострижена в Суздальском Покровском монастыре, но только полгода носила иноческое платье, а затем стала жить мирянкой в Ладожском Успенском монастыре, откуда и была переведена в Шлиссельбург.
4 Монса казнили по обвинению во взяточничестве. Версия о том, что настоящей причиной казни были его близкие отношения с Екатериной, документальными данными не подтверждается.
5 Орден Святой великомученицы Екатерины действительно был учрежден Петром I в память Прутского похода 1711 г. в день тезоименитства царицы 24 ноября (6 декабря) 1714 г. Знак ордена — белый крест в руке Святой великомученицы Екатерины на пурпурном поле, а в центре— другой белый крест, украшенный лучами. Награда имела две степени и жаловалась исключительно дамам: большой крест ордена — особам царской крови и 12-ти русским дамам; кавалерственный крест по статусу могли носить 94 дамы. Первой кавалерственной особой
433
не царской крови была жена князя Меншикова. По позднейшему статуту, награда жаловалась исключительно императором; все великие княжны получали орден Св. Екатерины при крещении, а княжны императорской крови— по достижении совершеннолетия.
6 Буцефал — конь Александра Македонского.
7 Речь, видимо, идет о следующем эпизоде. Во время военной кампании 1672—1678 гг. французские войска по приказу министра Лувуа поджигали города и селения Рейнской области (Пфальца). Когда Людовик XIV узнал о том, что отправлен очередной гонец с приказом поджечь Трир, король буквально набросился на Лувуа и потребовал немедленно отменить распоряжение.
НА БОРТУ «КОККЕРИЛЯ»
1 Ипполит в греческой мифологии — сын афинского царя Тесея и царицы амазонок Антиопы. Его мачеха Фе- дра, влюбленная в пасынка, была отвергнута им и оклеветала юношу перед отцом. Тесей проклял сына, и Ипполит погиб, растоптанный собственными конями.
XIV. ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ПЕТЕРБУРГА
1 Дюма видит купола Исаакиевского (1818—1858 гг., арх. Монферран), Казанского (1801—1811 гг., арх. А. Н. Воронихин), Троице-Измайловского (1828—1835 гг., арх. В. П. Стасов) и Никольского Морского (1753— 1762 гг., арх. С. И. Чевакинский) соборов.
2 Часовни Смоленского кладбища — перестроены в начале XX в.
3 Николаевский мост — ныне мост Лейтенанта Шмидта— был сооружен в 1842—1850 гг.
4 Главное здание усадьбы графа Кушелева, построенное в 1773—1777 гг. и перестроенное в 1783—1784 гг. по
434
проекту Д. Кваренги, сохранилось до наших дней на правом берегу Невы.
5 Дюма упоминает об Аймоне или Гаймоне, дордонском графе, и четырех его сыновьях Адаре, Ришаре, Рено де Монтобане и Гишаре. Все они, а в особенности Рено де Монтобан — главные герои саги Каролингского цикла.
6 Дом № 4 по Английской набережной.
7 Колонны были отлиты в Берлине по модели скульптора Христиана-Даниэля Рауха и по проекту К. Росси поставлены в начале Конногвардейского бульвара в Петербурге в 1845 г.
8 В отношении лейб-гвардии Павловского полка Дюма, как и многие иностранцы из числа любителей русских курьезов, допускает неверное утверждение, касаясь принципов отбора кандидатов для зачисления в полк. В российскую гвардию, в том числе и Павловский полк, зачисляли на иных, более весомых основаниях.
9 Михайловский (Инженерный) замок (1797—1800 гг., арх. В. И. Баженов, В. Ф. Бренна).
10 Памятник Суворову на Царицыном Лугу (ныне площадь Суворова).
11 О случае с англичанином и решеткой Летнего сада упоминает и граф Д. И. Хвостов в поэме о петербургском наводнении. Об этом поэт сделал особое примечание к своей строке «Решеткой Бецкого дивился Альбион...».
12 Имеется в виду Троицкий мост. Строго говоря, все мосты через Неву, кроме Николаевского, были деревянные, вернее, наплавные.
13 Патагонцы — коренные жители юга Аргентины и Чили, считались самыми рослыми людьми на земном шаре.
435
14 Если речь идет о князе Петре Андреевиче Вяземском, то он был товарищем министра народного просвещения (1856—1858), сенатором и членом Государственного совета.
15 Собор Смольного монастыря был заложен в 1748 г. и вчерне закончен в 1764 г. Во второй половине XVIII в. строительство приостановили; достройка и внутренняя отделка завершены в 1832—1835 гг.
Корпуса Смольного монастыря, заложенные одновременно с собором, возведены к 1764 г., но работы продолжались и в 1832—1835 гг.
16 Кайки — турецкие лодки.
17 Таврический дворец (арх. И. Е. Старов) сооружен в 1783—1789 гг. для князя Г. А. Потемкина-Таврическо- ш в честь завоевания Крыма (Тавриды); Владимирский собор — замечательный памятник архитектуры барокко— возведен в 1761—1769 гг., вероятно, по проекту П. А. Трезини.
18 Измайловский собор — Троицко-Измайловский.
УСАДЬБА БЕЗБОРОДКО
1 Куртина — обложенная дерном гряда для цветов.
2 Церера — богиня плодородия у древних римлян.
3 Имя Семирамиды обыкновенно ассоциируется с известным «чудом света» и могуществом ассирийской царицы, но Дюма прав, когда указывает на иной смысл, который приобретало вольтеровское сравнение Екатерины II с Семирамидой. По преданию, Нин, муж Семирамиды, основатель Ассирийского царства, был отравлен ею ок. 2000 г. до н. э. Сказание об этих событиях было распространено благодаря Ктесию Книдскому, почерпнувшему
-сведения из мидийских источников. Екатерине II угодно было усматривать в «Семирамиде Севера» лишь восхищение фернейского патриарха могуществом российской им¬
436
ператрицы; возможно, она старалась не замечать, а может быть, и впрямь не замечала иного толкования этого сближения.
4 Арпан (фр.) — старинная земельная мера, в разных местностях равная 35—50 арам.
5 Автор описывает кучерской, а не национальный русский костюм.
6 Елисейские поля — поля блаженных в царстве мертвых у древних греков.
7 Дюма упоминает сохранившийся до наших дней универмаг «Пассаж», построенный в 1846—1848 гг. арх. Р. А. Желязевичем. Такие крытые переходы были тогда широко распространены в Европе, особенно в Париже, и включали в себя не только торговые ряды, но и рестораны, выставочные и лекционные залы, театры и прочее. Перспектива — Невский проспект.
МОСТЫ И ПАМЯТНИКИ
1 Говоря о Китайском мостике, Дюма допускает неточность. Мостик украшают не какие-то «уродцы в человеческий рост», а грифоны, которые изготовлены не из дерева, а из гипса.
2 Петр Телушкин, казенный крестьянин Даниловского уезда Ярославской губернии, приводил в надлежащий вид поврежденный осенью 1831 г. ветром крест Петропавловского собора и крылья ангела. Весь подъем мастеровой совершил в два дня: первый был потрачен на приготовление и обход шпиля у люка, а второй —на дальнейший подъем. Кроме пяти тысяч рублей, мастера наградили медалью на Анненской ленте. Слава и посыпавшиеся в след за тем кровельные заказы не пошли Телушкину впрок: он скоро спился и в 1833 г. умер.
3 Алексей Николаевич Оленин (1763—1843) — с 1804 г. почетный член Академии художеств, а с 1817 г.—
437
ее президент. С 1811 г.—директор петербургской Публичной библиотеки.
4 Летний дворец Петра Великого построен в 1710— 1711 гг. по проекту архитектора Д. Трезини при участии А. А. Шлютера.
5 Касательно скульптуры Летнего сада сообщим, что большинство (около двухсот) статуй с пьедесталами и бюсты римских цезарей, ученых и прочее было куплено в 1716—1719 гг. русскими дипломатами за границей, поэтому утверждение Дюма о том, что эта скульптура из варшавских городских парков, не соответствует действительности.
6 Автор памятника Суворову в Петербурге — профессор скульптуры М. И. Козловский. Идея памятника принадлежала, как писал Суворову Ф. В. Ростопчин, вице- президенту Академии художеств графу Шуазель-Гуфье. Памятник после неоднократных «примерок» поставили на Царицыном Лугу весной 1801 г., за что Козловский был произведен в коллежские советники и получил «богатую» табакерку.
7 То, что отец Суворова Василий Иванович стал впоследствии генерал-аншефом (1663 г.), будучи при рождении своего знаменитого сына в чине поручика, в этом Дюма прав, но дедом генералиссимуса был генеральный войсковой писарь в царствование Петра Великого, а никак не священник, служивший в Кремле.
Родился А. В. Суворов в ноябре 1730 г., таким образом, писатель на один год ошибается.
8 Титаны — в греческой мифологии боги первого поколения, рожденные землей Геей и небом Ураном: вступили в борьбу с богами-олимпийцами, которых возглавлял Юпитер (Зевс). Титаны выступили с Офрийской горы, олимпийцы — с Олимпа. Сражение длилось 10 лет и закончилось победой «новых» богов.
438
МЕСТНЫЕ ИСТОРИИ
1 Дополним повествование Дюма тем, что приведем поговорку, записанную В. И. Далем: «Сороковой медведь охотника калечит».
2 Автор неверно цитирует «Божественную комедию» Данте Алигьери. На самом деле поэт встретил рысь, «земную жизнь пройдя до половины» (I, 1).
СКОПЦЫ
1 Дюма пишет об одном из немногих пристрастий Александра II — медвежьей охоте. Царской охотой при императоре заведовал обер-егермейстер В. Я. Скарятин. (См. воспоминания В. Я. Скарятина о несчастном случае во время охоты Государя на медведя: «Русский Архив», 1894, Кн. 2, N& 8.)
2 Ныне площадь Искусств.
3 Железный мост — Николаевский.
4 Нарышкины — дворянский род, происходивший, по сказаниям старинных родословцев, от крымского татарина Нарышка, выехавшего в Москву в 1463 г. Нарышкины возвысились в конце XVII в. благодаря браку царя Алексея Михайловича с дочерью Кирилла Полуектовича Нарышкина. Отец царицы, трое ее братьев и четверо других, более отдаленных, родственников были боярами.
5 Царь Феодор Алексеевич умер в 1682 г. 21 года от роду. Дату смерти царя Иоанна V Алексеевича Дюма указывает правильно.
6 О Наталье Кирилловне Нарышкиной, второй супруге царя Алексея Михайловича, добавим, что воспитывалась она у боярина Матвеева, где ее и увидел царь; Наталья Кирилловна взошла на престол в 1671 г., на девятнадцатом году от рождения. По смерти супруга настало для нее тревожное время: пришлось стать во главе партии
439
Нарышкиных, безуспешно боровшейся с партией Милославских. При царе Феодоре Алексеевиче Наталья Кирилловна жила в селе Преображенском. Стрелецкий бунт 1682 г. оставил ее «бессемейной», с одним сыном; она вынуждена была уступить первенство Софье. Опальное положение вдовы-царицы продолжалось до торжества Петра над Софьей в 1689 г.
7 Имеется в виду песня Беранже «Похвальное слово каплунам».
8 Дадим некоторые уточнения к тому, что говорит Дюма о раскольниках. Поводом для возникновения раскола послужила церковно-обрядовая реформа патриарха Никона (1653 г.) в целях укрепления церковной организации. За ликвидацию местных различий в религиозной практике, устранение разночтений и исправление богослужебных книг вместе с патриархом выступали члены «Кружка ревнителей благочестия», но протопопы Аввакум, Даниил и другие утверждали, что церковь и так сохранила «издревле благочестие», и предлагали проводить унификацию, опираясь на древнерусские богослужебные книги. Другие члены кружка считали необходимым опираться на греческие образцы. При поддержке царя Алексея Михайловича Никон проводил унификацию на основе греческих образцов. Нововведения были одобрены соборами 1654—1655 гг. Столкновения между Никоном и защитниками старой веры приняли резкие формы, вовлекая широкие слои населения в социальные движения на протяжении XVII в. При Петре Великом правительственная политика в отношении раскольников принимает относительно смягченные формы. Законодательство Петра III приводит к большей терпимости в политике по отношению к раскольникам.
9 Религиозная секта скопцов возникла в России в конце XVIII в. Основателем секты считается Кондратий Селиванов. По вероучению, культу и структуре организации скопцы близки к хлыстам. В основе вероучения сектантов лежит утверждение, что единственным условием
440
спасения души является борьба с плотью путем оскопления.
10 На месте старинной Знаменской церкви (1794— 1804 гг., арх. Ф. И. Демерцов) сейчас стоит павильон метро «Площадь Восстания».
11 Дюма, вероятно, имеет в виду корыстолюбие Ата- ланты, воспетой в греческих сказаниях, искусной в стрельбе из лука охотницы. В состязаниях в беге с искавшим ее руки Гиппоменом она была побеждена, ибо нагибалась за золотыми яблочками, которые ее соперник-соискатель, бежавший впереди, бросал на землю.
12 Автор сообщает, что государственный советник и бригадный генерал Татаринов возглавлял одну из сект скопцор. Это не соответствует действительности, а вот Екатерина Филипповна Татаринова (урожд. Буксгевден) (1783—1856) действительно являлась основательницей «Духовного союза», собрания которого посещали генерал Е. Головин, князь Енгалычев, известный масон Лабзин, министр духовных дел князь Голицын и другие. Собрания проходили в Михайловском замке до 1837 г., когда существование этого тайного раскольничьего сообщества было признано противным правилам и духу православной церкви, а сама Татаринова помещена под строгий надзор в Кашинский Сретенский монастырь. Освободили ее только в 1847 г. после дачи письменного обязательства оказывать искреннее повиновение православной церкви.
13 Дюма намекает на существование в Венеции тайных тюрем — «свинцовых темниц».
14 Добрая Богиня (Bona Dea) — божество плодородия в Древнем Риме. В ее честь ежегодно устраивались празднества, которые со временем превратились в разнузданные оргии.
441
ЗАГОВОР ПАЛЕНА
1 Княжеское Священной Римской империи достоинство П. А. Зубова было последней наградой екатерининскому фавориту при жизни императрицы (22 мая 1796 г.). Сохраняя благосклонное отношение к Зубову, выразившееся в покупке для него дома, в награждении орденом Св. Анны, Павел вместе с тем обнаруживал все новые доказательства упущений по службе и злоупотреблений со стороны бывшего любимца. 3 февраля 1797 г. князь был уволен в отпуск за границу на два года для восстановления здоровья.
2 Добавим к рассказу Дюма еще и другие подробности. По указу от 2 ноября 1800 г. об общей амнистии всем исключенным из службы дозволялось вновь «вступить в оную с тем, чтобы таковые являлись в Санкт-Петербург для личного представления» императору. Зубовы, таким образом, получили амнистию. Но инициаторы заговора, желая привлечь к нему Зубовых, позаботились доставить им возможность получить высокие посты в столице. Для этой цели и было придумано зубовское «сватовство». Не сразу удалось сломить предубеждения императора, но при встрече бывшего фаворита с Павлом последний сказал: «Платон Александрович, забудем все прошедшее!» Зубов был назначен директором первого кадетского корпуса с переименованием в генералы от инфантерии (23 ноября 1800 г.), а затем и шефом того же корпуса (25 февраля 1801 г.). Имения Зубову были возвращены указом от 4 декабря 1800 г.
3 Добавим к тому, что сообщает Дюма о генерал-губернаторе Петербурга П. А. Палене. После внезапной отставки Ф. В. Ростопчина (заведовавшего Коллегией иностранных дел) Павел I начинает опасаться всесилия Палена и, оставляя его в неведении, призывает к себе— самолично подписав подорожную — А. А. Аракчеева, жившего в то время близ Новгорода. Пален перехватил фельдъегеря и представил пакет и подорожную Павлу как подложные. Государь приказал ему отправить их
442
немедленно по назначению, спросив при этом, как бы невзначай, возможно ли теперь повторение событий 1762 г. На это генерал-губернатор хладнокровно заметил, что некоторые и теперь задумывают подобное покушение, но сейчас исполнить его не так-то легко, поскольку в то время армия не была на стороне государя, да и полиция не действовала как теперь. Затем Пален заявил императору, что сам стоит во главе заговора для того, чтобы наблюдать за действиями заговорщиков, потому что не имеет силы помешать им. Генерал-губернатор добавил, что не может отвечать вполне за безопасность венценосной особы, пока не имеет письменного повеления арестовать в случае надобности великого князя Александра. Повеление было дано. Император, с нетерпением ожидая Аракчеева, однако не вполне доверял Палену и скрывал даже от Кутайсова свои мысли, сказав ему только: «Через пять дней ты увидишь великие дела!», но точных данных о заговоре не имел, чему причиною была его излишняя подозрительность.
4 Генерал-лейтенант П. А. Талызин (1767—1801) утвержден в должности командира Преображенского полка 14 мая 1800 г. Был одним из активных участников заговора 11 марта 1801 г., в который вступил осенью 1800 г. Графом Талызин, вопреки указанию Дюма, не был.
5 Первый припадок безумия случился с английским королем Георгом III в 1788 г., и уже тогда в парламенте начали обсуждать вопрос о регентстве принца Уэльского, будущего Георга IV. Оппозиция считала, что при регентстве принца ей удастся на долгое время ниспровергнуть правление консерваторов. Вопрос окончательно решился в 1810 г., однако надежды либералов не оправдались.
6 Если кто-либо из великих княжон и прибегал на шум в Михайловском замке, то это могла быть упоминаемая Дюма Мария Павловна и одна из двух — Екатерина или Анна,— но не Кристина (такой дочери у Павла I не было).
443
ПОЭТ ПУШКИН
1 Явные ошибки Дюма: Пушкин, как известно всем, родился в Москве и был правнуком, а не внуком А. П. Ганнибала.
2 Ганнибал А. П.— родом из Абиссинии, сомнительно, что он мог быть захвачен на берегах Гвинеи. В Москву будущий любимец Петра прибыл не из Голландии, а из Турции.
3 Автор вновь неточен: вначале Пушкин был отправлен в южную ссылку и только в 1824 г.—в село Михайловское.
4 Пушкин никогда не писал такого «дистиха» — видимо, французскому гостю перевели строки из письма поэта П. А. Вяземскому от 14 августа 1826 года, а Дюма принял их за стихи и соответствующим образом перевел.
5 Екатерина Андреевна Карамзина.
6 Для описания предсмертных дней А. С. Пушкина Дюма воспользовался известным письмом В. А. Жуковского отцу поэта С. Л. Пушкину. Писатель ссылается на это письмо, явившееся для него своеобразным подстрочником. Некоторые речения письма Жуковского обретают форму довольно точного перевода; ряд моментов, запечатленных Жуковским, автор очерка передал в форме свойственного ему пересказа.
Читатель сможет составить представление о том, насколько нарушен дух и смысл оригинала, если непосредственно обратится к небольшому эпизоду предсмертных слов поэта, изложенных Жуковским:
«Однажды спросил он: «Который час?» и на ответ Даля продолжал прерывающимся голосом: «Долго ли мне... так мучиться?.. Пожалуйста поскорей!..» И всегда прибавлял: «Пожалуйста поскорей!» Вообще (после мук первой ночи, продолжавшихся два часа) он был удивительно терпелив. Когда тоска и боль его одолевали, он делал движения руками и отрывисто кряхтел, но так, что его почти не
444
могли слышать. «Терпеть надо, друг, делать нечего,—сказал ему Даль,— но не стыдись боли своей, стони, и тебе будет легче».—«Нет,—он отвечал прерывисто,—нет... не надо... стонать... жена... услышит... Смешно же... чтоб этот... вздор... меня... пересилил... не хочу».
Однажды он спросил у Даля: «Кто у жены моей?» Даль отвечал: «Много добрых людей принимают в тебе участие; зал и передняя полны с утра и до ночи».— «Ну спасибо,— отвечал он,— однако же поди скажи жене, что все слава Богу, легко; а то ей там, пожалуй, наговорят».
КАК ВАС ОБСЛУЖИВАЮТ В РОССИИ
1 Застольная (точнее «застольное») — кормовые деньги, выдаваемые дворовым людям.
2 «Последний год жизни Пушкина...» М., Правда, 1990—Жуковский В. А. Письма к С. Л. Пушкину, с. 547.
3 Там же, с. 546.
СОДЕРЖАНИЕ
Щтщ0&Ф
М. С. Трескунов. О книге Александра Дюма «Путевые
впечатления. В России» 7
Предварительные разъяснения. Перевод А. Ю. Миро-
любовой 44
Семья Кушелевых. Перевод М. С. Треску нова ... 51
Караван. Перевод С. И Свяцкого 69
Спирит. Перевод С. П. Свяцкого 87
Минута-другая на размышление. Перевод С. И Свяцкого 109
Из Парижа в Кельн экспрессом. Перевод С. П. Свяцкого 119
Берлин — Штеттин. Перевод Е. Г. Куцубиной . . . 139
В море. Перевод Е. Г. Куцубиной 157
Романовы. Перевод А. П. Романова 175
Стрелецкий бунт. Перевод 3. М. Потаповой . . . . 189
Жена драбанта. Перевод А. М. Косс 203
Петр I и Карл XII. Перевод М. С. Трескунова . . . 219
Царь и царица. Перевод А. А. Полякиной 233
На борту «Коккериля». Перевод А. А. Полякиной 257
Первые впечатления о Петербурге. Перевод
М. С. Трескунова 269
Усадьба Безбородко. Перевод Н. И Снетковой . . . 283
Мосты и памятники. Перевод Н. И Снетковой . . . 293
Медвежья охота. Перевод П. А. Жирмунской . . . 307
Местные истории. Перевод Н. А. Жирмунской . . . 321
Скопцы. Перевод Н. А. Жирмунской 333
Фавориты Павла I. Перевод 3. М. Потаповой . . . 347
Заговор Палена. Перевод 3. М. Потаповой .... 361
Поэт Пушкин. Перевод М. С. Трескунова 385
Как вас обслуживают в России. Перевод Н. А. Жирмунской 411
Исторические справки. Сост. С. Н. Искюль .... 421
446
А. ДЮМА
Д 96 Путевые впечатления. В России. В 3 т. T. 1: Пер. с фр./ Предисл. М. Трескунова; Ист. справки С. Ис- кюля.— М.: Ладомир, 1993.—448 с.: ил.
ISBN 5-86218-039-7 (T. 1)
В томе публикуется первая треть впервые полностью переведенных на русский язык знаменитых «Путевых впечатлений» Александра Дюма (отца), посетившего Россию в 1858—1859 гг. Издание богато иллюстрировано. Часть иллюстраций публикуется впервые.
д
4703000000-012
Без объяв л.
593(03)-93
ББК 84
АЛЕКСАНДР ДЮМА
ПУТЕВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ. В РОССИИ В 3-Х ТОМАХ
Том 1
Технический редактор Суровцева С. И. Корректор Наренкова О. Г.
ЛР N5 063160 14 декабря 1993 г. Сдано в набор 28.12.92. Подписано в печать 15.02.93. Формат 84x1087*:. Бумага типогр. N5 1. Печать офсетная. Печ. л. 14. Тираж 30000 экз. Заказ N» 4492.
Научно-издательский центр «Ладомир» при содействии «ВРС», 103617, Москва К-617, кор. 1435.
Отпечатано с готовых диапозитивов в полиграфической фирме «Красный пролетарий» 103473, Москва, Краснопролетарская, 16.