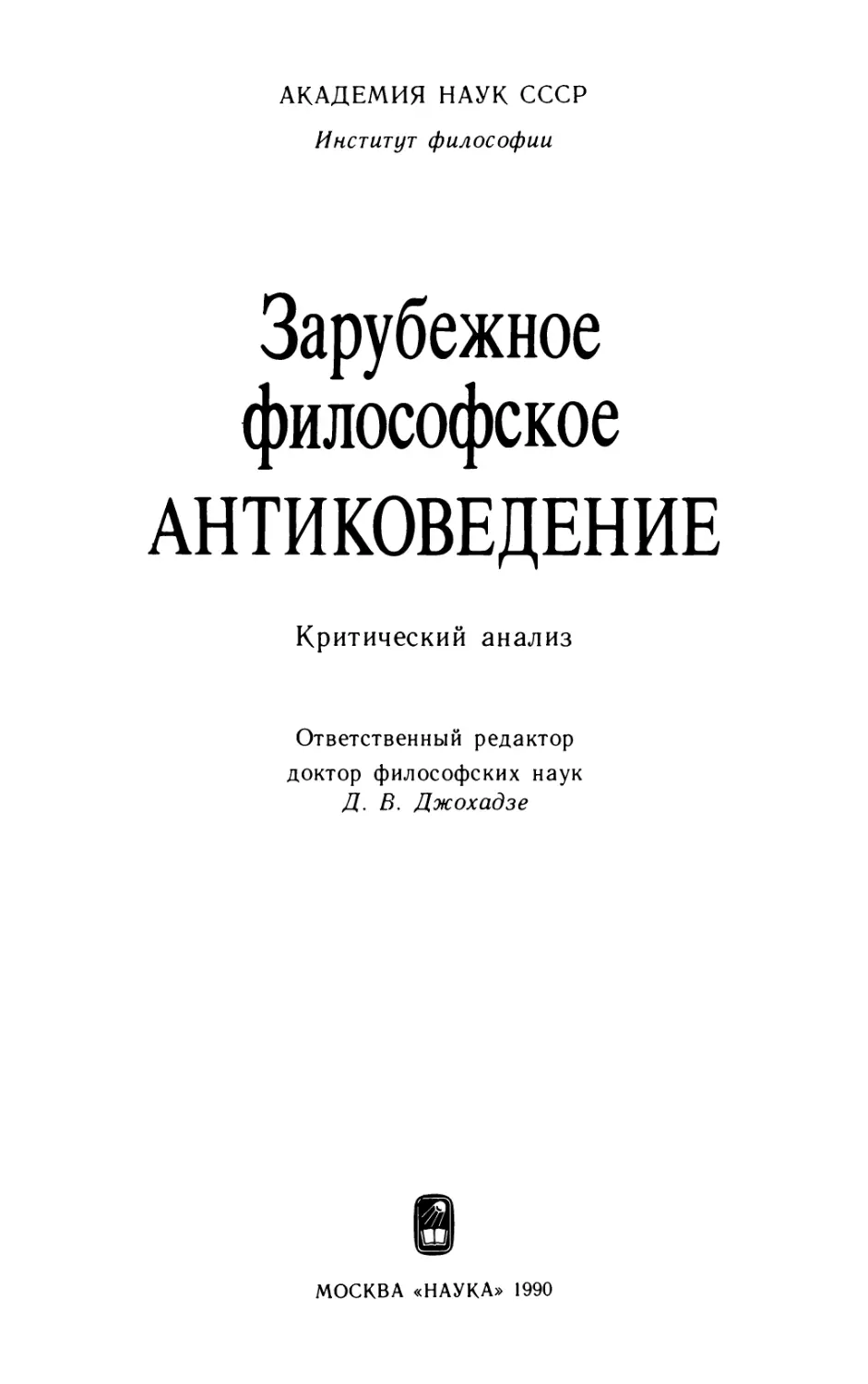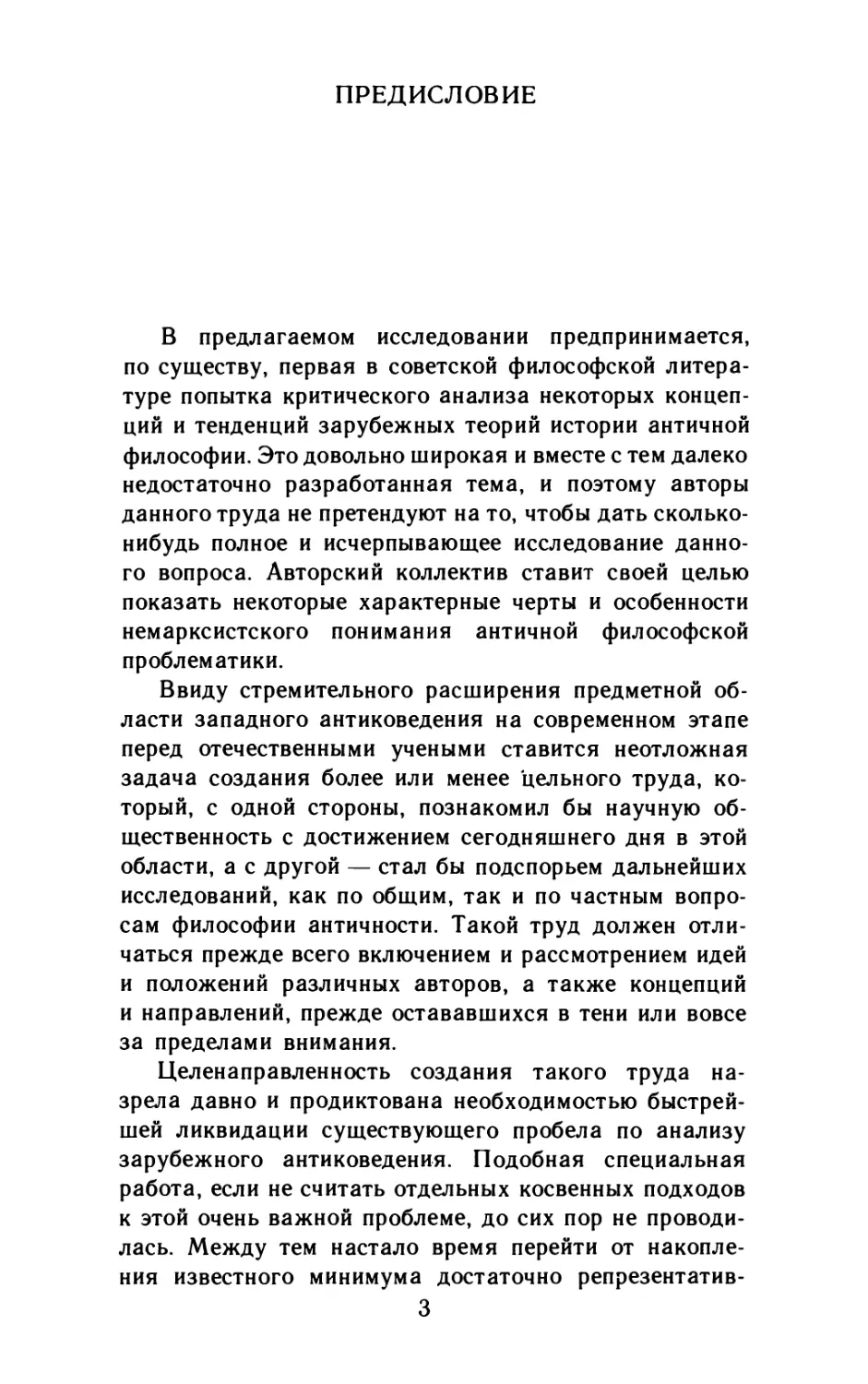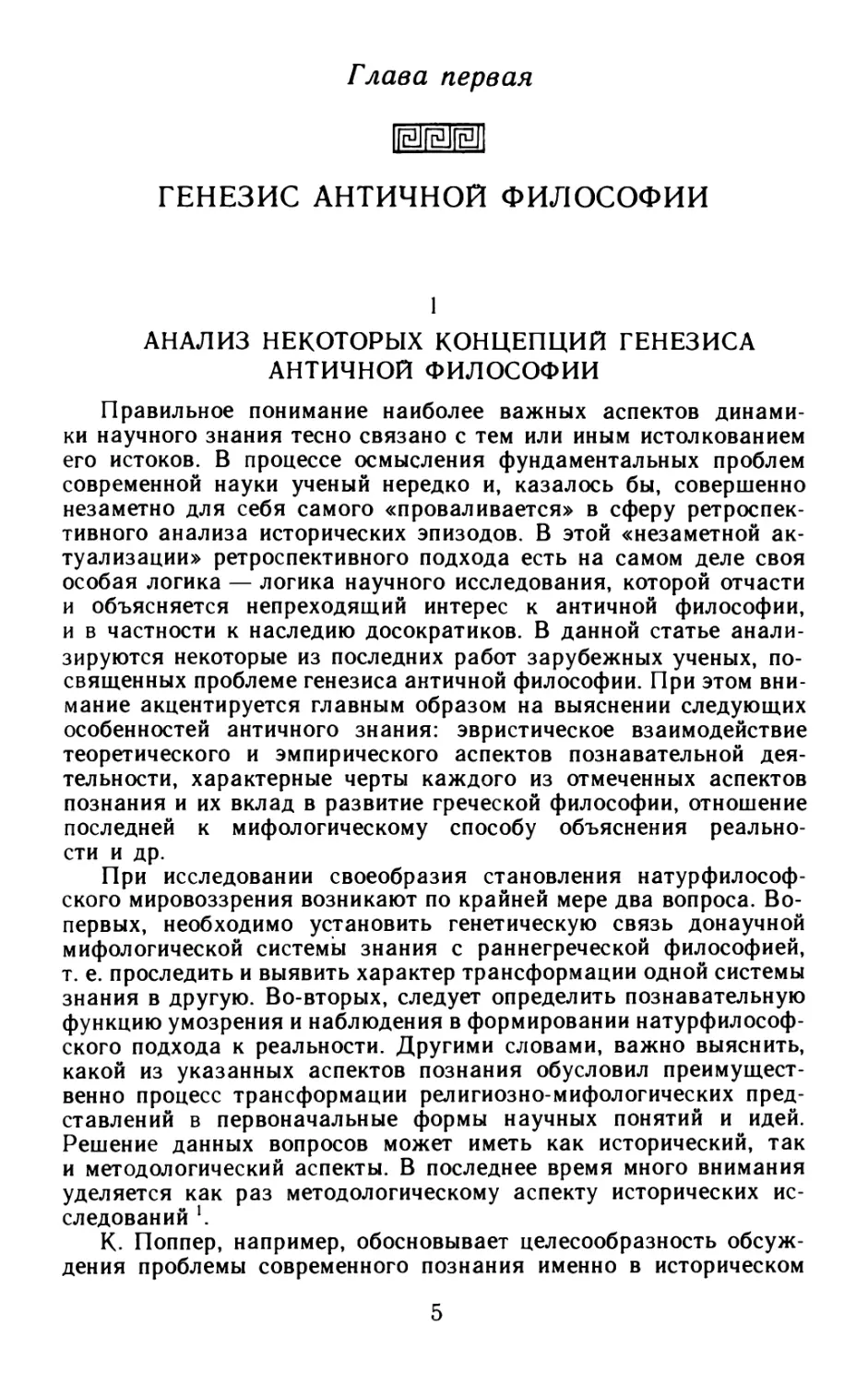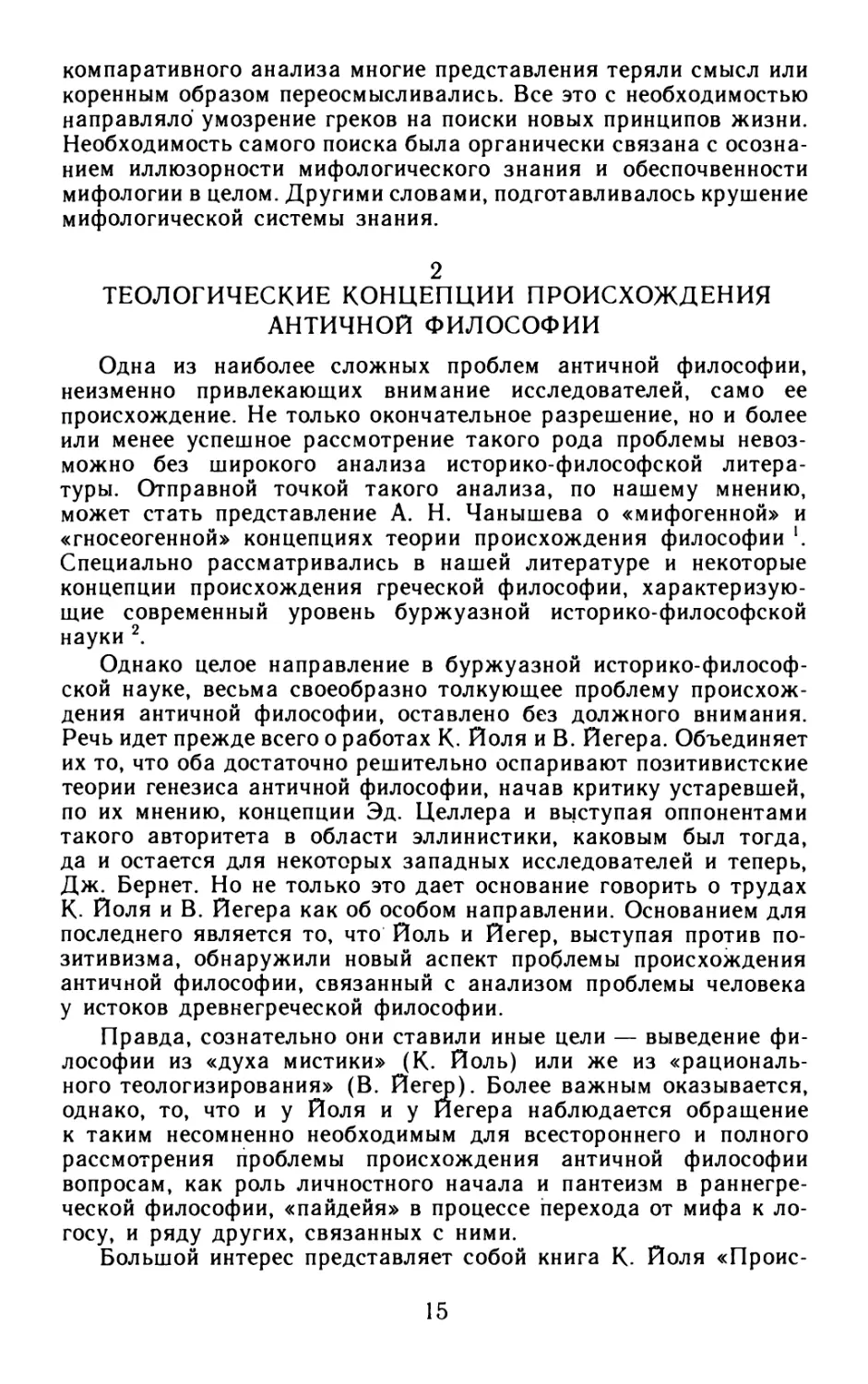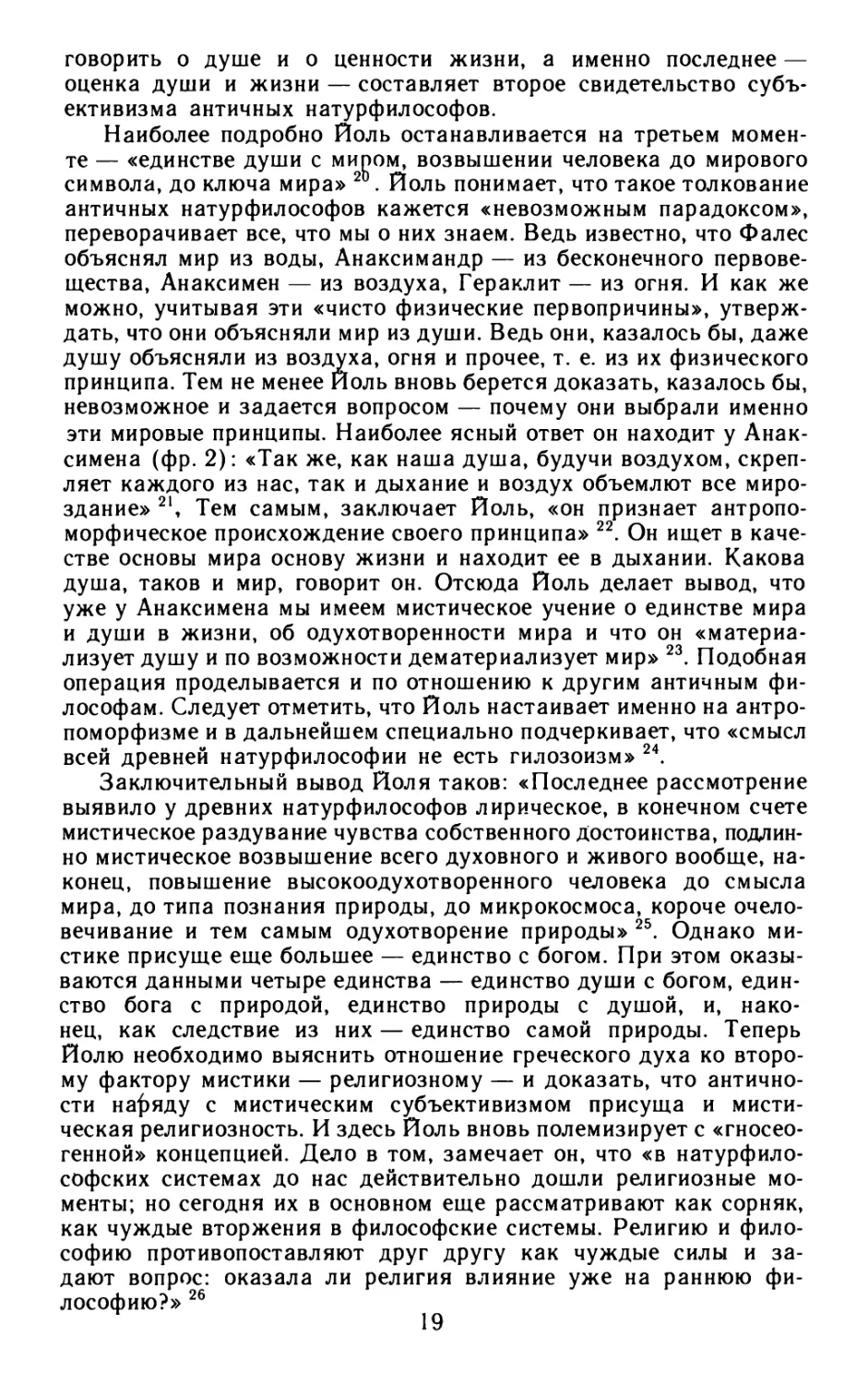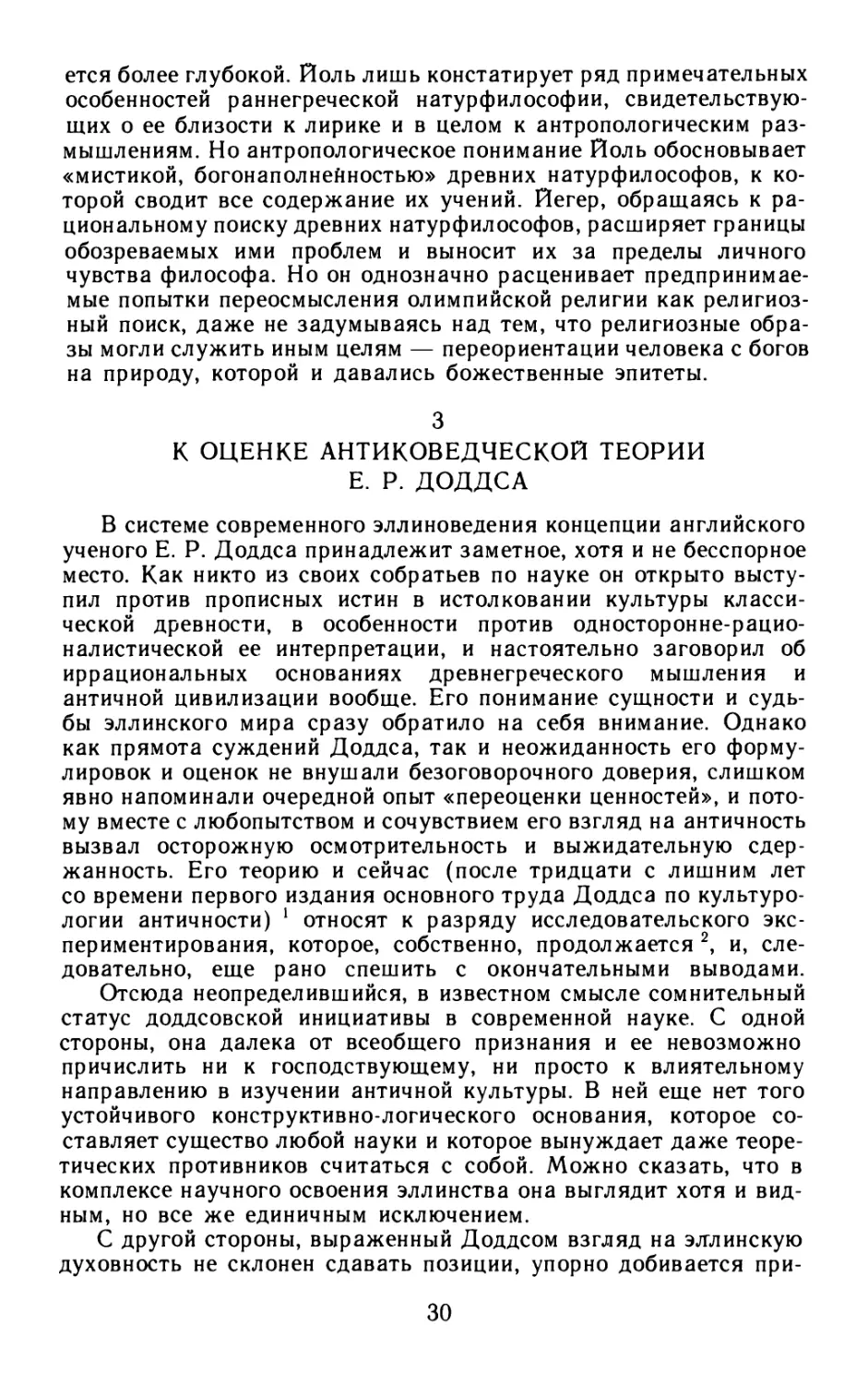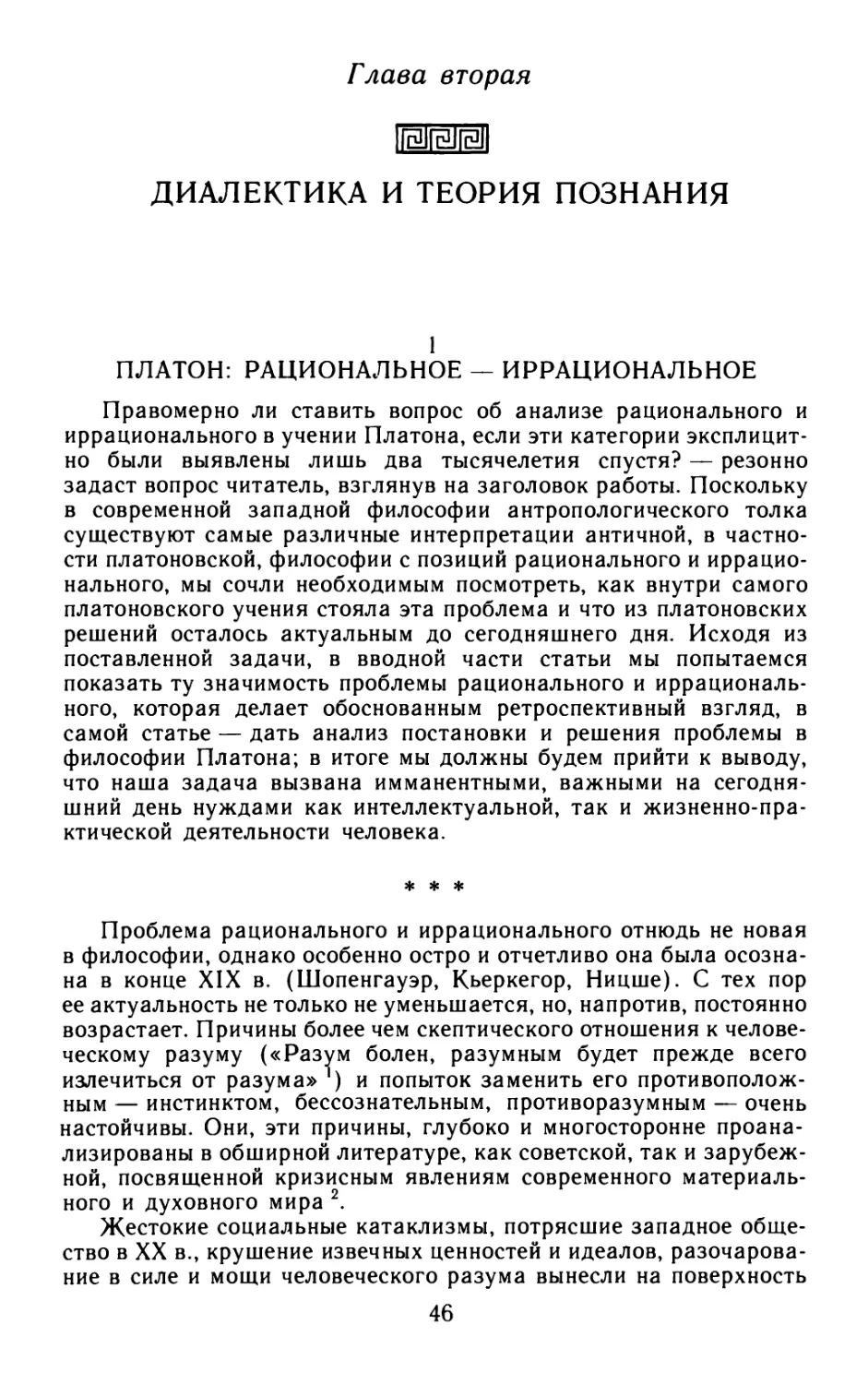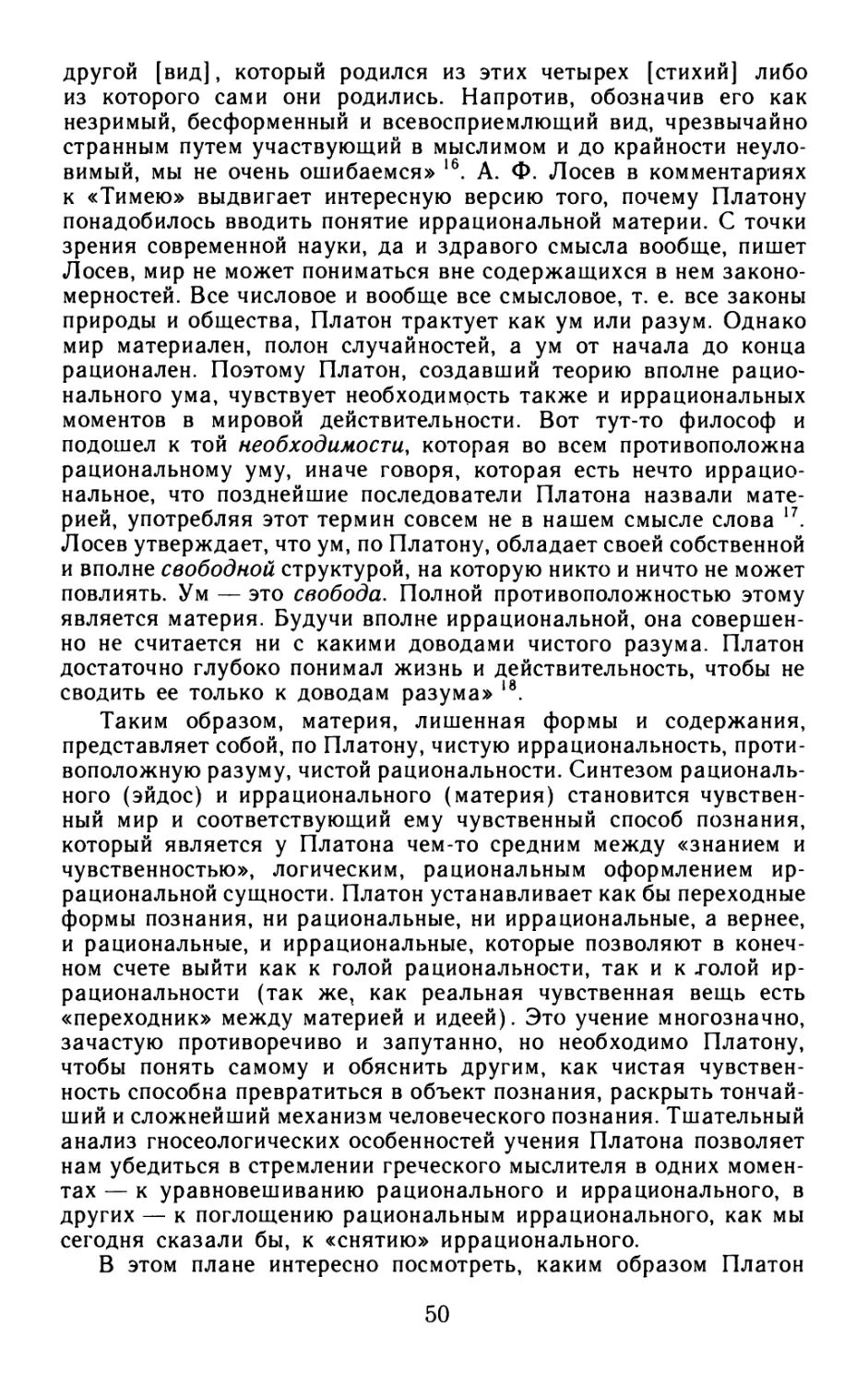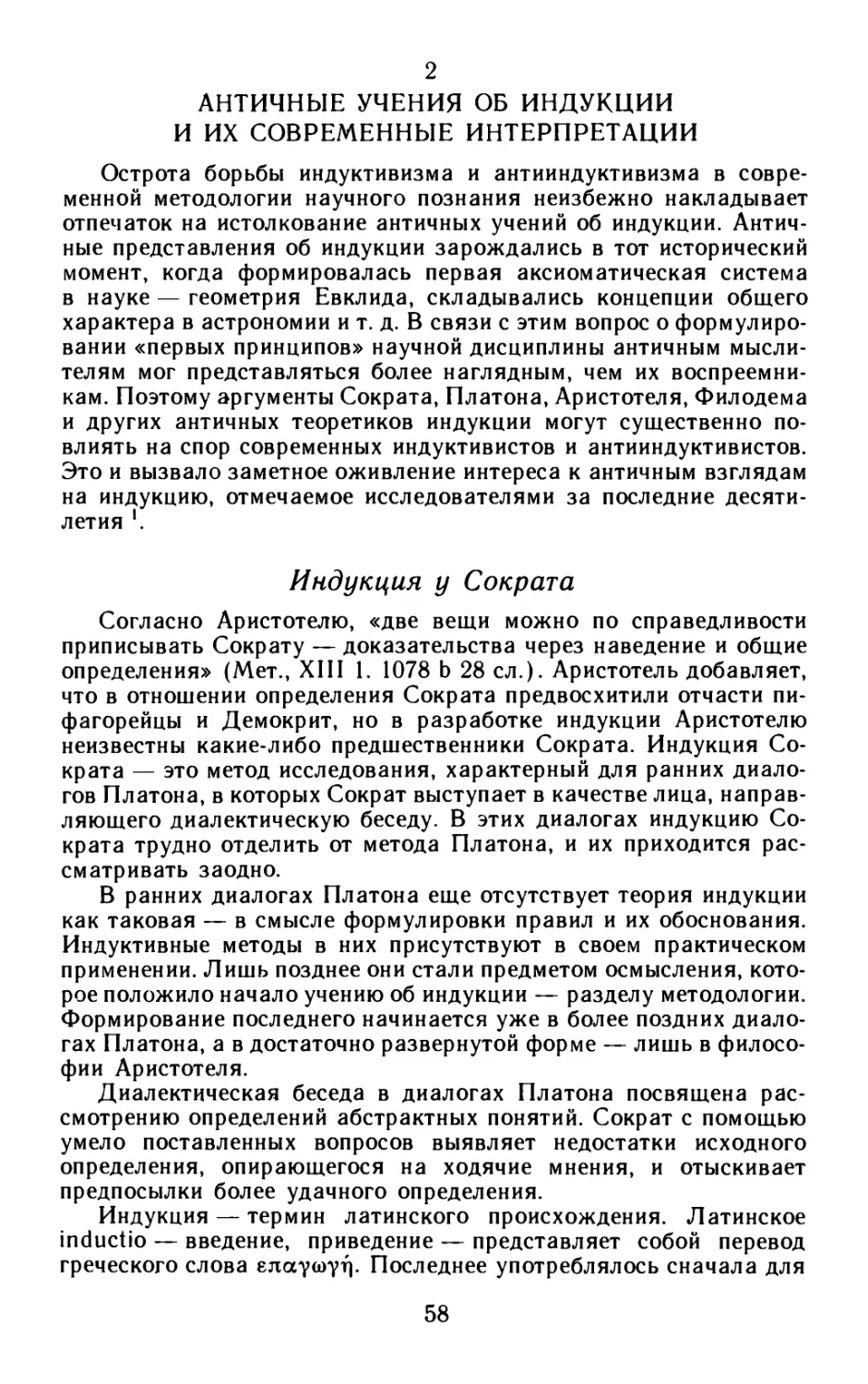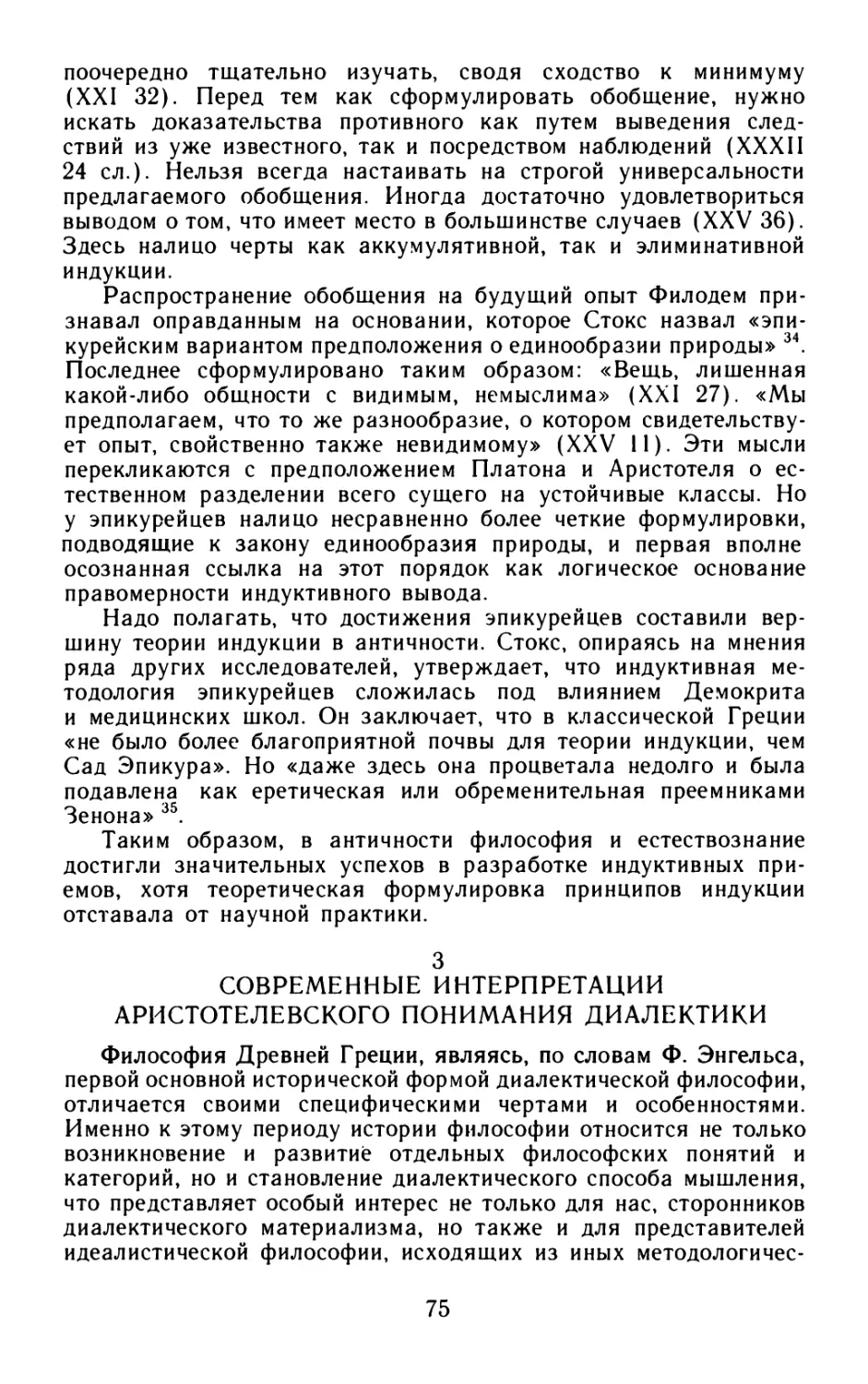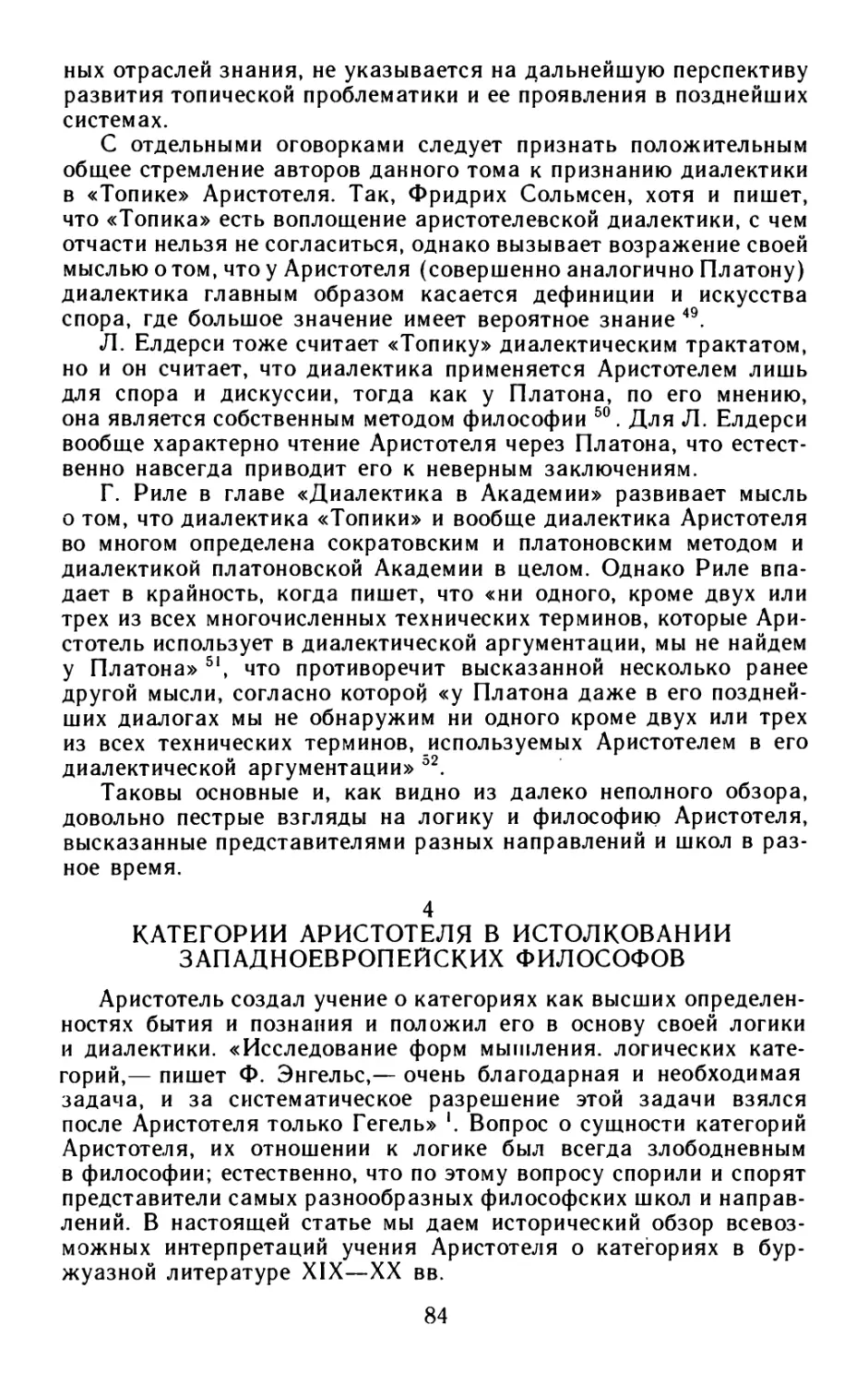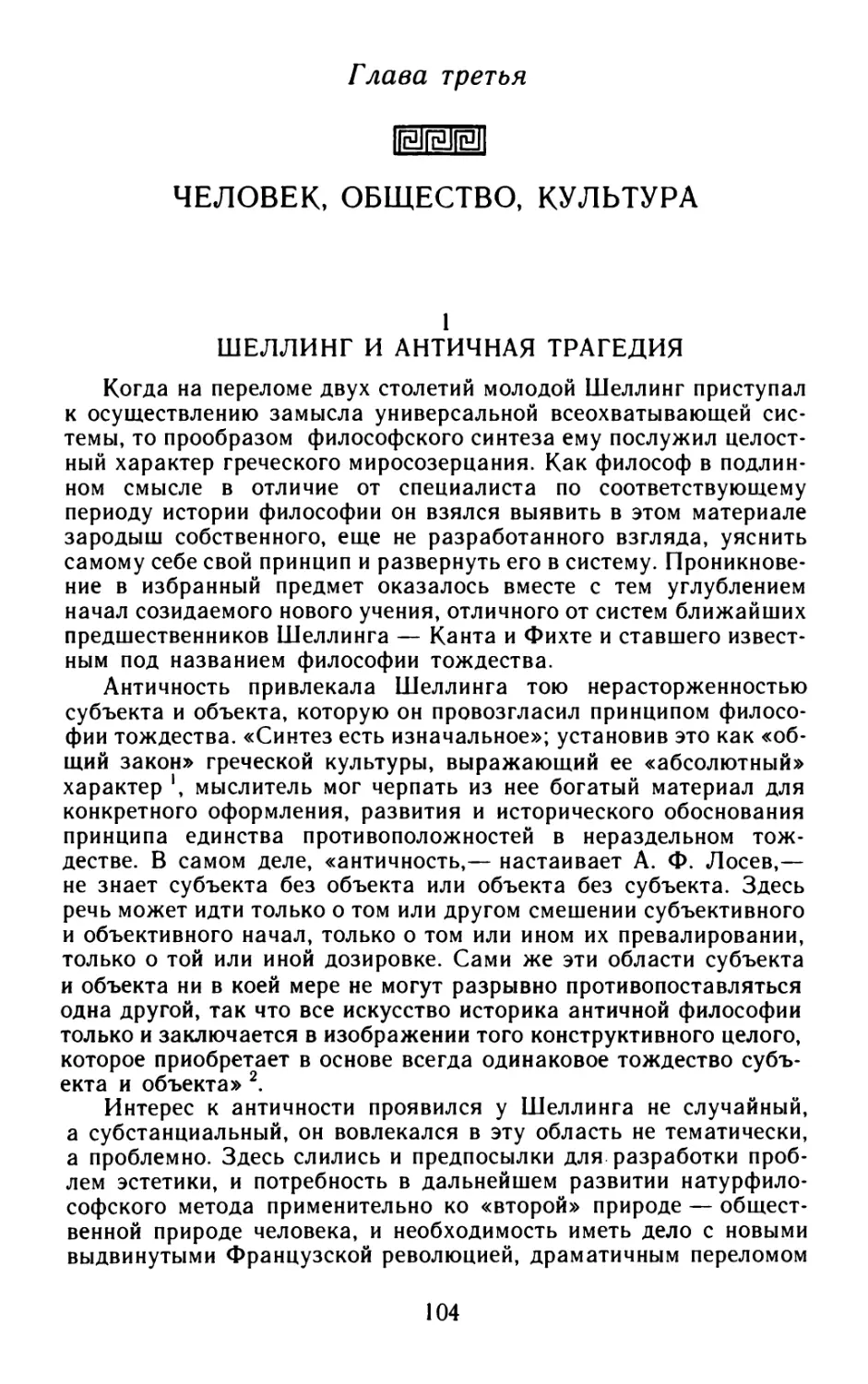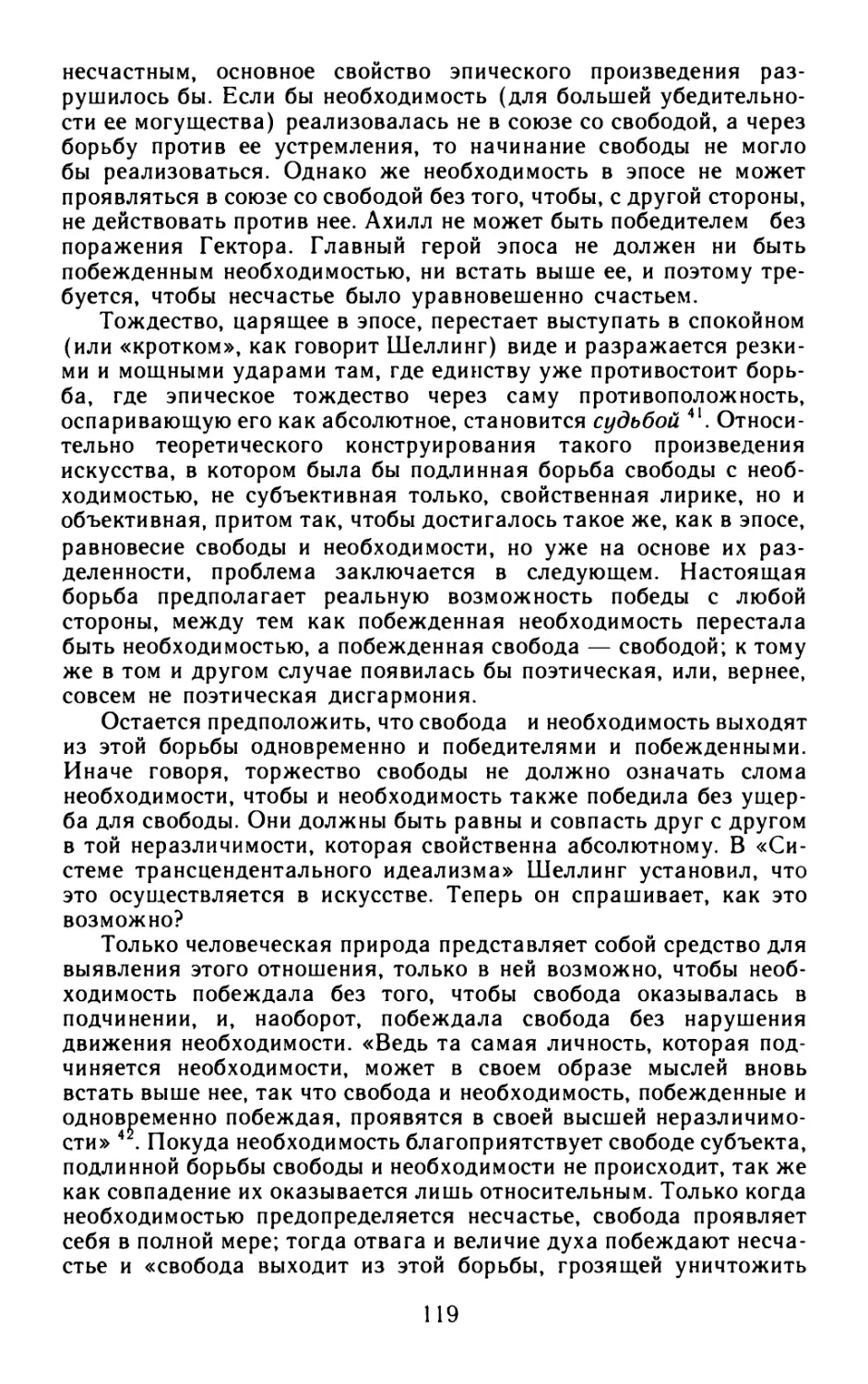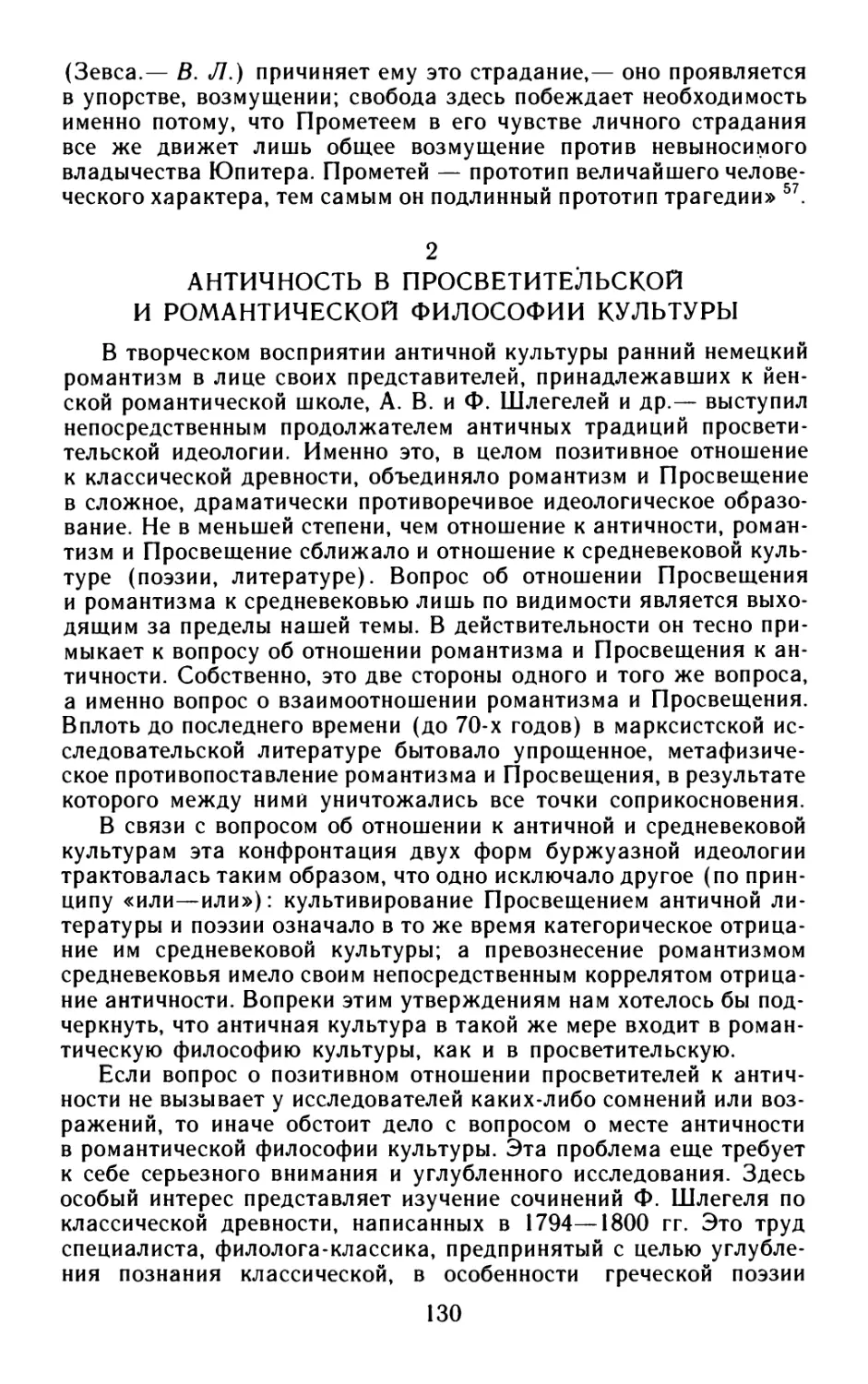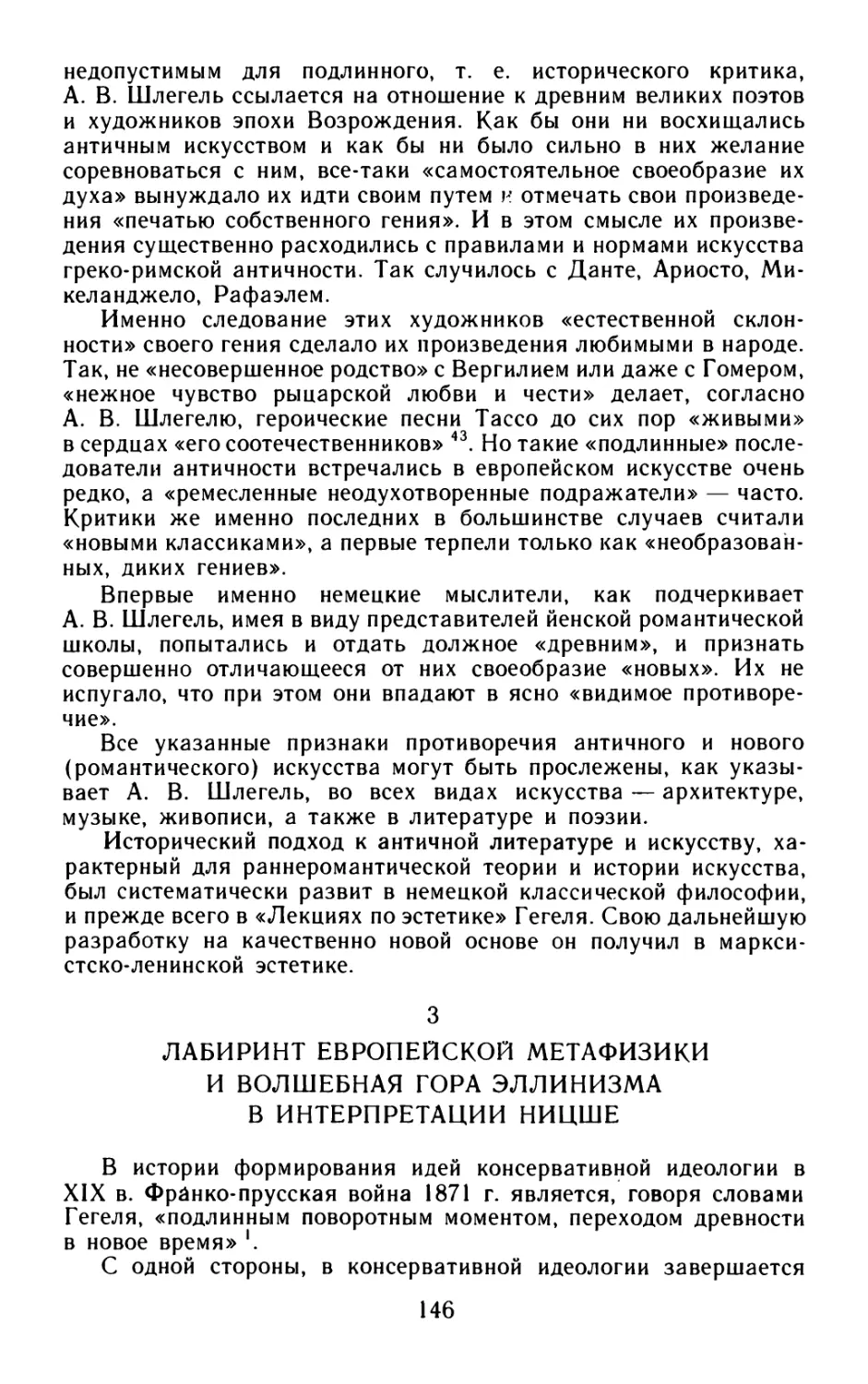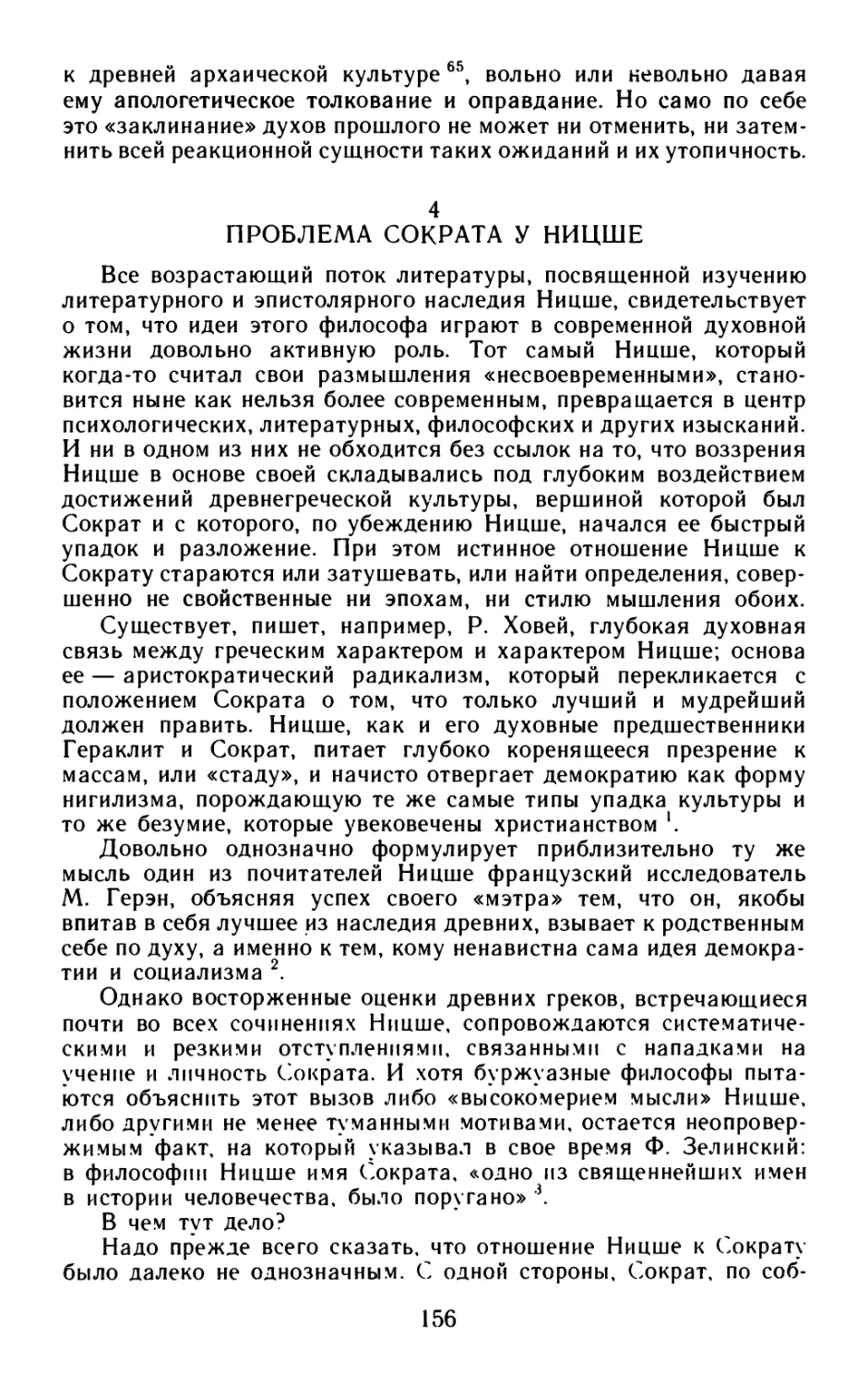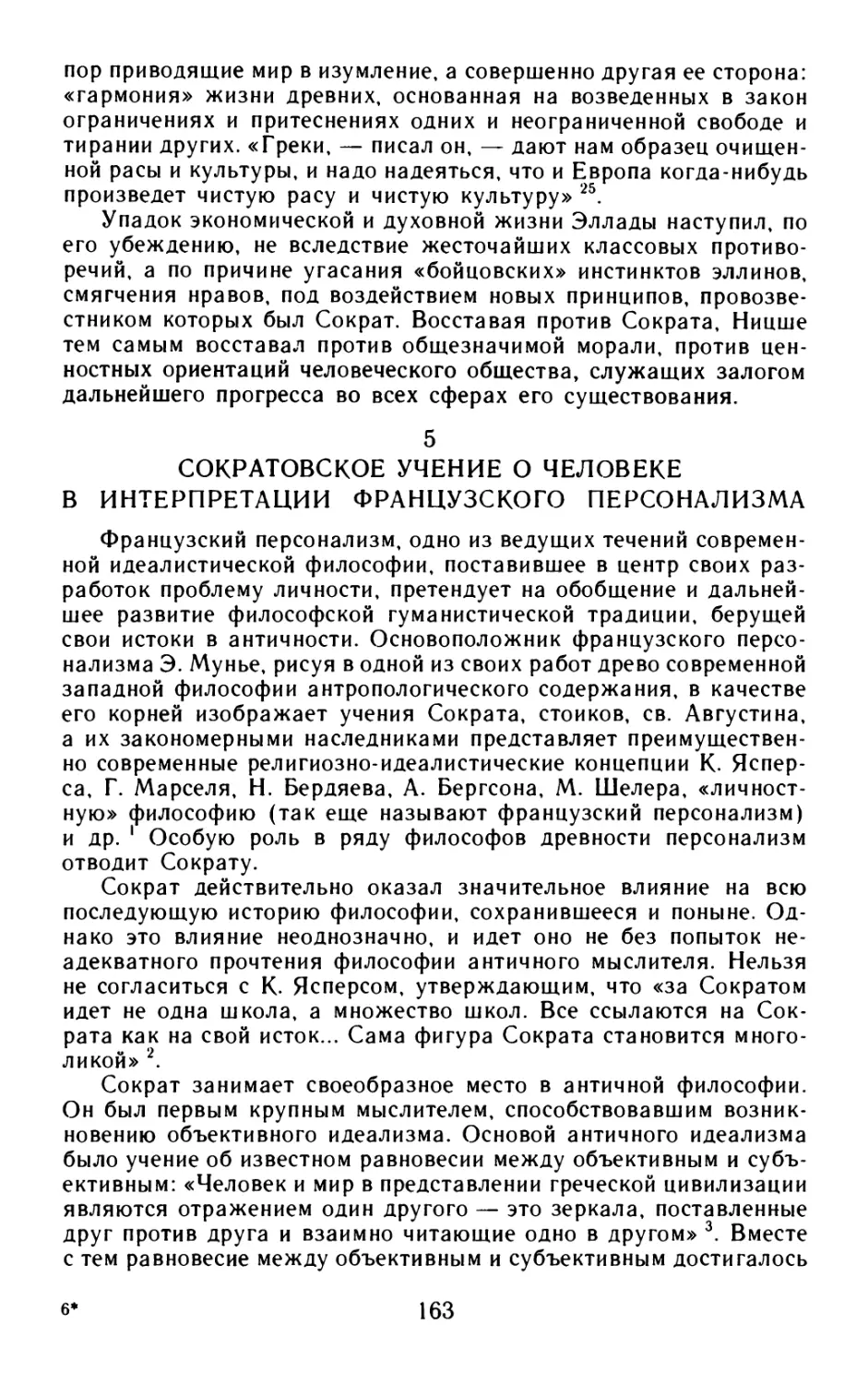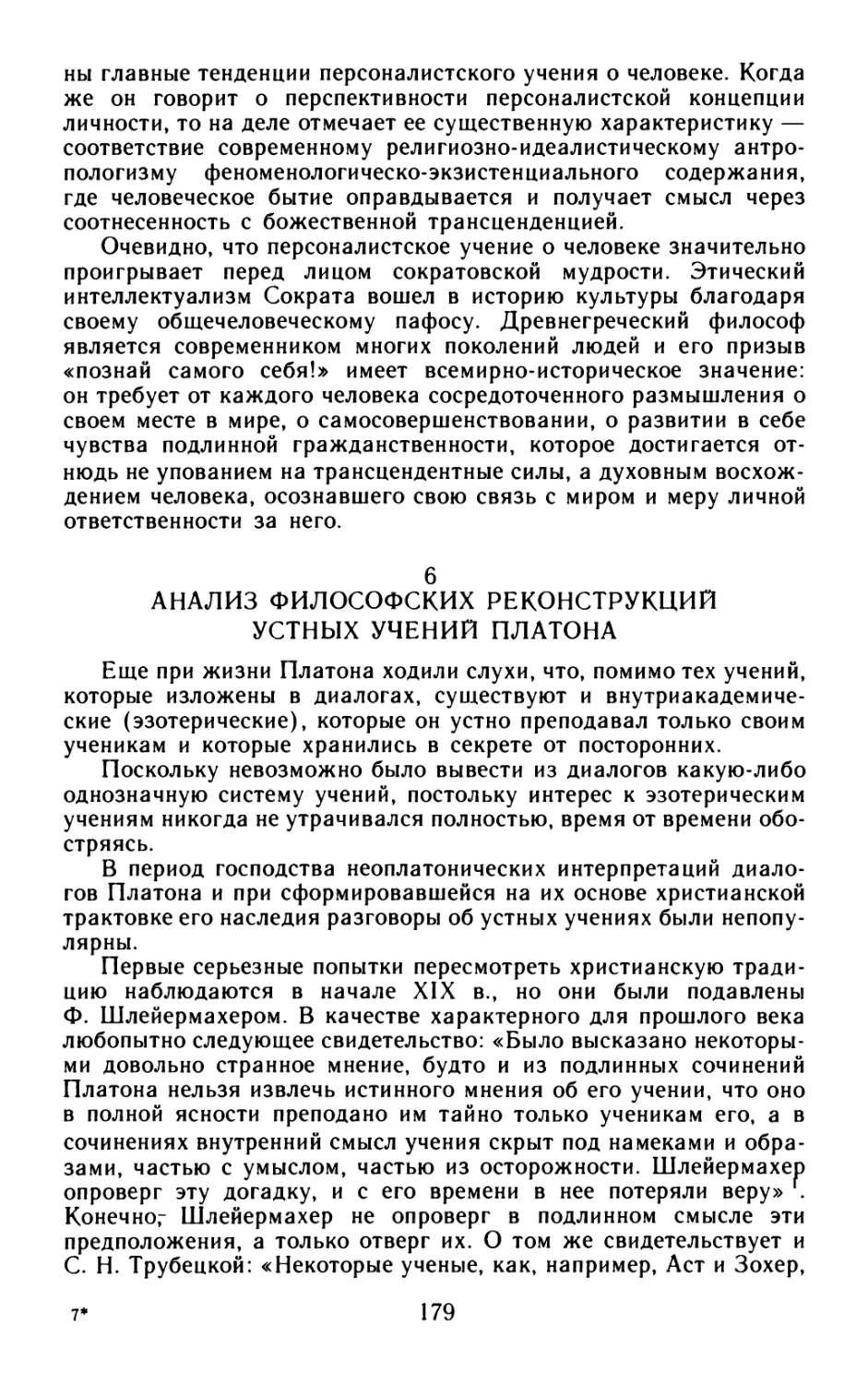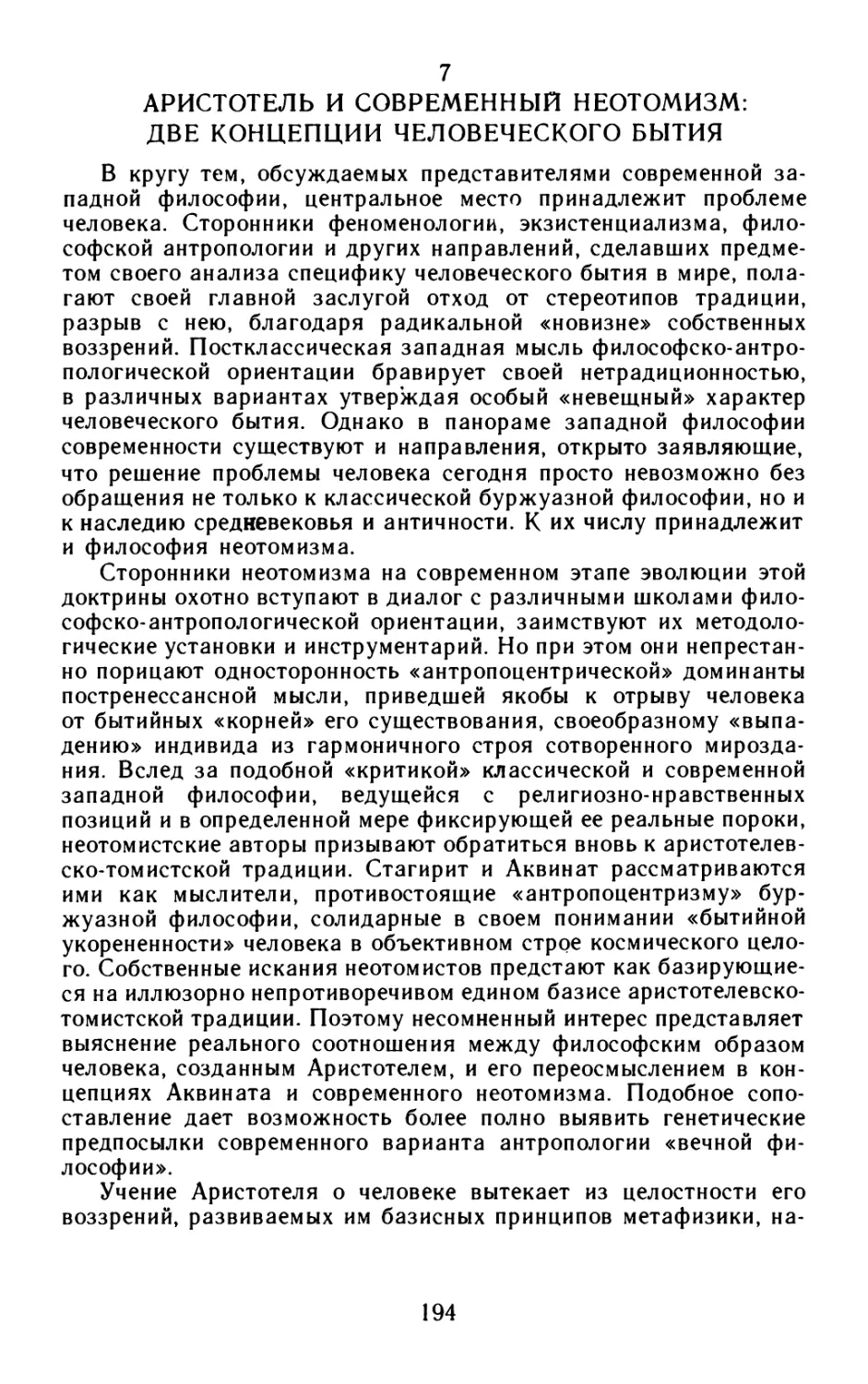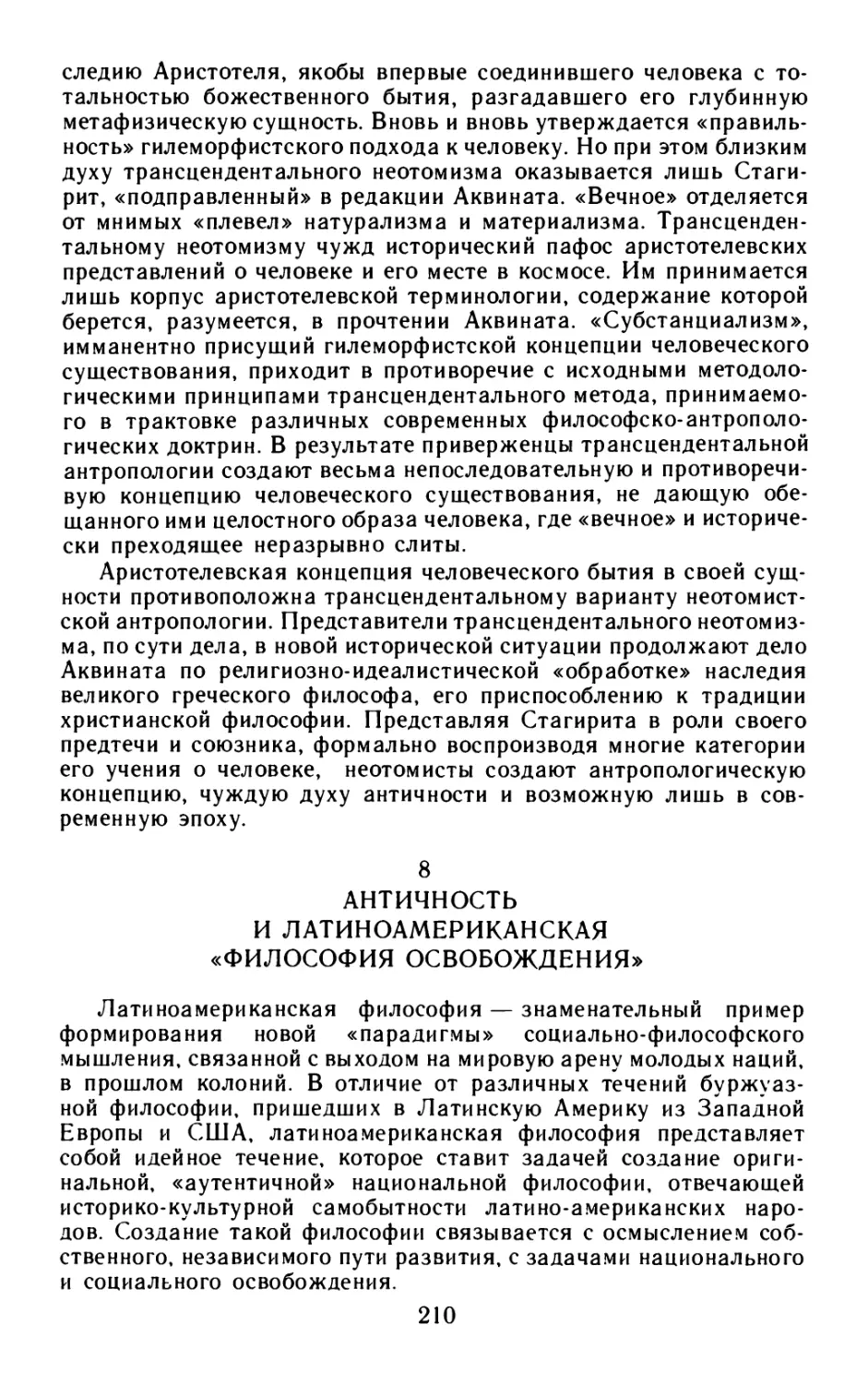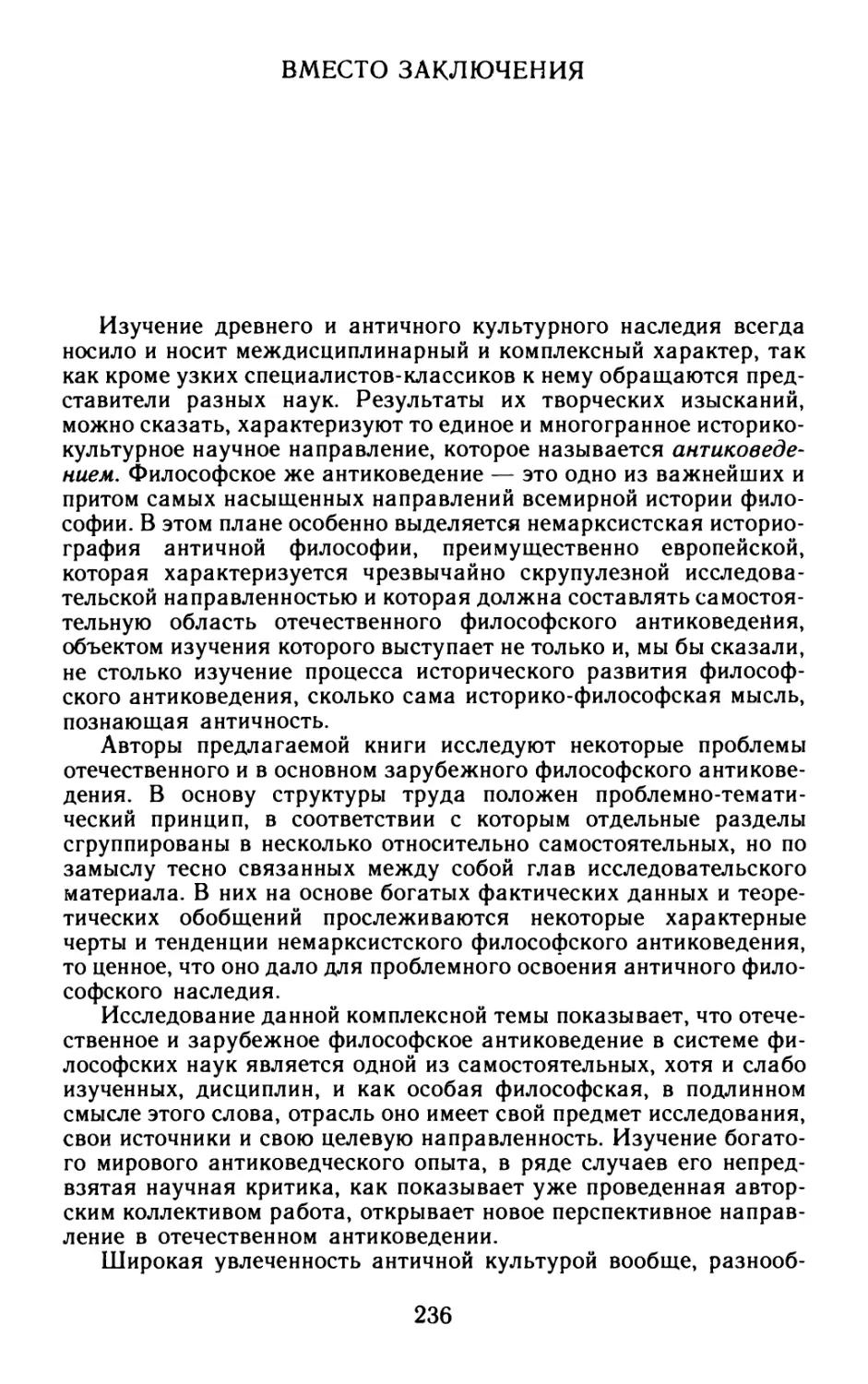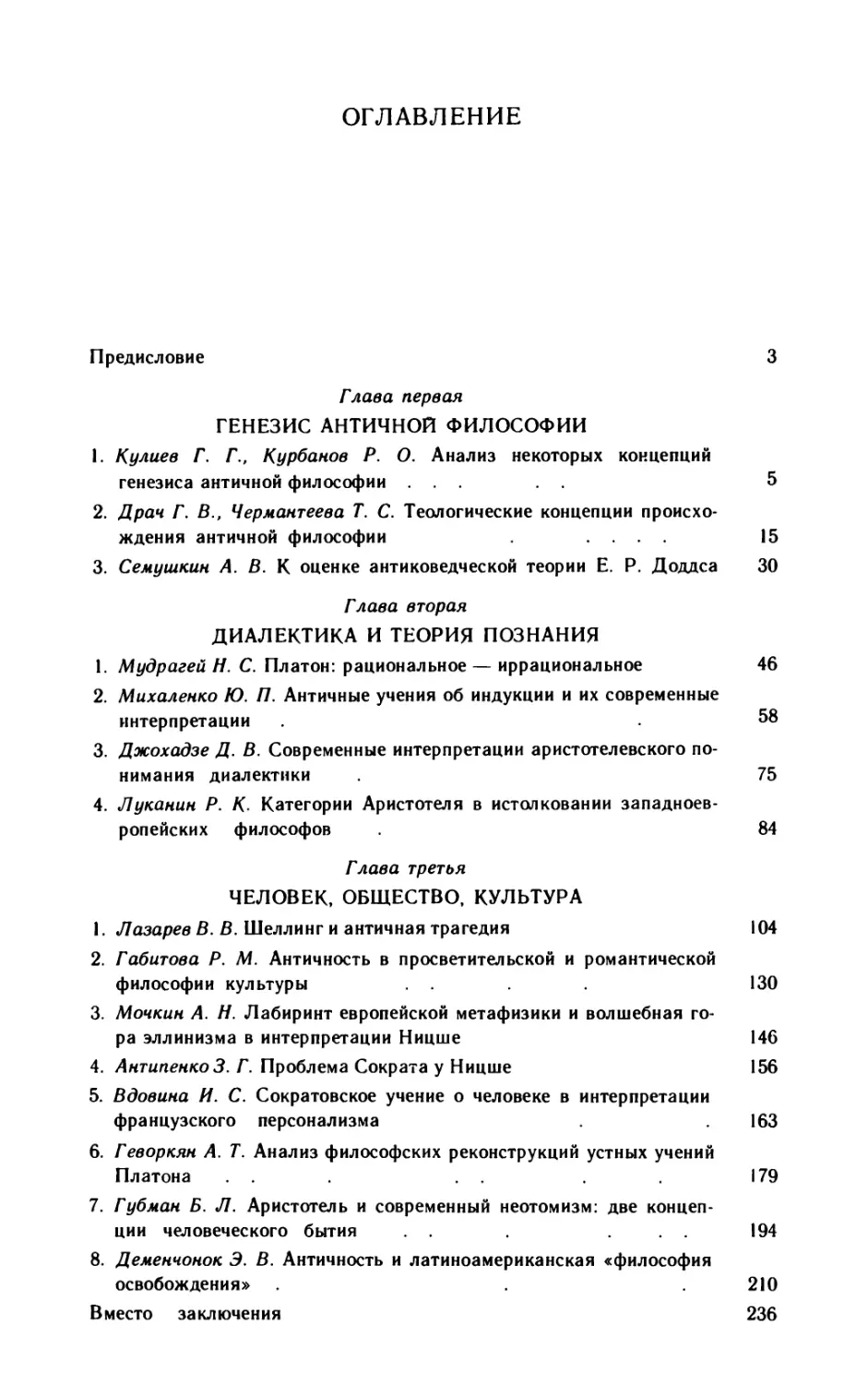Автор: Джохадзе Д.В.
Теги: история философии философия ан ссср москва наука философское антиковедение критический анализ
ISBN: 5-02-008066-7
Год: 1990
Текст
АКАДЕМИЯ НАУК СССР
Институт философии
Зарубежное
философское
АНТИКОВЕДЕНИЕ
Критический анализ
Ответственный редактор
доктор философских наук
Д. В. Джохадзе
МОСКВА «НАУКА» 1990
ББК 87.3
3 35
Редакционная коллегия:
доктора философских наук
И. С. Вдовина, Д. В. Джохадзе, Г. В. Драч
Рецензенты:
кандидат философских наук Д. М. Ханин,
доктора философских наук
А. Н. Чанышев, В. П. Яковлев
г> 0301040300—182 л loûn , „nnwnntMtk RK|/ ft7 q
—042(02)-90—4_1990' l П0ЛУг°Дие ББ* 87·3
ISBN 5-02-008066-7 © Издательство «Наука», 1990
ПРЕДИСЛОВИЕ
В предлагаемом исследовании предпринимается,
по существу, первая в советской философской
литературе попытка критического анализа некоторых
концепций и тенденций зарубежных теорий истории античной
философии. Это довольно широкая и вместе с тем далеко
недостаточно разработанная тема, и поэтому авторы
данного труда не претендуют на то, чтобы дать сколько-
нибудь полное и исчерпывающее исследование
данного вопроса. Авторский коллектив ставит своей целью
показать некоторые характерные черты и особенности
немарксистского понимания античной философской
проблематики.
Ввиду стремительного расширения предметной
области западного антиковедения на современном этапе
перед отечественными учеными ставится неотложная
задача создания более или менее Цельного труда,
который, с одной стороны, познакомил бы научную
общественность с достижением сегодняшнего дня в этой
области, а с другой — стал бы подспорьем дальнейших
исследований, как по общим, так и по частным
вопросам философии античности. Такой труд должен
отличаться прежде всего включением и рассмотрением идей
и положений различных авторов, а также концепций
и направлений, прежде остававшихся в тени или вовсе
за пределами внимания.
Целенаправленность создания такого труда
назрела давно и продиктована необходимостью
быстрейшей ликвидации существующего пробела по анализу
зарубежного антиковедения. Подобная специальная
работа, если не считать отдельных косвенных подходов
к этой очень важной проблеме, до сих пор не
проводилась. Между тем настало время перейти от
накопления известного минимума достаточно репрезентатив-
3
ных данных к построению критической теории
относительно различных способов понимания и ассимиляции
философского наследия античности. Это довольно
большая работа, и, естественно, авторы сознательно не
ставят перед собой цель подробного освещения всех
сторон западного антиковедения.
Данное монографическое исследование,
написанное научными сотрудниками Института философии
АН СССР совместно со специалистами по античной
философии из других учреждений, должно в
определенной степени восполнить существующий в нашей
литературе пробел по данной проблематике. Авторский
коллектив книги надеется, что она послужит хорошим
подспорьем для дальнейшей работы в этом
направлении.
Авторы и редакторы выражают свою искреннюю
благодарность научным сотрудникам сектора истории
марксистско-ленинской философии и сектора
современной западной философии, а также проблемной группе
«отечественное и зарубежное антиковедение»
Института философии АН СССР за ценные замечания и советы
при обсуждении и подготовке предлагаемого издания.
Особо хотелось бы поблагодарить И. В. Борисову,
Е. А. Потуткову и Е. В. Червину, обеспечившим
техническую работу над рукописью.
Глава первая
ГЕНЕЗИС АНТИЧНОЙ ФИЛОСОФИИ
ι
АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ КОНЦЕПЦИЙ ГЕНЕЗИСА
АНТИЧНОЙ ФИЛОСОФИИ
Правильное понимание наиболее важных аспектов
динамики научного знания тесно связано с тем или иным истолкованием
его истоков. В процессе осмысления фундаментальных проблем
современной науки ученый нередко и, казалось бы, совершенно
незаметно для себя самого «проваливается» в сферу
ретроспективного анализа исторических эпизодов. В этой «незаметной
актуализации» ретроспективного подхода есть на самом деле своя
особая логика — логика научного исследования, которой отчасти
и объясняется непреходящий интерес к античной философии,
и в частности к наследию досократиков. В данной статье
анализируются некоторые из последних работ зарубежных ученых,
посвященных проблеме генезиса античной философии. При этом
внимание акцентируется главным образом на выяснении следующих
особенностей античного знания: эвристическое взаимодействие
теоретического и эмпирического аспектов познавательной
деятельности, характерные черты каждого из отмеченных аспектов
познания и их вклад в развитие греческой философии, отношение
последней к мифологическому способу объяснения
реальности и др.
При исследовании своеобразия становления
натурфилософского мировоззрения возникают по крайней мере два вопроса. Во-
первых, необходимо установить генетическую связь донаучной
мифологической системы знания с раннегреческой философией,
т. е. проследить и выявить характер трансформации одной системы
знания в другую. Во-вторых, следует определить познавательную
функцию умозрения и наблюдения в формировании
натурфилософского подхода к реальности. Другими словами, важно выяснить,
какой из указанных аспектов познания обусловил
преимущественно процесс трансформации религиозно-мифологических
представлений в первоначальные формы научных понятий и идей.
Решение данных вопросов может иметь как исторический, так
и методологический аспекты. В последнее время много внимания
уделяется как раз методологическому аспекту исторических
исследований х.
К. Поппер, например, обосновывает целесообразность
обсуждения проблемы современного познания именно в историческом
5
плане. По его мнению, все значительные явления в науке связаны
с необходимостью осмысления проблемных ситуаций,
возникающих на теоретическом уровне познания. Античная философия
не составляет исключения. Она не могла возникнуть в результате
обычного наблюдения и накопления фактов. Революционные
ситуации в познании имеют непосредственное отношение к попыткам
умозрительного постижения того или иного фрагмента
действительности. При объяснении возникновения науки Поппер
противопоставляет теоретический и эмпирический уровни научного
знания. В дальнейшем мы постараемся показать, что такое
одностороннее понимание неправомерно. Вместе с тем нельзя не
признать справедливость самого тезиса о необходимости более
внимательного отношения к раннегреческой философии.
Свое отношение к раннегреческой философии К. Поппер
изложил в известной статье «Назад к досократикам» 2, которая
вызвала определенный резонанс в области досократических
исследований. Одним из первых отреагировал на программную статью
Поппера известный специалист по проблемам досократической
философии Дж. Кирк 3. Он также полагал, что всестороннее и
глубокое изучение философского наследия досократиков
представляет несомненный интерес в плане разработки актуальных
проблем методологии современного научного познания. Однако Кирк,
возражая Попперу, утверждает, что всякое научное открытие
(в частности, рациональное объяснение реальности греческими
мыслителями) предполагает непременно предварительную
эмпирическую процедуру. По его мнению, отвлеченные, казалось бы,
воззрения досократиков имеют на самом деле конкретную
эмпирическую основу. Наблюдения и простые «опыты» в сфере
обыденной жизни служили эмпирической базой умозрительных
построений греков. Кирк считает, что на предварительном этапе
происходило накопление эмпирического материала (в результате
исследовательских наблюдений, странствий и обычных «опытов»
в процессе жизнедеятельности) и в дальнейшем осмыслении
и проверке полученных данных постепенно формировалось
натурфилософское воззрение досократиков.
Ллойд предпринимает попытку «примирения»
методологических установок Поппера и Кирка4. Поппера он упрекает в том,
что тот чрезмерно умаляет способность греков дополнять
умозрение результатами эмпирической деятельности. Многие
исследователи, подчеркивает Ллойд, продолжают, как и Поппер,
представлять генезис античной науки как чистое проявление эллинского
ума. В этом вопросе Ллойд поддерживает точку зрения Кирка:
становление раннегреческой философии немыслимо вне
эмпирической деятельности. В качестве примера, подтверждающего данный
вывод, Кирк и Ллойд рассматривают пифагореизм и
древнегреческий атомизм. Известно, что основные положения атомистического
мировоззрения иллюстрировались наглядными эмпирическими
примерами (хаотическим движением пылинок, практикой
сооружения зданий, буквенными аналогиями и т. д.), а в пифагорейской
6
школе отводилось важное место музыкальному
экспериментированию в постижении сущности гармонии. На музыкальный аспект
становления воззрений мыслителей досократического периода
обращает внимание и С. Дрейк 5. Любая форма интеллектуальной
активности, утверждает он, непременно предваряется
(«запускается») какими-то конкретными практическими типами деятельности.
Так, например, математические и натурфилософские размышления
пифагорейцев стимулировались музыкальными опытами.
Музыкальная практика оказала решающее влияние на формирование
пифагорейского мировоззрения: в школе Пифагора музыка
выполняла функцию «великого врачевателя» души и разума и такое
отношение к музыке является действительно убедительным
подтверждением правомерности рассмотрения вопросов генезиса
античной науки в контексте «эмпирической» проблематики.
Большое значение опытному знанию придавал и Гиппократ,
усматривая в экспериментировании возможность более глубокого
постижения сущности вещей и явлений. Почти все авторы (Кирк,
Ллойд, Дрейк и др.) отмечают, что между мировоззрением
Гиппократа и его медицинскими исследованиями имеется
непосредственная связь. Первые древнегреческие философы, будучи
единственными представителями теоретического знания своего
времени, пытались сформулировать физические закономерности,
лежащие в основе наблюдаемых ими явлений, и с этой целью
некоторые из них сознательно ставили опыты 6. В этом плане важно
отметить, что в современной западной философии весьма «модной»
темой является выявление параллелей между генезисом античной
науки и развитием науки современной. В истории раннегреческой
философии обнаруживаются при этом «аналоги» различных
эпизодов современной науки, в частности физики 7.
В генезисе античной физики просвечиваются, по их мнению,
контуры и основные черты физики современной. Так, например,
Дж. Барнес, анализируя союз между наблюдением и теорией
в творчестве Анаксимена, приходит к выводу, что Анаксимена
можно считать греческим Галилеем. В эпоху Анаксимена, пишет
он, греки уже пользовались критическим методом — индуктивным,
а также экспериментальным. Как видно, античное знание дает
некоторые основания для подтверждения положения о влиянии
эмпирического знания на процесс становления научного мышления.
Относительно этого приводятся и другие соображения.
Эстетическая сторона античного знания также допускает
эмпирическую интерпретацию происхождения теоретических систем 8.
Различные эстетические концепции, характерные для
натурфилософских воззрений греческих мыслителей, по мнению Клоуза,
имеют практическую, а не спекулятивную основу. Античное искусство
невозможно понять вне имитации функционального поведения
объектов реального мира. В имитации находит свое выражение
результат конкретных наблюдений. Подражание природе дает
непосредственный материал для создания эстетических ценностей,
включая и эстетические теории. Такое искусство, подчеркивает
7
автор, основано исключительно на наблюдении и изучении
природы 9. Практическая деятельность является необходимым условием
для разработки эстетических критериев и установления
имманентной связи между искусством и природой. Представление о
слитности последних предполагало также рациональное осмысление
связи человеческой культуры с окружающей средой, допускало
возможность постижения связи между эстетической деятельностью
и реальными физическими процессами 10.
По мнению некоторых исследователей, своеобразие генезиса и
развития античной философии находит свое непосредственное
выражение в слитности эстетического (образного, интуитивного)
и научного (рационального, логического) способов постижения
реальности. В этом отношении современная западная культура,
отмечают Виккерс и Гизелин, резко отличается от античной
дихотомическим противопоставлением науки искусству п.
Ошибочность подобной методологической установки породила, по
образному определению Гизелина, весьма стройную ситуацию, когда
«соловей поэта и соловей ученого-орнитолога обитают в разных
садах». Невозможность построения адекватной картины
умственных процессов в рамках дихотомической рефлексии
свидетельствует в определенной мере о плодотворности изучения слитной
сущности античного знания. Раннегреческая философия выполняет в
данном случае функцию методологического фона — современные
проблемы проецируются на плоскость проблем генезиса и
функционирования греческой науки с целью прояснения наиболее важных
аспектов формирования двуединой (слитной)
научно-художественной рефлексии.
Рассмотрим подробно аргументы Кирка. Отвергая
стопроцентный рационализм раннегреческой философии, Кирк отмечает
значимость предварительного эмпирического этапа в становлении
последней. На уровне здравого смысла и непосредственного
наблюдения происходило преобразование мифологических
представлений в научные предположения. Противоречие философских
предложений здравому смыслу иллюзорно, поскольку сами
предположения в конечном счете верифицировались здравым смыслом и
обычным наблюдением 12. Ллойд, анализируя позицию Кирка, не
отрицает, что наблюдение и практическая деятельность сыграли
первостепенную роль в становлении античной науки. Он признает
справедливость многих аргументов Кирка, но при этом оспаривает
мнение последнего о подлинном значении предварительного этапа.
Особенности античного знания, утверждает Ллойд,
свидетельствуют о наличии всевозможных соотношений между
проблемными, теоретическими и эмпирическими исследованиями 13. Ни
одному из этих направлений не следует отдавать предпочтения.
Концепция Кирка не позволяет провести четкое различие
между донаучным мифологическим объяснением реальности и
натурфилософским. В данном случае Ллойд, на наш взгляд,
обнаруживает уязвимое место в позиции Кирка. Модель Ллойда
условно можно назвать «триединой» концепцией генезиса античной
8
философии. Становление раннегреческой философии в рамках
данной модели представляется как процесс взаимодействия
теоретического, эмпирического и социокультурного факторов 14.
Причем, как подчеркивает автор, указанные факторы сыграли главную
роль в преодолении мифологической традиции и формировании
новой научной картины реальности. В ходе критического
осмысления мифологического наследия совершенствовалась техника
аргументации и формировалось искусство риторики, диалектики.
В сфере наблюдения создавались предпосылки для построения
эмпирической базы зарождающейся науки. Демократическая и
полисная системы греческого общества стимулировали процесс
критического освоения традиционной веры, способствовали
культивированию принципиально новых типов мировоззрения
(научного, натурфилософского). Ллойд не упрощает процесс генезиса
античной философии и своей концепцией подчеркивает лишний
раз многоаспектность, сложность проблемы становления науки.
В тех работах, где выдвигается идея умозрительного
происхождения античной философии, особое внимание уделяется ее
мифологической предыстории. В этих работах развивается мысль о том,
что связь античной философии с мифологией чисто умозрительная.
Характер самой связи при этом понимается двояко. Некоторые
авторы полагают, что раннегреческая философия выражает иную
по сравнению с мифологией форму постижения реальности, т. е.
неявно допускается, что по своему основному содержанию учение
досократиков является завуалированной натурфилософскими
рассуждениями теологической системой. Это и дает основание Уор-
дену считать досократиков «стыдливыми» теологами 15. Согласно
другой точке зрения, преемственность указанных систем знания
отражает факт коренного преобразования одной системы в другую.
В этом случае в центре внимания оказывается преемственность
элементов систем, некоторых черт мифологического и
натурфилософского способов объяснения реальности.
Анализируя генетическую связь гомеровской идеи бога и анак-
сагоровского логоса, Уорден приходит к выводу, что в
концептуальном отношении мифологический и досократический стили
познания в известной мере тождественны. В творчестве Гомера он
находит первоначальные формы выражения ряда проблем
раннегреческой философской мысли: концепция двух уровней знания,
связь этического аспекта жизни с интеллектуальным, тождество
космоса и микрокосмоса и др. Хотя значительная часть импульсов
досократическои мысли проявилась в отрицании мифопоэтического
способа мышления, тем не менее раннегреческая философия в
целом опиралась, как утверждает он, на наследие мифологии.
Робинсон считает, что досократики заимствовали некоторые
представления мифопоэтического мировоззрения, в частности, у
Гесиода 16. Но спекулятивное объяснение явлений видимого мира
рациональными методами анализа было впервые дано милетцами,
а теоретические изыскания получили развитие после введения
онтологических и эпистемологических новшеств Парменида. Кос-
9
мология является изобретением милетцев. Признание того, что
космология и физическая спекуляция привлекли внимание Гомера
и Гесиода, означает, по Робинсону, сведение на нет завоеваний
досократической мысли.
Эти соображения высказывает и (У Брайэн. В своей книге
«Космические циклы Эмпедокла» он дает интересный анализ отношения
античной философии к мифологии. По его мнению, истинно
философскую картину вселенной создали впервые милетцы, и в
частности Анаксимандр. Концепцию мира, созданную Гомером, автор
считает нефилософской, так как сфера воображения гомеровских
героев строго ограничивалась пространственно-временными
представлениями 17. До Эмпедокла, полагает О' Брайэн, религиозная
мысль развивалась вне философии. Начиная с милетцев,
религиозный опыт человека отступал на задний план (и это было
свойственно почти всем досократикам). Заслуга Эмпедокла в этой связи
заключается в том, что он впервые вводит религиозную систему
в интеллектуальный мир греческих мыслителей. И этот синтез
позволяет преодолеть ограниченность донаучного
религиозно-мифологического мировоззрения 18. Не вызывает сомнения, что
формирование научного подхода в известном смысле было связано
с преодолением ограниченности мифологического стиля мышления.
Но из этого вовсе не следует, что в раннегреческой философии,
как полагает О' Брайэн, элементы мифологии отчетливо не
прослеживаются. Одно дело, когда речь идет о критическом анализе
религиозного опыта досократиков, и совсем другое, когда
отрицается связь раннегреческой философии с мифологией.
В рамках донаучного воззрения на мир были разработаны
всевозможные космологические и этические представления,
определенное видение мира. Элементы мифологического мировоззрения
впоследствии послужили основой для создания
натурфилософской картины мира. Мифология выполняла в некотором отношении
и функцию иллюстрации философских аргументов греческих
мыслителей. Отрицание мифологической предыстории античной науки,
ее мифологического фона в корне ошибочно. Раннегреческую
философию нельзя рассматривать изолированно от мифологии, ибо в
ней истоки и в некотором отношении особенности досократической
мысли. Как нам кажется, до появления научного мышления
религия (точнее, знание, приобретенное в рамках мифопоэтического
видения мира) выступает как естественный и необходимый момент
интеллектуального развития общества. Независимо от того, с
каких исходных позиций ведется анализ формирования
натурфилософского мировоззрения, следует особо изучать
предварительную стадию его развития. Мировоззрение досократиков
органически связано с предшествующим этапом интеллектуальной
эволюции греческого общества. Ясно, что особенности этой предыстории
и характеризуют в какой-то мере закономерности возникновения
научного подхода.
В непосредственной предыстории греческой науки можно
обнаружить позитивный опыт человечества, накопленный в период
10
мифологической эволюции сознания. Происхождение
натурфилософского объяснения явлений действительности имеет
непосредственное отношение не только к греческой мифологии, но и к
опытному знанию других цивилизаций. Своеобразие раннегрече-
ской философии в некотором смысле передается «флуктуационной»
основой ее мифологической предыстории, т. е. она включает в
какой-то мере интеллектуальный опыт других цивилизаций.
Многие представления греческой мифологии, преобразованные в
научные понятия, носят следы этого синтеза. Именно это
обстоятельство и оказывало определенное стимулирующее воздействие на
развитие раннегреческой философии, в которой нашли отражение
закономерности соотношения религиозного и научного способов
мышления в древности.
Греческая религия, отмечает Рэндолл, так же, как и еврейская,
объясняет порядок в мире «историческими терминами» .
Своеобразное «упорядочение» мира является фактически главным
завоеванием греческой мифологии. В этом смысле продолжает
Рэндолл, и греческая и еврейская религии, вероятно, отражали
вавилонскую космогонию. Как видно уже на примере генезиса
идеи порядка, прослеживается связь разных мифологических
систем. В другой своей работе Рэндолл, отмечает, что греческая наука
стремилась не к непосредственному постижению мира, а скорее
к согласованию интеллектуального и воображаемого видений мира
с самим миром 20. Он полагает, что античную науку характеризует
в целом эстетическое понимание реальности, т. е. создание картины
морального порядка вселенной (объяснение мира в терминах
простоты, совершенства, гармонии и т. д.). По мнению Рэндолла,
высший взлет греческой мысли есть, в сущности, достижение
эстетического порядка, и этот взлет был бы немыслим без идеи
«морального порядка во вселенной». Эту точку зрения
поддерживают и развивают многие исследователи.
Для греков, утверждает Э. Макмиллан, не свойственно
проводить различия между космическим порядком и моральным:
заимствованная из мифологии, идея космического порядка морали
(или морального порядка космоса) определила во многом ход
развития греческой философии 2|. История этой идеи, полагает он,
позволяет в целом проследить диалектику развития спекулятивной
космологии в греческом мышлении. К натурфилософским
размышлениям греческую мысль привело стремление выработать
правильные моральные суждения. Этот тезис имеет своих приверженцев.
Так, Э. Харрис и Дж. Филд утверждают, что вся греческая
философия пронизана этикой и моралью22. Пройденный греческими
натурфилософами путь отмечен попытками концептуализации
религиозной идеи морального порядка мира. По мнению Филда,
греческие мыслители были уверены, что критерии правильного
мышления коренятся в моральных суждениях. Эта мысль особенно
четко выражена в учении Сократа. Именно в этот период
обнаруживается тесная связь попыток понять реальность со стремлением
осмыслить проблемы морали. Характерное для досократической
11
философии размышление о сущности физического мира получило
в учении Сократа этическую направленность.
С этих же позиций дает глубокий анализ истории античной
философии Де Фогель. Согласно ее взгляду, в раннегреческой
философии существовал в основном тип умозрения (theoria),
с необходимостью предполагающий определенный моральный
подход и образ жизни. Последующий период развития античной
мысли, наоборот, свидетельствует о том, что разработка этических
критериев предполагает наличие теоретической основы.
Умозрительную особенность генезиса натурфилософского знания
характеризует главным образом «поиск принципов теоретического
обоснования морали» 23. Для греков истинный смысл «философии» как
интеллектуальной деятельности, основанной на стремлении
рационально понять реальный мир, однозначно соотносился с поиском
моральных основ жизни. Натурфилософскую систему знания,
отмечает и Дж. Бернет, сами греки рассматривали как серьезную
попытку осмыслить космос и мир человека с целью разработки
норм правильного образа жизни 24.
По мнению Де Фогель, наблюдения у греческих мыслителей
выполняли второстепенную, точнее, подготовительную функцию.
Роль конкретных исследований (данные астрономических,
физических, медицинских и других сфер античной «лаборатории») в
развитии философской мысли, говорит она, не следует
преувеличивать. Так, даже физику Эпикура Де Фогель оттесняет на задний
план. Она полагает, что греческие мыслители физическими
спекуляциями подготавливали себя к научной (т. е. философской)
деятельности. Эмпирическое знание существенно не влияло на
становление и дальнейшее развитие греческой философии.
Решающее значение отводилось не наблюдениям и опытам, а
умозрительному постижению реальности и поискам принципов
рационального мышления. При этом интересно отметить, что Де Фогель
оспаривает не наличие эмпирического знания в структуре античной
науки, а познавательную функцию конкретных исследований.
Таким образом, проводится мысль о несостоятельности двупланового
понимания генезиса греческой философии. Этот вывод следует из
того, что эмпирическим аспектам деятельности отводится
второстепенная роль.
В последнее время в исследовании проблем генезиса античной
науки заметно проступает тенденция смещения акцента в сторону
лингвистического (семантического) подхода. Представители
лингвистической школы интерпретации особенностей развития
античной философии полагают, что изучение своеобразных черт
языка и метафорического строя мышления досократиков
(Гераклита, Парменида и др.) позволит прояснить наиболее важные
моменты генезиса греческой науки. В семантическом анализе
античной философии усматривают возможность постижения ее
сущности, раскрытия некоторых «тайн» генезиса. Лингвистический
подход к наследию античности в настоящее время интенсивно
«эксплуатируется» и в философской герменевтике25. Акцент на
12
динамику лингвистического механизма становления античной
философии, выявление конструктивной роли субъективности в
развитии знания связаны непосредственно с установками
синтетического направления герменевтики, возрождающего идею
слитности научного и эстетического аспектов человеческого познания
(концепции X. Г. Гадамера, П. Рикера). На этом пути, в частности,
ориентируется внимание исследователей на проблему метафоры.
Анализ работ, включенных в наш обзор, показывает, что
общепринятой точки зрения относительно проблемы генезиса и
формирования научного мышления нет. В то же время попытки создать
картину происхождения греческой философии отнюдь не обречены
на неудачу. Такая картина, разумеется, с некоторыми
существенными оговорками, может быть создана. Отдельные ее фрагменты
можно найти почти в каждом серьезном исследовании.
Отличие натурфилософии милетцев от предшествовавших форм
мифологического мировоззрения заключается не в том, что милет-
цы первыми обратили внимание на реальность и занялись
размышлениями о сущности мира. Многих исследователей вводит в
заблуждение свидетельство Аристотеля о том, что Фалес первым
стал рассуждать о природе. В данном случае Аристотеля нельзя
обвинять в извращении сути учения милетцев. Ясно, что в свое
высказывание он вкладывал иной смысл, подразумевая лишь
простое, опосредственное созерцание природы. Взаимодействие
человека с природой на всех этапах исторического развития общества
определяло одну из главных особенностей его целеустремленной
познавательной деятельности. Причем это взаимодействие в ходе
эволюции общества постоянно видоизменяется.
Нам кажется, что само мифопоэтическое видение мира
возникло как раз в результате размышлений о явлениях природы, и эти
размышления послужили основой формирования
натурфилософской системы. Переход от религиозного мировоззрения к милетской
натурфилософии отражает поэтому новый подход к реальности.
Первые известные нам шаги античной науки свидетельствовали
о постепенном отходе от религии. Античное знание лишь на
первоначальной стадии развития строго ограничивало функциональное
содержание мифологических представлений. Это, пожалуй, не
случайно. Критический анализ мифопоэтической системы знания в
досократической философии был вполне закономерен.
Необходимость коренного пересмотра мифологии была вызвана
особенностями развития социально-культурной жизни греческого
общества. В ходе этого развития обнаружилась несостоятельность и
ограниченность мифологической картины мира. Это открытие
привело к осознанию необходимости создания нового типа знания.
Здесь, естественно, возникает вопрос: какие факторы социальной
эволюции греческого общества обусловили процесс
трансформации мифологии в натурфилософию? Эти факторы могли иметь
как теоретическую, так и эмпирическую основу. Поэтому не менее
важно решение и такого вопроса: на каком уровне знания была
установлена мировоззренческая несостоятельность мифологии?
13
Отход от мифологии, отмечает Н. Рашевский, совершался
умозрительно, а не эмпирическим путем 26. Возможность такой
интерпретации формирования греческой философской мысли не
исключается. Однако, как нам представляется, все же главным фактором
генезиса греческой натурфилософии является «слитность»
умозрения и наблюдения.
Очевидно, что первые философы не могли полностью отрицать
мифологию и включают ее в свою «натурфилософскую картину
мира» в качестве фрагмента последней. По мнению милетцев,
например, многообразие вещей и явлений следует объяснять
посредством понятия «первоначала», материальной первоосновы
мира. Боги мифологии суть особая форма бытия первоначала
(есть только рожденные боги). В этом положении милетцев
намечается тенденция отхода от мифологии. Сознательно ограничивая
функцию «бога» и оттесняя его на второй план, милетцы
подготавливают почву для критики религиозных представлений. Они
устанавливают определенное соответствие между «первоначалом» и
«богом», соотношение между мифопоэтическим и
натурфилософским способами мышления. Добиваться такого соответствия было
необходимо по двум причинам. С одной стороны, милетцы
отталкивались от мифологии, а с другой — отрицали ее. Оба момента
суть необходимые условия развития их учения.
Следующий шаг в процессе отхода от мифологии делает Ксено-
фан. Весьма важное значение для развития греческой
философской мысли имели его соображения о социальных корнях религии.
Открытие социально-этнической основы религиозного
мировоззрения с полным правом можно считать одним из главных
завоеваний раннегреческой философии. Кульминационный момент
антирелигиозного течения мысли связан с именем Гераклита. Именно
он открыто заявил, что боги не имеют никакого отношения к миру
(фр. 30 ДК). Такое отношение к мифологии свидетельствует о том,
что философская мысль уже способна развиваться
самостоятельно. Формирование философской мысли, как видно, происходило
в атмосфере крайне скептического отношения к мифологии. Без
такой атмосферы было бы немыслимо создание натурфилософской
системы взглядов.
Скептицизм досократиков в отношении религии был обусловлен
в основном социальными факторами. В умозрительных суждениях
и спорах мыслители прошлого не могли обнаружить
несостоятельность мифологического воззрения на мир. Оставаясь в рамках
мифологии, они не могли увидеть ее ограниченность. Истинность
или ложность мифологических представлений в ту пору
проверялась в социальной «лаборатории» греческого общества
(практическая сфера жизни и главным образом странствия греков).
Не удивительно, что первые философы Греции в основном были
странствующими мыслителями, их умозрение не было
«кабинетным», а основывалось на наблюдениях. В странствиях проверялись
не только представления греческой мифологии, но и элементы
мифологии других народов. В результате такого своеобразного
14
компаративного анализа многие представления теряли смысл или
коренным образом переосмысливались. Все это с необходимостью
направляло умозрение греков на поиски новых принципов жизни.
Необходимость самого поиска была органически связана с
осознанием иллюзорности мифологического знания и обеспочвенности
мифологии в целом. Другими словами, подготавливалось крушение
мифологической системы знания.
2
ТЕОЛОГИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ
АНТИЧНОЙ ФИЛОСОФИИ
Одна из наиболее сложных проблем античной философии,
неизменно привлекающих внимание исследователей, само ее
происхождение. Не только окончательное разрешение, но и более
или менее успешное рассмотрение такого рода проблемы
невозможно без широкого анализа историко-философской
литературы. Отправной точкой такого анализа, по нашему мнению,
может стать представление А. Н. Чанышева о «мифогенной» и
«гносеогенной» концепциях теории происхождения философии '.
Специально рассматривались в нашей литературе и некоторые
концепции происхождения греческой философии,
характеризующие современный уровень буржуазной историко-философской
науки 2.
Однако целое направление в буржуазной
историко-философской науке, весьма своеобразно толкующее проблему
происхождения античной философии, оставлено без должного внимания.
Речь идет прежде всего о работах К. Йоля и В. Йегера. Объединяет
их то, что оба достаточно решительно оспаривают позитивистские
теории генезиса античной философии, начав критику устаревшей,
по их мнению, концепции Эд. Целлера и выступая оппонентами
такого авторитета в области эллинистики, каковым был тогда,
да и остается для некоторых западных исследователей и теперь,
Дж. Бернет. Но не только это дает основание говорить о трудах
К- Йоля и В. Йегера как об особом направлении. Основанием для
последнего является то, что Йоль и Йегер, выступая против
позитивизма, обнаружили новый аспект проблемы происхождения
античной философии, связанный с анализом проблемы человека
у истоков древнегреческой философии.
Правда, сознательно они ставили иные цели — выведение
философии из «духа мистики» (К. Йоль) или же из
«рационального теологизирования» (В. Йегер). Более важным оказывается,
однако, то, что и у Йоля и у Йегера наблюдается обращение
к таким несомненно необходимым для всестороннего и полного
рассмотрения проблемы происхождения античной философии
вопросам, как роль личностного начала и пантеизм в раннегре-
ческой философии, «пайдейя» в процессе перехода от мифа к
логосу, и ряду других, связанных с ними.
Большой интерес представляет собой книга К. Йоля «Проис-
15
хождение натурфилософии из духа мистики». Эта работа
показывает общий подход К. Йоля к проблеме происхождения
философии, содержит основные его аргументы. Первое издание
книги вышло в свет в 1906 г., второе (используемое нами) —
в 1926 г.3 В предисловии автор так характеризует свою работу:
«Она говорит о происхождении натурфилософии... она объясняет
это происхождение не столько из самой мистики, сколько из духа
мистики, общности с ней» 4.
Уже в первом разделе книги — «Космическое начало
философии и его объяснения», приводя доводы против признания
восточного происхождения философии, Йоль задается вопросом:
как все же на греческой почве возникает натурфилософия?
«Из наблюдения природы — столь по-детски сегодня уже мало кто
ответит. Это, конечно, самое простое объяснение, но также самое
невозможное» 5. Ибо это то же, что объяснить открытие Ньютона
из того яблока, которое он увидел падающим. И хотя никаких имен
Йоль здесь не называет, очевидно, что этот тезис направлен
против того понимания происхождения философии, которое
связано с именем Дж. Бернета. Ему же следует адресовать и
другое замечание, что тот, кто объясняет происхождение
философии «просто из спекулятивного гения греческой расы», может на
этом успокоиться и гордо отложить перо, ибо потомки «будут
смеяться над этим самодовольным поклонением словам, которое
считает себя наукой, а на деле есть наполовину леность,
наполовину суеверие» 6. Йоль высказывается и против «мифогенной»
концепции происхождения философии: «Мифология, или, вообще
говоря, власть религии как таковой, не позволяет объяснить
натурфилософию, в противном случае именно Восток был бы более
способен породить ее, чем сама Эллада» 7. Но даже если признать
специфическое своеобразие греческой мифологии и религии,
то и это не может объяснить происхождение натурфилософии,
ибо именно греческую религию «много больше можно назвать
антиспекулятивной, чем какую-либо другую» 8.
Затем делается общий вывод (мы полностью приводим здесь
эту пространную выдержку, поскольку именно такого рода
рассуждения весьма характерны для автора): «Таким образом,
натурспекуляция пришла не извне, не только лишь из наблюдения
природы, не из учений Востока или практической, технической
потребности. Однако и мифологизированная религия также
должна быть отклонена в качестве основы объяснения. Итак, не
наблюдение природы, не исчисление природы и преодоление
природы, не натурмифология создали натурфилософию, поскольку все
это имел и нефилософский Восток. Не наблюдающие органы
чувств, не считающий разум, не практическая воля, не
необузданная фантазия произвели натурспекуляцию. Таким образом,
она произошла прежде всего не из восприятия мышления, воли,
представления — что тогда остается еще от человеческого духа?
Чувствование. Греческая натурфилософия есть продукт чувства?
Это кажется более чем странным. Познание объекта из субъектив-
16
нейшей функции? Познание внешнего мира, чуждых и далеких
человеку вещей из внутреннего мира души? Это кажется
невозможным, поскольку противоречиво. Неужели натурфилософия,
в которой эллинистическая ясность и острота духа триумфально
обосновали европейскую науку, происходит из самых темных
глубин, из вечно неопределенного, шаткого, смутного чувства?
Неужели познание — «мирское», «разумное», оставляющее «сердце
холодным» — происходит из сердца, из не рассудительного
чувства? Философия чувства — значит мистика, и неужели греческая
натурфилософия — дитя мистики?» 9
При этом «мистическое чувство есть именно не любое чувство,
а так сказать, превосходная степень чувства, тотальное,
экстатическое, бесконечное чувство, чувство бесконечного. Вся мистика
происходит из повышенного ощущения жизни, и каждое
продолженное ощущение жизни в конце концов ведет к мистике» 10.
Для мистика с его расширенным ощущением жизни бог есть
высший, бесконечный предмет чувства, есть сама жизнь. «С
мистической богонаполненностью человека фактически и необходимо дана
богонаполненность природы» п. Наполненный богом чувствует
все погруженным в бога, единым с богом.
«Чувство бога (Gottgefuhl) мистики есть всеобщее чувство,
и таким образом мистик постигает всеобщее (АН) скорее, чем
единичное, самое далекое, бесконечное скорее, чем близкое и
конечное, более того, он постигает конечное через бесконечное,
единичное через целое, и этим он обосновывает научное познание» 12.
Только для мистики бесконечное есть не последнее, а первое,
только ей присущее стремление к всеобщему, зачаток
космического понимания. В боге, воспринимаемом мистически (душевно,
как всезаполнение души), человеку впервые открывается
всеобщность мира. Отдаленность природы делается ближе. Всеобщее
(АН) природы чувствуется, т. е. душевно переживается,
воспринимается как жизнь. Контакт между душой и природой, так как
они различны, может восприниматься не в бытии, а только в
изменении. Душа изменяется вместе с природой и в природе.
Одушевленность природы есть жизненность, развертывание
природы. Мистическая, т. е. всезаполненная душа, требует, таким
образом, принятия во внимание изменений природы, в которых она
вновь находит себя. «Бог, душа, природа, развертывание, жизнь
и тем самым наука — в этой мысли лежит единство мистики
и натурфилософии» 13.
Сделав такой вывод, Йоль переходит, собственно, к выяснению
главного вопроса: справедливо ли «это найденное объяснение
происхождения натурфилософии из мистики или, точнее, из
единства с мистикой применимым для античности, конкретно для до-
сократовской философии, т. е. для первого классического периода
натурфилософии» м. Здесь, однако, обнаруживается такая
проблема: мистика есть религиозный субъективизм. «Но именно по
религиозной силе классическая античность стоит далеко позади как
Востока, так и веков Бёме и Шеллинга, и субъективное сознание
17
кажется столь слабо развитым в античности, что философский
субъективизм есть, пожалуй, единственное современное
направление, не имеющее параллели с античностью» . И тем не менее
именно из мистики, из одновременного подчеркивания души и бога,
т. е. из обоих факторов мистики (субъективного и религиозного)
Йоль. и выводит осознание природы (натурфилософию), не делая
ни малейшего исключения для античной натурфилософии. Таким
образом, Йоль ставит перед собой задачу обнаружить в греческом
мышлении того периода, во-первых, субъективный, и, во-вторых,
религиозный элементы.
Что касается субъективизма греков, то Йоль рассуждает
следующим образом: признано, что грекам был свойствен
индивидуализм, но он еще не означает субъективизма. «И все же
возрастающая субъективность будит индивидуальность и создает
предпосылки к индивидуализму» 16. Поэтому в Греции должна
была существовать эпоха, когда субъективно пробуждалась
индивидуальность, когда стремление к самостоятельности еще не
было критически направлено против чувства, а выражалось
субъективно, посредством чувств. «И такая, так сказать, лирическая
эпоха греческого духа существовала, и именно в эту свою
субъективную эпоху он создал натурфилософию» 17. Не случайно
поэтому совпадение во времени расцвета раннегреческой лирики и
пробуждения натурфилософии. В лирике впервые мир, жизнь были
почувствованы, оценены, восприняты как иное по отношению к «я».
«Пока „я" радуется жизни, едино с миром, чувство остается
в своем естественном единстве и при своем чисто лирическом
выражении. Однако диссонантное чувство ведет к рефлексии.
Когда „я" страдает о мире, тогда оно противопоставляет себя
миру, чувство разрушается, становится критическим
представлением. Сетующая лирика есть становящаяся философия, пессимизм
разрушает лирику» 18.
Йоль ищет в античности субъективизм, тождественный
новоевропейскому, дабы таким образом обосновать свою концепцию.
И еще один момент. Йоль, найдя определенные элементы
субъективизма, немедленно абсолютизирует это и заключает, что античное
мировоззрение в сущности своей есть субъективизм, причем
субъективизм мистический. В какой же форме, по его мнению,
проявлялся он в античности?— «Античная натурфилософия трояко
свидетельствует о том, что здесь «я» ищет свою связь с миром, хочет
осмыслить свое мироотношение, таким образом, она трояко
проявляет свой чрезмерно субъективный характер и в этом отношении
свою общность с лирикой» 19. Первое есть необычайное чувство
собственного достоинства (Selbstgefühl) и совершенно личный тон
этих натурфилософов. Они уже не скрываются за своим
предметом (как в эпосе, драматургии или специальных научных
исследованиях), а говорят от своего имени (и. здесь наравне с ними
стоят только лирики): «я думаю», «я познаю», «я считаю» и т. д.
Но в натурфилософии Йоль обнаруживает больше чем мистико-
лирический, личностный стиль. Говорить от себя еще не значит
18
говорить о душе и о ценности жизни, а именно последнее —
оценка души и жизни — составляет второе свидетельство
субъективизма античных натурфилософов.
Наиболее подробно Йоль останавливается на третьем
моменте — «единстве души с мипом, возвышении человека до мирового
символа, до ключа мира» . Йоль понимает, что такое толкование
античных натурфилософов кажется «невозможным парадоксом»,
переворачивает все, что мы о них знаем. Ведь известно, что Фалес
объяснял мир из воды, Анаксимандр — из бесконечного первове-
щества, Анаксимен — из воздуха, Гераклит — из огня. И как же
можно, учитывая эти «чисто физические первопричины»,
утверждать, что они объясняли мир из души. Ведь они, казалось бы, даже
душу объясняли из воздуха, огня и прочее, т. е. из их физического
принципа. Тем не менее Йоль вновь берется доказать, казалось бы,
невозможное и задается вопросом — почему они выбрали именно
эти мировые принципы. Наиболее ясный ответ он находит у Анак-
симена (фр. 2): «Так же, как наша душа, будучи воздухом,
скрепляет каждого из нас, так и дыхание и воздух объемлют все
мироздание» 2|, Тем самым, заключает Йоль, «он признает
антропоморфическое происхождение своего принципа» 22. Он ищет в
качестве основы мира основу жизни и находит ее в дыхании. Какова
душа, таков и мир, говорит он. Отсюда Йоль делает вывод, что
уже у Анаксимена мы имеем мистическое учение о единстве мира
и души в жизни, об одухотворенности мира и что он
«материализует душу и по возможности дематериализует мир» 23. Подобная
операция проделывается и по отношению к другим античным
философам. Следует отметить, что Йоль настаивает именно на
антропоморфизме и в дальнейшем специально подчеркивает, что «смысл
всей древней натурфилософии не есть гилозоизм» 24.
Заключительный вывод Ноля таков: «Последнее рассмотрение
выявило у древних натурфилософов лирическое, в конечном счете
мистическое раздувание чувства собственного достоинства,
подлинно мистическое возвышение всего духовного и живого вообще,
наконец, повышение высокоодухотворенного человека до смысла
мира, до типа познания природы, до микрокосмоса, короче
очеловечивание и тем самым одухотворение природы» 25. Однако
мистике присуще еще большее — единство с богом. При этом
оказываются данными четыре единства — единство души с богом,
единство бога с природой, единство природы с душой, и,
наконец, как следствие из них — единство самой природы. Теперь
Йолю необходимо выяснить отношение греческого духа ко
второму фактору мистики — религиозному — и доказать, что
античности наряду с мистическим субъективизмом присуща и
мистическая религиозность. И здесь Йоль вновь полемизирует с «гносео-
генной» концепцией. Дело в том, замечает он, что «в
натурфилософских системах до нас действительно дошли религиозные
моменты; но сегодня их в основном еще рассматривают как сорняк,
как чуждые вторжения в философские системы. Религию и
философию противопоставляют друг другу как чуждые силы и
задают вопрос: оказала ли религия влияние уже на раннюю
философию?» 26
19
Отметим сразу, что Йоль безусловно прав, критикуя гносео-
генную концепцию за понимание древней философии
исключительно как науки, не имеющей ничего общего с дофилософским
религиозно-мифологическим сознанием, но его собственная
позиция в этом вопросе, как мы видим, столь же неправомерна.
Он начинает свои рассуждения с того, что приписывает
религиозность уже самому первому философу — Фалесу, который учил, что
все полно богов, видя в этом не пережиток, а начало
сознательной натурмистики» 27.
Обычно считается, что ионийцы искали мировое вещество
(Weltstoff). На деле они искали мировую силу (Weltkraft),
которую понимали по аналогии с известной им силой собственной души,
как мировую душу и, таким образом, как божество. А то, что Фа-
лес, Анаксимандр и Анаксимен говорили о неопределенно многих
мировых богах, говорит не против, а скорее за принятие
всеобщего божества, которое, творя, «развертывается в отдельных
силах» 28. При этом бог или мировой принцип у них охватывает
мир. То же самое мы видим у орфиков. Имеются специальные
исследования о влияниях орфиков на древнюю натурфилософию,
однако Йоль не намерен полностью следовать им, поскольку
неправомерно, по его мнению, подчеркивать эти влияния так,
будто древняя натурфилософия и орфизм изначально чужды:
«... древние натурфилософы кажутся мне в известной мере сами
орфиками, во всяком случае у них слишком много общего с
орфиками, чтобы нуждаться во влиянии с их стороны, влиянии,
которое, конечно, часто присутствует, однако определенно
является взаимным и чаще скорее объясняется как естественные
совпадения одинаково направленных образов мыслей» 29.
И еще один фактор — эсхатологизм. «Суть мистики — идея
жизненного единства бога, души, природы, и она здесь требует
приспособления души к обеим бесконечным силам (Potenzen) и,
таким образом, дает душе то, что имеет природа,— бессмертное и
вечное возвращение. Древние натурфилософы учат обоим»30.
Считается, что эсхатологические представления древних есть
чуждые примеси, неуместные уступки философов теологии, Йоль
же считает, что скорее следует утверждать наоборот:
«Мистическое-стремление к вечной жизни создало всю эту философию...
во всяком случае, я признаю в учении о переселении душ
необходимое основание древней натурфилософии»31.
Древние натурфилософы воспринимали природу живой,
как человеческая душа, но они считали жизнь природы вечным
возвращением, движением по кругу. Воспринимая природу «как
бесконечный круговорот становления», они «многократно усилили
этот ритм изменения до вечного изменения возникновения и
исчезновения мира» 32. Вывод Йоля таков: «Учение о переселении
душ древних натурфилософов самым тесным образом связано с их
основополагающим отрицанием всего возникающего и
исчезающего» 33. Учение о вечной жизни — это их основной догмат.
Увековечивание человеческой души означает также ее божественное и
20
природное бытие, причем эти учения ведут не к параллели, а к
единству: «Человеческая душа бессмертна и вечна, не только как
бог или природа, но в качестве божественной и в качестве
природной сущности»34. В этом вечном превращении человеческая
душа может переходить в растения, зверей (Эмпедокл), в воду
(Гераклит), в другие элементы. «Но все это есть лишь нисхождение
(Abstieg) души, восхождение (Aufstieg) ведет ее к богам, и
именно здесь древняя натурфилософия наиболее подлинно проявляет
себя как мистика: в обожествлении человека, пусть даже это
обожествление мыслится иначе, более поверхностно, чем в христиан-
О ОС .«JW
скои мистике» . Иоль завершает свою книгу таким рассуждением:
«Таким образом, в целом познание природы есть изобилие
понятий, взятых из мистики или, точнее, общности с ней: мир как
единство и бесконечность, мир как единство множественности
(разнообразия), как гармоническая система, мир как порядок,
законность и необходимость, мир как развертывание силы и жизни
и в противоположность этому как материя и элементы, в целом
как объект в противоположность субъекту, мир как изменение и
круговорот, как каузальная последовательность, как развитие,
как Descendenz и Ascendenz, короче, это, пожалуй, высшие
основные понятия, вся основная схема познания природы, которая была
дана в мистике» 36.
Второй крупный представитель теологического понимания
происхождения античной натурфилософии — В. Йегер —
предлагает альтернативное по отношению к предложенному К. Йолем
решение: он обращается не к «духу мистики», а к «рациональной
теологии», проявлением которой выступает у него
древнегреческая философия, начиная со своих ранних этапов. Мы будем в
дальнейшем ссылаться на его работу «Теология раннегреческих
мыслителей» 37, которая содержит целостную концепцию
античной философской, или «естественной» теологии, развиваемую
автором. Сжатая характеристика процесса становления
древнегреческой философии содержится и в главе «Философское
мышление и открытие космоса» первого тома его «Пайдейи» 38.
Как и Йоль, Йегер не претендует на исчерпывающее освещение
философии досократиков. Он пишет: «В моей книге говорится об
определенной стороне раннегреческого мышления, которая была
упущена такими исследователями позитивистской школы, как
Таннери, Борнет или Т. Гомперц, поскольку они видели в древних
мыслителях прежде всего творцов естествознания. Но я не
собираюсь также впадать в противоположную крайность и выводить
натурфилософию их духа мистики, как это пытались делать
противники этого позитивистского направления» 39. Последнее
замечание направлено против Йоля. Однако исходная позиция самого
Йегера отличается тем же априоризмом по отношению к
конкретному историко-философскому истолкованию материала, который
отличал автора «Происхождения натурфилософии из духа
мистики». «Если мы избежим обеих односторонностей, то останется
существовать тот факт, что великие новые мысли древних мысли-
21
телей о „природе" и „универсуме" были для них непосредственно
связаны с новым пониманием божественного. В этом единстве
духовного постижения бога и интеллектуального (denkender)
открытия сущего лежит происхождение всех позднейших
философских теологии греков»40. Цель исследования состоит в том,
чтобы вскрыть «неизменную основную структуру духа, непрерыв-
нось которой утверждается на протяжении всей истории
философской теологии греков»41.
Ключевое понятие, обоснованием которого начинает Йегер
свой труд по античной теологии,— natürliche Theologie. Есть все
основания переводить это выражение как «естественная теология».
Понятие «естественной», или «философской», теологии Йегер
использует с первых страниц своей работы и указывает его
источник— «De civitate Dei». Августиновское theologia naturalis
переводится на русский язык как «естественная теология»42, что
соответствует и переводу с латинского на немецкий. Однако здесь
есть некоторые тонкости. Йегер вслед за Августином
рассматривает три разновидности теологии: мифическую, политическую и
естественную. Мифическая теология имеет своим предметом
божественный мир поэтов, политическая содержит в себе
государственную религию; естественная «истинная» теология представляет
собой философское учение о сущности бога. Йегер оттеняет
замечание Августина: «Мифическая теология и государственная
теология в сравнении с этим (т. е. естественной теологией, которую
репрезентировала для Августина философия греков, и прежде
всего Платона.— Г. Д., Т. Ч.) не соответствовали природе (der
Natur), но обе были в равной мере искусственным соглашением и
человеческим созданием» 43.
Не менее важно и другое замечание Йегера о понятии theologia
naturalis. «Очевидно, в основе этого понятия первоначально
лежит противоположность physei — thesei. Уже ученик Сократа Ан-
тисфен, который сильно повлиял на стоическую философию,
различал между одним physei theos и многими thesei theoi» 44. «Кто
впервые ввел термин „естественная теология",— продолжает Це-
гер,— мы не знаем. Во всяком случае, это был эллинистический
философ. Варрон использовал греческое прилагательное physikos,
Августин заменяет его латинским naturalis» 45. Во всяком случае,
важна не роль Варрона в первоупотреблении термина
«естественная теология», а факт использования им греческого
прилагательного physikos — прирожденный, природный.
Хотя Йегер и отмечает, что его интересует не столько слово,
сколько явление, которое оно выражает, ему удается подвести
читателя к тем вопросам, которые находились в центре античной
натурфилософии с ее неизменным интересом к первооснове всех
вещей — physis с традиционным названием их сочинений «Peri
physeos». С аристотелевского противопоставления «фисиологов»
и «теологов» начинает Йегер прослеживать развитие античной
философии, в его терминологии — «естественной теологии». Мы
должны заметить для уяснения существа вопроса, что речь идет
22
о философском изучении природы, которая составляет, согласно
Йегеру, предмет досократовской философии, но не как самоцель,
а как средство достижения божественного, т. е. речь должна идти
не о натурфилософии, а о натуртеологии. Хотя Йегер употребляет
термин «natürliche Theologie», а не «Naturtheologie» у него, по
существу, речь идет о «натуртеологии», так же как у Йоля речь
шла о «натурмистике». И в первом, и во втором случае природа
оказывается ступенью восхождения к высшей божественной
сущности. Как же Йегер представляет себе содержательную ситуацию,
скрывающуюся за термином theologia naturalis? Поставив этот
вопрос, Йегер отвечает на него сразу, предваряя дальнейший ход
исследования: «Само слово „теология" еще более древнего
происхождения, в любом случае — это специфически греческое
творение. Этот факт не всегда верно понимается и требует особого
внимания, ибо он относится не только к слову, но еще более к тому
делу, которое оно выражает» 46. Йегер специально оговаривает,
что слово «теология» имеет не только философское значение.
Важно это отметить, поскольку он в дальнейшем обратится к
«мифической теологии», расходясь в воззрении на ее роль в генезисе
«философской теологии» с Августином 47: «Духовная ситуация,
которая порождает понятие „теология", показывает совершенно
другую картину, чем та, из которой происходили представления
Августина или Варрона о естественной теологии» 48.
Йегер вслед за Августином включает греческую философию в
предысторию христианской религии. В этом смысле философия
языческой античности, будучи «теологией натуральной», «служит
основанием сверхнатуральной христианской теологии» 49.
Последующее замечание развивает эту мысль, но с учетом того
обстоятельства, что греческая философия была частью греческой
культуры и как таковая имела дело с языческой мифологией, в
сравнении с которой и оценивается ее роль в духовном (однозначно
понимаемом как религиозное) развитии человечества. «Разве не
парадоксален тот факт, что тем из греческого наследия, что имело
для религиозного развития человечества непреходящее значение,
были не образы олимпийских богов, которые живут лишь в
фантазии поэтов, а религия философских мыслителей-эллинов, которая
будет существовать до тех пор, пока на этой земле живут люди» 50.
Итак, духовная ситуация, охватываемая понятием «теология»,
включает в себя отношение между философией и мифологией,
которое осознавал уже Платон, первым вводя понятие
«теология» 5|. В «Государстве» в соответствии с философскими
масштабами он выдвинул критерии для оценки мифологической поэзии.
Далее Йегер прослеживает внутренние противоречия, связанные
с истолкованием термина «теология» у Аристотеля. С одной
стороны, Аристотель понимает «теологию» как фундаментальную
философскую дисциплину, которую называет также «первой
философией» или «наукой о высших принципах» (впоследствии
для обозначения этой науки стал употребляться термин «мета-
23
физика»), а с другой — там, где Аристотель использует этот
термин для выявления исторической связи, в качестве «теологов»
он называет нефилософов типа Гесиода и Ферекида, которым
противостоят «физики» — первые действительные «философы» Ъ2.
После этого, отмечает Йегер, можно было бы, казалось, сказать,
«что философия начинается там, где кончается теология»53.
Йегер опровергает это предположение. В учении о неподвижном
двигателе и движении сфер Аристотель возвращается к древним
религиозным представлениям о богах на небе. В них содержалось
предвосхищение истины, но оформленное мифическим способом.
Заключение Йегера таково: «Значит, теология представляет собой
исторически первую, мифическую ступень человеческого познания.
На более высокой ступени оно опять возвращается к этой
проблеме, которую теологи рассматривали своим способом» 54.
Здесь намечается расхождение Йегера с Августином,
рассматривавшим первую ступень греческой философии (философов-
«фисиологов») как собственно предфилософскую °°. Йегер
полагает, что религиозное идейное содержание учения нельзя ставить
в прямое соотношение со степенью его логически-систематической
разработанности. Поэтому и возникает та трудность, что на
ранних этапах греческой философии теология оказывается не
отделенной от других областей мышления. Задача состоит в том, чтобы
определить те специфические формы, «в которых религиозное
мышление выступало в независимых философских
спекуляциях» 56.
Итак, ключевое понятие «естественной теологии», или «натур-
теологии», и терминологически и содержательно ориентирует на
текстуальное исследование традиционной для большинства
историко-философских исследований проблемы перехода от «теологии»
к «фисиологии» (в терминологии Аристотеля) или от «теологии
мифической» к «теологии философской» (в терминологии Йегера).
Отправным для проведения дальнейшего исследования выступает
для Йегера положение Аристотеля, что «сущность философов
состоит в том, что они действуют, строго доказывая, теологи же,
напротив, mythikos sophizomenon». «Это очень меткая
формулировка,— продолжает Йегер,— так как она подчеркивает как
общее, что мифологи провозглашают какие-либо учения (sophizon-
tai), так и различия, что они делают это «мифическим образом» 57.
Впрочем, в последующем Йегер практически не обращается к
гомеровскому эпосу, делает краткое замечание, что сказания о
богах подчинены у Гомера героическим сказаниям.
Систематизатором теологических сказаний выступает Гесиод, творчество
которого Йегер характеризует достаточно основательно. Широта
рассматриваемых Гесиодом проблем расценивается Йегером как
свидетельство его теологии. «Круг той постановки проблем,
которая в „Теогонии" обнаруживается повсюду, охватывает все
вопросы, выдвигавшиеся религиозным восприятием его времени,—
от существования зла и страдания в мире до оправдания власти
богов» 58. Теология Гесиода охватывает как область человечески-
24
нравственного здесь-бытия, так и область природного мирового
порядка. Возведение господствующей династии богов к
прародителям Урану и Гее ведет поэта назад от «Теогонии» к космогонии.
Позади земли и неба, этих твердынь мировоззрения, не видит
Гесиод ничего, кроме зияния. Это зияние и есть «Хаос»
(пространство между небом и землей).
Итак, религиозный поиск в конечном счете ведет к
обоснованию идеи Начала и Хаоса. Не меньшее внимание уделяет Йегер
идее Эроса у Гесиода как первобога и космической силы. И идея
Эроса оказывается производительной от стремления поэта создать
ряд порождений богов, т. е. от теогонии, которая вызывает главный
интерес его теологии. Причем Эрос вовсе не был культовым
божеством, обращение к нему Гесиода представляет собой
особенность его теологического мышления 59. Эрос в то же время
рассматривается и как космическая созидающая (творческая)
потенция. Хотя Гесиод приближается к философским вопросам и
оказывает влияние на формирование последующих философских
учений, его теология остается на уровне мифическом.
«Философское мышление, которое сменит мышление Гесиода, будет в
противоположность к генезису просыпающейся теологии искать
божественное в мире, а не по ту сторону его. Оно будет продолжать не
столько Гесиода-теогоника, сколько Гесиода-космогоника, а по
его следам оно будет искать божественное в силах, которые все это
произвели» 60. Гесиод еще не ставит вопрос о том, что есть
божественное само по себе. Новое мышление поставит эти вопросы
лишь тогда, когда отдельные божественные мифические образы
станут сомнительными, когда человек признает источником
достоверности «только опыт и последовательное мышление,
основывающееся на нем» 61. Так Йегер подводит основание для
отождествления философии милетской школы с теологией.
Ионийская натурфилософия (Фалес, Анаксимандр, Анакси-
мен) не совпадает ни с началом рационального, ни с концом
мифологического мышления. Трудно установить временные рамки,
когда обнаруживается прорыв рационального мышления.
Элементы рационального мышления проступают в гомеровском эпосе,
будучи связанными с «мифическим мышлением» так тесно, что их
освобождение еще невозможно62. Йегер специально обращает
внимание на преемственность, существующую между эпосом и
ионийской натурфилософией. «Эта строгая органическая
взаимосвязь греческой духовной истории сообщает ей
архитектоническую замкнутость и единство...» 3 Об этом же говорит и то
обстоятельство, что мифологические образы широко используются в
последующем развитии философии, так что есть основания
рассматривать историю философии греков как «процесс
прогрессирующей рационализации религиозной картины мира,
первоначально сформировавшейся в мифе» 64. Касаясь вопроса о духовном
контакте ионийцев с древними цивилизациями Египта и передне-
азиатских стран, Йегер отмечает, что греки не только переняли
их технические достижения и констатации в области геометрии,
25
навигации и астрономии, но и свое живое внимание
мореплавателей и купцов направили на те глубокие вопросы, на которые эти
народы в их мифах о возникновении мира и истории богов отвечали
по-иному, чем греки. Рождение натурфилософии закрепляет
отмеченное различие. «Нечто принципиально новое было в том, что
ионийцы эмпирическое знание небесных и природных явлений,
которое они переняли с Востока и умножили, самостоятельно
поставили на службу последнему вопросу о возникновении и
сущности вещей и благодаря этому миф о возникновении мира, ту самую
область мифа, которая непосредственно примыкала к реальности
чувственно данного мира явлений, подчинили теоретическому и
каузальному мышлению» 65.
Мы привели этот материал из «Пайдейи», чтобы более ясно
представить позицию Йегера, содержащуюся в его «Теологии ран-
негреческих мыслителей». Можно заметить, что у Йегера речь идет
не о рациональном мышлении самом по себе, а в его отношении
к мифу и эмпирическому знанию. Самое поразительное состоит
в том, что Йегер, так же, как и Бернет, его основной оппонент,
делает выбор не в пользу мифа. Новая радикальная форма
рационального мышления в противоположность рациональному
толкованию и синтезу мифических преданий в стиле Гесиода вообще
не черпает свое содержание из мифических или каких-либо иных
преданий. «Исходной точкой этого мышления выступает
предварительно найденная из собственного опыта человека
действительность, ta onta, то, что существует. Это выражение
употреблялось до более поздних времен в Греции для обозначения того, что
относится к состоянию бюджета и имущества человека, и их
философского языка оно теперь распространяется на все, что
вообще находит*человеческое восприятие в этом мире»66.
Йегер специально отмечает, что к onta не относятся
небесные силы, о которых сообщают мифы прошлого. К сожалению,
продолжает он, у нас нет доказательств в виде прямых
высказываний древних философов об их отношении к мифам. Но
наверняка они должны были осознавать свое собственное мышление,
опирающееся на непосредственное восприятие, как
противоречащее мышлению, отправляющемуся во всех важных моментах от
мифологических рассказов как от достоверной истины. Познание
мира не нуждается в обращении к мифу. Слово mythos, которое
ранее обозначало любую речь или рассказ, из-за обращения к
непосредственному источнику познания начинает приобретать тот
отрицательный смысл, который впоследствии получил выражение
в прилагательном «мифическое» — как нечто неправдоподобное и
недобросовестное в противоположность правде и
действительности.
Но не следует ли отсюда заключение, что онтологическая
позиция ионийского духа абсолютно нетеологична? Исключает ли
physis, «природа», любую деятельность богов — theoi? Здесь
Йегер поддерживает Бернета в том, что термин arche не
применим для характеристики милетской философии. Содержание
26
их размышлений характеризуют термины physis, но не в
современном значении этого слова — «природа» и physicos, не в
значении «натурфилософ». Греческое physis очень наглядно
показывает процесс происхождения и роста вещей и имеет своим
синонимом genesis. Йегер считает нужным оговориться, что Бернет
идет слишком далеко, когда хочет доказать, что physis не имеет
ничего общего с происхождением вещей и с самого начала
означает только основную субстанцию. Терминологическая сторона
вопроса служит обоснованию достаточно серьезных
утверждений Йегера о метафизическом содержании ионийской физики.
Наиболее четко положение о рождении философии
одновременно как рационального естествознания и метафизического
рассмотрения сформулировано в «Пайдейе»: «В греческом понятии фюсис
лежат они оба, притом еще не разделенными: вопросы о начале
(dem Ursprung), которое мышление принуждает выводить из
чувственно данных явлений, и понимание всего того, что из этого
начала (diesem Ursprung) родилось и только присутствует (ta
onta) через опытное познание (historié) 67.
Уже физическое учение Фалеса имеет метафизическое
содержание. Последнее проявляется, в частности, в его изречении:
«Все полно богов». Все полно загадочных, живых сил, нет
разницы между живой и неживой природой. Ссылаясь на Аристотеля,
Йегер полагает, что Фалес обосновал свое мнение о единстве всего
сущего наблюдением магнетизма. В то же время, говоря о богах,
Фалес понимает их совершенно в ином смысле, нежели
большинство людей. Предметом его понимания не могли быть боги,
которыми фантастическая вера греческого народа населила горы и
реки, рощи и источники, ими не могли тем более быть жители
Олимпа, о которых рассказывал Гомер. Нет, все, что есть, хорошо
знакомый нам окружающий мир, который осмысливает наш разум,
полон богов и находится под их воздействием. Другое дело, как
осознается это воздействие. Мыслящий разум не может
утверждать нечто о богах на основании опыта, и в то же время «фюсис»
открывает ему новый источник познания божественного.
Напрашивается вывод, что, хотя Йегер и говорит о первоначальном
равенстве «физики» и «метафизики», он подчиняет «физику»
«метафизике», отождествляя последнюю с теологией. Правда, Йегер
оговаривается, что нельзя определенно познать внутреннюю связь
утверждения Фалеса о богах с его особым воззрением на сущее.
Об Анаксимандре же он говорит более определенно. «Бесконечное»
Анаксимандра все содержит и всем правит как божественное, так
как оно бессмертно. Никакая высшая форма религии не возможна
без представления о бесконечности и вечности, которые Анакси-
мандр связывает со своим понятием божественного.
Мы еще вернемся к Анаксимандру. Сейчас же заметим
следующее. В отличие от мифологии, которая обращается к проблеме
начала в процессе составления родословной богов, рациональное
мышление приходит к идее божественного в рациональном поиске
основы всех вещей, т. е. мифологическое мышление от теоло-
27
гического движется к рациональному, философское мышление —
от рационального к теологическому. Обоснование такого подхода
(оно присутствовало уже в понятии «естественной теологии»)
кроется в приведенной выше трактовке «фюсис» милетских
философов как живой и божественной субстанции, а его следствие
заключается в отрицании роли прежних теогонических версий
для становления философии. Однако, поскольку субстанция
мира живая, одушевленная, божественная, вопрос о
происхождении мира из нее представляет собой необходимую, но целиком
основанную на рациональном мышлении часть натурфилософии, так
что не натурфилософия представляет собой продукт
рациональной обработки древних теогонии и космогонии, а теогония
становится частью рационального размышления о первоосновах вещей,
о божественном, т. е. частью рациональной теологии. Особенно
ясной становится позиция Йегера по этому столь важному для
обобщения проблемы происхождения философии вопросу при
рассмотрении им орфической теогонии. Теогония как древний побег
религиозного мышления продолжает существовать рядом с быстро
развивающейся философией. «Именно в своем сосуществовании
оба эти способа духовной позиции могут быть познаны как
родственные разветвления одного и того же корня, который глубоко
тянет вниз в материковую почву религии» .
Теологические спекуляции ставят в центр религиозного
интереса теогоническую проблему. С этим можно согласиться. Но
далее Йегер утверждает: «Философия, наоборот, показывает свое
тесное родство с теогонической сестрой тем, что ее
космогоническое познание имеет примесь непосредственно теологического
значения. Следовательно, это не может быть не чем иным, как тем,
что эта философская мысль о боге обнаруживает свою позитивную
религиозную плодотворность и в оживляющем обратном
воздействии на теогоническую спекуляцию» 69. Итак, и орфические
теогонии, и философские учения связаны общими узами
теологической спекуляции, которой подчинены в одном случае философские
понятия, в другом — образы и символы религиозных
представлений, коренящиеся в общественном сознании.
Завершающий вопрос: где же кроются истоки теологических
спекуляций? Уже при изложении теогонии Гесиода Йегер дает
некоторые пояснения. Дело в том, что те вопросы, которые
ставило религиозное чувство периода Гесиода, коренились в критике
распространенных представлений о государстве и общественной
жизни; отсюда и вытекает его представление о мире как о сфере
борьбы новых, светлых богов с прежними, темными 7Ü. Об Анак-
симандре Йегер пишет: «Космос Анаксимандра — это триумф
духа над целым миром грубых и неоформленных сил,
пробуждение которых угрожало человеческому существованию с
первобытной опасностью в тот момент, когда сломался мифически-
закрепощенный порядок жизни, который вступил в эпоху ранней
греческой культуры, в эпоху Гомера, в стадию перезрелости.
Прежним богам тоже не было разрешено входить в новую схему,
28
хотя их имена и культ еще существовали. Их исчезновение
оставляло в душе философа пустое место, и на этом месте вновь возник
вопрос о первоисточнике всего сущего» 71.
Приведенное положение Йегер конкретизирует обращением к
трактовке фрагмента Анаксимандра В1. Вещи должны платить
друг другу штраф за причиненную несправедливость — эта
картина взята из сцены суда. Враждующие стороны доказывают
«сргласно порядку времени» обман и насилие противной стороны.
Насилие, расцениваемое как несправедливость, должно быть
наказано справедливостью. Используемые понятия относятся не
только к политической области; вся область бытия содержит такое
имманентное право. Физический мир подчинен норме. И этой
нормой выступает божественная справедливость72. Обосновывая
наличие в мире божественной справедливости, Анаксимандр
создает, согласно Йегеру, первую философскую теодицею. В целом
же так называемая натурфилософия функционально содержит в
себе теологию, теогонию и теодицею.
В чем же несостоятельность позиции Йегера? Прежде всего,
она не подтверждается во многих отношениях фактическими
данными. В частности, как убедительно показал У. Хельшер, теого-
ническая спекуляция Гесиода отправляется от восточных
космогонических версий. Тяготеют к восточным прообразам и Хаос, и
Тартар, и Эрос. Они вовсе не являются плодом теологических
спекуляций 7 . Вызывает возражение и отнесение термина
«теология», который был использован Платоном и Аристотелем, к до-
сократовскому периоду философии и к теогонии Гесиода. Хотя
теогония Гесиода включает в себя богов, чья связь с культом
незначительна, конечный интерес Гесиода связан с основными
культовыми божествами: богами-олимпийцами. Если понимать
теологию Гесиода так, т. е. как обоснование приоритета богов-
олимпийцев, то к такого рода теологии невозможно отнести ни
«теологию» фисиологов, ни «теологию» Платона и Аристотеля.
Вызывает возражение сама идея непрерывного теологического
поиска, который Августин начинал с Сократа, а Йегер посчитал
возможным начать с Гесиода. Отсутствуют доказательства
философского влияния на теогонические спекуляции орфиков.
А если предметом «естественной теологии» и орфической
теогонии были все те же культовые божества, то всякое использование
термина «теос» не может быть расценено как проявление
спекулятивного интереса к теологическим проблемам. В одном случае
философы действительно защищали определенное религиозное
течение, как это делали Пифагор и Эмпедокл, в другом —
опровергали их, как это делал Гераклит. Наконец, многие явления
полисной жизни, как, например, суд, победа, богатство,
воспринимались в качестве персонификации богов, которые не имели культа
и отношение к которым не могло быть расценено как религиозное.
Такого рода персонификации были порождены самими
особенностями полисной жизни.
В сравнении с К. Йолем концепция В. Йегера нам представля-
29
ется более глубокой. Йоль лишь констатирует ряд примечательных
особенностей раннегреческой натурфилософии,
свидетельствующих о ее близости к лирике и в целом к антропологическим
размышлениям. Но антропологическое понимание Йоль обосновывает
«мистикой, богонаполнейностью» древних натурфилософов, к
которой сводит все содержание их учений. Йегер, обращаясь к
рациональному поиску древних натурфилософов, расширяет границы
обозреваемых ими проблем и выносит их за пределы личного
чувства философа. Но он однозначно расценивает
предпринимаемые попытки переосмысления олимпийской религии как
религиозный поиск, даже не задумываясь над тем, что религиозные
образы могли служить иным целям — переориентации человека с богов
на природу, которой и давались божественные эпитеты.
3
К ОЦЕНКЕ АНТИКОВЕДЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
Е. Р. ДОДДСА
В системе современного эллиноведения концепции английского
ученого Е. Р. Доддса принадлежит заметное, хотя и не бесспорное
место. Как никто из своих собратьев по науке он открыто
выступил против прописных истин в истолковании культуры
классической древности, в особенности против
односторонне-рационалистической ее интерпретации, и настоятельно заговорил об
иррациональных основаниях древнегреческого мышления и
античной цивилизации вообще. Его понимание сущности и
судьбы эллинского мира сразу обратило на себя внимание. Однако
как прямота суждений Доддса, так и неожиданность его
формулировок и оценок не внушали безоговорочного доверия, слишком
явно напоминали очередной опыт «переоценки ценностей», и
потому вместе с любопытством и сочувствием его взгляд на античность
вызвал осторожную осмотрительность и выжидательную
сдержанность. Его теорию и сейчас (после тридцати с лишним лет
со времени первого издания основного труда Доддса по
культурологии античности) 1 относят к разряду исследовательского
экспериментирования, которое, собственно, продолжается 2, и,
следовательно, еще рано спешить с окончательными выводами.
Отсюда неопределившийся, в известном смысле сомнительный
статус доддсовскои инициативы в современной науке. С одной
стороны, она далека от всеобщего признания и ее невозможно
причислить ни к господствующему, ни просто к влиятельному
направлению в изучении античной культуры. В ней еще нет того
устойчивого конструктивно-логического основания, которое
составляет существо любой науки и которое вынуждает даже
теоретических противников считаться с собой. Можно сказать, что в
комплексе научного освоения эллинства она выглядит хотя и
видным, но все же единичным исключением.
С другой стороны, выраженный Доддсом взгляд на эллинскую
духовность не склонен сдавать позиции, упорно добивается при-
30
знания, обещает развернуться в мощное исследовательское
движение и, по всей видимости, рассчитывает на успех. Это видно хотя
бы по тем намерениям, которые предпосылает Доддс изложению
своих идей. По его мнению, рационалистическая герменевтика
античного наследия не соответствует требованиям современной
теории и должна быть углублена и дополнена методологическими
установками принципиально иного плана. Прежде,всего речь идет
о необходимости переосмысления древнегреческого рационализма.
Античное мировоззрение, полагает Доддс, шире и богаче
рационализма, и потому их, не искажая истины, невозможно
отождествлять; под видимым покровом рациональности греков должен
быть вскрыт деятельный, хотя и неявный, пласт
иррационального отношения к миру, играющий в их жизни никогда не
исчезающую, а иногда и решающую роль.
Но это только одна сторона дела. Доддс претендует на
большее. Помимо теоретических, он преследует еще и просвещенческие
цели: иррациональная подпочва греческой культуры, по замыслу
Доддса, должна быть не только достоянием теоретического мнения
специалистов и знатоков; ей подлежит стать хрестоматийной
истиной, обрести права общеобразовательной интуиции, наподобие
(и взамен) той, которая предваряет и окрашивает наши нынешние
(тенденциозно-рационалистические) представления о культуро-
творческом гении греков. Другими словами, выступление Доддса
носит программный характер, претендует на новое,
«иррациональное» прочтение античности и обращено к массовому читателю,
незнакомому с тонкостями и частностями научного антикове-
дения 3.
Прежде чем излагать концепцию Доддса, отметим два
обстоятельства, в какой-то мере объясняющих и в то же время
подготавливающих ее появление. Одно из них психологического
порядка. Было бы неверным расценивать теорию Доддса — при
всей ее оригинальности и смелости — в качестве неслыханного или
непредсказуемого события. Ее появление отвечало ожиданиям
многих мыслящих и образованных умов. Ей предшествовало
томительное ощущение того, что в своем отношении к античности мы
некритически воспроизводим кем-то до нас созданный
оценочный стандарт, что мы по привычке, т. е. не отдавая себе
отчета, причисляем ее к разряду безупречных ценностей,
наделяем ее (сравнительно с другими древними культурами)
исключительным гармоническим совершенством и какой-то особой
монолитно-непротиворечивой цельностью. Естественно
напрашивается вопрос: не одаряем ли мы античную культуру
непогрешимыми достоинствами только потому, что это нам ничего не стоит?
Теория Доддса и есть одна из попыток ответить на этот вопрос.
Не будет преувеличением сказать, что она возникла как
реакция на рационально-одномерный (просветительский по своим
истокам) образ античности,* сложившийся преимущественно в
немецком неовозрожденческом гуманизме XVIII в. (Винкельман,
Гёте, Шиллер) и не утративший своего культурно-художествен-
31
ного обаяния вплоть до настоящего времени 4. Надо сказать, что
этот образ имеет весьма отдаленное сходство с оригиналом, и его
лишь с натяжкой можно причислить к научному отражению
античной культуры. Это скорее благонамеренная иллюзия,
добродушный теоретико-эстетический миф (концепция),
сконструированный в противовес как феодальным, так и буржуазным
духовным традициям. В этом мифе реальное лицо античности
представлено в искаженной, односторонне-идеализированной
перспективе. Немецкий неогуманизм XVIII в. («веймарский классицизм»)
канонизировал идущий от ваяния и зодчества пластический
элемент эллинской культуры, непомерно преувеличивал его права
и, по сущесту, свел многообразие духовного творчества греков
к художественному, а точнее сказать, к пластическому
формотворчеству. В представлении теоретика-неогуманиста и энтузиаста-
античника сложился благородно-мужественный, статуарно-пла-
стический идеал культуры, который под именем классического
(рационального) был противопоставлен романтическому
(религиозно-христианскому). Греки были объявлены
неромантической народностью.
Собственный романтизм греков, оргийно-становящийся
пафос их духовности, засвидетельствованный в памятниках
мысли и слова, или вовсе не замечался, или же был обуздан
(облагорожен) и заключен в строгие, величественно-застывшие
границы пластического канона. Однако поэтизацией классической
древности дело не ограничилось. Самым неприемлемым и
невыносимым в теории «веймарского классицизма» было то, что он
предлагал античный культурный идеал в качестве недосягаемого и
неприкосновенного для критики образца: преклонение перед ним
было признано нормой здорового и просвещенного вкуса, а подра-
жение ему возведено в методологическую добродетель (Вин-
кельман сочинял специальные трактаты о принципах и правилах
подражания древним). Впоследствии влияние этой классической
парадигмы стало восприниматься как навязчивое и сковывающее
творческую инициативу иго, одним из выражений протеста против
которого и явилась доддсовская версия античности.
Другое обстоятельство касается предшественников Доддса,
точнее, не его, а того исследовательского направления, к которому
принадлежит его теория. И здесь можно сказать, что последняя
выглядит скорее продолжением и итогом солидной
теоретической традиции, чем беспредпосылочным и новаторским
начинанием. В противоположность «веймарскому классицизму» уже в
начале XIX в. намечается новый подход к осмыслению духовных
основ классической древности и первобытной истории вообще
(хотя его зачатки прослеживаются уже в «новой науке» Д. Вико).
Этот подход проявляет себя в двух основных вариантах:
философском и фольклорно-этнографическом. Немецкий литературно-
философский романтизм (особенно Шеллинг, Ф. Шлегель) с его
навеянным христианством вкусом к мистериально-символической
стороне жизни смутно предчувствует за парадным фасадом древ-
32
негреческой пластики некое темное, иррационально-оргиасти-
ческое начало (параллельное такому же началу в
индивидуальной человеческой душе), но это предчувствие не пошло дальше
пророческих предсказаний и довольно проницательных намеков.
Впервые иррациональный взгляд на античность приобрел
теоретическую (точнее бы сказать, символическую) форму у Ницше
(отчасти и чуть позже у его друзей Э. Роде и Я. Буркхардта,
назвавшего винкельмановскую трактовку античной культуры
«фальсификацией»). Ницше не отбросил пластическую
интерпретацию античности как заведомо ложную. Он просто ограничил
ее притязания. С его точки зрения, безмятежность и ясность,
благородная простота и спокойное величие (их пластический
рационализм) имеют сопутствующий характер и не передают
действительного существа их мировоззрения, ибо под маской красоты
скрывают ужас и бездны отчаяния. В его истолковании античный
культурный мир раскрывается как антиномическое единство
двух мировоззренческих принципов: трагического, оргиастически-
становящегося (дионисийского) и гармонического, пластически-
завершенного (аполлоновского), причем первый принцип
полагается в качестве субстанциального и истинного. При всей своей
впечатляющей новизне дионисийский взгляд на античность не
произвел действия, на которое, по-видимому, рассчитывал Ницше,
не опрокинул прежнюю, гуманистически-светлую трактовку
классической древности (чему в немалой степени мешал профетически-
вненаучный тон изложения), но и не остался без последствий.
Он. пробудил философский интерес к экстатической стороне
античного сознания (к орфизму, например), которая по традиции
неправомерно расценивалась как рудимент преодоленного
доисторического прошлого и без которого современная модель эллинской
культуры не может претендовать на объективность и полноту.
Одновременно с философской (и в направлении сближения
с нею) шла фольклорно-этнографическая переоценка античной
культуры. Истоки этой переоценки лежат в «мифологической
школе» солярно-метеорологической трактовки образов народной
фантазии (А. Кун, М. Мюллер, Ф. И. Буслаев), восходящей,
в свою очередь, к фольклорно-мифологическим студиям Якоба
Гримма (на немецком материале). Именно из «мифологической
школы» вышел В. Маннхардт (вторая половина XIX в.),
открывший (возможно, не без влияния «дионисийской» идеологии
Ницше) так называемую «низшую мифологию», ассоциативно
восходящую к «зоологической мифологии» А. Губернатиса,—
комплекс живучих и повсеместных представлений о демонах и духах
производительных сил природы (земли) и олицетворяющих, как
правило, сезонные циклы умирающей и воскресающей
растительности (в особенности злаков). Вместе с английской
антропологической школой (имеется в виду «анимистическая» теория
Э. Тайлора и Э. Лэнга) «демонологическое» учение В. Маннхардта
трансформировалось через ритуально-магическую концепцию
мифа Дж. Фрэзера, синтезировавшего идеи «анимизма» и «низ-
2 Заказ № 4330
33
шей мифологии», в исследовательскую программу «кембриджской
школы» — одного из крупнейших антиковедческих
направлений XX в. В ней встречаются философский и этнографический
подходы к изучению античности (особенно у Дж. Харрисон и Ф. Корн-
форда). Хотя эта школа в смысле ученой группы уже не
существует, однако ее исследовательские приемы и навыки еще живы в
британской науке. Об этом свидетельствует, например, научная
деятельность кембриджского профессора классической филологии
У. К. Ч. Гатри, автора капитального труда по орфической религии
греков, а также многотомной «Истории греческой философии».
Об этом же говорит и труд Доддса «Греки и иррациональное»
(написанный, кстати сказать, с благословения и при дружеском
ободрении У. К. Гатри).
Исходная посылка и, следовательно, методологическая
установка Доддса сводятся к следующему. Рационализм греков,
издавна принимаемый в качестве бесспорной и коренной черты
их сознания,— в известной мере иллюзия, обязанная пристрастию
и односторонности в истолковании античности. Он напоминает
великолепные и терапевтически действующие декорации, за
которыми притаился пугающий и преступный лик жизни.
Соотносимое^ греков с другими древними и первобытными народами,
конечно, позволительна, но только до определенной черты,
переходя которую мы неминуемо впадаем в заблуждение. Ибо при
всем своем интеллектуализме греки даже в самые счастливые
мгновения своего развития не могли избавиться от страха перед
рационально непостижимым смыслом бытия. Доддс ожидает
типичное в таких случаях возражение: сравнительно с другими
народами «греки не были дикарями». Но этот довод не смущает
его. Доддс как раз и задается целью доказать, что греки, выйдя из
дикого состояния, не утратили (подобно людям
научно-технической эпохи) инстинктивной памяти об иррациональном, о
панически-безоружных потрясениях сознания, роднящих с дикарями
Борнео и центральной Африки. «С какой стати,— спрашивает
Доддс,— мы должны приписывать древним грекам иммунитет
против примитивных способов мысли — иммунитет, которого мы не
находим ни в каком обществе, доступном нашему
непосредственному наблюдению?» 5
Доддс сознает, что шаг, предпринимаемый им,— не из ряда
обычных и легко может сойти за браваду или умышленно
разыгранный прецедент для разговора. Он отдает себе отчет в том,
что античная культура обладает особой, чуть ли не первородной
индивидуальностью и потому, не обедняя и не искажая ее, к ней
невозможно подступить с обобщениями, почерпнутыми из соседних
дисциплин (социальной антропологии и социальной психологии).
Доддс даже допускает, что в истолковании античной культуры
он экспериментирует, т. е. испытывает навеянную работой с
источниками интуицию и, следовательно, вправе ошибаться. И все же
идет на риск, будучи убежденным, что наши углубления в суть
античной цивилизации связаны с пересмотром ее мировоззренческих
34
основ. Даже если «иррациональная» переоценка античного мира
ошибочна или натянута, тем не менее ею не следует пренебрегать,
ибо, рассуждает Доддс, «ошибки завтрашнего дня все же
предпочтительнее ошибок вчерашнего» 6.
Разумеется, рационализм греков не надуманный призрак.
При сравнительной характеристике древних культур на него всегда
ссылаются как на искомый и отличительный признак греческой
духовности. Однако, полагает Доддс, при внимательном
«прочтении» текста и особенно подтекста греческой культуры ее
рационализм предстает перед нами не столько в образе доблестного
и светоносного героя, поражающего гидру и прочих гадов, сколько
в образе психически расслабленного больного, над которым
довлеет навязчивый и источающий силы кошмар. И вот в каком
смысле. Принято считать, что античная культура построена на
прочных эпистемологических предпосылках, составляя некое
бестревожное, рационально-монолитное целое; мыслящий субъект
образует в ней тот свободный и законодательствующий центр,
по отношению к которому космическая и человеческая жизнь
рассматривается как подлежащая рационально-познавательному
объяснению периферия. Однако, полагает Доддс, в умственном
развитии греков рационализм никогда не имел безусловного и
самодовлеющего значения, не пользовался, так сказать, правом
решающего голоса.
По своей мировоззренческой модели греческий рационализм
не монологичен, т. е. не развертывается как свободное самопо-
лагание разума. Он всего лишь партнер в диалоге с
иррациональным в природе и человеке, причем ведущая партия в этом диалоге
принадлежит иррациональному. Отсюда и механизм образования
греческого рационализма: он возникает не из прирожденной
этнопсихическои страсти к объяснению и познанию мира. Его
психогенезисный механизм куда скромнее. Побудительные мотивы,
вызывающие его к жизни, не конструктивны, а приспособительны.
Рационализм для греков — оборонительное средство,
вынужденная реакция, навязанная страхом и бессилием перед лицом
иррационального. Его цель — не столько преодолеть и освоить
иррациональное, сколько спастись от него, приспособиться к нему.
Поэтому Доддс склонен видеть на греческом духе печать
обреченности и непоправимого падения: отвернувшись от
иррационального, прикрывшись от него шорами умозрительного оптимизма,
он не выдержал связанного с рационализмом бремени свободы
и снова (в эллинистический период) возвратился в материнское
лоно религиозно-мифологического мировоззрения. Такие
интонации, конечно, снижают научно-аналитический вес теории
Доддса и придают ей оттенок литературно-жанровой экзотичности.
И все же в ней есть положительные и возбуждающие интерес
достоинства: она позволяет с новой дистанции и в свете
сегодняшних представлений о человеке взглянуть на автоматически
превозносимую «прекрасную индивидуальность» грека, отойти от
некоторых шаблонных и категорических утверждений об античной
2*
35
культуре и тем самым расширить и освежить наше восприятие ее
сущности, происхождения и эволюции.
По традиции, идущей от древности, греческий рационализм
возводят к Гомеру, к эпическим образцам духовного освоения
реальности. Доддс с этим согласен, однако само содержание
гомеровского взгляда на мир представляется ему в другой
сравнительно с общепринятой перспективе. И первое, что он оспаривает
как заведомое преувеличение и крайность,— неумеренная
эстетизация (рационализация) гомеровских поэм. С привычной точки
зрения (разделяемой, в частности, такими маститыми гомерове-
дами, как М. Бовра и П. Мазон) гомеровский эпос если не атеисти-
чен, то по меньшей мере иррелигиозен: героическое начало
свободы, олимпийско-светлое («дневное») приятие жизни окончательно
побеждают в нем демоническую, иррационально-темную
(«ночную») сторону человеческой души. Эстетический инстинкт грека
берет верх над его религиозным суеверием, культовая психология
перерождается в художественное творчество. Гомеровские поэмы,
следовательно, или равнодушны к религии, или же разоблачают ее.
В противоположность этому Доддс склонен видеть в «Илиаде» и
«Одиссее» не только художественный памятник, но и своего рода
«священное писание» греков, кодекс их религиозной совести.
Гомеровская религия, по его мнению, нечто большее, чем
«искусственная конструкция из торжественно-космических богов и
богинь» и, следовательно, мы поступаем необъективно,
рассматривая ее как всего лишь «забавный увеселительно-шутовской
антракт» 7 между крито-микенской религией и верованиями
исторического времени. Под внешним, пластически-изящным
покровом олимпийской эстетической идеологии Доддс стремится
нащупать и реставрировать древнейший
иррационально-демонический пласт религии, отнюдь не вымерший в героический век и
имеющий над эпическими персонажами неограниченную и
повсеместную власть.
Доддс отмечает два выражения иррационального начала
в жизни гомеровского героя. Одно из них связано с представлением
об Ate. Это едва персонифицированная хтоническая сила,
маркированная женскими признаками и потому родственная Эриниям и
Мойрам. У Гомера она дочь Зевса и, следовательно, по идее
должна быть подчинена его рационально-волевому решению.
Однако на деле никакого подчинения при этом нет. Ее поведение
лишено какой бы то ни было разумной детерминации. Она
вторгается в душевный строй человека вопреки и как бы назло его
сознательным расчетам. Субъект, охваченный Ate, перестает
располагать собой, впадает в состояние сомнамбулической невменяемости,
делающей его игрушкой в руках непостижимых агентов. Она
не обязательно несет в себе бедствие или погибель. В отличие от
Эриний она не кровожадна, и все же всегда наносит ущерб,
никогда не содействует успеху. Иногда ее господство над
индивидом проявляется в его нелепых по своей опрометчивости
поступках, больше напоминающих злую шутку, чем наказание и месть
36
(например, ликийский царь Главк под действием Ate совершает
явный промах, променяв Диомеду свои дорогостоящие
золотые доспехи на его дешевые, бронзовые).
Другое психическое состояние гомеровского героя, сходное
по своей иррационально-непредсказуемой природе Ate,
функционирует у Гомера под именем menos'a. Лучше всего оно передается
понятием одержимости, маниакально-агрессивного
помешательства. Герой, одержимый menos'oM, демонически преображается,
испытывает таинственный и грозный прилив энергии и деятельной
готовности; но вместе с этим он теряет ощущение реальных границ
человеческих возможностей. Под его влиянием герой
превращается в задиристого и несговорчивого максималиста, буквально
выходит из себя, преисполняется такой безотчетной ярости и
необузданной решимости (чуждых, однако, типичным героическим
добродетелям: мужеству, храбрости, отваге), которые вынуждают
его забыть о своей человеческой доле и померяться силами даже
с божеством (например, схватка Диомеда с Аресом и ранение
последнего).
Сам гомеровский герой, отождествляя свое «Я» с рационально-
осмысленным поведением, отказывается от оплошных поступков,
не признает их своими и тем самым снимает с себя ответственность
за них. Доддс объясняет этот отказ социально-героической этикой
гомеровских индивидов. Высшее удовлетворение, полагает он,
гомеровский герой испытывает от престижности своего положения,
от публичного одобрения своих заслуг, ибо в обществе военно-
рыцарской демократии «все, что выставляет человека на позор и
осмеяние его товарищей, что ведет к потере личного достоинства,
воспринимается как невыносимое»8. Поэтому, когда эпический
герой машинально или в запальчивости, т. е. бессознательно,
допускает бесславящие его действия, срабатывает механизм
сознания, названный Доддсом «психическим вторжением» (a
psychic intervention): пытаясь избежать общественного осуждения,
гомеровский индивид подсознательно отчуждает вовне свободу
личного волеизъявления и перекладывает силы, которые
произвольно «вторгаются» в душу человека и тем самым отклоняют его
поведение от нормы. Агенты типа Ate и были изобретены в
качестве средства, способствующего .«при всяком удобном случае
объективировать на внешние инстанции непереносимое чувство
позора» 9. Этим самым, полагает Доддс, было положено начало
бегства от внутренней свободы и ответственности, которое в конце
концов привело к тому, что они оказались не в состоянии
управлять собственной культурой, выпустили ее из-под своего контроля.
Сложившаяся в героический век «привычка к объективации
эмоциональных движений» подхватывается эпической эстетикой.
Усилиями эпических поэтов и певцов-сказителей иррациональные
факторы бытия подвергаются мировоззренческой стилизации: из
неопределенных, стихийно-демонических существ, необъяснимо
парализующих сознание и волю индивида, они перерабатываются
в пластические антропоморфные образы. Демонология превра-
37
щается в мифологию, религиозно-психологическое
приспособление к действительности (объективация внутренних
переживаний) уступает место приспособлению литературно-эстетическому
(a literary adaptation). Так складывается особый, мифо-героиче-
ский тип «культуры стыда» (shame-culture), в которой картина
мира выступает как функция душевных угрызений индивида, как
продукт объективации (психического преодоления) тяготеющего
над эпическим героем чувства позора (в глазах сословно-груп-
пового окружения) за совершенный им бесславный поступок.
Отработанный в эпосе прием объективации (собственно,
рационализации) психических состояний индивида Доддс
рассматривает в качестве протогенезисного ядра всей последующей
духовной культуры греков. Как правило, рождение философии
и науки сравнивают с «открытием духа» (Б. Снель), с
пробуждением мысли от религиозно-мифологического сна. Доддс с этим не
согласен. По его мнению, с возникновением философии никакого
открытия в общем-то не произошло, во всяком случае, различие
между гомеровским и послегомеровским сознанием «не такое
решительное, чем это представляется филологам-классикам»10.
Именно в эпосе складывается та клишированная схема
рационально-причинной (в терминах осмысленного опыта) детерминации
человеческого поведения, в духе и на основании которой
развертывается философско-теоретическое самосознание греков.
Гомеровский «интеллектуалистский подход к объяснению поведения
человека,— считает Доддс,— накладывает стереотипный
отпечаток на греческий дух: так называемые сократовские парадоксы
типа „добродетель есть знание" или „никто не ошибается с
умыслом" не были нововведениями, а всего лишь отчетливой и
обобщающей формулировкой того, что издавна было прочно
укоренившейся привычкой мышления. Такая привычка, конечно,
поощряла веру в механизм „психического вторжения" извне. В самом
деле, если человеческое Я сводится к знанию, тогда
бессознательное в человеке не принадлежит ему, а привходит в него со стороны.
Так что когда он ведет себя вопреки рационально осознанным
привычкам, его поведение не проистекает из него самого, а
продиктовано ему извне. Другими словами,
подсознательно-иррациональные импульсы и обусловленные ими действия исключаются
из человеческого Я и приписываются инородному
происхождению»11.
Героическая «культура стыда» сменяется культурой
архаического периода, которую Доддс называет «культурой вины»
(guilt-culture). Как и предшествующая, она имеет социально-
историческую почву и мыслительную самобытность. Она
возникает «во время повышенной тревоги личности»12, т. е. вместе с
распадом семейно-родовых отношений и формированием
гражданской (государственной) общественности. Индивид, выпадая из
кровно-родственных связей, обретает не испытанную до того
свободу и вместе с этим вынуждается к практическому и
мировоззренческому самостоянию. Способ его духовной коммуникации с соци-
38
ально-природным окружением усложняется, становится более
мобильным и рефлексивно-утонченным. О себе он знает
несравненно больше, чем гомеровский герой. Инстинктивно он
догадывается о личной причастности ко всем своим поступкам, в том числе
и безотчетным (не разумным), начинает испытывать то, что мы
назвали бы сейчас чувством уязвленной совести (чувством вины).
Однако выработанный в гомеровский век оборонительный прием
рационализации подсознательных душевных побуждений прочно
укореняется в умозрении первых философов. За всеми их
спекулятивными построениями, утверждает Доддс, «лежит старое
гомеровское убеждение, что иррациональные характеристики человека
не принадлежат к исконному составу его Я, так как они
расположены вне его сознательного контроля; они наделяются собственной
жизнью и энергией и потому могут, как бы со стороны, заставлять
человека поступать несвойственным ему образом»13.
По модели архаического самосознания (субъекта) строятся
соответствующие ей онтология и антропология. Картина мира в
архаике только количественно отличается от мифологической.
Как и мифология, она производна от защитного механизма
объективации иррациональных побуждений человека, истолковывается
в качестве сублимации нравственных переживаний личности.
В архаическом мировоззрении от Гесиода до первых философов
физическое бытие не только предмет познания, но и ценностная
структура, вселенский нравственный миропорядок, во главе
которого стоит Зевс — законодатель и судья, носитель и блюститель
высшей правды и справедливости. В таком же рационалистическом
стиле понимается и человек. Он отождествляется с собственным
умозрительным началом, в то время как свобода и основанное на
ней право выбора объявляются каким-то гетерономным
добавлением к нему. Даже собственную душу с ее неделимым Я
архаический субъект мифологизирует (объективирует): не поддающиеся
рационализации проявления своего Я он отчуждает в виде
живущего в нем и отличного от него существа (демона). Он потому и не
желает брать на себя тяжкое бремя ответственности за свои
поступки, за теневые стороны своего характера, что, по словам
Гераклита, «нрав человека есть его демон».
Интерпретация Доддсом классической культуры (V в. до н. э.)
весьма далека от стандартной. По его мнению, Периклов век, как
никакой из предшествующих, отягощен безысходным внутренним
антиномизмом: при всем своем блеске и благоденствии он
образует тупик, с которого начинается нисхождение и закат эллинской
цивилизации. И причину этого Доддс связывает с открытиями
греческого рационализма. «Новый рационализм» периода
классики (сравнительно со старым, гомеровско-архаическим) наиболее
последовательно и законченно воплотился в просвещенческой
деятельности софистов. «Новизна» софистического рационализма
по своему содержанию двойственна. С одной стороны,
софистика — одно из колоритнейших проявлений интеллектуального
гения греков, триумф их ума и таланта. В лице софистов греческое
39
самосознание переживает свой звездный час, делает сдвиг, по
своей значимости (имеется в виду мировоззренческое
раскрепощение личности) не знающий себе равных в истории античной
культуры. В практику философствования они вводят способ
рассмотрения, в корне перевернувший прежнюю систему ценностей.
Традиционный «метод» отчуждения (объективации) эмоциональных
(в мифологии) и рациональных (в философии) функций
человеческой психики они аттестовали как ложный и некритически-
наивный. Поэтому они уже не модернизируют средствами
умозрения унаследованную религиозно-мифологическую картину мира
(как это было в архаике), а отбрасывают ее как продукт
сознательных или бессознательных измышлений человека.
С другой стороны, софистический рационализм обнаружил
свою трагическую несовместимость с государством и народной
психологией. Софисты не просто, так сказать, профессионально
дошли до мысли об относительности и условности всех
человеческих установлений. Свои идеи они превратили в предмет
кружковой и уличной пропаганды, предлагая своим слушателям и
ученикам освободиться от шор доставшихся по наследству и
переживших себя святынь. В среде любознательной и фрондирующей
молодежи внушения софистов вели к «откровенному анархистскому
имморализму»14, ибо для юных последователей софистов
«освобождение индивида означало свободу самоутверждения, использование
прав без обязательств, возвещение самоутверждения в долг» 15.
Реакция государства не заставила себя ждать, о чем
свидетельствует серия судебно-идеологических преследований,
организованных в Афинах против философов и софистов (Анаксагора, Диагора,
Сократа, Протагора). «Мы имеем,— заключает Доддс,— более,
чем достаточно, оснований утверждать, что век греческого
Просвещения был в то же время...веком преследования: изгнания ученых,
подавления мысли и даже (если верить преданию о Протагоре)
сожжения книг»16.
Одновременно с государственными санкциями («сверху»)
против интеллектуалов зрела народная оппозиция («снизу»).
Нигилистический рационализм софистов не шел ни на какие
компромиссные соглашения с традиционными народными верованиями.
Взамен осуждаемой и отвергаемой ими религии они предлагали народу
подняться до своего уровня и разделить с ними ничем не
ограниченную свободу критического самосознания. Это была явно
завышенная установка. Для народа их профессиональный
интеллектуализм оказался не по плечу. Народная психология, не
привыкшая жить без веры, отказывалась принять мир, как и
человеческую душу, без тайны, не требующей объяснения. Рядовой грек
испокон веков смотрел на свою душу как на загадку,
«воспринимал переживание собственной страсти как нечто таинственное
и устрашающее, как действие силы, которая была в нем и скорее
владела им, чем он владел ею»17. Изумленное просвещенческим
искусством софистов, даже поддавшись на какое-то мгновение их
обаянию, народное сознание начинает отходить от их богобор-
40
ческого рационализма, «отступает назад от слишком сложных
завоеваний Периклова века»18. Однако после сокрушительной
критики софистов о возвращении к традиционной мифологии
нечего было и мечтать. Последняя была непоправимо
дискредитирована. В ткани официальной религии и мифологии образовались
провалы, «сквозь которые здесь и там торчали дремучие лики
прошлого» 19.
На призывный жест иррационального народное сознание,
не владея защитным оружием критики, ответило вынужденным
согласием. Именно в классический век по всей Греции
наблюдается безудержное влечение к неофициальным мистическим культам:
пробуждается интерес и доверие к пророческому и магико-кол-
довскому опыту, оживляются доолимпийские (прадионисийские)
мистериально-экстатические верования, в лоно эллинской
культуры проникают фригийский оргиастический культ Великой Матери
(Кибелы), а также малоазийские культы умирающих и
воскресающих богов Аттиса и Адониса.
Итак, софисты оказались на высоте положения, но в
одиночестве. Их риторическим мастерством можно было восхищаться, но
невозможно было жить. Критический радикализм софистов не
отвечал практическим (ценностным) запросам сознания; и потому
народ отшатнулся от них, как только заметил, что за их
виртуозным искусством слова и мысли нет никакого положительного
идеала.
Так что философия после софистов (и в результате их
деятельности) встала перед дилеммой: или отказаться от
просвещенческой реформации софистов, от их рационализма,
нигилизма и скепсиса и вернуть себе утраченное доверие, вступив
на путь конструктивных мировоззренческих поисков; или же
замкнуться в элитарной башне интеллектуализма, гордо сочтя
разрыв с народом и народной психологией в свою пользу.
Греческая философия испытала обе возможности.
Первая из них (как бы предсказавшая судьбу греческого
умозрения) реализуется в платоновском идеализме. Как никто
из своих современников, Платон усмотрел опасности, связанные
с разложением унаследованных от прошлого духовных ценностей,
и выступил с программой, осуществление которой Доддс прямо
называет контрреформацией20. В самом деле: и по содержанию,
и по манере рассуждения и аргументации идеализм Платона
движим реставрационными мотивами и, по существу, являет собой
типичный случай умышленного мифотворчества. Конечно, это уже
не прежняя, эпическая мифология с ее статуарно-героическими
образами и водевильными сюжетами. В основу своей метафизики
Платон берет не пластический («классический»), а оргийно-энту-
зиастический («романтический») принцип, восходящей своими
корнями к доолимпийским пророческим культам. Естественно, это
обострило внимание к ценностным основаниям бытия человека,
в особенности к иррационально-аффективным проявлениям его
сознания. Центр мировоззренческой перспективы перемещается на
41
человеческую душу; ее судьба в круговороте времен становится
ведущей мировоззренческой темой. От традиционной мифологии
почти ничего не остается: эстетика совершенных (ставших) богов и
героев сменяется религиозно-эсхатологической этикой
становления человека (антропологией). Преображается и картина бытия.
Космос лишается своего самоценного
(теоретико-познавательного) смысла: он истолковывается или как вместилище и среда
(«чистилище») нравственных скитаний души, или же как
макрокосмос, вселенский образец гармонии и красоты, служащий
человеку (микрокосмосу) предметом для подражания. Вместе с
предметной переориентацией сознания по-новому понимаются права
и функции теоретического знания: у Платона оно призвано
обслуживать и обосновывать сотериологический миф о человеческой
душе.
Сама философия идентифицируется уже не с Логосом, а с
Эросом — иррационально-демонической жаждой совершенства и
полноты бытия, мучительным неприятием этого мира.
Другая альтернатива (трагическая и одновременно
поучительная, с точки зрения Доддса) реализуется в философских
школах раннего (IV— III вв. до н. э.) эллинизма: в стоицизме,
эпикуреизме и скептицизме. В оценке этого периода особенно четко
проясняются и обозначаются очертания концепции Доддса.
Эллинистический рационализм, полагает он, внутренне амбивалентен
и беззащитен: он совмещает мощное интеллектуальное величие
и наивное, чуть ли не ребяческое нежелание прислушаться к
насущным велениям времени. Именно в этот век, «великий век
рационализма», греческий ум достигает своих триумфальных
пределов, совершает наиболее значительные научные открытия (прежде
всего в астрономии и математике), объединяет разрозненные
эмпирические сведения о мире в стройную систему нормативно-
дисциплинарного знания. Эллинистический разум доходит до
автоапофеоза: мыслящее Я в человеке признается бессмертной
и вездесущей способностью, мудрец объявляется блаженным
существом, богом, преодолевшим и презревшим неустойчивые
границы добра и зла. Иррациональные проявления души, т. е.
попросту говоря душевные волнения и страсти, третируются «как
человеческая, слишком человеческая» глупость, как всего лишь
«ошибочные суждения или же как патологические расстройства,
проистекающие от ложных суждений»21. Но реализм страстей,
страхов и надежд оказался сильнее и притягательнее надуманного
и недостижимого рационалистического идеала мудреца. Закрыв
глаза на иррациональное, раннеэллинистический рационализм
лишь стимулировал его повсеместное возрождение (the return
of the irrational). На эту беспечность в отношении к
иррациональному Доддс и возлагает ответственность за падение античной
культуры. Беда греков в том, заключает Доддс, что они не нашли
рациональных средств освоить и «приручить» иррациональное.
Они им просто пренебрегли, и оно как бы в отместку возобладало
над ними. «Они глубоко и образно чувствовали власть, чудесность
42
и опасность иррационального. Однако то, что находится за
порогом сознания, они описывали лишь на языке мифов и символов;
они не владели инструментом для его постижения, еще менее
владели инструментом для контроля над ним. А в эллинистический
век слишком многие совершили фатальную ошибку, полагая,
что они вообще могут его не касаться»22.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 См., напр.: Hussey Ε. The presocra-
tics. Ν. Y., 1972; The presocratics:
A collection of critical essays / Ed.
A. P. D. Mourelotos. N. Y., 1974;
Lloyd G. E. R. Magic, Reason and
Experience: Studies in the origin and
development of Greek science.
Cambridge, 1979; Barnes J. The presocratic
philosophers. L., 1979. Vol. 1, 2.
2 См.: Popper K. R. Back to the
Presocratics // Proc. Aristotelian Soc. 1958.
N 59. P. 1—24.
3 См.: Kirk G. S. Popper on Science and
the Presocratics//Mind. 1960. Vol.
69. P. 318—339; см. также: Kirk G. S.,
Raven Υ. Ε. The Presocratic
Philosophy. Cambridge, 1957.
4 См.: Lloyd G. E. R. Popper versus
Kirk: A Controversy in Interpretation
of Greek Science // Brit. J. Philos.
Sei. 1967. Vol. 18, N 1. P. 21 —
38.
5 Drake S. Renaissance Music and
Experimental Science // J. Hist. Ideas.
1970. Vol. 31, N 4. P. 489—490.
6 См. об этом: Gernshenson D. £., Gre-
enberg D. A. Anaxagoras and the
Birth of Physics. N. Y., 1964.
7 См. об этом: Ibid; Teodorsson S.J4.
Anaxagoras theory of Matter.
Göteborg, 1982; Barnes J. Op. cit. Vol. 1.
P. 47—52; O'Brien D. Empedocles
Cosmic Cycle. Cambridge, 1969.
8 См.: Close A. J. Commonplace
Theories of Art and Nature in Classical
Antiquity and the Renaissance //
J. Hist. Ideas. 1969. Vol, 30, N 4.
P. 467—486.
9 См.: Ibid. P. 474.
10 См.: Ibid. P. 481—482.
11 См.: Ghisclin M. T. Poetic Biology:
A Defense and Manifests // New Lit.
Hist. 1976. Vol. 7, N 3. P. 493; Vic-
kers G. Rationality and Intuition //
On Aesthetic in Science. Cambridge,
1979. P. 143—164.
12 См.: Lloyd G. E. R. Popper versus
Kirk. P. 24.
13 Ibid.
14 См.: Lloyd G. E. R. Magic, Reason and
Experience.
15 Warden I. K. The Mind of Zeus //
J. Hist. Ideas. 1971. Vol. 32, N 1.
P. 14.
16 См. рецензию 4. X. Кана на книгу
Робинсона «Введение в раннегрече-
скую философию» (Cahn Ch. Rec.
ad. op.: Robinson J. M. An
Introduction of Early Greek Philosophy //
J. Philos. 1970. Vol. 67, N 2. P. 49—
52).
17 См.: O'Brien D. Op. cit. P. 237—
238.
18 См.: Ibid.
19 Randoll J. H. The Intelligible Universe
of Plotinos//J. Hist. Ideas. 1969.
Vol. 30, N 1. P. 12.
20 Randoll J. H. Plato: Dramatist of the
Life of Reason. N. Y., 1970. P. 42—
56.
21 См.: MacMillan E. The Concept of
Order..L., 1968. P. 63.
22 Harris E. E. Fundamentals of
Philosophy. L., 1969. P. 54,75; Field G. C.
The Philosophy of Plato. L., 1969.
P. 16—21.
23 См.: De Vogel С. J. Philosophia. Assen,
1970. Pt 1. P. 23.
24 См.: Burnet /. Philosophy: The Legacy
of Greece. L., 1969. P. 57—95.
25 См.: Language and Logos.
Cambridge, 1982; Gadamer /I. G. Dialogue and
dialectics: Eight hermenevtical studies
on Plato. New Haven, 1980; Ricoeur P.
The Rule of Metaphor;
Multi-disciplinary studies of the creation of
meaning in language. L., 1978.
Îb См.: Rashevsky N. Looking at the
History through Mathematics. L.,
1968. P. 7.
43
1 См.: Чанышев А. Н. Эгейская пред-
философия. М., 1970, С. 191.
2 См. в наст, издании статью «Анализ
некоторых концепций генезиса
античной философии».
3 Joel К. Der Ursprung der
Naturphilosophie aus dem Geiste der Mystik.
Jena, 1926.
4 Ibid. S. 1.
5 Ibid. S. 5.
6 Ibid. S. 4.
7 Ibid.
8 Ibid.
9 Ibid. S. 6—7.
10 Ibid. S. 12.
11 Ibid.
12 Ibid. S. 25.
13 Ibid. S. 27.
14 Ibid. S. 23.
15 Ibid. S. 30.
16 Ibid.
17 Ibid. S. 31.
18 Ibid. S. 32.
19 Ibid. S. 35.
20 Ibid. S. 53.
21 Ibid. S. 54.
22 Ibid.
23 Ibid.
24 Ibid. S. 108.
25 Ibid. S. 94.
26 Ibid. S. 97.
27 Ibid. S. 103.
28 Ibid. S. 107.
29 Ibid. S. 114.
30 Ibid. S. 121.
31 Ibid.
32 Ibid. S. 122.
33 Ibid.
34 Ibid. S. 124.
35 Ibid.
36 Ibid. S. 125—126.
37 См.: Jaeger W. Die Theologie der
frühen griechischen Denker. Stuttgart,
1953.
38 Jaeger W. Paideia: Die Formung des
griechischen Menschen. В.; Leipzig,
1936. Bd. 1.
39 Jaeger W. Die Theologie... S. 5.
40 Ibid.
41 Ibid. S. 6.
42 См.: Майоров Г. Г. Формирование
средневековой философии. М., 1979.
С. 197.
43 Jaeger W. Die Theologie... S. 11.
44 Ibid.
45 Ibid. S. 12.
46 Ibid.
47 О понимании Августином греческой
философии см.: Майоров Г. Г. Указ.
соч. С. 192—210.
48 Jaeger W. The Theologie... S. 12.
49 Ibid. S. 10.
50 Ibid. S. 17—18.
51 О значении мифологии для теологии
Платона см.: Виндельбанд В. Платон.
СПб., 1909. Раздел «Платон как
богослов».
52 Jaeger W. Die Theologie... S. 13.
53 Ibid.
54 Ibid. S. 14.
55 См.: Майоров Г. Г. Указ. соч. С. 192.
56 Jaeger W. Die Theologie... S. 18.
57 Ibid. S. 19.
58 Ibid. S. 21.
59 Ibid. S. 25.
60 Ibid. S. 26.
61 Ibid.
62 См.: Jaeger W. Paideia. S. 207.
63 Ibid.
64 Ibid. S. 208.
65 Ibid. S. 213—214.
66 Jaeger W. Die Theologie... S. 29.
67 Jaeger W. Paideia. S. 213.
68 Jaeger W. Die Theologie... S. 70.
69 Ibid.
70 См.: Ibid. S. 22.
71 Ibid. S. 39.
72 См.: Ibid. S. 47—48.
73 CM.:tHolscher U. Anaximander und die
Anfänge der Philosophie // Um die
Begrifswelt der Vorsokratiker.
Darmstadt, 1968.
1 Книга Ε. Р. Доддса «Греки и
иррациональное» возникла на основе
курса лекций, читанных автором
в 1949 г. в США (Калифорнийский
университет, Беркли) для широкой
аудитории. Первое издание вышло
в 1951 г. В данной статье
использовано бостонское издание 1957 г.:
Dodds Ε. R. The Greeks and the
Irrational, Boston, 1957.
2 См.: Dodds E. R. Supernormal
Phenomena in Classical Antiquity // The
Ancient Concept of Progress and other
Essays on Greek Literary and Belief.
Oxford, 1973. P. 156—210.
3 В частности, толчком для написания
книги «Греки и иррациональное»
(как и для предшествующих ей
лекций) послужил далеко не
академический повод. Однажды в Британском
Музее Доддс услышал, как один
молодой человек с искренним
отвращением назвал скульптуры
Парфенона «греческим хламом». На вопрос
Доддса о мотивах, побудивших его
к подобному мнению, тот ответил:
«Все это безнадежно рационально»
(Dodds Ε. R. The Greeks and the
Irrational. P. 1). Исследование Доддса"
44
как раз и берет на себя задачу пере- 8 Ibid.
ориентировать культурологическое 9 Ibid. Р. 17.
мышление рядового образованного |0 Ibid. Р. 43.
человека, разубедить его в справед- " Ibid. Р. 17.
ливости устаревших, по его мнению, ,2 Ibid. Р. 44.
оценочных критериев. |3 Ibid. Р. 41.
4 См.: Аверинцев С. С. Образ антич- ,4 Ibid. Р. 183.
ности в западноевропейской культуре ,5 Ibid. Р. 191.
XX в. // Новое в современной клас- ,6 Ibid. Р. 189.
сической филологии. М., 1979. С. 7— ,7 Ibid. Р. 184.
9. ,8 Ibid. Р. 192.
5 Dodds Ε. R. The Greeks and the Irra- l9 Ibid,
tional. P. II. го Ibid ρ 207.
β Ibid. P. 111. a« Ibid. P. 239.
7 Ibid. P. 18. 22 Ibid> p> 254<
Глава вторая
ΙΐΒΙΟΕΙΙ
ДИАЛЕКТИКА И ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ
ι
ПЛАТОН: РАЦИОНАЛЬНОЕ — ИРРАЦИОНАЛЬНОЕ
Правомерно ли ставить вопрос об анализе рационального и
иррационального в учении Платона, если эти категории
эксплицитно были выявлены лишь два тысячелетия спустя? — резонно
задаст вопрос читатель, взглянув на заголовок работы. Поскольку
в современной западной философии антропологического толка
существуют самые различные интерпретации античной, в
частности платоновской, философии с позиций рационального и
иррационального, мы сочли необходимым посмотреть, как внутри самого
платоновского учения стояла эта проблема и что из платоновских
решений осталось актуальным до сегодняшнего дня. Исходя из
поставленной задачи, в вводной части статьи мы попытаемся
показать ту значимость проблемы рационального и
иррационального, которая делает обоснованным ретроспективный взгляд, в
самой статье — дать анализ постановки и решения проблемы в
философии Платона; в итоге мы должны будем прийти к выводу,
что наша задача вызвана имманентными, важными на
сегодняшний день нуждами как интеллектуальной, так и
жизненно-практической деятельности человека.
* * *
Проблема рационального и иррационального отнюдь не новая
в философии, однако особенно остро и отчетливо она была
осознана в конце XIX в. (Шопенгауэр, Кьеркегор, Ницше). С тех пор
ее актуальность не только не уменьшается, но, напротив, постоянно
возрастает. Причины более чем скептического отношения к
человеческому разуму («Разум болен, разумным будет прежде всего
излечиться от разума» ') и попыток заменить его
противоположным — инстинктом, бессознательным, противоразумным — очень
настойчивы. Они, эти причины, глубоко и многосторонне
проанализированы в обширной литературе, как советской, так и
зарубежной, посвященной кризисным явлениям современного
материального и духовного мира 2.
Жестокие социальные катаклизмы, потрясшие западное
общество в XX в., крушение извечных ценностей и идеалов,
разочарование в силе и мощи человеческого разума вынесли на поверхность
46
проблему рационального и иррационального, породили множество
иррационалистических теорий и представлений. В то же время
свержению кумира рационального с почетного пьедестала
способствовало и искаженное понимание его природы. Отождествление
рациональности с тем типом рационального знания, который
присущ естествознанию и математике, не только обеднил, но и исказил
диалектику разумного. Пожалуй, один из самых ярких примеров
этому Ницше, отождествивший рациональное с арифметикой и на
этом основании проклявший и рационализм, и одного из его ярких
основоположников — Сократа («Рождение трагедии из духа
музыки»).
По Ницше, как известно, роковое грехопадение человеческой
мысли произошло именно в тот момент, когда Аполлон
вытеснил Диониса, логика с ее механизмом понятий, суждений
и умозаключений заглушила трагедийную музыку, когда,
короче, место мифа прочно заняла теория с ее несокрушимой
верой, что «мышление, руководимое законом причинности, может
проникнуть в глубочайшие бездны бытия» 3. Виновником этого
переворота Ницше объявляет Сократа, «этого мистагога науки»,
явившего собой «тип неслыханной до него формы бытия, тип
теоретического человека» 4. На бедную голову Сократа через
десятки веков после его насильственной смерти посыпались ужасные
обвинения и проклятия, главное из которых состоит в том, что
Сократ совлек человечество с истинного пути на путь мерзкого
теоретизирования. Инстинктивно бессознательную дионисическую
мудрость Сократ вытеснил своим теоретическим оптимизмом и
внушил людям «мечту и иллюзию», «несокрушимую веру, что
мышление, руководимое законом причинности, может проникнуть в
глубочайшие бездны бытия и что это мышление не только может
познать бытие, но даже и исправить его» 5. Однако, заявляет
Ницше, только «при мистическом ликующем зове Диониса
разбиваются оковы плена индивидуации и широко открывается дорога
к матерям бытия, к сокровеннейшему ядру вещей» 6.
Действительно ли греческая философия, начиная с Сократа,
была исключительно рационалистичной, как утверждает Ницше?
Не найдем ли мы там диалектического переплетения
рационального и иррационального, составляющего и основу, и движущий
стимул человеческого познания, служащего достаточно весомым
объяснением человеческого поведения и т. п.? Мы не собираемся
примирять противоположности и просто искать золотой середины
между рациональным и иррациональным, тем самым посрамляя
того же, например, Ницше, который «недопонимал». (Необходимо,
кстати, отметить, что почти столетие спустя — и какое столетие!
сравнимое с другими тысячелетними периодами человеческой
истории, — оглядываясь на философию Ницше, мы находим там много
прозорливого и пророческого, в частности его борьба с излишне
оптимистическим восторгом перед наукой могла быть оценена по
достоинству именно в наши дни, когда возникла необходимость
осадить сциентизм и указать на подчиненную роль науки в форми-
47
ровании нравственного — основного — характера культуры,
человечества в целом. Призыв Ницше на место науки как высшей
цели поставить мудрость, которая, не уклоняясь в область
отдельных, специально-конкретных наук, направляет взор на общую
картину мира, не может не вызвать сочувственного отклика). Нам
хотелось бы привести читателя к мысли, что достаточно
распространенное деление античности на периоды дорационального
мифа, рациональной философии и послерациональной мистики
слишком упрощенно, не учитывает глубины и объемности
античного мышления 7.
* * *
Чтобы избежать одностороннего, неверного представления о
философии Платона, мы зададимся целью проанализировать то,
как проблема рационального и иррационального заявляла о себе
в его теории познания и учении о человеке. Современные историки
философии различных толков солидаризируются по крайней мере
в одном — в том, что его знаменитый учитель Сократ был
родоначальником нового, рационалистического типа мышления.
«Можно,— пишет А. Ф. Лосев,— сетовать и вопить о гибели
старого классического духа, как это делал, например, Ницше, и
хулить Сократа как мещанина-моралиста и философа. Можно
негодовать и на кого-то ругаться, что прошли времена
величественной и безысходной трагедии, времена расцвета афинской
демократии, времена „здоровых" и не тронутых рефлексией Дискоболов
и Дорифоров. Но от этих сетований и от этой ненависти ровно
ничего не меняется. Когда пробьет час истории и на смену старого
наступает новое, нет таких человеческих сил, чтобы это задержать.
Поэтому, как ни любить Сократа и как ни ненавидеть, он все равно
остается совершенно естественным, вполне закономерным и
абсолютно оправданным продуктом античного духа. Красота есть
красота смысла, сознания, разума — вот неминуемая — желанная
или нежеланная, это другой вопрос,— но именно
необходимо-очередная, можно сказать, насильственно-историческая позиция,
которая — хочешь, не хочешь — возникла в истории античной
эстетики. И Сократ был ее провозвестником» 8.
По существу, впервые в .истории человеческой мысли Сократ
специально задается целью логически определить понятия,
которыми оперировала философия, но которые не были теоретически
осознанными и с которыми столь непозволительно гибко
обходились софисты. Переход, совершенный Сократом от
непосредственного к осознанному, опосредованному, логико-рефлексивному
размышлению, к теоретическому анализу сознания индивида
является, на наш взгляд, моментом рождения чистой рациональности.
Нельзя дело представлять себе так, что этот переход был
совершен Сократом вдруг, на голом месте. Эволюционный ход
развития человеческой мысли показывает нам его
предшественников — софистов. «Критика софистов, — пишет П. П. Гайден-
ко, — положила конец непосредственному знанию: она требовала
48
рефлексии, опосредствования, проверки всякого утверждения,
требовала выносить на суд всякое непосредственное наблюдение,
бессознательно приобретенное убеждение или дорефлективно
сложившееся мнение... В этом состоял радикльный рационализм
софистики, который роднит ее с новоевропейским Просвещением» 9.
Однако, как убедительно показала П. П. Гайденко, софисты свели
свои достижения на нет, обратив рационализм в субъективизм
и релятивизм 10. «Безнравственности и беспринципности
позднейших софистов Сократ противопоставил веру в разум и убеждение
в существовании всеобщей истины» п.
Платон, следуя Сократу, также ищет общезначимое,
доказательное, обоснованное, т. е. рациональное знание. Поиски
подобного знания приводят греческого философа к построению сложных
онтологических и гносеологических конструкций, в основу которого
легло учение о двух мирах — вечном, самотождественном,
неизменном мире идей, постигаемом «с помощью рассудка и разума» 12,
и чувственном, физическом, преходящем, меняющемся мире, о
котором мы не можем иметь истинного знания, но только —
мнение, σοξα, т. е. знание, лишенное разумных оснований и не могущее
быть доказанным. При этом выявляется чрезвычайно любопытное
обстоятельство: именно форма познания определяет, имеем ли мы
дело с подлинным миром порядка и смысла или с неподлинным.
«Представляется мне, — говорит Платон, — что для начала
должно разграничить вот такие две вещи: что есть вечное, не
имеющее возникновение бытие, и что есть вечно возникающее, но
никогда не сущее. То, что постигается с помощью размышления
и объяснения, очевидно, и есть вечно тождественное бытие; а то,
что подвластно мнению и неразумному, ощущению, возникает и
гибнет, но никогда не существует в самом деле» 13.
Мир идей в философской системе Платона — это мир истинной
рациональности. Закон и порядок, царствующие в мире идей,
соответствуют закону и порядку как наиболее точным и строгим
определениям разума. «А всего дальше отходит от разума то, что
отклоняется от закона и порядка» м. Рациональный мир идей есть
объект подлинного, истинного, рационального познания. Здесь
господствует чистая рациональность, гносеологическая и
онтологическая. Иное дело — чувственный мир, мир чувственных вещей
и соответствующее ему чувственное познание. Чувственный мир
и чувственное познание обладают в философии Платона
чрезвычайно сложной структурой в силу своей причастности, с одной
стороны, рациональному миру идеи, с другой — иррациональной
материи. Материя в платоновском учении — «кормилица»,
восприемница всех чувственных вещей, сама лишенная какой бы то ни
было формы. Это такое начало, «назначение которого состоит в
том, чтобы во всем объеме хорошо воспринимать отпечатки всех
вечно сущих вещей» 15, само же оно должно быть по своей природе
чуждо любым формам. Поэтому, говорит Платон, мы не скажем,
что «мать и восприемница всего, что рождено видимым и вообще
чувственным,— это земля, воздух, огонь, вода или какой-либо
49
другой [вид], который родился из этих четырех [стихий] либо
из которого сами они родились. Напротив, обозначив его как
незримый, бесформенный и всевосприемлющий вид, чрезвычайно
странным путем участвующий в мыслимом и до крайности
неуловимый, мы не очень ошибаемся» 16. А. Ф. Лосев в комментариях
к «Тимею» выдвигает интересную версию того, почему Платону
понадобилось вводить понятие иррациональной материи. С точки
зрения современной науки, да и здравого смысла вообще, пишет
Лосев, мир не может пониматься вне содержащихся в нем
закономерностей. Все числовое и вообще все смысловое, т. е. все законы
природы и общества, Платон трактует как ум или разум. Однако
мир материален, полон случайностей, а ум от начала до конца
рационален. Поэтому Платон, создавший теорию вполне
рационального ума, чувствует необходимость также и иррациональных
моментов в мировой действительности. Вот тут-то философ и
подошел к той необходимости, которая во всем противоположна
рациональному уму, иначе говоря, которая есть нечто
иррациональное, что позднейшие последователи Платона назвали
материей, употребляя этот термин совсем не в нашем смысле слова 17.
Лосев утверждает, что ум, по Платону, обладает своей собственной
и вполне свободной структурой, на которую никто и ничто не может
повлиять. Ум — это свобода. Полной противоположностью этому
является материя. Будучи вполне иррациональной, она
совершенно не считается ни с какими доводами чистого разума. Платон
достаточно глубоко понимал жизнь и действительность, чтобы не
сводить ее только к доводам разума» ,8.
Таким образом, материя, лишенная формы и содержания,
представляет собой, по Платону, чистую иррациональность,
противоположную разуму, чистой рациональности. Синтезом
рационального (эйдос) и иррационального (материя) становится
чувственный мир и соответствующий ему чувственный способ познания,
который является у Платона чем-то средним между «знанием и
чувственностью», логическим, рациональным оформлением
иррациональной сущности. Платон устанавливает как бы переходные
формы познания, ни рациональные, ни иррациональные, а вернее,
и рациональные, и иррациональные, которые позволяют в
конечном счете выйти как к голой рациональности, так и к .голой
иррациональности (так же, как реальная чувственная вещь есть
«переходник» между материей и идеей). Это учение многозначно,
зачастую противоречиво и запутанно, но необходимо Платону,
чтобы понять самому и обяснить другим, как чистая
чувственность способна превратиться в объект познания, раскрыть
тончайший и сложнейший механизм человеческого познания. Тшательный
анализ гносеологических особенностей учения Платона позволяет
нам убедиться в стремлении греческого мыслителя в одних
моментах — к уравновешиванию рационального и иррационального, в
других — к поглощению рациональным иррационального, как мы
сегодня сказали бы, к «снятию» иррационального.
В этом плане интересно посмотреть, каким образом Платон
50
рассматривает отношение между разумом и mania (безумие,
иступление, неистовство). Естественно, речь здесь идет не о
безумии как патологии, но о так называемом божественно рожденном
безумии, способном проникнуть в тайны бытия. Хотя Платон
посвятил этому божественному безумию много вдохновенных
строк, оно ставится им значительно ниже просветленной
мудрости (см.: «Федр», 248d — е: мудрость занимает первое место, душа
же прорицателя и поэта, более всех подверженных безумию,
исступлению, — соответственно пятое и шестое). Впрочем, сам
Платон дает на этот счет прекрасное разъяснение. «То, что бог, —
пишет он, — уделил пророческий дар человеческому
умопомрачению, может быть бесспорно доказано: никто, находясь в своем
уме, не бывает причастен боговдохновенному и истинному
пророчеству, но лишь тогда, когда мыслительная способность связана
сном, недугом либо каким бы то ни было приступом одержимости.
Напротив, дело неповрежденного в уме человека — припомнить
и восстановить то, что изрекла во сне либо наяву эта пророческая
и вдохновленная природа, расчленить все видения с помощью
мысли и уразуметь, что же они знаменуют — зло или добро — и
относятся ли они к будущим, к минувшим или к настоящим
временам. Не тому же, кто обезумел и еще пребывает в безумии,
судить о собственных видениях и речениях! Правду говорит старая
пословица, что лишь рассудительный в силах понять сам себя и то,
что он делает» ,9.
Но что необходимо для понимания платоновского
представления о рациональном и иррациональном: стремление мыслителя
снять иррациональное ни в коей мере не означает отказа от
иррационального как такового. Оно там есть и заслуживает самого
пристального внимания. В отношении того же неистовства:
последнее слово Платон, безусловно, оставляет за разумом, однако mania
занимает чрезвычайно важное место в его учении, и желание
исследователя поскорее «проскочить» мимо него к разуму неоправданно.
В подтверждение наших слов позволим себе еще одно
высказывание Платона: «Между тем величайшие для нас блага возникают
от неистовства, правда, когда оно уделяется нам как божий дар.
Прорицательница в Дельфах и жрицы в Додоне в состоянии
неистовства сделали много хорошего для Эллады — и отдельным
лицам и вс^му народу, а будучи в здравом рассудке, — мало или
вовсе ничего. И если мы стали бы говорить о Сивилле и других,
кто с помощью божественного дара прорицания множеством
предсказаний многих направил на верный путь, мы бы потратили много
слов на то, что всякому ясно и так. Но вот на что стоит сослаться:
те из древних, кто устанавливал значения слов, не считали
неистовство (mania)безобразием или позором — иначе они не прозвали
бы „маническим" (mantice) то прекраснейшее искусство,
посредством которого можно судить о будущем"» 20. Чуть ниже Платон
говорит об огромном значении неистовства в искусстве: «Третий
вид одержимости и неистовства — от Муз, он охватывает нежную
и непорочную душу, пробуждает ее, заставляет выражать вакхи-
51
ческий восторг в песнопениях и других видах творчества и,
украшая несчетное множество деяний предков, воспитывает потомков.
Кто же без неистовства, посланного Музами, подходит к порогу
творчества в уверенности, что он благодаря одному лишь искусству
станет изрядным поэтом, тот еще далек от совершенства: творения
здравомыслящих затмятся творениями неистовых»21.
Платоновское понимание mania, в современной
терминологии — бессознательного, остается современным и сегодня, и
игнорирование того фундаментального факта, что неосознаваемая
психическая деятельность является важным компонетом
адаптивной работы мозга в ее широком понимании, все более отрицательно
сказывается на дальнейшем развитии целого ряда областей
научного знания, в частности теории интеллектуального (и
художественного. — H. М. ^творчества» 22. Предваряя анализ учения
Платона о человеке, отметим, что Платон, вероятно, один из
первых осознал значимость бессознательного в структуре
личности. Если греческие трагедии прежде всего показывают нам
человека, отданного во власть (добрую или злую) богов, и потому
усматривают источник его иррациональных поступков во внешнем,
то платоновские диалоги раскрывают перед нами внутреннее
человека, подчас не только не подвластное ему, но и управляющее
им вопреки светлому разуму и доброй воле.
Подытоживая наш краткий анализ рационального и
иррационального в гносеологии и онтологии Платона, мы должны отметить
резко превалирующую рационалистическую тенденцию философии
греческого мыслителя. «Упор на знание, знание, основанное на
разуме, — пишет Г. Боас, — есть характеристическая черта
сократовской традиции, проявляется ли она у Платона, Аристотеля
или у младших сократиков» 23. При этом необходимо иметь в виду,
что Платон вслед за Сократом шел на большой риск, утверждая
принцип нового, рационалистического понимания мира, создавая
научное мировоззрение у своих современников, в значительной
своей части все еще воспитанных и воспитывавшихся на
мифологии. «Чтобы благонамеренный афинянин, — замечает Т. В.
Васильева, — перестал шарахаться в испуге от того, кто вздумал бы
утверждать, что Громовержец мечет громы и молнии не
непосредственно из своей необорной десницы, а через посредство хотя бы,
скажем, трения, производимого тучами при взаимном
соприкосновении, нужно было провести основательную перестройку умов,
выработать нового типа мировоззрение, основанное не на
предании, не на многовековой традиции, а на изыскании, на
приобретении все новых и новых познаний»24. Сопротивление инертной
толпы новым, рационалистическим веяниям сильно подкреплялось
и поддерживалось сопротивлением профессиональных жрецов,
которые не без веских оснований усматривали в рационализме
философов угрозу и своему престижу, и своему благосостоянию.
А если принять во внимание обстановку военной истерии,
вызванной бедственными для Греции войнами, станет понятно, насколько
же этот риск был велик.
52
Если в гносеологическом и онтологическом планах Платон —
безусловный рационалист, верный поклонник «софийной, т. е.
объективно-осуществленной разумности», то в учении о человеке
его позиции менее устойчивы. Начать следует с того, что основная
забота греческого философа и в этике — это забота о разумном
человеке, цельном, гармоничном, благородном и возвышенном.
Однако реальная действительность, как психологическая,
нравственная, так и социальная, в особенности же политическая являла
слишком много образцов, противоположных платоновскому
идеалу. В. Ф. Асмус по этому поводу пишет: «Жизненная,
общественная и вместе личная основа идеализма Платона — в глубоком
несоответствии между современной Платону греческой
действительностью и тем, что желал бы найти и видеть в ней философ...
Идеализм Платона есть как бы философский суд над миром,
обществом, человеком и его искусством — суд, с точки зрения
писателя, испытавшего не только крушение своих политических,
культурных, эстетических идеалов, но также наблюдающего
начало разложения ненавистного ему общественно-политического
порядка — афинской демократии. В этом строе Платон
разглядел — глазами врага — некоторые действительные его недостатки
и подверг их язвительной критике. Платон изображает в своих
диалогах (в том числе в „Государстве") не только чаемое, но и
существующее, отражает исторически реальные общественные
отношения»25. Отсюда многотрудные, беспокойные, метущиеся
думы Платона о природе человека, в результате которых создается
сложное, противоречивое учение. Конечно, и здесь Платон ставит
перед собой задачу упорядочения, оформления всего
иррационального, присущего человеческой натуре, но осуществление этой
задачи наталкивается на сильное сопротивление материала.
Схема, лежащая в основе этико-психологического учения
Платона о человеке, та же, что в его гносеологии и онтологии: высшая
способность человека, чистая рациональность — душа —
противостоит чистой иррациональности — телу. «Теперь подумай, Кебет,
согласен ли ты, что из всего сказанного следует такой вывод:
божественному, бессмертному, умопостигаемому, единообразному,
неразложимому, постоянному и неизменному самому по себе в
высшей степени подобна наша душа, а человеческому, смертному,
постигаемому не умом, многообразному, разложимому и тленному,
непостоянному и несходному с самим собою подобно — и тоже
в высшей степени — наше тело» 26. Однако дело все в том, что
душа не однородна. Выше данная характеристика относится лишь
к одной (безусловно, лучшей) части души. Наличие других
частей — вожделеющей и яростной — катастрофически нарушает
желанную картину гармонии и благоразумия .
Красноречивым примером тому, что разум далеко не всегда
может победить в борьбе двух — разумной и вожделеющей —
частей души, служит рассказ о Леонтии, приводимый Платоном в
«Государстве»: «Мне как-то рассказывали, и я верю этому, что
Леонтий, сын Аглайона, возвращаясь из Пирея, по дороге, снару-
53
жи под северной стеной, заметил, что там у палача валяются
трупы. Ему и посмотреть хотелось, и вместе с тем было противно,
и он отворачивался. Но сколько он ни боролся и ни закрывался,
вожделение оказалось сильнее — он подбежал к трупам, широко
раскрыв глаза и восклицая: „Вот вам, злополучные, насыщайтесь
этим прекрасным зрелищем"»28.
Распря человека с самим собою, душа, раздираемая
противоречиями, — страшное, по Платону, бедствие для человека: «А между
тем, как мне представляется, милейший ты мой, пусть лучше лира
у меня скверно настроена и звучит не в лад, пусть нейстройно поет
хор, который я снаряжу, пусть большинство людей со мной не
соглашается и спорит, лишь бы только не вступить в разногласие
и в спор с одним человеком — с собою самим» 29. Казалось бы,
откажись от всего чувственного, отдайся безраздельно
умопостигаемому и безвидному! Однако природные свойства человека
таковы, что он не хочет мудрости, не доставляющей удовольствия,
разумных действий, не приносящих радости, и всегда предпочитает
удовольствие страданию: «Ведь никто не дал бы себя убедить
добровольно исполнять то, что не влечет за собой больше
радости, чем страдания»30. Конечно, есть люди, которые находят
радость и удовольствие в чистой рациональности. Это — философы.
Душа философа вносит во все успокоение, следует разуму,
постоянно в нем пребывает, созерцает истинное, божественное,
непреложное и в нем обретает для себя пищу 31. Однако их слишком
немного («А наилучшие натуры — это те, что встречаются
чрезвычайно редко» 32), большинство же составляют люди, душа
которых легковерна, переменчива, легко поддается всяческим
недостойным соблазнам. Вот как Платон характеризует подобную
душу: некий хитроумный слагатель притч, рассказывает Сократ Кал-
ликлу в «Георгии», «эту часть души, в своей доверчивости очень
уж неразборчивую, играя созвучиями, назвал бочкой, а людей,
не просвященных разумом,— непосвященными, а про ту часть
души этих непосвященных, в которой живут желания, сказал,
что она — дырявая бочка, намекая на ее разнузданность и
ненадежность, а стало быть, и ненасытную алчность. В
противоположность тебе, Калликл, он доказывает, что меж обитателями Аида —
он имеет в виду незримый мир — самые несчастные они,
непосвященные, и что они таскают в дырявую, бочку воду другим дырявым
сосудом — решетом. Под решетом он понимает душу (так
объяснял мне тот мудрец); душу тех, кто не просвещен разумом, он
сравнил с решетом потому, что она дырява — не способна ничего
удержать по неверности своей и забывчивости» 33.
Причину того, что душа неоднородна и что она может быть
дурной и злой, Платон видит в том, что душа заключена в тело
(«тело— наша могила») 34. Наше рациональное «я» мутнеет,
оскверняется безрассудством тела. Однако в процессе развития своего
учения Платон приходит к мысли о злой душе самой по себе,
независимо от тела. В «Законах» он говорит о том, что,
поскольку душа — «причина блага и зла, прекрасного и постыд-
54
ного, справедливого и несправедливого и всех других
противоположностей», то никак нельзя предположить менее двух душ —
«одной благодательной и другой, способной совершать
противоположное тому, что совершает первая» 35.
Е. Доддс (книга которого, несмотря на солидный по нынешним
временам возраст — первое ее издание было осуществлено
в 1951 г.,— сохранила свежесть и оригинальность мысли)
полагает, что наличие подавляющего большинства обычных, рядовых
участников жизни, подверженных всем соблазнам этой жизни
и, главное, неспособных противостоять им, вынудило Платона
пересмотреть свою рационалистическую точку зрения и прийти
к выводу, выраженному много позднее Буркхардтом в словах:
«...рационализм для немногих и магия для остальных» (кстати
будет вспомнить, что, как писал Б. Малиновски, магия
используется во всех видах деятельности, «в отношении исхода которых
человек не полагается лишь на свои возможности» 36). Доддс говорит
о Платоне, что он был дитя греческого Просвещения.
Он рос в социальной группе, которая не считала зазорным ставить
вопросы на суд разума и верила, что добродетель, arete,
обусловлена техникой рационального существования. Эта гордость, эта
привычка, эта вера, говорит Доддс, остались с Платоном до
конца: «В своем мышлении он никогда не переставал быть
рационалистом» 37. Однако социальное и политическое изменения,
происшедшие в V—IV вв. до н. э., могли любого рационалиста принудить
пересмотреть свою веру. Платон не отказался от своего
рационализма, но трансформировал его. Доддс считает, что направление
трансформации было определено тем влиянием, которое оказало на
Платона его знакомство с северным шаманством и с
пифагорейцами. В результате идеи греческого рационализма переплелись
с магико-религиозными идеями, подвергшимися у Платона процес-
:у интерпретации и транспозиции.
Определенные изменения, внесенные Платоном в свое
рационалистическое учение о человеке, были вызваны необходимостью
более внимательного и трезвого взгляда на человека. Платон
теперь четче осознает роль бессознательного в поведенческом
механизме человека. Если раньше причины иррациональных поступков
людей греческий философ видел прежде всего в «безрассудстве»
чувственного тела, дурно влияющего на бессмертную душу, то
в более поздних диалогах он все больше занимается природой
самой души и все больше убеждается в причастности именно души
к человеческим порокам. Любопытно теперь выглядит иерархия
причин проступков. На первом месте — яростный дух («это
сварливое, неодолимое свойство внедрилось в душу и своей неразумной
силой многое переворачивает вверх дном» ). На втором —
удовольствие («с помощью убедительных доводов, соединенных с
насилием и обманом, оно осуществляет все, чего только не пожела-
ет» ). И только на третьем месте — невежество .
Однако больше всего угнетает Платона тот прискорбный факт,
что человек, даже зная истину, выбирает неистину (вспомним Со-
55
крата: добродетель есть знание), что душа, «встретившись и
сойдясь с неразумием», ведет в противоположном истине и блаженству
направлении 4|. Здесь нельзя не обратиться к ясперовским мыслям,
удивительно перекликающимся с аналогичными мыслями
Платона.
Карл Ясперс принадлежал к поколению, пережившему две
мировые войны и тем самым принужденного к глубокому
осмыслению истоков катастрофического крушения идеалов и вообще
культуры Запада. Размышляя над проблемой, почему разум может
оказаться побежденным в борьбе с противоразумом, немецкий
философ приходит к выводу: в нас самих есть что-то, что увлекает в
сторону противоразумного. Есть в нас что-то, что требует:
не разума, но тайны,
не проникающего ясного мышления, но нашептывания,
не рассудительности всеоткрытого видения и слушания, но
капризной готовности к темной множественности,
не человеческого ограниченного ознакомления, но
гностического всезнания в абсурде,
не науки, но в научной маске — колдовства,
не рационально обоснованного действия, но магии,
не надежной верности, но приключения,
не свободы, которая единственно есть то, что вместе с разумом
и законом выбирает собственную историчность, но слепой
вольности и одновременно слепого послушания принуждению, не
терпящему никаких вопросов 42.
Избрав неразум, .мы оказываемся в состоянии помрачения,
которое выдает себя за подлинную истину, ведет к абсурду, к
диалектике, с помощью которой можно уклониться от любого решения,
все оправдать и опровергнуть, короче — к сатанинскому шабашу
речения в образах, догмах, абсолютностях. Все это создает
благоприятную почву для философского колдовства. Ясперс с горечью
констатирует, что люди все вновь и вновь поддаются массовому
психозу: каждого в той или иной степени пленяет мир противо-
разума странными, неразгаданными символами, магическими
действиями. Путь же разума пугает, поскольку требует от человека
серьезного, ответственного решения, требует максимального
напряжения всех волевых, нравственных и интеллектуальных сил 43.
Однако вернемся к Платону. В результате жизненного опыта
и наблюдений он приходит к убеждению, что добродетель
обычного, «непосвященного» человека не может опираться только на
разумение, но должна быть воспитуема «с помощью трех
могущественнейших средств: страхом, законом и правдивым словом» 44;
в своих естественных условиях человек стремится не к
добродетели, а к счастью. Отсюда целью воспитания Платон ставит
выработать в человеке привычку быть добродетельным и попытаться
убедить его в том, что добродетельный образ жизни есть самый
приятный и счастливый, а остальное — суета сует, так что «учение, не
отделяющее приятного от справедливого, благого и прекрасного,
56
имеет по крайней мере то преимущество, что убеждает каждого
человека желать благочестивой и справедливой жизни» 45.
Все вышесказанное легло в основу платоновской теории
воспитания. На протяжении веков эту теорию называли утопической,
однако намерение самого Платона имело более чем реалистические
основания. На наш взгляд, греческий философ вправе был бы
произнести слова, сказанные Достоевским о себе: «При полном
реализме найти в человеке человека... Меня зовут психологом: не
правда, я лишь реалист в высшем смысле, т. е. изображаю все
глубины души человеческой» 46.
Учение Платона о человеке сложно, многогранно и зачастую
противоречиво. Нельзя не согласиться с Доддсом, который
признает в мышлении Платона две тенденции — здесь вера и гордость
за человека и человеческий разум, созвучные настроениям V в.
до н. э., но здесь и более ожесточенное признание человеческой
никчемности, вызванное опытом современных ему Афин и
Сиракуз. На языке религии это отрицание всех ценностей этого мира
в сравнении с «тем миром». Психолог, полагает, Доддс, может
сказать, что отношение между двумя тенденциями не было простой
оппозицией, но первая стала компенсацией — или
сверхкомпенсацией — для второй: чем меньше Платон заботился об актуальном
человеке, тем более благородно он мыслил о душе. И однако,
несмотря ни на что, Платон, уверяет Доддс, всю жизнь оставался
верным принципам своего учителя: знание, отличимое от
истинного мнения, является для него делом интеллекта, который может
оправдать свои верования рациональным аргументом. Интуициям
провидца или поэта он постоянно отказывает в титуле знания, ибо
их основы не могли быть воспроизведены 47.
Давая общую оценку философии Платона в свете
рационального и иррационального, следует сказать, что именно в
платоновской философии получает окончательное закрепление
теоретическая способность мыслить в категориально-понятийной форме,
качественно отличная от предшествующей интуитивно нерасчленен-
ной, подчас же еще мифологической. Выделив мир идей как
высший способ бытия, Платон, по существу, сконструировал
самостоятельный, обособленный мир рационального. Учение Платона стало
первым развернутым, рефлексивным рационалистическим учением.
Платон признает рациональное ведущим началом 1) для самого
человека, 2) для познания и 3) для мира. Однако платоновский
рационализм был бы плоско-рассудочным (примеров чему тьма
за всю историю философии), если бы он не вбирал в себя все
иррациональные глубины бытия.
57
2
АНТИЧНЫЕ УЧЕНИЯ ОБ ИНДУКЦИИ
И ИХ СОВРЕМЕННЫЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
Острота борьбы индуктивизма и антииндуктивизма в
современной методологии научного познания неизбежно накладывает
отпечаток на истолкование античных учений об индукции.
Античные представления об индукции зарождались в тот исторический
момент, когда формировалась первая аксиоматическая система
в науке — геометрия Евклида, складывались концепции общего
характера в астрономии и т. д. В связи с этим вопрос о
формулировании «первых принципов» научной дисциплины античным
мыслителям мог представляться более наглядным, чем их воспреемни-
кам. Поэтому аргументы Сократа, Платона, Аристотеля, Филодема
и других античных теоретиков индукции могут существенно
повлиять на спор современных индуктивистов и антииндуктивистов.
Это и вызвало заметное оживление интереса к античным взглядам
на индукцию, отмечаемое исследователями за последние
десятилетия '.
Индукция у Сократа
Согласно Аристотелю, «две вещи можно по справедливости
приписывать Сократу — доказательства через наведение и общие
определения» (Мет., XIII 1. 1078 b 28 ел.). Аристотель добавляет,
что в отношении определения Сократа предвосхитили отчасти
пифагорейцы и Демокрит, но в разработке индукции Аристотелю
неизвестны какие-либо предшественники Сократа. Индукция
Сократа — это метод исследования, характерный для ранних
диалогов Платона, в которых Сократ выступает в качестве лица,
направляющего диалектическую беседу. В этих диалогах индукцию
Сократа трудно отделить от метода Платона, и их приходится
рассматривать заодно.
В ранних диалогах Платона еще отсутствует теория индукции
как таковая — в смысле формулировки правил и их обоснования.
Индуктивные методы в них присутствуют в своем практическом
применении. Лишь позднее они стали предметом осмысления,
которое положило начало учению об индукции — разделу методологии.
Формирование последнего начинается уже в более поздних
диалогах Платона, а в достаточно развернутой форме — лишь в
философии Аристотеля.
Диалектическая беседа в диалогах Платона посвящена
рассмотрению определений абстрактных понятий. Сократ с помощью
умело поставленных вопросов выявляет недостатки исходного
определения, опирающегося на ходячие мнения, и отыскивает
предпосылки более удачного определения.
Индукция — термин латинского происхождения. Латинское
inductio — введение, приведение — представляет собой перевод
греческого слова επαγωγή. Последнее употреблялось сначала для
58
обозначения ссылки на тот или иной авторитет с целью
подкрепления какой-либо точки зрения 2. Постепенно им стали обозначать
также приведение примеров для обоснования мнения.
Простейший способ индукции, к которому прибегает Сократ,—
заключение от истинности одного или нескольких частных
предложений к истинности другого частного предложения. Так, для
слушателей Сократа приемлемо утверждение: «Тот, кто лучше
других управляет лошадьми, заслужит наибольший почет в
Фессалии». По аналогии Сократ предлагает принять сходное
утверждение: «Тот, кто превосходит других в добродетели, заслужит
наибольший почет в Спарте» (Гиппий Больший, 284 а—Ь).
Другая, более развитая форма индукции Сократа —
заключение от одного или более примеров (частных утверждений) к
общему утверждению. Здесь мы уже имеем дело с той формой
умозаключения, за которой впоследствии закрепилось название
индуктивного вывода. Сократ не указывает условий, отличающих
правомерный индуктивный вывод от неправомерного, и никогда не
стремится к полному перечислению случаев, которые он собирается
подвести под общее положение. Он продолжает приводить
примеры (ссылки на частные случаи) до тех пор, пока слушатели не
согласятся принять предлагаемое им обобщение. Так, Сократ
доказывает, что всякая нужда мучительна, последовательно предлагая
собеседнику согласиться с тем, что голод мучителен, жажда
мучительна... «Спрашивать дальше или ты и так согласишься, что
мучительна всякая нужда..?» (Горг., 496d). Собеседник соглашается,
и Сократ прекращает приводить примеры.
Сторонники априоризма при истолковании метода Сократа
отрицают, что индукция Сократа имеет связь с опытом и что он
«отвлекал общее от частных случаев» 3. Но в приведенном примере
совершенно очевидно, что Сократ выводит общее («мучительна
всякая нужда») из частных случаев, опираясь на опыт, общий ему
и его собеседникам.
Приведение примеров, подтверждающих общее положение,
называется аккумулятивным. Приведение примеров, опровергающих
общее положение, называется элиминативным. Последнее служит
Сократу прежде всего для опровержения ложных определений.
Так, в диалоге Платона «Государство» опровергаются исходные
определения того, что такое «справедливое». Если определить
«справедливое» как означающее «отдавать взятое», то такое
определение можно опровергнуть указанием на то, что «отдавать
взятое» справедливо в отношении друзей, а не врагов (Гос., 331е).
Подобным образом исходные определения Сократ опровергает как
смутные, поэтические и т. п. (Гос., 332с).
Элиминативное приведение примеров служит Сократу не
только для опровержения неудачных определений, но и для
исправления, уточнения определений и общих положений. В диалоге «Ион»
собеседник Сократа утверждает, что рапсод в состоянии судить
лучше всех других людей «решительно обо всем», что написано
Гомером (Ион, 539е). Но сочинения Гомера — энциклопедия жиз-
59
ни своего времени. И Сократ вынуждает Иона признать, что о том,
что Гомером написано об искусстве возничего, врача и т. д., лучше
всех будут судить соответственно возничий, врач и т. д. Рапсод же
будет судить лучше всех лишь о том, что касается искусства
рапсода,— о приемах художественного творчества.
Таким образом, в этом случае цель Сократа — не простое
опровержение общего положения, а опровержение его лишь в той части,
в которой объем предиката не соответствует объему субъекта.
Взаимодействие положительного и отрицательного — характерная
черта индукции Сократа. Положительное, аккумулятивное
приведение примеров направлено на расширение объема определяемого
понятия, элиминативное — на его сужение. Содержание понятия
проясняется благодаря выяснению как того, что к нему относится,
так и того, что к нему не относится. Ф. Бэкон, введший термин «эли-
минативные инстанции», очень высоко оценил элиминативное
приведение примеров в диалогах Платона как прием, придающий
значительно большую надежность индуктивным обобщениям по
сравнению с простым перечислением положительных инстанций.
Вместе с тем Бэкон указал на случайный характер элиминаций
у Платона, опирающихся не на систематическое исследование
вещей, а на отдельные изолированные примеры.
Аккумулирующие примеры служат для сведения сходных
вещей по избранному признаку в один класс. Элиминирующие
примеры выполняют задачу отделения данного класса от всех других
классов. Сократ подходит к идее разделения всех вещей и
явлений на устойчивые типы. От коня родится конь, от быка — бык
и т. д., хотя встречаются и отклонения («уродства») (Крат.,
393 b—с). Ученик софиста Пратагора станет софистом же (Прот.,
312 а). Идея о разделении всех вещей на устойчивые роды и виды
выдвинулась на передний план в поздних диалогах Платона как
важная для обоснования индукции.
Для некоторых антиковедов Запада характерно стремление
подчинить истолкование индукции Сократа общим
телеологическим рамкам сократической философии. Так, английский автор
Тейлор полагает, что для Сократа, исходившего из тезиса
Анаксагора, что нус (разум) правит миром, все вещи и явления
представляют собой строго упорядоченную систему, постигаемую
интуитивно (априорно). Тейлор утверждает, что учение Сократа —
«первая попытка отдать должное априорному моменту в
познании». Метод Сократа Тейлор противопоставляет прежнему
«наивному» стремлению досократической философии «открыть истину
путем прямого исследования фактов» 4. Отсюда стремление
рассматривать индукцию Сократа как всего лишь вспомогательный
метод, подчиненный дедукции, как обращение к фактам для
подтверждения уже готового теоретического вывода 5. Но подобная
интерпретация сильно преувеличивает «априоризм» Сократа.
Какой-либо априорной схемы связи вещей Сократ не предлагает,
а то индуктивное исследование, которое он осуществляет,
опирается на повседневный опыт, общепринятые мнения.
60
Индукция у Платона
В диалогах среднего и позднего периодов Платона индукция
разрабатывается в следующих направлениях: 1) индукция
выступает как метод исследования сущности вещей — «идей», или
форм,— и их определения; 2) в диалогах среднего периода она
связана преимущественно с методом гипотез; 3) в диалогах позднего
периода — с методом разделения всего сущего на классы — роды
и виды; 4) Платон рассматривает индукцию и дедукцию как
взаимодополняющие орудия познания.
Платоновские диалоги среднего периода характеризуются
переходом от преимущественно негативной работы разрушения
неудачных определений к конструктивной задаче поисков метода
научных определений. Платона интересуют методы определения
универсальных понятий («красота, «благо» и т. п.). Несомненно
научное значение таких определений. Решив какой-либо вопрос в общей
форме, мы получаем ключ к пониманию частных случаев. Так, если
поставлен вопрос, что такое знание, то недостаточно указать, что
к знанию относится геометрия наряду с искусством шить сапоги
(Теэтет, 146 с—d). Пока ответ не дан в общей форме, нельзя
решить вопрос о том, относится ли к знанию тот или иной вид его,
какое место он занимает в общей системе знания. Строгое
определение общих понятий заменяет смутное, правдоподобное знание
(мнение) научным знанием.
Определения, по Платону, должны выражать познанную
сущность вещей — их «идею», или форму. Задача познания у Платона
осложняется тем, что он проводит резкую грань между миром
конечных, преходящих чувственно-воспринимаемых вещей и
«миром» вечных, неизменных умопостигаемых форм. Это дало повод
для широко распространенной интерпретации взглядов Платона
как сторонника чисто априорного постижения форм. Подобное
толкование находит опору и в высказываниях Платона о том, что
познание — это род воспоминания. Но при более пристальном
рассмотрении текстов Платона оказывается, что устранить
эмпирически-индуктивный аспект из его рассуждений о формах не так-то
просто.
В диалогах среднего периода методом определения общих
понятий выступает гипотеза. Некоторые современные
интерпретаторы сближают гипотетический метод Платона с методом проб
и ошибок, распространенным в методологии научного
исследования XIX—XX вв. от Юэла до Поппера. Критерий истинности
гипотез по методу проб и ошибок состоит в том, что из них должны быть
выведены непротиворечиво все предложения нашего знания, а
последние — экспериментально верифицированы. Но Платон не
связывает гипотезу с экспериментальной проверкой, и это дает повод
Робинсону утверждать, что единственный критерий истины для
Платона — непротиворечивость системы знания, которая
приобретается якобы совершенно априорно. Робинсон, однако, вынужден
признать, что слабость этой интерпретации учения Платона в том,
61
что по методу проб и ошибок истины науки всегда остаются
гипотетическими, т. е. более или менее правдоподобными, тогда как
для Платона познание форм абсолютно и необходимо б.
Толкование Робинсона упускает из виду то обстоятельство, что
гипотетический метод Платона не игнорирует полностью связь
форм с чувственно-воспринимаемыми вещами, а гипотез — с
опытом. По Платону, формы в известном смысле «присутствуют»
в вещах, поэтому, как замечает Тейлор, гипотезы должны
«спасать» явления, т. е. давать их связное «объяснение». Поэтому опыт
подсказывает более правдоподобные гипотезы, «наводит» на них 7.
Не найдя в методе гипотез надежного способа определения
общих понятий, Платон в диалогах позднего периода («Федр»,
«Софист», «Филеб», «Политик») перешел к попыткам их
определения через разделение вещей на устойчивые роды и виды. Путь
отыскания сходств в вещах и соединения сходных вещей в единый
вид, а затем сходных видов в единый род и т. д.— это «путь вверх»,
к универсальному единству всего сущего. Обратный путь
отыскания различий в едином, разделения единого на различные роды,
а каждого рода на различные виды и т. д., ведущий от
универсального единства к индивидуальным вещам,— это «путь вниз».
Платон говорит, что все сущее «состоит из единства и
множества». Соответственно их познание требует двух видов
рассуждения. Один из них состоит в том, чтобы «вести исследование,
полагая одну идею для всего» (Филеб, 16 с ел.) и, «охватывая все
общим взглядом, возводить к единой идее то, что повсюду
разрозненно» (Федр, 265 d). С другой стороны, нужна, «наоборот,
способность разделять все на виды» (Федр, 265 е), не прекращая
исследования, пока «не заметишь всех отличий, которые заключены
в каждом виде» (Политик, 285 Ь). Эти два пути, выявляющие
сходства и различия, позволяют охватить взором все, «заключенное
между беспредельным и одним» (Филеб, 16 с— 17 а).
Согласно той интерпретации учения о «пути вверх» и «пути
вниз», которую дал Штенцель, Платон выдвинул в нем требование
аксиоматизации знания, отражавшее происходивший в то время
реальный процесс аксиоматизации геометрии. В последней было
накоплено немало теорем, допускавших сведение к системе
положений, выводимых из немногих принципов (определений,
постулатов и аксиом). [По Штенцелю, Платона интересует не отношение
идей к чувственно-воспринимаемым вещам, а лишь взаимосвязь
самих идей 8. В самом деле, в попытках Платона свести свои «идеи»
к некоторому единству можно видеть истоки современных методов
аксиоматизации в математике, логике и физике. Но эта
интерпретация игнорирует два важных обстоятельства: 1) откуда берутся
положения (ё частности, в математике), которые подвергаются
аксиоматизации; 2) тот очевидный факт, что диалектика Платона
не игнорирует проблему отношения идей к
чувственно-воспринимаемым вещам. Сторонники этой интерпретации полагают, что,
согласно Платону, «идеи» постигаются какого-то рода интуицией
(т. е. априорно). Но их оппоненты возражают, что при таком ис-
62
толковании остается неясным путь выявления идей, тогда как сам
Платон считал свою диалектику доступным рациональному
объяснению методом их познания. Робинсон, возражая против смешения
интуиции Платона с современными ее истолкованиями в смысле
внезапного озарения, полагает, что для Платона интуиция — не
легкий способ обойти методическое исследование предмета, а
награда, венчающая мастерское применение метода 9.
Более убедительной представляется интерпретация,
сближающая платоновские «путь вверх» и «путь вниз» с методами анализа
и синтеза, получившими широкое распространение в науке Нового
времени. Ее сторонники — Г. Майер, Ж. Родье, Э. Целлер. Этот
подход не игнорирует эмпирически-индуктивный аспект метода
Платона, который недвусмысленно связывает распределение
вещей на роды и виды, т. е. «естественные составные части» (Федр,
265 е), с отысканием сходств и различий в самих вещах. «Путь
вверх» имеет место там, где замечается «общность... между
многими вещами», а «путь вниз» — там, где обнаружены
«несходства между многими вещами» (Политик, 285 Ь). Вместе с
отысканием сходств и различий уже знакомые по ранним диалогам
приемы аккумулятивной и элиминативной индукции становятся
существенными чертами платоновской диалектики. Но по
сравнению с диалогами раннего периода, в которых индукция
диалектической беседы осуществляется путем приведения ряда примеров,
в поздних диалогах Платона происходит решающий сдвиг к
научной индукции благодаря требованию распределения всех вещей на
классы, которое можно считать одной из ранних форм требования
систематического изучения всех вещей. Насколько важно это
требование для развития индуктивного метода, можно судить хотя
бы по тому, что как Ф. Бэкон, так и Дж. С. Милль считали
систематизацию вещей важнейшей предпосылкой их индуктивного
исследования. Сам Платон делает лишь отдельные попытки реализовать
свое требование при исследовании форм.
Развитию индуктивной методологии соответствовал прогресс
в искусстве определения. Стэннард справедливо замечает, что
последовательное дихотомическое деление вещей на соподчиненные
классы позволило Платону вплотную подойти к определению форм
через род и видовое отличие ,0.
Но как согласовать эмпирически-индуктивную тенденцию
метода Платона с противоположной тенденцией — стремлением
придать самостоятельное значение рациональному постижению
(учением о «воспоминании») ? Очевидно, что истолкование метода
Платона как чисто априорного — результат абсолютизации. Платон не
отделяет полностью «идеи» от чувственно-воспринимаемых вещей.
Человек постигает истину «в соответствии с идеей, исходящей
от многих чувственных восприятий, но сводимой рассудком
воедино. А это есть припоминание... подлинного бытия» (Федр,
249 b—с). Таким образом, Платон защищает принцип
взаимодействия двух тенденций в познании — обобщения восприятий и
«припоминания». И это не только при формулировке общего теоре-
63
тико-познавательного подхода, но и в конкретном исследовании.
Так, постижение формы красоты начинается с восхищения
красотой одного тела. Затем мы находим, что красота одного тела
родственна красоте других тел, а красота тел сходна в чем-то с красотой
нравов, поступков и т. п. И наконец, наука учит нас ценить
красоту во всех ее многообразных проявлениях как нечто в них
непреходящее (Пир, 210 а —21 le).
Что же представляет собой «припоминание» в связи с
индуктивно-эмпирическим обобщением? Оно — это тот «творческий»
элемент (в Новое время он получил название «конструктивного»),
который субъект вносит от себя в наши представления о
действительности. Всякое общее, отвлекаемое от вещей, более устойчиво
в реальности, чем отдельные вещи, но и оно лишь относительно
устойчиво. «Воспоминание» же Платона — это попытка найти
способ придать ему абсолютную устойчивость. В действительности нет
абсолютной разграничительной линии между классами вещей;
наше деление на классы всегда остается незавершенным, а сами
классы способны к изменению. Но Платон в познании форм
стремится представить классы четко разграниченными,
классификацию завершенной, виды постоянными и неизменными и т. д. Если
эмпирически-индуктивная тенденция вносит в наши представления
объективное содержание, идущее от самих вещей и независимое от
субъекта, то «конструктивный» аспект вносит в эти представления
то, что идет от произвола субъекта, искусственность схемы,
налагаемой на вещи, схемы, в некоторых отношениях, огрубляющей,
упрощающей действительность, но позволяющей (хотя бы
временно) остановиться на чем-то неизменном. Но
эмпирически-индуктивный процесс, хотя и доставляет нашим представлениям
объективное содержание, по своей природе никогда не может быть
завершен, ибо действительность бесконечно разнообразна и
изменчива. Абсолютную точность и строгость мысли вносит в наши
представления субъективная рефлексия, придающая наличному
знанию характер аксиоматически-дедуктивной системы. Как
диалектик, Платон учитывает обе эти противоположные тенденции.
Но, как идеалист, он видит их отношение перевернутым, полагая
«конструктивный» момент ведущим к «объективному», подлинному
бытию» («идеям»), а эмпирически-индуктивную тенденцию как
отражающую «субъективный» аспект познания.
Учение Аристотеля об индукции
Теория индукции в подлинном смысле этого слова возникает
лишь у Аристотеля как рефлексия об уже фактически
применявшихся методах исследования. Диалоги Платона дают богатую
иллюстрацию к общим положениям Аристотеля. Из этих диалогов
Аристотель часто черпал свои примеры. Как у Сократа и Платона,
индукция у Стагирита сохраняет значение одного из основных
методов исследования, лежащих в самом фундаменте мышления.
Ведь, по Аристотелю, «мы всегда убеждаем или через силлогизм,
64
или путем наведения» (Пер. анал., II 23. 68 b 13—14). Аристотель
признает важную роль индукции в метафизике, логике,
методологии научного исследования, диалектике, риторике и других сферах.
Греческий термин επαγωγή (наведение) в своем «техническом»
(точном логическом) значении появляется лишь у Аристотеля.
Этот термин имеет в его работах ряд смысловых оттенков, а
обозначаемые им приемы исследования допускают иногда различные
толкования. Но все же большинство исследователей сходятся
в том, что различные значения «наведения» в трудах Аристотеля
допускают сведение к некоторому концептуальному единству и,
в основе которого лежит его классическое определение наведения
как «восхождения от единичного к общему» (Топ., I 12, 105 а 13).
В наведении Аристотель видит метод, противоположный
силлогистическому доказательству, которое идет от общего к частному
(Вт. анал., I 18, 81 а 36 — 81 b 1).
Но исследователи расходятся в том, представляет ли
наведение, по Аристотелю, способ познания истины или просто метод
убеждения. Так, редактор английского перевода трудов
Аристотеля В. Д. Росс утверждает, что смысл аристотелевского «наведения»,
«возможно, в том, чтобы „привести ученика44 от частного к
универсальному, заставив его признать последнее содержащимся в
первом» ,2. Как увидим ниже, признание того, что универсалия
содержится в частном, совсем не обязательно связано с признанием,
что универсалия выводится из частного. Это открывает путь для
иных, порой произвольных определений аристотелевского
«наведения».
Сам Аристотель не ввел понятия о различных видах индукции.
Он не пользуется терминами, соответствующими тем, которые в
настоящее время стали привычными,— перечислительная, элимина-
тивная, совершенная, интуитивная и т. д. индукции, хотя среди
интерпретаций его учения и встречаются попытки приписывать ему
предпочтение какой-либо разновидности индукции.
Аристотель прибегает к понятию индукции в различных
обстоятельствах, что позволяет говорить о различных видах его индукции.
Энгберг-Педерсен считает, что Стагирит применяет «наведение»
для 1) приведения слушателя к пониманию какого-либо пункта;
2) приведения слушателя тем или иным способом к признанию
универсалии, общего положения; 3) приведения слушателя к
признанию универсалии путем ссылки на частный случай; 4)
движения к признанию универсального путем рассмотрения ряда
частных случаев. Этот автор не отрицает того, что можно указать и
другие оттенки употребления Аристотелем «наведения», но видит
наиболее обобщающий вид употребления в «рассмотрении частных
случаев с целью достижения универсального», называя этот вид
«полным» или «техническим» определением «наведения» по
Аристотелю ,3.
В отличие от этого Робинсон подчеркивает лишь проводимое
Аристотелем различие между индуктивным силлогизмом и
доказательством на основании одного примера (Пер. анал., II 23, 68 b —
3 Заказ № 4330
65
24, 69 a) u. Способ, указанный Аристотелем для определения
среднего термина силлогизма с помощью наведения, был позднее
назван перечислительной индукцией.
Аристотель отводит наведению различную роль в диалектике
и методологии науки. В методологии науки он видит цель
наведения в установлении общих положений и, более того, первых
принципов науки, которые претендуют на истинность. В
диалектической беседе наведение рассчитано на то, чтобы вынудить
оппонента принять то или иное положение, которое не обязательно должно
быть истинным. По Аристотелю, если в подтверждение
выдвинутого тезиса приведено немало примеров, но оппонент все еще не
готов принять его, то на него ложится обязанность привести
контрпример; «будет справедливо требовать (от него) возражений»
(Топ., VIII 2. 157 а 34). Это требование можно отнести к началам
элиминативной индукции.
Аристотель советует пользоваться наведением для украшения
довода (Топ., VIII 1, 157 а 6). Это положение Аристотеля пришло
в эпоху позднего Возрождения в острое противоречие с
методологией зарождающейся науки Нового времени, представители
которой, начиная с Бэкона и Декарта, боролись за строгий и точный
язык, свободный от риторических украшений, характерных для
способа выражения того времени.
Рассмотрим сначала общее в трактовке Аристотелем
наведения, а затем обратим внимание на детали.
Так как индукция отправляется в конечном счете от
индивидуальных вещей, то она опирается на опыт, и «умозаключать путем
наведения невозможно тем, кто лишен чувственного восприятия»
(Вт. анал., I 18. 81 Ь5—9). Так Аристотель формулирует основы
своего теоретико-познавательного эмпиризма и индуктивизма
вопреки тому очевидному факту, что в его «Органоне» более
подробно разработаны силлогически-дедуктивные методы аргументации.
Индуктивизм и эмпиризм Аристотеля выражают
материалистическую тенденцию его философии, противоположную идеализму и
телеологизму его метафизики.
В связи с очевидностью того, что дано в чувственном
восприятии, наведение, по Аристотелю, более убедительный, чем
силлогизм, способ аргументации для большинства людей (Топ., VIII 2.
157 а 17).
Наука ищет причины и начала существующего, например
причину здоровья, начала математики. Знать какую-либо вещь —
это «знать причину (ее) бытия» (Вт. анал. II 8. 93 а 4). Каждая
отдельная научная дисциплина «имеет своим предметом более или
менее точно определенные причины и начала» (Мет., VI 1. 1025 b
4—10). И эти причины и начала нельзя познать без помощи
индукции.
У Аристотеля нет разрыва между индукцией и
силлогистическим доказательством, который стал характерным для
метафизической философии XVII—XX вв. Он рассматривает их в тесной
взаимосвязи. Но на этом основании было бы ошибочно делать вы-
66
вод, к которому пришел Джонс ,5, будто бы для Аристотеля
индукция — это разновидность силлогизма. Аристотель диалектически
увязывает движение мысли от общего к частному и
противоположное движение от частного к общему, хотя и признает приоритет
индукции в познании причин и первых принципов науки. Он
утверждает: «Наведение некоторым образом противолежит
силлогизму, ибо последний через средний термин доказывает, что
(больший) крайний термин присущ третьему; наведение же доказывает
через третий термин, что (больший) крайний термин присущ
среднему» (Пер. анал., И 23. 68Ь 31 ел.). Если причина «может быть
доказана, то необходимо, чтобы она была средним термином и
доказывалась по первой фигуре», ибо по этой фигуре доказывается
общее и утвердительное (Вт. анал., II 8.93а 7—10).
Аристотель поясняет свою мысль на примере. Пусть А — долго-
живущее, Б — не имеющее желчи, В — представитель долгоживу-
щих (человек, мул...). Аристотель предполагает, что
отсутствие желчи у животного — причина долгой жизни. Если бы это
было так, то для доказательства того, что человек относится к
долгоживущим, нужно было бы построить силлогизм
Все, не имеющие желчи, суть долгоживущие
Человек не имеет желчи
Человек есть долгоживущее.
Аналогично доказывается, что к долгоживущим относится мул
и т. д. Общая форма такого доказательства:
Все Б суть А
В суть Б
В суть А
Индуктивный способ аргументации противоположен этому. Он
исходит из рассмотрения отдельных долгоживущих и того, что в
них есть общего. Замечается, что долгоживущий человек не имеет
желчи, долгоживущий мул не имеет желчи... Общий признак
фиксируется в среднем термине Б. Чтобы убедиться, что
принадлежность к долгоживущим необходимо связана с отсутствием желчи,
требуется проверить, что каждое отдельное долгоживущее не
имеет желчи. По словам Аристотеля, «под В следует понимать
совокупность всех единичных (случаев), ибо наведение
осуществляется через все (единичные)» (Пер. анал., II 23, 68Ь24 ел.). Тем
самым было бы доказано, что отсутствие желчи — необходимый
признак долгоживущего. Но еще не доказано, что отсутствие
желчи — причина (необходимое и достаточное условие) долгой
жизни. Последнее имеет место, если А и Б совпадают и верны оба
(обратимы) предложения: «Все долгоживущие не имеют желчи»
и «Все, не имеющие желчи, долгоживущие». Только в этом случае
можно утверждать вместе с Аристотелем, что «среднее есть
причина» (Вт. анал., II 2.90а 5—6).
Именно эта форма обобщения, восходящая к Аристотелю, была
з*
67
охарактеризована Φ. Бэконом как индукция через полное
перечисление^ котором не встречается противоречащих случаев.
Очевидно, что эта форма индукции, понятая буквально, бесполезна в
науке, ибо в нетривиальных ситуациях ее требования нельзя
реализовать, так как мы не имеем возможности просмотреть все случаи,
подлежащие обобщению. Например, мы не можем наблюдать
людей, которые еще не родились. Ценность же индуктивного
вывода — в заключении от известного к неизвестному. Но практически
Аристотель никогда не прибегает к попытке просмотреть все
подлежащие обобщению случаи, ибо находит средство упростить
индуктивный процесс.
Как показал рассмотренный пример, обобщение, по
Аристотелю, основная черта индуктивного познания. Тот, кто прибегает к
помощи индукции, должен сразу же замечать соответствие между
вещами (Мет., IX 6. 1048b 1). При наведении «общее следует
выводить через приведение сходных единичных случаев» (Топ.,
I 18. 108Ь 9—10). Индукция идет путем отвлечения общего,
замеченного в отдельных вещах, которым, сверх того, присущи еще и
различия. По Аристотелю, «созерцать общее нельзя без посредства
наведения, ибо и так называемое отвлеченное познается через
наведение». Хотя отвлекаемые свойства «и не существуют отдельно,
но (могут рассматриваться обособленно друг от друга), поскольку
каждое из них есть нечто определенное» (Вт. анал., I 18. 81Ь2 ел.).
Так, «математик исследует отвлеченное (ведь он исследует,
опуская все чувственно воспринимаемое, например, тяжесть и
легкость... оставляет только количество и непрерывное...)» (Мет.,
XI 3. 1061а 29—30).
Индукция есть процесс обобщения, основания которого
заложены уже в особенностях нашего восприятия, ибо оно не
схватывает всех особенностей вещей. По Аристотелю, «хотя
воспринимается единичное, но восприятие есть (восприятие) общего,
например человека Каллия» (Вт. анал., II 19. 100а 16—100Ы). Если
же впечатлений об одном и том же предмете накопилось много,
то возникает некоторое понимание (Вт. анал., Н19.99Ь35—
100а 1 ), т. е. умение представить себе предмет связно. Впечатления
суммируются в памяти, и «большое число воспоминаний
составляет вместе некоторый опыт». «Из опыта же, т. е. из всего общего,
сохраняющегося в душе, из единого, отличного от множества, того
единого, что содержится как тождественное во всем этом
множестве, берут свое начало искусства и наука» (Вт. анал., II 19. 100а
5—9).
У современных интерпретаторов учения Аристотеля
распространено мнение, что он не дал обоснования индуктивного вывода ,6,
т. е. не указал основания правомерности заключения от частного
к общему. Они правы лишь формально. В этом пункте у
Аристотеля, как раньше было у Сократа и Платона, имеет место отставание
теории индукции, рефлексии о методе от фактически
применявшихся методов исследования. Фактическим основанием
индуктивного вывода у Аристотеля служит идущее от Платона предполо-
68
жение о том, что все естественные вещи и явления делятся на
устойчивые типы — роды и виды (количество которых не
бесконечно) , что в природе подобное порождает подобное же и что поэтому,
если мы знаем порождающую причину, устройство,
функционирование какой-либо вещи или нескольких вещей определенного
рода, то мы можем перенести наши выводы на все вещи такого
рода. По Аристотелю, при построении общих положений
«общепринято мнение, что как дело обстоит с одной из сходных (вещей),
так оно обстоит и с остальными» (Топ., I 18, 108Ы2—14).
Пользующийся наведением объясняет, «исходя из отдельных очевидных
случаев, что так обстоит дело и во всех случаях» (Вт. анал., II 7,
92а37 ел.). Из идеи устойчивых типов всего существующего
исходят «Естественная история животных» Аристотеля, «Естественная
история растений» Теофраста и все последующие естественные
истории, задача которых состоит в том, чтобы описать все эти типы.
Бэкон очень высоко оценил идущую от Аристотеля идею
естественных историй как эмпирического базиса естественных наук. Джонс
справедливо указал на связь естественных историй с
индуктивными идеями Аристотеля, Р. Бэкона и Ф. Бэкона, а равно и на то,
что у Аристотеля связь индукции с естественной историей
недостаточно теоретически выявлена |7.
Установление причины путем рассмотрения одного
представителя какого-либо класса не устраняет индуктивного аспекта
познания. Например познав устройство и функционирование солнечной
системы, мы установили причину затмений Луны и Солнца, того,
почему Луна всегда обращена к Солнцу светлой стороной и т. п.
По Аристотелю, даже если бы мы находились на Луне и видели, как
Земля затмевает Солнце, мы бы не сразу поняли причину затмения.
«Однако из частого наблюдения этого мы, обнаружив общее,
имели бы доказательство, ибо из многократного повторения
единичного становится явным общее: а общее ценно именно
потому, что оно выявляет причину» (Вт. анал., I 31. 87Ь36—88а5).
Индукция, по Аристотелю, путь к определению сущности
вещей. Определение «касается сути (вещи)» (Вт. анал., II 3.
90Ь4) и достигается индуктивным установлением сходств вещей
(Топ., I 18. 108Ь7). Искать при этом надо, «обращая внимание
на подобное... на тождественное в каждом» (Вт. анал., II 13.
97Ь6 ел.). Сходства или признаки отбираются специальным
образом. Из тех признаков, которые присущи всякой отдельной вещи,
некоторые присущи только этой вещи, другие общи ей с иными
вещами. Так, 3 (тройка) обладает некоторым существованием
(универсальный признак), она относится к числам (это ее род),
притом нечетным (это ее вид). В ряду нечетных чисел каждое из
них занимает определенное место (индивидуальный признак).
При построении определения, по Аристотелю, признаки
определяемого надо «брать до тех пор, пока не получают их как раз
столько, чтобы каждое простиралось на большее, но чтобы все
вместе не простирались на большее, ибо эта (совокупность
свойств) необходимо есть сущность (вещи)» (Вт. анал., II 13. 96а
69
32—35). Сущность—это «предельное сказывание о неделимых
(видах)» (Вт. анал., II 13.96Ы, 11).
Проблема определения связана с восходящей к Платону
процедурой деления вещей на роды и виды. Это деление само по себе
недостаточно, чтобы получить определение (Вт. анал., II 5. 91 b 40),
но к нему все же следует прибегать, чтобы найти признаки
сначала общие, затем — частные. Для этого «род надо делить напер-
вые неделимые по виду»; затем, в свою очередь, их; «только так
можно ничего не пропустить из относящегося к сути (вещи)»
(Вт. анал., II 13.96Ы5, 35 ел.). Двигаясь в делении целого от
общего к частному и указывая в определении признаки субъекта в
том же порядке, мы укажем признаков не больше, чем нужно, и не
упустим те, которые необходимы. Таково определение сути вещи
через род и видовое отличие (Вт. анал., II 13.97а30—97ЬЗ).
Теория индукции Аристотеля подчеркивает ее аккумулятивный
характер — выявление общего в вещах, родах и видах. При этом
элиминативный аспект индукции остается в тени. Последний в
большей степени был выявлен у Платона, чем у Аристотеля.
Ф. Бэкон, указывая на слабость учения Аристотеля в этом
отношении, отметил преимущество индукции Платона.
На пути обобщения признаков видов и родов индукция, по
Аристотелю, приводит к наиболее общим положениям науки — ее
первым принципам. Так, общее в отдельных людях — Каллии,
Сократе и т. д. — основание для понятия о человеке вообще. Далее,
предмет наведения — общее во всех живых существах. «Снова
останавливаются на этом, пока не удерживается нечто неделимое
и общее, например, вместо живого существа такого-то (вида) —
живое существо (вообще), и далее таким же образом» (Вт. анал.,
II 19.100а 16—100Ь4). Общее для животных с остальными
вещами — факт существования. Так индукция путем последовательных
обобщений приводит к понятию сущего вообще, которое уже не
допускает дальнейшего обобщения. Таков процесс индуктивного
исследования реальности.
Каждая научная дисциплина ограничивает свое исследование
предметами определенного рода (Мет., XI 7.1064аЗ). Если наука
уже обладает суммой общих положений, выражающих знание о
фактах, она может попытаться представить их в виде
аксиоматизированной дедуктивной системы, включающей конечное число
демонстративных выводов. Такую форму, по Аристотелю, должна
иметь доказательная наука (episteme), методы аподиктического
(силлогистического) доказательства которой разработаны в
«Первой Аналитике». Исходный пункт всех демонстративных
доказательств в данной науке — ее первые принципы. Как наиболее
общие положения этой науки сами они не могут быть предметом
демонстративного доказательства в ней. Первые принципы, или
«начала доказательств», во всякой науке принимаются как
«недоказуемые определения» (Вт. анал., II 3.90Ь24—27), как
«неопосредствованные начала» (Вт. анал., II 19.99Ь20 ел.).
На самом же деле, по Аристотелю, доказательство для пер-
70
вых принципов науки существует, но не в рамках данной
аксиоматической системы, и совершается оно способом,
противоположным силлогистическому доказательству. «Итак, ясно, что
первые (начала) нам необходимо познать через наведение, ибо
таким образом восприятие порождает общее» (Вт. анал., II 19.
100в4—5). Вслед за Ф. Бэконом, Дж. С. Миллем, Д. Гротом,
Г. Майером и др. Д. Барнес утверждает, что способы
силлогистического доказательства разработаны Аристотелем как
формальная модель для передачи уже известного знания, которое, однако,
должно быть добыто ранее индуктивно 18.
Так как демонстративное доказательство в рамках данной
научной дисциплины зависит от ее первых принципов, то
достоверность выводов, полученных с помощью демонстрации, не
может быть выше достоверности первых принципов. Логически
строгая форма силлогистического вывода не может обеспечить
более точного знания, чем та точность, которой обладают
посылки, полученные индуктивно. По Аристотелю, начала
доказательства «более известны (чем доказательства)»;
следовательно, только нус, который имеет «своим предметом начала», «может
быть истиннее, чем наука» (Вт. анал., II 19.100в 9 ел.). Таким
образом, согласно методологии Аристотеля, в конечном счете
наиболее известным оказывается то, «что основывается на
чувственном восприятии» (Топ., VIII 1.156а5—7), от которого
отправляется индукция.
Аристотель недвусмысленно говорит о том, что первые
принципы науки постигаются индуктивно. Но некоторые
представители современной философии и методологии науки пытаются
саму индукцию Аристотеля перетолковать в духе априоризма,
родственного кантовскому и платоновскому. Такая попытка
предпринята Поппером ,9 и его сторонниками, которые выдают
нус (в аристотелевском понимании) за некоторую интуитивную,
не поддающуюся рациональному объяснению, способность
усмотрения универсального в частном20. Наиболее упорно эту
точку зрения отстаивает Д. Хэмлин, который сближает подход
Аристотеля к познанию первых принципов с учением Платона
о «воспоминании» идей. Тезис Аристотеля о том, что индуктивная
способность к обобщению развивается из способности к
чувственному восприятию, Хэмлин предлагает понимать в том смысле,
будто человек от рождения обладает интуитивной способностью
постижения универсального, которая развивается в процессе
употребления. В результате аристотелевская индукция в
толковании Хэмлина превращается из процесса «извлечения всеобщего
из чувственных восприятий» в простое подведение частного под
уже известный принцип 2\ Эту точку зрения, как «лежащую в
основе» понимания аристотелевской индукции, поддержал
Р. Маккирэген 22. Последний опирается также на идеи Л.
Витгенштейна, который номиналистически отрицает наличие
универсального в вещах и поэтому «запрещает» исследование процесса
получения универсального знания 23. Этот «запрет» служит для
71
Маккирэгена очень удобным поводом поставить под сомнение
ясность аристотелевского объяснения индуктивного процесса
получения первых принципов науки во «Второй аналитике» (II 19).
Свои усилия свести индукцию Аристотеля к априорным
формам мышления эти авторы пытаются связать с частным случаем
наведения у Аристотеля. Согласно последнему, если мы уже
знаем теорему, что сумма углов треугольника равна двум прямым,
и встречаем новый пример треугольника (вписанного в
полуокружность), то не в состоянии сразу применить к нему эту теорему,
пока не осознаем, что имеем дело с треугольником. Таким
образом, по Аристотелю, здесь приходится «признать, что в
некотором смысле имеют знание» (т. е. знают теорему), «а в некотором
нет» (т. е. не знают, что ее можно применить в данном частном
случае) (Вт. анал., I 1. 71а25). Далее, «знание частного, как бы
вновь узнаваемого, получают вместе с наведением». Речь идет
об осознании того, что данная фигура есть треугольник и к ней
применима названная теорема (Пер. анал., II 21.67а23 ел.).
Пытаясь опираться на этот пример, Хэмлин и его сторонники
утверждают, что индукция, по Аристотелю, якобы означает
«применение общего положения к частному случаю», что
равносильно дедукции 24. Вместе с тем «нус» Аристотеля приравнивается
к интуиции и «воспоминанию» Платона.
А между тем Аристотель здесь четко отделяет дедуктивный
аспект от индуктивного и считает, что определение треугольника
получено индуктивно, т. е. путем отнесения к одному классу всех
прямолинейных фигур с тремя углами. При «узнавании»
треугольника в частном случае продолжается это наведение включением
данного треугольника в класс всех треугольников. Когда этот
процесс завершен, можно обратиться к дедукции, применив теорему.
Вместе с тем в связи с данным примером Аристотель
недвусмысленно подвергает критике учение Платона о «воспоминании».
Таким образом, истолкование индукции Аристотеля в духе
априоризма, на наш взгляд, ошибочно.
Попытка сблизить «нус» Стагирита с интуицией Платона
также вызвала обоснованные возражения специалистов,
которые показали, что эта попытка явно противоречит эмпиризму
аристотелевского объяснения во Второй аналитике (II 19) и
исторической эволюции значения термина «нус». Противоположность
двух тенденций в истолковании «нус» показана в работе
французского автора Леблонда 25, хотя он сам не причисляет себя
к сторонникам его эмпирического понимания. Многие
исследователи показали, что термину «нус» в классической древности
придавалось совсем не платоновское значение. Фон Фриц ведет
его происхождение от корня «snu» (обонять), что указывает
на связь его значения с чувственным восприятием 26. Другие
ведут его происхождение от индоевропейского корня «nés»
(возвращение от смерти и тьмы). Во времена Гомера «нус» означал
уже не «возвращение», а «средство возвращения» . В другой
работе фон Фриц показал, что у большинства досократических
72
философов и в классической трагедии «нус» тесно связан с
чувственным восприятием и означает «осознание с помощью
чувственного восприятия» 28.
Для Платона «нус» — это средство схватывания
умопостигаемого, резко отделенное от чувственного восприятия (Гос., VI
511). Но производный глагол noein обладает у Платона
рядом значений — от теоретического мышления до осознания
в области чувственного восприятия, что верно и в отношении
Аристотеля.
Индукция Пифагора и медицинских школ
Помимо линии, идущей от Сократа через Платона к
Аристотелю, другая линия разработки индуктивной методологии
восходит к Пифагору. Пифагорейцы опирались на зачатки точных
и естественных наук. Боэций (De Institutione Musica, I lOf)
сообщает о том, что Пифагор обратил внимание на различие звуков
по высоте тона. Его заинтересовала причина этого, и он стал
экспериментировать, изменяя вес молотов и силу удара их по
наковальне. Он пришел к выводу, что высота тона зависит не от
силы удара, а лишь от веса молота. Пифагор связал созвучия
с определенными числовыми соотношениями весов молотов29.
В экспериментах и выводах Пифагора можно усмотреть
приемы сходств, различий и сопутствующих изменений, хотя
Пифагор не сформулировал каких-либо индуктивных правил.
Индуктивно-эмпирические приемы развивали далее врач и философ Ал-
кмеон (акмэ ок. 500 г. до н. э.) 30, врачи — авторы так
называемого «Гиппократова сборника» (ок. 450—350 гг. до н. э.),
исследовавшие причины здоровья и болезней человека. Они
опровергали ложные гипотезы с помощью, по сути дела,
отрицательных инстанций. Т. Гомперц называл труды этого сборника
одним из самых ранних «образчиков чисто научного духа»3|.
Индукция эпикурейцев. Учение о «знаках»
Учение о «знаках» — специальная ветвь античной индукции.
Начала учения о знаках мы находим у Аристотеля (Пер. анал.,
II 27, 70а2—10). Знак — всего лишь правдоподобный признак
вещи. Так, туча может быть признаком дождя. Умозаключения
на основании правдоподобных признаков позднее привели к
созданию теории вероятностей и соответствующего раздела
индуктивной логики. С. Лурье, сравнивая понятия «случайность» у
Демокрита и Аристотеля и имея в виду возможность
умозаключений на основании случайных, или правдоподобных, признаков,
приходит к выводу, что «основателем индуктивной логики
необходимо считать не Аристотеля, а Демокрита» 32. К сожалению,
в полной мере подтвердить правомерность этой гипотезы не
представляется возможным ввиду того, что до нас не дошли
логические труды Демокрита. По аналогичной причине нельзя устано-
73
вить в полном объеме вклад Эпикура в разработку проблем
индукции. К приемам индуктивной логики можно отнести некоторые
способы рассуждения Демокрита, например его принцип «исо-
номии» (равновероятности). Согласно последнему, нечто может
иметь место не в большой мере, чем иное, противоположное.
На основании этого принципа Демокрит заключает, что число
форм атомов бесконечно, что тела должны существовать в любой
части бесконечного пространства и т. п.33
Заключение на основании «случайных» признаков получило
распространение в медицине: признак болезни был назван
симптомом; сумма признаков, характеризующих некоторую болезнь,
была названа синдромом. Секст Эмпирик ставит под сомнение
надежность умозаключений, основанных на таких признаках
(Пирроновы опровержения, II 254 ел.).
Значительным сочинением о проблемах индуктивного
вывода следует признать трактат «О знаках» эпикурейца Филодемл
(ок. ПО—40 гг. до н. э.), открытый среди рукописей библиотеки
Геркуланума в первой трети XIX в. и опубликованный Гомпер-
цом в конце века. Филодем обучался в «Саду Эпикура», когда
там ведущими фигурами были Зенон из Сидона и Деметрий Ла-
конийский. Главную задачу учения о знаках Филодем видит в
том, чтобы указать условия, при которых на основании связи
между явлениями (антецедентом и консеквентом), известной
из прошлого опыта, можно было бы сформулировать общее
положение, справедливое для будущего опыта. Общая форма
вывода на основании знаков: Всякое известное из опыта А суть
5=^Всякое А суть В. Или: Большинство известных А суть
5=^Большинство А суть В.
Об умозаключениях на основании знаков рассуждали и
стоики. Они искали логическое основание для выхода в рассуждении
за пределы известного опыта и находили его в немыслимости
противного. Например, если опыт свидетельствует о том, что все
жившие до сих пор люди были смертны, то формулировать общее
положение, что все люди смертны, они признают возможным лишь
в том случае, если немыслимо, что человек бессмертен. В
отличие от этого эпикурейцы рассматривали проблему
умозаключения на основании знаков как проблему эмпирического
обобщения, т. е. как индуктивную. Они не сформулировали в явном виде
правил индуктивного исследования, но из их рассуждений можно
вывести некоторые правила.
Основание для эмпирического обобщения Филодем видел
в сходстве в некотором отношении данных в опыте случаев
изучаемого явления при отсутствии опровергающих примеров.
Сходство должно быть твердо установлено, а опровергающие
примеры — тщательно разыскиваться. Хотя невозможно
рассмотреть все случаи интересующего нас явления, следует обращаться
к многочисленным и разнообразным примерам (De Signis, XX
30 ел.), отыскивая в них наиболее специфическое сходство
(XVIII 21). Нельзя игнорировать замеченные различия, их надо
74
поочередно тщательно изучать, сводя сходство к минимуму
(XXI 32). Перед тем как сформулировать обобщение, нужно
искать доказательства противного как путем выведения
следствий из уже известного, так и посредством наблюдений (XXXII
24 ел.). Нельзя всегда настаивать на строгой универсальности
предлагаемого обобщения. Иногда достаточно удовлетвориться
выводом о том, что имеет место в большинстве случаев (XXV 36).
Здесь налицо черты как аккумулятивной, так и элиминативной
индукции.
Распространение обобщения на будущий опыт Филодем
признавал оправданным на основании, которое Стоке назвал
«эпикурейским вариантом предположения о единообразии природы» 34.
Последнее сформулировано таким образом: «Вещь, лишенная
какой-либо общности с видимым, немыслима» (XXI 27). «Мы
предполагаем, что то же разнообразие, о котором
свидетельствует опыт, свойственно также невидимому» (XXV 11). Эти мысли
перекликаются с предположением Платона и Аристотеля о
естественном разделении всего сущего на устойчивые классы. Но
у эпикурейцев налицо несравненно более четкие формулировки,
подводящие к закону единообразия природы, и первая вполне
осознанная ссылка на этот порядок как логическое основание
правомерности индуктивного вывода.
Надо полагать, что достижения эпикурейцев составили
вершину теории индукции в античности. Стоке, опираясь на мнения
ряда других исследователей, утверждает, что индуктивная
методология эпикурейцев сложилась под влиянием Демокрита
и медицинских школ. Он заключает, что в классической Греции
«не было более благоприятной почвы для теории индукции, чем
Сад Эпикура». Но «даже здесь она процветала недолго и была
подавлена как еретическая или обременительная преемниками
Зенона» 35.
Таким образом, в античности философия и естествознание
достигли значительных успехов в разработке индуктивных
приемов, хотя теоретическая формулировка принципов индукции
отставала от научной практики.
3
СОВРЕМЕННЫЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
АРИСТОТЕЛЕВСКОГО ПОНИМАНИЯ ДИАЛЕКТИКИ
Философия Древней Греции, являясь, по словам Ф. Энгельса,
первой основной исторической формой диалектической философии,
отличается своими специфическими чертами и особенностями.
Именно к этому периоду истории философии относится не только
возникновение и развитие отдельных философских понятий и
категорий, но и становление диалектического способа мышления,
что представляет особый интерес не только для нас, сторонников
диалектического материализма, но также и для представителей
идеалистической философии, исходящих из иных методологичес-
75
ких установок. За последнее двадцатилетие в
историко-философской литературе заметно повысился интерес к проблемам истории
диалектики, в частности к истории античной диалектики. Если
в конце XIX — начале XX в. проблемами диалектики, ее
историческим развитием в среде философов-идеалистов занимались
преимущественно неогегельянцы, то в настоящее время представители
почти всех основных философских течений проявляют
повышенный интерес к диалектике и ее истории.
В конце XIX — начале XX в. диалектические идеи античной
философии толковались буржуазными историками философии
главным образом в духе вульгарного эволюционизма,
диалектический же метод не привлекал к себе их особого внимания или они
сознательно отвлекались от него. Возьмем, например, вопрос
о том, как интерпретировалась диалектика Гераклита. Его
диалектическое положение «все течет», выражающее всемирное
движение, изменение и взаимное превращение явлений большинство
буржуазных историков философии (Брандис, Виндельбанд,
Дейссен, Жанэ, Ибервег, Матинэ, Патер, Шлейермахер, Шустер,
Шпенглер, Челлер и др.) трактовали лишь как протекающее во
времени и пространстве развертывание событий, эволюционную
последовательность. Хотя справедливости ради следует отметить
и появившуюся в современной идеалистической и немарксистской
философской литературе более серьезную заинтересованность
античной диалектической проблематикой, в том числе и Геракли-
товой '.
Определенное внимание проблемам диалектики уделяют
экзистенциалисты, заимствовавшие у неокантианцев и
неогегельянцев концепцию «трагической диалектики». В плане «трагической
диалектики» экзистенциалисты (Ясперс, Хайдеггер и др.) трактуют
и древние диалектические теории, начиная с Гераклита.
Примером экзистенциалистской интерпретации истории
диалектики может служить концепция О. Вюйя, где диалектика
Гераклита противопоставляется логике Аристотеля. Вюйя
модернизирует учение Гераклита в духе экзистенциалистской «логики
существования», выступая тем самым против той
рационалистической аристотелевской традиции, которая, по его мнению,
доминировала в истории европейского мышления вплоть до Нового
времени.
«Логика и философия,— говорит Вюйя,— долгое время
базировались на тех фактах, которые были открыты Аристотелем
в логике и метафизике. Аристотель укорял Гераклита за то, что
тот не знал логики и поэтому потерпел неудачу в искусстве
убедительного философского аргументирования. Эта позиция
Аристотеля на долгое время определила судьбу философии и
благодаря этому задержала развитие философской мысли»2. Вюйя
ясно игнорирует существо аристотелевского диалога с
Гераклитом, вернее, диалог с Кратилом, последователем Гераклита. При
этом аристотелевские законы логического мышления, в частности
закон недопустимости противоречия, Вюйя противопоставляет
76
логосу Гераклита. Тем самым он превращает Аристотеля в
сугубо формального логика, чуждающегося диалектики, а диалектику
Гераклита пытается интерпретировать как исторический
источник экзистенциализма. «...Логический принцип, названный в
логике Аристотеля принципом „исключенного третьего44,
оказывается принципом „включенного третьего41 в логосе Гераклита.
Логос, о котором говорит Гераклит, свойствен
экзистенциалистской мысли и должен служить основой для философии
существования, которая развивается благодаря усилию этой
мысли; он возможен только в субъекте, высказывающем суждение
об этом единстве» 3. По мнению Вюйя, истинный смысл
философии Гераклита, а также других досократиков был раскрыт только
экзистенциалистами.
В экзистенциалистской философской литературе особенно
выделяется М. Хайдеггер, который специально посвятил ряд
работ античной философии. Хайдеггер явно принижает логико-
диалектическую природу древнегреческого мышления в целом
и Аристотеля в частности. Если с Хайдеггером и можно как-то
согласиться в том, что понятийное мышление не наблюдается
в ранний период развития древнегреческой философии 4, то никак
нельзя считать справедливым, когда он это распространяет на
всю античную философию, так что и Аристотель оказывается
философом, который мыслит «непонятийно», так как мышление для
него, по мнению Хайдеггера, является «средством, ведущим в
область проблематического». Логизация свойственна «аристоте-
лизму», а не самому Аристотелю, думает Хайдеггер \
Экзистенциалист Н. Аббаньяно диалектику Аристотеля сводит
лишь к логике возможности 6. «Для Аристотеля,— пишет он,—
диалектика является просто рациональным, а не доказательным
способом, диалектическое есть силлогизм, который исходит из
возможных посылок, т. е. из допустимых посылок вообще» 7.
Аббаньяно не понял, что учение о вероятностном знании в логике
Аристотеля имеет лишь подчиненное значение.
Кроме экзистенциалистской трактовки истории диалектики,
заслуживает внимания неогегельянское направление,
представленное Кроче и его последователями. В этой связи следует
указать на книгу Рафаэлло Франкини «Происхождение
диалектики».
Франкини, полемизируя с экзистенциалистскими и
неопозитивистскими интерпретациями диалектики, направляет острие
своей критики и свое понимание диалектики против марксизма.
Стремясь повернуть всю историю диалектического мышления в
пользу идеализма, он умаляет значение диалектики Гераклита
и Аристотеля по сравнению с диалектикой Платона. То, что
является слабостью философии Платона по сравнению с
диалектикой Гераклита — устранение борьбы противоположностей,
Франкини считает ее большой заслугой и называет Платона
первым истинным диалектиком в истории философии.
Недооценивая вклад Аристотеля в разработки проблем диалектики и без-
77
основательно упрекая марксизм в полном игнорировании
истории диалектики до Гегеля, Франкини вместе с тем утверждает,
что первым, кто заметил диалектику в системе Аристотеля, был
Кроче. Здесь излишне доказывать, что до Кроче о диалектике
Аристотеля говорили многие историки философии, не говоря уже
о том, что классики марксизма в своих работах придавали
исключительное значение диалектике Аристотеля как «волшебному
жезлу» в его философии, ставя при этом великого Стагирита
рядом с Гегелем.
Если экзистенциалист Вюйя вовсе не признает роли Аристотеля
в истории диалектики, то крочеанец Франкини ставит его в области
диалектики после Платона. Однако он так суживает рамки
аристотелевской диалектики, что представляет последнюю как теорию
онтологической возможности, учение о материи и учении об
устранении противоречий в логике , а вершиной античной диалектики
он считает не аристотелевскую диалектику, а диалектику Прокла.
Франкини подменяет проблему противоречия, поставленную
Гераклитом и Аристотелем, проблемой опосредования и диалектики
«различия» Кроче. Гераклит и Аристотель лишаются учения о
борьбе противоположностей, и таким образом на первый план
выдвигается платоновская теория идей. Франкини модернизирует
Аристотеля и сближает его взгляды с крочеанским пониманием
диалектики. Между тем, опираясь на глубокие характеристики,
данные аристотелевской философии Марксом, Энгельсом и
Лениным, марксистская история философии раскрывает историческое
значение Аристотеля, заключавшееся в принципиальной критике
платоновской идеалистической философии. «Критика Аристотелем
,,идей" Платона,— писал В. И. Ленин,— есть критика идеализма
как идеализма вообще»9.
Современный неопозитивизм тоже против положительного
освоения истории античной диалектики. Примером
неопозитивистского отношения к диалектике Аристотеля является «История
западной философии» Б. Рассела. Рассел настолько необъективен
по отношению к Аристотелю, что заявляет: «В наши дни любой
человек, который захотел бы изучить логику, потратил бы зря
время, если,бы стал читать Аристотеля» ,0. Этот ничем
необоснованный нигилизм в отношении философии Аристотеля в целом
Рассел распространяет и на учение Аристотеля о
логико-диалектических категориях. Он в первую очередь возражает против
введения в философию самого понятия «категория». «Что именно
подразумевается под словом „категория" у Аристотеля, у Канта
и у Гегеля, я, признаться, никогда не был в состоянии понять.
Я лично не верю, что термин „категория" может в какой-либо
мере полезен в философии как представляющий ясную идею» 1|.
Рассел выступает против центральной категории Аристотеля,
категории сущности; эта категория, по его мнению, не обоснована
Аристотелем и дает возможность пуститься во множество дурных
«метафизических» рассуждений. Хотя категория сущности на
протяжении многих веков являлась и является «сокровенной частью
78
каждой философской системы», она, по мнению Рассела,
представляет собой «безнадежно сбивающее с толку понятие». Отрицая
познавательное значение за категорией сущности, Рассел видит
в ней лишь термин; все, что можно сказать о сущности,
представляет, с его точки зрения, лишь лингвистический интерес, так как
слово может иметь сущность, но вещь не может ,2. Как и
все позитивисты, Рассел утверждает, что все категории, в том
числе и категория «сущность», относятся к области
«метафизики».
Еще ранее один из основоположников позитивизма — О. Конт
предвосхитил расселовское отношение к логико-диалектическим
проблемам,, когда писал, что «с позитивной точки зрения мы
признаем невозможным получить абсолютные понятия: мы
отказываемся от поисков происхождения и назначения вселенной,
от познания внутренних причин явлений, от исследований их
отношений следования и сходства путем комбинированного
применения умозаключения и наблюдения» ,3. Если Аристотель
проникнут верой в человеческий разум, то, по мнению позитивистов
и неопозитивистов, исследования сущности природы и мышления
обречены на провал ,4.
Аристотеля часто упрекают за то, что он онтологизировал
свою логику, и предпочитают путь формализации, предложенный
стоиками. Например, Бохенский пишет: «В то время как у
Аристотеля онтологический статус формул не определен надлежащим
образом (мы не знаем, представляют ли они последовательности
слов, или, может быть, они суть умственные или объективные
структуры), стоики разработали рафинированную семиотическую
теорию и установили их логические теоремы так, чтобы они всегда
обозначали нечто, принадлежащее к области
обозначений λεκτα» ,5. Такого рода предпочтение, и тем более
противопоставление формальной логики и диалектики, по нашему мнению,
в принципе неверно, так как эти две сравнительно «отличные»
сферы одной и той же науки — логики — находятся в
неразрывной между собой связи. Другое дело, что, как правильно пишет
Я. Лукасевич, «формальная логика и формалистическая логика —
это две различные вещи. Аристотелевская логика является
формальной (но не только формальной.— Д. Дж.), но не
формалистической, тогда как логика стоиков является и формальной,
и формалистической» ,6.
Однако в связи с дальнейшим развитием науки в последнее
время, как известно, на первый план стал выдвигаться тот аспект
логики, который известен под названием формальной и берет
свое начало с Аристотеля. Но когда отождествляют предмет
формальной логики и предмет логики символической, как это
делает, например, А. Чёрч, когда пишет, что «предмет формальной
логики, изучаемый методом построения формализованных языков,
называется символической логикой, или математической логикой,
или логистикой» ,7, то получается^ что символическая логика
настолько поглощает формальную логику, что последняя просто
79
обеспредмечивается, а тем самым отрицается само существование
классической формальной логики.
Если Бохенский прав в том, что в аристотелевской логике
субъект-предикативную связь он считает скорее содержательной,
чем формальной ,8, то он не прав, когда говорит, что, чем выше
формальная техника анализа и доказательство, тем позднее
работа ,9.
Опираясь на это мнение, Бохенский делит «Органон»
Аристотеля на три части в зависимости от степени совершенства
формализации техники мышления: 1) «Топика», «О софистических
опровержениях» и «Категории»; 2) кн. I «Первой аналитики» и
кн. I «Второй аналитики»; 3) кн. II «Первой аналитики» и
модальная силлогистика.
Здесь Бохенский не говорит ничего нового, а лишь
конкретизирует мысль Сольмсена относительно того, что диалектика, аподик-
тика как теория доказательства и аналитика как учение о
формальных выводах — три последовательных этапа в развитии
аристотелевской логики. При этом стремление Сольмсена обосновать
логику Аристотеля из философии Платона приводит к умышленному
преувеличению элементов платонизма в «Органоне» Аристотеля 20.
В философской литературе, вышедшей на Западе, принято
делать акцент на том, что логика и диалектика Аристотеля
являются данницей философии Платона. Но тут же добавляют,
что Аристотель за счет формальной логики оттенил диалектику.
Действительно, диалектика и логика Аристотеля есть в известном
смысле дальнейшее развитие платоновской диалектики. Между
тем диалектические идеи, развитие Аристотелем в трактате
«Топика», Г. Майер назвал «донаучным мышлением» 21, а Целлер и
Прантль считают аристотелевскую диалектику лишь системой
вероятных выводов 22.
Против аристотелевского признания, что силлогистическая
теория является результатом его личного творчества, Сольмсен
возражает, что эта теория выступает у него как продолжение
математического метода, изложенного параллельно с диалектикой
Платоном в шестой книге «Политики». Этот метод, по мнению
Сольмсена, приобрел у Аристотеля настолько превалирующее
значение, что платоновская система диалектики у него шаг за шагом
была сведена на нет» 23. То же самое думает Иегер, когда развитие
аристотелевского учения представляет как своеобразную
эволюцию от платонизма к формализму 24.
Но эта идея в несколько другом аспекте была высказана
еще А. Ланге, согласно которому «задачи обоснования строго
формальной логики неотделимы от критики традиционной логики,
в которой со времен Аристотеля чисто логические элементы так
тесно связаны с гармоническими и метафизическими, что попытки
освободить логику от этих связей успеха не имеет» 25. А еще
раньше Ф. Юбервег при обосновании формальной логики
настолько игнорировал элементарные требования аристотелевской логики,
что, в частности, писал: «Если формы мышления удовлетворяют
80
всем логическим требованиям, то можно также обеспечить
объективную истину: формальная правильность в полном смысле слова
ручается при этом за материальную истинность» 26.
Неокантианец Коген «сглаживает» различие между
формальной и предметной логиками, говоря, что, «чем формальнее будет
методика, тем предметнее она должна стать, и наоборот»27.
Коген считает Аристотеля эклектиком и ставит его ниже
Платона и даже элеатов. Модифицируя в духе идеализма идею
элеатов о тождестве мышления и бытия, он дает ей высшую оценку.
«В чем смысл всей логики? — ставит вопрос Коген и отвечает,—
мы полагаем, что древнейшие элеаты указали этот смысл всех
времен навечно» 28.
Такого рода необъективный подход в оценке логических учений
понятен, поскольку, как и другие представители марбургской
школы, Коген, не принимая реальное за основу идеального,
недвусмысленно заявляет: «Мы отказываемся от того, чтобы учение о
чувственности предшествовало логике. Мы начинаем с мышления.
Мышление же не может иметь никакой причины, кроме самого
себя» 29.
Главной же причиной всего современного понимания логики
и логического вообще, по мнению марбургцев, является «наивный»
реализм, который восходит к материалистической теории
Аристотеля, согласно которой вся задача познания состоит в
аналитической переработке предметного содержания, данного нам через
чувства и восприятия.
Эта догматическая философия Аристотеля явилась, по мнению
Наторпа, причиной господствующего ложного понимания
платоновского учения об идеях30. Всячески возвышая Платона,
представители марбургской школы критикуют Аристотеля по всем
кардинальным проблемам его учения — логики (вопросы понятия,
суждения и умозаключения), гносеологии, категорологии и т. д.
В логическом учении Аристотеля обобщение путем определения
заканчивается установлением общего, общих понятий. Однако
Кассирер указывает на бесплодность таких понятий, полученных
путем последовательного обобщения. Он отвергает
аристотелевский метод образования логических понятий на основе
эмпирических наблюдений, ибо для него в отличие от Аристотеля мир как
предмет науки создается чистым мышлением, которое как раз
и устанавливает отношения, связи, порядок и т. д.3| Не приемлет
логику Аристотеля и Риккерт, тоже пытаясь найти не реальную,
а сверхреальную базу для логических ценностей 32.
Брентано, который, как известно, в раннем периоде своего
творчества опирался на логическое учение Аристотеля,
впоследствии сходит с этой позиции по ряду очень важных проблем. Если
в начале он признавал бытие за истину, то после того, как
заметил, что глагол «есть» применяется не только к вещам,
объем существующего он представил в гораздо более расширенном
виде как совокупность реального и нереального33. Приняв такое
расширенное понимание области существующего, Брентано при-
81
шлось отказаться от классического аристотелевского понимания
истины. И это понятно, коль скоро он существующее представил
шире реального на основе того, что и нереальное каким-то
образом существует. Свою формулу расширительного понимания
области существующего Брентано пытается доказать на примере
отрицательных суждений, которые, по его мнению, не
подтверждают аристотелевскую дефиницию истины. Таким отрицательным
суждениям, как «драконы не существуют» и т. п., думает Брентано,
в реальности ничего не соответствует. Здесь следует заметить,
что Брентано проглядел одно очень важное обстоятельство и тем
самым противоречит сам себе. Он не заметил, что, согласно его
же теории, отрицательные суждения тоже совпадают с чем-то,
каким-то образом существующим и имеющим свое определенное
существование. Это положение о том, что несуществующее тоже
существует как несуществующее, еще задолго до Брентано было
замечено Платоном.
Несмотря на богатые материалистические и диалектические
идеи, присущие философии Аристотеля, средневековая схоластика,
типичным представителем которой был Фома Аквинский,
превратила этого мыслителя в догматика. Она выбросила из философии
Аристотеля элементы диалектики и материализма, поиски,
запросы, приемы и постановки вопросов. Да и в настоящее время
неотомизм, рассматривая учение Фомы Аквинского как синтез
Платона, Аристотеля и христианской религии, по-прежнему видит
задачу в логическом доказательстве бытия божия и, как всегда,
в своей философии отдает предпочтение вере перед разумом.
Аристотелю же, как правильно писал В. И. Ленин, присуща «наивная
вера в силу разума, в силу, мощь объективную истинность
познания» 34.
Как известно, некоторые современные философы-католики
пытаются «сблизить» Маркса с Фомой Аквинским, выявляя у них
«сходные» теоретические черты. Например, М. Рединг в своей
книге «Фома Аквинский и Карл Маркс», имея в виду известные
положительные оценки Марксом Аристотеля, пытается доказать,
что главным, что объединяло Фому Аквинского и К- Маркса,
являлось то, что, имея одного общего учителя — Аристотеля, они
якобы были аристотеликами 35. Продуктом аристотелизма считает
он также и диалектический материализм из-за некоторого его
«сходства» с философией Гегеля, которую также объявляет ари-
стотелизмом. Совершенно очевидна наивность подобной
исторической параллели. Маркс высоко оценил Аристотеля, развил
заложенные в его философии диалектические и материалистические
моменты в сторону диалектической логики, тогда как Фома
Аквинский использовал Аристотеля для обоснования христианской
догматики; так что аристотелевской и марксовой идее
диалектического развития томисты и неотомисты противопоставляют
религиозную телеологию.
Вильперт, хотя и справедливо думает, что диалектика у
Аристотеля не упраздняется формальной логикой и считает ее одной
82
из составных частей его философии , однако на самом деле он так
отмежевывает диалектику Аристотеля от формальной логики,
что последняя, по его мнению, есть лишь изложение уже готовых
знаний, чем путь открытий и приобретения нового знания37.
Что же касается теории познания, то, по мнению Вильперта,
Аристотель здесь весьма смутен, показателем чего является то, что
он не смог избавиться от противоречия эмпиризма и
рационализма 38.
Следует отметить, что в последние годы на Западе
проявляется все больший интерес к философии Аристотеля, одним из
показателей которого является тот факт, что начиная с 1957 г.
каждые три года регулярно проводятся так называемые
«Международные аристотелевские симпозиумы», посвященные разработке
отдельных проблем или даже отдельных сочинений Аристотеля.
Первый такой симпозиум по теме «Аристотель и Платон в
средневековье» был проведен в Оксфорде в 1957 г., а его материалы
в большинстве случаев носят узко-комментаторский характер 39.
На втором аристотелевском симпозиуме, состоявшемся в
Пауване (Франция), в 1960 г., более интересна для нас проблема
аристотелевского метода40. На этом симпозиуме известный
английский аристотелевед В. Оуэн заметил, что эмпирические
науки (например, «Физика») с точки зрения метода занимают
далеко не последнее место и в большей части следуют за его же
логикой и диалектикой 4|. Однако это, по мнению Оуэна, конечно
же, не значит, что метод, используемый Аристотелем в «Физике»,
диалектически 42.
Р. Блук думает, что аристотелевский метод больше всего
находит свое проявление в силлогизме 43, по мнению же Г. Руле,
он более всего заметен в его «Метафизике» 44. М. Валме для этой
цели исследует зоологию Аристотеля 45, И. Дюринг — биологию 46,
а методологический аспект этики Аристотеля исследуется в главах
Д. Монана 47.
Все доклады, сделанные на этом симпозиуме, примечательны
тем, что в них чувствуется общая потребность найти тот
фундамент,.на котором Аристотель построил свою всеобъемлющую
систему. Однако ни один из участвовавших во встрече философов
не смог представить диалектику Аристотеля как подлинный метод
его философии.
Тем не менее проблемы аристотелевской диалектики оказались
настолько важными, что третий аристотелевский симпозиум,
состоявшийся в Оксфорде в 1963 г., его организаторы решили
посвятить специально диалектике «Топики» Аристотеля.
Судя по сборнику, в который вошли материалы этого
симпозиума 48, легко сделать вывод, что его участники стремились
дать возможно более детальный анализ диалектики этого
произведения Аристотеля. Однако, как нам кажется, ни в одной из глав
данного объемистого тома не дается общеконцептуального
рассмотрения диалектики «Топики», не выявляется значение
диалектики «Топики», исследующей «принципы всех наук», для отдель-
83
ных отраслей знания, не указывается на дальнейшую перспективу
развития топической проблематики и ее проявления в позднейших
системах.
С отдельными оговорками следует признать положительным
общее стремление авторов данного тома к признанию диалектики
в «Топике» Аристотеля. Так, Фридрих Сольмсен, хотя и пишет,
что «Топика» есть воплощение аристотелевской диалектики, с чем
отчасти нельзя не согласиться, однако вызывает возражение своей
мыслью о том, что у Аристотеля (совершенно аналогично Платону)
диалектика главным образом касается дефиниции и искусства
спора, где большое значение имеет вероятное знание49.
Л. Елдерси тоже считает «Топику» диалектическим трактатом,
но и он считает, что диалектика применяется Аристотелем лишь
для спора и дискуссии, тогда как у Платона, по его мнению,
она является собственным методом философии 50. Для Л. Елдерси
вообще характерно чтение Аристотеля через Платона, что
естественно навсегда приводит его к неверным заключениям.
Г. Риле в главе «Диалектика в Академии» развивает мысль
о том, что диалектика «Топики» и вообще диалектика Аристотеля
во многом определена сократовским и платоновским методом и
диалектикой платоновской Академии в целом. Однако Риле
впадает в крайность, когда пишет, что «ни одного, кроме двух или
трех из всех многочисленных технических терминов, которые
Аристотель использует в диалектической аргументации, мы не найдем
у Платона»51, что противоречит высказанной несколько ранее
другой мысли, согласно которой «у Платона даже в его
позднейших диалогах мы не обнаружим ни одного кроме двух или трех
из всех технических терминов, используемых Аристотелем в его
диалектической аргументации» °2.
Таковы основные и, как видно из далеко неполного обзора,
довольно пестрые взгляды на логику и философию Аристотеля,
высказанные представителями разных направлений и школ в
разное время.
4
КАТЕГОРИИ АРИСТОТЕЛЯ В ИСТОЛКОВАНИИ
ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИХ ФИЛОСОФОВ
Аристотель создал учение о категориях как высших определен-
ностях бытия и познания и положил его в основу своей логики
и диалектики. «Исследование форм мышления, логических
категорий,— пишет Ф. Энгельс,— очень благодарная и необходимая
задача, и за систематическое разрешение этой задачи взялся
после Аристотеля только Гегель» '. Вопрос о сущности категорий
Аристотеля, их отношении к логике был всегда злободневным
в философии; естественно, что по этому вопросу спорили и спорят
представители самых разнообразных философских школ и
направлений. В настоящей статье мы даем исторический обзор
всевозможных интерпретаций учения Аристотеля о категориях в
буржуазной литературе XIX—XX вв.
84
/. О сущности и гносеологических функциях
категорий Аристотеля
Сочинение Аристотеля «Категории» стоит во главе цикла его
логических работ, позднее получивших общее название «Органон».
Случайности здесь нет. В «Органоне» описываются логические
средства познания истины, а она понимается его автором как
соответствие мысли бытию. Что такое бытие? Каким образом его
общая структура отображается в общей структуре логического
мышления? — вот вопросы, на которые должно ответить
аристотелевское учение о категориях.
Бытие как таковое не является, по Аристотелю, общим родом
для вещей (Anal. post. II, 7.92Ы9) и его нельзя определить
обычным образом с помощью стоящего над ним рода и видового
отличия. О нем мы знаем не непосредственно, а через его
различные значения, в которых оно проявляется (εμφαίνεται) (Met.,
VII 7. 1028b 28—29), т. е. посредством категорий. В своем первом
значении категории являются различными значениями бытия, его
внутренними определенностями (там же, 1028а 10—13; XIV
2.1039Ь7—9; IV2.1026a23; Dean., Ill 41 la 13—17). Следовательно,
смысл бытия раскрывается всей совокупностью его значений,
категорий. Так мы получаем первую, семантическую трактовку
категорий как различных значений слова «есть». Перечислению
категорий Аристотель обычно предпосылает слова: «О сущем
говорится во многих значениях» (De an., I 5. 410а 13; Met., V
7.1017а24; VI 2.1026а34; VII 1.1028а 10 и др.).
Многозначность слова «есть» не доказывает, однако, его
ложности. «О сущем, правда, говорится в различных значениях,
но при этом всегда в отношении к чему-то одному и к одной
основной реальности, так что здесь не одна только общность
названия» (Met., IV 2.1003аЗЗ—34). Аристотель сравнивает его
с понятием блага, которое модифицируется в каждой категории
(Eth. Nie, I 4.1096а19—20; Ср.: Top., I 15.107a3—12). С помощью
категорий бытие разнообразится в своих внешних проявлениях,
пребывая в них как нечто общее. То, что в категории количества
выступает как равенство, в категории качества называется
сходством (De gen. et согг., I 6.333а26). С помощью аналогии мы
познаем такие общие свойства бытия, как материя, форма,
лишенность. «Однако,— замечает философ,— каждое из этих начал
иное в каждом отдельном роде» (Met., XII 4.1070Ы9—20; Ср.
1071аЗЗ и 1048а25).
Все вещи причастны бытию, а значит, и модифицирующим
его категориям. Подводя то или иное понятие под определенную
категорию, мы указываем на самые общие его свойства, даем
ему предварительное определение. Категории — «самые первые
различия и противоположности сущего» (Met., X 7.1057Ь9—10;
XI 3.1061Ы4; VI 9.1034Ь9—10; Тор., IV 1.120Ь35); иногда же
Аристотель называет их «первичными (принципами)»
(τα πρώτα) (Met.. V 9.1034b9; Anal, post., II 13.96b20), «родами
85
бытия» (γένη των 'όντων) (De an., II 1.412а6) и просто «родами»
(Cat., 8.11аЗЗ; De an., II 1.402а23; Anal, post., II 13.96Ы9).
Так мы приходим к онтологическому аспекту интерпретации
категорий, которые являются «категориями сущего» (κατηγοριαι του
'όντος) (Phys., Ill 17200b28; Met., XI 9.1066b8; De gen. et согг.,
I 3.317b6).
Будучи общими родами бытия, категории не выводимы ни из
единого принципа, ни друг из друга (Тор., II 2.109Ь4—6; Met.,
V 28.1024Ы5—16 и XII 4.1070Ы—2), между ними вообще нет
ничего общего (De an., I 5.410ЫЗ—18). Выведение категорий
из единого принципа противоречило бы их понятию принципов.
Категории — роды сущего, «высказываемые без всякой связи»
(Cat., 4.1Ь25). Нельзя, например, связно утверждать, что
«сущность есть качество», хотя возможно суждение «Сократ бел» 2.
В качестве первых различий бытия категории могут служить
для распознания омонимии слов, для классификации явлений
по разным родам (см., напр., Eth. iNic, I 4.1096а19—29; Phys.,
V 1.225b5—9; Pol., IV 12.126Ы7). Однако процесс подразделения
бытия, который Аристотель понимает и как процесс его развития,
на этом не заканчивается. Подразделяются также сами категории
и притом так, что каждый раз ищется «видовое отличие видового
отличия» (Met., VII 1Л038а10; Meteor., IV 10.338а10 и 390Ь7;
Hist, an., I 1.486Ь22), пока, наконец, не будет найдено
«наибольшее» или «завершенное отличие» и «вид» (De part, an., I 3.644b2;
643al9; Met., X 4.1055a5,16 и X 8.1058al2—19). Полученный вид,
слагающийся из всех видовых различий бытия, Аристотель
называет «атомарным» (неделимым) (Anal. post. II 13.96Ы6; 18.99b7;
Тор., II 6.109Ы6; Met., VII 8.1034а8; II 2.994b21; De an., II
3.414Ь27 и др.), «определением и сущностью» (Met., VII 12.
1038а 19—20). Поскольку диайрезис понимается философом и как
схема развития, сущность является то «завершением развития»
бытия, его энтелехией (De gen. am., I 3.736b4), «последней
неделимой далее категорией» (Anal, post., II 13.96Ы2—13), то
обладающей свойствами прочих категорий, которые
высказываются о ней.
Учение о бытии (онтология) становится учением о сущности
(усиологией), а вопрос о бытии «сводится к вопросу о том, что
представляет собою сущность» (Met., VII 11.1028Ь4). В греческом
языке, как и в современных языках, слово «сущность» восходит
к глаголу «быть», означает осуществленное бывание. Сущность,
по Аристотелю, есть «то, чем стало бытие» (το τί ην είναι).
Это бытие, представленное в существовании отдельной вещи.
В этой связи Аристотель говорит о «категориях сущности»
(Phys., VII 1.242Ь5). Сущность, пишет он,— это «первичное сущее,
по отношению к чему ставятся все прочие категории сущего»
(Met., IX 1.1045Ь27—28). Познание истины, будучи познанием
бытия, становится познанием сущности и ее определенностей —
прочих категорий. Все категории аккумулированы в понятии
сущности как модусы ее внешнего проявления для нас, как ви-
86
довые различия свернутого в ней бытия. И наоборот, познать
истину относительно той или иной вещи — это значит познать
вещь согласно схеме категориального высказывания (τά σχήματα
της κατηγορίας) о бытии, т. е. рассмотреть ее с точки зрения всех
категорий бытия.
Так мы пришли к третьему аспекту понимания категорий —
к пониманию категорий в качестве общих предикатов, «сказуемых»
(τά κατηγορούμενα) возможных суждений о сущности (Met.,
IV 7.1027а25; Тор., II, 2.108а5; Anal, post., I 22.84al; II 13.96al2
и др.). Отношение сущности и ее сказуемых (прочих категорий)
образует онтологическую основу для построения логических
суждений. Учение о сущности становится фундаментом
аристотелевской логики, а мы получаем логический аспект понимания
категорий. В сочинении Аристотеля «Об истолковании» суждение
рассматривается как форма истолкования сущности в других
категориях и предикатах.
Таким образом, аристотелевское понимание категорий зиждит-
ся на диалектике развития бытия, ведущей нас от наличного
существования к сущности, а от нее к логике и истине.
2. Интерпретации категорий Аристотеля
в XIX е.
В историко-философской литературе XIX в. три аспекта
аристотелевских категорий оказались разрозненными и
противопоставленными друг другу. Это было следствием непонимания
диалектики бытия у древнего философа, а также влияния
формалистических тенденций в истолковании мышления и логики .
У истоков такого понимания категорий стоит И. Кант. Если
Аристотель выводил категории из понятия бытия и на их основе
обосновывал логику, то Кант, наоборот, из традиционной логики,
которую он отождествляет с аристотелевской, пытается вывести
категории. Категории, полагает он, являются вечными и
априорными принципами рассудка, который с их помощью упорядочивает
эмпирической материал опыта в логической структуре суждений.
Поэтому должно существовать столько же категорий, сколько
имеется видов суждения. Деление суждений по количеству дает,
согласно Канту, категории единства, множественности и
цельности; по качеству — реальности, отрицания и ограничения; по
отношению — присущности и самостоятельного существования,
причинности и общения; по модальности — возможности и
невозможности, существования и несуществования, необходимости и
случайности. Таким путем, казалось Канту, все категории можно
вывести из единого принципа, а именно — неизменной природы
пользующегося ими рассудка, представленной в логической
структуре суждений 4.
В действительности же мы имеем здесь пример
идеалистического оборачивания метода. Аристотель выводил структуру
суждений из реального бытия. Кант же, напротив, исходит из логики,
87
проделавшей после Аристотеля длительное историческое развитие
и преобразование, дополненной, в частности, подразделением
суждений по отношению, пытается вывести «вечные» и
«априорные» категории рассудка. Это — субъективно-идеалистический
подход к проблемам логики, и в частности — категориям.
В своей «Критике чистого разума» Кант упрекает Аристотеля
за то, что он, не располагая таким учением о чистом рассудке,
не вывел категории из единого принципа, а просто эмпирически
подобрал их по мере того, как они попадались ему на глаза.
Отсутствием единого принципа объясняется, по Канту, с одной
стороны, пропуск Аристотелем многих категорий, а с другой —
включение в их число таких общих понятий, которые вовсе не
являются категориями, а принадлежат области чувственности или
выводимы из них 5.
Критика Канта стала своего рода программой в исследовании
буржуазными учеными категорий Аристотеля. Встал вопрос об
источнике их происхождения, сущности и познавательной функции
категорий. В философии Канта, а также в логике Аристотеля
буржуазные философы пытаются найти своего рода противовес
диалектике Гегеля, его учению о категориях как моментах
диалектического развития мира.
Недиалектический подход к аристотелевским категориям стал
губительным для этого учения. В XIX в. оказались разорванными
и противопоставленными друг другу три аспекта их понимания.
Семантическую интерпретацию категорий дает А. Тренделенбург,
онтологическую — Г. Бонитц, логическую — О. Апельт. Для этого
времени характерно преобладание логического подхода к
категориям, а также наличие попыток формально-логического
объединения его с двумя другими аспектами их понимания.
Первым за систематическое исследование категорий
Аристотеля взялся А. Тренделенбург. В своей диссертации «О категориях
Аристотеля» (1833) он, следуя схоласту В. Оккаму, высказал
мысль о семантическом возникновении категорий из частей речи.
В последующих работах, таких, как «История учений о
категориях» (1846) и «Элементы логики Аристотеля» (1860), он
развивает эту тему в более конкретной и доказательной форме .
Исходя из положения Аристотеля о том, что категории — это
«высказанное вне всякой связи» (см. Cat., 4.1Ь25), Тренделенбург
делает вывод: категории суть «элементы, возникшие из
разложения предложений» 7. Их первоисточник — грамматика
древнегреческого языка, а именно: расчленение предложений на имена,
глаголы и наречия. Это соответствие категорий частям речи
можно представить в виде схемы 8 (см. на с. 89).
Свое понимание категорий в качестве регулятивных принципов
рассудка Тренделенбург противопоставляет диалектике Гегеля,
у которого категории выступают в качестве узловых пунктов
развития бытия 9. Понимая дело таким образом, Тренделенбург
отклоняет мысль о том, что началом учения о категориях могли
быть общие понятия досократической онтологии. «Категории,—
88
№ π/π
Категория
Части речи и их грамматические формы
1 Сущность Имя существительное
2 Качество Имя прилагательное
3 Количество Имя числительное
4 Отношение Сравнительная степень прилагательных и наречий,
нуждающихся в дополнении
? J Место и время Наречия места и времени
' \ Действие и страдание Глаголы действительного и страдательного залогов
9 Положение Непереходные глаголы
10 Обладание Особенность перфекта глаголов страдательного
залога в греческом языке
утверждает он,— возникли из логической потребности, из
оперирования понятиями. Мы должны отметить это, чтобы не смешивать
друг с другом реальные принципы и логические категории.
Сомнительно поэтому говорить о начале учения к категориях еще до
Сократа» ,0. Диалектико-онтологический источник категорий
Тренделенбург заменяет грамматикой. «Логические категории,—
пишет он,— имеют прежде всего грамматическое происхождение,
и грамматический лейтмотив пронизывает всякое их
применение» м.
Тренделенбург, как мы видим, в общем и целом в
интерпретации категорий Аристотеля следует Канту, хотя кантовская
программа выведения категорий из мышления усложнена у него
попытками указать на источник их возникновения из языка.
Кант ошибался, считает Тренделенбург, говоря, что Аристотель
не вывел категории из одного принципа, а подобрал их там и сям
эмпирическим путем ,2. Парадигмой для категорий у древнего
философа была структура предложений, хотя он руководствовался
иными, чем Кант, мотивами. Категории — это «самые общие
предикаты», т. е. «общие понятия, под которые подпадают
предикаты простых предложений» ,3. В работе «Элементы логики
Аристотеля» категории называются Тренделенбургом просто
«словами» ,4.
У позитивистски настроенных философов середины XIX в.
такое понимание категорий Аристотеля нашло известную
поддержку. Ф. Бизе, разделяя мысль о грамматическом происхождении
категорий, называл их формальными вспомогательными
понятиями ,5. «Различные подходы к объекту,— утверждает он,— свое
ближайшее выражение получают посредством категорий, которые
обозначают общие виды высказываний и которые... возникли
из рефлексии, будучи принципиально отличными от реальных
понятий» ,6. Сходно понимает дело Дж. Ст. Милль. Категории, по его
мнению, представляют собою перечень классов, по которым мы
распределяем объекты познания. «Этот перечень,— считает
Милль,— соответствует тем грубым различиям, какие
устанавливает между вещами повседневная речь» ,7. Не далеко от Милля
89
ушел Дж. Грот. Категории, полагает он, возникли в результате
сравнения многих предложений и представляют собою самые
общие предикаты или высшие роды 18. Разделяя гипотезу Тренделен-
бурга о грамматическом происхождении категорий, Грот пытается
приблизить их аристотелевское понимание к более позднему,
стоическому |9.
Первым, кто подверг доктрину Тренделенбурга резкой критике,
стал Г. Риттер. Во втором издании своей «Истории философии
древнего времени», понимая под категориями «роды бытия»,
обозначаемые нами посредством слов, он обрушил на его гипотезу
целый каскад возражений. Согласно его мнению, гипотеза
Тренделенбурга прежде всего расходится с фактами развития
греческой грамматики. Расчленение речи на ее части было
произведено уже после Аристотеля, ему же оно не было известно.
Аристотель нигде не говорит о связи катогорий с частями речи,
а называет их родами бытия. Приняв гипотезу Тренделенбурга,
мы должны были бы десять категорий сократить до двух, так как
наречия в принципе сводимы к глаголам, а прилагательные и
числительные — к существительным20. Критика Риттера
показала, таким образом, отсутствие однозначного соответствия между
частями речи и категориями, а также несовпадение времен их
открытия. Эд. Целлер и Л. Шпенгель поддержали в данном
вопросе взгляды Риттера 2|.
Эта критика, а также более углубленное проникновение в
терминологию Аристотеля способствовали появлению в середине
XIX в. ряда онтологических трактовок категорий древнего
философа.
Застрельщиком стал Г. Бонитц. Основываясь в
противоположность Тренделенбургу на текстах «Метафизики» Аристотеля, он
истолковал категории в их первоначальном смысле как высшие
роды бытия. «Категории...,— пишет он,— означают различные
значения, которые имеет бытие в самом общем смысле этого
слова, они суть самые высшие роды, которые так подразделяют
всю область сущего, что всякое сущее должно принадлежать к
одной из них и не может принадлежать сразу к нескольким» 22.
Взгляд Тренделенбурга, по которому категория сущности имеет
своим логическим эквивалентом грамматический субъект
предложений, а остальные категории — их предикаты, признается
Бонитцем чрезмерно односторонним и неверным. Категории, пишет
Бонитц, означают не только и не исключительно то, что одно
высказывается о другом в качестве его предиката; они выражают
прежде всего различные значения высказываемых нами понятий
и зависят от многозначности самого бытия 23. «Посредством десяти
категорий,— говорит Бонитц,— различаются многообразные
значения сущего» 24. Все в совокупности они исчерпывают область
мыслимого и познаваемого нами. Благодаря этому, они служат
у Аристотеля самому общему подразделению вещей и понятий
по классам, их первоначальному определению. «Они поэтому
служат для ориентировки в области того, что дано нам посредством
90
опыта, однако не претендуют на то, чтобы давать ответы на
метафизические вопросы об αρχαί, αίτία, ουσία и т. п.» 25
Доводы Тренделенбурга, посредством которых он обосновывал
свою концепцию, несостоятельны, ибо он чрезмерно сузил
значение понятий, которые у Аристотеля имеют не только
грамматическое значение, но и онтологическое (понятие «категория»,
«схемы категорий», «падежи категорий» означает в
действительности не грамматические понятия, а модификацию чего-либо,
отклонение от первоначального смысла). Утверждение Тренделен-
бурга, что суждение как нечто цельное должно предшествовать
категориями, чему-то «высказанному без всякой связи» (ψ катсх
μηδεμίαν συμπλοΐίήν λεγομένων) (Cat., I.lal6 и 1Ь25), не
доказывает происхождения их из разложения предложений 26.
В заключительной части своей знаменитой статьи Бонитц
устанавливает историческую связь между категориями
Аристотеля и учениями его предшественников, у которых уже были
представления о некоторых категориях. Такого рода преемственность
отвергал Тренделенбург, ее утверждает Бонитц.
Не вполне ясно, что понимал под категориями Эд. Целлер.
Поставив в своей «Философии греков в ее историческом развитии»
непосильную задачу быть посередине между противоположными
направлениями в понимании фактов истории философии, он и в
вопросе о категориях занимает эклектическую позицию. С одной
стороны, они называются им «различными определенностями
действительности», а с другой — «одними только формальными
отношениями», «каркасом», служащим для упорядочивания
эмпирического содержания опыта . «Существенное значение учения о
категориях,— пишет Целлер,— состоит в том, что они дают
руководство для различения значений понятий и соответствующих им
имен вещей» 28.
Более глубокой и определенной является интерпретация
категорий Аристотеля у К. Прантля. Категории, полагает он, надо
понимать ни как только онтологические определенности, ни как
языково-логические, их значение становится ясным на основе
аристотелевского учения о развитии, представляющем собою
переход от возможности к действительности, от противостоящего
нам бытия к познанию его человеком. «Если мы спрашиваем
себя, как вообще Аристотель пришел к тому, чтобы говорить
о категориях и какое значение у него они имеют, то ответом будет
следующее: в противоположность Платону Аристотель исходит из
того, что общее проявляется в конкретности сущего и в этой
реальности оно постигается человеческим мышлением и с помощью
языка; процесс же осуществления конкретно сущего является
переходом от неопределенного, но способного ко всякой
определенности, ко всестороннему определению... (в смысле становления
конкретной сущностью и понятием.— Р. Л.)... Поэтому
онтологическим базисом категорий является ведущий к конкретности
процесс осуществления, определенность вообще» 29.
Не настаивая на строго определенном числе категорий,
91
Прантль главными в таблице категорий считал сущность,
состояние и отношение30. Категории служат для самораскрытия
сущности в ее свойствах и отношениях. В них показывается, «что
сущность (ουσία) определена пространственно-временно (που,
ποτέ) и обнаруживает свою качественную определенность
(ποιόν) в мире счислимого и измеримого (ποσόν), находится
среди многих сущих, взаимодействуя с ними согласно своим
качествам (ποιειν, πάσχειν, προς τι)»31.
Во второй половине XIX в. среди буржуазных философов
распространяются формалистические представления о мышлении
и его объектах. Этот процесс сопровождается критикой
онтологических трактовок категорий Аристотеля и попытками понять их
только лишь в качестве логических предиктов суждений.
Примером логического выведения категорий из структуры
отношения сущность—акциденция, субъект—предикат может
служить интерпретация категорий Аристотеля в книге Фр. Брентано
«О многообразном значении сущего» (1862). Отмечая, что сущее
как таковое, будучи предельно общим понятием, не поддается
определению через род и видовое различие, а познается нами с
помощью его различных значений, категорий32, Брентано тем
не менее, считает возможным продуцировать все аристотелевские
категории из единого принципа. Аристотель, полагает он, в своем
понимании категорий исходил из противоположности сущности
и ее акциденций. Акциденции же делятся на абсолютные и
относительные (категория отношения), из которых первые, в свою
очередь, подразделяются на внутренне присущие субъекту (таковы
категории количество и качество) аффекты (категории действие,
страдание и обладание) и внешние (время, место, положение)33.
Классификация Брентано является схоластической, так как
он исходит из того, что у самого Аристотеля было не началом,
а концом его дедукции категорий: из разделения всех категорий
на сущность и акциденции, логический субъект и его предикаты.
Внутренняя диалектика развития категорий им игнорируется 34.
В еще большей степени отходят от аристотелевского
понимания категорий имманентники и позитивисты.
Так, представитель имманентной философии В. Шуппе,
выступая против взглядов Бонитца, на категории, трактует их как общие
точки зрения, которым совсем не обязательно должен
соответствовать реальный эквивалент. Категории отношения, по его мнению,
ничего не соответствует в действительности, так как реально
существует, например, тело величиной в два фута, а не нечто
большее или меньшее, чем что-то другое 35. Общих точек зрения
или родов существует, по Шуппе, гораздо более, чем десять
аристотелевских категорий, все они категории. «В действительности,—
пишет Шуппе,— так называются не только 10 высших родов,
а все то, что находится под ними, следовательно, все, о чем мы
можем говорить и думать»36.
Сходным образом понимают категории позитивисты. Дж.
Льюис, например, упрекает Аристотеля в том, что в категориях он ви-
92
дел средство сведения проблем к понятию сущности и причины.
В этой связи он, противопоставляя Аристотелю феноменализм
Ф. Бэкона, категории называет «перечислением тех кллассов или
родов, под которые подпадают всякие предметы»37. Создание
Аристотелем учения о категориях было обусловлено
потребностями анализировать, «объяснять точное значение слов»38. Их
источником является обыденный язык, для современной науки это
учение не имеет большого значения. Также в утилитарном смысле
понимает категории Аристотеля А. Грант. С их помощью,
утверждает он, древний мыслитель «хотел дать анализ и
классификацию всех вещей, о которых можно говорить»39. Что касается
онтологического смысла категорий, то он вторичен, произведен от
семантического. «Полная классификация всего того, о чем мы
можем высказываться (а таковыми являются, в частности,
вещи.— Р. Л.)у должна охватывать также все то, что мы мыслим,
а значит, весь мир»40.
Свое обобщенное выражение тенденция к десубстанциализации
категорий Аристотеля получила в статье неокантианца О. Апель-
та «Учение о категориях Аристотеля»41. Категории, которые у
древнего философа служили своего рода мостиком между
онтологией и логикой, односторонне понимаются им как «система
предикатов суждения», из которых, в частности, конструируются и
объекты познания, вещи.
Апельт выступает против обеих, как он думает, крайностей
в истолковании учения Аристотеля. Тренделенбург, хотя и выводил
категории из мышления, ошибался, ибо брал за основу не
логическую сторону мышления, а его словесное выражение в
предложениях. Слова же только внешнее выражение мысли, у разных
народов они различны. С другой стороны, онтологическая
интерпретация Бонитца, хотя она и интерсубъективна, является
противоречивой. Из нее непонятно, как категория сущности,
которая составляет всего одну десятую часть среди всех категорий,
является в то же время их общей основой42. Едва ли можно, пишет
Апельт, говорить о категориальном содержании связок
отрицательных суждений («не есть»), так как в этом случае слову «есть»
не соответствует существование мыслимого объекта 43. Лучше
понимать категории Аристотеля исходя из анализа логической
структуры суждений 44.
Категории Аристотеля, утверждает Апельт,— это широкое
обобщение всех «возможных значений субъекта и предиката»45,
включая сюда объекты, которым не соответствует какой-либо
реальный объект. Связка «есть» выражает собою существование
мыслимого объекта, конструируемого с помощью категорий как
предикатов, «'έδτι,— утверждает Апельт,— есть только копула,
которая лишь через категории получает свое содержание и
определение»46, а в этой связи может пониматься нами как утверждение
существования мысленно конструируемого объекта. Эта
интерпретация — субъективно-идеалистическая: на место реального
объекта вне сознания ставится конструируемый мыслью объект,
93
являющийся комплексом «предикатов». С помощью категорий,
утверждает неокантианец, мы определяем «основные значения
(возможных) предикатов, а значит, одновременно и основные
значения έστι» 47.
Логическая интерпретация Апельта оказала негативное
влияние на дальнейшее изучения категорий Аристотеля. Вопрос о
необходимой связи категорий с понятием бытия и сущности был
отодвинут в сторону. Понятие сущности все более и более
трактуется как платоновское по своим истокам восприятие
действительности, а само возникновение учения о категориях связывается с
платоновским учением об идеях. По мнению Т. Гомперца, учение
о категориях Аристотеля возникло еще во время его учебы в
Академии, где в диалектических спорах надо было упорядочивать
материал по «видам предикатов вообще»48, распутывать софиз-
.мы. Сходным образом понимает возникновение учения А. Герке.
Для доказательства своей мысли он ссылается на то, что: 1)
Аристотель пользуется системой категорий для критики идеи блага, еще
находясь в стенах Академии Платона (См. Eth. Nie, I, 4, 1096а 19);
2) уже у платоника Ксенократа мы находим подразделение всего
на сущее в себе и отношения (Simpl. In. cat., 4, p. 63, 21), а оно
лежит, по словам Герке, в основе аристотелевской классификации
категорий на сущность и ее акциденции; 3) мы находим полный
список категорий уже в «Топике» (1,9, 103Ь20—23), а она
написана, как думает Герке, еще в стенах Академии; 4) установив число
категорий десять, Аристотель отдал дань мистике пифагорейцев,
от которой он освободился, только выйдя из под влияния Платона.
Собственная заслуга Аристотеля состоит, по Герке, не в том,
что он создал учение о категориях, а в том, что он ограничил их
число десятью, дал им наименование и превратил учение о
категориях в научную систему 49. Всемерно старается сблизить
аристотелевское учение о категориях с платоновским учением об идеях
Эд. Гартман. Истолковав категории как общие понятия, он
включает в их число такие понятия метафизики Платона, как единое
и многое, тождественное и иное, движение и покой и т. п.
Специфика категорий Аристотеля игнорируется, а их истолкование
получает эклектический характер .
Таким образом, игнорирование буржуазными исследователями
диалектики Аристотеля повлекло ко всевозможным искажениям
идеи его категорий, к непониманию их онтологической специфики
и познавательных функций.
3. Интерпретации категорий Аристотеля
в XX е.
Бурное развитие в XX в. формалистических взглядов на
мышление сопровождалось резким падением научного интереса к
категориям Аристотеля. Новых, оригинальных и фундаментальных
интерпретаций категорий мы не находим, превалирует их
логико-семантическое истолкование. Что касается онтологического
94
аспекта, то он обычно отодвигается в сторону как дань Аристотеля
диалектике Платона, отданная им еще во время его пребывания в
стенах Академии.
На рубеже XIX—XX вв. вышел фундаментальный труд
«Силлогистика Аристотеля» Генриха Майера. Затрагивая в нем,
в частности, проблему категорий, он стремится объединить
логический и семантический аспекты их трактовки на основе анализа
логико-онтологической структуры суждений, а значит, по
возможности, сблизить друг с другом аристотелевскую и кантовскую
интерпретацию категорий.
По мнению Майера, проблемой категорий заинтересовался
уже Платон, который, разоблачая софистические паралогизмы,
указывал на необходимость четкого разграничения различных
значений слов, из которых составляется каждое суждение (см.,
напр., Soph., 251b). Проводя различие между сущностью и ее
акциденциями, бытием и копулой („есть"), Платон близко
подошел к пониманию категорий , однако не создал учения о них, так
как еще не располагал развитой теорией суждения 52. Последнюю
создал Аристотель, который и осуществил впервые
«категориальное подразделение бытия». «В разделении категорий,—
утверждает Майер,— воплощена идея, выдвинутая Платоном в „Софисте":
разрешать скептические сомнения относительно суждений
посредством расчленения понятий по характеру их бытия. Понятия,
поскольку психологически они являются отражением реальности,
подпадают под понятие сущего. Их диайрезис, следовательно,
ставит во главу угла понятие 'όν»53. Это та же идея возникновения
категорий из логики, основанная на понимании категорий в
качестве классифицирующих принципов рассудочной деятельности.
Значение категорий выражает положение слов и понятий в
суждениях, хотя мы можем говорить о них одновременно и как о родах
бытия, которые в них классифицируются. „Так мы получаем
высшие роды сущего, как высшие члены диайрезиса (суждений)...
Путь же, каким были получены члены деления, является языково-
эмпирическим. Подразделяются языковые обозначения в качестве
содержания мысли и действительности" 54.
Аристотелевский анализ структуры суждений во многом
был облегчен таким «вспомогательным средством», каким
являются грамматические формы языка55. В этой связи Майер считает
несостоятельными возражения Бонитца и Целлера, выдвинутые
ими против гипотезы Тренделенбурга 56. С другой стороны, он не
разделяет мнения Канта о том, что древний философ при
построении системы категорий не руководствовался каким-либо единым
принципом. Аристотель и Кант, утверждает он, в своих учениях о
категориях исходили из анализа синтетической деятельности
мышления, осуществляемой в суждениях 57.
Новой логике, по мнению Майера, нет нужды следовать
онтологическим воззрениям Аристотеля. Существует столько же
категорий, сколько значений имеет связка «есть» в суждениях.
«То, что у Аристотеля было различными видами бытия,— пишет
95
Майер,— являются различными видами представлений, которые
отличаются друг от друга в логических рассуждениях» 58. Будучи
учеником неокантианца Зигварта, Майер, как мы видим, и
древнегреческого философа пытается представить в качестве
прародителя неокантианских взглядов на логику и на категории.
Сходным образом трактует категории Аристотеля Р. Виттен,
считающий, что, возникнув первоначально в качестве общих родов
для языковых возражений для разоблачения софизмов в
диалектических спорах, они затем получили, правда побочно,
применение также и в метафизике 59.
По мнению польского логика В. Татаркевича, категории —
это понятия, которыми пользуется донаучное, «естественное
познание», еще не отличающее мир мысли от бытия. Познание с
помощью категорий является «обычным отображением вещей,
которое осуществляется в обыденном сознании и представляет их
в главных направлениях и признаках»60. «Двойственная связь
категорий с мышлением и бытием... должна пониматься в смысле
неразличимости обоих,— утверждает чТатаркевич.— Бытие
категорий не является ни бытием суждений, высказываний об истине
и лжи, субъективной связи элементов, ни бытием тех понятий,
которые простираются на бытие в его полной реальности и
составляют его. Категории находятся на перепутье (между логическим и
онтологическим.— Р. Л.). Эта неразличенность означает, что их
бытием является бытие проблемы» 6|. Татаркевичем выражен
позитивистский взгляд на категории: они понятия донаучного
мышления, надобность в которых исчезает при построении «чистой
науки».
Мало оригинален взгляд на категории О. Амелена. Будучи
предельно общим, «трансцендентальным понятием», бытие само
по себе недоступно определению через род и видовое различие,
его содержание раскрывается поэтому в категориях. Аристотель
пришел к своим категориям чисто эмпирическим путем. «Попытка
отыскать руководящую нить, которой он пользовался,— пишет
Амелен,— ошибочна»62. Понимая категории как роды бытия, Аме-
лен критикует концепцию А. Тренделенбурга 63.
Солидарен с Тренделенбургом, хотя и сознает все трудности,
связанные с семантической концепцией их возникновения,
В. Д. Росс. «Обычное значение Ι<ατηγορ/α,— пишет он,— это
предикат»64. Понимая логику Аристотеля число формально, Росс
и категории пытается основывать на языковых данностях. «Легко
видеть,— пишет он,— что одним из основных руководств
Аристотеля при формировании его учения было изучение форм языка» 65.
В истолковании природы категорий Росс придерживается
логического аспекта. «Задачей Аристотеля,— утверждает он,— было
разъяснять проблемы посредством различения основных типов
значений понятий и высказываний, которые затем могут быть
объединены, чтобы составить предложение. Поступая так,
Аристотель приходит к самой ранней из известных нам классификаций
основных типов бытия, составляющих структуру реальности» 66.
96
Для дальнейшего развития западного аристотелеведения
решающее значение имела концепция В. Иегера о генезисе взглядов
Аристотеля67. В юности, утверждает он, Аристотель разделял
многие взгляды Платона и был в основном метафизиком, а затем
постепенно начал изменять свои взгляды в направлении все
большего эмпиризма и формализма. Основываясь на этой
концепции, буржуазные ученые стали относить учение о категориях к
раннему периоду творчества Аристотеля, а значит, и искать его
истоки уже в Академии Платона.
Так, К. Джильспай, следуя взглядам на категории Аристотеля
А. Герке, О. Апельта и В. Иегера, понимает учение как дань
молодого Аристотеля диалектике Платона, которое, однако утратило
свое значение в его более поздней «научной логике» 68. Оно
возникло в диалектических спорах, в которых для классификации
ценностей использовалось «подразделение родов бытия» (division
of the kinds of Being) 69, однако после создания Аристотелем
собственной (формальной) логики и «конструктивной
метафизики» оно было отодвинуто на второй план такими понятиями, как
причинность, изменение, реальность и возможность. Г. Калоджеро
пытается решить проблему категорий в свете противоположности
рассудочного и разумного познания. Возникнув в связи с ноэти-
ческими представлениями Платона об интуитивном познании
сущностей вещей, учение о категориях затем все более и более
становится дианоэтическим (рассудочным), чисто логическим, а
категории все более понимаются им в смысле простых абстракций,
логических понятий чистой науки 70.
Категории Аристотеля, полагает К. Фритц, имеют не один,
а два источника их возникновения: языково-логический и
онтологический, которые не соприкасаются друг с другом. «Первый
источник следует искать в смешении (софистами) различных значений
слов, и прежде всего значений слова „быть" вообще, а затем
(значений) копулы в качестве обозначения для „быть таким-
то"... Посредством различения таких видов (значений) возникают
модусы (различных) высказываний, σκημάτα της Κατηγορίας».
Логические потребности борьбы с паралогизмами софистов стали
первым семантико-логическим импульсом к созданию учения
Аристотеля о категориях. «Второй источник находится в
онтологических различиях, которые обнаружились при критике
(Аристотелем) учения об идеях (например, раскрытии многозначности
платоновского понятия „идея блага".— Р. Л.)»71.
К- Ф. Фритц критикует попытку А. Герке выводить категории
Аристотеля непосредственно из онтологии Платона. Аристотель не
просто заимствовал их у Платона, понимавшего „главные
понятия" в онтологическом плане 72, а творчески переработал их в
чисто логические формы познания. Оба аспекта понимания
категорий, онтологический и логический, в действительности не
сводимы друг к другу. Аристотель не нашел свои категории у
Платона, а как бы вновь их открыл 73. Фритц говорит о „чистой логиза-
ции" онтологических категорий Платона Аристотелем. Таким
4 Заказ № 4330
97
путем К. Фритц, подобно Г. Майеру, всемерно сближает
аристотелевское понимание категорий с кантовским. В обоих случаях,
полагает он, исходным был анализ логической структуры
суждений 74.
Для аристотелеведения середины XX в. характерно стремление
как-то, пусть даже эклектически, объединить онтологический и
логический смысл категорий Аристотеля. Ф. С. Дж. Коплстон,
например, считает, что оба аспекта их понимания нельзя
противопоставлять друг другу, так как категории служат мостиком между
метафизикой и логикой и представляют собою общую
„классификацию предикатов", „средство для мышления бытия"5.
Л. М. Рийк, критикуя взгляды на категории Г. Бонитца и О. Апель-
та как односторонние76, рассматривает оба аспекта трактовки
категорий как отражение двух фаз в эволюции взглядов
Аристотеля на логику. Первоначальным было онтологическое истолкование
категорий, однако с развитием у Аристотеля более формальных
взглядов на логику, десубстанциализацией логики философ стал
понимать под категориями также и общие предикаты 7? . «Оба
аспекта,— утверждает Рийк,— не только взаимно связаны друг с
другом у Аристотеля, но и взаимно обогащают друг друга, и это
происходит так, что онтологический аспект оказывается
превалирующим» 78. Идеи двойственности категорий придерживается
К. А. Виано, по мнению которого категории являются
«координатами, определяющими положение любой вещи в реальной
области» 79. Виано полагает, что к идее категорий Аристотель мог
прийти как «путем анализа слов», используемых в научных
дискуссиях, так и путем грамматического анализа языка. Вопрос об этом
остается открытым. «Фактом, однако, остается то, что Аристотель
нигде явным образом не апеллирует ни к одному из этих
источников» 8υ.
В современной логистике категории обычно рассматривают
как предвосхищение теории типов высказываний. «Учение о
категориях,— утверждает И. М. Бохеньский,— является практическим
подразделением высказываний и проблем. Кроме того, речь в нем
идет о том, что так называемая копула имеет столько же значений,
сколько существует категорий. Это есть первая причина того,
что теория категорий так важна для логики. Вторая же состоит в
том, что в этой теории предпринята попытка классифицировать
предикаты с точки зрения их высказываемости» 81.
* * *
Подведем некоторые итоги. Обзор интерпретаций учения
Аристотеля о категориях обнаруживает всю плодотворность
исследований этого учения. Отмечая, что в них содержится много
глубоких и полезных идей, заметим, что рассмотренным нами
ученым не удалось до конца разобраться в диалектическом
содержании учения Аристотеля о категориях. Диалектика движения от
бытия к мышлению, к логике ими в общем и целом осталась непонят-
98
ной. Формализм в истолковании категорий привел к тому, что в
зависимости от философских воззрений ученых подчеркивается та
или другая сторона учения, а значение других всячески умаляется,
порою же предпринимаются попытки свести различие
онтологического и логического содержания категорий к чисто историческим
моментам в генезисе философских взглядов древнего философа —
от диалектики бытия Платона к формальному миропониманию.
Подлинно научное истолкование учения Аристотеля возможно
только с позиций диалектического материализма.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Adorno Th. Negative Dialektik.
Frankfurt a. M., 1966. S. 172.
2 На наш взгляд, особенно
проникновенно и выразительно (учитывая
художнический талант) это проделано
Германом Гессе в «Игре в бисер».
Неуверенность и неподлинность
духовной жизни современного
западного общества, по Гессе, есть
«свидетельство ужаса, охватившего дух,
когда он в конце эпохи вроде бы побед
и процветания вдруг оказался лицом
к лицу с пустотой: с большой
материальной нуждой, с периодом
политических и военных гроз, с внезапным
недоверием к самому себе, к
собственной силе и собственному достоинству,
более того — к собственному
существованию» (Гессе Г. Игра в бисер.
М., 1984. С. 86). Нам важно отметить
у Гессе, большого писателя и
мыслителя, его стремление выявить
нравственный характер рационального
и иррационального. «Духовной
расхлябанности и бессовестности» он
требует противопоставить
«интеллектуальную нравственность и
честность». Однако у читателя не должно
создаваться впечатление, что
проблема рационального и иррационального
сама по себе не имеет глубоко
философского характера. Иррациональное
в той или иной мере присуще и
человеческому бытию, и человеческому
познанию. В пылу полемики с ирра-
ционалистически настроенными
мыслителями нельзя впадать в другую
крайность — полностью
игнорировать иррациональное.
Результатом может стать искаженное,
неверное понимание природы человека
и познания.
3 Ницше Ф. Поли. собр. соч. М., 1912.
Т. 1. С. 109.
4 Там же. С. 108.
5 Там же. С. 109.
е Там же. С. 113.
7 Васильева Т. В. Философский
лексикон Аристотеля в интерпретации
М. Хайдеггера // Античная
философия в интерпретации буржуазных
философов. М., 1981. С. 118.
8 Лосев А. Ф. История античной
эстетики. Софисты. Сократ. Платон.
М., 1969. С. 53.
9 Гайденко П. П. Эволюция понятия
науки. М., 1980. С. 128—129.
10 Там же. С. 129.
11 Виндельбанд В. История философии.
СПб., 1898. С. 61.
12 Платон. Тимей, 29 Ь.
13 Там же. 28 а.
14 Государство, 587 а.
15 Платон. Тимей, 51 а.
16 Там же. 51 а—Ь.
17 См.: Платон. Соч.:В 3 т. М., 1971.
Т. 3(1). С. 652.
18 Там же. С. 657.
19 Тимей, 71 е—72 а.
20 Федр, 244 а — с.
21 Там же. 245 а.
22 Бассин Ф. В., Прангишвили А. С,
Шерозия А. Е. О проявлении
активности бессознательного в
художественном творчестве // Вопр.
философии. 1978. № 2. С. 57.
23 Boas G. Rationalism in Greek
philosophy. Baltimore, 1961. P. 103.
24 Васильева Т. В. Афинская школа
философии. М., 1985. С. 113.
25 Асмус В. Ф. Платон: эйдология,
эстетика, учение об искусстве //
Историко-философские этюды. М., 1984.
С. 18-19.
26 Федон, 80 Ь.
27 См. об этом: Государство, 439 с—е.
28 Там же, 439 е —440 а.
29 Горгий, 482 b — с.
30 Законы, 663 Ь.
4*
99
31 См.: Федон, 84 а.
32 Законы, 989 Ь.
33 Горгий, 493 а—с.
34 Там же, 493 а.
35 Законы, 896 d—е.
36 Malinovski Я. The sexual life of
savage of North-Western Melanesia. L.;
N. Y., 1929. Vol. 1. P. 40. (курсив
наш — H. M.)
37 Dodds Ε. R. The Greek and irrational.
Berkeley; Los Angeles, 1951. P. 208.
38 Законы, 863 b.
39 Там же.
40 См.: Законы 863 с. Нельзя не
отметить прекрасного, тонкого различия
Платоном двух видов невежества:
«Не будь ошибкой в качестве третьей
причины проступков указать на
невежество. Со стороны законодателя
было бы лучше разделить это
невежество на два вида: простое невежество,
которое можно считать причиной
легких проступков, и двойное, когда
невежда одержим не только неведением,
но и мнимой мудростью,— точно он
вполне сведущ в том, что ему вовсе
неведомо» (Там же).
41 Законы, 897 Ь.
42 См.: Jaspers /С. Vernunft und \Vider-
vernunft in unsere Zeit. München.
1960. S. 56.
43 См.: Ibid.
44 Законы, 783 а.
45 Законы, 662 с — 663 b. Читатель,
вероятно, обратил внимание на то, что
мы даем много ссылок на «Законы»,
которые многие исследователи
считают результатом старческого
пессимизма Платона. Однако другие
исследователи, к мнению которых
присоединяемся и мы, видят в «Законах»
результат многолетних размышлений
греческого философа, основанных на
все углубляющихся понимании и
знании им нравственной,
психологической, социальной и пр. сторон
человеческого бытия.
46 Биография, письма и заметки из
записной книжки Ф. М. Достоевского.
СПб., 1883. С. 373.
47 См.: Dodds Ε. R. Op. cit. P. 216, 217.
1 Engberg-Pedersen T. More on
Aristotelian epagoge//Phronesis. 1979.
Vol. 24, № 3. P. 301.
2 Robinson R. Plato's earlier dialectic.
Ithaca, 1941. P. 47.
3 Hamlyn D. W. Aristotelian epagoge //
Phronesis. 1976. Vol. 21, № 2. P. 168.
4 Taylor A. E. Socrates. N. Y., 1954.
P. 162, 167.
5 Jones W. H. S. Philosophy and
Medicine in Ancient Greece. Baltimore.
1946.
6 Robinson R. Op. cit. P. 179.
7 Taylor A. £. Op. cit. P. 159.
8 Stenzel J. Anschauung und Denken in
der klassischen Theorie der
griechischen Mathematik // Verhandlungen
des Internationalen Mathematiker
Kongresses. Zürich, 1932. Bd. 1.
g 324 335#
9 Robinson R. Op. cit. P. 68.
10 Stannard У. Socratic eros and platonic
dialectic // Phronesis. 1959. Vol. 4,
№ 2. P. 130.
11 McKiragan R. D. Aristotelian epagoge
in Prior Analytics 2.21 and Posterior
Analytics 1.1 //J. Hist. Philos. 1983.
Vol. 21, № 1. P. 2.
12 Aristotle. Works / Ed. W. D. Ross.
Oxford, 1928. Vol. 1. Anal. Post. I,
1, 71 a 1—9, note 1.
13 Engberg-Pedersen T. Op. cit. P. 301,
305.
14 Robinson R. Op. cit. P. 38.
,5 Jones W. H. S. Philosophy and
Medicine in Ancient Greece. Baltimore.
1946. P. 31.
16 Engberg-Pedersen T. Op. cit. P. 305,
318
17 Jones W. H. S. Op. cit. P. 30.
ia Barnes J. Aristotle's theory of
demonstration//Phronesis. 1969. Vol. 14,
№ 2. P. 137—138.
,g Popper K. R. Conjectures and
refutations. L., 1972. P. 12.
20 Engberg-Pedersen T. Op. cit. P. 305.
21 Hamlyn D. W, Op. cit. P. 173, 175, 181.
22 McKiragan R. D. Op. cit. P. 2.
23 Wittgenstein L. Philosophical
investigations. L., 1953. Vol. 2. P. 109.
24 Hamlyn D. W. Op. cit. P. 170.
25 Le Blond У. Λί. Logique et méthode
chez Aristote. P., 1939. P. 131.
26 Von Fritz K. Nous and noein in the
Homeric poems // Class. Philol.
Chicago, 1943. Vol. 38. P. 79—93.
77 Lesher У. The meaning of nous in the
Posterior Analytics // Phronesis.
1973. Vol. 18, № 1. P. 48.
2t Von Fritz K. Nous, noein and thier
derivatives in presocratic philosophy
(excluding Anaxagoras) // Class.
Philol. 1945. Vol. 40. P. 223.
29 Zubov V. P. Beobachtung und
Experiment in der antiken Wissenschaft //
Altertum. В., 1959. Bd. 5, H.4. S. 223.
30 Jones W. H. S. Op. cit. P. 5.
31 Гомперц T. Греческие мыслители.
СПб., 1911. T. 1. С. 270.
100
32 Лурье С. Я. Демокрит и индуктивная
логика // Вестн. древ, истории. 1961.
№ 4. С. 66.
33 Лурье С. Я. Демокрит: Тексты.
Перевод. Исследования. Л., 1970. С. 207.
34 Stocks У. L. Epicurean induction //
Mind. 1925. Vol. 34, № 134. P. 202.
35 Ibid. P. 203.
1 См.: Losacco M. Storia della dialetti-
ca. Firenze, 1922. Vol. 1; Bisse P. La
politique d'Heraclite d'Ephese. P., 1925
2 Vuia O. Existence et logique // Atti
del XII Congresso internazionale di
filosofia. Firenze, 1960. Vol. 5. P. 538.
3 Ibid. P. 540.
4 См.: Heidegger M. Was heisst Den-
ken? Tubingen, 1961. S. 128.
5 Ibid.
6 См.: Abbagnano N. Studi sulla dialet-
tica. Torino, 1968. P. 2—11.
7 Ibid. P. 10.
8 См.: Franchini R. Le origine della
dialettica. Cianini; Napoli, 1961.
P. 67—104.
9 Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 29.
С. 255. ·
10 Рассел Б. История западной
философии. М., 1959. С. 223.
11 Там же. С. 222.
12 См.: Там же. С. 221, 222.
13 Comte A. La philosophie positive.
P., 1894. Vol. 1. P. 2.
14 См.: Ibid. P. 3.
15 Bochenski M. Ancient formal logic.
1968. P. 80—81.
16 Лукасевич Я. Аристотелевская
силлогистика с точки зрения современной
формальной логики. М., 1969. С. 34.
17 Чёрч. А. Введение в математическую
логику. М., 1960. С. 55.
18 См.: Bochenski M. Formal logic.
München, 1956. P. 62.
19 См.: Ibid. P. 49.
20 См.: Solmsen F. Die Entwicklung der
aristotelischen Logik und Rhetorik.
В., 1929.
21 См.: Mayer M. Die Sillogistik des
Aristoteles. Tübingen, 19U0. T. 2.
S. 170.
22 Cm·: Zelter E. Die Philosophie der
Griechen in ihrer geschichtlichen
Entwicklung. Leipzig, 1879. T. II, Abt.
2. S. 240—245.
23 См.: Solmsen F. Op. cit. S. 180—196.
24 См.: Jaeger W. Studien zur
Metaphysik des Aristoteles. В., 1912.
25 Lange A. Logische Studien. В., 1877.
S. 1—3.
26 Überweg F. System der Logik. Bonn,
1868. S. 4.
27 Cohen H. Logik der reinen Erkenntnis.
В., 1914. S. 587.
28 Ibid. S. 588.
29 Ibid. S. 12.
30 См.: Natorp P. Piatos Ideenlehre:
Eine Einführung in der Idealismus.
Leipzig, 1921.
31 См.: Кассирер Э. Познание и
действительность. СПб., 1912.
12 См.: Риккерт Г. Границы
естественно-научного образования понятий.
СПб., 1903. С. 579.
,3 См.: Mayer H. Franz Brentanos
Seinslehre // Ztschr. Philos. Forsch. Bd.
13, H. 2. S. 317.
,и Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 29.
С. 326.
15 См.: Reding M. Thomas von Aquin
and Karl Marx. Graz, 1953. P. 5—15.
36 Wilpert P. Aristoteles und die Dialec-
tik // Kant-Studien. 1956/1957.
Bd. 48, H. 2, S. 255.
37 Ibid.
38 Wilpert P. Des Problem der
Wahrheitssicherung bei Thomas von Aquin.
Münster, 1931. S. 3—4.
39 См.: Aristotle and Plato in the Mid-
forth century. Oxford, 1957.
40 См.: Aristotles et les problems de
Méthode. Lowain; P., 1961.
41 См.: Ibid. P. 102.
42 См.: Ibid.
43 См.: Ibid. P. 57—81.
44 См.: Ibid. P. 147—170.
45 См.: Ibid. P. 195—212.
46 См.: Ibid. P. 213—221.
47 См.: Ibid. P. 247—271.
48 См.: Aristotle on dialectic of the topics.
Oxford, 1968.
49 См.: Ibid. P. 51—52.
50 Ibid. P. 127.
51 Ibid. P. 69—80.
52 Ibid. P. 72.
1 Маркс /С, Энгельс Φ. Соч. 2-е изд.
T. 20. С. 555.
2 В общем виде идея категорий,
«главных понятий> была высказана уже
Платоном (см.: Soph. 254 с и Theaet.
185 с). Это первоначальные
подразделения идеи сущего как
такового, как единое, тождество и различие,
движение и покой. Образуя
посредством своего соединения конкретные
вещи, они сами по себе чисты и не
смешаны. Таким образом, представление
Аристотеля о категориях как о том,
101
что говорится вне всякой связи,
восходит в конечном счете к онтологии
Платона, к его учению о двух
регионах бытия.
3 Укажем только некоторые работы:
Geyser У. Erkenntnistheorie des
Aristoteles. Munster, 1917. S. 112—118;
Riyk L. The place of the categories of
Being in Aristotelies philosophy.
Assen, 1952. P. 5; Vollrath E. Studien
zur Kategorien des Aristoteles. Köln,
1959*S. 1—5; Giamantoni G. Gli studi
sulla Logica aristotelica // Caloge-
roG. I forndamenti della logica
aristotelica. Firrenze, 1968. P. 301—303;
Kategorie // Historisches Wörterbuch
der Philosophie. Basel; Stuttgart,
1976. Bd. 4. S. 714 ff.
4 См.: Кант И. Соч. M., 1964. T. 3.
С. 174—175.
5 См.: Там же. С. 176.
6 См.: Trendelenburg A. De Aristotelis
categoriis. Berolini, 1833; Idem.
Geschichte der Kategorienlehre. B. 1846;
Idem. Elemente logices Aristoteleae.
Berolini, 1860.
7 Trendelenburg A. Geschichte der
Kategorienlehre. Hildesheim, 1965. S. 13.
8 Ibid. S. 22—23; 211.
9 См., напр.: Гегель Г. В. Φ. Соч. M.;
Л., 1929. Т. 9. С. 40—51: Ср.
высказывания Тренделенбурга против такого
понимания категорий:
Trendelenburg Α. Geschichte der
Kategorienlehre. Hildesheim, 1965. S. IX—XI.
10 Trendelenburg Α. Geschichte der
Kategorienlehre. S. 198.
11 Ibid. S. 33.
12 См.: Ibid. S. 10.
13 Ibid. S. 20.
14 См.: Trendelenburg A. Elementa
logices Aristoteleae. Berolini, 1842. S. 3.
15 См.: Biese Fr. Die Philosophie des
Aristoteles. В., 1835. Bd. 1. S. 54 ff.
16 Ibid. В., 1842. Bd. 2. S. 9.
17 Милль Дж. Ст. Система логики
силлогистической и индуктивной. М., 1914.
С. 40. Первое издание было в 1843 г.
18 См.: Grote G. Aristotle. L., 1833.
P. 76—77.
19 См.: Ibid. P. 99—100.
20 См.: Ritter H. Geschichte der
Philosophie der alter Zeit. Hamburg, 1877.
Bd. 1, 2. Ausg. S. 80.
21 См.: Zeller E. Die Philosophie der
Griechen in ihrer geschichtlichen
Entwicklung. Leipzig, 1879. Th. II,
Abt. 2. S. 264—265.
22 Boni'tz H. Ueber die Kategorien des
Aristoteles // Sitzungsb. klass. Akad.
Wiss. Philos.-hist. Kl. 1853. Bd. 1.
S 599
23 См.: Ibid. S. 621—622.
24 Ibid. S. 600.
25 Ibid. S. 623.
26 См.: Ibid. S. 629-633.
27 См.: Zeller Ε. Op. cit. S. 260, 262.
28 Ibid. S. 271—272.
29 Prantl K. Geschichte der Logik im
Abendlande. В., 1957. Bd. 1. S. 208-
209. 1. Aufl. Leipzig, 1855.
30 См.: Ibid. S. 190.
31 Ibid. S. 209, Anm. 357.
32 См.: Brentano Fr. Von der
mannigfachen Bedeutung des Seienden nach
Aristoteles. Freiburg im Breisgau,
1862. S. 5.
,3 Ibid. S. 148 ff.
14 Целлер заметил, что в
действительности у Брентано речь идет не о
реальном соотношении категорий
Аристотеля, а о логической их диспозиции. Эта
диспозиция не подтверждается
текстами сочинений древнего философа,
надумана (см.: Zeller Ε. Op. cit. S. 265).
Сходным образом критиковал
интерпретацию Брентано и П. Обеник
(см.: Aubenique P. Le problème de
l'être chez Aristote. P., 1962. P. 197).
15 Schuppe W. Die aristotelischen
Kategorien. В., 1871. S. 17.
36 Ibid. S. 4.
17 Льюис Дж. Г. История философии от
начал ее в Греции до настоящего
времени. СПб., 1865. С. 258.
18 Там же. С. 253.
J9 Grant A. Aristotle. Edinburgh;
L., 1877. P. 51.
40 Ibid. P. 52.
41 См.: Apelt O. Die Kategorienlehre des
Aristoteles // Apelt О. Beiträge zur
Geschichte der griechischen
Philosophie. Leipzig, 1891. S. 157.
42 См.: Ibid. S. 108.
43 См.: Ibid. S. 112—113.
44 См.: Ibid. S. 157.
45 См.: Ibid. S. 116.
46 Ibid. S. 113—114.
47 Ibid. S. 127.
48 Gomperz Th. Griechische Denker. В.;
Leipzig, 1931. Bd. 3. S. 33. 1. Aufl. Bd.
1—3. 1896—1903.
49 См.: Gercke A. Ursprung der
aristotelischen Kategorien // Arch.
Geschichte. Philos. 1891. Bd. IV. S. 434.
Впрочем, задолго до Герке сходную
мысль о происхождении категорий
Аристотеля из платоновской
диалектики высказал Валентин Розе (См.:
Rose W. De Aristotelio librum ordine
et autoritate. Lipsiae, 1854).
102
50 См.: Hartmann Ε. von. Geschichte der
Metaphysik. Leipzig, 1899. T. 1: Bis
Kant. S. 62—64.
51 См.: Maier H. Die Syllogistik des
Aristoteles. Tübingen, 1900. Th. II, H. 2.
S. 288—295.
52 Ibid. S. 294, Anm. 1.
53 Ibid. S. 295—297.
54 Ibid. S. 298.
55 См.: Ibid.
56 См.: Ibid.
57 См.: Ibid. S. 299, Anm. 1.
58 Ibid. S. 307.
59 Witten R. Die Kategorien des
Aristoteles // Arch. Geschichte Philos.
1904. Bd. XVII. 1904. S. 59.
60 Tatarkiewicz W. Disposition der
aristotelischen Prinzipien. Giessen,
1910, S. 64.
61 Ibid. S. 65.
62 Hamelin O. Le système d'Aristéte.
P. 1920. P. 101.
63 См.: Ibid.
64 Ross W. D. Aristotle. N. Y., 1966.
P. 23.
65 Ibid. P. 22.
66 Ibid. P. 23.
67 Jaeger W. Studien zur
Entwicklungsgeschichte der Metaphysik des
Aristoteles. В., 1912; Jaeger W.
Aristoteles: Grundlegung einer Geschichte
seiner Entwicklung. В., 1923.
68 Gitlspie G. M. The Aristotelian
categories // Class. Quart. 1925. Vol. 19,
N 2. P. 84.
69 Ibid. P. 75.
70 Callogero G. I fondamenti della logica
aristotelica. Firenze, 1968.
P. 106—107.
71 Fritz K. V. Der Ursprung der
aristotelischen Kategorienlehre // Arch.
Geschichte Philos. 1931. Bd. XL, H. 3.
S. 484—485.
72 Ibid. S. 463.
73 См.: Fritz K. V. Zur aristotelischen
Kategorienlehre // Philologus. 1935.
Bd. 90, H. 2. S. 246.
?4 Fritz K. V. Der Ursprung ... S. 494.
75 Copleston F. S. J. A history of
philosophy. S. L., 1946. Vol. 1: Greece
and Rome. P. 278—279.
76 Riyk L. M. de. The place of the
categories of being in Aristotle's
philosophy. Assen, J952. P. 1—5.
77 Ibid. P. 7, 72—74, 83—86.
78 Ibid. P. 7.
79 Viano С A. Le logica di Aristotele.
Torino, 1955. P. 264.
80 Ibid. P. 263.
ai Bochenski I. M. Formale Logik.
Freiburg; München, 1956. S. 63.
Глава третья
iibiibiibii
человек, общество, культура
1
ШЕЛЛИНГ И АНТИЧНАЯ ТРАГЕДИЯ
Когда на переломе двух столетий молодой Шеллинг приступал
к осуществлению замысла универсальной всеохватывающей
системы, то прообразом философского синтеза ему послужил
целостный характер греческого миросозерцания. Как философ в
подлинном смысле в отличие от специалиста по соответствующему
периоду истории философии он взялся выявить в этом материале
зародыш собственного, еще не разработанного взгляда, уяснить
самому себе свой принцип и развернуть его в систему.
Проникновение в избранный предмет оказалось вместе с тем углублением
начал созидаемого нового учения, отличного от систем ближайших
предшественников Шеллинга — Канта и Фихте и ставшего
известным под названием философии тождества.
Античность привлекала Шеллинга тою нерасторженностью
субъекта и объекта, которую он провозгласил принципом
философии тождества. «Синтез есть изначальное»; установив это как
«общий закон» греческой культуры, выражающий ее «абсолютный»
характер ', мыслитель мог черпать из нее богатый материал для
конкретного оформления, развития и исторического обоснования
принципа единства противоположностей в нераздельном
тождестве. В самом деле, «античность,— настаивает А. Ф. Лосев,—
не знает субъекта без объекта или объекта без субъекта. Здесь
речь может идти только о том или другом смешении субъективного
и объективного начал, только о том или ином их превалировании,
только о той или иной дозировке. Сами же эти области субъекта
и объекта ни в коей мере не могут разрывно противопоставляться
одна другой, так что все искусство историка античной философии
только и заключается в изображении того конструктивного целого,
которое приобретает в основе всегда одинаковое тождество
субъекта и объекта» 2.
Интерес к античности проявился у Шеллинга не случайный,
а субстанциальный, он вовлекался в эту область не тематически,
а проблемно. Здесь слились и предпосылки для разработки
проблем эстетики, и потребность в дальнейшем развитии
натурфилософского метода применительно ко «второй» природе —
общественной природе человека, и необходимость иметь дело с новыми
выдвинутыми Французской революцией, драматичным переломом
104
в ней, проблемами соотношения свободы и необходимости, фихтев-
ское решение которых оказывалось теперь
неудовлетворительным; нужен был подход от более глубоких оснований, так что
продвижение философии вперед требовало анализа первоначальных
исходных условий этого соотношения в простой, незамутненной
форме, т. е. требовало возвращения к тем началам, которые
коренились в античности.
Известно, что в Германии интерес к событиям во Франции
«носил чисто метафизический характер и относился только к теориям
французских революционеров» 3 и к первым шагам революции.
Немецкая бюргерская интеллигенция в своем абстрактном
гуманизме отшатнулась от нее в период якобинской диктатуры и
революционного террора.
Первые итоги Французской буржуазной революции (ибо в
связи с ее событиями развивается и немецкая философия — теория
этой революции, построенная на немецкий лад) потребовали
сосредоточения внимания на делах «доброй воли», анализа причин
расхождения между замыслами и характером их претворения, между
гуманистическим идеалом и буржуазным его осуществлением,
между чаяниями и свершениями.
Когда результат перечит целеполаганию, возникает
необходимость пристальнее присмотреться к бессознательной стороне
деятельности в самом субъекте. Если деятельность сознающего себя
субъекта определена по форме чистого Я, т. е. как доброй воли,
или Я, стремящегося к добру и сознательно строящего и
совершающего поступки в соответствии с этой целью, ничто, как кажется,
не должно вести к отрицательному результату. В итоге
сознательной деятельности появляется, правда, нечто непредусмотренное,
но оно не может перечить целеполаганию. Так считал Фихте.
Однако в бессознательной части Я, именно потому что она
бессознательная, добро и зло не могут быть различены; появление добра
или зла в результате ее деятельности неподконтрольно: результат
оценивается сознающей частью Я как добро или зло лишь
постфактум. Сознавая авторство намерения и деяния, Я не узнает себя
в противоположном целеполаганию следствии своего поступка.
Намерение было добрым; действие осуществлялось согласно
намерению; результат складывается соответственно действию, но тем
не менее противоречит намерению. Появляются констатации
иронического характера: первый шаг ребенка — первый шаг к смерти;
благими намерениями дорога в ад вымощена; ирония судьбы...
Явились романтические настроения.
Друг юности Шеллинга, восторженный певец гимнов свободе
и человечеству Гёльдерлин, столкнувшись с этим обстоятельством,
едва ли не первый забил тревогу. Подобно многим, он надеялся,
что антагонизм между сторонниками феодальных порядков и теми,
кто называл себя третьим сословием, это последний, какой
способен разыграться в человеческой среде. Однако за ним мерещатся
другие антагонизмы, серьезные по своему значению и
длительные. Всеобщая гармония не устанавливается, революция не ведет
105
к единому в своих интересах человечеству. В 1797 и 1799 гг.
выходит роман Гёльдерлина «Гиперион, или Греческий отшельник».
Сюжет романа — восстание греков в Морее, поднятое в 1770 г.
графом Алексеем Орловым. Освободительная борьба против
турецкого владычества не удается, финал — разложение в греческом
стане. Повстанцы превращаются в ординарных лиходеев и думают
о добыче; им уже не до национальной идеи, проповедуемой
Гиперионом.
Для Гёльдерлина восстание в Морее знаменует борьбу за
классическую Грецию, за Элладу, борьбу за идеальное человечество.
В такой форме воспринимается общий смысл Французской
революции. Однако сплоченность третьего сословия, с которой
начиналась революция, оказалась временной, провозглашавшееся
«братство» не состоялось. Это было единение по особому поводу,
хотя и весьма существенному, ради борьбы со старым режимом.
Кончилось действие особых обстоятельств, и «братства» как не
бывало. Буржуазная революция привела к власти не Элладу, но
буржуазию с ее особыми интересами. Открывалась перспектива
на еще долгую власть эгоистических страстей, ужасавшая
Гёльдерлина и его единомышленников 4.
В условиях безнадежного разлада между идеалом, лишенным
действительности и жизненной силы, с одной стороны, и
действительной жизнью, лишенной идеала,— с другой, здравомыслие
принимает подобающую ему трезво-реалистическую позицию,
с которой трудно понять другую, представляющуюся не иначе,
как сводимой к бесплодной мечтательности, непрактичной, не
имеющей под собой реальной почвы и построенной на одних
иллюзиях. Как может Гёльдерлин оставаться несдавшимся бойцом
против пошлости? Что позволяет ему, не только не
закрывающему глаза на действительность, но намеренно переносящему
героя романа «Гиперион» в Германию, на свою родину, чтобы
сгустить зрелище господства эгоизма, глухого к призывам
мыслителей и поэтов, заострить отчаянную ситуацию, что позволяет ему
самому не отчаиваться, что вселяет в него надежду?
Приписывание «донкихотства» всегда служит в таких случаях удобной
заменой объяснению.
Нужно было обладать исключительно крепким и здоровым
духом, чтобы перед лицом столь противоречивой и беспросветной
ситуации не впасть в пессимизм, пересилить отчаяние и не только
выстоять, но и возгореться светлой надеждой и исполниться новым
воодушевлением. И мы можем видеть это у таких романтиков,
как Гёльдерлин, как Ф. Шлегель, как дружественный им Шеллинг.
Послушаем Шлегеля. «Где тусклый взор видит лишь потрясение,
брожение, разложение, бессилие отчаяния и судороги смерти, там
светлый взгляд усмотрит, вероятно, всеобщее и крайнее
стремление к чему-то в себе устойчивому в мышлении, чувствовании и
действии... У крайнего стремления два выхода: сила либо терпит
поражение и впадает в абсолютное отчаяние, полную
расслабленность и моральное ничтожество, либо она оказывает противодей-
106
ствие, и из самой потребности возникает ее предмет, из
отчаяния — новое и лучшее спокойствие» 5.
Такой же закал духа перед лицом неумолимой судьбы
пропагандирует Шеллинг, считающий, что самим противоборством
судьбе человек обрушивает ее на себя, испытывает на себе всю ее
мощь, не предается ей, а сам вызволяет ее к действию, бросает
ей вызов и в сопротивлении ей взращивает и закаляет свою
свободную волю.
Через борьбу с необходимостью душа преображается, восходит
к новой, более высокой и зрелой свободе, даже несмотря на
поражение.
В данной связи романтики и Шеллинг проявляют глубокий
интерес к творениям Эсхила и Софокла, находя в них очень
поучительное и современное звучание. Гёльдерлин сам пишет
стихотворную трагедию на античный сюжет («Эмпедокл»), переводит на
немецкий Софокла, в частности «Царя Эдипа» — трагедию, к
которой не раз обращались Новалис, Август и Фридрих Шлегели.
В различных акцентах в разные периоды своей эволюции
осмысляет ее и Шеллинг. Будучи еще фихтеанцем, в «Философских письмах
о догматизме и критицизме» (1795) он подчеркивал в ней свободу
воли. Но как согласуется она с объективной необходимостью?
Поначалу Шеллинг пытался скорее правильно сформулировать,
чем разрешить противоречие, которое греческий разум каким-то
образом переносил и выдерживал. Основание этого
противоречия он усматривает «в борьбе человеческой свободы с силой
объективного мира, в борьбе, в которой смертный необходимо
должен был быть побежден (раз эта сила — всемогущество, рок)
и все же за самое поражение свое, ибо он гибнул не без борьбы,
должен был быть наказан... Великая мысль заключалась в этом
наказании, с готовностью переносившемся даже за неизбежное
преступление: самая утрата свободы только доказывала тем
самым эту свободу, и в самой гибели провозглашалась свобода
воли» 6.
Эдип мог бы рабски-покорно склониться перед открывшейся
ему злосчастной судьбой, т. е. ковылять за нею с сознанием
необходимости. Между тем и попытки обуздать необходимость могут
покоиться отнюдь не только на произволе и своеволии, но и, как в
нашем случае, на иного рода необходимости, а именно:
естественной необходимости может правомерно противостоять моральная,
бессознательной и стихийной природе человека — сознательная
и нравственная, низшей — высшая.
Романтическая устремленность к высшему находит здесь
практическую приложимость: действовать не просто с сознанием
необходимости, а с сознанием высшей необходимости, не просто в
согласии с природой вообще, но в соответствии с высшей природой,
духовной, тогда как низшая непременно должна признаваться,
как настаивает на том Ф. Шлегель, неустранимой посылкой и
опорой для устремления к высшей. «Человек, конечно, нуждается в
мире вне себя, который становился бы то побуждением, то эле-
107
ментом, то органом его деятельности; однако его враг —
противостоящая ему природа — пустил свои корни в самом средоточии
его существа... Природа человека представляет собой смешение
его чистой самости и чужеродной сущности. Он никогда не может
полностью разделаться с судьбой и сказать определенно: это —
твое, а это — мое. Только душа, над которой основательно
поработала судьба, достигает редкого счастья быть самостоятельной» 7.
Тема судьбы — объективного, независимого он человеческих
намерений и поступков и проникающего даже в них, тема
необходимого, не перекрываемого человеческой свободой, подтолкнула
Шеллинга к исследованию природы в ее самостоятельности и
независимости от человеческого сознания, привела к
натурфилософии. Далее, в «Системе трансцендентального идеализма» ( 1800)
объективное исследовано как независимая от субъективного
сторона внутри свободного действия.
Несколько позднее в явившейся уже на свет системе
абсолютного идеализма Шеллинг очертит (в лекциях по философии
искусства) следующий круг мыслей. Только в несчастьи испытывается
добродетель, только в опасности — храбрость. Храбрец в борьбе с
несчастьем, в котором он не побеждает физически и не сдается
морально, есть только символ бесконечного, того, что выше всякого
страдания. Лишь в крайнем страдании может раскрыться то
начало, в котором нет страдания, как все вообще объективируется лишь
в своей противоположности. Ранний романтизм даже перед
отчаянной ситуацией еще полон мужества и оптимизма, веры, что
свобода в борьбе с «вынужденной устойчивостью старого произвола»
должна в конце концов победить, так что ужасы революционного
периода должны 'представляться не чем иным как «родовыми
муками природы» (Ф. Шлегель), из лона которой возникает новая,
лучшая эпоха.
О «родовых муках природы» говорится неспроста. Конечно,
имеется в виду не природа естествоиспытателей, а человеческая
природа, но мы увидим, что понятие природы в романтическом и
шеллинговом понимании проблемно находится в тесной связи с
первой. Природа — сфера необходимости, и различным формам
или ступеням этой необходимости на уровне человеческой
культуры соответствует определенная степень развитости свободы.
Первый лик необходимости, по Шлегелю, это неотвратимая судьба,
роковая неизбежность. Вступая в мир, человек как бы схватывается с
судьбой, и вся его жизнь — это постоянная смертельная борьба с
ужасной силой, власти которой он не может избежать. Она
окружает его со всех сторон и не отстает от него ни на мгновение.
Историю человечества Ф. Шлегель сравнивает с военной хроникой: это
правдивый отчет о войне человечества с судьбой.
Греческая трагедия дает некоторого рода микрообраз этой
войны. У Софокла Лай и Эдип знают об ожидающей их участи и
стараются предотвратить события. Однако именно вследствие того, что
они принимают меры к избежанию судьбы, она настигает их.
Получается как бы насмешка над тщетными усилиями человека, ирония.
108
В самом деле, читатель помнит: оракул предрекает Лаю смерть от
руки собственного сына, рожденного Иокастой. Едва успевает
родиться сын, ему связывают ноги и бросают в непроходимых горах.
Пастух спасает младенца и приносит в дом Полиба, одного из
знатнейших жителей Коринфа, где ребенок получает имя Эдип. Став
юношей, Эдип бежит из мнимого родительского дома из-за дерзкой
выходки человека, назвавшего его во время пирушки ублюдком.
В Дельфах на вопрос оракулу о своем происхождении Эдип не
получает ответа, но ему предсказывается, что он убъет собственного
отца, вступит в сожительство с собственной матерью и зачнет
ненавистное людям потомство. Юноша решает бежать туда, где он
никогда не сможет совершить предсказанные ему преступления. Во
время бегства он встречается с Лаем, не подозревая, что это
Лай и царь Фив, и убивает его в драке. По дороге в Фивы он
освобождает страну от чудовища — Сфинкса — и приходит в город,
где было решено, что победитель Сфинкса будет царем и получит
Иокасту в супруги. Так неведомым для самого Эдипа путем
исполняется его судьба. Она была хорошо известна грекам из их
мифологии (Одис. XI, 271 ел.).
Софокл в своей трагедии простирает действие этой судьбы в
субъективный план. Сюжет из эпоса и герой его обретают в
трагедии второе рождение, духовное. Процесс сознавания, раскрытия
героем трагичности своей ситуации происходит с такой же
необходимостью, как и свершение судьбы: она сама неумолимо движет
героя к осознанию ее. Получается, что не герой, а судьба ведет
следствие и дознание через него. Эдип разыскивает убийцу Лая,
смотрит на это дело как на близкое сердцу, свое кровное, а оно такое и
есть; призывает граждан указать преступника, а оказывается, что
это — он сам; проклинает убийцу, не подозревая, что проклинает
самого себя; хочет вступиться за убитого как за отца родного, а это
действительно его отец, и т. д., пока перипетия не приводит к
полному выяснению всех обстоятельств. Трагическая ирония судьбы,
таким образом, охватывает не только объективный ход событий, но
пронизывает, далее, область актов свободы.
Всякое поведение может быть свободно в качестве действова-
ния, в отношении же объективных своих результатов оно должно
мыслиться подчиненным законам природы. «Субъективно, в плане
внутренней являемости, действуем мы, объективно же это уже не
мы, но через нас действует кто-то другой» 8. Шеллинг определенно
фиксирует затруднительную ситуацию, вызванную ходом
политических перемен во Франции и резко обнаружившуюся также в их
идейном коррелате, в учении Фихте. «Моральный порядок» в его
теории оборачивался как и в практике французских
революционеров в период якобинской диктатуры — самым отчаянным
деспотизмом.
Фихте построил свою социальную утопию «Замкнутое торговое
государство» (1800), где ради идеи свободы подавляется сама
свобода. Шеллинг уловил этот момент, эту трагедию морального
максимализма, и высказался на данный счет вполне откровенно
109
в «Системе трансцендентального идеализма»: все попытки
навязать обществу «моральный порядок» «явно обнаружили свою
порочность, приводя к полной противоположности своим замыслам
и к деспотизму в той его самой ужасной форме, которая является
самым непосредственным следствием всех таких стараний»9.
Нечто сходное разыгрывалось в античной трагедии на
индивидуальной судьбе героев. Движимый исключительно
нравственными побуждениями царь Эдип у Софокла обрушивает на
себя последствия своих поступков, злополучную судьбу, которую
хочешь не хочешь надо учитывать и иметь с нею дело, хотя в целе-
полаганиях она либо не обозревается, либо отвергается страстным
противоборством ей, между тем как именно благодаря
противоборству ей судьба и вступает в действие и заявляет о своих
жестоких правах.
И то же чувство судьбы прозревается Платоном,
предчувствуется как трагический результат благонамеренного
конструирования государственного устройства, основывающегося на
сплошь пронизывающем законодательство требовании покорно
следовать добродетели (Законы, 718 с). Это оказывалось в итоге
проповедью тоталитарного государства. У Фихте аналогичный
вывод слишком уж был очевиден своим расхождением с исходной
посылкой его теории, с принципом нравственной свободы; но
это противоречие его теории коренилось в самой
действительности.
Шеллинг сформулировал заключенную здесь проблему в
антитезе свободы и необходимости. С одной стороны, люди свободно
с мужественным воодушевлением отстаивают то, что повелевает
отстаивать долг, и совершенно не заботятся о последствиях,—
предвидение последствий как раз сдерживало бы решимость
действовать, и мы не могли бы желать ничего, что того заслуживает,
история не знала бы великих свершений. Но с другой стороны,
даже если долг повелевает поступать так-то и так-то, нельзя
быть совершенно беспечным относительно последствий поступка,
которые уже не зависят от свободной воли и никак не вложены в
намерение, но появляются вопреки замыслу, даже наперекор
ему 1\
Положим, что весь механизм бессознательной части
деятельности, ведущей к нежелательному исходу, не может быть учтен
заранее. Но уже имея перед глазами однажды полученный
нежелательный результат, можно приступить к делу, поставив
сознательной целью избегать неприемлемого исхода, на который указывают
теперь познания и опыт, контролируя при этом каждый шаг
деятельности, искореняя в ней всякие зародыши, которые могли бы
привести к предвидимому нежелательному последствию. Так и
действуют герои Софокла в «Царе Эдипе». На их поведении
Шеллинг проверяет, каковы перспективы указанного целеполага-
ния.
Обнаружив укоренившийся в «глубочайших тайниках нашего
естества» роковой разлад между свободой и необходимостью,
ПО
одолеть который не представляется ему возможным иначе как в
эстетической форме, Шеллинг в «Системе трансцендентального
идеализма» обращается к греческой трагедии, имея в виду,
что искусство трагедии предполагает «вторжение скрытой
необходимости в человеческую свободу» п; и далее — к
художественному произведению вообще как творению гения, преодолевающего
своим творчеством разрыв между сознательным и
бессознательным и разрешающего противоречие между свободой и
необходимостью,— «противоречие, абсолютно непреодолимое никаким
другим путем» 12.
В данном круге проблем у Шеллинга преобладает уже
тенденция подчинять сознательное и субъективное — как в источнике,
так и в высшем осуществлении — бессознательному,
объективному; синтез свободы и необходимости реализуется им на основе
необходимости по образцу природной. Мировая история
развивается, как он полагает, от судьбы к провидению, связываемых
между собою природной планомерностью, или закономерностью
в человеческой жизни. Первый период — это господство судьбы,
слепой силы, с холодной безжалостностью и без всякого проблеска
сознания сметающей самое великое и достославное: греческий мир.
Исчезает блеск его, гибель постигает благороднейший из всех
отпрысков человечества, которые когда-либо цвели. Это —
трагический период мировой истории 13. Может быть, смутно ощущая
именно такую перспективу, в одном из загадочных мест «Законов»
(817Ь.) Платон называет свое идеальное государство подлинной
трагедией, красотою и возвышенностью своею превосходящей
всякое искусство трагиков и потому устраняющей надобность в
этом, как тени в платоновской пещере, тусклом
отображении.
Пристальнее вглядываясь в такое отображение, Шеллинг
очерчивает далее трагическое в искусстве как субъективно
заостренное проявление действительной жизни эпохи,
художественное творчество — как аналог определенных общественных
процессов, не находящих понятийного выражения в силу чрезмерности
противоречия в них, не охватываемого и не выдерживаемого
интеллектом. Если же художник достигает этого в своем
произведении, то потому, что сам процесс его творчества объективно
складывается в образ трагедии, уподобляется ей. Создание
произведения искусства Шеллинг рассматривает как трагедию
творчества: процесс этот начинается с чувства бесконечного
противоречия (между сознательным и бессознательным), которое
затрагивает в человеке «самое крайнее, самое последнее, затрагивает
самый корень его существа» м, так что возбуждается безотчетный
порыв к творчеству; «непроизвольно возникает свободная
деятельность» 15, находящая завершение в чувстве бесконечной
гармонии и в разрешении всех страданий от неразрешимых на первый
взгляд противоречий.
Соответственно «переживание, вызываемое в нас
совершенством художественного творения, выражается в удовлетворен-
111
ности, и это чувство в свою очередь должно переноситься на
художественное произведение. Внешним впечатлением от
произведения искусства должно быть, следовательно, спокойствие и
тихое величие, соприсутствующее даже там, где нужно выразить
величайшую напряженность страдания...» 16. Гениальность для
художника является, по Шеллингу, тем же, чем судьба для
действующего человека, т. е. темной неведомой силой, которая вносит
законченность и объективность в отрывочные субъективные акты;
подобно року, гениальность «осуществляет цели, нами не
выставлявшиеся в нашем свободном поведении, вызывая действия без
нашего ведома и даже наперекор нашему желанию» 17. Художник
схож с обреченным, совершающим не то, что он хочет или что
намеревается сделать, он выполняет «неисповедимо предписанное
судьбой, во власти коей он находится» 18.
Настойчивое проникновение Шеллинга вслед за романтиками
в потаенные глубины художественного творчества как высшего
средства внутренней психологической разрядки душевных
перенапряжений можно и здесь понять из переживаний исторической
ситуации, порожденной в Германии Французской революцией.
Сознание не выдерживало отчаянных противоречий, а романтики
уже установили сферу, где эти противоречия должны не только
переноситься, но и возвышать душу: это — искусство, творчество,
имеющее чудодейственную силу преодолевать в своей сфере и
примирять жизненные конфликты, давать им свободное творческое
разрешение. Ф. Шлегель разъясняет в данной связи необходимость
искусства: если бы можно было всегда без особого труда и
беспрепятственно продвигаться к цели, искусство было бы совершенно
излишним и, действительно, нельзя было бы понять, что побуждает
человека «избрать новый путь» 19 — обратиться к
художественному творчеству; оно представлялось бы просто роскошью, делом
случая или прихоти.
Подобно тому как на уровне практического существования
выдержать безмерные конфликты оказывается способной сфера
искусства, которая взваливает на себя этот груз, невыносимый для
интеллекта, так на уровне философии появляется потребность в
соответствующем переходе от философии самосознания, как она
дана в фихтевском наукоучении, к философии искусства. Шеллинг
ясно сознает необходимость такого перехода с целью разрешить
неразрешимые противоречия, преодолеть чувственное и
интеллектуальное смятение, пересилить страдание посредством
выражения его в художественно-эстетической форме. Так между прочим
сохраняется и удерживается возвышенный идеал, о котором шла
речь раньше. Подлинно возвышенное всегда прекрасно и
опирается на то же противоречие, что и красота. «Всякий раз как мы
называем возвышенным тот или иной объект, бессознательной
деятельностью предусматриваются такие размеры, которые
неприемлемы для деятельности сознательной, в виду чего „я"
вступает в противоречие с самим собой. Это противоречие допускает
разрешение лишь в эстетическом созерцании, которое придает
112
неожиданную гармонию обеим деятельностям... Возвышенное...
приводит в движение всю душу в целом, дабы добиться
разрешения противоречия, становящегося угрозой для всего нашего
интеллектуального существования»20.
Отсюда и способ разрешения противоречия — не отдельной
человеческой способностью, а мобилизацией их всех. В этом
Шеллинг обнаруживает специфику художественного творчества.
Из приведенного видно, какое значение для философии
приобретает эстетическая форма. В немецкой мысли уже у Канта
эстетический вопрос сделался заключительным звеном его
философской трилогии и стал коренным вопросом развития немецкого
идеализма. Высказывание Фихте о том, что искусство должно
«сделать трансцендентальную точку зрения всеобщей» 21, без
сомнения, характеризует современную ему общую тенденцию.
Однако у Фихте были только отдельные замечания об
искусстве. По мнению Гегеля, они вообще не должны бы включаться в
его систему, чуждую чувственности, враждебную эстетическому
вкусу и наслаждению искусством. Путь от фихтевской разделен-
ности философии и искусства, оставленный в наследие и для
преодоления последующему развитию,— романтикам и Шеллингу,—
путь к синтезу оказался нелегким, но необходимым. Шеллингу
надо было провести тщательное исследование и проделать
многотрудное восхождение в «Системе трансцендентального
идеализма», чтобы прийти наконец в заключительном разделе к искусству,
в котором он усмотрел последнее завершение того типа познания,
путь к которому прокладывала вся система. Настоящее
философское познание мира есть нечто вроде эстетического воззрения или
художественного творчества, продукт которого разрешает
последнее и глубочайшее противоречие, в нас заключенное, освобождает
от всех страданий, связанных с этой противоречивостью и
вызывает чувство бесконечной гармонии. Здесь заключен пункт,
чрезвычайно важный для всей философии Шеллинга, окончательно
укрепляющий его в идее об исконной тождественности, лежащей
в основе всего существующего,— вот к чему с такой
настойчивостью и безуспешно пробивалась фихтевская система, и в чем у
Шеллинга теперь, «совершив полный круг, находит себе
завершение сознательная творческая природа» 22.
Шеллинг полностью подготовил вступление в философию
тождества. В ней анализ трагедии охватывает оба существенных для
трагедии момента — и свободу, и необходимость и приводит их
к «неразличимости» (категория, наиболее характерная для этого
нового этапа философского развития, на котором, по заверению
мыслителя, ему открылся «свет в философии»). Взгляд на
трагедию приобретает теперь более завершенный вид: «...сущность
трагедии заключается в действительной борьбе свободы в субъекте
и необходимости объективного; эта борьба завершается не тем,
что та или другая сторона оказывается побежденной, но тем, что
обе одновременно представляются и победившими, и
побежденными — в совершенной неразличимости» 23. В этом усматривает
113
теперь Шеллинг примиряющий и гармонический характер
греческих трагедий.
Трудно сказать, дает ли больше греческая трагедия для
понимания принципа тождества, или философия тождества — для
пояснения первой, ибо там и здесь свобода и необходимость
взаимно уравновешены. Если относительно трагедии это не сразу
кажется очевидным (ведь злополучие, несчастье, страдание
привносят скорее диссонансы и дисгармонию, чем
уравновешенность), то Шеллинг разъясняет, что, во-первых, дело не в
злополучном конце. Разве это злополучие, когда герой добровольно
отдает жизнь, коль скоро он не в состоянии больше достойно жить,
или когда он, подобно Эдипу Софокла, навлекает на себя другие
последствия своей безвинной вины и не успокаивается, пока не
распутает все страшные хитросплетения и не выяснит целиком всей
грозной судьбы? Во-вторых, несчастье есть только до тех пор, пока
воля необходимости не сказала своего последнего слова и не
раскрылась. Как только сам герой все для себя уяснил и его участь
стала очевидной, для него уже нет и не может быть никаких
сомнений. И, в-третьих, как раз в момент своего высшего страдания
герой переходит к высшему освобождению (катарсис) и к высшей
бесстрастности. «С этого мгновения,— добавляет Шеллинг,—
непреодолимая сила судьбы, казавшаяся абсолютной величиной,
оказывается теперь лишь относительной величиной; ведь эта сила
преодолевается волей и становится символом абсолютно великого,
τ е возвышенного строя души» 24.
Как в натурфилософии Шеллинг устанавливал тождество о
природе (этом объективном субъект-объекте в противоположность
Фихте, полагавшем тождество в самосознании, или в Я, в
субъективном субъект-объекте), так для уровня человеческого бытия,
т. е. уже при наличии сознания, он выявляет такое
формообразование, где субъект и объект еще не поляризованы, свобода пока
что не оспаривает необходимость, индивидуальное сознание не
выделилось из родового и не отпочковалось от бессознательного
и непосредственно вплетено еще в реальную деятельность,
которой оно не противостоит как идеальное. Формой, отвечающей
таким требованиям, представляется ему мифология,
«первоначальная», как и сама природа, «еще бессознательная поэзия духа» 25
или, в другом определении, раскрывшаяся на человеческом уровне
поэзия природы, поскольку природа определена уже в
натурфилософии эстетически, как поэма, скрытая под оболочкой
чудесной тайнописи. Эту мысль о родстве греческой мифологии с
бессознательным творчеством природы, мысль ценную саму по себе,
независимо от связи ее с идеалистической философией тождества,
воспринял Маркс: для него предпосылкой греческого искусства
является «греческая мифология, т. е. природа и сами общественные
формы, уже переработанные бессознательно-художественным
образом народной фантазией» 26.
Природный мир Шеллинг рассматривал в его само-бытности и
выводил из него сознание; из мифологии он выводит определенные
114
формы сознания — искусство, философию и т. д. Природа в целом
у него — первоначальный бессознательный синтез. Конечное
сознание выходит из этого абсолютного синтеза, чтобы по частям,
по этапам вновь породить, воссоздать этот бесконечный синтез.
То же с мифологией. Она порождена стихийным (хотя и не столь
слепым, как чисто природное) творчеством — творчеством рода;
она общезначима и независима от нашего сознания и в этом
смысле объективна, как природа. Мир мифологии универсален: она
охватывает прошлое и будущее, и они в ней суть одно; в ней
заложены необъятные возможности создавать все новые и новые
отношения. Рассудок шаг за шагом безуспешно пытается
исчерпать эту бесконечность 27.
Такой взгляд на мифологию как на нечто самобытное, а не
проекцию уже готовых понятийных схем и сознательного
художественного оформления, отличает шеллинговское понимание ее от
просветительского. В Новое время упрочилось и господствовало
понимание мифа как плода незрелого и заблуждающегося разума,
миф мог благосклонно приниматься теперь лишь как прекрасный
поэтический вымысел, не более, т. е. он имеет положительное
значение только для художественного творчества, для искусства,
но никак не для научного и философского мышления. Начиная с
Декарта и особенно в век Просвещения в связи с отстаиванием
суверенности философского мышления и научнрго подхода в
противоположность суеверию обозначилась упорная тенденция
отвергать миф как фантазию и освобождаться от него как от
заблуждения, иллюзии, плода незрелого разума или же в лучшем
случае принимать его в аллегорическом толковании. Но в
последнем случае миф не раскрывается в его своеобразии, а, напротив,
разрушается, по крайней мере это справедливо в отношении
античной мифологии, и Шеллинг верно замечает, что «мифология
кончается там, где начинается аллегория» 28. Аллегория, как и
схематизирование, несет в себе преднамеренность, которой еще нет в
мифологии, хоть нельзя также сказать, что она есть слепое, чисто
природное порождение. «Мифологические сказания не могут
мыслиться созданными ни преднамеренно, ни непреднамеренно» 29.
Если, например, считают нарочито риторическим и
поэтическим пафосом, когда вместо того, чтобы сказать: «Сверкнула
молния», Гомер говорил: «Зевс метнул молнии», то Шеллинг
относит это к весьма превратному взгляду на античный миф. Другая
крайность — толковать то же самое в Гомере как «чудесный»
элемент. Но античный эпос не знает различения между чудесным
и естественным, в нем, можно сказать, все чудесно и все
естественно; боги мифологии не сверхъестественны, они пребывают в самой
природе 30.
Два основных истолкования мифа — аллегорическое и
схематическое — Шеллинг возводит к такому, которое, согласно идее
тождества, является наиболее адекватным — к символическому.
Схематизм — это созерцание особенного через общее
(ремесленник создает предмет по общей схеме), аллегоризм — это созерца-
115
ние общего через особенное. Символ синтезирует то и другое в
неразличимое единство общего и особенного. Имманентное
истолкование мифа может быть только символическим: мифические
существа (например, Эрида — раздор) не означают и не выражают
собою нечто иное, а сами суть то, что они означают. У Гомера миф
понимается «не аллегорически, но с абсолютной поэтической
независимостью, как реальность в себе» 3|. Шеллинг убежден, что и
нам следует понимать миф из него самого, как природу — из нее
самой, как она есть, без всяких субъективных привнесений.
Мифология сама есть реальность, на которой произрастают
идеальные формообразования: искусство, религия, философия,
мораль и т. д. По отношению к искусству мифология есть
«необходимое условие и первичный материал», она — «мир и, так
сказать, почва, на которой только и могут расцветать и произрастать
произведения искусства» 32; «мифология есть абсолютная поэзия,
так сказать, стихийная поэзия» . Шеллинг ссылается на самих
древних: они характеризуют мифологию и — поскольку последняя
совпадает для них с Гомером — Гомеровы поэмы как общий корень
поэзии, истории и философии. «Для поэзии мифология есть перво-
материя, из которой все произошло, Океан (если воспользоваться
образом древних), из которого истекают все потоки, точно так
же как они в него опять возвращаются» 34.
У Шеллинга мировой дух во всех слоях и сферах истории,
во все времена открывается под двумя противоположными
атрибутами идеального и реального, причем объективное,
бессознательное, стихийное всегда предшествует субъективному,
сознательному, целеполагаемому, и этот взгляд простирается на
мифологию: «Реалистическая мифология достигла своего расцвета в
греческой, идеалистическая с течением времени вылилась целиком
в христианство» 35. Мифология характеризуется далее как основа
философии вообще; первое, что из нее вышло, была древнейшая
греческая натурфилософия — «реальная» ступень философии,
возвысившейся затем к «идеальной» ступени благодаря Анаксагору
(νους) и Сократу. К детализации отношения философии к мифу
относится изображение того, как философия критически
перерабатывает миф. Процесс этот сложный: философия и использует
мифологию для выражения своих идей и отвергает ее
(рационализация мифа, аллегорическое его толкование — все это
составляет процесс демифологизации), а отвергая и переосмысляя
старую мифологию, бессознательно или намеренно создает новую, как
это делал не только Платон 36, но даже Декарт 37.
Примечательно, что Платон, селективно и критически
подходя к Гомеру, выделяет в нем нравственные моменты,
поддерживает похвалы «добродетельным людям» (Гос., 607а), принимает
Гомера с тех сторон, которые касаются пользы для
государственного устройства и человеческой жизни (Гос., 607d), поскольку
построение платоновского государства связано с решением
великого дела: «быть ли человеку хорошим или плохим» (Государство,
608Ь) — и поскольку перед лицом такого вопроса никак нельзя,
116
по Платону, ради наслаждения поэтами «пренебрегать
справедливостью и прочей добродетелью» (Гос., 608Ь). На этом же
основании Платон отвергает мифы, касающиеся распутства богов и
берется навести высший моральный порядок на Олимпе. Всякий
бог сообразно своему понятию «благ по существу», и утверждать
нужно только это. Соответственно в государстве «всего более надо
добиваться, чтобы первые мифы, услышанные детьми, самым
заботливым образом были направлены к добродетели» (Гос. 378е).
В других случаях Платон прямо опирается на Гомера при
обосновании своих этических взглядов: о принятии человеком своей
судьбы (Торг., 512е; Ил., VI 488); при восхвалении
справедливости (Торг., 516 с; Одис, VI 120, VIII 576); о взаимной поддержке
(Прот., 348d, Ил., X 224); о справедливости и совестливости
(Харм., 161а, Одис, XVII 347).
Уже отсюда можно видеть справедливость шеллинговского
суждения о мифологии как первоисточнике нравственной части
философии. «Первоначальные концепции (Ansichten)
нравственных отношений, но прежде всего то общее всем грекам вплоть
до вершин культуры в лице Софокла и глубоко отпечатлевшееся
во всех их творениях... отвращение к заносчивости, преступному
насилию и т. п.— эти прекрасные моральные стороны Софокловых
творений все еще восходят к мифологии» 38. Софокл не только
король трагедии, но и мудрец. Он развивает
нравственно-философское воззрение в художественной форме. Ею же пользовались
в изложении своих учений и Парменид и Ксенофан, излагавшие
свою философию в форме поэмы о природе вещей, а еще ранее —
пифагорейцы и Фалес. Многие из досократиков, признанных
философами по преимуществу, были одновременно поэтами, лишь
постепенно происходило размежевание, что служит Шеллингу
основанием для установления общего генетического корня, от
которого пошло ветвление на философию и поэзию.
Оба начала — поэтическое и философское — производятся из
мифа, причем в нем не обособлены, не предшествуют мифу и не
являются факторами его. Они — не «части» мифа, а миф — это
еще не дифференцированное исторически первоначальное
единство их. В мифологии, по мысли Шеллинга, не могла действовать
такая философия, которой приходилось бы заимствовать образы
у поэзии, эта философия была по собственной природе своей
одновременно и поэзией. И обратно, поэзия не служила
философии как чему-то отдельному от нее самой, а была по собственной
природе деятельностью, порождающей знание, т. е. философией.
Поэтическое начало в мифологии является не чем-то внешним,
не каким-то добавлением, а самой ее внутренней сущностью,
данной уже в мысли. Если назвать философское или
доктринерское начало содержанием, а поэтическое начало формой, то
окажется, что в мифологии содержание никогда не существует само
по себе, что оно возникло в этой форме и срослось с нею.
Философию тождества, которая устанавливает этот взгляд,
часто упрекали в неспособности вывести из всепоглощающей
117
бездны Абсолюта различие и объяснить, как появляется из
абсолютного безразличия (индифференции) что-либо определенное.
Но в исследованиях, посвященных шеллинговой теории мифа, его
философии мифологии, в свою очередь, как раз и останавливаются
обычно на специальном анализе этой — по Шеллингу, лишь
исходной — ступени развития человеческого бытия и сознания,
представляющейся философу ипостасью Абсолюта для всех форм
общественной жизни (прежде всего для форм духовной
деятельности), и не прослеживают дальнейшего хода его размышлений,
возведения им над этим базисом искусства, философии, морали
(ограничиваются лишь указаниями, что такова его мысль, таково
его намерение), не раскрывают эту наиболее трудную и важную,
как признавал это и сам Шеллинг, часть работы выведения
(«конструирования») из мифологии противоположностей человеческого
духа, прежде всего таких, которые он считал коренными и которые
нас здесь интересуют: противоположности свободы и
необходимости.
Что касается созидания мифологии, то ее мир, как и вообще
мир поэзии, немыслим без того, чтобы в нем не
противопоставлялись бы природа и свобода. Шеллинг поясняет свой взгляд:
«Весьма грубо понял бы нашу точку зрения на греческую мифологию
как творение природы тот, кто счел бы, что она есть творение
природы в такой слепой форме, как проявления художественного
инстинкта животных. Но не меньшую ошибку допустил бы и тот,
кто истолковал бы себе мифологию как результат абсолютно
поэтической свободы» 39.
Что же касается содержания мифологии, то
противоположности природной необходимости и человеческой свободы
представлены в ней в абсолютном тождестве. Когда противоположность
тождеству, сосредоточенная в особенном — в различии, выступает
из Абсолюта, тождество превращается в основание явленного
и становится тем, что определяется Шеллигом как судьба. В
абсолютном тождестве нет судьбы. Она вызывается только борьбой
свободы и необходимости, чего еще нет в мифологии, или в эпосе,
который представляет собой объективность мифологии и
тождествен ей. В эпосе жизнь и действия людей протекают в абсолютном
тождестве свободы и необходимости. Правда, и Гомеру уже
известны черные Керы и рок, которому подчинен и сам Зевс, и прочие
боги. Но рок еще не явлен как судьба именно потому, что ему не
оказывают сопротивления ни боги (см. например: Ил., XVI 440),
ни люди. Героям «Илиады» менее всего свойственно какое-нибудь
негодование или мятеж против судьбы40.
В эпическом произведении нет изображения борьбы свободы
против необходимости, поэтому необходимость и не может явиться
в нем в виде судьбы, которая одолевала бы свободу, но выступает
лишь в виде тождества со свободой, в конечном счете непременно
реализующейся как удача героя, счастливый случай, т. е. не
иначе, как форма проявления той же необходимости и, таким
образом, без расхождения с необходимостью. Окажись герой
118
несчастным, основное свойство эпического произведения
разрушилось бы. Если бы необходимость (для большей
убедительности ее могущества) реализовалась не в союзе со свободой, а через
борьбу против ее устремления, то начинание свободы не могло
бы реализоваться. Однако же необходимость в эпосе не может
проявляться в союзе со свободой без того, чтобы, с другой стороны,
не действовать против нее. Ахилл не может быть победителем без
поражения Гектора. Главный герой эпоса не должен ни быть
побежденным необходимостью, ни встать выше ее, и поэтому
требуется, чтобы несчастье было уравновешенно счастьем.
Тождество, царящее в эпосе, перестает выступать в спокойном
(или «кротком», как говорит Шеллинг) виде и разражается
резкими и мощными ударами там, где единству уже противостоит
борьба, где эпическое тождество через саму противоположность,
оспаривающую его как абсолютное, становится судьбой 4|.
Относительно теоретического конструирования такого произведения
искусства, в котором была бы подлинная борьба свободы с
необходимостью, не субъективная только, свойственная лирике, но и
объективная, притом так, чтобы достигалось такое же, как в эпосе,
равновесие свободы и необходимости, но уже на основе их раз-
деленности, проблема заключается в следующем. Настоящая
борьба предполагает реальную возможность победы с любой
стороны, между тем как побежденная необходимость перестала
быть необходимостью, а побежденная свобода — свободой; к тому
же в том и другом случае появилась бы поэтическая, или, вернее,
совсем не поэтическая дисгармония.
Остается предположить, что свобода и необходимость выходят
из этой борьбы одновременно и победителями и побежденными.
Иначе говоря, торжество свободы не должно означать слома
необходимости, чтобы и необходимость также победила без
ущерба для свободы. Они должны быть равны и совпасть друг с другом
в той неразличимости, которая свойственна абсолютному. В
«Системе трансцендентального идеализма» Шеллинг установил, что
это осуществляется в искусстве. Теперь он спрашивает, как это
возможно?
Только человеческая природа представляет собой средство для
выявления этого отношения, только в ней возможно, чтобы
необходимость побеждала без того, чтобы свобода оказывалась в
подчинении, и, наоборот, побеждала свобода без нарушения
движения необходимости. «Ведь та самая личность, которая
подчиняется необходимости, может в своем образе мыслей вновь
встать выше нее, так что свобода и необходимость, побежденные и
одновременно побеждая, проявятся в своей высшей
неразличимости» . Покуда необходимость благоприятствует свободе субъекта,
подлинной борьбы свободы и необходимости не происходит, так же
как совпадение их оказывается лишь относительным. Только когда
необходимостью предопределяется несчастье, свобода проявляет
себя в полной мере; тогда отвага и величие духа побеждают
несчастье и «свобода выходит из этой борьбы, грозящей уничтожить
119
субъект, в качестве абсолютной свободы, для которой не
существует борьбы» 43.
Такова высшая ступень драматической поэзии — трагедия.
В ней осуществляется синтез свободы и необходимости через
борьбу, завершающуюся победой над несчастьем добровольным
принятием необходимости. Поскольку не всякое насчастье
соответствует строю трагедии, Шеллинг вводит ограничения. Бедствия,
которым можно противостоять с помощью такой же физической
силы или рассудка и смышлености, и даже такие несчастья,
которым нельзя помочь средствами, находящимися в
распоряжении человека, как то: неизлечимая болезнь, потеря имущества
и т. п.,— не имеют трагического интереса, ибо остаются только
физическими. Несчастье внешнего характера не вызывает
трагической ситуации; стоицизм уже предполагается само собою разу:
меющимся, но не достаточным условием, «переносить с терпением
неизбежное — это всего лишь подчиненное и не переходящее
границ необходимости действие свободы» 44.
В характеристике условий действия трагедии Шеллинг
отправляется от Аристотеля, который в «Поэтике» относит к трагическим
такие превратности судьбы: 1) когда достойный человек из
счастливого состояния попадает в несчастье; это не несет в себе
свойства, присущего трагедии, не вызывает ни страха, ни сострадания,
но только возмущение; 2) когда дурной человек переходит от
несчастья к счастью; это более всего чуждо трагедии; 3) когда
человек порочный и злой переходит от счастья к несчастью; такой
ход событий может затронуть человеколюбие, но не вызовет ни
сострадания, ни ужаса; остается случай; 4) когда человек, не
отличающийся праведностью или особой добродетелью, попадает
в несчастье не вследствие своей подлости или порочности, а в силу
какой-то ошибки (harmatria), быв до этого в большом почете и
счастье, как Эдип, Фиеста и др. Когда доводится подобным
образом претерпеть или совершить ужасное, то это и есть настоящая
трагическая судьба. Аристотель добавляет, что трагическое
чувство (страха и сострадания) появляется при изображении
действий, несущих несчастье ближним, например, когда брат брата,
или сын отца, или мать сына, или сын свою мать убивает,
намеревается убить или делает нечто подобное и когда свое страшное
дело они совершают в неведении, как Эдип у Софокла, только
потом узнавая, кто же именно оказался их жертвой.
Из фабулы «Царя Эдипа» явствует, что свобода в ее
собственной сфере оспаривается необходимостью, это и есть, по Шеллингу,
«единственное истинно трагическое», не идущее в сравнение ни
с чем другим. «Рок предопределяет человека к виновности и
преступлению; человек этот, подобно Эдипу, может вступить в
борьбу против рока, чтобы избежать вины, и все же терпит
страшное наказание за преступление, которое было делом судьбы» 45.
Если господствует необходимость, воля должна как будто
представляться бессильной, для нее нет иного выбора, как
следовать необходимости. Значит, было бы субъективным произволом
120
сопротивляться естественному ходу событий, вмешиваться в
закономерный объективный лорядок вещей, такой волюнтаризм,
конечно же есть преступление, попытка нарушить закон и потому
подлежит наказанию. Человеку остается смиренно склониться
перед необходимостью и подчиниться всесильной судьбе, которая
согласных ведет, несогласных волочит за собой. Человеческая
ситуация приравнивается при этом естественному процессу,
а человек — вещи. Наделенный сознанием и волей, он в контексте
таких рассуждений все-таки должен превратить себя просто в
некоторого рода вещь, в объект воздействия других вещей.
Свободный выбор исключается, и с этой точки зрения свободы воли либо
вовсе нет, либо она ничтожна и тщетна, а уж если есть и
действует, то требуется вразумительное объяснение ее появления.
Если существует только необходимость, то и сопротивление
ей не может иметь иного основания, как в ней же самой
коренящегося. А раз так, то всякий поступок определен необходимостью
и оправдан ею. Но тогда ссылкой на детерминированность
поступка оправдывается любой произвол. Произвол же есть, в сущности,
несвободная воля, находящаяся в подчиненности у необходимости
и связанная ею; это воля не противостоять ей, а следовать
естественным склонностям, потребностям, эгоистическим интересам.
Шеллинг рассматривает ситуацию, где воля по необходимости уже
явлена и из свободы произвола развита в нравственную свободу,
тоже заключающую в себе необходимость, но иного рода, чем
естественно-природную, о которой в сущности и шла речь до сих
пор. Теперь дело касается свободной воли, способной выбирать:
следовать ли естественной необходимости или действовать
согласно необходимости нравственной. Последняя есть нечто особое,
движущееся по своим законам, столь же непреложным, как и
естественный закон, который «первичнее», тогда как
нравственный — «выше» по своему достоинству, и не только может порой,
но непременно должен быть направлен против естественного хода
событий. Ведь нравственный закон предписывает делать не то,
что происходит само собою, в силу естественной закономерности;
требования его направлены как раз против естественных влечений,
эгоистических устремлений, иначе он был бы бессмысленным и не
появился бы в форме должного, заповеди, которую надлежит
свято блюсти, как к тому призывают молитвенные слова хора в
«Царе Эдипе»:
Дай, рок, всечасно мне блюсти
Во всем святую чистоту
И слов, и дел, согласно мудрым
Законам, свыше порожденным!46
Необходимость действовать согласно разумным, высшим,
вечным законам нравственности должна (хор ищет такой, с одной
стороны, уже утраченной, а с другой — предвкушаемой желанной
ситуации) совпасть с роковой естественной необходимостью,
несмотря на их противоположность; или, вернее, именно на основе
121
двойственности и в силу противоположности синтез их делается
настоятельной потребностью, дуальность должна быть преодолена.
Обе необходимости перечат друг другу, и тем не менее каждая,
чтобы быть действительно необходимостью, должна
реализоваться. Как это возможно?
Для судьбы важно ее осуществление как таковое, Эдип же
претворяет ее сознательно, как наказание себя, для него важен
не голый факт действия судьбы, а ее нравственный смысл, которого
сама по себе судьба, по-видимому, не содержит. Не придав ей
такого смысла, Эдип и не реализовал бы ее, т. е. не подверг бы себя
ее воздействию. Как могла бы свершиться судьба над Эдипом без
его сознательного противоборства ей? Только усилиями отвратить
ее она и осуществляется, только через свободные деяния Эдипа
она и вершится над ним.
Судьба есть судьба, и узнавание ее тем или иным способом,
предвидение, постижение, сознавание ничего как будто не могут
менять в ее характере, ее нельзя избежать, невозможно отвратить,
она неумолима. Следование ей или противоборство — видится ли
она счастливою или несчастной — ничего не прибавляет к ней
самой по себе и ничего не убавляет. Но предвидение судьбы может
так или иначе модифицировать внутреннее состояние индивида,
формировать то или иное отношение к ней: он может
сознательно следовать ей, покорствовать безропотно, даже если она худшая
(малодушие тогда и будет его уделом, его судьбой), и может
сознательно противоборствовать ей независимо от результата, к
которому это приведет. В эту внутреннюю свободу человека судьба не
может ворваться и не может распоряжаться в ней.
Внутренняя свобода не есть нечто исключительно субъективное,
она может реально осуществлять нечто наряду с неизбежным,
очерченным судьбою. Наряду с подчинением предначертанию
«бога великого с могучей судьбой» (Ил. XIX 410) греческие боги
совершают также кое-что свое, то же — герои «Илиады». Судьба
судьбою, а Ахилл осуществляет иные поставленные перед собой
цели, и очень значительные, хотя бы и приближая тем самым
встречу со своей судьбой:
Знаю я сам хорошо, что судьбой суждено мне погибнуть
Здесь, далеко от отца и от матери. Но не сойду я
С боя, доколе войны не вкусят троянцы до сыта!
(Ил. XIX 421 ел., пер. В. Вересаева)
Так под властью абсолютного монарха, во всецелой
зависимости от нее и не противясь ей, подданные наряду с этим все же
преследуют и осуществляют свои цели. Но противоборство судьбе,
как в «Царе Эдипе» Софокла, дает в результате нечто большее:
не просто внешнее присоединение и дополнение, но и
взаимопроникновение, соучастие нашей свободы в судьбе и судьбы в свободе.
Это есть соотношение, принципиально характеризующее
Шеллингов взгляд на противоположности, имеющий силу и для греческой
трагедии: «Все противоположности, вообще говоря, основываются
122
только на перевесе чего-нибудь одного и никогда — на полном
изъятии того, что ему противоположно» 47 — положение, в такой
же мере черпаемое из анализа трагедии, сколь и излучаемое в нее
самим рассматривающим. (Для философии тождества познавание
есть одновременно субъективное высвечивание предмета,
творческое его воспроизведение субъектом.)
Судьба срабатывает без вкуса, без пафоса, механично,
брутально, для нее важна фактическая сторона осуществления —
исполниться во что бы то ни стало (будь она сознательным
субъектом, мы бы сказали: любыми средствами, любой ценой). В этом
она безусловно удовлетворена: свобода в данном отношении
сломлена и покорена. Но свобода побеждает в том, что касается не
факта, а совсем не затрагиваемого судьбой морального смысла
его и, пройдя все испытания, торжествует в трагедии с такою же
необходимостью, с какою сбывается сама судьба, и совпадает
с нею. Спиноза не спроста говорил о «свободной необходимости»,
о познанной необходимсти в системе этики, а не в
естественнонаучной или какой-нибудь иной системе (где предполагается, что
познание естественной необходимости отнюдь еще не вовлекает
тем самым непосредственно ни в нравственную необходимость,
ни в нравственную свободу, но часто как раз напротив, дает с
большим знанием дела и с большим успехом совершать
преднамеренные злодеяния). В этическом контексте рассмотрения физическая
необходимость (необходимость естественного события, факта)
значима лишь как форма обнаружения нравственной, свободной
необходимости (необходимости принять наказание за
преступление). Напротив, с точки зрения судьбы нравственная
необходимость есть лишь одна из форм осуществления или модификаций
естественной необходимости.
Реализация судьбы индифферентна к нравственному ее
осмыслению, но именно это безразличие и выступает в глазах
Шеллинга тем существенным внутренним отношением, которое
завязывается между ними в трагедии. Для судьбы важен ее
неумолимый ход и непреложное претворение в действительность.
Нравственный смысл и оценка ее имеет место за ее пределами, в
свободном субъекте, судьба которого предначертана быть несчастною,
и не просто несчастною, но возмущающей развитое нравственное
чувство. А это движет к развязке, и в конце трагедии герой
достигает такого же бесстрастия по отношению к злополучию, такой же
невозмутимости, как и обрушившаяся на него судьба.
Нравственно нейтральная,— а в случае, когда она является
несчастною, до возмутительности равнодушная к добру и злу,—
судьба, когда она выстрадана, проработана и освоена через борьбу
против нее, уже не представляется так уже чуждой этического
смысла. Ведь нравственная оценка ее складывалась сначала на
основе суждений лишь о части общей судьбы, мы судили по той
или иной участи, по чьему-то горестному уделу, в который вся
судьба не вмещается, и потому она постигалась лишь в весьма
ущербном своем объеме и значении, в трагической ее модифика-
123
ции, вызывавшей негодование. Между тем уже в античных
интерпретациях судьба есть все же справедливость, хотя и слепая,
темная, безличная, но именно потому не пристрастная ни к какому
частному бытию, она спешит снова растворить его во всеобщем,
мстя за партикуляризацию и осуществляя некое «возмездие».
Так понята судьба Анаксимандром: «Из чего возникают все вещи,
в то же самое они и разрешаются, согласно необходимости; ибо они
за свое нечестие несут кару и получают возмездие друг от друга
в установленное время» (frg. 9 Diels). Античная судьба служит
некоторого рода охранной грамотой для того, чтобы воля и
нравственный пафос в противоборстве необходимости не преступили
меру, не вылились в волюнтаризм и гордыню. Судьба беспощадна
даже к богам, что, в конце концов, утешительно, ибо подданные
Зевса знают, что и для его произвола есть предел (это дают понять
Гомер в «Илиаде» и Эсхил в «Прикованном Прометее»).
Что касается области человеческой свободы, то в нее судьба
прокрадывается коварно, как бы из засады, и человек
непроизвольно и бессознательно попадает под ее враждебное воздействие,
узнавая лишь после совершения поступка, что это воздействие
возбуждено его же поступком как причиной, и сам же он, а не
кто-то другой виновник несчастного происшествия. Хотя умысел
был направлен на иное, даже прямо противоположное тому, что
оказалось преступлением, герой греческой трагедии не
сомневается в своей виновности. Не будь герой виновен без вины, не было
бы несчастной ситуации, а без принятия им на себя
ответственности не было бы трагической ситуации. Подлинно трагическое,
по Шеллингу, заключается не в несчастии, а в возвышении над
ним, в превосхождении его и в восстановлении первоначальной
«меры», гармонии, в искуплении вины за отпадение от
абсолютного состояния, вины за обособление, за индивидуализирование,
за конечность.
Что это оконечивание происходило в бессознательном
состоянии, может служить, конечно, юридическим или даже
нравственным оправданием, но не оправданием абсолютным. Человек
действовал необходимо, повинуясь собственной природе. А
действовать сообразно своей природе, своему внутреннему закону
означает не что иное, как действовать свободно. Эта спинозовская
формулировка ведет к представлению о бессознательной свободе,
о свободе как спонтанном проявлении, что определенно
простирается и на бессознательные вещи.
Чем натуралистичнее взгляд на свободу, тем отчетливее
обнаруживается в нем, что со свободой следует иметь дело не как
с благом, а как с виной, виной метафизической, что за свободу,
даже если она выступает не в форме произвола, необходимо
жестоко расплачиваться. Взгляд Шеллинга существенно
совпадает с позицией Анаксимандра. Вина не в сознательном
отступлении от нравственного закона — это лишь особый случай ее, она
заключена глубже: вина — в отпадении от Абсолюта, она
заложена уже в этом бессознательном, но свободном акте, совершен ли
124
он в забытьи, во сне, во хмелю, до наступления сознательного
возраста, до рождения, совершен ли он отцом, пращуром или
зачинателем рода еще в легендарные времена, он существенно
относится ко мне, составляет мое бессознательное прошлое, и я виновен
в этом свободном акте и должен нести ответственность и принимать
возмездие за свою метафизическую вину, хотя в правовом и даже
моральном смысле я невиновен, поскольку ведь совершал я это не
сознательно и даже, может быть, вовсе не был еще собою в
собственном смысле слова, и свободное деяние еще не отличалось от
необходимости чисто природной, т. е. далеко еще не развитой до
нравственной необходимости.
Но можно, оставив пока в стороне установление меры
сознательного и бессознательного в совершенных поступках, поставить
вопрос шире. Человек гордится славой своих предшественников —
по крови, по духу и т. п., гордится своим прошлым, в котором он
ни деятельно, ни пассивно, ни даже физически не участвовал,
и тем не менее это есть его прошлое, его собственная предыстория,
и он согревается в лучах этого величия, каким-то образом
переносит на себя не им добытые заслуги, не им обретенные
достоинства. Но прошлое его разнопланово: и героично и преступно,
притом же как благие, так и нечестивые помыслы предков нередко
приводили к противоположному, у них были и подвиги и падения,
и благородство и низость — все это общее единое наследие,
перемешанное и запутанное; последовательно ли ставить себя
причастным одним его сторонам, отказываясь от других? Видеть
свое в одном и открещиваться от другого? Одно действительно
прельщает, а другое отталкивает, но твоя ответственность за твое,
пусть бессознательное, былое перед полагаемым тобою будущим
и даже перед самим собою, если она чувствуется, должна
распространяться как на то, что прельщает, так и на то, чего и знать не
желал бы. Действительно ли достоин ты заслуг, обретенных
предками, или только величаешься ими, по существу и не наследуя их,
т. е. не приумножая своими делами? Но ты все же считаешь себя
так или иначе причастным доброй славе, положенной в твоей
родословной, и не прочь прикормиться от нее, почему же
открещиваешься от тянущихся оттуда же грехов, снимая с себя
ответственность за них? Не твои? Это удобно и успокоительно: не знать
их, сбрасывать на счет других, вместо того чтобы, взвалив на
себя вину, искупать ее, принимать на себя наказание так же
добровольно, как принимаешь в себя готовыми плоды заслуг,
не считая их так уж чуждыми себе, хотя и не прилагая усилий,
чтобы сделать их своими. Шеллинг не предлагает тем самым
какой-то особой, сверхморальной установки. В «Философских
исследованиях о сущности человеческой свободы» (1809) он
довольно ясно высказался на сей счет: «Конечно, свободное деяние,
превращающееся в необходимость, не может иметь места в
сознании, поскольку последнее лишь идеально и есть лишь
самопознание; ибо оно (деяние) предшествует этому сознанию, как и всему
существу, производит его; но это не значит, что в человеке вообще
125
не осталось сознания этого деяния. Ибо тот, кто, желая
оправдаться в несправедливом поступке, говорит: таков уж я по своей
природе, сознает все-таки, что хотя он прав в том, что не мог
поступить иначе, но таким, каков он есть, он стал по собственной вине...
И все же никто не сомневается в таких случаях в его вменяемости,
но, напротив, все так же убеждены в его вине, как если бы каждый
отдельный поступок был в его власти» 48.
За нынешним тривиальным принятием на себя вины за
нечаянный мелкий проступок: «Виноват!»— или за невинную оплошность:
«Простите, я нечаянно!»— скрывается целая история культурного
освоения и проработки ситуации, когда без вины виноватый
принимает на себя ответственность за невольное деяние и добровольно
расплачивается за это. Шеллинг берет этот момент в предельный
его напряженности, как он дан в греческой трагедии. Виноватый
становится преступником не по собственной воле, а благодаря
судьбе, и все же наказание необходимо, чтобы показать триумф
свободы; этим греки признавали права свободы, честь, ей
подобающую. «Герой должен был биться против рока, иначе вообще
не было бы борьбы, не было бы обнаружения свободы; герой
должен был оказаться побежденным в том, что подчинено
необходимости, но не желая допустить, чтобы необходимость оказалась
победительницей, не будучи вместе с тем побежденной, герой
должен был добровольно искупить и эту предопределенную судьбой
вину. В этом заключается величайшая мысль и высшая победа
свободы — добровольно нести также наказание за неизбежное
преступление, чтобы самой утратой доказать именно эту свободу
и погибнуть, заявляя свою свободную волю» 49.
Именно в данном пункте, разрабатывавшемся еще раньше,
в «Письмах о догматизме и критицизме» ( 1795), Шеллинг находил
примиряющий и гармоничный характер греческих трагедий,
отмечавшийся еще Аристотелем: трагедии оставляют нас не
растерзанными, но исцеленными и очищенными (Поэтика, 6. 1449 Ь).
Свобода поднимается выше последствий вины, вступая в союз с
необходимостью. Тягость подлинной судьбы нельзя смягчить ничем,
кроме как добровольным принятием ее и возвышенным строем
души. Тем, что невинно виновный добровольно принимает наказание,
«свобода преображается в высшее тождество с
необходимостью» 50. Герой приходит к высшему освобождению, к такому
возвышенному состоянию, когда для него уже нет ни несчастья, ни
счастья, к такому величию души, при котором злополучие судьбы
не имеет для него никакого значения.
И это есть необходимый результат развертывания трагедии.
В ней, при всех неожиданных и необычайных поворотах судьбы,
нет места случайности, и все, начиная с завязки, разрешается так,
как должно разрешаться. Ведь и поступки трагического героя
вытекают не из эмпирической, случайной свободы, не из произвола,
а исключают всякое «или — или», всякое колебание в выборе
и определяются высшею свободой, которая сама есть абсолютная
необходимость 5|.
126
Поэтому в трагедии (и вообще в драматическом искусстве)
отвергаются чудеса и все сверхъестественное; божественное
вмешательство в человеческие поступки разрушало бы ее внутренний
строй. Герой встает лицом к лицу со своею судьбой, боги бессильны
изменить ее. Эсхил в «Прикованном Прометее» простирает
протест против вмешательства богов в действие трагедии вплоть до
последнего и самого внутреннего круга ее, до самосознания своего
героя,
ненавистного Зевсу врага
И всем, в его доме живущим богам 52.
Эсхил. Прикованный Прометей, 125—126, пер. В. О.
и С. М. Соловьевых
В эпосе божественное содействие и противодействие делам
людей естественно, потому что боги там причастны миру и составляют
вместе с людьми один общий мир, их участие в человеческих
действиях и влияние на ход событий не внешнее, сверхъестественное.
В драме, напротив, появление богов неуместно, оно
представлялось бы чудом. Эпос принадлежит миру нераздельному, драма —
более или менее распавшемуся и движимому борьбой свободы
и необходимости. Герой трагедии должен без всякой внешней
помощи только собственными силами решать исход борьбы. Боги
могут вовлекаться в действие трагедии не иначе, как нисходя до
человеческой участи и подчиняясь ее условиям, но тогда они
действуют не как боги, а как люди, и в их появлении нет никакого чуда;
либо же они выступают в роли злосчастной судьбы, и тогда это
опять-таки есть не привходящий элемент, а внутренне
необходимый фактор трагедии.
Насквозь рационалистичную сущность греческой трагедии
Шеллинг сравнивает с геометрической или арифметической
задачей, допускающей решение без остатка или дробей. Такой характер
трагедии не только соответствует форме изложения «Философии
искусства», где философ стремится подражать математическому
образцу спинозовского построения «Этики» с ее аксиомами и
теоремами, но и вообще подкрепляет Шеллинга в его идее о
совпадении бытия с разумностью. Высшая разумность исчерпывает суть
трагического бытия, и последнее целиком измеримо первою. Разум
может быть удовлетворен только всеобщностью и необходимостью
истин. Если Аристотель в описании единственного варианта
трагического несчастья признает элемент случайности, т. е.
неразумности, то это объясняется лишь ограниченностью взгляда самого
Стагирита, его рассудочной трактовкой, которую Шеллинг берется
превзойти. В том же варианте несчастья он выявляет более
глубокий смысл: трагическое лицо оказывается виновным не вследствие
«ошибки», как полагал Аристотель, но по необходимости, как
в «Эдипе».
Увлеченный анализом трагедии царя Эдипа, Шеллинг как бы
отстранял от себя напрашивавшееся общее соображение, все
посылки к которому он уже подготовил, а именно, что метафизиче-
127
екая вина — необходимый спутник и следствие всяческих
поступков, не только не осознанных в их последствиях, но и вообще
независимо от того, предусмотрены или нет в поступке эти
последствия. Ведь необходимое не зависит от осознания его. Поступок
ради претворения в действительность одного из моральных
требований элиминирует другое, предпочтение одного означает отказ
другому требованию морали в такой же действительности, и это
составляет неустранимую вину при всяком решении поступать так,
а не иначе.
Поскольку человек отваживается на действие, он необходимо
виновен. Значит, это должно касаться не только поступков,
совершаемых по неведению, но и — случай более обостренный —
заранее сознательно направленных на такие действия, следствием
которых будет определенно предвидимая виновность. А это прямо
противоположно тому, как действовал Эдип, и представляет собой
усиление трагического элемента в трагедии. В «Антигоне» Софокл
дает материал для углубления нашего познания трагедии,
изображая нравственные поступки, сознательно направленные навстречу
вине. Фиксируя этот момент в «Феноменологии духа», Гегель
находит, что «нравственное сознание — полнее, его вина — чище, когда
оно заранее знает закон и силу, против которой оно выступает,
считая ее насилием и несправедливостью, нравственный закон
случайностью, и, как Антигона, совершает преступление
сознательно» 53.
Дело касается, далее, признания вины, заключенной в
поступке, как это требуется характером самой трагедии,— признания не
только объективного, т. е. теми, у кого на глазах происходит
действие, но самим героем, решившимся на такой поступок. Без
субъективной (а не только объективной) необходимости этого
признания трагедия не была бы завершена. Совершенное действие
преобразует воззрение, бывшее ключом поступка, весьма
любопытным образом: правое дело должно быть осуществлено, чтобы
тому, что есть нравственное, стать действительным; но ради своей
действительности нравственное сознание должно признать своею
действительностью то, что ему противоположно, должно признать
свою виновность.
Шеллинг, по существу, проводит именно эту мысль, когда
обращается к отцу трагедии, Эсхилу. В «Хоэфорах» и
«Эвменидах» у Эсхила изображается внутренний раздор, вытекающий из
обычая кровной мести. Орест выполняет обычай, составляющий
нравственную норму своего времени. Если за коварное убийство
Клитемнестрой его отца он не воздаст мечом равноценной платы,
то это будет тяжким преступлением. Но отомщение за ее
злодеяние будет также преступлением: Клитемнестра — мать Ореста,
и он, зная это, обдуманно и в ясном сознании творит возмездие.
Ни о каком «бессознательном» преступлении Ореста говорить не
приходится. Но любой из поступков Ореста в его ситуации был бы
виной. Шеллинг верно замечает, что Орест был самою судьбой
обречен на преступление. Всякое деяние, которое он сочтет правым,
128
будет одновременно и виной, которая может быть снята лишь
действительным искуплением 54. Герой трагедии виновен именно за
свою правоту; по-настоящему прав он будет лишь тогда, когда
признает свою вину.
Но это лишь одна сторона примирения свободы с судьбой.
Для Шеллинга столь же важна и другая сторона — примирение
судьбы со свободой, и он открывает искомое для своей философии
тождества (и с помощью ее же принципа тождества) в
«Эвменидах», сюжет которых служит продолжением истории Ореста,
бегущего от ужасных образов мстительных Эриний, которые
преследуют его. Эсхил искуснейше сплетает ткань примирения ревнивых
богинь судьбы: Афина устраивает для суда над Орестом
специальное судилище — Ареопаг. Эринии требуют сурового наказания за
невиданное преступление — убийство матери. Выслушав
объяснения, суд подает голоса — в обе урны одинаковое число голосов,
«чтобы,— как объясняет Шеллинг,— для нравственного
настроения было соблюдено равенство необходимости и свободы». Ореста
освобождает лишь белый камешек, брошенный Палладой в урну
оправдания, но только с тем условием, чтобы были примирены
и Эринии, которых возмущает нарушение их прав. Им обещается
воздвигнуть в их честь храм, в котором они будут почитаться под
именем богинь «милостивых» — Эвменид.
Шеллинг находит в такой развязке равновесие справедливости
и человечности, необходимости и свободы, выражающее высшую
нравственность. Гегель существенно сходится с ним в данном
вопросе. Принцип философии тождества позволяет им, каждому по-
своему, глубже проникнуть в «моральную чистоту и величие»,
в «суровую, но спокойную» красоту, свойственную трагедиям
Эсхила, в «ядро нравственности», которое в них «закрыто более твердой
оболочкой и оказывается жестче и недоступнее», чем у Софокла 55.
Теперь Шеллинг может усмотреть нечто более значительное
и в других (помимо признанного за величайшее несчастье — быть
без вины виноватым) примерах превратности судьбы,
приводившихся Аристотелем. В частности, в первом из них Шеллинг
обнаруживает «самое трагическое», т. е. не менее, а пожалуй даже более
возвышенное страдание, чем в «Царе Эдипе». Речь идет о
«Прикованном Прометее» Эсхила.
В обстановке романтической реакции на Просвещение и хулы
на Прометея, просветительского героя, Шеллинг продолжает
удерживать связанные с этим образом светлые переживания,
восстанавливает и возвышает представление о нем как борце и
страдальце за спасение и благо человечества, которым вдохновлялся вслед
затем и Маркс, назвав его самым благородным святым и
мучеником в философском календаре 56. Очертив общее между Прометеем
Эсхила и Эдипом Софокла, Шеллинг далее вскрывает в первом
более весомые качества возвышенно-трагического: «Страдания
Прометея у Эсхила заключаются... во внутреннем чувстве
несправедливости и притеснения. Его страдание проявляется не в виде
покорности,— ибо не судьба, а тирания нового повелителя богов
5 Заказ, № 4330
129
(Зевса.— В. Л.) причиняет ему это страдание,— оно проявляется
в упорстве, возмущении; свобода здесь побеждает необходимость
именно потому, что Прометеем в его чувстве личного страдания
все же движет лишь общее возмущение против невыносимого
владычества Юпитера. Прометей — прототип величайшего
человеческого характера, тем самым он подлинный прототип трагедии» 57.
2
АНТИЧНОСТЬ В ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ
И РОМАНТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ КУЛЬТУРЫ
В творческом восприятии античной культуры ранний немецкий
романтизм в лице своих представителей, принадлежавших к йен-
ской романтической школе, А. В. и Ф. Шлегелей и др.— выступил
непосредственным продолжателем античных традиций
просветительской идеологии. Именно это, в целом позитивное отношение
к классической древности, объединяло романтизм и Просвещение
в сложное, драматически противоречивое идеологическое
образование. Не в меньшей степени, чем отношение к античности,
романтизм и Просвещение сближало и отношение к средневековой
культуре (поэзии, литературе). Вопрос об отношении Просвещения
и романтизма к средневековью лишь по видимости является
выходящим за пределы нашей темы. В действительности он тесно
примыкает к вопросу об отношении романтизма и Просвещения к
античности. Собственно, это две стороны одного и того же вопроса,
а именно вопрос о взаимоотношении романтизма и Просвещения.
Вплоть до последнего времени (до 70-х годов) в марксистской
исследовательской литературе бытовало упрощенное,
метафизическое противопоставление романтизма и Просвещения, в результате
которого между ними уничтожались все точки соприкосновения.
В связи с вопросом об отношении к античной и средневековой
культурам эта конфронтация двух форм буржуазной идеологии
трактовалась таким образом, что одно исключало другое (по
принципу «или—или»): культивирование Просвещением античной
литературы и поэзии означало в то же время категорическое
отрицание им средневековой культуры; а превознесение романтизмом
средневековья имело своим непосредственным коррелятом
отрицание античности. Вопреки этим утверждениям нам хотелось бы
подчеркнуть, что античная культура в такой же мере входит в
романтическую философию культуры, как и в просветительскую.
Если вопрос о позитивном отношении просветителей к
античности не вызывает у исследователей каких-либо сомнений или
возражений, то иначе обстоит дело с вопросом о месте античности
в романтической философии культуры. Эта проблема еще требует
к себе серьезного внимания и углубленного исследования. Здесь
особый интерес представляет изучение сочинений Ф. Шлегеля по
классической древности, написанных в 1794—1800 гг. Это труд
специалиста, филолога-классика, предпринятый с целью
углубления познания классической, в особенности греческой поэзии
130
и литературы. Античные сочинения Ф. Шлегеля оказали
значительное влияние на развитие классической филологии и во времена
Ф. Шлегеля, и в XIX в., особенно на Ф. В. Ритчля и Ф. Ницше '.
Так как мы встали на точку рассмотрения Просвещения и
романтизма как единого идеологического явления, образовавшегося
вокруг и на основе Французской буржуазной революции,—
причем, если просветительская идеология готовила эту революцию,
предвосхищая ее, то романтизм явился порождением революции,
выразив собой ту форму дифференциации, которую испытала
буржуазная идеология уже после ее свершения,— то теперь нам
необходимо определить сущность восприятия культуры классической
древности на том этапе развития буржуазной идеологии, который
связан с Просвещением и романтизмом.
Просветители и романтики вливались в общий поток
движения «нового гуманизма», характерного для немецкой буржуазной
идеологии второй половины XVIII в. Идеи этого «нового
гуманизма» развивали Винкельман, Гердер, Гёте, Шиллер, В. Гумбольдт,
Гёльдерлин, А. В. и Ф. Шлегели. Всех этих, весьма разнородных
по духу, мыслителей (как просветителей, так и романтиков)
объединяло одинаковое отношение к классической древности. В
движении «нового гуманизма» речь шла о возрождении человеческой
культуры на основе изучения и рецепции античности.
Просветители и романтики сходились в общей оценке античности как идеала
гуманности. Они были единодушны в своем стремлении включить
античную культуру в гуманистически развитую культуру
будущего, духовно (нравственно) обновленного человечества. Отличие же
этого «нового» немецкого гуманистического движения от
предшествующих типов.гуманизма (например, гуманизма эпохи
Возрождения) заключалось в том, что воззрения на всестороннее
развитие личности формировались в нем исходя из принципов
немецкой идеалистической философии.
Вместе с тем мы должны указать на основное различие в
подходе к античности в просветительской и романтической
философиях культуры. Такого различия не могло не быть, ибо
романтизм и Просвещение представляют собой не один и тот же, а два
принципиально различных, сменяющих друг друга этапа в
развитии буржуазной идеологии (этапа, отделенных друг от друга
Французской революцией). Суть этого различия сводится к тому,
что если Просвещению был свойствен в целом
эстетически-нормативный подход к античной культуре (несмотря на все отклонения
и отдельные выходы из него), то романтизму — исторический.
Античность в нормативной эстетике
немецких просветителей.
В философии культуры Просвещения античность во всем
многообразии своих культурных достижений (в литературе, искусстве,
философии, политике) рассматривается как вневременной образец
для подражания и возрождения.
5*
131
Среди просветителей Винкельман первым определяет круг тех
понятий, в которых вслед за ним Лессинг, Гёте и В. Гумбольдт
стали описывать эстетическую нормативность древних греков. Он
характеризует древнегреческое искусство как «прекрасное», как
«одно из прекраснейших», как исполненное «высшей красоты».
Красота, по его мнению, настолько свойственна эпохе
«прекрасного стиля» в Греции, что, если мы встречаем ее где-либо в другом
месте или в другой эпохе, она может быть понята только как
подражание грекам. Поэтому он, в частности, не считает нужным
употреблять понятие римского стиля в искусстве, ибо римляне
были лишь учениками греков.
Винкельман, по сути дела, индентифицирует два понятия —
«прекрасное» и «относящееся к лучшей эпохе греков». Если,
с одной стороны, в художественных произведениях греков
«лучшей эпохи» красота достигает высшей степени своего развития,
а с другой — она рассматривается «как высочайшая конечная цель
и средоточие всякого искусства», то греческое пластическое
искусство представляет собой искусство в его завершенности (т. е.
искусство, каким оно должно быть по преимуществу). «Но так как
может мыслиться,— пишет Винкельман,— лишь одно
единственное понятие красоты, которое является наивысшим и всегда
одинаковым и которое постоянно свойственно грекам, то все
художественные произведения в любую эпоху должны приближаться к
этому образцу» 2. Это представление он ясно сформулировал уже
в своем первом сочинении «Мысли о подражании греческим
произведениям в живописи и скульптуре» (1755).
Подлинная, высшая красота является для Винкельмана вечной
и неизменной. «Высочайшая красота,— пишет он,— находится
в боге, а понятие человеческой красоты становится тем
совершеннее, чем более соразмерным и согласованным с высочайшей
сущностью оно может мыслиться» 3. Человек, как правило, может
воспринять красоту как «чистую духовную форму» лишь в ее
«телесном» облике. Но в особые «высокие мгновения» он может
подняться в «сферу бестелесной красоты», вплоть до «красоты
божественной». И в эти мгновения он может создать произведения, которые
свидетельствуют о более высоком «достоинстве» человечества,
представляя собой лишь «оболочку» для «мыслящих духов и
небесных сил» 4.
Стремление к этому «несотворенному понятию красоты»
Винкельман рассматривает в качестве единственной подлинной
задачи искусства. Поэтому любое художественное произведение
следует оценивать по тому, насколько оно выполняет эту задачу.
Красота, с точки зрения Винкельмана, представляет собой нечто вечное,
искусство же носит временный, преходящий характер. Оно может
увековечить себя лишь в самом своем свершении, т. е. выражая
в той или иной мере вечную, нетленную красоту в отдельных
художественных произведениях. Восприятие совершенных
художественных произведений является в то же время приобщением к
вечной красоте.
132
Предпосылками создания совершенных произведений
искусства Винкельман считает «счастливое небо», «прекрасное развитие
тела», нравы и обычаи соответствующей страны, а также и прежде
всего свободу. Все эти условия существовали в Греции, что и
определило возможность выдающегося развития пластического
искусства.
Что же касается положения искусства в Западной Европе
в XVIII в., то оно характеризуется совершенно иными условиями
и обстоятельствами. Однако Винкельман уверен, что и в XVIII в.
возможно возрождение греческого искусства в результате
уяснения художниками «подлинного» понятия красоты и «подражания
древним» 5.
Путь к красоте, т. е. к совершенным художественным
произведениям, по мнению Винкельмана, открыт для всех народов во все
времена. Но искусство в любую эпоху должно соразмеряться
с неизменной идеей высшей красоты. Объективные и
субъективные обстоятельства «в счастливые эпохи человеческой истории»
(как, например, в Древней Греции) могут сокращать путь к
идеалу. Но в конечном итоге любой художник должен возвыситься
над условиями своего времени.
Великие греческие художники, согласно Винкельману,
пытались преодолеть косность материи, одухотворяя ее ь. Так,
скульптор, создавший статую Аполлона, всецело руководствовался
идеалом. Он использовал для своей цели столько «материи», сколько
было необходимо, чтобы воплотить «свой замысел», сделав его
«видимым», ощутимым 7. Искусство является воплощением
непреходящей красоты, очищенной от всего временного и преходящего.
Поэтому история искусства должна иметь дело не только с
биографиями, жизненными путями художников. Ее «самой
благородной конечной целью» должно стать раскрытие сущности искусства,
на которую не оказывают влияния биографии художников 8.
Сам художник может стать предметом научного,
исследовательского интереса. Но этим самым затрагиваются лишь
«внешние обстоятельства» искусства. Для истории искусства важно
выяснение того, усвоил художник или нет совершенное понятие
красоты. Это можно определить на основе анализа, изучения его
произведений. Исследователь должен стремиться к тому, чтобы
возвыситься над всеми историческими случайностями и внешними
обстоятельствами, чтобы понять непреходящую, вечную красоту,
«проистекающую от бога и ведущую к богу» 9.
Тот художник не отвечает своему призванию (и назначению),
который хочет произвести впечатление техническим блеском или
пытается следовать принятой системе правил, национальным и
историческим традициям, вместо того чтобы руководствоваться
природой и идеей красоты. С точки зрения Винкельмана,
следование какой-либо традиции означает принижение искусства. Он
признает лишь одну единственную традицию — вневременную
традицию греков, которая выражает идеал красоты, всецело независимый
от времени и истории. Традиции и вообще все историческое Вин-
133
кельман мыслит лишь в качестве второстепенных обстоятельств
или даже как препятствие для завершенности искусства в
красоте.
В эстетическо-нормативном подходе Винкельмана к античному
искусству нашли свое выражение убеждения многих
представителей позднепросветительской идеологии — как эстетиков (Гот-
шед, Бодмер, Баумгартен, Майер), так и теоретиков искусства
(Хагедорн, Менгс), само собой разумеется, с известными
различиями. Даже такой глубокий мыслитель и теоретик искусства,
как Лессинг, не мог не признать его обязательный характер (см.
его работу «Лаокоон»).
Нормативно-эстетический подход к античному искусству был
свойствен в целом и представителям движения «бури и натиска»,
хотя последние внесли в него свой специфический оттенок,
связанный с акцентированием внимания на личности художника (т. е. на
субъективном моменте художественного творчества).
В. Хайнзе, один из теоретиков искусства «штюрмеров»,
отмечал, что «для мудрого наблюдателя основное удовольствие в
произведении искусства всегда в конце концов вызывает сердце и дух
самого художника, а не представленные вещи» ,0. Творец любого
великого произведения не может оставаться как бы сокрытым от
внимания как своих современников, так и потомков. Он
привлекает умы и сердца тем, что возвышается над другими людьми (над
средним уровнем), ибо великое искусство создается лишь великим
«духом».
Если для Винкельмана существовала неразрушимая связь
между совершенной красотой и совершенным произведением, то
для В. Хайнзе такая связь существует между произведением и
художником. Поэтому, с его точки зрения, биография, жизненный
путь художника, оказывает влияние на историю искусства. Само
произведение указывает исследователю на жизнь художника в ту
эпоху, когда создавалось его произведение. Этим самым уже
признавалось значение истории общества для искусства.
По мнению Хайнзе, привязанность художника к «плохим
буржуазным устройствам» становится препятствием для того, чтобы
он мог сохранить свою оригинальность". Чтобы найти самого
себя, художник должен как бы подняться над своим временем,
освободиться от него. Только таким путем он может снова стать
непосредственной натурой. Если это удается, тогда «подлинное,
великое искусство» возможно не только в эпоху античности, но
и, как подчеркивал Гете в период своего «штюрмерства», «на
тесной, мрачной арене ханжеских medii aevi» ,2.
Ценя в художественном произведении прежде всего гений его
создателя, исследователь тем самым не подвластен действию
предрассудков. Проникая в «чужую жизненную связь», в личность
художника, исследователь одновременно выходит за рамки
исторического рассмотрения. Это объясняется тем, что жизнь великого
художника не связана какой-либо ограничивающей традицией, не
имеет общественного характера. Будучи «естественной», она как
134
бы протекает вне всякой истории. «Подлинно великий и
рассудочный человек,— пишет по этому поводу В. Хайнзе,— живет всегда
в состоянии природы. Законы и все буржуазные отношения
существуют только для массы» ,3.
Для «штюрмеров» характерно рассмотрение художественного
произведения как «естественно» вырастающего. Метафоры,
сравнивающие произведение искусства с растением или организмом,
выражают натурализацию, т. е. лишение искусства всякой
историчности. В этом отразилось самое радикальное преувеличение
типичной для просветительской идеологии враждебности каким-
либо традициям.
Концепция искусства, развивавшаяся представителями
движения «буря и натиск», свидетельствовала о том, что в
просветительской идеологии проявилась тенденция исторического подхода
к искусству. Постепенно все более очевидным становилось мнение,
что выбор искусства, трактуемого как вневременное прекрасное
(в качестве такового оценивалось античное искусство), а также
само понятийное выражение красоты не являются внеисториче-
скими моментами, а, наоборот, в очень сильной степени
определяются господством соответствующего вкуса.
И тем не менее «штюрмеры» не совершили поворота к истории
в оценке искусства. Они обратились к поискам более
впечатляющего канона внеисторического искусства, чем винкельмановская
чистая, неизменная, божественная античная красота. Иными
словами, прозрев воздействие исторического вкуса на понимание
прекрасного и, следовательно, ограниченность нормативного
подхода к античному искусству как вневременному образцу
прекрасного, они поставили своей задачей освободиться от последних
остатков традиционализма и исторической предвзятости
(ограниченности). Именно этим обстоятельством объясняется их обращение
к природе, обладающей не вызывающей никакого сомнения вне-
историчностью.
«Штюрмеры» в связи с этим активно полемизировали с Вин-
кельманом и его сторонниками, выступая против одностороннего
обожествления древнегреческого искусства, которое для них было
не внеисторическим эталоном прекрасного, а лишь определенной
исторической формой искусства. В. Хайнзе решительно заявлял
о том, что «всякое искусство является человеческим, а не
греческим», т. е. оно не может сводиться к греческому, строиться на
принципе подражания греческому и. По его мнению, не греческие
статуи являются «чистейшим источником искусства», а природа ,5.
Природа, которую восхваляли «штюрмеры»,
противопоставлялась обществу, традиции, культуре, как тому, что оказывает
отрицательное воздействие на художника и его произведения. Но
отрицание общества не означало его фактическое устранение. Так как
общество продолжало оставаться тем, что не подвергалось
действительному устранению, единственная возможность освобождения
от влияния традиции заключалась в возвышении над нею. Но даже
возвышая себя над обществом и культурой, гениальный художник
135
тем не менее продолжает оставаться скованным общественными
узами. Возникает неразрешимое противоречие, приводящее к
краху гениальную личность.
Таким образом, отношение искусства и истории (общества,
традиции) «штюрмеры» мыслят лишь как их взаимное
исключение. Гениальный художник преднаходит себя как человека,
воспитанного в общественных традициях. Но ради выражения своих
творческих потенций он должен подняться над ограничивающей
и стесняющей его индивидуальность традицией. Если художник
остается верен в своих произведениях потребностям своего гения,
своей индивидуальности, он и в обществе живет в «состоянии
природы» и творит так, как сама природа. Высшая похвала в устах
«штюрмера» — это та, в которой произведение сравнивается с
растением, т. е. с продуктом вечно творящей природы.
Природа всегда воспроизводит только самое себя. Точно так же
и художник не вносит ничего чуждого в свое произведение, кроме
своей собственной индивидуальности. Поэтому для «штюрмеров»
(в отличие от Винкельмана) искусство не может быть выражением
вневременной красоты. Оно является откровением творческой
силы художника (но тоже не зависящей от времени, т. е. истории,
традиции и т. д.).
В просветительской идеологии «штюрмеров» античное
искусство утратило свой особый, нормативный характер, оно перестало
быть эталоном прекрасного, ибо изменилось само понимание
сущности искусства. Для «штюрмеров» сущность искусства
заключалась не в выражаемой им красоте, а в воплощении естественной
творческой оригинальности художника. Акцентирование внимания
на самом художнике объективно позволило «штюрмерам»
преодолеть ограниченность винкельмановской нормативной эстетики,
в частности, ее антиисторичность, но лишь по отношению к
античности. Великие произведения «штюрмеры» находили не только в
Древней Греции, но и в других эпохах общественного развития,
к примеру в эпоху готического искусства средневековья. Но, уравняв
античное искусство с искусством других эпох и народов,
«штюрмеры» тем не менее в целом сохранили антиисторический взгляд на
развитие искусства. Причина лежала в их своеобразной концепции
искусства, как выражении естественного (и вместе с этим внеисто-
рического) гения. На место вневременной, вечной античной
красоты Винкельмана они поставили столь же вневременную творческую
индивидуальность гениального художника. Вневременность
последней определялась ее исключительным отношением к природе
как таковой, а не к истории, традиции (культуре).
Хотя принцип исторического подхода к античному искусству
и литературе мы связываем прежде всего с романтической
философией искусства, в своеобразной форме он формировался уже в
просветительской идеологии, в частности, в идеологии «штюрмеров».
До сих пор мы намеренно исключали из своего рассмотрения
Гердера, который является одним из наиболее видных
представителей как европейского Просвещения, так и немецкого движения
136
«буря и натиск». Это объясняется тем, что в развитии
исторического принципа Гердер занимает совершенно особое место,
намного превосходя в этом отношении свою эпоху. Именно в его
сочинениях («Фрагменты о новой немецкой литературе» и многих других)
развиваются идеи сравнительно-исторического подхода к
древнегреческому идеалу красоты, для полной реализации которого
необходимы как климатические условия (на которых акцентировал свое
внимание Винкельман), так и политические, и религиозные
условия. Выступая против чрезмерного эллинизма Винкельмана и Лес-
синга, Гердер стремился объяснить развитие современной ему
поэзии и литературы воздействием не только греко-римской культуры,
но и культуры «северных варваров и восточных эллинов».
Будучи историком от природы, Гердер с самого начала не мог
удовлетвориться тем, чтобы только описывать явления литературы,
поэзии, искусства. Он непременно вопрошал об их происхождении
и об их современном значении. И то и другое было для него
взаимосвязано. Поэта Гердер определяет как «творца народа» ,6,
подчеркивая его внутреннюю связь с народной жизнью, его
непосредственное воздействие на последнюю. Поэтому и поэтическая
деятельность для Гердера является не чем иным, как выражением
жизнедеятельности человека, будучи органическим следствием
соответствующей жизненной реальности, ее неотделимой составной
частью.
Во фрагменте «Об оде» («Über die Ode») Гердер пишет, что
оригинальная сущность «поэтического» основывается на
«тончайшем опыте восприятия». В оде он видит «перворожденное дитя
восприятия, источник поэтического искусства и зародыш его
жизни» ,7. В этих определениях явно просматривается разрыв с
просветительской поэтикой подражания природе, намечена проблематика
происхождения поэзии с эстетической стороны.
Ключевым для гердеровской теории литературы является
положение: «Необходимость и потребность — мать поэтического
искусства...» ,8. «Подражание природе» наверняка не было
«первоначальной сущностью поэзии»: «поэт чувствует и поет о том, что
чувствует человек, когда он видит и действует» ,9. Происхождение
поэзии, как видим, Гердер связывает прежде всего с практической
деятельностью человека, с его чувствами и действиями, с его
нуждами и потребностями. Он выступает и против гипотезы о
божественном происхождении поэзии, опровергая ее ссылкой на
несовершенство первых поэтических произведений.
Исторический принцип подхода Гердера к толкованию
литературных явлений воплощен в его сочинении о Шекспире. Значение
этой работы выходит за пределы исторического понимания только
творчества Шекспира. Отныне исторический подход становится
для Гердера всеобщим принципом оценки литературы и поэзии
различных эпох, в том числе и античной.
Гердера как идеолога мелкобуржуазных слоев общества и
теоретика движения «буря и натиск» с самого начала при изучении им
культуры древних греков привлекал присущий им дух свободы 20.
137
Именно в нем черпал он силу для собственного сопротивления
деспотическому произволу князей (хотя и в силу обстоятельств
лишь пассивного). Об этом свидетельствуют его работы:
«Причины здорового вкуса...», «О воздействии поэтического искусства...»,
а также тринадцатая книга «Идей к философии истории
человечества».
Гердер от всего сердца приветствует
общественно-политические преобразования во Франции, которые, казалось, показывали
сходство с античной полисной демократией. Французская
революция, как он полагал, открыла возможность для того, чтобы
древних не только лучше понимать, чем это было до сих пор, но и
несравненно лучше «использовать». Именно этот вопрос о
практическом примыкании к ценнейшим традициям классической древности
и о их дальнейшем творческом использовании его более всего
занимает.
Конкретное возрождение республиканских традиций
античности было в это время не только теоретическим вопросом.
Буржуазным идеологам по обе стороны Рейна казалось, что такое
возрождение практически осуществлялось в ходе Французской
революции. Как известно, всю иллюзорность деятельности
французских революционеров в этом направлении блестяще раскрыта
К. Марксом, который писал, что «революция 1789—1814 гг.
драпировалась поочередно то в костюм Римской республики, то в костюм
Римской империи» и что «как герои, так и партии и народные
массы старой французской революции осуществляли в римском
костюме и с римскими фразами на устах задачу своего времени —
освобождение от оков и установление современного буржуазного
общества» 21.
Определенные иллюзии на этот счет были и у Гердера. В
сочинении «О влиянии правительства на науку» (1780 г.) он
недвусмысленно заявил: «Создайте нам здесь Афины; Демосфен и Перикл
появятся сами собой...» 22. Верил ли Гердер в то, что в Германии
можно создать новую Грецию? Трудно ответить на этот вопрос,
но ясно одно, что он осознавал необходимость изменения
социальных и политических условий по образцу греческих
городов-полисов. В критике современной ему Германии перед его глазами всегда
стоял образец — идеализированная Греция. В статье «Пластика»
он, к примеру, писал: «Но к чему эти бесконечные жалобы,
которые же не создадут Греции» 23.
В многочисленных указаниях Гердера на образцовый характер
греческих городов-полисов утопическое мышление играло
значительную роль. Это была попытка перепрыгнуть через немецкую
действительность в направлении к далекому будущему, ибо в ней
самой не было никаких реальных возможностей для глубокого
изменения существующих отношений. Для этой попытки не имело
никакого значения то обстоятельство, что будущее находилось
в прошлом.
Вместе с тем уже во второй половине 80-х годов у Гердера
проявляется сознательное стремление к преодолению утопических мо-
138
ментов в восприятии античности. Это свидетельствует о
возрастающей зрелости исторического мышления Гердера. Так, он не устает
предостерегать современных ему читателей (в том числе и себя)
от безграничной, забывающей все задачи дня и часа эйфории по
отношению к грекам. В «Идеях к философии истории
человечества» он пишет: «...если уж сами мы не можем быть греками,
давайте лучше радоваться тому, что были некогда греки...». «...Будем
ценить их, и не делаясь оттого греками» 24.
Гердер не смог полностью преодолеть внеисторический подход
к древнегреческой культуре. Поэтому его понимание античности,
хотя и определялось стремлением овладеть диалектикой
историчности и актуальности, никогда не было свободно от противоречий.
Заметим, что эти противоречия были свойственны также Виланду
и Гёте, Шиллеру и Гельдерлину. И, в конце концов, были
неразрешимы в силу специфической политической и социальной ситуации
в Германии в последней чертверти XVIII в., а также общего
идеологического уровня буржуазного сознания. В последние
десятилетия жизни эти противоречия у Гердера еще более усилились
вследствие растерянности перед конечным итогом Французской
революции, приведшей к империи Наполеона и захватническим
войнам.
Но в то же время Гердер в своих оценках античности, без
сомнения, пошел дальше, чем кто-либо из его современников.
В этом смысле знаменательна та оценка греков, в частности их
«нравственной и государственной мудрости», которую он дает
в «Идеях к философии истории человечества». Гердер пишет, что,
«несмотря на дурные, а иной раз и ужасные последствия, которые
вытекали из устройства разных греческих государств для илотов,
пеласгов, для колоний, чужестранцев и врагов, мы не можем не
оценить по достоинству благородный дух общности, который был
жив в Лакедемоне, Афинах, Фивах,— можно думать, в каждом
греческом государстве в свое время» 25. Если рассматривать
«патриотизм и просвещение» в качестве «двух полюсов, вокруг
которых вращается вся нравственная культура человечества», то
«Афины и Спарта навсегда останутся двумя великими
памятниками государственного искусства». И подчеркивая немеркнущую
историческую актуальность греческого государственного
устройства, все значение «гражданских добродетелей греков» для
современности, он замечает, что «философия истории человеческого
рода обращает внимание не столько на то, что было на самом деле
сделано слабыми руками людей за короткое время на этих двух
полюсах Земли, сколько на то, что вытекает из самих
принципов для всего человечества» 26.
Так был окончательно сформулирован его принципиальный
подход к античности. Этим самым был уточнен и тот пункт, который
характеризует его отношение к античной культуре в «Письмах о
гуманности». Теперь Гердер не думал о возможности возрождения
древнегреческих учреждений в XVIII и XIX вв., о каком-либо
«возвращении» к грекам. Именно в «Идеях к философии истории
139
человечества» он обходился минимумом утопических
представлений относительно античности. Теперь речь шла для него о
воспитании, т. е. об идеальном приобщении к определенным, образцовым
чертам древнегреческого общества.
Наиболее подходящим для усвоения он считал специфические
особенности государственного устройства древних Афин. Именно
они в своей совокупности давали формулу «гуманности»,
описанную в тринадцатой книге «Идей к философии истории
человечества». Гердер приходит к выводу, что «все удачные установления
Греции были тем долговечнее и благороднее, чем больше
опирались они на гуманность, то есть на разум и справедливость» 27.
Здесь перед нами,— подчеркивал он,— широкое поле для
размышлений о греческом государственном строе, о том, что сделала
Греция со всеми ее нововведениями и устроениями, для блага своих
граждан и для блага всего человечества» 28.
В «Письмах для поощрения гуманности» Гердер развивает
концепцию гуманности, опираясь в целом на свое понимание Древней
Греции, изложенное им в «Идеях». Но в частностях он иногда
отходит от него. Исторически обоснованная и дифференцированная
постановка вопроса заменяется доктринерским прокламированием
тезисов и норм с усиленной морально-дидактической тенденцией.
Это проявилось уже в «Письмах» 1795 г. о греческом искусстве
как «школе гуманности» 29. В них нашло свое отражение (в
противоположность к прежней позиции) односторонне-некритическое
восприятие представлений Винкельмана. В «Идеях» Гердер его
благожелательно дополнял и конкретизировал в выявлении
политико-социального определения предпосылок греческого искусства.
Столь же критически он отнесся к Винкельману в сочинении
«Геркуланум. История искусства Винкельмана» 3υ. В «Письмах» же мы
имеем дело с настоящим панегириком в его адрес. Гердер
характеризует Винкельмана как «божественного истолкователя» всей
древности, как «небом посланного человека».
В «Письмах для поощрения гуманности» проявилась также
(несмотря на давнишние расхождения) близость как к классицист-
ским убеждениям Гёте, развиваемыми в это время, так и к его
сочинению о Нинкельмане ( Î805). Однако, несмотря на все эти
непоследовательности, многие места «Писем» подтверждают выведение
концепции гуманности из исторического понимания античности,
нашедшего отражение в «Идеях к философии истории
человечества». Так, Гердер пишет в третьем собрании писем 1794 г. в связи
с определением понятия гуманности: «Пока у нас... не похитили
греков, подлинная гуманность не будет стерта с лица Земли»31.
«Письма» явились непосредственным исповеданием
политической веры Гердера. Их по справедливости можно назвать эхом
Французской революции. В этом смысле особенно характерно
девятнадцатое письмо. Здесь, находясь под впечатлением осени
1792 г., Гердер в первый и единственный раз откровенно
выразил утопическую надежду на возвращение «времен греков и
римлян» 32. В этом письме ясно обнаружилась связь политического
140
мышления Гердера с «иллюзиями», самообманом французских
революционеров. Эта историческая ограниченность буржуазной
теории и практики была, как известно, блестяще раскрыта
К. Марксом, который писал, что «в классически строгих традициях
Римской республики гладиаторы буржуазного общества нашли
идеалы и художественные формы, иллюзии, необходимые им для
того, чтобы скрыть от самих себя буржуазно-ограниченное
содержание своей борьбы, чтобы удержать свое воодушевление на
высоте великой исторической трагедии» 33.
Гердер опубликовал свое девятнадцатое письмо «для
поощрения гуманности» в 1793 г. в сильно измененной и сокращенной
форме 34. Он убрал все прямые намеки на Французскую революцию,
всю утопию о возрождении античности посредством
революционных преобразований, добавив образ Прометея. Его истолкование
этого мифа соответствовало традициям европейского
Просвещения, традициям «бури и натиска» в немецкой литературе. Образ
Прометея был в них символом борьбы с феодальным
абсолютизмом. Этим традициям Гердер остался верен до конца своей жизни.
Однако новая редакция девятнадцатого письма явилась
свидетельством того изменения, которое совершилось в его понимании
Французской революции и связанных с ней политических и
социально-экономических преобразований после 1792 г. Во второй
половине 90-х годов Гердер продолжал верить в образцовый,
нормативно-эстетический характер греческой культуры. Вместе с тем он
избегал непосредственных политических постановок вопросов,
актуальных постулатов и следствий, которые раньше играли в его
концепции античности очень большую, даже определяющую роль.
Исторический подход к античности
в раннеромантической теории искусства
Восприемниками исторических идей Гердера, связанных с
пониманием литературы и искусства и в том числе античной
культуры, явились ранние немецкие романтики — Ф. и А. В. Шлегели
и др.
Ф. Шлегель выступил перед немецкой общественностью в
середине 90-х годов XVIII в. Все его ранние произведения полны
напряженного ожидания перемен в связи с началом новой
исторической эпохи, которую возвестила Французская революция. Эта
эпоха, как он полагал, приведет к установлению гуманных
человеческих отношений, к свободному развитию всех человеческих
способностей.
Политические взгляды Ф. Шлегеля сформировались к 1793 г.,
т. е. к тому периоду, когда во Франции власть жирондистов была
свергнута и установлена якобинская диктатура. Как и многие
другие мыслители в Германии, именно у жирондистов, в своих
революционных идеях, сильно привязанных еще к идеалам
Просвещения, он нашел те политические воззрения, которые более всего
соответствовали его представлениям о демократии и республикан-
141
ской свободе. Эти воззрения идентифицировались им с иллюзиями
Французской революции (пока он на рубеже веков полностью от
них не отказался).
Первая публикация Ф. Шлегеля была посвящена философ-
ско-историческому сочинению Кондорсе «Эскиз исторической
картины прогресса человеческого разума» (1796). В своей рецензии
Ф. Шлегель разделял не только просветительский исторический
оптимизм Кондорсе, но и его мысли о противоречивости
исторического развития.
Рецензия неопровержимо свидетельствовала о том, что Ф.
Шлегель стоял на позициях республиканизма.
В другом сочинении Ф. Шлегеля «Опыт о понятии
республиканизма» (1796) также нашли отражение его демократические
республиканские представления этой поры. Сочинение было написано
с формальной стороны по поводу выхода в свет трактата Канта
«О вечном мире». Кант высказал в нем мысль, что лучшей
гарантией против войны является республиканский строй; в своей теории
государства он исходил из того, что природе человека изначально
свойственно «зло», и ему пришлось сильно ограничить
республиканский строй: он представлял гражданам только
законодательную власть, оставляя исполнительную за монархом.
Ф. Шлегель трактовал понятие республиканизма более
демократично. Он выступил против кантовской идеи о «наследственном
грехе» человека, предоставляя гражданам как законодательную,
так и исполнительную власть и более того — утверждая право
угнетенных на применение революционного насилия. При этом он
открыто признал, что тенденции к демократизму свойственны даже
якобинцам. В греческой античности Ф. Шлегель видел
историческую модель, которую можно было бы противопоставить
феодальной немецкой действительности. Он был убежден, что
продуктивное усвоение греческой поэзии может содействовать прогрессу
человечества.
В 1797 г. Ф. Шлегель опубликовал книгу «Греки и римляне.
Исторический и критический опыт о классической древности»,
а в 1798 г.— первую часть книги «История поэзии греков и
римлян», посвященную «периодам эпической эпохи» (догомеровскому,
гомеровскому и гесиодовскому).
В этих и других работах по классической древности Ф. Шлегель
пытался показать актуальное значение греческой поэзии. В своем
понимании античности он в существенных моментах, прежде всего
в обосновании буржуазно-демократической позиции, примыкал
к немецким просветителям. Вместе с тем уже в этот период Ф.
Шлегель ставил некоторые новые акценты. В сочинении «Об
эстетической ценности греческой комедии» он обратился к Аристофану,
поэту, который в XVIII в. ценился недостаточно. Ф. Шлегель же
именно в греческой комедии видел реальное воплощение мыслей
о свободе. Он интерпретировал свободу как «уничтожение всех
ограничений», а греческую комедию — как «символическое
изображение буржуазной свободы». Это значит, что Ф. Шлегель в оп-
142
ределенной степени переносил на античность современные ему
буржуазные представления о свободе индивида.
В сочинении «О Диотиме» Ф. Шлегель также характеризует
античность как пример человеческой свободы, активной
деятельности, гармонии всех способностей человека. Он высказывает
убеждение, что универсальное развитие человеческих способностей
невозможно без эмансипации женщины. Идеал греческой
женщины он противопоставляет господствующим представлениям,
утверждавшим подчиненное положение женщин по отношению
к мужчинам.
Восхищение греческой поэзией сопровождалось у Ф. Шлегеля
настоящим гимном в честь афинской демократии. Каждое свое
сочинение по античности второй половины 90-х годов он
использовал, чтобы показать читателям «поток демократизма».
Хотя после 1800 г. его понимание античности существенно
изменилось, все-таки он до конца своих дней не отказывался от
понимания греческой поэзии как одного из величайших
достижений мировой литературы. Самое объемистое сочинение этого
периода — «Об изучении греческой поэзии». В центре его —
эстетическое и историко-философское обоснование необходимости
изучения греческой античности в современную эпоху. Преимущества
греческой поэзии Ф. Шлегель выразил в понятии «объективная»
поэзия, под которой он понимал поэзию «истинно прекрасную».
Для характеристики современной поэзии он употребил понятие
«интересная», вкладывая в него отрицательный смысл. Однако
Ф. Шлегель выразил убеждение, что господство «интересного»
в европейской литературе со времени Данте представляет собой
только переходный этап в истории современной поэзии, что в
настоящее время уже зреет потребность в «объективном»,
«прекрасном», «лучшем вкусе».
Шлегелевская концепция новой «объективной» поэзии не
означала простое возрождение античной («объективной») поэзии
и полное отрицание современной («интересной»). Ф. Шлегель
выдвинул требование «объединения существенно-современного с
существенно-античным». Он рассматривал начало эпохи новой
поэзии как «эстетическую революцию», как предварительную ступень
и составную часть великого морального переворота, который
должен привести человечество к свободе, красоте и гармонии. Только
исходя из этой программы можно правильно определить то
значение, которое он придавал изучению античной культуры: ничто так
не может содействовать «эстетической революции», как изучение
греческой поэзии и литературы. Сочинение Ф. Шлегеля «Об
изучении греческой поэзии» представляет собой попытку с помощью
эстетической теории преобразовать духовные, литературные
и нравственные отношения современности.
Исторический подход к античному искусству и литературе
получил свое последовательное систематическое развитие в
сочинениях А. В. Шлегеля, в частности в его «Лекциях по изящной
литературе и искусству», прочитанных в Берлине в 1801 —
143
1804 гг. Первую их часть составляло «Учение об искусстве»,
вторую — «История классической литературы» и третью —
«История романтической литературы».
В этих лекциях в систематической форме и публично, перед
широкой общественностью, было изложено романтическое
понимание теории и истории искусства. Значение их было
огромным. Они были вскоре переведены на многие европейские языки.
Именно по ним долгое время в Европе изучали немецкий
романтизм.
Так же как Ф. Шлегель, А. В. Шлегель исходит из понимания
поэзии как прогрессивно развивающегося единства, целостности.
Понимание истории поэзии, как он подчеркивает, основывается на
идее «бесконечного прогресса человеческого рода», его стремлении
все время приближаться к чему-то, никогда недостигаемому 36.
В «Лекциях» А. В. Шлегеля показывается, что европейское
искусство в своем развитии прошло через два периода — античный и
современный, а также формулируются принципы искусства
будущего, представляющего собой синтез античного и современного
искусства.
Согласно А. В. Шлегелю, историческая наука не должна
представлять собой только «агрегат фактов», а должна приводить
к «усмотрению их необходимости», должна «в хаосе явлений
открывать их закономерный ход» 3/. «Все действительное...
подлинно необходимо», хотя эту необходимость часто нельзя познать
непосредственно и никогда — полностью. История поэтому
представляет собой «науки о становлении действительным всего того,
что практически необходимо» 38. «Так же как философия есть
история отдельного человеческого духа, — пишет А. В.
Шлегель, — так и история, есть философия всего человеческого духа.
Это одна и та же эволюция человеческого духа: философ исследует
и излагает ее законы, рассматривая ее в самом первоначальном
действии духа как нечто цельное и неделимое, а историк
представляет ее зависимой от условий времени и реализуемой в
бесконечном прогрессе» 39.
Выдвигая требование соединения истории искусства с его
теорией, т. е. с философией искусства, А. В. Шлегель полагает, что
оно реализуется в «романтической критике». Последняя выступает
посредницей между историей искусства и его теорией; она,
следовательно, является не чем иным, как философией истории
искусства. Романтическая критика у А. В. Шлегеля
получает также определение «опосредующей». Это значит, что суть
ее заключается в опосредовании противоречий в развитии
искусства. Именно «романтическая критика» (т. е. философия истории)
доказывает, согласно А. В. Шлегелю, что «все наше наличное
бытие основывается на смене постоянно разрешающихся и
возобновляющихся противоречий»40.
В качестве одного из таких основополагающих противоречий
«романтическая критика» А. В. Шлегеля рассматривает
противоречие между античным и «новым изящным вкусом», между клас-
144
сическим и романтическим, объективным и субъективным
искусством. Противоположность между двумя этими периодами в
развитии искусства не абсолютна; она опосредуется
«становлением» «прогрессивной универсальной поэзии».
Как в «Лекциях по изящной литературе и искусству», так
и в несколько более поздних «Лекциях о драматическом искусстве
и литературе» (прочитанных в Вене в 1807 г.) А. В. Шлегель
излагает основные принципы романтической литературной
критики — «понятие о подлинном духе критики».
Подлинный критик, согласно А. В. Шлегелю, должен обладать
«духом универсальности», многосторонности. Это значит, что он не
должен ограничиваться «привычками» собственного воспитания
и образа жизни, т. е. рассматривать в качестве естественного
и прекрасного только то, что является таковым в соответствии
с его родным языком, нравами и общественными отношениями.
Подлинный знаток искусства должен обладать способностью,
отказываясь от личных предпочтений и слепых привычек,
проникать в свойства других народов и эпох, ощущать их как бы из
их собственного «центра», узнавать и подобающим образом
оценивать в качестве прекрасного и великого то, что скрывается «под
оболочкой, кажущейся странной»41.
«Нет никакой монополии поэзии для определенных эпох и
народов», — пишет А. В. Шлегель. Поэтому и «деспотизм вкуса»,
согласно которому какие-то определенные, зачастую совершенно
произвольно устанавливаемые правила должны иметь всеобщее
значение, всегда является «недопустимым притязанием». Поэзия,
с точки зрения А. В. Шлегеля, взятая в своем наиболее широком
смысле как способность чувствовать и изображать прекрасное,
есть «всеобщий дар неба». Поэтому даже так называемые варвары
и дикие народы также имеют свою поэзию.
Решающее значение в оценке любой поэзии имеет выяснение
того, из. какого источника она произошла. Если она внутренним
образом связана с самим существованием народа, т. е. происходит
из внутренних основ его бытия, тогда она, без сомнения, имеет
определенную ценность. Если же поэзия навязана народу извне,
она не способна ни к «процветанию», ни к «подлинному росту» 42.
Такая поэзия достойна всяческого порицания.
Понятие универсальности или многосторонности подлинного
критика А. В. Шлегель применяет, далее, к истории поэзии и
изящных искусств. Что касается изучения истории древней
литературы, то оно, как подчеркивает А. В. Шлегель, имело двойственное
значение. С одной стороны, оно дало человеческому духу
многообразные импульсы и составило решающую эпоху в истории
нашего образования. С другой стороны, вместе с изучением
древних возникло стремление видеть в их искусстве обязательный
образец для подражания. В соответствии с этим в произведениях
«новых» ценилось лишь то, в чем они были схожи с древними.
Все прочее отвергалось как «варварское вырождение».
Считая такое нормативно-эстетическое отношение к античности
145
недопустимым для подлинного, т. е. исторического критика,
А. В. Шлегель ссылается на отношение к древним великих поэтов
и художников эпохи Возрождения. Как бы они ни восхищались
античным искусством и как бы ни было сильно в них желание
соревноваться с ним, все-таки «самостоятельное своеобразие их
духа» вынуждало их идти своим путем и отмечать свои
произведения «печатью собственного гения». И в этом смысле их
произведения существенно расходились с правилами и нормами искусства
греко-римской античности. Так случилось с Данте, Ариосто, Ми-
келанджело, Рафаэлем.
Именно следование этих художников «естественной
склонности» своего гения сделало их произведения любимыми в народе.
Так, не «несовершенное родство» с Вергилием или даже с Гомером,
«нежное чувство рыцарской любви и чести» делает, согласно
А. В. Шлегелю, героические песни Тассо до сих пор «живыми»
в сердцах «его соотечественников» 43. Но такие «подлинные»
последователи античности встречались в европейском искусстве очень
редко, а «ремесленные неодухотворенные подражатели» — часто.
Критики же именно последних в большинстве случаев считали
«новыми классиками», а первые терпели только как
«необразованных, диких гениев».
Впервые именно немецкие мыслители, как подчеркивает
А. В. Шлегель, имея в виду представителей йенской романтической
школы, попытались и отдать должное «древним», и признать
совершенно отличающееся от них своеобразие «новых». Их не
испугало, что при этом они впадают в ясно «видимое
противоречие».
Все указанные признаки противоречия античного и нового
(романтического) искусства могут быть прослежены, как
указывает А. В. Шлегель, во всех видах искусства — архитектуре,
музыке, живописи, а также в литературе и поэзии.
Исторический подход к античной литературе и искусству,
характерный для раннеромантической теории и истории искусства,
был систематически развит в немецкой классической философии,
и прежде всего в «Лекциях по эстетике» Гегеля. Свою дальнейшую
разработку на качественно новой основе он получил в
марксистско-ленинской эстетике.
3
ЛАБИРИНТ ЕВРОПЕЙСКОЙ МЕТАФИЗИКИ
И ВОЛШЕБНАЯ ГОРА ЭЛЛИНИЗМА
В ИНТЕРПРЕТАЦИИ НИЦШЕ
В истории формирования идей консервативной идеологии в
XIX в. Франко-прусская война 1871 г. является, говоря словами
Гегеля, «подлинным поворотным моментом, переходом древности
в новое время» '.
С одной стороны, в консервативной идеологии завершается
146
период, восходящий к реакции на великую Французскую
революцию XVIII в. и революцию 1848 г. в Германии, с другой — именно
1871 год ознаменован не виданным до того явлением —
Парижской коммуной, продемонстрировавшей многие черты
пролетарской революции. Вместе с тем, успешные войны 1866 и 1870 гг.,
образование империи (1871 г.) во главе с Пруссией, золотой дождь
военной контрибуции, полученной от поверженной Франции,
явились своеобразным итогом собственно буржуазного пути
развития Германии той поры. И так как «традиции мертвых поколений
тяготеют, как кошмар, над умами живых» 2, то и этот «переход
в новое время» буржуазия склонна была рассматривать по
аналогии с историей античности.
Как отмечает К. Маркс, «как раз тогда, когда люди как будто
только тем и заняты, что переделывают себя и окружающее и
создают нечто еще небывалое, как раз в такие эпохи
революционных кризисов они боязливо прибегают к заклинаниям, вызывая
к себе на помощь духов прошлого...» 3. И если либералы, и в
частности идеологи прусской политики 60—70-годов, так
называемые историки-малогерманцы Зибель, Дройзен и, по определению
В. И. Ленина, «казенно-полицейский источник» 4 Трейчке
прославляют деяния «исто-германского героя» — Отто фон Бисмарка как
подвиги Александра Великого, создавшего некогда Римскую
империю5, а античную историю, интерпретируя в терминах
политики «бонапартизма», то консерваторы, тоже обращаясь к
античности, что особенно характерно для Ницше, впервые выступившего
на философском поприще именно в эти годы, видят в ней и через
нее в современности скорее переход «назад к трагедии» 6. Тем
самым античность как для либералов, так и для консерваторов
является медиатором-посредником, с помощью которого
происходит осознание и усвоение нового в историческом развитии,
особенность, которую хорошо выразил Ницше: «Говоря о греках, мы
невольно говорим в то же время о прошлом и настоящем;
общеизвестная история их — это блестящее зеркало, которое всегда
отражает что-нибудь, чего нет в самом зеркале» 7. И, оставляя
за собой право на наиболее адекватное отражение
современности, Ницше пишет: «Величайшие ценности античного мира
написаны только для тех людей современности, кто умеет читать
точно» 8.
И дело не только в том, что Ницше — профессор классической
филологии, в 1871 г. впервые выступивший в роли философа,
а в том, что сам филолог-философ как бы берет на себя сотериоло-
гические функции, является герольдом, пророком новой культуры,
предлагаемой им на этом переломном этапе развития Германии.
Ницше своей философией как бы создавал леегенду и строил ее
на столь бессознательно или сознательно реконструируемом
легендарно-мифологическом основании, что подчас порождало
особого рода эксцентричность.
Уже в поздний период Ницше, осознавая эту своеобразную
позицию, писал в одном из писем: «В Германии сильно огорчены
147
моей эксцентричностью. Но поскольку люди не знают, где мой
центр, и считают, что узнать это трудно, то и сегодня я для
них остаюсь эксцентричным, например, в качестве классического
филолога, хотя и это не мой центр (что, естественно, не означает,
что я плохой классический филолог)» 9. А завершая свой
творческий путь и находясь уже на грани безумия, Ницше не без
некоторой доли позы величия пишет в одном из последних писем
этого периода: «Фактически я скорее был профессором в Базеле,
чем богом, я не настолько отважен, чтобы, раздувая свой эгоизм,
создать мир за его счет»10. Но вместе с тем, создавая свою
легенду, свою судьбу пророка и герольда, провозвестника новой
утверждаемой им культуры, Ницше строит ее по канонам,
выработанным мифологической традицией.
Прежде всего Ницше свергает ложную веру и
противопоставляет ей свое учение. Центральным пунктом расхождений философа
с предшествующей традицией и с конфессиональной верой
является вопрос о бытийном, экзистенциальном статусе метафизики,
в противовес которой он выдвигает миф, в частности миф,
лежащий в основании древнегреческой трагедии VI—VII вв. до н. э.,
своеобразной интерпретацией которого является его первое
философское произведение — «Происхождение трагедии из духа
музыки» (1871). Миф настолько захватил философа, настолько
стал его личным переживанием, что все периоды его творчества
густо пропитаны его символикой, метафорами и подчас весьма
сложными реминисценциями, раскрытие которых представляет собой
весьма трудную задачу для интерпретирования и.
Ницше не только противопоставил миф науке, но прямо своей
задачей определил «превозмочь знание силою творчества,
создающего мифы...» 12. Социальный смысл этой редукции лучше всего
комментирует сам философ, когда утверждает: «Вся античная
философия направлена была к простоте жизни, учила об
известного рода отсутствии потребностей: это лучшее средство против
всех мыслей о социальной революции» 13. Тем самым, противо-'
поставляя античность — при этом имеется в виду античность досо-
кратического периода — современной ему философии, Ницше
подвергает переоценке весь длительный и долгий путь развития
европейской философии.
Но коль скоро Ницше все же не может отрицать того факта,
что формирование философии происходило путем отделения
собственно философского знания от мифа, то философ так
интерпретирует этот процесс. Приведем лишь краткие оценки. «Фалес: „Что
влекло его к науке и мудрости? Прежде всего борьба против
мифа. Против государства, которое было на нем основано41.
„Анаксимандр: Борьба против мифа, поскольку он изнеживает,
опошляет и приводит таким образом греков в опасность".
„Гераклит: Борьба против мифа, поскольку он изолирует греков и
противопоставляет их варварам". „Парменид: Теоретическое
презрение к мифу как к обману..." „Эмпедокл: Панэллинский
реформатор; пифагорейский образ жизни, научно обоснованный. Новая
148
мифология..." „Демокрит... Безусловное устранение всего
мифического» ,4.
Итак, из всех философов досократического периода только
Эмпедокл, по мнению Ницше, сохраняет миф как форму освоения
действительности. Совсем другую оценку получает Сократ.
«Сократ — это месть за Терсита: прекрасный Ахилл убил уродливого
человека из народа Терсита, преисполнившись гнева за его грубость,
проявленную во время смерти Пентесилеи; уродливый человек из
народа Сократ умертвил авторитет чудного мифа в Греции» ,5.
И все дальнейшее развитие европейской философии Ницше
интерпретирует как форму гибели мифологического, начало которой
положил Сократ. И более того, следуя в том за А. Ф. Ланге 16,
Ницше и Сократа и Платона, и все последующие сократические
школы считает не эллинскими, чуждыми греческому явлениями.
Скептическое мнение высказывает Ницше и об Аристотеле:
«Желание иметь что-нибудь достоверное в эстетике привело к обожанию
Аристотеля; я полагаю, можно шаг за шагом доказать, что он
в искусстве ничего не понимает и что нас в нем так восхищает
лишь отзвук умных разговоров Афинян. У Аристотеля видны белые
нитки» ,7.
Подобной переоценке подвергаются и современные ему
попытки интерпретации античности. И здесь Ницше прежде всего
отрицает понимание античности, сложившееся в так называемом
Веймарском классицизме, крупнейшими представителями которого
были в начале XIX в. Винкельман, Гёте, Шиллер и следующие
за ними романтики Йенского кружка. Так, уже в1871 г., в
«Происхождении трагедии из духа музыки», он заявляет: «Таким героям,
как Шиллер и Гёте, не удалось взломать заколдованные ворота,
ведущие в волшебную гору эллинизма» ,b. А в 1887 г. в «Сумерках
кумиров», т. е. в произведении позднего периода, когда философ
как бы завершает создание философии, называемой им «дионисий-
ской», Ницше, что показывает устойчивость самой этой позиции,
пишет: «Совсем иначе относимся мы к понятию о греческом мире,
составившемуся у Гёте и Винкельмана, когда находим его
несовместимым с тем элементом, из которого вырастает дионисиевское
искусство о оргиазмом. Я не сомневаюсь в том, что Гёте
действительно на серьезных основаниях делал свои выводы о свойствах
греческой души. Следовательно, Гёте не понимал греков» ,9.
Что же так не устраивало Ницше в развитии европейской
метафизики? Откуда такое упорное стремление к мифу как форме
отражения действительности? И Ницше дает свой ответ,
трансформируя историю европейского развития философии в своего рода
миф: «Весь современный нам мир, — пишет философ, — бьется в
сети александрийской культуры и признает за идеал вооруженного
высшими силами познавания, работающего на службе у науки
теоретического человека, первообразом и родоначальником
которого является Сократ...2υ. Далее философ как бы подытоживает:
«И заметьте это: александрийская культура нуждается в сословии
рабов, чтобы иметь прочное существование, но она отрицает в
149
своем оптимистическом взгляде на существование необходимость
такого сословия и идет поэтому мало-по-малу навстречу
ужасающей гибели...» 2|.
Тем самым Ницше как бы раскрывает источники трагизма
современной ему действительности: страх перед
революционизирующим влиянием рационалистической науки, страх перед
грядущей социальной революцией, своеобразной репетицией которой
явилась Парижская коммуна 1871 г. Не трагическая эпоха,
возвращение к которой ожидает Ницше, а трагизм ситуации для
определенной части аристократически-феодально настроенной
интеллигенции, волею судеб живущих в предреволюционную
эпоху, — вот что на деле отражает его социальные прогнозы и
попытки переосмысления действительности по аналогии с
греческой культурой. И если позитивистски настроенный французский
консерватор Э. Ренан в своих «Философских диалогах», вышедших
тоже в 1871 г., мечтает о том, что с помощью науки в дальнейшем
возможна своего рода «аристократия разума», которая как бы
явится воспроизведением утраченных феодальных кастовых
привилегий 22, то Ницше, проявляя своего рода конгениальность,
солидаризируется с русским консерватором К. Леонтьевым, который в
весьма симптоматично названной статье «Средний европеец как
идеал и оружие всемирного разрушения» тоже ставил проблему
ограничения притязаний науки и своеобразного
«подмораживания» социальных отношений 23.
Ницше пишет: «Дело идет не о том, чтобы уничтожить науку,
но чтобы овладеть ею. И господствующая философия должна
решить проблему о границах, до которых допустим рост науки:
она определяет ценность науки» 24. Иначе говоря, как считает
философ (здесь он опять словно перекликается с К. Леонтьевым 25,
цель состоит в том, чтобы признать, что «решающим голосом
обладает не стремление к познанию, а эстетическое чувство.
Мало доказанная философия Гераклита имеет гораздо большее
значение, чем все научные положения Аристотеля. Таким образом,
фантазия укрощает стремление к познанию и указывает ему место
в культуре данного народа» 26. И не отказываясь от иллюзий о
предстоящем возрождении античности трагического периода,
поскольку отказ от иллюзий означал бы отказ «от такого
положения, которое нуждается в иллюзиях» 27, Ницше в качестве
основного аргумента в своем споре с современностью дает весьма
своеобразную трактовку древнегреческих мифов об Эдипе и
Прометее. Так как «античное зеркало» всегда отражает и нечто такое,
чего не было в самом зеркале, то сама эта интерпретация древних
мифов показывает субъективные надежды и ожидания
интерпретатора, его социальную позицию. Эта интерпретация как бы является
«нитью Ариадны», возвращающей из тупика, из лабиринта
европейской метафизики на мифическую землю трагического
мировоззрения, утверждаемого философом.
Сам конфликт переживаемой им эпохи Ницше воспринимает
прежде всего как конфликт идеологический, лишь своей оборотной
150
стороной порождающий социальные бури. Как отмечает
Иорг Салагарда, «Ницше вступает в борьбу с любым мифом,
который выдвигает притязание на статус научной истины, так как
он видит в этом признак декаданса и озлобления человека» 28.
И в этом смысле Ницше вполне отражает то своеобразнре
переплетение идеологии и мифологического мышления, которое
К- Леви-Стросс характеризует как особенность современного
буржуазного политического мышления 29.
Итак, миф об Эдипе, который Ницше воспроизводит согласно
древней ритуальной форме дионисийских мистерий. Главным
действующим лицом этого мифа является сам Дионис — Эдип же
лишь своеобразный его протагонист. «Можно утверждать, —
пишет Ницше, — что никогда вплоть до Еврипида Дионис не
переставал оставаться трагическим героем, но что все знаменитые
фигуры греческой сцены — Прометей, Эдип и т. д. представляют
только маски этого коренного героя — Диониса»30. В качестве
реплики к ритуалу трагедии Софокла «Царь Эдип» и «Эдип в
Колоне» включают в себя различные еще не совсем
дифференцированные мотивы. Это и мотив «бессознательного рождения героя»31,
и мотив знания как припоминания 32, и мотив патрицида,
соединенного с инцестом 33, как своеобразная форма мифологемы
регенерации, возрождения 34, мотив эпифании самого Диониса 35. Но
центральным в интерпретации Ницше становится все же мотив
сопротивления, мотив «митраизма», намеченный в трагедии,
являющийся лишь своеобразной формой жертвенного мифа,
отмечаемого в период Великих Дионисий 36. Согласно логике этого
мифа-сопротивления, герой-антагонист бога вступает с ним в
борьбу и гибнет, становясь формой эпифании самого бога, т. е.
становясь как бы его протагонистом. Вызов природе, опоэтизированной
в образах бога, сфинкса, матери, родной общины, неизменно
заканчивается поражением героя, природа мстит смельчаку
и тем самым как бы восстанавливает равновесие естественных
и социальных сил, находящихся в противоборстве. Безумие героя,
вначале ослепленного силою своего разума, разгадавшего загадку
сфинкса, оборачивается безумием, ритуальным сумасшествием в
конце этого противостояния, его своеобразным итогом. Как пишет
Ницше, реконструируя эти представления древних, «мудрость и
именно дионисическая мудрость есть противоестественная скверна,
что тот, кто своим знанием низвергает природу в бездну
уничтожения, на себе испытывает это разложение природы» . В основе
этих представлений древних лежит «поликратов комплекс»,
описанный Геродотом 38. Ницше, несомненно, знал и трактовку этого
мифа Р. Вагнером, который писал: «Нам должно только верно
понять миф Эдипа в отношении его внутренней сущности, и мы
получим в нем понятную картину всей истории человечества от
начала общества до неизбежного падения государства,
необходимость этого падения в мифе предчувствуется, а история должна
его воспроизвести» 39. В качестве специалиста-филолога знал он
и взгляды древних на этот миф, и в частности взгляды Платона,
151·
который писал, почти отождествляя культ предков и культ богов:
«Пренебрегать родителями никому не посоветует ни бог, ни какой
бы то ни было человек, обладающий разумом. Надо усвоить,
что это предварительное слово относительно почитания богов
направлено к верному пониманию вопроса о почитании или
непочитании родителей» 4υ. И так как патрицид, связанный с
инцестом, лежит в основе этого мифа, давая как бы отрицательный
пример того, что запрещено, что является как бы охранительным
мифом запрета, то Ницше, проецируя на современную ему
действительность символику мифа, пишет, противопоставляя трагедию
«Царь Эдип» трагедии «Эдип в Колоне»: «Наиболее отягченный
страданиями образ греческой сцены, злосчастный Эдип был
задуман Софоклом как тип благородного человека, который,
несмотря на всю его мудрость, предназначен к заблуждениям
и к бедствиям, но в конце концов безмерностью своих страданий
становится источником чудесной благодати для всего, что его
окружает, — благодати, не теряющей своей действительности
даже после его кончины» 4|. Тем самым миф сопротивления богу
как бы оканчивается мифом благодати, смирения перед ним.
Герой, поднявший руку на бога в безумии разума, лишь через
отказ от него и в смирении обретает благодать. И здесь намечается
своеобразный переход к мотиву «митраизма». Ницше так
определяет его в поздней работе «По ту сторону добра и зла» (1886):
«Когда-то своему богу приносили в жертву людей и, может быть,
именно тех, которых более всего любили — сюда принадлежат
жертвы первенцев всех религий древних времен и жертва Тиверия
в пещере Митры на острове Капри — этот ужаснейший из римских
анахронизмов... Затем в моральную эпоху человечества
жертвовали своему богу самые сильные из своих инстинктов, свою
природу... Наконец, чем оставалось жертвовать еще?... Не должно ли
было пожертвовать самим богом и из жестокости к самим себе
поклоняться камню, глупости, тяжести, судьбе, боготворить
Ничто? За Ничто пожертвовать Богом — эта парадоксальная
мистерия последней жестокости осталась на долю того поколения,
которое подрастает теперь: мы все уже вкусили отчасти от
этого» 42.
Мотив «митраизма» как мотив «смерти бога», жертвы его,
принесенной современностью, становится тем самым формой
раскрытия древнего мифа, который парадоксальным образом
переплетается с действительностью философа, живущего в эпоху,
далеко отстоящую от архаического времени. Устойчивость этого
мотива характерна для всего творчества Ницше, не случайно
вслед за анализом мифа об Эдипе писавшего: «И таким образом
с самого начала первая же философская проблема ставит
мучительно неразрешимое противоречие между человеком и богом и
подкатывает его как камень к воротам всякой культуры» 43.
Усвоение уроков античности для понимания современной
культуры, предложенное Ницше, своеобразно было подхвачено и
основателем психоаналитического учения 3. Фрейдом. Объединяя
152
культ предков, отца с формированием образа бога, 3. Фрейд,
что весьма характерно, воспроизводит и «мотив митраизма»,
предложенный Ницше. Для психоаналитика судьба Эдипа, патрицид
и последующий инцест тоже являются объяснительными
механизмами, порождающими трагизм современной ему культуры.
Интерпретация мифа, предложенная Ницше, тем самым становится
мифом, раскрывающим не только античные, но и современные
реалии. «В один прекрасный день, — пишет 3. Фрейд, —
изгнанные братья соединились, убили и съели отца...» «Тотемистическая
трапеза, может быть, первое празднество человечества, была
повторением и вспоминанием этого замечательного преступного
деяния, от которого многое взяло свое начало: социальные
организации, нравственные ограничения и религия»44. «В эдиповском
комплексе, — подытоживает Фрейд, — совпадают начала религии,
нравственности, общественности и искусства в полном согласии
с данными психоанализа, по которому этот комплекс составляет
ядро всех неврозов, поскольку они оказались доступными нашему
пониманию» .
Если миф об Эдипе служит Ницше формой интерпретирования
дионисиискои мудрости, которая, усмиряя свои порывы, обретает
благодать и смирение перед природой, то миф о Прометее
выступает своего рода дополняющей иллюстрацией аполлоновского
стремления к самоутверждению, которое тоже своеобразно отражает
архетип культуры, рисуемый Ницше.
Прометей, по определению К. Маркса, — «самый благородный
святой мученик в философском календаре» 46. Миф о нем Ницше
интерпретирует тоже как «миф-сопротивление», «миф-запрет»,
ограждающий древнегреческую культуру от разложения и гибели.
Являясь образом культурного героя, мифического предка, с
которым архаические греки связывали открытие огня, письменности,
различных ремесел, Прометей представляет собой образ «адами-
ческого героя», который посягает на природу богов, но в отличие
от Эдипа все же обладает бессмертной участью, что во многом
определяет его пафос как форму божественного страдания.
Являясь протагонистом Диониса, Прометей как бы олицетворяет в
качестве его своеобразной метафоры огонь, который по преданию
сжег Семелу — смертную мать Диониса 47. Вместе с тем он подобен
Озирису, Орфею, Лину — образам культурных героев, богов,
страдающих за свое благодеяние человечеству; одновременно
являясь культурным героем, реформатором, Прометей — своего
рода отступник от старой канонической традиции, веры и т. д.,
что позволяет сопоставлять его с античным орфизмом, который
под влиянием Ономакрита существенно реформировал культ
Диониса. Но так как, являясь своеобразной метафорой Диониса,
Прометей одновременно антагонист, то и ему присущи элементы
мотива «митраизма», моменты титаномахии, т. е. борьбы титана
с богом.
Как и в анализе мифа об Эдипе, Ницше отмечает, что миф
о Прометее тоже своего рода отрицательный пример — «миф
153
запрета», стоящий на страже древней архаической культуры.
Миф о Прометее объясняет, как появляется идея
несправедливости, вины, необходимость некоторого равновесия социальных
и природных сил, сходную с некоей идеей возмездия, неотвратимо
следующей за вызовом природных силам. «Лучшее и высшее,
чего может достигнуть человечество, — пишет Ницше, — оно
вымогает путем преступления и затем принуждено принять на себя
и его последствия, а именно — всю волну страдания и горестей,
которые оскорбленные небожители посылают, должны послать
на благородное, стремящееся ввысь человечество...»48. Миф о
Прометее является, по мнению философа, формой «оправдания
зла в человечестве» 49, своеобразной его негативной теодицеей.
В качестве «мифов запрета» миф об Эдипе и Прометее несут
в себе богоборческие мотивы опирающегося на свой разум
индивида, импульс борьбы, которая неизбежно оканчивается смирением
и своеобразной формой квиетизма. А так как борьба Диониса
с антагонистом — Эдипом, Прометеем — это всегда лишь борьба
бога с самим собою, вытекающая из тождества антагониста
и протагониста, то Ницше самому этому богоборческому импульсу
дает название, соответствующее светлому олимпийскому божеству
Аполлону, который позже Диониса явился в Дельфы и занял
место, принадлежавшее хтоническому богу. И оставаясь своего
рода неоромантиком, Ницше, интерпретируя эти, казалось бы,
далеко отстоящие от современной ему Германии мифологические
представления, тем не менее все же анализирует и в этой
превращенной форме социальные механизмы окружающей его
действительности. Углубляясь в далекое мифологическое прошлое
европейской цивилизации, Ницше анализирует механизмы социальной
жизни, окружавшей его новой буржуазной действительности.
Вводя дихотомию дионисийского и аполлоновского начал,
Ницше вычленяет механизмы, которые позволяют сдержать
дальнейшее развитие элементов как дионисийского, так и
аполлоновского характера. И если дионисийское начало олицетворяет
демократическое движение, а аполлоновское —
нормативно-ценностное, то формой их примиряющего синтеза, своеобразным
единством противоположностей выступает для философа
древнегреческая Спарта, предстающая в качестве образцового
государства. Будучи воплощением дорического начала, Спарта, по
мнению Ницше, являлась воплощением мечты философа, его
утопическим идеалом государства.
«Я, — писал он, — именно и могу только объяснить себе
дорическое государство и дорическое искусство как постоянный
воинский стан аполлоновского начала: лишь в непрерывном
противодействии титанически-варварской сущности
дионисического начала могло так долго продержаться такое
упорно-неподатливое, со всех сторон огражденное и укрепленное искусство, такое
воинское и суровое воспитание, такая жестокая и беспощадная
государственность»50. Консервативно-охранительный пафос этого
идеала, предлагаемого Ницше в качестве модели современного
154
государства, не оставляет сомнений в первоначальных интуициях
философа. Не случайно уже в предисловии к «Происхождению
трагедии из духа музыки» Ницше писал: «При действительном
прочтении этой книги... станет до изумительности ясным, с какой
строго немецкой проблемой мы здесь имеем дело, поставленной
как раз в средоточие немецких надежд, как точка апогея и
поворота» 5|.
Итак, Ницше отводит себе в этот период роль «сакрификатора»,
очистителя мира, «соскочившего с петлей»52, то называя себя
«дионисийской пташкой»53, «Сократом, отдавшимся музыке»54,
то в качестве спасительного средства призывает к возрождению
«немецкого мифа»55, «возвращению всего немецкого»56, как
форме борьбы с «мифом сократизма» 57, дающего «абстрактного,
не руководимого мифами человека, абстрактное воспитание,
абстрактные нравы, абстрактное право, абстрактное
государство» 58. Более того, считая себя герольдом «поворота», «возврата»
всего немецкого, трагического и т. п. и отталкиваясь от
представлений Геродота, рассказавшего о Залмоксисе 59 — Эмпедокле,
выступившим в качестве основателя новой интерпретированной
философии религии, как архетипа возникновения божества
вообще, и в особенности от гельдерлиновских реконструкций
этих представлений, выраженных в драмах «Смерть Эмпедокла»
и «Эмпедокл на Этне», Ницше и себя воспринимает в этот момент
в качестве своего рода манифестации, эпифании древнегреческого
божества. И эта глубинная установка охватывает все творчество
Ницше, даже на пороге безумия подписывающего последние
письма именем — «Дионис».
И возвращаясь к началу статьи, отметим, что «лабиринт
европейской метафизики», тупик, «символически» тождественный
для древних греков с «городами мертвых»60, преодолевается
Ницше через своеобразный культ «возвращения» к древним
архаическим представлениям языческой древнегреческой оргиа-
стической религии Диониса, согласно романтическим версиям
Гельдерлина 6| и Р. Вагнера 62, еще сохраняется в «волшебной
горе», «гроте» и ждет своего часа для вторичного возрождения.
Неоязычество и неоромантизм, намеченный Ницше, найдет свое
специфическое завершение в дальнейшей разработке этих
парадоксальных представлений и в творчестве Т. Манна 63, и в
декадентской поэзии Стефана Георге, и в философских представлениях
его ближайшего друга Мартина Бубера, и у многих других поэтов
и философов начала XX в.64, для которых этот культ
«возвращения» станет устойчивым не только поэтическим, но и
социально-ожидаемым образом, архетипом надежды ближайшей
регенерации, возрождения самого буржуазного общества.
Весьма характерно, что именно этот «архетип» мышления,
опирающийся на культурную традицию XIX в., лежит и в оценке
многими западными философами, и в частности Эр. Фроммом,
таких реакционных явлений XX в., как фашизм, который он
трактует как форму своеобразного неоязычества, форму возвращения
155
к древней архаической культуре , вольно или невольно давая
ему апологетическое толкование и оправдание. Но само по себе
это «заклинание» духов прошлого не может ни отменить, ни
затемнить всей реакционной сущности таких ожиданий и их утопичность.
4
ПРОБЛЕМА СОКРАТА У НИЦШЕ
Все возрастающий поток литературы, посвященной изучению
литературного и эпистолярного наследия Ницше, свидетельствует
о том, что идеи этого философа играют в современной духовной
жизни довольно активную роль. Тот самый Ницше, который
когда-то считал свои размышления «несвоевременными»,
становится ныне как нельзя более современным, превращается в центр
психологических, литературных, философских и других изысканий.
И ни в одном из них не обходится без ссылок на то, что воззрения
Ницше в основе своей складывались под глубоким воздействием
достижений древнегреческой культуры, вершиной которой был
Сократ и с которого, по убеждению Ницше, начался ее быстрый
упадок и разложение. При этом истинное отношение Ницше к
Сократу стараются или затушевать, или найти определения,
совершенно не свойственные ни эпохам, ни стилю мышления обоих.
Существует, пишет, например, Р. Ховей, глубокая духовная
связь между греческим характером и характером Ницше; основа
ее — аристократический радикализм, который перекликается с
положением Сократа о том, что только лучший и мудрейший
должен править. Ницше, как и его духовные предшественники
Гераклит и Сократ, питает глубоко коренящееся презрение к
массам, или «стаду», и начисто отвергает демократию как форму
нигилизма, порождающую те же самые типы упадка культуры и
то же безумие, которые увековечены христианством '.
Довольно однозначно формулирует приблизительно ту же
мысль один из почитателей Ницше французский исследователь
М. Герэн, объясняя успех своего «мэтра» тем, что он, якобы
впитав в себя лучшее из наследия древних, взывает к родственным
себе по духу, а именно к тем, кому ненавистна сама идея
демократии и социализма 2.
Однако восторженные оценки древних греков, встречающиеся
почти во всех сочинениях Ницше, сопровождаются
систематическими и резкими отступлениями, связанными с нападками на
учение и личность Сократа. И хотя буржуазные философы
пытаются объяснить этот вызов либо «высокомерием мысли» Ницше,
либо другими не менее туманными мотивами, остается
неопровержимым факт, на который указывал в свое время Ф. Зелинский:
в философии Ницше имя Сократа, «одно из священнейших имен
в истории человечества, было поругано» \
В чем тут дело?
Надо прежде всего сказать, что отношение Ницше к Сократу
было далеко не однозначным. С одной стороны, Сократ, по соб-
156
ственному признанию Ницше, очаровывал его как тот особый
мыслитель, с которым связано появление диалектики. Конечно, в том
смысле, в каком понимал ее немецкий философ. Так называемая
ницшеанская диалектика есть, во-первых, своего рода оружие,
с помощью которого, как он сам говорит, можно стать тираном,
а во-вторых, она дает чувство власти и самоутверждения,
поскольку сведение чего-нибудь неизвестного к известному, незнакомого
к знакомому облегчает, успокаивает.
С другой стороны, очарование Ницше Сократом превращалось
в прямую противоположность: для такого сторонника элиты,
каковым считал себя буржуа Ницше, Сократ, сын повитухи и
каменотеса, был чернью, следовательно, с появлением учения Сократа
и его диалектики, в понимании Ницше, наверх всплывает чернь.
Этим, как он считает, побеждается аристократический вкус и
попираются лучшие традиции, освященные преданием и верой.
Теперь там, где авторитет относится к числу хороших обычаев,
появляется диалектик. Сначала он кажется фигурой, вызывающей
интерес, но со временем, говорит Ницше, здравый смысл берет
верх, и на диалектика смотрят, как на шута; Сократ и был шутом,
но шутом, возбудившим серьезное отношение к себе4.
Главное же обвинение, которое бросает Сократу Ницше,
состоит в том, что с него начинается оптимизм, но не тот
художественный оптимизм — с теологией и верой в благого бога, так
импонирующий Ницше,— а вера в знающего, добродетельного человека,
умеющего с помощью разума побороть свои инстинкты. А это уже
область нравственности, этики, воспитания благородных чувств.
Короче, Ницше не приемлет двух самых существенных
положений, связанных с личностью и учением древнегреческого
мыслителя: то, что он явился родоначальником диалектики, и то, что он
одним из первых дополнил философию этикой, т. е. применил метод
диалектического анализа к социальным вопросам бытия.
Остановимся более подробно на этих двух моментах. Понятие
диалектики во времена Сократа имело, как известно, не совсем
тот же смысл, который вкладывается в него сейчас. Диалектика
Сократа — это скорее диспутийное искусство, искусство спора.
Если следовать учению Сократа, как оно изложено у Ксенофонта,
то можно сказать, что Сократ сосредоточивал свое внимание
на охватывании противоречий скорее в самих сущностях
этического характера. «Он исследовал, — писал Ксенофонт, — что
благочестиво и что неблагочестиво, что справедливо и что
несправедливо, что благоразумие и что неблагоразумие, что храбрость
и что трусость, что государство и что государственный муж, что
власть над людьми и что человек, способный властвовать над
людьми, и т. д.» °
У Платона акцент в оценке Сократа несколько смещается
в сторону логического (понятийного) развертывания
противоречий, и здесь Сократ уже более логик, нежели это показано у
Ксенофонта. Диалектиком, по Платону, Сократ называл того, кто
может правильно поставить вопрос и, взвисив все за и против.
157
дать на него обоснованный ответ. Причем методика постановки
вопросов была до того проста, что отвечающий поначалу даже
не улавливал в них той глубины, которая наводила его на
единственно правильный ответ. В «Государстве» Платона один из
собеседников Сократа выражает это так: «Всякий раз твои
слушатели думают, что рассуждение при каждом твоем вопросе лишь
чуть-чуть уводит их в сторону, однако когда эти „чуть-чуть"
соберутся вместе, ясно обнаруживается отклонение и противоречие
с первоначальными утверждениями» ь. Способного уловить и
выразить суть всех оттенков этих отклонений и противоречий, свести
их к чему-то единому с помощью разума Сократ и называл
диалектиком, человеком, склонным, как мы бы сказали теперь, к
спекулятивному мышлению, природа которого, как указывал
В. И. Ленин, и «состоит единственно в схватывании
противоположных моментов в их единстве» 7.
А коль скоро человек может относительно какой-либо вещи
или явления взвесить все за и против и сделать правильные
выводы, он, полагал Сократ, может в этом же аспекте рассматривать
и свои собственные поступки, определяющие его поведение и
отношение к другим. И если верно, говорил Сократ, положение
софистов, что человек — мера всех вещей, то тогда так же верно
и то, что мерой поступков человека должен служить разум. Разум
достаточно силен, чтобы помочь человеку в выборе верного пути.
Одно дело, считал Сократ, если у человека происходит что-нибудь
хорошее по чистой случайности, на то воля богов, другое — если
человек сам приходит правильно к цели благодаря истинному
мнению или знанию8.
Такая точка зрения Сократа свидетельствовала о том, что
на сцену общественной жизни выступала новая «религия»,
центром которой становился человек и его внутренний мир, иначе —
субъект, личность, которая вместо богов, жрецов и оракулов брала
на себя смелость и ответственность принимать решения и
действовать соответственно им.
Сделав главным принципом человеческого существования
знание и лежащую в его основе мысль, Сократ, по словам Гегеля,
в отличие от софистов ставил своей целью поиск объективных
критериев ценностей человеческого существования. Таким
образом, писал Гегель, «принцип Сократа состоит в том, что человек
должен находить как цель своих поступков, так и конечную цель
мира, исходя только из себя, и достигнуть истины своими
собственными силами. При этом истинное мышление мыслит себя так,
что его содержание вместе с тем не субъективно, а объективно» 9.
Иными словами, Сократ недвусмысленно выразил тот факт, что
истина, опосредованная мышлением, имеет объективный источник.
Обращаясь к рассмотрению какого-либо вопроса, он всегда
исходил из общепринятых положений, видя в этом надежный
метод исследования. Если же допустить, что каждый из нас есть
мера своей мудрости, то как мы, ставил он вопрос, вправе учить
других? И кому нужна та истина, которую напишет один из нас? Н)
158
Именно в этом принципе Сократа, который позже был всецело
трансформирован Платоном в систему объективного идеализма,
Ницше усматривал слабость и уязвимость, так как в мысли,
по его мнению, не отражается ничего из воспринимаемой
действительности, что носило бы отпечаток чего-то истинного.
«Правильное восприятие, т. е. адекватное выражение объекта в субъекте, —
писал он, — кажется мне противоречием и нелепостью, ибо между
двумя абсолютно различными сферами, каковы субъект и объект,
не существует ни причинности, ни правильности, ни выражения,
самое большее — эстетическое отношение» ".
Истина, за которой гонится наука, есть, по Ницше, химера,
ибо доподлинно люди не знают ничего; глаза их только скользят
по поверхности вещей и видят лишь «формы»; их ощущения
никогда не дают истины, но довольствуются тем, что испытывают
раздражения и играют на ощупь за спиной вещей ,2.
А что такое истина в нравственном смысле, которую искал
Сократ? Она также, по Ницше, суть не что иное, как сумма
человеческих отношений, которые были возвеличены, украшены
риторикой и после долгого употребления кажутся каноническими
и обязательными. Исходя из этих посылок, Сократов девиз «познай
самого себя!», требование действовать согласно всеобщим
нравственным законам, осмысленным в качестве основы человеческого
бытия, казались Ницше шутовством и были глубоко чужды его
мировоззрению.
Рефлексия, сознание, разум, считал он, не должны ставить
человеку внутренние барьеры, не должны затмевать власть
инстинктов и подавлять волю — это противоречит человеческому
естеству, поскольку даже в самых высших и благородных своих
способностях человек «вполне природа и носит в себе ее жуткий
двойственный характер» ,3. Греки, по мнению Ницше, были как
раз тем народом, который очень хорошо это понимал. Отсюда
вытекала и неприемлемость Афинами Сократа как чего-то во всех
отношениях загадочного. И не просто неприемлемость, но и его
смерть по приговору суда.
Причины упадка и разложения древнегреческого полиса Ницше
видит в деятельности Сократа и обращается к прошлому Эллады,
идеализирует его, лелея надежды на его возврат. Греки досокра-
товской эпохи были, по его мнению, сильны и прекрасны потому,
что руководствовались прежде всего инстинктами; они и сами не
стремились выйти из действительности, и боги их не требовали
никакой внутренней перемены, оттого была возможность серьезно
относиться к ним и верить в них.
С Сократом же появляется та глубокомысленная мечта и
иллюзия, та несокрушимая вера, что мышление, руководимое законом
причинности, может не только проникнуть в бездны бытия, но и
исправить его. С этой целью выдумывается мораль, руководимая
разумом: человек признает себя высшим существом и ставит над
собой строгие законы. Они-то и есть то, что Ницше называет
«сократизмом морали, диалектикой, довольством и радостностью
159
теоретического человека» 14, пытающегося перевести свое бытие
в царство сознания, или, как позднее скажет в этой связи А. Ф.
Лосев, «логикой заменить тяжелую, нерасчлененную музыку
жизни» ,0.
Логическое осмысление жизни как проблемы, есть, по Ницше,
признак неразумия, поскольку логика, на его взгляд, покоится
подобно истине, на предпосылках, которым ничто не соответствует
в действительности: человечество, равно как и отдельные его
индивиды, созерцая общий ход событий, не может охватить
тенденцию развития, потому что не имеет перед собой никаких целей.
И вся та закономерность, которая так импонирует нам в жизни
общества, в движении звезд, в химических процессах и т. д.,
есть, по Ницше, не что иное, как качества, которые мы сами
привносим в вещи и тем самым импонируем и себе.
Поворот от натурифилософии к логике, считает Ницше, был
сделан именно в сократических школах. Греки эпохи Гомера не
задавались, подобно сократикам, вопросами морали, они находили
радость в контрастах жизненных впечатлений и ощущений.
Сократ первым открыл обаяние в противоположном — в причине
и действии, основании и следствии, и это новое так быстро пришло
на смену старому, что «греки пели и лепетали в диалектике» и\
Но особенно ярко, на его взгляд, проявилось последнее
обстоятельство в философских воззрениях Платона, влияние на
которого Сократа было так велико, что во главе своего идеального
государства, надо сказать, довольно близкого по своей сущности
реакционным идеям Ницше, Платон ставит не гения в общем
смысле этого слова, а всего лишь гения знания и мудреца, исключая
даже самых гениальных художников. Этот непростительный изъян
Платона, полагает он, был прямым следствием сократовых
суждений как о философии, так и об искусстве, присвоенных Платоном.
Однако позже, пишет Ницше, как в искусстве, павшем до забавы,
так и в жизни, руководимой понятием, «вполне открылась столь
же нехудожественная, сколь и жизневраждебная природа
сократовского оптимизма» ''.
* * *
Любопытно отношение Ницше к Платону.
Мир Платона, как его трактует философ, это — мысль,
рефлексия, идея, следовательно, это не истинный мир, потому что жизнь,
реальное, факты в нем места не имеют, инстинкты побеждены.
А это и есть не что иное, как формула того самого декаданса,
выразителем которого был Сократ, потому что истина не в разуме,
к чему неизбежно пришел впоследствии и Платон, а в инстинктах
повседневной жизни, где все борьба, и пока жизнь восходит,
счастье равно инстинкту выжить и превзойти остальных.
Платон же как последовательный ученик Сократа до такой
степени отклонился от основных инстинктов эллинов, до такой
степени пропитан моралью и являет собой предреформу
христианина, что, признается Ницше, он «охотнее применил бы ко всему
160
феномену Платона суровое слово „высшее шарлатанство", или,
если это приятнее слышать, — идеализм» 18.
Отвергнув этику Сократа и упразднив мир идей Платона,
Ницше считает необходимым сделать дальнейший, как он говорит,
шаг в логике пессимизма, считая, что мораль — это тот же инстинкт
декаданса, который зародился в школах Сократа. Утверждение
Шопенгауэром того, что страдание гасит волю к жизни, вызывает
у Ницше ярый протест: страдание, наоборот, единственное из
средств, способное быстрейшим образом привести человека к
совершенству.
Пытаясь стать вне истории и вне своего времени, Ницше тем
не менее, как, пожалуй, никто другой, через призму превращенного
сознания выразил именно свое время и свою эпоху — эпоху
кризиса буржуазной культуры, осмысленного им как безнадежный
тупик. Но надо отдать должное философам и литераторам типа
Ницше: они не только отражали в своем творчестве, но и создавали
эту эпоху, творили ее.
Недовольство веком, декадентскую надменность, разложение
личности, не могущей реализовать себя в стране бизнеса,
воплощал, например, в своих героях современник Ницше О. Уайльд.
Чуть позже тот же мир коллизий и обреченность его выражал
в фантастически алогичных ситуациях Ф. Кафка. Так называемую
литературу абсурда представляли Ж.-П. Сартр, А. Камю и другие
деятели культуры Запада и стран американского континента,
нередко прибегавшие к опусам Ницше как к своего рода точке опоры
в хаосе противоречий жизни.
Не случайно в этом плане и обращение Ницше к философ-
ско-этическому наследию Сократа Сократ был первым в истории
человечества мыслителем, учение и насильственная смерть
которого были симптомом упадка и разложения культуры, основанной
на жестоком разделении труда и самой бесчеловечной форме
эксплуатации. Передовые люди Греции, к каковым принадлежал
и Сократ, безусловно понимали, что она стоит на пороге коренных
социальных перемен. «Если я, — говорил Сократ своим ученикам
перед казнью,— кончаю жизнь в ту пору, когда в будущем
ожидаются разные невзгоды, то я думаю, что всем нам надо радоваться
при виде моего счастья» 19.
В свободе человеческого духа видел великий мудрец
возрождение и спасение своего народа, который и вынес ему смертный
приговор. Подчинение как гражданина полиса несправедливому
решению суда, спокойствие, воля и выдержка накануне смерти
были моральной победой Сократа: с этого времени он входит в
историю не только как «олицетворение философии» (Маркс), но
и как олицетворение высшей нравственной силы, чего не может
не признать и Ницше в своей тщетной с ним борьбе. «С
достоинством умирающий Сократ, — пишет он, — становится идеалом для
юношества, и первым перед ним падает ниц Платон»20.
Для Ницше был неприемлем не только оптимизм Сократа на
заре упадка афинского полиса, но и оптимизм его, Ницше, совре-
6 Заказ, № 4330
161
менников. Учение о свободе, всеобщем равенстве, достоинстве
труда, счастье как конечной цели цивилизации Ницше, по словам
его сестры Е. Ферстер-Ницше, ощущал как нечто гибельное для
народа. Пока будет существовать общество, считал он, будут
существовать сильные и привилегированные, счастье которых
будет покоиться на труде и тяжелой работе порабощенной,
эксплуатируемой в их пользу массы 21.
Счастье, на его взгляд, не в добродетели (Сократ), не в
познании (Платон), не в воле к жизни (Шопенгауэр), но в воле к
власти, в воле избранных, для которых народ не что иное, как
стадо, инстинктивно подчиняющееся силе, стоящей над ним.
Только гений, одинокий, непонятый, отвергнутый, у ног которого
копошится масса, — лейтмотив сочинений Ницше. И если
прислушаться к голосу истории, в которой, по мнению Ницше, все
повторяется, можно услышать и такое ее «наставление»:
«Эксплуатируйте и терзайте людей... доводите их до крайности, возбуждайте
человека против человека, народ против народа и при том в
течение веков. Тогда как бы из отлетевшей в сторону искры,
зажженной этой страшной энергией, возгорится свет гения» 22.
Таков заключительный аккорд литературно-философских
пассажей Ницше.
Многие, даже прогрессивные, исследователи его творчества
пытались обелить его черную доктрину, как-то завуалировать
«безысходную бедность жизни» его, с позволения сказать, учения
при всей, казалось бы, хлесткости фразы, символике, экзальтации
и пр. Т. Манн например, советовал тому, кто воспринимает Ницше
взаправду, кто ему верит, лучше его не читать, ибо мышление
Ницше есть мышление гения: «Предельно апрагматичное, чуждое
какому бы то ни было представлению об ответственности за
внушаемые людям идеи, глубоко аполитичное, оно в действительности
не стоит ни в каком отношении к жизни» 23.
А сам Ницше? Согласился бы он с подобным выводом?
Никогда! Другое дело, ему казалось, что он, как всякий гений, опередил
свое время, а потому не имеет даже у себя на родине ни читателей,
ни последователей, способных оценить его творческие усилия.
Ницше был глубоко убежден, что его позиция «аморалиста»
неуязвима, но слишком преждевременна для XIX в., а вот в
двухтысячном году он будет признанным повсюду. Ведь взгляды
его новы, психологический горизонт ужасающе широк, язык дерзок
и ясен, и нет книги на немецком языке более богатой по идеям,
более независимой, чем его24.
Однако все «богатство» его идей, «необъятность» его
мыслительного горизонта сводились в основном к стремлению возродить
в человеке первобытные, «дикие» инстинкты, не озаренные светом
познания, не облагороженные развитием гуманистических начал.
На протяжении всей жизни ему импонировало то состояние
человеческой истории, отрезком которой была культура Древней Греции,
но предметом его внимания было не общечеловеческое в ней,
не достижения в области мышления, науки и искусства, до сих
162
пор приводящие мир в изумление, а совершенно другая ее сторона:
«гармония» жизни древних, основанная на возведенных в закон
ограничениях и притеснениях одних и неограниченной свободе и
тирании других. «Греки, — писал он, — дают нам образец
очищенной расы и культуры, и надо надеяться, что и Европа когда-нибудь
произведет чистую расу и чистую культуру» 25.
Упадок экономической и духовной жизни Эллады наступил, по
его убеждению, не вследствие жесточайших классовых
противоречий, а по причине угасания «бойцовских» инстинктов эллинов,
смягчения нравов, под воздействием новых принципов,
провозвестником которых был Сократ. Восставая против Сократа, Ницше
тем самым восставал против общезначимой морали, против
ценностных ориентации человеческого общества, служащих залогом
дальнейшего прогресса во всех сферах его существования.
5
СОКРАТОВСКОЕ УЧЕНИЕ О ЧЕЛОВЕКЕ
В ИНТЕРПРЕТАЦИИ ФРАНЦУЗСКОГО ПЕРСОНАЛИЗМА
Французский персонализм, одно из ведущих течений
современной идеалистической философии, поставившее в центр своих
разработок проблему личности, претендует на обобщение и
дальнейшее развитие философской гуманистической традиции, берущей
свои истоки в античности. Основоположник французского
персонализма Э. Мунье, рисуя в одной из своих работ древо современной
западной философии антропологического содержания, в качестве
его корней изображает учения Сократа, стоиков, св. Августина,
а их закономерными наследниками представляет
преимущественно современные религиозно-идеалистические концепции К. Яспер-
са, Г. Марселя, Н. Бердяева, А. Бергсона, М. Шелера,
«личностную» философию (так еще называют французский персонализм)
и др. ' Особую роль в ряду философов древности персонализм
отводит Сократу.
Сократ действительно оказал значительное влияние на всю
последующую историю философии, сохранившееся и поныне.
Однако это влияние неоднозначно, и идет оно не без попыток
неадекватного прочтения философии античного мыслителя. Нельзя
не согласиться с К. Ясперсом, утверждающим, что «за Сократом
идет не одна школа, а множество школ. Все ссылаются на
Сократа как на свой исток... Сама фигура Сократа становится
многоликой» 2.
Сократ занимает своеобразное место в античной философии.
Он был первым крупным мыслителем, способствовавшим
возникновению объективного идеализма. Основой античного идеализма
было учение об известном равновесии между объективным и
субъективным: «Человек и мир в представлении греческой цивилизации
являются отражением один другого — это зеркала, поставленные
друг против друга и взаимно читающие одно в другом» 3. Вместе
с тем равновесие между объективным и субъективным достигалось
6*
163
на основе примата объективного, и античный идеализм был
преимущественно идеализмом объективным. Человек выступал в нем
как составная часть некоего предданного бытия — космоса,
природы, логоса, вечных идей и сущностей. Субъективный идеализм
не был проведен систематически ни в одной из идеалистических
философских систем древности. Вопреки этому факту
французские персоналисты ставят Сократа во главу
субъективно-идеалистической традиции.
Сократа обычно называют создателем первой философии
человека. И хотя антропологическому повороту греческая философия
больше обязана предшественникам и современникам Сократа —
софистам, сам Сократ действительно сыграл значительную роль
в отмежевании философии от космологической метафизики и в
обращении к миру человека. В центре сократовского учения —
внутренний мир человека, его нравственные качества и возможности,
способность к самостоятельным суждениям, оценкам, действиям.
С именем Сократа связан переход от натурфилософии к философии
моральной. Человек и его место в мире стали центральным
вопросом учения Сократа и главной темой его бесед.
Несмотря на то что в античной философии существовали
антропологические позиции (софисты, Сократ), в ней отсутствовал
взгляд на человека как на неповторимую, уникальную, самоценную
личность. Однако именно античный антропологизм стоит у истоков
рационалистической и просветительской традиции европейской
мысли, в том числе и учений о сущности человека. Соседство
Сократа с Августином в картине, нарисованной Мунье, можно
признать обоснованным, если рассматривать этих философов
древности принадлежащими к одному и тому же периоду — античности,
и то с существенной оговоркой: Августин жил и творил в
переходное от античности к средневековью время. Философию Августина
справедливо считают одной из первых систем субъективного
идеализма: он осуществил резкий поворот философского мышления
от изучения объективного мира к анализу внутреннего мира
человека и в последнем искал «меру всех вещей». Вместе с тем Августин
выступил создателем философско-теологической системы,
представляющей собой своеобразный синтез идеализма и религии,
из которого складывался несвойственный античности тип
философского мышления и миропонимания. Антропологическая
концепция Августина абсолютно теоцентрична: целью философии
в ней объявляется выявление места и положения человека перед
богом — смысловым центром внутреннего опыта. В итоге
философия в понимании Августина сводится к самопостижению субъекта,
а последнее — к отысканию в недрах самосознания божественного
как центра и истины человеческого существования.
«Внутренний» человек Августина стал прообразом многих религиозно-
антропологических построений современности, в том числе и
французского персонализма 4.
Итак, Сократ и Августин, стоящие у истоков философии
человека, намечают принципиально различные тенденции в его осмыс-
164
лении. В противовес этой констатации французские персоналисты
считают Сократа и Августина равноценными истоками религиозно-
идеалистической «личностной» философии и одновременно
представляют Августина в качестве наследника сократовской
мудрости. Единомышленник Э. Мунье Ж. Лякруа в книге, посвященной
исследованию истоков и основных положений «личностной»
философии, пишет, что персонализм испытал двойственное влияние:
греческое и христианское; первое — главным образом
философское, второе — религиозное. Продолжая свою мысль, философ-
персоналист утверждает, что христианство в свою очередь
испытало сильное воздействие греческой философии и зачастую
повторяло ее фундаментальные позиции.
Что касается отношения Августина к Сократу, оно выражено
в его учении о мудрости. По Августину, стремление к мудрости
бывает двоякого рода: деятельное и созерцательное; деятельная
философия (сторонником которой является Сократ) направляет
свои усилия на изучение нравственных вопросов, которые должны
открыть человеку путь к блаженной жизни; созерцательная
философия (Пифагор) занимается исследованием причин и первоосно-
ваний всех явлений, поисками истины. Августину ближе
философия Платона, который, по его убеждению, соединяет отмеченные
типы философствования в более совершенную философию.
Августин видит в учении Платона начало основополагающего для
христианства синтеза — греческой умозрительной философии
и ближневосточной «деятельной» мудрости 5.
Таким образом; линия Сократ — Августин существует в
истории философии благодаря отнюдь не антропологическому
содержанию составляющих ее учений, а тенденции к обоснованию
объективного идеализма, который у Августина приобретает
специфический, в целом не свойственный античности характер. Что же
касается философского понимания человека, то Сократ и Августин
стоят у истоков в корне противоположных традиций: Сократ, как
уже отмечалось,— у истоков рационалистической и
просветительской традиции, Августин — традиции
религиозно-идеалистического субъективизма.
Чтобы доказать свой тезис о единомыслии Сократа и
Августина, персоналисты вынуждены подгонять позицию
древнегреческого философа под идеализм религиозного содержания, а
точнее — под августиновскую точку зрения; только при этом условии
возможно изображать Сократа идейным предшественником
французского персонализма, который сам питается истоками
спиритуалистического идеализма августиновского типа.
Персоналистское преобразование философии Сократа в
религиозный идеализм субъективистского толка идет главным образом
по пути перетолкования проблемы смысла сократовского
самопознания, вопроса о движущих мотивах личностного
самосовершенствования, о цели человеческого общения.
Продолжая августиновскую традицию субъективного
идеализма, сторонники «личностной» философии стремятся обосновать
165
религиозное миропонимание с помощью внутреннего мира
человека, его духовных устремлений. Божественные нормы и
принципы, управляющие индивидуальным и общественным бытием, по
персонализму, находятся не вне, а в самом человеке, в глубинах
его внутреннего мира. В этой связи в персонализме чрезвычайное
значение отводится вопросу о самосознании личности.
Несомненным авторитетом в трактовке проблемы самосознания
личности французские персоналисты признают Сократа с его
принципом «познай самого себя». Более того, Лякруа, например, видит
в фигуре Сократа сам идеал личности, живое воплощение
принципа «субъективной интериорности». «Сократ,— пишет философ-
персоналист,— был одержим страстью к интериорности, которая
была для него вместе с тем страстью к самопознанию» 6.
Действительно, дельфийский призыв «познай самого себя»
послужил для Сократа толчком к философствованию и
предопределил основное направление его философских исканий. Сократ
воспринял это изречение как задачу выяснения смысла, роли и границ
человеческого познания в соответствии с божественной мудростью,
иными словами, как задачу познания человеком своего места
в мире. Даже когда Сократ размышлял о божественной
предопределенной всеобщей связи явлений, он преследовал прежде всего
этические интересы — выяснение направлений и целесообразной
траты познавательных усилий человека. По словам Ксенофонта,
Сократ требовал от «умствующих», т. е. от философов, чтобы они,
прежде чем толковать о чудесном, в полной мере познали
человеческое. В этой связи нельзя не согласиться с К. Ясперсом,
считающим Сократа одним из первых в истории философии
мыслителем, поставивших целью определить меру человеческого.
Знание в трактовке Сократа является единственным
регулятором и критерием человеческого поведения. Античный мыслитель
вкладывал в требование «познай самого себя» широкое
содержание и глубокий смысл. Самопознание у Сократа означало прежде
всего «познание человеком своего внутреннего мира, осознание
того, что осмысленная жизнь, духовное здоровье, гармония
внутренних сил и внешней деятельности, удовлетворение от
нравственного поведения составляют высшее благо, высшую ценность» 7.
Дельфийское «познай самого себя» было для Сократа признанием
души, руководящим началом в человеке и призывом к осмысленной
духовной жизни.
В этом отношении уверения французских персоналистов о том,
будто они выступают наследниками сократовской мудрости, по
меньшей мере не корректно. Сократ отстаивал принцип всеобщего
господства разума и считал познание и действование на основе
знания единственно верным направлением человеческих усилий.
Что касается персоналистской философии, то в ней роль знания,
сознания, познания в достижении истины минимальна.
Персоналистское самопознание опосредовано не отражением
внешнего-мира, а отрешением от него. Здесь вообще нельзя
говорить о познании, поскольку обретение истины, согласно персо-
166
нализму, достигается в момент откровения, чуждого каким бы то
ни было сознательным актам. «Отношение человека к богу,—
повторяет Мунье слова Киркегора,— более возвышенное и более
сильное, чем отношение к миру» . Откровение требует от человека
напряжения всех его духовных сил, мобилизации всех внутренних
ресурсов, «интимной интериорности», утверждают персоналисты,
исключая из интенсивной внутренней работы деятельность
сознания.
Так, Мунье, подчеркивая несомненное значение сознательного
выбора личности, вместе с тем утверждает, что «сознательное
поведение является лишь частью целостного „я"», а наилучшим из
человеческих действий глава персонализма признает те, «в
необходимости которых мы менее всего уверены» 9; «личностная транс-
ценденция,— утверждает он,— имеет свои бездны, как правило,
неподвластные нашему контролю» ,().
В этой связи диалоги Сократа расцениваются Лякруа как
напряженная работа самопознания, в результате которой индивид
«познает и признает себя от имени и исходя из более высокого
знания, нежели его собственное». Это более высокое «знание»,
являющееся сущностью и глубинной предосновой разума, сознания,
интеллекта, божественно по своей природе, считает Лякруа.
«Сократ,— пишет он,— имел привычку говорить о внутреннем
„демоне", подразумевая под этим нечто божественное в своем
внутреннем мире... Он осуществлял себя как субъект непосредственно
личностного откровения божества, обнаруживаемого в качестве
внутреннего голоса, всегда бодрствующего и бдительного, готового
в любой момент указать на должное поведение» и.
Французские персоналисты не одиноки в своей теологической
интерпретации сократовского самопознания. Видный французский
неотомист Э. Жильсон правильно определяет путь перетолкования
сократизма в христианском направлении: «„Познай самого себя"
можно поместить в христианскую перспективу в той мере, в какой
последнее слово самопознания совпадает с началом познания
бога» ,2. К подобному перетолкованию побуждает не только
собственная религиозно-идеалистическая позиция того или иного
исследователя, но и наличие в учении Сократа проблемы «даймона».
Сущность этой проблемы была неясна ученикам и друзьям
философа, не говоря уже о более поздних античных толкователях учения
Сократа. В истории философии сократовской даймонион получил
разнообразную трактовку ,3.
Наиболее адекватным представляется понимание даимониона,
принадлежащее советскому исследователю Ф. X. Кессиди, который
считает, что даймонион Сократа — это «своего рода
полумифологическое олицетворение и полуметафорическое выражение
всеобщего (истинного и объективного), содержащегося во внутреннем
мире человека, в его разуме и душе». Сократ не может выразить
всеобщее в слове, в рациональном определении, тем не менее он
чувствует, что искомое общее понятие имеется в нем. «То, что не
удается Сократу выразить в словах и понятийных определениях,
167
он улавливает как „божественный голос", звучащий в нем самом,
исходящий из глубин его души» его разума и совести» ы.
Отсюда вытекает сократовская установка на диалог и
«диалектический» — вопросно-ответный — метод определения понятий, на
совместные поиски истины: акт самопознания у Сократа протекает
как диалог нескольких, по меньшей мере двух, сознаний и тем
самым на первый план выдвигается не отдельное, а всеобщее,
объективно обусловленное сознание. Сознание отдельного человека, по
Сократу, не есть носитель истины и подлинного поведения, но еще
менее таким носителем является божественное начало. Скорее
осознание относительности собственного знания о мире и о самом
себе заставило греческого мыслителя придерживаться принципа
самосознания. Сократовская майевтика выступает методом, с
помощью которого собеседник становится соискателем единой
истины и общих определений, поскольку диалектика Сократа, по
справедливому утверждению В. Ф. Асмуса, есть «усмотрение общего
в различающемся, единого во многом, рода в видах, сущности в ее
проявлениях» ,5.
Стало быть, внутренний демон у Сократа не божеского
содержания, как считают персоналисты, он собственная совесть,
совесть личности, имеющей общечеловеческое, всеобщее значение,
достигшей такого уровня благодаря многосторонним связям с
миром и окружающими людьми (Сократ — талантливый скульптор,
прирожденный философ, храбрый воин, разносторонний
общественный деятель).
По утверждению же Лякруа, позиция Сократа связана с
разлитой в вечности божественной трансценденциеи; целью диалогов
Сократа, считает философ-персоналист, было сделать из тех, с кем
он диалогизировал, личностей, поскольку греческий мудрец,
предполагая в каждом человеке присутствие
божественно-законодательного, побуждал его к саморазвитию. Иными словами,
обнаружив в сердце и разуме каждого человека то, что ведет его к
развитию, Сократ будто бы высказал идею об имманентности
трансцендентного и о трансцендентом как центре интериорности.
Персонализм Сократа, утверждает Лякруа, стал источником
человеческой истории, предписав ей идеал «человеческого поведения
в восхождении», сформулировав понятие «о личностном порыве,
ведущем человека за его собственные пределы» ,в.
Действительно, одной из главных задач сократовских диалогов
было побудить своих собеседников к интеллектуальному и
нравственному самосовершенствованию. Как пишет В. Нерсесянц,
беседы Сократа были не обычными житейскими разговорами или
словесными препирательствами, а хорошо продуманным и умно
применявшимся способом исследования философских, моральных
и политических проблем ,7. Сократ отдавал себе отчет в том, что
последние имеют специфический характер. Так, в беседе с
софистом Гиппием о справедливости он подчернул следующую мысль:
людям хорошо известно, у кого научиться тому или иному
ремеслу, но они не знают, к кому обратиться для изучения такого важ-
168
ного предмета, как справедливость; юного Ксенофонта Сократ
поставил в тупик, задав ему вопрос: куда следует идти за
мудростью и добродетелью.
Тем не менее при обсуждении философских, моральных и
политических вопросов Сократ исходил из предпосылки наличия
объективной истины и толкал собеседника к поискам ее. Саморазвитие
личности, по Сократу, означало духовное возрождение человека,
его отказ от слепого, бездумного следования общепризнанным
правилам и канонам. Сократ требовал от своих собеседников
осознанного поведения, основанного на знании; личностный порыв в
таком случае означал сознательный поиск истины, а ее
объективность представала как духовная всеобщность. Вместе с тем Сократ
при обсуждении вопросов философских, моральных, политических
превращал процесс добывания истины в раскрытие внутреннего
мира человека, он делал беседу духовным испытанием ее
участников, требующим напряжения как интеллектуальных, так и
нравственных сил ,8.
Персоналисты также говорят о самопознании как отыскании
истины. Только истина у них иного характера, нежели
сократовская, она трансцендентна миру и достигается другими путями.
Двигаясь в русле современной феноменологическо-экзистен-
циалистской философии, персоналисты определяют духовный мир
личности интенциональным по своей структуре. Специфической
чертой персоналистски понимаемой интенциональности является
не направленность духовного мира к объективно-предметному
миру и конкретной истории, а ее открытость трансцендентному.
Последнее имеет в персонализме религиозный смысл: трансцен-
денция — это открытость внутреннего мира человека в сторону
священного, его целенаправленность на высшее бытие, и как
таковая она выступает основанием жизнедеятельности человека.
Трансценденция, писал Мунье, «пребывает в сердце бытия, это
опыт бесконечного, или неопределенного, движения к более
высокому бытию» ,9.
Понятие трансценденции должно, по мысли
философов-персоналистов, не только указывать на структуру и характер
свободного движения человеческой субъективности, но и включать в себя
некие ценностно-содержательные моменты. Как замечает М. Не-
донсель, «там, где есть осознание чего-то высшего в бытии, имеет
место и осознание священного. Чтобы появилось чувство
трансцендентного, необходимо существование высшей тайны и
экзистенциального откровения, где человек соприкасается с принципом,
сокрытым в глубине реальности»20.
При характеристике трансценденции персоналисты
обращаются к христианскому понятию бога, определяя его как содержание
трансценденции. Смысл понятия божественной трансценденции,
или бога, по персонализму, содержит в себе прежде всего указание
на некоторый абсолютный предел человеческих возможностей,
где, с одной стороны, обнаруживается конец человеческого мира
и становятся немыслимыми все человеческие представления и мас-
!69
штабы и где, с другой стороны, именно в силу этого приобретает
смысл человеческий мир. Образ совершенного человека не должен,
предостерегают персоналисты, отождествляться с богом, но в то
же время только в божественной перспективе, исходя из
божественной трансценденции, может быть понят «тотальный» человек
и истинное назначение человека.
Рассуждения об абсолюте, отмечает Мунье, постоянно
направляют нас к человеческой истории, но также и выводят за ее
пределы, поскольку человеческий абсолют есть тотальность
человеческой истории. Человеческая деятельность, развивающаяся по
закону «диалектического» единства имманентного и трансцендентного,
пребывает в перспективе личностного отношения между богом и
человеком. Таким образом, горизонтом человеческого бытия,
предпосылкой самоосуществления человека в персонализме
признается предельность его жизненной позиции, сопряженность
последней с божественной трансценденцией.
Постулируя бога в качестве основы внутреннего мира личности,
персоналисты тем самым, как им представляется, выдвигают
главный аргумент в пользу «объективности» и «общезначимости»
своей философской позиции. Бог признается теоретиками
«личностной» философии действующей в человеке и посредством человека
«живой нормой»; в таком случае человеческое творчество
трактуется как воссоздание божественного логоса, личностная
тайна — как одна из его вариаций, самобытность личности — как
подражание божественному.
За персоналистскими построениями нетрудно увидеть попытку
постичь духовные устремления человека, тайну его личностного
мировоззрения. Французские персоналисты резонно (хотя и далеко
не адекватно) ставят вопрос о необходимости господства человека
над внешними структурами бытия (объективной
действительностью), об управлении инстинктами и т. п. К. Маркс, говоря о
специфике человеческой жизнедеятельности, подчеркивал, что в
отличие от животного человек «делает самое свою
жизнедеятельность предметом своей воли и своего сознания. Его
жизнедеятельность— сознательная»21. Это активно-субъективное
самопроявление человека означает воздействие его субъективности на
природу, причем субъективность не задана индивиду как некая
определенность, с которой он непосредственно сливается воедино.
«Только в силу этого его деятельность есть свободная деятельность» 22.
В этом плане вопросу о личностном мировоззрении как фактору
образования субъективности принадлежит решающая роль. В
конечном итоге ядром индивидуального мировоззрения оказывается
объективное, постоянно расширяющееся восприятие и познание
мира и человека. Персоналисты, принимающие в расчет
исключительно субъективный план внутреннего мира личности и
выносящие «за скобки» его объективное содержание, основу личностного
мировоззрения вынуждены искать за пределами и внешнего,
и внутреннего мира человека — в боге.
Стремясь отмежеваться от догматической трактовки божест-
170
венной трансценденции, свойственной томистской и неотомистской
философии, персоналисты приходят к определению последней как
конструкции человеческого духа. Согласно персоналистам, человек
не просто пребывает в ситуации плюральности и многосмыслен-
ности истин и положений, как это утверждает, например,
атеистический экзистенциализм, а постоянно оценивает эту ситуацию,
выбирая наиболее достойные человека решения. Шкала оценок
не дана человеку (человек не предопределен), он сам создает ее,
исходя из собственного опыта. Его дух в силу своей
телеологической структуры сам вырабатывает модель должного бытия,
выступающего горизонтом человеческой жизнедеятельности.
Этот порыв человеческого духа и называют персоналисты
движением к божественной трансценденции: божественной, так как
она выходит за пределы конкретного человеческого существования
и не несет в себе черт отдельного поведения, а есть зов некоего
высшего бытия, призыв к наиболее полной самореализации
человека. Но божественная трансценденция и человечна в то же время:
она есть творение человеческого духа, модель человеческого
бытия; она трансцендентна, поскольку находится на грани небытия,
того, что не существует, но требует существования, она отвечает
наивысшим человеческим стремлениям и встает перед человеком
как образ того, кем он мог бы быть; она имманентна, так как
концентрирует в себе все свойства человеческой личности (начиная
от биопсихологических характеристик и кончая творческими
устремлениями), которая есть плоть мира, продукт его развития.
Персоналистская трактовка трансценденции как внутреннего
опыта личности, открытого в сторону сверхреального, в
определенном смысле действительно звучит как отказ от традиционно
понимаемой идеи бога. Не случайно университетские католические
круги считали журнал «Esprit» в первые годы его существования
«самым опасным явлением». Так, представитель неотомизма
Ж. Крото, анализируя программный документ персоналистского
движения «Манифест персонализма», пишет: «Что касается
трансценденции личности, то следовало бы со всей ясностью указать
источник этой трансценденции. Здесь ни к чему ссылаться на
призвание, судьбу, духовность личности, а надо четко указать предел
призвания — бога как цель личности» 23.
В самом деле, расхождения в понимании личности между
персонализмом и официальной католической доктриной существенны.
Так, например, неотомист Ж. Маритен определяет личность
исходя из уже принятой иерархии существ,— личность самая
совершенная из всего, что сотворено. Мунье же в своей дипломной
работе «Конфликт антропоцентризма и теоцентризма у Декарта»
высказывается в пользу «реализма», в центре которого личность
как непредвидимое, изобретательное творчество и ей надлежит
развиваться, не только ориентируясь на божественный свет, но
и опираясь на собственные духовные силы и устремления.
Отрицательное отношение представителей официальной католической
доктрины ко французскому персонализму в годы его создания,
171
несомненно, объясняется тем, что сторонники этого религиозно-
идеалистического течения стремились вырваться из слишком
тесных мировоззренческих рамок томизма.
Опора представителей «личностной» философии на Сократа
в таком случае была бы оправданной, если бы они привлекали идеи
античного мыслителя для расширения горизонтов
ортодоксального томистского миропонимания, и в особенности томистского
учения о человеке. Персоналисты же пошли по иному пути — стремясь
накрепко связать сократовского человека с божественной транс-
ценденцией, они фальсифицировали учение Сократа и представили
древнегреческого философа родоначальником
субъективно-идеалистического антропологизма религиозного толка.
Применение категорий трансцендентного и имманентного в их
религиозно-идеалистическом смысле при анализе сократовской
философии неправомерно ни с теоретической, ни с исторической точек
зрения. Если и можно применять категории имманентного и
трансцендентного к философии Сократа, то, скорее всего, в их кантов-
ском понимании: разум имманентен там, где речь идет о делах
человеческих, в области же «дел божеских», т. е. в сфере учения об
основах и началах вещей, разум трансцендентен, выходит за свои
естественные границы.
Еще одна идея Сократа привлекает внимание сторонников
персоналистской философии — это проблема диалога как средства
общения людей и одного из главнейших условий их
самоусовершенствования.
Вопрос о «личностном» общении является одной из
центральных проблем французского персонализма. Мунье намеревался
даже разработать диалектическую концепцию коммуникации, где
обосновывался бы такой способ общения, когда «другой» был бы
не препятствием или границей «к», а источником его развития
и в общении утверждалось бы и преумножалось бытие каждого
отдельного человека 2А. Недоисель в личностном общении видит
цель и назначение человека.
Подлиннее общение, по персонализму,— это «особый
личностный опыт», «коммуникация душ» 25. которая складывается как
непосредственное общение внутренних миров, как их
взаимопроникновение. При этом подлинные связи людей б персонализме
осуществляются в обход исторически сложившихся культурно-
социальных форм человеческого общения. Обществу как
совокупности исторически сложившихся форм созместной деятельности
людей философы-персоналисты противопоставляют мистическое
сообщество, где, по словам Ж. Руа, близкого к персонализму
историка философии, происходит «встреча личностей по ту сторону
слов и систем» 26. Персоналистское личностное единство возможно
только где-то на периферии человеческого бытия, на уровне
неосознанных перспектив существования. Язык этого общения отличен
от языка общепринятых значений: личностные смыслы
передаются при помощи символов. В итоге единство душ в
персонализме достигается не в результате близкого по содержанию ос-
172
мысления реальных проблем, а гарантируется общей
нацеленностью внутренних миров на некое «высшее бытие», т. е. на
божественный Абсолют.
Вот, собственно, тот багаж, с каким философы-персоналисты
идут на беседу с Сократом.
Целью сократовских диалогов, призывающих людей
задуматься над вещами привычными и, казалось бы, бесспорными, было
побудить людей к самосознанию и к последующему саморазвитию,
а также к совместным поискам истины. В противовес
софистическому агностицизму и релятивизму Сократ стремился сделать
истину интерсубъективной. Его диалог существует как
напряженная направленность к другому «я». Внутренняя коммуникация,
которую Сократ намеревался установить, должна завершаться
рождением истины; в диалоге человеку самому надлежит прийти к
необходимому знанию, лишь тогда оно будет делом его истинной
убежденности, частью его самосознания; мысль, истину надо
взращивать из того, чем человек сам располагает, иными словами,
необходимо пробуждать его творческие силы 27.
Сократ одним из первых мыслителей осознал культурную,
собственно человеческую ценность общения между людьми. Как
отмечал Маркс, Сократ «не замыкается в себе, он носитель не
божеского, а человеческого образа; Сократ оказывается не
таинственным, а ясным и светлым, не пророком, а общительным
человеком» 28. В персонализме же Сократ предстает личностью
таинственной. Его «незнание», выраженное формулой «я знаю,
что ничего не знаю», трактуется как парадокс, не имеющий
никакого объяснения: «нет иного объяснения парадоксу, кроме того, что
он парадокс» 29.
Персоналистски трактуемая личность в противоположность
личности самого Сократа и тому, кого он хотел видеть в качестве
добродетельного человека, как раз и есть носитель божеского
образа. Мунье, определяя понятие личности, писал: «Личность
есть духовное существо, образованное в своем бытии
субстанциальным образом; она содержит в себе эту субстанцию благодаря
присоединению к иерархии ценностей, которые принимает
свободно, делает своими и живет ими...» 30. Субстанция же, по
определению Мунье, есть «невидимый центр, с которым связано все» 31
и который выступает основанием жизнедеятельности человека,
в том числе и его отношения к другому. Самопознание в
персонализме, как уже отмечалось, означает отыскание сокрытого в
глубинах внутреннего мира человека его божественного основания,
а коммуникация душ предстает данной заранее, обеспеченной их
общей метафизической нацеленностью на «высшее бытие».
Самопостижение в персонализме осуществляется не только в изоляции
от предметного мира, но и от мира людей.
Несмотря на это, персоналисты настаивают на «общинном»
характере самопознания и его высшей формы — откровения,
представляя последнее как основу объединения людей, как залог
подлинно человеческого общения. Лякруа, анализируя учение Сокра-
173
та о самопознании, подчеркивает, что оно заставляет человека
соотноситься со всем человечеством и вместе с тем уяснять частное,
личностное содержание; самопознание, стало быть, требует от
каждого индивида наилучшего отношения к другому. В случае с
Сократом это действительно так. Что же касается персоналистов,
то их самопознание выводит человека на очную ставку с
божественной трансценденцией — самым неопределенным из всех пер-
соналистских понятий.
Вслед за Киркегором, Мунье говорит об Индивиде с большой
буквы; Индивид, Единственный, поясняет Мунье свою позицию,
это не изолированный анархист и не эмпирический субъект,
это человек, преобразованный своим отношением к богу.
«Осмелиться быть Индивидом в этом религиозном смысле и есть
наивысшее назначение человека. Акцент здесь сделан не на изоляции
человека, а на интенсивности его отношения к богу, а посредством
него — к существам и вещам» 32.
Сократовские истины, достигнутые общими усилиями,
естественно становились факторами культуры; персоналистские же
откровения, полученные в процессе самопознания, лишь апостериори
и чудесным образом могут стать всеобщими истинами.
Итак, попытка французских персоналистов представить
Сократа родоначальником субъективной религиозно-идеалистической
философской антропологии представляется весьма сомнительной.
Порой это подмечают и сами сторонники «личностной» философии.
Так, Мунье, изобразив в книге «Персонализм» Сократа и
Августина в качестве первоисточников религиозной экзистенциально-
личностной философии, утверждает вместе с тем, что сократовское
требование «познай самого себя» было «персоналистской
революцией» в философии, которая, однако, имела «весьма
ограниченные последствия». В античном мире понятие о личности
пребывало в «зачаточном состоянии», поскольку античный человек
был подчинен слепой судьбе — безымянной, превосходящей самих
богов; философы говорили лишь о безличностном мышлении и его
низменном порядке. Возникновение своеобразного, единичного
(личностного) было задачей природы и сознания, а не их
актуальностью, и в этом плане индивидуальное бытие у Сократа
(самопознающий субъект) и у Платона (индивидуальная душа) было
лишь красивой и авантюрной гипотезой 33.
Действительно, в античной философии понятие личности не
было и не могло быть высказано во всем том объеме, какой оно
имеет сегодня в научной философии. Учение Сократа в этом плане
можно назвать гипотезой, которая нашла свое подтверждение и
дальнейшее развитие* в философии рационализма. Персонализм
же, довольно высоко оценивая сократовское учение о человеке,
неправомерно помещает его в не соответствующую ему
традицию — религиозно-идеалистическую. В результате в
персоналистской концепции ограничивается подлинное значение
сократовского гуманизма с той целью, чтобы в полной мере приписать его
августиновской антропологии. Говоря о философском персо-
174
нализме как истинном истоке нашей истории и сравнивая
античную концепцию человека с августиновской, Лякруа утверждает:
«Религиозное влияние интегрально» 34.
Вот почему рядом с Сократом в историко-философской
концепции персонализма непременно стоит Платон как связующее звено
между сократизмом и последующей историей, как если бы без
платоновского прочтения гуманизм Сократа не имел бы
самостоятельного значения. Персонализм Сократа, пишет
философ-персоналист, вошел в нашу историю исключительно благодаря Платону,
который воспринял и углубил сократовский гуманизм и передал
его средневековью, в частности Августину. Не случайно этот вывод
Лякруа сформулировал после такого признания: «В отличие от
христианских мыслителей, Сократ не познал факта
существования Бога» 35. За него это сделал Платон.
Известно влияние Сократа на Платона: Платон был самым
талантливым учеником Сократа. Однако позиции античных
философов значительно отличаются друг от друга, и коренная
противоположность между ними состоит в следующем: если в
философии Сократа лишь наметился крен в сторону объективного
идеализма, то Платон является создателем философского учения
объективного идеализма, и строит он это учение отнюдь не на основе
сократовского антропологизма. Именно этот факт дал основание
А. Ф. Лосеву разделить взгляды Сократа и Платона с точки зрения
как хронологической последовательности, так и содержания и
метода. Сократовская эстетика отнесена советским ученым к
ступени антропологической по содержанию и рефлексивной по
методу. Период античной эстетики, представленной софистами,
Сократом и его ближайшими учениками (кроме Платона —
специально оговаривает А. Ф. Лосев), он называет «средней классикой» в
виду явно переходного его характера, где на первый план
выдвигались проблемы субъективно-человеческого мышления. Эстетика
Платона характеризуется как спекулятивная, или эйдологическая,
по содержанию и объективно-идеалистическая по методу 36.
Представленные А. Ф. Лосевым характеристики эстетических учений
Сократа и Платона тесно связаны с сущностью философских
позиций этих античных мыслителей.
Сократизм действительно является одним из теоретических
источников философии Платона: Платон усвоил у Сократа
диалектический метод и учение об общих понятиях и определениях.
Однако последние он превратил в «идеи», в умопостигаемые, не
воспринимаемые чувствами сущности, существующие сами по себе,
независимо от обнимаемых ими многочисленных чувственных
предметов. У Платона сократовские общие идеи становятся идеями
обобщенно-космологическими, своего рода порождающими
моделями космоса; они — божественные мысли, первообразы
явлений чувственного мира. Идеализм Платона теологический по
существу.
Философ сам в «Законах» связывает непосредственно свой
идеализм с теизмом. Однако Платон пришел , к «признанию»
175
бога отнюдь не благодаря сократовской антропологии, как это
хотели бы представить персоналистские мыслители.
Согласно Лякруа, Платон резюмировал сократовский
гуманизм в своих первых трудах и углубил в последних. Вершиной
сократовско-платоновского гуманизма философ-персоналист
считает идеал «человеческого восхождения», который был высказан
Сократом и адекватно истолкован и развит в учении Платона.
Проблема «самоусовершенствования» («восхождения»)
человека, как уже отмечалось, в самом деле составляет существо
сократовской антропологии. Видимо, религиозно-идеалистическая
трактовка последней французскими персоналистами им самим
представляется недостаточно убедительной. Отсюда и обращение к
Платону, философию которого нет необходимости достраивать с
помощью «божественных аргументов»: она сама, и это
удостоверяет Августин, как никакая другая близко подошла к христианской
то.чке зрения. Идея «восхождения», которая так по душе
философам-персоналистам, отражает принцип иерархии, каким
пронизана вся философская система основателя объективного идеализма,
и представление о венчающей иерархию мира идей идеи блага.
Последнее дает вещам бытие и существование, само не являясь
ими. «Оно — за пределами существования, превышая его
достоинством и силой» .
Августина в истории философии интересуют, по его же словам,
«только те мнения, которые касаются теологии, понимаемой... как
учение или наука о божестве»38. В этом отношении для него
наиболее важной фигурой в античной философии является Платон,
а в его воззрениях гиппонского епископа привлекают только те
идеи, которые имеют прямое отношение к религии и которые
побудили платоновских последователей увидеть в боге начало бытия,
разумения и жизни 39. При этом Августин стремился максимально
приблизить (по удачному выражению Г. Г. Майорова —
подтянуть) взгляды Платона к христианским, по возможности
освободить их от присущей им тяги к материальности, телесности,
приписывая даже иногда Платону чисто христианские идеи40.
Таким образом, линия Сократ — Платон — Августин, которую
выстраивают философы-персоналисты, существует в истории
философии не благодаря сократовскому гуманизму, который, как
утверждает Лякруа, подхватил и развил Платон, а христианство
будто бы просто повторило основные позиции этого гуманизма;
основу данной линии составляет объективный идеализм, который
у Сократа был в зачаточном состоянии и основоположником
которого явился Платон. Августин примыкает непосредственно к
платоновской линии философии. Однако платонизм воспринимается
им далеко не адекватно: в нем, по справедливому замечанию
Г. Г. Майорова, «выпячивается теология, упрощается метафизика
и замалчивается диалектика»41.
Философско-теологическая система Августина стала исходным
материалом для многих теоретиков
экзистенциально-антропологической ветви современной западной философии. К ней как к об-
176
щему истоку восходят экзистенциалисты, персоналисты,
феноменологи, философские антропологи, протестантские неоортодоксы и др.
Философскую рефлексию Двгустина по сравнению с
предшествующим ей античным типом характеризуют резкий поворот в сторону
внутреннего мира человека (метафизика внутреннего опыта) и
выдвижение личностно-практических критериев цели и смысла
философствования (выявление места человека перед лицом бога).
Главной темой августиновской антропологии становится человек
и бог в их сложных взаимоотношениях и взаимосвязях, которые
развертываются на основе библейско-христианского вероучения
и мотивов платоновской онтологии. Центральной здесь является
проблема отношения священного и мирского,
конкретизированная Августином в ряде антитез — дихотомий: дух и тело, град
божий и град земной, вечность и время, человек внутренний и человек
внешний, мудрость и знание, воля и вожделение и т. п. В
августиновской версии отношения человеческого и божественного
доминирует креационизм и абсолютный теоцентризм, так что
между совершенным богом и несовершенным человеком — дистанция
не преодолимого в пределах эмпирического бытия размера.
Французский персонализм, идущий в русле августиновской
антропологии и поставивший в центр своих теоретических изысканий
проблему универсального развития личности и всесторонней
гуманизации мира, задался целью преодолеть жесткое противостояние
священного и земного. Мунье воспринял августиновскую
философию как призыв к «возвеличению земного». Он отказался от
радикального противопоставления града божия и града земного,
свойственного позиции Августина, и переинтерпретировал
отношение священного и мирского следующим образом: «Духовный
порядок не есть метафизический принцип, отделяющий человека от
его земного удела; он есть динамическая сила, проявляющаяся в
человеческом обществе. Град божий и град земной смешаны наве-ч
ки... и различаются только по своей направленности» 42. «Когда
Св. Августин описывает два града,— продолжает свою мысль
философ-персоналист,— он постоянно подчеркивает его причастность
граду земному» 43. И еще одна существенная поправка к
августиновской версии связи священного и мирского, где Мунье стремится
преодолеть дуализм духовного и материального: священное и
земное — это символы, и их противопоставление существует только
внутри земного, т. е. в делах и помыслах человека.
Интерес к делам земным в философии французского
персонализма зашел так далеко, что его теоретики стремились (особенно
в кризисные 30-е годы) к выработке собственной
социально-политической программы, призывающей верующих к активному
вторжению в реальную политическую борьбу против капитализма, как
изжившей себя общественной и социальной системы, против
фашизма, милитаризма, колониализма, в защиту мира и демократии.
Эта деятельность проводилась персоналистами параллельно
построениям философии личности, которая признавалась вершиной
града земного, откуда, по словам Мунье, «берут начало все дороги
7 Заказ, № 4330
177
мира» 44. Разумеется, под личностью понимается только
христиански ориентированный человек, господствующим моментом
жизнедеятельности которого признается верность божественному
абсолюту.
Пятидесятилетняя история французского персонализма
наглядно показывает, что его учение о человеческой личности не
только не стало наследником сократовского гуманизма, но и не
реализовало задачи «возвеличения» земного в модернистской
религиозно-идеалистической философии, восходящей к концепции
Августина. Более того, эта задача сегодня объявляется чуждой
персоналистским намерениям. Известный французский философ
П. Рикер, постоянный сотрудник журнала Esprit, в юбилейном его
номере опубликовал статью под таким названием: «Умри,
персонализм, личность — возродись» 45, где высказал свои суждения о
значении персоналистских разработок для современной
философии. Он считает плодотворным само понятие личности,
положенное в основу философии персонализма, находит его перспективным
для философского анализа субъективности. Однако основное
условие, при котором Рикер прочит жизнеспособность персона-
листскому понятию личности, заключается в полном освобождении
последней от опосредованности политическим, экономическим и
социальным порядком, иными словами, от всего земного.
Основу философской проблематики персонализма составляет
вопрос о кризисе человека, который сторонники этого течения
первоначально пытались осмыслить как следствие общего кризиса
буржуазной цивилизации. Именно благодаря этому французский
персонализм и стал радикальным учением современного
социального христианства, повлиявшим на обновленческий процесс в
католицизме 4о. Рикер предлагает «универсализировать» понятие
кризиса, лишив понимание человека какой бы то ни было связи с
обосновывающей его действительностью («вывести за пределы
экономического, социального и культурною поля»47). С этой
целью он обращается к М. Шелеру, в чьем учении о субъективности
находит соответствующее собственным представлениям понимание
кризиса личности. Субъект (личность), по Шелеру,
характеризуется двумя моментами: восприятием себя как человека «сдвинутого
с места» и потерявшего ценностные ориентиры. Выход из
кризисного положения Рикер вслед за Шелером видит в том, чтобы индивид
смог создать новую шкалу ценностей, способных воодушевить его.
Причина, побуждающая человека к творению новых жизненных
ориентиров, по Рикеру, находится вне мира, она трансцендентна
реальности. «Принимая позицию,— пишет он,— я тем самым
признаю, что существует нечто большее, чем я, более долговечное, чем
я, более достойное, чем я...» 4а. Однако принятие личностной
позиции достигается не в процессе осознания трансцендентной причины
и не в общении с другими людьми, как того потребовал бы Сократ;
она результат интимной внутренней работы, осуществляемой в
момент полной отрешенности от мира и абсолютного молчания.
В рикеровском «балансе» личностного существования выявле-
178
ны главные тенденции персоналистского учения о человеке. Когда
же он говорит о перспективности персоналистской концепции
личности, то на деле отмечает ее существенную характеристику —
соответствие современному религиозно-идеалистическому
антропологизму феноменологическо-экзистенциального содержания,
где человеческое бытие оправдывается и получает смысл через
соотнесенность с божественной трансценденцией.
Очевидно, что персоналистское учение о человеке значительно
проигрывает перед лицом сократовской мудрости. Этический
интеллектуализм Сократа вошел в историю культуры благодаря
своему общечеловеческому пафосу. Древнегреческий философ
является современником многих поколений людей и его призыв
«познай самого себя!» имеет всемирно-историческое значение:
он требует от каждого человека сосредоточенного размышления о
своем месте в мире, о самосовершенствовании, о развитии в себе
чувства подлинной гражданственности, которое достигается
отнюдь не упованием на трансцендентные силы, а духовным
восхождением человека, осознавшего свою связь с миром и меру личной
ответственности за него.
6
АНАЛИЗ ФИЛОСОФСКИХ РЕКОНСТРУКЦИЙ
УСТНЫХ УЧЕНИЙ ПЛАТОНА
Еще при жизни Платона ходили слухи, что, помимо тех учений,
которые изложены в диалогах, существуют и внутриакадемиче-
ские (эзотерические), которые он устно преподавал только своим
ученикам и которые хранились в секрете от посторонних.
Поскольку невозможно было вывести из диалогов какую-либо
однозначную систему учений, постольку интерес к эзотерическим
учениям никогда не утрачивался полностью, время от времени
обостряясь.
В период господства неоплатонических интерпретаций
диалогов Платона и при сформировавшейся на их основе христианской
трактовке его наследия разговоры об устных учениях были
непопулярны.
Первые серьезные попытки пересмотреть христианскую
традицию наблюдаются в начале XIX в., но они были подавлены
Ф. Шлейермахером. В качестве характерного для прошлого века
любопытно следующее свидетельство: «Было высказано
некоторыми довольно странное мнение, будто и из подлинных сочинений
Платона нельзя извлечь истинного мнения об его учении, что оно
в полной ясности преподано им тайно только ученикам его, а в
сочинениях внутренний смысл учения скрыт под намеками и
образами, частью с умыслом, частью из осторожности. Шлейермахер
опроверг эту догадку, и с его времени в нее потеряли веру» .
Конечно,- Шлейермахер не опроверг в подлинном смысле эти
предположения, а только отверг их. О том же свидетельствует и
С. Н. Трубецкой: «Некоторые ученые, как, например, Аст и Зохер,
7*
179
полагали, что учение свое Платон выражал главным образом в
устных беседах, а диалоги и другие сочинения служили лишь
дополнением к ним» 2. Сам С. Н. Трубецкой не разделяет этого
мнения, считая его невероятным. Однако ни приверженцы Шлейерма-
хера, ни их отдельные оппоненты не могли создать сколь-нибудь
убедительного представления о системе Платона. Поэтому смелое
высказывание Р. Эмерсона весьма точно характеризует
господствовавшее в конце прошлого века настроение: «Ни один из крупных
мыслителей немецких, ни один из любимейших учеников не мог
бы с точностью определить, что такое платонизм. И действительно,
по каждому крупному вопросу можно извлечь из его произведений
два совершенно противоположных мнения» 3. Это настроение
выражалось и Дж. Льюисом: «Невозможно воссоздать
последовательное учение. Да и сомнительно, выработал ли его сам
Платон» 4. Подобное воззрение остается в силе по сей день, хотя и не
доминирует.
В наш век, особенно в последние десятилетия, предположения
об устных учениях Платона вновь стали модными. Но если в
прошлом веке исследователи в основном разделялись на приверженцев
и противников гипотезы устных учений, то теперь альтернатива
перенесена на основания реконструкции эзотерических учений,
исходя из какого материала реконструировать устные учения: из
диалогов или из косвенных свидетельств учеников и последователей
Платона. Указанная альтернатива вызывает споры, поскольку ни
те, ни другие не могут предложить своим оппонентам чего-либо
вполне убедительного.
Может возникнуть вопрос, чем оправдана уверенность в том,
что у Платона были эзотерические учения? Ведь это убеждение
сегодня можно считать господствующим в платоноведении.
Аристотель свидетельствует в своей «Физике», где речь идет о
воззрениях Платона о материи и пространстве: «И хотя он по-другому
говорит о восприемлющем в так называемых „неписаных учениях",
однако место и пространство он объявил тождественными» 5.
Разумеется, Аристотель не мог сказать этого, если бы у Платона не
было неписаных учений. В наш век не все исследователи считают
свидетельства Аристотеля о платоновской философии, особенно о
теории идей, авторитетными. Однако несмотря на это вряд ли
можно усомниться в подлинности приведенного сообщения Аристотеля,
которое содержит лишь констатацию факта наличия неписанных
учений без каких-либо интерпретаций. То же самое относится к его
другому свидетельству в «Метафизике»: «Надо отдельно
рассмотреть сами идеи — в общих чертах — лишь насколько этого требует
обычай: ведь многое было сказано и в доступных всем
сочинениях» 6. Хотя эти слова относятся к произведениям самого
Аристотеля, они важны в качестве характеристики стандартов того времени,
когда, вероятно, создавались произведения «для всех» и сочинения
для узкого круга.
Итак, не сомневаясь в том, что устные (эзотерические) учения
действительно были у Платона, рассмотрим одно из ведущих на-
180
правлений в современном платоноведении, которое
придерживается той крайности, что устные учения Платона следует
реконструировать на основании косвенных свидетельств, оставляя в стороне
диалоги, которые, как думают приверженцы этого направления,
не могут содержать подлинно платоновских воззрений, поскольку
они созданы для непосвященных. Сторонников этвй точки зрения
в платоноведческой литературе называют эзотеристами. Ее
разделяют представители тюбингенской школы истории философии.
Представителем радикального крыла этой школы является
Г. И. Кремер, более умеренного — К· Гайзер. Следует отметить,
что они имеют своих предшественников. Если В. Теннеман был
первым предшественником эзотеристов в Новое время, то
подлинным реставратором этой точки зрения, как считает Е. Тигерш-
тедт, был Вернер Егер, который в 1912 г. смело провозгласил, что
настоящая философия Платона «не может быть найдена в его
диалогах, которые следует считать не философскими
произведениями, а произведениями искусства. Однако она содержалась в
его устном преподавании — в том, которое может быть
восстановлено по свидетельствам Аристотеля и других его учеников» 7.
Обратим внимание на те данные, которые служат основанием
эзотерической точки зрения. Обычно ее сторонники приводят
известные фрагменты из писем и диалогов Платона, которые
подгоняют под свои предположения. Так, К. Гайзер, ссылаясь на
Седьмое письмо Платона и на диалог «Федр», заявляет, что, по
собственным словам Платона, наиболее существенную часть своей
философии он не смог выразить в писаных сочинениях, что в
диалогах отражены лишь беседы Сократа. Поэтому он считает
необоснованными попытки отождествления того, что можно вывести из
диалогов, с сущностью устного учения Платона. Однако в отличие
от Г. И. Кремера Гайзер убежден, что разговоры о внутриакаде-
мической деятельности Платона не могут обесценить литературные
диалоги. Он приводит схему, отражающую соотношение
различных сторон платоновской деятельности, как они ему
представляются 8. Этих сторон пять: политическое законодательство,
литературные диалоги, математическое исследование, устное учение и так
называемое «невыразимое». О наличии этой последней стороны
творчества Платона Гайзер предполагает на основании фрагмента
341с из Седьмого письма, где Платон говорит, что его
философское учение «не может быть выражено в словах». Не видя здесь
никакой скрытой мысли, никакого иносказания, Гайзер, воспринимая
сказанное буквально, превращает его в целую сторону
деятельности, понимая под ним нечто таинственное, мистическое или по
крайней мере иррациональное. В действительности же Платон в
этом фрагменте имеет в виду идеологическую опасность, которая
не позволяла свободно выражать те воззрения, которые
противоречили мифологии, лежащей в основе официальной идеологии Афин.
Согласно схеме Гайзера, устное учение представляет собой
результат частичного сложения других четырех перечисленных
сторон деятельности Платона, т. е. оно не полностью содержится в
181
писаных работах и нуждается в дополнении из других источников.
Он справедливо считает, что различие между писаным
изображением в диалогах и внутриакадемическим исследованием не
основывается на различии философской проблематики. Различие
состоит в том, что «эзотерическое изложение было систематично и
большей частью научно точно» 9. Он прав и в том, что суть устного
учения можно вывести посредством стремления охватить в одно
целое изображение разрозненных воззрений, выведенных из
диалогов и понятых отдельно.
Более строгий эзотерист Г. И. Кремер уверен, что
«существенные философские моменты принадлежат эзотерической сфере и
проявление сдержанности в отдельных диалогах отражает это
обстоятельство» . Более того, он тут же обостряет эту концепцию до
предела: «Утверждение о том, что диалог прямо содержит
платоновскую философию, совершенно противоречиво при
сопоставлении с самим Платоном, а именно с Платоном диалогов» п.
Основания этого убеждения приведены Кремером во введении к своей
работе: «Явно несказанное в диалогах не есть просто невыразимое
словом, но по ясному указанию Седьмого письма это исходит из
рассмотренного во взаимосвязи экскурса — из ставшего устным,
далеко идущего и посреднического слова Платона» ,2. Он тут имеет
в виду фрагменты 341с, 344cd (из Седьмого письма), а также
278d из диалога «Федр».
Обратимся к ним и убедимся в превратном понимании их тю-
бингенцами. Так, во фрагменте 341с Платон говорит о своем
учении, о своих занятиях и о тех, кто думают, что знают, чем он
занимается: «...по моему убеждению, они ничего в этом не смыслят.
У меня самого по этим вопросам нет никакой записи и никогда не
будет. Это не может быть выражено в словах, как остальные
науки». И Дж. Теодоракопулос солидарен с эзотеристами, хотя он в
общем не относится к предствителям тюбингенского направления в
платоноведении. Он тоже не замечает здесь никакого иносказания,
воспринимая слова Платона в прямом смысле. Он считает, что в
этом фрагменте «Платон касается невыразимого словами и
своего отношения к нему» ,3. Тигерштедт, соглашаясь с
Кремером, считает, что неодобрение писаного слова в «Федре» и Седьмом
письме касается и самих диалогов ,4. Тигерштедт, однако, в
отличие от Кремера пишет: «Фактически в письме Платон открыто
признает, что он не может не только писать, но и говорить о
высших материях» ,5. Никто из них не обращает внимания на внешние
обстоятельства жизни Платона и не связывает его приведенных
высказываний с общей атмосферой духовного антагонизма между
властями афинского государства и интеллектуалами. Ведь в
другом фрагменте Платон прямо говорит об этом: «...ни один
серьезный человек никогда не станет писать относительно
серьезных вещей и не выпустит это в свет на зависть невежд. Одним
словом, из сказанного должно понять, что когда кто-нибудь
увидит что-то написанное — будь то законы законодателя или
другие какие-то письмена, если он серьезный человек, он не
182
сочтет все это чем-то глубоко для себя важным, но поймет, что
самое для него важное лежит где-то в прекраснейшей его части.
Однако, если бы он письменно изложил то, что столь глубоко им
было продумано, „тут у него", конечно, не боги, но сами люди
„похитили бы разум"» (344cd). Следует отметить, что Тигерштедт,
не разделяющий концепции эзотеристов, замечает, что осуждение
писаного слова имеет общий характер. Это обстоятельство он
называет «парадоксом, который следует принять и, если возможно,
объяснить, но не замалчивать» ,6. Он не предполагает, что
замеченный им так называемый парадокс разрешается очень просто,
если правильно понять иносказательный смысл слов Платона.
Кремер из этих фрагментов делает два важных заключения, на
которых и строятся эзотерические концепции. Он считает, что
диалоги не содержат подлинно платоновских взглядов и что наиболее
серьезные воззрения были выражены им лишь устно. Эти
заключения приводят его к отказу от диалогов, поскольку они совершенно
не выражают ни цели Платона, ни духа его философии, которая
полностью содержалась в устных беседах с учениками в Академии.
В действительности же, согласно концепции иносказания,
лежащей в основе настоящей статьи, в отказе Платона от каких-либо
записей выражена предосторожность против идеологической
опасности. Что же произошло бы с человеком, если бы он решился
выразить свои убеждения в письменной форме? Платон отвечает:
люди похитили бы у него разум, как они похитили его у Сократа,
который к тому же и не писал ничего, а только беседовал кое о
чем. Ведь во Втором письме Платон прямо говорит об
идеологической опасности: «Более всего надо печься о том, чтобы ничего не
записывать, новее познавать и усваивать: ведь невозможно, чтобы
написанное не получило огласки. Поэтому я никогда ничего не
писал о таких вещах, и на свете нет и не будет никакой Платоновой
записи; а то, что теперь читают,— это речи Сократа, когда он, еще
молодой, был прекрасен. Будь здоров, слушайся меня, а это
письмо, прочтя его несколько раз, сожги» (314с). Какие тут нужны
еще комментарии? Если в частном письме он вынужден был
соблюдать осторожность, то как он мог забыть смертельную опасность
при написании экзотерических сочинений? Отказ от авторства
содержания диалогов тоже есть иносказательное средство
идеологической предосторожности.
Теодоракопулос, усматривая в этих словах глубокую иронию,
не верит Платону, правильно считая, что его философия все же
содержится в диалогах ,7. Он прав в том, что не следует
принимать этих слов Платона в прямом смысле. Однако здесь нет
никакой иронии, но применена другая форма иносказания — мера
идеологической предосторожности. Платон отказывается от
авторства содержания диалогов ради избежания возможных обвинений
за те воззрения, которые выражены в диалогах и которые
противоречат официальной идеологии Афин тех дней.
Кремер же, не усматривая в приведенном фрагменте никакого
иносказания и скрытого смысла, считает, что диалоги являются
183
своего рода «писанием по воде» |8. Избрав эту позицию, эзотери-
сты затрудняются адекватно интерпретировать важные
исторические свидетельства. В частности, Нумений сообщает, что Платон
излагал свое учение не так ясно, как Сократ, что «он трактовал
каждый пункт именно таким образом, что оставлял его в
полумраке, на пути между ясностью и темнотой. Он действительно
достиг осмотрительности в своих писаниях, но он же и стал
причиной последующих разногласий и различия мнений о его учении» 19.
Это свидетельство подтверждает то обстоятельство, что Платону
было чего опасаться, и он тонким искусством каждый раз достигал
идеологической безопасности. Следовательно, те трудности, с
которыми сталкивается исследователь диалогов, преднамеренны,
специально созданы самим Платоном. Иначе говоря, в писаных
работах он применил определенную систему тайнописи, которую
следует разгадать, чтобы отделить подлинно платоновские
воззрения от тех, которые служили ему лишь средством маскировки.
О преднамеренном вуалировании своих воззрений Платоном
сообщает и Диоген Лаэртский: «Словами Платон пользовался
очень разными, желая, чтобы его учение не было легко уяснимым
для людей несведущих»20. Почему'Платон не желал, чтобы его
учения были легко уяснимыми? Потому что в них было много
преследуемого официальной идеологией Афин. Из высказывания
Диогена следует, что сведущие могут уяснить его учение из
самих же диалогов. Однако подобные указания или подсказки не
привлекают внимания эзотеристов.
В современном платоноведении существует немало концепций,
которые вступают в оппозицию к тюбингенской школе,
поскольку в качестве основы реконструкции устных учений Платона они
признают диалоги. Здесь они несомненно правы, но их конкретные
попытки реконструкции не увенчались успехом по причине
односторонности принятой ими точки зрения.
Так, например, некоторые современные исследователи диалогов
заметили, что тексты Платона часто содержат умышленно
допущенные ошибки в рассуждениях, доказательствах, ответах и
заключениях. В частности, Р. Спраг во введении к своей книге
утверждает: «В платоновских диалогах, несомненно, много ложных
аргументов» — и выдвигает гипотезу о том, что «Платон осознал
ложность, по крайней мере, значительного количества этих
доводов и иногда преднамеренно использовал их в качестве косвенных
средств для изложения определенных фундаментальных
философских воззрений» 2|. Р. Спраг верно нашла ложные аргументы,
но совершенно неубедительно ее предложение о целях Платона,
с которыми он применил их. Каким образом ложные аргументы
могут помочь изложению фундаментальных проблем? Ни в одном
отдельном случае Спраг не может показать, каким образом это
осуществляется в тексте диалогов. При анализе таких диалогов,
как «Теэтет», «Гиппий Младший», «Кратил», «Менон», она в
качестве эталона, образца, модели принимает диалог «Эвтидем»,
в котором Сократ со своими собеседниками — софистами Эвтиде-
184
мом и Дионисиодором демонстрирует некоторые особенности эри-
стического искусства. Эта экстраполяция нужна ей для
обнаружения в указанных диалогах умышленно допущенных ошибок.
Подобная попытка не может увенчаться успехом, поскольку
перечисленные диалоги совершенно различны по структуре и по
примененным в них формам иносказания. Спраг правильно заметила,
что ошибочные доводы Платон использует, как правило, при
обсуждении наиболее фундаментальных проблем. Дело в том, что
умышленные ошибки являются одной из форм иносказания,
посредством которых Платону удалось скрыть от широких кругов
читателей свои подлинные воззрения, которые, конечно,
фундаментальны.
Тигерштедт, приводя утверждение Р. Робинсона о том, что в
произведениях Платона есть умышленно допущенные логические
ошибки или, скорее, софизмы, правильно вопрошает: «Как мы
можем быть уверены, что трудности, связанные с попыткой
систематизировать Платона, не преднамеренны?» 22. Здесь он
интуитивно уловил правильный подход к диалогам, но это вопрошание в
лучшем случае остается всего лишь догадкой и не
прослеживается при анализе текстов Платона.
Г. Гадамер тоже замечает, что «Сократ часто пользуется
софистическим искусством аргументации» 3. Однако с какой целью
Платон допускает в своих произведениях эти софистические
приемы, автор не имеет правильного представления. Он только
фиксирует факт, не задаваясь целью проинтерпретировать, понять его.
Указанный недостаток весьма характерен для всех тех, кто при
исследовании диалогов наталкивается на ту или иную форму
иносказания.
Дж. Райл тоже удивлен и считает парадоксом тот факт, что
«ранние и драматически живые диалоги Платона, спорные
аргументации которых принимают форму ведения Сократом своих
собеседников через ряд вопросов, допускают ложность отстаиваемых
положений» . Да, действительно, в диалогах немало ложных,
мнимых доказательств того или иного положения. Этот прием
тоже служит маскировкой действительного обоснования иногда и
прямо противоположного воззрения, которое несовместимо с
афинской официальной идеологией. Но Райл не догадывается о
действительных функциях этих ложных обоснований.
В аналогичной ситуации оказывается и Г. Гаусс. Относительно
доказательств бессмертия души в «Федоне», например, он
утверждает: «В платоновской философии на фоне сократовского
„осознанного незнания" нелегко приходится проблеме бессмертия души.
И на вопрос, есть ли у Платона строго логическое
„доказательство" бессмертия души, мы должны ответить несомненно
отрицательно» 25. Что касается логически строгоГ°доказательства, оно
принципиально невозможно, когда речь идет о столь абстрактных
вопросах. Однако автор здесь имеет в виду логическое не в строгом
смысле, а в смысле логичности, последовательности и
убедительности. Гаусс правильно заметил, что Платон не выполняет своих обе-
185
щаний, что он не старается даже обосновать бессмертие души.
Конечно, Гаусс не имеет представления о том, что скрывается за
указанными мнимыми доказательствами. Платон в «Федоне» не
только дает ложные, мнимые, иносказательные доказательства
бессмертия души, но и посредством этих мнимых построений и
намеков дает знать сведущему читателю, что доказательство
бессмертия души в действительности невозможно, что душа смертна.
Иначе говоря, отсутствие подлинного доказательства бессмертия
души — это иносказательное средство обоснования
естественнонаучного взгляда, согласно которому душа не бессмертна. Это
представление и является подлинно платоновским.
Итак, не понимая подлинных целей Платона, невозможно
правильно истолковать его двухслойные тексты, если даже
обнаруживаются некоторые правильные догадки. Сам Гаусс осознает это
важное упущение: «Платон всегда начинает рассмотрение вопроса
с очевидных явлений, но невозможно уловить его цели. И читатель
убеждается в том, что трансцендентное остается открытым» 26. Это
мнение весьма характерно для большинства исследователей
Платона, которые обычно в его текстах находят много мистического,
иррационального, трансцендентного, двусмысленного и
противоречивого там, где не находят подлинных целей автора диалогов,
где для правильного понимания контекста необходимо обнаружить
и проследить ту или иную форму иносказания.
О вышеуказанных доказательствах бессмертия души Ю. Белох
справедливо замечает: «Как слабы все эти доводы, ясно само
собою; но именно их недостаточность показывает нам, что Платон не
мог этим путем прийти к своему учению о бессмертии» 27. Но он не
исследует диалогов, чтобы убедиться хотя бы в том, нужно ли
приписывать бессмертие души Платону, если мы не видим путей,
которые могли бы привести его к этому воззрению? Если да, то на
каком основании, а если нет, то как объяснить его попытки
доказать бессмертие души? Конечно, здесь вырисовывается явное
противоречие, если не обнаружить и не проследить различные
формы иносказания, которые убедительно показывают, что нет
никаких оснований приписывать мнение о бессмертии души самому
Платону.
Г. Вольф недоумевает относительно фрагмента 963с в
«Законах», где Платон говорит о видах добродетели. Он считает, что
«Платон сознательно создает ложное впечатление: сквозь
неопределенные намеки, точнее, посредством ничего не говорящих
доказательств создает видимость признания теории идей» . Да,
действительно, есть умысел создания ложного впечатления. Но с какой
целью это делается и как конкретно осуществляется, Вольф не
догадывается, поскольку он не подозревает, что ложное
впечатление является одной из многих форм иносказания, под системой
которых автор диалогов скрыл свои подлинные воззрения. Иначе
говоря, мы имеем типичный для современной философии случай,
когда исследователь открывает в текстах Платона определенные
факты, которые он вынужден считать своего рода курьезами, за-
186
гадками, анахронизмами. Все эти нестандартные фрагменты
содержат подлинные воззрения Платона, но они скрыты под маской,
под «мифически-аллегорическим покровом» 29, о котором говорил
Маркс, критикуя установившийся в то время взгляд о соотношении
платоновской философии и христианской догматики.
Другой формой иносказания, широко примененной Платоном,
является ирония, которая традиционно рассматривалась как часть
сократовского метода ведения беседы, как характерная черта его
манеры притворяться, как необходимый атрибут его «осознанного
невежества» и т. д. В действительности же конечной целью
применения иронии Платоном была все та же маскировка своих
подлинных воззрений, ибо ирония столь богата вуалирующими
возможностями, что было бы весьма удивительно, если бы автор
диалогов не воспользовался им.
По этому поводу П. Фридлендер замечает, что «ирония
Платона содержит в себе всю педагогику и таинственность Сократа,
открывая, как из-под покрывала, сокровенную тайну
Платона» 30. Он весьма точно указывает на функцию иронии, но не
может показать, как она конкретно осуществлена и в чем,
собственно, состоит тайна Платона? Это невозможно без систематизации и
обнаружения взаимосвязи различных форм иносказания, которые
составляют систему, дополняя и подтверждая друга друга.
В. Бодер, придерживаясь традиционного взгляда, считает, что
сократовская ирония всегда представляет собою не столько
ироническое выражение, сколько проявление общего сократовского
метода. Он задается вопросом: «Если Сократ знает и если он
опровергает всех своих современников, зачем ему играть в незнание?
Платон отвечает — из приверженности к иронии» 31. Ничего
подобного! Это Бодер так отвечает, а не Платон. Разве ирония была
когда-либо самоцелью? Разве под маской иронической улыбки не
скрывается всегда нечто серьезное? Что касается Платона, он
никогда не использовал иронию лишь из приверженности к ней.
Всегда под иронией он скрывал серьезную мысль.
Известна концепция С. Розена, который провозгласил иронию
важнейшей проблемой платоноведения, считая, что если нам
удастся проследить иронию в каждом диалоге Платона, то мы
можем полностью реконструировать его устное учение. Он
рассматривает иронию в качестве специального, универсального ключа
ко всем скрытым в диалогах воззрениям. Он прав частично:
ирония — лишь одна из многих форм иносказания, но далеко не
единственная. Ни одна из форм иносказания не может претендовать
на универсальность. Розен потерпел неудачу, потому что он
пытался слишком расширить границы важности иронии в произведениях
Платона. Эта попытка универсализации была справедливо
раскритикована Тигерштедтом: «Ничего не может быть более вредного
для правильного понимания Платона, чем путь преувеличения
законной и верной точки зрения, представления ее исключительной.
Когда американский ученый в последнее время утверждает, что мы
должны признать иронию в качестве „центральной проблемы в ин-
187
терпретации Платона", он становится виновным в таком же
преувеличении» 32. Хотя критика абсолютизации иронии вполне
уместна, тем не менее Тигерштедт тоже рассматривает иронию как
отдельное, самостоятельное явление, а не как часть широкой и
пестрой системы различных форм иносказания. Он тоже не знает
подлинных целей Платона, применившего иронию и другие формы
иносказания, чтобы с их помощью создать своеобразную систему
тайнописи, под которой скрыл от идеологических властей критику
государственного строя и политической практики Афин того
времени.
Тигерштедт замечает в утверждениях Розена противоречие.
С одной стороны, по Розену, «диалоги обеспечивают эффективное
руководство для реконструкции устного учения Платона», в
диалогах он проявил «скрытность, которая характерна для всей эпохи,
предшествующей Просвещению», а с другой стороны, он
провозглашает, что «Платон, как и любой философ, был достаточно
здравомыслящим для открытого опубликования всех своих
мыслей» 33. Это противоречие объясняется двумя
обстоятельствами. Хотя Розен правильно указывает на важность иронии, он
не понял подлинных целей Платона. Этому способствовала его
солидарность с эзотеристами в недооценке писаного наследия
автора диалогов. Ему тоже кажется, что Платон не изложил своих
воззрений письменно. Он, как и эзотеристы, не обращает внимания
на внешние обстоятельства, которые не позволяли Платону
свободно выражать свои мысли. В интеллектуальном отношении он
был в состоянии выразить любую свою мысль, но он не мог
написать многое, поскольку это было идеологически опасно. Именно
поэтому он вынужден был общаться со своими учениками лишь
устно.
Читатель уже заметил, вероятно, что критика современных
попыток реконструкции устных учений Платона в настоящей работе
проводится с точки зрения концепции иносказания 34. Эта
концепция противоположна тюбингенской в основных пунктах. Если
эзотеристы считают основой реконструкции устных учений Платона
косвенные свидетельства, то концепция иносказания в качестве
достаточного источника и основания принимает диалоги. Что же
касается свидетельств учеников Платона и его писем, то они ни в
чем не поотиворечат концепции иносказания, но, наоборот, лишь
подтвержцают ее правильность. Согласно ей, устные учения
Платона должны быть систематизированы из отдельных воззрений,
запрятанных под иносказательным покровом. Все остальное
призвано замаскиоовать подлинные воззрения и составляет основную
массу словесного содержания диалогов. Оно не может быть
систематизировано, поскольку представляет собой лишь маску,
камуфляж, видимость изложения.
Противоположность эзотерической и иносказательной
концепций осознается и признается самими эзотеристами. Так, Гайзер
особо подчеркивает, чго «литературные сочинения относятся к
эзотерическому учению наверняка не так. как подлинное к иносказя-
188
тельному, но скорее оба являются взаимосвязанными как внешнее
и внутреннее одного и того же предмета» 35.
Хотя концепция иносказания отвергается некоторыми
исследователями, тем не менее наблюдаются различные приближения к
ней. Это и естественно, поскольку различные формы иносказания
так часто проявляются в текстах диалогов, что любое
добросовестное исследование должно выработать свое (верное или
ошибочное) отношение к ним. Иносказание в диалогах Платона —
такой значительный факт, игнорировать который уже нельзя.
Обратим внимание на некоторые примеры частного и
концептуального характера, в которых наблюдается приближение
(осознанное или невольное) к концепции иносказания. Так, например,
Г. Вольф замечает, что в «Филебе» Сократ причиной всех вещей
считает ум, в то же время это свое объяснение называет шуткой,
заявляя, что «шутка иногда бывает отдыхом от серьезного дела»
(ЗОе). Исходя из этого, Вольф шутку считает ключом к диалогу
«Политик», который он характеризует как «философскую
шутку» 36. В действительности, объявление того или иного воззрения
шуткой является одной из форм иносказания, которую Платон
применил в различных диалогах, но нет такого диалога, который бы
весь мог быть интерпретирован как шутка. Он не знает, с какой
целью и каким образом шутка применяется в диалогах.
Предположение Вольфа необоснованно и с другой точки зрения: зачем
Платону писать диалог, если он полностью является шуткой, пусть
даже и философской? Не слишком ли серьезен автор диалогов,
чтобы не предполагать в его творчестве подобных целей? В
действительности же и шутка призвана служить средством выражения
самого серьезного, которое непременно скрывается под ней.
П. Шорей, анализируя рассуждения собеседников,
разрабатывающих в десятой книге «Законов» меры борьбы против атеизма,
допускает, что «все это, может быть, не вполне серьезно» 37. И
действительно, собеседники делают вид, что они разрабатывают
средства борьбы против атеизма, на самом же деле все это только
маска, под которой тонкими намеками и другими
иносказательными средствами обосновывается именно атеистический взгляд,
направленный против официальной идеологии Афин.
М. ОЪрайен замечает наличие в диалогах притворства:
«Литературное искусство Платона представляет собой не только
украшение его философских положений, но и притворное их
изложение» 38.
Баллар тоже замечает, что «сократовское невежество
представляет собой неотъемлемую часть платоновской философии, не менее
важную, чем диалектика или теория идей» 39. Однако ни ОЪрайен,
ни Баллар не догадываются о подлинной роли тех средств
иносказания, о которых они говорят. Они не обнаруживают воззрений,
которые скрываются за этими формами иносказания. Именно
поэтому ОЪрайен, например, считает, что «этические положения
Платона, которые кажутся отрицающими очевидные факты,
парадоксальны» 40. А Баллар считает, что сократовское невежество «изоб-
189
ражает родство философии с иррациональным» 4\ и платоновскую
философию называет лабиринтной.
Рансимен обращает внимание на некоторые полунамеки,
примененные Платоном в «Законах». Изучение этих намеков приводит
автора к заключению, что в последний период жизни Платон
отказался от ранней веры в знание как припоминание 42. Следует
отметить, что трактовка знания как припоминания никогда не была
платоновской. Если обычно кажется, что в диалогах раннего
периода Платон принимал эту точку зрения, то только потому, что не
прослеживаются те формы иносказания, под которыми автор
скрыл свои подлинные представления о знании. Рансимен
замечает также важность сократовского сна в «Теэтете», хотя этот
сон, как он думает, представляет учение, отвергаемое Платоном 43.
И в данном случае он предполагает, что эти сны имеют
самостоятельное значение, не зависящее от контекста. В действительности
же он не подозревает, что они являются формами иносказания,
которые дополняются другими формами, используемыми в
диалоге, и которые вместе маскируют подлинное воззрение Платона о
знании как правильном или истинном мнении 44.
Одной из форм иносказания является миф, который обычно
воспринимается исследователями по-разному. Подавляющее
большинство специалистов считают, что миф в диалогах имеет двоякую
функцию: религиозную и художественную. Некоторые указывают и
на педагогическую роль мифа. И лишь совсем немногие замечают
порой и аллегорию, иносказание. Так, К. Губер считает, что одной
из трудностей в интерпретации диалогов Платона является
разработка метода отношения к мифу. Он соглашается с Хакфортом,
который о фрагменте 246ab из «Федра», где душа уподобляется
силе парной упряжки с возничим, пишет: «Слова, которыми Сократ
сопровождает миф о душе, делают ясным, что миф является
частью аллегории» 45. Это совершенно верно, но, к сожалению,
такая трактовка роли мифа имеет для указанных авторов частное
и фрагментарное значение. В действительности же все мифы,
которые Платон применяет или создает в своих текстах, призваны
играть ту или иную иносказательную роль, которая в конечном итоге
служит утверждению его антимифологических воззрений.
В современном платоноведении иногда встречаются догадки
общего характера о том, что Платон в диалогах специально,
умышленно утаил свои воззрения. Эта* позиция предполагает
концептуальное несогласие с эзотеристами, поскольку ее приверженцы
подразумевают возможность реконструкции устных учений
Платона на основе диалогов. Так, например, Дж. Финдлей утверждает:
«Мое первое и наиболее важное заключение состоит в том, что
диалоги Платона, взятые сами по себе, не относятся к числу тех
работ, в которых излагается взгляд одного мыслителя по каждому
вопросу. Они, конечно, содержат глубочайшие мысли Платона,
однако, подобно морскому богу Главку, требуют освобождения от
громадного наслоения и своеобразного рефлексирования так же,
как и от преднамеренной маскировки литературного,
исторического
го, полемического и прочего характера»46. Читатель может
подумать, что Финдлей тоже придерживается иносказательной
концепции и предполагает, что подлинные воззрения Платона
замаскированы в диалогах. Однако он неверно понимает мотивы,
заставившие Платона обратиться к маскировке, не может
обнаружить саму маску, поскольку не выявил тех средств иносказания,
которые были использованы при ее построении. В частности, о
диалогах «Менон», «Федон», «Пир», «Федр», «Государство»
Финдлей говорит: «Они явились неполным отражением математизации
всех концепций — методологической фазы в мышлении Платона,
которая полностью проявилась только в устном общении. Эти
неписаные воззрения хранились от публики не по причине
тайно-торговых соображений, но только потому, что они были трудны,
несовершенно сработаны и прежде всего потому, что они были пробны:
не было ясно, в какой форме они могут быть представлены
подробно, ни даже, наконец, насколько они успешно могут быть
доказаны» 47.
Иначе говоря, автор считает, что маскировка была
продиктована неумением Платона найти приемлемую форму для выражения
своих воззрений. Эта гипотеза весьма маловероятна, поскольку
трудно допустить, что за сорок лет преподавания и исследования в
Академии он не мог найти средств самовыражения и что его
воззрения до конца остались неустановившимися. В конце концов, он
мог записать хотя бы тот курс лекций, который он преподавал.
Почему он этого не сделал? Ответ на этот вопрос не содержит
ничего загадочного. Все дело в том, что Платон не мог сделать этого
из идеологических соображений.
Вольф тоже уверенно заявляет: «Совершенно очевидно, что в
личном плане Платон маскируется так же, как и маскирует свои
воззрения в собственных произведениях» 48. Однако это ценное
прозрение не поддерживается конкретным исследованием того, как
осуществлена маскировка и что скрывается под ней.
В современном платоноведении никто не подошел так близко к
концепции иносказания, как это удалось Г. Властосу в его
интерпретациях некоторых отрывков из «Тимея». В частности, о
фрагментах 46с, 49Ь, 51 b он справедливо пишет: «Когда Тимей
развертывает философию, он правильно излагает положения Платона
без какой-либо ошибки. Каким образом он затем начинает
отклонять свое рассуждение в торжественные утверждения,
выраженные контекстуально, и даже в почтительные и поучительные
заявления, о которых Платон знает, что они совсем противны истине?
Позвольте предположить в данном случае, что Платон внедряет в
диалог ложную предпосылку и начинает свой рассказ с такой
детали, как создание вселенной, времени и души, веря в то же время,
что, наоборот, вселенная, время и душа существуют без начала и
конца. Пока Платон заботится о сообщении истины, он не
мистифицирует преднамеренно и тем не менее вводит своего читателя
в заблуждение. Все стороны этого диспута согласятся, что он не
пишет „р" в то время, как намеревается дать его читателю по-
191
средством „не-р" без предоставления ему ясного и
недвусмысленного понятия о том, что последнее он делает преднамеренно» 49.
Поразительно! Как можно столь точно угадать наличие в тексте
иносказания, но не понять его призвания и роли? Он не задается
вопросом, зачем все это нужно Платону? Что заставляет его свое «р»
выражать посредством «не-р»? Без ответа на подобные вопросы
нельзя понять Платона. Властос прав в отношении возникновения
вселенной и времени, но не прав в отношении платоновского
представления о душе. Платон, действительно, посредством различных
форм иносказания создает впечатление, что вселенная и время
имеют начало, а на самом деле он иносказательно обосновывает
прямо противоположное. Что же касается души, Платон отвергает
ее бессмертие.
Гадамер обращает внимание на широкую возможность
интерпретаций платоновских произведений: «Когда берешься за полный
загадок диалог Платона с целью изучить и проинтерпретировать
его, осознаешь герменевтическое предвосхищение создания своего
собственного Платона — совершенно свободного открытия» 50.
Действительно, это чувство произвольности интерпретации
охватывает читателя диалогов, когда он замечает фрагментарность
текста, наличие в нем кажущихся случайными двусмысленностей,
ошибок, иронии, интермедий, внешней расхлябанности,
несерьезности, непоследовательности и т. п. Но достаточно указанные
«изъяны» текста рассмотреть в качестве форм иносказания,
связать их в единую систему с точки зрения стратегических целей
автора, как начинает вырисовываться в текстах незримый,
глубинный слой, который и содержит его подлинные, систематические
воззрения. Перечисленные же внешние шероховатости составляют
лишь камуфляж, который, конечно, и не следует пытаться
систематизировать.
Неразличение указанных двух слоев в диалогах Платона и в
силу этого невозможность понимания их в систематической форме
часто порождает склонность преувеличить специфику диалогов и
расценивать их не как философские произведения, à
исключительно или преимущественно как художественные. Так, Г. Филд, считая
диалоги не такого рода произведениями, где излагается какая-то
определенная система воззрений, утверждает, что «одной из
великих заслуг платоновских сочинений представляется их роль в
качестве средств обучения философии» . Но это неубедительная
отговорка, поскольку в основе всякого обучения лежит систематика,
и невозможно представить даже попытку обучения без
предварительной систематизации знаний, подлежащих передаче. Он
присоединяется к тем, кто считает, что Платон свои сокровенные
воззрения не отразил в диалогах, что «Платон сам относился к своим
произведениям с меньшей серьезностью; чем мы. И это совершенно
верно, если мы пытаемся их понимать как выражение его
философских заключений» 52. Некоторые стараются подчеркнуть
художественную сторону диалогов в ущерб философской и научной. Так,
К. Гайзер замечает: «Везде, где Платон высказывается о благом и
192
прекрасном как поэтических чаяниях, становится очевидным, что
его собственные произведения насыщены этой потребностью и что
философский диалог является результатом дальнейшего развития
доплатоновской великой поэзии» .
Виндельбанд тоже считает, что диалоги Платона — «плоды
поэтической фантазии» 54. Он полагает, что в Платоне, «как в
образце, на все времена воплощен культурный идеал человечества,
создание им жизни посредством науки», тем не менее Платон
«становится первым богословом, он всегда действовал как богослов и
богословом его всегда признавали» 55.
Некоторые исследователи осуждают Платона за те трудности,
которыми перегружены его сочинения. Они к диалогам относятся
так же, как и к другим философским сочинениям, т. е. исходят из
общепринятых в научной и философской литературе норм и
критериев. Так, Р. Кросс выражает чуть ли не возмущение: «Если
философ испытывает дискредитирующие его трудности в важнейших
положениях, принятых им, и продолжает испытывать, не
преодолевая их, его образ действия представляется по крайней мере
загадочным и, в конце концов, может привести нас к подозрению
и недоверию к нему. В этом плане его самокритика должна быть
принята в лучшем случае как невыполнение своих
обязательств» 56. Автор требует от Платона соблюдения
общепризнанных стандартов. Это означает, что он совершенно игнорирует
специфику диалогов и не предполагает в них наличия внутреннего
слоя, замаскированного различными формами иносказания.
Д. Дрэпер тоже придерживается аналогичной позиции, когда с
детской непосредственностью заявляет: «Читатель может видеть,
сколько знания и невежества, сколько умного и бессмысленного
заключается в учении Платона»57. Конечно, для автора нет
никаких проблем, поскольку всевозможные внешние погрешности
текстов он приписывает лишь недостаткам сочинений Платона,
понимая каждое слово в буквальном смысле. Подобное механическое
восприятие наследия Платона сегодня не может найти сочувствия
в платоноведческой литературе. Каковы же современные
стандарты в платоноведении? В пестрой картине различных подходов и
решений проблем трудно выделить однозначные ответы на
поставленные вопросы. И сегодня трудно возражать Финдлею, который
смело заявляет: «Никогда не было и сейчас нет авторитетного,
ясного объяснения его учения» 58. Эта неуверенность в
платоновской проблематике будет продолжаться до тех пор, пока не будут
изучены и систематизированы все важнейшие формы иносказания,
примененные Платоном в диалогах. Однако не следует полагать,
что иносказание должно быть усмотрено в каждой строке его тек:
стов или что, если нам удастся их обнаружить, мы найдем решение
всех проблем, возникших в огромном духовном мире Платона. Он
и сегодня остается актуальным, загадочным и неисчерпаемым.
Каждая эпоха создает свой духовный облик великого мыслителя,
и, врспринимая его влияние, приобретает свои очертания. До сих
пор мы ö значительной степени остаемся питомцами Платона.
193
7
АРИСТОТЕЛЬ И СОВРЕМЕННЫЙ НЕОТОМИЗМ:
ДВЕ КОНЦЕПЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО БЫТИЯ
В кругу тем, обсуждаемых представителями современной
западной философии, центральное место принадлежит проблеме
человека. Сторонники феноменологии, экзистенциализма,
философской антропологии и других направлений, сделавших
предметом своего анализа специфику человеческого бытия в мире,
полагают своей главной заслугой отход от стереотипов традиции,
разрыв с нею, благодаря радикальной «новизне» собственных
воззрений. Постклассическая западная мысль философско-антро-
пологической ориентации бравирует своей нетрадиционностью,
в различных вариантах утверждая особый «невещный» характер
человеческого бытия. Однако в панораме западной философии
современности существуют и направления, открыто заявляющие,
что решение проблемы человека сегодня просто невозможно без
обращения не только к классической буржуазной философии, но и
к наследию средневековья и античности. К их числу принадлежит
и философия неотомизма.
Сторонники неотомизма на современном этапе эволюции этой
доктрины охотно вступают в диалог с различными школами фило-
софско-антропологической ориентации, заимствуют их
методологические установки и инструментарий. Но при этом они
непрестанно порицают односторонность «антропоцентрической» доминанты
постренессансной мысли, приведшей якобы к отрыву человека
от бытийных «корней» его существования, своеобразному
«выпадению» индивида из гармоничного строя сотворенного
мироздания. Вслед за подобной «критикой» классической и современной
западной философии, ведущейся с религиозно-нравственных
позиций и в определенной мере фиксирующей ее реальные пороки,
неотомистские авторы призывают обратиться вновь к аристотелев-
ско-томистской традиции. Стагирит и Аквинат рассматриваются
ими как мыслители, противостоящие «антропоцентризму»
буржуазной философии, солидарные в своем понимании «бытийной
укорененности» человека в объективном строе космического
целого. Собственные искания неотомистов предстают как
базирующиеся на иллюзорно непротиворечивом едином базисе аристотелевско-
томистской традиции. Поэтому несомненный интерес представляет
выяснение реального соотношения между философским образом
человека, созданным Аристотелем, и его переосмыслением в
концепциях Аквината и современного неотомизма. Подобное
сопоставление дает возможность более полно выявить генетические
предпосылки современного варианта антропологии «вечной
философии».
Учение Аристотеля о человеке вытекает из целостности его
воззрений, развиваемых им базисных принципов метафизики, на-
194
турфилософии, психологии, этики, учения об обществе. Это
происходит потому, что человек в трактовке Стагирита есть наивысшее
существо материального мира, сопричастное одновременно как
носитель духовного начала и божественному уму. Он своеобразная
вершина естественно-природного универсума, сложной
ступенчатой иерархии его образований, созидаемых единением материи
и формы, побуждаемых к движению вечным божественным умом.
Картина бытия человека как субъекта нравственного выбора
и общественного существа заранее задается онтологическими
свойствами его природы, раскрываемыми философией
природы и базирующейся на ее выводах психологией. Гарантом
стабильности бытия человека в мире истины, красоты и блага, по Ста-
гириту, является божественный ум. Казалось бы, объективно-
идеалистическая установка аристотелевской философии весьма
близка христианскому пониманию мироздания и человека, которое
развивается Аквинатом. Но дело обстоит иначе, в чем не трудно
убедиться, когда мы сравниваем аристотелевское понимание
божественного ума с христианской трактовкой творца мироздания,
сопоставляем две концепции человеческого бытия.
Фиксируя телеологизм как неотъемлемую черту толкования
Стагиритом деятельности божественного ума, А. Ф. Лосев
справедливо замечает: «Однако мы не должны утверждать, что этот
аристотелевский бог-ум есть абсолютный создатель всего
существующего. Это было бы уже чисто христианским вероучением. На самом
деле должна идти речь только об организации вечно
существующей материи, об ее упорядочении, об ее направлении к той или
иной цели» '. Бог-ум Стагирита отнюдь не является творцом
мироздания и человека, ибо древнегреческий мыслитель говорит о
вечности и несотворенности материи. Он лишь залог существования
многообразия иерархии материальных образований, несотворен-
ного космического целого. Бог-ум не трансцендентен миру и сове-
чен ему. В этом состоит отличие аристотелизма от
христианского видения природы и роли бога-творца. Именно такому
пониманию бога-ума и соответствует модель человеческого бытия,
развиваемая Аристотелем.
Человек интересует Стагирита своим особым статусом среди
многообразия материальных вещей, субстанций.
«Субстанциальность предмета,— отмечает Д. В. Джохадзе,—^ находится, по
мнению Аристотеля, в форме» 2. Если Платон и традиция
неоплатонизма приходят к трактовке человека как «души, использующей
тело», то Аристотель считает необходимым толкование его природы
в качестве сложной субстанции, состоящей из двух простых —
души и тела. При этом специфика существования человека
определяется с подобной точки зрения душой, являющейся формой его
материально-телесной организации, особым сущностным
принципом таковой. «Таким образом,— пишет Стагирит в трактате „О
душе",— душа необходимо есть сущность в смысле формы
естественного тела, обладающего в возможности жизнью» . Совершенно
очевидно, что Аристотель уже в этом моменте своим «эссенциализ-
195
мом», поиском субстанциональной природы человека, ее
первоначального сущностного определения во многом противостоит Акви-
нату, для которого важно отметить первичность существования
по отношению к сущности, ибо оно даруется всем материальным
образованиям божественным творцом Вселенной. Различая три
вида души — растительную, животную и ум, Аристотель
приписывает бессмертие лишь последней, что вызывает ответную
полемическую реакцию Аквината. Нельзя, однако, не видеть и того, что
аристотелевское понимание первичности интеллектуального
начала по отношению к воле, анализ им различных способностей души
оказали существенное влияние на формирование
антропологической доктрины Фомы Аквинского и его последователей.
Аристотелевский человек неотделим от естественно-природного
универсума, но одновременно свойство социальности имманентно
присуще его природе. Поэтому-то человек и именуется
«политическим животным». Для Стагирита натуралистическое понимание
человека предполагало вполне земные ориентиры его счастливого
существования, этика была частью политики. Как известно,
высшей целью нравственного совершенствования человека он
провозглашает чистое умозрение, философское видение первопричин,
первопринципов бытия 4. Не вера, а философское умозрение,
позволяющее индивиду достигнуть сопричастности мудрости бога-
ума, есть путь к счастью в аристотелевском варианте
эвдемонистической этики, отражающей ценностную шкалу
противоположности умственного и физического труда, сложившейся в
рабовладельческом обществе. Однако высший идеал человеческого бытия,
по Аристотелю, отнюдь не исключал важности социальной
активности индивида. Об этом свидетельствует и понимание им
добродетелей человека.
Для Аристотеля добродетели есть положительные качества
человека, приобретенные им в стремлении к достижению блага.
«Добродетелями вообще,— писал он,— мы называем похвальные
приобретенные свойства души» 5. В душе, по Стагириту, есть лишь
естественная возможность приобретения добродетелей, ведущих
к развитию человека, к благу. Добродетели делятся на дианоэти-
ческие (интеллектуальные) и этические (волевые). Такие диано-
этические добродетели человека, как мудрость, разумность,
благоразумие, приобретаются в процессе обучения. Этические
добродетели формируются в сфере повседневной жизнедеятельности
индивида. Это щедрость, умеренность, справедливость и другие
положительные качества человека, призванного активно
участвовать в общественной жизни, способствуя достижению «общего
блага». При этом, разумеется, добродетельным человеком может
быть лишь свободный, а не раб. Так онтологические
представления Стагирита закономерно выливаются в его антропологию
и этику, а последняя, в свою очередь, служит прологом его учения
об обществе и государстве, предпосылкой обоснования
социального идеала.
С чисто внешней стороны антропологические воззрения Акви-
196
ната, жившего и творившего в тринадцатом столетии, во многом
схожи с аристотелевскими. Это и понятно, ибо «ангельский доктор»
осуществил ассимиляцию наследия древнегреческого мыслителя
в христианской теологии. Но сразу же бросаются в глаза и
очевидные черты различия Стагирита и Аквината.
Человек, портретируемый создателем «Суммы теологии», живет
в качественно ином мире, сотворенном и движимом волей
божественного создателя Вселенной. Бог Аквината разительно
отличается от космического бога-ума Аристотеля, ибо он трансцендентен
миру, творит его из ничего во всем его многообразии и
великолепии, предвидя и направляя судьбы его развития. Неотомисты
любят говорить о специфическом теологическом «экзистенциализме»
Фомы Аквинского, заключающемся в том, что он утверждает
единство сущности и существования в чистом «несубстанциально»
божественном бытии и примат существования в конкретных вещах
материального мира, благодаря сотворенной сопричастности богу.
Ж. Маритен пишет, что «метафизика св. Фомы центрирована не на
сущности, а на существовании, на мистерическом извержении акта
существования, в котором актуализируются и оформляются,
согласно множеству по аналогии, ступени бытия, все качества и
сущности, которые преломляют и размножают в своей сотворенной
причастности трансцендентальное единство самосубсистирующего
бытия» 6. Ему вторит Э. Жильсон: «Трудно представить себе более
полно и сознательно экзистенциально направленную онтологию,
нежели созданную Фомой Аквинским»7. «Экзистенциальная»
трактовка философии Аквината заимствуется у Жильсона даже
таким видным учеником М. Хайдеггера, как К. Левит,
принимающим утверждения Жильсона о несубстанциальном понимании
природы бога Фомой Аквинским 8. Очевидно, что
«экзистенциальное» прочтение наследия «ангельского доктора» носит отнюдь не
беспристрастный характер, а продиктовано потребностью
модернизации «вечной философии», с тем чтобы вписать ее содержание
в общую панораму идей современной философии. В поисках
исторических корней экзистенциализма его представители готовы
сегодня вслед за неотомистами противопоставлять «эссенциализму»
Аристотеля «экзистенциализм» Аквината. Но если быть
последовательно объективным, трудно не заметить, что «экзистенциализм»
Аквината есть продукт креацианистской догмы, весьма мирно
уживающийся с субстанциальным мышлением. Иначе не могла бы
состояться и сама переделка учения Стагирита на схоластический
манер. Так что «экзистенциальная» интерпретация Аквината
представляет собою лишь попытку обретения неотомизмом
потенциального союзника в лице философии существования, не
отказывающегося при этом от идеи плодотворности синтеза аристотелизма
и христианства.
Божественное бытие есть для Фомы Аквинского залог
возможности гармоничного бытия человека, ибо его основными
определениями, трансценденталиями являются истина, красота и благо.
Эти грансценденталии как бы «пропитывают» все «ступени» иерар-
\У/
хии сотворенного бытия и могут в конечной инстанции
сознательно воспроизводиться человеком в его мире. Следуя идеям
христианского неоплатонизма Ареопагита о ступенчатой структуре бытия,
Аквинат сковывает их диалектическое содержание креацианист-
ской догмой. Августианский экземпляризм используется им для
проведения идеи о том, что все сущностные формы вещей от явления
неорганической природы до человека содержатся заранее в
божественном разуме. «И поэтому,— заключает Аквинат,— мы
должны полагать, что в божественной мудрости присутствуют
прообразы всех вещей, которые мы назвали идеями, то есть образцовыми
формами, существующими в божественном уме» 9. Человек,
согласно «ангельскому доктору», занимает особое место в иерархии
творения, ибо ему как обладателю духовно-личностного начала
даровано свыше возвыситься над природным миром, венчая
многообразие его форм.
Принцип христианского персонализма является для Аквината
основой переработки антропологии Стагирита. Но при этом
неотомистские авторы обычно стремятся показать, что «ангельский
доктор» не просто в полемике с августинианством переиначивает
представления древнегреческого мыслителя в свете требований
христианского воззрения на мир и человека, а дает возможность
выявить в них наиболее ценное, становящееся достоянием «вечности».
На базе христианского персонализма, по их мнению, впервые
полновесно звучит и тезис о человеке как сложной субстанции, ибо
конкретное единство духовного и телесно-материального ведет
к постижению многомерности бытия индивида, принадлежащего
природе, обществу и надысторическому одновременно10. Душа
как форма тела есть, по Аквинату, именно то начало, которое
делает человека личностью, способной сознательно внимать велению
творца. Христианский персонализм автора «Суммы теологии» при
всей его претензии на интегральное видение человеческого
существования оказывается чреват дуализмом духовно-личностного и
телесного в индивиде. Об этом свидетельствуют и современные
разногласия, существующие между неотомистами в истолковании
того, что есть личность. Для Ф. Коплстона, желающего уберечь
неотомизм от любых рецидивов платонизма, личность не может
быть чем-либо иным, как конкретным единством души и тела и.
Однако такое решение устраивает не всех неотомистов, и уже в
самих разногласиях, наблюдающихся в неотомистском толковании
личности, отчетливо проявляется противоречие, имманентно
присущее антропологии Аквината: желая утвердить на базе синтеза
учения Аристотеля и христианства интегральное видение человека,
он все же бесконечно превозносит духовно-личностное начало,
дарованное человеку вместе с его существованием свыше и
делающее возможным его многомерность.
Характерно, что в отличие от Стагирита Аквинат несколько
иначе понимает взаимосвязь растительной, животной и
интеллектуальной частей души, их взаимозависимость. В. В. Соколов
справедливо полагает, что Фома Аквинский как бы ассимилирует низ-
198
шие части души в высшей ,2. Автор «Суммы теологии» писал, что
«интеллектуальная душа фактически содержит все
принадлежащее чувственной душе диких животных и растительную душу
растений» ,3. Животная душа объявляется им нетленной, благодаря
ее сопричастности интеллектуальной ,4. Душа не локализуется
в какой-либо части, а содержится в целостности. Аквинат
дублирует положение Аристотеля о главенствующей роли интеллекта
по отношению к воле, заимствует многие суждения греческого
мыслителя, касающиеся онтологического анализа различных
способностей души, их соотношения, но в целом его построения
воодушевлены идеей создания радикально новой картины человеческого
существования, способной отвечать задаче христианского
толкования и смысла бытия личности ,5.
При всей противоположности августинианскому пониманию
онтологии человеческого существования томистская антропология
выдержана в тонах утверждения созерцания бога как высшего
смысла и цели бытия личности. Характеризуя воззрение Аквината,
Коплстон пишет: «Для него, как для каждого ортодоксального
христианина, целью человеческого существования является
сверхъестественное видение бога, которое не может быть
достигнуто путем философской рефлексии или каким-либо чисто
человеческим усилием, и вечная жизнь в полном смысле слова
предполагает интеграцию целостности человеческой личности и ее
возведение на высокую ступень» |6. Аквинат в отличие от Аристотеля
своей картиной человеческого бытия жаждет утвердить отнюдь не
образ философа-созерцателя, для которого жизненное
предназначение и счастье центрированы в постижении первопринципов
мироздания, а всемерно доказать возможность обретения смысла
существования путем обращения к вере, указующей высшее
предназначение личности. Человек верующий оказывается у него
неизмеримо мудрее.философа, который не ведает божественного
озарения. И все же Аквинат в противоположность Августину хочет
видеть в человеке существо, знающее не только высшее
предназначение, но и живущее здесь и теперь, в постоянно меняющейся
ткани социальной жизни. На проведение этой идеи и направлены
все усилия «ангельского доктора».
Аквинат постоянно стремился к примирению
естественно-природного и вытекающего из него социального измерения бытия
личности с трансисторическим, созидая для этого сложные
онтологические конструкции. С позиций
провиденциально-эсхатологического понимания всех процессов, идущих в мире, он заявляет,
что в основе всего существующего лежит вечный «божественный
закон». В сфере существования человека он предстает как
«естественный закон», предписывающий индивиду обращение к
божественному благу. «Таким образом,— заключает Фома Аквин-
ский,— первым предписанием закона является творение добра
и стремление избежать зла» ,7. В свою очередь, «естественный
закон» оказывается базисом для создания законодательства,
регулирующего жизнь различных типов общественных организмов.
199
При помощи такого рода онтологических конструкций Фома Ак-
винский не только обосновывает свои социально-политические
взгляды, общественный идеал, но и приходит к выводу о
необходимости сочетания в человеке гражданина «града мирского» и «града
Божия».
Коплстон специально отмечает как заслугу Аквината,
отличающую все его творения от Августина, способность увидеть
необходимость непротиворечивого сосуществования общества и
церкви. «Социальная жизнь,— пишет он, комментируя позицию
Аквината,— таким образом базируется на самой человеческой природе,
а семья и общество в равной мере являются естественными
сообществами» ,8. Если для Августина, жившего в эпоху заката
Римской империи и нарождающегося христианства, общественная
жизнь человека представала печальной необходимостью и во
многом противостояла пути спасения, то Аквинат представляет себе
положение дел иным образом. Задача обоснования
непротиворечивого союза церкви и государства стимулирует его интерес к
римскому праву, творениям средневековых юристов и заставляет вновь
переосмыслить учение Стагирита о человеке как «политическом
животном». Социальное измерение бытия человека видится ему
вытекающим из его природы, из свойств бессмертной души.
Вырастая из природного мира, человек оказывается способным к
единению с себе подобными в стремлении не только к
индивидуальному, но и к общему благу. И это не исключает, по Аквинату, его
высшего предназначения. Потому-то в его концепции человека
высшие теологические добродетели (вера, надежда, милосердие)
требуют дополнения нравственными (умеренность, твердость
и справедливость) и интеллектуальными (мудрость, научное
знание, понимание первопринципов, рассудительность) ,9.
Доказывая, что человек должен непротиворечиво сочетать
в себе качества гражданина «града земного» и «града Божия»,
Фома Аквинский в отличие от Августина был удивительно
равнодушен к биению пульса истории, ее свершению во времени. Это
объясняется тем, что его концепция взаимосвязи бога и мира была
во многом инспирирована не только задачей переработки наследия
Стагирита в ключе христианства, но и питалась идеями Ареопа-
гита. Аквинат был далек от понимания значимости культурно-
исторической активности личности. Данное обстоятельство также
не вызывает удивления, ибо лишь в Новое время оформляется
прямая оппозиция природы и культуры. Для философии
античности и средневековья сфера социального бытия человека мыслится
прямым продолжением природного миропорядка. Их
противостояние вскрывается только мыслителями Нового времени: Вико,
Гердер, представители немецкой классической философии и
романтизма обратили внимание на феномен культурно-исторической
активности человека. Он остается объектом пристального анализа
и постклассической буржуазной мысли философско-антрополо-
гической ориентации, стремящейся выработать новый
«несубстанциальный» взгляд на проблему субъекта 20. Естественно, что пред-
200
ставители современного неотомизма должны были существенным
образом пересмотреть свои воззрения на человека именно в свете
его понимания как носителя творческого начала, способного
созидать неповторимый культурно-исторический мир.
Еще столетие назад католические теоретики неустанно
клеймили «культурный прогрессизм» протестантской либеральной
теологии.
Но времена менялись, и уже в первой половине нашего века
стала заметной «культуроцентристская» переориентация «речной
философии», в свете которой и состоялся пересмотр традиционных
положений антропологии этого учения. Ее возвестил в своих
сочинениях Ж. Маритен, писавший, что человек, сообразно с велением
его природы, есть существо, творящее мир культуры 2|.
Многочисленные последователи патриарха современного неотомизма
всесторонне обосновали этот тезис, отвечавший велению времени,
отражавший исторически сложившуюся потребность диалога
католической церкви с современной культурой. Ситуация «смерти бога»
заставила неотомистских авторов искать способ его «реанимации»
именно в сфере культуры, в актах конкретной жизнедеятельности
субъекта, опираясь на иррациональное, объективно
продуцируемое обществом, где властвуют «вещные отношения». Однако
чтобы вернуть буржуазной культуре «утраченного бога», ностальгией
по которому страдают многие философско-антропологические
доктрины нашего столетия, неотомистам нужно было совершить его
псевдооткрытие не в естественно-природном универсуме,
утерявшем ореол «сакральности», а в повседневной жизнедеятельности
человека. Подобно многим модернистским направлениям в
католической философии нашего столетия, последователи
«ангельского доктора» заявили о присутствии «божественного в
человеческом», «теономичности» личности. Для доказательства этого
тезиса им была необходима радикальная перестройка сложившихся
в «вечной философии» антропологических представлений.
Осуществить радикальную переориентацию неотомистского
учения о человеке можно было л ишь на основе эклектических
заимствований у различных направлений философско-антропологиче-
ских учений. Использование их категориального аппарата, по
мнению ведущих сторонников «обновления» неотомистской
антропологии, должно было сделать ее положения более созвучными
современной ситуации. Подобный контакт облегчался тем, что
светские антропологические доктрины многим обязаны в своем
генезисе христианству. Б. Т. Григорьян справедливо подчеркивает «факт
действительного внутреннего родства западной буржуазной
антропологической философии с религией, с христианской
антропологией» 22. В ситуации кризиса неотомистской антропологии
традиционного образца происходит своеобразное «возвращение на
круги своя», ибо аппарат философско-антропологических доктрин,
питаемых христианством, в свою очередь становится средством
«обновления» бравирующей своей древностью «вечной философии».
Еще Маритен и Жильсон, довольно сдержанно, «по-палеотомист-
201
ски» искавшие возможность «обновленного звучания» наследия
Аквината, пытались сделать его «экзистенциальным» мыслителем.
После II Ватиканского собора наступила эпоха антропоцентрист-
ской перестройки неотомизма, когда даже веками сложившиеся
и незыблемые онтологические и гносеологические догмы томизма
стали выводиться через призму размышлений о судьбах
существования личности в мире. Антропоцентристский поворот «вечной
философии» заставил по-новому зазвучать тезис об
«экзистенциальной» направленности исканий Фомы Аквинского. Но при этом еще
более остро встала проблема о возможности совмещения
«субстанциального» подхода к трактовке мира и человека с
методологическими установками философско-антропологических
доктрин, декларирующих «антисубстанциализм» в качестве своей
базисной позиции.
Противопоставляя космоцентризму античности и теоцентризму
средневековья собственную версию антропоцентрически
перестроенной «вечной философии», ее приверженцы полагают
возможным это лишь на базе обращения к трансцендентальной
рефлексии. Ведущими представителями трансцендентальной
антропологии современного неотомизма сегодня являются К. Войтыла,
А. Дондейн, Э. Корет, Ж. Ладрьер, И.-Б. Лотц, И.-Б. Метц,
М. Мюллер, К. Ранер, Х.-Э. Хенгстенберг и др. Именно через
принятие трансцендентального метода осуществляется контакт
неотомистского учения о человеке не только с традицией немецкой
классической философии, но и с феноменологией,
экзистенциальной герменевтикой, философской антропологией и иными
направлениями западной мысли.
Для сторонников названного варианта антропологии
неотомизма трансцендентальный метод видится средством проникновения
в сознание человека как субъекта культурно-исторической
деятельности. Один из отцов буржуазного историзма, В. Дильтей,
в свое время говорил, что применение трансцендентального
метода приводит к «смерти истории» 23. Изучение априорной структуры
сознания Кантом, по Дильтею, вело к забвению «времени и
жизни». Однако Э. Гуссерль, М. Шелер и М. Хайдеггер пришли
каждый по-своему к радикально иному выводу, доказывая
возможности трансцендентальной рефлексии по поводу существования
человека в стремительном потоке истории. В поздний период своего
творчества Гуссерль выступил с обоснованием возможности
трансцендентально-феноменологического постижения ситуации
человека в истории. Для Шелера
трансцендентально-феноменологическая рефлексия стала средством создания антропологической
доктрины, а Хайдеггер обратил ее арсенал для построения
собственного варианта фундаментальной онтологии. Неотомистским
теоретикам хорошо знакомы различные версии понимания
возможностей трансцендентального метода. Еще в первой половине
нашего столетия трансцендентальная методология учения Канта была
использована школой Ж. Марешаля в целях «обновления» теории
познания «вечной философии».
202
Сходясь во мнении относительно продуктивности
трансцендентальной методологии, неотомистские теоретики отнюдь не
однозначно толкуют ее содержание. Для последовательного проведения
трансцендентальной рефлексии, рассуждает К. Ранер, необходимо
синтезировать позиции четырех мыслителей — Августина, Акви-
ната, Канта и Хайдеггера 2 . И.-Б. Лотц считает необходимым
принять трансцендентальный метод в трактовке Хайдеггера и
направить его на поиск априорных форм практики, понимаемых
в ключе фундаментальной онтологии 2 . Его воззрения разделяет
М. Мюллер 26. Э. Корет считает, что трансцендентальный метод
неотомистской антропологии не должен игнорировать
достижений немецкой классической философии, но по преимуществу
исходить из наиболее зрелого варианта его разработки,
представленного в сочинениях Гуссерля и Хайдеггера 27. К. Войтыла полагает,
что для разработки неотомистского понимания человека,
соответствующего духу «обновления», наиболее приемлема
трансцендентально-феноменологическая установка, выработанная М. Шеле-
ром. Он пишет, что «обязан всем системам аристотелевско-
томистской метафизики, антропологии, этики, с одной стороны,
и феноменологии, особенно в интерпретации Шелера, а через шеле-
ровскую критику Канту — с другой»28. Налицо, таким образом,
наличие разногласий между ведущими теоретиками неотомизма
даже в понимании метода «обновленной» антропологии этого
учения. Замечая эклектичность и непоследовательность своего учения
в понимании специфики человеческого бытия, неотомисты ищут
выход во всемерном акценте родства своих построений со
взглядами не только Аквината, но и Аристотеля. Они хотят показать,
что сама трансцендентальная установка, родившаяся в полемике с
традицией античности и средневековья, сегодня закономерно
приводит к «вечному» в человеке, найденному Стагиритом и Аквина-
том. Но это «вечное», по их мнению, должно быть найдено «внутри»
человека, творящего культуру и историю.
«Философия,— рассуждает М. Мюллер,— есть всегда поиск
априорного»29. Определение априорных условий человеческого
бытия в мире, согласно этому неотомистскому автору, требует
глобальной метафизической перспективы, что было в полной мере
осознано еще Аристотелем. Томистская тенденция, с его точки
зрения, обязана Стагириту именно тем, что он формулирует вопрос
об отнесении человека к целостности бытия как главному
априорному условию его существования. Человек по своей
онтологической конституции должен возвышаться над эмпирическими
обстоятельствами своего существования, философствуя — обретать
его финальный метафизический смысл. «Аристотель говорил, что,
точно так же как ни Бог, ни животное не нуждаются в политике,
оба — Бог и животное — не прибегают к философствованию:
первому они ни к чему, второе к нему не способно» ,— пишет
Мюллер. Человек, заключает он, был показан Стагиритом как
существо, сознательно обретающее собственный образ через обращение
к целостности бытия. В этом состоит урок Аристотеля, усвоенный
203
Аквинатом. Но ведь все дело в том, что «ангельский доктор», как
мы знаем, существенно расходился с древнегреческим
мыслителем в понимании мира и человека, смысла бытия индивида.
Сознательно стирая различия между Аристотелем и Аквинатом и
показывая их якобы одинаковое стремление к погружению человека в
божественное всеединство как изначальное априорное условие
человеческого бытия, Мюллер совершает весьма характерный
для трансцендентальной антропологии неотомизма
мыслительный шаг.
Неотомисты видят наследие Стагирита через призму того, что
взял у него «ангельский доктор», одновременно учитывая и
собственные цели по введению нового образа человека, творящего
культурно-исторический мир. Поэтому-то сопряжение полюса
индивидуального бытия и божественного всеединства становится
залогом их дальнейших выкладок по поводу специфики
человеческого существования. В данной связи особенно показательны
воззрения Ранера, для которого человек изначально вовлечен
в «таинство божественного бытия». В книге «Наша христианская
вера. Ответы для будущего» он и его ближайший последователь
К.-Х. Вегер называют бога «предусловием, обеспечивающим
многообразие мира» 31. Тезис априорной связи человека с абсолютом
становится основой доктрины этого виднейшего католического
теолога об «анонимности христианства», возможности для
приверженца любого вероисповедания и даже атеиста жить согласно
христианскому учению, неосознанно подчиняя все свои
исторические деяния «гласу подлинной веры». Внешне нейтральные
рассуждения об изначальной и нерасторжимой связи человека и бога
обретают в доктрине Ранера конкретную направленность,
становятся средством «реанимации» христианской веры в утратившем
ее мире 32.
Раскрытие внутреннего источника культурно-исторической
активности человека должно, согласно сторонникам
трансцендентального неотомизма, вестись через проникновение в глубинные
априорные структуры его практической жизнедеятельности. Путь
к полюсу абсолютного бытия сегодня, с их точки зрения, проходит
неминуемо сквозь многомерный культурно-исторический мир,
созидаемый человеком. Весь вопрос лишь в том, какие
концептуальные средства следует избрать для «обогащения» и «обновления»
неотомистской антропологии, стремящейся вписаться в панораму
«культуроцентристски» ориентированной западной мысли. Можно
с уверенностью сказать, что наиболее сильны контакты
неотомистской антропологии эпохи «аджорнаменто» с теми образами мира
человека, которые выдвигаются экзистенциальной герменевтикой
и философской антропологией.
Погруженность человеческого «бытия-сознания» в «мир», как
известно, является исходным в аналитике экзистенции
фундаментальной онтологии Хайдеггера. Рассматривая эту связь «бытия-
сознания» и «мира» в качестве априорного условия человеческого
существования, Хайдеггер писал: «Бытие в ... есть, следовательно,
204
формально экзистенциальное выражение, которое обозначает
бытие бытия-сознания в той мере, в какой оно обладает для
существенного конституирования бытием-в-мире» 33. Из этой же
«априорной формы практики» исходит в своих рассуждениях и Х.-Г. Гада-
мер . С чисто внешней стороны многие трансцендентальные
неотомисты также всецело солидарны в выборе «бытия-в-мире» как
изначального феномена, отправляясь от которого можно
проникнуть в сокровенные тайны человеческого существования. «Наше
собственное существование,— пишет Э. Корет,— указывает как на
вещно-предметный мир, так и в первую очередь на человеческо-
личностный мир» 35. Феноменологически фиксированное
пребывание человека в мире избирается этим неотомистским автором в
качестве основной отправной точки своего антропологического
теоретизирования. При этом, однако, Корет не забывает снабдить свои
рассуждения «реалистическими» оговорками в традиции
томистской гносеологии. Категория «мир» оказывается тождественной
по содержанию «формальному объекту», срезу рассмотрения
реальности субъектом в теории познания Аквината. Тут-то и
обнаруживается исходное противоречие
экзистенциально-герменевтической установки и томистского способа теоретизирования. Для
Хайдеггера и Гадамера сам метод фундаментальной онтологии
исключает субъект-объектную оппозицию, а сторонник неотомизма
не может совершить этот шаг последовательно и без
«реалистических» оговорок: «вечная философия» утверждает объективную
противоположность чистого божественного бытия и иерархии
ступеней творения, в которой определенное место занимает
человек.
Для Корета и других приверженцев трансцендентального
неотомизма, избирающих «бытие-в-мире» в качестве исходной
априорной характеристики человеческого существования, серьезной
является проблема феноменологической фиксации соотношения
его естественно-природного, социокультурного и
сверхъестественного измерений. Трудности рождаются хотя бы потому, что здесь
им необходимо соединить картину человеческого бытия,
предлагаемую Аквинатом, с образом личности как созидающей надприрод-
ный культурно-исторический мир. Рецепт такого синтеза трудно
отыскать у Хайдеггера, для которого все предшествующие
философские доктрины после завершения эпохи досократиков суть не
более как различные модификации господства метафизики,
маскирующей бытие. Для этого мыслителя, по сути дела, нет проблемы
многомерности человеческого существования, ибо ему
представляется важным лишь пояснить, что «бытие с маленькой буквы»,
раскрываемое при анализе априорного строя сознания, есть
«канал» проникновения в тотальность бытия. Значит, неотомистам
необходим иной разворот трансцендентальной рефлексии. Его можно
было бы, конечно, искать и самостоятельно, но сама ситуация
подсказывает им другой выход. Это — эклектическое соединение
томистской антропологии не только с экзистенциальной
герменевтикой, но и с положениями такого влиятельного и во многом про-
205
тивоположного ей направления западной мысли, как философская
антропология.
Философская антропология привлекает неотомистских
авторов тем, что позволяет соединить априорно конструируемый образ
человека с данными естественнонаучного и
социально-гуманитарного знания на базе трансцендентальной рефлексии. Для
фундаментальной онтологии такой путь анализа человеческого бытия
выглядит неправомерной операцией смешения «онтического» и
«онтологического», эмпирически фиксируемого и подлинно бытийного,
и не в коей мере не применим для раскрытия «бытия-в-мире».
Неотомисты же осуществляют эклектическое сочетание тезисов
экзистенциализма и философской антропологии для обогащения
картины человеческого бытия, сложившейся в «вечной философии».
Человек рассматривается сторонниками трансцендентального
неотомизма, всецело солидарными с воззрениями Шелера, в
качестве существа, «распростертого» между сферами природы и
божественного духа. «Как духовное существо,— пишет М. Мюллер,—
человек не есть сущее среди явлений природы, а представляет
собою измерение, в котором природа обретает экзистенциальное
измерение и именуется нами „бытием". Как природное существо
человек есть сущее. Как духовное существо человек рассматривается
с точки зрения его возможности воздействия и воспроизведения
всего в сфере бытия и идентифицируется с бытием» . Очевидно,
что здесь Мюллер пытается соединить разграничение бытия и
сущего в духе хайдеггеровской аналитики экзистенции с
построениями Шелера. С ним вполне солидарны, например, Э. Корет
и Х.-Э. Хенгстенберг. Последний, акцентируя единение в человеке
духа и плоти, рассуждает одновременно при помощи аппарата
хайдеггеровской фундаментальной онтологии: «К феномену человека
принадлежит его динамическое самопроявление и реакция по
отношению к самому себе и миру. Так же и плоть есть часть целостного
феномена „бытия-в-мире"» 37. Эклектически связывая положения
экзистенциальной герменевтики и философской антропологии,
сторонники трансцендентального неотомизма тщетно ищут и
объяснения сущности становления надбиологической сферы культуры.
Обосновывая тезис о том, что социокультурное измерение
является неотъемлемой характеристикой человеческого «бытия-в-
мире», неотомисты эклектически заимствуют важнейшие
положения таких видных представителей философской антропологии, как
М. Шелер, А. Гелен, Г. Плесснер 38. Корет апеллирует с этой целью
к трем «законам» культурного творчества, изложенным в книге
Г. Плесснера «Ступени органического и человек». «Закон
природной искусственности» и «закон опосредованной
непосредственности», согласно этому представителю философской антропологии,
ведут к рассмотрению отношения человека к природе как
постоянному опосредованию естественного через преобразовательную
деятельность субъекта. Объяснительная сила этих «законов»
вызывает сомнения, ибо они далеки от фиксации общих, существенных,
необходимых, повторяющихся связей, специфичных для общест-
206
венной жизни, и просто фиксирует очевидное на уровне
обыденного сознания. Еще более шаткие основания для понимания
специфики социокультурного измерения человеческого бытия содержит
«закон утопического стандарта», в котором декларируется
обусловленность творчества индивида постоянным стремлением к
божественному абсолюту 39. Корет высоко оценивает построения
Плесснера, ассимилируя их в рамках собственных религиозно-
идеалистических воззрений 40. В своих дальнейших рассуждениях
он, не задумываясь о возникающих при этом противоречиях,
соединяет суждения Хайдеггера и Гадамера о важности исторического
опыта для создания интерсубъективных связей с идеей диалогич-
ности человеческого бытия М. Бубера, не забывая и о томистском
подходе к этой проблеме. В сочинениях же Мюллера мы находим
не только объяснение социокультурного измерения человеческой
жизни путем обращения к Шелеру и теоретикам Франкфуртской
школы, но и вывод о том, что с этими выкладками якобы
органически соединяется томистский тезис о «естественном законе» как
определяющем ориентир деятельности личности в общественной
сфере 4|.
Неотомистские теоретики совершают множество мыслительных
операций по сочетанию порой совершенно несоединимых
положений из арсенала философской антропологии, экзистенциальной
герменевтики и других направлений западной мысли, но так и не
получают достаточно целостной картины мира человека.
«Человек — это мир человека, государство, общество» 42,— писал Маркс,
подчеркивая сущность своего понимания этой сложной проблемы.
Становление мира человека невозможно объяснить посредством
феноменологического анализа. Здесь необходим объективный
научный подход к феномену культурного саморазвития человека,
которое осуществляется в рамках определенного типа общества,
соответствующих социально-классовых отношений. Мир человека
составляют многообразные формы общественной жизни, культуры,
«обработанной» его усилиями природы. Человек, возвышаясь над
природными предпосылками своего бытия, формируется под
воздействием социокультурного мира. Но одновременно и
социокультурный мир в его постоянном видоизменении немыслим вне
человеческой деятельности, труда. Личность существует через
отношение к природе, социуму, объективным формам культуры, и
именно через эту динамическую взаимосвязь, постоянное
опредмечивание и распредмечивание «сущностных сил» субъекта и
появляется мир человека. Для неотомистов необъясним сам факт перехода
к человеческому миру, и они вынуждены апеллировать для его
истолкования к божественному духу, которому якобы постоянно
сопричастен индивид. При этом новая феноменологическая
картина существования человека нуждается, с точки зрения
неотомистов, в дополнении традиционными представлениями антропологии
«вечной философии». Тут-то неминуемо высвечивается
противоречие между «антисубстанциализмом»
трансцендентально-антропологической методологии и устоявшимися томистскими представ-
207
лениями о человеке как сложной духовно-материальной
субстанции, ведущая роль в которой принадлежит бессмертному духовно-
личностному началу.
Если экзистенциальная установка прямо «антисубстанциаль-
на», а философская антропология колеблется между полюсами
«субстанциализма» и «актуалистического» понимания личности
как совокупности актов действия, то неотомисты хранят верность
базисным постулатам «вечной философии». Они тщетно стремятся
доказать, что в итоге эгологическои рефлексии, следующей после
описания «в-мире-бытия», обнаруживается субстанциальная
основа человеческого существования. Парадоксальным образом
оказывается, что трансцендентальный метод не только логически
совместим с гилеморфистским пониманием человека, но и якобы прямо
ведет к его рассмотрению как сложной духовно-материальной
субстанции, в которой в конечном счете определяющая роль
принадлежит душе — личностному началу. Правда, при
воспроизведении архаических схем томистской антропологии присутствует
явно выраженная тенденция доказать, что духовно-личностное
начало есть основа человеческой историчности. Так, например,
Корет говорит о соединении в нем «надысторического» и
исторически преходящего 43. Войтыла специально подчеркивает, что
человек «обладает „социальной" природой» 44. Социальное
измерение человеческого бытия, свойства личности неравномерно
выводятся из бессмертной души.
Повторение в ходе эгологическои рефлексии традиционных
постулатов неотомистской антропологии совмещается с
воспроизведением утверждений «ангельского доктора» о финальном смысле
человеческого бытия, заключающемся в стремлении к
божественному абсолюту. Но при этом «обновленное» неотомистское учение
о человеке видит в динамической взаимосвязи личности и абсолюта
универсальный источник культурно-исторического творчества.
Мистифицируя его реальные побудительные причины, неотомисты
используют экзистенциальную категорию «трансценденции». В
экзистенциальном прочтении, характеризующемся переосмыслением
в онтологическом ключе гуссерлианской интенциональности, эта
категория означает «экстатичность» экзистенции, ее постоянную
динамическую связь с предметом, бытием. В христианской версии
экзистенциализма, персонализме и ряде других
религиозно-философских доктрин современности она призвана продемонстрировать
стремление человека к божественному абсолюту. Трансцендирова-
ние понимается здесь как основа истории, культурного
творчества 45. Категория «трансценденции» предполагает идеалистическую
трактовку реального феномена предметно-практической, трудовой
деятельности человека в истории. С различными модификациями
она вводится сегодня в контекст трансцендентальной
антропологии неотомизма.
«Человек,— пишет Корет,— естьтрансценденция. Лишь
поднимаясь над собой, следуя над собой, жертвуя собой во имя другого,
человек реализует подлинное, присущее ему бытие» 46. В своих
208
рассуждениях о специфике постоянного трансцендирования, «са-
мопревосхождения» человека этот неотомистский автор весьма
близок к выкладкам Хайдеггера, для которого «бытие-сознание»
есть непрестанное стремление к тотальности бытия. В отличие от
классика экзистенциализма Корет именует эту «тотальность»
словом «бог». Это отличает, разумеется, и стиль анализа содержания
феномена трансцендирования другими неотомистами, которые
в большей степени базируются на выкладках философской
антропологии. Хенгстенберг и Мюллер в духе построений Шелера видят
основу трансцендирования в стремлении конечного «я»
соединиться с «тотальностью духа» 47. Следуя тому же Шелеру, Войтыла
выделяет «горизонтальную» и ' «вертикальную» разновидности
«трансценденции». Первая есть стремление к земным ценностям,
а вторая — источник культурно-исторического творчества,
заключающийся в непрекращающемся желании человека постичь такие
«определения» божественного бытия, как истина, благо и
красота . Несколько модифицируя положения антропологии
Аристотеля и Аквината, неотомисты склонны говорить сегодня, что транс-
цендирование задает снятие дилеммы пассивного по своей природе
познания и практической активности. Человек предстает всецело
активным в любом акте своей деятельности. Но и подобные
метаморфозы, якобы снимающие прежние архаические дилеммы в
понимании активности субъекта, не приводят к верному раскрытию
сущности культурно-исторической деятельности, мистифицируют
ее источник.
Антропология трансцендентального неотомизма претендует на
совершение «радикального переворота» путем соединения аристо-
телевско-томистской традиции с современным подходом к
проблеме человеческого бытия, но на деле она крайне эклектична и полна
неразрешимых внутренних противоречий. В свое время Фома Ак-
винский противопоставил собственную теоцентрическую установку
космоцентризму мысли Стагирита, «переработал» на этой основе
гилеморфистское толкование человека в духе его приспособления
к христианскому персонализму. В сфере антропологии он
пересмотрел в теологическом плане и усилил
объективно-идеалистическое звучание многих положений аристотелевской концепции
человеческого бытия, очистив ее, как полагают современные
неотомисты, от «наносных» натуралистических, порой
материалистически звучащих наслоений. На деле при внешнем сохранении
многих положений аристотелевской онтологии человеческого
существования Аквинат истребил ее дух, нарисовал качественно иной
образ личности и привел его к христианскому смысложизненному
знаменателю. Сторонники трансцендентального неотомизма
принимают антропоцентрическую установку, подчиняя ее задаче
«реанимации» религиозного измерения человеческого бытия в мире,
где «бог умер». Создавая «новый лик» человека как творца
культуры и истории, они производят своеобразную «склейку» томистской
модели его бытия с иной, созидаемой при помощи философско-
антропологических доктрин. При этом они часто апеллируют к на-
8 Заказ, № 4330
209
следию Аристотеля, якобы впервые соединившего человека с
тотальностью божественного бытия, разгадавшего его глубинную
метафизическую сущность. Вновь и вновь утверждается
«правильность» гилеморфистского подхода к человеку. Но при этом близким
духу трансцендентального неотомизма оказывается лишь Стаги-
рит, «подправленный» в редакции Аквината. «Вечное» отделяется
от мнимых «плевел» натурализма и материализма.
Трансцендентальному неотомизму чужд исторический пафос аристотелевских
представлений о человеке и его месте в космосе. Им принимается
лишь корпус аристотелевской терминологии, содержание которой
берется, разумеется, в прочтении Аквината. «Субстанциализм»,
имманентно присущий гилеморфистской концепции человеческого
существования, приходит в противоречие с исходными
методологическими принципами трансцендентального метода,
принимаемого в трактовке различных современных философско-антрополо-
гических доктрин. В результате приверженцы трансцендентальной
антропологии создают весьма непоследовательную и
противоречивую концепцию человеческого существования, не дающую
обещанного ими целостного образа человека, где «вечное» и
исторически преходящее неразрывно слиты.
Аристотелевская концепция человеческого бытия в своей
сущности противоположна трансцендентальному варианту
неотомистской антропологии. Представители трансцендентального
неотомизма, по сути дела, в новой исторической ситуации продолжают дело
Аквината по религиозно-идеалистической «обработке» наследия
великого греческого философа, его приспособлению к традиции
христианской философии. Представляя Стагирита в роли своего
предтечи и союзника, формально воспроизводя многие категории
его учения о человеке, неотомисты создают антропологическую
концепцию, чуждую духу античности и возможную лишь в
современную эпоху.
8
АНТИЧНОСТЬ
И ЛАТИНОАМЕРИКАНСКАЯ
«ФИЛОСОФИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ»
Латиноамериканская философия — знаменательный пример
формирования новой «парадигмы» социально-философского
мышления, связанной с выходом на мировую арену молодых наций,
в прошлом колоний. В отличие от различных течений
буржуазной философии, пришедших в Латинскую Америку из Западной
Европы и США, латиноамериканская философия представляет
собой идейное течение, которое ставит задачей создание
оригинальной, «аутентичной» национальной философии, отвечающей
историко-культурной самобытности латино-американских
народов. Создание такой философии связывается с осмыслением
собственного, независимого пути развития, с задачами национального
и социального освобождения.
210
Формирование латиноамериканской философии связано
с просветительской и творческой деятельностью «основателей»,
подвижничеством последующих поколений философов. На
начальном этапе ими ставились во главу угла преодоление
«культурной слаборазвитости» и овладение западноевропейской культурой
в качестве способов включения в современный философский
процесс. Превалировало понимание философии как единого
универсального мышления, лишенного национальной специфики,
считалось, что все философские проблемы и их решения универсальны,
общезначимы. Родилось движение за «восстановление
собственной философской традиции» путем освоения европейской
философии, овладения новейшей философской «техникой». Обращаясь
«к истокам», латиноамериканские философы изучали древние
языки, делали самостоятельные переводы греческих авторов,
уделяли пристальное внимание античной философии.
По мере зрелости национальной мысли на первый план все
явственнее выходит тенденция, в которой ставится вопрос о
собственно латиноамериканской философии, о ее специфике. Ее
представители выделяют «тему Америки» как основную, видят задачу в
осмыслении латиноамериканской действительности. Они
рассматривают историю философии как форму общественного
сознания, предметом которой является мир и человек, носитель этого
сознания; латиноамериканская же философия трактуется ими как
путь выяснения социально-исторической сущности Латинской
Америки, перспектив ее общественного развития.
И первый и второй подходы страдают односторонностью в
понимании соотношения общего и особенного в развитии
философского знания. Однако при всем их отличии, оба они
представляют собой моменты в решении общей задачи — создания
аутентичной латиноамериканской философии, которая была бы
универсальной по значимости и в то же время способной раскрыть
смысл нынешней исторической ситуации латиноамериканских
народов.
Поиск латиноамериканской философии поставил широкий круг
проблем, среди которых — возможность существования
«национальной» философии и ее соотношение с мировой, сущность
латиноамериканской культуры, место Латинской Америки в мире,
отношение к философской традиции и новаторство. С ней связан
целый комплекс социально-философских вопросов, обозначаемых
как проблема освобождения.
Аристотелевский прецедент
Видный представитель мексиканской философии Леопольдо
Сеа обращается к разработке философии латиноамериканской
истории. В этой связи он ставит проблему европоцентризма и
универсализма в истории. Он отмечает, что условием осмысления
латиноамериканцами собственной истории и культуры является
преодоление стереотипов европоцентристского мышления. Необхо-
8*
211
димым шагом к этому должно быть «осознание факта
зависимости», колонизаторского характера господствующей культуры:
«Только изучение этой ситуации зависимости, которую Латинская
Америка сохраняет в культурном аспекте по отношению к Европе
или Западу, сможет обеспечить оригинальность философии,
которая претендует на звание латиноамериканской» ' .
Как отмечает Л. Сеа, европоцентризм породил такую
интерпретацию истории, которая выражает развитие только западного
мира. Последний исходит из собственного представления о том, что
есть человек, разрабатывает своеобразную антропологию, которая
возвышает и оправдывает тех, кто во имя собственной выгоды
осуществляет европоцентристские проекты. «Получалось,— пишет
Л. Сеа,— что человечество как таковое вело свое происхождение
от Древней Греции — колыбели европейской культуры и
европейского гуманизма. Все же остальное считалось варварством, тем
самым, о котором говорили еще древние греки: варварство
азиатское, нуждающееся в цивилизаторском клейме Александра
Великого, варварство, нуждающееся в ярме великого Рима, варварство,
нуждающееся в великом гуманизме христианства» 2. Таким
образом, человек и его история рассматриваются не иначе как сквозь
призму представлений о человеке и истории, которые восходят к
Древней Греции.
По европоцентристским канонам исследователь должен был
исходить из основ мира, называемого классическим. В результате
западноевропейский человек предстает, по выражению Сеа,
«человеком по преимуществу», а отличающийся от него африканец,
азиат или латиноамериканец объявляются неполноценными.
Подобные концепции отчуждают целые народы как якобы
выродившиеся или же как еще незрелые. По этой логике, как отмечает
египетский философ А. Абдель-Малек, оказываются «по одну
сторону — человек, обычный человек, по другую — европейский человек
определенного времени, эпохи греческой античности» 3.
Такой подход, отмечает мексиканский философ, вызывает
вполне естественный протест со стороны народов, которых
рассматривают лишь как объект истории. Бывшие колониальные народы
ныне становятся субъектами исторического действия, осознают
себя творцами собственной судьбы. В наше время, считает автор,
«европоцентристский монолог должен уступить место диалогу
между теми, кто осуществлял экспансию, и теми, кто страдал от
нее» 4. Более того, сама историко-философская трактовка Запада
должна быть переосмыслена с точки зрения незападного мира.
Л. Сеа выделяет в качестве ключевых понятия колонизации
и деколонизации. В его концепции история культуры на
континенте рассматривается в свете борьбы господствующего европейского
(греко-христианского) и нарождающегося латиноамериканского
архетипов создания. Западная культура, отмечает автор, с начала
конкисты выступала по отношению к Латинской Америке как
дискриминационная. При этом, как ни парадоксально, реальные
отношения дискриминации и угнетения оказались совместимы с
212
декларациями гуманизма и равенства, порожденными буржуазной
рационалистической традицией. Запад утверждал собственное
представление о человеке в качестве мерила любого проявления
человеческого и культурного начала. Навязывая его как эталон
духовности, европейская философия тем самым принижала
человеческую сущность других народов. Перед лицом культуры
колонизатора латиноамериканец вынужден был бороться за
самостоятельность, утверждать полноценность своей человеческой
сущности, искать «свое слово». Это был поиск иной «философии
человека», преодолевающей узкий горизонт буржуазного
гуманизма. В античной философии Л. Сеа фиксирует истоки представлений
о «цивилизации» и «варварстве», о «господах» и «рабах», которые
стали идеологическим оправданием колониального и
неоколониального угнетения. В этом смысле он говорит об «аристотелевском
прецеденте» в обосновании рабства — одного из устоев античного
общества.
Мексиканский философ рассматривает «Политику» Аристотеля
как прецедент в обосновании «естественного» разделения людей
на высших и низших, предназначенных к властвованию либо
подчинению, господ и рабов. Теория Аристотеля, как известно,
обосновывала превосходство «по природе» эллинов над варварами
и оправдывала господство первых над вторыми.
Примечательно, что Сеа считает данную теорию закономерным
выражением эллинского видения мира, связывает ее с
представлениями древних греков о космосе, о неизменном мировом порядке
с его извечной градацией степеней совершенства. Согласно их
представлениям, человек есть часть природы, понимаемой как
некая иерархия всего сущего: неодушевленный мир, затем
растительный и животный мир, и венчает все человек. Выше человека
оказывается лишь чистый разум или бог. Он возвышается над
всем существующим подобно тому, как ум (Нус) превознесен над
иррациональным, а душа — над телом. Сеа называет такие
воззрения охранительными, не предполагающими ни сомнений, ни
изменений.
Согласно Аристотелю, человеческое существо состоит из души
и тела, душа повелевает телом. Человек есть существо
общественное, и если душа властвует над телом деспотической властью,
то разум властвует над человеческими стремлениями политической
властью. Подобный естественный порядок вещей человек
переносил на общество, на политические отношения. Отношения
господства—подчинения возникают между мужчиной и женщиной,
отцом и сыном, между знающим больше и знающим меньше.
На основе подобных представлений о космосе, миропорядке
и человеке складывалось и представление о рабе. В греческой
картине мира раб — это человек, в котором телесное начало
преобладает над разумным, а потому его уделом является подчинение
деспотической власти. Добродетель господина состоит в том,
чтобы уметь приказывать, а раба — чтобы уметь делать. Эти
взаимосвязанные функции соответствуют единству тела и души
213
человека, различных человеческих видов в пределах рода
людского. Это, по выражению Сеа, лишь различные способы
человеческого бытия в пределах естественного порядка.
Как отмечает Сеа, аристотелевская теория не только отражает
отношения господин—раб в Древней Греции, но и оказалась
применима к человеку нового времени — выразителю гегелевского
духа. Ее продолжением явилось философское обоснование испано-
португальской колонизации Америки.
Л. Сеа, как и другие представители латиноамериканской
философии, сосредоточивает главное внимание на культурных
аспектах зависимости, выдвигает в качестве первоочередной задачу
раскрепощения сознания, освобождения от «культурного
империализма». Это сказывается и на его трактовке античных
представлений о господстве и рабстве: в качестве первейшего указывается
культурное различие. Основным свойством свободного человека,
отмечает автор, был логос, способность свободно мыслить и
повелевать. Завоевание греками других народов основывалось на
логосе, поэтому ощущение собственного превосходства,
оправдывающее господство, является фактором культуры.
Силу логоса как средства порабощения Сеа наблюдает и в
последующей истории, когда на смену античному языческому
логосу пришел христианский.Слово божье стало знаменем тех, кто
завоевывал Америку. Христиане подчинили нехристиан.
Собственно культурное отличие европейцев от индейцев (по языку,
обычаям, нравственному миру) завоеватели объявляли различием между
полноценными людьми и недочеловеками, гомункулусами.
Индейцы представлялись европейцу как стоящие вне прав и законов,
соответствующих человеческому знанию, поэтому считалось,
что законы должны быть им продиктованы ради их же блага.
«Но что такое закон, естественный закон человека?— вопрошает
Сеа.— Это прежний аристотелевский закон, согласно которому
совершенство полагается выше несовершенства, а носитель
наиболее высокой степени совершенства должен вести к совершенству
всех, кто находится на более низком уровне. Итак, различия
прослеживаются в сфере культуры. Высшее означает причастность к
христианству, низшее — отчужденность от его духовных основ» 5.
Мексиканский философ разоблачает типичную для угнетателей в
прошлом и настоящем претензию на культурное превосходство как
обоснование «лидерства» и патернализма по отношению к другим
народам.
Критикуемым концепциям Л. Сеа противопоставляет
собственную позицию, которая исходит из гуманистической идеи
самоценности человеческой личности. Эта универсальная ценность
остается неотъемлемой, в каких бы условиях человек ни находился,
как бы ни пытались угнетатели низвести его до «нечеловека».
Бытие человека состоит в требовании осуществления своей
неотъемлемой и абсолютной ценности, в полном достижении своей
цельности. Чтобы достичь этого, нужно быть свободным. Автор
стремится обосновать идею человеческого «самообретения» в сов-
214
ременный исторически переломный момент как духовной
предпосылки свободы.
В центре внимания Сеа — проблема уникальности и
самобытности исторического, социального, духовного опыта народов
Латинской Америки. Автор отстаивает самоценность этого опыта, его
равноправие в системе мировой культуры и считает, что каждая
нация может внести свой вклад в универсальную культуру,
опираясь на общезначимое в своей действительности. Своеобразие
народов континента выдвигается как основа для утверждения
их политической и духовной независимости. Сеа приходит к
убеждению, что главной и неотложной задачей латиноамериканской
мысли является «выработать на основе, так сказать, философии
зависимости нечто такое, что можно назвать философией
освобождения» ь.
Апология Сократа
Эволюция латиноамериканской философии ознаменовалась в
70-е годы новым этапом — появлением «философии
освобождения». Ее авангардом стали прогрессивные философы молодого
поколения, придавшие ей радикальный и политически направленный
характер. Своей целью радикалы провозглашают «философскую
деколонизацию» и выработку новой философии, ориентированной
на новые методологические, этические и мировоззренческие
принципы. В качестве существенных черт такой философии
указываются, во-первых, ее радикально-критический характер, включая
диалектическое переосмысливание своих собственных основ, и, во-
вторых, связь с практикой освобождения. Искомая философия
должна стать идейно-теоретической основой практики
освободительной борьбы.
Перед лицом этой грандиозной задачи духовного и
социального обновления латиноамериканские авторы черпают идеи из
сокровищницы античной мысли, воодушевляются творческим примером
могучих умов Греции, заложивших основы философского знания.
Подчеркивая переломный характер современной исторической
ситуации, новизну стоящих перед обществом задач и
философского поиска ответа на них, один из ведущих представителей
«философии освобождения»— Артуро Роиг сравнивает их по
новаторству с «зарей греческого мышления».
С масштабностью задач — критических и позитивных,
стоящих перед «философией освобождения», связан значительный
интерес ее представителей к античной философии, вовлечение в
анализ идейного богатства греческой мысли — то, что можно
назвать актуализацией античной философии. И это вполне
закономерно. Ведь, чем масштабнее процесс идейно-духовного
обновления, чем основательнее «переоценка ценностей», тем глубже
охватывает он историко-философское наследие и сложившиеся
представления о нем.
Как это не раз происходило в истории философии, этапы ее
215
обновления, выработка новой парадигмы сопровождались
оживленным интересом к античности Наследие далекого
«детства человечества» всякий раз становится незарастающим полем
борьбы идей. В нем обретают мудрость, им вдохновляются, с ним
спорят, к его авторитету апеллируют. Это та классика,
отстоявшийся временем золотой фонд человеческой культуры, в
диалектическом взаимодействии с которым — творческом освоении и
преодолении — только и могут решаться задачи развития
философского знания.
Современным примером тому служит и латиноамериканская
«философия освобождения». Работы ее авторов насыщены
ассоциациями с античной философией, ее понятиями, идеями,
образами, которые вовлекаются в обсуждение «вечных» философских
вопросов в свете актуальных проблем нашего времени. Как ни
парадоксально на первый взгляд, но именно актуальная
значимость освободительных задач, на которые ищет ответ современная
латиноамериканская философия, новый характер встающих перед
ней проблем обращают латиноамериканских авторов к глубокому
переосмыслению философского наследия начиная с его
античных истоков.
Отношение философов «освобождения» к античной философии
неоднозначно, зависит от контекста анализа и характера
решаемых проблем (и в этом смысле «идеологизировано»). Оно связано
с различием сторон двуединой задачи: критического преодоления
буржуазно-апологетической философии и позитивной разработки
новой, альтернативной философии.
Положительное отношение этих философов к античной
философии как таковой имплицитно выражается всем конструктивным
содержанием их работ. Идеи древнегреческих мыслителей
включаются в качестве реального научного материала, на основе
которого выясняются вновь и вновь фундаментальные вопросы
философии: что такое философия, каков исходный пункт
философского мышления, какова природа философского знания, какова
роль философии в обществе и т. д. К греческим мыслителям
относятся как к великим авторитетам, их видят олицетворением
подлинной философии — как мудрости и как образца
неподкупного служения истине.
3-го октября 1973 г. ультраправые террористы взорвали бомбу
в доме Энрике Дусселя — прогрессивного аргентинского
философа, одного из ведущих теоретиков «освобождения». Покушение
не удалось. В своей разрушенной библиотеке философ нашел
уцелевший томик Платона и в тот же день выступил с очередной
лекцией перед студентами университета, которую посвятил
«Апологии Сократа».
Осуждение Сократа он привел как классический пример
запрета на свободомыслие, на сомнение в «божественности»
существующего порядка. Со схожей ситуацией сталкивается ныне
прогрессивная латиноамериканская философия, выступающая за
национальное и социальное освобождение. Она претерпевает напад-
216
ки клерикальной и светской «идеологии господства», а ее многие
представители подверглись репрессиям со стороны правых
диктатур, принуждены были к изгнанию.
В Сократе аргентинский автор видит образец истинного
философа — бесстрашного мыслителя, гражданина,
самоотверженного служителя истине. Это обостренное «критическое сознание»
общества, столь необходимое обновлению. Именно такой,
подчеркивает Дуссель, должна быть аутентичная латиноамериканская
философия, способная отвечать чаяниям народов, назревшей
необходимости общественных преобразований, освободительной
борьбе против неоколониального и социального гнета —
«философия освобождения».
В дусселевской лекции, опубликованной впоследствии под
названием «Практико-политическая функция философии»,
примечателен не только сам факт обращения к великой и трагической
фигуре Сократа. Интерес представляют сопоставления Дусселем
философской и жизненной позиции античного мыслителя и миссии
латиноамериканской философии, размышления в этой связи об
общественном назначении философии, о призвании
мыслителя-гражданина.
Аргентинский философ обнаруживает любопытные параллели
между логикой тех, кто обвинял Сократа, и тех, кто ныне
ополчается против свободомыслия и социального обновления. Это,
например, упреки радикалам в «отравлении сознания молодежи»
(Сократа также обвиняли в «развращении молодежи»), когда под
видом заботы о лучшем воспитании юношества ведется атака на
всякую новую мысль, не укладывающуюся в сложившиеся
стереотипы идеологии господства. Сократа обвиняли в том, что он
«исследует все, что над землею, и все, что под землею». Социально-
критическая направленность новой философии воспринимается
консерваторами как нарушение границ традиционно допустимого
в философии (обращение к «запретным темам» бедности и
бесправия, механизмов власти и путей освобождения).
Сократа обвиняли в безбожии. Жертвами подобных гонений,
отмечает Дуссель, были в свое время первые христиане,
преследовавшиеся Римом, великий Фихте и многие другие. Обвинение
в безбожии (в прямом и переносном смысле—как непризнание
культа данной социальной системы) — типичная до тривиальности
реакция власть имущих на инакомыслие, которое преподносится
как посягательство на «божественность» существующего порядка.
Дуссель считает, что подлинный мыслитель должен быть
«атеистом» по отношению к фетишизируемой социальной системе.
Он говорит об атеизме Сократа не в смысле отрицания всякой
веры, а как о непризнании тех богов, которыми оправдывают систему
как божественную и неизменную. «Философ всегда будет атеистом
всякой системы,— пишет Дуссель. — Это будет человек
радикального сомнения» 7.
Известен исполненный мудрости и мужества ответ Сократа
на вопрос, не раскаивается ли он в том, что занимается делом,
217
за которое ему угрожает смерть. «Во всей истории философии.—
пишет в этой связи аргентинский автор,— нет другого такого
философа, принявшего смерть именно из верности своему призванию
философа» 8. При этом он подчеркивает мысль Сократа, что
недостаточно одной готовности отдать жизнь, а важны мотивы,
умение стать на сторону справедливости и добра против зла,
приносить пользу людям.
Автор выделяет критико-политическую функцию философии
как важнейшую. Он приводит слова Сократа о собственной роли
«овода» для города, т. е. необходимого общественному здоровью
«возмутителя спокойствия», который не позволяет обществу
впасть в самодовольство и парализующую спячку, той беспокойной
совести, которая побуждает людей критически переосмысливать
свои дела и цели, заботиться о добродетели. В этой связи Дуссель
критикует официальную академическую философию как
«софистическую» и «созерцательную», отгораживающуюся от реальных
проблем и запросов народа, функционирующую в господствующей
идеологии.
Дуссель подчеркивает общественно-политическую роль
философии. Мыслитель, говорит он, должен «показывать путь, каким
бы трудным он ни был» 9. Главное, чему учит нас пример Сократа,
это общественная миссия философа, его гражданская позиция,
приверженность борьбе народа за освобождение. Автор
напоминает также о путешествиях Платона в Сиракузы с надеждой
воплотить на практике свои политические идеалы, об
обстоятельствах смерти Аристотеля, изгнанного на остров Эвбею по
политическим мотивам. «Философия,— заключает он,— есть инструмент
и политическая функция освобождения» ,0.
Говоря о позитивных ассоциациях, можно отметить даже
«тяготение» латиноамериканских радикалов к античной
философии, к которой они прорываются сквозь вековые тенета
идеологизированного буржуазного философского сознания, как к образцу
ясности, цельности, свежести мировосприятия. Примечательно,
например, и высказывание Дусселя, что «философии зарождаются
на периферии»: история философии началась в греческих
колониях, подобным же образом Латинская Америка в силу своей
«периферийности» в современном мире может стать лоном новой
философии.
Эту общую позитивную связь с античной философией можно
иметь в виду, обращаясь к полемическим аспектам работ
латиноамериканских радикалов по отношению к определенным идеям
древних греков, что связано с критическими задачами «философии
освобождения».
Критичность данной философии обращена против идеологии и
политики господства, ставя своей задачей развенчание их
философских основ. Представители данного направления выступают
с радикальной критикой современной философии, во-первых, как
носительницы дискриминационных идей «европоцентризма» и
господства, а во-вторых, за ее теоретико-методологическую ограни-
218
ценность, неспособность служить теоретической основой для
решения важнейших задач латиноамериканского общества.
Эта критическая, «очистительная» аналитическая работа и
составляет на данном этапе основное содержание трудов
латиноамериканских радикалов. Ими ставится в качестве первоочередной
задача разоблачения идеологического содержания европейских
философских систем, сопровождавших историю конкисты,
колониальную эпоху, всю буржуазную цивилизацию, вплоть до ее
нынешних империалистических форм. Речь идет о разрушении
идеологии господства прежде всего путем «деструкции» ее
философских основ. Разумеется, такая критико-обличительная
установка не может не сказаться на характере анализа философского
наследия, на его оценках.
Формулы господства радикалы находят в современной
сциентистской философии, в американском прагматизме, в «воле к власти»
Ницше, в ego cogito Декарта, в античных философских
представлениях, а в конечном счете — в самой субъект-объектной структуре
западной философии. Претендуя ни много ни мало на пересмотр,
на «снятие» всей предшествующей философской традиции — от
элеатов до Хайдеггера, латиноамериканские авторы
сосредоточивают свою критику на ее античных первоосновах. Греческая
философия берется ими как генетически представительствующая и
ответственная за все последующее древо западной философии.
Тотальность и Другой
В работах Энрике Дусселя предпринята, пожалуй, наиболее
решительная попытка критического преодоления западной
философии, выхода к новым философско-методологическим
принципам. Одиссею в мир западной философии Дуссель начинает с
этики. Он ставит задачей «деструкцию» европейских этических
систем — Аристотеля, Фомы Аквинского, Канта, Гегеля, Шелера,
Сартра — и разработку «этики латиноамериканского
освобождения». Верификация моральной состоятельности отношения
господства—подчинения, глубокие сомнения в этической
правомерности тоталитарных систем власти и одновременно стремление
философски обосновать гуманистическую моральность борьбы
за освобождение от всякого господства — такова ведущая тема
философии и теологии «освобождения».
В целом же философский замысел Дусселя выходит далеко за
пределы собственно этического, перерастает в проблему самих
оснований философии, ее роли как идейно-теоретической основы
освободительного действия. Им ставится вопрос о «новой эпохе» в
философии, которая была бы «подлинно современной
философией — постимперской, ценной не только для Латинской Америки, но
и для арабского мира, черной Африки, Индии, Юго-Восточной
Азии и Китая, философии угнетенных исходя из самого угнетения,
философией освобождения бедных народов земного шара» и.
Дуссель стремится выявить то общее у ведущих представите-
219
лей античной, средневековой, новоевропейской и современной
западной философии, что обусловило ее использование для
обоснования идеологии и политики господства. Таковым он считает
идею «Тотальности», которая выражала ограниченность
мировоззренческого горизонта уже существующим, неспособность
воспринять радикально новое — «Инаковость», «Другого».
В подтверждение данного тезиса Дуссель развивает
собственную версию истории западной философии как восхождения от
идеи «Тотальности», освящавшей вечность отношений
господства—подчинения, к набирающей силу идее обновления,
«Другого», символизирующей радикальные перемены, эсхатологический
скачок в царство справедливости.
Европейская философия с ее античных истоков определяется
Дусселем как «онтология тотальности». Ее диалектика
рассматривает лишь противоположности внутри «Тождества», не допуская,
что вне его может быть назависимый «Другой». Примеры тому —
Платон, Аристотель, Гегель, Ницше, в категориально-логическом
строг которых латиноамериканский автор видит фиксацию
существующего состояния общества без попытки его радикально
изменить. Под этим углом зрения он реконструирует основные
характеристики того, что он называет «онтологией тотальности».
Уже в высказывании Гераклита «из всех [состоит] единое,
а из единого — все» Дуссель видит во всеохватывающем «все»
зародыш идеи «Тотальности». По его мнению, слова Гераклита
ОЗЧ2Ч уют, что тотальность есть единое и невозможно выйти за
ее пределы. Еще более определенно эта мысль выражена у Парме-
нида. Если все — единое, то слова Парменида «бытие существует,
а небытие не существует» означают, что все, находящееся «вне»
тотальности, не существует. Понятие «все» (как знак тотальности)
он находит и у Аристотеля: «Душа есть, определенным образом,
все вещи».
Рыт,;е, «тотальность» характеризуется далее как видимое.
От Пяпменида и Платона берет начало рационалистическое
понимание бытия, трактовка мышления как созерцания вечных идей.
Парме"*'ί говорил о «тождестве сущего и мыслимого». В данном
случае « мыслить» (νοετν) Дуссель вслед за Хайдеггером трактует
как «пч^ть», «познавать». Заметим сразу: в «деструкции»
западной философии Дуссель следует по стопам Хайдеггера, хотя я
стремится почти гораздо дальше. Он перенимает не только его
этимологический анализ ключевых понятий греческой философии, но и
сам герменевтический метод Хайдеггера.
Бытие *ак единое, видимое — это в то же время «физис»
(φύσις). Ь хайдеггеровской трактовке Аристотеля «физис» есть
горизонт материя неопределенная, которая, обретя форму,
возникает как оущее, вещь. Физис осмысляется как выявление
самобытной жизненной активности всего сущего, бытие «само себя
про-из-водящее». Впоследствии Дуссель сдепает акцент нэ
«открытости* как важнейшей характеристике бытия у позднего
Хайде.теря.
220
Бытие у греков — эон, вечность, «вечное возвращение того
же». Бытие божественно. Все эти характеристики бытия Дуссель
объединяет в общем определении: «Цикл вечного возвращения
того же», видимое, «физис», «всегда божественное — таков
эллинский опыт бытия, онтология тотальности» 12.
Само понятие «онтология» Дуссель этимологически
расшифровывает как «сущее», основывающееся в «логосе», и использует его
лишь применительно к «тотальности». Рассматривая эту «логику»,
а по сути — внутреннюю диалектику «тотальности», Дуссель
считает, что это логика изначального «тождества», внутри
которого есть различие. Согласно грекам, единое разделяет «ненависть»,
а объединяет «любовь». Данная логика исходит из существования
противоположностей: «Тождество» внутренне разделяется на
«тождественное» и «другое», которые противостоят друг другу в
рамках целого.
По мнению Дусселя, недостаток всей диалектики начиная с ее
античных истоков состоит в том, что она ограничивается
рассмотрением противоположностей внутри «Тождества»
(«Тотальности»). В ней нет места «Другому», существенно различному
«Тотальности» и независимому от нее 13. Он пишет: «Диалектику
„тождественного" и „другого", включенных в большое
„Тождество", мы видим в „Пармениде", „Софисте", „Теэтете", во всех
работах Платона, Плотина, а также у Гегеля и Ницше» м.
Идея «Тотальности», как считает аргентинский автор, довлеет
и над новоевропейской философией. Человек Нового времени,
отрицая абсолютно Другого — средневекового бога, остается
лишь с «Я», сам как бы становится тотальностью. В картезианском
ego cogito субъективно-личностное, самосознание положено в
основу философии. На место физической тотальности греков
становится эготическая тотальность «Я», субъект. Нетрудно заметить,
что уже в этом пункте дусселевская и хайдеггеровская линии
критики европейской философской традиции расходятся. Хайдеггер,
как известно, обвинял Декарта в том, что тот на место бытия
человека поставил его мышление, субъект-объектное
отношение познания. Дуссель же видит главную ошибку картезианства
в игнорировании субъект-субъектных отношений («Я» —
«Другой»).
С этих же позиций латиноамериканский философ критикует
и Гегеля. Он считает, что идея тотальности получила подробную
разработку в гегелевской философии, в которой бытие есть
познание и тотальность есть абсолют. У Гегеля «в-себе-бытие» — это
исходное тождество, в котором возникает различие, служащее
началом всей системы. Изначальное «Тождество» есть
«Тотальность», которая в конечном счете восстанавливается как абсолют
в итоге гегелевской системы. По мнению Дусселя, наиболее
откровенное выражение идея «закрытой» «Тотальности» получила
у Ницше. В «Так говорил Заратустра» Ницше приходит к тому,
что «все едино», единственно возможное движение есть «вечное
возвращение к тому же». Тотальность априорна, биполярна,
движима «волей к власти».
221
Используемые латиноамериканским автором философские
понятия «Тотальность» — «Инаковость», «То же» — «Другой»
политизируются, становятся инструментом анализа социально-
политической реальности.
В противовес традиционной западной социологии Дуссель
предлагает собственный подход. Исходным пунктом для него
служат высказанные Аристотелем в «Политике» идеи, что
теоретическое построение должно начинаться с рассмотрения «первичного
образования предметов», что первичной ячейкой государства
является семья, организация которой состоит из трех элементов
парных отношений: брачных, отцовских, господских. Дуссель лишь
несколько модифицирует аристотелевскую схему: общество
рассматривается им сквозь призму семейно-личностных отношений
мужчины и женщины («эротика»), родителей и детей
(«педагогика»), брата с братом («политика»).
Однако можно ли объяснить с их помощью все многообразие
отношений и связей современного высокоразвитого общества? При
перенесении этих понятий на общество в целом они превращаются
в метафору, символ определенного «типа» отношений. Конкретное
же содержание социальных отношений остается нераскрытым.
У латиноамериканского философа историческое неравенство
женщины с мужчиной символизирует всякое отношение господства—
подчинения; воспитание детей родителями — общественную
педагогику, культуру; отношения между детьми — политическую
борьбу классов и групп внутри общества и на международной
арене.
Отношения господства—подчинения связываются Дусселем с
идеей «Тотальности». Эту связь он рассматривает на выделяемых
им трех уровнях общественных отношений — эротики, педагогики,
политики. Проделанный им. анализ интересен в плане авторских
усилий по разоблачению идеологии господства, развенчанию
стереотипов буржуазного сознания, воспроизводящих, по сути дела,
весьма архаичные структуры. Однако при всем антиугнетательском
пафосе своих работ Дуссель не поднимается до анализа социально-
экономических основ господства, порождающих в конечном счете
и соответствующую идеологию. Его анализ замыкается на
надстроечных, идеологических выражениях социальных отношений. В
результате сама идея «Тотальности» предстает как главное
препятствие на пути устранения господства. Этот методологический порок
еще резче проступает в позитивной части концепции Дусселя. Путь
освобождения он видит в утверждении идеи свободного «Другого»
и связанной с ней этикой «любви-к-справедливости». Речь идет,
таким образом, об очередном варианте леворадикальных упований
на изменение общественных отношений через «революцию в
сознании».
В центре внимания Дусселя — критика идей, оправдывающих
господство в отношениях мужчины и женщины (он обозначает
их как «эротику»). Выражение идеи «Тотальности» в этой сфере он
видит в «Пире» Платона. Характерно, что из всего богатства фи-
222
лософско-художественного содержания платоновских диалогов
Дуссель выбирает то, что могло бы иллюстрировать
приверженность греков идее «Тотальности». По его мнению, на это указывают
слова Платона в «Пире» о том, что эрос есть «любовь подобного
подобным», т. е. «того же».
Латиноамериканский философ видит идею «Тождества» в
приводимом Платоном мифе о первобытных двуполых
существах — андрогинах, которых Зевс впоследствии рассек на
мужскую и женскую половины и разбросал по свету. Эрос — страстное
стремление соединиться с принадлежащей им искони половиной,
чтобы вновь обрести целостность, полноту. Чувство мужчины к
женщине — это любовь к «тому же», чем он был в изначальной
целостности.
Как иллюстрацию идеи «Тождества» Дуссель истолковывает
другой платоновский миф — об Афродите Небесной,
покровительнице любви к юношеской красоте, и Афродите Пошлой,
помогающей любви к женщине. Высшая, небесная любовь для Платона
есть любовь одинаковых, «тождественных» — любовь к мужчине,
который считался прекраснее и умнее женщины. Женщину же
любят как средство продолжения рода. Человек смертен, но, чтобы
род человеческий оставался бессмертным, «тем же», необходим
ребенок, его наследующий. В таком понимании эрос — это любовь
к «тому же», к ребенку, который будет «тем же», что и отец.
Коль скоро, рассуждает Дуссель, у греков «подобный», «тот
же» есть «все», «бытие» вечное, эрос тотальности есть любовь к
«тому же», следовательно, не может быть любви к «Другому».
В этих суждениях латиноамериканского автора идея мифа явно
утрируется, заостряется до вывода об отрицании древними
греками любви к женщине как к «Другой», тогда как сам миф не столь
категоричен и говорит лишь о разных уровнях любви, о двух
Афродитах.
«В этой эротике, всегда считавшейся прекрасной,
онтологически подтверждается господство над женщиной»,— пишет
Дуссель |5 . Идея господства мужчины над женщиной, продолжает он,
еще более отчетливо выражена у Аристотеля. Стагирит говорил,
что мужчина, свободный гражданин Афин, есть существо
политическое, а женщина бесправна и подчинена ему. Она вынуждена
почитать господина, главу семьи, мужчину. Под господством
мужчины находится также ребенок, ступенью ниже— раб, а еще ниже
помещаются варвары, которые разнозначны небытию. В
аристотелевской эротике мужчина есть тотальность, в которую
включается прислуживающая ему женщина. По мнению Дусселя, идея
господства в отношениях эротики присуща Аристотелю в гораздо
большей мере, чем казалось до сих пор, а потому-де «нужно
изучать его „Никомахову этику", чтобы понять его онтологию
господства» ,6.
Дуссель верно отмечает дискриминационный социальный
смысл этих суждений, выражающих идею господства мужчины
над женщиной. В самом деле: не признавая за женщиной высших
223
человеческих достоинств, крастоты тела и духа, ее заведомо
исключали из сферы высшей, «небесной» любви, которая, таким образом,
объявлялась своеобразной привилегией мужчины как воплощения
физического и духовного совершенства. Как ни парадоксально для
современников, о высшей, небесной любви греками говорилось
лишь применительно к представителям превратно понимаемой
«прекрасной» части человечества; по отношению к этой
господствующей «Тотальности» женщина оказывалась аутсайдером,
непризнанной «Другой».
Вместе с тем критически прямолинейная трактовка Дусселем
платоновских диалогов затеняет их собственный смысл. Скажем,
абстрактная формула «любви подобного подобным», что означала,
в частности, бескорыстное чувство, не связанное ни с
прагматическими соображениями самоувековечения в потомстве, ни тем более
с меркантильными расчетами, для современного сознания может
прочитываться как идея любви социально равных, любви как
высшего проявления человеческих чувств, свободных от каких-либо
экономических мотивов и социальной деформации. Вспомним
меткие замечания Энгельса о печальной участи любви в обществе
купли-продажи, характеристику буржуазного брака по расчету
как проституции, которому противопоставляются отношения полов
в будущем обществе, свободные от экономических соображений
и основывающиеся на чувствах ,7. Путь к этому, разумеется, лежит
через раскрепощение женщины, обретение ею социального
равенства (и не только формального, а подлинного, обеспеченного всей
системой общественных отношений, всем образом жизни).
То, что Дуссель в прочтении этических диалогов Платона «вчи-
тывает» в них идею «Тотальности», создает аберрацию. Его анализ
порождает впечатление, будто этические идеи Платона
(производные от ограниченно понимаемой диалектики «тотальности»)
утверждали естественность господства—подчинения в отношениях
мужчины и женщины. Тогда как в действительности именно реальное
бесправие женщины в греческом классическом обществе,
социальное бытие и соответствующие мифологические представления
греков получили свое отражение в платоновских диалогах. Они,
таким образом, не были тождественны общественному идеалу
древнегреческого философа, а фиксировали объективно
существовавшую этическую норму и должны рассматриваться конкретно
исторически.
Следует также иметь в виду, что диалоги в «Пире» отнюдь не
исчерпываются их социальным содержанием и вопросом
отношения полов, а имеют более широкий, собственно философский
смысл. Для Платона эрос не просто любовь к телесной красоте
мужчин и женщин. В его знаменитой иерархии красоты
совершенство тела лишь первая ступень в созерцании прекрасного, выше
которой стоит красота души, наук, идеи прекрасного, а в конечном
счете любовь к высшему, божественному — любовь к идеям.
Критика Дусселем эротики господства обращена в конечном
счете против самого завоевательского духа западной цивилизаций,
224
одним из проявлений которого стало угнетение женщины. «„Я
завоевываю" практическое и „ego cogito" онтологическое
принадлежат мужчине-угнетателю»,— пишет Дуссель |8. Следуя
французскому психоаналитику Ж. Лакану, он считает, что «фалократия
сопровождает ныне плутократию» .
Идеи дискриминации женщины Дуссель находит в
новоевропейской философии — в высказываниях Декарта, Гегеля, Ницше,
Сартра. «Эрос для этих философов,— пишет он,— есть любовь
подобного подобным, и в сущности исходит из взгляда. Вся
эротика описана ими исходя из взгляда, видения, света»20. Взгляд,
созерцание, согласно Дусселю, ограничены лишь восприятием
внешней физической красоты, и эта чувственность носит
неглубокий, «вульгарный» характер. «Эрос-взгляд» фиксирует другого как
объект, объективирует его. В современном западном обществе,
продолжает автор, к женщине относятся лишь как к сексуальному
объекту. В ней все сводят к эротике, подавляют интеллектуальные
творческие и общественно-политические способности. В ней
культивируется эротизированная красота, которая
коммерциализируется (например, для рекламы товаров прежде всего используют
обнаженное женское тело).
Освобождение женщины, как считает латиноамериканский
философ, должно начаться с переосмысления сущности эроса.
Эротика не должна превращаться лишь в средство деторождения, а тем
более быть «товаром». Этому автор противопоставляет любовь
высшего порядка, «небесную», которая имеет высокую духовную
основу, неотделима от уважения к другому как личности, равно-
достойному. Это скорее родство душ, диалог «Я» — «Ты», в
котором каждый слушает «голос» другого и откликается, возвышаясь
к вершинам духовности. Примером высокого понимания эроса
автор приводит библейскую «Песнь песней». «Поцелуй меня
поцелуем твоих губ» — это описание другого эроса, ибо поцелуй связан не
со взглядом, а с прикосновением, чувством. Прикосновение губ,
выражающее отношение «лицом к лицу» есть признание «Другого»
как другого, альтернативного эроса —.агапе.
Рассуждения Дусселя несут на себе явную печать концепции
французского религиозного феноменолога Эмманюэля Левинаса.
В ней в центре внимания становится межличностная
коммуникация, субъект-субъектные отношения, первичными из которых
являются отношения мужчины и женщины. У французского
феноменолога женщина проявляет себя как первая «Инаковость»,
полагающая начало отношениям «Я» — «Другой» на всех уровнях
социальных связей. Именно исходя из субъект-субъектных отношений,
считает Дуссель, можно выработать новые представления об эросе.
Каким же представляется ему новый тип отношений мужчины
и женщины, свободный от господства и угнетения? Выступая за
социальное освобождение женщины, Дуссель в то же время
решительно отмежевывается от феминистских программ (как формы
обратной дискриминации). По его мнению, освобождение
женщины возможно не в пределах биполярной тотальности, когда женщи-
225
на просто заняла бы место господствующего мужчины и
отрицалось бы их различие (что предлагает феминизм), а в «Инаково-
сти» — выходе в новую сферу за пределы «Тотальности». Эту
сферу Дуссель называет «Другой» по отношению к «Тотальности».
В ней мужчина и женщина не поступались бы своей
индивидуальностью. Оставаясь предельно «раз-личными», они в любви являют
собой наибольшее единство, и тем самым образуют новую
тотальность. Она плодотворно преодолевается на следующем уровне
через появление нового — ребенка, дитя раз-личия, «Другого»,
становящегося вновь экстериорным 21. Характерно, что это
преподносится автором как своего рода модель движения истории,
логика вечного обновления.
Эротика, подчеркивает автор, должна быть таким отношением
мужчины и женщины, в котором женщина рассматривалась бы
как Другая, т. е. не только равная мужчине, но и незаменимая в
роли матери, воспитательницы ребенка (педагогика) и сестры брату
(политика). Таким образом, женщина должна быть свободна как
жена мужчины, как мать и учительница ребенка и как сестра 22.
Так Дуссель в свойственной ему терминологии выражает идею
всестороннего освобождения женщины, ее полноправного участия
в основных сферах жизнедеятельности общества. Считая
отношения мужчины и женщины ядром всех общественных отношений,
он связывает борьбу за свободу женщин с борьбой за свободу всех
людей: «Освобождение женщины есть также освобождение
мужчины, ребенка, брата — интегральное освобождение человека от
всех угнетательских структур» 23.
Доминирование идеи «Тотальности» Дуссель прослеживает
также в понимании древнегреческими философами «педагогики»—
отношений в сфере воспитания, образования, культуры. Это
отношения родителей и детей, учителя и ученика, интеллигенции и масс.
В угнетательском обществе довлеет педагогика господства. В ней
отрицается неповторимая индивидуальность человека, его
способность к творчеству нового: каждый считается «таким же», как все,
а не как личность. Ученик находится в подчиненном положении —
как «тождественное», а не как «иной», новый.
Латиноамериканский философ видит характерный пример
господства в отношениях учителя с учеником у Сократа. Задача
учителя, считал Сократ, воскресить в памяти ученика Идеи, которые
существуют вечно, но забыты. «То же» забытое должно стать «тем
же» в настоящем. Таким образом, ученик вспомнит и повторит «то
же» (то, что он созерцал как душу среди богов еще до рождения).
Сократ с помощью искусных вопросов подводил к тому, чтобы
ученик достиг понимания идей, принимая их как абсолютные и
божественные. В подобной абсолютизации, представлении чьей-либо
идеи как единственно верной и «священной» Дуссель видит
характерное проявление педагогики господства (в частности, подобным
образом возникли и впоследствии насаждались идеи
«европоцентризма») 24.
В «онтологии тотальности» — греческой и западноевропей-
226
ской — ученик считается «тем же», соответственно «онтология
педагогического господства» предстает как майевтика,
вспоминание и повторение забытого, без выхода к новому. Таким образом,
заключает автор, идея вечного повторения обнаруживала не только
непонимание историчности, не только препятствовала появлению
нового, но и идеологически служила оправданием
существовавшей системы господства 25.
К педагогике господства автор относит и средства духовного
порабощения (имперскую и олигархическую «культуру господ»,
буржуазную «массовую культуру»). Он говорит о «культурной
конкисте и акультурации» Америки, Азии и Африки, о современном
«культурном империализме», когда наряду с вооруженным
насилием угнетатели вторгаются в сферу сознания порабощаемых
народов, навязывают индейцу, азиату, африканцу, всем угнетенным
свою «цивилизацию», свою религию и культурно-идеологическую
систему. Анахроничные идеи «цивилизации» и «варварства»,
идущие еще от Аристотеля, автор видит внедренными в
латиноамериканскую культуру.
Традиционной педагогике господства Дуссель
противопоставляет педагогику освобождения. Она должна быть ориентирована
на порождение нового, на признание индивидуальности человека
и самобытности народов. Умение родителей уважать в ребенке
свободного автор считает образцом отношения ко всякому
Другому как обладающему свободой в своей сфере. Ребенок, ученик
как Другой есть «новый исторический проект», и задача учителя
породить в нем новое (применительно к такой педагогике автор
использует понятие «плодотворность»).
В этой связи Дуссель рассматривает проблему
просветительской роли национальной интеллигенции по отношению к народу.
Он ставит вопрос об общественной миссии философа как
«пророка», образец которого он видит в античности. У греков, отмечает
автор, под «профетом» (от греч. pro-femi) понимали не
предсказателя будущего, а того, кто говорит о настоящем и раскрывает его
смысл. Это философ, посвятивший себя освобождению народа
и стремящийся к пониманию его «слова». Философ должен уметь
«слушать голос Другого» — угнетенного латиноамериканца,
чтобы подняться до просветительской миссии учителя народа.
В ограниченности философских воззрений греков идеей
«Тотальности» Дуссель видит корень их представлений о «политике».
Так, Аристотель в «Политике» утверждал, что варвары сильные,
но неспособные, поэтому по природе своей являются рабами,
а азиаты хотя и отличаются способностями, но лишены мужества,
а потому живут в подчиненном состоянии. Только греки полиса
обладают человеческой целостностью, которой лишены «варвары,
дочеловеки». Дуссель называет это аристократической
антропологией, которая этически обосновывает господство как природно
оправданное. Политика угнетения приняла ныне облик господства
империалистического «центра» над неоколониальной
«периферией», города над деревней, олигархии над трудящимися,
бюрократии над управляемой массой и т. д.
227
Дуссель считает, что социальный смысл идеи господства
обнаруживается уже в тезисе Гераклита «война есть начало всего»:
война есть начало Тотальности, ее постоянный атрибут. «Войной»
Дуссель называет отношения противоположностей внутри
«Тотальности». Причиной ее является нежелание господствующих
классов отказаться от своего положения, стремление насильно
воспрепятствовать освобождению угнетенных. Войне
латиноамериканский автор противопоставляет принцип «любви к свободе»,
а «воле к власти» — «волю к свободе». Концепция Дусселя
направлена на сглаживание противоречий, а сам он мечтает о некоем
особом — в обход классовой борьбы — пути освобождения,
полагается на силу морально-этического проповедничества в
достижении общества свободы и братства. Вместе с тем он достаточно
трезво констатирует остроту социальной борьбы,
развертывающейся в странах Латинской Америки. Примечательно его суждение
о двух этически различных видах насилия: несправедливое
насилие угнетателя и справедливые насильственные меры «обороны»
в борьбе угнетенного за освобождение 26.
Дуссель выступает против идеологии господства, «воли к
власти», и прежде всего ее империалистических и милитаристских
выражений. Комментируя вышеупомянутый тезис Гераклита, он
пишет: «Какова связь этого, казалось бы столь абстрактного и
невинного тезиса с войной во Вьетнаме или угнетением Латинской
Америки? Мы увидим, что война есть необходимый момент
Тотальности; она включена в ее логику, которую невозможно преодолеть,
когда считают, что „все есть едино"» .
Учитывая метафоричность стиля Дусселя, данное
высказывание не следует понимать буквально. Оно симптоматично как
стремление автора разоблачить связь определенных философских
доктрин с идеологией господства, освящавшей захватническую
политику европейских колонизаторов и североамериканского
империализма (связь, которая не может быть раскрыта без анализа
социально-классовых основ этой идеологии). Публицистически броской,
шокирующей метафорой Дуссель иллюстрирует мысль об
ограниченности философских систем Запада — их неспособности вывести
за пределы констатации антагонистических отношений «войны
всех против всех» (Гоббс) или диалектики «господина и раба»
(Гегель) в рамках наличной системы, указать путь к «Другому»
типу общества, построенного на равенстве и гармонии.
Дуссель предъявляет строгий счет философским системам
Запада за их недостаточно критичное отношение к наличному
порядку, видит в их категориально-логическом строе фиксацию
существующего состояния общества без попытки его радикального
изменения. Неудовлетворенность аргентинского автора, обратившегося
к идейному наследию европейской буржуазной философии в
поисках ответа на кардинальные вопросы латиноамериканского
общества, вполне понятна. С точки зрения потребности этого
общества в глубоких переменах, философия, которая лишь
констатирует наличное состояние и не ставит вопроса о его коренном
изменении, прочитывается Дусселем как консервативная,
оправдывающая и созвучная идеологии господства.
ПРИМЕЧАНИЯ
ι
Шеллинг Φ. В. Я. Философия
искусства. М., 1966. С. 109.
Лосев А. Ф. История античной
эстетики: Поздний эллинизм. М., 1980.
С. 182—183.
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд.
Т. 2. С. 562; Г. 1. С. 88.
См.: Берковский И. #. Романтизм
в Германии. Л., 1973. С. 295.
Шлегель Ф. Эстетика. Философия.
Критика: В 2 т. М., 1983. Т. ! С. 86.
Шеллинг Ф. В. Я. Философские
письма о догматизме и критицизме //
Новые идеи в философии. СПб., 1914.
№ 12. С. 120—121.
Шлегель Ф. Указ. соч. Т. 1. С. 100—
101.
Шеллинг Ф. В. Я. Система
трансцендентального идеализма. Л., 1936.
С. 359.
Там же. С. 330—331.
Там же. С. 359 ел.
Там же. С. 345.
Там же. С. 388—389.
См.: Там же. С. 379.
Там же.
Там же. С. 378.
Там же. С. 384.
Там же. С. 378.
Там же. С 380.
Шлегель Ф. Указ. соч. Т. 1. С. 102.
Шеллинг Ф. В. Й. Ухаз. соч. С. 385.
Fichte I. G. Das System der
Sittenlehre nach den Principen der Wissen-
schaiislehre, 1789//Fichte I. G.
Sämtliche Werke. В., 1845. Bd. 4.
S. 353. ff.
Шеллинг Φ. В. Я. Система
трансцендентального идеализма. С. 400.
Шеллинг Ф. В. Я. Философия
искусства. С. 400.
Там же. С . 404.
Шеллинг Ф. В. *Я. Система
трансцендентального идеализма. С. 24.
Маске К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд.
Т. 12. С. 737.
Шеллинг Ф. В. Я. Философия
искусства. С. 113.
Там же. С. 109.
Там же. С. 113.
Там же. С. 360.
Там же. С. 108.
Там .чкс. С. 10Г>. Эта идея была под-
дер: :зиг Марксам и принята им как
установленный факт: «Известно, что
греческая мифология составляла не
только арсенал греюскэге искусства,
но и его почву» (Маркс К.,
Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 12. С. 736).
*3 Шеллинг Ф. В. Я. Философия
искусства. С. 105—106.
14 Там же. С. 115.
45 Там же. С. 124.
36 См.: Лосев А. Ф. История античной
эстетики. Высокая классика. М., 1974.
Т. 3. С. 75 и след.
37 См.: Декарт Р. Избр. произведения.
М., 1950. С. 261.
38 Шеллинг Ф. В. Я. Философия
искусства. С. 116.
39 Там же. С. 118—119.
40 Там же. С. 353.
41 См.: Там же. С. 353—354.
42 Там же. С. 397.
43 Там же. С. 398.
44 Там же. С. 401.
45 Там же. С. 403.
46 Софокл. Эдип-царь. 840 ел., пер.
С. В. Шервинского // Греческая
трагедия. Эсхил. Софокл. Эврипид. М.,
1950. С. 288.
47 Шеллинг Ф. В. Я. Философия
искусства. С. 120.
48 Шеллинг Ф. В. Я. Философское
исследование о сущности человеческой
свободы. СПб., 1908. С. 49.
49 Шеллинг Ф. В. Я. Философия
искусства. С. 403.
50 Там же. С. 405.
51 См.: Там же. С. 406.
52 Боги Греции, по словам Маркса,
были «смертельно ранены» трагедией
Эсхила (Маркс К., Энгельс Ф. Соч.
2-е изд. Т. 1. С. 418).
53 Гегель Г. В. Ф. Соч. М., 1959. Т. 4.
С. 251.
54 См.: Шеллинг Ф. В. Я. Философия
искусства. С. 405.
55 Там же. С. 417.
56 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч.
2-е изд. Т. 40. С. 154.
57 Шеллинг Ф. В. Я. Философия
искусства. С. 415—416.
1 Howald Ε. Fr. Nietzsche und die
klassische Philologie. Gotha, 1923.
S. 3; Bursian C. Geschichte der
klassischen Philologie in Deutschland von
den Aufângen bis zur Gegenwart.
München; Leipzig, 1983. S. 625.
2 Winckelmann /. .!. Geschichte der
Kunst des Altertums. Vollständige
Ausgabe. Weimar, 1964. S. 192.
3 Ibid S. 130.
229
Ibid. S. 140.
Winckelmann J. J. Kleine Schriften
und Briefe. Weimar, 1960. S. 30.
Winckelmann J. /. Geschichte der
Kunst... S. 135.
Ibid. S. 309.
Ibid. S. 188.
Ibid. S. 138.
Heinse W. Sämtliche Werke.
Leipzig, 1902. Bd. 4. S. 268.
Ibid. S. 20.
Гете И. Φ. Собр. соч.: В 13 т. М.,
1937. Т. 10. С. 393.
Heinse W. Op. cit. Leipzig, 1925.
Bd. 8 (1). S. 8.
Ibid. S. 94.
Ibid. S. 552.
Herder /. С. von. Sämtliche Werke.
В., 1892. Bd. 8. S. 433.
Ibid. В., 1899. Bd. 32. S. 61.
Ibid. S. 105.
Ibid. S. 72, 74.
См.: Stolpe H. Humanität,
Franzosische Revolution und Fortschritte der
Geschichte // Weimarer Beitr. 1964.
H. 4. S. 567.
Маркс К., Энгельс Φ. Соч. 2-е изд.
T. 8. С. 119, 120.
Herder J. G. von. Sämtliche Worke.
В., 1893. Bd. 9. S. 325.
Ibid. Bd. 8. S. 63.
Гердер И. Г. Идеи к философии
истории человечества. М., 1977. С. 358—
359.
Там же. С. 370.
Там же.
Там же.
Там же. С. 390.
Там же.
Herder /. G. von. Briefe zur
Beförderung der Humanität. В.; Weimar,
1971. Bd. 1. S. 35L
Herder J. G. von Samtliche Werke. В.,
1886. Bd. 24. S. 339—347.
Ibid. Bd. 2. S. 75—76.
Ibid. S. 345.
Маркс К., Энгельс Φ. Соч. 2-е изд.
T. 8. С. 120.
Herder J. G. von. Briefe zur
Beförderung... Bd. 1. S. 109—113.
ScMegel A. W. Vorlesungen über
schone Literatur und Kunst.
Heilbronn, 1884.
Ibid. S. 112, 113.
Ibid. S. 17.
Ibid. S. 14.
См.: Ibid.
Ibid. S. 21.
Schlegel A. W. Vorlesungen über
dramatische Kunst und Literatur. Bonn;
Leipzig, 1923. Bd. 1. S. 4.
Ibid. S. 5.
1 Гегель Γ. Β. Φ. Работы разных лет. M.,
1971. T. 2. С. 399.
2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд.
Т. 8. С. 119.
3 Там же.
4 Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 16.
С. 9.
5 См.: Дройзен И. Т. История
эллинизма. М., 1890. Т. 1.
6 Ницше Ф. Поли. собр. соч. М., 1912.
Т. 1.С. 136.
7 Ницше Ф. Собр. соч. М., Б. г. Т. 5.
С. 107.
8 Portable Nietzsche. Ν. Y., 1968. P. 49.
9 Middleton Ch. Selected letters of
Fr. Nietzsche. Chicago, 1969. P. 280.
10 Ibid. P. 346.
11 См., напр.: Knight Α. Η. I. Some
aspects of the life and work of
Nietzsche and particularly of his connection
with Greek literature and thought.
Cambridge, 1933; Studiesin Nietzsche
and the classical tradition. Chapel Hill,
1976; Мочкин A. H. Культ Диониса
и его парадигматическая роль в
философии Ницше // Античная
философия в интерпретации буржуазных
философов. М., 1981. С. 103—117.
12 Ницше Ф. Собр. соч. М., Б. г. Т. 7.
С 295.
13 Там же. М., Б. г. Т. 8. С. 323.
14 Там же. М., 1903. Т. 10. С. 126.
15 Там же. С. 125.
16 «Религиозный нравственный
принцип, от которого исходили Платон
и Сократ, направлял великое
движение мысли к определенной цели...
в полном слиянии с чуждыми и всего
менее эллинскими представлениями
и преданиями...» (Ланге А. Ф.
История материализма и критика его
значения в настоящее время. СПб., 1881.
Т. 1. С. 62).
17 Ницше Ф. Собр. соч. Т. 10. С. 226.
18 Ницше Ф. Поли. собр. соч. Т. 1. С. 132.
19 Ницше Ф. Сумерки кумиров. М., 1900.
С. 136.
20 Ницше Ф. Поли. собр. соч. Т. 1. С. 124.
21 Там же. С. 125.
22 Ренан пишет: «Таким образом можно
себе представить время, когда все, что
царило некогда в силу предрассудка
и ложных понятий, будет
господствовать действительно и сообразно со
справедливостью: быль, рай, ад,
духовная власть, монархия,
аристократия, законность, превосходство
рас, сверхъестественные силы — все
может возродиться через человека
и разум» (Ренан Э. Философские
диалоги. М., 1919. С. 69).
230
23 Леонтьев К. Собр. соч. М., 1912. Т. 6.
М.. С. 11 (статья окончена в 1884 г.).
24 Ницше Ф. Собр. соч. Т. 7, С. 298.
25 Леонтьев К. О Вл. Соловьеве и
эстетике жизни. М., 1912. С. 34—35.
26 Ницше Ф. Собр. соч. Т. 7. С. 297.
27 Маркс К-, Энгельс Ф. Соч. 2-е изд.
Т. 1. С. 415.
28 См.: Philosophie und Mythos: Ein
Kolloquium. Ν. Y., 1979. S. 198.
29 Леви-Стросс К. Структура мифов //
Bon р. философии. 1970. № 7. С. 153.
30 Ницше Ф. Поли. собр. соч. Т. 1. С. 82.
31 См.: Юнг К. Г.. Либидо, его
метаморфозы и символы. Цюрих, 1939.
С. 153—179. См. также: Jung С. G.,
Kerenyi С. Essays on science of
mythology. Princeton, 1973. P. 66.
32 См.: Ricoeur P. The symbolism of evil.
Boston, 1969. P. 221.
33 См.: Фрейд 3. Толкование
сновидений: Современные проблемы. М., 1913.
С. 201—203.
34 См.: Леви-Стросс К- Структурная
антропология. М., 1980. С. 108—109.
35 См.: Юнг К. Г. Либидо, его
метаморфозы и символы. С. 201; Εliade M.
Riles and symbol of initiation. N. Y.,
1965. P. 58.
36 См.: Иванов Вяч. Дионис и прадио-
нисийство. Баку, 1923. С. 71.
37 Ницше Ф. Поли. собр. соч. Т. 1. С. 78.
38 См.: Геродот. История. III, 39—43;
VII, 231; VII, 197, 220.
39 Вагнер Р. Избр. работы. М., 1978.
Q 391 395
40 Платон. Соч.: В. 3 т. М., 1972. Т. 3,
ч. 2. С. 433.
41 Ницше Ф. Поли. собр. соч. Т. 1. С. 77.
42 Ницше Ф. По ту сторону добра и зла.
СПб., 1907. С. 31.
43 Ницше Ф. Поли. собр. соч. Т. 1. С. 80.
44 Фрейд 3. Тотем и табу. М.; Пг., Б. г.
С. 151.
45 Там же. Современная трактовка
мотива инцеста связывает его с
механизмом получения власти —
господства как формы нарушения
сакрального установления природы. См.:
Аверинцев С. С. К толкованию
символики мифа об Эдипе // Античность
и современность. М., 1972. С. 90—
102.
46 Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних
произведений. М., 1956. С. 25.
47 См.: Абрагам К. Сон и миф. М.,
1912. С. 69 (Абрагам приводит анализ
мифа Штейнтала: «Спустившись
с неба в качестве человека, бог огня
в качестве человека или бога
приносит себя самого в качестве бога или
божественного элемента на землю
и в качестве стихии дарит себя себе
самому в качестве человека»).
48 Ницше Ф. Поли. собр. соч. Т. 1. С. 80.
49 Там же. С. 81.
50 Там же. С. 54.
51 Там же. С. 38.
52 Там же. С. 69.
53 Там же. С. 157.
54 Там же. С. 120.
55 Там же. С. 154.
56 Там же. С. 156.
57 Там же. С. 153. 58 Там же.
59 Геродот. История. IV, 93, 94, 95, 96.
60 См.: Jung С. С, Kerenyi С. Essays on
science of mythology. Princeton»1973.
P. 133—134.
61 См.: Гельдерлин Φ. Соч. M., 1969.
С. 139, 166, 171, 172, 276. А в
стихотворении «Единственный»
Гельдерлин прямо сопоставляет и
синкретически отождествляет Диониса, его хто-
нического двойника Геракла и Христа.
h'2 См.: Вагнер Р. Статьи и материалы.
М., 1974. С. 57—58.
ь6 См.: Манн Т. Собр. соч. М., 1959.
Т. 4. С. 208—214.
1,4 Подробный разбор этих
взаимовлияний см. в книге: Берг Л. Сверхчеловек
в современной литературе. М., 1905.
65 См.: Fromm Ε. Zen-Buddhism and
psychoanalysis. Ν. Y., 1970. P. 93.
4
1 См.: Howey R. L. Heidegger and
Jaspers on Nietzsche. The Hague, 1973.
P. 34.
2 См.: Guërin M. Nietzsche, Socrat
héroïque. P., 1975. P. 14.
"* Ницше Φ. Поли. собр. соч. M., 1912.
T. I. С. XVII.
1 См.: Ницше Φ. Сумерки идолов.
СПб., 1907. С. 18—50.
5 Ксенофонт. Сократические
сочинения. М.; Л., 1935, С. 25.
6 Платон. Соч.: В 3 т. М., 1972. Т. 3,
ч. 1. С. 289.
7 Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 29,
С. 103.
8 См.: Платон. Соч.: В 3 т. М, 1968.
Т. 1.С. 409.
9 Гегель Г. В. Ф. Соч. М., 1932. Т. 10,
кн. 2. С. 35.
10 Платон. Соч.: В 3 т. М., 1970. Т. 2.
С. 244.
11 Ницше Ф. Поли. собр. соч. Т. 1. С. 401.
12 Там же. С. 394.
13 Там же. С. 203.
14 Там же. С. 24.
15 Лосев А. Ф. История античной
эстетики. М., 1969, Т. 2. С. 52.
16 Ницше Ф. Утренняя заря:
Размышления о нравственных понятиях. С. 362.
231
17 Ницше Φ. Поли. собр. соч. Т. 1. С. 161
18 Ницше Ф. Сумерки идолов. С. 137.
19 Ксенофонт. Указ. Соч. С. 197.
20 Ницше Ф. Поли. собр. соч. Т. 1. С. 102
21 Там же. Т. 2. С. XXVII.
22Там же. М., 1911. Т. 3. С. 170.
23 Манн Т. Соч.: В 10 т. М., 1961. Т. 10.
С. 388.
24 Nietzsche F. A self-portrait from his
letters. Cambridge, 1971. P. 105.
25 Ницше Φ. Утренняя заря. С. 235.
См.: Mounter Ε. Introduction aux
existentialismes. P., 1969. P. 12.
Jaspers К. Les grands philosophes. P.,
1966. P. 156.
Боннар A. Греческая цивилизация.
M., 1958. T. 1С. 42.
См.: Чухина Л. A. Человек и его
ценностный мир в религиозной
философии. Рига, 1980.
См.: Бычков В. В. Эстетика Аврелия
Августина. М., 1984. С. 31—32.
Lacroix /. Le personnalisme: Sources,
fondements, actualité. Lyon, 1981. P. 8.
Кессиди Ф. X. Сократ. M., 1976. G. 102
Mounter Ε. Introduction aux
existentialismes. P. 78.
Mounter Ε. Traité du caractère //
Oeuvres. P., 1961. Vol. 2. P. 526.
Ibid.
Lacroix J. Op. cit. P. 10.
Gilson E. L'esprit de la philosophie
médiévale. P., 1932. Vol. 2. P. 12.
См.; Кессиди Φ. X. Сократ. С. 109—
112.
Там же. С. 113.
Асмус В. Ф. Античная философия.
М., 1976. С. 111.
Lacroix /. Op. cit. Р. lö—13.
См.: Нерсеянц В. С. Сократ. М., 1984.
С. 45.
См.: Толстых В. И. Сократ и мы. М.,
1981. С. 47. и след.
Цит. по: Moix С. La pensée
d'Emmanuel Mounier. P., 1960. P. 190.
Nedoncelle M. Conscience et Logos. P.,
1961. P. 110.
Маркс /(., Энгельс Φ. Соч. 2-е изд.
T. 42. С. 93.
Там же.
Croteau J. Les Fondements thomistes
du personnalisme de Maritain.
Ottawa, 1955. P. 33.
См.: Mounier E. Le personnalisme. P.,
1969. P. 39, 40.
См.: Nedoncelle M. La réciprocité des
consciences. P., 1963.
Roy J. Mounier aux prises avec son
siècle. P., 1972. P. 52.
См.: Подосинов A. В. К проблеме
сократовского диалога // Античная
культура и современна« наука. М.,
1985.
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд.
Т. 40. С. 57.
Mounier E. Introduction aux
existentialismes//Oeuvres. P., 1962. Vol. 3.
P. 159.
Mounier E. Manifeste au service du
personnalisme. P., 1936. P. 63.
Mounier E. Révolution personnaliste et
communautaire//Oeuvres. P., 1961.
Vol. 1. P. 177—178.
Mounier E. Introduction aux
existentialismes. P. 79.
Mounier E. Le personnalisme //
Oeuvres. Vol. 3. P. 433, 432.
Lacroix /. Op. cit. P. 8.
Ibid. P. 10, 11.
См.: Лосев Α. Φ. История античной
эстетики: Высокая классика. М., 1974.
С. 5-7.
См.: Богомолов А. С. Античная
философия. М., 1985. С. 175.
Цит. по: Майоров Г. Г.
Формирование средневековой философии. М.,
1982. С. 192.
См.: Там же. С. 195.
См.: Бычков В. В. Указ. соч. С. 32;
Майоров Г. Г. Указ. соч. С. 195—202.
Майоров Г. Г. Указ. соч. С. 208.
Mounier E. La petite peur du XX
siècle// Oeuvres. Vol. 3. P. 413—414.
Mounier E. Feu La Crétienté // Ibid.
P. 696.
Mounier E. Qu'est-ce que le
personnalisme? P., 1946. P. 10.
Ricoeur P. Meurt le personnalisme,
revient la personne // Esprit. 1983.
N 1.
5 См.: РадугинА. A. Персонализм и
католическое обновление. Воронеж,
1982.
7 Ricoeur P. Op. cit. Р. 116.
»Ibid. Р. 117.
6
1 Клевано в А. Обозрение философии
Сократа и Платона. М., 1891. С. 95.
2 Трубецкой С. Н. Курс истории
древней философии. М., 1915. Ч. 2. С. 10.
3 Эмерсон Р. Великие люди. СПб., 1904.
С. 36.
4 Льюис Дж. Г. История философии.
СПб., 1867. С. 205.
5 Аристотель. Физика. 209 b 12—17.
6 Аристотель. Метафизика. 1076 а.
7 Tigerstedt Ε. N. Interpreting Plato.
Stockholm, 1977. P. 74.
8 См.: Gaiser K. Piatons
Ungeschriebene Lehre. Stuttgart, 1963. S. 6.
9 Ibid.
232
10 Krämer H. J. Arete bei Platon und
Aristoteles. Heidelberg, 1959. S. 395.
" Ibid.
12 Ibid. S. 26.
13 Theodorakopoulos J. Die
Hauptprobleme der platonischen Philosophie. The
Hague, 1972. S. 77.
14 См.: Tigerstedt Ε. N. Op. cit. P. 74.
15 Ibid. P. 73.
16 Ibid. P. 139.
17 Theodorakopoulos J. Op. cit. S. 13.
18 Krämer H. J. Op. cit. S. 467.
19 Цит. по: Tigerstedt E. N. Op. cit.
P. 64.
20 Диоген Лаэртский. О жизни, учениях
и изречениях знаменитых философов.
М., 1979. С. 168.
21 Sprague R. К. Plato's Use of Fallacy.
L., 1962. P. XI.
22 Tigerstedt E. N. Op. cit. P. 23.
23 Gadamer H.-G. Dialogue and
dialectic. L., 1980. P. 5.
24 Ryle G. Plato's Progress. Cambridge,
1966. P. 10.
25 Gauss H. Philosophischer
Handkommentar zu den Dialogen Piatos. Bern,
1956. H. 2. S. 16.
26 Ibid. H. 1. S. 104.
27 Белох Ю. История Греции. M., 1905.
T. 2. С. 12.
28 Wolf H. M. Plato. Bern, 1957. P. 302.
29 Маркс К., Энгельс Φ. Соч. 2-е изд.
Т. 40. С. 116.
30 Friedländer P. Plato. Ν. Y., 1958.
P. 153.
31 Boder W. Die sokratische Ironie in den
platonischen Frudialogen.
Amsterdam, 1973. S. 221.
32 Tigerstedt E. N. Op. cit. P. 95.
33 Ibid. P. 75.
34 О концепции иносказания см.:
Геворкян А. Т. Иносказание в «Теэтете»
Платона // Вопр. философии. 1985.
№ 1; Ом же. Идеализм в «Софисте»
Платона//Там же. 1986. № 11.
35 Gaiser К. Op. cit. S. 4.
36 Wolf H. M. Plato. P. 267.
37 Shorey P. What Plato said. Chicago,
1933. P. 355.
38 O'Brien M. J. The Socratic Paradoxes
and the Greek Mind. Chapel Hill, 1967.
P. 14.
39 Ballard. Socratic Ignorance. The
Hague, 1965. P. 2.
40 O'Brien M. J. Op. cit. P. 16.
41 Ballard. Op. cit. P. 2.
42 Runciman. Plato's later Epistemology.
Cambridge, 1962. P. 54.
43 Ibid. P. 5.
44 О концепции знания см.:
Геворкян А. Т. Иносказание в «Теэтете»
Платона.
45 Huber С. Anamnesis bei Plato.
München, 1964. P. 123.
46 Findlay J. N. Plato: The written and
unwritten doctrines. L., 1974. P. IX.
47 Ibid. P. 122.
48 Wolf Η. M. Plato. P. 304.
49 Vlastos G. Platonic studies. Princeton,
1973. P. 405.
50 Gadamer H.-G. Idee und Wirklichkeit
in Platos Timaios. Heidelberg, 1974.
S. 5.
51 Field G. C. The Philosophy of Plato.
L. etc., 1969. P. 141.
52 Ibid. P. 137.
53 Gaiser K. Protreptik und Paränese bei
Platon. S. 227.
54 Виндельбанд В. Платон. СПб., 1904.
С. 40.
55 Там же. С. 2.
56 Cross R. G. Logos and forms in
Plato // Studies in Plato's metaphysics.
L., 1965. P. 17.
57 Дрэпер Д. В. История умственного
развития Европы. СПб., 1901. С. 143.
58 Findlay J. N. Op. cit. P. 29.
1 Лосев A. Ф. Историяг античной
эстетики: Аристотель и поздняя классика.
М., 1975. С. 609.
2 Джохадзе Д. В. Диалектика
Аристотеля. М., 1971. С. 157.
3 Аристотель. Соч.: В 4 т. М., 1976.
Т. 1. С. 394.
4 См.: Аристотель. Этика. СПб., 1908.
С. 198.
5 Там же. С. 22.
6 Maritain J. Court traité de l'existence
et l'existant. P., 1964. P. 72—73.
7 Gilson E. Le Thomisme. P., 1948. P. 52.
8 См.: Lôwith K. Nature, History and
Existentialism. Evanston, 1966.
P. 42—43.
9 Basic Writings of St. Thomas Aquinas.
Ν. Y., 1945. Vol. 1. P. 430.
10 См.: Copleston F. С. Aquinas. L., 1957.
P. 153. Φ. Коплстон специально
подчеркивает, что ранний Аристотель
разделял платоновский подход к
анализу специфики человеческого бытия
и лишь позднее преодолевает его
(Ibid. Р. 151). Аквинатже, с его точки
зрения, всегда был противником
платонизма и развивает в рамках
христианской традиции прогрессивные
положения антропологии Стагирита.
" Ibid. Р. 155.
12 Соколов В. В. Средневековая
философия. М., 1979. С. 365.
13 Basic Writings of St. Thomas Aquinas.
Vol. 1. P. 706.
233
14 Ibid.
15 См.: Боргош Ю. Фома Аквинский. М.,
1966. С. 122—126.
16 Copleston F. Op. cit. P. 167.
17 Basic Writings of St. Thomas Aquinas.
Ν. Y., 1945. Vol. 2. P. 774.
18 Copleston F. Op. cit. P. 228.
19 Basic Writings of St. Thomas Aquinas.
Vol. 2. P. 431—436.
20 См.: Кузьмина Т. А. Проблема
субъекта в современной буржуазной
философии. М., 1979. С. 3—26.
21 Maritain У. Religion et culture //
Oeuvres (1912—1939). P., 1975.
P. 555.
22 Григорьян Б. T. Философская
антропология. M., 1982. С. 121.
23 Dilthey W. Gesammelte Schriften.
Leipzig; В., 1927. Bd. VII. S. 285.
24 См.: Ranner К. Geist im Welt: Zur
Metaphysik der endlichen Erkenntnis
bei Thomas von Aquin. München.
1957. S. 14.
25 См.: Lotz J.-B. Sein und Existenz.
Freiburg im Breisgau, 1965. S. 314.
26 См.: Muller M. Der Kompromiß oder
vom Unsinn und Sinn menschlichen
Lebens. Freiburg; München, 1980.
S. 94.
27 См.: Coreth E. Metaphysik. Innsbruck
etc., 1961. S. 76.
28 Wojtyla K. The Acting Person.
Dordrecht etc., 1979. P. XIV.
29 Müller M. Philosophische Antropolo-
gie. Freiburg; München, 1974. S. 17.
30 Müller M. Der Kompromiß... S. 32—
33.
31 Ranner /(., Weger /(.-//. Our
Christian Faith: Answers for the Future.
Ν. Y., 1981. P. 57.
32 См.: Гараджа В. И. Трансценденция
и история — диалог христианской
философии с современностью //
Новейшие течения и проблемы
философии в ФРГ. М., 1978. С. 361.
33 Heidegger M. Sein und Zeit //
Gesamtausgabe. Frankfurt a. M., 1977. Bd. 2.
S. 79.
34 См.: Gadamer H.-G. Wahrheit und
Methode: Grundzuge einer
philosophischen Hermeneutik. Tübingen, I960.
S. 419.
35 Coreth ß. Was ist der Mensch?
Gründzuge einer philosophischen
Anthropologie. Innsbruck etc., 1976.
S. 55.
36 Müller M. Philosophische
Anthropologie. S. 42.
37 Hengstenberg H.-E. Mensch und
Materie. Stuttgart etc., 1965. S. 62.
38 См.: Die Frage nach dem Menschen /
Hrsg. H. Rombach. München, 1966.
39 Plessner H. Die Stufen des
Organischen und der Mensch. В.; Leipzig,
1928. S. 341.
40 Coreth E. Was ist der Mensch? S. 77.
41 Müller M. Philosophische
Anthropologie. S. 183—185.
42 Маркс К., Энгельс Φ. Соч. 2-е изд.
T. I. С. 414.
43 Coreth Ε. Was ist der Mensch? S. 44.
44 Wojtyla К. Op. cit. P. 267.
45 См.: Гайденко П. П. Проблема интен-
циональности у Гуссерля и
экзистенциалистская категория трансценден-
ции // Современный
экзистенциализм. М., 1966. С. 106.
46 Coreth Ε. Was ist der Mensch? S. 136.
47 См.: Hengstenberg H.-E. Op. cit.
S. 156; Muller M. Philosophische
Anthropologie. S. 106.
48 См.: Wojtyla K. Op. cit. P. 155—156.
8
1 Сеа Л. Философия американской
истории: Судьбы Латинской Америки.
М., 1984. С. 29. Термин «Запад»
употребляется автором в данном случае
не в географическом, а в историко-
культурном смысле, обозначая
страны Западной Европы и США. В том
же значении этот термин
используется и в работах других
латиноамериканских философов.
2 Там же. С. 32.
3 Abdel-Malek A. La dialéctica social.
Mexico, 1975. P. 80.
4 Сеа Л. Указ. соч. С. 31.
5 Там же. С. 126.
6 Там же. С. 36.
7 Hacia una filosofia de la liberacion
latinoamericana. Buenos Aires, 1973.
P. 144.
8 Ibid.
9 Ibid. P. 149.
10 Ibid.
11 Dussel E. Para una ética de la
liberacion latinoamericana. Buenos Aires,
1973. T. 1. P. 12.
12 Dussel E., Guillot D. Liberacion
latinoamericana y Emmanuel Levinas.
Buenos Aires, 1975. P. 17.
13 Выступая с критикой античной и
гегелевской диалектики и пытаясь
превзойти ее с позиций концепции
«Другого», Дуссель, однако, испытывает
явный недостаток в содержательных
категориях. Категориальный дефицит
он пытается преодолеть путем
модификации используемых понятий.
Противоположности внутри большого
234
«Тождества» — «тождественное»
и «другое» обозначаются им в
среднем роде и с прописной буквы (Ιο
mismo и lo otro), а «Тождество»
в целом и находящийся вне его
«Другой» — с заглавной буквы (lo Mismo)
и в мужском роде (el Otro).
14 Dussel £., Guillot D. Op. cit. P. 18.
15 Dussel Ε. Introduccion a una filosofia
de la liberacion latinoamericana.
Mexico, 1977. P. 88.
16 Ibid. P. 89.
17 Маркс К., Энгельс Φ. Соч. 2-е изд.
T. 21. С. 74—85.
18 Dussel Ε. Teologia de la liberacion
y ética. Buenos Aires, 1974. P. 199.
19 Ibid.
20 Dussel Ε. Introduccion a una
filosofia... P. 89.
21 Dussel £., Guillot D. Op. cit. P. 32.
22 Dussel Ε. Introduccion a una
filosofia... P. 90.
23 Dussel Ε. America Latina: Dependen-
cia y liberacion. Buenos Aires, 1973.
Ρ 95.
24 Dussel £., Guillot D. Op. cit. P. 18.
25 Dussel Ε. Introduccion a una
filosofia... P. 91.
26 Ibid. P. 96—97.
27 Dussel £., Guillot D. Op. cit. P. 15.
ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Изучение древнего и античного культурного наследия всегда
носило и носит междисциплинарный и комплексный характер, так
как кроме узких специалистов-классиков к нему обращаются
представители разных наук. Результаты их творческих изысканий,
можно сказать, характеризуют то единое и многогранное историко-
культурное научное направление, которое называется антиковеде-
нием. Философское же антиковедение — это одно из важнейших и
притом самых насыщенных направлений всемирной истории
философии. В этом плане особенно выделяется немарксистская
историография античной философии, преимущественно европейской,
которая характеризуется чрезвычайно скрупулезной
исследовательской направленностью и которая должна составлять
самостоятельную область отечественного философского антиковедения,
объектом изучения которого выступает не только и, мы бы сказали,
не столько изучение процесса исторического развития
философского антиковедения, сколько сама историко-философская мысль,
познающая античность.
Авторы предлагаемой книги исследуют некоторые проблемы
отечественного и в основном зарубежного философского
антиковедения. В основу структуры труда положен
проблемно-тематический принцип, в соответствии с которым отдельные разделы
сгруппированы в несколько относительно самостоятельных, но по
замыслу тесно связанных между собой глав исследовательского
материала. В них на основе богатых фактических данных и
теоретических обобщений прослеживаются некоторые характерные
черты и тенденции немарксистского философского антиковедения,
то ценное, что оно дало для проблемного освоения античного
философского наследия.
Исследование данной комплексной темы показывает, что
отечественное и зарубежное философское антиковедение в системе
философских наук является одной из самостоятельных, хотя и слабо
изученных, дисциплин, и как особая философская, в подлинном
смысле этого слова, отрасль оно имеет свой предмет исследования,
свои источники и свою целевую направленность. Изучение
богатого мирового антиковедческого опыта, в ряде случаев его
непредвзятая научная критика, как показывает уже проведенная
авторским коллективом работа, открывает новое перспективное
направление в отечественном антиковедении.
Широкая увлеченность античной культурой вообще, разнооб-
236
разные подходы к ней и интерпретации, расширение круга
изучаемых в этой области проблем, растущая специализация,
совершенствование исследовательской техники, укрепление
организационных основ, расширение издательского дела, создание
разнообразных антиковедческих обществ, в том числе международных и
т. д., характерные для мирового, главным образом
немарксистского, антиковедения,— должно быть для нас предметом
пристального внимания и положительного восприятия.
Авторский коллектив отдает себе отчет в том, что одним из
главных итогов мирового философского антиковедения является не
только сам факт разного рода трактовок и интерпретаций
античного философского наследия, но более ясное представление их
социокультурного и гуманистического значения, так как они
играли также большую роль в распространении гуманистических и
общечеловеческих начал, в сближении народов, в выработке
цивилизованных норм взаимоотношений.
Авторский коллектив преследует также цель апробировать
отдельные вспомогательные материлы, используемые им для
написания институтского международного коллективного труда,
подготавливаемого ныне специалистами из ряда стран, как европейских,
так и азиатских, а также союзных республик. Таким образом,
планируется разработка этой многогранной темы и выпуск трудов в
виде нескольких самостоятельных книг.
ОГЛАВЛЕНИЕ
58
Предисловие 3
Глава первая
ГЕНЕЗИС АНТИЧНОЙ ФИЛОСОФИИ
1. Кулиев Г. Г., Курбанов Р. О. Анализ некоторых концепций
генезиса античной философии ... 5
2. Драч Г. В., Чермантеева Т. С. Теологические концепции
происхождения античной философии .... 15
3. Семушкин А. В. К оценке антиковедческой теории Е. Р. Доддса 30
Глава вторая
ДИАЛЕКТИКА И ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ
1. Мудрагей Н. С. Платон: рациональное — иррациональное 46
2. Михаленко Ю. П. Античные учения об индукции и их современные
интерпретации
3. Джохадзе Д. В. Современные интерпретации аристотелевского
понимания диалектики 75
4. Луканин Р. К. Категории Аристотеля в истолковании
западноевропейских философов 84
Глава третья
ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, КУЛЬТУРА
1. Лазарев В. В. Шеллинг и античная трагедия 104
2. Габитова Р. М. Античность в просветительской и романтической
философии культуры 130
3. Мочкин А. Н. Лабиринт европейской метафизики и волшебная
гора эллинизма в интерпретации Ницше 146
4. Антипенко 3. Г. Проблема Сократа у Ницше 156
5. Вдовина И. С. Сократовское учение о человеке в интерпретации
французского персонализма .163
6. Геворкян А. Т. Анализ философских реконструкций устных учений
Платона 179
7. Губман Б. Л. Аристотель и современный неотомизм: две
концепции человеческого бытия ... 194
8. Деменчонок Э. В. Античность и латиноамериканская «философия
освобождения» .210
Вместо заключения 236
Зарубежное философское антиковедение: Критический ана-
3 35 лиз / А. В. Семушкин, Р. О. Курбанов, Г. В. Драч и др.— М.:
Наука, 1990.—с. 240.
ISBN 5-02-008066-7
В книге предпринимается, по существу, первая в советской литературе
попытка критически проанализировать некоторые зарубежные концепции
истории античной философии. Авторы стремятся показать характерные
черты и особенности идеалистического понимания античной философии,
диалектики и теории познания.
Для специалистов в области философии, преподавателей вузов.
э 0301040300—182 - 1ÛÛA .
3 Е42(02)-90 4~1990' ' полУгоДие
ББК 87.3
Научное издание
Зарубежное
философское
АНТИКОВЕДЕНИЕ:
Критический анализ
Утверждено к печати
Институтом философии
АН СССР
Редактор издательства
В. П. Лега
Художник
И. В. Монастырская
Художественный редактор
М. Л. Храмцов
Технический редактор
Ю. В. Серебрякова
Корректоры
Т. М. Ефимова, Р. В. Молоканова
ИБ № 46130
Сдано в набор 2.04.90
Подписано к печати 1.06.90
Формат 60X90'/i6
Бумага офсетная № 1
Гарнитура литературная
Печать офсетная
Усл. печ. л. 15 Усл. кр. отт. 15. Уч.-изд. л. 18.
Тираж 1500 экз. Тип. зак. 4330
Цена 3 р. 90 к.
Ордена Трудового Красного Знамени
издательство «Наука»
117864 ГСП-7, Москва В-485
Профсоюзная ул., 90
2-я типография издательства «Наука»
121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 6