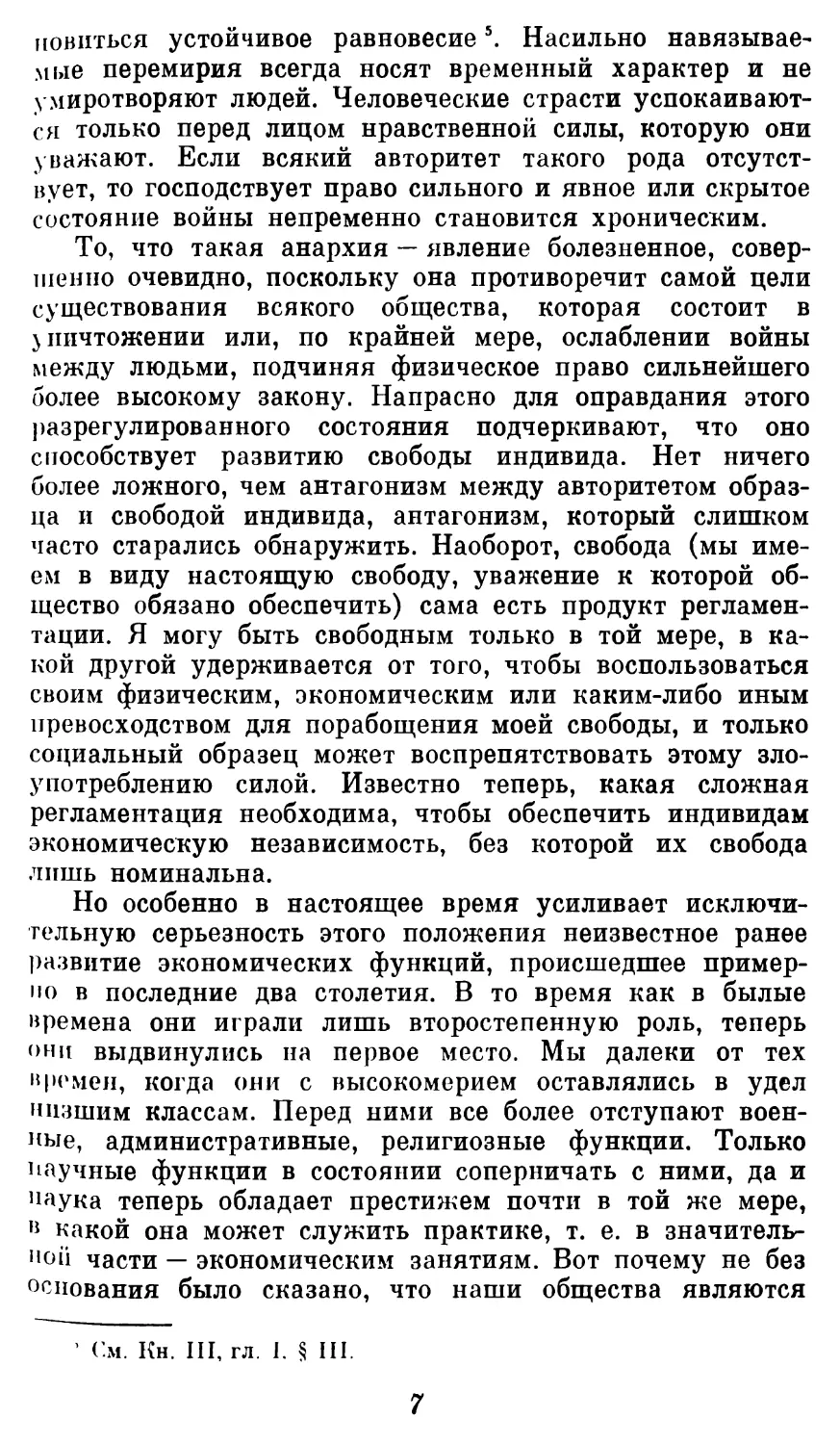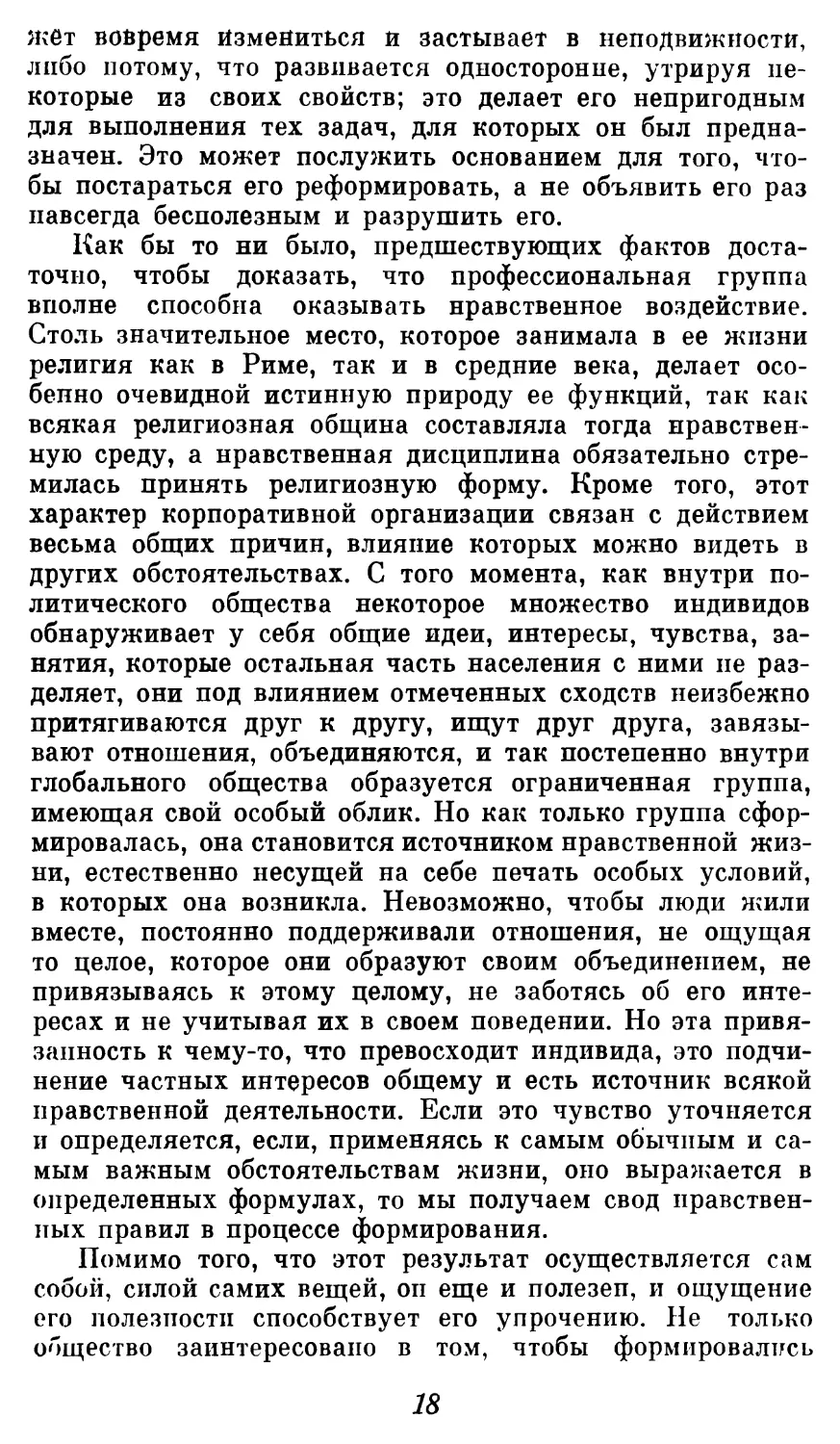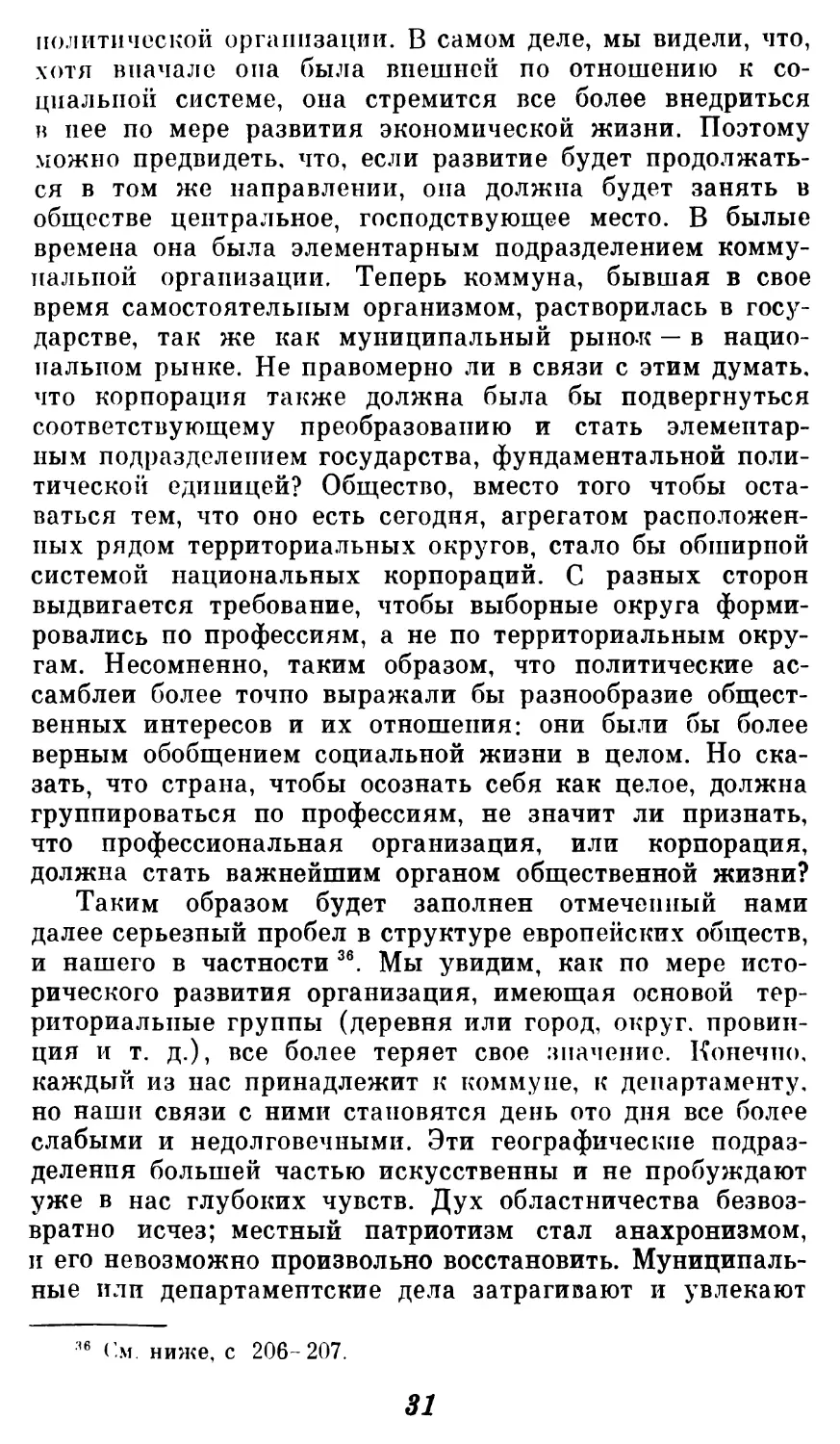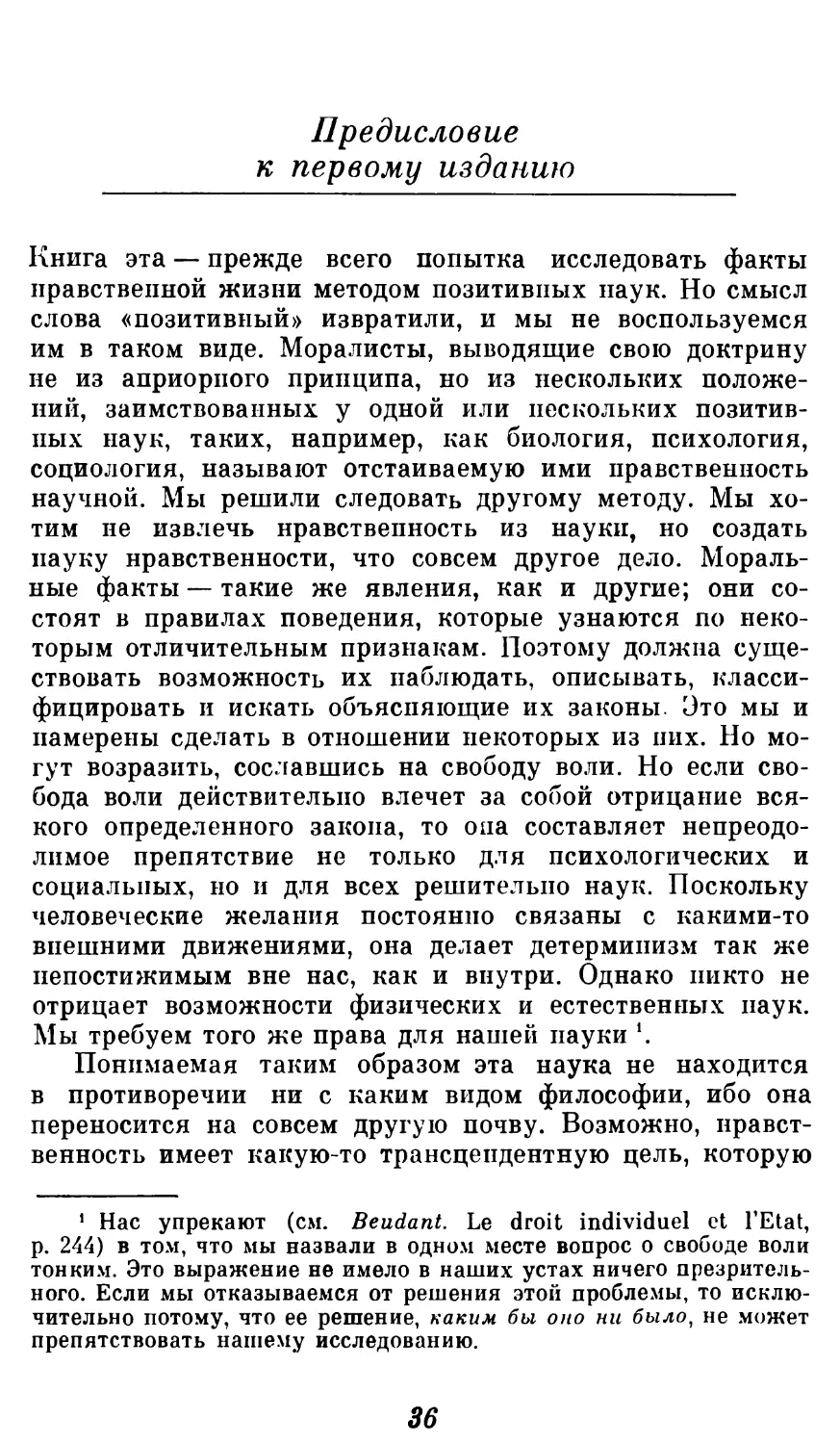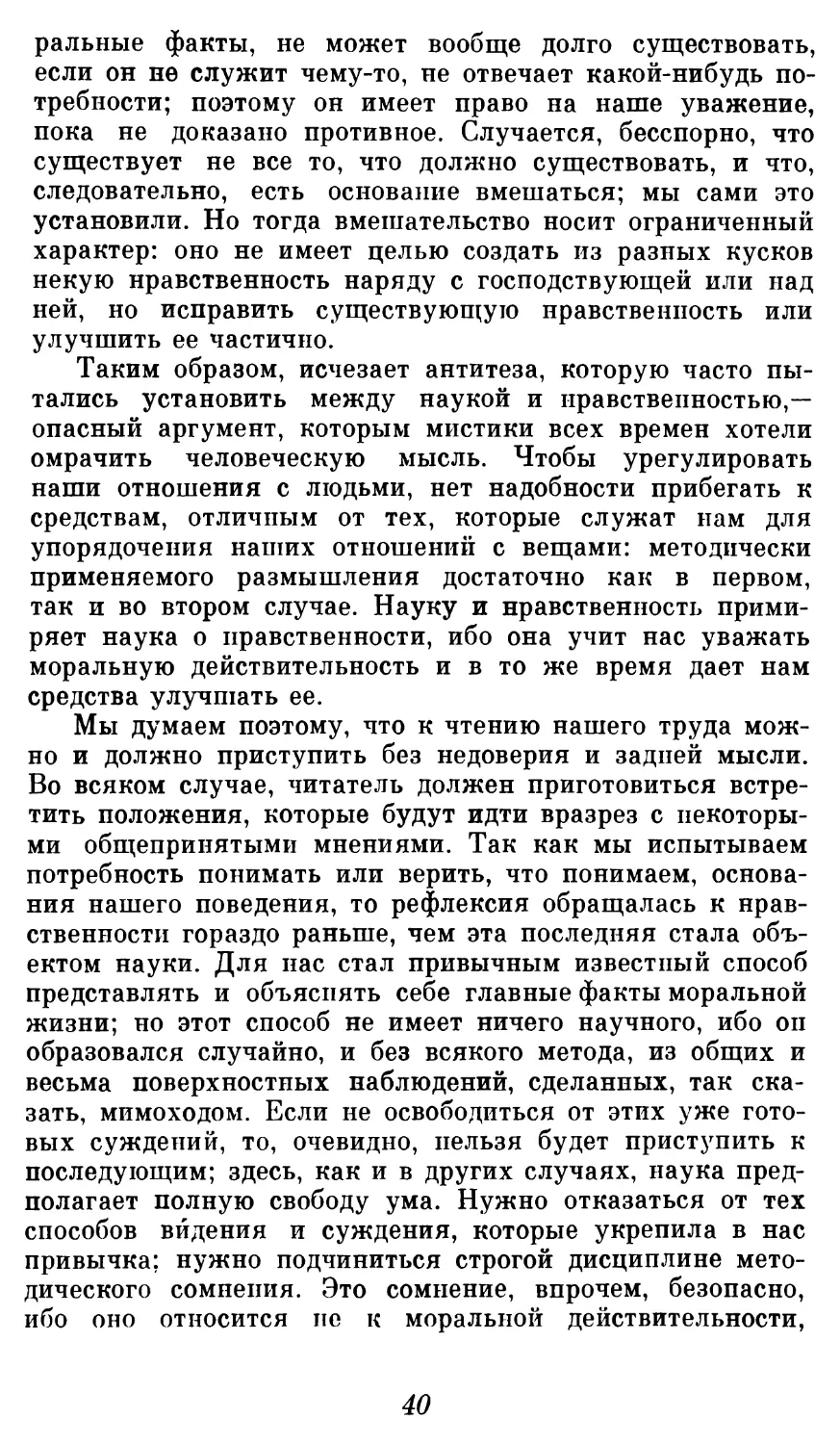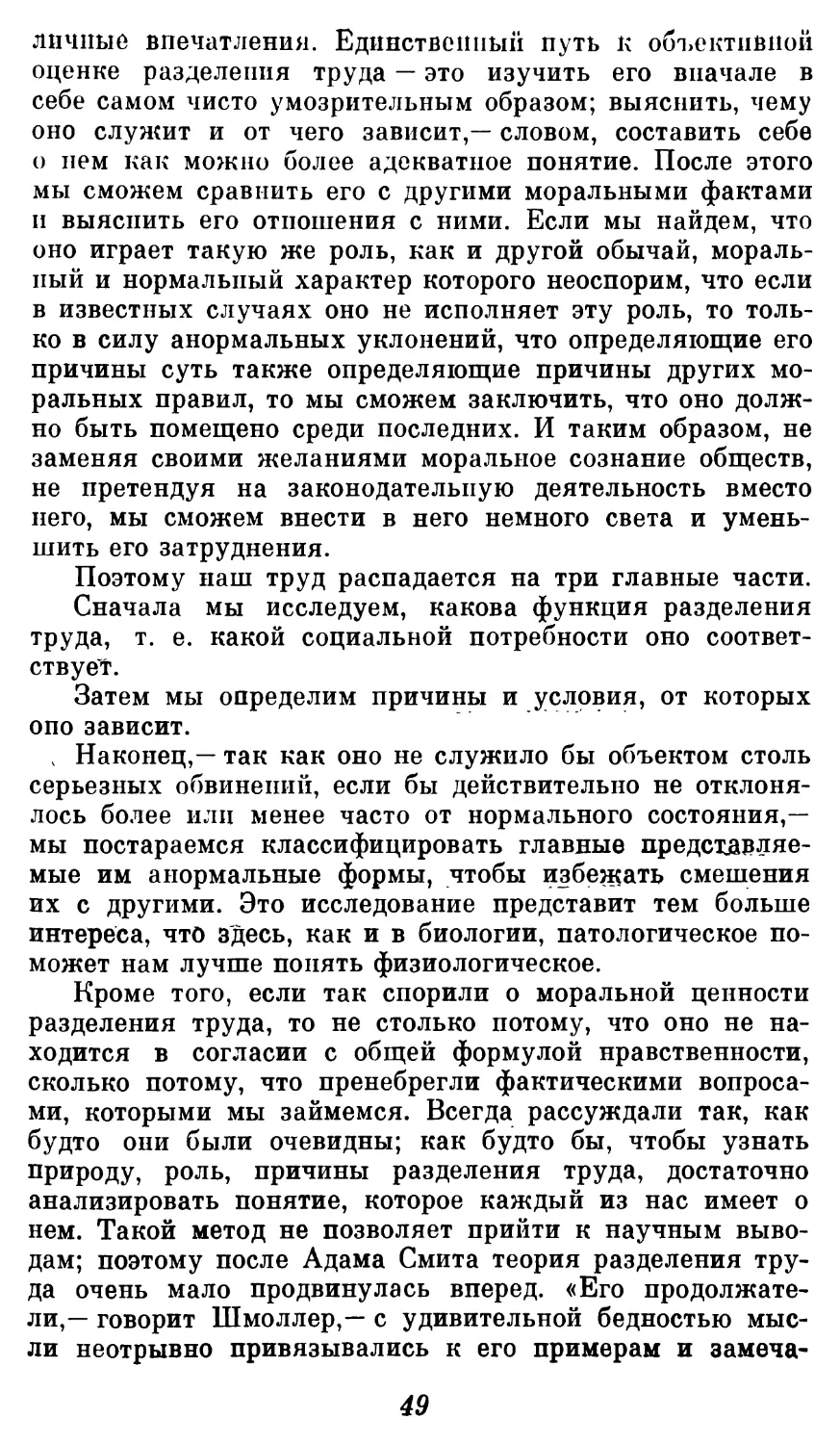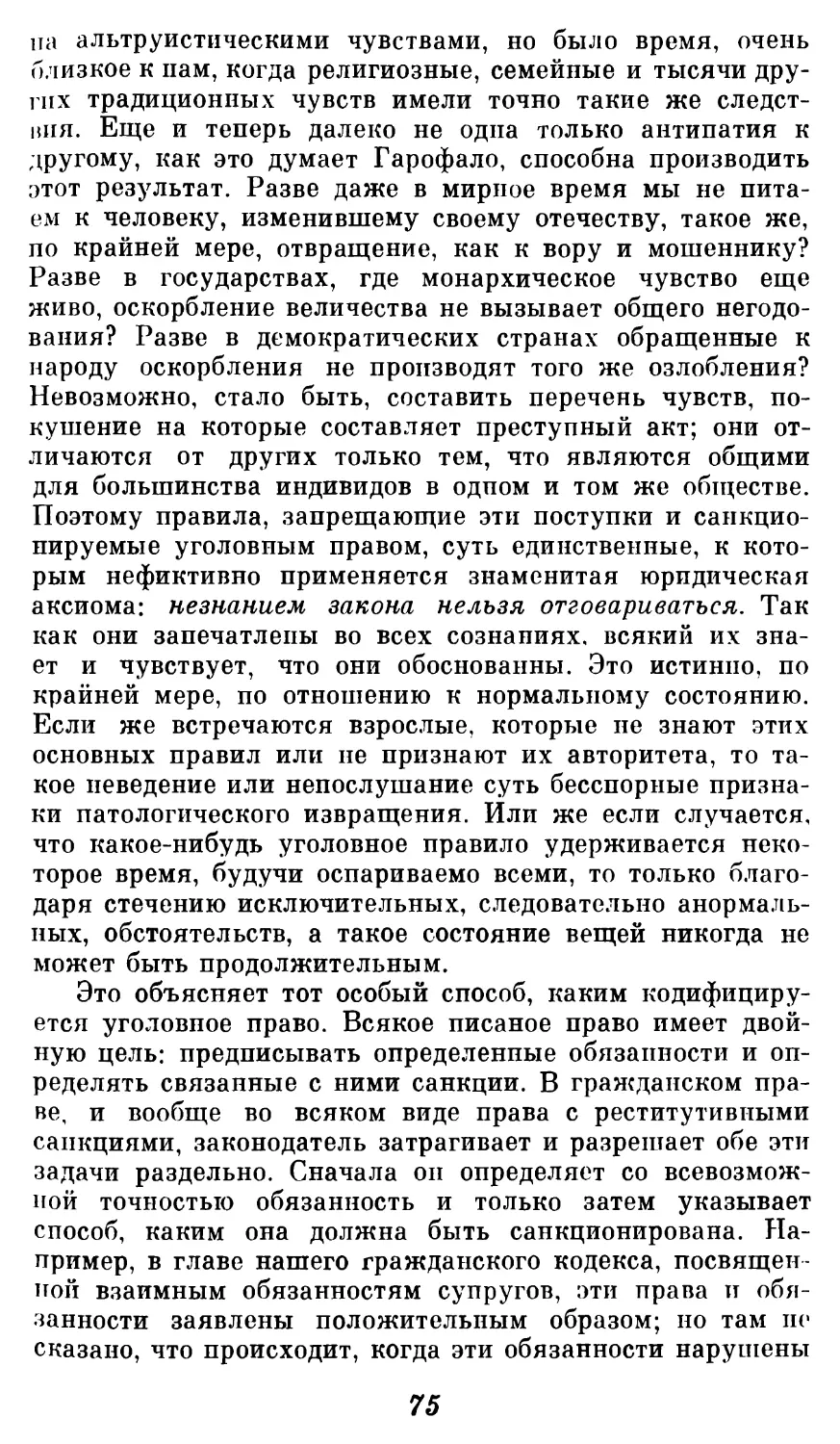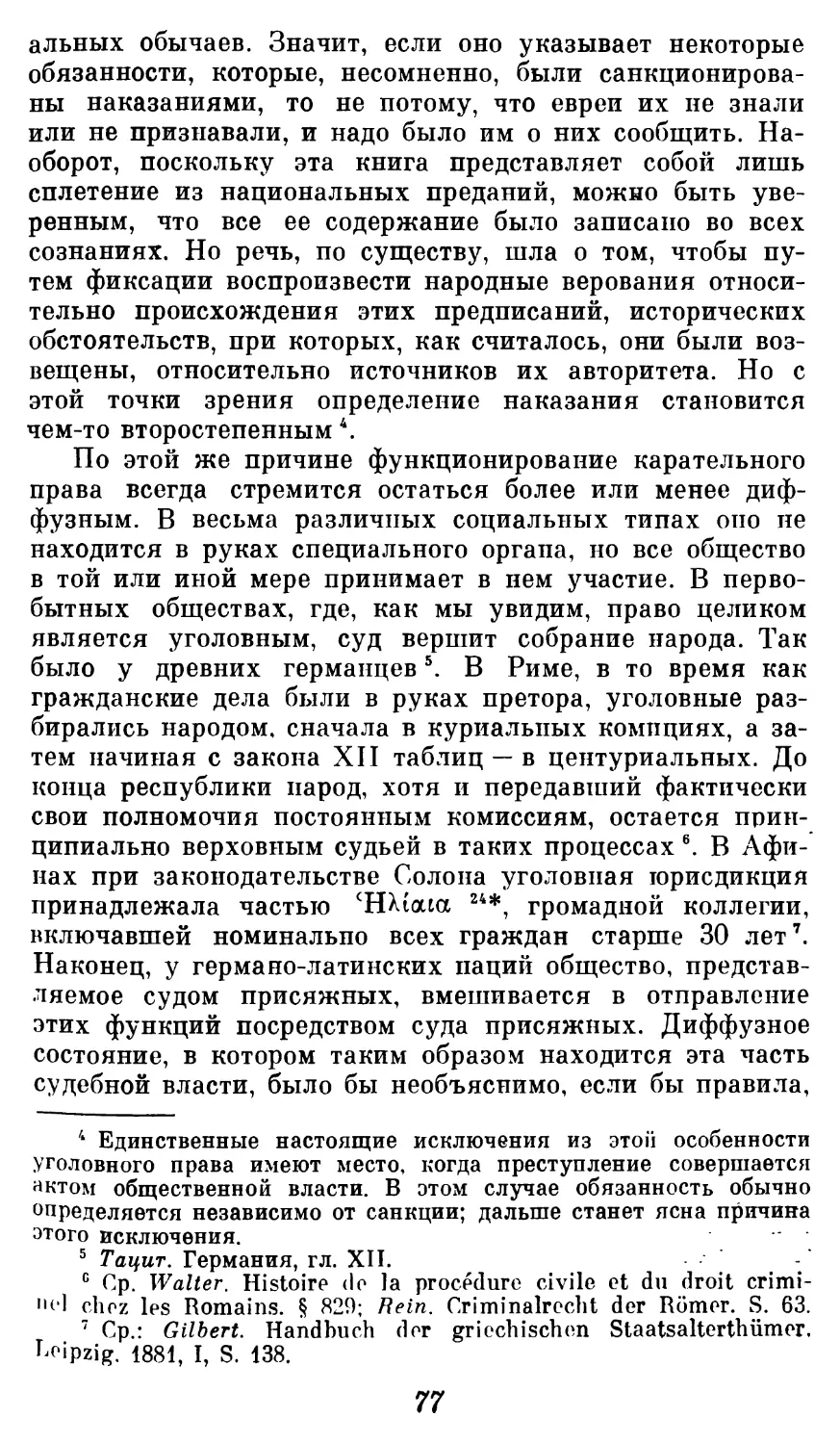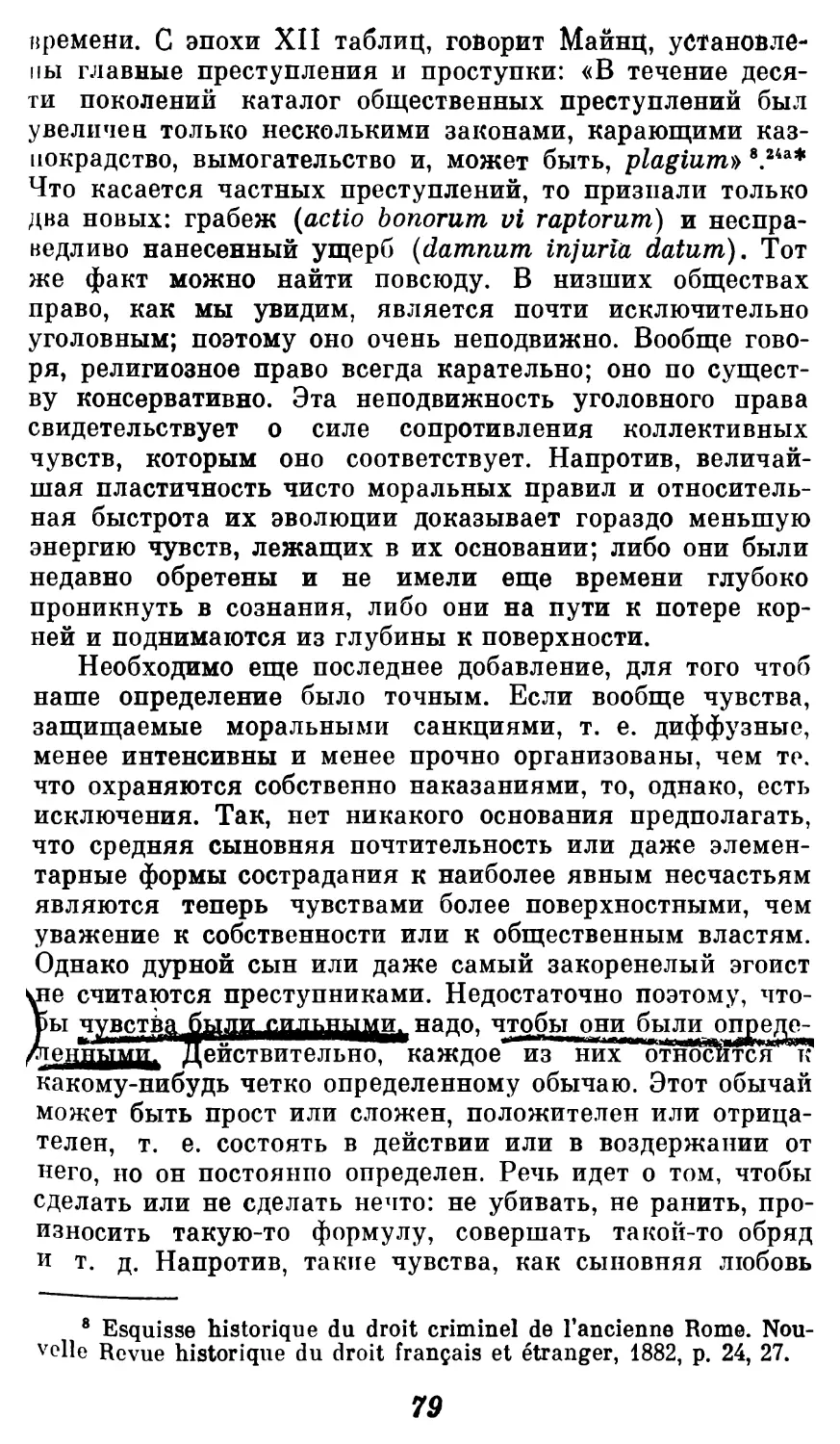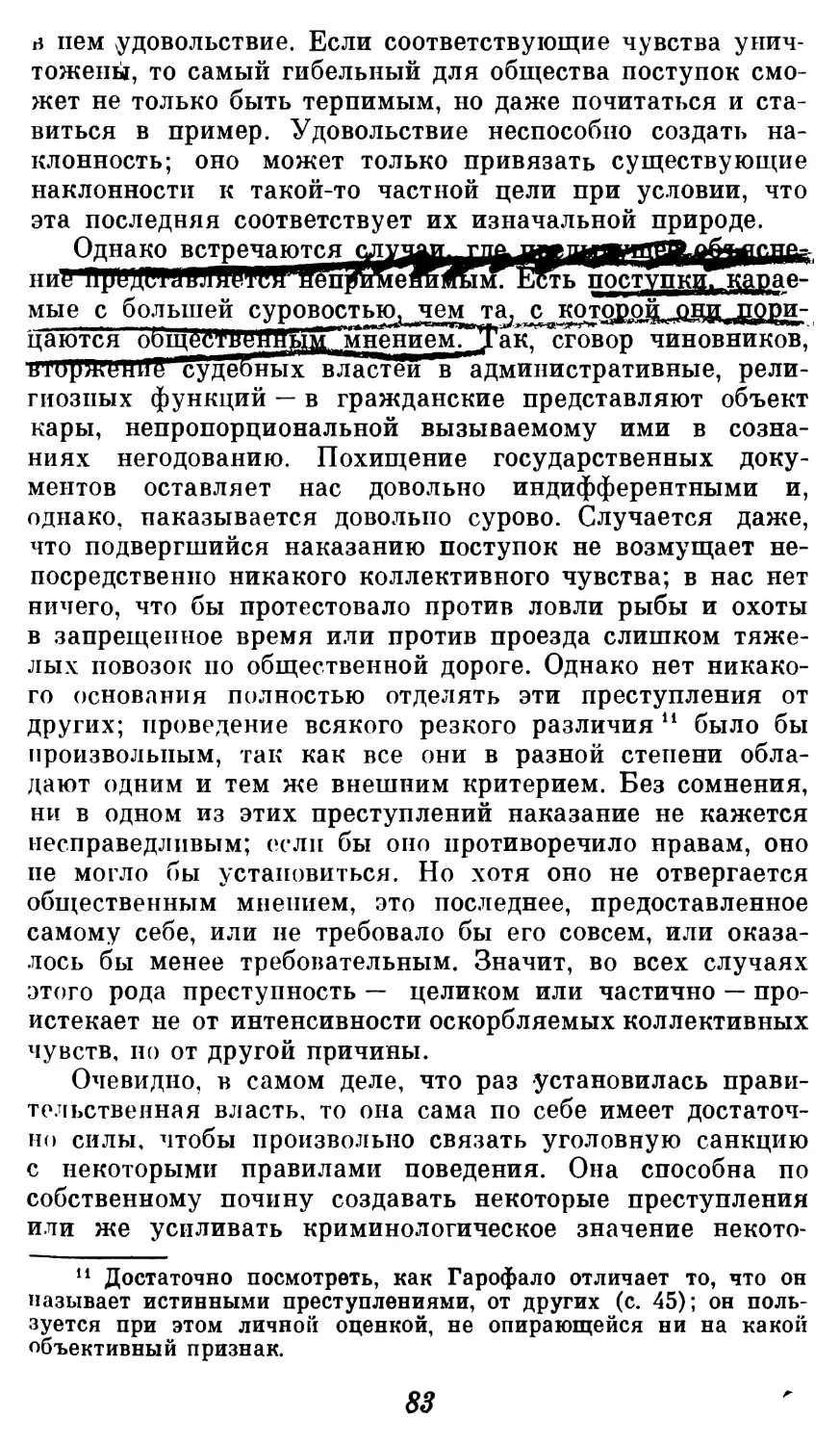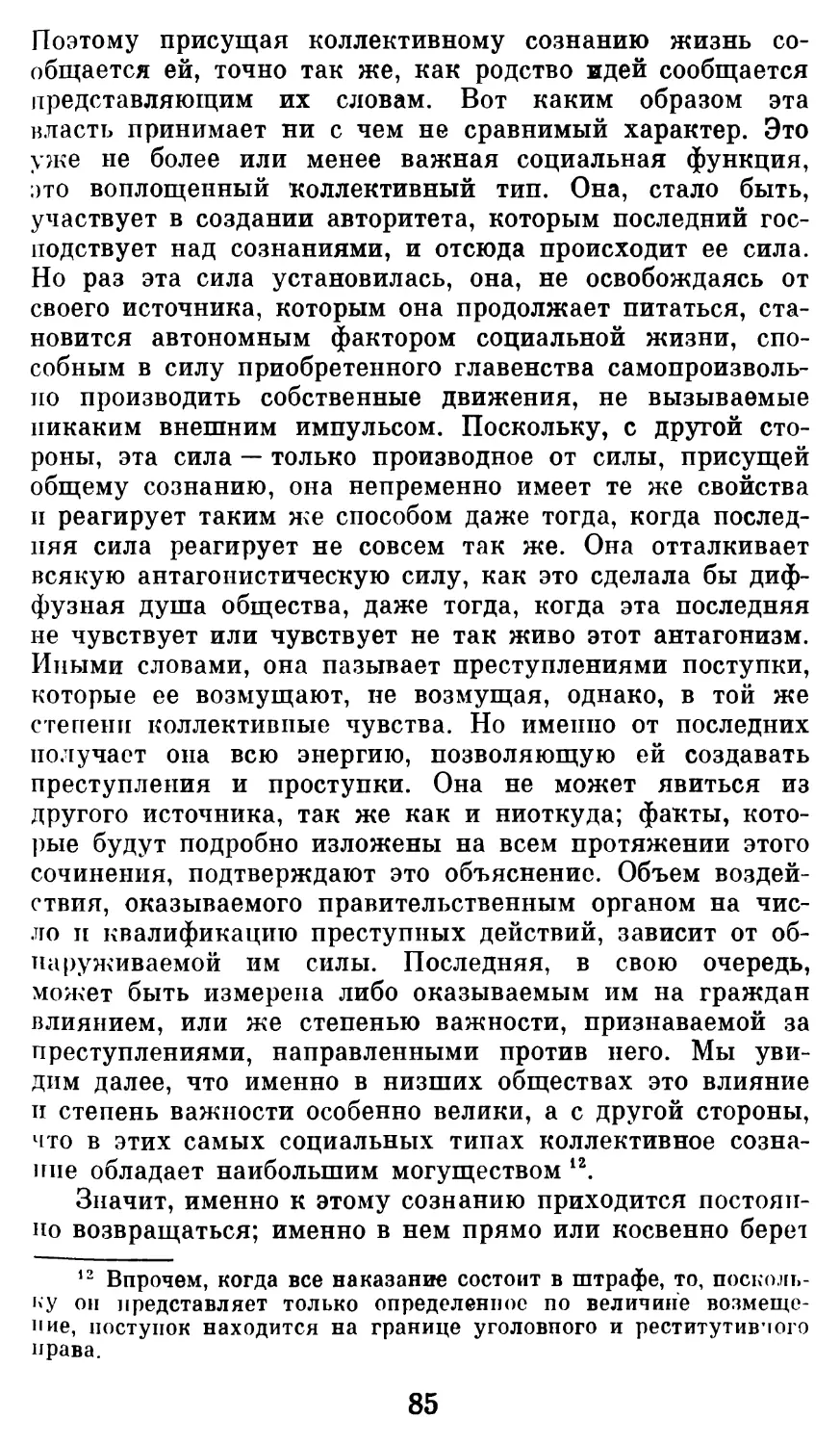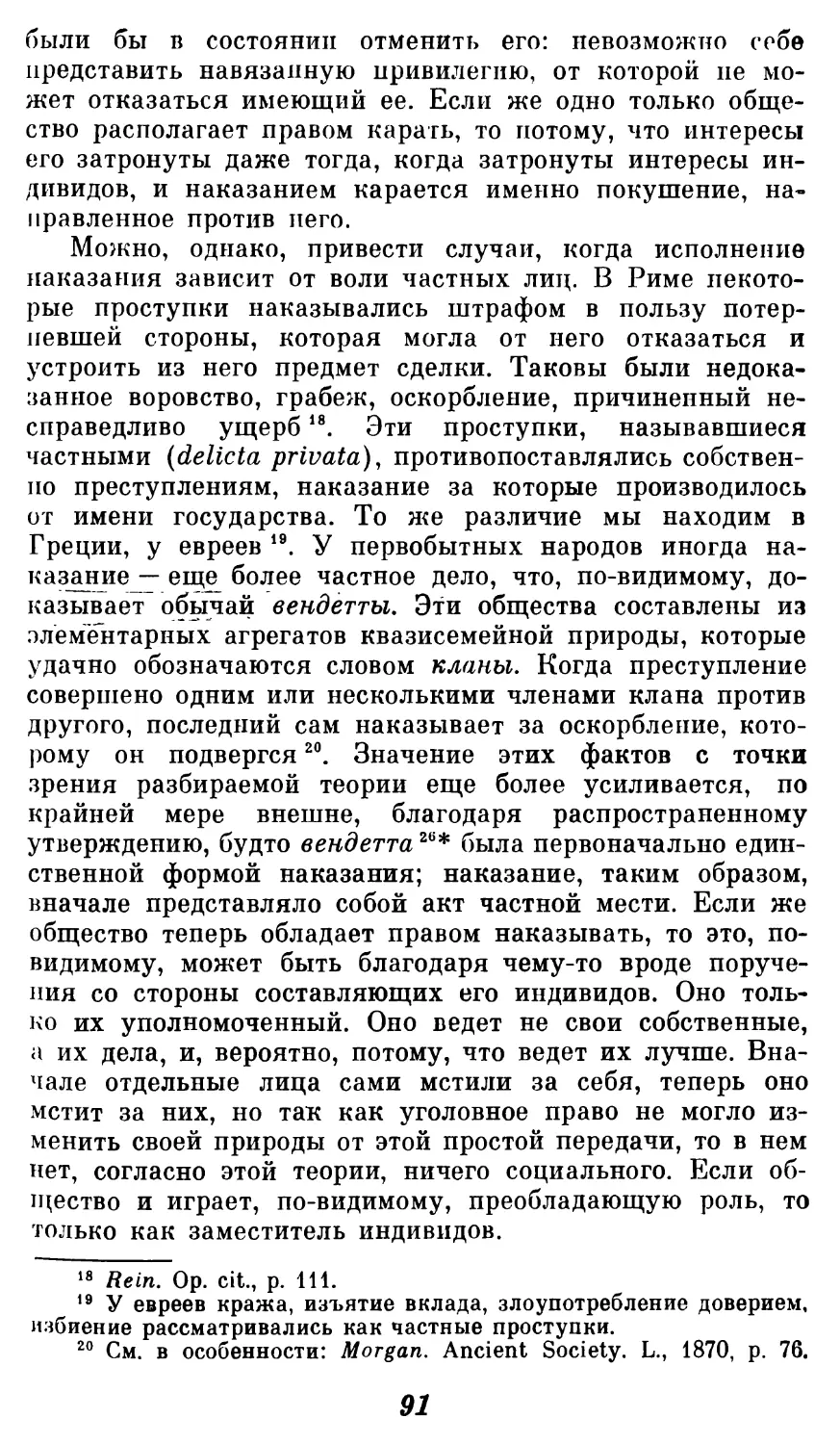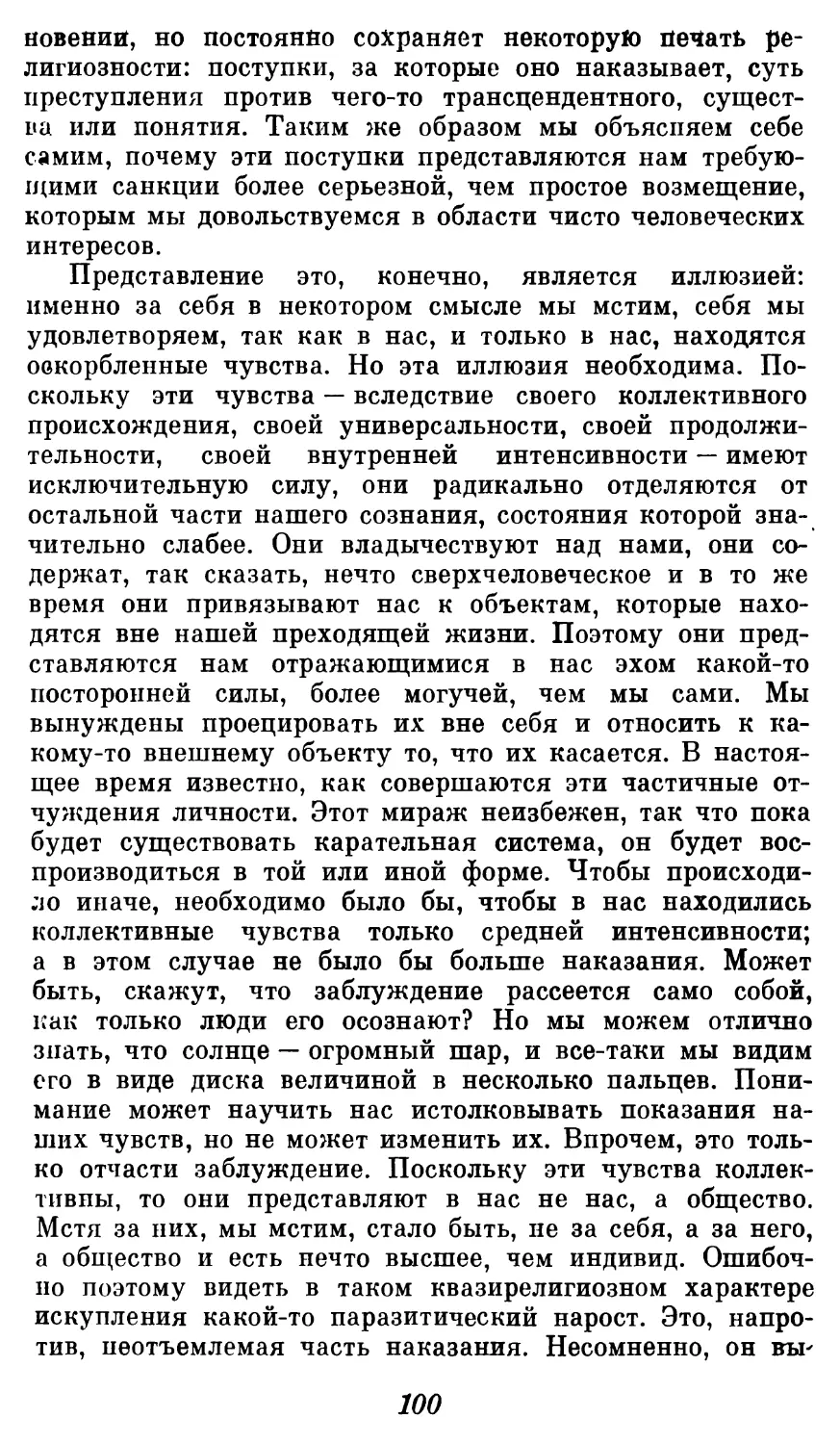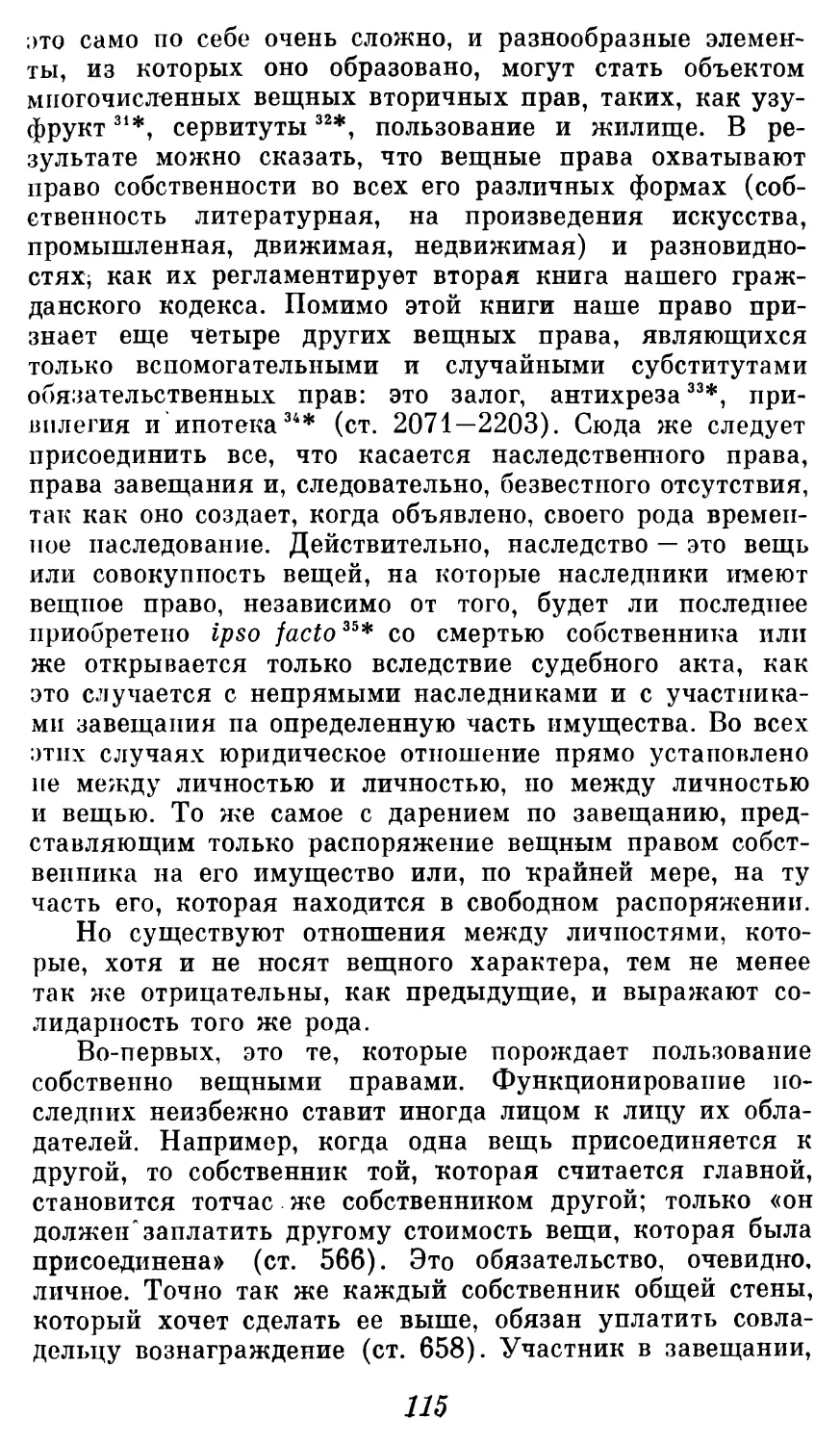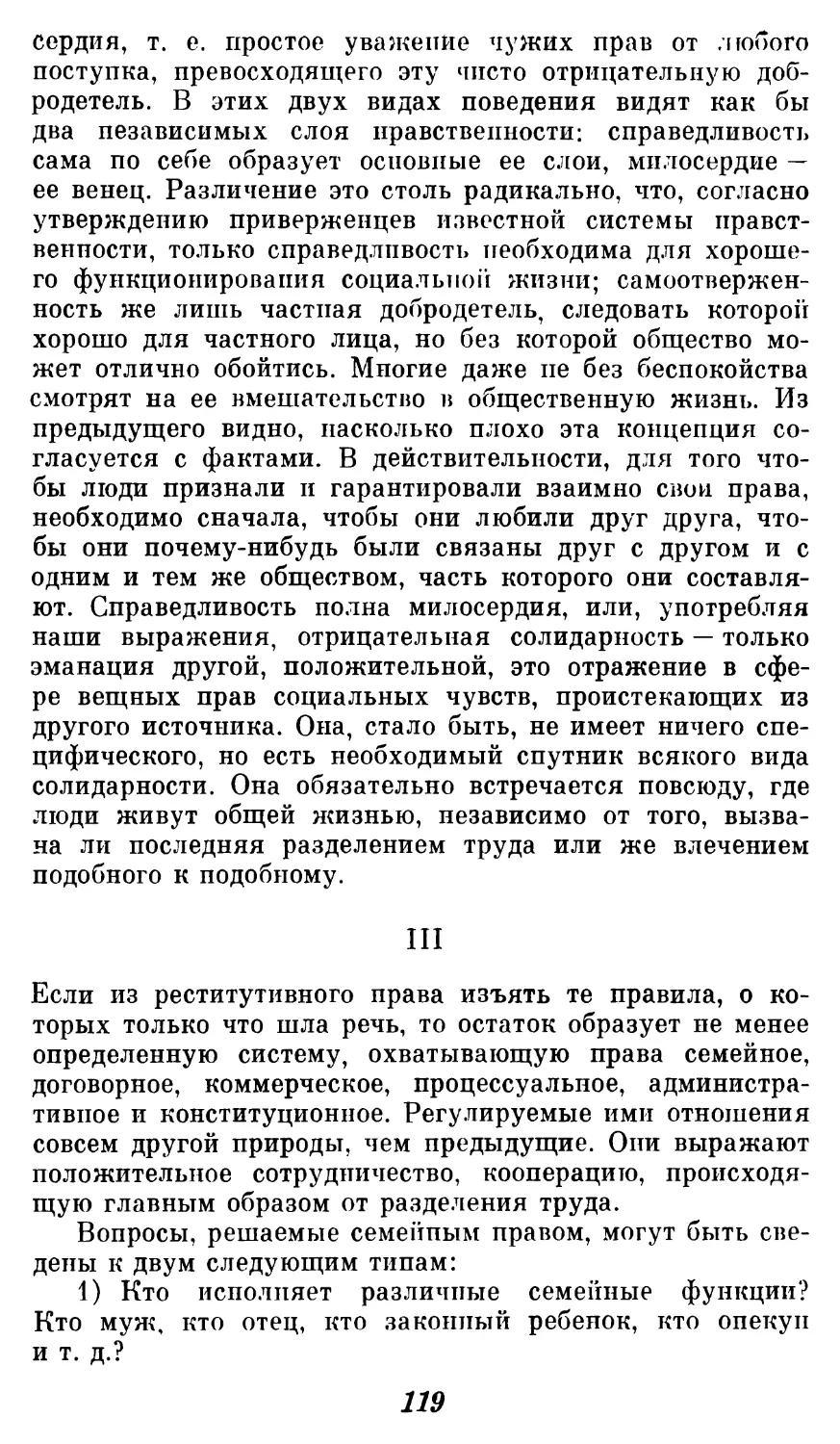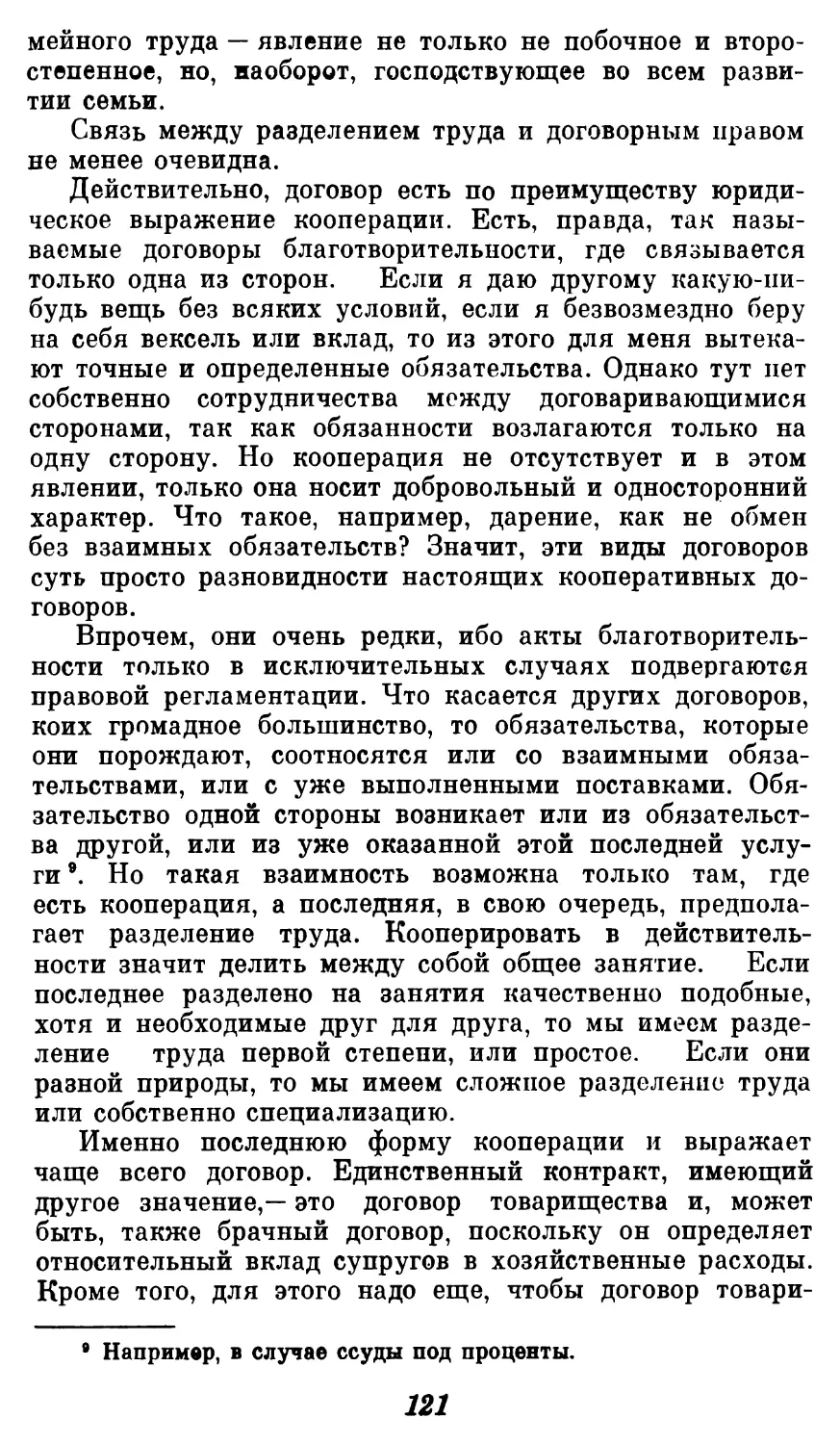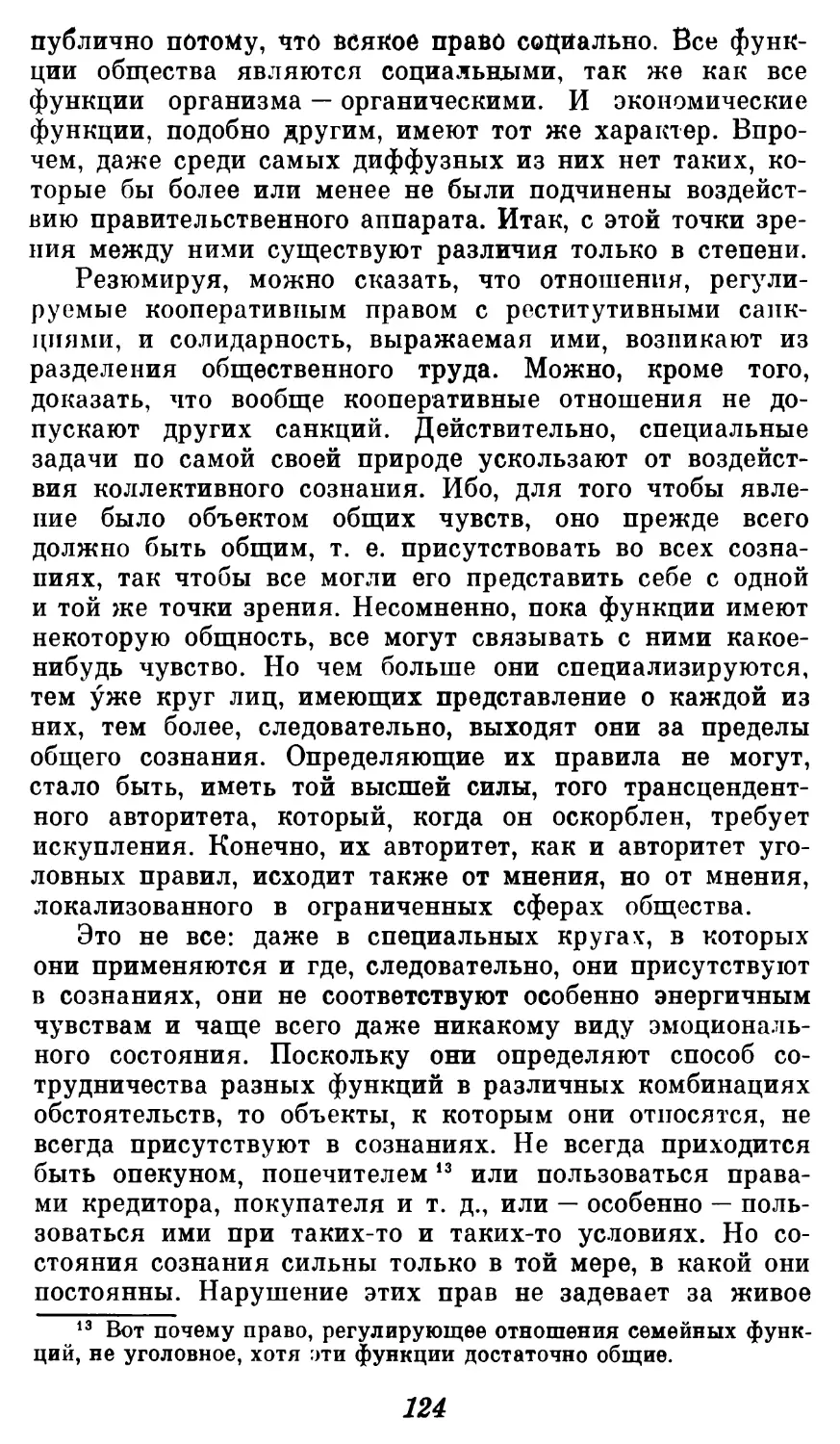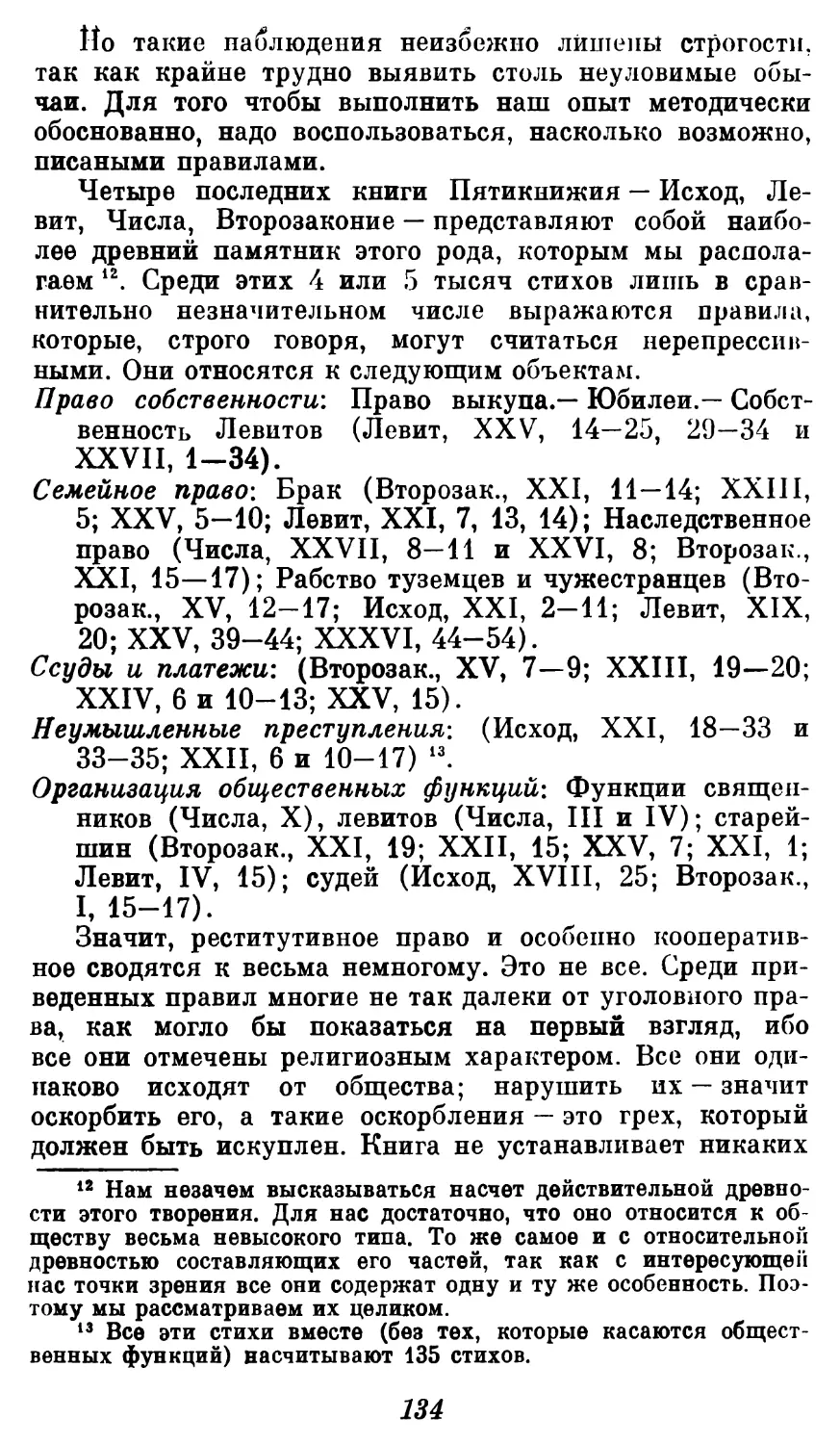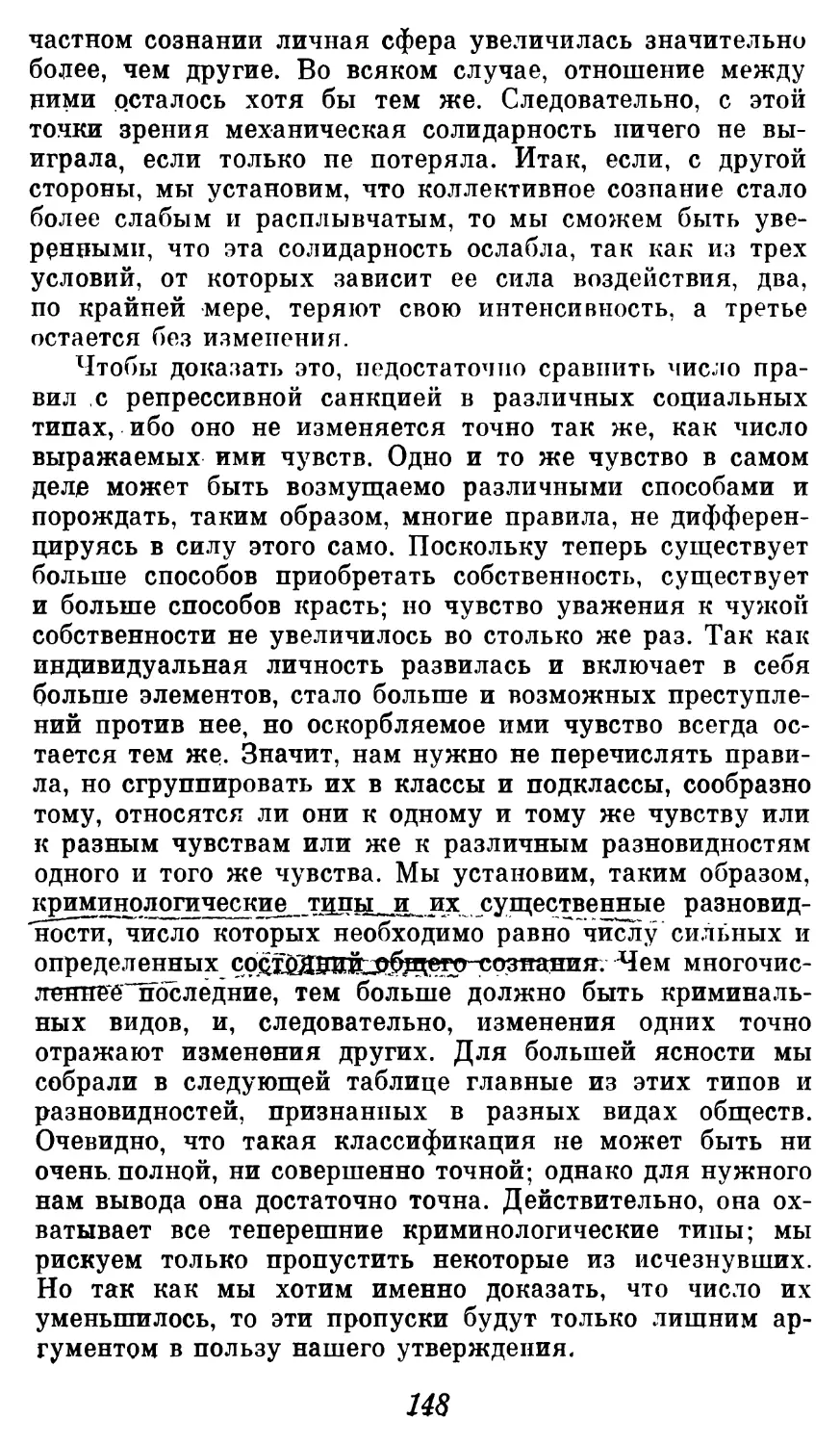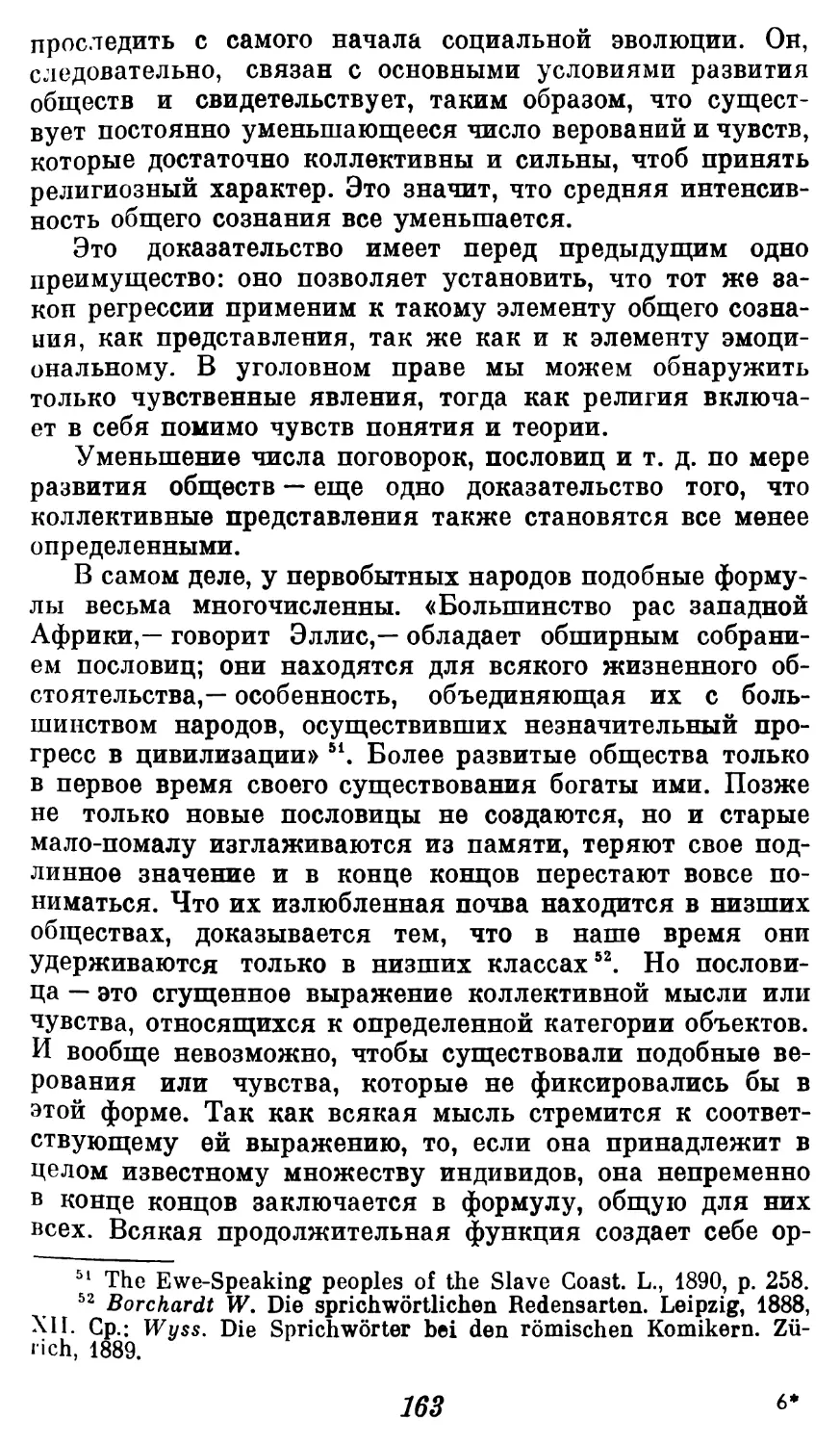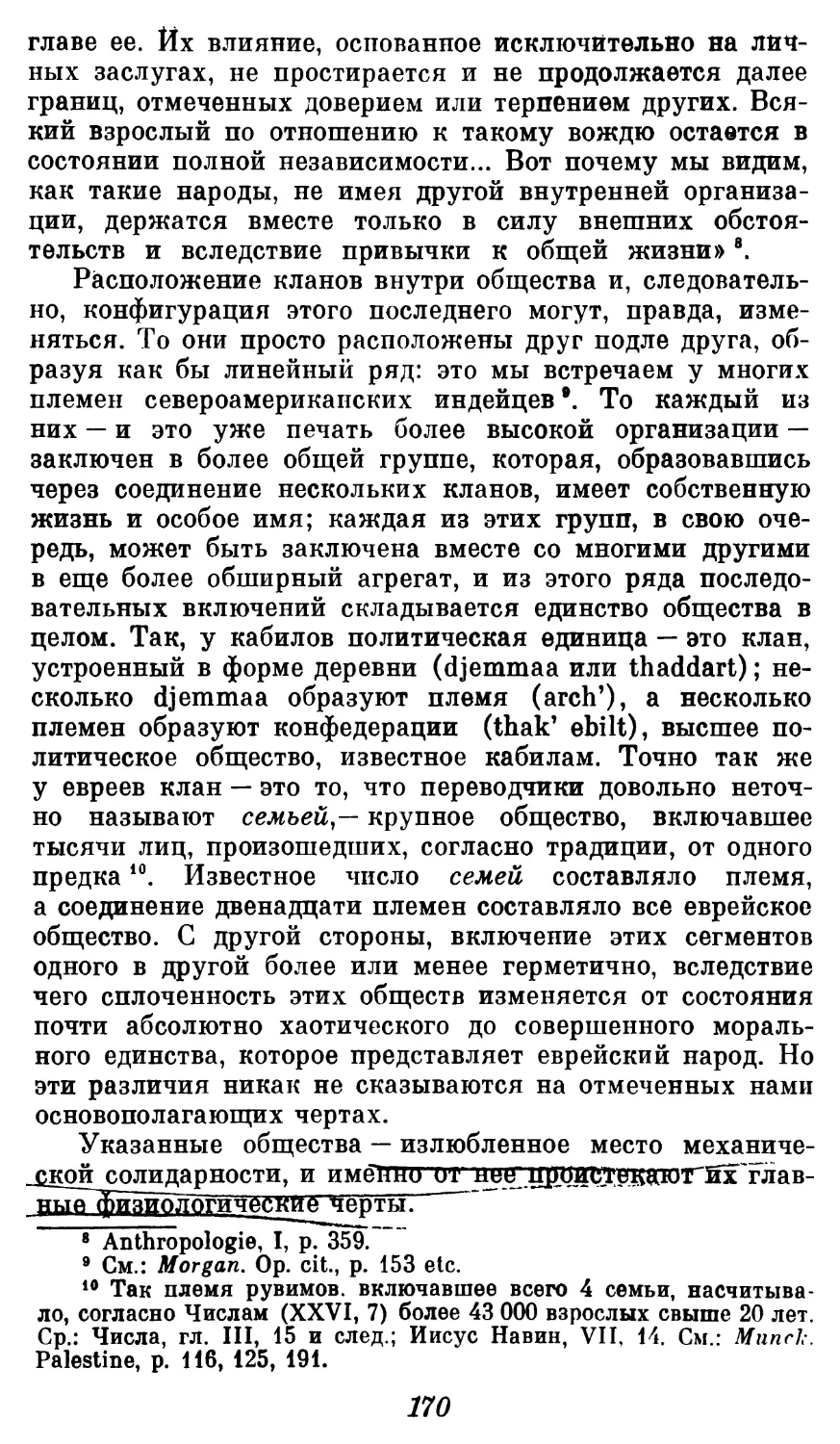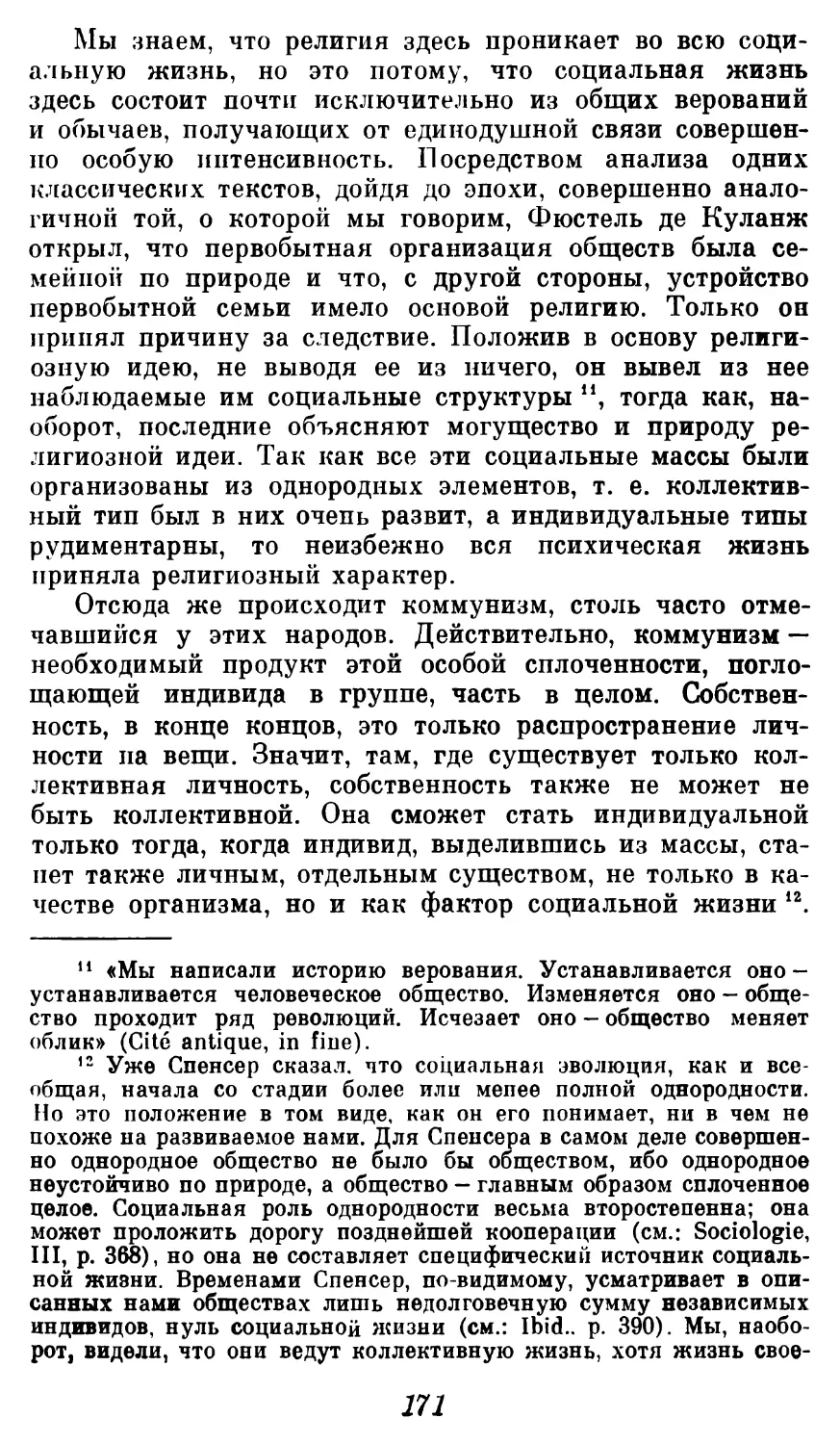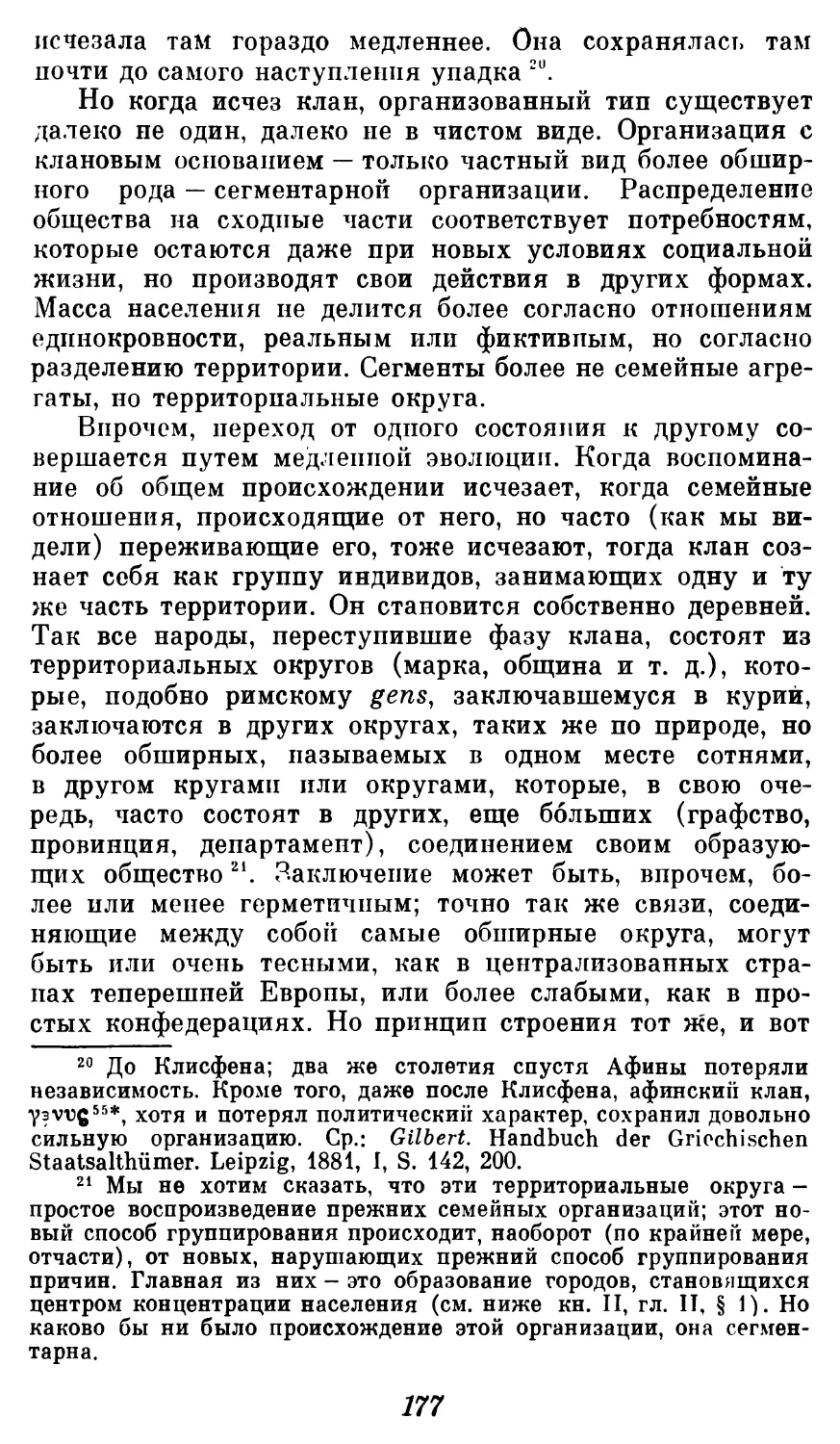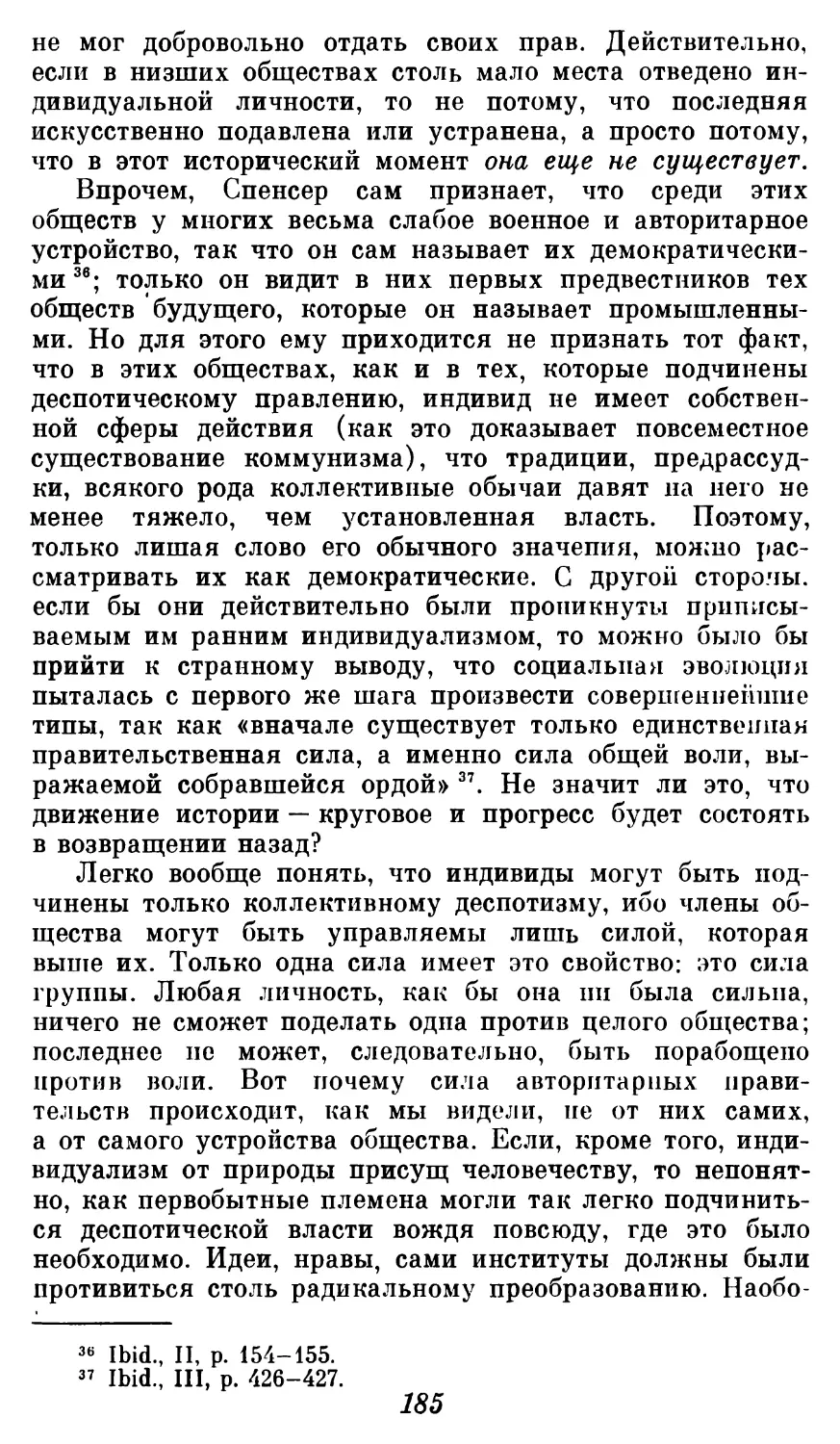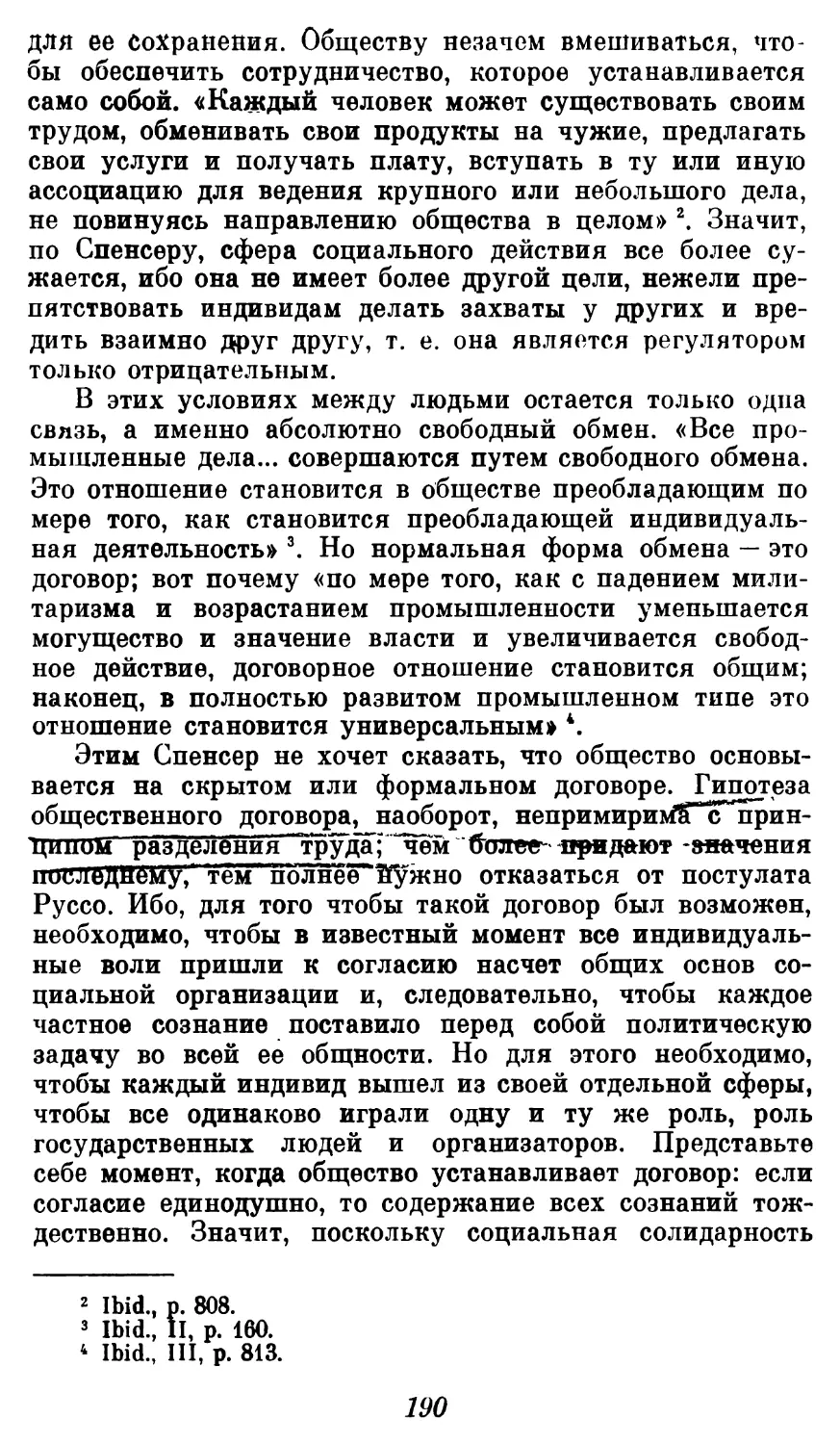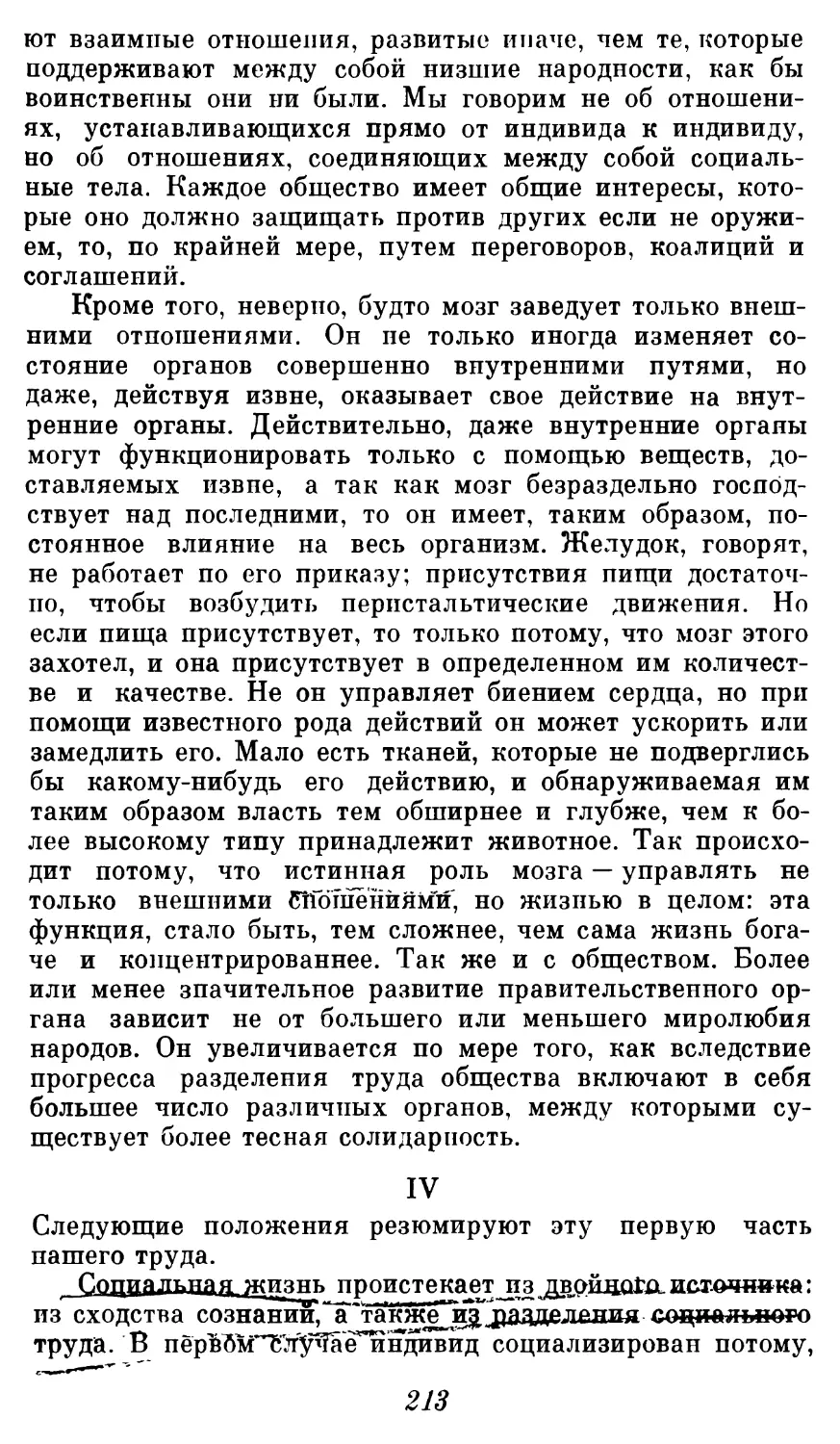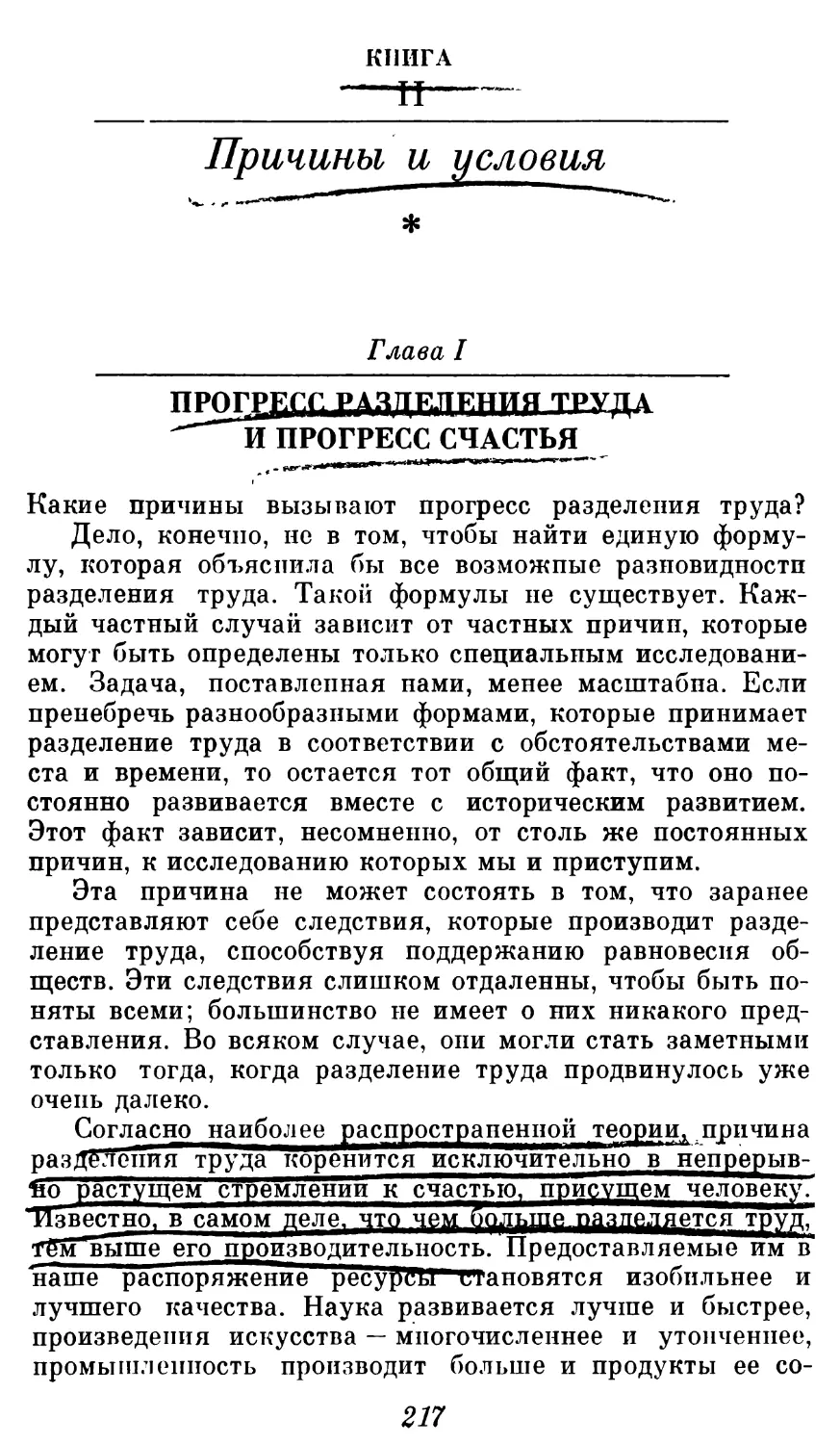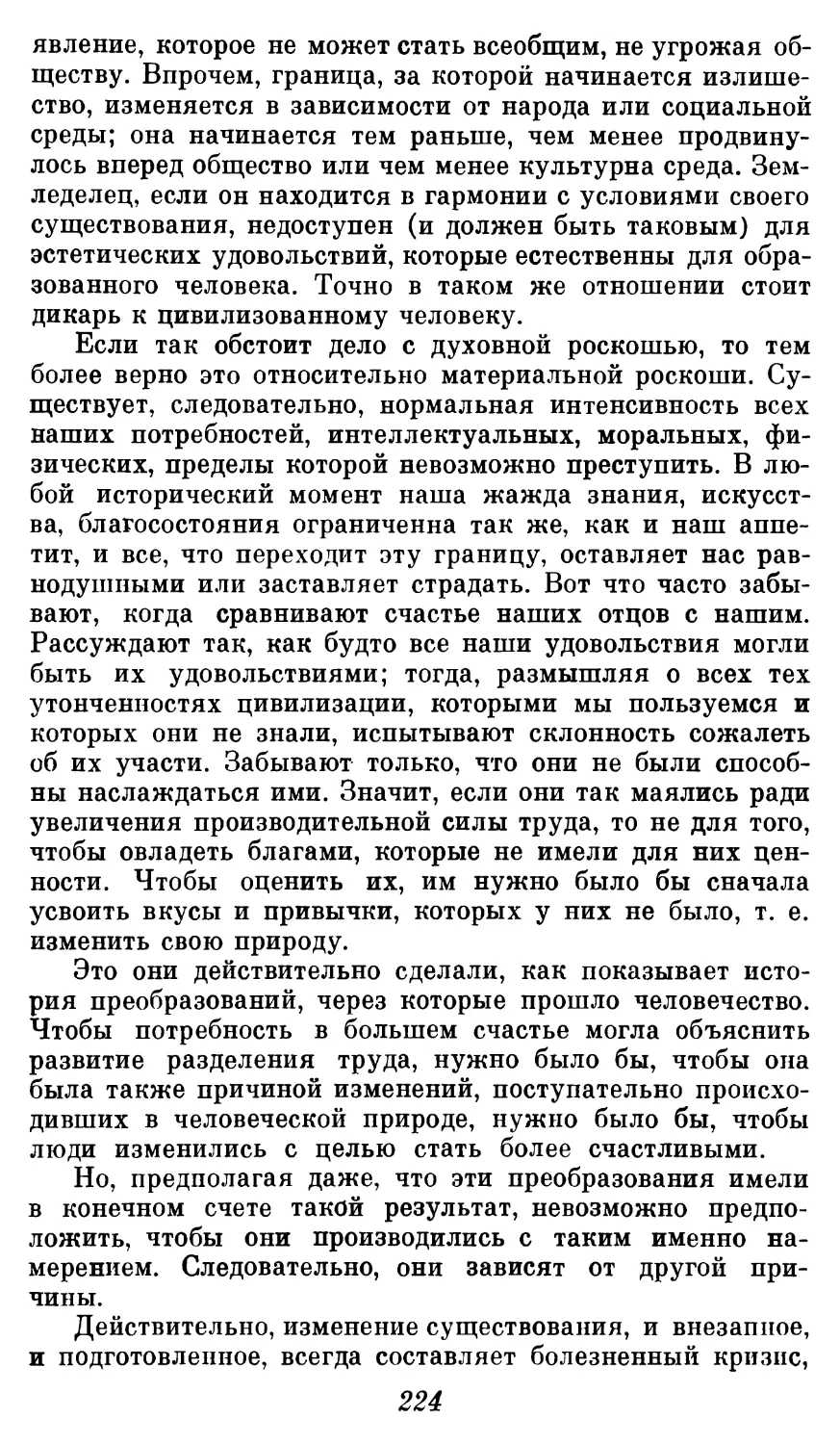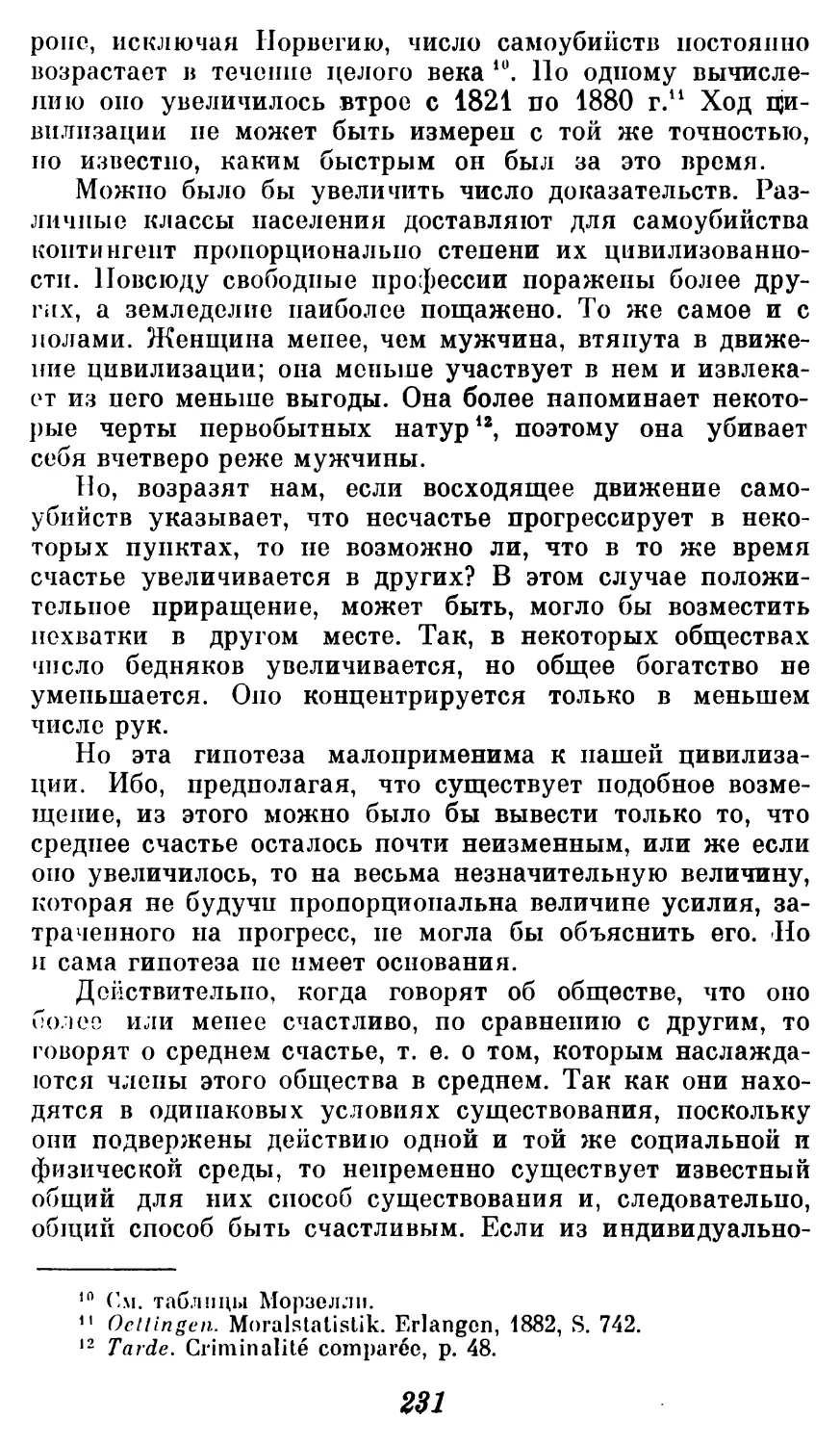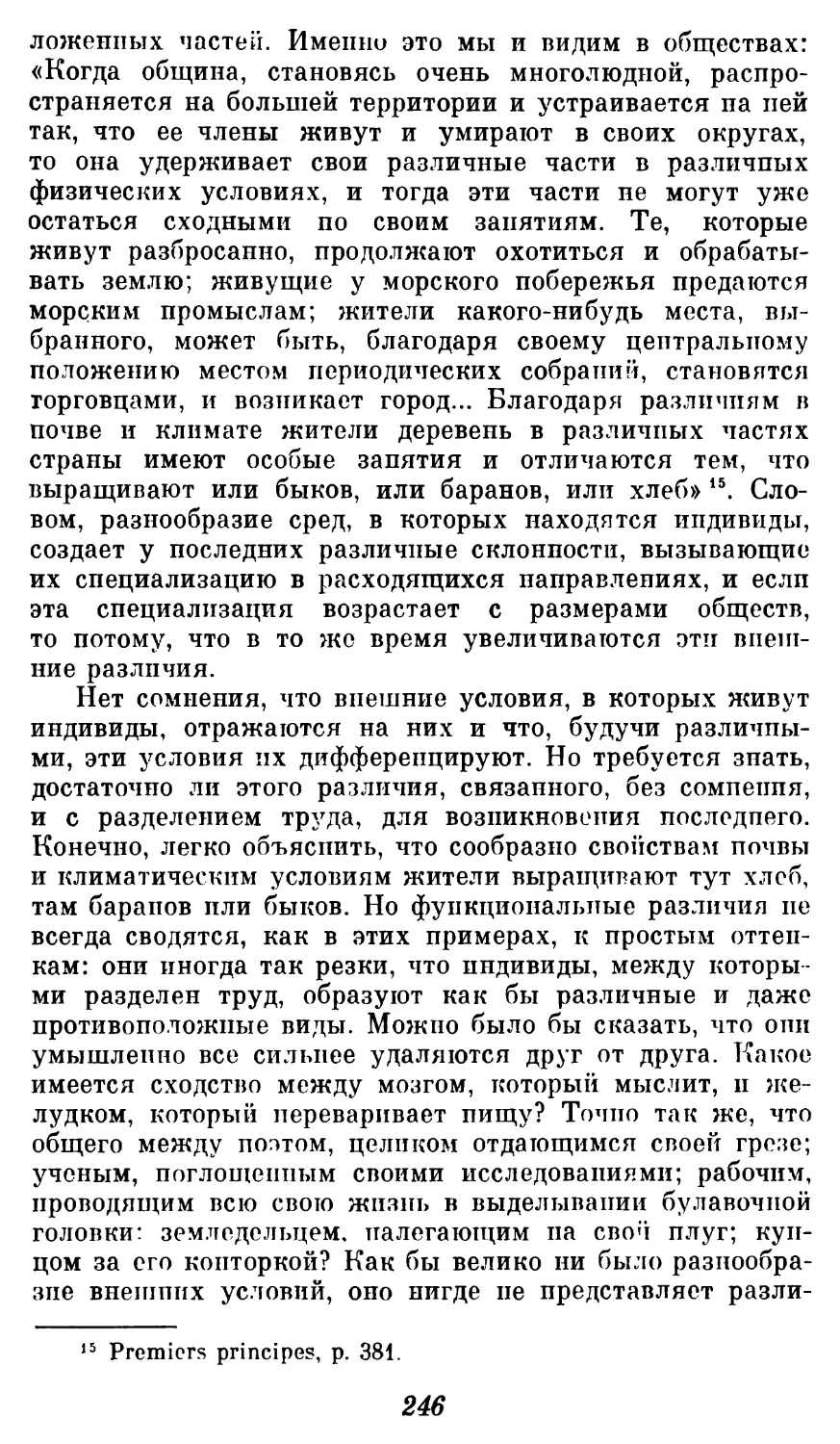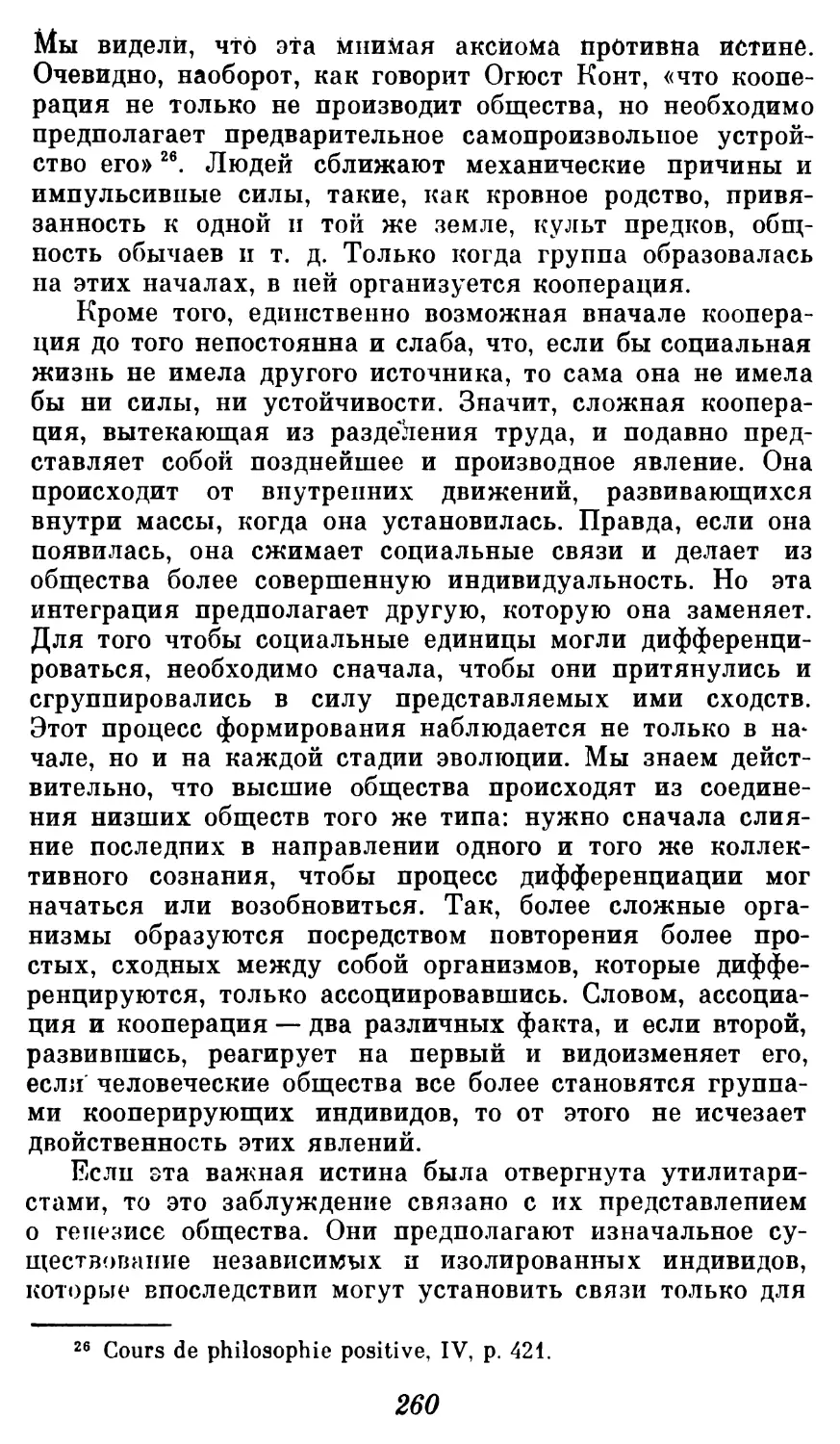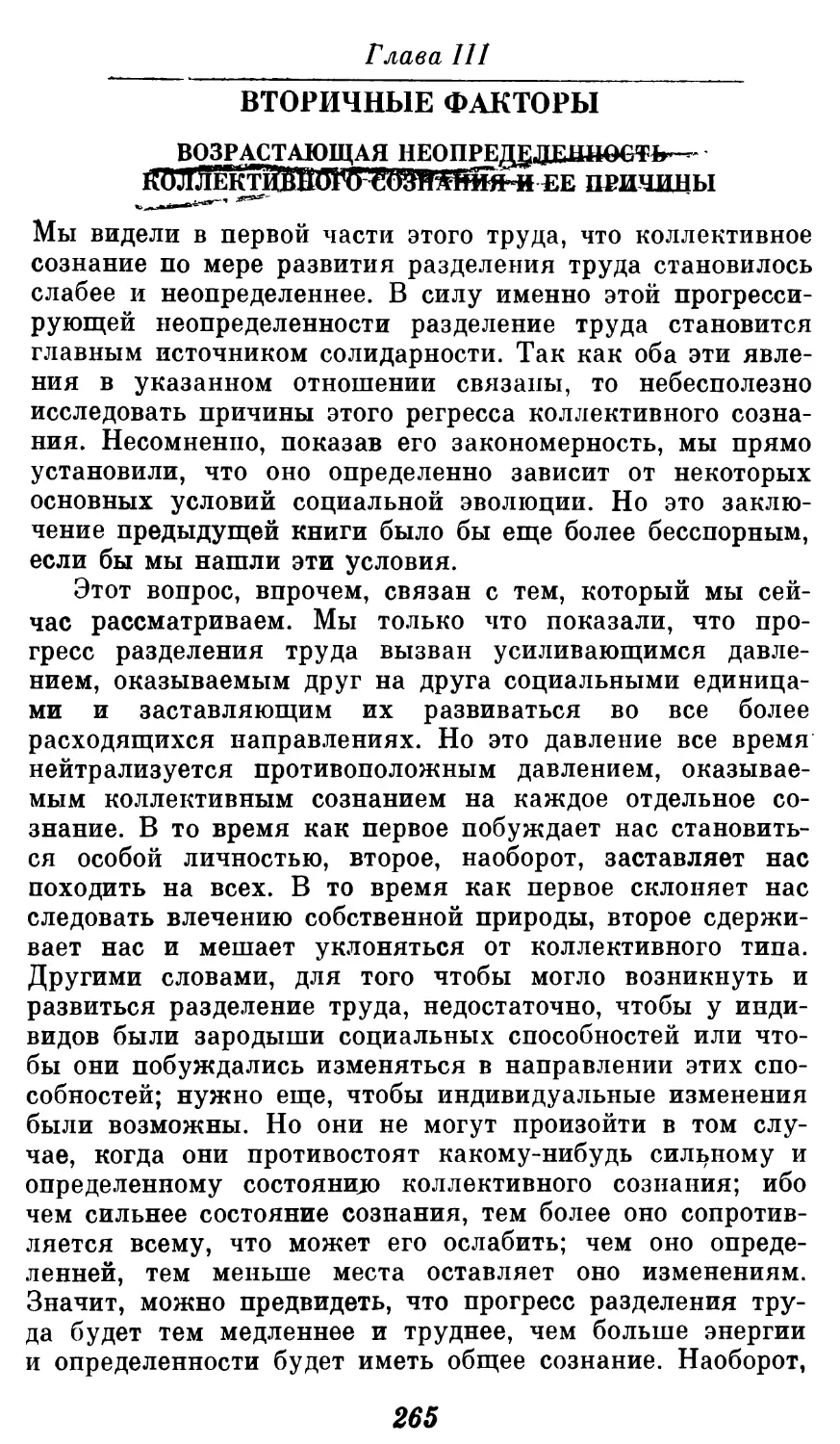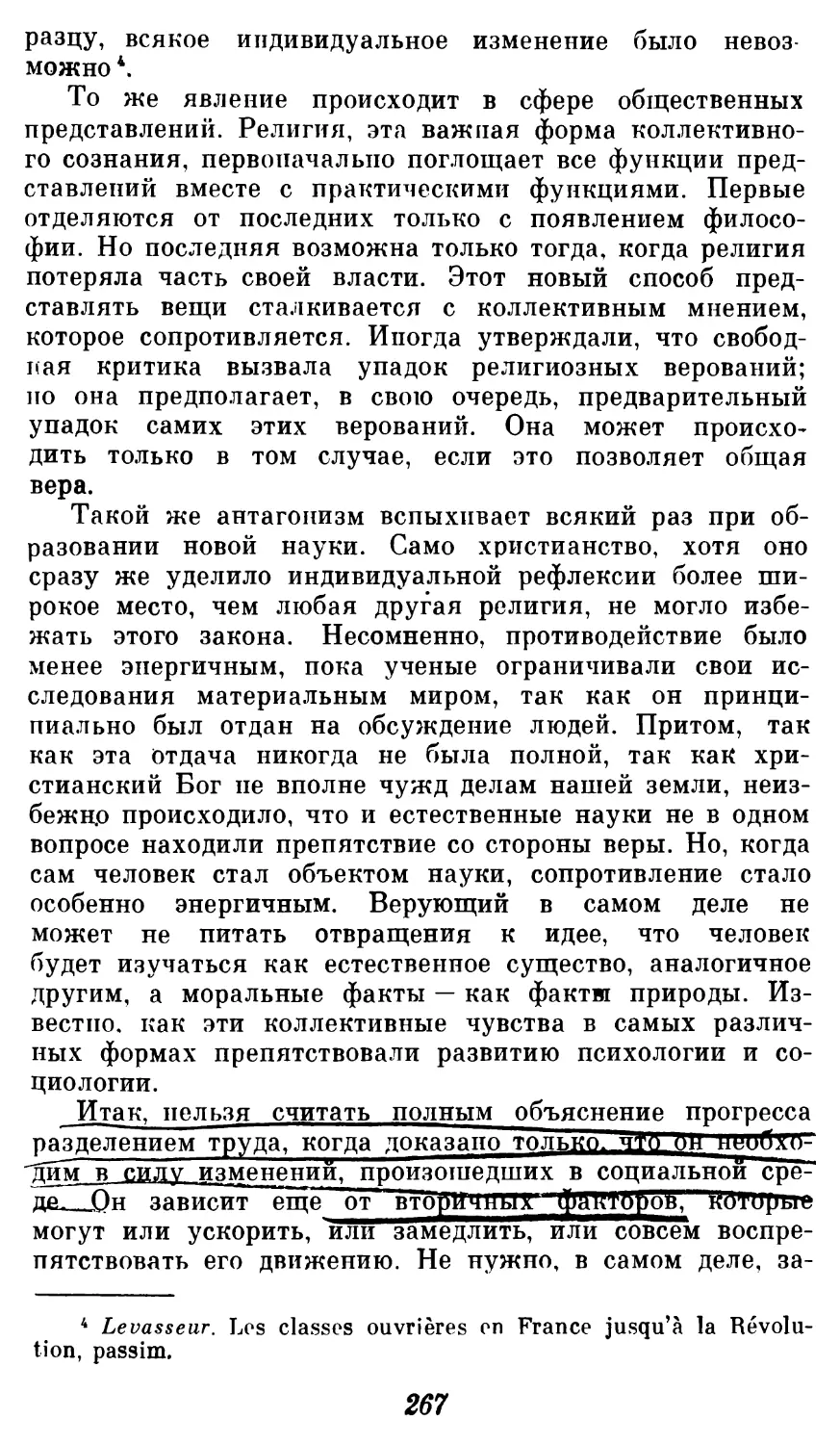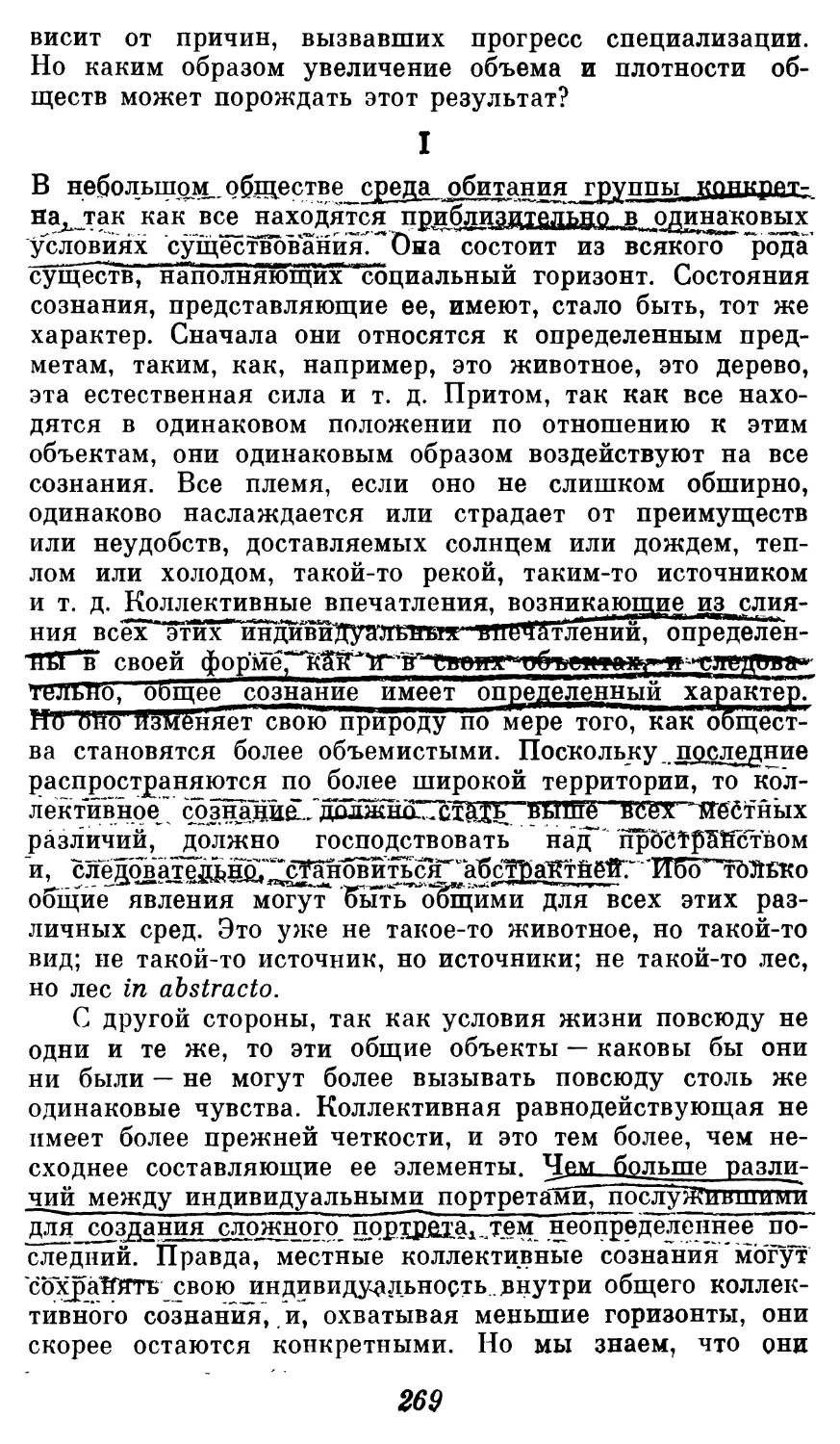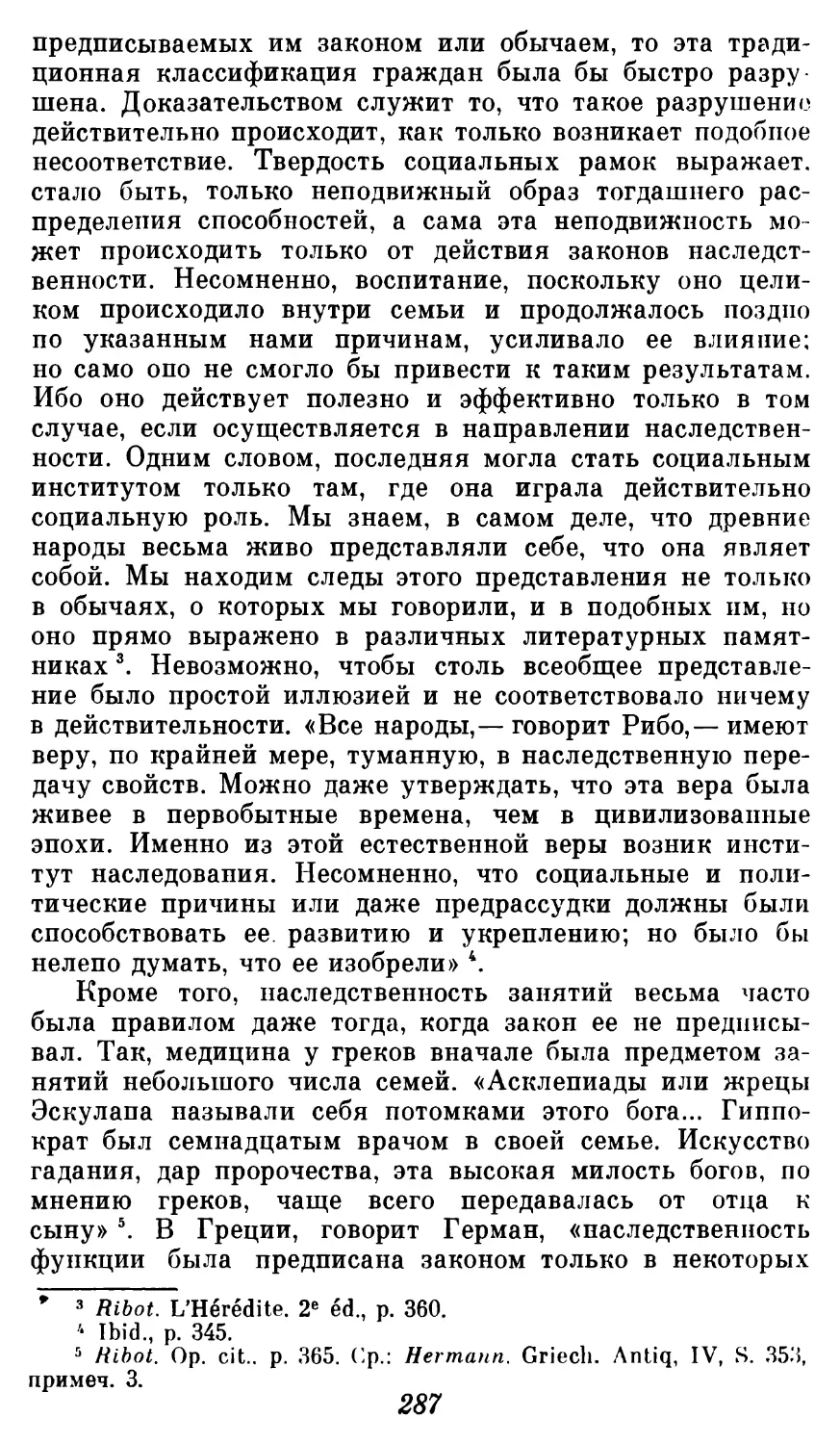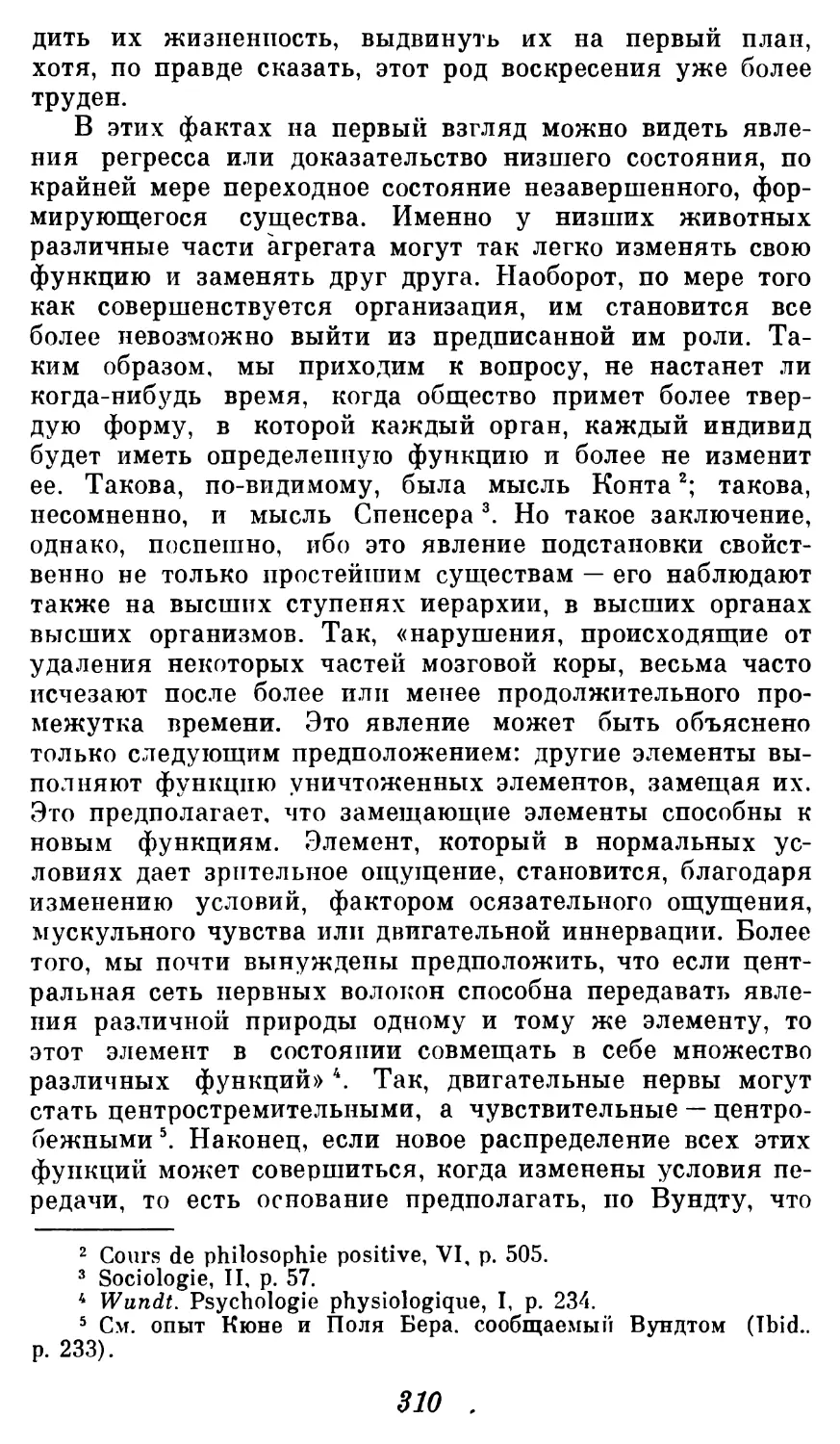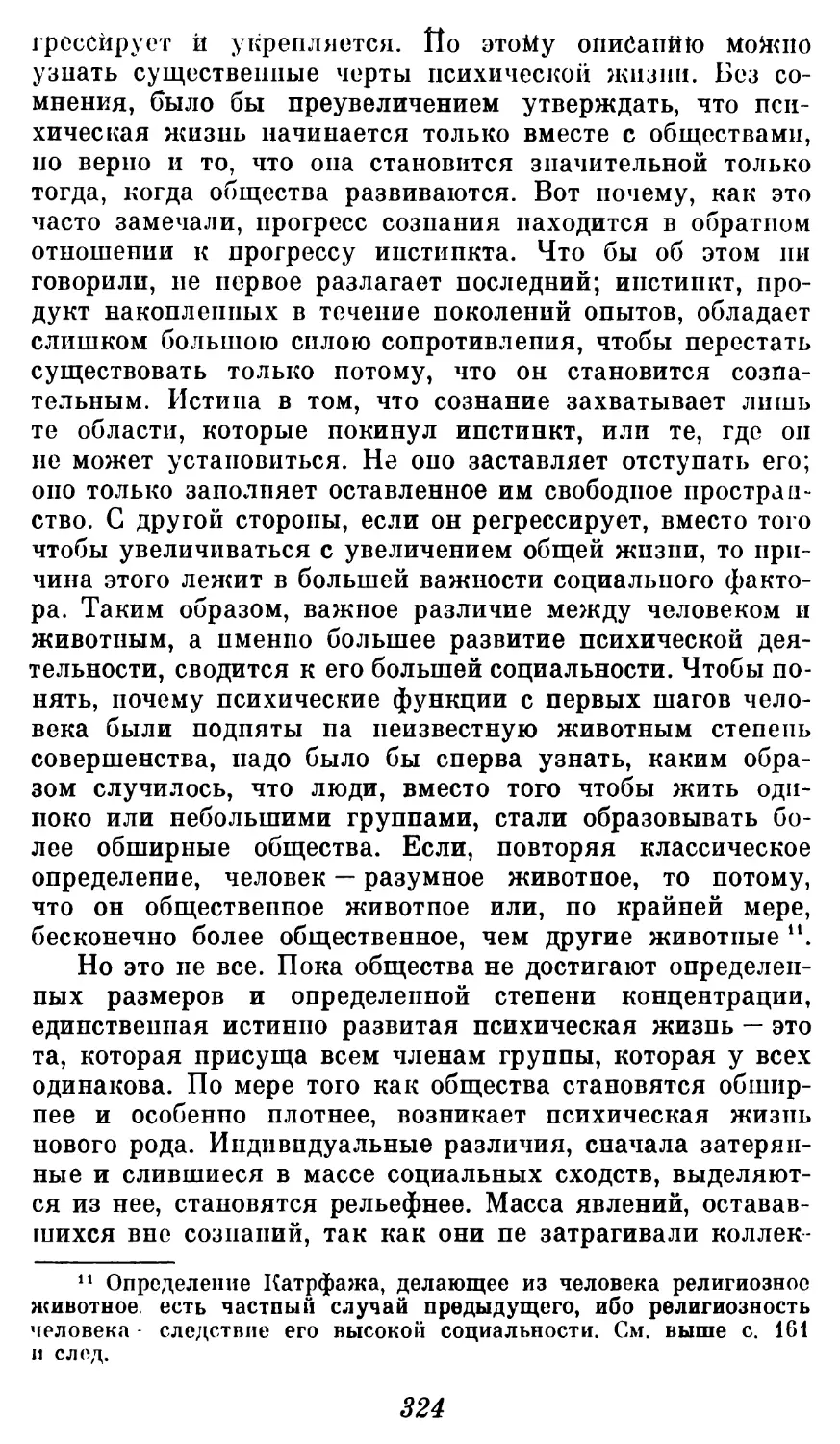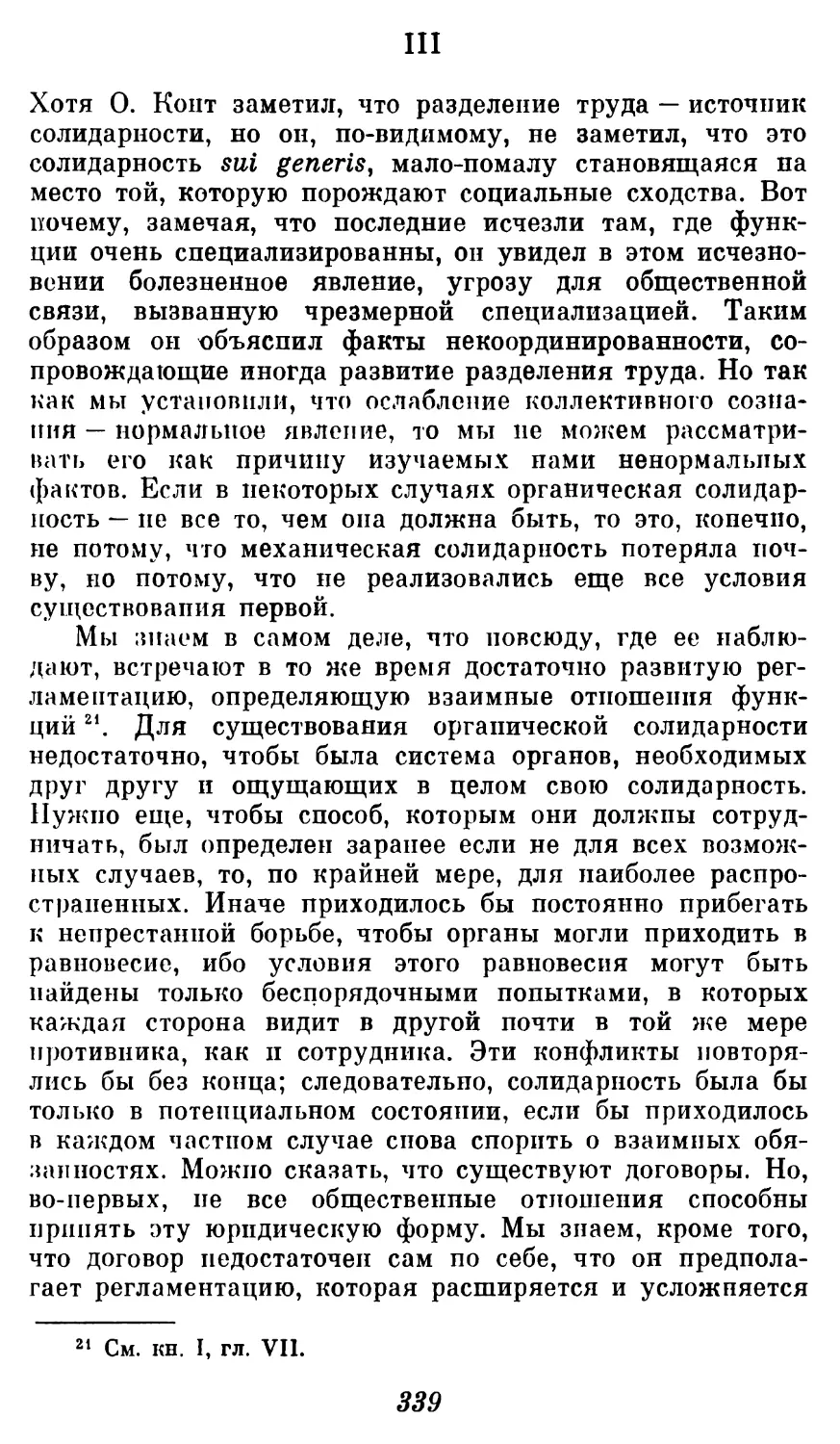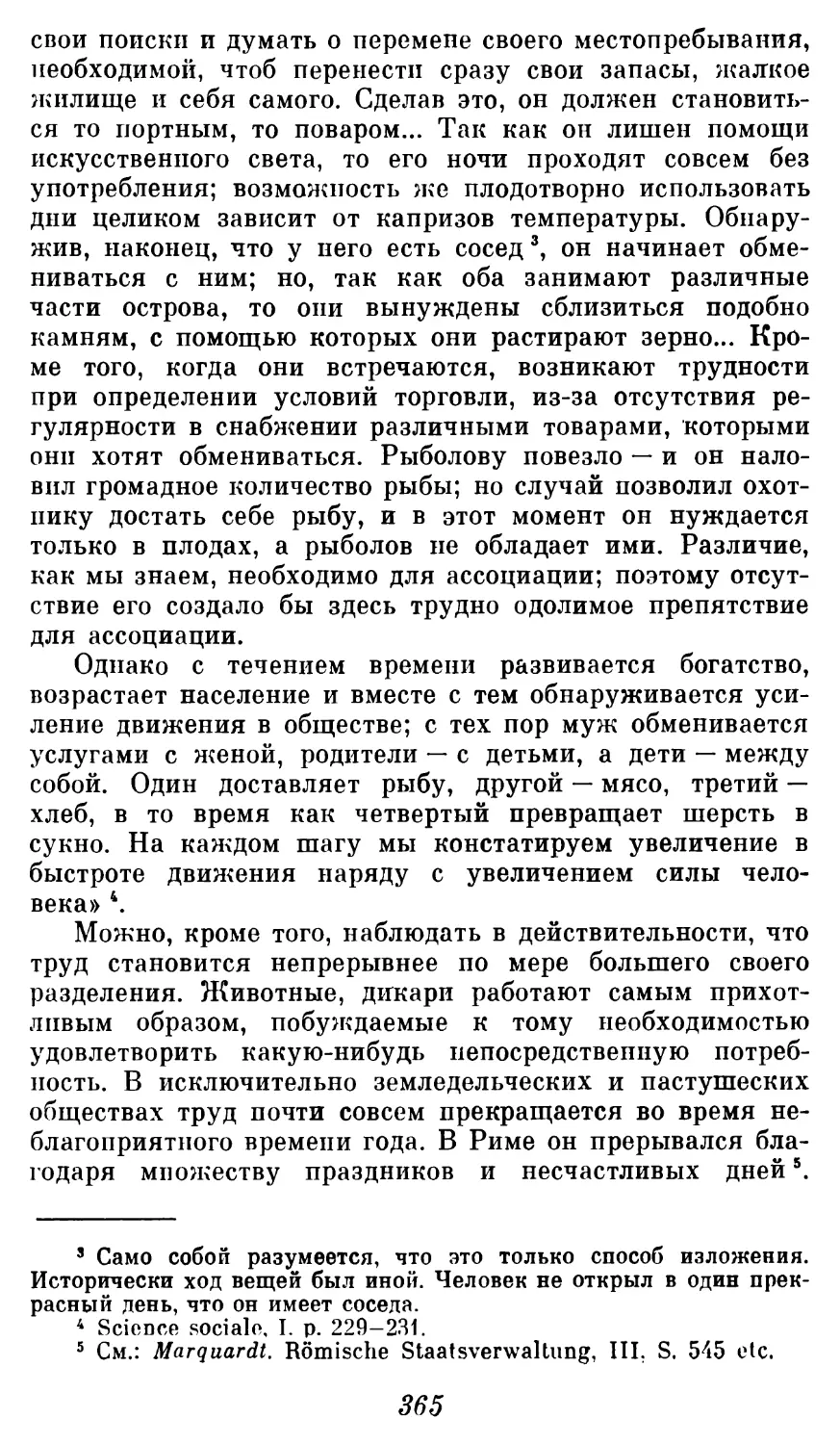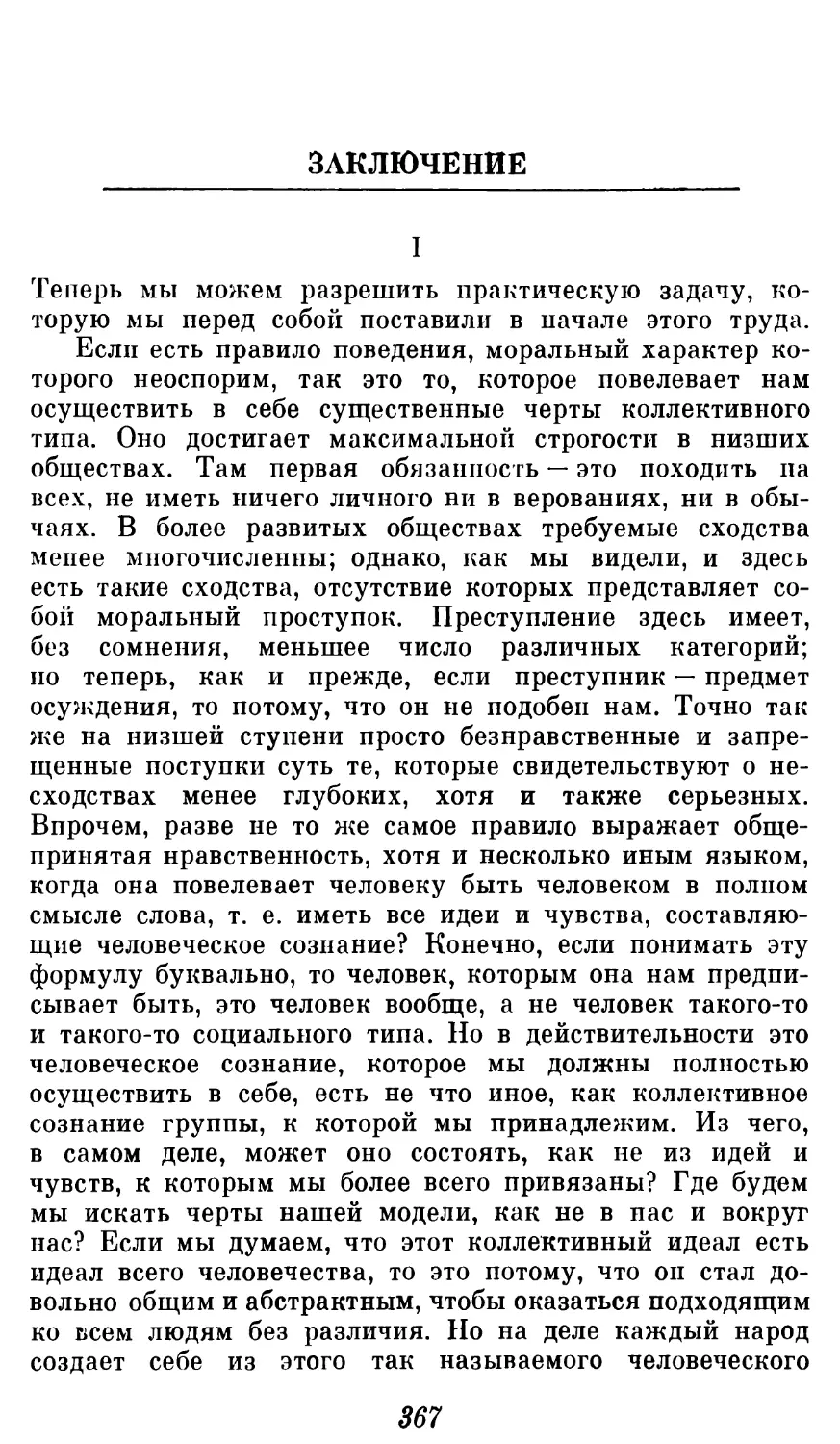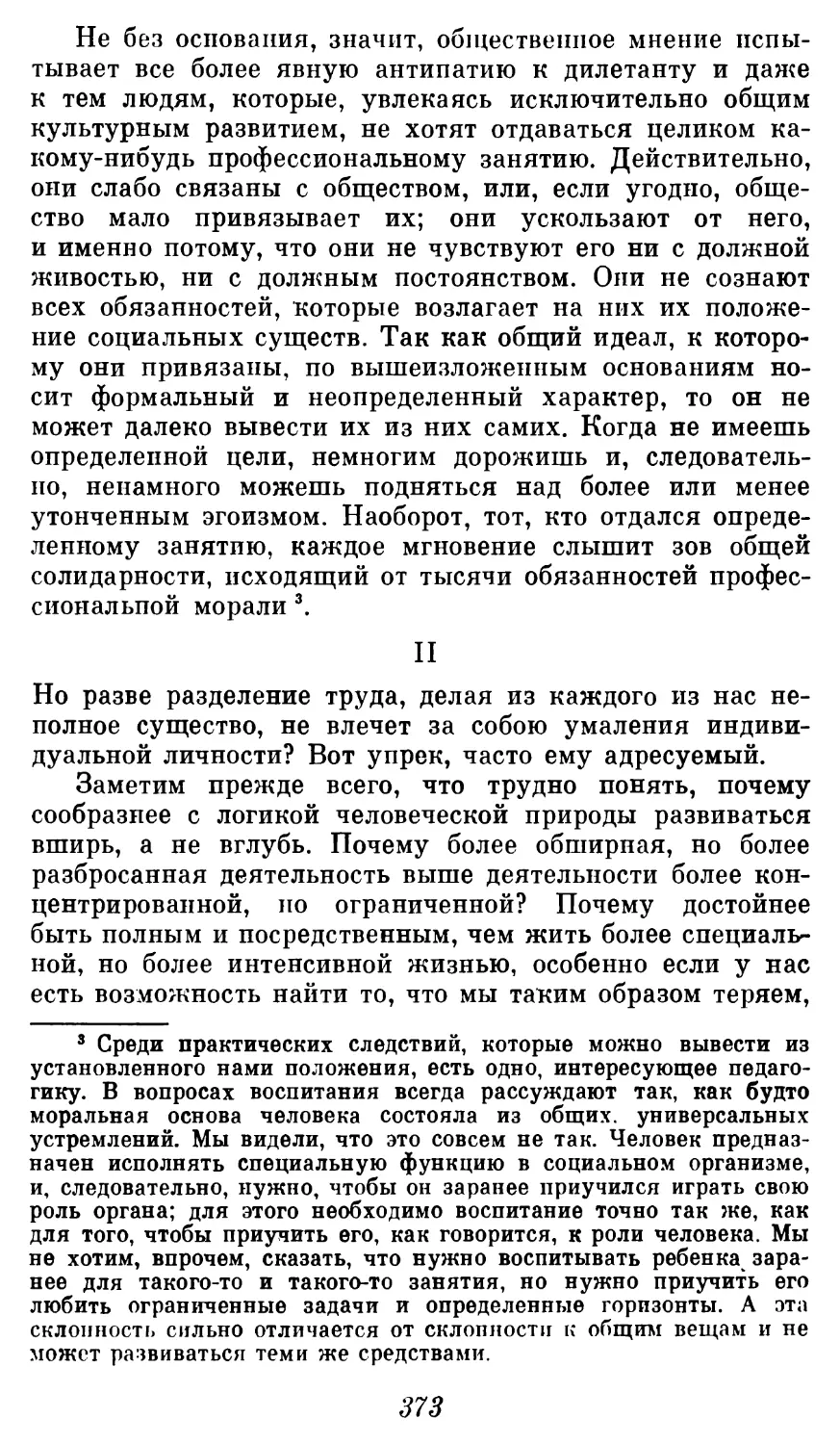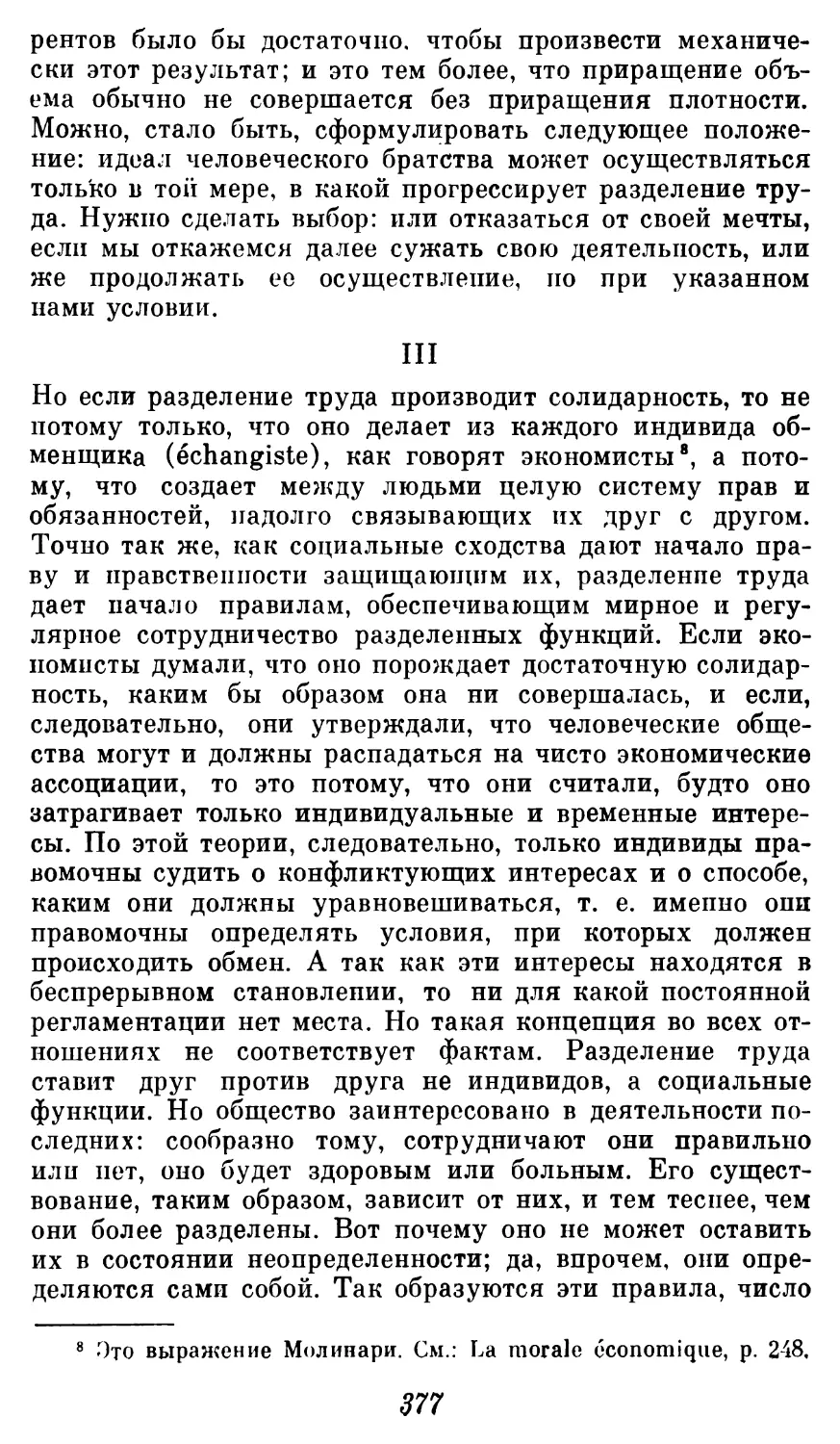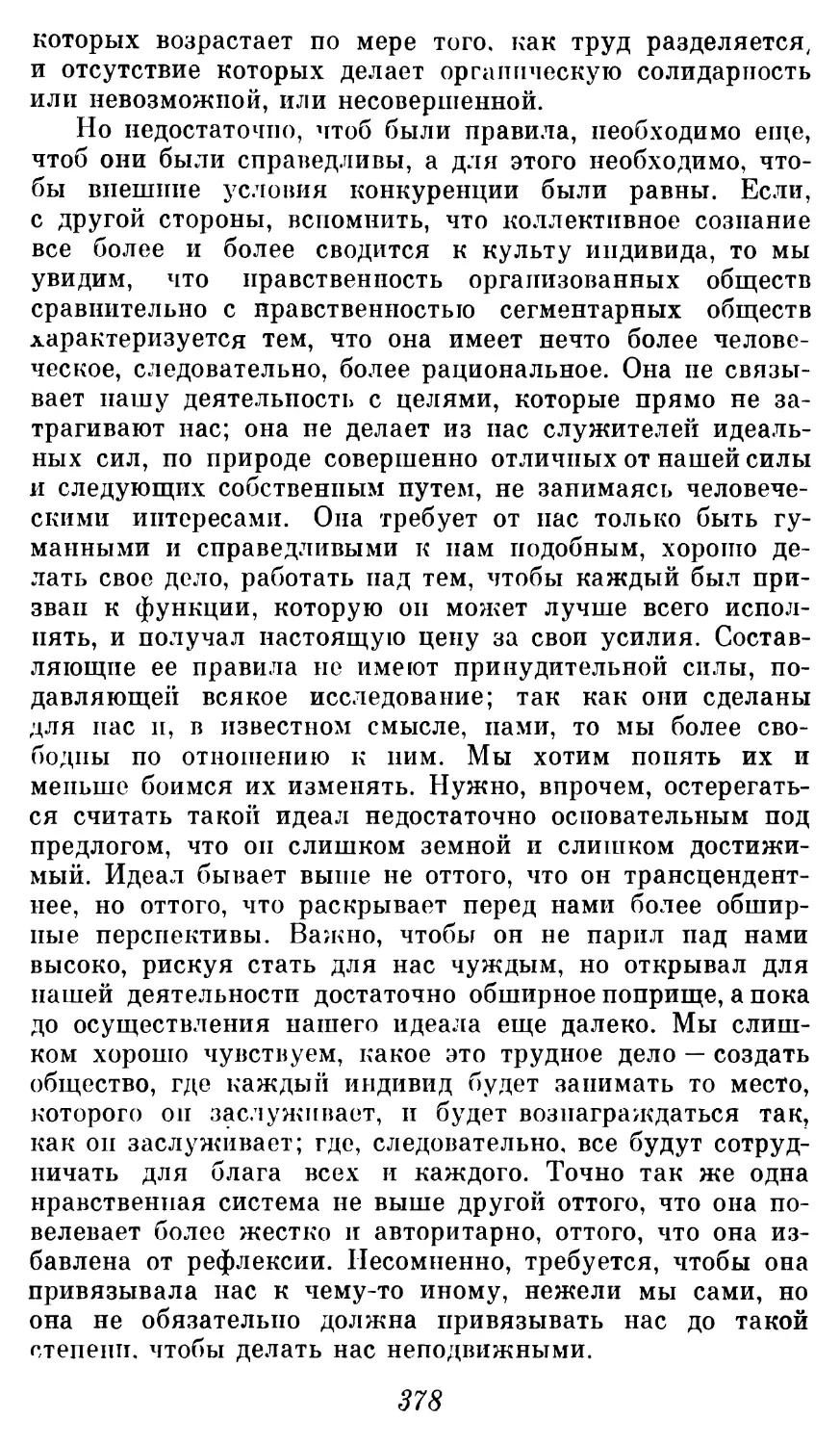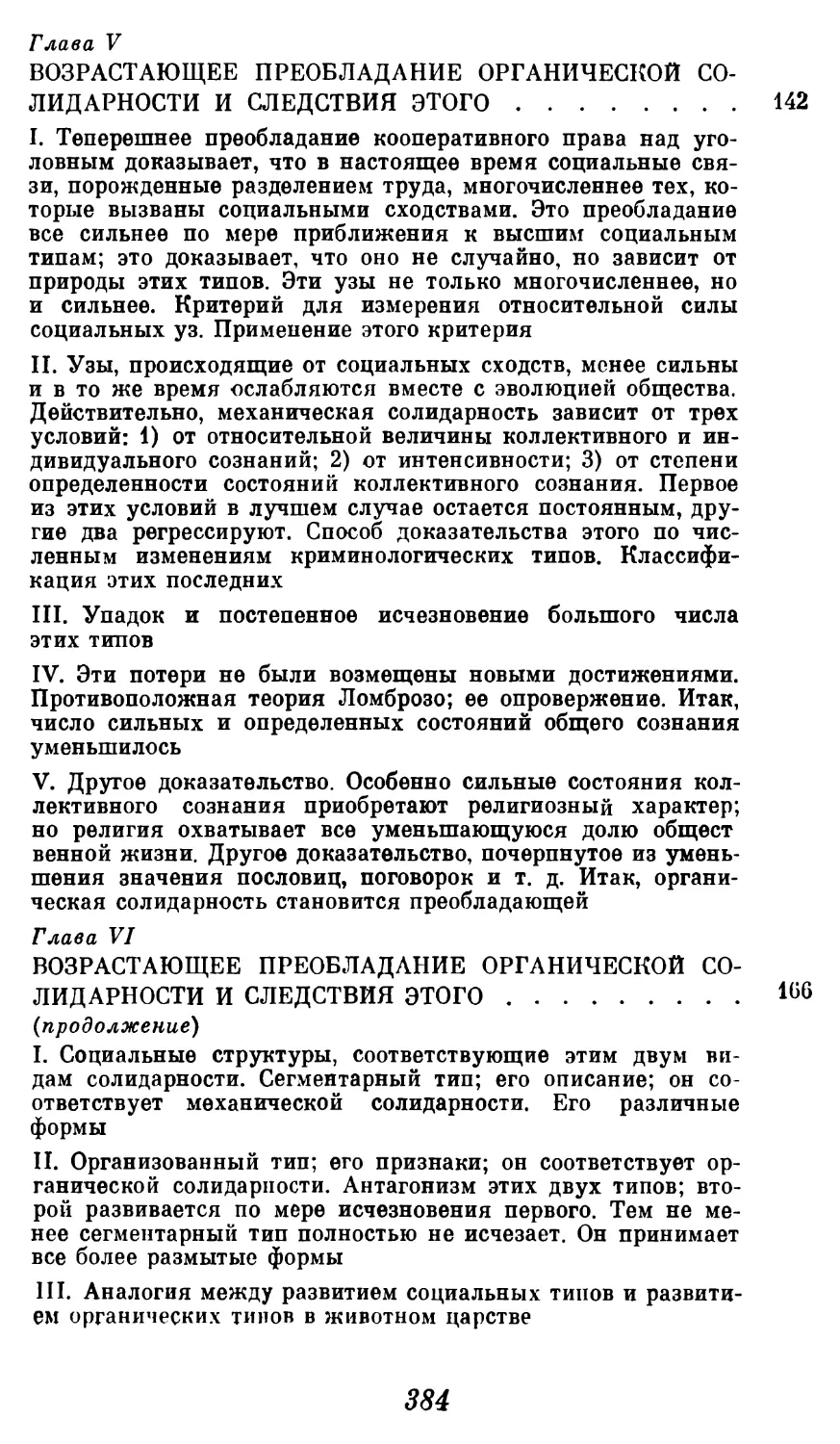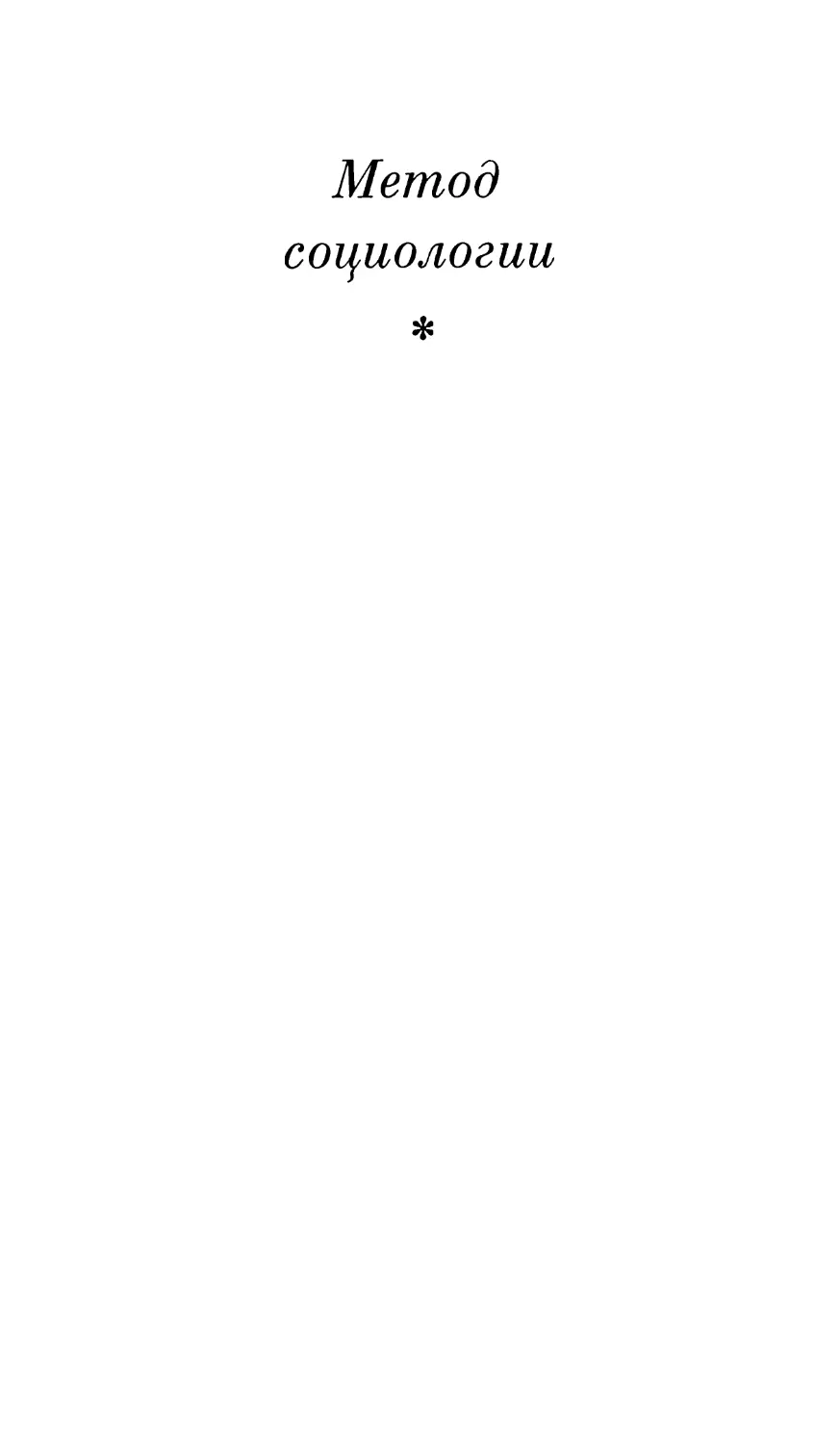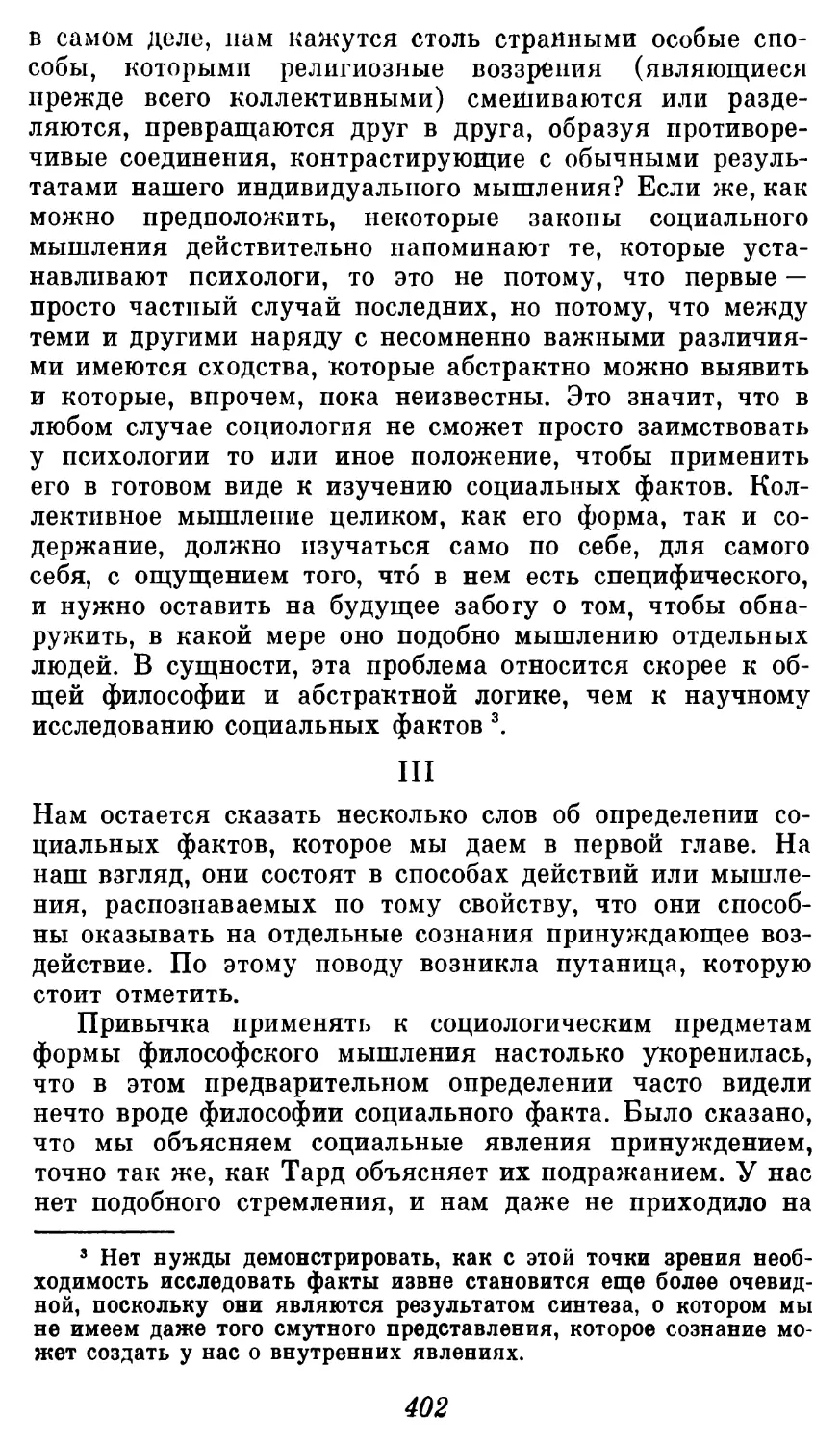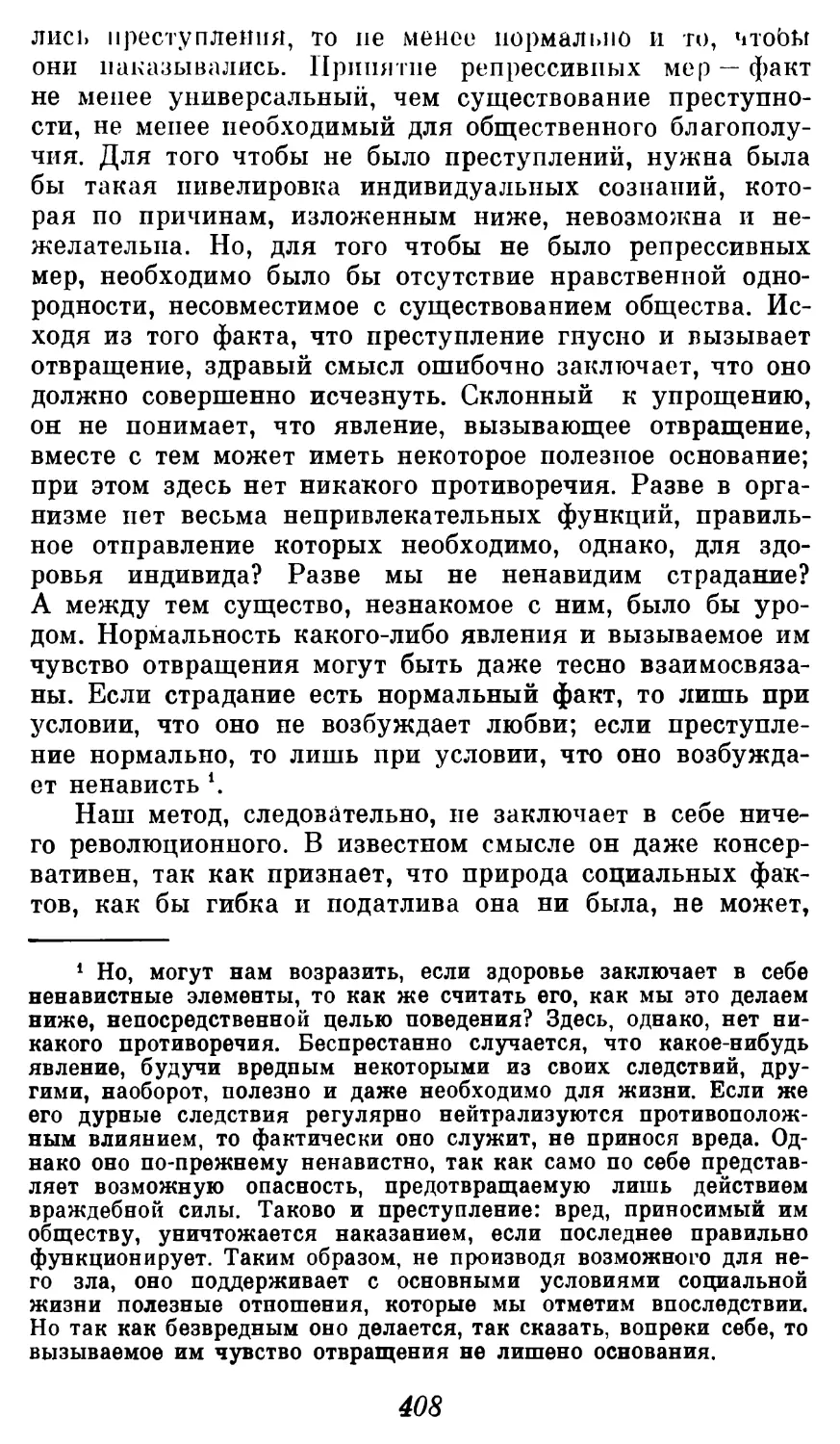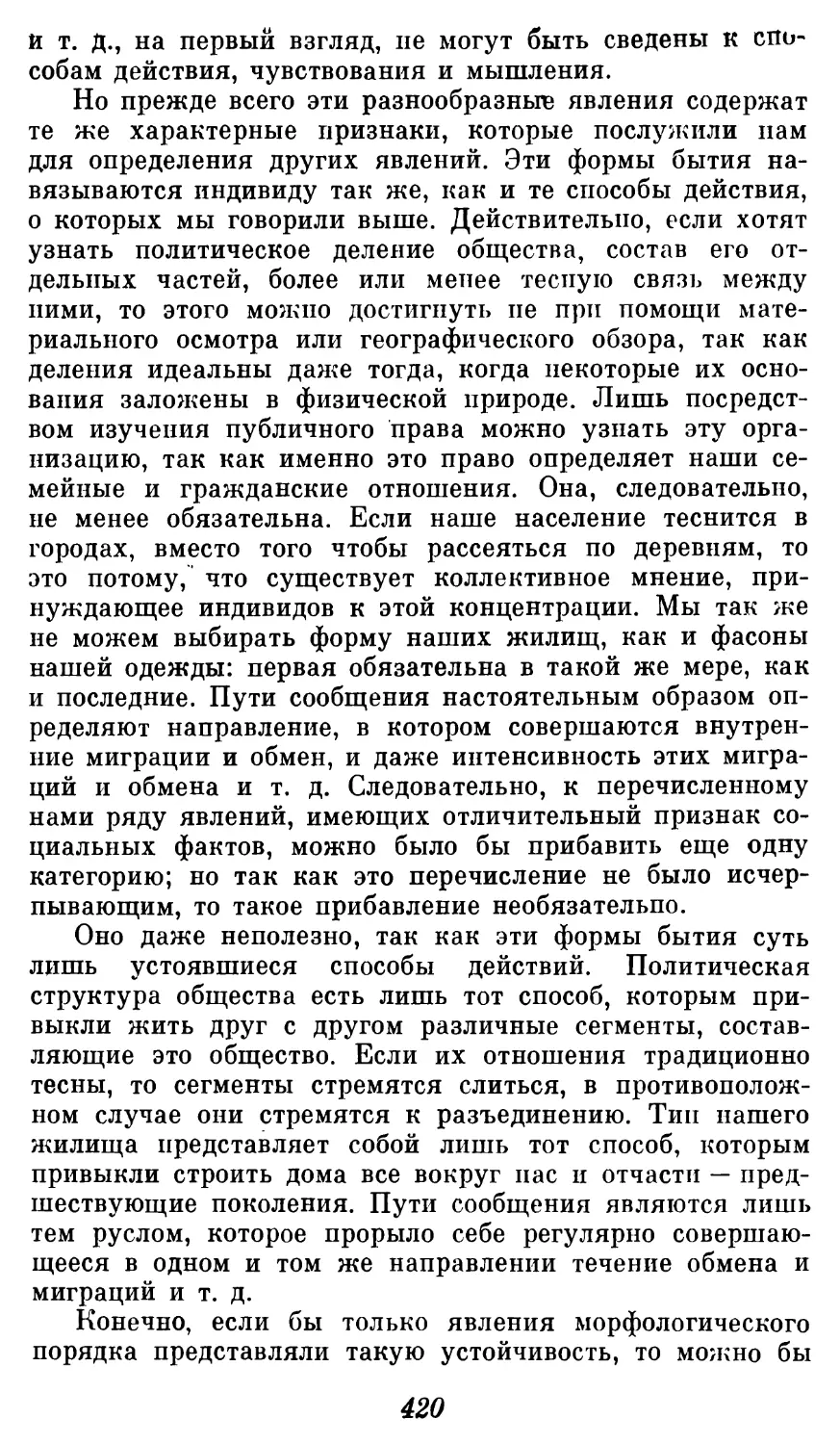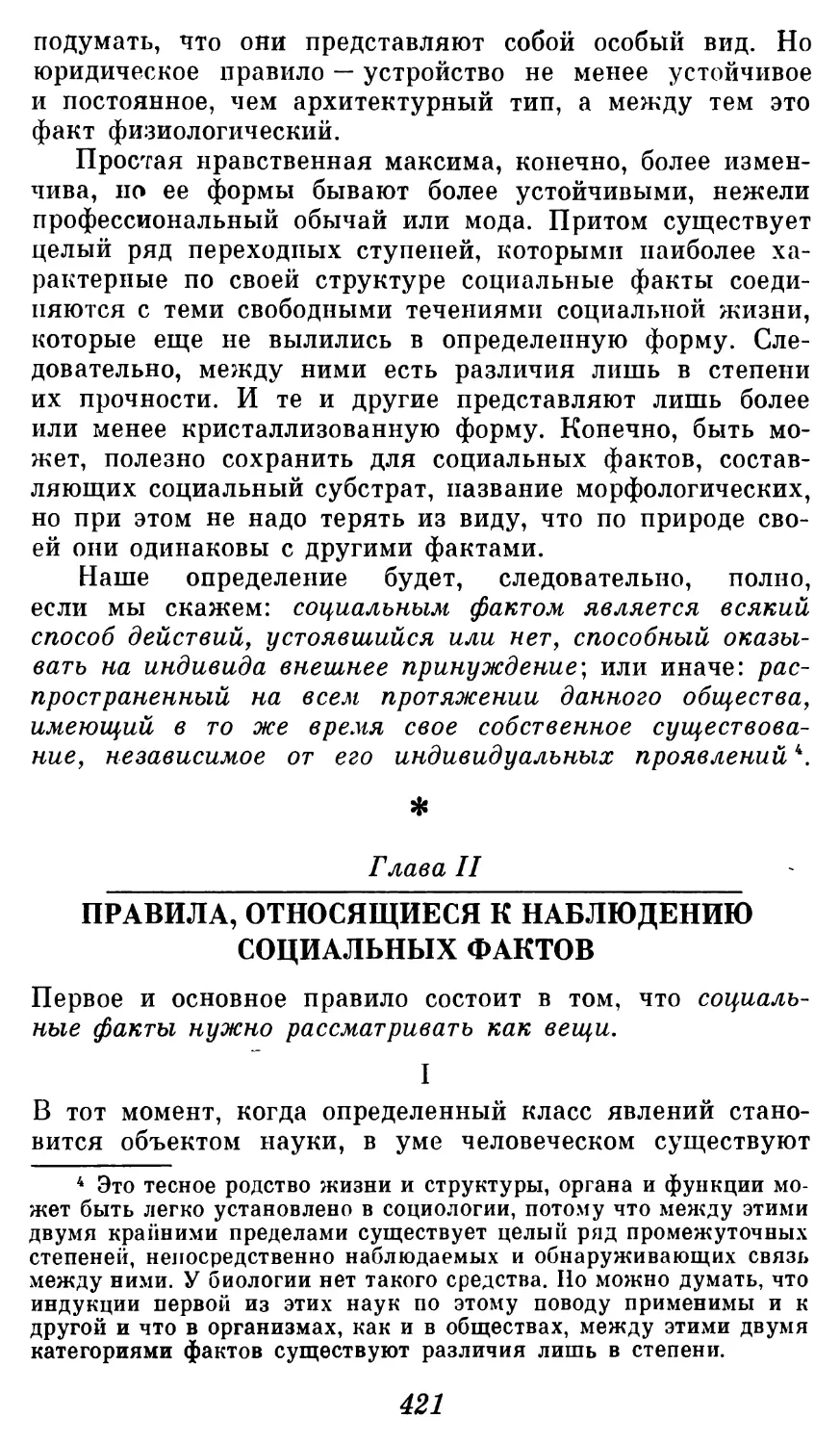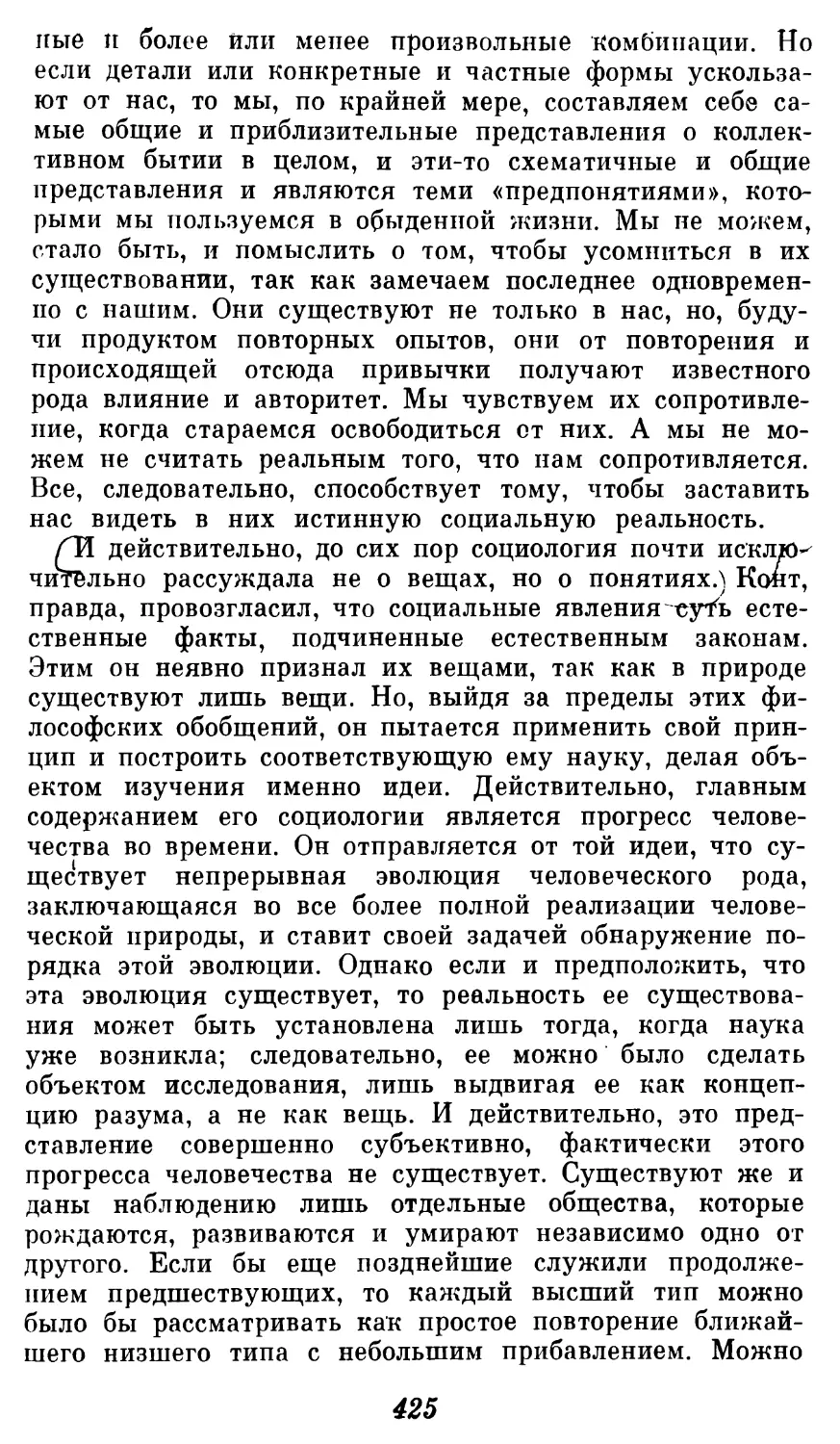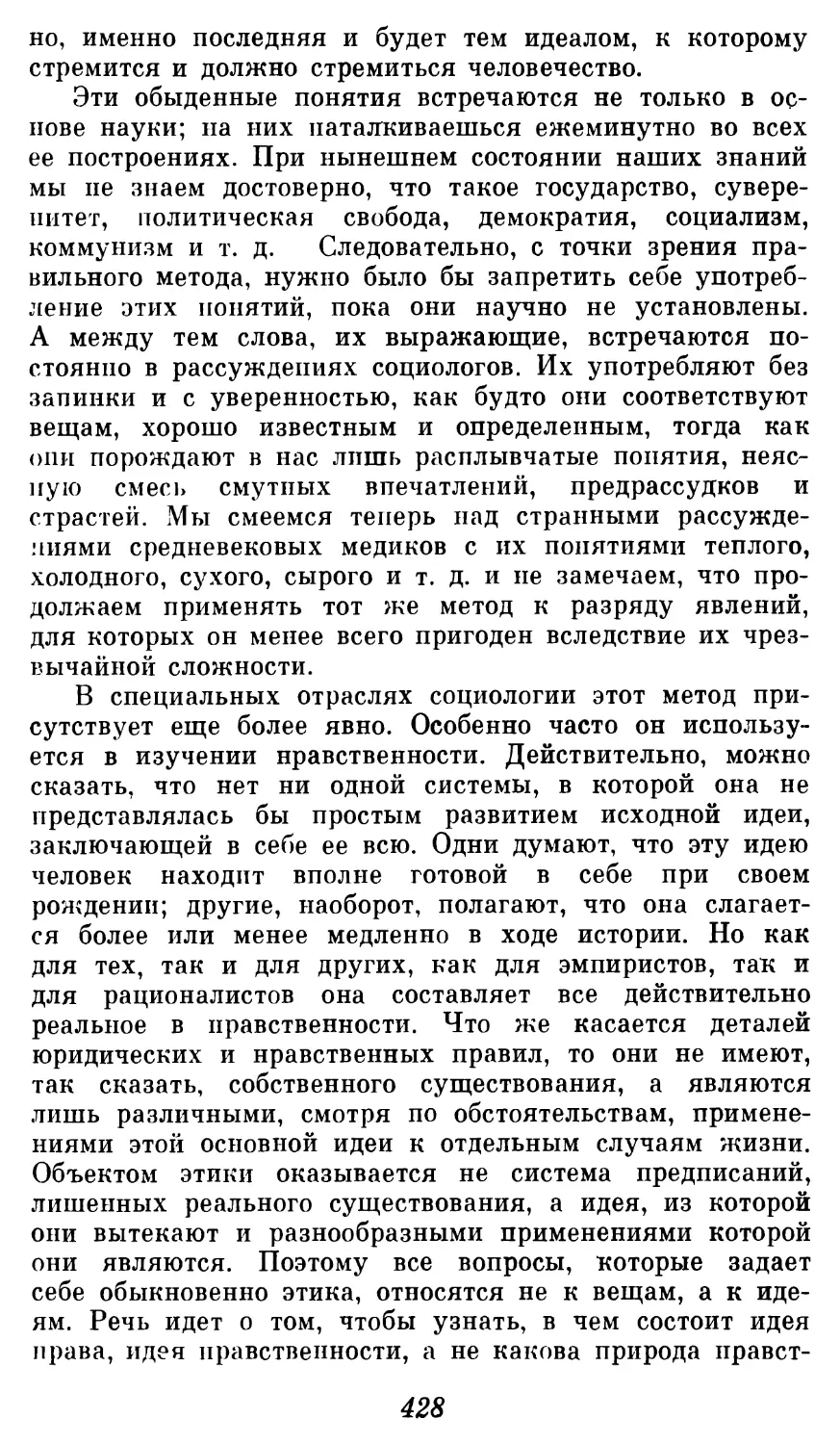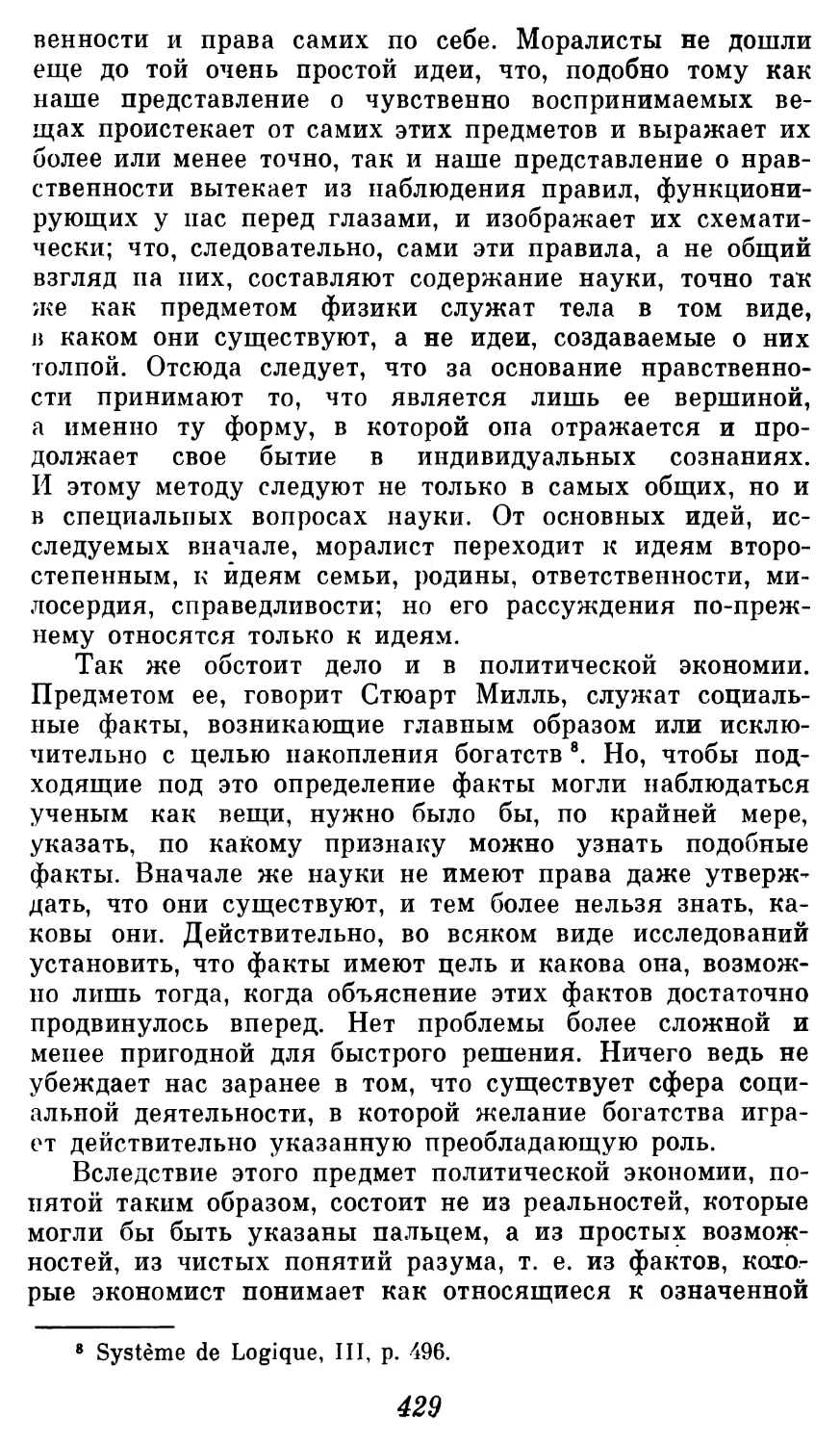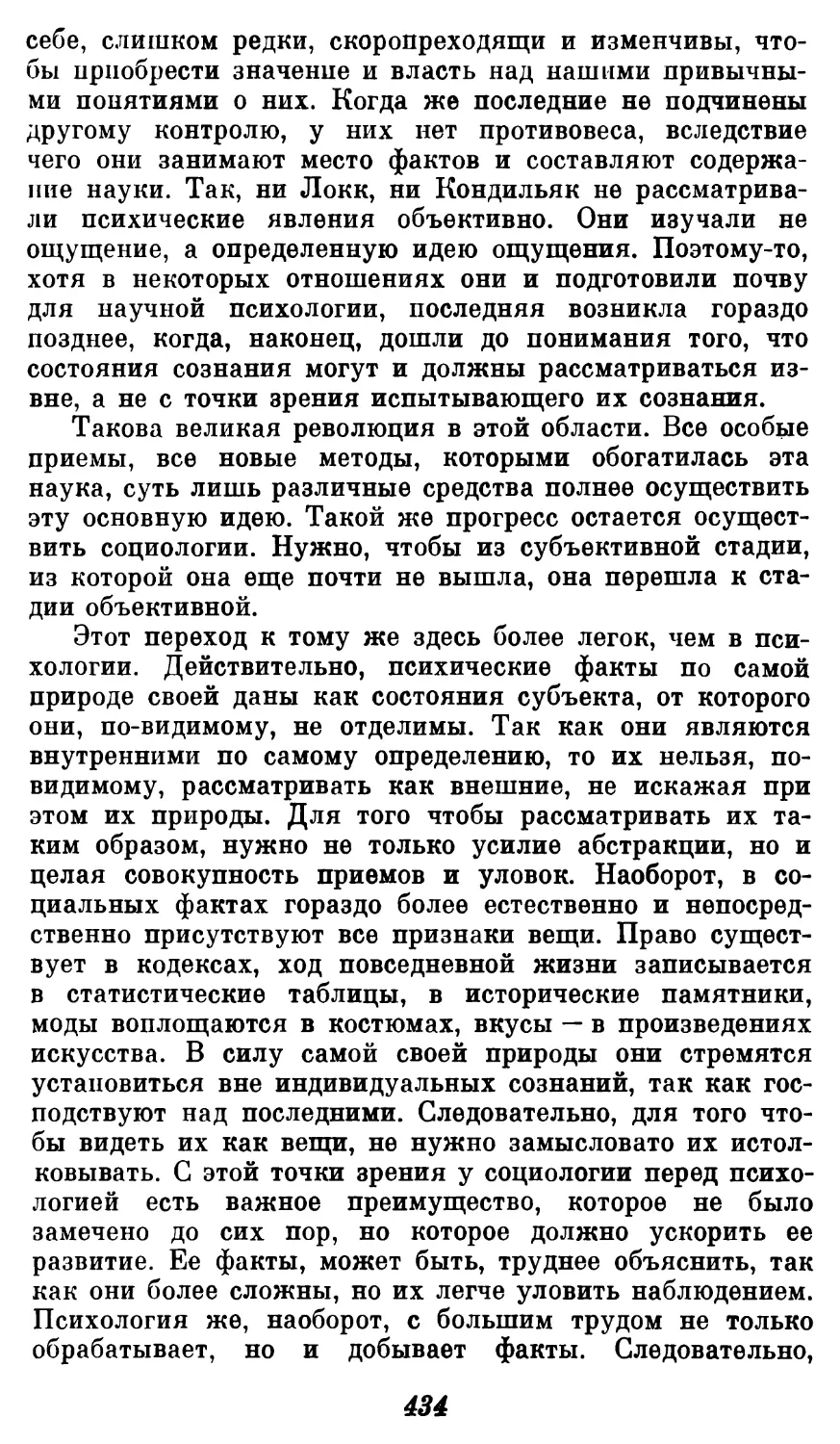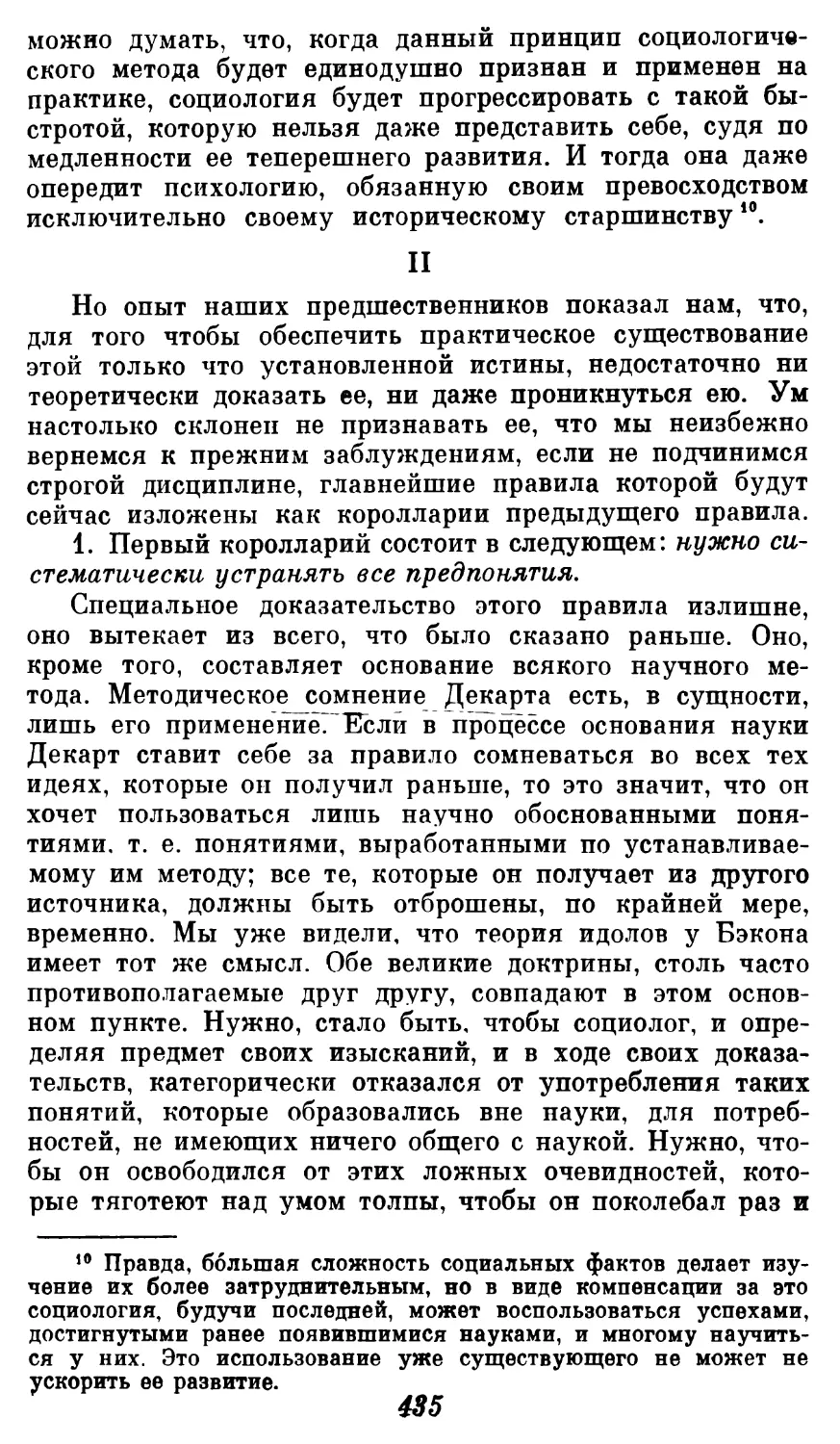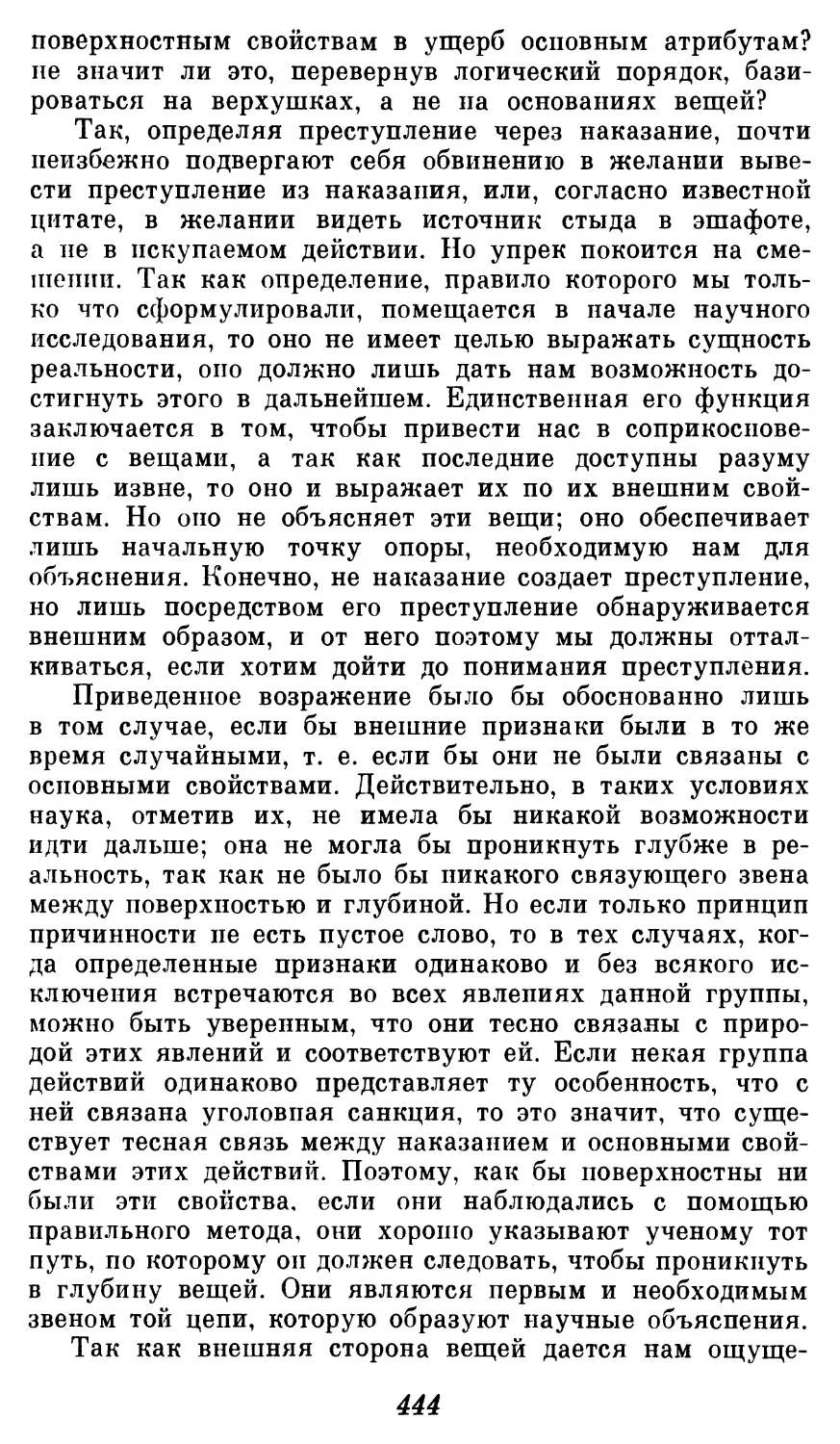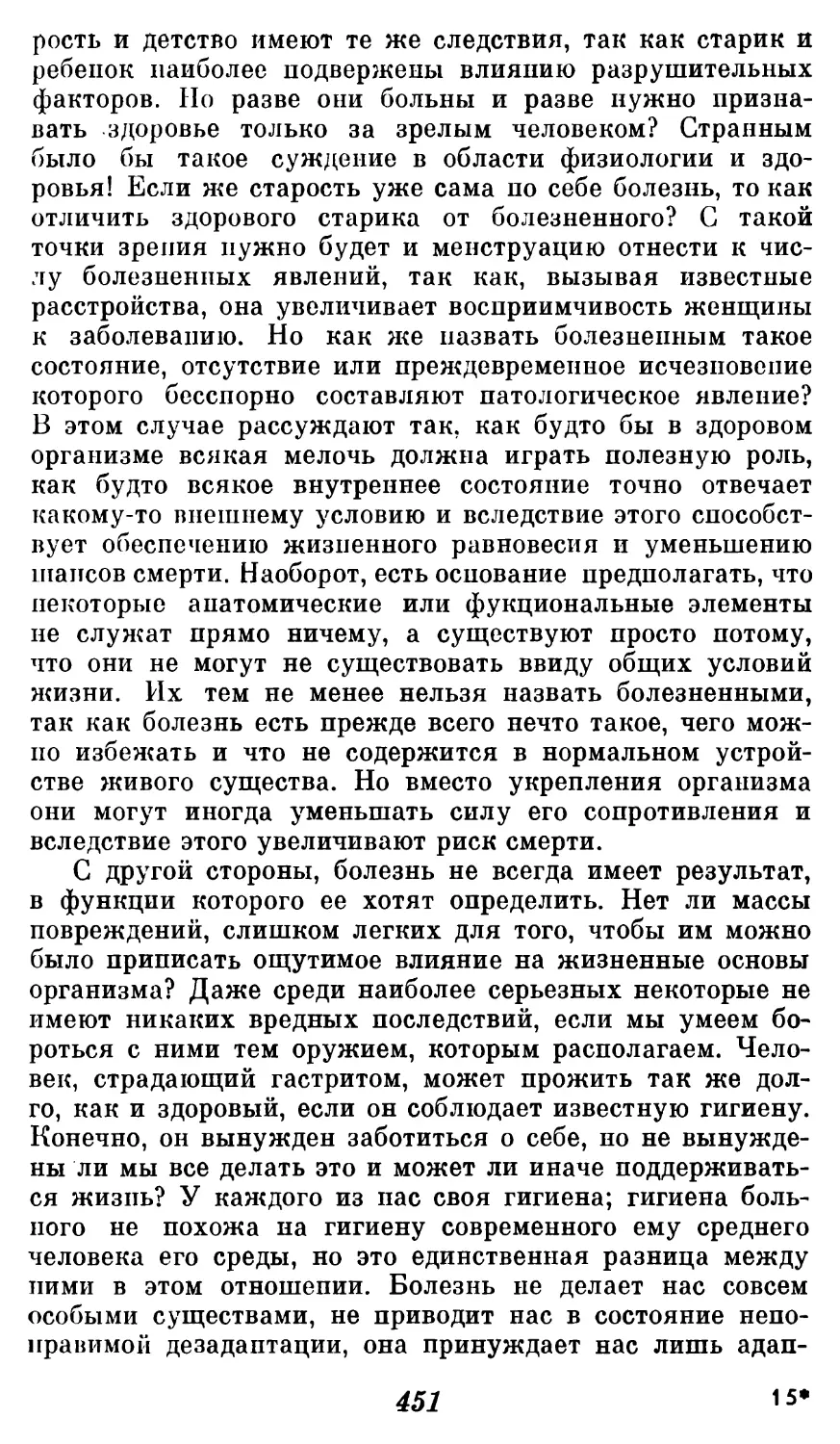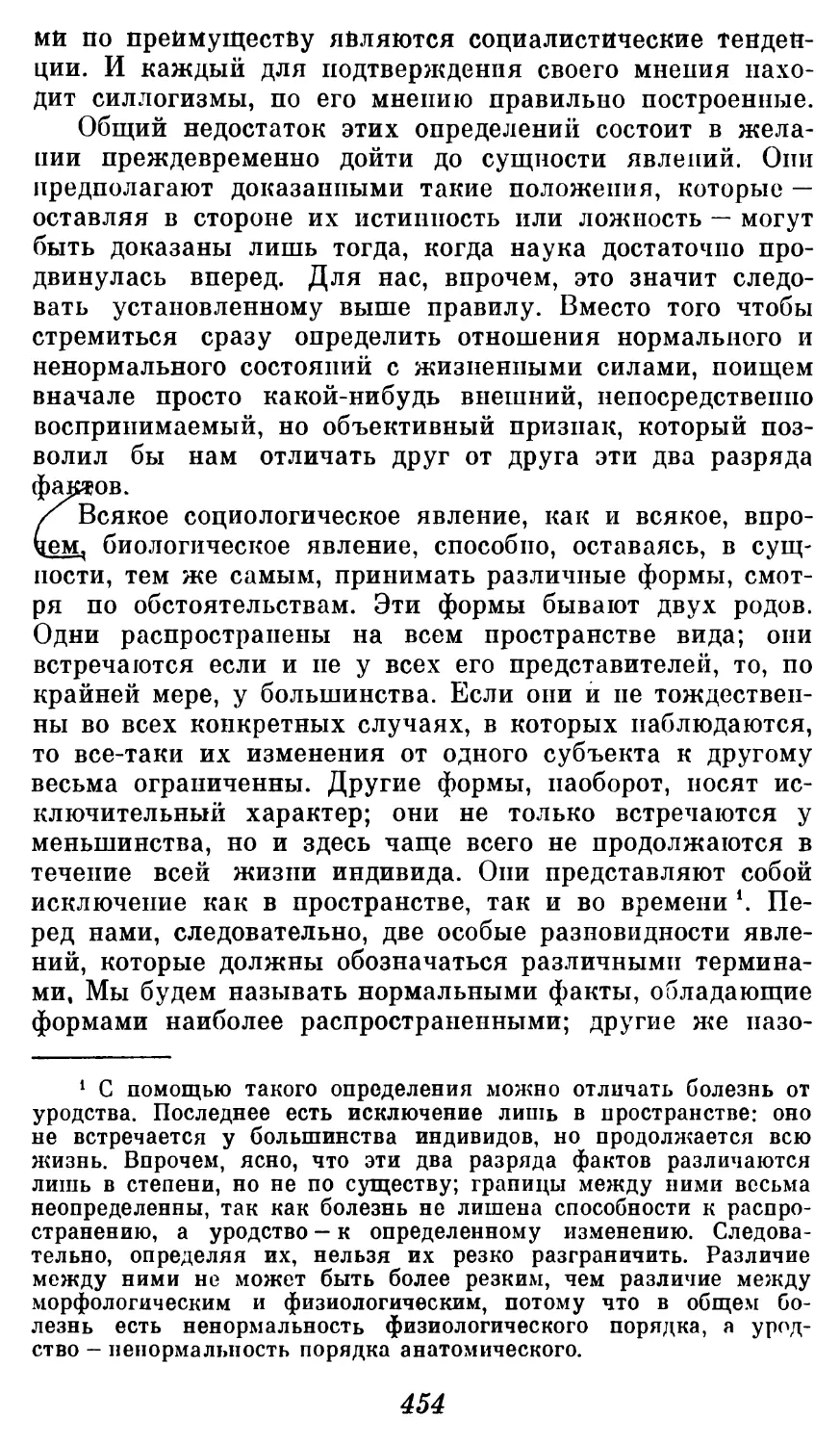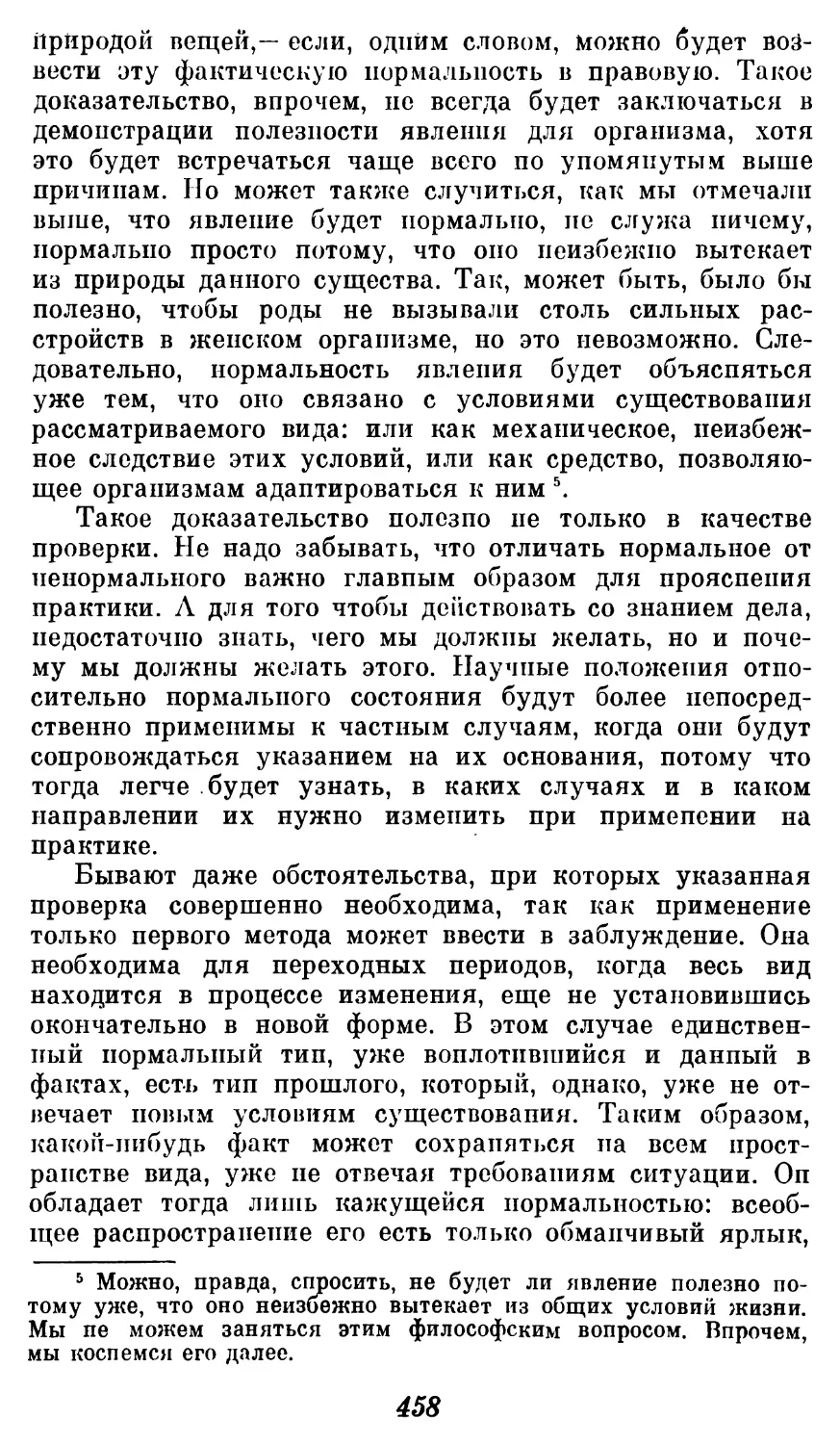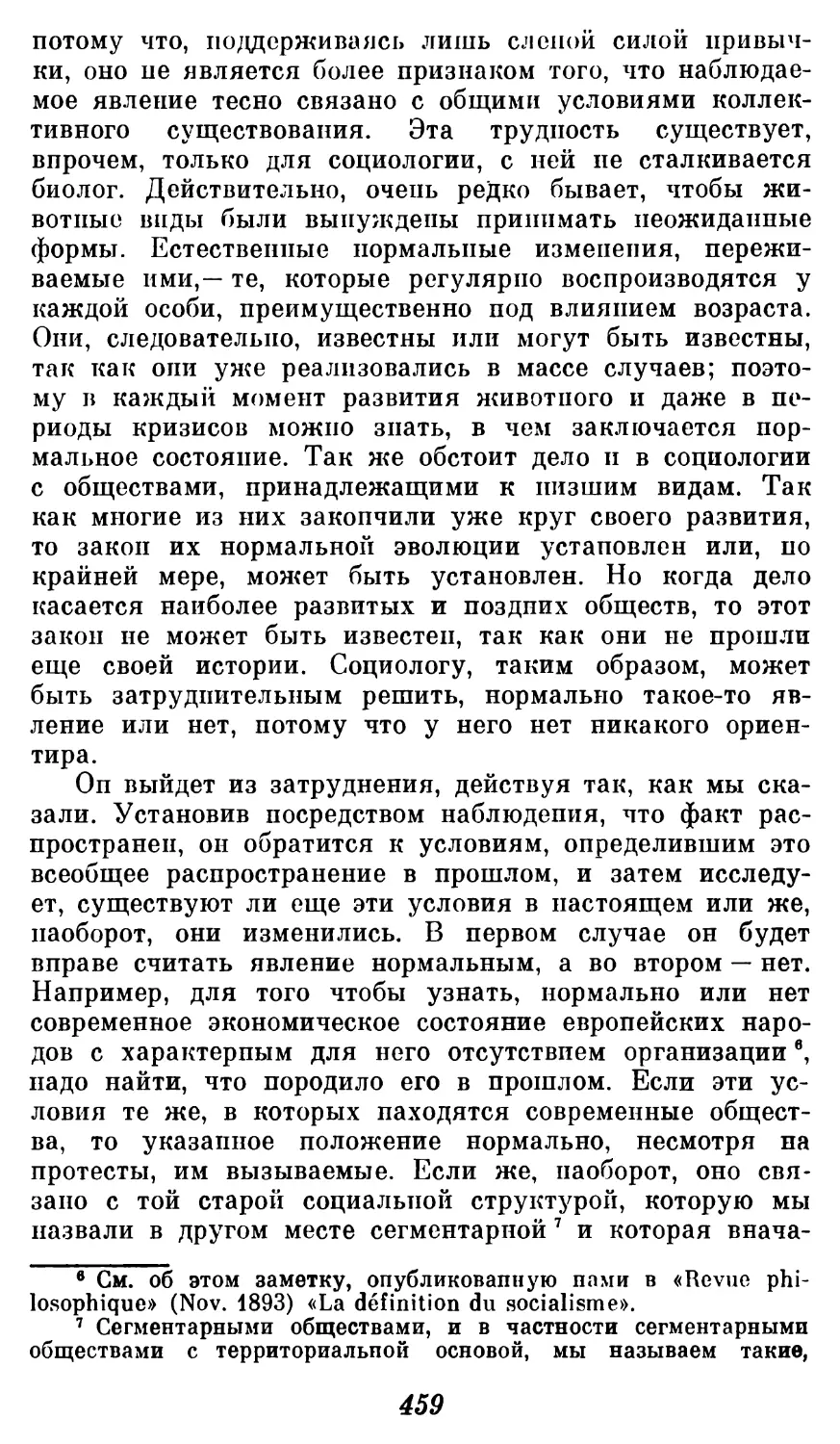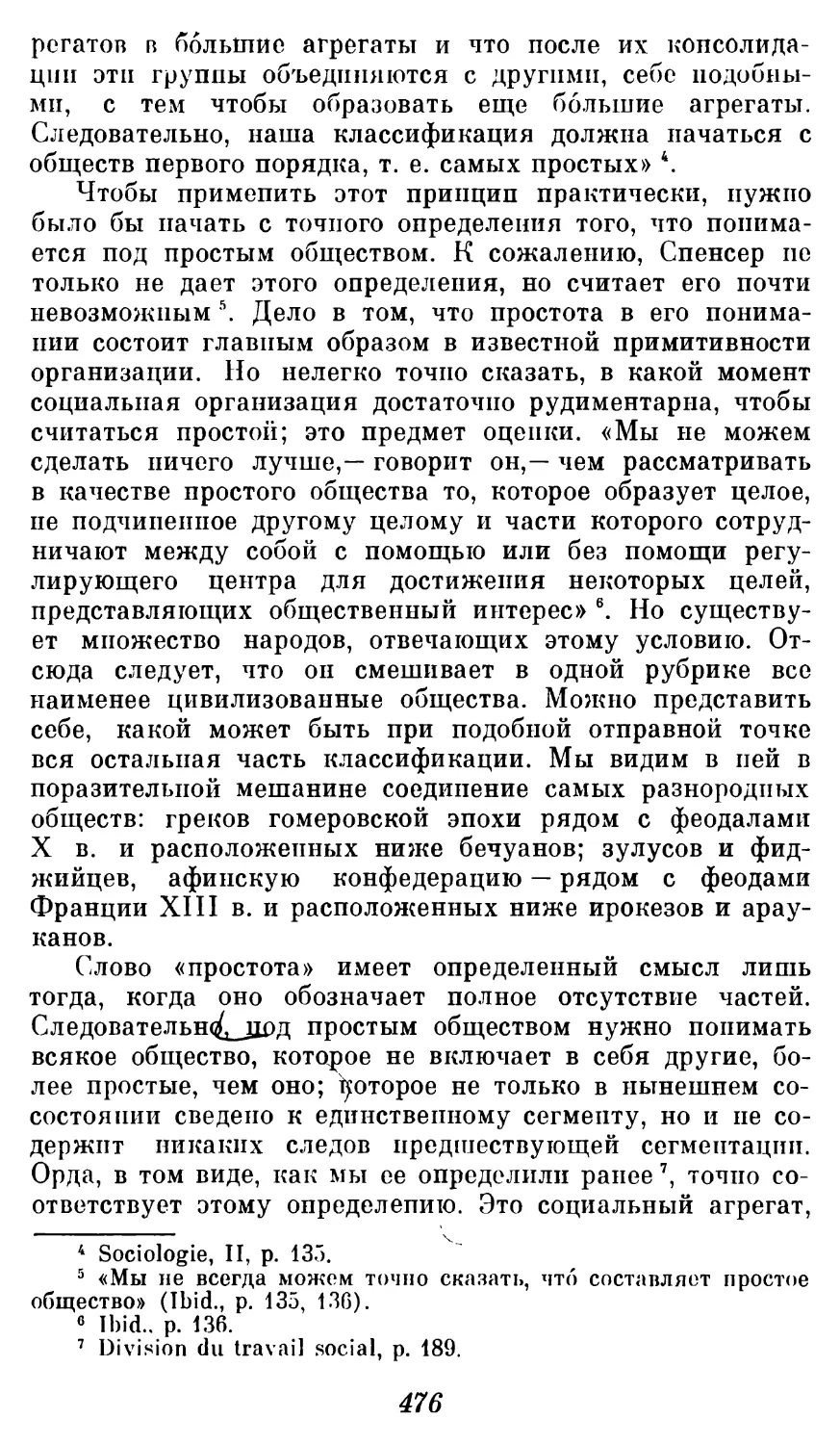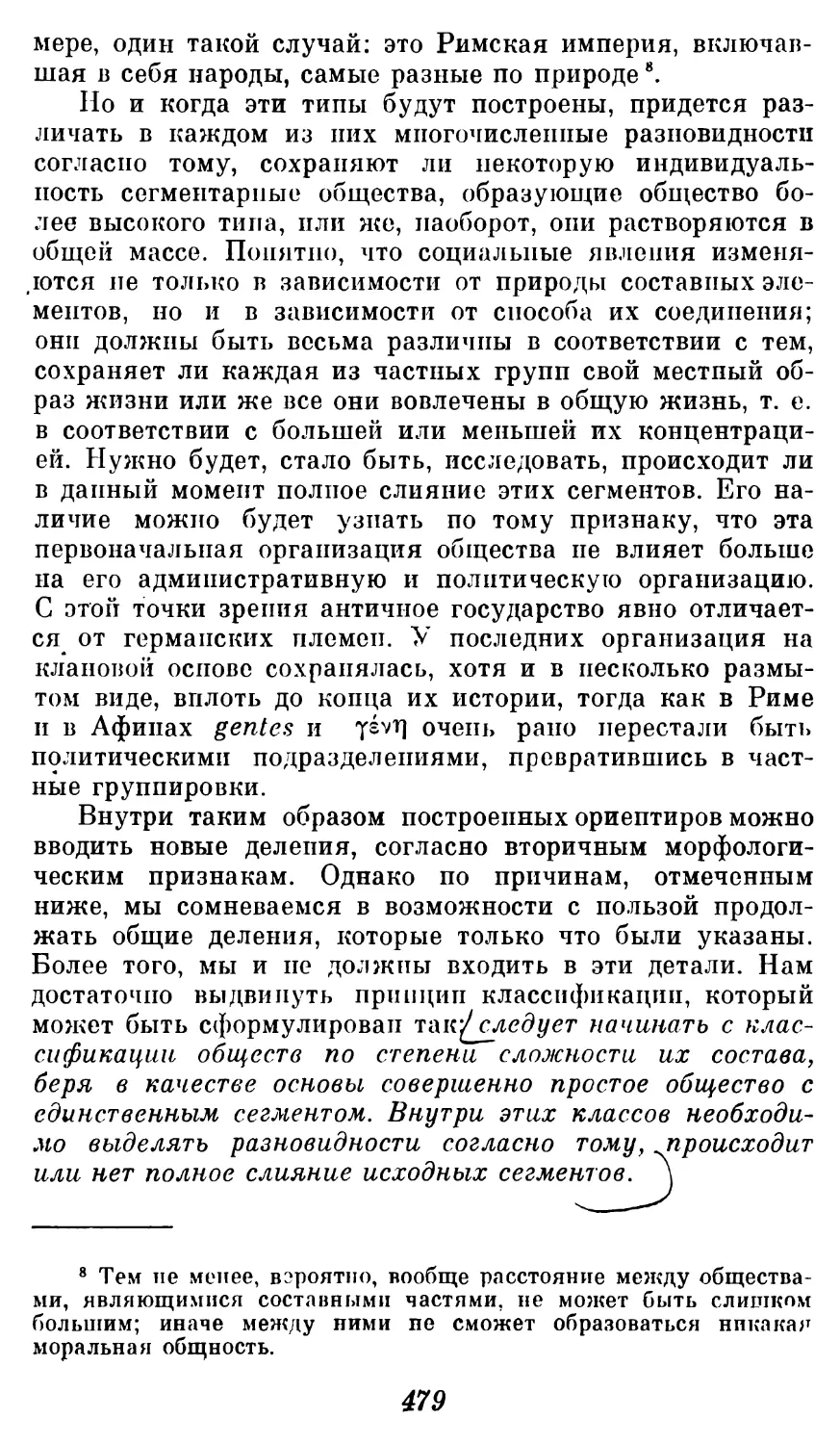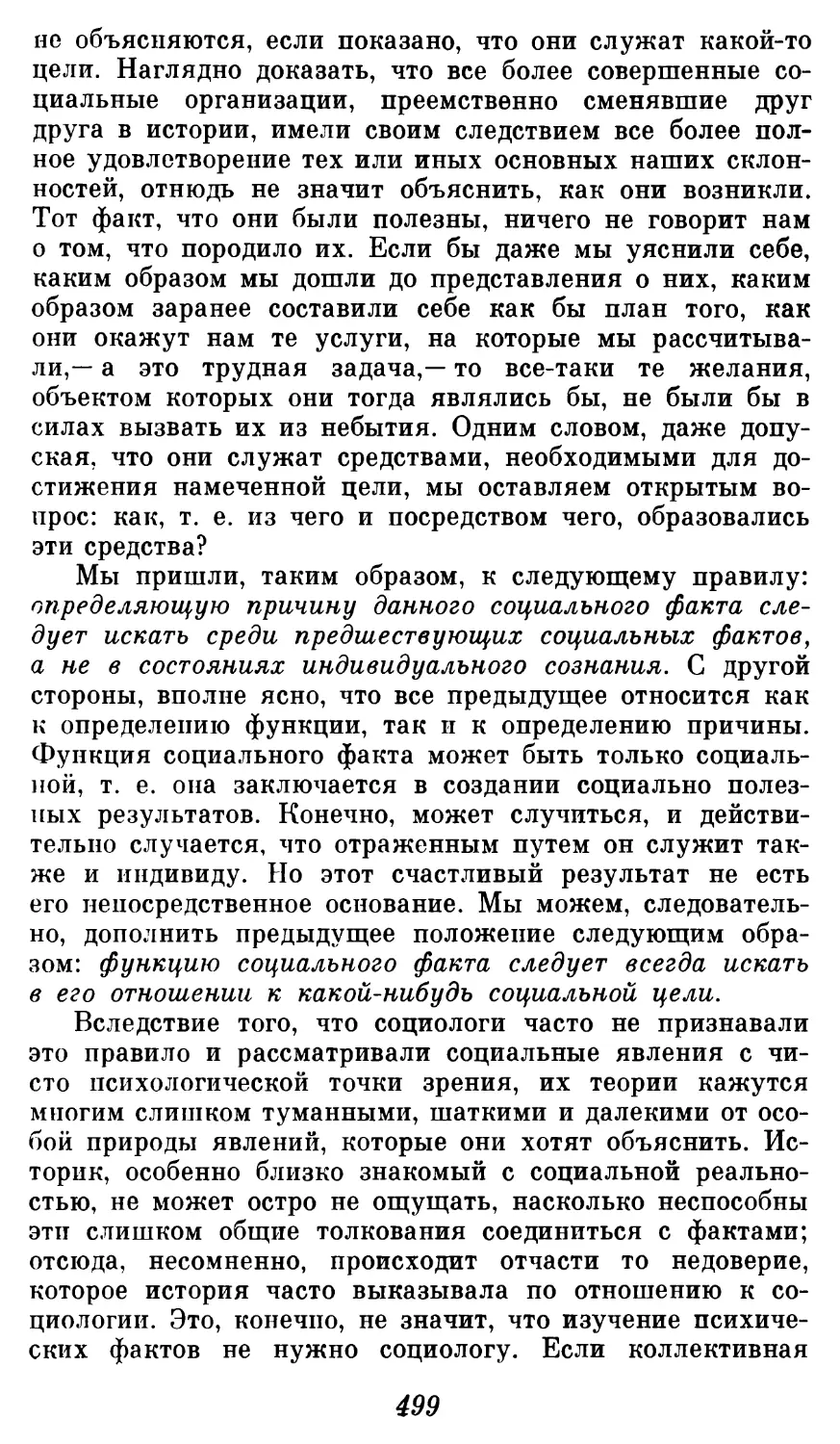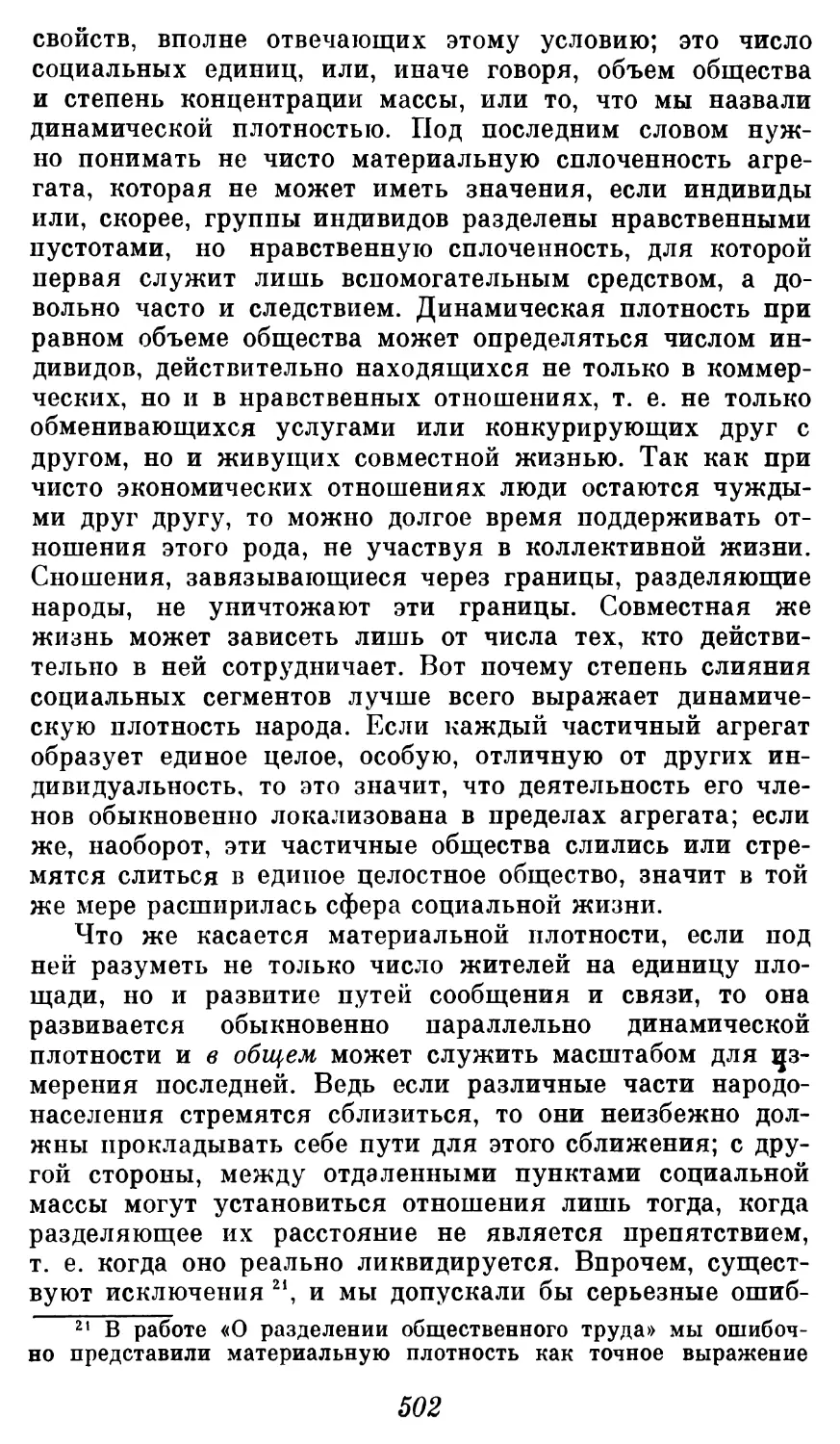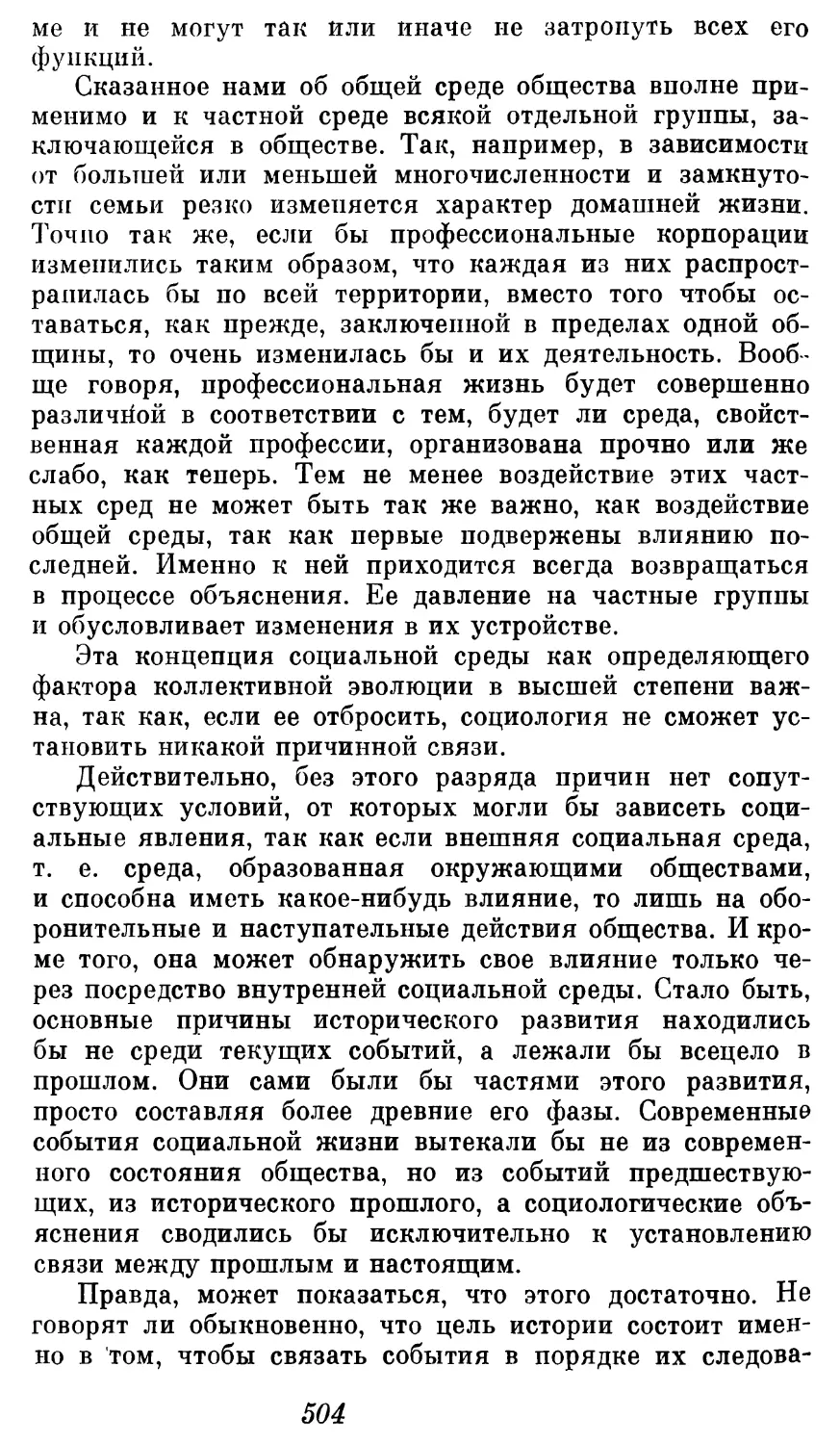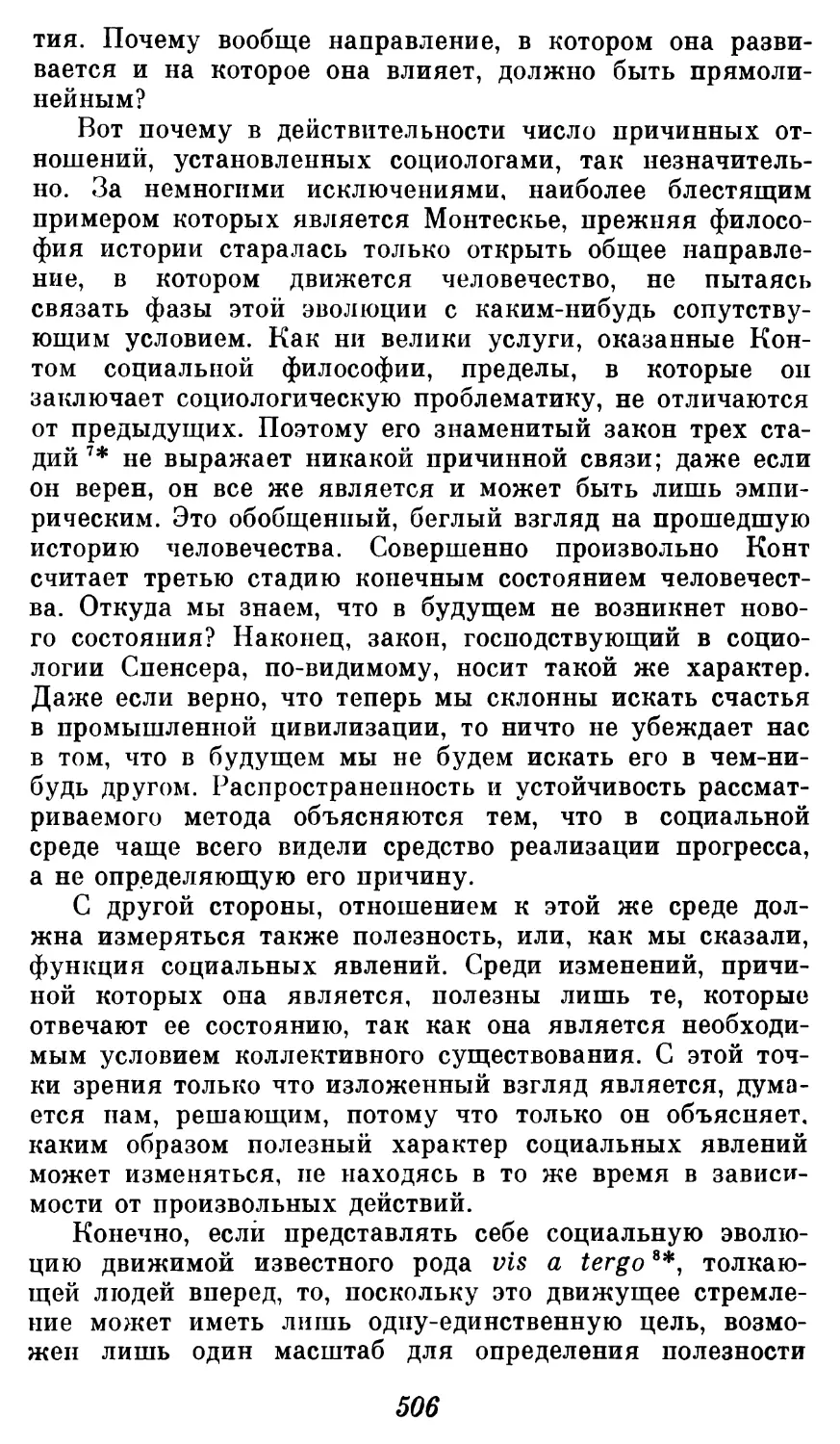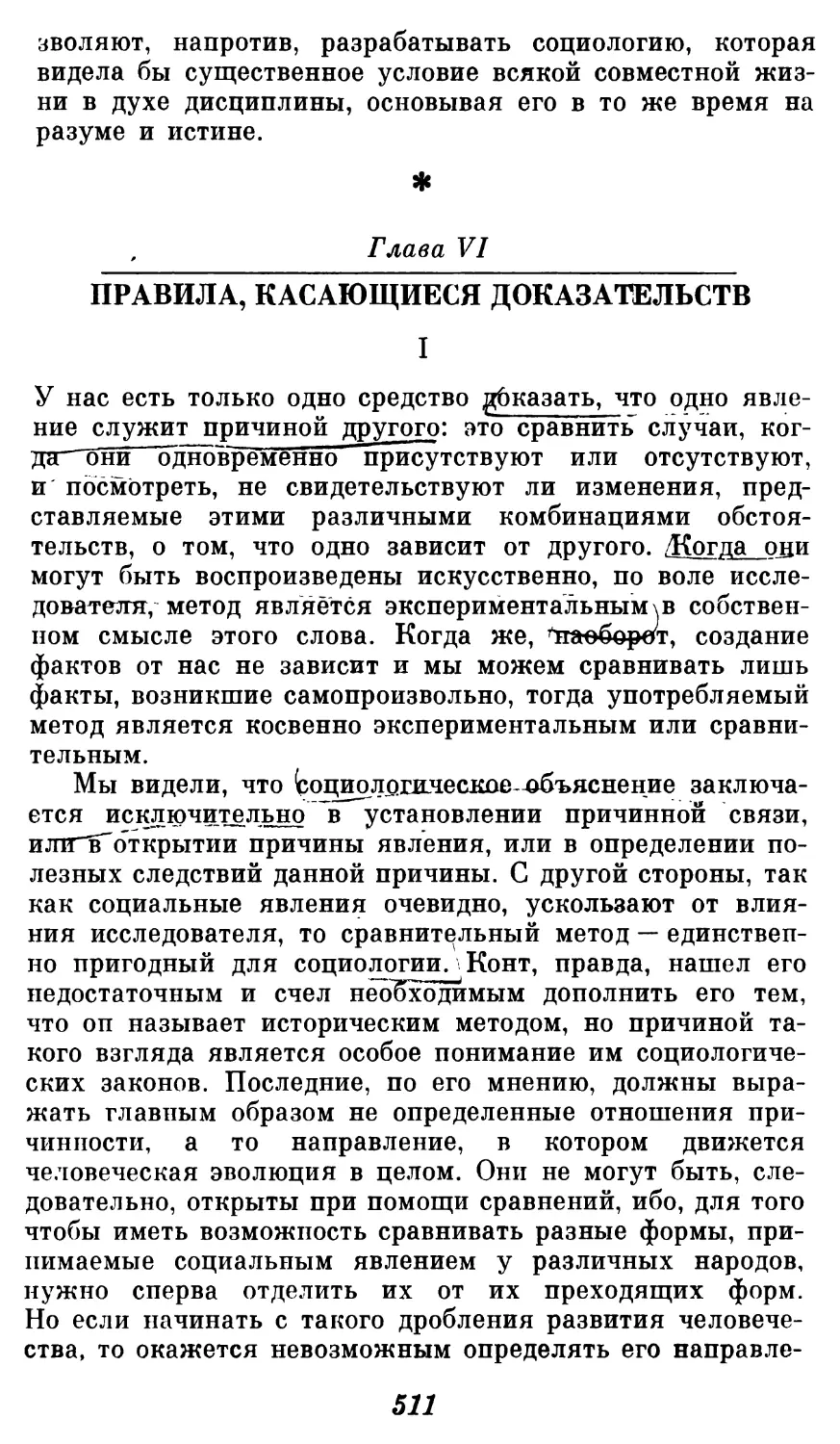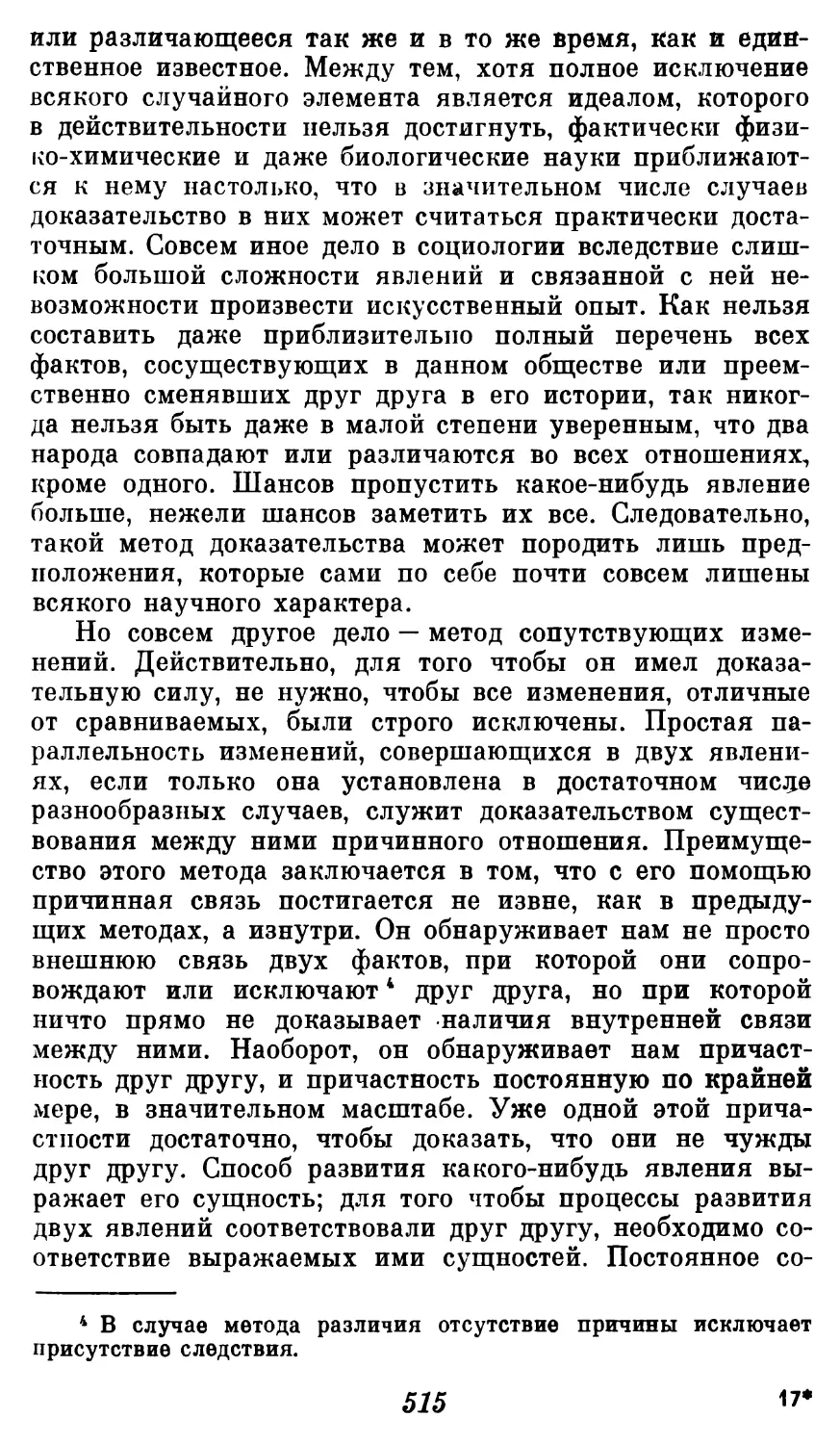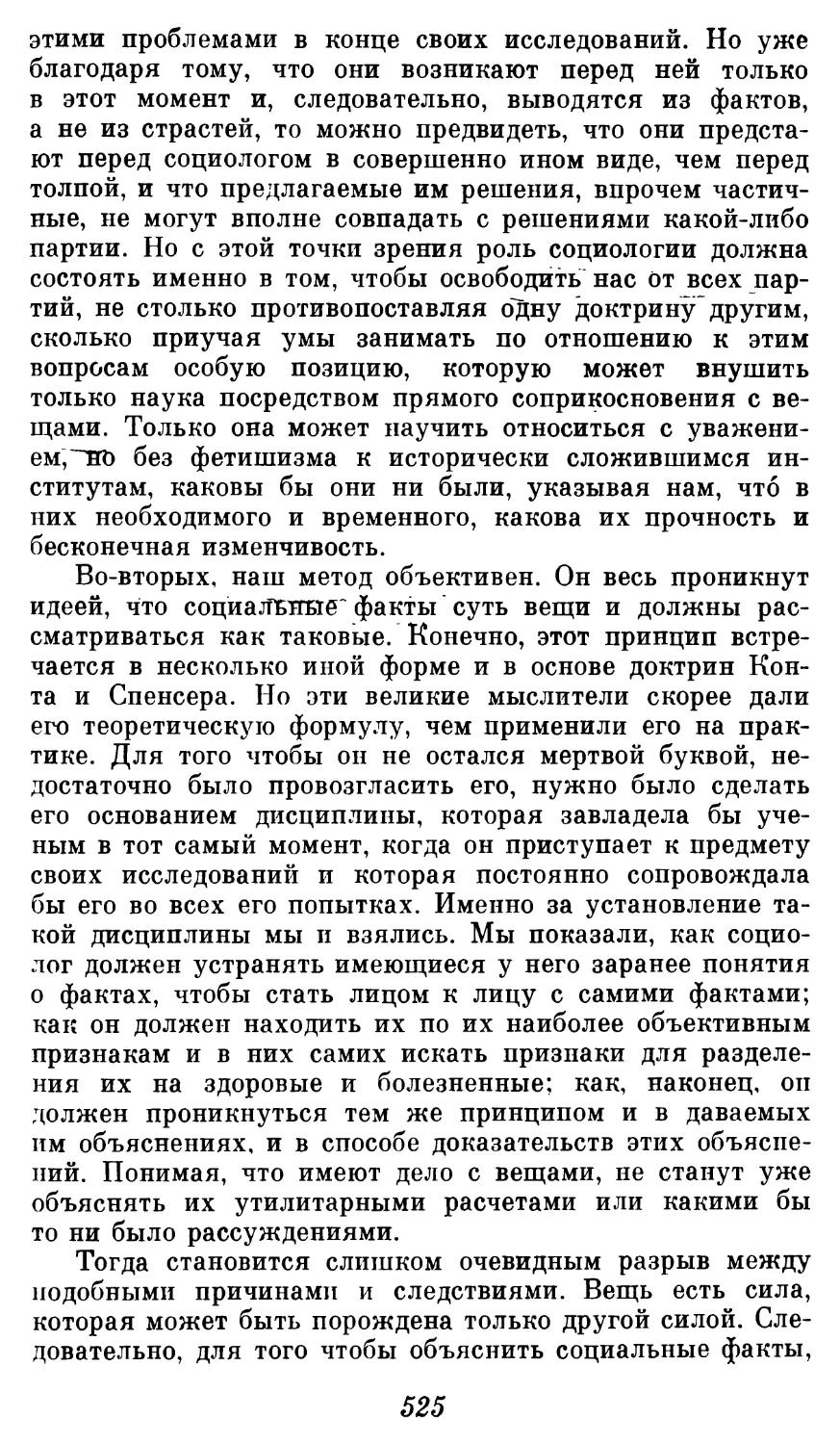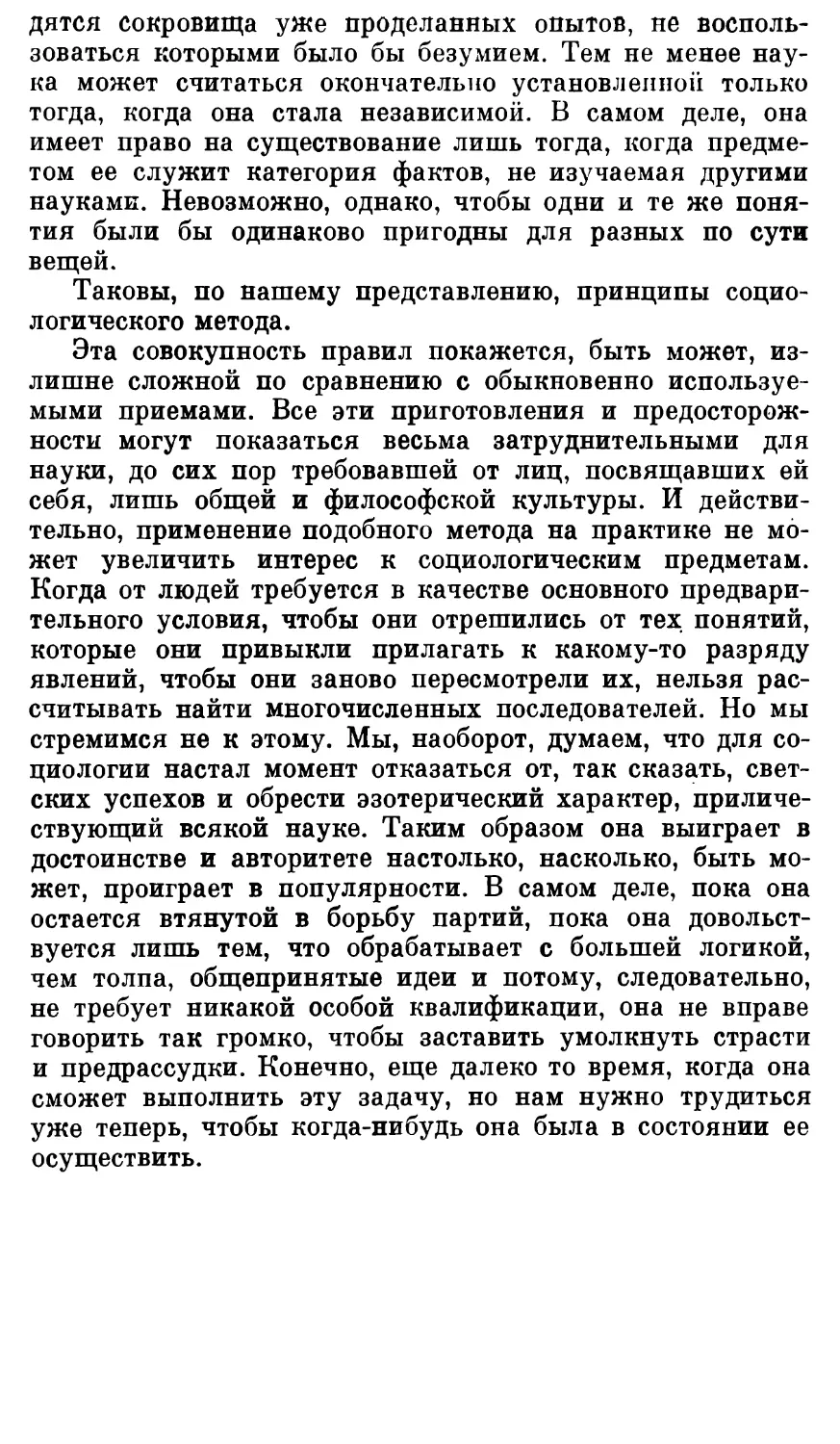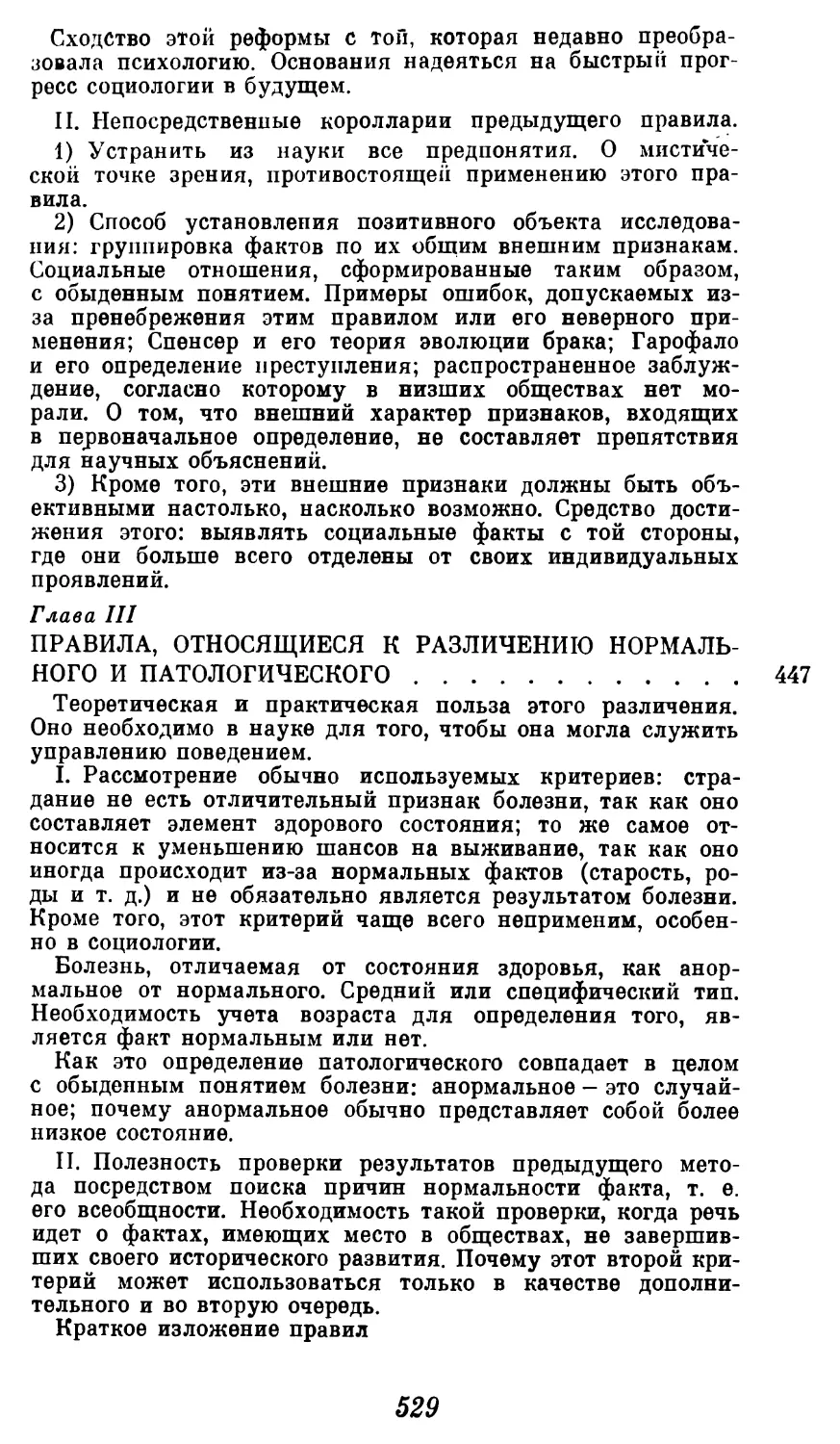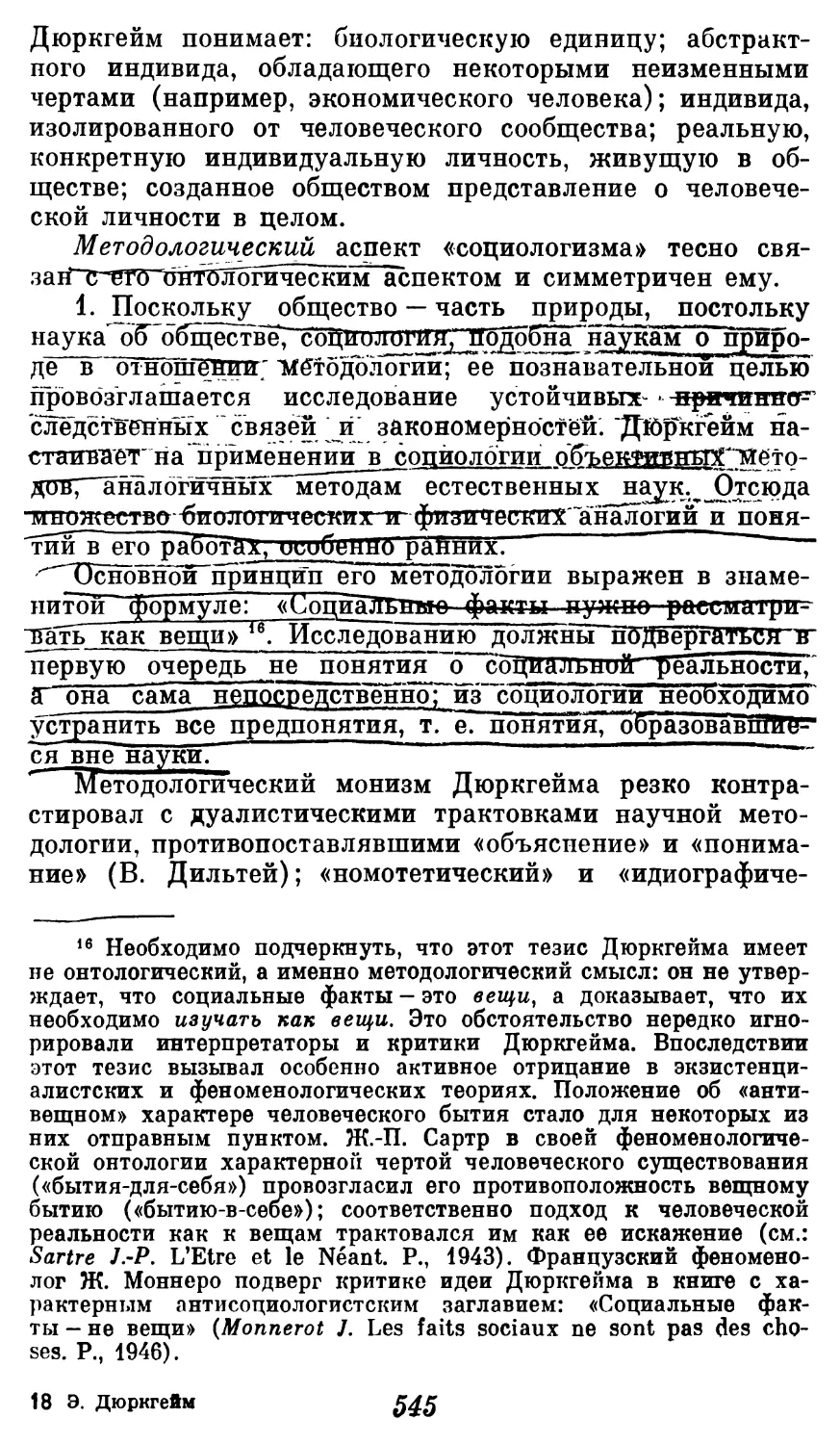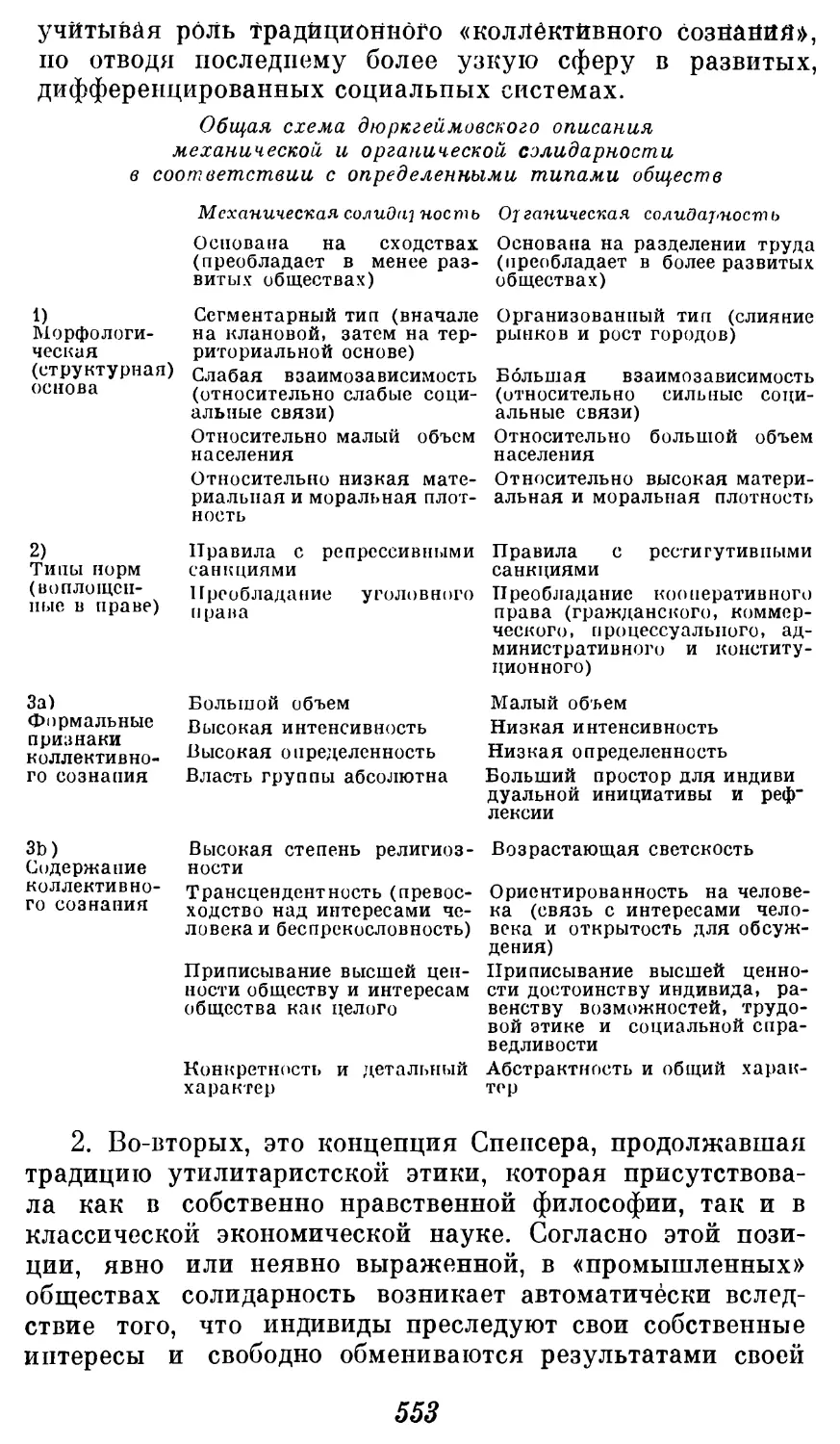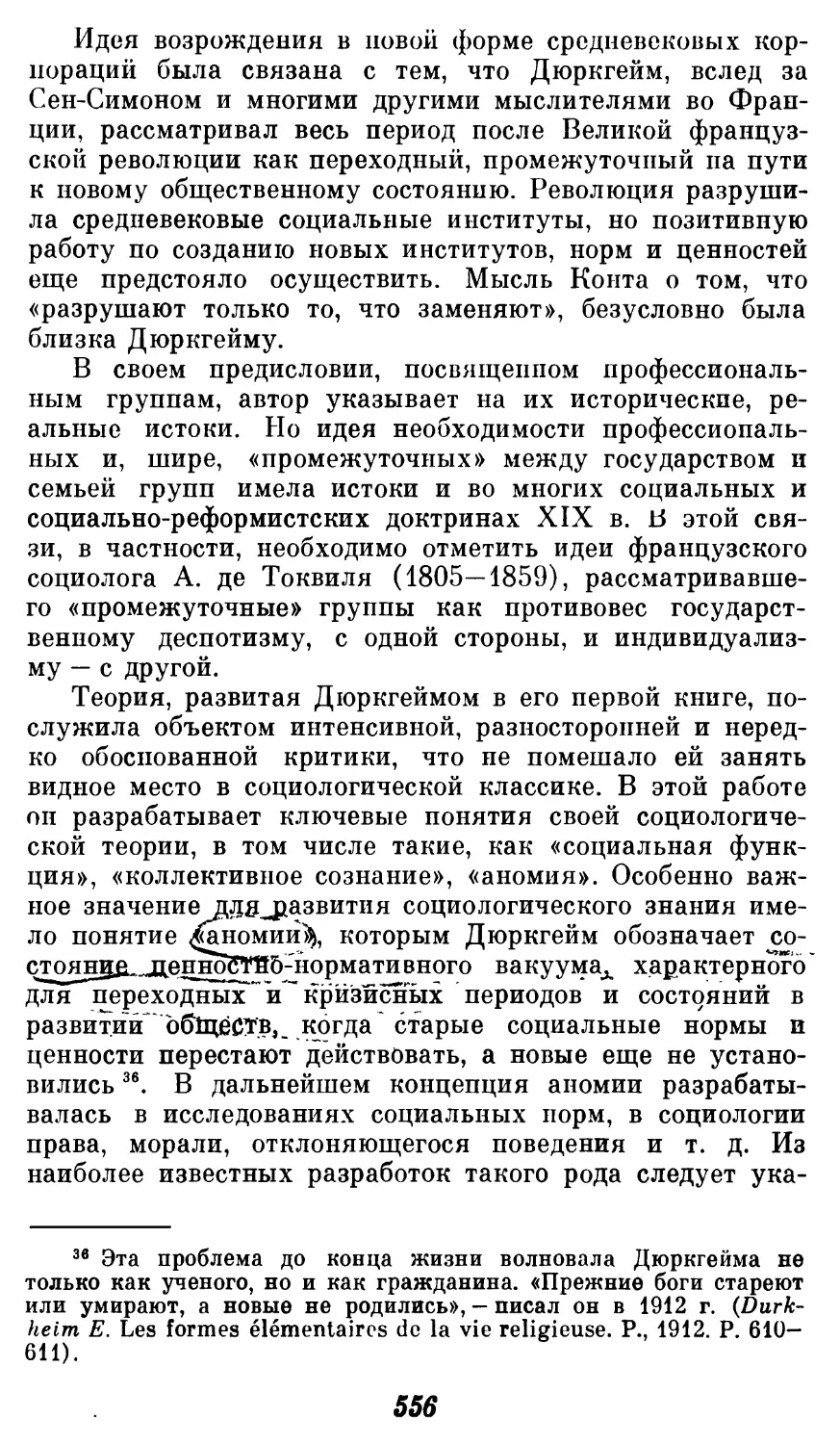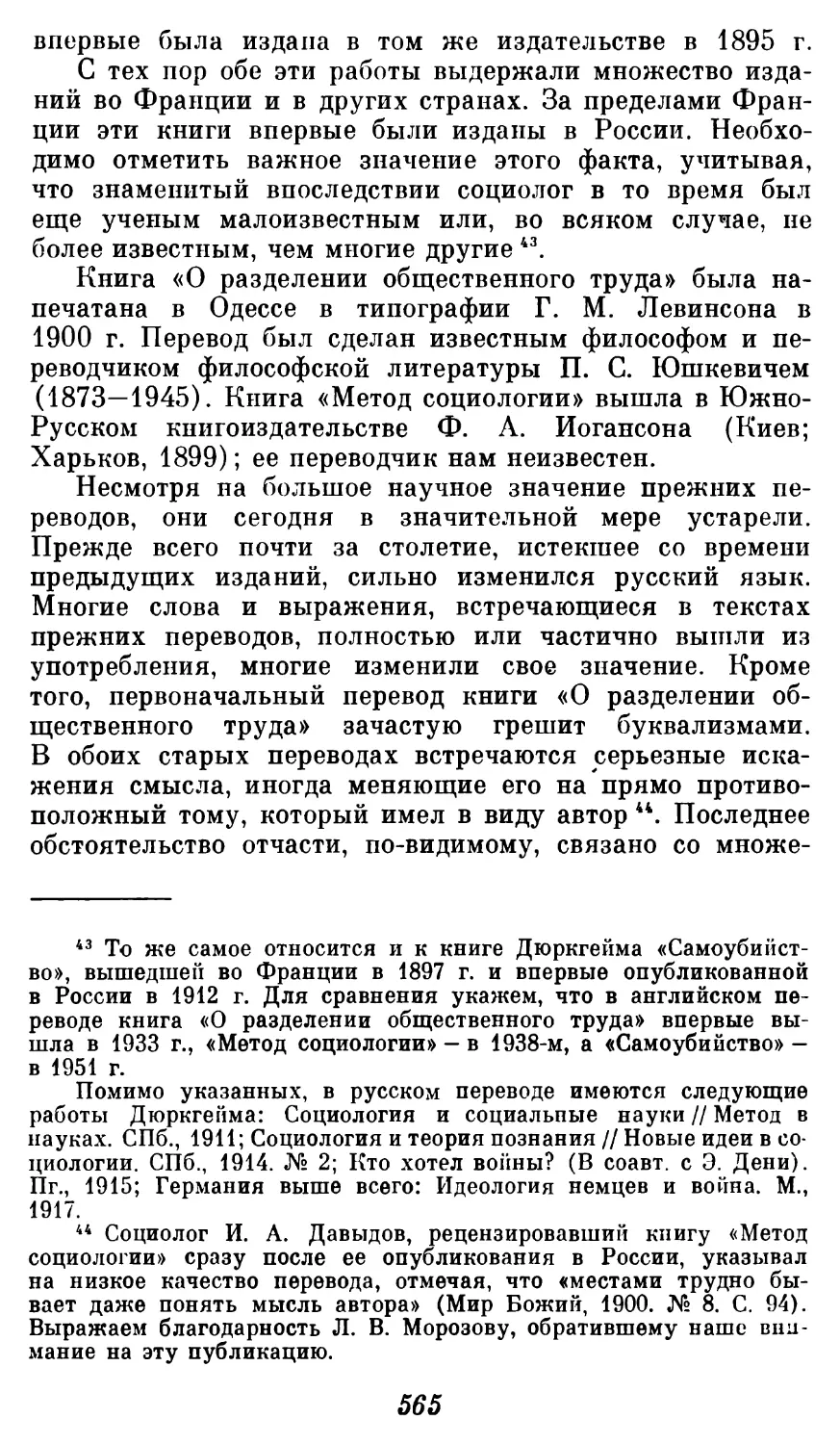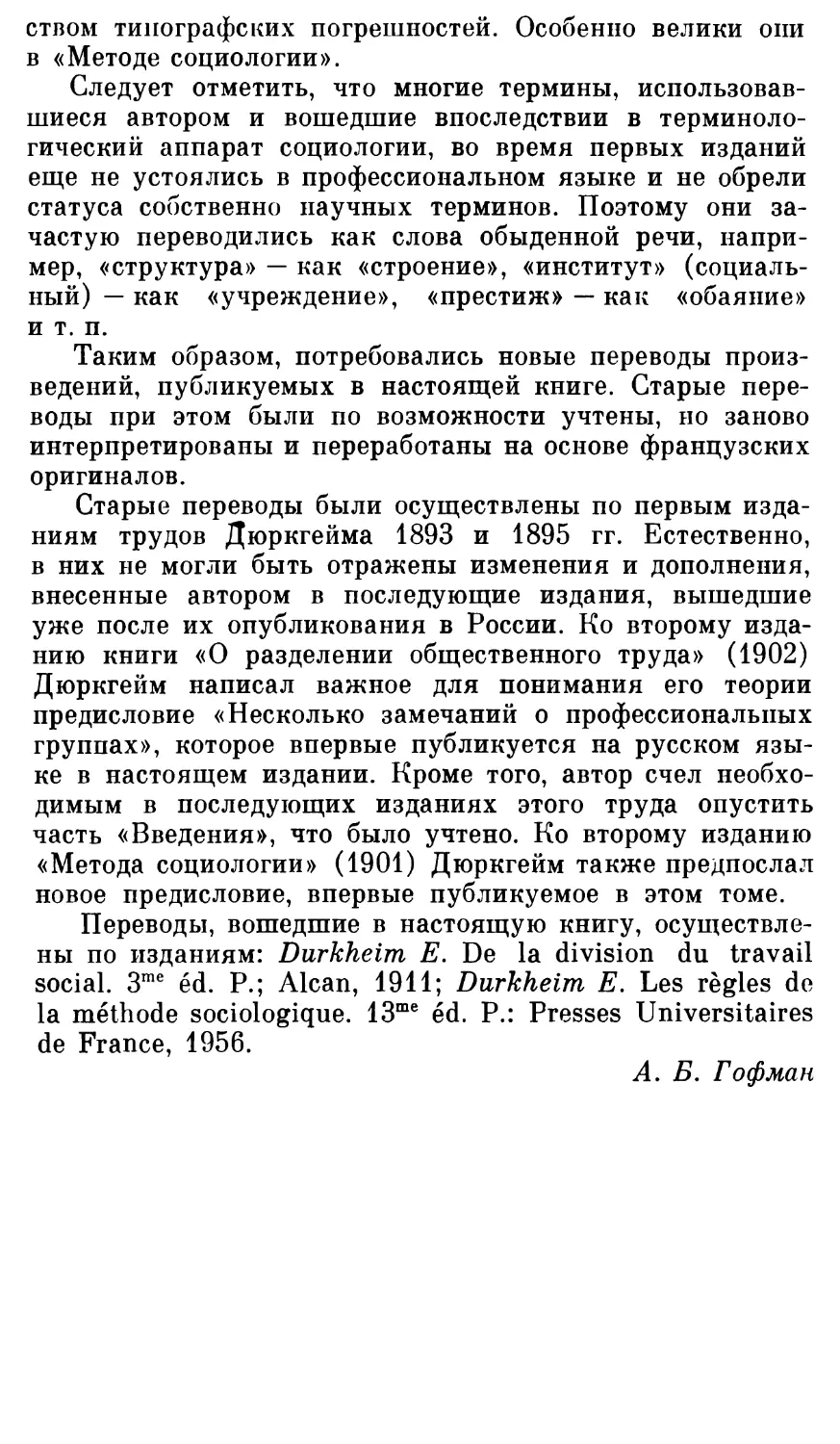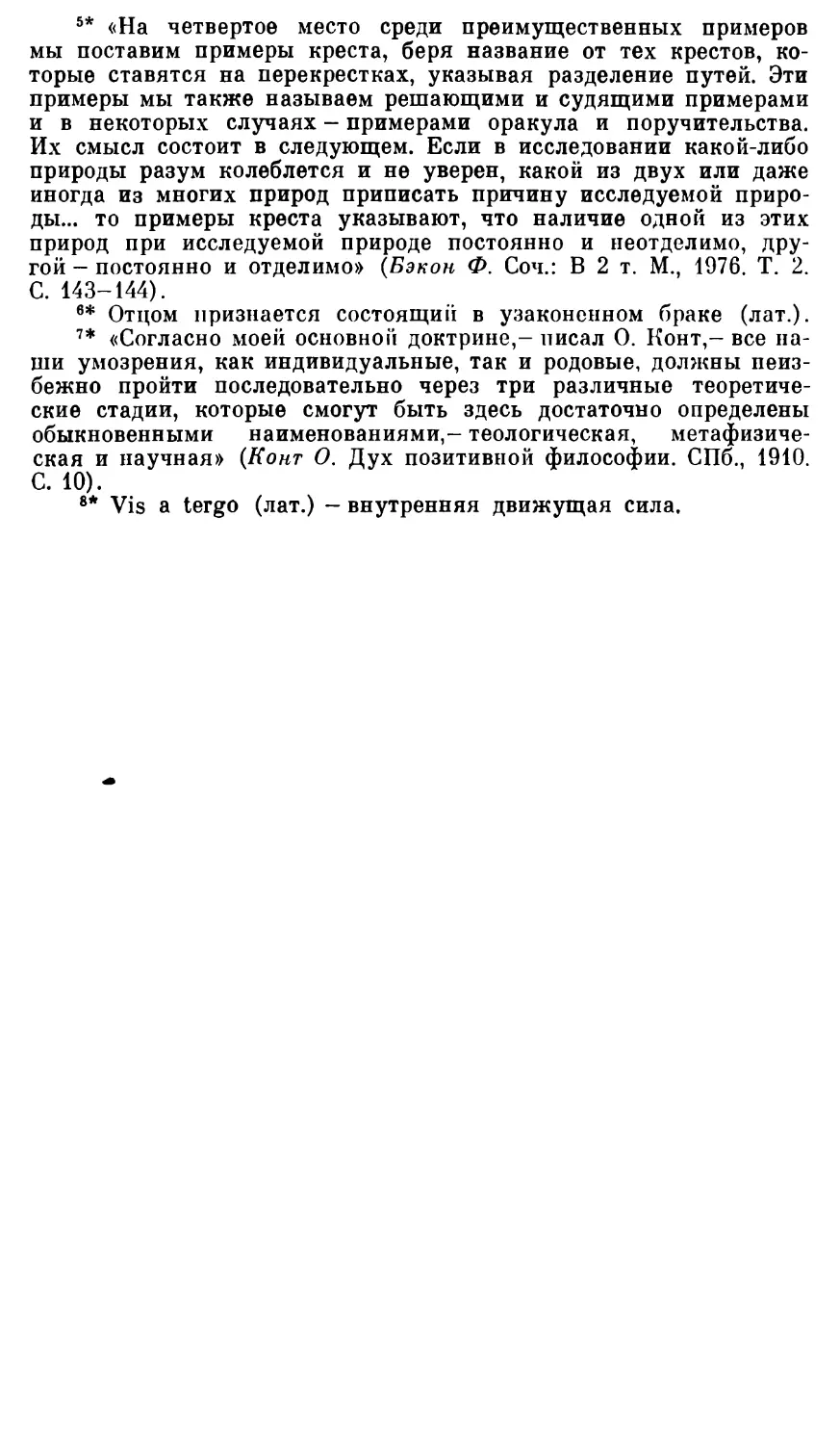Теги: социология экономика социологические исследования издательство наука
ISBN: 5-02-013399-Х
Год: 1991
Текст
ЭМИЛЬ
АЮРКГЕИМ
О разделении
общественного
труда
*
Метод
социологии
Издание подготовил
А. Б. Гофман
Москва «Наука» 1991
ББК 60.5
Д97
СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ
серия основана в 1990 г.
Редакционная коллегия:
И. А. ГОЛОСЕНКО, А. Б. ГОФМАН,
10. Н. ДАВЫДОВ (председатель), А. Д. КОВАЛЕВ,
М. С. КОВАЛЕВА (ученый секретарь),
И. С. КОН, Ю. А. ЛЕВАДА, А. Ф. ФИЛИППОВ
Перевод с французского
А. Б. ГОФМАНА
Редактор издательства
Л. С. ЧИБИСЕНКОВ
0302000000-381 og «
Д 042(02)-91 ™'™'"
ISBN 5-02-013399-Х © Перевод, послесловие,
примечания издательство
«Наука», 1991
О разделении
общественного
труда
*
Ου γάρ γίν·ται πδλις έξ
ομοίων* ετβρον γάρ συμμαχία
και πδλις.
(ARISTOTB.
Pol. Β. 1. 1261a, 24)**
fc;>n^
DE LA DIVISION
Dû
TRAME SOCIAL
4V мк %
te
4b
ч*№аж ШтШ
UBKAi&lE FÉLIX AhCAH
******* rMiX ALCà« ET ÙVtMAvmn bÈt>*l&i
m*
o*"\^
^;г>Ж^^^::^^а^й
Предисловие
ко второму изданию
НЕСКОЛЬКО ЗАМЕЧАНИЙ
О ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ГРУППАХ
Переиздавая этот труд, мы воздержались от внесения
изменений в его первоначальное содержание. Книга
обладает индивидуальностью, которую она должна
сохранить. Следует сохранить за ней тот облик, в котором она
стала известна читателям 4.
Но есть одна идея, которая в первом издании
осталась в тени и которую нам представляется полезным
обсудить отдельно и более подробно. Это позволит нам
прояснить некоторые части настоящего труда, а также
трудов, опубликованных после него 2. Речь идет о роли,
которую призваны сыграть в социальной организации
современных народов профессиональные группы.
Первоначально мы лишь слегка прикоснулись к этой
проблеме 3, так как рассчитывали вернуться к ней и
посвятить ей специальное исследование. Поскольку другие
занятия помешали нам осуществить этот замысел и
неясно, когда появится возможность его осуществить, мы
хотели бы воспользоваться этим вторым изданием и
показать, как этот вопрос связан с предметом настоящего
труда, в каких понятиях этот вопрос рассматривается,
и особенно постараться устранить причины, мешающие
еще очень многим понять его важность и актуальность.
Это и явится предметом рассмотрения в настоящем
новом предисловии.
I
На протяжении этой книги мы неоднократно
подчеркиваем состояние правовой и нравственной аномии, в
котором находится в настоящее время экономическая
1 Мы ограничились тем, что из прежнего «Введения»
опустили примерно тридцать страниц, которые в настоящее время
показались нам бесполезными. Впрочем, причину этого мы объясним
в том самом месте, где они находились.
2 См.: Дюркгейм Э. Самоубийство. Заключение.
3 См. ниже, с. 173-181, 206-207.
5
жизнь 4. Действительно, в ряду данных функций
профессиональная этика существует поистине лишь в
зачаточном состоянии. Есть профессиональная этика адвоката и
судьи, солдата и преподавателя, врача и священника
и т. д. Но если попытаться более или менее ясно
сформулировать бытующие идеи относительно того, каковы
должны быть отношения нанимателя с наемным
работником, рабочего — с главой предприятия, конкурирую-
щих промышленников между собой или с публикой, то
какие же туманные формулы мы получим! Несколько
общих мест о верности и преданности, которые наемные
работники всякого рода должпы испытывать к своим
нанимателям; об умеренности, с которой последние должны
использовать свое экономическое преобладание;
некоторое порицание за явно бесчестную конкурентную борьбу,
за слишком бросающуюся в глаза эксплуатацию
потребителя — вот почти все, чем располагает нравственное
сознание в этих профессиях. Кроме того, большинство этих
предписаний совершенно лишены юридического
характера. Они санкционированы лишь общественным мнением,
пе законом, а мы хорошо знаем, насколько это мнение
снисходительно в отношении выполнения отмеченных
расплывчатых обязанностей. Действия, достойные
самого сурового осуждения, столь часто оправдываются
успехом, что граница между дозволенным и запретным,
справедливым и несправедливым теперь совершенно
неустойчива и, кажется, может перемещаться индивидами
почти произвольно. Столь неопределенная и
неустойчивая мораль не сможет создать дисциплину. Отсюда
следует, что вся эта сфера коллективной жизни в
значительной мере лишена умеряющего воздействия образца.
Именно с этим аномическим состоянием, как мы
покажем далее, связаны непрерывно возрождающиеся
конфликты и всякого рода беспорядки, грустное зрелище
которых разворачивается перед нами в экономическом
мире. Поскольку ничто не сдерживает существующие
силы и не очерчивает им границ, которые бы они
уважали, они стремятся развиться неограниченно, взаимно
подавить и покорить друг друга. Конечно, сильнейшим
удается подавить слабейших и подчинить их себе. Но
подчиненный, если и покоряется на какое-то время
гнету, который он вынужден терпеть, все-таки с этим не
согласен, и, следовательно, в результате не сможет уста-
4 См. ниже, с. 206-2(17, 328 и дал.
6
повиться устойчивое равновесие5. Насильно
навязываемые перемирия всегда носят временный характер и не
умиротворяют людей. Человеческие страсти
успокаиваются только перед лицом нравственной силы, которую они
уважают. Если всякий авторитет такого рода
отсутствует, то господствует право сильного и явное или скрытое
состояние войны непременно становится хроническим.
То, что такая анархия — явление болезненное,
совершенно очевидно, поскольку она противоречит самой цели
существования всякого общества, которая состоит в
уничтожении или, по крайней мере, ослаблении войны
между людьми, подчиняя физическое право сильнейшего
более высокому закону. Напрасно для оправдания этого
разрегулированного состояния подчеркивают, что оно
способствует развитию свободы индивида. Нет ничего
более ложного, чем антагонизм между авторитетом
образца и свободой индивида, антагонизм, который слишком
часто старались обнаружить. Наоборот, свобода (мы
имеем в виду настоящую свободу, уважение к которой
общество обязано обеспечить) сама есть продукт
регламентации. Я могу быть свободным только в той мере, в
какой другой удерживается от того, чтобы воспользоваться
своим физическим, экономическим или каким-либо иным
превосходством для порабощения моей свободы, и только
социальный образец может воспрепятствовать этому
злоупотреблению силой. Известно теперь, какая сложная
регламентация необходима, чтобы обеспечить индивидам
экономическую независимость, без которой их свобода
лишь номинальна.
Но особенно в настоящее время усиливает
исключительную серьезность этого положения неизвестное ранее
развитие экономических функций, происшедшее
примерно в последние два столетия. В то время как в былые
времена они играли лишь второстепенную роль, теперь
они выдвинулись на первое место. Мы далеки от тех
времен, когда они с высокомерием оставлялись в удел
низшим классам. Перед ними все более отступают
военные, административные, религиозные функции. Только
научные функции в состоянии соперничать с ними, да и
паука теперь обладает престижем почти в той же мере,
и какой она может служить практике, т. е. в
значительной части — экономическим занятиям. Вот почему не без
основания было сказано, что наши общества являются
См. Кн. III, гл. I. § III.
7
или стремятся быть главным образом промышленными.
Форма деятельности, занявшая столь важное место в
нашей социальной жизни в целом, не может, очевидно,
оставаться до такой степени неотрегулированной, чтобы
не вызывать самые глубокие потрясения. Это особенно
важный источник общей деморализации. Именно потому,
что экономические функции теперь охватывают
наибольшее число граждан, есть масса индивидов, жизнь
которых почти целиком протекает в промышленной и
торговой среде. Отсюда следует, что, поскольку эта среда
весьма слабо отмечена печатью нравственности,
наибольшая часть их существования протекает вне всякого
морального влияния. Но, чтобы чувство долга прочно
укоренилось в нас, нужно, чтобы сами обстоятельства, в
которых мы живем, постоянно держали его в состоянии
готовности. Естественным образом мы не склонны
стеснять и принуждать себя. Поэтому если нас непрерывно
не побуждают к тому, чтобы принуждать себя, без чего
нет морали, то откуда возьмется у нас эта нравственная
привычка? Если в процессе занятий, заполняющих почти
все наше время, мы не следуем никакому иному
правилу, кроме, разумеется, нашей выгоды, то как появится у
нас склонность к бескорыстию, самоотдаче,
самопожертвованию? Таким образом, отсутствие всякой
экономической дисциплины не может не распространить свое
влияние за пределы собственно экономической сферы и не
повлечь за собой снижение уровня общественной морали.
Болезнь установлена, но какова ее причина и каким
может быть лекарство от нее?
В основной части работы мы стремимся показать, что
разделение труда не может быть ответственным за эту
болезнь, в чем его иногда несправедливо обвиняли; оно
не обязательно вызывает разрушение связей, но функции,
когда они находятся в достаточном контакте друг с
другом, сами собой друг друга уравновешивают и
регулируют. Но это объяснение неполно. Если и верно, что
социальные функции самопроизвольно стремятся
адаптироваться друг к другу при условии их регулярного
взаимодействия, то, с другой стороны, этот способ
адаптации становится правилом поведения только тогда,
когда группа освящает его своим авторитетом. В самом
деле, образец — это не только привычный способ
действия; это прежде всего обязательный способ действия,
т. е. в какой-то мере пеподвластный индивидуальному
произволу. Но только сформированное общество поль-
8
зуется моральным и материальным превосходством,
необходимым для того, чтобы иметь силу закона для
индивидов, так как единственной нравственной личностью,
находящейся над отдельными индивидами, является та,
что образована группой. Только она также обладает
преемственностью и постоянством, необходимыми для того,
чтобы поддерживать образец за мимолетными
отношениями, воплощающими его ежедневно. Более того, роль
группы не ограничивается просто возведением в ранг
повелительных предписаний самых общих результатов
отдельных договоров; она активно и положительно
вмешивается в создание всякого образца. Во-первых, она
является естественным арбитром для разрешения
конфликтующих интересов и определения каждому
соответствующих границ. Во-вторых, она первая заинтересована в
том, чтобы царили порядок и мир; если аномия — это
болезнь, то потому, что от нее страдает прежде всего
общество, которое, чтобы жить, не может обойтись без
согласия и урегулированности. Таким образом,
нравственная или юридическая регламентация выражает
главным образом социальные потребности, которые может
знать только общество; она основана на состоянии
мнения, а всякое мнение — явление коллективное, результат
коллективной работы. Чтобы аномия кончилась, нужно,
стало быть, чтобы существовала или сформировалась
группа, в которой могла бы возникнуть ныне
отсутствующая система образцов.
Ни политическое общество в целом, ни государство,
очевидно, не в состоянии справиться с этой функцией;
поскольку экономическая жизнь очень
специализированна и специализируется с каждым днем еще больше, она
ускользает от их компетенции и воздействия6.
Профессиональная деятельность может действенно
регламентироваться только группой, достаточно близкой к самой
профессии, чтобы чувствовать все ее потребности и иметь
возможность следить за всеми их изменениями.
Единственная группа, которая соответствовала бы этим
условиям,— это группа, которая была бы образована всеми
работниками одной и той же отрасли промышленности,
объединенными в единую организацию. Это то, что
называют корпорацией или профессиональной группой.
Однако профессиональная группа отсутствует в
экономическом строе точно так же, как и профессио-
β Мы вернемся далее к этому вопросу (с. 333 и след.).
9
нальная этика. С тех пор как прошлый век не без
основания упразднил старинные корпорации,
предпринимались лишь малочисленные, слабые и непоследовательные
попытки восстановить их на новой основе. Конечно,
индивиды, принадлежащие к одной и той же профессии,
находятся в каких-то отношениях между собой уже
благодаря сходству их занятий. Даже конкуренция
связывает их. Но в этих отношениях нет ничего регулярного;
они зависят от случайных контактов и чаще всего носят
сугубо индивидуальный характер. Такой-то
промышленник находится в контакте с другим; это не
промышленная организация такой-то специальности,
объединившаяся для совместной деятельности. Исключения составляют
те случаи, когда все представители одной и той же
профессии собираются на конгрессы, чтобы обсудить какой-
нибудь вопрос, представляющий общий интерес. Но эти
конгрессы всегда длятся короткий промежуток времени,
они тесно привязаны к определенным частным
обстоятельствам. Поэтому коллективная жизнь, которая в них
проявляется, так или иначе угасает вместе с ними.
Единственными группами, обладающими некоторым
постоянством, являются те, что теперь называют
профессиональными союзами, как предпринимателей, так и
рабочих. Конечно, в них есть начало профессиональной
организации, но еще очень бесформенное и
рудиментарное. Прежде всего профсоюз есть частная ассоциация,
лишенная правовой и, следовательно, всякой
регламентирующей власти. Их число теоретически неограниченно
даже внутри одной и той же промышленной категории,
и поскольку каждый из них независим от других, если
только они не объединяются в федерацию, то в них нет
ничего, что выражает единство профессии в целом.
Наконец, профсоюзы предпринимателей и профсоюзы
наемных работников не только отличны друг от друга, что
правомерно и необходимо, но между ними нет
регулярных контактов. Не существует общей организации,
которая бы их сближала, не лишая их индивидуальности, где
бы они могли совместно разрабатывать принципы,
регулирующие их взаимоотношения и одинаково
авторитетные для тех и других; поэтому право сильного
по-прежнему разрешает конфликты, а состояние войны целиком
сохраняется. Если не считать действий, связанных с
общественной моралью, предприниматели и рабочие по
отношению друг к другу находятся в том же положении,
что и самостоятельные, но неравные по силе государства.
10
Они могут, как это делают народы при посредничестве
своих правительств, заключать между собой договоры.
По эти договоры выражают лишь соотношение наличных
экономических сил, так же как договоры, заключаемые
двумя воюющими сторонами, лишь выражают
соотношение их военных сил. Они освящают фактическое
положение и не смогут превратить его в правовое состояние.
Для того чтобы профессиональные этика и право
смогли утвердиться в различных экономических профессиях,
нужно, стало быть, чтобы корпорация вместо
неупорядоченного и аморфного агрегата, каковым она остается,
стала или, точнее, вновь стала четко организованной
группой, иначе говоря, общественным институтом. Но
всякий проект подобного рода сталкивается с
некоторыми предрассудками; их важно рассеять или
предотвратить их появление.
Прежде всего против корпорации — ее историческое
прошлое. В самом деле, ее считают тесно связанной с
нашим старым политическим порядком и, следовательно,
неспособной пережить его. Кажется, что требовать для
промышленности и торговли корпоративной
организации — значит идти против хода истории, а такое
попятное движение справедливо рассматривается или как
невозможное, или как анормальное.
Аргумент был бы уместен, если бы предполагалось
искусственно оживить старую корпорацию в том виде,
в каком она существовала в средние века. Но вопрос
ставится иначе. Речь идет не о том, чтобы выяснить, может
ли средневековый институт в том же виде подойти нашим
современным обществам, а о том, не являются ли
постоянными потребности, которым он отвечал, хотя он и
должен, чтобы отвечать им, измениться в соответствии с
изменением среды.
Кроме того, не позволяет видеть в корпорациях
временную организацию, пригодную только для одной эпохи
и определенной цивилизации, их глубокая древность и
ю, как они развивались в истории. Если бы их
датировали исключительно средневековьем, то можно было бы
действительно думать, что, появившись вместе с
определенной политической системой, они неизбежно должны
будут исчезнуть вместе с ней. Но в действительности они
имеют гораздо более древнее происхождение. Вообще они
возникают вместе с возникновением ремесла, т. е. с тех
самых пор, как производство перестало быть чисто
сельскохозяйственным. Если они, как кажется, были нсдд-
и
вестыы в Греции, по крайней мере, до эпохи римского
завоевания, то потому, что ремеслами, делом, которое
там презиралось, занимались почти исключительно
иностранцы. Тем самым они оказались вне правовой
организации полиса7. Но в Риме они датируются по крайней
мере началом Республики; традиция даже приписывает
их создание царю Нуме 8. Правда, в течение длительного
времени они влачат довольно жалкое существование, так
как историки и памятники высказываются о них редко.
Поэтому мы очень плохо знаем, как они были
организованы. Но в эпоху Цицерона число их значительно
увеличилось и они начали играть определенную роль. В это
время, говорит Вальцинг, «все трудящиеся классы, по-
видимому, были охвачены желанием умножить свои
профессиональные ассоциации». Впоследствии движение
продолжалось и при Империи достигло «такого масштаба,
который с тех пор, возможно, никогда не был
превзойден, если учитывать экономические различия» 9. Все
категории работников, которые были весьма многочисленны,
в конечном счете, по-видимому, становились коллегиями;
так же происходило и с теми, кто занимался торговлей.
В то же время характер этих групп изменился; в конце
концов они стали настоящими винтиками в руках
администрации. Они выполняли официальные функции;
каждая профессия рассматривалась как общественная
служба, за несение которой соответствующая корпорация
несла ответственность перед государством 10.
Это была гибель института, так как зависимость от
государства незамедлительно превратилась в
невыносимую кабалу, которую императоры могли поддерживать
только принуждением. Использовались самые разные
7 См.: Herrmann. Lehrbuch der griechischen Antiquitäten. 4 Bd.,
Ill Aufl., S. 398. Иногда ремесленник из-за своей профессии был
даже лишен права быть гражданином полиса (Ibid., S. 392).
Остается выяснить, не было ли у них подпольных организаций
вследствие отсутствия легальных и официальных. Достоверно известно
лишь то, что там существовали корпорации торговцев. См.: Fran-
cotte. L'Industrie dans la Grèce antique, t. II, p. 204 etc.
8 Плутарх. Нума, XVII; Плиний. Естественная история, XXXIV.
Конечно, это легенда, но она доказывает, что римляне видели в
своих корпорациях один из древнейших своих институтов.
9 Etude historique sur les corporations professionnelles chez les
Romains, t. I, p. 56-57.
10 Некоторые историки считают, что корпорации с самого
начала были тесно связаны с государством. Но несомненно, во
всяком случае, что их официальная сторона при Империи развивалась,
иначе.
12
приемы, чтобы помешать трудящимся уклониться от
тяжких обязанностей, вытекавших из самой их профессии;
дошли до того, что стали прибегать к рекрутированию и
вербовке путем насилия. Такая система, очевидно, могла
существовать только до тех пор, пока политическая
иласть была достаточно сильной, чтобы ее навязывать.
Вот почему она не пережила распада Империи. Впрочем,
гражданские войны и иностранные вторжения
разрушили торговлю и промышленность; ремесленники
воспользовались этой обстановкой, бежали из городов и
рассеялись по деревням. Так в первые века нашей эры
произошло то, что в точности повторилось в конце XVIII в.:
жизнь корпораций почти полностью угасла. От нее едва
сохранились некоторые следы в Галлии и Германии,
в городах римского происхождения. И если бы в это
время какой-нибудь теоретик пытался осмыслить
ситуацию, то он бы вполне правдоподобно заключил, как это
позднее сделали экономисты, что корпорации не имеют
или, по крайней мере, больше не имеют основания, что они
безвозвратно исчезли. Он несомненно третировал бы как
реакционную и неосуществимую всякую попытку их
восстановить. Но события быстро бы опровергли
подобное пророчество.
Действительно, спустя некоторое время корпорации
возникли вновь во всех европейских обществах. Они
возродились к XI—XII вв. В это время, говорит Левассер,
«ремесленники начинают ощущать потребность
объединиться и образуют свои первые ассоциации» и. В XIII в.,
во всяком случае, они испытывают новый расцвет и раз-
ниваются вплоть до того времени, когда начинается их
новый упадок. Столь живучий институт не мог бы
зависеть от какого-то случайного свойства; еще менее
вероятно, чтобы он был продуктом некоего коллективного
заблуждения. Если начиная с зарождения античных
государств до расцвета Римской империи, с пачала
существования христианских обществ вплоть до Нового времени
они были необходимы, значит, они отвечают устойчивым
π глубинным потребностям. Даже тот факт, что после
первого исчезновения они возродились сами собой и в
ноной форме, совершенно обесценивает аргумент,
представляющий их насильственное разрушение в конце
прошлого века как доказательство того, что они больше не
гармонируют с новыми условиямтт коллективного существо-
и Les Classes ouvrières en France jusqu'à la Révolution, I, p. 194.
18
вания. Впрочем, потребность в том, чтобы вернуть
корпорации к жизни, ощущаемая теперь всеми большими
цивилизованными обществами,— это самый верный
симптом того, что их радикальное упразднение не было
лекарством, а реформа Тюрго2* вызывала необходимость
другой реформы, которую нельзя бесконечно
откладывать.
II
Но если не всякая корпоративная организация
непременно является историческим анахронизмом, то есть ли
основания думать, что в наших современных обществах она
призвана сыграть ту значительную роль, которую мы ей
приписываем? Ведь если мы считаем ее необходимой,
то не вследствие экономической пользы, которую она
может принести, а из-за нравственного влияния, которое она
могла бы оказывать. В профессиональной группе мы
видим прежде всего моральную силу, способную сдержать
натиск разных форм индивидуального эгоизма,
поддержать в сердцах трудящихся живое чувство их общей
солидарности, воспрепятствовать праву сильного столь
грубо применяться в промышленных и торговых
отношениях. Однако ее считают неподходящей для такой роли.
Поскольку она возникла в связи с преходящими
интересами, кажется, что она сможет служить только
утилитарным целям, и воспоминания, оставшиеся от
корпораций старого режима, лишь подтверждают это
впечатление. Их охотно представляют себе в будущем такими,
какими они были в последнее время своего
существования, занятыми прежде всего поддержанием или
увеличением своих привилегий, укреплением своего
монопольного положения. При этом не видят, как такие
узкопрофессиональные заботы могли бы оказывать благотворное
воздействие на нравственность организации и ее членов.
Но не нужно распространять на весь корпоративный
строй то, что может быть верным в отношении некоторых
традиций и весьма короткого периода их развития. Ее
принципиальное устройство не только не вызывало чего-
то вроде нравственного недуга, но именно нравственную
роль она главным образом и играла на протяжении
большой части своей истории. Это особенно очевидно в
отношении римских корпораций. «Корпорации
ремесленников,— говорит Вальцинг,— у римлян отнюдь не носили
столь ярко выраженного профессионального характера,
щк ρ средневековье: мы не встречаем в цих та регде^
U
моптации методов работы, ни принудительного
ученичества, ни монополии; их целью не было также
объединение средств, необходимых для разработки какой-нибудь
отрасли промышленности» 12. Конечно, объединение
придавало им больше сил для защиты их общих интересов.
Но это было лишь одно из полезных побочных следствий
данного института, а не его основание и главная
функция. Прежде всего корпорация была религиозной
коллегией. Каждая из них имела своего особого бога, культ
которого, когда у нее были средства, отправлялся в
специальном храме. Точно так же, как каждая семья имела
своего Lav jamiliaris3*, а каждый город — своего
Genius publicusk*, y каждой коллегии был свой
бог-хранитель, Genius collegii5*. Естественно, этот
профессиональный культ не обходился без праздников, которые
отмечали совместно жертвоприношениями и пирами.
Впрочем, самые разные обстоятельства служили поводом
для веселых собраний; кроме того, за счет общины часто
происходило распределение продовольствия и денег.
Часто обсуждался вопрос, была ли в корпорации касса
взаимопомощи, помогала ли она регулярно тем из своих
членов, кто в этом нуждался, и мнения по этому поводу
разделились13. Но дискуссия отчасти лишается своего
интереса и значения вследствие того, что эти
совместные, более или менее регулярные, пиршества и
сопровождавшие их раздачи продовольствия и денег часто играли
роль помощи и благотворительной деятельности. В любом
случае несчастные люди знали, что могут рассчитывать
на это замаскированное пособие. Следствием
религиозного характера коллегии ремесленников было то, что она в
то же время являлась и похоронной коллегией.
Объединенные, как и Gentiles, одним и тем же культом при
жизни, члены корпорации хотели, как и они, находиться
вместе в своем вечном сне. Все достаточно богатые
корпорации имели коллективный columbarium6*, в
котором, если у коллегии не было средств на покупку
участка для погребения, она устраивала, по крайней мере для
своих членов, торжественные похороны из средств общей
кассы.
Общий культ, общие пиры, общие праздники, общее
кладбище — не составляет ли все это вместе отличитель-
12 Op. cit., I, p. 194.
13 Большинство историков считает, что, по крайней мере,
некоторые коллегии были обществами взаимной помощи.
15
ные признаки семейной организации у римлян? Поэтому
и было сказано, что римская корпорация была «большой
семьей». «Никакое другое слово,—говорит Вальцинг,—
не характеризует лучше природу связей, объединявших
собратьев, и многие признаки свидетельствуют, что среди
них царило настоящее братство» 14. Общность интересов
замещала кровные узы. «Члены корпорации считали себя
братьями настолько, что иногда называли так друг
друга». Правда, самым употребительным выражением было
sodales7*, но и это слово выражает духовное родство,
тесное братство. Покровитель и покровительница
коллегии часто носили звание отца и матери. «Доказательство
преданности, которую собратья испытывали к своей
коллегии,— это то, что ей завещали и дарили. Это также
погребальные памятники, на которых мы читаем: Pius in
collegio8*] человек был почтителен к своей коллегии, как
говорили Pius in suos» 15.9* Эта семейная жизнь была
настолько развита, что Буассье сделал из нее главную
цель всех римских корпораций. «Даже в рабочих
корпорациях,— говорит он,— объединялись прежде всего для
того, чтобы получать удовольствие от совместной жизни,
чтобы находить вне своего дома отдохновение от
усталости и огорчений, чтобы поддерживать связи менее
тесные, чем в семье, менее обширные, чем в городе, и
таким образом сделать свою жизнь более легкой и
приятной» 16.
Поскольку христианские общества принадлежат к
социальному типу, весьма отличному от античных
государств, средневековые корпорации не похожи точно на
римские. Но они также образуют для своих членов
нравственную среду. «Корпорация,— говорит Левассер,—
соединяла тесными узами людей, занимающихся одним и
тем же ремеслом. Довольно часто она устраивалась при
церковном приходе или отдельной часовне, призвав себе
в защитники какого-нибудь святого, который становился
покровителем всей общины... Там собирались, очень
торжественно участвовали в праздничных мессах, после чего
члены братства проводили остаток дня в веселых
совместных пиршествах. В этом отношении корпорации
средневековья очень напоминали римские» 17. Кроме того, кор-
14 Op. cit., I, p. 330.
15 Ibid., p. 331.
16 La Religion romaine, II, p. 287-288.
17 Op. cit., I, p. 217-218.
16
порация часто жертвовала часть фондов, формировавших
ее бюджет, на благотворительные цели18.
С другой стороны, точные правила устанавливали в
каждом виде ремесла взаимные обязанности хозяев и
рабочих, так же как и обязанности хозяев по отношению
друг к другу. Правда, некоторые из этих установлений
могут не соответствовать нашим современным
представлениям, но их нужно оценивать согласно нравственности
того времени, поскольку именно ее они выражают.
Бесспорно то, что все они вдохновлялись заботой не о тех
или иных индивидуальных интересах, но об интересе
корпоративном, хорошо или плохо понятом, не имеет
значения. Подчинение же частной пользы общей пользе,
какой бы она ни была, всегда носит нравственный
характер, так как оно непременно заключает в себе дух
самопожертвования и самоотречения. К тому же многие из
этих предписаний происходят от нравственных чувств,
которые сохранились и у нас. Слуга был защищен от
капризов своего хозяина, который не мог уволить его
когда угодно. Правда, обязательство было взаимным, но,
помимо того, что эта взаимность справедлива сама по
себе, она еще больше оправдана важными привилегиями,
которыми пользовался тогда рабочий. Так, хозяевам было
запрещено лишать его права на труд, прибегая к помощи
их соседей или даже жен. Словом, говорит Левассер,
«эти предписания относительно подмастерьев и рабочих
не должны игнорироваться историком и экономистом.
Они не являются творением варварской эпохи. Они несут
на себе печать последовательности и известного здравого
смысла, которые, несомненно, достойны внимания» 19.
Наконец, целый свод правил был призван гарантировать
профессиональную честность. Были приняты всякого рода
предосторожности, чтобы помешать торговцу или
ремесленнику обмануть покупателя, чтобы обязать их «делать
дело хорошо и честно» 20. Конечно, пришло время, когда
правила стали бессмысленно придирчивыми, а хозяева
стали больше заботиться об охране своих привилегий,
чем о доброй славе профессии и честности своих работ-
пиков. Но не существует института, который бы в
определенный момент не вырождался, либо потому, что не мо-
18 Ibid., p. 221. См. о том же нравственном характере
корпорации: в Германии - Gierke. Das deutsche Genossenschaftswcsen. I.,
S. 384; в Англии - Ashley. Histoire des doctrines économiques. I,
P. 101.
19 Op. cit., I, p. 238.
20 Ibid., p. 240-261.
17
жет вовремя Измениться й застывает в неподвижности,
либо потому, что развивается односторонне, утрируя
некоторые из своих свойств; это делает его непригодным
для выполнения тех задач, для которых он был
предназначен. Это может послужить основанием для того,
чтобы постараться его реформировать, а не объявить его раз
навсегда бесполезным и разрушить его.
Как бы то ни было, предшествующих фактов
достаточно, чтобы доказать, что профессиональная группа
вполне способна оказывать нравственное воздействие.
Столь значительное место, которое занимала в ее жизни
религия как в Риме, так и в средние века, делает
особенно очевидной истинную природу ее функций, так как
всякая религиозная община составляла тогда
нравственную среду, а нравственная дисциплина обязательно
стремилась принять религиозную форму. Кроме того, этот
характер корпоративной организации связан с действием
весьма общих причин, влияние которых можно видеть в
других обстоятельствах. С того момента, как внутри
политического общества некоторое множество индивидов
обнаруживает у себя общие идеи, интересы, чувства,
занятия, которые остальная часть населения с ними не
разделяет, они под влиянием отмеченных сходств неизбежно
притягиваются друг к другу, ищут друг друга,
завязывают отношения, объединяются, и так постепенно внутри
глобального общества образуется ограниченная группа,
имеющая свой особый облик. Но как только группа
сформировалась, она становится источником нравственной
жизни, естественно несущей на себе печать особых условий,
в которых она возникла. Невозможно, чтобы люди жили
вместе, постоянно поддерживали отношения, не ощущая
то целое, которое они образуют своим объединением, не
привязываясь к этому целому, не заботясь об его
интересах и не учитывая их в своем поведении. Но эта
привязанность к чему-то, что превосходит индивида, это
подчинение частных интересов общему и есть источник всякой
нравственной деятельности. Если это чувство уточняется
и определяется, если, применяясь к самым обычным и
самым важным обстоятельствам жизни, оно выражается в
определенных формулах, то мы получаем свод
нравственных правил в процессе формирования.
Помимо того, что этот результат осуществляется сам
собой, силой самих вещей, он еще и полезеп, и ощущение
его полезности способствует его упрочению. Не только
общество заинтересовано в том, чтобы формировались
18
частные группы для регулирования развивающейся в них
деятельности, которая в противпом случае стала бы
анархической; индивид также находит в них источник
радостей, ведь от анархии страдает и он сам. Он также
страдает от разногласий и беспорядков, возникающих в тех
случаях, когда межиндивидуальные отношения не
подчинены никакому регулирующему влиянию. Человеку
плохо живется и среди своих ближайших соратников, если
он находится с ними в состоянии войны. Это ощущение
всеобщей враждебности, связанные с этим взаимное
недоверие и напряженность являются болезненными
состояниями, когда они носят хронический характер. Если мы
и любим войну, то мы любим также и радости мира,
и последние ценятся тем больше, чем более люди
социализированы, т. е. (поскольку оба слова равнозначны)
цивилизованны. Совместная жизнь не только
принудительна, но и притягательна. Конечно, принуждение
необходимо, чтобы заставить человека выйти за собственные
пределы, добавить к своей физической природе другую
природу; но, по мере того как он начинает ценить
прелести этого нового существования, он приобретает в них
потребность, и нет такого рода деятельности, где бы он
их страстно не искал. Вот почему, когда индивиды,
обнаруживающие общие интересы, объединяются, то они это
делают не только для защиты своих интересов, но для
того, чтобы объединиться, чтобы не чувствовать себя
затерявшимися среди противника, чтобы получать
удовольствие от общения, составлять одно целое с другими,
т. е. в конечном счете чтобы вместе жить единой
нравственной жизнью.
Семейная мораль сформировалась таким же образом.
Поскольку семья сохраняет в наших глазах свой
престиж, то нам кажется, что она была и остается школой
самоотверженности и самоотречения, очагом
нравственности, в силу совершенно особых черт, присущих только
ой и нигде больше не обнаруживаемых пи в какой
степени. Людям нравится думать, что кровное родство
содержит в себе исключительно мощную причину
нравственной близости. Но мы не раз имели случай показать21,
что кровное родство ни в коей мере не обладает
чрезвычайной действенностью, которую ему приписывают.
Доказательством служит то, что в массе обществ
множество неединокровных родственников оказывается внутри
21 См, особецдо: Année sociologique, I, p. 313 (He,
19
одной семьи; так называемое искусственное г&дство
образуется там очень легко, и оно имеет все следствия
родства естественного. И наоборот, часто случается, что
очень близкие кровные родственники являются морально
и юридически чужими друг другу; таковы, например,
когнаты10* в римской семье. Семья, таким образом, не
обязана своими добродетелями общности происхождения;
это просто группа индивидов, сблизившихся между собой
в рамках политического общества благодаря более тесной
общности идей, чувств и интересов. Кровное родство
могло облегчить эту концентрацию, так как оно,
естественно, имеет следствием сближение сознаний. Но вмешались
и многие другие факторы; физическое соседство,
солидарность интересов, потребность в объединении для борьбы
против общей опасности или просто в объединении —
все это были важные причины сближения.
Они, однако, неспецифичны для семьи; их действие
обнаруживается, хотя и в других формах, в корпорации.
Если, таким образом, первая из этих групп сыграла столь
иажную роль в нравственной истории человечества, то
почему вторая не может играть такую же? Конечно,
между ними всегда будет та разница, что члены семьи
объединяют всю целостность своего существования, тогда
как члены корпорации — только свои профессиональные
интересы. Семья есть нечто вроде целостного общества,
воздействие которого распространяется как на нашу
экономическую деятельность, так и на религиозную,
политическую, научную и т. д. Все мало-мальски
значительное, что мы делаем даже вне дома, в ней отражается и
вызывает соответствующие реакции. Сфера влияния
корпорации в определенном смысле уже. Но не следует
терять из виду все более важное место, которое профессия
занимает в жизни по мере развития разделения труда,
так как область каждой индивидуальной деятельности
все более замыкается в границах, обозначенных
функциями, исполнять которые индивид специально
уполномочен. Кроме того, поскольку воздействие семьи
распространяется на все, оно может носить только общий
характер: детали от нее ускользают. Наконец, и это
главное, семья, утратив присущие ей некогда единство и
неделимость, утратила тем самым и значительную часть
своей действенности. Поскольку она теперь разделяется в
каждом поколении, человек значительную часть своей
жизни проводит впе всякого семейного влияния ,
22 Мы развили эту мысль в «Самоубийстве», С, 433,
20
У корпорации нет этих разрывов, она продолжается
непрерывно, как сама жизнь. Поэтому некоторые ее
недостатки по сравнению с семьей в какой-то мере
компенсируются.
Мы посчитали нужным сопоставить таким образом
семью и корпорацию не просто для того, чтобы
установить между ними поучительные параллели; дело в том,
что эти два института в определенной степени
родственны друг другу. Это особенно ярко демонстрирует
история римских корпораций. Действительно, мы видели, что
они сформировались по образцу семейной группы;
вначале они представляли собой лишь ее новую и
увеличенную форму. Профессиональная группа не напоминала бы
до такой степени семейную, если бы между ними не
было какой-то родственной связи. В определенном
смысле корпорация была наследницей семьи. Пока
производство остается исключительно сельскохозяйственным, оно
имеет в лице семьи и деревни (которая также есть
нечто вроде большой семьи) свое непосредственное
орудие и в другом не нуждается. Поскольку обмен
отсутствует или слабо развит, жизнь земледельца не выводит его
за пределы семейного круга. Так как экономическая
жизнь протекает внутри дома, семьи достаточно для ее
регулирования; семья сама, таким образом, служит
профессиональной группой. Но когда существуют ремесла,
дело обстоит уже не так. Ведь чтобы получать от ремесла
средства существования, нужны клиенты, а чтобы их
найти, надо выйти из дома. Из него необходимо выходить
также для того, чтобы устанавливать отношения с
конкурентами, бороться против них, договариваться с ними.
Кроме того, ремесла прямо или опосредованно связаны
с городами, а города всегда формировались и
пополнялись главным образом за счет иммигрантов, т. е.
индивидов, покинувших родную среду. Таким образом возникла
новая форма деятельности, выходившая за старые
семейные рамки. Чтобы не оставаться в неорганизованном
состоянии, она должна была создать себе новые,
подходящие ей рамки. Иначе говоря, была необходимость в
образовании вторичной группы нового типа. Так родилась
корпорация; она заменила собой семью в осуществлении
Функции, которая вначале была семейной, но больше не
<могла сохранять свой семейный характер. Подобное
происхождение не дает оснований приписывать ей
принципиально безнравственный характер, что иногда делается.
Точно так же как семья была средой, в которой выра-
91
батывались семейные мораль и право, корпорация — это
естественная среда, в которой должны вырабатываться
профессиональные мораль и право.
III
Чтобы, однако, рассеять все предубеждения, чтобы
продемонстрировать, что корпоративная система — это
институт, принадлежащий не только прошлому, необходимо
показать, каким преобразованиям она должна и может
подвергнуться, чтобы адаптироваться к современным
обществам; ведь очевидно, что теперь она не может быть
такой же, как в средние века.
Чтобы методически рассмотреть этот вопрос, нужно
было бы первоначально установить, каким образом
корпоративный строй эволюционировал в прошлом и каковы
причины, определившие его основные изменения. Тогда
можно было бы с некоторой долей уверенности
предположить, чем он призван стать, учитывая условия, в
которых оказались в настоящее время европейские
общества. Но для этого необходимы сравнительные
исследования, которых нет и которые мы не можем провести
мимоходом. Теперь же, вероятно, можно попытаться
увидеть лишь в самых общих чертах, каково было это
развитие.
Из предшествующего изложения следует, что
корпорация в Риме была не тем, чем она стала впоследствии
в христианских обществах. Она отличается там не только
более религиозным и менее профессиональным
характером, но и тем местом, которое она занимает в обществе.
В действительности она была, по крайней мере вначале,
институтом впесоциальпым. Историк, пытающийся
разложить на элементы политическую организацию римлян,
в процессе своего анализа не встречает ни одного факта,
который бы свидетельствовал о существовании
корпорации. В качестве определенных и признанных единиц они
не входили в систему римских учреждепий. Ни в каких
выборных и военных собраниях ремесленники не
собирались по коллегиям. Нигде профессиональная группа как
таковая не принимала участия в общественной жизни, ни
целиком, ни через постоянных представителей. Речь
может идти самое большее о трех или четырех коллегиях,
которые считали возможным отождествлять с
некоторыми центуриями, основанными Сервием Туллием (tignarii,
аегагщ tibkines, comicines) "*; но и этот факт точцо не
№
установлен23. Что же касается других корпораций, то
они несомненно находились вне официальной
организации римского народа 2\
Эта в некотором роде эксцентричная ситуация
объясняется самими условиями, в которых корпорации
сформировались. Они появляются в тот момент, когда
начинают развиваться ремесла. Но в течение длительного
времени ремесла составляли лишь вспомогательную и
вторичную форму социальной деятельности у римлян.
Рим был главным образом сельскохозяйственным и
военным обществом. Как общество сельскохозяйственное, оно
было разделено на gentes 13* и на курии; объединение по
центуриям отражало скорее военную организацию. Что
касается промышленных функций, то они были слишком
рудиментарны, чтобы влиять на политическую структуру
римского государства 2\ Кроме того, вплоть до весьма
позднего момента римской истории ремесла подвергались
нравственной опале, что не позволяло им занимать
стабильное место в государстве. Несомненно, пришло время,
когда их социальное положение улучшилось. Но способ,
которым было достигнуто это улучшение, сам по себе
знаменателен. Чтобы добиться уважения своих интересов
и определенной роли в общественной жизни, ремесленпи-
ки вынуждены были прибегать к неподобающим,
незаконным приемам. Они одержали верх и избавились от
презрения, объектом которого были, только путем интриг,
заговоров, подпольной агитации26. Это лучшее
доказательство того, что само по себе римское общество для
них не было открыто. И хотя впоследствии они в конце
концов были интегрированы в государство, с тем чтобы
стать винтиками административной машины, это положе-
23 Представляется более правдоподобным, что центурии,
обозначаемые таким образом, включали не всех плотников, не всех
кузнецов, но только тех, кто производил или ремонтировал оружие
и военпые машины. Дионисий Галикарнасский говорит
определенно, что рабочие, сгруппированные таким образом, выполняли чисто
военную функцию ε·ς τον πολεμόν12*; следовательно, это были не
собственно коллегии, а армейские подразделения.
24 Мы не затрагиваем здесь спорный вопрос о том, вторгалось
ли государство с самого начала в их формирование. Даже если
они вначале находились в зависимости от государства (что не
кажется правдоподобным), они все равно не влияли на
политическую структуру. Именно это для нас важно.
25 Если спуститься на одну эволюционную ступень, то их
положение будет выглядеть еще более эксцентричным. В Афинах они
не только внесоциальны, но и почти внезаконны.
26 Waltzing. Op. cit., I, p. 85 etc.
28
иие было для них не славным завоеванием, а тягостной
зависимостью. Если они и вошли тогда в государство, то
не заняли в нем того места, на которое их социальные
услуги могли бы дать им право; просто
правительственной власти было сподручней следить за ними.
«Корпорация,— говорит Левассер,— стала цепью, которая заковала
их и которую имперская рука сжимала тем сильнее, чем
более тягостным или необходимым государству был их
труд» 27.
Совершенно новым было их место в средневековых
обществах. Сразу же, как только корпорация появляется,
она оказывается нормальным обрамлением для той части
населения, которая была призвана играть в государстве
столь значительную роль,— для буржуазии, или третьего
сословия. В самом деле, долгое время буржуа и
ремесленники составляли одно целое. «Буржуазия в XIII
выговорит Левассер,— состояла исключительно из
ремесленников. Класс законодателей и чиновников едва
начинал формироваться; ученые еще принадлежали к
духовенству; число рантье было очень незначительно, потому
что земельная собственность тогда почти целиком
находилась в руках дворян. Простолюдину оставалась работа
только в мастерской или за прилавком, и именно через
промышленность или торговлю он завоевал себе место в
королевстве» 2\ Точно так же было и в Германии. Слова
«буржуа» и «горожанин» были синонимами, и, с другой
стороны, известно, что немецкие города образовались
вокруг постоянных рынков, открытых сеньором в одном из
мест своего владения29. Население, группировавшееся
вокруг этих рынков и ставшее городским населением,
состояло почти исключительно из ремесленников и
торговцев. Поэтому слова foreuses или mercatoresilk* одинаково
употреблялись для обозначения жителей городов, a jus
civile15*, или городское право, очень часто называется
jus fori16*, или рыночное право. Таким образом,
организация ремесел и торговли была, по-видимому,
первоначальной организацией европейской буржуазии.
Поэтому, когда города освободились от сеньориальной
опеки, когда образовалась коммуна, ремесленный цех,
предшествовавший этому движепию и подготовивший его,
27 Op. cit., I, p. 31.
28 Ibid., p. 191.
29 См.: Rietschel. Markt und Stadt in ihrcm rochtlichen Verhält-
niss. Leipzig, 1897, passim, а также все работы Зома (Sohm) no
этому вопросу.
24
стал основой коммунального устройства. Действительно,
«почти во всех коммунах политическая система и выборы
магистратов основаны на разделении граждан по
ремесленным цехам» 30. Очень часто голосовали по
ремесленным цехам и в то же время выбирали глав корпорации
и коммуны. «В Амьене, например, ремесленники
собирались ежегодно, чтобы выбрать мэров каждой корпорации
или цеха; избранные мэры назначали затем двенадцать
эшевенов, которые назначали еще двенадцать, а эшеве-
ны17* в свою очередь представляли мэрам цехов трех
лиц, из которых они выбирали мэра коммуны... В
некоторых городах способ избрания был еще сложнее, но во
всех городах политическая и муниципальная
организации были тесно связаны с организацией труда» 3i. И
наоборот, точно так же как коммуна была совокупностью
цехов, цех был маленькой коммуной уже в силу того, что
он был образцом, увеличенной и развитой формой
которого являлся институт коммуны.
Известно, чем в истории наших обществ была
коммуна, ставшая со временем их краеугольным камнем18*.
Следовательно, поскольку она была объединением
корпораций и сформировалась по образцу корпорации, то
именно последняя в конечном счете послужила основой для
всей политической системы, родившейся из
коммунального движения. Мы видим, что вместе с тем значительно
выросли ее значение и достоинство. В то время как в
Риме она вначале находилась почти вне нормальных
социальных рамок, она, наоборот, послужила элементарной
рамкой для наших современных обществ. Это еще одна
причина, по которой мы отказываемся видеть в ней
архаический институт, обреченный выпасть из
исторического развития. Если в прошлом роль корпорации
становилась более важной, жизненно необходимой по мере
развития торговли и промышленности, то совершенно
неправдоподобно, чтобы теперепший экономический
прогресс мог лишить ее всякого основания.
Противоположная гипотеза кажется более обоснованной 32.
30 Op. cit., I, p. 193.
31 Ibid., p. 183.
32 Правда, когда профессиональные группы организуются в
касты, им удается очень рано занять заметное место в социальном
устройстве; таково положение в индийских обществах. Но каста -
не корпорация. Это главным образом семейная и религиозная
группа, а не профессиональная. У каждой из них своя степень
присущей именно ей религиозности. А поскольку общество
организовало на религиозной основе, эта религиозность, зависящая от разно-
25
Но сделанный нами беглый наборосок позволяет
извлечь и другие уроки.
Прежде всего он дает возможность предположить, как
корпорация временно впала в немилость приблизительно
два века назад и, следовательно, какой она должна стать,
чтобы вновь занять свое место среди наших
общественных институтов. В самом деле, мы только что видели,
что в форме, присущей ей в средние века, она была тесно
связана с организацией коммуны. Эта связь была гормо-
ничной, пока сами ремесла носили коммунальный
характер. Пока клиентами ремесленников и торговцев были
почти исключительно жители города или ближайших
окрестностей, т. е. пока рынок носил в основном
локальный характер, ремесленного цеха с его муниципальной
организацией было достаточно для удовлетворения всех
потребностей. Но положение изменилось, как только
возникла крупная промышленность; поскольку она не
ограничена рамками города, она не могла замыкаться в
системе, которая не была создана для нее. Во-первых, ее
местонахождение не обязательно должно быть в городе;
она может даже расположиться вне всякой ранее
существующей агломерации, городской или сельской. Она
изыскивает лишь такое место, где сможет лучше всего
снабжаться сырьем и откуда она сможет легче всего
распространять свое влияние. Затем сфера ее действия не
ограничена никаким определенным районом, ее
клиентура набирается отовсюду. Столь основательно вовлеченный
в коммуну институт, каким была старая корпорация, не
мог, стало быть, служить средой и регулятором для
формы коллективной деятельности, столь чуждой жизни
коммуны.
И действительно, как только крупная
промышленность появилась, она совершенно естественно оказалась
вне корпоративного строя, и именно поэтому
ремесленные цехи постарались всеми средствами
воспрепятствовать ее прогрессу. Однако она не была при этом
освобождена от всякой регламентации: первоначально
государство по отношению к ней прямо играло ту же роль, что и
корпорации по отношению к мелкой торговле и
городскому ремеслу. Предоставляя мануфактурам некоторые
привилегии, королевская власть вместе с тем подчиняла их
образных причин, предписывает каждой касте определенный ранг
в социальной системе в целом. Но ее экономическая роль ничего
не зпачит для ее официального положения. Ср.: Bougie. Remarques
sur le régime des castes. Année sociologique, IV.
26
своему контролю, о чем свидетельствует само
присвоенное им звание королевских мануфактур. Известно,
однако, насколько государству несвойственна эта функция;
его прямая опека поэтому не могла не стать гнетущей.
Она стала даже почти невозможной с того момента, как
крупная промышленность достигла определенной степени
развития и разнообразия; вот почему классические
экономисты с полным правом требовали отмены этой опеки.
Но хотя корпорация в том виде, как она тогда
существовала, не смогла приспособиться к этой новой форме
промышленности, хотя государство не смогло заменить
прежнюю корпоративную дисциплину, это не означает, что
всякая дисциплина оказалась с тех пор бесполезной.
Отсюда следовало лишь то, что прежняя корпорация
должна была подвергнуться изменениям, чтобы
продолжать выполнять свою функцию в новых экономических
условиях. К несчастью, у нее не хватило гибкости,
чтобы вовремя измениться; вот почему она была
уничтожена. Поскольку она не смогла приспособиться к новой,
бурно зарождавшейся жизни, жизнь ее покинула, и она
стала, таким образом, тем, чем была накануне
революции: чем-то вроде мертвой субстанции, инородным телом,
которое сохранялось в социальном организме лишь силой
инерции. Неудивительно поэтому, что настал момент,
когда она была из него насильственно удалена. Но ее
разрушение не было средством удовлетворения
потребностей, которые она не могла удовлетворить. И, таким
образом, мы продолжаем сталкиваться с той же
проблемой, ставшей лишь более острой после столетия
колебаний и бесплодных экспериментов.
Работа социолога — не то же самое, что работа
государственного деятеля. Нам не нужно поэтому подробно
излагать, какой должна была бы быть эта реформа. Нам
достаточно определить ее общие принципы, опираясь на
приведенные факты.
Опыт прошлого свидетельствует прежде всего о том,
что рамки профессиональной группы должны всегда быть
связаны с экономическим окружением; именно из-за
отсутствия такой связи корпоративный строй погиб. Стало
быть, поскольку рынок из муниципального, каким он был
некогда, превратился в национальный и международный,
то и корпорация должна получить такое же
распространение. Вместо того чтобы ограничиваться только
ремесленниками одного города, она должна вырасти настолько,
чтобы включить в себя всех представителей профессии,
27
рассеянных на всем территориальном пространстве33,
так как, в каком бы регионе они ни находились, живут ли
они в городе или в деревне, они все солидарны между
собой и совместно участвуют в общей жизни. Поскольку
эта общая жизнь в некоторых отношениях независима от
всяких территориальных рамок, необходимо создание
соответствующего органа, который бы ее выражал и
регулировал ее функционирование. Вследствие своего
важного значения такой орган обязательно был бы прямо
связан с центральным органом коллективной жизни, так как
события, достаточно важные для целой категории
промышленных предприятий в стране, непременно
отражаются повсюду; государство не может не чувствовать
этого, что приводит к его вмешательству. Поэтому
королевская власть не без основания инстинктивно
стремилась ие оставлять вне поля своего действия крупную
промышленность, как только она появлялась. Она не
могла не интересоваться формой деятельности, которая
по своей природе всегда способна влиять на общество в
целом. Но это регулирующее воздействие, хотя и
необходимо, не должно вырождаться в тесную зависимость, как
это произошло в XVII и XVIII вв. Оба связанных между
собой органа должны оставаться различными и
автономными: у каждого из них свои функции, с которыми
только он и может справиться. Хотя правительственным
органам надлежит устанавливать общие принципы
промышленного законодательства, они неспособны
дифференцировать их по различным видам промышленности.
Именно эта дифференциация составляет задачу, свойственную
корпорации 34. Эта единая для всей страны организация,
33 Нам нет нужды говорить о международной организации,
которая вследствие международного характера рынка необходимо
развилась бы поверх этой национальной организации, так как
только последняя в настоящее время может составлять юридический
институт. Первая при нынешнем состоянии европейского права
может быть результатом только добровольно заключенных
соглашений между национальными корпорациями.
34 Данная специализация сможет осуществиться только с
помощью избранных ассамблей, уполномоченных представлять
корпорацию. При нынешнем состоянии промышленности эти
ассамблеи, так же как и суды, уполномоченные применять
профессиональные уставы, должны были бы, очевидно, включать
представителей наемных работников и нанимателей (подобно тому как это
уже бывает в судах примирительных конфликтных комиссий),
причем в пропорциях, соответствующих значению, приписываемому
общественным мнением каждому из этих двух факторов
производства. Но если и необходимо, чтобы те и другие сходились в управ-
28
впрочем, отнюдь не исключает формирования вторичных
органов, включающих трудящихся одной специальности
одного и того же региона или одной местности. Роль этих
органов состояла бы в еще большей специализации
профессионального регулирования в соответствии с
локальными или региональными потребностями. Экономическая
жизнь могла бы, таким образом, регулироваться и
развиваться, ничего не теряя в своем разнообразии.
Тем самым корпоративный строй был бы защищен от
склонности к неподвижности, в которой его часто и
справедливо упрекали в прошлом; этот недостаток был
связан с узкокоммунальным характером корпорации. Пока
она ограничивалась городскими стенами, она неизбежно
становилась пленницей традиции, как и сам город.
Поскольку в столь узкой группе условия жизни почти
неизменны, привычка господствует там над людьми и вещами
без всякого противодействия, и новшеств там просто
опасаются. Традиционализм корпораций был, таким образом,
лишь одной из сторон коммунального традиционализма и
базировался на тех же основаниях. Далее, когда он
укоренился в нравах, он пережил причины, которые его
породили и первоначально оправдывали. Вот почему, когда
материальная и моральная концентрация страны и ее
следствие — крупная промышленность — открыли людям
новые желания, пробудили новые потребности, внедрили
во вкусы и в моды неведомую ранее подвижность,
корпорация, упрямо цеплявшаяся за свои старые обычаи,
оказалась не в состоянии ответить на эти новые требования.
Но национальные корпорации именно вследствие их
размеров и сложности не подвергались бы этой опасности.
Слишком много умов было бы вовлечено в корпорацию,
чтобы в ней могло установиться неподвижное
единообразие. В группе, образованной из многочисленных и
разнообразных элементов, непрерывно происходят
перестановки, которые также являются источниками новшеств35.
Равновесие такой организации не было бы жестким
и, следовательно, естественным образом гармонировало
бы с подвижным равновесием потребностей и идей.
ляющих советах корпорации, то не менее необходимо, чтобы в
основе корпоративной организации они составляли различные и
независимые группы, так как их интересы слишком часто
соперничают и носят антагонистический характер. Чтобы они могли
осознавать их свободно, нужно, чтобы они осознавали их отдельно.
Обе сформированные таким образом группы могли бы затем
назначать своих представителей в общие ассамблеи.
35 См. ниже, кн. II, гл. III, § IV.
29
Впрочем, не нужно думать, будто роль корпорации
должна целиком состоять в установлении и применении
правил. Несомненно, повсюду, где образуется группа,
образуется также и нравственная дисциплина. Но
установление такой дисциплины — это лишь один из
многочисленных способов, посредством которых проявляется
нравственная жизнь. Группа — это не только нравственный
авторитет, который управляет жизнью ее членов; это
также источник жизни sui generis. Из нее исходит тепло,
согревающее и воодушевляющее сердца, влекущее их
друг к другу, растапливающее лед эгоизма. Таким же
образом семья была в прошлом созидательницей права и
морали, строгость которых часто достигала крайней
степени, и в то же время была средой, в которой люди
впервые учились вкушать радость, приносимую им
чувствами. Мы видели также, как корпорация и в Риме,
и в средние века пробуждала те же потребности и
стремилась их удовлетворять. Корпорация будущего будет
обладать еще более сложными функциями именно
вследствие ее большего масштаба. Вокруг ее собственно
профессиональных функций будут группироваться другие,
находящиеся теперь в ведении коммун или частных
обществ. Таковы, например, функции общественной
благотворительности, хорошее исполнение которых
предполагает существование между благотворителями и теми,
кому эта благотворительность адресована, чувства
солидарности, некоторую интеллектуальную и нравственную
однородность, что естественным образом возникает в
результате занятия одной и той же профессией. Многие
виды просветительской деятельности (техническое
образование, обучение взрослых и т. п.), по-видимому, также
должны найти в корпорации естественную для себя
среду. Точно так же обстоит дело с эстетической
деятельностью; согласно природе вещей, эта благородная форма
игры и отдыха, по-видимому, должна развиваться рядом
с серьезной деятельностью, которой она будет служить
противовесом и средством восстановления сил. В
действительности мы уже видим, что одни профсоюзы
являются одновременно обществами взаимной помощи, другие
создают дома для совместной деятельности, в которых
устраивают лекции, концерты, театральные
представления. Корпоративная деятельность может, стало быть,
осуществляться в самых разнообразных формах.
Можно даже высказать предположение, что
корпорация призвана стать основой или одной из основ пашей
30
политической организации. В самом деле, мы видели, что,
хотя вначале она была внешней по отношению к
социальной системе, она стремится все более внедриться
в нее по мере развития экономической жизни. Поэтому
можно предвидеть, что, если развитие будет
продолжаться в том же направлении, она должна будет занять в
обществе центральное, господствующее место. В былые
времена она была элементарным подразделением
коммунальной организации. Теперь коммуна, бывшая в свое
время самостоятельным организмом, растворилась в
государстве, так же как муниципальный рынок — в
национальном рынке. Не правомерно ли в связи с этим думать,
что корпорация также должна была бы подвергнуться
соответствующему преобразованию и стать
элементарным подразделением государства, фундаментальной
политической единицей? Общество, вместо того чтобы
оставаться тем, что оно есть сегодня, агрегатом
расположенных рядом территориальных округов, стало бы обширной
системой национальных корпораций. С разных сторон
выдвигается требование, чтобы выборные округа
формировались по профессиям, а не по территориальным
округам. Несомненно, таким образом, что политические
ассамблеи более точно выражали бы разнообразие
общественных интересов и их отношения: они были бы более
верным обобщением социальной жизни в целом. Но
сказать, что страна, чтобы осознать себя как целое, должна
группироваться по профессиям, не значит ли признать,
что профессиональная организация, или корпорация,
должна стать важнейшим органом общественной жизни?
Таким образом будет заполнен отмеченный нами
далее серьезный пробел в структуре европейских обществ,
и нашего в частности 36. Мы увидим, как по мере
исторического развития организация, имеющая основой
территориальные группы (деревня или город, округ,
провинция и т. д.), все более теряет свое значение. Конечно,
каждый из нас принадлежит к коммуне, к департаменту,
но наши связи с ними становятся день ото дня все более
слабыми и недолговечными. Эти географические
подразделения большей частью искусственны и не пробуждают
уже в нас глубоких чувств. Дух областничества
безвозвратно исчез; местный патриотизм стал анахронизмом,
и его невозможно произвольно восстановить.
Муниципальные или департаментские дела затрагивают и увлекают
См. ниже, с 206-207.
31
нас почти исключительно в той мере, в какой они
совпадают с нашими профессиональными делами. Наша
деятельность простирается далеко за пределы этих слишком
тесных для нее групп, а, с другой стороны, значительная
часть того, что в них происходит, оставляет нас
равнодушными. Произошло как бы спонтанное одряхление
старой социальной структуры. Но невозможно, чтобы эта
внутренняя организация исчезла без всякой замены.
Общество, состоящее из множества неорганизованных,
подобных пыли индивидов, которых гипертрофированно
развитое государство силится заключить в свои объятья
и удержать в них, представляет собой настоящее
социологическое чудовище. Коллективная деятельность всегда
слишком сложна, чтобы ее мог выразить
один-единственный орган — государство. Кроме того, государство
слишком далеко от индивидов, оно поддерживает с ними
слишком поверхностные π неустойчивые отношения,
чтобы иметь возможность глубоко проникнуть в
индивидуальные сознания и внутренним образом
социализировать их. Вот почему там, где оно составляет
единственную среду, в которой люди могут готовиться к
практике совместной жизни, они пеизбежно отрываются
от нее, отдаляются друг от друга, а вместе с тем
распадается и общество. Нация может поддерживать свое
существование только в том случае, если между
государством и отдельными лицами внедряется целый ряд
вторичных групп, достаточно близких к индивидам, чтобы
вовлечь их в сферу своего действия и, таким образом,
втянуть их в общий поток социальной жизни. Мы
показали выше, как профессиональные группы способны
выполнить эту роль, к которой их все предназначает.
Понятно поэтому, насколько важно, чтобы они вышли из
состояния неустойчивости и неорганизованности, в
котором они находятся в течение столетия главным образом
в экономической области, учитывая, что этого рода
профессии поглощают теперь наибольшую часть
коллективных сил 37.
37 Мы, впрочем, не хотим сказать, что территориальные округа
обречены на полное исчезновение: они лишь отойдут на второй
план. Старые институты никогда не исчезают с утверждением
новых настолько, чтобы не оставить никаких следов своего
существования. Они сохраняются не только как пережиток, но потому,
что сохраняется также нечто от потребностей, которым они
отвечали. Физическое соседство всегда будет создавать связь между
людьми; следовательно, политическая и социальная организация на
территориальной основе несомненно сохранится. Она лишь не бу-
32
Возможно, теперь мы сможем лучше объяснить
выводы, к которым пришли в конце нашей книги
«Самоубийство» 38. Мы уже представляли там сильную
корпоративную организацию как средство лечения болезни,
о существовании которой свидетельствует рост числа
самоубийств, так же, впрочем, как и многие другие
симптомы. Некоторые критики нашли, что лекарство не
пропорционально масштабу болезни. Но дело в том, что они
заблуждаются насчет истинной природы корпорации, ее
места в нашей коллективной жизни в целом и серьезной
аномалии, вызванной ее исчезновением. Они увидели в
ней лишь утилитарную ассоциацию, призванную
упорядочивать экономические интересы, тогда как в
действительности она должна стать основным элементом нашей
социальной структуры. Отсутствие всякого
корпоративного института создает в таком обществе, как наше,
пустоту, значение которой трудно переоценить. Нам не хватает
целой системы органов, необходимых для нормального
функционирования совместной жизни. Такой оспователь-
пый изъян, очевидно, не является локальным,
ограниченным какой-то частью общества. Это болезнь totius sub-
stantiae,9*, затрагивающая весь организм;
следовательно, предприятие, которое поставит себе цель остановить
ее, неизбежно вызовет самые широкие последствия. Этим
затрагивается общее состояние здоровья социального
организма.
Это не означает, однако, что корпорация может быть
чем-то вроде панацеи, способной решить все проблемы.
Кризис, от которого мы страдаем, не вызван одной-един-
ственпой причиной. Для его прекращения недостаточно,
чтобы там, где необходимо, установилась какая-нибудь
регламентация; нужно, кроме того, чтобы она была такой,
какой должна быть, т. е. справедливой. Поэтому, как мы
отметим далее, «пока будут существовать богатые и
бедные от рождения, не сможет существовать справедливый
договор», не сможет происходить справедливое
распределение социальных условий39. Но, хотя корпоративная
дет занимать своего нынешнего ведущего места, именно потому, что
связь эта теряет свою силу. Кроме того, как мы показали выше,
даже на основе корпорации всегда будут существовать
географические подразделения. К тому же между различными
корпорациями одного и того же населенного пункта или одной и той же
местности непременно будет существовать особая солидарность,
которая постоянно будет требовать соответствующей организации.
'" То suicide, p. 434 etc.
См. ниже, кн. III, гл. II.
Дюркгейм
зз
реформа не может заменить остальных, она составляет
первоначальное условие их действенности. В самом деле,
представим себе, что осуществлено наконец главное
условие идеальной справедливости; предположим, что люди
вступают в жизнь в состоянии полного экономического
равенства, т. е. богатство целиком перестанет быть
наследственным. Проблемы, над которыми мы бьемся, не
будут этим решены. В действительности по-прежнему
будут существовать экономический аппарат и различные
уполномоченные лица, участвующие в его
функционировании; нужно будет, следовательно, определить их права
и обязанности, причем для каждой отрасли
промышленности. Нужно будет, чтобы в каждой профессии
сформировался свод правил, устанавливающий количество
труда, справедливую заработную плату для различных
чиновников, их обязанности в отношении друг друга и
группы и т. д. Мы окажемся, стало быть, так же как
и теперь, перед пустотой. Из-за того, что богатство не
будет больше передаваться по наследству согласно тем же
принципам, что теперь, состояние анархии не исчезнет,
так как оно вызвано не только тем, что вещи находятся
здесь, а не там, в этих руках, а не в других, но и тем,
что деятельность, причиной или инструментом которой
оказались эти вещи, не отрегулирована. И она не
отрегулируется волшебным образом благодаря тому, что это
полезно, если силы, необходимые для установления этой
регламентации, заранее не будут созданы и
организованы.
Более того, тогда возникнут новые трудности, которые
останутся неразрешимыми бей корпоративной
организации. В самом деле, до сих пор преемственность
экономической жизни обеспечивала семья — либо посредством
института коллективной собственности, либо посредством
института наследования. Она или нераздельно владела
собственностью и эксплуатировала ее, или начиная с того
момента, как старый семейный коммунизм был
поколеблен, она получала эту собственность, будучи
представлена ближайшими родственниками по смерти
собственника40. В первом случае пе было никакого изменения
40 Правда, там, где существует завещание, собственник может
сам определить передачу своего имущества. Но завещание - это
лишь возможность нарушить норму наследственного права; именно
согласно этой норме осуществляется передача собственности.
Подобные нарушения, впрочем, очень часто ограничиваются и
являются исключением.
34
вследствие кончины кого-нибудь из собственников, и
отношения людей и вещей оставались теми же, не
изменяясь даже в связи со сменой поколений. Во втором
случае изменение происходило автоматически и не
существовало явного момента, когда собственность оставалась
бы свободной, не находясь ни в чьих руках. Но если
семейная группа не должна играть больше эту роль,
нужно, чтобы другой социальный орган заменил ее в
выполнении этой необходимой функции. Есть только одно
средство помешать периодической остановке
функционирования вещей. Нужно, чтобы группа, существующая
непрерывно как семья, или сама получала и
использовала эти вещи, или получала их при каждой кончине
собственника, с тем чтобы, если это возможно, передать их
другому индивидуальному держателю, который бы
извлекал из них пользу. Но мы уже отмечали и вновь
отметим, насколько государство малопригодно для
выполнения этих экономических задач, слишком частных для
него. Следовательно, только профессиональная группа
могла бы успешно выполнить их. В самом деле, она
отвечает двум необходимым условиям: она слишком
заинтересована в экономической жизни, чтобы не ощущать
все возникающие в ней потребности, и в то же время она
обладает постоянством, по крайней мере равным
постоянству семьи. Но чтобы справиться с этой обязанностью,
нужно еще, чтобы эта группа существовала. Она должна
обрести достаточно устойчивости и зрелости, чтобы быть
на высоте тех новых и сложных задач, которые на нее
возлагаются.
Итак, хотя проблема корпорации не единственная,
требующая общественного внимания, она, несомненно,
самая насущная, так как приступить к решению других
проблем можно будет лишь тогда, когда будет решена
эта. Невозможно будет внедрить ни одно сколько-нибудь
важное изменение в юридическом строе, если не начать
с создания органа, необходимого для установления нового
права. Вот почему не имеет даже смысла задерживаться
на точном выяснении того, каким должно быть это
право; при нынешнем состоянии наших научных знаний мы
можем предвидеть его лишь весьма приблизительно,
недостоверно, в самых общих чертах. Насколько же важнее
сразу приняться за работу по созданию нравственных
сил, которые смогут определить это право, лишь
осуществляя его!
2*
Предисловие
к первому изданию
Книга эта — прежде всего попытка исследовать факты
нравственной жизни методом позитивных наук. Но смысл
слова «позитивный» извратили, и мы не воспользуемся
им в таком виде. Моралисты, выводящие свою доктрину
не из априорного принципа, но из нескольких
положений, заимствованных у одной или нескольких позитив-
пых наук, таких, например, как биология, психология,
социология, называют отстаиваемую ими нравственность
научной. Мы решили следовать другому методу. Мы
хотим не извлечь нравственность из науки, но создать
науку нравственности, что совсем другое дело.
Моральные факты —такие же явления, как и другие; они
состоят в правилах поведения, которые узнаются по
некоторым отличительным признакам. Поэтому должна
существовать возможность их наблюдать, описывать,
классифицировать и искать объясняющие их законы. Это мы и
намерены сделать в отношении некоторых из них. Но
могут возразить, сославшись на свободу воли. Но если
свобода воли действительно влечет за собой отрицание
всякого определенного закона, то она составляет
непреодолимое препятствие не только для психологических и
социальных, но и для всех решительно наук. Поскольку
человеческие желания постоянно связаны с какими-то
внешними движениями, она делает детерминизм так же
непостижимым вне нас, как и внутри. Однако никто не
отрицает возможности физических и естественных наук.
Мы требуем того же права для нашей науки \
Понимаемая таким образом эта наука не находится
в противоречии ни с каким видом философии, ибо она
переносится на совсем другую почву. Возможно,
нравственность имеет какую-то трансцендентную цель, которую
1 Нас упрекают (см. Beudant. Le droit individuel et l'Etat,
p. 244) в том, что мы назвали в одном месте вопрос о свободе воли
тонким. Это выражение не имело в наших устах ничего
презрительного. Если мы отказываемся от решения этой проблемы, то
исключительно потому, что ее решение, каким бы оно ни было, не может
препятствовать нашему исследованию.
36
опыт ие может постичь; дело метафизики заниматься ею.
Но прежде всего очевидно, что она развивается в
истории и под влиянием исторических причин, что она
выполняет некую функцию в нашей здешней временной жизни.
Если она в данный момент такая-то и такая-то, то
потому, что условия, в которых живут люди, не позволяют,
чтобы она была иной. И доказательством этому служит
то, что она меняется вместе с изменением этих
условий,— и только в этом случае. В настоящее время
невозможно более думать, что эволюция нравственности
состоит в развитии одной идеи, которая, будучи туманной и
неопределенной у первобытного человека, мало-помалу
проясняется и уточняется благодаря самопроизвольному
прогрессу знания. Если древние римляне не имели той
универсальной концепции человечества, которой мы
обладаем ныне, то не вследствие заблуждения,
происходившего от узости их интеллекта, а потому, что подобные
понятия были несовместимы с природой римской общины.
Наш космополитизм не мог там появиться, точно так же,
как растение не может прорасти на почве, неспособной
его питать. Да и кроме того, он был бы для нее только
источником смерти. И обратно: если он впоследствии
появился, то не вследствие философских открытий, не
вследствие того, что наши умы открылись для неведомых
прежде истин. Дело в том, что в структуре обществ
произошли изменения, сделавшие необходимым изменение
в нравах. Нравственность, следовательно, образуется,
преобразуется и сохраняется благодаря основаниям
опытного порядка; только эти основания и берется определить
наука нравственности.
Но из того, что мы задались целью прежде всего
изучить действительность, вовсе не следует, что мы
отказываемся от ее улучшения; мы сочли бы, что наши
исследования не заслуживают и часа труда, если бы они
имели чисто спекулятивный интерес. Если мы старательно
отделяем теоретические проблемы от практических, то
не для того, чтобы пренебречь последними, а, наоборот,
для того, чтобы быть в состоянии разрешить их лучше.
Однако всех, кто берется за научное исследование
нравственности, обыкновенно упрекают в их бессилии
сформулировать идеал. Утверждают, что их уважение к факту
не позволяет им перешагнуть его; что они могут хорошо
наблюдать то, что есть, но не могут давать нам правил
поведения для будущего. Мы надеемся, что эта книга
37
послужит, по крайней мере, тому, чтобы поколебать этот
предрассудок. Мы увидим, что наука может помочь нам
отыскать направление, в котором мы должны
ориентировать наше поведение, определить идеал, к которому мы
неявно стремимся. Однако возвыситься до этого идеала
мы сможем лишь после того, как будем наблюдать
действительность и из нее выделим этот идеал. Да и можно ли
поступить иначе? Даже самые необузданные идеалисты
не могут следовать другому методу, ибо идеал ни на чем
не основывается, если не имеет своих корней в
действительности. Вся разница в том, что они изучают
действительность весьма абстрактно, часто даже ограничиваются
тем, что выставляют какое-нибудь движение своих чувств
или живое стремление своего сердца, являющееся,
однако, только фактом, в виде какого-то императива, перед
которым они склоняют свой разум и приглашают нас
склонить свой.
Возражают, что методу наблюдения недостает правил
для обсуждения собранных фактов. Но такое правило
извлекается из самих фактов; нам еще представится
случай доказать это. Прежде всего существует состояние
морального здоровья, которое только наука может
определить со знанием дела, а так как оно нигде не
реализовано целиком, то идеал заключается уже в стремлении к
нему приблизиться. Кроме того, условия этого состояния
изменяются, потому что общества изменяются, и самые
серьезные практические проблемы, которые предстоит
нам решить, состоят именно в том, чтобы заново
определить это состояние в функции изменений,
совершившихся в среде. Но наука, давая нам закон изменений, через
которые среда уже прошла, позволяет нам
предвосхитить те, которые должны произойти и которых требует
новый порядок вещей. Если мы знаем, в каком
направлении развивается право собственности по мере того, как
общества становятся более обширными и плотными,
и если какое-нибудь новое приращение объема и
плотности делает необходимыми новые модификации, то мы
можем их предвидеть, а предвидя, желать их заранее.
Наконец, сравнивая нормальный тип с ним же самим,—
а это операция строго научная,— мы сможем обнаружить,
что он не вполне в согласии с самим собой, что он
содержит противоречия, т. е. несовершенства, и стараться
удалить их или уменьшить. Вот новая цель, которую
наука предлагает воле. Но, говорят, если наука предви-
38
дит, то она не повелевает. Это правда, она нам только го
ворит, что необходимо для жизни. Но ведь ясно: исходя
из средположения, что человек хочет жить, весьма
простая операция немедленно превращает устанавливаемые
наукой законы в повелительные правила поведения.
Несомненно, она превращается тогда в искусство, но
переход от пауки к искусству осуществляется без нарушения
преемственности. Остается только знать, должны ли мы
хотеть жить. И даже этот конечный вопрос наука, как
мы считаем, не оставляет без ответа 2.
Но если наука нравственности не делает из нас
индифферентных или покорных наблюдателей
действительности, то она в то же время заставляет нас относиться к
ней с величайшим благоразумием; она внушает нам дух
мудрого консерватизма. Можно было — и с полным
правом — упрекать некоторые называющие себя научными
теории в том, что они разрушительны и революционны;
по дело в том, что они научны только по имени. В
действительности они конструируют, но не наблюдают. Они
видят в нравственности не совокупность достигнутых
фактов, которые следует изучать, но нечто вроде
законодательства, которое всегда можно отменить и которое
каждый мыслитель устанавливает заново.
Нравственность, реально практикуемая людьми, признается только
совокупностью привычек, предрассудков, обладающих
ценностью только тогда, когда они согласны с
выдвигаемой теорией. А поскольку эта теория извлекается из
принципа, который пе выведен из наблюдения
моральных фактов, но заимствован у других наук, то
неизбежно, что она во многих пунктах противоречит
существующему моральному порядку. Но мы меньше, чем кто бы
то ни было, подвержены этой опасности, так как
нравственность для нас — система реализованных фактов,
связанная с целостной системой мира. А факт не
изменяется по мановению руки, даже когда это желательно.
Впрочем, поскольку он тесно связан с другими фактами, он
не может быть изменен без того, чтоб эти последние не
были затронуты, и часто очень трудно вычислить
наперед конечный результат этого ряда влияний. Поэтому
самый отважный ум становится осторожным, учитывая
перспективу подобного риска. Наконец — и это особенно
важно — всякий факт жизненного порядка, каковы и мо-
2 Мы этого касаемся ниже, кн. ТТ, гл. Т.
39
ральные факты, не может вообще долго существовать,
если он не служит чему-то, не отвечает какой-нибудь
потребности; поэтому он имеет право на наше уважение,
пока не доказано противное. Случается, бесспорно, что
существует не все то, что должно существовать, и что,
следовательно, есть основание вмешаться; мы сами это
установили. Но тогда вмешательство носит ограниченный
характер: оно не имеет целью создать из разных кусков
некую нравственность наряду с господствующей или над
ней, но исправить существующую нравственность или
улучшить ее частично.
Таким образом, исчезает антитеза, которую часто
пытались установить между наукой и нравственностью,—
опасный аргумент, которым мистики всех времен хотели
омрачить человеческую мысль. Чтобы урегулировать
наши отношения с людьми, нет надобности прибегать к
средствам, отличным от тех, которые служат нам для
упорядочения наших отношений с вещами: методически
применяемого размышления достаточно как в первом,
так и во втором случае. Науку и нравственность
примиряет наука о нравственности, ибо она учит нас уважать
моральную действительность и в то же время дает нам
средства улучшать ее.
Мы думаем поэтому, что к чтению нашего труда
можно и должно приступить без недоверия и задней мысли.
Во всяком случае, читатель должен приготовиться
встретить положения, которые будут идти вразрез с
некоторыми общепринятыми мнениями. Так как мы испытываем
потребность понимать или верить, что понимаем,
основания нашего поведения, то рефлексия обращалась к
нравственности гораздо раньше, чем эта последняя стала
объектом науки. Для нас стал привычным известный способ
представлять и объяснять себе главные факты моральной
жизни; но этот способ не имеет ничего научного, ибо он
образовался случайно, и без всякого метода, из общих и
весьма поверхностных наблюдений, сделанных, так
сказать, мимоходом. Если не освободиться от этих уже
готовых суждений, то, очевидно, нельзя будет приступить к
последующим; здесь, как и в других случаях, наука
предполагает полную свободу ума. Нужно отказаться от тех
способов видения и суждения, которые укрепила в нас
привычка: нужно подчиниться строгой дисциплине
методического сомнения. Это сомнение, впрочем, безопасно,
ибо оно относится не к моральной действительности,
40
которая не ставится под вопрос, а к тому объяснению,
которое дается ей некомпетентным и плохо
осведомленным рассуждением.
Мы должны решиться не допускать никакого
объяснения, не опирающегося на подлинные доказательства.
Пусть судят средства, которые мы употребили, с целью
придать нашим доказательствам как можно больше
строгости. Чтобы подчинить науке какой-то ряд фактов,
недостаточно тщательно наблюдать их, описывать,
классифицировать; но — что гораздо труднее — надо еще, по
выражению Декарта, найти лазейку к их научности, т. е.
обнаружить в них некоторый объективный элемент,
дозволяющий точное определение и, если возможно,
измерение. Мы постарались удовлетворить этому условию
всякой науки. Читатели увидят, в частности, как мы
изучили общественную солидарность по юридическим
системам; как при изыскании причин мы устранили все, что
слишком подвержено личным суждениям и субъективным
оценкам. Целью этого было постичь некоторые факты
социальной структуры, достаточно глубокие, чтобы быть
объектами разума и, следовательно, науки. В то же время
мы поставили себе правилом отказаться от метода, часто
практикуемого социологами, которые для доказательства
своего утверждения ограничиваются тем, что
беспорядочно и наудачу приводят более или менее значительное
число благоприятных фактов, не заботясь о фактах, им
противоречащих. Мы старались произвести настоящие
опыты, т. е. методические сравнения. Тем не менее
понятно, что, какие бы предосторожности ни принимались,
такие попытки могут быть еще весьма несовершенными.
Но, как бы они ни были несовершенны, мы считаем, что
необходимо их предпринимать. Ведь есть только одно
средство создать науку — именно дерзнуть на это, но
только опираясь на метод. Бесспорно, это невозможно
предпринять, раз нет налицо никакого сырого материала.
Но, с другой стороны, обманываются пустой надеждой,
когда думают, что лучший способ подготовить пришествие
науки — это сначала накоплять терпеливо все те
материалы, которыми она воспользуется: знать, в чем она
нуждается, можно только тогда, когда она уже имеет
некоторое осознание самой себя и своих потребностей,
следовательно, когда она существует.
Что касается вопроса, положившего начало этому
труду, то это вопрос об отношении между индивидуаль-
41
ной личностью и социальной солидарностью. Как
получается, что индивид, становясь все более автономным, в то
же время сильнее зависит от общества? Как может
индивид быть одновременно и более личностным, и более
связанным? Ибо не подлежит сомнению, что оба эти
движения, какими бы противоречивыми они ни казались,
совершаются параллельно. Такова вставшая перед нами
проблема. У нас сложилось представление о том, что
разрешение этой мнимой антиномии кроется в изменении
социальной солидарности, происходящем вследствие все
большего развития разделения труда. Вот так мы и
пришли к тому, чтобы сделать из разделения труда объект
нашего исследования 3.
3 Нам нет нужды напоминать, что вопрос о социальной
солидарности был уже изучен во второй части книги Мариона «La
solidarité morale». Но Марион взялся за задачу с другой стороны: он
главным образом старался установить реальность явления
солидарности.
ВВЕДЕНИЕ
ПРОБЛЕМА
Хотя разделение труда существует не со вчерашнего дня,
но только в конце прошлого века общества начали
осознавать этот закон, который до того времени управлял
ими почти без их ведома. Несомненно, что уже в
древности некоторые мыслители заметили его важность Y'eTö
первым, кто попытался дать^его jre&p^m, -£ид -J^y Смит.
Он же создал и: самый этот термин, который
впоследствии биология заимствовала у социальной науки.
В настоящее время это явление стало до того
распространенным, что бросается в глаза каждому. Не
существует больше иллюзий относительно тенденций нашей
современной промышленности; она все более и более
тяготеет к могучим механизмам, к крупным группировкам
сил и капиталов и, следовательно, к максимальному
разделению труда. Не только внутри фабрик занятия
обособлены и специализированы до бесконечности, но и
всякая мануфактура сама по себе представляет
специальность, предполагающую другие специальности. А. Смит и
Стюарт Милль еще надеялись, что, по крайней мере,
земледелие будет исключением из правила, и видели в нем
последнее убежище мелкой собственности. Хотя в
подобных вещах следует остерегаться чрезмерных обобщений,
одпако трудно, кажется, спорить нынче против того, что
главные отрасли сельскохозяйственной индустрии все
более и более втягиваются в общее движение2. Наконец,
и сама торговля старается следовать за бесконечным
разнообразием промышленных предприятий и отражать его
со всеми нюансами. И в то время как эта эволюция
совершается бессознательцо и стихийно, экономисты,
изучающие ее причины и оценивающие результаты, не
только не осуждают ее и не борются с ней, но провозглашают
ее необходимость. Они видят в ней высший закон
человеческих обществ и условие прогресса.
1 Ού γάφ έκ δυο ιατρών γίγνβται κοινωμ^α, αλλ'βξ ιατρού και γβωρ-
Του και δλως ετέρων ούκ ίσων (Никомахова этика. Ε. 1133а, 16) 20*.
2 Journal dos Economistes, novembre 1884, p. 211.
43
Но разделение труда свойственно не только миру
экономики; его возрастающее влияние мошш) наблюдать в
самых разнообразных областях общественной жизни.
Политические' ' Падшнистративнме, судебные функции все
более и более специализируются. То же самое
происходит с искусством и наукой. Мы далеки от того времени,
когда философия была единственной наукой; она
раздробилась на множество специальных дисциплин, среди
которых каждая имеет свой предмет, свой метод, свой дух.
«С каждой половиной столетия люди,_щюславившиеся в
lgS3BuCBçejî^^ 3.
Имея в виду указать характер исследований наиболее
знаменитых ученых за последние 200 лет, Декандоль
заметил, что в эпоху Лейбница и Ньютона ему приходилось
употреблять «почти всегда два или три обозначения для
всякого ученого, например: астроном и физик; математик,
астроном и физик,— или же употреблять общие термины,
такие, как «философ» и «натуралист». Но и этого было
недостаточно. Математики и натуралисты бывали иногда
обладателями обширных познаний или поэтами. Даже в
конце XVIII в. необходимы были многочисленные
обозначения для того, чтобы точно указать, что сделали
замечательные люди, к примеру, такие, как Вольф, Галлер,
Шарль Бонне, во многих отраслях науки и литературы.
В XIX в. эта трудность исчезла или, по крайней мере,
встречается очень редко» 4. Ученый не только не
занимается больше одновременно разными науками, но не может
даже охватить одной какой-нибудь науки во всей ее
целостности. Его исследования ограничиваются
определенным кругом проблем или даже одной-единственной
проблемой. В то же время занятие наукой, которое некогда
почти всегда соединялось с другим, более прибыльным,
таким, например, как занятие медика, священника,
военного, судьи, все более становится самодостаточным.
Декандоль предвидит даже, что в недалеком будущем
профессии ученого и преподавателя, ныне еще столь
тесно связанные, в конце концов отделятся друг от друга.
Новейшие теоретические наблюдения в области
биологической фютософиизаставилй нас уййдеть в разделении
'трУдй^$ает^а!^"',11Ь1бщности, какой экономисты,
заговорившие о нем впервые, и не подозревали. Действительно,
после трудов^Вольфа, фон RapqT Ту[углт.тт-адвярдся иявестд^
3 De Candolle. Histoire des sciences et des savants. 2e éd., p. 263.
4 Ibid.
44
,ίΤο закон^дазделения труда применим к_^р>ганизмам так
.ко, Ifa'K и к общрств?>т Ятлло ттяж!^ды>вип^Гут^^
ттие, что о^ганиз^.даπ д ма от -в- иарархид--мира- животных
тем более высокое месхо,. чем. боде£идихвцн«л-изированы в
нем функцииг Следствием этого открытия было то, что
поле действия разделения труда безмерно увеличилось,
а происхождение его было отодвинуто в бесконечно
далекое прошлое, так как это разделение возникло почти
одновременно с самой органической жизнью. Это уже не
только социальный институт, имеющий свой источник в
уме и воле людей, это общебиологический факт, условия
которого надо, по-видимому, искать в основных свойствах
организованной материи. Разделение общественного труда
выступает уже только как частная форма этого
всеобщего процесса, и общества, согласуясь с этим законом, по-
видимому, подчиняются течению, которое возникло
значительно раньше их и увлекает в одном и том же
направлении весь живой мир.
Подобный факт не может, очевидно, не оказывать
глубокого влияния на паш моральный уклад, ибо развитие
человека будет совершаться в двух совершенно
противоположных направлениях, в зависимости от того,
подчинимся мы этому движению или будем ему
сопротивляться. Но тогда неотвратимо встает вопрос: к какому из этих
двух направлений следует стремиться? Должны ли мы
стремиться стать законченным и полным существом,
самодовлеющим целым или, наоборот, быть только
частичкой целого, органом организма? Словом, представляет ли
разделение труда, будучи законом природы, также и
моральное правило человеческого поведения, и если оно
таково, то почему и в какой степени? Не стоит доказывать
важное значение этой практической проблемы, ибо, как
бы ни относиться к разделению труда, для всякого
очевидно, что оно существует и все больше становится одпой
из фундаментальных основ общественного строя.
Нравственное сознапие наций часто ставило перед
собой эту проблему, но ставило невнятно, не приходя ни к
какому решению. Здесь сталкиваются два
противоположных стремления, и ни одно из них не имеет над другим
решающего перевеса.
Бесспорно, общественное мнение все более и более
склоняется к тому, чтобы сделать из разделения труда
повелительное правило поведения и навязать его в
качестве долга. Правда, те, кто пытается нарушить его, не
паказываются определенпым наказанием, установленным
45
законом, но их порицают. Прошло время, когда
совершенным человеком нам казался тот, кто, умея
интересоваться всем и не привязываясь ни к чему исключительно,
обладал способностью все пробовать и все понимать и
находил средства соединять и собирать в себе все лучшее в
цивилизации. Но в настоящее время эта общая культура,
столь хвалимая когда-то, производит на нас впечатление
чего-то изнеженного и расслабленного5. Чтобы бороться
с природой, мы нуждаемся в более мощных способностях
и в более производительной энергии. Мы хотим, чтобы
деятельность не разбрасывалась по широкой
поверхности, а концентрировалась и выигрывала в интенсивности
то, что теряет в объеме. Мы не доверяем этим слишком
подвижным талантам, которые, будучи одинаково хороши
для всех занятий, не желают выбрать специальную роль
и остановиться на ней. Мы испытываем неприязнь к этим
людям, единственная забота которых — сформировать и
усовершенствовать все свои способности, однако
определенно никак не используя их и не жертвуя ни
одной из них, как будто каждая из них должна быть
самодовлеющим и независимым целым. Нам кажется,
что это состояние отчуждения и неопределенности
содержит в себе нечто антисоциальное. Благовоспитанный
человек былых времен в наших глазах просто дилетант,
а мы отказываем дилетантизму во всякой моральной
ценности. Мы видим скорее совершенство в компетентном
человеке, который не стремится быть всесторонним, но
производит, который имеет свою ограниченную задачу и
посвящает себя ей, который делает свое дело, оставляет
свой след. «Совершенствоваться,— говорит Секретан,—
это значит изучить свою роль, это значит стать
способным выполнять свою функцию... Мера нашего
совершенства заключается не в довольстве самим собой, не в
аплодисментах толпы или в одобрительной улыбке жеманного
дилетантизма, но в сумме оказанных услуг и в
способности оказывать их еще» 6. Поэтому моральный идеал
вместо прежнего единственного, простого, безличного, каким
он был, все более и более разнообразится. Мы уже не
думаем, что единственный долг человека — осуществить
5 Это место иногда интерпретировали так, как будто оно
содержит полное осуждение всякого рода общей культуры. На самом
же деле, как это следует из контекста, мы говорим здесь только
о гуманитарной культуре, которая, конечно, является общей, но не
единственно возможной.
β Le principe de la morale, p. 189.
46
в себе черты человека вообще; но мы убеждены, что не
менее важны его профессиональные обязанности. Один
факт, помимо прочих, делает особенно заметным
отмеченное умонастроение: это все более специальный характер
воспитания. Все более и более считаем мы необходимым
не подвергать всех наших детей влиянию единообразной
культуры (как если бы они должны были вести одну и
ту же жизнь), но воспитывать их по-разному, имея в
виду различные обязанности, которые им придется
исполнять. Словом, одной из CBjjiTY ст^рпн катРТРрический
императив MopajfbHoro сй)5нятщя, τ^π^τ^ττ^τψ^ρτ
следующую фпруу·^* -пли, ηρβη ^fflflfn^V.1^ С /у,р,/укдп1/"а;д^-
ществлять опре^^еннг/ю^тткимю.
' Но наряду с "этими фактаШПйГОЖно привести
противоположные им. Если общественное мнение и
санкционирует правило разделения труда, то не без некоторого
беспокойства и колебаний. Повелевая людям
специализироваться, оно как бы постоянно боится, чтоб они не
слишком специализировались. Наряду с правилами,
прославляющими интенсивный труд, есть другие, не менее
распространенные, указывающие на опасности. «Довольно
печально,— говорит Жан-Батист Сей,— замечать, что
только и делаешь что Vis часть булавки. И пусть не
воображают, что только рабочий, который всю свою жизнь
занят пилой или молотком, извращает таким образом
достоинство своей природы; так происходит и с человеком,
который по своему занятию развивает самые тонкие
способности своего ума» 7. Еще в начале столетия Лемон-
те8, сравнивая существование современного рабочего со
свободной и просторной жизнью дикаря, находил вторую
гораздо благоприятнее первой. Токвиль не менее суров.
«По мере того,- говорит он,-_как принцип разделения
ТРУДа получает все большее применение, ремесло прогресс
сирует, а ремесленник регрессирует»^. В целом правило^
повелевающее нам специализироваться, повсюду как бы
отрицается противоположным правилом, далеко не
утратившим свой авторитет и обязывающим нас всех
осуществлять один и тот же идеал. В принципе, конечно,
конфликт этот не содержит в себе ничего удивительного.
Нравственная жизнь, так же как и телесная и
умственная, отвечает различным и даже противоречивым
потребностям; естественно поэтому, что она отчасти создается
7 Traité d'économie politique, кн. I, гл. VIII.
8 Raison ou Folie, глава о влиянии разделения труда.
9 La démocratie en Amérique.
47
из антагонистических элементов, которые взаимно друг
друга ограничивают и уравновешивают. Тем не менее
столь явный антагонизм не может не тревожить
нравственное сознание наций. Поэтому также необходимо,
чтобы оно смогло объяснить сеое, откуда проистекает
подобное противоречие.
Чтобы положить конец этой неопределенности, мы не
станем прибегать к обычному методу моралистов,
которые, когда они хотят вынести суждение о моральной
ценности какого-нибудь предписания, начинают с
выдвижения некоей общей формулы морали, чтобы затем
сравнить ее с оспариваемым правилом. Теперь нам известно,
чего стоят эти поверхностно сделанные обобщения10.
Выдвинутые в самом начале исследования, до всякого
наблюдения фактов, они имеют целью не объяснить их, но
выдвинуть абстрактный принцип идеального
законодательства, которое необходимо создать из разных частей.
Они, стало быть, не дают нам ясного представления о
существенных характеристиках реальных моральных
правил в таком-то обществе или в определенном социальном
типе, но они выражают лишь способ, которым моралист
представляет себе мораль. Конечно, и в этом качестве
они поучительны, так как дают нам знать о
нравственных стремлениях, возникающих в рассматриваемый
момент. Но они представляют интерес только как факт, а не
как научная точка зрения. Ничто не позволяет увидеть
в личных стремлениях мыслителя, какими бы реальными
они ни были, адекватное выражение нравственной
реальности. Они представляют потребности, которые всегда
лишь частичны; они отвечают некоему отдельному и
предопределенному desideratum'y2i*, который сознание
посредством привычной для него иллюзии возводит в
конечную или единственную цель. Как часто они
оказываются патологическими по природе! К ним, стало быть,
невозможно отнестись как к объективным критериям,
позволяющим оценить нравственный характер тех или
иных обычаев.
Нам следует отбросить эти дедукции, которые обычно
используются только в качестве псевдоаргументов и с
целью оправдать задним числом предвзятые чувства и
10 В первом издании этой книги мы пространно излагали
доводы, доказывающие, на наш взгляд, бесплодность этого метода.
Теперь, по нашему мнению, мы можем себе позволить быть более
краткими. Бывают дискуссии, которые не следует продолжать
до бесконечности.
48
личные впечатления. Единственный путь к объективной
оценке разделения труда — это изучить его вначале в
себе самом чисто умозрительным образом; выяснить, чему
оно служит и от чего зависит,— словом, составить себе
о нем как можно более адекватное понятие. После этого
мы сможем сравнить его с другими моральными фактами
и выяснить его отношения с ними. Если мы найдем, что
оно играет такую же роль, как и другой обычай,
моральный и нормальный характер которого неоспорим, что если
в известных случаях оно не исполняет эту роль, то
только в силу анормальных уклонений, что определяющие его
причины суть также определяющие причины других
моральных правил, то мы сможем заключить, что оно
должно быть помещено среди последних. И таким образом, не
заменяя своими желаниями моральное сознание обществ,
не претендуя на законодательную деятельность вместо
него, мы сможем внести в него немного света и
уменьшить его затруднения.
Поэтому наш труд распадается на три главные части.
Сначала мы исследуем, какова функция разделения
труда, т. е. какой социальной потребности оно
соответствует.
Затем мы определим причины и условия, от которых
опо зависит.
ч Наконец,— так как оно не служило бы объектом столь
серьезных обвинений, если бы действительно не
отклонялось более или менее часто от нормального состояния,—
мы постараемся классифицировать главные
представляемые им анормальные формы, чтобы избежать смешения
их с другими. Это исследование представит тем больше
интереса, что здесь, как и в биологии, патологическое
поможет нам лучше понять физиологическое.
Кроме того, если так спорили о моральной ценности
разделения труда, то не столько потому, что оно не
находится в согласии с общей формулой нравственности,
сколько потому, что пренебрегли фактическими
вопросами, которыми мы займемся. Всегда рассуждали так, как
будто они были очевидны; как будто бы, чтобы узнать
природу, роль, причины разделения труда, достаточно
анализировать понятие, которое каждый из нас имеет о
нем. Такой метод не позволяет прийти к научным
выводам; поэтому после Адама Смита теория разделения
труда очень мало продвинулась вперед. «Его
продолжатели,— говорит Шмоллер,— с удивительной бедностью
мысли неотрывно привязывались к его примерам и
замечало
ниям до тех пор, пока социалисты не расширили поля
своих наблюдений и не противопоставили разделение
труда в теперешних фабриках разделению его в
мастерских XVIII в. Но и этим путем теория не была развита
систематически и глубоко; технологические размышления
или банальные наблюдения некоторых экономистов
также не смогли существенно способствовать развитию этих
идей» и. Чтобы знать, что объективно представляет сооой
разделение труда, мало развить содержание идеи,
которую мы себе составляем о нем, но надо рассматривать
его как объективный факт, наблюдать его, сравнивать,
и мы увидим, что результат наших наблюдений часто
расходится с тем, который нам внушает внутреннее
чувство 12.
11 La division du travail étudiée au point de vue historique.
Revue d'économie politique, 1889, p. 567.
12 С 1893 г. появились или стали нам известны две работы,
которые касаются вопроса, рассматриваемого в нашей книге. Это
прежде всего «Sociale Differenzierung» Зиммеля (Leipzig, VIL
147 S.), где специально изучается не вопрос о разделении труда,
а в общем виде процесс индивидуации. Существует также книга
Бюхера «Die Entstehung der Volkswirtschaft», недавно
переведенная на французский язык под заголовком «Etudes d'histoire et
d'économie politique» (P., Alcan, 1901); несколько глав в ней
посвящены разделению экономического труда.
КНИГА
I
Функция
деления труда
*
Глава I
МЕТОД ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭТОЙ ФУНКЦИИ
Слово «функция» употребляется в двух довольно
различных значениях. Оно означает либо систему жизненных
движений,— отвлекаясь от их последствий,— либо
отношение соответствия, существующее между этими
движениями и какими-то потребностями организма. Так,
говорят о функциях пищеварения, дыхания и т. д. Но
говорят также, что пищеварение имеет функцией управлять
усвоением организмом жидких или твердых веществ,
требуемых для возмещения его потерь; что дыхание
имеет функцией ввести в ткани животного газы, необходимые
для поддержания жизни, и т. д. В этом втором значении
мы и будем употреблять это слово. Спрашивать, какова
функция разделения труда, значит исследовать, какой
потребности оно соответствует. Когда мы решим этот
вопрос, мы сможем увидеть, является ли природа этой
потребности такой же, как у других потребностей и
соответствующих правил поведения, моральный характер
которых не оспаривается.
Если мы выбрали этот термин, то потому, что всякий
другой был бы неточным или двусмысленным. Мы не
можем использовать термины «цель» или «объект» и
говорить о цели разделения труда, так как это значило бы
предполагать, что разделение труда существует
специально для результатов, которые мы собираемся определить.
Термины «результаты» или «следствия» также не могут
удовлетворить нас, так как они никак не выражают идею
соответствия. Наоборот, слово «роль» или «функция»
имеет то большое преимущество, что содержит эту идею,
ничего не указывая насчет того, как установилось это
соответствие; происходит ли оно от преднамеренного и
заранее задуманного приспособления или от последующего
51
приноравливания. Ведь для нас важно знать, существует
ли это соответствие и в чем оно состоит, а не то,
ощущается ли оно заранее или же впоследствии.
I
На первый взгляд нет ничего, по-видимому, легче, чем
определить роль разделения труда^Разве действие его не
известно всем~и каждому? Поскольку оно увеличивает
одновременно производительную^ силу и 7у^^^
1он7!Гсостав^ляет нёобхЪдимое"условие материального^ин-
тешеШуШШото " рШвйТйя: обществ,^ теточгак^ивилиза-4
ции. С другой cTtiptTEfBrT^afi ка1Гцмилизации охотно*
приписывается абсолютная ценность, то даже не помышляют
о том, чтобы искать другую функцию для разделения
труда.
Что разделение труда действительно дает этот
результат — этого невозможно и пытаться оспаривать. Но если
бы .оно не имело другого результата и не служило для
чего-нибудь другого, то не было бы никакого оспованпя
приписывать ему моральный характер.
Действительно, услуга, "оказываемые им таким
образом, весьма далеки от моральной жизни или, по крайней
мере, имеют к ней весьма косвенное и отдаленное
отношение. Хотя теперь и принято отвечать на суровую
критику Руссо дифирамбами обратного содержания, однако
совсем не доказано, что цивилизация — нравственная
вещь. Чтобы решить этот вопрос, нельзя обращаться к
анализу понятий, которые неизбежно субъективны, но
надо бы найти факт, пригодный для измерения уровня
средней нравственности, и затем наблюдать, как он
изменяется по мере прогресса цивилизации. К несчастью,
у нас нет такой единицы измерения; зато она у нас есть
в отношении коллективной безнравственности.
Действительно, среднее числтпсамоубийств, преступлений всякого
рода может служить для того, чтобы обозначать высоту
безнравственности в данном обществе. Но если
обратиться к опыту, то он мало говорит в пользу цивилизации,
ибо число этих болезненных явлений, по-видимому,
увеличивается по мере того, как прогрессируют наука,
искусство и промышленность \ Конечно, было бы
несколько легкомысленно заключать отсюда, что цивилизация
безнравственна, но можно, по крайней мере, быть уверен-
1 См.: Alexander von Oettingen. Moralslatistik. Erlangen, 1882.
§ 37 etc.; Tarde. Criminalité comparée (P., F. Alcan). гл. II (О
самоубийствах, см. ниже, кн. II, гл. I, § II).
52
ным, что если она оказывает на моральную жизнь
положительное, благотворное влияние, То это "влияние доволь-
но слабо. ^ ^ <
Впрочем, если проанализировать тот плохо
определяемый комплекс, который называют цивилизацией, то
можно обнаружить, что элементы, _из_ которых он состоит,
лишены всякого морального характера.
Особенно это^ верно для экономической деятельности,
постоянно сопровождающей цивилизацию. Она не только
не служит прогрессу нравственности, но преступлениями
самоубийства особенно многочисленны в больших
промышленных центрах. Во всяком случае, очевидно, что
она не представляет внешних признаков, по которым
узнаются моральные факты. Мы заменили дилижансы
железными дорогами, парусные суда — громадными
пароходами, маленькие мастерские — мануфактурами; весь этот
расцвет деятельности обычно рассматривается как
полезный, но он не имеет ничего морально обязательного.
Ремесленник, мелкий промышленник, которые
сопротивляются этому всеобщему течению и упорно держатся за
свои скромные предприятия, так же хорошо исполняют
свой долг, как и крупный мануфактурист, покрывающий
страну сетью заводов и соединяющий под своим началом
целую армию рабочих. Моральное сознание наций не
ошибается; оно предпочитает немного справедливости
всем промышленным усовершенствованиям в мире.
Конечно, промышленная деятельность имеет свое основание:
она удовлетворяет известным потребностям, но эти
потребности не морального порядка.
Еще с большим основанием можно сказать это об
искусстве, которое абсол ютвТо" противостоит" веемую "что"
похоже на долг, так как оно — царство свободы. Оно —
роскошь и украшение, иметь которые, MOHœ^biTb^.ECJopfir
красно, jig приобретать йх^ёгобязательно; то, что
излишне, не обязательно. Наоборот, нравственность— это
обязательный минимум и суровая необходимость, "это хлеб
насущный, без которого общества и не могут жить. Ис-
кусств^отвечает нашей потребности расширять свою
деятельность без цели, из удовольствия распространять ее,
между тем как нравственность заставляет нас идти по
определенной дороге к определенной цели; кто говорит
«долг», тот говорит вместе с тем и «принуждение».
Поэтому искусство, хотя и может быть одушевляемо
моральными пдеями или переплетаться с эволюцией
собственно моральных явлений, не морально само по себе. На-
53
блюдение, может быть, даже устаповит, что у индивидов,
как и у обществ, неумеренное развитие эстетических
наклонностей представляет серьезный симптом с точки
зрения нравственности.
Из всех элементов цивилизации только наука при
известных условиях носит нравственный характер.
Действительно, общества все более стремятся'признавать
обязанностью индивида развитие своего ума путем усвоения
установленных научных истин. В настоящее время
существует некоторое количество знаний, которыми мы все
должны обладать. Человек не обязан бросаться в
грандиозную промышленную схватку или становиться
художником; но всякий теперь обязан пе быть невеждой. Эта
обязанность дает себя знать так сильно, что в некоторых
обществах она санкционирована не только общественным
мнением, но и законом. Впрочем, можно увидеть, откуда
берется эта характерная для науки привилегия. Дело в
том, что наука есть не что иное, как сознание, доведенное
до высшей степени своей ясности. Но, для того чтобы
общества могли жить при теперешних условиях
существования, необходимо, чтобы поле сознания, как
индивидуального, так и общественного, расширилось и прояснилось.
Действительно, среда, в которой они живут, становится
все более сложной и, следовательно, более
подвижной, поэтому, чтобы долго существовать, им надо часто
изменяться. С другой стороны, чем темнее сознание, тем
оно неподатливее для изменения, потому что оно не
видит достаточно быстро ни того, что надо произвести
изменения, ни того, в каком направлении производить их.
Наоборот, просвещенное сознание умеет заранее найти
способ к ним приспособиться. Вот почему необходимо,
чтобы разум, руководимый наукой, принял более
активное участие в ходе коллективной жизни.
Но наука, овладения которой теперь требуют от
всякого, почти не заслуживает этого названия. Это не
наука — это в лучшем случае наиболее общая и простая
часть ее. Она сводится на самом деле к незначительному
числу обязательных сведений, которые требуются от всех
только потому, что они предназначены для всех.
Настоящая наука бесконечно превосходит этот обыденный
уровень: включает в себя не только то, чего стыдно не знать,
но все то, что знать возможно. Она предполагает у
занимающихся ею не только те средние способности,
которыми обладают все люди, но и специальные склонпости.
Следовательно, будучи доступна только избранным, она
54
не обязательна. Это полезная и прекрасная вещь, но не
необходимая в такой степени, чтобы общество ее
повелительно требовало. Выгодно заручиться ею; но нет ничего
безнравственного в том, чтобы ею не овладеть. Это —
поле действия, открытое для инициативы всех, но на
которое никого не принуждают ступить. Быть ученым так
же необязательно, как художником. Ит^к, ,шцукат ^к ц
TT.^KyfifiTF^ ц пррмыпшрдщдГгТ^,_^находитса.-в1ю
нравственности 2.
ТТричина многих разногласий относительно
нравственного характера цивилизации состоит в том, что очень
часто моралисты не _имеют_объективного критерия для того,
чтобы отличить моральные факты от тех, которые
таковыми не являются. Обыкновенно моральным называют
все то, что обладает благородством и ценностью, все, что
является предметом каких-то возвышенных стремлений,—
и только благодаря этому чрезмерному расширению
значения слова удается ввести цивилизацию в область
нравственности. Но область этики не так неопределенна;
она охватывает все правила, которым подчинено
поведение и с которыми связана санкция, но не более того.
Следовательно), цивилизация, поскольку в ней нет ничего,
что содержало бы_зтот критерий нравственности,
морально индифферентна. Поэтому, если бы разделение труда
не создавало ничего другого, кроме самой возможности
цивилизации, оно бы участвовало в формировании той же
нравственной нейтральности. ^jrJr:cr> , / -м-
Так как у разделения труда вообще не видели другой
функции, то и обосновывающие ее теории в этом
отношении расплывчаты. Действительно, если и допустить4
существование в нравственности нейтральной полосы,
невозможно предположить, чтобы разделение труда состав^
ляло ее часть 3. Если оно не добро — оно зло; если оно не
нравственно — оно безнравственно. Следовательно, если
оно не служит ничему другому, то мы впадаем в
неразрешимые противоречия, ибо представляемые им
экономические преимущества должны уравновешиваться
моральными недостатками; но, поскольку невозможно отделить
друг от друга эти две разнородные и несравнимые
величины, нельзя сказать, какая из них берет верх, и, следо-
2 «Существенная черта добра по сравнению с истиной - это
быть обязательным. Истина сама по себе не имеет этого характера»
(Janet. Morale, p. 139).
3 Поскольку оно находится в состоянии антагонизма с
нравственным правилом (с. 45-46 наст. кн.).
55
вателыю. занять каь'ую-то позицию, (пошлются, быть
может, на первенство нравственности, чтобы решительно
осудить разделение труда. Но помимо того, что эта
ultima ratio 22* всегда представляет собой своего рода
научный переворот, очевидная необходимость специализации
делает невозможной защиту подобной позиции.
Но это не все. Если разделение труда не имеет другой
роли, то ему не только не присущ моральный характер,
но неясно даже, каким может быть его основание. Мы
увидим в самом деле, что цивилизация сама по себе не
имеет абсолютной"внутренней ценности; цену ей придает
то, что она соответствует^оггредёленным:" потребностям.
Но — это положение будет доказано далее 4 — эти
потребности суть сами следствия разделения труда. Так как
последнее не развивается без увеличения траты сил, то
человек вынужден искать — в виде возмещения за эти
добавочные усилия — благ цивилизации, которые иначе не
имели для него интереса. Поэтому разделение труда, если
бы оно не отвечало иным потребностям, имело бы
функцией только смягчение производимых им самим
последствий, перевязку причиненных "им ран. В этих условиях,
возможно, было бы необходимо его терпеть, но не было
бы никакого основания желать его, так как оказываемые
им услуги сводились бы к восстановлению причиняемых
им самим потерь.
Следовательно, все побуждает нас искать другую
функцию, свойственную разделению труда. Несколько
повседневных фактов выведут нас на дорогу к решению
нашей задачи.
II
Каждый знает, что мы любим того, кто похож на нас,
кто мыслит и чувствует, как мы. Но не менее часто
встречается противоположное явление. Часто случается,
что мы чувствуем влечение к людям, которые на нас
непохожи, именно потому, что они непохожи на нас. Эти
факты так явно противоречат друг другу, что моралисты
всегда колебались относительно истинной природы
дружбы и выводили ее то из одной, то из другой причины.
Уже греки поставили себе этот вопрос. «Дружба,—
говорит Аристотель,— предмет многих споров. По мнению
одних, она состоит в некотором сходстве: те, кто сходны,
любят друг друга; отсюда пословицы: подобный сходится
4 См. кн. II, гл. I, V.
56
с подобным, ворона ищет ворону и другие похожие
поговорки. По мнению других, наоборот, все, кто схожи меж
собой, не любят друг друга. Есть другие объяснения,
изыскиваемые выше и взятые из рассмотрения природы.
Так, Еврипид говорит, что высохшая земля влюблена в
дождь и что мрачное, отягощенное дождем небо с
любовным бешенством устремляется на землю. Гераклит
утверждает, что прилаживается только противоположное,
что прекраснейшая гармония рождается из различий, что
разногласие.— закон всякого становления» 5.
15ти противоположные теории подтверждают, что в
природе существует и та и другая дружба. Несходство,
как и сходство, может быть причиной взаимного
влечения. Однако недостаточно всяких вообще несходств, чтоб
произвести это действие. Мы не находим никакого
удовольствия, встречая у другого натуру, просто отличную
от пашей. Моты пе ищут компании скупцов, прямые и
открытые характеры не ищут скрытых и лицемерных;
доброжелательные и мягкие люди не чувствуют никакой
склонности к грубым и злонамеренным. Следовательно,
только определенного рода различия стремятся друг к
другу; это те именно, которые не противопоставляются и
исключают друг друга, но взаимно дополняются. «Есть,—
говорит Бэн,— один род несходства, который отталкивает,
и другой, который притягивает; один влечет за собой
соперничество, другой — дружбу. Если одна из двух
личностей обладает чем-нибудь, чего другая не имеет, но
желает, то в этом факте имеется исходная точка
положительного влечения» 6. Так, теоретик с тонким
аналитическим умом часто имеет особую склонность к
практическим людям, к здравому смыслу, к быстрым интуициям;
робкий — к людям отважным и решительным; слабый —
к сильному, и наоборот. Как бы богато мы ни были
одарены, нам постоянно не хватает чего-нибудь, и лучшие из
нас чувствуют свое несовершенство. Вот почему мы ищем
в наших друзьях недостающих нам качеств: соединяясь
с ними, мы некоторым образом становимся причастными
к их натуре и чувствуем себя менее несовершенными.
Таким образом создаются маленькие ассоциации друзей,
где каждый имеет свою роль, сообразную с его
характером, где есть настоящий обмен услугами. Один
покровительствует, другой утешает, третий советует, четвертый
5 Никомахова этика, VIII, I. 1155а. 32.
6 Emotions et volonté. P., F. Alcan, p. 135.
57
исполняет,— и именно это разделение функций, или,
употребляя освященное выражение, это разделение
труда, вызывает отношения дружбы.
Таким образом, мы приходим к рассмотрению
разделения труда с новой стороны. Действительно, в этом
случае экономические услуги, которые оно может оказывать,
ничто в сравнении с производимым им моральным дейст-
вием; истинная функция его - создавать между двумя
или несколькими личностями чувство ЛПЛ^^Р^ПРШи^5*"
ким"бьГспособом" ни получался этот результат, именно
солидарность порождает эти общества друзей и она их
отмечает своею печатью.
История супружества дает нам еще б^лее поразитель-
ный примерного feé ü'äMUHJ.ЯВЛИИия." ' " "*",г
' ьез сомнения, половое влечение дает себя знать
только между представителями одного вида, и любовь обычно
предполагает определенную гармонию мыслей и чувств.
Тем не менее не сходство, но различие соединяемых этим
влечением натур придает ему его специфический
характер и его особенную энергию. Мужчина и женщина
страстно ищут друг друга именно потому, что опи
различаются. Однако, как и в предыдущем примере, не
просто чистый контраст дает расцвести этим взаимным
чувствам: эту способность имеют только^ дополняющие
друг друга различия. В самом деле, изолированные друг
от друга мужчина и женщина суть только различные
части одного и того же конкретного целого, которое они,
соединяясь, восстанавливают. Иными словами, тзаздсле-
ние полового jrp&ujij- вот источник_супружеской ^соли-
7^нбсга^й^1пГсихологи_весьма справедливо заметили," что
'разделение-полов было капитальным событием в
эволюции чувств: оно создало возможность для, вероятно,
самой сильной из бескорыстных склонностей.
Более того. Разделение полового труда способно быть
большим или меньшим; оно может либо относиться
только к половым органам и нескольким зависящим от них
вторичным признакам, либо, наоборот, распространяться
на все органические и социальные функции. Но в истории
можно видеть, что оно развивалось точно в том же
направлении и таким же способом, как и супружеская
солидарность.
Чем далее мы углубляемся в прошлое, тем меньше
это различие. Женщина тех отдаленных времен вовсе не
была тем слабым созданием, каким она стала с
прогрессом нравственности. Доисторические останки людей сви-
58
детельствуют, что различие между силой мужчины и
жёнщиДБг-было гораздо слабее, "чеж~тшгеръ~7: Еще" π те--
перь в детстве и до наступления зрелости скелеты обоих
половТйГ~ртзличаются сколько-нибудь значительно:
черты их преимущественно женские. Если допустить, что
развитие~особи кратко воспроизводит развитие вида, то
можно с полным правом предположить, что та же
однородность имела место в начале эволюции человечества^
Можно видеть в женской форме как бы приближенный]
образ того, чем вначале был этот единственный и общшр
тип, из которого мало-помалу выделилась мужская
разновидность.! Между прочим, путешественники сообщают,
что в некоторых южноамериканских племенах мужчина
и женщина представляют по строению и общему виду
сходство, превосходящее все, что встречается в других
местах 8. Наконец, доктор Лебон смог прямо и с
математической точностью установить это первоначальное
сходство обоих полов в ведущем органе физической и
психической жизни — мозге. Сравнивая большое
количество черепов, представляющих разные расы и общества,
он пришел к следующему заключению: «Объем черепа
мужчины и женщины, даже когда сравнивают особи
одинакового возраста, роста и веса, представляет большую
разницу в пользу мужчины, и это неравенство
увеличивается с развитием цивилизации, так что с точки зрения
массы мозга, а следовательно, и интеллекта женщина все
более отличается от мужчины. Разница, существующая,
например, между средней величиной черепов
современных парижан и парижанок, почти вдвое больше разницы,
наблюдаемой между мужскими и женскими черепами
древнего Египта» 9. Немецкий антрополог Бишоф пришел
в этом отношении к тем же результатам 10. ^л
Эти анатомические сходства сопровождаются функцион
нальными сходствами. Действительно, в тех самых об-\
ществах женские функции не отличаются очень четко от
мужских: оба пола ведут почти одинаковое
существование. Еще теперь имеется весьма значительное число
диких народов, где женщина вмешивается в политическую
жизнь. Именно это наблюдали у индейских племен Аме^
7 Topinard. Anthropologie, p. 146.
8 См.: Spencer. Essais scientifiques. P., F. Alcan, p. 300. Вайц в
своей «Anthropologie der Naturvölker» (I., S. 76) приводит много
фактов того же рода.
9 L'Homme et les sociétés, II. p. 154.
10 Das Gehirngewicht des Menschen. Eine Studie. Bonn, 1880.
59
рики, таких, как ирокезы, патчезы11, на Гавайях, где
женщина тысячью способов участвует в жизни
мужчин12, на Новой Зеландии, на Самоа, Точно так же
часто видят, как женщины сопровождают мужчин на
войну, побуждают их к сражению и даже принимают в нем
очень деятельное участие. На Кубе, в Дагомее они такие
же воины, как и мужчины, и бьются рядом с ними 13.
Один из отличительных атрибутов теперешней
женщины — мягкость, по-видимому, не принадлежал ей
изначально. В некоторых животных видах самка отличается
даже противоположной чертой.
Однако у этих самых народов брак находится в ^ь
верщенно рудиментарном состоянии. Весьма вероятно —
если даже не абсолютно доказано,— что__в истории^емьд
была эпоха, когда не было брака; половые отношения
начинались и прекращались по собственной воле, и.
никакое юридическое обязательство не связывало
соединившихся. Во всяком случае, мы знаем тип семьи,
относительно близкий к нам, где брак находится еще в
состоянии несформировавшегося зародыша: это материнская
семья14. Отношения между детьми и матерью в ней
очень определенны, но отношения между супругами
весьма слабы. Они могут быть прекращены, как только
стороны захотят этого, или даже заключаются на
определенное время 15. Супружеская верность там еще не
требуется. Брак, или то, что называют таким образом, состоит
только в ограниченных по размеру и чаще всего
непродолжительных обязательствах, связывающих мужа с
родственниками жены; он, стало быть, сводится к весьма
немногому. Но в данном обществе совокупность тех
юридических правил, которые составляют брак, только
символизирует состояние супружеской солидарности. Если эта
последняя очень сильна, то соединяющие супругов узы
многочисленны и сложны, и, следовательно,
регламентация брака, имеющая целью определить их, сама очень
развита. Если, наоборот, супружеское сообщество не
имеет прочной связи, если отношения между мужчиной и
женщиной неустойчивы и непостоянны, то они не могут
11 Waitz. Anthropologie. Ill, S. 101-102.
12 Ibid., VI, S. 121.
13 Spencer. Sociologie. P., F. Alcan, III, p. 391.
14 Материнское право, несомненно, существовало у германцев.
См.: Dargun. Mutterrecht und Raubehe im germanischen Rechte. Bres-
lau, 1883.
15 См., в частности: Smith. Marriage and Kinship in Early
Arabia. Cambridge, 1885, p. 67.
60
принять четко определенной формы, и, следовательно,
брак сводится к незначительному числу нестрогих и
неточных правил. Итак, состояние брака в обществах, где
оба пола слабо дифференцированы, свидетельствует, что и
супружеская солидарность там очень слаба.
Наоборот, по мере того как мы приближаемся к ново:
му времени, мы замечаем,~ка1Г^аГзвивается брак. Созда-
ваемая~им"сёть связей"всё"более расширяется,
санкционируемые им обязанности умножаются. Условия, при кото-
рых_он_может быть заключен, условия, при которых он
может быть расторгнут, определяются с возрастающей
точностью, равно как и следствия этого расторжения.
Формируется долг верности; налагаемый вначале только
на женщину, он позже становится взаим!шм7ГКс)гда
появляется приданое, устанавливают соответствующие
права каждого из супругов на его собственное имущество и
на имущество другого. Достаточно, впрочем, заглянуть в
наши кодексы, чтобы увидеть, какое важное место
занимает в них брак. Союз двух супругов перестал быть эфе-
медным[__это уже не внешний контакт! частичный и
преходящий, но интимная, долговечная, часто даже
неразрушимая ассоциация двух жизней.
Но известно, что в то же время половой труд все
более разделялся. Ограниченный вначале одними только
сексуальными функциями, он мало-помалу простерся на
многие другие. Уже давно женщина удалилась от
военных и общественных дел, давно~уже"~жизнь ее целиком
сосредоточилась внутри семьи. Затем ее роль еще более
специализировалась. Теперь у культурных народов
женщина ведет существование, совершенно отличное от
существования мужчины. Можно сказать, что две значи-
тельные фунщщилсихической жизни как бы
диссоциировались, что один из полов завладел эмоциональными
функциями, а .другое—..интеллектуальными. Правдаи_аа=
мечая, что некоторая часть женщин занимается подобно
мужчинам искусством и литературой, можно подумать,
что занятия обоих полов имеют тенденцию вновь стать
однородными. Но даже и в эту сферу деятельности
женщина привносит свою собственную сущность, и роль ее
остается^совершенно особой, очень отличной от мужской.
Кроме того, если литература и искусство становятся
женскими делами, то мужчины, по-видимому, начинают
оставлять их, с тем чтобы в большей мере посвятить себя
науке. Поэтому весьма возможно, что это кажущееся
возвращение есть не что иное, как начало новой дифферен-
61
циации. Кроме того, эти функциональные различия
получили материальное выражение в порожденных ими
морфологических различиях. Не только рост, вес, общие
формы очень различны у мужчины и женщины, но, как мы
видели, доктор Лебон доказал, что с прогрессом
цивилизации мозг у обоих полов все более дифференцируется.
Согласно этому! исследователю, указанное последователь-
ное^^асхождение связало со значительным развитием
мужских черепов""и одновременно-остановкой или даже
регрессом в развитии женских. «В то время,—говорит
он,— как средняя величина парижских мужских черепов
делает их одними из самых больших известных нам
черепов, средняя величина женских парижских черепов
делает их одними из самых малых, гораздо меньше черепов
китаянок и чуть больше черепов обитательниц Новой
Каледонии» 16.
Во всех этих примерах наиболее поразительное__след-
ствие разделения трудя состоит не в том, что оно
увеличивает п{зойзволит^.тп^^псть "разделенных ^уякцшк^^^
том, что оно делает их солидарными. j^oiYL· ëffl Γΰυ виеж»
ш^JiJHJiflL Uu* nputiu В '1'Цм| 4fflïï'украшать или удуч-
ТбйатьГ существование общества, но в том7"^чтобы Сделать
BùJMuvmmuiu ибщедлва, "ДО'ГбрД^^^
бы. Пусть уааД^йгейВ^тГолового труда регрессирует ниже
я^веетной точки — и брачное сообщество
исчезнет,"уступив место лишь весьма эфемерным половым отношениям;
еслиПэы~полы совсем не разделились, то не возникло~бы
целой формы общественной жизни. Возможно, что
экономическая польза имеет некоторое значение в этом
"результате, но, во всяком случае, он (результат) бесконечно
превосходит сферу чисто экономических интересов, ибо
он состоит в установлении социального и морального
порядка sui generis. Связываются между собой индивиды,
которые без этого были бы независимы; вместо того
чтобы развиваться отдельно, они соединяют свои усилия;
они солидарны, и не той солидарностью, которая
действует только в короткие мгповения обмена услугами, но
солидарностью, простирающейся гораздо дальше этого.
Например, супружеская солидарность в том виде, в
каком она существует теперь у наиболее культурных
народов, не дает ли себя знать в каждый момент и во всех
мелочах жизни? С другой стороны, общества, образуемые
разделением труда, не могут не носить на себе его отпе-
16 L'Homme ot.lcs sociétés, II, p. 154.
62
чаток. Поскольку они имеют особенное происхождение,
они не могут походить на те, которые порождает
притяжение подобного к подобным. Они должны быть
устроены иным образом, опираться на другие основания,
обращаться к другим чувствам.
Если часто утверждали, что общественные отношения,
берущие начало в разделении общественного труда,
состоят только в обмене, то потому, что не знали, чего
требует обмен и что из него вытекает. Он предполагает, что
два существа взаимно зависят друг от друга, потому что
оба они несовершенны; он же только выражает внешним
образом эту взаимную зависимость. Он, стало быть,
является лишь поверхностным выражением внутреннего,
более глубокого состояния. Это состояние именно потому,
что оно постоянно, порождает целый механизм образов,
функционирующий с непрерывностью, которой обмен не
обладает. Образ_ того, кто нас дополняет, становится в
нас самих неразлучным от нашего, не только потому, что
он с ним ассоциируется, но особенноГ потому, что он —
его естественное дополнение. Он становится в результате
интегрирующей, постоянной частью нашего сознания до
такой степени, что мы не можем больше обойтись без
него и ищем все, что может увеличить его живость. Вот
почему мы любим общество того, кого этот образ
представляет, так как присутствие выражаемого им объекта,
актуализируя его восприятие, делает его более
рельефным. И наоборот, мы страдаем от всех обстоятельств,
таких, как удаление или смерть, которые могут помешать
возвращению этого образа или уменьшить его живость.
Как ни краток этот анализ, он достаточно ясно
демонстрирует, что этот механизм не тождествен с механизмом,
служащим основанием чувства симпатии, источником
которой является сходство. Бесспорно, солидарность между
другим и нами может иметь место только в том случае,
если образ другого соединяется с нашим. Но когда
соединение происходит от сходства двух образов, оно состоит
в агглютинации. Оба представления становятся
солидарными потому, что, будучи всецело или частично
неразличимыми, они сливаются и образуют только одно,— и они
солидарны только в той мере, в какой они сливаются.
Наоборот, в случае разделения труда они находятся один
вне другого и связаны только потому, что различны.
Значит, ни чувства, ни происходящие от них общественные
отношения не могут быть теми же в обоих случаях.
Таким образом, мы приходим к вопросам: не играет
63
ли_.т.у же роль разделение труда в более обширных
группах? не имеет ли оно функции в современных обществах,
где оно получило известное нам развитие, интегрировать
социальное тело, обеспечивать его единство? Вполне
правомерно предположить, что только что отмеченные нами
факты вопроизводятся здесь, но r большем масштабе;
что и эти большие политические общества могут
удерживаться в равновесии только благодаря специализации
занятий; что разделение труда если не единственный, то по
крайней мере главный источник общественной
солидарности. На этой точке зрения стоял уже Конт, Из всех
социологов он первый, насколько мы знаем, указал в
разделении труда нечто иное, чем чисто экономическое
явление. Он видел в пем «самое существенное условие
общественной жизни», если рассматривать его «во всем его
рациональном объеме, т. е. видеть его в совокупности
всех наших разнообразных действий, вместо того чтобы
ограничивать его — как это зачастую принято — одними
материальными отношениями». Рассматриваемое с этой
стороны, говорит он, «оно приводит непосредственно к
тому, чтобы увидеть не только индивиды и классы, но
также во многих отношениях и различные народы,
участвующие, своим особым способом и в определенной
степени, в необъятном общем деле, неизбежное постепенное
развитие которого связывает к тому же теперешних
сотрудничающих между собой работников с их
предшественниками и даже с их разнообразными преемниками.
Итак, именно непдерывяое^распределение различных
человеческих работ составляет главным образом
общественную солидарность и становится элементарной причиной
возрастающей сложности и объема социального
организма» 17.
Если бы эта гипотеза была доказана, то разделение
труда играло бы роль гораздо более важную, чем та,
которую обыкновенно ему приписывают. Оно служило бы
не только тому, чтобы одарять наши общества роскошью,
может быть желаемой, но излишней; оно было бы
условием их существования. Только благодаря ему или, по
крайней мере, особенно благодаря ему была бы
обеспечена их связь; оно определяло бы существенные черты их
устройства. Поэтому также — хотя мы еще и не в
состоянии четко решить проблему — можно уже теперь видеть,
17 Cours de philosophie positive, IV, p. 425. Аналогичные мысли
мы находим у Шеффле. См.: Bau iind Lobon des socialcn Körpers.
II, passim; Clément. Science sociale, I, p. 235 etc.
64
что если такова действительно функция разделения
труда, то оно должно носить моральный характер, ибо
потребности в порядке, гармонии, общественной
солидарности всеми считаются моральными.
Но прежде, чем исследовать, основательно ли
общепринятое мнение, надо проверить только что выдвинутую
нами гипотезу о роли разделения труда. Посмотрим, в
самом ли деле в обществах, в которых мы живем,
социальная солидарность проистекает главным образом из него.
III
Но как приступить к этой пдоветщ?
' Мы должны исследовать не только то, имеется ли в
этих обществах социальная солидарность, происходящая
от разделения труда. Это очевидная истина: разделение
труда в них очень развито и производит солидарность.
Но надо_главным образом определить. J^FgKQftjflqBfi.
производим^ ИМ СОЛИррнОСТЪ^Пуг^^твуР.т^ пптпрЙ интйгря^
п^^обш^тва^^ибо тогда тольк'о будем ^ы^зн^г^гД^-^1^™
"степени оно ^обхо^мо^яв^
Фактор
оочным и вторичным условием е^||Чтобы ответить на этот
вопрос^ надо сравнить, эту социальную связь с другими
с целью измерить часть, занимаемую ею в общем итоге,
а для этого необходимо начать с классификации
различии^ виутпв г.отшялтлтпй г-пдидярнОСТИ.
Но/ общественная солидарность — чисто моральное
явление, не поддающееся само по себе ни точному
наблюдению, ни особенно измерению. Значит, для того чтобы
приступить к этой классификации и к этому сравнению,
надо заменить внутренний, ускользающий от нас факт
внешним, символизирующим его фактом и изучить
первый при помощи второго.
Такой видимый çhjiboji_— эт,о_лраво. Действительно,
там, где существует социальная солидарность, она,
несмотря на свой нематериальный характер, не остается в
потенциальном состоянии, но обнаруживает свое присут>
ствие видимыми действиями. Там, где она сильна, она
сильно сближает людей, часто приводит их в
соприкосновение, умножает представляющиеся им случаи
взаимосвязей. Собственно говоря, на той точке, на которой мы
теперь находимся, трудно сказать, производит ли она эти
явления или, наоборот, сама от них происходит;
сближаются ли люди оттого, что она сильна, или же она сильна
потому, что они близки между собой. Но в настоящее
3 Э. Дюркгейм
65
время нет необходимости освещать этот вопрос;
достаточно констатировать, что эти два слоя явлений связаны
между собой и изменяются одновременно и в TOM-me_jaar
правлении. Чем более солидарны члены общества, тем
более поддер'й^ЦуЦ μЦ »" 1, |1ННЩ^вадныеи отношения ^äT
^г „ - с другом, так и с группой в пелщ^если оы их вст,_ _
чи Оыли редки, они зависели оы друг""от друга
незначительно и непостоянно. С другой стороны, число этих
отношений непременно пропорционально числу
определяющих их юридических правил. Действительно, социальная
жизнь повсюду, где она долга существует, неизбежно
стремится принять определенную форму и
организоваться, и право — не что иное, как сама эта организация в ее
наиболее устойчивом и точном выражении 18. Жизнь об-
ЩеСХВа-Д» MiJftCAT ля^уур^ррх.т^х.^сг ™ т^^й-ттт^лтк ™чг~-
киЪез того, чтоб юридическая жизнь не достигла того же
пункта. Значит, мы-мсжем4ыть уверены, что ЩЩдсм ш-
раженными в праве все существенные разновидности со
пиаль^р[ гс>ЛНт^ДрЛЛттг
Правда, можно бы возразить, что социальные
отношения могут фиксироваться, не принимая юридической
формы. Есть среди них такие, регламентация которых не
доходит до этой степени консолидации и точности; они не
остаются неопределенными, но, вместо того чтобы
регулироваться правом, они регулируются нравами. Цраво,
стало быть, отражает только .л о£ть асоциальной жизни и
предоставляет нам только неполные данные для решения
этой проблемы. Это не все: случается часто, что нравы
не находятся в согласии с правом; беспрестанно говорят,
что они умеряют его строгость, исправляют его
формалистические перегибы, иногда даже, что они проникнуты
совсем другим духом. Не может ли тогда случиться, что
они выражают не те виды общественной солидарности,
которые выражаются положительным правом?
Но эта противоположность возникает только в
совершенно исключительных обстоятельствах. Для лтого
нужно, чтобы право совсем не соответствовало более
теперешнему состоянию общества и чтобы оно удерживалось,
однако, не имея основания, силой привычки. В
действительности в этом случае новые отношения,
устанавливающиеся вопреки ему, пе перестают организовываться; они
не могут продолжаться, не стремясь консолидироваться.
Но так как они оказываются в конфликте с упорствую-
1* См. ниже, кн. III, гл. I.
66
щим прошлым правом, они не переходят стадии нравов и
де входят в собственно юридическую жизнь. Так
вспыхивает антагонизм. Но он может возникать только в редких
и патологических случаях, которые не могут быть
продолжительными, не неся с собой опасность. Нормально
нравы не противоположны праву, но, напротив, суть
основания его. Правда, случается, что на этом основании
ничего не воздвигается. Возможны такие социальные
отношения, которые предполагают только эту диффузную,
идущую от нравов регламентацию, но они не обладают
важным значением и преемственностью, исключая,
конечно, те анормальные случаи, о которых только что шла
речь. Значит, если могут создаваться такие типы
социальной солидарности, которые проявляются только в
нравах, то они второстепенны; наоборот, право воспроизводит
все те, которые существенны, а именно их нам и нужно
изучить.
Может быть, пойдут дальше и будут утверждать, что
социальная солидарность не заключается вся целиком в
своих видимых проявлениях; что последние выражают
ее лишь частично и несовершенно; что за правом и
нравами есть внутреннее состояние, из которого она
происходит, и что для того, чтобы истинно познать ее, надо
обратиться к ней самой и без посредников? Но мы можем
научно познавать причины только по производимым ими
следствиям, и наука, чтобы лучше определить их природу,
выбирает между этими результатами наиболее
объективные и лучше поддающиеся измерению. Она изучает
теплоту по изменениям объема, производимым в телах
изменениями температуры, электричество — по его
физико-химическим действиям, силу — через движение. Почему
социальная солидарность должна составлять
исключение?
Кроме того, что останется от нее, если солидарность
лишить ее социальных форм? Именно природа группы,
единство которой она обеспечивает, придает ей
специфические черты; вот почему она различна в различных
социальных типах. Она не одна и та же внутри семьи и в
политических обществах. Мы не привязаны к нашему
отечеству таким же образом, каким римлянин был
привязан к своему городу или германец — к своему роду. Но
так как эти различия зависят от социальных причин, то
мы можем их выявить только через различия,
представляемые социальными следствиями солидарности. Если же
мы пренебрежем последними, то все эти разновидности
67
з·
станут неразличимыми и мы сможем заметить только то,
что присуще им всем, а именно общую тенденцию к
социальности, тенденцию, которая постоянно и повсюду одна
и та же и не связана ни с каким социальным типом в
частности. Но этот остаток — не более чем абстракция,
,ибо социальность в себе не встречается нигде.
Существуют и живут реально частные формы солидарности: се^
меиная, црофишщнальнаЙ, национальная, вчерашняя, сёг
гоДШШшяя и т. д. Каждай ИМёИТ (ШШО сиОСтвенную
природу, следовательно, эти абстракции могли бы дать в
лучшем случае только очень неполное объяснение
явления, так как они неизбежно упускают из виду все то, что
есть в нем живого и конкретного.
Итак, изучение солидарности относится к социологии.
Это социальный факт, "который можно основательно изу-
чить только чере» посредство его социальных
последствий. Если столько моралистов и психологов могли
изучать вопрос, не следуя этому методу, то это потому, что
они просто обошли трудность. Они удалили из явления
все, что в нем есть сугубо социального, и сохранили в
нем только психологическое зерно, из которого оно
развилось. Очевидно в самом деле, что солидарность, будучи
прежде всего социальным фактом, зависит от нашего
индивидуального организма. Для ее существования
необходимо, чтобы наше физическое и психическое устройство
дозволяло ее. Следовательно, строго говоря, можно
ограничиться изучением ее с этой стороны. Но в этом случае
видна только наименее различимая и специфическая
часть ее; это даже, собственно, не она, но скорее то,
что делает ее возможной.
Кроме того, это абстрактное исследование не могло бы
оыть особенно обильно результатами. Солидарность, пока
она остается в состоянии простого предрасположения
нашей психической природы, нечто слишком
неопределенное, чтобы можно было легко ее обнаружить. Это
недоступная ощущению возможность, не дающая места
наблюдению. Чтобы она приняла уловимую форму, нужно,
чтобы некоторые социальные последствия выражали ее
вовне. К тому же даже в этом состоянии
неопределенности она зависит от социальных условий, которые
объясняют ее и от которых, следовательно, ее невозможно
отделить. Вот почему очень редко бывает, чтобы к
существующему чисто психологическому анализу не
примешивались какие-нибудь социологические точки зрения.
Например, говорят несколько слов о влиянии стадного
68
состояния на образование социального чувства вообще19;
или же мельком указывают на главные социальные
отношения, от которых социальность зависит наиболее
очевидным образом20. Этих дополнительных соображений,
выдвигаемых без метода, в виде примеров и под
влиянием случайных идей, недостаточно, конечно, для уяснения
социальной природы солидарности. Они доказывают, по
крайней мере, что социологическая точка зрения
повелительно навязывается даже психологам.
Итакд наш метод очерчен. Поскольку поаво
воспроизводит основные формы социальной солидарности, нам
остается только классифицировать различите.зиды"драв5^
чтобы затем исследш*гпъ^Ш^
вйды'^
^mT^m^ тратта После этого ттлст
измерения долит этого вида солидарности достаточно будет
сравнить число выражающих ее юридических правил с
правом в полном его объеме.
Для этого труда мы не можем воспользоваться
обычными у юристов подразделениями. Придуманные в целях
практики, они могут быть очень удобными с этой точки
зрения, но наука не может удовольствоваться этими
эмпирическими и приблизительными классификациями.
Самая распространенная — это та, которая делит право
па право публичное и право частное; первое призвано
регулировать отношения индивида с государством, второе —
взаимные отношения индивидов. Но когда мы пытаемся
анализировать эти термины, то демаркационная линия,
казавшаяся столь ясной на первый взгляд, стирается.
Всякое право является частным в том смысле, что
постоянно и всюду существуют и действуют только индивиды;
но прежде всего всякое право является публичным в том
смысле, что оно — социальная функция и что все
индивиды — хотя и различным образом — суть должностные
лица общества. Супружеские, родительские и т. п.
функции не разграничены и не организованы иначе, чем
министерские и законодательные функции, и не без
основания римское право называло опеку munus publicum23*.
А что такое государство? Где оно начинается и где
кончается? Известно, как запутан этот вопрос; ненаучно
19 Bain. Emotions et volonté, p. 117 etc.
20 Spencer. Principes de psychologie, VIIIe part., ch. V. P., F. Al-
can.
69
строить основную классификацию на столь темном и
плохо проанализированном понятии.
Чтобы действовать методически, нам надо найти
какую-то характерную черту, которая, будучи
существенной для юридических явлений, в то же время была бы
способна изменяться тогда же, когда они изменяются.
Так всякое правовое предписание может быть
определено как санкционированное правило поведения. С· другой
стороны, очевидно, что санкции изменяются в
соответствии со значением, придаваемым предписаниям, местом,
занимаемым ими в общественном сознании, ролью,
которую они играют в обществе. Уместно, стало быть, клас-
сифицировать юридические правила согласно различным""
санкциям, И6то|Л>Тб с ними связаны.
'ИЛ 1^ЦЦ ПШЛа^ЦАни состоят главным образом в
страдании, причиняемом индивиду, или, по крайней мере, его
принижении. Они имеют целью н^нвстипгушопй^£то
имуществу, или; счастью^ или^ жиз!Ш? или свободе, лишить его
чего-то, чем оц пользуется. Утверждается, что они
репрессивны; это случай уголовного права. Правда, санкции,
которые связаны с чисто моральными правилами, имеют
тот же характер, но они распределяются диффузным
образом, всеми понемногу, тогда как санкции уголовного
права применяются только через посредство
определенного органа: они организованы. Что касается другого
вида, то эти санкции не обязательно влекут за собой
страдания индивида, они ^ост^ят т^гько в впссташшлении
прежнего ^ю^ядка веи^ей^ в приведении нарушенных
связей к" их нормальной форме тем ли, что
инкриминируемый поступок силой приводится к типу, от которого он
отклонился, или тем, что он аннулируется, т. е. лишается
всякой социальной ценности. Следовательно, юридические
правила надо разделить на два больших вида, согласно
тому, имеют ли они организованные репрессивные
санкции или санкции только реститутивные. Первый
охватывает все уголовное право; второй — право гражданское,
коммерц£скоег процессуальное, административное и
конституционное, исключая уголовные правила, которые
могут там находиться.,
Теперь исследуем, какому виду социальной
солидарности соответствует каждый из этих видов.
70
Глава II
МЕХАНИЧЕСКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ,
ИЛИ СОЛИДАРНОСТЬ ПО СХОДСТВАМ
I
Связь социальной солидарности, которой соответствует
репрессивное право, это та связь, нарушение которой
составляет преступление. Мы обозначаем этим словом
всякий поступок, который так или иначе вызывает против
совершившего его характерную реакцию, называемую
наказанием. Исследовать, что это за связь, значит
спрашивать себя, какова причина наказания, или, точнее, в чем
главным образом состоит преступление.
Бесспорно, существуют разные виды преступлений, но
между всеми этими видами тем не менее есть нечто общее.
Доказывается это тем, что определяемая ими со стороны
общества реакция, т. е. наказание, помимо различий
в степени, постоянно и повсюду одна и та же.
Единство следствия обнаруживает единство причины. Не
только между всеми преступлениями, предусмотренными
законодательством одного и того же общества, но и между
всеми теми, которые признавались, признаются и
наказываются в разных социальных типах, несомненно,
имеются существенные сходства. Как бы различны ни
казались на первый взгляд квалифицируемые таким образом
поступки, они должны иметь какое-то общее основание,
так как повсюду одинаково затрагивают моральное
сознание наций и повсюду производят одно и то же
следствие. Все они — преступления, т. е. поступки,
караемые определенными наказаниями. Но существенные
свойства явления — это те, которые наблюдаются
повсюду, где существует это явление, и которые принадлежат
только ему. Следовательно, если мь^ хотим я^иать. в чрм
сущность преступдриия] flflfjn Ауррлугттк отч и Tfi .ЖР, .дрд-
TbLBo всех криминальны^ рязн(шиГЩРг/гд* P^WlfîW, Wr
циальных типов. Ни одним из них нельзя пренебречь.
ЮриДИЧёбкие концепции низших обществ достойны
интереса не менее, чем концепции самых развитых обществ;
это факты не менее поучительные. Оставлять их без
внимания значило бы подвергать себя опасности видеть
сущность преступления там, где ее нет. Точно так же биолог
дал бы очень неточное определение жизненных явлений,
если бы пренебрег наблюдениями одноклеточных; ибо из
одного рассмотрения организмов, и особенно высших ор-
71
ганизмов, он бы ошибочно заключил, что сущность
жизни состоит в организации.
Средство найти этот постоянный и общий элемент
состоит, очевидно, не в том, чтобы перечислить поступки,
которые всегда и повсюду рассматривались как
преступления, с тем чтобы наблюдать представляемые ими
признаки. Ибо если существуют — что бы об этом ни
говорили — действия, которые всегда рассматривались как
преступные, то они представляют ничтожное меньшинство,
и следовательно, такой метод дал бы нам лишь крайне
изуродованное понятие о явлении; он мог бы
применяться только к исключениям 1. Эти изменения карательного
права доказывают в то же время, что такой
постоянный признак не может находиться во внутренних
свойствах поступков, навязываемых или запрещаемых
уголовными правилами, так как они представляют необычайное
разнообразие; такой признак содержится в отношениях
этих поступков с некоторым внешним для них условием.
Думали найти такое отношение в чем-то вроде
антагонизма между этими действиями и важными
общественными интересами; и говорили, что уголовные правила
выражают для каждого социального типа основные условия
коллективной жизни. Их авторитет происходит, стало
1 Однако отому методу следовал Гарофало. Он, по-видимому,
от него отказывается, когда признает невозможным составить
перечень преступлений, наказываемых повсюду (см.: Criminologie,
р. 5) (это, впрочем, крайность). Но в конце концов он к нему
возвращается, так как считает естественным такое преступление,
которое возмущает чувства, лежащие повсюду в основе уголовного
права, т. е. неизменную часть нравственного чувства, и только ее.
Но почему преступление, возмущающее какое-нибудь чувство,
свойственное некоторым социальным типам, будет менее
преступление, чем другие? Гарофало, таким образом, вынужден не
называть преступлениями поступки, которые признавались таковыми
в некоторых социальных типах: в результате он искусственно
сужает рамки преступности. Ясно, что его определение преступления
весьма неполно. Оно, кроме того, расплывчато, так как автор не
вводит в свои сравнения все социальные типы, исключая большое
число их, признаваемых ненормальными. О социальном факте
можно сказать, что он ненормален по отношению к видовому типу, но
вид не может быть ненормальным. Оба эти термина несовместимы.
Как ни интересна попытка Гарофало прийти к научному
определению преступления, он не применил для этого достаточно
точного метода. Это хорошо доказывает употребляемое им
выражение: естественное преступление. Разве не все преступления
естественны? Мы, вероятно, имеем здесь возврат к теории Спенсера,
дли которого социальная жизнь естественна только в
промышленных обществах. Но, к сожалению, нет ничего более ошибочного.
72
быть, от их необходимости; с другой стороны, так как эта
необходимость варьирует согласно обществам, то таким
путем объяснялась бы изменчивость репрессивного права.
Но мы уже объяснились на этот счет. Помимо того, что
такая теория уделяет расчету и рефлексии слишком
большую часть в управлении социальной эволюцией,
существует множество поступков, которые рассматривались
или еще и теперь рассматриваются как преступления,
между тем как сами по себе они не вредны для общества.
В чем такие факты, как прикосновение к предмету табу,
к нечистому или освященному животному или человеку,
употребление некоторых видов пищи, неприношение на
могиле родителей традиционной жертвы, неточное
произнесение ритуальной формулы, игнорирование некоторых
праздников и т. д., могли когда-нибудь составлять
социальную опасность? Между тем известно, какое место в
репрессивном праве многих народов занимает
регламентация ритуала, этикета, церемониала, религиозных
обычаев. Достаточно раскрыть Пятикнижие, чтобы
убедиться в этом, а поскольку эти факты встречаются
повсеместно у некоторых социальных видов, невозможно видеть в
них простые аномалии, патологические случаи, которыми
правомерно пренебрегать.
Даже тогда, когда преступный акт несомненно вреден
для общества, степень представляемого им вреда далеко
не всегда одинаково соответствует интенсивности
наказания. В уголовном праве наиболее цивилизованных народов
убийство всегда рассматривалось как величайшее из
преступлений. Однако экономический кризис, биржевой крах,
даже простое банкротство могут дезорганизовать
общество гораздо серьезнее, чем отдельное убийство. Убийство,
бесспорно, всегда зло, но ничто не доказывает, чтобы оно
было наибольшим злом. Человеком меньше — что это
значит для общества? Клеткой меньше — составляет ли
это что-нибудь для организма? Говорят, что всеобщая
безопасность была бы под угрозой в будущем, если бы
поступок остался безнаказанным; но пусть сравнят
значение этой опасности, как бы она ни была реальна, и
значение наказания: диспропорция поразительна. Наконец,
приведенные нами примеры показывают, что поступок
может быть гибельным для общества, не вызывая никакой
кары. Итак, это определение преступления неадекватно.
Может, видоизменяя его, скажут, что преступные
акты — это те, которые кажутся вредными для карающе-
го их общества; что уголовные наказания выражают не
73
условия, существенные для социальной жизни, но
условии, которые кажутся таковыми соблюдающей их
группе? Но такое объяснение не объясняет ничего, ибо оно не
дает нам понять, почему в таком множестве случаев
общества обманывались и навязывали обычаи, которые сами
по себе не были даже полезны. В конце концов, это мнимое
решение проблемы сводится к трюизму, ибо, если общества
принуждают таким образом каждого индивида
повиноваться этим правилам, то, очевидно, потому, что —
верно или нет — они считают, что это постоянное и
беспрекословное повиновение необходимо для них; потому, что
они придают ему большое значение. Значит, это все равно,
как если бы сказали, что общества считают эти правила
необходимыми потому, что считают их необходимыми.
Нам же следовало бы объяснить, почему они считают их
таковыми. Если бы это чувство имело свою причину в
объективной необходимости уголовных предписаний или,
по крайней мере, в их полезности, это было бы
объяснением. Но ему противоречат факты; вопрос по-прежнему
остается открытым.
Однако последняя теория не лишена некоторого
основания; она не зря ищет в некоторых состояниях
субъекта основные условия преступности. Действительно,
единственная общая всем преступлениям черта — это то, что они
состоят, кроме некоторых кажущихся исключений,
которые будут исследованы далее, в поступках, повсеместно
осуждаемых членами каждого общества. В настоящее
время задают себе вопрос: рационально ли это осуждение
и не разумнее ли было бы видеть в преступлении только
болезнь или ошибку? Но нам незачем вступать в эти
дискуссии; мы стараемся определить то, что есть или
было, а не то, что должно быть. Реальность же
установленного нами факта неоспорима: преступление возмущает
чувства, которые в одном и том же социальном типе
обнаруживаются во всех здоровых созпаниях.
Природу этих чувств невозможно определить иначе,
например, как в функции их особых объектов, ибо эти
объекты бесконечно изменялись и могут еще изменяться 2.
В настоящее время эта черта наиболее явно представле-
2 Мы не видим, каково научное основание утверждения Гаро-
фало о том, что моральные чувства, свойственные в настоящее
время цивилизованной части человечества, составляют нравствен
ность, «способную не погибнуть, но постоянно расти и развиваться»
(с. 9). Что именно позволяет провести таким образом границу для
изменений, могущих произойти в том или ином направлении?
и
па альтруистическими чувствами, но было время, очень
близкое к нам, когда религиозные, семейные и тысячи
других традиционных чувств имели точно такие же
следствия. Еще и теперь далеко не одна только антипатия к
другому, как это думает Гарофало, способна производить
этот результат. Разве даже в мирное время мы не
питаем к человеку, изменившему своему отечеству, такое же,
по крайней мере, отвращение, как к вору и мошеннику?
Разве в государствах, где монархическое чувство еще
живо, оскорбление величества не вызывает общего
негодования? Разве в демократических странах обращенные к
народу оскорбления не производят того же озлобления?
Невозможно, стало быть, составить перечень чувств,
покушение на которые составляет преступный акт; они
отличаются от других только тем, что являются общими
для большинства индивидов в одном и том же обществе.
Поэтому правила, запрещающие эти поступки и
санкционируемые уголовным правом, суть единственные, к
которым нефиктивно применяется знаменитая юридическая
аксиома: незнанием закона нельзя отговариваться. Так
как они запечатлены во всех сознаниях, всякий их
знает и чувствует, что они обоснованны. Это истинно, по
крайней мере, по отношению к нормальному состоянию.
Если же встречаются взрослые, которые не знают этих
основных правил или не признают их авторитета, то
такое неведение или непослушание суть бесспорные
признаки патологического извращения. Или же если случается,
что какое-нибудь уголовное правило удерживается
некоторое время, будучи оспариваемо всеми, то только
благодаря стечению исключительных, следовательно
анормальных, обстоятельств, а такое состояние вещей никогда не
может быть продолжительным.
Это объясняет тот особый способ, каким
кодифицируется уголовное право. Всякое писаное право имеет
двойную цель: предписывать определенные обязанности и
определять связанные с ними санкции. В гражданском
праве, и вообще во всяком виде права с реститутивиыми
санкциями, законодатель затрагивает и разрешает обе эти
задачи раздельно. Сначала он определяет со
всевозможной точностью обязанность и только затем указывает
способ, каким она должна быть санкционирована.
Например, в главе нашего гражданского кодекса,
посвященной взаимным обязанностям супругов, эти права и
обязанности заявлены положительным образом; но там не
сказано, что происходит, когда эти обязанности нарушены
75
с той или с другой стороны. Эту санкцию следует искать
в другом месте. Иногда даже она целиком
подразумевается. Так, ст. 214 гражданского кодекса повелевает жене
жить со своим мужем; из этого выводят, что муж может
принудить ее вернуться в супружеский дом, но эта
санкция нигде формально не указана. Уголовное право,
наоборот, указывает только санкции, но ничего не говорит
об обязанностях, к которым они относятся. Оно не
повелевает уважать жизнь другого, но обязывает наказать
смертью убийцу. Оно не говорит в самом начале, как это
делает гражданское право: «Такова обязанность», но
сразу же: «Таково наказание». Конечно, если действие
влечет за собой наказание, то потому, что оно противоречит
какому-нибудь обязательному правилу, но это правило
ясно не сформулировано. Причина этого может быть
только одна: правило общеизвестно и общепринято.
Обычное право переходит в писаное и кодифицируется,
потому что спорные вопросы требуют более точного
решения. Если бы обычай продолжал молчаливо
функционировать, не вызывая ни затруднений, ни споров, то не
было бы основания ему превращаться в писаное право.
Поскольку уголовное право кодифицируется только для
установления лестницы наказаний, то, значит, только эта
последняя может подавать повод к сомнению. Напротив,
если правила, нарушение которых карается наказанием,
не имеют нужды в юридической формулировке, то
потому, что они не оспариваются, и каждый чувствует их
авторитет 3.
Правда, Пятикнижие иногда не указывает санкций,
хотя, как мы это увидим, оно содержит почти одни
уголовные правила. Так обстоит дело с десятью заповедями
в том виде, как они сформулированы в XX главе Исхода
и в V главе Второзакония. Но дело в том, что
Пятикнижие, хотя и исполняет обязанность кодекса, все-таки не
настоящий кодекс. Оно не имеет целью собрать в единую
систему и точно указать для практических задач
уголовные правила, которым следовал еврейский народ. Оно
настолько мало является кодексом, что различные части
его, по-видимому, не были составлены в одно время. Это
прежде всего краткое изложение всякого рода традиций,
которыми евреи объясняли самим себе и по-своему
происхождение мира, своего общества и своих главных соци-
3 См.: Binding. Die Normen und ihre Uebertretung. Leipzig, 1872,
I, S. 6 etc.
76
альных обычаев. Значит, если оно указывает некоторые
обязанности, которые, несомненно, были
санкционированы наказаниями, то не потому, что евреи их не знали
или не признавали, и надо было им о них сообщить.
Наоборот, поскольку эта книга представляет собой лишь
сплетение из национальных преданий, можно быть
уверенным, что все ее содержание было записано во всех
сознаниях. Но речь, по существу, шла о том, чтобы
путем фиксации воспроизвести народные верования
относительно происхождения этих предписаний, исторических
обстоятельств, при которых, как считалось, они были
возвещены, относительно источников их авторитета. Но с
этой точки зрения определение наказания становится
чем-то второстепенным 4.
По этой же причине функционирование карательного
права всегда стремится остаться более или менее
диффузным. В весьма различных социальных типах оно не
находится в руках специального органа, но все общество
в той или иной мере принимает в нем участие. В
первобытных обществах, где, как мы увидим, право целиком
является уголовным, суд вершит собрание народа. Так
было у древних германцев5. В Риме, в то время как
гражданские дела были в руках претора, уголовные
разбирались народом, сначала в куриальных комициях, а
затем начиная с закона XII таблиц — в центуриальных. До
конца республики народ, хотя и передавший фактически
свои полномочия постоянным комиссиям, остается
принципиально верховным судьей в таких процессах 6. В
Афинах при законодательстве Солона уголовная юрисдикция
принадлежала частью Ήλίαια 24*, громадной коллегии,
включавшей номинально всех граждан старше 30 лет7.
Наконец, у германо-латинских наций общество,
представляемое судом присяжных, вмешивается в отправление
этих функций посредством суда присяжных. Диффузное
состояние, в котором таким образом находится эта часть
судебной власти, было бы необъяснимо, если бы правила,
4 Единственные настоящие исключения из этой особенности
уголовного права имеют место, когда преступление совершается
актом общественной власти. В этом случае обязанность обычно
определяется независимо от санкции; дальше станет ясна причина
этого исключения.
5 Тацит. Германия, гл. XII.
с Ср. Walter. Histoire de la procédure civile et du droit crimi-
ϊηΊ chez les Romains. § 820; Hein. Criminalrecht der Römer. S. 63.
7 Ср.: Gilbert. Handbuch der griechischen Staatsalterthümer.
T^ipzig. 1881, I, S. 138.
77
соблюдение которых она обеспечивает, а следовательно,
и чувства, которым эти правила соответствуют, не
находились внутри всех сознаний. Правда, в других случаях
она находится в руках привилегированного класса или
особых должностных лиц. Но эти факты не уменьшают
доказательного значения предыдущих, так как из того,
что коллективные чувства действуют уже только через
определенных посредников, не следует, что они
перестали быть коллективными и локализовались в ограниченном
числе сознаний. Это уполномочение может произойти
или от большого разнообразия дел, вынуждающего
утверждать специальных чиновников, или же от большого
влияния, приобретенного некоторыми лицами или
классами и делающего из них уполномоченных истолкователей
коллективных чувств. *|tMWtK
Однако преступление^ не «Ья^еделено, когда говорят,
что оно состоит в оскорблении коллективных чувств, так
как среди последних есть такие, которые могут быть
оскорблены без преступления. Так, кровосмешение —
предмет всеобщего отвращения, и однако это просто
безнравственное действие. То же самое можно сказать о
нарушении целомудрия, совершенном женщиной вне брака,
о факте полного отчуждения своей свободы в чужие руки
или о принятии у другого такого отчуждения. Значит,
коллективные чувства, которым соответствует
преступление, должны отличаться от других каким-нибудь
отличительным свойством: они должны иметь определенную
среднюю интенсивность. Они не просто запечатлены во
всех сознаниях^ но сильно запечатлены. Это не
поверхностные и колеблющиеся пожелания, но сильно
вкоренившиеся в нас эмоции и стремления. Доказывается это
крайней медлительностью, с которой развивается
уголовное право. Оно не только изменяется труднее, чем нравы,
но вообще составляет наименее поддающуюся изменению
часть положительного права. Достаточно посмотреть,
например, что сделал законодатель с начала столетия в
разных сферах правовой жизни; нововведения в области
уголовного права крайне редки и ограниченны, тогда как,
наоборот, множество новых предписаний вошло в права
гражданское, коммерческое, административное и
конституционное. Сравните уголовное право в том виде, как его
определило в Риме законодательство XII таблиц, с
состоянием его в классическую эпоху; констатируемые
изменения весьма незначительны в сравнении с теми,
которым подверглось гражданское право за тот же период
78
времени. С эпохи XII таблиц, говорит Майнц,
установлены главные преступления и проступки: «В течение
десяти поколений каталог общественных преступлений был
увеличеа только несколькими законами, карающими
казнокрадство, вымогательство и, может быть, plagium» 8.24а*
Что касается частных преступлений, то признали только
два новых: грабеж (actio bonorum vi raptorum) и
несправедливо нанесенный ущерб (damnum injuria datum). Тот
же факт можно найти повсюду. В низших обществах
право, как мы увидим, является почти исключительно
уголовным; поэтому оно очень неподвижно. Вообще
говоря, религиозное право всегда карательно; оно по
существу консервативно. Эта неподвижность уголовного права
свидетельствует о силе сопротивления коллективных
чувств, которым оно соответствует. Напротив,
величайшая пластичность чисто моральных правил и
относительная быстрота их эволюции доказывает гораздо меньшую
энергию чувств, лежащих в их основании; либо они были
недавно обретены и не имели еще времени глубоко
проникнуть в сознания, либо они на пути к потере
корней и поднимаются из глубины к поверхности.
Необходимо еще последнее добавление, для того чтоб
наше определение было точным. Если вообще чувства,
защищаемые моральными санкциями, т. е. диффузные,
менее интенсивны и менее прочно организованы, чем те.
что охраняются собственно наказаниями, то, однако, есть
исключения. Так, нет никакого основания предполагать,
что средняя сыновняя почтительность или даже
элементарные формы сострадания к наиболее явным несчастьям
являются теперь чувствами более поверхностными, чем
уважение к собственности или к общественным властям.
Однако дурной сын или даже самый закоренелый эгоист
ше считаются преступниками. Недостаточно поэтому, что-
ры чувству JflflJfилждьнщ^ надо, чтобы они были опред^
Лентщм^ /Твйр.твитвльно. кяжттое ия "ъпх""с)ттю$йтс.п к
какому-нибудь четко определенному обычаю. Этот обычай
может быть прост или сложен, положителен или
отрицателен, т. е. состоять в действии или в воздержании от
него, но он постоянно определен. Речь идет о том, чтобы
сделать или не сделать нечто: не убивать, не ранить,
произносить такую-то формулу, совершать такой-то обряд
и т. д. Напротив, такие чувства, как сыновняя любовь
8 Esquisse historique du droit criminel de l'ancienne Rome.
Nouvelle Revue historique du droit français et étranger, 1882, p. 24, 27.
79
или милосердие, представляют собой неопределенные
стремления к весьма общим объектам. Поэтому уголовные
правила отличаются своей ясностью и точностью, между
тем как чисто моральные правила представляют вообще
нечто расплывчатое. Вследствие их неопределенной
природы очень часто даже трудно дать их устоявшуюся
формулировку. Мы, конечно, можем в общем виде сказать,
что должно трудиться, иметь сострадание к другим
и т. д.; но мы не можем определить, каким именно
образом и в какой мере. Здесь, следовательно, есть место
для изменений и оттенков. Наоборот, поскольку чувства,
воплощенные в уголовных правилах, определенны, они
обладают гораздо большим единообразием; они не могут
быть поняты разными способами, и поэтому они повсюду
одни и те же.
Теперь мы в состоянии сделать заключение.
СОВОКУПНОСТЬ T^pORflTTyfF w ттуталтп, ^рт.ИХ |* р.ррттттдм
членам одного и того же общества облазует определен^
нуто—систему, имекицую.^JuS^jSSeiBeHEt^io жизнь: ее
можно назвать коллективным или общгш ссянанием, Не-
СОМ,ненно7"0"90,,1,В*е ИМеет '^^ачёств^^^^ата
единственный орган; оно, по определению, рассеяно во всем
пространстве общества. Но тем не менее оно имеет
специфические черты, создающие из него особую реальность.
Действительно, оно независимо от частных условий, в
которых находятся индивиды; они проходят, а оно остается.
Оно одно и то же на севере и на юге, в больших городах
и маленьких, в различных профессиях. Точно так же оно
не изменяется с каждым поколением, но, наоборот,
связывает между собой следующие друг за другом
поколения. Значит, оно нечто совершенно иное, чем частные
сознания, хотя и осуществляется только в индивидах.
Оно — психический тип общества, тип, подобно
индивидуальным типам, хотя и в другой форме, имеющий свой
способ развития, свои свойства, свои условия
существования. Оно имеет поэтому право быть обозначенным
специальным термином. Тот, который мы употребили
выше, правда, не лишен двусмысленности. Поскольку
термины «коллективный» и «социальный» часто
используются один вместо другого, приходят к мысли, что
коллективное сознание — это все социальное сознание, т. е.
простирается так же далеко, как психическая жизнь
общества, тогда как — особенно в высших обществах — оно
составляет только очень ограниченную ее часть. Судебные,
80
правительственные, научные, промышленные — словом,
все специальные функции суть факты психического
порядка, так как они состоят в системах представлений и
действий. Тем не менее они, очевидно, находятся вне
общего сознания. Чтобы избежать возникшей путаницы9,
лучше, может быть, было бы создать техническое
выражение для специального обозначения совокупности
социальных сходств. Тем не менее, поскольку употребление
нового слова, когда оно не абсолютно необходимо, имеет
свои неудобства, мы сохраняем более употребительное
выражение «коллективного» или «общего» сознания,
постоянно помня при этом узкий смысл, в котором мы его
употребляем.
Итак, резюмируя предшествующий анализ, мы можем
сказать, что действие преступно, когда оно оскорбляет
сильные и определенные состояния коллективного, ççP
"знания1V. "
Ьзятое оуквально, это положение почти не
оспаривается, но обыкновенно ему придают смысл, совершенно
отличный от того, какой оно должно иметь. Его понимают
так, как будто оно выражает не существенное свойство
преступления, но одно из его следствии. Хорошо iETBECT^
"Но, 4ÏÔ оно возЩЩаёт весьма общие и энергичные ^чувст-
ва; но думают, что эти единодушие и энергия происходят
от криминальной природы поступка, который,
следовательно, остается в целом определить. Не оспаривают, что
всякое преступление — предмет всеобщего осуждения,
HO~jîp&^
том которого является πpecτyπлeJ:и§^πrJρJ[£^
преступности. Но впоследствии очень затрудняются
^объяснить, в" чей "Состоит эта преступность. В особенно
тяжкой безнравственности? Пусть так; но это значит
отвечать вопросом на вопрос и ставить одно слово на место
другого, так как дело именно в том, чтобы узнать, что
9 Путаница эта не безвредна. Так, иногда задаются вопросом,
изменяется ли индивидуальное сознание подобно коллективному
или нет; все зависит от смысла, придаваемого слову. Если оно
представляет социальные сходства, то отношение изменений — мы
это увидим - обратное; если оно обозначает всю психическую жизнь
общества, то отношение прямое. Следовательно, необходимо
установить различие в смыслах.
10 Мы не вдаемся в вопрос, представляет ли собой
коллективное сознание такое же сознание, как и индивидуальное. Под этим
словом мы понимаем просто совокупность социальных сходств, не
предвосхищая категории, через которую эта система явлений
должна быть определена.
81
такое безнравственность, и главным образом та особая
безнравственность, которую общество карает посредством
организованных наказаний и которая составляет
преступность. Очевидно, что она может происходить только от
одного или нескольких признаков, общих всем
криминологическим разновидностям; единственный же,
удовлетворяющий этому условию признак — это
противоположность, существующая между преступлением, каково бы
оно ни было, и определенными коллективными
чувствами. Именно эта противоположность создает преступление,
а не происходит от него. Иными словами, не следует
говорить, что действие возмущает общее сознание потому,
что оно преступно, но что оно преступно потому, что
возмущает общее сознание. Мы его порицаем не^п^тому, что
оно преступление, но онУпреётст'дёние потому, что мы
его иорйЦЦиМ.,. Чти КЦЦЦШЯ внутренней природы этих
чувств, то невозможно специфически определить ее; они
имеют самые разнообразные объекты, и невозможно
заключить их в единую формулу. Нельзя сказать, что они
относятся к жизненным интересам общества или к
минимальной справедливости; все эти определения неполны.
Но уже тем самым, что какое-то чувство, каковы бы ни
были его происхождение и цель, находится во всех
сознаниях с известной степенью силы и точности,— тем
самым поступок, возмущающий его, есть преступление.
Современная психология все более возвращается к идее
Спинозы, согласно которой вещи хороши потому, что мы
их любим, а не наоборот, мы их любим потому, что они
хороши. Стремление, склонность — изначальные факты;
удовольствие и страдание — производные факты. То же
самое и в социальной жизни. Поступок социально луп&н,
™ЧШY Îffl,0H в_т,веРгаетРя ррЩ^^о^^оГс^жут, разве
нет коллективных" чувств, происходящий из удовольствия
или страдания, испытываемых обществом при
соприкосновении с их объектами? Несомненно, есть, но не все
они имеют это происхождение. Многие, если не
большинство, проистекают из совсем других причин. Все, что
побуждает деятельность принять определенную форму,
может положить начало привычкам, порождающим
стремления, которые в будущем придется удовлетворять. Кроме
того, имепно эти последние стремления суть истинно
основные. Другие представляют только частные и лучше
определенные их формы, так как, для того чтобы найти
прелесть в таком-то и таком-то предмете, нужно, чтобы
коллективная чувствительность была способна находить
82
и нем удовольствие. Если соответствующие чувства
уничтожены, то самый гибельный для общества поступок
сможет не только быть терпимым, но даже почитаться и
ставиться в пример. Удовольствие неспособно создать
наклонность; оно может только привязать существующие
наклонности к такой-то частной цели при условии, что
эта последняя соответствует их изначальной природе.
яи^^!Т1^Ш!9ВЯШШ^^5^^ей^11^м. Есть поступки^арае-
мые с большей сурово^тью^емт^j^KOjgj^g.j^pjßgrjn-
цаются оЪ'щеоТЦУЦньш'*^^ чиновников,
иторЖШШё судебных властей в административные,
религиозных функций — в гражданские представляют объект
кары, непропорциональной вызываемому ими в
сознаниях негодованию. Похищение государственных
документов оставляет нас довольно индифферентными и,
однако, наказывается довольно сурово. Случается даже,
что подвергшийся наказанию поступок не возмущает
непосредственно никакого коллективного чувства; в нас нет
ничего, что бы протестовало против ловли рыбы и охоты
в запрещенное время или против проезда слишком
тяжелых повозок по общественной дороге. Однако нет
никакого основания полностью отделять эти преступления от
других; проведение всякого резкого различия и было бы
произвольным, так как все они в разной степени
обладают одним и тем же внешним критерием. Без сомнения,
ни в одном из этих преступлений наказание не кажется
несправедливым; если бы оно противоречило нравам, оно
не могло бы установиться. Но хотя оно не отвергается
общественным мнением, это последнее, предоставленное
самому себе, или не требовало бы его совсем, или
оказалось бы менее требовательным. Значит, во всех случаях
этого рода преступность — целиком или частично —
проистекает не от интенсивности оскорбляемых коллективных
чувств, но от другой причины.
Очевидно, в самом деле, что раз установилась
правительственная власть, то она сама по себе имеет
достаточно силы, чтобы произвольно связать уголовную санкцию
с некоторыми правилами поведения. Она способна по
собственному почину создавать некоторые преступления
или же усиливать криминологическое значение некото-
11 Достаточно посмотреть, как Гарофало отличает то, что он
называет истинными преступлениями, от других (с. 45); он
пользуется при этом личной оценкой, не опирающейся ни на какой
объективный признак.
83
рых других. Поэтому все приведенные нами ^пдтупки
представляют ту общую черту, что они наппавл^т
против κογΌ-ΤΟ из управляющих оргящда ргпц^алЬДСТ жизни.
Надо ли поэтому предположить, что есть два рода
преступлений, происходящих от двух различных причин?
Такую гипотезу принять невозможно.^ак
бымногочисленны ни были разновидности преступления^ рно^ по су-
ществу, всюдуг одно~и*то ж1е,' так как оно повсюду
вызывает^ рднЛ1^т^Ш£]с^ наказаниеТ^кото"
рое, хотя и может ftïffîr'Ûtïïïee или менее интенсивным,
не меняет от этого своей природы. Но один и тот же
факт не может иметь двух причин, исключая тот случай,
когда эта двойственность мнимая и эти две причины,
в сущности, образуют одну. Итак, сила реакции,
присущая государству, должна быть той же природы, что и та
сила, которая рассеяна в обществе.
И в самом деле, откуда она является? Из важности
интересов, которыми заведует государство и которые
требуют особой защиты? Но мы знаем, что одного только
нарушения интересов, даже важных, недостаточно, чтобы
вызвать уголовное воздействие; надо еще, чтобы оно было
прочувствовано известным образом. Почему, кроме того,
малейший ущерб, причиненный правительственному
органу, наказывается, тогда как гораздо более опасные
беспорядки в других социальных органах восстанавливаются
только в гражданском порядке? Малейшее нарушение
правил, связанных с дорожной полицией, наказывается
штрафом; между тем как даже повторное нарушение
договоров, постоянное отсутствие порядочности в
экономических отношениях влекут за собой только возмещение
убытков. Бесспорно, аппарат управления играет видную
роль в социальной жизни, но существуют и другие,
значение которых тоже жизненно важно и
функционирование которых не обеспечено, однако, таким образом. Если
мозг имеет важное значение, то желудок тоже
существенный орган и болезнь одного так же угрожает жизни,
как и болезнь другого. Почему такая привилегия в
отношении того, что иногда называют социальным мозгом?
Трудность эта легко решается, если заметить, что
повсюду, где устанавливается управляющая власть, ее
первая и главная функция — это заставить уважать
верования, традиции, коллективные обычаи, т. е. защищать
общее сознание против всех, как внутренних, так и
внешних, врагов. Таким образом, она становится символом
общего сознания, его живым выражением в глазах всех.
84
Поэтому присущая коллективному сознанию жизнь
сообщается ей, точно так же, как родство идей сообщается
представляющим их словам. Вот каким образом эта
власть принимает ни с чем не сравнимый характер. Это
уже не более или менее важная социальная функция,
это воплощенный коллективный тип. Она, стало быть,
участвует в создании авторитета, которым последний
господствует над сознаниями, и отсюда происходит ее сила.
Но раз эта сила установилась, она, не освобождаясь от
своего источника, которым она продолжает питаться,
становится автономным фактором социальной жизни,
способным в силу приобретенного главенства
самопроизвольно производить собственные движения, не вызываемые
никаким внешним импульсом. Поскольку, с другой
стороны, эта сила — только производное от силы, присущей
общему сознанию, она непременно имеет те же свойства
и реагирует таким же способом даже тогда, когда
последняя сила реагирует не совсем так же. Она отталкивает
всякую антагонистическую силу, как это сделала бы
диффузная душа общества, даже тогда, когда эта последняя
не чувствует или чувствует не так живо этот антагонизм.
Иными словами, она называет преступлениями поступки,
которые ее возмущают, не возмущая, однако, в той же
степени коллективные чувства. Но именно от последних
получает она всю энергию, позволяющую ей создавать
преступления и проступки. Она не может явиться из
другого источника, так же как и ниоткуда; факты,
которые будут подробно изложены на всем протяжении этого
сочинения, подтверждают это объяснение. Объем
воздействия, оказываемого правительственным органом на
число и квалификацию преступных действий, зависит от
обнаруживаемой им силы. Последняя, в свою очередь,
может быть измерена либо оказываемым им на граждан
влиянием, или же степенью важности, признаваемой за
преступлениями, направленными против него. Мы
увидим далее, что именно в низших обществах это влияние
и степень важности особенно велики, а с другой стороны,
что в этих самых социальных типах коллективное
сознание обладает наибольшим могуществом 12.
Значит, именно к этому сознанию приходится
постоянно возвращаться; именно в нем прямо или косвенно берет
12 Впрочем, когда все наказание состоит в штрафе, то,
поскольку он представляет только определенное по величине
возмещение, поступок находится на границе уголовпого и реститутивмого
права.
85
начало всякая преступность. Преступление — это не
только нарушение интересов, даже серьезных, это
оскорбление авторитета, в своем роде трансцендентного. Но в
опыте нет моральной силы, стоящей выше индивида, за
исключением коллективной силы.
Есть, впрочем, способ проконтролировать результат,
к которому мы пришли. Преступление характеризуется
тем, что оно вызывает наказаниеГ Значит, еслинаще
определеш!е<ППГрегс^У'1]1ЛёМия точно """оно "должно объяснить
псе признаки нак^ЗаЮя.^ Приступим к этой проверке.
Но сначала надо установить, каковы эти признаки.
ПреЖД» i"4>™_ liflf αοοττιτο LahnTflflj д ЖйВАЧ™! ЩУ*™НИпй
страстью^Этот признак тем очевиднее, чем менее
культурны общества. В самом деле, первобытные народы
наказывают ради наказания, заставляют виновного страдать
исключительно с целью страдания, не ожидая для самих
себя никакого преимущества от причиняемого ему
страдания. Доказывается это тем, что они заботятся не о
справедливом _ишь-лшашзвом - наказании, -а о наказании
Ka£jÖKfißbM*.-JEaK они наказывают животных, которые
совершили порицаемый поступок13, или даже
неодушевленные предметы, которые были его пассивным
инструментом 14. Если наказание применяется только к людям,
оно часто распространяется далеко не только на
виновного и поражает невинных: его жену, детей, соседей
и т. д.15 Это происходит потому, что страсть,
составляющая душу наказания, останавливается только тогда,
когда она истощена. Если же после уничтожения того,
кто вызвал ее самым непосредственным образом, у нее
остаются силы, она распространяется далее чисто
механическим образом. Даже когда она настолько умеренна,
что ограничивается только виновным, она дает о себе
знать стремлением превзойти по размерам поступок,
против которого направлено ее воздействие. Отсюда
происходят утонченные страдания, присоединяемые к смертной
казни. Еще в Риме вор должен был не только
возвратить похищенную вещь, но и уплатить, кроме того, двой-
13 См.: Исход. XXI, 28; Левит, XX, 16.
14 Например, нож, послуживший орудием убийства. См.: Post.
Baustcine für oino allgomeine Rechtswissenschaît, I, S. 230-231.
15 См.: Исход, XX, 4 и 5; Второзак. XII, 12-18; Thonissen. Etudes
sur Thistoire du droit criminel, I, p. 70, 178 etc.
86
ной или четверпой штраф16. Впрочем, ие является ли
столь распространенное наказание, как тальон25*, удов-
летворением страсти к мести?
Но, говорят, теперьнаказание изменило cbojq ЩШРЛйу:
общество^уже наказывает не для отмщения, а для само-
:тщитьтГТГричш1яёмЪе''"йм страдание служит в его руках
только "методическим орудием защиты. Оно наказывает
пе потому, что наказание само по себе доставляет ему
какое-то удовлетворение, но для того, чтобы страх
наказания парализовал злую волю. Не гнев, но обдуманное
предвидение определяет кару. Предшествующие
наблюдения не могут, стало быть, носить общий характер; они
касаются только первобытной формы наказания и не
могут относиться к его теперешней форме.
Но, чтобы иметь право столь радикально различать
эти два вида наказаний, мало констатировать, что они
употребляются с различными целями. Природа обычая
не обязательно изменяется от того, что изменяются
сознательные намерения применяющих его людей. Он мог
в действительности играть некогда ту же роль, хотя этого
не замечали. Можно ли в этом случае говорить о его
изменении только на том основании, что стали лучше
представлять себе производимые им следствия? Он
приспосабливается к новым условиям существования без
существенных изменений. Именно так происходит и с
наказанием.
Ошибочно, в самом деле, думать, что месть
представляет только бесполезную жестокость. Весьма возможно,
что сама по себе месть состоит в механической и
бесцельной реакции, в страстном и безрассудном движении,
в неразумной потребности разрушить; но ведь
фактически то, что она стремится разрушать, было угрозой для
нас. Значит, в действительности она представляет собой
настоящий акт защиты, хотя инстинктивный и
необдуманный. Мы мстим только за то, что нам причинило зло,
а то, что нам причинило зло,— всегда опасно. Инстинкт
мести в конечном счете есть не что иное, как инстинкт
самосохранения, ожесточенный опасностью. Таким
образом, в истории человечества месть отнюдь не играла той
бесплодной и отрицательной роли, которую ей
приписывают. Это орудие защиты, имеющее определенную
ценность, только это орудие грубое. Поскольку месть не
осознает оказываемых ею автоматически услуг, она, следо-
18 Walter. Op. cit., § 793.
87
вательно, не может регулироваться. Она распространяется
случайным образом по воле толкающих ее слепых
причин, и ничто не умеряет ее порывов. В настоящее
время, когда мы лучше знаем цель, к которой стремимся,
мы умеем лучше использовать имеющиеся в наших
руках средства; мы защищаем себя более методическим
и, следовательно, более действенным образом. Но и впа-
чале достигался тот же результат, хотя и более
несовершенным путем. Между теперешним и прежним
наказанием нет пропасти и, следовательно, не было
необходимости первому стать чем-то иным, чтобы приспособиться
к роли, которую оно играет в наших цивилизованных
обществах. Вся разница в том, что оно производит свои
действия с большим осознанием того, что оно делает.
Но хотя индивидуальное или социальное сознание не
лишено влияния на объясняемую им действительность, оно
не имеет силы изменить ее природу. Внутренняя
структура явлений остается той же, будь они осознаны или нет.
Мы можем, стало быть, считать, что существенные
элементы наказания остались теми же, что и прежде.
И действительно, наказание, по крайней мере отчасти,
осталось актом мести. Говорят, что мы не заставляем
страдать виновного ради страдания; тем не менее верно
и то, что мы находим справедливым, чтобы он страдал.
Может быть, мы неправы; но не в этом дело. Мы
стремимся здесь определить, каково есть или было
наказание, а не то, каковым оно должно быть. Но очевидно,
что выражение «общественная месть», которое постоянно
присутствует в языке судей, не пустое слово.
Предполагая, что наказание действительно может служить нам
защитой в будущем, мы считаем, что оно должно быть
прежде всего искуплением прошедшего. Это доказывается
теми тщательными предосторожностями, которые мы
принимаем, чтобы сделать его как можно более
пропорциональным значению преступления; они были бы
необъяснимы, если бы мы не считали, что виновный должен
страдать за причиненное им зло, и притом в той же
мере. Действительно, если наказание — только средство
защиты, то эта градация не необходима. Несомненно,
было бы опасно для общества, если бы тягчайшие
преступления были приравнены к обыкновенным
проступкам. Но опасность в большинстве случаев была бы еще
значительнее, если бы вторые были приравнены к
первым. Против врага невозможно принять слишком много
предосторожностей. Может быть, скажут, что у винов-
88
пых в меньших преступлениях менее извращенные души
и что для нейтрализации их дурных инстинктов
достаточно менее сильных наказаний? Но если их наклонности и
менее порочны, то это не значит, что они менее
интенсивны. Воры так же сильно ^онньтк, тшрмттву, v™
убийцы — к убийству; , содрот^вл^нир, оказываемое пер-
rc^JM^.î!jLJ^ и следовательно,
что5ы одолеть его^люл.жно прибегнуть 'ü ТбМ Ше
средствам. Если "ёыТ как это утверждали; речь шла 'röJlbKir
о том, чтобы подавить вредную силу противоположной
силой, то интенсивность второй должна была бы
измеряться исключительно по интенсивности первой, без
учета качества последней. Лестница уголовных наказаний
занимала бы тогда совсем немного ступеней; наказание
варьировало бы только сообразно большей или меньшей
закоренелости преступника, а не сообразно природе
преступного действия. С неисправимым вором обращались
бы как с неисправимым убийцей. Но на самом деле,
даже если бы преступник и был решительно неисправим,
мы бы все-таки не чувствовали себя вправе применить
к нему чрезмерное наказание. Это доказательство того,
что мы остались верны принципу тальона, хотя мы
понимаем его в более высоком смысле, чем прежде. Мы уже
не измеряем таким материальным и грубым образом ни
размера преступления, ни размера наказания, но мы все
еще думаем, что между обоими этими членами должно
существовать равенство, независимо от того, выгодно
оно для нас или нет. Наказание, стало быть, осталось
для нас тем же, чем было для наших предков. Это по-
прежнему акт мести, поскольку это искупление.
Оскорбление, нанесенное нравственности,— вот за что мы
мстим, что преступник искупает наказанием.
Есть одно наказание^ рля которого х^щ^т^ри^
признак страстности очевиднее, чем в других случаях/Это
позорt удваивающий большинство наказаний и растущий
вместе с ними. Чаще всего он не служит ничему. Зачем
позорить человека, который не должен больше жить в
обществе себе подобных и который своим поведением
слишком убедительно доказал, что самые страшные
угрозы не в состоянии напугать его? Позор понятен, когда
нет другого наказания или как дополнение к слабому
материальному наказанию; в противном случае
наказание применяется дважды. Можно даже сказать, что
общество прибегает к правовым наказаниям только тогда,
когда другие недостаточны; но тогда зачем их сохра-
89
пять? Они — своего рода дополнительное и бесцельное
наказание, не имеющее другой причины, кроме
потребности возмещать зло злом. Они настолько продукт
инстинктивных, неодолимых чувств, что часто
простираются на невинных. Так, на место преступления, на его
орудия, па родственников виновного иногда падает доля
презрения, которым мы поражаем последнего. Но
причины, вызывающие эту диффузную кару, не отличаются от
тех, которые вызывают организованное, сопровождающее
ее наказание. Кроме того, достаточно увидеть, как
функционирует в судах наказание, чтобы убедиться, что
источник его — целиком в области страстей; именно к ним
обращаются и обвинитель и защитник. Последний
старается вызвать симпатии к обвиняемому, первый
пытается пробудить нарушенные преступным действием
социальные чувства, а судья выносит решение под влиянием этих
противоположных страстей.
Итак, природа наказания не изменилась по существу.
Можно только сказать, что потребность в отмщении
управляется теперь лучше, чем прежде. Пробудившийся
дух предвидения не дает более такого простора слепому
действию страсти; он держит ее в известных границах,
противится нелепым жестокостям и бессмысленному
нанесению вреда. Будучи более просвещенной, она
распространяется менее случайно; она не обращается больше
ради простого самоудовлетворения против невинных. Но
тем не менее она остается душой наказания. Мы можем,
стало быть, сказать, что наказание состоит во внушенной
страстью реакции, различающейся по степени
интенсивности 17.
Но откуда исходит эта .реакция? От индивида или от
общества?
Всякий знает, что наказывает общество; но может
статься, что наказывает в своих интересах. Социальный
характер наказания доказывается тем, что, будучи
объявлено, оно может быть отменено только прявдтель^твпм от
'имени .nfiHififiTfia-... Если бы оно было удовлетворением,
оказываемым частным лицам, то эти последние всегда
17 Впрочем, это признают даже те, кто находит непонятпоп
идею искупления. Их вывод состоит в том, что традиционная
концепция наказания должна быть видоизменена и реформирована с
начала до конца для того, чтобы соответствовать их учению.
Значит, дело в том, что она всегда опирается и опиралась на
принцип, который они оспаривают. См.: Fouillée. Science sociale, p. 307
etc.
90
были бы в состоянии отменить его: невозможно себе
представить навязанную привилегию, от которой не
может отказаться имеющий ее. Если же одно только
общество располагает правом карать, то потому, что интересы
его затронуты даже тогда, когда затронуты интересы
индивидов, и наказанием карается именно покушение,
направленное против пего.
Можно, однако, привести случаи, когда исполнение
наказания зависит от воли частных лиц. В Риме
некоторые проступки наказывались штрафом в пользу
потерпевшей стороны, которая могла от него отказаться и
устроить из него предмет сделки. Таковы были
недоказанное воровство, грабеж, оскорбление, причиненный
несправедливо ущерб18. Эти проступки, называвшиеся
частными (delicto, privata), противопоставлялись
собственно преступлениям, наказание за которые производилось
от имени государства. То же различие мы находим в
Греции, у евреев 19. У первобытных народов иногда
наказание — еще^ более частное дело, что, по-видимому,
доказывает обычай вендетты. Эти общества составлены из
элементарных агрегатов квазисемейной природы, которые
удачно обозначаются словом кланы. Когда преступление
совершено одним или несколькими членами клана против
другого, последний сам наказывает за оскорбление,
которому он подвергся20. Значение этих фактов с точки
зрения разбираемой теории еще более усиливается, по
крайней мере внешне, благодаря распространенному
утверждению, будто вендетта26* была первоначально
единственной формой наказания; наказание, таким образом,
вначале представляло собой акт частной мести. Если же
общество теперь обладает правом наказывать, то это, по-
видимому, может быть благодаря чему-то вроде
поручения со стороны составляющих его индивидов. Оно
только их уполномоченный. Оно ведет не свои собственные,
а их дела, и, вероятно, потому, что ведет их лучше.
Вначале отдельные лица сами мстили за себя, теперь оно
мстит за них, но так как уголовное право не могло
изменить своей природы от этой простой передачи, то в нем
нет, согласно этой теории, ничего социального. Если
общество и играет, по-видимому, преобладающую роль, то
только как заместитель индивидов.
18 Rein. Op. cit., p. 111.
19 У евреев кража, изъятие вклада, злоупотребление доверием,
избиение рассматривались как частные проступки.
20 См. в особенности: Morgan. Ancient Society. L., 1870, p. 76.
91
Но, как бы пи была распространена эта теория, она
противоречит наиболее твердо установленным фактам.
Невозможно назвать ни одного общества, где вендетта
была бы первоначальной формой наказания. Как раз
наоборот, достоверно установлено, что уголовное право
вначале было главным образом религиозным. Этот факт
установлен в отношении Индии и Иудеи, так как бывшее
там в обычае право считалось полученным путем
откровения21. В Египте десять книг Гермеса, заключавшие
уголовное право вместе со всеми другими законами
относительно управления государством, назывались
жреческими, и Элиан утверждает, что с самой древности
египетские жрецы исполняли судебные обязанности22. Так
же было и в древней Германии 23. В Греции правосудие
рассматривалось как происходящее от Юпитера, а
наказание — как месть бога24. В Риме религиозное
происхождение уголовного права проявляется и в древних
традициях 25, и в архаических обычаях, которые долго
сохранялись, и в самой юридической терминологии26.
Но религия — явление, по существу, социальное. Она не
только не преследует чисто индивидуальных целей, но
оказывает на индивида постоянное принуждение. Она
обязывает его следовать стесняющим его обычаям,
совершать малые и большие, дорогостоящие
жертвоприношения. Он должен тратиться на подношения, которые
обязан дарить божеству; он должен урвать у своего рабочего
времени или из своих развлечений минуты, необходимые
для отправления ритуала; он должен возлагать на себя
всякого рода лишения, должен отказаться даже от
жизни, если это приказывают боги. Религиозная жизнь вся
состоит из самоотречения и бескорыстия. Если, стало
быть, уголовное право было изначально религиозным
правом, то можно быть уверенным, что интересы, которым
оно служило, суть интересы общественные. Боги мстят
21 В Иудее судьи не были священниками, но всякий судья был
представителем Бога, человеком Божиим (см.: Второзак. I, 17;
Исход, XXII, 28). В Индии судил царь, но эта функция
рассматривалась как религиозная по существу. См.: Ману, VIII, стихи 303-311.
22 Thonissen. Etudes sur l'histoire du droit criminel, I, p. 107
23 Zöpfl. Deutsche Rechtsgeschichte, S. 909.
24 «Сын Сатурна, - говорит Гесиод, - дал людям
справедливость» (Труды и дни, V, 279 и 280, изд. Дидо). «Когда смертные
предаются порочным действиям, Юпитер наносит им быстрое
наказание» (Там же, V, 266; ср.: Илиада, XVI, 384 и след,).
25 Walter. Op. cit., § 788.
26 Rein. Op. cit.. p. 27-36.
92
наказанием за свои собственные обиды, а не за обиды
частных лиц; но обидеть богов — значит обидеть общество.
Поэтому в низших обществах наиболее
многочисленные проступки те, которые оскорбляют нечто
общественное; это проступки против религии, нравов, авторитета
и пр. Достаточно посмотреть, как относительно мало
места уделено в Библии, в законах Many, в памятниках,
оставшихся нам от древнего египетского права,
предписаниям, защищающим личность, и напротив, пышное
развитие репрессивного законодательства относительно
различных форм святотатства, пренебрежения разными
религиозными обязанностями, требованиями
церемониала и т. д.27 В то же время именно эти преступления
наказываются наиболее сурово. У евреев самые ужасные
преступления — это преступления против религии28.
У древних германцев, по словам Тацита, только два
преступления наказывались смертью: это измена и
дезертирство 29. По Конфуцию и Мэнцзы, безбожие — это
большее преступление, чем убийство30. В Египте самое
незначительное святотатство наказывалось смертью31.
В Риме на самом верху уголовной лестницы находилось
crimen perduellionis32.27*
Но что тогда представляют jeo6ajl т.е. .частные
преступления^ примеры ' которых ~мьГ приводили выше? они'—
смешанно^прддддьд,,д, ..связаны, ^щшвщмедд& JL4*e4Mfc.
сивнои и реститут^адн^|[_сал|;щ^н. Так, delictum privata28*
римского права представляет нечто среднее между
собственно преступлением и чисто гражданским нарушением.
Оно обладает чертами того и другого и колеблется на
границе обеих областей. Это преступление в том смысле,
что установленная законом санкция состоит не просто в
приведении вещей в прежний порядок; нарушитель
обязан не только возместить причиненный им ущерб, но
должен еще нечто сверх этого — искупление. Тем не
менее это не совсем преступление, так как общество,
объявляя наказание, вместе с тем не распоряжается его
применением. Это право оно предоставляет потерпевшей
стороне, которая свободно им распоряжается33. Точно так
27 См.: Thonissen, passim.
28 Минск. Palestine, p. 216.
29 Германия, XII.
30 Plath. Gesetz und Recht im alten China, 1865, S. 69, 70.
31 Thonissen. Op. cit., I, p. 145.
32 Walter. Op. cit., § 803.
33 Однако уголовный характер delictum privatum усиливается
тем, что оно влекло за собой бесчестие, настоящее общественное
93
же вендетта — это, очевидно, наказание, которое
общество признает законным, но заботу о применении
которого оно предоставляет частным лицам. Эти факты
только подтверждают то, что мы сказали о природе
наказания. Если этот вид промежуточной санкции — отчасти
вещь частная, то в той же мере он и не наказание.
Уголовный характер его тем менее выражен, чем более
сглажен в нем общественный характер, и наоборот.
Следовательно, частная месть — далеко не прототип наказания;
наоборот, это лишь несовершенное наказание.
Преступления против личности не были первыми преступлениями,
подвергавшимися каре; вначале они находились лишь на
пороге уголовного права. Они поднимались по лестнице
преступности только по мере того, как общество вполне
овладевало ими, и эта операция, которую нам незачем
описывать, не свелась, конечно, к простой передаче.
Совсем наоборот, история этого вида наказаний — только
непрерывный ряд вторжений общества в индивидуальную
сферу, или, скорее, в сферу элементарных групп, которые
оно в себе заключает. А результатом этих вторжений
является то, что на место права частных лиц все более и
более становится право общества 3\
Но предыдущие черты столь же принадлежат и
диффузной каре, следующей за просто безнравственными
действиями, сколь и каре правовой. Последнюю отличает
то, что она, как мы сказали, носит организованный
характер. Но в чем состоит эта организация?
Когда говорят об уголовном праве в том виде, в
каком оно функционирует в наших теперешних обществах,
то представляют себе кодекс, в котором точно
определенные наказания связаны с преступлениями, столь же
определенными. Судья, конечно, располагает известным
простором для применения к каждому частному случаю
этих общих предписаний; но в своих основных чертах
наказание определено заранее для всякой категории
преступных действий. Однако эта искусная организация не
существенна для наказания, ибо есть много обществ, где
последнее не определено наперед. В Библии есть немало
запретов, которые носят в высшей степени
повелительный характер и все-таки не санкционируются никакими
наказание См.: Rein. Op. cit., p. 916; Bouvy. De l'infamie en droit
romain. P., 1884, p. 35.
34 Во всяком случае, важно заметить что вендетта - явление
в высшей степени коллективное. Не индивид мстит за себя, а его
клан: позже именно клану или семье выплачивается вира.
94
ясно сформулированными наказаниями. Их уголовный
характер, однако, несомненен, ибо если текст и не
упоминает о наказании, то в то же время он выражает
такое отвращение к запретному поступку, что невозможно
ни на минуту предположить, чтобы он оставался
безнаказанным 35. Есть, стало быть, основание считать, что
это молчание закона происходит просто оттого, что кара
не была определена. И действительно, многие рассказы
Пятикнижия говорят нам о том, что были поступки,
уголовное значение которых было неоспоримо и наказание
за которые устанавливалось только применявшим его
судьей. Общество отлично знало, что оно имеет дело с
преступлением, но уголовная санкция, которая должна
была за ним последовать, еще не была определена36.
Более того, даже среди наказаний, сформулированных
законодателем, есть многие, которые точно не оговорены.
Так, мы знаем, что были разные виды казни, весьма
различавшиеся между собой, и, однако, во многих случаях
тексты говорят о смерти только в общем виде, не говоря,
какой род казни должен быть применен. Согласно Сам-
неру Мэну, так же было и в древнейшем Риме; crimi-
тш29* разбирались пред народным собранием, которое
своей властью определяло наказание и одновременно
устанавливало действительность инкриминируемого
факта 37. Впрочем, даже вплоть до XVI в. общий принцип
уголовного права «состоит в том, что применение
наказания было предоставлено воле судьи, arbitrio et officio
juducio...30* Судье не дозволено лишь придумывать другие
наказания, помимо тех, что применялись обычно» 38.
Другое следствие этой власти судьи состояло в том, что
от его оценки целиком зависела квалификация
преступного действия,— следовательно, она сама была
неопределенной 39.
35 См.: Второзак. VI, 25.
36 Нашли человека, собиравшего дрова в субботу: «И привели
его нашедшие его собирающим дрова к Моисею и Аарону и ко всему
обществу. И посадили его под стражу, потому что не было еще
определено, что должно с ним сделать» (Числа, XV, 33, 34). 13
другом месте речь идет о человеке, который хулил имя Божье.
Присутствующие задерживают его, но не знают, что с ним делать.
Моисей сам не знает этого и совещается с Господом. См.: Левит,
XXIV, 12-16.
37 Ancien droit, p. 353.
38 Du Boys. Histoire du droit criminel des peuples modernes, VI,
p. 11.
39 Ibid., p. 14.
95
Итак, не в регламентации наказания состоит
отличительная организация этого вида кары. Точно так же и с
установлением уголовной процедуры; приведенные нами
факты достаточно убедительно доказывают, что она в
течение длительного времени отсутствовала. Единственный
факт организации, встречающийся повсюду, где есть
собственно наказание, сводится, таким образом, к
установлению суда. Как бы он ни был устроен — охватывает ли
он весь народ или только элиту, следует ли он
упорядоченной процедуре в установлении дела и в применении
наказания или нет,— уже одним только тем, что
преступление судимо не всяким, а установленным персоналом,
одним только тем, что коллективная реакция имеет
посредником определенный орган, она перестает быть
диффузной: она организована. Организация может стать
более совершенной, но с этого момента она уже
существует.
Итак1 наказание, по существу, состоит во внушенной
стр££^]ж^^
осуществляемой ^ошцеством через посредст^^Г^^ановленного
ЧХргана в отмщении тех своих ч^пзттв; которые нарушили
известные правила повШШЮгг
дантгоё нами определение преступления дает
возможность весьма легко представить себе все эти признаки
наказания.
III
Всякое сильное состояние сознания есть источник
жизни; это существенный фактор нашей жизнеспособности
вообще. Следовательно, все, что стремится ослабить его,
умаляет и унижает нас; из этого вытекает ощущение
беспокойства и недомогания, подобное тому, которое мы
испытываем, когда какой-нибудь важный орган
прекратил или замедлил свое функционирование. Энергичная
реакция на причину, угрожающую нам таким умалением,
неизбежна: мы стремимся устранить ее для сохранения
целостности нашего сознания.
В первый ряд причин, порождающих это действие,
надо поставить представление противоположного
состояния сознания. Представление на самом деле — не простой
образ действительности, не инертная тень, отбрасываемая
на нас вещами; это сила, поднимающая вокруг се£&-
целый вихрь органических и психических явлений.\Нерв-
пый ток, сопровождающий образование идей, пробегает
пе только в корковых центрах вокруг точки, где он за-
96
родился, и переходит из одного сплетения в другое, но
отражается в двигательных центрах, где вызывает
движение, в чувствительных центрах, где пробуждает
образы, временами вызывает начало иллюзии и может
затронуть даже вегетативные функции40. Это отражение тем
значительнее, чем интенсивнее само представление, чем
развитее его эмоциональный элемент. УГак, представление
о чувстве, противоположном наш$му^ действует в нас в
том же направлении и таким же образом, как и
чувство, субститутом которого оно является. Происходит так,
как если бы это последнее само вошло в наше сознание.
Оно имеет те же симпатии, хотя и менее живые; оно
стремится пробудить те же идеи, те же движения, те же
эмоции. Оно оказывает, таким образом, сопротивление
игре нашего личного чувства и, следовательно,
ослабляет его, направляя в противоположную сторону
значительную часть нашей энергии. Это все равно, как если бы
посторонняя сила забралась в нас, с тем чтобы
расстраивать свободное функционирование нашей психической
жизни. Вот почему убеждение, противоположное нашему,
не может проявиться в нашем присутствии, не нарушая
нашего спокойствия; это происходит потому, что оно
тотчас же проникает в нас и, находясь в антагонизме со
всем тем, что оно там встречает, производит там
настоящие беспорядки. Бесспорно, пока конфликт
разыгрывается только в области абстрактных идей, он не несет с
собой ничего мучительного, потому что в нем нет ничего
глубокого. Область этих идей в сознании самая
возвышенная и в то же время самая поверхностная, и
изменения, происходящие там, не имея обширных отражений,
затрагивают нас слабо. Но когда речь идет о дорогом нам
веровании, мы не дозволяем и не можем дозволить,
чтобы на него безнаказанно замахивались. Всякое
направленное против него оскорбление вызывает более или
менее сильную реакцию, обращенную против оскорбителя.
Мы восстаем, мы возмущаемся, мы на него за это
сердимся, и поднятые таким образом чувства не могут не
выразиться в поступках: мы его избегаем, мы держимся
от него на расстоянии, мы изгоняем его из общества
и т. д.
Мы не утверждаем, конечно, что всякое сильное
убеждение непременно нетерпимо; достаточно беглого
наблюдения, чтобы доказать противное. Но дело в том,
40 Тм.: Maudsley. Physiologie de l'esprit, p. 270.
4 8. Дюркгейм
97
что тогда внешние причины нейтрализуют те причины,
следствия которых мы только что проанализировали.
Например, между противниками может быть взаимная
симпатия, сдерживающая и смягчающая их антагонизм. Но
эта симпатия должна быть сильнее антагонизма; иначе
она его не одолеет. Или же обе стороны отказываются
от борьбы, убедившись, что она не может привести
ни к чему, и довольствуются сохранением относительного
своего положения; они терпят друг друга, не будучи в
состоянии уничтожить друг друга. Такой характер часто
носит обоюдная терпимость, возникающая в результате
религиозных войн. Во всех этих случаях, если конфликт
чувств не порождает своих естественных следствий, то
не потому, что их у него нет, а потому, что ему мешают
их произвести.
Впрочем, эти следствия, будучи неизбежными, в то
же время полезны. Происходя неизбежно от производя
щих их причин, они способствуют сохранению их. Все
эти бурные эмоции содержат в себе призыв к
дополнительным силам, придающим атакованному чувству
энергию, которую у него отнимает противоречие. Иногда
говорят, что гнев бесполезен, так как он представляет
собой только разрушительную страсть, но это
одностороннее воззрение. На самом деле гнев состоит в
перевозбуждении и укреплении скрытых и свободных сил, которые
помогают нашему личному чувству противостоять
опасности. В состоянии мира, если можно так выразиться,
оно недостаточно вооружено для борьбы; оно могло бы
погибнуть, если бы в желанный момент не вступали
резервы страсти. Гнев — не что иное, как мобилизация
этих резервов. Может даже случиться, что вызванная
таким образом помощь превосходит потребность, тогда в
результате спора наши убеждения не только не будут
поколеблены, но еще больше укрепятся.
Известно, какую энергию может получить верование
илй-чувсши ΰ (ШЛу ТОЛЬко i^roj ^
jgecTTOflr■ ?ГИШ!Й. ШШ^т^^ежду^^сдвт^ "дгоичин"ьРэтбго
дв.т[вни;я_ τρπρ.ρτ. пройти извест11ьГа. подобно тешу" как
противоположные состояния сознания взаимно
ослабляются, состояния идентичные, соединяясь, усиливают
друг друга. Первые вычитаются, вторые складываются.
Если кто-пибудь высказывает перед нами идею, которая
у пас уже была, то представление, которое у нас о ней
41 См.: Espinas. Sociétés animales, passim. P., F. Alcan.
98
складывается, соединяется с нашей собственной идеей,
накладывается на нее, сливается с ней, сообщая ей все,
что в нем самом есть жизненного. Из этого слияния
получается новая идея, поглощающая предыдущие и,
следовательно, более живая, чем каждая из них в
отдельности. Вот почему в многочисленных собраниях эмоция
может достигать такой неистовой силы; возникая в
каждом сознании, она отражается во всех других. Нет даже
необходимости испытывать нам самим, благодаря нашей
индивидуальной природе, какое-нибудь коллективное
чувство для того, чтобы оно обрело у нас такую
интенсивность: то, что мы прибавляем к нему, составляет в
итоге очень мало. Достаточно, чтобы мы представляли
собой более или менее восприимчивую почву, чтобы оно,
проникая извне с силой, полученной от своих источников,
сообщалось нам. Поскольку коллективные чувства,
оскорбляемые преступлением,— самые распространенные
в обществе, поскольку они относятся к особенно сильным
состояниям общего сознания, они не могут терпеть
противоречия. Если же это противоречие не чисто
теоретическое, если оно утверждается не только на словах,
но и на деле, то оно достигает своего максимума, и мы
тогда не можем страстно не восставать против него.
Простого восстановления нарушенного порядка недостаточно
для нас; нам нужно более сильное удовлетворение. Сила,
с которой сталкивается преступление, слишком
интенсивна, чтобы реагировать столь умеренно. Да она и не
могла бы этого сделать, не уменьшаясь, так как именно
благодаря интенсивности реакции она вновь
овладевает собой и удерживается на том же энергетическом
уровне.
Так можно объяснить _одпу из характерных черт этой
реакции, часто считавшуюся дпрдпионально^ Не
вызывает сомнении, что в основе понятия^^ск^щ^дия^ содер-
жится идея удовлетвор^и^^ к^ некоторой
реш11^ой или цд^ CTOHrri^l^MSSâMH. Если
мы требуем" наказания за преступление, то не потому, что
хотим мстить лично за себя; мы мстим за нечто
священное, что мы ощущаем бс^ее и^ Д^нь .ШУТНО вне и
над нами. Это нечто мы" понимаем по-разпому, в
зависимости'" 6Ψ времени и среды; иногда это простая идея,
например нравственность, долг; чаще всего мы
представляем его себе в виде одного или нескольких конкретных
существ: предков, божества. Вот почему уголовное
право, по существу, религиозно не только при своем возник-
99
4*
новений, но постоянйо сохраняет некоторую печать
религиозности: поступки, за которые оно наказывает, суть
преступления против чего-то трансцендентного,
существа или понятия. Таким же образом мы объясняем себе
самим, почему эти поступки представляются нам
требующими санкции более серьезной, чем простое возмещение,
которым мы довольствуемся в области чисто человеческих
интересов.
Представление это, конечно, является иллюзией:
именно за себя в некотором смысле мы мстим, себя мы
удовлетворяем, так как в нас, и только в нас, находятся
оскорбленные чувства. Но эта иллюзия необходима.
Поскольку эти чувства — вследствие своего коллективного
происхождения, своей универсальности, своей
продолжительности, своей внутренней интенсивности — имеют
исключительную силу, они радикально отделяются от
остальной части нашего сознания, состояния которой
значительно слабее. Они владычествуют над нами, они
содержат, так сказать, нечто сверхчеловеческое и в то же
время они привязывают нас к объектам, которые
находятся вне нашей преходящей жизни. Поэтому они
представляются нам отражающимися в нас эхом какой-то
посторонней силы, более могучей, чем мы сами. Мы
вынуждены проецировать их вне себя и относить к
какому-то внешнему объекту то, что их касается. В
настоящее время известно, как совершаются эти частичные
отчуждения личности. Этот мираж неизбежен, так что пока
будет существовать карательная система, он будет
воспроизводиться в той или иной форме. Чтобы
происходило иначе, необходимо было бы, чтобы в нас находились
коллективные чувства только средней интенсивности;
а в этом случае не было бы больше наказания. Может
быть, скажут, что заблуждение рассеется само собой,
как только люди его осознают? Но мы можем отлично
зпать, что солнце — огромный шар, и все-таки мы видим
его в виде диска величиной в несколько пальцев.
Понимание может научить нас истолковывать показания
наших чувств, но не может изменить их. Впрочем, это
только отчасти заблуждение. Поскольку эти чувства
коллективны, то они представляют в нас не нас, а общество.
Мстя за них, мы мстим, стало быть, не за себя, а за него,
а общество и есть нечто высшее, чем индивид.
Ошибочно поэтому видеть в таком квазирелигиозном характере
искупления какой-то паразитический нарост. Это,
напротив, неотъемлемая часть наказания. Несомненно, он вы'
100
ражает природу наказания лишь метафорическим
образом, но »та метафора не лишена истины.
Понятно, с другой стороны, что воздействие
уголовного права неодинаково во всех случаях, так как
вызывающие его эмоции не всегда одни и те же. Живость их
зависит от живости затронутых чувств и от серьезности
испытанного оскорбления. Сильное состояние сознания
реагирует сильнее, чем слабое, а два состояния одной и
той же интенсивности реагируют неодинаково, в
соответствии с силой встречаемого ими противоречия. Эти
изменения неизбежны; более того — они полезны, так как
важно, чтобы величина призываемых сил была
пропорциональна величине опасности. Если бы их было мало,
их могло бы оказаться недостаточно; будь их слишком
много, это была бы бесполезная потеря. Поскольку
значение преступного акта изменяется в функции тех же
самых факторов, наблюдаемая повсюду
пропорциональность между преступлением и наказанием
устанавливается с механической самопроизвольностью, причем нет
необходимости в ученых выкладках для ее вычисления.
Причина, создающая градацию преступлений, создает ее
и для наказаний. Обе шкалы не могут не соответствовать
друг другу, и это соответствие, будучи неизбежным, не
перестает в то же время быть полезным.
Что касается социального характера этого
воздействия, то он проистекает из социальной природы
оскорбленных чувств. Поскольку последние находятся во всех
сознаниях, совершенное преступление вызывает во всех
тех, кто является его свидетелем или кто знает о его
существовании, одно и то же негодование. Все задеты,
поэтому все выступают против нападения. Реакция
носит не только общий но и коллективный характер, что
не одно и то же; она не происходит изолированно у
каждого, но совершается согласованно, с единством,
изменяющимся, впрочем, в зависимости от обстоятельств.
Подобно тому как противоположные чувства
отталкиваются, сходные притягиваются, и с тем большей
силой, чем они интенсивнее. Так как противоречие — это
обостряющая их опасность, оно усиливает их
притягательную силу. Нигде не испытываешь такой потребности
видеть соотечественников, как в чужой стране; никогда
верующий не чувствует такого тяготения к единоверцам,
как во времена преследований. Несомненно, мы в любое
время любим общество тех, кто думает и чувствует, как
мы. Но после споров, где наши общие верования подвер-
101
гались энергичным пападкам, мы их ищем йе только с
удовольствием, но и со страстью. Преступление, стало
быть, сближает и объединяет честные души. Достаточно
посмотреть, что происходит (особенно в маленьком
городке), когда возникает какой-нибудь нравственно
возмутительный скандал. Останавливаются на улицах,
посещают друг друга, сходятся в условленных местах, чтобы
говорить о происшествии и сообща негодовать. Из всех
этих обмениваемых, подобных друг другу впечатлений,
из всех этих выражений гнева выделяется единый гнев,
более пли менее определенный, смотря по
обстоятельствам. Он является гневом всякого, не будучи ничьим в
частности. Это — общественный гнев.
Впрочем, он и сам по себе может быть для чего-то
полезен. Действительно, взбудораженные чувства
получают всю свою силу от того, что они одинаковы для всех;
они энергичны, потому что неоспоримы. Особое уважение
дает им то, что они почитаемы всеми. Но преступление
возможно только тогда, когда это уважепие не вполне
универсально; следовательно, оно предполагает, что эти
чувства не абсолютно коллективны, и затрагивает это
единодушие, источник их авторитета. Поэтому, если бы
затрагиваемые им сознания не соединялись с целью
показать друг другу, что они остаются сходными, что этот
частный случай — аномалия, то они постепенно были бы
поколеблены. Но нужно, чтобы они усиливались,
удостоверяя друг друга, что они постоянно находятся в
согласии; единственное средство для этого — их совместная
реакция. Словом, поскольку затронуто общее сознание,
требуется, чтобы оно же сопротивлялось и,
следовательно, чтобы сопротивление было коллективным.
Остается объяснить, почему оно организуется.
Эту последнюю черту можно объяснить, если
заметить, что организованная кара не противоположна
диффузной, но отличается от нее степенью: реакция в этом
случае более единодушна. Но более высокая
интенсивность и определенность чувств, за которые мстит
собственно наказание, легко объясняют это более полное
единство. Действительно, если отрицаемое состояние сознания
слабо или если оно отрицается слабо, то оно может
вызвать только слабую концентрацию затронутых
сознании; наоборот, если оно сильно, если оскорбление
серьезно, вся затронутая группа сжимается перед лицом
опасности и собирается, так сказать, вокруг себя самой. Люди
не довольствуются более случайным обменом впечатле-
102
ниями, случайным сближением то здесь, то там или
большим удобством встречи. Возросшее мало-помалу
иолнение сильно притягивает друг к другу всех сходных
между собой и соединяет их в одном месте. Это
материальное сжатие агрегата, делая более тесным взаимное
проникновение умов, делает также более легкими все
движения целого. Эмоциональные реакции, ареной
которых является каждое сознание, оказываются, стало быть,
в самых благоприятных для объединения условиях.
Однако, если бы они были слишком разнообразны как по
качеству, так и по количеству, полное слияние было бы
невозможно между этими частично разнородными и
несводимыми элементами. Но мы знаем, что вызывающие
их чувства очень определенны и, следовательно, должны
теряться друг в друге, сливаться в единую
равнодействующую, которая служит их субститутом и которая
приводится в действие не каждым в отдельности, а
сложившимся таким образом социальным организмом.
Многие факты доказывают, что таков был
исторически генезис наказания. Известно в самом деле, что
вначале обязанность суда исполняло народное собрание в
целом. Если даже обратиться к примерам, приведенным
нами выше из Пятикнижия42, то мы увидим, что дело
обстояло именно так. Как только распространилось
известие о преступлении, собирается народ, и, хотя
наказание не определено заранее, реакция бывает
единодушной. В некоторых случаях сам народ коллективно даже
исполнял приговор тотчас после того, как его объявлял 43.
Впоследствии там, где собрание воплотилось в лице
вождя, последний стал вполне илп отчасти органом
уголовно-правового воздействия, и организация развивалась
сообразно законам всякого органического развития.
Итак, именно природа коллективных чувств объясня-
ет iilai^ |{ромо того,
мы вновь видим, что сила воздействия, которой
располагают правительственные функции (как только они
появились), есть лишь эманация той же силы, что находится
в диффузном состоянии в обществе, так как она
происходит из последней. Первая есть только отражение
второй; объем первой изменяется, как и объем второй.
Прибавим, кроме того, что установление этой власти служит
для поддержания самого общего сознания. Последнее
42 См. выше, с. 95, сн. 36.
43 См.: Thonissen. Etudes, II, p. 30, 232. Свидетели преступления
играли иногда главную роль при исполнении наказания.
103
ослабело бы, если бы представляющий его орган не
вносил вклад во внушаемое им уважение и в особый
авторитет, которым оно пользуется. Но вклад этот возможен
только в том случае, если все затрагивающие его
поступки отвергаются и подавляются так же, как и те, которые
затрагивают коллективное сознание, и притом даже
тогда, когца последнее ие задевается этим прямо.
IV
Таким образом, анализ наказания подтвердил наше оп-
^еделёние преступления.,'Жы^сначала индуктивно
установили, что это последнее состоит главным образом в
поступках, противостоящих сильным и определенным
состояниям общего сознания; мы видели, что все черты
наказания действительно проистекают из этой сущности
преступления. Следовательно, санкционируемые общим
сознанием правила выражают наиболее существенные
социальные сходства.
^Теперь ясно, какой вид солидарности символизирует
Е£г^ловноа^£фА»е^-& самом деле, всем известно, что
существует социальная связь, причина которой заключается
в некотором приспособлении всех частных сознаний к
общему типу, который есть не что иное, как психический
тип общества. В этих условиях не только все члены
группы индивидуально притягиваются друг к другу
потому, что они сходны, но они также привязаны к тому,
что составляет условие существования этого
коллективного типа, т. е. к обществу, образуемому их
объединением. Граждане не только любят друг друга и
предпочитают друг друга иностранцам, но они любят свое
отечество. Они любят его, как самих себя, заботясь о том,
чтобы оно жило долго и процветало, потому что без него
функционирование значительной части их психической
жизни было бы затруднено. И наоборот, обществу
важно, чтобы все они представляли эти основные сходства,
потому что это условие его единства. В нас есть два
сознания: одно содержит только состояния, свойственные
лично каждому из нас и отличающие нас, тогда как
состояния, охватываемые вторым,— общи для всей
группы 44. Первое представляет и формирует только нашу
индивидуальную личность; второе представляет коллек-
44 Для упрощения изложения мы допускаем, что индивид
принадлежит только к одному обществу. В действительности мы
участвуем во многих группах, и в нас есть множество коллективных
сознаний, но это усложнение ничего не изменяет в той связи,
которую мы прослеживаем.
104
тивный тип й, еледовательйо, общество, без которого он
не существовал бы. Когда наше поведение определяется
каким-то элементом последнего, мы действуем не из
нашего личного интереса, а преследуем коллективные цели.
Но эти два сознания, хотя и различны, связаны между
собой, так как в итоге составляют одно целое; оба они
имеют один и тот же органический субстрат. Они, стало
быть, солидарны. Отсюда следует солидарность sui
generis, которая, возникнув из сходств, прямо связывает
индивида с обществом. В следующей главе мы сможем
лучше показать, почему мы предлагаем назвать ее
механической. Эта солидарность состоит не только в общей и
неопределенной связи индивида с группой; она
гармонизирует и их отдельные движения. В самом деле, так как
коллективные двигатели повсюду одни и те же, они
производят повсюду одинаковые следствия. Следовательно,
всякий раз, как они начинают действовать, отдельные
воли самопроизвольно и совместно двигаются в одном и
том же направлении.
Именно эту солидарность выражает уголовное право,
по крайней мере в том, что в ней есть жизненного.
Действительно, действия, которые оно запрещает и
квалифицирует как преступления, бывают двух родов: они либо
прямо обнаруживают слишком сильное расхождение
между совершающим их и коллективным типом, либо
затрагивают орган общего сознания. Как в первом, так и во
втором случае задетая и карающая преступление сила
одна и та же. Она — продукт наиболее существенных
социальных сходств, и ее следствием является
поддержание социальной связи, проистекающей из этих сходств.
Именно эту силу охраняет уголовное право от всякого
ослабления, одновременно требуя от каждого из нас
некоторого минимума сходств, без которых индивид
представлял бы угрозу для единства социального тела, и
заставляя нас уважать символ, выражающий, обобщающий
и гарантирующий эти сходства.
Таким образом объясняется то^ что некоторые
поступки так часто считалйоЕГ преступлениями и наказывались
к^^тЩЩ^уще\бур^^. ,сам? ™..'£§$& JIESSB™™ Д^я
общества. В самом деле, коллективный тип, как ТГ
индивидуальный^ сформировался под влиянием весьма
различных и даже случайных причин. Будучи продуктом
исторического развития, он несет на себе печать
обстоятельств всякого рода, которые общество проходило в
своем развитии. Было бы поэтому чудом, если бы все, что
105
и нем находится, было приноровлено к какой-нибудь
полезной цели; невозможно, чтобы туда не внедрились
более или менее многочисленные элементы, не имеющие
никакого отношения к социальной пользе. Среди
наклонностей, стремлений, которые индивид получил от своих
предков или приобрел сам, многие, несомненно, не
служат ничему или стоят больше того, что дают.
Невозможно, конечно, чтобы большинство из них было вредно, так
как организм в таких условиях не мог бы существовать.
Но среди них есть такие, которые сохраняются, не
будучи полезными, и даже те, польза которых наиболее
неоспорима, часто обладают интенсивностью, далеко не
пропорциональной их полезности, так как она отчасти
возникает в них от других причин. Так же обстоит дело
и с коллективными страстями. Не все задевающие их
поступки опасны сами по себе или, по крайней мере,
они опасны не настолько, насколько осуждаются.
Однако осуждение, объектом которого они являются, не
лишено основания, ибо, каково бы ни было происхождение
этих чувств, если они составляют часть коллективного
типа и особенно его существенную часть, то все, что
способствует их разрушению, разрушает вместе с тем
общественную связь и подвергает опасности общество.
Возникновение этих чувств отнюдь не было полезно, но раз
они долго существуют, то становится необходимым,
чтобы они продолжали существовать, несмотря на свою
иррациональность. Вот почему вообще хорошо, чтобы
поступки, затрагивающие их, не были терпимы.
Несомненно, рассуждая отвлеченно, можно отлично доказать, что
обществу нет никакого основания запрещать
употребление какой-нибудь пищи, безобидной самой по себе.
Но раз отвращение к этой пище стало интегрирующей
частью общего сознания, оно не может исчезнуть, не
ослабив общественной связи, и именно это смутно
чувствуют здоровые сознания 45.
То же самое и с наказанием. Хотя оно происходит от
чисто механической реакции, от внушенных страстью и
45 Это не значит, что надо во что бы то ни стало сохранять
уголовное правило только потому, что в известный момент оно
соответствовало какому-нибудь коллективному чувству. Оно имеет
основание только тогда, когда последнее живо и энергично. Если
же оно исчезло или ослабело, тщетно и даже вредно пытаться
удерживать его насильственно и искусственно. Случается даже,
что приходится бороться с обычаем, который был некогда общим,
но который более не таков и противится установлению новых и
необходимых обычаев. Но мы не можем заниматься этим
казуистическим вопросом.
106
в большой мере необдуманных движений, тем не менее
оно играет полезную роль. Только роль эта не в том,
в чем ее обыкновенно видят. Оно не служит — или
служит только второстепенным образом — исправлению
виновного или устрашению его возможных подражателей;
с обеих точек зрения польза его по справедливости
сомнительна и, во всяком случае, незначительна. Его
истинная функция — сохранить целостность общественной
связи, поддерживая всю ее жизненность в общем
сознании. Последнее, будучи отрицаемо так категорически,
потеряло бы часть своей энергии, если бы эмоциональная
реакция группы не компенсировала этой потери, а
отсюда вытекало бы ослабление социальной солидарности.
Необходимо, значит, чтобы оно во всю мощь утверждало
себя в тот момент, когда оно испытывает
противодействие, а единственное средство утвердить себя — это
выразить единодушное отвращение, вызываемое
преступлением, при помощи подлинного действия, которое может
состоять только в страдании, причиняемом виновному.
Таким образом, это страдание, будучи необходимым
продуктом порождающих его причин, не есть бесцельная
жестокость. Это знак, свидетельствующий, что
коллективные чувства все еще коллективны, что единение умов в
одной и той же вере сохраняется — и таким образом оно
возмещает зло, нанесенное преступлением обществу. Вот
почему есть основание утверждать, что преступник
должен страдать пропорционально своему преступлению;
вот почему теории, отрицающие искупительный характер
наказания, кажутся многим умам разрушающими
общественный порядок. Дело в том, что эти теории могли бы
применяться только в обществе, где всякое коллективное
сознание было бы почти уничтожено. Без этого
необходимого удовлетворения не могло бы быть сохрапепо то, что
называется нравственным сознанием. Можно поэтому без
всякой парадоксальности утверждать, что главное
назначение наказания — воздействовать на добропорядочных
людей; так как оно способствует залечиванию ран,
нанесенных коллективным чувствам, то оно может
исполнять свою роль только там, где эти чувства существуют,
и в той мере, в какой они живы. Несомненно,
предупреждая в умах, уже потрясенных, новое ослабление
коллективной души, оно может помешать умножению
преступлений, но этот результат, полезный сам по себе, только
частное следствие. Словом, чтобы составить себе точное
представление о наказании, должно примирить обе про-
107
тивоположные теории: ту, которая в наказании видит
искупление, и другую, делающую из него орудие
социальной самозащиты. Оно действительно имеет функцией
защищать общество, но это потому, что оно
искупительно; а с друтой стороны, если оно должно быть
искупительным, то не потому, что страдание в силу какого-то
мистического свойства выкупает вину, но потому, что
только при этом условии оно может произвести свое
социально полезное действие 46.
Из этой главы следует, что существует социальная
солидарность, происходящая от того, что известное число
состояний сознания является общим для всех членов
одного и того же общества. Именно она материально
выражается в уголовном праве, по крайней мере в наиболее
существенных ее чертах. Доля ее в общей интеграции
общества зависит, очевидно, от объема социальной
жизни, который охватывает и регламентирует общее
сознание. Чем больше существует разнообразных отношений,
где последнее дает себя знать, тем больше создает оно
уз, связывающих индивида с группой, тем полнее,
следовательно, осуществляется общественная связь от этой
причины и несет на себе ее след. Но, с другой стороны,
число этих отношений само по себе пропорционально
числу карательных правил; определяя, какую часть
юридического аппарата представляет уголовное право, мы
тем самым измерим относительное значение этой
солидарности. Правда, поступая таким образом, мы не
примем в расчет некоторых элементов коллективного
сознания, которые по причине своей меньшей энергии или
неопределенности остаются чуждыми уголовному праву,
содействуя тем не менее утверждению социальной
гармонии. Это те элементы, которые защищаются просто
диффузными наказаниями. Но то же самое относится и
к другим частям права. Нет таких правовых норм,
которые не дополнялись бы нравами, а поскольку есть
основание предположить, что отношение между правом и
нравами одинаково в этих различных сферах, то это
исключение не грозит исказить результаты нашего
сравнения.
46 Говоря, что наказание в том виде, в каком оно существует,
имеет свое основание, мы не считаем, что оно совершенно и не
может быть улучшено. Наоборот, очевидно, что, будучи большей
частью продуктом чисто механических причин, оно может только
весьма несовершенным образом приспособиться к своей роли. Речь
идет только о его общем обосновании.
108
Глава III
^СОЛИДАРНОСТЬ^
В^1аМШАаРАЗДЕЛЕНИЕМ ТРУДА,
ИЛИ ОРГАНИЧЕСКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ
I
пока^тв^т^^ч^^срцияльнд^ солидарностьКРтпррй
соответствует это право, совсем_ддугого рода.
^Tfta санкция отличается тем, чтд ц$ имйаТ ис^уттитйлк-
нбго характера: она сводится к и^остощ^ве<:стакаййПЦЦГ%
порядка вещей. В этом случае тому, кто нарушил закоп
или не знал его, не причиняется страдания, он просто
приговаривается к подчинению ему. Если имеют место
уже совершившиеся факты, то судья приводит их к
нормальному состоянию. Он утверждает право, но не
наказание. Возмещение убытков не имеет карательного
характера. Это просто средство вернуться к прошлому для
восстановления его, насколько это возможно, в его
нормальном виде. Тард, правда, рассчитывал найти нечто
вроде гражданских карательных мер в присуждении к
издержкам, которые всегда возлагаются на проигравшую
сторону *. Но выражение, используемое в этом смысле,
имеет только метафорическое зпачение. Для того чтобы
имела место кара, необходимо, по крайней мере,
существование какого-нибудь пропорционального соотношения
между наказанием и преступлением, а для этого нужно,
чтобы степень серьезности последнего была
основательно установлена. Но в действительности проигравший дело
платит издержки даже тогда, когда его намерения были
чисты, когда он был виновен только в неведении.
Основания этого правила, стало быть, совсем другие: раз
правосудие не производится даром, то справедливо,
чтобы издержки падали на того, кто вызвал отправление
его. Возможно, впрочем, что перспектива этих издержек
останавливает безрассудного сутягу, но этого
недостаточно, чтобы видеть в них наказание. Боязнь банкротства,
обыкновенно следующего за ленью иди нерадивостью,
1 Tarde. Criminalité comparée. P.; F. Alcan, p. 113.
109
может сделать негоцианта деятельным и прилежным,
но все-таки банкротство не есть собственно уголовная
сапкция за его промахи.
Нарушение этих правил не карается даже
диффузным наказанием. Истцу, проигравшему процесс, не
грозит позор, его честь не пятнается. Мы даже можем
вообразить себе эти правила не такими, каковы они суть,
и это нас не возмущает. Мысль, что убийство может
быть терпимо, нас возмущает, но мы весьма легко
допускаем, чтобы было изменено право наследования, и
многие даже считают, что оно может быть уничтожено.
По крайней мере, это вопрос, который мы не
отказываемся обсуждать. Точно так же мы без труда допускаем,
чтобы право сервитутов или право пользования были
организованы иначе, чтобы обязанности продавца и
покупателя были определены иным образом, чтобы
административные функции распределялись на основании
других принципов. Поскольку эти предписания не
соответствуют в нас никакому чувству и мы вообще не знаем
их научных оснований (ибо эта наука еще не создана),
они у большинства из нас не пустили корней.
Несомненно, имеются исключения. Мы не выносим мысли, чтобы
обязательство, противное нравам или полученное силой,
хитростью, могло связывать заключивших его. Поэтому,
когда общественное мнение сталкивается со случаем
подобного рода, оно оказывается менее индифферентным и
усиливает своим порицанием правовую санкцию. Дело в
том, что различные области моральной жизни резко не
отделены друг от друга. Наоборот, они непрерывны,
и следовательно, между ними есть пограничные области,
в которых встречаются одновременно различные черты.
Тем не менее предыдущее утверждение остается верным
в громадном большинстве случаев. Это доказывает, что
правила с реститутивной санкцией или совсем не
составляют часть коллективного сознания, или же
представляют собой только слабые его состояния. Репрессивное
право соответствует тому, что составляет сердце, центр
общего сознания, чисто моральные правила составляют уже
менее центральную часть его; наконец, реститутивное
право берет начало в периферических областях и
простирается далеко за ними. Чем более оно становится
самим собой, тем более оно удаляется от центра.
Эта черта, впрочем, ясно видна в способе его
функционирования. В то время как репрессивное право стремит-
110
ся остаться рассеянным в обществе, реститутивное
создает себе все более и более специализированные органы:
консульские суды, советы экспертов, всяческие
административные палаты. Даже в своей наиболее общей части,
а именно в гражданском праве, оно функционирует
только с помощью особых чиновников: судей, адвокатов
и т. д., которые способны к исполнению этой роли
благодаря сугубо специальному образованию.
Но, хотя эти правила в той или иной мере находятся
вне коллективного сознания, они интересуют не только
частных лиц. Если бы это было так, то реститутивное
право не имело бы ничего общего с социальной
солидарностью, так как регулируемые им правила связывали бы
индивидов между собой, не связывая их с обществом.
Это были бы факты частной жизни, каковы, например,
отношения дружбы. Но общество отнюдь не отсутствует
в этой сфере юридической жизни. Правда, обычно оно не
вторгается туда по собственному почину; необходимо,
чтобы это вторжение было вызвано заинтересованными
лицами. Но, несмотря на это, вмешательство общества —
важная часть механизма, так как только оно заставляет
его функционировать. Именно общество утверждает
право в лице своих представителей.
Утверждали, однако, что в этой роли нет ничего
собственно социального, что она сводится только к роли
примирителя частных интересов, что, следовательно, всякое
частное лицо могло бы исполнять ее и что если общество
• взяло ее на себя, то единственно в целях удобства. Но в
высшей степени неверно делать из общества какого-то
третейского судью. Когда оно вмешивается, то не для
того, чтобы привести в согласие индивидуальные
интересы. Оно не ищет, какдм может быть самое выгодное для
сторон решение, и не предлагает им компромиссов, зато
оно применяет к данному частному случаю общие
традиционные предписания права. Но право — явление
прежде всего социальное и имеющее совсем другой объект,
нежели интерес тяжущихся. Судья, рассматривающий
просьбу о разводе, озабочен не тем, чтобы выяснить,
желателен ли в самом деле для супругов этот разрыв, а тем,
входят ли указываемые ими причины в одну из предви-
депных законом категорий.
Однако, чтобы оценить как следует значение
социального действия, надо его наблюдать не только в момент,
когда применяется санкция, когда восстанавливается на-
111
рушенное отношение, но также тогда, когда оно
устанавливается.
Социальное действие необходимо для того, чтобы как
основать, так и изменить многие юридические отношения,
которыми управляет это право и которые не в состоянии
ни создать, ни изменить согласие заинтересованных лиц.
Таковы, в частности, те отношения, которые касаются
состояния личностей. Хотя брак — это договор, но супруги
не могут ни образовать, ни уничтожить его по
собственной воле. То же самое относится ко всем другим
семейным отношениям, и тем более к тем, которые
регламентируются административным правом. Правда, собственно
договорные обязательства могут заключаться и
разрешаться на основании одного согласия сторон. Но не
следует забывать, что если контракт имеет силу связывать,
то ему ее сообщает общество. Допустите, что оно не
санкционирует договорных обязательств, и тогда эти
последние станут простыми обещаниями, которые имеют уже
только моральный авторитет2. Значит, всякий контракт
предполагает, что за вступающими в сделку сторонами
стоит общество, готовое вмешаться, чтобы заставить
уважать заключенные обязательства. Поэтому эту
обязательную силу оно придает только контрактам, которые сами
по себе имеют социальное значение, т. е. согласуются с
предписаниями права. Мы увидим, что иногда его
вмешательство еще более очевидно. Оно присутствует во
всех отношениях, которые определяет реститутивное
право, даже в тех, которые кажутся совершенно
частными; и его присутствие, хотя и не ощущается, по
крайней мере в нормальном состоянии, тем не менее
существенно 3.
Поскольку правила с реститутивной санкцией чужды
общему сознанию, определяемые ими отношения не из
тех, которые затрагивают всех одинаково. Это значит, что
они устанавливаются непосредственно не между
индивидом и обществом, но между ограниченными и особыми
частями общества, которые они связывают между собой.
Но, с другой стороны, поскольку общество не отсутствует
4.^
3 Да и этот моральный авторитет исходит из нравов, т. е. из
общества.
3 Мы должны ограничиться здесь общими соображениями,
относящимися ко всем формам реститутивного права. Далее можно
будет найти (см. гл. VII) многочисленные доказательства этой
истины для той части реститутивного права, которая соответствует
солидарности, производимой разделением труда.
112
тут, то неоЬходимо, чтобы оно было в этом более или
менее заинтересовано, чтобы оно чувствовало последствия
этого. Тогда сообразно с силой, с которой оно их
чувствует, оно вмешивается более или менее глубоко и
активно через посредство специальных органов,
уполномоченных представлять его. Следовательно, эти отношения
весьма отличны от тех, которые регламентируются
репрессивным правом, так как последние связывают прямо
и без посредников единичное сознание с коллективным,
т. е. индивида с обществом.
Но эти отношения могут принять две весьма
различные формы: либо они отрицательны и сводятся к
простому воздержанию, либо они носят положительный
характер, характер кооперации. Двум классам правил,
определяющим те и другие, соответствуют два вида социальной
солидарности, которые необходимо различать.
II
Типично отрицательным отношением является
отношение, связывающее вещь с личностью.
Вещи, точно так же как и личности, составляют часть
общества и играют в нем особую роль; необходимо
поэтому, чтобы их отношения с социальным организмом
были определены. Можно сказать, что существует
солидарность вещей, природа которой достаточно специфична,
чтобы выражаться вовне юридическими следствиями
особого характера.
В самом деле, юристы различают два вида прав; одни
они называют вещными, другие — обязательственными.
Право собственности, ипотека принадлежат к первому
виду; долговое право — ко второму. Вещные права
характеризуются тем, что только они порождают права
старшинства и наследования. В этом случае мое право на
вещь исключает всякое другое, установившееся после
моего. Если, например, какое-нибудь имущество было
последовательно заложено двум кредиторам, то вторая
ипотека ни в чем не может ограничить прав первой. С
другой стороны, если мой должник отчуждает вещь, на
которую я имею право ипотеки, то последнее этим ни в
чем не затронуто; но третий владелец, в пользу кого
совершилось отчуждение, обязан или выплатить мне, или
потерять то, что приобрел. Для этого же необходимо,
чтобы правовая связь соединяла прямо и без чьего-либо
посредничества эту определенную вещь с моей
юридической личностью. Это привилегированное положение яв-
113
ляется, стало быть, следствием солидарности,
свойственной вещам. Наоборот, когда речь идет об
обязательственном праве, лицо, которое должно мне, может,
заключивши новые обязательства, создать мне сокредиторов, права
которых равны моему, и хотя я имею залогом все
имущество моего должника, если он его отчуждает, оно,
выходя из его вотчины, выходит из моего залога. Основание
такого положения состоит в том, что специальное
отношение существует не между этим имуществом и мной,
но только между личностью их владельца и моей
собственной 4.
Ясно, в чем состоит эта вещная солидарность: она
прямо связывает вещи с личностями, но не личности
между собой. Строго говоря, можно обладать вещным
правом, считая себя одним на свете и игнорируя других
людей. Поскольку только через посредство личностей
вещи включаются в общество, то происходящая от этого
включения солидарность — чисто отрицательная.
Вследствие этой солидарности воли не движутся к
определенным целям, но только вещи упорядоченно движутся
вокруг воль. Вещные права, будучи ограничены таким
образом, не вступают в конфликты; враждебные отношения
упреждены, но нет активного сотрудничества, консенсуса.
Представьте себе такое согласие совершенным настолько,
насколько возможно. Общество, где оно господствует,—
если господствует только оно,— будет походить на
громадное созвездие, в котором каждая звезда движется по
своей орбите, не нарушая движения соседних звезд.
Такая солидарность, стало быть, не делает из сближаемых
ею элементов целого, способного действовать
единообразно; она ни в чем не содействует единству социального
тела.
По предыдущему изложению легко определить,
какова та часть реститутивного права, которой соответствует
эта солидарность: это совокупность вещных прав. Но из
самого его определения вытекает, что право
собственности — наиболее совершенный их тип. Действительно,
наиболее полное отношение, которое может существовать
между вещью и личностью,— то, которое ставит первую
в безусловную зависимость от второй. Только отношение
4 Иногда утверждают, что качества отца, сына и т. д.- объекты
вещных прав (см.: Ortolan. Instituts, I, p. 660). Но эти качества
суть только абстрактные символы различных прав, частично
вещных (например, право отца на имущество своих малолетних
детей), частично обязательственных.
114
;)то само по себе очень сложно, и разнообразные
элементы, из которых оно образовано, могут стать объектом
многочисленных вещных вторичных прав, таких, как
узуфрукт 31*, сервитуты32*, пользование и жилище. В
результате можно сказать, что вещные права охватывают
право собственности во всех его различных формах
(собственность литературная, на произведения искусства,
промышленная, движимая, недвижимая) и
разновидностях^ как их регламентирует вторая книга нашего
гражданского кодекса. Помимо этой книги наше право
признает еще четыре других вещных права, являющихся
только вспомогательными и случайными субститутами
обязательственных прав: это залог, антихреза33*,
привилегия и ипотека34* (ст. 2071—2203). Сюда же следует
присоединить все, что касается наследственного права,
права завещания и, следовательно, безвестного отсутствия,
так как оно создает, когда объявлено, своего рода
временное наследование. Действительно, наследство — это вещь
или совокупность вещей, на которые наследники имеют
вещное право, независимо от того, будет ли последнее
приобретено ipso facto35* со смертью собственника или
же открывается только вследствие судебного акта, как
это случается с непрямыми наследниками и с
участниками завещания на определенную часть имущества. Во всех
этих случаях юридическое отношение прямо установлено
не между личностью и личностью, но между личностью
и вещью. То же самое с дарением по завещанию,
представляющим только распоряжение вещным правом
собственника на его имущество или, по крайней мере, на ту
часть его, которая находится в свободном распоряжении.
Но существуют отношения между личностями,
которые, хотя и не носят вещного характера, тем не менее
так же отрицательны, как предыдущие, и выражают
солидарность того же рода.
Во-первых, это те, которые порождает пользование
собственно вещными правами. Функционирование
последних неизбежно ставит иногда лицом к лицу их
обладателей. Например, когда одна вещь присоединяется к
другой, то собственник той, которая считается главной,
становится тотчас же собственником другой; только «он
должен заплатить другому стоимость вещи, которая была
присоединена» (ст. 566). Это обязательство, очевидно,
личное. Точно так же каждый собственник общей стены,
который хочет сделать ее выше, обязан уплатить
совладельцу вознаграждение (ст. 658). Участник в завещании,
115
наследующий определенную часть имущества, обязан
обратиться к наследнику всего имущества, чтобы добить·*!
выдачи завещанной вещи, хотя он имеет право на нее
сразу после смерти завещателя (ст. 1014). Но
солидарность, выражаемая этими отношениями, не отличается от
той, о которой мы сейчас говорили; действительно, они
устанавливаются только для того, чтобы возместить или
предупредить нарушение. Если бы обладатель каждого
аещного права мог постоянно пользоваться им, не
переходя никогда границы его, то, поскольку каждое право
оставалось бы в своих границах, не было бы места для
юридического отношения. Но на деле права эти
беспрестанно так перепутываются, что нельзя пользоваться
одним каким-нибудь, не наступая на другие,
ограничивающие его. То вещь, на которую я имею право, находится
в чужих руках: это случается для завещанного имения.
То я не могу пользоваться своим правом, не вредя праву
другого; так бывает с некоторыми сервитутами. Значит,
необходимы отношения, чтобы возместить ущерб, если
он нанесен, или чтобы воспрепятствовать ему; но они не
имеют ничего положительного. Они не заставляют
сотрудничать лиц, которых соединяют; они не влекут за
собой никакой кооперации; они просто восстанавливают
или поддерживают в новых условиях эту отрицательную
солидарность, функционирование которой нарушили
обстоятельства. Они не только не объединяют, но
стремятся только к тому, чтобы лучше отделить то, что
соединилось силою обстоятельств, чтобы восстановить
границы, которые были нарушены, и поместить каждого в его
собственные границы. Они настолько тождественны
отношениям вещи с личностью, что составители Кодекса
не уделили им особого места, но рассматривали их
вместе с вещными правами.
Наконец, обязанности, вытекающие из преступления
и неумышленного правонарушения, имеют точно тот же
характер5. Действительно, они принуждают всякого
возместить ущерб, который он причинил своим
преступлением законным интересам другого. Они, стало быть, носят
личный характер. Но солидарность, которой они служат,
очевидно, совершенно отрицательна, так как они состоят
не в том, чтобы помогать, а в том, чтоб не вредить. Связь,
за нарушение которой они определяют санкции, сугубо
5 Ст. 1382-1386 Гражданского кодекса. Сюда можно был· бы
присоединить статьи о повторении недозволенного.
116
внешняя. Вся разница между этими отношениями и
предыдущими состоит в тем, что в одном случае нарушение
происходит от преступления, а в другом — от
обстоятельств, определяемых и предвидимых законом. Но
нарушенный порядок тот же самый; он происходит не от
сотрудничества, но только от воздержания. Кроме того,
права, нарушение которых порождает эти обязанности,
сами по себе вещны, ибо я собственник своего тела,
здоровья, чести, репутации, точно так же как и подчиненных
мне материальных вещейв.
Резюмируя, можно сказать, что правила, касающиеся
вещных прав и личных отношений, устанавливающихся
по их поводу, образуют определенную систему,
имеющую функцией не связывать между собой различные
части общества, но, наоборот, разделять их, четко
обозначать разделяющие их границы, Они, стало быть, не
соответствуют какой-нибудь положительной социальной
связи; даже выражение «отрицательная солидарность»,
которым мы воспользовались, не вполне точно. Это не
настоящая солидарность, имеющая собственное
существование и особую природу, но, скорее, отрицательная
сторона всякого вида солидарности. Первое условие
связности какого-нибудь целого состоит в том, чтобы
составляющие его части не сталкивались в рассогласованных
движениях. Но это внешнее согласие не создает его
связи; наоборот, оно ее предполагает. Отрицательная
солидарность возможна только там, где существует другая,
положительной природы, по отношению к которой она
составляет следствие и вместе с тем условие.
Действительно, права индивидов на самих себя и на
вещи могут быть определены только благодаря
компромиссам и взаимным уступкам; все, что предоставляется
одним, необходимо оставляется другими. Утверждали
иногда, что можно было бы вывести нормальный объем
развития индивида или из понятия человеческой
личности (Кант), или из понятия индивидуального организма
(Спенсер). Это возможно, хотя точность этих
рассуждений весьма спорна. Во всяком случае, верно то, что в
исторической действительности моральный порядок был
основан не на этих отвлеченных соображениях. Для того
8 Участник договора, не исполнивший своих обязательств,
тоже должен вознаградить другую сторону. Но в этом случае
возмещение убытков служит санкцией положительной связи.
Нарушитель договора платит не за то, что он нанес вред, но за то, что не
исполнил обещанного.
117
чтобы человек признал права другого не только в
логике, но и в практике жизни, нужно было, чтобы он
согласился ограничить свои права, и следовательно, это
взаимное ограничение могло быть сделано только в духе
взаимопонимания и согласия. Но если предположить
множество индивидов без предварительных связей между
ними, то что подвигнет их на эти взаимные жертвы?
Потребность жить в мире? Но мир сам по себе вещь не
более желательная, чем война. Последняя имеет свои
прелести и преимущества. Разве не было народов, разве
не находятся во все времена индивиды, у которых она
является страстью? Инстинкты, которым она отвечает,
не слабее тех, которые удовлетворяются миром.
Несомненно, усталость может на время положить конец
вражде, но это простое перемирие не может быть
продолжительнее временной усталости, вызывающей его. То же
самое — и с большим основанием — применимо к
развязкам, вызванным одним триумфом силы; они так же
временны и непрочны, как и договоры, которыми
оканчиваются войны. Люди нуждаются в мире лишь
постольку, поскольку они уже соединены какой-нибудь
общественной связью. В этом случае действительно чувства,
влекущие их друг к другу, вполне естественно умеряют
порывы эгоизма, а с другой стороны, окружающее их
общество, которое в состоянии жить только при условии,
что каждую минуту его не сотрясают конфликты, давит
па индивидов всей своей тяжестью, чтобы заставить их
сделать необходимые уступки. Правда, мы видим
иногда, как независимые общества вступают в соглашение
для определения объема своих относительных прав на
вещи, т. е. на территории. Но именно крайняя
неустойчивость этих отношений — лучшее доказательство того,
что отрицательной солидарности не может быть
достаточно для нее самой. Если теперь среди культурных
народов она, по-видимому, имеет более силы, если часть
международного права, регулирующая то, что можно
было бы назвать вещными правами европейских обществ,
имеет, вероятно, больше авторитета, чем прежде, то
потому, что различные нации Европы также гораздо
более зависимы друг от друга, потому что в
определенных отношениях все они составляют часть одного и того
же общества, еще не сплоченного, правда, но все более и
более осознающего себя. То, что называют европейским
равновесием,— начало организации этого общества.
Принято тщательно отличать справедливость от мило-
118
сердия, т. е. простое уважение чужих прав от любого
поступка, превосходящего эту чисто отрицательную
добродетель. В этих двух видах поведения видят как бы
два независимых слоя нравственности: справедливость
сама по себе образует основные ее слои, милосердие —
ее венец. Различение это столь радикально, что, согласно
утверждению приверженцев известной системы
нравственности, только справедливость необходима для
хорошего функционирования социальной жизни;
самоотверженность же лишь частная добродетель, следовать которой
хорошо для частного лица, но без которой общество
может отлично обойтись. Многие даже не без беспокойства
смотрят на ее вмешательство в общественную жизнь. Из
предыдущего видно, насколько плохо эта концепция
согласуется с фактами. В действительности, для того
чтобы люди признали и гарантировали взаимно свои права,
необходимо сначала, чтобы они любили друг друга,
чтобы они почему-нибудь были связаны друг с другом и с
одним и тем же обществом, часть которого они
составляют. Справедливость полна милосердия, или, употребляя
наши выражения, отрицательная солидарность — только
эманация другой, положительной, это отражение в
сфере вещных прав социальных чувств, проистекающих из
другого источника. Она, стало быть, не имеет ничего
специфического, но есть необходимый спутник всякого вида
солидарности. Она обязательно встречается повсюду, где
люди живут общей жизнью, независимо от того,
вызвана ли последняя разделением труда или же влечением
подобного к подобному.
III
Если из реститутивного права изъять те правила, о
которых только что шла речь, то остаток образует не менее
определенную систему, охватывающую права семейное,
договорное, коммерческое, процессуальное,
административное и конституционное. Регулируемые ими отношения
совсем другой природы, чем предыдущие. Они выражают
положительное сотрудничество, кооперацию,
происходящую главным образом от разделения труда.
Вопросы, решаемые семейным правом, могут быть
сведены к двум следующим типам:
1) Кто исполняет различные семейные функции?
Кто муж, кто отец, кто законный ребенок, кто опекун
и т. д.?
119
2) Каков нормальный тип этих функций и их
отношений?
На первый из этих вопросов отвечают правила,
определяющие качества и условия, требуемые для
заключения брака, необходимые формальности для того, чтобы
брак был действительным, условия законного,
естественного, приемного родства, способ избрания опекуна
и т. д.
Второй вопрос решают статьи об относительных
правах и обязанностях супругов, об их отношениях в случае
развода, о недействительности брака, о прекращении
сожительства и разделе имущества, об отцовской власти,
о последствиях усыновления, об управлении опекуна и
его отношениях с опекаемым, о роли семейного совета
относительно первого и второго, о роли родителей в
случае лишения прав и опеки.
Таким образом, эта часть гражданского права имеет
своим объектом определение способа, которым
распределяются различные семейные функции, и то, чем они
должны быть в своих взаимоотношениях. Это значит, что
она выражает ту особую солидарность, которая
соединяет между собой членов семьи вследствие разделения
семейного труда. Правда, обыкновенно семью не
рассматривают с этой точки зрения; чаще всего думают, что
связь ее создается исключительно общностью чувств и
верований. Действительно, между членами семейной
группы существует столько общего, что специальный
характер задач, выпадающих па долю каждого из них,
легко ускользает от нас. Это и заставило О. Конта сказать,
что семейный союз исключает «всякую мысль о прямой и
непрерывной кооперации для достижения какой-нибудь
цели» 7. Но юридическая организация семьи, о
существенных чертах которой мы вкратце напомнили,
доказывает реальность этих функциональных различий и их
важное значение. История семьи с самого начала —
только непрерывный процесс диссоциации, в ходе которого
эти различные функции, сперва нераздельные и
смешанные между собой, мало-помалу разделились,
установились порознь, распределились между различными
родственниками в соответствии с их полом, возрастом,
отношениями зависимости, так что каждый из них стал особым
чиновником семейного сообщества8. Это разделение се-
7 Cours de philosophie positive, IV, p. 419.
8 См. подробнее гл. VII наст. кн.
120
мейного труда — явление не только не побочное и
второстепенное, но, наоборот, господствующее во всем
развитии семьи.
Связь между разделением труда и договорным правом
не менее очевидна.
Действительно, договор есть по преимуществу
юридическое выражение кооперации. Есть, правда, так
называемые договоры благотворительности, где связывается
только одна из сторон. Если я даю другому
какую-нибудь вещь без всяких условий, если я безвозмездно беру
на себя вексель или вклад, то из этого для меня
вытекают точные и определенные обязательства. Однако тут нет
собственно сотрудничества между договаривающимися
сторонами, так как обязанности возлагаются только на
одну сторону. Но кооперация не отсутствует и в этом
явлении, только она носит добровольный и односторонний
характер. Что такое, например, дарение, как не обмен
без взаимных обязательств? Значит, эти виды договоров
суть просто разновидности настоящих кооперативных
договоров.
Впрочем, они очень редки, ибо акты
благотворительности только в исключительных случаях подвергаются
правовой регламентации. Что касается других договоров,
коих громадное большинство, то обязательства, которые
они порождают, соотносятся или со взаимными
обязательствами, или с уже выполненными поставками.
Обязательство одной стороны возникает или из
обязательства другой, или из уже оказанной этой последней
услуги 9. Но такая взаимность возможна только там, где
есть кооперация, а последняя, в свою очередь,
предполагает разделение труда. Кооперировать в
действительности значит делить между собой общее занятие. Если
последнее разделено на занятия качественно подобные,
хотя и необходимые друг для друга, то мы имеем
разделение труда первой степени, или простое. Если они
разной природы, то мы имеем сложное разделение труда
или собственно специализацию.
Именно последнюю форму кооперации и выражает
чаще всего договор. Единственный контракт, имеющий
другое значение,— это договор товарищества и, может
быть, также брачный договор, поскольку он определяет
относительный вклад супругов в хозяйственные расходы.
Кроме того, для этого надо еще, чтобы договор товари-
9 Например, в случае ссуды под проценты.
121
щества поставил всех сотоварищей на одинаковый уровень,
чтобы их капиталы были одинаковы, чтобы функции их
были те же, а именно такой случай никогда не
встречается в матримониальных отношениях вследствие
разделения супружеского труда. С этими редкими видами
следует сравнить множество договоров, имеющих целью
приспособить друг к другу специальные и различные
функции: договоры между покупателем и продавцом,
договоры обмена, договоры между предпринимателями и
рабочими, между нанимателем и отдающим внаем, между
ссужающими и занимающими, между хранителем и
отдающим на хранение, между хозяином гостиницы и
путешественником, между доверителем и поверенным, между
кредитором и поручителем должника и т. д. Вообще
договор — символ обмена; поэтому Спенсер мог не без
основания квалифицировать как физиологический договор
обмен веществ, постоянно происходящий между
различными органами живого тела 10. Но очевидно, что обмен
всегда предполагает какое-нибудь более или менее
развитое разделение труда. Правда, приведенные нами
договоры имеют еще несколько общий характер. Но не
следует забывать, что право обнаруживает только общие
контуры, крупные черты социальных отношений, те
именно, которые одинаково присутствуют в различных
сферах коллективной жизни. Поэтому каждый из
указанных типов договора предполагает множество других,
более частных, общей печатью которых он является и
которые он регламентирует разом, но в которых
отношения устанавливаются между более специальными
функциями. Итак, несмотря на относительную простоту, этой
схемы достаточно, чтобы продемонстрировать
необычайную сложность резюмируемых ею фактов.
Эта специализация функций еще яснее видна в
Торговом кодексе, регламентирующем договоры, касающиеся
торговли: договоры между доверителем и комиссионером,
между экспедитором и извозчиком, между предъявителем
векселя и векселедателем, между собственником
корабля, капитаном и экипажем, между отдающим внаем
корабль и нанимающим его фрахтовщиком, между
страхователем и застрахованным. Но и здесь еще есть большое
расхождение между относительной общностью
юридических предписаний и разнообразием частных функций,
отношения которых они регулируют, как это доказывает
важное место, отводимое в торговом праве обычаю.
10 Bases de la morale évolutionniste, p. 124.
122
Когда Торговый кодекс пе регламентирует собственно
договоров, он определяет то, чем должны быть некоторые
специальные функции (например, функции биржевого
или страхового маклера, капитана, судебного
исполнителя в случае банкротства), необходимые для обеспечения
солидарности всех частей торгового аппарата.
Процессуальное право — и уголовное, и гражданское,
и торговое — играет ту же роль в судебном аппарате.
Санкции различных юридических правил могут быть
применены только благодаря сотрудничеству некоторых
функций: функций судей, защитников, стряпчих,
присяжных, истцов, ответчиков и т. д. Процессуальное
право устанавливает способы их деятельности и
взаимоотношений. Оно говорит, чем они должны быть и какова доля
каждой в существовании органа в целом.
Нам кажется, что в обоснованной классификации
юридических правил процессуальное право должно
рассматриваться как разновидность административного:
непонятно, какое существенное различие отделяет администрацию
правосудия от остальной администрации. Во всяком
случае, собственно административное право
регламентирует не выделенные четко функции, называемые
административнымии, точно так же как
процессуальное делает это для судебных функций. Оно определяет их
нормальный тип и их отношения как между собой, так и
с диффузными функциями общества. Надо было бы
только вычесть из него некоторое число правил, обычно
помещаемых под этой рубрикой, хотя и не уголовного
характера 12. Наконец, конституционное право
осуществляет то же самое в отношении правительственных функций.
Соединение в одном классе
административно-политического права и того, что обыкновенно называют
частным правом, может вызвать удивление. Но прежде всего
это сближение обязательно, если брать за основание
классификации природу санкций, и нам кажется, что в
научном отношении нельзя брать другого основания.
Кроме того, для полного отделения этих двух видов
права надо еще предположить, что существует какое-то
настоящее частное право, а мы думаем, что всякое право
11 Мы сохраняем общепринятое выражение, но оно нуждается
в определении, а мы не в состоянии этого сделать. В общем нам
представляется, что это функции, находящиеся под
непосредственным действием правительственных центров. Но было бы
необходимо указать много различий.
12 А также те, которые касаются вещных прав нравственных
субъектов административного порядка, ибо определяемые ими
отношения отрицательны.
123
публично потому, что всякое право социально. Все
функции общества являются социальными, так же как все
функции организма — органическими. И экономические
функции, подобно другим, имеют тот же характер.
Впрочем, даже среди самых диффузных из них нет таких,
которые бы более или менее не были подчинены
воздействию правительственного аппарата. Итак, с этой точки
зрения между ними существуют различия только в степени.
Резюмируя, можно сказать, что отношения,
регулируемые кооперативным правом с реститутивными
санкциями, и солидарность, выражаемая ими, возникают из
разделения общественного труда. Можно, кроме того,
доказать, что вообще кооперативные отношения не
допускают других санкций. Действительно, специальные
задачи по самой своей природе ускользают от
воздействия коллективного сознания. Ибо, для того чтобы
явление было объектом общих чувств, оно прежде всего
должно быть общим, т. е. присутствовать во всех
сознаниях, так чтобы все могли его представить себе с одной
и той же точки зрения. Несомненно, пока функции имеют
некоторую общность, все могут связывать с ними какое-
нибудь чувство. Но чем больше они специализируются,
тем уже круг лиц, имеющих представление о каждой из
них, тем более, следовательно, выходят они за пределы
общего сознания. Определяющие их правила не могут,
стало быть, иметь той высшей силы, того
трансцендентного авторитета, который, когда он оскорблен, требует
искупления. Конечно, их авторитет, как и авторитет
уголовных правил, исходит также от мнения, но от мнения,
локализованного в ограниченных сферах общества.
Это не все: даже в специальных кругах, в которых
они применяются и где, следовательно, они присутствуют
в сознаниях, они не соответствуют особенно энергичным
чувствам и чаще всего даже никакому виду
эмоционального состояния. Поскольку они определяют способ
сотрудничества разных функций в различных комбинациях
обстоятельств, то объекты, к которым они относятся, не
всегда присутствуют в сознаниях. Не всегда приходится
быть опекуном, попечителем13 или пользоваться
правами кредитора, покупателя и т. д., или — особенно —
пользоваться ими при таких-то и таких-то условиях. Но
состояния сознания сильны только в той мере, в какой они
постоянны. Нарушение этих прав не задевает за живое
13 Вот почему право, регулирующее отношения семейных
функций, не уголовное, хотя :>ти функции достаточно общие.
124
йй Души всего общества, йй Даже — по крайней мере в
целом — души этих специальных групп, а следовательно,
оно может вызвать только весьма умеренпую реакцию.
Требуется только, чтобы функции сотрудничали
регулярно; если же эта регулярность нарушена, достаточно
ее восстановить. Это не значит, конечно, что развитие
разделения труда не может отозваться на уголовном
праве. Существуют, как мы уже знаем,
административные и правительственные функции, некоторые отношения
которых регулируются репрессивным правом по причине
особого характера, которым отмечены орган
коллективного сознания и все, что к нему относится. В других
случаях узы солидарности, связывающие определенные
специальные функции, могут быть такими, что их
нарушение вызывает достаточно общие следствия, чтобы
вызвать уголовное воздействие. Но по выясненной нами
причине эти следствия исключительны.
В конечном счете это право играет в обществе роль,
аналогичную роли нервной системы в организме.
Действительно, последняя имеет задачей регулировать
различные функции тела таким образом, чтобы они гармонично
сотрудничали; *хша выражает состояние концентрации,
до которого дошел организм вследствие разделения
физиологического труда. Поэтому на различных ступенях
животной лестницы можно измерять степень :>той
концентрации по развитию нервной системы. Стало быть,
можно таким же образом измерять степень
концентрации, до которой дошло общество вследствие разделения
общественного труда, по развитию кооперативного права
с реститутивными санкциями. Можно заранее видеть,
какую помощь окажет нам этот критерий.
IV
Поскольку отрицательная солидарность не производит
сама по себе никакой интеграции и, кроме того, в ней
нет ничего специфического, то мы рассмотрим только два
вида положительной солидарности, различающиеся
следующими признаками.
1) Первая связывает индивида с обществом прямо,
без всякого посредника. Во второй он зависит от
общества потому, что зависит от составляющих его частей.
2) Общество в обоих случаях не рассматривается с
одной и той же точки зрения. В первом то, что
называют обществом, есть более или менее организованная
совокупность верований и чувств, общих для всех членов
125
группы: это коллективный тип. Наоборот, общество, с
которым мы солидарны во втором случае, есть система
различных социальных функций, соединенных
определенными отношениями. Эти два общества, впрочем,
составляют одно. Это две стороны одной и той же реальности,
которые тем не менее необходимо различать.
3) Из этого второго различия вытекает еще одно,
которое послужит нам для характеристики и обозначения
двух видов солидарности.
Первая может быть сильна только в той мере, в
какой идеи и стремления, общие для всех членов группы,
превосходят в числе и интенсивности те, которые
принадлежат лично каждому из них. Она тем энергичнее,
чем значительнее этот избыток. Но нашу личность
составляет то, что в нас есть собственного и
характерного, что отличает нас от других. Значит, эта солидарность
возрастает в обратном отношении к индивидуальности.
В каждом из нас, сказали мы, есть два сознания: одно,
общее нам со всей нашей группой, которое,
следовательно, представляет собой не нас самих, а общество,
живущее и действующее в нас; другое, наоборот, представляет
собой то, что в нас есть личного и отличного, что делает
из нас индивида14. Солидарность, вытекающая из
сходств, достигает своего максимума тогда, когда
коллективное сознание точно покрывает все наше сознание и
совпадает с ним во всех точках; но в этот момент наша
индивидуальность равна нулю. Она может возникнуть
только тогда, когда группа занимает в нас меньше места.
Здесь имеются две противоположные силы,
центростремительная и центробежная, которые не могут возрастать в
одно и то же время. Мы не можем развиваться
одновременно в двух столь противоположных направлениях.
Если мы имеем сильпую склонность поступать и
мыслить самостоятельно, то мы не можем быть особенно
склонны к тому, чтобы поступать и мыслить как
другие. Если идеал состоит в том, чтобы создать себе
собственную, индивидуальную физиономию, то он не может
состоять в том, чтобы походить на всякого. Кроме того,
в момент, когда эта солидарность оказывает свое
действие, наша личность, можно сказать, исчезает, ибо мы
более не мы, но коллективное существо.
Социальные молекулы, которые были бы связаны
только таким образом, могли бы, стало быть, двигаться
14 Тем не менее эти два сознания не представляют собой
совершенно особые зоны, но всесторонне проникают друг в друга.
126
согласованно только в той мере, в какой они не
имели бы собственных движений, как это происходит с
молекулами неорганических тел. Вот почему мы предлагаем
назвать этот вид солидарности механическим. Слово
это не означает, что она производится искусственно и
какими-то механическими средствами. Мы называем ее
так только по аналогии со сцеплением, соединяющим
между собой частицы мертвых тел, в противоположность
тому, которое дает единство живым телам. Окончательно
оправдывает это название то, что связь, соединяющая
таким образом индивида с обществом, вполне аналогична
той, которая связывает вещь с личностью. Индивидуаль
ное сознание, рассматриваемое с этой точки зрения,
полностью подчипепо коллективному типу и следует всем его
движениям, так же как предмету обладания передаются
все навязываемые ему движения собственника. В
обществе, где эта солидарность очень развита, индивид, как мы это
увидим дальше, не принадлежит себе; это буквально
вещь, которою распоряжается общество. Поэтому в
таких социальных типах личные права еще неотличимы от
вещных.
Совсем иначе обстоит дело с солидарностью,
производимой разделением труда. В то время как первая
требует, чтобы индивиды походили друг на друга, последняя
предполагает, что они друг от друга отличаются. Первая
возможна лишь постольку, поскольку индивидуальная
личность поглощена коллективной; вторая возможна
только при условии, если всякий имеет свою собственную
сферу действия, а следовательно, и личность. Итак,
нужно, чтобы коллективное сознание оставило открытой
часть индивидуального сознания, для того чтобы в пей
установились те специальные функции, которые оно не
может регламентировать. И чем обширнее эта область,
тем сильнее связь, вытекающая из этой солидарности.
Действительно, с одной стороны, каждый тем теснее
зависит от общества, чем более разделен труд, а с другой —
деятельность каждого тем личностпее, чем опа более
специализирована. Несомненно, как бы ограничена она пи
была, она никогда не бывает совершенно оригинальной.
Даже в своих профессиональных занятиях мы
сообразуемся с обычаями, навыками, которые у нас общие со
всей нашей корпорацией. Но в этом случае
испытываемый нами гнет менее тяжек, чем когда все общество
давит на нас; он оставляет гораздо больше места
свободному проявлению нашей инициативы. Здесь, стало быть.
127
индивидуальность целого возрастает вместе с
индивидуальностью частей; общество становится способнее
двигаться согласованно, в то время как каждый из его
элементов производит больше собственных движений. Эта
солидарность походит па ту, которая наблюдается у
высших животных. Каждый орган в самом деле обладает
тут автономией, своей особой физиономией, и однако,
единство организма тем больше, чем отчетливее эта
индивидуализация частей. На основании этой аналогии мы
предлагаем назвать органической солидарность,
вызываемую разделением труда.
Эта и предыдущая главы дают нам одновременно
средство вычислить долю, выпадающую каждой из этих
социальных связей в общем результате, производимом ими
в сотрудничестве, хотя и разными путями. Мы знаем в
самом деле, в каких внешних формах символизируются
оба эти вида солидарности, т. е. каков свод юридических
правил, соответствующий каждой из них.
Следовательно, чтобы узнать их относительное значение в данном
социальном типе, достаточно сравнить относительный
объем выражающих их двух видов права, поскольку
право всегда изменяется так же, как и регулируемые им
социальные отношения 15.
15 Для точности мы даем в нижеследующей таблице
классификацию юридических правил, в неявном виде содержащуюся в
этой и предыдущей главах.
I. Правила с репрессивной организованной санкцией
(их классификацию можно найти в следующей главе).
II. Правила с реститутивными санкциями, определяющие
sis™
sBsg
s s
So
о о
чае
§ö3
m ·ο.
β) £
Э2
©s
Вещи с личностью
Личностей между собой
Право собственности в его разных
формах (движимое, недвижимое
и т.д.)
Различные разновидности права
собственности (сервитуты,
пользование и т. д.)
{Определяемые нормальным
пользованием вещными правами
Определяемые нарушением
вещных прав
й Между семейными функциями
Между
экономическими диффузными
функциями
Административных
функций
Правительственных
функций
(Договорные отношения вообще
Специальные договоры
{Между собой
С правительственными функциями
С диффузными
функциями'общества
{Между собой
С административными функциями
С политическими диффузными
функциями
128
Глава IV
ДРУГОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ПРЕДЫДУЩЕГО
Вследствие важности предыдущих результатов надлежит
подтвердить их еще раз, прежде чем двигаться далее. Эта
новая проверка тем более полезна, что она предоставит
нам случай установить закон, который послужит не
только их обоснованию, но и освещению дальнейшего.
Если два выделенных нами вида солидарности
действительно имеют отмеченное юридическое выражение, то
преобладание репрессивного права над кооперативным
должно быть тем значительнее, чем более выражен
коллективный тип и чем рудиментарнее разделение труда.
Наоборот, по мере того как развиваются
индивидуальные типы и специализируются занятия, пропорция
между объемами этих двух видов права должна изменяться
в обратную сторону. Реальность же этого отношения
может быть доказана экспериментально.
I
Чем примитивнее общества, тем более сходства между
составляющими их индивидами. Уже Гиппократ в своем
сочинении «De aère et locis» сказал, что скифы имеют
этнический тип и вовсе не имеют личных. Гумбольдт
замечает в своей «Neuspanien» \ что у варварских народов
можно скорее найти черты, свойственные орде, чем
индивидуальной физиономии, и факт этот был подтвержден
множеством наблюдателей: «Римляне находили между
древними германцами очень большое сходство; подобно
этому и так называемые дикари производят то же
впечатление на цивилизованного европейца. Но правде
сказать, недостаток упражнения может часто быть главной
причиной, вызывающей у путешественника такое
суждение». Однако эта неопытность вряд ли имела бы это
следствие, если бы различия, к которым цивилизованный
человек привык в своей родной среде, действительно не
были важнее тех, которые он встречает у более
первобытных народов. Хорошо известно часто цитируемое
замечание Уллоа: «Кто видел одного туземца Америки,
видел их всех» 2. Наоборот, у цивилизованных народов
два индивида различаются один от другого с первого
взгляда и без всякого предварительного ознакомления.
1 I, S. 116.
2 Waitz. Anthropologie der Naturvôlker, I, S. 75-76.
5 Э. Дгоркгейм
129
Д-ру Лебону удалось установить объективным
образом эту возрастающую по мере приближения к
первобытному состоянию однородность. Он сравиил черепа,
принадлежащие различным расам и обществам, и нашел,
что «различия в объеме черепа, существующие между
индивидами одной и той же расы... тем больше, чем
высшее место занимает раса на лестнице цивилизации.
После того как я сгруппировал объемы черепов каждой
расы в последовательные ряды, имея в виду установить
сравнения только среди достаточно многочисленных
рядов так, чтобы их границы были связаны постепенным
образом, я увидел,— говорит он,— что различие объема
между самыми большими взрослыми мужскими черепами
и самыми малыми равно в круглых цифрах 200 см3 у
гориллы, 280 у париев Индии, 310 у австралийцев,
350 у древних египтян, 470 у парижан XII в., 600 у
современных парижан, 700 у немцев» 3. Есть даже народы,
где это различие равно нулю. «Андаманцы и тода все
похожи. Почти то же можно сказать о гренландцах. Пять
патагонских черепов, которые находятся в лаборатории
Брока, почти тождественны» 4.
Не вызывает сомнений, что эти органические
сходства соответствуют психическим. «Можно быть
уверенным,— говорит Вайц,— что сильное физическое сходство
дикарей происходит главный бЬразом от отсутствия
"какой-либо значительной психической индивидуальности,
от низкого состояния интеллектуальной культуры
вообще... Однородность характеров (Gemüthseigenschaften)
внутри какого-нибудь негрского племени бесспорна.
В верхнем Египте торговцы рабами осведомляются с
точностью о месте происхождения раба, а не о его
индивидуальном характере, ибо долгий опыт научил их, что
различия между индивидами одного и того же племени
незначительны в сравнении с родовыми. Так, нубийцы и
племя галла считаются очень верными, северные
абиссинцы — вероломными и изменниками, большинство
других — хорошими домашними рабами, по которые мало
пригодны для физического труда; абиссинцы из Ферти-
та — необщительными и мстительными»б. Поэтому
оригинальность там не только мала, она вообще не имеет
места. Все признают и исповедуют, не рассуждая, одну и
ту же религию; секты и расколы там неизвестны: они не
β L'Homme et les sociétés, II, p. 193.
4 Topinard. Anthropologie, p. 393.
5 Op. cit. I, S. 77.- Ср.: Ibid., p. 446.
130
былп бы терпимы. Â на этой ступени религия обнимает
все, простирается на все. Она охватывает в состоянии
расплывчатой смеси помимо собственно религиозных
верований нравственность, право, принципы политической
организации и даже науку или, по крайней мере, то, что
заменяет ее. Она регламентирует даже детали частной
жизни. Следовательно, сказать, что религиозные
сознания тогда тождественны — а тождество это абсолютно —
значит сказать вместе с тем, что кроме ощущений,
относящихся к организму и его состояниям, все
индивидуальные сознания состоят почти из одних и тех же элементов.
К тому же сами чувственные впечатления не должны
составлять большого разнообразия по причине физических
сходств, представляемых индивидами.
Однако eige дорольнд, pfLcnpocTpagfiTTn мнйтшет что
цивилизация, ^Hao6opoTt имеет следствием увеличение со*
ттиялт^тлу p^ftflP.TB. «llO MOtfU lUlU ДаД РЦОДШРЯКНОЯ 40
ловеческие агломерации,— говорит Тард,— отчетливее
становится распространение идей в правильной
геометрической прогрессии» 6. По Хэйлу (Hale) 7, ошибочно
приписывать первобытным народам однообразие характера,
и в доказательство этого он указывает тот факт, что
желтая и черная расы Тихого океана, живущие бок о бок,
отличаются одна от другой сильнее, чем два
каких-нибудь европейских народа. Кроме того, разве отличия,
отделяющие француза от англичанина или немца, не
меньше теперь, чем прежде? Почти во всех европейских
обществах право, мораль, нравы, даже основные
политические институты примерно одинаковы. Точно так же
указывают, что внутри одной и той же страны теперь уже
не находят таких контрастов, как некогда. Социальная
жизнь не меняется совсем или же меняется совсем слабо
от провинции к провинции; в единых странах, таких,
как Франция, она почти одна и та же во всех областях,
и это нивелирование достигает своего максимума в
культурных классах8.
Но эти факты никак не опровергают нашего
утверждения. Бесспорно, что различные общества стремятся все
6 Lois de l'imitation, p. 19.
7 Ethnography and philology of the Unit. States. Philadelphia,
1846, p. 13.
8 Это заставило Тарда сказать: «Путешественник,
проезжающий несколько европейских стран, наблюдает более несходстЕ
между людьми из народа, оставшимися верными своим древним
обычаям, чем между лицами высших классов» (Criminalité
comparée, p. 59).
131
5*
к большему сходству, но не так обстоит дело с состав-
ляющими каждое из них индивидами. Между французом
и англичанином вообще теперь расстояние меньше, чем
некогда, но это не мешает теперешним французам
различаться между собой больше, чем прежним. Верно и то,
что каждая провинция теряет свою отличительную
физиономию; но это не мешает каждому индивиду все более и
более принимать такую, которая принадлежит лично ему.
Нормандец менее отличается от гасконца, этот последний
от лотарингца или провансальца: и те и другие имеют
черты, общие всем французам. Но разнообразие,
представляемое последними, вместе взятыми, тем не менее
увеличилось. Если несколько существовавших прежде
провинциальных типов смешиваются между собой и
исчезают, то вместо этого появляется огромное
разнообразие индивидуальных типов^ет более стольких различий,
сколько агугъ крутут^ту п^ляр.тртт; ттг) вртузатр почти столь-
тяп^сколько есть индивидов. Наоборот, там, где каждая
1фившщш1 имии'1 свое осооое лицо, того же нельзя сказать
об отдельных индивидах. Провинции могут быть
весьма разнородными по отношению друг к другу и в то
же время состоять только из сходных элементов. Так же
происходит и в политических обществах. Таким же
образом простейшие животные так различаются друг от
друга, что их невозможно классифицировать по видам9;
но каждое из них состоит из вполне однородной материи.
Это мнение основывается, стало быть, на смешении
^jg^^^ifflC^ адивицци-
альными, так и национальными. Бесспорно, цивилизация
-С1шидаа^МИЦедиВ(1)вать последние; но" ni öTüi'ü ишивичжг
заключили, что она оказывает TiHftë воздействие на
первые и что однообразие становится всеобщим. Оба эти
вида типов не только не изменяются в прямом
отношении, но, как мы увидим, исчезновение одного вида есть
необходимое условие появления другого10. Но внутри
одного и того же общества существует только незначй-
тел1^ше .числи коллективных ^вдювгибо^ оно может
включать в себя толъ^о^трэ^чеЕШ&^'^чисяо^'Трйе- и областей,
достаточно различных,- чтобы-нроиэводить такие
несходства. Индивиды же,т аасро^гйв, ' способны разнообразить-
9 См.: Perrier. Transformisme, p. 235.
10 См. ниже кн. II, гл. II, III. То, что там говорится, может
служить одновременно объяснением и подтверждением
устанавливаемых здесь фактов.
132
нальным типам. Есть основание полагать, что они
теряют свою прежнюю четкость, что пропасть, отделявшая
когда-то профессии, и особенно некоторые из них,
находится на пути к исчезновению. Но верно и то, что внутри
каждой из них различия увеличились. У каждого все
более вырабатывается свой способ мышления и
деятельности, каждый меньше подвергается воздействию
общественного мнения корпорации. Кроме того, если от
профессии к профессии различия менее резки, то они, во всяком
случае, многочисленнее, ибо профессиональные типы
сами по себе увеличились по мере усиления разделения
труда. Если они различаются друг от друга только
простыми оттенками, то, во всяком случае, эти оттенки
более разнообразны. Разнообразие, стало быть, не
уменьшилось даже с этой точки зрения, хотя оно не
проявляется более в виде резких и сильных контрастов.
Значит, мы можем быть уверенными, что чем далее
** , iHim-iglH ■ «ι III ■■ III * I III« l'IIIIHHMHHH JHIIIIW.MI IIIIIJUII ■' I *"* ——Ы—~-
больше; с другой стороны, чем ближе к наивысшим со-
Рассмотрим теперь, как меняются на разных cfyffeTfSX
социальной лестницы обе выделенные нами формы права.
II
Насколько можно судить о состоянии права в самых
низких обществах, оно, по-видимому, целиком репрессивно.
«Дикарь,— говорит Леббок,— нигде не свободен. Во всем
мире повседневная жизнь дикаря регулируется массой
сложных и часто очень неудобных обычаев (столь же
повелительных, как и законы), нелепых запретов и
привилегий. Многочисленные весьма суровые правила (хотя
они и не писаны) регулируют все поступки их жизни» и.
Известно действительно, с какой легкостью у
первобытных народов некоторые формы поведения превращаются
в традиционные обычаи, а с другой стороны, как велика
у них сила традиции. Нравы предков окружены там
таким уважением, что отступать от них нельзя под страхом
наказания.
11 Lubbock. Les origines de la civilisation. P., F. Alcan, p. 440;
Spencer. Sociologie. P., F. Alcan, p. 435.
133
îîo такие наблюдения неизбежно лишены строгости,
так как крайне трудно выявить столь неуловимые
обычаи. Для того чтобы выполнить наш опыт методически
обоснованно, надо воспользоваться, насколько возможно,
писаными правилами.
Четыре последних книги Пятикнижия — Исход,
Левит, Числа, Второзаконие — представляют собой
наиболее древний памятник этого рода, которым мы
располагаем 12. Среди этих 4 или 5 тысяч стихов лишь в
сравнительно незначительном числе выражаются правила,
которые, строго говоря, могут считаться нерепрессии-
ными. Они относятся к следующим объектам.
Право собственности: Право выкупа.— Юбилеи.—
Собственность Левитов (Левит, XXV, 14—25, 29—34 и
XXVII, 1-34).
Семейное право: Брак (Второзак., XXI, 11—14; XXIII,
5; XXV, 5—10; Левит, XXI, 7, 13, 14); Наследственное
право (Числа, XXVII, 8-11 и XXVI, 8; Второзак.,
XXI, 15—17); Рабство туземцев и чужестранцев
(Второзак., XV, 12-17; Исход, XXI, 2-11; Левит, XIX,
20; XXV, 39-44; XXXVI, 44-54).
Ссуды и платежи: (Второзак., XV, 7—9; XXIII, 19—20;
XXIV, 6 и 10-13; XXV, 15).
Неумышленные преступления: (Исход, XXI, 18—33 и
33-35; XXII, 6 и 10-17) 13.
Организация общественных функций: Функции
священников (Числа, X), левитов (Числа, III и IV);
старейшин (Второзак., XXI, 19; XXII, 15; XXV, 7; XXI, 1;
Левит, IV, 15); судей (Исход, XVIII, 25; Второзак.,
I, 15-17).
Значит, реститутивное право и особенно
кооперативное сводятся к весьма немногому. Это не все. Среди
приведенных правил многие не так далеки от уголовного
права, как могло бы показаться на первый взгляд, ибо
все они отмечены религиозным характером. Все они
одинаково исходят от общества; нарушить их — значит
оскорбить его, а такие оскорбления — это грех, который
должен быть искуплен. Книга не устанавливает никаких
12 Нам незачем высказываться насчет действительной
древности этого творения. Для нас достаточно, что оно относится к
обществу весьма невысокого типа. То же самое и с относительной
древностью составляющих его частей, так как с интересующей
нас точки зрения все они содержат одну и ту же особенность.
Поэтому мы рассматриваем их целиком.
13 Все эти стихи вместе (без тех, которые касаются
общественных функций) насчитывают 135 стихов.
134
различий между повелениями; все они — божественные
слова, которым невозможно безнаказанно не
повиноваться» «Если ты не постараешься исполнить всех слов,
которые написаны в этой книге, страшась этого славного и
грозного имени Вечного твоего Бога, Превечный поразит
тебя и твое потомство» 14. Неисполнение — даже по
ошибке — какого-нибудь предписания составляет грех и
требует искупления15. Угрозы подобного рода, уголовно-
правовой характер которых не вызывает сомнений, даже
прямо санкционируют некоторые из тех норм, которые
мы приписали реститутивному праву. После того как
текст определил, что разведенная женщина не может
быть вторично взята в жены ее мужем, если она
разведется после второго брака, он прибавляет: «Это есть
мерзость перед Господом и не порочь земли, которую
Господь, Бог твой, дает тебе в удел» 16. А вот стих, где
устанавливается способ, каким должна быть выплачена
заработная плата: «В тот же день, когда он работал,
отдай плату его, чтоб он не возопил на тебя ко Господу
и не было на тебе греха» 17. Компенсации за
неумышленные преступления, по-видимому, также представлялись
как настоящие искупления. В Левите мы читаем: «Кто
убьет какого-йибо человека, тот предан будет смерти.
Кто убьет скотину, тот должен заплатить за нее,
животное за животное... перелом за перелом, око за око, зуб
за зуб» 18. Возмещение причиненного убытка полностью
уподобляется наказанию за убийство и рассматривается
как применение закона возмездия.
Правда, есть некоторое число предписаний, санкция
которых не указана специально; но мы уже знаем, что
она, конечно, носит карательный характер. Особенности
используемых выражений достаточно убедительно это
доказывают. Кроме того, из традиции нам известно, что
всякий нарушивший отрицательное предписание
подвергался телесному наказанию, когда закон не
провозглашал формально кары 19. Резюмируем: все еврейское
право, насколько оно известно нам из Пятикнижия, в
разной степени проникнуто преимущественно репрессивным
14 Второзак. XXVIII, 58-59; ср. Числа, XV, 30-31.
15 Левит. IV.
16 Второзак. XXIV. 4.
17 Второзак. XXV, 5.
18 Второзак. XXIV, 17, 18, 20.
19 См.: Munck. Palestine, p. 216. Зельден (см.: Selden. De Sy-
nodriis, p. 889-903) перечисляет, по Маймопиду, все предписания,
входящие в эту категорию.
135
характером. Он более заметен в одних местах, скрытнее
в других, но чувствуется повсюду. Поскольку все
содержащиеся в этом праве предписания суть заповеди Божьи,
помещенные, так сказать, под непосредственное
поручительство Бога, то все они обязаны этому происхождению
особым престижем, делающим их священными и святыми.
Поэтому, когда они нарушены, общественное сознание не
довольствуется простым возмещением, но требует
искупления, которое мстит за него. Поскольку собственную
природу уголовного права образует необычайный
авторитет санкционируемых им правил и люди никогда не
знали и пе придумали авторитета более высокого, чем тот,
который верующий приписывает своему Богу, то право,
считающееся словом самого Бога, не может не быть в
сущности своей репрессивным. Мы могли даже сказать,
что всякое уголовное право более или менее религиозно,
ибо душу его составляет чувство уважения к силе,
высшей, чем отдельный человек, к силе, в некотором роде
трансцендентной, в каком бы символическом обличье она
ни ощущалась сознаниями. А это ощущение лежит в
основе всякой религиозности. Вот почему вообще
репрессия господствует над всем правом в низших обществах:
религия там пронизывает всю правовую жизнь, так же,
впрочем, как и всю социальную.
Поэтому религиозный характер права также очень
явственно проступает в законах Ману. Достаточно
только обратить внимание на важное место, которое они
уделяют уголовному правосудию в совокупности
национальных институтов. «Чтобы помогать королю в
выполнении его обязанностей,— говорит Ману,— Господь с
самого начала произвел гения наказания, защитника всех
существ, исполнителя справедливости, собственного
своего сына, природа которого вполне божественна.
Именно боязнь наказания позволяет всем движущимся и
недвижущимся созданиям наслаждаться тем, что им
принадлежит, и она же мешает им уйти от своих
обязанностей. Наказание управляет человеческим родом,
наказание его охраняет; наказание бодрствует, когда все спит;
наказание есть справедливость, говорят мудрецы. Все
классы развратились бы, все преграды были бы
опрокинуты, мир представлял бы хаос, если бы наказание не
исполняло своей обязанности» 20.
20 Законы Ману, VIT, стихи 14-24.
186
Законы XII таблиц принадлежат обществу уже Гюлее
развитому 21 и более близкому к нам, чем еврейский
народ. Доказательством служит то, что римское общество
достигло типа города, только пережив и преодолев тот
тип, на котором остановилось еврейское общество;
доказательство этому будет приведено далее22. Да и другие
факты доказывают меньшее удаление от нас римского
общества. Во-первых, в законах XII таблиц мы находим
все главные зародыши нашего теперешнего права, в то
время как между нашим и еврейским правом нот ничего
общего23. Далее, законы XII таблиц носят абсолютно
светский характер. Если в древнейшем Риме
законодатели, вроде Нумы, считались вдохновляемыми божеством и
если, следовательно, право и религия были тогда
полностью смешаны между собой, то в эпоху составления
XII таблиц эта связь, несомненно, прекратилась; этот
юридический памятник с самого начала был представлен
как дело рук человеческих, обращенное только к
человеческим отношениям. В них мы находим только несколько
правил, касающихся религиозных церемоний, да и они,
по-видимому, были туда допущены в качестве законов
против роскоши. А более или менее полное расхождение
юридического и религиозного элементов — один из
лучших признаков, по которому можно узнать, развито ли
одно общество более или менее другого 24.
Поэтому уголовное право не занимает уже всего
места. Правила, санкционируемые наказаниями, и правила,
имеющие только реститутивпые санкции, на этот раз
основательно отделены друг от друга. Реститутивное право
выделилось из репрессивного, поглощавшего его перво-
21 Говоря, что один социальный тип развитее другого, мы не
хотим сказать, что различные социальные типы надстраиваются
один над другим в виде восходящего линейнего ряда, более или
менее высоко в зависимости от исторического момента. Наоборот,
если бы можно было составить полную генеалогическую таблицу
социальных типов, то она имела бы скорее форму ветвистого
дерева, с единственным, правда, стволом, но с расходящимися
ветвями. Но, несмотря на такое расположение, расстояние между
двумя типами измеримо; они более или менее высоки. Мы вправе
сказать о типе, что он выше другого, особенно тогда, когда он
начал с формы последнего и превзошел ее. Это значит, что он
принадлежит к более высокой ветви.
22 См. гл. VI, § II.
23 Договорное и завещательное право, опека, усыновление и
т. д. Пятикнижию неведомы.
24 Ср.: Walter. Histoire de la procédure civile et du droit
criminel chez les Romains. § 1, 2; Voigt Die XII Tafeln, I, S. 43.
137
начально; оно обладает теперь своими собственными
чертами, своим собственным устройством, своей
индивидуальностью. Оно существует как отдельный юридический
вид, снабженный специальными органами, специальной
процедурой. Тут появляется и само кооперативное
право; в XII таблицах мы находим семейное и договорное
право.
Тем не менее, если уголовное право и потеряло свое
первоначальное преобладание, доля его остается
значительной. Из 115 фрагментов этих законов, которые
удалось восстановить Фойгту, только 6ß могут быть
отнесены к реститутивному праву; 49 имеют резко
выраженный карательный характер25. Следовательно, уголовное
право представлено почти в половине этого кодекса в том
виде, как он дошел до нас. И однако, то, что осталось
от него, может дать нам лишь весьма неполное
представление о значении репрессивного права в эпоху его
создания. Именно части, посвященные этому праву, должны
были скорее всего погибнуть. Сохранившимися
фрагментами мы обязаны почти исключительно юристам
классической эпохи. Но они гораздо более интересовались
вопросами гражданского права, чем уголовного. Последнее
мало пригодно для красивых споров, всегда бывших
страстью юристов. Это общее равнодушие, объектом
которого было древнее уголовное право Рима, должно было
иметь следствием забвение значительной доли его. Кроме
того, даже подлинный полный текст законов XII таблиц
не содержал его целиком. Он не говорил ни о
религиозных, ни о семейных преступлениях, которые судились
особыми учреждениями, ни о преступлениях против
правов. Надо также учитывать инертность, с которой
кодифицируется уголовное право. Поскольку оно
запечатлено во всех сознаниях, то нет необходимости писать
его, чтобы сделать его известным. По всем этим
причинам мы вправе предположить, что даже в Риме IV в.
уголовное право представляло все еще большую часть
юридических правил.
Это преобладание еще достовернее и резче, если его
сравнить не со всем реститутивным правом, а только с
той его частью, которая соответствует органической
солидарности. Действительно, в этот момент уже
достаточно развилась только организация семейного права; про-
25 В десяти (законы против роскоши) санкция не указана явно,
но карательный характер их не подлежит сомнению.
138
цедура и неразнообразна, и несложна, чтобы быть
стеснительной; договорное право только зарождается.
«Незначительное число договоров, признаваемых древним
правом,— говорит Фойгт,— представляет поразительней-
ший контраст со множеством обязанностей,
происходящих от преступлений»26. Что касается публичного
права, то оно еще довольно просто; помимо того, оно в
большей своей части носит карательный характер, так
как сохранило признаки религиозности.
Начиная с этой эпохи репрессивное право постоянно
теряло свое относительное значение. Если и допустить,
что оно не регрессировало во многих случаях, если и
предположить, что множество поступков, вначале
считавшихся уголовными, не перестали с течением времени
караться (а обратное этому мы видим в религиозных
преступлениях), то во всяком случае оно не возросло
заметным образом; мы знаем, что начиная с эпохи XII таблиц
главпые криминологические типы римского права
установились. Наоборот, договорное процессуальное,
публичное право получали все большее распространение.
По мере продвижения вперед мы видим, как редкие и
тощие формулы, касавшиеся этих вопросов в законах
XII таблиц, развиваются и увеличиваются до тех пор,
пока не становятся объемистыми системами классической
эпохи. Семейное право тоже усложняется и
дифференцируется по мере того, как к первоначальному
гражданскому праву присоединяется преторское право.
История христианских обществ представляет нам
другой пример того же явления. Уже Самнер Мэн высказал
догадку, что, сравнивая между собой различные
варварские законы, можно обнаружить, что объем уголовного
права тем больше, чем они древнее 27. Факты
подтверждают эту догадку.
Салический закон принадлежит обществу, менее
развитому, чем Рим IV в. Если оно, подобно последнему,
и прошло социальный тип, на котором остановился
еврейский народ, то все же не в такой мере от него
освободилось. Следы его видны значительно явственнее; мы это
ниже докажем. Поэтому уголовное право имело тут
гораздо большее значение. Из 293 параграфов, которые
составляют текст салического закона, как он издан Ваи-
цем28, только 25 (примерно 9%) не имеют репрессивного
2в XII Tafeln, II, S. 448.
11 Ancien droit, p. 347.
11 Dä§ alte Reçht der salischen Franken. Kiel, 1846,
m
характера; это те, которые касаются устройства
франкской семьи 29. Договор еще не освободился от уголовного
права, ибо отказ исполнить в назначенный день
заключенное обязательство влечет за собою штраф. Но салический
закон содержит только часть уголовного права франков,
так как он касается только преступлений и проступков,
относительно которых дозволена мировая сделка.
Но были, несомненно, и такие, которые не могли быть
выкуплены. Достаточно вспомнить, что в этом законе
нет ни слова ни о преступлениях против государства,
ни о военных преступлениях, ни о преступлениях против
религии,— и преобладание репрессивного права
предстанет еще более значительным 30.
Оно уже меньше в более позднем законе бургундов.
Из 311 параграфов мы насчитали 98, т. е. почти треть,
не содержащих никаких карательных черт. Но это
увеличение касается только семейного права, усложнившегося
как в отношении вещного права, так и права личностей.
Договорное право ненамного более развито, чем в
салическом законе.
Наконец, закон визиготов, который еще ближе к нам
по времени и относится к народу, еще более
культурному, свидетельствует о новом прогрессе в том же
направлении. Хотя в нем еще преобладает уголовное право, ре-
ститутивное имеет почти равное значение.
Действительно, там обнаруживается целый процессуальный кодекс
(кн. I и II), брачное и семейное право, уже весьма
развитые (книга III, тит. I и VI; кн. IV). Наконец, впервые
целая книга, пятая, посвящена мировым сделкам.
Отсутствие кодификации не позволяет нам проследить
с той же точностью это двоякое движение на всем
протяжении нашей истории; но бесспорно, что оно
продолжалось в том же направлении. Начиная с этой эпохи в
самом деле юридический каталог преступлений и
проступков уже очень полон. Наоборот, семейное право,
договорное, процессуальное, публичное право развивались
непрерывно, и, таким образом, в конце концов мы
обнаруживаем, что отношение между двумя сравниваемыми
нами частями права стало обратным.
Итак, jiPTfpprPHPHQP и «подерашщА ПШР? ТШРТТ|ППТ-
ся точно таким образом, как это предсказывала наша
теория. Она, значит, подтверждается. Правда, это преобла-
29 Титул, XLIV, XLV, XLVI, LIX, LX, LXII.
30 Ср.: Thonissen. Procédure de la loi salique, p. 244,
140
данив УГОЛОВНОГО ррявр и тп^тттит пбтрстдау ттр^тпжл^топ.
■■ли цругидгттричинам: его обвдсняли «жестокостью т
привычной рля обп^ествт начинающих ТПТГР^ ""О" яаиптш
законодатель, Jcj[)F^pg^, разделил свое творртщ? jrjTmrnp-
■Ционально частоте различных случаев жизни варва-
ро^И*; - СаМАёР М5Ь, приводящий Stô 0г>
ходит его неполным; в действительности оно не только
не полно, но совершенно ложно. Во-первых, оно делает
из права некое искусственное творение законодателя,
как будто бы оно было установлено, чтобы противоречить
общественным нравам и противодействовать им. Но в
настоящее время такой концепции придерживаться
невозможно. Право выражает нравы и, если оно воздействует
на них, то посредством силы, заимствованной у них же.
Там, где часты насильственные поступки, они терпимы; их
преступность обратно пропорциональна их частоте. Так,
у низших народов преступления против личности
привычнее, чем в наших цивилизованных обществах; поэтому они
находятся на последней ступени уголовно-правовой
лестницы. Можно даже сказать, что преступления
наказываются тем суровее, чем они реже. Кроме того, такое
пышное развитие первобытного уголовного права зависит не
от того, что наши теперешпие преступления там
составляют объект более обширного законодательства, но от
того, что существует сильно развитая преступность,
свойственная этим обществам и не объяснимая их
мнимой жестокостью: преступления против религии, против
ритуала, против церемониала, против всякого рода
традиций и т. д. Истинная причина этого развития
репрессивных правил заключается в том, что в этот момент
эволюции коллективное сознание сильно и обширно, между
тем как труд еще не разделен.
Если основываться на этих принципах, то вывод из
них напрашивается сам собой.
31 Ancien Droit, p. 348.
141
Глава V
ВОЗРАСТАЮЩЕЕ ПРЕОБЛАДАНИЕ
И ГЛВТ1ДТВИЯ ЭТОГО
I
Достаточно бросить взгляд на наши кодексы, чтобы
заметить в них весьма незначительный объем, занимаемый
репрессивным правом по сравнению с кооперативным.
Что значит первое рядом с обширной системой,
образуемой правом семейным, договорным, торговым и т. д.?
Совокупность отношений, подчиненных уголовно-правовой
регламентации, представляет собой, стало быть, только
самую незначительную часть общей жизнедеятельности
и следовательно, узы, связывающие нас с обществом и
проистекающие из общности верований и чувств,
гораздо менее многочисленны, чем узы, порожденные
разделением труда.
Правда, как мы уже заметили, общее сознание и
производимая им солидарность не выражаются целиком в
уголовном праве; первое создает и другие узы, помимо
тех, нарушение которых оно карает. Есть менее сильные
и более туманные состояния коллективного сознания,
воздействие которых ощущается через посредство нравов,
общественного мнения без всякой правовой санкции и
которые тем не менее способствуют утверждению
общественной связи. Но кооперативное право также не
выражает всех уз, порождаемых разделением труда, оно также
дает нам только схематическое изображение этой части
социальной жизни. Во множестве случаев отношения
взаимной зависимости, соединяющие разделенные
функции, регулируются только обычаями, и эти неписаные
правила несомненно превосходят числом те, которые
служат продолжением репрессивного права, ибо они
должны быть так же разнообразны, как и сами социальные
функции. Значит, между первыми и вторыми существует
то же отношение, что и между дополняемыми ими двумя
видами права, и следовательно, можно пренебречь ими,
не изменяя тем самым результата исследования.
Однако если бы мы констатировали это отношение
только в наших теперешних обществах и именно в тот
момент истории, к которому мы пришли, то можно было
бы себя спросить, не вызвано ли оно временными, а
может бьто»! ц патологическими причинами. Цд мы сейчас
142
видели, что чем ближе к нам социальный тип, тем
больше в нем преобладание кооперативного права; наоборот,
уголовное право занимает тем больше места, чем дальше
мы от нашей теперешней организации. Значит, это
явление связано не с какой-нибудь случайной и более или
менее патологической причиной, но с наиболее
существенными чертами структуры нашего общества, потому что
оно развивается тем более, чем более определяется эта
структура. Таким образом, установленный нами в
предыдущей главе закон полезен для нас вдвойне. Помимо того,
что он подтвердил принципы, на которых основывается
наш вывод, он позволяет нам установить общий характер
последнего.
Но из одного этого сравнения мы не можем еще
заключить, какова доля органической солидарности в общей
сплоченности общества. Действительно, индивид более
или менее тесно прикреплен к своей группе не только в
зависимости от большей или меньшей многочисленности
точек прикрепления, но и в зависимости от изменчивой
интенсивности сил, прикрепляющих его к ним. Может
случиться поэтому, что связи, возникающие из
разделения труда, будучи многочисленнее плугих, слабее их,
и большая энергия последних компенсирует их численное л
меньшинство. Но истинно как раз обратное положение/
Действительно, относительная сила двух соттиальных
СВЯЗеЙ ИаМвррСТАА упгь^аххлллятш»й- ТП< Г КПППТТ "Η™
разрываются. Меньшим сопротивлением обладают, оче-
Но именно в низших обществах, где существует 1ючтй
одна только солидарность по сходствам, эти нарушения
наиболее часты и легки. «Первоначально,— говорит
CTTftTrçgpj— человек, хотя для него необходимо
присоединиться к какой-нибудь группе, не обязан оставаться с
этой именно группою. Калмыки и монголы покидают
своего вождя, когда он начинает их притеснять, и переходят
к другим. Абипоны покидают своего вождя, не
спрашивая у него позволения, причем он не высказывает своего
неудовольствия/ и они идут со своей семьей, куда им
угодно» 4. В южной Африке балонды беспрестанно
переходят из одной части страны в другую. Мак-Куллох
заметил тот же факт у кукиев. У германцев любой человек,
любивший войну, мог стать солдатом у вождя по своему
выбору. «Ничто не было обыденнее и не казалось более
1 Sociologie, III, p. 381.
143
законным. Человек поднимался посреди собрания; он
говорил, что собирается совершить нападение на такую-то
страну, на такого-то неприятеля; те, кто доверял ему и
жаждал добычи, провозглашали его вождем и следовали
за ним. Социальная связь была слишком слаба, чтобы
удержать людей против их воли от искушений бродячей
жизни и наживы» 2. Вайц говорит вообще о низших
обществах, что даже там, где установилась руководящая
власть, каждый индивид сохраняет достаточно
независимости, чтобы отделиться немедленно от своего вождя
«и подняться против него, если он для этого достаточно
силен, причем подобный поступок не считается
преступным» 3. Даже когда правление носит деспотический
характер, говорит тот же автор, каждый всегда волен
удалиться со своей семьей. Правило, по которому
римлянин, взятый в плен неприятелем, переставал быть частью
римского общества, не объясняется ли также легкостью,
с которой тогда могла разрываться социальная связь?
Совсем другое видим мы по мере разделения труда.
Поскольку различные части агрегата выполняют различ-7
'бы^^оворит Спенсер,— отделили от Миддлсекса его
окрестности, то все его операции остановились бы через
несколько дней за недостатком материалов. Отделите
округ, в котором обрабатывают хлопок, от Ливерпуля и
других центров, и его промышленность остановится,
затем население его исчезнет. Отделите население
каменноугольной копи от соседнего населения, плавящего
металлы или изготовляющего машинным образом сукна,—
и тотчас последние умрут социально, а затем и
индивидуально. Несомненно, когда какое-нибудь цивилизованное
общество подвергается такому разделению, что одна из
его частей остается лишенной центральной власти, то оно
не замедлит себе создать другую. Но оно рискует
подвергнуться разложению, и, прежде чем реорганизация
установит достаточно авторитетную власть, оно может
оставаться в течение долгого времени в состоянии
беспорядка и слабости» 4. Поэтому насильственные
присоединения, некогда столь частые, становятся все более
сомнительными операциями. Оторвать теперь провинцию от
страны — значит отрезать один или несколько органов у
2 Fustel de Coulanges. Histoire des institutions politiques de
l'ancienne France, I part, p. 352.
3 Anthropologie der Naturvölker, I, S. 359-360.
4 Sociologie, H, p. 51
144
организма. Жизнь присоединенной области, отделенной
от важных органов, от которых она зависела, глубоко
нарушается. А такие увечья и пертурбации неизбежно
вызывают продолжительное страдание, память о котором не
изглаживается. Даже для отдельного индивида нелегко
переменить национальность, несмотря на большее
сходство различных цивилизаций 5.
Обратный опыт не менее поучителен. _Чем слабее
солидарность, т. е. чем слабее социальная свя?ь, ι ел! лш-_
**Щ таКЖё ДОЛДОно Рыть для чуждых элементе)»
инкорпорироваться в оощество. jf низших же народов
натурализация — самая простая операция. У североамериканских
индейцев каждый член клана имеет право ввести в него
новых членов путем усыновления. «Добытые па войне
пленники или предаются смерти, или усыновляются в
клане. Взятые в плен женщины и дети обыкновенно
щадятся. Усыновление дает не только религиозные
языческие права (права клана), также и племенную
принадлежность» в. Известно, с какой легкостью Рим вначале
раздавал право гражданства людям без убежища и
побежденным им народам 7. Впрочем, именно инкорпорация-
ми такого рода увеличивались первобытные общества.
Для того чтобы они могли быть столь проницаемыми,
нужно было, чтобы они имели не очень сильное чувство
своего единства и индивидуальности8. Противоположное
явление наблюдается там, где функции
специализированы. Иностранец, конечно, может временно войти в
общество, но операция, с помощью которой он
ассимилируется,— а именно натурализация — становится долгой и
сложной. Она уже невозможна без торжественно
выражаемого согласия группы, подчиненного специальным
условиям 9.
Может быть, покажется удивительным:, что связь, со-
5 В гл. VII мы увидим, что связь, соединяющая индивида с его
семьей, тем сильней, тем труднее разрывается, чем более, разделен
семейный труд.
β Morgan. Ancient society, p. 80.
7 Дионисий Галикарнасский, I. 9. Ср.: Accarias. Précis de droit
romain, I, § 51.
8 Этот факт вполне примирим с другим,- что в этих обществах
чужеземец представляет собой объект отвращения. Но он внушает
это чувство до тех пор, пока остается чужеземцем. Мы же
утверждаем, что он легко теряет это свойство чужеземца, будучи принят
в члены племени.
9 В гл. VII мы покажем, что вступление чужеземца в семью
тем легче, чем менее разделен семейный труд.
145
еДиняюЩая йнДивйда с общиной до такой степени, что
поглощает его в ней, может разрываться и развязываться
с такой легкостью. Но то, что придает прочность
социальной связи, не есть то, что придает ей силу
сопротивления. Из того, что части агрегата, когда они соединены,
двигаются только совместно, не следует, что они должны
или оставаться соединенными, или погибнуть. Наоборот,
так как они не нуждаются друг в друге, так как
каждый несет в себе все то, что составляет социальную
жизнь, то он может ее перенести в другое место, тем
более что эти отделения обычно совершаются группами.
Ведь индивид тогда устроен таким образом, что и
двигаться может только в группе, даже чтобы отделиться
от своей группы. Со своей стороны общество требует от
каждого из своих членов, пока они составляют часть его,
однообразия верований и обычаев. Но так как оно может
потерять известное число своих членов, не рискуя
целостностью своей внутренней жизни, потому что социальный
труд там мало разделен, то оно несильно
противодействует этим уменьшениям. Точно так же там, где
солидарность вытекает только из сходств, тот, кто не слишком
уклоняется от коллективного типа, без сопротивления
инкорпорируется в агрегат. Нет основания оттолкнуть
его, и даже — если есть свободные места — есть
основание его привлечь. Но там, где общество образует систему
дифференцированных частей, взаимно дополняющих друг
друга, новые элементы не могут привиться на старых,
не нарушая этой гармонии, не искажая этих отношений,
а потому организм сопротивляется вторжениям,
производящим пертурбации.
II
Механи?рс«а я Арлидарнрсть ш не,г только вообще,, слабее
связывает, лтдАИ|п чем, ^р^ущ^й/укаст, но даже, по мере
того как мы продвигаемся в социальной" "эШЯтоТрЖ,'" все
более и Ьо£ее осЛабевайетГ^ "~?
^ JéBSfBttfельно|"(рила" содиальных^£в^ей>гимеюших это
происхождение, и^МУЙяется '"в функции следующих трех
~Ύ} Д]Е^ЙЁ351§^М£??ДУ объемами коллективного д. ин-
дивидуального, сбзнайия^СоЦ^'аЙ^ные' связи тем
энергичнее, чем более полно первое пе£екрыв2№т второе.
2) Средняя vme^mnwTb^cwi[önmii коллективного
сознания..,,ЦцЬ допущении равенства объемов оно облада-
еТ"тём большим' ЧШДейстстгекг Ш ^ндивида^ чем бшшие
146
ого жизненная сила. Если же, наоборот, оно состоит
только из слабых импульсов, то оно слабо увлекает его
в коллективном направлении. Личр^ть, стало^ыть^ тем
^егче сможет сдедсв^тьсобственньш^путем. и
солидарность будет менее сильна. ~~"w **'
г>; Большая или мвт.щад ппррлеленность этих самых
r.or.Tnfftmif. Действительно, чедд более определенны
верования и обычаи, тем менее ропускают они места инДИВИ-
Д^£рШ^ Это — однообразные формы;
в которые мы однооЬ^аЗПо отливаем наши идеи и
действия; консенсус является тогда самым совершенным: все
сознания вибрируют в унисон. Наоборот, чем более
общий и неопределенный характер носят правила
поведения и мышления, тем более должна вмешиваться
индивидуальная рефлексия, чтобы применять их к частным
случаям. Но последняя не может пробудиться, не вызывая
расколов, ибо, поскольку она изменяется в качестве и
количестве от одного человека к другому, все, что она
производит, имеет тот же характер. Центробежные
стремления, следовательно, увеличиваются в ущерб социальной
связи и гармонии движений.
С другой стороны, сильные и определенные
состояния коллективного сознания суть корни уголовного права.
Но мы увидим сейчас, что число последних теперь
меньше, чем прежде, и что оно постепенно уменьшается по
мере того, как общества приближаются к нашему
теперешнему типу. Значит, средняя интенсивность и средняя
степень определенности коллективных состояний сами
уменьшились. Правда, из этого факта мы не можем
заключить, что полный объем общего сознания
уменьшился; может случиться, что область, которой соответствует
уголовное право, сократилась, а остальная часть,
наоборот, расширилась. Может быть меньше сильных и
определенных состояний сознания, но зато большее число
других. Но это увеличение, если оно реально, в лучшем
случае эквивалентно тому, которое произошло в
индивидуальном сознании, так как последнее увеличилось,
по крайней мере, в той же пропорции. Если имеется
больше явлений, общих для всех, то также гораздо больше
таких, которые свойственны лично каждому. Есть даже
основание думать, что последние увеличились более
других, ибо несходства между людьми стали резче по мере
того, как они цивилизовались. Мы видели сейчас, что
специальные виды деятельности развились более, чем
коллекторное сознание; значит, вероятно, что ВО ВСЯКОМ
m
частном сознании личная сфера увеличилась значительно
бодее, чем другие. Во всяком случае, отношение между
ними осталось хотя бы тем же. Следовательно, с этой
точки зрения механическая солидарность ничего не
выиграла, если только не потеряла. Итак, если, с другой
стороны, мы установим, что коллективное созпание стало
более слабым и расплывчатым, то мы сможем быть
уверенными, что эта солидарность ослабла, так как из трех
условий, от которых зависит ее сила воздействия, два,
по крайней мере, теряют свою интенсивность, а третье
остается без изменения.
Чтобы доказать это, недостаточно сравнить число
правил с репрессивной санкцией в различных социальных
типах, ибо оно не изменяется точно так же, как число
выражаемых ими чувств. Одно и то же чувство в самом
делр может быть возмущаемо различными способами и
порождать, таким образом, многие правила, не
дифференцируясь в силу этого само. Поскольку теперь существует
больше способов приобретать собственность, существует
и больше способов красть; но чувство уважения к чужой
собственности не увеличилось во столько же раз. Так как
индивидуальная личность развилась и включает в себя
больше элементов, стало больше и возможных
преступлений против нее, но оскорбляемое ими чувство всегда
остается тем же. Значит, нам нужно не перечислять
правила, но сгруппировать их в классы и подклассы, сообразно
тому, относятся ли они к одному и тому же чувству или
к разным чувствам или же к различным разновидностям
одного и того же чувства. Мы установим, таким образом,
кримшю^югач^с^ие^ _т]щпы_и_дх существенные разновид-
'ности, число которых необходимо равно числу сильных и
определенных со£ЙШГО&£^^ многочис-
лентте'е~последние, тем бюлыпе должно быть
криминальных видов, и, следовательно, изменения одних точно
отражают изменения других. Для большей ясности мы
собрали в следующей таблице главные из этих типов и
разновидностей, признанных в разных видах обществ.
Очевидно, что такая классификация не может быть ни
очень, полной, ни совершенно точной; однако для нужного
нам вывода она достаточно точна. Действительно, она
охватывает все теперешние криминологические типы; мы
рискуем только пропустить некоторые из исчезнувших.
Но так как мы хотим именно доказать, что число их
уменьшилось, то эти пропуски будут только лишним
аргументом в пользу нашего утверждения.
m
Правила, запрещающие поступки,
противостоящие коллективным чувствам
I
Положительные
Религиозные
чувства
Нацио- ί
нальные \
чувства
Семейные
чувства
Чувства,
касающиеся
половых
отношений
Чувства,
касающиеся труда
- Раэлич-
ные
диционные
чувства
Отрицательные хо
1 Положительные
Отрицательные
Запрещенные союзы
Чувства,
касающиеся органа
общего
сознания
(предписывающие религиозные
обряды)
Относящиеся к верованиям,
касающимся божеств:
— к культу Г храмам
— к органам культа Хжрецам
Положительные (положительные гражданские 'обязанности)
Отрицательные (измена, гражданская война и т. д.)
( Родительские и детей к родителям
Супружеские
Вообще родственные
Те же самые
Кровосмешение
Мужеложство
^ Неравные браки
Проституция
Общественная стыдливость
Стыдливость малолетних
Нищенство
Б родяжничест в о
Пьянство11
^ Уголовно-правовая регламентация труда
Относящиеся к некоторым профессиональным обычаям:
погребению
пище
одежде
церемониалу
всякого рода обычаям
Оскорбление величества
Заговоры против законной власти
Оскорбления, насилия против власти
Восстание
Поскольку они
оскорблены прямо
Косвенно1*
Захват частными лицами общественных
функций. Узурпации. Подлоги
Проступки чиновников и различные
профессиональные проступки
Обман в ущерб государству
Всякого рода непослушание
(административные нарушения)
10 Мы называем положительными те чувства, которые
предписывают положительные поступки, каковы религиозные обряды;
отрицательные чувства предписывают только воздержание. Между
ними, значит, существуют только различия в степени. Они,
однако, важны, так как обозначают две фазы в развитии этих чувств.
11 Вероятно, что и другие побуждения входят в наше
осуждение пьянства, в частности отвращение к состоянию деградации,
в котором оказывается пьяный человек.
12 Мы помещаем в эту рубрику поступки, которые обязаны
своим уголовным характером силе реакции, свойственной органу
коллективного сознания, по крайней мере отчасти. Точное
разделение этих двух подклассов, впрочем, трудно осуществить,
149
II
Имеющие индивидуальные объекты
Чувства,
касающиеся
видуальных
личностей
Убийства, нанесение ран. Самоубийство
Индивидуальная
свобода
физическая
моральная
(принуждение в
осуществлении
гражданских прав)
Честь
(Оскорбление, клевета
^Лжесвидетельство
Касающиеся вещей
индивида
(Кражи, мошенничество, злоупотребление доверием
^Различные подлоги
Касающиеся группы индивидов,
как их личности, так и имущества
Изготовление фальшивых денег.
Банкротство
Поджог
Разбой. Грабеж
Здравоохранение
III
Достаточно бросить взгляд на эту таблицу, чтобы
увидеть, что значительное число криминологических типов
постепенно исчезло.
В настоящее время регламентация семейной жизни
почти целиком потеряла уголовно-правовой характер.
Из этого надо исключить только запрещение
прелюбодеяния и двоеженства. Но прелюбодеяние занимает в списке
наших преступлений совершенно исключительное место,
так как муж имеет право освободить от наказания
осужденную жену. Что касается обязанностеа других членов
семьи, то они не имеют более репрессивной санкции.
Не так было прежде. Пятая заповедь толкует сыновнюю
любовь как социальную обязанность. Поэтому ударивший
своих родителей13, проклявший их14 или не
послушавшийся отца 15 наказывается смертью.
В афинской общине, которая, принадлежа к тому же
типу, что и римская, представляет, однако, более
первобытную разновидность ее, законодательство в этом
пункте имело тот же характер. Пренебрежение семейными
обязанностями давало место особому иску: «Те, которые
бранили своих родителей, дурно обращались с ними или
их родственниками по восходящей линии, те, которые не
доставляли им необходимых средств существования,
которые не устраивали им погребения с подобающим ИМ
13 Исход, XXI, 17. Ср,: Второзак. XXVIT. 16%
14 Исход, XXI, 45.
" Исход, XXI, 18-21.
15Q
Достоинством... могли быть преследуемы в порядке γραφή
κακώσεω; »1β.36* Обязанности родных к сироте были
санкционированы действиями того же рода. Однако
значительно меньшие наказания за эти преступления
свидетельствуют, что соответствующие чувства не имели в
Афинах той же силы или определенности, что в Иудее 17.
В Риме, наконец, обнаруживается новый и еще более
резкий регресс. Единственные семейные обязанности,
освященные уголовным законом, это те, которые связывают
клиента с патроном, и наоборот 18. Что касается других
семейных проступков, то они наказываются только
дисциплинарно отцом семейства. Конечно, авторитет,
которым он располагает, позволяет ему сурово подавлять их,
но когда он так пользуется своей властью, то пе в
качестве общественного чиновника, не в качестве судьи,
обязанного заставлять уважать в своем доме общий
закон государства, но как частное лицо19. Этого рода
проступки становятся, стало быть, чисто частными
делами, которыми общество не интересуется. Таким образом,
мало-помалу семейные чувства вышли из центральной
части коллективного сознания 20.
Такова же была эволюция чувств, касающихся
половых отношений. В Пятикнижии покушения против
нравов занимают значительное место. Множество
поступков, которые наше законодательство более не карает,
рассматриваются как преступление: растление невесты
(Второзак., XXII, 23—27), соединение с рабой (Левит,
XIX, 20—22), обман со стороны потерявшей
девственность, представляющейся при браке девственницей (Вто-
16 Thonissen. Droit pénal de la République athénienne, p. 288.
17 Наказание не было определено, но, по-видимому, состояло
в лишении прав. См.: Thonissen. Op. cit., p. 291.
18 Patronas, si clienti fraudent fecerit, sacer esto «*t— гласит закон
XII таблиц. При возникновении города уголовное право было
менее чуждо семейной жизни. Один lex regia38*, который, по преданию,
восходит к Ромулу, проклинает детей, поступивших грубо со
своими родителями. См.: Festus, р. 230; см. особенно Plorare.
19 См.: Voigt. XII Tafeln, II, S. 273.
20 Может показаться странным, что мы говорим о регрессе
семейных чувств в Риме, избранном месте патриархальной семьи.
Мы можем только констатировать факты; объясняются они тем,
что образование патриархальной семьи имело следствием изъятие
из общественной жизни массы элементов, устроение сферы
частной деятельности, своего рода внутреннего форума. Таким
образом открылся источник изменений, не существовавший до тех пор.
С тех пор как семейная жизнь была изъята из социальной
деятельности и замкнулась в доме, она изменялась от дома к дому,
и семейные чувства потеряли свое единообразие и определенность.
151
розак., XXII, 13—21), мужеложство (Левит, XVIIÎ, 22),
скотоложство (Исход> XXII, 10), проституция (Левит,
XIX, 29) и особо проституция детей священников (Левит,
XIX, 19); кровосмешение, а Левит (гл. XVII)
насчитывает не менее 17 случаев кровосмешения. Все эти
преступления, кроме того, наказываются очень сурово,
большей частью смертью. Они уже менее многочисленны в
афинском праве, карающем только наемную педерастию,
сводничество, сношения с порядочной гражданкой вне
брака, наконец, кровосмешение, хотя мы мало знаем о
существенных признаках поступка, считавшегося
кровосмешением. Наказания тоже вообще были менее суровы.
В римской общине положение почти то же, хотя вся эта
часть законодательства там более неопределенна: можно
сказать, что оно теряет свою выпуклость. «Педерастия в
первобытной общине,— говорит Рейн,— не будучи
предвидена законом, наказывалась народом, цензорами или
отцом семейства, смертью, штрафом или бесчестием»21.
Почти то же самое было при stuprum39*, т. е.
незаконном сношении с матроной. Отец имел право наказывать
свою дочь; народ наказывал штрафом или изгнанием за
это же преступление по жалобе эдилов 22. По-видимому,
наказание за эти проступки было уже отчасти
домашним, частным делом. Наконец, теперь эти чувства
отражаются в уголовном праве только в двух случаях: когда
они оскорбляются публично или когда они касаются
малолетнего, неспособного защитить себя 23.
Класс уголовных правил, который мы обозначили под
рубрикой различных традиций, представляет в
действительности множество отличных друг от друга
криминологических типов, соответствующих различным
коллективным чувствам. Но они все, или почти все, постепенно
исчезли. В простых обществах, где традиция всемогуща и
почти все общее, самые мелочные обычаи в силу
привычки становятся безусловными обязанностями. В Тонкине
масса поступков, представляющих несоблюдение
приличий, карается суровее, чем серьезные преступления
против общества24. В Китае наказывают доктора, который
21 Criminalrecht der Römer, S. 865.
22 Ibid. S. 869.
23 Под этой рубрикой мы не помещаем ни похищение человека,
ни изнасилования, в которые входят другие элементы. Это скоо»е
акты насилия, чем бесстыдства.
24 Post. Bausteine, I, p. 226.
152
неправильно составил рецепт 25. Пятикнижие полно
предписаний подобного же рода. Не говоря о весьма большом
числе полурелигиозных обычаев, очевидно древнего
происхождения, вся сила которых заимствована из традиции,
пища26, одежда27, тысячи мелочей экономической жизни
подчинены там очень широкой регламентации 28. Так же
до известного предела обстояло дело и в греческих
общинах. «Государство,—говорит Фюстель де Куланж,—
осуществляло свою тиранию вплоть до мелочей. В Локрах
закон запрещал мужчинам пить чистое вино. Одежда
обыкновенно утверждалась неизменно законами каждой
общины; законодательство Спарты регулировало прическу
женщин, а афинское запрещало им брать с собой в
путешествие больше трех платьев. В Родосе закон запрещал
брить бороду, в Византии он наказывал штрафом того,
кто хранил у себя дома бритву; в Спарте, наоборот, он
требовал, чтобы брили усы» 29. Но число этих
проступков уже значительно меньше; в Риме приводится
только несколько законов против роскоши, касающихся
женщин. В наше время было бы, по-видимому, трудно найти
их в нашем праве.
Но наиболее важная для уголовного права потеря
происходит от полного или почти полного исчезновения
религиозных преступлений. Вот целый мир чувств, который
перестал относиться к числу сильных и определенных
состояний общего сознания. Когда довольствуются
сравнением нашего законодательства об этом предмете с
законодательством низших социальных типов, вместе взятых,
то этот упадок кажется столь резким, что возникает
сомнение в нормальности и долговечности его. Но когда
пристально следишь за развитием фактов, то констатируешь,
что эта элиминация регулярно прогрессировала.
Замечаешь, как она становится полнее по мере того, как
поднимаешься от одного социального типа к другому.
Невозможно, следовательно, чтобы она была вызвана
случайными и временными событиями.
Невозможно было бы перечислить все религиозные
преступления, различаемые и караемые Пятикнижием.
25 Ibid. То же самое было в древнем Египте. См.: Thonissen.
Etudes sur l'histoire du droit criminel des peuples anciens, I, p. 149.
26 Второзак. XIV, 3 и след.
27 Там же, XXII, 5, 11, 12; XIV, 1.
28 «Не засевай виноградника своего... двумя родами семян»
(Там же. XXII. 9). «Не паши на воле и осле вместе» (Там же, 10).
29 Cité antique, p. 266.
153
Еврей обязан был повиноваться всем повелениям закона
под страхом смерти. «Если же кто... сделает что дерзкою
рукою, то... истребится душа та из среды рода своего» 30.
Он не только не должен был делать того, что было
запрещено, но должен был еще делать все то, что было
приказано: подвергать обрезанию себя и своих близких,
отмечать различные праздники и т. д. Не стоит напоминать,
как многочисленны эти предписания и какими страшными
наказаниями они санкционируются.
В Афинах место религиозной преступности было еще
очень значительно; было особое обвинение — γραφή
ασέβεια; 40*, предназначенное преследовать преступления
против национальной религии. Сфера его была конечно, очень
обширна. «По всей видимости, аттическое право четко не
определило преступлений и проступков, которые должны
были квалифицироваться как ασέβεια41*, так что был
предоставлен большой простор личному мнению судьи» 31.
Однако список их был, несомненно, короче, чем в еврейском
праве. Кроме того, все это, или почти все,—
преступления, действия, а не воздержания. Действительно, главные
из них, о которых упоминается, следующие: отрицание
верований, касающихся богов, их существования, их роли
в человеческих делах; осквернение праздников,
жертвоприношений, игр, храмов и алтарей; нарушение права
убежища, пренебрежение обязанностями в отношении
мертвых; пропуски или искажения в ритуале со стороны жреца;
факт посвящения профанов в секреты мистерий,
вырывание священных оливковых деревьев; посещение храмов
лицами, коим доступ был запрещен32. Преступление,
стало быть, состояло не в том, что не совершали
предписаний культа, а в том, что нарушали его
положительными поступками или словами33. Наконец, не доказано,
что введение новых божеств обязательно нуждалось в
разрешении и рассматривалось как нечестивость, хотя
естественная эластичность этого обвинения позволяла в
этом случае возбудить дело 34. Кроме того, очевидно, что
30 Числа, XV, 30.
31 Meier, Schömann. Der attische Process. В., 1883, S. 367.
32 Мы воспроизводим этот список по Мейеру и Шёману (Op. cit.,
р. 368). Ср.: Thonissen. Op. cit., Ch. II.
33 Фюстель де Куланж, правда, говорит, что, согласно одному
тексту Поллукса (VIII, 46), участие в празднествах было
обязательным. Но цитируемый текст говорит о положительных актах
осквернения, а не о воздержании.
34 Meier, Schömann. Op. cit., S. 369. Ср.: Dictionnaire des
antiquités, слово «Asebeia».
154
релйГйозйое сознание должно было быть менее
нетерпимым на родине софистов и Сократа, чем в
теократическом обществе, каковым был еврейский народ. Для того
чтобы там могла возникнуть и развиться философия^
нужно было, чтобы традиционные верования не были
слишком сильными и не мешали ее расцвету.
В Риме они давят на индивидуальное сознание еще с
меньшей тяжестью. Фюстель де Куланж справедливо па-
стаивал на религиозном характере римского общества; но
в сравнении с предшествующими народами римское
государство было значительно менее проникнуто
религиозностью 35. Политические функции, очень рано
отделившиеся от религиозных, подчинили их себе. «Благодаря
этому преобладанию политического принципа и
политическому характеру римской религии, государство
оказывало религии свою поддержку лишь постольку, поскольку
направленные против нее покушения угрожали косвенно
ему. Религиозные верования других государств или
иностранцев, живших в римской империи, были терпимы,
если они замыкались в свои границы и не слишком
затрагивали государство» 36. Но государство вмешивалось,
если граждане обращались к иностранным божествам и
таким образом причиняли вред национальной религии.
Однако «этот вопрос рассматривался скорее как объект
интереса высокой администрации, чем как вопрос права,
и против этих поступков боролись в соответствии с
обстоятельствами посредством предупреждающих и
запрещающих эдиктов или наказаний вплоть до смертной
казни»37. В Риме религиозные процессы, конечно, не
имели того значения в уголовном праве, что в Афинах.
Мы там не находим никакого юридического установления,
напоминающего γραφή ασεβείας .
Преступления против религии не только более четко
определены и менее многочисленны, но многие из них
понизились на одну или многие степени. Действительно,
римляне не ставили их все на одну доску, но различали
scelera expiabilia от scelera inexpiabilia42*. Первые
требовали только искупления, которое состояло в жертво-
35 Фюстель сам признает, что эта черта была гораздо резче
выражена в афинской общине. См.: La cité..., гл. XVIII, последние
строки.
38 Rein, Criminalrecht der Römer, S. 887-888.
37 Walter, Histoire de la procédure civile et du droit criminel
chez les Romains, § 804.
155
приношении богам38. Несомненно, это
жертвоприношение было наказанием в том смысле, что государство
могло потребовать исполнения его, ибо пятно, которым ш>
крыл себя виновный, заражало общество и могло навлечь
на него гнев богов. Однако это наказание совсем другого
рода, чем смерть, конфискация, изгнание и т. д. Но эти
столь легко отпускавшиеся грехи были из тех, которые
афинское право карало самым суровым образом. В самом
деле это были:
1) осквернение всякого locus sacer;43*
2) осквернение всякого locus religiosus"*
3) развод в случае брака per confarreationem;/l5*
4) продажа сына, родившегося в таком браке;
5) выставление мертвеца на дневной свет;
6) совершение без дурного умысла какого-нибудь
scelera inexpiabilia.
В Афинах осквернение храмов, малейшее нарушение
религиозных церемоний, иногда даже ничтожнейшее
нарушение ритуала39 наказывалось смертью.
В Риме настоящие наказания имелись только против
покушений очень серьезных и в то же время
преднамеренных. Scelera inexpiabilia в самом деле были только
следующие:
1) всякое умышленное пренебрежение чиновника
обязанностью совершать ауспиции46* или sacra47*, или
же их осквернение;
2) совершение — притом умышленное — судьей legis
actio 48* в несчастливый день;
3) умышленное осквернение feriae 49* поступками,
запрещенными в подобном случае;
4) кровосмешение, совершенное весталкой или с
весталкой 40.
Часто христианству вменяли в упрек его нетерпимость.
Однако оно осуществило с этой точки зрения
значительный прогресс сравнительно с предшествовавшими
религиями. Религиозное сознание христианских обществ даже
в эпохи максимума веры определяет уголовное воздейст-
38 См.: Marquardt. Römischc Staatsverfassung. II Aufl. В. III,
S. 185.
39 См. подтверждающие факты у Thonissen'a. Op. cit., p. 187.
40 По Фойгту. XII Tafeln, I, S. 450-455. Ср.: Marquardt. Rö-
mische Allerthümer, VI, S. 248. Мы оставляем в стороне одно или
два scelera, имевших одновременно и светский и религиозный
характер, и относим к ним только те, которые суть прямые
оскорбления божественных явлений.
156
ßiie только тогда, когда восстают против него t kakitta-
нибудь шумным делом, когда его отрицают и нападают на
него открыто. Отделенное от мирской жизни даже полнее,
чем в Риме, оно не может уже навязываться столь же
властно и должно занимать более оборонительную позицию.
Опо lie требует более наказания за мелкие
нарушения, вроде тех, о которых мы сейчас упоминали, но
требует только тогда, когда религия затронута в одном
из своих основных принципов, а число их не очень
велико, так как вера, одухотворяясь, становясь более общей
и абстрактной, вместе с тем упростилась. Святотатство,
разновидностью которого является и богохульство, ересь
в ее различных формах, составляют с этих пор
единственные религиозные преступления41. Список, таким
образом, продолжает уменьшаться, свидетельствуя, что
сильные и определенные чувства становятся малочйслен-
нее. Да разве и могло быть иначе? Всякий знает, что
христианская религия — наиболее идеалистическая из всех
существовавших. Значит, в ней гораздо больше весьма
широких и общих положений веры, чем частных
верований и определенных обычаев. Вот почему пробуждение
свободной мысли внутри христианства произошло
относительно рано. С самого начала образуются различные
школы и даже противоположные секты. Едва христианские
общества начинают в средние века организовываться, как
появляется схоластика, первая методическая попытка
свободного размышления, первый источник расколов.
Право на дискуссию признано в принципе. Нет оеобходи-
мости доказывать, что с тех пор движение только
усилилось. Таким образом, религиозная преступность в конце
концов полностью или почти полностью вышла из
уголовного права.
IV
Таковы, стало быть, разновидности преступлений,
постепенно исчезнувшие без замещения, ибо среди вновь
появившихся нет таких, которые были бы абсолютно новы.
Если мы воспрещаем нищенство, то и Афины наказыва-
41 Du Boys. Histoire du droit criminel des peuples modernes, VI,
p. 62 etc. Следует отметить, однако, что строгости против
религиозных преступлении возникли поздно. В IX в. святотатство еще
искупалось штрафом в 30 ливров серебра (см.: Du Boys. Op. cit. V,
p. 231). Только ордонанс 1226 г. впервые санкционирует смертную
казнь против еретиков. Можно, стало быть, думать, что усиление
наказаний против этих преступлений является анормальным
явлением, вызванным исключительными обстоятельствами и не
порожденным нормальным развитием христианства.
157
ли за праздность ki. Нет общества, где преступления,
направленные против национальных чувств или
национальных институтов, были бы когда-либо терпимы; репрессия,
по-видимому, прежде была суровей, и, следовательно,
есть основание думать, что соответствующие чувства
ослабели. Преступление оскорбления величества, некогда
столь широко распространенное, все ближе к
исчезновению.
Утверждали, однако, что преступления против
личности не признавались у низших народов, что воровство и
убийство там были даже в почете. Ломброзо недавно
пытался вновь отстаивать этот тезис. Он утверждает, что
«преступление у дикаря не исключение, но общее
правило... что оно там никем не рассматривается как
преступление» 43. Но в подтверждение этого взгляда он
приводит только несколько редких и двумысленных фактов,
которые он истолковывает, не критикуя. Таким образом он
приходит к отождествлению воровства с практикой
коммунизма 50* или с международным разбоем44. Но из
того, что собственность не делится между членами
группы, не следует вовсе, что признано право на воровство.
Воровство, собственно, и может существовать только в
той мере, в какой уже есть собственность45. Точно так
же из того, что общество не находит возмутительным
грабить соседние народы, нельзя заключить, что оно
допускает те же обычаи в своих внутренних отношениях и не
защищает своих членов друг от друга. Но надо ведь было
установить безнаказанность именно внутреннего разбоя.
Есть, правда, одно место у Диодора и другое у Авла Гел-
лия4в, которые могут заставить думать, что такое
своеволие существовало в древнем Египте. Но эти тексты
опровергаются всем тем, что мы знаем о египетской
цивилизации. «Как допустить,— говорит весьма справедливо То-
42 Thonissen. Op. cit., p. 363.
43 L'homme criminel, p. 36.
44 «Даже у цивилизованных народов,- говорит Ломброзо в
подтверждение своих слов,— частная собственность устанавливалась
медленно» (Ibid.).
45 Этого не следует забывать при обсуждении некоторых
понятии первобытных народов относительно воровства. Там, где
коммунизм возник недавно, связь между вещью и личностью еще
слаба, т. е. право индивида на его вещь не так сильно, как теперь, и,
следовательно, покушения на это право не так серьезны. Это не
значит, что воровство считается терпимым. Оно не существует
постольку, поскольку не существует частной собственности.
48 Диодор, I, 39; Лвл Геллий. Noctes Atticae, XI, 18.
158
ниссен,—терпимость к воровству в стране, где... законы
грозили смертной казнью тому, кто жил недозволенными
доходами, где простое изменение веса и меры
наказывалось лишением обеих рук» 4\ Можно попытаться
путем некоторых предположений48 восстановить факты,
о которых нам неточно сообщили эти авторы, но
неточность их рассказа бесспорна.
Что касается убийств, о которых говорит Ломброзо, то
они всегда совершаются в исключительных
обстоятельствах. Таковы войны, религиозные жертвоприношения,
абсолютная власть варвара-деспота над подданными или
отца над детьми. Но надо было доказать отсутствие
всякого правила, в принципе запрещающего убийство; среди
этих весьма экстраординарных примеров нет ни одного,
который позволяет сделать такое заключение. Факт, что
в особых условиях нарушают это правило, не доказывает,
что оно не существует. Да разве подобные исключения
не встречаются даже в наших современных обществах?
Разве генерал, посылающий на верную гибель полк, чтоб
спасти остальную часть армии, поступает иначе, чем
жрец, приносящий жертву для умилостивления
национального бога? Разве не убивают на войне? Разве муж,
убивающий виновную в прелюбодеянии жену, не
пользуется в известных случаях относительной, а иногда и
абсолютной безнаказанностью? Симпатия, объектом которой
иногда являются убийцы и воры, не является
доказательной. Можно восхищаться мужеством человека, не
признавая в то же время допустимости преступления.
Впрочем, концепция, служащая основанием этой
теории, противоречива сама по себе. Она предполагает
действительно, что первобытные народы лишены всякой
нравственности. Но с того момента, как люди образовали
общество, как бы рудиментарно оно ни было, непременно
существуют правила, управляющие их отношениями, и
следовательно, нравственность, которая, хотя и не походит
на пашу, тем не менее существует. С другой стороны,
если есть правило, общее для всех этих кодексов
нравственности, то это, конечно, то, которое запрещает
преступления против личности; ибо сходные между собою люди
не могут жить вместе, без того чтобы каждый не
испытывал к себе подобным симпатию, которая противостоит
47 Thonissen. Etudes..., I. p. 168.
48 Предположения легко сделать. См.: Thonissen, а также:
Tarde. Criminalité..., p. 40.
159
любому поступку, способному причинить им страдание 49.
В этой теории верно прежде всего то, что законы,
охраняющие личность, некогда оставляли вне сферы
своего действия часть населения, а именно детей и рабов.
Далее, правомерно думать, что эта охрана обеспечена
теперь более тщательно и что, следовательно,
соответствующие коллективные чувства стали сильнее. Но в этих двух
фактах нет ничего, что бы опровергало наше заключение.
Если все индивиды, в каком угодно качестве
составляющие часть общества, теперь одинаково охраняемы, то это
смягчение нравов вызвано не появлением действительно
нового уголовного правила, но расширением старого.
С самого начала было запрещено покушаться на жизнь
членов группы, но в этом отказывали детям и рабам.
Теперь, когда мы не делаем различия, стали наказуемы
поступки, не бывшие прежде преступными. Но это
происходит просто потому, что в обществе имеется больше
личностей, а не потому, что существует больше
коллективных чувств. Увеличились не они, а объект, на который
они направлены. Если, однако, есть основание допустить,
что уважение к индивиду со стороны общества стало
сильнее, то из этого не следует, что центральная область
коллективного сознания расширилась. В нее не вошли
новые элементы, так как это чувство всегда существовало и
всегда имело достаточно энергии, чтобы не позволить
оскорблять себя. Единственное происшедшее изменение
состоит в том, что один прежний элемент стал более
интенсивным. Но это простое усиление не может возместить
установленные нами многочисленные и серьезные потери.
Таким образом, общее сознание, взятое в целом,
содержит все менее сильных и определенных чувств; средняя
интенсивность и средняя степень определенности
коллективных состояний все уменьшается, как мы это
утверждали. Даже весьма ограниченное приращение, отмеченное
нами, только подтверждает этот вывод. Замечательно в
самом деле, что" единственные коллективные чувства,
ставшие более интенсивными, суть именно те, которые
имеют объектом не социальные явления, а индивида. Для
49 Это положение не противоречит другому, часто
высказываемому в этом труде, что в тот момент эволюции не существует
индивидуальной личности. Тогда нет психической личности,
особенно высшей психической личности. Но индивиды всегда обладают
отдельной органической жизнью, и этого достаточно, чтобы
породить отмеченную симпатию, хотя она становится сильнее, когда
личность более развита.
160
того чтобы так было, нужно, чтобы индивидуальная
личность стала гораздо более важным элементом
общественной жизни; а чтобы она могла приобрести это значение,
недостаточно возрастания абсолютной ценности личного
сознания каждого, но нужно еще, чтобы оно увеличилось
более, чем общее сознание. Нужно, чтобы оно
освободилось от гнета последнего и чтобы, следовательно, это
последнее потеряло свою первоначальную власть и
определяющее воздействие. В самом деле, если бы отношение
между этими двумя явлениями осталось тем же, если бы
объем и жизненная сила обоих развились в тех же
пропорциях, то коллективные чувства, относящиеся к
индивиду, также остались бы теми же и ни в коем случае
уже не могли бы сами возрасти. Они зависят
исключительно от социальной ценности индивидуального фактора,
а последняя, в свою очередь, определяется не
абсолютным развитием этого фактора, но относительным объемом
его участия в системе социальных явлений.
V
Это положение можно проверить еще одним методом, на
который мы укажем только вкратце.
В настоящее время мы не обладаем научным
определением религии; в действительности, чтобы получить его,
надо было бы исследовать проблему тем же
сравнительным методом, который мы применили к вопросу о
преступлении, а такой попытки еще не было сделано. Часто
утверждали, что религия на протяжении всей истории
есть совокупность верований и чувств всякого рода,
касающихся отношений человека к существу или
существам, природу которых он считает выше своей. Но такое
определение, очевидно, неадекватно. Действительно,
существует множество правил и поведения и мышления,
которые бесспорно религиозны и, однако, применяются к
отношениям совсем другого рода. Религия запрещает
еврею употреблять известную пищу, велит ему одеваться
определенным образом; она внушает такое-то мнение
насчет природы человека и вещей, насчет происхождения
мира; она очень часто регулирует юридические,
моральные, экономические отношения. Ее сфера действия
простирается, стало быть, далеко за пределы связей между
человеком и божеством. Уверяют, кроме того, что
существует, по крайней мере, одна религия без бога50; доста-
50 Буддизм. См. статью о буддизме в Encyclopédie des sciences
religieuses.
6 Э. Дюркгейм
161
точно было бы установить этот единственный факт, чтоб
не иметь права определять религию в функции понятия
Бога. Наконец, если необычайный авторитет, которым
верующий окружает божество, может объяснить
особенный престиж всего религиозного, то остается еще
объяснить, как люди дошли до того, чтобы приписывать такой
авторитет существу, которое, по признанию всех, во
многих случаях (если не всегда) является продуктом их
воображения. Из ничего не выходит ничего, эта сила должна
у него откуда-то браться, и следовательно, эта формула
не позволяет нам познать сущность явления. Но кроме
этого элемента единственная, по-видимому, черта, которая
одинаково присуща всем религиозным идеям и чувствам,
та, что они общи известному числу индивидов, живущих
вместе, и, кроме того, они имеют довольно высокую
среднюю интенсивность. В самом деле, известно, что, когда
более или менее сильное убеждение разделяется группой
людей, оно неизбежно принимает религиозный характер;
оно внушает сознаниям то же почтительное уважение,
что и собственно религиозные верования. Значит, весьма
вероятно (это краткое изложение не может, конечно,
служить строгим доказательством), что религия
соответствует центральной области общего сознания. Остается,
правда, очертить эту область, отделить ее от той, которая
соответствует уголовному праву и с которой, кроме того,
она часто сливается целиком или отчасти. Эти вопросы
необходимо изучить, но их решение не имеет прямого
отношения к сделанному нами весьма правдоподобному
предположению.
Но история не оставляет сомнения ä том, что религия
охватывает все меньшую часть социальной жизни.
Вначале она простирается на все; все, что социально,
религиозно; оба эти слова суть синонимы. Потом мало-помалу
функции политические, экономические, научные
освобождаются от религиозной, становятся самостоятельными и
приобретают все более отчетливый светский характер. Бог,
который, если можно так выразиться, присутствовал во
всех человеческих отношениях, постепенно удаляется от
них; он оставляет мир людям с их спорами. Индивид
менее чувствует себя лицом, которое заставляют
действовать, он более становится источником самопроизвольной
деятельности. Словом, область религии не только не
увеличивается одновременно с областью мирской жизни, но
все более и более сокращается. Этот регресс не начался в
какой-то определенный момент истории, его фазы можно
162
проследить с самого начала социальной эволюции. Он,
следовательно, связан с основными условиями развития
обществ и свидетельствует, таким образом, что
существует постоянно уменьшающееся число верований и чувств,
которые достаточно коллективны и сильны, чтоб принять
религиозный характер. Это значит, что средняя
интенсивность общего сознания все уменьшается.
Это доказательство имеет перед предыдущим одно
преимущество: оно позволяет установить, что тот же
закон регрессии применим к такому элементу общего
сознания, как представления, так же как и к элементу
эмоциональному. В уголовном праве мы можем обнаружить
только чувственные явления, тогда как религия
включает в себя помимо чувств понятия и теории.
Уменьшение числа поговорок, пословиц и т. д. по мере
развития обществ — еще одно доказательство того, что
коллективные представления также становятся все менее
определенными.
В самом деле, у первобытных народов подобные форму«
лы весьма многочисленны. «Большинство рас западной
Африки,— говорит Эллис,— обладает обширным
собранием пословиц; они находятся для всякого жизненного
обстоятельства,— особенность, объединяющая их с
большинством народов, осуществивших незначительный
прогресс в цивилизации» ". Более развитые общества только
в первое время своего существования богаты ими. Позже
не только новые пословицы не создаются, но и старые
мало-помалу изглаживаются из памяти, теряют свое
подлинное значение и в конце концов перестают вовсе
пониматься. Что их излюбленная почва находится в низших
обществах, доказывается тем, что в наше время они
удерживаются только в низших классах52. Но
пословица — это сгущенное выражение коллективной мысли или
чувства, относящихся к определенной категории объектов.
И вообще невозможно, чтобы существовали подобные
верования или чувства, которые не фиксировались бы в
этой форме. Так как всякая мысль стремится к
соответствующему ей выражению, то, если она принадлежит в
целом известному множеству индивидов, она непременно
в конце концов заключается в формулу, общую для них
всех. Всякая продолжительная функция создает себе ор-
51 The Ewe-Speaking peoples of the Slave Coast. L., 1890, p. 258.
52 Borchardt W. Die sprichwörtlichen Redensarten. Leipzig, 1888,
XII. Ср.: Wyss. Die Sprichwörter bei den romischen Komikern.
Zurich, 1889.
163
6*
ган по своему подобию. Напрасно, значит, для
объяснения упадка пословиц ссылались на наш реалистический
вкус и наш научный дух. В разговорном языке мы не
очень заботимся о точности и не пренебрегаем образами;
наоборот, мы находим много удовольствия в
сохранившихся до нас старых пословицах. Кроме того, образ —
не необходимый элемент пословицы; это лишь одно из
средств, но вовсе не единственное, которым сгущается
коллективная мысль. Только эти короткие формулы
становятся со временем слишком узкими, чтобы вместить
разнообразие идивидуальных чувств. Их единство уже не
соответствует возникшим расхождениям. Поэтому они
сохраняются, только принимая более общее значение, с тем,
чтобы затем мало-помалу исчезнуть. Орган атрофируется,
потому что функция более не исполняется, т. е. потому что
существует меньше коллективных представлений,
достаточно определенных, чтобы замкнуться в определенную
форму.
Таким образом, все доказывает, что эволюция общего
сознания происходит в указанном нами направлении.
Весьма вероятно, что оно прогрессирует менее, чем
индивидуальные сознания; во всяком случае, оно в целом
становится более слабым и расплывчатым. Коллективный
тип теряет свою рельефность; формы его становятся
более абстрактными и неопределенными. Бесспорно, если
бы этот упадок был, как часто думали, оригинальным
продуктом нашей новейшей цивилизации и уникальным
случаем в истории обществ, то можно было бы спросить
себя, будет ли оп долговечным; но в действительности он
происходит непрерывно с отдаленнейших времен. Это мы
и пытались доказать. Индивидуализм, свободная мысль
существуют не со вчерашнего дня, не с 1789 г., не с
Реформации, не со схоластики, не с падения греко-римского
политеизма или восточных теократии. Это явление не
начинающееся нигде, но развивающееся, не останавливаясь,
на всем протяжении истории. Конечно, это развитие не
прямолинейно. Новые общества, заменяющие
исчезнувшие социальные типы, никогда не начинают своего пути
точно там, где последние остановили свой. Да и как это
возможно? Дитя продолжает не старость или зрелый
возраст своих родителей, но их собственное детство.
Значит, если хотят представить себе пройденный путь, то
нужно рассматривать сменяющие друг друга общества
только в одну и ту же эпоху их жизни. Нужно,
например, сравнивать средневековые христианские общества с
164
первобытным Римом, последний — с начальной греческой
общиной и т. д. Тогда мы констатируем, что этот
прогресс, или, если угодно, этот регресс, происходил
непрерывно. Здесь, стало быть, имеет место неизбежный
закон, восставать против которого было бы абсурдно.
Это не значит, впрочем, что общее сознание грозит
полным исчезновением. Но оно все более состоит в весьма
общих и неопределенных способах мышления и
чувствования, которые оставляют свободное место для
растущего множества индивидуальных расколов. Есть, правда,
один пункт, в котором оно укрепилось и стало точнее,
именно тот, в котором оно рассматривает индивида. По
мере того как все другие верования и обычаи носят все
менее религиозный характер, индивид становится
объектом своего рода религии. По отношению к достоинству
индивида у нас есть уже культ, который, как и всякий
культ, имеет свои суеверия. Это, если угодно, общая вера;
но, во-первых, она возможна только благодаря
разрушению других и, следовательно, не сумеет произвести тех
же действий, что эта масса угасших верований.
Возмещения нет. Кроме того, если она коллективна, поскольку
разделяется группой, то она индивидуальна по своему
объекту. Если она обращает все воли к одной и той же
цели, то эта цель не социальная. Она занимает,
следовательно, совершенно исключительное положение в
коллективном сознании. Именно из общества черпает она всю
свою силу, но прилагает ее не к обществу, а к нам самим.
Следовательно, она не составляет настоящей социальной
связи. Вот почему был справедлив упрек теоретикам,
создавшим из этого чувства исключительное основание
своих нравственных теорий, что они разрушают
общество. Мы поэтому можем заключить, что все социальные
связи, происходящие от сходств, постепенно ослабляются.
Самого по себе этого закона уже достаточно, чтобы
показать всю важность роли разделения труда.
Действительно, так как механическая солидарность идет на
убыль, то или собственно социальная жизнь должна
уменьшиться, или какая-нибудь другая солидарность
должна мало-помалу заместить убывающую. Нужно
выбирать. Напрасно утверждают, что коллективное
сознание расширяется и укрепляется одновременно с
индивидуальным. Мы доказали, что оба эти явления
изменяются в обратном отношении друг к другу. Однако
социальный прогресс не состоит в непрерывном разложении;
наоборот, чем дальше, тем сильнее общества проникаются
165
глубоким ощущением самих себя и своего единства.
Необходима, стало быть, какая-нибудь другая социальная
связь, которая бы производила этот результат; не может
быть, однако, другой связи, кроме той, которая
происходит от разделения труда.
Если, кроме того, вспомнить, что механическая
солидарность даже там, где она наиболее прочна, не
связывает людей с такой же силой, как разделение труда, что
она оставляет вне сферы своего действия большую часть
теперешних социальных явлений, станет еще яснее, что
социальная солидарность стремится стать исключительно
органической. Именно разделение труда все более и более
исполняет роль, которую некогда исполняло общее
сознание; именно оно главным образом удерживает
единство социальных агрегатов высших типов.
Вот важная функция разделения труда, отличная от
той, которую обыкновенно признают за ним экономисты.
*
Глава VI
ВОЗРАСТАЮЩЕЕ ПРЕОБЛАДАНИЕ
ОРГАНИЧЕСКОЙ СОЛИДАРНОСТИ
И ПОСЛЕДСТВИЯ ЭТОГО
(продолжение)
I
Механическая солидарность, существующая вначале одна,
или почти одна, постепенно утрачивает почву; мало-
иошод^^бериг вирл ир1анитесяця.,.еш1мдарность: таков ис-
^РНРГЧ"* ^«^" Но если изменяется способ, которым
люди солидаризируются, структура обществ не может не
измениться. Форма тела непременно изменяется, когда
молекулярные свойства уже не те, что прежде.
Следовательно, если предыдущее положение верно, то должны
существовать два социальных типа, соответствующих
этим двум видам солидарности.
Если попытаться мысленно установить идеальный тип
общества, сплоченность которого проистекала бы
исключительно от сходств, то надо представить его себе как
абсолютно однородную массу, части которой не отличаются
друг от друга и, следовательно, не прилажены друг к
другу,— словом, лишены всякой определенной цели и ор-
166
ганизации. Это была бы настоящая социальная
протоплазма, зародыш, откуда возникли все социальные типы. Мы
предлагаем назвать охарактеризованный таким образом
агрегат ордой.
Правда, еще не наблюдали доподлинно общества,
которое бы во всем соответствовало этим признакам.
Однако можно постулировать его существование, так как
низшие общества, т. е. те, которые наиболее близки к этой
первобытной стадии, образованы путем простого
повторения агрегатов этого рода. Почти совершенный образец
этой социальной организации мы находим у индейцев
Северной Америки. Например, всякое ирокезское племя
состоит из некоторого числа частных обществ (самое
большое охватывает 8 таких обществ), которые все
представляют указанные нами черты. Взрослые обоих полов там
равны между собой. Находящиеся во главе каждой из
этих групп сахемы и вожди, совет которых управляет
общими делами племени, не пользуются никаким
преимуществом. Само родство тоже не организовано, ибо
нельзя применить этого названия к распределению массы по
поколениям. В ту позднюю эпоху, когда стали наблюдать
эти народы, существовали, правда, некоторые
специальные обязанности, связывавшие ребенка с его
родственниками по матери; но эти отношения сводились к
весьма немногому и не отличались заметно от тех,
которые он поддерживал с другими членами общества. В
принципе все индивиды одного возраста были родственниками
друг другу в одной и той же степени *. В других случаях
мы еще ближе подходим к орде; Файсон и Хауитт
описывают австралийские племена, которые содержат только
дна из этих делений 2.
Мы называем кланом орду, которая перестала быть
самостоятельной и стала элементом более обширной
группы, и называем сегментарными обществами с клановой
основой народы, образовавшиеся из ассоциации кланов.
Мы говорим об этих обществах, что опи сегментарны,
чтобы указать, что они образованы повторением подобных
между собой агрегатов, аналогичных кольцам кольчатых;
а об этом элементарном агрегате — что он клан, так как
это слово прекрасно выражает его смешанную природу,
семейную и политическую одновременно. Это — семья в
1 Morgan. Ancient society, p. 62-122.
2 Kamilaroi and Knrnai. Это состояние, впрочем, вначале
прошли американские индейцы. См.: Morgan. Op. cit.
167
том смысле, что все составляющие его члены смотрят на
себя как на родственников, и на самом деле они в
большинстве случаев единокровные родственники. Именно
порождаемые общностью крови связи главным образом
соединяют их. Кроме того, они поддерживают между собой
отношения, которые можно назвать семейными, так как
мы встречаем их в обществах, семейный характер
которых неоспорим. Я говорю о коллективной мести, о
коллективной ответственности и — с тех пор как появляется
индивидуальная собственность — о взаимном
наследовании. Но, с другой стороны, это не семья в собственном
смысле слова, ибо, чтобы составить часть ее, не
обязательно иметь с другими членами клана определенные
отношения единокровности. Достаточно обладать внешним
признаком, который обычно состоит в наличии одного и
того же имени. Хотя предполагается, что этот признак
указывает на общее происхождение, подобное
гражданское состояние составляет в действительности весьма
малодоказательное и легко имитируемое свидетельство.
Поэтому клан включает многих чужаков, и это позволяет
ему достигнуть размеров, которых никогда не имеет
собственно семья; очень часто он насчитывает несколько
тысяч человек. Кроме того, это основная политическая
единица. Главы кланов — единственные общественные
власти 3.
Итак, эту организацию можно было бы также назвать
политико-семейной. Но не только клан имеет в основе
единокровность; весьма часто различные кланы одного
народа рассматривают друг друга как родственников.
Ирокезы — смотря по обстоятельствам — обращаются
между собой как братья или двоюродные братья4. У
евреев, которые, как мы увидим, принадлежат к тому же
социальному типу, родоначальник каждого из кланов,
составляющих племя, считается происходящим от
основателя этого последнего, который, в свою очередь, рассматри-
3 Если в состоянии чистоты - мы, но крайней мере, думаем
так - клан образует нераздельную, смешанную семью, то позже
появляются на первобытно-однородном фоне отдельные, отличные
друг от друга семьи. Но это появление не изменяет существенных
черт описываемой пами социальной организации; вот почему
незачем на этом останавливаться. Клан остается политической
единицей, и так как эти семьи подобны и равны между собой, то
общество остается состоящим из подобных и однородных сегментов,
хотя внутри первоначальных сегментов начинают вырисовываться
новые сегментации, но того же рода.
4 Morgan. Op. cit., p. 90.
168
вается как один из сыновей отца всех людей. Но это
наименование имеет перед предыдущим то неудобство, что
четко не выделяет особую структуру этих обществ.
Но, как бы ни назвать эту организацию, она, точно
так же, как организация орды, продолжение которой она
составляет, не несет в себе, очевидно, другой
солидарности, кроме вызываемой сходствами. Ведь общество
образовано из сходных сегментов, а последние, в свою
очередь, состоят только из однородных элементов.
Несомненно, каждый клан имеет собственный облик и,
следовательно, отличается от других; но солидарность тем слабее,
чем они разнороднее, и наоборот. Для того чтобы
сегментарная организация была возможна, требуется, чтобы
сегменты были сходны между собой, без чего они бы не
соединились, и в то же время чтобы они различались,
без чего они потерялись бы друг в друге и исчезли бы.
В разных обществах эти противоположные требования
удовлетворяются в разных пропорциях, но социальный
тип остается тем же.
На этот раз мы вышли из области доисторического и
догадок. Этот социальный тип не только не представляет
собой ничего гипотетического, но является едва ли не
самым распространенным среди низших обществ; а
известно, что они наиболее многочисленны. Мы уже видели,
что он получил широкое распространение в Америке и
Австралии. Пост отмечает, что он весьма часто
встречается у африканских негров 5. Евреи на нем остановились,
и кабилы не вышли за его пределы 6. Поэтому Вайц,
желая дать общую характеристику структуры народов,
которые он называет Naturvölker, обрисовывает их
следующими словами, в которых мы найдем общие черты
описанной нами организации: «Вообще семьи живут рядом и
независимо друг от друга, развиваются мало-помалу,
образуя небольшие общества (читай: кланы) 7, не имеющие
внутренней организации, пока внутренние усобицы или
внешняя опасность, например война, не выделят одного
или нескольких человек из массы и не поставят их во
5 Afrikanische Jurisprudenz, I.
6 См.: Hanoteau et Letourneux. La Kabylie et les coutumes
kabyles, II; Masqueray. Formation des cités chez les populations
sédentaires do l'Algérie. P., 1886, ch. V.
7 Вайц ошибочно представляет клан как производное от семьи.
Истина заключается в обратном. Впрочем, если это описание
важно по причине компетентности автора, то ему недостает немного
точности.
169
главе ее. Их влияние, основанное исключительно на
личных заслугах, не простирается и не продолжается далее
границ, отмеченных доверием или терпением других.
Всякий взрослый по отношению к такому вождю остается в
состоянии полной независимости... Вот почему мы видим,
как такие народы, не имея другой внутренней
организации, держатся вместе только в силу внешних
обстоятельств и вследствие привычки к общей жизни» 8.
Расположение кланов внутри общества и,
следовательно, конфигурация этого последнего могут, правда,
изменяться. То они просто расположены друг подле друга,
образуя как бы линейный ряд: это мы встречаем у многих
племен североамериканских индейцев9. То каждый из
них — и это уже печать более высокой организации —
заключен в более общей группе, которая, образовавшись
через соединение нескольких кланов, имеет собственную
жизнь и особое имя; каждая из этих групп, в свою
очередь, может быть заключена вместе со многими другими
в еще более обширный агрегат, и из этого ряда
последовательных включений складывается единство общества в
целом. Так, у кабилов политическая единица — это клан,
устроенный в форме деревни (djemmaa или thaddart) ;
несколько djemmaa образуют племя (arch'), а несколько
племен образуют конфедерации (thak' ebilt), высшее
политическое общество, известное кабилам. Точно так же
у евреев клан — это то, что переводчики довольно
неточно называют семьей,— крупное общество, включавшее
тысячи лиц, произошедших, согласно традиции, от одного
предка10. Известное число семей составляло племя,
а соединение двенадцати племен составляло все еврейское
общество. С другой стороны, включение этих сегментов
одного в другой более или менее герметично, вследствие
чего сплоченность этих обществ изменяется от состояния
почти абсолютно хаотического до совершенного
морального единства, которое представляет еврейский народ. Но
эти различия никак не сказываются на отмеченных нами
основополагающих чертах.
Указанные общества — излюбленное место механиче-
_Скойсолидарности, и именно о^^ш^щщи^гекаштгйх глав-
ные^фияиологическиечерты^
8 Anthropologie, I, p. 359.
9 См.: Morgan. Op. cit., p. 153 etc.
10 Так племя рувимов. включавшее всего 4 семьи,
насчитывало, согласно Числам (XXVI, 7) более 43 000 взрослых свыше 20 лет.
Ср.: Числа, гл. III, 15 и след.; Иисус Навин, VII, 14. См.: Munch.
Palestine, p. 116, 125, 191.
170
Мы знаем, что религия здесь проникает во всю
социальную жизнь, но это потому, что социальная жизнь
здесь состоит почти исключительно из общих верований
и обычаев, получающих от единодушной связи
совершенно особую интенсивность. Посредством анализа одних
классических текстов, дойдя до эпохи, совершенно
аналогичной той, о которой мы говорим, Фюстель де Куланж
открыл, что первобытная организация обществ была
семейной по природе и что, с другой стороны, устройство
первобытной семьи имело основой религию. Только он
принял причину за следствие. Положив в основу
религиозную идею, не выводя ее из ничего, он вывел из нее
наблюдаемые им социальные структуры м, тогда как,
наоборот, последние объясняют могущество и природу
религиозной идеи. Так как все эти социальные массы были
организованы из однородных элементов, т. е.
коллективный тип был в них очень развит, а индивидуальные типы
рудиментарны, то неизбежно вся психическая жизнь
приняла религиозный характер.
Отсюда же происходит коммунизм, столь часто
отмечавшийся у этих народов. Действительно, коммунизм —
необходимый продукт этой особой сплоченности,
поглощающей индивида в группе, часть в целом.
Собственность, в конце концов, это только распространение
личности на вещи. Значит, там, где существует только
коллективная личность, собственность также не может не
быть коллективной. Она сможет стать индивидуальной
только тогда, когда индивид, выделившись из массы,
станет также личным, отдельным существом, не только в
качестве организма, но и как фактор социальной жизни 12.
11 «Мы написали историю верования. Устанавливается оно-
устанавливается человеческое общество. Изменяется оно -
общество проходит ряд революций. Исчезает оно — общество меняет
облик» (Cité antique, in fine).
12 Уже Спенсер сказал, что социальная эволюция, как и
всеобщая, начала со стадии более или мепее полной однородности.
Но это положение в том виде, как он его понимает, ни в чем не
похоже на развиваемое нами. Для Спенсера в самом деле
совершенно однородное общество не было бы обществом, ибо однородное
неустойчиво по природе, а общество — главным образом сплоченное
целое. Социальная роль однородности весьма второстепенна; она
может проложить дорогу позднейшей кооперации (см.: Sociologie,
HI, p. 368), но она не составляет специфический источник
социальной жизни. Временами Спенсер, по-видимому, усматривает в
описанных нами обществах лишь недолговечную сумму независимых
индивидов, нуль социальной жизни (см.: Ibid., p. 390). Мы,
наоборот, видели, что они ведут коллективную жизнь, хотя жизнь свое-
171
Этот тип может даже измениться, не вызывая при
этом изменения природы социальной солидарности.
Действительно, первобытные народы не все представляют
отмеченное нами отсутствие централизации; есть,
наоборот, такие, которые подчинены абсолютной власти.
Значит, там появилось разделение труда. Однако связь,
соединяющая в данном случае индивида с вождем,
тождественна той, которая в наше время соединяет вещь с
личностью. Отношения между варварским деспотом и его
подданными, как и отношения господина с рабами,
римского отца семейства с детьми, не отличаются от
отношений собственника с владеемой им вещью. В них нет
ничего от той взаимности, которую производит
разделение труда. Справедливо утверждали, что они односторон-
ни13. Выражаемая ими солидарность остается поэтому
механической; вся разница в том, что они связывают
индивида не прямо с группой, но с тем, кто является
образом ее. Но единство целого, как и прежде, исключает
индивидуальность частей.
Если это первое разделение труда — как бы важно
оно ни было в других отношениях — не делает более
гибкой социальную солидарность, как можно было бы
ожидать, то в силу особенных условий, в которых оно
происходит. Общий закон в действительности состоит в
том, что важному органу всякого общества присуща часть
природы представляемого им коллективного существа.
Следовательно, там, где общество имеет этот
религиозный и, так сказать, сверхчеловеческий характер,
источник которого мы показали в строении коллективного
сознания, он необходимо сообщается вождю, который им
управляет и таким образом возвышается над остальными
людьми. Там, где индивиды суть простые принадлежности
коллективного типа, они вполне естественно становятся
принадлежностями воплощающей его центральной власти.
Точно так же право нераздельной собственности общины
над вещами переходит целиком к высшей личности,
которая таким образом устанавливается. Итак, собственно
профессиональные услуги, которые оказывает последняя,
образную, проявляющуюся не в обменах и договорах, но в
изобилии общих верований и обычаев. Эти агрегаты являются
сплоченными не только вопреки однородности, но именно благодаря
однородности. Группа в них не только слишком слаба, но можно
сказать, что только она и существует. Кроме того, они образуют
определенный тип, порождаемый их однородностью. Следовательно,
нельзя рассматривать их как ничтожные величины,
*3 См,: Tarde. Lois de l'imitation, p. 402-412.
172
играют незначительную роль в необычайном могуществу
которым она облечена. Управляющая власть имеет в этих
обществах такой авторитет не потому, что они, как это
утверждали, более нуждаются в управлении, чем другие;
эта сила — целиком продукт коллективного сознания,
и если она велика, то потому, что само общее сознание
весьма развито. Предположите, что оно слабее, или
только, что оно охватывает меньшую часть социальной жизни.
От этого нужда в высшей регулирующей функции не
станет меньше, однако остальная часть общества не будет
по отношению к тому, на кого она возложена, в том же
состоянии подчиненности. Вот почему солидарность все
еще механическая, пока разделение труда не развилось
более. Именно в этих условиях она достигает даже
максимума энергии, ибо действие коллективного сознания
сильнее, когда оно осуществляется не диффузно, но через
посредство определенного органа.
Существует, стало быть, определенная социальная
структура, которой соответствует механическая
солидарность. Характеризуется она тем, что представляет собой
систему однородных и сходных между собой сегментов.
II
Совсем иная структура свойственна обществам, где
преобладает органическая солидарность.
Они строятся не повторением однородных и подобных
сегментов, но посредством системы различных органов, ■
каждый из которых имеет специальную роль и которые!
сами состоят из дифференцированных частей. Социальные
элементы здесь не одной природы, и в то же время они
расположены неодинаково. Они не расположены в
линейный ряд, как кольца у кольчатых, не вложены одни в
другие, но скоординированы и субординированы вокруг
одного центрального органа, оказывающего на остальную
часть организма умеряющее воздействие. Сам этот орган
но имеет уже того характера, что в предыдущих случаях,
ибо, если другие органы зависят от него, то и он, в свою
очередь, зависит от них. Несомненно, он также
находится в особом и, если угодно, привилегированном
положении; но оно порождено сущностью исполняемой им роли,
а не какой-нибудь внешней по отношению к его
функциям причиной, не какой-нибудь сообщенной ему извне
силой. Поэтому он вполне человеческий и мирской;
между ним и другими органами различия только в
степени. Таким же образом у животного преобладание нерв-
173
н0и системы над другими системами сводится к праву —
если так можно выразиться — получать отборную пищу
и брать свою долю раньше других; но нервная система
нуждается в них, как и они в ней.
Этот социальный тип по своим принципам настолько
отличается от предыдущего, что может развиваться
только в той мере, в какой этот последний исчез. Индивиды
в самом деле группируются здесь уже не в соответствии
со своим происхождением, но в соответствии с особой
природой социальной деятельности, которой они себя
посвящают. Их естественная и необходимая среда — это
уже не родимая среда, а профессиональная. Не реальная
или фиктивная единокровность отмечает место каждого,
а исполняемая им функция. Несомненно, когда эта новая
организация появляется, она пытается использовать и
ассимилировать существующую. Способ разделения
функций повторяет тогда как можно более точно уже
существующее разделение общества. Сегменты или, по
крайней мере, группы сегментов, соединенных особыми
сходствами, становятся органами. Таким именно образом
кланы, совокупность которых составляла племя левитов,
присвоили себе у евреев жреческие функции. Вообще
классы и касты, вероятно, не имеют ни другого
происхождения, ни другой природы: они происходят от
смешения возникающей профессиональной организации с
предшествовавшей семейной. Но это смешанное устройство
не может долго длиться, ибо между двумя
организациями, которые оно берется примирить, существует
антагонизм, непременно завершающийся взрывом. Только
весьма рудиментарное разделение труда может
приспособиться к этим жестким, твердым, не созданным для него,
формам. Возрастать оно может, только освободившись от
заключающих его рамок. Как только оно переступило
известную ступень развития, нет более соответствия ни
между неподвижным числом сегментов и постоянно
растущим числом специализирующихся функций, ни между
наследственно закрепленными свойствами первых и
новыми способностями, которых требуют вторые 14. Нужно,
стало быть, чтобы социальное вещество вступило в
совершенно новые комбинации и организовалось на совсем
других основаниях. Но пока остается прежняя структура,
она этому противится; вот почему необходимо, чтобы
она исчезла.
14 Основание этого мы увидим ниже, кн. II, гд. IV,
174
История этих двух типов показывает, что
действительно один прогрессировал только в той мере, в какой
другой регрессировал.
У ирокезов социальное устройство с клановой основой
находится в чистом состоянии, и таково же оно у
евреев, как это видно из Пятикнижия, помимо отмеченного
нами небольшого отклонения. Поэтому организованный
тип не существует ни у первых, ни у вторых, хотя,
пожалуй, можно заметить первые следы его в еврейском
обществе.
Не так уже обстоит дело с франками эпохи
салического закона; тут организованный тип появляется со
своими характерными чертами, без всякого компромисса.
Действительно, мы находим у этого народа помимо
регулярной и устойчивой центральной власти целый аппарат
административных, судебных функций; а с другой
стороны, существование договорного права, весьма мало,
правда, развитого, также свидетельствует, что сами
экономические функции начинают разделяться и
организовываться. Поэтому политико-семейная организация серьезно
потрясена. Несомненно, последняя социальная молекула,
а именно деревня, все еще представляет собой
видоизмененный клан. Доказывается это тем, что между
жителями одной деревни существовали отношения, очевидно,
семейного характера и, во всяком случае, характерные
для клана. Все обитатели деревни имеют по отношению
друг к другу право наследования при отсутствии
собственно родственников 15. Один текст, находящийся в
Capita extravagantia legis salicae (§ 9), свидетельствует, что
в случае совершенного в деревне убийства соседей
объединяла коллективная солидарность. С другой стороны,
деревня представляет собой систему, гораздо более
герметично закрытую от внешнего мира и замкнутую на себе
самой, чем простое территориальное разделение, ибо
никто не может поселиться в пей без единодушного
согласия, молчаливого или явного, всех жителей 16. Но в этой
форме клан потерял некоторые свои существенные
черты; не только исчезло всякое воспоминание об общем
происхождении, но он почти полностью лишен всякого
политического значения. Политическая единица — это
сотня, «Население,— говорит Вайц,— обитает в деревне, но
15 См.: Glasson. Le droit de succession dans les lois barbares,
p. 19. Факт, правда, оспаривается Фюстель де Куланжем, каким
бы ясным ни казался текст, на который опирается Глассон.
16 См. титул De Migrantibus салического закона.
175
он^и его область распределяются по сотням, которые во
^tfeex делах войны и мира образуют единицу, служащую
основой всех отношений» 17.
В Риме это двойственное движение прогресса и
регресса продолжается. Римский клан — это gens51*, a
известно, что gens был основой древнего римского
устройства. По с основанием республики gens почти совсем
перестал быть общественным институтом. Это уже не
определенная территориальная единица, как деревня франков,
и не политическая единица. Его не находят ни в
конфигурации территории, ни в строении народных собраний.
Comitia curiata52*, где он играл социальную роль18,
заменены или comitia centuriata53*, или comitia tributa™*,
которые были организованы на совсем других началах.
Это уже только частная ассоциация, сохраняющаяся
силой привычки, но обреченная на исчезновение, потому
что она не соответствует ничему более в жизни римлян.
Но начиная с законов XII таблиц разделение труда
также продвинулось дальше в Риме, чем у предыдущих
народов, и организованное строение стало более развитым:
там находят уже значительные корпорации чиновников
(сенаторов, всадников, коллегий жрецов и т. д.),
ремесленные цехи19 и в то же время рождается понятие о
светском государстве.
Так оправдывается иерархия, установленная нами по
другим, менее методическим критериям, между
социальными типами, которые мы ранее сравнили. Если мы
могли сказать, что евреи эпохи Пятикнижия принадлежали
к социальному типу менее высокому, чем франки времен
салического закона, и что последние, в свою очередь,
стояли ниже римлян эпохи XII таблиц, то потому, что
вообще чем явнее и сильнее у народа сегментарная
организация с клановым основанием, тем ниже он
находится. Подняться он может, только пройдя эту первую
стадию. Поэтому же афинская община, принадлежа к
тому же типу, что и римская, представляет, однако, более
примитивную форму ее: политико-семейная организация
17 Deutsche Verfassungsgeschichte. IL Aufl., H, S. 317.
18 В этих комициях голосовали по куриям, т. е. по группам
родов. Судя по одному тексту, внутри каждой курии голосовали по
родам. См.: Gell., XV, 27, 4.
19 См.: Marquardt. Privât Leben der Römer, II, S. 4. Первые
ремесленные коллегии были основаны Нумой.
176
исчезала там гораздо медленнее. Она сохранялась там
почти до самого наступления упадка 2и.
Но когда исчез клан, организованный тип существует
далеко не один, далеко не в чистом виде. Организация с
клановым основанием — только частный вид более
обширного рода — сегментарной организации. Распределение
общества на сходные части соответствует потребностям,
которые остаются даже при новых условиях социальной
жизни, но производят свои действия в других формах.
Масса населения не делится более согласно отношениям
единокровности, реальным или фиктивным, но согласно
разделению территории. Сегменты более не семейные
агрегаты, но территориальные округа.
Впрочем, переход от одного состояния к другому
совершается путем медленной эволюции. Когда
воспоминание об общем происхождении исчезает, когда семейные
отношения, происходящие от него, но часто (как мы
видели) переживающие его, тоже исчезают, тогда клан
сознает себя как группу индивидов, занимающих одну и ту
же часть территории. Он становится собственно деревней.
Так все народы, переступившие фазу клана, состоят из
территориальных округов (марка, община и т. д.),
которые, подобно римскому gens, заключавшемуся в курий,
заключаются в других округах, таких же по природе, но
более обширных, называемых в одном месте сотнями,
в другом кругами или округами, которые, в свою
очередь, часто состоят в других, еще больших (графство,
провинция, департамент), соединением своим
образующих общество21. Заключение может быть, впрочем,
более или менее герметичным; точно так же связи,
соединяющие между собой самые обширные округа, могут
быть или очень тесными, как в централизованных
странах теперешней Европы, или более слабыми, как в
простых конфедерациях. Но принцип строения тот же, и вот
20 До Клисфена; два же столетия спустя Афины потеряли
независимость. Кроме того, даже после Клисфена, афинский клан,
γ3νυς55*, хотя и потерял политический характер, сохранил довольно
сильную организацию. Ср.: Gilbert. Handbuch der Gricchischen
Staatsalthümer. Leipzig, 1881, 1, S. 142, 200.
21 Мы не хотим сказать, что эти территориальные округа -
простое воспроизведение прежних семейных организаций; этот
новый способ группирования происходит, наоборот (по крайней мере,
отчасти), от новых, нарушающих прежний способ группирования
причин. Главная из них - это образование городов, становящихся
центром концентрации населения (см. ниже кн. II, гл. II, § 1). Но
каково бы ни было происхождение этой организации, она сегмен-
тарна.
177
почему механическая солидарность сохраняется вплоть до
высоких обществ.
Однако она не преобладает в них более, и точно так
же сегментарная организация не представляет собой уже,
как прежде, ни единственный, ни даже существенный
каркас общества. Во-первых, территориальные
разделения непременно носят несколько искусственный характер.
Связи, вызванные совместным жительством, не имеют
в человеческом сердце такого глубокого источника, как
те, что происходят от единокровности. Поэтому они
гораздо менее прочны. Кто родился в клане, тот может
сменить только, так сказать, родственников. Перемене
города или провинции не противятся те же основания.
Несомненно, географическое распределение обычно и в
общих чертах совпадает с известным моральным
распределением населения. У каждой провинции, каждого
территориального деления существуют особые нравы и
обычаи, своя собственная жизнь. Они оказывают, таким
образом, на проникнутых их духом индивидов притяжение,
стремящееся удержать их на месте, а других, наоборот,
отталкивают. Но внутри одной и той же страны эти
различия не могут быть ни очень многочисленными, ни
очень резкими. Сегменты поэтому более открыты друг
другу. И действительно, начиная со средних веков и
«после образования городов иноземные ремесленники
обращаются так же легко и далеко, как и товары» 22.
Сегментарная организация потеряла свою рельефность.
Она ее теряет все более и более по мере развития
обществ. В самом деле, это общий закон, что у частных
агрегатов, составляющих часть более обширного
агрегата, индивидуальность становится все менее различимой.
Одновременно с семейной организацией безвозвратно
исчезли местные религии; остаются только местные обычаи.
Мало-помалу они сливаются между собой и
объединяются; в то же время диалекты и наречия сливаются в один
национальный язык, а областная администрация теряет
свою автономию. В данном факте видели простое
следствие закона подражания23. Но это, по-видимому, скорее
нивелирование, подобное тому, которое происходит между
приведенными в сообщение жидкостями. Поскольку
перегородки, отделяющие различные ячейки социальной жиз-
22 Schmoller. La division du travail étudiée au point do vue
historique. Revue d'économie politique, 1890, p. 145.
23 См.: Tarde. Los lois do l'imitation, passim.
178
ии, менее плотны, то через них чаще переходят; их
проницаемость увеличивается еще больше потому, что их
чаще переходят. Вследствие этого они теряют свою
плотность и постепенно разрушаются; и в той же мере
смешиваются среды. Но местные различия могут
сохраняться только до тех пор, пока существует различие сред.
Итак, территориальные деления все менее и менее
основываются на природе вещей и, следовательно, теряют
свое значение. Можно даже сказать, что народ тем
дальше продвинулся вперед, чем более поверхностный
характер в нем имеют территориальные деления.
С другой стороны, в то время как сегментарная
организация исчезает сама собой, профессиональная
организация все полнее покрывает ее своей сетью. В начале,
правда, она устанавливается только в пределах самых
простых сегментов, не простираясь далее. Каждый город
вместе с непосредственно прилегающими к нему
окрестностями образует группу, внутри которой труд разделен,
по которая стремится быть самодостаточной. «Город,—
говорит Шмоллер,— становится, насколько возможно,
духовным, политическим и военным центром окрестных
деревень. Он стремится развить все отрасли
промышленности, чтобы снабжать их продуктами деревню, и
старается сконцентрировать на своей территории торговлю и
транспорт»24. В то же время внутри города жители
группируются по профессиям, каждый ремесленный цех
представляет как бы город, живущий своей собственной
жизнью 25. В этом состоянии оставались античные города
до сравнительно позднего времени; из него вышли
христианские общества. Но последние прошли эту стадию
очень рано. Начиная с XIV в. развивается разделение
труда между местностями. «Каждый город вначале имел
столько суконщиков, сколько ему было нужно. Но базель-
ские фабриканты серого сукна уже до 1362 г. разоряются
под давлением эльзасской конкуренции; в Страсбурге,
Франкфурте и Лейпциге прядение шерсти рухну.ю около
1500 г. ... Промышленная универсальность прежних
городов безвозвратно погибла».
Впоследствии движение непрерывно распространялось.
«В столице теперь более, чем прежде, концентрируются
активные силы центрального управления, искусство,
литература, крупные кредитные операции; в больших гава-
24 Ibid., p. 144.
25 Levasseur. Les classes ouvrières en France jusqu'à la
révolution, I, p. 195.
179
нях более, чем прежде, концентрируются ввоз и вывоз.
Сотни маленьких торговых местечек, торгуя хлебом и
скотом, благоденствуют и возрастают. В то время как
прежде всякий город имел рвы и валы, теперь несколько
больших крепостей берут на себя защиту всей страны.
Подобно столице, главные провинциальные города растут,
благодаря концентрации провинциальной администрации,
благодаря провинциальным учреждениям, коллегиям и
школам. Сумасшедших или больных определенной
категории, которые прежде были разбросаны, собирают со всей
провинции и всего департамента в одно место. Различные
города все более стремятся к определенным
специальностям, так что мы теперь различаем города
университетские, чиновничьи, фабричные, торговые, города с
минеральными водами, города-рантье. В некоторых местах
или странах концентрируется крупная промышленность:
машиностроение, прядильные, ткацкие мануфактуры,
кожевенные заводы, чугуноплавильные заводы, сахарная
промышленность; они работают для всей страны. В них
завели специальные школы, рабочее население к ним
приспосабливается, машиностроение концентрируется,
а пути сообщения и организация кредита
приспособляются к частным обстоятельствам» 26.
Без сомнения, эта профессиональная организация
стремится в некоторой степени приспособиться к той,
которая существовала до нее, как она первоначально это
сделала с семейной организацией, что вытекает уже из
предшествующего описания. Впрочем, тот факт, что
новые институты отливаются вначале в формы старых,
весьма распространен. Территориальные деления
стремятся, стало быть, специализироваться в форме различных
тканей, органов или аппаратов, как некогда и кланы.
Но как и последние, они не в состоянии фактически
исполнять эту роль. Действительно, город всегда заключает
или различные органы, или различные части их; и
наоборот — почти не бывает органов, которые были бы
целиком заключены внутри определенного округа, какова бы
ни была величина его. Он почти всегда выходит за их
пределы. Точно так же, хотя довольно часто, наиболее
солидарные органы стремятся сблизиться, однако вообще
их материальная близость лишь весьма неточно отражает
степень близости их отношений. Некоторые, прямо
зависящие друг от друга, находятся между собой на большом
26 Schmoller. La division du travail étudiée au point de vue
historique, p. 145-148.
180
расстоянии; другие, отношения которых опосредованны и
отдаленны, очень близки друг к другу. Следовательно,
способ группирования людей, вызываемый разделением
труда, весьма разнится от того, который выражает
распределение населения в пространстве. Профессиональная
среда не более совпадает с территориальной, чем с
семейной. Это новые рамки, заменяющие старые; поэтому
замена возможна только постольку, поскольку последние
исчезли.
Если же этот социальный тип не наблюдается нигде
в абсолютно чистом виде, точно так, как нигде не
встречается одна органическая солидарность, то, по крайней
мере, она все более освобождается от всякой примеси и
становится все более преобладающей. Этот перевес тем
более сильнее и полнее, что в тот самый момент, когда
эта структура еще более утверждается, другая
становится незаметной. Определенный сегмент, составлявший клан,
заменяется территориальным разделением. Вначале, но
крайней мере, последнее соответствовало, хотя и
неопределенным и приблизительным образом, реальному и
моральному делению народонаселения, но мало-помалу
теряет этот характер и становится только произвольной и
условной комбинацией. Но, по мере того как понижаются
эти перегородки, они покрываются все более развитыми
системами органов. Таким образом, если социальная
эволюция остается подчиненной действию тех же
определяющих причин, а далее мы увидим, что это единственно
допустимая гипотеза, то возможно предвидеть, что это
двойное движение будет продолжаться в том же
направлении и что настанет день, когда вся наша социальная
и политическая организация будет иметь исключительно,
или почти исключительно, профессиональное основание.
Впрочем, дальнейшие изыскания установят 27, что эта
профессиональная организация теперь не то, чем она
должна быть; что анормальные причины помешали ей
достигнуть той степени развития, которой требует теперь
состояние нашего общества. Благодаря этому можно
оценить, каково будет ее значение в будущем.
III
Д&т^ЛШ-^дакпн , УПВАШШУТ,,, биптгпгичооннм ■раэвивдцщ..
Теперь известно, что ци^щир, животные образованы из
"сходных сегментов, расположенных то правильными ряда-
27 См. ниже кн. I, гл. VII, § II; кн. III, гл. I.
181
ми, то беспорядочными мазями На самой низкой
ступени эти элементы даже не только сходны между собой,
но и имеют однородный состав. Им дают обычно
название колоний. Но это выражение — не лишенное, впрочем,
двусмысленности — не означает, что такие ассоциации —
не индивидуальной оргашшмыт ИЙЛ ' Ш'йкая тголоният
члены которой находятся в непрерывной" свя:ш тканей,
представляет собойв ^еист^ 28.
-D самом·"деэтег" индивидуальность какого-нибудь агрегата
характеризуется существованием действий, совершаемых
сообща всеми частями. Но между членами колонии имеет
место общее пользование питательными материалами и
невозможность двигаться иначе, как совместными
движениями, пока колония не распалась. Более того: яйцо,
происходящее от одного из ассоциированных сегментов,
воспроизводит не этот сегмент, но всю колонию, часть
которой он составлял: «Между колониями полипов и
колониями наивысших животных нет с этой точки зрения
никакой разницы»29. Провести здесь резкую границу
невозможно уже потому, что нет организмов, как бы они
ни были централизованы, которые не представляли бы в
разных степенях колониального устройства. Следы его
находят даже у позвоночных в устройстве их скелета,
мочеполового аппарата и т. д.; особенно эмбриональное
развитие их доказывает ясно, что они — не что иное, как
видоизмененные колонии 30.
Значит, в животном мире существует
индивидуальность, «возникающая вне всякой комбинации органов» 31.
Но она тождественна индивидуальности обществ,
названных нами сегментарными. Не только остов структуры,
очевидно, тот же, но и солидарность той же природы.
Действительно, так как части, составляющие животную
колонию, механически прикреплены друг к другу, то они
могут действовать только совокупно, по крайней мере
пока они остаются соединенными. Деятельность тут
коллективная. Так как в обществе полипов все желудки
сообщаются между собой, то индивид не может есть без
того, чтобы не ели другие; это, говорит Перрье,
коммунизм в полном смысле слова32. Член колонии, особен-
28 Perrier. Le transformisme, p. 159.
29 Perrier. Colonies animales, p. 778.
30 Ibid., livre IV, ch. V, VI π VII.
31 Ibid., p. 779.
82 Perrier, Le transformisme, p. 167.
282
ао когда она плавает, не может сократиться, не увлекая
в своем движении полипов, с которыми он соединен,
и движение передается от одного к другому лз. У червя
каждое кольцо жестко зависит от других, хотя оно и
может от них отделиться без опасности.
Точно так, как сегментарный тип исчезает по мере
продвижения в социальной эволюции, исчезает и
колониальный тип по мере подъема по лестнице организмов.
Он уже слабее у кольчатых, хотя еще очень явственно
заметен, затем становится почти незаметным у
моллюсков, и наконец, только анализ ученого обнаруживает
следы его у позвоночных. Мы не беремся демонстрировать
аналогии, существующие между типом, заменяющим
предыдущий, и органическим обществом. В том и другом
случае структура, как и солидарность, порождена разде-
^^fi^^PHäl^nmaH' часть ^^и^иКУ^адми- оргапом,
имеет свою собственную сф'ёру'^действия,в которой она"
двткегся jamjgcHMoT ^^gggg^ggg "" другиег· 1Г7Уддаки,
с другой"точкй*з"рёния7оОТПШШя* ЭДТуР'ит друга гораздо
теснее, чем в колонии, так как не могут отделиться, не
рискуя погибнуть. Наконец, в органической эволюции,
так же как и в социальной, разделение труда начинается
того, чтобы впоследствии освободиться от них и разви-
--■ m ι ■И1|ши>||1«1 Il in |1^-»» и птп ^"^— — *~^^ ν-.*.*-* ■>-■«■■ •л»*»ли>.т--,л%.
ваться автономно, цели в действительности орган иногда
и является преобразованным сегментом, то это, однако,
исключение 34.
Резюмируем: мы провели различие между двумя
видами солидарности· Мы-признали, что есть два
соответствующих им социальных типа. Подобно тому как
первые развиваются в обратном отношении друг к другу, из
обоих соответствующих социальных типов один
постоянно регрессирует, по мере того как другой прогрессирует,
а последний определяется разделением социадьиоха труда.
Помимо того что этот результат подтверждает
предыдущие выводы, он окончательно показывает нам все
значение разделения труда. Именно оно чаще всего делает
сплоченными общества, вйутрй^Шйч^н^
туры. И все заставляет предполагать, что в будущем его
роль с этой точки зрения будет несомненно возрастать.
33 Perrier. Colonies animales, p. 771.
34 См.: Ibid., p. 703 etc.
183
IV
Установленный нами в последних двух главах закон
может одной, и только одной, чертой напомнить
основной закон всей социологии Спенсера. Мы, как и он,
утверждали, что место, занимаемое в обществе
индивидом, возрастает вместе с цивилизацией, будучи вначале
почти равным нулю. Но этот неоспоримый факт
представился нам совсем иначе, чем английскому философу, так
что в конечном счете наши заключения скорее
противоположны, чем близки его заключениям.
Во-первых, по Спенсеру, это поглощение индивида
группой есть будто бы результат принуждения и
искусственной организации, вызваппой состоянием войны,
в котором хронически живут низшие общества. На войне
действительно для успеха особенно необходимо единение.
Группа может защищаться или подчинить себе другую
группу только при условии совместного действия. Значит,
нужно, чтобы все индивидуальные силы были
сконцентрированы неразрывным и постоянным образом. А
единственное средство произвести такую концентрацию — это
установить достаточно сильную власть, которой частные
лица были бы абсолютно подчинены. Нужно, чтобы
«подобно тому, как воля солдата отвергается до такой
степени, что он становится во всем исполнителем воли своего
офицера, воля граждан ограничивалась волей
правительства» 35. Следовательно, это организованный деспотизм,
уничтожающий роль индивидов, а так как эта
организация главным образом военная, то сущность такого рода
обществ Спенсер определяет как милитаризм.
Мы же, наоборот, видели, что это растворение
индивида происходит от социального типа, характеризуемого
полным отсутствием всякой централизации. Это —
продукт однородности, отличающей первобытные общества.
Если индивид не отличается от группы, то потому, что
индивидуальное сознание почти не отличается от
коллективного. Спенсер и с ним другие социологи истолковали,
по-видимому, эти факты глубокой древности, исходя из
современных понятий. То резко выраженное чувство
своей индивидуальности, которым каждый из нас теперь
обладает, заставило их думать, что личные права могли
быть ограничены только принудительной организацией.
Мы с этим согласны, поскольку это значит, что человек
35 Sociologie, II, р. 153.
184
не мог добровольно отдать своих прав. Действительно,
если в низших обществах столь мало места отведено
индивидуальной личности, то не потому, что последняя
искусственно подавлена или устранена, а просто потому,
что в этот исторический момент она еще не существует.
Впрочем, Спенсер сам признает, что среди этих
обществ у многих весьма слабое военное и авторитарное
устройство, так что он сам называет их
демократическими36; только он видит в них первых предвестников тех
обществ будущего, которые он называет
промышленными. Но для этого ему приходится не признать тот факт,
что в этих обществах, как и в тех, которые подчинены
деспотическому правлению, индивид не имеет
собственной сферы действия (как это доказывает повсеместное
существование коммунизма), что традиции,
предрассудки, всякого рода коллективные обычаи давят на него не
менее тяжело, чем установленная власть. Поэтому,
только лишая слово его обычного значения, можно
рассматривать их как демократические. С другой сторо.чы.
если бы они действительно были проникнуты
приписываемым им ранним индивидуализмом, то можно было бы
прийти к странному выводу, что социальная эволюция
пыталась с первого же шага произвести совершеннейшие
типы, так как «вначале существует только единственная
правительственная сила, а именно сила общей воли,
выражаемой собравшейся ордой» 37. Не значит ли это, что
движение истории — круговое и прогресс будет состоять
в возвращении назад?
Легко вообще понять, что индивиды могут быть иод-
чинены только коллективному деспотизму, ибо члены
общества могут быть управляемы лишь силой, которая
выше их. Только одна сила имеет это свойство: это сила
группы. Любая личность, как бы она пи была сильна,
ничего не сможет поделать одна против целого общества;
последнее не может, следовательно, быть порабощено
против воли. Вот почему сила авторитарных
правительств происходит, как мы видели, не от них самих,
а от самого устройства общества. Если, кроме того,
индивидуализм от природы присущ человечеству, то
непонятно, как первобытные племена могли так легко
подчиниться деспотической власти вождя повсюду, где это было
необходимо. Идеи, нравы, сами институты должны были
противиться столь радикальному преобразованию. Наобо-
36 Ibid., II, р. 154-155.
37 Ibid., Ill, p. 426-427.
185
рот, все объясняется, как только поняли природу этих
обществ, ибо тогда это изменение не так глубоко, как
кажется. Индивиды, вместо того чтобы подчиняться
группе, подчинились тому, кто ее представлял, а так как
коллективная власть в диффузном состоянии была
абсолютна, то и власть вождя, являющаяся только организацией
предыдущей, естественно, приняла тот же характер.
Вместо того чтобы выводить умаление личности из
установления деспотической власти, нужно, наоборот,
видеть в этом первый шаг на пути к индивидуализму.
Вожди в самом деле суть первые индивидуальные личности,
выделившиеся из социальной массы. Их
исключительное положение, ставя их вне ряда, создает им особый
облик и, следовательно, индивидуальность. Управляя
обществом, они больше не обязаны следовать всем
движениям его. Без сомнения, силу свою они черпают в
группе, по, как только эта сила организована, она становится
автономной и делает их способными к личной
деятельности. Открывается, стало быть, источник инициативы,
до того не существовавший. С тех пор существует кто-
то, кто может производить новое и даже, в известной
мере, идти против коллективных обычаев. Равновесие
нарушилось 38.
Мы настаиваем на этом пункте, чтобы установить
два важных положения.
Во-первых, всякий раз, когда мы сталкиваемся с
правительственным аппаратом, наделенным большой властью,
нужно стараться искать основание ее не в особом
положении управляющих, но в природе управляемых ими
обществ. Надо наблюдать, каковы общие верования, общие
чувства, которые, воплощаясь в какой-нибудь личности
или семье, сообщили ей такое могущество. Что касается
личного превосходства вождя, то в этом процессе оно
играет только второстепенную роль; оно объясняет,
почему коллективная сила сконцентрировалась имепно в
этих руках, а не интенсивность самой силы. С того
момента, как эта сила, вместо того чтобы оставаться
диффузной, должна передаваться в чьи-то руки, это может
происходить только в пользу индивидов, выказавших уже
какое-нибудь превосходство; но если последнее и
отмечает направление течения, то оно не создает его. Если
отец семьи в Риме пользовался абсолютной властью, то
38 Здесь находится подтверждение уже высказанного выше
положения, согласно которому правительственная сила -
эманации жизни, внутренне присущей коллективному сознанию.
186
ne потому, что он самый старший, самый разумный или
самый опытный, а потому, что, благодаря
обстоятельствам, в которых оказалась римская семья, он воплотил
старый семейный коммунизм. Деспотизм, по крайней
мере тогда, когда он не связан с патологией или упадком,
есть не что иное, как преобразованный коммунизм.
Во-вторых, из предыдущего видно, насколько ложна
теория, утверждающая, что эгоизм — отправная точка
человечества, а альтруизм, наоборот, недавнее завоевание.
Этой гипотезе в глазах некоторых людей придает
авторитет то, что она представляется логичесшш следствием
дарвинизма. Во имя догмы о жизненной конкуренции и
естественном отборе нам рисуют в самых грустных тонах
это первобытное человечество, единственными страстями
которого были голод и жажда, притом плохо
удовлетворяемые. Мрачные времена, когда люди не имели другой
заботы и занятия, как оспаривать друг у друга свою
жалкую пищу. Чтобы противодействовать
ретроспективным грезам философии XVIII в., а также некоторым
религиозным теориям, чтобы доказать с большим блеском,
что потерянный рай не позади нас и что в прошлом нам
не о чем жалеть, полагают, что нужно систематически
затемнять и принижать его. Нет ничего менее научного,
чем эти попытки. Если гипотезами Дарвина и можно
пользоваться в морали, то еще с большей умеренностью
и осторожностью, чем в других науках. Дело в том, что
они игнорируют существенный элемент моральной
жизни, а именно умеряющее влияние, которое общество
оказывает на своих членов и которое умеряет и
нейтрализует жестокое действие борьбы за существование и
отбора. Повсюду, где есть общество, есть альтруизм, потому
что есть солидарность.
Поэтому мы находим его с самого начала
человечества и даже в неумеренной форме, ибо лишения, которые
налагает на себя дикарь, чтобы повиноваться
религиозной традиции, самоотречение, с которым он жертвует
жизнью, как только общество требует этой жертвы,
непреоборимая склонность, которая влечет вдову в Индии
следовать за мужем после смерти, галла — не
переживать смерти вождя клана, старого кельта освобождать
своих товарищей от ненужного рта добровольной
смертью,— разве все это не альтруизм? Возможно, будут
смотреть на эти обычаи как на суеверия? Но какое это
имеет значение, раз они свидетельствуют о способности
к самопожертвованию? И кроме того, где начинаются и
187
где кончаются суеверия? Было бы весьма затруднительно
ответить и дать научное определение этому факту.
Разве не суеверие — привязанность наша к местам, где мы
жили, к людям, с которыми у нас были
продолжительные отношения? И, однако, эта способность
привязываться разве не признак здорового морального устройства?
Говоря строго, вся жизнь чувства состоит только из
суеверия, так как оно чаще предшествует суждению и
управляет им, чем зависит от него.
С научной точки зрения поведение эгоистично в той
мере, в какой оно определяется чувствами и
представлениями, свойственными исключительно нам лично. Если
же мы вспомним, до какой степени в низших обществах
индивидуальное сознание поглощено коллективным, то
мы даже подвергнемся искушению подумать, что оно
совершенно иное, нежели «я», что оно целиком
альтруизм, как сказал бы Кондильяк. Этот вывод был бы,
однако, преувеличением, ибо есть сфера психической
жизни, которая, как бы ни был развит коллективный тип,
изменяется от одного человека к другому и принадлежит
исключительно каждому; это та, которая состоит из
представлений, чувств и стремлений, относящихся к
организму и состояниям его; это мир внутренних и внешних
ощущений и движений, прямо связанных с ним. Это
первое основание всякой индивидуальности неотчуждаемо и
не зависит от социального состояния. Итак, не нужно
говорить, что альтруизм возник из эгоизма; подобное
происхождение было бы равнозначно творению ex nihi-
1о56*. Говоря точно, эти две пружины поведения
присутствовали с самого начала во всех человеческих
сознаниях, ибо не может быть сознаний, которые не отражают
одновременно вещей, относящихся только к индивиду,
и вещей, которые не относятся к нему лично.
Одно лишь можно сказать: что у дикаря эта низшая
часть нас самих представляет более значительную часть
всего общества, потому что последнее имеет меньший
объем и высшие сферы психической жизни у него менее
развиты. Она имеет более относительное значение, и,
следовательно, более власти над волей. Но, с другой
стороны, для всего того, что выходит из круга физических
потребностей, первобытное сознание, по сильному
выражению Эспинаса, целиком находится вне себя. Наоборот,
у цивилизованного человека эгоизм вмешивается и в
высшие представления: каждый из нас имеет свое
мнение, свои верования, свои собственные стремления и
188
дер/и»!гея за пил. о., даже вторгается в альтруизм, ибо
случается, что у нас имеется собственный способ быть
альтруистом, зависящий от нашего личного характера и
образа мысли, способ, устранить который мы не согласны.
Конечно, не нужно из этого заключать, что доля эгоизма
во всей жизни стала больше; необходимо принять в
расчет, что и сознание в целом расширилось. Тем не менее
верно, что индивидуализм развился в абсолютную
ценность, проникая в области, которые вначале были для
него закрыты.
Но этот индивидуализм, плод исторического развития,
не тот, который описал Спенсер. Общества, называемые
им промышленными, не более похожи на организованные,
чем военные общества на сегментарные с семейным
основанием. Это мы и увидим в следующей главе.
*
Глава VII
ОРГАНИЧЕСКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ
И СОЛИДАРНОСТЬ ДОГОВОРНАЯ
I
В промышленных общества^ Спенсера, как и в организо-
вяинкту ппщедтдау, р/^стя ттт^на я гяриппттгт ттп ^пипм^^шлр
ПрПСТЛУППИТ^^авТТЦД! flfipfl^fl»* /w рпгууъттптптгт "ру™о * Ха_
рШ£¥еризует ее то, что она состоит в кооперации,
возникающей автоматически, благодаря тому только, что каждый
преследует свои собственные интересы. Достаточно
каждому индивиду посвятить себя специальной функции,
чтобы он оказался силой обстоятельств солидарным с
другими. Разве это не отличительный признак
организованных обществ?
Но если Спенсер и справедливо указал, какова в
высших обществах главная причина социальной
солидарности, то он ошибся относительно способа, каким эта
причина производит свое действие, и, следовательно,
ошибся в природе последнего.
Действительно, для него промышленная солидарность,
как он ее называет, представляет две следующие черты.
Поскольку она самопроизвольна, то нет нужды ни в
каком принудительном аппарате ни для ее создания, ни
1 Sociologie, III, p. 332 etc.
189
для ее сохранения. Обществу незачем вмешиваться,
чтобы обеспечить сотрудничество, которое устанавливается
само собой. «Каждый человек может существовать своим
трудом, обменивать свои продукты на чужие, предлагать
свои услуги и получать плату, вступать в ту или иную
ассоциацию для ведения крупного или небольшого дела,
не повинуясь направлению общества в целом» 2. Значит,
по Спенсеру, сфера социального действия все более
сужается, ибо она не имеет более другой цели, нежели
препятствовать индивидам делать захваты у других и
вредить взаимно друг другу, т. е. она является регулятором
только отрицательным.
В этих условиях между людьми остается только одна
свлзь, а именно абсолютно свободный обмен. «Все
промышленные дела... совершаются путем свободного обмена.
Это отношение становится в обществе преобладающим по
мере того, как становится преобладающей
индивидуальная деятельность» 3. Но нормальная форма обмена — это
договор; вот почему «по мере того, как с падением
милитаризма и возрастанием промышленности уменьшается
могущество и значение власти и увеличивается
свободное действие, договорное отношение становится общим;
наконец, в полностью развитом промышленном типе это
отношение становится универсальным» 4.
Этим Спенсер не хочет сказать, что общество
основывается на скрытом или формальном договоре. Гипотеза
общественного договора, наоборот, непримириаЙГ"с~прин-
цином разделения ^руда ; '^ем бол^е- придают -значения
последнему, тем полне1Г1¥ужно отказаться от постулата
Руссо. Ибо, для того чтобы такой договор был возможен,
необходимо, чтобы в известный момент все
индивидуальные воли пришли к согласию насчет общих основ
социальной организации и, следовательно, чтобы каждое
частное сознание поставило перед собой политическую
задачу во всей ее общности. Но для этого необходимо,
чтобы каждый индивид вышел из своей отдельной сферы,
чтобы все одинаково играли одну и ту же роль, роль
государственных людей и организаторов. Представьте
себе момент, когда общество устанавливает договор: если
согласие единодушно, то содержание всех сознаний
тождественно. Значит, поскольку социальная солидарность
2 Ibid., p. 808.
3 Ibid., II, р. 160.
4 Ibid., Ill, p. 813.
190
происходит от подобной причины, она не имеет
никакого отношения к разделению труда.
Такой договор менее всего похож на ту
самопроизвольную и автоматическую солидарность, которая, по
Спенсеру, отличает промышленные общества, ибо он,
наоборот, в этом сознательном преследовании социальных
целей видит характерную черту военных обществ \ Такой
договор предполагает, что все индивиды могут себе
представить общие условия коллективной жизни для того,
чтобы сознательно сделать выбор. Но Спенсер знает, что
такое представление превосходит научное знание в его
теперешнем состоянии, а следовательно, и сознание. Он
настолько убежден в тщетности размышления, когда оно
применяется к подобным предметам, что не только не
подчиняет их общественному мнению, но даже не дает
вмешаться сюда законодателю. Он думает, что
социальная жизнь, как и всякая жизнь вообще, может
организовываться совершенно естественно только путем
бессознательной и самопроизвольной адаптации, под
непосредственным давлением потребностей, а не по обдуманному
плану рефлектирующего ума. Он, следовательно, не
верит, чтобы высшие общества могли строиться по
торжественно обсуждаемой программе.
^ Теорию пбтт^йг.трр^р^гп ттпгпкоря тяпврк трудно
защищать, ибо она не основан^ на Фактах. Наблюдатель не
встречает ее, так сказать, на своем пути. Не только нет
обществ, которые бы имели такое происхождение, но нет
и таких, структура которых содержала бы хоть малейший
след договорной организации. Следовательно, это и не
исторический факт, и не тенденция, выявляемая в
историческом развитии. Поэтому, чтобы омолодить это учение и
придать ему какой-то вес, нужно было назвать договором
одобрение каждым ставшим взрослым индивидом
общества, в котором он родился, уже тем только, что он
продолжает в нем жить. Но тогда нужно называть договором
всякий человеческий поступок, не вызванный
принуждением 6. В этом случае нет ни одного общества, ни в
прошлом, ни в настоящем, которое бы не было
договорным, ибо нет таких обществ, которые могли бы
существовать благодаря одному только принуждению. Мы выше
привели основания этого. Если иногда думали, что при-
5 Ibid., II, р. 332 etc. См. также: L'individu contre l'Etat, passim.
P., F. Alcan.
β Это сделал Фулье, противопоставивший договор
принуждению. См.: Science sociale, p. 8.
191
иуждение было прежде сильнее, чем теперь, то это
делали в силу иллюзии, заставляющей приписывать
принудительному режиму незначительное место
индивидуальной свободы в низших обществах. В действительности
социальная жизнь повсюду, где она нормальна,
самопроизвольна; а если она ненормальна, то не может долго
существовать. Индивид отрекается от себя
самопроизвольно; и даже неправильно говорить о самоотречении там,
где не от чего отрекаться. Значит, если придать слову
это широкое и несколько произвольное употребление, то
нет никакой разницы между различными социальными
типами; а если понимать под ним только весьма
определенную юридическую связь, то можно утверждать, что
никакой связи этого рода между индивидом и обществом
никогда не существовало.
Но если высшие общества не опираются на один
основной договор, касающийся общих принципов
политической жизни, то они, по Спенсеру, имеют или стремятся
иметь единственным основанием обширную систему
частных договоров, связывающих между собой индивидов.
Последние зависят от группы постольку, поскольку они
зависят друг от друга, а друг от друга они зависят
постольку, поскольку это требуется частными и свободно
заключенными соглашениями. Социальная солидарность
поэтому — не что иное, как самопроизвольное согласие
индивидуальных интересов, согласие, естественным
выражением которого являются договоры. Образцом
социальных отношений служит экономическое отношение,
освобожденное от всякой регламентации и в том виде,
как оно возникает из совершенно свободной инициативы
отдельных частей. Словом, общество есть только
осуществление связей между индивидами, обменивающими
продукты своего труда, причем никакое собственно
социальное действие не регулирует этот обмен.
Таков ли характер обществ, едипство которых
произведено разделением труда? Будь это так, было бы
основание сомневаться в их устойчивости. Если интерес
сближает людей, то всегда только на несколько мгновений;
он может создать между ними только внешнюю связь.
При обмене различные стороны остаются друг вне друга
и, завершив сделку, каждый оказывается снова один.
Сознания приходят только в поверхностное
соприкосновение; они не проникают друг в друга и не примыкают
друг к другу достаточно сильно. Если посмотреть глубже,
то окажется, что во всякой гармонии интересов таится
192
скрытый и только отложенный на время конфликт. Ибо
там, где господствует только интерес, ничто не
сдерживает сталкивающиеся эгоизмы, каждое «я» находится
относительно другого «я» на военном положении, и всякое
перемирие в этом вечном антагонизме не может быть
долговечным. Интерес в самом деле наименее постоянная
вещь на свете. Сегодня мне полезно соединиться с вами;
завтра то же основание сделает из меня вашего врага.
Такая причина может, следовательно, породить только
мимолетные сближения и кратковременные ассоциации.
Мы видим, как велика необходимость исследовать, такова
ли в действительности природа органической
солидарности.
Промышленное общество, по признапию Спенсера,
нигде не существует в чистом состоянии: это отчасти
идеальный тип, все более выделяющийся в эволюции, но
еще не вполне осуществившийся. Следовательно, чтобы
иметь право приписывать ему черты, о которых мы
сказали, нужно было бы методическим образом установить,
что общества представляют их тем полнее, чем они
выше, исключая случаи регресса.
Утверждают, во-первых, что сфера социальной
деятельности уменьшается все более в пользу индивидуальной.
Но чтобы быть в состоянии доказать это положение
настоящим опытом, недостаточно, как это делает Спенсер,
упомянуть несколько случаев, в которых индивид
действительно освободился от коллективного влияния. Эти
примеры, как бы они ни были многочисленны, могут
служить только иллюстрациями и сами по себе лишены
всякой доказательной силы. Весьма возможно, что в
одном месте социальное действие регрессировало, но что в
других оно увеличилось и что в конце концов принимают
преобразование за исчезновение. Единственный способ
объективного доказательства — не приводить несколько
случайно пришедших в голову фактов, но изучать
последовательно, с самого начала до последних времен,
аппарат, посредством которого главным образом
осуществляется социальное действие, и посмотреть, увеличился ли оп
или уменьшился с течением времени. Мы знаем, что этот
аппарат — право. Обязанности, налагаемые на личности
обществом, как бы незначительны и кратковременны они
ни были, принимают юридические формы.
Следовательно, относительные размеры этого аппарата позволяют
точно измерить относительный объем социального
действия.
7 Э. Дюркгейм
193
Но слишком очевидно, что он не только не
уменьшается, а все более увеличивается и усложняется. Чем
первобытнее кодекс, тем меньше его величина; и
наоборот, чем он новее, тем значительнее. Сомнения в этом
быть не может. Конечно, из этого не вытекает, что сфера
индивидуального действия становится меньше. Не надо
действительно забывать, что чем больше
регламентированной жизни, тем больше жизни вообще. Это, однако,
достаточное доказательство того, что социальная
дисциплина не ослабляется с течением времени. Одна из
затрагиваемых ею форм имеет, правда, тенденцию к регрессу —
мы это сами установили; но другие, гораздо более
богатые и сложные, развиваются на ее месте. Если
репрессивное право теряет почву, то реститутивное, которое
вначале совсем не существовало, только увеличивается.
Если социальное вмешательство не имеет более
следствием подчинение всех влиянию определенных
однообразных обычаев, то оно более состоит в определении и
регулировании специальных отношений различных
социальных функций, и оно не уменьшилось оттого, что стало
иным.
Спенсер ответит, что он говорил не об уменьшении
всякого контроля, но только положительного. Допустим
это различие. Будет ли этот контроль положительным
или отрицательным — он не менее социален, и главный
вопрос в том, сократился он или расширился.
Вмешивается ли общество для того, чтобы приказывать или
запрещать, чтобы говорить: делай это — или: не делай этого,—
нет никакого основания утверждать, что индивидуальная
самопроизвольность все более и более в состоянии со
всем справиться. Если определяющие поведение правила
умножаются, то, будь они повелительными или
запретительными, неверно, что оно все более зависит от частной
инициативы.
Но обоснованно ли само это различие? Под
положительным контролем Спенсер понимает тот, который
принуждает к действию, между тем как отрицательный
принуждает только к воздержанию. «Человек имеет землю;
я ее обрабатываю для него целиком или частично, или
же я предписываю полностью или частично способ
обработки, вот положительный контроль. Наоборот, я ему
при обработке не оказываю помощи и не даю советов;
я только препятствую ему трогать жатву соседа,
проходить по его земле, сбрасывать на ней вырытую землю;
вот отрицательный контроль. Существует довольно рез-
194
кая разница между тем, чтобы взять на себя вместо
другого преследование какой-нибудь данной цели или
чтобы вмешиваться в употребляемые им для достижения
ее средства, а с другой стороны — тем, чтобы не давать
стеснять другого гражданина, преследующего свою
особую цель» 7. Если таково значение терминов, то
положительный контроль еще далек от своего исчезновения.
Мы знаем действительно, Л1Р_. ^еститутивное право
увеличивается; но оно в бдддцгщнстве случаУВ или üaMü-
■чаУГ гражданину '^5Ж_^о^д§я|телы1ости, или вмешИБаб!'-
tTETB ^едстваТ^которые "тот употребляет для достижения
trßöeSTцёлиГ Оно""решает по поводу всякого юридического
■отношения два следующих вопроса: 1) в каких условиях
и в какой форме нормально существует это отношение?
2) каковы порождаемые им обязанности? Определение
формы и условий, по существу, положительно, так как
оно вынуждает индивида следовать известной процедуре
для достижения своей цели. Что касается обязанностей,
то если бы они принципиально сводились к запрещению
не мешать другому в отправлении его функции, тезис
Спенсера был бы верен, по крайней мере, отчасти. Но
они чаще всего состоят в оказании услуг положительного
характера.
Однако рассмотрим это подробнее.
II
Совершенно верно, что договорные отношения, которые
были вначале редки или совсем отсутствовали,
умножаются по мере разделения социального труда. Но Спенсер,
по-видимому, не заметил того, что в то же время
развиваются недоговорные отношения.
Исследуем сначала ту часть права, которую неточно
называют частным правом и которая в действительности
регулирует отношения диффузных социальных функций
или, иначе говоря, внутреннюю жизнь социального
организма.
Во-первых, мы знаем, что семейное право потеряло
первоначальную простоту и становилось все более и более
сложным, т. е. что различные виды юридических
отношений, которые порождает семейная жизнь, теперь гораздо
многочисленнее, чем прежде. Но, с одной стороны,
вытекающие из них обязанности — главным образом
положительной природы; это взаимность прав и обязанностей.
С другой стороны, они не договорные, по крайней мере
7 Essais de morale, p. 194.
195
7*
в своей типической форме. Условия, от которых они
зависят, касаются нашего личного положения, которое
зависит, в свою очередь, от нашего рождения, от наших
отношений единокровности, следовательно, от фактов,
неподвластных нашей воле.
Однако брак и усыновление — источники семейных
отношений, а это договоры. Но оказывается, что чем
более они приближаются к высшим социальным типам,
тем более именно эти два акта теряют свой собственно
договорный характер.
Не только в низших обществах, но даже в Риме до
конца империи брак остается совершенно частным делом.
Вообще это продажа, реальная у первобытных народов,
фиктивная позже, но имеющая значение в силу одного
только засвидетельствованного должным образом
согласия сторон. Тогда не было необходимости ни в каких бы
то ни было торжественных формах, ни во вмешательстве
какой-либо власти. Только с христианством брак
приобрел другой характер. Христиане рано усвоили привычку
предоставлять священнику благословлять свой союз.
Закон императора Льва Философа обратил этот обычай
в закон для Востока; Тридентский собор сделал то же
для Запада. Отныне брак уже не заключается свободно,
но через посредство общественной власти, а именно
церкви, и роль последней не только свидетельская,— она,
и только она, создает юридическую связь, для которой
прежде было достаточно воли частных лиц. Известно, как
впоследствии гражданская власть заменила религиозную
и как в то же время доля социального вмешательства и
необходимых формальностей расширилась 8.
История договора усыновления еще более
доказательна.
Мы уже видели, с какой легкостью и в каком
широком масштабе практиковалось усыновление у индейских
кланов северной Америки. Оно могло дать начало всем
формам родства. Если усыновляемый был того же
возраста, что и усыновитель, то они становились братьями и
сестрами. Если первый был женщиной и матерью, то она
становилась матерью того, кто ее усыновлял.
У арабов до Магомета усыновление часто служило
для основания настоящих семейств,9. Часто случалось,
что несколько лиц усыновляли взаимно друг друга; они
8 Разумеется, то же самое относится к расторжению брачного
союза.
9 Smith. Marriage and kinship in early Arabia. Cambridge, 1885,
p. 135.
196
становились тогда братьями или сестрами, и связывавшее
их родство было так же сильно, как если бы они имели
общее происхождение. Тот же род усыновления мы
находим у славян. Очень часто члены различных семей
начинают считать друг друга братьями и сестрами и
образуют то, что называется побратимством. Эти общества
образуются свободно и без формальностей: для их
основания достаточно одного согласия. Однако связь,
соединяющая этих выбираемых братьев, даже сильнее связи,
происходящей от естественного братства10.
У германцев усыновление было, вероятно, столь же
легким и частым. Для его осуществления было
достаточно весьма простых церемонийи. Но в Индии, Греции,
Риме оно было уже подчинено определенным условиям.
Нужно было, чтобы усыновляющий достиг определенного
возраста, чтобы он не был родственником
усыновляемого в степени, которая не позволила бы ему быть его
естественным отцом. Наконец, эта перемена семьи стала
весьма сложной юридической операцией, требовавшей
вмешательства власти. В то же время число имевших
право на усыновление уменьшилось. Только отец
семейства или холостяк sui juris 57* могли усыновлять, а
первый имел на это право только тогда, когда не имел
законных детей.
В нашем теперешнем праве ограничительных условий
стало больше. Нужно, чтобы усыновляемый был
совершеннолетним, чтобы усыновителю было более 50 лет,
чтобы он в течение долгого времени обращался с
усыновляемым как с собственным ребенком. Нужно еще
прибавить, что, ограниченное даже таким образом, оно стало
редким явлением. До составления нашего кодекса оно
даже почти совсем вышло из обычая, и еще теперь
некоторые страны, как Голландия или Нижняя Канада, не
допускают его вовсе.
Становясь все более редким, усыновление в то же
время теряло свою действенность. Вначале родство через
усыновление во всех отношениях походило на
естественное родство. В Риме сходство было еще очень велико,
однако полного тождества уже не было 12. В XVI в. оно
уже не давало права на наследование аЪ intestat™*
усыновителю13. Наш кодекс восстановил это право; но
10 Krauss. Sitte und Brauch der Südslaven, Кар. XXXI.
11 Viollet. Précis de l'histoire du droit français, p. 402.
12 Accarias. Précis de droit romain, I, p. 240 etc.
13 Viollet. Op. cit., p. 406.
197
родство, которое создает усыновление, не простирается
далее усыновителя и усыновляемого.
Мы видим, насколько недостаточно традиционное
объяснение, приписывающее этот обычай усыновления у
древних народов потребности обеспечить увековечение
культа предков. Народы, практиковавшие этот обычай
наиболее широко и свободно, такие, как
североамериканские индейцы, арабы, славяне, не знали этого культа,
и наоборот, в Риме, в Афинах, т. е. в странах, где
семейная религия достигла апогея, это право впервые
подчинено контролю и ограничениям. Значит, если оно
и могло служить удовлетворению этой потребности, то
не для этого оно было установлено. И наоборот, если
оно стремится к исчезновению, то не потому, что мы
менее дорожим продолжением нашего имени и нашего
рода. Именно в структуре теперешних обществ и в
занимаемом в ней семьей месте нужно искать
определяющую причину этого изменения.
Другим доказательством этой истины служит то, что
выйти из семьи актом частной воли стало еще более
невозможным, нежели вступить в нее. Узы родства не
вытекают из договорного обязательства; подобно этому
они не могут быть разорваны как обязательство этого
рода. У ирокезов иногда часть клана покидает его,
пополняя ряды соседнего клана 14. У славян член задруги,
уставший от совместной жизни, может отделиться от
семьи и стать для нее юридически чужим и точно так
же может быть исключен из нее 15. У германцев простая
церемония позволяла всякому желающему франку
полностью отказаться от всяких родственных
обязанностей 16. В Риме сын не мог выйти из семьи по своей
воле, и в этом мы видим признак более высокого
социального типа. Но эта связь, которой не мог нарушить сын,
могла быть разорвана отцом: в этой операции и состояло
освобождение. Теперь ни отец ни сын не могут изменить
естественного состояния семейных отношений: они
остаются такими, какими их определило рождение.
В итоге семейные обязанности становятся
многочисленнее и в то же время приобретают, как говорится,
общественный характер. Они не только не имеют
договорного происхождения, но роль, которую в них играет
14 Morgan. Ancient society, p. 81.
15 Krauss. Op. cit., p. 113 etc.
16 Салический закон, титул LX.
198
договор, все уменьшается; наоборот, социальный контроль
над способом их заключения, расторжения и изменения
только расширяется. Основание этого кроется в
прогрессирующем исчезновении сегментарной организации.
Семья на самом деле в течение долгого времени
представляет собой настоящий социальный сегмент. Вначале
она сливается с кланом; позже она начинает отличаться
от него, но как часть от целого. Она — продукт
вторичной сегментации клана, тождественной той, которая
породила сам клан, а когда последний исчез, она
сохраняется в том же самом качестве. Но всякий сегмент
стремится все более раствориться в социальной массе. Вот
почему семья вынуждена видоизмениться. Вместо того
чтобы оставаться автономным обществом внутри
большого общества, она все более втягивается в систему
социальных органов. Она сама становится одним из таких
органов со своими особыми функциями, и следовательно,
все, что происходит в ней, может иметь общие
последствия. Благодаря этому регулирующие органы общества
вынуждены вмешиваться, чтобы оказывать на способ
функционирования семьи умеряющее воздействие или
даже в известных случаях положительно
возбуждающее 17.
Социальное действие дает себя знать не только вне
договорных отношений, но и в самих этих отношениях.
В договоре не все договорно. Этого названия заслуживают
только те обязательства, которых желали индивиды и
которые не имеют другого происхождения, кроме их
свободной воли. Наоборот, всякое обязательство, которое
не было продуктом взаимного соглашения, не имеет
ничего договорного. Но повсюду, где существует договор,
он подчинен регламентации, являющейся делом
общества, а не частных лиц и становящейся все объемистей и
сложней.
Правда, договаривающиеся стороны могут
согласиться в известных пунктах идти против предписаний зако-
17 Например, в случаях опекунства, лишения прав, когда
общественная власть вмешивается иногда по обязанности. Прогресс
этого регулирующего воздействия не противоречит отмеченному
выше регрессу коллективных чувств, касающихся семьи.
Наоборот, первое явление предполагает второе, ибо для уменьшения
или ослабления этих чувств нужно было, чтобы семья перестала
сливаться с обществом и устроила себе сферу личного действия,
изъятую из общего сознания. Это же превращение было
необходимо, чтобы она могла впоследствии стать органом общества, так как
орган - это индивидуализированная часть общества.
199
на. Но, во-первых, их права в этом отношении не
безграничны. Например, соглашение сторон не может
сделать действительным договор, который не удовлетворяет
требуемым законом условиям его действительности.
Конечно, в громадном большинстве случаев договор не
заключается уже теперь в определенные формы; не нужно,
однако, забывать, что в наших кодексах есть еще
торжественные договоры. Но если вообще закон более не
предъявляет таких же формальных требований, как
прежде, то он подчиняет договор обязанностям другого
рода. Он отказывает во всякой принудительной силе
обязательствам, заключенным неправоспособным, или
договорам фиктивным и запретным, или совершенным лицом,
не могущим продавать, или касающимся вещи, которая
не может быть продана. Среди обязательств,
вытекающих по закону из различных договоров, есть такие,
которые не могут быть изменены никаким условием. Так,
продавец не может уклониться от обязанности защитить
покупателя от всякого лишения имущества по суду,
вытекающего из лично ему известного факта (ст. 1628), от
обязанности возвратить стоимость в случае лишения
имущества, каково бы ни было происхождение его, раз
покупатель не знал об опасности (ст. 1629), от
обязанности объяснить ясно, к чему он обязывается (ст. 1602).
Точно так же —в известной, по крайней мере, степени —
он должен дать гарантию от скрытых недостатков
(ст. 1641 и 1643), особенно если он о них знает. Если
дело идет о недвижимости, то покупатель не имеет права
пользоваться выгодной ситуацией и предложить цену
значительно ниже реальной стоимости вещи (ст. 1674)
и т. д. С другой стороны, все, что касается
доказательства, природы действий, на которые дает право договор,
сроков, в течение которых они должны быть начаты,
абсолютно изъято из сферы индивидуального соглашения.
В других случаях социальное действие проявляется не
только в отказе признать договор, заключенный с
нарушением закона, но и в положительном вмешательстве.
Так, судья может, каковы бы ни были положепия
договора, позволить в известных случаях отсрочку должнику
(ст. 1184, 1244, 1655, 1900) или же заставить взявшего
взаймы возвратить заимодавцу его вещь до условленного
срока, если заимодавец в ней сильно нуждается (ст. 1189).
Что договоры порождают обязательства, которые пе были
в них заключены, доказывается еще лучше тем, что они
«обязывают пе только к тому, что в них выражено, но
200
еще Ко всем последствиям, которые справедливость,
обычай или закон придают обязательству по его природе)
(ст. 1135). В силу этого принципа нужно в договор
добавить «обычные оговорки, хотя они не выражены»
(ст. 1160).
Но даже тогда, когда социальное действие не
выражается в такой явной форме, оно не перестает быть
реальным. Действительно, эта возможность идти против
закона, которая, по-видимому, сводит договорное право к
роли случайного субститута собственно договоров, в
громадном большинстве случаев является чисто
теоретической. Чтобы убедиться в этом, достаточно себе
представить, в чем состоит договорное право.
Без сомпения, люди соединяются договором потому,
что вследствие разделения труда, сложного или простого,
они нуждаются друг в друге. Но для гармонической
кооперации недостаточно, чтобы они вступили в отношения
или даже чтобы они чувствовали состояние взаимной
зависимости, в котором они находятся. Нужно еще, чтобы
условия этой кооперации быди определены на все время
их отношений. Нужно, чтобы права и обязанности
каждого были определены не только с учетом ситуации, как
она представляется в момент заключения договора, но и
с учетом обстоятельств, которые могут случиться и
изменить ее. Иначе в любой момент могли бы возникать
новые конфликты и разногласия. Не нужно в самом деле
забывать, что если разделение труда и делает интересы
солидарными, то оно их не смешивает; оно сохраняет их
раздельными и соперничающими. Внутри
индивидуального организма всякий орган, хотя он и находится в
антагонизме с другими, кооперируется с ними; точно так и
каждый из участников договора, имея нужду в другом,
старается получить с наименьшими издержками то, в чем
он нуждается, т. е. приобрести как можно больше прав в
обмен на возможно меньшее количество обязанностей.
Необходимо, следовательно, чтобы доля первых и
вторых была определена заранее; и однако, этого нельзя
сделать по предварительно обдуманному плану. Никаким
путем невозможно вывести, что взаимные обязанности
должны доходить до такой-то границы, а не до другой.
Всякое определение подобного рода может возникать
только из компромисса; это нечто среднее между
соперничеством имеющихся налицо интересов и их
солидарностью. Это — положение равновесия, которое может быть
найдено только после более или менее тщательных по-
201
исков. Но очевидно, что мы не можем ни возобновить
этих поисков, ни восстанавливать заново это равновесие
всякий раз, как мы вступаем в какое-нибудь договорное
отношение. У нас для этого нет ничего. Трудности
должно разрешать не в момент возникновения их, и однако,
мы не можем ни предвидеть разнообразия возможных
обстоятельств, при которых будет действовать наш
договор, ни определить наперед с помощью простого
умственного вычисления, каковы будут в каждом случае права и
обязанности каждого, исключая те предметы, с которыми
мы специально знакомы. Кроме того, материальные
условия жизни противостоят тому, чтобы такие операции
могли повторяться. Во всякий момент и часто без
подготовки нам приходится заключать такие связи; покупаем
ли мы, продаем ли, путешествуем ли, пользуемся ли
чьими-то услугами, останавливаемся ли в гостинице и т. д.
Большинство наших отношений с другими суть
отношения договорной природы. Значит, если бы приходилось
каждый раз заново начинать борьбу, начинать
переговоры, необходимые для установления в настоящем и
будущем всех условий согласия, то мы были бы доведены до
неподвижности. Из всего этого ясно, что если бы мы
были связаны только обсужденными условиями наших
договоров, то это породило бы лишь непрочную
солидарность.
Тут и выступает договорное право, определяющее
юридические последствия наших поступков, последствия,
которые мы не определили. Оно выражает нормальные
условия равновесия в том виде, как они мало-помалу
выделились из среднего числа случаев. Так как оно
резюмирует многочисленные -и разнообразные опыты, то все,
чего мы не можем предвидеть индивидуально, в нем
предвидено, чего мы не может регулировать, в нем
отрегулировано, и эта регламентация принудительно навязывается
нам, хотя она дело не наших рук, а дело общества и
традиции. Она принуждает нас к обязательствам, о
которых мы не договаривались в точном смысле слова, так
как мы их не обсудили наперед, а иногда даже не знали.
Без сомнения, первоначальный поступок — всегда
договорного характера; но он имеет даже непосредственные
следствия, которые более или менее выходят за рамки
договора. Мы кооперируемся потому, что мы этого
хотели, но наша добровольная кооперация создает нам
обязанности, которых мы не хотели.
С этой точки зрения договорное право выступает в
202
совершенно ином облике. Это уже не полезное
дополнение к частным соглашениям, это их фундаментальная
основная норма. Навязываясь нам вместе с авторитетом
традиционного опыта, оно составляет основу наших
договорных отношений. Мы можем уклониться от него
только отчасти и случайно. Закон дает нам права и
подчиняет нас обязанностям, как вытекающим из такого-то
акта нашей воли. Мы можем в известных случаях
отстоять одни или освободиться от других. Однако и те и
другие представляют собой тем не менее нормальный тип
прав и обязанностей, допускаемых обстоятельствам*!,
а для изменения последних необходимо особое усилие.
Поэтому изменения сравнительно редки; в основном
применяется правило; новшества составляют исключения.
Договорное право, стало быть, оказывает на нас крайне
важное регулирующее действие, так как оно определяет
заранее то, что мы должны делать и чего можем
требовать. Это закон, который можно изменить только с
согласия сторон; но, пока он не отменен и не заменен, он
сохраняет всю свою власть; с другой же стороны, мы
можем совершить законодательный акт весьма редко.
Следовательно, между законом, регулирующим
обязанности, порождаемые договором, и законами,
регулирующими другие обязанности граждан, разница только в
степени.
Наконец, помимо этого организованного,
упорядоченного давления, производимого правом, существует и
другое, идущее от нравов. В способе заключения и
исполнения договоров мы должны согласовываться с правилами,
которые, хотя и не санкционированы ни прямо, ни
косвенно каким-либо кодексом, тем не менее носят
повелительный характер. Существуют профессиональные
обязанности чисто моральные, которые, однако, очень
строги. Они особенно очевидны в так называемых свободных
профессиях, и если они, возможно, менее многочисленны
в других, то (как мы это увидим далее) встает вопрос,
не является ли это следствием болезненного состояния.
Но если это воздействие и менее упорядочепно, чем
предыдущие, то оно все-таки столь же социально. С другой
стороны, оно тем значительнее, чем более развиты
договорные отношения, ибо оно так же разнообразно, как и
сами договоры.
Итак, договор — не самодостаточное явление; он
возможен только благодаря регламентации его, имеющей
социальное происхождение. Он предполагает эту регла-
203
ментацию, во-первых, потому, что функция его состоит
не столько в том, чтобы создавать новые правила, сколько
в том, чтобы применять к частным случаям
установленные заранее общие правила; во-вторых, потому, что он
имеет силу связывать только в известных условиях,
которые необходимо определить. Если в принципе
общество придает ему принудительную силу, то потому, что
вообще согласия частных воль достаточно для
обеспечения — с указанными исключениями — гармонического
сотрудничества социальных диффузных функций. Но если
он идет против своей цели, если он может нарушать
правильное функционирование органов, если, как
говорят, он несправедлив, то необходимо, чтобы он был
лишен всякой социальной ценности и авторитета. Роль
общества, стало быть, ни в коем случае не сводится к
пассивному исполнению договоров; она состоит также в том,
чтобы определить, при каких условиях они исполнимы,
и, если это нужно, восстановить их в нормальной форме.
Соглашение сторон не может сделать справедливой
статью, которая несправедлива сама по себе, и есть
правила справедливости, нарушение которых должна
предупредить социальная справедливость, даже если бы
заинтересованные стороны согласились на это нарушение.
Таким образом, необходима регламентация, объем
которой не может быть ограничен заранее. Договор, говорит
Спенсер, имеет целью обеспечить работнику эквивалент
затраченного им труда18. Если такова действительно
роль договора, то исполнить ее он сможет только при
условии его более тщательной регламентации, чем
теперь; было бы чудом, если бы его достаточно было для
надежного обеспечения этой эквивалентности.
Фактически то прибыль превышает издержки, то издержки
превышают прибыль; диспропорция часто поразительна. Но,
отвечает целая школа, если прибыли слишком низки,
то занятие будет оставлено для других; если слишком
высоки, то к нему будут стремиться, и конкуренция
понизит прибыль. Забывают, что целая часть населения не
может таким образом отказаться от своей функции, ибо
ей недоступна никакая другая. Даже те, кто имеет
больше свободы передвижения, не могут воспользоваться ею
в одно мгновенье; подобные революции всегда
совершаются с трудом. Пока они совершаются, с участием
общества заключаются несправедливые, несоциальные по
18 Bases de la morale évolutionniste. p. 124 etc.
204
определению договоры, и когда равновесие восстановлено
в одном пункте, возможно, что оно нарушится в другом.
Нет нужды доказывать, что это вмешательство в его
различных формах носит весьма положительный
характер, так как оно имеет следствием определение способа,
которым мы должны кооперироваться. Не оно, правда,
дает толчок сотрудничающим функциям; по как только
сотрудничество началось, оно его регулирует. Как
только мы совершили первый акт кооперации, мы уже
связаны, и регулирующее действие общества простирается
на нас. Если Спенсер назвал его отрицательным, то
потому, что для него договор состоит только в обмене. Но
даже с этой точки зрения употребленное им выражение
неточно. Несомненно, когда я отказываюсь представить
условленный эквивалент за предоставленный предмет
или пользование какой-нибудь услугой, то я беру у
другого то, что ему принадлежит, и можно сказать, что
общество, заставляя меня выполнить обещание, только
предупреждает нанесение ущерба, непрямую агрессию.
Но если я просто обещал услугу, не получив
предварительно вознаграждения за нее, то я также должеп
исполнить свое обязательство. Однако в этом случае я не
обогащаюсь за счет другого: я отказываюсь только быть ему
полезным. Кроме того, обмен, как мы видели,
представляет еще не весь договор; есть также гармония
сотрудничающих функций. Последние находятся в
соприкосновении не только в тот короткий промежуток времени,
когда вещи переходят из рук в руки; из этого неизбежно
возникают более обширные отношения, при поддержании
которых важно сохранение солидарности.
Даже биологические сравнения, на которые Спенсер
охотно опирается в своей теории свободного договора,
скорее опровергают ее. Он сравнивает, как и мы,
экономические функции с внутренней жизнью индивидуального
организма и замечает, что последняя не зависит прямо
от цереброспинальной системы, но от специального
аппарата, главные ветви которого — это большой
симпатический и дыхательно-желудочный нервы. Но если из этого
сравнения можно с некоторым правдоподобием
заключить, что экономические функции не должны
помещаться под непосредственное влияпие социального мозга, то
из этого не следует, что они могут быть освобождены от
всякого регулирующего влияния. Ибо если большой
симпатический нерв в известной мере не зависит от мозга,
то он управляет движениями внутренностей точно так
205
же, как мозг — мускульными. Значит, если в обществе
есть аппарат подобного рода, то он должен оказывать
на подчиненные ему органы аналогичное воздействие.
По Спенсеру, этому соответствует такой обмен
информацией, который совершается беспрерывно от одного
места к другому о состоянии спроса и предложения и
который, следовательно, задерживает или стимулирует
производство 19. Но в этом нет ничего похожего на
регулирующее действие. Передавать новости не значит
управлять движением. Это функция приводящих нервов,
не имеющая ничего общего с функцией нервных
ганглиев; а именно последние оказывают влияние, о котором
мы говорим. Они находятся на пути ощущений, и
исключительно через их посредство последние могут перейти в
движения. Весьма вероятно, что если бы исследование
было продолжено, то мы бы увидели, что их роль —
независимо от того, центральные они или нет,— в
обеспечении гармонического сотрудничества подчиненных им
функций. Это сотрудничество было бы дезорганизовано в
любой момент, если бы оно должно было изменяться при
всяком изменении возбуждающих впечатлений.
Социальный большой симпатический нерв должен, стало быть,
охватывать помимо системы передаточных путей
настоящие регулирующие органы, которые были бы обязаны
комбинировать внутренние действия, как мозговой
ганглий комбинирует внешние действия, и могли бы или
задерживать возбуждение, или увеличивать его, или же
умерять согласно потребностям.
Это сравнение наводит даже на мысль, что
регулирующее действие, которому теперь подчинена
экономическая жизнь, не такое, каким ему надлежало бы быть
нормально. Конечно, оно, как мы это показали, не равно
нулю. Но оно или диффузно, или исходит прямо от
государства. В наших современных обществах трудно
найти регулирующие центры, аналогичные ганглиям
большого симпатического нерва. Конечно, если бы наше
сомнение, не имело другого основания, кроме этого
отсутствия симметрии между индивидом и обществом, то оно
не заслуживало бы внимания. Но не нужно забывать,
что до весьма недавнего времени эти органы-посредники
существовали: это ремесленные цехи. Мы не можем здесь
дискутировать по поводу их преимуществ или
недостатков. Впрочем, такие дискуссии вряд ли объективны, так
19'Essais de morale, p. 187.
206
как вопросы практической пользы мы можем решать
только по нашим личным ощущениям. Но уже по одному
тому, что институт был в течение веков необходим для
обществ, кажется маловероятным, чтобы они внезапно
могли начать обходиться без него. Несомненно, они
изменились; но законно предположить, что изменения,
через которые они прошли, требовали не столько
радикального разрушения этой организации, сколько
преобразования ее. Во всяком случае, они живут еще весьма мало
времени в новых условиях, чтобы можно было решить,
нормально ли и окончательно это состояние или же
только случайно и болезненно. Тревоги, дающие себя
знать теперь в этой сфере социальной жизни, не дают
оснований для благоприятного ответа. Мы увидим далее
и другие факты, подтверждающие это предположение20.
III _
Существует, наконец<^административное право- Мы
называем так совокупность правил, определяющих,
во-первых, функции центрального органа и их отношения,
затем функции органов, непосредственно подчиненных
предыдущему, их отношения друг к другу, с первыми и с
диффузными функциями общества. Если продолжить
заимствовать у биологии ее терминологию, которая хотя
и метафорична, но тем не менее удобна, то можно
сказать, что опи регламентируют способ функционирования
цереброспинальной системы социального организма.
Именно эту систему' на^обыдепном языке называют/fo-
сударством^
—НБесспорно, социальное действие, выраженное в этой
форме, носит положительный характер. В самом деле,
оно имеет целью определить способ кооперации этих
специальных функций. В известных отношениях оно
даже принуждает к кооперации, ибо различные органы
могут поддерживаться только посредством вкладов,
которые обязательно требуются от каждого гражданина.
Но, по Спенсеру, этот регулирующий аппарат будет
регрессировать по мере выделения промышленного типа из
воепного и в конце концов функции государства сведутся
только к отправлению правосудия.
Доказательства, приводимые в поддержку этого
утверждения, однако, крайне скудны. Спенсер считает
20 См. кн. III, гл. I, особенно предисловие, в котором мы более
ясно высказываемся по этому вопросу.
207
возможным вывести этот общий закон исторического
развития чуть ли не только из короткого сравнения между
Англией и Францией, и между прежней Англией и
теперешней 21. Но условия доказательства в социологии —
те же, что и в других науках. Доказать гипотезу — это не
значит показать, что она объясняет несколько случайно
выбранных фактов; это значит поставить методические
опыты. Это значит показать, что явления, между
которыми устанавливается отношение, или полностью
согласуются, или не существуют друг без друга, или
изменяются в том же направлении. Но несколько
беспорядочно изложенных примеров не составляют доказательства.
Кроме того, эти факты сами по себе ничего не
доказывают; они показывают только, что место индивида
становится больше, а правительственная власть — менее
абсолютной. Но нет никакого противоречия в том, что
сфера индивидуального действия возрастает в то же
время, что и сфера государственная; в том, что функции,
не находящиеся в непосредственной зависимости от
центрального регулирующего аппарата, развились в то же
время, что и последний. С другой стороны, власть может
быть абсолютной и в то же время весьма простой. Нет
ничего проще Деспотического правления варварского
вождя; исполняемые им функции рудиментарны и
малочисленны. Управляющий орган социальной жизни может,
так сказать, поглощать в себе всю ее, не будучи от этого
особенно развитым, если сама социальная жизнь не очень
развита. Он имеет только исключительное превосходство
по отношению к остальной части общества, так как
ничто не в состоянии сдержать и нейтрализовать его. Но
может случиться, что он увеличится, и в то же время
образуются другие, противостоящие ему органы. Для
этого достаточно, чтобы весь объем организма тоже
увеличился. Несомненно, действие, которое он оказывает в
этих условиях, уже не той природы; но точки, в которых
оказывается это действие, умножились, и если оно менее
сильно, то тем не менее навязывается оно столь же
категорически. Факты неповиновения приказаниям власти
не рассматриваются более как святотатство,
следовательно, не караются так сурово; но они все-таки нетерпимы;
приказания же многочисленнее и касаются более
разнообразных видов. Но интересующий нас вопрос не в том,
интенсивнее или нет принудительная власть, которой
21 Sociologie, III, p. 822-834.
208
располагает этот регулирующий аппарат, а в том, стал
ли он более объемистым или пет.
Как только задача сформулирована таким образом,
ее решение не может вызывать сомнений. История в
самом деле показывает, что вообще административное
право тем более развито, чем к более высокому типу
принадлежат общества. Наоборот, чем далее мы продвигаемся к
первобытным временам, тем оно рудиментарное. То
государство, из которого Спенсер делает идеал, представляет
собой в действительности первобытную форму
государства. Единственные принадлежащие ему в норме функции,
по мнению английского философа, это функции
правосудия и войны, по крайней мере постольку, поскольку
война необходима. Но в низших обществах оно
действительно не имеет другой роли. Несомненно, эти функции
понимаются в них не так, как у нас; но от этого они не
становятся другими. Все то тираническое вмешательство,
которое отмечает в них Спенсер, это лишь один из
способов осуществления судебной власти. Карая
преступления против религии, этикета, всякого рода традиций,
государство исполняло ту же обязанность, что наши
теперешние судьи, когда они охраняют жизнь или
собственность индивидов. Наоборот, его атрибуты становятся
все многочисленнее и разнообразнее по мере
приближения к высшим социальным типам. Сам орган
правосудия, который вначале весьма прост, все более
дифференцируется; образуются различные суды, палаты,
определяется их относительная роль и отношения. Множество
функций, бывших диффузными, концентрируются.
Забота о воспитании юношества, о здоровье граждан, о
социальной помощи, об управлении путями сообщения входит
мало-помалу в сферу действия центрального органа.
Следовательно, последний развивается и в то же время
неуклонно распространяет по всей территории, все более
сжатую^и^^слойкдуш сеть разветвлений, которые заменяют
существовавшие прежде местные органы или
ассимилирует их. Услуги статистики постоянно держат его в кур-
сеГвсего, что происходит в глубинах организма. Аппарат
международных сношений — дипломатия — сам все более
увеличивается. По мере образования институтов, вроде
крупных кредитных банков, которые по своим размерам
и многообразию связанных с ними функций имеют
общий интерес, государство оказывает на них умеряющее
влияние. Наконец, даже военный аппарат, об упадке ко-
209
торого говорит Спенсер, по-видимому, наоборот,
непрерывно развивается и централизуется.
Об этой эволюции так очевидно свидетельствует
историческое знание, что нам представляется излишним
более подробно ее доказывать. Достаточно сравнить
племена, лишенные всякой центральной власти, с
централизованными племенами, последние — с античной общиной,
античную общину — с феодальным обществом,
феодальное общество — с теперешними,— и тогда шаг за шагом
можно проследить главные этапы развития, общий ход
которого мы очертили. Следовательно, рассматривать
теперешние размеры правительственного органа как
болезненный факт, вызванный случайным стечением
обстоятельств — значит противоречить всякому методу. Все
вынуждает нас видеть в этом нормальное явление,
зависящее от самой структуры высших обществ, так как
оно прогрессирует постоянно и непрерывно по мере
приближения обществ к этому типу.
Можно, кроме того, показать (по крайней мере, в
общих чертах), как явление это вытекает из самого
процесса разделения труда и преобразования, имеющего
следствием переход обществ от сегментарного типа к ор-
га1шзованномуГ~~ "~
Пока 'каждый сегмент ведет свою особую,
свойственную ему жизнь, он образует малое общество внутри
большого и имеет, следовательно, собственные регулирующие
органы, как и последнее. Но их жизненность непременно
пропорциональна интенсивности этой локальной жизни;
они не могут, стало быть, не ослабеть, когда ослабляется
последняя. Но мы знаем, что это ослабление происходит
вместе с неуклонным исчезновением сегментарной
организации. Центральный орган, сталкиваясь с меньшим
сопротивлением, поскольку сдерживавшие его силы
потеряли свою энергию, развивается и притягивает к себе
эти функции, которые подобны его функциям, но которые
не могут быть более удержаны теми, кто их исполнял
до сих пор. Эти локальные органы, вместо того чтобы
сохранить свою индивидуальность и остаться
диффузными, растворяются в центральном аппарате, который,
следовательно, увеличивается, и тем более, чем обширнее
общество и чем полнее слияние, т. е. он тем объемистее,
чем к более высокому виду принадлежит общество.
Это явление происходит с механической
необходимостью; оно, кроме того, полезно, так как соответствует
новому порядку вещей. По мере того как общество пере-
стает формироваться посредством повторения сходных
сегментов, регулирующий аппарат должен также
перестать формироваться посредством повторения
автономных сегментарных органов. Однако мы не хотим сказать,
что нормальное государство поглощает в себе все
регулирующие органы общества, каковы бы они ни были, но
только те, которые той же природы, т. е. которые управляют
коллективной жизнью. Что касается тех органов,
которые управляют специальными функциями, вроде
экономических, то они находятся вне сферы его притяжения.
Между ними, конечно, может произойти сращивание
подобного же рода, но не между пими и им; или, по
крайней мере, если они и подчинены действию высших
центров, то они остаются отличными от них. У позвоночных
цереброспинальная система очень развита, она имеет
влияние на большой симпатический нерв, но она
оставляет последнему широкую автономию.
Кроме того, пока общество состоит из сегментов, все,
что происходит в одном из них, имеет тем менее шансов
отразиться в других, чем сильнее сегментарная
организация. Ячеистая система, естественно, годится для
локализации социальных событий и их следствий. Так, в
колонии полипов один индивид может быть болен, а другие
этого не чувствуют. Не так обстоит дело, когда общество
состоит из системы органов. Вследствие их взаимной
зависимости все то, что затрагивает один, затрагивает и
другие, и таким образом любое сколько-нибудь
серьезное изменение приобретает общий интерес.
Это обобщение облегчается еще двумя другими
обстоятельствами. Чем более разделен труд, тем меньше
различных частей охватывает всякий социальный орган.
По мере того как крупная промышленность вытесняет
мелкую, уменьшается число различных предприятий;
каждое имеет большее относительное значение, так как
представляет большую часть целого; значит, все то, что
происходит в нем, имеет более обширные социальные
последствия. Закрытие маленькой мастерской вызывает
только весьма ограниченные нарушения, которые не
ощущаются за пределами небольшой группы. Крах
большой промышленной компании вызывает, наоборот,
общественную пертурбацию. С другой стороны,
поскольку прогресс разделения труда вызывает большую
концентрацию социальной массы, между различными
частями одной ткани, одного органа или аппарата происходит
более тесное соприкосновение, способствующее явлениям
211
заражения. Зарождающееся в одной точке движение
быстро сообщается другим; достаточно посмотреть, с
какой быстротой, например, распространяется стачка в
какой-нибудь отрасли промышленности. Но и пертурбации
известного масштаба не могут происходить, не отзываясь
в высших центрах. Последние, будучи чувствительно
задеты, вынуждены вмешиваться, и это вмешательство тем
чаще, чем выше социальный тип. Но для этого нужно,
чтобы они были организованны; нужно, чтобы они
протянули во всех направлениях свои разветвления, имея
связи с различными частями организма и держа также в
более непосредственной зависимости некоторые органы,
деятельность которых могла бы иметь при случае весьма
серьезные последствия. Словом, поскольку их функции
становятся многочисленнее и сложнее, необходимо, чтобы
орган, служащий им субстратом, развивался вместе со
сводом определяющих их юридических правил.
На упрек, который часто высказывали Спенсеру,
будто он противоречит собственной теории, допуская, что
развитие высших центров происходит в обратных
направлениях в обществе и организмах, он отвечает, что эти
различные изменения органа зависят от соответствующих
функциональных изменений. На его взгляд, роль
цереброспинальной системы состоит главным образом в том,
чтобы регулировать отношения индивида с внешней средой,
чтобы комбинировать движения, необходимые для ловли
добычи и ускользания от врага22. Как аппарат
нападения и защиты она, естественно, весьма объемиста у
высших организмов, где эти внешние отношения сами весьма
развиты. Так же обстоит дело и с военными обществами,
которые живут в состоянии хронической вражды со
своими соседями. Напротив, у промышленных народов
война — исключение; социальные интересы носят главным
образом внутренний характер; значит, внешний
регулирующий аппарат, не имея более того же основания,
неизбежно регрессирует.
Но это объяснение основано на двойном заблуждении.
Во-первых, всякий организм, имеет ли он
хищнические инстинкты или нет, живет в среде, с которой он
имеет тем более многочисленные сношения, чем он
сложнее. Значит, если враждебные отношения уменьшаются по
мере того, как общества становятся более мирными, то
они заменяются другими. Промышленные народы име-
Essais de morale, p. 179.
212
ют взаимные отношения, развитые иначе, чем те, которые
поддерживают между собой низшие народности, как бы
воинственны они ни были. Мы говорим не об
отношениях, устанавливающихся прямо от индивида к индивиду,
но об отношениях, соединяющих между собой
социальные тела. Каждое общество имеет общие интересы,
которые оно должно защищать против других если не
оружием, то, по крайней мере, путем переговоров, коалиций и
соглашений.
Кроме того, неверно, будто мозг заведует только
внешними отношениями. Он не только иногда изменяет
состояние органов совершенно внутренними путями, но
даже, действуя извне, оказывает свое действие на
внутренние органы. Действительно, даже внутренние органы
могут функционировать только с помощью веществ,
доставляемых извне, а так как мозг безраздельно
господствует над последними, то он имеет, таким образом,
постоянное влияние на весь организм. Желудок, говорят,
не работает по его приказу; присутствия пищи
достаточно, чтобы возбудить перистальтические движения. Но
если пища присутствует, то только потому, что мозг этого
захотел, и она присутствует в определенном им
количестве и качестве. Не он управляет биением сердца, но при
помощи известного рода действий он может ускорить или
замедлить его. Мало есть тканей, которые не подверглись
бы какому-нибудь его действию, и обнаруживаемая им
таким образом власть тем обширнее и глубже, чем к
более высокому типу принадлежит животное. Так
происходит потому, что истинная роль мозга — управлять не
только внешними С1ГоГненйями, но жизнью в целом: эта
функция, стало быть, тем сложнее, чем сама жизнь
богаче и концентрированнее. Так же и с обществом. Более
или менее значительное развитие правительственного
органа зависит не от большего или меньшего миролюбия
народов. Он увеличивается по мере того, как вследствие
прогресса разделения труда общества включают в себя
большее число различных органов, между которыми
существует более тесная солидарность.
IV
Следующие положения резюмируют эту первую часть
нашего труда.
из сходства сознании,^та^ж^иХдаадед£ндя социального
труда. В пёрВДм^л^а'е индивид социализирован потому,
213
что, не имея собственной индивидуальности, он сливается
вместе с ему подобными в одном и том же коллективном
типе; во втором — потому, что, имея личный облик и
особую деятельность, отличающие его от других, он
зависит от них в той же мере, в какой отличается, и,
следовательно, зависит от общества, возникающего из их
объединения.
Сходство сознаний порождает юридические правила,
кспирыи ПОД yipuyoll к*р1Гге7Гь^
однообразные вецятвагшгя гг обьт^^^^Й^бто^з^е выра-
жежгргШНкйшеё с^циа^пьна1ГгЯШ^Жь^^ливается с
религиозной, тем ближе экономические институты к коммунизму.
Разделение труда порождает юридические правила,
определяющие природу и отношения разделенных: функций,
тпГ'нарудшшЕеЗ^
нрзительдае .жеры*~тт4>рь*в~*не зшжт—харашЁ^'жщи-
ления. ^^_
-^Каждый из этих сводов юридических правил
сопровождается, кроме того, сводом чисто моральных правил.
Там, где уголовное право очень объемисто, коллективная
мораль очень обширна, т. е. существует огромное
множество коллективных обычаев, охраняемых общественным
мнением. Там, где очень развито реститутивное право,
для каждой профессии существует профессиональная
мораль. Внутри одной и той же группы работников есть
мнение, рассеянное на всем пространстве этого
ограниченного агрегата, которое, не будучи снабжено
правовыми санкциями, заставляет, однако, повиноваться себе.
Существуют нравы и обычаи, общие для одной категории
работников, которые никто из них не может нарушить,
не рискуя подвергнуться порицанию всей корпорации 23.
Однако эта нравственность в сравнении с предыдущей
содержит различия, аналогичные тем, которые различают
соответствующие два вида права. Действительно, она
локализована в ограниченной части общества; кроме того,
карательный характер связанных с ней санкций выражен
значительно слабее. Профессиональные проступки
вызывают осуждение гораздо более слабое, чем покушения на
общественную мораль.
Однако правила профессиональной нравственности и
права так же повелительны, как и другие. Они
вынуждают индивида действовать ради достижения целей, кото-
23 Впрочем, это порицание, как и всякое моральное наказание,
выражается во внешних действиях (дисциплинарные взыскания,
увольнение, разрыв отношений и т. д.).
214
pbié не совпадают с его собственными, делать уступки,
идти на компромиссы, считаться с интересами более
высокими, нежели его собственные. Следовательно, даже
там, где общество полнее всего строится на разделении
труда, оно не превращается в совокупность отдельных
атомов, между которыми могут устанавливаться только
внешние и мимолетные контакты. Члены его соединены
связями, простирающимися далеко за пределы коротких
моментов совершения обмена. Каждая из выполняемых
ими функций постоянным образом зависит от других и
образует с ними единую систему. Следовательно, из
характера избранного занятия проистекают постоянные
обязанности. Выполняя такую-то функцию, семейную или
социальную, мы заключены в сеть обязанностей, от которых
не имеем права уклониться. Существует один орган,
относительно которого наша зависимость постоянно растет: это
государство. Точки нашего соприкосновения с ним
увеличиваются, так же как и случаи, когда оно
уполномочено напоминать нам о чувстве общей солидарности.
Таким образом, альтруизм не обречен стать, как это
думает Спенсер, своего рода приятным украшением
нашей общественной жизни: он всегда будет ее основанием.
Как бы мы могли, в самом деле, обойтись без него? Люди
не могут жить вместе без взаимных соглашений и,
следовательно, взаимных жертв, без того, чтобы не
соединяться друг с другом сильным и продолжительным образом.
Всякое общество — моральное общество. В некоторых
отношениях эта особенность даже резче выражена в
организованных обществах. Так как индивид — не
самодостаточная единица, то он получает все необходимое ему от
общества и в то же время работает для него. Так
образуется весьма сильное чувство состояния зависимости,
в котором находится индивид; он приучается оценивать
себя согласно истинной ценности, т. е. рассматривать
себя только как часть целого, как орган организма.
Такие чувства в состоянии внушить не только те
ежедневные жертвы, которые обеспечивают упорядоченное
развитие повседневной социальной жизни, но при случае и
акты полного и безраздельного самоотречения. Со своей
стороны общество приучается смотреть на составляющих
его членов не как на вещи, на которые оно имеет право, но
как на сотрудников, без которых оно не может обойтись
и по отношению к которым у него есть обязанности.
Напрасно, стало быть, противопоставляют общество,
возникающее из общности верований, обществу, основанному
215
на кооперации. Напрасно только первому приписывают
моральный характер, а во втором видят только
экономическое объединение. В действительности кооперация
также обладает своей внутренней нравственностью. Есть лишь
основание думать, как мы увидим далее, что в паших
теперешних обществах эта нравственность еще не
получила того развития, которое в настоящее время необходимо.
Но эта нравственность по своей природе отличается
от другой. Последняя сильна только тогда, когда
индивид слаб. Составленная из правил, которые применяются
всеми без различий, она получает от этих всеобщих и
однообразных обычаев авторитет, делающий из нее нечто
сверхчеловеческое и не подлежащее обсуждению. Другая
нравственность, наоборот, развивается по мере того, как
укрепляется индивидуальная личность. Как бы
регламентирована ни была функция, она всегда оставляет
широкое место инициативе каждого. Многие из
санкционированных таким образом обязанностей имеют своим
источником добровольный выбор. Мы сами выбираем нашу
профессию и даже некоторые из наших семейных
функций. Несомненно, как только наше решение перестало
быть внутренним делом и выразилось вовне в виде
социальных последствий, мы связаны: на нас налагаются
обязанности, которых мы определенно не желали. Однако
начало их лежит в волевом акте. Наконец, так как эти
правила поведения относятся не к условиям общей
жизни, а к различным формам профессиональной
деятельности, то они в силу одного этого имеют, так сказать,
более мирской характер, который, хотя и оставляет им их
принудительную силу, делает их более доступными
воздействию людей.
Итак, существуют два больших течения социальной
жизни, которым соответствуют два не менее различных
типа структуры. То из этих течений, которое имеет
начало в социальных сходствах, первоначально движется
одно, без соперника. В это время оно сливается с самой
жизнью общества. Затем оно мало-помалу сужается,
разрежается, тогда как второе становится все более мощным.
Точно так же сегментарная структура все более
перекрывается другой, никогда не исчезая полностью.
Мы установили реальность этого отношения обратного
изменения. Причины его будут рассмотрены в следующей
книге.
КНИГА
■ и
Причины и условия
Глава I
прогщх. .рдадвлгдия труда
^«[ПРОГРЕСС СЧАСТЬЯ
Какие причины вызывают прогресс разделения труда?
Дело, конечно, не в том, чтобы найти единую
формулу, которая объяснила бы все возможпые разновидности
разделения труда. Такой формулы не существует.
Каждый частный случай зависит от частных причин, которые
могут быть определены только специальным
исследованием. Задача, поставленная нами, менее масштабна. Если
пренебречь разнообразными формами, которые принимает
разделение труда в соответствии с обстоятельствами
места и времени, то остается тот общий факт, что оно
постоянно развивается вместе с историческим развитием.
Этот факт зависит, несомненно, от столь же постоянных
причин, к исследованию которых мы и приступим.
Эта причина не может состоять в том, что заранее
представляют себе следствия, которые производит
разделение труда, способствуя поддержанию равновесия
обществ. Эти следствия слишком отдаленны, чтобы быть
поняты всеми; большинство не имеет о них никакого
представления. Во всяком случае, они могли стать заметными
только тогда, когда разделение труда продвинулось уже
очень далеко.
Согласно наиболее распространенной^еориил причина
разделения^ труда коренится исключительно в
непрерывно растущем стремлении к счастью, присущем человеку^
"Известно, в самом деле, что чем буртлпв пазделяется трур,
тем выше его производительность. Предоставляемые им в
наше распоряжение ресу^Ш становятся изобильнее и
лучшего качества. Наука развивается лучше и быстрее,
произведения искусства — многочисленнее и утонченнее,
промышленность производит больше и продукты ее со-
217
вершеннее. Но человек испытывает потребность во всех
этих вещах; он, по-видимому, должен быть тем
счастливее, чем более он их имеет, и естественно, он старается
их приобрести.
Предположив это, легко объяснить постоянство, с
которым прогрессирует разделение труда. Достаточно,
говорят, чтобы стечение обстоятельств, которое легко себе
вообразить, дало людям знать о некоторых его
преимуществах; тогда они сами будут стремиться постоянно
развивать его как можно шире о целью извлечь из него всю
возможную пользу. Оно, стало быть, прогрессирует под
влиянием исключительно индивидуальных,
психологических причин. Чтобы создать теорию разделения труда,
не обязательно наблюдать общества и их структуру:
достаточно простейшего и основного инстинкта
человеческой природы, чтобы объяснить его. Именно потребность
в счастье заставляет индивида все^бМ^^ёЩ^лйШрь-
баться. Конечно, поскольку всякая специализация предг
"полагает одновременное присутствие многих индивидов и
их сотрудничество, то она невозможна без общества. Но
общество, вместо того чтоЬ1и*Ъ'ыть',011рёД11ЛЯЮЩий Нричи-
ной ее, является только средством, благодаря которому
она осуществляется; только материалом, необходимым
для организации разделенного труда. Оно, скорее, даже
следствие этого явления, нежели причина его. Разве не
повторяют беспрестанно, что именно потребность в
кооперации дала начало обществам? Значит, последние
образовались для того, чтобы труд мог разделиться, а не труд
разделился благодаря социальным основаниям?
Это классическое объяснение в политической
экономии. Оно, кроме того, кажется столь простым и
очевидным, что допускается бессознательно массой мыслителей,
подрывая их концепции. Вот почему прежде всего
необходимо его исследовать.
I
Нет ничего более бездоказательного, чем мнимая аксио-
мй7"Щ"1щ<]^^
Невозможно указат'ь никако^шцион^льцой границы
1фиизиОдцтельто^гсил"ё тр^а. Нес^ненно, она зависит от
состояния тЖнТШСТгсапиталов и т. д. Но, как доказывает
опыт, эти препятствия всегда носят временный характер,
и каждое поколение отодвигает границу, на которой
остановилось предыдущее. Даже если бы она когда-пибудь
дошла до максимума, которого не могла бы превзойти
218
(а это совершенно необоснованное предположение), то, по
крайней мере, за собой она имеет необъятное поле
развития. Если, стало быть, счастье, как это полагают,
постоянно увеличивается вместе с неиТ^тТГПЗ'тни дилуститЬд.
чта^оно также"Wö(5b6go у!ШЛичи1Щ1Ъ^н_й5ДГРопичпгу. или,
пд крайней "'тгеруЧто прирост, на который ошГЪТШсобно,
пропорционален приросту производительной" силы ч*уда,
ЕСТТГ оно увеличивается Ио мёри тоги, Как приятпыо вттз-
буждения становятся все многочисленней и интенсивнее,
то вполне естественно, что человек старается производить
больше, чтобы больше наслаждаться. JHo в действитель-
ности наша способность к счастью весьма ограниченна?
"В CUMUM ДёЛё, теперь оОщепринята истина, что удо-
вольствие не сопровождает ни слишком интенсивные, пи
слишком слабые состояния сознания. Если
функциональная деятельность недостаточна, то возникает страдание;
но чрезмерная деятельность производит то же действие \
Некоторые физиологи думают даже, что страдание
связано со слишком сильной вибрацией нервов 2.
Удовольствие, стало быть, лежит между этими двумя крайностями.
Это положение, впрочем, следует из закона Вебера и Фех-
нера. Если точность математической формулы, в которой
представили его экспериментаторы, сомнительна, то, во
всяком случае, они поставили вне сомнения, что
изменения интенсивности, которые может проходить ощущение,
заключены между двумя пределами. Если раздражение
слишком слабо, оно не чувствуется, но если оно
переходит известную границу, то получаемый им прирост
производит все меньшее воздействие, пока он совсем не
перестает ощущаться. Но этот закон верен также
относительно того рода ощущений, который называется
удовольствием. Он даже был сформулирован применительно к
удовольствию и страданию задолго до того, как был
применен к другим элементам ощущения. Бернулли
применил его к самым сложным ощущениям, а Лаплас, толкуя
его в том же смысле, придал ему форму отношения
между физическим счастьем и моральным 3. Значит, поле
изменений, которые может проходить интенсивность
удовольствия, ограничено.
1 Spencer H. Psychologie, I, p. 283; Wundt. Psychologie
physiologique. I, ch. X, § 1.
2 Richet. Douleur: Dictionnaire encyclopédique des sciences
médicales.
3 Laplace. Théorie analytique des probabilités. P., 1847, p. 187,
432; Fechner. Psychophysik, I, S. 236.
219
Но это не все. Если состояния созпапия,
интенсивность которых умеренна, обычно приятны, то не все они
представляют одинаково благоприятные условия для
создания удовольствия. Около низшего порога те
изменения, через которые проходит приятная деятельность,
слишком малы по абсолютной величине, чтобы вызвать
ощущения удовольствия большой энергии. Наоборот,
когда она приближается к пункту безразличия, т. е. к
своему максимуму, то величины, на которые она прирастает,
относительно слишком малы. Человек, имеющий
небольшой капитал, не может легко увеличить его в размерах,
которые могут заметно изменить его положение. Вот
почему первые сбережения приносят с собой так мало
радости: они слишком малы, чтобы улучшить положение.
Незначительные доставляемые ими преимущества не
вознаграждают лишений, которых оци стоили. Точно так же
человек, богатство которого громадно, находит
удовольствие только в исключительно крупных барышах, ибо он
измеряет их значение по тому, чем уже обладает. Не то
мы видим в случае среднего богатства. Здесь и
абсолютная, и относительная величина изменений находятся в
лучших для возникновения удовольствия условиях, ибо
они легко приобретают важное значение, и при этом для
того, чтобы высоко оцениваться, они не должны быть
огромными. Начальная точка, служащая для их измерения,
еще недостаточно высока, чтобы сильно обесценивать их.
Интенсивность приятного возбуждения может, таким
образом, с пользой увеличиваться только в пределах, еще
более тесных, чем мы это вначале сказали, так как свое
действие оно производит только в промежутке,
соответствующем средней области приятной деятельности. По ту
и по эту сторону удовольствие также существует, но оно
не связано с порождающей его причиной, между тем как
в этой умеренной зоне малейшие колебания оцениваются
и ощущаются. Ничто не теряется из энергии
раздражения, которая и превращается целиком в удовольствие 4.
То, что мы сказали об интенсивности каждого
возбуждения, можно повторить об их числе. Они перестают быть
приятными, когда их слишком много или слишком мало,
точно так, как и тогда, когда они переходят или не
достигают известной степени интенсивности. Не без
основания человеческий опыт в aurea mediocritas 59* видит
условие счастья.
4 Ср.: Wundt. Op. cit.
220
Итак, селnjiib^ai^ прогрессировало толь-
кр^дйТГ приращения нашего счастья; lu оно бы Дй'ШКгуже
пришло û своему крайнему пределу вмебтег-сг'-оедованной
j^'1TeM'"-n"""TTT'ff?iHitffÎ y ^^^QfjïïHoBHjfHCb бы. Чтобы
человек оказался в состоянии вести то скромное
существование, которое наиболее благоприятно для удовольствия,
не было нужды в бесконечном накоплении всяческих
возбуждений. Достаточно было бы умеренного развития,
чтобы обеспечить индивидам всю сумму наслаждений,
на которую они способны. Человечество быстро пришло
бы к неподвижному состоянию, из которого оно бы уже
не вышло. Это и случилось с животными: большая часть
их не изменяется уже веками, потому что они пришли к
этому состоянию равновесия.
Другие соображения также приводят к тому же
заключению.
Нельзя у,грх^лать р^^тл/утт™ догтовернсу-ато всякое
прияхШР~состояции полиции;—Сто^дов^льствие'й польза
»сге-дм,..»я!!!!!ШИ[И'|?Н ΙΓ ЗДШΙΓίοΜ же направтгрттщт ÏÏ
отношении^ Однако организм, который вообще находил бы
Удовольствие во вредных для себя вещах, не мог бы,
очевидно, существовать. Значит, можно принять как весьма
общую истину, что удовольствие не связано с вредными
состояниями, т. е. что в общих чертах счастье совпадает
с состоянием здоровья. Только существа, пораженные
каким-нибудь физиологическим или психологическим
извращением, находят удовольствие в болезненных
состояниях. Но здоровье состоит в усредненной деятельности.
Оно предполагает гармоническое развитие всех функций,
а функции могут развиваться гармонически только при
условии взаимного умеряющего действия, т. е. взаимного
удерживания в известных границах, за которыми
начинается болезнь и прекращается удовольствие. Что
касается одновременного приращения всех способностей, то
оно возможно для данного существа только в
ограниченной мере, обозначенной природой индивида.
Понятно, таким образом, что ограничивает
человеческое счастье: это само устройство человека в
определенный исторический момент. Его темперамент, степень
достигнутого им физического и морального развития
определяют тот факт, что существует максимум счастья, как
и максимум деятельности, которые он не может
переступить. Положение это не оспаривается, пока речь идет об
организме: всякий знает, что телесные потребности
ограниченны и что, следовательно, физическое удовольствие
221
не может безгранично увеличиваться. Но утверждают, что
духовные функции составляют исключение. «Нет такого
страдания, которое могло бы покарать и подавить...
самые энергичные порывы самопожертвования и
милосердия, страстное и восторженное исследование истинного и
прекрасного. Голод удовлетворяют определенным
количеством пищи; разум невозможно удовлетворить
определенным количеством знания» 5.
Это значит забывать, что сознание, как и организм,
представляет собой систему уравновешенных функций и
что, кроме того, оно связано с органическим субстратом,
от состояния которого оно зависит. Говорят, что если есть
известная степень света, которой глаз не в состоянии
переносить, то для разума не бывает никогда слишком
сильного света. Однако излишнее количество знания может
быть приобретено только благодаря чрезмерному
развитию высших нервных центров, которое, в свою очередь,
не может происходить без болезненных потрясений.
Значит, есть максимальная граница, которую невозможно
перейти безнаказанно, и поскольку она изменяется со
средней величиной мозга, то она была особенно низка в
начале человеческой истории; следовательно, она должна
была бы быть скоро достигнута. Кроме того, ум — только
одна из наших способностей. Значит, за известными
пределами он может развиваться только в ущерб
практическим способностям, нарушая чувства, верования,
привычки, которыми мы живем, а такое нарушение равновесия
не может быть безболезненным. Последователи даже
грубейшей религии находят в своих зачаточных
космогонических и философских представлениях удовольствие,
которое мы отняли бы у них без достаточного
вознаграждения, если бы нам удалось внезапно пропитать их
нашими научными теориями, как бы неоспоримо ни было
превосходство последних. В каждый исторический момент,
в сознании каждого индивида для ясных идей, для
обдуманных мнений, словом, для знания существует
определенное место, вне которого оно не может
распространяться в нормальном состоянии.
Так же и с нравственностью. Каждый народ имеет
£вою нравственность, определяемую условиями, в кото-
'' рых он живет. Невозможно поэтому навязывать ему
другую нравственность — как бы высока она ни была,— не
дезорганизуя его; а такие потрясения не могут не ощу-
5 Rabier. Leçons de philosophie, I, p. 479.
222
щаться болезненно отдельными людьми. Но разве
нравственность каждого общества, взятая сама по себе, не
допускает безграничного развития предписываемых ею
добродетелей? Никоим образом. Поступатьморально —
значит исполнять свой долг, а всякий долг конечен. Он
ограничен другими обязанностями. Невозможно жертвовать
собой ради других, не забывая самого себя; невозможно
безгранично развивать свою личность, не впадая в эгоизм.
С другой стороны, совокупность наших обязанностей
сама по себе ограничена другими потребностями нашей
природы. Если необходимо, чтобы известные формы
поведения были подчинены действенной регламентации,
характеризующей нравственность, то существуют, наоборот,
другие, которые естественно противятся этому и которые,
однако, имеют существенное значение. Нравственность не
может повелевать сверх меры промышленными,
торговыми и тому подобными функциями, не парализуя их,
а они, между тем, имеют жизненное значение. Так,
считать богатство безнравственным — не менее гибельная
ошибка, чем видеть в нем благо по преимуществу. Итак,
могут быть нравственные излишества, от которых,
впрочем, нравственность первая же и страдает, ибо, имея
непосредственной целью регулирование нашей здешней
жизни, она не может отвратить нас от нее, не истощая
того предмета, к которому она применяется.
Правда, эстетико-моральная деятельность, поскольку
она не регулируется, кажется свободной от всякой узды и
всякого ограничения. Но в действительности она тесно
ограничена деятельностью собственно моральной, ибо она
не может преступать—известной меры, не вредя
нравственности. Если; мы тратим много сил на излишнее, то их
не остается для необходимого. Когда в нравственности
отводят слишком много места воображению, то
неизбежно пренебрегают обязательными задачами. Всякая
дисциплина кажется нестерпимой, когда привыкли
действовать исключительно по тем правилам, которые себе
создают сама, -Избыток идеализма и моральной
возвышенности часто приводят к тому, что человек не имеет
склонности исполнять свои повседневные обязанности.
То же можно, сказать о всякой эстетической
деятельности вообще; она здорова, пока умеренна. Потребность
играть; действовать без цели, просто из удовольствия, не
может быть развита далее известных границ без забвения
серьезной стороны жизни. Слишком сильная
художественная чувствительность представляет собой болезненное
223
явление, которое не может стать всеобщим, не угрожая
обществу. Впрочем, граница, за которой начинается
излишество, изменяется в зависимости от народа или социальной
среды; она начинается тем раньше, чем менее
продвинулось вперед общество или чем менее культурна среда.
Земледелец, если он находится в гармонии с условиями своего
существования, недоступен (и должен быть таковым) для
эстетических удовольствий, которые естественны для
образованного человека. Точно в таком же отношении стоит
дикарь к цивилизованному человеку.
Если так обстоит дело с духовной роскошью, то тем
более верно это относительно материальной роскоши.
Существует, следовательно, нормальная интенсивность всех
наших потребностей, интеллектуальных, моральных,
физических, пределы которой невозможно преступить. В
любой исторический момент наша жажда знания,
искусства, благосостояния ограниченна так же, как и наш
аппетит, и все, что переходит эту границу, оставляет нас
равнодушными или заставляет страдать. Вот что часто
забывают, когда сравнивают счастье наших отцов с нашим.
Рассуждают так, как будто все наши удовольствия могли
быть их удовольствиями; тогда, размышляя о всех тех
утонченностях цивилизации, которыми мы пользуемся и
которых они не знали, испытывают склонность сожалеть
об их участи. Забывают только, что они не были
способны наслаждаться ими. Значит, если они так маялись ради
увеличения производительной силы труда, то не для того,
чтобы овладеть благами, которые не имели для них
ценности. Чтобы оценить их, им нужно было бы сначала
усвоить вкусы и привычки, которых у них не было, т. е.
изменить свою природу.
Это они действительно сделали, как показывает
история преобразований, через которые прошло человечество.
Чтобы потребность в большем счастье могла объяснить
развитие разделения труда, нужно было бы, чтобы она
была также причиной изменений, поступательно
происходивших в человеческой природе, нужно было бы, чтобы
люди изменились с целью стать более счастливыми.
Но, предполагая даже, что эти преобразования имели
в конечном счете такой результат, невозможно
предположить, чтобы они производились с таким именно
намерением. Следовательно, они зависят от другой
причины.
Действительно, изменение существования, и внезапное,
и подготовленное, всегда составляет болезненный кризис,
224
ибо оно насилует устойчивые инстинкты и вызывает их
сопротивление. Все прошлое тянет нас назад даже тогда,
когда прекраснейшие перспективы влекут вперед. Всегда
трудно вырвать с корнем привычки, которые укрепило и
организовало в нас время. Возможно, что оседлая жизнь
предоставляет больше шансов на счастье, чем кочевая; по
когда в течение веков ведут только последнюю, то
нелегко от псе избавиться. К тому же, как бы незначительны
пи были такие преобразования, для их исполнения
недостаточно индивидуальной жизни. Недостаточно одного
поколения, чтобы разрушить дело ряда поколений, чтобы на
место прежнего человека поставить нового. При
теперешнем состоянии наших обществ труд не только полезен —
он необходим; все это хорошо знают, и необходимость эта
давно уже чувствуется. Однако еще относительно
малочисленны те, кто находит удовольствие в упорном и
постоянном труде. Для большинства людей это все еще
невыносимая повинность; праздность первобытных времен
не потеряла еще для нас всей прежней прелести. Значит,
эти метаморфозы очень долго обходятся дорого, ничего
не давая. Поколения, вводящие их, не пожинают плодов
(если только они имеются), потому что они появляются
слишком поздно. Этим поколениям остается только труд,
потраченный на них. Следовательно, не ожидание
большего счастья вовлекает их в такие предприятия.
Но правда ли, что счастье индивида возрастает по
мере того, как он прогрессирует? Нет ничего более
сомнительного.
II
Конечно, есть много удовольствий, которые теперь
нам доступны и которых не знают более простые
существа. Но зато мы подвержены многим страданиям, от
которых они избавлены, и нельзя быть уверенным, что
баланс складывается в нашу пользу. Мысль, без сомнения,
является источником радостей, которые могут быть
весьма сильными; но в то же время сколько радостей
нарушает она! На одпу решенную задачу сколько поднятых и
оставшихся без ответа вопросов! На одно разрешенное
сомнение сколько смущающих нас тайн! Точно так же,
если дикарь не знает удовольствий, доставляемых
активной жизнью, то зато он не подвержен скуке, этому
мучению культурных людей. Он предоставляет спокойно течь
своей жизни, не испытывая постоянной потребности
торопливо наполнять ее слишком короткие мгновения
многочисленными и пеотложными делами. Не будем забы-
8 Э. Дюркгейм
225
вать, кроме того, что для большинства людей труд
является до снх нор наказанием и бременем.
Нам возразят, что у цивилизованных народов жизнь
разнообразнее и что разнообразие необходимо для
удовольствия. Но цивилизация вместе с большей
подвижностью вносит и большее однообразие, ибо она навязала
человеку монотонный, непрерывный труд. Дикарь
переходит от одного занятия к другому сообразно побуждающим
его потребностям и обстоятельствам; цивилизованный
человек целиком отдается всегда одному и тому же
занятию, которое представляет тем менее разнообразия, чем
оно ограниченнее. Организация необходимо предполагает
абсолютную регулярность в привычках, ибо изменение в
способе функционирования органа не может иметь места,
не затрагивая всего организма. С этой стороны паша
жизнь оставляет меньше места для непредвиденного и в
то же время, благодаря своей большей неустойчивости,
она отнимает у наслаждения часть безопасности, в
которой оно нуждается.
Правда, наша нервная система, став более топкой,
доступна слабым возбуждениям, не затрагивавшим наших
предков, у которых она была весьма груба. Но в то же
время многие возбуждения, бывшие прежде приятными,
стали слишком сильными и, следовательно,
болезненными для нас. Если мы чувствительны к большему
количеству удовольствий, то так же обстоит дело и со
страданиями. С другой стороны, если верно, что, как правило,
страдание производит в организме большее потрясение,
чем удовольствие6, что неприятное возбуждение
доставляет нам больше страдания, чем приятное —
наслаждения, то эта большая чувствительность могла бы скорее
препятствовать счастью, чем благоприятствовать ему.
Действительно, весьма утонченные нервные системы
живут в страдании и в конце концов даже привязываются к
нему. Не примечательно ли, что основной культ самых
цивилизованных религий — это культ человеческого
страдания? Несомненно, для продолжения жизни теперь,
как и прежде, необходимо, чтобы в среднем удовольствия
преобладали над страданиями. Но нельзя утверждать, что
это преобладание стало значительней.
Наконец, и это особенно важно, не доказано, чтобы
этот излишек вообще служил когда-нибудь мерой счастья.
Конечно, в этих темных и еще плохо изученных вопросах
β См.: Hartmann. Philosophie de l'inconscient, il.
m
ничего нельзя утверждать наверняка; представляется,
однако, что счастье и сумма удовольствий — не одно и то
же. Это — общее и постоянное состояние, сопровождающее
регулярную деятельность всех наших органических и
психических функций. Такие непрерывные виды
деятельности, как дыхание или циркуляция крови, не доставляют
положительных наслаждений; однако от них главным
образом зависит наше хорошее расположение духа и
настроение. Всякое удовольствие — своего рода кризис: оно
рождается, длится какой-то момент и умирает; жизнь же,
наоборот, непрерывна. То, что составляет ее основную
прелесть, должно быть непрерывно, как и она.
Удовольствие локально: это — аффект, ограниченный какой-нибудь
точкой организма или сознания; жизпь не находится ни
здесь, ни там: она повсюду. Наша привязанность к ней
должна, значит, зависеть от столь же общей причины,
("ловом, счастье выражает не мгновенное состояние
какой-нибудь частной функции, но здоровье физической и
моральной жизни в целом. Поскольку удовольствие
сопровождает нормальное осуществление перемежающихся
функций, то оно, конечно, элемент счастья, тем более
важный, чем более места в жизни занимают эти функции.
По оно не счастье; даже уровень его оно может изменять
только в ограниченных пределах, ибо оно зависит от
мимолетных причин, счастье же — нечто постоянное. Для
того чтобы локальные ощущения могли глубоко затронуть
это основание нашей чувственной сферы, нужно, чтобы
они повторялись с исключительной частотой и
постоянством. Чаще всего, наоборот, удовольствие зависит от
счастья: сообразно с тем, счастливы мы или нет, все
улыбается нам или печалит нас. Не зря было сказано, что
мы носим наше счастье в самих себе.
Но если это так, то незачем задаваться вопросом,
возрастает ли счастье с цивилизацией. Счастье — указатель
состояния здоровья. Но здоровье какого-нибудь вида не
полнее оттого, что вид этот высшего типа. Здоровое
млекопитающее не чувствует себя лучше, чем столь же
здоровое одноклеточное. Так же должно быть и со счастьем.
Оно не становится больше там, где деятельность богаче;
оно одинаково повсюду, где она здорова. Самое простое и
самое сложное существа наслаждаются одинаковым
счастьем, если они одинаково реализуют свою природу.
Нормальный дикарь может быть так же счастлив, как и
нормальный цнвилизоваппый человек.
Поэтому дикари столь же довольны своей судьбой, как
227
8*
МЫ — своей. Это полное Довольство Является даже одной
из отличительных черт их характера. Они не желают
более того, что имеют, и не имеют никакого желания
изменить свое положение. «Житель Севера,— говорит Вайц,—
не стремится к Югу для улучшения своего положения,
а житель теплой и нездоровой страны не думает покинуть
ее ради более благоприятного климата. Несмотря на
многочисленные болезни и всяческие бедствия, которым
подвержен обитатель Дарфура, он любит свое отечество и не
хочет эмигрировать из него, но рвется домой, если он на
чужбине... Вообще, какова бы ни была материальная
нищета, в которой живет народ, он не перестает считать
свою страну лучшей в мире, свой образ жизни — самым
богатым наслаждениями, а на себя он смотрит как на
первый народ на свете. Это убеждение, по-видимому,
господствует у всех негрских народов. Точно так же в
странах, которые, подобно многим областям Америки,
эксплуатировались европейцами, туземцы твердо уверены,
что белые оставили свою страну только для того, чтобы
искать счастья в Америке. Приводят примеры молодых
дикарей, которых болезненное беспокойство погнало из
дому в поисках счастья; но это весьма редкие
исключения» 7.
Правда, наблюдатели иногда рисовали нам жизнь
низших обществ в совсем другом виде, но только потому, что
они приняли свои собственные впечатления за
впечатления дикарей. Однако существование, кажущееся нам
невыносимым, может быть приятным для людей другого
физического и морального склада. Что такое,
например, смерть, когда с детства привык рисковать жизнью
на каждом шагу и, следовательно, ставить ее ни во что?
Чтобы заставить нас сожалеть об участи первобытных
народов, недостаточно указать, что там скверно
соблюдается гигиена, что не обеспечена безопасность. Только
индивид компетентен в оценке своего счастья: он
счастлив, если чувствует себя таким. Но «от обитателя
Огненной Земли до готтентота человек в естественном
состоянии живет довольный собой и своей участью»8. Как
редко это довольство в Европе! Эти факты объясняют,
почему один опытный человек мог сказать: «Бывают
положения, когда мыслящий человек чувствует себя ниже
того, кого воспитала одна природа, когда он себя спра-
7 Waitz. Anthropologie, I, S. 346.
8 Ibid., S. 347.
228
шивает, стоят ли его самые твердые убеждения больше,
чем узкие, но милые сердцу, предрассудки» 9.
Но вот более объективное доказательство.
Единственный опытный факт, доказывающий, что
жизнь вообще хороша, это то, что громадное
большинство людей предпочитает ее смерти. Для этого необходимо,
чтобы в среднем счастье брало верх над несчастьем. Если
бы отношение было обратным, то непонятно было бы,
откуда появляется привязанность людей к жизни, а
особенно как она может продолжаться, постоянно разрушаемая
фактами. Правда, пессимисты объясняют это явление
иллюзиями надежды. По их мнению, если мы, несмотря
на разочарования опыта, еще держимся за жизнь, то
потому, что мы ошибочно надеемся, будто будущее выкупит
прошедшее. Но даже если допустить, что надежда
достаточно объясняет любовь к жизни, она не объясняется сама
собой. Она не свалилась чудом с неба, но, как и всякое
чувство, должна была образоваться под действием
фактом. Значит, если люди научились надеяться, если под
ударами несчастья они привыкли обращать свои взоры к
будущему и ожидать от него вознаграждения за их
теперешние страдания, то потому, что они заметили, что эти
вознаграждения часты, что человеческий организм
слишком гибок и вынослив, чтобы быть легко сраженным, что
моменты, когда одолевало песчастье, были редки и что
вообще в конце концов равновесие восстанавливалось.
Следовательно, какова бы ни была роль надежды в
генезисе инстинкта самосохранения, этот последний
представляет убедительное свидетельство относительной ценности
жизни. На этом же основапии там, где оп утрачивает
свою энергию или свою распространенность, можно быть
уверенным, что жизнь сама теряет свою прелесть, что зло
увеличивается, потому ли, что умножаются причины
страдания, или потому, что уменьшается сила сопротивления
индивидов. Если бы, таким образом, мы обладали
объективным и доступным измерению фактом, выражающим
изменения интенсивности этого чувства в различных
обществах, то мы могли бы вместе с тем измерять изменения
среднего несчастья в тех же обществах. Этот факт — число
самоубийств. Подобно тому как редкость добровольных
смертей в первобытных обществах — лучшее
доказательств могущества и универсальности инстинкта самосохра-
0 Cnwper Rose. Four yoars in Southern Africa, 1820, p. 173.
229
нения, факт увеличения их количества доказывает, что он
теряет почву.
Самоубийство появляется только с цивилизацией. Оно
очень редко в низших обществах; по крайней мере,
единственный вид его, который в них постоянно наблюдают,
содержит особые черты, делающие из пего
специфический тип, имеющий другое значение. Это акт не отчаяния,
а самоотречепия. Если у древних датчан, кельтов,
фракийцев старик, доживший до престарелого возраста,
кончал с собой, то потому, что его долг — освободить своих
сотоварищей от бесполезного рта. Если вдова индуса не
переживает своего мужа, а галл — вождя клана, если
буддист бросается под колеса колесницы, везущей его идол,
то потому, что моральные или религиозные предписания
принуждают их к этому. Во всех этих случаях человек
убивает себя не потому, что ou считает жизнь дурной, но
потому, что идеал его требует этой жертвы. Эти случаи
добровольной смерти в такой же мере могут считаться
самоубийствами в обычном смысле слова, как смерть
солдата или медика, которые сознательно подвергают себя
гибели, чтобы исполнить свой долг.
Наоборот, настоящее самоубийство, самоубийство
печальное, находится в эндемическом состоянии у
цивилизованных народов. Оно распределяется даже
географически, как и цивилизация. На картах самоубийств видно,
что вся центральная область Европы занята обширным
мрачным пятном, которое расположено между 47 и
57 градусами широты и между 20 и 40 градусами
долготы. Это излюбленное место самоубийства; по выражению
Морзелли, это — суицидогенпая зона Европы. Именпо
здесь находятся страны, где научная, художественная,
экономическая деятельность достигли максимума; это
Германия и Франция. Наоборот, Испания, Португалия,
Россия, южнославянские народы относительно не
затронуты. Италия, возникшая недавно, еще несколько
защищена, но она теряет свой иммунитет по мере того, как
прогрессирует. Одна Англия составляет исключение; но
мы еще мало знаем о точной степени ее готовности к
самоубийству. Внутри каждой страны мы констатируем ту
же связь. Повсюду самоубийство свирепствует в городах
сильнее, чем в деревнях. Цивилизация концентрируется в
больших городах; самоубийство тоже. В нем даже видели
иногда своего рода заразную болезнь, имеющую очагом
распространения столицы и круппые города, откуда они
распространяются по всей стране. Наконец, во всей ТСв-
230
роне, исключая Норвегию, число самоубийств постоянно
возрастает в течение целого века 10. По одному
вычислению оно увеличилось втрое с 1821 но 1880 г.11 Ход
цивилизации не может быть измерен с той же точностью,
по известно, каким быстрым он был за это время.
Можно было бы увеличить число доказательств.
Различные классы населения доставляют для самоубийства
контингент пропорционально степени их
цивилизованности. Повсюду свободные профессии поражены более
других, а земледелие наиболее пощажено. То же самое и с
полами. Женщина менее, чем мужчина, втянута в
движение цивилизации; она меньше участвует в нем и
извлекает из него меньше выгоды. Она более напоминает
некоторые черты первобытных натур12, поэтому она убивает
себя вчетверо реже мужчины.
Но, возразят нам, если восходящее движение
самоубийств указывает, что несчастье прогрессирует в
некоторых пунктах, то не возможно ли, что в то же время
счастье увеличивается в других? В этом случае
положительное приращение, может быть, могло бы возместить
нехватки в другом месте. Так, в некоторых обществах
число бедняков увеличивается, но общее богатство не
уменьшается. Оно концентрируется только в меньшем
числе рук.
Но эта гипотеза малоприменима к нашей
цивилизации. Ибо, предполагая, что существует подобное
возмещение, из этого можно было бы вывести только то, что
среднее счастье осталось почти неизменным, или же если
оно увеличилось, то на весьма незначительную величину,
которая не будучи пропорциональна величине усилия,
затраченного на прогресс, не могла бы объяснить его. Но
и сама гипотеза не имеет основания.
Действительно, когда говорят об обществе, что оно
более или менее счастливо, по сравнению с другим, то
говорят о среднем счастье, т. е. о том, которым
наслаждаются члены этого общества в среднем. Так как они
находятся в одинаковых условиях существования, поскольку
они подвержены действию одной и той же социальной и
физической среды, то непременно существует известный
общий для них способ существования и, следовательно,
общий способ быть счастливым. Если из индивидуально-
10 См. таблицы Морзеллп.
11 Octtingen. Moralstatistik. Erlangen, 1882, S. 742.
12 Tarde. Criminalité comparée, p. 48.
981
го счастья вычесть все то, что происходит от
индивидуальных и местных причин, и оставить только продукт
общих причин, то полученный таким образом остаток
составляет именно то, что мы называем средним счастьем.
Это, следовательно, величина абстрактная, но абсолютно
единственная, не могущая изменяться в двух
противоположных направлениях одновременно. Она может
возрастать или уменьшаться, но невозможно, чтобы она
одновременно и возрастала, и уменьшалась. Она имеет то же
единство и ту же реальность, что средний тип общества,
средний человек Кетле, ибо она представляет счастье,
которым, как считается, пользуется это идеальное
существо. Следовательно, подобно тому как он не может
одновременно стать большим и меньшим, более нравственным
и менее нравственным, он не может также в одно время
стать и счастливее и несчастнее.
Но причины, от которых зависит увеличение числа
самоубийств у цивилизованных пародов, имеют некоторые
общие черты. Действительно, самоубийства не происходят
в отдельных местах, в некоторых частях общества,
обходя другие; их наблюдают повсюду. В одних странах
восходящее их движение быстрее, в других — медленнее, но
оно существует повсюду без исключения.
Земледельческие области менее подвержены самоубийству, чем
промышленные, но доставляемый им контингент все
возрастает. Мы, стало быть, имеем дело с явлением, связанным
не с какими-то местными и особыми обстоятельствами, но
с общим состоянием социальной среды. Это состояние
по-разному отражается отдельными средами (провинции,
профессии, религиозные исповедания и т. д.); поэтому
его действие не везде дает себя знать с одинаковой
интенсивностью; но природа его от этого не изменяется.
Это значит, что счастье, о регрессе которого
свидетельствует развитие самоубийств, есть среднее счастье.
Возрастающее число добровольных смертей не только
доказывает, что имеется большее число индивидов,
слишком несчастных, чтобы выносить жизнь,— это ничего бы
не говорило о других, составляющих, однако,
большинство,— но что общее счастье общества уменьшается.
Следовательно, так как это счастье не может увеличиваться
и уменьшаться одновременно, то увеличение его
невозможно, раз увеличиваются самоубийства; другими
словами, дефицит, существование которого они обнаруживают,
но возмещается ничем. Причины, от которых они
зависят, только часть своей энергии расходуют в форме само-
232
убийств; оказываемое ими влияние гораздо обширнее.
Там, где они не приводят человека к самоубийству,
подавляя окончательно счастье, там они по меньшей мере
сокращают в различных пропорциях нормальный избыток
удовольствий над страданиями. Конечно, благодаря
особой комбинации обстоятельств, может случиться, что в
известных случаях их действие нейтрализуется, делая
даже возможным приращение счастья; но эти случайные
и частные изменения не влияют на социальное счастье.
Какой статистик, впрочем, не увидит в росте общей
смертности в определенном обществе признаки
ослабления общественного здоровья?
Значит ли это, что нужно приписать самому
прогрессу и составляющему его условие разделению труда эти
грустные результаты? Это обескураживающее
заключение не вытекает с необходимостью из предыдущих
фактов. Наоборот, весьма вероятно, что оба эти разряда
фактов просто сопутствуют друг другу. Но это сопутствие
достаточно доказывает, что прогресс не особенно
увеличивает наше счастье, так как последнее уменьшается —
и даже в весьма серьезных размерах — в то самое
время, когда разделение труда развивается с неведомой до
сих пор энергией и быстротой. Если нет основания
допускать, что оно уменьшило нашу способность к
наслаждению, то тем более невозможно думать, что оно
увеличило ее.
В конечном счете все, что мы сказали, есть только
частное применение той общей истины, что удовольствие,
как и страдание, явление главным образом
относительное. Нет абсолютного, определяемого объективно
счастья, к которому люди приближаются по мере того,
как прогрессируют. Но, подобно тому как, по словам
Паскаля, счастье мужчины не то же, что счастье
женщины, счастье низших обществ не может быть нашим,
и наоборот. Однако одно не больше другого.
Относительную интенсивность его можно измерять только той
силой, с которой оно привязывает нас к жизни вообще и
к нашему образу жизни в частности. Но самые
первобытные пароды столь же привязаны к существованию,
и в частности к своему, как мы — к своему. Они даже
менее легко отказываются от пего 13. Итак, пет никакого
13 Кроме случаев, когда инстинкт самосохранения
централизуется религиозными, патриотическими и тому подобными чувстпа-
мн, не становясь вследствие этого слабее.
233
пропорционального отношения между изменением счастья
и прогрессом разделения труда.
Это положение весьма важно. Из него следует, что
для объяснения превращений, испытанных обществами,
не нужно выяснять, какое влияние они оказывают па
счастье людей, так как не это влияние вызвало их.
Социальная наука должна решительно отказаться от тех
утилитарных сравнений, которыми она слишком часто
пользовалась. Кроме того, такие соображения по
необходимости субъективны, ибо всякий раз, когда сравнивают
удовольствия или интересы, то за неимением
объективного критерия невозможно не бросить на весы свои
собственные мнения и вкусы и не выдавать за научную
истину то, что является только личным чувством. Это
принцип, который уже Конт сформулировал весьма ясно.
«По существу, относительный дух,— говорит он,— в
котором необходимо трактовать любые понятия
положительной политики, должен сначала заставить нас
удалить, как тщетное и пустое, метафизическое рассуждение
о приращении человеческого счастья в различные эпохи
цивилизации... Так как счастье каждого требует
достаточной гармонии между совокупностью развития
различных его способностей и особой системой обстоятельств,
управляющих его жизнью, и так как, с другой стороны,
такое равновесие постоянно и самопроизвольно стремится
к некоторой степени, то невозможно, говоря об
индивидуальном счастье, сравнить положительно каким-нибудь
непосредственным чувством или рациональным путем
социальные ситуации, полное приближение к которым
абсолютно невозможно» 14.
Но желание стать счастливее — единственный
индивидуальный двигатель, могущий объяснить прогресс;
по удалении его не остается другого. На каком
основании индивид сам по себе станет вызывать изменения,
постоянно требующие от него усилий, если он не извлекает
из них большего счастья? Следовательно, определяющие
причины социальной эволюции находятся вне его,
т. е. в окружающей его среде. Если и он и общества
изменяются, то потому, что изменяется эта среда. С
другой стороны, так как физическая среда относительно
постоянна, то она не может объяснить этот непрерывный
ряд изменений. Поэтому исходные условия падо искать
в социальной среде. Происходящие в пей изменения вы-
14 Cours de philosophie positive. 2e éd., IV, p. 273.
234
зывают те, через которые проходят общества и индивиды.
Таково методологическое правило, которое мы будем
иметь случай применить и подтвердить в дальнейшем.
III
Однако можно было бы спросить, не вызывают ли
некоторые изменения, которым подвергается удовольствие
(в силу уже самого факта длительности его
существования), самопроизвольные изменения в человеке и нельзя
ли объяснить таким образом прогресс разделения труда?
Вот как можно было бы представить это объяснение.
Если удовольствие не есть счастье, то, во всяком
случае, оно элемент его. Но оно теряет свою интенсивность
от повторения; если же оно становится непрерывным, то
совершенно исчезает. Время может нарушить равновесие,
которое стремится установиться, и создать новые условия
существования, к которым человек может приспособиться
только изменяясь. По мере того как мы привыкаем к
известному счастью, оно убегает от нас, и мы вынуждены
пуститься в новые поиски, чтобы его обнаружить. Нам
нужно оживить это потухающее удовольствие более
энергичными возбуждениями, т. е. умножить или сделать
интенсивнее те, которыми мы располагаем. Но это
возможно только тогда, когда труд становится более
производительным и, следовательно, более разделенным. Таким
образом, всякий прогресс, осуществленный в науке, в
искусстве, в промышленности, вынуждает пас к новому
прогрессу для того только, чтобы не потерять плоды
предыдущего. Значит, можно объяснить развитие разделения
труда игрою чисто индивидуальных факторов, не вводя
никакой социальной причины. Словом, если мы
специализируемся, то не для преобретения новых удовольствий,
но чтобы возместить разрушающее влияние, оказываемое
временем на приобретенные удовольствия.
Но как бы реальны пи были эти изменения
удовольствия, они не могут играть той роли, которую им
приписывают. Действительно, они происходят повсюду, где
есть удовольствие, т. е. повсюду, где имеются люди. Нет
общества, к которому не приложим этот психологический
закон, но есть такие общества, в которых разделение
труда не прогрессирует. Мы видели действительно, что
весьма большое число первобытных пародов живет в
неподвижном состоянии, из которого они даже не думают
выйти. Они не стремятся ни к чему новому. Однако их
счастье подчинено общему закону. Точно так же обстоит
235
дело с деревней у цивилизованных народов. Разделение
труда прогрессирует тут очень медленно и склонность к
изменениям весьма слаба. Наконец, внутри одного и того
же общества разделение труда развивается более или
менее быстро в разные эпохи; влияние же времени на
удовольствие всегда одно и то же. Значит, не оно вызывает
это развитие.
Действительно, непонятно, как бы оно могло иметь
такой результат. Невозможно восстановить равновесие,
уничтоженное временем, и удержать счастье па
постоянном уровне без усилий, тем более тягостных, чем более
мы приближаемся к высшему пределу удовольствия; ибо
в области, близкой к максимальному пункту, приращения,
получаемые удовольствием, все ниже и ниже приращений
соответствующего раздражения. Нужно больше работать за
то же вознаграждение. Что выигрывают с одной стороны,
то теряют — с другой, и избегают потери только путем
новых издержек. Следовательно, чтобы эта операция была
выгодна, иужпо, по крайней мере, чтобы потеря эта была
важна, а потребность возместить ее — очень сильна.
Но в действительности она имеет только весьма
посредственную энергию, так как повторение не отнимает
ничего существенного у удовольствия. Не надо, в самом
деле, смешивать прелесть разнообразия с прелестью
новизны. Первое — необходимое условие удовольствия, так
как непрерывное наслаждение исчезает или
превращается в страдание. Но время само по себе не уничтожает
разнообразия; необходима к этому еще непрерывность.
Состояпие, повторяющееся часто, но с перерывами,
может оставаться приятным, ибо если непрерывность
разрушает удовольствие, то или потому, что она делает его
бессознательным, или потому, что выполнение всякой
функции требует издержек, которые, продолжаясь
непрерывно, истощают организм и становятся болезненными.
Значит, если действие, будучи привычным, повторяется
только через достаточно большие промежутки времени,
оно все-таки будет ощущаться, и произведенные расходы
смогут быть возмещены за это время. Вот почему
здоровый взрослый человек всегда испытывает одинаковое
удовольствие, когда пьет, ест, спит, хотя оп это делает
каждый день. То же происходит и с духовными
потребностями, которые так же периодичпы, как и психические
функции, которым они соответствуют. Удовольствия,
доставляемые нам музыкой, искусством, наукой,
сохраняются в целости, лишь бы они чередовались.
236
Если непрерывность pi может нечто, чего не может
повторение, то она все же не внушает нам потребности
в новых и непредвиденных возбуждениях. Ибо, если она
целиком уничтожает сознание приятного состояния, то
мы не можем заметить, что удовольствие, которое было
связано с последним,*также одновременно исчезло; оно,
кроме того, заменяется тем общим ощущением
благополучия, которое сопровождает регулярное выполнение
функций, непрерывных в нормальном состоянии, и
которое имеет не меньшую цену. Поэтому мы ни о чем не
сожалеем. Кто из нас имел когда-либо желание
чувствовать биение своего сердца или функционирование
легких? Если же, наоборот, имеется страдание, то мы просто
стремимся к состоянию, которое отличается от
причиняющего нам боль. Но чтобы прекратить это страдание, нет
необходимости в особых ухищрениях. Известный предмет,
к которому мы обыкновенно равнодушны, может в этом
случае причинить нам большое удовольствие, если оп
составляет контраст с тем, что вызывает в нас
страдание. Следовательно, в способе, каким время затрагивает
основной элемент удовольствия, нет ничего, что могло бы
побудить нас к какому-нибудь прогрессу. Правда, не так
обстоит дело с новизной, привлекательность которой
непродолжительна. Но если она и доставляет больше
свежести удовольствию, то она не создает его. Это только
второстепенное и преходящее качество, без которого оно
может отлично существовать, хотя рискует быть тогда
менее приятным. Поэтому, когда новизна исчезает,
происходящая от этого пустота не слишком чувствительна,
а потребность ее заполнить не очень интенсивна.
Интенсивность ее уменьшает еще то, что она
нейтрализуется противоположным, более сильным и более
укоренившимся в пас чувством, а именно потребностью
устойчивости в наших наслаждениях и регулярности в
наших удовольствиях. Мы любим перемену, но в то же
время привязываемся к тому, что любим, и не можем без
боли расстаться с пим. Кроме того, это необходимо для
поддержания жизни, ибо, если она невозможна без
перемены, если гибкость ее увеличивается вместе со
сложностью, то прежде всего, однако, она представляет собой
целую систему устойчивых и регулярных функций. Есть,
правда, индивиды, у которых потребность новизны
достигает исключительной интенсивности. Ничто из
существующего не удовлетворяет их; они жаждут невозможных
вещей; они хотели бы установить новую действитель-
237
ность на месте имеющейся. Но эти неисправимые
недовольные — больные, и патологический характер этого
случая только подтверждает сказанное нами.
Наконец, не нужно терять из виду, что эта
потребность по природе своей весьма неопределенна. Она нас
не привязывает ни к чему определенному, так как это
потребность в чем-то, чего нет. Она, стало быть, только
наполовину сформирована; ибо полная потребность
включает два элемента: напряжение воли и определенный
объект. Поскольку объект не дан извне, то он не может
иметь другой действительности, кроме приданной ему
воображением. Этот процесс — наполовину из области
представлений. Он состоит, скорее, в комбинациях образов,
в своего рода внутренней поэзии, чем в действительном
движении воли. Он нас не заставляет выйти из самих
себя; он только внутреннее возбуждение, которое ищет
путь наружу, но еще не нашло его. Мы мечтаем о новых
ощущениях, но это — неопределенное стремление,
исчезающее, не найдя воплощения. Следовательно, даже там,
где опо наиболее энергично, оно не может иметь силы
твердых и определенных потребностей, которые,
постоянно устремляя волю в одном и том же направлении и по
проложенным путям, стимулируют ее тем повелительнее,
чем менее оставляют места колебаниям, обсуждениям.
Невозможно допустить, что прогресс — это только
следствие скуки 15. Эта периодическая и в чем-то непрерывная
переплавка человеческой природы была делом трудным,
осуществлявшимся в муках. Невозможно, чтобы
человечество вынесло столько страданий единственно с целью
иметь возможность несколько разнообразить свои
удовольствия и сохранить их первоначальную свежесть.
Глава II
ПРИЧИНЫ
I
Итак, причину, объясняющую прогресс разделения
труда, следует искать в определенных изменениях
социальной среды. Результаты предыдущей книги позволяют нам
сразу же заключить, в чем они состоят.
15 Такова была теория Жоржа Леруа; мы знаем о iieii только
по тому, что говорит о ней Конт. См.: Cours de philosophie positive,
TV, p. 449.
238
Мы видели в самом деле, что организованная
структура и, следовательно, разделение труда регулярно
развиваются по мере того, как исчезает сегментарная
структура. Следовательно, или это исчезновение - причина
развития разделения труда, или последнее — причина
первого. Вторая гипотеза недопустима, так как мы знаем,
что сегментарное устройство составляет для разделения
труда неодолимое препятствие, которое должно
исчезнуть, по крайней мере, отчасти, чтобы могло появиться
разделение труда. Последнее может иметь место только в
той мере, в какой перестает существовать сегментарное
строение. Несомненно, поскольку разделение труда уже
существует, оно может способствовать ускорению
регресса сегментарного типа; но появляется оно только после
того, как последний регрессировал. Следствие реагирует
на причину, но не перестает от этого быть следствием;
значит, производимая им реакция вторична. Рост
разделения труда происходит, следовательно, оттого, что
социальные сегменты теряют свою индивидуальность, что
разделяющие их перегородки становятся более
проницаемыми, словом, между ними происходит сращивание,
делающее социальное вещество свободным для
вступления в новые комбинации.
Но исчезновение этого типа может иметь такое
следствие только по одной причине. Причина эта заключается
в том, что из него вытекает сближение разделенных
ранее индивидов или, по меньшей мере, более тесное
сближение; вследствие этого происходит обмен движений
между частями социальной массы, которые до тех пор не
касались друг друга. Чем более развита ячеистая
система, тем более отношения, в которых находится каждый
из нас, замкнуты в пределах ячейки, к которой мы
принадлежим. Существуют как бы моральные пустоты
между различными сегментами. Наоборот, по мере
нивелирования этой системы пустоты заполняются. Социальная
жизнь, вместо того чтобы концентрироваться в массе
небольших раздельных и подобных очагов, обобщается.
Социальные — или, точнее, внутрисоциальные — отношения
становятся, следовательно, многочисленнее, так как во
все стороны они простираются далее своих
первоначальных границ. Разделение труда прогрессирует, стало быть,
тем более, чем больше число индивидов, которые
находятся в достаточном соприкосновении, чтобы иметь
возможность воздействовать и реагировать друг на друга.
Если мы условимся называть динамической или
морально
ной плотностью это сближение и вытекающие из пего
активные сношения, то мы можем сказать, что прогресс
разделения труда прямо пропорционален моральной или
динамической плотности общества.
Но это моральное сближение может производить свое
действие только тогда, когда действительное расстояние
между индивидами каким-то образом уменьшилось.
Моральная плотность не может увеличиваться без того,
чтобы не возрастала в то же время материальная плотность,
и последняя может служить для измерения первой.
Бесполезно, впрочем, исследовать, какая из них породила
другую; достаточно констатировать, что они неотделимы
друг от друга.
Прогрессивное уплотнение обществ в процессе
исторического развития происходит тремя основными способами.
1. В то время как низшие общества располагаются на
площадях, огромных в сравнении с числом составляющих
эти общества индивидов, у более развитых народов
население все более концентрируется. «Сравним,— говорит
Спенсер,— населенность местностей, обитаемых дикими
племенами, с населенностью равновеликих местностей
в Европе; или же сравним плотность населения Англии
во времена гептархии с теперешней,— и мы признаем,
что рост в результате соединения групп сопровождается
также промежуточным ростом» *. Изменепия,
последовательно произошедшие в промышленной жизни наций,
доказывают общий характер этого преобразования. Занятия
кочевников, охотников или пастухов требуют в самом
деле отсутствия всякой концентрации, рассеяния на
сколь возможно большей поверхности. Так как
земледелие вызывает необходимо оседлую жизнь, то оно
предполагает уже некоторое сжатие социальных тканей, по
сжатие еще весьма неполное, ибо между соседними
семьями имеются промежуточные земельные пространства2.
Хотя в городской общине плотность была больше, но
дома не были смежными: общность стен не была
известна римскому праву3. Она родилась на нашей почве и
доказывает, что социальная связь здесь стала крепче4.
1 Sociologie, II, р. 31.
2 «Colunt diversi ас discretti,- говорит Тацит о германцах,-
suam quisque domum spatio circumdaH (Germania, XVI) 60*.
3 См. у Accarias (Précis..., I, p. 640) перечень городских cepmi-
тутов. См.: Fustel de Coulanges. La cité antique, p. 65.
4 Рассуждая таким образом, мы не желаем сказать, что
прогресс плотности зависит от экономических перемен. Оба факта обу-
240
С другой стороны, в европейских обществах с самого па-
чала плотность непрерывно возрастала, за исключением
нескольких случаев временного регресса 5.
2. Образование городов и их развитие — другой, еще
более характерный симптом того же явления.
Возрастание средней плотности может происходить только от
материального увеличения рождаемости и, следовательно,
может сочетаться с весьма слабой концентрацией,
составляя мощную опору сегментарного типа. Но города всегда
происходят от потребности, побуждающей индивидов
постоянно находиться в максимально возможной близости
друг к другу; они представляют как бы точки, в которых
социальная масса сжимается значительно сильнее, чем в
других местах. Они могут, стало быть, умножаться и
расширяться только в том случае, если увеличивается
моральная плотность. Мы увидим, впрочем, что они
пополняются путем иммиграции; а это возможно лишь
постольку, поскольку продвинулось слияние социальных
сегментов.
Пока социальная организация главным образом сег-
ментарпа, город, не существует. Городов нет в низших
обществах; их не встречают пи у ирокезов, ни у
древних германцев 6. Так же было и с первоначальным
населением Италии. «Народы Италии,—говорит Маркардт,—
первоначально жили не в городах, а в семейных
общинах или деревнях (pagi), в которых были разбросаны
фермы (vici, οίκοι )»761*. Но в течение довольно
короткого времени город там появился. Афины, Рим —
города или становятся ими, и то же превращение
совершается во всей Италии. В наших христианских
обществах город появляется в самом начале, так как города,
оставшиеся от Римской империи, не исчезли вместе с
ней. Впоследствии они только увеличивались и умпожа-
лись. Тенденция притока деревень к городам, столь
общая в цивилизованном мире8,— только следствие этого
движения. А началось оно не со вчерашнего дня:
начиная с XVII в. оно занимает государственных деятелей9.
словливают друг друга, и этого достаточпо, чтобы присутствие
одного свидетельствовало о присутствии другого.
5 См.: Levasseur. La population française, passim.
6 См.: Тацит. Germania, XVI; Sohm. Über die Entstehung dor
Städte.
7 Römische Alterthümer, IV, S. 3.
8 См. об этом: Dumont. Depopulation et civilisation. P., 1800,
cli. VIII; öttingen. Moralstatistik, S. 273 etc.
9 См.: Levasseur. Op. cit., p. 200.
241
Так как общества начинаются обычно с
земледельческого периода, то иногда рассматривали развитие
юродских центров как признак старости и упадка 10. Но пе
нужно забывать, что эта земледельческая фаза тем
короче, чем выше тип общества. В то время как в
Германии, у североамериканских индейцев и у всех
первобытных народов она существует столько же времени,
сколько и сами эти народы, в Риме, Афинах она прекращается
довольно скоро, а у нас она, можно сказать, никогда не
существовала без примесей. Наоборот, городская жизнь
начинается раньше и поэтому получает более широкое
распространение. Закономерное ускорение этого развития
доказывает, что оно не составляет какого-то
патологического явления, но вытекает из самой природы высших
социальных видов. Предположим даже, что это движение
достигло теперь размеров, угрожающих нашим
обществам, пе имеющим, может быть, достаточной гибкости,
чтобы к нему приспособиться. Оно тем не менее не
продолжается через них либо после пих, и социальные типы,
которые возникнут после наших, будут, вероятно,
отличаться еще более быстрым и полным регрессом
земледельческой цивилизации.
3. Наконец, имеется множество быстрых путей
сообщения и связи. Уничтожая или уменьшая пустоты,
разделяющие социальные сегменты, они увеличивают
плотность общества. С другой стороны, нет необходимости
доказывать, что они тем многочисленней и совершенней,
чем выше тип общества.
Так как этот видимый и измеримый символ отражает
изменения того, что мы назвали моральной плотностью11,
то мы можем поставить его вместо последней в
предложенной нами формуле. Мы должны, впрочем, повторить
здесь то, что сказали выше. Если общество, уплотпяясь,
вызывает развитие разделения труда, то последнее, в
свою очередь, увеличивает уплотпепие общества. Но это
неважно, ибо разделение труда остается производным
фактом, и следовательно, прогресс его происходит от
параллельного прогресса социальпой плотности, каковы
бы ни были причины последнего. Вот все, что мы хотели
установить.
10 Нам кажется, что таково мнение Тарда в его «Законах
подражания».
11 Однако встречаются отдельные, исключительные случаи,
когда материальная и моральная плотности целиком не связаны
между собой. См. ниже, гл. III, последнее примечание.
242
Но это не единственный фактор.
Если уплотнение общества производит этот результат,
то потому, что оно умножает впутрисоциальные
отношения. Но последние будут еще многочисленнее, если,
кроме того, общее число членов общества станет
значительнее. Если общество включает в себя больше ипдивидов,
находящихся в то же время в более тесном
соприкосновении, то действие непременно усилится. Социальный
объем, стало быть, оказывает на разделение труда то же
влияние, что и плотность.
Действительно, общества обычно тем обширнее, чем
они далее продвинулись вперед и, следовательно, чем
более разделен в них труд. «Общества, как и живые
тела,— говорит Спенсер,— начинаются в форме
зародышей, возникают из масс, крайне незначительных
сравнительно с теми, какими они становятся под конец.
Из маленьких бродячих орд — какими являются низшие
виды — вышли величайшие общества: этого заключения
невозможно отрицать» 12. То, что мы сказали о
сегментарном устройстве, делает эту истину неоспоримой.
Мы знаем действительно, что общества образованы из
некоторого числа сегментов неравной величины, которые
включают взаимно друг друга. Но эти рамки не
создаются искусственно, особенно вначале; даже став
условными, они повторяют и воспроизводят, насколько
возможно, формы предшествующего естествеппого устройства.
Древние общества воспроизводятся в этой форме. Самые
обширные среди этих подразделений те, которые
охватывают другие и соответствуют паиболее близкому
низшему социальному типу. Точно так же среди сегментов, из
которых они, в свою очередь, образованы, самые
обширные представляют следы типа, стоящего непосредственно
тгод предыдущим, и т. д. У самых развитых пародов
находят следы самой первобытной социальной
организации i;f. Так, племя состоит из агрегата орд или кланов;
нация (например, еврейская) и античный город — из
агрегата племен; город, в свою очередь, вместе с
подчиненными ему деревнями входит как элемент в более
сложные общества и т. д. Социальный объем, стало быть,
не может не возрастать, так как каждый вид образуется
посредством воспроизведения обществ непосредствеппо
предшествующего вида.
12 Sociologie, IT, p. 23.
13 Например, деревня, которая первоначально представляет
собой устойчивый клап.
243
Есть, однако, исключения. Еврейская нация до
завоевания была, вероятно, объемистее, чем римская в IV в.;
однако она принадлежит к более низкому виду. Китай и
Россия значительно населеннее, чем самые
цивилизованные нации Европы. У этих народов, следовательно,
разделение труда не развилось соответственно социальному
объему. Дело в том, что рост объема не есть
необходимый признак превосходства, если плотность не
увеличивается в то же время и в том же отношении. Общество
может достигнуть весьма значительных размеров,
обнимая весьма большое число сегментов, какова бы ни была
природа последних; значит, если даже обширпейшие
среди них производят только общества очень низкого типа,
то сегментарная структура остается выраженной весьма
резко, и следовательно, социальная организация не
особенно высока. Громаднейший агрегат из кланов стоит
ниже малейшего организованного общества, так как
последнее уже прошло стадии эволюции, которых тот еще
не достиг. Точно так же, если число социальных единиц
имеет влияние на разделение труда, то не само по себе
и с необходимостью, но потому, что число социальных
отношений вообще увеличивается с числом индивидов. Но
для этого недостаточно, чтобы в обществе насчитывалось
много людей; необходимо еще, чтобы они были в
довольно тесном соприкосновении, чтобы быть в состоянии
воздействовать и реагировать друг на друга. Если, наоборот,
они отделены непроницаемыми средами, то они могут
завязывать отношения только редко и с трудом, и все
происходит так, как будто бы их было небольшое число.
Прирост социального объема пе всегда, стало быть,
ускоряет прогресс разделения труда, но только тогда, когда
масса сжимается в то же время и в той же мере.
Следовательно, это только дополнительный фактор; но, когда
он присоединяется к первому, то оп усиливает следствия
своим собственным действием, и следовательно, его
нужно отличать от первого.
Итак, мы можем сформулировать следующее
положение: Разделение труда развивается прямо
пропорционально объему и плотности обществ, и если оно
прогрессирует непрерывно в процессе социального развития, то
потому, что общества становятся постоянно более
плотными и, как правило, более объемистыми.
Прайда, но псе времена было ясно, что между этими
двумя категориями фактов существует связь, ибо для
большей специализации фупкций необходимо, чтобы было
244
больше сотрудничающих индивидов, которые должны
притом быть достаточно близки между собой, чтобы быть в
состоянии кооперироваться. Но обыкновенно в этом
состоянии обществ видят только средство, благодаря
которому развивается разделение труда, а не причину этого
развития. Последнее ставят в зависимость от
индивидуальных стремлений к благополучию и счастью,
удовлетворяющихся тем лучше, чем обширнее и плотнее
общество. Совсем не таков только что установленный нами
закон. Мы не говорим, что возрастание и уплотнение
обществ допускают все большее разделение труда, но
утверждаем, что они обусловливают его необходимость.
Это не орудие, посредством которого осуществляется
разделение труда; это — определяющая причина его ,4.
Но как представить себе способ, каким производит
свое действие эта двойная причина?
II
По Спенсеру, если рост социального объема и имеет
влияние на прогресс разделения труда, то оно не вызывает
его; оно только ускоряет его. Это только вспомогательное
условие явления. Всякая однородная масса,
неустойчивая по природе, необходимо становится разнородной,
каковы бы ни были ее размеры; она дифференцируется
только полнее и скорее, когда она обширнее.
Действительно, так как эта разнородность происходит оттого, что
разные массы подвержены действию различных сил,
то она тем больше, чем больше имеется различно распо-
14 В этом вопросе мы можем опереться на авторитет Конта.
«Я должен только,- говорит он,- указать теперь на
прогрессирующее уплотнение нашего вида как на последний общий элемент,
способствующий регулированию скорости социального движения.
Во-первых, легко можно заметить, что это влияние существенно
способствует (особенно вначале) тому, чтобы вызывать в
целостной системе человеческого труда все более дробное разделение,
которое по необходимости несовместимо с небольшим числом
сотрудничающих. Кроме того, благодаря более глубокому и менее
известному, хотя еще более важному, свойству, такое уплотнение
прямо и мощно стимулирует более быстрый ход социальной
эволюции, тем ли, что побуждает индивидов к нопым усилиям для
обеспечения себя более утонченными средствами существования,
которое иначе стало бы более трудным, или тем также, что
принуждает общество реагировать с более упорной и лучше
согласованной энергией для энергичной борьбы против усиливающегося
стремления к индивидуальным расхождениям. В том и в другом случае
ясно, что речь идет здесь не об абсолютном увеличении числа
индивидов, но главным образом о более интенсивном их
сотрудничестве на данном пространстве» (Cours..., IV, р. 455).
245
ложениых частей. Именно это мы и видим в обществах:
«Когда община, становясь очень многолюдной,
распространяется на большей территории и устраивается па ней
так, что ее члены живут и умирают в своих округах,
то она удерживает свои различные части в различных
физических условиях, и тогда эти части не могут уже
остаться сходными по своим занятиям. Те, которые
живут разбросанно, продолжают охотиться и
обрабатывать землю; живущие у морского побережья предаются
морским промыслам; жители какого-нибудь места,
выбранного, может быть, благодаря своему центральному
положению местом периодических собраний, становятся
торговцами, и возникает город... Благодаря различиям в
почве и климате жители деревень в различных частях
страны имеют особые занятия и отличаются тем, что
выращивают или быков, или баранов, или хлеб» 15.
Словом, разнообразие сред, в которых находятся индивиды,
создает у последних различные склонпости, вызывающие
их специализацию в расходящихся паправлепиях, и если
эта специализация возрастает с размерами обществ,
то потому, что в то же время увеличиваются эти
внешние различия.
Нет сомнения, что внешние условия, в которых живут
индивиды, отражаются на них и что, будучи
различными, эти условия их дифференцируют. Но требуется знать,
достаточно ли этого различия, связанного, без сомпепия,
и с разделением труда, для возникновения последпего.
Конечно, легко объяснить, что сообразно свойствам почвы
и климатическим условиям жители выращивают тут хлеб,
там баранов или быков. Но функциональные различия не
всегда сводятся, как в этих примерах, к простым
оттенкам: они иногда так резки, что индивиды, между
которыми разделен труд, образуют как бы различные и даже
противоположные виды. Можно было бы сказать, что они
умышленно все сильнее удаляются друг от друга. Какое
имеется сходство между мозгом, который мыслит, и
желудком, который переваривает пищу? Точно так же, что
общего между поэтом, целиком отдающимся своей грезе;
ученым, поглощенным своими исследованиями; рабочим,
проводящим всю свою жизнь в выделывании булавочной
головки: земледельцем, налегающим на свой плуг;
купцом за его конторкой? Как бы велико ни было
разнообразие внешпнх условий, оно нигде не представляет разли-
15 Premiers principes, p. 381.
246
чий, которые были бы соразмерны с этими столь резко
выраженными контрастами н которые, следовательно,
могли бы объяснить их. Даже сравнивая не функции,
весьма удаленные друг от друга, а только различные
разветвления одной и той же функции, часто совсем
невозможно заметить, какими внешними различиями
может быть вызвано их разделение. Научный труд все
более разделяется. Каковы климатические, геологические
или даже социальные условия, которые смогли породить
столь различные таланты, как талант математика,
химика, натуралиста, психолога и т. д.?
Но даже там, где внешние обстоятельства сильнее
всего ^склоняют индивидов к специализации в
определенном направлении, одни они не могут ее вызвать. По
своей физической конституции женщина предрасположена
вести жизнь, отличную от мужской, однако есть
общества, где занятия обоих полов почти одинаковы. По своему
возрасту, по своим кровным отношениям с детьми отец
как бы создан для того, чтобы исполнять в семье те
руководящие функции, совокупность которых составляет
отцовскую власть. Однако в материнской семье она
достается не ему. Кажется вполне естественным, чтобы
различные члены семьи имели различные, сообразно
степеням их родства, функции; чтобы отец и дядя, родной и
двоюродный братья не имели ни одинаковых прав,
ни одинаковых обязанностей. Однако есть семейные типы,
где все взрослые играют одну и ту же роль и вполне
равны между собой, каковы бы пи были их отношения
родства. Низшее положение, занимаемое военнопленным в
победившем племени, по-видимому, осуждает его — если
ему, по крайней мере, оставлена жизнь — на самые
низкие социальные функции. Однако мы видели, что он
часто ассимилируется с победителями и становится
равным пм.
Дело в действительности в том, что если эти различия
и делают возможным разделение труда, то они не
вызывают его непременно. Из того, что они даны, не
обязательно следует, что они используются. В итоге они мало
что значат в сравнении со сходствами, остающимися
между людьми; это только едва заметный зародыш. Для
того чтобы из лих возникла специализация деятельности,
необходимо, чтобы они были развиты и организованны,
а это развитие зависит, очевидно, от иных причин,
нежели разнообразие внешних условий. Но, говорит Спенсер,
оно произойдет само собой, так как оно движется по ли-
247
нии наименьшего сопротивления и все силы природы
неодолимо движутся в этом направлении. Конечно, если
люди специализируются, то именно в направлении,
отмеченном этими естественными различиями, ибо тут
представляется им меньше труда и больше выгод. Но почему
они специализируются? Что побуждает их склоняться в
ту сторону, где они отличаются друг от друга? Спенсер
довольно хорошо объясняет, каким образом происходит
эволюция, если она имеет место; но он пам не говорит,
какова производящая ее пружина. По правде сказать, для
него этот вопрос и не существует. Он допускает в самом
деле, что счастье возрастает вместе с производительной
силой труда. Значит, всякий раз, как представляется
новое средство еще большего разделения труда,
невозможно, по его мнению, чтобы мы им не воспользовались.
Но мы знаем, что дело обстоит не так. В
действительности это средство имеет для пас ценность только тогда,
когда мы испытываем в нем потребность. А так как
первобытный человек не испытывает никакой потребности
во всех тех продуктах, желать которых научился
цивилизованный человек и которые как раз и может ему
обеспечивать более сложная организация труда, то мы
поймем, откуда происходит возрастающая специализация
занятий только тогда, когда узнаем, как возникли эти
новые потребности.
III
Если труд все более разделяется по мере того, как
общества становятся более объемистыми и плотными, то не
потому, что в них более разнообразны внешние
обстоятельства, а потому, что борьба за жизнь в них более
энергична.
Дарвин весьма справедливо заметил, что конкуренция
между двумя организмами тем сильнее, чем они сходнее.
Имея те же потребности, преследуя те же цели, они
повсюду оказываются соперниками. Пока ресурсов у них
имеется больше, чем нужно, они могут еще жить бок о
бок; но если число их увеличивается в такой пропорции,
что не все аппетиты могут быть достаточно
удовлетворены, то вспыхивает война, и она тем яростнее, чем
сильнее эта недостаточность, т. е. чем больше число копку-
рептов. Совсем не то видим мы, когда сосуществующие
рядом индивиды принадлежат к различпым видам или
248
разновидностям. Так как они не питаются одинаковым
образом и не ведут одинакового образа жизни, то они не
стесняют друг друга; то, что вызывает благоденствие
одних, не представляет ценности для других. Конфликты
случаются тем реже, чем реже встречаются и чем дальше
друг от друга находятся эти виды или разновидности.
«Так,— говорит Дарвин,— в небольшой местности,
открытой для иммиграции, где, следовательно, борьба между
индивидами должна быть весьма сильной, постоянно
замечается большое разнообразие в населяющих ее видах.
Я нашел, что покрытая дерном площадь в 12
квадратных футов, которая в течение многих лет находилась в
одинаковых жизненпых условиях, кормила 20 видов
растений, принадлежащих к 18 родам и 8 классам, что
показывает, насколько друг от друга отличались эти
растения» 16. Каждый, впрочем, знает, что на одном и том же
поле наряду с хлебными злаками могут расти многие
вредные травы. Животные также тем легче избегают
борьбы, чем они более различаются между собой. На
одном дубе находят до 200 видов насекомых, живущих
друг с другом в полном согласии. Одни питаются
плодами дерева, другие — листьями, третьи — корой и
корнями. «Было бы абсолютно невозможно,— говорит Гек-
кель,— чтобы такая масса индивидов жила на этом
дереве, если бы все принадлежали к одному виду, если бы
все, например, жили только за счет коры или листьев» 17.
Точно так же внутри организма конкуренцию между
различными тканями ослабляет то, что они питаются
различными веществами.
Люди подвержепы тому же закону. В одном и том же
городе различные профессии могут сосуществовать,
не будучи вынуждены вредить друг другу, так как они
преследуют различные цели. Солдат стремится к военной
славе, священник — к моральному авторитету,
государственный деятель — к власти, промышленник — к
богатству, ученый — к научной славе; каждый из них может,
таким образом, достигнуть своей цели, не мешая другим
достигнуть их цели. Так же обстоит дело даже тогда,
когда функции менее удалены друг от друга. Окулист не
конкурирует со специалистом по психическим
заболеваниям, сапожник — с шапочником, каменщик — со
столяром, физик — с химиком и т. д. Так как они занимают-
16 Origine des espèces, p. 131.
17 Histoire de la création naturelle, p. 240.
249
ся разными делами, то они могут заниматься ими
параллельно.
Но чем больше сближаются функции, чем больше
между ними точек соприкосновения, тем более,
следовательно, они расположены к борьбе. Поскольку в этом случае
они удовлетворяют различными способами одинаковые
потребности, они неизбежно стараются так или иначе
что-то захватывать друг у друга. Судья никогда не
конкурирует с промышленником; по пивовар и виноградарь,
суконщик и фабрикант шелковых изделий, поэт и
музыкант часто пытаются вытеснить друг друга. Что же
касается тех, которые исполняют как раз одпу и ту же
фупкцию, то одни могут благоденствовать только за счет
других. Значит, если представить себе различные
функции в виде разветвляющегося пучка, исходящего из
общего основания, то борьба минимальна между крайними
точками, постепенпо увеличиваясь по мере приближения
к центру. Так происходит не только в отдельных
городах, но и на всем пространстве общества. Сходные
профессии, расположенные в различных точках территории,
тем сильнее конкурируют друг с другом, чем они более
сходны, если только трудности сообщения и перевозки
не ограничивают круг их действия.
Исходя из 'этого, легко понять, что всякое
уплотнение социальной массы, особенно если оно
сопровождается ростом населения, с необходимостью вызывает
прогресс разделения труда.
Действительно, представим себе промышленный центр,
снабжающий неким продуктом определенную часть
страны. Его возможное развитие ограничено двояко:
во-первых, величиной потребностей, требующих удовлетворения,
или, как говорят, величиной рынка; во-вторых,
могуществом средств производства, которыми он располагает.
В нормальных условиях он не производит больше, чем
нужно, и, конечно, не производит больше, чем может.
Но если ему и невозможно перейти отмеченпую таким
образом границу, то он все же пытается достигнуть ее,
ибо всякой силе свойственно развивать всю свою
энергию, пока что-нибудь не остановит ее. Раз дойдя до этого
пункта, он приспособился к условиям своего
существования; он находится в состоянии равновесия, которое не
может измениться, если ничего не изменится.
Но вот область, до сих пор не зависевшая от этого
центра, оказалась соедипеппой с пим каким-нибудь путем
сообщения, который несколько сокращает расстояние. Тем
250
самым одна из преград, сдерживавших его подъем,
падает или, по крайней мере, отступает. Рынок расширяется:
теперь приходится удовлетворять больше потребностей.
Без сомнения, если бы все отдельные предприятия,
охватываемые этим центром, уже осуществили максимум
производства, которого они могут достигнуть, то положение
вещей не изменилось бы. Но такое условие совсем
неправдоподобно. В действительности всегда имеется более или
менее значительное число предприятий, не достигших
своего предела и, следовательно, обладающих скоростью,
необходимой для дальнейшего движения. Так как для них
открыто свободное пространство, то они непременно
стараются заполнить его. Если они встречают там подобные
предприятия, которые в состоянии противиться им, то они
сдерживаются ими, происходит взаимное ограничение,
и следовательно, взаимные отношения не измепяются.
Имеется, конечно, большее число конкурентов, по,
поскольку они делят между собой больший рынок, доля
каждой из сторон остается той же. Но если среди них
есть такие, которые в чем нибудь ниже других, то они
неизбежно должны будут уступить занимаемое ими
место, на котором они не могут более удержаться в новых
условиях борьбы. Им остается теперь или исчезнуть, или
преобразоваться, и это преобразование непременно
должно привести к новой специализации. Ибо если бы, вместо
того чтобы немедленно создать дополнительную
специальность, слабейшие предпочли бы освоить другую,
но уже существовавшую профессию, то им пришлось бы
включиться в конкуренцию с теми, кто занимался ею до
сих пор. Борьба, стало быть, пе прекратилась бы,
а только переместилась бы, и ее последствия сказались
бы в другом месте. В конце концов где-то необходима
была бы или элиминация, или новая дифференциация.
Нет нужды добавлять, что если общество действительно
насчитывает большее число членов, которые в то же
время ближе друг к другу, то борьба еще яростнее, а
порождаемая ею специализация — быстрее и полнее.
Другими словами, пока социальное устройство сегмеи-
тарио, каждый сегмент имеет свои собственные органы,
которые как бы защищены и удалены от подобных им
органов перегородками, разделяющими различные
сегменты. Но, по мере того как эти перегородки исчезают,
неизбежно происходит сближение подобных органов,
которые вступают в борьбу и пытаются заменить друг
друга. Но каким бы путем пи происходила эта замена,
251
ил нее должен полупиться какой-то прогресс в
направлении специализации. Ибо, с одной стороны, победивший
сегментарный орган, если можно так выразиться, может
справиться с выпадающей ему теперь более обширной
задачей только посредством большего разделения труда,
а с другой стороны, побежденные могут уцелеть, только
посвящая себя одной части целой функции, которую они
прежде исполняли. Мелкий хозяин становится
подмастерьем, мелкий торговец — приказчиком и т. д. Эта
часть, впрочем, может быть большей или меньшей
соответственно тому, насколько явственно ее низкое
положение. Бывает даже, что первоначальная функция просто
распадается на две части равного значепия. Вместо того
чтобы начать или продолжать конкурировать, два
подобных предприятия достигают равновесия, разделяя между
собой общее занятие; вместо того чтобы
субординироваться, они координируются. Но во всех этих случаях
возникают новые специальности.
Хотя предыдущие примеры заимствованы главным
образом из экономической жизни, но объяснение в
равной мере применимо ко всем социальным функциям.
Научный, художественный и другой труд разделяется
таким же образом, по тем же причинам. В силу тех же
причин, как мы видели, регулирующий центральный
аппарат поглощает в себе местные регулирующие органы и
сводит их к роли специальных помощников.
Следует ли из всех этих изменений прирост среднего
счастья? Неясно, какой причиной это могло бы быть
вызвано. Большая интенсивность борьбы требует все новых
и мучительных усилий, которые по природе своей не
могут сделать человека счастливее. Все происходит
механически. Нарушение равновесия в социальной массе
вызывает конфликты, которые могут быть разрешены только
посредством более развитого разделения труда: таков
двигатель прогресса. Что касается внешних
обстоятельств, разнообразных комбинаций наследственности, то,
подобно тому как наклон местности определяет
направление течения, но не создает его, так и они обозначают
направление, в котором совершается специализация там,
где она необходима, но не обусловливают ее.
Индивидуальные различия, вызываемые ими, остались бы в
потенциальном состоянии, если бы мы, чтобы справиться
с новыми трудностями, не были вынуждены
подчеркивать и развивать их.
Итак, разделение труда есть результат борьбы за су-
252
Ществование; но оно представляет ее смягченную
развязку. Благодаря ему соперники не вынуждены истреблять
друг друга, но могут сосуществовать бок о бок. Кроме
того, по мере своего развития оно доставляет средства
существования большему числу индивидов, которые в
более однородных обществах были бы обречены на
исчезновение. У многих низших народов всякий болезненный
человек должен был фатально погибнуть, ибо он не был
годен ни к какой функции. Иногда закон, опережая и
освящая в некотором роде результаты естественного
отбора, осуждал на смерть больных или новорожденных,
и сам Аристотель 18 находил этот обычай естественным.
Совсем иначе происходит в более развитых обществах.
Тщедушный индивид может найти в сложных рамках
нашей социальной организации место, в котором он
может заниматься делом. Если он слаб только телесно,
а мозг его здоров, он посвятит себя кабинетным
занятиям, умственным функциям. Если слаб у него мозг, «он
должен будет, конечно, отказаться от интеллектуальной
конкуренции; но общество имеет во вторичных ячейках
своего улья достаточно малые места, которые не дадут
ему погибнуть» 19. У первобытных народностей
побежденного врага предают смерти; там же, где промышленные
функции отделены от военных, он живет рядом с
победителем в качестве раба.
Есть, конечно, некоторые обстоятельства, когда
различные функции начинают конкурировать между собой.
Так, в индивидуальном организме после долгого голода-
пия нервная система питается за счет других органов,
и то же явление происходит в случае, если мозговая
деятельность слишком сильно развивается. Так и в
обществе. Во время голода или экономического кризиса
жизненные функции для своего сохранения должны питаться за
счет менее существенных функций. Промышленные
отрасли, производящие предметы роскоши, переживают
кризис, и доля общественного богатства, служившая для
их поддержания, поглощается отраслями, производящими
продовольствие или предметы первой необходимости.
Случается также, что организм достигает ненормальной
степени активности, непропорциональной потребностям,
н для возмещения издержек, причиненных этим
чрезмерным развитием, ему приходится урывать из доли, причи-
18 Политика, IV (VII), 16, 1335b, 20 и след.
19 Bordier. Vie des sociétés, p. 45.
253
тающейся другим. Например, есть общества, где
слишком много чиновников, или солдат, или офицеров, или
посредников, или священников и т. д.; от этой
гипертрофии страдают другие профессии. Но все эти случаи —
патологические; они происходят оттого, что питание
организма нерегулярно или функциональное равновесие
нарушено.
Но тут возможно возражение.
Промышленность может существовать, только если
она соответствует какой-нибудь потребности. Функция
может специализироваться только при условии, что эта
специализация соответствует какой-нибудь потребности
общества. Но всякая новая специализация имеет
результатом увеличение и улучшение производства. Если это
преимущество и не составляет основания разделения
труда, то, во всяком случае, оно — его необходимое
следствие. Следовательно, прогресс возможен только в том
случае, если индивиды реально чувствуют потребность в
продуктах более изобильных или лучшего качества. Пока
не возникла индустрия транспорта, каждый обходился
средствами, которыми он располагал. Но, чтобы она
могла стать специальностью, необходимо было, чтобы люди
перестали довольствоваться тем, чем они до того
довольствовались, и стали более требовательными. Но откуда
могут явиться эти новые требования?
Они — следствие той самой причины, которая
вызывает прогресс разделения труда. Мы видели
действительно, что он происходит от большей ожесточенности
борьбы. А такая борьба пе обходится без большей траты сил
и, следовательно, без большего утомления. Но для
поддержания жизни необходимо, чтобы возмещение было
пропорционально трате; вот почему пища, которой до
тех пор хватало для восстановления органического
равновесия, теперь недостаточна. Необходима пища более
обильная и изысканная. Вот почему крестьянин, труд
которого менее изнурителен, чем труд городского рабочего,
поддерживает свои силы так же хорошо скудной пищей.
Последний же не может довольствоваться растительной
пищей, и даже в таких условиях он с трудом
уравновешивает дефицит, производимый каждый день в бюджете
его организма непрерывной интенсивной работой 20.
С другой стороны, эти издержки приходятся главным
образом на центральную нервную систему21; ибо пеоб-
2» См.: liordier. Op. cit., p. 106 elc.
21 Fêré. Dugonéresci'nce v\ criminalilc, p. 88.
254
ходимо всячески изощряться, чтобы находить средства
для борьбы, чтобы создавать новые специальности,
осваивать их и т. д. Вообще, чем более среда подвержена
изменениям, тем большей становится доля интеллекта в
жизни, ибо он один может найти новые условия для
восстановления непрерывно нарушающегося равновесия.
Следовательно, мозговая деятельность развивается в то
же время и в той же мере, в какой конкуренция
становится сильнее. Этот параллельный прогресс
констатируют не только у олиты, но во всех классах общества.
С этой точки зрения опять-таки достаточно сравнить
рабочего с земледельцем; известно, что первый гораздо
умнее, несмотря на часто механический характер его
занятий. Не случайно также умственные болезни
прогрессируют вместе с цивилизацией и свирепствуют в городах
больше, чем в деревнях, а в больших городах — больше,
чем в малых22. Более объемистый и тонкий мозг имеет
иные потребности, нежели грубый. Страдания и лишения,
которых последний даже не чувствует, болезненно
отражаются па первом. Поэтому же нужны мепее простые
раздражения, чтобы приятно возбудить этот орган, раз он
стал тоньше,— и они нужны в большем количестве, так
как он развился в то же время. Наконец, собственно
умственные потребности возрастают более, чем все
другие 23; примитивные объяснения не могут более
удовлетворить изощренные умы. Требуются новые объяснепия,
и наука одновременно поддерживает и удовлетворяет эти
стремления.
Итак, все эти изменения происходят механически,
в силу необходимости. Если наш интеллект, наша
чувствительность развиваются и изощряются, то потому, что
мы их больше упражняем; а если мы их больше
упражняем, то потому, что мы вынуждены делать это из-за
большей ожесточенности борьбы. Вот каким образом, не
желая того, человечество оказывается более способным
к восприятию более активной и разнообразной культуры.
Однако если бы не вмешивался другой фактор, то это
простое предрасположепие не могло бы само собой
породить средство удовлетворить собя, ибо оно составляет
только способность к наслаждению, а, по замечанию Бэиа,
«одни способности к наслаждению не вызывают пепремен-
22 См. статью «Умопомешательство» η Dictionnaire
encyclopédique des sciences médicales.
23 Это развитие собствепно интеллектуальной или научном
жизни имеет еще и другую причину, которую мы рассмотрим в
следующей главе.
255
но желание. Мы можем быть так устроены, чтобы
находить удовольствие в занятиях музыкой, живописью,
наукой, и однако, не желать этого, если нам всегда в этом
препятствовали» 24. Даже когда нас побуждает к чему-
пибудь весьма сильный наследственный импульс, мы
можем желать этого, только войдя с ним в сношения.
Юноша, который никогда не слыхал разговоров о половых
сношениях и вызываемых ими наслаждениях, может,
конечно, испытывать неопределенную, неясную тревогу;
он может иметь такое ощущение, как будто ему чего-то
недостает, но он не знает, чего именно, и не имеет,
следовательно, собственно половых стремлений; поэтому эти
неопределенные стремления могут довольно легко
уклониться от своих естественных целей и нормального па-
правления. Но в тот самый момент, когда человек
становится в состоянии пользоваться этими новыми
наслаждениями и когда он призывает их бессознательно, он
находит их достижимыми, так как в то же время развилось
разделение труда, которое ему их доставляет. Оба эти
ряда факторов встречаются без всякой
предустановленной гармонии, просто потому, что они суть следствия
одной и той же причины.
Вот как можно представить себе эту встречу.
Привлекательность новизны одна уже могла бы побудить
человека испытать эти наслаждения. Он даже тем
естественнее стремится к этому, чем больше богатство и
сложность этих возбуждений заставляют его находить
посредственными те, которыми он довольствовался до сих
пор. Кроме того, он может приспособиться к ним
умственно до опыта; и так как в действительности они
соответствуют изменениям, происшедшим в его
организме, то он предчувствует, что ему будет хорошо от пих.
Опыт затем подтверждает эти предчувствия; дремавшие
потребности пробуждаются, определяются, начинают
осознавать себя и организуются. Это не значит, конечно, что
подобпое приспособление во всех случаях так
совершенно, что всякий новый продукт, порожденный прогрессом
разделения труда, всегда соответствует реальной
потребности нашей природы. Наоборот, очепь вероятно, что
часто потребности усваиваются только потому, что
привыкли к предмету, к которому они относятся. Этот
предмет не был пи полезен, пи необходим; по случайпо
пришлось несколько раз иметь дело с ним и так привыкпуть
24 Emotions et volonté, p. 419.
256
к нему, что нельзя более обходиться без него. Гармония,
вытекающая из чисто механических причин, не может не
быть приблизительной и несовершенной; но она
достаточна для поддержания порядка вообще. Это и происходит
с разделением труда. Происходящий в нем прогресс не
всегда, но только в целом находится в гармонии с
происходящими в человеке изменениями, и это позволяет ему
быть продолжительным.
Однако, повторяем, от этого мы не становимся
счастливее. Конечно, раз эти потребности возбуждены, то
невозможно не удовлетворить их, не причиняя себе
страдания. Но от того, что они возбуждены, наше счастье не
стало больше. Начальная точка, относительно которой
мы измеряем сравнительную интенсивность наших
удовольствий, переместилась; из этого следует переворот во
всей шкале. Но это перемещение удовольствия не влечет
за собой его роста. Так как среда уже более не та, то
мы должпы были измениться, и это изменение вызвало
другие в нашем способе быть счастливыми; но кто
говорит «изменение», не говорит обязательно «прогресс».
Ясно, насколько паша точка зрения на разделение
труда отличается от точки зрения экономистов. Для них
оно состоит главным образом в том, чтобы производить
больше. Для нас эта большая производительность только
необходимое следствие, отражение явления. Если мы
специализируемся, то не для того, чтобы производить
больше, но чтобы быть в состоянии жить при новых условиях
существования.
IV
Из всего предыдущего следует, что разделение труда
может происходить только между членами уже
установившегося общества.
Действительно, когда конкуренция сталкивает межд,т
собой изолированных и чуждых индивидов, то она может
только еще больше отдалить их. Если они располагают
свободным пространством, они будут избегать друг друга;
если они не могут выйти из определенных границ, то они
дифференцируются, но так, что становятся еще
независимее друг от друга. Нельзя привести ни одного случая,
когда бы чисто враждебные отношения без вмешательства
какого-нибудь другого фактора превратились в
социальные отношения. Поэтому, так как между индивидами
одного и того же животного или растительного вида
вообще нет никакой связи, то борьба между ними приводит
9 Э. Дюркгейм
257
только к большему расхождению, к порождению
несходных разновидностей, все более удаляющихся друг от
друга. Это прогрессивное разделение Дарвин назвал законом
дивергенции признаков. Разделение же труда
противопоставляет, но в то же время и соединяет; оно заставляет
сходиться дифференцируемые им виды деятельности; оно
сближает тех, кого разделяет. Так как конкуренция не
может вызвать этого сближения, то оно должно
существовать заранее; необходимо, чтобы индивиды, между
которыми завязывается борьба, уже были солидарными и
чувствовали это, т. е. чтобы они принадлежали к одному
обществу. Вот почему там, где это чувство солидарности
слишком слабо, чтобы сопротивляться рассеивающему
влиянию конкуренции, последняя порождает совсем
другие следствия, чем разделение труда. В странах, где
существование слишком трудно вследствие крайней
плотности населения, жители, вместо того чтобы
специализироваться, окончательно или временно удаляются из
общества: они эмигрируют в другие страны.
Достаточно, впрочем, представить себе, что такое
разделение труда, чтобы понять, что дело и не может
обстоять иначе. Разделение труда состоит на самом деле в
разделении функций, бывших ранее общими. Но это
разделение не может быть сделано по предустановленному
плану; невозможно сказать заранее, где должна
находиться демаркационная линия между занятиями, когда они
отделятся; ибо она не обозначена столь четко в природе
вещей, но зависит, наоборот, от множества обстоятельств.
Надо, стало быть, чтобы разделение труда
осуществлялось само собой и последовательно. Следовательно,
чтобы в этих условиях функция могла разделиться на две
точно дополняющие друг друга части, как того требует
природа разделения труда, необходимо, чтобы обе
специализирующиеся части находились в течение всего
времени этого деления в постоянном общении; нет другого
средства, чтобы одна получила все движение, которое
потеряет другая, и чтобы они приспособились друг к другу.
Но подобно тому, как колония животных, все члены
которой связаны между собой тканями, составляет индивида,
всякий агрегат индивидов, находящихся в постоянном
соприкосновении, образует общество. Разделение труда
может, стало быть, происходить только внутри уже
существующего общества. Этим мы не хотим просто сказать, что
индивиды должны быть материально связаны друг с
другом; нужно еще, чтобы между ними существовали мо-
258
ральные связи. Во-первых, материальная
преемственность сама по себе порождает эти связи, лишь бы она
была продолжительной; но они, кроме того, необходимы
и непосредственно. Если бы отношения,
устанавливающиеся в первоначальном, пробном периоде, не были
подчинены никакому правилу, если бы никакая власть
не умеряла конфликта индивидуальных интересов, то
получился бы хаос, из которого не мог выйти никакой
новый порядок. Воображают, правда, что все совершается
тогда посредством частпых, свободно обсуждаемых
соглашений; таким образом, по-видимому, отсутствует всякое
социальное действие. Но забывают, что контракты
возможны только там, где уже существует юридическая
регламентация и, следовательно, общество.
Значит, в разделении труда ошибочно видели иногда
основной факт всей социальной жизни. Труд не
разделяется между независимыми и уже
дифференцированными индивидами, соединяющимися для согласования своих
различных способностей. Было бы чудом, если бы
различия, рожденные случайным стечением обстоятельств,
могли согласоваться так точно, чтобы образовалось связное
целое. Они не только не предшествуют коллективной
жизни, но, наоборот, проистекают из нее. Они могут
возникать только внутри общества и под давлением
социальных чувств и потребностей; это и делает их главным
образом гармоничными. Итак, существует социальная
жизнь вне всякого разделения труда, но которую
последнее предполагает. Именно это мы прямо установили,
показав, что есть общества, сплоченность которых вызвана
главным образом общностью верований и чувств, и что
именно из этих обществ вышли те, единство которых
обеспечивается разделением труда. Заключения
предыдущей книги и те, к которым мы пришли теперь, могут,
следовательно, послужить для взаимного подтверждения
и проверки. Разделение физиологического труда тоже
подчинено этому закону: оно всегда появляется только
внутри многоклеточных масс, уже обладающих
определенной связью.
Для многих теоретиков представляется очевидным,
что всякое общество состоит главным образом в
кооперации. «Общество в научном смысле слова,— говорит
Спенсер,— существует только тогда, когда индивиды не
только находятся рядом друг с другом, но и кооперируют» 25.
25 Sociologie, III, p. 331.
259
9·
Мы видели, что эта мнимая аксиома противна истине.
Очевидно, наоборот, как говорит Огюст Конт, «что
кооперация не только не производит общества, но необходимо
предполагает предварительное самопроизвольное
устройство его»26. Людей сближают механические причины и
импульсивные силы, такие, как кровное родство,
привязанность к одной и той же земле, культ предков,
общность обычаев и т. д. Только когда группа образовалась
на этих началах, в ней организуется кооперация.
Кроме того, единственно возможная вначале
кооперация до того непостоянна и слаба, что, если бы социальная
жизнь не имела другого источника, то сама она не имела
бы ни силы, ни устойчивости. Значит, сложная
кооперация, вытекающая из разделения труда, и подавно
представляет собой позднейшее и производное явление. Она
происходит от внутренних движений, развивающихся
внутри массы, когда она установилась. Правда, если она
появилась, она сжимает социальные связи и делает из
общества более совершенную индивидуальность. Но эта
интеграция предполагает другую, которую она заменяет.
Для того чтобы социальные единицы могли
дифференцироваться, необходимо сначала, чтобы они притянулись и
сгруппировались в силу представляемых ими сходств.
Этот процесс формирования наблюдается не только в на*
чале, но и на каждой стадии эволюции. Мы знаем
действительно, что высшие общества происходят из
соединения низших обществ того же типа: нужно сначала
слияние последних в направлении одного и того же
коллективного сознания, чтобы процесс дифференциации мог
начаться или возобновиться. Так, более сложные
организмы образуются посредством повторения более
простых, сходных между собой организмов, которые
дифференцируются, только ассоциировавшись. Словом,
ассоциация и кооперация — два различных факта, и если второй,
развившись, реагирует на первый и видоизменяет его,
если человеческие общества все более становятся
группами кооперирующих индивидов, то от этого не исчезает
двойственность этих явлений.
Если эта важная истина была отвергнута
утилитаристами, то это заблуждение связано с их представлением
о генезисе общества. Они предполагают изначальное
существование независимых и изолированных индивидов,
которые впоследствии могут установить связи только для
26 Cours de philosophie positive, IV, p. 421.
260
того, чтобы кооперироваться; ибо у них нет иного
основания для преодоления разделяющего их пространства и
объединения. Но эта столь распространенная теория
постулирует настоящее творение ex nihilo.
Она состоит на самом деле в выведении общества из
индивида; но ничто не позволяет нам верить в
возможность подобного самопроизвольного зарождения. По
признанию Спенсера, чтобы общество могло образоваться,
согласно этой гипотезе, необходимо, чтобы
первоначальные единицы «перешли от состояния полной
независимости к состоянию взаимной зависимости» 27. Но что
может побудить их к такому полному превращению?
Перспектива преимуществ, предоставляемых социальной
жизнью? Но они более чем уравновешиваются потерей
независимости; для существ, по природе
предназначенных для свободной и одинокой жизни, подобная жертва
тяжелее всего. Добавьте к этому, что в первых
социальных типах она абсолютна насколько только возможно,
так как нигде индивид не поглощен полнее группой.
Каким образом мог человек, если он был рожден
индивидуалистом, как это предполагают, согласиться на
существование, так сильно нарушающее его основное
стремление? Какой бледной должна была показаться ему
проблематичная польза кооперации в сравнении с такой
потерей! Из таких автономных индивидуальностей, как
те, которые себе воображают теоретики, не может выйти
ничего, кроме индивидуального, и следовательно, сама
кооперация, представляющая собой социальный факт,
подчиненный социальным правилам, не может из них
возникнуть. Так, психолог, замкнувшийся в своем «я», не
может выйти из него, чтобы найти «не я».
Коллр^чщрп гитттт-тто подпптгттп цз индивидуальной,
но, наоборот, nf>rÎTrpiTT,"qCT рпзнцкла из пелвси.. Только при
этом условии можно объяснить себе, как могла
сформироваться и вырасти личная индивидуальность
социальных единиц, не дезагрегируя общества. Действительно,
так как в этом случае она вырабатывается внутри уже
существующей социальной среды, то она необходимо
носит на себе ее печать; она устанавливается так, чтобы
не разрушить этот коллективный порядок, с которым она
связана; она остается приспособленной к пему, хотя и
отделяется от него. Она не имеет ничего антисоциального,
так как она — продукт общества. Это не абсолютная,
27 Sociologie, III, p. 332.
261
самодовлеющая личность монады, которая Может
обойтись без остального мира, это — индивидуальность органа
или части органа, имеющего свою определенную
функцию, но не могущего, не рискуя погибнуть, отделиться от
остальной части организма. В этих условиях кооперация
становится не только возможной, но и необходимой.
Утилитаристы, стало быть, извращают естественный порядок
фактов, и это извращение не представляет ничего
удивительного: это частная иллюстрация той общей истины,
что первое в сознании оказывается последним в
действительности. Именно потому, что кооперация — наиболее
новый факт, она прежде всего поражает взор. Поэтому
если придерживаться видимостей, как это делает здравый
смысл, то в ней неизбежно видят первичный факт
моральной и социальной жизни.
Но если кооперация и не представляет собой всей
нравственности, то не следует также ставить ее вне
нравственности, как это делают некоторые моралисты.
Подобно утилитаристам, эти идеалисты видят в ней
исключительно систему экономических отношений, частных
соглашений, единственная пружина которых — эгоизм.
В действительности моральная жизнь циркулирует во
всех составляющих ее отношениях, так как она не была
бы возможной, если бы социальные и, следовательно,
моральные чувства не управляли ее сознанием.
Возразят ссылкой на интернациональное разделение
труда; представляется очевидным, что, по крайней мере,
в этом случае индивиды, между которыми разделяется
труд, не принадлежат к одному обществу. Но нужно
вспомнить, что группа может, вполне сохраняя свою
индивидуальность, включаться в другую, более обширную,
содержащую несколько групп того же рода. Можно
утверждать, что экономическая или другая функция
может быть разделена между двумя обществами, только
если последние соучаствуют в некоторых отношениях в
одной общей жизни и, следовательно, принадлежат к
одному обществу. Предположите действительно, что оба
эти коллективные сознания не сливаются где-то воедино,
тогда непонятно, как могли бы оба эти агрегата иметь
непрерывный и необходимый контакт, следовательно, как
один из них мог бы отдать другому одну из своих
функций. Для того чтобы один народ стал доступен для
проникновения другого, необходимо, чтобы он перестал
замыкаться в патриотизме исключительности и усвоил себе
другой, более широкий патриотизм.
262
Впрочем, можно прямо наблюдать эту связь фактов
на самом поразительном примере международного
разделения труда, предоставляемом нам историей. Можно в
самом деле сказать, что по-настоящему оно произошло
только в Европе и в наше время. Но к концу прошлого
века и в начале нынешнего стало формироваться
коллективное сознание европейских обществ. «Существует,—
говорит Сорель,— предрассудок, от которого важно
избавиться. Это — представление о Европе при старом
порядке как о правильно устроенном обществе, состоящем
из государств, каждое из которых согласовывало свое пове
дение с общепризнанными принципами, в котором
уважение к установленному правилу руководило сделками и
трактатами, в котором добросовестность управляла
исполнением их, в котором чувство солидарности монархий
обеспечивало вместе с поддержанием общественного
порядка прочность обязательств, заключенных монархами...
Европа, в которой права каждого вытекают из
обязанностей всех, была чем-то столь чуждым государственным
деятелям старого порядка, что понадобилась
четвертьвековая война, самая ужасная из всех когда-либо
происходивших, чтобы внушить им понятие о ней и доказать
необходимость ее. Попытки дать Европе элементарную
организацию, сделанные на Венском и последующих
конгрессах, были шагом вперед, а не назад» 28. Наоборот,
всякий возврат к узкому национализму всегда имеет
следствием развитие протекционистского духа, т. е.
стремления народов к экономической и моральной
самоизоляции.
Если, однако, в некоторых случаях народы, ничем не
связанные, иногда считающие даже друг друга
врагами 29, обмениваются между собой более или менее
регулярно продуктами, то в этих фактах нужно видеть просто
отношения мутуализма62*, не имеющие ничего общего с
разделением труда 30. Из того, что два разных организма
28 L'Europe et la Révolution française, I, p. 9-10.
29 См.: Kulischer. Der Handel auf den primitiven Culturs-
tufen (Ztschr. für Völkerpsychologie, X, 1877, S. 378); Sckrader.
Linguistlsch-historische Forschungen zur Handelsgeschichte. Jena,
1886.
30 Правда, мутуализм обычно происходит между особями
различных видов, но явление остается таким же даже тогда,
когда оно имеет место между особями одного вида. См. о
мутуализме: Espinas. Sociétés animales; Giraiid. Les sociétés chez les
animaux.
263
имеют свойства, которые с пользой приспосабливаются
друг к другу, не следует, что между ними имеет место
разделение функций81.
31 В заключение напомним, что в этой главе мы изучили
только, как вообще происходит постоянный прогресс разделения труда,
и указали определяющие этот прогресс причины. Но вполне может
быть так, что в каком-нибудь обществе весьма развито некоторое
разделение труда, особенно экономического, хотя сегментарный
тип в нем еще очень резко выражен. По-видимому, это имеет
место в Англии. Крупная промышленность и торговля там так же
развиты, как и на континенте, хотя ячеистая система там еще
весьма заметна, что доказывает и автономия местной жизни, и
авторитет, сохраняемый там традицией (симптоматичное значение
последнего факта будет определено в следующей главе).
Дело в том, что разделение труда, будучи, как мы видели,
явлением производным и вторичным, происходит на поверхности
социальной жизни, и это особенно верно относительно разделения
экономического труда. А во всяком организме поверхностные
явления по самому своему положению доступнее действию внешних
причин, даже тогда, когда внутренние причины, от которых они
вообще зависят, не изменились. Достаточно какому-нибудь
обстоятельству вызвать у народа более сильную потребность в
материальном благосостоянии, как у него разовьется разделение
экономического труда без заметного изменения социальной структуры.
Дух подражания, контакт с более утонченной цивилизацией могут
произвести это действие. Так ум, будучи высшей и, следовательно,
находящейся на самой поверхности частью сознания, может быть
легко изменен внешними влияниями, такими, как, например,
воспитание, причем основы психической жизни не будут затронуты.
Таким образом создаются интеллекты, достаточные для
обеспечения успеха, но не имеющие глубоких корней. Поэтому такого рода
талант не передается по наследству.
Это сравнение показывает, что не нужно судить о месте,
занимаемом обществом на социальной лестнице, по состоянию его
цивилизации, особенно экономической; ибо последняя может быть
только подражанием, копией и скрывать социальную структуру
низшего вида. Случай этот, правда, исключительный, но, однако,
он встречается.
Только в таких случаях материальная плотность общества не
выражает точно состояния моральной плотности. Следовательно,
установленный нами принцип в общем верен, и этого достаточно
для нашего доказательства.
264
Глава ΠΙ
ВТОРИЧНЫЕ ФАКТОРЫ
ВОЗРАСТАЮЩАЯ НЕ0ПРЕДЕДЕаШ6<Мг--
ЙОЛЖШДОВДтЯШвдЕ ПРИЧИНЫ
Мы видели в первой части этого труда, что коллективное
сознание по мере развития разделения труда становилось
слабее и неопределеннее. В силу именно этой
прогрессирующей неопределенности разделение труда становится
главным источником солидарности. Так как оба эти
явления в указанном отношении связаны, то небесполезно
исследовать причины этого регресса коллективного
сознания. Несомненно, показав его закономерность, мы прямо
установили, что оно определенно зависит от некоторых
основных условий социальной эволюции. Но это
заключение предыдущей книги было бы еще более бесспорным,
если бы мы нашли эти условия.
Этот вопрос, впрочем, связан с тем, который мы
сейчас рассматриваем. Мы только что показали, что
прогресс разделения труда вызван усиливающимся
давлением, оказываемым друг на друга социальными
единицами и заставляющим их развиваться во все более
расходящихся направлениях. Но это давление все время
нейтрализуется противоположным давлением,
оказываемым коллективным сознанием на каждое отдельное
сознание. В то время как первое побуждает нас
становиться особой личностью, второе, наоборот, заставляет нас
походить на всех. В то время как первое склоняет нас
следовать влечению собственной природы, второе
сдерживает нас и мешает уклоняться от коллективного типа.
Другими словами, для того чтобы могло возникнуть и
развиться разделение труда, недостаточно, чтобы у
индивидов были зародыши социальных способностей или
чтобы они побуждались изменяться в направлении этих
способностей; нужно еще, чтобы индивидуальные изменения
были возможны. Но они не могут произойти в том
случае, когда они противостоят какому-нибудь сильному и
определенному состоянщо коллективного сознания; ибо
чем сильнее состояние сознания, тем более оно
сопротивляется всему, что может его ослабить; чем оно
определенней, тем меньше места оставляет оно изменениям.
Значит, можно предвидеть, что прогресс разделения
труда будет тем медленнее и труднее, чем больше энергии
и определенности будет иметь общее сознание. Наоборот,
265
он будет тем быстрее, чем легче индивид сможет
гармонировать со своей личной средой. Но самого
существования такой среды для этого недостаточно; нужно еще,
чтобы каждый мог свободно приспособиться к ней, т. е. был
способен независимо двигаться даже тогда, когда группа
не движется в то же время и в том же направлении.
А мы знаем, что собственные движения частных лиц тем
реже, чем более развита механическая солидарность.
Существует множество примеров, где можно прямо
наблюдать это нейтрализующее влияние коллективного
сознания на разделение труда. Пока закон и нравы
делают из неотчуждаемости и нераздельности недвижимой
собственности строгую обязанность, еще нет условий,
необходимых для появления разделения труда. Каждая
семья образует компактную массу, и все занимаются тем
же: эксплуатацией наследственной вотчины. У славян
задруга увеличивается часто в таких размерах, что
нищета там бывает велика; однако так как семейный дух
очень силен, то обычно продолжают жить сообща, вместо
того чтоб взяться за какие-нибудь другие занятия на
стороне, такие, как занятия моряка или купца. В других
обществах, где разделение труда продвинулось далее,
каждый класс имеет определенные и всегда одни и те же
функции, в которых запрещены всякие нововведения.
В некоторых обществах существуют целые категории
профессий, доступ к которым более или менее
определенно закрыт для граждан. В Греции \ в Риме2
промышленность и торговля были презираемыми занятиями;
у кабилов некоторые ремесла, такие, как, например,
ремесло мясника, сапожника и пр., осуждаются
общественным мнением3. Значит, специализация не может
происходить в этих различных направлениях. Наконец, даже у
народов, у которых экономическая жизнь уже достигла
известного развития, например у нас во времена
старинных корпораций, функции регламентировались таким
образом, что разделение труда не могло прогрессировать.
Там, где каждый обязан был работать по одному об-
1 Büsschenschütz. Besitz und Erwerb.
2 Согласно Дионисию Галикарнасскому (IX, 25), в первые
времена республики ни один римлянин не смел стать торговцем или
ремесленником. Цицерон также говорит о всяком наемном труде
как об унижающем ремесле. См.: De officiis, I, 42.
3 Hanoteau et Letourneux. La Cabylie et les coutumes cabyles,
II, p. 23.
266
разцу, всякое индивидуальное изменение было невоз
можно4.
То же явление происходит в сфере общественных
представлений. Религия, эта важная форма
коллективного сознания, первоначально поглощает все функции
представлений вместе с практическими функциями. Первые
отделяются от последних только с появлением
философии. Но последняя возможна только тогда, когда религия
потеряла часть своей власти. Этот новый способ
представлять вещи сталкивается с коллективным мнением,
которое сопротивляется. Иногда утверждали, что
свободная критика вызвала упадок религиозных верований;
но она предполагает, в свою очередь, предварительный
упадок самих этих верований. Она может
происходить только в том случае, если это позволяет общая
вера.
Такой же антагонизм вспыхивает всякий раз при
образовании новой науки. Само христианство, хотя оно
сразу же уделило индивидуальной рефлексии более
широкое место, чем любая другая религия, не могло
избежать этого закона. Несомненно, противодействие было
менее энергичным, пока ученые ограничивали свои
исследования материальным миром, так как он
принципиально был отдан на обсуждение людей. Притом, так
как эта отдача никогда не была полной, так как
христианский Бог не вполне чужд делам нашей земли,
неизбежна происходило, что и естественные науки не в одном
вопросе находили препятствие со стороны веры. Но, когда
сам человек стал объектом науки, сопротивление стало
особенно энергичным. Верующий в самом деле не
может не питать отвращения к идее, что человек
будет изучаться как естественное существо, аналогичное
другим, а моральные факты — как фактш природы.
Известно, как эти коллективные чувства в самых
различных формах препятствовали развитию психологии и
социологии.
Итак, нельзя считать полным объяснение прогресса
разделением труда, когда доказано только. 4JPÜ ÖM ЬШОбх(Р
дим в силу изменении, произошедших в социальной сре-
ÄaLjQH зависит еще от вторичных фаЮТ^юв, МТОрьге
могут или ускорить, или замедлить, или совсем
воспрепятствовать его движению. Не нужно, в самом деле, за-
4 Levasseur. Los classes ouvrières en France jusqu'à la
Révolution, passim.
267
бывать, что j^minjïajui3aiw^— не еДинствДШУ^^°ЛНШ-.
НЫЙ ИСХОД В борьбе Щ сущс^г^нир; >ftTft tawwi» ямигра-
ция, колонизации, отречение пт н^рр^дп™ и *с^7^рр
оспариваемого существования, наконец, полное уничтоже-
тгие Ьолее слаоых_путем_Самоубийства или иным путем.
'ТахГкёиГрезультат в известной мере неопределенен и
борющиеся не обязательно направляются к одному из этих
выходов, исключая другие, то они направляются к тому,
который более доступен им. Без сомнения, если ничто не
мешает развитию разделения труда, они
специализируются. Но если обстоятельства делают невозможным
или слишком трудным этот выход, то приходится
прибегнуть к какому-нибудь другому.
Первый из этих вторичных факторов состоит в
большей независимости' индивидов по отношению к группе,
независимо"сти^ позволяющеи^тш~^вободно изменяться.
Разделение физиолишчестГош ¥руда~ подчинено тому же
условию. «Даже близкие друг другу анатомические
элементы,— говорит Перье,— сохраняют относительно свою
индивидуальность. Каково бы ни было их число, как в
высших, так и в низших организмах, они питаются,
растут и размножаются, не заботясь о своих соседях.
В этом состоит закон независимости анатомических
элементов, ставший столь плодотворным в руках
физиологов. Эта независимость должна рассматриваться как
необходимое условие свободного развития более общей
способности пластид, а именно изменчивости под влиянием
внешних обстоятельств или даже некоторых внутренне
присущих протоплазме сил. Благодаря их способности
изменяться и их взаимной независимости, элементы,
возникшие одни из других и первоначально подобные между
собой, могли изменяться в разных направлениях,
принимать различные формы, приобретать новые функции
и свойства» 5.
В противовес тому, что происходит в организмах, эта
независимость не является в обществах исходным
фактом, так как вначале индивид поглощен группой. Но мы
видели, что впоследствии она появляется и постоянно
■gggrpeccHgyer •одновременно' б^рёГзде'ле'нйем труда, вслед-
стви^1рег^еОга:^^я^:гтШг(Э сознания. Остается
исследовать, как это полезное условие разделения социального
труда осуществляется по мере того, как оно становится
необходимым. Несомненно, дело в том, что оно само за-
5 Colonies animales, p. 702.
268
висит от причин, вызвавших прогресс специализации.
Но каким образом увеличение объема и плотности
обществ может порождать этот результат?
I
В ттйбплтлттпм пбтцрг.тяр ггрйтгя пбитяттття jrpynnKT flftflKpqT-
на^так как все находятся приблиздтедьцо, в одинаков^
условиях " сущ^таовГания! " Она состоит из всякого 1>ода
существ, наполняющих 'социальный горизонт. Состояния
сознания, представляющие ее, имеют, стало быть, тот же
характер. Сначала они относятся к определенным
предметам, таким, как, например, это животное, это дерево,
эта естественная сила и т. д. Притом, так как все
находятся в одинаковом положении по отношению к этим
объектам, они одинаковым образом воздействуют на все
сознания. Все племя, если оно не слишком обширно,
одинаково наслаждается или страдает от преимуществ
или неудобств, доставляемых солнцем или дождем,
теплом или холодом, такой-то рекой, таким-то источником
и т. д. Коллективные впечатления, возникающие из слия-
ния все5Г"этих индошДутаьМъж впечатлений, определен-
ТГьТПГ своей фор'ш?Г^^"^^
теЛьПо, оощее сознание имеет определенный характер.
Но öttd" изменяет свою природу по мере того, как общест-
ва становятся более объемистыми. Поскольку .последние
распространяются по более широкой территории, то кол-
лeKraiiaoeJ сознание!.^"д^11ШоТГсГа1ь выгЬе всех ИУебтных
различий, ^должно господствовать над~ гТрЪ^рИством
и, следоватед££5^^^
общие явления могуТ Ш>1т\^общйми для всех этих
различных сред. Это уже не такое-то животное, но такой-то
вид; не такой-то источник, но источники; не такой-то лес,
но лес in abstracto.
С другой стороны, так как условия жизни повсюду не
одни и те же, то эти общие объекты — каковы бы они
ни были — не могут более вызывать повсюду столь же
одинаковые чувства. Коллективная равнодействующая не
имеет более прежней четкости, и это тем более, чем
несходнее составляющие ее элементы. Чем больше разл!г-
_чий между индивидуальными портретами, послужившими
^ля_создания сложного прртдахаА лтем неопределеннее
последний. Правда, местные коллективные сознания "могут
сохранять свою индивиду^льность.днутри общего
коллективного сознаниями, охватывая меньшие горизонты, они
скорее остаются конкретными. Но мы знаем, что они
269
мало-помалу растворяются внутри первого, по м°ру тог/*
как и^чезаю^ициальные сегменты,,
котдрьщ^рн^соответствую.!,. _ ~
"' 'Факт, может быть, лучше всего демонстрирующий эту
возрастающую тенденцш^^)бшигп ' САЗТЩЙИ'я.—' это'
параллельное возрастание тра¥сцендентй6сти наиболее
существенного из его элементов, а именно понятиябожества.
Первоначально боги неотличимы от всоЯеЙНОиГ^йли, точ-
нее, существуют не боги, а только священные существа,
причем их священный характер не связан с какой-то
внешней сущностью как со своим источником. Животные
или растения вида, служащего тотемом для клана,
являются объектом культа, но это не значит, что какой-то
принцип sui generis63* сообщает им извне их
божественную сущность. Эта сущность им внутренне свойственна;
они божественны сами по себе. Но мало-помалу
религиозные силы отрываются от объектов, для которых они
вначале служили лишь атрибутами, и гипостазируются.
Так образуется понятие о духах или о богах, которые,
где бы они ни обитали, существуют, однако, вне
конкретных объектов, с которыми они преимущественно
связаны в. Уже благодаря этому они содержат в себе нечто
менее конкретное. Тем не менее независимо от того,
многочисленны они или сведены к некоторому единству, они
все равно имманентны миру. Отчасти отделенные от
объектов, они все-таки находятся в пространстве. Они,
стало быть, остаются совсем близко от нас, постоянно
вторгаясь в нашу жизнь. Греко-латинский политеизм,
представляющий собой более высокую и лучше
организованную форму анимизма, означает дальнейший прогресс
в направлении трансцендентности. Местопребывание
богов более резко отличается от местопребывания
человека. Удалившись на таинственные высоты Олимпа или в
глубины земли, они лично только иногда вмешиваются в
человеческие дела. Но только с христианством Бог
окончательно удаляется из пространства; его царство — уже
не от мира сего: расхождение между божеством и
природой столь полно, что превращается даже в антагонизм.
В то же время понятие божества становится более общим
и абстрактным, ибо оно образовано не из ощущений, как
вначале, но из идей. Бог человечества неизбежно менее
конкретен, чем бог клана или античного города.
г См.: Réville. Religions des peuples non civilisés, I, p. 67 etc.;
II, p. 230 etc.
270
Одновременно с религией универсализируются
правовые и моральные правила. Связанные сначала с
местными условиями, с этническими, климатическими и
прочими особенностями, они понемногу освобождаются от них
и становятся тем самым более общими. Непрерывное
падение определенности делает заметным это увеличение
общности. В низших обществах даже внешняя форма
поведения определена заранее вплоть до деталей. Способ,
каким человек должен питаться, одеваться в конкретных
обстоятельствах, жесты, которые он должен делать,
формулы, которые он должен произносить, точно
определены. Наоборот, чем дальше от исходной точки, тем более
моральные и юридические правила теряют в ясности и
точности. Они регламентируют только самые общие
формы поведения, причем весьма общим образом, говоря,
что должно быть сделано, а не как это должно быть
сделано. Но все, что определенно, выражается в
определенной форме. Если бы коллективные чувства имели ту же
определенность, что и некогда, то они не выражались бы
менее определенным образом. Если бы конкретные
детали действия и мысли были бы так же единообразны, то
они были бы так же обязательны.
Не раз было отмечено, что цивилизация имеет
тенденцию ^с^Ть^ртЦ'итаШ Теперь" поня1ЯГа,-При-
чина ДУТОГО. РЦЦИОМЛьЯб только то^ чцо^УЩщкроМЩР·
СмуЩаетгум чЪстносГиГ^^ мышт
только об ^ЩёМГтЗдедо общее
сознание к отдельным вещам, тем более точный отпечаток их
оно носит и тем оно непонятнее. Вот где источник
воздействия, оказываемого на нас первобытными
цивилизациями. Не будучи в состоянии свести их к логическим
принципам, мы склонны видеть в них только странные
и случайные комбинации разнородных элементов. В
действительности в них нет ничего искусственного; нужно
только искать определяющие их причины в ощущениях
и движениях чувства, а не в понятиях, и если это так,
то потому, что социальная среда, для которой они
созданы, недостаточно обширна. Наоборот, когда цивилизация
развивается на более обширном поле деятельности, когда
она применяется к большему числу людей и вещей, то в
ней неизбежно появляются и становятся
господствующими общие идеи. Понятие человека, например, замещает в
праве, в нравственности, в религии понятие римлянина,
которое, будучи более конкретным, труднее поддается
271
научному познанию. Итак, возрастание оЬъема обществ и
их плотности объясняют этот великий переворот.
Но чем более общим становится.коллективное _орзна-
ниёрТёйГ~^лышГ~м оно индивидуальным
иЗмffffeijйямГТ^огда Бог находится вдали от вещей и
людей^ то воздействие его уже не дает себя знать
ежеминутно и не простирается на все. Твердыми остаются только
абстрактные правила, которые можно свободно применять
весьма разнообразными способами. Притом они не имеют
ни того же влияния, ни той же силы. Действительно,
если обычаи и формулы, когда они точны, определяют
мысль и движения с необходимостью, похожей на
неизбежность рефлексов, то эти общие принципы, наоборот,
могут превратиться в дела только с помощью интеллекта.
Но как только мысль разбужена, сдержать ее нелегко.
Набравшись энергии, она развивается самопроизвольно
далее предписанных ей пределов. Начинается с того, что
некоторые пункты веры ставятся выше обсуждения;
затем это обсуждение доходит и до них. Хотят объяснить
себе их, выясняют у них основания их существования,
и, как бы они ни выдержали этого испытания, они
теряют тут часть своей силы. Идеи, прошедшие через
рефлексию, никогда не имеют той же принудительной
силы, что инстинкты; так, обдуманные движения не
имеют той внезапности, что непроизвольные движения.
Коллективное сознание, становясь рациональнее,
становится, CTtfJfff бБггь,-^гене^ повелительным, по этой же
причине оно меньше мешает, свободному развитию
индивидуальных д)аздивдй.
II
Но не эта причина играет важнейшую роль.
Jjqjiy KOJijiejcjHgHj^g, состояниям сознания^щщддсу не
только то^ч^ они являются обп^и^^дй теперешнего пУ
заШцаны n^ej^VW71]!^^ ДЛ^ОДРИИЯМД-. .Обддее^сознание в
гашШ~деле"устанавливается весьма^/[ом,ош^о^и щмеякет-
ся тЬтао^так*~жеГТрёбует*ся время, чтобы какая-нибудь
1$оршГ поведения или верования достигла этой степени
общности и кристаллизации; нужно также время, чтобы
она потеряла ее. Следовательно, она почти целиком —
продукт прошлого. Но то, что приходит из прошлого,
вообще бывает предметом особенного уважения. Обычай,
с которым единодушно сообразуются все, несомненно,
обладает большим престижем; но если он силен, кроме
272
того, сочувствием предков, то еще менее осмеливаются от
него уклоняться. Авторитет коллективного сознания
создается, стало быть, ΰ^ бОЛШои_мёре автоштетодГТрари-
-цтПГ. Мы увидим, чт(ГпоШе$5жя1мизбежио уменьшается
по мере исчезновения сегментарного типа.
Действительно, когда он резко выражен, сегменты
образуют известное количество маленьких обществ, более
или менее закрытых друг для друга. Там, где они имеют
семейное основание, сменить их так же трудно, как
сменить семью, и если при наличии только территориальной
основы разделяющие их перегородки проницаемы, то,
однако, они все-таки сохраняются. Еще в средние века
рабочему было трудно найти работу в другом городе7;
внутренние таможни образовали, кроме того, вокруг
каждого социального сегмента пояс, защищавший его от
проникновения посторонних элементов. В этих условиях
индивид удерживается на родной земле не только потому,
что он притягивается связывающими его с ней узами, но
и потому, что он отталкивается другими сегментами;
редкость путей сообщения и связи служит
доказательством этой замкнутости каждого сегмента. Вследствие
этого причины, удерживающие человека в его родной
среде, удерживают его в его семейной среде. Вначале обе
эти среды сливаются между собой, и если позже они
становятся различными, то невозможно все-таки намного
удалиться от второй, когда нельзя выйти из первой. Сила
притяжения, вытекающая из единокровности, оказывает
свое действие с максимальной интенсивностью, так как
каждый остается всю свою жизнь рядом с самим
источником этой силы. Чем более сегментарна^ социальная
структура, тем чаш£ семьи образуЗотНэольшие, компакт-
^нпе^ёр1(зд^льнь1е массы: это 1Гакой,*^е татеюпщй исклю-
Наоборот, по мере того как исчезают демаркационные
линии, разделяющие различные сегменты, становится
неизбежным нарушение этого равновесия. Так как
индивиды не удерживаются более в местах своего
происхождения, открывающееся перед ними свободное пространство
притягивает их к себе, они не могут не распространяться
по нему. Дети уже не остаются навечно связанными со
7 Levasseur. Op. cit., I. p. 239.
8 Читатель сам видит факты, подтверждающие этот закон,
точного доказательства которого мы не можем тут дать. Он следует
из проведенных нами исследований о семье, которые мы надеемся
опубликовать в ближайшем будущем.
273
страной своих родителей, но уходят искать счастья во
всех направлениях. Население смешивается, и благодаря
этому существовавшие в нем первоначальные различия
окончательно пропадают. К сожалению, статистика не
позволяет нам проследить в истории ход этих внутренних
миграций, но имеется факт, достаточно убедительно
свидетельствующий об их возрастающем значении,— это
образование и развитие городов. Города в действительности
образуются не каким-то самопроизвольным ростом, а
посредством иммиграции. Своим существованием и
прогрессом они не только не обязаны нормальному превосходству
рождаемости над смертностью, но, наоборот, отличаются
в этом отношении общим дефицитом. Следовательно,
только извне могут они получать элементы, за счет которых
они возрастают ежедневно. Согласно Дюнану9,
ежегодный прирост совокупности населения 31 большого города
Европы обязан 784,6 на 1000 иммиграции. Во Франции
перепись 1881 г. показала сравнительно с переписью
1876 г. увеличение на 766 000 жителей; департамент Сены
и 45 насчитывающих более 30 000 жителей городов
«поглотили из числа пятилетнего прироста более 661 000
жителей, оставив на долю средних городов, мелких городков
и деревень только 105 000»10. Но эти большие
миграционные движения направляются не только к большим
городам; они направляются и к соседним областям. Бер-
тильон вычислил, что в течение 1886 г., в то время как
в среднем во Франции на 100 жителей только 11,25
родились вне департамента, в департаменте Сены их было
34,67. Эта пропорция пришельцев тем больше, чем
многолюднее города департамента. Она равна 31,47 в Ронском
департаменте; 26,29 — в департаменте Буш-дю-Рон;
26,41 —в департаменте Сены и Уазы11; 19,46 —в
департаменте Нор; 17,62 — в департаменте Жиронды12.
Это явление свойственно не только большим городам; оно
происходит также, хотя с меньшей интенсивностью, в
маленьких городах, в местечках. «Все эти агломерации
постоянно увеличиваются за счет более мелких общин, так
что при каждой переписи замечают, что число городов
всех категорий увеличивается на несколько единиц»13.
9 Цит. по: Layet. Hygiène des paysans, последняя глава.
10 Dumont. Dépopulation et civilisation, p. 175.
1 * Это высокое число - следствие соседства Парижа.
12 Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales, статья
«Миграция».
13 Dumont. Op. cit., p.178.
274
Но большая подвижность социальных единиц,
связанная с этими миграционными явлениями, вызывает
ослабление всех традиций.
Действительно, особенную силу традиции придают
характерные черты лиц, передающих и закрепляющих ее,—
я говорю о стариках. Они — живое выражение ее; они
одни были свидетелями того, что делали предки. Они
единственные посредники между настоящим и прошлым.
С другой стороны, они пользуются у поколений, которые
были воспитаны на их глазах и под их руководством,
престижем, которого ничто не может заменить.
Действительно, ребенок сознает свое низшее положение
сравнительно со взрослыми окружающими его людьми и
чувствует, что зависит от них. Почтительное уважение его к
ним сообщается естественно всему, что исходит от них,
всему, что они говорят и что делают. Значит, авторитет
традиции в большой мере создается авторитетом возраста.
Все, что способствует продолжению этого влияния за
пределы детства, может только укрепить традиционные
обычаи и верования. Это и происходит, когда человек
продолжает жить в среде, в которой он был воспитан, ибо
он остается тогда связанным с лицами, знавшими его
ребенком, и подчиняется их влиянию. Чувство, питаемое
им к ним, сохраняется и, следовательно, производит те
же действия, т. е. сдерживает слабые попытки
нововведений. Чтобы в обществе появились новшества,
недостаточно рождения новых поколений; нужно еще, чтоб они не
слишком склонны были идти по следам своих
предшественников. Чем глубже влияние последних, а оно тем
глубже, чем продолжительней, тем более существует
препятствий для изменений. Огюст Конт был прав, говоря,
что если бы человеческая жизнь была удесятерена,
причем не изменилась бы относительная пропорция
возрастов, из этого следовало бы «неизбежное, хотя и не
поддающееся измерению замедление нашего социального
развития» 14.
Обратное происходит, если человек на исходе юности
переносится в новую среду. Конечно, там он также
находит людей старше себя; но это не те люди, воздействие
которых он испытал в течение детства. Уважение,
питаемое к ним, меньше и условнее, так как оно не связано
ни с какой действительностью, ни теперешней, ни
прошедшей. Он не зависит от них и никогда не зависел;
14 Cours de philosophie positive, IV, p. 451.
275
он, стало быть, может уважать их только по аналогии.
Известно, впрочем, что почитание возраста все более
ослабевает вместе с цивилизацией. Столь развитое
некогда, оно теперь сводится к нескольким обрядам
вежливости, внушаемым своего рода состраданием. Стариков
более жалеют, чем боятся. Возрасты нивелированы. Все
люди зрелого возраста относятся друг к другу почти как
равные. Вследствие этого нивелирования нравы предков
теряют свое влияние, ибо они не имеют у взрослого
человека авторитетных представителей. К ним относятся
свободнее, так как относятся свободнее к тем, кто их
воплощает. Связь времен менее ощутима, так как она не имеет
уже своего материального выражения в непрерывном
соприкосновении следующих друг за другом поколений.
Несомненно, действие начального воспитания продолжает
давать себя знать, но с меньшей, силой, так как оно не
поддерживается.
Расцвет юности, кроме того, представляет собой
время, когда люди нетерпеливее всего относятся ко всякой
узде и больше всего жаждут перемен. Бурлящая в них
жизнь не имела еще времени утвердиться, окончательно
принять определенные формы, и она слишком
интенсивна, чтобы подвергнуть себя дисциплине без
сопротивления. Эта потребность удовлетворится тем легче, чем
меньше ее будут удерживать извне, а удовлетвориться она
может только за счет традиции. Последняя получает
брешь именно тогда, когда она теряет свои силы. Раз
появившись, этот зародыш слабости с каждым
поколением может только развиваться; ибо принципы,
авторитет которых чувствуется меньше, и передаются с
меньшим авторитетом.
Характерный факт доказывает это^ влияние возраста
на силу традиции._
"*"""ИменнсГ потому, что населепие больших городов
пополняется в основном за счет иммиграции, оно состоит
главным образом из людей, которые, став взрослыми,
покинули домашний очаг и избавились от влияния стариков.
Поэтому число стариков в них весьма незначительно,
тогда как, наоборот, число людей в расцвете сил очень
велико. Шейссон доказал, что кривые, представляющие
население разных возрастных групп для Парижа и
провинций, пересекаются только в .возрасте 15—20 лет и
50—55 лет. Между 20 и 50 годами парижская кривая
значительно выше; за этим возрастом она ниже15.
15 La question de la population. Annales d'hygiène, 1884.
276
В 1881 г. в Париже насчитывалось 1118 человек от 20
до 25 лет на 874 в остальной части страны 1в. Во всем
департаменте Сены обнаруживается на 1000 жителей 731
от 15 до 60 лет и только 76 выше этого возраста, между
тем как провинция имеет только 618 первых и 106
вторых. В Норвегии, согласно Жаку Бертильону,
соотношения на 1000 жителей следующие:
Города Деревни
От 15 до 30 лет 278 239
От 30 до 45 » 205 183
От 45 до 60 ь 110 120
От 60 и выше » 59 87
Таким образом, минимум умеряющего влияния
возраста находится в больших городах; в то же время нигде
традиции не имеют так мало влияния на умы. Большие
города, бесспорно, очаги прогресса; в них
вырабатываются идеи, моды, нравы, новые потребности, которые затем
распространяются на остальную часть страны. Когда
общество изменяется, то обычно оно следует за ними и
подражает им. Настроения в них так подвижны, что все
приходящее из прошлого кажется там несколько
подозрительным; наоборот, новшества, каковы бы они ни были,
пользуются престижем, почти равным тому, какой
прежде имели обычаи предков. Умы в них естественно
направлены к будущему. Поэтому жизнь в них изменяется с
поразительной быстротой: верования, вкусы, страсти
находятся там в постоянном развитии. Нет более
благоприятной почвы для развития всякого рода. Дело в том,
что коллективная жизнь не может носить непрерывный
характер там, где различные слои социальных единиц,
призванные замещать друг друга, до такой степени
оторваны друг от друга.
Обнаружив, что во время юности и особенно зрелости
обществ уважение ~к 'традициям гораздо* "больше, ' чем во
время старости, Тард пришел к выводу, что упадок
традиций можно представить как просто переходную фазу,
как мимолетный кризис социальной эволюции.
«Человек,— говорит он,— ускользает от ига обычая только для
того, чтобы снова подпасть под него, т. е. чтобы
утвердить и закрепить в нем завоевания, осуществленные
благодаря временному освобождению от него» 17. Эта ощиб-
18 Annales de la ville de Paris.
17 Lois de l'imitation, p. 271.
277
ка, по нашему мнению, связана с применяемым автором
методом сравнения, неуместность которого мы уже
неоднократно отмечали. Конечно, если сопоставлять конец
одного общества с началом того, которое за ним следует,
то мы констатируем возврат традиционализма; но эта
фаза, с которой начинает всякий социальный тип, всегда
гораздо менее сильна, чем она была у непосредственно
предшествующего типа. Никогда, у нас нравы предков не
были объектом того суеверного культа, которым они
пользовались в Риме; никогда в Риме не было института,
подобного тому что был γραφή παρανόμων β4* в
афинском праве, противостоявшего всякому нововведению18.
Даже во времена Аристотеля в Греции стоял вопрос
о том, хорошо ли изменять установленные законы для
улучшения их, и этот философ высказывается в
утвердительном смысле только с величайшей
осмотрительностью 19. Наконец, у евреев всякое уклонение от
традиционного правила было еще более невозможным,
поскольку это было безбожием. Но, чтобы судить о ходе
социальных событий, не следует связывать концы
следующих друг за другом обществ, а сравнивать их только
в соответствующие периоды их истории. Если верно, что
всякая социальная жизнь стремится утвердиться и стать
обычаем, то форма, принимаемая ею, становится все
менее жесткой, все более доступной изменениям. Иными
словами, авторитет обычая уменьшается постоянно.
Невозможно, впрочем, чтобы было иначе, так как это
ослабление зависит от самых главных условий исторического
развития.
С другой стороны, поскольку общие верования и
обычаи черпают значительную часть своей силы из силы
традиции, то очевидно, что они все менее и менее в
состоянии препятствовать свободному распространению
индивидуальных изменений.
III
Наконец, по мере того как общество расширяется и
концентрируется, оно все менее плотно облекает индивида
и, следовательно, слабее сдерживает появляющиеся
стремления к расхождению.
Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить
большие города с малыми. В последних каждый, кто стре-
18 См. о γραφή : Meier, Schömann. Der attische Process.
19 Аристотель. Политика, II, 8, 1268b., 26.
278
мится освободиться от принятых обычаев, наталкивается
па сопротивление, иногда весьма сильное. Всякая
попытка обретения независимости становится поводом для
публичного скандала, и связанное с ним всеобщее осуждение
в состоянии обескуражить подражателей. Наоборот,
в больших городах индивид гораздо более свободен от
коллективного гнета; это факт, который невозможно
оспорить. Мы тем сильнее зависим от общего мнения, чем
более внимательно оно наблюдает за всеми нашими
поступками. Когда внимание всех постоянно сосредоточено
на том, что делает каждый, малейшее отклонение
замечается и немедленно подавляется; наоборот, каждый тем
легче может следовать своим собственным путем, чем
легче ускользнуть от этого контроля. Но, как говорит
пословица, нигде так хорошо не скроешься, как в толпе.
Чем обширнее и плотнее группа, тем менее коллективное
внимание, рассеянное на большой поверхности, в
состоянии следить за движениями каждого индивида; ибо оно
не становится сильнее от того, что они становятся
многочисленнее. Оно направляется одновременно на слишком
много точек, чтобы быть в состоянии сконцентрироваться
на одн^й. .Надзор делается слабее, потому что за слишком
многими людьми и вещами требуется надзирать.
Кроме того, одна из главных пружин внимания,
интерес, так или иначе ослабевает. Мы хотим знать о
поведении личности только в том случае, если ее образ
пробуждает в нас воспоминания и связанные с ними
эмоции, и это желание тем сильнее, чем многочисленнее и
энергичнее пробужденные таким образом состояния
сознания 20. Если же, наоборот, речь идет о том, кого мы
видим только изредка и мимоходом, то все, что касается
его, оставляет нас равнодушными, не вызывая в нас
никакого отклика; следовательно, нам не хочется ни
поинтересоваться, что с ним, ни понаблюдать, что он делает.
Коллективное любопытство, значит, тем живее, чем
непрерывнее и чаще личные отношения между индивидами;
с другой стороны, очевидно, что они тем реже и короче,
чем с большим числом лиц индивид находится в
сношениях.
20 Правда, в небольшом городе иностранец, незнакомец -
предмет не меньшего надзора, чем тамошний житель; но это потому,
что представляющий его образ оказывается весьма живым по
контрасту, так как он - исключение. Не так в большом городе, где он —
правило и где все, так сказать, незнакомцы.
279
Вот почему давление мнения дает себя меньше знать
в крупных центрах. Внимание каждого рассеяно в
слишком многих различных направлениях; кроме того, люди
меньше знают друг друга. Даже соседи и члены одной
семьи находятся в контакте реже и менее регулярно, так
как они постоянно разделяются массой дел и
посторонних лиц. Конечно, если численность населения больше,
чем плотность его, то может случиться, что жизнь,
рассеянная на большей поверхности, будет меньше в каждой
точке. Большой город распадается тогда на некоторое
число малых городков, и следовательно, предыдущие
рассуждения не во всем приложимы2i. Но повсюду, где
плотность агломерата пропорциональна его объему,
личные связи редки и слабы. Люди легче теряют друг друга
из виду, даже тех, которые совсем рядом, и в той же
мере ослабевает интерес друг к другу. Так как это
взаимное равнодушие имеет следствием ослабление
коллективного надзора, то фактически сфера свободной
деятельности каждого индивида расширяется, и постепенно факт
становится правом. Мы действительно знаем, что общее
сознание сохраняет свою силу только при условии
недопущения противоречий; но вследствие этого уменьшения
социального контроля ежедневно происходят
противоречащие ему действия, на которые оно не реагирует.
Значит, если есть такие действия, которые повторяются
довольно часто и однообразно, то они в конце концов
истощают затрагиваемое ими коллективное чувство.
Правило не кажется столь же достойным уважения, если
оно перестает быть уважаемым, и притом безнаказанно;
предмет веры не кажется столь очевидным, если его
слишком часто оспаривали. С другой стороны, как только
мы воспользовались какой-то свободой, мы начинаем
испытывать потребность в ней; она становится для нас
столь же необходимой и священной, как и другие
ценности. Мы считаем невыносимым контроль, привычку к
которому мы потеряли. Устанавливается право на
большую автономию. Именно таким образом завоевания,
осуществляемые индивидуальной личностью, когда ее слабее
сдерживают извне, в конце концов освящаются нравами.
Но этот факт, будучи резче выражен в больших
городах, свойствен не только им; он имеет место также и в
других, соответственно их значению. И так как исчезнове-
21 Здесь есть вопрос, требующий специального изучения. Нам
представляется, что в многолюдных, но неплотно населенных
городах коллективное мнение сохраняет свою силу.
280
ние сегментарного типа влечет за собой все более
значительное развитие городских центров, то вот первая
причина того, что это явление должно развиваться,
приобретая все более общий характер. Но, кроме того, по мере
возрастания моральной плотности общества оно само
становится похожим на большой город, как бы содержащий
в своих стенах целый народ.
Действительно, так как материальное и моральное
расстояния между различными областями стремятся к
нулю, то они по отношению друг к другу находятся в
положении, все более аналогичном положению различных
кварталов одного города. Причина, вызывающая в больших
городах ослабление общего сознания, должна производить
свое действие на всем пространстве общества. Пока
различные сегменты, сохраняя свою индивидуальность,
остаются замкнутыми друг для друга, каждый из них тесно
ограничивает социальный горизонт отдельных лиц. Ничто
не отвращает нас, отделенных от остальной части
общества более или менее непреодолимыми перегородками, от
местной жизни, и следовательно, вся наша деятельность
концентрируется в ней. Но по мере того как все полнее
совершается слияние сегментов, перспективы
расширяются тем более, что в то же время само общество вообще
становится обширнее. С этого времени даже обитатель
небольшого городка уже живет не только жизнью
маленькой группы, окружающей его непосредственно. Он
завязывает отношения с отдаленными местностями, тем более
многочисленные, чем более продвинулась концентрация.
Его более частые путешествия, более активная переписка,
дела, которые он ведет вне своей группы, отвращают его
взор от того, что происходит вокруг него. Центр его
жизни и занятий уже не находится целиком в месте его
жительства. Он, стало быть, менее интересуется
соседями, так как они занимают меньше места в его жизни.
Кроме того, городок имеет меньше влияния на него уже
только потому, что его жизнь шире этих узких рамок,
его интересы и привязанности простираются далеко за
их пределы. Благодаря всему этому, местное
общественное мнение меньше давит на каждого из нас, а поскольку
коллективное мнение общества не в состоянии заменить
предыдущего, ибо оно не может так близко надзирать за
поведением всех граждан, коллективный надзор
безвозвратно ослабляется, общее сознание теряет свой
авторитет, индивидуальная изменчивость возрастает. Словом,
чтобы социальный контроль был строг и общее сознание
281
сохранялось, необходимо, чтобы общество было разделено
на достаточно малые участки, полностью облекающие
индивида; наоборот, и то и другое ослабляется по мере
исчезновения этих делений22.
Но могут сказать, что преступления, с которыми
связаны организованные наказания, никогда не оставляют
безразличными органы, обязанные их карать. Будет ли
город большим или малым, будет ли общество плотным
или нет — власти не оставляют безнаказанным
преступника. Казалось бы, ослабление, причину которого мы
указали, должно локализоваться в той части
коллективного сознания, которое вызывает только диффузные
реакции, не простираясь далее. Но в действительности такая
локализация невозможна, так как обе эти области так
тесно связаны, что одна из них не может быть
затронутой без того, чтоб это не отозвалось на другой. Поступки,
караемые нравами, не являются по природе другими, пе-
жели те, которые наказывает закон; они только менее
серьезны. Следовательно, если среди них есть такие,
которые полностью теряют свое значение, то тем самым
нарушается соответствующая градация других; они
понижаются на одну или несколько степеней и кажутся
менее возмутительными. Кто совсем нечувствителен к
незначительным проступкам, тот менее чувствителен к
значительным. Когда не придают большого значения
простому неисполнению религиозных обрядов, тогда не так
сильно возмущаются против богохульства или
святотатства. Если привыкли снисходительно смотреть на
свободные союзы, то и прелюбодеяние возмущает слабее. Когда
самые слабые чувства теряют свою энергию, более
сильные, но того же рода и направленные на те же объекты,
не могут полностью сохранить свою энергию. Так
потрясение понемногу передается всему коллективному
сознанию.
IV
Теперь понятно, почему механическая солидарность
связана с существованием сегментарного типа, как мы это
установили в предыдущей книге. Эта специфическая
структура позволяет обществу как можно теснее
сжимать в своих объятиях индивида; оно привязывает его
22 К этой основное причине нужно добавить заразительное
влияние больших городов на малые и последних - на деревни. Но
это влияние второстепенное, приобретающее, кроме того, значение
только по мере возрастания социальной плотности.
282
сильнее к семейной среде и, следовательно, к традициям;
наконец, способствуя ограничению социального горизонта,
оно способствует также23 тому, чтобы сделать его
конкретным и определенным. Итак, то, что индивидуальная
личность поглощается в коллективной, вызывается чисто
механическими причинами, и такого же рода причины
способствуют тому, что она выделяется из последней.
Несомненно, это освобождение оказывается полезным или,
по крайней мере, используется. Оно делает возможным
прогресс разделения труда; вообще оно придает
социальному организму больше гибкости и эластичности. Но
происходит оно не потому, что оно полезно. Оно существует
потому, что не может не быть. Опыт оказываемых им
услуг может только усилить его, если оно уже началось.
Можно, однако, задаться вопросом, не играет ли в
организованных обществах орган той же роли, что сегмент,
не грозит ли корпоративный и профессиональный дух
заменить приходской дух и оказывать на индивидов то же
давление. В этом случае они бы ничего не выиграли от
перемены. Это сомнение тем понятнее, что кастовый дух
несомненно имел такой результат, а каста — это
социальный орган. Известно также, насколько организация
ремесленных цехов в течение долгого времени мешала
развитию индивидуальных изменений; выше мы привели
примеры этого.
Бесспорно, организованные общества невозможны без
развитой системы правил, предопределяющих
функционирование каждого органа. По мере разделения труда
утверждается множество профессиональных систем
нравственности и права24. Но эта регламентация не
уменьшает сферу деятельности индивида.
Во-первых, профессиональный дух может иметь
влияние только на профессиональную жизнь. Вне этой сферы
индивид пользуется большей свободой, источник которой
мы указали. Правда, каста простирает свое воздействие
дальше, но она, собственно говоря, не орган. Это сегмент,
превратившийся в орган25; она, стало быть, содержит
в себе признаки и того и другого. Она имеет
специальные функции, но в то же время составляет отдельное
23 Этот третий результат только отчасти следует из природы
сегментов; главная причина его лежит в возрастании социального
объема. Остается узнать, почему вообще плотность увеличивается
одновременно с объемом. Мы выдвигаем это в качестве вопроса.
24 См. выше кн. I, гл. V, особенно с. 213 и след.
25 См. выше с. 174.
283
общество внутри целостного агрегата. Она — общество-
орган, аналогичное тем индивидам-органам, которые
наблюдаются у некоторых организмовм. Благодаря этому
она заключает индивида в гораздо более узкие границы,
чем обыкновенные корпорации.
Во-вторых, так как эти правила имеют корни только
в незначительном числе сознаний и не затрагивают
общества в целом, то они в силу этой меньшей
универсальности имеют меньший авторитет. Они оказывают, таким
образом, меньшее сопротивление изменениям. Благодаря
этому собственно профессиональные проступки не так
серьезны, как другие.
С другой стороны, те же причины, которые в целом
ослабляют коллективный гнет, производят свое
освободительное действие как внутри корпорации, так и вне ее.
По мере того как сегментарные органы сливаются
воедино, каждый социальный орган становится более
объемистым, тем более что в принципе одновременно и общий
объем общества возрастает. Обычаи, общие для
профессиональной группы, становятся, таким образом, более
общими и абстрактными, как и те, что свойственны
всему обществу и, следовательно, оставляют больше свободы
для частных расхождений. Также и большая
независимость новых поколений по отношению к старшим не
может не ослабить традиционализм профессии, что дает
индивиду еще большую свободу в нововведениях.
Таким образом, не только по природе своей
профессиональная регламентация менее, чем любая другая,
препятствует росту индивидуальных различий, но она
препятствует ему все менее и менее.
*
Глава IV
ВТОРИЧНЫЕ ФАКТОРЫ
(продолжение)
НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ
До сих пор мы рассуждали так, как будто разделение
труда зависит только от социальных причин. Однако оно
связано также с психоорганическими условиями.
Индивид с рождением обладает способностями и
склонностями, больше предрасполагающими его к одним функциям,
26 См.: Perrier. Colonies animales, p. 764.
284
• ι μ ϋ другим, и это предрасположение имеет, конечно,
влияние на способ распределения занятий. По наиболее
распространенному мнению, следовало бы в этом
различии натур видеть даже первое условие разделения труда,
основной смысл которого — «классификация индивидов
по их способностям» \ Интересно поэтому определить,
какова действительно доля этого фактора, тем более что
он составляет новое препятствие для индивидуальной
изменчивости и, следовательно, для прогресса разделения
труда.
Поскольку эти врожденные призвания передаются
нам предками, то они относятся не к условиям, в
которых находится теперь индивид, но к тем, в которых жили
его предки. Они, следовательно, связывают нас с нашей
расой, как коллективное сознание связывает нас с
группой, и, следовательно, мешают свободе наших движений.
Так как эта часть нас самих целиком обращена к
прошлому, причем не к нашему личному прошлому, то она
отвращает нас от сферы собственных интересов и
происходящих в ней изменений. Чем более она развита, тем
более она нас делает неподвижными. Раса и индивид —
две противоположные силы, изменяющиеся в обратном
отношении друг к другу. Пока мы только воспроизводим
и продолжаем наших предков, мы стремимся жить, как
жили они, и боремся со всякой новизной. Существо,
которое получило бы слишком много от наследственности,
было бы почти не способно ни к какому изменению;
именно так обстоит дело с животными, которые могут
прогрессировать только очень медленно.
Препятствие, встречаемое прогрессом с этой стороны,
даже труднее одолеть, чем то, которое происходит от
общности верований и обычаев. Эти последние
навязываются индивиду извне и посредством морального
действия, между тем как наследственные стремления
врожденны и имеют анатомическую основу. Таким образом, чем
больше доля наследственности в распределении занятий,
тем неизменнее это распределение, тем труднее,
следовательно, происходит прогресс разделения труда, даже если
бы он был полезным. Именно это происходит с
организмом. Функция каждой клетки определена от рождения.
«В живом животном,—говорит Спенсер,—прогресс
организации требует не только того, чтобы единицы,
составляющие каждую из дифференцированных частей, сохра-
1 Stuart Mill. Economie politique.
285
няли каждая свое положение, но также, чтобы их
потомство наследовало эти положения. Клетки печени, которые,
исполняя свою функцию, растут и дают начало новым
печеночным клеткам, уступают место последним, когда
разлагаются и исчезают; происходящие от них клетки не
направляются к почкам, мускулам, нервным центрам, для
того чтобы соединиться для выполнения функций» 2.
Поэтому изменения, происходящие в организации
физиологического труда, весьма редки, ограниченны и медленны.
Но многие факты показывают, что вначале
наследственность имела весьма значительное влияние на
распределение социальных функций.
Без сомнения, у самых первобытных народов она
с этой точки зрения не играет никакой роли. Несколько
начинающих специализироваться функций избирательны,
так как они еще не утвердились. Вождь или вожди мало
отличаются от управляемой ими толпы; их власть
ограниченна и кратковременна; все члены группы находятся
на одинаковой ступени. Но, как только более явно
появляется разделение труда, оно закрепляется в
передающейся наследственно форме; таким образом рождаются касты.
Индия дает нам совершеннейший образец этой
организации труда, но ее находят и в других местах. У евреев
единственные четко отделившиеся от других функции —
функции духовенства — были строго наследственными.
То же самое было в Риме со всеми общественными
функциями, которые предполагали функции религиозные и
которые были привилегией одних патрициев. В Ассирии,
Персии, Египте общество разделяется подобным же
образом. Там, где касты стремятся исчезнуть, они заменяются
классами, которые, хотя и менее тесно закрыты по
отношению к внешнему миру, тем не менее опираются на
тот же принцип.
Конечно, этот институт — не простое следствие факта
наследственной передачи. Многие причины
способствовали его возникновению. Но он не мог бы ни стать таким
распространенным, ни существовать так долго, если бы
в общем он не имел следствием устройство каждого в
подходящем ему месте. Если бы система каст была
противоположна индивидуальным стремлениям и социальному
интересу, то никакими искусственными приемами нельзя
было бы удержать ее. Если бы в среднем числе случаев
индивиды не были действительно рождены для функций,
2 Spencer H. Sociologie. III. p. 349.
286
предписываемых им законом или обычаем, то эта
традиционная классификация граждан была бы быстро разру
шена. Доказательством служит то, что такое разрушение
действительно происходит, как только возникает подобное
несоответствие. Твердость социальных рамок выражает,
стало быть, только неподвижный образ тогдашнего
распределения способностей, а сама эта неподвижность
может происходить только от действия законов
наследственности. Несомненно, воспитание, поскольку оно
целиком происходило внутри семьи и продолжалось поздно
по указанным нами причинам, усиливало ее влияние;
но само оно не смогло бы привести к таким результатам.
Ибо оно действует полезно и эффективно только в том
случае, если осуществляется в направлении
наследственности. Одним словом, последняя могла стать социальным
институтом только там, где она играла действительно
социальную роль. Мы знаем, в самом деле, что древние
народы весьма живо представляли себе, что она являет
собой. Мы находим следы этого представления не только
в обычаях, о которых мы говорили, и в подобных им, но
оно прямо выражено в различных литературных
памятниках 3. Невозможно, чтобы столь всеобщее
представление было простой иллюзией и не соответствовало ничему
в действительности. «Все народы,— говорит Рибо,— имеют
веру, по крайней мере, туманную, в наследственную
передачу свойств. Можно даже утверждать, что эта вера была
живее в первобытные времена, чем в цивилизованные
эпохи. Именно из этой естественной веры возник
институт наследования. Несомненно, что социальные и
политические причины или даже предрассудки должны были
способствовать ее развитию и укреплению; но было бы
нелепо думать, что ее изобрели» 4.
Кроме того, наследственность занятий весьма часто
была правилом даже тогда, когда закон ее не
предписывал. Так, медицина у греков вначале была предметом
занятий небольшого числа семей. «Асклепиады или жрецы
Эскулапа пазывали себя потомками этого бога...
Гиппократ был семнадцатым врачом в своей семье. Искусство
гадания, дар пророчества, эта высокая милость богов, по
мнению греков, чаще всего передавалась от отца к
сыну» 5. В Греции, говорит Герман, «наследственность
функции была предписана законом только в некоторых
ψ 3 Ribot. L'Hérédité. 2e éd., p. 360.
4 Ibid., p. 345.
5 Ribot. Op. cit.. p. 365. Ср.: Hermann. Griech. Antiq, IV, S. 353,
примеч. 3.
287
государствах и в отношении некоторых функций, близко
касавшихся религиозной жизни, таких, как, например,
в Спарте у поваров и флейтистов; но нравы сделали из
нее для профессии ремесленников факт более
распространенный, чем это обыкновенно думают» в. Еще и
теперь во многих низших обществах функции
распределяются согласно расам. Во многих африканских
племенах кузнецы происходят от другой расы, нежели
остальное население. Так же было у евреев во времена Саула.
«В Абиссинии почти все ремесленники принадлежат к
чужой расе; каменщик — еврей, кожевенник и ткач —
магометане, оружейник и ювелир — греки и копты.
В Индии многие кастовые различия, указывающие на
различия ремесел, еще и теперь совпадают с расовыми
различиями. Во всех странах со смешанным населением
потомки одной и той же семьи следуют обычаю
посвящать себя определенным профессиям; так, в восточной
Германии рыболовами в течение веков были славяне» 7.
Эти факты делают весьма правдоподобным мнение Люка,
что «наследственность профессий — первоначальный тип,
элементарная форма всех учреждений, основанных на
принципе наследственности моральной природы».
Но известно также, как медленно и трудно осуществ
ляется в этих обществах прогресс. Целыми веками труд
остается организованным одним и тем же образом; о
нововведениях никто и не думает. «Наследственность
предстает здесь перед нами вместе со своими обычными
чертами: консервативностью, устойчивостью» 8.
Следовательно, чтобы разделение труда могло развиться,
необходимо было, чтобы люди стряхнули иго наследственности,
чтобы прогресс сломил касты и классы.
Прогрессирующее исчезновение последних доказывает действительно
реальность этого освобождения; ибо непонятно, как могла
бы наследственность ослабеть как институт, если бы она
ничего не потеряла из своих прав на индивида. Если бы
статистика была в прошлом достаточно обширной и
содержала сведения по этому вопросу, она, весьма вероятно,
показала бы нам, что случаи наследования профессии;
становятся все реже. Бесспорно то, что вера в наследст-
6 Там же, с. 395, примеч. 2; гл. I, с. 33. Относительно фактов
см.: Платон. Эвтифрон, И С; Алкивиад, 121 А; Государство, IV,
421D; особенно Протагор, 328 А; Плутарх, Апофт., Лакон, 208 В.
7 Schmoller. La Division du travail... Revue d'économie politique.
1889, p. 590.
8 Ribot. Op. cit., p. 360.
288
венность, некогда столь интенсивная, теперь сменилась
верой почти противоположной. Мы склонны верить, что
индивид в большей части — дитя своей деятельности,
и готовы даже отрицать наличие уз, связывающих его с
расой и заставляющих зависеть от нее. По крайней мере,
это весьма распространенное мнение, на которое
жалуются почти все психологи, изучающие наследственность.
Представляется довольно любопытным факт, что
наследственность по-настоящему вступила в область пауки
именно тогда, когда почти полностью вышла из области
верований. Впрочем, тут нет противоречия. Коллективное
сознание утверждает не то, что наследственности не
существует, но что вес ее легче — и наука, как мы увидим,
не противоречит этому чувству.
Но важно прямо установить факт и особенно указать
причины его.
I
Во-первых, наследственность теряет свою власть в ходе
эволюции потому, что одновременно установились новые
способы деятельности, не зависящие от ее влияния.
Первое доказательство этого состояния
наследственности — это неподвижное состояние основных
человеческих рас. С самых отдаленных времен не образовалось
новых рас; по крайней мере, если даже вместе с Катрфа-
жем9 обозначать этим именем различные типы,
вышедшие из 3 или 4 основных крупных типов, то нужно
добавить, что, чем дальше опи от своих истоков, тем менее
они содержат существенные черты расы. Всякий, в самом
деле, согласится признать, что расу характеризует
существование наследственных сходств; поэтому антропологи
берут за основание своих классификаций физические
черты, так как они больше всех других носят
наследственный характер. Но чем уже антропологические типы, тем
труднее определить их в функции исключительно
органических свойств, так как последние теперь уже ни
достаточно четко разделены, ни достаточно многочисленны!
Преобладающими становятся чисто моральные сходства,
устанавливаемые с помощью лингвистики, археологии,
сравнительного права; но нет никакого основания
предположить, что они наследственны. Они служат скорее для
различения цивилизаций, чем рас. По мере развития
земной цивилизации формирующиеся человеческие разно-
9 См.: L'espèce humaine.
10 Э. Дюркгейм
289
видности становятся все менее наследственными; они все
менее и менее относятся к расам. Все усиливающаяся
неспособность нашего вида порождать новые расы
образует при этом сильнейший контраст с плодовитостью
животных видов. Что это означает, как не то, что
человеческая культура по мере развития все более и более
противостоит такой передаче свойств. То, что люди
прибавляли и прибавляют ежедневно к этому
первоначальному фонду, закреплявшемуся веками в исходной
структуре рас, таким образом все более и более
ускользает от действия наследственности. Но если так оно
обстоит с общим течением цивилизации, то с тем большим
основанием применимо это к каждому из образующих его
частных потоков, т. е. к каждой функциональной
деятельности и ее продуктам.
Нижеследующие факты подтверждают это
заключение.
Установлено, что степень простоты психических
фактов дает меру их способности к передаче.
Действительно, чем сложнее состояния сознания, тем легче они
разлагаются, так как большая их сложность держит их в
состоянии неустойчивого равновесия. Они похожи на те
искусные постройки, архитектура которых до того тонка,
что достаточно весьма немногого для серьезного
нарушения их равновесия; при малейшем потрясении здание
обрушивается, оставляя обнаженной почву, которую оно
покрывало. Так, в случаях общего паралича «я»
медленно разлагается, пока не останется ничего, кроме, так
сказать, органического основания, на которое оно опиралось.
Обыкновенно эти явления дезорганизации происходят под
влиянием болезни. Но ясно, что передача через семя
должна иметь аналогичные действия. Действительно,
в акте оплодотворения исключительно индивидуальные
черты стремятся нейтрализоваться, ибо так как те черты,
которые свойственны одному из родителей, могут
передаться только с ущербом для другого, то между ними
происходит борьба, из которой они не могут выйти
нетронутыми. Но чем сложнее состояние сознания, тем
более оно личностью, тем более носит оно печать особых
обстоятельств, в которых мы жили, печать нашего пола,
нашего темперамента. Низшими и базовыми чертами
своего существа мы между собой похожи более, чем
вершинами его; паоборот, именно последними мы
отличаемся друг от друга. Значит, если они пе исчезают
полностью при наследственной передаче, то, по крайней
290
мере, Выходят ослабленными и менее ярко выраженными.
Но способности тем сложнее, чем они специфичнее.
Ошибочно думать, что наша деятельность упрощается по
мере того, как наши занятия ограничиваются. Наоборот,
она проста, когда разбросана на множестве объектов, ибо,
пренебрегая тогда тем, что в них личного и раздельного,
и направляясь только к тому, что в них общего, она
сводится к нескольким весьма общим движениям, которые
пригодны в массе различных обстоятельств. Но когда
речь идет о нашем приспособлении к отдельным,
специфическим объектам так, чтобы принимать в расчет все
их оттенки, то мы можем добиться этого, только
комбинируя весьма большое число состояний сознания,
дифференцированных по образу самих вещей, к которым они
относятся. Раз установленные и устроенные, эти системы
функционируют, несомненно, легче и быстрее; но они
остаются весьма сложными. Какую удивительную
совокупность идей, образов, привычек можно наблюдать
у типографского мастера, составляющего печатную
страницу, у математика, комбинирующего массу
разнообразных теорем и выводящего из них новую, у медика,
который по незаметному признаку сразу узнает болезнь и
в то же время предвидит ее течение. Сравните
элементарную технику древнего философа, мудреца, который
одной силой мысли берется объяснить мир, и технику
теперешнего ученого, которому удается разрешить какую-
нибудь весьма частную задачу только путем весьма
сложных наблюдений, опытов, благодаря чтению трудов,
написанных на разных языках, благодаря переписке,
обсуждениям и т. д. Дилетант сохраняет нетронутой свою
первоначальную простоту. Сложность его природы
только кажущаяся. Так как его занятие — интересоваться
всем, то кажется, что он имеет массу различных
склонностей и способностей. Чистая иллюзия! Вглядитесь
глубже, и вы увидите, что все сводится к небольшому
числу общих и простых способностей, которые, не
потеряв ничего из своей первоначальной неопределенности,
легко переходят от одних предметов к другим. Извне
замечают непрерывную последовательность разнообразных
явлений; но это один и тот же актер, играющий все роли,
только в нескольких различных одеяниях. Эта
поверхность, на которой блистают столько искусно
нюансированных цветов, скрывает необычайную монотонность
содержания. Он сделал более гибкими и утонченными
способности своего существа, но не сумел преобразовать их,
291
10*
чтобы извлечь из них новое и ойреДеленное
произведение; он не воздвиг ничего личного и долговечного на
почве, завещанной ему природой.
Следовательно, чем специфичнее способности, тем
труднее они передаются; если же им удается перейти от
одного поколения к другому, они не могут не потерять
своей силы и определенности. Они менее определенны и
более податливы; вследствие большей своей
неопределенности они могут легче изменяться под влиянием семьи,
богатства, воспитания и т. д. Словом, чем более
специализируются формы деятельности, тем более ускользают
они от действия наследственности.
Однако указывали на случаи, когда
профессиональные способности, по-видимому, наследственны. Из таблиц
Гальтона следует, что иногда встречаются настоящие
династии ученых, поэтов, музыкантов. Декандоль, со своей
стороны, установил, что сыновья ученых «часто
занимались наукой» 10. Но эти наблюдения не имеют никакой
доказательной ценности. Мы не думаем утверждать, что
передача специфических способностей совершенно
невозможна. Мы хотим только сказать, что в целом она не
происходит, так как она может осуществиться только
благодаря чудесному случаю равновесия, которое не может
часто повторяться. Значит, бесполезно приводить те или
иные частные случаи, когда она произошла (или,
по-видимому, произошла); нужно еще узнать, какую часть
представляют они в совокупности научных призваний.
Только тогда можно будет судить, доказывают ли они в
самом деле, что наследственность имеет большое влияние
на способ разделения социальных функций.
Но, хотя это сравнение не могло быть сделано
методически, установленный Декандолем факт, по-видимому,
доказывает, как ограниченно действие наследственности на
этом поприще. Из 100 иностранных членов Французской
академии, генеалогию которых Декандоль смог
восстановить, 14 происходят от протестантских пасторов, только
5 от медиков, хирургов, аптекарей. Из 48 иностранных
членов Лондонского Королевского общества за 1829 г.
восемь были детьми пасторов и только у четверых отцы
были людьми искусства. Однако общее число
последних «вне Франции должно быть значительно выше
числа протестантских пасторов. Действительно, среди
протестантского населения, рассматриваемого отдельно, ме-
10 Histoire des sciences et des savants. 2e éd., p. 293.
292
дики, хирурги, аптекари и ветеринары почти столь же
многочисленны, как и священники, и если прибавить к
первым чисто католические страны помимо Франции, то
в целом в них будет значительно больше протестантских
священников и пасторов. Занятия медиков и работа,
которой они обыкновенно должны предаваться в своей
профессии, скорее находятся в области наук, чем занятия
пастора. Если бы успех в медицине был делом
исключительно наследственности, то в наших списках было бы
гораздо больше детей медиков, аптекарей и т. д., чем
детей пасторов» и.
Кроме того, достоверно совсем не установлено,
происходит ли научное призвание детей ученых из их
наследственности. Чтобы иметь право утверждать это,
недостаточно констатировать сходство склонностей у родителей и
детей; надо еще, чтобы последние проявили свои
склонности, будучи воспитаны с раннего детства вне своей
семьи, в среде, чуждой всякой научной культуре. Но в
действительности все дети ученых, относительно которых
сделаны наблюдения, были воспитаны в своих семьях,
где, естественно, они нашли больше интеллектуальной
поддержки, чем их отцы. К этому присоединяются
советы и пример, желание походить на отца, использовать его
книги, коллекции, исследования, его лабораторию, что
для благородного и тонкого ума дает мощные стимулы.
Наконец, в заведепиях, где дети ученых завершают
образование, они соприкасаются с культурными или
способными принять высокую культуру умами, и влияние этой
новой среды только укрепляет влияние первой.
Несомненно, в обществе, где было бы правилом, что сын
наследует профессию отца, такая повторяемость не могла бы
объясняться стечением внешних обстоятельств, ибо было
бы чудом, чтобы в каждом случае происходило такое
совершенное тождество. Но не так обстоит дело с
изолированными и почти исключительными случаями, которые
наблюдаются теперь.
Правда, что многие из английских ученых, к которым
обратился Гальтон 12, настаивали на особенной
врожденной склонности к науке, которая была замечена в детстве
и которою позже они стали заниматься. Но, как замечает
Декандоль, трудно узнать, «происходят ли эти склонности
от рождения или от живых впечатлений юности и влия-
11 Ibid., p. 294.
12 English men of science, 1874, p. 144 etc.
293
ний, вызывающих и напраоляющих их. Кроме того, эти
склонности меняются, и единственно важные для
будущего — это те, которые остаются. В этом случае индивид,
который отличился в какой-нибудь науке или который
продолжает заниматься ею с удовольствием, всегда
говорит, что это у него врожденная склонность. Наоборот, те,
которые имели специфические склонности в детстве и
впоследствии о них не думали, не говорят о них. Пусть
вспомнят массу детей, которые гоняются за бабочкамк
или составляют коллекции раковин, насекомых и пр. и не
становятся натуралистами. Я знаю также немало
примеров ученых, которые в молодости испытывали страсть к
сочинению стихов или драм и которые впоследствии
предались совсем другим занятиям» 13.
Другое наблюдение того же автора показывает, как
велико действие социальной среды на генезис этих
склонностей. Если бы они происходили от наследственности,
они были бы равно наследственны во всех странах;
ученые, происшедшие от ученых, были бы в одинаковой
пропорции у народов одного и того же типа. «Но факты
свидетельствуют о другом. В Швейцарии уже в течение
двух веков имеется более ученых, группирующихся по
семьям, чем отдельных ученых. Во Франции и Италии,
наоборот, последних громадное большинство.
Физиологические законы, однако, одни и те же для всех людей.
Значит, воспитание, особое в каждой семье, полученные
советы и примеры должны оказывать более сильное
влияние на профессию молодых ученых, чем
наследственность. Легко, кроме того, понять, почему это влияние
было сильнее в Швейцарии, чем в большинстве других
стран. Учение происходит там до 18- или 20-летнего
возраста в каждом городе и в таких условиях, что учащиеся
живут дома у родителей. Особенно распространено это
было в прошлом столетии и в начале нынешнего, в
частности в Женеве и Базеле, т. е. в двух городах,
обеспечивших наибольшую долю ученых, связанных между
собой семейными узами. В других местах, а именно во
Франции и Италии, всегда было принято, чтобы молодые
люди воспитывались в коллежах, где они живут и,
следовательно, находятся вдали от семейных влияний» 14.
Нет, стало быть, никакого основания допускать
«существование врожденного и повелительного призвания к
13 Op. cit., p. 320.
14 Op. cit., p. 296.
294
специальным предметам» 15; по крайней мере, если они
существуют, то не составляют правила. «Сын великого
филолога,— замечает Бэн,— не наследует ни одного
слова; сын великого путешественника может в школе
уступать в знании географии сыну рудокопа» 1в. Это не
значит, что наследственность не имеет влияния, но то, что
она передает, представляет собой весьма общие
способности, а не частную способность к данной науке. Дитя
получает от родителей некоторую силу внимания,
известную дозу настойчивости, здравое суждение, воображение
и т. д. Но каждая из этих способностей может с успехом
пригодиться для массы различных специальностей. Вот
ребенок, одаренный довольно живым воображением; если
он с ранних пор находится в сношениях с художниками,
он станет художником или поэтом; если он живет в
промышленной среде, он станет изобретательным
инженером; если случай поместит его в торговый мир, он,
может быть, будет некогда смелым финансистом. Само
собой разумеется, что он внесет с собой повсюду свою
собственную природу, свою потребность творить и
воображать, свою страсть к новизне; но поприща, на которых
он сможет применить свои таланты и удовлетворить свои
склонности, весьма многочисленны. Впрочем, Декандоль
установил это прямым наблюдением. Он составил список
полезных в науках качеств, которые отец его получил
от деда; вот этот перечепь: воля, любовь к порядку,
здравомыслие, определенная сила внимания,
неприязненное отношение к метафизическим абстракциям,
независимость мнения. Это было, конечно, хорошим
наследством, но с ним так же хорошо можно было стать
администратором, государственным деятелем, историком,
экономистом, крупным промышленником, прекрасным
медиком и, наконец, натуралистом, как Декандоль.
Очевидно, что обстоятельства сыграли важную роль в
выборе им карьеры, и действительно, об этом сообщает нам
его сын17. Только математический талант и
музыкальное чувство могут быть довольно часто врожденными
склонностями, прямо унаследованными от родителей. Эта
кажущаяся аномалия не удивит никого, если вспомнить,
что оба эти таланта развились весьма рано в истории
человечества. Музыка — первое из искусств, а
математика — первая из наук, которыми занимались люди; эта
15 Op. cit., p. 299.
16 Emotions et volonté, p. 53.
17 Op. cit., p. 318.
295
двойная способность должна, значит, быть более общей и
менее сложной, чем часто думают, и это объясняет
способность их к передаче.
То же можно сказать о другой склонности, к
преступлению. По справедливому замечанию Тарда, различные
разновидности преступления суть профессии, хотя и
вредные; иногда они обладают даже сложной техникой.
Мошенник, фальшивомонетчик, фальсификатор
документов должны употребить больше знаний и искусства в
своем ремесле, чем многие нормальные работники. Но
утверждали, что не только вообще моральная
извращенность, но и специфические формы преступлений —
продукт наследственности; высчитывали даже, что «процент
родившихся преступниками» 18 превышает 40. Если бы
это положение было верно, то пришлось бы заключить,
что наследственность имеет иногда громадное влияние на
способ распределения профессий, даже сугубо
специальных.
Чтобы доказать его, использовали два различных
метода. Часто довольствовались указанием на семейства,
которые целиком предавались пороку, причем в течение
многих поколений. Но помимо того, что таким образом
невозможно определить относительной доли
наследственности в совокупности преступных склонностей, такие
наблюдения, как бы многочисленны они ни были,
недоказательны. Из того, что сын вора становится вором, не
следует, что его безнравственность — наследство,
завещанное отцом. Чтобы истолковать факты таким образом,
надо быть в состоянии изолировать действие
наследственности от действия обстоятельств, воспитания и пр. Если
бы дитя, будучи воспитано в совершенно здоровой семье,
проявляло склонность к воровству, тогда с полным
правом можно было бы сослаться на влияние
наследственности; по мы имеем весьма мало подобных наблюдений,
сделапных методически. Замечание, что семьи,
проявляющие такую склонность к пороку, иногда весьма
многочисленны, не опровергает возражения. Число тут ни при
чем, ибо семейная среда, которая одинакова для всей
семьи, как бы велика она ни была, достаточно объясняет
эту эндемическую преступность.
Метод, которому следует Ломброзо, был бы более
убедителен, если бы он давал те результаты, на которые
рассчитывает автор. Вместо того чтобы перечислять ряд
18 Lombroso. L'homme criminel, p. 669.
296
частных случаев, он устанавливает анатомический и
физиологический тип преступника. Так как анатомические
и физиологические черты, особенно первые, носят
природный характер, т. е. определены наследственностью, то
достаточно установить пропорцию преступников,
представляющих установленный таким образом тип, чтобы
измерить точно влияние наследственности на эту особую
деятельность.
Мы видели, что, по Ломброзо, она значительна. Но
приведенное число выражает только относительную
частоту преступного типа вообще. Следовательно, все, что
можно из него заключить, сводится к тому, что
склонность ко злу вообще довольно часто наследственна; но
отсюда нельзя ничего вывести относительно частных
форм преступления. Кроме того, теперь известно, что
этот мнимый преступный тип в действительности не
имеет ничего специфического. Многие составляющие его
черты встречаются и в других случаях. Замечено
только, что он похож на тип дегенератов, неврастеников 19.
Но если этот факт доказывает, что среди преступников
много неврастеников, то из этого не следует, что
неврастения всегда и неизбежно ведет к преступлению. Есть,
по меньшей мере, столько же дегенератов, которые если
не гениальны и талантливы, то, во всяком случае,
честные люди.
Итак, если способности тем менее могут передаваться,
чем они специфичнее, то доля наследственности в
организации социального труда тем более, чем последний
менее разделен. В низших обществах, где функции носят
весьма общий характер, они требуют столь же общих
способностей, которые могут легче и полнее перейти от
одного поколения к другому. Каждый с рождением
получает все существенное для поддержания своей личности;
то, что он должен приобрести сам, составляет весьма
немногое по сравнению с тем, что он получает по
наследству. В средние века знатный человек для исполнения
своей функции не нуждался ни в особенных знаниях,
ни в сложных навыках — ему нужно было главным
образом мужество, и он получал его вместе с кровью. Левит
и брамин для исполнения своих обязанностей не
нуждались в какой-нибудь объемистой науке; размеры ее
можно определить по размерам содержащих ее книг. Но им
нужно было природное превосходство интеллекта, кото-
19 См.: Féré. Dégénérescence et criminalité.
297
рое делало для них доступными идеи й чувства,
недоступные толпе. Чтобы быть хорошим врачом во времена
Эскулапа, не было необходимости в каком-нибудь широком
образовании: достаточно было иметь природную
склонность к наблюдению, к конкретному, и так как она
достаточно общая, чтобы быть легко передаваемой, то
неизбежно было, что она передавалась в некоторых
семьях и что профессия врача была в них наследственной.
Легко объяснить себе, что в таких условиях
наследственность стала социальным институтом. Без сомнения, не
эти, чисто психологические, причины смогли вызвать
организацию каст; но, когда последняя возникла под
давлением других причин, она сохранилась, ибо оказалась
совершенно согласной и с индивидуальными вкусами, и с
интересами общества. Так как профессиональная
способность была скорее расовым качеством, чем
индивидуальным, то вполне естественно, что то же имело место и
относительно функции. Поскольку функции
распределялись однообразно, то могло быть только выгодным, что
закон освятил принцип этого распределения. Когда
индивид имеет чрезвычайно малую долю в формировании
своего ума и характера, то он не может иметь большую
в выборе своей карьеры, и если бы ему было
предоставлено больше свободы, то он вообще не знал бы, что с
ней делать. И если бы хоть одна общая способность
могла служить в различных профессиях! Но именно потому,
что труд малоспециализирован, существует
незначительное число функций, отделенных друг от друга резкими
различиями; следовательно, успеть можно только в одной
из них. Поле, оставленное для индивидуальных
комбинаций, ограничено также с этой стороны. В конце
концов с наследственностью функции дело обстоит так же,
как и с наследственностью имущества. В низших
обществах наследство, переданное предками и состоящее чаще
всего в недвижимости, представляет самую важную часть
каждой отдельной семьи; индивид, вследствие слабой
жизненности тогдашних экономических функций, не
может прибавить многого к наследственному фонду.
Поэтому не он владелец, а семья, существо коллективное,
состоящее не только из всех членов данного поколения, но
из всего ряда поколений. Вот почему вотчинные
имущества неотчуждаемы; ни один из кратковременных
представителей семейного существа не может располагать
им, так как оно ему не принадлежит. Оно принадлежит
семье, как функция — касте. Даже тогда, когда право
298
ослабляет свои первые запреты, отчуждение вотчины
рассматривается еще как нарушение долга; оно для всех
классов населения — то же, что неравный брак для
аристократии. Это измена по отношению к расе,
отступничество. Поэтому, даже допуская его, закон в течение
долгого времени ставит ему всякого рода препятствия;
отсюда происходит право выкупа.
Не так обстоит дело в более развитых обществах, где
труд более разделен. Так как здесь функции более
разветвились, то одна и та же способность может служить
для различных профессий. Мужество так же необходимо
рудокопу, аэронавту, медику, инжеперу, как и солдату.
Склонность к наблюдению может из человека одинаково
сделать романиста, драматурга, химика, натуралиста,
социолога. Словом, положение индивида не так
неизбежно предопределено наследственностью.
Но что особенно уменьшает относительное значение
последней, так это то, что доля индивидуальных
приобретений становится все значительнее. Чтобы сделать
ценным завещанное наследство, нужно к нему прибавлять
более, чем прежде. Действительно, по мере того как
функции более специализируются, просто общих
способностей уже недостаточно. Понадобилось подчинить их
активной разработке, приобрести целый мир идей,
движений, привычек, их координировать и
систематизировать, переделать их природу, дать ей новые формы.
Достаточно сравнить — а мы берем довольно близкие между
собой пункты — человека XVII в. с его открытым и ма-
локультивированным умом и теперешнего ученого,
вооруженного всеми навыками, всеми необходимыми для его
науки знаниями; достаточно сравнить дворянина былых
времен с его природными храбростью и гордостью и
теперешнего офицера с его трудоемкой и сложной
техникой, чтобы увидеть значение и разнообразие комбинаций,
понемногу наслоившихся на первоначальную основу.
Но так как эти искусные комбинации очень сложны,
то они хрупки. Они находятся в состоянии
неустойчивого равновесия, которое не может противиться сильному
сотрясению. Если бы они были тождественными у обоих
родителей, то, может быть, они могли бы пережить
кризис рождения. Но такое тождество совершенно
исключительно. Во-первых, они специфичны у каждого пола;
затем, по мере того как расширяются и уплотняются
общества, перекрещивания происходят на большей
поверхности, сближая индивидов самого различного склада
299
Значит, все это богатство состояний сознания умирает с
нами, и мы передаем нашим потомкам только
неопределенный зародыш его. Именно им приходится снова
оплодотворить его, и следовательно, они могут легче, если это
необходимо, изменить его развитие. Они не вынуждены
более повторять там безусловно то, что сделали их отцы.
Без сомнения, было бы ошибочно думать, что каждое
поколение начинает сызнова всю работу веков: это
сделало бы невозможным всякий прогресс. Из того, что
прошлое не передается вместе с кровью, не следует, что
оно погибает: оно остается закрепленным в памятниках,
в традициях всякого рода, в привычках, формируемых
воспитанием. Но традиция — менее прочная связь, чем
наследственность; она менее жестко и четко
предопределяет мышление и поведение. Мы видели, кроме того, как
сама она становится более гибкой по мере того, как
общества становятся плотнее. Значит, для индивидуальных
изменений открывается более широкое поле, и оно все
более и более расширяется по мере разделения труда.
Словом, цивилизация может закрепляться в
организме только самыми общими основами, на которые она
опирается. Чем выше она поднимается, тем более,
следовательно, освобождается от тела; она становится все менее
органическим и все более социальным явлением. Но
тогда продолжаться она может уже не через посредство
тела, т. е. наследственность все менее в состоянии
обеспечивать ее непрерывность. Она, следовательно, теряет
свою власть не потому, что она перестала быть законом
нашей природы, а потому, что для жизни нам
необходимы органы, которых она нам не может дать. Без
сомнения, из ничего мы не можем ничего извлечь, и сырье,
доставляемое нам только ею, имеет капитальное
значение; но то сырье, что к нему прибавляется, имеет
значение не меньшее. Наследственное состояние сохраняет
большую ценность, но оно представляет все более
ограниченную долю индивидуального достояния. В таких
условиях понятно, почему наследственность исчезла из
социальных институтов и почему масса, не замечая уже
наследственного основания под закрывающими его
добавлениями, не чувствует более его важности.
II
Но это еще пе все. Есть основание думать, что доля
наследственности уменьшается не только относительно,
но и абсолютно. Наследственность становится меньшим
300
фактором человеческого развития не только потому, что
существует все увеличивающаяся масса новых
приобретений, которых она не может передать, но еще потому,
что те, которые она передает, менее стесняют
индивидуальные изменения. Это предположение делают весьма
правдоподобным нижеследующие факты.
Значение наследственного состояния для данного вида
всегда можно измерять по числу и силе инстинктов. Но
весьма примечательно, что жизнь инстинктов ослабевает
по мере того, как мы поднимаемся в иерархии мира
животных. В самом деле, инстинкт — это определенный
способ действовать, приспособленный к узкоопределенной
цели. Он побуждает индивида к поступкам, которые
неизменно одни и те же и которые воспроизводятся
автоматически, когда даны необходимые условия; он застыл в
своей форме. Без сомнения, можно заставить его
уклониться от них, но, помимо того, что эти уклонения,
чтобы быть устойчивыми, требуют долгого развития, они не
имеют другого результата, как подстановку вместо одного
инстинкта другого, вместо одного специального
механизма — другого такого же. Наоборот, чем выше вид
животного, тем факультативнее становится инстинкт. «Это,—
говорит Перье,— уже не бессознательная способность
образовывать комбинацию неопределенных актов, это
способность действовать различно, смотря по
обстоятельствам» 20. Сказать, что влияние наследственности — более
общее и неопределенное, м^нее повелительное,— значит
сказать, что оно меньше. Она не заключает более
деятельность животного в тесную сеть, но оставляет ей
больше свободы. «У животного,— говорит тот же Перье,—
с возрастанием интеллекта глубоко изменяются в то же
время условия наследственности».
При переходе от животных к человеку этот регресс
еще заметнее. «Человек делает все, что делают
животные, плюс некоторый излишек; только он делает, зная,
что и почему он делает; по-видимому, одно это сознание
собственных поступков освобождает его от всех
инстинктов, которые необходимо побуждали бы его исполнить те
же поступки» 21. Пришлось бы слишком долго
перечислять все те движения, которые, будучи инстинктивными
у животных, перестали быть наследственными у людей*
20 Analomie et physiologie animales, p. 201. Ср. предисловие
к кн.: Romanes. L'intelligence des animaux, p. XXIII.
21 Guyau. Morale anglaise. lre éd., p. 330.
301
Даже там, где инстинкт остается, он имеет менее силы,
и воля легче может сделаться его господином.
Но тогда нет никакого основания полагать, что это
поступательное движение, совершающееся непрерывным
образом от низших животных видов к высшим, от
последних — к человеку, внезапно прекращается с появлением
человечества. Разве человек с момента своего появления
был вполне свободен от инстинкта? Ведь мы чувствуем
его иго еще теперь. Разве причины, вызвавшие это
прогрессивное освобождение, непрерывность которого мы
сейчас видели, внезапно потеряли свою энергию? Но
очевидно, что они сливаются с причинами, определяющими
общий прогресс видов, и так как он не прекращается,
то они также не могут прекратиться. Такая гипотеза
противоречит всем аналогиям. Она противоречит даже
хорошо установленным фактам. Доказано в самом деле, что
интеллект и инстинкт постоянно изменяются в обратном
отношении друг к другу. Нам не требуется в данный
момент выяснять, откуда появляется это отношение; мы
довольствуемся утверждением его существования. Но с
самого начала человеческий интеллект не переставал
развиваться; значит, инстинкт должен был двигаться в
обратном направлении. Следовательно, хотя нельзя
установить этого положения путем прямого наблюдения фактов,
следует полагать, что наследственность потеряла почву в
течение социальной эволюции.
Еще один факт подтверждает предыдущее положение.
Эволюция не только не выдвинула новых рас с начала
истории, но и старые расы все более регрессируют.
Действительно, раса образуется из некоторого числа
индивидов, представляющих по отношению к одному и тому же
наследственному типу сходство, достаточно большое для
того, чтобы можно было пренебречь индивидуальными
различиями. Но значение последних все увеличивается.
Индивидуальные типы становятся все рельефнее в ущерб
родовому типу, существенные черты которого,
рассеянные во все стороны, смешанные с массой других,
бесконечно разветвленные, не могут уже легко быть собраны
в одно единое целое. Эти рассеяние и исчезновение
начались, впрочем, даже у народов весьма мало развитых.
Благодаря своей изолированности эскимосы,
по-видимому, помещены в весьма благоприятные условия для
поддержания чистоты расы. Однако «колебания роста
превосходят там обычные индивидуальные пределы... У Го-
302
тамского прохода эскимос походит иа негра; у Спафарет-
ского пролива — на еврея (Зееман). Часто встречается
овальное лицо, соединенное с римским носом (Кинг).
Цвет кожи у них то весьма темный, то очень светлый» 22.
Если так происходит в столь небольших обществах, то
тем ярче должно обнаруживаться это явление в наших
современных больших обществах. В Центральной Европе
находят бок о бок всевозможные вариации черепов,
всевозможные формы лиц. То же и с цветом кожи. По
наблюдениям, сделанным Вирховым над 10 000 детей,
взятых из разных классов Германии, белокурый тип,
характерный для германской расы, наблюдался от 43 до 33 раз
из 100 на севере; от 32 до 25 раз — в центре и от 24
до 18 — на юге23. Понятно, что в этих все
ухудшающихся обстоятельствах антрополог не может установить
четко определенных типов.
Недавние исследования Гальтона подтверждают и в то
же время дозволяют объяснить это ослабление влияния
наследственности24. Согласно этому автору, наблюдения
и вычисления которого, кажется, трудно опровергнуть,
единственные регулярно и целиком передающиеся черты
в данной социальной группе — это те, соединение
которых составляет средний тип. Так, сын, родившийся от
исключительно высоких родителей, не будет иметь их
роста, но более приблизится к среднему уровню.
Наоборот, если они слишком низкого роста, он будет выше их.
Гальтону удалось даже измерить — по крайней мере,
приблизительно — это отношение отклонения. Если
условиться назвать средним родителем сложное существо,
которое представило бы арифметическое среднее обоих
реальных родителей (черты женщины транспонированы
так, чтобы можно было сравнить их с мужскими,
прибавить и разделить вместе), то отклонение сына по
отношению к этому неизменному эталону составляет 2/3
отклонения отца 25.
Гальтон установил этот закон не только для роста, но
и для цвета глаз, и для художественных способностей.
Правда, его наблюдения касались только количественных
отношений, представляемых индивидами по отношению к
среднему типу, а не качественных. Но не ясно, почему
22 Topinard. Anthropologie, p. 438.
23 Wagner. Die Kulturzüchtung des Menschen. Kosmos, 1886,
Heft I, S. 27.
24 Natural Inheritance. L., 1889.
25 Ibid., p. 104.
309
закон к одним применим, а к другим пет. Если правило
таково, что наследственность передает существенные
черты этого типа только с той степенью развития, с
которой они в нем находятся, то она должна также
передавать только те черты, которые там находятся. Что
истинно об анормальных величинах нормальных черт,
должно тем более быть истинно о самих анормальных
чертах. Они должны переходить от одного поколения к
другому лишь ослабленными и стремиться к
исчезновению.
Этот закон, впрочем, легко объясним. Дитя наследует
не только от своих родителей, но и от всех своих предков;
несомненно, действие первых особенно сильно, так как
оно непосредственно, но действие предыдущих поколений
способно накопляться, если оно совершается в одном
направлении, и благодаря этому накоплению,
возмещающему фактор отдаленности, оно может достигнуть степени
энергии, достаточной, чтобы нейтрализовать или ослабить
предыдущее. Но средний тип естественной группы — это
тот, который соответствует условиям средней жизни,
следовательно, самым обычным условиям. Он выражает
способ, каким индивиды приспособились к тому, что можно
назвать средней средой, как физической, так и
социальной, т. е. к среде, в которой живет большинство. Эти
средние условия были в прошлом самыми частыми по той
же причине, благодаря которой они — самые общие в
настоящем. Значит, это те условия, в которых находилось
большинство наших предков. Правда, с течением времени
они могли измениться; но вообще они изменяются
медленно. Средний тип поэтому остается почти тем же в
течение длительного времени. Следовательно, именно он
повторяется чаще всего и наиболее однообразно в ряду
предыдущих поколений, по крайней мере в тех, которые
достаточно близки, чтобы оказать заметное действие.
Благодаря этому постоянству он приобретает
устойчивость, делающую из него центр тяжести наследственных
влияний. Составляющие его черты суть те, которые
представляют наибольшее сопротивление, которые стремятся
передаться с большей силой и точностью. Наоборот, те,
которые удаляются от него, сохраняются в состоянии
неопределенности, тем большей, чем значительнее
удаление. Вот почему происходящие отклонения всегда
временны и сохраняются весьма несовершенным образом.
Однако само это объяснение, несколько отличное от
предложенного Гальтоном, позволяет предположить, что
304
его закон для совершенной точности нуждается в
небольшой поправке. Действительно, средний тип наших
предков сливается с типом нашего поколения постольку,
поскольку средняя жизнь не изменилась. Но на самом деле
от поколения к поколению происходят изменения,
влекущие за собой изменения в составе среднего типа. Если
собранные Гальтопом факты тем не менее подтверждают,
по-видимому, его закон в той форме, в какой он его
сформулировал, то это потому, что он проверил его
только на физических, сравнительно неподвижных чертах,
таких, как, например, рост или цвет глаз. Но если по
тому же методу наблюдать другие свойства, органические
или психические, то непременно будет видно влияние
эволюции. Следовательно, строго говоря, черты, степень
передаваемости которых максимальна, не суть те,
совокупность которых представляет средний тип данного
поколения, но те, которые получили бы, беря среднюю
арифметическую средних типов последовательных поко-,
лений. Без этой поправки, к тому же, нельзя было бы
объяснить, как среднее арифметическое группы может
прогрессировать, ибо, если принять буквально положение
Гальтона, общества всегда и неизбежно будут
приводиться к одному уровню, так как средний тип двух
поколений, даже удаленных друг от друга, был бы тождествен.
Но это тождество — далеко не закон; наоборот, даже
столь простые физические черты, как средний рост или
средний цвет глаз, изменяются понемногу, хотя очень
медленно 26. Истина состоит в том, что если в среде
происходят продолжительные изменения, то вытекающие из
этого органические и психические изменения в конце
концов закрепляются и интегрируются в среднем типе,
который развивается. Значит, происходящие в нем в
процессе эволюции изменения не могут иметь той же
степени передаваемости, как элементы, которые в нем
постоянно повторяются.
Средний тип происходит от наслаивания
индивидуальных типов и выражает то, что в них есть наиболее
общего. Следовательно, черты, из которых он состоит,
тем определеннее, чем точнее они повторяются у
различных членов группы; когда эта точность полная, все их
черты в нем присутствуют вплоть до оттенков. Наоборот,
когда они изменяются от индивида к индивиду, то вслед-
26 Arréat. Récents travaux sur l'hérédité. Revue philosophique,
avril 1890, p. 414.
305
ствйе меньшего числа точек совпадения то, что остается
от них в среднем типе, сводится к чертам тем более
общим, чем различия больше. Но мы знаем, что
индивидуальные несходства все увеличиваются, т. е. что
существенные элементы среднего типа все более разветвляются.
Значит, сам этот тип должен заключать менее
определенных черт, и это тем более, чем общество
дифференцированнее. Средний человек имеет все менее ясный и резко
очерченный облик, все более схематичный вид. Это
абстракция, все труднее и труднее поддающаяся определению
и ограничению. С другой стороны, чем к более высокому
виду принадлежат общества, тем быстрее они
развиваются, поскольку традиция, как мы это установили,
становится более гибкой. Средний тип меняется здесь, таким
образом, от поколения к поколению. Следовательно,
вдвойне сложный тип, происходящий от наслоения всех
этих средних типов, еще абстрактнее, чем каждый из
них, и становится таким все более и более. Но так как
наследственность этого типа составляет нормальную
наследственность, то очевидно, что, как говорит Перье,
условия последней глубоко видоизменяются. Конечно,
это не значит, что она абсолютно передает меньше
признаков, ибо, если индивиды представляют более
несходных черт, то они представляют также больше черт
вообще. Но то, что она передает, все более и более состоит
в неопределенных предрасположениях, в общих способах
чувствовать и мыслить, могущих специализироваться на
тысячу различных ладов. Это уже не прежние
целостные механизмы, устроенные точно для специальных
целей, это весьма неопределенные стремления, не
обусловливающие окончательно будущее. Наследство не стало
менее богатым, но оно не состоит уже целиком в
наличных деньгах. Большая часть ценностей, из которых оно
состоит, еще не реализована, и все зависит от их
будущего употребления.
Эта большая гибкость наследственных черт
происходит не только от их состояния неопределенности, но и
от потрясения, полученного ими вследствие изменений,
которые они претерпели. Известно, действительно, что
тип тем неустойчивее, чем больше отклонений он
выдержал. «Иногда,— говорит Катрфаж,— малейшие причины
быстро видоизменяют эти организмы, ставшие, так
сказать, неустойчивыми. Швейцарский бык, перевезенный в
Ломбардию, через два поколения становится ломбардским
быком. Достаточно также двух поколений, чтобы наши
306
маленькие черные пчелы из Бургундии стали в Брессе
большими и желтыми» 27. Благодаря всему этому,
наследственность оставляет все более места для новых
комбинаций. Не только возрастает число явлений, не
подпадающих под ее влияние, но и свойства, непрерывность
которых она обеспечивает, становятся пластичнее.
Индивид, стало быть, слабее связан со своим прошлым; ему
легче приспособиться к новым обстоятельствам, и таким
образом, прогресс разделения труда становится более
легким и быстрым 28.
*
Глава V
СЛЕДСТВИЯ ПРЕДЫДУЩЕГО
I
Предыдущее позволяет нам лучше понять способ
функционирования разделения труда в обществе.
С этой точки зрения разделение социального труда
отличается от разделения физиологического труда одной
существенной чертой. В организме всякая клеточка име-
27 Ст. «Расы» в Dictionnaire encyclopédique des sciences
médicales (LXXX, p. 372).
28 Наиболее основательные моменты в теориях Вейсмана
могут подкрепить сказанное. Конечно, не доказано, что, как
утверждает этот ученый, индивидуальные изменения безусловно не
передаваемы по наследству. Но он, по-видимому, твердо установил, что
нормально передаваемый тип - это не индивидуальный тип, но
родовой, имеющий в некотором отношении в качестве органического
субстрата воспроизводящие элементы, и что этот тип не так легко
затрагивается, как это думали, индивидуальными изменениями
(см.: Weismann. Essais sur l'hérédité. P., 1892, в частности третий
очерк, а также: Bail. Hérédité et exercice. P., 1891). Отсюда
вытекает, что чем неопределеннее и пластичнее этот тип, тем более
действенным оказывается индивидуальный фактор.
Эти теории интересуют нас и с другой стороны. Один из
выводов нашего труда, которому мы придаем особое значение, состоит
в том, что социальные явления происходят от социальных причин,
а не от психологических; что коллективный тип - не простое
обобщение индивидуального типа, но, наоборот, последний возник из
первого. Посредством другой категории фактов Вейсман тоже
доказывает, что раса - не простое продолжение индивида; что
специфический тип с физиологической и анатомической точек
зрения - не закрепившийся с течением времени индивидуальный
тип, но что он имеет собственную эволюцию; что второй отделился
от первого, а не был его источником. Теория его, подобно нашей,
как нам кажется,- протест против односторонних теорий,
сводящих сложное к простому, целое - к части, общество или расу -
к индивиду.
307
ет свою определенную роль и не может сменить ее. В
обществе занятия никогда не были распределены таким
неподвижным образом. Даже там, где рамки организации
наиболее жестки, индивид может передвигаться внутри
той сферы, куда его поместила судьба, с некоторой
свободой. В древнейшем Риме плебей мог свободно браться
за всякое занятие, которое не было исключительно
уделом патрициев; даже в Индии поприще, открытое
каждой касте, было достаточно широко *, чтобы оставлять
место некоторому выбору. Во всякой стране, если враг
завладел столицей, т. е. самим мозгом нации, социальная
жизнь от этого не прекращается: через некоторое —
относительно короткое — время другой город оказывается
в состоянии выполнять эту сложную функцию, к которой,
однако, ничто его не подготовило.
По мере того как труд все более разделяется, эти
гибкость и свобода увеличиваются. Один и тот же
индивид переходит от самых низких занятий к самым
высоким. Принцип, по которому все занятия равно доступны
всем гражданам, не стал бы таким всеобщим, если бы он
не получал постоянных применений. Еще чаще
встречается, что работник оставляет свое занятие ради близкого
ему. Когда научная деятельность не была еще
специализирована, ученый, охватывая почти всю науку, с трудом
мог переменить свою функцию, так как ему пришлось
бы отказаться от самой науки. Теперь часто случается,
что он последовательно посвящает себя различным
наукам, переходя от химии к биологии, от физиологии —
к психологии, от психологии — к социологии. Эта
способность принимать различные формы нигде не заметна так,
как в экономическом мире. Так как нет ничего более
изменчивого, чем вкусы и потребности, которым
соответствуют эти функции, то торговля и промышленность, чтобы
быть в состоянии приноровиться ко всем изменениям
спроса, должны постоянно находиться в состоянии
неустойчивого равновесия. В то время как прежде
неподвижность была почти естественным состоянием
капитала и закон даже препятствовал его быстрым
передвижениям, теперь едва можно проследить за всеми его
превращениями; так велика быстрота, с которой он вступает в
какое-нибудь предприятие и выходит" оттуда, чтоб
отдохнуть где-нибудь в другом месте на несколько
мгновений. Поэтому рабочим приходится быть наготове, чтобы
1 Законы Ману, I, 87-91.
308
успевать за ним и, следовательно, предаваться различным
занятиям.
Природа причин, от которых зависит разделение
социального труда, объясняет эту черту. Если роль
каждой клетки определена неподвижным образом, то потому,
что она навязана ей с самого рождения. Она заключена
в системе наследственных привычек, которые намечают
ее дорогу и от которых она не может отделаться. Она
даже не может заметно изменить их, потому что они
затронули весьма глубоко субстанцию, из которой она
образована. Ее структура предопределяет ее жизнь. Мы
видели, что не так происходит в обществе. Индивид не
обречен своим происхождением на какое-нибудь
специальное занятие. Его природная организация не
предназначает его непременно к какой-нибудь единственной
роли, делая его неспособным к любой другой; он
получает от наследственности только весьма общие,
следовательно весьма гибкие, предрасположения, которые могут
принять различные формы.
Правда, он сам определяет их тем, как он их
употребляет. Так как ему приходится применять свои
способности к частным функциям и специализировать их, то
он вынужден более интенсивно развивать те из них,
которые более непосредственно требуются для его занятия,
предоставив другим отчасти атрофироваться. Так, он не
может развивать свой мозг далее известного пункта, не
теряя части своей мускульной силы или
воспроизводительной способности; он не может перевозбудить свою
способность к анализу и рефлексии, не ослабляя своей
волевой энергии и живости чувств; не может приучиться
к наблюдению, не потеряв отчасти своих диалектических
способностей. Кроме того, по природе самих вещей та
из его способностей, которую он напрягает в ущерб
другим, должна принять определенные формы, пленницей
которых она мало-помалу становится. Она приобретает
известные навыки, привыкает к определенному
функционированию, которое становится тем труднее изменить,
чем оно дольше. Но так как эта специализация вытекает
из чисто индивидуальных усилий, то она не имеет ни
точности, ни твердости, которые могут быть произведены
только долгой наследственностью. Эти навыки более
гибки, так как они более недавнего происхождения. Так
как индивид их приобрел, то он может от них
отделаться и приобрести другие. Он может даже пробудить
способности, притуплённые продолжительным спом, возбу-
309
дить их жизненность, выдвинуть их на первый план,
хотя, по правде сказать, этот род воскресения уже более
труден.
В этих фактах на первый взгляд можно видеть
явления регресса или доказательство низшего состояния, по
крайней мере переходное состояние незавершенного,
формирующегося существа. Именно у низших животных
различные части агрегата могут так легко изменять свою
функцию и заменять друг друга. Наоборот, по мере того
как совершенствуется организация, им становится все
более невозможно выйти из предписанной им роли.
Таким образом, мы приходим к вопросу, не настанет ли
когда-нибудь время, когда общество примет более
твердую форму, в которой каждый орган, каждый индивид
будет иметь определенную функцию и более не изменит
ее. Такова, по-видимому, была мысль Конта2; такова,
несомненно, и мысль Спенсера3. Но такое заключение,
однако, поспешно, ибо это явление подстановки
свойственно не только простейшим существам — его наблюдают
также на высших ступенях иерархии, в высших органах
высших организмов. Так, «нарушения, происходящие от
удаления некоторых частей мозговой коры, весьма часто
исчезают после более или менее продолжительного
промежутка времени. Это явление может быть объяснено
только следующим предположением: другие элементы
выполняют функцию уничтоженных элементов, замещая их.
Это предполагает, что замещающие элементы способны к
новым функциям. Элемент, который в нормальных
условиях дает зрительное ощущение, становится, благодаря
изменению условий, фактором осязательного ощущения,
мускульного чувства или двигательной иннервации. Более
того, мы почти вынуждены предположить, что если
центральная сеть нервных волокон способна передавать
явления различной природы одному и тому же элементу, то
этот элемент в состоянии совмещать в себе множество
различных функций» 4. Так, двигательные нервы могут
стать центростремительными, а чувствительные —
центробежными 5. Наконец, если новое распределение всех этих
функций может совершиться, когда изменены условия
передачи, то есть основание предполагать, по Вундту, что
2 Cours de philosophie positive, VI, p. 505.
3 Sociologie, II, p. 57.
4 Wundt. Psychologie physiologique, I, p. 234.
5 См. опыт Кюне и Поля Бера. сообщаемый Вундтом (Ibid..
р. 233).
310 .
«даже в пормальном состоянии возникает
изменения или колебания, зависящие от изменчивого развития
индивидов» 6.
Жесткая специализация в самом деле не является
непременно признаком превосходства. Она не только не
хороша во всех обстоятельствах, но часто бывает важно,
чтобы орган не был закреплен в своей роли. Без сомнения,
неподвижность, даже . весьма большая, полезна там, где
сама среда неподвижна; это мы видим на примере
функций питания в индивидуальном организме. Они не
подчинены большим изменениям в одном и том же
органическом типе; следовательно, не вредно, но полезно, чтоб они
приняли окончательно определенную форму. Вот почему
полип, внутренняя и внешняя ткань которого замещают
друг друга с такой легкостью, хуже вооружен для
борьбы, чем более развитые животные, у которых эта замена
всегда неполна и почти невозможна. Совершенно иначе
происходит, когда обстоятельства, от которых зависит
орган, часто меняются: тогда приходится изменяться
самому или погибнуть. Это и бывает со сложными,
приспособляющими нас к сложным средам функциями.
Действительно, эти среды по причине самой своей сложности
неустойчивы: в них непрерывно происходит какое-нибудь
нарушение равновесия, какое-нибудь новшество. Значит,
•чтобы быть приспособленным к ним, нужно, чтобы
функция также постоянно была наготове изменяться,
приноравливаться к новым условиям. Но из всех
существующих сред нет более сложной, чем социальная среда;
поэтому вполне естественно, что специализация социальных
функций не так определенна, как в биологических
функциях, а так как эта сложность все увеличивается по мере
разделения труда, то и эластичность становится все
больше. Конечно, она по-прежнему заключена в определенные
границы, но они все более и более отступают.
В конечном счете об этой относительной и постоянно
возрастающей гибкости свидетельствует то, что функция
становится все независимее от органа. Действительно,
ничто не делает так неподвижной функцию, как связь с
четко фиксированной структурой, ибо из всех устройств
нет более устойчивого и неподатливого к изменениям.
Структура — это не только определенный способ
деятельности; это способ существования, необходимо
вызывающий определенный способ деятельности. Она требует не
6 Ibid., I, p. 239.
311
только некоторого, специфического для молекул способа
движения, но и специального устройства последних,
делающего почти невозможным всякий другой способ
движения. Значит, если функция становится более гибкой,
то потому, что она находится в менее тесной связи с
формой органа, потому, что связь между этими двумя
явлениями становится слабее.
Действительно, мы наблюдаем, что это ослабление
происходит по мере того, как общества и их функции
становятся сложнее. В низших обществах, где занятия
просты и посят общий для всех характер, различные
исполняющие их классы отличаются друг от друга
морфологическими чертами; другими словами, каждый орган
отличается от других анатомически. Так как каждая
каста, каждый слой населения по-своему питаются,
одеваются и т. д., то эти различия образа жизни влекут за
собой физические различия. «Фиджийские вожди —
высокого роста, хорошо сложены и мускулисты; люди низшего
сословия представляют зрелище худобы, происходящей от
чрезмерного труда и жалкого питания. На Сандвичевых
островах вожди — большого роста, сильные, и внешность
их так превосходит внешность простого люда, что можно
было бы сказать, что они принадлежат к различным
расам. Эллис, подтверждая рассказ Кука, говорит, что
таитянские вожди почти все без исключения настолько же
превосходят людей низшего слоя физической силой,
насколько саном и богатствами. Эрскин замечает подобную
же разницу у тонганцев» 7. Наоборот, в высших
обществах эти контрасты исчезают. Многие факты доказывают,
что люди, посвятившие себя различным социальным
функциям, отличаются менее, чем некогда, друг от
друга формой тела, чертами лица, осанкой. Теперь люди даже
хвастают тем, что по виду нельзя узнать их ремесла. Если
бы, согласно желанию Тарда, статистика и
антропометрия применялись для более точного определения
основных черт различных профессиональных типов, то,
вероятно, констатировали бы, что они различаются менее, чем в
прошлом, особенно если принять в расчет все большую
дифференциацию функций.
Эту догадку подтверждает тот факт, что обычай
носить профессиональную одежду приходит все больше в
упадок. Действительно, хотя профессиональная одежда,
вероятно, служила для того, чтобы делать заметными
7 Spencer. Sociologie, III, p. 406.
312.
функциональные различия, тем не менее трудно видеть в
этом ее единственное основание, так как она исчезает по
мере того, как социальные функции все более
дифференцируются. Она, стало быть, должна соответствовать
различиям другого рода. Если бы до установления этого
обычая люди различных классов не представляли уже каких-
то заметных телесных различий, то непонятно, как бы у
них возникла идея различаться таким образом. Эти
внешние условные признаки должны были быть изобретены к
подражание внешним естественным чертам. Одежда, по-
нашему,—не что иное, как профессиональный тип,
который, проявляясь даже в одеянии, отмечает его своей
печатью и дифференцирует его по своему образу. Это как
бы продолжение его. Особенно очевидно это в тех
различиях, которые играют ту же роль, что одежда, и
происходят, конечно, от тех же причин; например, привычка
стричь бороду тем или иным образом или вовсе не носить
ее, иметь волосы короткие или длинные и т. п. Это
именно черты профессионального типа, которые, произойдя и
установившись спонтанно, воспроизводятся искусственно
и путем подражания. Разнообразие одежды символизирует
прежде всего морфологические различия; следовательно,
если оно исчезает, то потому, что исчезают последние.
Если представители различных профессий не
испытывают более потребности различаться друг от друга
видимыми признаками, то, стало быть, это разделение не
соответствует более ничему реальному. Однако фукцио-
нальные несходства становятся многочисленнее и резче;
следовательно, именно морфологические типы
нивелируются. Это не значит, конечно, что все мозги одинаково
способны ко всем функциям; их функциональная неспециа-
•лизированность, оставаясь все-таки ограниченной,
становится более значительной.
Но это освобождение функции совсем не признак
низшего состояния; оно доказывает только, что она
становится сложнее. Если составным элементам тканей труднее
располагаться так, чтобы воплощать и, следовательно,
закреплять ее, то потому, что она слагается из весьма
искусных и тонких навыков. Можно даже спросить себя,
не ускользает ли она начиная с известной степени
сложности от них окончательно, не выходит ли она в конце
концов настолько за пределы органа, что последнему
становится невозможно поглотить ее полностью. Что в
действительности она независима от формы субстрата — это
истина, давно уже установленная натуралистами; только
313
когда она обща и проста, она не может долго оставаться
в этом состоянии свободы, так как орган легко
ассимилирует и вместе с тем сковывает ее. Но нет основания
полагать, что эта способность ассимиляции безгранична.
Все заставляет, наоборот, предполагать, что начиная с
известного момента диспропорция между простотой
молекулярных и сложностью функциональных устройств
становится больше. Значит, связь между последними и
первыми все ослабляется. Без сомнения, из этого не
следует ни что функция может существовать вне всякого
органа, ни даже что когда-нибудь исчезнет всякая связь
между этими двумя явлениями; только связь эта
становится менее непосредственной.
Итак, прогресс имеет следствием то, что отрывает все
более, не отделяя, однако, функцию от органа, жизнь от
материи, что, следовательно, усложняя ее, он ее спири-
туализирует, делает более гибкой, свободной.
Спиритуализм, чувствуя, что таков характер высших форм
существования, постоянно отказывался видеть в психической
жизни простое следствие молекулярного строения мозга.
Действительно, мы знаем, что функциональное
безразличие разных частей мозга если не абсолютно, то велико.
Поэтому мозговые функции позже всех могут облечься в
неподвижные формы. Они долее пластичны, чем другие,
и сохраняют тем более пластичности, чем они сложнее;
так, их развитие продолжается гораздо дольше у ученого,
чем у необразованного человека. Итак, если социальные
функции представляют еще более резким образом ту же
черту, то не вследствие какого-нибудь особенного
исключения, но потому, что они соответствуют еще более
высокой стадии развития природы.
II
Определяя главную причину прогресса разделения труда,
мы определили тем самым и существенный фактор того,
что называют цивилизацией.
Она сама — необходимое следствие изменений,
происходящих в объеме и плостности обществ. Если наука,
искусство, экономическая деятельность развиваются, то
вследствие необходимости; для людей нет другого способа
жить в новых условиях. С тех пор как число индивидов,
между которыми установились социальные отношения,
становится значительнее, они могут сохраниться только в
том случае, если больше специализируются, больше
работают, сильнее напрягают свои способности; и из этой об-
314
щей стимуляции необходимо вытекает более высокая
степень культуры. С этой точки зрения цивилизация
является, стало быть, не целью, которая двигает народы
оказываемым ею на них притяжением, не благом,
предвиденным и желаемым заранее, возможно большей частью
которого они стараются завладеть, но следствием
причины, необходимой равнодействующей данного состояния
Это не полюс, на который ориентируется историческое
развитие и к которому люди стремятся приблизиться,
чтобы стать счастливее или лучше; ибо ни счастье, ни
нравственность не возрастают непременно с
интенсивностью жизни. Они продвигаются потому, что надо
двигаться, и быстроту этого движения определяет более или
менее сильное давление, оказываемое ими друг на друга
соответственно тому, более или менее они многочисленны.
Это не значит, что цивилизация ничему не служит; но
не оказываемые ею услуги заставляют ее
прогрессировать. Она развивается потому, что не может не развиваться.
Как только это развитие начало осуществляться, оно
оказалось полезным или, по крайней мере, используется; оно
отвечает потребностям, образовавшимся в то же время,
потому что они зависят от тех же причин. Но это —
приспособление задним числом. Притом оказываемые
цивилизацией благодеяния — не положительное % обогащение,
не приращение нашего капитала счастья, они только
возмещают наносимые ею же потери. Именно потому, что
избыток активности общей жизни утомляет и делает
утонченной нашу нервную систему, последняя чувствует
потребность в возмещениях, пропорциональных потерям,
т. е. в более разнообразном: и сложном удовлетворении.
Отсюда мы еще лучше видим, насколько ложно делать
из цивилизации функцию разделения труда; она только
отражение его. Она не может объяснить ни его
существование, ни прогресс, так как она не имеет сама по себе
внутренней и абсолютной ценности, но, наоборот, имеет
основание лишь постольку, поскольку оказывается
необходимым само разделение труда.
Значение, приписываемое таким образом
количественному фактору, не покажется удивительным, учитывая, что
он играет столь же капитальную роль в истории
организмов. Действительно, живое существо определяется
двойным свойством: питанием и воспроизводством, из которых
последнее только следствие питания. Следовательно,
интенсивность органической жизни пропорциональна, при
прочих равных условиях, деятельности питания, т. е. числу
315
элементов, которые организм способен инкорпорировать.
Поэтому появление сложных организмов сделалось не
только возможным, но и необходимым потому, что при
известных условиях более простые организмы
группируются и образуют более объемистые агрегаты. Так как
существенные части животных тогда многочисленнее, то их
отношения уже не те, условия социальной жизни
изменились, и эти изменения, в свою очередь, вызывают и
разделение труда, и полиморфизм, и концентрацию
жизненных сил, и их большую энергию. Приращение
органической субстанции — вот факт, доминирующий над всем
зоологическим развитием. Неудивительно, что и
социальное развитие подчинено тому же закону.
Кроме того, легко и не прибегая к этим аналогиям
объяснить фундаментальное значение этого фактора. Вся
социальная жизнь состоит из системы фактов,
происходящих от положительных и продолжительных отношений,
установившихся между множеством индивидов. Значит,
она тем интенсивнее, чем чаще и энергичнее
происходящие между составными единицами реакции. Но от чего
зависят эти частота и энергия? От природы имеющихся
налицо элементов, от их большей или меньшей жизненной
силы? Но мы увидим еще в этой главе, что индивиды —
скорее результат совместной жизни, чем ее создатели.
Если от каждого из них отнять то, чем он обязан
воздействию общества, то полученный остаток, помимо того, что
он представляет весьма немногое, не может обнаружить
большого разнообразия. Без разнообразия социальных
условий, от которых они зависят, отделяющие их
различия были бы необъяснимы. Следовательно, не в
неравных способностях людей нужно искать причины неравного
развития обществ. Может быть, в неравной
продолжительности этих отношений? Но время само по себе не
производит ничего. Оно необходимо только для того,
чтобы появились на свет скрытые энергии. Итак, не остается
другого переменного фактора, кроме числа индивидов,
находящихся в отношениях, и их материальной и
моральной близости, т. е. объема и плотности общества.
Чем многочисленнее они и чем больше воздействуют они
друг на друга, чем сильнее и быстрее они реагируют
друг на друга, тем интенсивнее, следовательно, становится
социальная жизнь. Но эта интенсификация и создает
цивилизацию 8.
8 Мы не намерены исследовать здесь, объясняется ли
механически сам факт, вызывающий прогресс разделения труда и цивили-
316
Но цивилизация, будучи следствием необходимых при*
чин, может стать и целью, предметом желания — словом,
идеалом. Действительно, для общества в каждый момент
его истории имеется известная интенсивность
коллективной жизни, которая нормальна при данных числе и
распределении социальных единиц. Конечно, если все
происходит нормально, это состояние осуществляется само собой;
но можно поставить себе целью поступать именно так,
чтобы данные явления происходили нормально. Если здоровье
существует в природе, то и болезнь также существует.
Здоровье в обществах, как и в индивидуальных
организмах, только идеальный тип, нигде не осуществленный
целиком. Каждый здоровый индивид имеет более или Mf'Hee
многочисленные черты его; но никто не соединяет ι χ в
себе все. И вполне достойная цель — стараться прш ли-
зить, насколько можно, общество к этой степени
совершенства.
С другой стороны, дорога для достижения этой цели
может быть сокращена. Если, вместо того чтобы
предоставлять на произвол случая причинам производить их
следствия сообразно направляющим их силам,
вмешивается рефлексия и управляет их движением, то она может
предохранить людей от многих болезненных проб.
Развитие индивида воспроизводит развитие вида только
сокращенно; оно не проходит всех тех фаз, через которые
проходит вид. Одни оно совсем пропускает, другие проходит
быстрее, потому что родовой опыт позволяет ему
ускорить свой. Но рефлексия может производить
аналогичные результаты, ибо она также представляет собой ис-
зации, т. е. приращение социальной массы и плотности;
необходимый ли он продукт действующих причин или же средство,
придуманное для желаемой цели и предвидимого большего блага. Мы
ограничиваемся только установлением этого закона тяготения в
социальном мире, не идя далее. Однако кажется, что тут, как и в
других случаях, нет необходимости в телеологическом объяснении.
Перегородки, отделяющие различные части общества, все более
и более исчезают в силу самой природы вещей, в силу
своеобразного естественного износа, действие которого, впрочем, может быть
усилено действием насильственных причин. Движения населения
становятся, таким образом, многочисленнее и быстрее и
прокладывают себе пути прохода, по которым совершаются эти движения:
это пути сообщения. Они особенно активны в местах, где
скрещиваются многие из этих путей: это города. Таким образом,
увеличиваете.*- социальная плотное! ь. Что касается роста объема, то он
происходит от причин того же рода. Разделяющие народы
перегородки подобны тем, которые разделяют различные ячейки одного
и того же общества, и исчезают таким же образом.
317
пользование предыдущего опыта с целью ускорения
будущего опыта. Впрочем, под рефлексией не следует
понимать исключительно научное сознание цели и средств.
Социология в теперешнем своем состоянии мало может
помочь нам в разрешении этих практических проблем. Но
кроме ясных представлений, в кругу которых живет
ученый, есть темные представления, с которыми связаны
стремления. Чтобы потребность стимулировала волю, нет
необходимости, чтобы она была освещена наукой.
Беспорядочных проб достаточно, чтобы научить людей, что
им недостает чего-то, чтобы пробудить стремления и дать
в то же время почувствовать, в каком направлении они
должны приложить свои усилия.
Таким образом, механистическая концепция общества
не исключает идеала, и напрасно упрекают ее в том, что
она делает из людей бездеятельных свидетелей их
собственной истории. В самом деле, что такое идеал, как не
предвосхищаемое представление о желаемом результате,
реализация которого возможна только благодаря самому
этому предвосхищению? Из того, что все делается
согласно законам, не следует, что нам делать нечего. Может
быть, найдут такую цель мизерной, так как в общем дело
идет лишь о том, чтобы дать нам жить в состоянии
здоровья. Но это значит забыть, что для культурного
человека здоровье состоит в регулярном удовлетворении
самых возвышенных потребностей, как и других, ибо
первые не менее, чем вторые, укоренились в его природе.
Правда, такой идеал близок, и ^открываемые им
горизонты не имеют ничего беспредельного. Он ни в коем случае
не может состоять в том, чтобы безмерно экзальтировать
силы общества, но только в том, чтобы развивать их в
пределах, указанных определенным состоянием социальной
среды. Всякое излишество — зло, как и всякая
недостаточность. Но какой другой идеал можно перед собой
поставить? Стараться реализовать цивилизацию, более
высокую, чем та, которую требует природа окружающих
условий, значит хотеть обострить болезнь в том самом
обществе, часть которого составляешь; ибо невозможно
перевозбудить коллективную деятельность сверх
пределов, указанных состоянием социального организма, не
рискуя его здоровьем. И действительно, во всякую эпоху
существует некоторая утонченность цивилизации, о
болезненном состоянии которой свидетельствуют
сопровождающие ее всегда беспокойство и тревога. Но болезнь
никогда не содержит в себе ничего желательного.
318
Однако если идеал всегда определяется, то он никогда
не определяется окончательно. Так как прогресс есть
следствие изменений, совершающихся в социальной
среде, то нет никакого основания полагать, что он
когда-нибудь кончится. Для этого необходимо было бы, чтоб в
известный момент среда стала неизменной. Но такая
гипотеза вряд ли допустима. Пока будут существовать
различные общества, число социальных единиц по
необходимости будет изменчивым в каждом из них. Предполагая
даже, что число рождений начнет когда-нибудь
держаться на постоянном уровне, всегда будут существовать
передвижения населения из страны в страну, вследствие
насильственных ли завоеваний или вследствие медленных и
тихих инфильтраций. Невозможно, действительно, чтобы
наиболее сильные народы не пытались инкорпорировать
более слабые; это — механический закон социального
равновесия, не менее непреложный, чем тот, который
управляет равновесием жидкостей. Чтобы было иначе,
нужно было бы, чтоб все человеческие общества имели
одинаковую жизненную энергию и плотность, что
неосуществимо хотя бы в силу разнообразия мест обитания.
Правда, этот источник изменений иссяк бы, если бы
человечество в целом составляло одно и то же общество.
Но помимо того, что мы не знаем, осуществим ли такой
идеал, нужно было бы еще, чтобы внутри этого
гигантского общества отношения между социальными
единицами были также закрыты для всяких изменений. Нужно
было бы, чтобы они постоянно были распределены
одинаковым образом; чтобы не только целый агрегат, но и
каждый из изолированных агрегатов, из которых оп бы
состоял, сохранял те же размеры. Но такое однообразие
невозможно уже потому, что эти частные группы не
имеют ни одинакового объема, ни одинаковой жизненной
силы. Население не может быть сконцентрировано
одинаковым образом во всех местах; самые крупные центры,
те, где жизнь наиболее интенсивна, неизбежно оказывают
на другие притяжепие, пропорциональное их значению.
Происходящая таким образом миграция имеет
следствием большую концентрацию социальных единиц в
определенных областях и, следовательно, новый прогресс,
понемногу иррадиирующий из очагов своего возникновения
на остальную часть страны. С другой стороны, эти
изменения влекут за собой другие в путях сообщения,
которые, в свою очередь, вызывают еще другие, так что
невозможно сказать, где прекращаются эти отражения.
319
В действительности общества по мере своего развития не
только не приближаются к неподвижному состоянию, но,
наоборот, становятся более подвижными и пластичными.
Если тем не менее Спепсер мог допустить, что
социальная эволюция имеет предел, который не может быть
преодолен 9, то потому, что, согласно его взглядам,
прогресс не имеет другого основания, кроме приспособления
индивида к окружающей его космической среде. Для
этого философа совершенствование состоит в росте
индивидуальной жизни, т. е. в более полном соответствии
организма с его физическими условиями. Что касается
общества, то оно скорее одно из средств, с помощью которых
устанавливается это соответствие, чем субъект особого
соответствия. Так как индивид — не один на свете, а
окружен соперниками, оспаривающими у него его средства к
существованию, то он заинтересован в установлении таких
отношений между собой и себе подобными, чтобы
последние не препятствовали, а служили ему. Так возникает
общество, и весь социальный прогресс состоит в улучшении
этих отношений таким образом, чтобы заставить их
полнее производить результат, для которого они были
установлены. Таким образом, несмотря на биологические
аналогии, на которых Спенсер так настаивал, он не видит в
обществе собственно реальности, которая существует сама
по себе, в силу специфических и необходимых причин,
которая, следовательно, навязывается человеку вместе со
своими собственными свойствами и к которой он должен
приспособляться точно так же, как к физической среде.
Это устройство, созданное индивидами, чтобы
распространить индивидуальную жизнь в длину и ширину10. Оно
целиком состоит в кооперации, как положительной, так и
отрицательной, и обе не имеют другой цели, кроме
приспособления индивида ic^ero физической среде.
Несомненно, в таком понимании оно — вторичное условие этого
приспособления; оно может, смотря по способу, каким оно
организовано, приблизить человека или отдалить его от
состояния совершенного равновесия, но само оно не есть
фактор, способствующий определению природы этого
равновесия. С другой стороны, так как космическая среда
отличается относительным постоянством, так как
изменения в ней медленны и редки, то развитие, имеющее целью
гармонизировать наши отношения с ней, необходимо ог-
9 Premiers principes, p. 454 etc.
10 Bases de la morale évolutionniste, p. 11.
320
раниченно. Неизбежно наступает момент, когда нет более
внешних отношений, которым бы не соответствовали
внутренние отношения. Тогда социальный прогресс не
сможет не остановиться, так как он придет к цели, к
которой стремился и которая была его основанием: он
кончится.
Но в этих условиях становится необъяснимым сам
прогресс индивида.
Действительно, почему стремится он к этому более
совершенному соответствию с физической средой? Чтобы
быть счастливее? Мы уже высказались па этот счет.
Нельзя сказать о соответствии, что оно полнее, чем
другое, только потому, что оно сложнее. В самом деле, об
организме говорят, что он в равновесии, когда он
отвечает известным образом не всем внешним силам, но только
тем, которые влияют на него. Если есть силы, которые его
не касаются, то они как бы не существуют для него,
и следовательно, к ним не приходится адаптироваться.
Какова бы ни была их материальная близость, они
находятся вне круга его адаптации, потому что он находится
вне сферы их действия. Значит, если субъект обладает
простым и однородным строением, то существуют весьма
немногие внешние обстоятельства, способные беспокоить
его, и следовательно, он будет в состоянии отвечать на
это беспокойство, т. е. осуществлять состояние
безусловного равповесия, с весьма незначительными издержками.
Если, наоборот, он очень сложен, то условия адаптации
будут многочисленнее и сложнее, но сама адаптация не
будет от этого полнее. Поскольку на нас действуют
многие возбудители, которые оставляли нечувствительной
грубую нервную систему человека былых времен, то мы
вынуждены для приспособления к ним прибегнуть к
более значительному развитию. Но продукт этого развития,
т. е. вытекающее из него приспособление, не совершеннее
в одном случае, чем в другом; оно только различно, так
как приспособляющиеся организмы сами различны.
Дикарь, кожный покров которого нечувствителен к
колебаниям температуры, так же хорошо приспособлен к ним,
как и цивилизованный человек, защищающийся от них с
помощью одежды.
Итак, если человек не зависит от изменчивой среды,
то непонятно, в силу чего мог бы он изменяться; поэтому
общество — не вторичный, но определяющий фактор
прогресса. Оно — реальность, которая столь же мало дело
наших рук, как и внешний мир. Мы, стало быть, должпы
11 Э. Дюркгейм
321
приноровиться к ней, чтобы существовать, и именно
потому, что изменяется она, должны изменяться и мы.
Следовательно, для прекращения прогресса необходимо,
чтобы настал момент, когда социальная среда достигла бы
неподвижного состояния, а мы только что видели, что
такая гипотеза противоречит всем научным
предположениям.
Таким образом, механистическая теория прогресса не
только не лишает нас идеала, но позволяет нам думать,
что мы никогда не будем лишены его. Именно потому,
что идеал зависит от социальной среды, которая по
существу подвижна, он непрерывно изменяется. Поэтому пет
основания опасаться, что когда-нибудь у нас не будет
почвы, что наша деятельность придет к концу и
столкнется с закрывающимся горизонтом. Хотя мы преследуем
только определенные и ограниченные цели, всегда между
крайними точками, до которых мы доходим, и целью,
к которой мы стремимся, будет пустое, открытое для
наших усилий пространство.
III
Вместе с обществами видоизменяются и индивиды
вследствие изменений, происходящих в числе социальных
единиц и в их отношениях.
Во-первых, они все более освобождаются от гнета
организма. Животное находится почти исключительно в
зависимости от физической среды; его биологическое
строение предопределяет его существование. Человек,
наоборот, зависит от социальных причин. Конечно, животные
также образуют общества; но, так как они весьма малы,
то коллективная жизнь в них очень проста; она в то же
время и неподвижна, так как равновесие таких малых
обществ непременно устойчиво. По двум этим причинам
она легко закрепляется в организме; она не только
имеет в нем свои корни, по целиком воплощается в нем,
так что теряет свои собственные черты. Она
функционирует благодаря системе инстинктов, рефлексов, не
отличающихся, по существу, от тех, которые обеспечивают
функционирование органической жизни. Они содержат,
правда, ту особенность, что приспособляют индивида к
социальной среде, а не к физической; их причины —
явления совместной жизни. Однако они по своей природе
те же, что в известных случаях без предварительного
воспитания вызывают движения, необходимые для полета
В ходьбы. Совсем иное видим мы у человека, потому что
322
образуемые им общества обширнее; даже самые малые
из известных человеческих обществ превосходят по
величине большинство обществ животных. Будучи более
сложными, они также более изменчивы, и благодаря
обеим этим причинам социальная жизнь в человечестве не
закрепляется в биологической форме. Даже там, где она
наиболее проста, она сохраняет свою специфичность.
Постоянно существуют верования и обычаи, которые
являются общими для людей, не будучи начертанными в их
тканях. Но эта черта проявляется резче по мере
приращения социального вещества и плотности. Чем больше
ассоциировавшихся лиц и чем сильнее они воздействуют
друг на друга, тем более также продукт этих
воздействий выходит из пределов организма. Человек, таким
образом, оказывается во власти причин sui generis,
относительная доля которых в устройстве человеческой
природы становится все значительней.
Более того, влияние этого фактора увеличивается не
только относительно, но и абсолютно. Та же причина,
которая увеличивает значение коллективной среды, влияет
па органическую среду так, что делает ее более
доступной действию социальных причин и подчиняет ее им.
Так как больше индивидов живут вместе, то общая жизнь
богаче и разнообразнее; но, чтобы это разнообразие было
возможно, необходима меньшая определенность
органического типа, с тем чтобы он был в состоянии
разветвляться. Мы видели, в самом деле, что стремления и
способности, передаваемые по наследству, становятся все более
общими и неопределенными, и следовательно, не
подверженными принятию формы инстинктов. Таким образом,
происходит явление, как раз обратное тому, которое
наблюдается в начале эволюции. У животных организм
ассимилирует социальные факты и, лишая их особой
природы, превращает в факты биологические. Социальная
жизнь материализируется. В человечестве, наоборот
(особенно в высших обществах), социальные причины
замещают органические. Организм спиритуализируется.
Вследствие этого изменения формы зависимости
индивид преобразуется. Так как та деятельность, которая
перевозбуждает специфическое действие социальных
причин, не может закрепиться в организме, то к телесной
жизни присоединяется новая жизнь, также sui generis.
Черты, отличающие эту более сложную, более свободную,
более независимую от поддерживающих ее органов
жизнь, проявляются все резче по мере того, как она про-
323
11*
грсссйрует и укрепляется. По этому опиоапйю можно
узнать существенные черты психической жизни. Без
сомнения, было бы преувеличением утверждать, что
психическая жизнь начинается только вместе с обществами,
но верно и то, что она становится значительной только
тогда, когда общества развиваются. Вот почему, как это
часто замечали, прогресс сознания находится в обратном
отношении к прогрессу иистипкта. Что бы об этом ни
говорили, не первое разлагает последний; ипстипкт,
продукт накопленных в течение поколений опытов, обладает
слишком большою силою сопротивлепия, чтобы перестать
существовать только потому, что он становится
сознательным. Истина в том, что сознание захватывает лишь
те области, которые покинул инстинкт, или те, где он
не может установиться. Не оно заставляет отступать его;
оно только заполняет оставленное им свободное
пространство. С другой стороны, если он регрессирует, вместо того
чтобы увеличиваться с увеличением общей жизни, то
причина этого лежит в большей важности социального
фактора. Таким образом, важное различие между человеком и
животным, а именно большее развитие психической
деятельности, сводится к его большей социальности. Чтобы
понять, почему психические функции с первых шагов
человека были подпяты па неизвестную животным степень
совершенства, надо было бы сперва узнать, каким
образом случилось, что люди, вместо того чтобы жить
одиноко или небольшими группами, стали образовывать
более обширные общества. Если, повторяя классическое
определение, человек — разумное животное, то потому,
что он общественное животпое или, по крайней мере,
бесконечно более общественное, чем другие животные и.
Но это не все. Пока общества не достигают
определенных размеров и определенной степени концентрации,
единственная истинпо развитая психическая жизнь — это
та, которая присуща всем членам группы, которая у всех
одинакова. По мере того как общества становятся обшир-
пее и особенно плотнее, возникает психическая жизнь
нового рода. Индивидуальные различия, сначала
затерянные и слившиеся в массе социальных сходств,
выделяются из нее, становятся рельефнее. Масса явлений,
остававшихся вне сознаний, так как они не затрагивали коллек-
11 Определение Катрфажа, делающее из человека религиозное
животное, есть частный случай предыдущего, ибо религиозность
человека следствие его высокой социальности. См. выше с. 161
и след.
324
тивного существа, становятся объектами представлений.
В то время как прежде индивиды действовали только
увлекаемые друг другом, кроме случаев, когда их
поведение вызывалось физическими потребностями, теперь
всякий из пих становится источником самопроизвольной
деятельности. Образуются отдельные личности, которые
начинают сознавать себя, и однако, это приращение
индивидуальной психической жизни не ослабляет
социальную, а только преобразует ее. Она становится свободнее,
обширнее, и так как в конце концов она не имеет
другого субстрата, кроме индивидуальных сознаний, то
последние в силу этого увеличиваются, становятся более
сложными и гибкими.
Таким образом, та же причина, которая вызвала
различия, отделяющие человека от животных, принудила его
возвыситься над самим собой. Все увеличивающееся
расстояние между дикарем и цивилизованным человеком не
имеет другого источника. Если из первоначального
смутного мира чувств выделилась мало-помалу способность
порождать идеи; если человек научился образовывать
понятия и формулировать законы; если его ум
охватывает все увеличивающиеся объемы пространства и времени;
если, не ограничиваясь сохранением прошлого, он все
больше посягает на будущее; если его эмоции и
стремления, сначала простые и малочисленные, так
умножились и разветвились, то все это потому, что социальная
среда непрерывно изменялась. Действительно, эти
изменения — если только опи не возникли из ничего — могли
иметь причинами только соответствующие изменения
окружающей среды. Но человек зависит только от
троякого рода среды: от организма, внешнего мира,
общества. Если игнорировать случайные изменения,
происходящие от наследственных комбинаций, а их роль в
прогрессе человечества, конечно, не очень значительна,
то организм не изменяется самопроизвольно; необходимо,
чтобы он был к этому принужден какой-нибудь внешней
причиной. Что касается физического мира, то с начала
истории он остается приблизительно тем же, если только
не принимать в расчет изменений социального
происхождения 12. Следовательно, остается только общество,
которое достаточно изменилось, чтобы этим можно было
объяснить параллельные изменения природы ипдивида.
■2 Изменения почвы, течения вод под влиянием земледельцев,
инженеров и т. д.
325
Итак, теперь пет ничего безрассудного в утверждении,
что, какие бы успехи ни сделала психофизиология, она
всегда сможет представлять собой только часть
психологии, так как большая часть психических явлений не
происходит от органических причин. Это поняли философы-
спиритуалисты, и великая услуга, оказапиая ими пауке,
состоит в борьбе со всеми доктринами, сводящими
психическую жизпь к некоему расцвету физической жизни.
Они весьма справедливо думали, что первая в своих
высших проявлениях слишком свободпа и сложпа, чтобы
быть только продолжением последней. Только из того,
что она отчасти независима от организма, не следует
вовсе, что она не зависит ни от какой материальной
причины и что ее должно поместить вне природы. Все те
факты, объяснения которых нельзя найти в строении
ткапей, происходят от свойств социальной среды; по
крайней мере, это гипотеза, имеющая на основании
предыдущего весьма большое правдоподобие. Но социальное
царство не менее естественно, чем органическое.
Следовательно, из того, что есть обширная область сознания,
генезис которой не объясним одной только
психофизиологией, не надо заключать, что оно образовалось само по
себе и что оно не подвластно никакому научному
исследованию, но только, что оно относится к другой
положительной науке, которую можно было бы назвать
социопсихологией. Составляющие ее содержание явления
действительно смешанной природы; они имеют те же
существенные черты, что и другие психические факты,
по происходят от социальных причин.
Ile следует, стало быть, подобно Спенсору,
представлять социальную жизпь как простую равнодействующую
индивидуальных существ; наоборот, скорее последние
вытекают из первой. Социальные факты не представляют
собой простого продолжения психических фактов;
последние главным образом не что иное, как продолжение
первых внутри сознаний. Это положение весьма важно, так
как противоположная точка зрения постоянно
подвергает социолога риску принять причину за следствие, и па-
оборот. Например, если (как это часто случается) в
организации семьи видят логически необходимое
выражение человеческих чувств, внутренне присущих всякому
сознанию, то опрокидывают реальный порядок фактов;
как раз наоборот: социальная организация отношений
родства вызвала чувства родителей и детей. Они были
бы совсем иные, если бы социальная структура была
326
иной, и доказательством этого служит то, что
действительно отцовское чувство неизвестно во многих
обществах 13. Можно было бы привести мною других примеров
подобной же ошибкии. Бесспорна та истина, что пет
ничего в социальной жизни, чего не было бы в
индивидуальных сознаниях; но почти все, что в них находится,
взято ими у общества. Большая часть наших состояний
сознания не появилась бы у изолированных существ и
проявилась бы совсем иначе у существ,
сгруппированных ииым образом. Значит, опи вытекают не из
психологической природы человека вообще, по из способа,
каким ассоциировавшиеся люди воздействуют друг па
друга, сообразно их количеству и степени сближения.
Так как они продукты групповой жизни, то только
природа группы может объяснить их. Само собою
разумеется, что они не были бы возможны, если бы
индивидуальные строения пе были годны для этого; по последние —
только отдаленные условия их, а не определяющие при-
чипы. Спенсер сравнивает в одном месте ,5 работу
социолога с вычислением математика, который из формы
известного числа ядер выводит способ, каким они должны
комбинироваться, чтобы удерживаться в равновесии.
Сравнение это неточно и неприложимо к социальным
фактам. Здесь скорее форма целого определяет форму
частей. Общество не находит в созпаниях вполпе
готовыми основания, па которых оно покоится; оно само
создает их себе 1в.
13 Это имеет место в обществах, где господствует материнская
семья.
14 Приведем только один пример - религию, которую
объясняли из иидивидуальрых эмоций, между тем как эти эмоции только
продолжение у индивида социальных состоянии, порождающих
религии. Мы затрону пи этот вопрос в статье «Études de science
sociale» (Revue philosophique, juin 1886).
15 Introduction à la science sociale, ch. I.
18 lia наш взгляд, этого довольно, чтобы ответить людям,
надеющимся доказать, что все в социальной жизни индивидуально,
так как общество состоит только из индивидов. Бесспорпо, опо не
имеет другого субстрата; по, поскольку индивиды образуют
общество, возникают новые явления, которые имеют причиной
ассоциацию и которые, реагируя на индивидуальные сознания, в большой
мере формируют их. Вот почему - хотя общество ничто боз
индивидов - каждый из последних - скорее продукт общества, чем его
автор.
КНИГА
III
Анормальные формы
»
Глава I
До сих пор мы изучали^разделение труда только как
нормальное явление. Но, подооно всей иицыальным или,
шире, всем биологич<^кш£^^
ческие фРтлпя^Убторые^ необходимо п£оанализировать.
Етгли в 1Тбрмальном состоянии разделение "Труда" 1йтлжз-~
водит социальную солидарность, то случается, однако,
что оно имеет совсем отличпые от этого или даже
противоположные результаты. Важно исследовать, что застав-
jTTTnr_prn пткттппптъгя таким~fi^anftÎi^^
го направления^ ибо, пока не установлено, что эти
случаи носяТ^ТГОшТкучительный характер, можно было бы
заподозрить, что их требует сама логика разделения
труда. Кроме того, изучение отклоняющихся форм
позволяет нам лучше определить условия существования
нормального состояния. Когда мы узнаем обстоятельства,
при которых разделение труда перестает порождать
солидарность, мы будем лучше знать, что необходимо ему
для полного проявления своего действия. Патология
здесь, как и повсюду,— ценный помощник физиологии.
Можно было бы пытаться поместить среди
неправильных форм разделения труда профессию преступника и
другие вредные профессии. Они представляют собой само
отрицание солидарности и в то же время — специальные
виды деятельности. Но, выражаясь точно, здесь нет
разделения труда, а одна только простая, чистая
дифференциация; оба эти термина не следует смешивать. Так,
туберкулез, рак увеличивают разнообразие органических
тканей, однако невозможно видеть в пих новой
специализации биологических функций *. Во всех таких случаях
1 Этого различия не делает Спенсер; для него, кажется, оба
термина - синонимы. Однако дезинтегрирующая дифференциация (рак,
микроб, преступник) сильно отличается от той, которая
концентрирует жизненные силы (разделение труда).
m
пет разделейия общей функций; внутри организма —
индивидуального или социального — образуется другой,
который старается жить за счет первого. Здесь даже
совсем нет функции, ибо какой-нибудь образ действия
заслуживает этого имени только тогда, когда он сотрудни
чает с другими в поддержании общей жизни. Этот вопрос,
стало быть, пе входит в рамки нашего исследования.
Мы сведем к трем типам исключительные формы
изучаемого нами явления. Это не значит, что оно не имеет
других патологических форм; но те, о которых мы будем
говорить, самые важные и самые распространенные.
I
С первым случаем этого рода мы сталкиваемся в
промышленных или торговых кризисах, в банкротствах,
являющихся частичными нарушениями органической
солидарности. В самом деле, они свидетельствуют, что в
определенных частях организма некоторые общественные
функции не приспособлены друг к другу. Но, по мере
того как труд все более разделяется, эти явления,
по-видимому, встречаются чаще, по крайней мере в некоторых
случаях. С 1845 по 1869 г. банкротства во Франции
увеличились на 70% 2. Невозможно приписывать этот факт
расширению экономической жизни, так как предприятия
скорее концентрировались, чем умножались.
Антагонизм труда и капитала — другой, еще более
яркий пример того же явления. По мере того как все
больше специализируются промышленные занятия,
вместо возрастания солидарности замечается обострение
борьбы. В средние века работник повсюду живет вместе
с хозяином, деля с ним труд «в той же лавке, за тем же
станком» 3. Оба составляли часть одной и той же
корпорации и вели одинаковое существование. «И тот и
другой были почти равпы; кто прошел ученье, мог, по
крайней мере, во многих ремеслах устроиться самостоятельно,
если он имел необходимые для этого средства» 4. Таким
образом, столкновения были абсолютным исключением.
Начиная с XV в. положение вещей стало изменяться.
«Цех более не общее убежище,— это исключительная
собственность хозяев, которые сами вершат там все
дела... С тех пор устанавливается глубокая демаркациоп-
2 См.: Block. Statistique de la France.
3 Levasseur. Les classes.' ouvrières en France jusqu'à la
Révolution, II, p. 315.
4 Ibid., I, p. 496.
329
пая черта между мастерами и подмастерьями. Последние
образовали особое сословие; они имели свои привычки,
свои правила, свои независимые ассоциации» 5. Когда
произошло это отделение, столкновений стало много.
«Как только подмастерья сочли, что имеют основание
быть недовольными, они устраивали стачку или
поражали отлучением город, патрона, и все обязаны были
подчиниться решению... Сила ассоциации дала рабочим
возможность бороться равным оружием против своих
патронов» 6. Однако положение вещей было тогда далеко от
«того, какое мы видим теперь. Подмастерья восставали,
чтобы получить большую плату или какое-нибудь другое
изменение в условиях труда, но они не считали
патрона вечным врагом, которому повинуются по
принуждению. Хотели заставить его уступить в одном пункте и
этого энергично добивались, но борьба не была
постоянной; мастерские не заключали в себе двух враждебных
рас: наши социалистические идеи были неизвестны» 7.
Наконец, в XVII в. начинается третья фаза этой
истории рабочих классов: появление крупной
промышленности. Рабочий вполне отделяется от патропа. «Он в
некотором роде завербован. Каждый имеет свое занятие,
и система разделения труда несколько прогрессирует.
В мануфактуре Ван-Робе, в которой было занято 1692
рабочих, были особые мастерские для колесного, ножевого
мастерства, для стирки, крашения, набирания основы,
и даже сами ткацкие мастерские заключали в себе
несколько видов рабочих, труд которых был совершенно
различен» 8. Параллельно с возрастанием специализации
учащаются бунты. «Малейшего повода к неудовольствию
было достаточно, чтобы навлечь на какой-нибудь дом
отлучение, и горе подмастерью, который бы ослушался
решения общшш» 9. Достаточно хорошо известно, что с
тех пор борьба только обострялась.
Мы увидим, правда, в следующей главе, что эта
натянутость социальных отношений отчасти происходит
оттого, что рабочие классы не согласпы с созданными для
них условиями, но слишком часто принимают их
вынужденно, не имея средств завоевать себе другие. Однако
одно это принуждение пе может объяснить разбираемого
5 Ibid.
0 Ibid., p. 504.
7 Hubert Valleroux. Les corporations d'arts et de métiers, p. 49.
8 Levasseur. Op. cit., Il, p. 315.
9 Ibid., p. 319.
330
явления. В самом деле, оно давит с одинаковой тяжестью
на всех, обделенных судьбой, и, однако, это состояние
постоянной вражды свойственно только промышленному
миру. Кроме того, внутри этого мира оно одно и то же
для всех рабочих. Но мелкая промышленность, где труд
менее разделен, представляет зрелище относительной
гармонии между хозяином и рабочим10; только в
крупной промышленности так остры эти междоусобицы.
Значит, отчасти опи зависят от другой причины.
В истории наук часто отмечалась другая
иллюстрация того же явления. Вплоть до довольно позднего
времени наука, не будучи очень разделена, могла почти
вся быть предметом занятий одного человека. Поэтому
ощущение ее единства было весьма живо. Частные
истины, составлявшие ее, не были ни так. многочисленны, пи
так разнородны, чтоб нельзя было без труда заметить
связь, соединявшую их в одну систему. Методы, будучи
весьма общими, мало различались друг от друга, и
легко можно было заметить общий ствол, начиная у
которого они незаметно расходились. Но, по мере того как
специализация завладела научным трудом, каждый ученый
стал все более замыкаться, не только в частной науке,
по в особой категории проблем. Уже О. Конт
жаловался, что в его время в ученом мире «весьма мало людей,
охватывающих в своих концепциях всю совокупность
хоть одной науки, представляющей, однако, в свою
очередь, только часть великого целого. Большинство,—
говорит он,— уже целиком ограничивается
изолированным изучением более или менее обширного раздела
какой-нибудь науки, не особенно интересуясь отношением
этих частных работ к общей системе позитивного
знания» и. Но в этом случае наука, разорванная на
множество детальных, не соединенных между собой
исследований, пе образует уже единого целого. Что, может
быть, лучше всего демонстрирует это отсутствие
согласия и единства, так это столь распространенная теория,
будто каждая частная наука имеет абсолютную ценность
и будто ученый должен предаваться специальным
исследованиям, не интересуясь тем, служат ли они
чему-нибудь и тяготеют ли куда-нибудь. «Это разделение
интеллектуального труда,— говорит Шеффле,— дает серьез-
10 См.: Cauwès. Précis d'économie politique, II, p. 39.
11 Cours de philosophie positive, I, p. 27.
331
пые основания опасаться, чтобы указанное возвращение
нового алексапдризма снова не привело к крушению
всякой науки» 12.
II
Серьезное значение указанным фактам придает то, что в
них иногда видят необходимое следствие разделения
труда, как только оно перешло известную степень развития.
Утверждают, что в этом случае индивид, поглощенный
своим занятием, перестает глядеть за пределы той
маленькой сферы, где он действует. Оп изолируется в
своей специальной деятельности; он не замечает более
сотрудников, занятых рядом с ним тем же делом; он даже
совсем не имеет представления об этом общем деле.
Разделение труда, стало быть, не может быть проведено
слишком далеко, пе становясь источником
дезинтеграции. «Так как всякое разложение,— говорит О. Коит,-
неизбежно стремится вызвать соответствующее
рассеяние, то основное распределение человеческих работ но
может не вызвать в пропорциональной степени
индивидуальных расхождений, как интеллектуальных, так н
моральных, совместное влияние которых требует в той
же мере постоянной дисциплины, способной
предупреждать или непрестанпо сдерживать их несогласованное
движение. В самом деле, если, с одной стороны,
отделение социальных функций дает сильное, не достижимое
никаким иным образом развитие духу частностей, то,
с другой стороны, оно самопроизвольно стремится
подавить дух общего или, по крайней мере, сильно
воспрепятствовать ему. Подобным образом с моральной точки
зрения каждый оказывается в тесной зависимости от массы
и в то же время естественно отталкивается от пее
собственным движением своей специальной деятельности,
постоянно призывающей его к его частному интересу,
настоящее отношение которого к общественному интересу
он замечает только смутно... Таким образом, тот же
самый принцип, который один только дал возможность
развитию и расширению общества, угрожает, с другой
стороны, разложить его на массу несвязанных
корпораций, которые кажутся принадлежащими почти к
различным видам» ,3. Эспииас выражается почти в тех же
словах: «Разделение,— говорит он,— это рассеяние» 14.
12 Bau und Leben des socialen Körpers, IV, S. ИЗ.
13 Cours, IV, p. 429.
14 Sociétés animales, заключение, IV.
332
Итак, разделение труда оказывает в силу самой
своей природы разлагающее действие, которое особенно
заметно там, где функции весьма специализированны.
Коит, однако, не заключил из своего принципа, что
должно возвратить общества к тому, что он сам называет
веком общности, т. е. к тому состоянию неразличимости и
однородности, которое было их отправной точкой.
Разнообразие функций полезно и необходимо; но так как
единство, которое не менее необходимо, не появляется из
него стихийно, то забота об осуществлении и сохранении
его должна составить в общественном организме
специальную функцию, представляемую независимым органом.
Этот орган — государство или правительство.
«Общественное назначение правительства,— говорит Конт,— мне
кажется, состоит главным образом в том, чтобы
сдерживать и предупреждать, насколько возможно, эту
фатальную наклонность к фундаментальному рассеянию идей,
чувств, интересов,— неизбежный результат самого
принципа человеческого развития, которое, если оно сможет
беспрепятственно следовать своему естественному
движению, неизбежно в конце концов остановит социальный
прогресс во всех важных отношениях. Эта концепция
составляет, в моих глазах, первую положительную и
рациональную основу элементарной и абстрактной теории
собственно правительства, рассматриваемого в его
благороднейшем и полнейшем научном значении, т. е. как
характеризуемого, вообще, универсальной необходимой
реакцией, вначале стихийной, а затем отрегулированной
реакцией целого на части. Очевидно действительно, что
единственное реальное средство помешать полному рассеянию
состоит в том, чтобы сделать из этой неизбежной
реакции новую специальную функцию, способную
подобающим образом вмешиваться в обычное исполнение всех
различных функций общественной экономии, чтобы
непрерывно будить мысль о целом и чувство общей
солидарности» 15.
То, что государство представляет собой для общества
в целом, тем философия должна быть для науки. Так
как разнообразие наук стремится разрушить единство
знания, то необходимо возложить на новую науку
обязанность восстановить его. Поскольку исследование
подробностей заставляет нас терять из виду человеческое
познание в целом, то необходимо установить особую си-
15 Cours de philosophie positive, IV, p. 430-431.
333
стему исследований, чтобы найти это целое и сделать его
ощутимым. Другими словами, «из изучения научных
обобщений нужно сделать еще одну большую
специальность. Пусть новый класс ученых, подготовленных для
этого подходящим воспитанием, не занимаясь
специальными исследованиями какой-нибудь частной ветви
естественной философии, занимается только (рассматривая
различные положительные науки в теперешнем их
состоянии) тем, чтобы точно определить дух каждой из
них, чтобы найти все отношения и связи, чтобы
резюмировать, если возможно, все их отдельные принципы в
самом незначительном числе общих принципов.., и
разделение труда в науках сможет продвигаться без всякой
опасности настолько далеко, насколько этого потребует
развитие различных видов знания» 16.
Мы сами показали, что правительственный орган
развивается вместе с разделением труда, развивается не для
того, чтобы составить ему противовес, но в силу
механической необходимости17. Поскольку там, где функции
основательно разделены, органы тесно взаимосвязаны, то
все, что затрагивает один орган, затрагивает и другие,
и социальные факты легче приобретают общий интерес.
В то же время в силу исчезновения сегментарного типа
они легче распространяются на всем пространстве одной
и той же ткани или одного органа. Благодаря этому
имеется больше фактов, прямо отражающихся в
управляющем органе, функциональная деятельность которого
от более частого применения увеличивается, равно как и
объем его. Но его сфера деятельности не простирается
дальше.
Но под этой общей и поверхностной жизнью есть
внутренняя — мир органов, которые, не будучи вполне
независимыми от первого, функционируют, однако, без
его вмешательства, не доходя даже до его сознания, но
крайней мере в нормальном состоянии. Они избавлены
от его воздействия, так как он слишком далек от них.
Правительство не может каждое мгновение регулировать
условия различных экономических рынков, не может
определять цены вещей и услуг или устанавливать
производство пропорционально нуждам потребления и т. д.
16 Это сравнение правительства и философии не представляет
ничего удивительного; на взгляд Конта, эти два института
неотделимы друг от друга. Правительство в его понимании возможно
только в том случае, если уже установлена позитивная философия.
17 См. выше кн. I, гл. VII, § III.
334
ßcö эти практические проблемы содержат массу деталей,
связаны с тысячами частных обстоятельств, которые
известны только находящимся совсем близко к ним лицам.
Тем более правительство не может приспособить эти
функции друг к другу и заставить их сотрудничать
гармонически, если они не сотрудничают сами по себе.
Значит, если разделение труда оказывает приписываемое
ему рассеивающее действие, то оно должно без
сопротивления развиваться в этой части общества, так как
никакое препятствие не может здесь сдержать его. Однако
единство организованных обществ, как и всякого
организма, создается самопроизвольным консенсусом частей,
это та внутренняя солидарность, которая не менее
необходима, чем регулирующее действие высших цептров,
и которая представляет даже его необходимое условие;
ибо они только переводят ее на другой язык и, так
сказать, освящают ее. Так, мозг не создает единство
организма, он выражает и венчает его. Говорят о
необходимости воздействия целого на части; но нужно
предварительно, чтобы это целое существовало, т. е. части
должны быть уже солидарны между собой, чтобы целое
стало сознавать себя и воздействовало как таковое. Мы,
стало быть, должны были бы видеть, что по мере
разделения труда происходит своего рода прогрессивное
разложение не в таких-то и таких-то пунктах, но на всем
пространстве общества, между тем как в
действительности мы наблюдаем все увеличивающуюся концентрацию.
Но, скажут, нет необходимости входить во все эти
подробности. Достаточно напоминать повсюду, где это
необходимо, «дух целого и чувство общей солидарности»,
а это может делать только правительство. Это верно, но
такое воздействие носит слишком общий характер, чтоб
оно могло обеспечить сотрудничество социальных
функций, если оно не осуществляется само собой. О чем
действительно идет речь? О том, чтобы дать почувствовать
каждому индивиду, что он не самодовлеющее целое,
а составляет часть целого, от которого зависит? Но такое
представление, абстрактное, неясное и непостоянное, как
все сложные представления, не имеет никакой силы в
сравнении с живыми, конкретными представлениями,
которые постоянно вызывает у каждого из нас его
профессиональная деятельность. Значит, если последняя имеет
приписываемые ей следствия, если занятия, заполняющие
нашу повседневную жизнь, стремятся оторвать нас от
социальной группы, к которой мы принадлежим, то пред-
335
ставлепие, пробуждающееся только по временам и
занимающее только незначительную часть поля сознания,
никогда не в состоянии будет удержать нас в этой
группе. Чтобы ощущение состояния зависимости, в котором
мы находимся, было плодотворно, необходимо, чтоб оно
было непрерывно, а быть таким оно может, только
будучи связано с самой деятельностью каждой специальной
функции. Но тогда специализация не производила бы тех
последствий, в которых ее обвиняют. Или, может,
правительственное действие будет иметь целью поддерживать
среди профессий некоторое моральное однообразие,
препятствовать тому, чтобы «социальные эмоции,
постепенно концентрируемые у индивидов одной и той же
профессии, не становились там все более чуждыми другим
классам за отсутствием достаточного сходства нравов и
мыслей?» 18. Но это однообразие не может сохраняться
силой и вопреки природе вещей. Функциональное
разнообразие влечет за собой моральное, которого ничто не
может предупредить; одно неизбежно возрастает вместе с
другим. Мы, впрочем, знаем, почему эти два явлепия
развиваются параллельно. Коллективные чувства все
более бессильны сдерживать центробежные тенденции,
которые, как думают, порождаются разделением труда;
ибо, с одной стороны, эти тенденции увеличиваются по
мере усиления разделения труда, а с другой — сами
коллективные чувства в то же время ослабевают.
По той же причине философия все более неспособна
обеспечивать единство науки. Пока один и тот же
человек мог одновременно заниматься различными
науками, возможно было приобрести знания, необходимые для
восстановления их единства. Но, по мере того как они
специализируются, эти громадные синтезы
превращаются лишь в скороспелые обобщения, так как становится
все более невозможно для одного человеческого ума иметь
достаточно точное знание бесчисленной массы явлений,
законов, гипотез, которую они (т. е. обобщения) должны
резюмировать. «Иптересно было бы узнать,—
справедливо говорит Рибо,— чем сможет быть философия как
общая концепция мира, когда частные науки, вследствие
возрастающей своей сложности, станут недоступными в
подробностях и философы должны будут ограничиваться
познанием наиболее общих результатов, познанием,
неизбежно поверхностным» 19.
18 Cours de philosophie positive, IV, p. 429.
19 Psychologie allemande, p. XXVII.
336
Конечно, есть некоторое оснойайие считать
чрезмерной надменность ученого, который, замкнувшись в своих
специальных исследованиях, отказывается от всякого
постороннего контроля. Однако верно и то, что для того,
чтобы иметь хоть какое-то представление о науке, нужно
практически заниматься ею и, так сказать, пережить ее.
На самом деле вся она не состоит из нескольких
окончательно доказанных положений. Наряду с этой
действительной и осуществившейся наукой есть другая,
конкретная и живая, которая отчасти еще сама себя не знает
и себя ищет. Наряду с достигнутыми результатами есть
надежды, привычки, инстинкты, потребности,
предчувствия, столь неясные, что нельзя их выразить словами,
и столь, однако, могущественные, что они иногда
господствуют над всей жизнью ученого. Все это тоже наука;
это даже лучшая и большая часть ее, ибо открытые
истины составляют незначительную часть тех, которые
еще остается открыть, а с другой стороны, чтобы понять
весь смысл первых и все, что в них сконденсировано,
нужно увидеть научную жизнь вблизи, когда она еще в
свободном состоянии, т. е. прежде чем она приняла
твердую форму определенных положений. Иначе будут
владеть ее буквой, а не духом. Всякая наука имеет,
так сказать, душу, которая живет в сознании ученых.
Только часть этой души облекается в плоть и осязаемые
формы. Выражающие ее формулы, будучи общими,
легко передаются. Но не так обстоит дело с другой частью
науки, не выраженной никаким внешним символом.
Здесь все лично и должно быть приобретено личным
опытом. Чтобы иметь тут свою долю, нужно приняться за
дело и обратиться непосредственно к фактам. По Конту,
для обеспечения единства науки достаточно, чтобы
методы были объединены 20; но именно методы труднее всего
привести к единству. Так как они внутренне присущи
самим наукам, так как невозможно полностью выделить
их из свода установленных истин, чтобы кодифицировать
их особо, то невозможно познать их, не имея с ними
практически дела. Но в настоящее время одному и тому
же человеку невозможно заниматься множеством наук.
Поэтому крупные обобщения могут основываться только
на довольно беглом обзоре явлений. Если, кроме того,
представить себе, как медленно и с какими терпеливыми
предосторожностями ученые обыкновенно приходят к
20 Op. cit., I, p. 45.
337
открытию даже самых частных истин, то попятпо будет1,
что эти как бы импровизированные дисциплины должны
иметь на них весьма слабое влияние.
Но какова бы пи была ценность этих философских
обобщений, паука не сможет найти в них необходимого
ей единства. Они выражают то, что есть общего между
науками, законами, частными методами, но наряду со
сходствами есть и несходства, которые остается
интегрировать. Часто говорят, что общее содержит в
потенциальном состоянии резюмируемые им частные факты,— но
это выражение неточно. Общее содержит только то, что
в них есть общего. Но в мире нет и двух явлений,
сходных между собой, как бы просты они пи были. Вот
почему всякое общее положение оставляет нетронутой
часть материала, который оно должно охватить.
Невозможно выразить конкретные черты и отличительные
свойства вещей в одпой безличной и однородной
формуле. Пока сходства превосходят различия, их достаточно,
чтобы интегрировать сближаемые таким " образом
представления; диссонансы деталей исчезают в гармонии
целого. Наоборот, по мере того как различия становятся
многочисленнее, связь становится неустойчивей, и
необходимо укрепить ее другими средствами. Представим
себе возрастающее многообразие специальных наук с их
теоремами, законами, аксиомами, предположениями,
методами — тогда мы поймем, что короткая и простая
формула, как, например, закон эволюции, не может
интегрировать столь поразительную массу сложных
явлений. Если даже эти общие точки зрения точно
применимы к действительности, то объясняемая ими часть ее
составляет весьма немного сравнительно с тем, что они
оставляют необъясненным. Значит, пе этим путем
удастся когда-нибудь вырвать положительные науки из их
изолированности. Между детальными исследованиями,
питающими их, и такими синтезами — расстояние
слишком велико. Связь, соединяющая эти два вида познания,
слишком тонка и слаба, и следовательно, если частные
науки могут осознать свое взаимное единство только
внутри заключающей их в себе философии, то чувство,
которое они будут иметь об этом единстве, будет всегда
слишком неясным, чтобы быть плодотворным.
Философия — это как бы коллективное сознание
науки, и здесь, как и повсюду, роль коллективного сознания
уменьшается с усилением разделения труда.
338
Ill
Хотя О. Конт заметил, что разделение труда — источник
солидарности, но он, по-видимому, не заметил, что это
солидарность sui generis, мало-помалу становящаяся на
место той, которую порождают социальные сходства. Вот
почему, замечая, что последние исчезли там, где
функции очень специализированны, он увидел в этом
исчезновении болезненное явление, угрозу для общественной
связи, вызванную чрезмерной специализацией. Таким
образом он объяснил факты некоординированности,
сопровождающие иногда развитие разделения труда. Но так
как мы установили, что ослабление коллективного
сознания — нормальное явление, то мы не можем
рассматривать его как причину изучаемых пами ненормальных
фактов. Если в некоторых случаях органическая
солидарность — не все то, чем она должна быть, то это, конечно,
не потому, что механическая солидарность потеряла
почву, но потому, что не реализовались еще все условия
существования первой.
Мы знаем в самом деле, что повсюду, где ее
наблюдают, встречают в то же время достаточно развитую
регламентацию, определяющую взаимные отношения
функций 21. Для существования органической солидарности
недостаточно, чтобы была система органов, необходимых
друг другу и ощущающих в целом свою солидарность.
Нужно еще, чтобы способ, которым они должны
сотрудничать, был определен заранее если не для всех
возможных случаев, то, по крайней мере, для наиболее
распространенных. Иначе приходилось бы постоянно прибегать
к непрестанной борьбе, чтобы органы могли приходить в
равновесие, ибо условия этого равновесия могут быть
найдены только беспорядочными попытками, в которых
каждая сторона видит в другой почти в той же мере
противника, как и сотрудника. Эти конфликты
повторялись бы без конца; следовательно, солидарность была бы
только в потенциальном состоянии, если бы приходилось
в каждом частном случае снова спорить о взаимных
обязанностях. Можно сказать, что существуют договоры. Но,
во-первых, не все общественные отношения способны
принять эту юридическую форму. Мы знаем, кроме того,
что договор недостаточен сам по себе, что он
предполагает регламентацию, которая расширяется и усложняется
2i См. кн. I, гл. VII.
339
вместе с самим существованием договоров. Притом связи,
имеющие это происхождение, всегда кратковременны.
Договор — это только перемирие, и довольно непрочное;
он прекращает враждебность только на время. Как бы
точна пи была регламентация, опа всегда оставит
свободное место для многих разногласий. Но не необходимо,
и даже невозможно, чтобы общественная жизнь
обходилась без борьбы. Роль солидарности — не уничтожение
конкуренции, но ее укрощение.
Впрочем, в нормальном состоянии эти правила сами
выделяются из разделения труда; они как бы
продолжение его. Конечно, если бы оно сближало только
индивидов, соединившихся на некоторое время с целью обмена
личными услугами, то оно не смогло бы породить
никакого регулирующего действия. Но оно сближает функции,
т. е. определенные способы действия, одинаково
повторяющиеся при данных обстоятельствах, так как они
зависят от общих и постоянных условий социальной
жизни. Отношения, завязывающиеся между этими
функциями, не могут, стало быть, не достичь той же
степени устойчивости и регулярности. Существуют
определенные способы воздействия друг на друга, которые,
оказавшись более сообразными с природой вещей,
повторяются чаще и становятся привычками; привычки затем,
по мере того как они становятся сильнее, превращаются
в правила поведения. Прошлое предопределяет будущее.
Другими словами, существует известный отдел прав и
обязанностей, устанавливаемый обычаем и
становящийся в конце концов обязательным. Правило, стало быть,
не создает состояние взаимной зависимости, в котором
находятся солидарные органы, но только выражает его
определенным и ясным образом в функции данной
ситуации. Точно так же нервная система не только не
господствует над эволюцией организма, как это думали
прежде, но, наоборот, вытекает из нее22. Нервные нити —
вероятно, не что иное, как линии прохода, по которым
следовали волны движений и возбуждений,
обменивавшихся различными органами. Это каналы, которые сама
себе вырыла жизнь, постоянно двигаясь в одном
направлении, и нервные узлы — это только места пересечения
нескольких таких линий23. Некоторые моралисты, не
заметив этой стороны явления, обвиняли разделение
22 См.: Perrier. Colonies animales, p. 746.
23 См.: Spencer. Principes de biologie, p. 433 etc.
340
труда в том, что оно не производит подлинной
солидарности. Они видели в нем только частные обмены,
кратковременные комбинации, без прошлого и будущего, где
индивид предоставлен самому себе. Они не заметили той
медленной работы по консолидации, той сети связей,
которая мало-помалу сплетается сама по себе и которая
делает из органической солидарности нечто постоянное.
Но во всех описанных нами выше случаях эта
регламентация или не существует, или не связана со степенью
развития разделения труда. В настоящее время нет
более правил, определяющих число экономических
предприятий; в каждой отрасли индустрии производство не
регламентировано настолько, чтобы оставаться точно на
уровне потребления. Мы, впрочем, не хотим извлечь из
этого факта никакого практического вывода; мы не
утверждаем, что необходимо ограничительное
законодательство; мы не думаем здесь взвешивать выгоды и
невыгоды его. Верно одно — что это отсутствие регламентации
мешает правильной гармонии функций. Экономисты,
правда, доказывают, что эта гармония
восстанавливается сама по себе, благодаря повышению или понижению
цен, которые в соответствии с потребностями ускоряют
или замедляют производство. Но во всяком случае оно
восстанавливается таким образом только после
нарушений равновесия и более или менее продолжительных
пертурбаций. С другой стороны, эти пертурбации,
естественно, тем чаще, чем функции более специализированны;
ибо, чем организация сложней, тем сильнее дает себя
чувствовать необходимость обширной регламентации.
Отношения капитала и труда остаются до сих пор в
том же состоянии юридической неопределенности.
Договор найма услуг занимает в наших кодексах весьма
незначительное место, особенпо если вспомнить о
сложности и разнообразии отношений, которые он призван
регулировать. Впрочем, нет необходимости настаивать на
пробеле, который теперь все народы ощущают и
пытаются заполнить 24.
Правила метода для науки — то же, что правовые и
нравственные правила — для поведения; они управляют
мыслями ученого так же, как последние управляют
действиями людей. Но если каждая паука имеет свой метод,
24 Это было написано в 1893 г. С тех пор промышленное
законодательство заняло в нашем праве более важное место. Это
доказывает, насколько пробел был серьезен, и он далеко еще не
заполнен.
341
то осуществляемый им порядок — чисто внутренний. Он
координирует поступки ученых, занимающихся одной и
той же наукой, а не их отношения с тем, что лежит
вовне. Мало есть дисциплин, соединяющих усилия
различных наук для общей цели. Это особепно верно
относительно моральных и социальных наук, ибо
математические, физико-химические и даже биологические науки,
по-видимому, не чужды друг другу до такой степени.
Юрист, психолог, антрополог, экономист, статистик,
лингвист, историк приступают к своим исследованиям
так, как если бы различные изучаемые ими ряды
фактов составляли независимые миры. В действительности
же они проникают друг в друга со всех сторон;
следовательно, то же самое должно быть с соответствующими
науками. Вот откуда берется анархия, которую отмечали
(впрочем, не без преувеличения) в науке вообще, но
которая особенно дает себя знать в этих именно науках.
Они действительно представляют собой некое
нагромождение разделенных, не сотрудничающих между собой
частей. Если же они образуют целое без единства, то
не потому, что они не имеют достаточного ощущения
своего сходства, а потому, что опи не организованы.
Эти различные примеры — разновидности одного и
того же вида. Если разделение труда во всех этих случаях
не производит солидарность, то потому, что отношения
органов не регламентируются, потому, что они
находятся в состоянии аномии.
Но откуда берется это состояние?
Так как совокупность правил есть определенная
форма, которую со временем принимают отношения,
устанавливающиеся стихийно между социальными функциями,
то можно сказать a priori, что состояние аномии
невозможно повсюду, где солидарные органы находятся в
достаточно тесном и продолжительном соприкосновении.
Действительно, соприкасаясь, они легко предупреждаются
в каждом случае о потребности друг в друге и,
следовательно, обладают живым и непрерывным ощущением
своей взаимной зависимости. Так как по той же
причине обмены между ними происходят легко, то опи
совершаются часто; будучи регулярными, они регулируются
сами собой, и время мало-помалу завершает дело
консолидации. Наконец, поскольку малейшие реакции могут
быть замечены всеми сторонами, то образующиеся таким
образом правила носят отпечаток этого, т. е. они
предвидят и устанавливают вплоть до подробностей условия
342
равновесия. Но если, наоборот, между Ними оказывается
некая непроницаемая, непрозрачная среда, то только
воздействия определенной интенсивности могут
сообщаться от одного к другому. Отношения, будучи редкими, не
повторяются настолько часто, чтобы прочно
установиться; с каждым разом начинаются новые попытки. Линии
прохода, по которым следуют волны движения, не могут
быть вырыты, так как сами эти волны слишком часто
прерываются. Если же какие-нибудь правила все-таки
установятся, то они будут носить общий и
расплывчатый характер, ибо при этих условиях могут
определиться только самые общие контуры явлений. То же самое
произойдет, если соприкосновения, будучи достаточно
значительными, недостаточно продолжительны25.
Вообще это условие осуществляется самим ходом
вещей; ибо функция может разделиться между двумя
или несколькими частями организма только в том случае,
если последние более или менее активно соприкасаются.
Кроме того, если труд разделился, то, поскольку они
нуждаются друг в друге, они, естественно, стремятся
уменьшить отделяющее их расстояние. Вот почему, по
мере того как мы поднимаемся по лестнице животного
мира, мы замечаем, как органы сближаются и, по
выражению Спенсера, проникают в щели друг друга. Но
вследствие стечения исключительных обстоятельств
может произойти совсем иначе.
Именно это и произошло в занимающих нас случаях.
Пока сегментарный тип резко выражен, существует почти
столько же экономических рынков, сколько различных
сегментов; следовательно, каждый из них весьма
ограничен. Производители, находясь вблизи потребителей, могут
легко выяснить объем потребностей, требующих
удовлетворения. Равновесие, стало быть, устанавливается без
труда, и производство регулируется само собой. Наоборот,
по мере того как развивается организованный тип
общества, взаимное ^проникновение сегментов влечет за собой
слияние рынков в один рынок, охватывающий почти все
общество. Он простирается даже дальше и стремится
2Г* Встречаются, однако, случаи, когда аномия может возникать,
хотя соприкосновение достаточно велико. Это бывает тогда, когда
необходимая регламентация может установиться только за счет
преобразований, на которые социальная структура уже не
способна; ведь пластичность общества не безгранична. Когда она
доходит до своего предела, то даже необходимые изменения
оказываются невозможными.
343
Стать универсальным, так üatt границы, разделяющие
пароды, исчезают одновременно с теми границами, которые
разделяли сегменты каждого из них. Из этого вытекает,
что каждая отрасль промышленности производит
продукцию для потребителей, разбросанных по всей стране или
даже по всему миру. Соприкосновение, значит, уже
недостаточное. Производитель не может более охватить
рынок взглядом или даже мыслью. Он не может представить
себе границы его, так как он, так сказать, безграничен.
Следовательно, производство лишено узды, правила; оно
может только ощупывать наугад, и нет ничего
удивительного, что в процессе этого ощупывания мера нарушается
то в одном направлении, то в^цругом. Отсюда вытекают
кризисы, периодически нарушающие экономические
функции. Увеличение банкротств, т. е. местных,
ограниченных кризисов, но всей вероятности, следствие той же
причины.
По мере того как расширяется рынок, появляется
крупная промышленность. Она имеет своим следствием
изменение отношений между хозяевами и рабочими.
Большее истощение нервной системы вместе с
заражающим влиянием крупных агломераций увеличивает
потребности последних. Машинная работа заменяет
человеческую; мануфактурная — работу в мелких мастерских.
Рабочий завербован, отнят на целый день у своей семьи;
он живет, все более отдаляясь от того, у кого работает,
и т. д. Эти новые условия индустриальной жизни
требуют, естественно, повой организации. Но так как эти
преобразования совершились чрезвычайно быстро, то
конфликтующие интересы не имели еще времени прийти
в равновесие 2в.
Наконец, вышеуказанное состояние социальных и
моральных наук объясняется тем, что они последними
вступили в круг позитивных наук. Действительно, не
прошло и столетия, как эта повая область явлений стала
предметом научного исследования. Ученые располагались
в ней одни здесь, другие там, сообразно их личным
склонностям. Разбросанные по этой обширпой поверхности, они
до последнего времени оставались слишком удаленными
друг от друга, чтобы замечать все связывающие их узы.
26 Напомним, однако, что (как мы увидим в следующей главе)
этот антагонизм происходит не только от быстроты этих
преобразований, но в значительной части от еще слишком большого
неравенства внешних условпй борьбы. На этот фактор время не оказывает
влияния.
344
Но уже в силу только того, что они будут продолжать
свои исследования все далее от исходных, отправных
точек, они в конце концов неизбежно встретятся и,
следовательно, осознают свою солидарность. Единство науки
образуется, таким образом, само собой; не отвлеченное
единство формулы, слишком узкое вдобавок для той
массы явлений, которую она должна охватить, но живое
единство органического целого. Для того чтобы наука
была единой, нет необходимости, чтоб она заключалась
целиком в поле зрения одного и того же сознания. Это,
впрочем, и невозможно; достаточно, чтобы все
занимающиеся ею чувствовали, что сотрудничают в одном и том
же деле.
Предыдущее лишает всякого основания один из
наиболее серьезных упреков, сделанных разделению труда.
Часто обвиняли его в том, что оно умаляет личность,
низводя ее к роли машины. Действительно, если человек
не знает, чему служат операции, которых от него
требуют, если он не связывает их ни с какой целью, то он
неизбежно будет исполнять их рутинным образом.
Каждый день он повторяет одни и те же движения с
монотонной регулярностью, не интересуясь ими и не понимая
их. Это уже не живая клетка живого организма,
непрерывно вибрирующая при соприкосновении с соседними
клетками, действующая на них и отвечающая, в свою
очередь, на их действия, вытягивающаяся,
сокращающаяся, видоизменяющаяся сообразно потребностям и
обстоятельствам. Это — лишь инертное колесо,
приводимое в действие внешней силой и движущееся постоянно
в одном направлении и одним и тем же образом. Как бы
себе ни представляли правственный идеал, невозможно,
очевидно, оставаться равнодушным при таком унижении
человеческой природы. Если нравственность имеет целью
совершенствование личности, она не может допустить
таких гибельных воздействий на индивида. Если же она
имеет целью общество, она не может дать иссякнуть
самому источнику общественной жизни, ибо зло угрожает
ке только экономическим функциям, по всем
общественным функциям, как бы высоки опи ни были. «Если,—
говорит О. Конт,— в материальном плане часто
справедливо жалели рабочего, занятого в течение всей своей
жизни исключительно изготовлением рукояток от ножей
или булавочных головок, то здравая философия, по
существу, пс менее должна жалеть в интеллектуальном
плане исключительное и непрерывное употребление че-
345
ловеческого мозга на решение нескольких уравнений и
классифицирование нескольких насекомых: нравственный
результат в обоих случаях, к сожалению, весьма
сходен» 27.
Иногда в качестве противодействия предлагают давать
рабочим помимо специальных и технических сведений
общее образование. Предположим даже, что можно было
бы таким образом загладить некоторые из вредных
последствий, приписываемых разделению труда; это, однако,
не средство предупредить их. Разделение труда не
изменяет своей природы оттого, что ему предпосылают общее
образование. Хорошо, конечно, чтобы рабочий был в
состоянии интересоваться искусством, литературой и
т. д.; но тем не менее остается дурным то, что весь
день с ним обращались как с машиной. Кто, кроме того,
не знает, что два эти рода существования слишком
противоположны, чтобы они могли примириться и
соединиться в одном и том же человеке? Если привыкнуть к
широким горизонтам и точкам зрения, к прекрасным
обобщениям, то невозможно терпеливо замыкаться в узких
границах специальной задачи. Такое лекарство делает
специализацию безвредной, только сделав ее невыносимой
и, следовательно, более или менее невозможной.
Противоречие устраняется тем, что, вопреки обычному
мнению, разделение труда не производит этих следствий
необходимо по своей природе, но только в
исключительных и ненормальных обстоятельствах. Чтобы оно могло
развиваться без этого гибельного влияния на
человеческий дух, нет необходимости умерять его
противоположным ему фактором; необходимо и достаточно, чтобы оно
было самим собой, чтобы ничто извне не извращало его.
Нормально каждая специальная функция требует, чтоб
индивид не замыкался в ней совсем, но чтобы он
поддерживал постоянные связи с соседними функциями,
осознавал их нужды, происходящие в них изменения
и т. д. Разделение труда предполагает, что работник не
только не занят исключительно своим занятием, но что
он не теряет из виду своих непосредственных
сотрудников, воздействует на них и испытывает их воздействие.
Он, таким образом, не машина, повторяющая движения,
направление которых он не понимает. Он знает, что они
направляются куда-то, к цели, которую он различает
более или менее ясно. Он чувствует, что он служит чему-
27 Conrs do philosophic positive, IV, p. 430.
m
то. Для этого пет необходимости, чтобы он охватывал
обширные области социального горизонта; ему
достаточно воспринимать его настолько, чтобы понять, что его
действия имеют цель вне их самих. Тогда, как бы
специальна, как бы однообразна ни была его деятельности,
это деятельность разумного существа, так как она имеет
смысл, и он знает его. Экономисты не оставили бы в
тени этой существенной черты разделения труда и,
следовательно, не подвергли бы его этому
незаслуженному упреку, если бы не сводили его роль к тому,
чтобы быть орудием общественного дохода, увеличения
производительности социальных сил, если бы они видели,
что оно прежде всего — источник солидарности.
*
Глава II
ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА
I
Недостаточно, однако, того, чтобы существовали
правила; иногда сами эти правила бывают причиной зла. Это
мы и видим в классовых войнах. Институт классов или
каст составляет организацию разделения труда, притом
организацию сильно регламентированную, однако она
часто служит причиной раздоров. Низшие классы,
недовольные положением, доставшимся им по обычаю или
по закону, стремятся к функциям, которые им
запрещены, и стараются отнять их у владеющих ими. Отсюда
междоусобные войны, вызываемые способом разделения
труда.
Ничего подобного не наблюдается в организме. Без
сомнения, в кризисные моменты различные ткани воюют
между собой и питаются одни за счет других. Но
никогда клетка или орган не стремятся завладеть другой
функцией, помимо принадлежащей им. Причина состоит
в том, что каждый анатомический элемент механически
идет к своей цели. Его устройство, его место в организме
определяют его назначение; его занятие — необходимое
следствие его природы. Он может справляться с ним
плохо, но он не может взять на себя работу другого
элемента, разве только этот последний оставит ее, как
бывает в редких случаях замены, о которой мы говори-
347
ли. Не так обстоит с обществами. Здесь свобода более
велика; между наследственными склонностями индивида
и функцией, которую он будет выполнять, лежит
большое расстояние; первые не влекут за собой вторую с
такой неизбежностью. Этот простор, открытый для проб
и обсуждения, открыт также для действия многих
причин, которые могут заставить природу индивида
уклониться от своего нормального направления и создать
патологическое состояние. Это организация более гибкая,
поэтому она также более хрунка и более доступна из-
мененияхМ. Мы, конечно, не предназначены с самого
рождения к какохму-то специальному занятию; однако мы
имеем способности и склонности, ограничивающие наш
выбор. Если с ними не считаются, если они нарушаются
нашими повседневными занятиями, то мы страдаем и
ищем средство положить конец нашим страданиям. Но
нет другого средства, как изменить установленный
порядок и создать новый. Чтобы разделение труда
производило солидарность, недостаточно, стало быть, того,
чтоб каждый имел свое занятие; необходимо еще, чтоб
это занятие ему подходило.
Но именно это условие не соблюдено в разбираемом
нами случае. В самом деле, если институт классов или
каст иногда порождает эти мучительпые явления, вместо
того чтобы порождать солидарность, то это потому, что
распределение социальных функций, на котором он
базируется, не соответствует или, точнее, больше не
соответствует естественному распределению талантов; ибо
(что бы об этом ни говорили1) не в силу только духа
подражания низшие классы в конце концов стремятся
к жизни высших. Подражание даже, собственно говоря,
ничего не может объяснить само по себе, так как оно
предполагает нечто другое, чем оно само. Оно возможно
только между существами уже сходными, и в той мере,
в какой они сходны; оно не происходит между
различными видами или разновидностями. О нравственном
заражении можно сказать то же, что и о физическом: оно
проявляется только на предрасположенной почве. Для
того чтобы потребности распространились от одного
класса к другому, необходимо, чтобы различия, разделявшие
первоначально эти классы, исчезли или уменьшились.
Необходимо, чтобы в силу происшедших в обществе
изменений одни стали способны к функциям, которые впа-
1 Tarde. Lois de l'imitation.
348
чале были выше их, а Другие потеряли свое пёрвойа^аЯь-
ноо верховенство. Когда плебеи стали оспаривать у
патрициев честь исправления религиозных и
административных функций, то это было не только для того, чтоб
подражать последним, но потому, что они стали умнее,
богаче, многочисленнее и их вкусы и желания изменились
вследствие этого. В результате этих изменений в целой
социальной сфере оказалось нарушенным согласие между
способностями индивидов и предназначенными им видами
деятельности. Одно только принуждение, более или
менее сильное и прямое, связывает их с этими функциями;
следовательно, возможна только несовершенная,
нарушенная солидарность.
Результат этот, стало быть, не есть необходимое
следствие разделения труда. Он происходит только в
совершенно особых обстоятельствах, а именно тогда, когда оно
является следствием внешнего принуждения. Иначе
обстоит дело, когда оно устанавливается чисто внутренне
и самопроизвольно, когда ничто не стесняет
индивидуальной инициативы. При этом условии между природой
индивидов и социальными функциями не может не
возникать гармонии, по крайней мере, в среднем числе случаев.
Если ничто не мешает или не благоприятствует
неподобающим образом конкурентам, оспаривающим друг у
друг>а те или иные занятия, то неизбежно, что только
наиболее способные к каждому роду деятельности
добьются его. Единственная причина, определяющая тогда
способ разделения труда,— это различие способностей.
В силу самой природы вещей разделение происходит
тогда в направлении способностей, так как нет
основания, чтобы было иначе. Таким образом, сама собой
осуществляется гармония между способностями каждого
индивида и его положением. Скажут, что этого не всегда
достаточно для удовлетворения людей, что есть люди,
желания которых всегда превышают их способности. Это
так; но это исключительные и, можно сказать,
болезненные случаи. Нормально, когда человек находит счастье
в осуществлении своих природных склонностей, а его
потребности пропорциональны его средствам. Так в
организме каждый орган требует только пропорционального
его значению количества пищи.
Итак, принудительное разделение труда — второй
признанный нами болезненный тип. Но не нужно
обманываться насчет смысла слова: не всякого рода
регламентация составляет принуждение, ибо, наоборот, разде-
349
ление труда, как мы видели, не может обойтись без
регламентации. Даже тогда, когда функции разделяются по
установленным заранее правилам, разделение — не
всегда следствие принуждения. Это верно даже по отношению
к кастовому режиму, пока он коренится в природе
общества. Этот институт в самом деле не всегда и пе везде
произволен. Но когда он функционирует в обществе
регулярно и не испытывая сопротивления, то оп выражает
(по крайней мере, в общих чертах) неподвижный способ
распределения профессиональных способностей. Вот
почему, хотя занятия в известной мере распределяются
законом, каждый орган исполняет свое дело
самопроизвольно. Принуждение начинается только тогда, когда
регламентация, не соответствующая более природе вещей и,
следовательно, не имеющая основания в нравах,
поддерживается только силой.
Можно сказать и наоборот, что разделение труда
производит солидарность, только если оно
самопроизвольно и в той мере, в какой оно самопроизвольно. Но под
самопроизвольностью надо понимать отсутствие не
только всякого явного и формального насилия, но всего того,
что даже косвенно может помешать свободному развитию
социальной силы, которую каждый носит в себе. Она
предполагает не только то, что индивиды не припуждают-
ся насильно к определенным функциям, но также и то,
что никакое препятствие какой бы то ни было природы
не мешает им занимать в социальной среде место,
соответствующее их способностям. Словом, труд разделяется
самопроизвольно только тогда, когда общество устроено
таким образом, что общественное неравенство точно
выражает естественное неравенство. Но для этого
необходимо и достаточно, чтобы никакая внешняя причина не
переоценивала и пе недооценивала их достоинства.
Совершенная самопроизвольность — только следствие и
другая форма иного факта: абсолютного равенства во
внешних условиях борьбы. Она представляет собой не
состояние анархии, которая позволила бы людям
свободно удовлетворять все свои стремления, дурные или
хорошие, но искусную организацию, где каждая социальная
ценность, не будучи ни преувеличена, ни уменьшена
ничем посторонним, оценивалась бы по настоящему своему
значению. Можно возразить, что даже в этих условиях
также существует борьба и, следовательно, победители
и побежденные, а последние признают свое поражение
только тогда, когда будут принуждены к этому. Но это
350
принуждение не похоже на первое, с которым оно
имеет только общее наименование. Принуждение в
собственном смысле состоит в том, что сама борьба невозможна,
что к ней даже не допускаются.
Правда, эта совершенная самопроизвольность не
встречается нигде как осуществившийся факт. Нет общества,
где она была бы без примесей. Если институт каст и
соответствует естественному распределению способностей,
то только приблизительным, грубым образом.
Наследственность нигде не действует с такой точностью, чтобы
даже там, где она встречает самые благоприятные для
себя условия, дети полностью повторяли своих родителей.
Есть всегда исключения из правила и, следовательно,
случаи, когда индивид не находится в гармонии с
приписываемыми ему функциями. Эти несоответствия
становятся многочисленнее по мере того, как общество
развивается, пока в известный момент не ломаются рамки,
оказавшиеся слишком тесными. Когда кастовый режим
исчез юридически, он переживает себя самого в нравах,
благодаря стойкости предрассудков. Одним оказывается
покровительство, другие оказываются в немилости,
независимо от их заслуг. Наконец, даже тогда, когда более не
остается, так сказать, следов прошлого, достаточно
передачи богатства по наследству, чтобы сделать весьма
неравными внешние условия, в которых завязывается
борьба, ибо эта передача дает некоторым преимущества,
которые не соответствуют непременно их личной ценности.
Даже теперь у наиболее культурных пародов существуют
поприща или совсем закрытые, или более трудные для
лишенных состояния. Казалось бы, нет никакого права
принимать за нормальную ту черту, которой разделение
труда никогда не содержит в чистом виде, если бы с
другой стороны не заметно было, что чем выше мы
поднимаемся по социальной лестнице, чем более исчезает
сегментарный тип в организованном, тем сильнее также
стремится сгладиться это неравенство.
Действительно, прогрессивный упадок каст с момепта
установления разделения труда — закон истории;
будучи связаны с политико-семейной организацией, они
регрессируют вместе с ней. Предрассудки, порожденные
ими и остающиеся после них, не переживают их навсегда,
но мало-помалу исчезают. Общественные занятия
становятся все свободнее для каждого, независимо от его
состояния. Наконец, даже последнее неравенство,
происходящее оттого, что существуют богатые и бедные от
351
рождения, хотя и не исчезает вполне, однако несколько
смягчается. Общество старается уменьшить его,
насколько возможно, помогая различными средствами выйти из
него тем, кто находится в слишком неблагоприятном
положении. Оно свидетельствует таким образом, что
чувствует себя обязанным открыть свободное место для всех
заслуг и что оно считает несправедливым незаслуженное
лично низкое положение. Но еще лучше обнаруживает
это стремление столь распространенная теперь вера в
то, что равенство между гражданами все усиливается,
и это усиление справедливо. Столь общее чувство не
может быть иллюзией, оно должно выражать — хотя и
неясно — некоторую сторону действительности. С другой
стороны, поскольку прогресс разделения труда
предполагает, наоборот, все возрастающее неравенство, то
равенство, необходимость которого утверждается
общественным мнением, может быть только таким, о котором
мы говорим, т. е. равенством во внешних условиях
борьбы.
Легко, впрочем, понять, что делает необходимым это
нивелирование. Мы видели в самом деле, что всякое
внешнее неравенство нарушает органическую солидарность.
Это не очень опасно для низших обществ, где
солидарность обеспечивается преимущественно общностью
верований и чувств. Действительно, как бы натянуты ни
были там узы, происходящие от разделения труда, для
общественной связи это не представляет угрозы, так как
пе эти узы сильнее всего связывают индивида с
обществом. Недомогание, возникающее от противоположных
стремлений, недостаточно сильно, чтобы обратить
страдающих от них против социального порядка, вызвавшего
их, ибо они связаны с обществом не потому, что
находят в нем необходимое для развития их
профессиональной деятельности поприще, а потому, что оно резюмирует
в их глазах множество верований и обычаев, которыми
они живут. Они связаны с ним потому, что вся их
внутренняя жизнь связана с ним, потому что все убеждения
предполагают его, потому что, служа основой
религиозному и моральному порядку, оно представляется им как
бы священным. Частные и непродолжительные
нарушения, очевидно, слишком слабы, чтобы потрясти состояния
сознания, имеющие благодаря такому происхождению
исключительную силу. Кроме того, поскольку
профессиональная жизнь малоразвита, то эти нарушепия случаются
только время от времени. В силу всего этого они ощуща-
352
готся слабо. К ним привыкают без труда; эти виды
неравенства находят даже не только терпимыми, но и
естественными.
Совсем другое происходит, когда преобладающей
становится органическая солидарность; тогда все, что
ослабляет ее, затрагивает общественную связь в ее жизненно
важной области. Во-первых, так как в этих условиях
специальные деятельности исполняются почти непрерывным
образом, то все, что препятствует им, не может не вызвать
постоянных страданий. Затем, так как коллективное
сознание ослабляется, то происходящие нарушения не
могут более быть так полно нейтрализованы. Общие
чувства не имеют прежней силы, чтобы удержать индивида в
группе; разрушительные стремления, не имея более
противовеса, проявляются легче. Социальная организация,
теряя все более и более свой трансцендентный характер,
помещавший ее как бы в сферу высшую, чем
человеческие интересы, не имеет более той силы сопротивления.
В то же время в ней пробивается большая брешь; дело
рук человеческих, она не может более с той же энергией
противиться человеческим требованиям. В тот самый
момент, когда прилив становится сильнее, потрясена
сдерживающая его плотина: от этого он значительно
опаснее. Вот почему в организованных обществах
необходимо, чтобы разделение труда все более приближалось
к определенному выше идеалу самопроизвольности. Если
они стремятся — а они и должны стремиться —
уничтожить, насколько возможно, внешнее неравенство, то не
потому только, что это прекрасное дело, но потому, что
вопрос здесь идет о самом их существовании. Ибо они
могут существовать только тогда, когда все образующие
их части солидарны, а солидарность возможна только при
этом условии. Поэтому можно предвидеть, что это
справедливое дело будет продвигаться далее по мере
развития организованного типа. Как бы важны ни были
сделанные в этом направлении успехи, они, по всей
вероятности, дают только слабое представление об успехах
будущих.
II
Равенство во внешних условиях борьбы необходимо не
только для того, чтобы привязывать каждого индивида к
его функции, но еще и для того, чтобы связывать
функции между собой.
Договорные отношения неизбежно развиваются вместе
12 Э. Дюркгейм
353
с разделением труда, ибо последнее невозможно без
обмена, юридической формой которого является договор.
Иначе говоря, одна из важных разновидностей
органической солидарности есть то, что можно было бы назвать
договорной солидарностью. Без сомнения, ошибочно
думать, что все общественные отношения могут быть
сведены к договору, тем более что договор предполагает
нечто иное, чем он сам; однако существуют особые узы,
берущие начало в воле индивидов. Существует
своеобразный consensus, который выражается в договоре и
который в высших видах представляет важный фактор
общего consensus'a. Необходимо, стало быть, чтобы в этих
самых обществах договорная солидарность была как можно
лучше защищена от всего, что может ее нарушить. Если
в менее развитых обществах неустойчивость ее не
представляется особенно опасной по причинам, которые мы
уже описали, то там, где она является одной из
основных форм социальной солидарности, угроза ей является
одновременно угрозой единству социального организма.
Происходящие из-за договоров конфликты становятся,
таким образом, важнее, но мере того как сам договор
приобретает большее значение в общей жизни. Поэтому,
в то время как существуют первобытные общества,
которые даже не вмешиваются для разрешения таких
конфликтов 2, договорное право цивилизованных народов
становится все объемистей; оно не имеет другой цели,
кроме как обеспечить регулярное сотрудничество
вступающих таким образом в отношения функций.
Но для достижения этого результата недостаточно,
чтобы общественная власть следила за исполнением
заключенных договоров. Необходимо еще, чтоб, по крайней
мере в среднем числе случаев, они исполнялись
добровольно. Если бы договоры соблюдались только благодаря
силе или из страха силы, то договорная солидарность
была бы очень ненадежной. Чисто внешний порядок
плохо скрывал бы раздоры, которые трудно было бы без
конца сдерживать. Но, говорят, для избежания этой
опасности достаточно, чтобы договоры заключались
добровольно. Это верно; но трудность от этого ие исчезает:
что, в самом деле, представляет собой добровольное
соглашение? Словесное или письменное согласие —
недостаточное доказательство добровольности; такое согласие
2 См.: Strabon, p. 702. Точно так же и в Пятикнижии мы не
находим регламентации договора.
354
может быть вынужденным. Значит, необходимо, чтобы
отсутствовало всякое принуждение; но где начинается
принуждение? Оно не состоит только в прямом
применении насилия, ибо непрямое насилие также успешно
подавляет свободу. Если обязательство, вырванное угрозой
смерти, юридически и морально равно нулю, то почему
оно будет иметь значение, если для получения его я
воспользовался положением, причиной которого я, правда,
не был, но которое поставило другого в необходимость
уступить мне или умереть.
В данном обществе каждый объект обмена постоянно
имеет определенную ценность, которую можно было бы
назвать его социальной ценностью. Она воплощает
количество заключенного в нем полезного труда; под этим
нужно понимать не весь вложенный в него труд, а часть
этой энергии, способную производить полезные
социальные результаты, т. е. результаты, соответствующие
нормальным потребностям. Хотя такая величина не может
быть вычислена математическим образом, она тем не
менее реальна. Легко даже заметить главные условия,
от которых она зависит; это прежде всего сумма усилий,
необходимых для производства объекта, интенсивность
удовлетворяемых им потребностей и, наконец, величина
приносимого им удовлетворения. В действительности,
впрочем, средняя ценность колеблется около этого
пункта. Она удаляется от него только под влиянием
ненормальных факторов; в таком случае общественное
сознание более или менее живо ощущает это удаление. Оно
находит несправедливым всякий обмен, в котором цена
вещи непропорциональна затраченным на нее усилиям и
оказываемым ею услугам.
Дав это определение, мы скажем, что договор только
тогда заключен при полном согласии, когда
обмениваемые услуги имеют эквивалентную социальную ценность.
При этом условии в самом деле каждый получает
желаемую им вещь и отдает в обмен другую, равноценную. Это
равновесие воль, констатируемое и освящаемое договором,
происходит и удерживается само собой, так как оно —ι
только следствие и другая форма самого равновесия
вещей. Оно поистине самопроизвольно. Правда, мы желаем
иногда получить за уступаемый нами продукт больше,
чем он стоит; наши притязания безграничны и
умеряются только потому, что сдерживают друг друга. Но это
принуждение, принуждение, препятствующее нам
удовлетворять безмерно даже наши необузданные потребно-
355
12*
сти, не следует смешивать с тем, которое отнимает у нас
возможность получить настоящее вознаграждение за наш
труд. Первое не существует для здорового человека.
Только второе заслуживает быть названным этим именем;
только оно расстраивает соглашение. Но оно не
существует в разбираемом нами случае. Если, наоборот,
обмениваемые ценности неэквивалентны, то они могут
уравновеситься только благодаря какой-нибудь внешней силе.
Происходит нарушение с той или с другой стороны; воли
могут прийти в согласие, только если одна из них
испытает прямое или косвенное давление, а это давление
составляет насилие. Словом, чтобы обязательная сила
договора была полной, недостаточно, чтобы он был
предметом выраженного согласия. Необходимо также, чтобы он
был справедливым, а одно только словесное соглашение
не делает его справедливым. Простое состояние субъекта
неспособно одно породить эту связующую силу,
присущую договорам. По крайней мере, чтобы соглашение
обладало этой силой, необходимо, чтоб оно само опиралось
на объективное основание.
Условие, необходимое и достаточное для того, чтобы
эта эквивалентность была правилом в договорах, состоит
в том, чтоб договаривающиеся стороны находились в
одинаковых внешних условиях. Действительно, так как
оценка вещей не может происходить a priori, a
выводится из самих обменов, то нужно, чтобы производящие
обмен индивиды могли оценивать стоимость своего труда
только той силой, которую они извлекают из своих
социальных достоинств. В этом случае ценность вещей
точно соответствует оказываемым ими услугам и труду,
которого они стоят, так как всякий другой фактор,
который мог бы изменять ее, согласно гипотезе, устранен.
Без сомнения, неравные достоинства всегда будут
создавать для людей неравные положения в обществе. Но эти
виды неравенства, по-видимому, только кажутся
внешними, ибо они выражают внешним образом внутренние виды
неравенства. Влияние их на определение ценностей
сводится, стало быть, к тому, чтобы установить среди
последних градацию, параллельную иерархии социальных
функций. Не так обстоит дело, если некоторые получают
из какого-нибудь другого источника дополнительное
количество силы; ибо последняя имеет необходимым
следствием перемещение точки равновесия, и ясно, что это
перемещение не зависит от социальной ценности вещей.
Всякое превосходство оказывает влияние на способ за-
356
ключенйя договоров; поэтому если оно не зависит от
личности индивидов, от их общественных заслуг, то оно
извращает нормальные условия обмена. Если какой-нибудь
класс общества вынужден, чтобы жить, предлагать за
любую цену свои услуги, между тем как другой класс
может без них обойтись благодаря имеющимся у него
ресурсам, не вытекающим, однако, из какого-то социального
превосходства, то второй класс несправедливо
предписывает законы первому. Иначе говоря, невозможно, чтоб
были богатые и бедные от рождения, без того чтоб не
было несправедливых договоров. Тем более было так
тогда, когда само социальное положение было
наследственным^ и всякого рода неравенство освящалось правом.
Но эти несправедливости ощущаются слабо, пока
договорные отношения малоразвиты, а коллективное
сознание сильно. Благодаря редкости договоров они имеют
меньше возможностей проявиться, и, кроме того, общие
верования нейтрализуют их последствия. Общество не
страдает от них, так как оно не оказывается в опасности
от этого. Но, по мере того как труд все более
разделяется, а социальная вера ослабевает, эти несправедливости
становятся все невыносимее, так как порождающие их
обстоятельства встречаются чаще, а вызываемые ими
чувства не могут так же полно умеряться
противоположными чувствами. Об этом свидетельствует история
договорного права, все более стремящегося лишить всякого
значения договоры, в которых договаривающиеся
стороны оказываются в слишком неравном положении.
Вначале всякий заключенный по форме договор имеет
принудительную силу, каким бы образом он ни
состоялся. Соглашение не составляет даже его первостепенного
фактора. Согласия воль недостаточно, чтобы их связать,
и заключенные связи не вытекают прямо из этого
согласия. Для существования договора необходимо и
достаточно, чтобы были произнесены известные слова и природа
обязательств определена не намерением сторон, а
употребленными формулами 3. Договор по соглашению
появляется только в сравнительно позднее время4. Это
первый шаг по пути справедливости. Но в течение долгого
3 См. договор verbis, litteris и re в римском праве. Ср.: Esmein.
Études sur les contrats dans le très ancien droit français. P., 1883.
4 Ульпиан рассматривает договоры по соглашению как
принадлежащие к juris gentium (кн. V, 4, 7 и § 1; De pact., II. 14). Но все
jus gentium, конечно, более позднего происхождения, чем
гражданское право. См.: Voigt. Jus gentium.
357
времени соглашение, которого было достаточно для
скрепления договора, могло быть весьма несовершенным,
т. е. исторгнутым силой или хитростью. Только довольно
поздно римский претор позволил жертвам хитрости или
насилия иск de dolo6b* и quod metus causa566*; притом
насилие признавалось по закону, только если имели
место угрозы смертью или телесными истязаниями 6. Наше
право стало требовательнее в этом пункте. В то же
время нанесение ущерба, надлежащим образом доказанное,
было отнесено к числу причин, которые могут в
известных случаях сделать недействительным договор7. Не на
этом ли основании, между прочим, все цивилизованные
народы отказываются признавать ростовщический
договор? Действительно, этот договор предполагает, что
один из договаривающихся находится в слишком большой
зависимости от другого. Наконец, общепринятая
нравственность осуждает еще суровей всякого рода хищнические
договоры, где одна из сторон эксплуатируется другой
потому, что она слабейшая, и не получает справедливой
цены за свои труды. Общественное сознание все
настойчивей требует точной взаимности в обмениваемых
услугах и, признавая весьма ограниченную обязательную силу
за договорами, не исполняющими этого основного
условия справедливости, оказывается гораздо более
снисходительным к нарушителям их, чем закон.
Экономистам принадлежит та заслуга, что они
первыми отметили самопроизвольный характер
общественной жизни, что они показали, как под влиянием
принуждения она уклоняется от естественного направления,
вытекая нормально не из навязанного извне порядка, но из
свободной внутренней работы. Этим они оказали важную
услугу науке о морали, по они ошиблись насчет природы
этой свободы. Так как в ней они видят основное свойство
человека, так как они выводят ее логически из понятия
индивида в себе, то она представляется им целиком
относящейся к естественному состоянию, независимой от
всякого общества. Социальное действие, согласно им,
не прибавляет к ней ничего; все, что оно может и должно
5 Иск quod metus causa, несколько предшествующий иску de
dolo, относится ко времени после диктатуры Суллы. Его датируют
674 г.
6 См.: Ульпиан, кн. 3, § 1; кн. 7, § 1.
7 Диоклетиан постановил, что договор может быть уничтожен,
если цена была ниже половины действительной ценности. Наше
право допускает уничтожение договора по причине нанесения
ущерба только при продаже недвижимости.
358
делать, это регулировать внешнее ее функционирование
так, чтобы конкурирующие свободы не вредили друг
другу. Но если оно не замыкается строго в этих границах,
то оно посягает на их законную область и уменьшает ее.
Во-первых, неверно, будто всякая регламентация —
продукт принуждения; сама свобода бывает продуктом
регламентации. Она не только пе противоположна
социальному действию, по вытекает из него. Она — не
свойство, внутренне присущее естественному состоянию, а,
наоборот, завоевание общества у природы. По природе
люди неравны физически; они помещены в неодинаково
выгодные внешние условия; сама семейная жизнь, с
предполагаемой ею наследственностью имущества и с
вытекающим отсюда неравенством, из всех форм социальной
жизни более всего зависит от естественных причин. А мы
видели, что все эти виды неравенства суть отрицание
свободы. В конце концов свобода есть подчинение внешних
сил социальным силам, ибо только при таком условии
последние могут развиваться свободно. Но эта
субординация — скорее ниспровержение естественного порядка8.
Она, значит, может осуществляться только
поступательно, по мере того как человек поднимается над вещами,
чтобы предписывать им закон, чтобы отнять у них
случайный, нелепый, аморальный характер, т. е. по мере
того, как он становится социальным существом. Он
может избежать влияния природы, только создав себе
другой мир, откуда он господствует над пей, а именно
общество 9.
Итак, можно сказать, что задача наиболее развитых
обществ — дело справедливости. Мы уже показали, и это
нам доказывает ежедневный опыт, что в действительности
они чувствуют необходимость двигаться в этом
направлении. Подобно тому как для низших обществ идеалом
было создать или сохранить во всей ее интенсивности
общую жизнь, в которой индивид был растворен, наш
идеал — вносить постоянно как можно более справедливости
в наши общественные отношения, чтобы обеспечивать
8 Само собой разумеется, мы не хотим сказать, что общество
находится вне природы, если понимать под этим совокупность
явлений, подчиненных закону причинности. Под естественным
порядком мы понимаем только тот, который возникает в так
называемом естественном состоянии, т. е. под влиянием исключительно
физических и органико-психических причин.
9 См. кн. II, гл. V. Мы видим еще раз, что свободный договор -
не самодовлеющее явление, так как он возможен только благодаря
весьма сложной социальной организации.
359
свободное развитие всех социально полезных сил.
Однако, если подумать, что в течение веков люди
довольствовались гораздо менее совершенной справедливостью,
начинаешь спрашивать себя, не вызваны ли эти
стремления необоснованным нетерпением, не представляют ли
они скорее уклонение от нормального состояния, чем
предвосхищение состояния нормального? Словом,
средство излечить зло, существование которого они
обнаруживают, состоит в том, чтобы удовлетворить их, или в
том, чтобы бороться с ними. Установленные в
предыдущих^ книгах положения позволили нам точно ответить на
занимающий нас вопрос. Нет более основательных
потребностей, чем эти стремления, так как они суть
необходимые следствия происшедших в структуре обществ
изменений. Так как сегментарный тип исчезает, а
организованный развивается, так как мало-помалу
органическая солидарность заменяет ту, которая происходит от
сходств, то обязательно выравнивание внешних условий.
Дело идет о гармонии функций и, следовательно, о
существовании обществ. Точно так же, как древние народы,
для того чтобы жить, нуждались прежде всего в общей
вере, мы нуждаемся в справедливости. И можно быть
уверенным, что эта потребность будет становиться все
настоятельней, если — как все заставляет думать —
управляющие эволюцией условия останутся теми же.
*
Глава III
ДРУГАЯ АНОРМАЛЬНАЯ ФОРМА
Нам остается описать последнюю анормальную форму.
Часто в торговом, промышленном или другом
предприятии встречается такое распределение функций, что
для деятельности индивидов не доставляется достаточно
материала. Очевидно, при этом происходит напрасная
потеря сил. Но мы не собираемся заниматься
экономической стороной этого явления. Нас должен интересовать
другой факт, постоянно сопровождающий эту трату сил,
а именно отсутствие или недостаток координации этих
функций. Известно в самом деле, что в административной
машине, в которой должностные лица не имеют
достаточно запятий, движения плохо приспосабливаются друг к
другу, операции осуществляются несогласованно, словом,
360
солидарность ослабляется, появляется беспорядок,
нарушается социальная связь. При дворе Восточной Римской
империи функции были специализированны до
бесконечности, и однако, из этого выходила настоящая анархия.
Таковы случаи, когда разделение труда, проведенное
слишком далеко, производит весьма несовершенную
интеграцию. Отчего это происходит? Можно было бы
пытаться ответить, что тут нет регулирующего органа,
управления. Объяснение это малоудовлетворительно, так
как весьма часто такое ненормальное состояние — дело
самой управляющей власти. Чтобы оно исчезло,
недостаточно регулирующего действия, нужно еще, чтоб оно
совершалось известным образом. Мы знаем, каким образом
оно должно совершаться. Первая задача опытного и
разумного руководителя — это уничтожить бесполезиые
должности, распределить труд таким образом, чтобы
всякий был достаточно занят, увеличить, следовательно,
функциональную деятельность каждого работника —
и тогда самопроизвольно утвердится порядок и труд в
то же время будет более экономично организован. Как
это происходит? На первый взгляд, это не совсем ясно.
Ведь если каждый имеет точно определенное занятие,
если он исполняет его как следует, он непременно будет
испытывать нужду в своих товарищах по делу и не
сможет не чувствовать себя солидарным с ними. Что до того,
скажут, велико или нет это занятие, раз только оно
специально? Что до того, поглощает ли оно или нет его
время и силы?
Наоборот, это очень важно. Действительно,
солидарность вообще зависит очень тесно от функциональной
деятельности специализированных частей. Эти два
явления изменяются пропорционально. Там, где функции
действуют вяло, их специализация напрасна; они очень
плохо координируются между собой и неполно чувствуют
свою взаимную зависимость. Этот факт прояснят
некоторые примеры. У человека «удушение представляет собой
сопротивление проходу крови через капиллярные сосуды,
и это препятствие сопровождается приливом крови и
остановкой деятельности сердца; в несколько секунд
происходит большое замешательство во всем организме, и
через о дну-две минуты функции прекращаются» 4. Значит,
вся жизнь весьма сильно зависит от дыхания. Но у
лягушки дыхание может быть задержано надолго, не вызы-
1 Spencer Я. Principes de biologie, II, p. 131.
361
вая никаких нарушении, потому лиг, что для нее хватает
окисления крови через кожу, или потому, что, даже
будучи лишена воздуха, она довольствуется кислородом,
накопленным в ее тканях. Существует, стало быть,
довольно большая независимость и, следовательно,
несовершенная солидарность между дыхательной функцией
лягушки и другими функциями организма, так как
последние могут существовать без помощи первой. Это
происходит оттого, что ткани лягушки, имея меньшую
функциональную деятельность, чем человеческие ткани,
меньше нуждаются также в возобновлении запасов своего
кислорода и в выделении углекислоты, производимой
сгоранием их. Точно так же млекопитающее нуждается в
регулярном приеме пищи; ритм его дыхания в
нормальном состоянии остается приблизительно одинаковым;
периоды его отдохновения не очень продолжительны;
другими словами, его функции дыхания, питания, сношения
постоянно необходимы друг другу и всему организму, так
что ни одна из них не может быть задержана надолго
без опасности для других и для общей жизни. Змея,
наоборот, припимает пищу только через длинные
промежутки времени; ее периоды деятельности и спячки далеки
друг от друга; ее дыхание, весьма явное в некоторые
моменты, иногда почти равно нулю — значит, ее функции
не очень тесно связаны между собой, но могут без вреда
отделяться друг от друга. Причина состоит в том, что ее
функциональная деятельность меньше, чем деятельность
млекопитающих. Так как трата тканей меньше, то они
менее нуждаются в кислороде; так как износ меньше,
то и починки нужны реже, так же как и движения,
предназначенные для преследования и хватания добычи.
Спенсер, кроме того, указал, что в неорганической
природе обнаруживаются примеры того же явления.
«Посмотрите,— говорит он,— на очень сложную машину, части
которой плохо прилажены или разболтаны вследствие
износа; исследуйте ее, когда она собирается остановиться.
Вы заметите некоторую нерегулярность движения перед
ее остановкой: некоторые части останавливаются
первыми, но снова приходят в движение в силу
продолжающегося движения других, и тогда они, в свою очередь,
становятся причинами возобновления движения в других
частях, которые перестали двигаться. Другими словами,
когда ритмические движения машины быстры, действия
и реакции их друг на друга регулярны и все движения
хорошо интегрированы. Но по мере уменьшения скорости
362
возникает нерегулярность, движения дезорганизуются» 2.
Всякое увеличение функциональной деятельности
вызывает увеличение солидарности, так как функции
организма могут стать активней только при условии
увеличения их непрерывности. Рассмотрите какую-нибудь из них
отдельно. Так как она бессильна без сотрудничества
других, то производить более она может только тогда, когда
другие также производят больше; но производительность
последних может подняться, в свою очередь, только если
производительность первой поднимется благодаря новому
отражению еще раз. Всякий рост активности в одной
функции, вызывая соответствующие приращения в
солидарных функциях, вызывает еще новое в первой, что
возможно только тогда, когда последняя становится
непрерывнее. Само собой разумеется, что эти отражения не
продолжаются без конца; наступает момент, когда снова
устанавливается равновесие. Если мускулы и нервы
работают больше, то им нужна более обильная пища,
которую доставит желудок при условии более деятельного
функционирования. Но для этого необходимо, чтобы он
получал для переработки больше пищевых материалов,
а эти материалы могут быть получены только новой
затратой нервной или мускульной энергии. Более крупное
промышленное производство требует иммобилизации
большего капитала в форме машин. Но этот капитал, в свою
очередь, чтобы быть в состоянии содержать себя,
возмещать свои потери, т. е. платить за найм, требует более
крупного промышленного производства. Когда движение,
воздействующее на все части машины, очень быстро,
то оно непрерывно, так как постоянно переходит от
одних к другим. Они, так сказать, взаимно увлекают друг
друга. Если притом не одна отдельная функция, а все
сразу станут активнее, то непрерывность каждой из них
еще более увеличится.
Следовательно, они будут более солидарны.
Действительно, будучи более непрерывными, они находятся в
более продолжительных отношениях и непрестанно
нуждаются друг в друге. Таким образом они лучше ощущают
свою взаимную зависимость. При господстве крупной
промышленности предприниматель больше зависит от
рабочих, если они умеют действовать сообща; ибо стачки,
останавливая производство, мешают капиталу
воспроизводиться. Но рабочий, со своей стороны, не так легко мо-
2 Ibid.
363
жет бастовать, так как вместе с трудом возросли его
потребности. Когда, наоборот, активность меньше, то
взаимная нужда носит менее постоянный характер, и точно
так же обстоит дело с отношениями, связывающими
функции. Они только время от времени ощущают свою
солидарность, которая вследствие этого ослабевает.
Значит, если доставляемая работа незначительна и
недостаточна, то естественно, что сама солидарность не
только менее совершенна, но даже целиком или частично
отсутствует. Это бывает на тех предприятиях, на
которых занятия распределены таким образом, что
активность каждого работника ниже той, какой она должна
быть нормально. Различные функции тогда слишком
прерывисты, чтобы точно приспособиться друг к другу и
действовать согласованно; вот откуда исходит
констатируемое в них отсутствие связи.
Но необходимы исключительные обстоятельства,
чтобы разделение труда происходило таким образом.
Нормально с его развитием в той же мере и в то же время
возрастает функциональная активность. Действительно,
те же причины, которые заставляют нас больше
специализироваться, заставляют нас также больше работать.
Когда число конкурентов увеличивается во всем
обществе, то оно увеличивается также в каждой отдельной
профессии. Борьба там становится оживленнее, и,
следовательно, требуется более усилий, чтобы быть в состоянии
выдержать ее. Кроме того, разделение труда само по себе
стремится сделать функции активней и непрерывней.
Экономисты давно уже объяснили причины этого явления;
вот главные из них: 1) когда работа не разделена,
приходится каждый раз перемещаться, переходить от одного
занятия к другому. Разделение труда производит
экономию всего этого потерянного времени; по выражению
Карла Маркса, оно сужает поры рабочего дня; 2)
функциональная деятельность увеличивается вместе с
развиваемыми в работнике разделением труда ловкостью и
талантом; меньше времени тратится на пробы и колебания.
Американский социолог Кэри очень рельефно
представил эту черту разделения труда. «В движениях
изолированного поселенца,— говорит он,— не может
существовать непрерывности. Будучи зависим в средствах к
существованию от своей способности приспособления,
принужденный преодолевать необъятные пространства, он
часто рискует умереть от недостатка пищи. Даже тогда,
когда ему удается завладеть ею, он вынужден прекратить
364
свои поиски и думать о перемене своего местопребывания,
необходимой, чтоб перенести сразу свои запасы, жалкое
жилище и себя самого. Сделав это, он должен
становиться то портным, то поваром... Так как он лишен помощи
искусственного света, то его ночи проходят совсем без
употребления; возможность же плодотворно использовать
дни целиком зависит от капризов температуры.
Обнаружив, наконец, что у него есть сосед3, он начинает
обмениваться с ним; но, так как оба занимают различные
части острова, то они вынуждены сблизиться подобно
камням, с помощью которых они растирают зерно...
Кроме того, когда они встречаются, возникают трудности
при определении условий торговли, из-за отсутствия
регулярности в снабжении различными товарами, которыми
они хотят обмениваться. Рыболову повезло — и он
наловил громадное количество рыбы; но случай позволил
охотнику достать себе рыбу, и в этот момент он нуждается
только в плодах, а рыболов не обладает ими. Различие,
как мы знаем, необходимо для ассоциации; поэтому
отсутствие его создало бы здесь трудно одолимое препятствие
для ассоциации.
Однако с течением времени развивается богатство,
возрастает население и вместе с тем обнаруживается
усиление движения в обществе; с тех пор муж обменивается
услугами с женой, родители — с детьми, а дети — между
собой. Один доставляет рыбу, другой — мясо, третий —
хлеб, в то время как четвертый превращает шерсть в
сукно. На каждом шагу мы констатируем увеличение в
быстроте движения наряду с увеличением силы
человека» 4.
Можно, кроме того, наблюдать в действительности, что
труд становится непрерывнее по мере большего своего
разделения. Животные, дикари работают самым
прихотливым образом, побуждаемые к тому необходимостью
удовлетворить какую-нибудь непосредственную
потребность. В исключительно земледельческих и пастушеских
обществах труд почти совсем прекращается во время
неблагоприятного времени года. В Риме он прерывался
благодаря множеству праздников и несчастливых дней5.
3 Само собой разумеется, что это только способ изложения.
Исторически ход вещей был иной. Человек не открыл в один
прекрасный день, что он имеет соседа.
4 ScioDce sociale, I. p. 229-231.
5 См.: Marquardt. Rômische Staatsverwaltung, III. S. 545 etc.
365
В средние века работа останавливалась еще чащев.
Однако по мере движения вперед труд становится
постоянным занятием, привычкой и даже (если эта привычка
достаточно укрепилась) потребностью. Но эта привычка
не могла бы установиться и соответствующая потребность
не могла бы возникнуть, если бы труд оставался
нерегулярным и перемежающимся, каким он был некогда.
Таким образом, мы пришли к признанию еще одной
причины, благодаря которой разделение труда является
источником социальной связи. Оно делает индивидов
солидарными не только потому, что оно (как мы видели до
сих пор) ограничивает деятельность каждого, но еще
потому, что оно увеличивает ее. Оно увеличивает единство
организма уже тем, что увеличивает жизнь его; по крайней
мере, в нормальном состоянии оно не производит одно из
этих действий без другого.
6 См.: Levasseur. Los classes ouvrières en France jusqu'à la
Révolution, I, p. 474, 475.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
I
Теперь мы можем разрешить практическую задачу,
которую мы перед собой поставили в начале этого труда.
Если есть правило поведения, моральный характер
которого неоспорим, так это то, которое повелевает нам
осуществить в себе существенные черты коллективного
типа. Оно достигает максимальной строгости в низших
обществах. Там первая обязанность — это походить на
всех, не иметь ничего личного ни в верованиях, ни в
обычаях. В более развитых обществах требуемые сходства
менее многочисленны; однако, как мы видели, и здесь
есть такие сходства, отсутствие которых представляет
собой моральный проступок. Преступление здесь имеет,
без сомнения, меньшее число различных категорий;
но теперь, как и прежде, если преступник — предмет
осуждения, то потому, что он не подобен нам. Точно так
же на низшей ступени просто безнравственные и
запрещенные поступки суть те, которые свидетельствуют о
несходствах менее глубоких, хотя и также серьезных.
Впрочем, разве не то же самое правило выражает
общепринятая нравственность, хотя и несколько иным языком,
когда она повелевает человеку быть человеком в полном
смысле слова, т. е. иметь все идеи и чувства,
составляющие человеческое сознание? Конечно, если понимать эту
формулу буквально, то человек, которым она нам
предписывает быть, это человек вообще, а не человек такого-то
и такого-то социального типа. Но в действительности это
человеческое сознание, которое мы должны полностью
осуществить в себе, есть не что иное, как коллективное
сознание группы, к которой мы принадлежим. Из чего,
в самом деле, может оно состоять, как не из идей и
чувств, к которым мы более всего привязаны? Где будем
мы искать черты нашей модели, как не в нас и вокруг
нас? Если мы думаем, что этот коллективный идеал есть
идеал всего человечества, то это потому, что он стал
довольно общим и абстрактным, чтобы оказаться подходящим
ко всем людям без различия. Но на деле каждый народ
создает себе из этого так называемого человеческого
367
типа частное представление, зависящее от ого
собственного темперамента. Каждый представляет его себе по
своему образу. Даже моралист, воображающий, что он в
состоянии силой мысли избавиться от влияния
окружающих идей, не сможет достигнуть этого, ибо он проникнут
ими насквозь и, что бы он ни делал, именно их он
найдет в результате своих дедукций. Вот почему всякий
народ имеет свою школу моральной философии, зависящую
от его характера.
С другой стороны, мы показали, что это правило
имеет функцией предупредить всякое потрясение общего
сознания и, следовательно, социальной солидарности, и что
оно может исполнить эту роль только тогда, когда оно
обладает моральным характером. Если оскорбления
наиболее фундаментальных коллективных чувств будут
терпимы, то общество неизбежно подвергнется дезинтеграции;
необходимо, чтобы с ними боролись посредством той
особенно энергичной реакции, которая связана с
моральными правилами.
Но обратное правило, повелевающее нам
специализироваться, имеет ту же самую функцию. Оно также
необходимо для сплоченности обществ, по крайней мере
начиная с известного момента их эволюции. Без сомнения,
обусловленная им солидарность отличается от
предыдущей; по если она и иная, то все же не менее
необходимая. Высшие общества могут удерживаться в состоянии
равновесия, только если труд в них разделен;
притяжения подобного подобным все менее достаточно для
достижения этого результата. Если, стало быть, моральный
характер для первого из этих правил необходим, чтобы
оно могло играть свою роль, то он не менее необходим
и для второго. Оба опи отвечают одной и той же
социальной потребности и различаются только способом
удовлетворения ее, потому, что самые условия существования
обществ тоже различны. Следовательно, не вдаваясь в
спекулятивные соображения о первооснове этики, мы
можем заключить о моральной ценности одного по
ценности другого. Если с некоторых точек зрения между ними
существует настоящий антагонизм, то не потому, что они
служат различным целям, но потому, наоборот, что они
ведут к одной цели, но противоположными путями.
Следовательно, нет необходимости ни выбирать между ними
раз навсегда, ни осуждать одно во имя другого; нужно в
каждый исторический момент уделять каждому
подобающее ему место.
368
Вероятно, можно позволить себе дальнейшее
обобщение.
Предмет нашего исследования заставил нас
классифицировать моральные правила и обозреть главные их виды.
Благодаря этому, мы теперь в состоянии составить себе
представление или, по крайней мере, строить
предположения не только о внешнем признаке моральных правил,
но и о внутренней черте, общей всем им и могущей
служить для их определения. Мы разделили их на два рода:
правила с репрессивной санкцией — как диффузивной, так
и организованной — и правила с реститутивной санкцией.
Мы видели, что первые выражают условия той
солидарности sui generis, которая вытекает из сходств и которой мы
дали название механической; вторые выражают условия
отрицательной * и органической солидарности. Мы можем,
таким образом, сказать вообще, что характерная черта
моральных правил заключается в том, что они выражают
основные условия социальной солидарности. Право и
нравственность — это совокупность уз, привязывающих
нас друг к другу и к обществу, создающих из массы
индивидов единый связный агрегат. Морально, можно
сказать, все то, что служит источником солидарности, все,
что заставляет человека считаться с другими,
регулировать свои движения не только эгоистическими
побуждениями. И нравственность тем прочнее, чем сильнее и
многочисленнее эти узы. Неточно, очевидно, определять
ее (как это часто делали) через свободу; она состоит,
скорее, в состоянии зависимости. Она не только не
служит освобождению индивида, выделению его из
окружающей среды, но, наоборот, имеет существенной функцией
сделать из него неотъемлемую часть целого и,
следовательно, отнять у него кое-что из свободы его
действий.
Иногда встречаются, правда, умы, не лишенные
благородства, которые, однако, находят нестерпимой мысль об
этой зависимости. Но они не замечают источников,
откуда вытекает их собственная нравственность, так как эти
источники слишком глубоки. Сознание — плохой судья
того, что происходит в глубине бытия, потому что оно
туда не проникает.
Общество, стало быть, не чуждый, как часто думали,
нравственности или же имеющий на нее только
второстепенное влияние фактор. Наоборот, оно — необходи-
» См. кн. I, гл. III, § II.
369
мое условие ее. Оно не простая сумма индивидов,
которые приносят, вступая в него, какую-то внутреннюю
нравственность; человек моральное существо только
потому, что он живет в обществе, ибо нравственность
состоит в том, чтобы быть солидарным с группой, и она
изменяется вместе с этой солидарностью. Пусть исчезнет
социальная жизнь, и тотчас же, не имея точки опоры,
исчезнет жизнь моральная. Естественное состояние у
философов XVIII в. если не безнравственно, то, по
меньшей мере, не нравственно; это признавал еще сам Руссо.
Впрочем, мы вследствие этого не возвращаемся к
формуле, которая выражает нравственность как функцию
общественной пользы. Общество, без сомнения, не может
существовать, если части его несолидарны; но
солидарность — только одно из условий его существования. Есть
много других, которые не менее необходимы и пемораль-
ны. Кроме того, может случиться, что в этой сети уз,
составляющих нравственность, есть такие, которые
неполезны или имеют силу, непропорциональную степени
их полезности. Таким образом, понятие полезного не
входит в качестве существенного элемента в наше
определение.
Что касается того, что называют индивидуальной
нравственностью, то, если под этим понимать
совокупность обязанностей, одновременно субъектом и объектом
которых был бы индивид, обязанностей, которые бы
связывали его только с самим собой и которые,
следовательно, существовали бы даже тогда, когда он был бы
один,— это абстрактная концепция, не соответствующая
ничему в действительности. Нравственность во всех
своих степенях встречается только в общественном состоянии
и изменяется только как функция социальных условий.
Спрашивать себя, чем бы она могла быть, если бы
общество не существовало, значило бы выйти из области
фактов и вступить в область неосновательных гипотез и
фантазий, которые невозможно проверить. Обязанности
индивида по отношению к самому себе суть в
действительности обязанности по отношению к обществу; они
соответствуют известным коллективным чувствам,
которые не позволено более оскорблять, составляют ли
оскорбитель и оскорбленный одно или два различных лица.
Теперь, например, во всех здоровых сознаниях
существует очень живое чувство уважения к человеческому
достоинству, чувство, с которым мы должны
сообразовывать наше поведение как в наших отношениях с самим
370
собой, так и в отношениях с другими; в этом и
заключается вся сущность так называемой индивидуальной
нравственности. Всякий нарушающий ее поступок порицается
даже тогда, когда преступник и его жертва составляют
одно лицо. Вот почему, согласно кантовской формуле,
мы должны уважать человеческую личность повсюду,
где она встречается, т. е. как у себя, так и у себе
подобных. Чувство, объектом которого она является, в одном
случае оскорблено не менее, чем в другом.
Разделение труда не только содержит в себе черту,
по которой мы определяем нравственность; оно стремится
все более и более стать существенным условием
социальной солидарности. По мере продвижения в процессе
эволюции ослабляются узы, связывающие индивида с его
семьей, с родной землей, с завещанными прошлым
традициями, с коллективными обычаями группы. Становясь
более подвижным, он легче меняет среду, покидает
родных, с тем чтобы жить в другом месте более автономной
жизнью, более самостоятельно формирует свои идеи и
чувства. Без сомнения, от этого не исчезает всякое общее
сознание; всегда остается, по крайней мере, тот культ
личности, индивидуального достоинства, о котором мы
сейчас говорили и который теперь является
единственным объединяющим центром стольких умов. Но как мало
этого, особенно когда думаешь о все возрастающем
объеме социальной жизни и вследствие этого —
индивидуальных сознаний! Ибо так как они становятся объемистее,
так как интеллект становится богаче, деятельность
разнообразнее, то, чтобы нравственность стала постоянной,
т. е. чтобы индивид остался прикрепленным к группе с
силой, хотя бы равной прежней, необходимо, чтобы
связывающие его с ней узы стали сильнее и
многочисленнее. Значит, если бы не образовалось других уз помимо
тех, которые происходят от сходств, то исчезновение
сегментарного типа сопровождалось бы регулярным
понижением уровня нравственности. Человек бы не испытывал
достаточного умеряющего воздействия; он не чувствовал
бы более вокруг себя и над собой того здорового
давления общества, которое умеряет его эгоизм и делает из
него нравственное существо. Вот что создает моральную
ценность разделения труда. Благодаря ему индивид
начинает сознавать свое состояние зависимости по отношению
к обществу; именно от него происходят сдерживающие и
ограничивающие его силы. Словом, так как разделение
труда становится важным источником социальной соли-
371
дарыости, то оно вместе с тем становится основанием
морального порядка.
Можно, стало быть, в буквальном смысле сказать, что
в высших обществах обязанность состоит не в том, чтоб
расширять нашу деятельность, но в том, чтобы
концентрировать и специализировать ее. Мы должны ограничить
свой горизонт, выбрать определенное занятие и отдаться
ему целиком, вместо того чтобы делать из своего
существа какое-то законченное, совершенное произведение
искусства, которое извлекает всю свою ценность из самого
себя, а не из оказываемых им услуг. Наконец, эта
специализация должна быть продвинута тем далее, чем к
более высокому виду принадлежит общество. И другого
предела ей поставить нельзя2. Без сомнения, мы
должны также работать для того, чтобы осуществить в себе
коллективный тип, поскольку он существует. Есть общие
чувства, идеи, без которых, как говорится, человек не
человек. Правило, повелевающее нам специализироваться,
остается ограниченным противоположным правилом.
Наше заключение состоит не в том, что хорошо
продвигать специализацию, насколько только это возможно,
но насколько это необходимо. Что касается
относительной доли каждой из этих противоположных обязанностей,
то они определяются опытом и не могут быть вычислены
a priori. Для нас было достаточно показать, что вторая
не отличается по природе от первой, что она так же
моральна и что, кроме того, эта обязанность становится
все важней и настоятельней, потому что общие качества,
о которых шла речь, все менее способны социализировать
индивида.
2 Существует, может быть, другой предел, о котором мы не
будем говорить, так как он касается скорее индивидуальной
гигиены. Можно было бы утверждать, что вследствие нашего органико-
психического устройства разделение труда не может переступить
известной границы, не вызывая расстройств. Не входя подробно
в этот вопрос, заметим, однако, что крайняя специализация, до
которой дошли биологические функции, по-видимому, не
подтверждает эту гипотезу. Кроме того, разве в самом мире психических
и социальных функций вследствие исторического развития
разделение труда не было доведено до крайней степени между
мужчиной и женщиной? Разве последняя не утратила множество
способностей, и наоборот? Почему то же явление не может произойти
между индивидами одного пола? Без сомнения, всегда нужно
время, чтобы организм приспособился к этим изменениям; но не ясно,
почему настанет когда-нибудь время, когда это приспособление
станет невозможным.
372
Не без основания, значит, общественное мнение
испытывает все более явную антипатию к дилетанту и даже
к тем людям, которые, увлекаясь исключительно общим
культурным развитием, не хотят отдаваться целиком
какому-нибудь профессиональному занятию. Действительно,
они слабо связаны с обществом, или, если угодно,
общество мало привязывает их; они ускользают от него,
и именно потому, что они не чувствуют его ни с должной
живостью, ни с должным постоянством. Они не сознают
всех обязанностей, которые возлагает на них их
положение социальных существ. Так как общий идеал, к
которому они привязаны, по вышеизложенным основаниям
носит формальный и неопределенный характер, то он не
может далеко вывести их из них самих. Когда не имеешь
определенной цели, немногим дорожишь и,
следовательно, ненамного можешь подняться над более или менее
утонченным эгоизмом. Наоборот, тот, кто отдался
определенному занятию, каждое мгновение слышит зов общей
солидарности, исходящий от тысячи обязанностей
профессиональной морали 3.
II
Но разве разделение труда, делая из каждого из нас
неполное существо, не влечет за собою умаления
индивидуальной личности? Вот упрек, часто ему адресуемый.
Заметим прежде всего, что трудно понять, почему
сообразнее с логикой человеческой природы развиваться
вширь, а не вглубь. Почему более обширная, но более
разбросанная деятельность выше деятельности более
концентрированной, но ограниченной? Почему достойнее
быть полным и посредственным, чем жить более
специальной, но более интенсивной жизнью, особенно если у нас
есть возможность найти то, что мы таким образом теряем,
3 Среди практических следствий, которые можно вывести из
установленного нами положения, есть одно, интересующее
педагогику. В вопросах воспитания всегда рассуждают так, как будто
моральная основа человека состояла из общих, универсальных
устремлений. Мы видели, что это совсем не так. Человек
предназначен исполнять специальную функцию в социальном организме,
и, следовательно, нужно, чтобы он заранее приучился играть свою
роль органа; для этого необходимо воспитание точно так же, как
для того, чтобы приучить его, как говорится, к роли человека. Мы
не хотим, впрочем, сказать, что нужно воспитывать ребенка
заранее для такого-то и такого-то занятия, но нужно приучить его
любить ограниченные задачи и определенные горизонты. А эта
склонность сильно отличается от склопностн к общим вещам и не
может развиваться теми же средствами.
373
благодаря ассоциации с другими сущестьами,
обладающими тем, чего нам недостает, и дополняющими нас?
Исходят из принципа, что человек должен осуществить
свое οίκεΐονέργον, как говорит Аристотель67*. Но эта
природа не остается постоянной в различные моменты
истории; она изменяется вместе с обществами. У низших
народов собственно человеческое действие — это
походить на своих товарищей, осуществлять в себе все черты
коллективного типа, который тогда еще более, чем теперь,
смешивают с человеческим типом. Но в более развитых
обществах его природа в значительной мере — это быть
органом общества и его подлинное действие,
следовательно, это играть свою роль органа.
Более того: индивидуальная личность не только не
уменьшается благодаря прогрессу специализации, но
развивается вместе с разделением труда.
Действительно, быть личностью — это значит быть
самостоятельным источником действия. Человек
приобретает это качество только постольку, поскольку в нем есть
нечто, принадлежащее лично ему и
индивидуализирующее его, поскольку он — более чем простое воплощение
родового типа его расы и группы. Скажут, что во всяком
случае он одарен свободной волей и что этого достаточно
для основания его личности. Но, как бы дело ни обстояло
с этой свободой, предметом стольких споров, не этот
метафизический, безличный, неизменный атрибут может
служить единственной основой конкретной, эмпирической и
изменчивой личности индивида. Последняя не может быть
установлена абстрактной властью выбирать между двумя
противоположностями; нужно еще, чтоб эта способность
проявлялась в целях и мотивах, свойственных именно
действующему лицу. Другими словами, необходимо, чтобы
сами материалы сознания имели личностный характер.
Но мы видели во второй книге этого сочинения, что такой
результат происходит прогрессивно, по мере того как
прогрессирует само разделение труда. Исчезновение
сегментарного типа, обусловливая большую специализацию,
выделяет в то же время отчасти индивидуальное
сознание из поддерживающей его органической среды и
облекающей его социальной среды, и вследствие этого
двойного освобождения индивид все более становится
независимым фактором своего собственного поведения.
Разделение труда само способствует этому освобождению, ибо
индивидуальные натуры, специализируясь, становятся
сложнее и, в силу этого, отчасти избавлены от коллектив-
374
lioro воздействия и от наследственных влиянии, которые
могут действовать только на простые и общие вещи.
Только благодаря какой-то иллюзии можно было
думать, что личность была более цельной до
проникновения в нее разделения труда. Без сомнения, рассматривая
с внешней стороны разнообразие охватываемых тогда
индивидом занятий, можно подумать, что он развивается
более свободным и полным образом. Но в
действительности эта демонстрируемая им деятельность — не его
деятельность. Это общество, раса, действующая в нем и через
него; он только посредник, через которого они
осуществляются. Его свобода только кажущаяся, а его личность
заимствована. Так как жизнь этих обществ в некоторых
отношениях менее регулярна, то думают, что
оригинальные таланты могут проявляться там легче, что всякому
легче следовать собственным вкусам, что более широкое
место оставлено для свободной фантазии. Но это значит
забывать, что личные чувства тогда весьма редки. Если
движущие силы, управляющие поведением, не
возвращаются с той же периодичностью, как теперь, то тем не
менее они коллективны, следовательно, безличны, и то же
самое с внушаемыми ими действиями. С другой стороны,
мы выше показали, как деятельность становится богаче и
интенсивнее, по мере того как она специализируется4.
Таким образом, прогресс индивидуальной личности и
прогресс разделения труда зависят от одной и той же
причины. Невозможно хотеть одного, не желая другого. Но
никто теперь не оспаривает повелительного характера
правила, приказывающего нам быть— и быть все более и
более — личностью.
Еще одно последнее соображение покажет, насколько
разделение труда связано со всей нашей
моральной жизнью.
Давно уже люди лелеют мечту об осуществлении
наконец на деле идеала человеческого братства. Народы
взывают к состоянию, когда война не будет законом
международных отношений, когда отношения между
обществами будут мирно регулироваться, как регулируются уже
отношения индивидов между собой, когда все люди будут
сотрудничать в одном деле и жить одной жизнью. Хотя
эти стремления отчасти нейтрализуются другими,
направленными на то отдельное общество, часть которого мы
составляем, тем не менее они весьма живы и все более
4 См. выше с. 254 и след., а также с. 201.
375
и более усиливаются. Но они могут быть удовлетворены
только тогда, когда все люди образуют одно общество,
подчиненное одним законам. Точно так, как частные
конфликты могут сдерживаться только регулирующим
действием общества, заключающего в себе индивидов, так и
интерсоциалыгые конфликты могут сдерживаться только
регулирующим действием одного общества, заключающего
внутри себя все другие. Единственная сила, способная
умерять индивидуальный эгоизм,—это сила группы;
единственная сила, способная умерять эгоизм групп,—это сила
другой, охватывающей их группы.
Если поставить задачу в таком виде, то нужно
признаться, что этот идеал еще далек от своего полного
осуществления, ибо имеется слишком много
интеллектуальных и моральных различий между социальными
типами, сосуществующими на земле, чтоб они могли жить по-
братски внутри одного общества. Но зато возможно
соединение обществ одного и того же вида, и в этом
направлении, по-видимому, движется наша эволюция. Мы
уже видели, что над европейскими народами стремится
образоваться самопроизвольным движением европейское
общество, обладающее отныне некоторым самосознанием
и первоначальной организацией5. Если образование
единого человеческого общества вообще невозможно (что,
однако, не доказано) 6, то, по крайней мере, образование
все более обширных обществ бесконечно приближает нас
к цели. Этот факт, впрочем, ни в чем не противоречит
данному нами определению нравственности, так как, если
мы связаны с человечеством и должны быть с ним
связаны, то потому, что оно — общество, которое находится
в процессе самореализации и с которым мы солидарны 7.
Но мы знаем, что более обширные общества не могут
формироваться без развития разделения труда, ибо опи
не могут удерживаться в равновесии без большей
специализации функций; но и одного увеличения числа конку-
5 См. с. 263-264.
β Ничто ве доказывает, что интеллектуальное и моральное
разнообразие обществ должно сохраниться. Все большая
экспансия высших обществ с вытекающим отсюда поглощением или
элиминацией менее развитых обществ стремится, во всяком случае,
уменьшить его.
7 Поэтому наши обязанности относительно него не имеют
преимущества над теми, которые связывают нас с нашим отечеством.
Последнее - единственное в настоящее время осуществленное
общество, часть которого мы составляем; другое - только desideratum,
осуществление которого даже не гарантируется.
376
рентов было бы достаточно, чтобы произвести
механически этот результат; и это тем более, что приращение
объема обычно не совершается без приращения плотности.
Можно, стало быть, сформулировать следующее
положение: идеал человеческого братства может осуществляться
только в тон мере, в какой прогрессирует разделение
труда. Нужно сделать выбор: или отказаться от своей мечты,
если мы откажемся далее сужать свою деятельность, или
же продолжать ее осуществление, но при указанном
нами условии.
III
Но если разделение труда производит солидарность, то не
потому только, что оно делает из каждого индивида
обменщика (échangiste), как говорят экономисты8, а
потому, что создает между людьми целую систему прав и
обязанностей, надолго связывающих их друг с другом.
Точно так же, как социальные сходства дают начало
праву и нравственности защищающим их, разделение труда
дает начало правилам, обеспечивающим мирное и
регулярное сотрудничество разделенных функций. Если
экономисты думали, что оно порождает достаточную
солидарность, каким бы образом она ни совершалась, и если,
следовательно, они утверждали, что человеческие
общества могут и должны распадаться на чисто экономические
ассоциации, то это потому, что они считали, будто оно
затрагивает только индивидуальные и временные
интересы. По этой теории, следовательно, только индивиды
правомочны судить о конфликтующих интересах и о способе,
каким они должны уравновешиваться, т. е. именно они
правомочны определять условия, при которых должен
происходить обмен. А так как эти интересы находятся в
беспрерывном становлении, то ни для какой постоянной
регламентации нет места. Но такая концепция во всех
отношениях не соответствует фактам. Разделение труда
ставит друг против друга не индивидов, а социальные
функции. Но общество заинтересовано в деятельности
последних: сообразно тому, сотрудничают они правильно
или нет, оно будет здоровым или больным. Его
существование, таким образом, зависит от них, и тем теснее, чем
они более разделены. Вот почему оно не может оставить
их в состоянии неопределенности; да, впрочем, они
определяются сами собой. Так образуются эти правила, число
8 Ото выражение Молинари. См.: La morale économique, p. 248,
377
которых возрастает по мере того, как труд разделяется,
и отсутствие которых делает органическую солидарность
или невозможной, или несовершенной.
Но недостаточно, чтоб были правила, необходимо еще,
чтоб они были справедливы, а для этого необходимо,
чтобы внешние условия конкуренции были равны. Если,
с другой стороны, вспомнить, что коллективное сознание
все более pi более сводится к культу индивида, то мы
увидим, что нравственность организованных обществ
сравнительно с нравственностью сегментарных обществ
характеризуется тем, что она имеет нечто более
человеческое, следовательно, более рациональное. Она не
связывает нашу деятельность с целями, которые прямо не
затрагивают нас; она не делает из нас служителей
идеальных сил, по природе совершенно отличных от нашей силы
и следующих собственным путем, не занимаясь
человеческими интересами. Она требует от нас только быть
гуманными и справедливыми к нам подобным, хорошо
делать свое дело, работать над тем, чтобы каждый был
призван к функции, которую он может лучше всего
исполнять, и получал настоящую цену за свои усилия.
Составляющие ее правила не имеют принудительной силы,
подавляющей всякое исследование; так как они сделаны
для нас п, в известном смысле, нами, то мы более
свободны по отношению к ним. Мы хотим понять их и
меньше боимся их изменять. Нужно, впрочем,
остерегаться считать такой идеал недостаточно основательным под
предлогом, что он слишком земной и слишком
достижимый. Идеал бывает выше не оттого, что он трансцендент-
нее, но оттого, что раскрывает перед нами более
обширные перспективы. Важно, чтобы он не парил над нами
высоко, рискуя стать для нас чуждым, но открывал для
нашей деятельности достаточно обширное поприще, а пока
до осуществления нашего идеала еще далеко. Мы
слишком хорошо чувствуем, какое это трудное дело — создать
общество, где каждый индивид будет занимать то место,
которого он заслуживает, и будет вознаграждаться так,
как он заслуживает; где, следовательно, все будут
сотрудничать для блага всех и каждого. Точно так же одна
нравственная система не выше другой оттого, что она
повелевает более жестко и авторитарно, оттого, что она
избавлена от рефлексии. Несомненно, требуется, чтобы она
привязывала нас к чему-то иному, нежели мы сами, но
она не обязательно должна привязывать нас до такой
степени, чтобы делать нас неподвижными.
378
Справедливо было сказано \ что мораль, а под пей
следует понимать не только учения, но и нраны,
испытывает опасный кризис. Предшествующее изложение
может помочь нам понять природу и причины этого
болезненного состояния. За небольшой промежуток времени в
структуре наших обществ произошли глубокие
изменения; они освободились от сегментарного типа со скоростью
и в масштабах, подобных которым нельзя найти в
истории. Поэтому нравственность, соответствующая этому
типу, испытала регресс, но другая не развилась
достаточно быстро, чтобы заполнить пустоту, оставленную
прежней нравственностью в наших сознаниях. Наша вера
поколеблена; традиция потеряла свою власть;
индивидуальное суждение освободилось от коллективного. Но,
с другой стороны, у функций, разъединившихся в ходе
переворота, еще не было времени для взаимного
приспособления, новая жизнь, как бы сразу вырвавшаяся наружу,
еще не смогла полностью организоваться, причем
организоваться прежде всего так, чтобы удовлетворить
потребность в справедливости, овладевшую нашими сердцами.
Если это так, то лекарство от зла состоит не в том,
чтобы стараться во что бы то ни стало воскресить традиции
и обычаи, которые, не отвечая более теперешним
социальным условиям, смогут жить лишь искусственной и
кажущейся жизнью. Что необходимо — так это прекратить
аномию, найти средства заставить гармонически
сотрудничать органы, которые еще сталкиваются в
беспорядочных движениях, внести в их отношения больше
справедливости, все более ослабляя источник зла — разного рода
внешнее неравенство. Наше болезненное состояние не
носит интеллектуального характера, как иногда думают;
оно зависит от более глубоких причин. Мы страдаем не
потому, что уже не знаем, на каком теоретическом
понятии основывать нравственность, практиковавшуюся до
сих пор, но потому, что в некоторых своих элементах эта
нравственность необратимо потрясена, а та, которая нам
необходима, находится еще в процессе формировапия.
Наше беспокойство происходит не оттого, что критика
ученых разрушила традиционное объяснение наших
обязанностей; следовательно, никакая новая система не
сможет его рассеять. Но из того, что некоторые из этих
обязанностей не основаны па денствительЕтом положении ве-
9 См.: Beaussire. Les principes de la morale. Introduction.
379
щеп, следует ослабление связи, Которое будет исчезать
только вместе с установлением и упрочением новой
дисциплины. Словом, наш первейший долг в настоящее
время—создать себе нравственность. Такое дело
невозможно осуществить посредством импровизации в тиши
кабинета; опо может возникнуть только самопроизвольно,
постепенно, под давлением внутренних причин, благодаря
которым оно становится необходимым. Рефлексия же
может и должна послужить тому, чтобы наметить цель,
которой надо достигнуть. Именно это мы и попытались
сделать.
Оглавление
Предисловие ко второму изданию 5
Предисловие к первому изданию 30
ВВЕДЕНИЕ 43
Развитие разделения общественного труда; общий характер
этого явления. Отсюда проблема: должны ли мы
подчиниться этому движению или сопротивляться ему, иными
словами, вопрос о нравственном значении разделения труда
Неопределенность нравственного сознания в этом вопросе;
противоречивые решения, предлагаемые одновременно.
Метод преодоления этой неопределенности. Исследование
разделения труда в себе и для себя. План книги
Книга I
Функция разделения труда
Глава I
МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭТОЙ ФУНКЦИИ 51
Смысл слова функция
I. Функция разделения труда не состоит в том, чтобы
создавать цивилизацию
II. Случаи, когда функция разделения труда заключается
в том, чтобы порождать группы, которые без него не
существовали бы. Отсюда гипотеза, что оно играет ту же роль в
высших обществах и является главным источником их
единства
III. Для проверки этой гипотезы нужно сравнить
социальную солидарность, имеющую в качестве источника
разделение труда, с другими видами солидарности и,
следовательно, классифицировать их. Необходимость изучения
солидарности по ее выражению в системе юридических правил;
сколько классов этих последних, столько и форм
солидарности. Классификация юридических правил: правила с
репрессивной санкцией; правила с реститутивной санкцией
381
Глава П
МЕХАНИЧЕСКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ, ИЛИ СОЛИДАРНОСТЬ
ПО СХОДСТВАМ 71
I. Связь социальной солидарности, которой соответствует
уголовное право, — это та связь, нарушение которой
составляет преступление. Поэтому если мы будем знать, что
представляет собой по существу преступление, то мы будем знать,
в чем состоит эта связь
Существенные черты преступления - это те, которые
встречаются повсюду, где есть преступление, каков бы ни был
социальный тип. Но единственными признаками, общими для
всех преступлений, когда-либо признававшихся таковыми,
являются следующие: 1) преступление оскорбляет чувства,
обнаруживаемые у всех нормальных индивидов
рассматриваемого общества; 2) эти чувства сильны; 3) они
определенны. Следовательно, преступление есть поступок,
задевающий сильные и определенные состояния коллективного
сознания. Точный смысл этого утверждения. Рассмотрение
случая, когда преступление создается или, по крайней мере,
усиливается актом правительственного органа. Сведение
этого случая к предшествующему определению
II. Проверка этого определения; если оно точно, оно
должно объяснять все признаки наказания. Определение этих
признаков: 1) наказание - это реакция, внушенная страстью
и обладающая различной степенью интенсивности; 2) эта
реакция исходит от общества; 3) эта реакция
осуществляется через посредство специально установленного органа
III. Эти признаки могут быть выведены из нашего
определения преступления. 1) Всякое оскорбленное сильное
чувство механически вызывает страстную реакцию; польза
такой реакции для поддержания самого этого чувства.
Коллективные чувства, будучи самыми сильными, вызывают
реакцию того же рода, энергичную тем более, чем
интенсивнее эти чувства. Объяснение квазирелигиозного характера
искупления. 2) Коллективный характер этих чувств
объясняет социальный характер этой реакции; в чем польза ее
социальности. 3) Интенсивность и особенно определенность
этих чувств объясняют образование определенного органа,
посредством которого осуществляется реакция
IV. Итак, правила, санкционируемые уголовным правОхМ,
выражают наиболее существенные социальные сходства.
Следовательно, оно соответствует социальной солидарности,
происходящей от социальных сходств, и изменяется вместе с
ней. Природа этой солидарности. Можно, стало быть,
измерить ее долю в общей интеграции общества, установив,
какую часть всей системы юридических правил составляет
уголовное право
382
Глава III
СОЛИДАРНОСТЬ, ВЫЗВАННАЯ РАЗДЕЛЕНИЕМ ТРУДА,
ИЛИ ОРГАНИЧЕСКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ
I. Сущность реститутивной санкции предполагает: 1) что
соответствующие правила выражают эксцентрические
состояния коллективного сознания или состояния, чуждые ему;
2) что определяемые ими отношения связывают индивида
с обществом только косвенным образом. Эти отношения
бывают положительными или отрицательными
П. Отрицательные отношения; их образец - вещное право.
Они отрицательны, потому что связывают вещь с личностью,
а не личности между собой. Сведение к этому типу личных
отношений, устанавливаемых в связи с осуществлением
вещных прав или вследствие преступления и неумышленного
проступка. Поскольку солидарность, выражаемая этими
правилами, отрицательна, она не имеет собственного
существования, а является лишь продолжением положительных
форм социальной солидарности
III. Положительные отношения, или отношения
сотрудничества, вызываемые разделением труда. Они управляются
определенной системой юридических правил, которую
можно назвать кооперативным правом; проверка этого
утверждения на разных частях кооперативного права. Аналогии
между функцией этого права и функцией нервной системы
IV. Заключение. Два вида положительной солидарности:
один, вызываемый сходствами, другой - разделением труда.
Механическая солидарность, органическая солидарность.
Первая изменяется в обратном отношении к индивидуальной
личности, вторая - в прямом. Первой соответствует
уголовное право, второй — кооперативное
Глава IV
ДРУГОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ПРЕДЫДУЩЕГО
Если предыдущий вывод точен, то уголовное право должно
превосходить кооперативное тем более, чем обширнее
социальные сходства и рудиментарнее разделение труда, и наоборот.
Именно так все и происходит
I. Чем примитивнее общество, тем больше сходств между
индивидами; физические сходства, психические сходства.
Противоположное мнение основано на смешении
коллективных типов (национальных, провинциальных и т. д.) с
индивидуальными. Первые действительно разрушаются, тогда как
вторые умножаются и становятся более четко выраженными.
С другой стороны, разделение труда, вначале ничтожное,
все более развивается
II. Первоначально всякое право носит уголовный характер.
Право первобытных народов. Еврейское право. Индусское
право. Развитие кооперативного права в Риме, в
христианских обществах. В настоящее время первоначальное
отношение опрокинуто. Преобладание уголовного права у
первобытных народов не вызвано грубостью нравов
383
Глава V
ВОЗРАСТАЮЩЕЕ ПРЕОБЛАДАНИЕ ОРГАНИЧЕСКОЙ
СОЛИДАРНОСТИ И СЛЕДСТВИЯ ЭТОГО
I. Теперешнее преобладание кооперативного права над
уголовным доказывает, что в настоящее время социальные
связи, порожденные разделением труда, многочисленнее тех,
которые вызваны социальными сходствами. Это преобладание
все сильнее по мере приближения к высшим социальным
типам; это доказывает, что оно не случайно, но зависит от
природы этих типов. Эти узы не только многочисленнее, но
и сильнее. Критерий для измерения относительной силы
социальных уз. Применение этого критерия
II. Узы, происходящие от социальных сходств, менее сильны
и в то же время ослабляются вместе с эволюцией общества.
Действительно, механическая солидарность зависит от трех
условий: 1) от относительной величины коллективного и
индивидуального сознаний; 2) от интенсивности; 3) от степени
определенности состояний коллективного сознания. Первое
из этих условий в лучшем случае остается постоянным,
другие два регрессируют. Способ доказательства этого по
численным изменениям криминологических типов.
Классификация этих последних
III. Упадок и постепенное исчезновение большого числа
этих типов
IV. Эти потери не были возмещены новыми достижениями.
Противоположная теория Ломброзо; ее опровержение. Итак,
число сильных и определенных состояний общего сознания
уменьшилось
V. Другое доказательство. Особенно сильные состояния
коллективного сознания приобретают религиозный характер;
но религия охватывает все уменьшающуюся долю общест
венной жизни. Другое доказательство, почерпнутое из
уменьшения значения пословиц, поговорок и т. д. Итак,
органическая солидарность становится преобладающей
Глава VI
ВОЗРАСТАЮЩЕЕ ПРЕОБЛАДАНИЕ ОРГАНИЧЕСКОЙ
СОЛИДАРНОСТИ И СЛЕДСТВИЯ ЭТОГО
(продолжение)
I. Социальные структуры, соответствующие этим двум
видам солидарности. Сегментарный тип; его описание; он
соответствует механической солидарности. Его различные
формы
II. Организованный тип; его признаки; он соответствует
органической солидарности. Антагонизм этих двух типов;
второй развивается по мере исчезновения первого. Тем не
менее сегментарный тип полностью не исчезает. Он принимает
все более размытые формы
III. Аналогия между развитием социальных типов и
развитием органических типов в животном царстве
384
IV. Предыдущий закон не следует смешивать с теорией
Спенсера о военных и промышленных обществах.
Изначальное растворение индивида в обществе происходит не от
чрезмерной военной централизации, но скорее от отсутствия
всякой централизации. Следствия предыдущего: 1)
методическое правило; 2) эгоизм не является отправной точкой
развития человечества
Глава VII
ОРГАНИЧЕСКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ И СОЛИДАРНОСТЬ
ДОГОВОРНАЯ
I. Различие органической солидарности и промышленной
солидарности Спенсера. Последняя является
исключительно договорной; она лишена всякой регламентации.
Неустойчивый характер такой солидарности. Недостаточность
доказательств примерами, даваемыми Спенсером. Величина
социального действия выражается в величине юридического
аппарата, а он все увеличивается
II. Верно, что договорные отношения развиваются, но в то
же время развиваются и недоговорные отношения.
Проверка этого факта на социальных диффузных функциях: 1)
семейное право становится более объемным и сложным; но в
принципе оно не договорное. Кроме того, ограниченное
место, занимаемое в нем частным договором, становится все
меньше: брак, усыновление, отказ от семейных прав и
обязанностей; 2) чем большее место занимает договор, тем более
он регламентирован. Эта регламентация предполагает
положительное общественное действие. Необходимость этой
регламентации. Разбор биологических аналогий, на которые
опирается Спенсер
III. Проверка того же факта на церебро-спинальных
функциях социального организма (административные и
правительственные функции). Административное и
конституционное право, не имеющее ничего договорного, все более
развивается. Разбор фактов, на которых Спенсер основывает
противоположное мнение. Необходимость этого развития
вследствие исчезновения сегментарного типа и прогресса
организованного типа. Биологические аналогии
противоречат теории Спенсера
IV. Заключение первой книги: моральная и социальная
жизнь вытекает из двойного источника; противоположные
изменения этих двух течений
Книга II
Причины и условия
Глава I
ПРОГРЕСС РАЗДЕЛЕНИЯ ТРУДА И ПРОГРЕСС СЧАСТЬЯ
Согласно экономистам, разделение труда имеет причиной
потребность в увеличении нашего счастья. Это
предполагает, что в действительности мы становимся более
счастливыми. Нет ничего более спорного
13 Э. Дюркгсйм
385
I. Во всякий момент истории счастье, которое мы
способны испытать, ограниченно. Значит, если бы разделение
труда не имело других причин, то оно быстро остановилось бы,
раз достигнув предела счастья. Этот предел, правда,
отступает по мере того, как человек изменяется. Но эти
изменения (допуская даже, что они делают нас счастливее) не
были совершены с целью достижения этого результата, ибо
в течение длительного времени они носят болезненный
характер, не обеспечивая никакого возмещения
II. Достигают ли они, впрочем, этого результата?
Счастье - это состояние здоровья; но здоровье не возрастает
по мере возвышения видов. Сравнение дикаря и
цивилизованного человека. Довольство первого. Умножение
самоубийств с развитием цивилизации. Важные следствия с
точки зрения социологического метода
III. Происходит ли прогресс от скуки, вызываемой
удовольствиями, ставшими привычными? Не следует смешивать
разнообразие, составляющее существенный элемент
удовольствия, с новизной, вторичным элементом. Патологический
характер потребности в новизне, если эта потребность
слишком велика
Глава II
ПРИЧИНЫ
I. Причины прогресса разделения труда: 1) исчезновение
сегментарного типа, т. е. возрастание моральной плотности
общества, символизируемое возрастанием материальной
плотности; основные формы последней; 2) возрастание
объема обществ при условии, что оно сопровождается
возрастанием плотности
II. Теория Спенсера, согласно которой воздействие
возрастания объема состоит только в умножении индивидуальных
различий. Ее опровержение
III. Возрастание объема и плотности механически вызывает
прогресс разделения труда, усиливая интенсивность борьбы
за существование. Как формируется потребность в большем
количестве и лучшем качестве продуктов; это следствие
причины, обусловливающей специализацию, а не причина
последней
IV. Итак, разделение труда происходит только внутри
сложившихся обществ. Ошибка тех, кто представляет
разделение труда и кооперацию в качестве основного факта
социальной жизни. Применение этого положения к
международному разделению труда. Случай мутуализма
Глава III ι
ВТОРИЧНЫЕ ФАКТОРЫ. ВОЗРАСТАЮЩАЯ
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ КОЛЛЕКТИВНОГО СОЗНАНИЯ И ЕЕ
ПРИЧИНЫ
Разделение труда может прогрессировать только тогда,
когда возрастает индивидуальная изменчивость, а последняя
возрастает только в случае регресса коллективного
сознания. Реальность этого регресса установлена. Каковы его
причины?
386
1. Поскольку соцнлльпая среда расширяется, коллективное
сознание все более отдаляется от конкретных вещей и,
следовательно, становится более абстрактным. Факты,
подтверждающие это: трансцендентность идеи Бога; более
рациональный характер права, морали, цивилизации в целом. Эта
неопределенность оставляет больше места индивидуальной
изменчивости
П. Исчезновение сегментарного типа, отрывая индивида от
его родной среды, освобождает его от влияния предков и
таким образом уменьшает авторитет традиции
III. Вследствие исчезновения сегментарного типа, общество,
менее плотно охватывая индивида, слабее сдерживает
расходящиеся стремления '
IV. Почему социальный орган не может с этой точки зюения
играть роль сегмента
Глава IV
ВТОРИЧНЫЕ ФАКТОРЫ {продолжение).
НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ
Наследственность - препятствие для прогресса разделения
труда. Факты, доказывающие, что она становится менее
важным фактором распределения функций. Отчего это
происходит?
I. Наследственность теряет свою силу потому, что
образуются все более важные способы деятельности, не
передаваемые наследственным образом. Доказательства: 1) не
образуется новых рас; 2) наследственность передает только общие
и простые склонности, но деятельность, специализируясь,
становится сложнее. Наследственный фонд становится менее
важным фактором нашего развития еще и потому, что к
нему необходимо больше прибавлять
II. Наследуемые свойства становятся неопределеннее.
Доказательства: 1) Инстинкт регрессирует от низших видов
животных к высшим, от животного - к человеку. Значит,
есть основание думать, что регресс продолжается в
человеческом мире. Это доказывает непрерывный прогресс
интеллекта, изменяющегося обратно пропорционально инстинкту.
2) Не только не образуются новые расы, но и старые
исчезают. 3) Исследования Гальтона. Регулярно передается
только средний тип. Но средний тип становится все
неопределеннее вследствие развития индивидуальных различий
Глава V
СЛЕДСТВИЯ ПРЕДЫДУЩЕГО
I. Более гибкий характер разделения общественного труда
в сравнении с разделением труда физиологического.
Причина в том, что функция становится более независимой от
органа. В каком смысле эта независимость есть признак
превосходства
387
II. Механическая теория разделения труда исходит из того,
что цивилизация - продукт необходимых причин, а не цель,
сама по себе порождающая деятельность. Но, будучи
следствием, она становится целью, идеалом. Каким образом?
Нет основания предполагать, что этот идеал примет когда-
нибудь неподвижную форму, что прогресс имеет предел.
Обсуждение противоположной теории Спенсера
III. Возрастание объема и плотности, изменяя общества,
изменяет также и индивидов. Человек более свободен от
иоздействия организма, поэтому психическая жизнь
развивается. Под влиянием тех же причин индивидуальная
личность выделяется из коллективной. Поскольку эти
преобразования зависят от социальных причин, психофизиология
может объяснить только низшие формы нашей психической
жизни. Индивида в большой мере объясняет общество.
Важность этого положения с точки зрения метода
Книга III
Анормальные формы
Глава I
АНОМИЧЕСКОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА
^fi^jia^HÎie^omig^ когда разделение труда не
производит солидарность/Необходимость изучить их
I. Анормальные случаи в экономической жизни: все
учащающиеся по мере разделения труда промышленные
кризисы; антагонизм труда и капитала. Точно так же единство
науки теряется по мере специализации научного труда
II. Теория, согласно которой эти последствия внутренне
присущи разделению труда. По Конту, лекарство состоит в
сильном развитии правительственного органа и в
утверждении философии наук. Бессилие правительственного органа
регулировать детали экономической жизни; философии
наук - обеспечивать единство знания
III. Если во всех этих случаях функции не сотрудничают,
то потому, что их отношения не отрегулированы;
разделение труда аномично. Необходимость регламентации. Как в
нормальном состоянии она следует из разделения труда.
Ее недостает в приведенных примерах.
Эта аномия происходит оттого, что солидарные органы
не находятся в достаточном или достаточно
продолжительном контакте. Такой контакт - состояние нормальное.
Итак, разделение труда, когда оно нормально, не
замыкает личность в одном виде занятий, не давая видеть
ничего за его пределами
Глава II
ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА
I. Война классов; она происходит оттого, что индивид не
находится в гармонии со своей функцией, которая ему
навязана принудительно. Что составляет принуждение: вся-
388
кос перавенство во внешних условиях борьбы. Правда, нет
общества, где бы не встречалось неравенство такого рода,
но оно все более уменьшается. Замещение механической
солидарности органической делает это уменьшение
необходимым
II. Другая причина, делающая необходимым прогресс на
пути к равенству. Договорная солидарность становится все
более важным фактором социального консенсуса. Но
договор по-настоящему связывает только тогда, когда
обмениваемые ценности эквивалентны, а для этого нужно, чтобы
обменивающиеся стороны были поставлены в равные
внешние условия. Причины, делающие такого рода
несправедливость нестерпимой по мере преобладания органической
солидарности. Договорные право и мораль становятся в этом
отношении все требовательнее.
Итак, настоящая индивидуальная свобода не состоит в
уничтожении всякой регламентации, но есть продукт
регламентации, ибо такое равенство не существует в природе.
Это справедливое дело есть задача высших обществ; они
могут выживать только при этом условии
Глава III
ДРУГАЯ АНОРМАЛЬНАЯ ФОРМА
Случаи, когда разделение труда не производит
солидарности, потому что функциональная деятельность каждого
работника недостаточна. Как органическая солидарность
возрастает вместе с функциональной деятельностью в
организмах и в обществе. Функциональная деятельность возрастает
в то же время, что и разделение труда, если оно нормально.
Вторичная причина, делающая из этого последнего
источник солидарности
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
I. Разрешение поставленной вначале практической
проблемы. Правило, повелевающее нам осуществить черты
коллективного типа, имеет функцией обеспечение социальной
связи; с другой стороны, оно морально и может справиться со
своей задачей только потому, что имеет моральный
характер. Но правило, повелевающее нам специализироваться,
имеет ту же функцию; значит, оно также имеет моральную
ценность.
Другой способ доказательства этого положения.
Предположение относительно существенного характера
нравственного- »ылода^ извлеченного из предыдущей классификации.
Нравственности - это совокупность условий общественной
соЛиЦарЙбсти.^"Разделение труда соответствует этому кри-
тетлпо"'
II. Разделение труда не умаляет значения индивидуальной
личности. 1) Почему было бы в логике нашей природы
развиваться скорее в ширину, чем в глубину? 2) Более того,
индивидуальная личность прогрессирует только под
влиянием причин, вызывающих разделение труда.
389
Идеал человеческого братства может осуществиться
только при условии прогресса разделения труда. Оно, стало быть,
связано со всей нашей нравственной жизнью
III. Но разделение труда порождает солидарность только
в том случае, если оно одновременно создает право и
мораль. Ошибка экономистов в этом вопросе. Особенности этой
нравственности: она более человечна, менее трансцендент-
на, более справедлива. Соображения о теперешнем кризисе
нравственности
Метод
социологии
#
BIBUOTHÈOUÊ DE PHILOSOPHIE CONTEMPORAINE
FONDÉE PAR PEUX ALCAN
EMILE DURKHEIM
LES REGLES DE
LA METHODE
SOCIOLOGIQUE
TREIZIÈME ÉDITION
PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE
10Ô, BoulEVARd Saint-Germain, PARIS
1956
Предисловие
ко второму изданию
Когда эта книга появилась в первый раз, она вызвала
довольно оживленную полемику. Общепринятые воззрения,
оказавшись как бы в замешательстве, вначале
оборонялись столь энергично, что в течение какого-то времени
нам было почти невозможно быть услышанными. Даже в
тех вопросах, в которых мы выражались наиболее ясно,
нам безосновательно приписывали взгляды, не имеющие
с нашими ничего общего; при этом думали, что,
опровергая эти взгляды, опровергают наши. В то время как мы
многократно заявляли, что с нашей точки зрения
сознание, как социальное, так и индивидуальное, представляет
собой отнюдь не субстанцию, но лишь более или менее
систематизированную совокупность явлений sui generis,
нас обвинили в реализме и онтологизме. В то время как
мы ясно сказали и на все лады повторяли, что
социальная жизнь целиком состоит из представлений, нас
обвинили в исключении из социологии психического элемента.
Дошли даже до того, что против нас стали возрождать
способы полемики, которые можно было считать
окончательно похороненными. Нам приписали взгляды, которых
мы не высказывали, под предлогом, что они
«соответствуют нашим принципам». Опыт, однако, доказал всю
опасность этого метода, который, позволяя произвольно
конструировать обсуждаемые теории, позволяет также
без труда одерживать над ними победы.
Мы вряд ли ошибемся, если скажем, что с тех пор
противодействие постепенно ослабело. Конечно, немало
наших утверждений еще оспаривается. Но мы не станем
ни удивляться итим благотворным спорам, ни жаловаться
па них; ведь ясно, что наши утверждения в будущем
должны быть пересмотрены. Будучи обобщением личной и
весьма ограниченной практики, они непременно должны
будут эволюционировать по мере того, как будет
расширяться и углубляться опыт постижения социальной
реальности. Впрочем, все создаваемое в области метода носит
лишь временный характер, так как методы меняются по
мере развития науки. Тем не менее вопреки
противодействию на протяжении последних лет дело объективной,
393
специфической и методической социологии непрерывно
завоевывало все новые позиции. Несомненно, этому во
многом содействовало создание журнала «L'Année
sociologique». Охватывая одновременно сферу всей науки,
журнал лучше, чем любой специальный труд, смог
сформировать понимание того, чем должна и может стать
социология. Таким образом, возникла возможность увидеть,
что она не обречена оставаться отраслью общей
философии, что она способна тесно соприкасаться с
конкретными фактами, не превращаясь просто в упражнения в
области эрудиции. Поэтому необходимо воздать должное
усердию и самоотверженности наших сотрудников;
именно благодаря им это доказательство посредством факта
могло быть начато и может продолжаться.
Тем не менее, как бы ни был реален отмеченный
прогресс, прошлые заблуждения и путаница еще не
полностью рассеяны. Вот почему мы хотим воспользоваться
этим вторым изданием, чтобы добавить несколько
объяснений ко всем тем, что мы уже дали, ответить на
некоторые критические замечания и внести по некоторым
вопросам дополнительные уточнения.
I
Положение, согласно которому социальные факты должны
рассматриваться как вещи,— положение, лежащее в
самой основе нашего метода,— вызвало больше всего
возражений. То, что мы уподобляем реальность социального
мира реальностям мира внешнего, нашли
парадоксальным и возмутительным. Это значит глубоко заблуждаться
относительно смысла и значения данного уподобления,
цель которого — не низвести высшие формы бытия до
уровня низших форм, но, наоборот, востребовать для
первых уровня реальности, по крайней мере равного тому,
который все признают за вторыми. На самом деле мы не
утверждаем, что социальные факты — это материальные
вещи; это вещи того же ранга, что и материальные вещи,
хотя и на свой лад.
Что такое в действительности вещь? Вещь
противостоит идее как то, что познается извне, тому, что
познается изнутри. Вещь — это всякий объект познания,
который сам по себе непроницаем для ума; это все, о чем мы
не можем сформулировать себе адекватного понятия
простым приемом мысленного анализа; это все, что ум мо-
394
жет понять только при условии выхода за пределы
самого себя, путем наблюдений и экспериментов,
последовательно переходя от наиболее внешних и непосредственно
доступных признаков к менее видимым и более глубоким.
Рассматривать факты определенного порядка как вещи —
не значит зачислять их в ту или иную категорию
реальности; это значит занимать по отношению к ним
определенную мыслительную позицию. Это значит приступать к
их изучению, исходя из принципа, что мы ничего не
знаем о том, что они собой представляют, а их характерные
свойства, как и неизвестные причины, от которых они
зависят, не могут быть обнаружены даже самой
внимательной интроспекцией.
Если определить термины таким образом, то наше
утверждение, отнюдь не будучи парадоксом, могло бы
считаться почти трюизмом, если бы оно еще слишком часто
не отвергалось в науках о человеке, особенно в
социологии. Действительно, в этом смысле можно сказать, что
всякий объект науки есть вещь, за исключением, может
быть, математических объектов. Что касается последних,
то, поскольку мы сами конструируем их, от самых
простых до самых сложных, нам, чтобы знать их,
достаточно смотреть внутрь себя и внутри анализировать
мыслительный процесс, из которого они проистекают. Но если
речь идет о фактах в собственном смысле, то, когда мы
приступаем к их научному исследованию, они обязательно
являются для нас неизвестными, неведомыми вещами, так
как представления о них, возникшие в жизни,
сформированные без методического и критического анализа,
лишены научной ценности и должны быть устранены. Даже
факты, относящиеся к индивидуальной психологии,
отличаются этим признаком и должны рассматриваться под
этим же углом зрения. Действительно, хотя они по
определению и внутренние для нас, наше сознание не
обнаруживает нам ни их внутреннюю сущность, ни генезис.
Оно позволяет нам знать их, но только до определенной
степени, так же как ощущения дают нам знать о теплоте
или свете, звуке или электричестве; оно дает нам о них
смутные, мимолетные, субъективные впечатления, а не
ясные, четкие, объясняющие понятия. Именно по этой
причине в течение этого столетия сформировалась
объективная психология, основное правило которой —
исследовать факты сознания извне, т. е. как вещи. Тем более
так должно быть с социальными фактами, так как
сознание не может быть более компетентным в их познании,
5.95
чем в познании своего собственного существования \
Могут возразить, что поскольку они — дело наших рук, то
нам достаточно осознать самих себя, чтобы узнать, что
мы в них вложили и как мы их сформировали. Но
прежде всего наибольшая часть социальных институтов
передана нам в совершенно готовом виде предшествующими
поколениями; мы не приняли никакого участия в их
формировании, и, следовательно, обращаясь к себе, мы не
сможем обнаружить породившие их причины. Кроме того,
даже тогда, когда мы соучаствовали в их возникновении,
мы едва сможем, смутно и чаще всего неточно,
разглядеть подлинные причины, заставившие нас действовать,
и природу наших действий. Даже тогда, когда речь идет
просто о наших частных поступках, мы очень плохо
представляем себе относительно простые мотивы,
управляющие нами. Мы считаем себя бескорыстными, тогда как
действуем как эгоисты; мы уверены, что подчиняемся
ненависти, когда уступаем любви, разуму — когда
являемся пленниками бессмысленных предрассудков и т. д.
Как же сможем мы яснее различать значительно более
сложные причины, от которых зависят поступки группы?
Ведь участие каждого в ней составляет лишь ничтожную
часть; существует масса других членов группы, и то, что
происходит в их сознаниях, ускользает от нас.
Таким образом, наше правило не заключает в себе
никакой метафизической концепции, никакой спекуляции
относительно основы бытия. Оно требует только одного:
чтобы социолог погрузился в состояние духа, в котором
находятся физики, химики, физиологи, когда они
вступают в новую, еще не исследованную область своей науки.
Нужно, чтобы, проникая в социальный мир, он
осознавал, что вступает в неизведанное. Нужно, чтобы он
чувствовал, что находится в присутствии фактов, законы
которых неизвестны так же, как неизвестны были законы
жизни до создания биологии. Нужно, чтобы он был
готов совершить открытия, которые его поразят, приведут в
замешательство. Но социология далека от этой степени
интеллектуальной зрелости. В то время как ученый,
исследующий физическую природу, обладает весьма острым
1 Мы видим, что, выдвигая это положение, нет необходимости
утверждать, что социальная жизнь состоит из чего-то помимо
представлений; достаточно утверждения, что представления,
индивидуальные или коллективные, могут исследоваться научно только
при условии, что они исследуются объективно.
396
ощущением сопротивления, которое она оказывает ему и
которое ему так трудно преодолеть, кажется, что социолог
движется среди вещей, непосредственно данных и
прозрачных для ума, настолько велика легкость, с которой, как
мы видим, он готов решать самые запутанные вопросы.
В современном состоянии научного знания мы даже не
знаем доподлинно, что представляют собой основные
социальные институты, такие, как государство или семья,
право собственности или договор, наказание и
ответственность. Мы почти совсем не знаем их причин,
выполняемых ими функций, законов их эволюции; в некоторых
вопросах мы едва начинаем видеть какие-то проблески.
И однако, достаточно бегло просмотреть труды по
социологии, чтобы увидеть, насколько редко встречается
ощущение этого неведения и отмеченных трудностей. Мало
того, что считают как бы своей обязанностью поучать по
всем проблемам одновременно, но думают, что можно на
нескольких страницах или в нескольких фразах
постигнуть самое сущность самых сложных явлений. Это
значит, что подобные теории выражают не факты, которые
не могут быть исчерпаны столь поспешпо, но предвзятое
понятие о фактах, которое существовало у автора до
исследования. Конечно, идея, которую мы себе создаем о
коллективных обычаях, о том, что они собою
представляют или чем они должны быть, есть фактор их развития.
Но сама данная идея — это факт, который также следует
изучать извне, чтобы подобающим образом его
определить. Ведь важно узнать не то, каким образом тот или
иной мыслитель лично представляет себе такой-то
институт, но понимание этого института группой; только такое
понимание действенно. Но оно не может познаваться
простым внутренним наблюдением, поскольку целиком оно
не находится ни в ком из нас; нужно, стало быть, найти
какие-то внешние признаки, которые делают его
ощутимым. Кроме того, это понимание не родилось из ничего;
само оно — следствие внешних причин, которые нужно
знать, чтобы иметь возможность оценить его роль в
будущем. Таким образом, что бы мы ни делали, нам
постоянно необходимо обращаться к тому же методу.
II
Другое положение дебатировалось не менее оживленно,
чем предыдущее; оно характеризует социальные явления
как внешние по отношению к индивидам. С нами теперь
охотпо соглашаются, что факты индивидуальной и кол-
397
лективной жизни в какой-то степени разнородны. Можно
даже сказать, что по этому вопросу формируется если не
единодушное, то, по крайней мере, весьма широкое
согласие. Уже почти нет социологов, которые бы отказывали
социологии в ; какой бы то ни было специфике. Но
поскольку общество состоит только из индивидов2, то с
позиции здравого смысла кажется, что социальная жизнь
не может иметь иного субстрата, кроме индивидуального
сознания; иначе она кажется висящей в воздухе и
плывущей в пустоте.
Однако то, что так легко считается невозможным,
когда речь идет о социальных фактах, обычно допускается
в отношении других природных сфер. Всякий раз, когда
какие-либо элементы, комбинируясь, образуют фактом
своей комбинации новые явления, нужно представлять
себе, что эти явления располагаются уже не в элементах,
а в целом, образованном их соединением. Живая клетка
не содержит в себе ничего, кроме минеральных частиц,
подобно тому как общество ничего не содержит в себе
вне индивидов. И тем не менее совершенно очевидно, что
характерные явления жизни не заключаются в атомах
водорода, кислорода, углерода и азота. И как жизненные
движения могли бы возникнуть внутри неживых
элементов? Как к тому же биологические свойства
распределились бы между этими элементами? Они не могли бы
обнаруживаться одинаково у всех, поскольку эти элементы
различны по своей природе; углерод — не азот и,
следовательно, не может ни обладать теми же свойствами, ни
играть ту же роль. Так же трудно предположить, чтобы
каждый аспект жизни, каждый из ее главных признаков,
был воплощен в отдельной группе атомов. Жизнь не
может разлагаться таким образом; она едина и,
следовательно, может иметь своим местонахождением только
живую субстанцию в ее целостности. Она — в целом, а не
в частях. Отнюдь не неживые частицы клетки питаются,
воспроизводятся, одним словом, живут; живет сама
клетка, и только она. И то, что мы говорим о жизни, можно
повторить о всех возможных синтезах. Твердость бронзы
не заключена ни в меди, ни в олове, ни в свинце,
послуживших ее образованию и являющихся мягкими и
гибкими веществами; она в их смешении. Текучесть воды, ее
2 Это утверждение, впрочем, не совсем точно. Помимо
индивидов существуют вещи, также образующие элементы общества.
Верно лишь то, что индивиды являются его единствсппыми
активными элементами.
398
пищевые и прочие свойства сосредоточены не в двух
газах, из которых она состоит, но в сложной субстанции,
образуемой их соединением.
Применим этот прицип к социологии. Если указанный
синтез sui generis, образующий всякое общество,
порождает новые явления, отличные от тех, что имеют место
в отдельных сознаниях (и в этом с нами согласны), то
нужно также допустить, что эти специфические факты
заключаются в том самом обществе, которое их создает,
а не в его частях, т. е. в его членах. В этом смысле,
следовательно, они являются внешними по отношению к
индивидуальным сознаниям, рассматриваемым как
таковые, точно так же, как отличительные признаки жизни
являются внешними по отношению к минеральным
веществам, составляющим живое существо. Невозможно
растворять их в элементах, не противореча себе, поскольку по
определению они предполагают нечто иное, чем то, что
содержится в этих элементах. Таким образом, получает
новое обоснование установленное нами далее разделение
между психологией в собственном смысле, или наукой о
мыслящем индивиде, и социологией. Социальные факты
не только качественно отличаются от фактов
психических; у них другой субстрат, они развиваются в другой
среде и зависят от других условий. Это не значит, что
они также не являются некоторым образом психическими
фактами, поскольку все они состоят в каких-то способах
мышления и действия. Но состояния коллективного
сознания по сути своей отличаются от состояний сознания
индивидуального; это представления другого рода.
Мышление групп иное, нежели отдельных людей; у него свои
собственные законы. Обе науки поэтому настолько явно
различны, насколько могут различаться науки вообще,
какие бы связи между ними ни существовали.
В этом вопросе, однако, уместно провести одно
различение, которое, возможно, несколько проясняет суть
спора. Для нас совершенно очевидно, что материя
социальной жизни не может объясняться чисто
психологическими факторами, т. е. состояниями индивидуального
сознания. Действительно, коллективные представления
выражают способ, которым группа осмысливает себя в
своих отношениях с объектами, которые на нее влияют. Но
группа устроена иначе, чем индивид, и влияющие на нее
объекты — иные по своей сути. Представления, которые
не выражают ни тех же субъектов, ни те же объекты,
не могут зависеть от тех же причин. Чтобы понять, ка-
399
ким образом общество представляет себе самого себя и
окружающий его мир, необходимо рассматривать
сущность не отдельных индивидов, а/ общества. Символы,
в которых оно осмысливает себя, меняются в
зависимости от того, что оно собой представляет. Если, например,
оно воспринимает себя как происшедшее от животного,
чье имя оно носит, значит, оно образует одну из
специфических групп, называемых кланом. Там же, где
животное заменено человеческим, но также мифическим
предком, клан изменил свою сущность. Если над местными
или семейными божествами общество помещает другие
божества, от которых считает себя зависимым, то это
происходит потому, что местные и семейные группы, из
которых оно состоит, стремятся к концентрации и
объединению, и степень единства религиозного пантеона
соответствует степени единства, достигнутого обществом в то же
время. Если оно осуждает некоторые способы поведения,
то потому, что они задевают какие-то его основные
чувства, а эти чувства связаны с его устройством так же, как
чувства индивида — с его физическим темпераментом и
умственным складом. Таким образом, даже тогда, когда у
индивидуальной психологии больше не будет от нас сек-
ретов, она не сможет предложить нам решение ни одной
из отмеченных проблем, поскольку они относятся к
категориям фактов, которые ей неизвестны.
Но как только эта разнородность признана, можно
задаться вопросом: не сохраняют ли тем не менее
индивидуальные представления и коллективные представления
сходства благодаря тому, что и те и другие в равной
мере являются представлениями, и не существуют ли
вследствие этих сходств некоторые абстрактные законы,
общие для обоих миров? Мифы, народные предания,
всякого рода религиозные воззрения, нравственные
верования и т. п. выражают не индивидуальную реальность; но
бывает, что способы, которыми они притягиваются или
отталкиваются, соединяются или разъединяются,
независимы от их содержания и обусловлены исключительно дх
общим свойством представлений. Будучи сделаны из
разной материи, они будут в своих взаимоотношениях вести
себя так же, как ощущения, образы или понятия у ип-
дивида. Нельзя ли, например, предположить, что
логические сопряженность и сходство, противоречия и
антагонизмы могут действовать одинаково, каковы бы ни были
представляемые вещи? Мы приходим, таким образом,
к пониманию возможности сугубо формальной психоло-
400
гии, которая была Ьы чем-то вроде общей территории для
индивидуальной психологии и социологии. Возможно,
именно из-за этого некоторые умы испытывают
колебания перед необходимостью четкого различения этих двух
наук.
Строго говоря, при нынешнем состоянии наших
познаний вопрос, поставленный таким образом, не может
быть однозначно разрешен. Действительно, с одной
стороны, все, что мы знаем о способах, которыми
комбинируются индивидуальные понятия, сводится к нескольким
весьма общим и расплывчатым положениям, обычно
называемым законами ассоциации идей. А что касается
законов коллективного образования понятий, то они тем
более неизвестны. Социальная психология, задачей которой
должно бы было быть установление этих законов, скорее
является лишь словом, обозначающим всякого рода
общие рассуждения, разноречивые, неточные и без
определенного объекта. А нужно бы было посредством
сравнения мифологических тем, народных преданий и традиций,
языков исследовать, каким образом социальные
представления нуждаются друг в друге или несовместимы друг с
другом, смешиваются между собой или различаются
и т. д. В общем, если проблема и заслуживает внимания
исследователей, то едва ли можно сказать, что к ней
прикасались; а пока не будут найдены какие-то из этих
законов, очевидно, будет невозможно достоверно узнать,
повторяют они законы индивидуальной психологии или нет.
Хотя и не достоверно, но, по крайней мере, вероятно
существование не только сходств между этими двумя
видами законов, но и не менее важных различий. В самом
деле, невозможно предположить, чтобы содержание
представлений не оказывало воздействия на способы их
комбинаций. Правда, психологи говорят иногда о законах
ассоциации идей так, как если бы они были одинаковыми
для всех видов индивидуальных представлений. Но нет
ничего менее правдоподобного: образы сочетаются между
собой не так, как ощущения, а понятия — не так, как
образы. Если бы психология была более развита, она бы
несомненно установила, что каждой категории
психических состояний присущи свои особые законы. Если это
так, то надо a fortiori предположить, что
соответствующие законы социального мышления будут
специфическими, как и само это мышление. Если в действительности
хоть немного иметь дело с данной категорией фактов,
трудно не ощутить эту специфику. Не благодаря ли ей,
401
в самом деле, нам кажутся столь странными особые
способы, которыми религиозные воззрения (являющиеся
прежде всего коллективными) смешиваются или
разделяются, превращаются друг в друга, образуя
противоречивые соединения, контрастирующие с обычными
результатами нашего индивидуального мышления? Если же, как
можно предположить, некоторые законы социального
мышления действительно напоминают те, которые
устанавливают психологи, то это не потому, что первые —
просто частный случай последних, но потому, что между
теми и другими наряду с несомненно важными
различиями имеются сходства, которые абстрактно можно выявить
и которые, впрочем, пока неизвестны. Это значит, что в
любом случае социология не сможет просто заимствовать
у психологии то или иное положение, чтобы применить
его в готовом виде к изучению социальных фактов.
Коллективное мышление целиком, как его форма, так и
содержание, должно изучаться само по себе, для самого
себя, с ощущением того, что в нем есть специфического,
и нужно оставить на будущее заботу о том, чтобы
обнаружить, в какой мере оно подобно мышлению отдельных
людей. В сущности, эта проблема относится скорее к
общей философии и абстрактной логике, чем к научному
исследованию социальных фактов 3.
III
Нам остается сказать несколько слов об определепии
социальных фактов, которое мы даем в первой главе. На
наш взгляд, они состоят в способах действий или
мышления, распознаваемых по тому свойству, что они
способны оказывать на отдельные сознания принуждающее
воздействие. По этому поводу возникла путаница, которую
стоит отметить.
Привычка применять к социологическим предметам
формы философского мышления настолько укоренилась,
что в этом предварительном определении часто видели
нечто вроде философии социального факта. Было сказано,
что мы объясняем социальные явления принуждением,
точно так же, как Тард объясняет их подражанием. У нас
нет подобного стремления, и нам даже не приходило на
3 Нет нужды демонстрировать, как с этой точки зрения
необходимость исследовать факты извне становится еще более
очевидной, поскольку они являются результатом синтеза, о котором мы
не имеем даже того смутного представления, которое сознание
может создать у нас о внутренних явлениях.
402
ум, что можно будет нам его приписывать, настолько оно
противоречит всякому методу. Мы предложили не
предвосхищение философским взглядом выводов науки, а
просто определение того, по каким внешним признакам
можно узнавать подлежащие научному исследованию факты,
чтобы ученый мог замечать их там, где они существуют,
и не смешивал их с другими фактами. Речь шла о том,
чтобы ограничить поле исследования настолько,
насколько возможно, а не пытаться охватить все чем-то
вроде всеохватывающего предчувствия. Поэтому мы весьма
охотно принимаем адресованный этому определению
упрек, что оно выражает не все признаки социального
факта и, следовательно, не является единственно возможным.
Действительно, нет ничего немыслимого в том, что он
может характеризоваться самыми различными способами,
так как нет никаких оснований для того, чтобы у него
было лишь одно отличительное свойство4. Важно лишь
выбрать то из них, которое наилучшим образом подходит
к поставленной цели. Весьма возможно даже
использование нескольких критериев соответственно
обстоятельствам. И мы признавали это иногда необходимым в
социологии, так как встречаются случаи, когда
принудительный характер факта нелегко обнаружить (с. 420). Все,
что требуется, поскольку речь идет о первоначальном
определении,— это чтобы используемые характеристики
были непосредственно различимы и могли быть замечены
до исследования. Но именно этому условию не
соответствуют определения, которые иногда противопоставлялись
нашему. Утверждалось, например, что социальный факт —
это «все, что производится в обществе и обществом» или
же «то, что интересует группу и влияет на нее каким-то
4 Принудительная власть, которую мы ему приписываем, даже
столь мало отражает в себе целостность социального факта, что
он может в равной мере содержать в себе и противоположный
признак. Институты навязываются нам, но вместе с тем мы и
дорожим ими; они обязывают нас, а мы любим их; они принуждают
нас, а мы находим выгоду в их функционировании и в самом этом
принуждении. Это та самая часто отмечавшаяся моралистами
антитеза между понятиями блага и долга, которые выражают две
различные, но одинаково реальные стороны нравственной жизни.
Не существует, вероятно, коллективных обычаев, которые бы не
оказывали на нас этого двойственного воздействия, впрочем,
противоречивого лишь внешне. Мы не определяли их этой особой
привязанностью, одновременно корыстной и бескорыстной, просто
потому, что она не проявляется во внешних, легко
воспринимаемых признаках. Благо содержит в себе нечто более внутреннее,
более интимное, чем долг, и, следовательно, менее уловимое.
403
ооразом». Но является или нет общество причиной
факта, или же этот факт имеет социальные последствия,
можно узнать только тогда, когда научное исследование
уже продвинулось достаточно далеко. Подобные
определения, стало быть, не могут служить определению
объекта начинающегося исследования. Чтобы можно было ими
воспользоваться, нужно было бьц чтобы исследование
социальных фактов уже достаточно далеко продвинулось и,
следовательно, чтобы было обнаружено какое-то другое
предварительное средство их распознавания.
Одновременно с тем, что наше определение нашли
слишком узким, было обнаружено, что оно слишком
широкое и охватывает почти всю реальность. Утверждалось,
в самом деле, что всякая физическая среда оказывает
принуждение в отношении существ, испытывающих ее
воздействие, так как они вынуждены в определенной
мере к ней адаптироваться. Но эти два вида
принуждения разделены между собой так же радикально, как
среда физическая и среда нравственная. Давление,
оказываемое одним или несколькими телами па другие тела или
даже на воли, нельзя смешивать с давлением,
оказываемым сознанием группы на сознания ее членов.
Специфика социального принуждения состоит в том, что оно
обусловлено не жесткостью определенных молекулярных
устройств, а престижем, которым наделены некоторые
представления. Правда, приобретенные или
унаследованные привычки в некоторых отношениях обладают тем же
свойством, что и физические факторы. Они господствуют
над нами, навязывают нам верования или обычаи. Но они
господствуют над нами изнутри, так как целиком
заключены в каждом из нас. Социальные же верования и
обычаи, наоборот, действуют на нас извне; поэтому влияние,
оказываемое теми и другими весьма различно.
Впрочем, не нужно удивляться тому, что другие
.явления природы в других формах содержат тот же
признак, которым мы определили социальные явления. Это
сходство происходит просто оттого, что и те и другие
представляют собой реальные явления. А все, что
реально, обладает определенной природой, которая
навязывается, с которой надо считаться и которая, даже тогда,
когда удается нейтрализовать ее, никогда не оказывается
полностью побежденной. В сущности, это самое
существенное в понятии социального принуждения. Все, что оно
в себе заключает,— это то, что коллективные способы
действия или мышления существуют реально вне индиви-
404
дов, которые постоянно к ним приспосабливаются. Это
вещи, обладающие своим собственным существованием.
Индивид находит их совершенно готовыми и не может
сделать так, чтобы их не было или чтобы они были
иными, чем они являются. Он вынужден поэтому учитывать
их существование, и ему трудно (мы не говорим:
невозможно) изменить их, потому что в различной степени
они связаны с материальным и моральным
превосходством общества над его членами. Несомненно, индивид
играет определенную роль в их возникновении. Но чтобы
существовал социальный факт, нужно, чтобы, по
крайней мере, несколько индивидов соединили свои действия
и чтобы эта комбинация породила какой-то новый
результат. А поскольку этот синтез имеет место вне
каждого из нас (так как он образуется из множества сознаний),
то он непременно имеет следствием закрепление,
установление вне нас определенных способов действий и
суждений, которые не зависят от каждой отдельно
взятой воли. Как было ранее отмечено 5, есть слово, которое,
если несколько расширить его обычное значение,
довольно хорошо выражает этот весьма специфический способ
бытия; это слово «институт». В самом деле, не искажая
смысла этого выражения, можно назвать институтом все
верования, все способы поведения, установленные
группой. Социологию тогда можно определить как науку об
институтах, их генезисе и функционировании в.
К другим спорам, вызванным этой работой, нам
кажется, не стоит обращаться, так как они не затрагивают
ничего существенного. Общая направленность метода не
зависит от приемов, которые предпочитают использовать
6 См. статью Фоконне и Мосса «Социология» в «La Grande
Encyclopédie».
β Из того, что социальные верования и обычаи проникают в нас
извне, не следует, что мы пассивно воспринимаем их, не
подвергая их изменениям. Осмысляя коллективные институты,
приспосабливая их к себе, мы их индивидуализируем, мы так или иначе
отмечаем их своей личной меткой. Таким образом, осмысляя
чувственно данный мир, каждый из нас окрашивает его на свой
манер, и различные субъекты по-разному адаптируются к одной и
той же физической среде. Вот почему каждый из нас в какой-то
мере создает себе свою мораль, свою религию, свою технику. Не
существует такого социального сходства, которое бы не содержало
в себе целой гаммы индивидуальных оттенков. Тем не менее
область дозволенных отклонений ограниченна. Она ничтожна или
очень незначительна в религиозных и нравственных явлениях, где
отклонение легко становится преступлением. Она более обширна
во всем, что касается экономической жизни. Цо раньше или позже,
даже в последнем случае, мы сталкиваемся с границей, которую
нельзя переступать.
405
либо для классификации социальных типов, либо для
различения нормального и патологического. Впрочем,
возражения часто основывались на том, что отказывались
принимать или же принимали с оговорками наш
основной принцип: объективную реальность социальных
фактов. А в конечпом счете именно на этом принципе все
основано и все к нему сводится. Вот почему нам
показалось полезным неоднократно подчеркивать его, очищая
его от всяких второстепенных вопросов. И мы уверены,
что, приписывая ему столь важную роль, мы остаемся
верны социологической традиции, так как, в сущности,
это та концепция, от которой произошла вся социология.
Эта наука в действительности могла родиться только в
Гот день, когда появилось предчувствие, что социальные
явления, не будучи материальными, все же представляют
собой реальные вещи, допускающие исследование. Чтобы
прийти к мысли, что надо исследовать, что они собой
представляют, необходимо было понять, что они
существуют определенным образом; что они имеют постоянный
способ существования и особую природу, не зависящую
от индивидуального произвола; что они возникают из
необходимых отношений. Поэтому история социологии
есть лишь длительное усилие с целью уточнить это
чувство, углубить его, развернуть все вытекающие из него
следствия. Но, как мы увидим в связи с данной работой,
несмотря на значительные успехи, достигнутые на этом
пути, сохраняется еще множество пережитков
антропоцентрического постулата, который здесь, как и в других
местах, преграждает дорогу науке. Человеку неприятно
отказываться от неограниченной власти над социальным
строем, которую он себе так долго приписывал, а с
другой стороны, ему кажется, что, если коллективные силы
действительно существуют, он непременно обречен
испытывать их воздействие, не имея возможности их
изменить. Именно это склоняет его к их отрицанию. Напрасно
опыт учит его, что это всемогущество, иллюзию которого
он охотно в себе поддерживает, всегда было для него
причиной слабости; что его власть над вещами реально
начинается только с того момента, когда он признает,
что они обладают своей собственной природой и когда
он станет смиренно узнавать у них, что они собою
представляют. Изгнанный из всех других наук, этот
достойный сожаления предрассудок упорно держится в
социологии. Поэтому нет ничего более насущного, чем
постараться окончательно освободить от него пашу науку. И в
отом состоит основная цель пагаих усилий.
Предисловие
к первому изданию
Научно обсуждать социальные факты — дело столь
необычное, что некоторые положения этой книги рискуют
удивить читателя. Однако если есть наука об обществах,
то она, надо ожидать, должна быть не простым
перепевом традиционных предрассудков, а должна показать нам
вещи в ином виде, чем они представляются
непосвященному. Всякая наука стремится к открытиям, а всякое
открытие расшатывает в известной мере установившиеся
мнения. Следовательно, если не приписывать
житейскому здравому смыслу такой авторитет в социологии, каким
он давно уже не пользуется в других науках (а неизя°-
стно, откуда бы этому авторитету вообще взяться), то
ученый должен бесповоротно решиться не пугаться тех
выводов, к которым приводят его исследования, если
последние проводились методически правильно. Если поиск
парадоксов — дело софиста, то бегство от них, когда они
навязываются фактами, есть доказательство ума
трусливого или не верящего в науку.
К сожалению, легче признать этот принцип
теоретически, нежели настойчиво применять его на практике. Мы
слишком привыкли еще решать все эти вопросы,
руководствуясь внушением здравого смысла, так что нам
нелегко держаться вдали от него в социологических вопросах.
Даже тогда, когда мы считаем себя свободными от его
влияния, он незаметно внушает нам свои решения. Лишь
путем долгой и специальной практики можпо
предохранить себя от подобной слабости. Вот это мы и просим
читателя не терять из виду. Пусть он постоянно помнит,
что те мыслительные приемы, к которым он больше всего
привык, скорее вредны, чем благоприятны для научного
исследования социальных явлений и что, следовательно,
он должен осторожно относиться к своим первым
впечатлениям. Если он отдастся им без сопротивления, то
рискует судить о нас, не поняв нас. Так, нас могли бы
обвинить в желании оправдать преступление на том
основании, что мы считаем его нормальным социологическим
явлением. Возражение это, однако, было бы наивным, так
как, если нормально, чтобы в каждом обществе соверша-
407
лись преступления, то не менее нормально и то, чтоЬы
они наказывались. Принятие репрессивных мер — факт
не менее универсальный, чем существование
преступности, не менее необходимый для общественного
благополучия. Для того чтобы не было преступлений, нужна была
бы такая нивелировка индивидуальных сознаний,
которая по причинам, изложенным ниже, невозможна и
нежелательна. Но, для того чтобы не было репрессивных
мер, необходимо было бы отсутствие нравственной
однородности, несовместимое с существованием общества.
Исходя из того факта, что преступление гнусно и вызывает
отвращение, здравый смысл ошибочно заключает, что оно
должно совершенно исчезнуть. Склонный к упрощению,
он не понимает, что явление, вызывающее отвращение,
вместе с тем может иметь некоторое полезное основание;
при этом здесь нет никакого противоречия. Разве в
организме нет весьма непривлекательных функций,
правильное отправление которых необходимо, однако, для
здоровья индивида? Разве мы не ненавидим страдание?
А между тем существо, незнакомое с ним, было бы
уродом. Нормальность какого-либо явления и вызываемое им
чувство отвращения могут быть даже тесно
взаимосвязаны. Если страдание есть нормальный факт, то лишь при
условии, что оно не возбуждает любви; если
преступление нормально, то лишь при условии, что оно
возбуждает ненависть \
Наш метод, следовательно, не заключает в себе
ничего революционного. В известном смысле он даже
консервативен, так как признает, что природа социальных
фактов, как бы гибка и податлива она ни была, не может,
1 Но, могут нам возразить, если здоровье заключает в себе
ненавистные элементы, то как же считать его, как мы это делаем
ниже, непосредственной целью поведения? Здесь, однако, нет
никакого противоречия. Беспрестанно случается, что какое-нибудь
явление, будучи вредным некоторыми из своих следствий,
другими, наоборот, полезно и даже необходимо для жизни. Если же
его дурные следствия регулярно нейтрализуются
противоположным влиянием, то фактически оно служит, не принося вреда.
Однако оно по-прежнему ненавистно, так как само по себе
представляет возможную опасность, предотвращаемую лишь действием
враждебной силы. Таково и преступление: вред, приносимый им
обществу, уничтожается наказанием, если последнее правильно
функционирует. Таким образом, не производя возможного для
него зла, оно поддерживает с основными условиями социальной
жизни полезные отношения, которые мы отметим впоследствии.
Но так как безвредным оно делается, так сказать, вопреки себе, то
вызываемое им чувство отвращения не лишено основания.
408
однако, произвольно подвергаться изменениям.
Насколько же опаснее доктрина, видящая в социальных фактах
продукт умственных комбинаций, который в один момент
может быть разрушен до основания простым
диалектическим приемом!
Точно так нее, привыкнув представлять себе
социальную жизнь как логическое развитие идеальных
концепций, сочтут, быть может, грубым тот метод, который
ставит общественную эволюцию в зависимость от
объективных, пространственно определенных условий, и
возможно, что нас признают материалистами. Между тем с
большим основанием мы могли бы требовать себе
противоположного наименования. Действительно, не
заключается ли сущность спиритуализма в той идее, что
психические явления не могут быть непосредственно выведены
из явлений органических? Наш же метод является
отчасти лишь приложением этого принципа к социальным
фактам. Так же как спиритуалисты отделяют мир
психических явлений от явлений биологических, мы отделяем
первые от явлений социальных; как и они, мы
отказываемся объяснять наиболее сложное наиболее простым.
Однако, говоря по правде, ни то ни другое название не
подходит к нам вполне, и мы принимаем лишь название «ра-
ционализм». Действительно, наше главное намерение
состоит в том, чтобы распространить на человеческое
поведение научный рационализм, показав, что
рассматриваемое в своем прошлом это поведение сводится к
отношениям причины и следствия, которые не менее
рациональным приемом могут быть затем превращены в
правила деятельности для будущего. То, что назвали нашим
позитивизмом, есть лишь следствие этого рационализма 2.
Пытаться выйти за пределы фактов с целью объяснить
их или управлять ими можно лишь в той мере, в какой
их считают иррациональными. Если они вполне понятны,
то их достаточно как для науки, так и для практики; для
науки — потому что тогда нет основания искать вне их
причины их существования; для практики — потому что
их полезность является одной из этих причин. Нам
представляется, таким образом, что особенно в наше время
возрождающегося мистицизма подобное предприятие
может и должно быть принято спокойно и даже с
симпатией всеми теми, кто, расходясь с нами в известпых
пунктах, разделяют нашу веру в будущее разума.
2 Это значит, что его не следует смешивать с позитивистской
метафизикой Конта и Спенсера.
ВВЕДЕНИЕ
До сих пор социологи мало занимались характеристикой
и определением метода, применяемого ими при изучении
социальных фактов. Так, во всех трудах Спенсера
проблема метода не занимает никакого места, а его сочинение
«Введение в изучение социологии», заглавие которого
могло бы ввести в заблуждение, посвящено разъяснению
трудностей и возможности социологии, а не изложению
тех приемов, которыми она должна была бы
пользоваться. Милль, правда, довольно много занимался этим
вопросом \ но он только пропустил сквозь решето своей
диалектики то, что было уже высказано Контом по этому
поводу, не прибавив от себя ничего нового.
Следовательно, глава из курса позитивной философии — вот почти
единственное оригинальное и значительное исследование,
которое мы имеем но данному вопросу 2.
В этой явной беспечности нет, впрочем, ничего
удивительного. Действительно, геликие социологи, имена
которых мы сейчас упомянули, не вышли еще за пределы
общих соображений о природе обществ, об отношениях
мира социальных явлений и явлений биологических, об
общем ходе прогресса. Даже обширная социология
Спенсера имеет целью лишь показать, каким образом закон
всеобщей эволюции применяется к обществам. Для того
же, чтобы рассматривать эти философские вопросы, не
нужно специальных и сложных приемов. Поэтому
социологи и довольствовались взвешиванием сравнительных
достоинств дедукции и индукции и краткой справкой
относительно самых общих средств, которыми располагает
социологическое исследование. Но предосторожности,
с которыми нужно наблюдать факты, способ постановки
главнейших проблем, направление, в котором должны
вестись исследования, специальные приемы, позволяющие
доводить эти исследования до конца, наконец, правила
относительно доказательств — все это не было определено.
/Благодаря счастливому стечению обстоятельств, в
первом ряду которых надо поставить учреждение для нас
1 Système de Logique, I, VI, Ch. VI-XII.
"· Cours de philosophic positive. 2e éd., p. 294-336.
410
постоянного курса социологии при филологическом
факультете в Бордо, мы могли рано посвятить себя
изучению социальной науки и сделать ее даже предметом
наших профессиональных занятий; благодаря этим
обстоятельствам, мы смогли выйти за пределы слишком общих
вопросов и затронуть некоторые частные проблемы. Сами
обстоятельства вынудили нас выработать себе метод
более определенный и, думается, более приспособленный к
особой природе социальных явлений. Вот эти-то
результаты нашей деятельности мы хотели бы изложить здесь
полностью и подвергнуть их обсуждению. Без сомнения,
они неявно содержатся уже и в недавнсг'издаиной нами
книге «О разделении общественного труда». Но мы
думаем, что было бы небезынтересно извлечь их оттуда и
сформулировать отдельно, сопровождая доказательствами
и иллюстрируя примерами, заимствованными частью из
вышеупомянутой книги, частью из работ, еще не
изданных. Таким образом можно будет лучше оценить
направление, которое мы хотели бы придать социологическим
исследованиям.
*
Глава I
ЧТО ТАКОЕ СОЦИАЛЬНЫЙ ФАКТ?
Прежде чем искать метод, пригодный для изучения
социальных фактов, важно узнать, что представляют собой
факты, носящие данное название.
Вопрос этот тем более важен, что данный термин
обыкновенно применяют не совсем точно.
Им зачастую обозначают почти все происходящие в
обществе явления, если только последние представляют
какой-либо общий социальный интерес. Но при таком
понимании не существует, так сказать, человеческих
событий, которые не могли бы быть названы социальными.
Каждый индивид пьет, спит, ест, рассуждает, и общество
очень заинтересовано в том, чтобы все эти функции
отправлялись регулярно.
Если бы все эти факты были социальными, то у
социологии не было бы своего собственного предмета, и ее
область слилась бы с областью биологии и психологии.
Но в действительности во всяком обществе
существует определенная группа явлений, отличающихся резко
411
очерченными свойствами от явлений, изучаемых другими
естественными науками.
Когда я действую как брат, супруг или гражданин,
когда я выполняю заключенные мною обязательства,
я исполняю обязанности, установленные вне меня и моих
действий правом и обычаями. Даже когда они согласны
с моими собственными чувствами и когда я признаю в
душе их реальность, последняя остается все-таки
объективной, так как я не сам создал их, а усвоил их
благодаря воспитанию.
Как часто при этом случается, что нам неизвестны
детали налагаемых на нас обязанностей, и для того чтобы
узнать их, мы вынуждены справляться с кодексом и
советоваться с его уполномоченными истолкователями!
Точно так же верующий при рождении своем находит уже
готовыми верования и обряды своей религии; если они
существовали до него, то, значит, они существуют вне
его. Система знаков, которыми я пользуюсь для
выражения моих мыслей, денежная система, употребляемая мною
для уплаты долгов, орудия кредита, служащие мне в
моих коммерческих сношениях, обычаи, соблюдаемые в моей
профессии, и т. д.— все это функционирует независимо
от того употребления, которое я из них делаю. Пусть
возьмут одного за другим всех членов, составляющих
общество, и все сказанное может быть повторено по поводу
каждого из них. Следовательно, эти способы мышления,
деятельности и чувствования обладают тем
примечательным свойством, что существуют вне индивидуальных
сознаний.
Эти типы поведения или мышления не только
находятся вне индивида, но и наделеньт принудительной
силой, вследствие которой они навязываются ему
независимо от его желания. Конечно, когда я добровольно
сообразуюсь с ними, это принуждение, будучи бесполезным,
мало или совсем не ощущается. Тем не менее опо
является характерным свойством этих фактов,
доказательством чего может служить то обстоятельство, что оно
проявляется тотчас же, как только я пытаюсь
сопротивляться. Если я пытаюсь нарушить нормы права, они
реагируют против меня, препятствуя моему действию, если
еще есть время; или уничтожая и восстанавливая его в
его нормальной форме, если оно совершено и может быть
исправлено; или же, наконец, заставляя меня искупить
его, если иначе его исправить нельзя. Относится ли
сказанное к чисто нравственным правилам?
412
Общественная совесть удерживает от всякого действия,
оскорбляющего их, посредством надзора за поведением
граждан и особых наказаний, которыми она располагает.
В других случаях принуждение менее сильно, но все-таки
существует. Если я пе подчиняюсь условиям света, если
я, одеваясь, не принимаю в расчет обычаев моей страны
и моего класса, то смех, мною вызываемый, и то
отдаление, в котором меня держат, производят, хотя и в более
слабой степени, то же действие, что и наказание в
собственном смысле этого слова. В других случаях имеет
место принуждение, хотя и косвенное, но не менее
действенное. Я не обязан говорить по-французски с моими
соотечественниками или использовать установленную
валюту, но я не могу поступить иначе. Если бы я
попытался ускользнуть от этой необходимости, моя попытка
оказалась бы неудачной.
Если я промышленник, то никто не запрещает мне
работать, употребляя приемы и методы прошлого столетия,
но если я сделаю это, я наверняка разорюсь. Даже если
фактически я смогу освободиться от этих правил и
успешно нарушить их, то я могу сделать это лишь после
борьбы с ними. Если даже в конце концов они и будут
побеждены, то все же они достаточно дают почувствовать
свою принудительную силу оказываемым ими
сопротивлением. Нет такого новатора, даже удачливого,
предприятия которого не сталкивались бы с оппозицией этого
рода.
Такова, стало быть, категория фактов, отличающихся
весьма специфическими свойствами; ее составляют
способы мышления, деятельности и чувствования,
находящиеся вне индивида и наделенные принудительной силой,
вследствие которой они ему навязываются. Поэтому их
нельзя смешивать ни с органическими явлениями, так
как они состоят из представлений и действий, ни с
явлениями психическими, существующими лишь в
индивидуальном сознании и через его посредство. Они составляют,
следовательно, новый вид, и им-то и должно быть
присвоено название социальных. Оно им вполне подходит,
так как ясно, что, не имея своим субстратом индивида,
они не могут иметь другого субстрата, кроме общества,
будь то политическое общество в целом или какие-либо
отдельные группы, в нем заключающиеся: религиозные
группы, политические и литературные школы,
профессиональные корпорации и т. д. С другой стороны, оно
применимо только к ним, так как слово «социальный»
413
имеет определенный смысл лишь тогда, когда обозначает
исключительно явления, не входящие ни в одну из
установленных и названных уже категорий фактов. Они
составляют, следовательно, собственную область социологии.
Правда, слово «принуждение», при помощи которого мы
их определяем, рискует встревожить ревностных
сторонников абсолютного индивидуализма. Поскольку они
признают индивида вполне автономным, то им кажется, что
его унижают всякий раз, как дают ему почувствовать,
что он зависит не только от самого себя. Но так как
теперь несомненно, что большинство наших идей и
стремлений не выработаны нами, а приходят к нам извне, то
они могут проникнуть в нас, лишь заставив признать
себя; вот все, что выражает наше определение. Кроме
того, известно, что социальное принуждение не
исключает непременно индивидуальность '.
Но так как приведенные нами примеры (юридические
и нравственные правила, религиозные догматы,
финансовые системы и т. п.) все состоят из уже установленных
верований и обычаев, то на основании сказанного можно
было бы подумать, что социальный факт может быть
лишь там, где есть определенная организация. Однако
существуют другие факты, которые, не представляя
собой таких кристаллизованных форм, обладают той же
объективностью и тем же влиянием на индивида. Это так
называемые социальные течения.
Так, возникающие в многолюдных собраниях великие
движения энтузиазма, негодования, сострадания не
зарождаются ни в каком отдельном сознании. Они приходят
к каждому из нас извне и способны увлечь нас, вопреки
нам самим. Конечно, может случиться, что, отдаваясь им
вполне, я не буду чувствовать того давления, которое они
оказывают на меня. Но оно проявится тотчас, как только
я попытаюсь бороться с ними. Пусть какой-нибудь
индивид попробует противиться одной из этих коллективных
манифестаций, и тогда отрицаемые им чувства обратятся
против него. Если эта сила внешнего принуждения
обнаруживается с такой ясностью в случаях сопротивления,
то, значит, она существует, хотя не осознается, и в
случаях противоположных. Таким образом, мы являемся
жертвами иллюзии, заставляющей нас верить в то, что
мы сами создали то, что навязано нам извне. Но если го-
1 Это не значит, что всякое принуждение нормально. Мы к
этому вернемся впоследствии.
414
товность, с какой мы впадаем в эту иллюзию, и
маскирует испытанное давление, то она его не уничтожает. Так,
воздух все-таки обладает весом, хотя мы и не чувствуем
его. Даже если мы со своей стороны содействовали
возникновению общего чувства, то впечатление, полученное
нами, будет совсем другим, чем то, которое мы испытали
бы, если бы были одни. Поэтому когда собрание
разойдется, когда эти социальные влияния перестанут
действовать на нас и мы останемся наедине с собой, то
чувства, пережитые нами, покажутся нам чем-то чуждым,
в чем мы сами себя не узнаем. Мы замечаем тогда, что
мы их гораздо более испытали, чем создали. Случается
даже, что они вызывают в нас ужас, настолько они были
противны нашей природе. Так, индивиды, в
обыкновенных условиях совершенно безобидные, соединяясь в
толпу, могут вовлекаться в акты жестокости. То, что мы
говорим об этих мимолетних вспышках, применимо также
и к тем более длительным движениям общественного
мнения, которые постоянно возникают вокруг нас или во
всем обществе или в более ограниченных кругах по
поводу религиозных, политических, литературных,
художественных и других вопросов.
Данное определение социального факта можно
подтвердить еще одним характерным наблюдением, стоит
только обратить внимание на то, как воспитывается
ребенок. Если рассматривать факты такими, каковы они
есть и всегда были, то нам бросится в глаза, что все
воспитание заключается в постоянном усилии приучить
ребенка видеть, чувствовать и действовать так, как он
не привык бы самостоятельно. С самых первых дней его
жизни мы принуждаем его есть, пить и спать в
определенные часы, мы принуждаем его к чистоте, к
спокойствию и к послушанию; позднее мы принуждаем его
считаться с другими, уважать обычаи, приличия, мы
принуждаем его к работе и т. д. Если с течением времени
это принуждение и перестает ощущаться, то только
потому, что оно постепенно рождает привычки, внутренние
склонности, которые делают его бесполезным, но
заменяют его лишь вследствие того, что сами из него
вытекают. Правда, согласно Спенсеру, рациональное воспитание
должно было бы отвергать такие приемы и предоставлять
ребенку полную свободу; но так как эта педагогическая
теория никогда не практиковалась ни однимГ~йз"извест-
ных народов, то она составляет лишь desideratum автора,
415
а не факт, который можно было бы противопоставить
изложенным фактам. Последние же особенно поучительны
потому, что воспитание имеет целью создать социальное
существо; на нем, следовательно, можно увидеть в общих
чертах, как образовалось это существо в истории. Это
давление, ежеминутно испытываемое ребенком, есть не
что иное, как давление социальной среды, стремящейся
сформировать его по своему образу и имеющей своими
представителями и посредниками родителей и учителей.
Таким образом, характерным признаком социальных
явлений служит не их распространенность. Какая-нибудь
мысль, присущая сознанию каждого индивида,
какое-нибудь движение, повторяемое всеми, не становятся от
этого социальными фактами. Если этим признаком и
довольствовались для их определения, то это потому, что их
ошибочно смешивали с тем, что может быть названо их
индивидуальными воплощениями. К социальным фактам
принадлежат верования, стремления, обычаи группы,
взятой коллективно; что же касается тех форм, в которые
облекаются коллективные состояния, передаваясь
индивидам, то это явления иного порядка. Двойственность их
природы наглядно доказывается тем, что обе эти
категории фактов часто встречаются в разъединенном
состоянии. Действительно, некоторые из этих образов мыслей
или действий приобретают вследствие повторения
известную устойчивость, которая, так сказать, создает из них
осадок и изолирует от отдельных событий, их
отражающих. Они как бы приобретают, таким образом, особое
тело, особые свойственные им осязательные формы и
составляют реальпость sui generis, очень отличную от
воплощающих ее индивидуальных фактов. Коллективная
привычка существует не только как нечто имманентное
ряду определяемых ею действий, но по привилегии, не
встречаемой нами в области биологической, она
выражается раз и навсегда в какой-нибудь формуле,
повторяющейся из уст в уста, передающейся воспитанием,
закрепляющейся даже письменно. Таковы происхождение и
природа юридических и нравственных правил, народных
афоризмов и преданий, догматов веры, в которых
религиозные или политические секты кратко выражают свои
убеждения, кодексов вкуса, устанавливаемых
литературными школами и пр. Существование всех их не
исчерпывается целиков применениями их в жизни отдельных лиц,
так как они могут существовать и не будучи
применяемы в настоящее время.
416
Конечно, эта диссоциация не всегда одинаково четко
проявляется. Но достаточно ее неоспоримого
существования в поименованных нами важных и многочисленных
случаях, для того чтобы доказать, что социальный факт
отличен от своих индивидуальных воплощений. Кроме
того, даже тогда, когда она не дана непосредственно
наблюдению, ее можно часто обнаружить с помощью
некоторых искусственных приемов; эту операцию даже
необходимо произвести, если желают освободить социальный
факт от всякой примеси и наблюдать его в чистом виде.
Так, существуют известные течения общественного
мнения, вынуждающие нас с различной степенью интенсивно- v
сти, в зависимости от времени и страны, одного,
например, к браку, другого к самоубийству или к более или
менее высокой детыости и т. п. Это, очевидно, социаль-,1
ные факты. С первого взгляда они кажутся
неотделимыми от форм, принимаемых ими в отдельных случаях. Но
статистика дает нам средство изолировать их. Они в
действительности изображаются довольно точно цифрой
рождаемости, браков и самоубийств, т. е. числом,
получающимся от разделения среднего годового итога браков,
рождений, добровольных смертей на число лиц, по
возрасту способных жениться, производить, убивать себя2.
Так как каждая из этих цифр охватывает без различия
все отдельные случаи, то индивидуальные условия,
способные сказываться на возникновении явления, взаимно
нейтрализуются и вследствие этого не определяют этой
цифры. Она выражает лишь известное состояние
коллективной души.
Вот что такое социальные явления, освобожденные от
всякого постороннего элемента. Что же касается их
частных проявлений, то и в них есть нечто социальное, так
как они частично воспроизводят коллективный образец.
Но каждое из них в большой мере зависит также и от
психоорганической конституции индивида, и от особых
условий, в которых он находится. Они, следовательно, не
относятся к собственно социологическим явлениям. Они
принадлежат одновременно двум областям, и их можно
было бы назвать социопсихическими. Они интересуют
социолога, не составляя непосредственного предмета
социологии. Точно так же и в организме встречаются яв-
2 Не во всяком возрасте и не во всех возрастах одинаково
часто прибегают к самоубийству.
14 Э. Дюркгейм
417
леыия смешанного характера, которые изучаются
смешанными науками, как, например, биологической химией.
Но, скажут нам, явление может быть общественным
лишь тогда, когда оно свойственно всем членам
общества, или, по крайней мере, большинству из них,
следовательно, при условии всеобщности. Без сомнения, однако,
оно всеобще лишь потому, что социально (т. е. более или
менее обязательно), а отнюдь не социально потому, что
всеобще. Это такое состояние группы, которое
повторяется у индивидов, потому что оно навязывается им. Оно
находится в каждой части, потому что находится в целом,
а вовсе не потому оно находится в целом, что находится
в частях. Это особенно очевидно относительно верований
и обычаев, передающихся нам уже вполне
сложившимися от предшествующих поколений. Мы принимаем и
усваиваем их, потому что они, как творение коллективное и
вековое, облечены особым авторитетом, который мы
вследствие воспитания привыкли уважать и признавать. А надо
заметить, что огромное большинство социальных явлений
приходит к нам этим путем. Но даже тогда, когда
социальный факт возникает отчасти при нашем прямом
содействии, природа его все та же. Коллективное чувство,
вспыхивающее в собрании, выражает не только то, что
было общего между всеми индивидуальными чувствами.
Как мы показали, оно есть нечто совсем другое. Оно есть
результирующая совместной жизни, продукт действий и
противодействий, возникающих между индивидуальными
сознаниями. И если оно отражается в каждом из них, то
это в силу той особой энергии, которой оно обязано
своему коллективному происхождению. Если все сердца
бьются в унисон, то это не вследствие самопроизвольного
и предустановленного согласия, а потому, что их движет
одна и та же сила и в одном и том же направлении.
Каждого увлекают все.
/ Итак, мы можем точно представить себе область со-
/циологии. Она охватывает лишь определенную группу
явлений^ Социальный факт узнается лишь по той внешней
принудительной власти, которую он имеет или способен
иметь над ипдивидами. А присутствие этой власти
узнается, в свою очередь, или по существованию
какой-нибудь определенной санкции, или по сопротивлению,
оказываемому этим фактом каждой попытке индивида
выступить против него. Его можно определить также и по
распространению его внутри группы, если только, в
соответствии с предыдущими замечаниями, будет прибавле-
418
но в качестве второго основного признака, что он
Существует независимо от индивидуальных форм,
принимаемых им при распространении. В иных случаях последний
критерий даже легче применять, чем первый.
Действительно, принуждение легко констатировать, когда оно
выражается вовне какой-нибудь прямой реакцией
общества, как это бывает в праве, в морали, в верованиях,
в обычаях, даже в модах. Но, когда оно лишь косвенное,
что имеет место, например, в экономической
организации, оно не так легко заметно. Тогда бывает легче
установить всеобщность вместе с объективностью. К тому же
это второе определение есть лишь другая форма первого,
так как если способ поведения, существующий вне
индивидуальных сознаний, становится общим, то он может
стать таким лишь с помощью принуждения 3.
Однако можно было бы спросить, полно ли это
определение. Действительно, все факты, послужившие нам
основанием для него, являются различными способами
действия-, они относятся к физиологической категории.
Однако существуют еще формы коллективного бытия, т. е.
социальные факты анатомического или морфологического
порядка. Социология не может не интересоваться тем,
что образует субстрат коллективной жизни. Однако число
и характер основных элементов, из которых слагается
общество, способы их сочетания, степень достигнутой
ими сплоченности, распределение населения по
территории, число и. характер путей сообщения, форма жилищ
3 Это определение социального факта, как видно, весьма
далеко от определения, служившего основанием остроумной системы
Тарда. Мы должны заявить прежде всего, что наши исследования
не дали нам возможности констатировать то преобладающее
влияние, которое 1ард приписывает подражанию в генезисе
социальных фактов. Кроме того, из предшествующего определения,
являющегося не теорией, а простым итогом данных непосредственных
наблюдений, кажется, ясно вытекает, что подражание не только
не всегда выражает, но даже никогда не выражает того, что
составляет сущность и характерную особенность социальных фактов.
Конечно, каждый социальный факт распространяется подражанием;
как мы указали, он имеет тенденцию к распространению; но это
потому, что он социален, т. е. обязателен. Его способность
распространяться - не причина, а следствие его социального характера.
Если бы социальные факты одни вызывали это следствие, то
подражание могло бы если не объяснять, то, по крайней мере,
определять их. Но передающееся подражанием индивидуальное
состояние не перестает все-таки быть индивидуальным состоянием.
Кроме того, можно было бы спросить, подходит ли слово
«подражание» для обозначения распространения, вызванного силою
принуждения. Этим выражением одинаково обозначают весьма несходные
явления, которые следовало бы различать.
419
14*
и т. Д., на первый взгляд, не могут быть сведены к
способам действия, чувствования и мышления.
Но прежде всего эти разнообразные явления содержат
те же характерные признаки, которые послужили нам
для определения других явлений. Эти формы бытия
навязываются индивиду так же, как и те способы действия,
о которых мы говорили выше. Действительно, если хотят
узнать политическое деление общества, состав его
отдельных частей, более или менее тесную связь между
ними, то этого можно достигнуть не при помощи
материального осмотра или географического обзора, так как
деления идеальны даже тогда, когда некоторые их
основания заложены в физической природе. Лишь
посредством изучения публичного права можно узнать эту
организацию, так как именно это право определяет наши
семейные и гражданские отношения. Она, следовательно,
не менее обязательна. Если наше население теснится в
городах, вместо того чтобы рассеяться по деревням, то
это потому, что существует коллективное мнение,
принуждающее индивидов к этой концентрации. Мы так же
не можем выбирать форму наших жилищ, как и фасоны
нашей одежды: первая обязательна в такой же мере, как
и последние. Пути сообщения настоятельным образом
определяют направление, в котором совершаются
внутренние миграции и обмен, и даже интенсивность этих
миграций и обмена и т. д. Следовательно, к перечисленному
нами ряду явлений, имеющих отличительный признак
социальных фактов, можно было бы прибавить еще одну
категорию; но так как это перечисление не было
исчерпывающим, то такое прибавление необязательно.
Оно даже неполезно, так как эти формы бытия суть
лишь устоявшиеся способы действий. Политическая
структура общества есть лишь тот способ, которым
привыкли жить друг с другом различные сегменты,
составляющие это общество. Если их отношения традиционно
тесны, то сегменты стремятся слиться, в
противоположном случае они стремятся к разъединению. Тип нашего
жилища представляет собой лишь тот способ, которым
привыкли строить дома все вокруг нас и отчасти —
предшествующие поколения. Пути сообщения являются лишь
тем руслом, которое прорыло себе регулярно
совершающееся в одном и том же направлении течение обмена и
миграций и т. д.
Конечно, если бы только явления морфологического
порядка представляли такую устойчивость, то можно бы
420
подумать, что они представляют собой особый вид. Но
юридическое правило — устройство не менее устойчивое
и постоянное, чем архитектурный тип, а между тем это
факт физиологический.
Простая нравственная максима, конечно, более
изменчива, но ее формы бывают более устойчивыми, нежели
профессиональный обычай или мода. Притом существует
целый ряд переходных ступеней, которыми наиболее
характерные по своей структуре социальные факты
соединяются с теми свободными течениями социальной жизни,
которые еще не вылились в определенную форму.
Следовательно, между ними есть различия лишь в степени
их прочности. И те и другие представляют лишь более
или менее кристаллизованную форму. Конечно, быть
может, полезно сохранить для социальных фактов,
составляющих социальный субстрат, название морфологических,
но при этом не надо терять из виду, что по природе
своей они одинаковы с другими фактами.
Наше определение будет, следовательно, полно,
если мы скажем: социальным фактом является всякий
способ действий, устоявшийся или нет, способный
оказывать на индивида внешнее принуждение] или иначе:
распространенный на всем протяжении данного общества,
имеющий в то же время свое собственное
существование, независимое от его индивидуальных проявлений4.
*
Глава II
ПРАВИЛА, ОТНОСЯЩИЕСЯ К НАБЛЮДЕНИЮ
СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОВ
Первое и основное правило состоит в том, что
социальные факты нужно рассматривать как вещи.
I
В тот момент, когда определенный класс явлений
становится объектом науки, в уме человеческом существуют
4 Это тесное родство жизни и структуры, органа и функции
может быть легко установлено в социологии, потому что между этими
двумя крайними пределами существует целый ряд промежуточных
степеней, непосредственно наблюдаемых и обнаруживающих связь
между ними. У биологии нет такого средства. Но можно думать, что
индукции первой из этих наук по этому поводу применимы и к
другой и что в организмах, как и в обществах, между этими двумя
категориями фактов существуют различия лишь в степени.
421
уже не только чувственные образы этих явлений, но и
разного рода понятия о них, сформировавшиеся из
самых различных источников. Так, еще до первых
зачатков физики и химии у людей были уже известные
понятия о физико-химических явлениях, выходившие за
пределы чистых восприятий: таковы, например, те понятия,
которые примешаны ко всем религиям. Это значит, что
на самом деле рефлексия предшествует науке, которая
лишь пользуется ею при помощи более строгого метода.
Человек не может жить среди явлений, не составляя себе
о них идей, которыми он руководствуется в своем
поведении. Но так как эти понятия ближе и понятнее нам,
чем реальности, которым они соответствуют, то мы,
естественно, склонны заменять ими последние и делать их
предметом наших размышлений. Вместо того чтобы
наблюдать вещи, описывать и сравнивать их, мы
довольствуемся тогда тем, что проясняем наши идеи,
анализируем и комбинируем их. Науку о реальности мы подменяем
анализом понятий. Конечно, этот анализ не исключает
непременно всякое наблюдение. К фактам можно
обращаться для того, чтобы подтвердить эти понятия или
сделанные из них выводы. Но факты в этом случае
являются чем-то второстепенным; они служат примерами
или подтверждающими доказательствами, а не предметом
науки. Последняя движется от идей к вещам, а не от
вещей к идеям.
Ясно, что такой метод не может дать объективных
результатов. Действительно, эти понятия или концепции,
как бы их ни называли, не являются законными
заместителями вещей. Эти продукты обыденного опыта призваны
прежде всего приводить в гармонию наши действия с
окружающим нас миром; они выработаны практикой и
для нее. Но эту роль с успехом может выполнить и
представление теоретически ложное. Коперник
несколько столетий тому назад рассеял иллюзии наших чувств
относительно движения светил, а между тем обычно мы
распределяем наше время, руководствуясь этими
иллюзиями. Для того чтобы какая-нибудь идея вызывала
действие, согласное с природой данной вещи, не нужно
непременно, чтобы она верно воспроизводила эту
природу; достаточно, если она даст нам почувствовать, что в
этой вещи полезного или невыгодного, чем она может
служить нам и чем повредить. Понятия, сформированные
таким образом, представляют эту практическую
правильность лишь приблизительно, и то лишь в большинстве
422
случаев. Как часто они столь же опасны, сколь
несовершенны! Следовательно, нельзя открыть законы
реальности, разрабатывая эти понятия, как бы мы ни брались
за это. Эти понятия, наоборот, походят на покрывало,
находящееся между нами и вещами и скрывающее их
от нас тем лучше, чем прозрачнее оно нам кажется.
Такая наука не только урезана, но и лишена
необходимой ей пищи. Едва она возникает, как уже исчезает,
так сказать превращаясь в искусство. Действительно,
считается, что означенные понятия содержат в себе все
существенное в реальности, так как их смешивают с
самой реальностью. Поэтому кажется, что в них есть все,
что надо для того, чтобы не только привести нас к
пониманию существующего, но и предписывать нам то, что
должно быть, и указывать нам средство осуществления
должного. Ибо хорошо то, что сообразно с природой
вещей; то же, что ей противоречит, плохо, и средства
достигнуть одного и избежать другого вытекают из самой
этой природы. Если, стало быть, мы постигаем ее сразу,
то изучение существующей реальности не имеет более
практического интереса, а поскольку именно он служит
основанием этого изучения, то последнее отныне
становится бесцельным. Таким образом, размышление
отворачивается от того, что составляет собственно объект
науки, а именно от настоящего и прошлого, с тем чтобы
одним прыжком устремиться в будущее. Вместо того
чтобы стараться понять факты, уже сложившиеся и
реализованные, оно принимается непосредственно за
осуществление новых фактов, более отвечающих
человеческим целям. Когда люди верят, что познали сущность
материи, они сейчас же принимаются за поиски
философского камня. Этот захват науки искусством,
мешающий первой развиваться, облегчается еще самими
обстоятельствами, вызывающими пробуждение научной
рефлексии. Так как последняя появляется для
удовлетворения жизненных потребностей, то она совершенно
естественно оказывается обращенной к практике. Потребности,
которые она призвана удовлетворить, всегда
настоятельны и потому торопят ее с окончательными выводами:
они требуют не объяснений, а лекарств.
Такой подход настолько соответствует естественной
склонности нашего ума, что он встречается даже при
возникновении физических наук. Именпо он отличает
алхимию от химии и астрологию от астрономии. Таков,
по словам Бэкона, оспариваемый им метод ученых его
423
времени. Понятия, о которых мы только что говорили,
и суть те notiones vulgar es или praenotiones \ которые
он находил в основе всех наук \ где они замещают
факты3. Это idola, род призраков, искажающих
истинный вид вещей и принимаемых нами за сами вещи. А так
как эта воображаемая среда не оказывает нашему уму
никакого сопротивления, то он, не чувствуя никаких
стеснений, предается безграничному честолюбию и считает
возможным построить или, скорее, перестроить мир
одними своими силами и согласно своим желаниям.
/ Если таково было положение естественных наук, то
теяГ более так должно было произойти с социологией.
Люди не дожидались утверждения социальной науки, для
того чтобы создать себе понятия о праве, нравственно-
ности, семье, государстве, обществе, потому что они не
могли жить без них. И в социологии более, чем где-либо,
эти «предпонятия», используя выражение Бэкона, могут
господствовать над умами и заменять собой вещи.
Действительно, социальные явления осуществляются только
людьми, они являются продуктами человеческой
деятельности. Они, стало быть, не что иное, как осуществление
присущих нам идей, врожденных или нет, не что иное,
как применение их к различным обстоятельствам,
сопровождающим отношения людей между собой.\Организация
семьи, договорных отношений, репрессивяь!х мер,
государства, общества выступает, таким образом, как простое
развитие идей, имеющихся у нас относительно общества,
государства, справедливости и т. д. Следовательно, эти и
аналогичные им факты, по-видимому, обладают
реальностью лишь в идеях и через посредство идей, которые
являются их источником, а потому и истинным предметом
социологии.
Этот взгляд окончательно подтверждается тем, что,
поскольку социальная жизнь во всей полноте своей
выходит за пределы сознания, последнее не обладает
достаточной силой восприятия для того, чтобы чувствовать ее
реальность. Так как для такого восприятия у нас нет
достаточно тесной и прочной связи с ней, то она легко
производит на нас впечатление чего-то ни к чему не
прикрепленного, плывущего в пустоте, чего-то
полуреального и крайне податливого. Вот почему столько
мыслителей видели в социальных устройствах лишь искусствен-
1 Novum organum. I, p. 26.
2 Ibid., p. 17.
3 Ibid., p. 36.
424
иые и более или менее произвольные комбинации. Но
если детали или конкретные и частные формы
ускользают от нас, то мы, по крайней мере, составляем себе
самые общие и приблизительные представления о
коллективном бытии в целом, и эти-то схематичные и общие
представления и являются теми «предпонятиями»,
которыми мы пользуемся в обыденной жизни. Мы не можем,
стало быть, и помыслить о том, чтобы усомниться в их
существовании, так как замечаем последнее
одновременно с нашим. Они существуют не только в нас, но,
будучи продуктом повторных опытов, они от повторения и
происходящей отсюда привычки получают известного
рода влияние и авторитет. Мы чувствуем их
сопротивление, когда стараемся освободиться от них. А мы не
можем не считать реальным того, что нам сопротивляется.
Все, следовательно, способствует тому, чтобы заставить
нас видеть в них истинную социальную реальность.
ГЖ действительно, до сих пор социология почти исклю^
чительно рассуждала не о вещах, но о понятиях.) Конт,
правда, провозгласил, что социальные явления еуть
естественные факты, подчиненные естественным законам.
Этим он неявно признал их вещами, так как в природе
существуют лишь вещи. Но, выйдя за пределы этих
философских обобщений, он пытается применить свой
принцип и построить соответствующую ему науку, делая
объектом изучения именно идеи. Действительно, главным
содержанием его социологии является прогресс
человечества во времени. Он отправляется от той идеи, что
существует непрерывная эволюция человеческого рода,
заключающаяся во все более полной реализации
человеческой природы, и ставит своей задачей обнаружение
порядка этой эволюции. Однако если и предположить, что
эта эволюция существует, то реальность ее
существования может быть установлена лишь тогда, когда наука
уже возникла; следовательно, ее можно было сделать
объектом исследования, лишь выдвигая ее как
концепцию разума, а не как вещь. И действительно, это
представление совершенно субъективно, фактически этого
прогресса человечества не существует. Существуют же и
даны наблюдению лишь отдельные общества, которые
рождаются, развиваются и умирают независимо одно от
другого. Если бы еще позднейшие служили
продолжением предшествующих, то каждый высший тип можно
было бы рассматривать как простое повторение
ближайшего низшего типа с небольшим прибавлением. Можно
425
было бы поставить их тогда одно за другим, соединяя в
одну группу те, которые находятся на одинаковой
ступени развития; и ряд, образованный таким образом, мог
бы считаться представляющим человечество. Но факты не
так просты. Народ, заступающий место другого народа,
не является простым продолжением последнего с
некоторыми новыми свойствами; он — иной, у него некоторых
свойств больше, других меньше. Он составляет новую
индивидуальность, и все эти отдельные
индивидуальности, будучи разнородными, не могут слиться ни в один
и тот же непрерывный ряд, ни, особенно, в единственный
ряд. Последовательный ряд обществ не может быть
изображен геометрической линией, он скорее похож на
дерево, ветви которого расходятся в разные стороны. В
общем, Конт принял за историческое развитие то понятие,
которое он составил о нем и которое немногим
отличается от обыденного понятия. Действительно, история,
рассматриваемая издали, легко принимает такой простой
и последовательный вид. Видны лишь индивиды,
последовательно сменяющие друт друга и идущие в одном и
том же направлении, так как природа у них одна и та
же. Поскольку к тому же считается, что социальная
эволюция не может быть ничем иным, как только
развитием какой-нибудь человеческой идеи, вполне
естественно определить ее тем понятием, которое люди о ней
составляют. Однако, действуя таким образом, не только
остаются в области идей, но и делают объектом
социологии понятие, не имеющее в себе ничего собственно
социологического.
Спенсер устраняет это понятие, но лишь для того,
чтобы заменить его другим, сформированным по тому же
образцу. Объектом науки он считает не человечество,
а общества. Но он тут же дает такое определение
последних, которое устраняет вещь для того, чтобы поставить
па ее место предпонятие, существующее у него об этих
обществах. Действительно, он признает очевидным то
положение, что «общество существует лишь тогда, когда к
совместному пребыванию индивидов добавляется
кооперация», что лишь благодаря этому союз индивидов
становится обществом в собственном смысле этого слова4.
Затем, исходя из того принципа, что кооперация есть
сущность социальной жизни, он разделяет общества на
два класса в зависимости от характера господствующей
4 Sociologie, III, p. 331, 332.
426
кооперации. «Существует,— говорит он,—
самопроизвольная кооперация, которая происходит непреднамеренно во
время преследования целей частного характера;
существует также сознательно установленная кооперация,
предполагающая ясно признанные цели общественного
интереса» 5. Первые он называет промышленными, вторые —
военными, и об этом различии можно сказать, что оно
является исходной идеей социологии.
Но это предварительное определение объявляет
реальной вещью то, что есть лишь умозрение.
Действительно, оно выдается за выражение непосредственно
воспринимаемого и констатируемого наблюдением факта,
так как оно сформулировано в самом начале науки как
аксиома. А между тем невозможно узнать простым
наблюдением, действительно ли кооперация есть суть
социальной жизни. Такое утверждение было бы научно
правомерно лишь в том случае, если бы начали с
обзора всех проявлений коллективного бытия и доказали, что
все они являются различными формами кооперации.
Следовательно, здесь также определенный способ
видения социальной реальности заменяет собой эту
реальность 6. Означенной формулой определяется не
общество, а та идея, которую составил себе о нем Спенсер.
И если он не испытывает никакого сомнения, действуя
таким образом, то это потому, что и для него общество
есть и может быть лишь реализацией идеи, а именно
той самой идеи кооперации, посредством которой он его
определяет7. Легко показать, что в каждом отдельном
вопросе, которого он касается, его метод остается
одинаковым. Поэтому хотя он и делает вид, что действует
эмпирически, но так как факты, собранные в его
социологии, скорее используются для иллюстрации анализа
понятий, чем для описания и объяснения вещей, то они
лишь кажутся аргументами. В действительности, все
существенное в его учении может быть непосредственно
выведено из его определения общества и различных
форм кооперации. В самом деле, если у нас есть выбор
лишь между тиранически навязываемой кооперацией и
кооперацией самопроизвольной и свободной, то, очевид-
5 Ibid., p. 332.
β К тому же способ этот можно оспаривать. См.: Division du
travail social, II, 2, § 4.
7 «Кооперация не может существовать без общества, и это цель,
для которой общество существует» (Principes de sociologie, HI,
p. 332).
427
но, именно последняя и будет тем идеалом, к которому
стремится и должно стремиться человечество.
Эти обыденные понятия встречаются не только в
основе науки; на них наталкиваешься ежеминутно во всех
ее построениях. При нынешнем состоянии наших знаний
мы не знаем достоверно, что такое государство,
суверенитет, политическая свобода, демократия, социализм,
коммунизм и т. д. Следовательно, с точки зрения
правильного метода, нужно было бы запретить себе
употребление этих понятий, пока они научно не установлены.
А между тем слова, их выражающие, встречаются
постоянно в рассуждениях социологов. Их употребляют без
запинки и с уверенностью, как будто они соответствуют
вещам, хорошо известным и определенным, тогда как
они порождают в нас лишь расплывчатые понятия,
неясную смесь смутных впечатлений, предрассудков и
страстей. Мы смеемся теперь над странными
рассуждениями средневековых медиков с их понятиями теплого,
холодного, сухого, сырого и т. д. и не замечаем, что
продолжаем применять тот же метод к разряду явлений,
для которых он менее всего пригоден вследствие их
чрезвычайной сложности.
В специальных отраслях социологии этот метод
присутствует еще более явно. Особенно часто он
используется в изучении нравственности. Действительно, можно
сказать, что нет ни одной системы, в которой она не
представлялась бы простым развитием исходной идеи,
заключающей в себе ее всю. Одни думают, что эту идею
человек находит вполне готовой в себе при своем
рождении; другие, наоборот, полагают, что она
слагается более или менее медленно в ходе истории. Но как
для тех, так и для других, как для эмпиристов, так и
для рационалистов она составляет все действительно
реальное в нравственности. Что же касается деталей
юридических и нравственных правил, то они не имеют,
так сказать, собственного существования, а являются
лишь различными, смотря по обстоятельствам,
применениями этой основной идеи к отдельным случаям жизни.
Объектом этики оказывается не система предписаний,
лишенных реального существования, а идея, из которой
они вытекают и разнообразными применениями которой
они являются. Поэтому все вопросы, которые задает
себе обыкновенно этика, относятся не к вещам, а к
идеям. Речь идет о том, чтобы узнать, в чем состоит идея
права, идея нравственности, а не какова природа нравст-
428
венности и права самих по себе. Моралисты не дошли
еще до той очень простой идеи, что, подобно тому как
наше представление о чувственно воспринимаемых
вещах проистекает от самих этих предметов и выражает их
более или менее точно, так и наше представление о
нравственности вытекает из наблюдения правил,
функционирующих у нас перед глазами, и изображает их
схематически; что, следовательно, сами эти правила, а не общий
взгляд на них, составляют содержание науки, точно так
же как предметом физики служат тела в том виде,
в каком они существуют, а не идеи, создаваемые о них
толпой. Отсюда следует, что за основание
нравственности принимают то, что является лишь ее вершиной,
а именно ту форму, в которой она отражается и
продолжает свое бытие в индивидуальных сознаниях.
И этому методу следуют не только в самых общих, но и
в специальных вопросах науки. От основных идей,
исследуемых вначале, моралист переходит к идеям
второстепенным, к идеям семьи, родины, ответственности,
милосердия, справедливости; но его рассуждения
по-прежнему относятся только к идеям.
Так же обстоит дело и в политической экономии.
Предметом ее, говорит Стюарт Милль, служат
социальные факты, возникающие главным образом или
исключительно с целью накопления богатств 8. Но, чтобы
подходящие под это определение факты могли наблюдаться
ученым как вещи, нужно было бы, по крайней мере,
указать, по какому признаку можно узнать подобные
факты. Вначале же науки не имеют права даже
утверждать, что они существуют, и тем более нельзя знать,
каковы они. Действительно, во всяком виде исследований
установить, что факты имеют цель и какова она,
возможно лишь тогда, когда объяснение этих фактов достаточно
продвинулось вперед. Нет проблемы более сложной и
менее пригодной для быстрого решения. Ничего ведь не
убеждает нас заранее в том, что существует сфера
социальной деятельности, в которой желание богатства
играет действительно указанную преобладающую роль.
Вследствие этого предмет политической экономии,
понятой таким образом, состоит не из реальностей, которые
могли бы быть указаны пальцем, а из простых
возможностей, из чистых понятий разума, т. е. из фактов,
которые экономист понимает как относящиеся к означенной
8 Système de Logique, III, p. 496.
429
цели и в том виде, как он их понимает. Изучает ли он,
например, то, что называет производством? Нет, он
думает, что сразу может перечислить главнейшие факторы
его и обозреть их. Это значит, что он узнал об их
существовании не посредством наблюдения условий, от
которых зависит изучаемое явление, так как иначе он начал
бы с изложения опытов, из которых он вывел это
заключение. Если же в самом начале исследования и в
нескольких словах он приступает к этой классификации, то это
значит, что он получил ее простым логическим анализом.
Он отправляется от идеи производства; разлагая ее, он
находит, что она логически предполагает понятия
естественных сил, труда, орудий или капитала, и затем таким
же образом трактует производные идеи9.
Самая основная экономическая теория, теория
стоимости, явно построена по тому же самому методу. Если бы
стоимость изучалась в ней так, как должна изучаться
реальность, то экономист указал бы сначала, по какому
признаку можно узнать предмет, носящий данное
название, он классифицировал бы затем его виды, постарался
бы индуктивным путем определить, под влиянием каких
причин они изменяются, сравнил бы, наконец, добытые
им различные результаты и вывел бы из них общую
формулу. Теория могла бы, следовательно, явиться лишь
тогда, когда наука продвинулась бы достаточно далеко.
Вместо этого мы паходим ее в самом начале. Дело в том, что
для создания ее экономист ограничивается тем, что
углубляется в себя, вдумывается в сконструированную им
идею стоимости как объекта, способного обмениваться. Он
находит, что она включает в себя идеи пользы, редкости
и т. д., и на основании этих продуктов своего анализа
строит свое определение. Конечно, он подтверждает его
некоторыми примерами. Но если подумать о
бесчисленных фактах, которые должна объяснить подобная теория,
то можно ли признать хоть какую-нибудь доказательную
ценность за теми неизбежно редкими фактами, которые
по случайному внушению приводятся в ее
подтверждение?
Итак, в политической экономии, как и в этике, доля
научного исследования очень ограниченна, доля же
искусства преобладает. В этике теоретическая часть сводит-
.9 Этот характер проглядывает и в самих выражениях,
употребляемых экономистами. Постоянно говорится об идеях: идее
пользы, сбережения, помещения капитала, затрат. См.: Gide.
Principes d'économie politique, liv. Ill, ch. I, § 1; ch. II, § 1; ch. HI, § 1.
430
ся к нескольким рассуждениям об идее долга, добра и
права. Эти отвлеченные рассуждения также не
составляют, строго говоря, науки, потому что цель их
—определить не то, каково существующее фактически высшее
правило нравственности, а то, каким оно должно быть.
Точно так же в экономических исследованиях наибольшее
место занимает, например, вопрос: должно ли общество
быть организовано согласно воззрениям индивидуалистов
или социалистов; должно ли государство вмешиваться в
промышленные и торговые отношения или предоставить
их всецело частной инициативе; должен ли быть в
денежной системе монометаллизм или биметаллизм? И т. д.
Законы в собственном смысле этого слова там
немногочисленны. Даже те, которые привыкли считать таковыми,
не заслуживают обыкновенно этого наименования, но
являются лишь максимами поведения, замаскированными
практическими предписаниями. Возьмем, например,
знаменитый закон спроса и предложения. Он никогда не был
установлен индуктивно, как выражение экономической
реальности. Ни разу не было произведено никакого опыта,
никакого методического сравнения для того, чтобы
установить, что фактически экономические отношения
управляются этим законом. Все, что могло быть сделано и что
было сделано, состояло в диалектическом доказательстве
того, что индивиды должны действовать таким образом,
если они хорошо понимают свои интересы, что всякий
другой способ действия был бы им вреден и заключал бы
в себе настоящее логическое заблуждение со стороны тех,
кто его использовал.
Логически необходимо, чтобы самые
производительные отрасли промышленности были охотнее всего заняты,
чтобы владельцы наиболее редких и пользующихся
наибольшим спросом продуктов продавали их по самой
высокой цене. Но эта вполне логичная необходимость вовсе
не походит на необходимость, присущую истинным
законам природы. Последние выражают действительные, а не
только желаемые отношения фактов.
Сказанное об этом законе может быть повторено
относительно всех положепий, которые ортодоксальная
экономическая школа называет естественными и которые
являются лишь частными случаями предшествующего. Они
естественны, если угодно, в том лишь смысле, что
указывают средства, которые кажется или может показаться
естественным употреблять для достижения намеченной
цели. Но их не следует называть так, если под естествен-
431
ным законом разуметь всякий способ природного бытия,
устанавливаемый индуктивно. Они являются, в общем,
лишь советами практической мудрости, и если их могли
с кажущимся правдоподобием выдавать за выражение
самой действительности, то это потому, что — правильно
или неправильно — нашли возможным предположить, что
этим советам действительно следовало большинство
людей и в большинстве случаев.
А между тем социальные явления суть вещи, и о них
нужно рассуждать как о вещах. Для того чтобы доказать
это положение, не обязательно философствовать об их
природе, разбирать их аналогии с явлениями низших
миров. Достаточно указать, что для социолога они
составляют единственное datum **. Вещью же является все то,
что дано, представлено или, точнее, навязано
наблюдению. Рассуждать о явлениях как о вещах — значит
рассуждать о них как о данных, составляющих отправной
пункт науки. Социальные явления бесспорно обладают
этим признаком. Нам дана не идея, создаваемая людьми
о стоимости,— она недоступна наблюдению,— а
стоимости, реально обмениваемые в сфере экономических
отношений. Нам дано не то или иное представление о
нравственном идеале, а совокупность правил, действительно
определяющих поведение. Нам дано не понятие о пользе
или о богатстве, а экономическая организация во всей
ее полноте. Возможно, что социальная жизнь есть лишь
развитие известных понятий, но если предположить, что
это так, то все-таки эти понятия не даны
непосредственно. Дойти до них можно, следовательно, не прямо, а лишь
посредством феноменологической реальности,
выражающей их. Мы не знаем a priori, от каких идей происходят
различные течения, на которые распределяется
социальная жизнь, и существуют ли они; лишь дойдя по ним до
их источников, мы узнаем, откуда они происходят.
Нам нужно, следовательно, рассматривать социальные
явления сами по себе, отделяя их от сознающих и
представляющих их себе субъектов. Их нужно изучать извне,
как внешние вещи, ибо именно в таком качестве они
предстают перед нами. Если этот внешний характер лишь
кажущийся, то иллюзия рассеется по мере того, как
наука будет продвигаться вперед, и мы увидим, как внешнее,
так сказать, войдет внутрь. Но решения нельзя
предвидеть заранее, и даже если бы в конце концов у них
и не оказалось всех существенных свойств вещей, вначале
их все-таки надо трактовать так, как будто бы эти свой-
432
ства у них были. Это правило, стало быть, прилагается
ко всей социальной реальности в целом, без всякого
исключения. Даже те явления, которые, по-видимому,
представляют собою наиболее искусственные устройства,
должны рассматриваться с этой точки зрения. Условный
характер обычая или института никогда не должен
предполагаться заранее. Если, кроме того, нам будет позволено
сослаться на наш личный опыт, то мы можем уверить,
что, действуя таким образом, часто с удовольствием
видишь, что факты, вначале кажущиеся самыми
произвольными, оказываются при более внимательном
наблюдении обладающими постоянством и регулярностью,
симптомами их объективности.
Впрочем, сказанного об отличительных признаках
социального факта достаточно, чтобы убедить нас в этой
объективности и доказать нам, что она непризрачна.
Действительно, вещь узнается главным образом по тому
признаку, что она не может быть изменена простым
актом воли. Это не значит, что она не подвержена
никакому изменению. Но, чтобы произвести это изменение,
недостаточно пожелать этого, надо приложить еще более
или менее напряженное усилие из-за сопротивления,
которое она оказывает и которое, к тому же, не всегда
может быть побеждено. А мы видели, что социальные
факты обладают этим свойством. Они не только не являются
продуктами нашей воли, но сами определяют ее извне.
Они представляют собой как бы формы, в которые мы
вынуждены отливать наши действия. Часто даже эта
необходимость такова, что мы не можем избежать ее.
Но если даже нам удается победить ее, то сопротивление,
встречаемое нами, дает нам знать, что мы находимся в
присутствии чего-то, от нас не зависящего.
Следовательно, рассматривая социальные явления как вещи, мы лишь
сообразуемся с их природой.
В конце концов реформа, которую необходимо
осуществить в социологии, во всех отношениях тождественна
реформе, преобразовавшей в последние тридцать лет
психологию. Точно так же как Конт и Спенсер
провозглашают социальные факты фактами природы, не трактуя их,
однако, как вещи, так и различные эмпирические школы
давно уже признали естественный характер
психологических явлений, все еще продолжая применять к ним
чисто идеологический метод. Действительно, эмпиристы, так
же как и их противники, пользовались исключительно
интроспекцией. Факты же, наблюдаемые лишь на самом
433
себе, слишком редки, скоропреходящи и изменчивы,
чтобы приобрести значение и власть над нашими
привычными понятиями о них. Когда же последние не подчинены
другому контролю, у них нет противовеса, вследствие
чего они занимают место фактов и составляют
содержание науки. Так, ни Локк, ни Кондильяк не
рассматривали психические явления объективно. Они изучали не
ощущение, а определенную идею ощущения. Поэтому-то,
хотя в некоторых отношениях они и подготовили почву
для научной психологии, последняя возникла гораздо
позднее, когда, наконец, дошли до понимания того, что
состояния сознания могут и должны рассматриваться
извне, а не с точки зрения испытывающего их сознания.
Такова великая революция в этой области. Все особые
приемы, все новые методы, которыми обогатилась эта
наука, суть лишь различные средства полнее осуществить
эту основную идею. Такой же прогресс остается
осуществить социологии. Нужно, чтобы из субъективной стадии,
из которой она еще почти не вышла, она перешла к
стадии объективной.
Этот переход к тому же здесь более легок, чем в
психологии. Действительно, психические факты по самой
природе своей даны как состояния субъекта, от которого
они, по-видимому, не отделимы. Так как они являются
внутренними по самому определению, то их нельзя, по-
видимому, рассматривать как внешние, не искажая при
этом их природы. Для того чтобы рассматривать их
таким образом, нужно не только усилие абстракции, но и
целая совокупность приемов и уловок. Наоборот, в
социальных фактах гораздо более естественно и
непосредственно присутствуют все признаки вещи. Право
существует в кодексах, ход повседневной жизни записывается
в статистические таблицы, в исторические памятники,
моды воплощаются в костюмах, вкусы — в произведениях
искусства. В силу самой своей природы они стремятся
установиться вне индивидуальных сознаний, так как
господствуют над последними. Следовательно, для того
чтобы видеть их как вещи, не нужно замысловато их
истолковывать. С этой точки зрения у социологии перед
психологией есть важное преимущество, которое не было
замечено до сих пор, но которое должно ускорить ее
развитие. Ее факты, может быть, труднее объяснить, так
как они более сложны, но их легче уловить наблюдением.
Психология же, наоборот, с большим трудом не только
обрабатывает, но и добывает факты. Следовательно,
434
можно думать, что, когда данный принцип
социологического метода будет единодушно признан и применен на
практике, социология будет прогрессировать с такой
быстротой, которую нельзя даже представить себе, судя по
медленности ее теперешнего развития. И тогда она даже
опередит психологию, обязанную своим превосходством
исключительно своему историческому старшинству10.
II
Но опыт наших предшественников показал нам, что,
для того чтобы обеспечить практическое существование
этой только что установленной истины, недостаточно ни
теоретически доказать ее, ни даже проникнуться ею. Ум
настолько склонен не признавать ее, что мы неизбежно
вернемся к прежним заблуждениям, если не подчинимся
строгой дисциплине, главнейшие правила которой будут
сейчас изложены как королларии предыдущего правила.
1. Первый королларии состоит в следующем: нужно
систематически устранять все предпонятия.
Специальное доказательство этого правила излишне,
оно вытекает из всего, что было сказано раньше. Оно,
кроме того, составляет основание всякого научного
метода. Методическое сомнение Декарта есть, в сущности,
лишь его применение? Если в процессе основания науки
Декарт ставит себе за правило сомневаться во всех тех
идеях, которые он получил раньше, то это значит, что он
хочет пользоваться лишь научно обоснованными
понятиями, т. е. понятиями, выработанными по
устанавливаемому им методу; все те, которые он получает из другого
источника, должны быть отброшены, по крайней мере,
временно. Мы уже видели, что теория идолов у Бэкона
имеет тот же смысл. Обе великие доктрины, столь часто
противополагаемые друг другу, совпадают в этом
основном пункте. Нужно, стало быть, чтобы социолог, и
определяя предмет своих изысканий, и в ходе своих
доказательств, категорически отказался от употребления таких
понятий, которые образовались вне науки, для
потребностей, не имеющих ничего общего с наукой. Нужно,
чтобы он освободился от этих ложных очевидностей,
которые тяготеют над умом толпы, чтобы он поколебал раз и
10 Правда, большая сложность социальных фактов делает
изучение их более затруднительным, но в виде компенсации за это
социология, будучи последней, может воспользоваться успехами,
достигнутыми ранее появившимися науками, и многому
научиться у них. Это использование уже существующего не может не
ускорить ее развитие.
435
навсегда иго эмпирических категорий, которое привычка
часто делает тираническим. И если все же иногда
необходимость вынудит его прибегнуть к ним, то пусть,
по крайней мере, он сделает это с сознанием их малой
ценности, для того чтобы не отводить им в доктрине
роли, которой они недостойны.
Это освобождение потому особенно трудно в
социологии, что здесь часто бывает замешано чувство.
Действительно, к нашим политическим и религиозным
верованиям, к важным нравственным правилам мы относимся со
страстью, совсем иначе, чем к объектам физического
мира; этот страстный характер влияет на наше
понимание и объяснение их. Идеи, разрабатываемые нами о них,
так же близки нашему сердцу, как и их объекты, и
приобретают поэтому такой авторитет, что не выносят
противоречия. Ко всякому мнению, противоречащему им,
относятся враждебно. Возьмем, например, какое-нибудь
утверждение, несогласное с идеей патриотизма или
индивидуального достоинства. Его будут отрицать, на какие
бы доказательства оно ни опиралось. За ним не признают
истинности и заранее не примут, а страсть для своего
оправдания без труда внушит доводы, легко
признаваемые решающими. У этих понятий может быть такой
престиж, что они вообще будут нетерпимы к научному
исследованию. Сам тот факт, что они и явления, ими
выраженные, подвергаются холодному и сухому анализу,
возмущает некоторые умы. Всякий, собирающийся
изучать нравственность извне и как внешнюю реальность,
кажется этим утонченным людям лишенным
нравственного чувства, как вивисектор кажется толпе лишенным
обыкновенной чувствительности. Не только не допускают,
что эти чувства подлежат научному рассмотрению, но
считают себя обязанными обращаться к ним для того, чтобы
заниматься наукой о вещах, к которым они относятся.
«Горе ученому,— восклицает один красноречивый
историк религии,— горе ему, если он приступает к
божественным предметам, не сохраняя в глубине своего
сознания, в неразрушимых недрах своего духа, там, где спят
души предков, сокровенного святилища, из которого
временами поднимается благоухание фимиама, строка
псалма, страдальческий или победный крик, с каким он
ребенком обращался к небу по примеру своих братьев и
который внезапно связывает его с пророками» и.
11 Darmesteter L. Les prophètes d'Israël, p. 9.
436
Любое возражение будет слишком слабо против этой
мистической доктрины, которая, как и всякий мистицизм,
является, в сущности, лишь замаскированным
эмпиризмом, отрицающим всякую науку. Чувства, имеющие
объектом социальные вещи, не имеют преимущества перед
другими чувствами, так как происхождение их то же
самое. Они тоже образовались исторически, они также
продукт человеческого опыта, по опыта неясного и
неорганизованного. Они возникают не вследствие какого-
то неизвестного трансцендентального предвосхищения
действительности, но являются результирующей
всевозможных впечатлений и эмоций, собранных беспорядочно,
случайно, без методической интерпретации. Они не только
не дают нам света высшего, чем свет разума, но
образованы исключительно из неясных, хотя и сильных,
состояний. Приписывать им преимущество — значит отдать
первенство низшим способностям разума над высшими,
значит обречь себя на более или менее витиеватые
словопрения. Наука, созданная таким образом, может
удовлетворять лишь те умы, которые предпочитают мыслить
скорее в согласии со своим чувством, чем с разумом,
предпочитают непосредственные и туманные синтезы,
даваемые ощущением ясному и терпеливому
мыслительному анализу. Чувство — объект науки, а не критерий
научной истины. Впрочем, нет науки, которая в начале
своем не встречалась бы с подобными препятствиями.
Было время, когда чувства, относящиеся к предметам
физического мира и обладающие религиозным или
нравственным характером, с не меньшей силой противились
установлению физических наук. Можно, следовательно,
надеяться, что этот предрассудок, постепенно изгоняемый то
из одной науки, то из другой, исчезнет наконец и из
последнего своего убежища — социологии и предоставит и
здесь полный простор ученому.
2. Предыдущее правило носит отрицательный
характер. Оно рекомендует социологу избавиться от гнета
обыденных понятий и обратить свое внимание на факты.
Но оно не говорит, каким образом он должен уловить
последние с целью объективно изучить их.
Всякое научное исследование обращено на
определенную группу явлений, отвечающих одному и тому же
определению. Первый шаг социолога должен, следовательно,
заключаться в определении тех вещей, которые он будет
изучать, с тем чтобы и он сам, и другие знали, о чем
идет речь. Это первое и обязательнейшее условие всякого
437
доказательства и всякой проверки; в действительности
можно контролировать какую-нибудь теорию, лишь умея
различать факты, которые она должна объяснить. Кроме
того, поскольку именно этим первоначальным
определением устанавливается сам объект науки, то последний
будет вещью или нет в зависимости от того, каким будет
это определение.
Для того чтобы оно было объективным, нужно,
очевидно, чтобы оно выражало явления не на основании
идеи о них, а на основании внутренне присущих им
свойств. Нужно, чтобы оно характеризовало их через
составные элементы их природы, а не по соответствию их
с более или менее идеальным понятием. Но в тот момент,
когда исследование только начинается, когда факты не
подверглись еще никакой обработке, могут быть добыты
лишь те их признаки, которые являются достаточно
внешними для того, чтобы быть непосредственно видимыми.
Несомненно, признаки, скрытые глубже, более
существенны. Их объяснительная ценность выше, но они
неизвестны на этой фазе науки и могут быть предвосхищены лишь
в том случае, если реальность будет заменена
какой-нибудь концепцией. Следовательно, содержание этого
основного определения нужно искать среди первых. С другой
стороны, ясно, что это определение должно содержать в
себе без исключения и различия все явления,
обладающие теми же признаками, так как у нас нет ни
основания, ни средств выбирать между ними. Эти свойства
тогда — все известное нам о реальности; поэтому они
должны иметь решающее значение при группировке фактов.
У нас нет никакого другого критерия, который мог бы
хотя бы отчасти ограничить действие предыдущего.
Отсюда следующее правило: Объектом исследования следует
выбирать лишь группу явлений, определенных
предварительно некоторыми общими для них внешними
признаками, и включать в это же исследование все явления,
отвечающие данному определению. Мы констатируем,
например, существование некоторого количества действий,
обладающих тем внешним признаком, что совершение их
вызывает со стороны общества особую реакцию,
называемую наказанием. Мы составляем из них группу sui
generis, которую мы помещаем в одну общую рубрику. Мы
называем преступлением всякое наказуемое действие и
делаем преступление, определяемое таким образом,
объектом особой науки, криминологии. Точно так же мы
наблюдаем внутри всех известных обществ существование
438
еще отдельных маленьких обществ, узнаваемых нами по
тому внешнему признаку, что они образованы из лиц,
связанных между собой известными юридическими
узами и большею частью кровным родством. Из фактов,
сюда относящихся, мы составляем особую группу и
называем ее особым именем; это — явления семейной жизни.
Мы называем семьей всякий агрегат подобного рода и
делаем ее объектом специального исследования, не
получившего еще определенного наименования в
социологической терминологии. Переходя затем от семьи вообще к
различным семейным типам, надо применять то же
правило. Приступая, например, к изучению клана, или
материнской семьи, или семьи патриархальной, надо начать
с определения их по тому же самому методу. Предмет
каждой проблемы, будь она общей или частной, должен
быть установлен согласно тому же принципу.
Действуя таким образом, социолог с первого шага
вступает прямо в сферу реального. Действительно, такой
способ классификации фактов зависит не от него, не от
особого склада его ума, а от природы вещей. Признак,
вследствие которого факты относятся к той или иной
группе, может быть указан всем, признан всеми, и
утверждения одного наблюдателя могут быть проверены
другими. Правда, понятие, сформированное таким
образом, не всегда совпадает и даже обыкновенно не
совпадает с обыденным понятием. Так, например, очевидно, что
факты свободомыслия или нарушения этикета, столь
неуклонно и строго наказываемые во многих обществах,
не считаются общим мнением преступными даже по
отношению к этим обществам. Точно так же клан не есть
семья в обыкновенном значении слова. Но это не важно,
так как речь идет не просто о том, чтоб открыть
средство, позволяющее нам достаточно надежно находить
факты, к которым применяются слова обыденного языка и
идеи, ими выражаемые. Нам нужно из различных
деталей создавать новые понятия, приспособленные к
нуждам науки и выражаемые при помощи специальной
терминологии. Это не значит, конечно, что обыденное
понятие бесполезно для ученого; нет, оно служит указателем.
Он информирует нас, что где-то существует группа
явлений, объединенных одним и тем же названием и,
следовательно, по всей вероятности, имеющих общие свойства;
так как он всегда в какой-то мере связан с явлениями,
то иной раз он может даже указывать нам, хотя и в
общих чертах, в каком направлении нужно искать их.
439
Но так как он сформировался беспорядочно, то вполне
естественно, что он не вполне совпадает с научным
понятием, созданным в связи с ним 12.
Как бы очевидно и важно ни было это правило, оно
почти не соблюдается в социологии. Именно потому, что
в ней говорится о таких вещах, о которых мы говорим
постоянно, как, например, семья, собственность,
преступление и т. д., социологу кажется чаще всего бесполезным
предварительно и точно определять их. Мы так
привыкли пользоваться этими словами, беспрестанно
употребляемыми нами в разговоре, что нам кажется бесполезным
определять тот смысл, в котором мы их употребляем.
Ссылаются просто на общепринятое понятие. Последние
же очень часто многозначны. Эта многозначность служит
причиной того, что под одним и тем же термином и в
одном и том же объяснении соединяют вещи, в
действительности очень различные. Отсюда возникает
неисправимая путаница. Так, существует два вида
моногамических союзов: одни фактические, другие носят
юридический характер. В первых у мужа бывает лишь
одна жена, хотя юридически он может иметь их
несколько; во вторых закон воспрещает им быть полигамными.
Фактическая моногамия встречается у многих видов
животных и в некоторых низших обществах, и встречается
не спорадически, а так же часто, как если бы она
предписывалась законом. Когда народ рассеян на обширном
пространстве, общественная связь очень слаба, и
вследствие этого индивиды живут изолированно друг от друга.
Тогда каждый мужчина, естественно, старается добыть
себе жену, и только одну, потому что в этом состоянии
разобщения ему трудно иметь их несколько.
Обязательная же моногамия наблюдается, наоборот, лишь в
наиболее развитых обществах. Эти два вида супружеских
союзов имеют, следовательно, очень различное значение,
12 На практике всегда отправляются от обыденного понятия
и обыденного слова. Ищут, нет ли среди вещей, смутно
обозначаемых этим словом, таких, которые имели бы общие внешние
признаки. Если таковые находятся и если понятие, образованное
подобной группировкой фактов, хотя и не вполне (что редко),
но. по крайней мере в большей части своей, совпадает с понятием
обыденным, то можно продолжать обозначать его тем же словом,
как и последнее, и можно сохранить в науке выражение,
употребляющееся в разговорном языке. Но если уклонение слишком
значительно, если обыденное понятие смешивает в себе ряд
различных понятий, то создание новых и специальных терминов
становится необходимым.
440
а между тем они обозначаются одним и тем же словом,
так, как говорят о некоторых животных, что они
моногамны, хотя у них нет ничего похожего на юридические
обязательства. Так, Спенсер, приступая к изучению брака,
употребляет слово «моногамия», не определяя его,
в обыкновенном и двусмысленном значении. Отсюда
вытекает, что эволюция брака кажется ему содержащей
необъяснимую аномалию, так как он думает, что высшая
форма полового союза наблюдается уже на первых
этапах исторического развития, что она вскоре исчезает в
промежуточном периоде и затем появляется снова. Из
этого он заключает, что нет определенного соотношения
между социальным прогрессом вообще и прогрессивным
движением к совершенному типу семейной жизни.
Надлежащее определение предупредило бы эту ошибку 13.
В других случаях тщательно стараются определить
подлежащий исследованию объект, но, вместо того чтобы
включить в определение и сгруппировать под одной и той
же рубрикой все явления, имеющие одни и те же
внешние свойства, между ними производят сортировку.
Выбирают некоторые из них, нечто вроде элиты, и только за
ними признают право иметь данные свойства. Что же
касается остальных, то их принимают как бы за
узурпаторов этих отличительных признаков и с ними не считаются.
Но легко предвидеть, что таким образом можно получить
лишь субъективное и искаженное понятие.
Действительно, указанное отбрасывание может быть сделано лишь в
соответствии с предвзятой идеей, потому что вначале
никакое исследование не успело еще установить наличие
подобной узурпации, даже если предположить, что она
возможна. Выбранные явления были взяты лишь потому,
что они более других отвечали той идеальной концепции,
которая была создана об этом виде реальности.
Например, Гарофало в начале своей «Криминологии» очень
хорошо доказывает, что точкой отправления этой науки
должно быть «социологическое понятие о
преступлении» 14. Но, для того чтобы создать это понятие, он не
сравнивает без различия все те действия, которые в
обществах разного типа неуклонно влекли за собой
наказания, а только некоторые из них, именно те, которые
13 То же отсутствие определения позволяло иногда
утверждать, что демократия в равной мере встречается и в начале, и
в конце истории. Истина в том, что первобытная демократия и
теперешняя весьма отличаются друг от друга.
14 Garofalo. Criminologie, p. 2.
441
оскорбляют средние и неизменные элементы
нравственного чувства. Что же касается нравственных чувств,
исчезнувших в ходе эволюции, то они кажутся ему не
основанными на природе вещей по той причине, что им не
удалось сохраниться. Вследствие этого действия,
считавшиеся преступными, так как они оскорбляли эти чувства,
заслужили, по его мнению, это название лишь благодаря
случайным и более или менее патологическим
обстоятельствам. Но такое исключение он делает лишь
вследствие сугубо субъективной концепции нравственности. Он
отталкивается от идеи, что нравственная эволюция,
взятая у самого своего источника или вблизи его, изобилует
всякого рода шлаком и примесями, которые она затем
постепенно уничтожает, и лишь теперь ей удалось
избавиться от всех случайных элементов, нарушавших ее
течение. Но этот принцип не является ни очевидной
аксиомой, ни доказанной истиной, это лишь гипотеза, которую
к тому же ничто не подтверждает. Изменчивые элементы
нравственного чувства не менее обусловлены природой
вещей, чем элементы неизменные; изменения, через
которые прошли первые, доказывают лишь, что сами вещи
изменились. В зоологии специфические формы, присущие
низшим видам, считаются не менее естественными, чем
формы, повторяющиеся на всех ступенях иерархии видов
животных. Точно так же действия, считающиеся
преступными в первобытных обществах и утратившие это
наименование, действительно преступны по отношению к этим
обществам, как и те, за которые мы продолжаем
наказывать теперь. Первые соответствуют изменчивым
условиям социальной жизни, вторые — условиям постоянным,
но первые не более искусственны, чем вторые.
Более того: даже если бы эти действия незаконно
приняли криминологический характер, их все-таки не
следует радикально отделять от других, так как болезненные
формы любого явления имеют ту же природу, что и
формы нормальные, вследствие чего для определения этой
природы необходимо наблюдать как первые, так и
вторые. Болезнь не противопоставляется здоровью, это две
разновидности одного и того же рода, взаимно
проясняющие друг друга. Это правило, давно уже признанное и
практикуемое как в биологии, так и в психологии,
социолог точно так же должен уважать. Если только не
допускать, что одно и то же явление может быть вызвано
то одной, то*другой причиной, т. е. если не отрицать
принцип причинности, то причипы, придающие действию
442
отличительный признак преступления «ненормальным»
образом, в видовом отношении не могут отличаться от
причин, вызывающих тот же результат нормальным
порядком; вторые отличаются от первых лишь степенью или
тем, что они не действуют при той же совокупности
обстоятельств. Ненормальное преступление, стало быть, все
равно преступление и должно поэтому входить в
определение преступления. Что же получается? А то, что Га-
рофало принимает за род то, что есть лишь вид или даже
простая разновидность. Факты, к которым прилагается
его формула преступности, представляют лишь ничтожное
меньшинство из тех фактов, которые она должна была
бы охватывать, так как она не подходит пи к
религиозным преступлениям, ни к преступлениям против этикета,
церемониала, традиций и пр., которые, хотя и исчезли из
наших современных кодексов, зато заполняют почти все
уголовное право предшествующих обществ.
Это такая же ошибка в методе, как и та, вследствие
которой некоторые ученые отказывают дикарям во всякой
нравственности 15. Они исходят из идеи, что только наша
нравственность есть нравственность; но она, очевидно,
неизвестна первобытным народам или существует у них в
зародышевом состоянии. Но это определение произвольно
Применим наше правило — и все изменится. Для того
чтобы определить, нравственно или безнравственно какое-
нибудь предписание, мы должны рассмотреть, имеет оно
или нет внешний признак нравственности. Признак этот
заключается в репрессивной диффузной санкции, т. е. в
осуждении общественным мнением всякого нарушения
этого предписания. Всякий раз, когда мы встречаемся с
фактом, содержащим этот признак, мы не имеем права
отказать ему в названии нравственного, так как этот
признак служит доказательством тождества его природы с
природой других нравственных фактов. Правила же
такого рода не только встречаются в низших обществах,
но они в них еще многочисленнее, чем в обществах
цивилизованных. Масса действий, предоставленных теперь
свободному суждению, предписывалась тогда как
обязательная. Ясно, в какие заблуждения можно впасть, когда
или не дают определения, или определяют плохо.
Но могут сказать: определяя явления по их видимым
признакам, не отдаем ли мы тем самым предпочтение
15 Lubbock. Les origines de la civilisation, ch. VIII. Не менее
неправильно говорить вообще, что древние религии
безнравственны. Истина же в том, что у них своя собственная нравственность.
443
поверхностным свойствам в ущерб основным атрибутам?
не значит ли это, перевернув логический порядок,
базироваться на верхушках, а не на основаниях вещей?
Так, определяя преступление через наказание, почти
неизбежно подвергают себя обвинению в желании
вывести преступление из наказания, или, согласно известной
цитате, в желании видеть источник стыда в эшафоте,
а не в искупаемом действии. Но упрек покоится на
смешении. Так как определение, правило которого мы
только что сформулировали, помещается в начале научного
исследования, то оно не имеет целью выражать сущность
реальности, оно должно лишь дать нам возможность
достигнуть этого в дальнейшем. Единственная его функция
заключается в том, чтобы привести нас в
соприкосновение с вещами, а так как последние доступны разуму
лишь извне, то оно и выражает их по их внешним
свойствам. Но оно не объясняет эти вещи; оно обеспечивает
лишь начальную точку опоры, необходимую нам для
объяснения. Конечно, не наказание создает преступление,
но лишь посредством его преступление обнаруживается
внешним образом, и от него поэтому мы должны
отталкиваться, если хотим дойти до понимания преступления.
Приведенное возражение было бы обоснованно лишь
в том случае, если бы внешние признаки были в то же
время случайными, т. е. если бы они не были связаны с
основными свойствами. Действительно, в таких условиях
наука, отметив их, не имела бы никакой возможности
идти дальше; она не могла бы проникнуть глубже в
реальность, так как не было бы никакого связующего звена
между поверхностью и глубиной. Но если только принцип
причинности не есть пустое слово, то в тех случаях,
когда определенные признаки одинаково и без всякого
исключения встречаются во всех явлениях данной группы,
можно быть уверенным, что они тесно связаны с
природой этих явлений и соответствуют ей. Если некая группа
действий одинаково представляет ту особенность, что с
ней связана уголовная санкция, то это значит, что
существует тесная связь между наказанием и основными
свойствами этих действий. Поэтому, как бы поверхностны ни
были эти свойства, если они наблюдались с помощью
правильного метода, они хорошо указывают ученому тот
путь, по которому он должен следовать, чтобы проникнуть
в глубину вещей. Они являются первым и необходимым
звеном той цепи, которую образуют научные объяснения.
Так как внешняя сторона вещей дается нам ощуще-
444
пием, то, резюмируя, можно сказать, что наука, чтобы
быть объективной, должна исходить не из понятий,
образовавшихся без нее, а из ощущений. Она должна
заимствовать прямо у чувственных данных элементы своих
первоначальных определений. И действительно, достаточно
представить себе, в чем состоит дело науки, чтобы понять,
что она не может действовать иначе. Ей нужны понятия,
выражающие вещи адекватно, такими, каковы они суть,
а не такими, какими их полезно представлять себе для
практики. Те же понятия, которые установились без ее
помощи, не отвечают этому условию. Нужно, стало быть,
чтобы она создала новые, а для этого, устраняя
общепринятые понятия и слова, их выражающие, она должна
вернуться к ощущению — первой и необходимой основе
всех понятий. Именно из ощущения исходят все общие
идеи, истинные и ложные, научные и ненаучные. Точка
отправления науки или умозрительного знания не может,
следовательно, быть иной, чем точка отправления
обыденного или практического знания. Лишь затем, в
способе обработки этого общего материала начинаются
различия.
1 Но ощущение вполне может быть субъективным.
Поэтому в естественных науках принято за правило
устранять чувственные данные, рискующие быть
слишком субъективными, и сохранять исключительно те,
которым свойственна достаточная степень объективности.
Таким образом, физик заменяет неясные впечатления,
производимые температурой или электричеством, зрительным
представлением колебаний термометра или
электрометра. Социолог должен прибегать к тем же
предосторожностям. Внешние признаки, па основании которых он
определяет объект своих исследований, должны быть
объективны, насколько только это возможно.
Можно сформулировать принцип, что социальные
факты тем легче могут быть представлены объективно, чем
более полно освобождены они от индивидуальных
фактов, в которых они проявляются.
Действительно, ощущение тем объективнее, чем
постояннее объект, к которому оно относится, так как
условие всякой объективности — существование
постоянного и неизменного ориентира, к которому может быть
обращено представление и который позволяет исключить
из него все изменчивое, т. е. субъективное. Если
единственные данные нам ориентиры сами изменчивы и никогда
не остаются равными себе, то нет никакой общей меры,
445
и у нас нет никакого средства различать, что в наших
впечатлениях зависит от внешнего мира, а что исходит
от нас. Но пока социальная жизнь не изолирована π не
существует отдельно от воплощающих ее событий, она
обладает именно этим свойством, вследствие того что
события эти в разных случаях и ежеминутно меняют свой
облик, сообщая ей свою подвижность. Она состоит тогда
из ряда свободных течений, которые постоянно
находятся в процессе преобразований и не могут быть схвачены
взором наблюдателя. Значит, это не та сторона, с
которой ученый может приступить к изучению социальной
реальности. Но мы знаем, что последняя содержит в себе
ту особенность, что, не переставая быть самой собой, она
способна кристаллизоваться. Вне индивидуальных
действий, ими возбуждаемых, коллективные привычки
выражаются в определенных формах, юридических и
нравственных правилах, народных поговорках, фактах
социальной структуры и т. д. Так как эти формы устойчивы и
меняются в зависимости от того, как их применяют,
то они составляют устойчивый объект, постоянную меру,
всегда доступную наблюдателю и не оставляющую места
для субъективных впечатлений и чисто личных
представлений. Юридическое правило есть то, что оно есть, и нет
двух способов понимать его. Поскольку, с другой
стороны, эти обычаи являются консолидированной социальной
жизнью, то правомерно — если нет указаний на
противоположное 1в — изучать последнюю через них.
Следовательно, когда социолог предпринимает
исследование какого-нибудь класса социальных фактов, он
должен стараться рассматривать их с той стороны, с которой
они представляются изолированными от своих
индивидуальных проявлений. В сиЛу этого-то принципа мы изучали
общественную солидарность, ее различные формы и их
эволюцию через систему юридических правил, их
выражающих 17. Точно так же, если пытаться различать и
классифицировать разные типы семьи по литературным
описаниям путешественников, а иной раз и историков,
то можно подвергнуться опасности смешать самые
различные виды, сблизить самые отдаленные типы. Если же,
наоборот, основанием этой классификации сделать юри-
18 Нужно было бы, например, иметь основания считать, что
в данный момент право больше не выражает истинного
состояния социальных отношений, для того чтобы указанная замена не
была правомерной.
17 См.: Division du travail social, I, 1.
446
дическое строение семьи, особенно наследственное право,
то мы получим объективный критерий, который, не
будучи безупречным, предупредит тем не менее многие
заблуждения 18. Допустим, мы хотим классифицировать
различные виды преступлений. Тогда надо постараться
воссоздать образ жизни, профессиональные обычаи,
употребляемые в различных частях преступного мира, и мы
признаем столько же криминологических типов, сколько
различных форм представляет его организация. Для того
чтобы постичь нравы, народные верования, нужно
обратиться к пословицам и поговоркам, их выражающим.
Конечно, действуя таким образом, мы оставляем
временно вне науки конкретное содержание коллективной
жизни, а между тем, как бы изменчиво оно ни было, мы не
имеем права a priori постулировать его непознаваемость.
Но если хотеть следовать путем правильного метода,
то первые пласты науки нужно утверждать на твердой
почве, а не на зыбком песке. Нужно приступить к миру
социальных явлений с тех сторон, с которых он наиболее
доступен научному исследованию. Лишь позднее можно
будет повести исследование дальше и, последовательно
приближаясь, постепенно проникнуть в эту
ускользающую реальность, которою, быть может, ум человеческий
никогда не будет в силах овладеть вполне.
Глава III
ПРАВИЛА, ОТНОСЯЩИЕСЯ К РАЗЛИЧЕНИЮ
НОРМАЛЬНОГО И ПАТОЛОГИЧЕСКОГО
Наблюдение, осуществляемое согласно упомянутым
правилам, охватывает два разряда фактов, весьма различных
по некоторым своим признакам: факты, которые именно
таковы, какими они должны быть, и факты, которые
должны бы были быть другими,— явления нормальные и
патологические. Мы уже видели, что их необходимо
одинаково включать в определение, которым должно
начинаться всякое исследование. Но если в некоторых
отношениях они и одной и той же природы, то все-таки они
составляют две разновидности, которые важно различать.
18 Ср. нашу работу: Introduction à la sociologie de la famille.
Annales de la faculté des lettres de Bordeaux. 1889.
447
Но располагает ли наука средствами, позволяющими
провести это различие?
Этот вопрос в высшей степени важен, так как от
решения его зависит представление о роли науки, особенно
науки о человеке. По одной теории, сторонники которой
принадлежат к самым различным школам, наука ничего
не может сообщить нам о том, чего мы должны хотеть.
Ей известны, говорят, лишь факты, которые все имеют
одинаковую ценность и одинаковый интерес; она их
наблюдает, объясняет, но не судит. Для нее нет таких
фактов, которые были бы достойны порицания. Добро и зло
не существуют в ее глазах. Она может сообщить нам,
каким образом причины вызывают следствия, но не какие
цели нужно преследовать. Для того чтобы знать не то, что
есть, а то, что желательно, нужно прибегнуть к
внушениям бессознательного, каким бы именем его ни называли:
инстинктом, чувством, жизненной силой и пр. Наука,
говорит один уже упомянутый автор, может осветить мир,
но она оставляет тьму в сердцах; и само сердце должно
нести себе свой собственный свет. Наука, таким образом,
оказывается лишенной, или почти лишенной, всякой
практической силы и вследствие этого не имеющей большого
права на существование, так как зачем трудиться над
познанием реального, если это познание не может служить
нам в жизни? Быть может, скажут, что, открывая нам
причины явлений, она доставляет нам средство вызывать
их по нашему желанию и вследствие этого осуществлять
цели, преследуемые нашей волей по сверхнаучным
основаниям. Но всякое средство в известном отношении само
является целью, так как, для того чтобы пустить его в
ход, его надо желать так же, как и цель, им
преследуемую. Всегда существуют разные пути, ведущие к данной
цели, и надо, следовательно, выбирать между ними. Если
же наука не может помочь нам в выборе лучшей цели,
то как же может она указать нам лучший путь для ее
достижения? Почему станет она нам рекомендовать
наиболее быстрый путь предпочесть наиболее экономичному,
наиболее верный — наиболее простому, или наоборот?
Если она не может руководить нами в определении
высших целей, то она так же бессильна, когда дело касается
этих второстепенных и подчиненных целей, называемых
средствами.
Идеологический метод позволяет, правда, избежать
этого мистицизма, и желание избежать последпего и было
448
отчасти причиной устойчивости этого метода.
Действительно, лица, применявшие его, были слишком
рационалистичны, чтобы допустить, что человеческое поведение
не нуждается в руководстве посредством рефлексии, и тем
не менее они не видели в явлениях, взятых самих по
себе, независимо от всяких субъективных данных, ничего,
что позволило бы классифицировать их по их
практической ценности. Казалось, следовательно, что единственное
средство судить о них — это подвести их под
какое-нибудь понятие, которое господствовало бы над ними.
Поэтому использование понятий, которые управляли бы
сличением фактов, вместо того чтобы вытекать из них,
становилось необходимостью всякой рациональной
социологии. Но мы знаем, что если в этих условиях практика и
опирается на рефлексию, то последняя, будучи
использована таким образом, все-таки ненаучна.
Решение задачи, поставленной нами, позволит нам
отстоять права разума, не впадая в идеологию.
Действительно, для обществ, как и для индивидов, здоровье
хорошо и желательно, болезнь же, наоборот, плоха, и ее
следует избегать. Если, стало быть, мы найдем объективный
критерий, внутренне присущий самим фактам и
позволяющий нам научно отличать здоровье от болезни в разных
категориях социальных явлений, то наука будет в
состоянии прояснить практику, оставаясь в то же время
верной своему методу. Конечно, так как теперь она пе
достигла еще глубокого познания индивида, то она может
дать нам лишь общие указания, которые могут быть
конкретизированы надлежащим образом лишь при
непосредственном восприятии отдельной личности. Состояние
здоровья, как оно может быть определено наукой, не
подойдет вполне ни к одному индивиду, так как тут
приняты в расчет лишь наиболее общие условия, от которых
все более или менее уклоняются; тем не менее это
драгоценный ориентир для поведения. Из того, что этот
ориентир нужно прилаживать затем к каждому
отдельному случаю, не следует, что он лишен всякого интереса
для познания. Наоборот, он представляет собою норму,
которая должна служить основанием для всех наших
практических рассуждений. В таких условиях нельзя
утверждать, что мысль бесполезпа для действия. Между
наукой и искусством нет более бездны, одно является
непосредственным продолжением другой. Наука, правда,
может дойти до фактов лишь при посредничестве
искусства, но искусство является лишь продолжением пауки.
15 Э. Дюркгейм
449
И можно также спросить себя, не должна ли
уменьшаться практическая немощь последней, по мере того как
устанавливаемые ею законы будут все полнее и полнее
выражать индивидуальную реальность.
1
Обыкновенно на боль смотрят как на показатель
болезни, и несомненно, что вообще между этими двумя
фактами существует связь, не лишенная постоянства и
точности. Существуют заболевания тяжелые, но
безболезненные; с другой стороны, незначительные расстройства
могут причинять настоящее мучение, как, например,
засорение глаза кусочком угля. В некоторых случаях
отсутствие боли или же удовольствия являются
симптомами болезни. Существует неуязвимость, которая носит
патологический характер. В таких обстоятельствах, в
которых здоровый человек страдал бы, неврастеник может
испытывать чувство наслаждения, болезненный характер
которого неоспорим. И наоборот, боль сопровождает ряд
состояний, таких, как голод, усталость, роды, которые
суть явления чисто физиологические.
Можем ли мы сказать, что здоровье, заключаясь в
счастливом развитии жизненных сил, узнается по полной
адаптации организма к своей среде, и можем ли мы,
наоборот, назвать болезнью все, что нарушает эту
адаптацию? Но, во-первых (нам придется впоследствии
вернуться к этому вопросу), вовсе не доказано, чтобы всякое
внутреннее состояние организма находилось в
соответствии с каким-либо внешним условием. Кроме того, если бы
даже этот критерий мог действительно служить
отличительным признаком здоровья, то сам он нуждался бы
еще в другом, дополнительном критерии, так как во
всяком случае нам надо было бы указать, с помощью какого
принципа можно решить, что такой-то способ адаптации
совершеннее другого.
Нельзя ли разграничить их по их отношению к нашим
шансам на долгую жизнь? Здоровье было бы тогда таким
состоянием организма, при котором эти шансы
максимальны, болезнь же была бы, наоборот, тем, что их
уменьшает. Действительно, можно не сомневаться в том, что
вообще следствием болезни является ослабление
организма. Но не одна болезнь вызывает этот результат.
Репродуктивные функции у некоторых низших видов пеизбежно
влекут за собой смерть и даже у наивысших видов
бывают связаны с риском. Между тем они нормальны. Ста-
450
рость и детство имеют те же следствия, так как старик и
ребенок наиболее подвержены влиянию разрушительных
факторов. Но разве они больны и разве нужно
признавать здоровье только за зрелым человеком? Странным
было бы такое суждение в области физиологии и
здоровья! Если же старость уже сама но себе болезнь, то как
отличить здорового старика от болезненного? С такой
точки зрения нужно будет и менструацию отнести к
числу болезненных явлений, так как, вызывая известные
расстройства, она увеличивает восприимчивость женщины
к заболеванию. Но как же назвать болезненным такое
состояние, отсутствие или преждевременное исчезновение
которого бесспорно составляют патологическое явление?
В этом случае рассуждают так, как будто бы в здоровом
организме всякая мелочь должна играть полезную роль,
как будто всякое внутреннее состояние точно отвечает
какому-то внешнему условию и вследствие этого
способствует обеспечению жизненного равновесия и уменьшению
шансов смерти. Наоборот, есть основание предполагать, что
некоторые анатомические или фукциональные элементы
не служат прямо ничему, а существуют просто потому,
что они не могут не существовать ввиду общих условий
жизни. Их тем не менее нельзя назвать болезненными,
так как болезнь есть прежде всего нечто такое, чего
можно избежать и что не содержится в нормальном
устройстве живого существа. Но вместо укрепления организма
они могут иногда уменьшать силу его сопротивления и
вследствие этого увеличивают риск смерти.
С другой стороны, болезнь не всегда имеет результат,
в функции которого ее хотят определить. Нет ли массы
повреждений, слишком легких для того, чтобы им можно
было приписать ощутимое влияние на жизненные основы
организма? Даже среди наиболее серьезных некоторые не
имеют никаких вредных последствий, если мы умеем
бороться с ними тем оружием, которым располагаем.
Человек, страдающий гастритом, может прожить так же
долго, как и здоровый, если он соблюдает известную гигиену.
Конечно, он вынужден заботиться о себе, но не
вынуждены ли мы все делать это и может ли иначе
поддерживаться жизнь? У каждого из нас своя гигиена; гигиена
больного не похожа на гигиену современного ему среднего
человека его среды, но это единственная разница между
ними в этом отношепии. Болезнь не делает нас совсем
особыми существами, не приводит нас в состояние
непоправимой дезадаптации, она принуждает нас лишь адап-
451
15*
тироваться иначе, чем большинство окружающих. Кто
нам сказал, что не существует болезней, которые в конце
концов оказываются даже полезными? Оспа, прививаемая
нам вакциной, является настоящей болезнью, которую
мы вызываем у себя добровольно, и тем не менее она
увеличивает наши шансы на выживание. Существует,
может быть, много других случаев, в которых расстройство,
причиненное болезнью, незначительно по сравнению с
создаваемым ею иммунитетом.
Наконец, и это самое важное, данный критерий чаще
всего неприменим. В крайнем случае можно установить,
что смертность, самая низкая, какая только известна,
встречается в такой-то определенной группе индивидов,
но нельзя доказать, что не может быть смертности еще
меньшей. Кто сказал нам, что не может быть другого
устройства, которое еще более уменьшило бы ее?
Следовательно, данный фактический минимум случаев смерти
не является ни доказательством полной адаптации, ни
надежным признаком здоровья, если иметь в виду
предыдущее определение. Кроме того, очень трудно установить
подобную группу и изолировать ее от всех других групп,
как это нужно было бы для того, чтобы наблюдать
органическое устройство, присущее только ей и служащее
предполагаемой причиной ее превосходства. Если дело
касается болезни, исход которой обыкновенно смертелен,
то очевидно, что шансы существа на выживание
незначительны. Но доказательство особенно трудно, когда
болезнь не такова, чтобы прямо повлечь за собой смерть.
На самом деле существует лишь один объективный
способ доказать, что существа, поставленные в определенные
условия, имеют меньше шансов выжить, чем другие;
это — показать, что в действительности большинство из
них живет менее долго. Но если в случаях чисто
индивидуальных болезней это доказательство часто возможно,
то оно совершенно неосуществимо в социологии, потому
что у нас нет той точки опоры, которой располагает
биолог, а именно цифры средней смертности. Мы не можем
даже с приблизительной точностью определить, в какой
момепт рождается общество и в какой оно умирает. Все
эти проблемы, которые далеко не решены даже в
биологии, для социолога еще окутаны тайной. Кроме того,
события, происходящие в процессе социальной жизни и
повторяющиеся почти идентично во всех обществах того
же типа, слишком разнообразны, для того чтобы можно
было определить, в какой мере одно из них могло способ-
452
стйовать ускорению окончательной развязки. Когда дело
касается индивидов, то ввиду их многочисленности
можно выбрать таких, которые сходны лишь в том, что все
имеют одну и ту же аномалию; последняя, таким
образом, изолируется от всех сопровождающихся явлений и
потому становится возможным изучать ее влияние на
организм. Если, например, тысяча взятых наугад
ревматиков обнаруживает смертность значительно выше средней,
то существуют веские основания приписать этот
результат ревматическому диатезу. Но поскольку в социологии
каждый социальный вид имеет лишь небольшое число
представителей, то поле сравнения слишком ограниченно,
чтобы подобного рода группировки могли иметь
доказательную силу.
За отсутствием же такого фактического
доказательства остаются возможными лишь дедуктивные
рассуждения, выводы которых имеют значение лишь субъективных
предположений. Таким путем докажут не то, что такое-то
событие действительно ослабляет социальный организм,
а то, что оно должно его ослаблять. С этой целью укажут,
что оно непременно повлечет за собой такое-то вредное
для общества последствие, и па этом основании его
объявят болезненным. Но даже если предположить, что оно
действительно вызовет это последствие, может случиться,
что отрицательные стороны этого последствия будут
вознаграждены, и с избытком, преимуществами, которых не
замечают. Кроме того, оно может быть названо
гибельным лишь при условии, что оно расстраивает нормальное
осуществление функций. Но такое доказательство
предполагает, что задача уже решена, так как оно возможно
лишь при условии, что заранее определено, в чем
заключается нормальное состояние, и, следовательно, уже
известно, по какому признаку его можно узнать. Но можно
ли его строить a priori из разных частей? Излишне
говорить, чего может стоить подобная постройка. Вот почему
в социологии, как и в истории, одни и те же события
объявляются то благотворными, то пагубными в
зависимости от личных пристрастий ученого. Так, неверующий
теоретик постоянно отмечает в остатках веры,
сохраняющихся среди общего потрясения религиозных воззрений,
болезненное явление, тогда как для верующего великой
социальной болезнью нашего времени является само
неверие. Точно так же для социалиста нынешняя
экономическая организация есть факт социальной тератологии 2*,
тогда как для ортодоксального экономиста патологически-
453
ми по преимуществу являются социалистические
тенденции. И каждый для подтверждения своего мнения
находит силлогизмы, по его мнению правильно построенные.
Общий недостаток этих определений состоит в
желании преждевременно дойти до сущности явлений. Они
предполагают доказанными такие положения, которые —
оставляя в стороне их истинность или ложность — могут
быть доказаны лишь тогда, когда наука достаточно
продвинулась вперед. Для нас, впрочем, это значит
следовать установленному выше правилу. Вместо того чтобы
стремиться сразу определить отношения нормального и
ненормального состояний с жизненными силами, поищем
вначале просто какой-нибудь внешний, непосредственно
воспринимаемый, но объективный признак, который
позволил бы нам отличать друг от друга эти два разряда
фа^деов.
/'Всякое социологическое явление, как и всякое, впро-
чем, биологическое явление, способно, оставаясь, в
сущности, тем же самым, принимать различные формы,
смотря по обстоятельствам. Эти формы бывают двух родов.
Одни распространены на всем пространстве вида; они
встречаются если и не у всех его представителей, то, по
крайней мере, у большинства. Если они и не
тождественны во всех конкретных случаях, в которых наблюдаются,
то все-таки их изменения от одного субъекта к другому
весьма ограниченны. Другие формы, наоборот, носят
исключительный характер; они не только встречаются у
меньшинства, но и здесь чаще всего не продолжаются в
течение всей жизни индивида. Они представляют собой
исключение как в пространстве, так и во времени 1.
Перед нами, следовательно, две особые разновидности
явлений, которые должны обозначаться различными
терминами, Мы будем называть нормальными факты, обладающие
формами наиболее распространенными; другие же назо-
1 С помощью такого определения можно отличать болезнь от
уродства. Последнее есть исключение лишь в пространстве: оно
не встречается у большинства индивидов, но продолжается всю
жизнь. Впрочем, ясно, что эти два разряда фактов различаются
лишь в степени, но не по существу; грапицы между ними весьма
неопределенны, так как болезнь не лишена способности к
распространению, а уродство - к определенному изменению.
Следовательно, определяя их, нельзя их резко разграничить. Различие
между ними не может быть более резким, чем различие между
морфологическим и физиологическим, потому что в общем
болезнь есть ненормальность физиологического порядка, а
уродство - ненормальность порядка анатомического.
454
вем болезненными или патологическими. Если
условиться называть средним типом то абстрактное существо,
которое мы получим, соединив в одно целое, в нечто вроде
абстрактной индивидуальности, свойства, чаще всего
встречающиеся в пределах вида и взятые в их наиболее
распространенных формах, то можно сказать, что1/пормаль-
иый тин совпадает с типом средним и что всякое
уклонение от этого эталона здоровья есть болезненное явление,
Правда, средний тип не может быть определен так же"
точно, как тип индивидуальный, так как его составные
атрибуты не вполне устойчивы и способны изменяться. Но
нельзя сомневаться, что он может быть установлен, так
как он составляет непосредственный предмет науки,
сливаясь с типом родовым. Физиолог изучает функции
среднего организма, то же можно сказать и о социологе.
Когда мы умеем отличать друг от друга социальные виды
(об этом см. ниже), тогда в любое время можно найти,
какова наиболее распространенная форма явления в
определенном виде, л
Мы видим, чтю факт может быть назван
патологическим только по отношению к данному виду. Условия
здоровья и болезни не могут быть определены in abstrac-
to и абсолютноТТЗ биологии это правило признано всеми.
Никогда никойу'не приходило в голову, чтобы
нормальное для моллюска было также нормальным и для
позвоночного. У каждого вида свое здоровье, потому что у него
свой собственный тип, и здоровье самых низких
видов не меньше, чем здоровье наиболее высоких. Тот же
принцип применим и к социологии, хотя здесь он часто
не признается. Нужно отказаться от весьма
распространенной еще привычки судить об институте, обычае,
нравственном правиле так, как будто бы они были
дурны или хороши сами по себе и благодаря самим себе для
всех социальных типов без различия.
Так как масштаб, с помощью которого можно судить
о состоянии здоровья или болезни, изменяется вместе с
видами, то он может изменяться и для одного и того же
вида, если последний, в свою очередь, подвергся
изменениям. Таким образом, с чисто биологической точки
зрения нормальное для дикаря не всегда нормально для
человека цивилизованного, и наоборот 2. Существует разряд
изменений, которые особенно важно принимать во впима-
2 Например, дикарь, у которого был бы ограниченный
пищевой канал il развитая нервная система здорового
цивилизованного человека, в своей среде был бы больным.
45$
ние, потому что они происходят регулярно во всех видах:
это изменения, связанные с возрастом.[^доровье старика
не такое, как у зрелого человека, точно так же, как
здоровье последнего отличается от здоровья ребенка. То же
самое можно сказать и об обществах3. Следовательно,
социальный факт можно назвать нормальным для
определенного социального вида только относительно
определенной фазы его развития. Поэтому, для того чтобы
узнать, имеет ли он право па это наименование,
недостаточно наблюдать, в каких формах он встречается в
большинстве принадлежащих к данному виду обществ; нужно
еще рассматривать последние в соответствующей фазе их
эволюции^)
По-би"димому, мы ограничились лишь определением
слов, так как только сгруппировали явления по их
сходствам и различиям и дали название полученным
группам. Но в действительности понятия, сформированные
нами таким образом, хотя и имеют то преимущество, что
узнаются по объективным и легко воспринимаемым
признакам, однако не расходятся с обыденным понятием о
здоровье и болезни. В самом деле, разве болезнь
не представляется всем случайностью, хотя и
допускаемой природой живого существа, однако для него
необычной? Древние философы, выражая это представление,
говорили, что болезнь не вытекает из природы вещей, что
она есть продукт известного рода случайности,
внутренне присупдей организмам. Такой взгляд, несомненно, есть
отрицание всякой науки, так как в болезни так же мало
чудесного, как и в здоровье; она в той же мере
заложена в природе существ. Только она не заложена в их
нормальной природе, не содержится в их обычной
организации и не связана с условиями существования, от которых
они обыкновенно зависят. Наоборот, типичным для вида
является состояние здоровья. Невозможно даже
представить себе вид, который сам по себе и в силу своей
основной организации был бы неизлечимо болен. Вид есть
норма по преимуществу и вследствие этого не может
содержать в себе ничего ненормального.
Правда, в обыденной речи под здоровьем понимают
также состояние, в целом предпочитаемое болезни. Но
это определение содержится уже в предыдущем. В самом
3 Мы сокращаем эту часть нашего изложения, так как
относительно социальных фактов в целом мы могли бы лишь
повторить здесь то, что сказанно нами в другом месте о делении
нравственных фактов на нормальные и ненормальные. См.: Division
du travail social, p. 33-39.
456
деле, свойства, совокупность которых образует
нормальный тип, смогли сделаться общими для данного вида не
без причины. Эта общность сама по себе является
фактом, нуждающимся в объяснении и обнаружении
причины. Но она была бы необъяснима, если бы самые
распространенные формы организации не были также, по
крайней мере в целом, и самыми полезными. Как могли бы
они сохраниться при столь большом разнообразии
обстоятельств, если бы они не позволяли индивидам лучше
сопротивляться разрушительным воздействиям?
Наоборот, если другие формы более редки, то очевидно, что
в среднем числе случаев представляющие их субъекты
выживают с большим трудом. Наибольшая
распространенность первых служит, стало быть, доказательством их
превосходства 4.
II
Последнее соображение дает даже средство для
осуществления контроля над результатами изложенного
метода.
Так как распространенность, характеризующая с
внешней стороны нормальные явления, сама есть
явление объяснимое, то, как только она прямо установлена
наблюдением, следует попытаться объяснить ее.
Конечно, можно быть уверенным заранее, что она имеет
причину, но важно знать точно, какова эта причина.
Действительно, нормальный характер явления будет более
очевиден, если будет доказано, что внешний признак, его
обнаруживший, не только нагляден, но и обусловлен
4 Гарофало, правда, попытался отличить болезненное от
ненормального (см.: Criminologie, p. 109, 110). Но в доказательство
он приводит лишь два следующих аргумента: 1) слово «болезнь»
обозначает всегда нечто, стремящееся к полному или
частичному разрушению организма; если нет разрушения, то имеет место
выздоровлепие, а не устойчивое состояние, как во многих
аномалиях. Однако мы видели, что аномалия в среднем числе
случаев также содержит в себе угрозу для жизни. Правда, это пе
всегда так, но и болезнь опасна лишь в большинстве случаев.
Что же касается отсутствия устойчивости, то указывать на
последнее как на отличительный признак болезни - значит
забывать о хронических болезнях и совершенно отделять
тератологическое от патологического. Уродства устойчивы. 2) Говорят, что
нормальное и ненормальное различается в зависимости от расы,
тогда как различие между физиологическим и патологическим
действительно для всего человеческого рода. Мы только что
показали, что, наоборот, часто то, что является болезнью для
дикаря, не является ею для цивилизованного человека. Условия
физического здоровья изменяются вместе со средой.
457
Природой вещей,— если, одним словом, можно будет
возвести эту фактическую нормальность в правовую. Такое
доказательство, впрочем, не всегда будет заключаться в
демонстрации полезности явления для организма, хотя
это будет встречаться чаще всего по упомянутым выше
причинам. Но может также случиться, как мы отмечали
выше, что явление будет нормально, не служа ничему,
нормально просто потому, что оно неизбежно вытекает
из природы данного существа. Так, может быть, было бы
полезно, чтобы роды не вызывали столь сильных
расстройств в женском организме, но это невозможно.
Следовательно, нормальность явления будет объясняться
уже тем, что оно связано с условиями существования
рассматриваемого вида: или как механическое,
неизбежное следствие этих условий, или как средство,
позволяющее организмам адаптироваться к ним 5.
Такое доказательство полезпо не только в качестве
проверки. Не надо забывать, что отличать нормальное от
ненормального важно главпым образом для прояспепия
практики. Λ для того чтобы действовать со знанием дела,
недостаточно знать, чего мы должны желать, но и
почему мы должны желать этого. Научные положения
относительно нормального состояния будут более
непосредственно применимы к частным случаям, когда они будут
сопровождаться указанием на их основания, потому что
тогда легче будет узнать, в каких случаях и в каком
направлении их нужно изменить при применении па
практике.
Бывают даже обстоятельства, при которых указанная
проверка совершенно необходима, так как применение
только первого метода может ввести в заблуждение. Она
необходима для переходных периодов, когда весь вид
находится в процессе изменения, еще не установившись
окончательно в новой форме. В этом случае
единственный нормальный тип, уже воплотившийся и данный в
фактах, есть тип прошлого, который, однако, уже не
отвечает новым условиям существования. Таким образом,
какой-нибудь факт может сохраняться на всем
пространстве вида, уже не отвечая требованиям ситуации. Оп
обладает тогда лишь кажущейся нормальностью:
всеобщее распространение его есть только обманчивый ярлык,
5 Можно, правда, спросить, не будет ли явление полезно
потому уже, что оно неизбежно вытекает из общих условий жизни.
Мы пе можем заняться этим философским вопросом. Впрочем,
мы коспемся его далее.
458
потому что, поддорживаясь лишь слепой силой
привычки, оно не является более признаком того, что
наблюдаемое явление тесно связано с общими условиями
коллективного существования. Эта трудность существует,
впрочем, только для социологии, с ней не сталкивается
биолог. Действительно, очень редко бывает, чтобы
животные виды были вынуждены принимать неожиданные
формы. Естественные нормальные изменения,
переживаемые ими,— те, которые регулярно воспроизводятся у
каждой особи, преимущественно под влиянием возраста.
Они, следовательно, известны или могут быть известны,
так как они уже реализовались в массе случаев;
поэтому в каждый момент развития животного и даже в
периоды кризисов можно знать, в чем заключается
нормальное состояние. Так же обстоит дело и в социологии
с обществами, принадлежащими к низшим видам. Так
как многие из них закончили уже круг своего развития,
то закон их нормальной эволюции устаповлен или, по
крайней мере, может быть установлен. Но когда дело
касается наиболее развитых и поздних обществ, то этот
закон не может быть известен, так как они не прошли
еще своей истории. Социологу, таким образом, может
быть затруднительным решить, нормально такое-то
явление или нет, потому что у него нет никакого
ориентира.
Оп выйдет из затруднения, действуя так, как мы
сказали. Установив посредством наблюдения, что факт
распространен, он обратится к условиям, определившим это
всеобщее распространение в прошлом, и затем
исследует, существуют ли еще эти условия в настоящем или же,
наоборот, они изменились. В первом случае он будет
вправе считать явление нормальным, а во втором — нет.
Например, для того чтобы узнать, нормально или нет
современное экономическое состояние европейских
народов с характерным для него отсутствием организациив,
надо найти, что породило его в прошлом. Если эти
условия те же, в которых находятся современные
общества, то указанное положение нормально, несмотря на
протесты, им вызываемые. Если же, наоборот, оно
связано с той старой социальной структурой, которую мы
назвали в другом месте сегментарной 7 и которая внача-
β См. об этом заметку, опубликовалиую пами в «Revue
philosophique» (Nov. 1893) «La définition du socialisme».
7 Сегментарными обществами, и в частности сегментарными
обществами с территориальной основой, мы называем такие,
459
ле составляла основной каркас обществ, а затем
постепенно исчезала, то нужно заключить, что теперь оно —
явление болезненное, как бы распространено оно ни было.
По этому же методу должны быть разрешены все
спорные вопросы этого рода, такие, как, например, нормально
или нет ослабление религиозных верований или развитие
власти государства 8.
Тем не менее этот метод ни в коем случае не может
ни заменить предшествующий, ни применяться первым.
Во-первых, он затрагивает вопросы, о которых нам
придется говорить дальше и к которым можно приступить,
лишь достаточно продвинувшись в науке; он заключает
в себе, в общем, почти полное объяснение явлений, так
как предполагает известными или их причины, или их
функции. Однако, за некоторыми исключениями, для того
чтобы размежевать области физиологии и патологии,
важно в самом начале исследования иметь возможность
разделить факты на нормальные и ненормальные. Затем,
для того чтобы считаться нормальным, факт должен
быть признан полезным или необходимым по отношению
группировка основных элементов которых соответствует
территориальным делениям. См.: Division du travail social, p. 189-210,
8 В некоторых случаях можно действовать несколько иначе
и доказать, что факт, в нормальном характере которого
сомневаются, заслуживает или не заслуживает этого сомнения, показав,
что он тесно связан с предшествующим развитием
рассматриваемого социального типа и даже с социальной эволюцией в целом,
или же, наоборот, что он противоречит тому и другому. Таким
способом мы смогли доказать, что теперешнее ослабление
религиозных верований и, шире, коллективных чувств по поводу
коллективных объектов вполне нормально. Мы доказали, что это
ослабление становится все более и более явным, по мерс того
как общества приближаются к нашему современному типу, а
последний, в свою очередь, более развит (см.: Division du travail
social, p. 73-182). Но, в сущности, этот метод есть лишь
частный случай предшествующего, потому это если нормальность
этого явления могла быть установлена таким образом, то это
значит в то же время, что оно было связано с самыми общими
условиями нашего коллективного существования. Действительно,
если этот регресс религиозного сознания становится тем более
заметным, чем определеннее структура наших обществ, то это
значит, что он связан не со случайной причиной, а с самим
строением нашей социальной среды. А так как, с другой стороны,
характерные особенности последней теперь, бесспорно, более
развиты, чем прежде, то вполне нормально, что растут также и
зависящие от пее явления. Этот метод отличается от предыдущего
лишь тем, что условия, объясняющие и обосновывающие
всеобщность явления, не наблюдаются прямо, а выводятся ипдуктивно.
Известно, что оно связано с природой социальной среды, но
неизвестно, в чем состоит эта связь и как она осуществляется.
460
i{ нормальному типу. Иначе можно было бы доказать,
что болезнь совпадает со здоровьем, потому что она
неизбежно вытекает из пораженного ею организма; лишь к
среднему организму она стоит в ином отношении. Точно
гак же применение какого-нибудь лекарства, полезного
для больного, могло бы считаться нормальным явлением,
тогда как оно очевидно ненормально, поскольку полезно
лишь в ненормальных обстоятельствах. Следовательно,
этим методом можно пользоваться лишь при условии, что
нормальный тип предварительно определен; определить
же его можно лишь другим приемом. Наконец, если
верно, что все нормальное полезно, раз оно необходимо, то
неверно, что все полезное нормально. Мы можем быть
уверены, что состояния, распространившиеся среди
представителей данного вида, более полезны, чем состояния,
оставшиеся исключениями; но мы не можем быть
уверены в том, что они самые полезные из существующих или
тех, которые могли бы существовать. У нас нет никаких
оснований думать, что в нашем опыте были испытаны
все возможные комбинации; среди комбинаций, никогда
не реализованных, хотя и возможных, могут
обнаружиться гораздо более полезные, чем те, которые нам
известны. Понятие полезного шире понятия нормального; оно
относится к последнему, как род к виду. Невозможно
вывести большее из меньшего, род из вида, но вид можно
найти в пределах рода, так как последний содержит его
в себе. Поэтому, как только всеобщий характер явления
установлен, можно, показав, в чем его полезность,
подтвердить результаты первого метода. Итак, мы можем
формулировать три следующих правила:
1) Социальный факт нормален для определенного
социального типа, рассматриваемого в определенной фазе
его развития, когда он имеет место в большинстве
принадлежащих к этому виду обществ, рассматриваемых в
соответствующей фазе их эволюции.
2) Можно проверить результаты применения
предшествующего метода, показав, что распространенность
явления зависит от общих условий коллективной жизни
рассматриваемого социального типа.
Но в таком случае, возразят нам, реализация
нормального типа — не самая возвышенная задача, которую
можно поставить себе и, чтобы пойти далее, надо
превзойти науку. Нам не нужно обсуждать здесь этот
вопрос ex professo3*; ответим только: 1) что он носит
чисто теоретический характер, так как в действительно-
461
сти нормальный тип, состояние здоровья реализуются
довольно трудно и достигаются достаточно редко для
того, чтобы мы не напрягали своего воображения с
целью найти что-нибудь лучшее; 2) что эти улучшения,
объективно более полезные, не становятся от этого
объективно желательными, так как, если они не отвечают
никакому скрытому или явному стремлению, они не
прибавят ничего к счастью; если же они отвечают какому-
нибудь стремлению, то это значит, что нормальный тип
еще не реализован; 3) наконец, для того чтобы улучшить
нормальный тип, его нужно знать. Следовательно,
превзойти науку можно, лишь опираясь на нее.
3) Эта проверка необходима, когда факт относится к
социальному виду, еще не завершившему процесса
своего полного развития.
III
В настоящее время мы настолько привыкли еще одним
махом решать указанные трудные вопросы, пастолько
привыкли определять с помощью силлогизмов и
поверхностных наблюдений, нормален или нет данный
социальный факт, что описанную процедуру сочтут, быть может,
излишне сложной. Кажется, что, для того чтобы
отличить болезнь от здоровья, нет надобности в столь
сложных приемах. Разве мы не различаем их
ежедневно? Верно, но надо еще посмотреть, насколько удачно мы
это делаем. Трудность решения этих проблем скрывается
от нас тем обстоятельством, что, как мы видим, биолог
решает их относительно легко. Но мы забываем, что ему
гораздо легче, чем социологу, заметить, каким образом
каждое явление затрагивает силу сопротивления
организма, а отсюда определить его нормальный или
ненормальный характер с точностью практически
удовлетворительной. В социологии большая сложность и подвижность
фактов обязывают и к большей осторожности, как это
доказывают противоречивые суждения различных партий
об одном и том же явлении. Для того чтобы наглядно
продемонстрировать, насколько необходима эта
осмотрительность, покажем на нескольких примерах, к каким
ошибкам может привести ее недостаток и как в новом
свете выступают перед нами самые существенные
явления, когда их обсуждают методически.
Преступление есть факт, патологический характер
которого считается неоспоримым. Все криминологи
согласны в этом. Если они объясняют этот болезненный ха-
462
рактер различным образом, то признают его единодушно.
Между тем данная проблема требует менее
поспешного рассмотрения.
Действительно, применим предшествующие правила.
Преступление наблюдается не только в большинстве
обществ того или иного вида, но во всех обществах всех
типов. Лет такого общества, в котором не существовала
бы преступность. Правда, она изменяет форму;
действия, квалифицируемые как преступные, не везде одни
и ire же, но всегда и везде существовали люди, которые
поступали таким образом, что навлекали на себя
уголовное наказание. Если бы, по крайней мере, с переходом
обществ от низших к более высоким типам процент
преступности (т. е. отношение между годичной цифрой
преступлений и цифрой народонаселения) снижался, то
можно было бы думать, что, не переставая быть
нормальным явлением, преступление все-таки стремится
утратить этот характер. Но у нас нет никакого основания
верить в существование подобного регресса. Многие
факты указывают, по-видимому, скорее на движение в
противоположном направлении. С начала столетия
статистика дает нам возможность следить за движением
преступности; последняя повсюду увеличилась. Во Франции
увеличение достигает почти 300%. Нет, следовательно,
явления с более несомненными симптомами
нормальности, поскольку оно тесно связано с условиями всякой
коллективной жизни. Делать из преступления
социальную иолезнь значило бы допускать, что болезнь не есть
нечто случайное, а, наоборот, вытекает в некоторых
случаях из основного устройства живого существа; это
значило бы уничтожить всякое различие между
физиологическим и патологическим. Конечно, может случиться,
что сама преступность примет ненормальную форму; это
имеет место, когда, например, она достигает чрезмерного
роста. Действительно, не подлежит сомнению, что эта
избыточность носит патологический характер.
Существование преступности само по себе нормально, но лишь
тогда, когда оно достигает, а не превосходит
определенного для каждого социального типа уровня, который
может оыть, пожалуй, установлен при помощи
предшествующих правил 9.
9 Из того, что преступление есть явление нормальной
социологии, не следует, чтобы преступник был индивидом, нормально
организованным с биологической и психологической точен
зрения. Оба вопроса не зависят друг от друга. Эта независимость
463
Мы приходим к выводу, по-видимому достаточно
парадоксальному. Не следует обманывать себя; относить
преступление к числу явлений нормальной социологии —
значит не только признавать его явлением неизбежным,
хотя и прискорбным, вызываемым неисправимой
испорченностью людей; это значит одновременно утверждать,
что оно есть фактор общественного здоровья, составная
часть всякого здорового общества. Этот вывод на первый
взгляд настолько удивителен, что он довольно долго
смущал нас самих. Но, преодолев это первоначальное
удивление, нетрудно найти причины, объясняющие и в
то же время подтверждающие эту нормальность.
Прежде всего преступление нормально, так как
общество, лишенное его, было бы совершенно невозможно.
Преступление, как мы показали в другом месте,
представляет собой действие, оскорбляющее известные
коллективные чувства, наделенные особой энергией и
отчетливостью. Для того чтобы в данном обществе перестали
совершаться действия, признаваемые преступными,
нужно было бы, чтобы оскорбляемые ими чувства
встречались во всех индивидуальных сознаниях без исключения,
и с той степенью силы, какая необходима для того,
чтобы сдержать противоположные чувства. Предположим
даже, что это условие могло бы быть выполнено, но
преступление все-таки не исчезнет, а лишь изменит свою
форму, потому что та же самая причина, которая
осушила бы таким образом источники преступности,
немедленно открыла бы новые.
Действительно, для того чтобы коллективные чувства,
которые защищает уголовное право данного народа в
данный момент его истории, проникли в сознания, до тех
пор для них закрытые, или получили бы большую власть
там, где до той поры у них ее было недостаточно,
нужно, чтобы они приобрели большую интенсивность, чем
та, которая у них была раньше. Нужно, чтобы для
общества в целом эти чувства обрели большую энергию, так
как из другого источника они не могут почерпнуть силу,
необходимую для проникновения в индивидов, дотоле к
ним особенно невосприимчивых. Для того чтобы исчезли
убийцы, нужно, чтобы увеличилось отвращение к
пролитой крови в тех социальных слоях, из которых
формируются ряды убийц, а для этого нужно, чтобы оно уве-
станет понятней, когда мы рассмотрим ниже разницу между
психическими и социологическими фактами.
464
дичилось во всем обществе. Притом само отсутствие
преступления прямо способствовало бы достижению
этого результата, так как чувство кажется гораздо более
достойным уважения, когда его всегда и неизменно
уважают. Но следует обратить внимание, что эти сильные
состояния общего сознания не могут усилиться таким
образом без того, чтобы не усилились одновременно и
некоторые более слабые состояния, нарушение которых
ранее вызывало лишь чисто нравственные проступки;
потому что последние являются лишь продолжением,
лишь смягченной формой первых. Так, воровство и
просто нечестность оскорбляют одно и то же
альтруистическое чувство — уважение к чужой собственности. Но
одно из этих действий оскорбляет данное чувство слабее,
чем другое, а так как, с другой стороны, это чувство в
среднем в сознаниях не достигает такой интенсивности,
чтобы живо ощущалось и более легкое из этих
оскорблений, то к последнему относятся терпимее. Вот почему
нечестного только порицают, тогда как вора
наказывают. Но если это же чувство станет настолько сильным,
что совершенно уничтожит склонность к воровству, то
оно сделается более чутким к обидам, до тех пор
затрагивавшим его лишь слегка. Оно будет, стало быть,
реагировать на них с большей живостью; эти нарушения
подвергнутся более энергичному осуждению, и некоторые из
них перейдут из списка простых нравственных
проступков в разряд преступлений. Так, например, нечестные и
нечестно выполненные договоры, влекущие за собой лишь
общественное осуждение или гражданское взыскание,
станут преступлениями. Представьте себе общество
святых, идеальный, образцовый монастырь. Преступления в
собственном смысле будут там неизвестны, но проступки,
кажущиеся извинительными толпе, вызовут там то же
негодование, какое вызывает обыкновенное
преступление у обыкновенных людей. Если же у этого общества
будет власть судить и карать, то оно сочтет эти действия
преступными и будет обращаться с ними как с таковыми.
На том же основании человек совершенно честный судит
свои малейшие нравственные слабости с той же
строгостью, с какой толпа судит лишь действительно
преступные действия. В былые времена насилие пад личностью
было более частым, чем теперь, потому что уважение к
достоинству индивида было слабее. Так как это уважение
выросло, то такие преступления стали более редкими, но
в то же время многие действия, оскорблявшие это чувст-
465
во, Попали в уголовное право, к которому первоначально
они не относились 1ΰ.
Чтобы исчерпать все логически возможные гипотезы,
можно спросить себя, почему бы такому единодушию не
распространиться на все коллективные чувства без
исключения; почему бы даже наиболее слабым из них
не сделаться достаточно энергичными для того, чтобы
предупредить всякое инакомыслие. Нравственное
сознание общества воспроизводилось бы у всех индивидов
целиком и с энергией, достаточной для того, чтобы
помешать всякому оскорбляющему его действию, как
преступлениям, так и чисто нравственным проступкам. Но
такое абсолютное и универсальное однообразие
совершенно невозможно, так как окружающая нас физическая
среда, наследственные предрасположения, социальные
влияния, от которых мы зависим, изменяются от одного
индивида к другому и, следовательно, вносят
разнообразие в нравственное сознание каждого. Невозможно,
чтобы все походили друг на друга в такой степени,
невозможно уже потому, что у каждого свой собственный
организм, который занимает особое место в пространстве.
Вот почему даже у низших народов, у которых
индивидуальность развита очень мало, она все-таки
существует. Следовательно, так как не может быть общества,
в котором индивиды более или менее не отличались бы
от коллективного типа, то некоторые из этих отличий
неизбежно будут носить преступный характер. Этот
характер сообщается им не внутренне присущим им
значением, а тем значением, которое придает им общее
сознание. Если, следовательно, последнее обладает
значительной силой и властью, для того чтобы сделать эти
отличия весьма слабыми в их абсолютной ценности, то оно
будет также более чувствительным и требовательным;
реагируя на малейшие отклонения с энергией,
проявляемой им в других условиях лишь против более
значительных расхождений, оно припишет им ту же важность,
т. е. обозначит их как преступные.
Преступление, стало быть, необходимо, оно связано с
основными условиями всякой социальной жизни и уже
потому полезно, так как условия, с которыми оно
связано, в свою очередь необходимы для нормальной эволюции
морали и права.
0 Клевета, оскорбление, диффамация 4*, мошенничество и т. д.
466
Действительно, теперь невозможно оспаривать того,
что право и нравственность изменяются не только от
одного социального типа к другому, но и для одного и
того же типа при изменении условий коллективного
существования. Но, для того чтобы эти преобразования
были возможны, необходимо, чтобы коллективные
чувства, лежащие в основе нравственности, не сопротивлялись
изменениям, т. е. обладали умеренной энергией. Если бы
они были слишком сильны, они не были бы пластичны.
Действительно, всякое устройство служит препятствием
к переустройству, и тем сильнее, чем прочнее
первоначальное устройство. Чем отчетливее проявляется
известная структура, тем большее сопротивление оказывает
она всякому изменению, что одинаково справедливо как
для функционального, так и для анатомического
строения. Если бы не было преступления, то данное условие
не было бы реализовано, так как подобная гипотеза
предполагает, что коллективные чувства достигли
беспримерной в истории степени интенсивности. Все хорошо в
меру и при известных условиях; нужно, чтобы авторитет
нравственного сознания не был чрезмерен, иначе никто
не осмелится поднять на него руку и оно очень легко
застынет в неизменной форме. Для его развития
необходимо, чтобы оригинальность индивидов могла пробиться
наружу. Ведь для того, чтобы могла проявиться
оригинальность идеалиста, мечтающего возвыситься над своим
веком, нужно, чтобы была возможна и оригинальность
преступника, стоящая ниже своего времени. Одна не
существует без другой.
Это еще не все. Случается, что кроме этой косвенной
пользы преступление само играет полезную роль в этой
эволюции. Оно не только требует, чтобы был открыт
путь для необходимых изменений, но в известных
случаях прямо подготавливает эти изменения. Там, где оно
существует, коллективные чувства обладают необходимой
для восприятия новых форм гибкостью, а кроме того,
преступление иной раз даже в какой-то мере
предопределяет ту форму, которую они примут. Действительно, как
часто оно является провозвестником будущей
нравственности, продвижением к будущему! Согласно афинскому
праву, Сократ был преступником, и его осуждение было
вполне справедливым. Между тем его преступление,
а именно самостоятельность его мысли, было полезпо пе
только для человечества, но и для его родины. Оно
служило подготовке новой нравственности и новой веры,
467
в которых нуждались тогда Афины, потому что
традиции, которыми они жили до тех пор, не отвечали более
условиям их существования.
Пример Сократа не единственный, он периодически
повторяется в истории. Свобода мысли, которой мы
теперь пользуемся, никогда не могла бы быть
провозглашена, если бы запрещавшие ее правила не нарушались,
прежде чем были торжественно отменены. Между тем в
то время это нарушение было преступлением, так как
оно оскорбляло еще очень энергичные чувства,
свойственные большинству сознаний. И все-таки это
преступление было полезно, поскольку оно служило прелюдией
для преобразований, становившихся день ото дня все
более необходимыми. Свободная философия имела своими
предшественниками еретиков всякого рода, которые
справедливо преследовались светской властью в течение
всех средних веков и почти до нашего времени.
С этой точки зрения основные факты криминологии
предстают перед нами в совершенно новом виде.
Вопреки ходячим воззрениям, преступник вовсе не существо,
отделенное от общества, вроде паразитического элемента,
не чуждое и не поддающееся ассимиляции тело внутри
обществаи; это регулярно действующий фактор
социальной жизни. Преступность, со своей стороны, не
должна рассматриваться как зло, для которого не может быть
слишком тесных границ; не только не нужно радоваться,
когда она опускается ниже обыкновенного уровня, но
можно быть уверенным, что этот кажущийся прогресс
связан с каким-нибудь социальным расстройством. Так,
число случаев нанесения телесных повреждений никогда
не бывает столь незначительным, как во время голода 12.
11 Мы сами ошибочно говорили так о преступнике вследствие
того, что не применили нашего правила. См.: Division du travail
social, p. 395-396.
12 Из того, что преступление есть факт нормальной
социологии, не следует, что его не надо ненавидеть. В страдапии тоже
нет ничего желательного; индивид ненавидит его так же, как
общество ненавидит преступление; а между тем оно относится к
нормальной физиологии. Оно не только неизбежно вытекает из
самой организации каждого живого существа, но и играет в
жизни полезную роль, в которой его нельзя ничем заменить.
Следовательно, представлять пашу мысль как апологию преступления
значило бы в высшей степени исказить ее. Мы не подумали бы
даже протестовать против такого толкования, если бы не знали,
с какими недоразумениями и странными обвинениями
сталкиваются, когда собираются объективно исследовать нравственные
факты и говорить о них языком, несвойственным толпе.
468
Β ίο же время обновляется, или, скорее, должна
обновиться, теория наказания. Действительно, если
преступление есть болезнь, то наказание является лекарством и
не может рассматриваться иначе; поэтому все дискуссии
вокруг него сводятся к вопросу о том, каким ему быть,
чтобы выполнять функцию лекарства. Если же в
преступлении нет ничего болезненного, то наказание не должно
иметь целью исцелить от него, и его истинную функцию
следует искать в другом.
Следовательно, было бы ошибочно считать, что
вышеизложенные правила служат просто малополезному
стремлению к соответствию логическим формальностям;
наоборот, в результате их применения самые
существенные социальные факты полностью изменяют свой
характер. Хотя приведенный пример особенно нагляден, и
потому мы сочли нужным остановиться на нем, существуют
и многие другие примеры, которые небесполезно было бы
привести. Нет общества, в котором не считалось бы за
правило, что наказание должно быть пропорционально
преступлению; между тем для итальянской школы этот
принцип является лишь ни на чем не основанной
выдумкой юристов 13. Для этих криминологов институт
уголовного права в целом, в том виде, как он функционировал
до сих пор у всех известных народов, есть явление
противоестественное. Мы уже видели, что для Гарофало
преступность, свойственная низшим обществам, не содержит
в себе ничего естественного. Для социалистов
капиталистическая организация, несмотря на свою
распространенность, составляет уклонение от нормального состояния,
вызванное насилием и хитростью. Наоборот, для Спенсера
наша административная централизация, расширение
правительственной власти являются главным пороком наших
обществ, хотя и то и другое прогрессирует самым
регулярным и универсальным образом, по мере того как мы
продвигаемся в истории. Мы не думаем, что
когда-нибудь давали себе труд определить систематически
нормальный или ненормальный характер социальных фактов
по степени их распространения. Эти вопросы всегда
смело решались с помощью диалектики.
Между тем если отказаться от указанного критерия,
то мы не только подвергаемся отдельным заблуждениям
и путанице, вроде только что приведенных, но сама
наука стапоиится невозможной. Действительно, ее пепосрсд-
13 Carofalo. Criminologie, p. 299.
469
ствсппым предметом является изучение нормального типа;
если же самые распространенные факты могут быть
патологическими, то может оказаться, что нормальный тип
никогда и не проявлялся в фактах. Но зачем тогда изучать
их? Они могут лишь подтверждать наши предрассудки и
укреплять паши заблуждения, поскольку вытекают из них.
Если наказание, если ответственность в том виде, как
они существуют в истории, являются продуктом
невежества и варварства, то зачем пытаться узнать их, чтобы
определить их нормальные формы? Таким образом,
разум вынужден отвернуться от безынтересной для него
отныне реальности, углубиться в себя и в самом себе
искать материалы, необходимые для ее реконструкции. Для
того чтобы социология рассматривала факты как вещи,
нужно, чтобы социолог чувствовал необходимость
приняться за их изучение. А так как главным предметом всякой
науки о жизни, будь она индивидуальной или
социальной, является в общем определение нормального
состояния, его объяснение и выявление отличия от состояния
противоположного, то если нормальность пе дана в самих
вещах, если она является, наоборот, свойством, которое
мы вносим извне в вещи или в котором мы им почему-
либо отказываем, то эта благотворная зависимость от
фактов прервана. Разум чувствует себя свободным перед
лицом реальности, которая мало чему может научить
его. Он не сдерживается более предметом, к которому
прилагается, так как в известной мере он сам определяет
этот предмет. Следовательно, различные правила,
установленные нами до сих пор, тесно между собой связаны.
Для того чтобы социология была действительно наукой о
вещах, нужно, чтобы всеобщий характер явлений был
принят за критерий их нормальности.
Наш метод, кроме того, имеет еще то преимущество,
что регулирует одновременно действие и мысль. Если
желательное не является объектом наблюдения, а может и
должпо быть определено своего рода умственным
вычислением, то в поисках лучшего нет, так сказать, предела
для свободной игры воображения, потому что как же
установить для совершенствования такой предел, которого
оно не могло бы превзойти? Оно ускользает от всякого
ограничения. Цель человечества отодвигается, таким
образом, в бесконечность, своей отдаленностью приводя в
отчаяние одних и, наоборот, возбуждая и воспламеняя
других, тех, кто, чтобы приблизиться к ней немного,
ускоряют шаг и устремляются в революции. Этой практиче·
470
ской дилеммы Можно избежать, если знать, что
желательное — это здоровье, а здоровье есть нечто
определенное и данное в самих вещах, так как тогда предел
усилий одновременно и дан и определен. Речь пойдет уже не
о том, чтобы безнадежно преследовать цель, убегающую
но мере приближения к ней, а о том, чтобы работать с
неослабевающей настойчивостью над поддержанием
нормального состояния, восстановлением его в случае его
расстройства и обнаружением его условий, если они
изменились. Долг государственного человека не в том, чтобы
насильно толкать общества к идеалу, кажущемуся ему
соблазнительным; его роль — это роль врача: он преду-
ждает возникновение болезней хорошей гигиеной,
а когда они обнаружены, старается вылечить ихи.
*
Глава IV
ПРАВИЛА, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПОСТРОЕНИЮ
СОЦИАЛЬНЫХ ТИПОВ
Так как данный социальный факт может считаться
нормальным или -ненормальным лишь по отношению к
определенному социальному виду, то из всего сказанного
следует, что известная ветвь социологии должпа быть
посвящена построению этих видов и их классификации.
Понятие о социальном виде имеет то огромное
преимущество, что занимает среднее место между двумя
противоположными представлениями о коллективной
жизни, долгое время разделявшими мыслителей; я имею
в виду номинализм историков 1 и крайний реализм
философов. Для историков общества представляют собой
равное их числу количество несравнимых гетерогенных ин-
14 Из теории, изложенной в этой главе, иногда делали вывод,
что с наше« точки зрения рост преступности на протяжении
XIX в.- явление нормальное. Такое истолкование весьма далеко
от нашей мысли. Многие факты, приводимые нами в связи с
самоубийством (см.: Le Suicide, p. 420 и след.), наоборот, заставляют
нас думать, что такой рост в целом — явление патологическое.
Тем не менее может быть так. что некоторый рост определенных
форм преступности пормален, так как каждому состоянию
цивилизации свойственна своя собственная преступность. Но по этому
поводу можно предложить лишь гипотезы.
1 Я называю его так, потому что он часто встречается у
историков, но я не хочу этим сказать, что он встречается у всех
историков.
471
Д'ивйдуалытостей. У каждого народа своя физиономия,
свое особое устройство, свое право, своя нравственность,
своя экономическая организация, пригодные лишь для
него; и всякое обобщение здесь почти невозможно. Для
философа, наоборот, все эти отдельные группы,
называемые племенами, городами, нациями, являются лишь
случайными и временными комбинациями, не имеющими
собственной реальности. Реально лишь человечество, и из
общих свойств человеческой природы вытекает вся
социальная эволюция. Следовательно, для первых история
является лишь рядом связанных между собой, но
неповторяющихся событий; для вторых эти же самые события
представляют ценность и интерес лишь как иллюстрация
общих законов, начертанных в природе человека и
управляющих всем ходом исторического развития. Для одних то,
что хорошо для одного общества, не может быть
применено к другим. Условия состояния здоровья изменяются от
одного народа к другому и не могут быть определены
теоретически; это дело практики, опыта, действий наугад. Для
других они могут быть вычислены раз навсегда и для
всего человеческого рода. Казалось, что социальная
реальность может быть только предметом или абстрактпой
и туманной философии, или чисто описательных
монографий. Но можно избегнуть этой альтернативы, если
признать, что между беспорядочным множеством
исторических обществ и единственным, но идеальным понятием о
человечестве, существуют посредники — социальные виды.
Действительно, понятие вида примиряет научное
требование единства с разнообразием, данным в фактах, потому
что свойства вида всегда обнаруживаются у всех
составляющих его индивидов, а с другой стороны, виды
различаются между собой. Справедливо, что нравственные,
юридические, экономические и другие институты
бесконечно изменчивы, но эти изменения не носят такого
характера, чтобы исключать возможность научпого
исследования.
Лишь вследствие непризнания существования
социальных видов Конт мог приравнивать прогресс человеческих
обществ прогрессу одного парода, «которому мысленно
были бы приписаны все последовательные изменения,
наблюдавшиеся у разных народов» 2. Это было бы
действительно так, если бы существовал лишь один социальый
вид и отдельные общества отличались друг от друга лишь
2 Cours do philosophic positive. IV, § 263.
472
количественно, в соответствии с тем, насколько полно
воплощают они в себе существенные признаки этого
единого вида, насколько совершенно выражают они
человечество. Если же, наоборот, существуют социальные типы,
качественно отличающиеся друг от друга, то, как бы их ни
сближали, их нельзя будет вполне слить воедино, как
гомогенные деления одной геометрической прямой. Таким
образом, историческое развитие теряет идеальпое и
упрощенное единство, которое ему приписывали; оно
распадается, так сказать, на массу обломков, которые не могут
прочно соединиться друг с другом, потому что
существенно отличаются друг от друга. Знаменитая метафора
Паскаля, повторенная Контом, оказывается теперь
несостоятельной.
/ Но как же взяться_за. „построение этих видов?
I
На первый взгляд может показаться, что нет другого
способа, как изучить каждое общество отдельно,
составить о нем как можно более полное и точное
монографическое описание, сравнить затем все эти описания между
собой, посмотреть, в чем они совпадают, в чем
расходятся, и, наконец, в зависимости от относительной важности
этих сходств и различий распределить народы по разным
или одинаковым группам. Обосновывая этот метод,
замечают, что только он пригоден для науки, основанной на
наблюдении. Действительно, вид являет лишь
совокупность индивидов; как же установить его иначе, как не
начав с описания каждого из них в целом? Разве не
существует правила восходить к общему после наблюдения
частного во всей его полноте? На этом основании хотели
отложить построение социологии до некой отдаленной
эпохи, когда история в своем изучении отдельных
обществ дойдет до результатов, достаточно объективных и
определенных, чтобы можно было с пользой сравнивать их.
Но в действительности такая осторожность научна
лишь с виду. Неверно, что наука может устанавливать
законы, лишь обозрев все выражаемые ими факты, или
образовать родовые категории, лишь описав во всей
полноте их индивидуальных представителей. Подлинно
экспериментальный метод стремится, скорее, заменить
обыденные факты (имеющие доказательную силу лишь тогда,
когда они весьма многочисленны, из-за чего осиовапные
па них выводы всегда не очень достоверны) фактами ре-
473
шающими, или перекрестными, как говорил Бэкон 3,
имеющими научную ценность и интерес сами по себе,
независимо от их количества 5*. Особенно важно действовать
таким образом тогда, когда речь идет об установлении
родов и видов, так как составить перечень всех присущих
индивидам признаков — задача неразрешимая. Всякий
индивид есть бесконечность, а бесконечность не может
быть исчерпана. Может быть, следует обращаться только
к наиболее существенным свойствам? Но согласно какому
принципу осуществлять отбор? Для этого нужен
критерий, который бы выводил нас за пределы индивида и
который даже самые лучшие монографические описания не
смогут нам дать. Даже если не углубляться в проблему,
можно предвидеть, что чем многочисленнее будут
признаки, которые послужат основой классификации, тем
труднее можно ожидать, что разнообразные способы их
сочетаний в частных случаях дадут нам достаточно явные
сходства и резкие различия, чтобы можно было
установить определенные группы и подгруппы.
Но даже если бы подобным методом и возможно было
бы создать классификацию, то ее огромным недостатком
было бы то, что она не принесла бы той пользы,
которая от нее ожидается. Действительно, она должна
прежде всего сократить объем научной работы, заменяя
бесчисленное множество индивидов ограниченным числом
типов. Но она теряет это преимущество, если данные
типы будут установлены только после того, как все ип-
дивиды будут рассмотрены и проанализированы. Она не
сможет практически облегчить исследование, если будет
лишь резюмировать уже проведенные исследования. Опа
будет действительно полезна, если позволит нам
классифицировать другие признаки, нежели те, что лежат в ее
основе, если она обеспечит пам ориентиры для
последующих фактов. Ведь ее роль и состоит в том, чтобы дать пам
в руки ориентиры, с которыми мы могли бы связывать
другие наблюдения, отличные от тех, которые сами
послужили ориентирами. Но для этого нужно,
чтобы данная классификация была построена не согласно
полному списку всех индивидуальных признаков, а на
основе небольшого, тщательно отобранного их числа. В
таком случае она будет способствовать не только
упорядочению уже добытых знаний, но и росту этих знаний. Она
избавит наблюдателя от многих хлопот, указывая ему
3 Novum Organum, II, § 36.
474
дорогу. Если классификация будет построена на этом
принципе, тогда, чтобы узнать, распространен ли факт в
пределах данного вида, не будет необходимости
наблюдать все общества, входящие в этот вид; некоторых из
них будет достаточно. Во многих случаях даже будет
достаточно одного хорошо проведенного наблюдения,
подобно тому как часто одного хорошо проведенного
эксперимента достаточно для установления закона.
Мы должны, стало быть, выбрать для пашей
классификации наиболее существенные признаки. Правда, знать
их можно лишь тогда, когда объяснение фактов
продвинулось достаточно далеко. Эти две части научного
познания тесно связаны между собой и способствуют развитию
друг друга. Однако, еще и не погрузившись в глубокое
изучение фактов, нетрудно предположить, с какой
стороны следует искать характерные свойства социальных
типов. В самом деле, мы знаем, что общества состоят из
частей, присоединенных друг к другу. Поскольку
природа всякой результирующей непременно зависит от
природы, числа составных элементов и способа их сочетания,
то, очевидно, именно эти признаки и следует взять за
основу. И мы действительно увидим далее, что именно от
них зависят всеобщие факты социальной жизни. С
другой сторопы, поскольку эти признаки —
морфологического порядка, то можно назвать социальной
морфологией ту часть социологии, задача которой — построение и
классификация социальных типов.
Можно даже еще больше уточнить принцип этой
классификации. Известно в самом деле, что составные части,
из которых образовано всякое общество,— это общества,
более простые, чем оно. Народ образуется объединением
двух или более народов, предшествующих ему. Стало
быть, если мы узнаем самое простое из всех
существовавших когда-либо обществ, тогда, чтобы построить нашу
классификацию, нам останется лишь проследить способ,
которым составлено это общество и которым его
составляющие части соединяются между собой.
II
Спенсер прекрасно понял, что методически построенная
классификация социальных типов пе может иметь
другого основания.
«Мы видели,—говорит он,—что социальная эволюция
начинается с малых простых агрегатов; что она
прогрессирует посредством объединения некоторых из этих аг-
475
рсгатов л большие агрегаты и что после их
консолидации эти группы объединяются с другими, себе
подобными, с тем чтобы образовать еще большие агрегаты.
Следовательно, наша классификация должна начаться с
обществ первого порядка, т. е. самых простых» 4.
Чтобы применить этот принцип практически, нужно
было бы начать с точного определения того, что
понимается под простым обществом. К сожалению, Спенсер не
только не дает этого определения, но считает его почти
невозможным \ Дело в том, что простота в его
понимании состоит главным образом в известной примитивности
организации. Но нелегко точно сказать, в какой момент
социальная организация достаточно рудиментарна, чтобы
считаться простой; это предмет оценки. «Мы не можем
сделать ничего лучше,— говорит он,— чем рассматривать
в качестве простого общества то, которое образует целое,
не подчиненное другому целому и части которого
сотрудничают между собой с помощью или без помощи
регулирующего центра для достижения некоторых целей,
представляющих общественный интерес» 6. Но
существует множество народов, отвечающих этому условию.
Отсюда следует, что он смешивает в одной рубрике все
наименее цивилизованные общества. Можно представить
себе, какой может быть при подобной отправной точке
вся остальная часть классификации. Мы видим в ней в
поразительной мешанине соединение самых разнородных
обществ: греков гомеровской эпохи рядом с феодалами
X в. и расположенных ниже бечуанов; зулусов и
фиджийцев, афинскую конфедерацию — рядом с феодами
Франции XIII в. и расположенных ниже ирокезов и арау-
канов.
Слово «простота» имеет определенный смысл лишь
тогда, когда оно обозначает полное отсутствие частей.
Следовательщ£,_гд)д простым обществом нужно понимать
всякое общество, которое не включает в себя другие,
более простые, чем оно; ^оторое не только в нынешнем со-
состоянии сведено к единственному сегменту, но и не
содержит никаких следов предшествующей сегментации.
Орда, в том виде, как мы ее определили ранее 7, точно
соответствует этому определепию. Это социальный агрегат,
ν
4 Sociologie, II, p. 135.
5 «Мы не всегда можем точно сказать, что составляет простое
общество» (Ibid., p. 135, 136).
6 Ibid., p. 136.
7 Division du travail social, p. 189.
476
не заключающий в себе и никогда не заключавший
никакого другого более элементарного агрегата, но
непосредственно разлагающийся на индивидов. Последние внутри
целостной группы пе образуют особые группы, отличные
от предыдущей; они расположены рядом друг с другом,
подобно атомам. Ярно, что не может быть более простого
общества; это протоплазма социального мира и,
следовательно, (естественная основа всякой классификации.
Правда, 'возможно, "не существубт в истории общества,
которое бы точно соответствовало этим приметам, но, как
мы показали в уже упоминавшейся книге, мы знаем массу
таких, которые прямо и без промежуточных звеньев
образованы посредством повторения орд. Когда орда
становится, таким образом, социальным сегментом, вместо того
чтобы быть обществом в целом, опа меняет имя,
называясь кланом, но сохраняет те же основные черты. В
действительности клан представляет собой агрегат, пе
разложимый ни на какой другой, более мелкий. Возможно,
заметят, что обычно там, где мы его теперь наблюдаем,
он включает в себя множество отдельных семей. Но
прежде всего, исходя из соображений, которые мы не
можем здесь развить, мы думаем, что эти малые семейные
группы сформировались после клана. Кроме того, если
говорить точно, они не составляют социальных
сегментов, потому что не являются политическими
подразделениями. Повсюду, где мы его встречаем, клан составляет
последнее подразделение такого рода. Следовательно,
даже если бы у нас не было других фактов,
подтверждающих существование орды,— а они имеются, и
когда-нибудь нам представится случай их предъявить,—
существование клана, т. е. обществ, образованных объединением
орд, позволяет нам предположить, что вначале
образовались простые общества, сводившиеся к орде в
собственном смысле. Последнюю мы считаем источником, из
которого произошли все социальные виды.
Понятие орды, или общества с единственным
сегментом, независимо от того, считать его исторической
реальностью или научным постулатом, является точкой опоры,
необходимой для конструирования полной шкалы
социальных типов. (Мы сможем различать столько основных
типов, сколько суЩШ^Твует для орды способов
образовывать комбинации с другими ордами, что порождает новые
общества, и сколько существует способов комбинаций,
образуемых этими обществами между собой. Мы
столкнемся прежде всего с агрегатами, образованными простым
477
повторением орд или кланов (если использовать их новое
наименование), при котором кланы не объединены между
собой и не образуют промежуточных групп между
группой в целом, охватывающей их всех, и каждым из
кланов. Они просто располагаются рядом, как индивиды в
орде. Примеры этих обществ, которые можно назвать
простыми полисегментарными, мы находим в некоторых
ирокезских и австралийских племенах. Арч, или кабиль-
ское племя, носит тот же характер: это собрание кланов,
застывших в форме деревень. Весьма вероятно, что было
время в истории, когда римская курия и афинская
фратрия представляли собой общества этого родаГ Над ними
располагаются общества, образованные соединением
обществ предыдущего типа, т. е. просто соединенные
полисегментарные общества. Таков характер ирокезской
конфедерации, конфедерации кабильских племенЛ так же
было первоначально и с каждым из трех—««грвобытных
племен, из объединения которых впоследствии родилось
римское государство/ Далее мы встретим
полисегментарные общества, соедикеЯНые двойным образом. Они
возникают из последовательного сочетания или слияния
нескольких просто соединенных полисегментарных обществ.
Таково античное государство, агрегат племен, которые
сами являются агрегатами курий, которые в свою очередь
разлагаются на gentes, или кланы. Таково и германское
племя с его графствами, подразделяющимися на сотни,
которые, в свою очередь, имеют в качестве едипицы клан,
ставший деревней.
Нам нет необходимости развивать далее эти
замечания, поскольку здесь не может идти речь о создании
классификации обществ. Это слишком сложная проблема,
чтобы рассматривать ее мимоходом; напротив, она
предполагает целый ряд специальных и длительных
исследований. Мы хотели лишь посредством нескольких
примеров уточнить понятия и показать, как должен
применяться методологический припцип. Предыдущее не следует
рассматривать как полную классификацию низших
обществ. Здесь мы песколько упростили вещи для большей
ясности. В самом деле, мы предположили, что каждый
высший тип формировался повторением обществ одного и
того же типа, а именно типа, расположенного
непосредственно под ним. Но нет ничего невозможного в том, чтобы
общества различных видов, расположенные на разной
высоте генеалогического дерева социальных типов,
объединялись, образуя новый вид. Мы знаем, по крайней
478
мере, один такой случай: это Римская империя,
включавшая в себя народы, самые разные по природе8.
Но и когда эти типы будут построены, придется
различать в каждом из них многочисленные разновидности
согласно тому, сохраняют ли некоторую
индивидуальность сегментарные общества, образующие общество
более высокого типа, или же, наоборот, они растворяются в
общей массе. Попятно, что социальные явления
изменяется не только в зависимости от природы составных
элементов, но и в зависимости от способа их соединения;
они должны быть весьма различны в соответствии с тем,
сохраняет ли каждая из частных групп свой местпый
образ жизни или же все они вовлечены в общую жизнь, т. е.
в соответствии с большей или меньшей их
концентрацией. Нужно будет, стало быть, исследовать, происходит ли
в данный момент полное слияние этих сегментов. Его
наличие можно будет узнать по тому признаку, что эта
первоначальная организация общества не влияет больше
на его административную и политическую организацию.
С этой точки зрения античное государство явно
отличается от германских племен. У последних организация на
клановой основе сохранялась, хотя и в несколько
размытом виде, вплоть до конца их истории, тогда как в Риме
и в Афинах gentes и γένη очень рано перестали быть
политическими подразделениями, превратившись в
частные группировки.
Внутри таким образом построенных ориентиров можно
вводить новые деления, согласно вторичным
морфологическим признакам. Однако по причинам, отмеченным
ниже, мы сомневаемся в возможности с пользой
продолжать общие деления, которые только что были указаны.
Более того, мы и не должны входить в эти детали. Нам
достаточно выдвинуть принцип классификации, который
может быть сформулирован ΎΆΚ'/следует начинать с
классификации обществ по степени сложности их состава,
беря в качестве основы совершенно простое общество с
единственным сегментом. Внутри этих классов
необходимо выделять разновидности согласно тому, ^происходит
или нет полное слияние исходных сегментов. \
8 Тем не менее, вэроятио, вообще расстояние между
обществами, являющимися составными частями, не может быть слишком
большим; иначе между ними пе сможет образоваться никакая
моральная общность.
479
Ill
Эти правила неявно отвечают па вопрос, который,
возможно, возник у читателя: можем ли мы говорить о
социальных видах как о существующих, не установив
прямо их существование? Доказательство их
существования содержится в самой основе только что изложенного
метода.
В самом деле, мы видели, что общества суть лишь
различные комбинации одного и того же исходного
общества. Но один и тот же элемент не может сочетаться с
самим собой, а образующиеся отсюда соединения, в свою
очередь, могут сочетаться между собой только
ограниченным числом способов, особенно когда составляющие
элементы малочисленны (так обстоит дело с социальными
сегментами). Стало быть, гамма возможных комбинаций
ограниченна, и большая их часть, по крайней мере,
должна повторяться. Таким образом, оказывается, что
социальные виды существуют. Впрочем, возможно, что
некоторые из этих комбинаций возникают один-единствепный
раз. Это не мешает им, однако, быть видами. В подобного
рода случаях мы скажем, что вид насчитывает только
одного представителя 9.
Социальные виды существуют по той же причине, по
которой существуют виды в биологии. Последние в
действительности возпикают вследствие того, что организмы
представляют собой лишь разнообразные комбинации
одной и той же анатомической единицы. Тем не менее,
с этой точки зрения между социальным и биологическим
мирами существует большая разница. У животных один
особый фактор придает специфическим особенностям
стойкость, которой не обладают другие особенности; это
поколение. Первые, поскольку они являются общими для
всех предков, гораздо сильнее укоренены в организме.
Они, стало быть, нелегко поддаются воздействию
индивидуальных сред и сохраняются тождественными самим
себе, несмотря на разнообразие внешних обстоятельств.
Существует внутренняя сила, закрепляющая их вопреки
различным влияниям, идущим извне; это сила
наследственных привычек. Вот почему они носят четко
выраженный характер и могут быть точно определены. В
социальном мире эта внутренняя причина у названных признаков
9 Не является лп примером Римская империя, которая, по-
видимому, по имеет апалогий в истории?
480
отсутствует. Они не могут быть усилены поколением,
потому что продолжительность их равна одному поколению.
Как правило, общества производные относятся не к тому
виду, что общества производящие, так как последние,
сочетаясь между собой, порождают совершенно новые
устройства. Только колонизацию можно сравнить с
рождением посредством прорастания зародыша; к тому же,
чтобы уподобление было точным, нужно, чтобы группа
колонистов не смешивалась с каким-нибудь обществом
другого вида или другой разновидности. Отличительные
атрибуты вида, таким образом, по получают от
наследственности прироста силы, который бы позволял им
противостоять индивидуальным изменениям. Они изменяются и
обретают новые оттенки до бесконечности под
воздействием обстоятельств. Поэтому когда хотят их постигнуть,
то, как только отбрасывают скрывающие их изменчивые
признаки, часто обнаруживают довольно неопределенный
остаток. Эта неопределенность, естественно, тем больше,
чем больше сложность признаков, так как чем вещь
сложнее, тем больше различных комбинаций могут
образовать ее составные части. Отсюда следует, что
специфический тип в социологии не обнаруживает столь же
четких очертаний, как в биологии; его объединяют лишь
самые общие и простые признаки 10.
« 10 Работая над этой главой для первого издания настоящей
книги, мы не упомянули о методе классификации обществ по
состоянию их цивилизации. В то время еще не существовало
классификаций такого рода, предложенных признанными социологами,
за исключением, может быть, явно устаревшей классификации
Конта. С тех пор было сделано несколько попыток в этом
направлении, в частности Фиркандтом (Die Kulturtypen der Men-
schheit, in Archiv. fur Anthropologie, 1898), Сазерлендом (The
Origin and Growth of the Moral Instinct) и Штейнмецем (Classification
des types sociaux, in Année Sociologique, III, p. 43-147). Тем не
менее мы· не будем здесь обсуждать их, так как они не относятся к
проблеме, поставленной в этой главе. В них мы находим
классификации не социальных видов, но, что совершенно другое дело,
исторических фаз. Франция на протяжении своего исторического
развития прошла через весьма различные формы цивилизации:
вначале она была сельскохозяйственной страной, затем перешла
к ремесленной промышленности и мелкой торговле, далее — к
мануфактуре и, наконец, к крупной промышленности. Но
невозможно при этом допустить, чтобы одна и та же коллективная
индивидуальность могла сменить вид три-четыре раза. Вид должен
определяться более постоянными признаками. Состояние экономики,
технологии и т. д.- явления слишком неустойчивые и сложные,
чтобы составить основу классификации. Весьма вероятно, что
одна и та же промышленная, научная или художественная
цивилизация может встретиться в обществах, основное строение ко-
16 9. Дюркгейм
481
Глава V
ПРАВИЛА, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ОБЪЯСНЕНИЮ
СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОВ
Установление видов — это прежде всего средство
группировки фактов с целью облегчить их интерпретацию;
социальная морфология есть путь к подлинно
объясняющей части науки. Каков же метод этого объяснения?
I
Большинство социологов убеждены, что объяснили какие-
то явления, как только показали, чему они служат,
какую роль они играют. Рассуждают так, как если бы
они существовали именно для этой роли и не имели
другой определяющей причины, кроме ясного или смутного
ощущения услуг, которые они призваны оказать. Вот
почему считают, что сказано все необходимое для их
понимания, когда установлена реальность этих услуг и
показано, какую социальную потребность они
удовлетворяют. Так, Конт сводит всю прогрессивную силу
человеческого рода к тому основному стремлению, «которое
прямо влечет человека к непрерывному и всестороннему
улучшению всякого своего положения» \ а Спенсер —
к потребности большего счастья. Именно в силу влияния
этого принципа он объясняет образование общества
преимуществами, вытекающими из кооперации,
установление правительства — пользой, приносимой
регулированием военной кооперации 2, преобразования, испытанные
семьей,— потребностью во все более полном примирении
интересов родителей, детей и общества.
Но этот метод смешивает два весьма различных
вопроса. Показать, Для чего полезен факт, не значит
объяснить, ни как он возник, ни как он стал тем, что он
собой представляет. Применение, которое он себе нахо-
торых весьма различно. Япония сможет заимствовать наши
искусство, промышленность, даже нашу политическую
организацию; тем не менее она не перестанет принадлежать к иному
социальному виду, нежели Франция и Германия. Добавим, что эти
попытки, хотя и сделаны видными социологами, дали
расплывчатые, спорные и малополезные результаты.
1 Cours de philosophie positive, IV, p. 262.
2 Sociologie, III, 336.
482
дйт, йредполагает присущие ему специфические
свойства, но не создает их. Потребность, испытываемая нами в
вещах, не может сделать их такими-то и такими-то; она
пе может извлечь их из набытия и придать им реальное
существование. Оно зависит от причин другого рода.
Ощущение их полезности вполне может побудить нас
привести в действие эти причины и получить
вызываемые ими следствия, но не может породить эти следствия
из ничего. Это утверждение представляется очевидным,
пока речь идет о материальных или даже
психологических явлениях. Оно бы не оспаривалось и в социологии,
если бы социальные факты вследствие их особой
нематериальности не казались нам ошибочно лишенными
всякой внутренне присущей им реальности. Так как в них
видят только чисто мыслительные комбинации, то
кажется, что они должны возникать сами собой, как
только появилось понятие о них или, по крайней мере,
представление об их полезности. Но поскольку каждый из
них есть сила, господствующая над нашей силой,
поскольку он обладает своей собственной сущностью, то,
для того чтобы придать ему бытие, недостаточно ни
желания, ни воли.
Надо еще, чтобы были даны силы, способные
породить эту определенную силу, и сущности, способные
породить эту особую сущность. Только при этом условии он
возможен. Чтобы оживить дух семьи там, где он
ослаблен, недостаточно всеобщего понимания его
преимуществ: нужно прямо заставить действовать причины,
которые только и способны порождать его. Чтобы придать
правительству необходимый ему авторитет, недостаточно
ощущать его потребность; нужно обратиться к
единственным источникам всякого авторитета, т. е. установить
традиции, дух общности и т. д. Для этого, в свою
очередь, нужно подняться еще выше в цепи причин и
следствий, пока не будет найдено место, где может
результативно вмешаться деятельность человека.
Хорошо демонстрирует двойственность этих категорий
исследований то, что факт может существовать, не служа
ничему, либо вследствие того, что никогда не был
приспособлен ни к какой жизнепной цели, либо вследствие
того, что, будучи некогда полезным, он утратил всякую
полезность, продолжая существовать только в силу
привычки. В действительности в обществе имеется еще
больше пережитков, чем в организме. Бывают даже случаи,
483
16*
когда обычай или социальный институт изменяют фуйк-
ции, не меняя при этом свою сущность. Правило is pater
est quern justae nuptiae declarante* материально осталось
в нашем кодексе тем же, чем оно было в древнем
римском праве. Но в то время как тогда оно имело целью
защиту права собственности отца на детей, рожденных
законной женой, теперь оно защищает скорее права
детей. Клятва вначале была чем-то вроде судебного
испытания, а затем стала просто торжественной и
величественной формой свидетельских показаний. Религиозные
догматы христианства не изменялись на протяжении
веков, но роль, которую они играют в наших современных
обществах, уже не та, что в средние века. Таким же
образом слова служат выражению новых понятий, хотя
структура их может не меняться. Впрочем, утверждение,
верное как для биологии, так и для социологии, состоит
в том, что орган независим от функции, т. е., оставаясь
тем же самым, он может служить различным целям.
Таким образом, причины, создающие его, не зависят от
целей, которым он служит.
Мы не хотим, впрочем, сказать, что стремления,
потребности, желания людей никогда активно не
вмешиваются в процесс социальной эволюции. Напротив, они
несомненно могут ускорять или сдерживать развитие,
в зависимости от того, как они соотносятся с условиями,
от которых зависит факт. Но помимо того, что они никак
не могут сделать нечто из ничего, их вмешательство само
по себе, каковы бы ни были его последствия, может иметь
место только благодаря действующим причинам.
Действительно, даже в этой ограниченной степени стремление
может участвовать в создании нового явления, только
если оно само является новым, независимо от того,
сформировалось оно из разнородных частей или
вызвано каким-то изменением предшествующего стремления.
В самом деле, если не постулировать истинно
провиденциальную предустановленную гармонию, то невозможно
допустить, чтобы с самого начала человек нес в себе в
потенциальном состоянии, но совершенно готовые
пробудиться по зову обстоятельств все стремления,
уместность которых должна была постоянно ощущаться в ходе
эволюции. Ведь стремление также есть вещь; оно не
может, стало быть, ни создаваться, ни изменяться только
потому, что мы считаем его полезным. Это сила,
имеющая свою собственную природу; чтобы эта природа
возникла или изменилась, недостаточно того, что мы найдем
484
в ней некую пользу. Для таких изменений нужно, чтобы
действовали причины, физически содержащие их в себе.
Например, мы объяснили постоянный прогресс
разделения общественного труда, показав, что оно необходимо
для того, чтобы человек мог поддерживать свое
существование в новых условиях, в которых он оказался в ходе
исторического развития. Таким образом, мы отвели
стремлению, довольно неточно называемому инстинктом
самосохранения, важную роль в нашем объяснении. Но
одно это стремление не могло бы объяснить даже самую
рудиментарную специализацию. Оно не может ничего,
если условия, от которых зависит это явление, уже не
реализованы, т. е. если индивидуальные различия
достаточно не увеличились вследствие прогрессирующей
неопределенности общего сознания и влияния
наследственных различий3. Но разделение труда уже должно было
начать существовать, чтобы его полезность была
замечена, а потребность в нем — ощутима. И только развитие
индивидуальных различий, заключая в себе большее
разнообразие вкусов и склонностей, с необходимостью
должно было произвести этот первый результат. Но,
кроме того, инстинкт самосохранения не сам по себе и
не без причины явился, чтобы оплодотворить этот первый
зародыш специализации. Если он направился и направил
нас на этот новый путь, то прежде всего потому, что
путь, которым он следовал и заставлял следовать нас
ранее, оказался как бы закрыт, поскольку более
интенсивная борьба, вызванная большим уплотнением обществ,
сделала все более трудным выживание индивидов,
продолжавших посвящать себя общим занятиям. Таким
образом, он вынужден был изменить направление. С другой
стороны, если он обратился и обратил преимущественно
нашу деятельность в направлении все большего и
постоянного развития разделения труда, то потому также,
что это был путь наименьшего сопротивления. Другими
возможными путями были эмиграция, самоубийство,
преступление. Но в среднем числе случаев наши связи
со своей страной, с жизнью, симпатия, которую мы
испытываем к себе подобным,— это чувства более сильные
и устойчивые, чем привычки, противостоящие нашей
более узкой специализации. Именно последние
неизбежно должны были уступить постоянно растущему натиску.
Таким образом, не отказываясь отвести человеческим по-
3 О разделении общественного труда. Кн. I, II, гл. III, IV.
485
требностям определенное место é социологических
объяснениях, мы в то же время даже частично не
возвращаемся к финализму. Потребности могут оказывать влияние
на социальную эволюцию только при условии, что они
сами эволюционируют, а испытываемые ими изменения
могут объясняться только такими причинами, в которых
нет никакого целеполагания.
Но сама практическая область социальных фактов
еще более убедительна, чем предыдущие соображения.
Там, где царит финализм, царит также, более или менее
повсеместно, случайность, так как не существует целей
и тем более средств, которые с необходимостью
навязываются всем людям, даже когда они предположительно
находятся в одинаковых обстоятельствах. Находясь в
одной и той же среде, каждый индивид согласно своему
нраву адаптируется к ней своим способом, который он
предпочитает любому другому. Один будет стремиться
изменить ее, чтобы она гармонировала с его
потребностями; другой предпочтет измениться сам и умерить свои
желания, а сколько различных путей может вести, и
действительно ведет, к одной и той же цели! Стало быть,
если бы историческое развитие действительно
осуществлялось для достижения ясно или смутно ощущаемых
целей, социальные факты должны были бы представлять
собой совершенно бесконечное разнообразие и всякое
сравнение оказывалось бы почти невозможным. Но
истинно обратное. Несомненно, внешние события, ткань
которых составляет поверхностную часть социальной, жизни,
различны у разных народов. Но это подобно тому, как
у каждого индивида существует своя история, хотя
основы физической и моральной организации одинаковы у
всех. В действительности, когда хоть немного
соприкасаешься с социальными явлениями, наоборот,
поражаешься удивительной регулярности, с которой они
воспроизводятся в одинаковых обстоятельствах. Даже самые мелкие
и с виду глупые обычаи повторяются с удивительным
единообразием. Такая с виду чисто символическая
брачная церемония, как похищение невесты, непременно
встречается повсюду, где существует определенный тип
семьи, связанный в свою очередь с целой политической
организацией. Самые диковинные обычаи, такие, как ку-
вада, левират, экзогамия и т. д., наблюдаются у самых
разных народов и симптоматичны для определенного
состояния общества. Право наследования появляется на
определенном историческом этапе, и по более или менее
486
значительным его ограничениям можно сказать, с каким
моментом социальной эволюции мы имеем дело. Число
примеров легко было бы умножить. Но этот всеобщий
характер коллективных форм был бы необъясним, если
бы цели, выдвигаемые в качестве причин, имели в
социологии приписываемое им преобладающее значение.
Следовательно, в процессе объяснения социального
явления нужно отдельно исследовать порождающую его
реальную причину и выполняемую им функцию. Мы
предпочитаем пользоваться словом «функция», а не
«цель» или «намерение» именно потому, что социальные
явления обычно не существуют для достижения
полезных результатов, к которым они приводят. Нужно
определить, имеется ли соответствие между рассматриваемым
фактом и общими потребностями социального организма,
в чем состоит это соответствие, не заботясь о том, чтобы
узнать, преднамеренно оно возникло или нет. Все вопросы,
связанные с намерениями, слишком субъективны, чтобы
можно было рассматривать их научно.
Эти два разряда проблем не только следует развести,
но в целом первый надлежит рассматривать до второго.
Такой порядок соответствует действительному порядку
фактов. Естественно искать причину явления до того, как
пытаться определить его следствия. Этот метод тем более
логичен, что решение первого вопроса часто может
помочь в решении второго. Действительно, теспая связь,
соединяющая причину и следствие, носит взаимный
характер, который недостаточно осознан. Разумеется,
следствие не может существовать без своей причины, :о
последняя, в свою очередь, нуждается в своем следствии.
Именно в ней оно черпает свою энергию, но и возвращает
ее при случае, а потому не может исчезнуть, чтобы это
не отразилось на причине 4. Например, социальная
реакция, составляющая наказание, вызывается интенсивностью
коллективных чувств, оскорбляемых преступлением. Но,
с другой стороны, она выполняет полезную функцию
поддержания этих чувств в той же степени интенсивности,
так как они бы постоянно ослаблялись, если бы за
перенесенные ими оскорбления не было наказания5. Точно
f 4 Мы не хотели бы касаться общих философских вопросов,
которые были бы здесь неуместны. Заметим, однако, что лучшее
изучение взаимосвязи причины и следствия могло бы создать
средство примирения научного механизма с целеполаганием,
которое заключает в себе существование и особенно сохранение
жизни.
487
так же, по мере того как социальная среда становится
более сложной и подвижной, традиции, сложившиеся
верования расшатываются, принимают более
неопределенную и гибкую форму, а мыслительные способности
развиваются; но эти же способности необходимы обществам и
индивидам для адаптации к более подвижной и сложной
среде6. По мере того как люди обязуются трудиться
более интенсивно, результаты этого труда становятся
более значительными и лучшего качества; но эти же
более обильные и лучшие результаты необходимы для
возмещения затрат, вызываемых более интенсивным
трудом 7. Таким образом, причина социальных явлений
отнюдь не состоит в сознательном предвосхищении
функции, которую они призваны выполнять; наоборот, эта
функция состоит, по крайней мере во многих случаях,
в поддержании ранее существовавшей причины, из
которой они проистекают. Мы, стало быть, легче найдем
первую, если вторая уже известна.
Но если к определению функции и не следует
приступать вначале, то все же оно необходимо, чтобы
объяснение явления было полным. В самом деле, хотя
полезность факта не порождает его, он, как правило, должен
быть полезным, чтобы иметь возможность сохраниться.
Ведь достаточно того, что он ничему не служит, чтобы
быть вредным уже этим, поскольку в таком случае он
вызывает расходы, не принося никаких доходов. Если бы
большая часть социальных явлений носила такой
паразитарный характер, то бюджет организма испытывал бы
дефицит и социальная жизнь была бы невозможна.
Следовательно, чтобы дать о ней удовлетворительное
представление, пеобходимо показать, как отражаемые в нем
явления сотрудничают между собой, обеспечивая
гармонию общества с самим собой и с внешним миром.
Несомненно, ходячая формула, согласно которой жизнь есть
соответствие между средой внутренней и средой
внешней, лишь приблизительна. Однако в целом она верна,
и следовательно, чтобы объяснить факт витального
порядка, недостаточно показать причину, от которой он
зависит, но нужно еще, по крайней мере в
большинстве случаев, найти его долю в установлении общей
гармонии.
5 О разделении общественного труда. Кн. I; II, гл. II, и в
частности с. 98 и след.
6 Там же, с. 53-54.
7 Там же, с. 254 и след.
488
π
Разделив указанные два вопроса, нужно определить
метод, которым они должны решаться.
Метод объяснения, обычно применяемый социологами,
является пе только финалистским, но и психологическим.
>)ти две тенденции связаны между собой. В самом деле,
если общество есть лишь система средств, установленная
людьми для достижения определенных целей, то эти цели
могут быть только индивидуальными, так как до
общества могли существовать только индивиды. От индивида,
стало быть, исходят идеи и потребности, определившие
формирование общества, а если от него все идет, то им
непременно все должно и объясняться. К тому же в
обществе нет ничего, кроме отдельных сознаний; стало
быть, именно в последних находится источник всей
социальной эволюции. Вследствие этого социологические
законы могут быть лишь королларием более общих
законов психологии. Конечное объяснение коллективной
жизни будет состоять в том, чтобы показать, как она
вытекает из человеческой природы в целом, либо прямо
и без предварительного наблюдения выводя ее из этой
природы, либо связывая ее с ней же после
наблюдения.
Приведенные выражения почти буквально совпадают
с теми, которыми пользуется Огюст Конт для
характеристики своего метода. «Поскольку,— говорит он,—
социальное явление, рассматриваемое в целом, есть, в сущности,
лишь простое развитие человечества, возникшее без
всякого участия каких-нибудь способностей, таким образом,
как я установил выше, все действительные склонности,
которые социологическое наблюдение сможет
последовательно обнаруживать, должны будут, следовательно, быть
найдены, по крайней мере в зародыше, в том основном
типе, который биология заранее построила для
социологии» \ Дело в том, что, с его точки зрения,
доминирующий факт социальной жизни — это прогресс; в то же
время прогресс зависит от исключительно
психологического фактора, а именно стремления, влекущего человека ко
все большему развитию своей природы. Социальные
факторы настолько непосредственно вытекают из
человеческой природы, что применительно к первоначальным
фазам истории их можно прямо выводить из нее, не прибе-
8 Cours de philosophie positive. IV, p. 333.
489
гая к наблюдению 9. Правда, по признанию Конта,
невозможно применить этот дедуктивный метод к более
прогрессивным периодам эволюции. Но невозможность
эта — чисто практическая. Она связана с тем, что
расстояние между пунктом отправления и пунктом
прибытия становится слишком значительным, чтобы
человеческий ум, взявшись преодолеть его без проводника, не
рисковал бы заблудиться 10. Но связь между основными
законами человеческой природы и конечными
результатами прогресса не остается чисто аналитической. Самые
сложные формы цивилизации происходят только от
развитой психической жизни. Поэтому даже тогда, когда
психологические теории недостаточны в качестве
предпосылок социологического вывода, они являются
единственным пробным камнем, позволяющим проверять
обоснованность индуктивно установленных положений. «Любой
закон социальной преемственности,— говорит Конт,—
определяемый даже самым авторитетным образом,
посредством исторического метода, в конечном счете должен
быть признан только после того, как он будет
рационально увязан — прямо или косвенно, но всегда
неоспоримо—с позитивной теорией человеческой природы» и.
Последнее слово, таким образом, по-прежнему останется
за психологией.
Таков же и метод Спенсера. В самом деле, по его
мнению, двумя первичными факторами социальных
явлений являются космическая среда и физико-нравственная
конституция индивида12. Но первый фактор может
влиять на общество лишь через посредство второго,
который оказывается, таким образом, основным двигателем
социальной эволюции. Общество возникает лишь для
того, чтобы позволить индивиду реализовать свою
природу, и все изменения, через которые оно прошло, не имеют
другой цели, как сделать эту реализацию более легкой и
полной. В силу этого принципа, прежде чем приняться за
исследование социальной организации, Спенсер счел
нужным посвятить почти весь первый том своих «Принципов
социологии» изучению физической, эмоциональной и
интеллектуальной сторон жизни первобытного человека.
«Наука социология,— говорит он,— отправляется от со-
9 Ibid., p. 345.
10 Ibid., p. 346.
11 Ibid., p. 335.
12 Principes de sociologie, I, p. 14.
490
циальных единиц, подчиненных рассмотренным нами
физическим, эмоциональным и интеллектуальным условиям
и находящихся во власти некоторых рано добытых идей
и соответствующих им чувств» 13. И в двух таких
чувствах — в страхе перед живыми и в страхе перед
мертвыми — он обнаруживает происхождение политической и
религиозной власти14. Правда, он допускает, что
общество, когда оно уже сформировалось, воздействует на
индивидов 15. Но отсюда не следует, что он признает за
обществом возможность произвести хотя бы самый
незначительный социальный факт; с этой точки зрения оно
может быть действенной причиной лишь через посредство
изменений, вызываемых им у индивида. Следовательно,
все всегда вытекает из свойств человеческой природы,
исходных или производных. Кроме того, действие,
оказываемое социальным организмом на своих членов, не
может иметь в себе ничего специфического, потому что
политические цели сами по себе ничто и являются лишь
простым обобщенным выражением целей
индивидуальных 16. Оно может быть, следовательно, лишь чем-то
вроде возврата частной деятельности к самой себе.
Особенно неясно, в чем оно может состоять в промышленных
обществах, цель которых — как раз предоставить
индивида самому себе и его естественным побуждениям,
освобождая его от всякого социального принуждения.
Этот принцип лежит в основе не только больших
доктрин, относящихся к общей социологии, но проникает
также во многие частные теории. Так, семейную
организацию обыкновенно объясняют чувствами родителей к
детям и детей к родителям; институт брака —
преимуществами, которые он предоставляет супругам и их потомству;
наказание — гневом, вызываемым у индивида всяким
серьезным нарушением его интересов. Вся экономическая
жизнь так, как ее понимают и объясняют экономисты,
особенно представители ортодоксальной школы, в
конечном счете держится на чисто индивидуальном факторе,
13 Ibid., p. 583.
14 Ibid., p. 582.
15 Ibid., p. 18.
16 «Общество существует для выгоды своих членов, члены же
не существуют для выгоды общества... права политического тела
ничто сами по себе; они становятся чем-нибудь лишь тогда,
когда воплощают права индивидов, его составляющих» (Ibid., И,
р. 20).
491
на желании богатства. А если речь идет о морали? Из
обязанностей индивида по отношению к самому себе
делают основу этики. Что касается религии, то в ней
видят продукт впечатлений, производимых на человека
великими силами природы или некоторыми выдающимися
личностями, и т. д. и т. д.
Но такой метод не может быть применен к
социологическим явлениям без искажения их. Для того чтобы
убедиться в этом, достаточно обратиться к данному нами их
определению. Так как их существенный признак
заключается в способности оказывать извне давление на
индивидуальные сознапия, то, значит, они пе вытекают из
последних, и социология поэтому пе есть королларий
психологии. Эта принудительная сила свидетельствует, что они
имеют природу, отличную от нашей, потому что
проникают в нас, применяя силу или, по крайней мере,
оказывая на нас более или менее чувствительное давление.
Если бы социальная жизнь была лишь продолжением
индивидуального бытия, то она не так возвращалась бы к
своему источнику и не завладевала бы им столь бурно.
Если власть, перед которой склоняется индивид, когда он
действует, чувствует или мыслит социально, так
господствует над ним, то это значит, что она — продукт сил,
которые превосходят его и которые он не может
объяснить. Это внешнее давление, испытываемое им, исходит
не от него; следовательно, его невозможно объяснить тем,
что происходит в нем. Правда, мы способны принудить
себя сами; мы можем сдержать свои стремления,
привычки, даже инстинкты и остановить их развитие, наложив
на них запрет. Но такие запреты не следует смешивать с
движениями, составляющими социальное принуждение.
Первые центробежны, вторые центростремительны. Одни
вырабатываются в индивидуальном сознании и стремятся
затем выразиться вовне, другие же, наоборот, вначале
находятся вне индивида, а затем извне стремятся
сформировать его по своему образу. Если угодно, запрет есть
то средство, которым социальное принуждение
производит свои психические действия, но он не есть само это
принуждение.
Если же оставить в стороне индивида, останется лишь
общество; стало быть, объяснения социальной жизни
нужно искать в природе самого общества. Действительно,
поскольку оно бесконечно превосходит индивида как во
времени, так и в пространстве, оно в состоянии навязать
ому образы действий и мыслей, освященные его автори-
492
тетом. Это давление, являющееся отличительным
признаком социальных фактов, есть давление всех на каждого.
Но могут сказать, что так как единственными
элементами, из которых состоит общество, являются индивиды,
то первоисточник социологических явлений может быть
только психологическим. Рассуждая таким образом,
можно так же легко доказать, что биологические явления
аналитически объясняются явлениями неорганическими.
Действительно, вполне достоверно, что в живой клетке
имеются молекулы лишь неодушевленной материи. Только
они в ней ассоциированы, и эта ассоциация и служит
причиной новых явлений, характеризующих жизнь,
явлений, даже зародыши которых невозможно найти ни в
одном из ассоциированных элементов. Это потому, что
целое не тождественно сумме своих частей, оно является
чем-то иным и обладает свойствами, отличными от свойств
составляющих его элементов. Ассоциация не есть, как
думали прежде, явление само по себе бесплодное, лишь
внешним образом связующее уже сложившиеся факты и
свойства. Не является ли она, наоборот, источником всех
новшеств, последовательно возникавших в ходе общей
эволюции? Какое же различие, если не различие в
ассоциации, существует между низшими организмами и
остальными, между живым организмом и простой
пластидой, между последней и неорганическими молекулами, ее
составляющимж? Все эти существа в конечном счете
разлагаются на элементы одной и той же природы; но эти
элементы в одпом случае рядоположены, в другом
ассоциированы; в одном ассоциированы одним способом,
в другом — другим. Мы вправе даже спросить себя:
не проникает ли этот закон и в минеральное царство
и не отсюда ли происходят различия неорганических
тел?
В силу этого принципа общество — не простая сумма
индивидов, но система, образованная их ассоциацией и
представляющая собой реальность sui generis,
наделенную своими особыми свойствами. Конечно, коллективная
жизнь предполагает существование индивидуальных
сознаний, но этого необходимого условия недостаточно.
Нужно еще, чтобы эти сознания были ассоциированы,
скомбинированы, причем скомбинированы определенным
образом. Именно из этой комбинации проистекает социальная
жизнь, а потому эта комбинация и объясняет ее.
Сплачиваясь друг с другом, взаимно дополняя и проникая
друг в друга, индивидуальные души дают начало новому
493
существу, если угодно психическому, но
представляющему психическую индивидуальность иного рода 17.
Следовательно, в природе этой индивидуальности, а не
в природе составляющих ее единиц нужно искать
ближайшие и определяющие причины возникающих в ней
фактов. Группа думает, чувствует, действует совершенно
иначе, чем это сделали бы ее члены, если бы они были
разъединены. Если же отталкиваться от последних, то
невозможно понять ничего в том, что происходит в
группе. Одним словом, между психологией и социологией то
же различие, что и между биологией и науками физико-
химическими. Поэтому всякий раз, когда социальное
явление прямо объясняется психическим явлением, можно
быть уверенным, что объяснение ложно.
Быть может, нам возразят: если общество уже
сложившееся и является действительно ближайшей
причиной социальных явлений, то причины, приведшие к
образованию этого общества, носят психологический характер.
В данном случае согласны с тем, что, когда индивиды
ассоциированы, их ассоциация может породить новую
жизнь, но утверждают, что сама ассоциация может
возникнуть лишь по причинам, коренящимся в индивиде.
Но в действительности, как бы далеко мы ни
заглядывали в глубь истории, факт ассоциации окажется
наиболее обязательным из всех, так как он источник всех
других обязательств. Сразу после своего рождения я
обязательно оказываюсь связанным с определенным народом.
Говорят, что впоследствии, сделавшись взрослым, я даю
согласие на это обязательство уже тем, что продолжаю
жить в моей стране. Но какое это имеет значение?
Данное согласие не лишает его повелительного характера.
Принятое и охотно переносимое давление все-таки
остается давлением. Впрочем, что может означать это согла-
17 Вот в каком смысле и по каким причинам можно и должно
говорить о коллективном сознании, отличном от индивидуальных
сознаний. Чтобы обосновать это различие, нет надобности
гипостазировать первое; оно есть нечто особое и должно обозначаться
специальным термином просто потому, что его состояния
специфичны и отличаются от состояний, характерных для
отдельных сознаний. Эта их специфичность возникает оттого, что
они образованы не из тех же элементов. Одни в
действительности возникают из природы психико-органического существа,
взятого отдельно, другие — из комбинации множества существ этого
рода. Результаты не могут, следовательно, не различаться, так
как составные части столь различны. Впрочем, наше определение
социального факта лишь иначе обозначает эту демаркационную
линию.
494
сие? Во-первых, оно вынуждено, так как в огромнейшем
большинстве случаев нам материально и нравственно
невозможно отделаться от нашей национальности; такая
перемена обычно считается даже отступничеством. Затем,
оно не может касаться прошлого, на которое мы не могли
согласиться и которое, однако, определило настоящее; я
не желал того воспитания, которое получил, оно же
более всякой другой причины прикрепляет меня к родной
почве. Наконец, это согласие не может иметь
нравственной ценности для будущего в той мере, в какой
последнее неизвестно. Я не знаю даже всех тех обязанностей,
которые могут быть когда-нибудь возложены на меня как
на гражданина; как же могу я заранее согласиться на
них? Источник же всего обязательного, как мы это
доказали, находится вне индивида. Таким образом, пока мы
не выходим за пределы истории, факт ассоциации имеет
тот же характер, что и остальные, и вследствие этого
объясняется таким же образом. С другой стороны, так как
все общества непосредственно и без перерывов
произошли от других обществ, то можно быть уверенным, что в
течение всей социальной эволюции не было ни одного
момента, когда индивидам приходилось бы решать,
вступить ли им в общество и в какое именно общество. Для
того чтобы можно было поставить вопрос подобным
образом, нужно было бы взойти к первичным истокам всякого
общества. Но неизбежно сомнительные решения подобных
проблем ни в каком случае не могут поколебать тот
метод, которому нужно следовать при рассмотрении
исторических фактов. Нам, следовательно, нет надобности
останавливаться на них.
Но если бы из предыдущего вывели заключение, что
социология, по нашему мнению, должна или может
оставить в стороне человека и его способности, то это было
бы глубоко ошибочным пониманием нашей мысли.
Наоборот, ясно, что общие свойства человеческой природы
участвуют в работе, в результате которой возникает
социальная жизнь. Только не они порождают ее и не они
придают ей ее особую форму; они лишь делают ее
возможной. Исходными причинами коллективных
представлений, эмоций, стремлений являются не состояния
сознания индивидов, а условия, в которых находится
социальное тело в целом. Конечно, они могут реализоваться лишь
при условии, что индивидуальные свойства не
противятся этому; но последние являются лишь бесформенным
веществом, которое социальный фактор определяет и
495
преобразует. Их вклад состоит исключительно в создании
весьма общих состояний, расплывчатых и пластичных
предрасположений, которые сами по себе, без помощи
постороннего фактора, не могли бы принять определенных
и сложных форм, присущих социальным явлениям.
Какая пропасть, например, существует между
чувствами, испытываемыми человеком перед силами, более
высокими, чем его собственная, и религиозным институтом
с его верованиями, с его столь многочисленными и
сложными обрядами, с его материальной и нравственной
организацией; между психическими условиями симпатии,
испытываемой двумя единокровными существами друг к
ДРУГУ18» и совокупностью юридических и нравственных
правил, определяющих структуру семьи, отношения
людей между собой, с вещами и т. д.! Мы видели, что, даже
когда общество сводится к неорганизованной толпе,
коллективные чувства, возникающие в ней, могут не только
не походить, но и быть противоположными в среднем
индивидуальным чувствам. Насколько же больше должно
быть различие, когда индивид испытывает давление
постоянно существующего общества, где к действию
современников присоединяется действие предыдущих
поколений и традиций! Чисто психологическое объяснение
социальных фактов, следовательно, неизбежно упустит из
виду все то, что в них есть специфического, т. е.
социального.
Несостоятельность этого метода была скрыта от глаз
стольких социологов потому, что, принимая следствие за
причину, они очень часто считали определяющими
условиями социальных явлений относительно определенные,
специфические психические состояния, которые в
действительности являются их следствием. Так, считали
врожденными человеку некое религиозное чувство, некоторый
минимум половой ревности, детской или родительской
любви и т. д. и ими хотели объяснить религию, брак,
семью. Но история показывает, что эти наклонности
вовсе не неизменно присущи человеческой природе, но или
совсем отсутствуют в известных социальных
обстоятельствах, или так видоизменяются от одного общества к
другому, что остаток, который получается по исключении
всех этих различий и который один только и может
рассматриваться как имеющий чисто психологическое про-
18 Настолько, что она существует до всякой социальной жиз
ни. См.: Ε spinas. Sociétés animales, p. 474.
496
исхождение, сводится к чему-то неопределенному и
схематическому, оставляющему на огромном расстоянии
факты, нуждающиеся в объяснении. Дело в том, что эти
чувства вытекают из коллективной организации, а не
служат ее основанием. Никоим образом не доказано даже,
что стремление к социальности изначально является
прирожденным инстинктом человечества. Гораздо
естественнее видеть в нем постепенно выработавшийся в нас
продукт социальной жизни, так как установлено
наблюдением, что животные склонны к социальности или нет в
зависимости от того, вынуждаются ли они к ней
условиями обитаемой ими местности. И нужно добавить, что
даже между этими более определенными склонностями и
социальной реальностью остается еще довольно
значительное расстояние.
Существует, впрочем, средство почти совершенно
изолировать психологический фактор, для того чтобы можно
было уточнить пространство его действия; для этого надо
выяснить, каким образом соотносится с социальной
эволюцией раса. Действительно, этнические свойства
принадлежат к разряду психоорганических. Следовательно,
с их изменением должна изменяться и социальная жизнь,
если только психологические явления оказывают на
общество причинное воздействие, которое им приписывают.
Но мы не знаем ни одного социального явления, которое
бы находилось в безусловной зависимости от свойств
расы. Конечно, мы не можем приписывать этому
утверждению силу закона; но мы можем, по крайней мере,
утверждать его как постоянный факт нашей практической
жизни. Самые разнообразные формы организации
встречаются в обществах одной и той же расы, и в то же
время наблюдаются поразительные сходства между
обществами разных рас. Гражданская община существовала у
финикийцев так же, как у римлян и греков, и находится
в процессе образования у кабилов. Патриархальная семья
была почти так же развита у евреев, как и у индусов,
но она не встречается у славян, которые между тем
принадлежат к арийской расе. Зато семейный тип,
встречаемый у них, существует также и у арабов. Материнская
семья и клан встречаются повсюду. Подробности
судопроизводства, брачных обрядов — одни и те же у народов,
самых несходных с этнической точки зрения. Если это
так, то, значит, вклад психического элемента носит
слишком общий характер, для того чтобы предопределять ход
социальных явлений. Так как он не содержит в себе оп-
497
ределенную социальную форму, отличную от другой, то,
значит, он не может объяснить ни одной. Существует,
правда, известная группа фактов, которые принято
приписывать влиянию расы. Таким образом объясняют, в
частности, почему развитие искусств и наук в Афинах было
значительным и быстрым, а в Риме медленным и слабым.
Но это классическое истолкование фактов никогда не
было методически доказано. Весь его авторитет основан,
по-видимому, только на традиции. Не было даже попытки
выяснить возможность социологического объяснения, а мы
убеждены, что последнее оказалось бы в данном случае
успешным. В общем, когда так поспешно связывают
художественный характер афинской цивилизации с
прирожденными эстетическими дарованиями, то поступают
примерно так же, как в средние века, когда объясняли
огонь флогистоном, а действие опиума — его снотворной
силой.
Наконец, если предположить, что источник
социальной эволюции действительно лежит в психической
конституции человека, то непонятно, как могла бы возникнуть
эта эволюция. Тогда пришлось бы допустить, что
двигателем ее является какая-то пружина, таящаяся внутри
человеческой природы. Но что это за пружина? Не тот
ли род инстинкта, о котором говорит Конт и который
побуждает человека все более реализовывать свою
природу? Но признать это — значило бы ответить вопросом
на вопрос и объяснить прогресс врожденным
стремлением к прогрессу, настоящей метафизической сущностью,
ничем, притом, не доказанной, так как разные виды
животных, даже наиболее развитые, не испытывают никакой
потребности прогрессировать, и даже среди человеческих
обществ много таких, которым бесконечно долго
нравится оставаться неподвижными. Или, как это думает
Спенсер, такой пружиной является потребность наибольшего
счастья, которая все полнее удовлетворяется более
сложными формами цивилизации? Тогда следовало бы
доказать, что счастье возрастает вместе с цивилизацией, а мы
показали уже в другом месте все трудности, связанные
с этой гипотезой19. Но более того, если даже принять
один из этих постулатов, то историческое развитие не
станет от этого понятнее, так как подобное объяснение
было бы чисто финалистским, а мы указали уже выше,
что социальные факты, как и все естественные явления,
19 De la division du travail social, I, II, ch. 1.
498
не объясняются, если показано, что они служат какой-то
цели. Наглядно доказать, что все более совершенные
социальные организации, преемственно сменявшие друг
друга в истории, имели своим следствием все более
полное удовлетворение тех или иных основных наших
склонностей, отнюдь не значит объяснить, как они возникли.
Тот факт, что они были полезны, ничего не говорит нам
о том, что породило их. Если бы даже мы уяснили себе,
каким образом мы дошли до представления о них, каким
образом заранее составили себе как бы план того, как
они окажут нам те услуги, на которые мы
рассчитывали,— а это трудная задача,— то все-таки те желания,
объектом которых они тогда являлись бы, не были бы в
силах вызвать их из небытия. Одним словом, даже
допуская, что они служат средствами, необходимыми для
достижения намеченной цели, мы оставляем открытым
вопрос: как, т. е. из чего и посредством чего, образовались
эти средства?
Мы пришли, таким образом, к следующему правилу:
определяющую причину данного социального факта
следует искать среди предшествующих социальных фактов,
а не в состояниях индивидуального сознания. С другой
стороны, вполне ясно, что все предыдущее относится как
к определению функции, так и к определению причины.
Функция социального факта может быть только
социальной, т. е. она заключается в создании социально
полезных результатов. Конечно, может случиться, и
действительно случается, что отраженным путем он служит
также и индивиду. Но этот счастливый результат не есть
его непосредственное основание. Мы можем,
следовательно, дополнить предыдущее положение следующим
образом: функцию социального факта следует всегда искать
в его отношении к какой-нибудь социальной цели.
Вследствие того, что социологи часто не признавали
это правило и рассматривали социальные явления с
чисто психологической точки зрения, их теории кажутся
многим слишком туманными, шаткими и далекими от
особой природы явлений, которые они хотят объяснить.
Историк, особенно близко знакомый с социальной
реальностью, не может остро не ощущать, насколько неспособны
эти слишком общие толкования соединиться с фактами;
отсюда, несомненно, происходит отчасти то недоверие,
которое история часто выказывала по отношению к
социологии. Это, конечно, не значит, что изучение
психических фактов не нужно социологу. Если коллективная
499
жизнь и не вытекает из жизни индивидуальной, то все
же они тесно между собою связаны. Если вторая и не
может объяснить первую, то она может, по крайней
мере, облегчить ее объяснение. Во-первых, как мы
показали, бесспорно, что социальные факты являются
результатами особой обработки фактов психических. Но кроме
того, сама эта обработка отчасти аналогична той, которая
происходит во всяком индивидуальном сознании и
постепенно все более преобразует составляющие его первичные
элементы (ощущения, рефлексы, инстинкты). Не без
основания можно было сказать о «я», что оно само есть
общество, так же как и организм, хотя и иного рода, и
давно уже психологи отметили всю важность фактора
ассоциации для объяснения жизни духа. Знание
психологии еще больше, чем знание биологии, составляет
необходимую пропедевтику для социолога. Но оно будет
полезно ему лишь в том случае, если он, овладев им,
освободится от его влияния и выйдет за пределы данных
психологии, дополняя их специфическим социологическим
знанием. Нужно, чтобы он отказался делать из
психологии в некотором роде центр своих операций, пункт, из
которого должны исходить и к которому должны
возвращаться его отдельные вторжения в мир социальных
явлений. Нужно, чтобы он проник в сокровенную глубь
социальных фактов, наблюдал их прямо и без
посредников, обращаясь к пауке об индивиде лишь за общей
подготовкой, а в случае нужды и за полезными мыслями 20.
20 Психические явления могут иметь социальные
последствия лишь тогда, когда они так тесно связаны с социальными
явлениями, что действия тех и других по необходимости сливаются.
Такое явление имеет место в случаях некоторых социопсихиче-
ских фактов. Так, чиновник есть социальная сила, но в то же
время он и индивид. Отсюда следует, что он может
воспользоваться той социальной энергией, которой обладает, в направлении,
подсказываемом его индивидуальной природой, и таким образом
может оказать влияние на состояние общества. Это случается с
государственными людьми, и чаще всего с людьми гениальными.
Последние, если даже они и не занимают общественной
должности, получают от направленных на них коллективных чувств
авторитет, который также является социальной силой и может быть
в известной мере поставлен на службу личным идеям. Но эти
факты обязаны своим происхождением индивидуальным случаям
и потому не могут влиять на основные признаки социального вида,
являющегося единственным объектом науки. Следовательно, :>то
ограничение вышеизложенного принципа не имеет большого
значения для социологии.
500
Ill
Поскольку факты социальной морфологии носят тот же
характер, что и факты физиологические, то их следует
объяснять согласно тому же правилу, которое мы сейчас
сформулировали. Однако из предыдущего следует, что им
принадлежит преобладающая роль в коллективной жизни,
а следовательно, и в социологических объяснениях.
Действительно, если сам факт ассоциации, как мы это
указывали выше, составляет определяющее условие
социальных явлений, то последние должны изменяться
вместе с формами этой ассоциации, т. е. согласно
способам группировки составных частей общества. А так как,
с другой стороны, определенное целое, образуемое от
соединения разнородных элементов, входящих в состав
общества, создает внутреннюю среду последнего, точно так
же, как совокупность анатомических элементов,
известным образом соединенных и размещенных в
пространстве, составляет внутреннюю среду организмов, то можно
сказать: исходное начало всякого, более или менее
важного социального процесса следует искать в устройстве
внутренней социальной среды.
Можно даже пойти еще далее. В действительности
элементы, составляющие эту среду, двоякого рода: вещи
и люди. В число вещей нужно включить помимо
находящихся в обществе материальных объектов еще и
продукты предшествующей социальной деятельности:
действующее право, укоренившиеся нравы, художественные и
литературные памятники и т. д. Очевидно, однако, что ни
от той, ни от другой группы вещей не может исходить
толчок к социальным преобразованиям; они не содержат
в себе никакой движущей силы. Конечно, при
объяснении этих преобразований их нужно принимать в расчет.
Они действительно оказывают некоторое давление на
социальную эволюцию; в зависимости от них изменяются
ее быстрота и даже направление; но в них нет ничего,
что могло бы привести ее в движение. Они представляют
собой предмет приложения живых сил общества, но сами
из себя не извлекают никакой живой силы.
Следовательно, активным фактором остается собственно
человеческая среда.
Поэтому главное усилие социолога должно быть
направлено к тому, чтобы обнаружить различные свойства
этой среды, способные оказать влияние на развитие
социальных явлений. До сих пор мы нашли два ряда
501
свойств, вполне отвечающих этому условию; это число
социальных единиц, или, иначе говоря, объем общества
и степень концентрации массы, или то, что мы назвали
динамической плотностью. Под последним словом
нужно понимать не чисто материальную сплоченность
агрегата, которая не может иметь значения, если индивиды
или, скорее, группы индивидов разделены нравственными
пустотами, но нравственную сплоченность, для которой
первая служит лишь вспомогательным средством, а
довольно часто и следствием. Динамическая плотность при
равном объеме общества может определяться числом
индивидов, действительно находящихся не только в
коммерческих, но и в нравственных отношениях, т. е. не только
обменивающихся услугами или конкурирующих друг с
другом, но и живущих совместной жизнью. Так как при
чисто экономических отношениях люди остаются
чуждыми друг другу, то можно долгое время поддерживать
отношения этого рода, не участвуя в коллективной жизни.
Сношения, завязывающиеся через границы, разделяющие
народы, не уничтожают эти границы. Совместная же
жизнь может зависеть лишь от числа тех, кто
действительно в ней сотрудничает. Вот почему степень слияния
социальных сегментов лучше всего выражает
динамическую плотность народа. Если каждый частичный агрегат
образует единое целое, особую, отличную от других
индивидуальность, то это значит, что деятельность его
членов обыкновенно локализована в пределах агрегата; если
же, наоборот, эти частичные общества слились или
стремятся слиться в единое целостное общество, значит в той
же мере расширилась сфера социальной жизни.
Что же касается материальной плотности, если под
ней разуметь не только число жителей на единицу
площади, но и развитие путей сообщения и связи, то она
развивается обыкновенно параллельно динамической
плотности и в общем может служить масштабом для
измерения последней. Ведь если различные части
народонаселения стремятся сблизиться, то они неизбежно
должны прокладывать себе пути для этого сближения; с
другой стороны, между отдаленными пунктами социальной
массы могут установиться отношения лишь тогда, когда
разделяющее их расстояние не является препятствием,
т. е. когда оно реально ликвидируется. Впрочем,
существуют исключения 2\ и мы допускали бы серьезные ошиб-
21 В работе «О разделении общественного труда» мы
ошибочно представили материальную плотность как точное выражение
502
ки, если ьы всегда судили о нравственной концентраций
общества по степени его материальной концентрации.
Дороги, железные дороги и прочее могут скорее служить
деловым отношениям, чем объединению народов, которое
они выражают тогда весьма несовершенно. Так, в Англии,
где материальная плотность выше, чем во Франции,
срастание сегментов гораздо менее продвинулось
вперед, что доказывается стойкостью местной и областной
жизни.
Мы показали уже в другом месте, как всякое
увеличение в объеме и динамической плотности обществ,
делая социальную жизнь более интенсивной, расширяя
умственный горизонт и сферу деятельности индивидов,
глубоко изменяет основные условия коллективного
существования. Нам нет надобности возвращаться к
осуществленному тогда применению этого принципа. Добавим
только, что он помог нам исследовать не только общий
вопрос, составлявший предмет нашего изучения, но и
многие другие, более частные проблемы; таким образом,
правильность его проверена нами уже солидным
количеством опытов. Однако мы далеки от мысли, что нашли
все особенности социальной среды, имеющие значение
при объяснении социальных фактов. Мы можем сказать
только, что это единственные замеченные нами и что мы
не обнаружили других.
Однако то преобладающее значение, которое мы
приписываем социальной среде, и особенно среде
человеческой, не значит, что в ней нужно видеть последний и
абсолютный факт и дальше идти незачем. Очевидно,
напротив, что состояние ее в каждый исторический момент
само зависит от социальных причин; некоторые из этих
причин внутренне присущи самому обществу, а другие
зависят от взаимодействия этого общества с другими.
Кроме того, наука не знает первопричин в абсолютном
значении этого слова. Для нее первичен просто тот факт,
который является достаточно общим, чтобы объяснить
значительное число других фактов. А социальная среда
несомненно есть фактор такого рода, так как
происходящие в ней изменения, каковы бы ни были их причины,
отражаются во всех направлениях в социальном оргаииз-
динамической плотности. Тем не менее замена первой второю,
безусловно, правильна для всего, что относится к экономическим
следствиям динамической плотности, например для чисто
экономических сторон разделения труда.
503
ме и не могут так или иначе не затронуть всех его
функций.
Сказанное нами об общей среде общества вполне
применимо и к частной среде всякой отдельной группы,
заключающейся в обществе. Так, например, в зависимости
от большей или меньшей многочисленности и
замкнутости семьи резко изменяется характер домашней жизни.
Точно так же, если бы профессиональные корпорации
изменились таким образом, что каждая из них
распространилась бы по всей территории, вместо того чтобы
оставаться, как прежде, заключенной в пределах одной
общины, то очень изменилась бы и их деятельность.
Вообще говоря, профессиональная жизнь будет совершенно
различной в соответствии с тем, будет ли среда,
свойственная каждой профессии, организована прочно или же
слабо, как теперь. Тем не менее воздействие этих
частных сред не может быть так же важно, как воздействие
общей среды, так как первые подвержены влиянию
последней. Именно к ней приходится всегда возвращаться
в процессе объяснения. Ее давление на частные группы
и обусловливает изменения в их устройстве.
Эта концепция социальной среды как определяющего
фактора коллективной эволюции в высшей степени
важна, так как, если ее отбросить, социология не сможет
установить никакой причинной связи.
Действительно, без этого разряда причин нет
сопутствующих условий, от которых могли бы зависеть
социальные явления, так как если внешняя социальная среда,
т. е. среда, образованная окружающими обществами,
и способна иметь какое-нибудь влияние, то лишь на
оборонительные и наступательные действия общества. И
кроме того, она может обнаружить свое влияние только
через посредство внутренней социальной среды. Стало быть,
основные причины исторического развития находились
бы не среди текущих событий, а лежали бы всецело в
прошлом. Они сами были бы частями этого развития,
просто составляя более древние его фазы. Современные
события социальной жизни вытекали бы не из
современного состояния общества, но из событий
предшествующих, из исторического прошлого, а социологические
объяснения сводились бы исключительно к установлению
связи между прошлым и настоящим.
Правда, может показаться, что этого достаточно. Не
говорят ли обыкновенно, что цель истории состоит
именно в том, чтобы связать события в порядке их следова-
504
ния? Непонятно, однако, каким образом данная ступень
цивилизации может служить определяющей причиной
следующей за ней ступени. Этапы, которые
последовательно проходит человечество, не возникают одни из
других. Понятно, что прогресс, достигнутый в определенную
эпоху в юридическом, экономическом, политическом строе
и т. д., делает возможным дальнейший прогресс, но в чем
же он его предопределяет? Он служит точкой
отправления, позволяющей нам идти дальше, но что же
побуждает нас идти дальше? Здесь нужно было бы допустить
внутреннее стремление, толкающее человечество идти
все дальше и дальше или для того, чтобы полностью
реализовать себя, или для того, чтобы увеличить свое
счастье, и тогда задачей социологии было бы обнаружение
порядка развития этого стремления. Но даже оставляя в
стороне все трудности, связанные с этой гипотезой, во
всяком случае, надо признать, что закон, выражающий
это развитие, не содержал бы в себе никакой причинной
связи. Действительно, последняя может быть
установлена только между двумя данными фактами, а указанное
стремление, признаваемое причиной развития, не дано;
оно лишь постулируется и конструируется умозрительно
из тех следствий, которые ему приписывают. Это — род
двигательной способности, которую мы представляем
себе как бы лежащей в основе движения; однако
действительной причиной какого-нибудь движения может быть
лишь другое движение, а не возможность подобного
рода.
Следовательно, мы бы экспериментально обнаружили
лишь ряд изменений, между которыми нет никакой
причинной связи. Предшествующее состояние не производит
последующее, отношение между ними исключительно
хронологическое. Поэтому в таких условиях никакое
научное предсказание не возможно. Мы можем сказать, как
явления следовали друг за другом до сих пор, но не
можем знать, как они будут следовать друг за другом в
будущем, потому что причина, от которой они
признаются зависящими, научно не определена и не определима
таким образом. Правда, обыкновенно допускают, что
эволюция будет продолжаться в том же направлении, в
каком она шла раньше, но это простое предположение.
Ничто не убеждает нас, что реализованные факты
достаточно полно выражают характер указанной тенденции для
того, чтобы можно было предсказать тот предел, к
которому она стремится, по пройденным ею стадиям разви-
505
тия. Почему вообще направление, в котором она
развивается и на которое она влияет, должно быть
прямолинейным?
Вот почему в действительности число причинных
отношений, установленных социологами, так
незначительно. За немногими исключениями, наиболее блестящим
примером которых является Монтескье, прежняя
философия истории старалась только открыть общее
направление, в котором движется человечество, не пытаясь
связать фазы этой эволюции с каким-нибудь
сопутствующим условием. Как ни велики услуги, оказанные Кон-
том социальной философии, пределы, в которые он
заключает социологическую проблематику, не отличаются
от предыдущих. Поэтому его знаменитый закон трех
стадий 7* не выражает никакой причинной связи; даже если
он верен, он все же является и может быть лишь
эмпирическим. Это обобщенный, беглый взгляд на прошедшую
историю человечества. Совершенно произвольно Конт
считает третью стадию конечным состоянием
человечества. Откуда мы знаем, что в будущем не возникнет
нового состояния? Наконец, закон, господствующий в
социологии Спенсера, по-видимому, носит такой же характер.
Даже если верно, что теперь мы склонны искать счастья
в промышленной цивилизации, то ничто не убеждает нас
в том, что в будущем мы не будем искать его в
чем-нибудь другом. Распространенность и устойчивость
рассматриваемого метода объясняются тем, что в социальной
среде чаще всего видели средство реализации прогресса,
а не определяющую его причину.
С другой стороны, отношением к этой же среде
должна измеряться также полезность, или, как мы сказали,
функция социальных явлений. Среди изменений,
причиной которых она является, полезны лишь те, которые
отвечают ее состоянию, так как она является
необходимым условием коллективного существования. С этой
точки зрения только что изложенный взгляд является,
думается нам, решающим, потому что только он объясняет,
каким образом полезный характер социальных явлений
может изменяться, не находясь в то же время в
зависимости от произвольных действий.
Конечно, если представлять себе социальную
эволюцию движимой известного рода vis a tergo8*,
толкающей людей вперед, то, поскольку это движущее
стремление может иметь лишь одиу-единственную цель,
возможен лишь один масштаб для определения полезности
506
или вредности Социальных явлений. Отсюда следует, что
существует и может существовать лишь один тип
социальной организации, вполне пригодный для человечества,
и что различные исторические общества являются лишь
последовательными приближениями к этому единому
образцу. Нет надобности доказывать, насколько подобное
упрощение несовместимо с признанными теперь
разнообразием и сложностью социальных форм.
Если, наоборот, пригодность или непригодность
институтов может устанавливаться только по отношению к
данной среде, то, поскольку эти среды различны,
существуют различные масштабы для оценки, и
следовательно, типы, качественно вполне отличные друг от друга,
могут одинаково базироваться на природе социальных
сред.
Вопрос, который мы сейчас рассматривали, тесно
связан, стало быть, с вопросом о построении социальных
типов. Если существуют социальные виды, то это значит,
что коллективная жизнь зависит прежде всего от
сопутствующих условий, представляющих известное
разнообразие. Если бы, наоборот, главные причины социальных
явлений были все в прошлом, то каждый народ был бы
лишь продолжением народа предшествующего, разные
общества потеряли бы свою индивидуальность и стали бы
лишь различными моментами одного и того же развития.
С другой стороны, так как организация социальной
среды настолько зависит от способа образования социальных
агрегатов, что оба эти выражения, в сущности, даже
синонимы, то у нас есть теперь доказательство того,
что нет признаков более существенных, чем указанные
нами в качестве основания социологической
классификации.
Наконец, теперь ясно более, чем прежде, насколько
несправедливо было бы, основываясь на словах «внешние
условия» и «среда», обвинять наш метод в том, что он
ищет источники жизни вне живого. Совсем наоборот, все
только что приведенные соображения сводятся к идее,
что причины социальных явлений находятся внутри
общества.
В стремлении объяснять внутреннее внешним можно
было бы скорее упрекнуть ту теорию, которая выводит
общество из индивида, потому что она объясняет
социальное бытие чем-то отличным от него, пытается вывести
целое из части. Изложенные принципы настолько далеки
от непризнания самопроизвольного характера живой це-
507
лоСтности, что если применить их к биологии и
психологии, то придется признать, что индивидуальная жизнь
также вырабатывается всецело внутри индивида.
IV
Из ряда только что установленных правил вытекает
определенное представление об обществе и коллективной
жизни.
В данных вопросах господствуют две
противоположные теории.
Для одних, например для Гоббса и Руссо, между
индивидом и обществом существует некоторый антагонизм.
По их мнению, человек по природе своей не склонен к
общественной жизни и может быть подчинен ей только
силой. Общественные цели не только не совпадают с
индивидуальными, но скорее противоположны им. Поэтому,
чтобы заставить индивида преследовать их, необходимо
оказывать на него принуждение, и в учреждении и
организации этого принуждения и заключается
преимущественно деятельность общества. Только потому, что
индивид рассматривается как единственная реальность
человеческого царства, эта организация, имеющая целью
обуздать и покорить его, может представляться
искусственной. Она не заложена в природе, потому что
назначение ее — насиловать эту природу, мешая ей производить
свои антисоциальные следствия. Это — искусственное
творение, машина, целиком построенная руками
человеческими. И, как всякое дело рук человеческих, она есть
то, что она есть, лишь потому, что люди этого пожелали.
Предписание воли создало ее, и новое предписание этой
же воли может преобразовать ее. Ни Гоббс, ни Руссо не
заметили, по-видимому, явного противоречия,
заключающегося в признании индивида творцом машины, главная
роль которой состоит в том, чтобы властвовать над ним
и принуждать его. По крайней мере, им казалось, что,
для того чтобы уничтожить это противоречие,
достаточно скрыть его от глаз его жертв искусной уловкой
социального договора.
Теоретики естественного права, экономисты, а поздпее
Спенсер22 вдохновлялись противоположной идеей. Для
них социальная жизнь, по существу, самопроизвольна и
22 Позиция Конта в этом вопросе отличается неопределенно
стью и эклектизмом.
508
общество есть нечто естественное. Но хотя они я
приписывают ему этот характер, однако не признают его
специфической природы; основание его они находят в
природе индивида. Как и предыдущие мыслители, они не
видят в нем систему явлений, существующую
самостоятельно, в силу своих особых причин. Но, в то время как
первые смотрели на пего лишь как па договорное
соединение людей, не представляющее особой самобытной
реальности и висящее, так сказать, в воздухе, последние
основывают его на основных стремлениях человеческого
сердца. Человек естественно склонен к политической,
семейной, религиозной жизни, к обмену и т. д., и из этих-
то естественных склонностей и вытекает социальная
организация. Следовательно, всюду, где она нормальна, она
не имеет нужды быть принудительной. Если она
прибегает к принуждению, то это значит или что она не то,
чем должна быть, или что обстоятельства ненормальны.
В принципе нужно лишь дать индивидуальным силам
свободно развиваться, чтобы они организовались в
общества.
Наша теория отличается от обеих доктрин.
Несомненно, мы считаем принуждение характерным
признаком всякого социального факта. Но это
принуждение исходит не из более или менее искусного устройства,
призванного скрывать от людей те западни, в которые
они сами себя поймали. Оно обязано своим
возникновением тому, что индивид оказывается в присутствии силы,
перед которой он преклоняется, которая над ним
господствует, но эта сила естественна. Это принуждение
вытекает не из договорного устройства, возникшего по воле
человека, а из сокровенных недр реальности, являясь
необходимым продуктом данных причин. Поэтому, для того
чтобы склонить индивида добровольно подчиниться ему, не
нужно прибегать ни к каким ухищрениям; достаточно,
чтобы он осознал свою естественную зависимость и
слабость, чтобы он составил себе о них символическое и
чувственное представление с помощью религии или
определенное и адекватное понятие с помощью науки.
Поскольку превосходство общества над индивидом не
только физическое, но и интеллектуальное и нравственное, то
ему нечего бояться свободного исследования, если только
последнее используется правильно. Разум, показывая
человеку, насколько социальное бытие богаче, сложнее,
устойчивее бытия индивидуального, может лишь открыть
ему ясные основания для требуемого от него повиновения»
509
и для Чувств привязанности и уважения, которые
привычка запечатлела в его сердце23.
Поэтому лишь очень поверхностная критика могла бы
упрекнуть пашу концепцию социального принуждения в
том, что она повторяет теорию Гоббса и Макиавелли.
Но если в противоположность этим философам мы
утверждаем, что социальная жизнь естественна, то это
не значит, что мы находим источник ее в природе
индивида. Это значит только, что она прямо вытекает из
коллективного бытия, которое само по себе является
реальностью sui generis. Это значит, что она возникает из той
специальной обработки, которой подвергаются
индивидуальные сознания вследствие их ассоциации и из
которой берет свое начало новая форма существования24.
Следовательно, если мы и согласимся с одними в том,
что она представляется индивиду в виде принуждения,
то признаем вместе с другими, что она есть
самопроизвольный продукт реальности. Эти два элемента, на
первый взгляд противоречащие друг другу, логически
объединяются тем, что производящая ее реальность
превосходит индивида. Это значит, что в нашей терминологии
слова «принуждение» и «самопроизвольность» не имеют
того смысла, какой Гоббс придает первому, а Спенсер
второму.
В целом большинство попыток рационально объяснить
социальные факты можно упрекнуть в том, что они или
отвергают всякую мысль о социальной дисциплине, или
считают возможным поддержание этой дисциплины
только с помощью обмана и уловок. Изложенные правила по-
23 Вот почему не всякое принуждение нормально. Этой
характеристики заслуживает лишь принуждение, соответствующее
какому-то социальному превосходству, т. е. интеллектуальному или
моральному. Но принуждение, оказываемое одни*! индивидом в
отношении другого, пользуясь тем, что он сильнее или богаче,
особенно если это богатство не выражает его социальную ценность,
ненормально и может поддерживаться только путем насилия.
24 Наша теория расходится с теорией Гоббса даже более, чем
теория естественного права. Действительно, для сторонников
последней доктрины коллективная жизнь естественна лишь в той
мере, в какой она может быть выведена из индивидуальной
природы. Однако лишь наиболее общие формы социальной
организации могут быть выведены из этого источника. Что же касается
подробностей, то последние слишком удалены от чрезвычайной
общности психических свойств, чтобы обусловливаться ими; они
кажутся поэтому последователям этой школы столь же
искусственными, как и их противникам. Для нас же, наоборот, все
естественно, даже наиболее второстепенные подробности
организации, потому что все основано на природе общества.
510
зволяют, напротив, разрабатывать социологию, которая
видела бы существенное условие всякой совместной
жизни в духе дисциплины, основывая его в то же время на
разуме и истине.
*
Глава VI
ПРАВИЛА, КАСАЮЩИЕСЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
I
У нас есть только одно средство доказать, что одно
явление служит причиной другого: это сравнить случаи,
когда: они одновременно присутствуют или отсутствуют,
и посмотреть, не свидетельствуют ли изменения,
представляемые этими различными комбинациями
обстоятельств, о том, что одно зависит от другого. /Когда оди
могут быть воспроизведены искусственно, по воле
исследователя, метод является экспериментальным\в
собственном смысле этого слова. Когда же, ^тгаоборет, создание
фактов от нас не зависит и мы можем сравнивать лишь
факты, возникшие самопроизвольно, тогда употребляемый
метод является косвенно экспериментальным или
сравнительным.
Мы видели, что Ьо^з^лргилеское^объяснение
заключается исключительно ~в установлении причинной связи,
илтгтГоткрытии причины явления, или в определении
полезных следствий данной причины. С другой стороны, так
как социальные явления очевидно, ускользают от
влияния исследователя, то сравнительный метод —
единственно пригодный для социологии. Конт, правда, нашел его
недостаточным и счел необходимым дополнить его тем,
что оп называет историческим методом, но причиной
такого взгляда является особое понимание им
социологических законов. Последние, по его мнению, должны
выражать главным образом не определенные отношения
причинности, а то направление, в котором движется
человеческая эволюция в целом. Они не могут быть,
следовательно, открыты при помощи сравнений, ибо, для того
чтобы иметь возможность сравнивать разные формы,
принимаемые социальным явлением у различных народов,
нужно сперва отделить их от их преходящих форм.
Но если начинать с такого дробления развития
человечества, то окажется невозможным определять его направле-
511
ние. Для того чтобы определить последнее, нужно
начинать не с анализа, а с широкого синтеза. Нужно сблизить
и соединить в одном и том же интуитивном знании
последовательные стадии развития человечества так, чтобы
заметить «постоянное развитие каждого физического,
интеллектуального, морального и политического
предрасположения» *. Таково основание этого метода, который
Конт называет историческим и который становится
беспредметным, если не принять основной концепции кон-
товской социологии.
Правда, Милль объявляет экспериментальный метод,
даже косвенный, неприменимым в социологии, но его
аргументация утрачивает значительную долю своей силы
оттого, что он применяет ее также к биологическим
явлениям и даже к наиболее сложным физико-химическим
фактам 2, но теперь уже излишне доказывать, что химия
и биология могут быть только экспериментальными
науками. Нет, следовательно, причины считать
обоснованными и суждения Милля, касающиеся социологии, потому
что социальные явления отличаются от предыдущих лишь
большей сложностью. Вследствие этого различия
применение экспериментального метода в социологии может
представлять больше трудностей, чем в других науках,
но не ясно, почему оно совсем невозможно.
Впрочем, вся эта теория Милля покоится на
постулате, связанном, несомненно, с основными принципами его
логики, но противоречащем всем выводам науки.
Действительно, он признает, что одно и то же следствие не
всегда вытекает из одной и той же причины, а может
зависеть то от одной причины, то от другой. Это
представление о причинной связи, отнимая у нее всякую
определенность, делает ее почти недоступной научному
анализу, потому что вносит такую сложность в
переплетающуюся цепь причин и следствий, что разум теряется в
ней безвозвратно. Если следствие может вытекать из раз-
пых причин, то, для того чтобы узнать, что определяет
его в данной совокупности обстоятельств, нужно было бы
произвести опыт в практически неосуществимых
условиях его изоляции, особенно в социологии.
Но эта пресловутая аксиома множественности причин
есть отрицание принципа причинности. Конечно, если
согласиться с Миллем, что причина и следствие абсолютно
1 Cours de philosophie positive, IV, p. 328.
2 Système de logique, II, p. 478.
512
гетерогенны, что между ними не существует никакой
логической связи, то нет никакого противоречия в том,
чтобы допустить, что какое-нибудь следствие может
вытекать то из одной, то из другой причины. Если связь,
соединяющая С с А, чисто хронологическая, то она не
исключает другую связь того же рода, которая соединила
бы, например, С с В. Если же, наоборот, причинная связь
есть нечто доступное пониманию, то она не может быть
настолько неопределенна. Если она представляет собой
отношение, вытекающее из природы вещей, то одно и то
же следствие может находиться в зависимости только от
одной причины, так как оно может выразить лишь одну
сущность. Но только философы сомневались в
познаваемости причинной связи. Для ученого она очевидна и
предполагается самим методом науки. Как иначе объяснить и
столь важную роль дедукции в экспериментальных
науках, и основной принцип пропорциональности между
причиной и следствием? Что же касается тех случаев,
которые приводятся в подтверждение и в которых будто бы
наблюдается множественность причин, то, для того чтобы
они имели доказательную силу, нужно было бы предва-
варительно установить или то, что эта множественность
не просто кажущаяся, или что внешнее единство
следствия не скрывает в себе действительной множественности.
Сколько раз науке приходилось сводить к единству
причины, множественность которых казалась на первый
взгляд несомненной! Стюарт Милль сам дает пример
этого, указывая, что согласно современным теориям,
производство теплоты трением, ударом, химическим
действием и т. д. вытекает из одной и той же причины.
Наоборот, когда дело касается следствия, ученый часто
различает то, что смешивает воедино непосвященный.
По ходячим воззрениям, слово «лихорадка» обозначает
одну и ту же болезнь, для науки же существует
множество специфически различных лихорадок и
множественность причин находится в связи со множественностью
следствий. Если же между всеми этими нозологическими
видами существует нечто общее, то это потому, что
причины их тоже сходны в некоторых своих свойствах.
Тем важнее изгнать этот принцип из социологии, что
многие социологи до сих пор находятся под его влиянием,
даже тогда, когда они не возражают против применения
сравнительного метода. Так, обыкновенно говорят, что
преступление может быть одинаково вызвано самыми
различными причинами; что то же самое относится к само-
17 Э. Дюркгейм
513
убийству, наказанию и т. д. Если вести опытное
исследование в таком направлении, то, как бы много фактов
мы ни собрали, мы никогда не получим точных законов,
определенных причинных связей. В таких условиях
можно лишь связать плохо определенное следствие со
смешанной и неопределенной группой причин. Если,
следовательно, применять сравнительный метод научно, т. е.
сообразуясь с тем принципом причинности, который
сформировался в самой науке, то за основание осуществляемых
сравнений нужно взять Уутггдчпщгг полотсппгг одипчу и
тому же следствш^.^Асегда соответствует одна и та же
ггшчйна.:~Так, учитывая вышеприведенные примеры,
есл^самрубийство зависит от нескольких причин, то это
значит, что в действительности существует несколько ви^
дов самоубийств. То же самое можно сказать и о
преступлении. Для наказания же, наоборот: признать, что
оно одинаково хорошо объясняется различными
причинами,— значит не замечать общего всем его
антецедентам элемента, в силу которого они и производят свое
общее следствие 3.
II
Если, однако, различные приемы сравнительного метода
и применимы в социологии, то не все они имеют в ней
одинаковую доказательную силу.
Так называемый метод остатков, хотя и составляет
одну из форм экспериментального метода, не имеет,
однако, никакого применения в изучении социальных
явлений. Он может иметь место лишь в довольно развитых
науках, так как предполагает знание большого числа
законов; притом социальные явления слишком сложны для
того, чтобы в каком-либо определенном случае можно
было бы точно вычесть действие всех причин, кроме
одной.
Та же причина делает затруднительным применение
метода совпадения и метода различия. Действительно, они
предполагают, что сравниваемые случаи или совпадают,
или различаются только в одном пункте. Конечно, нет
науки, которая была бы в силах когда-либо произвести
опыты, относительно которых было бы неопровержимо
установлено, что они совпадают или различаются только
в одном пункте. Никогда нельзя быть уверенным, что не
пропущено какое-нибудь обстоятельство, совпадающее
* De la division du travail social, p. 87.
514
или различающееся так же и в то же время, как и
единственное известное. Между тем, хотя полное исключение
всякого случайного элемента является идеалом, которого
в действительности нельзя достигнуть, фактически
физико-химические и даже биологические науки
приближаются к нему настолько, что в значительном числе случаев
доказательство в них может считаться практически
достаточным. Совсем иное дело в социологии вследствие
слишком большой сложности явлений и связанной с ней
невозможности произвести искусственный опыт. Как нельзя
составить даже приблизительно полный перечень всех
фактов, сосуществующих в данном обществе или
преемственно сменявших друг друга в его истории, так
никогда нельзя быть даже в малой степени уверенным, что два
народа совпадают или различаются во всех отношениях,
кроме одного. Шансов пропустить какое-нибудь явление
больше, нежели шансов заметить их все. Следовательно,
такой метод доказательства может породить лишь
предположения, которые сами по себе почти совсем лишены
всякого научного характера.
Но совсем другое дело — метод сопутствующих
изменений. Действительно, для того чтобы он имел
доказательную силу, не нужно, чтобы все изменения, отличные
от сравниваемых, были строго исключены. Простая
параллельность изменений, совершающихся в двух
явлениях, если только она установлена в достаточном чисдо
разнообразных случаев, служит доказательством
существования между ними причинного отношения.
Преимущество этого метода заключается в том, что с его помощью
причинная связь постигается не извне, как в
предыдущих методах, а изнутри. Он обнаруживает нам не просто
внешнюю связь двух фактов, при которой они
сопровождают или исключают4 друг друга, но при которой
ничто прямо не доказывает наличия внутренней связи
между ними. Наоборот, он обнаруживает нам
причастность друг другу, и причастность постоянную по крайней
мере, в значительном масштабе. Уже одной этой
причастности достаточно, чтобы доказать, что они не чужды
друг другу. Способ развития какого-нибудь явления
выражает его сущность; для того чтобы процессы развития
двух явлений соответствовали друг другу, необходимо
соответствие выражаемых ими сущностей. Постоянное со-
4 В случае метода различия отсутствие причины исключает
присутствие следствия.
515
17*
Существование изменений, следовательно, само по себе
есть закон, каково бы ни было состояние явлений,
остающихся вне сравнения. Поэтому, чтобы опровергнуть его,
недостаточно показать, что он опровергается некоторыми
отдельными случаями применения метода совпадения или
различия. Это значило бы приписать этому роду
доказательств такое значение, какого они не могут иметь в
социологии. Когда два явления регулярно изменяются
параллельно друг другу, следует признавать между ними
это отношение даже тогда, когда в некоторых случаях
одно из этих явлений появилось без другого, так как
может быть так, что или действие причины на следствие
было прервано воздействием противоположной причины,
или же что следствие налицо, но в другой форме, нежели
та, которую наблюдали ранее. Конечно, есть повод
пересмотреть заново факты, но не надо отбрасывать сразу
результаты правильно осуществленного доказательства.
Правда, законы, обнаруживаемые этим методом,
не всегда представляются сразу в форме отношений
причинности. Совпадение изменений может зависеть не от
того, что одно явление есть причина другого, а от того,
что оба они — следствия одной и той же причины, или от
того, что между ними существует третье, промежуточное,
но незамеченное явление, которое есть следствие первого
и причина второго. Результаты, к которым приводит этот
метод, должны быть, следовательно, подвергнуты
интерпретации. Но какой же экспериментальный метод
позволяет открыть причинное отношение механически, без того
чтобы установленные им факты не нуждались в
обработке разумом? Важно только, чтобы эта обработка велась
методическим образом. Метод, пригодный для нее,
следующий. Вначале надо посредством дедукции обнаружить,
каким образом одно из двух явлений могло произвести
другое; затем надо постараться проверить результаты этой
дедукции при помощи опытов, т. е. новых сравнений.
Если дедукция возможна и проверка удалась, то
доказательство можно считать оконченным. Наоборот, если
между этими фактами мы не заметим никакой прямой связи,
особенно если гипотеза такой связи противоречит уже
доказанным законам, то нужно приняться за разыскание
третьего явления, от которого оба другие одинаково
зависят или которое могло бы служить промежуточным
звеном между ними. Можно установить, например, самым
достоверным образом, что склонность к самоубийству
изменяется параллельно со стремлением к образованию,
516
но невозможно понять, как образование ведет к
самоубийству; такое объяснение противоречило бы законам
психологии. Образование, особенно сведенное к
элементарным познаниям, затрагивает лишь самые поверхностные
области сознания; наоборот, инстинкт самосохранения —
одна из наших основных наклонностей. Следовательно,
он не может быть чувствительно затронут столь
отдаленным и слабо отражающимся фактором. Таким образом,
возникает вопрос, не представляют ли собой оба факта
следствия одной и той же причины. Этой общей
причиной является ослабление религиозного традиционализма,
которое одновременно усиливает потребность в знании и
склонность к самоубийству.
Существует еще одна причина, делающая метод
сопутствующих изменений главным орудием
социологических исследований. Действительно, даже при наиболее
благоприятных для них обстоятельствах другие методы
могут применяться с пользой лишь тогда, когда число
сравниваемых фактов очень значительно. Хотя и нельзя
найти двух обществ, сходных или различающихся лишь
в одном пункте, однако можно, по крайней мере,
установить, что два факта очень часто сопровождают или
исключают друг друга. Но, для того чтобы такая
констатация имела научную ценность, нужно, чтобы она была
многократно подтверждена, нужно быть почти уверенным,
что все факты были рассмотрены. Однако столь полный
перечень не только невозможен, но и факты, собранные
таким образом, не могут быть установлены с достаточной
точностью именно потому, что они слишком
многочисленны. В таких условиях не только рискуешь проглядеть
факты весьма существенные и противоречащие уже
известным, но нельзя быть вполне уверенным и в
надлежащем знании последних. Рассуждения социологов часто
многое теряли оттого, что, применяя методы совпадения
или различия, особенно первый, они больше занимались
собиранием документов, чем их критикой и отбором. Так,
они постоянно ставят на одну доску путаные и
поспешные наблюдения путешественников и точные
исторические документы. Относительно подобных доказательств
можно сказать не только, что достаточно одного факта,
чтобы опровергнуть их, но и что сами факты, на
которых они основаны, не всегда внушают доверие.
Метод сопутствующих изменений не принуждает нас
ни к таким неполным перечислениям, ни к
поверхностным наблюдениям. Для того чтобы он дал результаты,
517
достаточно нескольких фактов. Как только доказано, что
в известном числе случаев два явления изменяются
одинаково, можно быть уверенным, что в данном случае имеет
место некий закон. Так как нет необходимости, чтобы
данные были многочисленны, то они могут быть
тщательно отобраны и изучены социологом. Главным предметом
своих индукций он может, и потому должен, сделать те
общества, верования, традиции, нравы и право которых
воплотились в достоверных письменных памятниках.
Конечно, он не станет пренебрегать и данными этнографии
(нет таких фактов, которыми мог бы пренебрегать
ученый), но он поставит их на подобающее им место.
Вместо того чтобы делать их центром тяжести своих
исследований, он воспользуется ими лишь в качестве
дополнения фактов, взятых из истории, по крайней мере он
попытается подтвердить их последними. Он не только
более тщательно ограничит область своих сравнений, но и
будет относиться к ним более критически, так как уже
вследствие того, что он обратится к ограниченному
числу фактов, он сможет контролировать их более
внимательно. Конечно, ему не надо переделывать работу
историков, но он не может также пассивно воспринимать
отовсюду нужные ему сведения.
Не нужно, однако, думать, что социология стоит
значительно ниже других наук, потому что она может
пользоваться лишь одним опытным методом. На самом деле
это неудобство компенсируется богатством видоизменений,
доступных сравнению социолога, богатством, не
встречающимся ни в какой другой сфере природы. Изменения,
происходящие в индивидуальном организме в процессе
его существования, малочисленны и очень ограниченны;
те, которые можно вызвать искусственно, не разрушая
жизни, также заключены в тесные пределы. Правда,
в ходе зоологической эволюции возникали и более
важные изменения, но от них остались лишь редкие и
неясные следы, и крайне трудно найти вызвавшие их условия.
Наоборот, социальная жизнь есть непрерывный ряд
изменений, параллельных другим изменениям в условиях
коллективного существования, и в нашем распоряжении
находятся данные не только об изменениях ближайшей
эпохи, но и о многих изменениях, пережитых уже
исчезнувшими народами. Несмотря на все пробелы, история
человечества более полна и ясна, чем история животных
видов. Кроме того, существует масса социальных
явлений, происходящих на всем пространстве общества, но при-
518
нимающих различные формы в зависимости от
местности, профессии, вероисповедания и т. д. Таковы,
например, преступление, самоубийство, рождаемость, браки,
накопление и пр. Из разнообразия окружающей их среды
вытекает для каждого из этих категорий факта новый
ряд видоизменений помимо производимых исторической
эволюцией. Следовательно, если социологи не могут
применять с одинаковым успехом все приемы
экспериментального исследования, то почти единственный метод,
которым он должен пользоваться, может быть весьма
плодотворен в его руках, так как в процессе его
применения он располагает несравненными ресурсами.
Однако он дает надлежащие результаты лишь в том
случае, если применяется с величайшей точностью.
Если, как это часто случается, довольствуются тем, что
при помощи более или менее многочисленных примеров
показывают, что в отдельных случаях факты изменились
так, как того хочет гипотеза, то этим, собственно,
ничего не доказывают. Из этих спорадических и
отрывочных совпадений нельзя сделать никакого общего вывода.
Иллюстрировать какую-нибудь идею примерами — не
значит доказать ее. Нужно сравнивать не изолированные
изменения, но регулярно устанавливаемые и достаточно
длинные ряды изменений, которые бы примыкали друг
к другу возможно полнее. Потому что из изменений
данного явления можно вывести закон лишь тогда, когда они
ясно выражают процесс развития этого явления при
данных обстоятельствах. А для этого нужно, чтобы между
ними была такая же последовательность, как между
различными моментами естественной эволюции, и чтобы,
кроме того, представляемый ими процесс был достаточно
продолжительным, чтобы его направление не оставляло
сомнений.
III
Способ построения этих рядов, однако, различен, смотря
по обстоятельствам. Они могут содержать в себе факты,
взятые в одном обществе, или во многих обществах
одного и того же вида, или у нескольких различных
социальных видов.
Первый прием достаточен, когда дело касается
фактов, очень распространенных и относительно которых мы
имеем достаточно полную и разнообразную
статистическую информацию. Сопоставляя, например, кривую,
выражающую движение самоубийств в течение достаточно
519
длительного периода времени, с видоизменениями того же
явления по провинциям, классам, сельским или городским
поселениям, полу, возрасту, гражданскому положению
и т. д., можно, даже не распространяя своих
исследований за пределы одной страны, установить настоящие за-
коны, хотя всегда лучше подтвердить эти результаты
наблюдениями над другими народами того же вида.
Но столь ограниченными сравнениями можно
довольствоваться лишь тогда, когда изучают какое-нибудь из тех
социальных течений, которые распространены во всем
обществе, видоизменяясь в разных местах. Когда же,
наоборот, дело касается института, юридического или
нравственного правила, установившегося обычая, которые
одни и те же и функционируют одинаково на всем
пространстве страны, изменяясь лишь во времени, тогда
нельзя ограничиться изучением одного народа. В
противном случае предметом доказательства служила бы лишь
одна пара параллельных кривых, а именно, кривых,
выражающих историческое развитие рассматриваемого
явления и предполагаемой причины, но в данном
обществе, и только в нем. Конечно, параллелизм, если он
постоянен, является уже значительным фактом, но сам по
себе он не может служить доказательством.
Вводя в пределы исследования несколько народов
одного и того же вида, мы располагаем уже более широким
полем для сравнения. Вначале можно сопоставить
историю одного народа с историей других и посмотреть,
не развивается ли у каждого из них одно и то же явле-
пие под воздействием одинаковых условий. Затем можно
сравнить эти различные процессы развития данного
явления. Так, например, можно определить форму,
принимаемую данным явлением в различных обществах в тот
момент, когда его развитие достигает своего апогея. Так
как эти общества, несмотря на то что принадлежат к
одному и тому же типу, все-таки являются различными
индивидуальностями, то форма эта не везде одна и та
же; она выражается более или менее отчетливо, смотря
по обстоятельствам. Таким образом, мы получаем новый
ряд изменений, которые можно сравнить с изменениями,
вызванными предполагаемым условием в то же время и
в каждой из этих стран. Так, проследив эволюцию
патриархальной семьи в истории Рима, Афин и Спарты,
можно распределить эти государства по максимальной
степени развития, достигаемого в каждом из них этим
семейным типом, и затем посмотреть, различаются ли они по-
520
добным же образом и по характеру социальной среды,
от которой, по-видимому, зависит данное явление
согласно первому наблюдению.
Но сам по себе этот метод недостаточен.
Действительно, он применим лишь к явлениям, возникшим во время
жизни сравниваемых народов. Но общество не создает
совершенно заново свою организацию, оно получает ее
отчасти от обществ, ему предшествовавших. То, что
передано ему таким образом, не является продуктом его
исторического развития и потому не может быть объяснено,
если не выйти за пределы вида, представителем которого
является данное общество. Так может рассматриваться
лишь то, что выработано данным обществом в дополнение
и изменение этой первоосновы. Но чем выше
поднимаемся мы по социальной лестнице, тем ничтожнее
становятся черты, вырабатываемые каждым народом по сравнению
с переданными ему признаками. Таково, впрочем,
условие всякого прогресса. Так, новые элементы, внесенные
нами в семейное право, в право собственности, в
нравственность, с самого начала нашей истории относительно
малочисленны и мало значительны по сравнению с тем,
что нам завещано историей. Происходящие нововведения
не могут быть поэтому поняты, если не изучены сначала
эти более фундаментальные явления, послужившие им
корнями, а последние могут быть изучены лишь с
помощью гораздо более широких сравнений. Для того
чтобы иметь возможность объяснить современное состояние
семьи, брака, собственности и т. д., надо узнать, каково
их происхождение, каковы простейшие элементы,
из которых состоят эти институты, а эти вопросы
сравнительная история великих европейских обществ не может
прояснить. Надо пойти дальше.
Следовательно, чтобы объяснить социальный институт,
принадлежащий к определенному виду, надо сравнить
различные формы, принимаемые им, не только у народов
этого вида, но и во всех предшествующих видах.
Допустим, например, что дело касается семейной организации.
Сначала надо определить самый рудиментарный тип ее,
какой только когда-либо существовал, и затем проследить
шаг за шагом, как он прогрессивно усложнялся. Этот
метод, который можно назвать генетическим, дал бы
одновременно и анализ и синтез явления. С одной стороны, он
показал бы нам его элементы в разъединенном состоянии
уже тем, что выявил бы, как они постепенно
присоединяются друг к другу. С другой стороны, благодаря широко-
521
му полю сравнения, ой лучше способен определить
условия, от которых зависит формирование и соединение этих
элементов. Следовательно, объяснить сколько-нибудь
сложный социальный факт можно, только проследив весь
процесс его развития во всех социальных видах.
Сравнительная социология не является особой отраслью
социологии; это сама социология, поскольку она перестает быть
чисто описательной и стремится объяснять факты.
В процессе этих обширных сравнений часто
допускается ошибка, приводящая к неверным результатам.
Случалось, что для определения направления, в котором
развиваются социальные явления, просто сравнивали то, что
происходит при упадке каждого вида, с тем, что
возникает в начале следующего вида. Действуя таким образом,
считали возможным утверждать, например, что
ослабление религиозных верований и всякого традиционализма
всегда могло быть лишь кратковременным явлением в
жизни народов, потому что оно появляется только в
последний период их существования, с тем чтобы исчезнуть,
как только развитие возобновится. Но при таком подходе
рискуют принять за постоянную и необходимую поступь
прогресса то, что является следствием совсем иной
причины. Действительно, состояние, в котором находится
молодое общество, не есть простое продолжение
состояния, к которому в конце своего существования пришли
сменяемые им общества; это состояние отчасти
проистекает из самой молодости, препятствующей полному и
немедленному усвоению и использованию результатов
опыта, достигнутого предшествующими народами. Подобным
образом ребенок получает от своих родителей склонности
и предрасположения, которые в его жизни вступают в
действие довольно поздно. Если вновь обратиться к тому
же примеру, то возможно предположить, что указанный
возврат к традиционализму, наблюдаемый в начале
истории каждого общества, определяется не тем, что
попятное движение того же явления должно быть
быстротечным, но особыми условиями, в которых находится всякое
общество, начинающее свое развитие. Сравнение может
быть доказательным только в том случае, если исключен
искажающий его фактор различий в возрасте. Чтобы этого
достигнуть, достаточно рассматривать сравниваемые
общества в один и тот же период их развития. Таким
образом, чтобы узнать, в каком направлении эволюционирует
социальное явление, нужно сравнивать его в период
молодости каждого вида с тем, чем оно становится в период
522
молодости следующего вида; и в зависимости от того,
будет ли оно от одного из этих этапов к другому более,
менее или столь же интенсивным, можно будет сказать,
прогрессирует оно, регрессирует или сохраняется в том
же состоянии.
*
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В целом изложенный метод отличается следующими
признаками.
Во-первых, он независим от всякой философии. Так
как социология возникла из великих" философских
доктрин, то она сохранила привычку опираться на какую-
нибудь систему, с которой она, таким образом,
оказывается связанной. Поэтому она была последовательно
позитивистской, эволюционистской, спиритуалистской, тогда
как она должна довольствоваться тем, чтобы быть
просто социологией. Мы не решились бы даже назвать ее
натуралистской, если только этим термином не обозначать
то, что она считает социальные факты объяснимыми
естественными причинами^ А в этом случае эпитет довольно
бесполезен, так как он просто указывает на то, что
социолог — не мистик и занимается наукой. Но мы
отвергаем это слово, если ему придается доктринальное
значение, касающееся сущности социальных явлений, если,
например, подразумевается, что последние могут быть
сведены к другим космическим силам. Социологии не
следует принимать сторону какой-нибудь из великих
метафизических гипотез. Ей не нужно утверждать ни
свободы, ни детерминизма. Она требует только признания,
что к социальным явлениям применим принцип
причинности. Даже этот принцип она выдвигает не как
непреложный постулат разума, а как постулат эмпирический,
результат правомерной индукции. Так как закон
причинности признан для других областей природного царства
и признание его господства постепенно расширялось,
распространялось от мира явлений физико-химических на
явления биологические, от последних — на мир явлений
психических, то мы вправе допустить, что он также верен
и для мира социального. И можно добавить к этому, что
исследования, предпринятые на основе этого постулата,
судя по всему, его подтверждают. Но вопрос, исключает
523
ли природа причинной связи всякую случайность, этим
еще не решается.
К тому же сама философия весьма заинтересована в
этом освобождении социологии. Пока социолог не
освободился вполне от влияния философа, он рассматривает
социальные явления только с их наиболее общей
стороны, с той, с которой они более всего походят на другие
явления вселенной. Если же, находясь в таком
положении, социология и может иллюстрировать философские
положения любопытными фактами, то она не может
обогатить ее новыми взглядами, поскольку не обнаруживает
ничего нового в изучаемом объекте. Но в
действительности, если основные факты других областей
обнаруживаются и в сфере социальных явлений, то лишь в особых
формах, делающих их природу более понятной, потому
что они являются высшим ее выражением. Только, для
того чтобы видеть их с этой стороны, нужно выйти за
пределы общих положений и обратиться к детальному
изучению фактов. Таким образом, социология, по мере
того как она будет специализироваться, будет доставлять
все более оригинальный материал для философского
размышления. Уже предшествующее изложение могло
показать, что такие существенные понятия, как вид, орган,
функция, здоровье, болезнь, причина, цель, предстают в
совершенно новом свете. К тому же, разве не социология
призвана наиболее рельефно выразить идею ассоциации,
которая может быть основанием не только психологии,
но и целой философии?
Относительно практических учений наш метод
позволяет и рекомендует ту же независимость. Социология,
понимаемая таким образом, не будет ни
индивидуалистической, ни коммунистической, ни социалистической в
том значении, которое обыкновенно придается этим
словам. Она принципиально будет игнорировать эти теории,
за которыми не может признать научной ценности,
поскольку они прямо стремятся не выражать, а
преобразовывать факты. По крайней мере, если она и
заинтересуется ими, то лишь в той мере, в какой увидит в них
социальные факты, которые могут помочь ей понять
социальную реальность, обнаруживая потребности,
волнующие общество. Это не значит, впрочем, что она не
должна интересоваться практическими вопросами.
Наоборот, можно было заметить, что мы постоянно стараемся
ориентировать ее таким образом, чтобы она могла делать
практические выводы. Она непременно сталкивается с
524
этими проблемами в конце своих исследований. Но уже
благодаря тому, что они возникают перед ней только
в этот момент и, следовательно, выводятся из фактов,
а не из страстей, то можно предвидеть, что они
предстают перед социологом в совершенно ином виде, чем перед
толпой, и что предлагаемые им решения, впрочем
частичные, не могут вполне совпадать с решениями какой-либо
партии. Но с этой точки зрения роль социологии должна
состоять именно в том, чтобы освободить нас от всех
партий, не столько противопоставляя одну доктрину" другим,
сколько приучая умы занимать по отношению к этим
вопросам особую позицию, которую может внушить
только наука посредством прямого соприкосновения с
вещами. Только она может научить относиться с уважени-
ем",ТГо без фетишизма к исторически сложившимся
институтам, каковы бы они ни были, указывая нам, что в
них необходимого и временного, какова их прочность и
бесконечная изменчивость.
Во-вторых, наш метод объективен. Он весь проникнут
идеей, что социальные" факты суть вещи и должны
рассматриваться как таковые. Конечно, этот принцип
встречается в несколько иной форме и в основе доктрин Кон-
та и Спенсера. Но эти великие мыслители скорее дали
его теоретическую формулу, чем применили его на
практике. Для того чтобы он не остался мертвой буквой,
недостаточно было провозгласить его, нужно было сделать
его основанием дисциплины, которая завладела бы
ученым в тот самый момент, когда он приступает к предмету
своих исследований и которая постоянно сопровождала
бы его во всех его попытках. Именно за установление
такой дисциплины мы и взялись. Мы показали, как
социолог должен устранять имеющиеся у него заранее понятия
о фактах, чтобы стать лицом к лицу с самими фактами;
как он должен находить их по их наиболее объективным
признакам и в них самих искать признаки для
разделения их на здоровые и болезненные; как, наконец, он
должен проникнуться тем же принципом и в даваемых
им объяснениях, и в способе доказательств этих
объяснений. Понимая, что имеют дело с вещами, не станут уже
объяснять их утилитарными расчетами или какими бы
то ни было рассуждениями.
Тогда становится слишком очевидным разрыв между
подобными причинами и следствиями. Вещь есть сила,
которая может быть порождена только другой силой.
Следовательно, для того чтобы объяснить социальные факты,
525
нужно найти энергии, способные произвести их. При
таких условиях изменяются не только объяснения, но и
процесс их доказательства, или, точнее, лишь тогда
чувствуют необходимость доказывать их. Если
социологические явления суть лишь системы объективированных
идей, то объяснить их — значит вновь рассмотреть эти
идеи в их логическом порядке, и такое объяснение
является своим собственным доказательством; самое большее,
что остается сделать, это подтвердить его несколькими
примерами. Наоборот, лишь методически правильными
опытами можно проникнуть в тайну вещей.
Но если мы π рассматриваем социальные факты как
вещи, то как вещи социальные. Третья характерная
черта нашего метода состоит в том, что он является
исключительно социологическим. Часто казалось, что эти
явления вследствие своей чрезвычайной сложности или
вовсе не поддаются научному исследованию, или
могут стать объектом его, лишь будучи сведены к своим
элементарным условиям, психическим или органическим,
т. е. утратив свойственный им характер. Мы же,
наоборот, попытались доказать, что их можно изучать научно,
не лишая их специфических свойств. Мы даже отказались
свести характерную для них нематериальность sui
generis к сложной нематериальности психологических
явлений; тем более мы не позволили себе по примеру
итальянской школы растворить ее в общих свойствах
организованной материи *. Мы показали, что социальный факт
можно объяснить только другим социальным фактом, и в
то же время мы показали, как этот вид объяснения
возможен, признав внутреннюю социальную среду главным
двигателем социальной эволюции. Социология,
следовательно, не есть приложение к какой-либо другой науке;
она представляет собой особую и автономную науку,
и ощущение специфики социальной реальности настолько
необходимо социологу, что только особая
социологическая культура может привести его к пониманию
социальных фактов.
Мы считаем, что это самый важный шаг, который
остается сделать социологии. Конечно, когда наука
находится в процессе зарождения, для создания ее бывают
вынуждены обращаться к единственным существующим
моделям, т. е. к наукам, уже сложившимся. Там нахо-
1 Поэтому неправильно называли наш метод
материалистическим
526
дятся сокровища уже проделанных опытов, не
воспользоваться которыми было бы безумием. Тем не менее
наука может считаться окончательно установленной только
тогда, когда она стала независимой. В самом деле, она
имеет право на существование лишь тогда, когда
предметом ее служит категория фактов, не изучаемая другими
науками. Невозможно, однако, чтобы одни и те же
понятия были бы одинаково пригодны для разных по сути
вещей.
Таковы, по нашему представлению, принципы
социологического метода.
Эта совокупность правил покажется, быть может,
излишне сложной по сравнению с обыкновенно
используемыми приемами. Все эти приготовления и
предосторожности могут показаться весьма затруднительными для
науки, до сих пор требовавшей от лиц, посвящавших ей
себя, лишь общей и философской культуры. И
действительно, применение подобного метода на практике не
может увеличить интерес к социологическим предметам.
Когда от людей требуется в качестве основного
предварительного условия, чтобы они отрешились от тех понятий,
которые они привыкли прилагать к какому-то разряду
явлений, чтобы они заново пересмотрели их, нельзя
рассчитывать найти многочисленных последователей. Но мы
стремимся не к этому. Мы, наоборот, думаем, что для
социологии настал момент отказаться от, так сказать,
светских успехов и обрести эзотерический характер,
приличествующий всякой науке. Таким образом она выиграет в
достоинстве и авторитете настолько, насколько, быть
может, проиграет в популярности. В самом деле, пока она
остается втянутой в борьбу партий, пока она
довольствуется лишь тем, что обрабатывает с большей логикой,
чем толпа, общепринятые идеи и потому, следовательно,
не требует никакой особой квалификации, она не вправе
говорить так громко, чтобы заставить умолкнуть страсти
и предрассудки. Конечно, еще далеко то время, когда она
сможет выполнить эту задачу, но нам нужно трудиться
уже теперь, чтобы когда-нибудь она была в состоянии ее
осуществить.
Оглавление
Предисловие ко второму изданию оУо
Предисловие к первому изданию *0*
ВВЕДЕНИЕ 410
Рудиментарное состояние методологии в социальных
науках. Цель работы.
Глава I
ЧТО ТАКОЕ СОЦИАЛЬНЫЙ ФАКТ? 411
Социальный факт не может определяться своей
распространенностью в обществе. Отличительные признаки
социального факта: 1) его внешнее существование по
отношению к индивидуальным сознаниям; 2) принудительное
воздействие, которое он оказывает или способен оказывать на
те же сознания. Применение этого определения к
устоявшимся обычаям и социальным течениям. Проверка этого
определения.
Другой способ характеристики социального факта:
состояние независимости по отношению к его индивидуальным
проявлениям. Применение этой характеристики к
устоявшимся обычаям и социальным течениям. Социальный факт
распространяется потому, что он социален, а не социален
потому, что распространен. Как это второе определение
входит в первое.
Как факты социальной морфологии входят в это
определение. Общая формула социального факта.
Глава II
ПРАВИЛА, ОТНОСЯЩИЕСЯ К НАБЛЮДЕНИЮ
СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОВ 421
Основное правило: рассматривать социальные факты как
вещи.
I. Идеологическая фаза, которую проходят все науки и в
которой они вырабатывают обыденные и практические
понятия, вместо того чтобы описывать и объяснять вещи.
Почему эта фаза должна в социологии быть еще
продолжительнее, чем в других науках. Факты, взятые из социологии Кон-
та, Спенсера, из современной этики и политической
экономии и демонстрирующие, что эта стадия еще не пройдена.
Причины по которым она должна быть пройдена: 1)
социальные факты должны рассматриваться как вещи
потому, что они представляют собой непосредственные данные
науки, тогда как идеи, развитием которых, как считается,
они являются, непосредственно не даны; 2) все они имеют
признаки вещи.
528
Сходство этой реформы с той, которая недавно
преобразовала психологию. Основания надеяться на быстры»
прогресс социологии в будущем.
II. Непосредственные королларии предыдущего правила.
1) Устранить из науки все предпонятия. О
мистической точке зрения, противостоящей применению этого
правила.
2) Способ установления позитивного объекта
исследования: группировка фактов по их общим внешним признакам.
Социальные отношения, сформированные таким образом,
с обыденным понятием. Примеры ошибок, допускаемых из-
за пренебрежения этим правилом или его неверного
применения; Спенсер и его теория эволюции брака; Гарофало
и его определение преступления; распространенное
заблуждение, согласно которому в низших обществах нет
морали. О том, что внешний характер признаков, входящих
в первоначальное определение, не составляет препятствия
для научных объяснений.
3) Кроме того, эти внешние признаки должны быть
объективными настолько, насколько возможно. Средство
достижения этого: выявлять социальные факты с той стороны,
где они больше всего отделены от своих индивидуальных
проявлений.
Глава III
ПРАВИЛА, ОТНОСЯЩИЕСЯ К РАЗЛИЧЕНИЮ
НОРМАЛЬНОГО И ПАТОЛОГИЧЕСКОГО 447
Теоретическая и практическая польза этого различения.
Оно необходимо в науке для того, чтобы она могла служить
управлению поведением.
I. Рассмотрение обычно используемых критериев:
страдание не есть отличительный признак болезни, так как оно
составляет элемент здорового состояния; то же самое
относится к уменьшению шансов на выживание, так как оно
иногда происходит из-за нормальных фактов (старость,
роды и т. д.) и не обязательно является результатом болезни.
Кроме того, этот критерий чаще всего неприменим,
особенно в социологии.
Болезнь, отличаемая от состояния здоровья, как
анормальное от нормального. Средний или специфический тип.
Необходимость учета возраста для определения того,
является факт нормальным или нет.
Как это определение патологического совпадает в целом
с обыденным понятием болезни: анормальное - это
случайное; почему анормальное обычно представляет собой более
низкое состояние.
П. Полезность проверки результатов предыдущего
метода посредством поиска причин нормальности факта, т. е.
его всеобщности. Необходимость такой проверки, когда речь
идет о фактах, имеющих место в обществах, не
завершивших своего исторического развития. Почему этот второй
критерий может использоваться только в качестве
дополнительного и во вторую очередь.
Краткое изложение правил
529
HI. Применение этих правил к нескольким случаям, в
частности к вопросу о преступности. Почему существование
преступности — нормальное явление. Примеры ошибок,
совершаемых в случае несоблюдения этих правил. Сама наука
становится тогда невозможной.
Глава IV
ПРАВИЛА, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПОСТРОЕНИЮ
СОЦИАЛЬНЫХ ТИПОВ
Различение нормального и анормального заключает в
себе установление социальных видов. Полезность понятия
вида, занимающего промежуточное положение между
понятиям genus homo и отдельного общества.
I. Средство установить их - не в том, чтобы осуществлять
монографические описания. Невозможность действовать
этим путем. Бесполезность классификации, которая была бы
построена подобным образом. Принцип метода, который
необходимо применять: различать общества по степени
сложности их состава.
II. Определение простого общества; орда. Примеры
нескольких способов, которыми простое общество сочетается
с такими же, а его части - между собой.
Внутри установленных таким образом видов необходимо
различать разновидности, согласно тому, сливаются или нет
их сегменты.
Формулировка правила.
III. Как предыдущее доказывает существование
социальных видов. Различия в сущности вида в биологии и в
социологии.
Глава V
ПРАВИЛА, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ОБЪЯСНЕНИЮ
СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОВ
I. Финалистский характер общепринятых объяснений.
Полезность факта не объясняет его существования.
Двойственный характер вопросов, связанных с фактами
пережитков, с независимостью органа и функции и разнообразием
услуг, которые последовательно может оказывать один и
тот же институт. Необходимость исследования действующих
причин социальных фактов. Преобладающее значение этих
причин в социологии, доказываемое всеобщей
распространенностью даже самых мелких социальных обычаев.
Действующую причину следует, стало быть, определять
независимо от функции. Почему первое исследование
должно предшествовать второму. Полезность последнего.
II. Психологический характер общепринятого метода
объяснения. Этот метод основан на непризнании особой природы
социального факта, который несводим к чисто психическим
фактам по определению. Социальные факты могут
объясняться только социальными же фактами.
Каким образом это происходит, несмотря на то что
общество составлено только из индивидуальных сознаний.
Важное значение факта ассоциации, порождающего новое
бытие, новый род реальности. Разрыв между социологией и
530
психологией, подобный тому, который существует между
биологией и физико-химическими науками.
Применимость этого утверждения к факту формирования
общества.
Позитивная связь психических и социальных фактов.
Первые представляют собой несформировавшуюся материю,
которую преобразует социальный фактор; примеры.
Социологи приписывали им более непосредственную роль в
генезисе социальной жизни потому, что принимали за чисто
психические факты состояния сознания, являющиеся лишь
преобразованными социальными явлениями.
Другие доказательства того же положения: 1)
Независимость социальных фактов по отношению к этническому
фактору, принадлежащему к психо-органической сфере; 2)
Социальная эволюция не объяснима чисто психическими
причинами.
Краткое изложение правил, касающихся этого вопроса.
Поскольку эти правила игнорируются, социологические
объяснения носят слишком общий характер, который их
дискредитирует. Необходимость собственно социологической
подготовки.
III. Первостепенная важность социально-морфологических
фактов в социологических объяснениях: внутренняя
среда - источник любого сколько-нибудь значимого
социального процесса. Преобладающая роль человеческого элемента
этой среды. Поэтому задача социологии состоит главным
образом в нахождении свойств этой среды, оказывающих
наибольшее воздействие на социальные явления. Два вида
признаков больше всего соответствуют этому условию:
объем общества и динамическая плотность, измеряемая
слиянием сегментов. Вторичные внутренние среды; их
отношения с общей средой и частными деталями коллективной
жизни.
Важное значение понятия социальной среды. Если его
отбросить, социология сможет устанавливать не причинные
отношения, а только отношения последовательности, не
заключающие в себе научного предвидения; примеры Конта
и Спенсера. Важность этого же понятия для объяснения
того, как полезная ценность социальных обычаев
может изменяться и не зависеть при этом от произвольных
действий. Связь этого вопроса с вопросом о социальных
типах.
О том, что понимаемая таким образом социальная жизнь
зависит от внутренних причин.
IV. Общий характер этой социологической концепции. По
Гоббсу, связь между психическим и социальным носит
синтетический и искусственный характер; согласно Спенсеру
и многим экономистам, она является естественной и
аналитической. С нашей точки зрения, она является
естественной и синтетической. Как согласуются эти два признака.
Общие следствия этого.
531
Глава VI
ПРАВИЛА, КАСАЮЩИЕСЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
I. Сравнительный метод, или косвенный эксперимент, -
это метод даказательства в социологии. Бесполезность
метода, называемого Контом историческим. Ответ на
возражения Мил ля относительно применения сравнительного
метода в социологии. Важное значение принципа: одному и тому
же следствию всегда соответствует одна и та же причина.
il. Почему! среди разнообразных вариантов
сравнительного метода наилучший инструмент исследования в
социологии - метод сопутствующих изменений; его преимущества: ^
1) он постигает причинную связь изнутри; 2) он позволяет
использовать хорошо и критически отобранные данные. à
О том, что социология, несмотря на использование
единственного подхода, не ниже других наук вследствие обилия
видоизменений, которыми располагает социолог. Но
сравнивать необходимо лишь длительные и обширные ряды
изменений, а не отдельные изменения.
И Т. Различные способы составления этих рядов. Случай,
когда входящие в них явления могут быть взяты из одно-
го-единственного общества. Случай, когда нужно брать их
из разных обществ, но одного и того же вида. Случай,
когда нужно сравнивать различные виды. Почему последний
случай - самый распространенный. Сравнительная
социология - это социология как таковая.
Предосторожности, которые необходимо принять, чтобы
избежать ошибок в процессе этих сравнений.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Об,щи&лцшднат.дшгаога метода:
1) Его независимость от всякой философии
(независимость, полезная самой философии) и от практических
учений. Взаимоотношения соииологии с этими учениями. Как
она позволяет господствовать над партиями.
2) Его объективность. Социальные факты,,
рассматриваемые как вещи. Как этот принцип управляет методом в целом.
3) Его социологический характер: объясняемые
социальные факты сохраняют свою специфику; социология как
самостоятельная наука. О том, что завоевание этой
самостоятельности - самое важное достижение, которого социологии
необходимо добиться.
Растущий авторитет социологии, разрабатываемой таким
образом.
Приложение
*
О СОЦИОЛОГИИ ЭМИЛЯ ДЮРКГЕЙМА
1. ВЕХИ ЖИЗНИ УЧЕНОГО
Автор произведений, помещенных в настоящем томе,—
один из создателей социологии как науки, как профессии
и предмета преподавания *. Эмиль Дюркгейм родился
15 апреля 1858 г. в г. Эпинале, на северо-востоке
Франции, в небогатой семье потомственного раввина. В
детстве будущий автор социологической теории религии
готовился к религиозному поприщу своих предков, изучая
древнееврейский язык, Ветхий завет и Талмуд. Однако
он довольно рано отказался продолжить семейную
традицию. Биографы Дюркгейма отмечают, что определенное
влияние на это решение оказала его школьная
учительница — католичка. Короткое время он испытывает
склонность к католицизму мистического толка. Можно
предположить, что здесь сказалось воздействие и более общих
причин: разложения некогда замкнутой (изнутри и
снаружи) еврейской общины и развития ассимиляционных
процессов; это, в свою очередь, было связано с
ослаблением религиозной нетерпимости и процессами
секуляризации во французском обществе в целом. Но и католи-
1 Из советских работ, посвященных анализу социологии
Дюркгейма и его школы, см., в частности: Кон И. С. Позитивизм в
социологии. Л., 1964. Гл. IV; Коржева Э. М. Категория
коллективного сознания и ее роль в концепции Э. Дюркгейма // Вестн. МГУ.
Философия. 1968. № 4; Она же. Социологическая теория познания
Э. Дюркгейма // Из истории буржуазной социологии XIX-XX вв.
М., 1968; Гофман А. Б. «Социологизм» как концепция: Эмиль
Дюркгейм'//Историко-философский сборник. М., 1972; Он же.
Религия в философско-социологической концепции Э.
Дюркгейма // Социол. исслед. 1975. № 4; Он же. Социология дюркгеймов-
ской школы // История буржуазной социологии первой половины
XX века. М., 1979. Гл. II; Осипова Е. В. Социология Эмиля
Дюркгейма. М., 1977; Николаев Ю. Н. Эмиль Дюркгейм как
социальный философ//Социол. исслед. 1978. № 2.
533
ком Дюркгейм не стал, так же, впрочем, как и атеистом.
С юных лет и до конца жизни он оставался агностиком.
Постоянно подчеркивая важную социальную и
нравственную роль религии, он сделал предметом своей веры
науку вообще и социальную науку в частности.
В 1879 г. Дюркгейм с третьей попытки поступил в
Высшую Нормальную школу в Париже, где одновременно
с ним учились знаменитый философ Анри Бергсон и
выдающийся деятель социалистического движения Жан
Жорес, с которым Дюркгейм поддерживал дружеские
отношения. Из профессоров Нормальной школы наибольшее
влияние на формирование взглядов будущего социолога
оказали видные ученые: историк Фюстель де Куланж и
философ Эмиль Бутру. Среди студентов Дюркгейм
пользовался большим уважением и выделялся серьезностью,
ранней зрелостью мысли и любовью к теоретическим
спорам, за что товарищи прозвали его «метафизиком».
Окончив в 1882 г. Нормальную школу, Дюркгейм в
течение нескольких лет преподавал философию в
провинциальных лицеях. В 1885—1886 гг. он побывал в
научной командировке в Германии, где знакомился с
состоянием исследований и преподавания философии и
социальных наук. Особенно сильное впечатление на него
произвело знакомство с выдающимся психологом и философом
В. Вундтом, основателем первой в мире лаборатории
экспериментальной психологии.
В 1887 г. Дюркгейм был назначен преподавателем
«социальной пауки и педагогики» на филологическом
факультете Бордоского университета. Там же в 1896 г.
он возглавил кафедру «социальной науки» — по
существу, первую самостоятельную кафедру социологии во
Франции.
С 1898 по 1913 г. Дюркгейм руководил изданием
журнала «Социологический ежегодник» (было издано 12
томов журнала). Сотрудники журнала, приверженцы дюрк-
геймовских идей, образовали научную школу,
получившую название французской социологической школы.
Деятельность этого научного коллектива занимала
ведущее место во французской социологии вплоть до конца
30-х годов.
С 1902 г. Дюркгейм преподавал в Сорбонне, где
возглавлял кафедру науки о воспитании, впоследствии
переименованную в кафедру науки о воспитании и
социологии. Его преподавательская деятельность была весьма
интенсивной, и многие его научные работы родились из
534
лекционных курсов. Дюркгейм был блестящим оратором,
и его лекции пользовались большим успехом. Они
отличались строго научным, ясным стилем изложения и в то
же время носили характер своего рода социологических
проповедей.
Профессиональная деятельность занимала главное
место в жизни Дюркгейма, но, несмотря на это, он
активно и непосредственно участвовал в разного рода
общественных организациях и движениях. Он был
человеком демократических и либеральных убеждений,
сторонником социальных реформ, основанных на научных
рекомендациях. Многие его последователи участвовали в
социалистическом движении, и сам он симпатизировал
реформистскому социализму жоресовского толка.
Вместе с тем Дюркгейм был противником революционного
социализма, считая, что подлинные и глубокие
социальные изменения происходят в результате длительной
социальной и нравственной эволюции. С этих позиций он
стремился примирить противоборствующие классовые
силы, рассматривая социологию как научную
альтернативу левому и правому радикализму.
Будучи человеком долга прежде всего, Дюркгейм
постоянно стремился соединить в своей собственной жизни
принципы профессиональной и гражданской этики,
которые послужили одним из главных и излюбленных
предметов его научных исследований и преподавания.
Практическая цель его профессиональной и общественной
деятельности состояла в том, чтобы вывести французское
общество из тяжелого кризиса, в котором оно оказалось
в последней четверти XIX в. после падения прогнившего
режима Второй империи, поражения в войне с Пруссией
и кровавого подавления Парижской коммуны. В связи с
этим он активно выступал против сторонников
возрождения монархии и приверженцев «сильной власти», против
реакционных клерикалов и националистов, отстаивая
необходимость национального согласия на
республиканских, светских и рационалистических принципах, на
основе которых во Франции сформировалась Третья
республика.
Первая мировая война нанесла тяжелый удар по
французской социологической школе, поставив под
вопрос общий оптимистический пафос теории Дюркгейма.
Некоторые видные сотрудники школы погибли на
фронтах войны. Погиб и сын основателя школы Андре,
блестящий молодой лингвист и социолог, в котором отец ви-
535
дел продолжателя своего дела. Смерть сына ускорила
кончину отца. Эмиль Дюркгейм скончался 15 ноября
1917 г. в Фонтенбло под Парижем в возрасте 59 лет, не
успев завершить многое из задуманного.
2. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИСТОКИ
Из наиболее удаленных по времени интеллектуальных
предшественников Дюркгейма следует отметить прежде
всего трех его соотечественников: Декарта, Монтескье
и Руссо.
Дюркгейм был убежденным и бескомпромиссным
рационалистом, а рационализм — французская
национальная традиция, начало которой положил Декарт. «Правила
с оцио логического метода », « манифест » дюркгеймовской
социологии, удивительным образом перекликаются с
«Рассуждением о методе» Декарта. Оба труда объединяет
одна и та же цель: найти рациональные принципы и
приемы, позволяющие исследователю постичь истину
независимо от общепринятых мнений и общественных
предрассудков всякого рода. У Декарта мы встречаем само
понятие «правила метода», вынесенное Дюркгеймом в
заглавие его основного методологического труда; именно
этим «правилам» посвящена вторая часть «Рассуждения
о методе».
Другого своего великого соотечественника, Шарля
Монтескье, сам Дюркгейм считал главным предтечей
научной социологии. Именно у Монтескье он обнаружил
идеи, обосновывающие саму возможность существования
социальной науки, а именно идеи детерминизма и
внутренней законосообразности в развитии социальных
явлений, а также сочетания описания и рационального
объяснения этих явлений. Жан-Жака Руссо с его понятиями
общей воли и общественного договора Дюркгейм также
рассматривал в качестве предшественника социологии,
способствовавшего развитию представления о природе
социальной реальности.
Из более поздних предшественников дюркгеймовской
социологии следует указать на А. де Сен-Симона и,
конечно, на его ученика и последователя Огюста Конта.
Сам Дюркгейм подчеркивал, что Сен-Симон первым
сформулировал идею социальной науки. Однако он
скорее разработал обширную программу этой науки, чем
попытался осуществить ее в более или менее систематиче-
536
ской форме2. И хотя, по Дюркгейму, в определенном
смысле все основные идеи контовской социологии
обнаруживаются уже у Сен-Симона, тем не менее именно
Конт приступил к осуществлению программы создания
социальной науки.
Несмотря на то что Дюркгейм в своих исследованиях
критиковал ряд положений социологии Конта, он
признавал за ним титул «отца» социологии и подчеркивал
преемственную связь своих и коитовских идей. Отвергая
обозначение своей социологии как «позитивистской»
(так же, впрочем, как и материалистической, и спириту-
алистской), Дюркгейм в то же время вдохновлялся тем
идеалом позитивной социальной науки, который
сформулировал родоначальник философского позитивизма.
Вслед за Контом он рассматривал естественные науки
как образец для построения социальной науки. Дюркгейм
воспринял контовский подход к изучению общества как
органического, солидарного целого, состоящего из
взаимозависимых частей.
Но, будучи духовным преемником Копта, он не
склонен был принимать его наследие целиком. Он отвергал
знаменитый закон трех стадий интеллектуальной и
социальной эволюции (теологической, метафизической и
позитивной), который Конт считал главным своим
достижением. В противовес своему предшественнику,
провозгласившему отказ от причинности в научном объяснении
и замену вопроса «почему» вопросом «как», Дюркгейм
упорно искал причины социальных явлений. В отличие
от Конта он стремился сочетать теоретический анализ с
эмпирическим. Наконец, Дюркгейму в целом был чужд
однолинейный эволюционизм «крестного отца» социологии
(как известно, слово «социология» было впервые
использовано Контом в IV томе его «Курса позитивной
философии»). Оценивая эту сторону учения своего
предшественника, он писал: «Человечество одновременно пошло
различными путями, и следовательно, доктрина,
принципиально утверждающая, что оно всегда и всюду
преследует одну и ту же цель, базируется на заведомо
ошибочном постулате» 3.
Необходимо отметить влияние Канта и кантианства
на теорию Дюркгейма. Речь идет прежде всего о
концепции морали и нравственного долга, пронизывающей
2 Durkheim Ε. La science sociale et Taction. P., 1970. P. 115, 118.
3 Ibid. P. 119.
537
всю теорию основателя французской социологической
школы Л
Особое значение в формировании социологических
взглядов Дюркгейма имели идеи французского
неокантианца, «неокритициста» Ш. Ренувье, в частности его
рационализм (в полном согласии и в сочетании с другими
рационалистическими влияниями), обоснование ведущей
роли морали в человеческом существовании и
необходимости ее научного исследования, стремление объединить
принцип свободы и достоинства индивида с
представлением о его долге и зависимости по отношению к другим
индивидам.
Ренувье отстаивал необходимость развития
ассоциаций, независимых от государства, производственных
кооперативов, усиление роли государства в установлении
социальной справедливости, введение светского
воспитания в государственных школах. В целом его идеи оказали
значительное влияние на интеллектуальный климат и
идеологию Третьей республики.
Не меньшее влияние на французское общество конца
XIX — начала XX в. оказали идеи двух апостолов
позитивизма, видных философов и историков Э. Ренана и
И. Тэна, энергично и красноречиво доказывавших роль
науки как ведущей социальной силы, на которую должны
опираться все социальные институты, включая
искусство, мораль и религию. Все научное творчество
Дюркгейма свидетельствует о том, что он не остался в стороне
от этого влияния.
Важную роль в формировании воззрений Дюркгейма
сыграли идеи Г. Спенсера и опиравшегося на них био-
оргапического направления в социологии. Влияние
Спенсера было неоднозначным; многие концепции Дюркгейма
разрабатывались как раз в полемике с концепциями
английского философа. Здесь мы имеем дело с весьма
распространенным в истории социальной мысли случаем
«отрицательного» влияния одного мыслителя на
другого, когда идеям предшественника систематически
противопоставляются идеи последователя, иногда выступающие
в качестве их своеобразпого симметричного отражения.
При этом стимулирующее воздействие предшествующих
идей может быть не меньшим, чем в случае прямого
4 Отсюда каламбур ученика и последователя Дюркгейма Се-
лестена Бугле: «Дюркгеймизм - это также кантизм,
пересмотренный и дополненный контизмом» (L'Oeuvre sociologique de Durkheim.
Furope, 1930. T. 23. P. 283).
538
«положительного» влияния, они могут задавать и
проблематику, и теоретические рамки, в которых эта
проблематика ставится и решается.
Однако в исследованиях Дюркгейма сказалось и
«положительное» влияние идей Спенсера5. Это относится,
в частности, и к структурно-функциональной стороне
социологии Дюркгейма (анализ общества как
органического целого, в котором каждый институт играет
определенную функциональную роль), и к эволюционистской
стороне, поскольку вслед за Спенсером французский
социолог сложные типы обществ рассматривал как комбинации
простых. Вообще его склонность «элементарные формы»
использовать как модель для форм развитых,
определившая, в частности, этнологическую ориентацию дюркгей-
мовской социологии, в значительной мере
стимулировалась работами Спенсера, также строившего свою
социологию на большом этнографическом материале.
Идеи К. Маркса не могли пройти мимо внимания
французского ученого. Ведь на рубеже XIX—XX вв.
популярность этих идей была столь велика, что все
социальные мыслители так или иначе обращались к
марксизму, становясь его горячими приверженцами, вступая с
ним в диалог или же энергично с ним полемизируя.
Дюркгейм был знаком с работами Маркса, но отрицал его
влияние на свои исследования 6, что, по-видимому,
соответствовало истине. Так же как и многие марксисты, он
интерпретировал Маркса в духе экономического
редукционизма, сводящего всю жизнедеятельность социальных
систем к экономическому фактору. Такую позицию
Дюркгейм отвергал, принимая при этом часть марксизма за
весь марксизм.
Он признавал плодотворной идею Маркса о том, что
социальная жизнь должна объясняться не
представлениями ее участников, а более глубокими причинами,
коренящимися главным образом в способе, которым
сгруппированы объединенные между собой индивиды. Однако,
согласно Дюркгейму, эта идея, составляющая логическое
завершение эволюции социальной мысли, никак не
связана с социалистическим движением и «грустным
зрелищем конфликта между классами» 7. В свою очередь,
социализм не связан неразрывно с классовой борьбой. По
5 По словам Дюркгейма, «при умелом применении теория
Спенсера очень плодотворна» (Durkheim Ε. La science sociale et
Taction. P. 93).
6 Ibid. P. 250.
7 Ibid. P. 251.
539
Дюркгейму, он может быть объектом научного анализа,
может основываться на науке, но сам по себе не является
научной теорией.
В отличие от Маркса Дюркгейм противопоставлял
понятия «социализм» и «коммунизм». При коммунизме
социальные функции являются общими для всех,
социальная масса не состоит из дифференцированных частей;
социализм же, наоборот, основан на разделении труда и
«стремится связать различные функции с различными
органами и последние между собой» 8.
Дюркгейму было присуще широкое толкование
социализма; он считал, что для понимания его нужно
исследовать все его виды и разновидности. Исходя из этого,
он определял социализм следующим образом:
«социализм — это тенденция к быстрому или постепенному
переходу экономических функций из диффузного состояния,
в котором они находятся, к организованному состоянию.
Это также, можно сказать, стремление к более или менее
полной социализации экономических сил» 9.
Хотя социология Дюркгейма в целом была
направлена против биологических интерпретаций социальной
жизни, он испытал несомненное влияние
биоорганического направления в социологии, в частности таких его
представителей, как немецкий социолог А. Шеффле и
французский ученый А. Эспинас. Дюркгейм высоко ценил
работы Шеффле, в частности его известный труд
«Строение и жизнь социальных тел»; рецензия на эту книгу
была первой научной публикацией французского
социолога. Книгу А. Эспинаса «Общества животных» 10
Дюркгейм считал «первой главой социологии» 1!; у него
же он заимствовал столь важное для его теории понятие
«коллективное сознание». Дюркгейм не пренебрегал
излюбленным методом органицистов — биологическими
аналогиями, особенно на цервом этапе своего научного
творчества. Но основное влияние органицизма проявилось в
его взгляде на общество как на надындивидуальное
интегрированное целое, состоящее из взаимосвязанных
органов и функций.
Наконец, следует указать на влияние двух учителей
Дюркгейма в Высшей Нормальной школе, о которых
упоминалось выше: философа Эмиля Бутру и историка
8 Ibid. P. 234-235.
9 Ibid. P. 233.
10 В рус. пер.: Социальная жизнь животных. СПб., 1882.
11 Durkheim Ε. La science sociale et l'action. P. 97.
540
Фюстеля де Куланжа. Первый из них внушал своему
ученику методологическую идею, согласно которой
синтез, образуемый сочетанием элементов, не может
объясняться последними; сложное нельзя выводить из
простого, поэтому каждый более сложный уровень реальности
должен объясняться на основе собственных принципов
средствами специфической науки. Эта идея послужила
одним из отправных пунктов дюркгеймовской концепции
построения социологии как самостоятельной науки.
Важное значение для формирования воззрений Дюрк-
гейма имело различение Фюстелем де Куланжем истории
событий и истории институтов, а также блестящие
образцы его исследований развития социальных
институтов, по существу исследований в области исторической
социологии. Учитель прививал своим ученикам внимание
к тщательному и систематическому анализу фактов,
воспитывал в них интеллектуальную честность и
отрицательное отношение к любым предвзятым идеям.
«Патриотизм — добродетель, а история — наука; их нельзя
смешивать»; «Для одного дня синтеза нужны годы
анализа» — эти афоризмы Фюстеля де Куланжа, несомненно,
оставили глубокий след в душе молодого ученого.
Несмотря на то что научное творчество Дюркгейма
находилось на пересечении множества влияний и
традиций социальной мысли, он не считал, что социология как
наука уже сформировалась. Концепции Конта и других
мыслителей прошлого столетия представлялись ему
слишком общими и схематичными, содержащими лишь
предпосылки собственно научной социологии.
Самостоятельную науку об обществе со своим собственным
предметом и специфическим методом, с его точки зрения,
еще предстояло создать. Дюркгейм ощущал себя
призванным осуществить эту задачу.
3. «СОЦИОЛОГИЗМ» — МЕТАТЕОРЕТИЧЕСКОЕ
ОБОСНОВАНИЕ СОЦИОЛОГИИ
В истории социологии часто используются ярлыки или
метки, выделяющие какие-то существенные черты
определенной теории и, таким образом, обозначающие ее.
Несомненно, эти ярлыки огрубляют и упрощают
обозначаемые ими теории и не могут дать целостного
представления о них. Тем не менее они могут служить
полезными ориентирами, если ими не ограничиваться и
стремиться понять, что стоит за ними, какую теоретическую
целостность они отражают.
541
Для обозначения основополагающих принципов
теории Дюркгейма и его способа обоснования социологии
таким ярлыком послужил термин «социологизм». В этом
разделе в «экстрагированном» виде представлены
главные принципы его социологии, вокруг которых
объединилась французская социологическая школа. Именно эти
принципы зафиксированы прежде всего в понятии
«социологизм», которое, конечно, никоим образом не
охватывает всего многообразия теории Дюркгейма.
Для понимания дюркгеймовского «социологизма»
необходимо различать в нем два аспекта: онтологический и
методологический.
Онтологическая сторона «социологизма», т. е.
концепция социальной реальности, состоит из нескольких
базовых постулатов.
1. Социальная реальность включена в универсальный
природный порядок, она столь же устойчива,
основательна и «реальна», как и другие виды реальности, а потому,
подобно последним, развивается в соответствии с
определенными законами.
2. Общество — это реальность особого рода, не
сводимая к другим ее видам.
Речь идет прежде всего о всемерном подчеркивании
автономии социальной реальности по отношению к
индивидуальной, т. е. биопсихической, реальности,
воплощенной в индивидах. Эта идея красной нитью проходит через
все научное творчество Дюркгейма. На различных этапах
и в различных исследованиях дихотомия индивида и
общества выступает у французского социолога в форме
дихотомических пар, так или иначе воплощающих
разнородность этих реальностей. «Индивидуальные факты —
социальные факты», «индивидуальные представления —
коллективные представления», «индивидуальное
сознание — коллективное сознание», «светское —
священное» — таковы некоторые из основных дихотомий
социологии Дюркгейма.
Указанные дихотомии, в свою очередь,
непосредственно связаны с общей концепцией человека у
Дюркгейма. Вообще во всякой общей теории общества явно или
неявно присутствует общая теория человека, всякая
общая социология так или иначе базируется на
философской антропологии. Социология Дюркгейма не
составляла в этом смысле исключения. Человек для него — это
двойственная реальность, homo duplex, в которой
сосуществуют, взаимодействуют и борются две сущности:
542
социальная и индивидуальная12. Противопоставление
этих двух начал человеческой природы выступает у Дюрк-
гейма в разнообразных формах, в частности в следующих
дихотомиях 13:
1) определяемое социально и биологически заданное;
2) факторы, специфичные для отдельных обществ, и
выделяемые или постулируемые характеристики
человеческой природы;
3) факторы, общие для данного общества или
группы, и характерные для одного или нескольких
индивидов;
4) сознание и поведение ассоциированных индивидов,
с одной стороны, и изолированных индивидов — с
другой;
5) социально предписанные обязанности и стихийно
формирующиеся желания и действия;
6) факторы, исходящие «извне» индивида и
возникшие внутри его сознания;
7) мысли и действия, направленные на социальные
объекты, и те, что являются сугубо личными и частными;
8) альтруистическое и эгоцентрическое поведение.
3. Онтологическая сторона «социологизма» не
сводится, однако, к признанию основательности и автономии
социальной реальности. Утверждается примат
социальной реальности по отношению к индивидуальной и ее
исключительное значение в детерминации человеческого
сознания и поведения; значение же индивидуальной
реальности признается вторичным.
В указанных выше дихотомических парах те стороны,
которые воплощают социальную реальность,
безраздельно господствуют: «коллективные представления» — над
индивидуальными, «коллективное сознание» — над
индивидуальным, «священное» — над «светским» и т. п.
Социальные факты, по Дюркгейму, обладают двумя
характерными признаками: внешним существованием и
принудительной силой по отношению к индивидам. Общество,
в его интерпретации, выступает как независимая от
индивидов, вне- и надындивидуальная реальность. Оно —
«реальный» объект всех религиозных и гражданских
12 Durkheim Ε. Le problème religieux et la dualité de la nature
humaine//Bulletin de la Société Française de Philosophie. XIII.
Mars 1913; Durkheim E. Le Dualisme de la nature humaine et
ses conditions sociales // La science sociale et Faction.
13 Lukes S. Emile Durkheim. His Life and Work. A Historical
and Critical Study. Harmondsworth, 1977. P. 20-21.
543
культов. Оно представляет собой более богатую и более
«реальную» реальность, чем индивид; оно доминирует
над ним и создает его, являясь источником всех высших
ценностей.
Таким образом, характерная онтологическая черта
«социологизма» — это позиция, обозначаемая в истории
социологии как «социальный реализм». Эта позиция
противостоит «социальному номинализму», точке зрения,
согласно которой общество сводится к сумме составляющих
его индивидов.
Дюркгейм признает, что генетически общество
возникает в результате взаимодействия индивидов; но, раз
возникнув, оно начинает жить по своим собственным
законам. Здесь сказалось, в частности, влияние идей
Э. Бутру и В. Вундта14. Аналогичные идеи
применительно к поведению толпы развивал во Франции Г. Ле-
бон.
В целом точку зрения «социального реализма» в
разное время и с разной степенью «реализма» отстаивали
французские традиционалисты Ж. де Местр и Л. де Бо-
нальд; Сен-Симон и Конт; Спенсер (несмотря на общий
индивидуалистский пафос его системы); французские
социологи А. Эспинас и Ж. Изуле; русский социолог
Е. де Роберти; польско-австрийский социолог Л. Гумп-
лович; немецкий философ О. Шпанн и др.
Следует подчеркнуть, что понятия общества и
индивида в интерпретации Дюркгейма чрезвычайно
многозначны. На основе анализа контекстов, в которых
Дюркгейм использовал эти понятия, английский социолог
С. Люкс ^выявил следующий перечень их значений15.
Под <<г€Вществом1^ Дюркгейм понимает: социокультурную
передачу или"~Внедрение верований и обычаев;
ассоциацию индивидов; навязывание социально предписанных
обязанностей; объект мысли, чувства и действия;
реальное, конкретное общество, хотя и здесь термин иногда
обозначает общество в целом (например, Франция),
а иногда — частные группы и институты внутри него
(например, государство, семья и т. д.). Под «индивидом»
14 Ср.: «...хотя эти законы никогда не могут противоречить
законам индивидуального сознания, однако они отнюдь не
содержатся... в последних, совершенно так же, как и законы обмена
веществ, например, в организмах не содержатся в общих законах
сродства тел» (Вундт В. Проблемы психологии народов. М., 1912.
С. 14). Такой тип рассуждения весьма характерен и для
Дюркгейма.
15 Lukes S. Op. cit. P. 21-22.
544
Дюркгейм понимает: биологическую единицу;
абстрактного индивида, обладающего некоторыми неизменными
чертами (например, экономического человека); индивида,
изолированного от человеческого сообщества; реальную,
конкретную индивидуальную личность, живущую в
обществе; созданное обществом представление о
человеческой личности в целом.
Методологический аспект «социологизма» тесно свя-
зан"7гш*о~1сттолшгическим аспектом и симметричен ему.
1. Поскольку общество — часть природы, постольку
наука^обГ обществе; социология, Подобна наукам о
природе в отношШпрг Wtодологии; ее познавательной целью
провозглашается исследование устойчивых- » цричиццсР"
сЖдствШных связей _и закономерностей. ^оркгейм
настаивает" на применении в социологии объек^$ЕВНШ^Што-
дгж; аналогйчньгх методам естественных н^к. ^Отсюда
•^гтожество"биолт)тических-тг физических "аналогий и поня-
'rim в его ра^ютЗГХ, ucuOeHHô раЬних. "
^ОсновГнои~принц1Гп его методологии выражен в
знаменитой ^формуле: «СоциаВГБимо факты пужпо
рассматривать как вещи» 16. Исследованию должны пВДверга'гагяпвг
первую очередь не понятия" бПсдДШГЛьыий реальности,
ST она сама непосредственно ; из""социологии необходимо
устранить все предприятия, т. е. понятинПоЬразовавгГО5="
ся вне науки.
Методологический монизм Дюркгейма резко
контрастировал с дуалистическими трактовками научной
методологии, противопоставлявшими «объяснение» и
«понимание» (В. Дильтей); «номотетический» и «идиографиче-
16 Необходимо подчеркнуть, что этот тезис Дюркгейма имеет
не онтологический, а именно методологический смысл: он не
утверждает, что социальные факты - это вещи, а доказывает, что их
необходимо изучать как вещи. Это обстоятельство нередко
игнорировали интерпретаторы и критики Дюркгейма. Впоследствии
этот тезис вызывал особенно активное отрицание в
экзистенциалистских и феноменологических теориях. Положение об
«антивещном» характере человеческого бытия стало для некоторых из
них отправным пунктом. Ж.-П. Сартр в своей
феноменологической онтологии характерной чертой человеческого существования
(«бытия-для-себя») провозгласил его противоположность вещному
бытию («бытию-в-себе»); соответственно подход к человеческой
реальности как к вещам трактовался им как ее искажение (см.:
Sartre J.-P. L'Etre et le Néant. P., 1943). Французский
феноменолог Ж. Моннеро подверг критике идеи Дюркгейма в книге с
характерным антисоциологистским заглавием: «Социальные
факты - не вещи» (Monnerot J. Les faits sociaux ne sont pas des
choses. P., 1946).
18 Э. Дюркгейм
545
ский» (В. Виндельбанд), «генерализирующий» и
«индивидуализирующий» (Г. Риккерт) методы в естественных
науках, с одной стороны, и в науках о культуре — с
другой. Эта тенденция, характерная для некоторых
направлений немецкой философии того времени, в целом не
была присуща Франции, где в социальных науках
господствовала позитивистская методология и представление
о единстве научного знания.
2. Из признания специфики социальной реальности
вытекает самостоятельность социологии как науки, ее ие-
сводимость ни к какой др^гои^йз наук, специфика е^Гме-
тодол'ОГии и 11011'ятииного аппарат а ГОтсюда'Т1Ш~и метоДо-
^.ттогиггрлтсии ^ияпип^гппгя^нп κητνφήτςπτ ХоТ^ШгБнЬТе"фак-
"ты'должны. ^объясняться дпугимц социальными фазУХД^и" ·
~ a". Uднако «социологизм» Дюркгейма выходит за
рамки этого методологического принципа. Поскольку в
соответствий^ (Гёго~-<гсов;№а^№н«от-реализмом» общество
оказывается доминирующей, высшей реальностью, постольку
происходит социологизация как объясняемых, так и
объясняющих фактов.^ Социологический способ объяснения
провозглашается едипствснно верным, исключающим
другие способы или включающим их в себя. Социология в
результате выступает не только как специфическая
наука о социальных фактах, но и как своего рода наука
наук, призванная обновить и социологизировать самые
различные отрасли знания: философию, гносеологию,
логику, этику, историю, экономику и др.
Таким образом, признание социологии специфической
наукой дополняется в «социологизме» своеобразным
социологическим экспансионизмом (иногда обозначаемым
как «социологический империализм»). Социология
мыслилась Дюркгеймом не просто как самостоятельная
социальная наука в ряду других, но как «система, корпус
социальных наук» 17. В результате «социологизм»
предстает не только как базовая социологическая концепция, по
и как философское учение. Те глобальные проблемы
природы морали, религии, познания, категорий мышления,
которые стремился разрешить в своих исследованиях
Дюркгейм, нередко выходили за рамки собственно
социологической проблематики, являясь философскими в самой
своей постановке. Отсюда его двойственное отношение К
философии. С одной стороны, Дюркгейм отмечал в каче-
17 Durkheim Ε., Fauconnet P. Sociologie et sciences sociales//
Revue philosophique. 1903. Mai. T. 55. P. 465.
546
стве одного из отличительных признаков
социологического метода независимость от всякой философии; с
другой — он, по собственному признанию, всегда оставался
философом 18.
Требование отделить социологию от философии у
Дюркгейма было в значительной мере связано с его
отрицательным отношением к умозрительным спекуляциям в
социальной пауке, которые, с его точки зрения, только
дискредитируют ее. Социология должна строиться па
эмпирическом и рациональном методическом фундаменте.
Таковы основные принципы «социологизма»,
посредством которых Дюркгейм обосновывал необходимость и
возможность социологии как самостоятельной науки.
Разработку этих принципов он осуществлял в непрерывной
полемике с самыми разнообразными концепциями человека
и общества: спиритуалистской философией,
утилитаристской этикой, индивидуалистской экономикой,
биологическим редукционизмом в социальной науке. Но особенно
важное значение имел его антипси^срлогизм, который
содержал в себе одновременно критику психологического
направления в социологии и стремление освободить
последнюю от влияния психологии. Психологизм в то время
был главным воплощением методологического
индивидуализма; неудивительно, что именно в нем Дюркгейм
видел явное и скрытое препятствие на пути становления
социологии как самостоятельной науки.
Но парадокс антипсихологизма Дюркгейма состоял в
том, что, выступая против психологического
редукционизма в социологии (который логически приводил к ее
упразднению как самостоятельной науки) и стремясь
отделить социологию от психологии, он следовал примеру
последней. Выделению социологии в самостоятельную
дисциплину предшествовало отделение психологии от
философии и физиологии. Открытие психической
реальности 19 дало толчок к поискам собственно социальной
реальности и, таким образом, сыграло роль
научно-методологического прецедента.
18 Дюркгейм писал своему ученику и последователю Жоржу
Дави: «Отойдя от философии, я стремлюсь к тому, чтобы к ней
вернуться, вернее, я все время возвращался к ней самой природой
вопросов, с которыми сталкивался на своем пути» (цит. но: Davy G.
In Momoriam: Emile Durkheim. L'Année sociologique, 3e sér., 1957.
P. IX).
19 См.: Ярошевский M. Г. Психология в XX столетии. M., 1974.
С. 54-101.
547
18*
Необходимо уточнить, что 1фйтйка психологизма
осуществлялась Дюркгеимом, но существу, с позиций
зарождавшейся тогда социальной психологии. «Когда мы
говорим просто „психология44,— писал Дюркгейм,— мы имеем
в виду индивидуальную психологию, и стоило бы для
ясности в обсуждениях ограничить таким образом смысл
слова. Коллективная психология — это вся социология
целиком; почему же не пользоваться только последним
выражением?» 20 Трактовка же самих социопсихических
сущностей, таких, как «коллективное сознание»,
«коллективные представления», «коллективные чувства»,
«коллективное внимание» и т. п., была сугубо «социологистской»:
последние рассматривались как на дыиндиви дуальные
сущности, не сводимые к соответствующим фактам и
состояниям индивидуальной психики. Этим «социологист-
ская» социальная психология Дюркгейма существенно
отличалась от «психологистской» социальной психологин
его постоянного оппонента Г. Тарда, сводившего
социально-психологические закономерности к индивидуально-
психологическим.
! Оценивая методологию и онтологию «социологизма»,
необходимо подчеркнуть плодотворность ряда
содержащихся в нем идей. Среди них: признание общества
объективной реальностью по отношению к составляющим его
индивидам и познающим его субъектам; рассмотрение
влияния социальной среды на индивидуальное сознание и
поведение; обоснование социальной природы морали,
религии, познания. Однако, хотя идея автономии общества
по отношению к составляющим его индивидам
плодотворна, трактовка социальной реальности как внеиндивиду-
альной и надындивидуальной ошибочна, так же как
ошибочно антропологическое основание такого подхода,
представление о человеке как о двойственном существе,
соединяющем в себе две резко разделенные сущности:
социальную и индивидуальную (биопсихическую). Как
справедливо отмечает С. Люкс, «Дюркгейм заблуждался,
думая, чт4о его атака на методологический индивидуализм
и защита социологического объяснения требуют от него
резкой формы социального реализма...21.
Правда, крайности «социологизма» Дюркгейма
отчасти объясняются его полемикой с
индивидуалистическими теориями, а также тем известным в истории науки
20 Durkheim Ε. Sociologie et philosophie. P., 1924. P. 47.
21 Lukes S. Op. cit. P. 20.
548
фактом, что новые парадигмы или стили мышления при
своем возникновении часто претендуют на
универсальность.
Кроме того, необходимо учитывать эволюцию
воззрений Дюркгейма. Под влиянием трудностей
методологического характера и критики со стороны других направлений
он со временем смягчил ригоризм своих
первоначальных «социологистских» и антипсихологических
формулировок. Многие интерпретаторы Дюркгейма
характеризуют эволюцию его идей как движение в сторону все
большего спиритуализма 22, но это вряд ли правомерно, хотя
бы потому, что уже в самом начале своей научной
деятельности он усиленно подчеркивал духовный характер
всех социальных явлений (включая экономические).
Вообще эволюция его.,мысли происходила в иной плоскости,
нежели движение от материализма к спиритуализму. Она
явилась результатом изменения методологической
ситуации в социальной науке и постепенного осознания
недостаточности и неадекватности механистического
детерминизма в подходе к проблемам человеческого поведения.
Вначале Дюркгейм подчеркивал внешний и
принудительный характер социальных фактов. При объяснении
социальных явлений он часто апеллировал к
демографическим и социально-экологическим факторам (объем и
плотность населения, структура и степень сложности
социальных групп и т. д.), к «социальной среде» и
«социальным условиям» (не очень ясно определяемым).
Впоследствии же он все чаще обращается к понятиям
«чувства долга», «морального авторитета» общества23 и
другим психологическим и символическим посредникам между
обществом и индивидом.
Эта смена понятийных приоритетов выражает
частичное осознание Дюркгеймом того факта, что социальные
нормы (и, шире, социальные факторы в целом) влияют
на индивидуальное поведение не непосредственно, а
через определенные механизмы их интериоризации, что
внешняя детерминация осуществляется через ценностные
ориентации индивидов, что действенность социальных
регуляторов определяется не только их принудительностью,
но и желательностью для индивидов. Отсюда рост инте-
22 См., например: Cuvillier A. Manuel de sociologie. P., 1958. T. 1.
P. 33-38; De Azevedo T., de Souza Sampaio N., Machado Neto A. L.
Atualidado de Durkheim. Salvador, 1959. P. 60-61; Aimard G. Durk-
lieim et la science économique. P., 1962. P. 229-236.
23 Dukheim E. Sociologie et philosophie. P. 100-110.
549
реса Дюркгейма к собственно ценностной проблематике в
конце жизни 24.
В дальнейшем в трудах последователей Дюркгейма
антипсихологизм уступает место установке на активное
сотрудничество социологии и психологии. Так, М. Хальб-
вакс в своем исследовании самоубийства не элиминирует,
подобно своему мэтру, психологический подход к
изучаемому явлению, а, напротив, стремится выявить
взаимодействие психологических и социологических факторов
самоубийства25. Марсель Мосс, возглавивший
французскую социологическую школу после смерти ее
основателя, активно призывал к сотрудничеству двух дисциплин
и сам показывал образцы такого сотрудничества.
Характерно, что дюркгеймовская концепция двойственности
человеческой природы уступает у Мосса представлению о
целостном «тройственпом» человеке как существе,
воплощающем единство биологических, психических и
социальных черт26.
Итак, необходимость и возможность социологии как
самостоятельной науки получила метатеоретическое
обоснование. Оставалось этим обоснованием воспользоваться
применительно к определенным социальным явлениям,
к предмету и методу новой науки.
4. МЕТОД СОЦИОЛОГИИ
И СОЦИАЛЬНАЯ СОЛИДАРНОСТЬ
Предмет социологии, согласно Дюркгейму,— социальные
факты, которые, как уже отмечалось, характеризуются
двумя основными признаками: они существуют вне
индивида и оказывают на него принудительное
воздействие 27. Впоследствии он дополнил это истолкование
предмета еще одним, определив социологию как «науку
об институтах, их возникновении и функционировании» 28.
Представление Дюркгейма об основных разделах и
отраслях социологии в определенной мере отражает его
24 В 1911 г. на Международном философском конгрессе в
Болонье он сделал доклад, озаглавленный «Ценностные суждения
и суждения о реальности». См.: Durkheim E. Sociologie et
philosophie. P. 117-142.
25 Halbwachs M. Les causes du suicide. P., 1930.
26 Подробнее об этом см.: Гофман А. Б. Социологические
концепции Марселя Мосса // Концепции зарубежной этнологии: Кри-
тич. этюды. М., 1970.
27 См.: Дюркгейм Э. Метод социологии//Наст. изд.
28 Там же.
550
взгляд на значение тех или иных сфер социальной
жизни. В соответствии с этими делениями располагался
материал в дюркгеймовском «Социологическом
ежегоднике». В целом социология делилась на три основные
отрасли: социальную морфологию, социальную физиологию
и общую социологию 29.
Социальная морфология аналогична апатомии; она
исследует «субстрат» общества, его структуру,
материальную форму. В ее сферу входит изучение, во-первых,
географической основы жизни народов в связи с социальной
организацией; во-вторых, народонаселения, его объема,
плотности, распределения по территории.
Социальная физиология исследует «жизненные
проявления обществ» и охватывает ряд частных социальных
паук. Она включает в себя: 1) социологию религии;
2) социологию морали; 3) юридическую социологию;
4) экономическую социологию; 5) лингвистическую
социологию; 6) эстетическую социологию.
Общая социология, подобно общей биологии,
осуществляет теоретический синтез и устанавливает наиболее
общие законы; это философская сторона науки.
Дюркгейм был довольно плодовитым автором, хотя и
не столь плодовитым, как его не менее знаменитый
современник, немецкий социолог Макс Вебер. Он
опубликовал немало статей и бесчисленное множество рецензий;
многие его статьи, лекции и лекционные курсы
опубликованы посмертно.
При жизни Дюркгейм издал четыре книги: «О
разделении общественного труда» (1893), «Метод социологии»
(1895), «Самоубийство» (1897) и «Элементарные формы
религиозной жизни» (1912). В настоящей статье мы
ограничимся кратким представлением первых двух из
названных трудов, публикуемых в настоящем издании30.
Книга «О разделении общественного труда»
представляет собой публикацию успешно защищенной докторской
диссертации автора. Содержание ее гораздо шире
заглавия и, по существу, составляет общую теорию
социальных систем и их развития.
29 См.: Дюркгейм Э. Социология и социальные науки//Метод
ь науках. СПб., 1911. С. 239.
30 О содержании последних двух названных трудов см.: Оси-
пова Е. В. Указ. соч. Гл. IV, VI; Гофман А. В. Религия в фило-
софско социологической концепции Э. Дюркгейма //Социол. исслед.
1975. № 4; Токарев С. А. История зарубежной этнографии. М.,
1978. Гл. 8.
551
Основная цель работы: доказать, что, вопреки
некоторым теориям, разделение общественного труда
обеспечивает социальную солидарность, или, иными словами,
выполняет нравственную функцию. Но за этой
формулировкой цели скрывается другая, более значимая
для автора: доказать, что разделение труда — это тот
фактор, который создает и воссоздает единство обществ,
в которых традиционные верования утратили былую силу
и привлекательность.
Для обоснования этого положения Дюркгейм
развивает теорию, которая сводится к следующему. Если в
архаических («сегментарных») обществах социальная
солидарность основана на полном растворении
индивидуальных сознаний в «коллективном сознании» («механическая
солидарность»), то в развитых («организованных»)
социальных системах она основана на автономии индивидов,
разделении функций, функциональной
взаимозависимости и взаимообмене («органическая солидарность»),
причем «коллективное сознание» здесь не исчезает, но
становится более общим, неопределенным и действует в
более ограниченной сфере. Следует подчеркнуть, что автор
стремится строить свою теорию на определенной
эмпирической базе, в качестве которой выступают некоторые
древние и современные нравственно-правовые системы.
Нижеследующая схема, составленная С. Люксом, дает
прекрасное представление о дюркгеймовском описании
механической и органической солидарности в связи с
определенными типами обществ31.
Не углубляясь в очень отдаленные истоки, отметим
лишь три основные теории, из которых и в полемике с
которыми выросла дюркгеймовская теория разделения
общественного труда.
1. Прежде всего это концепция Конта, согласно
которому разделение труда имеет двойственное значение для
социальной солидарности. С одной стороны, разделение
труда — ее источник32. Но в то же время оно содержит
в себе постоянную угрозу социальной дезинтеграции.
Противодействие ей Копт, вслед за социальными
мыслителями консервативного толка, видел в моральном
единстве, основанном па традиции и усилении роли
государства. Дюркгейм стремится разрешить проблему,
обосновывая солидаризирующую функцию разделения труда и
31 Lukes S. Op. cit. P. 158.
^2 Conte Л. Cours do philosophie positive. P., 1908. T. 4. P. 315-
552
учитывая роль традиционного «коллективного сознания»,
но отводя последнему более узкую сферу в развитых,
дифференцированных социальпых системах.
Общая схема дюркгеимовского описания
механической и органической солидарности
в соответствии с определенными типами обществ
Механическая солида] ноеть Ojганическая солидарность
Основана на сходствах Основана на разделении труда
1)
Морфологическая
(структурная)
основа
2)
Типы норм
(воплощенные в праве)
За)
Формальные
признаки
коллективного сознания
ЗЬ)
Содержание
коллективного сознания
(преобладает в менее
развитых обществах)
Сегментарный тип (вначале
на клановой, затем на
территориальной основе)
Слабая взаимозависимость
(относительно слабые
социальные связи)
Относительно малый объем
населения
Относительно низкая
материальная и моральная
плотность
(преобладает в более развитых
обществах)
Организованный тип (слияние
рынков и рост городов)
Большая взаимозависимость
(относительно сильные
социальные связи)
Относительно большой объем
населения
Относительно высокая
материальная и моральная плотность
Правила с репрессивными Правила с рсститутивпыми
санкциями санкциями
Преобладание уголовного Преобладание кооперативного
права права (гражданского,
коммерческого, процессуального,
административного и
конституционного)
Большой объем
Высокая интенсивность
Высокая определенность
Власть группы абсолютна
Высокая степень
религиозности
Трансцендентность
(превосходство над интересами
человека и беспрекословность)
Приписывание высшей
ценности обществу и интересам
общества как целого
Конкретность и детальный
характер
Малый объем
Низкая интенсивность
Низкая определенность
Больший простор для индиви
дуальной инициативы и реф"
лексии
Возрастающая светскость
Ориентированность на
человека (связь с интересами
человека и открытость для
обсуждения)
Приписывание высшей
ценности достоинству индивида,
равенству возможностей,
трудовой этике и социальной
справедливости
Абстрактность и общий
характер
2. Во-вторых, это концепция Спенсера, продолжавшая
традицию утилитаристской этики, которая
присутствовала как в собственно нравственной философии, так и в
классической экономической науке. Согласно этой
позиции, явно или неявно выраженной, в «промышленных»
обществах солидарность возникает автоматически
вследствие того, что индивиды преследуют свои собственные
интересы и свободно обмениваются результатами своей
553
деятельности; централизованное регулирование лишь
мешает достижению такого единства. Возражая против этой
точки зрения, Дюркгейм доказывает, что договорные
отношения обмена предполагют уже заранее
существующую нравственную регламентацию подобных отношений,
поэтому последние не могут объяснить солидарность как
таковую.
3. Третий источник теории Дюркгейма и
одновременно объект его полемики — знаменитая работа немецкого
социолога Ф. Тенниса «Община и общество» (1887).
Теннис считал, что «община» основана на эмоциональной
общности, а «общество» — на рациональном расчете,
частной собственности и свободном обмене. В своей
рецензии на книгу немецкого социолога (1889) Дюркгейм в
целом оцедивал ее высоко. Он положительно оценил само
деление на указанные два типа и описание
основных черт «общины», однако он отверг положение о том,
что у «общества» в интерпретации Тенниса нет
внутренних источников солидарности, возникающей лишь в
результате внешнего воздействия государства. Дюркгейм
интерпретировал Тенниса таким образом, что «общине»
присуще «органическое» единство, а «обществу» —
«механическое» 33.
В противовес Теннису и по аналогии с эволюцией
живых организмов: от простых и однородных, с
недифференцированными органами и функциями к сложным,
основанным на дифференциации и взаимодействии органов
и функций (здесь опять-таки сказалось влияние
Спенсера и органицизма),—Дюркгейм дает характеристику
«общины» как «механического» целого, а «общества» — как
«органического» 34.
В работе «О разделении общественного труда»
эволюционистский подход сочетается со
структурно-функциональным. Классификация автором социальных структур
(«сегментарных» и «организованных» обществ),
рассмотрение сложных обществ как сочетания простых основаны
на эволюционистском представлении о последовательной
33 Теннис впоследствии отверг эту интерпретацию как
неадекватную, однако, учитывая, что не один Дюркгейм давал подобное
истолкование, основания для него, по-видимому, были.
34 Понятие «органического» при этом несло с собой двойную
положительную ассоциацию: оно ассоциировалось, с одной
стороны, с «органическими» периодами в социальном развитии у Сен-
Симона, противостоящими «критическим» периодам; с другой -
с популярными в то время биоорганическими аналогиями.
554
смене во времени одних социальных видов другими.
Однако уже в этой работе Дюркгейм отказывается от
плоского однолинейного эволюционизма в пользу
представления о сложности и многообразии путей социальной
эволюции. Он склонен главным образом говорить не об
обществе, а об обществах. Хотя «механическая»
солидарность в его интерпретации характерна преимущественно
для архаичных обществ, а «органическая» — для
современных промышленных, все же это деление в большой мере
носит аналитический характер. Дюркгейм признает
сохранение элементов «механической» солидарности при
господстве «органической», и вообще эти категории в его
интерпретации выступают преимущественно как
«идеальные типы», по терминологии М. Вебера.
«Органическая» солидарность, по Дюркгейму,—
нормальное и естественное следствие разделения труда.
Однако он вынужден признать, что в действительности в
современных обществах социальные антагонизмы
представляют собой явление в высшей степени
распространенное. Тем не менее ситуацию, когда разделение труда
не производит солидарность, он объявляет «анормальной».
Чтобы обосновать *такую характеристику, ему
приходится исходить из предположения о том, что современные
европейские общества переживают переходный период,
а разделение труда не развито еще в такой мере, чтобы
выполнить свою солидаризирующую функцию.
«Следовательно,— справедливо отмечает С. Люкс,— условия для
функционирования органической солидарности могут
быть только постулированы в форме предсказания
относительно условий будущего состояния социальной
нормальности и здоровья 35.
Вначале Дюркгейм рассчитывал на то, что со
временем разделение труда само придет к своему
«нормальному» состоянию и начнет порождать солидарность. Но
уже ко времени опубликования «Самоубийства» (1897) и
особенно выхода второго издания книги «О разделении
общественного труда» (1902) он приходит к мысли о
необходимости социально-реформаторских действий по
внедрению новых форм социальной регуляции, прежде всего
посредством создания профессиональных групп
(корпораций) . Это нашло отражение в предисловии ко второму
изданию книги.
35 Lukes S. Op. cit. P. 165.
555
Идея возрождения в новой форме средневековых
корпораций была связана с тем, что Дюркгейм, вслед за
Сен-Симоном и многими другими мыслителями во
Франции, рассматривал весь период после Великой
французской революции как переходный, промежуточный па пути
к новому общественному состоянию. Революция
разрушила средневековые социальные институты, но позитивную
работу по созданию новых институтов, норм и ценностей
еще предстояло осуществить. Мысль Конта о том, что
«разрушают только то, что заменяют», безусловно была
близка Дюркгейму.
В своем предисловии, посвященном
профессиональным группам, автор указывает на их исторические,
реальные истоки. Но идея необходимости
профессиональных и, шире, «промежуточных» между государством и
семьей групп имела истоки и во многих социальных и
социально-реформистских доктринах XIX в. ß этой
связи, в частности, необходимо отметить идеи французского
социолога А. де Токвиля (1805—1859),
рассматривавшего «промежуточные» группы как противовес
государственному деспотизму, с одной стороны, и
индивидуализму - с другой.
Теория, развитая Дюркгеймом в его первой книге,
послужила объектом интенсивной, разносторонней и
нередко обоснованной критики, что не помешало ей занять
видное место в социологической классике. В этой работе
он разрабатывает ключевые понятия своей
социологической теории, в том числе такие, как «социальная
функция», «коллективное сознание», «аномия». Особенно
важное значение пдя^развития социологического знания
имело понятие ^аномии^, которым Дюркгейм обозначает ^о-
стютаи^^енно^Тйо-нормативного вакуума^ характерного
для переходных "и~~ кризисных периодов и состояний в
развитии^^ обществ^ когда старые социальные нормы и
ценности перестают действовать, а новые еще не
установились 36. В дальнейшем концепция аномии
разрабатывалась в исследованиях социальных норм, в социологии
права, морали, отклоняющегося поведения и т. д. Из
наиболее известных разработок такого рода следует ука-
36 Эта проблема до конца жизни волновала Дюркгейма не
только как ученого, но и как гражданина. «Прежние боги стареют
или умирают, а новые не родились», — писал он в 1912 г. (Durk-
heim E. Les formes élémentaires de la vie religieuse. P., 1912. P. 610-
611).
556
зать на концепцию американского социолога Р. Мер-
тона 37.
Среди работ французской социологической школы, на
которые книга Дюркгейма оказала наибольшее влияние,
необходимо отметить исследования С. Бугле
«Уравнительные идеи» (1899) и «Опыты о кастовом строе» (1908),
работу П. Фоконне «Ответственность» и, наконец,
знаменитое исследование М. Мосса «Опыт о даре» (1925) 3*.
.PflfîftTfl лМотпд лпт^пттпгИИ^у (т^чттпр д^гДПВИР В ОрИГИ-
4|але — «Правила сотитодогического. -44втч>д^>>^~5Щчале
б^лаощбликована^ 1894 г. в^ виде серии статей, а в
следующем году" с ~нёбольшй^й~й1мТнениями и предисловием
'была, издана отдельной книгой. Написанная по горячим
следам недавно опубликованной предыдущей книги, она
основана на опыте предыдущего исследования и
содержит ^аевитие некоторых выдвинутых в яём~щ^ей._ По ре-
шительности,'"~сжат^с^"'"й~^чёт1юсти стиля эта работа с
полным основанием может быть отнесена к жанру
манифеста. Дюркгейм стремится дать четкое описание
способов постижения сог^ШиГиЦУСКОЙ ИСТИШ ! определения _}Г
ттябл"юде1Шя^^ЪгщалГньГх "фай¥ВЙ, социологического дока-
àa те л мгева* "В^Ш^^МШ^"Vu?* era?'™ » " ïï^affflfàfï^UKaxb'
явлений, конструирования социалШь1х^^п^вГ^5г1йс^Нйя"Я
объя^е1ияЖЖ- "-~■Д — ■*— - ~~
''Сама попытка систематизации и обоснования
социологического метода была новым явлением для того
времени. Ранее у таких, например, мыслителей, как Конт
или Спенсер, собственно проблема метода не
существовала: метод для них был заключен почти целиком внутри
самой предметной теории.
В_«Метод©_содиологии» проявилось стремление
Дюркгейма строить социальную науку не только ца
эмпирическом^ но и на методологически обоснованном
фундаменте: отсюда ё№ понятие «методическая социология».
Такой подход противостоял хаотическому и произвольному
подбору фактов для обоснования тех или иных
предвзятых идей. В то же время он был направлен против
дилетантизма и поверхностности, характерных для многих
трудов по социальным вопросам.' Дюркгейм испытывал
37 См.: Мертон Р. Социальная структура и
аномия//Социология преступности. М., 1966.
38 См.: Бугле С. Эгалитаризм: (Идея равенства). Одесса, 1905;
Bougie С. Essais sur régime des castes. P., 1908; Fauconnet P. La
Responsabilité. P., 1920; Mauss M. Essai sur le don // Mauss M.
Sociologie et anthropologie. P., 1950.
557
глубокую неприязнь к таким трудам, считая, что опи
дискредитируют науку.
В этой связи следует отметить и неявно
присутствующий этический пафос в «Методе социологии». Сформули-
ровшптег^^
ДПв^Ргельские приемы и процедуры. Это своего родамс-
\л)д о л и 1_и че ШУШ 'dffioje^2S£S£ßlaTe л я^ Ё конечном
счете" инИ'"Ъ"сновь1ваГются на требовании интеллектуальной,
научной честности, освобождения научного исследования
от всяких политических, религиозных, метафизических и
прочих предрассудков, препятствующих постижению
истины и приносящих немало бед на практике. Это этика
честного непредвзятого познания. В данном отношении
позиция Дюркгейма была близка позиции Макса Вебера,
выраженной в его работе «Наука как профессия».
Правда, французскому социологу можно было бы возразить,
приведя распространенное и вполне справедливое
утверждение о том, что беспредпосылочное, свободное от
ценностей познание невозможно. Но дело в том, что главная
ценностная предпосылка в процессе подлинно научного
познания как раз и состоит в ценности познания как
такового; в противном случае это уже не наука, а нечто
иное.
^^Дюркгейм признавал преходящий характер сформули-
ров