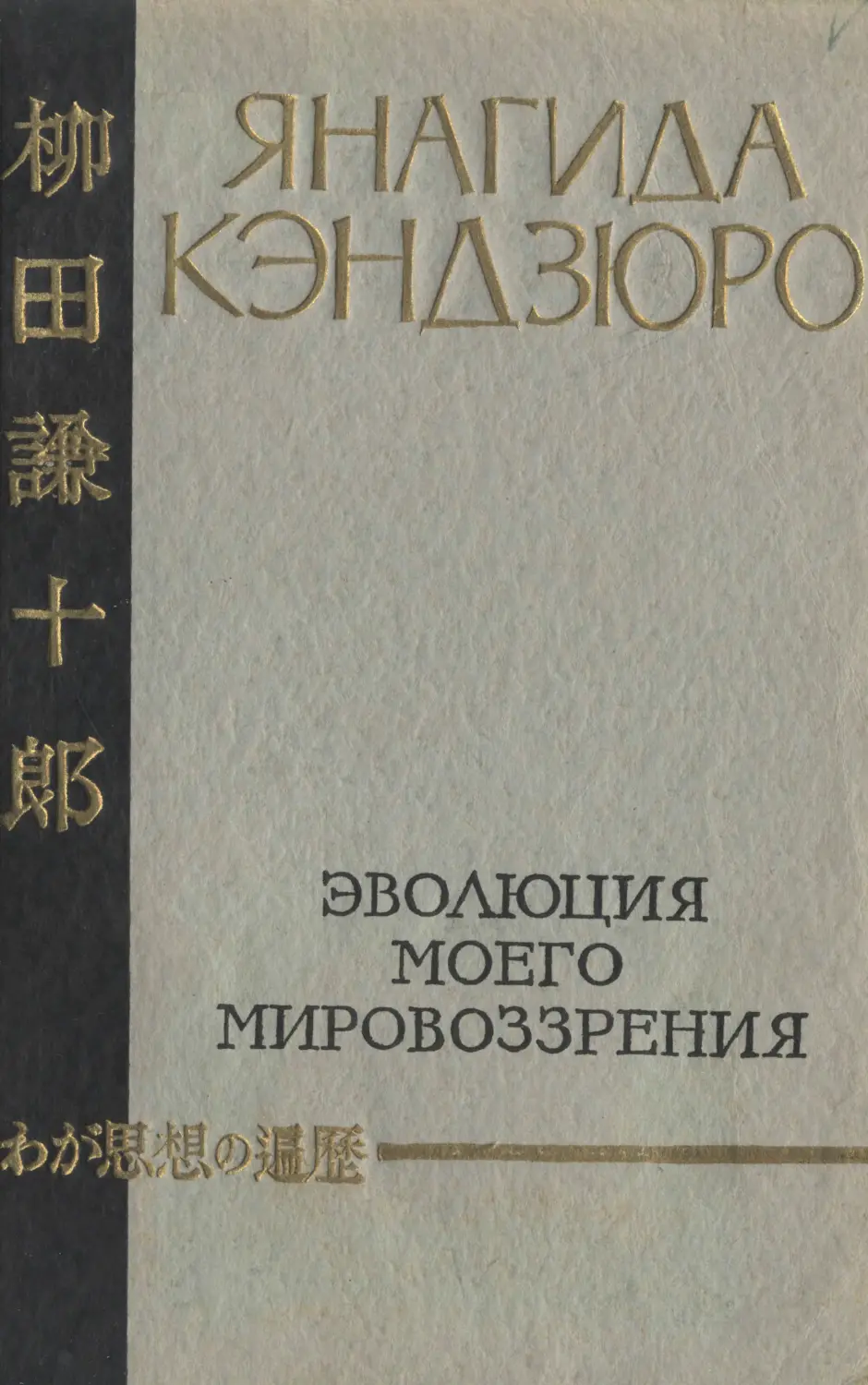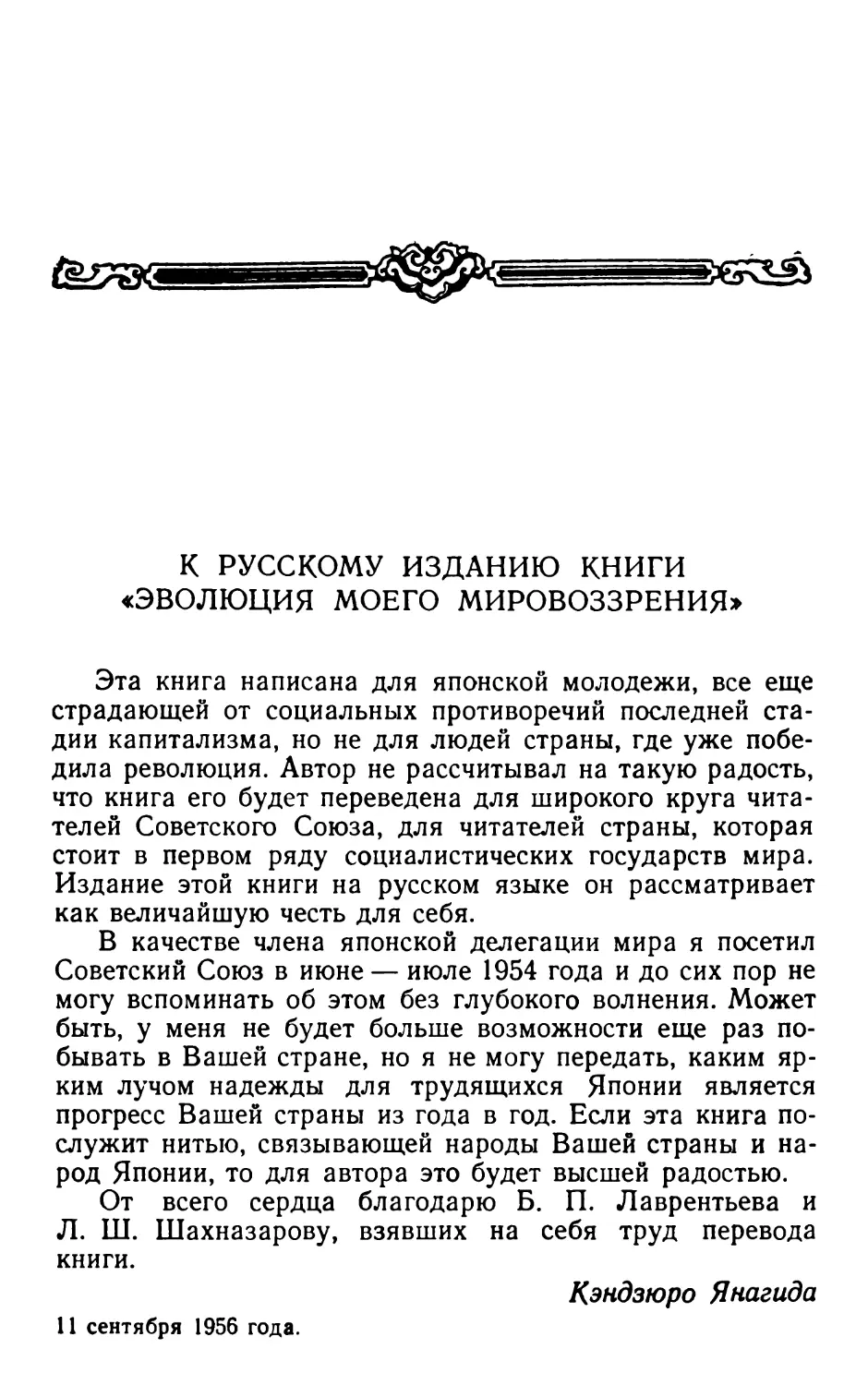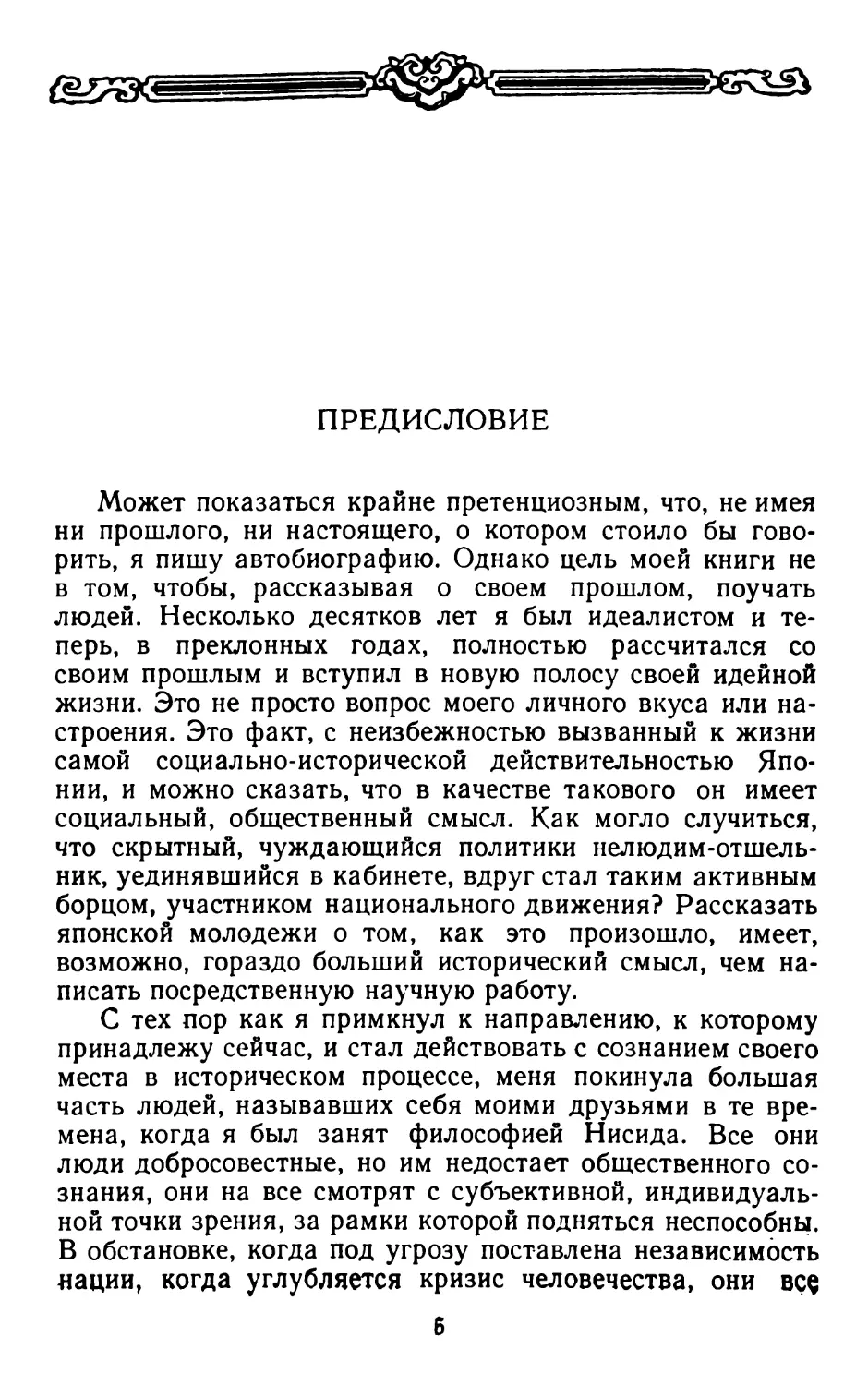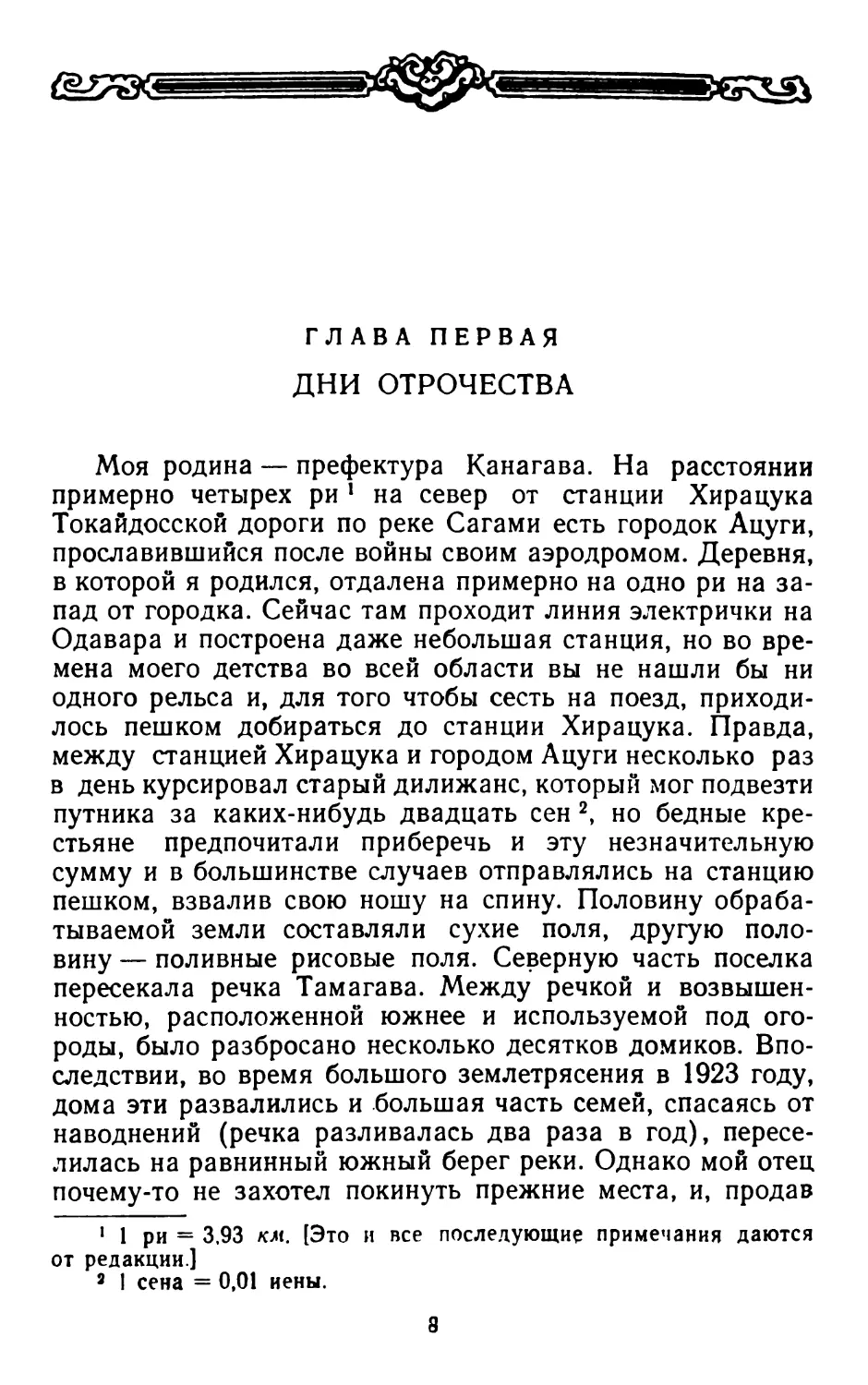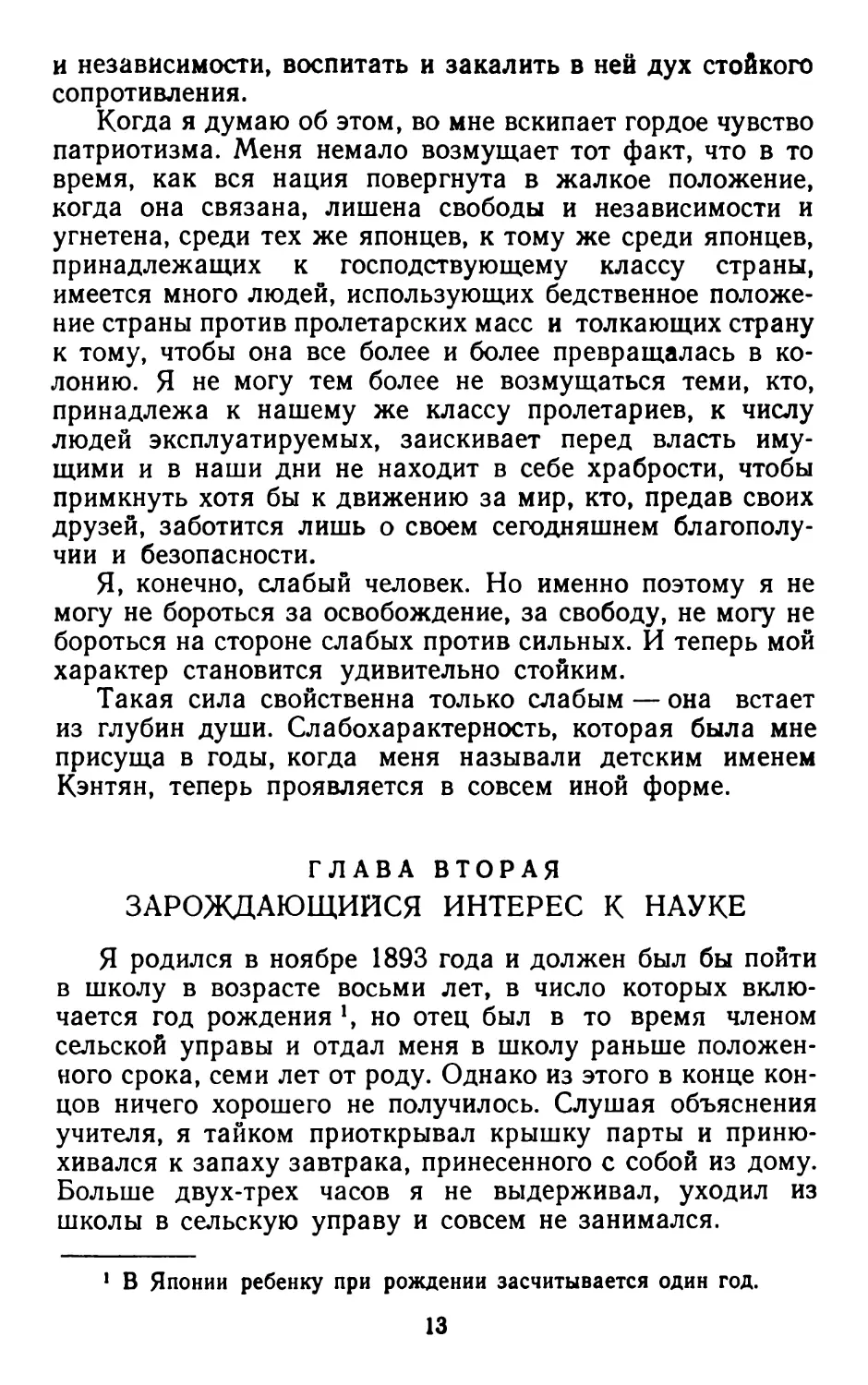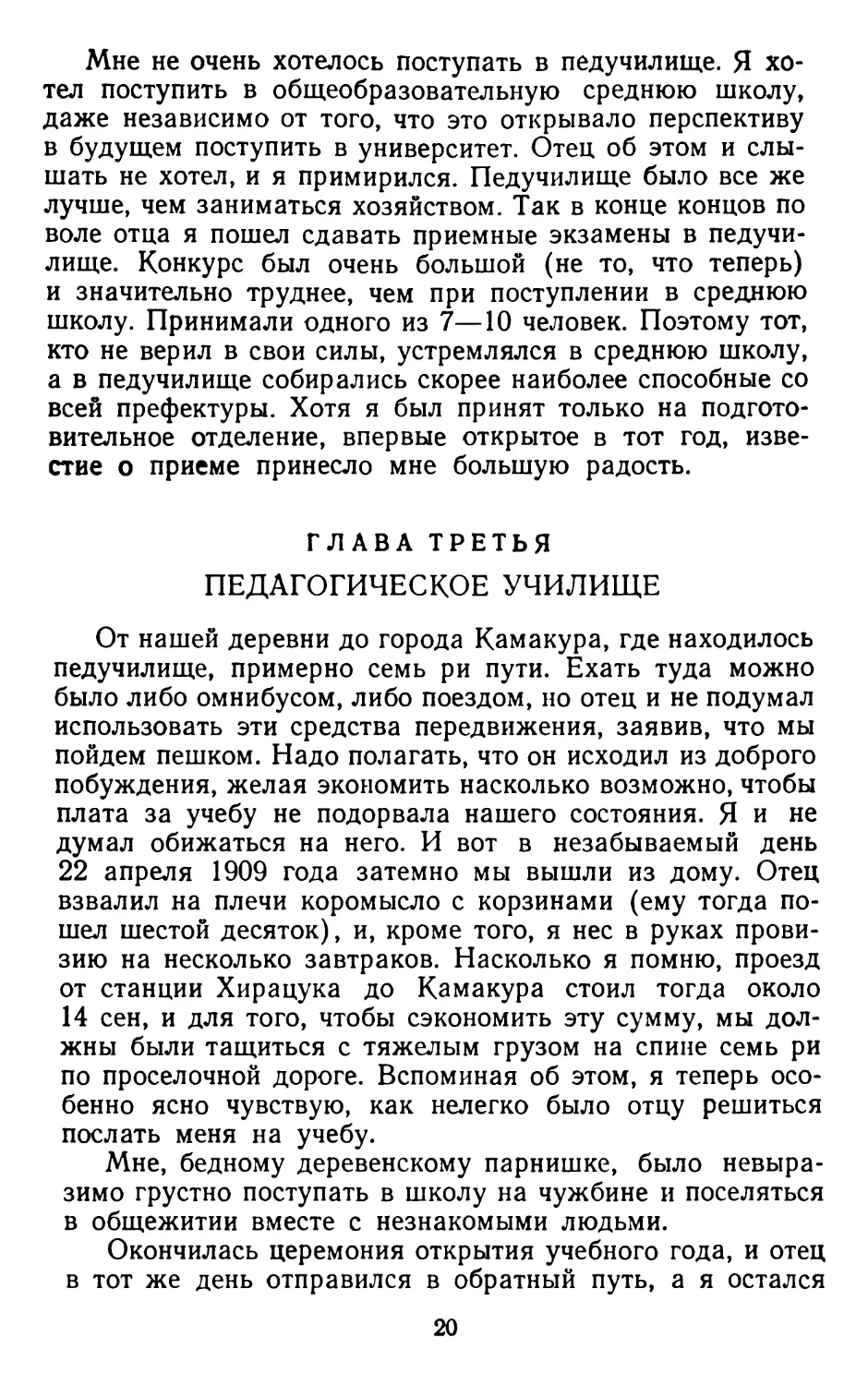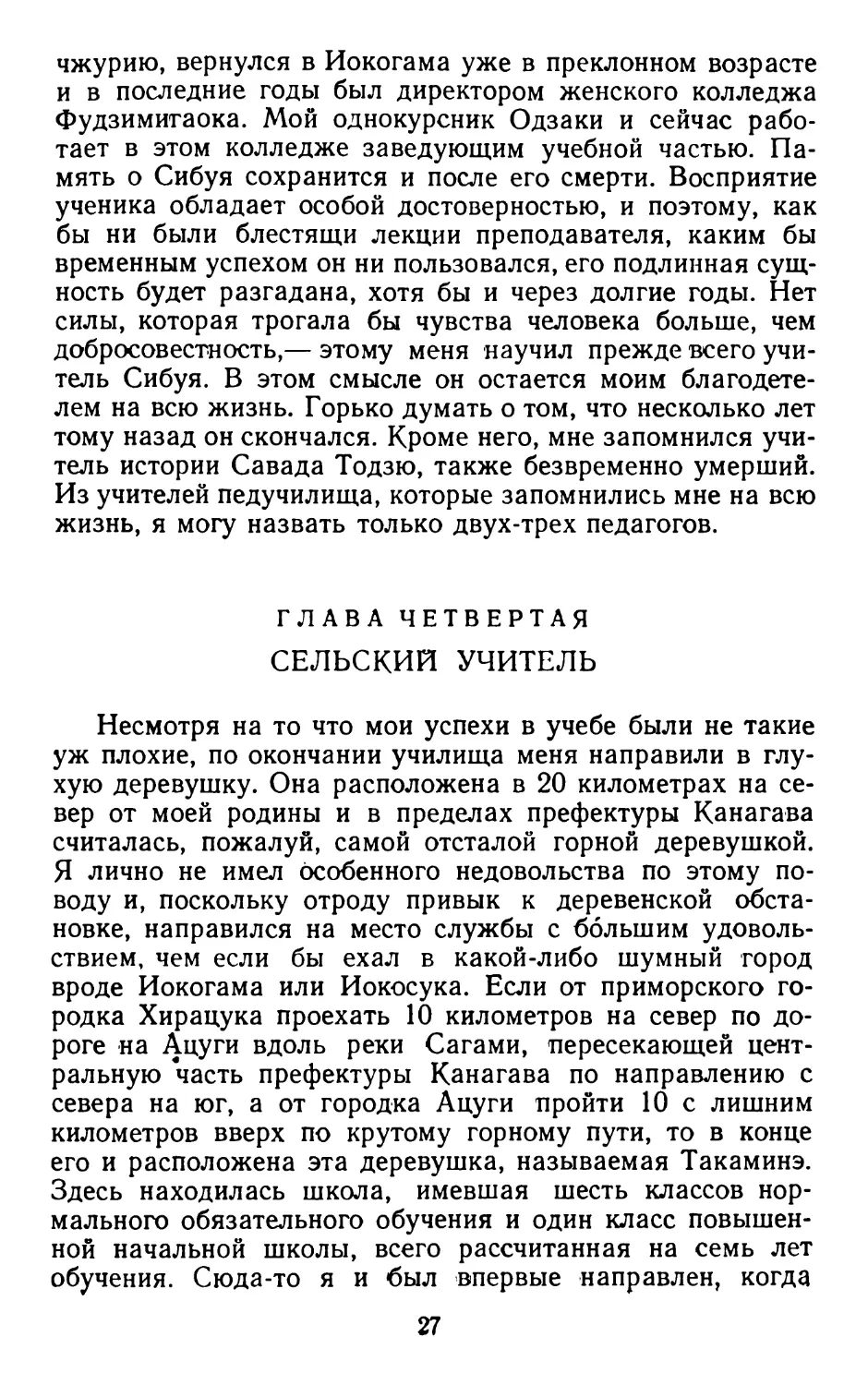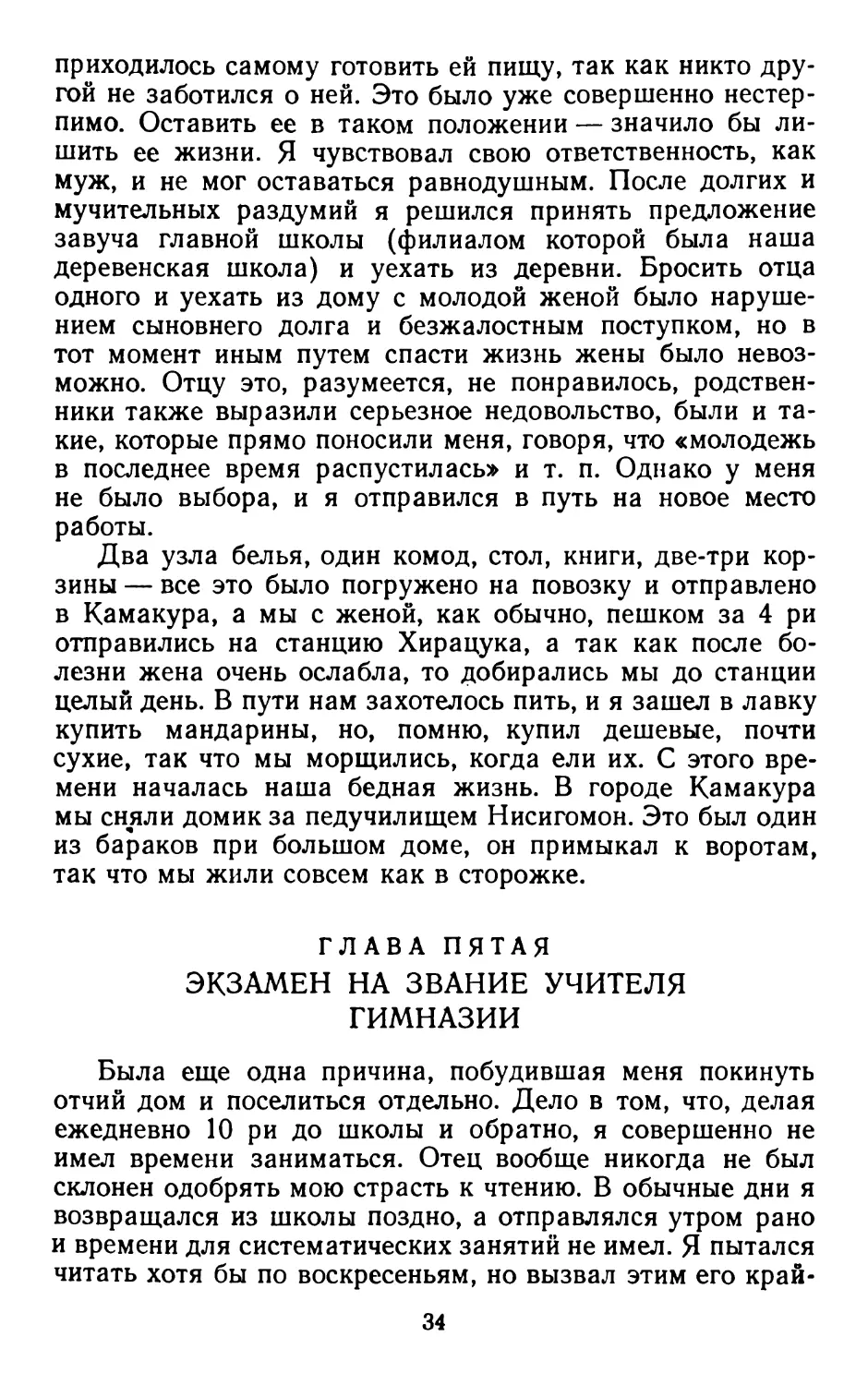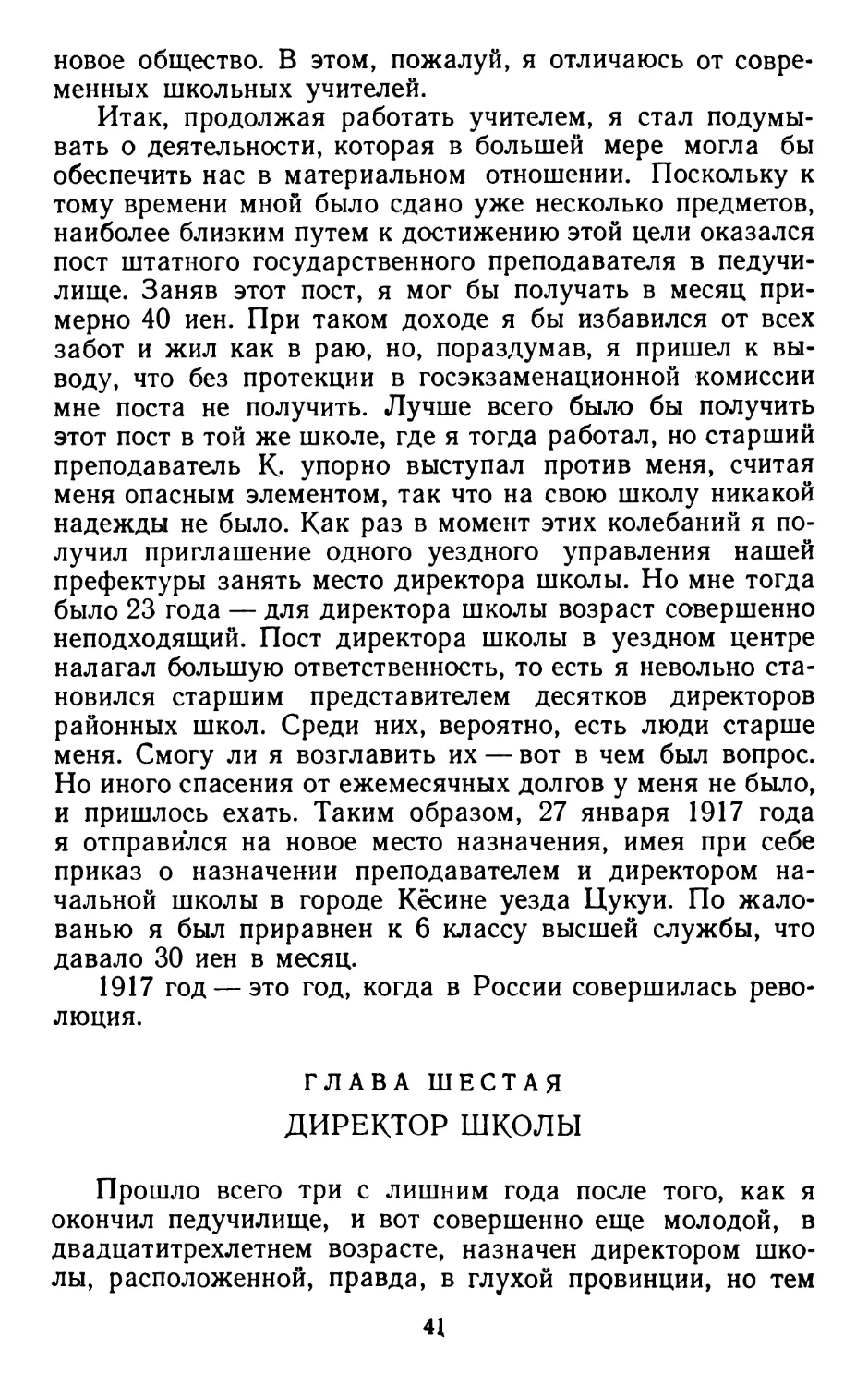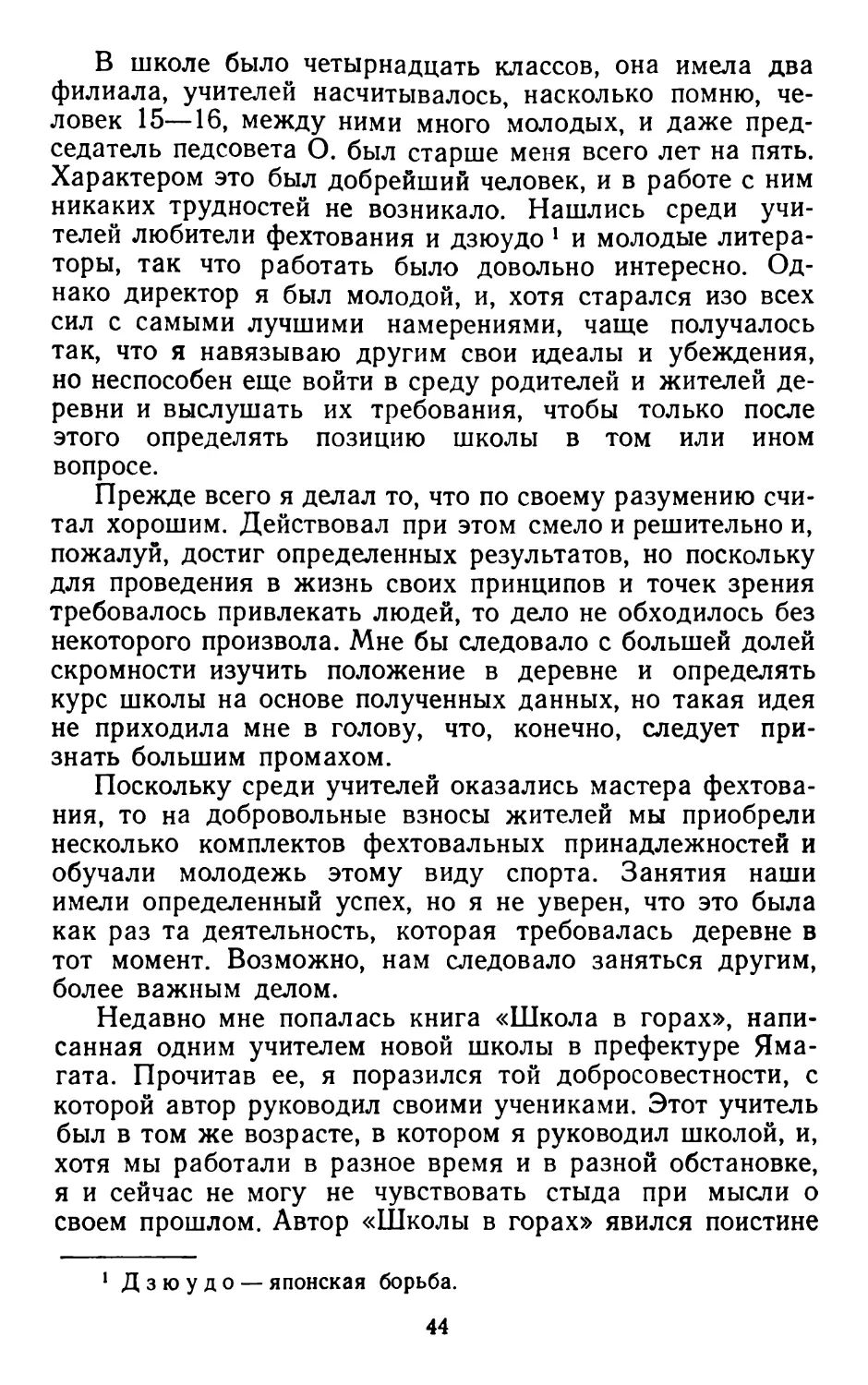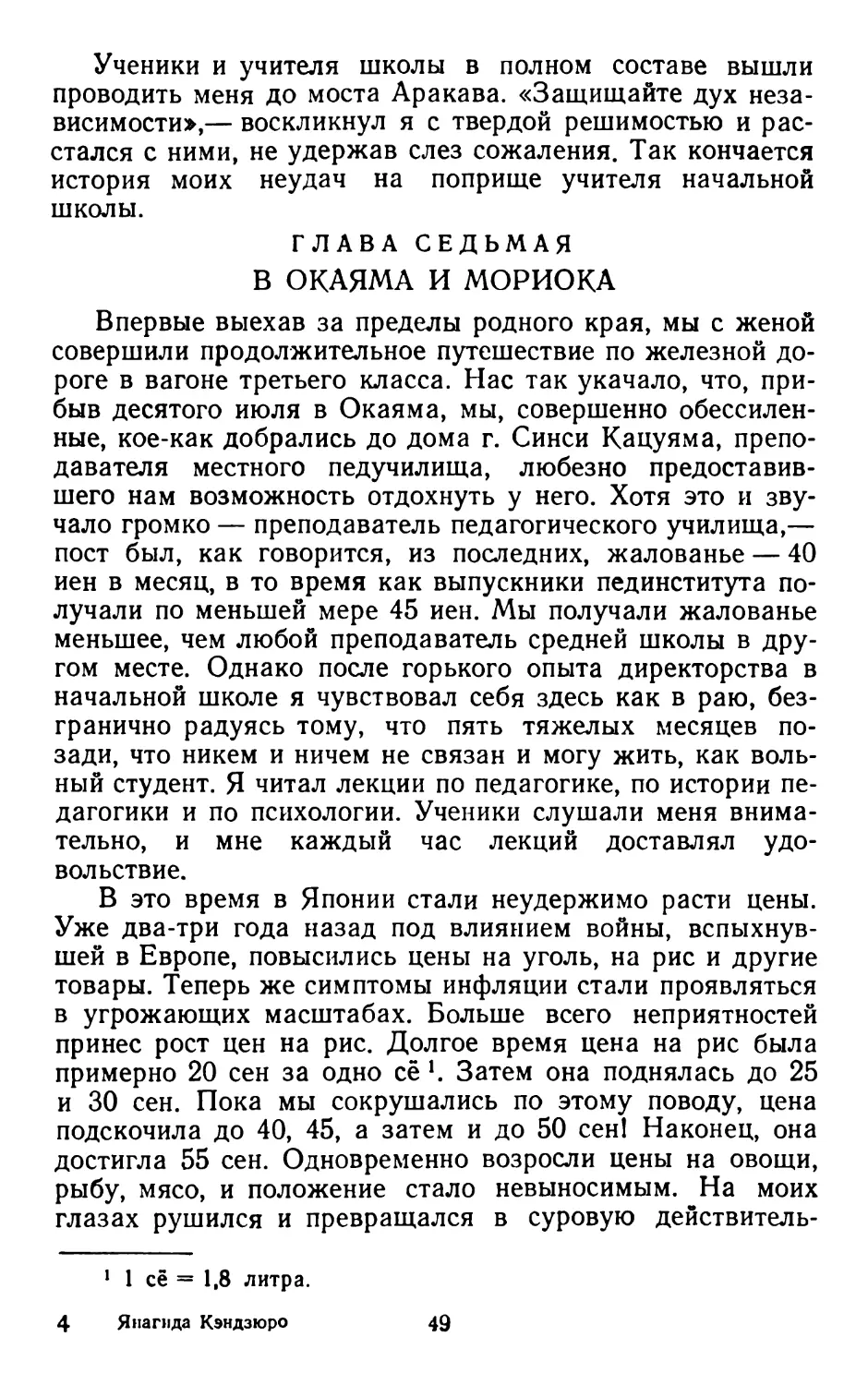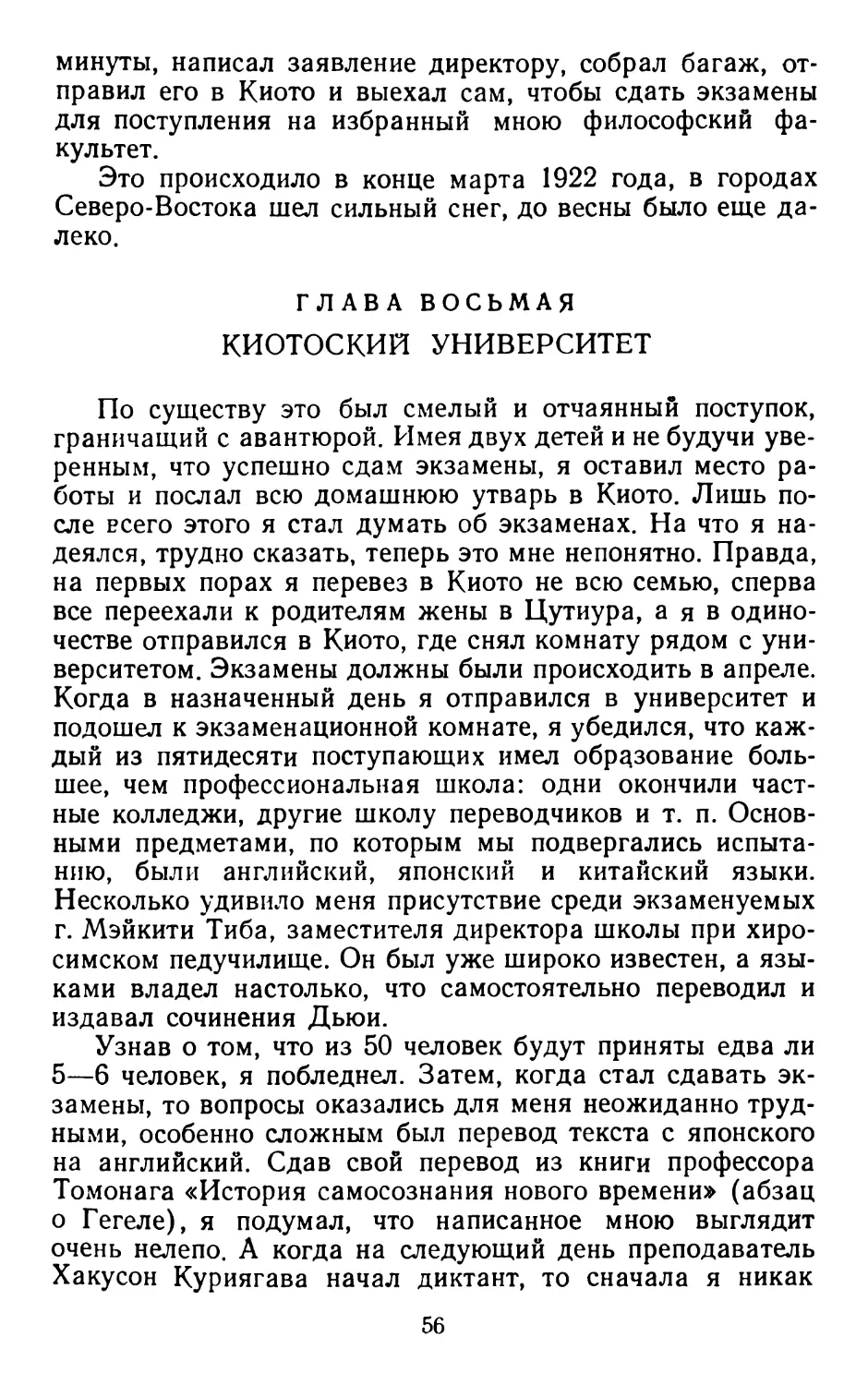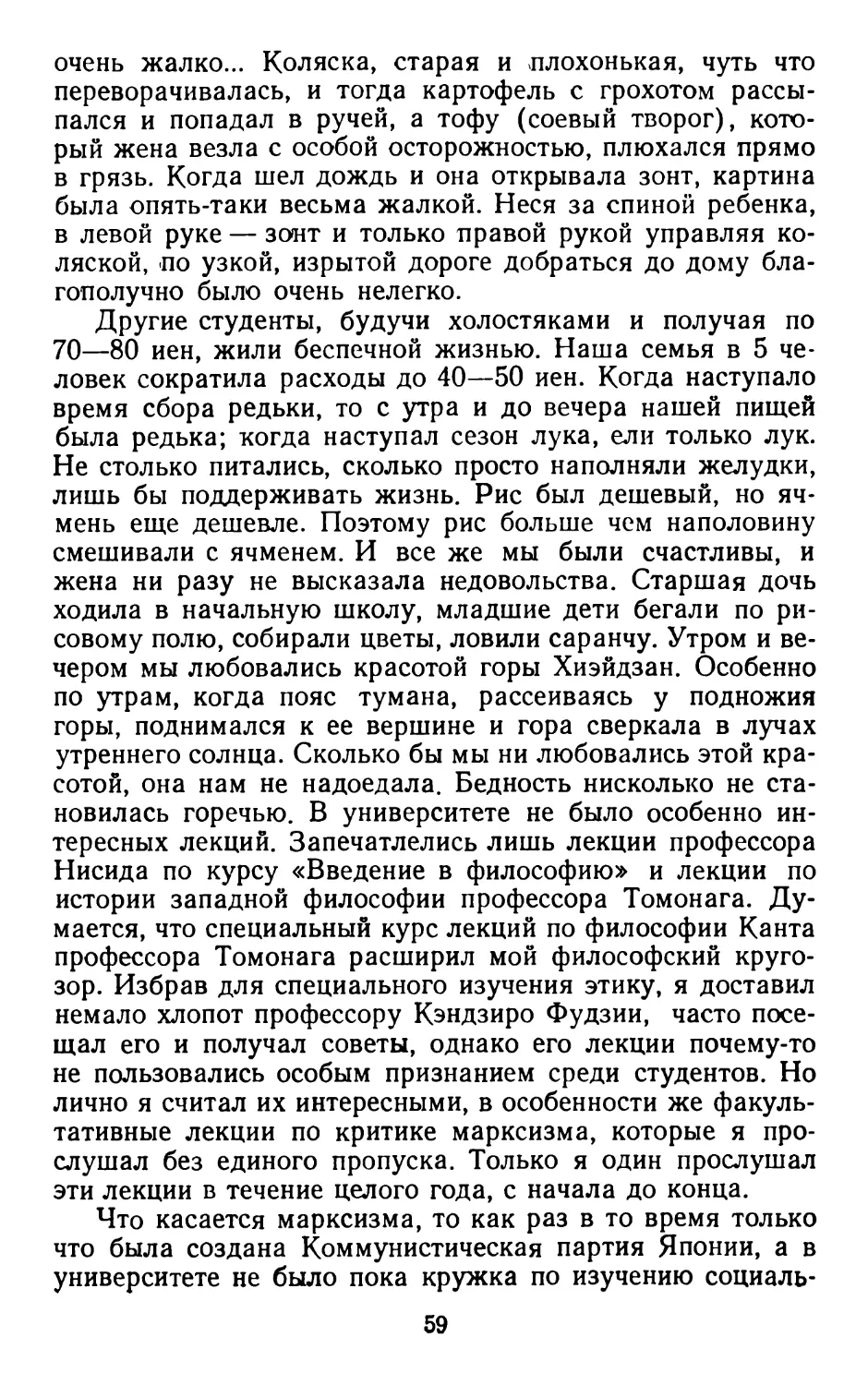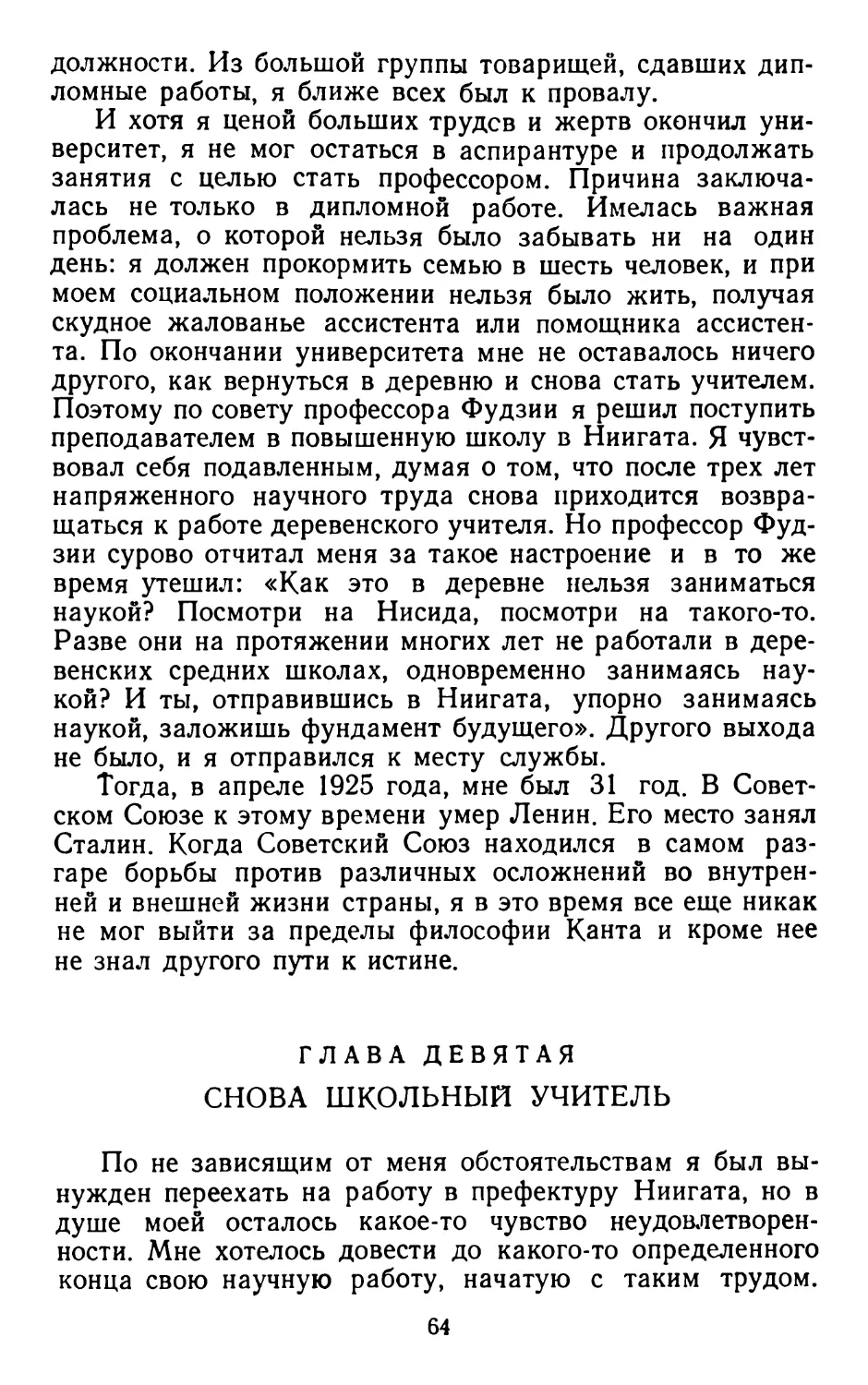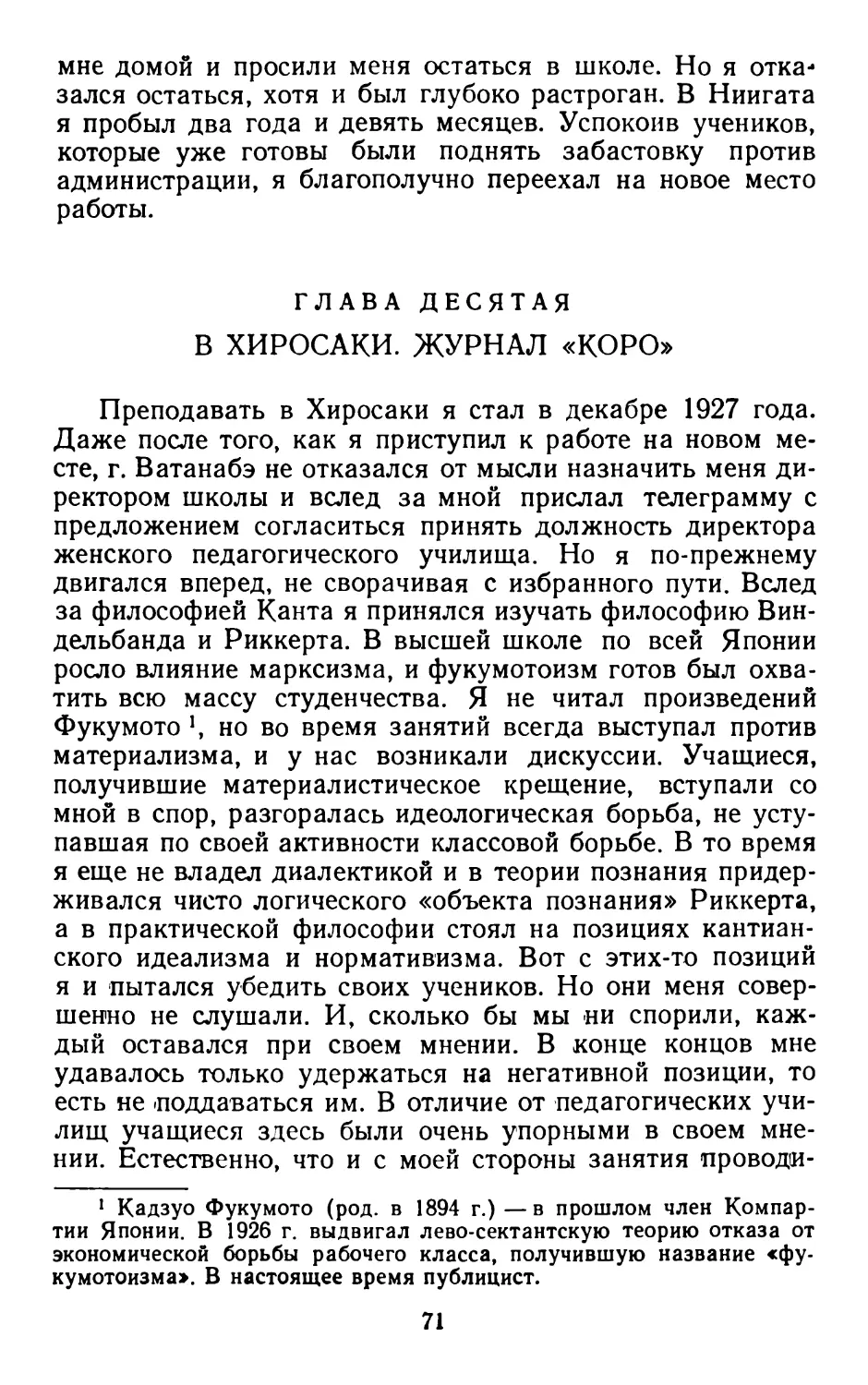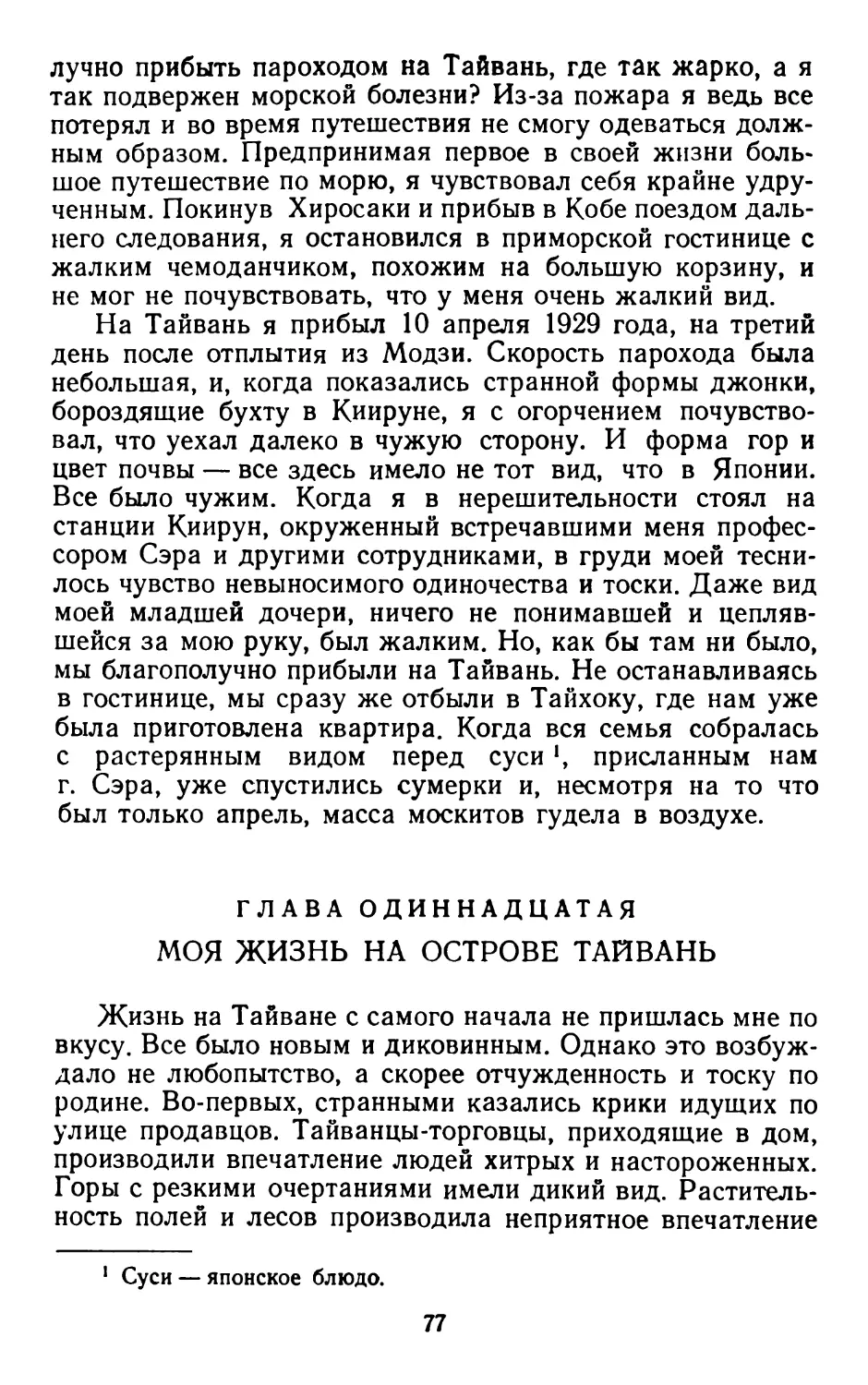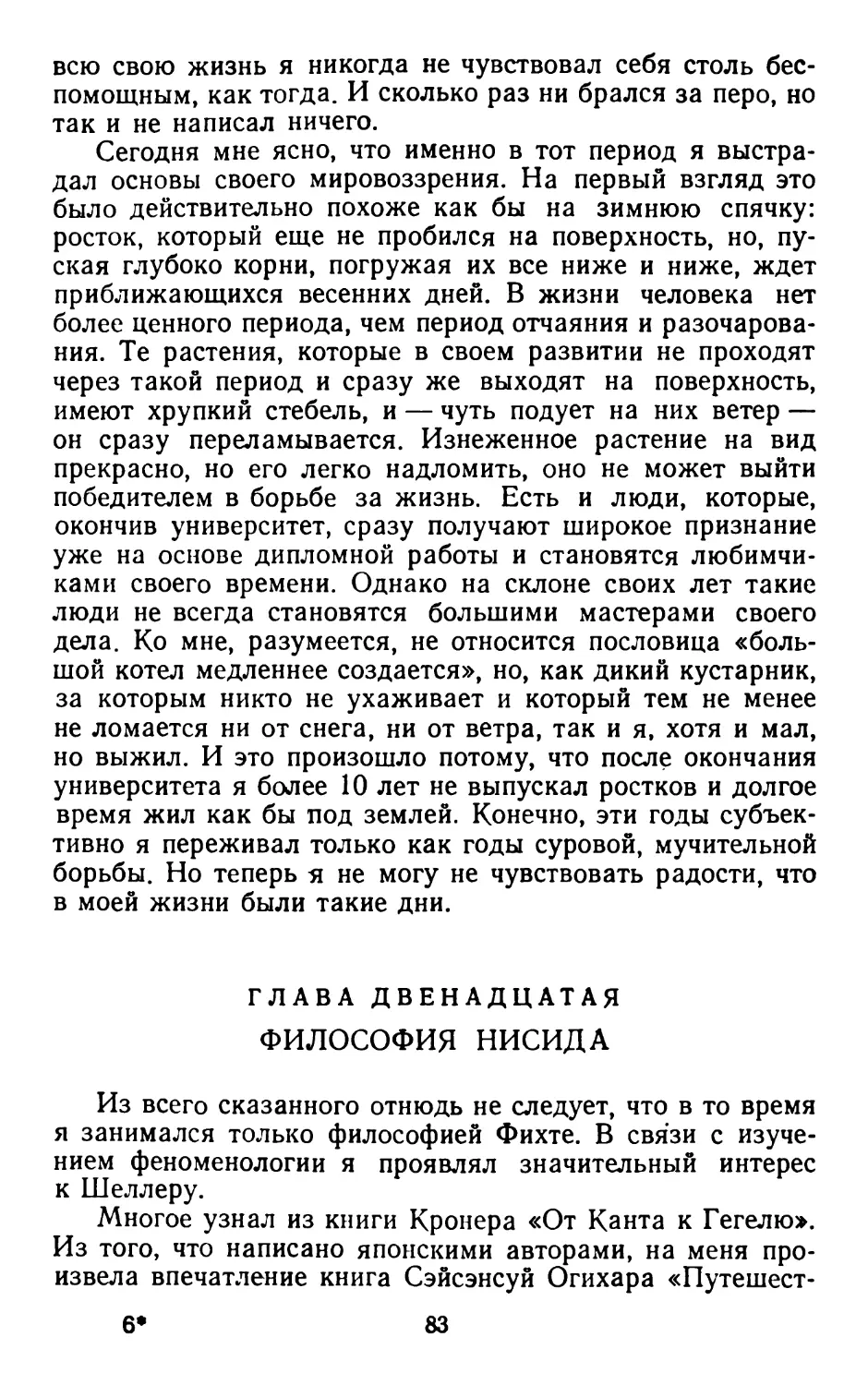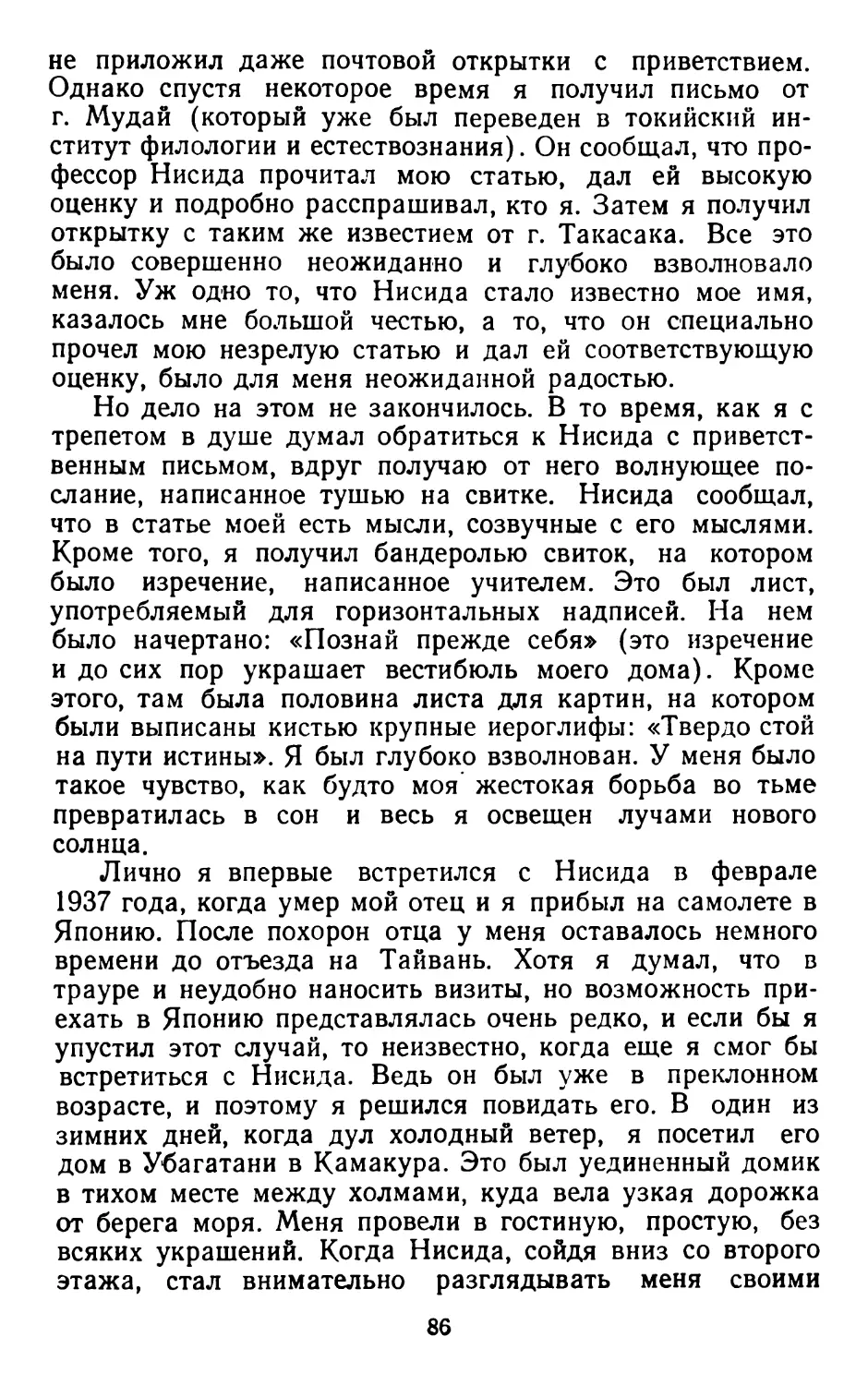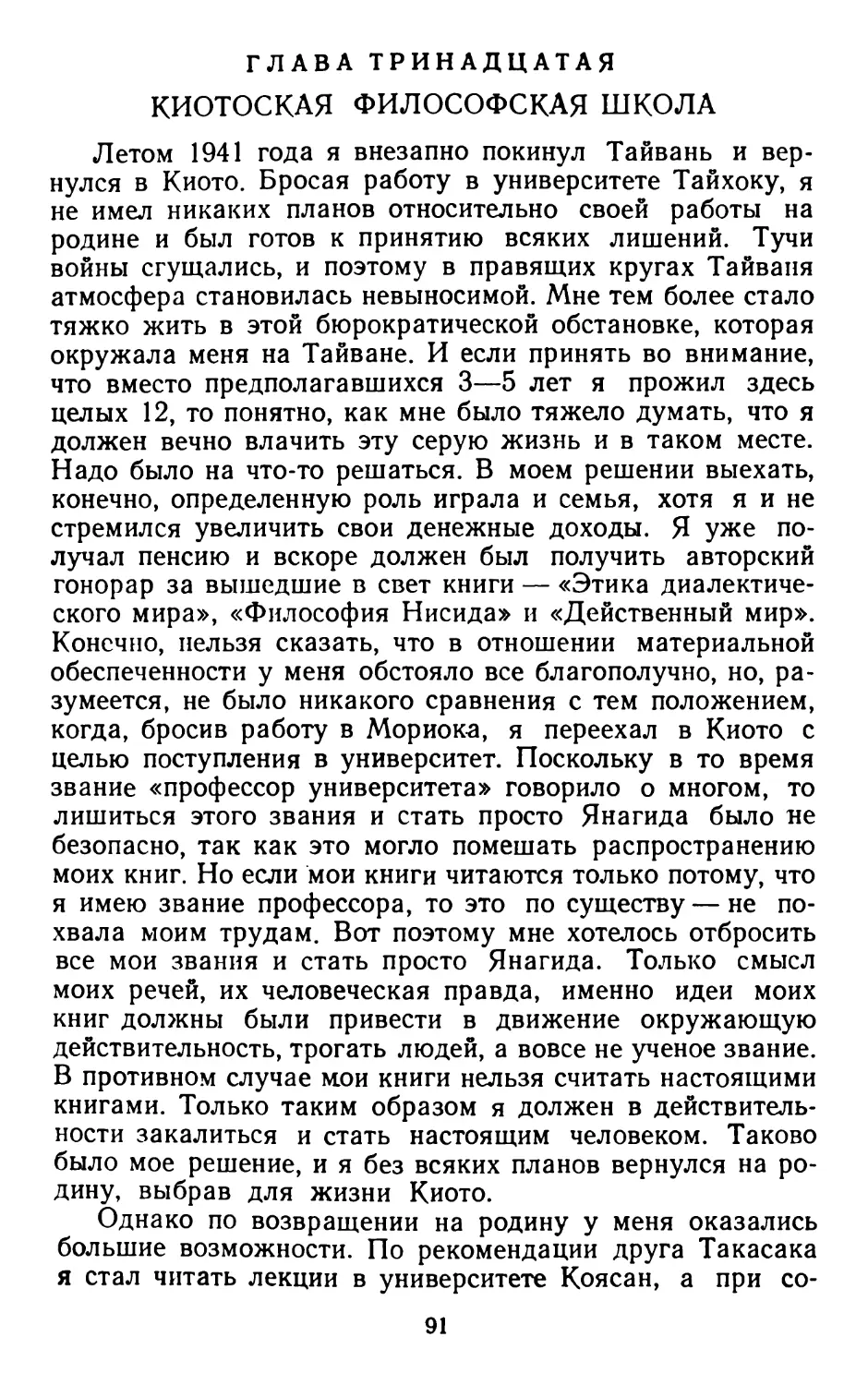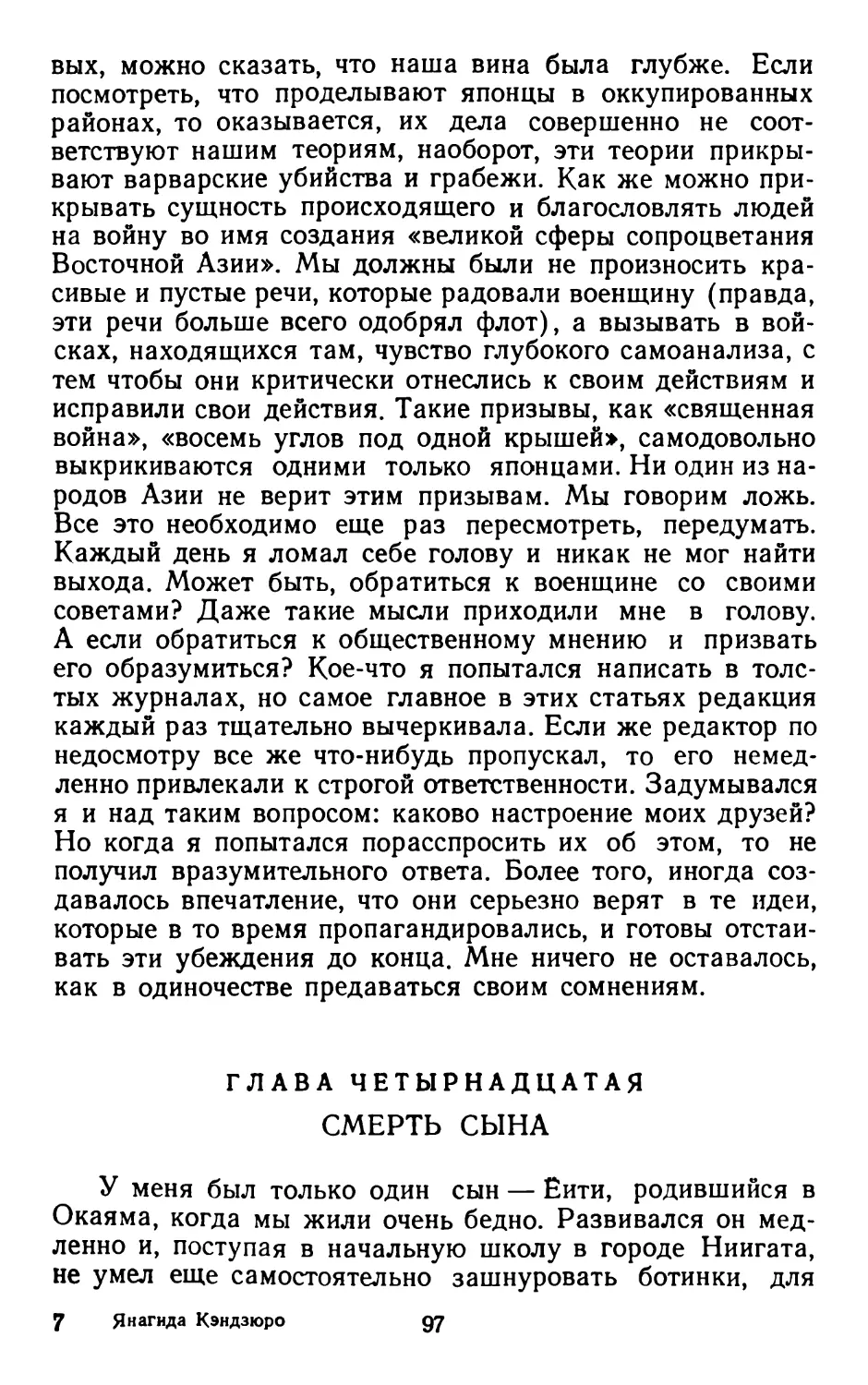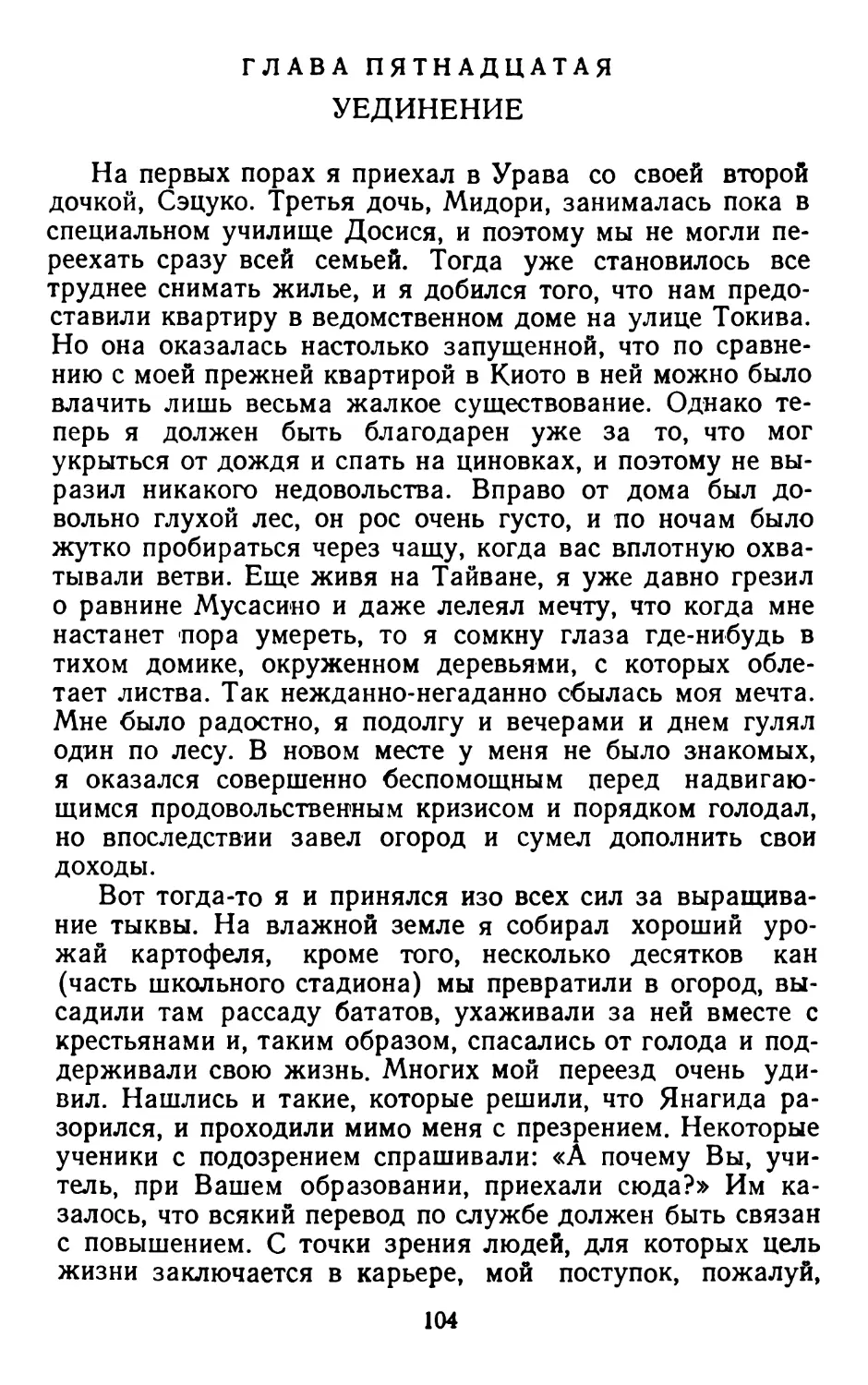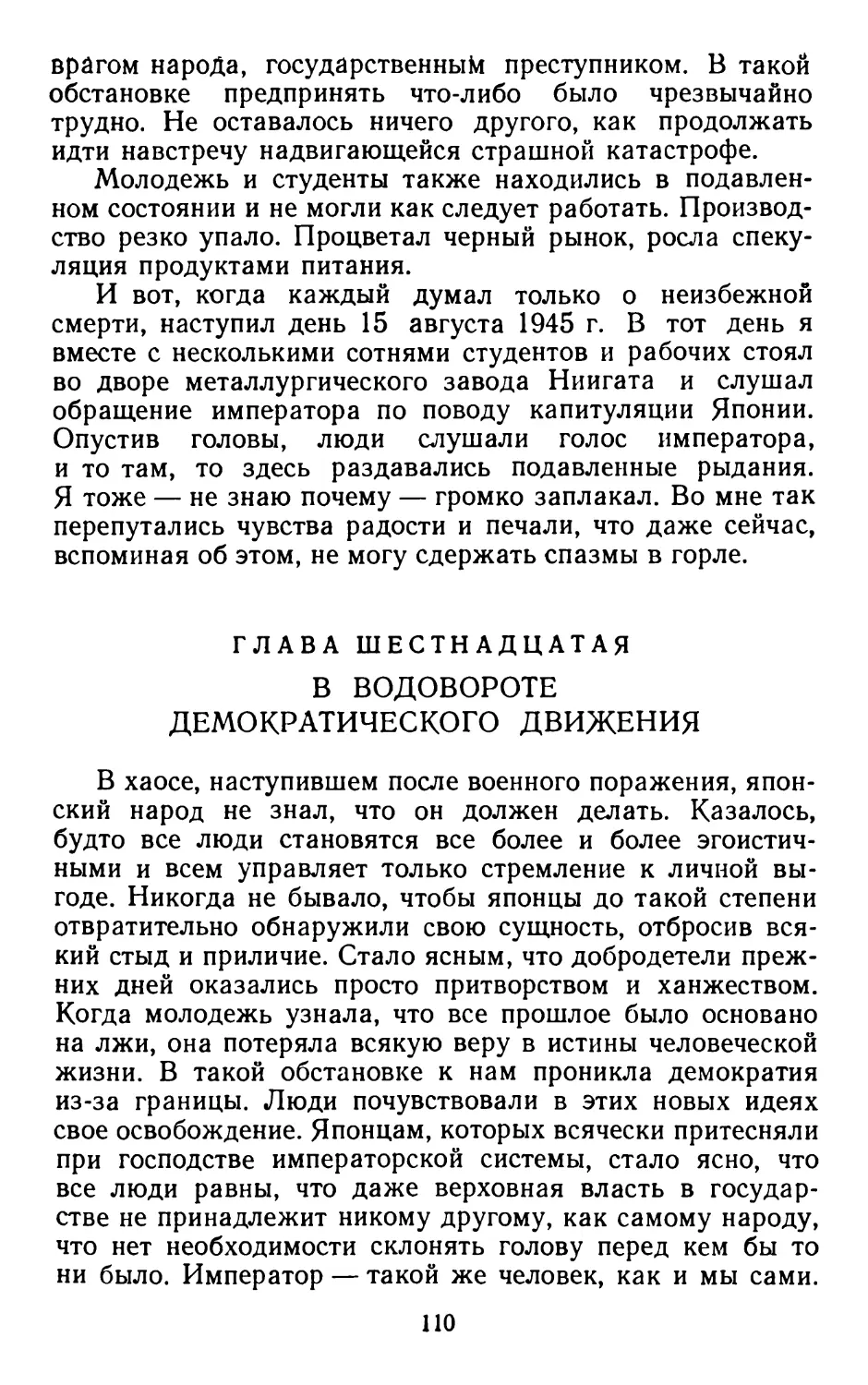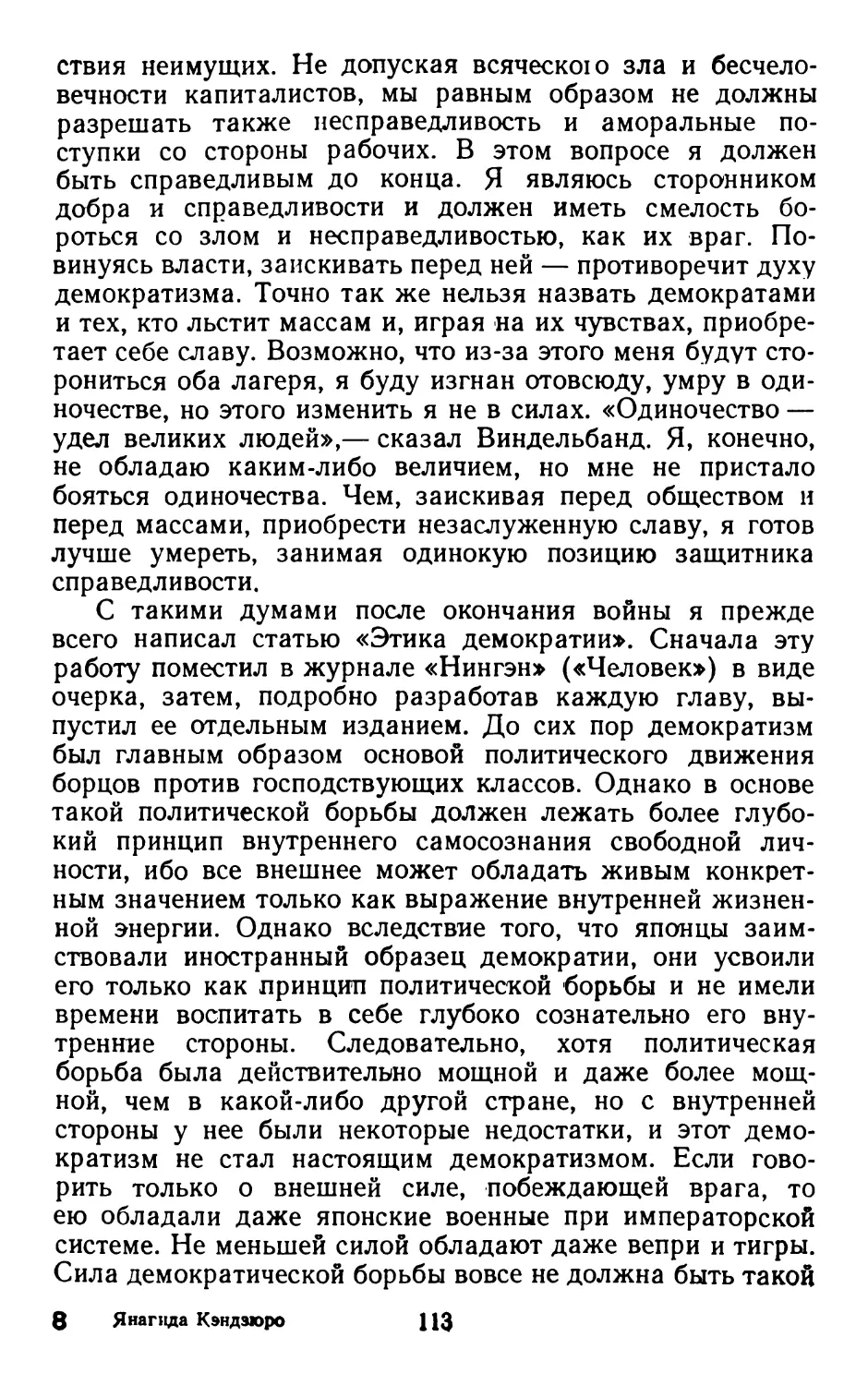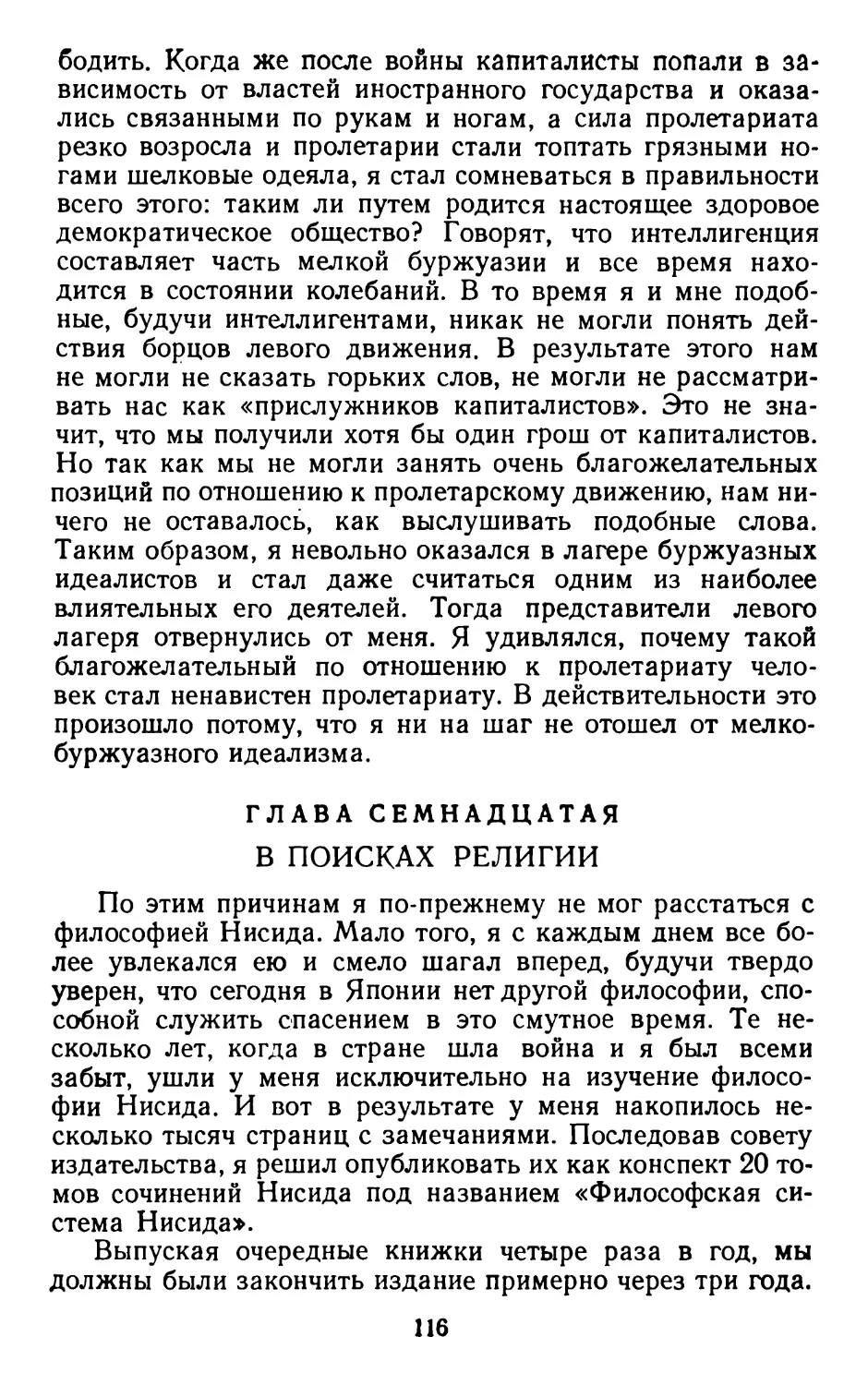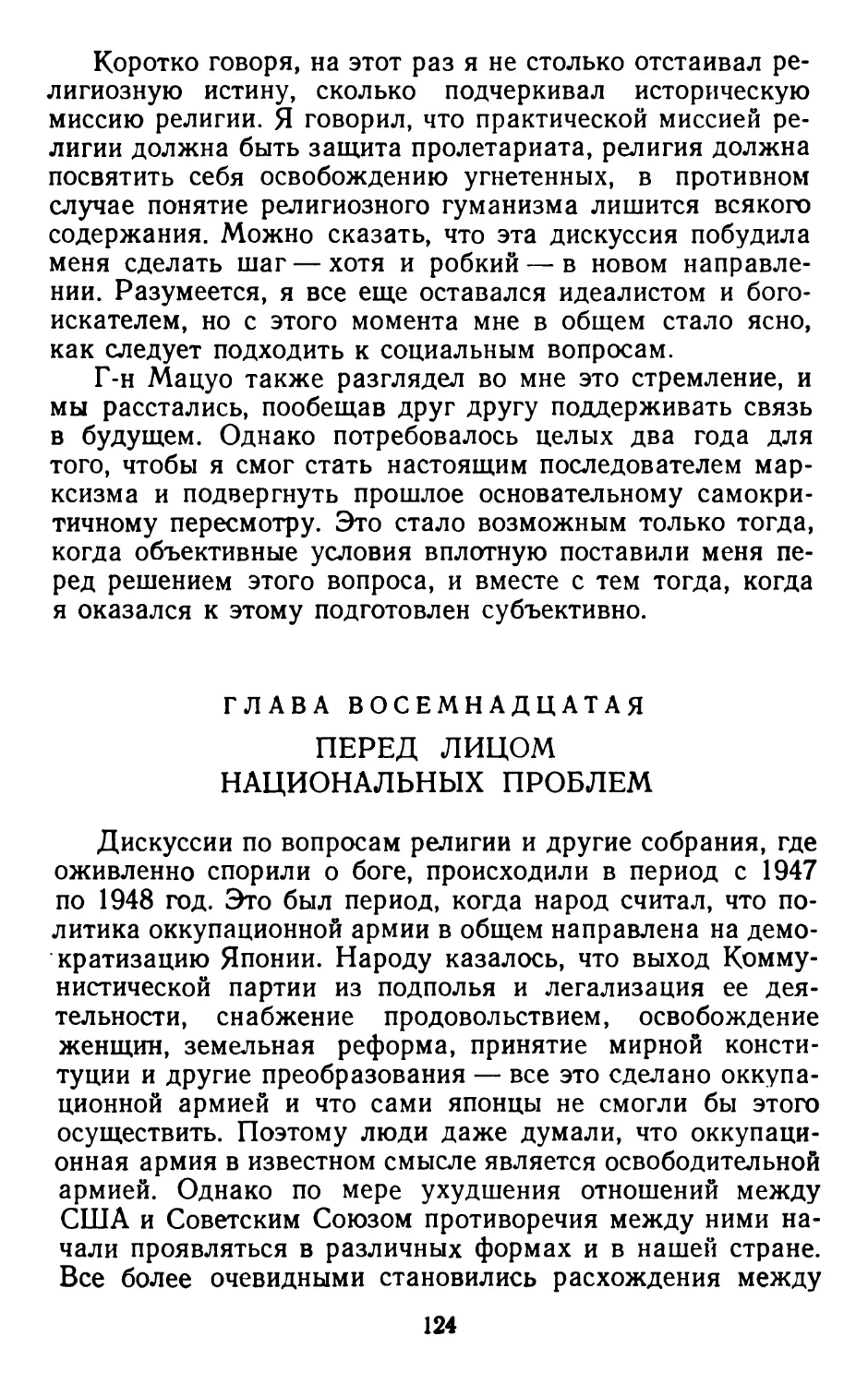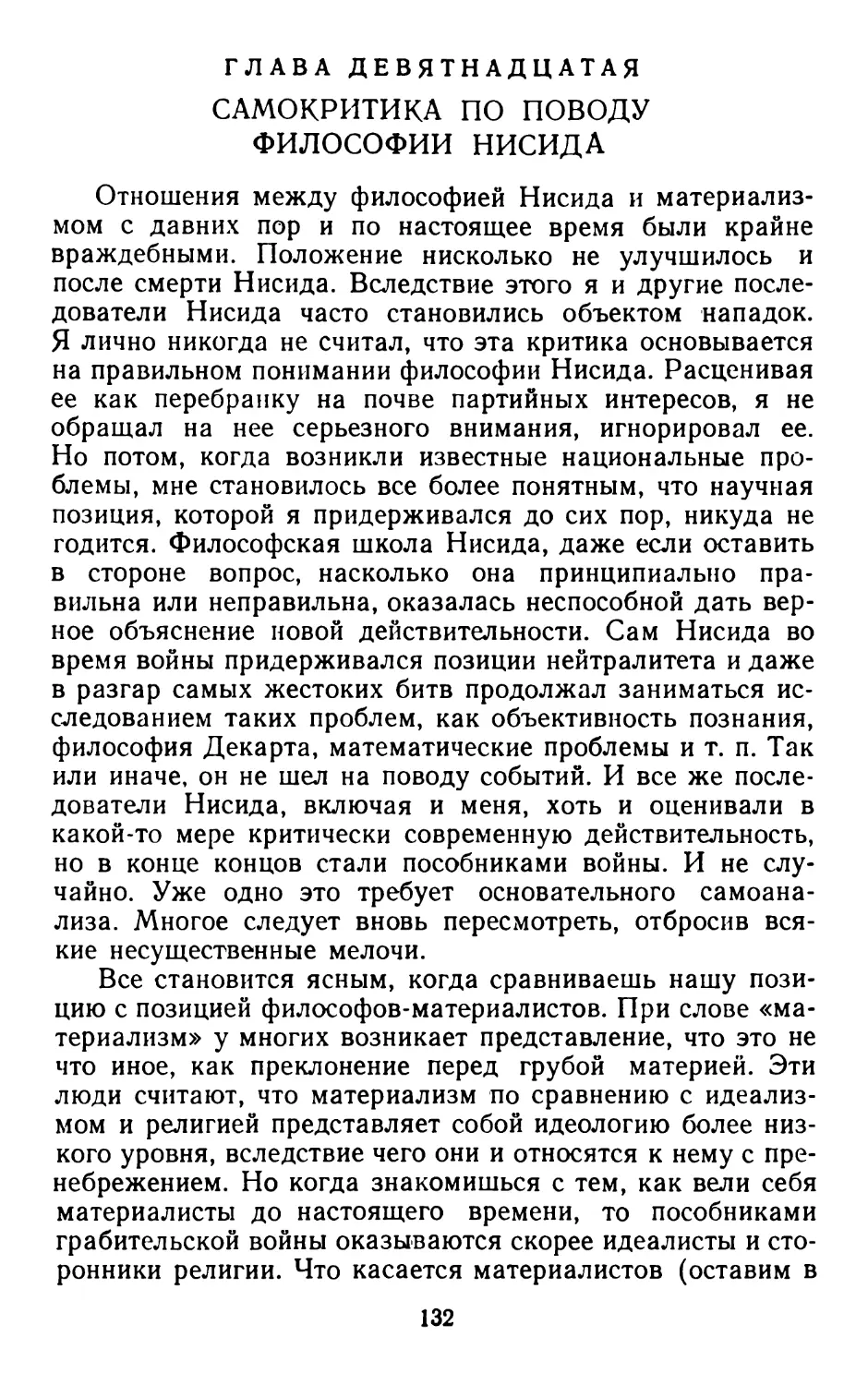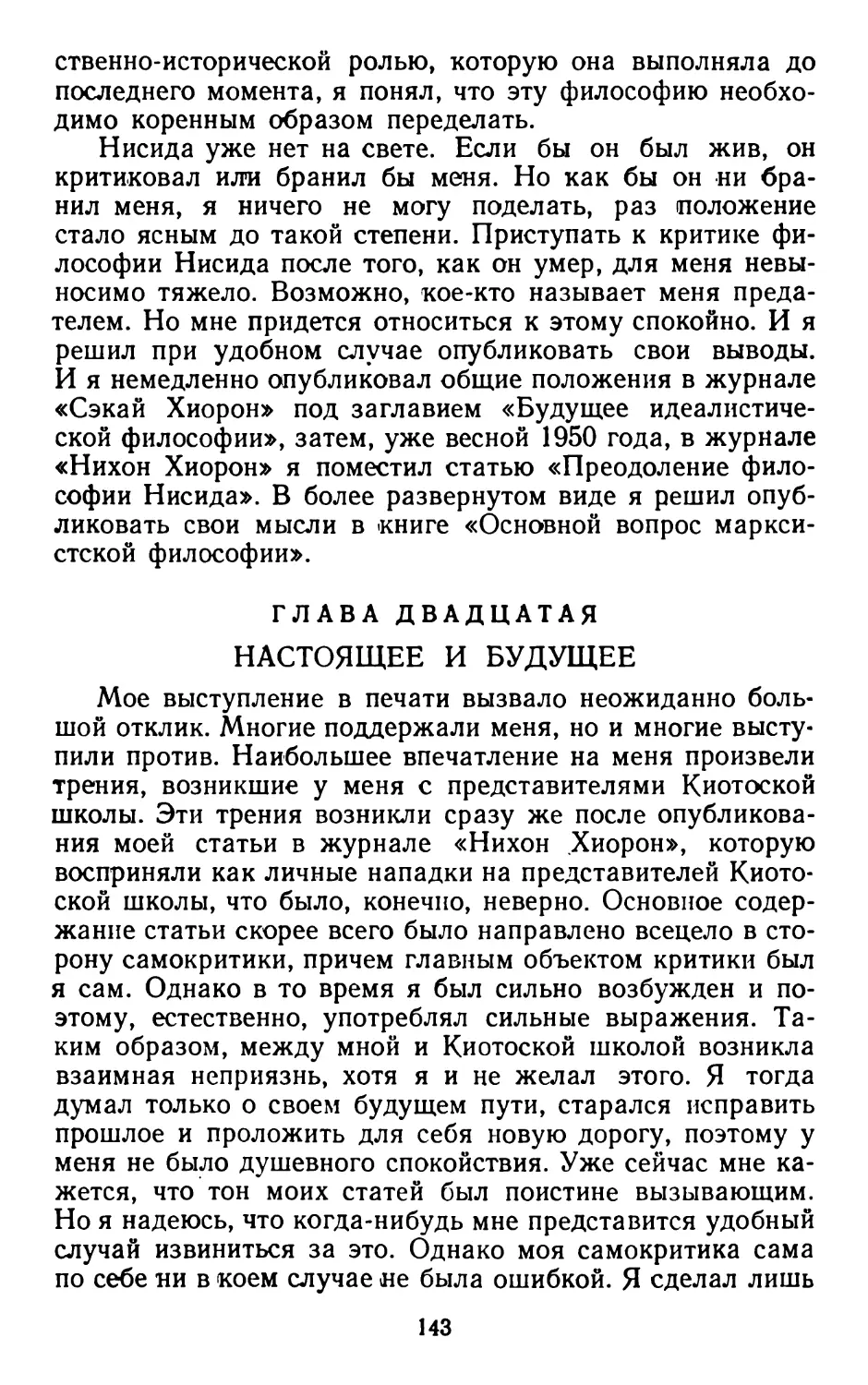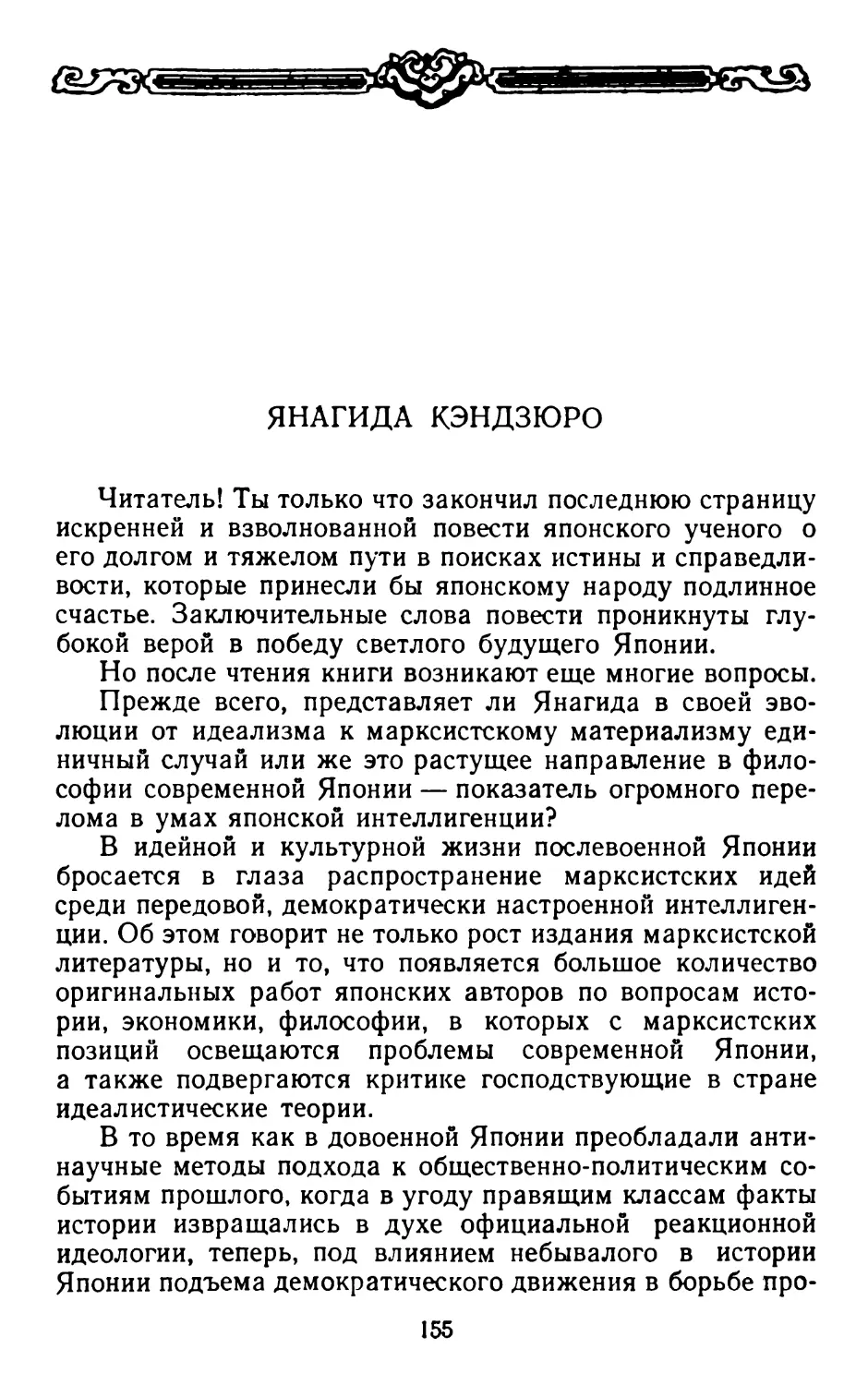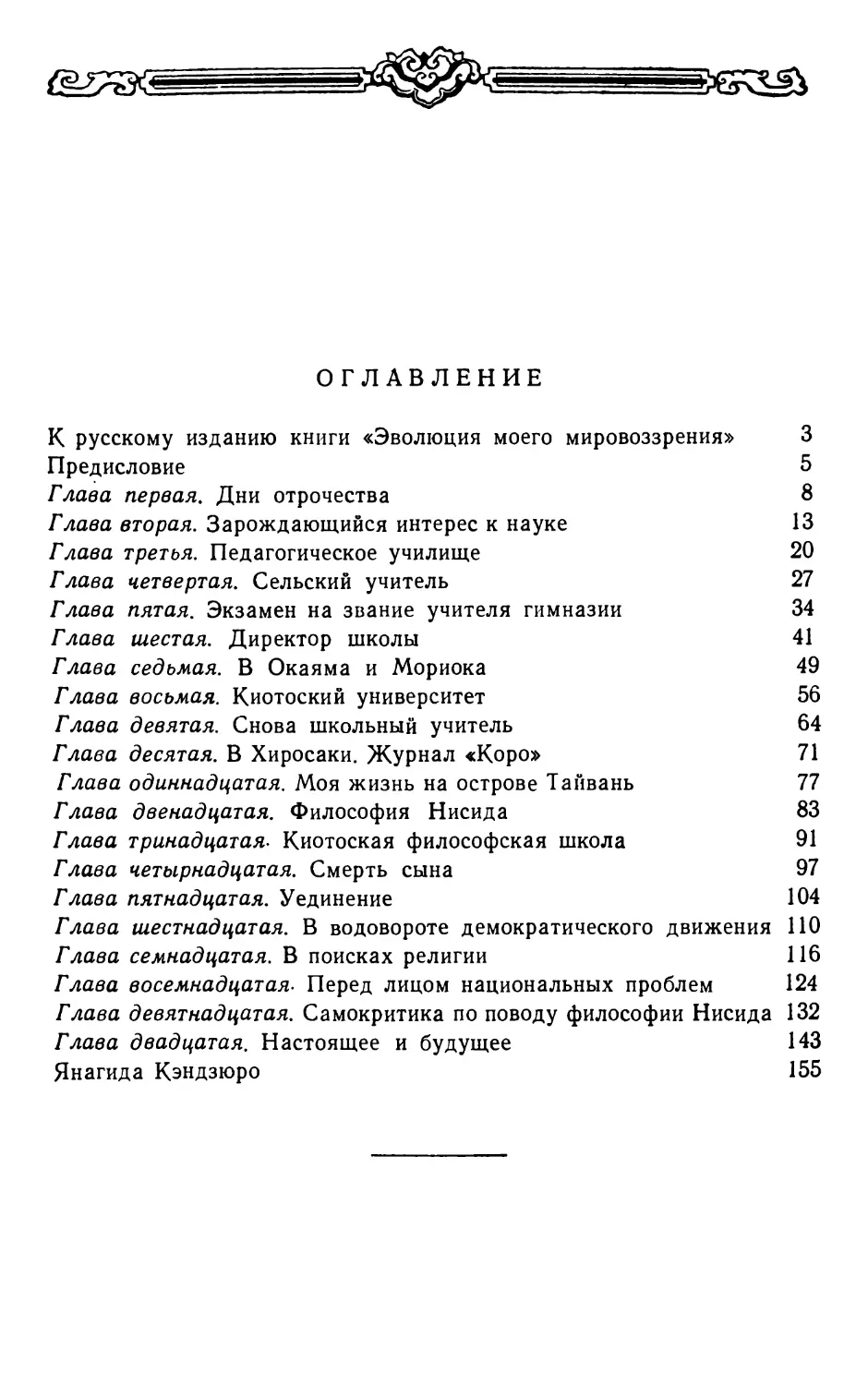Текст
ЯНЛГИАЛ
КЭНДЗЮРО
эволюция
МОЕГО
МИРОВОЗЗРЕНИЯ
МОСКВА
Государственное cJljôaтелбство
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
'957
В книге «Эволюция моего мировоззрения»1 видный
японский философ Кэндзюро Янагида рассказывает
историю своей жизни, полной борьбы и исканий. Автор, в
прошлом последователь реакционной идеалистической
философской системы Нисида, в послевоенные годы под
влиянием демократического движения в Японии перешел на
позиции диалектического и исторического материализма.
Искренняя, взволнованная повесть «Эволюция моего
мировоззрения» дает яркие картины жизни японской
интеллигенции.
Книга выходит под общей редакцией
В. В. КОВЫЖЕНКО.
Перевод осуществлен
В. П. ЛАВРЕНТЬЕВЫМ и Л. Ш. ШАХНАЗАРОВОЙ.
«Он не вторгался в политику,
но политика пришла и вторглась
в него».
Ромен Роллан
К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ книги
«ЭВОЛЮЦИЯ МОЕГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ*
Эта книга написана для японской молодежи, все еще
страдающей от социальных противоречий последней
стадии капитализма, но не для людей страны, где уже
победила революция. Автор не рассчитывал на такую радость,
что книга его будет переведена для широкого круга
читателей Советского Союза, для читателей страны, которая
стоит в первом ряду социалистических государств мира.
Издание этой книги на русском языке он рассматривает
как величайшую честь для себя.
В качестве члена японской делегации мира я посетил
Советский Союз в июне — июле 1954 года и до сих пор не
могу вспоминать об этом без глубокого волнения. Может
быть, у меня не будет больше возможности еще раз
побывать в Вашей стране, но я не могу передать, каким
ярким лучом надежды для трудящихся Японии является
прогресс Вашей страны из года в год. Если эта книга
послужит нитью, связывающей народы Вашей страны и
народ Японии, то для автора это будет высшей радостью.
От всего сердца благодарю Б. П. Лаврентьева и
Л. Ш. Шахназарову, взявших на себя труд перевода
книги.
Кэндзюро Янагида
11 сентября 1956 года.
ПРЕДИСЛОВИЕ
Может показаться крайне претенциозным, что, не имея
ни прошлого, ни настоящего, о котором стоило бы
говорить, я пишу автобиографию. Однако цель моей книги не
в том, чтобы, рассказывая о своем прошлом, поучать
людей. Несколько десятков лет я был идеалистом и
теперь, в преклонных годах, полностью рассчитался со
своим прошлым и вступил в новую полосу своей идейной
жизни. Это не просто вопрос моего личного вкуса или
настроения. Это факт, с неизбежностью вызванный к жизни
самой социально-исторической действительностью
Японии, и можно сказать, что в качестве такового он имеет
социальный, общественный смысл. Как могло случиться,
что скрытный, чуждающийся политики
нелюдим-отшельник, уединявшийся в кабинете, вдруг стал таким активным
борцом, участником национального движения? Рассказать
японской молодежи о том, как это произошло, имеет,
возможно, гораздо больший исторический смысл, чем
написать посредственную научную работу.
С тех пор как я примкнул к направлению, к которому
принадлежу сейчас, и стал действовать с сознанием своего
места в историческом процессе, меня покинула большая
часть людей, называвших себя моими друзьями в те
времена, когда я был занят философией Нисида. Все они
люди добросовестные, но им недостает общественного
сознания, они на все смотрят с субъективной,
индивидуальной точки зрения, за рамки которой подняться неспособны.
В обстановке, когда под угрозу поставлена независимость
нации, когда углубляется кризис человечества, они вес
6
еще боятся властей и не могут подняться против них. Что
может означать нынешняя «покорность» нашей нации, в то
время как народы Азии, бывшие жертвами агрессии
европейских и американских империалистов,
подвергавшиеся эксплуатации и несшие бремя колониализма,
пришли к ясному осознанию пролетарского демократизма и
стремительно идут по пути общенационального движения
сопротивления, ведя борьбу не на жизнь, а на смерть?
Означает ли она, что совершенно беспрецедентная в
истории других народов идеология феодального рабства,
воспитывавшая в течение долгих лет господства японской
монархической системы безусловное подчинение властям,
вошла в нашу плоть и кровь? Или, может быть, такова
судьба всякого народа, обреченного на исчезновение?
Однако мы не являемся таким народом. Я глубоко
убежден в том, что стоит нам приобщиться к мировому
разуму, как наш народ ощутит в себе прилив неодолимой
энергии, не меньшей, чем у любой другой нации. И это
не просто пустые мечты о будущем. Эта энергия уже
вспыхнула в нашей среде и стремительно движется
вперед, как огонь в горящем бикфордовом шнуре. Я убежден,
что именно в этом процессе кристаллизуется совесть
нашей нации. Если эта небольшая книжка поможет рожде*
нию хотя бы одного человека, который восстал бы из этого
кризиса нации и пошел бы вместе со мной вперед, я мог
бы сказать, что историческая цель ее написания
достигнута.
Эта книга рассказывает о моем прошлом. Но она
написана не из чувства любви к старине. У меня нет ни
малейшего намерения пополнить еще одним произведением
мемуарную литературу. Я не чувствую в себе ни капли
старческой склонности к тому, чтобы, скорбя об ушедшей
жизни, вновь переживать былые радости и огорчения.
Здоровье у меня слабое, и вряд ли мне осталось долго
жить. Но я не печалюсь об этом. Мой идеал — не в том,
чтобы прожить возможно большее число дней, а в том,
чтобы идти вперед, вперед до самого последнего момента,
до самого последнего горения жизни. Я не собираюсь
спокойно закончить свою жизнь в тыловом госпитале. Я живу
лишь тогда, когда нахожусь на передовой позиции. Но
это не значит, что я хочу стать генералом, я скорее хочу
быть рядовым. Я остаюсь по-прежнему сторонником
простого народа, пролетарским демократом. Для меня нет
6
ничего более хлопотного, чем быть главой или
начальником. В этом смысле я очень люблю слово «товарищ».
Я хотел бы, чтобы мы все как товарищи протянули друг
другу руки и посвятили наши жизни освобождению
японской нации. Даже такой слабохарактерный, уступчивый
идеалист, каким был я, может стать бойцом
национального фронта, если в нем проснется самосознание. Мне
хотелось бы, чтобы именно эта мысль дошла до читателя.
Как бы ни был слаб человек, если он раз решится и
встанет на борьбу, он уже перестает быть рабом своей
слабости. Я посвящаю эту книгу тем многим добросовестным
людям, которые до сих пор ошибочно ищут спасения в
философии Нисида и религии.
Автор
Август, 1951 год.
ГЛАВА ПЕРВАЯ
ДНИ ОТРОЧЕСТВА
Моя родина — префектура Канагава. На расстоянии
примерно четырех ри1 на север от станции Хирацука
Токайдосской дороги по реке Сагами есть городок Ацуги,
прославившийся после войны своим аэродромом. Деревня,
в которой я родился, отдалена примерно на одно ри на
запад от городка. Сейчас там проходит линия электрички на
Одавара и построена даже небольшая станция, но во
времена моего детства во всей области вы не нашли бы ни
одного рельса и, для того чтобы сесть на поезд,
приходилось пешком добираться до станции Хирацука. Правда,
между станцией Хирацука и городом Ацуги несколько раз
в день курсировал старый дилижанс, который мог подвезти
путника за каких-нибудь двадцать сен 2, но бедные
крестьяне предпочитали приберечь и эту незначительную
сумму и в большинстве случаев отправлялись на станцию
пешком, взвалив свою ношу на спину. Половину
обрабатываемой земли составляли сухие поля, другую
половину — поливные рисовые поля. Северную часть поселка
пересекала речка Тамагава. Между речкой и
возвышенностью, расположенной южнее и используемой под
огороды, было разбросано несколько десятков домиков.
Впоследствии, во время большого землетрясения в 1923 году,
дома эти развалились и большая часть семей, спасаясь от
наводнений (речка разливалась два раза в год),
переселилась на равнинный южный берег реки. Однако мой отец
почему-то не захотел покинуть прежние места, и, продав
1 1 ри = 3.93 км. [Это и все последующие примечания даются
от редакции.]
3 1 сена = 0,01 иены.
S
то, что осталось от дома после землетрясения, он построил
себе поблизости новое жилье, в котором, как на одиноком
островке, провел остаток своей безрадостной жизни.
На запад от деревни высилась гора Ояма (называемая
также Афурияма), вершина которой врезалась в тучи,
как острый угол равнобедренного треугольника. Дожди и
снегопады на этой горе всегда были в центре внимания
жителей деревни. Если на горе выпадал снег, считалось,
что это к перемене погоды. Если вершина горы
покрывалась снежной шапкой, все спешили с зимними
приготовлениями. На горе был расположен храм, куда
направлялись паломники, молившие бога избавить их от военной
службы. Мой сосед М. ожидал медосмотра перед
призывом в армию, и поэтому он ежедневно вставал затемно и
шесть раз бежал по утреннему инею до храма и обратно,
позвякивая колокольчиком паломника. Не знаю, дошла ли
его молитва до бога, но он был призван в дополнительный
набор и покинул деревню с грустным лицом. Надо
сказать, что жители деревни, независимо от того, была ли у
них какая-нибудь конкретная цель паломничества, один-
два раза в году непременно отправлялись в храм на
поклон. От избытка ли населения или по какой-либо другой
причине, но крестьяне префектуры Канагава были бедны
и считались людьми недоброго нрава. Похоже, что наша
деревушка была особенно бедной. У нас было
несколько семей, занимавшихся в качестве отхожего
промысла исполнением так называемых «кагура», то есть
синтоистских танцев и песнопений. В нашей префектуре
так уж повелось, что во время осенних празднеств
исполнителями «кагура» были жители из нашей деревни.
Пахотной земли было так мало, что без такого
своеобразного промысла они, по-видимому, не могли добыть себе
достаточных средств к существованию. Они собирались в
группы по десяти или более человек, изготовляли костюмы
и маски и подряжались танцевать весь вечер за 5—10 иен.
Думается, что выручка на каждого была совершенно
ничтожной, но даже и она как будто несколько превышала
ежедневный доход крестьянина.
Наша семья имела одно те и несколько танов 1
собственной земли, которую мы обрабатывали своими силами.
Мы принадлежали к числу семей среднего достатка.
ι I тё = 0,99 га, 1 тан = 0,1 те
9
Несмотря на это, отец мой часто либо избирался в члены
деревенского собрания, либо выполнял работу помощника
старосты, поэтому и при своем незначительном имуществе
он имел большой авторитет, так что простые крестьяне не
смели поднимать перед ним голову. Происходил отец из
простой семьи, был молчалив и немногословен, но стоило
ему выпить (вообще он был воздержан, но при случае два-
три раза в году напивался пьяным), как он становился
необыкновенно заносчивым. Он начинал пространно
толковать о том, что лишь благодаря личным его качествам ему
удалось при незначительном имуществе стать на короткую
ногу с деревенскими заправилами. В то время я чисто по-
детски в душе восхищался отцом и мечтал стать, когда
вырасту, по крайней мере членом сельского собрания,
хотя и боялся, что не смогу стать достойным преемником
отца, не обладая его способностями. К тому же отец умел
подходить к людям, и его постоянно привлекали для
всякого рода переговоров и поручений. Этой способностью я
не обладаю даже сейчас.
Вообще я с детских лет отличался слабостью здоровья
и характера.
В деревне было много озорных мальчишек, и нередко
случались такие происшествия, как исчезновение за ночь
журавлей со всех деревенских колодцев. Я никогда не
принимал участия в подобных проделках. По соседству с
нашим домом жил мальчуган по имени Канкотян. Он был на
три-четыре года моложе меня, но его боялись все
мальчишки в деревне. Я тоже его очень боялся и помню, как,
завидя его на дороге, старался укрыться куда-нибудь
подальше. Другой мальчуган, мой сверстник, по имени Ара-
сан, с которым мы часто вместе ходили в школу, тоже
нередко мучил меня, пользуясь моей бесхарактерностью.
Как-то раз мы поспорили с ним на 30 тысяч иен, и я
проспорил. Понятно, что я не мог заплатить такую
невероятную сумму и дело бы на том и кончилось, но дня через
два Арасан пришел и заявил, что согласен сократить мой
долг до 3 сен, и отнял у меня эти деньги. Поблизости жила
также девочка Ойттян, и — не знаю почему — ей иногда
тоже доставалось от других детей. Помнится, я, когда был
не то в первом, не то во втором классе начальной школы,
возвращаясь из школы, увидел, как пять-шесть сорванцов,
подстерегавшие Ойттян, раздели ее и, привязав к тутовому
дереву, разбежались с торжествующими криками. Я не
10
участвовал в этой злой шутке, но на следующий день,
когда учитель допросил меня, я не сумел, как другие,
ответить, что ничего об этом не знаю, и в конце концов на
меня пала вся вина. В наказание я долго простоял в углу,
ходил к родителям Ойттян просить прощения и, таким
образом, претерпел все дурные последствия чужой проделки.
Итак, я был слаб характером, безответен, и, хотя меня
мучили многие, сам я не мог мучить никого, а если
оказывался в компании сильных мальчишек, то в конце
концов пожинал лишь наихудшие конечные неприятности,
вытекавшие из их поступков, и снова оказывался в числе
слабых. Такой опыт впоследствии постепенно сделал меня
сторонником слабых. Может быть, поэтому я и сейчас как-
то инстинктивно не переношу сильных и не могу не
защищать слабых. Я никак не могу сочувствовать
самодовольству процветающих личностей, но, когда я вижу, что из-
за этого самодовольства страдают слабые, забываю обо
всем и чувствую решительную потребность бороться на
стороне обиженных. Ничто не вызывает во мне такого
сильного возмущения; как надругательство над слабыми.
Как-то раз, когда война уже близилась к концу, в
окрестностях города Урава, где я тогда жил, разбился
американский самолет, а летчик, совсем еще мальчишка, попал
в плен. Я видел, с каким криком окружила его толпа
японцев, как его били руками и ногами, как ругали,
какому жестокому обращению он подвергся. Никогда я не
чувствовал такого гнева против своих соотечественников
и вместе с тем такого сожаления к ним. «Что за
презренная нация мы, японцы,— думал я,— совершенные дикари.
Такая нация не может выиграть войну. Если мы и
одержим временную победу, то никакой Великой Азии все
равно никогда не построим».
И сейчас, вспоминая об этом, я не могу избавиться от
чувства горечи. Я читал в газете, что недавно генерал
Макартур, вернувшись из Японии в США, сказал о
японцах что-то вроде того, что «японский народ пресмыкается
перед сильной властью и презирает слабых». Какой позор
для нашей страны, что нам нечем возразить на это! Перед
сильной властью мы совершенно стушевываемся и
способны даже на бесстыдную и лживую лесть, но как мы
издеваемся над теми, кто попал в беду, как нагло мы
наскакиваем на них, не давая им даже возможности
защищаться!
11
В последнее время, каждый день читая пресмыкатель-
ские статьи и заметки в крупных газетах, я не могу
отделаться от этого чувства горечи и стыда.
Я невольно уклонился от темы. Итак, я был с детских
лет слабохарактерным, это не позволяло мне попирать
чужие интересы и настаивать на своем. По этой же
причине мне недоставало детской живости, я редко бывал
решителен в осуществлении своих желаний и поэтому,
возможно, не походил на ребенка.
Я был, несомненно, послушным ребенком, но взрослые
не находили во мне милой непосредственности. Я не мог
не ощущать сострадания и сочувствия к слабым и
обиженным.
В глубине моей сегодняшней решимости встать на
сторону пролетариата, бесспорно, кроется этот же
неистребимый дух, который выработался у меня с детских лет и жив
по сей час. Именно поэтому я не питал ни
доброжелательности, ни сочувствия к тем, кто объявил себя сторонником
пролетариата в первые годы после войны, когда
пролетариат окреп и усилился и когда каждый, кому не лень,
громко объявлял себя пролетарием. В то время я порой
даже чувствовал что-то вроде сострадания к отдельным
разорившимся капиталистам и помещикам, лишенным
земли. Однако в последнее время, когда буржуазия
оправилась и стала зверски эксплуатировать пролетариат,
а вся нация оказалась под господством иностранной
державы, я органически не могу этого переносить. Многие
люди из конъюнктурных соображений стремятся стать на
сторону тех, кто процветает. Я же, напротив, не могу не
выступать сторонником обиженных. «Невыгодный
характер»,— могут сказать мне; я с этим согласен, но это уж
моя прирожденная черта, с которой приходится мириться.
Во время войны Япония была одной из великих держав
мира и господствующим государством Азии. Я никак не
мог доброжелательно относиться к господствующей власти
агрессивного государства, каким была Япония. В то время
армия пользовалась большим влиянием, чем флот, и
совершала больше произвола. В душе я глубоко ненавидел
армию. Однако после войны Япония стала слабым
государством и угнетаемой нацией. В этих условиях, когда
Япония находится в бедственном положении, я снова
чувствую безграничную привязанность к нашей ослабленной
нации. Нужно как-то вдохнуть в нее стремление к свободе
12
и независимости, воспитать и закалить в ней дух стойкого
сопротивления.
Когда я думаю об этом, во мне вскипает гордое чувство
патриотизма. Меня немало возмущает тот факт, что в то
время, как вся нация повергнута в жалкое положение,
когда она связана, лишена свободы и независимости и
угнетена, среди тех же японцев, к тому же среди японцев,
принадлежащих к господствующему классу страны,
имеется много людей, использующих бедственное
положение страны против пролетарских масс и толкающих страну
к тому, чтобы она все более и более превращалась в
колонию. Я не могу тем более не возмущаться теми, кто,
принадлежа к нашему же классу пролетариев, к числу
людей эксплуатируемых, заискивает перед власть
имущими и в наши дни не находит в себе храбрости, чтобы
примкнуть хотя бы к движению за мир, кто, предав своих
друзей, заботится лишь о своем сегодняшнем
благополучии и безопасности.
Я, конечно, слабый человек. Но именно поэтому я не
могу не бороться за освобождение, за свободу, не могу не
бороться на стороне слабых против сильных. И теперь мой
характер становится удивительно стойким.
Такая сила свойственна только слабым — она встает
из глубин души. Слабохарактерность, которая была мне
присуща в годы, когда меня называли детским именем
Кэнтян, теперь проявляется в совсем иной форме.
ГЛАВА ВТОРАЯ
ЗАРОЖДАЮЩИЙСЯ ИНТЕРЕС К НАУКЕ
Я родился в ноябре 1893 года и должен был бы пойти
в школу в возрасте восьми лет, в число которых
включается год рождения \ но отец был в то время членом
сельской управы и отдал меня в школу раньше
положенного срока, семи лет от роду. Однако из этого в конце
концов ничего хорошего не получилось. Слушая объяснения
учителя, я тайком приоткрывал крышку парты и
принюхивался к запаху завтрака, принесенного с собой из дому.
Больше двух-трех часов я не выдерживал, уходил из
школы в сельскую управу и совсем не занимался.
1 В Японии ребенку при рождении засчитывается один год.
13
Возвращаясь домой, я помню, иногда даже сосал
Материнскую грудь. Наконец, учитель не выдержал и
положил всему этому конец, сказав, что начать учебу лучше
будет все же с будущего года, и после двух-трех месяцев
я был освобожден от занятий.
Вообще мое умственное развитие шло медленно,
усваивал я все с опозданием. В университет поступил тридцати
лет, философией Нисида заинтересовался, когда
перевалило за сорок, по-настоящему подошел к изучению
марксизма, когда перевалило далеко за пятьдесят. Похоже,
что неудача, постигшая меня при раннем поступлении в
школу, в семилетнем возрасте, была не случайной. Во
всяком случае, разница в один год оказалась очень
существенной, и, поступая в школу в следующем году, я был вполне
понятливым и дисциплинированным ребенком.
О других предметах не помню, но по чистописанию я
всегда был первым и имел отличные отметки, хорошо
рассказывал и даже как-то раз в присутствии директора с
успехом продекламировал рассказ о Кумадзава Бандзан !,
страшно растрогал этим своего учителя и получил
благодарность от директора в присутствии всех учеников школы.
Мне все же недоставало темперамента, мозг мой
развивался медленно, и в начальной школе я ничем не
выделялся среди своих товарищей. Правда, первые три года
начальной школы я был по отметкам среди первых, но
затем перешел в число вторых и третьих и учился ни плохо,
ни хорошо.
Рассказы учителя были избитые, неинтересные, и я
почти не слушал их. Лишь в старших классах начальной
школы (в то время начальная школа имела четыре
младших и четыре старших класса, причем в среднюю школу
можно было поступить со второго старшего класса)
учитель Сайто рассказывал нам много интересного, когда у
нас было свободное время или когда из-за дождя
отменялись уроки физкультуры (школа не имела крытого
физкультурного зала). Наибольшее впечатление на меня
произвело пересказывание учителем «Воспоминаний» Току-
томи Рока 2. Учитель обычно держал эту книгу в одной
1 Кумадзава Бандзан (1619—1691)—известный философ
феодальной Японии, последователь Конфуция и Ван Ян-мина.
2 Току том и Рока (1868—1927)—видный писатель, один из
классиков японской литературы.
14
руке и пересказывал ее, зачитывая самые важные места.
Мы слушали его в течение нескольких месяцев, как читают
роман с продолжением. Я был страшно увлечен этим
рассказом, мне казалось недостаточным слушать его один
раз.
Вернувшись домой, я выпросил у отца 65 сен, купил
себе эту книжку и зачитывался ею каждый день и каждый
вечер.
Дело было перед русско-японской войной, с деньгами
у крестьян было очень плохо, поденщикам платили от
18 до 20 сен, журнал «Начальная школа» стоил 3 сены
5 рин !, но покупать его каждый месяц не мог ни один
ученик нашего класса. Издательство «Хакубункан»
издавало сравнительно толстый журнал «Мир юношества», но
он стоил 10 сен, хотя в нем не было цветных
иллюстраций. Из всего этого можно видеть, что книга была очень
дорогой, особенно если принять во внимание
материальное положение нашей семьи, но я был, видимо, так
настойчив, что сумел добиться своего.
В те времена из произведений Рока наибольшей
известностью пользовался роман «Хототогису» («Кукушка»),
который вместе с «Кондзики-Яся» заставлял плакать
провинциальных девиц, но его «Воспоминания»,
повествовавшие о трудных годах учения и борьбы, были мне гораздо
ближе и интереснее, чем любовные романы. Перечитывая
эту книгу много раз, я стал чувствовать себя ее героем Ки-
кути Синтаро, и мне захотелось непременно пойти по
такому же пути. В дни отрочества всему отдаешься целиком,
этим объясняется то, что мне захотелось абсолютно во
всем подражать Синтаро.
Прочитав, что Синтаро вступил в монастырскую школу
для того, чтобы научиться свободно читать камбун2, я
тотчас возгорел желанием читать книги на китайском языке
и приступил к чтению «Кокусиряку» и «Нихон-Гайси» 3.
Следуя примеру Синтаро, который поступил в Общество
изучения английского языка и брал уроки у профессора
Комаи, я решил, что должен любыми средствами изучить
английский язык (в то время ни английский язык, ни тем
1 Рин — мелкая монета, 0,1 сены.
2 Старокитайский язык, который применялся в феодальной
Японии в качестве книжного языка.
3 Известные исторические произведения японского историка
феодального периода Рай Санйо (1780—1832).
15
более старокитайский в начальной школе не
преподавали) . Меня поставило в тупик то обстоятельство, что Син-
таро, живя в доме дяди, сблизился с одной из его дочерей,
Судзуэ, с которой он однажды соревновался в том, кто
съест больше груш. Вокруг меня не было ни одной
девушки, которая бы соответствовала этому персонажу. Не
находя выхода, я остановился на нашей служанке, но это
было совсем не то.
Теперь вспоминая о тех днях, я вижу, как невероятно
наивен и несмышлен был я, но в то время все это делалось
с величайшей серьезностью.
Пока я витал в мечтах, в моей жизни произошло
событие, имевшее для меня очень важное значение,— смерть
матери.
После моего рождения мать болела так долго, что с
тех пор, как я стал понимать окружающее, я не помню,
чтобы она выходила на прогулку. Это не значит, что она
все время лежала в постели. Обычно, кое-как перебираясь
от места к месту, она выполняла домашнюю работу и по
собственной инициативе взяла на себя все хлопоты по
разведению шелковичных червей. Похоже, что в семье
были неприятности, отношения между матерью и отцом
были сложны, но дети обо всем этом ничего не знали,
а мать заботилась о нас, будучи доброй матерью нам и
хорошей супругой отцу.
Нас было четверо — две сестры, я и младший брат.
Младшая сестра была очень слаба и болезненна,
несколько раз она была близка к смерти. Каждый раз, когда
сестра заболевала, мать, забывая о своей болезни, одна
брала на себя весь уход за дочкой. Только теперь я могу
полностью осознать всю меру ее подвига — совершенно
разбитая недугом и потерявшая способность
передвигаться на ногах, она заботилась о тяжело больной дочери.
Но настал последний период ее болезни. Я был не в
состоянии слушать ее стоны, и однажды осенью, когда мне
исполнилось 11 лет, я выбежал в морозный вечер к
колодцу, несколько раз окатил себя холодной водой и, упав
на колени перед божком в гостиной, молил о
выздоровлении матери. Однако ее болезнь становилась все более и
более тяжелой, и 7 апреля следующего года (мне было
тогда 12 лет) она заснула вечным сном.
Я и сейчас слышу глубоко врезавшиеся в мою память
громкие рыдания соседок, сбежавшихся к нам в тот день.
16
Собрались именно те, кого нищета преследовала
особенно жестоко. Моя мать при жизни, хотя и сама была
инвалидом, старалась по возможности помочь им:
раздавала старые гета \ к которым пришивала новые шнурки,
шила для детей платья из обрезков и т. п. Даже в нашем
поселке, где из-за бедности человеческие чувства
охладели, как вода, участие матери к судьбе бедных оставило
о себе особенно чистое и теплое воспоминание. Крестьяне
были народ грубый, они обманывали друг друга без
зазрения совести, видимо, считая, что ложь естественна и
необходима, для того чтобы жить на этом свете. Однако,
когда умерла моя мать, многие пришли к нам, и плач их
был искренний. Это меня глубоко тронуло. Отец был
характера холодного и рассудочного, его достоинством был
здравый смысл. Мать же была женщиной отзывчивой.
В моей крови текут, перекрещиваясь, эти два
противоречивых потока. Холодность и горячность и поныне во мне
сменяют друг друга. Эти две черты нередко накладывают
отпечаток на мои поступки. Похоже, что моя
приверженность к логичности марксизма и неуклонное стремление к
гуманизму связаны с органическими чертами характера,
унаследованными от отца и матери.
Пережив смерть матери, я впервые понял, что такое
горе и тоска в человеческой жизни. Кончились похороны.
Разошлись соседи. Отец и сестра (старшая сестра к тому
времени вышла замуж) были подавлены и молчаливы,
я растерян, а в доме стало невыносимо пусто. Во время
обеда мы ели, опустив головы, каждый думая о своем,
было тихо, и только мяуканье котенка нарушало иной раз
тишину.
Возвращаясь из школы, я никого дома не находил.
В просторной двенадцатиметровой гостиной было пусто —
хоть шаром покати. Открываю дверцу шкафа — к чаю
ничего нет. Впервые я узнал, как велика роль матери в семье.
С тех пор я незаметно стал превращаться в одинокого
мечтателя. Помогал ли я отцу выпалывать траву в поле,
отдыхал ли в поле, лежа на земле, я думал о
разных вещах, любил мечтать. Я — сын крестьянина. И
понятно, что тоже буду крестьянином, думал я. Земли у нас
одно те и несколько тан — так что самому обрабатывать
хватит. Но всю жизнь жить в темноте, копаясь и ползая
Гета — деревянные сандалии.
2 Янагнда Кэндзюро
17
в грязи, обидно. Я по пальцам пересчитал соседей и не
нашел ни одного, о ком мог бы сказать: «Его жизнь
интересна и полна смысла. Я хотел бы жить так же, как он».
А не хочешь ли быть Кикути Синтаро? У него ведь
имущества не было ни на грош. Даже в общежитие
английского колледжа он попал по протекции дяди. И, несмотря
на все, он поставил перед собой свою собственную цель и
боролся за самостоятельность. Если и в будущем все
будет, как сейчас, то мне нет иного пути, кроме того, чтобы
прожить жизнь наследника крестьянского хозяйства, а это,
что ни говори, занятие бессмысленное... Мужчина должен
решиться покинуть родные места и не возвращаться туда
до смерти, если он хочет обучиться наукам... Да, я
должен так же, как Кикути Синтаро, уехать из родной
деревни! Поеду в Токио или Иокогама, буду там
разносчиком молока или почтальоном, авось как-нибудь и
проживу. Синтаро ехал с острова Кюсю, а мой путь
значительно короче (я тогда не думал о том, что Синтаро —
это вымышленный персонаж).
Дело было летним вечером. Тайком от отца я собрался
уже накануне, завернул две-три книги в узел (я еще не
додумался до того, чтобы взять хотя бы смену белья) и,
положив в кошелек карманные деньги — 4 иены с чем-то,
ждал наступления рассвета. Часа в три или четыре утра,
прислушиваясь к храпу отца, спавшего в соседней
комнате, я приоткрыл дверь и выскочил на улицу. Я
стремглав пробежал около половины ри, затем отдышался и
бодро за один переход прошел 4 ри до станции по дороге
к Ацуги. «Человека везде ждут зеленые горы, и не только
на родине найдется земля, чтобы похоронить его кости»,—
думал я словами моего героя, и мое настроение
двенадцатилетнего подростка было весьма бодрым. Все было
хорошо до тех пор, пока я не пришел на станцию. Когда же
пришло время покупать билет, я не мог решиться, куда
мне ехать. Конечно, меня очень тянуло в Токио, но там
мне негде было даже переночевать. В Иокогама же у меня
есть родственники. Они могли бы принять меня на неделю
или больше, пока я устроюсь на работу и сниму комнату.
Другого выхода не было — я решился купить билет до
Иокогама. В то время поезд от Хйрацука до Иокогама
шел полтора часа, но для мальчишки, самостоятельно
отправившегося в странствие, это было долгое путешествие.
Я чувствовал себя путешественником, отправившимся в
18
дальние страны в поисках приключений. Наконец, я
добрался до дома родственников, прогулялся по городу и
стал подыскивать себе место для работы, спрашивая
дорогу у полицейских. Но оказалось, что никто всерьез и
говорить-то не хотел с мальчишкой, за которого некому
было поручиться. Я узнал, что снять угол можно за
7—8 иен, а это означало, что за все мои наличные деньги
я не мог бы прожить и полмесяца. Так ни с чем и вернулся
я в дом родственников. У них я прожил с неделю, а затем
приехал человек из деревни, который отвез меня к отцу,
задавшему мне основательную взбучку. Поистине
плачевно оборвалась нить карьеры новоявленного Кикути
Синтаро.
Однако этот эпизод не остался без последствий. Если
раньше отец твердо стоял на том, что я должен пойти по
его стопам и по окончании школы заняться хозяйством,
то теперь он почувствовал, что не может безжалостно
растоптать стремление сына к учебе и через год стал
поговаривать о том, что если меня устроит педучилище, то он
даст мне денег на ученье. Несколько лет назад в Кама-
кура было основано префектуральное педагогическое
училище. Поступив в училище, я мог бы ездить туда из дому
и таким образом сэкономить на жилье. Хотя лично я
предпочитал среднюю общеобразовательную школу, это,
видимо, не соответствовало планам отца. Если бы я окончил
среднюю школу, то не смог бы потом устроиться на
работу, а если бы я вздумал поступить еще в высшее
специальное учебное заведение, это обошлось бы в солидную
сумму, причем я уже не вернулся бы домой. Отец никак
не мог примириться с тем, чтобы потратить так много
денег и потерять наследника. Учебу же в педучилище можно
было оплатить, продав часть земли. Окончив училище,
я мог бы, по его расчетам, сносно жить наполовину
хозяйством, наполовину на заработок сельского учителя.
К тому же выпускникам педучилищ тогда
предоставлялось освобождение от военной службы и после
шестинедельных сборов их зачисляли в народное ополчение.
В обычных же случаях работника отрывали от хозяйства
на три года и, кроме того, зачислив в запас или ополчение
второго разряда, могли вновь призвать в любое время.
Учитывая все это, отец считал возможным отдать меня на
пять лет в педучилище. Таков был расчет, определивший
его волю.
2*
19
Мне не очень хотелось поступать в педучилище. Я
хотел поступить в общеобразовательную среднюю школу,
даже независимо от того, что это открывало перспективу
в будущем поступить в университет. Отец об этом и
слышать не хотел, и я примирился. Педучилище было все же
лучше, чем заниматься хозяйством. Так в конце концов по
воле отца я пошел сдавать приемные экзамены в
педучилище. Конкурс был очень большой (не то, что теперь)
и значительно труднее, чем при поступлении в среднюю
школу. Принимали одного из 7—10 человек. Поэтому тот,
кто не верил в свои силы, устремлялся в среднюю школу,
а в педучилище собирались скорее наиболее способные со
всей префектуры. Хотя я был принят только на
подготовительное отделение, впервые открытое в тот год,
известие о приеме принесло мне большую радость.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ
От нашей деревни до города Камакура, где находилось
педучилище, примерно семь ри пути. Ехать туда можно
было либо омнибусом, либо поездом, но отец и не подумал
использовать эти средства передвижения, заявив, что мы
пойдем пешком. Надо полагать, что он исходил из доброго
побуждения, желая экономить насколько возможно, чтобы
плата за учебу не подорвала нашего состояния. Я и не
думал обижаться на него. И вот в незабываемый день
22 апреля 1909 года затемно мы вышли из дому. Отец
взвалил на плечи коромысло с корзинами (ему тогда
пошел шестой десяток), и, кроме того, я нес в руках
провизию на несколько завтраков. Насколько я помню, проезд
от станции Хирацука до Камакура стоил тогда около
14 сен, и для того, чтобы сэкономить эту сумму, мы
должны были тащиться с тяжелым грузом на спине семь ри
по проселочной дороге. Вспоминая об этом, я теперь
особенно ясно чувствую, как нелегко было отцу решиться
послать меня на учебу.
Мне, бедному деревенскому парнишке, было
невыразимо грустно поступать в школу на чужбине и поселяться
в общежитии вместе с незнакомыми людьми.
Окончилась церемония открытия учебного года, и отец
в тот же день отправился в обратный путь, а я остался
20
один, не имея ни одного знакомого ни среди учеников, ни
среди учителей. Все мои одноклассники оказались старше
меня, и никто из них не принимал меня всерьез.
Кончилось тем, что я взбежал на второй этаж, где была спальня
и, зарыв лицо в одеяло, расплакался.
Подготовительное отделение было открыто в то время
впервые, а до тех пор учениками педучилища становились
юноши уже довольно взрослые, и я, четырнадцатилетний
юнец, не окрепший, с ломающимся голосом, производил
на всех странное впечатление. К тому же, я родился в
самом конце года и даже среди многочисленной компании
учеников, живущих в общежитии, выделялся своей
неопытностью. Более всего стыдился я того, что у меня еще
не росли волосы в некоторых местах, как у взрослых
юношей, и во время купанья я тщательно обвязывался
полотенцем, чтобы никто этого не заметил, в то время, как
другие без всякого стеснения раздевались и расхаживали с
гордым и независимым видом. Я им очень завидовал и
искренне желал стать поскорее таким же великолепным,
как они. Я с величайшей заботливостью отнесся к первым
волоскам, появившимся на моем теле, и всячески
оберегал их.
Даже такие моменты, следовательно, давали себя
знать. Но мой «комплекс неполноценности» проявлялся
тогда в различных областях. Когда я готовился к
поступлению в школу, мне приготовили главным образом
японскую национальную одежду, а европейской одежды у меня
было мало. До введения новой формы нам разрешалось
ходить кто в чем хочет, но так получилось, что уже с
самого начала обувь почти у всех оказалась европейская.
У меня же кожаных туфель не было. Правда, дешевые
туфли в то время можно было приобрести примерно за три
иены, но и этой суммы я не мог решиться просить у отца.
В обычное время это меня нисколько не волновало, но на
уроках физкультуры, когда весь класс выстраивался и
бодро вышагивал в туфлях, мне, замыкавшему строй (я и
ростом-то был меньше других), было трудно идти в ногу,
а звук моих деревянных сандалий нарушал стройность
марша и вызывал на моем лице краску стыда. Вначале
я не был одиноким в своих страданиях, и это меня
несколько утешало, но вскоре другой студент, тоже
ходивший в гета,— Кикути (так звали этого
миловидного паренька) получил новенькую пару туфель. Остав-
21
шись в одиночестве, на уроках физкультуры я замирал
от страха.
Я был необщителен и товарищей имел мало. Дружил
пять лет с В. и К-, но ни тот, ни другой среди студентов
нашего класса авторитетом не пользовались. Из моего
класса вышло большое число известных людей, что
необычно для педучилища. Фумио Ниикура — теперь
директор автомобильной компании Тайва, Усабуро Найто —
ректор Института наук и искусств в префектуре Айти,
Macao Фукуда — поэт, правда, в последнее время уже
забытый, и многие другие способные юноши по странной
случайности оказались сведены в одну группу. В идейном
отношении впереди всех был тогда Фукуда. Учителя
считали его никчемным парнем, угнетали его, но он жадно
ловил дух приближающейся новой эпохи, читал Уитмена,
на лекции не обращал ни малейшего внимания и все время
писал стихи. Мое сознание было тогда настолько
отсталым, что я с благоговением слушал проповеди
преподавателя этики о том, что «просвещение — это призвание»,
а настроения Фукуда мне были совершенно непонятны.
Найто был типичный вундеркинд — учителя не могли
найти у него никаких недостатков, директор,
преподаватели и мы, его товарищи, преклонялись перед ним. Его
считали самым талантливым учеником училища со дня
его основания, средний балл его достигал 96—97 \ так что
никто с ним и сравниться не мог. Он успевал по всем
наукам — и по гуманитарным, и по естественным, и по
предметам художественного воспитания, поэтому учителя
приходили в восторг от одного лишь упоминания фамилии
Найто. Но, пожалуй, по-настоящему одарен был не
Найто, а Ниикура. Только он совсем не занимался,
надеясь на свои способности. «Все это глупости, можно ли
этим всерьез заниматься» — было написано на его лице,
в аудитории он обычно дремал. Поэтому и средний балл
у него так же, как и у Фукуда, колебался, насколько я
помню, между 80 и 85 баллами.
Среди таких одноклассников я был самым
примитивным по своему мировоззрению, целиком умещавшемуся в
рамках абсолютизма периода Мэйдзи2 и выходившему за
1 В некоторых учебных заведениях Японии высшая оценка
успеваемости — 100 баллов.
2 Период царствования (1867—1912) императора Муцухито
(Мэйдзи).
22
его пределы только в части гуманизма, влечение к
которому я почувствовал под влиянием двух-трех литераторов.
Токутоми Рока полностью завладел моим воображением
после того, как я прочитал его «Воспоминания». Его
произведения «Природа и человек», «Сборник молодого
Рока» и другие (несколько позже я прочитал «Бормотание
земляного червячка») я перечитывал по нескольку раз с
неослабевающим интересом и всегда находил в них
очарование. В то время студенчество увлекалось
«Наставлениями студенту» Кэйгэцу Омати х и «Размышлениями о
жизни» Токутоми Сохо 2, но особенно глубоко проник в
наши души романтизм Такаяма Тёгю 3. Его «Впечатления
о Хэйке» я почти целиком выучил наизусть, а когда
узнал, что «Бонза Такигути» было написано им в
студенческие годы, я пришел в крайнее изумление перед его
талантом. В то время уже вышли в свет стихи Тосон
Симадзаки4 и «Я —кот» Сосэки 5, но влияние их
сказалось несколько позже. Зарубежную мысль я тогда был
еще неспособен воспринять непосредственно, сказывалась
ограниченность лингвистических познаний.
Все описываемое происходило в Японии 1910 года, где
и рабочее движение и социализм находились еще в
младенческом возрасте. Процесс Котоку6 потряс общество, но
формы, в которых прошло это потрясение, были
совершенно реакционными; все задавались вопросами, откуда
берутся такие ужасные люди и как возможны такие
страшные события. Преподаватель старокитайского
языка — камбуна — очень резко поносил Котоку с
кафедры. Но я ко всему отнесся равнодушно, как к делу
постороннему, и даже не задумался, почему возникают
подобные события.
В то время для меня самой насущной и мучительной
проблемой были не думы о социальных противоречиях
1 Кэйгэцу Омати (1869—1925) —японский поэт и беллетрист.
2 Сохо Токутоми — журналист, историк, в последние годы член
парламента (брат известного писателя Токутоми Рока).
8 Тёгю Такаяма (1871—1902)—литературный критик,
националист и ницшеанец, имевший влияние на молодежь.
4 Тосон Симадзаки (1872—1943)—японский писатель,
представитель романтизма и противник феодальной идеологии.
5 Сосэки Нацумэ (1867—1916) —японский писатель.
6 Котоку (1871—1911) —видный деятель японского рабочего
движения раннего периода, казнен в 1911 г.
23
или о судьбах Японии, а вопрос о том, как дальше жить
мне, маленькому одинокому человеку. Мои глаза не
видели тогда общественных событий. Не было для меня
ничего более чуждого, постороннего, неинтересного, чем
вопросы политики и экономики. Лишь изредка я
задумывался о своей судьбе. Педучилище, как место подготовки
учителей начальной школы, предопределяло дальнейшую
судьбу своих воспитанников и всеми средствами
препятствовало всяким отклонениям в какую-либо сторону. Но я
поступил в педучилище совсем не из побуждения стать
учителем, а для того, чтобы получить хоть бы
какое-нибудь образование. Отец мне сказал: «В среднюю школу
не пущу — в педучилище можешь поступить» — вот я и
поступил. Но, придя сюда, я увидел, что судьба стать
учителем нависла надо мной, как какой-то категорический
императив.
Нам говорили: «Воспитание — это призвание», и это
звучало красиво. Но за этими словами скрывался еще и
иной смысл, а именно: «Поэтому вы обязаны отдать этому
призванию всю жизнь». Но для меня лично учительство
могло и не быть призванием. Ведь и сельское хозяйство,
и промышленность также необходимы нашему обществу.
Было бы очень странно считать, что священным является
только учительство, а все другие занятия низки и
незначительны. Учитель этики прожужжал нам уши словами о
том, что «неведомы тому назначение и миссия учеников
педучилища, кто питает непомерные материальные
вожделения и завидует другим». Он поучал нас, говоря, что
учитель должен быть горд своей честной бедностью и должен
быть готов к неблагодарности со стороны окружающих.
Но у всякого своя индивидуальность и всякому хочется
заниматься любимым делом. Сколько бы ни была свята
профессия учителя, не может же быть, чтобы все были именно
учителями. И те же материальные вожделения, если они
не к лицу учителю, то не к лицу они и всякому другому,
а если это не так, то почему бы их не иметь учителю?
Я понимаю, что быть учителем — святое дело, но раз это
так, то почему бы не обеспечить учителю спокойную жизнь,
дав ему достойное материальное обеспечение? Мне
казалось очень нелогичным, что именно из-за святости своего
занятия учитель должен бедствовать и гордиться своей
бедностью. Я стал думать, что в этом кроется какой-то
обман.
24
Так или иначе, я не мог приучить себя к мысли, что
всю жизнь буду учителем начальной школы. Не то, чтобы
я считал это неподходящим занятием, но когда мне
говорили: «Будь горд, что ты учитель, не уклоняйся с этого
пути — это ересь», во мне зарождалось смутное
сопротивление. Вы все толкуете о святости профессии учителя, но
укажите мне, кто из нынешних воспитателей ведет святой
образ жизни? В других областях — не знаю, из-за денег
или из-за славы — все борются изо всех сил, и только у
нас, в школе, нет этого напряжения, нет этого пульса
жизни, все вялы, как выдохшееся пиво, смотрят тусклым
взглядом, одежда на всех грязного цвета, мятая. Да и
разве мог привлечь молодую и горячую душу вид
директоров деревенских школ, партиями приезжавших в
училище на несколько месяцев для слушания курса лекций с
целью повышения квалификации, когда они, вытаращив
глаза и моргая, слушали лекции молодых выпускников
пединститута. Было просто нестерпимо думать, что и твое
будущее будет таким серым. Нет, не хочу. Ни в коем
случае я не буду учителем в начальной школе. Должна же
быть для меня другая работа, которой я мог бы отдать
всю жизнь.
Думая об этом, я никак не мог заставить себя
заниматься. В общежитии вечерние часы были объявлены
временем самоподготовки и чтения, и даже беседы
запрещались.
Когда такая тоска сдавливает грудь, становится
невозможным оставаться с глазу на глаз со своими книгами.
Сколько раз по ночам, мучимый тоской, я покидал свое
место в комнате и, делая вид, что иду в туалет, поднимался
на второй этаж, чтобы там из окна смотреть на луну в ка-
макурском небе. Иногда я уходил на песчаные холмы
Юигахама или взбирался на гору за школой, позади
храма Цуругаока Хатиман, усаживался под сосной и
думал свои думы. Когда дум накопилось слишком много,
я просидел целую ночь над пространным письмом отцу и
просил его позволить мне сдать экзамены в пединститут.
Отец не отозвался даже открыткой.
Все эти размышления и недовольство сказались на мне,
и я уже не был вполне послушным учеником. Директором
училища был г. Утибори, окончивший токийский
пединститут и пользовавшийся доверием как со стороны учителей,
так и со стороны учеников. Именно поэтому при нем ни-
25
кто не оставался бездеятельным и велась всякого рода
работа. Выпускали ежемесячный журнал, посылали
учеников в токийское спортивное общество на розыгрыш
чемпионатов и иногда выигрывали (чемпионом был,
например, мой одноклассник Кумасава), устраивали
соревнования по бегу на тринадцать ри, в которых принимало
участие по нескольку сот юношей, изо всех сил боровшихся
за первенство,— весь год мы были непрерывно заняты
каким-либо делом. Одним словом, лучшего директора мы
и желать не могли, он был наделен характером,
отличавшимся, я бы сказал, восточным благородством. Готовясь
к занятиям по этике, он составлял прекрасные конспекты
на свитках и подавлял нас блестящими (по тому времени)
лекциями. Он очень сильно реагировал на проявление
добра и зла, и если кто-либо оказывался им осужден, то
расположение его вернуть было почти невозможно. Всем
же, кто приходил к нему с искренней просьбой, помогал,
не жалея сил. Однако, считая, что школа — превыше всего
и что для укрепления авторитета школы каждый должен
забыть свои корыстные интересы, он иногда приносил
неприятности тем, кто хотел развивать свои индивидуальные
задатки и думал о личной свободе больше, чем об
интересах коллектива. И не случайно, что даже помимо его воли
в школе стало осуществляться бессмысленное
принуждение и насилие. Я тоже в общем уважал директора, но
многое мне было в нем непонятно. В особенности я никак не
мог согласиться с принципом «школа — превыше всего»
в том виде, в каком нам преподносил его директор.
Не могли не относиться критически к этому принципу
и другие ученики. Я помню, что и Фукуда и Ниикура по
этому вопросу придерживались одного мнения со мной,
что вызвало неприязненное отношение к нам со стороны
ряда преподавателей. Особенно недобро посматривал на
меня старший преподаватель К., который не изменил
своего недоброжелательного отношения ко мне и
впоследствии, когда я уже окончил училище.
В этой обстановке меня всячески поддерживал учитель
географии Сибуя. Он стал учителем, сдав государственные
экзамены на эту должность, был олицетворением
честности. Занимая пост надзирателя общежития, своими
постоянными замечаниями он вызывал недовольство
учеников, но для меня он всегда останется в памяти как
благодетель. Впоследствии Сибуя надолго уезжал в Мань-
26
чжурию, вернулся в Иокогама уже в преклонном возрасте
и в последние годы был директором женского колледжа
Фудзимигаока. Мой однокурсник Одзаки и сейчас
работает в этом колледже заведующим учебной частью.
Память о Сибуя сохранится и после его смерти. Восприятие
ученика обладает особой достоверностью, и поэтому, как
бы ни были блестящи лекции преподавателя, каким бы
временным успехом он ни пользовался, его подлинная
сущность будет разгадана, хотя бы и через долгие годы. Нет
силы, которая трогала бы чувства человека больше, чем
добросовестность,— этому меня научил прежде всего
учитель Сибуя. В этом смысле он остается моим
благодетелем на всю жизнь. Горько думать о том, что несколько лет
тому назад он скончался. Кроме него, мне запомнился
учитель истории Савада Тодзю, также безвременно умерший.
Из учителей педучилища, которые запомнились мне на всю
жизнь, я могу назвать только двух-трех педагогов.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
СЕЛЬСКИЙ УЧИТЕЛЬ
Несмотря на то что мои успехи в учебе были не такие
уж плохие, по окончании училища меня направили в
глухую деревушку. Она расположена в 20 километрах на
север от моей родины и в пределах префектуры Канагава
считалась, пожалуй, самой отсталой горной деревушкой.
Я лично не имел особенного недовольства по этому
поводу и, поскольку отроду привык к деревенской
обстановке, направился на место службы с большим
удовольствием, чем если бы ехал в какой-либо шумный город
вроде Иокогама или Иокосука. Если от приморского
городка Хирацука проехать 10 километров на север по
дороге на Ацуги вдоль реки Сагами, Ήepeceκaющeй
центральную часть префектуры Канагава по направлению с
севера на юг, а от городка Ацуги пройти 10 с лишним
километров вверх по крутому горному пути, то в конце
его и расположена эта деревушка, называемая Такаминэ.
Здесь находилась школа, имевшая шесть классов
нормального обязательного обучения и один класс
повышенной начальной школы, всего рассчитанная на семь лет
обучения. Сюда-то я и был впервые направлен, когда
27
получил диплом учителя начальной школы. Мне было
девятнадцать лет — подумать только, что я был когда-то
в таком возрасте,— и я имел при себе документ, в
котором было сказано: «Настоящим направляется в
начальную школу уезда Айко префектуры Канагава, однако
может быть привлечен к службе и в старших классах,
служащий восьмой категории». Это означало, что я буду
получать в месяц 18 иен, что в переводе на день
составляло 60 сен, то есть примерно столько же, сколько
получали рабочие. В то время сельский учитель был
олицетворением низкооплачиваемых работников, он принадлежал
к самой низшей категории служащих. Тем не менее
одинокому на эту зарплату можно было жить, не испытывая
особой стесненности в мелких расходах. Меня поместили
в комнату, предназначавшуюся для дежурства, а также
для занятий по кройке и шитью. Примерно 7 иен с чем-то
я платил за стол кухарке, а остальные 10 иен тратил на
гета, книги и журналы. После всего этого у меня еще
оставалось немного денег. Получив диплом, я купил себе
полный костюм из синего шевиота, он был из чистой
шерсти, и заплатил я за него 17 иен, так что у меня еще
осталась одна иена из месячной зарплаты. За 4—5 иен
я купил очень хорошие ботинки, но надевал их только
во время гимнастических упражнений, а в обычное время
обходился одними гета. В то время я при желании мог бы
откладывать 5—7 иен ежемесячно, но я об этом
совершенно не задумывался, был беззаботен, и деньги куда-то
уходили, так что в кармане у меня всегда было пусто.
Директором школы был Адатибара, уроженец нашей
префектуры, человек настолько добрый, что, казалось,
в мире нет более безобидного существа. Но фактически
власть в школе взяли в свои руки два старых
преподавателя — г. Кодзима и г. Нумада. Им обоим было за
пятьдесят, и они очень любили выпить. Особенной властью
пользовался Кодзима, один из боссов этой деревни,
человек крутой, так что сам директор его побаивался. В
деревне не было абсолютно никаких развлечений, и эти люди
каждую неделю выискивали предлог, чтобы организовать
выпивку, и, напившись, издевались над директором.
Закусывали обычно вареной свининой с луком и бобами и
густо приправленной бобовым же соусом. Учителей было
всего восемь, и, что бы ни затевалось, собраться было
недолго. Никто из нас не толковал назойливо о демократии
28
и социализме, и для двух ветеранов кругом была удобная
тишь да благодать. Занятий было не много, зимой дни
становились короткими и ученики запаздывали. Учителя
собирались вокруг жаровни и покидали ее очень неохотно.—
«Эй, сторож, погоди со звонком!» Проходит десять,
пятнадцать минут — учеников все еще маловато. Проходит
полчаса, а теперь и вовсе нет смысла начинать урок, так
как до следующего звонка осталось совсем немного
времени. Что там возиться — начнем со следующего урока.
Ученики к этому привыкли, и достаточно было небольшого
дождя или малейшего ветерка, как многие задерживались.
Ученики знали, что, явись они и вовремя, к 9 часам,
занятия все равно задержатся. Особенные трудности
возникали после снегопада. Многим детям и вправду было
трудно добраться до школы, когда выпадал глубокий
снег. Ведь почти никто из них не имел ботинок, а идти
приходилось по большей части горной дорогой, холмами — тут
в гета не пройдешь. В такие дни опаздывали уже не
столько ученики, сколько сами учителя.
Директор задерживался в таких случаях надолго, так
как его дом находился в соседней деревне, в горах.
Через час после него появлялся Кодзима и говорил:
«Сегодня заниматься невозможно, поднимем лучше флаг».
Дело в том, что по религиозным и национальным
праздникам на воротах школы вывешивался государственный
флаг, и все знали, что если выставлен флаг, то занятий
в школе не будет. «Эй, сторож, выставляй флаг!» —
приказывает кто-нибудь бодрым голосом. И вот высоко в
воздухе, среди мелких снежинок, появляется флаг с
изображением восходящего солнца. Вышедшие из дому ученики
замечают его издали и кричат: «Флаг вывешен, флаг!» —
и довольные бегут обратно. Хоть это и являлось
нарушением, но опасности прихода окружного инспектора не
было никакой. Собравшиеся в школе учителя садились
вокруг жаровни, толковали о том, о сем, а затем посылали
сторожа за рисовой водкой и мясом. Начинался обычный
банкет. Поистине тишь, гладь да божья благодать.
Деревенские ребятишки, понятно, были сопливые,
одеты грязно. Средняя школа была для них чем-то уже
вроде храма науки, почти никто из них и не думал в
дальнейшем поступать в среднюю школу или институт. И
поскольку они не заботились об отметках, то и не прилагали
особых усилий на экзаменах, относясь к ним в высшей
29
степени равнодушно. Несмотря на это, в процессе
ежедневных занятий и развлечений в течение годичного
общения углублялось чувство привязанности между учениками
и учителем. Мне были дороги и успевающие, и
неуспевающие. Поскольку в обращении со мной даже дети,
считавшиеся совершенно безнадежными сорванцами,
становились добры и послушны, я не имел оснований жаловаться
на свою жизнь сельского учителя и счастья иного не
представлял себе.
В лесу за школой весной вырастал папоротник,
а осенью созревали каштаны. Урвав некоторое время от
занятий, мы без труда могли вместе с учениками пойти в
лес за папоротником или собирать каштаны. За
каких-нибудь полчаса можно было шутя собрать 4—5 кан 1
каштанов. Почти у каждого ученика дома было каштановое
дерево, и никто из них поэтому не стремился непременно
унести каштаны домой. «Это вам, учитель»,— говорили
они, собрав в кучу свою добычу. Папоротника было так
много, что, собрав, мы не знали, куда его девать, разве
только на удобрение. Я и в последующие годы не смог
сойти с пути учителя и долгое время оставался
преподавателем, но, пожалуй, за все эти годы работы в начальной
и высшей школе я никогда не был так счастлив, как в
течение двух лет в деревне Такаминэ.
С тех пор, по моим подсчетам, прошло тридцать с
лишним лет. Тогдашним моим ученикам теперь уже около
пятидесяти, с некоторыми я и по сей день переписываюсь,
другие даже посещают меня раз-два в году. Ни один из
них не возвысился и не прославился, но для меня это и
не важно — я их люблю так же, как и раньше. В
последние годы я по какому-то поводу (кажется, был митинг в
связи с окончанием войны) ездил в эту деревню и провел
целый вечер за разговорами с прежними моими учениками,
принесшими самодельные домашние угощения — бобовый
творог, сладкий картофель, рисовое желе и т. п. Никогда я
не ощущал счастья быть школьным учителем так, как в тот
вечер. Как я понял по рассказам моих собеседников, когда
я работал в деревне, далеко не все жители
придерживались обо мне хорошего мнения. Встречаясь с ними на
улице, я не спешил кланяться первым, не льстил членам
сельской управы и мог показаться всем заносчивым желто-
ротым юнцом. Были за мной и другие грехи — стоило по-
1 1 кан = 3,75 кг.
30
пасть мне в руки интересной книге, я зачитывался ею
настолько, что на уроке чистописания предоставлял ученикам
самостоятельно выводить иероглифы, а сам погружался
в чтение. Но, вероятно, самую неблагоприятную память
оставил о себе мой роман с учительницей.
Деревенские юноши и девушки следили за каждым
шагом молодого учителя. Невидимые глаза их
преследовали меня повсюду. Нельзя сказать, чтобы я не заметил,
как девушки, возвращаясь с деревенских праздников,
забирались в школьный сад и подглядывали в окошко —
сплю я или нет. К любви я был сравнительно холоден,
сказывалась также крепость моральных устоев, привитых нам
в педучилище,— во всяком случае я не заигрывал и почти
не шутил с девушками. У меня дома жила молодая
прислуга, которая иногда летом, когда я возвращался из
школы, делала мне прозрачные намеки, но я оставался
тверд и ничем ей не отвечал. Поэтому я оставался юношей
вплоть до женитьбы и не знал никакой иной женщины,
кроме жены. Мои товарищи Н. и С, довольно часто
посещавшие публичный дом, своими рассказами пытались
втянуть и меня в свои похождения, но, сколько я их ни
слушал, у меня не возникало побуждения последовать их
совету.
Это, конечно, не значит, что я был совершенно
равнодушен к прекрасному полу. Я не смотрел на женщин как
на объект чувственных вожделений, но красивые женщины
мне не казались безобразными, особенно молодые
девушки, чистые и наивные, и я часто рисовал в своем
воображении картины задушевных бесед при лунном свете.
Иначе говоря, я не стремился к женскому телу, а искал
платонических чувств, романтики.
В нашей школе была учительница К-, приехавшая туда
раньше меня и преподававшая кройку и шитье. Она
приехала не из педучилища, а получила образование в Токио
и в эту глухую деревню была направлена временно, на
короткий срок. Она была девушкой вполне современной,
и мне, усвоившему в педучилище жесткую национальную
мораль, казалась даже несколько легкомысленной. Она
совершенно спокойно, как нечто вполне естественное,
читала считавшийся тогда передовым женский журнал «Мир
женщины», где печатались статьи Райте Хирацука 1 и ее
1 Хирацука Акико (Райтё)—одна из старейших
руководительниц женского движения в Японии.
31
сподвижниц из среды «синих чулок» К Если, разговаривая
с директором, с Кодзима или Нумада, я скучал, теряя
ощущение современности, то беседуя с ней, чувствовал,
напротив, что-то новое, свежее. В деревне не с кем было
поговорить, и понятно, что скучными вечерами мне было
очень интересно беседовать с такой девушкой о нашей
действительности, о жизни.
Среди моих коллег по школе был еще один
сравнительно интересный собеседник—инспектор Иосикава,
человек лет тридцати, приехавший в деревню вместе с
супругой, тоже учительницей. Они были очень добры ко мне,
и я часто обращался к ним за советом по всякого рода
делам. Среди массы людей, занятых мелочными интересами,
лишь они, казалось, были выше всяких расчетов, и я порой
навещал их по вечерам и ужинал вместе с ними.
Единственным утешением в безрадостной жизни сельского
учителя были беседы с этими людьми. Таковы обстоятельства,
приведшие к тому, что примерно через полгода после
моего приезда в деревню мы с К. оказались в любовных
отношениях. Я долго жил в общежитии, совершенно не
встречался с женщинами, был неопытен и слишком
прямолинеен. У меня, разумеется, не было и мысли о том, чтобы
наслаждаться мимолетной любовью, я не мыслил себе
иного пути в дальнейшем, кроме вступления в брак. Через
г. Иосикава я обратился к родителям К. (они жили в
городе Цутиура префектуры Ибараки, где занимались
производством соевого соуса), а затем, получив согласие
отца, на следующий год, 7 января, справил свадьбу. Я не
видел в этом ничего дурного, скорее даже считал это
естественным, но людям старого толка, какими были
жители деревни, казалось недопустимым, чтобы учитель
женился на учительнице, работающей в той же школе.
Было решено, что мы подали исключительно дурной
пример ученикам, а наш брак был расценен как
непозволительное и постыдное действие, как новая выходка
учителей, начавших заключать свободные браки, или браки
по любви. Так или иначе, моя репутация учителя
оказалась в деревне далеко не блестящей. Поэтому в тот год я
получил премию размером только в одну золотую иену.
Не знаю, сколько получили другие, но я как будто полу-
1 «Синие чулки» — литературное объединение
женщин-писательниц.
32
чил меньше всех — это было заметно, несмотря на
тогдашнюю дешевизну. Однако я был совершенно спокоен и даже
радовался, купив на эти деньги шляпу. Женившись, я
решил оставить общежитие, вернуться к себе в деревню и
оттуда ездить в школу на велосипеде. Несмотря на .мою
молодость и выносливость, мне нелегко было ездить 20
километров туда и обратно, на что уходило 4 часа в день. Но
и это мне не было в тягость. Хоть и трудно зимой вставать
в пять часов утра и мчаться по горному пути, то
преодолевая подъем, то съезжая под гору, борясь с дождем, с
ветром, я почти ни разу не опоздал и не пропустил занятий
в школе. Трудности, с которыми я столкнулся после
женитьбы, состояли не в тяжелом физическом труде, а в
сложной моральной обстановке, сложившейся внутри
семьи. После смерти моей матери отец так и не женился,
оставаясь до конца вдовцом, а я не позаботился о нем в
достаточной мере. В доме у нас была старушка,
выполнявшая после смерти матери домашнюю работу, и она по
каким-то непонятным причинам очень не взлюбила мою
жену. Она нашептывала отцу и пыталась испортить
отношения между ним и невесткой. Молодую девушку,
выросшую в городе, привыкшую к сравнительно обеспеченной
жизни, ездившую в вагоне второго класса, окончившую
женский колледж, вдруг, без всякой подготовки, ввести в
простую крестьянскую семью было безрассудно,
опрометчиво. Она совершенно не знала жизни крестьянской семьи.
Она не имела ни малейшего представления о том, какими
феодальными традициями была связана жизнь невестки
в крестьянском доме. А я вдобавок отнесся ко всему
этому бездумно и безучастно, что, конечно, не могло
привести к созданию спокойной обстановки в семье. Я просто
терялся, наблюдая всякого рода неполадки. Прежде всего
я жалел свою молодую жену. Я все время искал какого-то
выхода из этого положения, но мое необдуманное
вмешательство еще более ухудшало его и, в конечном итоге,
отражалось на жене. Я плакал. Каждый день,
направляясь на велосипеде в школу, я раздумывал и плакал,
раздумывал и плакал. Что за несчастье, что за беда, думал я,
и жил, проливая слезы.
Так продолжалось до тех пор, пока жену не подкосила
болезнь. Резкая перемена обстановки, непосильное
физическое и духовное напряжение подорвали ее здоровье.
Заболев, она не могла получить сносного ухода. Мне
3 Янагида Кэндзюро
33
приходилось самому готовить ей пищу, так как никто
другой не заботился о ней. Это было уже совершенно
нестерпимо. Оставить ее в таком положении — значило бы
лишить ее жизни. Я чувствовал свою ответственность, как
муж, и не мог оставаться равнодушным. После долгих и
мучительных раздумий я решился принять предложение
завуча главной школы (филиалом которой была наша
деревенская школа) и уехать из деревни. Бросить отца
одного и уехать из дому с молодой женой было
нарушением сыновнего долга и безжалостным поступком, но в
тот момент иным путем спасти жизнь жены было
невозможно. Отцу это, разумеется, не понравилось,
родственники также выразили серьезное недовольство, были и
такие, которые прямо поносили меня, говоря, что «молодежь
в последнее время распустилась» и т. п. Однако у меня
не было выбора, и я отправился в путь на новое место
работы.
Два узла белья, один комод, стол, книги, две-три
корзины — все это было погружено на повозку и отправлено
в Камакура, а мы с женой, как обычно, пешком за 4 ри
отправились на станцию Хирацука, а так как после
болезни жена очень ослабла, то добирались мы до станции
целый день. В пути нам захотелось пить, и я зашел в лавку
купить мандарины, но, помню, купил дешевые, почти
сухие, так что мы морщились, когда ели их. С этого
времени началась наша бедная жизнь. В городе Камакура
мы сняли домик за педучилищем Нисигомон. Это был один
из бараков при большом доме, он примыкал к воротам,
так что мы жили совсем как в сторожке.
ГЛАВА ПЯТАЯ
ЭКЗАМЕН НА ЗВАНИЕ УЧИТЕЛЯ
ГИМНАЗИИ
Была еще одна причина, побудившая меня покинуть
отчий дом и поселиться отдельно. Дело в том, что, делая
ежедневно 10 ри до школы и обратно, я совершенно не
имел времени заниматься. Отец вообще никогда не был
склонен одобрять мою страсть к чтению. В обычные дни я
возвращался из школы поздно, а отправлялся утром рано
и времени для систематических занятий не имел. Я пытался
читать хотя бы по воскресеньям, но вызвал этим его край-
34
нее недовольство. Отец считал, что наследник
крестьянского хозяйства обязан хотя бы по воскресеньям выходить
в поле и помогать по хозяйству. Применительно к
деревенской семье это было вполне закономерное мнение, но
я очень тяготился этой обязанностью. Ведь я никогда не
намеревался посвятить всю свою жизнь наполовину
сельскому хозяйству и наполовину преподаванию. Может
быть, это и обеспечило бы мое существование, но я был
молод, и такой образ жизни был для меня нестерпим. Мне
хотелось жить более цельно, всем своим существом
бороться за что-нибудь не на жизнь, а на смерть. Мне было
просто невыносимо и думать о сером существовании, об
отказе от осуществления своих стремлений, о том, чтобы
всю жизнь только тем и заниматься, что подсчитывать
доходы.
Однако, поскольку я не имел права поступить в
высшую школу, мне не оставалось ничего другого, как
поставить себе целью получение диплома учителя гимназии.
Это был чрезвычайно тернистый путь, ведь и по сей день
выпускники педучилищ по нескольку раз пытаются
получить этот диплом, но большей частью терпят неудачу.
Чтобы подготовиться по одному предмету, требовалось
обычно три, а то и пять лет, и сдать экзамен удавалось
очень немногим. И все же вскоре после женитьбы, в
праздник Кигэнсэцу, 11 февраля я решил вступить на этот
трудный путь. Планы мои затем развивались стремительно,
в том же году я решил за полгода подготовиться и
получить диплом по этике. С этой целью я решил отобрать
строго ограниченное число пособий и несколько раз
тщательно их проработать. Наконец, были отобраны
следующие книги: «Основы науки этики» Сэйти Иосида, «Десять
лекций по этике» Рикидзо Накадзима, «Лекции по
истории китайской философии» Тэцудзин Уно, «Философия
японских последователей Чжу си», «Философия японских
последователей Ван Ян-мина», «Философия древних
японских мыслителей» Тэцудзиро Иноуэ и другие, всего
более десяти книг. Однако в то время мне было очень
нелегко прочитать и усвоить все эти книги в свободное от
занятий время. То случатся какие-нибудь раздоры дома,
то нужно присмотреть за больной женой, так что я с
самого начала сознавал, какая трудная задача стоит
передо мной. Несмотря на все это, я решил во что бы то
ни стало осуществить свой план, в чем теперь усматри-
3·
35
ваю особый задор, присущий молодости. Зная, что отец не
одобряет моей затеи, я, стиснув з»убы, продолжал
заниматься в ледяной атмосфере недоброжелательства.
Экзамены проводились в здании префектурального
управления в городе Иокогама в августе, во время летних
каникул. Приехав туда, я увидел среди экзаменующихся
одних только пожилых учителей, и ни одного такого, как я
(мне было тогда двадцать лет). Нам было дано шесть
вопросов, и все трудные. Я писал ответы без перерыва в
течение четырех часов, исписал более десятка листов, сдал
их и, выйдя из помещения, пообедал в соседней
закусочной. Я чувствовал, как у меня все еще дрожали руки.
Результаты экзаменов подлежали опубликованию в
«Правительственных известиях» в октябре, и мне было тяжело
готовиться к последующим, основным экзаменам, со дня на
день ожидая опубликования этих результатов. Не знаю,
чем это объяснить, но каким-то чудом я сдал первый
экзамен благополучно. Известие о том, что я за полгода смог
подготовиться и успешно сдать экзамен, устраиваемый
министерством просвещения, удивило не только меня, но
и всполошило всех моих коллег в префектуре, которые
много толковали по этому поводу. Самым трудным,
однако, считался основной устный экзамен, и, когда я
впервые в жизни явился в министерство просвещения и
увидел таких крупных известных ученых, как Иноуэ и
Иосида, я ощутил свое ничтожество, и язык перестал
повиноваться мне. «Ты еще молод, и если, положим, и сдашь
экзамен, вряд ли сразу станешь преподавателем этики»,—
сказал мне профессор Накадзима.
Услышав это, я решил, что мой провал уже неизбежен,
и пал духом. Но и основной экзамен я кое-как все же сдал
и, получая диплом учителя гимназии по этике, я в душе
возгордился, принимая поздравления коллег, отмечавших,
что я получил диплом раньше тех, кто учился в
пединституте.
Диплом по этике поднял мое настроение, придал мне
бодрости, и я решил сдавать по одному предмету
ежегодно, избрав на второй год педагогику. К педагогике я
чувствовал меньше юггереса, чем к этике, но поскольку
одной этики считалось недостаточно для получения звания
учителя гимназии, то педагогика показалась мне наиболее
подходящим предметом, так как из других наук она была
все же ближе к этике.
36
Я перешел на новое место штатного преподавателя
как раз в разгар моей подготовки к экзамену по
педагогике. В новой школе я был очень загружен, так как мне
поручили и руководство практикантами и проведение
показательных уроков, но и в этой обстановке я старался
выкроить время для своих занятий, подчас в ущерб своему
здоровью. У меня выработалась привычка рано ложиться
спать, и, что бы ни случилось, часам к 9 вечера я
непременно укладывался. В противном случае на другой день
моя голова была бы неспособна к занятиям. Поэтому,
какие бы мне ни предстояли экзамены, я не мог перед ними
заниматься ночью, как бы это ввиду недостаточной
подготовки ни было необходимо. И впоследствии, когда я
поступил в университет, когда я сдавал выпускные экзамены
в пединституте, несмотря на то, что в день приходилось
сдавать два-три предмета (всего их было девятнадцать),
я ни разу не ложился позже обычного времени. Зато
утром поднимался рано. Чуть-чуть забрезжит рассвет, и я
не мог больше оставаться в постели. Вставал независимо
от того, хорошо ли спал или плохо, достаточно или
недостаточно. И сейчас время до первого завтрака является
для меня самым продуктивным, в эти утренние часы я
занимаюсь самыми важными делами. Ведь даже теперь,
когда меня посещают многие, никто не приходит утром,
до завтрака. Это дает возможность делать намеченную
работу, совершенно не беспокоясь, что тебе помешают.
Привычка рано ложиться и рано вставать соответствует, как
мне кажется, требованиям моего организма и, хотя она и
несет с собой некоторые неудобства, в целом кажется мне
положительной.
Возвращаясь к прерванному повествованию, я должен
сказать, что, переехав на новое место, где уже не слышал
упреков отца, не взлюбившего мою учебу, и освободился
от семейных скандалов, я мог спокойно и вдосталь
заниматься своим любимым делом. Мне казалось, что я
достиг наивысшего счастья.
Но, как говорят, нет добра без горя. То ли я
совершенно перестал следить за собой и переутомился, то ли
сказалось резкое изменение режима после ежедневных
поездок за 10 ри — одним словом, причина мне
неизвестна, но после экзаменов по педагогике я почувствовал
себя нездоровым: после прогулок пешком стал чувствовать
боль в правой части груди, потерял аппетит, поднялась
37
температура. Когда я обратился к врачу, оказалось, что
у меня температура 39 градусов. Врач нашел у меня
плеврит. И надо же было заболеть в тот момент, когда
жена ждала первого ребенка. К счастью, мы смогли
вызвать ее мать, чтобы она присмотрела за беременной
дочерью. Бедняку, стесненному в своих средствах, ничего не
дается легко. Из деревни мы выехали, имея при себе
только 40 иен, накопленных в почтовой сберкассе, но эти
деньги были истрачены так быстро, что мы и не заметили.
Жене необходимо повышенное питание, да и мне нужно
восстановить энергию. Яйца по 4 сены и 5 рин, скумбрия
8 сен за штуку, молоко 3 сены за один го1 — все это было
как будто недорого, но если к этому прибавить еще
стоимость лекарств, то сумма ежедневных расходов
получалась довольно внушительной. Как это ни было трудно,
тратить меньше того, что нужно, мы не могли.
В то время я получал 23 иены в месяц. За квартиру
мы платили 3 иены 50 сен (позднее мы покинули этот
барак и сняли двухкомнатный домик за 4 иены), были также
небольшие вычеты, так что в месяц мы могли располагать
суммой примерно в 15—16 иен, а в день получалось
50 сен. Поэтому, несмотря на дешевизну, нам было
нелегко. Начав с женой самостоятельную жизнь, мы не
только не могли совершить свадебного путешествия, но
даже не имели денег, чтобы прокатиться на трамвае.
Нам удалось выбраться в Камакура, но мы не
полюбовались видами Эносима, ни разу не выбрались на
экскурсию в Иокосука или Иокогама. Ранним летним днем мы
решили съездить по крайней мере на пляж в Дзуси и
отправились пешком, чтобы сэкономить на
железнодорожном билете, который стоил 5 сен. Мы позавтракали на
горном плато позади храма Намикири-Фудо и вернулись
домой. На обратном пути зашли в кондитерскую лавку
под громким названием «Асахия», купили на 10 сен
сладких лепешек и дома, вскипятив чай, уплетали их за обе
щеки. Конечно, мы жили скупо, но зато не влезали в
долги — иначе нельзя было жить.
Когда я заболел, все наши скудные сбережения были
мгновенно истрачены, а жена тайком от меня продала
подвенечный наряд и расшитые пояса и, опустошив комод,
потратила всю выручку на питание. Благодаря ее заботам
1 го = примерно 0,18 литра.
38
моя болезнь протекала сравнительно легко, температура
каждый день регулярно снижалась точно на один градус,
и в начале октября я уже смог встать с постели и сдать
кое-как основной экзамен в министерстве просвещения.
После этого нужда нас уже не оставляла и с каждым днем
жить становилось трудней. Нам и вдвоем с женой
приходилось туго, а тут еще родился ребенок, его нужно одеть,
ему нужно купить молока, да и мне приходилось следить
за собой, так как я очень ослаб после болезни. Как мы
ни изворачивались, наш бюджет становился все более и
более дефицитным.
До тех пор мы вели настолько строгий образ жизни,
что не представляли себе, как можно брать товары у
лавочника в долгий кредит. Мы считали, что за все продукты,
взятые в течение месяца, нужно обязательно
расплачиваться в конце месяца, и, как бы неблагоприятно это ни
отзывалось на нас, мы просто не могли оставаться в долгу
перед лавочником. К счастью, в те времена в школах
были общества защиты детей, наподобие нынешних
советов родителей и учителей, собиравшие с родителей
примерно по 50 сен. Мы иногда временно занимали
небольшие суммы из средств, собираемых обществом, но к
определенному сроку деньги подлежали возврату. Таким
образом, к концу месяца, когда мы рассчитывались с
лавочником и возвращали долг в кассу общества, нам
оставалось на мелкие расходы всего 1—2 иены. К тому же
выяснилось, что в начале будущего месяца общество
намерено потратить свои сбережения, поэтому малейший
просчет мог поставить нас в безвыходное положение. Среди
моих друзей был один очень хороший человек по фамилии
Огава. Он, кажется, тоже был к тому времени женат, но
материально обеспечен лучше, чем я, и мог ежемесячно
откладывать две иены, что составило в год 24 иены,
предмет его гордости. Узнав об этом, я ему позавидовал. Мне
и самому захотелось стать по крайней мере таким же
богачом, как и он. Посоветовавшись с женой, мы решили на
некоторое время жить отдельно друг от друга, чтобы
можно было обоим работать. Я устроил ее на три месяца
преподавательницей в префектуральной подготовительной
школе, но это не принесло нам большой выгоды, так как
пришлось взять няньку для ребенка и жить на два дома.
Сдавать экзамены на звание учителя гимназии мне из-
за слабого здоровья было очень трудно, но шаг за шагом,
39
постепенно я справился с этикой, педагогикой,
законодательством и экономикой. Сдавая экзамен по
законодательству и экономике, я был в большем затруднении, так как
характер этих наук отличался от прежних предметов, но,
решив, что лучше сдать впоследствии экзамены на
чиновника высшего ранга или адвоката и изменить
профессию, чем влачить нищенскую жизнь учителя, я даже
ощутил в себе прилив честолюбия.
Тогда я еще не понимал самого себя, мне казалось,
что при желании я могу сделать все, что угодно. Я
погружался в мечты, рисуя в воображении будущность
журналиста, кинодиктора (кино было еще немое, и в парке Аса-
куса дикторы пользовались довольно большой
популярностью), адвоката, юриста, чиновника, артиста и т. п.
Особенно прельщала меня перспектива стать адвокатом,
но, узнав, что для этой профессии очень важно быть
общительным, я бросил о ней думать. Есть только две
профессии, о которых я никогда отроду не мечтал. Это
профессии военного и священнослужителя. Бонзы не
нравились мне и цветом своих одеяний, парчовых и глазетовых,
и непонятностью сутр, которые они читали. Военные
казались мне бесчеловечными, так как специализировались
на убийстве. Я никак не мог взять в толк, как это другие
люди восторгались генералами да адмиралами. И ордена
на груди, и звон сабель, и звук армейской команды,
повелевающей громадным войском,— все это вызывало во
мне чувство отвращения. В конце концов оказалось, что
как ни вертись, а более безопасной и надежной
профессии, чем профессия учителя, нет. Пусть отец принудил
меня стать учителем, пусть государство заставило им
остаться, что из того? Не так легко изменить направление
жизни человека, установившееся во времена
молодости.
Я никогда не верил в то, что быть учителем — это мое
призвание, но вот прошло с тех пор несколько десятилетий,
и судьба на всю жизнь привязала меня к школе. Сейчас я
уже окончательно отстранился от деятельности учителя,
но мои интересы по-прежнему обращены, главным
образом, к просвещению в широком смысле. Но теперь я
воспитываю не тех, кому удобно было бы вечно сохранить
капиталистический общественный порядок, а, напротив,
стремлюсь внести свой вклад в дело воспитания таких
людей, которые изменили бы существующий мир и создали
40
новое общество. В этом, пожалуй, я отличаюсь от
современных школьных учителей.
Итак, продолжая работать учителем, я стал
подумывать о деятельности, которая в большей мере могла бы
обеспечить нас в материальном отношении. Поскольку к
тому времени мной было сдано уже несколько предметов,
наиболее близким путем к достижению этой цели оказался
пост штатного государственного преподавателя в
педучилище. Заняв этот пост, я мог бы получать в месяц
примерно 40 иен. При таком доходе я бы избавился от всех
забот и жил как в раю, но, пораздумав, я пришел к
выводу, что без протекции в госэкзаменационной комиссии
мне поста не получить. Лучше всего было бы получить
этот пост в той же школе, где я тогда работал, но старший
преподаватель К. упорно выступал против меня, считая
меня опасным элементом, так что на свою школу никакой
надежды не было. Как раз в момент этих колебаний я
получил приглашение одного уездного управления нашей
префектуры занять место директора школы. Но мне тогда
было 23 года — для директора школы возраст совершенно
неподходящий. Пост директора школы в уездном центре
налагал большую ответственность, то есть я невольно
становился старшим представителем десятков директоров
районных школ. Среди них, вероятно, есть люди старше
меня. Смогу ли я возглавить их — вот в чем был вопрос.
Но иного спасения от ежемесячных долгов у меня не было,
и пришлось ехать. Таким образом, 27 января 1917 года
я отправился на новое место назначения, имея при себе
приказ о назначении преподавателем и директором
начальной школы в городе Кёсине уезда Цукуи. По
жалованью я был приравнен к б классу высшей службы, что
давало 30 иен в месяц.
1917 год — это год, когда в России совершилась
революция.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ
Прошло всего три с лишним года после того, как я
окончил педучилище, и вот совершенно еще молодой, в
двадцатитрехлетнем возрасте, назначен директором
школы, расположенной, правда, в глухой провинции, но тем
41
не менее считавшейся первой в своем уезде. Это
обстоятельство вызвало некоторое недовольство со стороны моих
коллег-учителей, но диплом, видимо, говорил сам за себя,
и открыто, в лицо мне никто не выражал неудовольствия,
так что хотя и не без некоторых трудностей, но я приступил
к исполнению своих обязанностей. Было неудобно просить
командировочные авансом, и мы решили обойтись тем, что
заняли 10 иен у родителей жены. Хотя я и был со своим
отцом в отношениях не очень хороших, но он мне не
отказал бы в этой просьбе, однако я никак не мог заставить
себя обращаться к нему. Долг родителям жены мы
впоследствии вернули двумя или тремя платежами, но они
этого совершенно не ждали и много смеялись над моим
пуританством.
Теперь я получал 30 иен в месяц, мне предоставили
жилье, а в деревне жизнь дешева, так что материально нам
стало несколько легче. В нашем домике, кроме двух комнат
(первая — метров 16, другая — 12), была передняя и
ванная, правда, не совсем совершенная, в общем же никаких
неудобств мы не испытывали.
Школа находилась в деревне Накано, которая была
расположена в самом северном районе префектуры, на
расстоянии двух ри от города Хатиодзи. Деревня
раскинулась на южном покатом берегу реки Сагами, верхним
течением огибавшей здесь каменную гряду. Домики
выстроились по обе стороны шоссе совсем по-городскому.
Природа в тех местах была удивительно красивая,
особенно весной, когда появлялись первые ростки. Но
молодому человеку, материально не обеспеченному и
мучительно ищущему путей в жизни, некогда было предаваться
любованию природой — я проводил дни без радости,
обуреваемый разными думами.
Став директором, я, конечно, всеми силами принялся
за дело, строил планы, выполнял их и т. п., но никак не
мог примириться с мыслью, что навсегда останусь
директором школы. Приезд сюда был временной мерой,
принятой мной скрепя сердце из материальных соображений.
Я не мог избавиться от мысли, что это только временная
передышка на моем пути.
Как-то раз я был в гостях у уездного начальника и
рассказал ему о своей жизни. «Ты слишком умен, для
того чтобы остановиться на директоре школы»,— сказал
он мне, ясно дав понять, что ему такие директора могут
42
принести только излишние хлопоты, и, так как в
последнем он был совершенно прав, я с этим и ушел от него.
Однажды ко мне в гости пришел Кобаяси, мой бывший
одноклассник, теперь студент пединститута. Он был одет
по-летнему, в широком белом вышитом кимоно, небрежно
повязанном мужским плетеным поясом. За пазухой у него
был томик Шекспира. Он поминутно раскрывал его и
зачитывал отрывки. Я в последнее время не брал в руки
ни одной иностранной книги, и это вызвало во мне
чувство невыносимой зависти. Я почувствовал, как за
короткий момент между нами возникло значительное
расстояние, во мне настойчиво заговорил «комплекс
неполноценности». Обидно было думать, что я так отстал от него,
хотя в общем мы одинаковые люди. Из слов Кобаяси я
узнал, что при пединституте открылись специальные
двухгодичные курсы по этике и педагогике, на которые
принимали квалифицированных учителей с дипломом и
которые давали в общем такую же подготовку, как и
университет. Это была радостная новость. Сердце мое
забилось — ведь, если только собрать достаточно денег, все
может пойти хорошо. Усабуро Найто уже кончил
пединститут и стал ассистентом, напишу-ка я ему письмо,
может быть, он мне растолкует положение подробнее. И я
тотчас же отправил письмо Найто. Из ответа следовало,
что конкурс очень напряженный и что для учителей,
получивших диплом путем сдачи экзаменов при
министерстве, перспектива поступления весьма невелика. Он,
Найто, и сам было хотел по совету профессора поступить
на эти курсы, но затем раздумал, решив, что это ему не
по плечу. Я чувствовал себя так, как если бы получил
оплеуху. Найто, на помощь которого я рассчитывал, сам
отказался от этой мысли, несмотря на то, что имел
рекомендацию. Значит, мои планы терпят крах во всех
отношениях.
Прошло всего лишь несколько лет после окончания
педучилища, а я уже так безнадежно отстал от других!
К тому же этот разрыв увеличивается с каждым днем.
Чувство собственной отсталости сталкивает меня все ниже
и ниже.
В отчаянии я смял письмо и задумался. Значит, мне
все-таки ничего не остается, кроме как честно работать
директором школы и заботиться о ее процветании. Сейчас
поздно и бесполезно смотреть по сторонам.
43
В школе было четырнадцать классов, она имела два
филиала, учителей насчитывалось, насколько помню,
человек 15—16, между ними много молодых, и даже
председатель педсовета О. был старше меня всего лет на пять.
Характером это был добрейший человек, и в работе с ним
никаких трудностей не возникало. Нашлись среди
учителей любители фехтования и дзюудо 1 и молодые
литераторы, так что работать было довольно интересно.
Однако директор я был молодой, и, хотя старался изо всех
сил с самыми лучшими намерениями, чаще получалось
так, что я навязываю другим свои идеалы и убеждения,
но неспособен еще войти в среду родителей и жителей
деревни и выслушать их требования, чтобы только после
этого определять позицию школы в том или ином
вопросе.
Прежде всего я делал то, что по своему разумению
считал хорошим. Действовал при этом смело и решительно и,
пожалуй, достиг определенных результатов, но поскольку
для проведения в жизнь своих принципов и точек зрения
требовалось привлекать людей, то дело не обходилось без
некоторого произвола. Мне бы следовало с большей долей
скромности изучить положение в деревне и определять
курс школы на основе полученных данных, но такая идея
не приходила мне в голову, что, конечно, следует
признать большим промахом.
Поскольку среди учителей оказались мастера
фехтования, то на добровольные взносы жителей мы приобрели
несколько комплектов фехтовальных принадлежностей и
обучали молодежь этому виду спорта. Занятия наши
имели определенный успех, но я не уверен, что это была
как раз та деятельность, которая требовалась деревне в
тот момент. Возможно, нам следовало заняться другим,
более важным делом.
Недавно мне попалась книга «Школа в горах»,
написанная одним учителем новой школы в префектуре Яма-
гата. Прочитав ее, я поразился той добросовестности, с
которой автор руководил своими учениками. Этот учитель
был в том же возрасте, в котором я руководил школой, и,
хотя мы работали в разное время и в разной обстановке,
я и сейчас не могу не чувствовать стыда при мысли о
своем прошлом. Автор «Школы в горах» явился поистине
Дзюудо — японская борьба.
44
своего рода японским Песталоцци двадцатого века. Если
бы все учителя Японии обучали детей с таких же
позиций, какая прекрасная страна могла бы возникнуть в
результате их деятельности! Если бы и я в свое время
обратил внимание на это обстоятельство и не считал свой пост
временной передышкой, а спустился бы на землю и по-
настоящему посвятил свою жизнь просвещению деревни,
к настоящему времени мое существование имело бы
некоторый смысл и я бы смог считать, что внес свой вклад
в дело просвещения своей страны. Но мне, к сожалению,
не остается сейчас ничего, кроме как со стыдом признать,
что я был целиком в плену старых представлений об
учителе начальной школы, думал о нем в- пределах
сложившихся категорий и не был в состоянии по этой причине
открыть подлинно новый путь в области педагогики.
Видимо, по своему складу я был неспособен к этому.
Однажды, в конце декабря, ко мне на квартиру
неожиданно явился уездный инспектор г. N. Я говорю
«неожиданно», хотя я жил совсем рядом со школой и ему было
безразлично, посетить меня в школе или на квартире.
Дело в том, что инспектор пришел ко мне на квартиру
первый раз, и это мне показалось странным.
Он сообщил, что весной в моей школе как обычно
будет открыта трехмесячная подготовительная женская
школа во время затишья в сельскохозяйственных работах.
На этот срок обычно приглашали из Токио
преподавательницу, специалистку по кройке и шитью, которая и
руководила работой школы, но случилось так, что на этот год не
удалось подыскать подходящую кандидатуру. Всячески
извиняясь за навязчивость, он обратился ко мне с
просьбой на срок до приезда подходящей преподавательницы
принять на это место его (инспектора) жену, поскольку
она, к счастью, имеет соответствующий диплом.
Услышав это, я оказался в затруднительном
положении. Было всегда так трудно собрать учениц в
подготовительную школу. Единственным средством привлечь
достаточное число учениц было объявить о приезде известной
учительницы из Токио, и, если на этом посту вдруг
оказывался человек неподготовленный или
неквалифицированный, посещаемость резко снижалась. Жена же инспектора
не получила никакого специального образования (по на-
слышке я знал о ней, так как они жили неподалеку).
Таким образом, хотя просьба исходила от самого господина
45
инспектора, я не мог сразу же ответить ему радостным
согласием. К тому же в такие моменты в моем сердце
непременно вскипало чувство справедливости. Хоть он и
инспектор над школами целого уезда, но как он смеет
навязывать свою жену подведомственной, к тому же
наиболее удобной для него школе! Пользуясь властью,
он издевается над слабым. «Конечно, если бы нашлась
другая подходящая кандидатура, мы могли бы
пригласить ее»,— сказал я, с трудом ворочая языком.
«Разумеется. Я обыскал весь Токио, но уже было поздно, ведь
сейчас во всех деревнях открываются подготовительные
школы»,— поясняет инспектор с недовольным видом. «Во
всяком случае я должен посоветоваться со старостой».
«Пожалуйста, прошу Вас. А это, простите за скромный
подарок, для Вашей дочки»,— ответил он, собираясь
уходить и доставая из узелка плетеную коробочку со
сластями. Нехорошо принимать подарки от инспектора, но и
оттолкнуть его показалось тоже неприличным, и я беру
коробку, произнося слова благодарности. Сейчас же
переодеваюсь и иду советоваться к старосте. «Как он
смеет!» — староста даже побагровел от гнева. Должна же
быть мера издевательствам над людьми. Он думает, что
раз мы люди добрые, то с нами можно и не считаться. Нет,
старосту деревни Накано не заставишь купить то, что ему
не нужно. Если на то пошло, то он готов поспорить хотя
бы и с уездным начальником. «Поезжай-ка ты, брат, сам
в Токио и поищи учительницу»,— говорит мне староста.
Он был из военных, числился поручиком запаса, человек
очень прямой, но несколько вспыльчивый. В подобных
случаях он совершенно не терпел никаких компромиссов.
Совсем недавно он в уездном управлении по какому-то
случаю поднял шум и, грохоча саблей, обозвал уездного
начальника дураком. Мне он нравился и внушал
уважение.
В результате я отправился в Токио и в первую очередь
зашел в женский колледж японского и европейского
шитья, который окончила моя жена (он был и тогда
расположен на Кудансакауэ). Сразу же мне удалось найти
подходящую кандидатуру.
Я вернулся в деревню, захватив с собой
автобиографию преподавательницы, которую мне рекомендовали, и
староста тотчас же вынес решение пригласить ее. Теперь
нужно было в первую очередь посетить инспектора и пере-
46
дать ему отказ в приеме его жены. Это поистине
неблагодарная роль. Но отступать было нельзя. Хочется или не
хочется, а придется за это взяться самому. Я посетил
инспектора на дому и подробно доложил ему обо всех
обстоятельствах, добавив, что ввиду этих обстоятельств с
великим сожалением придется просить господина
инспектора подождать с назначением его супруги до более
подходящего случая. Но, к несчастью, оказалось, что уже были
выполнены все формальности и вышел приказ уездного
управления. Пункт о назначении жены инспектора был
включен в приказ по уезду по рекомендации уездного
начальника, который теперь попадал в скандальное
положение.
Инспектор, при всей своей важности, побледнел.
Вообще он был человек спокойный и поэтому шума
поднимать не стал, но порядочно растерялся. Поскольку он сам
на словах обещал, что жена будет работать лишь до тех
пор, пока отыщется подходящая кандидатура, то теперь
настаивать не мог.
Мы распрощались каждый с тяжелым осадком в душе.
Этот эпизод, естественно, положил конец
аполитичности юного директора и привел к краху наивного идеалиста,
не знавшего до тех пор настоящих трудностей.
Начальство поговаривало: «Этот Янагида, который,
обладая некоторым умом, сумел получить диплом, слишком
высокого мнения о себе. Он дерзок и не считается с
начальством. Он совершил исключительно бессовестный и
жестокий поступок по отношению к инспектору,
благосклонной помощью которого всегда пользовался».
Не говоря уже об инспекторе, и другие возненавидели
меня, теперь сам начальник уезда меня терпеть не мог.
Однако по всем формальным требованиям правда была на
моей стороне, и принудить меня к уступкам по этому
вопросу было нельзя.
Но неприятности нагрянули, как говорится, с черного
хода. Жена уездного начальника вкупе с женой
инспектора не пропускали теперь и дня, чтобы не пускать
шпильки по адресу моей жены. «Нет существа, страшнее
женщины,— говорили они,— именно жена вводит
человека в заблуждение. Жена Янагида сама хотела занять
пост в подготовительной школе, ей стало завидно, что
другая займет его, вот она и задумала интригу». Можно было
бы стерпеть подобные разговоры, если бы они произошли
47
один или два раза, однако жену не оставляли в покое ни
на один день и, вызвав под каким-либо пустяковым
предлогом, оскорбляли ее в присутствии большого числа людей.
Возвращаясь домой, она плакала, но ничего не
поделаешь: жена уездного начальника — орешек не по зубам.
Тут и я растерялся. Я не лишен определенной смелости,
если речь идет о честном и справедливом споре, но как
подступиться к этим госпожам, без всяких оснований
преследующим беззащитную женщину.
В конце концов во всем был виноват я. Коренная
ошибка заключалась уже в том, что 24 лет отроду, с
четырехлетним ребенком я согласился занять такой
ответственный пост, как пост директора школы. Мне самому и
следовало исправить создавшееся положение. Я мог бы,
конечно, тотчас подать в отставку — и делу конец. Но так
поступить было невозможно ввиду того, что выпускники
педучилища были обязаны прослужить 6 лет, а в
противном случае теряли освобождение от военной службы и
немедленно призывались в армию. Не хотелось мне и
уходить в другую школу на должность преподавателя
младших классов. Оставалось только сделать попытку
устроиться преподавателем в какое-либо педучилище
(учителя средних и женских школ не освобождались от
военной службы, однако если начальная школа, хотя бы и
номинально, принадлежала к педучилищу, то воспитатели
этой школы пользовались льготой). Учителя нашей школы
по моей просьбе с трудом подыскали мне место
преподавателя педагогики в педучилище города Окаяма. Я решил
переехать туда.
Это было в июне 1918 года, когда в Европе уже
произошла величайшая в истории человечества революция, в
результате которой одна шестая часть земли окрасилась в
алый цвет. Но до нас, деревенских учителей, не дошел
даже малый всплеск от великой волны — мы были
целиком заняты повседневными мелочами, своими личными
заботами. Я глубоко уверовал в труд директора школы, но
уже начал основательно сомневаться в правильности
образа жизни, при котором успех зависит от умения
заискивать. У меня способностей к заискиванию нет совершенно.
Мысль о необходимости поисков пути, который освободил
бы меня от обязанности угодничать, с тех пор укрепилась
в глубине моей души. Но найти этот путь сразу
невозможно.
48
Ученики и учителя школы в полном составе вышли
проводить меня до моста Аракава. «Защищайте дух
независимости»,— воскликнул я с твердой решимостью и
расстался с ними, не удержав слез сожаления. Так кончается
история моих неудач на поприще учителя начальной
школы.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
В ОКАЯМА И МОРИОКА
Впервые выехав за пределы родного края, мы с женой
совершили продолжительное путешествие по железной
дороге в вагоне третьего класса. Нас так укачало, что,
прибыв десятого июля в Окаяма, мы, совершенно
обессиленные, кое-как добрались до дома г. Синей Кацуяма,
преподавателя местного педучилища, любезно
предоставившего нам возможность отдохнуть у него. Хотя это и
звучало громко — преподаватель педагогического училища,—
пост был, как говорится, из последних, жалованье — 40
иен в месяц, в то время как выпускники пединститута
получали по меньшей мере 45 иен. Мы получали жалованье
меньшее, чем любой преподаватель средней школы в
другом месте. Однако после горького опыта директорства в
начальной школе я чувствовал себя здесь как в раю,
безгранично радуясь тому, что пять тяжелых месяцев
позади, что никем и ничем не связан и могу жить, как
вольный студент. Я читал лекции по педагогике, по истории
педагогики и по психологии. Ученики слушали меня
внимательно, и мне каждый час лекций доставлял
удовольствие.
В это время в Японии стали неудержимо расти цены.
Уже два-три года назад под влиянием войны,
вспыхнувшей в Европе, повысились цены на уголь, на рис и другие
товары. Теперь же симптомы инфляции стали проявляться
в угрожающих масштабах. Больше всего неприятностей
принес рост цен на рис. Долгое время цена на рис была
примерно 20 сен за одно сё !. Затем она поднялась до 25
и 30 сен. Пока мы сокрушались по этому поводу, цена
подскочила до 40, 45, а затем и до 50 сен! Наконец, она
достигла 55 сен. Одновременно возросли цены на овощи,
рыбу, мясо, и положение стало невыносимым. На моих
глазах рушился и превращался в суровую действитель-
1 сё = 1,8 литра.
4 Я па гида Кэндзюро
49
ность тот самый рай, о котором я вздыхал и мечтал еще
год тому назад, думая, что, став преподавателем средней
школы и получая 40 иен, смогу жить безо всяких забот.
С каждым днем жить становилось все труднее и труднее,
причем положение усугублялось тем, что теперь я жил не
в родном краю, где всегда чувствуешь какую-то
моральную поддержку, а на чужбине, без друзей и родных, на
которых можно опереться. Все это было крайне грустно.
Вдобавок ко всему лето в Окаяма изнурительно жаркое.
Есть даже специальное выражение «безветрие, как в Ока-
яма», имеющее в виду вечерние часы, когда раскаленная
за день земля душит человека, как бы топя его в кипящей
ванне. Не нахожу себе места. Как рыба в болоте бросается
к чистой воде, так и я еду на пляж Симоцуги. Но плата
за вход непомерно дорога, к тому же вплоть до полудня
не дают покоя комары. Вскоре я не стерпел и вернулся
в город.
В это время до нашего города докатилась волна
«рисовых бунтов», начавшихся с выступления домохозяек в
Тояма. Обстановка была напряженная, то и дело
приходили вести вроде того, что вчера разгромили лавку
торговца рисом, а сегодня будут громить винную лавку.
Вокруг разгромленных домов повсюду, до самой дороги
был рассыпан рис, заборы снесены, склады сожжены,
шкафы и сундуки сломаны и брошены на улице. Моя семья
жила бедно, и мы могли не опасаться нападения.
Слабохарактерным интеллигентикам, не осмеливающимся
примкнуть к восставшим, оставалось только пребывать в
смятении.
В то время общественные вопросы находились вне
моего кругозора, и я неспособен был глубоко и с
принципиальных позиций подойти к этим событиям. Самое
большее, чего можно было ожидать от меня,— это морального
осуждения падения нравов. Я подходил к вопросу
индивидуалистически, искал решения только того, что касалось
лично меня — и не более. Желая подработать шитьем,
жена посылала открытки в богатые дома, но никто не
откликнулся на ее просьбы и работы ей не дал.
По-видимому, всем было так трудно, что клиентов стало меньше,
чем портних. Сколько мы ни ломали голову, найти
дополнительный источник дохода не удалось.
Лишь благодаря усилиям старшего преподавателя
нашего училища г. Кацуяма жена смогла к концу года уст-
50
роиться на работу в женский колледж в нашем городе.
Глядя, как она достает из гардероба давно уже не
надеванное платье и с гордым видом отправляется на работу,
я почувствовал, насколько трудно дается ей домашняя
работа. Тогда у нас родился наш первый сын ёити.
Старшую дочь мы отдали в детсад, а ёити жена оставляла у
соседки, запирая дом на время своего отсутствия. Не
каждая женщина могла бы вынести ежедневно такую
нагрузку.
В нашем училище, кроме меня, педагогику преподавал
еще один преподаватель по фамилии Юкимото. Он в том
году окончил философское отделение киотоского
университета и был старше меня на два года. Как выпускник
университета, он во всех отношениях пользовался
лучшими условиями. Не скажу, чтобы я ему особенно
завидовал, но у меня появилась мысль о том, что не худо бы и
мне как-нибудь устроиться на учебу в университет. Но как
осуществить это желание человеку, который с трудом
живет на зарплату? Я мог только смотреть на университет
издали, кусая пальцы от досады.
Став преподавателем педучилища, я не мог
ограничиваться пособиями японских авторов и стал понемногу
читать Тигнера, Джемса и Вундта, хотя и знал
иностранные языки очень слабо. По мере того как рос мой интерес
к науке, настойчивее становилось и желание когда-нибудь
переступить порог университета. Издательство
«Иванами» в те годы приступило к выпуску философской
библиотечки, и я запоем читал «Основы этики» Дзиро Абэ 1
и «Философские очерки» Вакити Миямото. В то время
в Окаяма жил Сатоми Такахаси, занимавший
должность профессора в Шестой высшей школе, но он казался
таким недоступным человеком, что у меня не возникло
даже мысли посетить его. Но все же я хотел при первой
возможности поступить в университет: Пусть это
произойдет позже — недаром ведь говорится, что «и в пятьдесят
лет не поздно учиться правописанию»,— но пока я жив,
я хочу когда-нибудь переступить порог университета,
думал я. Желание мое постепенно усиливалось. Но
действительность была далека от того, чтобы мои мечты
осуществились. Нам приходилось нелегко, хотя мы и
работали двое.
Дзиро Абэ (1883) —философ, литературный критик и писатель.
4*
51
В Окаяма я служил ровно два года.
Затем я получил приглашение от г. Кацуяма, бывшего
старшего преподавателя нашего училища, переехавшего в
префектуру Ивате, где он получил пост директора
педучилища, перейти на работу в город Мориока. Сперва мне
ехать не хотелось, но упоминание о повышении оклада и
любезное обещание устроить на работу жену возымели
действие, и я решился на переезд, утешая себя слабой
надеждой, что, возможно, сумею теперь сделать сбережения,
которые позволят впоследствии поступить в университет.
Нелегко было ехать из Окаяма в Мориока с двумя детьми,
да еще в вагоне третьего класса. К тому же я очень плохо
переношу всякие поездки, что, по-видимому, объясняется
слабостью желудка. Еще в детские годы, когда я
отправился поездом из Хирацука в Иокогама, организм мой
совершенно вышел из строя; и несколько дней я не мог
ничего есть. Тем более нелегко было трястись тридцать
часов по железной дороге. Однако тогда я был еще молод.
Чтобы решить всю свою дальнейшую судьбу, мне ничего
не стоило перенести эти временные муки.
Оба раза при переезде мы пользовались любезной
поддержкой г. Кацуяма. Опять он пригласил нас к себе,
и мы всей семьей в четыре человека жили в его доме
несколько дней, пока не подыскали себе подходящее жилье.
Г. Кацуяма был родом из Синею, обладал сильным
характером и имел множество врагов, однако лично ко мне он
был чрезвычайно добр. Всю жизнь я буду с благодарностью
вспоминать о нем, так же, как и о моем учителе в
педучилище г. Сибуя. Ему бы надо было быть не директором
педучилища, а настоящим ученым, он мог бы достичь
больших результатов. Я думаю, что пединституты
испортили очень много способных людей. Я и сам раньше
мечтал о пединституте, но это было тогда, когда у меня не
было никакого иного выхода из создавшегося положения,
а теперь все учебные заведения типа педагогических
нравятся мне все меньше и меньше.
Мне в прошлом уже довелось дышать атмосферой
педучилища, и она прочно оставила о себе более чем
неприятное впечатление. Я и сейчас не переношу педагогических
учебных заведений. Они являются одной из самых
крупных помех на пути японского народа к освобождению и
прогрессу. Все выпускники этих училищ отличаются
малодушием, преклоняются перед властями во имя своей ма-
52
ленькой карьеры, посвящают жизнь раздорам между
разного рода школами и школками в науке, льстят
бюрократам и считают наивысшей честью быть учеными на службе
у правительства. Нет иного пути искоренить этот дух,
кроме того, чтобы ликвидировать все подобного рода
училища, но стоит только поднять вопрос об этом, как они
разворачивают политическое движение в свою защиту.
Училище в Мориока имело два отделения — мужское
и женское. Я читал лекции на обоих отделениях и должен
сказать, что здесь юноши были гораздо тверже в своих
убеждениях.
Чувствовалось, что в случае необходимости они не
остановятся и перед стачкой. Студенты в Окаяма были
умны и хорошо владели языком, заниматься с ними было
легко, но положиться на них было все же нельзя.
Студенты в Мориока несколько неповоротливы и
неприветливы. Трудно было понять, довольны ли они, серьезно ли
говорят что-либо или нет, но зато они никогда не забывали
того, что им говорил учитель. Прошло более тридцати
лет, они уже и сами постарели, и я уже не тот, но в то
время как из Окаяма мне никто не пишет писем, связь с
бывшими студентами из Мориока не прерывается.
Возможно, во всем этом сказывается различный темперамент,
объясняемый различными природными условиями. Мне
даже думается, что в характере японцев в будущем будет
преобладать твердость, характерная для жителей Северо-
Востока.
В то время круги учительства были в известном смысле
носителями прогрессивных тенденций. Как бамбуковая
поросль стремительно вырастает после дождя, так внезапно
вышли на арену общественной деятельности восемь
властителей дум учительства — Софу Инагэ из университета
Васэда, Хэйдзи Оикава из Акаси, Куниёси Охара, Мэй-
кити Тиба и другие. Каждый из них нес свое знамя и
занимал свою независимую позицию, а учителя по всей
стране так и не могли решить, кого же из них следует
признать правым и кто из них заблуждается. Не скажу,
чтобы я шел у них на поводу, но иногда и сам писал
статьи в журнал «Педагогика», который издавал Мацу-
таро Сонэ, и в журнал «Образование в Японской
империи» (орган Японского педагогического общества).
Мои статьи были неожиданно для меня очень
благосклонно приняты в педагогических кругах. Стоило мне без
53
всякой научной подготовки проявить крупицу
литературных способностей, как ко мне пришла известность. В этом
легком успехе, как я заметил, крылась опасность
возомнить о себе слишком много и превратиться в безнадежно
самодовольного человека. Тот факт, что бестолковые и
неспособные к другим наукам люди, переключаясь на
деятельность в области педагогики, приобретают известность,
говорит о слабости этой науки, о ее бедности
талантливыми людьми. Я вовремя понял, что моим успехам
нельзя придавать серьезного значения и с тех пор не
написал в педагогические журналы ни строчки.
С этого момента начинаются мои поиски правильного
пути в жизни. Когда мне стало ясно, что, хотя ученики
порой боготворят меня и в педагогических кругах я
пользуюсь славой выдающегося человека, по существу я
жалкий человечишка, ничего не понявший по-настоящему, мне
стало не по себе. Я решил начать странствия в поисках
мировой истины, правды человеческой жизни. В те дни
вышли в свет и пользовались громким успехом среди
читателей несколько книг. Я имею в виду «Буддийские
священники и их ученики» Хякудзо Курата, «Покаянная
жизнь» Тэнко Нисида, «Стреляющие в солнце» Тоёхико
Кагава и вышедшие несколько ранее «Исследование
добра» Китаро Нисида 1 и «Дневник Сантаро» Дзиро Абэ.
Меня так взволновали эти книги, что я перечитывал их по
нескольку раз. Особенное влияние на меня оказал Тэнко
Нисида. Одно время я был близок к тому, чтобы всей
семьей вступить в монастырь Иттоэн. Великими людьми
в этом мире должны считаться не так называемые
знаменитости и не те, кто кичится богатством, положением
или властью, а люди, полностью отбросившие эгоизм и
движимые чувством правды, посвятившие жизнь народу.
В тех же людях, которые забывают о народе, какими бы
достойными они ни выглядели, более того, чем более
достойными они выглядят, тем больше в них лжи и обмана.
Я не хочу посвящать свою жизнь обману. Мне нужно во
что бы то ни стало найти истину. Хочу жить
по-настоящему, без лжи. Вокруг себя я вижу множество умных,
сведущих в жизни, делающих карьеру людей, но почти нет
среди них людей правды, тех, кто живет для истины. Хоть
1 Китаро Нисида (1870—1945)—известный японский философ-
идеалист.
54
бы один из них показал мне верный путь своим личным
примером. Неужели нет никого, кто мог бы не
правдоподобными рассуждениями, а своей жизнью, своим
примером сказать мне: «Вот правильный путь, ступай за мной»?
В этом смысле я считал по-настоящему
замечательными людьми Кагава и Тэнко, но я сомневался в своей
способности стать их последователем. Ведь вступить в их
среду — значит поставить точку, а мне не хотелось
действовать до тех пор, пока у меня не будет полной
уверенности. Позанимаюсь еще немного. Поищу истину и у
людей других направлений. Я стал читать библию, ходить в
христианскую церковь, без всякого разбора читать
религиозную литературу. Мне казалось, что самая глубокая
человеческая истина заключается в религии. Я думал, что
достаточно обладать какими-то прочными религиозными
верованиями, чтобы приобрести способность
непоколебимо переносить любые трудности и перемены. В этом, и ни
в чем ином, настоящий путь к спасению личности и
спасению мира. Если обрести подлинную веру, то из нее может
родиться и новая жизнь. Мне нужна вера, вера! Я
лихорадочно листал нагорную проповедь Матвея, перечитывал
ее, вдумывался в нее. В суровые зимние дни я
направлялся в парк Мориока и там с возвышения смотрел вдаль
в сторону вулкана Ивате, любуясь видом белых гор,
окрашивающихся в фиолетовые тона под лучами
заходящего солнца. Мне чудилось, что именно этот реальный
мир и есть царство бога, всевышнего бога! Я приходил в
волнение, на глаза навертывались слезы и невольно
складывал руки и преклонялся перед чем-то величественным.
Но я не сумел обрести той веры, которую искал. Я
отправился было даже в паломничество от Мориока до
самого Киото, но в пути встретил всего лишь двух-трех
человек и вернулся из путешествия разочарованный.
Разочаровавшись в преподавательской деятельности и потеряв
веру в религию, я мог теперь искать выхода только в
науке. Да, мне нет иного пути, как поступить в
университет, расширить кругозор, основательно перетряхнуть себя.
Денег на ученье, конечно, не было, но все же у нас было
еще несколько сот иен, скопленных ц те времена, когда
работал не только я, но и жена. Кроме того, я мог
рассчитывать на выходное пособие. Поступив в университет, я,
возможно, найду еще какой-нибудь выход. Так или иначе
нужно попытаться. Придя к такому выводу, я, не теряя ни
55
минуты, написал заявление директору, собрал багаж,
отправил его в Киото и выехал сам, чтобы сдать экзамены
для поступления на избранный мною философский
факультет.
Это происходило в конце марта 1922 года, в городах
Северо-Востока шел сильный снег, до весны было еще
далеко.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
КИОТОСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
По существу это был смелый и отчаянный поступок,
граничащий с авантюрой. Имея двух детей и не будучи
уверенным, что успешно сдам экзамены, я оставил место
работы и послал всю домашнюю утварь в Киото. Лишь
после Есего этого я стал думать об экзаменах. На что я
надеялся, трудно сказать, теперь это мне непонятно. Правда,
на первых порах я перевез в Киото не всю семью, сперва
все переехали к родителям жены в Цутиура, а я в
одиночестве отправился в Киото, где снял комнату рядом с
университетом. Экзамены должны были происходить в апреле.
Когда в назначенный день я отправился в университет и
подошел к экзаменационной комнате, я убедился, что
каждый из пятидесяти поступающих имел образование
большее, чем профессиональная школа: одни окончили
частные колледжи, другие школу переводчиков и т. п.
Основными предметами, по которым мы подвергались
испытанию, были английский, японский и китайский языки.
Несколько удивило меня присутствие среди экзаменуемых
г. Мэйкити Тиба, заместителя директора школы при
хиросимском педучилище. Он был уже широко известен, а
языками владел настолько, что самостоятельно переводил и
издавал сочинения Дьюи.
Узнав о том, что из 50 человек будут приняты едва ли
5—6 человек, я побледнел. Затем, когда стал сдавать
экзамены, то вопросы оказались для меня неожиданно
трудными, особенно сложным был перевод текста с японского
на английский. Сдав свой перевод из книги профессора
Томонага «История самосознания нового времени» (абзац
о Гегеле), я подумал, что написанное мною выглядит
очень нелепо. А когда на следующий день преподаватель
Хакусон Куриягава начал диктант, то сначала я никак
56
не мог уловить смысла даже отдельных слов. Что там ни
говори, но при самостоятельных занятиях языком, при
изучении материала только зрительно, мне не приходилось
воспринимать язык на слух. Сдав почти чистый лист
экзаменационного бланка, я вернулся в общежитие. Не с кем
было поговорить, и поэтому я предался своим мыслям в
одиночестве. Одинокий и безутешный, я не знал, что
делать с собой дальше, решив, что провалился. Но ведь
багаж уже отправлен сюда, что же делать, как жить
дальше? Стать ли посыльным на почте или продавцом
газет? Но тогда жена и дети окажутся на улице. Да, это
моя ошибка! И, спрятав голову в стенной шкаф на втором
этаже общежития, я заплакал, ничего другого не
оставалось делать.
А может быть, вопреки ожиданиям и примут? Пока
рано впадать в отчаяние, и я решил ждать дня
опубликования результатов. До этого дня оставалось около недели.
Это было как раз время полного цветения вишни, и все
районы города — особенно Мимуро, Сага, Маруяма,
Киёмидзу — были переполнены разодетыми толпами
гуляющих. Тяжелые мысли ни на минуту не покидали меня,
но звуки музыки и песен рассеивали мое одиночество и
печаль. Были и такие моменты, когда хотелось напиться, но
я не смог взять в рот ни одной капли. Объявление
результатов должно было состояться 12 апреля. В этот день за
несколько часов до назначенного времени все собрались и
ждали в волнении. Наконец, в 4 часа дня служитель
вынес и вывесил небольшой лист бумаги. В глазах у меня
потемнело, и, сколько я ни пытался, не мог прочесть даже
одну букву. Понемногу успокоившись, я стал внимательно
смотреть и водить пальцем по листу, и оказалось, что в
первой строчке написано: «Янагида Кэндзюро».
«Есть!» — невольно вскрикнул я. Надо послать
телеграмму. Задыхаясь, я прибежал на почту. Но, отправив в
Цутиура телеграмму «Принят, успокойтесь», стал
сомневаться: «А правда ли это? Не ошибся ли я?». И когда еще
раз вернулся к объявлению, то опять увидел свое имя.
Точно: фамилия Янагида есть, имя Кэндзюро — есть.
Нет, это не ошибка... И не сон... Я выдержал экзамен!..
Надо бы послать телеграмму... Но нет, телеграмму ведь
уже послал? Да, телеграмму в действительности послал...
Не сон... Не послать ли телеграмму: «Это не сон!». Но
хватит, уже послал... Вернувшись в общежитие, я сказал слу-
57
жителю: «Дядя! Я выдержал экзамены!». Служитель
общежития открыл глаза: «Ты прибыл на экзамены?»
За всю свою жизнь я не испытал такой радости.
Радость в жизни человека имеет на обратной стороне
безграничную печаль. Если бы не было тьмы, не было бы и
света. Мы не можем найти света без тени. То, что я так
радовался, выдержав экзамены, объясняется тем, что в то
время я боролся против смертельной опасности. Хорошо,
что хоть случайно мне удалось выдержать экзамен. Ну, а
если бы провалился, что было бы? До сих пор не могу
без волнения подумать, какой я тогда сделал
опрометчивый шаг по своей молодости.
После этого я стал искать квартиру. Мне удалось
найти ее в одноэтажном новом доме позади храма Миёсин-
дзи в Ханадзоно. Здесь мы и поселились на время.
Квартирная плата составляла 18 иен в месяц. Для того
времени это была очень высокая плата. Ежемесячно вносить
такую сумму из наших скромных сбережений было
тяжело. Но если соблюдать экономию, то можно будет
прожить, не подрабатывая, полтора года. Поэтому было
решено соблюдать строжайшую экономию в расходовании
денег.
Университет находился на восточной окраине киото-
ской дороги, мой дом — на ее западной окраине, и
расстояние между ними равнялось приблизительно двум ри. Если
бы я пользовался трамваем, то потребовалось бы шесть
сен. И чтобы сэкономить на трамвайной плате, я ходил
пешком. Затем я нашел дешевый дом поблизости от
университета и переселился туда. Теперь и университет был
близко и квартирная плата более дешевая (13 иен), что
облегчило наше материальное положение. Но зато этот
дом находился в стороне от города, среди рисового поля.
Здесь было всего 6 одноэтажных домов, а поблизости не
имелось ни одной лавки, что представляло большие
неудобства. За покупками отправлялись далеко на городской
рынок. Этот рынок, расположенный по берегу реки Ка-
могава, находился от нас на расстоянии одного ри. Жена
регулярно через каждые два-три дня ходила туда, неся
за спиной ребенка и таща детскую коляску. Наполнив
коляску пшеничной мукой, картофелем, луком, капустой
и другими тяжелыми овощами, купив детям гостинцы за
сен каждому, она возвращалась, дребезжа коляской по
неровной дороге, идущей вдоль ручья. Все это выглядело
58
очень жалко... Коляска, старая и плохонькая, чуть что
переворачивалась, и тогда картофель с грохотом
рассыпался и попадал в ручей, а тофу (соевый творог),
который жена везла с особой осторожностью, плюхался прямо
в грязь. Когда шел дождь и она открывала зонт, картина
была опять-таки весьма жалкой. Неся за спиной ребенка,
в левой руке — зонт и только правой рукой управляя
коляской, <по узкой, изрытой дороге добраться до дому
благополучно было очень нелегко.
Другие студенты, будучи холостяками и получая по
70—80 иен, жили беспечной жизнью. Наша семья в 5
человек сократила расходы до 40—50 иен. Когда наступало
время сбора редьки, то с утра и до вечера нашей пищей
была редька; когда наступал сезон лука, ели только лук.
Не столько питались, сколько просто наполняли желудки,
лишь бы поддерживать жизнь. Рис был дешевый, но
ячмень еще дешевле. Поэтому рис больше чем наполовину
смешивали с ячменем. И все же мы были счастливы, и
жена ни разу не высказала недовольства. Старшая дочь
ходила в начальную школу, младшие дети бегали по
рисовому полю, собирали цветы, ловили саранчу. Утром и
вечером мы любовались красотой горы Хиэйдзан. Особенно
по утрам, когда пояс тумана, рассеиваясь у подножия
горы, поднимался к ее вершине и гора сверкала в лучах
утреннего солнца. Сколько бы мы ни любовались этой
красотой, она нам не надоедала. Бедность нисколько не
становилась горечью. В университете не было особенно
интересных лекций. Запечатлелись лишь лекции профессора
Нисида по курсу «Введение в философию» и лекции по
истории западной философии профессора Томонага.
Думается, что специальный курс лекций по философии Канта
профессора Томонага расширил мой философский
кругозор. Избрав для специального изучения этику, я доставил
немало хлопот профессору Кэндзиро Фудзии, часто
посещал его и получал советы, однако его лекции почему-то
не пользовались особым признанием среди студентов. Но
лично я считал их интересными, в особенности же
факультативные лекции по критике марксизма, которые я
прослушал без единого пропуска. Только я один прослушал
эти лекции в течение целого года, с начала до конца.
Что касается марксизма, то как раз в то время только
что была создана Коммунистическая партия Японии, а в
университете не было пока кружка по изучению социаль-
59
ных проблем. Поэтому среди студентов стали возникать
разговоры, не создать ли такой кружок. И вот на втором
этаже общежития против университета состоялось
организационное собрание. Собралось около 10 студентов с
различных факультетов — юридического, экономического,
медицинского, технологического и др. Я также был в числе
организаторов этого кружка. Мы решили начать с
«Коммунистического манифеста». Но в дальнейшем члены
кружка занимались не столько «Манифестом», сколько
революционной практической деятельностью. Когда
началась забастовка трамвайщиков в Осака, студенты
примкнули к этому движению. В то время мое сознание было
не на высоте. Я полагал, что теория и практика должны
быть отделены друг от друга, и так как наш кружок имеет
задачей изучение теории, то участие в стачечной борьбе
является ошибкой. Тогда я еще не мог избавиться от таких
предубеждений, поэтому, хотя и участвовал в
организации кружка, фактически ограничился одним-двумя
посещениями его занятий. Помнится, после этого меня
настойчиво приглашали на заседания, но я больше не
бывал там. Порвав с кружком, я не переставал
интересоваться марксизмом. Однако философские круги того
времени, в особенности академические, увлекались
исключительно немецкой идеалистической философией и в
первую очередь философией Канта. Вот почему и я не мог
выйти за пределы идеалистической философии. Хотя я и
интересовался марксизмом, но не собирался сам стать
марксистом, скорее делал все возможное, чтобы
подвергнуть марксизм критике с позиций кантианства. Однако,
поскольку эта критика должна была опираться на
объективную истину, я старался расширить свои знания.
Понятно, что идеалистические предрассудки мешали мне
правильно подойти к марксизму. В то время мне казалось,
что материализм — это какая-то вульгарная философия.
В особенности такое представление у меня сложилось в
отношении теории отражения. В целом я считал, что
материализм — это не более как разновидность философии
вульгарного здравого смысла. Увлечение студентов этой
вульгарной философией в то время, когда мы имеем
философию Канта, я считал признаком их отсталости.
Марксизм, думал я,— это просто разновидность эмпиризма.
Это не что иное, как упрощенческая, житейская
философия, которая используется теми людьми, которые пока что
60
не овладели Кантом. Такова была в те годы моя точка
зрения на марксизм.
Однако уже тогда я чувствовал, что в марксистской
науке имеются какие-то истины, которые нельзя отбросить.
В целом это учение, представлялось мне, не является
истиной, однако в нем есть что-то такое, что необходимо
изучить. И я никак не мог избавиться от стремления
найти это зерно истины. В то время в киотоском
университете профессор Хадзимэ Каваками 1 развил энергичную
деятельность в кружке по изучению социальных проблем.
Я также в некоторой степени оказался под влиянием
профессора Каваками. Можно сказать, что я был одним из
его поклонников. Несмотря на это, я не воспринял
материализм и диалектику. Мне импонировал характер
профессора Каваками. Страстный искатель истины, который,
раз поверив в истину, способен отказаться от должности
профессора, заточить себя в монастырь, но не отказаться
от истины,— эта его черта нашла глубокий отзвук в душе
молодого идеалиста. Недавно, прочитав автобиографию
Каваками, я был поражен, узнав, как много сходного в
моем характере с характером этого замечательного
человека. Разумеется, я вовсе не являюсь таким блестящим
ученым, каким был Каваками, но если оставить в стороне
масштабы, то в характерах у нас есть что-то общее. Это,
может быть, исходит из общей основы природных
задатков.
Как материалист Каваками в то время был еще крайне
слаб. Не будет преувеличением сказать, что в понимании
диалектики он был близок к нулю. Рядом с нашей
квартирой жил также Иосимити Ивата 2 с молодой женой. В то
время у них родилась дочь Мисаго. С Ивата я встречался
каждый день, и нередко наши горячие споры затягивались
до глубокой ночи. Материализм Ивата был в стиле
материализма профессора Каваками, а мой идеализм не
выходил за пределы кантовских категорий. И как горячо
мы ни спорили, нам не удалось переубедить друг друга.
Однако, вспоминая об этом, теперь я вижу, что по
сравнению с моим сухим априоризмом взгляды Ивата явля-
1 Хадзимэ Каваками (1879—1945)—японский ученый-марксист,
экономист, один из активных деятелей Компартии Японии.
2 Иосимити Ивата — видный деятель Компартии Японии, замучен
з тюрьме.
61
лись несравненно более жизненными. Ивата обладал
мягким, уравновешенным характером. Какой бы страстный
спор ни разгорался, он никогда не выходил из себя.
Совсем противоположный характер был у Фукусима,
который также жил в нашем доме и который впоследствии
стал доцентом университета в Тайхоку. Он моментально
становился красным и, казалось, готов был вцепиться
зубами в Ивата. Но Ивата и в этих случаях оставался
спокойным и уравновешенным. Вот этой чертой его характера
я всегда восхищался. И уже тогда я думал, что он будет
выдающимся деятелем. Хотя наши взгляды были в корне
различными, я не мог не видеть того, что Ивата — редкий
человек. Впоследствии Ивата был схвачен полицией и
подвергнут жестоким пыткам, он умер в тюрьме,
мужественно борясь со своими мучителями. Когда я узнал об
этом из газет, то не мог не почувствовать глубокой боли.
Непоколебимый Ивата умер, борясь с жандармами, с
крепко сжатыми зубами. Он был поистине выдающимся
человеком. И я, не сумевший в то время преодолеть своего
идеалистического взгляда на государство, не мог не
задуматься перед лицом этого факта.
Однако тогда я не мог еще отойти от идеалистических
позиций. Идеализм безраздельно господствовал в научных
кругах. В особенности философский факультет киотоского
университета, во главе которого находились доктора наук
Нисида и Танабэ, являлся цитаделью японской
идеалистической философии и представлял неодолимую силу во
всей стране. По сравнению с этой идеалистической
философией материализм казался нам слабой вульгарной
идеологией, которая совершенно не может вступить в борьбу
с идеализмом. И поэтому, сколько бы я ни находился под
влиянием профессора Каваками, сколько бы ни
восхищался стойкостью Ивата, это почти не поколебало
основного направления моего мировоззрения. Я продолжал
считать, что в марксизме есть немало истин, которые следует
изучить, но что в целом это поверхностная философия.
И в обстановке «идейного упадка» в то время мне
казалось, что особенно важная и неотложная задача состоит
в том, чтобы дать критику марксизма, показать
ограниченность этой философии. Именно это я и избрал
темой своей дипломной работы. Я обратился за советом
к профессору Фудзии, и он рекомендовал мне прочитать
труды Штаммлера и Макса Вебера. Однако в связи с
62
тем, что я плохо владел немецким языком и не имел
достаточно свободного времени, из рекомендованной
литературы мне удалось использовать только незначительную
часть, а именно — «Экономику и право» Штаммлера. На
этой основе я написал дипломную работу.
К тому времени, как мы ни экономили, в течение
полутора лет наши сбережения оказались исчерпанными, в
оставшиеся полтора года пришлось подрабатывать, чтобы
содержать семью. Как раз в это время родилась младшая
дочь, и моя семья увеличилась до 6 человек. Содержать
такую семью заработками и продолжать занятия в
университете было очень трудно. К счастью, у меня имелся
диплом преподавателя, и, когда я поговорил с моим
товарищем Гисэн Сато, ныне членом парламента, он
сказал: «Мой отец в Осака руководит женской школой,
не хочешь ли там поработать?» Вскоре я получил
назначение. Это была школа буддийской секты «Дзёдо Синею»,
здание ее находилось в то время в Южном храме Мидо.
Чтобы добраться до этой школы, требовалось 2 часа:
пройти пешком, проехать на трамвае и в поезде. Поэтому
в дни занятий в школе у меня не оставалось ни минуты
для учебы. Вообще после того, как я стал подрабатывать,
времени для занятий оставалось мало, ибо большая часть
дня уходила на житейские заботы. Благодаря любезности
друга Сато во время написания дипломной работы я
получил освобождение от занятий в школе на один месяц
и, таким образом, вместе с каникулами в моем
распоряжении оказалось 3 месяца, в течение которых я должен
был закончить свою дипломную работу. В то время на
философском факультете от дипломной работы зависело все
будущее, и поэтому она имела очень важное значение. Вот
почему обычно над ней напряженно трудились в течение
почти целого года. А мне всю работу, начиная от изучения
материалов на иностранном языке и кончая перепиской
текста набело, пришлось завершить в течение трех
месяцев. Поэтому сколько бы я ни старался, но написать
работу на должном уровне не мог. Дипломная работа по
социологии моего однокурсника Токусабуро Дан
оказалась лучшей за все последние годы. Я получил оценку 84—
85 баллов. При этом было учтено, вероятно, что идеализм
Штаммлера очень труден для понимания, самая же работа
моя была довольно посредственной. Во всяком случае она
не давала гарантии на занятие в будущем профессорской
63
должности. Из большой группы товарищей, сдавших
дипломные работы, я ближе всех был к провалу.
И хотя я ценой больших трудсв и жертв окончил
университет, я не мог остаться в аспирантуре и продолжать
занятия с целью стать профессором. Причина
заключалась не только в дипломной работе. Имелась важная
проблема, о которой нельзя было забывать ни на один
день: я должен прокормить семью в шесть человек, и при
моем социальном положении нельзя было жить, получая
скудное жалованье ассистента или помощника
ассистента. По окончании университета мне не оставалось ничего
другого, как вернуться в деревню и снова стать учителем.
Поэтому по совету профессора Фудзии я решил поступить
преподавателем в повышенную школу в Ниигата. Я
чувствовал себя подавленным, думая о том, что после трех лет
напряженного научного труда снова приходится
возвращаться к работе деревенского учителя. Но профессор
Фудзии сурово отчитал меня за такое настроение и в то же
время утешил: «Как это в деревне нельзя заниматься
наукой? Посмотри на Нисида, посмотри на такого-то.
Разве они на протяжении многих лет не работали в
деревенских средних школах, одновременно занимаясь
наукой? И ты, отправившись в Ниигата, упорно занимаясь
наукой, заложишь фундамент будущего». Другого выхода
не было, и я отправился к месту службы.
Тогда, в апреле 1925 года, мне был 31 год. В
Советском Союзе к этому времени умер Ленин. Его место занял
Сталин. Когда Советский Союз находился в самом
разгаре борьбы против различных осложнений во
внутренней и внешней жизни страны, я в это время все еще никак
не мог выйти за пределы философии Канта и кроме нее
не знал другого пути к истине.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
СНОВА ШКОЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ
По не зависящим от меня обстоятельствам я был
вынужден переехать на работу в префектуру Ниигата, но в
душе моей осталось какое-то чувство
неудовлетворенности. Мне хотелось довести до какого-то определенного
конца свою научную работу, начатую с таким трудом.
64
Конечно, при моем скверном характере не приходится
быть уверенным, что все старания и труды дадут в конце
концов настоящие плоды. В молодости меня отдали в
педучилище, окончив которое я уже в течение десяти лет
жил неторопливой жизнью учителя и по своим годам
отстал от науки и запоздал с ученьем. Сколько бы я теперь
ни старался идти вровень с молодежью и конкурировать
с ней, мне ничего не удастся из этого, так как я во всех
отношениях нахожусь в худших условиях. Было бы еще
ничего, если бы мне удалось остаться в Киото, где я
вращался в атмосфере научного мира, но теперь, в этой
деревне, совершенно некому было оценить мои усилия. Если
говорить о перспективе стать директором школы, то я мог
не опасаться конкуренции со стороны моих нынешних
коллег, так как уже обладал достаточным опытом и
анкетными данными. Однако такая перспектива могла
отрицательно отозваться на карьере ученого. Мне уже за
тридцать", у меня четверо детей. При таких условиях надеяться,
что мои самостоятельные занятия обеспечат мне карьеру
ученого,— значит питать несбыточную мечту. До чего же
я непрактичен, если в моем возрасте все еще не могу
распрощаться с этой смутной надеждой. Пытаюсь успокоить
себя, говоря, что это неблагоразумно, но самовнушение не
помогает. Одна и та же мысль упрямо не дает мне покоя.
Надо попытаться осуществить свою мечту, пусть даже
рискуя в случае неудачи бесполезно потратить всю жизнь.
Конечно, нельзя забывать о семье, но думаю, что при
некоторой экономии мы могли бы жить без затруднений.
Так или иначе, ограничить себя в научной работе было
бы жаль. Сделаю еще одну попытку!
В школе, кроме общей учительской, имелось что-то
вроде отдельного кабинета. Он был оборудован неважно, но
в перерыве между лекциями я мог, уединившись,
заниматься своим делом. В те годы среди японских
философов наибольшей популярностью пользовались кантианцы
и неокантианцы. Поэтому нужно было в первую очередь
тщательно ознакомиться с важнейшими произведениями
Канта. Я наметил себе определенный план ежедневных
занятий и принялся за «первую критику», начав с первой
страницы «Критики чистого разума». Эту книгу
следовало прочитать еще в студенческие годы, но жизнь все
время создавала препятствия моим занятиям, и только
теперь я могу взять ее в руки.
5 Янагида Кэндэюро
65
Трудно было разбирать мелкий шрифт и улавливать
существо содержания — ведь немецким языком я владел
слабо, а содержание книги было сложным. Прочитав
несколько страниц, я терял нить, возвращался к
прочитанному, иногда прерывал чтение и давал себе отдохнуть
два-три дня. Даже после такой тщательной проработки,
открывая вновь первую страницу, я лишний раз
убеждался в собственном невежестве.
Но во мне было какое-то упрямство, я считал, что если
уже начал читать книгу, то должен дочитать до конца,
независимо от того, понятно мне ее содержание или нет.
Так в колебаниях и сомнениях прошло полгода, и к
осени я прочитал весь том объемом в восемьсот страниц.
Книга была в издании Форлендера, в котором после
Methodenlehre было дано приложение Beilagen aus der
ersten Ausgabe vom Jahre 1781.
Когда я дочитал до этого места, в душе моей уже
роились самые противоречивые впечатления. Вся семья с
волнением следила за моей шестимесячной борьбой с этим
томиком, и я решил отпраздновать свою победу. Мы
устроили семейный ужин, сварив рис с красными бобами
и свежей рыбой. Я написал письмо профессору Фудзии,
извинившись за долгое молчание и сообщив ему о своих
делах. Вскоре пришло подробное ответное письмо. Оно
содержало похвалу по моему адресу за то, что я,
занимаясь наукой, не забываю о семье.
Через десять лет я опубликовал статью в журнале «Га-
куто» («Маяк науки»), в которой описал, как мне
приходилось изучать философию. Эта статья вызвала широкий
отклик, я даже получил хвалебные письма от г. Сугимура
из издательства газеты «Асахи» и других лиц. Но на
первых порах потребовались все мои силы, чтобы победить
в этой серьезной борьбе с источниками.
Однако, как ни продвигались вперед мои занятия, они
по-прежнему не принесли мне уверенности в
плодотворности моей научной работы. Насколько я помню, в
следующем году я опубликовал в журнале «Тэцугаку кэнкю»
(«Изучение философии») статью «Относительно
Achtungsgefühl Канта». Я писал ее со страстью. Чтобы написать эти
пятьдесят страниц, потребовалось полное напряжение
всех моих сил. И, отправив рукопись в издательство, слег
с температурой выше 38 градусов. (Это повторялось со
мной и впоследствии: во время занятий я не замечал
особо
бой усталости, но, видимо, напряжение сказывалось на
организме.)
Однако эта статья еще раз ясно показала мне мою
ограниченность. Как раз в то время профессор Фудзии
приехал в Ниигата, чтобы прочитать лекцию на курсах,
учрежденных редакцией «Асахи». Я посетил профессора в
отеле Синода, где он остановился. У него в гостях был
профессор Иосинори Иосидзава из киотоского
университета, которому я и был представлен. При этом профессор
Фудзии отозвался обо мне как об «ученом и вместе с тем
прекрасном преподавателе». Услышав это, профессор
Иосидзава сказал:
«Но ведь это никуда не годится! Ученому нельзя иметь
других талантов, кроме таланта к науке, иначе из него
ничего не выйдет».
Его слова глубоко запали в мою душу и впоследствии
руководили моими поступками. Ведь я и вправду был
педагогом больше, чем это требовалось для того, чтобы быть
истинным ученым. Во всяком случае моя слава
преподавателя в Ниигата вышла, кажется, за стены школы.
Преподавательские штаты школы комплектовались главным
образом из выпускников педвузов, и поэтому среди наших
учителей было много таких, которые в основном свой долг
видели в том, чтобы с нравоучительным видом читать
ученикам нотации. К этому присоединялось
соперничество между выходцами из Токио и Хиросима, которое
проявлялось в самых низких поступках. В этом,
видимо, причины моей нынешней антипатии к
пединститутам.
Выпускники пединститутов были крайне малодушны.
Пробраться на пост директора значило для них то же, что
обезглавить чорта, то есть совершить великий подвиг.
Свою жизнь они строили на пресмыкательстве перед
министерством просвещения или префектуральными
собраниями; они подавляли индивидуальность учеников и их
волю к свободе, стремились сделать из каждого
маленькую модель по своему образцу и подобию. Таким путем
они рассчитывали сделать карьеру. Им был совершенно
неведом дух сопротивления властям; подчиняясь
господствующему классу, они в то же время держали учеников
в черном теле. Все это очень устраивало военщину и
бюрократию, а больше всего страдали от этого жертвы
гнета, слабые ученики.
6*
67
Этот дух низкопоклонства не изменился, по-моему, и
после того, как пединституты назвали сперва институтами
гуманитарных наук, а затем переименовали в
педагогические университеты. Наша школа в Ниигата в общем
также не была исключением из общего правила. Из всех
учителей университетское образование имел один лишь я,
и хотя занимал при этом самое обыкновенное место
преподавателя, но, видимо, чем-то отличаясь от других
преподавателей, пользовался значительным авторитетом среди
учеников — повысился их интерес к философии. А в летние
каникулы, когда мы открывали курсы, к нам съезжалось
из разных районов префектуры несколько сот человек, на
несколько дней погружавшихся в научную атмосферу.
В результате этого меня чаще стали приглашать для
чтения лекций в местные педагогические собрания.
Однако такая деятельность, будучи новой и
прогрессивной, не могла не вызвать противодействия некоторых
людей. Директор у нас был человек самый заурядный
(таких обычно называют работягами) и умел избегать рифов
в житейском море. Он считал, что учащиеся имеют
забитый и замкнутый нрав и единственный путь оживить и
вызвать к жизни их энергию — это спорт. В соответствии
со своими убеждениями он пригласил опытного
преподавателя физкультуры и всячески поощрял занятия
спортом. Благодаря его усилиям мы были по спорту в числе
первых не только в префектуре, в какой-то период наша
слава прогремела даже по всей Японии. Однако внутри
самой школы было много недостатков, вызывавших
недовольство как среди преподавательского состава, так и среди
учеников. Особенно недовольны были способные ученики,
интересовавшиеся наукой и искусством больше, чем
спортом. Им претил курс, принятый администрацией школы,
при котором первостепенное значение придавалось не
содержательности занятий, а внешней, незаслуженной славе
школы. В результате школа разделилась на два
враждующих лагеря. На первых порах у меня не было желания
вмешиваться в эту борьбу, но у меня постоянно собирались
ученики, питавшие любовь к философии и литературе,
и они ежедневно рассказывали о своем недовольстве.
В конце концов я оказался вовлеченным в ряды оппозиции
директору и вступил в конфликт с администрацией.
Вскоре, однако, директора сменили, изменилась и
прежняя установка на спорт. Открылось отделение спе-
68
циализации, заведовать которым был приглашен я.
Отделение получило свои аудитории и кабинеты, что меня
чрезвычайно обрадовало. Однако новый директор — его
звали Ватанабэ — в полную противоположность прежнему
чрезмерно уверовал в мои способности и, вызвав меня под
каким-то предлогом к себе в кабинет, спросил, намерен
ли я стать ученым. Я ответил ему, что конкретно такого
намерения у меня нет, но что я люблю науку. На это он
мне сказал, что если я не намерен стать ученым, то лучше
уж сейчас определить свою позицию и в своих занятиях
взять курс на педагогику. «Хорошо быть ученым, если ты
профессор токийского университета,— сказал он,— но ведь
гораздо лучше быть директором средней школы или
педучилища, чем простым преподавателем в сельской школе.
Если ты согласен, я могу через год-два устроить тебя на
очень приличное место. Но для этого нужно иметь не
менее чем годичный опыт работы в качестве заведующего
учебной частью. Давай, решайся»,— настаивал он. Однако
я ни завучем, ни старшим преподавателем работать не
хотел. Есть еще какой-то смысл в том, чтобы работать
директором, но мне совсем не хочется посвящать свою жизнь
глупому заискиванию перед министерством просвещения и
префектуральным управлением. Г-н Ватанабэ поступал
очень великодушно и смело, делая мне такое
предложение, но он-то знал всю подноготную директорской
службы. Мне эта работа совсем не по плечу. Я очень хорошо
знаю, какое важное значение имеет педагогика в своей
сущности, но вряд ли из этого следует вывод, что мне надо
стать директором. Я и сейчас уже педагог — разве этого
мало? Г-н Ватанабэ — директор, я — рядовой
преподаватель, но если речь зайдет о том, кто из нас больше
служит педагогике как таковой, то во всяком случае я, не
обладая ровно никаким опытом, могу служить ей больше
на нынешнем посту, чем на посту директора. К тому же,
став директором, я был бы вынужден бросить научную
работу. В таком случае все мои прежние труды, учеба,
окончание университета и т. п.— все пойдет насмарку.
Непонятно, к чему тогда было читать Канта. Нет, я лучше
буду продолжать прежнюю жизнь.
Я уже все решил, но директор никак не хотел со мной
согласиться. Он по своей инициативе рекомендовал меня
в префектуральном управлении как кандидата на пост
директора, а сам ежедневно читал мне наставления
69
Нужно было бы отказаться наотрез, но невежливо было
так ответить на его заботу, и это могло вызвать ссору.
Поэтому я делал вид, что никак не могу сделать выбора, а
это его только подбивало на новые уговоры. Обычно
преподаватели не раздумывая принимали предложение занять
пост директора или завуча да еще благодарили и
кланялись, а я, не выражая ни малейшей радости, отвечал на
это предложение что-то невнятное. Директор, видимо,
подумал, что я принадлежу к той редкой категории людей,
которым чуждо стремление к славе и выгоде. По этой
причине он стал все более и более симпатизировать мне
и, наконец, совершенно ко мне привязался.
Все это очень тяготило меня. Однако вскоре я
вздохнул с облегчением, узнав, что г. Ватанабэ едет на один
год в Европу. Тем не менее в префектуральном
управлении уже знали меня, и в отсутствие моего покровителя я
был вызван начальником отдела кадров управления,
который сообщил мне, что в ближайшем будущем
открывается вакансия на место директора в городе Сандзё. «Мы
выдвинем Вашу кандидатуру, так что имейте это в
виду»,— сказал он. Теперь уже нужно было решать
вопрос окончательно, там как дело не терпело отлагательств,
и я решительно отказался. Все это хорошо, подумал я, но
ведь не могу я вечно сидеть в этой школе и заниматься
наукой. Правда, меня никто не гонит, но неприятно
думать, что когда-нибудь это может случиться. В науке я
еще не нащупал своего собственного пути, по существу у
меня не было даже ростка знаний, я чувствовал себя
крайне беспомощным и стремился только к тому, чтобы
найти место, где можно было бы спокойно заниматься.
В это время я получил приглашение от моего
прежнего сослуживца Юкимото, с которым познакомился в
Окаяма, перейти на работу в повышенную начальную
школу в город Хиросаки. Юкимото преподавал в этой
школе, но теперь ему предложили переехать в Мацуяма,
в связи с чем он приглашал меня занять его место. В
Хиросаки климат еще более холодный, чем в Ниигата, и я
не был в восторге от этого. Но в повышенной начальной
школе меня не будут соблазнять предложениями занять
директорский пост, поэтому я решил хотя бы на некоторое
время примириться с холодным климатом и принял
предложение Юкимото. Узнав о моем переезде, ученики
пришли в страшное возбуждение. Многие из них пришли ко
70
мне домой и просили меня остаться в школе. Но я
отказался остаться, хотя и был глубоко растроган. В Ниигата
я пробыл два года и девять месяцев. Успокоив учеников,
которые уже готовы были поднять забастовку против
администрации, я благополучно переехал на новое место
работы.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
В ХИРОСАКИ. ЖУРНАЛ «ΚΟΡΟ»
Преподавать в Хиросаки я стал в декабре 1927 года.
Даже после того, как я приступил к работе на новом
месте, г. Ватанабэ не отказался от мысли назначить меня
директором школы и вслед за мной прислал телеграмму с
предложением согласиться принять должность директора
женского педагогического училища. Но я по-прежнему
двигался вперед, не сворачивая с избранного пути. Вслед
за философией Канта я принялся изучать философию Вин-
дельбанда и Риккерта. В высшей школе по всей Японии
росло влияние марксизма, и фукумотоизм готов был
охватить всю массу студенчества. Я не читал произведений
Фукумото \ но во время занятий всегда выступал против
материализма, и у нас возникали дискуссии. Учащиеся,
получившие материалистическое крещение, вступали со
мной в спор, разгоралась идеологическая борьба, не
уступавшая по своей активности классовой борьбе. В то время
я еще не владел диалектикой и в теории познания
придерживался чисто логического «объекта познания» Риккерта,
а в практической философии стоял на позициях
кантианского идеализма и нормативизма. Вот с этих-то позиций
я и пытался убедить своих учеников. Но они меня
совершенно не слушали. И, сколько бы мы ни спорили,
каждый оставался при своем мнении. В конце концов мне
удавалось только удержаться на негативной позиции, то
есть не .поддаваться им. В отличие от педагогических
училищ учащиеся здесь были очень упорными в своем
мнении. Естественно, что и с моей стороны занятия проводи-
1 Кадзуо Фукумото (род. в 1894 г.) —в прошлом член
Компартии Японии. В 1926 г. выдвигал лево-сектантскую теорию отказа от
экономической борьбы рабочего класса, получившую название «фу-
кумотоизма». В настоящее время публицист.
71
лись все более и более решительно, ибо я должен был
бороться с этим упорством.
В то время я собирался закончить в общих чертах
занятия, связанные с дипломной работой на тему: «Теория и
метод Маркса». Даже в спорах с Ивата я не считал себя
побежденным, неужели же отступлю перед учениками
провинциальной повышенной школы? В то время я подходил
весьма упрощенно к оценке марксизма. Я считал, что
марксизм вообще возник как результат духа современного
рационализма; если его рассматривать как научную
теорию, то в нем действительно содержится много истин и
имеется немало такого, чему можно поучиться; но если его
рассматривать как философскую систему, то он
ограничивается наивным эмпиризмом и теорией отражения; для
этого учения, думалось мне, остался совершенно
непонятным смысл совершенного Кантом переворота в философии
относительно логической связи объекта с субъектом,
равного по своему значению перевороту в астрономии,
совершенному Коперником; поэтому, если учащимся как следует
объяснить, как далеко и глубоко продвинулась
современная философия, они должны понять, что марксистская
теория не является абсолютной, последней истиной. Короче
говоря, мне казалось, что если остановиться на точке
зрения марксизма, то хотя научно и можно познать вещь, но
нельзя философски осознать ее, и в этом заключается
источник ошибочности этой идеологии. Я считал, что
хорошо понимаю суть марксизма, а на самом деле не
понимал ее. Ученики ввиду недостаточного философского
образования не понимают меня — так думал я. Но в конце
концов виноваты в этом они, а не я. Такое самомнение сильно
овладело мною, и я никак не мог отделаться от него.
Вот почему моя голова была занята только одной
мыслью — подвергнуть «критике» Маркса. Я много думал
над тем, как опровергнуть Маркса. Исходя из взятой за
аксиому предпосылки, что учение Маркса несовершенно и
ошибочно, я направил все свои мысли в эту сторону и
поэтому никак не мог отрешиться от предвзятой
субъективной точки зрения и заняться глубоким изучением Маркса,
не опасаясь самому стать его последователем. Недостатки
такой критики с точки зрения сегодняшнего дня можно
объяснить прежде всего как результат моего
недостаточного знания Маркса. В то время я был уверен, что если я
буду упорно продолжать свои занятия, то непременно
72
смогу опровергнуть Маркса и, более того, должен его
опровергнуть. Пожалуй, именно в таком духе рассуждают
все сегодняшние идеалисты. Мне и в голову тогда не
приходило, что моя точка зрения — не что иное, как
определенная классовая позиция, состоящая в защите
буржуазной идеологии. И когда мне говорили об этом мои ученики,
это выводило меня из равновесия. Я думал, что классовый
подход к истине не имеет отношения к научной
деятельности, что всерьез об этом нельзя даже говорить.
Когда я видел, что ученики, особенно лучшие,
наиболее способные, оказывая влияние друг на друга, все
больше склоняются влево, то не мог смотреть на это
спокойно. Я считал своим долгом как-то направить их мысли
на путь истины. Я как ученый считал для себя
недостаточным сидеть в кабинете и выпускать в год по одной статье.
Время не ждет, общество развивается день за днем. Я сам
хотел вести такую работу, которая по меньшей мере могла
бы направлять людей на правильный путь. Я отказался от
практической деятельности педагога или директора
учебного заведения и пошел по пути науки. Но я считал, что
настоящая наука в известном смысле должна быть крепко
связана с социальной действительностью и руководить ею.
Хотя я и не стал директором учебного заведения, но
нахожусь в долгу перед теми, кто занимается наукой, и перед
собственными учениками. Всесторонне обдумав этот
вопрос, я решил издавать небольшой частный журнал. Мне
казалось, что люди в настоящее время заблуждаются, не
зная, куда им идти: то ли налево, то ли направо. Поэтому
я хотел непосредственно обратиться к обществу с тем, что
я сам думаю и во что верю, и попытаться в какой-то мере
осветить путь для людей.
Вот с такими намерениями я и решил издавать
ежемесячный журнал «Коро» («Путь») — небольшого формата,
типа теперешней библиотеки Иванами, около 32 страниц.
Если его пустить по 10 сен за экземпляр, то даже для того
времени он был бы общедоступным журналом. Журнал
должен был выходить один раз в месяц, и в нем ни в коем
случае нельзя помещать трудный научный материал, а
следует давать легкие, понятные каждому статьи, где
обсуждались бы проблемы жизни и этики. Приняв такое
решение, я известил об этом своих знакомых, друзей и учеников,
и спустя немного времени со всех сторон посыпались
заказы, каждый на 10—20 экземпляров журнала. Хотя вместо
73
намеченных трех тысяч экземпляров было выпущено пять
тысяч, тираж разошелся почти без остатка. Я
распространял журнал не через книжный магазин, а прямо по
индивидуальной подписке, что было выгоднее, так как после
реализации тиража оставались лишние деньги.
Марксисты в то время во всем видели одну лишь борьбу и всех,
кто не соглашался с их мнениями, объявляли
реакционерами и мелкобуржуазными оппортунистами. Им как-то не
хватало чувства человечности, и у масс появилось
опасение, что еще неизвестно, в каком они окажутся положении,
если совершится революция во главе с такими людьми.
В таких условиях пропаганда сравнительно мягкого
гуманизма, необходимости взаимного уважения людей,
скромного самоанализа, стремления к самосовершенствованию
звучала успокоительно для многих людей. Именно такая
пропаганда больше всего устраивала класс капиталистов,
но я в то время еще совершенно не понимал этого, не
понимал, что мои взгляды представляют собой
разновидность мелкобуржуазного гуманизма, который не может
выражать подлинных чувств и желаний пролетариев,
наемных рабов капитала. Я был уверен, что занимаю самую
справедливую, общечеловеческую позицию, поднялся выше
всех классов и их предубеждений.
Однако, пока я таким образом выпускал второй и
третий номера журнала, я не мог подавить в себе
беспокойства, непонятного для меня самого и все более и более
овладевавшего мною. Во-первых, эта работа отнимала очень
много времени; во-вторых, связавшись с этой работой, я
уже не мог более вести спокойную жизнь в поисках
истины с чистых позиций.
Вместе с сомнениями, которые я испытывал из-за
сложности дела и запутанности отношений с учениками
вследствие дискуссий, меня беспокоило и то, что я брался учить
чему-то других, представляя себя как бы выдающимся
руководителем, и навязывал другим определенные истины с
таким видом, будто для меня самого все уже ясно, хотя в
действительности я еще ничего не понимал. Мне ли учить
людей, в то время как для меня гораздо важнее учиться у
других? Бессмысленно продолжать эту новую мою жизнь.
Я начал понимать, что с моей стороны было очень
легкомысленно, когда я вообразил себя специалистом обучать
других, тогда как я всю свою жизнь стремился прежде
всего быть учеником. Не допустил ли я ошибки, взявшись,
74
будучи сам еще не зрелым человеком, за издание
журнала только потому, что считал это
общественно-необходимым делом? Когда я начинал думать так, мне становилось
невыносимо тяжело. Если я ошибся, то надо исправить
ошибку.
Если я понял, что моя деятельность неправильна, то
ее нужно немедленно прекратить, думал я. Но читатели не
знали о моих сомнениях и один за другим посылали мне
деньги. Если бы это была подписная плата за высланные
экземпляры, то это было бы еще ничего, но они посылали
деньги вперед за полгода и за год, при этом со словами
поощрения и благодарности. «Продолжайте работать, мы
будем стараться расширять круг сотрудников журнала»,—
такого рода письма получал я со всех концов страны. Раз
так уж пошло, то я не мог прекратить издание журнала,
просто заявив, что оно мне опротивело. У меня не было
другого выхода, как выполнять те обязательства, которые
я взял на себя.
В то время, когда меня беспокоили такого рода
сомнения, в городе Хиросаки неожиданно возник большой
пожар. Когда в школе закончились занятия, кто-то сообщил,
что где-то в нашем квартале пожар. Я недооценил
опасности, думая, что вряд ли будет что-нибудь серьезное, не
вышел на улицу. Рассматривая выставку ученических
рисунков, я заметил, что на улице стало очень людно.
Обеспокоенный, я выбежал и увидел в направлении моего дома
клубы черного дыма, которые порывами сильного ветра
быстро неслись с запада на восток. Когда, испугавшись,
я побежал, то увидел, что мой дом уже в огне и
приблизиться к нему невозможно. Мне ничего не оставалось, как
наблюдать, остановившись метрах в ста от дома. Я даже
не мог узнать, что случилось с моей семьей и куда она
девалась. Подумав, что дело плохо, я побледнел, но тут же
сообразил, что документы, относящиеся к журналу,
наверное, тоже сгорели; хотя мне и жалко было терять
домашние вещи, но я смогу под предлогом пожара закрыть
журнал, и у меня будет оправдание перед общественностью.
У меня даже возникла дикая мысль, что пожар будет для
меня спасением. Хотя он произошел днем, но город
моментально выгорел почти наполовину, и население находилось
в полной растерянности. Мой дом тоже сгорел буквально
дотла. Только жизнь моей семьи была спасена, но они
выскочили в чем были. Друзья, правда, успели вынести не-
75
много книг г одно-два ватных одеяла, и кроме этого
ничего больше не осталось. Но когда об этом узнали в стране,
со всех концов от читателей журнала «Коро» стали
поступать соболезнования и деньги. Нашлись и такие люди,
которые любезно присылали посылки с одеждой и писали,
чтобы я не закрывал журнал и продолжал его издание.
Таким образом, от намерения закрыть журнал,
воспользовавшись пожаром, пришлось отказаться. Раз я стал выпускать
журнал, имеющий общественное значение, то как можно
считаться с моим субъективным настроением? Таким
образом, на меня была возложена обязанность, которую я не
мог самовольно сложить с себя. Хотя я и находился в
состоянии неуверенности, но мне ничего не оставалось, как
продолжать начатое дело. Тогда я волей-неволей решил
привлечь на помощь себе учителей повышенной школы и
продолжать издание журнала. Во всяком случае,
передовую каждый месяц я должен был писать сам. Хотя
количественно это было и немного, но поучать чему-то других,
корча из себя этакого руководителя, было очень неприятно.
Нужно было в конце концов найти выход из создавшегося
неловкого положения. Не изменить этого положения —
значит превратиться в конце концов в лицемера.
Когда я находился в таком затруднении, пришло
письмо от Фудзии. Он писал: «Сейчас на Тайване
открывается новый университет. Не хочешь ли приехать
посмотреть? Имеется должность доцента. Пока нет надежды,
что откроется вакансия на должность профессора, но
условия для научной работы будут гораздо лучше, чем твои
теперешние». Переехать из Хиросаки на Тайвань —
означало переехать с крайнего севера на крайний юг. Это
вызывало у меня беспокойство за здоровье семьи. С другой
стороны, если я перееду на Тайвань, то смогу прекратить
выпуск журнала и тем самым избавиться от сложных
взаимоотношений с другими людьми и целиком отдаться
науке. Конечно, имея желание учиться, можно было и не
уезжать так далеко, а лучше было вернуться в Киото и там
вести научно-исследовательскую работу в научном
учреждении. Но, имея четырех детей на руках, о такой роскоши
нельзя было даже мечтать. При таком положении, как мое,
нельзя быть беспечным. Кроме того, на Тайване, как в
колонии, мне было обеспечено повышенное жалованье.
Полагая, что я там буду жить безбедно и смогу посвятить
себя науке, я решился дать согласие. Смогу ли я благопо-
76
лучно прибыть пароходом на Тайвань, где так жарко, а я
так подвержен морской болезни? Из-за пожара я ведь все
потерял и во время путешествия не смогу одеваться
должным образом. Предпринимая первое в своей жизни боль·
шое путешествие по морю, я чувствовал себя крайне
удрученным. Покинув Хиросаки и прибыв в Кобе поездом
дальнего следования, я остановился в приморской гостинице с
жалким чемоданчиком, похожим на большую корзину, и
не мог не почувствовать, что у меня очень жалкий вид.
На Тайвань я прибыл 10 апреля 1929 года, на третий
день после отплытия из Модзи. Скорость парохода была
небольшая, и, когда показались странной формы джонки,
бороздящие бухту в Киируне, я с огорчением
почувствовал, что уехал далеко в чужую сторону. И форма гор и
цвет почвы — все здесь имело не тот вид, что в Японии.
Все было чужим. Когда я в нерешительности стоял на
станции Киирун, окруженный встречавшими меня
профессором Сэра и другими сотрудниками, в груди моей
теснилось чувство невыносимого одиночества и тоски. Даже вид
моей младшей дочери, ничего не понимавшей и
цеплявшейся за мою руку, был жалким. Но, как бы там ни было,
мы благополучно прибыли на Тайвань. Не останавливаясь
в гостинице, мы сразу же отбыли в Тайхоку, где нам уже
была приготовлена квартира. Когда вся семья собралась
с растерянным видом перед суси ', присланным нам
г. Сэра, уже спустились сумерки и, несмотря на то что
был только апрель, масса москитов гудела в воздухе.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
МОЯ ЖИЗНЬ НА ОСТРОВЕ ТАЙВАНЬ
Жизнь на Тайване с самого начала не пришлась мне по
вкусу. Все было новым и диковинным. Однако это
возбуждало не любопытство, а скорее отчужденность и тоску по
родине. Во-первых, странными казались крики идущих по
улице продавцов. Тайванцы-торговцы, приходящие в дом,
производили впечатление людей хитрых и настороженных.
Горы с резкими очертаниями имели дикий вид.
Растительность полей и лесов производила неприятное впечатление
Суси — японское блюдо.
77
и напоминала о том, что там гнездятся ядовитые змеи.
Возможно, могут подумать, что страна вечного лета, не
знающая холода, приносит счастье. Но там и днем и ночью
тучи москитов совершают непрерывные налеты, все время
приходится вести борьбу с тифом, малярией и другими
заразными заболеваниями тропического пояса. Культура
населения низкая, о науке и искусстве почти не может быть
и речи. Чиновники держат себя надменно, с дутой
важностью. Подразделение чиновников по рангам — на
назначаемых императором, назначаемых министерством,
низших чиновников и вольнонаемных — на деле
совершенно игнорирует их человеческую сущность, всех их
объединяет одно общее стремление получить повышение.
Беседуя с любым из них, убеждаешься, что их требования
к жизни совершенно одинаковы. Не было среди них ни
одного человека, который обладал бы какими-нибудь
особенными желаниями, отличался бы индивидуальными
качествами. И даже преподаватели университета все время
заняты лишь разговорами относительно повышения в звании,
увеличения жалованья, об орденах. Никто не занимается
обсуждением каких-либо серьезных идей или проблем,
связанных с его специальностью. Во время официальных
праздников все они приходят в лекционный зал при
саблях, с золотыми погонами на плечах и орденами на груди.
Никак не подумаешь, что ты находишься в школе свободы
и истины. Могли ли такие преподаватели иметь желание
отдать всю свою жизнь науке? Казалось, что они скорее
радовались тому, что, приехав на такой остров, они сами
смогут стать генералами подобно Кояма К
При этом особенно неприятными для моей семьи были
климат и природные условия. Вскоре по прибытии на
Тайвань моя средняя дочь Сэцуко попала в больницу,
заразившись в школе тифом. У жены случился выкидыш
вследствие трудностей нашего путешествия. Это привело к
серьезному нервному расстройству, из-за чего ей пришлось
неоднократно ложиться в больницу. Младшая дочь Ми-
дори совсем, видимо, не могла выносить климата Тайваня,
ее здоровье оказалось серьезно подорванным. Я постепенно
лишался аппетита из-за желудочного заболевания и стал
терять бодрость духа. Поистине положение семьи
становилось трагическим. Однако, если бы я из-за этого расте-
Кояма — генерал-губернатор острова Тайвань.
78
рялся, то смысл моего далекого путешествия, стоившего
огромных жертв, был бы потерян. Я решил преодолевать
любые трудности, заниматься при всяких условиях,
стремиться отдать все свои силы науке, какие бы трудности ни
возникали передо мной. Хотя большая половина моей
жизни растрачивалась на уход за больной семьей,
особенно после того, как свалилась жена и все заботы о семье
легли на мои плечи, я решил использовать для занятий
каждую свободную минуту. В те дни, когда я не мог пойти
в научный кабинет университета, я открывал книгу, сидя у
изголовья жены, вдыхая запах лекарств. Когда мне чуть
не каждый день приходилось ездить в больницу, чтобы
ухаживать за больными, я читал и в автобусе. В случае, если
не удавалось открыть книгу днем, вставал ночью и,
слушая сонное дыхание детей, садился за стол.
Мало сказать, что культура на Тайване находится на
низком уровне, вернее, для этой культуры даже почва не
подготовлена. Тем более плохим было положение с такой
наукой, как философия, которой тайванцы не знают даже
по-названию. Поэтому я думал, что сколько ни старайся,
а философия ни в малейшей степени не привьется на почве
Тайваня и не даст ростков. Общество совершенно не
считалось с существованием ученых, искателей истины и не
принимало нас в свою среду. И я тоже не мог общаться с
такой публикой и даже не собирался этого делать.
Общество отдалялось от философии, философия отдалялась от
общества, и это было, конечно, ненормально. Но в то время
я ничего не мог с этим поделать, полагаясь только на свои
собственные силы.
Поневоле мне пришлось покинуть свет и, замкнувшись
в кабинете, отдаться изучению истины, стараясь держаться
на уровне науки далекой родины. Кант меня уже не
удовлетворял. Я должен был подумать, куда направить мне
свои дальнейшие занятия. Неокантианская школа Вин-
дельбанда и Риккерта еще пользовалась известным
влиянием в научных кругах, но меня уже не увлекал чистый
логизм Риккерта; эта школа показалась мне еще более
неудовлетворительной, чем кантианство, и я не мог долго
задержаться на этом учении. Философия жизни Бергсона
и Дилтея по сравнению с философией Риккерта
нравилась мне больше, но и она почему-то не понравилась
настолько, чтобы я увлекся ею. В то время на
философском факультете работал г. Рисаку Мутай. С ним у меня
79
возник разговор о философии немецко-австрийской школы
Буссэ и Хайдеггера. Об этой философской школе у меня
дома за столом не раз возникали довольно горячие споры
с г. Хисао Сэра. Но и эта философия не заинтересовала
меня достаточно глубоко. Это была, пожалуй, модная в то
время философия, но надо было полагать, что она долго
не продержится и сменится другой философией. Поэтому
в конце концов я решил и дальше следовать традициям
немецкого идеализма, изучать Фихте, Шеллинга, Гегеля.
Я считал, что, идя по этому пути, смогу выйти на
правильную и прямую дорогу. Я думал, что иного пути нет, и
погрузился в немецкую философию, хотя это, конечно, таило
в себе опасности, что я могу отстать от жизни.
Я прибыл на Тайвань в 1929 году, то есть как раз в то
время, когда начался мировой экономический кризис в
Европе и Америке. Япония также испытывала влияние этого
кризиса. Это было время, когда в стране поднималась
волна социального смятения, когда все более и более
увеличивались бедствия от безработицы. Если так будет
продолжаться дальше, то что же будет с миром? — думал я.
Наступление марксизма усиливалось с каждым днем со
страшной силой. Наблюдая из своего кабинета за
положением дел в Японии, я испытывал беспокойство, которого
сам не мог хорошо понять. Однако даже в такой
обстановке я не мог и думать, что именно в марксизме
находится вся истина. Я думал, что именно теперь настало
время, когда надо высоко поднять над миром знамя
идеалистической философии, прочно сохраняя при этом основы
ее. Я был глубоко убежден в том, что философия, которая
дает возможность правильно понимать современность и
критически относиться к ней,— это опять-таки только
немецкая идеалистическая философия.
Размышляя таким образом, я решил начать с Фихте.
Прежде всего я взял «Grundlage der gesamten
Wissenschaftslehre» («Наукоучение») 1794 года и «System der
Sittenlehre» («Система учения о нравах») 1798 года.
Я стремился твердо усвоить основные положения этих
работ, но, когда попытался внимательно перечитать их,
у меня одно за другим стали возникать разного рода
сомнения, и философия Фихте показалась мне совершенно
неудовлетворительной. Фихте нравился мне как человек.
Я чувствовал, что его последовательная, серьезная,
действенная позиция в отношении человеческой жизни чем-то
80
очень близка к моей позиции. Но когда я обратился к
главному сочинению Фихте и начал серьезно изучать его, то
нашлись какие-то положения, которые трудно было понять.
Дойдя до середины, я переставал понимать и снова
возвращался к началу и пробовал читать с первой страницы,
выписывая в конспект важные цитаты. Однако сколько ни
трудился я, но так и не мог добиться уверенности в том,
что все правильно понял. Я — человек настойчивый.
Столкнувшись с трудностями, стремлюсь преодолеть их, но, как
ни старался, так и не мог понять трудные положения в
произведениях Фихте. В конце концов я начал постепенно
терять веру в себя. Возможно, все эти трудности
объясняются слабостью моих способностей или моей
бесхарактерностью. Но если это так, то, должно быть, мое
стремление поступить на философский факультет, чтобы стать
философом, было глубокой ошибкой. И с точки зрения
общественной нехорошо то, что такой человек, как я, приняв
вид ученого, занимает должность, хотя бы и в таком
отдаленном университете, как университет в Тайхоку, в то
время, когда на свете имеется немало молодых людей с
прекрасными способностями. А если это так, то человек,
подобный мне, ни одного дня не медля, обязан передать
эту должность другому лицу и найти затем подходящее
для себя дело. Постоянно получать большую сумму денег
от государства, которое держится на налогах, взимаемых
с народа,— это нечестно по отношению к народу. На
родине мой отец живет, имея землю в 1 те и несколько тан.
Может быть, мне снова вернуться в деревню, стать
крестьянином и тем самым выполнить свой сыновний долг?
Не будет ли этот путь более надежным и правильным?
Ведь добиться успеха в науке уже нет никаких надежд.
Когда я стал размышлять подобным образом, мне
начинало казаться, что жить, занимая должность профессора
университета, ничего не делая полезного для общества,
является просто преступлением. Да, я должен оставить эту
работу и вернуться на родину и там прожить остаток своей
жизни, отдавшись скромному, незаметному труду. Вот это
и будет настоящей, наиболее подходящей для меня
жизнью, жизнью без фальши. «Вскоре, вероятно, я
оставлю университет и поэтому приготовь вещи, с тем
чтобы мы могли выехать в любое время»,— сказал я жене,
отправляясь в научный кабинет. Однако бросить
университет никогда не поздно. Решать такой вопрос нельзя
6 Янагнда Кэндзюро
81
поспешно. Попробую поработать хотя бы еще одну
неделю. Может быть, что-нибудь и получится. Таким
образом, в течение целой недели я боролся с самим собой,
насколько хватало сил. И когда в конце недели подвел
итоги прожитого, то оказалось, что ничего не изменилось.
Попытался поработать еще одну неделю, затем еще одну,
но так и не мог достигнуть уверенности в себе.
Когда наступило воскресенье, в голове у меня было
полное смятение, а на душе невыносимо тяжело. Уложив
завтрак в походный котелок, с рюкзаком за спиной, я
отправился в горы. Однако в горах на Тайване повсюду
водятся ядовитые змеи, поэтому прогулка по этим горам не
приносит такого успокоения, как на родине. Осторожно
ступая тщательно обутыми ногами, надо было все время
находиться настороже, иначе можно подвергнуться
опасности. Тем не менее, бродя по глухим лесам, слушая звон
горных ручьев, пробираясь пешком по отдаленным
тропинкам, чувствуешь какое-то облегчение. Когда
находишься среди природы, наедине с природой, то исчезают
всякие проблемы, всякое недовольство жизнью. Человек
рождается из природы и, прожив некоторое время,
умирает и возвращается в природу. Именно природа является
нашей родиной, нашей матерью. «Родные горы всегда нам
дороги, пусть будут благословенны родные горы»,— писал
поэт Такубоку К И хотя эти горы и не родные, хотя это
горы чужбины, но я их также благословляю.
Так прошло несколько месяцев, а затем и несколько
лет. Из всего, что у меня осталось в памяти, могу сказать
лишь, что это был для меня период моральной
подавленности и я чувствовал себя тогда как бы на дне жизни.
Я, собственно говоря, люблю писать и, когда начинаю
писать, не поспеваю за нахлынувшими мыслями. Только в
этот период я ничего не мог написать. Сколько я ни
старался, но не мог заполнить даже одну страницу. Для того
чтобы что-нибудь написать, нужно прежде всего
основательно продумать свое отношение к определенным
проблемам, но как раз такой возможности я не имел. Напишу
одну-две строчки и сразу попадаю в тупик. Как раз в это
время умер профессор Фудзии, и я должен был в память
его написать статью в «Философских исследованиях». За
1 Такубоку Исикава (1886—1902) —известный японский
поэт-демократ, близкий к социалистическому движению.
82
всю свою жизнь я никогда не чувствовал себя столь
беспомощным, как тогда. И сколько раз ни брался за перо, но
так и не написал ничего.
Сегодня мне ясно, что именно в тот период я
выстрадал основы своего мировоззрения. На первый взгляд это
было действительно похоже как бы на зимнюю спячку:
росток, который еще не пробился на поверхность, но,
пуская глубоко корни, погружая их все ниже и ниже, ждет
приближающихся весенних дней. В жизни человека нет
более ценного периода, чем период отчаяния и
разочарования. Те растения, которые в своем развитии не проходят
через такой период и сразу же выходят на поверхность,
имеют хрупкий стебель, и — чуть подует на них ветер —
он сразу переламывается. Изнеженное растение на вид
прекрасно, но его легко надломить, оно не может выйти
победителем в борьбе за жизнь. Есть и люди, которые,
окончив университет, сразу получают широкое признание
уже на основе дипломной работы и становятся
любимчиками своего времени. Однако на склоне своих лет такие
люди не всегда становятся большими мастерами своего
дела. Ко мне, разумеется, не относится пословица
«большой котел медленнее создается», но, как дикий кустарник,
за которым никто не ухаживает и который тем не менее
не ломается ни от снега, ни от ветра, так и я, хотя и мал,
но выжил. И это произошло потому, что после окончания
университета я более 10 лет не выпускал ростков и долгое
время жил как бы под землей. Конечно, эти годы
субъективно я переживал только как годы суровой, мучительной
борьбы. Но теперь я не могу не чувствовать радости, что
в моей жизни были такие дни.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
ФИЛОСОФИЯ НИСИДА
Из всего сказанного отнюдь не следует, что в то время
я занимался только философией Фихте. В связи с
изучением феноменологии я проявлял значительный интерес
к Шеллеру.
Многое узнал из книги Кронера «От Канта к Гегелю».
Из того, что написано японскими авторами, на меня
произвела впечатление книга Сэйсэнсуй Огихара «Путешест-
6*
83
венник Басе». У меня появилось желание хотя бы бегло
просмотреть сочинения профессора Нисида. Начав с его
книги «Интуиция и самоанализ в сознании», я принялся за
чтение всех его произведений в хронологическом
порядке. Среди них были и такие произведения, на которые
раньше, во время учебы в университете, я махнул рукой,
как на сочинения, непосильные для моего понимания. Но,
после того как я помучился над Фихте и снова
попробовал почитать Нисида, мне показалось, что я понимаю его
сравнительно легко. Тогда я подумал, что в таком случае
у меня, возможно, что-нибудь и получится, и стал грызть
страницу за страницей. Я постепенно увлекся, и у меня
появился глубокий интерес к этим сочинениям. С самого
начала непонятных мест было очень много, и, сколько я
ни перечитывал их, они оставались непонятными. Поэтому
я их оставлял и шел дальше. Произведения Нисида в
отличие от чисто рационалистических сочинений западных
философов глубоко волновали мою душу не столько своим
разумным содержанием, сколько сочувствием к живой
жизни. И, еще до того как понять его логически, я
чувством прихожу к одному мнению с ним. Такие слова в
предисловии к «Документам о бедствиях войны», как,
например, что жизнь человека — это «долина вздохов» или
что горе есть более глубокое чувство, чем радость, и проч.
выражали опыт жизни самого Нисида и поэтому
безусловно проникали в мое сердце и находили в нем прямой
отзвук. «Именно так, именно так!» — восклицал я, ибо
это было очень похоже на ту философскую истину,
которую я искал долгие годы. Почему же до сих пор я искал
ее так далеко, тогда как источник истины находился
совсем близко от меня. И когда я почувствовал это, то не мог
не посвятить себя целиком познанию этой истины,
отбросив все остальное.
Таким образом, после долгих блужданий по окольным
путям я смог, наконец, найти в философии Нисида то, что
можно было бы назвать духовной родиной. Мне думается,
что это произошло в 1935 году. В это время вышел второй
сборник статей Нисида. Когда я перечитал все сочинения
Нисида, то получилось около 4 тысяч страниц. Читал без
разбора, все подряд. В среднем приходилось читать по
100 страниц в день. А так как одновременно я должен
был читать и другие книги, то для того, чтобы прочесть
все, потребовалось несколько месяцев. Кроме того,
84
отдельные книги я перечитывал по нескольку раз.
Больше всего в то время я любил читать «Сознательное
определение небытия». Это была наиболее трудная для
понимания книга. Именно поэтому я перечитывал ее
несколько раз, добираясь до глубокого смысла ее
содержания. Пословица говорит: «Если смотреть на что-либо
снизу вверх, то оно кажется все выше и выше; если
резать что-либо очень долго, то оно кажется все тверже и
тверже». Но книги Нисида при втором чтении, наоборот,
приобретают новую свежесть по сравнению с первым
чтением. С каждым новым чтением — в 3-й, 4-й раз и так
далее — они казались мне все более глубокими. Долгое
время я блуждал и прожил несколько десятков лет в
поисках истинного пути, казалось бы, для того, чтобы
встретиться с этой истиной. Если бы мне не удалось
встретиться с этой философией, то я, вероятно, не смог бы найти
смысла своей жизни на этом свете, и значение того, что я
с таким трудом поступил в университет и изучал науки,
свелось бы к нулю. Когда я пришел к такой мысли, то не
мог подавить возникшего во мне чувства безграничной
благодарности к автору за его труды. Когда я читал
произведения Нисида, постепенно во мне росло такое чувство,
будто передо мной священное писание. И я с трепетом
открывал страницы.
В то время на философском факультете
тайваньского университета выпускался «Ежегодник». Я писал
в этих «Ежегодниках» начиная с первого выпуска.
В третьем выпуске была помещена моя статья
«Познание и действие». Впоследствии я поместил эту
статью в начале своей книги «Этика диалектического
мира». Это была моя первая статья, которую я написал
после того, как начал испытывать влияние философии
Нисида. Влияние Нисида на меня тогда было еще
слабое, но, когда статья вышла, я разослал несколько
десятков экземпляров оттиска разным лицам, в том числе и
профессору Нисида. Разумеется, в то время он не знал
меня даже по имени. После окончания университета мне
не приходилось, как частному лицу, даже навещать его.
Во время учебы я не ходил на его семинары. Поэтому,
когда я решил послать оттиск своей статьи Нисида, то
даже не ожидал, что он станет читать ее. Я послал ее
лишь для того, чтобы выразить свои собственные
чувства. Поэтому я отправил статью простой бандеролью и
85
не приложил даже почтовой открытки с приветствием.
Однако спустя некоторое время я получил письмо от
г. Мудай (который уже был переведен в токийский
институт филологии и естествознания). Он сообщал, что
профессор Нисида прочитал мою статью, дал ей высокую
оценку и подробно расспрашивал, кто я. Затем я получил
открытку с таким же известием от г. Такасака. Все это
было совершенно неожиданно и глубоко взволновало
меня. Уж одно то, что Нисида стало известно мое имя,
казалось мне большой честью, а то, что он специально
прочел мою незрелую статью и дал ей соответствующую
оценку, было для меня неожиданной радостью.
Но дело на этом не закончилось. В то время, как я с
трепетом в душе думал обратиться к Нисида с
приветственным письмом, вдруг получаю от него волнующее
послание, написанное тушью на свитке. Нисида сообщал,
что в статье моей есть мысли, созвучные с его мыслями.
Кроме того, я получил бандеролью свиток, на котором
было изречение, написанное учителем. Это был лист,
употребляемый для горизонтальных надписей. На нем
было начертано: «Познай прежде себя» (это изречение
и до сих пор украшает вестибюль моего дома). Кроме
этого, там была половина листа для картин, на котором
были выписаны кистью крупные иероглифы: «Твердо стой
на пути истины». Я был глубоко взволнован. У меня было
такое чувство, как будто моя жестокая борьба во тьме
превратилась в сон и весь я освещен лучами нового
солнца.
Лично я впервые встретился с Нисида в феврале
1937 года, когда умер мой отец и я прибыл на самолете в
Японию. После похорон отца у меня оставалось немного
времени до отъезда на Тайвань. Хотя я думал, что в
трауре и неудобно наносить визиты, но возможность
приехать в Японию представлялась очень редко, и если бы я
упустил этот случай, то неизвестно, когда еще я смог бы
встретиться с Нисида. Ведь он был уже в преклонном
возрасте, и поэтому я решился повидать его. В один из
зимних дней, когда дул холодный ветер, я посетил его
дом в Убагатани в Камакура. Это был уединенный домик
в тихом месте между холмами, куда вела узкая дорожка
от берега моря. Меня провели в гостиную, простую, без
всяких украшений. Когда Нисида, сойдя вниз со второго
этажа, стал внимательно разглядывать меня своими
86
блестящими глазами, я почувствовал себя неловко, но,
пока мы говорили, я понемногу стал успокаиваться. О чем
мы говорили, сейчас в точности не помню. Вспоминаю
только, что возник вопрос о сравнении Шеллинга с
Гегелем. Талант у Шеллинга проявился рано: в 19 лет он
изучил «Критику чистого разума» Канта, которая в то
время считалась самой трудной для понимания книгой.
В 21 год он стал преподавателем иенского университета, и
его имя прогремело в немецких философских кругах. Но
Гегель, несмотря на то что был на пять лет старше
Шеллинга, даже после окончания университета не получил
сразу признания, а зарабатывал на жизнь, занимая
должность домашнего учителя. И только спустя некоторое время
он сблизился с Шеллингом и принял участие в
философском журнале. Когда вышла в свет его
«Феноменология духа», ему было 37 лет, так что для Германии того
времени его скорее можно было назвать пожилым
автором. Но если подумать об этих философах сегодня, о том,
кто из них оставил более глубокий след в истории
философии, то, безусловно, назовешь Гегеля. Рано овладеть
наукой — это еще ничего не значит. Не следует
сокрушаться, если приходится учиться в пожилом возрасте.
Я вспоминаю, что разговор в основном клонился к тому,
что человек, имея определенные способности, в конце
концов добьется победы, если всю жизнь посвятит
определенной цели. Речь шла, конечно, не только о Гегеле.
Конечно, я не такой философ, чтобы меня можно было
сравнивать с Гегелем, но я похож на иего в том отношении, что
поздно начал учиться и упустил много времени. Однако
сокрушаться по этому поводу нечего. У человека, который
хотя и начал свой путь поздно и двигается вперед
медленно, может быть какое-то другое призвание, отличное
от людей с блестящими способностями. Когда я окончил
университет, я уже отставал от других лет на десять, а
после этого вращался в деревенской среде. Но и теперь
нельзя сказать, что я сделал какую-нибудь работу,
которой бы я заслужил признание в научных кругах. Все это
не имеет никакого значения. Если я опоздал на десять лет,
то ведь можно учиться и после еще десять лет. И если
другие уже перестанут заниматься наукой, а ты будешь
продолжать, то сможешь выполнить Vio или Vs их работы.
Думая так, я покинул дом Нисида и, спустившись по
тропинке между холмами, стал на песчаной дюне на берегу
87
моря и смотрел на Фудзияма, возвышающуюся против
острова Эносима, и на волны Тихого океана, сиявшие в
лучах вечернего солнца.
Хотя было холодно в этот зимний день, но весна была
уже недалеко. Я был счастлив.
Смерть отца оставила меня одиноким. Когда я
вспомнил, что на закате его жизни я не выполнял своего
сыновнего долга, думая только о себе, и смерть нас разлучила,
я чувствовал боль от непоправимой утраты. Но, когда я
думал о том, что ему было уже за 80 лет и он скончался
тихо и спокойно, я несколько успокаивался. Отцом, хотя
и не родным, стал для меня Ннсида. Если бы его не было,
то это значило бы, что и меня нет в этом мире. Для меня
Нисида явился не только учителем, возвестившим
философскую истину,— я впервые в жизни получил
подлинного наставника.
«В мире все преходяще», и до сих пор мне не
приходилось встречаться с человеком, которому я мог бы
действительно довериться, как единственному в этом мире. Под
блестящими именами непременно скрывались
какие-нибудь подделки. Так называемые люди с положением
оказывались своего рода ханжами. Иногда человек кажется
прекрасным, но, когда добираешься до его сущности, он
вызывает только отвращение. Говорят, что грушу нельзя
прокусывать до сердцевины. Но я обращаю внимание
именно на «сердцевину». Как бы ни были вкусны кожица
и мякоть, плод с гнилой сердцевиной не может нравиться.
Потому-то мне до сих пор и не приходилось встречаться
с человеком, которого можно было бы назвать настоящим
человеком. Я с восхищением относился к другу Иосимити
Ивата, но у него была известная ограниченность,
происходящая от его молодости. Кроме того, вызывала
беспокойство неопределенность его будущего. Когда я
повидался с Нисида, я впервые почувствовал, что встретился
с настоящим человеком. У него не было ни тени лжи,
рисовки, лести. В сравнении с ним я чувствовал себя
неотесанным чурбаном. Как глубоко ни проникал я в душу
Нисида, в нем невозможно было найти двуличия. Но Нисида
вовсе не был безупречным человеком, подобным
праведнику или святому. У него, наверное, имелись некоторые
недостатки. Он не был совершенством в том смысле, что
иногда ссорился с людьми, не всегда благосклонно
смотрел на собеседника. Он скорее был грубым человеком,
коде
торый держался свободно. Он не скрывал своих чувств
видимостью мягкого обращения с людьми. Его характерной
чертой была прямота: когда он был сердит, сердился,
когда был рад, радовался, когда происходило что-нибудь
такое, что ему не нравилось, он без стеснения и поклонов
высказывал это прямо. Он был простой и
непосредственной светлой личностью без единого темного пятнышка.
Вероятно, поэтому он нажил себе много врагов. На склоне
лет вместе со славой он испытывал также нападки и
преследования. Возможно, что это в известной мере
объясняется характером Нисида. Однако в этом сказывались
его положительные черты.
Не было человека, который в такой степени
пренебрегал бы славой и богатством, как Нисида. Даже когда его
наградили орденом культуры, он сказался больным
(действительно, ему немного нездоровилось) и не поехал в
столицу. Когда корреспонденты газет приезжали и
поднимали шум, Нисида говорил, что это докучает ему, и не
принимал их. В таких случаях его супруга выходила в
вестибюль и выпроваживала непрошеных гостей. Когда
генерал Араки был министром просвещения, случилось
так, что по поручению г. Коноэ 1 он прибыл в Киото, чтобы
посоветоваться с Нисида о политике правительства в
области просвещения. И даже тогда философ был крайне
необщителен и не оказал Араки никакого почтения.
«Я ему не доверяю, этому демагогу»,— так
пренебрежительно отзывался учитель каждый раз, когда речь
заходила об Араки. Еще более резко критиковал он министра
просвещения г. Хасида. Он говаривал: «Это не настоящий
руководитель. Если у нас такие лжецы выдвигаются на
высокие посты, то это уже конец Японии». Свои симпатии
и антипатии он выражал очень ясно. Тех, к кому он
относился неприязненно, он не выносил до такой степени, что
не любил даже лиц, близких к ним. Во время войны
особенно большим авторитетом в министерстве просвещения
пользовался начальник департамента по образованию.
Однако когда этот пост занимал г. К., Нисида резко
критиковал его в глаза. Никакого снисхождения не находили у
него те люди, которые старались прожить жизнь с
помощью лжи и обмана. У Нисида было много врагов,
поэтому диссертации Ниситани и моя — учеников его — про-
1 Фумимаро Коноэ —бывший премьер-министр.
89
лежали целых два года у начальника соответствующего
департамента министерства просвещения. Мой диплом на
присвоение ученой степени был отдан в приказ только
15 августа 1945 г., в год окончания войны.
Во всяком случае я почитал Нисида очень высоко и
как ученого и как человека. Он всегда жил в моем сердце.
Бывали случаи, что я колебался в принятии решения по
какому-либо вопросу, но стоило только мне подумать: а
как бы поступил на моем месте Нисида — и дело
становилось совершенно ясным. Были и такие случаи. Ректор
императорского университета в городе Тайхоку предлагал
мне по совместительству с преподаванием занять
должность декана. Министерство просвещения также не раз
предлагало мне принять пост инспектора по просвещению.
В то время появились так называемые «школы
национального воспитания», и у меня возникло искушение стать
инструктором по этим школам. Тогда я был только
ассистентом и, следовательно, со мной еще плохо обращались,
и если бы я занял эту должность, то это было бы
необычайным выдвижением на дорогу успеха. Но я от всего
этого категорически отказался. В то время я отправил
Нисида письмо, спрашивая его мнение. Но еще до получения
ответа мне стало все ясно. Если я буду двигаться вперед,
ориентируясь на Нисида, я не совершу ошибок. Возможно,
я и не выдвинусь в обществе, но зато мне не придется
ошибаться на своем жизненном пути. Я был удовлетворен
тем, что настойчиво следовал по пути Нисида и во всем
подражал ему. Это было похоже на следование за
пророком. Для такого своенравного человека, как я, это было
совсем странно, и в моей жизни ничего подобного не
бывало. Так послушно стать приверженцем одного человека,
следовать за ним всем сердцем, всей душой мне прежде
не приходилось и в будущем вряд ли придется. Тем не
менее я находил во всем этом высшее счастье, и во сне и
наяву я не забывал о своем учителе. Кроме Нисида, я
многим обязан, как моим учителям в жизни, Дайсэцу
Судзуки 1 и, особенно, Канаяма из храма на горе Коя.
Однако ж Нисида был высшим благодетелем в моей
жизни, и ему я больше всего обязан.
1 Дайсэцу Судзуки — историк японского буддизма, интуитивист.
90
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
КИОТОСКАЯ ФИЛОСОФСКАЯ ШКОЛА
Летом 1941 года я внезапно покинул Тайвань и
вернулся в Киото. Бросая работу в университете Тайхоку, я
не имел никаких планов относительно своей работы на
родине и был готов к принятию всяких лишений. Тучи
войны сгущались, и поэтому в правящих кругах Тайваня
атмосфера становилась невыносимой. Мне тем более стало
тяжко жить в этой бюрократической обстановке, которая
окружала меня на Тайване. И если принять во внимание,
что вместо предполагавшихся 3—5 лет я прожил здесь
целых 12, то понятно, как мне было тяжело думать, что я
должен вечно влачить эту серую жизнь и в таком месте.
Надо было на что-то решаться. В моем решении выехать,
конечно, определенную роль играла и семья, хотя я и не
стремился увеличить свои денежные доходы. Я уже
получал пенсию и вскоре должен был получить авторский
гонорар за вышедшие в свет книги — «Этика
диалектического мира», «Философия Нисида» и «Действенный мир».
Конечно, нельзя сказать, что в отношении материальной
обеспеченности у меня обстояло все благополучно, но,
разумеется, не было никакого сравнения с тем положением,
когда, бросив работу в Мориока, я переехал в Киото с
целью поступления в университет. Поскольку в то время
звание «профессор университета» говорило о многом, то
лишиться этого звания и стать просто Янагида было не
безопасно, так как это могло помешать распространению
моих книг. Но если мои книги читаются только потому, что
я имею звание профессора, то это по существу — не
похвала моим трудам. Вот поэтому мне хотелось отбросить
все мои звания и стать просто Янагида. Только смысл
моих речей, их человеческая правда, именно идеи моих
книг должны были привести в движение окружающую
действительность, трогать людей, а вовсе не ученое звание.
В противном случае мои книги нельзя считать настоящими
книгами. Только таким образом я должен в
действительности закалиться и стать настоящим человеком. Таково
было мое решение, и я без всяких планов вернулся на
родину, выбрав для жизни Киото.
Однако по возвращении на родину у меня оказались
большие возможности. По рекомендации друга Такасака
я стал читать лекции в университете Коясан, а при со-
91
действии профессора Судзуки получил работу в
университете Отани. Кроме того, совместительствовал в «Досися»
и в «Рюкаку». Таким образом, база прожиточного
минимума была обеспечена. Сверх всего, издательство
«Кобунто» на основе прошлых связей заботилось обо мне,
и поэтому у меня не было особых причин для
беспокойства. Но положение Японии с каждым днем все более
осложнялось и становилось труднее. Философия до сих
пор всеми считалась наукой, которая стоит над обыденной
жизнью и занимается только вопросами вечных истин. Но
к тому времени жизнь так изменилась, что стало
невозможным придерживаться далее этого мнения. Влияние
правой идеологии с каждым днем становилось все
сильнее, и в результате эта идеология стала господствующей,
связанной с военщиной и бюрократией. Сложилась такая
обстановка, что нельзя было даже произнести такие слова,
как «мировой разум» или «Интернационал», не рискуя
подвергнуться преследованию. Совесть нации постепенно
затуманивалась. Газеты и журналы, радио и лекции — все
было окрашено одним черным цветом. Война
восхвалялась как защита отечества, превозносилась
милитаристская Япония, изо дня в день буйно насаждалась
антинаучная теория бессмертия императорского духа. Именно
в это время «красные» были совершенно разгромлены, и
никто в стране не смел даже произнести слово «марксизм»
или выступить, например, с обсуждением произведений
Ленина. Господствующей идеологией стал японизм с его
девизами: «Объединяйтесь под знаменем японского духа»,
«Сто миллионов — одно сердце», «Верность императору,
любовь к отечеству», «Бескорыстное служение в рядах
«Ассоциации помощи трону»». Под влиянием подобной
пропаганды немалая часть молодежи стала без
колебаний думать, что лучший Ήyτь для японца — это исполнить
свой долг перед императором и во имя родины отдать
свою жизнь с возгласом «Да здравствует император!» Но
для интеллигенции, в частности для людей высокой
культуры, мыслящих широко, обладающих новой моралью, чем
выше был их интеллект, тем глубже становился их
скептицизм по отношению к этим абсурдным течениям. Дело
не ограничивалось только идеями. Существует выражение,
что дурная монета вытесняет добрую монету. И
действительно, все люди, которых я уважал, которым я доверял,
были изгнаны с руководящих общественных постов, а их
92
места заняли хвастливые проходимцы, которые
чванились тем, что имеют связи с властями. В этом, видимо,
была суть той войны, которую они называли
священной.
Эта тенденция стала совершенно невыносимой после
того, когда была объявлена война Америке и Англии.
Такая феодальная организация, как «Ассоциация помощи
трону», созданная руками кабинета Коноэ, людям нашего
времени кажется просто анахронизмом. Эта организация
залепила своими подлыми плакатами, на которые
невозможно смотреть, все телеграфные столбы, заборы и
стены домов в городах. И все—ложь. Ложь и лицемерие
господствовали по всей Японии. Сколько-нибудь
думающий человек не мог не задаваться вопросом: «К чему все
это приведет?» Особенно вопрос этот относился к
молодежи, которая получила повестку о призыве и должна
была вскоре отправиться на фронт. Величайшая трагедия
заключалась в том, что в условиях военной пропаганды,
которая была совершенно непонятна молодежи, сотни
тысяч и миллионы молодых людей, отправляемых на
верную смерть, не могли сказать ни одного слова и молча
совершали свое последнее путешествие. Поистине разум и
совесть всех японцев не могли не поддаться заблуждению.
Взывать было не к кому, и поэтому все были вынуждены в
подавленном состоянии терпеть все эти бесчисленные
испытания.
В такой обстановке философия Нисида сыграла
известную спасительную роль. Она заставляла искать в
глубинах души разрешения жизненных проблем, которые
невозможно было разрешить в действительности, и тем самым
давала возможность людям, которые пытаются субъективно
построить мир спокойствия, получить это спокойствие.
Отправляясь на фронт, некоторые юноши уносили в ранце
«Исследование добра» Нисида, и в этой книге видели
последнюю опору своей жизни. Были и такие, которые из
моей книги «Философия Нисида как практическая
философия» вырезали фотографию Нисида и, спрятав ее на
груди, не расставались с ней. Но сам Нисида к войне
относился очень холодно, критически. Он говорил, что так
нельзя, что непременно надо прекратить эту войну. Однако
фронт войны с каждым днем расширялся, и нация
одобряла этот факт, встречая криками восторга каждое
известие с фронта.
93
В это время Киотоская философская школа шумно
обсуждала доктрину войны за Великую Восточную Азию.
Непосредственным поводом к этому явилась запись
беседы, опубликованной в журнале «Цюо Корон», которая
вызвала оживленный обмен мнений среди интеллигенции.
Многие соглашались с этой доктриной. В это время народ
был морально ослаблен в результате давления правых
сил, и поэтому он глубоко заинтересовался этой теорией
и прочувствовал ее логичность. «Раз война идет за такое
справедливое дело, то ничего не поделаешь». «Именно это
и является современной высшей теорией войны». «Раз
и Нисида так думает, то его последователи должны быть
высшими идейными руководителями нации». Таким
образом, Киотоская школа была признана не только как
вершина философской мысли Японии, более того, она заняла
господствующие позиции в журналистских кругах, как
направляющая идейная сила всей японской интеллигенции.
Однако действие вызывает противодействие. И чем
больше с одной стороны росла эта тенденция, тем громче
становились голоса тех людей, которым она казалась
отталкивающей и которые считали, что Киотоская школа
является проамериканским и проевропейским
прагматизмом, который противоречит исконным традициям
японского духа. Правые последователи японизма, видя
существенную угрозу для себя, опасаясь оказаться
изолированными от народа, создали единый лагерь против
Киотоской школы и начали борьбу против нее. В то время
издательство «Токёдо» выпускало журнал «Читатель», и
этот журнал начал борьбу и выступил против Киотоской
школы. Не помню, в каком номере (кажется, это было
летом 1942 года) все страницы журнала были заполнены
материалом, направленным против Киотоской школы. Мы
не участвовали в беседе, запись которой была
опубликована. Нельзя сказать, что мы уже выработали
определенную идеологию. Тем не менее, так как мы являлись
учениками Нисида и были связаны с ним, нас считали его
попутчиками и подняли на копья. «Киотоская школа
является проводником американо-английской идеологии, не
почитает японский государственный строй, питает
нейтрализм, безразлично относится к судьбам военных действий,
и поэтому если не уничтожить эту школу, то войну за
Великую Восточную Азию невозможно будет довести до
победного конца». Таковы были их надуманные доводы.
94
Дошло до того, что они стали нагло кричать о
гражданской войне в области идеологии.
Хотя я и говорю о Киотоской школе, но я сам не
входил в основное ядро этой школы. Связи мои с ней были
следствием моей связи с Нисида и с издательством.
Здесь следует сказать и о той роли, какую сыграло
искательство, присущее моему характеру. Благодаря этой
моей черте я больше был занят самоанализом, чем
общественными, политическими вопросами. В этих вопросах я
разбирался плохо и не особенно интересовался ими. Но
когда без всякого основания я стал подвергаться грубым
нападкам, то не мог не испытать гнева в отношении этой
варварской и бессовестной позиции правых
националистов. Сперва я этому не придавал особого значения и
думал, что лучше молчать, игнорировать эти нападки, а
общественное мнение народа само определит, кто прав и
кто виноват. Но развитие событий не оправдало такого
оптимизма. Националисты пытались подкрепить свою
теоретическую слабость связями с господствующими
кругами, в особенности с органами информации вооруженных
сил, и, прикрываясь защитой со стороны военщины,
старались усилить свое влияние. В результате сторонники
Киотоской школы оказались в таком положении, что
стало необходимым принять какие-то меры, чтобы их
совсем не уничтожили.
В то время между армией и военно-морским флотом
имелись острые противоречия. Армия была оплотом
фашизма, который представлял собою махровый
национализм, не признающий никакой общечеловеческой
культуры. Флот, поскольку он сталкивался с жизнью в
различных уголках земного шара, был насыщен шовинизмом в
меньшей степени, и в позиции флота имелись даже какие-то
разумные стороны. В то время как армия была связана
с правым крылом японизма, военно-морские силы
свою идейную опору стали искать в Киотоской школе.
Начало этим связям положил капитан 1-го ранга Такаги.
Именно через него устанавливалась регулярная связь
между представителями военно-морских сил и Киотоской
школой. Со стороны школы этим вопросом занимался Та-
каяма. Таким образом, время от времени проходили
встречи, на которых обсуждались методы идеологической
работы. Я в то время был слишком незначительным
человеком, чтобы принимать активное участие в этих обсуж-
95
дениях, да у меня еще и не было необходимой идейной
подготовки. Но как сотоварищ, я все же посещал эти
собрания и, таким образом, принимал в них участие. В конце
концов было принято решение встречаться ежемесячно
один-два раза и обсуждать политическую обстановку.
Однако после каждого такого обсуждения во мне все
сильнее и сильнее росло какое-то внутреннее
беспокойство. В том, что эта война захватническая,
империалистическая, не оставалось уже никакого сомнения. В
обстановке, которая сложилась тогда, война казалась для
Японии неизбежной и во всяком случае думалось, что мы
своими слабыми силами ничего не можем изменить. Но
все же неужели нет никакого выхода? Я никак не мог
открыто говорить солдатам, нашим идейным ученикам,
которые отправлялись на фронт с решимостью умереть, что
эта война — несправедливая и что они умрут
бессмысленной собачьей смертью. Вот почему ничего не оставалось,
как придумывать правдоподобные объяснения этой войне
и обращаться к солдатам со словами, направленными на
поддержание бодрости их духа. Но каждый раз, как до
моего слуха доходили известия о том, как ведут себя
японцы в Китае, в Малайе, на Филиппинах, я не мог
подавить в своей груди чувства тревоги и колебаний. Идея
«сферы сопроцветания Великой Восточной Азии»,
возможно, и звучит прекрасно, но то, что делают японцы на
практике, в корне отличается от того, что проповедуется в
идее. Когда же идеи не подкрепляются практикой, они
становятся страшной ложью и лицемерием. И, чем больше
красивых слов, тем больше лжи в этих идеях. Похоже,
что Япония теперь, выставив баранью голову, продает
собачье мясо. Меня все время преследовало
невыносимое ощущение того, что я выполняю роль этой бараньей
головы, которая должна убедить всех, что все идет
прекрасно.
Конечно, хотя все мы одинаково писали вывески для
пропаганды милитаризма, все-таки наши вывески по
сравнению с теми, которые изготовлялись правыми
националистами, были значительно разумнее. Несомненно,
это были высокоразвитые теории, не идущие ни в какое
сравнение со стряпней правых. Однако именно потому,
что методически эти теории были более развиты и потому
убеждали неискушенный народ в рациональности
происходящего в большей степени, чем неуклюжие доводы пра-
96
вых, можно сказать, что наша вина была глубже. Если
посмотреть, что проделывают японцы в оккупированных
районах, то оказывается, их дела совершенно не
соответствуют нашим теориям, наоборот, эти теории
прикрывают варварские убийства и грабежи. Как же можно
прикрывать сущность происходящего и благословлять людей
на войну во имя создания «великой сферы сопроцветания
Восточной Азии». Мы должны были не произносить
красивые и пустые речи, которые радовали военщину (правда,
эти речи больше всего одобрял флот), а вызывать в
войсках, находящихся там, чувство глубокого самоанализа, с
тем чтобы они критически отнеслись к своим действиям и
исправили свои действия. Такие призывы, как «священная
война», «восемь углов под одной крышей», самодовольно
выкрикиваются одними только японцами. Ни один из
народов Азии не верит этим призывам. Мы говорим ложь.
Все это необходимо еще раз пересмотреть, передумать.
Каждый день я ломал себе голову и никак не мог найти
выхода. Может быть, обратиться к военщине со своими
советами? Даже такие мысли приходили мне в голову.
А если обратиться к общественному мнению и призвать
его образумиться? Кое-что я попытался написать в
толстых журналах, но самое главное в этих статьях редакция
каждый раз тщательно вычеркивала. Если же редактор по
недосмотру все же что-нибудь пропускал, то его
немедленно привлекали к строгой ответственности. Задумывался
я и над таким вопросом: каково настроение моих друзей?
Но когда я попытался порасспросить их об этом, то не
получил вразумительного ответа. Более того, иногда
создавалось впечатление, что они серьезно верят в те идеи,
которые в то время пропагандировались, и готовы
отстаивать эти убеждения до конца. Мне ничего не оставалось,
как в одиночестве предаваться своим сомнениям.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
СМЕРТЬ СЫНА
У меня был только один сын — ёити, родившийся в
Окаяма, когда мы жили очень бедно. Развивался он
медленно и, поступая в начальную школу в городе Ниигата,
не умел еще самостоятельно зашнуровать ботинки, для
7 Янагида Кэндзюро
97
чего постоянно обращался к старшей сестре. Мы
опасались, что он провалится на экзаменах, но из средней в
высшую нормальную школу (в городе Тайхоку) он
перешел с прекрасными отметками, а при окончании
нормальной школы был уже, как помнится, вторым. Избрав
специальностью историю Востока, он окончил университет в
декабре 1941 года, на три месяца раньше установленного
срока, в связи с призывом на военную службу. Было
видно, что ему очень не хочется идти в солдаты, но тогда
не было никакой возможности уклониться от службы. Об
этом не приходилось даже и думать, поскольку ни один
из его товарищей по учебе не избежал этой судьбы.
Врачебная комиссия определила сына в первую категорию по
состоянию здоровья, и он был направлен на службу в
войска противовоздушной обороны. Узнав об этом, наша
семья возликовала от радости. Дело в том, что бойцы
частей противовоздушной обороны проходили службу
главным образом в районах расположения зенитной
артиллерии, и, обычно, предполагалось, что они будут
находиться в Японии. При всем этом по вполне понятным
причинам было очень тяжело отдавать сына в казарму.
Нас известили, что сын зачислен в полк Мураяма, в
Токио с 1 февраля 1942 года. Мы с сыном выехали из Киото
в первой декаде января, по пути провели один день в отеле
Оноя на курорте Атами, и, дав ему такой запас
продовольствия, какой он смог унести с собой, я на другой день
сдал сына в часть. С тех пор в течение восьми месяцев не
было дня, чтобы вся наша семья не вспоминала о нем, не
волновалась, хорошо ли ему там, не молилась о его
благополучии. Какими неуютными, должно быть, кажутся
холодные стены казармы новобранцу. Сыну, который у нас
всегда считался мерзляком, вероятно, особенно зябко
смотреть зимой на голые деревья равнины Мусасино.
Когда он был еще мальчиком, мы его всячески оберегали
и от дождя и от ветра, и для этого нам пришлось
приложить немало усилий. Особенно много, и часто излишне,
заботилась о нем сердобольная мать, которая каждый
день буквально не находила себе места от постоянных
забот о сыне.
Через некоторое время, однако, мы получили известие
о том, что сын поступил в училище противовоздушной
обороны в городе Тиба. Это нас несколько успокоило. Теперь
мы имели возможность ездить к нему, видеться с ним и
98
Могли надеяться, что если ничего не изменится, ίο по
крайней мере до окончания училища он прослужит
благополучно.
Однако вечером 1 октября, совсем незадолго до
окончания сыном училища, мы неожиданно получили из части
телеграмму: «Г-н ёити в тяжелом состоянии, немедленно
выезжайте». Жены в этот момент не было дома, и я
прежде всего мучился над тем, как бы ей сообщить о
телеграмме.
Неуклюжим сообщением я мог бы убить ее. Пока я
думал, пришла вторая телеграмма. «Уже поздно»,—
говорилось в ней. Но всей семье не хотелось верить: «Раз не
сказано прямо, что он умер, значит есть какая-то
надежда». Поспешно собравшись, мы с женой на ходу сели
в ночной токийский поезд. Мы не думали о том, что поезд
битком набит, что, возможно, нет свободных мест, что мы
устанем до изнеможения. Приехав в Тиба, мы влетели в
помещение школы и кинулись к дежурному. «Все
кончено»,— ответил он.
Произошло это так. Перед самым выпуском
курсантов училища отправили на грузовике на последние маневры
в районе Кисарадзу. При переезде через мост на реке
Кобицугава грузовик наехал на кучу щебня, сваленного
на краю ухабистой дороги, и перевернулся, в результате
чего сразу погибло двое курсантов, очутившихся под
машиной, а все остальные 29 человек получили ранения,
причем двое из раненых, бывшие в тяжелом состоянии, в
том числе и мой сын, сегодня скончались. «Мы Вам очень
сочувствуем, но что же поделаешь, с этим надо
примириться». Нам показали умершего, но я все еще не мог
осознать, что сына уже нет в живых. Жена, против
ожидания, держала себя в руках и перед людьми не показывала
своего горя. Она гладила его руки, ноги, спину и грудь,
осмотрела на его теле каждый уголок, говоря ему что-то,
как живому.
Когда мы пошли в крематорий и после кремации
собрали в коробку обожженные кости сына, то мне казалось,
что я сам упаду, не выдержав страшной тяжести моей
ноши. Я думал: «Все пропало, сына оживить невозможно,
его уже нет в этом мире, уже никогда я не смогу сказать
ему ни слова». Я почувствовал желание выпрыгнуть из
окна поезда, побежать по бескрайней равнине и кричать,
кричать, кричать.
7*
99
До похорон мы все же как-то держались, но лотом
стало по-настоящему плохо. Жена просыпается ночью с
громким плачем. Я тоже неожиданно оказываюсь перед
домашним алтарем и, равнодушный к окружающему,
читаю молитвы. Дети просыпаются и, лежа с открытыми
глазами, всхлипывают. Идя по улице, я не разбирал, где
тротуар, где правая, где левая сторона, несколько
раз я чуть было не попал под машину, каждый
раз вызывая ругань полицейских. В трамвае я забывал
нужную мне остановку. Когда я сейчас вспоминаю о том
времени, мне думается, что я лишь по счастливой
случайности не получил никаких увечий. Особенно глубоко
горевала жена, несколько лет после этого она была в
состоянии полубезумия. В припадках безграничного
отчаяния она снова и снова проверяла положение дома, гадала
по линиям рук, молилась богу Фудосону \ хватала
первый попавшийся предмет, суеверно говоря, что в нем была
злая сила, в нем была беда. По пустякам у нее начиналась
истерика, она вступала в пререкания, а когда все
расходились по комнатам, плакала, пав ниц перед столом:
некому было поведать о своей печали, не от кого было
услышать слова утешения. Умершие никогда не
возвращаются.
Странная вещь — родительская любовь. Как бы ни
было тяжело человеку расставаться с умершим знакомым,
все же какая-то часть души остается незатронутой, а
когда проходит время, хочешь этого или не хочешь, но
успокаиваешься, и сердце привыкает. Но не так бывает,
если вы теряете своего ребенка. На первых порах я
пытался крепиться, говоря, что «нельзя распускаться, даже
и по такому поводу» и что «теперь я буду работать и за
него», но с годами у меня не стало энергии повторять эти
самоутешительные слова, и только в груди больно встают
воспоминания об умершем, а неистребимая, горькая
печаль гложет все мое существо. Надежды на будущее
совершенно потеряли свой цвет для меня, особенно с тех
пор, как я стал заметно слабеть физически. Стоит ли
бесконечно тянуть это горестное существование? Мне даже
хочется, чтобы скорее пришел тот день, когда, умерев, я
сольюсь с землей родины и обменяюсь незримым
рукопожатием со своим сыном. К чему желать постов, славы, бо-
1 Фудосон,— по поверью, защитник от нечистой силы.
100
гатства. В мире все подобно сну. Но я не хотел
насильственно увести себя из мира путем самоубийства, а раз так,
то мне ничего не оставалось, как проводить дни,
выполняя обычные житейские обязанности. Человеку, не
играющему ни в шашки, ни в шахматы, не пьющему вина и не
знающему обычных житейских развлечений и утех,
утешение приносят лишь те минуты, когда он всей душой
отдается своей научной работе. Стоит мне сделать
небольшой перерыв, как предо мной тотчас же встает образ
сына.
Поэтому я и сейчас часто вижу его во сне. Но, не знаю
отчего, вижу его не взрослым — студентом или курсантом,
а маленьким, невинным шестилетним мальчишкой. У меня
в кабинете висит его портрет тех времен, когда я еще жил
в бараке в городе Танака — Такахара. Мой друг
(кажется, это был Иосимити Ивата) снял сына весной на
фоне горы Хиэйсан в тот момент, когда он только что
разогнулся, собирая вместе с младшей сестрой сено. Он в
грубом узорчатом синем кимоно, повязан шерстяным
поясом, в отцовских больших гета.
Я люблю эту фотографию, и образ сына тех времен
мне особенно дорог. В моих снах он обычно является мне
в том виде, как на этой фотографии. Он никогда не
говорит, лишь молча идет за своим отцом, иногда беря его за
руку при подъеме на крутую горку, иногда садясь на
отцовские плечи во время прогулок по полям, на берегу
речушки, а когда мальчик устает, отец несет его на спине.
Никогда я не чувствовал такой грусти, как в ночи, когда
после таких снов не мог сомкнуть глаз. Не хотелось
никому об этом рассказывать, ни с кем не хотел делить этого
горя. Сказать жене — она разрыдается, рассказать
дочери — она молча и печально опустит глаза вниз. И все
же иногда я не мог вытерпеть и говорил им: «Сегодня
ночью я видел во сне ёити», но чувствовал себя после
этого всегда плохо. Начатый завтрак прерывался думами,
кусок в горло не проходил. В таком настроении жила вся
семья. Хоть мы и не сговаривались, но об Ёити в то время
говорили немного. Но это не потому, что забыли его.
У всех в груди была та печаль, та рана, когда молчание
лучше слов. Мы не хотели говорить, чтобы не растравлять
друг другу эту рану. Это стало своего рода этикетом в
нашей семье. Но иногда все же кто-нибудь не выдерживал, и
чувства прорывались наружу. После этого оставалось со-
101
жаление: «Лучше было не говорить об этом». Таким
образом, все члены моей семьи молчаливо согласились, что
имя Вити будет для нас всех табу, и мы по возможности
не будем касаться этой старой раны. Одна лишь жена не
может порой удержаться, нарушает табу и заговаривает
о сыне. Но в такие моменты остальные подавленно
молчат, ничего не прибавляя к ее словам. Все хранят свое
горе в груди, не позволяя ему прорваться наружу. Но
как мы ни стараемся, ничего не помогает. Особенно трудно
в дождливые дни. Или когда устанешь и не можешь
читать. Или когда болен и должен лежать в постели.
В такие моменты те думы, которые обычно стараешься,
но не можешь отогнать, надвигаются неумолимо, подобно
прибою, и растекаются по всем артериям. Какой он был
непосредственный мальчик! Честный и прямой. Малышом
он нам доставлял некоторые хлопоты, но, повзрослев и
приобретя способность самокритичного отношения к
себе, он начисто расстался с прежними недостатками и
так и погиб чистым, нетронутым человеком.
Может ли быть в мире такой мальчик? А что было бы,
если бы он остался в живых? Я, вероятно, был бы душевно
сильнее и не постарел бы так безнадежно. Мы могли
бы с ним вселять бодрость друг в друга и рука об руку
бороться с бушующими волнами жизни. Он по натуре был
человек мягкий, но особенно прислушивался к голосу
отца. Несмотря на всю мою незначительность, он
относился ко мне почти с безграничным уважением и
выполнял все мои советы. Во всем подражал отцу, хотел пойти
по его стопам. Стоило мне сказать: «Я иду в лес», как он
говорил: «Я с тобой», и откладывал в сторону начатую
книгу.
Весна еще только-только вступала в свои права, и на
горах еще лежал снег, а мы вдвоем, с рюкзаками за
спиной, негромко переговариваясь, бродили весь день.
А когда в конце года я купил себе новую тетрадь для
дневника, сын попросил себе точно такую же и положил
ее себе на стол. Часто мы говорили с ним о религии.
Часто обсуждали фильмы. «А что такое история? А
государство?» — часто спрашивал он меня о самых
различных вещах и, если я был свободен, усаживался передо
мной, чтобы слушать меня, испытывая при этом ни с чем
не сравнимое удовольствие. И этот кроткий сын ушел из
мира, оставив отца. Где он сейчас? Никогда больше не
102
увидеть мне его образа. Конечно, у меня есть и другие
дети, жена, но сколько бы нас ни было в семье, каждый
горестно вспоминает о нем. Огромная пустота
образовалась в душе, и, как бы ни было шумно вокруг, этот
провал зияет и никогда ничем не заполняется. Когда эта рана
начинает болеть, все нервы сосредоточиваются на ней, вся
душа и все тело впадают в неистовство. Тогда уже терпеть
становится совершенно невозможно, и я вбегаю на второй
этаж нашего домика и зарываюсь с головой в одеяло,
чтобы в плаче перенести приступ горя. В эти минуты я с
отчаянием ощущал, что ни гроша не стоят и «великая
сфера сопроцветания» и «восемь углов под одной
крышей» — все это бессовестное издевательство над людьми.
Наконец, я стал презирать и ненавидеть шайку правых
политиканов, приведших нас к участию в войне и
распространявших со своих руководящих постов бессовестную
ложь. Не к лицу мне теперь выступать с пышными статьями
о войне в журналах, произносить речи и повествовать
об обстановке за стаканом вина с богатой закуской. Я и
раньше был нелюдим, замкнут, всячески сторонился
политики, теперь мне хотелось вновь обрести свой
естественный облик. Представители Киотоской школы далеко не
всегда и не во всем могли быть приравнены к этим
правым политиканам, но тем не менее мне было с каждым днем
труднее дружить с идейными вдохновителями «великой
сферы сопроцветания». Сразу порвать с ними было бы
неудобно. Не хотелось бы, чтобы это восприняли как
какое-то личное недовольство, не было настроения
обращать друзей в свою веру. И как раз в тот момент,
когда я решил, что лучшим выходом было бы уехать и
уединиться, пришло письмо с приглашением от г. Андзай,
директора школы в городе Урава. Я не очень был
расположен преподавать на этот раз для учеников гимназии, но
это давало мне возможность покинуть Киото. Я смогу жить
там уединенным отшельником.
В такие времена не о чем жалеть, единственный путь —
это скрыться. Урава — это, пожалуй, слишком близко к
Токио, но природа Мусасино близка к моей родине, об
этой равнине я мечтаю со времен работы в Тайхоку. Итак,
я решился снова стать сельским учителем. К тому
времени— дело было к весне, в феврале 1944 года,— война
пошла на убыль, авторитетные люди считали, что
капитуляция — это уже вопрос времени.
103
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
УЕДИНЕНИЕ
На первых порах я приехал в Урава со своей второй
дочкой, Сэцуко. Третья дочь, Мидори, занималась пока в
специальном училище Досися, и поэтому мы не могли
переехать сразу всей семьей. Тогда уже становилось все
труднее снимать жилье, и я добился того, что нам
предоставили квартиру в ведомственном доме на улице Токива.
Но она оказалась настолько запущенной, что по
сравнению с моей прежней квартирой в Киото в ней можно было
влачить лишь весьма жалкое существование. Однако
теперь я должен быть благодарен уже за то, что мог
укрыться от дождя и спать на циновках, и поэтому не
выразил никакого недовольства. Вправо от дома был
довольно глухой лес, он рос очень густо, и по ночам было
жутко пробираться через чащу, когда вас вплотную
охватывали ветви. Еще живя на Тайване, я уже давно грезил
о равнине Мусасино и даже лелеял мечту, что когда мне
настанет пора умереть, то я сомкну глаза где-нибудь в
тихом домике, окруженном деревьями, с которых
облетает листва. Так нежданно-негаданно сбылась моя мечта.
Мне было радостно, я подолгу и вечерами и днем гулял
один по лесу. В новом месте у меня не было знакомых,
я оказался совершенно беспомощным перед
надвигающимся продовольственным кризисом и порядком голодал,
но впоследствии завел огород и сумел дополнить свои
доходы.
Вот тогда-то я и принялся изо всех сил за
выращивание тыквы. На влажной земле я собирал хороший
урожай картофеля, кроме того, несколько десятков кан
(часть школьного стадиона) мы превратили в огород,
высадили там рассаду бататов, ухаживали за ней вместе с
крестьянами и, таким образом, спасались от голода и
поддерживали свою жизнь. Многих мой переезд очень
удивил. Нашлись и такие, которые решили, что Янагида
разорился, и проходили мимо меня с презрением. Некоторые
ученики с подозрением спрашивали: «А почему Вы,
учитель, при Вашем образовании, приехали сюда?» Им
казалось, что всякий перевод по службе должен быть связан
с повышением. С точки зрения людей, для которых цель
жизни заключается в карьере, мой поступок, пожалуй,
104
казался совершенно непонятным. В особенности этого не
мог взять в толк г. К., в то время занимавший пост
директора учебного департамента министерства
просвещения. У человека столько возможностей выдвинуться, а он
выбирал, выбирал и выбрал место учителя в самой
последней сельской гимназии. Какая непрактичность,
какая глупость. Так, вероятно, думали обо мне многие.
Но с моей точки зрения именно они, осуждавшие меня,
были неправы, и по существу не я, а именно они, искатели
карьеры, потеряли здравый рассудок и впали в
болезненное состояние. Я занимаюсь наукой не для того, чтобы
сделать карьеру. Занимаюсь ею и не для того, чтобы
стать знаменитым и прославить свое имя. Я живу только
для правды. Если я смогу прожить свою жизнь без лжи,
правильно, то, что бы ни думали обо мне обыватели, этого
я знать не хочу, за это я не отвечаю! Я иду по дороге,
которую сам считаю верной, самой лучшей, буду жить, идя
по ней, и на ней умру. Может быть, и «глупо» идти в
сельские учителя, но во всяком случае это не стыдно. Может
быть, это и невыгодный путь, но никак не ошибочный.
Теперь, когда я расстался с киотоскими коллегами и
зажил один, мне открылся путь, по которому нужно идти
дальше. Мир отверг меня, и я отверг мир. Между теми,
кто в нынешней обстановке пользуется авторитетом среди
обывателей и нагло процветает, нет ни одного стоящего
человека. Лучше решиться на одиночество. Лучше уйти в
себя. Война становится все более и более ужасной, кто
может знать, когда сметет авиабомба его дом и его
самого? Теперь мы живем по дням. Сегодня все
по-прежнему, а вечером бомба, сброшенная с Б-29, может
положить этому конец. В такое время не работают для славы,
для выгоды. Теперь нужно говорить последнюю правду,
перед лицом смерти. Я считал в то время, что философия
Нисида — наивысшая истина в мире, в ней искал я опору
всего моего существования. Не знаю, буду ли я жив или
погибну, но я должен попытаться сделать еще один шаг
и по-настоящему познать эту философию. Если в ней я
найду подлинную истину, то она не может быть
поколеблена даже для тех, кто стоит между жизнью и смертью.
Именно наше время может быть пробным камнем для
этой философии. Я должен познать ее до такой степени,
чтобы храня ее в груди, слившись с ней воедино, обрести
способность спокойно умереть в пороховом дыму.
105
Говорят, что один философ для проверки истины,
познанной самосозерцанием, просиживал ночи на
кладбище, по которому бродили волки, и не изменил своей
позы, продолжая сидеть с закрытыми глазами, даже когда
волки стали облизывать его лицо. Путь познания истины
для людей Востока должен иметь в основе что-то
подобное. Западная философия как теоретическая система,
возможно, являет собой образец детализации, но помогла ли
она в какой-либо мере усовершенствованию характера
самих философов как людей? Взять хотя бы даже Гегеля.
Как ученый он поистине неподражаем, но был ли Гегель-
человек так же велик, как Гегель-философ? Много ли
помогает его наука тем, кто находится на грани смерти?
Похоже, что она в этом беспомощна. Не потому ли
разочаровался в лекциях Гегеля Кьеркегор, саркастически о
них отозвавшийся, что разглядел их главную слабость?
Я взялся за изучение философии Нисида не для того,
чтобы стать таким ученым, как. Гегель, а для того, чтобы
по-восточному служить истине всем существом. С такими
мыслями, с готовностью жить и умереть с философией
Нисида я глубоко погрузился в познание философской
истины. По мере того как бомбардировки становились
ожесточеннее, жить даже в таком городе, как Урава,
становилось опасно: повсюду вспыхивали пожары, сгорело
наполовину и здание нашей школы. Постоянно приходится
укрываться в щели, и с каждым днем становится все
тревожнее. Теперь оставлять часть семьи в Киото было
небезопасно, и мы решили, что Мидори временно прекратит
учебу, чтобы всем переехать в Урава. Часть обстановки
мы отдали на хранение в деревню, расположенную в
окрестностях города, а большую часть домашних вещей
перетащили в противовоздушную щель, оставив себе лишь
самое необходимое. Теперь, если бы даже наш дом сгорел,
почти все вещи остались бы целы. Труднее всего было с
книгами — их было несколько тысяч. Больше половины
библиотеки я решил также аккуратно сложить в щели.
Больше всего я боялся, что вдруг придется внезапно
эвакуироваться из города, взяв с собой лишь две-три книги.
Что тогда будет с моей библиотекой? Западную
литературу доставать было совершенно невозможно, и я не мог
расстаться с полными собраниями сочинений Платона,
Канта, Фихте, Гегеля, Кьеркегора, Лейбница и других,
даже если бы это угрожало моей жизни, но, наконец,
106
пришел к выводу, что в крайнем случае придется пойти и
на это. Но сочинения профессора Нисида я оставить не
мог. Двадцать томов его сочинений я должен спасти, хотя
бы и пришлось бежать пешком в чем есть в ближайшую
префектуру. Я спрятал сочинения Нисида в отдельном,
более безопасном месте, сделав так, что мог достать их
оттуда в любое время.
По мере того как я жил, усиленно занимаясь
философией Нисида, у меня накопились записи. Бумаги новой
достать было негде, и я писал на обороте, втискивая трид-
цать-тридцать пять знаков в двадцать клеток.
Исписывал ежедневно 5—10 страниц, что в конце концов
составило увесистую стопку. Конечно, не приходилось и думать
о дне, когда их можно было бы издать, но раз эта работа
имеет в моей жизни такое исключительное значение, то
я хотел бы, чтобы в случае смерти после меня остались
хотя бы вот эти записки. Поэтому я постоянно имел их
при себе. Входя в щель, я не забывал взять с собой
рукопись, выходя из щели, я брал только необходимую часть
рукописи, а остальное прятал в безопасном месте. Такая
жизнь со стороны казалась, вероятно, горестной и полной
невзгод. Отчасти это так и было. Но я не реагировал на
раздражения со стороны внешнего мира и,
предоставленный самому себе, был счастлив. Счастье это было,
конечно, субъективным и индивидуальным, но могу сказать,
что это была на редкость цельная жизнь. Неудобства с
транспортом почти не позволяли мне посещать Нисида,
жившего в Камакура, и я замкнулся в своей скорлупе, как
змея, свернувшаяся в кольцо в своем гнезде. Жизнь
одинокого отшельника более всего отвечала моему характеру.
Я жил по пословице: «В ясную погоду обрабатывай землю,
в дождливую — читай». В свободное время копался, как
крестьянин, на огороде. Ходил по темной земле, смотрел
на всходы овощей и пшеницы, подрастающие с каждым
днем, косил сено, собирал урожай, трудился, внося
удобрения, и так, молча, проводил время, без единой дурной
мысли. Мне даже казалось, что жизнь опрощенца,
вернувшегося в лоно природы и пустившего корни в землю,
более всего соответствует человеческой природе. Самому
мне нравилось и казалось красивым, что я мог просто
отдаваться науке и труду, не стремясь ни к славе, ни к
положению. Но стоило только на минуту обратить взор в
сторону, как я видел Японию, стоящую перед катастрофой.
107
Пал Сайпан, Филиппины перешли в руки противника,
донеслись вести о трагедии острова Лю-Хуан — с этих
пор стало ясно, что и наша судьба предопределена.
Дорога Накасэндо была и ночью и днем забита нескончаемой
вереницей беженцев, пробирающихся в северо-восточные
районы.
Я видел девочку, босиком тащившую коляску с дедом.
Видел, как женщины бережно везли на тачках старые,
рваные одеяла с вылезающей шерстью и исковерканные
ведра. Видел женщину, убегающую с громким плачем,
несущую на спине мертвого и уже охолоделого мальчика.
И так они шли: одни — до Фукусима, другие — в Сэн-
дай, третьи — даже в Мориока. Видя этих несчастных,
вытирающих лица полотенцами, темными, как будто их
варили с соей, тащащих тяжелые тачки, я чувствовал, что
грешно и бессмысленно оставаться хотя бы на один день
под спокойной крышей. Но в конце концов я вижу то, что
завтра ждет меня. Если так будет продолжаться, то скоро
вражеские войска высадятся в Японии. Если это будет
где-нибудь в бухте Сагами или на побережье Кудзюкури,
то мне нечего и думать о бегстве. Учеников погонят,
конечно, на линию обороны. Они обречены на жалкую
смерть. Но в таком случае я тоже должен буду пойти на
передовую и погибнуть вместе с ними под вражескими
снарядами. Дочь я, конечно, могу отослать куда-нибудь в
район Синею, но мне лично осталось жить еще несколько
дней или несколько месяцев — глупо, конечно, но мне
кажется, что я обязан умереть вместе с учениками.
Однажды у меня собралось человек семь-восемь
учеников и зашел разговор о том, что, судя по всему, Япония
погибла. Теперь все бесполезно, спасения нет, оно
невозможно. «Если вы заботитесь о будущем, то бросьте
бесполезные мечты о том, как бы победить, а подумайте
лучше, как нужно будет жить в Японии после
капитуляции»,— сказал я им, и они ушли от меня под сильным
впечатлением от беседы. Однако ее содержание
распространилось по всей школе и, переходя от одного к другому,
дошло до жандармских ушей. «Среди учителей гимназии
в Урава есть люди, ведущие пораженческую
пропаганду»,— и вот допрашивают некоторых моих учеников.
Вокруг моего дома стал прогуливаться шпик в штатском.
Я решил, что все кончено, но делать было нечего. К
счастью, ученики поняли всю ответственность положения и
108
приложили все усилия к тому, чтобы замять дело, что в
конце концов удалось, хотя до этого пришлось испытать
неприятные минуты. Если бы меня схватили, отсутствие
доказательств не имело бы никакого значения. Все знали,
насколько ужасна судьба тех, кого забирали. Насколько я
помню, именно тогда арестовали профессора Киёси Мики.
Я впервые лично столкнулся со страшной силой, которая
называется государственной властью.
И, наконец, из-за того, что учеников мобилизовали,
занятия в школе почти прекратились. К тому же здание
школы сгорело и заниматься было негде. Что касается
преподавателей, то их превратили в надзирателей за
работой учащихся на листопрокатном заводе Одзи и на
металлургическом заводе Ниигата в Ионо.
Для меня это была самая неподходящая и противная
работа. Мне было жалко учащихся, но более всего эта
работа была невыносима для меня самого.
По всему было видно, что страна обречена на
поражение в этой войне, поэтому продолжение войны было
бессмысленным и ничего не могло дать, кроме новых
жертв и потерь. В душе я думал: хоть бы скорее все это
кончилось, пусть даже ценой поражения Японии. Война
уже всем опротивела, необходимо прекратить ее,
необходимо что-то предпринять для этого. Но в условиях
свирепой диктатуры военщины такие люди, как я,
практически ничего не могли предпринять. Прекратить войну
можно двумя способами — сверху или снизу. Способ
сверху — это уговорить кого-нибудь из тех влиятельных
лиц, которые держат в руках государственную власть,
и таким образом открыть путь к прекращению войны.
Другой способ — опираясь на организованное общественное
мнение народных масс, заставить власти сложить оружие,
независимо от их желания. Любой из этих способов был
мне непосилен. Наиболее действенным был бы второй
способ. Но именно его особенно опасались военные власти,
и они были очень бдительны. Поэтому мое выступление
неизбежно привлекло бы внимание жандармов.
Военщина становилась все более упорной и изо дня в
день вела пропаганду, призывающую народ продолжать
войну, быть готовым отдать жизнь во славу империи, даже
если бы это повлекло за собой превращение всей страны
в пепелище. Все это изображалось как высший долг
японского народа, а тот, кто противился этому, объявлялся
109
врагом народа, государственным преступником. В такой
обстановке предпринять что-либо было чрезвычайно
трудно. Не оставалось ничего другого, как продолжать
идти навстречу надвигающейся страшной катастрофе.
Молодежь и студенты также находились в
подавленном состоянии и не могли как следует работать.
Производство резко упало. Процветал черный рынок, росла
спекуляция продуктами питания.
И вот, когда каждый думал только о неизбежной
смерти, наступил день 15 августа 1945 г. В тот день я
вместе с несколькими сотнями студентов и рабочих стоял
во дворе металлургического завода Ниигата и слушал
обращение императора по поводу капитуляции Японии.
Опустив головы, люди слушали голос императора,
и то там, то здесь раздавались подавленные рыдания.
Я тоже — не знаю почему — громко заплакал. Во мне так
перепутались чувства радости и печали, что даже сейчас,
вспоминая об этом, не могу сдержать спазмы в горле.
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
В ВОДОВОРОТЕ
ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ
В хаосе, наступившем после военного поражения,
японский народ не знал, что он должен делать. Казалось,
будто все люди становятся все более и более
эгоистичными и всем управляет только стремление к личной
выгоде. Никогда не бывало, чтобы японцы до такой степени
отвратительно обнаружили свою сущность, отбросив
всякий стыд и приличие. Стало ясным, что добродетели
прежних дней оказались просто притворством и ханжеством.
Когда молодежь узнала, что все прошлое было основано
на лжи, она потеряла всякую веру в истины человеческой
жизни. В такой обстановке к нам проникла демократия
из-за границы. Люди почувствовали в этих новых идеях
свое освобождение. Японцам, которых всячески притесняли
при господстве императорской системы, стало ясно, что
все люди равны, что даже верховная власть в
государстве не принадлежит никому другому, как самому народу,
что нет необходимости склонять голову перед кем бы то
ни было. Император — такой же человек, как и мы сами.
НО
Дзайбацу 1 были распущены, даже земля помещиков стала
принадлежать арендаторам. Те лица, которые гордились,
возносясь над нами, будь то управляющие или высшие
чиновники, теперь уже не имели никакого авторитета.
Даже военные, которых народ особенно не любил, исчезли.
В общем, куда ни посмотри, не оставалось уже ничего
страшного, кроме оккупационных войск.
Но с этого времени начались беспорядки. Люди, не
стесняясь, отправляли естественные надобности прямо на
платформах станций. Окна в трамваях и поездах были
выбиты. Хотя и говорили о равенстве, но в
действительности установился такой порядок, при котором побеждал
тот, кто был сильнее. Ночью стало небезопасно ходить по
улицам. Повсюду появились воры и всякие грязные
элементы. Словом, не было никакого порядка. Тут начались
забастовки и саботаж. Рабочие, если даже они и
выходили на работу, то вовсе не собирались хорошо работать.
Производительность труда, снизившаяся еще во время
войны, продолжала падать. Хотя народу было много, но
производительные силы не росли. Ежедневно
распространялись слухи о том, что на каком-то заводе расправились
с директором, в каком-то местном управлении повесили
губернатора, и т. п. Даже в поездах билеты второго класса
мало что значили, и слабосильные интеллигенты
оттеснялись в угол, а отпрыски и жены спекулянтов обращались
с ними заносчиво. Только спекулянты процветали и
роскошествовали. Они грызли дорогие яблоки и, доев их только
до половины, выбрасывали за окно. В трамваях и поездах
часто возникали драки. Это было общество, где
слабохарактерному человеку просто невозможно было жить.
Я всегда чувствовал недовольство существующими
порядками, но не мог не относиться критически и к данному
положению. Прежде, при императорской системе,
провозглашались феодальные добродетели: «Послушание и
исполнение приказаний». А когда говорили явную ложь в
духе верноподданничества, то нельзя было не ощущать
глубокого возмущения. Но и такое общество, где
«низший подавляет высшего» в такой форме, где я видел
личности, которые побеждают только потому, что они
сильнее, мне не могло казаться хорошим. Суть
демократии не могла заключаться в этом. Она скорее в самосо-
1 Дзайбацу — крупные монополистические концерны.
111
знании мирового разума. Суть демократии должна
заключаться во взаимном уважении человеческого
достоинства, которого нельзя оскорблять. Само собой
разумеется, что не может быть допущено общество
неравенства, с его односторонней моралью, которая почиталась
в обществе с феодальными отношениями между
хозяином и слугой, где подчеркивалась только верность и
преданность низших по отношению к высшим, а
самураи могли зарубить крестьянина и горожанина. Но такие
порядки, которые имеются в нынешнем мире, когда люди
расталкивают друг друга локтями, когда идет борьба с
нанесением друг другу взаимного ущерба, когда разум и
человеческое достоинство игнорируются,— все это нельзя
считать подлинной демократией. В основе демократии
должно быть прежде всего уважение разума, дух
следования рассудку. Демократический мир — это не мир
зверей, где все люди — враги друг другу. Наоборот (даже
звери не только борются друг с другом), каждый должен
склонять голову перед объективной истиной и
справедливостью и видеть в них принципы, при которых все люди
смогут быть равно счастливыми и свободными. Такие
мысли одолевали меня в то время.
Я долго воспитывался в духе идеалистической
философии и думал, что она является высшей философией.
Я не был в состоянии охватить действительность,
существующее общество широко, в диалектической
взаимосвязи, я был просто абстрактным рационалистом. По
оценочному критерию этой философии отдельные явления
брались как таковые, изолированно, и на них ставилось
клеймо: добро или зло, справедливость или
несправедливость. У капиталистов и у господствующих классов
много различных недостатков, именно поэтому Япония
превратилась в такую жалкую страну. Однако совсем
нельзя сказать, что сегодняшнее положение, когда вместо
господствующих классов приобрели силу неимущие
рабочие,— хорошее. Само собой разумеется, что будущее
общество не может быть обществом привилегированного
класса, составляющего меньшинство, но это еще не
значит, что рабочие могут делать все, что угодно. Что же
касается конкретно нас, то мы должны стать
сторонниками неимущих, должны вести борьбу за освобождение
тех, кто до сих пор притеснялся и эксплуатировался. Но
это не должно означать, что мы одобряем любые дей-
112
ствия неимущих. Не допуская всяческою зла и
бесчеловечности капиталистов, мы равным образом не должны
разрешать также несправедливость и аморальные
поступки со стороны рабочих. В этом вопросе я должен
быть справедливым до конца. Я являюсь сторонником
добра и справедливости и должен иметь смелость
бороться со злом и несправедливостью, как их враг.
Повинуясь власти, заискивать перед ней — противоречит духу
демократизма. Точно так же нельзя назвать демократами
и тех, кто льстит массам и, играя на их чувствах,
приобретает себе славу. Возможно, что из-за этого меня будут
сторониться оба лагеря, я буду изгнан отовсюду, умру в
одиночестве, но этого изменить я не в силах. «Одиночество —
удел великих людей»,— сказал Виндельбанд. Я, конечно,
не обладаю каким-либо величием, но мне не пристало
бояться одиночества. Чем, заискивая перед обществом и
перед массами, приобрести незаслуженную славу, я готов
лучше умереть, занимая одинокую позицию защитника
справедливости.
С такими думами после окончания войны я прежде
всего написал статью «Этика демократии». Сначала эту
работу поместил в журнале «Нингэн» («Человек») в виде
очерка, затем, подробно разработав каждую главу,
выпустил ее отдельным изданием. До сих пор демократизм
был главным образом основой политического движения
борцов против господствующих классов. Однако в основе
такой политической борьбы должен лежать более
глубокий принцип внутреннего самосознания свободной
личности, ибо все внешнее может обладать живым
конкретным значением только как выражение внутренней
жизненной энергии. Однако вследствие того, что японцы
заимствовали иностранный образец демократии, они усвоили
его только как принцип политической борьбы и не имели
времени воспитать в себе глубоко сознательно его
внутренние стороны. Следовательно, хотя политическая
борьба была действительно мощной и даже более
мощной, чем в какой-либо другой стране, но с внутренней
стороны у нее были некоторые недостатки, и этот
демократизм не стал настоящим демократизмом. Если
говорить только о внешней силе, побеждающей врага, то
ею обладали даже японские военные при императорской
системе. Не меньшей силой обладают даже вепри и тигры.
Сила демократической борьбы вовсе не должна быть такой
3 Янагида Кэндзюро
113
слепой дикой силой. Она должна проистекать из
храбрости и уверенности в правоте и справедливости,
вызванных духом сознательной свободы и высокого интеллекта.
Так думая, так веря, я написал «Этику демократии».
Произведение это не отражает самосознания какого-либо
класса, скорее можно сказать, что оно написано с
общечеловеческих позиций. И это общечеловеческое
самосознание было не чем иным, как позицией буржуазного
демократизма современного гражданского общества, и в конце
концов самосознание это определялось известными
историческими условиями. В то время я еще не понимал, что
это самосознание исторически изменяется в зависимости
от самосознания нового класса, который должен выйти на
историческую сцену. Самосознание я представлял скорее
всего в виде какой-то вечной истины. Я верил, что оно
стоит над всякими классовыми, партийными
противоречиями и беспристрастно в отношении частных интересов.
Вот почему я настаивал на этой истине, как объективной
и абсолютной. К счастью или несчастью, но эта книга
очень понравилась читателям и разошлась в количестве
нескольких десятков тысяч экземпляров. Конечно, в то
время книги хорошо расходились. Но даже среди других
книг это была широко читаемая книга. Ее подвергли
острой критике с марксистских позиций. Но тогда я еще не
мог понять значения этой критики. Наоборот, я думал, что
мои критики были не беспристрастны. Я думал, что в
основу научного познания нельзя класть положения,
подобные тому, что истина носит классовый характер.
Критика в адрес Киотоской школы не прекратилась с
окончанием войны, причем в отличие от недавнего времени
она велась не со стороны правых — реакционеров,
фашистов,— а со стороны левых — коммунистов. Но я
полагал, что и с этой критикой не могу согласиться. Нельзя
сказать, чтобы я сам не испытывал чувства некоторой
неудовлетворенности деятельностью Киотоской школы.
Но все же, когда нападение обрушилось на этих людей
до окончания войны, то это мне почему-то не понравилось.
Мне казалось, что эти нападки делаются с каким-то злым
умыслом. Правда, Киотоская школа не выступала против
войны, скорее она внушала массам мысль о том, что
война разумна, называя империалистическую войну
войной за освобождение народа. Такая позиция Киотоской
школы — факт, не подлежащий никакому сомнению. Но
114
если даже говорить, 4то представители этой школы йй-
ляются соучастниками войны, то вовсе не в таком смысле,
как правые империалисты. Их непосредственная цель
заключалась не в том, чтобы втянуть народ в войну, а
скорее в том, чтобы как-нибудь сдержать процесс
фашизации страны, происходивший на основе низкопробной
пропаганды правых. Они старались действовать на основе
здорового мирового разума. Поэтому тогдашние власти
косо смотрели на Киотоскую школу и ненавидели ее,
особенно враждебно относилась к ней армия. Несмотря на то
что в те годы согласно духу времени надо было заискивать
перед военными, которые имели наибольшее влияние в
стране, и тем самым добиваться для себя положения и
славы, философы из Киотоской школы не делали этого
и поэтому были отвергнуты военщиной. В этом и
заключался смысл сопротивления со стороны этой школы.
Смешивать их с правыми империалистами и обращаться с
ними, как с военными преступниками, было бы слишком
жестоко. Во время войны философия Нисида являлась
философией постороннего наблюдателя. Ее всячески
поносили за то, что она, мол,— объективистская философия,
лишенная субъективной страсти, а когда кончилась война,
ее стали третировать, как философию сторонников войны,
людей, подобных крайне правым фашистам, корыстных
людей. И то, что этой школе наносили удары и справа и
слева, внушало мне мысль о какой-то несправедливости.
С такими чувствами в то время я стоял на позициях
защитника этой философии, как один из сторонников
Киотоской школы.
Но это совсем не значило, что у меня было намерение
стать врагом демократии, выступать против пролетарского
лагеря, защищать правящие классы. Я от рождения был
слаб и так как ненавидел, когда человек становился над
человеком, господствовал над ним, эксплуатировал его,
то всегда имел склонность становиться на стороне
слабых. Когда Киотоская школа была в расцвете сил, у
меня возникало сомнение: «Так ли хороша она на самом
деле?» И, наоборот, когда она клонилась к упадку и все
набросились на нее, у меня появилось желание
выступить защитником этой школы. То же и по отношению к
пролетарскому движению: когда я видел, как пролетариат
безжалостно подавляется и эксплуатируется
капиталистами, я остро чувствовал, что необходимо его как-то осво-
8·
115
бодить. Когда же после войны капиталисты попали в
зависимость от властей иностранного государства и
оказались связанными по рукам и ногам, а сила пролетариата
резко возросла и пролетарии стали топтать грязными
ногами шелковые одеяла, я стал сомневаться в правильности
всего этого: таким ли путем родится настоящее здоровое
демократическое общество? Говорят, что интеллигенция
составляет часть мелкой буржуазии и все время
находится в состоянии колебаний. В то время я и мне
подобные, будучи интеллигентами, никак не могли понять
действия борцов левого движения. В результате этого нам
не могли не сказать горьких слов, не могли не
рассматривать нас как «прислужников капиталистов». Это не
значит, что мы получили хотя бы один грош от капиталистов.
Но так как мы не могли занять очень благожелательных
позиций по отношению к пролетарскому движению, нам
ничего не оставалось, как выслушивать подобные слова.
Таким образом, я невольно оказался в лагере буржуазных
идеалистов и стал даже считаться одним из наиболее
влиятельных его деятелей. Тогда представители левого
лагеря отвернулись от меня. Я удивлялся, почему такой
благожелательный по отношению к пролетариату
человек стал ненавистен пролетариату. В действительности это
произошло потому, что я ни на шаг не отошел от
мелкобуржуазного идеализма.
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
В ПОИСКАХ РЕЛИГИИ
По этим причинам я по-прежнему не мог расстаться с
философией Нисида. Мало того, я с каждым днем все
более увлекался ею и смело шагал вперед, будучи твердо
уверен, что сегодня в Японии нет другой философии,
способной служить спасением в это смутное время. Те
несколько лет, когда в стране шла война и я был всеми
забыт, ушли у меня исключительно на изучение
философии Нисида. И вот в результате у меня накопилось
несколько тысяч страниц с замечаниями. Последовав совету
издательства, я решил опубликовать их как конспект 20
томов сочинений Нисида под названием «Философская
система Нисида».
Выпуская очередные книжки четыре раза в год, мы
должны были закончить издание примерно через три года.
116
Первая книжка была невелика, страниц в сто, доступна по
цене. Мы и дальше продолжали выпускать такие же
книжки, каждый раз тиражом около 20 тысяч экземпляров.
Популярность философии Нисида постепенно упала, и,
наконец, она не могла не столкнуться с марксистским
материализмом. Однажды ко мне пришел студент токийского
университета и предложил принять участие в диспуте с
г. Кадзуто Мацумура. Диспут состоится в 311-й аудитории,
проводится по инициативе кафедры материализма
токийского университета, тема: «Идеализм или материализм?».
Питая нелюбовь к полемике и спорам, я оказался в
затруднении, однако ответить отказом на такое
предложение нашел неудобным. Мацумура был тогда властителем
дум прогрессивного лагеря и руководил кафедрой
материализма в токийском университете. Мой отказ от диспута
с ним был бы воспринят как трусость, поэтому при всем
желании отказаться было невозможно. «Хорошо,
согласен»,— ответил я и в назначенный день явился в
установленное место. Однако я почувствовал, что мне совсем не
хочется выступать в качестве представителя издательства
и осуждать материализм. Как сочувствующий угнетенным,
я в то время как раз намеревался добросовестно заняться
изучением теории материализма. Но то, что я не
материалист,— это факт. Поднявшись на кафедру, я заявил
слушателям, заполнившим аудиторию, что не являюсь, конечно,
материалистом, но и не являюсь в полном смысле
идеалистом, так как стремлюсь диалектически объединить их
в одно целое. Изложение моей позиции заняло минут
сорок-пятьдесят. Затем выступил Мацумура и сказал,
что, несмотря на мое заявление, в мире не существует
такой философии, о которой я говорил.
Его опровержение сводилось к тому, что все, что не
относится к материализму, является идеализмом и в
качестве такового представляет собой апологетическую
философию, защищающую класс буржуазии. Затем в наш
адрес последовали вопросы студентов. Вопросы, однако,
были слабые и не доставили нам особых затруднений.
Моему оппоненту возражали больше по части религии, в
мой адрес были сделаны нападки личного характера,
кто-то даже запальчиво спросил, не являюсь ли я
военным преступником.
Этот диспут лично на меня не оказал ни малейшего
влияния. Из него я вынес только то, что сторонники мате-
117
риализма относятся ко мне все более и более
враждебно,— и только.
Лично мне казалось странным, почему защитники
материализма не могут спокойно выслушать своего
противника. Конечно, и в материализме есть часть истины, но
ведь и я вовсе не стремлюсь прислуживать
капиталистам — уж кто-кто, а сам-то я это знаю хорошо. Я должен
больше заниматься теорией материализма, но хотелось бы,
чтобы и мои оппоненты, преодолев дух партийности,
выслушали меня. В противном случае немыслимо развитие
серьезной теории, достаточной для построения будущего
общества, думал я. Мое мнение тогда сводилось к тому,
что корабль должен не накреняться ни в правую, ни в
левую сторону, а идти прямо вперед, по возможности без
колебаний и качки, управляемый совместными усилиями
всего экипажа. Япония уже налетела один раз на риф и
потерпела аварию, не потерпит ли она кораблекрушения,
если возьмет на этот раз резко левый курс? Я считал, что,
если бы отыскалось хотя бы небольшое число людей, не
склоняющихся ни вправо, ни влево, они могли бы стать
опорой Японии.
По мере того как окружающая действительность
становилась боевой и двигалась к материализму, мои мысли
становились внутренне самокритичными. Так снова во мне
поднялось присущее мне стремление к религии. Маркс
говорит, что «религия — это плач слабых и угнетенных», а
поскольку я был против общества, полного борьбы, то,
естественно, не мог не встать на позицию антиобщественную,
на позицию отрицания окружающей действительности.
Я рассуждал так: мир в конце концов полон лжи, хотя
это и не ново. Сколько бы вы ни искали, человеческой
правды в нем не найти. И политика вся построена на лжи,
и общество состоит из лисиц и барсуков, стремящихся
обмануть друг друга. Если мы хотим жить для истины, мы
должны быть выше действительности. Люди стремятся
к карьере, к богатству, знатности и славе — отсюда и
возникают лицемерие, коварство, заговоры, интриги,
недоверие человека к человеку. В таких условиях счастливая
человеческая жизнь невозможна. Если мы хоть немного
стремимся к истине и хотим создать справедливую жизнь,
мы должны прежде всего подняться выше этого мира
переплетения корыстных интересов и прийти к абсолюту.
Перед богом мне не разрешена никакая ложь.
118
В минуты таких размышлений я чувствовал се.бя
совершенно одиноким, но ведь лишь тот, кто освещен
божественным светом как один в ряду многих, и лишь тогда,
когда он предстает перед божественной справедливостью
и любовью без всяких облачений, рука об руку с
другими,— может познать, что такое человеческая истина.
Общение между людьми должно иметь в своей основе
общение с богом, должно исходить из того, что люди слышат
голос бога.
Из этого исходит и положение Догэна 1 о
сосредоточенном сидении, это имеет в виду и Хонэн 2, выделивший из
ряда молитв молитву богине Амида, провозглашаемую
вслух.
Забыв бога и потеряв абсолют, человек неминуемо
сбивается с пути. Христианская религия называет это
первородным грехом, буддизм называет это слепотой к свету,
или греходеянием. Сколько бы ни твердили мне о том, что
этот суетный мир зиждется на науке и нравственности,
я вижу в нем только общение людей, забывших бога, а раз
это так, то в нем не может быть истины. Сколько бы вы
ни нагромождали эти корыстные взаимоотношения
людей, чуждых истине,— что из этого может родиться?
Разумеется, этим же объясняется и обострение внутренних
противоречий капиталистического общества по мере
развития производительных сил. Однако до тех пор, пока про-,
тест пролетариата будет развиваться только как
корыстная борьба, он не сможет породить настоящего
человека. Для того чтобы осуществить переход от
капиталистического общества к обществу коммунистическому, конечно,
нужны и революция, и безграничный рост машинных
производительных сил, но вместе с этим в качестве
необходимого условия успешности этого перехода человек
должен осуществить революцию в самом себе. Что это такое —
революция в сознании человека? Она состоит прежде всего
в том, что человек, который доныне дрожал над своими
мелкими корыстями, должен пробить скорлупу эгоизма
и видеть величайший принцип человеческой жизни в
служении счастью всего общества, всего человечества.
При каких условиях возможно такое преобразование?
Оно возможно лишь в том случае, если люди прикоснутся
1 Догэн (1200—1253)—основатель буддийской секты Содосю.
2 Хонэн (1133—1212)—основатель буддийской секты Дзёдосю.
И9
к высшему бытию, то есть к любви к богу, и выйдут из нее
новыми, преображенными. До тех пор, пока этого не будет,
классовая борьба останется исключительно борьбой за
материальные выгоды. Такая борьба, независимо от того,
происходит ли она между капиталистами или между
капиталистами и пролетариатом (принципиально это одно
и то же), сводится в конце концов ко взаимному
отчуждению имущества, и, сколько бы это ни продолжалось, мир
не станет лучше. Чем больше будет борьбы, тем хуже
будут отношения между людьми, а общество станет
царством зависти и зла. Я не отрицаю борьбы, но в основе ее
должен непременно лежать глубоко осознанный гуманизм,
а гуманизм в конце концов не может не привести к
религии. Так, по мере того как общество двигалось к борьбе и
материализму, я, напротив, не мог не становиться все более
и более религиозным. Снова у меня на столе появились
зачитанные мною двадцать лет тому назад библия,
буддийское писание и другие буддийские книги. Кстати, меня
глубоко заинтересовала одна из поздних статей Нисида —
«Логика поля и религиозное мировоззрение». В этой
статье я нашел определенные выводы, созвучные с моими
религиозными взглядами. Я решил пригласить
почитателей философии Нисида и предложить им раз в месяц
проводить обсуждения типа семинарских занятий. К тому
времени я уже окончательно выехал со старой ведомственной
квартиры и поселился в теперешнем моем доме в районе
Омия. Он расположен как раз в начале растянувшегося
на два километра пути к храму Нагакава. Поэтому мы
назвали свое общество «Сандодзкжу», что значит «школа
по пути в храм». Сперва в нашем небольшом кружке
принимало участие немного более десяти человек, но
постепенно общее число участников возросло до ста, а на
семинарах присутствовало каждый раз человек тридцать-
сорок. Жители нашего города были в меньшинстве —
участники собирались не только из нашей префектуры, но
также из Токио, Канагава, Тиба, Гумма, Тотиги.
Энтузиасты приезжали даже из северных районов Мито. Среди
участников были представители самых разнообразных
профессий: студенты, учителя, священники, врачи, крестьяне,
рабочие, служащие, чиновники и др. Однако я не думал,
что все проблемы могут быть решены при помощи религии.
Живой опыт окружающей действительности не позволил
мне абсолютизировать значение религии настолько, чтобы
120
утверждать, будто достаточно верить — и исчезнут
социальные противоречия, прекратятся войны и прекратится
классовая борьба. Более того, чем больше мы углублялись
в религию, тем с большей силой вставал насущный вопрос
о столкновении религии с нашей действительностью.
С одной стороны, перед нашими глазами происходило
разложение официальной религии и ее бесстыдное и
бессовестное подчинение власти капитала, с другой стороны, мы
видели горстку материалистов, не знавших иного пути,
кроме полного и безоговорочного отрицания религии. Я
чувствовал, что не в состоянии согласиться ни с теми, ни с
другими. Представителям официальной религии мы заявили:
то, чем вы занимаетесь,— не религия и даже не похоже на
нее. Ваша религия — в сущности грубый материализм,
скрытый за религиозной личиной. Вы занимаетесь самым
низкопробным церковным предпринимательством, и не
более. Служители культа в наше время не относятся ни
к какому из производительных классов, они являются
паразитами на теле общества, все существование их основано
на прямой эксплуатации производителей. Вы не
занимаетесь абсолютно никаким серьезным трудом, не способны
ни на чувство, ни на усилия для спасения народа, а лишь
продаете в розницу проповеди и молитвочтения, используя
в качестве капитала златотканные одеяния служителя
культа и храмовые помещения.
Однако наряду с этим я не мог согласиться и с
материалистами, называвшими религию опиумом.
Материалисты не признают существования бога — это понятно, и я не
имею права насильственно требовать, чтобы они верили в
него.
В принципе свободы вероисповедания уже содержится
и свобода атеизма. Однако из того, что материалисты не
верят в существование бога, не следует непосредственно
вывод о том, что бога нет, а всякая религия — это
предрассудок. Живущий в горах моря не видит. Не видевший
моря может сказать, что он не знает моря,— это
естественно. Но когда он говорит, что моря не существует,— это
уже превышение прав.
Материалистам неведом религиозный опыт. Мы можем
сокрушаться об этом, но не можем порицать. Но мы знаем,
что, как бы решительно ни отвергали они религию, это
отрицание означает лишь, что религия не может быть
вмещена в рамки их теории,— ничего больше оно значить
121
не может. Даже согласившись со всеми положениями
материализма, кроме положения о религии, и приняв их
как истину, я могу, кроме того, вне связи с этим верить
в религию потому, что религиозная истина — это не истина
фактов, наблюдаемых в материальных явлениях, а вера
в высший мир, лежащий в основе этих явлений и
поддерживающий эти явления. В наше время необходимость
социологии неоспорима, но она не может подавить наших
религиозных запросов, не может заменить религиозную
истину. В основе проблем человеческой жизни остаются
и такие, которые не могут быть до конца разрешены
социологией. Это факт, что насущнейшей задачей сегодня
является научно обоснованная практика, имеющая целью
разрешение социальных проблем. Но было бы
верхоглядством делать из этого вывод о возможности отвергнуть
и похоронить религию.
Примерно в это же время была проведена дискуссия
по радио на тему: «Существует ли бог?» Участников было
трое: г. Иосио Кобаяси из университета Дзиоци,
заведующий отделом культуры ЦК Компартии Японии
Кэндзи Миямото и я. Г-н Кобаяси — католик, г. Мия-
мото — атеист, и прямое столкновение между ними
неизбежно. Интересно было и то, на какую позицию в споре
между ними встану я.
Дискуссия проводилась в зале здания в районе Тиёда.
Уже до начала собралось так много народу, что часть
слушателей осталась в коридоре. По радио мне
приходилось выступать довольно часто, но мысль о
дискуссии перед микрофоном меня несколько беспокоила. Но
во всяком случае у меня есть непоколебимые убеждения.
Если меня спросят, существует ли бог, я не смогу стать
на позицию простого материалистического атеизма. Я не
признаю бога христианского, но отстаиваю религию —
такова моя позиция. Поистине ничтожна росинка,
покоящаяся на лепестках травы, растущей на обочине дороги,
но и в ней отражены все явления вселенной. Пусть
преходяща и непостоянна жизнь человека — если его совесть
чиста и не запятнана корыстью, разве не отразится в ней
что-то большее, чем его я? Лишь те отрицают
существование бога, у кого помутнело зеркало души и неспособно
отражать ничего, кроме близлежащих предметов. Раскрой
шире свою душу, прикоснись к источнику жизни,
пронизывающему всю вселенную, и тогда ты непременно познаешь
122
нечто высшее, чем мир материальных вещей. Такова была
точка зрения, которую я до конца отстаивал на
дискуссии.
Против ожидания, мои убеждения вызвали широкий
отклик не только среди присутствующих, но и среди
радиослушателей. Правда, надо сказать, что слова г. Миямото
были безжалостно сокращены и в эфир прошло меньше
половины его выступления. Я оказался в сравнительно
выгодном положении, так как, хотя и мое выступление
было коротким, оно не подверглось никаким сокращениям.
В результате этого оно вызвало чрезвычайно широкий
отклик во всей стране, а я стал получать ежедневно по
нескольку десятков писем от сочувствующих. Однако
большинство их принадлежало к верующим в так называемую
гражданскую религию, и я почувствовал себя очень
скверно. Значит, я превратился в одно из звеньев
реакционного лагеря. Судя по откликам, я выполняю не более
и не менее, как роль препятствия на пути исторического
прогресса. Супруга г. Миямото г-жа Юрико Миямото ■
была просто возмущена моим выступлением, и это,
конечно, неудивительно. Я не должен был ограничиваться
утверждением, что «бог существует». Ведь главные
проблемы только начинаются с этого положения, а я
остановился на нем и не пошел дальше, что, несомненно, являлось
большим промахом. В душе моей осталось ощущение того,
что я обязан когда-то в будущем восполнить это упущение.
Через год состоялась вторая дискуссия перед
микрофоном. На этот раз моими оппонентами были физик
г. Сатоси Ватанабэ и .профессор университета Васэда
г. Сацу Мацуо. Оппоненты новые, но по-прежнему спор
идет между католиком и материалистом. На этот раз
дискуссия происходила в просторном зале Хибия, и народу
собралось гораздо больше, чем в первый раз. Сотрудники
радио говорят мне, что г. Мацуо больше всего готовился
возражать мне, так как меня он опасался больше, чем
другого оппонента. Но я, напротив, не имел намерения
серьезно возражать г. Мацуо. Я хотел — нет, был
обязан — подчеркнуть связь религии с наукой и народно-
освободительной борьбой. В результате этого симпатии
публики оказались на стороне г. Мацуо, а на мою долю
выпала только роль поддерживать его со стороны.
1 Юрико Миямото — известная писательница, член
Коммунистической партии Японии, умерла в 1950 г.
123
Коротко говоря, на этот раз я не столько отстаивал
религиозную истину, сколько подчеркивал историческую
миссию религии. Я говорил, что практической миссией
религии должна быть защита пролетариата, религия должна
посвятить себя освобождению угнетенных, в противном
случае понятие религиозного гуманизма лишится всякого
содержания. Можно сказать, что эта дискуссия побудила
меня сделать шаг — хотя и робкий — в новом
направлении. Разумеется, я все еще оставался идеалистом и
богоискателем, но с этого момента мне в общем стало ясно,
как следует подходить к социальным вопросам.
Г-н Мацуо также разглядел во мне это стремление, и
мы расстались, пообещав друг другу поддерживать связь
в будущем. Однако потребовалось целых два года для
того, чтобы я смог стать настоящим последователем
марксизма и подвергнуть прошлое основательному
самокритичному пересмотру. Это стало возможным только тогда,
когда объективные условия вплотную поставили меня
перед решением этого вопроса, и вместе с тем тогда, когда
я оказался к этому подготовлен субъективно.
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
ПЕРЕД ЛИЦОМ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ
Дискуссии по вопросам религии и другие собрания, где
оживленно спорили о боге, происходили в период с 1947
по 1948 год. Это был период, когда народ считал, что
политика оккупационной армии в общем направлена на
демократизацию Японии. Народу казалось, что выход
Коммунистической партии из подполья и легализация ее
деятельности, снабжение продовольствием, освобождение
женщин, земельная реформа, принятие мирной
конституции и другие преобразования — все это сделано
оккупационной армией и что сами японцы не смогли бы этого
осуществить. Поэтому люди даже думали, что
оккупационная армия в известном смысле является освободительной
армией. Однако по мере ухудшения отношений между
США и Советским Союзом противоречия между ними
начали проявляться в различных формах и в нашей стране.
Все более очевидными становились расхождения между
124
мероприятиями, которые пытались проводить у нас США,
и точкой зрения Советского Союза, и наш народ
вынужден был сам решать, какая из этих позиций является
хорошей, какая — плохой. Оказавшись в такой сложной
международной обстановке, наша нация должна была
решать, в каком направлении ей следует идти дальше. Над
этим вопросом каждому японцу приходилось серьезно
задуматься и принимать определенное решение.
Понятно, что в Японии, как в стране, потерпевшей
поражение, сами политики также были ограничены в своих
действиях. Конечно, во всякой порабощенной стране
господствующие классы не могут бороться с властью
победившего государства в интересах народных масс своей
собственной страны, в большинстве случаев они идут на
уступки правителям иноземного государства, пляшут под
чужую дудку, стараясь этим путем сохранить свое
благополучие. Поэтому если народ не будет сам искать для себя
выхода независимо от господствующих классов и даже
вопреки действиям этих классов, то впоследствии он может
оказаться в тяжелом положении. Ошибочно думать, что
судьбу страны можно доверить политикам, поскольку они,
будучи сами японцами, ничего плохого для Японии не
сделают. Такое рассуждение может привести к самым
неприятным последствиям. Япония оказалась в таком
тяжелом положении именно потому, что во время войны
народ был слишком бессилен и покорен по отношению к
власти военщины и политиков. Нельзя снова допускать
такую нелепую ошибку. До этого времени я целиком был
поглощен своими личными делами, интересовался только
своими оторванными от жизни научными занятиями и
своим самосовершенствованием. Однако теперь, когда
страна оказалась в столь тяжелом положении, я уже не
мог относиться к этому безразлично. Что необходимо было
предпринимать? Если и дальше будет так продолжаться,
то будущему Японии грозит серьезная опасность.
Мы оказались перед лицом серьезных национальных
проблем. Прежде всего следует уяснить себе эти
проблемы и на этой основе определить направление нашего
истинного пути.
Итак, каковы же эти насущные национальные
проблемы, которые требуют сегодня от нас немедленного
разрешения? Это, безусловно, прежде всего проблема
спасения народа от той экономической нищеты, в которую
125
вбергнут он в результате поражения в войне. Если к этой
проблеме подойти просто, то и разрешение ее покажется
простым: достаточно всем энергично взяться за работу
и увеличить производительные силы — и задача будет
решена. Но в действительности это не так просто. В
современных условиях бывает так, что причиной нищеты
является именно увеличение производительных сил.
Безусловно, можно сказать, что после войны нищета народа
порождена разрушением производительных сил. Но
значительная часть разрушенных предприятий уже
восстановлена и даже расширена. Несмотря на это,
экономические трудности не только не ослабли, а, наоборот, еще
более возрастают. По каким-то причинам налоги
непомерно повысились. Никогда в жизни я не знал такого
тяжелого налогового бремени, которое спустя год-два после
окончания войны свалилось на наши головы, на людей,
живущих на зарплату. Создалось такое положение, что
ни один человек, даже будучи доктором наук,
преподавателем высшей школы, только своими заработками не в
состоянии удовлетворить насущные потребности семьи.
А что если все начнут работать, чтобы увеличить
производительные силы? Казалось бы, в таком случае должно
было наступить изобилие товаров и жизнь бы стала легче?
Но на самом деле это не так. Перепроизводство прежде
всего приводит к депрессии. Чем больше товаров, тем
больше затрудняется их сбыт. Капиталистическое
производство служит для прибыли самих капиталистов, и так
как заработная плата рабочих не увеличивается и
покупательная способность народа остается на прежнем
низком уровне, а количество товаров возрастает, то
естественно, что товары залеживаются.
При таком положении по причине экономических
затруднений предприятия начинается сокращение штатов.
Поскольку трудящиеся жестоко эксплуатируются за очень
низкую зарплату, производится слишком много товаров,
и поэтому рабочих увольняют. Заработная плата рабочего
крайне незначительна, но, лишившись ее, он буквально
на следующий день лишается всяких средств к жизни.
Поэтому и рабочие и служащие чрезвычайно боятся
безработицы. Поэтому они не имеют мужества бороться
против несправедливости. Им ничего не остается, как
покорно подчиняться властям. В газетах много пишут о
свободном государстве, о свободном обществе. Однако кто
126
же из всей японской нации может про себя сказать: «Я
свободный»? Начиная с премьер-министра вверху и кончая
поденным рабочим внизу — все чем-то связаны. Мы во
что бы то ни стало должны освободить нацию от такой
жалкой жизни. Мы должны освободить народ от тревоги,
нищеты и безработицы, вселить в него надежду на
будущее и привести его к такой жизни, когда не будет ни
одного праздного человека, а все будут радостно работать.
Вторая проблема заключается в том, как добиться
восстановления независимости, которую Япония потеряла в
результате поражения в войне. Японцы с самого начала
своей истории никогда не попадали под власть другого
государства. И в этом отношении японская нация, не
уступая другим народам, имеет и национальную гордость и
патриотизм. Попытка армии иноземной страны
поработить такой народ не может быть успешной. По всей стране
народ будет оказывать ожесточенное сопротивление. Я
считал раньше, что хотя мир велик, но в нем трудно найти
другой народ, который так мало склонен мириться с
чужеземным господством, как японский народ. Однако что
же оказалось на деле? Мои ожидания оказались
обманутыми. Японский народ стал настолько покорным, что
о нем даже стали думать, что в мире нет другого народа,
в такой степени послушного, которого можно так легко
согнуть, который беспомощен и преклоняется перед
сильной властью. До сих пор мы в глубине души не уважали
китайцев и корейцев. Японец гордился, что принадлежит
к выдающейся нации, не идущей ни в какое сравнение
с другими народами Азии. Но что же оказалось сегодня?
Китайцы долгое время на протяжении десятков лет,
начиная с 1919 года, в очень тяжелых условиях храбро
боролись против японских империалистических захватчиков.
Они осуществили свою заветную мечту, завоевали
независимость для своей прекрасной Народной Республики. На
корейцев мы смотрели свысока, как на народ низший в
сравнении с японцами. Но каково же положение сегодня?
Корейцы ни на один шаг не отступают перед
вооруженными силами и властью мирового империализма и храбро
сражаются, не щадя даже своей жизни. Сколько десятков
и сотен тысяч корейских воинов убито, но не корейцы ли
переступают через трупы и продолжают оказывать упорное
сопротивление? И когда мы сравниваем со всем этим
поведение японского народа, то что за трусость, что за ела*
127
боволие бросается в глаза! Начиная с опиумной войны
1840 года * народы Азии были подвергнуты мировым
капитализмом многим унижениям, были превращены в колонии,
порабощены, эксплуатируемы. Однако народы Азии
сегодня — уже не прежние азиаты. Они все поднялись,
охваченные высоким духом национального самосознания.
Поднялась Индия, поднялся и Вьетнам. И, как бы
сговорившись между собой, с большой сидой поднялись или
пытаются решительно подняться малайцы и индонезийцы,
бирманцы и филиппинцы. А как выглядят среди всех этих
народов японцы?
Макартур, по возвращении в Америку из Японии,
заявил: «Немецкому народу, по его духу, можно дать
45-летний возраст, но японский народ по сравнению с
немецким .народом является не более как 12-летним ребенком».
И когда я прочел эти слова в газете (это было не так
давно), меня охватило невыразимое чувство печали и
гнева. Но эти чувства возникли у меня не по отношению
к Макартуру, а прежде всего по отношению к самому
японскому народу, который заслужил такой оскорбительный
отзыв со стороны Макартура. Вдобавок к этому Макартур
сказал: «Японцы, когда они оказываются перед сильной
властью, становятся заискивающей нацией, а по
отношению к слабым народам они высокомерны». «Что за
слабодушный народ, что за размагниченный народ!» — говорил
я себе. В то время как в глубине души мы питали чувства
хвастливого высокомерия по отношению к слабым
народам Азии, мы сами неожиданно потеряли способность ко
всякому сопротивлению, оказавшись перед лицом сил
мирового империализма. Когда я читаю наши газеты, меня
охватывает гнев. Казалось бы, эти большие газеты должны
занять хоть немного более твердые позиции и
поддерживать нацию, однако они не только не делают этого, но,
как и прежде, заискивают перед сильными мира. Остается
только развести руками и поражаться бесстыдству этих
больших газет.
Наряду с газетами прежде всего политики, а затем и
преподаватели, священнослужители, молодежь,
женщины — словом, все оказались слабыми, и не нашлось
никого, кто бы восстал против порабощения. Из какого же
1 Захватническая война Англии против Китая (1840—1842).
Поводом к войне послужил запрет китайским правительством ввоза
англичанами опиума в Китай.
128
слоя японского народа родится сила, способная начать
борьбу за независимость нации? Если же все будет
продолжаться по-старому, то японский народ будет порабощен
господствующим чужеземным государством и окажется
связанным по рукам и ногам. Когда немецкий философ
Фихте услышал орудийные выстрелы французской армии,
он выступил в берлинском университете с большой
лекцией: «Обращение к немецкой нации». Японские
философы, видя свою родину в таком тяжелом положении,
должны превратить свою философию в действенную
философию, чтобы разбудить заснувшую гордость народа,
поднять его национальное самосознание. Однако о чем
сейчас думают, чему учат, что претворяют в жизнь
академические философы Японии? Пускай они изучают
Кьеркегора или Хайдеггера, но философия, которая не
указывает никакого пути, по которому нация могла бы
выйти из своего печального, рабского положения, и
занята лишь бесплодной игрой в понятия, такая философия в
конечном итоге будет похоронена историей. Моя
философия не должна быть такой, оторванной от жизни.
Третья проблема — это проблема мира. Сразу же после
войны было определено, что Япония станет мирным,
невооруженным государством, которое не повторит ошибок
прошлого, и с этой целью были внесены коренные
изменения в конституцию. Однако уже сейчас, когда
проведение реформ еще не закончено, в стране создалась
странная обстановка, направленная на противодействие этим
реформам. И пока мы рассуждаем, насколько все это
странно, там и сям по всей стране возникают предприятия,
очень похожие на военные заводы, создаются полиция и
резервный корпус, заставляющие подозревать возрождение
старой армии. Слышатся разговоры о возможном
перевооружении Японии. Более того, повсюду создаются
военные базы иностранного государства. И когда я слышу
все это, в груди моей нарастает решимость
противодействовать этому. Дело в том, что я, хотя и помимо своего
желания, помогал минувшей войне. Во всяком случае, я
не мог тогда выразить своего протеста и в этом смысле
был пособником войны. У меня отняли единственного сына,
и он был убит. Эта рана, врезавшаяся в мою совесть, еще
жива. Если в будущем Японию снова вовлекут в войну,
я не буду молчать. В моих ушах еще звучит голос сына:
«Крепись, отец!»
9 Янагида Кэндзюро 129
Угроза войны становится все более ясной и близкой.
Но за что же мы должны воевать? Весь японский народ
ненавидит войну. И не только японский народ. Все народы
мира страшатся войны и ненавидят ее. Зачем же нам
вопреки нашему желанию быть вовлеченными в войну? Если
верить газетам и радио, то это должно произойти потому,
что существует опасность «агрессии красного
империализма». Но так ли это? Разве «красный империализм»
совершал агрессию на протяжении более 100 лет в
различных частях мира, разве это он виновник порабощения
и колонизации народов Азии? Нет! Агрессорами были
капиталистические государства. Сегодня народы Азии либо
поднялись, либо собираются подняться на борьбу. Однако
это выступление с их стороны — вовсе не агрессия, а
национально-освободительная борьба с целью освобождения
нации и достижения независимости от капиталистических
захватчиков. И тот, кто препятствует этой борьбе, называя
ее красной агрессией, кто применяет в отношении нее
вооруженные репрессии, тот как раз и является агрессором,
притом агрессором вдвойне.
Перед началом войны силы войны монополизируют
обычно органы информации, а сторонников мира и
противников войны подвергают преследованиям. Начинается
бессовестная пропаганда войны, во время которой
агрессия именуется обороной, а оборона — агрессией. И это
снова началось в Японии. Снова крупные газеты и
журналы страны публикуют статьи, заискивающие перед
властью капитализма. Это недопустимо. Именно теперь я
должен подойти к действительности с позиции
самокритики в отношении моих прежних ошибок.
Эти три проблемы, вставшие перед нашей нацией и
требующие немедленного разрешения, на первый взгляд,
не связаны между собой. На самом деле — это три ветви
одного и того же дерева. Нет никакого сомнения, что
капитализм достиг монополистической стадии и вступает в
эпоху империализма. И то, что мы бедны и страдаем от
безработицы, и то, что мы, подобно другим азиатским
народам, близки к потере самостоятельности, а также то,
что были уже две империалистические захватнические
войны и надвигается третья — все это явления периода
развала и заката империализма. Поэтому пути
разрешения всех трех проблем сводятся к одному: как преодолеть
противоречия современного капитализма и выйти из ту-
130
пика? Перед лицом этих неотложных задач моя прежняя
философия оказалась совершенно бессильной. Эта
философия, возможно, и возвышенна, но никак не приложима к
нашей действительности. Поэтому я пришел к выводу, что
мне необходимо углубить свое научное познание
современного общества. И в этом отношении заслуживает внимания
прежде всего учение марксизма-ленинизма. В этом учении,
возможно, и есть положения, требующие критики, но в
настоящее время немыслима никакая иная философия,
которая могла бы указать более ясный путь преодоления
современного капитализма. Маркса критикуют многие. Все
они придирчиво выискивают в нем слабости. Но ни один
из этих критиков взамен не указывает нам руководящих
теорий, по которым можно было бы построить общество,
не знающее безработицы, общество, где не было бы войны
и колоний и где бы нации были равны. К тому же нигде
нет таких людей, которые, восприняв доктрины критиков
Маркса, практически претворили бы в жизнь новые
общественные порядки. И в то же время марксизм-ленинизм
указывает нам ясный путь не только в качестве теории, но
и практически. Начиная с 1917 года марксизм-ленинизм
вызывает великие исторические события, постепенно
наращивает свои силы и создает безграничные перспективы в
будущем. В адрес Советского Союза сейчас высказывают
много клеветы. Но в действительности так ли плоха эта
страна? Ведь, если бы она была такой плохой, ее примеру
не стали бы следовать в разных концах мира. А ведь
факты говорят как раз об обратном. Эта страна все
больше и больше приобретает авторитет среди всех
угнетенных народов мира. Когда этот факт называют
агрессией, то это не что иное, как классовый эгоизм, служащий
средством самозащиты капиталистов. Во всяком случае,
мне необходимо еще раз, новыми глазами изучить
марксистскую теорию. Сегодня, когда мне стало ясно, что какой
бы возвышенной ни была философия Нисида, она
совершенно неспособна разрешить проблемы действительности,
я больше не могу затворнически замыкаться в рамки этой
философии. Таким образом, я стал быстро приближаться
к пониманию Маркса. Идеалистическая философия, даже
в своих лучших проявлениях, превращается в пустую
философию бессилия в отношении разрешения насущных
задач современности. Восполнить или заменить ее может
только философия Маркса.
9*
131
ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
САМОКРИТИКА ПО ПОВОДУ
ФИЛОСОФИИ НИСИДА
Отношения между философией Нисида и
материализмом с давних пор и по настоящее время были крайне
враждебными. Положение нисколько не улучшилось и
после смерти Нисида. Вследствие этого я и другие
последователи Нисида часто становились объектом нападок.
Я лично никогда не считал, что эта критика основывается
на правильном понимании философии Нисида. Расценивая
ее как перебранку на почве партийных интересов, я не
обращал на нее серьезного внимания, игнорировал ее.
Но потом, когда возникли известные национальные
проблемы, мне становилось все более понятным, что научная
позиция, которой я придерживался до сих пор, никуда не
годится. Философская школа Нисида, даже если оставить
в стороне вопрос, насколько она принципиально
правильна или неправильна, оказалась неспособной дать
верное объяснение новой действительности. Сам Нисида во
время войны придерживался позиции нейтралитета и даже
в разгар самых жестоких битв продолжал заниматься
исследованием таких проблем, как объективность познания,
философия Декарта, математические проблемы и т. п. Так
или иначе, он не шел на поводу событий. И все же
последователи Нисида, включая и меня, хоть и оценивали в
какой-то мере критически современную действительность,
но в конце концов стали пособниками войны. И не
случайно. Уже одно это требует основательного
самоанализа. Многое следует вновь пересмотреть, отбросив
всякие несущественные мелочи.
Все становится ясным, когда сравниваешь нашу
позицию с позицией философов-материалистов. При слове
«материализм» у многих возникает представление, что это не
что иное, как преклонение перед грубой материей. Эти
люди считают, что материализм по сравнению с
идеализмом и религией представляет собой идеологию более
низкого уровня, вследствие чего они и относятся к нему с
пренебрежением. Но когда знакомишься с тем, как вели себя
материалисты до настоящего времени, то пособниками
грабительской войны оказываются скорее идеалисты и
сторонники религии. Что касается материалистов (оставим в
132
стороне некоторых презренных капитулянтов), то чем
более последовательными материалистами они были, тем
упорнее, до самого конца, отстаивали свои убеждения.
И никак нельзя опровергнуть, как это ни прискорбно, то
обстоятельство, что мы должны учиться у материалистов,
как практически воспринимать действительность. Сам я
до сих пор, будучи специалистом по этике, стремился не
отставать от других людей в вопросах совести. Но эта
самая совесть при сравнении ее с практическим духом
материалистов, которые стремятся жить смело, бесстрашно
борясь с невероятными трудностями, превращается в до
некоторой степени сомнительную вещь. И, уступая им хотя
бы в этом одном пункте, мы уже терпим полное
поражение. А отсюда вытекает необходимость коренным образом
перестроить свою собственную жизнь.
И когда я с этой точки зрения впервые попытался
проанализировать собственную философию, то не мог не
выявить целого ряда ее недостатков. До сих пор я был
сторонником философии Нисида и слепо почитал как его идеи,
так и его самого. Но даже такие выдающиеся личности,
как Нисида, являются тоже людьми, и поэтому они никак
не обладают ни всемогуществом, ни совершенством.
И естественно поэтому, что если не критиковать и не
преодолевать их недостатков, то нельзя развивать философию
Нисида. Только открыто критикуя то, что необходимо
критиковать, исправляя и преодолевая ошибочное, я
выполняю долг верного ученика своего учителя. Исходить из
частных интересов и личных чувств, не подвергать
критике собственных ошибок в прошлом, заниматься
самооправданием — не значит быть верным философии
Нисида. В письме, которое я давно получил от учителя (оно
и теперь висит на стене моего кабинета), написано:
«Помните, мое самое страстное желание, чтобы вы пошли
дальше, перешагнув через мой труп». Итак, теперь не
время оберегать труп учителя, а необходимо мужественно
«перешагнуть через него» и идти вперед.
Каковы же недостатки философии Нисида? Если
подойти к этому вопросу теоретически, то недостатков
выявится бесконечное множество. Но если мы посмотрим
на философию Нисида с точки зрения практически
неотложных проблем современности, то можно легко заметить
следующие недостатки. Это, во-первых, поверхностность и
формальность в понимании материализма. Нисида гово-
133
рил, что из-за Маркса он потерял покой. И хотя, изучая
философию Маркса, он так много размышлял, что не спал
по ночам, все же в его статьях нет серьезного и
убедительного исследования ни диалектического, ни исторического
материализма. Возможно, он полагал, что марксистская
философия — не больше, как современная вульгарная
философия и поэтому она не заслуживает серьезного
изучения. Но если это так, то мы должны сказать, что именно
в этом и состоит его совершенно непростительная ошибка.
Философия Нисида ни в какое сравнение не идет с этой
прогрессивной философией, которая грандиозно изменяет
современный мир, которая двигает мировую историю. Как
можно столь упрощенно и формально критиковать
подобную материалистическую философию, и какое объективное
значение имеет такая критика? Суть критики
материализма сводится в философии Нисида к следующему
утверждению: сознание не возникает из материи. Но какой
же материалист в мире согласится с этой упрощенной
критикой? Несомненно, сколько камень ни верти, он
останется камнем. Даже если его разбить на мелкие куски, из
него не получится ни животного, ни человека. В этом
смысле можно сказать, что движение материи, сколько бы
оно ни развивалось, остается материальным процессом и
не превращается в сознательную деятельность,
обладающую определенным смыслом и содержанием. Однако
такое рассуждение примитивно и беспомощно, поскольку
исходит из полного противопоставления материи и
сознания. Подобный метод аналитического мышления
характеризуется абстрактностью и антидиалектичностью и,
следовательно, не соответствует современной философии,
которая охватывает существующее в целом, во всех его
конкретных связях, в его историческом движении. Нам
необходимо познать современное положение конкретно, во
всех связях живого исторического процесса. Никто не
мешает рассматривать материю и сознание в теории
раздельно. Но если материю и сознание воспринимать не как
отдельные, изолированные явления, а как движущиеся и
развивающиеся во всех созидательных связях широчайшей
исторической действительности, то возникновение
сознания из материи окажется убедительным научным фактом,
который нельзя опровергнуть. Что было на земном шаре
вначале? Там не было ни человека, ни человеческого
сознания. Мир был только материальным. Затем в нем по-
134
явились животные и растения, из его недр в результате
бесконечного процесса дифференциации и развития
возникли человек и человеческое сознание. Вот почему
решение проблемы в той форме, которая дается в философии
Нисида (сознание не происходит из материи), неверно.
Вопрос скорее всего следует поставить так: «Как это
произошло?» Философия Нисида имеет тенденцию
пренебрежительно относиться к диалектике процесса, исходя из своего
учения о диалектике места. И это неправильно. Нельзя
рассматривать диалектику места в отрыве от диалектики
процесса, всегда необходимо иметь в виду их неразрывную
связь.
С этим связан другой вопрос. До сих пор теорию
отражения материализма третировали как теорию познания,
которая базируется на слишком наивной онтологии
(учении о сущем). И не только философия Нисида, но и
поныне все академические философские школы в целом
презирают материализм. Но такое отношение к материализму
свидетельствует лишь о недостатках их собственной
теории познания, базирующейся на низком уровне знаний.
В то же время научный уровень современного
материализма является самым высшим. Другое дело, если
погрузиться в кантовский мир субъективизма и
удовольствоваться так называемым априоризмом, то есть доопытным
познанием, когда объективность знания субъективистски
конструируется на основе доопытных форм созерцания.
Что касается сущности нашего сознания, то оно должно
иметь гораздо более глубокое содержание в смысле
отражения действительности. Мир отражается самим собой;
благодаря этому и порождается глубокая историческая
практика, составляющая наше научное познание. Между
материей и сознанием, бытием и мышлением существует
глубокая неразрывная созидательная связь. Это значит,
что сознание или мышление, возникнув из материи, не
является духом, обладающим самостоятельными функциями,
а будучи всегда связанным с материей, является ее
отражением, самоотражением. Развитие и совершенствование
сознания означает, что бытие, исторически развиваясь,
обогащает объективное содержание сознания. Вместе с
развитием сознания, находящегося внутри нас,
исторический действительный мир, проходя через сознание,
углубляет свое самоотражение. В научной истине тоже должен
быть такой смысл, что везде в нашем познании отра-
135
жается, копируется объективная действительность. Теория
познания начинается с теории отражения и снова
возвращается к теории отражения. И здесь должно иметь место
движение вперед и возвращение назад. Кантовский
субъективизм, априоризм является не чем иным, как
противоречивой ступенью подобного диалектического процесса
развития в теории познания. Что касается материализма,
то разговоры о слабости его теории познания являются
ошибочными. Скорее всего материализм преодолел кан-
товскую теорию познания, поднял эту теорию познания на
более высокую ступень, на ступень «в себе» и «для себя»
и в результате конкретизации создал материалистическую
теорию отражения. И если подойти к вопросу с этой
стороны, то нельзя сказать, что философия Нисида
правильно поняла и оценила материализм. Как бы там ни
было, мы должны занять более скромные позиции по
отношению к современному материализму и изучать его.
Третий пункт, который следует подвергнуть критике в
философии Нисида,— это представление о современном
историческом общественном строе, о классах, важное значение
которых игнорировалось и почти полностью предавалось
забвению. В философии Нисида имелись достаточно
глубокие исследования по таким вопросам, как теоретическая
связь общего и особенного, диалектическая связь мира —
класса — личности, исследования об историческом смысле
таких явлений, как эпоха или нация. По этим вопросам в
философии Нисида можно найти много оригинальных
идей. Однако здесь вместе с проявлением глубокого
интереса к анализу нашей исторической действительности
наблюдается странная холодность, молчание с целью не
сказать многого по классовой проблеме. И это в такое время,
когда наивысшей движущей силой, изменяющей
современную историю, является прежде всего класс, а не нация.
Например, такое явление последнего времени, как
сознательное движение народов Азии за свое освобождение, на
первый взгляд не отличается от национального движения.
На самом же деле это движение является не чем иным,
как звеном мирового освободительного движения
пролетариата, освободительного движения всех подавляемых,
угнетаемых и эксплуатируемых классов. Далее, такое
национальное движение в Японии в прошлом, как движение
за создание «сферы сопроцветания Восточной Азии»,
также ни в малейшей степени не было националь-
136
ным движением, а представляло собой агрессивные
устремления, в центре которых находятся интересы
господствующего в Японии капиталистического класса,
достигшего монополистической стадии своего развития. В силу
того, что мы игнорировали классовое содержание этого
движения и закрывали на все глаза, мы совершенно не
вникали в сущность нашей исторической действительности.
Деление или противопоставление «восточного» и
«западного» в применении к современной эпохе не может иметь
никакого исторически важного, коренного значения. Такая
постановка вопроса приводила к тому, что философия Ни-
сида всегда ставила проблемы вечного, всеобщего и
никогда не интересовалась проблемами особенного. В
результате этого философия Нисида даже при рассмотрении
человека совершенно не исходила из действительного,
исторически реального человека, она самые различные
эпохи, различные народы и классы освещала как вечное и
неизменное человечество. Философия Нисида ни в
малейшей степени не отражала классовых интересов
пролетариата, направленных на низвержение существующего
строя (суть философии Нисида заключается именно в
отрицании классовой борьбы), и была философией,
отвечающей требованию буржуазии сохранить существующее
положение на вечные времена. Коренной недостаток
философии Нисида состоит именно в этом, а поскольку в этом
пункте имеется много причин для критики, постольку
материалисты до сих пор не перестают критиковать эти
неправильные положения.
Наука везде должна быть беспристрастной, но
практика беспристрастной никогда не бывает. На практике мы
не имеем возможности занимать позицию беспристрастной
беспартийности. Здесь вопрос стоит так: истина или ложь,
справедливость или несправедливость — средняя позиция,
не поддерживающая ни одну из противоположных сторон,
не является правильной, и, чтобы занять единственно
верную позицию, надо становиться на сторону истины и
справедливости. И поскольку сегодня надо действовать в
обстановке классовой противоположности буржуазии и
пролетариата, мы не можем стать на позиции «человечества
вообще», не присоединиться ни к одному из двух классов.
Люди, которые уверяют, что стоят на промежуточных
позициях, фактически ничего не делают, не имеют никакой
общественной практики, следовательно, всегда являются
137
сторонниками буржуазии и выполняют роль ее
защитников. Из этого почти нет исключений. В этом смысле
философия Нисида также не представляет исключения. И я до
сих пор стоял на подобных позициях, несмотря на то, что
лично стремился к деятельности, близкой к сторонникам
пролетариата. На самом деле вследствие того, что по
отношению к единственному пролетарскому
освободительному движению я выступал в качестве стороннего
наблюдателя и критика, я не мог занять действенной позиции,
чтобы вместе с пролетариатом принимать участие в
движении высокой страстности, отдать свою жизнь делу
общественного переустройства. Такая позиция годилась
только для того, чтобы препятствовать освободительному
движению пролетариата, и совершенно не годилась для
продвижения вперед. Поэтому вполне естественно, что
материалисты критиковали меня. Те, кто занимают среднюю
позицию и кичатся своей объективностью, на самом деле
вовсе не являются объективными. Настала эпоха, когда
противоречия, присущие современному умирающему
капитализму, можно разрешить только на основе уничтожения
производственных отношений капитализма. При этом
такой общественный переворот может совершиться только
после того, как он пройдет сначала через классовое
сознание пролетариата, ставшего во главе всех угнетенных
классов мира. А позиция объективизма, которая находится в
стороне от этой практики и занимается только критикой,
есть позиция подтверждения и признания в молчаливой
форме существующего строя, позиция отрицания
движения, требующего свержения современного общественного
строя. Вот почему совершенно определенно можно
сказать, что объективисты стоят на позициях господствующего
класса, что они не отрицают, а поддерживают интересы
буржуазии, эксплуатирующей и угнетающей пролетариат.
Среди последователей философии Нисида были не
только выходцы из имущих классов, большая часть из
них принадлежала скорее к неимущим слоям населения.
Последние не обладали классовым самосознанием, более
того, они считали его злом, полагая, что стоят на высоких
позициях гуманизма. Именно в этом и заключается
реакционная сущность философии Нисида, поэтому
философия эта с радостью поддерживалась господствующими
классами. Отнюдь не случайно некоторые даже считали,
что философия Нисида была последним средством, ис-
138
пользуемым буржуазией для профанации идей. И сегодня,
когда ни учение о «японском духе», ни проповеди
священников, ни учение о «японском пути», ни императорский
рескрипт о воспитании, уже не имеют силы, чтобы
помешать сознательному движению пролетариата, есть еще
немало людей, которые уверены, что единственно
правильную критику марксизма дает только философия Ни-
сида. Я сам, не сознавая этого, стал звеном в этой цепи,
принимая похвалы от капиталистов, попов,
государственных чиновников. И когда я задумался над этим, оценивая
общественную роль философии Нисида, я не мог не
подвергнуть свои убеждения самокритике. Я являюсь
учеником Нисида. Однако не могу позволить себе выступать
в качестве защитника агрессивной капиталистической
войны и играть роль философского прислужника
буржуазии, стремящегося идейно воспитать пролетариат в духе
господствующих классов. Ясно, что я должен только с
пролетарских позиций направлять свои чувства, ум, волю,
поведение. Сам я сегодня вовсе не пролетарий, скорее всего
мелкий буржуа. Однако совесть современной эпохи, разум
мира требуют преодоления мелкобуржуазного
мировоззрения, требуют активности в качестве неотложной задачи,
требуют стать на сторону пролетариата. Такой вывод в
некотором смысле означал, что я сам ставлю под угрозу
свою личную судьбу и, вероятно, в будущем подвергнусь
гонениям. Но все-таки изменить своего решения я не могу.
С 1949 года страна, как это было совершенно ясно,
вступила в период реакции, когда наступление капитала,
усиливаясь с каждым днем, постепенно загоняет движение
японского пролетариата в тупик. В такое время переход
от идеализма к материализму кажется столь же
безрассудным делом, как полет бабочки в пламя. Но отказаться
от своего решения я не могу. Я знал, что со стороны
господствующих классов встречу только лютую ненависть.
Однако то, что они будут чернить мое имя, называя меня
приспособленцем, совершенно не беспокоит меня.
Разумеется, мое решение свободно от личных интересов.
Совесть моя в этом отношении совершенно чиста. Таким
образом, я пришел к решению соединить философию
Нисида с материалистической философией, указывающей
путь к освобождению японского пролетариата.
В-четвертых, в философии Нисида нельзя не заметить
ошибочности трактовки вопроса о государстве. В четвер-
139
том томе собрания сочинений Нисида имеется статья о
государстве. Проводимую там точку зрения на
государство я разделял с учителем до самой его смерти. По
существу это была гегелевская позиция. От идеалистического
понимания государства я долгое время не мог
освободиться. Познакомившись с марксистской теорией
государства, я сделал вывод, что она слишком одностороння,
и до самого последнего времени не мог стать на точку
зрения марксизма. Когда после войны я вновь обратился к
марксистской теории государства, то мне стало ясно, что
самый тяжелый период японской агрессии явился как раз
периодом расцвета тоталитаризма. Если тебе говорили
тогда, что это нужно ради государства, ты должен был,
безусловно, выполнить любое приказание. Иными
словами, это была эпоха, когда государство совершало самые
ужасные открытые преступления. Хотя и в то время
частные грабежи и убийства считались тяжким
преступлением, подлежащим наказанию, сама государственная
власть, чрезвычайно усилившись, открыто совершала
неизмеримо более чудовищные преступления. Живя в такое
время, нельзя назвать иначе, как слишком большим
оптимизмом или же маскировкой, произносимые философом
красивые фразы о том, что «государство — это
проявление разума человечества» или «государство есть разумное
мировое сознание, которое проявляется в истории
формирования народов». Конечно, мой учитель Нисида вовсе не
был доволен состоянием японского государства в то время;
скорее, наоборот, он испытывал страшное недовольство.
Но это недовольство против существующего государства
принимало форму ухода в общие определения нереального,
идеального государства, а не направлялось в сторону
реалистического, марксистского, понимания государства.
У доктора же Танабэ дело обстояло еще хуже. Он
утверждал, что государство есть божественное проявление,
и подвергал нападкам рассудочность теории государства
в философии Нисида. Но меня и это не убеждало. Больше
того, когда война кончилась и ее классовый и преступный
характер так ясно встал перед нашими глазами, я должен
был раскритиковать сам себя за свои прежние убеждения
и осознать научно и прямо, без всякого приукрашивания,
без всякого завуалирования, истинную сущность
реального государства. Дело в том, что нельзя вообще создавать
в своей голове идеальное представление, которого в дей-
140
ствительности не существует, и утверждать, что это-то и
есть настоящее государство или государство, каким оно
должно быть. Такой способ мышления независимо от
намерений утверждает реальное существующее
капиталистическое государство и выполняет реакционную роль по
отношению к энергии народа, которая стремится отрицать
и изменить это государство.
Гораздо важнее выяснить более точно сущность
реально существующего капиталистического государства,
особенно в настоящее время, когда в эпоху империализма
государственная власть монополистического капитала
неизбежно превращается в агрессивно-фашистскую власть.
Не касаться этого вопроса сейчас, в эпоху, когда марксизм
достиг стадии ленинизма, а реальное государство так
открыто становится империалистическим, ограничиваться
вместо того лишь размышлениями над идеальным
определением государства — значит заниматься пустыми
мечтами; и как ни говорите, а нужно признать, что это и было
крупнейшей ошибкой как философии Нисида, так и
философии Танабэ.
В связи с этим мы должны переосмыслить
одновременно и вопрос о монархии. Еще с детских лет мне не
нравилась покорность народа по отношению к императору.
И когда в дни праздников меня заставляли склонять голову
перед императорским рескриптом о воспитании и читали
неестественные наставления о милости императорского дома
или же когда в газетах аршинными буквами печатали, что
наши души переполняют невероятные волнения "перед
монаршей милостью, я чувствовал во всем этом какую-то
внутреннюю ложь и инстинктивно возмущался этим. Тем не
менее к монархии я не питал неприязни, а полагал, что
она нужна, чтобы поддерживать порядок в государстве.
Когда после окончания войны нам непрестанно'повторяли,
что необходимо защищать наш государственный строй,
я как человек из народа тоже чувствовал, что для меня
нестерпима мысль о свержении японского императора
силами иностранного государства. Но когда после войны я
всесторонне обдумал вопрос о демократизации Японии, то
мне постепенно стало ясно, что эта система, при которой
к императору обращаются как к одному из богов, перед
которым заставляют народ безоговорочно склонять голову,
является препятствием на пути прогресса и развития
Японии. И когда я увидел, насколько удобно существование
141
императора для господствующих классов и насколько из-
за императора действия народных масс подвергаются
грубому и неразумному гнету, я решил, что это не должно
быть так. Когда государство вступает в эпоху буржуазного
демократизма, оно должно принять форму республики.
Незавершенность в этом вопросе выгодна только для
господствующих классов. А в смысле освобождения
угнетенных классов здесь нет никакой выгоды.
В этом отношении философия Нисида, как ни говорите,
еще слишком консервативна. Мой учитель не угодничал.
Даже когда его наградили орденом культуры, он не явился
за получением его, сославшись на нездоровье. Но
теоретически он держался такой точки зрения, что абсолютизм
императорского дома означает: «(подчиняясь
императорскому дому, мы подчиняемся абсолютному,
самоограничиваем себя». Я полагаю, что строй мыслей Нисида
исходил не из намерения усилить власть императорского дома,
расширить её и возродить, а скорее, наоборот, диктовался
стремлением предотвратить, исправить те слишком
ужасные дела, которые тогда совершало правое крыло, и дать
государству новое толкование, которое не расходилось
бы с мировым разумом. Тем не менее он не стремился
занять научно-критическую позицию по отношению к
феодальному абсолютизму, какую проявлял марксизм.
Если мы подведем итог, то нельзя отрицать тот факт,
что философия Нисида, несмотря на глубину своих идей,
была слишком соглашательской, оппортунистической по
отношению к существующей действительности, не могла
быть революционной. И в этом ее слабость. Когда
современный капитализм в мировом масштабе зашел в тупик
и поэтому одна за другой возникают большие войны, из-
за которых миллионы простых людей умирают голодной
смертью, заживо сгорают, погибают на фронтах,
испытывают совершенно невообразимые муки, абсолютно
недопустимо, каковы бы ни были субъективные намерения
Нисида, поддерживать нынешний общественный строй и
нынешнюю государственную систему без всяких
изменений. Недопустимо подводить под старый строй
философскую основу и этим самым помогать увековечиванию
этого строя, вместо того чтобы доказывать необходимость
коренной революции. Сам я до сих пор был сторонником
философии Нисида, считая ее самой высокой и самой
глубокой в мире. Однако, когда я задумался над ее обще-
142
ственно-исторической ролью, которую она выполняла до
последнего момента, я понял, что эту философию
необходимо коренным образом переделать.
Нисида уже нет на свете. Если бы он был жив, он
критиковал шги бранил бы меня. Но как бы он ни
бранил меня, я ничего не могу поделать, раз положение
стало ясным до такой степени. Приступать к критике
философии Нисида после того, как он умер, для меня
невыносимо тяжело. Возможно, кое-кто называет меня
предателем. Но мне придется относиться к этому спокойно. И я
решил при удобном случае опубликовать свои выводы.
И я немедленно опубликовал общие положения в журнале
«Сэкай Хиорон» под заглавием «Будущее
идеалистической философии», затем, уже весной 1950 года, в журнале
«Нихон Хиорон» я поместил статью «Преодоление
философии Нисида». В более развернутом виде я решил
опубликовать свои мысли в книге «Основной вопрос
марксистской философии».
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ
НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ
Мое выступление в печати вызвало неожиданно
большой отклик. Многие поддержали меня, но и многие
выступили против. Наибольшее впечатление на меня произвели
трения, возникшие у меня с представителями Киотоской
школы. Эти трения возникли сразу же после
опубликования моей статьи в журнале «Нихон Хиорон», которую
восприняли как личные нападки на представителей
Киотоской школы, что было, конечно, неверно. Основное
содержание статьи скорее всего было направлено всецело в
сторону самокритики, причем главным объектом критики был
я сам. Однако в то время я был сильно возбужден и
поэтому, естественно, употреблял сильные выражения.
Таким образом, между мной и Киотоской школой возникла
взаимная неприязнь, хотя я и не желал этого. Я тогда
думал только о своем будущем пути, старался исправить
прошлое и проложить для себя новую дорогу, поэтому у
меня не было душевного спокойствия. Уже сейчас мне
кажется, что тон моих статей был поистине вызывающим.
Но я надеюсь, что когда-нибудь мне представится удобный
случай извиниться за это. Однако моя самокритика сама
по себе ни в коем случае «е была ошибкой. Я сделал лишь
ИЗ
то, что обязательно когда-нибудь должен был сделать.
Я не перестаю надеяться, что представители Киотоской
школы самокритично пересмотрят свои прежние
убеждения и на этой основе смогут стать на новые, действенные
позиции в отношении насущных проблем современности.
Мне хотелось бы, чтобы они не повторяли ошибок
прошлого, не были скептиками-наблюдателями, а стремились
к активной деятельности в интересах национальной
независимости и мира во всем мире.
Так или иначе, после долгих блужданий в
одиночестве в течение десятилетий я сделал первый шаг и вышел
на широкую дорогу общественной практической
деятельности. Разумеется, говоря об активизации моей
деятельности, нужно принять во внимание, что здесь у меня еще
имеется известная ограниченность. До известной степени
все еще дает себя знать привычный образ жизни
кабинетного ученого. Тем не менее я уже вынес определенное
решение о направленности дальнейшей своей деятельности.
Как раз в это время отмечали выход в свет книги «Слушай
голос океана». Издательский отдел товарищества
токийского университета выделил миллион иен на организацию
«Общества памяти погибших в боях японских студентов»
и, объединив семьи погибших студентов, начал
движение за мир. Я, как один из тех, кто потерял сына во время
войны, стал председателем общества. Сначала у меня к
этой работе душа не лежала, поскольку я не имел
никакого опыта в этом деле, и у меня было такое ощущение,
что я перехожу через ненадежный мост. Однако с течением
времени я все больше понимал чистые устремления
студентов, и у меня появилось чувство ответственности за
порученное дело. А сегодня я связан уже не только с
делами этого студенческого общества, но и с движением
сторонников мира и, таким образом, оказался очень занятым.
Целыми днями, примерно половину месяца я не бываю
дома; случается, что и тоскую из-за невозможности
погрузиться в свои научные занятия в кабинете. Но это отнюдь
не означает, что я отказываюсь от своей миссии ученого.
Напротив, чем больше я погружаюсь в общественную
жизнь, тем больше растет моя страсть к науке. Однако эта
страсть не направлена уже на то, чтобы добиться
признания в научных кругах и славы, она теперь не является
эгоцентричной. Эта страсть порождается необходимостью
общественной практики, она посвящена освобождению
144
нации и счастью человечества, то есть имеет под собою
вполне объективную закономерность. В течение долгого
времени и до сих пор передо мной стояла проблема связи
теории с практикой, науки с практической деятельностью.
Прежде я пытался разрешить эту проблему лишь с
теоретических позиций, идеалистически, за письменным столом.
Здесь-то и коренилась моя основная ошибка. Для
разрешения этой проблемы самое важное — не теоретический
подход, а прежде всего практика и всесторонняя
деятельность в гуще жизни. Но когда вплотную начинаешь
заниматься практикой, то глубоко чувствуешь, что без
теоретических основ не обойтись. И до сих пор, любя занятия,
я много занимался, но занимался для того, чтобы стать
ученым, чтобы меня признали, как вполне оформившегося
ученого, то есть с полным правом можно сказать, что мои
занятия носили эгоцентрический характер. Но теперь я
поступаю иначе. Я непосредственно связан с историческим
общественным движением современности в интересах мира
во всем мире и счастья человечества. Связь теории и
практики приобретает в этой деятельности подлинную
жизненность. В таких условиях наука, сколько бы я ни занимался
ею, не является абстрактной «наукой для науки»,
«истиной для истины». С другой стороны, деятельность,
наполненная высоким стремлением к истине, будет непрерывно
бить ключом, подобно неиссякаемому источнику. Я
впервые в жизни познал, что такое настоящая живая научная
жизнь. Это настроение как раз и отражает недавно
вышедшая моя книга «Этика». И мой характер, по-видимому,
будет все более и более ясно выражаться в моей
деятельности. Короче говоря, чем глубже я погружаюсь в
практику, тем сильнее горит благородная страсть к науке.
Вместе с тем все, что мне удалось до сих пор узнать
эмпирически, лишь теперь приобретает живое
историческое значение для совершенствования моего характера.
Самоочищение, самоусовершенствование — вот на что
направлялись мои усилия на протяжении десятков лет,
вплоть до последнего времени. Но как я ни старался
разрешить свои противоречия, они становились все глубже.
Мир мне опротивел, и я не мог не замкнуться в скорлупу
затворнической жизни. И только отойдя от позиций такой
субъективистской морали и выйдя на широкую арену
общественной жизни, я впервые познал истинный смысл
морали. Хотя и говорят о моральной самокритике, о самоочи-
Ю Яагида Кэндзюро
145
щении, но пока все это оторвано от общественной практики
и является сугубо личным делом, мы будем воспитывать
лишь бесполезную, антиобщественную, оторванную от
жизни личность. Но, став на точку зрения исторического
движения, связанного с обществом, самоанализ и
самокритика сразу получают высокий исторический созидательный
смысл. Мне стало ясно высказывание Ван Ян-мина:
«Учись на практике». Это означает, что
усовершенствование человеческого характера невозможно в отрыве от
трудовой борьбы за исторические задачи современности и
науки. Подлинное самоусовершенствование никак не
может быть эгоцентричным. Конфуцианство утверждает:
«Совершенствуя себя, совершенствую других»,
«Совершенствуя себя, ты наведешь порядок в доме, спасешь
государство и принесешь спокойствие в мир». Таким
образом, и здесь на первый план выдвигается
самоусовершенствование, но к этому учению следует относиться с
большой осторожностью. Рассматривать себя вне связи с
обществом, делать прежде всего себя прекрасным
человеком и лишь после этого выйти в мир, чтобы воспитывать
других людей и изменять мир,— такой ход мыслей
является просто абстракцией. И сколько бы вы так ни
поступали, вам не удастся выработать настоящий характер.
Что бы там ни было, наш характер может конкретно
создаваться только как историческая, общественная
категория, и поэтому порвать связь с обществом и пытаться
самоусовершенствоваться — значит совершенно
абстрагироваться и оторваться от живой жизни. В этом заключается
коренное заблуждение прежних теоретиков морали и
религии. Сколько бы ни клялись именем божьим
современные богословы, они нисколько не изменят мир. И не
случайно, что они влачат все более и более жалкое
существование. Они считают, что в падении религии виноваты
люди, думают, что мир опустился и стал грубо
материалистическим. В действительности же заблуждаются они
сами. Дело не в том, чтобы бежать от жизни, стать
абстрактной личностью. Мне кажется, что смысл
подлинного служения человечеству заключается в том, чтобы,
отбросив корыстную, эгоистичную мораль и став перед
историческими общественными проблемами в качестве
отражателя данной исторической ступени развития
общества, стать человеком, отдающим все свои силы и
способности для мира во всем мире, для счастья человечества.
146
С этой точки зрения в современном обществе прежде
всего коммунисты, поистине не считаясь со своими
личными интересами, посвящают всю свою жизнь обществу,
человечеству. Коммунисты совсем не думают о себе, что
они подвижники и святые. Испытывая жестокий гнет
капиталистического класса, выступая против эксплуатации
и унижений, они часто борются даже за интересы тех, кто
в них бросает камни. Конечно, поскольку речь идет о
большом количестве людей, то и среди коммунистов есть
всякие люди и не все они одинаковы. Но подлинный
коммунист должен иметь именно такой характер. Я сперва не
любил коммунистов, считал, что такие люди, как Иоси-
мити Ивата и Хадзимэ Каваками, являются просто
исключением, а остальные коммунисты представляют просто
сброд. Теперь, когда я сам выступаю в качестве защитника
пролетариата и принимаю активное участие в движении,
я все более и более убеждаюсь, как ошибался раньше.
Слово «материалист» я понимал примитивно. Когда я
вплотную столкнулся с материалистами, оказалось, что
это подлинные гуманисты и подлинные идеалисты в
лучшем смысле этого слова. Они совсем не заботятся о
личной карьере. Они не преследуют личных целей наживы,
а работают ради истины и справедливости. У них нет
никакой личной расчетливости. Даже когда их бросают в
тюрьму, они продолжают работать, следуя своим
непоколебимым убеждениям. Среди какой прослойки нашего
общества найдешь еще таких чистых людей? Именно они,
коммунисты, являются совестью нации, разумом мира.
И таких чистых людей проклинают, как нечистую силу,
и обращаются с ними, как с государственными
преступниками! Таковы уж противоречия нашего общества.
Первые коммунисты, с которыми я познакомился, были
философы, интеллигенты, молодые студенты. Знакомство
с ними ввело меня в совершенно неведомый мне до сих
пор мир, мир высокой морали. А ведь и доныне еще можно
встретить такие странные явления, как, например,
утверждение одного наивного священника, будто советские
люди — из породы чертей. Такие мощные средства
распространения демагогии, как газеты, радио, обладают
поистине страшной силой. И вплоть до сегодняшнего дня
они мешают огромному числу людей доброй воли
правильно разобраться в истинном положении вещей. Когда
радио и пресса ежедневно широко вещают, как об уста-
10*
147
новленных якобы фактах, о «красном империализме»,
«красной агрессии», народ все еще верит этому. Люди,
как бы они бедно ни жили, думают, что их жизнь все-таки
лучше, чем коммунистическое общество, и поэтому
примыкают к антикоммунистическому лагерю, способствуют
перевооружению Японии, допускают у себя строительство
военных баз иностранного государства. Они,
по-видимому, считают, что это все же лучше, чем
коммунистическое общество. Никто не оспаривает, что в прошлом в
деятельности коммунистов были ошибки. Будучи одним из
тех, кто долгое время питал чувство недоверия к
коммунистам, я даже после того, как в идеологии своей проделал
шаг вперед, не мог избавиться от чувства недоверия и
неприязни к коммунистам, опасаясь неосторожно зайти
слишком далеко. Я не являюсь членом коммунистической
партии и даже ни разу не был в том районе, где
находится штаб коммунистической партии, я все еще являюсь
рядовым интеллигентом. Но во всяком случае, в
настоящее время я совершенно покончил со своим неправильным
отношением к коммунистам. После того как я, став
сторонником пролетариата, сблизился с коммунистами, мне
стало ясно, что ни в каком другом слое общества не найти
таких чистых людей, которые по-настоящему любят
справедливость и истину. Разве можно в этом отношении
сравнивать коммунистов с теми людьми, у которых на
устах все время показная мораль или религиозные
нравоучения, а на деле за красивыми словами скрывается
низкая мораль и самовлюбленность. Я сейчас вовсе не
отвергаю религию, не испытываю неприязни к
священнослужителям и не собираюсь стать коммунистом. Но к
коммунистам я стал питать глубокую любовь и уважение.
И это мое отношение к ним непоколебимо, так как к этому
я пришел не путем теоретических рассуждений, а
вследствие того, что я видел собственными глазами и что
прочувствовал на самом себе. Непосредственным толчком к
такому отношению к коммунистам оказалась моя жизнь
среди студентов Токио, беседы с ними, наша совместная
работа. Можно сказать, что я многим обязан моим
друзьям — студентам из Токио.
Третьей значительной переменой, появившейся в
результате перелома в моем мировоззрении, стало коренное
изменение моего отношения к массам. Я и раньше с
позиций поисков истинной морали уважал скромность. Но за
148
Этим скрывалось высокомерное отношение к массам,
вследствие чего я не мог слиться с ними. Мне казалось
поэтому вполне естественным, что, если я приходил куда-
нибудь читать лекцию, прежде всего меня приводили в
профессорскую или в комнату для почетных гостей, а
затем уж я шел к слушателям. Ницше и другие считали, что
масса состоит из существ, подобных рыночным мухам,
и думали, что сверхчеловеку совершенно не подобает
обращать внимание на обычных людей, а, взобравшись на
высокую гору, он должен обозревать широкие горизонты.
Удел великого человека — это вечное одиночество. Думая
так, все эти философы оказались в плену духовного
барства. Подобная философия принесла страшные плоды.
Последователи Ницше не только не могут избавиться от
высокомерия и заносчивости, но даже в употреблении
доступных для понимания масс выражений они усматривают
унижение своего достоинства. Написать что-либо без
философского мудрствования они считают ниже своего
достоинства. Они опасаются, чтобы их как-нибудь не
приняли за вульгаризаторов. Вот почему они всегда пишут
статьи, в которых нет ни доброжелательства, ни любви по
отношению к массам.
Однако грядущие социальные преобразования, будучи
по своему характеру предельно демократическими, могут
быть осуществлены только в результате сознательной
деятельности самих масс и ни в коей мере не явятся
результатом слепого следования масс за вождями. Нисида во
время войны выражал свое недовольство по адресу
политиков и военщины, но он не связывал его с сознательным
движением самих масс и не пытался претворить это
недовольство в движение сопротивления, предпочитая
переговоры в частном порядке с представителями власти с
целью уговорить их. Возможно, для того времени это было
неизбежно и целесообразно. Но сегодня мы уже не
должны прибегать к таким частным, аристократическим
мерам. Мы можем достигнуть своей цели только путем
сплочения и организации сознательного демократического
движения всего народа. Как бы эрудирован ни был
человек, но полагать, будто, связавшись с власть имущими, он
может предотвратить войну, направить политику на
защиту мира,— все это не более, как наивный идеализм.
Сила, созидающая общество и историю, должна бить
ключом из сознания самих масс. Для этого совершенно
11 Янагнда Кэндзюро
149
необходимо, чтобы массы просвещались, чтобы истина
становилась их достоянием. Это важно в особенности
теперь, когда капиталистические правящие круги, опасаясь
революционной силы масс, замышляют различные
заговоры и обман и, мобилизовав органы информации,
намеренно толкают народ в русло реакции. В такое время,
сколько бы люди ни проникались доброй волей, но при
их недостаточной сознательности они будут подвергаться
опасности поддаться обману реакционной политики, а вся
страна — опасности быть вовлеченной на путь, который
может привести к величайшим несчастьям. Истина, как
бы она ни была высока, не может выполнить свою
историческую миссию, если она не станет достоянием масс.
Только тогда появится сила, преобразующая мир, когда
истина станет достоянием масс, а массы овладеют истиной.
Если же я буду кичиться тем, что моя теория недоступна
обыкновенным людям, если я буду смотреть на массы
свысока, то моя теория будет не более как еще одним
вредным, бесполезным препятствием для развития общества.
Я обязан скромно слиться с массой и, шагая с нею в ногу,
думать, принимать решения, действовать вместе с массой,
печалясь ее печалями, радуясь ее радостям. Для этого
необходимо отбросить прежнюю позицию академического
высокомерия и выбирать выражения, близкие, понятные
народу. Пусть из-за этого будут глумиться надо мною,
пусть меня презирают за мою философию, которая якобы
является поверхностной,—на все это не стоит обращать
внимания. По своему существу моя ученость нужна не для
того, чтобы я как ученый завоевал славу. Какова бы ни
была моя личная судьба, я буду глубоко удовлетворен,
если моя теоретическая работа будет способствовать
прогрессу общества и улучшению благосостояния народа. Да,
самое важное и неотложное дело — это пойти в массы и
там изучать, чем живет масса, чего она желает. Для меня
лично в высшей степени важной задачей является не учить
массы, а учиться у масс.
Когда, таким образом, изменилось направление моих
мыслей, я не мог не перенести свою научную работу на
другие позиции, в корне отличающиеся от прежнего
периода, когда я был последователем философии Нисида.
Я не собираюсь отбросить философию Нисида целиком,
хотя истина, которая прежде всего должна быть
усвоена,— это уже не философия Нисида, а марксистский
150
материализм и голос мировой пролетарской массы. Моя
работа «Основной вопрос марксистской философии>
чрезвычайно трудна для понимания, я еще далеко не
преодолел в ней категории философии Нисида, и от них я
должен как-нибудь освободиться. После этой статьи я
написал еще «Десять лекций по диалектике» и «Этику». И хотя
над этими работами я значительно потрудился, но если
к ним подойти как к философским произведениям для
широких масс, то следует признать, что тяжелый
философский стиль и здесь еще не преодолен. И это вовсе не
проблема формы, литературного мастерства или стиля, а
коренной жизненный вопрос. В понимании диалектического
материализма я еще не совсем последователен. Мне
необходимо мужество, чтобы окончательно стать
последовательным материалистом. Я все еще испытываю какое-то
беспокойство по отношению к самому слову
«материализм». Я не изжил из себя идеализм до конца в том
смысле, что чувствую потребность внести в свою теорию
некоторые категории идеализма. Все сказанное,
разумеется, не значит, что я стал «материалистом» в худшем
смысле этого слова. Сегодня такими «материалистами»
прежде всего являются богачи, священнослужители и
другие паразиты капиталистического общества, но они не
материалисты в философском смысле.
Философы-материалисты решительно не являются рабами вещей. Можно
сказать, что сегодня только они беспощадно борются,
чтобы уничтожить зависимость людей от вещей. Затем
необходимо сказать, что именно материалисты,
вдохновленные поистине высокими идеями, восстали против
современной действительности и ведут против нее суровую
борьбу. Именно они, будучи последовательными
материалистами, являются совестью мира и обладают наивысшей
моралью, моралью борьбы за исторические задачи
освобождения нищего и угнетенного народа. И несмотря на
это, их считают грубыми материалистами, людьми без
идеалов, рассматривают их как банду, которая применяет
насилие для достижения своих корыстных целей. Такие
предрассудки не полностью искоренены, очевидно, из
моего сознания, и я испытываю некоторые колебания,
чтобы самому назвать свою философию материализмом.
Нельзя сказать, чтобы в этом не было некоторой доли
вины и самих материалистов: чрезмерное подчеркивание
первенства материи над духом, чрезмерное подчеркивание
и*
151
первичности материи, в некоторых случаях приводящее
к пренебрежительному отношению к идеям, идеалам и
морали, слишком резкие нападки на реакционность
священников, решительное отрицание религии как таковой.
Я принимаю все основные положения материализма и не
могу не преклоняться перед их истинностью. Но из этого
не следует, что я могу пренебречь важным практическим
значением, которое имеют идеалы и идеи. Ошибкой
прежних идеалистов являлось то обстоятельство, что они
отрывали свою теорию от конкретных материальных
общественно-экономических условий и рассматривали эти идеи
в качестве вечных и абсолютных. Идеи сами по себе ни в
коем случае не являются бессмысленными. Истинный
реализм должен быть связан и на деле всегда связан с
высоким идеалом отрицания действительности, ее изменения.
Коммунисты владеют высшей общественной идеей
отрицания и преодоления современного капитализма. Сегодня
только коммунисты обладают таким высоким сознанием,
такими твердыми убеждениями. Люди, имеющие
отношение к буржуазной идеологии, будь то министр или доктор
наук,— все они утратили уверенность в себе и объяты
тревогой. Это хорошо, что материалисты изгоняют всякого
рода идеалистические «измы». Однако было бы
неправильно в результате этого пренебрегать идеями и
идеалами. Но материалисты и не относятся пренебрежительно
к идеям.
То же самое можно сказать о религии. Конечно, и в
прошлом и теперь многие проповедники религии являлись
и являются реакционерами и не имеют научного
понимания общественной действительности. Но на этом
основании нельзя отрицать религию и полагать, что в
коммунистическом обществе не будет религии. Я не признаю ни
христианства, ни буддизма в таком виде, как они теперь
существуют. Я думаю, что в этих религиях имеются как
неубедительные антинаучные положения, так и
антиобщественная направленность. Но независимо от этого нельзя
отрицать некую величественную энергию, которая
действует помимо нашего сознания в основе мироздания.
Возможно, что материалисты это и называют материей. Ну
что ж, материя так материя. Если это так, то я молча
преклоняюсь перед ней и больше ничего другого не
чувствую. Я с полной скромностью становлюсь перед ней на
колени. Но дальше я чувствую источник жизни, из кото-
152
рого рождается энергия жестокой борьбы за освобождение
пролетариата. Такая вера в этот источник мира,
благодарность к этому источнику не исчезнет и тогда, когда
построят коммунистическое общество. А скорее всего, что это
чувство будет осознаваться все более и более глубоко.
И сколько бы мне ни говорили, что это не так, что это
чувство совершенно неверное, что это остаток прошлого
идеализма, что это пережиток мистицизма, в настоящее время
все эти доводы меня не убеждают.
Вот почему до сих пор я не решаюсь всецело назвать
себя материалистом. К тому же, во мне еще остаются
пережитки философии Нисида, которой я занимался на
протяжении долгого времени. Возможно, меня считают
одновременно и последователем философии Нисида и
материалистом, чем-то средним между ними. И, действительно,
хотя я и подверг себя глубокой самокритике в связи с
философией Нисида, но еще не успел преодолеть основные
концепции этой философии. Возможно, что это и не
удастся мне до конца моей жизни. Но непреложен тот
факт, что в настоящее время пусть очень медленно, шаг
за шагом, но я двигаюсь к материализму и уже сегодня
осмыслил сущность почти всех основных положений
философии Нисида с позиций диалектического материализма.
Можно оказать, что в нашей стране я единственный
человек из левого крыла последователей философии Нисида,
который пытается переделать эту философию с позиций
диалектического материализма. И если подойти к вопросу
с этой точки зрения,, то, пожалуй, будет ближе к истине
сказать, что я являюсь скорее диалектическим
материалистом, чем последователем философии Нисида. Я теперь
не пытаюсь критиковать диалектический материализм с
позиций философии Нисида, а, наоборот, стараюсь
философию Нисида критиковать с позиций диалектического
материализма.
Я обычный гуманист. Мой поворот является поворотом
от гуманизма к материализму или, лучше сказать, от
буржуазного гуманизма к пролетарскому гуманизму.
Принято утверждать, что у левых не хватает гуманизма. Я,
однако, думаю иначе. Я убежден, что в современном мире
подлинный гуманизм — это только пролетарский
гуманизм. Что касается буржуазного гуманизма, то он не
более как салонный гуманизм для привилегированных
классов, который не может ни в какой степени быть гуманиз-
153
мом для масс. В этом отношении, мне кажется, есть много
такого, что мы особо внимательно должны изучать,
перенять у Коммунистической партии Китая. Мне кажется, что
прежде чем достигнуть сегодняшних успехов,
Китайская коммунистическая партия много раз терпела
поражения и уже на основании этого тяжелого опыта
создала новую пролетарскую мораль. Но мы должны
правильно использовать опыт других государств на основе
нашей будущей практики. Мы сегодня посвящаем всю
свою жизнь движению за мир, которое поднимается среди
народа во всех концах нашей страны. И мы, принимающие
участие в этом движении, должны учиться у народа тому,
чему следует учиться. Без морали, имеющей в своей
основе гуманизм, развитие движения масс было бы
совершенно невозможно. Движение, которое не имеет
фундамента в массах, как бы оно ни было правильно
теоретически и прогрессивно по своему существу, никак не может
быть движущей силой истории. Сегодня движение
пролетариата всячески подавляется, а движение за мир
подвергается всяческим преследованиям. Но в результате этого,
вернее вопреки этому, люди ясно и глубоко познают на
деле сущность капиталистического господства, искренне
задумываются над тем, как защитить мир и освободить
пролетариат, и тем самым воспитывают в себе энергию,
необходимую для создания нового общества. Среди них
нахожусь и я. Теперь мне не приходится печалиться о своей
личной судьбе. Мне осталось жить уже немного. Однако
общество не зависит от судьбы отдельных людей и
обязательно будет развиваться только в определенном
направлении. Это будет крах фашистской капиталистической
системы, которая внутри государства угнетает пролетариат,
а в международном масштабе порабощает и угнетает
малые и слабее народы и на основе милитаризма организует
мировые войны. Вслед за этим на основе объединения
всего пролетариата возникнет новое, социалистическое
общество, которое покончит с эксплуатацией и колонизацией,
с корнем вырвет источник войн. Может быть, я не доживу
до того дня, когда смогу увидеть этот новый мир. Но
ничего. Теперь у нас еще ночь. Ночь темна. Очень трудно
разглядеть в этой тьме свет. Но, несомненно, рассвет
близок. Бьет последний час капитализма. Для пролетариата
наступает утренняя заря.
ЯНАГИДА КЭНДЗЮРО
Читатель! Ты только что закончил последнюю страницу
искренней и взволнованной повести японского ученого о
его долгом и тяжелом пути в поисках истины и
справедливости, которые принесли бы японскому народу подлинное
счастье. Заключительные слова повести проникнуты
глубокой верой в победу светлого будущего Японии.
Но после чтения книги возникают еще многие вопросы.
Прежде всего, представляет ли Янагида в своей
эволюции от идеализма к марксистскому материализму
единичный случай или же это растущее направление в
философии современной Японии — показатель огромного
перелома в умах японской интеллигенции?
В идейной и культурной жизни послевоенной Японии
бросается в глаза распространение марксистских идей
среди передовой, демократически настроенной
интеллигенции. Об этом говорит не только рост издания марксистской
литературы, но и то, что появляется большое количество
оригинальных работ японских авторов по вопросам
истории, экономики, философии, в которых с марксистских
позиций освещаются проблемы современной Японии,
а также подвергаются критике господствующие в стране
идеалистические теории.
В то время как в довоенной Японии преобладали
антинаучные методы подхода к общественно-политическим
событиям прошлого, когда в угоду правящим классам факты
истории извращались в духе официальной реакционной
идеологии, теперь, под влиянием небывалого в истории
Японии подъема демократического движения в борьбе про-
155
тив американо-японской реакции, среди широких научных
кругов страны проявляется тенденция к подлинно
научному анализу, основанному на материалистическом
понимании истории.
Интересно и то обстоятельство, что японские ученые
стремятся поставить науку на службу своему народу.
Книга Кэндзюро Янагида «Эволюция моего
мировоззрения» представляет глубокий интерес в том отношении,
что здесь вскрыты те сложные процессы, которые
происходят в сознании многих честных, мыслящих и
мужественных ученых капиталистического мира. Подлинно научное,
объективное изучение современной истории неизбежно
приводит к выводу о победе нового, о победе социализма
над капитализмом. Пытаться приостановить закономерный
ход истории — безрассудно, писал Янагида в другой своей
книге («Мое путешествие в истину»), и единственно, что
может принести человечеству такая попытка — увеличение
несчастий.
Кэндзюро Янагида в течение многих лет был
убежденным последователем реакционной идеалистической
философии Китаро Нисида. Философская система Нисида
окончательно сложилась к 1915 году и с тех пор
представляла господствующее философское направление в
Японии, известное под названием Киотоской школы. Эта
философия являлась теоретической основой шовинизма и
милитаризма в политике господствующих классов.
Философия Нисида по своему теоретическому содержанию
эклектична. Она сочетает в себе западноевропейский
субъективный идеализм с наиболее реакционными
идеалистическими теориями Японии прошлого. Выдвигая свой
тезис о «чистом опыте», Нисида по существу перепевал
философию Фихте и других субъективных идеалистов.
Значительное влияние на мировоззрение Нисида оказал также
Гегель, у которого тот заимствовал самые реакционные
положения.
Из последователей Нисида на крайне правом крыле
находился реакционер Танабэ, который скатился на
позиции прямого мракобесия, а представителем левого крыла
был Янагида. От этой школы Янагида отходит в начале
1944 года. Это случилось после того, как для него стало
ясно, что его статьи независимо от его личных намерений
служат теоретическим оправданием милитаризма и
шовинизма правящих классов Японии. Но теоретически преодо-
156
леть идеалистическую философию Нисида ему удалось
значительно позже.
В результате разгрома японского милитаризма в
Японии стала наблюдаться небывалая активность
демократических сил в борьбе против американо-японской реакции.
Коммунистическая партия фактически впервые за свою
историю получила возможность легальной работы. В
течение 1946 года и первой половины 1947 года происходили
невиданные прежде грандиозные народные демонстрации,
руководимые Коммунистической партией Японии.
Требования, выдвинутые Компартией и широко поддержанные
народом,— ликвидация -монархии, конфискация
паразитической собственности на землю и передача земли
крестьянству, установление народного контроля над
монополистическим капиталом, создание народно-демократической
республики.
В это время Янагида начинает сомневаться в
исключительной истинности философии Нисида. В книге
«Идеализм и материализм», написанной осенью 1947 года, он
пытается объективно рассмотреть как идеализм, так и
материализм, с тем чтобы объединить, как он полагал,
лучшие стороны обоих направлений в философии и создать
новую философию, которая указала бы правильный путь
развития японскому народу. Тогда же он заканчивает
издание своего труда «Система философии Нисида».
Но уже в 1950 году Янагида впервые выступает в
печати с критикой философии Нисида. Это вызывает резкие
нападки со стороны его прежних друзей по философской
школе. Как бы в ответ на эти нападки в предисловии ко
второму изданию книги «Идеализм и материализм»
(1951 г.) Янагида заявляет, что если в 1947 году он считал
себя выше и материализма и идеализма, то теперь он
скорей всего материалист. Это заявление Янагида получает
свое подтверждение в опубликованном в марте 1952 года
новом его труде «Современная практическая философия».
В большом предисловии к этой работе Янагида стремится
поставить на службу японскому народу новые
философские взгляды, почерпнутые им из марксистской
литературы. В этой книге автор выступает сознательным борцом
против войны, национального и классового гнета,
связывая решение всех этих проблем с необходимостью
ликвидации капитализма. Янагида полностью осознал важность
задачи выработки и пропаганды классового пролетарского
157
мировоззрения. «Необходимо,— пишет он,— чтобы все
порабощенные и угнетенные в целях завоевания своей
независимости и свободы с корнем ликвидировали свое старое
рабское сознание подчинения господствующим лицам и
прочно встали, опираясь на собственные силы. В этом
именно смысле для нашей эпохи и для нашей нации нет
более важной проблемы, чем проблема классового
самосознания пролетариата. Такую сознательную классовую
позицию часто называют односторонней и критикуют ее. Но
не следует забывать, что в действительности искажают
современную историю именно господствующие классы. Нет
«среднего» пути. В современном обществе, где так
обострены классовые противоречия, если примирить интересы
буржуазии и пролетариата, то от этого непременно
выиграет только буржуазия».
Янагида, как один из организаторов движения за мир
в стране, принимает активное участие в общественной
жизни Японии, в частности тесно соприкасается с
молодежными организациями. В августе 1951 года специально
для молодежи он пишет книгу «Эволюция моего
мировоззрения». Работая над этой книгой, Янагида исходил из
того, что его рассказ о том, как после долгих и
мучительных поисков истины он пришел к научному материализму,
поможет японской молодежи гораздо лучше любого
социологического трактата.
В этой книге мы уже имели возможность проследить
весь путь автора вплоть до 1951 года. Говоря о своих
воззрениях периода работы над книгой, Янагида писал, что
хотя он и критикует философию Нисида с позиций
диалектического материализма, но пока не может назвать
себя материалистом, поскольку он еще не успел
преодолеть остатки своего прошлого идеалистического
мировоззрения.
Следующий крупный шаг в преодолении
идеалистического мировоззрения и окончательного перехода в лагерь
материализма Янагида сделал в работе «Мое
путешествие в истину», написанной в конце 1954 года, спустя
3 года после выхода в свет «Эволюции моего
мировоззрения».
Книга «Мое путешествие в истину» написана в форме
путевых заметок, сделанных во время путешествия автора
по странам Европы и Азии, длившегося почти 3 месяца —
с мая по август 1954 года. Янагида Кэндзюро в качестве
158
члена японской делегации сторонников мира принимает
активное участие в работе Чрезвычайной сессии
Всемирного Совета Мира в Берлине и международной
конференции по ослаблению международной напряженности в
Стокгольме, а по пути знакомится с жизнью и
достижениями народов двух ведущих стран социалистического
мира — Советского Союза и Народного Китая. Будучи еще
в Москве, он обратился по радио к японскому народу,
разоблачая ложь официальной пропаганды, мешающей
трудящимся Японии познать подлинную правду о жизни
народов Советского Союза и нового Китая.
В конце книги автор в следующих семи пунктах
подводит итоги своему «путешествию в истину»:
1. Противоречия между Советским Союзом и США
пытаются представить как причину якобы неизбежной
новой мировой войны. Но это серьезная ошибка.
Противоречия между этими странами — это противоречия между
силами войны и силами мира. Мир во всем мире
поддерживается не какой-то «третьей силой», а
социалистическими государствами, объединившимися с другими
миролюбивыми народами мира. Мирное сосуществование
означает не только дружбу между Советским Союзом и
Китаем, но и дружественные взаимоотношения японского
народа с народами Америки и Советского Союза. Но это
вовсе не означает, что мы склоняемся перед
поджигателями войны и пожимаем им руки. Мирное
сосуществование немыслимо без разоблачения замыслов поджигателей
войны.
В специальном примечании Янагида разоблачает
лживые обвинения Советского Союза и Китая в
милитаризме, показывает, что в этих государствах военная
подготовка ведется только в интересах обороны и
сохранения мира.
2. Янагида разоблачает ложь реакционной пропаганды
о железном занавесе и об устрашающей политике, якобы
осуществляемой в странах социализма. Автор
подчеркивает, что подобного рода пропаганда рассчитана на то,
чтобы запугать народ и тем самым поддержать
дальнейшее существование капиталистической системы
эксплуатации. На самом же деле нельзя найти ни одной страны
в лагере капитализма, которая бы так же, как страны
социализма, заботилась о счастье для народа и о мире.
Отсюда видно, что именно социалистическая государственная
159
система соответствует идеям гуманизма и демократии.
Мировая история стремительно движется по направлению
к социализму. И если противодействовать этому
движению, пишет Янагида, то настанет насильственная
революция.
3. Раньше в Японии говорили, что западная
цивилизация переживает кризис и что единственным ее спасением
является восточная духовная культура. Янагида
показывает, что это результат исключительно кичливого
самомнения. В тупик зашел не Запад, а капитализм. Единственный
путь разрешения противоречий капитализма — это
пролетарская революция. Доказательством могут служить
успехи Советского Союза, Китая и других стран,
прошедших через пролетарскую революцию.
4. В этом пункте Янагида останавливается на личном
вопросе. Он напоминает, что раньше он далеко стоял от
политики, поскольку презирал политиканов за их
моральное разложение, и гордился тем, что не принимает участия
в политике. Но когда он побывал в Советском Союзе и
Китае, то убедился, что вряд ли есть еще другая такая
сила, как правильная политика, которая бы так сильно
изменяла людей, вела их к счастью. И, поняв это, он очень
остро почувствовал свою прежнюю ошибку. Личные дела
ни в какое сравнение не идут с правильной политикой,
поскольку первые не имеют никакой связи с исторической
практикой. Отрыв от исторической практики то и дело
приводил его то к буддизму, то к отшельничеству, то к
спиритуализму. Необходимо отбросить идеалистическую
практику отрыва морали от политики и все свои силы
отдать делу преобразования общества. Нет ничего опаснее,
как доверять политику политиканам.
5. Советский Союз и Китай, отмечает Янагида,
несомненно, имеют недостатки. Но, обнаружив эти недостатки,
кричать «Смотрите на это!» могут только реакционеры.
Люди прогрессивные должны учитывать эти недостатки,
чтобы в будущем построить еще более прекрасную жизнь.
Собираясь строить новое общество, не следует забывать
учиться у социалистических стран.
6. Говорят, что в коммунистических странах нет
свободы. Да, там нет свободы эксплуатировать народные
массы в интересах наживы незначительного меньшинства,
там нет свободы разжигания войны, убийства людей,
захвата чужих стран. Единственная «свобода», которая не
160
разрешается в этих странах,— это свобода делать
несчастными трудящиеся массы.
В Японии же почти все лишены подлинной свободы
из-за безработицы и трудностей жизни. Мы живем в таком
обществе, где даже участие в движении за мир грозит
людям опасностью оказаться без работы.
7. Сколько бы ни возрастала мощь Советского Союза
и Китая,— это не может принести несчастья японскому
народу. Угрозу в развитии Советского Союза могут
чувствовать для себя только привилегированные,
господствующие классы. Для них, пожалуй, действительно
развитие Советского Союза и Китая является делом
опасным. Однако трудящиеся массы здесь ни при чем.
Социалистические государства являются последовательными
друзьями бедных людей.
В книге «Мое путешествие в истину» Янагида
поднимает не только политические вопросы. Он делает
обобщающие выводы о борьбе материализма и идеализма в
современной Японии:
«...Грандиозное здание идеалистической философии
Нисида, не выдержав испытаний исторических событий
последних лет, рухнуло, с тем чтобы вскоре после
окончания войны совсем сойти с исторической сцены. Эта
философия пришла к краху в силу того, что она давала повод
к оправданию захватнической войны, начатой
господствующими в стране империалистами.
Крах философии Нисида означал крах всей
идеалистической академической философии. Правда, в настоящее
время в какой-то части общества обломки этой философии
продолжают еще свое существование, но эти обломки
находятся уже далеко в стороне от главного течения
общественного и исторического развития Японии.
На место развалившейся идеалистической философии
пришла новая, марксистская, материалистическая
философия, которая владеет умами нашей молодежи. Это и
понятно, ибо, чем более обостряются социальные
противоречия в оккупированной чужеземными войсками стране,
тем яснее становится для широких масс правда
диалектического материализма».
Далее Янагида разъясняет, что на путях развития
материалистической философии в Японии воздвигаются
большие препятствия. Но материализм глубоко связан с
исторической действительностью, подчеркивает он, и ни-
161
что не в силах остановить дальнейшее распространение и
развитие его.
В настоящее время Янагида продолжает свою
большую творческую работу. В первой половине 1957 года
выходит его книга «Философия истории», а к осени этого
же года он рассчитывает закончить работу над
следующим своим произведением — «Проблема свободы».
Кэндзюро Янагида не является коммунистом, но
деятельность коммунистической партии он высоко ценит.
«Именно они, коммунисты, являются совестью нации,
разумом мира»,— пишет он в своей книге «Эволюция моего
мировоззрения», книге глубоко поучительной как в смысле
знакомства с жизнью современной Японии и
происходящей там идеологической борьбой, так и в смысле еще
одного доказательства правильности и силы марксистско-
ленинских идей.
Эволюция Кэндзюро Янагида от идеализма к
марксистскому материализму — путь тех передовых ученых
капиталистического мира, которые, обобщая исторические
события современности, мужественно и честно порывают
со своими идеалистическими предрассудками и в тесной
связи с народом борются за светлое будущее.
Л. Шахназарова
ОГЛАВЛЕНИЕ
К русскому изданию книги «Эволюция моего мировоззрения» 3
Предисловие 5
Глава первая. Дни отрочества 8
Глава вторая. Зарождающийся интерес к науке 13
Глава третья. Педагогическое училище 20
Глава четвертая. Сельский учитель 27
Глава пятая. Экзамен на звание учителя гимназии 34
Глава шестая. Директор школы 41
Глава седьмая. В Окаяма и Мориока 49
Глава восьмая. Киотоский университет 56
Глава девятая. Снова школьный учитель 64
Глава десятая. В Хиросаки. Журнал «Коро» 71
Глава одиннадцатая. Моя жизнь на острове Тайвань 77
Глава двенадцатая. Философия Нисида 83
Глава тринадцатая. Киотоская философская школа 91
Глава четырнадцатая. Смерть сына 97
Глава пятнадцатая. Уединение 104
Глава шестнадцатая. В водовороте демократического движения ПО
Глава семнадцатая. В поисках религии 116
Глава восемнадцатая- Перед лицом национальных проблем 124
Глава девятнадцатая. Самокритика по поводу философии Нисида 132
Глава двадцатая. Настоящее и будущее 143
Янагида Кэндзюро 155
ЯНАГИДА КЭНДЗЮРО
Эволюция моего мировоззрения
Редактор А. Судариков
Оформление художника Н. Симагина
Художественный редактор С. Сергеев
Технический редактор Н. Трояновская
Ответственные корректоры А. Зотова и Л. Кованова
Сдано в набор 6 марта 1957 г. Подписано в печать
28 мая 1957 г. Формат 84 X IO8V32. Физ. печ. л. 5Ve +
1 вклейка Vie. Условн. печ. л. 8,5. Учетно-изд. л. 8,55.
Тираж 50 тыс. экз. А 05127. Заказ 1066.
Цена в обложке 2 руб., в переплете 4 руб.
Государственное издательство политической литературы.
Москва, В-71, Б. Калужская, 15.
Набрано в 3-й типографии «Красный пролетарий»
Главполиграфпрома Министерства культуры СССР.
Москва, Краснопролетарская. 15.
Отпечатано в 15-й типографии «Искра" революции»
Москва.