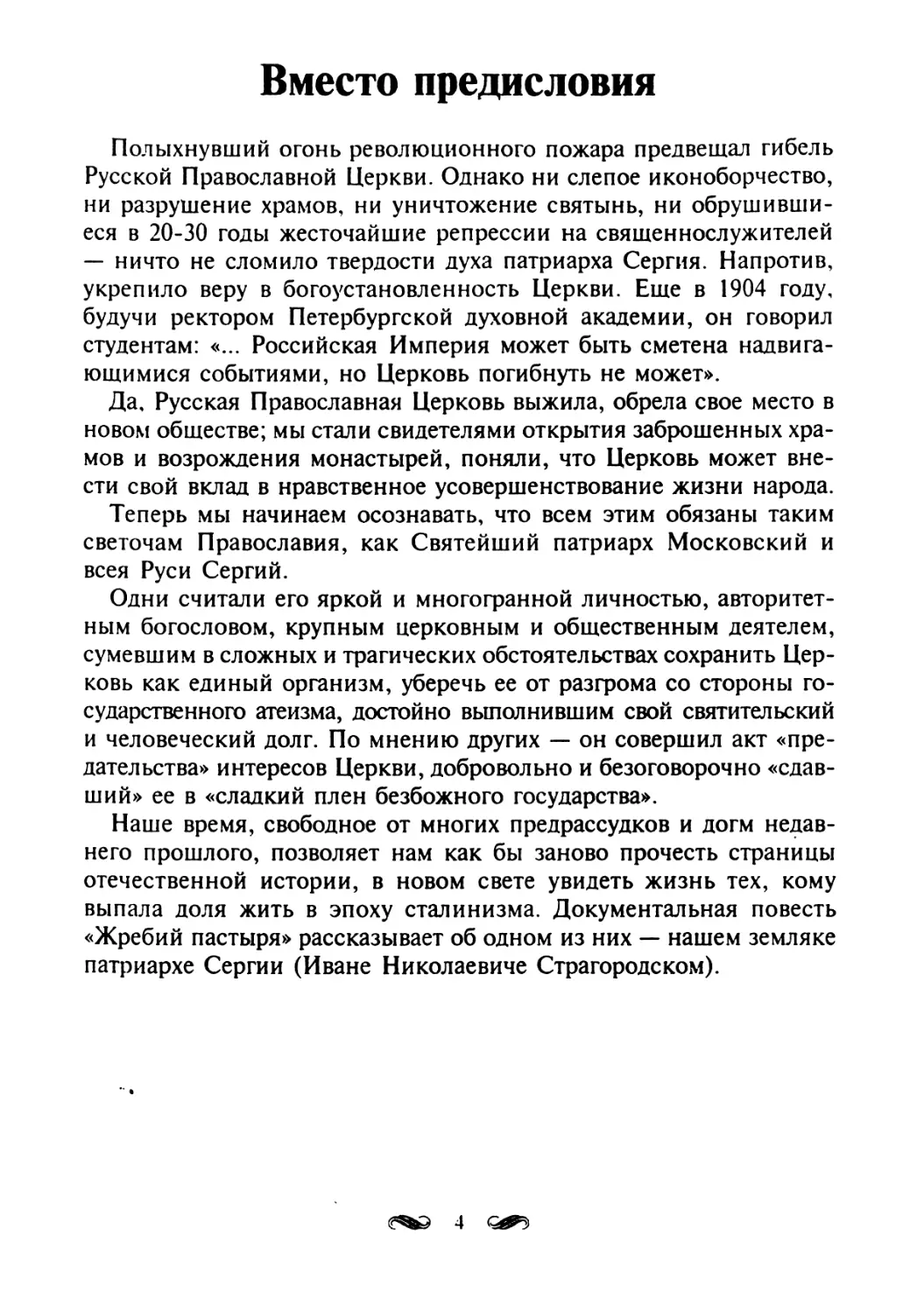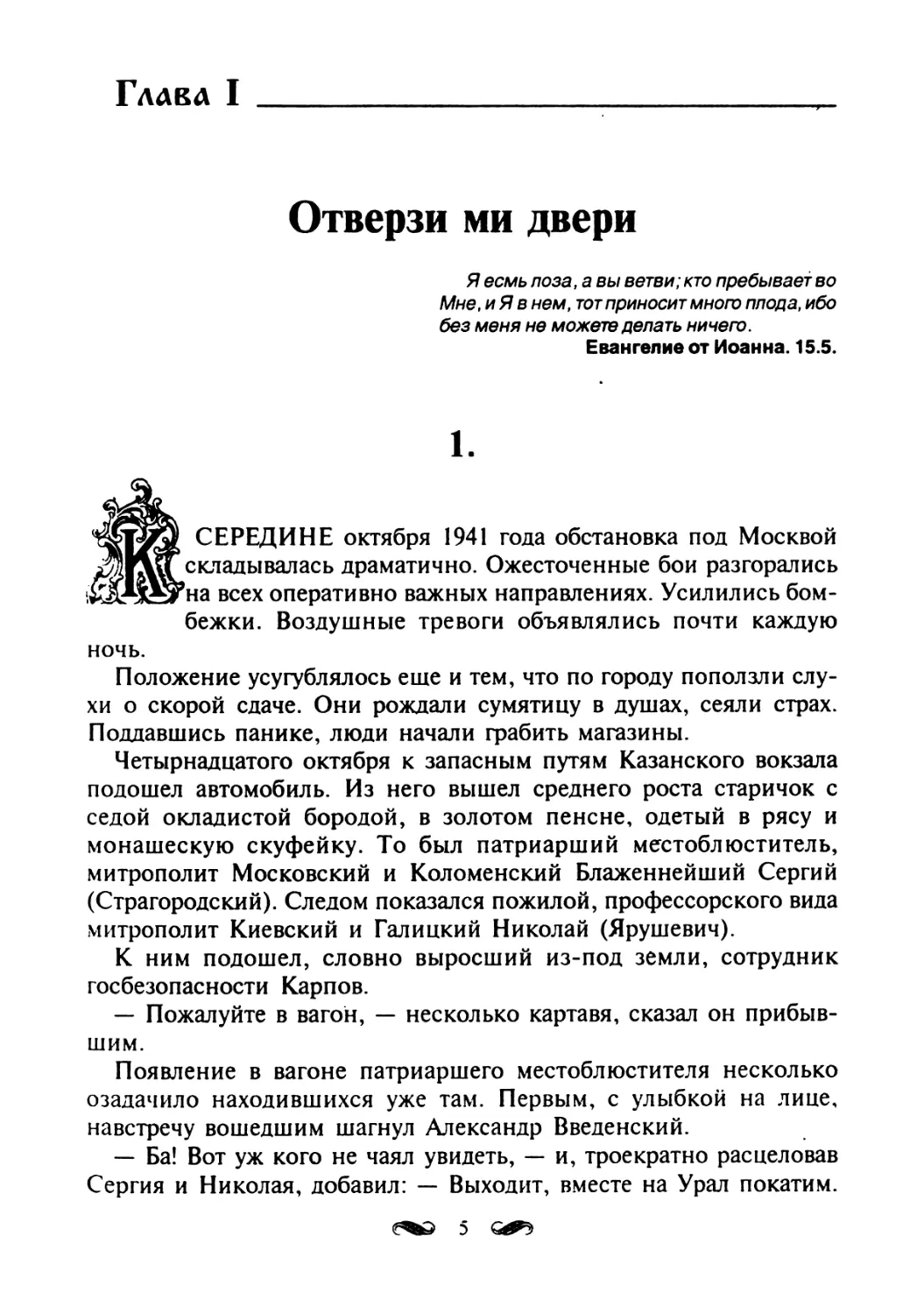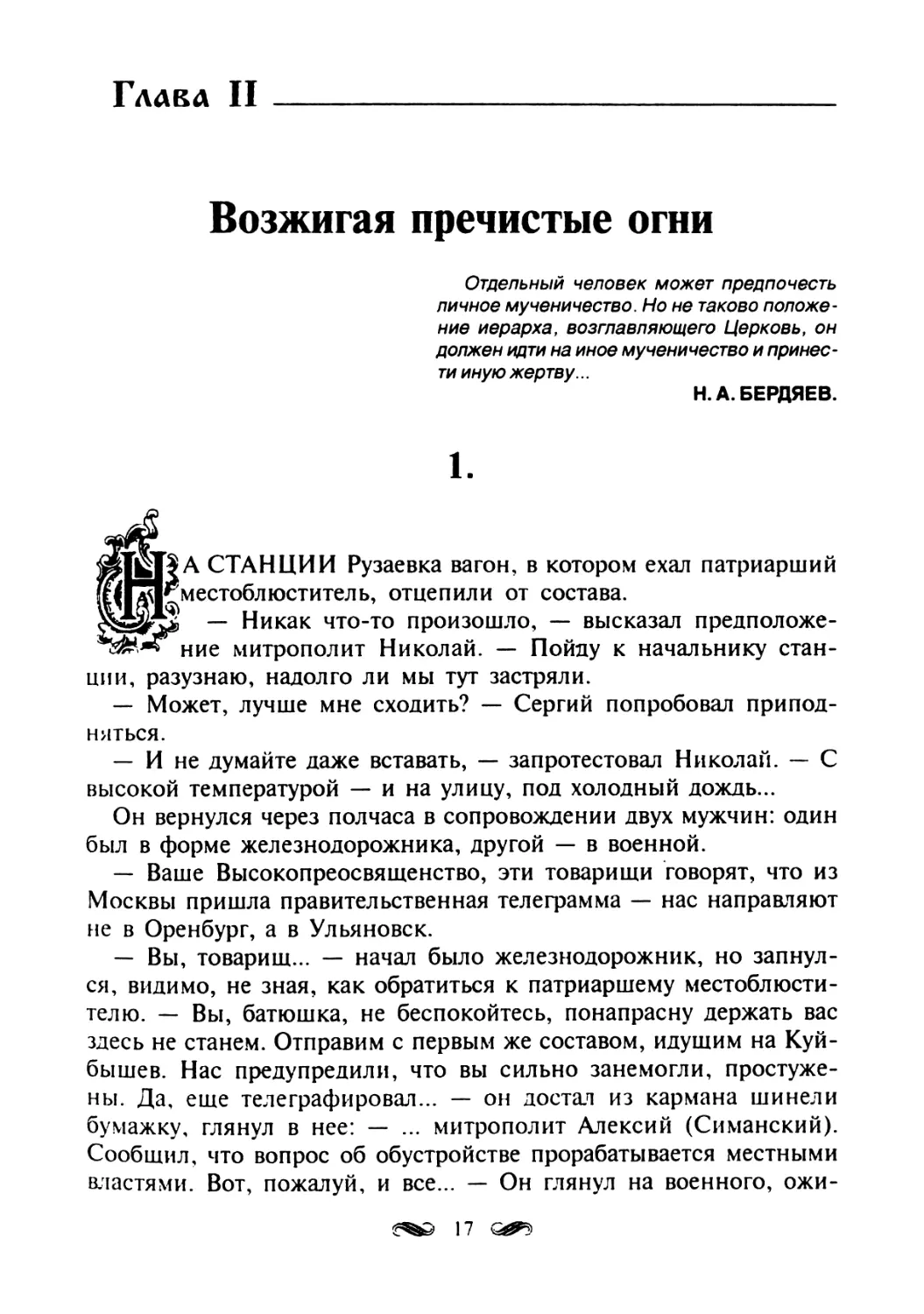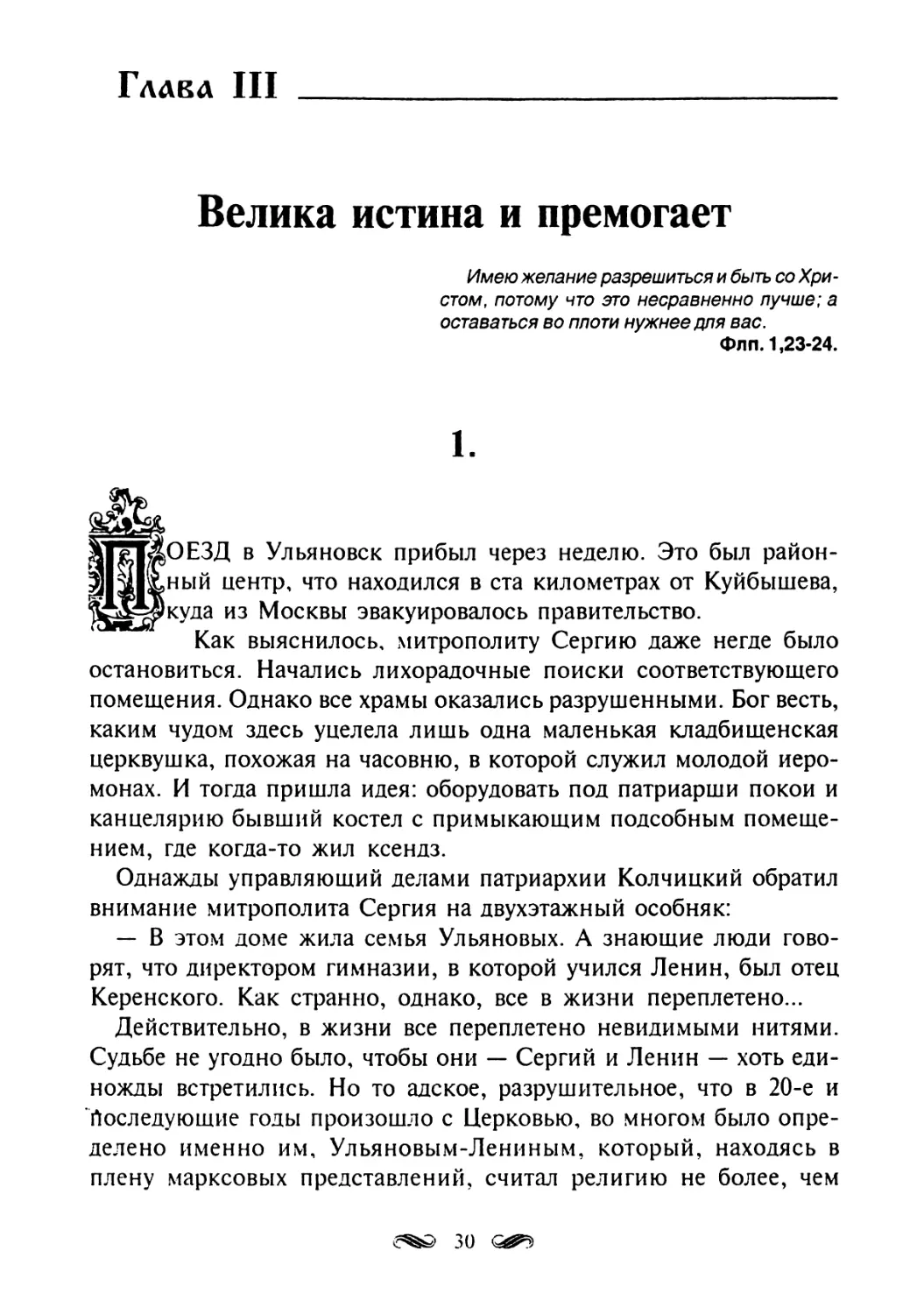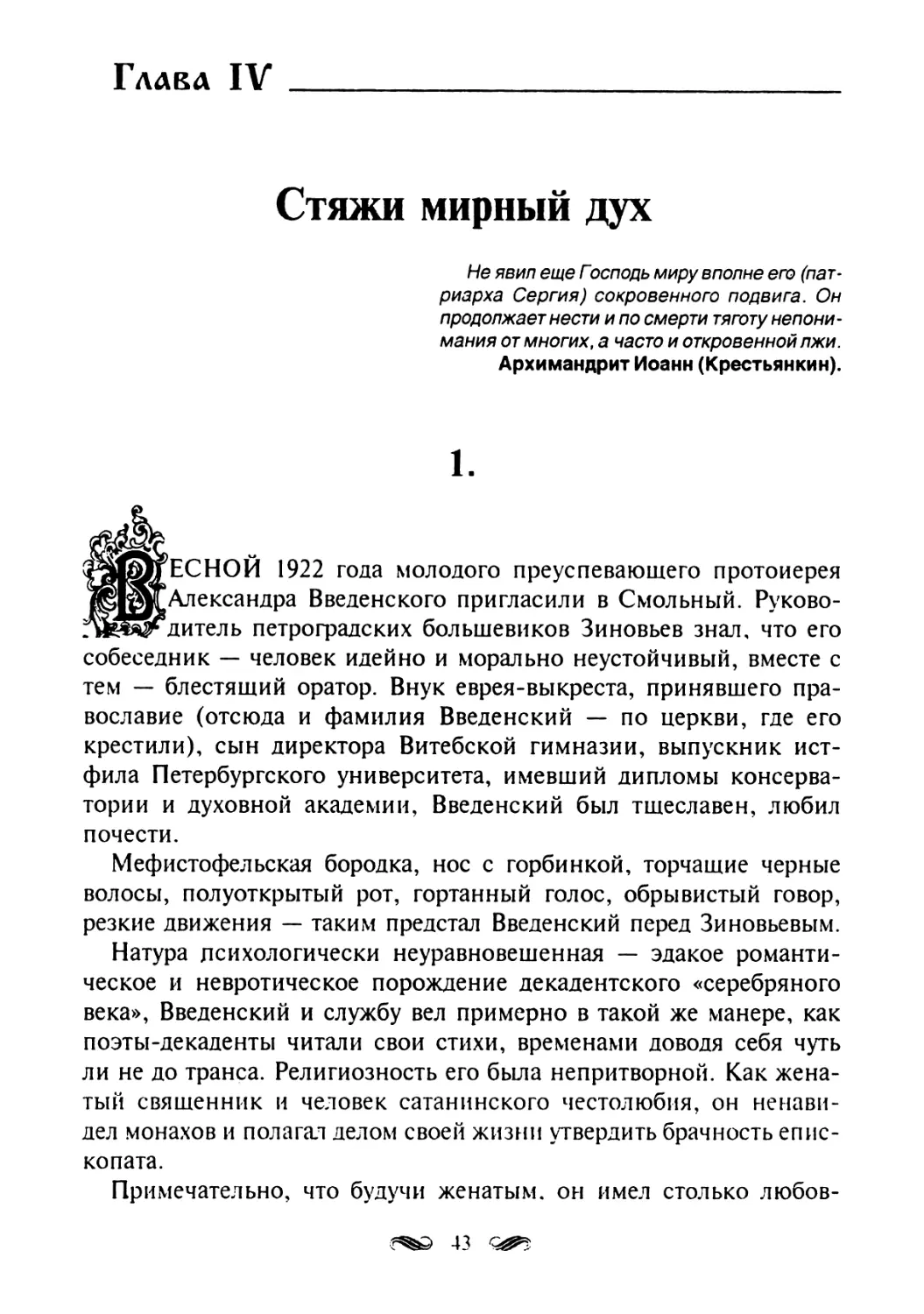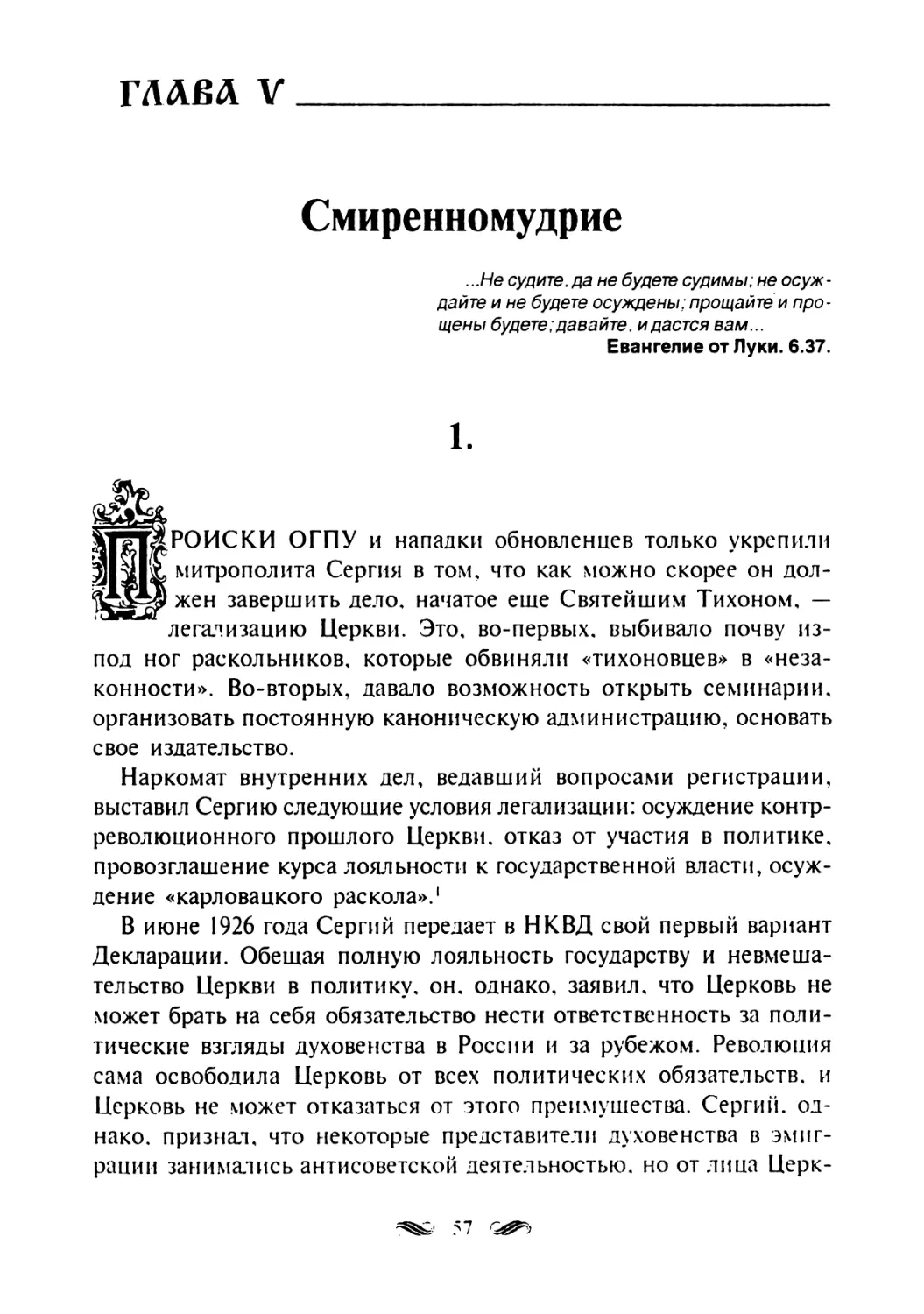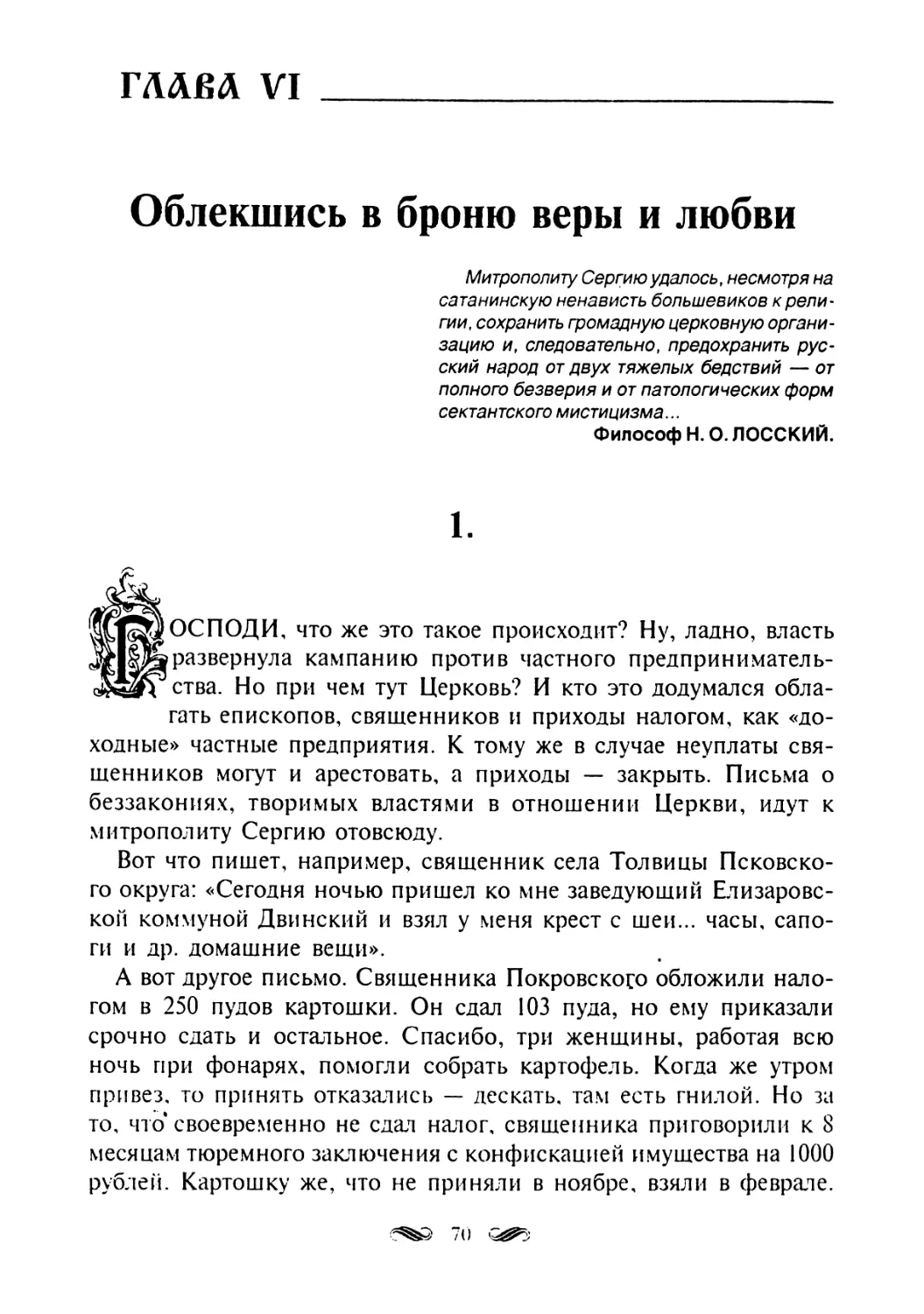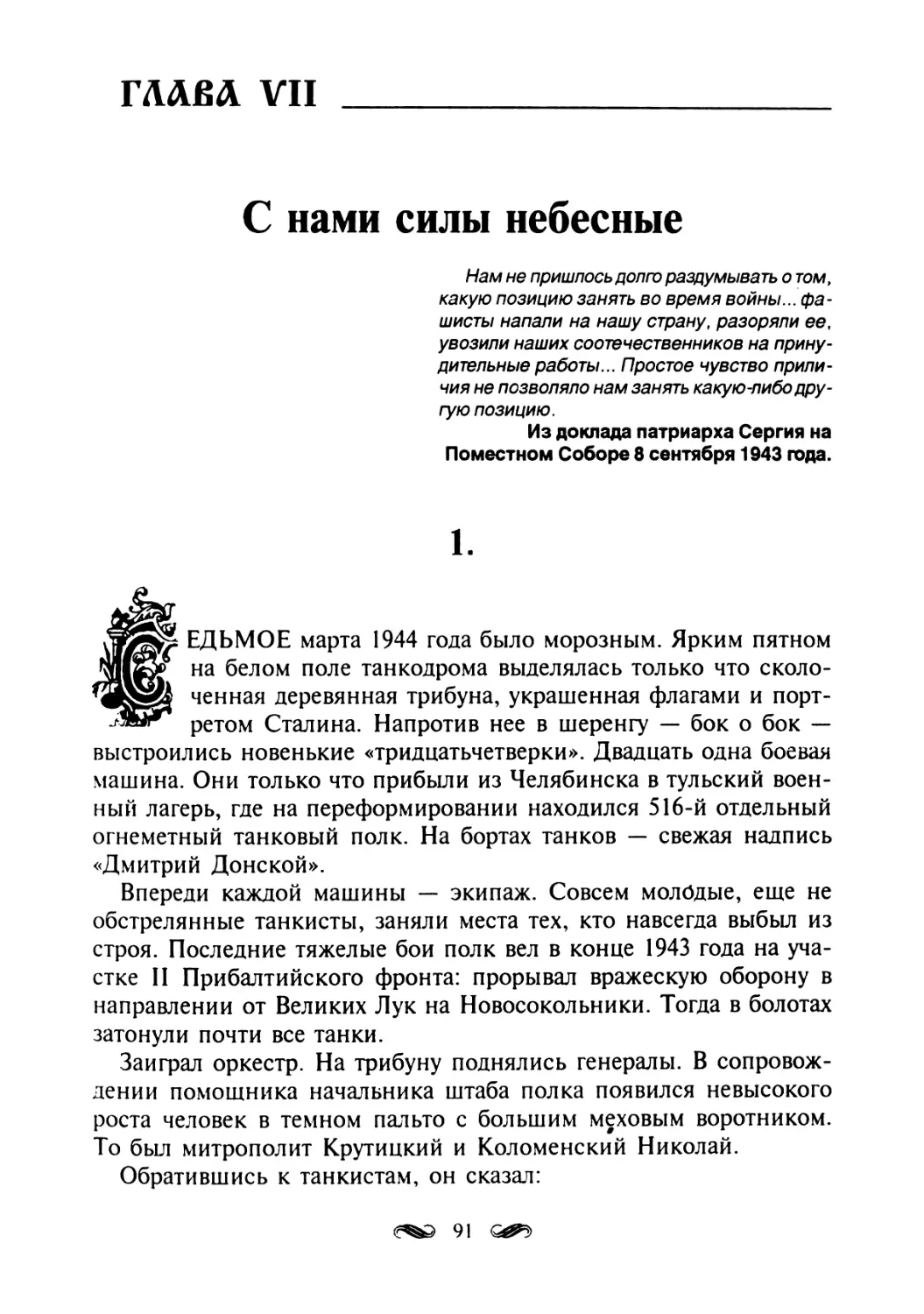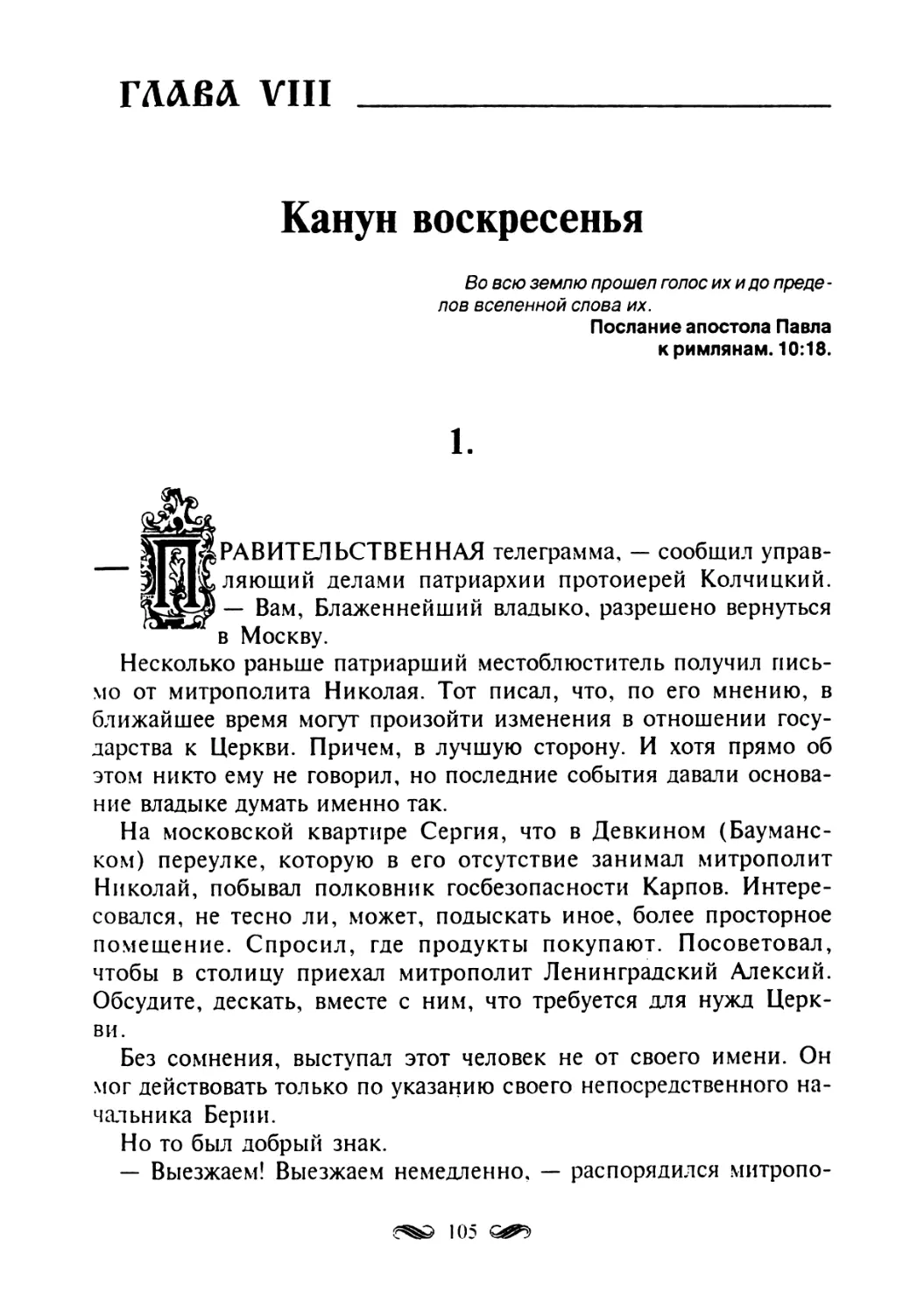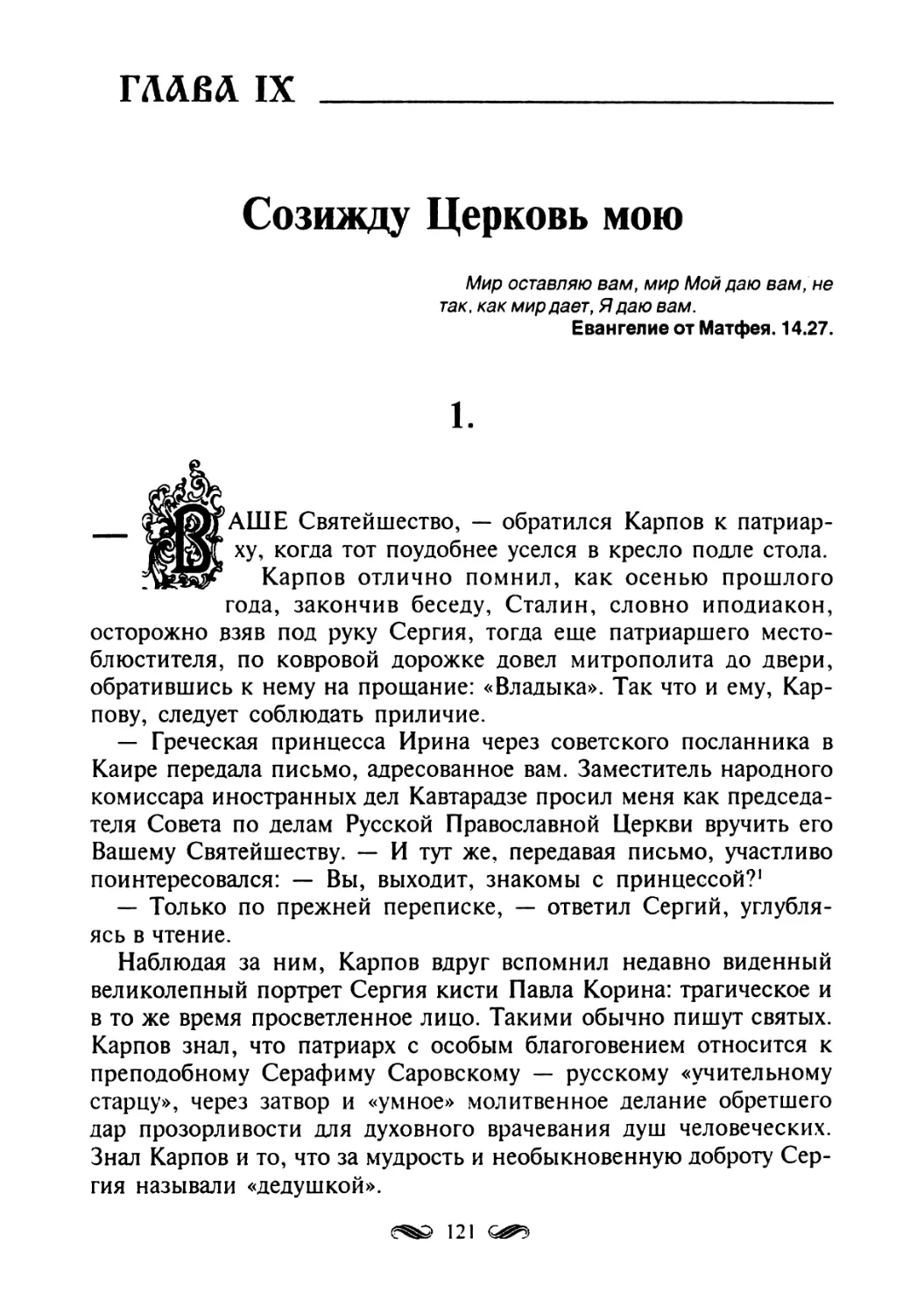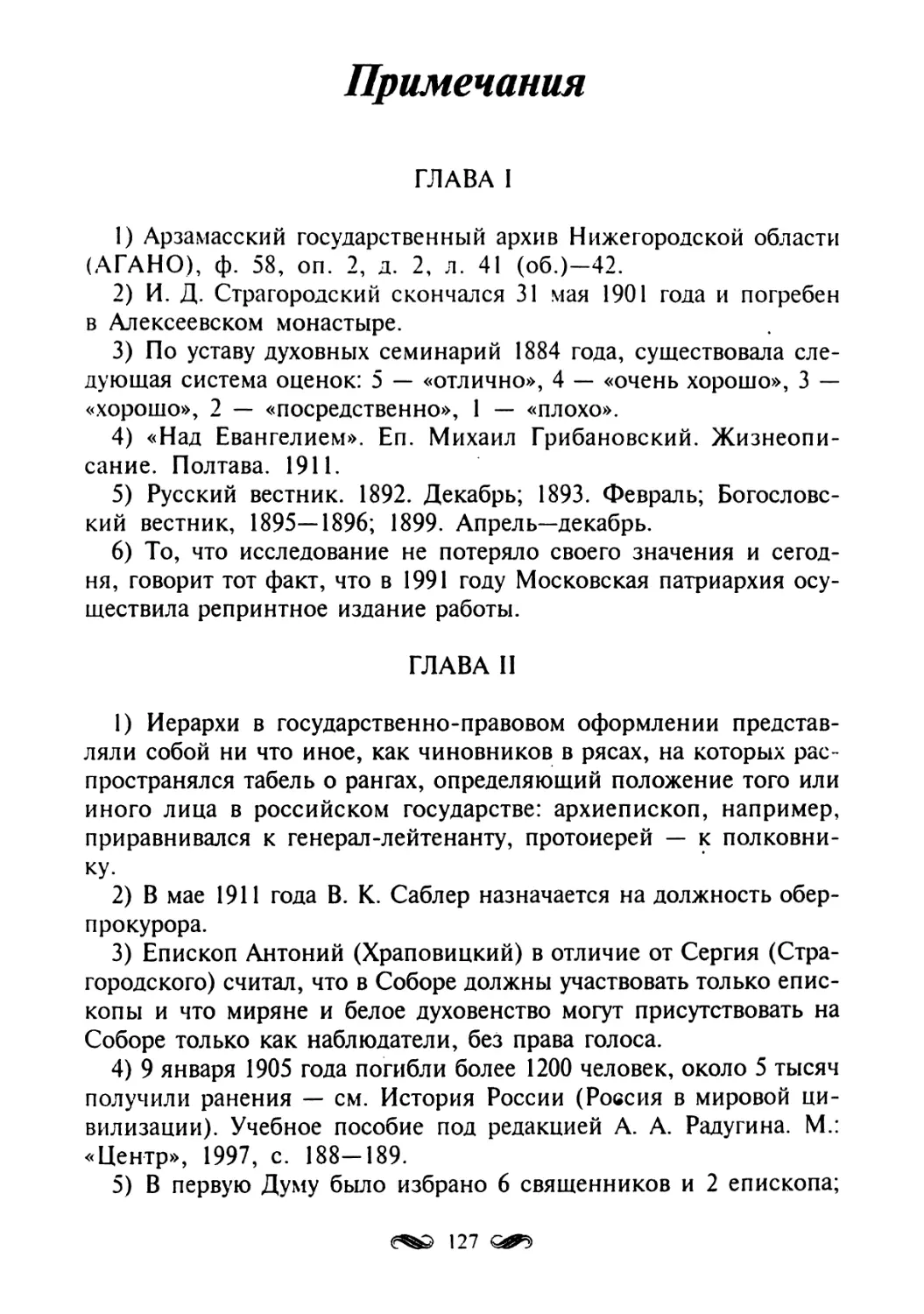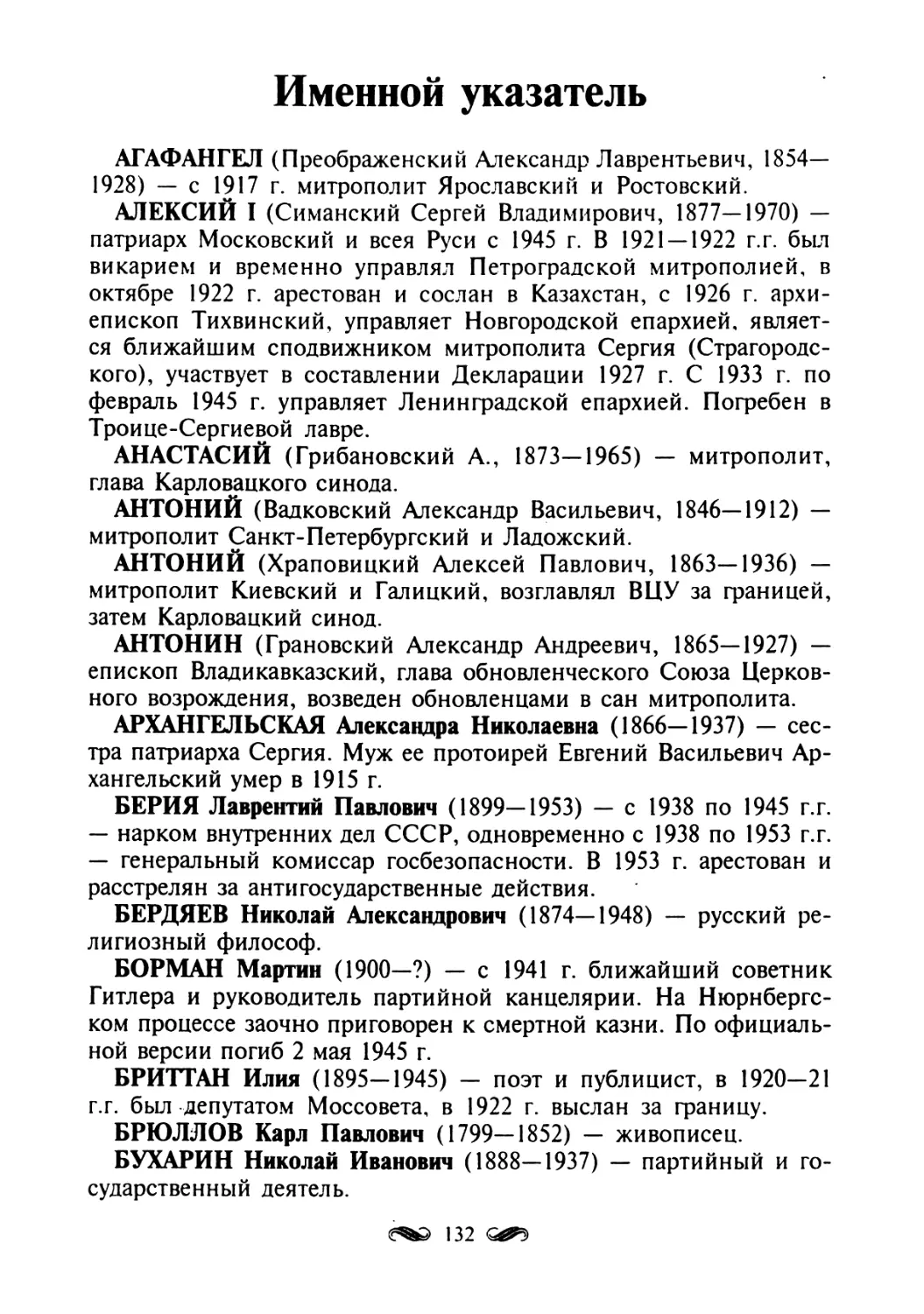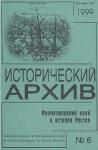Автор: Панкратов В.М.
Теги: религия православие история православной церкви
ISBN: 5-7269-0086-3
Год: 2001
Текст
Вячеслав Панкратов
Жрекий
ПАСТЫря
Документальная повесть
Пройдут годы еще, десятки, сотни лет, из-
менятся судьбы народов, изменится само
лицо земли, но до конца времен Церковь со-
хранит память Святителя (патриарха Сергия)
наряду с другими именами, которые знает
каждый христианин.
Профессор В. Н. ЛОССКИЙ.
Арзамас
2001 г.
^(.втор выражает глубокую призна-
тельность главе адлшнист рации ;Ар-
залсасского района yl. Qi. Захарову,
лсэру г. Арзамаса _?4. Qi. Мигунову, ру-
ководителялс предприятий и организа-
ций за оказанную помощь в издании кни-
ги «Жребий пастыря».
ISBN 5-7269-0086-3
ЗАО «Арзамаскомплектавтоматика»
607220, г. Арзамас, Нижегородская обл.,
Главпочтамт, а/я 10.
Лицензия на издательскую деятельность
ЛР № 066454 от 30 марта 1999 г.
Святейший патриарх Московский и Всея Руси
Сергий (Страгородский Иван Николаевич),
1867-1944 г.г.
Худ. П. Корин (1937 г.).
Вместо предисловия
Полыхнувший огонь революционного пожара предвещал гибель
Русской Православной Церкви. Однако ни слепое иконоборчество,
ни разрушение храмов, ни уничтожение святынь, ни обрушивши-
еся в 20-30 годы жесточайшие репрессии на священнослужителей
— ничто не сломило твердости духа патриарха Сергия. Напротив,
укрепило веру в богоустановленность Церкви. Еще в 1904 году,
будучи ректором Петербургской духовной академии, он говорил
студентам: «... Российская Империя может быть сметена надвига-
ющимися событиями, но Церковь погибнуть не может».
Да, Русская Православная Церковь выжила, обрела свое место в
новом обществе; мы стали свидетелями открытия заброшенных хра-
мов и возрождения монастырей, поняли, что Церковь может вне-
сти свой вклад в нравственное усовершенствование жизни народа.
Теперь мы начинаем осознавать, что всем этим обязаны таким
светочам Православия, как Святейший патриарх Московский и
всея Руси Сергий.
Одни считали его яркой и многогранной личностью, авторитет-
ным богословом, крупным церковным и общественным деятелем,
сумевшим в сложных и трагических обстоятельствах сохранить Цер-
ковь как единый организм, уберечь ее от разгрома со стороны го-
сударственного атеизма, достойно выполнившим свой святительский
и человеческий долг. По мнению других — он совершил акт «пре-
дательства» интересов Церкви, добровольно и безоговорочно «сдав-
ший» ее в «сладкий плен безбожного государства».
Наше время, свободное от многих предрассудков и догм недав-
него прошлого, позволяет нам как бы заново прочесть страницы
отечественной истории, в новом свете увидеть жизнь тех, кому
выпала доля жить в эпоху сталинизма. Документальная повесть
«Жребий пастыря» рассказывает об одном из них — нашем земляке
патриархе Сергии (Иване Николаевиче Страгородском).
Глава I
Отверзи ми двери
Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во
Мне, и Я в нем, тот приносит много плода, ибо
без меня не можете делать ничего.
Евангелие от Иоанна. 15.5.
СЕРЕДИНЕ октября 1941 года обстановка под Москвой
>^1л^Сскладывалась ДРаматично- Ожесточенные бои разгорались
на всех оперативно важных направлениях. Усилились бом-
бежки. Воздушные тревоги объявлялись почти каждую
ночь.
Положение усугублялось еще и тем, что по городу поползли слу-
хи о скорой сдаче. Они рождали сумятицу в душах, сеяли страх.
Поддавшись панике, люди начали грабить магазины.
Четырнадцатого октября к запасным путям Казанского вокзала
подошел автомобиль. Из него вышел среднего роста старичок с
седой окладистой бородой, в золотом пенсне, одетый в рясу и
монашескую скуфейку. То был патриарший местоблюститель,
митрополит Московский и Коломенский Блаженнейший Сергий
(Страгородский). Следом показался пожилой, профессорского вида
митрополит Киевский и Галицкий Николай (Ярушевич).
К ним подошел, словно выросший из-под земли, сотрудник
госбезопасности Карпов.
— Пожалуйте в вагон, — несколько картавя, сказал он прибыв-
шим.
Появление в вагоне патриаршего местоблюстителя несколько
озадачило находившихся уже там. Первым, с улыбкой на лице,
навстречу вошедшим шагнул Александр Введенский.
— Ба! Вот уж кого не чаял увидеть, — и, троекратно расцеловав
Сергия и Николая, добавил: — Выходит, вместе на Урал покатим.
Я тут с семейством, — указал он на раположившихся в купе мило-
видную. роскошно одетую блондинку, пожилую женщину в чер-
ном платье и на двух сыновей — пижонистого с усиками и другого
с рыжей бородкой, от которого несло водкой.
Сергий поежился: то ли от того, что знобило, то ли от не совсем
желательной встречи. Он поздоровался с остальными и прошел с
митрополитом Николаем в отведенное им купе.
Устроившись поудобнее. Сергий, грустно улыбнувшись, заме-
тил:
— Сподобилось же свидеться. И где?! И когда?! Лет двадцать,
как разошлись наши пути-дорожки... Да ведь и вы, владыка, ка-
жется, знакомы. Или ошибаюсь? — в печальных глазах местоблю-
стителя мелькнула хитринка.
— В юношестве товарищами были, — спокойно ответил Нико-
лай.
— Н-да, Александр Иванович не слишком-то изменился. Заме-
тили, как одет — элегантное пальто, мягкая фетровая шляпа.
Франт. Такое впечатление, что не в эвакуацию, а на курорт едет.
2.
ОЕЗД остановился. Сквозь плотно закрытое окно с перрона
оносился суматошный галдеж.
Сергий отчетливо представил, что делается сейчас в дру-
гих, переполненных вагонах. Война сорвала людей с обжи-
тых мест и безжалостно бросила в круговерть событий. А ведь еще
недавно они жили своими радостями, обыденными заботами и свет-
лыми надеждами.
И вновь, как в тот солнечный день 22 июня, надвое расколов-
ший жизнь и судьбы людей, он ощутил рождающееся в нем чув-
ство вины. Сознавать, что ты, фактически глава Русской Право-
славной Церкви, в чьи руки вложен священный крест, ничем не
можешь помочь этим несчастным людям, было для него особенно
нестерпимо.
Знобило. «Никак вновь температура поднялась», — подумал он.
Сергий простыл еще там, в Москве. При других обстоятельствах в
таком состоянии ни за что бы в дорогу не собрался, но позвонили
из Моссовета и сказали: «Вечером быть на Казанском вокзале».
Это прозвучало, как приказ.
Ночью он почти не сомкнул глаз, и лишь под утро сон сморил
его.
— Я попросил, чтобы принесли горячий чай. Для вас сейчас —
это лучшее лекарство. — сказал стоявший у окна митрополит Ни-
колай. — А потом еще поспите. Сон, говорят, тоже лечит.
— Спасибо, — ответил Сергий, натягивая на грудь съехавшее
одеяло.
— Ар-за-мас...
— Что? Что вы сказали? — взволнованно спросил Сергий и по-
пытался даже приподняться.
— Лежите, лежите, Блаженнейший владыко. Я просто прочи-
тал название станции. Постойте... — И митрополит Николай осек-
ся.
— Да, да. Здесь я родился. Арзамас — город моего детства...
Читали ли вы повесть Горького «Городок Окуров»? — поинтересо-
вался Сергий у собеседника. — Так это об Арзамасе. Кажется,
году в тысяча девятьсот втором его сюда сослали.
Патриарший местоблюститель замолчал. Он лежал, закрыв гла-
за. Прошло минут десять. Митрополит Николай хотел было вый-
ти справиться о чае, как услышал:
— Городок Окуров... А что, пожалуй, Горький прав. В Арза-
масе много храмов. Десятка три, если не больше. Впрочем, было...
Сейчас какие сметены с лица земли, другие приспособлены под
разные нужды... Ни одной действующей церкви, — сокрушался
Сергий. Обычно он говорил, слегка заикаясь — это было у него с
детства, но стоило разволноваться, как заикание усиливалось.
— Как и по всей России, — заметил Николай.
— Да, как и по всей России, — повторил Сергий с печалью.
3.
таЖЛ^ЯНВАРЯ 1867 года в семье дьякона Арзамасского Никола.-
®Кевского женского монастыря Николая Страгородского ро-
лился мальчик. При крещении его нарекли Иваном — в
честь деда, священника Алексеевской общинной церкви
Иоанна Дмитриевича Страгородского1.
На второй день после рождения сына мать, Любовь Дмитриев-
на, скончалась от чахотки, оставив на руках Николая Ивановича
еще и годовалую дочку Александру.
Страгородские в Арзамасе были уважаемы, потому как служили
примером благочестия.
Протоиерей Иоанн, дед Вани, имел необыкновенный дар про-
поведничества. Проповеди и поучения его, которые в то время
писались на бумаге и предварительно рецензировались, привлек-
ли внимание епископа Иеремея, и он перевел отца Иоанна из свя-
щенников села Собакино Арзамасского уезда в Алексеевский жен-
ский монастырь. Из прожитых девяноста четырех лет семьдесят
два отец Иоанн отдал служению Церкви, имел все награды — до
палицы и золотого кабинетского креста включительно. Ему было
пожаловано звание потомственного дворянина.2
В 1866 году Иоанн Дмитриевич был уволен с должности свя-
щенника церкви Алексеевской общины, и его место занял Нико-
лай Иванович. Отец Николай являл собой пример непоколебимой
веры в Бога, нелицемерной любви к Церкви и беззаветной предан-
ности вековым российским устоям. Его заслуги перед Церковью
позднее будут оценены наперстным крестом, орденом святой Анны
II и III степеней, серебряной медалью в память почившего импе-
ратора Александра III. Несколько лет протоиерей Николай Стра-
городский состоял членом Арзамасского духовного училища, был
цензором проповедей, председателем уездного отделения Нижего-
родского епархиального училищного совета.
Прекрасный образец личной святости и непоколебимости рели-
гиозных убеждений являл собой и младший его брат Петр. После
окончания Нижегородской духовной семинарии он тоже служил
священником.
Продолжая традиции рода, по духовной стезе пойдет и их сестра
Евгения. Приняв в девичестве монашество, она впоследствии ста-
8
нет настоятельницей Алексеевского женского монастыря. За пла-
щаницу и хоругви, изготовленные для Московского храма Христа
Спасителя, шитие бисером, жемчугом, игуменья Евгения удосто-
ится золотой медали на Александровской ленте. Она будет также
отмечена серебряным знаком святой Нины, серебряной медалью в
память императора Александра III, золотым наперстным крестом
из кабинета Ее Величества, золотым наперстным крестом с укра-
шениями от Священного Синода, серебряной медалью от главного
управления Российского общества Красного Креста в память об
участии в деятельности общества во время русско-японской вой-
ны.
Из рассказов деда и отца Ваня знал, что один из его предков еще
в ХУ III веке был епископом Крутицким. Так что корни рода Стра-
городских были крепко связаны с православием. А когда у дерева
корни крепки, то и крона радует глаз.
Детские годы мальчика протекали в монастыре, где находился
дом Страгородских. Когда Ване исполнилось восемь лет, его опре-
делили в приходское, затем — учеба в духовном епархиальном учи-
лище, что находилось здесь же, в Арзамасе. Позже — Нижегород-
ская семинария, которую некогда окончил и отец.
В семинарии Иван учился хорошо. Правда, неровно. Однако
преподаватели отмечали, что юноша очень способный. Надеялись
даже, что он окончит семинарию первым. Ему уже было предло-
жено написать прошение о поступлении в Московскую духовную
академию.
Но Иван Страгородский не оправдал надежд начальства — окон-
чил семинарию четвертым. По некоторым предметам сдал экзаме-
ны на «4», а главное — имел четверку по поведению.3
Понимая, что теперь он не может быть направлен в академию
(по установившимся правилам, направления давались лишь двум
семинаристам, показавшим лучшие знания), юноша забирает за-
явление.
Вернувшись в Арзамас, он заявил отцу:
— Учиться дальше не стану.
— Что так? Обиделся? Смотрите-ка, весь белый свет виноват,
только не он. — Обычно спокойный, Николай Иванович вдруг
разгорячился. — Я-то полагал, что у тебя характер наш, Страго-
родских, а ты спасовал перед первой трудностью. И кто сказал,
что обязательно нужно направление. Да, если поедешь волонте-
ром, преимуществ при зачислении у тебя не будет. Но ведь это
же, наоборот, здорово. Докажи всем, а особенно себе, что мо-
жешь поступить и без каких-либо поблажек. Впрочем, делай, как
знаешь.
Отец говорил с таким напором и жаром, что Иван был немало
удивлен — среди арзамасского духовенства Николай Иванович
речистостью не отличался. Это обстоятельство, видимо, и заро-
нило в душе семнадцатилетнего юноши зерно сомнения: прав ли?
Через несколько дней Иван сам завел разговор об академии:
— Если и поступать, то только не в Москву. Лучше — Петер-
бург.
Отец не возражал.
Несмотря на огромный конкурс, Иван блестяще сдает вступи-
тельные экзамены, и его зачисляют в академию.
4.
ЗэдодгЫБОР Санкт-Петербургской духовной академии Иваном
Страгородским не был случайным. Если Московская куль-
тивировала философию и вообще идеологические дисцип-
лины, Киевская — догматику, литургию и археологию, а Казанс-
кая имела уклон миссионерский, то столичная академия отдавала
преимущество филологическим и церковно-историческим знани-
ям. Возглавлял ее тогда Преосвященный Арсений (Брянцев), епис-
коп Ладожский, ставший впоследствии архиепископом Харьковс-
ким и Ахтырским.
Петербургская академия в то время блистала именами крупных
ученых: доктор церковной истории, профессор Ф. Г. Елеонский
— один из лучших знатоков ветхозаветного текста; М. И. Каринс-
кий, подвергший критике кантовскую гносеологию в своей работе
«Об истинах самоочевидных», преподавал философию; доктор цер-
ковной истории, профессор Н. В. Покровский — известный зна-
ток христианской иконописи; доктор церковной истории, профес-
сор И. С. Пальмов — автор «Истории русского самосознания»,
профессор протоиерей П. Ф. Николаевский — специалист по ис-
тории славянства. Здесь же преподавали доктор богословия, про-
фессор А. Л. Катанский, М. О. Коялович, А. Е. Светилин и
другие корифеи.
10
Летом 1889 года перед последним курсом Иван Страгородский
вместе с товарищем по академии совершает паломничество на Ва-
лаам.
Потребность в этом родилась из того духа святости, что витал в
80-е годы, особенно во второй половине, в стенах столичной ду-
ховной академии. И связано это было с тем обстоятельством, что
именно в эту пору здесь восстанавливается студенческое монаше-
ство, коего не было в течение двадцати лет.
«Светскость» нарушил в 1884 году Михаил Грибановский (буду-
щий епископ Таврический). Вскоре за ним постриглись в монахи
студенты Надеждин (впоследствии епископ Оленецкий и Петроза-
водский Никанор), Храповицкий (будущий митрополит Киевский
и Галицкий Антоний), Мещеряков (впоследствии митрополит Став-
ропольский Серафим), Налимов (будущий архиепископ Нижего-
родский Николай) и другие. Так родилась монашеская академи-
ческая «дружина», к коей затем примкнул и назначенный инспек-
тором академии архимандрит Антоний (Вадковский), впоследствии
митрополит Петербургский и Ладожский.
По воспоминаниям современников, Антоний был исключительно
светлой личностью, ему было чуждо всякое напускное благочес-
тие, он имел широкие взгляды на светскую науку и культуру, был
на редкость отзывчив к чужим страданиям и горю.
Хотя инициатором рождения монашеской «дружины» был
М. Грибановский, лидерство в ней он передал энергичному и пыл-
кому А. Храповицкому, имевшему широкое влияние на студен-
тов, который в год поступления И. Страгородского в академию,
после защиты магистерской диссертации «Психологические дан-
ные в пользу свободы воли и нравственной ответственности», был
избран доцентом академии по кафедре Ветхого Завета.
Вот как описывает атмосферу, царящую в академии, один из
источников: «Дружною семьею жили члены академического мона-
шеского братства; с горячею любовью относились они друг к дру-
гу, поддерживали друг друга в благородных стремлениях служить
интересам Православия и русского монашества»4.
Очень часто по вечерам академические иноки, а также сочув-
ствующие им студенты собирались на беседы, предметами обсуж-
дения которых были служение идеалам современного монашества
и положение Русской Православной Церкви, воспитание духа цер-
ковности в среде учащейся русской молодежи.
Работа над собой, невольно сказывающаяся в отношениях с
товарищами, и видимая печать одушевления высокими истинами
веры и любви к ближнему, не могли пройти бесследно для юного
Ивана Страгородского. Он все чаше стал задумываться о постри-
ге.
5.
АРОХОДИК, на котором плыли юные паломники, ловко
а|ф|&лавиРУя между холмистыми берегами, опасаясь камней и
мелей, а поэтому придерживаясь вех, наконец вышел на
простор Ладоги. Беловатые, крупные, с сине-стальной оторочкой
облака хмуры, недвижны. Холодны их отраженья, тяжела вода,
свинцовая, тоже с белесыми отсветами. Свежо и прохладно.
Суровый и дикий край. Иван представил себе, как зимой здесь
властвуют метели, северные ветры валят вековые леса, волны бьют-
ся о гранитные скалы.
Он пристально всматривается в бескрайнюю даль, пытаясь сквозь
нависшие тучи разглядеть обитель святого Трифона — Трифоно-
Печенегский мужской монастырь, основанный в честь святой Тро-
ицы в середине XVI века. Где-то, в нескольких десятках верст,
должен быть остров Коневец. В четырнадцатом веке святой Арсе-
ний прибыл туда на лодке после возвращения с Афона и привез
чудотворную икону Божией Матери. Поселившись в здешних мес-
тах, основал Рождественский монастырь.
Но пароходик держит путь на Валаам. Вот, вот он, этот знамени-
тый Валаам! Он еще далеко, но уже чуть-чуть виден белый его со-
бор. Постепенно все явственнее проступают сквозь вечернюю дым-
ку белая, с синими и зелеными верхами колокольня, огромный
купол храма Преображения Господня с золотыми крестами. Собор
этот воздвигнут совсем недавно на месте прежнего времен Алексан-
дра I. Правда, внутренние работы еще полностью не завершены.
По воле Божией и вековыми трудами валаамской братии обжит
этот дикий край. Сады, посевы, огороды, молочная ферма, во-
допровод, различные мастерские... И все это лепится вокруг Спа-
со-Преображенского мужского монастыря.
И над всем этим — дух святых Сергия и Германа, основателей
обители. Вот они изображены на иконе: два инока, две прямые
фигуры в темном — Сергий старше, Герман моложе, в опушенных
руках свитки, на них письмена. Древние, не без суровости лики.
Они здесь, в обители, повсюду: в маленьком медальоне над вхо-
дом в гостиницу, над вратами, на иконах, на золотой кованой
раке в нижней церкви собора.
Издревле считается, что к Валааму нужно подходить с молит-
вою, и только тогда внутренняя, духовная сторона его откроется
паломнику. И то не сразу, а постепенно, при выполнении возло-
женных на него послушаний.
Именно здесь, на Валааме, Иван Страгородский принимает окон-
чательно решение безраздельно посвятить все свои силы и всю свою
жизнь служению Церкви и Православию.
Обряд пострижения в монахи совершился 30 января 1890 года в
академической церкви. И нет уже более Ивана Страгородского.
Есть инок Сергий. И имя это он взял в честь преподобного Сергия
с Валаама.
Годы, проведенные Иваном Страгородским в академии, были
очень важны для духовного формирования его личности и наложи-
ли яркий отпечаток на дальнейшую архипастырскую и первосвя-
тительскую деятельность.
А об успехах юноши в учебе говорит тот факт, что из 73 выпуск-
ников академию он оканчивает первым. Рецензентом кандидатс-
кой был А. Л. Катанский, который не только высоко оценил ра-
боту, но и заявил, что Сергий должен быть оставлен при академии
профессорским стипендиатом — для работы над магистерской дис-
сертацией и подготовки к профессорскому званию.
6.
НЕМАЛОМУ удивлению преподавателей и однокашни-
ков иеромонах Сергий подает прошение направить его
миссионером в Японию.
Зимой 1891 года он назначается судовым священником
на военный крейсер «Память Очакова», на котором посетил мно-
гие сопредельные со Страной восходящего солнца государства. Свои
впечатления об увиденном молодой священник опубликовал в жур-
налах «Русский вестник» и «Богословский вестник»5. Они вызвали
большой интерес в обществе: ведь для многих Япония была прак-
13
тически неизвестной страной. На родине, в Арзамасе, письма
русского миссионера «На Дальнем Востоке» вышли отдельным из-
данием в 1897 году.
Весной 1893 года по состоянию здоровья — жестокая простуда —
Сергий возвращается в Россию. Какое-то время он — доцент Пе-
тербургской духовной академии на кафедре Священного писания,
а затем — инспектор Московской духовной академии.
В том. что он получил назначение в Москву. Сергий чувство-
вал участие архимандрита Антония (Храповицкого), который с 1890
года был здесь ректором. Антонию было тридцать, Сергию — двад-
цать шесть. Сергий признавал Антония не только за старшего, но
и за более авторитетного.
Двери квартиры Антония всегда были открыты: студенты зап-
росто приходили к ректору академии на вечерний чай, здесь за
самоваром велись богословские беседы, устраивались диспуты по
поводу новых книг — не только церковных, но и художественных.
И все же Антонию и Сергию нелегко было в Московской акаде-
мии. На них смотрели, как на варягов. Еще бы, здесь преподава-
ли такие корифеи, как В. Ключевский и Е. Голубинский: один —
историк государства Российского, другой — историк Церкви. Ру-
ководящая молодежь постоянно ощущала холодок отчуждения,
исходивший от маститых стариков.
Как знать, может это и сыграло какую-то роль в том, что осенью
1894 года, возведя в сан архимандрита, Сергия вновь отправляют за
границу — теперь в Грецию, настоятелем посольской церкви. На
смену архимандриту Михаилу (Грибановскому), с коим Сергий был
знаком по Петербургской академии. А через год и Антония (Храпо-
вицкого) направят в Казань —г ректором духовной академии.
В Афинах Сергий долго не задержался — в 1897 году опять Япо-
ния. Помощник начальника миссии. Он довольно быстро изучил
японский язык. Как отмечали хорошо знавшие Сергия, у него были
необыкновенные способности к языкам: помимо классических древ-
них, он еще изучил современный греческий. А теперь вот в мест-
ной семинарии преподает на японском догматическое богословие.
«Апостол Японии», как прозвали епископа Николая (Касатки-
на). прослужившего в составе миссии более сорока лет, говорил,
что из всех присланных ему из России помощников архимандрит
Сергий был единственным, кого он желал бы видеть своим преем-
ником.
14
7.
ЕТНИЙ день уже клонился к закату, когда в дом Страго-
родских постучали.
— Входите, не закрыто. — крикнул Николай Иванович
и пошел к двери встречать гостя.
— Ба, да это никак отец Федор собственной персоной. — Во-
шедший и хозяин обнялись и троекратно расцеловались. — А я
намедни батюшке говорил: «Что это давно к нам Федор Иванович
не заглядывал. Не случилось ли что, не захворал ли?»
— Благодарю за беспокойство, — ответствовал Владимирский.
— Помимо забот церковных, все в трудах о водоводе. А вот отец
Иоанн, сказывали мне, приболел.
— Теперь, слава Богу, уже ничего, вставать начал. А вы, Фе-
дор Иванович, как раз вовремя — мы вечереть собираемся.
Уже когда пили чай, хозяин сказал:
— Слышал, сынок ваш, Михаил, приезжал.
— Наведался, — грустно вздохнул Владимирский. — Несколько
дней в родительском доме провел и опять укатил. В Москву. Го-
сударь разрешил перевод из Томского университета.
— Так радоваться надо. Все ближе к отцу-матери будет, почаще
заглядывать станет. А то надо ж, в Сибирь забрался, — попытался
развеять грусть гостя Николай Иванович.
Страгородские знали: Федор Иванович мечтал, что сын его про-
должит дело рода Владимирских. Но Михаил пошел против от-
цовской воли и вместо Петербургской духовной академии посту-
пил в Томский университет на медицинский факультет. Со време-
нем отец Федор смирился с этим: уж если не от хворей душевных,
так от недугов телесных исцелять будет Михаил.
Смутно Федор Иванович догадывался, что вовсе не из-за того,
чтобы быть поближе к родительскому очагу, Михаил перебрался в
Москву. И не потому, что здесь преподают такие светила отече-
ственной медицины, как физиолог Сеченов, хирург Склифосовс-
кий, педиатр Филатов, терапевт Остроумов. Томский универси-
тет тоже был не на последнем счету, он имел одну из богатейших
библиотек в России. Сердце-вешун подсказывало: совсем иное
гнало сына в Москву. Однако за те несколько дней, что провел
Михаил дома, разговора по душам так и не получилось. Вот это-
то и мучило отца Федора.
— Ну. а как ваш сынок в Греции поживает? — спросил в свою
очередь Владимирский.
— Да что вы, он сейчас в первопрестольной, — живо отозвался
Страгородский. — Третьего дня письмо от него получили. Пи-
шет, что успешно защитил магистерскую диссертацию. Советом
Московской духовной академии удостоен ученой степени магистра
богословия.
Отец Николай не скрывал гордости за сына. Что ж, это дей-
ствительно приятная новость. Федору Ивановичу было известно,
что еще в студенчестве Страгородского-младшего привлекла одна
из важнейших проблем нравственного богословия — взаимоотно-
шение веры и добрых дел. И вот, несмотря на активную миссио-
нерскую деятельность, он все же нашел время для подготовки дис-
сертации на тему «Православное учение о спасении».
«Прекрасное, выдающееся по талантливости исследование», —
так оценят диссертацию современники.6
16
Глава II _____________________________
Возжигая пречистые огни
Отдельный человек может предпочесть
личное мученичество. Но не таково положе-
ние иерарха, возглавляющего Церковь, он
должен идти на иное мученичество и принес-
ти иную жертву...
Н. А. БЕРДЯЕВ.
1.
А СТАНЦИИ Рузаевка вагон, в котором ехал патриарший
[р№местоблюститель, отцепили от состава.
— Никак что-то произошло, — высказал предположе-
ние митрополит Николай. — Пойду к начальнику стан-
ции, разузнаю, надолго ли мы тут застряли.
— Может, лучше мне сходить? — Сергий попробовал припод-
няться.
— И не думайте даже вставать, — запротестовал Николай. — С
высокой температурой — и на улицу, под холодный дождь...
Он вернулся через полчаса в сопровождении двух мужчин: один
был в форме железнодорожника, другой — в военной.
— Ваше Высокопреосвященство, эти товарищи говорят, что из
Москвы пришла правительственная телеграмма — нас направляют
не в Оренбург, а в Ульяновск.
— Вы, товарищ... — начал было железнодорожник, но запнул-
ся, видимо, не зная, как обратиться к патриаршему местоблюсти-
телю. — Вы, батюшка, не беспокойтесь, понапрасну держать вас
здесь не станем. Отправим с первым же составом, идущим на Куй-
бышев. Нас предупредили, что вы сильно занемогли, простуже-
ны. Да, еще телеграфировал... — он достал из кармана шинели
бумажку, глянул в нее: — ... митрополит Алексий (Симанский).
Сообщил, что вопрос об обустройстве прорабатывается местными
властями. Вот, пожалуй, и все... — Он глянул на военного, ожи-
17
дал. Тот молчал. — Ну, счастливо!! дороги и поправляйтесь.
Они вышли.
«Интересно, до кого же в верхах достучался владыка Алек-
сий, что стрелки перевели на Ульяновск, — подумал Сергий.
— А впрочем, какое это имеет значение... Ульяновск так Улья-
новск».
2.
1899 ГОДУ завершилось десятилетие миссионерской дея-
|®||КГтельности архимандрита Сергия. Он назначается сперва
^£§^?инспектором, а через два года — ректором Петербургской
духовной академии.
Он с головой окунается в жизнь академии. Предметом его неус-
танных забот становятся улучшение научной и учебной работы,
повышение качества преподавания, упорядочение и систематиза-
ция фондов библиотеки и архива. Одновременно читает лекции,
печатается в богословских журналах, участвует в различных науч-
ных и благотворительных обществах.
25 февраля 1901 года Сергий был возведен в сан епископа Ям-
бургского, третьего викария Петербургской епархии. Одновременно
оставался ректором академии. Ему исполнилось тридцать четыре.
На церемонии рукоположения, обращаясь к иерархам, молодой
епископ сказал: «Быть пастырем — значит жить не своею особою
жизнью, а жизнью паствы, болеть ее болезнью, нести ее немощи
с единственной целью: послужить ее спасению, умереть, чтобы
она была жива. Истинный пастырь постоянно, в ежедневном де-
лании своем «душу свою полагает за овцы», отрекается от себя, от
своих привычек и удобств, от своего самолюбия, готов жертвовать
самой жизнью и даже душой ради Церкви Христовой, ради духовно-
го благополучия словесного стада».
Уже в этом обращении он сформулировал мысли, кои потом, в
годы суровых испытаний, определили его позицию, вызвавшую
столько горячих споров.
Известность молодого епископа выходит за стены академии и
Петербургской епархии. Ему поручается руководство синодальной
комиссией по диалогу с Римско-Католической Церковью.
В начале XX века наиболее выдающиеся, пытливые, взыскую-
щие истины представители либеральной интеллигенции начинают
искать встреч с Церковью, желают вступить с ней в диалог. И вот
29 ноября 1901 года в помещении Географического общества, что
на Фонтанке, открылось первое заседание Петербургских религи-
озно-философских собраний.
За столом президиума по правую сторону — представители духо-
венства, по левую — светские, преимущественно молодые люди.
В узком зале народу — яблоку негде упасть: профессора, студен-
ты, писатели, журналисты, художники, музыканты... Публика
самая разношерстная: девятнадцатилетний студент-математик, впос-
ледствии знаменитый богослов и ученый Павел Флоренский и из-
вестный в художественных и театральных кругах Сергей Дягилев;
будущий министр исповеданий Временного правительства и про-
фессор Парижского богословского института Антон Карташов и
архимандрит Антонин (Грановский), который в двадцатые годы
возглавит раскол в Церкви и станет одним из лидеров обновлен-
цев; экстравагантная поэтесса-декадентка Зинаида Гиппиус и фи-
лософ Василий Розанов...
Председательствует епископ Сергий. Открывая собрание, он
сказал: «Я... являюсь служителем Церкви и отнюдь не намерен ни
скрывать, ни изменять этого своего качества. Напротив, самое
искреннее мое желание быть здесь не по рясе, а на самом деле
служителем Церкви, верным выразителем ее исповедания. Я бы
счел себя поступившим против совести, если бы хотя немного от-
клонился от этого из-за какого-нибудь угодничества или из ложно
рассчитанного стремления к миру... Настоящего, серьезного, дей-
ствительно прочного единства мы достигнем только в том случае,
если выскажемся друг перед другом, чтобы каждый видел, с кем
он имеет дело, что он может принять и что не может».
О демократичности религиозно-философских собраний красно-
речиво говорит то, что возле трибуны не маячила фигура приста-
ва, имевшего право по своему усмотрению прерывать ораторов и
прекращать публичные собрания, а также то, что протоколы —
доклады и прения — печатались в журнале «Новый мир» (в 1906
году они вышли отдельной книгой).
Позднее участники собраний в своем обращении к епископу
Сергию скажут: «Дух пастыря почил на пастве и определил счаст-
ливый и совершенно неожиданный успех собраний. На них соби-
рались с сомнением и не знали: возможно ли и нужно ли будет
собираться после двух-трех встреч духовенства и общества. Ничего
не ждалось, кроме недоумений, раздражения, непонимания... Но
добрый дух пастыря все сотворил, и уже после второго собрания
вся литературная часть собрания решила, что дело установилось,
что оно крепко... Епископ Сергий извел из души своей хорошую
погоду на наши собрания».
Какие же вопросы выносились на собрания? Вот далеко не пол-
ный перечень обсуждаемых проблем: отношение Церкви к Л. Тол-
стому. свобода совести, душевная трагедия Н. Гоголя, догмати-
ческое творчество, место и роль Церкви в обществе.
Однако в апреле 1903 года всесильный обер-прокурор Синода
Победоносцев, боясь распространения в обществе «вольнодумства»
в религиозно-церковных вопросах, запретил собрания.
Нечто подобное уже было: в 60—70 годах XIX века в Москве и
Петербурге существовали «Общества любителей духовного просве-
щения», в которых встречались представители высшего света, про-
фессора духовных академий и просвещенное духовенство. Потом
их закрыли — за свободные рассуждения.
Вот и теперь либеральные настроения собраний не устраивали
правительство: оно ожидало от Церкви консервативной позиции,
поддержки его политики в усмирении надвигающейся револю-
ции.
И все же Сергий считал, что благодаря этим собраниям интел-
лигенция, наконец, начала понимать разницу между Церковью и
Синодом — государственным аппаратом.
3.
В СЛОЖЕНИЕ Русской Православой Церкви как государ-
ственной религии создавало для ее внутренней жизни опре-
деленные проблемы.1 Фактически она находилась в полном
подчинении у Синода, во главе которого стоял царский упол-
номоченный — обер-прокурор. Однако в церковных кругах все на-
стойчивее стали говорить о необходимости возвращения к патриар-
шеству.
... Председатель Кабинета министров Витте вызвал к себе по-
мощника обер-прокурора Синода Саблера.
20
— Владимир Карлович, вы знакомы с запиской, поданной го-
сударю митрополитом Петербургским Антонием, в которой он ка-
тегорически выступает против введения постановления о веротер-
пимости? Что думаете по этому поводу?
Сын штаб-лекаря и дворянки, Саблер окончил Московский уни-
верситет, получил юридическое образование. Некоторое время он
был профессором в родном университете, пока обер-прокурор
Победоносцев не привлек его к службе в своем ведомстве.
— Ваше Высокопревосходительство, по-моему, владыка Анто-
ний совершенно прав, когда утверждает, что с предоставлением
конфессиональной свободы все религиозные объединения импе-
рии будут в более выгодном положении, чем Православная Цер-
ковь. Думается, заслуживает внимания и предложение о созыве
совещания всех иерархов с участием представителей приходского
духовенства и мирян.
— Но, заметьте, Владимир Карлович, он настаивает, что это
совещание должно пройти без участия представителей правитель-
ства, — уточнил Витте.
— Сергей Юлиевич, если вы внимательно читали записку, то,
наверное, поняли главный ее смысл — Церковь должна обрести
некоторую автономию и, следовательно, освобождена от несения
«прямой государственной и политической миссии».
Помощник обер-прокурора прервался, заметив, что председа-
тель правительства делает какие-то записи по ходу беседы.
— Продолжайте, пожалуйста, я вас слушаю, — сказал, отрыва-
ясь от бумаг, Витте.
— Есть свой резон и в том, чтобы, как предлагает владыка, при-
ходские священники получили право участвовать в работе земств, а
несколько мест в Государственном Совете выделить для епископата.
—- Не кажется ли вам, что митрополит Антоний хотел бы осво-
бодить Церковь от опеки и власти обер-прокурора и установить тем
самым непосредственную и тесную связь с правительством? — Витте
прямо смотрел в глаза помощнику обер-прокурора. Однако, не
дожидаясь ответа, продолжил: — У вас, кажется, в отличие от
Победоносцева свое мнение на патриаршество?
Саблер хотел что-то сказать, но Витте взмахом руки остановил
его:
— Кто еще из иерархов, кроме митрополита Петербургского,
придерживается идеи восстановления патриаршества?
— Епископ Волынский Антоний (Храповицкий), архиепископ
21
Николай (Зиоров), экзарх Грузии Никон (Софийский)...
— Значит, — вновь прервал собеседника Витте, — они счита-
ют, церковная реформа назрела. Вы тоже так думаете, не правда
ли? — Помолчав, Сергей Юлиевич продолжил:
— Я думаю, Владимир Карлович, создать при правительстве
особое совещание по церковным вопросам и привлечь к его работе
наиболее прогрессивно настроенных профессоров духовных акаде-
мий. Пусть они выскажут свое мнение о патриаршестве и в целом
о церковной реформе. Вы мне подготовьте список, кого желаете
видеть членами совещания.
4.
^^kj^ixEKTOP Петербургской духовной академии епископ Сер-
ги^ охотно откликнулся на предложение председателя пра-
вительства. Он хорошо помнил, как еще в конце 80-х го-
дов среди монашеской молодежи академии обсуждалась идея вос-
становления канонического строя Русской Церкви. Уже тогда он
понял, что существующая форма церковного управления, утвер-
дившаяся в России со времен Петра I, противоречит прямым и
явным указаниям канонов. И вот теперь мысль о возрождении пат-
риаршества уже широко внедрилась в сознание передового церков-
ного общества.
Сергий видел, что самодержавие идет к упадку, и что все боль-
шую силу начинает набирать оппозиция. Именно тогда прозвучало
его предостережение: «Российская Империя может быть сметена
надвигающимися событиями, но Церковь погибнуть не может».
Он сознавал, что если в этот критический момент Церковь оста-
нется в прежнем положении, то она свяжет свою судьбу с судьбой
самодержавия. А это будет чревато для самой Церкви.
Итогом деятельности совещания стала записка, где без обиня-
ков послепетровская система управления Церковью признавалась
незаконной. Вывод — немедленный созыв Поместного собора,
коего не было в России уже более двухсот лет. Требуя восстановле-
ния независимости и соборности Церкви, председатель правитель-
ства в своем обращении к царю больше всего ссылается на мнение
епископа Сергия как одного из авторитетных архиереев.
Но тут встрепенулся дряхлеющий, но по-прежнему всемогущий
Победоносцев. Через Николая II он добился, чтобы обсуждение
вопроса о церковных преобразованиях передали из правительства в
Синод. Однако и здесь его ожидал суровый удар: Синод высказал-
ся за немедленный созыв Поместного Собора, выбор патриарха и
вывод Синода из-под руки обер-прокурора.
Победоносцев негодовал. Негодовал на членов Синода, кото-
рые пошли против него. Негодовал на своего помощника Сабле-
ра, который, замещая его на заседании, промолчал, не воспроти-
вился позиции архиереев. Прежние дружеские отношения между
ними оборвались. Саблер подал в отставку и, получив назначение
в Государственный Совет, уехал в имение.2
А Победоносцев меж тем решился на последний отчаянный шаг.
Летом 1905 года он предложил всем иерархам прислать в Синод
свои записки о положении в Церкви и необходимых, по их мнени-
ям, преобразованиях. Он рассчитывал, что большинство еписко-
пата поддержит его. И вновь потерпел поражение. Почти все ар-
хиереи требовали реформ, направленных на освобождение Церкви
от государственной зависимости.
Свою записку подал и епископ Сергий. Предлагаемые им цер-
ковные реформы были одними из наиболее далеко идущих.
Он писал, что предстоящий Собор должен начаться с упраздне-
ния Синода и с прекращения тесных связей между Церковью и
правительством. По его мнению, право голоса на Соборе должно
было быть прерогативой епископов, при условии, что они пользу-
ются полным доверием и любовью верующих. Но в послепетровс-
кий период бюрократическое централизованное управление Цер-
ковью привело к ужасному разрыву между мирянами и духовен-
ством и между женатыми священниками и монахами-епископами.
Поэтому на общих собраниях миряне и белое духовенство должны
иметь равное право голоса с епископами, за исключением вопро-
сов, касающихся догматического учения и канонического права?
Все постановления общих собраний (нижней палаты Собора) дол-
жны передаваться на рассмотрение и утверждение отдельного Со-
бора епископов — верхней палаты. Предложения, отвергнутые Со-
бором епископов, возвращаются в нижнюю палату для дальней-
шего обсуждения. В случае, если соглашение не будет достигну-
то, вопрос откладывается до будущего Собора.
Отстаивая принцип соборности, Сергий предлагает создать де-
централизованную систему митрополичьих округов, представите-
Ж) 23
ли которых входили бы в центральное управление, возглавляемое
патриархом. Выборы патриарха должны проводиться на одном из
последних заседаний Собора, чтобы к этому времени члены Собо-
ра успели лучше познакомиться друг с другом и тогда будут знать,
за кого голосовать.
Интересны были также предложения Сергия по реформе бого-
словского образования и упразднения духовного сословия.
Церковь проснулась, бурлила, полная надежд и свежих жизнен-
ных соков. В обществе рассчитывали, что царь прислушается к
голосу Церкви. Но Победоносцев был еще в фаворе у государя, и
его доклад перевесил мнение и Синода, и всего епископата. Он
убедил царя, что подходящее время для созыва Собора пока не
наступило. Лишь в 1917 году, когда к власти пришло Временное
правительство, состоялся Поместный Собор.
5.
Й#ОД 1905-й начался великой трагедией — расстрелом мир-
ной многотысячной демонстрации рабочих, которые с пе-
нием псалмов и иконами направились к Зимнему дворцу,
ища защиты у царя. 9 января вошло в историю России как
Кровавое воскресенье.
Епископ Сергий так откликнулся на это событие: «День тот бу-
дет тьмою... И ночь та... да не сочтется она днех года, да не войдет
в число месяцев» (Иов., 3, 4-6). Как хочется повторить этот крик
уязвленной души по поводу злополучного 9 января... О, если б не
было этого дня в нашей истории. Толпы рабочих в несколько ты-
сяч... с женами и детьми с крестным ходом пошли ко дворцу, к
государю, как они говорили, а войско встретило их ружейными
залпами... Убито (по правительственным сообщениям от 11 чис-
ла) 96 человек, ранено 333, не считая, конечно, многих других,
не вошедших в регистрацию.4 По рассказам, есть убитые дети, есть
женщины, есть простые зрители, случайно попавшие под заряд.
Плачет теперь наша столица, как древняя Рахиль о своих детях, и
не хочет утешиться, ибо их нет (Иер. 31, 15). И не на ком искать
пролитой крови! Виноват ли доверчивый народ, в жизни которого
всегда есть много неустройства, лишений и обид и которому все-
гда есть с чем пойти и просить себе милости и защиты, виноват ли
он. что и на этот раз он собрался просить о своих нуждах?..
С другой стороны, виноваты ли рядовые солдаты, что им, укра-
шенным победными лаврами прошедших кампаний, выпала пе-
чальная доля стрелять по приказу свыше в беззащитную толпу и
обагрить родную землю братскою кровью неповинных людей!..
Никому не нужна была эта кровь... Но она все-таки пролилась!
Свершилось нечто ни с чем несообразное, всем прискорбное и
отвратительное, нечто ужасное...»
В обществе хорошо поняли, что хотел сказать епископ Сергий.
Это было фактически обвинением правительству, которое допус-
тило расправу над мирными демонстрантами.
Россия вздыбилась, взорвалась невиданным размахом стачечно-
го движения...
В условиях равновесия сил, когда царизм оказался неспособ-
ным подавить революционные выступления, а революция еще не
смогла ликвидировать абсолютизм, Николай II подписал 17 ок-
тября 1905 года Манифест. Это была крупная уступка революци-
онному движению. Это была и уступка Церкви, так как Манифест
содержал положение о предоставлении всеобщего избирательного
права. А это давало возможность представителям духовенства че-
рез Государственную Думу имбть право голоса в мире обществен-
ного брожения. Ведь именно за это ратовали в свое время участни-
ки религиозно-философских собраний. Сергий мог быть удовлет-
ворен: вопреки совместным стараниям царя и Синода Церковь,
наконец, вырвалась из изоляции.
Между тем правительство все же надеялось, что духовенство в
Думе будет опорой ему, и поэтому стремилось, чтобы было избра-
но как можно больше священнослужителей. Но выборы в первые
две Думы показали, что священники в основном разделяли ради-
кализм, царивший в то время в обществе.5 Оконфузились и атеис-
ты, распространявшие мнение о реакционности духовенства.
6.
ДНАКО обо всем, что происходило в столице, Сергий те-
перь вынужден был узнавать все больше из газет. С 6 ок-
тября 1905 года он возглавляет Финляндскую кафедру. Воз-
веден в сан архиепископа. Вроде и повышение. Но фак-
тически обер-прокурор Синода Победоносцев решил удалить ли-
берала-ректора подальше от столицы.
Деятельная натура Сергия не знала покоя. Он сразу же с голо-
вой окунулся в жизнь епархии. И первое, с чем столкнулся и с
чем пришлось бороться, — национализм финнов.
Тогда-то архиепископ Сергий и вспомнил беседу с епископом
Холмским Евлогием (Георгиевским). Вскоре после Цусимского
сражения тот приехал в столицу и остановился у Сергия, с кото-
рым был знаком еще по учебе в академии. Возмущенный поста-
новлением о введении веротерпимости, которое вышло как раз на
Пасху, Евлогий добился аудиенции у царя. Он рассказал о смуте,
вызванной этим документом, так как с предоставлением конфес-
сиональной свободы все религиозные объединения империи оказа-
лись в более выгодном положении, чем Православная Церковь. В
Холмской епархии, убеждал Николая II епископ Евлогий, като-
лики начали притеснять православных христиан, вовсю расцветает
польский национализм. Государь же, как признавался Евлогий,
посетовал: кто бы мог подумать, такой прекрасный манифест — и
такие последствия. И только. Настроение Евлогия тогда не встре-
тило отклику и у Сергия.
И вот только теперь Сергий понял и осознал ту обеспокоенность,
что проявлял епископ Холмский. И хотя в своей политической
приверженности они были разными (Евлогий — монархист, при-
мыкал к правым), по церковным вопросам их мнения совпадали.
Так, с трибуны Государственной Думы Евлогий говорил, что
«Церковь есть учреждение божественное и вечное, ее законы не-
преложны, а идеалы жизни государственной, как известно, под-
вергаются постоянным изменениям». Но разве не тот же смысл в
словах Сергия, что империя может быть сметена, но Церковь по-
гибнуть не может?!
Порадовался Сергий и тому, как Евлогий воспротивился указа-
26
нию обер-прокурора. Накануне выборов в четвертую Думу тот явил-
ся к Евлогию, ставшему уже архиепископом, и пытался уговорить
организовать духовенство в особый политический блок или орга-
низацию для выставления своих кандидатов в Думу. На что Евло-
гий ответил: «Россия не знает клерикализма... наше смиренное
сельское духовенство находится в тесной органической связи с
народом... изолируя духовенство от народа (выделяя его в отдель-
ную партию), мы сделаем его одиозным... Духовенство во всех
партиях должно работать по совести...»6
Сергий в этом был солидарен с Евлогием.
Архиепископом Финляндским и Выборгским Сергий пробыл
двенадцать лет, сделавших его известным во всероссийском масш-
табе как одного из деятельных членов Священного Синода (стал
им в 1911 году).
Газета «Всероссийский церковно-общественный вестник» так пи-
сала о Сергии: «Архиепископ Финляндский, по установившемуся
обычаю, является как бы бессменным членом Св. Синода и работа-
ет как в зимней, так и в летней сессиях его. Но никто из финлянд-
ских архиепископов не работал в Св. Синоде так много, как Высо-
копреосвященный Сергий. Кажется, все комиссии по церковным
реформам имели его, начиная с годов первой революции, своим
членом. Он участвовал в Предсоборном присутствии и до сего вре-
мени состоит председателем Предсоборного совещания при Св.
Синоде. Он председательствовал в миссионерском совете, в ко-
миссии по вопросу о поводах к разводу, по реформе церковного
суда и т. д. С 1913 года до самого последнего времени он был пред-
седателем Учебного комитета при Священном Синоде».7
В обществе и среди духовенства за ним закрепилась репутация
мудрого пастыря, о нем говорили не иначе, как «мудрый Сер-
гий». С мнением архиепископа считались и власти предержащие.
Сохранился любопытный документ: письмо Сергия великому
князю Константину Константиновичу, датированное 28 июля 1912
года, по поводу постановки на сцене его пьесы «Царь Иудейский».
Давая оценку пьесе, Сергий пишет, что «драма «Царь Иудейс-
кий» излагает события, которых она касается, с соблюдением вер-
ности евангелийскому повествованию и, проникнутая благоговей-
ною настроенностью, может вызвать в душе верующего, особенно
некоторыми наиболее драматическими местами своими, много
высоких, чистых переживаний, способных укрепить его веру и
любовь к Пострадавшему за спасение мира. Ввиду таких досто-
инств драмы «Царь Иудейский» не встречается, по суждению Свя-
щенного Синода, препятствий к появлению ее в печати. Но вме-
сте с тем Святейший Синод находит невозможным разрешить по-
становку этой драмы на театральной сцене... Драма «Царь Иудейс-
кий», отданная на современные театральные подмостки и в руки
современных актеров, не только не облагородит театра, но и сама
утратит свой возвышенный, духовный характер, превратившись в
обычное театральное лицедейство, при котором главный интерес
не в самом содержании, а в том, насколько искусно играет тот или
иной актер»?
Так написать мог только человек, имеющий особое качество воз-
вышенного ума, способный непрестанно восходить к вечным ис-
тинам христианства, отрешаясь от всего случайного, преходяще-
го, наносного.
За труды на благо Церкви архиепископ Сергий был награжден
бриллиантовым крестом для ношения на клобуке и орденом Алек-
сандра Невского.
7.
ЕВРАЛЬ семнадцатого года. Мирные митинги уступили
место первым вооруженным стычкам с полицией. Рабо-
та фабрик и заводов приостановилась, не велись занятия
в учебных заведениях.
А вскоре Николай II отрекся от престола.
Обер-прокурор предложил синодальному епископату обратить-
ся к народу и поддержать распадающуюся монархию. Вместо этого
иерархи одобрили решение великого князя Михаила передать воп-
рос о власти на усмотрение будущего Учредительного собрания.
Надо отметить, что к моменту прихода Временного правитель-
ства к власти радикальным настроением было охвачено и приходс-
кое духовенство. В некоторых епархиях летом прошли съезды, на
которых свергли не пользующихся популярностью епископов. Сер-
гий тогда был избран архиепископом Владимирским.9
. Временное правительство дает «добро» на созыв Всероссийского
Поместного Собора. Назначенный новый обер-прокурор В. Львов
распускает прежний Синод, в новый состав вошел только архи-
епископ Сергий. Он и возглавил Предсоборный совет, образован-
HHii из иерархов, духовенства и профессоров духовных академий
им подготовки Собора.
И вновь Сергий в центре церковных событий, вновь — кипучая
деятельность: разрабатывает проекты предложений по церковной
реформе, возглавляет синодальные комиссии, принимает верую-
щих и духовенство из провинции, председательствует на заседани-
ях, ведет переговоры от имени духовенства с обер-прокурором.
Именно тогда, как отмечали современники, проявились такие его
качества, как способность уживаться с представителями различ-
ных политических течений, проявлять «законопослушность» и вме-
сте с тем умело отстаивать свои убеждения и через тактические
уловки и компромиссы идти к намеченной цели — созыву Помес-
тного Собора.
Наконец 15 августа 1917 года в Москве открылся Поместный
Собор Российской Православной Церкви.
А между тем, Россия уже трещала по швам. Как писал позднее
в своих воспоминаниях член ЦК партии кадетов И. Изгоев, «ре-
жим погибал при всеобщем к нему отвращении. Ясно было, что
никто и пальцем не шевельнет в его защиту, а Керенский продол-
жал успокаивать... что все меры приняты и он ждет выступления
большевиков, чтобы решительно с ними расправиться. Слепой
поводырь тянул за собой в яму других, всю Россию».
Днем 25 октября участники Собора получили известие, что в
Петрограде власть взяли большевики. На следующий день и в Мос-
кве развернулась борьба за власть. Но в отличие от Питера, где все
обошлось без кровопролития, в первопрестольной гремела орудий-
ная, пулеметная и ружейная канонада. 4 ноября большевики в
Москве победили и заняли Кремль. А на следующий день, в вос-
кресенье, состоялись выборы патриарха. Жребий, по Божьей воле,
пал на митрополита Московского Тихона (Белавина).
Глава III
Велика истина и премогает
Имею желание разрешиться и быть со Хри-
стом, потому что это несравненно лучше; а
оставаться во плоти нужнее для вас.
Флп. 1,23-24.
ОЕЗД в Ульяновск прибыл через неделю. Это был район-
ный центр, что находился в ста километрах от Куйбышева,
Укуда из Москвы эвакуировалось правительство.
Как выяснилось, митрополиту Сергию даже негде было
остановиться. Начались лихорадочные поиски соответствующего
помещения. Однако все храмы оказались разрушенными. Бог весть,
каким чудом здесь уцелела лишь одна маленькая кладбищенская
церквушка, похожая на часовню, в которой служил молодой иеро-
монах. И тогда пришла идея: оборудовать под патриарши покои и
канцелярию бывший костел с примыкающим подсобным помеще-
нием, где когда-то жил ксендз.
Однажды управляющий делами патриархии Колчицкий обратил
внимание митрополита Сергия на двухэтажный особняк:
— В этом доме жила семья Ульяновых. А знающие люди гово-
рят, что директором гимназии, в которой учился Ленин, был отец
Керенского. Как странно, однако, все в жизни переплетено...
Действительно, в жизни все переплетено невидимыми нитями.
Судьбе не угодно было, чтобы они — Сергий и Ленин — хоть еди-
ножды встретились. Но то адское, разрушительное, что в 20-е и
‘Последующие годы произошло с Церковью, во многом было опре-
делено именно им, Ульяновым-Лениным, который, находясь в
плену марксовых представлений, считал религию не более, чем
зо
надстройкой над неким материальным базисом, опиумом для на-
рода. отжившим рудиментом.
2.
ТНОШЕНИЯ между новой властью и Церковью не ело-
|МУаУИ жились сразу же.
С одной стороны, Ленин решил покончить с Церковью
одним ударом, лишив ее собственности. Один за другим
сыплются декреты, которыми все церковные, монастырские зем-
ли. духовные семинарии, училища, академии и их имущество пе-
редавались в руки государству. А 20 января 1918 года принимается
декрет, лишающий Церковь всего имущества — движимого и не-
движимого — и права владеть им. Во исполнение его было отобра-
но сразу же почти шесть тысяч храмов и монастырей — как «особо
ценные памятники» истории и архитектуры, подлежащие перехо-
ду «под охрану государства». Были закрыты и все банковские счета
Церкви.
С другой стороны, Церковь не могла положительно относиться к
власти, программа которой была направлена на уничтожение рели-
гии. Большевики сами спровоцировали духовенство и верующих на
противоборство. Ведь еще до прихода их к власти Поместный Собор
отказывается от участия в политической борьбе, а в ноябре 1917
года обращается ко всему русскому народу с призывом покаяться в
грехе братоубийства, пророчески предупреждая, что мировое брат-
ство не построить путем всемирного междоусобия.1
В январе 1918 года патриарх Тихон обращается к народу: «...Ежед-
невно доходят до нас известия об ужасных и зверских избиениях ни
в чем не повинных... людей. Опомнитесь, безумцы, прекратите
ваши кровавые расправы... Властью, данною нам от Бога, запре-
щаем вам приступать к Тайнам Христовым, анафематствуем вас,
если только... хотя по рождению своему принадлежите к церкви
Православной...»
Далее, призывая верующих встать на защиту Церкви, но не при
помощи оружия, Тихон писал: «Архипастыри, пастыри, сыны мои
и дщери во Христе: спешите с проповедью покаяния, с призывом
к прекращению братоубийственных распрей... устройте духовные
союзы... которые силе внешней противопоставят силу своего свя-
то го воод у ш е вл е н и я...»2
В обращении нет ни единого слова о большевиках, о советской
власти. И тем не менее оно было расценено властью как призыв к
борьбе с нею.
Справедливости ради надо сказать, что Святейший восприни-
мал власть большевиков как угрозу не только Церкви, но и госу-
дарству Российскому. И зная это, некоторые из его ближайшего
окружения подбрасывали!! «дрова» в пылающий огонь.
В связи с первой годовщиной Октябрьской революции патри-
арх лично обращается к Ленину, а Синод — к Совнаркому с требо-
ванием прекратить кровопролитие и положить конец преследова-
ниям за веру. Ответ не заставил себя долго ждать. Явившиеся на
Троицкое подворье представители власти заявили, что Тихон зак-
лючается под домашний арест, деятельность Синода приостанав-
ливается, всякие посещения патриарха посторонними людьми и
проведение каких-либо собраний в доме запрещено?
Десятилетиями коммунистическая пропаганда утверждала, что
борьба Церкви с советской властью приобрела наиболее четкие,
ярко выраженные классовые формы в период гражданской войны,
что Церковь оказывала внутренней контрреволюции всемерную
идейную и материальную поддержку. К сожалению, иные истори-
ки и ныне придерживаются этого постулата.4
Между тем, Церковь стремилась к политическому нейтралитету,
который выражался, прежде всего, в призывах к противоборствую-
щим сторонам к милосердию, прекращению братоубийственной
бойни. Патриарх категорически отказал посланцу белых генералов
князю Г. Трубецкому дать хотя бы тайное благословение белой борьбе
и лично белым генералам. А ведь это было, когда войска Деникина
находились уже между Курском и Тулой, и в первопрестольной ожи-
дали их прихода со дня на день. Как глава Православной Церкви
Тихон не только не мог благословить братоубийство, им двигала
еще забота о пастве, которая была в рядах всех воюющих сторон.
Конечно, в рядах белой армии были иерархи и священники,
призывавшие к борьбе с Советами — «За святыни православные,
за веру и Отечество». Но это не означает, что они действовали с
• благословения патриарха или Собора.
Так, во время гражданской войны несколько епархий юго-вос-
тока России (Украина, Дон, Кубань) оказались без всякой власти
со стороны патриарха. И тогда по инициативе протопросвитера
Добровольческой армии Г. Шавельского в июне 1919 года в Ставро-
поле созывается Поместный Собор, на котором присутствуют 55
человек, почти половина из них — члены Московского Собора
1917—1918 годов. Все это было сделано без ведома патриарха, на-
ходившегося в Москве и не имевшего никаких сношений с югом.
Но если б Ставропольский Собор занялся только церковными
делами! Нет, он активно включился в различные политические глу-
пости, вроде «крестного хода» на Москву для освобождения ее от
большевиков и вызволения из плена Тихона. «Ну не безумие ли, —
думал; узнав об этом, Сергий, — с хоругвиями и иконами идти
через страну, полыхающую в пожаре гражданской войны. Крас-
ные, белые, зеленые, анархисты... да мало ли каких банд орудует
сейчас!.. И ради чего сей «крестный ход»? Ради своих политических
амбиций. Как можно так безрассудно рисковать жизнью людей?!»
Впоследствии такая «деятельность» не в меру ретивых отцов-со-
борян станет еще одним «доказательством» в деле по обвинению
Святейшего в «контрреволюционности».
В разное время в Добровольческой армии генерала Деникина, а
затем и барона Врангеля было порядка 30 архиереев. Однако боль-
шинство из них эмигрировало в общем белогвардейском потоке за
границу.
3.
ЧЛЕН Священного Синода, сформированного Поме-
^1Ж^СТНЫМ Собором, Сергий, возведенный в сан митрополи-
та в ноябре 1917 года, оказывает деятельную помощь пат-
риарху Тихону. И как прежде мудрость Сергия, его умение нахо-
дить компромиссы в самых сложных ситуациях позволяли нередко
избежать столкновения с властью, которая только и искала повода
для очередного наступления на Церковь.
Так было, например, в марте восемнадцатого года. Инструкция
наркомата юстиции о порядке проведения в,жизнь декрета «Об от-
делении церкви от государства и школы от церкви», окончательно
лишавшая духовенство всех прав по управлению церковным иму-
ществом и объявившая «двадцатки» мирян единственно полномоч-
ным органом на получение от государства в аренду культовых зда-
33 5^
ний и прочего церковного имущества, вызвала бурю негодования
в Соборе. Духовенство заволновалось, считая, что это приведет к
проникновению в церковные обшнны атеистов, проходимцев,
которые будут разлагать Церковь изнутри.
И тогда слово попросил митрополит Сергий, только что вернув-
шийся из Владимирской епархии. Указав епископам, что «мы всегда
приходим через пять минут после ухода поезда», он сказал:
— В условиях богоборческой власти и разворачивающихся кро-
вавых гонений только совершенно преданные Церкви миряне со-
гласятся пойти на подвиг взятия храма на свою ответственность у
государства. Члены «двадцаток» будут первыми, на кого власть
обрушит свои гонения. Поэтому вместо бесконечных словопрений
в Соборе лучше отправиться по епархиям и заняться выработкой
местных инструкций по применению новых законов.
Вчера я служил в соборе и настоятельно призывал прихожан не
медлить, подавать заявления и брать храмы на свою ответствен-
ность... Дело в том, чтобы в трудные для Церкви минуты ее храмы
и имущество взять на поруки. Время не ждет. Тянуть нельзя.
Выступление Сергия успокоило Собор.
Сергий, которому была чужда поспешность в решении сложных воп-
росов, своим ясным и трезвым умом понимал: политизация Церкви
может привести только к дальнейшему столкновению с властью, а
священнослужители могут быть зачислены в разряд мятежников. Пре-
одолевая внутреннее сопротивление — среди епископов были и те, кто
не желал никакого примирения с властью, — он сумел убедить Тихона
предпринять усилия к нахождению компромисса с государством.5
Так было, например, когда Собор намеревался резко выступить
против правительства, когда началось надругательство над святы-
ми мощами — вынос их из храмов.
— Ваше Святейшество, Ваши Высопреосвященства и Преосвя-
щенства, досточтимые отцы, — обратился к Собору митрополит
Сергий. — В отношении повторного обращения о святых мощах,
мне думается, надо повременить. Еще, во-первых, не везде успе-
ли исполнить распоряжение Святейшего Тихона об устранении во
всех храмах и монастырях всякого повода ко глумлению и соблазну
в отношении святых мощей. А во-вторых, желательно сейчас нео-
• Тложно снабдить пастырей Церкви соответствующими материала-
ми богословского осмысления существа понимания слова «моши».
Надо убеждать, что Церковь никогда не связывала поклонение чу-
додейственным мошам с обязательным наличием «целых» тел угод-
34
ников Божиих. Для Церкви святы любые дошедшие из глубин ис-
горип останки христианских святых. Об этом надо говорить и в
проповедях, и в печати, и при встречах с верующими. И еще.
Надо ли идти на новое обострение отношений с властью? Все же
сида на ее стороне, да и многие верующие с ней. Не используют
ли власти это обращение, чтобы вновь обвинить нас. по их терми-
нологии, в «контрреволюционности»? Может быть, пора хоть с
учетом обстановки продемонстрировать некоторую нейтральность?
Сделать какой-то примирительный шаг?
Сергий выступал последним. Закрывая заседание, Тихон пред-
ложил пока не принимать никакого решения относительно письма
в Совнарком, лучше еще раз обсудить, сказал он. И уже обраща-
ясь к Сергию, заметил: «Думаю, что вы в чем-то правы».
На следующий день в дом на 2-й Тверской-Ямской, где остано-
вился Сергий, пришел посланник от патриарха. Митрополита сроч-
но просили прийти в Троицкое подворье.
Патриарх Тихон был двумя годами старше митрополита Сергия.
Знакомы они еще по Петербургской духовной академии. Да и по
жизни шли почти одним и тем же путем. Тихон в свое время воз-
главлял Холмскую духовную семинарию, несколько лет служил
епископом Русской Православной Церкви в Северной Америке,-
архиепископом Ярославским, а накануне первой мировой войны
был переведен на Литовскую кафедру. Умеренный и терпимый по
натуре человек, Тихон тем не менее никогда не подстраивался под
власти предержащих. Интересы Церкви были для него превыше всего.
— Простите, владыко, за срочный вызов, но, думаю, вы меня
поймете. Ваши слова на вчерашнем заседании... те, о «контррево-
люционности» и «нейтральности», взволновали меня и прямо-таки
совпали с моими размышлениями.
— Ваше Святейшество, это как крик души. Власть обвиняет нас
в «контрреволюционности», арестовывает священников за самое
невинное критическое слово по случаю «политического момента».
— Не верит, точнее не хочет верить нам власть. Вот иуде Шпиц-
бергу. окопавшемуся в проклятом восьмом отделе наркомюста, и
бывшему петроградскому священнику Галкину, который сейчас в
услужении ЧК, верят.
— Ваше Святейшество, может, обратиться с посланием к па-
стве? Разъяснить, как быть духовенству, как к властям сушим от-
носиться.
— Я как раз об этом и думал. Вот даже текст набросал. Прочтите.
То было послание от 8 октября 1919 года к православному клиру
и мирянам о невмешательстве в политическую борьбу и стало пер-
вым публичным шагом патриарха к признанию новой власти в Рос-
сии.
Осуждая братоубийство. Тихон заявил, что Церковь не может
благословить никакое иностранное вмешательство в судьбу России,
ибо «никто и ничто не спасет Россию от нестроения... пока сам
народ не очистится в купели покаяния от многолетних язв своих...»
И далее: «...Много уже из архипастырей, и пастырей, и просто
клириков сделались жертвами кровавой политической борьбы. И
все это, за весьма, может быть, немногочисленными исключени-
ями, только потому, что мы, служители и глашатели Христовой
Истины, подпали под подозрение у носителей современной влас-
ти в скрытой контрреволюции, направленной якобы к ниспровер-
жению советского строя. Но мы с решительностью заявляем, что
такие подозрения несправедливые: установление той или иной фор-
мы правления не дело Церкви, а самого народа. Церковь не свя-
зывает себя ни с каким определенным образом правления, ибо
таковое имеет лишь относительно историческое значение».
Однако подобные меры со стороны Церкви не встречали соот-
ветствующей ответной реакции государства. Напротив, на Цер-
ковь обрушивались все новые и новые запреты, ограничения. Ме-
стным властям разрешалось закрывать храмы, если эти здания тре-
буются для «иных целей», распускать религиозные общества, если
их члены будут замечены в «политической неблагонадежности и
антисоветской деятельности».
Попытки верующих и духовенства оказать сопротивление обора-
чивались новыми арестами, судами и высылкой в лагеря или под
надзор.
4.
БОЧИЕ, крестьяне, все трудящиеся, все честные граж-
дане Московской губернии. Больше 7 месяцев вы каждый
день слышите о голоде, о мучениях 30 миллионов кресть-
ян. Больше 7 месяцев перед вами развертываются все более страш-
ные картины той борьбы за свою жизнь, которую ведут погибаю-
36
щие. Съели все остатки. Стали есть падаль, молотую солому, кору,
листья, траву, коренья, ветки. Стали есть глину, землю, опил-
ки, грызть старую кожу и овчину. Съели не только весь скот, но и
навоз, оставшийся после него в хлевах. Съели соломенные кры-
ши. Съели собак, кошек, мышей, сусликов. Грызут все. что
поддается зубам, хотя бы ни одной пылинки в этом не было пита-
тельных веществ.
Погибающие люди нашли себе еще один вид пиши. Стали есть
трупы. Выкапывают из могил. Крадут из сараев и амбаров... Уста-
новлены случаи убийства и съедания родными больных, слабых
стариков, детей...
Люди обезумели от мук. Потеряли человеческий образ. Потеря-
ли силы. Матери убивают детей, чтобы не видеть их мучений.
Смертность растет и растет...
Это выдержка из листовки Московского комитета РКП/б/, да-
тированной мартом 1922 года.6
Между тем, еще летом 1921 года был создан Всероссийский цер-
ковный комитет помощи голодающим. Во всех церквах начали со-
бирать пожертвования. Но тут последовало распоряжение прави-
тельства: церковный комитет закрыть, собранные средства пере-
дать правительственному комитету помощи голодающим (Помго-
лу).
25 февраля 1922 года патриарх Тихон пишет председателю ВЦИК
Калинину: «Православная Церковь еще с июля прошлого года уси-
ленно стремилась на работу для помощи голодающим, испрашивая
разрешения Правительства... и, если бы ей дано было развить свою
деятельность, м. б., мы не были бы свидетелями переживаемых
ныне ужасов голода, т. к. больше всего в России православного
населения, и больше всего это население верит и доверяет своим
духовным руководителям... Но ... мы не удостаивались ответа до 9
декабря прошлого года, когда, наконец, в чрезвычайно узких рам-
ках нам было дозволено прикоснуться к этой работе».
Когда же в феврале была достигнута договоренность о том, что
церкви будут отдавать драгоценности, не имеющие богослужебно-
го употребления, в печати вдруг начались озлобленные нападки на
Церковь. Затем последовало постановление ВЦИК. Оно предпи-
сывало местным Советам изымать уже все драгоценности без вся-
кого исключения, а об участии духовенства в комиссиях не было и
речи.
В том же письме Калинину патриарх указывает: «Нас обвиняют
в «алчности золота». Но при чем тут алчность, когда мы в полной
неприкосновенности храним из глубины веков дошедшие до нас
сокровища, имеющие значение святыни или историческое, и хо-
тим сберечь их до будущих веков, и, наоборот, все, что не имеет
такого значения, сейчас же допускаем верующим отдать на по-
мощь голодающим, как имеющее ценность только по материаль-
ной стоимости».7
Однако большевиков заботили не столько судьбы голодающих,
сколько стремление извлечь выгоду из трагедии для своей власти,
скомпрометировать Церковь в глазах народа. Свидетельством тому
— письмо Ленина Молотову от 19 марта 1922 года.
Вождь мирового пролетариата, в частности, пишет: «... Для нас
данный момент представляет из себя... единственный момент, когда
мы можем 99-ю из 100 шансов на полный успех разбить неприяте-
ля наголову... Именно теперь и только теперь, когда в голодных
местностях едят людей и на дорогах валяются сотни, если не тыся-
чи трупов, мы можем (и поэтому должны) провести изъятие цер-
ковных ценностей с самой бешеной и беспощадной энергией. Взять
в свои руки фонд в несколько сотен миллионов золотых рублей...
мы должны во что бы то ни стало. А сделать это с успехом можно
только теперь... ибо никакой иной момент, кроме отчаянного го-
лода, не даст нам такого настроения широких крестьянских масс,
который бы либо обеспечивал нам сочувствие... либо, по крайней
мере, обеспечивал бы нам нейтрализование этих масс...
... Мы должны именно теперь дать самое решительное и беспо-
щадное сражение черносотенному духовенству и подавить его со-
противление с такой жестокостью, чтобы они не забыли этого в
течение нескольких десятилетий»?
И это после того, как Церковь была уже обобрана почти до нит-
ки по декрету от 20 января 1918 года!
В конце марта митрополит Сергий встречается с патриархом.
Он внимательно вглядывается в лицо Тихона. Крупный толсто-
вский нос, серые усталые глаза, пепельная борода — обыкновен-
ное мужицкое лицо. Но одновременно огромной серьезностью и
спокойствием веяло от всего облика патриарха, который вызывал
в памяти образ Николая Угодника — «деревенского» русского свя-
того. ”•
Разговор зашел об изъятии церковных ценностей, в ходе кото-
рых произошли столкновения верующих и властей.9 Оба считали,
что необходимо убедить пастырей и паству не оказывать сопротив-
ление властям. Патриарх с горечью заметил, что своим обращени-
ем, которое вышло после постановления ВЦП К, он не имел в
виду призвать верующих и духовенство к сопротивлению. Но если
его где-то поняли не так, то это ошибка.
После встречи митрополит Сергий обратился к пастве с посла-
нием, в котором, в частности, говорилось: «Патриарх, указав нам
в своем послании церковные правила, ограждающие неприкосно-
венность священных сосудов для житейского употребления, не еди-
ным словом не призвал нас к какому-либо определенному выступ-
лению: ни к протестам, ни еще менее к защите наших святынь
насилием. Его послание только предостерегает нас же относиться
с легким сердцем к изъятию церковных вещей, когда есть их чем
заменить, то есть когда наши собственные драгоценности остаются
при нас».
Одновременно этим посланием митрополит Сергий рассчиты-
вал отвести тучи, начавшие сгущаться над головой патриарха. И
все же вину за сопротивление верующих власть возложила на пат-
риарха и Церковь.
26 апреля 1922 года в Москве, в Политехническом музее, на-
чался процесс над духовенством. Более пятидесяти человек обви-
нялись в противодействии декрету об изъятии. В качестве свиде-
теля привлекался и патриарх. Трибунал потребовал привлечь его к
судебной ответственности. 9 мая Тихон был заключен под домаш-
ний арест с подпиской о невыезде. В ряде городов арестовали и
заключили под домашний арест наиболее видных и авторитетных
иерархов Православной Церкви.
Арест патриарха, судебные процессы над духовенством, массо-
вые репрессии против верующих — все это повергло общество в
шок. 2691 священник, 1962 монаха, 3447 монахинь и большое
число мирян были расстреляны по приговору «судов» или погибли
во время кровавых инцидентов.10
Что же до сотен миллионов рублей, о которых говорил Ленин,
то, по сообщению газеты «Известия», было собрано всего 21 с
небольшим пуд золота и 23 тысячи пудов серебра. Есть сведения,
что часть драгоценностей прибрали к рукам «ловцы жемчуга», как
в народе окрестили тех, кто занимался изъятием ценностей.
39
5.
1928 ГОДУ во французском журнале «Ревю универсаль»
жРКГ было напечатано письмо без подписи, адресованное И.
Бриттану, бывшему депутату Моссовета, высланному в
1922 году за границу. По мнению исследователей, да и сам
Бриттан на то указывает, автор его Бухарин — «любимец партии»,
по выражению Ленина. Политический циник — так правильнее
было бы аттестовать его, о чем свидетельствует текст письма.
Хотя теперь письмо полностью опубликовано в «Нашем совре-
меннике»11, мы приведем некоторые выдержки из него, прямо го-
ворящие, что не забота о Пахоме (как уничижительно называется в
письме народ) двигала большевиками: упоенные властью и опья-
ненные кровью, они объявили войну русскому народу, Церкви
ради победы «мировой революции».
«...У нас нет никакой «советской власти», никакой «диктатуры
пролетариата», никакого «рабоче-крестьянского правительства»,
никакого доверия к нашей дурацкой партии, а есть лишь очень
небольшой орден вождей грядущей в мир социальной революции...
Россия? Что такое Россия?
... Для меня; для нас это — только географическое понятие,
кстати сказать, нами, без малейшего вреда для революции, с ус-
пехом упраздненное; для меня это — тоже слово, но —- старое,
никому не нужное и сданное поэтому в архив мировой револю-
ции, где ему и место. 0
Для меня современная Россия, т. е. С.С.С.Р. это — случайная,
временная территория, где пока находимся мы и наш Коминтерн...
Как вы не понимаете, что то, что дорого вам, как абсолютная
самоцель («Россия», «Русь»), нас интересует лишь постольку, по-
скольку речь идет о материале и о средствах для мировой револю-
ции? Нам нужны — прежде всего более или менее прочный кров,
а затем — деньги, как можно больше денег.
Для того, чтобы получить денежки, мы не только дважды обо-
брали (и еще двадцать два раза оберем!) девяносто процентов Рос-
сии, но и распродадим ее оптом и в розницу, потому что... вся
она к нам с лихвой вернется в желанный час мировой революции,
во имя которой «все дозволено»...
Да, ваша Россия, конечно, погибнет: в ней теперь нет ни одно-
40
го класса, коему когда-либо и где-либо жилось пакостней, чем в
нашем совдеповском раю... Мы не оставили камня на камне от
многовековой постройки «государства российского»; мы экспери-
ментируем над живым, все еще, черт возьми, живым народным
организмом... Но вчитайтесь хорошенько в обе наши конституции:
там откровенно указано, что нас интересует не советский союз и
его части, а борьба с мировым капитализмом, мировая револю-
ция, для которой мы жертвуем и будем жертвовать и страной, и
собою... без малейшего сожаления и сострадания к тем, кто нужен
в качестве удобрения коммунистической нивы для будущего уро-
жая...
...Шум и треск, подымаемый нашими резолюциями, протеста-
ми, воззваниями и другими изобретениями коммунистической ре-
жиссуры, так велик, что заглушает собой стоны и вопли наших
жертв...
Страна, изможденная войнами, мором и голодом (средство,
конечно, опасное, но зато — великолепное!), и пикнуть не смеет
под угрозой чеки и так называемой армии...
Да, забавная комбинация — эта самая ваша Русь! Мы сами часто
диву даемся, глядя на ее пресловутое «долготерпение»... Черт зна-
ет, что делаем, а все благополучно сходит с рук, как будто все так
и надо! ...почитай, нет в России ни одного дома, у которого мы
прямо или косвенно не убили мать, отца, брата, дочь, сына или
вообще близкого человека...
...Мы обобрали церковь, как липку, и на ее «святые ценности»
ведем свою мировую пропаганду, не дав из них ни шиша голодаю-
щим... мы заменили требуху филаретовского катехизиса любезной
моему сердцу «Азбукой коммунизма»12, закон божий — политгра-
мотой, посрывали с детей крестики да ладанки, вместо икон по-
весили «вождей» и постараемся для Пахома и «низов»13 ...открыть
мощи Ильича под коммунистическим соусом...
«Народ безмолвствует»... И будет молчать, ибо он... не «тело
Христово», а стадо, состоящее из скотов и зверей... Нет, человек
это — страшная сволочь, и нам с ним хлопот полон рот, особенно
теперь, когда, вместо того чтобы голодать во имя будущего, он,
черт его побери, изредка брыкается, заставляя нас тратить много
сил, а главное — золота, на его околпачивание и на ежовые рука-
вицы.
Человек? вне нашего ордена нет никаких человеков, а есть толь-
ко «вриды»... — временно исполнявшие должность сих существ.
... На Россию мне наплевать...
ИБО Я - БОЛЬШЕВИК!!»
Какие тут нужны комментарии?!.
Нет никаких сведений, что митрополит Сергий был знаком с
этим письмом. Но то. что он вел переписку с представителями
Православной Церкви за рубежом, дает основание полагать, что
владыка мог знать о существовании письма и о его содержании.
По крайней мере, его позиция — тому свидетельство. Сергий ни-
когда не восхвалял советскую идеологию или общественный строй.
Он просто заявлял, что это должно быть принято как факт. Следо-
вательно, необходимо, «оставив свои политические симпатии дома,
приносить в Церковь только веру и работать... во имя веры».
Глава IV_____________________________
Стяжи мирный дух
Не явил еще Господь миру вполне его (пат-
риарха Сергия) сокровенного подвига. Он
продолжает нести и по смерти тяготу непони-
мания от многих, а часто и откровенной лжи.
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин).
1.
(^^цЕСНОЙ 1922 года молодого преуспевающего протоиерея
]^1ст1^лександРа Введенского пригласили в Смольный. Руково-
Лйягдитель петроградских большевиков Зиновьев знал, что его
собеседник — человек идейно и морально неустойчивый, вместе с
тем — блестящий оратор. Внук еврея-выкреста, принявшего пра-
вославие (отсюда и фамилия Введенский — по церкви, где его
крестили), сын директора Витебской гимназии, выпускник ист-
фила Петербургского университета, имевший дипломы консерва-
тории и духовной академии, Введенский был тщеславен, любил
почести.
Мефистофельская бородка, нос с горбинкой, торчащие черные
волосы, полуоткрытый рот, гортанный голос, обрывистый говор,
резкие движения — таким предстал Введенский перед Зиновьевым.
Натура психологически неуравновешенная — эдакое романти-
ческое и невротическое порождение декадентского «серебряного
века», Введенский и службу вел примерно в такой же манере, как
поэты-декаденты читали свои стихи, временами доводя себя чуть
ли не до транса. Религиозность его была непритворной. Как жена-
тый священник и человек сатанинского честолюбия, он ненави-
дел монахов и полагал делом своей жизни утвердить брачность епис-
копата.
Примечательно, что будучи женатым, он имел столько любов-
43
ных похождении — вокруг него всегда вились экзальтированные
левины и дамы. — что останься он в лоне традиционной Церкви,
его лишили бы сана только за одно это.
Один любопытный факт. Когда Введенский умер в 1946 году, в
церкви у гроба находились все три его жены. Тут же стояла, как
вспоминал профессор Московского госуниверситета Козаржевский.
и Колонтай: в черном платье с орденом Ленина на груди и букетом
красных роз.1
Все знали, что Введенский любит щегольнуть. В конце 30-х его
квартира в Сокольниках, по словам очевидцев, напоминала худо-
жественный салон. Здесь висели картины Брюллова, Коровина,
Поленова и других мастеров. Здесь нередко бывали артисты Кача-
лов, Завадский... Каждое утро по часу-полтора он музицировал,
порой на пару с Гинзбургом.
О себе Введенский заявил еще в 1910-х годах. Тогда в одном
светском либеральном журнале он опубликовал несколько статей о
религиозных представлениях и взглядах российской интеллигенции.
По его мнению, интеллигенция на 90 процентов была либо атеис-
тична, либо равнодушна к религии, и чтобы вернуть ее в лоно
Церкви, необходима радикальная реформа.
Что же касается его политических взглядов... Флюгер.
Движимый патриотизмом, Введенский во время первой миро-
вой войны служит армейским священником, ведет в солдатской
среде беседы о пользе царизма и весьма ярко при этом выступает
против социализма и большевиков.
Но пришли к власти большевики, и он уже заявляет, что марк-
сизм — это «Евангелие, изложенное атеистическим языком».
Во время одной из встреч Зиновьев намекает Введенскому, что
его группа — Союз общин древнеапостольской церкви — вполне
может рассматриваться как основа для будущего соглашения между
государством и Церковью. Это льстило самолюбию тщеславного
священника. Его заметили. Власть рассчитывает на него.
Создавая «свою», прирученную церковь, власть действовала хитро
и изощренно, привлекая на свою сторону даже полярных по взгля-
дам людей.
Например, другой лидер обновленцев Владимир Красницкий —
автор брошюры «Социализм как дело рук сатаны». При заверше-
нии Петербургской духовной академии в кандидатском сочинении
он называет социализм еврейской уловкой. Еще студентом являет-
ся членом монархической организации «Союз русского народа».
44
Летом семнадцатого ратует за воину до победного конца, чтобы
утопить большевиков в их собственной крови.
Введенский удивлялся: «Хотел бы я знать, откуда взялся этот
тип. Никогда он ни с кем из наших дело не имел — и вдруг по-
явился...»
Отнюдь не вдруг появился Красницкий среди раскольников-об-
новленцев. Если Введенского обхаживал Зиновьев, то ключи к
карьеристу-батюшке подобрали работники ГПУ, сделав его своим
агентом. Он этим даже бравировал.
В стане обновленцев заметной фигурой был и епископ Антонин
(Грановский). Высоченный, два с лишним метра, угрюмый, внут-
ренне надломленный — таким изобразил его Павел Корин в серии
«Уходящая Русь».
Еше в 1905 году Антонин заявил в проповеди, что самодержавие
— исчадие сатаны. Убежденный противник монархии, с 1906 года
твердо придерживается идеи христианского социализма и искрен-
не верит, что Советская власть эту идею и воплощает в жизнь. В
проповедях он превозносил Советы за то, что они «перевернули
всю страну», с большим энтузиазмом воспринял декрет об отделе-
нии Церкви от государства, горячо поддержал кампанию по изъя-
тию церковных ценностей. Он в совершенстве владел искусством
проповеди. Однако, по свидетельству очевидцев, проповеди про-
износились в довольно грубой манере и отличались весьма соле-
ным юмором.
В основе церковной реформы Антонина — неразделимость ду-
ховенства и прихожан. В этих целях он переместил престол в центр
храма, самолично создал две литургии, переработав наиболее важ-
ные, на его взгляд, мотивы и фрагменты традиционных литургий.
Это о нем потом скажут: «Жил — чудил и помирал — чудил». А
начудил в жизни Антонин немало. В 90-е годы, будучи смотрите-
лем Донского духовного училища, он выдрессировал медведя и
ходил с ним, приводя в ужас людей. Во время Поместного Собо-
ра в 1917 году бродил по Москве в рванье и все жаловался, что его
забыли, что о нем никто не заботится. Когда его отпевали в хра-
ме, дьякон вдруг рыкнул, и тут из гроба восстал Антонин и гово-
рит: «А я жив». Прожил потом еще месяца два-три.
Таковы были «вожди» новой церкви.
45
2.
'^mr^A к 1921 году стало ясно, что Русская Православная
Церковь, несмотря на наброшенную петлю, умирать не
собирается, власть решила подорвать ее изнутри. И заду-
мано все это было в недрах ГПУ по принципу: разделяй и
властвуй. Позднее сам Введенский признавался, что стратегия и
тактика обновленчества планировалась в специальном отделе ГПУ,
который возглавлял Тучков. О том же читаем и в письме Бухари-
на: «...При Г.П.У. мы воздвигли свою «церковь» при помощи пра-
вославных попов...»2
А происходило все это по указанию партии. Так, в решении
политбюро от 20 марта 1922 года записано: «... внести раскол в
духовенство, проявляя в этом отношении решительную установ-
ку» и рекомендуется взять под защиту тех священников, которые
открыто выступают против патриарха Тихона.
Между тем большевики не скрывали, что их «брачный» союз с
обновленцами временный, вынужденный. Так, член ЦК и ведущий
идеолог партии Скворцов-Степанов писал, что пока расколы в Цер-
кви отвечают интересам коммунистов, но в принципе они против
любой религии и со временем развернут борьбу с ней, как с таковой.3
Сигналом к наступлению обновленцев стало заключение 6 мая
1922 года под домашний арест патриарха Тихона.
В те майские дни делегация обновленцев с ведома ГПУ трижды
приходила к патриарху и в конце концов уговорила его передать им
на время, до прояснения ситуации, церковное управление. А до-
бившись этого, тут же организовали новую церковную власть —
Высшее Церковное Управление (ВЦУ). Так произошел раскол.
Обновленцы заявили о своей политической лояльности власти
большевиков и поддержке курса государства, а также призвали всех
своих сторонников устранять от власти «контрреволюционное ти-
хоновское» духовенство и готовиться к созыву Поместного Собора.
Обновленческий вал катился по России. К июлю из 73 епархи-
альных архиереев половина уже поддерживала ВЦУ.
Но «вождям» обновленцев очень хотелось привлечь на свою сто-
рону авторитетных иерархов. В частности, митрополита Сергия.
Между тем, это была не первая попытка. Еще в 1920 году Луна-
46 Q
чарский направил Ленину несколько писем об изменении полити-
ки партии и государства в религиозном вопросе. Он предлагал от-
дельных прогрессивных представителей духовенства привлечь, при
соответствующем воздействии, к советской работе. Весной 1921
года, например, Луначарский хлопотал перед Дзержинским осво-
бодить из Бутырок митрополита Сергия, намекая на возможность
использовать его — одного из столпов Православной Церкви — в
«советских целях». В Чрезвычайке же посчитали Сергия «не го-
жим» для подобных целей, и свой срок он отсидел до конца.
Да и вообще идея «советской церкви» не нашла поддержки у Дзер-
жинского. По этому поводу он высказался так: «Считаю, что офи-
циально или полуофициально иметь дело с попами не следует».
Теперь же ситуация изменилась.
Однако у обновленцев не было уверенности, что митрополит
Сергий примет их сторону. И тут на помощь приходит ГПУ. Вла-
дыку в административном порядке высылают в Нижний Новго-
род. И сразу же во Владимирской епархии развивают бурную дея-
тельность обновленцы.
Сергий понимал: если на его место назначат епископа-обнов-
ленца, то раскола среди духовенства и верующих не избежать. Пока
же его епархия была одним из бастионов патриаршей Церкви.
В мучительных раздумьях он, как ему кажется, принимает един-
ственно верное решение: совместно с архиепископом Нижегород-
ским и Арзамасским Евдокимом (Мещерским) и архиепископом
Костромским и Галичским Серафимом (Мещеряковым) подписы-
вает воззвание в поддержку обновленцев.
Позднее Сергий и Серафим признавались, что пошли на этот
шаг в надежде возглавить ВЦУ и повернуть его в каноническое рус-
ло, «спасти положение Церкви, предупредить анархию в ней».4
3.
Ф^кЖ?ДНАКО последствия этого шага были печальны. Вот что
писал в биографической статье «Патриарх Сергий и об-
$1^!<^>новленчсский союз» архиепископ Мануил (Лемешевский):
«Многие из архиереев и духовенства рассуждали наивно и
примерно так: уж если мудрый Сергий признал возможным подчи-
47
ниться ВЦУ. то ясно, что к мы должны последовать его примеру.
И переходили, в тот сравнительно небольшой отрезок времени,
массами в обновленчество. Я уже не говорю здесь о рядовом духо-
венстве, когда десятки архиереев ринулись в обновленчество и тем
приумножили и укрепили ряды церковно-обновленческой власти».
Вскоре развитие событий показало, что слова активистов-об-
новленцев расходятся с делом, что в состав «обновленческого епис-
копата вливаются всякого рола дегенераты, пьяницы, двоежен-
цы, карьеристы, авантюристы».5
Митрополит Сергий письменно выражает свое несогласие с кур-
сом ВЦУ. Резкий протест его вызвало решение, допускающее вто-
рой брак для священников и брак для епископов.
Разразился скандал. И опять на помощь раскольникам пришла
власть. Антирелигиозная комиссия при ЦК ВКП(б) постановила:
«Епископа Сергия оставить в прежнем положении опального».
Кроме того, комиссия поставила перед ГПУ задачу: приступить к
допросам митрополита по поводу его активной деятельности во
времена Поместного Собора 1917—1918 годов и в качестве члена
Священного Синода, после чего, собрав обличительный матери-
ал, привлечь в качестве обвиняемого по «делу» патриарха Тихона.
Как ни странно, членом «верхушки» обновленцев был и бывший
обер-прокурор Синода Львов, но его привлекать за это власти не
считали нужным.
В начале 1923 года Сергия вновь высылают в Нижний Новгород,
где изолируют от всякой церковной и общественной жизни. Он
фактически заточен в монастыре без права выхода за стены обители.
«...Темничные узы для него были такими, — пишет в своих
воспоминаниях митрополит Литовский Елевферий (Богоявленс-
кий), который в конце 20-х годов был приглашен Сергием в пат-
риархию и общался с ним неделю, — о которых он рассказывает
всегда с приятной на лице улыбкою. Ни тени огорчения или уко-
ра кому-либо. Кажется, он желал их, чтобы с избытком, если
только можно говорить здесь о духовной вере, чтобы покрыть свое
грустное прошлое и возрастать духовно — в память об уходе в об-
новленческий раскол. Ни разу даже не обмолвился он мне о тя-
жести тюремного заключения, как будто его он и не чувствовал.
Это от,того, по его словам, что день и вечер он расположил для
боюслужебного или, так сказать, келейного, молитвенного под-
вига применительно к тем часам дня и вечера, когда он выполня-
ется на свободе.
48
Ему приходилось почти всегда жить в одиночных камерах, в ко-
торых находились койка, стол и стул. Духовно наполнялся весь
день, все время отдавалось духовному делу. Поэтому проходило
оно сравнительно незаметно. А главное — в душе не было ни раз-
дражения, ни озлобления».
Большевики изолировали его от мира. Но что для него, бого-
слова, живущего догмами Церкви, темничные узы. Богомыслие
стало неотъемлемым качеством его духа.
Еще студентом он понял, что в изменчивом и текущем мире
одна Церковь остается неизменной, непоколебимой, она должна
возжигать в людских сердцах все тот же божественный огонь, со-
шедший в день Пятидесятницы на апостолов. И так как мир уп-
равляется Промыслом Божиим, то нет в нем ничего, что находи-
лось бы вне его божественной воли.
Для христиан, считал Сергий, не может быть ничего случайно-
го в происходящем, ничто не должно их смущать, приводить в
замешательство или в отчаяние. Господь посылает беды житейские
не для того, чтобы они, пригнетая тело, пригнетали и дух, но
чтобы, напротив, чем более пригнетается тело, тем более проры-
вался дух на высоту. Когда же человек мечтает вознестись на высо-
ту благополучия и славы, не неся креста своего, то его высота
всегда оказывается мнимой, по слову еще древнего пророка: «по-
никнут гордые взгляды человека и всякое людское унизится, и один
Господь будет высок в тот день» (Исаии 2,11).
Тогда, в 1923-м, сидя в темнице, митрополит Сергий начал
составлять акафист в честь Владимирской иконы Божией Матери.
Причем, никогда прежде он не писал стихов, а тут акафист стал
выливаться в стихотворной форме.
То, что владыка взялся за составление акафиста Божией Мате-
ри, не было случайным. Размышляя о различии.природы и лично-
сти, он сформулировал догматическую основу православного по-
читания Богоматери — совершенной человеческой личности, един-
ственной, достигшей той полноты, к которой призвано творение.
По преданию, образ Владимирской Богоматери писан апосто-
лом Лукой и доска, на которой она изображена, взята от стола,
что находился в жилище Иосифа и Богоматери в отроческие годы
Иисуса Христа. В XII веке она была перенесена в женский мона-
стырь в предместье Киева, а в 1155 году — во Владимир. Икона эта
прославилась дарованием побед русским воинам над врагами.
В начале 20-х годов, уже при Советах', была проведена расчис-
49
тка всех поздних наслоений с первоначального образа Владимирс-
кой Богоматери из Успенского собора Московского Кремля. Тогда
же один из реставраторов снял с нее три копии в размер оригина-
ла. Комиссия специалистов, возглавляемая крупнейшим знатоком
и исследователем в области иконографии А. И. Анисимовым (по-
гибнет потом на Соловках), отобрала лучшую копию и преподнес-
ла ее Святейшему патриарху Тихону. После его кончины она пере-
шла к митрополиту Сергию и хранилась в патриархии.
Жизнь христианина есть путь для истины, добра и счастья. Имен-
но поэтому в человеке заключено стремление к идеалам правды.
Но чем же, какими принципами руководствуются те, кто предпо-
чел истине — ложь, добру — зло, счастью — страдания?!
Взять хотя бы тот же отдел Наркомюста, возглавляемый Краси-
ковым. Казалось бы, каковы его функции: проведение в жизнь
декрета об отделении Церкви от государства. А что на деле? С са-
мых первых своих шагов отдел пошел на обострение отношений с
Церковью. Просто удивительно, где они, большевики, набрали
«научно-атеистических» шарлатанов вроде Шпицберга.
Митрополит Сергий вспомнил, как в восемнадцатом году в «Пет-
роградском Церковно-Епархиальном вестнике» наткнулся на замет-
ку: «... Пришел адвокат Шпицберг и сказал: Бог-буржуй! И насту-
пило атеистическое сумасшествие народа, представители которого
в припадке религиозного помешательства стреляют в Причастие,
иконы, духовенство...»
Тогда же он поинтересовался, кто же этот Шпицберг. Оказыва-
ется, в прошлом чиновник Синода по бракоразводным процессам.
А теперь — первый из штатных антицерковных говорунов-демагогов.
Или вот другой «столп» научного атеизма, пресловутый петро-
градский «батюшка» Галкин. Поп-ренегат, чьи злобные статьи
не сходили тогда со страниц большевистской прессы и были на-
полнены призывами к расправе с духовенством.
Ну и конечно же, самый главный безбожник еврей Губельман
(Ярославский), который бесконечно жалит, грызет, кусает, истя-
зает, оплевывает Православную Церковь.
Так грубая сила надругается над нравственной, унижает и пре-
следует провозвестников истины и света.
4.
В ЭТО время обновленцы активно готовятся к своему По-
местному Собору, который назначен на апрель 1923 года.
ъ&Дод На нем они решили низложить патриарха Тихона. Еще в
августе 1922-го они пытались возвести Антонина (Грановс-
кого) в митрополиты Московского и всея Руси.
Личные переживания Сергия слились с тревогой за судьбу Рус-
ской Православной Церкви, возглавляемой кучкой узурпаторов.
Он молча отходил от обновленцев, а своим доброжелательным от-
ношением к вверенному ему духовенству и мирянам избавил их от
репрессий, что имело место во многих епархиях. К тому же его
никто не мог упрекнуть в том, что он занимался уничижением че-
стного имени Святейшего патриарха Тихона. От той раскольничь-
ей деятельности, что вели обновленцы, он стоял в стороне.
В конце июня патриарх был освобожден из-под стражи. Тогда
же обрел свободу и Сергий. Он спешно выезжает в Москву и пред-
принимает попытки встретиться с Тихоном.
И вновь обратимся к биографической статье Мануила.
«Труден был этот шаг покаяния для такого могикана богословс-
кой мысли, колосса богословского всеведения, мощного полета
богословествования. Но другого выхода не было. Надо было идти
на свою Голгофу искупления своей вины и своего преступления
перед Русской Православной Церковью и ее предстоятелем
Свя[тейшим] патр[иархом] Тихоном. Это был путь в Каноссу Дон-
ского монастыря... Он договорился с первоиерархом, и в день праз-
днования Успения Пречистыя [Богоматери] в Донском монастыре
за 3-м часом вышел величественный седой старец без панагии, в
простом монашеском клобуке, следом за ним несли на блюде па-
нагию с крестом и белый клобук, и особо посох святительский.
На первый взгляд знатоков для истории обновленческого раско-
ла стало бы непонятным, почему патриарх Тихон, олицетворение
любви безграничной и милости бесконечной, применил такие стро-
гости к сему старцу, когда других, отпадавших в обновленчество
архиереев, принимал в своей келье и келейно прощал содеянный
ими грех от Матери-церкви. Конечно, он поступил правильно.
Ведь недаром говорится, что «большому кораблю большое плава-
ние». А он был кормчим большого корабля, он был «ума палата»,
г
он был иерарх выдающийся, а не посредственный. Имя его. как
мудрого водителя, как человека, обладавшего глубоким истори-
ческим познанием, как колосса богословской мысли, корифея
богословской науки, как могикана церковного опыта, как чело-
века глубокого анализа, обладателя великого ума и феноменаль-
ной памяти, короче говоря, как человека великого и исключи-
тельного. знаменитого в истории нашей Церкви. Всеми этими
качествами, достижениями и вкладами он достиг в среде своих
собратьев по архипастырству явного преимущества. Даже скром-
ный Святейший Тихон признавал, что владыка Сергий давил
окружающих своим интеллектом, давил своими глубокими зна-
ниями во всех областях и многообразных дисциплин богословия и
языкознания.
Вот потому-то Святейший Тихон и обставил чин покаяния и
приема митрополита Сергия в соответствующей величественной
обстановке, давившей на его неложное смирение и сокрушение
сердечное.
И вот, этот отец всех чаяний русской современной богословс-
кой мысли, этот неутомимый исследователь во всех областях бого-
словия всемирного стоит на амвоне, лишенный моментом покая-
ния и архиерейской мантии, и клобука, и панагии, и креста.
Кланяется низко Святейшему Тихону, восседавшему на кафедре,
в сознании своего полного уничижения и признанной им вины
приносит он дрожащим от волнения на этот раз негромким голо-
сом свое покаяние. Он припадает до пола и в сопровождении пат-
риарших иподиаконов и архидиаконов тихо сходит и приближается
к вершителю его судьбы, к кроткому и всепрощающему Святей-
шему] Тихону. Снова земной поклон. Постепенно вручаются ему
из рук Святейшего панагия с крестом, белый клобук, мантия и
посох. Патриарх Тихон в негромких словах тепло, со слезами при-
ветствует своего собрата во Христе взаимным лобзанием, и, пре-
рванное чином покаяние, чтение часов возобновляется.
Все тяжелые переживания стыда и муки раскаяния остаются от-
ныне позади. Митрополит Сергий участвует в сослужении с пат-
риархом Тихоном за божественной всепримиряющей литургией.
Были среди присутствовавших на этом чине покаяния такие,
которые говорили: «Видали мы приносимые покаяния от духовен-
ства. изредка от архиерея, но такового покаяния не знали и не
слыхали». Сколько нужно гражданского и просто духовного муже-
ства такому великому человеку, каким был владыка Сергий (и ка-
кнм воистину мнили его многие верующие), чтобы при перепол-
ненном храме молящимися принести публичное признание своей
вины и попросить прощение».
После покаяния и возвращения в патриаршую Церковь владыка
Сергий получает назначение в Нижегородскую епархию и снова
входит в состав Священного Синода.
ЕРЯЯ почву под ногами, обновленцы все более скатыва-
лись к политическим приемам борьбы, не брезгуя доноса-
ми. Они призывали власть применить репрессии против
«церковной контрреволюции», с корнем вырвать «поли-
тическую заразу», как они называли «тихоновцев».
Одновременно, чтобы привлечь внимание интеллигенции, они
организовали своего рода дискуссионный клуб — между атеистами
и обновленцами. Как правило, в Москве участниками полемики
были нарком просвещения Луначарский и глава обновленцев Вве-
денский, который всегда предварительно согласовывал текст, а
редактировала его супруга наркома мадам Розенталь. В этом спек-
такле то одна, то другая сторона немножечко уступали, разыгры-
вая дебаты. Богословов же патриаршей Церкви к таким дискусси-
ям не допускали. Это вызвало негативную реакцию за рубежом.
Тогда решили пригласить архиепископа Верейского Илариона (Тро-
ицкого), известного богослова.
Луначарский, вальяжно развалившись в кресле и помешивая
ложечкой чай, который ему принесла мадам Розенталь, задает воп-
рос:
— Как же так вы, служители культа, совершенно погрязли в
противоречиях. С одной стороны, для вас Священное Писание —
это нечто совершенно непререкаемое. С другой, там ведь неоднок-
ратно говорится, что несть власти не от Бога. А Советскую власть
вы не любите, а Советскую власть вы ругаете, не довольны ею.
Как вы, гражданин Троицкий, ответите на это?
— А мы разве говорим, что Советская власть не от Бога? — спо-
койно отвечал Иларион. — Да, конечно, от Бога! — В зале ожив-
ление. Не ожидал, видимо, такого ответа и Луначарский, он весь
подался вперед, желая что-то сказать богослову. — Да. конечно,
от Бога! — продолжил епископ. — В наказание нам за грехи...
й день Иларион был арестован. Вот вам и дискус-
сия.
Но как показала встреча председателя Совнаркома СССР Рыко-
ва и патриарха Тихона, состоявшаяся в мае 1924 года, «увлечение»
обновленцами в партийно-государственных органах заканчивалось,
они не оправдали возлагаемых на них надежд. Началось «потепле-
ние» в отношениях между патриаршей Церковью и властью. Кое-
кто из архиереев, за кого просил Тихон, возвратились из ссылки.
Решался вопрос о регистрации церковных органов. Но завершить
эту работу Святейшему Тихону не довелось: ночью 7 апреля 1925
года патриарх скончался.
Местоблюстителем патриаршего престола стал митрополит Петр
(Полянский). Правительство и обновленцы считали, что он ока-
жется сговорчивее и уступчивее Тихона. Тем более, что в свое
время тот настоятельно рекомендовал патриарху пойти на прими-
рение или во всяком случае на нормализацию отношений с влас-
тью. Однако, как вскоре выяснилось, Петр в обновленчестве ви-
дел даже большую опасность, чем правительственный террор.
Именно с политикой нормализации отношений с государственной
властью он связывал надежды, считая, что это даст дополнитель-
ные возможности для борьбы с раскольниками.
Этого обновленцы простить ему не могли. И они устроили про-
вокацию против владыки, утверждая, что Петр был чуть ли не
руководителем монархического заговора. Как «врага советского
государства» митрополита арестовывают 10 декабря 1925 года.
Буквально за несколько дней до ареста владыка Петр назначает
своим заместителем митрополита Нижегородского и Арзамасского
Сергия (Страгородского).
6.
ЕРГИЙ, ставший фактически местоблюстителем патри-
JjfllrgL аршего престола, отчетливо осознавал, какой тяжкий крест
возложен на него. Как капитан, корабль которого дал течь,
ведет судно сквозь бури и шторм, между рифами и скала-
ми в тихую гавань, так и он, Сергий, Божий избранник, должен,
руководя церковной жизнью в столь исключительных условиях,
обладать непоколебимой верой в богоустановленность Церкви.
Вокруг Сергия с самого начала сложилась непростая ситуация.
Осложнялась она прежде всего тем, что власти не пускали владыку
в столицу. И делали они это неспроста. Видя нарастающий кри-
зис обновленчества, на Лубянке придумали план, которым пре-
дусматривалось внести «смуту» в ряды «тихоновцев».
Еще весной начальник 6-го секретно-оперативного отдела Туч-
ков, прозванный в церковной среде «игуменом», ищет среди ар-
хиереев подходящую фигуру для дальнейшей своей игры — замены
строптивого митрополита Петра (Полянского) в качестве патриар-
шего местоблюстителя.
Выбор пал на архиепископа Екатеринбургского Григория (Яц-
ковского), который в ту пору сидел во Владимирской тюрьме. Уже
осенью вызванный тайно в Москву, Григорий сколачивает группу
заговорщиков. А когда митрополита Петра арестовывают, «григо-
рианцы» сразу же получают от властей разрешение на созыв епис-
копов «в связи с чрезвычайными обстоятельствами в Церкви». К
той поре практически все наиболее авторитетные иерархи в столи-
це и в Подмосковье находились в застенках.
22 декабря «григорианцы» заявили о создании нового органа по
управлению Церковью — Высшего Временного Церковного Совета
(ВВЦС), который возглавил архиепископ Григорий. И уже 2 ян-
варя 1926 года ВВЦС получает от НКВД уведомление о регистра-
ции как единственного официального действующего церковного
органа «тихоновской» Церкви.
Об этом Сергий узнает из «Известий». То был новый раскол. И
не благо Церкви и забота о чистоте православия двигали расколь-
никами, а жажда власти. Это-то и беспокоило Сергия более всего.
Желая придать авторитетность ВВЦС, «григорианцы» решили при-
влечь в свои ряды кого-нибудь из признанных лидеров патриаршей Цер-
кви. В частности. Илариона (Троицкого) — высокообразованного бо-
гослова. заточенного в Соловках. Тучков лично предложил ему сделку:
в обмен на свободу Иларион присоединяется к «григорианцам».
Да и Сергий получил письмо от Григория: «Весьма ценя Вашу
мудрость и опытность в церковных делах на протяжении многих лет
присутствия в Священном Синоде, мы были бы счастливы иметь
Вас в своей среде в ВВЦС и пользоваться Вашими советами, о чем
Вас и просим».
Сергий выбрал иной путь: бороться всеми доступными средства-
ми с раскольниками. По его просьбе в Нижний Новгород, где он
находился, приехало более двадцати архиереев, имевших возмож-
ность свободного передвижения. Они подтвердили верность мит-
рополиту Сергию как законному главе Церкви в отсутствие место-
блюстителя.
Так и не сумев привлечь на свою сторону видных иерархов, «гри-
горианцы» оказались обреченными.
Но если б только «григорианцы» раскачивали корабль патриар-
шей Церкви. Вдруг в апреле все того же 1926 года отпущенный на
свободу митрополит Агафангел (Преображенский) заявил, что
приступает к выполнению обязанностей местоблюстителя на осно-
вании завещания патриарха Тихона. Как выяснилось, тут не обо-
шлось без козней «игумена». Разве мог знать Сергий, что накануне
в Перми Агафангел встречался с Тучковым и тот «подбил» митро-
полита на этот непродуманный шаг. К тому же еще «главный без-
божник» Ярославский подсуетился: Антирелигиозная комиссия при
ЦК ВКП(б) проводимую ОГПУ линию по разложению «тихонов-
цев» признала правильной и целесообразной и рекомендовала вес-
ти раскол между митрополитами Сергием и Агафангелом.
Однако многие епископы расценили действия Агафангела как
сговор с ОГПУ и встали на сторону Сергия. Под угрозой церков-
ного суда Агафангелу ничего не оставалось, как признать права
Сергия на власть.
56 <5^5
Ваня Страгородский и его се*
стра Александра.
Иван Страгородский — семи*
нарист Нижегородской духов-
ной семинарии (на фото слева).
Архимандрит Сергий, ректор
Санкт-Петербургской духовной
академии. 1901 г.
Митрополит Нижегородский и
Арзамасский Сергий. Конец 20-х
годов.
Блаженнейший Сергий, митропо-
лит Московский и Коломенский, за-
меститель местоблюстителя патри-
аршего престола. 1934 г.
Патриарх
Сергий на за-
седании Свя-
щ е н н о г о
Синода. Де-
кабрь 1943 г.
Похороны святейшего патриарха Сергия. Москва. Май 1944 г.
Отец патриарха протоиерей Нико-
Игуменья Евгения — настоя*
лай Стра городе кий.
тельница Алексеевского женско*
го монастыря.
Алексеевский Новодевичий монастырь, где находился дом, в кото-
ром родился и вырос патриарх Сергий. Рис. А. Баженова.
ГЛАВА V
Смиренномудрие
...Не судите, да не будете судимы; не осуж-
дайте и не будете осуждены;прощайте и про-
щены будете; давайте, и дастся вам...
Евангелие от Луки. 6.37.
ВРОИСКИ ОГПУ и нападки обновленцев только укрепили
митрополита Сергия в том, что как можно скорее он дол-
жен завершить дело, начатое еше Святейшим Тихоном, —
легализацию Церкви. Это, во-первых, выбивало почву из-
под ног раскольников, которые обвиняли «тихоновцев» в «неза-
конности». Во-вторых, давало возможность открыть семинарии,
организовать постоянную каноническую администрацию, основать
свое издательство.
Наркомат внутренних дел, ведавший вопросами регистрации,
выставил Сергию следующие условия легализации: осуждение контр-
революционного прошлого Церкви, отказ от участия в политике,
провозглашение курса лояльности к государственной власти, осуж-
дение «карловацкого раскола».1
В июне 1926 года Сергий передает в НКВД свой первый вариант
Декларации. Обещая полную лояльность государству и невмеша-
тельство Церкви в политику, он, однако, заявил, что Церковь не
может брать на себя обязательство нести ответственность за поли-
тические взгляды духовенства в России и за рубежом. Революция
сама освободила Церковь от всех политических обязательств, и
Церковь не может отказаться от этого преимущества. Сергий, од-
нако. признал, что некоторые представители духовенства в эмиг-
рации занимались антисоветской деятельностью, но от лица Церк-
ви отрицал какую бы ни было связь с ними и всякую ответствен-
ность ja их поступки.
Такая позиция митрополита Сергия была созвучна идеям памят-
ной записки «К правительству СССР», направленной иерархами,
томившимися в Соловецких лагерях.
Однако власть не желала признавать духовно независимую пози-
цию Церкви. И все же Тучков был вынужден пойти на переговоры
с Сергием.
Владыко, за которым закрепилась репутация умеющего находить
компромиссы в самых, казалось бы. неразрешимых проблемах,
порой не мог понять поведения «игумена», который постоянно
доводил дело до конфликтов.
Камнем преткновения стал вопрос о власти в Церкви.
Заместитель патриаршего местоблюстителя считал необходимым
прежде всего проведение Поместного Собора и избрание на нем
патриарха, увязывая с положительным решением этого вопроса и
остальные — заявление о лояльности, нормализацию отношений с
Советской властью.
Тучков же настаивал на том, что созыв Собора и избрание пат-
риарха должны зависеть от выполнения выдвинутых НКВД усло-
вий.
Ситуация была тупиковая.
И тогда Сергий, заручившись поддержкой некоторых еписко-
пов, решил тайно провести выборы патриарха путем сбора подпи-
сей иерархов, а уж потом поставить власть перед случившимся
фактом.
К ноябрю было собрано более семидесяти подписей. Однако
агенты ГПУ раскрыли «заговор» и наскоро сфабриковали дело о
«контрреволюционной группе, возглавляемой митрополитом Сер-
гием». Начались массовые аресты и репрессии. В декабре Сергий
и еше 117 епископов были арестованы. То был процесс уничтоже-
ния лучших служителей Церкви, имевших мужество выступить
против государственной богоборческой политики.
Обретение мощей Серафима Саровского. Крестный ход с участием царской семьи.
2.
ДВЕРЬ кабинета постучали.
— Войдите.
Вошел конвоир.
— Арестованный гражданин Страгородский по вашему при-
казанию доставлен.
«Так, значит, сразу из Нижнего и прямо сюда, на Лубянку,
привезли», — отметил про себя Тучков и распорядился:
— Вводи!
Он встал из-за стола, подошел к сейфу, открыл его. Он делал
все не спеша — расчет был прост: когда арестованный войдет в
кабинет, хозяин будет к нему спиной, а потом, выждав томитель-
ную для арестованного паузу, он, слегка повернув голову, бросит
конвоиру: «Свободен!» и продолжит еще какое-то время рыться
внутри железного шкафа.
Тучков в ОГПУ не новичок, он знает, что такой прием чаще
всего срабатывает: арестованный смятен, так что инициатива пол-
ностью в руках следователя. Стоит затем только как следует нада-
вить, и допрашиваемый выложит все, что от него требуется.
Впрочем, сейчас он не был уверен, что этот прием сработает.
Потому, не затягивая паузу, резко повернулся и с наигранной улыб-
кой произнес:
— Вот мы и встретились снова. Присаживайтесь, владыка, по-
жалуйста, — указав на стул, следователь положил на стол папку с
бумагами. — Хотя мы, если так можно сказать, на территории
моей епархии, поэтому правильнее будет обращаться к вам по фа-
милии. Согласны, гражданин Страгородский?
— Как вам будет угодно, — спокойно ответил митрополит. — К
тому же, как понимаю, меня привезли сюда не для приятных бе-
сед. Лубянка — это все же 1-я Мещанская.
Сергий не случайно сыронизировал насчет 1-й Мещанской ули-
цы. Здесь находилось Серафимо-Дивеевское подворье, куда тогда
вселился Тучков со своею престарелой матерью, весьма юркой и
маленькой старушонкой. К тому же «мамаша», как ее звали сест-
ры подворья, была чрезвычайно религиозной и большой люби-
тельницей торжественных богослужений.
Кому-то казалось странным, что главный разрушитель Церкви
избрал своим местом жительства Серафи мо-Ди весвское подворье.
Самого же Тучкова это вполне устраивало: комфортабельная и бес-
платная квартира: «лампадки» и поесть приготовят, и постирают,
и уборку сделают. Никакие хозяйственные заботы не отвлекали
Евгения Александровича от основной работы — уничтожения Рус-
ской Православной Церкви.
— Ну что ж. тогда давайте приступим. Формальности — анкет-
ные данные и прочее. — думаю, отложим. Мы ведь хорошо знако-
мы.
— Да, ваше ведомство уже который год нас в покое не оставля-
ет.
— Так ведь и есть отчего. Или вы так не считаете?
Владыка пожал плечами: дескать, вам виднее.
— Вы, гражданин Страгородский, обвиняетесь в контрреволю-
ционной деятельности, так же как и другие арестованные еписко-
пы.
— И в чем она выражается, позвольте узнать, — все так же спо-
койно спросил Сергий.
— Надеюсь, вы не будете отрицать, что за спиной властей пыта-
лись провести избрание патриарха?
— Не отрицаю. Но не вы ли лично помешали провести нам от-
крыто Поместный Собор и выбрать патриарха? Не об этом, если
помните, я просил вас?!
Сергий поймал колючий взгляд Тучкова, который явно не ожи-
дал, что митрополит и здесь будет упорствовать. «Ничего, голуб-
чик, у нас компромата хватит, чтобы засадить в тюрьму», — и
Тучков, резко выхватив из папки какую-то бумагу, положил ее
перед митрополитом:
— А что вы скажете о ваших связях с заграничным контрреволю-
ционным духовенством? Почитайте, почитайте, весьма любопыт-
ный документик.
С первых же строк Сергий понял: это было его письмо зарубеж-
ным епископам от 13 сентября 1926 года. Но как его текст попал в
руки чекистов? То, что его почта перлюстрируется, он догадывал-
ся и поэтому большую часть писем переправлял адресатам через
надежных людей.
— Вас интересует, как письмо попало к нам, — словно угадав
мысли митрополита, сказал Тучков. — Вас выдали ваши же зару-
бежные друзья. Они письмо опубликовали.
Значит, «карловчане» нарушили конфиденциальность, подумал
60 Q
Патриарх Московский и всея Руси Сергий. 1943 г.
Патриарх
Сергий на пас-
хальном бого-
служении в
Елоховском со-
боре. Москва.
Апрель 1944 г.
Сергий. Оторванные от здешней жизни, они. сами того не ведая,
подставили Церковь под очередной улар. Справившись с волнени-
ем, он спокойно сказал:
— Если вы внимательно читали, то не могли не заметить, в
письме нет и намека на так называемую контрреволюционную де-
ятельность, о чем вы говорите. В письме идет речь лишь о делах
церковных, о взаимоотношениях зарубежных епископов и Мос-
ковской патриархии. Или это тоже входит в компетентность госу-
дарственной власти?
— Но ведь «карловацкая» группа выступает за реставрацию мо-
нархии в России и занимает резко антисоветские позиции, — взвил-
ся Тучков. — Это-то вы понимаете?
— Смею напомнить, что еще Святейший патриарх Тихон осудил
«карловчан» за их грубое политиканство. И я как заместитель пат-
риаршего местоблюстителя занимаю в этом вопросе ту же пози-
цию.
— И тем не менее... Вы знали, что какие-либо связи с антисо-
ветски настроенными лицами запрещены. К тому же за подобное
деяние вы уже арестовывались, кажется, в тысяча девятьсот двад-
цатом.
— В двадцать первом, — уточнил Сергий.
— Да, да, в двадцать первом, — заглянув в папку, подтвердил
Тучков. — А память у вас...
— Пока не жалуюсь, — парировал владыка.
— Вот и хорошо, значит, при следующей нашей встрече будет
что поведать.
3.
О, О ЧЕМ напомнил Тучков, произошло в конце 1921
®^|гР*года- Тогда в Троицкое подворье, где находилась канце-
лярия патриарха и проживал Тихон, нагрянули с обыс-
ком четверо чекистов. Главным у них был Шпицберг.
Роясь в письменных столах, книжных шкафах, они вытаскивали
из них бумаги и отдавали на просмотр Шпицбергу, восседавшему
за большим столом в зале заседаний Синода. Тот их внимательно
изучал и сортировал. Дошла очередь и до цапки с надписью «Пе-
реписка с Римским Престолом». И тут среди чистых бланков
61
Шпицберг обнаружил письмо члена Священного Синода Право-
славной Российской Церкви Сергия, митрополита Владимирского
и Шуйского, адресованное Статс-Секретарю Римского Престола
кардиналу Гаспарри. Он быстро пробежал его глазами:
«Римскому Престолу через Вашу Светлость угодно было обра-
титься к правителям России с призывом прекратить гонения на
представителей Православной Церкви. Ваш благородный призыв
не мог. конечно, изменить богоборной политики наших правите-
лей и не привел их к осознанию их вины, как показывает наглый
ответ Вам Чичерина, преисполненный беззастенчивого отрицания
прямых фактов и явной лжи на нашу Церковь. Но в сердцах вер-
ных чад этой Церкви и нас. смиренных Ея служителей, этот ис-
тинно христианский акт Римского Престола, продиктованный со-
чувствием к беззащитным и страждущим и особенно для нас среди
переживаемых нами всяких лишений, среди ужасов бесправия и
неуверенности в завтрашнем дне, вызывает неизгладимый отклик
и живейшее чувство благодарности.
Исполняя поручение Святейшего нашего Отца, Патриарха Мос-
ковского и всея России Тихона, покорнейше прошу Вашу Свет-
лость принять в Вашем лице выражение нашей общей благодарно-
сти Римскому Престолу за столь трогательное участие в судьбе пред-
ставителей Православной Церкви в России. Всевышний Мздовоз-
датель да вознаградит это дело любви Своею безмерною милостию.
С чувством совершенного почтения и о Христе преданности имею
честь быть Вашей Светлости покорнейшим слугою. Сергий, мит-
рополит Владимирский и Шуйский. 18/31 марта 1919 г.».
Утром следующего дня в дом на 2-й Тверской-Ямской пожалова-
ли чекисты.
— Собирайтесь. — приказали они митрополиту Сергию.
Шпинберг не стал разводить турусы: тут же выложил найденный
документ и потребовал объяснений. Но как ни старался Шпиц-
берг, так ничего не смог добиться от Сергия: ни раскаяния «за
клевету» на Советскую власть, ни кто и как передал письмо в Рим.
После трехчасового бесплодного допроса Сергия отправили в Бу-
тырки.
Вечером того же дня Тихона известили об аресте Владимирского
митрополита и начавшемся следствии по его делу.
Однако через месяц, так и не сумев доказать, что Сергий заме-
шан в антисоветской деятельности, его выпустили.
И вот новый арест.
...Прошла неделя, другая. Но на допросы почему-то не вызыва-
ли. Казалось, о нем забыли.
Сергий понимал, что у Тучкова никаких доказательств об учас-
тии его в «заговоре» против властей нет. Но с другой стороны,
представителей духовенства бросали в тюрьмы и за куда меньшие
провинности.
Однако теперь в государственной политике по отношению к Цер-
кви наметились некоторые изменения. И было это вызвано тем.
что Советы готовились к своему десятилетию.
Власть, у которой за это время руки оказались по локоть в крови
собственного народа, власть, которая ради классовой борьбы ввер-
гла страну в пропасть общенационального противостояния, власть,
которая в эйфории иллюзорного триумфа позволила себе беспре-
дел и вседозволенность, теперь эта власть хотела продемонстриро-
вать, что в основе ее политики идея возникновения нового, дото-
ле неизвестного человечеству государства, ставшего для народа
подлинным Отечеством.
Большевистская пропагандистская машина уже работала вовсю.
Нарком Луначарский писал книгу «Десять лет культурного строи-
тельства в стране рабочих и крестьян». Маяковский трудился над
одой в честь революции — поэмой «Хорошо!» Творческая интелли-
генция немало порадела в тот год, прославляя деяния большеви-
ков минувшего десятилетия, суть которого была уложена в несколь-
ких словах: с Лениным в башке и с наганом в руке.
Политическому руководству очень важно было, чтобы и Право-
славная Церковь продемонстрировала свою лояльность к новой вла-
сти. Обновленцы, «григорианцы» и прочие церковные отщепен-
цы, несмотря на поддержку государства, не представляли в глазах
Запада никакой реальной силы. Только патриаршая Церковь при-
знавалась единственной и законной. И потому было решено сде-
лать ставку на какого-нибудь из наиболее авторитетных иерархов,
пользующихся широким доверием в церковных кругах. А как по-
казали события, в сложившейся ситуации Церковь могла пойти
лишь за мудрым и рассудительным митрополитом Сергием.
Уже при последующих встречах на Лубянке с Тучковым владыка
заметил, что от прежней агрессивности следователя не осталось и
следа, что он не столько говорит об «антисоветской» деятельности
Сергия, сколько о необходимости нормализации отношений меж-
ду государством и Церковью.
Но разве он, Сергий, против этого? Не он ли в свое время подтал-
63
кивал к этому шагу патриарха Тихона, а потом и митрополита Петра
(Полянского)? Разве не на это были нацелены документы, которые
он передал в июне прошлого года в НКВД? И уж немало озадачило
предложение вновь начать переговоры о легализации Церкви — ведь
сама власть прежде препятствовала этому. Правда, при этом после-
довало уточнение: на тех же условиях, что предлагались Тихону.
Как быть? Это могла быть и уловка О ГПУ, тем более, что пре-
жние переговоры с Тучковым оказались бесплодными. Но и отказ
от переговоров может быть истолкован как нежелание патриаршей
Церкви наладить отношения. А это может вызвать новые репрес-
сии и погубить Церковь окончательно.
Так что судьба Церкви сейчас зависела от него одного, от его
решения.
Все эти десять лет большевистского правления Русская Церковь
пыталась выжить, оставаясь незыблемой твердыней и продолжая
молиться и верить по старине. Наивными мечтателями оказались
те, кто обещал в три-четыре года уничтожить в России правосла-
вие. Но и не считаться с тем, что многие верующие осознавали
себя гражданами СССР и работали на его благо не за страх, а за
совесть, тоже было нельзя. И ради сохранения единства Церкви и
народа он, митрополит Сергий, не может уклониться от тяжкого
креста, что выпал на его долю.
И он сделал этот шаг. Хотя хорошо помнил, какую разноголо-
сицу в среде духовенства, особенно зарубежного, вызвало заявле-
ние Святейшего Тихона: «...Я отныне Советской власти не враг».
Тем же, кто не понял его поступка, патриарх потом говорил: «Пусть
погибнет имя мое в истории, только бы Церкви была польза».
4.
Фд|шГ МАРТЕ митрополита Сергия выпустили из тюрьмы, и он
со своими единомышленниками приступил к подготовке
легализации Церкви. Вот только в который раз приходи-
лось сожалеть, что происходивший раздрай, борьба церковных груп-
пировок за власть ослабили его позиции: он вынужден был подчи-
ниться условиям, что диктовали ему большевики.
Однако и властям кое в чем пришлось уступить. В частности, разре-
шили образовать при заместителе патриаршего местоблюстителя Синод.
64 0^5
Готовя документы к регистрации, митрополит Сергий особое
внимание уделял составлению послания к пастве. Каждое слово
его должно быть точно выверено, чтобы истинный смысл сказан-
ного стал понятен русскому народу и удовлетворял политическим
амбициям власти.
10 августа газета «Известия» опубликовала послание к пастве,
получившее название Декларации, которое в редакцию лично пе-
редал митрополит Сергий.
«Когда Преосвященный Сергий принял на себя управление Цер-
ковью, — вспоминал спустя годы будущий патриарх Алексий 1, —
он подошел эмпирически к положению Церкви в окружающем мире
и исходил отсюда из существующей действительности. Все мы,
окружающие его архиереи, были с ним согласны. Мы все Времен-
ным Синодом подписали с ним Декларацию 1927 года в полном
убеждении, что выполняем свой долг перед Церковью и паствой».
В Декларации, в частности, было сказано: «...Одною из забот
почившего Святейшего Отца нашего Патриарха Тихона перед кон-
чиной было поставить нашу Православную Русскую Церковь в пра-
вильные отношения к Советскому Правительству и тем дать Церк-
ви возможность вполне законного и мирного существования. Уми-
рая, Святейший говорил: «Нужно бы пожить еще годка три». И,
конечно, если бы неожиданная кончина не прекратила его святи-
тельских трудов, он довел бы дело до конца...»
В Декларации выражалась надежда, что легализация будет вско-
ре распространена на епархии и приходы и будет созван Собор Рус-
ской Православной Церкви, который изберет патриарха. Одно-
временно правительство заверялось, что можно быть православ-
ным христианином и в то же время «сознавать Советский Союз
своей гражданской родиной, радости и успехи которой — наши
радости и успехи, а неудачи — наши неудачи».2
Казалось, Сергий сделал все, чтобы его позиция была понятна
пастве. Однако мнения — и прежде всего среди епископов — раз-
делились. Большая часть считала, что заместитель патриаршего
местоблюстителя поступил правильно, и можно надеяться, что в
новых условиях Церковь выживет.
Архиепископ Вениамин (Федченков) писал так: «Какое великое
дело сделал митрополит Сергий! Поистине историческое... Даже
мировое — повернуть мысли всех... Это дело огромной души хрис-
тианской! Дело глубочайшего ума! Плод великого страдания!
65 Q
Помоги ему Господь в сем апостольском подвиге! Как ему труд-
но теперь при общем непонимании!
Нужно служить ему со всей готовностью, не отказываясь испол-
нять никакие послушания, как бы это трудно мне ни казалось!
Нужно поддерживать его!
Не надо слушать ни одних, ни других, а его одного...»
А вот мнение епископа Серпуховского Сергия (Воскресенского):
«Ценой политической декларации митрополита Сергия была куп-
лена легализация патриархии и освобождение Церкви от обнов-
ленческого засилия».
Профессор Софийской духовной академии Н. Н. Глубоковс-
кий: «Между Церковью и государством, даже советским, должны
быть какие-то отношения. Не может быть Церковь только гонимой
мученицей. ...То, что произошло, есть плод взаимных уступок со-
ветской власти и Церкви. Во всяком случае оно означает ликвида-
цию всяких церковных новообразований. Это неполный мир, но,
может быть, путь к миру внутри Церкви, пребывающей под совет-
ской властью, а также и за рубежом».
Профессор протоиерей Василий Виноградов: «Я целых шесть лет
был ближайшим сотрудником патриарха Тихона... Я свидетель-
ствую, что как патриарх Тихон, так и Сергий были великими стра-
стотерпцами за Русскую Церковь».
Митрополит Елевферий (Богоявленский): «Местоблюститель
(митрополит Петр) познакомился с Декларацией митрополита Сер-
гия из газеты «Известия», в которой она была помещена полнос-
тью... Митрополит Петр согласен с деятельностью митрополита
Сергия, находя, что это — единственный выход при существую-
щих... условиях. Соловецкие узники-иерархи за исключением
трех... все с митрополитом Сергием».
Но были и те, кто резко осудил Сергия. Так, митрополит Ле-
нинградский Иосиф (Петровых) заявил: «Для осуждения и обез-
вреживания последних действий митрополита Сергия (Страгородс-
кого), противных духу и благу Святой Христовой Церкви, по вне-
шним обстоятельствам, не имеется других средств, кроме как ре-
шительный отход от него и игнорирование его распоряжений. Пусть
эти распоряжения приемлет одна всетерпяшая бумага да всевмеша-
юший .бесчувственный воздух».
Третьи же, коих прозвали «непонимающие», хотя публично и
не протестовали, но под разными благовидными предлогами за-
просились на покой и в отпуска.
66
И как в свое время Тихону, так и теперь Сергию пришлось разъяс-
нять. почему он пошел на этот шаг. В своем послании в декабре
1927 юла он писал: «Расстройство церковных дел дошло до после-
днего предела, и церковный корабль почти не имел управления,
центр мало осведомлен о жизни епархий, а епархии часто лишь по
слухам знали о центре, были епархии и лаже приходы, которые
жили отдельною жизнью и часто не знали, за кем идти, чтобы
сохранить православие. Какая благоприятная почва для распрост-
ранения всяких басен, намеренных обманов, пагубных заблужде-
ний и всякого самочиния».
К «непонимающим» относился и митрополит Агафангел (Пре-
ображенский), который находился еше с 1926 года в оппозиции к
Сергию. Желая не допустить нового раскола, заместитель патри-
аршего местоблюстителя пишет ему: «Мы с Вами подошли уже к
той черте, у которой все земные ценности и всякие земные счеты
теряют свою абсолютную значимость, и остается только одно: дать
добрый ответ на судилище Христовом... Ни веры святой мы не
предаем, ни от свободы церковной не отрекаемся».
В ответ Агафангел заверил Сергия, что, хотя он сам никогда не
сможет с ним сотрудничать, он все же признает Сергия главой
Русской Церкви, пока местоблюститель Петр находится в тюрьме.
Всем, обратившимся к нему за советом, Агафангел рекомендовал
духовно признать возглавляемую Сергием Церковь. Позднее, в 1928
году, незадолго до своей кончины Агафангел примирился с Сер-
гием, найдя его позицию справедливой.
«Восставшей» против него Ленинградской епархии Сергий отве-
тил так: «Отказаться от курса церковной политики, который я при-
знал правильным и обязательным для христианина и отвечающим
нуждам Церкви, было бы с моей стороны не только безрассудно,
но и преступно».
Свое недовольство Декларацией выразил и Введенский: «Я бо-
юсь, что это только новая маскировка староцерковничества, но-
вая перелицовка в советского льва, который в самом деле остается
белогвардейским общипанным орленком». Но вопли обновленцев
Сергия мало задевали.
Куда больше беспокоила негативная реакция видных зарубежных
богословов, деятелей Церкви. Приходилось сожалеть, что не по-
нял Сергия эмигрировавший в Париж Антон Карташов, с коим
знаком был по Синоду, когда тот был обер-прокурором и мини-
стром исповеданий во Временном правительстве. Там. в Париже.
67
зная о ситуации в России лишь по письмам и понаслышке, он
требовал отвергнуть послание Сергия, порвать всякие отношения
с Московской патриархией.
Но еше большую рану нанес митрополит Антоний (Храповиц-
кий).
Было время, когда студент Иван Страгородский без сомнения
доверился своему духовному наставнику преподавателю Петербур-
гской духовной академии отцу Антонию и вступил в ряды мона-
шеской братии. Они были единомышленниками и потом, когда
отстаивали независимость Церкви от государственной власти.
Сергий отчетливо помнит ту осень семнадцатого года, когда ре-
шался исторический вопрос: быть ли в России патриарху? Каза-
лось. дискуссии, которая развернулась по этому вопросу, не будет
конца. Октябрьский переворот словно подстегнул события.
Митрополит Антоний, который остановился тогда у Сергия в
Валаамском подворье, сказал с горечью:
— Сбываются слова Спасителя: наступят брани, восстанет брат
на брата, родители на чад и чада на родителей. Наступило время,
когда следует сказать: горы, падите на нас и холмы, покройте нас...
За стенами подворья меж тем шли кровопролитные бои. Боль-
шевики штурмовали Кремль, били из орудий по национальным
святыням.
Сергий вспомнил и тот поздний ноябрьский вечер. Они с Анто-
нием шли на срочное заседание Собора по московским улицам, и
зарево пожаров вспыхивало то там. то сям, и отсветы орудийных
залпов разрывали темно-черное небо. Кругом гремели выстрелы...
В любой момент они могли наткнуться на вооруженных людей, и
неизвестно, как бы те повели себя по отношению к иерархам. Вся-
кое могло статься... Даже шальная пуля...
Но они, митрополит Антоний, главный в ту пору претендент в
патриархи, и архиепископ Сергий, ставший позднее Святейшим
патриархом Московским и всея Руси, уповали на волю Божию и,
несмотря ни на какие обстоятельства, торопились на заседание
Собора. Тогда они, лидер крайне правого крыла Антоний и либе-
рально настроенный Сергий, были единодушны, заявив, что Цер-
ковь должна призвать противоборствующие стороны к прекраще-
нию кровопролития.
То было в семнадцатом. А позднее именно Антоний, бежав за
границу, возглавил Карловацкий собор, который немало попор-
тил крови Тихону своим политиканством и желанием восстано-
вить в России монархию Романовых и теперь осложняет положение
не столько ему, Сергию, сколько Православной Церкви.
Отныне пути их окончательно разошлись.
Русскому же народу не пришлось ничего объяснять. Он верно
понял жертву, принесенную Сергием ради паствы, ради сохране-
ния Православной Церкви.
глава vi _____________________
Облекшись в броню веры и любви
Митрополиту Сергию удалось, несмотря на
сатанинскую ненависть большевиков к рели-
гии, сохранить громадную церковную органи-
зацию и, следовательно, предохранить рус-
ский народ от двух тяжелых бедствий — от
полного безверия и от патологических форм
сектантского мистицизма...
Философ Н. О. ЛОССКИЙ.
8ГОСПОДИ, что же это такое происходит? Ну, ладно, власть
^развернула кампанию против частного предприниматель-
ства. Но при чем тут Церковь? И кто это додумался обла-
гать епископов, священников и приходы налогом, как «до-
ходные» частные предприятия. К тому же в случае неуплаты свя-
щенников могут и арестовать, а приходы — закрыть. Письма о
беззакониях, творимых властями в отношении Церкви, идут к
митрополиту Сергию отовсюду.
Вот что пишет, например, священник села Толвипы Псковско-
го округа: «Сегодня ночью пришел ко мне заведующий Елизаровс-
кой коммуной Двинский и взял у меня крест с шеи... часы, сапо-
ги и др. домашние вещи».
А вот другое письмо. Священника Покровского обложили нало-
гом в 250 пудов картошки. Он сдал 103 пуда, но ему приказали
срочно сдать и остальное. Спасибо, три женщины, работая всю
ночь при фонарях, помогли собрать картофель. Когда же утром
привез, то принять отказались — дескать, там есть гнилой. Но за
то, что* своевременно не сдал налог, священника приговорили к 8
месяцам тюремного заключения с конфискацией имущества на 1000
рублей. Картошку же, что не приняли в ноябре, взяли в феврале.
70
Эти и подобные письма — крик души. И чтобы как-то привлечь
внимание властей к этим безобразиям, заместитель патриаршего
местоблюстителя митрополит Сергий решил направить выписки
из этих писем Калинину. Пусть председатель ВЦИК почитает, что
творят на местах представители народной власти.
Мыслимо ли, священникам, не имеющим ни поля под зерно-
выми. ни овец или коз, приказано в виде налога внести шерсть и
рожь! Пусть прочтет Калинин письмо епископа Ижевского Сине-
зия. где говорится, что священники «задавлены непосильными
обложениями... задушены принудительными работами... обложе-
ние производится мясом, льном, маслом, яйцами, живностью,
дичыо... Денежные взыскания: с.-х. налог, на индустриализацию,
облигации госзаймов, на приобретение инвентаря, тракторизацию,
самообложение и пр. За невыполнение в срок, часто исчисляе-
мый часами, — опись имущества, выселение из домов, отдача под
суд, ссылка и пр. Все духовенство безотносительно к возрасту и
здоровью мобилизуется на лесозаготовки, без оплаты труда...» Епис-
коп Синезий сам, получая на содержание 120 рублей в месяц,
обложен данью в 10703 рубля, которую должен платить в два дня.1
И что же верховная власть?
Она среагировала испытанным методом. Сергия арестовывают и
выдвигают требование дать интервью иностранным журналистам,
в коем заявить, что в СССР нет гонений на Церковь. Текст уже
был подготовлен ГПУ, от владыки требовалась лишь подпись. И
вновь он вынужден был подчиниться грубой силе: в противном
случае грозили арестовать всех «тихоновских» епископов и разру-
шить всю административную структуру Церкви. Это заставило
Сергия взять на себя грех лжи.
Однако и Сергий добился от большевиков того, что православ-
ных священников не будут подвергать раскулачиванию. Четыре года
требование заместителя патриаршего местоблюстителя власть вы-
полняла. Тем самым Сергий в ту пору спас множество сельских
священнослужителей от разорения и гибели.
Одновременно он добивается возобновления издания ежемесяч-
ного «Журнала Московской патриархии» (был закрыт четырьмя
годами позже), в котором нашла отражение атмосфера террора тех
лет, а также публиковались серьезные богословские статьи, почти
всегда написанные редактором — митрополитом Сергием.
А вот надеждам расширить просветительскую деятельность не
суждено было сбыться. По поручению Сергия уже была составлена
программа религиозного воспитания детей, пастырских и богослов-
ских семинаров для родителей, церковных спортивных организа-
ций. экскурсий и публичных мероприятий. Но новое законода-
тельство о религиозных объединениях и постановление НКВД по-
ложили этим надеждам конец. Хотя было разрешено открыть бого-
словский институт. Но через два года и его закрыли.
2.
дЖИ^ТАЛИНСКАЯ политика в 30-е годы была направлена на
постРоение монолитного тоталитарного государства. И в
таком государстве не могло быть места для Церкви.
А между тем, как явствует из секретного доклада Союза
воинствующих безбожников, именно в этот период патриаршая Цер-
ковь начала численно расти. Опросы школьников в 1927—30 годах
показали, что от 11 до 92 процентов детей — верующие, причем
это не зависело от того, были ли это городские или сельские шко-
лы. Среди призывников в армию — 70 процентов верующие. По-
ловина населения страны — верующие.2
И вот на этом фоне Союз безбожников заявляет: «В течение 1930
года мы должны превратить нашу красную столицу в безбожную
Москву, наши деревни в безбожные колхозы... Колхоз с церко-
вью и попом достоин карикатуры... Новой деревне церковь не нуж-
на».
Сергий видел, что мир, установившийся между Церковью и го-
сударством после подписания Декларации, оказался хрупким.
К тому же продолжалось столкновение двух партийно-государ-
ственных группировок по отношению к Церкви. Одна, во главе с
Калининым, Рыковым и Смидовичем, была за смягчение жестко-
го курса. И тогда, в 1925—27 годах, их точка зрения взяла верх.
Теперь же инициатива перешла к тем, кто ратовал за усиление
давления на Церковь и ее ликвидацию. Это — Сталин, Бухарин,
Молотов, Ярославский.
В январе 1929 года политбюро приняло секретное постановле-
ние «О мерах по усилению антирелигиозной работы». Оно развя-
зывало руки местным властям и рекомендовало усилить давление
на религиозные организации. А в феврале в недрах политбюро ро-
дилось решение о внесении изменений в те статьи Конституции
РСФСР, которые затрагивали вопросы свободы совести. Дальней-
шее наступление на Церковь было заложено в апрельских поста-
новлениях ВЦИК и СНК РСФСР «О религиозных объединениях».
Этот документ законодательно закрепил, что религиозные обще-
ства не вправе заниматься какой-либо деятельностью, кроме удов-
летворения религиозных потребностей верующих, и преимуществен-
но в рамках молитвенного здания, что следует вытеснить религиоз-
ные объединения из всех сфер общества, где они до этого имели
право действовать, и запретить им какой-либо «выход» в обще-
ство.
В мае того же 1929 года состоялся XIV Всероссийский съезд
Советов. Это был последний в довоенной истории страны съезд,
на котором прозвучало слово в защиту Церкви. Сквозь дружный
хор призывов активнее закрывать храмы, изымать их под социаль-
но-культурные цели, бороться с престольными праздниками, «по-
повским» дурманом диссонансом прозвучало выступление предсе-
дателя правительства Рыкова. Он предостерегал от поспешности,
от увлечения административными, принудительными мерами, от-
вергая призывы «ударить покрепче по дурману». Как считал Ры-
ков, это были призывы к насилию по отношению к тем, кто под-
держивает Советскую власть, но еще не порвал «с религиозными
пережитками». То был глас вопиющего в пустыне. Ведь все, о
чем говорил Рыков, шло в разрез со сталинской политикой пост-
роения социализма в отдельно взятой стране. А товарищ Сталин
не прощает никому, если он идет против него. Пройдет немногим
более года, и Рыкова отстранят от власти. При этом ему припом-
нят выступление в защиту «поповщины».
Съезд внес изменение в статью 4 Конституции РСФСР. Теперь
вместо ранее гарантировавшейся гражданам свободы религиозной
и антирелигиозной пропаганды гарантировалась лишь свобода ре-
лигиозных исповеданий и антирелигиозной пропаганды. Тем са-
мым съезд развязал руки в дальнейшей борьбе с религией местным
властям: любые проявления религиозной деятельности, кроме ис-
поведаний, жестоко преследовались. Съезд открыл десятилетие,
которое нанесло новый удар по Православной Церкви, удар, ко-
торый, по мнению сталинских идеологов, должен был оконча-
тельно уничтожить Церковь.
73
3.
з АРЗАМАСА пришло письмо от сестры Александры. Пи-
1иет- что нападки на Церковь усилились. Здесь же прило-
жила несколько вырезок из окружной газеты «Арзамасская
деревня».
В Лопатпнском сельсовете Сергачского района семьдесят веру-
ющих села Ерипкино на своем собрании постановили: «Так как
сельское общество отказалось от церкви, передать ее под школу,
снять церковный совет с должности ввиду перехода на сплошную
коллективизацию».
«Небольшой срок остался до Пасхи, когда попы сказкой о вос-
кресении Христа будут мобилизовывать трудящихся на борьбу про-
тив социалистического строительства. Активистам пора разобла-
чать религию и попов, как агентов кулака в борьбе против коллек-
тивизации, как агентов международной контрреволюции, доказы-
вать трудящимся контрреволюционную сущность церкви». Это уже
из передовой, установочной статьи.
Однако радовало то, что русский народ, видевший в правосла-
вии исторические корни культуры, всей российской жизни, оказы-
вал сопротивление властям, насильственно уничтожавшим храмы,
вставал на защиту священнослужителей. Так, в селе Пичингуши
Лукояновского района прихожане собрали с дома по рублю и отдали
эти деньги священнику, чтобы он расплатился с налогом, которым
его обложила власть. Кроме того, на сельском сходе они объявили:
«Не дадим, чтобы церковь закрыли, последние копейки отдадим,
не допустим, чтобы батюшка был игрушкой в руках большевиков».
Отстояли свою церковь и жители Майлана, что в Вознесенском
районе. Не допустили разрушителей: кто с мотыгой, кто с лопа-
той собрались. Вот власти и побоялись, отступили.
Сестра также сообщала, что по всей округе начали создавать ячей-
ки Союза воинствующих безбожников, в школах — кружки юных
безбожников. В селах по указанию сверху специально организо-
вывали выезды в поле в пасхальные дни и засевали «гектары без-
божгн!ков». Началось насилье!венное создание «безбожных колхо-
зов». Для населения проводятся атеистические вечера, где демон-
стрируются опыты с химикатами по «разоблачению святых чудес».
Сердце кровью обливается, когда видишь эти «деяния» безбож-
ников, писала сестра. Если они не верят в святые чудеса, то зачем
же народ мутить. Впрочем, придет время, и эти же большевики,
что сейчас гнетут Церковь, начнут каяться перед Господом в своих
грехах, будут просить прошения пред теми же чудодейственными
иконами, что оскверняют ныне.
Александра напомнила давнюю историю, что произошла с од-
ною женщиной. Бобыниной, которая не поверила в чудодействен-
ность иконы Богородицы Знамение.
14 мая 1885 года в девять часов вечера сестры Серафимо-Понета-
е вс кого монастыря, что под Арзамасом, заметили, что лик Божи-
ей Матери сделался живее и светлее, взор обратился на предстоя-
щих. Явление продолжалось четверть часа, потом повторилось в
полночь. На другой день икона была перенесена в монастырскую
церковь, куда стал стекаться народ из окрестных селений для по-
клонения. Причем многие получали исцеление. Чудотворение от
иконы под присягой было подтверждено как очевидцами, так и
испытавшими на себе ее благодатную силу.
После святую икону доставили в Арзамас, в Алексеевскую оби-
тель, где была совершена литургия, а затем перенесли в дом благо-
чинного, протоиерея Иоанна Страгородского. Здесь ее уложили в
ящик, с почтой отправили в Нижний Новгород. В сентябре Свя-
щенный Синод признал икону чудотворной. После этого икона
Богородицы Знамение несколько дней находилась в Арзамасе — в
Воскресенском соборе и в монастырях, по желанию и в дома жите-
лей ее носили. В конце ноября икона ко всеобщей радости воз-
вратилась в прославленную Ею Понетаевскую обитель.
В Нижегородской губернии в начале века, пожалуй, не было
храма, где бы не имелись списки иконы. Расходились они и по
России.
А что касается той женщины, Бобыниной, то, когда она при-
шла в храм, Матерь Божия закрыла от нее свой лик. После долгих
мучений — и духовных, и физических — Бобынина стала просить у
иконы прощение. Тогда Матерь Божия на иконе заплакала крова-
выми слезами...
Впрочем, митрополит Сергий и сам знал немало примеров чу-
дес. Еще в 1903 году, когда принимал участие в торжествах про-
славления великого угодника земли русской, преподобного Сера-
фима Саровского-чудотворца, он писал из Сарова: «Среди бого-
мольцев, конечно, много больных, которых привела сюда вера в
угодника да жажда исцеления. И трогательно было наблюдать под-
75
ходивший под благословение народ. Вот, как сейчас стоит передо
мной один мужичок, больной глазами... Подходит и он под благо-
словение. Вдруг с рыданиями кричит: «Батюшка, исцели мои гла-
за. Антоний батюшка? помоги мне, я несчастен, исцели мои гла-
за...» Этот простец не знает никаких этикетов, но знает, что много
может молитва пастыря... И просит помощи. И как бы хотелось,
чтобы этот простец получил по вере своей! Да... Сколько здесь
наблюдать приходится страждущих, ожидающих не людской, а
небесной помощи!..
И получают они, с верой сюда пришедшие, по вере своей про-
симое. На глазах народа расслабленные встают и ходят, хромые
бросают костыли... Есть же еще... вера в простом народе! Близок
еще он к Богу! И Бог близок к нему...»
В Писании сказано: «Свой крест на всех и на всем». Неси его,
не отказывайся, ибо страдание твое ведет к благодати. Это по за-
поведям христианским.
Но нет меры кровавому хамству безбожной власти. Что им запо-
веди Божии. Они живут по тем законам, что кроят под себя, что-
бы творить беззаконие. Права, тысячу раз права сестра: чекисты
находили какое-то нездоровое наслаждение в попрании церковных
святынь.
Он, митрополит Сергий, по Божией воле исполняющий ныне
обязанности главы Русской Православной Церкви, располагает
множеством фактов, подтверждающих это.
Взять хотя бы Соловецкий Зосимо-Савватиевский монастырь,
превращенный в СЛОНа — Соловецкий лагерь особого назначе-
ния. Рассказывали, что один из лагерных начальников, напив-
шись с сослуживцами, побился об заклад, что как Магомет Вто-
рой вступил на лошади в Храм Святой Софии, так и он въедет на
Соловецкий Фавор. И действительно, ворвался в Спасо-Преобра-
женский собор верхом, победоносно гаркнув: «Здорово, ребята,
как поживаете, господа буржуи?»
Но чекистам было недостаточно самим поганить Божии храмы.
Они всячески старались, чтобы их оскверняли, пусть и невольно,
служители Церкви. Так, однажды трех епископов, только что при-
бывших на Соловки, устроили на ночь в восточной части собора.
Когда утром владыки проснулись, то обнаружили, что спали на
престоле, святилище же переполнено матерящейся шпаной.
А ведь в том соборе стены были расписаны фресками «Страшно-
го Суда», иллюстрациями к «Молитве Господней» и десяти запо-
76
ведям. Красивой славянской вязью были выведены изречения, одно
из которых гласило: «Общество без веры в Бога и бессмертие души
— это почти стадо диких зверей, хотя и одобренных разумом, но
которые всегда готовы терзать и истреблять друг друга. Кто не име-
ет веры в Бога, тот не имеет веры и в людей. Вера чистая, святая,
открытая Богом, полезна не только по обетованию вечной жизни,
но и к временной жизни».
Циничная откровенность произвола, немотивированная ненависть
и жестокость отличали лагерное начальство, для которого измы-
ваться над духовенством было потребностью сродни физиологи-
ческой.
Как-то Сергию передали газету «Соловецкие острова», издавав-
шуюся в двадцатые годы в СЛОНе. В ней был опубликован венок
сонетов «Соловки». Он хорошо запомнил строки, рожденные ка-
торгой.
Два мира шли на подвиг, на мученье,
Над каждым реял золотистый нимб,
Текли века с обычаем единым:
Внизу—тюрьма, вверху—богослуженье.
Цвел монастырь, державы украшенье,
Спасителем и пушками храним,
И, с Божьего попущения, над ним
Последнее разверзлось униженье.
Монахи прогнаны. Со всей страны
Сюда свезли кровавых изуверов,
И гордых, и подсученных «каэров»,
И полчища занюханной шпаны.
Кто скажет им, бродящим в отупеньи,
О твердости, упорстве и терпенъи?*
В 1929 году на Соловки приезжал Горький. У заключенных
вспыхнула надежда, что знаменитый писатель прекратит беззако-
ние. Но лагерное начальство обвело его вокруг пальца, отправив
доходяг подальше с глаз. Навели внешний лоск. Горький ходил и
восхищался гуманным перевоспитанием. Заключенные отводили
глаза.
77
Когда же великий гуманист зашел в детколонию, то один под-
росток с седыми висками, не убоявшись гнева начальства, сказал:
«Хочешь правду?» Горький хотел. Их оставили наедине. Сказыва-
ли, часа через полтора писатель вышел, вытирая слезы платком, и
срочно отплыл.
Корабль еще не скрылся из глаз, как мальчика расстреляли.
Горький же на весь мир заявил, что вражеские измышления о
творимом беззаконии на Соловках лживы. Взял-таки грех на душу.
Но все же. видимо, дошел до кого наверху, потому что вскоре
здесь появилась комиссия из Москвы. Она произвела дознание и
пришла к выводу, что в произволе виноваты белогвардейцы и ари-
стократы, многие из которых, как грамотные, занимали админис-
тративные посты. Вот их-то около трехсот человек и приговорили
к расстрелу.
Карающий меч диктатуры пролетариата никого не щадил. Нич-
то не свято было для новой власти. Ее идеологи прославляли поэта
Пушкина, писали о нем как о борце с ненавистным царизмом, а в
то же время ГПУ раскрыло «монархический заговор» бывших лице-
истов. Многих из них поставили к стенке, около полусотни отпра-
вили на Соловки. А вина-то этих людей была всего лишь в том,
что они имели неосторожность собраться на традиционную годов-
щину Императорского Александровского лицея, отслужить пани-
хиду по усопшим лицеистам всех времен, на которой был помянут
и царь. Присутствовали не только те тридцать человек, но и все
родственники, знакомые участников «монархического заговора».
4.
ЫЛ УЖЕ поздний вечер, когда Смидович оторвался от бу-
маг. Из всей почты, что принесла ему секретарша, он
отложил в отдельную папку одно письмо — митрополита
Сергия.
Как председатель Постоянной комиссии по вопросам культов при
ВЦИК Смидович понимал озабоченность заместителя патриаршего
местоблюстителя. Видимо, действительно накипело на душе вла-
дыки, если написал. И хотя дипломатично, с присушим ему так-
том, но...
Вот он пишет: «Дети духовенства теперь не допускаются во ВТУЗы,
78 <5^5
а только в вузы. Казалось бы, имея в виду тот чрезвычайный соци-
альный переворот, какой мы переживаем, жаловаться на некото-
рые ограничения в карьере, по меньшей степени, неоснователь-
но. Все-таки детям духовенства представляется поприще для заво-
евания себе места в новом строе, хотя, может быть, и не самые
для них желательные».5
Между строчек так и читается скрытая ирония. Ну, как же: два
года прошло, как в Москве состоялся судебный процесс над учас-
тниками контрреволюционной вредительской организации, дей-
ствовавшей в Шахтинском районе Донбасса. Инженеры и техники
по заданию белоэмигрантского «Парижского центра» занимались
вредительством на шахтах аж с двадцать третьего года. Вот как
окопались, что чекисты не сразу их разоблачили.
А теперь органы ГПУ вышли на новую вредительскую антисо-
ветскую организацию — Промышленную партию, орудующую в
промышленности и на транспорте и объединившую часть верхуш-
ки буржуазно-технической интеллигенции.
Кругом одни «каэры».
Вот и выходит, что в условиях «чрезвычайного социального пе-
реворота», когда взят курс на индустриализацию, когда промыш-
ленность набирает темпы, разрешить поповичам учиться в техни-
ческих вузах, значит, пустить козла в огород. Ведь еще товарищ
Ленин указывал, что попы — вредный элемент для Советской влас-
ти. А яблоко от яблони, как известно, недалеко падает.
Логика рассуждений большевиков была смехотворна. И именно
на это так дипломатично намекал митрополит Сергий.
Однако для большинства детей духовенства и в вузы поступить
проблематично. И в этом митрополит Сергий тоже прав. Ведь что-
бы попасть в вуз, надо окончить девятилетку, а детей священно-
служителей допускают только в семилетку.
«Конечно, — пишет Сергий, — желающие могут подготовиться
к вузу частным путем. Но на это нужны средства и иногда (напри-
мер, для живущего в глуши) немалые. За редкими исключениями
дети духовенства лишними средствами не располагают, в особен-
ности дети духовенства сельского и низшего (дети дьяконов, пса-
ломщиков). И вот двери вуза как будто бы и открыты, но войти в
них могут только богатые из детей духовенства, тогда как в проле-
тарском государстве, — и вновь ирония, — казалось бы, должно
быть как раз наоборот».
Указывая на эту несообразность, митрополит Сергий от имени
духовенства просит, чтобы детям священнослужителей было пре-
доставлено право на полное среднее образование и «чтобы поступ-
ление в вуз для беднейшего большинства их не оставалось на бума-
ге».
Требование справедливое. Но что мог сделать он, председатель
комиссии по делам культов Смидович, если партия определила
прокрустово ложе для Церкви, а идти против выработанной поли-
тики он не мог: того и гляди запишут в какой-нибудь уклон.
Смидович не знал, что несколькими днями ранее Сергий напра-
вил докладную записку в ВЦСПС, где также писал о глупостях,
творимых по отношению к представителям Церкви. В частности,
против тех, кто поет в церковных хорах. Их исключают из профсо-
юзов со смехотворной мотивировкой: «за участие в церковном пе-
нии».
Привыкший жить по закону, митрополит Сергий того же требу-
ет и от профсоюза работников искусства. Его докладная записка —
это образец того, как следует разговаривать с властью, как твердо
и принципиально отстаивать правоту. Он, великий богослов, го-
ворит с советскими чиновниками на их же языке, употребляя та-
кие немыслимые сокращения слов, которые тогда стали широко
входить в обиход. Его железная аргументация камня на камне не
оставляет от того, что пишет «Рабис».6
«Никто не спорит, что всякий профсоюз имеет известную авто-
номию, однако, тоже не подлежит сомнению, что всякая авто-
номная деятельность в СССР должна совершаться в рамках суще-
ствующих госзаконов и соответствовать принципам, провозглашен-
ным совконституцией. Одним же из основных положений Кон-
ституции является «свобода (а не обязательность) антирелигиоз-
ной пропаганды». И эта свобода, естественно, предполагает и даже
с необходимостью требует свободы исповедания религии. Значит,
каждый гражданин имеет свободу взять на себя антирелигиозную
пропаганду. Несколько таких граждан могут образовать из себя союз
с задачей борьбы с религией. Конечно, для членов союза антире-
лигиозная деятельность обязательна, и нарушение этого обязатель-
ства влечет за собою исключение из союза и утрату того положения
и тех прав, какими исключаемый пользовался в союзе. То же нуж-
но сказать и о партийных организациях.
Между тем, профсоюзы имеют задачей объединить в себе трудя-
щихся, как таковых, не по признакам национальности, религии
или еще как-нибудь, а по их профессиям, которыми они добыва-
<5^ 80 О#**
ют себе средства к жизни. Задача профсоюзов совсем не борьба с
религией. Поэтому уклонение от этой борьбы не есть нарушение
задач союза и не может влечь за собой исключение из него. Более
того, как устанавливает промелькнувшее на днях в газете разъясне-
ние. даже членство в религиозной общине (значит активное учас-
тие в религиозной работе) не служит причиной исключения из
профсоюза. И это вполне понятно. Исключение из союза влечет
за собою для профсоюзника не только лишение тех особенных прав,
какими он пользовался в союзе, но и грозит ограничить для него
возможность найти себе работу, а с нею и средства к самому суще-
ствованию. Подвергать профсоюзника такой участи только за то,
что он церковник, в достаточной степени напоминало бы средне-
вековый папский интердикт — лишения непослушных огня и воды,
значило бы, вместо перевоспитания и пер...7 прямо вымогать наси-
лием отречение от веры, что в корне противоречит Конституции.
Исключение из профсоюзов служителей культа идти в расчет не
может, по крайней мере для настоящего времени.
В настоящее время, в силу сложившихся исторических усло-
вий, служение культу — тоже профессия, добывание средств к
существованию, как и другие профессии, а не бескорыстный под-
виг, каким это служение должно быть по идее, каким оно было в
начале и, несомненно, будет в социалистическом государстве.
Правда, профсоюзы у нас преследуют не одни профессиональ-
ные цели, но должны быть своего рода подготовительной школой
к партии. Но, во-первых, то, что обязательно в партии, совсем
не общеобязательно в подготовительной к ней школе. Главное же,
это не техническая какая-ниб(удь) школа, например, для выдви-
женцев и под(обное), это есть школа массовая, имеющая задачей
охватить и воспитать всю массу трудового населения. Выставив на
своем знамени обязательность антирелигиозной работы, такая школа
рискует потерять возможность к достижению своей основной зада-
чи: от нее отхлынут не только люди религиозные, но и масса та-
ких, у которых вопрос о религии еще не решен окончательно.
Пример с колхозами в этом отношении может быть очень показа-
тельным. Вот почему, повторяю, правила профсоюзов не содер-
жат в себе обязательства порвать с церковью.
Профсоюз работников искусств не должен составить исключе-
ние из общего правила и не должен изгонять своих членов только
за то, что они церковники или что их работа так или иначе связы-
вается с церковной. Ведь участие в церковном пении для подаВля-
ющего большинства является даже и не служением культу, а про-
сто платной работой. Это есть пользование своим профессиональ-
ным искусством для добывания себе средств к существованию или
добавочного заработка, и от того, что это пользование в данном
случае связано с обслуживанием церкви, дело не меняется. Ведь
церковь обслуживается не только профессиональными певцами,
но и профессиональными электриками, водопроводчиками, по-
чтальонами и пр. Когда Союз служащих почты и телеграфа попы-
тался (исходя из тех же соображений, из каких исходит и Рабис)
запретить своим членам доставлять духовенству и церковным орга-
низациям корреспонденцию, это было признано неправильным и
бойкот прекращен. Почему же член союза всякой другой профес-
сии имеет право и даже иногда бывает обязан отдать часть своего
времени и сил на работу для церкви, а профессионал-певец лишен
этого права? Это тем более несправедливо, что участие в церков-
ном хоре в большинстве случаев ни в какой мере не уменьшает
работы певцов-профессионалов на пользу государству и обществу
в различных культурных учреждениях и предприятиях.
На основании изложенных соображений, казалось бы, жалобы
участников наших церковных хоров (регентов и рядовых певцов)
заслуживают всякого внимания и их просьба о восстановлении за
ними права быть членами профсоюза Рабис — удовлетворения, о
чем и прошу усердно ВЦСПС».8
Для первосвященного владыки Сергия, верного своему архиерей-
скому долгу, Церковь и ее интересы всегда были превыше всего.
Вот почему он противился всяческому посягательству государства
на Церковь, напрягая все силы, чтобы помочь несчастным. И в
этом — вся его натура, богатая духом любви к людям. Он был
одним из тех наиболее ярких светильников, что в эпоху реакции
освещали путь борьбы за правду и церковную свободу.
5.
jffljglfoTOT ДЕНЬ в гражданском календаре не был отмечен ка-
ким-либо знаменательным событием. Но для всех право-
славных он был особым: Русская Церковь отмечала 15 ян-
евУГ8варЯ 19зз ГОда столетие со дня кончины великого избран-
ника Божия, вестника Небес, преподобного Серафима Саровско-
Го. Пред наступлением великих, никогда еще не бывших испыта-
ний для веры, послал Господь России своего пророка, чтобы при-
мером научить людей вере и молитве, явить для них в небе живу-
щего Бога.
Вспомнился 1903 год. Вся Россия жила тогда ожиданием про-
славления преподобного Серафима, причисления его к лику свя-
тых.
Однако Священный Синод все тянул с принятием решения о
канонизации.
Как рассказывала позднее монахиня Серафима,9 когда в ночь на
12 января 1903 года обследовали останки преподобного, в селе
Ломасово, что в двенадцати верстах от Сарова, увидели зарево.
Крестьяне подумали пожар. Прибежали в Саров, спрашивают,
где тут у вас пожар был? Мы видели зарево.
— Нигде пожара не было, — ответили им.
Позже один монах тихонько сказал:
— Сегодня ночью комиссия вскрывала останки батюшки Сера-
фима.
Вскрытие показало, что от чудотворца уцелели лишь косточки.
Это смущало Синод: дескать, а где же нетленные моши?
А дивеевские сестры на это отвечали:
— Мы кланяемся не костям, а чудесам.
Вокруг этого тогда было много шума, к тому же недоброжела-
тельного. Говорили об административном влиянии на епархиаль-
ный мир, почти что о приказе признать старца Серафима святым.
Шептали и о «темных» силах в дворцовых кругах, о нарушении
канонических правил, о постыдной податливости некоторых иерар-
хов.
А народ меж тем уже толпами шел к Сарову.
Прославление великого угодника земли Русской состоялось 19
июля 1903 года.
К торжествам готовились. Уже было известно, что в Саров при-
будет с семейством царь. Тогда Казанской железной дороги еще не
было. Ездили через Нижний Новгород. Срочно устроили времен-
ную станцию на лугах против Выездного, на переезде возле мель-
ницы. Ну, а дальше до Сарова добираться следовало на лошадях.
А как известно, в России две беды: дураки и дороги. Так что тре-
бовалось в короткие сроки грунтовую дорогу сделать. Из положе-
ния вышли просто. Дорогу вспахали плугами, затем поливали во-
дой из бочек и укатывали катками, которыми прикатывают поле.
83 Q
Стояла жара. Дорога просыхала хорошо, так что грунтовка полу-
чилась гладкая.
Подобного Саровским торжествам Россия не помнит. Государь
на личные средства заказал неописуемой красоты сень для мощей
преподобного. Четыре колонны, украшенные малахитом, яшмой,
золотом, великолепными драгоценными лампадами, все разные,
именные, которые прислали великие князья, капители колонн были
украшены сверху иконами шестикрылых серафимов, эти колонны
поддерживали верх этой величественной сени, с которой спуска-
лись разноцветные лампады, изготовленные ювелирами.
На торжества прославления прибыли триста тысяч паломников,
трое бывших в то время митрополитов, несчетное количество ар-
хиереев и духовенства.
И вот начался крестный ход с мошами преподобного вокруг храма.
Государь и великие князья несли на своих плечах великого угодника
Божия. Гимны в честь прославляемого святого пел считавшийся од-
ним из лучших церковный хор Александро-Невской лавры из Санкт-
Петербурга и монастырский хор. Процессия вошла в собор, гроб с
мошами установили на месте. И каждый делал земной поклон на
ступеньках сени и прикладывался к открытому челу чудотворца.
Сергий был на тех торжествах. Он просто не мог не быть тогда в
Сарове. Еще в детстве он был наслышан о чудотворце и всю жизнь
почитал его своим небесным покровителем.
Впрочем, одно обстоятельство чуть было не помешало этому.
Сергий приехал в гости в Холм к епископу Герману. И тот повез
своего друга, ректора Петербургской духовной академии, в Яблоничев-
ский монастырь — на Белое озеро порыбачить. Им подали легкую двух-
колесную повозку. Епископ Герман сел за кучера. Настроение у обоих
было прекрасное. Лошадка поначалу шла спокойно. Потом побежала
мелкой рысью. И все ускоряла и ускоряла бег. А потом и совсем понес-
ла. Шарабан опрокинулся. Вожжи запутались... Герман отделался лег-
ко: ссадинами на лице, Сергий же вывихнул руку. Он глубоко верил,
что не без участия Господа поправился к Саровской поезже.
В Саров епископ Сергий прибыл накануне приезда Николая II
и великих князей. Вместе с митрополитом Петербургским Анто-
нием, преосвященными Назарием Нижегородским и Иннокенти-
ем Тамбовским, Арзамасским архимандритом Адрианом. Тамбов-
ским ректором Нафанаилом, отцами Гедеоном и Макарием из Алек-
сандро-Невской лавры епископ Сергий посетил Серафимо-Диве-
евский монастырь, где отслужили литургию.
Самое деятельное участие принял Сергий в переносе мощей пре-
подобного старца. Он шел впереди фоба — нес крышку.
Тридцать лет прошло, но то, что было в душе тогда, когда стих-
ла «Вечная память» преподобному Серафиму и хоры запели «Сня-
тый Отче Серафиме, моли Бога о нас», это чувство и ныне напол-
няет душу.
О происходившем в те июльские дни в Сарове и Дивееве, рас-
сказывал Сергий в своих письмах товаришу-сослуживцу на Вал-
дай. А между тем, многие знакомые, знавшие, что он принимал
участие в торжествах прославления преподобного Серафима, ста-
ли просить поведать, что было в Сарове. Чувствуя долг перед ними.
Сергий решил все пережитое им передать людям для славы Божией
и Его великого угодника.
Писать нарочитые воспоминания — потребовалось бы немало вре-
мени. Да и в них могла пропасть та живость, та точность, та атмос-
фера — все то, что он так остро чувствовал непосредственно тогда.
Потому и решил Сергий передать в печать письма, написанные в
Сарове. Позволил лишь кое-что, частное, опустить и кое-что при-
бавить. Получился как бы взгляд на события хоть человека и не
случайного, но «со стороны». Нет даже никакого намека, что автор
— уроженец Арзамаса. Он и в сане себя «понизил», подписавшись
не как епископ, а архимандрит. Ведь что ни говори, а епископ в
народном представлении все же стоит высоко: как-никак — лицо
высшего священнического сана. К тому же это ведь не записи бого-
слова, не трактат, а письма, в которых он делился со своим товари-
щем всем, что переживало сердце, чем волновался ум, чем вообще
он жил в те исторические дни. Потому он так подробен даже в
мелочах. Отдавая свои записи в печать, Сергий так и назвал их —
«Письма из Сарова», давая тем самым понять, что в данном случае
он использует письма как литературный жанр.
6.
РЕПОДОБНЫЙ Серафим предрекал: «Страшное время идет
на Россию, я молил Господа отвести эту страшную беду,
но Господь не услышал убогого Серафима». На вопрос,
когда же наступит это страшное время, ответил: «Немного
позже, через сто лет после моей смерти».
85
Вот и выходило, что беда постигнет Православную Россию в
тридцатые годы. Злые силы атеизма, разнузданность, кипевшие
глубоко внутри общества, выплеснулись-таки наружу: безумцы
ломали дом, в котором жили, не сознавая, чем это обернется для
них, для всей России и Православной Церкви.
В 1927 году закрыли в России последние монастыри. Годом рань-
ше — Саров. Как ни беспокоился Тамбовский архиепископ Зино-
вий, не удалось уберечь от поругания моши батюшки Серафима.
Как рассказывали, в понедельник Крестопоклонной недели при-
ехало много начальства. Сгребли все святыни: чудотворную икону
Живоносного Источника, гроб-колоду, в которой пролежал пре-
подобный семьдесят лет в земле, кипарисовый гроб, в котором
•находились с 1903 года моши, и другое. Все сложили между царс-
кими покоями и северным входом Успенского собора, устроили
костер и зажгли. Сами же мощи, то есть косточки преподобного
Серафима, как они были облачены в мантию и одежды, все это
свернули вместе и вложили в синий просфорный ящик. Ящик тот
запечатали. А потом сели в сани и поехали в разные стороны,
желая скрыть, куда везут мощи.
Одна группа поехала в Арзамас через село Онучино. Она-то и
везла святые мощи.
Мощи увезли в Москву. И там их след затерялся...
А потом порушили и Серафимо-Дивеевский монастырь — женс-
кую лавру, град Царицы Небесной.
Богоборческая власть не случайно всю свою ярость обрушила на
монастыри. Исстари так повелось, что именно монастыри явля-
лись духовной силой православия.
17 мая 1927 года временно исполняющий должность уполномо-
ченного ОГПУ необходимость закрытия монастыря в Дивееве обо-
сновывал так: «Прибывающих в Дивеево в качестве паломников
лица монашествующие пичкают разными фантастическими рели-
гиозными небылицами вплоть до измышления нелепостей и о со-
ветской власти как о власти «антихристовой». И тут же указывал,
что сестры убеждены: «...Монастыри будут существовать, т. к., по
их словам, сам СЕРАФИМ сказал, «придет время, будет гонение
на монашество и на монастыри и разойдется монашество в одни
ворота, а вернется в другие». В этих их словах проскальзывает
уверенность, что настоящая власть должна скоро смениться».10
Начальник Нижегородского губотдела ОГПУ Загвоздин советует
секретарю губ кома ВКП(б) Жданову и председателю губисполко-
86
ма Мурадову найти какие-нибудь формальные возможности для
закрытия монастыря: дескать, перепаду! здания пол государствен-
ное или общественное учреждение, предприятие, совхоз, казар-
мы. опытное хозяйство или еще под что иное. Монашки разбре-
дутся по деревням да родственникам — вот и не будет «центра,
укрепляющего религиозный фанатизм, к которому стягиваются
сейчас десятки тысяч людей и разносят разный вздор по всему Со-
юзу». А посему надо дать указание Арзамасскому укому ВКП(б) и
исполкому подыскать возможности для закрытия монастыря."
Местные же власти никакими формальностями дело обставлять
не стали, а просто приказали: монастырь очистить. И вся недолга.
До митрополита Сергия дошел рассказ, что все лето пред тем,
как власти под Рождество Пресвятой Богородицы — 7/20 сентября
— объявили о закрытии монастыря, ночами откуда-то прилетали
совы, садились на крыши корпусов и весь монастырь наполняли
своим зловещим криком. Но как только сообщили страшную весть,
совы куда-то делись.12
Власть искала причины закрыть Серафимо-Дивеевский монас-
тырь, а верующие пытались спасти святыни. Хотя сделать это было
трудно. Настоятельница монастыря игуменья Александра спрятала
было монастырские драгоценности, зарыв их ночью около игумен-
ского корпуса и посадив на этом месте кусты. Но приехавший ко-
миссар-латыш объявил, что знает, где спрятаны драгоценности, и
если настоятельница не отдаст их добровольно — это под дулом-то
нагана! — то заберут силой, да и арестуют за сокрытие драгоценно-
стей и сопротивление властям. По всему монастырю прошли обыс-
ки, описывали казенные и личные веши монахинь. И тем не ме-
нее, все, что можно было взять с собой, сестры взяли. Причем
игуменья приказала, чтобы все главные святыни были взяты не в
одно место, а распределены меж сестер, и таким образом они бы
сохранились.
Сбылось предсказание батюшки Серафима, что Дивеевским се-
страм придется на время уйти в мир. А на какое время — все
зависело от покаяния народа. Ведь говорил же Иоанн Кронштадт-
ский: если русский народ не покается, то кончина мира очень близ-
ка.
Митрополит Сергий верил, что наступит еще время благодати
Божией на Руси. И как заместитель патриаршего местоблюстителя
делал все от него зависящее, чтобы приблизить этот час.
...На пятой неделе Великого Поста — 31 марта 1990 года — в
87
субботу, посвященную празднованию Похвалы Пресвятой Бого-
родицы. совершилось освящение престола собора во имя Пресвя-
той Троицы Дивеевского женского .монастыря. Событие знамена-
тельное в духовной жизни не только Русской Православной Церк-
ви, но и всего христианского мира, ибо им положено начало во-
зобновления богослужения на святом месте подвигов великого стар-
ца Серафима Саровского и созданной им обители. Произошло это
в канун празднования иконы Божией Матери «Умиление». В этом
проявилась особая милость Пресвятой Богородицы к Дивеевской
обители и к России.
Накануне перед вечерним богослужением были торжественно
внесены сохранившиеся храмовые иконы. К ним с покаянием и
со слезами шли верующие. Единственной Богороднической ико-
ной был возвращенный образ Божией Матери «Достойно есть». И
при чтении акафиста «Похвалы Богородицы» на вечернем богослу-
жении с самого начала чтения и до самого его окончания на нее
падал луч солнца из противоположного окна, и все пространство
алтаря было освещено этим образом.
ОСТЕПЕННО положение митрополита Сергия в церковной
среде упрочилось. Более половины епископов и духовен-
ства остались верны ему. Признали правоту его и те, кто
~ еще недавно пребывал в «расколах» и порвал с ними всякие
отношения. Признанием авторитета и особенного положения ста-
ло решение Синода о переводе в апреле 1934 года Сергия на Мос-
ковскую кафедру — до этого он все пребывал в Нижегородской
епархии — и присвоение ему титула «Блаженнейший». А когда в
декабре 1936 года появилось известие о кончине митрополита Пет-
ра (Полянского), Сергию специальным актом были переданы пра-
ва и обязанности патриаршего местоблюстителя.
3 июля 1937 года наркому внутренних дел Ежову и на места
была отправлена телеграмма Сталина о необходимости репрес-
сирования антисоветских элементов и административного про-
ведения их дел через «тройки». К числу антисоветских элемен-
тов относились «в прошлом репрессированные церковники и сек-
танты». Органам НКВД предписывалось доказать, что церков-
88 Q
ники заняты подрывной антисоветской работой. Как будут до-
быты эти доказательства, партийную верхушку мало интересо-
вало.
Аресты и уголовные процессы охватили всю страну. Наиболее
громкими были процессы над священниками, проходившие в Горь-
ковской области. Между районными органами НКВД началось
своего рода соревнование, кто больше раскроет «диверсантов и
террористов в рясах».
Начальник управления НКВД по Горьковской области майор
госбезопасности Лаврушин сообщал, что раскрыта крупная дивер-
сионная организация церковников, во главе которой стоял митро-
полит Феофан. «Давая духовным отцам предписания о диверсиях,
митрополит и сам непосредственно организовывал их. Он поджег
десять крупных колхозных построек, 85 дворов сельского и колхоз-
ного актива, он организовал поджоги промышленных предприя-
тий».
Какой же надо обладать буйной фантазией, чтобы представить
владыку, мечущегося по области и ночами поджигающего дома,
скотные дворы и заводы! И уж если подобное вменялось в вину
митрополиту, то что говорить о других священниках.
В материалах «следствия» говорилось, митрополит Феофан яв-
ляется руководителем Горьковской областной церковно-фашистс-
кой организации и входит в состав Московского антисоветского
церковного центра, руководимого митрополитом Сергием, патри-
аршим местоблюстителем. Церковно-фашистские группы, отме-
чалось в «деле», существовали почти в каждом приходе, их дея-
тельность сводилась к террору, диверсиям, шпионажу, подготов-
ке восстаний, антисоветской агитации. Деньги на это шли через
Московский центр от английской и японской разведок. Шпионс-
кие сведения, собранные этими группами, передавались митропо-
литу Сергию через сестру его Архангельскую, а он в свою очередь
передавал их в зарубежные миссии.
Обнаженный меч пролетарской революции разил все и вся. О
масштабе репрессий говорит всего один лишь факт: в начале 30-х
годов в Ленинграде было 150 священников (100 патриарших и 50
обновленческих). К началу 1941 года их осталось лишь 19.
За «контрреволюционную» деятельность была арестована в 1937
году, а потом и расстреляна сестра митрополита Сергия — Алек-
сандра Николаевна Архангельская.
«Митрополит Сергий сравнивал наше положение с курами в садке
89
кухни повара, — рассказывал один из близких сподвижников пат-
риаршего местоблюстителя. — Приходит день, и из садка выхва-
тывается следующая жертва».
Сергий и его ближайшие помощники вынуждены были мирить-
ся с этим унижением ради относительного сохранения сил Церкви
в надежде на будущее избавление от безбожного ига.
ГЛАВА VII ____________________
С нами силы небесные
Нам не пришлось долго раздумывать о том,
какую позицию занять во время войны... фа-
шисты напали на нашу страну, разоряли ее,
увозили наших соотечественников на прину-
дительные работы... Простое чувство прили-
чия не позволяло нам занять какую-либо дру-
гую позицию.
Из доклада патриарха Сергия на
Поместном Соборе 8 сентября 1943 года.
1.
АЙоте ВДЬМОЕ марта 1944 года было морозным. Ярким пятном
на белом поле танкодрома выделялась только что сколо-
ценная деревянная трибуна, украшенная флагами и порт-
j-жг ретом Сталина. Напротив нее в шеренгу — бок о бок —
выстроились новенькие «тридцатьчетверки». Двадцать одна боевая
машина. Они только что прибыли из Челябинска в тульский воен-
ный лагерь, где на переформировании находился 516-й отдельный
огнеметный танковый полк. На бортах танков — свежая надпись
«Дмитрий Донской».
Впереди каждой машины — экипаж. Совсем молодые, еще не
обстрелянные танкисты, заняли места тех, кто навсегда выбыл из
строя. Последние тяжелые бои полк вел в конце 1943 года на уча-
стке II Прибалтийского фронта: прорывал вражескую оборону в
направлении от Великих Лук на Новосокольники. Тогда в болотах
затонули почти все танки.
Заиграл оркестр. На трибуну поднялись генералы. В сопровож-
дении помощника начальника штаба полка появился невысокого
роста человек в темном пальто с большим меховым воротником.
То был митрополит Крутицкий и Коломенский Николай.
Обратившись к танкистам, он сказал:
91
— Воины земли русской. Сегодня по поручению предстоятеля
Русской Православной Церкви патриаршего местоблюстителя мит-
рополита Сергия я передаю вам эти боевые машины.
И хотя владыко говорил, не напрягая голоса, его слова в мороз-
ной тишине доносились до самых дальних экипажей.
— В нашей истории было немало деятелей. — продолжал свя-
титель. — известных своим патриотизмом, боровшихся за свободу
и независимость Отечества. И среди них — Дмитрий Донской, чье
имя начертано на этих вот танках, на которых вам предстоит гро-
мить ненавистного всем нам супостата. Эти боевые машины пост-
роены на средства, собранные верующими людьми и духовенством.
Русская Православная Церковь вручает вам это грозное оружие.
Помните, что сказал митрополит Сергий еще в первый день вой-
ны: «Всякий может и должен внести в общий подвиг свою долю
труда, заботы и искусства... Церковь Христова благословляет всех
православных на защиту священных границ нашей Родины. Гос-
подь нам дарует победу».
В память о том митинге у каждого офицера полка остались часы
— подарок Церкви. Солдатам же были вручены походные склад-
ные ножи с множеством приспособлений.
Уже потом, когда полк вел активное наступление, митрополит
Николай получил от его командования письмо: «От имени личного
состава мы благодарим Вас за врученную нам грозную боевую тех-
нику и заявляем, что она находится в верных и надежных руках...
Имя великого русского полководца Дмитрия Донского, как не-
меркнущую славу русского оружия, мы пронесем на броне наших
танков вперед на Запад, к полной и окончательной победе».1 И
танкисты свое слово сдержали. 516-й полк в августе сорок четвер-
того, за ночь преодолев 80 километров и смяв боевое окружение
врага, первым вышел на берег Буга — на границу с Польшей.
Позже командир второй танковой роты 516-го полка капитан
А. Н. Бондарев рассказывал, что часы — подарок Православной
Церкви — спасли ему жизнь. Однажды осколок разорвавшейся вра-
жеской мины пробил полушубок, китель и, пройдя сквозь стекло
и циферблат, застрял в механизме часов. «Провидению было угодно
сохранить мне жизнь», — говорил своим друзьям офицер.
Девятнадцать боевых машин с надписью «Дмитрий Донской»
получил и 38-й танковый полк, который тоже не посрамил свою
честь в боях с фашизмом.
Не всем воинам-танкистам колонны имени Дмитрия Донского
довелось увидеть Салют победы в мае сорок пятого. В память о них
уже в 90-е годы в Иосифо-Волоколамском монастыре была соору-
жена часовня.
Толчком к сбору пожертвований среди верующих и церковно-
служителей на вооружение армии послужило послание патриарше-
го местоблюстителя митрополита Сергия, с которым 30 декабря
1942 года он обратился к архипастырям, пастырям и приходским
обшинам. Призыв этот был услышан и на оккупированных терри-
ториях. Вот всего лишь один пример, как православные отклик-
нулись на обращение первосвятителя.
Священник из села Бродовиче-Заполье, что находилось на за-
хваченной врагом Псковщине, собрал среди местных жителей зо-
лотые монеты, серебряные вещи, церковную утварь и деньги — и
всю эту котомку с народными пожертвованиями, оцененную в
полмиллиона рублей, переправил через партизан на Большую зем-
лю.
В апреле 1942 года протоиерей Троицкой церкви г. Горького
А. А. Архангельский сообщал митрополиту Сергию: «Ваше воз-
звание, Блаженнейший Владыко, от 22 июня 1941 года — обраще-
ние к пастырям и пасомым Христовой Православной Церкви с
призывом о защите священных границ нашей Родины, подверг-
нувшейся вероломному нападению со стороны фашизма, злейше-
го врага всего славянства, нашло горячий отклик среди верующих.
Закрытый наш храм 10 декабря 1940 года, как равно тогда пере-
стали функционировать и другие храмы в нашем городе и округе,
вновь был открыт с 10 августа 1941 года.
Воззвание Ваше было широко распространено среди молящихся
как путем размножения и раздачи листков, так и крупным афиши-
рованием. По окончании литургии в воскресенье и праздничные
дни совершались и совершаются молебствия о даровании победы
над врагом Русскому Православному воинству с провозглашением
каждый раз многолетия и с призывом к верующим о пожертвова-
нии в Фонд обороны страны.
Любовь к Родине, защита целостности от врагов была заветом
всех православных христиан. Поэтому верующие особенно горячо
отнеслись к призыву о помощи фронту, раненым бойцам... Веру-
ющие охотно несли по примеру своих патриотов-предков не только
деньги, облигации, но и лом серебра, меди и другие вещи, обувь,
полотенца, полотно и пр.».
25 февраля 1943 года Сергий писал из Ульяновска Сталину: «Ве-
93
руюшие в желании помочь Красной Армии охотно откликнулись
на мой призыв: собрать средства на постройку танковой колонны
имени Дмитрия Донского. Всего собрано 6000000 рублей и, кро-
ме того, большое количество золотых и серебряных вещей... При-
мите эти средства как дар от духовенства и верующих Русской Пра-
вославной Церкви в день юбилея Красной Армии».
В тот же день Сталин дал ответ: «Прошу передать православному
русскому духовенству и верующим, собравшим 6000000 рублей,
золотые и серебряные вещи на строительство танковой колонны
имени Дмитрия Донского, мой искренний привет и благодарность
Красной Армии».2
Владыко хорошо помнил, как в марте 1928 года, откликаясь на
многочисленные письма верующих с просьбой разрешить церквам
сбор денежных средств в помощь пострадавшим от землетрясения и
наводнения в Крыму, Средней Азии и на Дальнем Востоке, он
призвал управляющих епархиями начать сбор пожертвований. Од-
нако в НКВД сочли эти действия Сергия противозаконными: Цер-
ковь не может вмешиваться в деятельность государства! Было пред-
ложено привлечь Сергия к судебной ответственности.3 И хотя до
суда дело не дошло, начальник административного отдела НКВД
все же предупредил в письменной форме митрополита о недопус-
тимости подобного в будущем.
Теперь же жизнь потребовала от несговорчивого Сталина пойти
на существенное изменение отношений с Церковью. Во имя един-
ства верующих и атеистов, борющихся с врагом Отечества — фа-
шизмом, он вынужден был пойти на диалог с руководителями
Православной Церкви.
Помимо танковой колонны, на средства Православной Церкви
была построена и авиационная эскадрилья «Александр Невский».
На Соборе епископов, проходившем в ноябре 1944 года, отме-
чалось, что общецерковный сбор пожертвований к этому времени
составил свыше 200 миллионов рублей.4
2.
СОВЕТСКОМ Союзе мало кто знал, что, когда началась
Великая Отечественная война, патриарх Антиохийский
Александр III обратился с посланием к христианам всего
мира о молитвенной и материальной помощи России. Промыслом
Божиим для изъявления воли Божией и определения судьбы Рос-
сии был избран митрополит гор Ливанских Илия. Он спустился в
каменное подземелье, куда не доносился ни один звук с земли,
где не было ничего, кроме иконы Божией Матери. Владыко затво-
рился там, не вкушая пиши, не пил, не спал, а только, стоя на
коленях, молился пред иконой. Через трое суток бдения ему яви-
лась в огненном столпе Божия Матерь и объявила, что избран он
передать определение Божие для страны и русского народа.
Что же объявила Божия Матерь?
Она сказала: «Должны быть открыты во всей стране храмы, мо-
настыри, духовные академии и семинарии. Священники должны
быть возвращены с фронтов и тюрем, должны начать служить.
Сейчас готовятся к сдаче Ленинграда — сдавать нельзя. Пусть вы-
несут чудотворную икону Казанской Божией Матери и обнесут ее
Крестным ходом вокруг города, тогда ни один враг не ступит на
священную землю его. Это избранный город. Перед Казанскою
иконою нужно совершить молебен в Москве; затем она должна быть
в Сталинграде, сдавать который врагу нельзя. Казанская икона
должна идти с войсками до границ России».
Сталин о Божием определении знал: митрополит Илия известил
об этом Москву в письмах и телеграммах, которые и ныне хранят-
ся в архивах.
Поверил ли Сталин тому, что сообщил ему митрополит Илия?
Точного ответа нет. Но есть свидетельство, что Сталин вызвал к
себе местоблюстителя патриаршего престола митрополита Сергия
и митрополита Ленинградского Алексия и пообещал им исполнить
все, что передал митрополит Илия, ибо «не видел больше ника-
кой возможности спасти положение».5 Было это в то время, когда
немецкие войска двигались к Москве.
А еще летом «почили в бозе» журнал и газета «Безбожник», и
такое не могло произойти без разрешения хозяина Кремля. Сам же
главный воинствующий безбожник Ярославский, как только сгус-
тились тучи над столицей, сбежал подальше в тыл.
И еще одно обстоятельство. В октябре 1947 года в Советский
Союз был приглашен митрополит Илия. По распоряжению Ста-
лина ювелиры изготовили в подарок ему панагию и крест, укра-
шенные драгоценными камнями из всех областей страны — в знак
того, что вся Россия отдает ему дань уважения.
^5» 95 <^>
3.
®f^jl^CCKA51 Православная Церковь, являющаяся на протя-
^|W*eH,ni многовековой истории Российского государства
бережной хранительницей национального самосознания,
делила с народом тяжелейшие испытания Великой Отечественной
в°йны. И как бывало в годы лихолетья, огонь веры теперь возго-
Релся особенно ярко: Церковь не только утешала обездоленных и
скорбящих, но и укрепляла дух народа, объединяла людей в еди-
ном патриотическом порыве.
Как удары священного набата, звучали слова речи первосвяти-
тедя митрополита Сергия, с которой он обратился 26 июня 1941
ГОда к пастве в Московском кафедральном Богоявленском соборе
ПОсле торжественного молебна о даровании победы русскому во-
инству: «На морских кораблях иногда подается зычная команда: «Все
наверх!» Это значит — кораблю угрожает морская стихия, управле-
ние кораблем требует совместной работы всех, кто находится на
неМ. И вот по этой команде все выбегают на верхнюю палубу,
каждый к своему месту, и там спешат делать, что от каждого тре-
буется, пока не пройдет жгучий момент и корабль будет по-пре-
жНему спокойно и уверенно продолжать свое плавание. — В моло-
ДОсти, после окончания Санкт-Петербургской духовной академии,
871 адыко служил священником на корабле, так что не понаслышке
знал то, о чем говорил. — Нечто подобное, только в неизмеримо
большей степени, переживаем и мы сейчас. Мрачная и дикая сти-
хия угрожает стране. Родина наша в опасности, и она созывает
нас; все в ряды, все на защиту родной земли, ее исторических
святынь, ее независимости от чужестранного порабощения. По-
30Р всякому... кто останется равнодушным к такому призыву...»
Слова не церковные, а призывно-командные — к Богу была об-
ращена молитва — пробуждали в сердцах пламенные патриотичес-
кие чувства и священную ненависть к врагу. Здесь ключевым стало
слово ВСЕ. Так что каждому было ясно, что только вместе, толь-
ко объединившись, можно одолеть фашизм.
Воззвание, с которым предстоятель Русской Православной Цер-
кви патриарший местоблюститель митрополит Московский и Ко-
ломенский Сергий обратился ко всем православным христианам
стРаны, было распространено по всем приходам и с большим воо-
душевлением воспринято верующими. На оккупированной терри-
тории оно переходило из рук в руки, несмотря на то. что гитле-
ровцы расстрел и вал и всех, у кого находили его. Слова первосвя-
тителя были созвучны чувствам верующих, убежденных, что за-
щищать Родину, умереть за нее — высший христианский подвиг.
Православных людей воодушевляло на патриотический подвиг не
только сознание своего общегражданского и христианского долга,
но и особое благословение Церкви.
«Не в первый раз русский народ переживает нашествие инопле-
менных, не в первый раз принимать и огненное крещение для спа-
сения родной земли. Силен враг, но «велик Бог земли Русской»,
как воскликнул Мамай на Куликовском поле, разгромленный рус-
ским воинством. Господь даст, придется повторить этот возглас и
теперешнему нашему врагу», — сказал, обращаясь к пастве, мит-
рополит Сергий.
И прозвучали эти пламенные слова в октябре сорок первого,
когда враг рвался к столице, когда, по мнению германского ко-
мандования, план быстрой победоносной войны вступал в завер-
шающую стадию. За плечами немцев — огромное пространство
европейской части Советского Союза. Перед ними — Москва. Они
уже готовились к победному параду на Красной площади. Но на их
пути встали бесстрашные, хотя и значительно уступавшие в чис-
ленности русские войска.
То, что наступление Красной Армии под Москвой было назна-
чено на 6 декабря 1941 года, вряд ли случайно. То был день князя
Александра Невского, причисленного Церковью к лику святых, с
чьим именем связаны ратные победы русских войск над шведами и
тевтонскими рыцарями, за которыми стояли германские княже-
ства и католическое папство. И даже внезапный прорыв немцев на
Тульском направлении на Москву не изменил даты нашего наступ-
ления: Жуков был непреклонен — 6 декабря.
Одержав победу во время Ледового побоища, Александр Невский
воскликнул: «Кто на Русь с мечом придет, от меча и погибнет».
Прошло почти семьсот лет. И вновь русские воины, воодушев-
ленные патриотизмом и национальным самосознанием, заявили
всему свету: отстояли Москву — отстоим и Отечество!
Святые отцы говорили, что одна часть в деле нашего спасения
принадлежит Богу, а две части зависят от самих людей. И к ним,
людям, к их сердцам были обращены пламенные слова первосвя-
тителя Сергия.
97
В Красной Армии нс было полковых священников, но были
священнослужители, надевшие гимнастерки и взявшие в руки ору-
жие. Один из них — отец Борис Васильев. Перед самой войной
служил диаконом в Костромском кафедральном соборе. На войне
— с первых дней. После Сталинграда стал заместителем начальни-
ка полковой разведки, участвовал в разработке и осуществлении
операций на Северном Донце и юге Украины.
4.
Ф<2й8^СОБЬ1Е задачи патриарший местоблюститель поставил
перед пастырями: ободрять малодушных и колеблющихся,
утешать огорченных. «Положим же души своя вместе с
нашей паствой», — этот призыв нашел действенное воп-
лощение в делах многих тысяч священнослужителей. Примеров тому
не счесть. Об одном рассказала писательница Зоя Воскресенская,
долгие годы служившая в органах НКВД.
Когда началась война, к патриаршему местоблюстителю обра-
тился епископ Василий Ратмиров, бывший обновленец, но в 1939
году он разочаровался в обновленческой церкви и ушел на пен-
сию. Теперь он просил митрополита Сергия вновь принять его в
лоно патриаршей Церкви и простить «обновленческий» грех.
Митрополит понял благие намерения владыки Василия, его же-
лание служить Матери-Церкви и назначил Житомирским еписко-
пом. Но Житомир вскоре был занят немцами. И тогда его перево-
дят епископом в Калинин. Владыко рвался на фронт — ему было
54 года — и потому обратился в военкомат с просьбой направить в
армию, чтобы «служить Отечеству и защищать от фашистских су-
постатов Православную Церковь». Здесь-то он и встретился с Вос-
кресенской, которая занималась подбором кадров для работы в тылу
врага.
В ходе длительной беседы Воскресенская поинтересовалась, не
согласится ли владыка Василий взять под свою опеку двух развед-
чиков, которые не помешают ему выполнять его архипастырский
долг, д он «прикроет» их своим саном. Она не скрывала, что раз-
ведчики будут вести тайные наблюдения за врагом, военными объек-
тами, передвижением воинских частей, выявлять засылаемых в наш
тыл шпионов.
Епископ согласился: «Если это дело серьезное, я готов служить
Отчизне». При этом он предложил: разведчики для непосвящен-
ных должны быть его помощниками в церковных делах. Но для
этого им надо основательно подготовиться.
Со своими будущими помощниками владыко беседовал по от-
дельности. Подполковник НКВД Василий Иванов ему понравил-
ся. Что же касается комсомольца-радиста... Тот оказался легко-
мысленным. Когда владыко поинтересовался, выучил ли он «Отче
наш», тот бойко ответил: «Отче наш, блины мажь. Иже еси —
блины на стол неси...» — и нечто непотребное в том же духе. «Хва-
тит, — прервал его епископ. — Считайте себя свободным». Что и
говорить, такой мог и себя, и товарищей подвести, да и дело по-
губить. На его место определили двадцатидвухлетнего сержанта
истребительного батальона войск НКВД Ивана Куликова.
Владыко обучал их богослужению самым тщательным образом:
молитвы, обряды, порядок облачения — все должно было соответ-
ствовать церковным канонам. Так, он забраковал полученное из
музея облачение, шитое золотом. «Это одеяние для священнослу-
жителя более высокого ранга, — сказал он, — и применяется в
более торжественных случаях».
Когда немцы заняли Калинин, владыку Василия вызвали к на-
чальнику гестапо. Владыко объяснил, что он, епископ, при со-
ветской власти сидел в тюрьме и отбывал наказание на Севере.
Начальник гестапо выразил уверенность, что русский священник,
обиженный комиссарами, окажет содействие немецкому командо-
ванию, в частности, поможет выявить укрытые продовольствен-
ные склады.
Между тем разведгруппа действовала активно. Собранные све-
дения передавались в Центр.
После освобождения Калинина к нашему командованию посы-
пались заявления о «подозрительном» поведении владыки и его
служек. СМЕРШ был готов арестовать группу, но Москва прика-
зала взять ее под охрану. Тем временем при выходе из собора отку-
да-то появившийся милиционер схватил за руку епископа Василия
и скомандовал: «Пошли в НКВД!» Служки последовали за влады-
кой. Неизвестно, чем бы все закончилось, не окажись в отделе
заместителя начальника местного управления НКВД, единствен-
ного, кто знал о разведгруппе.
Результат работы группы был убедительным. Помимо шифро-
ванных радиодонесений было выявлено более тридцати агентов ге-
99
стало, поименно и с адресами, составлен перечень и указаны ме-
ста тайных складов оружия — гитлеровцы надеялись еще вернуться
в город.
Разведчики Василий Иванов и Иван Куликов были награждены
орденом «Знак Почета». Высоко был оценен и патриотический
подвиг владыки Василия. От советской разведки он получил в знак
благодарности золотые часы, а решением Синода за то, что не
бросил в трудный час свою паству и проявил мужество, был руко-
положен в архиепископы.
Боец, поднимающийся в атаку под ураганным огнем врага, про-
являет храбрость и мужество. Но разве не подвиг совершил прото-
иерей Александр Романушко, когда летом сорок третьего на отпе-
вании полицая при большом скоплении народа в присутствии воо-
руженной полицейской охраны прямо на кладбище сказал: «Братья
и сестры, я понимаю горе матери и отца убитого, но не наших
молитв и «Со святыми упокой» своей жизнью заслужил во гробе
предлежащий. Он — изменник Родины и убийца невинных детей и
стариков. Вместо «Вечной памяти» произнесем же «Анафема». —
И, подойдя к полицаям, отец Александр обратился к ним: — К
вам, заблудшим, моя последняя просьба: искупите перед Богом и
людьми свою вину и обратите свое оружие против тех, кто уничто-
жает наш народ, кто в могилы закапывает живых людей, а в Божи-
их храмах заживо сжигает верующих и священников».
Эти простые слова пронзили сердца людей. И прямо с кладби-
ща многие ушли в партизаны.6
5.
— 5С1^УОСПОДЬ милостив, и Покров Пресвятой Девы Богоро-
^ь11^дицы’ всегДашней заступницы Русской земли, поможет
нашему народу пережить годину тяжелых испытаний и
победоносно завершить войну нашей победой», — эти
слова митрополита Сергия, твердо верившего в победу, находили
отзвук в пламенных сердцах верующих. Люди видели: растерзан-
ная и поруганная официальными политиками России Церковь,
когда нависла опасность фашистского порабощения, с первых же
дней Великой Отечественной войны встала в ряды сражающегося
за свою свободу народа.
100 0^5
Совершенно иную позицию занял в этих условиях первоиерарх
Православной Церкви за рубежом митрополит Анастасий (Гриба-
новский), пожелавший гитлеровским войскам полной победы. Он
говорил о том, что пусть лучше будут сметены с лица земли все
строения, пусть не останется в живых ни одного русского человека
в Советском Союзе, даже после этого все равно можно будет зано-
во насадить русскую нацию на основе тех семян, которые сохрани-
лись в эмиграции.
Митрополит Сергий убеждал священников не оставаться молча-
ливыми свидетелями и уж тем более не предаваться размышлени-
ям о возможных выгодах по другую сторону фронта, что было бы
«прямой изменой Родине и своему пастырскому делу».
В октябре, когда немцы стояли вблизи Москвы, патриарший
местоблюститель Сергий выступил с посланием, осудившим тех
священнослужителей, которые, не захотев страдать со своим на-
родом, вступили на путь сотрудничества с фашистскими захватчи-
ками.
22 сентября 1942 года в своем послании всем верующим, в осо-
бенности живущим в Литве, Латвии и Эстонии, патриарший мес-
тоблюститель осудил епископов Прибалтики за их сотрудничество
с гитлеровцами. В послании говорилось, что даже русские эмиг-
ранты и славяне в Америке поддерживают русский народ в борьбе
с нацизмом, хотя и не принимают большевистскую идеологию. У
русских, писал первосвятитель, нет другого выбора, так как фа-
шизм стремится к физическому уничтожению населения России.
Сам же патриарший местоблюститель не нуждался в доказатель-
ствах необходимости борьбы с нацизмом, его вдохновляла любовь
к своей Родине и его народу, плоть от плоти которого он был.
6.
НЕДАВНО в исторической литературе, посвященной
Великой Отечественной войне, отмечалось, что главным
источником победы являлись социалистический строй и
4 мудрое руководство большевистской партии. Между тем,
войну выиграли не только политруки Клочковы, но и молитвен-
ники Земли русской, такие, как Серафим Вырицкий. Тысячу дней
в молитве о спасении страны и народа России он простоял не толь-
101
ко в своей келье, но и в саду на камне перед устроенной на сосне
иконой преподобного Серафима Саровского, кормящего дикого
медведя.
Молитвенником был и сам патриарший местоблюститель Сер-
гий. Особенно горячо Блаженнейший молился о победе русского
воинства в дни решающих боев за Сталинград, хотя тогда его ско-
вал тяжелый недуг. В ночь на 2 февраля 1943 года, пересилив
болезнь, которая приковала к постели, владыка все же поднялся с
помощью келейника архимандрита Иоанна (Разумова), с трудом
положил три поклона, воссылая благодарение Богу. Когда же отец
Иоанн помог ему снова лечь в постель, митрополит Сергий сказал:
«Господь воинств, сильнейших в брани, низложил восстающих
против нас. Да благословит Господь людей своим миром! Может
быть, это начало будет счастливым концом».
Утром радио передало сообщение о разгроме немецких войск под
Сталинградом.
Патриарший местоблюститель Сергий знал, что если разорвать
связь поколений, лишить народ традиций, это неизбежно приве-
дет к катастрофическим последствиям: когда уничтожается челове-
ческая память, уничтожается человеческое лицо.
Русский философ А. Ф. Лосев писал: «Пусть в тебе, Родина-
мать, много слабого, больного, много немощного, неустроенно-
го, безрадостного. Но и рубища твои созерцаем как родные себе».
Заметьте, свои рубиша, а не обноски чужие. И как эти слова со-
звучны призывам и обращениям митрополита Сергия, выражав-
шим патриотическое служение русского церковного общества сво-
ему Отечеству.
Само чувство патриотического воодушевления он выводит из воз-
вышенно-религиозного настроения русского человека. Патриотизм
он называет национальной чертой характера русского человека, име-
ющего под собой библейскую и историко-психологическую основу.
По мнению Сергия, национальный характер русского патрио-
тизма заключается в том, что он является органической частью
природы русского человека, свойством его души и объединяет рос-
сиян в единое целое. Движущая сила патриотизма — любовь к Ро-
дине — может и должна воспламеняться до готовности отдать за нее
свою жцзнь. Обосновывая вечную ценность подобного самопожер-
твования, Сергий и другие архипастыри ссылаются на евангельс-
кие тексты, согласно которым «нет больше той любви, как если
кто положит душу свою за друзей своих». (Иоанн. 15.13).
102 <5^>
Уже в первых своих обращениях митрополит Сергий приводит в
качестве примера исторических деятелей, известных своим патри-
отизмом, боровшихся за свободу и независимость Отечества, осо-
бое внимание уделяя тем из них, кто был причислен к лику святых
и объявлены исполнителями Божественной воли, сообщенной им
их духовными подвижниками. Это — Александр Невский, Дмит-
рий Донской, Сергий Радонежский, а также Гермоген, патриарх
Московский и всея Руси, возглавивший сопротивление русского
народа польскому нашествию в XVII веке.
Русские святые и Церковь служат высшим нравственным ценно-
стям, при потере которых разрушается и государство. Вот из чего
исходил митрополит Сергий, обращаясь к свету подвига предков.
8 сентября 1943 года на Соборе епископов, отдавая должное воору-
женным силам и технике, указывалось и на нравственные условия
победы, «гораздо более широкие, гораздо более возвышенные... даже
более действенные, чем численность и сила орудий современного боя».
Нравственные условия, подчеркивалось, нужны и армии, и в
тылу. Первой необходимо воодушевление, «готовность перенести
все и всякие жертвы, лишения, раны и самую смерть». Народу в
тылу, который «до войны породил и воспитал армию, и во время
войны питает ее духовно», необходимы «твердая вера в Бога, бла-
гословляющего справедливую брань... сознание правды ведомой
войны; сознание долга перед Богом и Родиной». Нравственные
условия производят «и в народе, и в войске то истинное воодушев-
ление, которое является залогом верной победы, ибо при таком
настроении народ побежден быть не может».
«Постоянная готовность народа, наших богословов и постоян-
ный призыв пастырей к этим пожертвованиям обратили на себя
внимание и правительства... Мы и впредь с еще большим усерди-
ем будем продолжать вместе со всем русским народом служить об-
щему делу освобождения нашей родины от фашистского наше-
ствия», — отмечал на Соборе митрополит Сергий.7
Претендовавший на роль главного идеолога нацистской Герма-
нии, уполномоченный фюрера по надзору над общим мировоз-
зренческим и духовным обучением и воспитанием НСДАП Розен-
берг составил программу «национальной церкви рейха», в которой
утверждалось: «национальная церковь полна решимости полнос-
тью искоренить... чуждые и инородные христианские исповеда-
ния, завезенные в Германию в злополучном 800 году»; «нацио-
нальная церковь требует немедленно прекратить издание и распро-
103
странение в стране «Библии»; «в день основания национальной
церкви христианский крест должен быть снят со всех церквей, со-
боров и часовень... и заменен единственным неповторимым сим-
волом — свастикой».
Такова была истинная суть нацизма. В этом гордом самоутверж-
дении немецкой нации, якобы призванной господствовать над
миром, митрополит Сергий увидел открытый вызов Творцу. Все-
ленной, отпадание от общего начала, страшное воплощение идеи
сверхчеловечества, выросшей на почве западно-европейского ин-
дивидуализма. Сергий не сомневался в антихристианском духе
фашизма, ополчившегося на Православную Русь. В своих обра-
щениях он не только критикует нацизм, но и подчеркивает его
враждебность как христианским социальным ценностям, так и об-
щечеловеческим.
Приходилось сожалеть, что мало кто на западе в тридцатые годы
обратил внимание на то, что в небе Германии свастика заменила
крест, а евангельские истины отрицались начисто. «Нас прокли-
нают как врагов духа, — говорил Гитлер. — Да, мы таковы».
Примеров варварства немцев — множество. И среди них налет
бомбардировщиков на Ленинград в 1942 году в Пасхальную ночь
перед светлой заутреней.
Немецкие солдаты шли в бой, и у них у всех на бляхах было
написано: «С нами Бог». Но... У фашистов вместо Христа был
фюрер, вместо Креста — языческая свастика, вместо Библии —
«Майн кампф».
Архиепископ Лука, неоднократно репрессированный в 20—30-е
годы, писал: «Гитлер, часто повторяющий Имя Божие, изобража-
ющий с великим кощунством крест на танках и самолетах, с кото-
рых расстреливают беженцев, ‘Должен быть назван антихристом.
Богу нужны сердца людей, а не показное благочестие. Сердца на-
цистов и их приспешников смердят пред Ним дьявольской злобой
и человеконенавистничеством, а из горящих сердец воинов Крас-
ной Армии возносится фимиам беззаветной любви к Родине и со-
страдания к замученным немцами братьям, сестрам и детям».8
Бог ненавидит зло и истребляет злодеев. Эту многовековую хри-
стианскую мудрость не хотели знать нацисты. Ведь как заявил в
1941 году партайгеноссе Борман, «национал-социализм и христи-
анство несовместимы». А в ответ — митрополит Сергий: «...про-
грессивное человечество объявило Гитлеру священную войну за
христианскую цивилизацию, за свободу совести и религии».
гллел vin ____________________
Канун воскресенья
Во всю землю прошел голос их идо преде-
лов вселенной слова их.
Послание апостола Павла
к римлянам. 10:18.
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ телеграмма, — сообщил управ-
ляющий делами патриархии протоиерей Колчинкий.
— Вам, Блаженнейший владыко, разрешено вернуться
в Москву.
Несколько раньше патриарший местоблюститель получил пись-
мо от митрополита Николая. Тот писал, что, по его мнению, в
ближайшее время могут произойти изменения в отношении госу-
дарства к Церкви. Причем, в лучшую сторону. И хотя прямо об
этом никто ему не говорил, но последние события давали основа-
ние владыке думать именно так.
На московской квартире Сергия, что в Девкином (Бауманс-
ком) переулке, которую в его отсутствие занимал митрополит
Николай, побывал полковник госбезопасности Карпов. Интере-
совался, не тесно ли, может, подыскать иное, более просторное
помещение. Спросил, где продукты покупают. Посоветовал,
чтобы в столицу приехал митрополит Ленинградский Алексий.
Обсудите, дескать, вместе с ним, что требуется для нужд Церк-
ви.
Без сомнения, выступал этот человек не от своего имени. Он
мог действовать только по указанию своего непосредственного на-
чальника Берии.
Но то был добрый знак.
— Выезжаем! Выезжаем немедленно, — распорядился митропо-
лит Сергий. — И так здесь засиделись. А в Москве нас ждут важ-
ные дела.
2.
НАЧАЛА тридцатых годов постоянным и любимым до-
мом Сталина стала Кунцевская дача, что находилась под
Москвой. Правда, он имел квартиру в Москве, под ко-
торую переоборудовали помещение с толстыми стенами и
высокими потолками в старом здании Сената. Но он здесь не жил.
В тот субботний вечер, 4 сентября 1943 года, Сталин пригласил
к себе на дачу Маленкова, Берию и Карпова. Они расположились
за длинным обеденным столом, один конец которого, заваленный
бумагами и газетами, заменял хозяину письменный стол.
Сталин молчад, медленно шагая по комнате.
Карпов понимал, что он вызван не случайно и речь, должно
быть, пойдет о делах Церкви. Многие годы он, чекист-полков-
ник, курирует по линии своего ведомства Православную Церковь.
И то, что вчера в Москву прибыл митрополит Сергий, патриар-
ший местоблюститель, коего в октябре сорок первого отправили в
Ульяновск, тоже говорило Карпову о многом. Тогда, два года на-
зад, отъезд Сергия из столицы, над которой нависла смертельная
опасность, был оправдан. 16 августа сорок первого группенфюрер
СС Гейдрих издал приказ, согласно которому предписывалось при
захвате Москвы немедленно арестовать митрополита Сергия.1
Именно он, Карпов, и руководил отправкой митрополита.
Когда же фашистов отогнали от Москвы, правительство, эваку-
ированное в Куйбышев, как и другие ведомства, вернулось в сто-
лицу. А о Сергии словно забыли.
Но нет, Карпов, занимавший в НКВД ответственный пост, знал,
что товарищ Сталин ничего не забывает. Значит, рассуждал пол-
ковник, держа митрополита вдали от Москвы, товарищ Сталин
исходил из высших государственных интересов, о которых Карпо-
ву просто не положено знать. Вот и вчерашнее возвращение Сер-
гия бцло санкционировано самим товарищем Сталиным.
Сталин все также молча подошел к столу, тщательно выбил в
ладонь из трубки пепел, сбросил его в медную пепельницу и, об-
ращаясь к полковнику, сказал:
106
— Мы пригласили вас, товарищ Карпов, чтобы обсудить на-
зревшие вопросы Русской Православной Церкви. Прежде всего
сообщите, что представляет собой митрополит Сергий: возраст,
физическое состояние, его авторитет в Церкви, его отношение к
власти.2
Сталин говорил тихо, лаконично, без всяких округлых фраз.
Карпову было известно, что Сталин не любит многословия, по-
этому часто останавливает разговорившегося репликами: «Короче!»,
«Яснее!» Прямо поставленные вопросы требовали и прямого отве-
та. И хотя Карпов полагал, что товарищ Сталин и сам немало
осведомлен о патриаршем местоблюстителе, он, давая характери-
стику Сергию, оставил за скобками многое из того, что ему было
известно и что, как он полагал, товарищ Сталин не хотел бы ус-
лышать. А потому Карпов ни словом не обмолвился о том, что в
20—30-е годы Сергий подвергался репрессиям со стороны Советс-
кой власти.
Сталин слушал внимательно, не перебивая. Лишь когда пол-
ковник закончил, попросил кратко охарактеризовать митрополи-
тов Алексия и Николая. Затем он спросил, как и когда происхо-
дило избрание патриарха Тихона, о связях Русской Православной
Церкви с заграницей, о патриархах Вселенском, Иерусалимском
и других, о положении Православных Церквей Болгарии, Юго-
сзавии, Румынии, о количестве приходов Православной Церкви в
Советском Союзе и епископате. Поинтересовался также, каковы
сейчас материальные условия митрополитов Сергия, Алексия и
Николая.
Характер вопросов еще прочнее укрепил догадку Карпова: раз-
говор Сталиным заведен не случайно. Было известно, что Сталин
решения принимает после всестороннего обсуждения и непремен-
ного участия специалистов. И чаше всего сразу же, на совеща-
нии. Если, конечно, вопрос не был сложным и не требовал до-
полнительной проработки.
Пока шел разговор, Маленков и Берия не проронили ни слова.
Казалось, Сталин забыл о них, сидящих с ним за одним столом.
А те отлично знали нрав Хозяина — обычно спокойный, рассуди-
тельный, временами он впадал в острое раздражение, и взгляд его
становился тяжелым и жестким. И тогда ему изменяла объектив-
ность. Мастера подковерной игры, они дожидались, когда Ста-
лин позволит им высказаться, и стремились уловить, какую пози-
цию в этом занимает Сам.
107
— Скажите, товарищ Карпов, русский ли вы, с какого года в
партии, какое образование имеете и почему знакомы с церковны-
ми делами?
Задавая эти вопросы, Сталин пристально смотрел на собеседни-
ка. Отвести свой взгляд от пронзительно буравивших его глаз Кар-
пов не мог. И поэтому отвечал, глядя прямо в глаза Сталина.
Сталин обратил внимание на фразу: «Вопросами Церкви я стал
заниматься по направлению партии». «Да, — подумал он, — этот
тертый калач. Он знает, что от него требуется. И будет, не заду-
мываясь, делать все, что начальство прикажет. Такие люди нам
нужны на всех участках работы».
— Нам кажется, назрела необходимость создать специальный
орган, который бы осуществлял связь между правительством и ру-
ководством Церкви, — сказал Сталин, стоя у окна и повернув-
шись спиной к собеседнику.
Карпова зацепили сталинские слова: «Нам кажется». Кого он
имел в виду: себя — а было известно, что тот частенько говорит о
себе в третьем лице: «Товарищ Сталин считает», «Товарищ Сталин
думает», или же Маленкова с Берией, по-прежнему хранивших
молчание?
А Сталин продолжал:
— Какие у вас есть предложения?
Карпов несколько растерялся: он не был готов к такому поворо-
ту дел. Но Сталин ждал ответа.
— Предлагаю организовать при Верховном Совете Союза ССР
отдел по делам культов. Тем более, что в свое время при ВЦИКе
существовала постоянно действующая комиссия по делам культов.
— Вы, наверное, товарищ Карпов, меня не совсем правильно
поняли. Комиссия или отдел по делам культов должны быть при
Верховном Совете. Речь идет об организации специального органа
при правительстве. Улавливаете разницу? Что именно об этом вы
думаете?
— Я затрудняюсь, товарищ Сталин...
Сжимая в кулаке давно погасшую трубку, Сталин медленно про-
хаживался вдоль длинного стола. Потом присел на крайний стул и
твердо произнес:
— Первое, надо создать при правительстве Союза, то есть при
Совнаркоме, Совет по делам Русской Православной Церкви. Вто-
рое, на Совет будет возложено осуществление связи между прави-
тельством Союза и патриархом. И третье, Совет самостоятельных
решений не принимает, докладывает и получает указания от пра-
вительства.
Карпов хотел было сказать, что Церковь патриарха в настоящее
время не имеет, митрополит Сергий лишь исполняет обязанности
патриаршего местоблюстителя. Но вовремя осекся. Сталин про-
сто так ничего не говорил.
А Сталин меж тем поинтересовался у Маленкова и Берии, как
они смотрят на то, следует ли ему принять митрополитов Сергия,
Алексия и Николая. Те идею поддержали.
— Что ж, тогда мы поручим товарищу Карпову позвонить сейчас
митрополиту Сергию, — Сталин указал на стоящий тут же теле-
фон, — и от имени правительства передать следующее: «Говорит с
Вами представитель Совнаркома Союза. Правительство имеет же-
лание принять Вас, а также митрополитов Алексия и Николая,
выслушать ваши нужды и разрешить имеющиеся у вас вопросы.
Правительство может вас принять или сегодня же, через час-пол-
тора, или, если это вам не подходит, то прием может быть органи-
зован завтра, в воскресенье, или в любой день последующей неде-
ли».
ЙИи СВОИХ догадках Карпов был прав: вызвать патриаршею
местоблюстителя из ульяновского «заточения» и пойти на
«замирение» с Церковью Сталина вынудили обстоятель-
ства. Он готовился к Тегеранской конференции, которая
должна была состояться в конце ноября, и надеялся там добиться
от Рузвельта и Черчилля открытия второго фронта. Вопрос этот
слишком уж затянулся, союзники постоянно переносили сроки.
И это раздражало Сталина. Он отлично помнил, как еще в февра-
ле Черчилль заверял, что второй фронт будет открыт не позднее
августа. А уже в начале июня правительства Англии и США изве-
стили советское руководство о своем решении не создавать второй
фронт в Европе в сорок третьем году. Слова союзников расходи-
лись с делами.
Для достижения цели все средства хороши. Сталин знал, что на
западные правительства с целью открытия второго фронта оказы-
вали давление общественные организации. В той же Англии ак-
109
тивно действовал Объединенный комитет помощи СССР, возглав-
ляемый настоятелем Кентерберийского собора марксистом Хью-
леттом Джонсоном, которого там окрестили «красным деканом».
К тому же англиканская церковь обратилась к советскому прави-
тельству разрешить визит в Советский Союз своих представителей
во главе с архиепископом Йоркским. Отказать, да еще накануне
Тегеранской конференции — это в высшей степени неразумно.
Напротив, необходимо показать архиепископу Йоркскому, что в
Советском Союзе к религии власть относится терпимо, что между
Церковью и государством отношения нормальные. Так что обсто-
ятельства вынуждали Сталина пойти на уступки. Что ж, Русская
.Православная Церковь будет представлена перед англичанами во
всем внешнем блеске.
Но надо знать товарища Сталина. Он не намерен пустить Цер-
ковь «на вольные хлеба». Иерархи должны быть зависимы от госу-
дарства, от воли и решений его, товарища Сталина. Вот для чего
нужен Совет по делам церкви — он будет выполнять роль узды и
подчиняться только Совнаркому, который возглавляет товарищ
Сталин. И поставим мы на Совет своего человека.
Сталин усмехнулся в усы: «А все-таки молодец Лаврентий. Его
Карпов — тот, кто нам как раз для этой должности и нужен. Зем-
лю будет рыть, из кожи вон лезть, дабы доказать свою предан-
ность. Вот и назначим его председателем Совета, а полномочий
дадим не меньше, чем обладал обер-прокурор Святейшего Синода
при царе-батюшке».
Сталин был уверен, что Церковь согласится с его предложения-
ми. Иерархи, естественно, поймут истинное назначение Совета,
но ничего — проглотят...
4.
ЯюОЕРЕЗ два часа после того, как Карпов позвонил патриар-
шему местоблюстителю, машина, посланная за митропо-
литами Сергием, Алексием и Николаем, въезжала в Бро-
• невицкие ворота: иерархи, несмотря на то, что был уже
поздний вечер, решили не откладывать встречу.
Служебный кабинет Сталина в Кремле находился на втором эта-
же здания бывшего Сената в северном углу у Никольской башни.
110
У посвященных это место называлось «уголок». Вход — с крытого,
старинного крыльца. По широкой каменной лестнице, покрытой
красной ковровой дорожкой, по длинному коридору митрополи-
тов провели в приемную.
Здесь их встретил Поскребышев, помощник Сталина. Он встал
из-за стола, одернул перепоясанную широким армейским ремнем
гимнастерку и, приоткрыв дверь кабинета Сталина, сказал:
— Проходите, вас ждут.
Просторный кабинет со сводчатым потолком. Стены снизу, в
рост человека, обшиты мореным дубом, мебель старая, темного
цвета. Три окна глядят на кремлевский двор, на Арсенал. Справа
от двери — витрина с посмертной маской Ленина, слева — боль-
шие стоячие часы. Ковровая дорожка через весь кабинет ведет к
письменному столу. На нем — много книг и бумаг, остро отточен-
ные цветные карандаши. За столом кресло, по левую руку от него
столик с разноцветными телефонами, над столом — картина: Ле-
нин на трибуне.
На стене слева портреты Маркса и Энгельса, вдоль нее — стол,
накрытый зеленым сукном, вокруг него стулья. Между окнами у про-
тивоположной стены книжный шкаф: собрание сочинений Ленина,
Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона, Большая Советс-
кая Энциклопедия. В другом простенке — большой диван, обши-
тый черной кожей. Два таких же кресла — перед письменным столом.
Сталин встретил иерархов у дверей и, поздоровавшись, пока-
зал рукой в сторону длинного стола:
— Прошу, рассаживайтесь, как вам будет удобно.
По одну сторону уже сидели Молотов и Карпов. Митрополиты
молча сели напротив них. Взяв какие-то бумаги с рабочего стола,
Сталин тоже присел. Как раз напротив Сергия.
За годы партийного правления коммунистическая пропаганда
сформировала образ Сталина как человека решительного, целост-
ную и устремленную натуру, которой чужды сомнения. Поговари-
вали, что Сталин, хорошо знавший мировую литературу, чувство-
вал наибольшую неприязнь к Гамлету за вечные его колебания:
быть или не быть?..
Он, товарищ Сталин, оставив духовную семинарию, навсегда
порвавший все связи с поповщиной, всего себя, без остатка, от-
дал главному делу своей жизни — революции, идее построения
коммунизма. По его инициативе принимались и под его руковод-
ством проводились кардинальные решения в государстве. С его
ill
именем связана борьба партии с оппозицией, которая сеяла со-
мнения среди народа в правильности и справедливости проводи-
мой им политики. Без жалости, твердой рукой он наводил в партии
жесткий порядок. Он, товарищ Сталин, продолжил и завершил
наступление, начатое еще Лениным, на Церковь. Что там Емель-
ян Ярославский со своим «Союзом безбожников»?! Он был лишь
исполнителем воли Сталина: попробовал бы пойти против поли-
тического течения — революционный поток снес бы его точно так
же, как других, посмевших иметь свое мнение. Сталин всегда шел
вперед, не оглядываясь. И те, кто, по его мнению, стоял на его
пути, автоматически становились его врагами.
Сергий обратил внимание, что серое, без румянца, лицо Ста-
лина изрыто оспинами, чего не было на многочисленных портре-
тах. Волосы черные, с рыжинкой, в них много седины. Глаза
коричневые, взгляд очень пристальный, даже пронзительный. Одет
в серую, наглухо застегнутую куртку военного покроя.
Молчание нарушил Сталин:
— Правительство Союза знает о проводимой Православной Цер-
ковью патриотической работе с первого дня войны. Правитель-
ство получило очень много писем с фронта и из тыла, одобряющих
позицию, занятую Церковью по отношению к государству.
Сталин увидел, как по лицу Сергия едва заметно пробежала иро-
ническая улыбка. Смысл ее ему был ясен.
В отличие от него, Сталина, который целую неделю не появ-
лялся в Кремле — никто его не видел, никто не слышал его голоса
в телефонных трубках, он никого не вызывал к себе на дачу, где
замкнулся от внешнего мира, — митрополит Сергий, патриарший
местоблюститель исторической национальной Православной Цер-
кви, знал, как реагировать на нападение врага. В первый же день
войны, которую назовут Великой Отечественной, в воскресенье,
в день праздника Всех святых земли Русской, он сам отпечатал на
машинке пастырское послание, обращенное не только к верую-
щим, а и ко всем людям русским.
Послание разослали по приходам. И что самое удивительное,
власти никак на это не отреагировали, хотя это было нарушением
закона, по которому Церкви запрещалась всякая деятельность вне
церковных дел, как и всякое вмешательство в дела государства.
Возможно, ждали указаний на этот счет Сталина. Но тот, нахо-
дясь в прострации, отгородился от всех и вся в «дачном» затворни-
честве.
112
Однако то, что Сталин был знаком с посланием Сергия, патри-
арший местоблюститель не сомневался. Через десять дней после
немецкого нападения Сталин обратится по радио к народу и взвол-
нованным голосом произнесет: «Дорогие соотечественники! Бра-
тья и сестры!» И слова эти — не из марксистско-ленинского лекси-
кона. Хотя прежде, чем они легли — твердо, ступеньками! — на
чистый лист бумаги, он листал Ленина и в который раз перечиты-
вал обращение «Социалистическое Отечество в опасности». Нет,
его, сталинское, обращение по духу перекликалось с Сергиевым
посланием.
5.
ТАЛИН потянулся за трубкой, лежащей на столе. Зажег
спичку. Однако прикуривать не стал и бросил горящую
спичку в пепельницу.
— Нас интересует, какие нужды существуют у Церкви,
— сказал Сталин, наблюдая, как огонь пожирает спичку.
— Самая главная проблема — вопрос о патриархе, о центральном
руководстве Церкви, — спокойно начал митрополит Сергий. — Разве
это нормально, что патриарх не избирался в течение восемнадцати
лет? Священного Синода в стране нет с 1935 года. А посему считаю
желательным, чтобы правительство разрешило собрать архиерейс-
кий Собор, который и изберет патриарха, а также создаст при главе
Церкви Священный Синод как совещательный орган в составе пяти-
шести архиереев.
Митрополиты Алексий и Николай также высказались за создание
Синода и заявили, что избрание патриарха на Соборе они считают
чисто каноническим фактом, тем более, что митрополит Сергий
уже длительное время фактически бессменно возглавляет Церковь.
Одобрительно отозвавшись о проведении. Собора, Сталин поин-
тересовался:
— А как будет именоваться патриарх? Когда, по-вашему, может
быть созван архиерейский Собор? Нужна ли какая помощь со сто-
роны правительства для успешного проведения Собора, например,
с помещением, транспортом, доставкой и размещением архиере-
ев? Правительство может предложить и финансовую помощь для
этих нужд.
113
— Предварительно мы обсуждали эти вопросы между собой и
считаем, что было бы правильно, если бы правительство разреши-
ло принять для патриарха титул патриарх Московский и всея Руси,
— ответил Сергий. Правда, при этом заметил: — Хотя патриарх
Тихон, избранный в 1917 году, назывался патриархом Московс-
ким и всея России. А что касается подготовки Собора, то на это
потребуется не менее месяца. Время военное, собрать же надлежит
всех епископов.
Месяц... Нет, это Сталина не устраивало.
— А нельзя ли проявить большевистские темпы? — спросил он,
словно перед ним сидели не митрополиты Православной Церкви,
обескровленной и почти растоптанной большевистской властью, а
товарищи по политбюро. И уже к Карпову: — Помогите митропо-
литу Сергию собрать епископов. Привлеките для этого авиацию и
другой транспорт. Сколько в таком случае понадобится времени,
чтобы созвать Собор?
— Дня три-четыре, товарищ Сталин, — быстро ответил Карпов.
— Вот и хорошо. Вас это устраивает? — Вопрос адресовался уже
Сергию. — Тогда, может, на 8 сентября и назначить архиерейский
Собор?
Митрополиты не возражали. На том и порешили. Что касается
финансовой помощи от государства на проведение Собора, патри-
арший местоблюститель отказался. Впрочем, Сталин и не настаи-
вал. Он решил для себя главную задачу: Русская Православная
Церковь предстанет перед английской делегацией, как это и подо-
бает, с
патриархом. Синодом...
АЗГОВОР, меж тем, еще не был закончен. Патриарший
местоблюститель, обратившись к Сталину, сказал, что
стоило бы открыть епархиальные курсы, так как не хвата-
ет священников.
— А почему вы просите открыть епархиальные курсы, а не ду-
ховную академию или семинарию? — спросил тот.
— Для духовных академий у Церкви еще очень мало сил и нужна
соответствующая подготовка, — ответил митрополит Сергий. — А
в отношении семинарий... Принимать лиц моложе восемнадцати
лет считаю не подходящим по времени. Да и по прошлому опыту
знаю, что пока у человека не сложилось определенное мировоззре-
ние, готовить его в качестве пастыря весьма опасно. Получается
большой отсев.
Еше в начале века Сергий, будучи ректором Петербургской ду-
ховной академии и председателем учебного комитета Русской Пра-*
вославной Церкви, был хорошо информирован о настроении, ца-
рившем в семинариях. Именно семинаристы оказались самым ра-
дикальным и революционным элементом в среде российского сту-
денчества. Митрополит Евлогий даже высказывался, что около
половины семинаристов «ничего общего с семинарией не имеют:
ни интереса, ни симпатии к духовному призванию...» Из 2148 вы-
пускников семинарий в 1911 году только 774 приняли сан к 1913
году. Для тех, кто был в семинарии поневоле, внешнее обязатель-
ное благочестие было лицемерием, вызывало раздражение, бун-
тарство и часто приводило к воинствующему атеизму. «Невольник
— не богомольник», — говорил митрополит Филарет (Дроздов) о
таких. В 1917—18 годах Поместный собор даже специально об-
суждал: продолжать ли открывать семинарии или, может, их зак-
рыть, и если открывать, то только при монастырях.
Духовная школа требовала радикальных перемен. Но происшед-
шие в стране события, начавшаяся борьба с религией не дали про-
вести реформы. И вот теперь, когда Сталин заговорил о духовных
семинариях и академиях, митрополит Сергий осторожно дал по-
нять, что на старых принципах новые духовные учебные заведения
строиться не будут.
— А почему у вас нет кадров? Куда они делись? — спросил Ста-
лин, словно не знал, что лучшие преподавательские кадры акаде-
мий были властью уничтожены или бежали от преследования за
границу.
— Кадров у нас нет по разным причинам... К примеру, мы гото-
вим священника, а он становится Маршалом Советского Союза,
— парировал Сергий.
Усмешка тронула уста Сталина: понял, в чей огород камень.
— Да, я был когда-то семинаристом. Слышал тогда и о вас. —
И он стал вспоминать семинарские годы. — Мать до самой смерти
жалела, что я не стал священником...
Впрочем, духовная семинария была за плечами и другого мар-
шала — начальника Генерального штаба Василевского. Учился в
семинарии и член правительства Микоян. А полковник госбезо-
пасности Карпов, происходивший из церковной семьи, окончил
даже Киевскую духовную академию.
Или вот председатель Центральной Ревизионной Комиссии ЦК
ВКП(б) Михаил Владимирский. С ним они не просто земляки.
Двоюродные братья.
В 1864 году двадцатидвухлетний семинарист Николай Страго-
родский в Арзамасском Воскресенском соборе венчался с семнад-
цатилетней дочерью покойного священника Христорождественс-
кой церкви Дмитрия Раевского Любовью. То были родители мит-
рополита Сергия.
А в 1866 году в том же Воскресенском соборе двадцатитрехлет-
ний студент Нижегородской духовной семинарии Федор Владимир-
ский венчался с другой дочерью Дмитрия Раевского — двадцати-
летней Екатериною. Это были родители члена ЦК ВКП(б) Миха-
ила Владимирского.
Оба окончили одну и ту же семинарию. Да и разница в возрасте
меж ними не столь велика — каких-то семь лет. А вот ведь как
судьба развела: один посвятил себя служению Церкви, другой...
Захватил молодого человека революционный вихрь, марксизм за-
менил ему Священное писание.
Сколько еще подобных примеров мог привести Сергий!..
яТ&шрОКА ШЛА беседа, Молотов не проронил ни слова, словно
• 1#1ъ был безучастен ко всему происходящему. Но стоило только
патриаршему местоблюстителю заговорить об открытии в
ряде епархий церквей, об освобождении архиереев из лаге-
рей, тюрем и ссылок, как встрепенулся, вскинул взгляд на Сер-
гия, потом перевел на Хозяина. Тот по своему обыкновению про-
хаживался вдоль длинного стола, время от времени беря в руки
трубку, которую так в присутствии митрополитов ни разу не рас-
курил.
«Чегф же он на рожон лезет?» — подумал Молотов. Один из
немногих, кто еще мог позволить иногда назвать Сталина Кобой,
он никогда не заикался о том, что безвинно сидела его жена. Вот и
у Калинина жена в ссылке...
116
Сергий понимал: другого такого случая может не представиться.
А из окружения Сталина никто никогда не заговорит о проблемах
Церкви, о священниках, безвинно томящихся в застенках НКВД.
Они все эти годы послушно выполняли его волю, были его оруди-
ем в уничтожении Церкви.
К немалому удивлению Молотова Сталин сказал, что препят-
ствий со стороны правительства в открытии церквей не будет. Но
еще больше он был удивлен, когда Сталин предложил митрополи-
ту Сергию представить список находящихся в заключении священ-
нослужителей. «Мы его рассмотрим», — пообещал.
Быстро был улажен вопрос и об открытии свечных заводов, ма-
стерских по изготовлению церковной утвари. И тут Сталин, слов-
но подводя черту под просьбами митрополитов, повернул разговор
в другое русло:
— Мне доложил товарищ Карпов, что вы очень плохо живете:
тесная квартира, покупаете продукты на рынке, нет у вас никако-
го транспорта. Поэтому правительство желает знать, какие у вас
есть нужды и что бы вы хотели получить от правительства?
— Я нахожу нужным поддержать мнение митрополита Алексия,
— сказал Сергий, — который предлагает предоставить в распоря-
жение патриархии бывший игуменский корпус в Новодевичьем
монастыре.
— Помещения в Новодевичьем монастыре товарищ Карпов по-
смотрел. Они совершенно неблагоустроены, требуют капитально-
го ремонта. Там сыро и холодно. Правительство завтра же вам
может предоставить благоустроенное и подготовленное помещение
— трехэтажный особняк в Чистом переулке. Его раньше занимал
бывший немецкий посол Шуленбург. — Уловив недоумение в гла-
зах Сергия, Сталин добавил: — Это здание советское, не немец-
кое, так что вы можете совершенно спокойно в нем жить. Особ-
няк мы вам предоставим со всем имуществом, мебелью. Для того,
чтобы иметь лучшее представление об этом здании, мы сейчас по-
кажем вам его план.
Через несколько минут в кабинет вошел Поскребышев и разло-
жил на столе план особняка — с надворными постройками, садом.
— Если желаете, товарищ Карпов завтра предоставит вам воз-
можность лично осмотреть помещения.
Сергий понял: Сталин уже принял окончательное решение от-
дать им этот особняк. Будущему патриарху надлежало принимать
иностранные делегации, но не покажешь им пришедший в запус-
тение Новодевичий монастырь.
— А что касается продуктов... На рынке вам покупать неудобно
и дорого, да и продуктов сейчас на рынок колхозник выбрасывает
мало. Поэтому государство может обеспечить вас продуктами по
государственным ценам. Кроме того, мы завтра-послезавтра пре-
доставим в ваше распоряжение две-три автомашины с горючим.
Другие вопросы у вас к нам есть?
Молчание.
— Ну, если нет... — И тут же без всякого перехода Сталин ска-
зал: — Правительство предлагает образовать специальный орган —
государственный аппарат, который будет называться Совет по де-
лам Русской Православной Церкви, и председателем Совета пред-
лагается назначить товарища Карпова. Как вы смотрите на это?
— Но разве это не тот Карпов, который нас преследовал? —
сыронизировал Сергий.
— Тот самый, — хитро улыбаясь, ответил Сталин. — Партия
приказывала преследовать вас, и он выполнял приказ партии. Те-
перь мы приказываем ему быть вашим ангелом-хранителем. Я знаю
Карпова, он исполнительный работник.
И уже обращаясь к Карпову:
— Подберите себе двух-трех помощников, которые будут члена-
ми вашего Совета, создайте аппарат. Но только помните, во-пер-
вых, вы не обер-прокурор, во-вторых, своей деятельностью боль-
ше подчеркивайте самостоятельность Церкви.
Карпов, этот исполнительный работник, готовый выполнить
любой приказ партии, прекрасно понял тайный смысл слов Хозя-
ина. Понял еще там, на Кунцевской даче.
Некогда генерал Протасов свое назначение обер-прокурором
выразил в письме к приятелю следующими словами: «Теперь я глав-
нокомандующий Церкви, я патриарх, я черт знает что...» Будущий
генерал КГБ Карпов спустя век мог смело повторить слова своего
предшественника. Позже он сжал Церковь в такие тесные объя-
тия, что ни одно церковное мероприятие не могло пройти без его,
Карпова, разрешения или согласия.
— Надо известить о сегодняшней встрече население так же, как
потом надо будет сообщить и об избрании патриарха, — сказал
Сталин.
Молотов тут же стал набрасывать текст для радио и газет. Ста-
лин, через его плечо читая написанное, вносил замечания. Свои
поправки и дополнения сделали митрополиты Сергий и Алексий.
П8
Когда коммюнике было готово, его передали Поскребышеву:
— Завтра это должно быть опубликовано, — Сталин сделал уда-
рение на слове «завтра».
Молотов поинтересовался у Сергия, когда лучше принять деле-
гацию англиканской церкви во главе с архиепископом Йоркским.
— В любое время после избрания патриарха, — был ответ.
— Может, следует позвать фотографа? — спросил Карпов Ста-
лина.
— Нет, уже второй час ночи. Слишком поздно. Поэтому мы
сделаем это в другой раз, — ответил Сталин.
Уже прощаясь в дверях, Сталин сказал Сергию:
— Владыка, как говорится, кто старое помянет...
И услышал в ответ:
— Бог вам судья.
С тем Сергий и вышел.
А Сталин все стоял на пороге кабинета, молча куря трубку.
8.
ТРОМ 5 сентября в Богоявленском кафедральном соборе
состоялась торжественная воскресная литургия, после ко-
торой патриарший местоблюститель Сергий сообщил о на-
меченном на 8 сентября Соборе епископов для избрания
патриарха.
В тот же день в газете «Известия» было опубликовано следую-
щее сообщение:
«4 сентября с. г. у Председателя Совета Народных Комиссаров СССР
товарища И. В. Сталина состоялся прием, во время которого имела
место беседа с патриаршим местоблюстителем митрополитом Серги-
ем, Ленинградским митрополитом Алексием и экзархом Украины
Киевским и Галицким митрополитом Николаем. Во время беседы
митрополит Сергий довел до сведения Председателя Совнаркома, что
в руководящих кругах православной церкви имеется намерение со-
звать Собор епископов для избрания патриарха Московского и всея
Руси и образования при патриархе Священного Синода.
Глава Правительства товарищ И. В. Сталин сочувственно от-
несся к этим предложениям и заявил, что со стороны Правитель-
ства не будет этому препятствий.
При беседе присутствовал заместитель Председателя Совнарко-
ма СССР товарищ В. М. Молотов».
Позднее Сергий узнал, что лидер обновленцев Введенский пы-
тался прорваться на прием к Сталину. Но ему в этом было отказа-
но. Генерал без войска — а именно таким был в это время Введен-
ский — Сталину был не нужен. А ведь еще в 1922 году на судебном
процессе против митрополита Петроградского Вениамина адвокат
Гурович предупреждал: «Церковная революция, происшедшая при
благословении атеистического начальства, истинных христиан при-
влечь не может... Нет, не сбудутся ожидания, возлагаемые совет-
ской властью на нового «союзника»...»
В намеченный день, 8 сентября, состоялся Собор епископов.
Митрополит Алексий, обратившись к собравшимся, предложил
избрать патриархом митрополита Сергия. Других кандидатур не
было. Голосовали открыто: каждый вставал и заявлял о своей под-
держке Сергия.,
Поблагодарив за избрание, Сергий объявил об образовании при
патриархе Священного Синода, состоящего из трех постоянных и
трех временных членов. Постоянными были назначены митропо-
литы Алексий и Николай и архиепископ Горьковский Сергий.
12 сентября в московском Богоявленском (Елоховском) соборе
прошла интронизация новоизбранного патриарха. Общее настрое-
ние и отношение к произошедшему выразил в своем выступлении
архиепископ Григорий (Чуков): «Тяжелый крест выпал на долю мит-
рополита Сергия: скорбен был путь, которым пришлось идти ему —
второму местоблюстителю, — и епископы не все признавали его, и
в народе враги Церкви старались возбудить против него злые слухи.
Но он — глубоко убежденный православный канонист — твердо от-
межевался от всякой нелояльной в отношении государства работы,
на которую толкали его некоторые из его собратьев-епископов. Он
помнил слова Христа: «Воздадите кесарево кесареви и Божие Богу»,
и эти божественные слова легли в основу его деятельности как пат-
риаршего местоблюстителя. Он занялся исключительно устроением
Церкви и держался строгой церковной линии».
В тот же день Святейший Сергий обратился к пастве со своим
первым патриаршим посланием, в котором напомнил церковное
учение а том, что «хранителем православной веры у нас является
не епископат, не духовенство, а сам верующий народ», поэтому
«каждый член данной православной общины обязан участвовать в
охранении православной веры».
ГЛАВА IX _____________________
Созижду Церковь мою
Мир оставляю вам, мир Мой даю вам, не
так, как мир дает, Я даю вам.
Евангелие от Матфея. 14.27.
1.
___ (gjwMjf АШЕ Святейшество, — обратился Карпов к патриар-
ху, когда тот поудобнее уселся в кресло подле стола.
ТжВ&г Карпов отлично помнил, как осенью прошлого
года, закончив беседу, Сталин, словно иподиакон,
осторожно взяв под руку Сергия, тогда еще патриаршего место-
блюстителя, по ковровой дорожке довел митрополита до двери,
обратившись к нему на прощание: «Владыка». Так что и ему, Кар-
пову, следует соблюдать приличие.
— Греческая принцесса Ирина через советского посланника в
Каире передала письмо, адресованное вам. Заместитель народного
комиссара иностранных дел Кавтарадзе просил меня как председа-
теля Совета по делам Русской Православной Церкви вручить его
Вашему Святейшеству. — И тут же, передавая письмо, участливо
поинтересовался: — Вы, выходит, знакомы с принцессой?1
— Только по прежней переписке, — ответил Сергий, углубля-
ясь в чтение.
Наблюдая за ним, Карпов вдруг вспомнил недавно виденный
великолепный портрет Сергия кисти Павла Корина: трагическое и
в то же время просветленное лицо. Такими обычно пишут святых.
Карпов знал, что патриарх с особым благоговением относится к
преподобному Серафиму Саровскому — русскому «учительному
старцу», через затвор и «умное» молитвенное делание обретшего
дар прозорливости для духовного врачевания душ человеческих.
Знал Карпов и то, что за мудрость и необыкновенную доброту Сер-
гия называли «дедушкой».
121
Греческая принцесса в своем письме просила Русскую Церковь
оказать материальную помошь Антиохийскому патриарху Алексан-
дру и двум женским монастырям в Палестине. Сергий, когда был
настоятелем посольской церкви в Греции, посетил Палестину и
помнил эти монастыри — Элеонский и Горный. Оба расположены
неподалеку от Иерусалима. Ирина даже указала желательную сум-
му: по 200 английских фунтов в месяц для каждого монастыря и
столько же как пособие для Александра.
Раньше, писала принцесса, Антиохийская патриархия получала
регулярно денежное пособие от русского правительства, а теперь
монастыри получают средства от архимандрита Антония — началь-
ника Русской духовной миссии в Палестине. Однако денег этих
недостаточно.
Закончив чтение и поправив съехавшие на кончик носа очки,
патриарх заявил:
— После нашей встречи я более детально изучу письмо и поду-
маю, как можно помочь Антиохийскому патриарху. Что же каса-
ется помощи монастырям, то, поскольку они подчинены зарубеж-
ному Синоду, считаю малоприемлемым оказывать им помощь.
— Ну что ж, с этим вопросом все ясно. А теперь перейдем
непосредственно к нашим, «домашним», так сказать, делам.
Вон их сколько накопилось, — сказал Карпов, расточая улыб-
ки и показывая на исписанный листок бумаги, лежащий перед
ним.
— Прежде всего, считаю, надо решить вопрос о возможности
назначения на Тульскую епархию Тамбовского архиепископа Луки,
— начал Сергий. Патриарх обратил внимание, что как только он
упомянул о Луке, тут же переменился в лице Карпов. И куда толь-
ко подевалась слащавая улыбка! Но сделав вид, что не заметил
этой перемены, продолжал:
— Эта необходимость вызвана болезнью архиепископа. У него,
если знаете, малярия. Представитель наркомздрава РСФСР про-
фессор Шапиро на днях заявил мне, что он беседовал с наркомом
здравоохранения РСФСР и тот считает возможным предоставить
профессору хирургии Войно-Ясенецкому место работы в Туле.
Карпов подметил, что Сергий, упоминая об архиепископе, на-
звал егр по фамилии.
— Я вынужден ознакомить Ваше Святейшество с рядом непра-
вильных действий архиепископа Луки. — Карпов вытащил из пап-
ки какие-то листки и, взглянув на один из них, сказал: — Вот,
122
пожалуйста. Архиепископ Лука в своем кабинете хирургического
госпиталя повесил икону, а перед операциями совершал молит-
вы. Как это понимать?
— А что тут непонятно? Как хирург архиепископ Лука лечит тело
раненых бойцов и командиров, а как архиерей — души людские.
И если молитва помогает облегчить человеку страдания, перенести
болезнь, то что в том плохого?
Но полковника госбезопасности Карпова голыми руками не
возьмешь. У него есть и другой компромат на Луку.
— На совещании врачей эвакогоспиталей за столом президиума
сидел в архиерейском облачении... На Пасху пытался совершить
богослужение в ^функционирующих храмах... И это еще не все
прегрешения архиепископа Луки, — закончил Карпов, засовывая
бумаги опять в папку.
Сергий понимал всю унизительность ситуации. Он, патриарх,
не имел права самостоятельно, без согласования с Советом по де-
лам Русской Православной Церкви назначать ни архиереев, ни
священников. И на каждого у Карпова находились необходимые
бумажки. Он и на местах подобрал себе достойных помощников,
которые доносили о каждом шаге священнослужителей. Вот и сей-
час ему, Сергию, предстоит представить Карпову на согласование
еще несколько священников. Интересно, а что на них у него име-
ется? Жаль, не удалось помочь Луке. Надо будет позднее вновь
вернуться к этому разговору.
Когда с назначением священников было закончено, патриарх
спросил у Карпова:
— Скажите, пожалуйста, считает ли Совет возможным ускорить
открытие собора в городе Арзамасе Горьковской области?
Во время одной из предыдущих встреч Сергий уже говорил об
этом Карпову, но, похоже, так ничего и не сделано.
Советский «обер-прокурор» Карпов разработал такую систему
открытия церквей, что заволокитить дело не составляло никакого
труда. Только в Горьковской области за 1943—44 годы были рас-
смотрены 137 заявлений верующих, по 123 решения были отрица-
тельные.2
— Помню, помню вашу просьбу, — поспешил успокоить собе-
седника Карпов. — И то. что Арзамас — ваша родина, тоже зна-
ем. Задержка, знаете ли, получилась. Из Горького своевременно
материалы не представили. Теперь же необходимые документы
прислали, на первом же заседании Совета их рассмотрим.3
Эта встреча, состоявшаяся 4 мая 1944 года, оставила в душе
патриарха тягостное впечатление.
Впрочем, она мало чем отличалась от других. Карпов всегда на-
ходил возможность «поиграть в кошки-мышки».
Помнится, Сталин говорил, что правительство не будет возра-
жать против духовных семинарий и академий, а не только епархи-
альных курсов. Вскоре патриарх Сергий представил в Совет по
делам Русской Православной Церкви необходимые документы для
организации в Москве Православного богословского института и
богословских пастырских курсов в епархиях. А 29 октября Карпов
пригласил патриарха, митрополитов Николая и Алексия, архи-
епископа Григория (Чукова) для обсуждения некоторых вопросов.
Договорились, что на первом курсе института будут обучаться 30
человек, на пастырских курсах (первый год обучения) — до 25 че-
ловек.4
Потом Карпов выдвинул требования: необходимо, чтобы в про-
граммы первого года обучения в богословском институте и на кур-
сах в обязательном порядке было включено изучение Конституции
СССР, а также соответствующих руководящих указаний, относя-
щихся к деятельности Русской Православной Церкви.
Это было странно, во-первых, потому, что еще благодаря ста-
раниям Ленина Церковь была отделена от государства. К тому же
Святейший патриарх Сергий всегда придерживался того мнения,
что Церковь есть нечто отдельное от государства и имеет моральное
право выбирать свою позицию по отношению к государству. И
Карпову сие было, разумеется, ведомо.
Во-вторых, складывается какая-то глупейшая ситуация. По Кон-
ституции духовенству гражданские права предоставлены наравне
со всеми трудящимися. Однако достаточно вспомнить выборы конца
30-х годов. Тогда воспользоваться правом избрания в Советы духо-
венству не пришлось. Тот же Ярославский в 1937 году требовал
«всячески противодействовать попыткам церковников выставлять
свои кандидатуры при выборах в Советы».
«Могут ли быть выдвинуты кандидатуры священников, канди-
датуры служителей культа во все органы Советской власти?.. Одно
дело, — говорил он, — что им государство предоставляет право
быть избранными, а другое дело — надо ли их выбирать... Пустить
их в Советв! — это все равно, что пустить козла в огород, где он
будет портить, вредить... Вот почему мы говорим: не место служи-
телям культов в Советах депутатов трудящихся».
Но уж если Карпов настаивает и желает уподобиться той унтер-
офицерской вдове, что сама себя высекла, что ж, пожалуйста:
изучение Конституции в программы будет включено.
Сергий шел на эту уступку ради осуществления самой главной
своей мечты — восстановления богословского обучения в России.
Но он так и не дожил до этого светлого часа. Первая пастырская
школа и богословский институт, переведенные впоследствии в
восстановленную Троице-Сергиеву лавру, были открыты через
месяц после его кончины.
(ЙмшГО ВРЕМЯ своей интронизации патриарх Сергий сказал: «В
звании патриаршего местоблюстителя я чувствовал себя
временным и не так сильно опасался за возможные ошиб-
ки. Будет, думал я, избран патриарх, он и исправит все
допущенные ошибки».
Но ему не было дано их исправить. Через восемь месяцев патри-
арха Сергия не стало.
Информация председателя Совета по делам Русской Православ-
ной Церкви Карпова в СНК СССР о смерти патриарха Сергия.
15 мая 1944 г. Секретно. Товарищу И. В. Сталину.
Совет по делам Русской Православной Церкви при СНК СССР
докладывает: 15 мая 1944 года в 6 часов 50 минут утра от кровоиз-
лияния в мозг на почве атеросклероза скончался патриарх Москов-
ский и всея Руси Сергий (Страгородский).
Смерть последовала неожиданно. Накануне смерти, в воскресе-
нье 14 мая, был совершенно здоров, сам вел службу в кафедраль-
ном Богоявленском соборе, делал новые посвящения епископов.
Вечером того же дня Сергий также чувствовал себя хорошо, ночь
провел спокойно. В 6 часов утра проснулся и, узнав, что рано,
опять лег спать.
Причина смерти установлена и заактирована профессором по
болезням сердца Егоровым В. А. и доктором Ефимовым И. И.
В 8 часов 30 минут утра 15 мая в моем присутствии митрополит
Ленинградский Алексий, митрополит Крутицкий Николай и уп-
равляющий делами патриархии протоиерей Н. Ф. Колчицкий про-
извели осмотр личного кабинета патриарха.
Осмотром было обнаружено в ящике письменного стола посмер-
тное завещание Сергия, которое было запечатано личной сургуч-
ной печатью Сергия и датировано 12 октября 1941 года.
В данном завещании говорится, что в случае его смерти в долж-
ность патриаршего местоблюстителя вступает Ленинградский мит-
рополит Алексий (Симанский).
Других завещательных документов не обнаружено.
Синод обратился в Совет с просьбой разрешить похоронить пат-
риарха 18 мая сего года внутри кафедрального Богоявленского со-
бора (площадь Баумана).5
Во время похорон патриарха Сергия митрополит Алексий, став-
ший местоблюстителем патриаршего престола, в слове прощания
выразил мнение всей Русской Православной Церкви, всех верую-
щих: «Не только отца лишились мы с кончиною Святейшего пат-
риарха, мы лишились в нем доброго пастыря и мудрого кормчего
корабля церковного. Церковь православная скорбит об его утрате.
Он весь принадлежит церкви Божией... На короткое время судил
ему Господь восприять высокое звание патриарха Московского и
всея Руси, главы Церкви Российской, как бы для того только,
чтобы дать ему полноту славы церковной в воздаяние его великих
заслуг церковных, и для того, чтобы увенчать его церковные зас-
луги».
Имя и дела Сергия Страгородского вызывали в прошлом и вызы-
вают ныне бурные споры и дискуссии. Но время убедительно до-
казало, что обвинения в адрес Святейшего патриарха Сергия —
демагогия и лицемерие, о чем лучше всего свидетельствует тот факт,
что церковный народ не принял этих обвинений. Для большин-
ства православных патриарх Сергий был и остается национально-
духовным авторитетом.
Примечания
ГЛАВА I
1) Арзамасский государственный архив Нижегородской области
(АГАНО), ф. 58, оп. 2, д. 2, л. 41 (об.)-42.
2) И. Д. Страгородский скончался 31 мая 1901 года и погребен
в Алексеевском монастыре.
3) По уставу духовных семинарий 1884 года, существовала сле-
дующая система оценок: 5 — «отлично», 4 — «очень хорошо», 3 —
«хорошо», 2 — «посредственно», 1 — «плохо».
4) «Над Евангелием». Еп. Михаил Грибановский. Жизнеопи-
сание. Полтава. 1911.
5) Русский вестник. 1892. Декабрь; 1893. Февраль; Богословс-
кий вестник, 1895—1896; 1899. Апрель—декабрь.
6) То, что исследование не потеряло своего значения и сегод-
ня, говорит тот факт, что в 1991 году Московская патриархия осу-
ществила репринтное издание работы.
ГЛАВА II
1) Иерархи в государственно-правовом оформлении представ-
ляли собой ни что иное, как чиновников в рясах, на которых рас-
пространялся табель о рангах, определяющий положение того или
иного лица в российском государстве: архиепископ, например,
приравнивался к генерал-лейтенанту, протоиерей — к полковни-
ку.
2) В мае 1911 года В. К. Саблер назначается на должность обер-
прокурора.
3) Епископ Антоний (Храповицкий) в отличие от Сергия (Стра-
городского) считал, что в Соборе должны участвовать только епис-
копы и что миряне и белое духовенство могут присутствовать на
Соборе только как наблюдатели, без права голоса.
4) 9 января 1905 года погибли более 1200 человек, около 5 тысяч
получили ранения — см. История России (Россия в мировой ци-
вилизации). Учебное пособие под редакцией А. А. Радугина. М.:
«Центр», 1997, с. 188-189.
5) В первую Думу было избрано 6 священников и 2 епископа;
во 2-ю — 11 священников и 2 епископа.
6) Интересно, что так же рассуждали православные христиане
социалистического уклона: экономист С. Булгаков (будущий
о. Сергий) и журналист В. Свенницкий (будущий священник,
погибнет в застенках ОГПУ в 1931 г.). Существовала мысль пре-
вратить «Христианское братство борьбы» в христианско-социалис-
тическую партию. Но Булгаков решил: христианских партий не
должно быть, ибо партия — это часть, раскол общества, а Цер-
ковь должна объединять, а не разъединять. Христиане должны дей-
ствовать как христиане в любой партии по выбору своей совести.
7) Всероссийский церковно-общественный вестник. 1917. 7 мая.
N22.
8) Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ),
ф. 564, on. 1, д. 393, л. 1—2.
9) В 1918 году нижегородцы, желая видеть своего знаменитого
земляка во главе епархии, просили Сергия выдвинуть свою канди-
датуру на должность архиепископа Нижегородского. Но он откло-
нил это предложение.
ГЛАВА III
1) Регельсон Л. Трагедия русской церкви, 1917—1945. Париж:
ИМКА-пресс, 1977, с. 215-218.
2) Там же, с. 225—226.
3) Карташов А. В. Революция и собор 1917—^^//Богословс-
кая мысль, 1942, с. 100.
4) См. История России (Россия в мировой цивилизации). Под
редакцией А. А. Радугина. М.: «Центр», 1997, с. 250.
5) Бывший обер-прокурор В. К. Саблер считал, что иерарх,
возглавляющий в данной ситуации Русскую Православную Цер-
ковь, должен быть более ярко выраженной лояльной направленно-
сти, а, может быть, и вообще более «гибким». По его мнению,
для Церкви было бы лучше, если бы в это время ее возглавлял
митрополит Сергий (Страгородский). — См.: Патриарх Тихон и
история Русской Православной Церкви. Книга 1. Сатисъ. С.-Пе-
тербург, 1994, с. 39—40.
6) Хрестоматия по истории СССР, 1917—1945: Учебное посо-
бие для педагогических институтов по специальности «История»//
Сост. С. И. Дегтев и др.; под ред. Э. М. Щагина. —М.: Просве-
щение, 1991, с. 184—185.
128
7) Письмо председателю ВЦИК М. И. Калинину с собственно-
ручной подписью «Патриарх Тихон». Приемная председателя
ВЦИК, вход. 1319/2, февраля 27. 1922 г., л. 38—39. Данное пись-
мо хранится в ГАРФ, но не включено в опись.
8) Ленин В. И. Письмо В. М. Молотову для членов Политбю-
ро 19.1П.1922//Известия ЦК КПСС. 1990. Апрель, N 4, с. 190—
193.
9) В ходе изъятий произошло 1414 кровавых инцидентов. См.:
Послесловский Д. В. Русская церковь, с. 97—99.
10) Там же, с. 97—99.
11) Наш современник, 1990, N 8.
12) Бухарин — один из авторов книги «Азбука коммунизма».
13) Так пренебрежительно Бухарин называет рядовых коммуни-
стов.
ГЛАВА IV
1) См.: Александр Введенский и обновленческий раскол в Мос-
кве.//Вестник МГУ, серия «История», 1989, N 1.
2) Наш современник, 1990, N 8, с. 158.
3) Поспеловский Д. В. Русская православная церковь в XX веке.
—М.: Республика, 1995, с. 102.
4) См.: Поспеловский Д. В. Митрополит Сергий и расколы
справа.//Вестник русского студенческого христианского движения,
1990, N 158, с. 59.
5) Архиепископ Мануил. Каталог русских архиереев за послед-
ние 60 лет. — Чебоксары, 1959, ч. VI, с. 126—133.
ГЛАВА V
1) Зимой 1921—22 годов в городе Сремские Карловицы группа
иерархов Русской Православной Церкви учредила высший церков-
ный орган для управления православными церквами в Западной
Европе. «Карловацкая» группа выступала за реставрацию монар-
хии в России и занимала резко антисоветские позиции. Митропо-
лит Сергий как православный богослов, живший интересами Цер-
кви, в своей переписке с патриархом Сербским Варнавой (в свое
время Варнава учился в Санкт-Петербургской духовной академии,
и Сергий был ректором и его учителем; он же постриг Варнаву в
монахи) отмечал, что указанная Богом задача эмиграции — от-
129
крыть западному христианству все богатство православной веры, а
вместо этого она занимается бессмысленными раздорами и взаим-
ными осуждениями и травлей как в печати, так и с амвона. Сер-
гий называл послереволюционную эмиграцию не политической, а
духовной эмиграцией: революция для него — духовный катаклизм,
а коммунисты — секулярная религия.
2) Именно это высказывание вызвало бурю протестов в широ-
ких кругах духовенства и мирян как в России, так и в эмиграции.
Однако они не обратили внимание на то, что, употребляя форму
женского рода «которой», митрополит Сергий говорит о радостях и
успехах родины, а не Советского Союза. На это он и указал .мит-
рополиту Елевферию, приехавшему с визитом в Московскую пат-
риархию. Митрополит Сергий сказал, что этим фразеологическим
оборотом он имел в виду преданность родине, а не режиму. А
относительно радостей и неудач пояснил: «Ясно, что, если Цер-
ковь будут преследовать, мы радоваться этому не будем...»
ГЛАВА VI
1) ГАРФ, ф. 5263, on. 1, ед. хр. 7, л. 72—74.
2) Поспеловский Д. В. Русская Православная Церковь в XX
веке. — М.: Республика, 1995, с. 166.
3) Имеется в виду митрополит Петербургский и Ладожский Ан-
тоний (Вадковский).
4) «Каэры» — контрреволюционеры, подсученный (блат.) —
находящийся на услужении власти.
5) Центральный государственный архив Московской области,
ф. 66, оп. 18, д. 1229, л. 3.
6) «Рабис» — журнал, издававшийся ЦК профсоюзов работни-
ков искусств.
7) Далее неразборчиво.
8) ГАРФ, ф. 5263, on. 1, д. 6, л. 2-3.
9) Монахиня Серафима, в миру Софья Александровна Булгако-
ва. Родилась в 1903 году в Москве. В последнее время проживала
в р. п. Выездное. Одна из последних Дивеевских сестер.
10) ГАНО, ф. 2626, оп. 2, д. ПО, л. 2-3.
11) ГАНО, ф. 2626, оп. 2, д. ПО, л. 1.
12) Монахиня Серафима (Булгакова) из «Дивеевских воспоми-
наний». Литературная учеба, 1991, N 1, с. 127.
ГЛАВА VII
1) Письмо хранится в музее школы N 715 г. Москвы.
2) Русская Православная Церковь и Великая Отечественная вой-
на. Сборник церковных документов. — М.: Московская патриар-
хия, 1943, с. 41—42.
3) Одинцов М. Хождение по мукам//Наука и религия, 1990,
N 5, с. 9.
4) ГАРФ, ф. 6991, оп. 2, д. 32, л. 44-45.
5) См.: Россия перед вторым пришествием. Изд. Свято-Троиц-
кой Сергиевой лавры, 1993.
6) Якунин В. Н. Велик Бог земли Русской//Военно-историчес-
кий журнал, 1995, N 1, с. 37.
7) См.: Журнал Московской патриархии, 1943, N 1.
8) См.: Правда о религии в России. — М.: Московская патриар-
хия, 1942.
ГЛАВА VIII
1) Якунин В. Н. Велик Бог земли Русской//Военно-историчес-
кий журнал, 1995, N 1, с. 38.
2) В основу главы положена запись беседы Сталина И. В. с
митрополитами Сергием, Алексием и Николаем, сделанная Кар-
повым Г. Г. См.: Канун воскресенья. Советская Россия, 1998, 21
мая.
ГЛАВА IX
1) ГАРФ, ф. 6991, on. 1, д. 4, л. 24-26.
2) Гордун С. Русская православная церковь при Святейших пат-
риархах Сергии и Алексии//Вестник русского студенческого хрис-
тианского движения. 1990, N 158, с. 98 — по архиву Совета по
делам РПЦ в ГАРФ.
3) Карпов данное патриарху Сергию слово сдержал: в 1944 году
Арзамасский Воскресенский собор был передан Церкви.
4) ГАРФ, ф. 6991, on. 1, д. 4, л. 1—3.
5) ГАРФ, ф. 6991, on. 1, д. 3, л. 87-87 об.
Именной указатель
АГАФАНГЕЛ (Преображенский Александр Лаврентьевич, 1854—
1928) — с 1917 г. митрополит Ярославский и Ростовский.
АЛЕКСИЙ I (Симанский Сергей Владимирович, 1877—1970) —
патриарх Московский и всея Руси с 1945 г. В 1921 — 1922 г.г. был
викарием и временно управлял Петроградской митрополией, в
октябре 1922 г. арестован и сослан в Казахстан, с 1926 г. архи-
епископ Тихвинский, управляет Новгородской епархией, являет-
ся ближайшим сподвижником митрополита Сергия (Страгородс-
кого), участвует в составлении Декларации 1927 г. С 1933 г. по
февраль 1945 г. управляет Ленинградской епархией. Погребен в
Троице-Сергиевой лавре.
АНАСТАСИЙ (Грибановский А., 1873—1965) — митрополит,
глава Карловацкого синода.
АНТОНИЙ (Вадковский Александр Васильевич, 1846—1912) —
митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский.
АНТОНИЙ (Храповицкий Алексей Павлович, 1863—1936) —
митрополит Киевский и Галицкий, возглавлял ВЦУ за границей,
затем Карловацкий синод.
АНТОНИН (Грановский Александр Андреевич, 1865—1927) —
епископ Владикавказский, глава обновленческого Союза Церков-
ного возрождения, возведен обновленцами в сан митрополита.
АРХАНГЕЛЬСКАЯ Александра Николаевна (1866—1937) — сес-
тра патриарха Сергия. Муж ее протоирей Евгений Васильевич Ар-
хангельский умер в 1915 г.
БЕРИЯ Лаврентий Павлович (1899—1953) — с 1938 по 1945 г.г.
— нарком внутренних дел СССР, одновременно с 1938 по 1953 г.г.
— генеральный комиссар госбезопасности. В 1953 г. арестован и
расстрелян за антигосударственные действия.
БЕРДЯЕВ Николай Александрович (1874—1948) — русский ре-
лигиозный философ.
БОРМАН Мартин (1900—?) — с 1941 г. ближайший советник
Гитлера и руководитель партийной канцелярии. На Нюрнбергс-
ком процессе заочно приговорен к смертной казни. По официаль-
ной версии погиб 2 мая 1945 г.
БРИТТАН Илия (1895—1945) — поэт и публицист, в 1920—21
г.г. был депутатом Моссовета, в 1922 г. выслан за границу.
БРЮЛЛОВ Карл Павлович (1799—1852) — живописец.
БУХАРИН Николай Иванович (1888—1937) — партийный и го-
сударственный деятель.
132
ВАСИЛЕВСКИЙ Александр Михайлович (1895—1977) — с июня
1942 г. начальник Генерального штаба, член Ставки Верховного
Главнокомандования, с 1943 г. — Маршал Советского Союза.
ВАСИЛИЙ (Ратм иров) — архиепископ Калининский, с 1922
по 1941 г.г. являлся обновленческим митрополитом Курским.
ВВЕДЕНСКИЙ Александр Иванович (1888—1946) — один из
лидеров обновленчества.
ВИНОГРАДОВ Василий Павлович — председатель Московского
епархиального совета, профессор.
ВЕНИАМИН (Федченков И. А., 1880—1961) — митрополит
Алеутский и Североамериканский.
ВИТТЕ Сергей Юлиевич (1849—1915) — председатель Кабинета
министров с 1903 г., председатель Совета министров в 1905—1906
г.г., автор Манифеста 17 октября 1905 г.
ВЛАДИМИРСКИЙ Федор Иванович (1843—1932) — протоие-
рей, депутат II Государственной Думы, Почетный гражданин
г. Арзамаса.
ВЛАДИМИРСКИЙ Михаил Федорович (1874—1951) — с 1919
по 1921 г.г. зам. наркома внутренних дел РСФСР, с 1922 по 1925
г.г. — в партийных и советских органах Украины, с 1926 по 1927
г.г. — зам. председателя Госплана СССР, с 1930 по 1934 г.г. —
нарком здравоохранения РСФСР, с 1927 по 1951 г.г. — председа-
тель Центральной ревизионной комиссии ВКП(б).
ВРАНГЕЛЬ Петр Николаевич (1878-1928) - в 1918-1919 г.г.
— главком Добровольческой армии и Вооруженных сил Юга Рос-
сии, в 1920 г. — главком Русской армии в Крыму, с 1920 г. в
эмиграции.
ГАЛКИН-ГОРЕВ Михаил — бывший священник, переметнув-
шийся впоследствии в так называемые «научные» атеисты.
ГИППИУС Зинаида Николаевна (1869—1945) — русская писа-
тельница, идеолог декадентства, с 1920 г. — в эмиграции.
ГИТЛЕР (Шикльгрубер) Адольф (1899—1945) — фюрер фашис-
тской Национал-социалистический партии с 1921 г., глава Гер-
манского фашистского государства.
ГОЛУБИНСКИЙ Евгений Евстафиевич (1834—1912) — историк,
академик Петербургской АН, автор «Истории русской церкви».
ГЛУБОКОВСКИЙ Н. Н. — профессор Софийского универси-
тета. Его сын Борис, вернувшись из-за границы, попал на Солов-
ки, хотел написать книгу о Соловецкой каторге, но, отбыв срок
заключения, оказался в психиатрической больнице.
133
ГОРЬКИЙ Максим (Пешков Алексей Максимович, 1868—1936)
— русский писатель.
ГРИГОРИЙ (Чуков Н. К.. 1870—1955) — Митрополит Петрог-
радский (Ленинградский). В 1922 г. он проходил по «контррево-
люционному» делу митрополита Петроградского Вениамина (Ка-
занского Василия Павловича, 1874—1922), который был расстре-
лян, а Григорию смертный приговор был заменен длительным сро-
ком заключения.
ГРИГОРИЙ (Янковский Гавриил, 1866—1932) — архиепископ
Екатеринбургский, глава «григорианцев».
ДЕНИКИН Антон Иванович (1872—1947) — генерал-лейтенант,
с 1918 г. — командующий Добровольческой армии, затем главком
Вооруженных сил Юга России, эмигрировал в 1920 г.
ДЗЕРЖИНСКИЙ Феликс Эдмундович (1877-1926) - с 1917 г.
председатель ВЧК-ОГПУ.
ДЯГИЛЕВ Сергей Павлович (1872—1929) — русский театраль-
ный и художественный деятель, в 1911 г. создал за рубежом труп-
пу русского балета.
ЕВДОКИМ (Мещерский В., 1869—1935) — архиепископ Ниже-
городский, митрополит обновленческой церкви, глава Высшего
Церковного Управления.
ЕВЛОГИЙ (Георгиевский Василий Семенович, 1868—1946) —
архиепископ с 1912 г., управлял Холмской и Волынской епархия-
ми, член Государственной Думы 2-го и 3-го созывов, эмигрировал
из России в 1919 г., митрополит Западноевропейский, в 1931 г.
порвал с Московской патриархией, умер и похоронен в Париже.
ЕЛЕВФЕРИЙ (Богоявленский, умер 1 января 1941 г.) — мит-
рополит Литовский, с 1931 г. назначен вместо Евлогия экзархом
Западной Европы.
ЗИНОВЬЕВ (Радомысльский) Григорий Евсеевич (1883—1936)
— советский партийный и государственный деятель, обвинен в
оппозиции и расстрелян.
ЕЖОВ Николай Иванович (1895—1940) — с 1922 г. — на партий-
ной работе, секретарь ЦК в 1935—39 г.г., нарком внутренних дел в
1936—38 г.г., в 1937—39 г.г. — генеральный комиссар госбезопас-
ности. Арестован в 1939 г., расстрелян в 1940 г.
иерейей — епископ Нижегородский и Арзамасский. Удалил-
ся на покой 17 июня 1857 г. в Нижегородский Печерский монас-
тырь. Первоначально желал поселиться в Высокогорской пустыни
(под Арзамасом), где для него были уже подготовлены кельи с до-
мовой церковью.
ИЛАРИОН (Троицкий Василий Александрович, 1866—1929) —
архиепископ Верейский, находился в Соловецких лагерях. Умер в
Ленинградской пересыльной больнице имени доктора Гааза. По-
гребен на Новодевичьем кладбище в Москве.
ИОСИФ (Петровых Иван Семенович, ? —1937) — архиепископ
Ростовский, с 1926 г. — митрополит Ленинградский, затем архи-
епископ Одесский.
ЖДАНОВ Андрей Александрович (1896—1948) — советский
партийный и государственный деятель, в 1924—1934 г.г. — секре-
тарь Нижегородского губкома, Горьковского крайкома партии.
ЖУКОВ Георгий Константинович (1896—1974) — Маршал Со-
ветского Союза, зам. Верховного главнокомандующего в годы Ве-
ликой Отечественной войны.
ЗАВАДСКИЙ Юрий Александрович (1894—1977) — советский
актер и режиссер.
КАВТАРАДЗЕ Сергей Иванович (1885—1971) — один из руково-
дителей борьбы за советскую власть на Кавказе, с 1941 г. зам.
министра иностранных дел СССР, в 1945—52 г.г. посол в Румы-
нии.
КАЛИНИН Михаил Иванович (1875—1946) — с 1919 г. предсе-
датель ЦИК, с 1938 г. — председатель Президиума Верховного Со-
вета СССР.
КАРТАШОВ Антон Владимирович (1875—1960) — обер-проку-
рор Синода, министр Временного правительства, богослов и ис-
торик Русской Православной Церкви.
КАРПОВ Георгий Григорьевич (1898—1967) — с 1943 по 1960 г.г.
председатель Совета по делам Русской Православной Церкви при
Совнаркоме СССР, генерал-майор КГБ.
КАЧАЛОВ (Шверубович) Василий Иванович (1875—1948) — на-
родный артист СССР.
КЕРЕНСКИЙ Александр Федорович (1881—1970) — с марта 1917 г.
во Временном правительстве: министр юстиции, военный и морс-
кой министр, председатель правительства, Верховный главноко-
мандующий. После Октября 1917 г. эмигрировал.
КОЛЛОНТАЙ Александра Михайловна (1872—1952) — в 1917—
18 г.г. нарком государственного призрения, с 1920 г. зав. женот-
делом ЦК партии, с 1923 г. — полпред в Норвегии, Мексике, в
1930—45 г.г. — посол в Швеции.
КОЛЧИЦКИЙ Н. Ф. (1890—1960) — протоиерей, управляю-
щий делами Московской патриархии.
КРАСИКОВ Петр Ананьевич (1870—1939) — с 1917 г. председа-
тель следственной комиссии по борьбе с контрреволюцией, в 1921
г. зам. наркома юстиции, в 1924 г. прокурор Верховного суда, с
1933 г. зам. председателя Верховного суда СССР, с 1935 г. (до
упразднения в 1938 г.) председатель Постоянной комиссии по куль-
товым вопросам при Президенте ЦИК СССР.
КРАСНИЦКИЙ Владимир — глава «Живой церкви» обновлен-
цев, протоиерей.
КЛЮЧЕВСКИЙ Василий Осипович (1841—1911) — русский ис-
торик.
КОРИН Павел Дмитриевич (1892—1967) — живописец, народный
художник СССР, Лауреат Государственной и Ленинской премий.
КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ (1858-1915) - великий
князь, президент Российской академии наук, почетный член Рус-
ского музыкального общества, Санкт-Петербургского, Московс-
кого и Казанского университетов. Поэт, автор пьесы «Царь Иудей-
ский» и других произведений. Печатался под псевдонимом К.Р.
ЛЕНИН (Ульянов) Владимир Ильич (1870—1924) — организатор
КПСС и основатель Советского государства.
ЛОССКИЙ Владимир Николаевич (1903—1958) — православный
богослов, религиозный философ.
ЛОССКИЙ Николай Онуфриевич (1870—1965) — религиозный
философ, с 1922 г. — в эмиграции.
ЛУКА (Войно-Ясенецкий В. Ф., 1877—1961) — архиепископ
Симферопольский и Крымский, хирург, професор медицины,
лауреат Государственной премии.
ЛЬВОВ Владимир Николаевич (1872— ?) — обер-прокурор Вре-
менного правительства. В момент зарождения обновленческой
авантюры всячески заискивал перед властями. Но и это не спасло
от преследования. Есть сведения, что закончил свои дни в сибир-
ской ссылке.
ЛУНАЧАРСКИЙ Анатолий Васильевич (1875—1933) — с 1917 г.
нарком просвещения, с 1929 г. — председатель Ученого комитета
при ЦИК СССР, в 1933 г. — полпред в Испании.
МАНУИЛ (Лемешевский В. В., 1884—1963) — епископ, по-
зднее митрополит Куйбышевский и Сызранский, среди прочих
соловецких узников выступил защитником церковной политики
митрополита Сергия (Страгородского).
136
МИКОЯН Анастас Иванович (1895—1978) — с 1937 г. — зам.
председателя правительства СССР, в 1964—65 г.г. председатель
Президиума Верховного Совета СССР.
МАЛЕНКОВ Георгий Максимилианович (1902—1988) — советс-
кий государственный и партийный деятель, в 1943 г. — секретарь
ЦК ВКП(б), в 1953—55 г.г. председатель Совета Министров СССР.
МАЯКОВСКИЙ Владимир Владимирович (1893—1930) — совет-
ский поэт.
МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1878—1918) — великий князь,
сын Александра III, в 1917 г., после отречения Николая II, отка-
зался от прав наследования.
МОЛОТОВ (Скрябин) Вячеслав Михайлович (1890—1986) — в
1930—41 г.г. — председатель, в 1941—57 г.г. — первый замести-
тель председателя правительства СССР.
МИХАИЛ (Грибановский Михаил Михайлович, 1856—1898) —
епископ Симферопольский и Таврический, положил начало воз-
рождению монашества в С.-Петербургской духовной академии, вы-
ступал за восстановление патриаршества в России.
НИКОЛАЙ (Ярушевич Борис Дорофеевич, 1892—1961) — в 1922 г.
стал епископом Петергофским, в 1927 г. подписал Декларацию
Сергия (Страгородского) и вошел в состав Временного патриар-
шего Священного Синода, с 1935 г. — архиепископ Петергофс-
кий, с 1941 г. — митрополит Киевский и Галицкий, экзарх Укра-
ины, с 1944 г. — митрополит Крутицкий и Коломенский, управ-
ляющий Московской епархией.
Погребен в Троице-Сергиевой лавре.
НИКОЛАЙ II (1868—1918) — российский император с 18S4 по
1917 г.г.
НИКОН (Софийский, убит 25.5.1908 г.) — архиепископ, эк-
зарх Грузии, погиб от рук грузинских изуверов-автокефалистов,
захоронен во Владимире в Успенском кафедральном соборе.
ОДИНЦОВ Михаил Иванович (род. 1949) — русский историк,
религиовед.
ОСТРОУМОВ Алексей Александрович (1844/45—1908) — тера-
певт, труды по физиологии и патологии кровообращения.
ПЕТР (Полянский Петр Федорович, 1862—1937) — митропо-
лит Крутицкий, в 1925 г. назначен местоблюстителем патриарше-
го престола, расстрелян по приговору НКВД.
ПОБЕДОНОСЦЕВ Константин Петрович (1827—1907) — обер-
прокурор Синода в 1880—1905 г.г.
ПОЛЕНОВ Василий Дмитриевич (1844—1927) — русский живо-
писец.
РЫКОВ Алексей Иванович (1881 — 1938) — нарком внутренних
де;! (ноябрь 1917), в 1918—21 г.г. и 1923—1924 г.г. — председатель
ВСНХ. в 1924-30 г.г. — председатель правительства СССР и од-
новременно председатель СНК РСФСР.
РОЗАНОВ Василий Васильевич (1856—1919) — русский писа-
тель и философ.
РУЗВЕЛЬТ Франклин Делано (1882—1945) — президент США.
САБЛЕР (Десятовский) Владимир Карлович (1845—193.?.) —
обер-прокурор в 1911 — 1913 г.г., древним старцем был сослан в
Калинин (Тверь), проживал в церковной сторожке.
СКВОРЦОВ-СТЕПАНОВ Иван Иванович (1870-1928) - с 1925 г
редактор «Известий», с 1927 г. — зам. редактора «Правды», в
*926—28 г.г. — редактор «Ленинградской правды».
СТАЛИН (Джугашвили) Иосиф Виссарионович (1879—1953) — с
1922 г. — Генеральный секретарь ЦК ВКП(б), с 1941 г. — предсе-
датель СНК СССР.
СЕРГИЙ (Страгородский Иван Николаевич, 1867—1944) — пат-
риарх Московский и всея Руси.
СЕРГИЙ (Воскресенский Д. Н., 1897—1944) — митрополит
Виленский и Литовский,экзарх Латвии и Эстонии.
СЕЧенов Иван Михайлович (1829—1905) — создатель русской
физиологической школы.
СКЛИФОСОВСКИЙ Николай Васильевич (1836—1904) — рус-
ский Хирург.
СМИДОВИЧ Петр Гермогенович (1874—1935) — зам. председа-
теля ВЦИК, с 1924 по 1929 г.г. возглавлял Секретариат по делам
культов при председателе ВЦИК, в 1929—35 г.г. — председатель
постоянной Комиссии по вопросам культов при Президиуме ВЦИК.
ТИХОН (Белавин Василий Иванович, 1865—1925) — патриарх
Московский и всея России с 1917 г.
ТРУБЕЦКОЙ Григорий Николаевич (1863—1920) — князь, ре-
лигиозный философ, общественный деятель.
ТУЧКОВ Евгений Александрович (1892—1957) — заведующий
6-м отделением секретного отдела ГПУ, в конце 30-х годов был
отстранен, рт «церковной» работы, есть сведения, что долгое время
проживал в Казахстане, затем вернулся в Москву. Погребен на
Ваганьковском кладбище.
ФИЛАТОВ Нил Федорович (1847—1902) — основоположник
педиатрии в России.
ФИЛАРЕТ (Дроздов Василий Михайлович, 1783—1867) — мит-
рополит Московский, богослов, философ.
ФЛОРЕНСКИЙ Павел Александрович (1882—1937) — богослов
и религиозный философ.
ЧИЧЕРИН Георгий Васильевич (1872—1936) — советский госу-
дарственный деятель, в 1918—30 г.г. — нарком иностранных дел.
ЧЕРЧИЛЛЬ Уинстон Леонард Спенсер (1874—1965) — премьер-
министр Великобритании в 1940—45, 1951—55 г.г.
ШАВЕЛЬСКИЙ Георгий Иванович (1871 — 1951) — с 1911 г.
протопросвитер военного и морского духовенства Российской им-
перии, эмигрировал в Болгарию.
ШПИЦБЕРГ Иван Анатольевич (1881 — 1933) — присяжный пове-
ренный, чиновник Синода по бракоразводным делам, с 1922 г. —
руководитель общества и издательства «Атеист».
ЯРОСЛАВСКИЙ Емельян Михайлович (Губельман Миней Из-
раилевич, 1878—1943) — советский партийный и государствен-
ный деятель, многие годы возглавлял «Союз воинствующих без-
божников».
139
Оглавление
Вместо предисловия ....................................4
Глава I. Отверзи ми двери .............................5
Глава II. Возжигая пречистые огни .....................17
Глава III. Велика истина и премогает..................30
Глава IV. Стяжи мирный дух .......................... 43
Глава V. Смиренномудрие ..............................57
Глава VI. Облекшись в броню веры и любви .............70
Глава VII. С нами силы небесные.......................91
Глава VIII. Канун воскресенья.........................105
Глава IX. Созижду Церковь мою ........................121
Примечания ...........................................127
Именной указатель ....................................132
Набор компьютерный. Печать офсетная. Формат 60x84/16. Объём 9,125 п.л.
Заказ 67. Тираж 1000.
С.СКАЯ
607220, Нижегородская область.
г. Арзамас, ул. Пл андина, 8.
Вячеслав Михайлович Панкра-
тов — член Союза журналистов
России. Родился на Урале. Почти I
четверть века живёт в Арза-
масе. Автор брошюры "Свет во
тьме светит...", вышедшей в
1998 году и посвящённой жизни и •
деятельности священника,
депутата II Государственной |
Думы, Почётного гражданина '
Арзамаса Ф. И. Владимирского. |
По документам Арзамасского |
архива В. М. Панкратов устано
вил, что протоиерей Ф. И. Владимирский и патриарх Сер- |
гий связаны кровными узами. Это и послужило толчком к I
работе над повестью "Жребий пастыря". |
Новая книга продолжает начатую автором серию "Арзамас |
и арзамасцы", рассказывающую о наших земляках, чьими |
деяниями может гордиться не только Нижегородский край, но 1
и вся Россия.
Значение документальной повести "Жребий пастыря" в |
том, что в ней поднят неизвестный широкому кругу читате- |
лей пласт русской культуры, она обогащает наше краеведе- I
ние новыми фактами и новыми именами. Уверен, чп1о эта
книга станет значительным подспорьем в осуществлении I
общегородской программы духовного просвещения, образова- I
ния и воспитания.
БОРИС КОНДРАТЬЕВ,
председатель Арзамасского отделения
Международного фонда славянской
письменности и культуры.