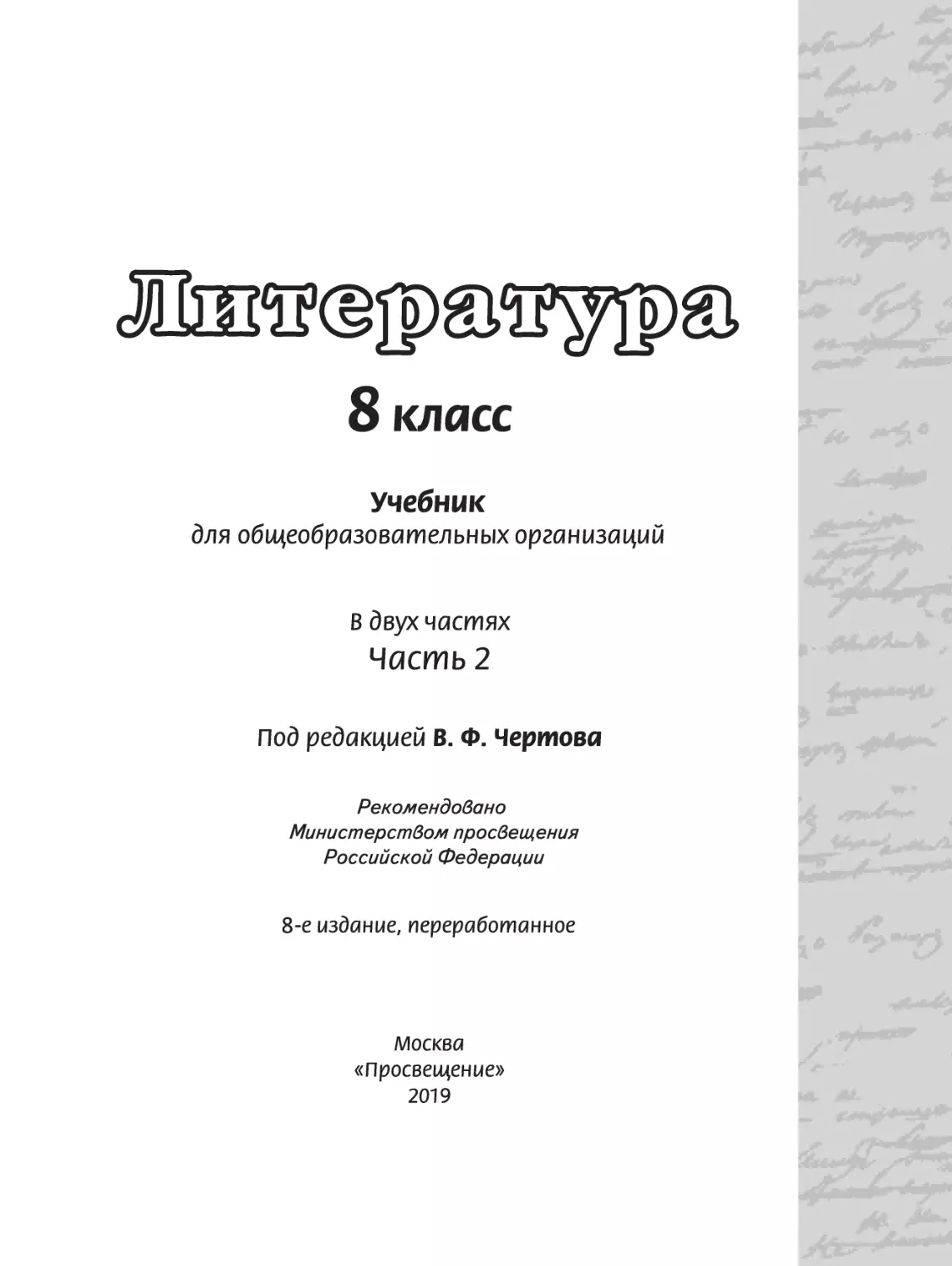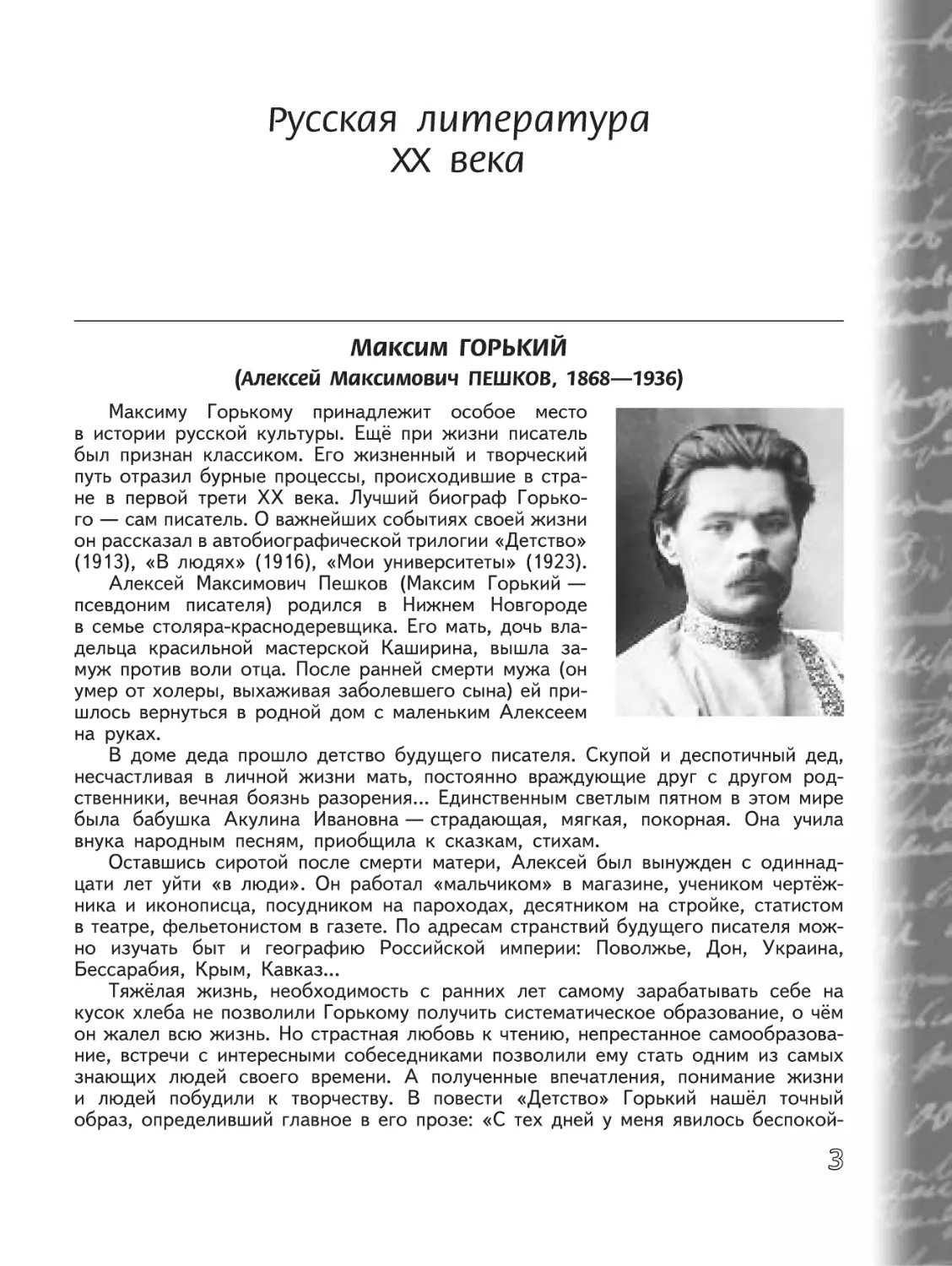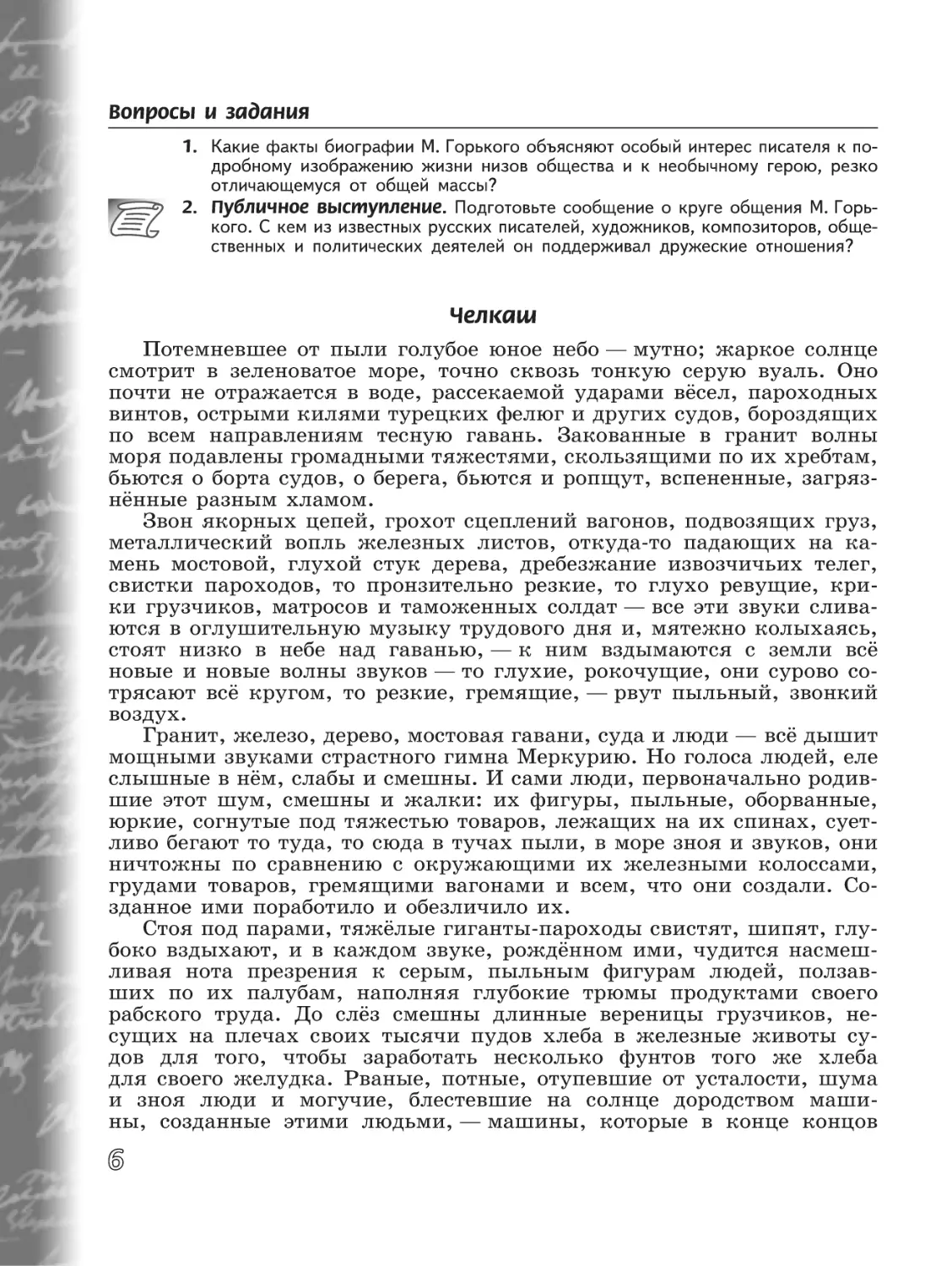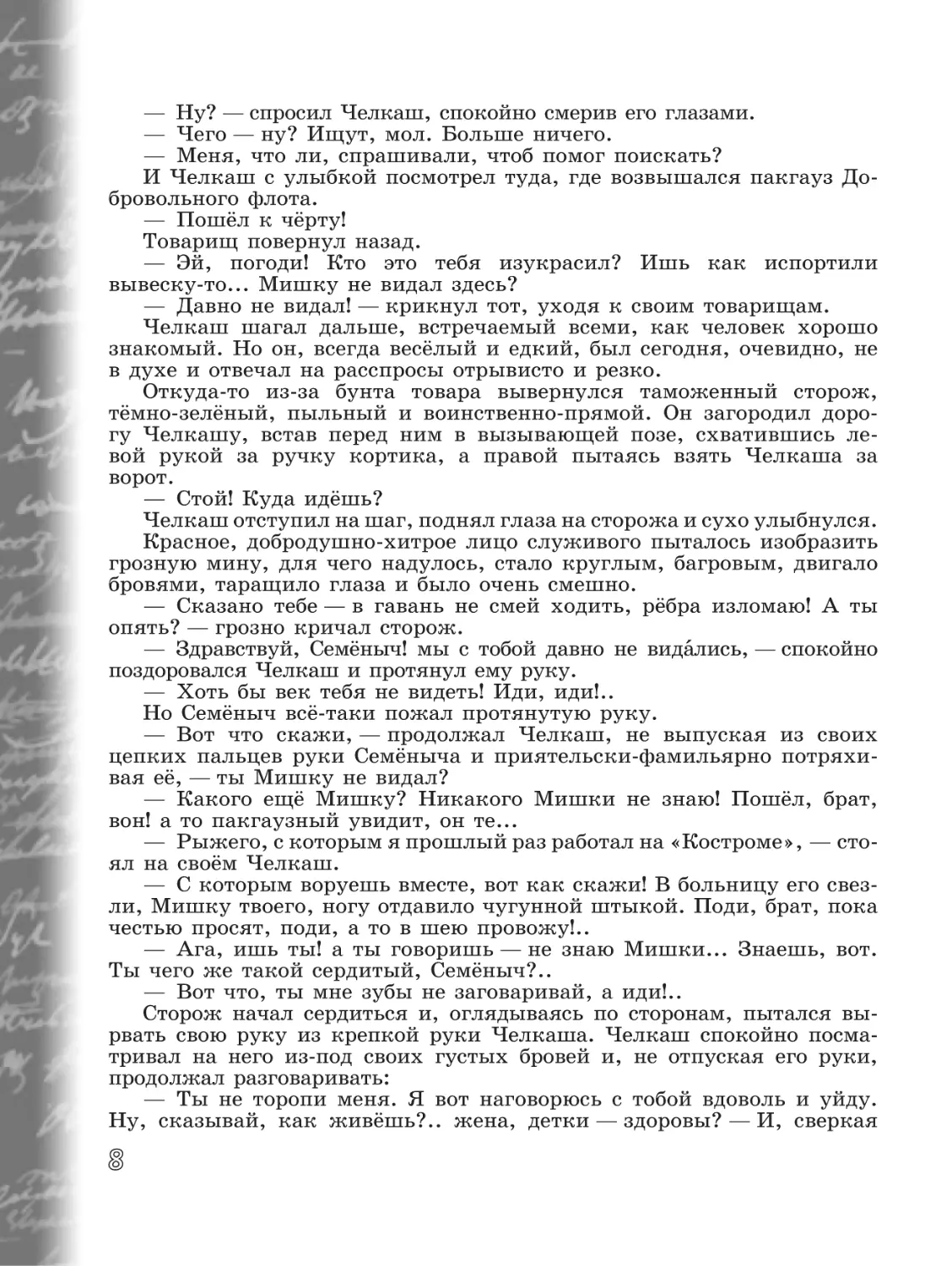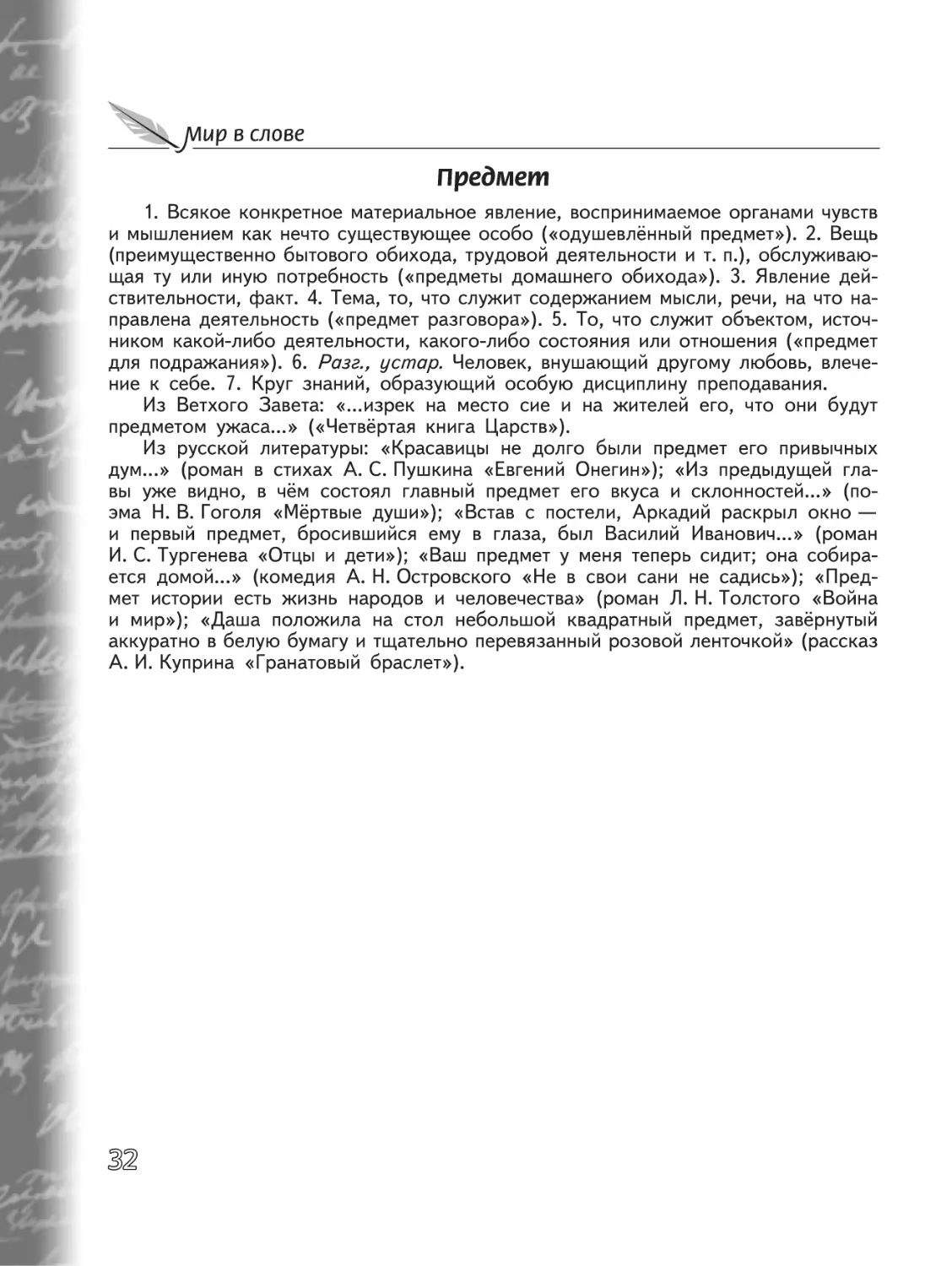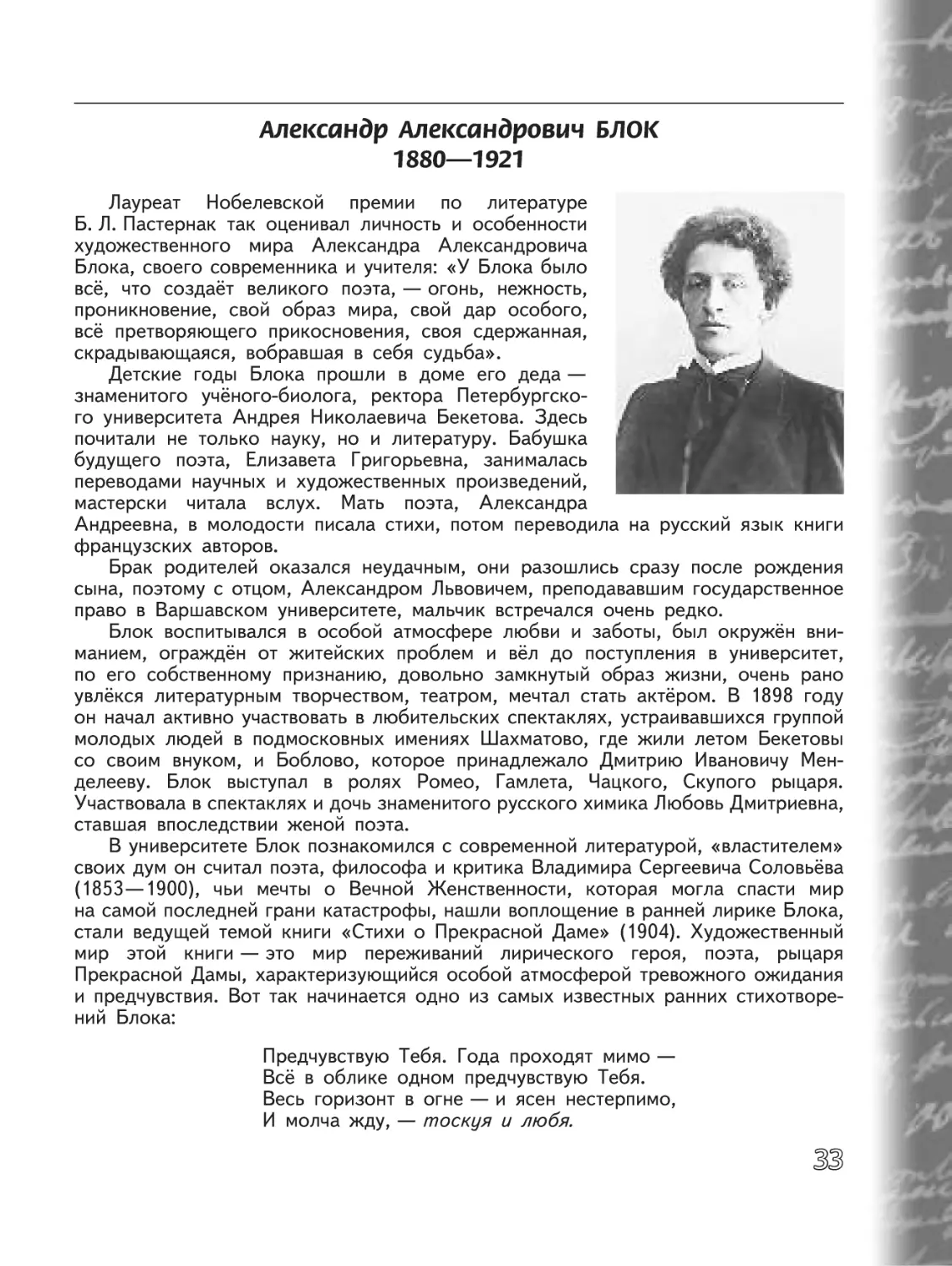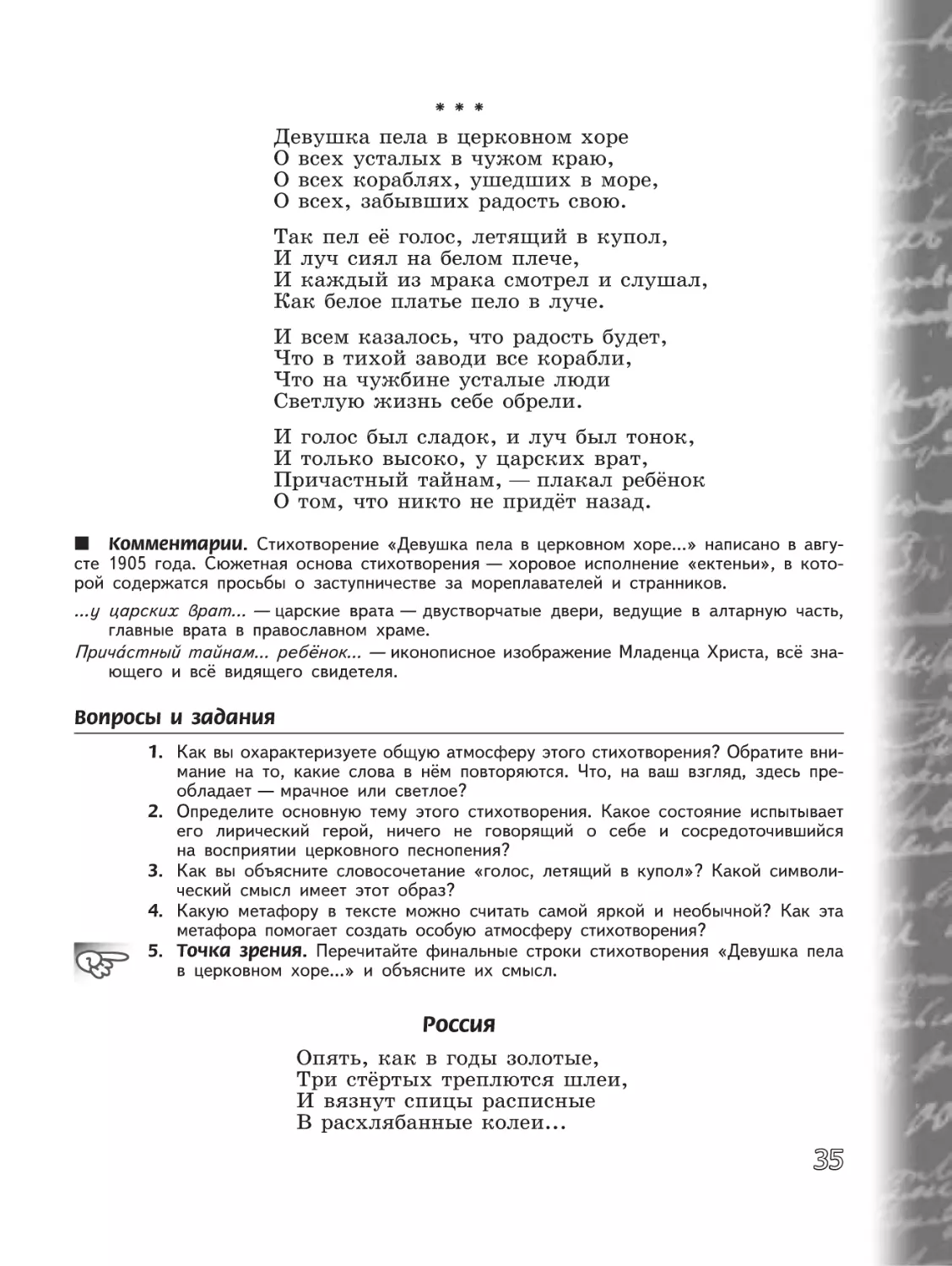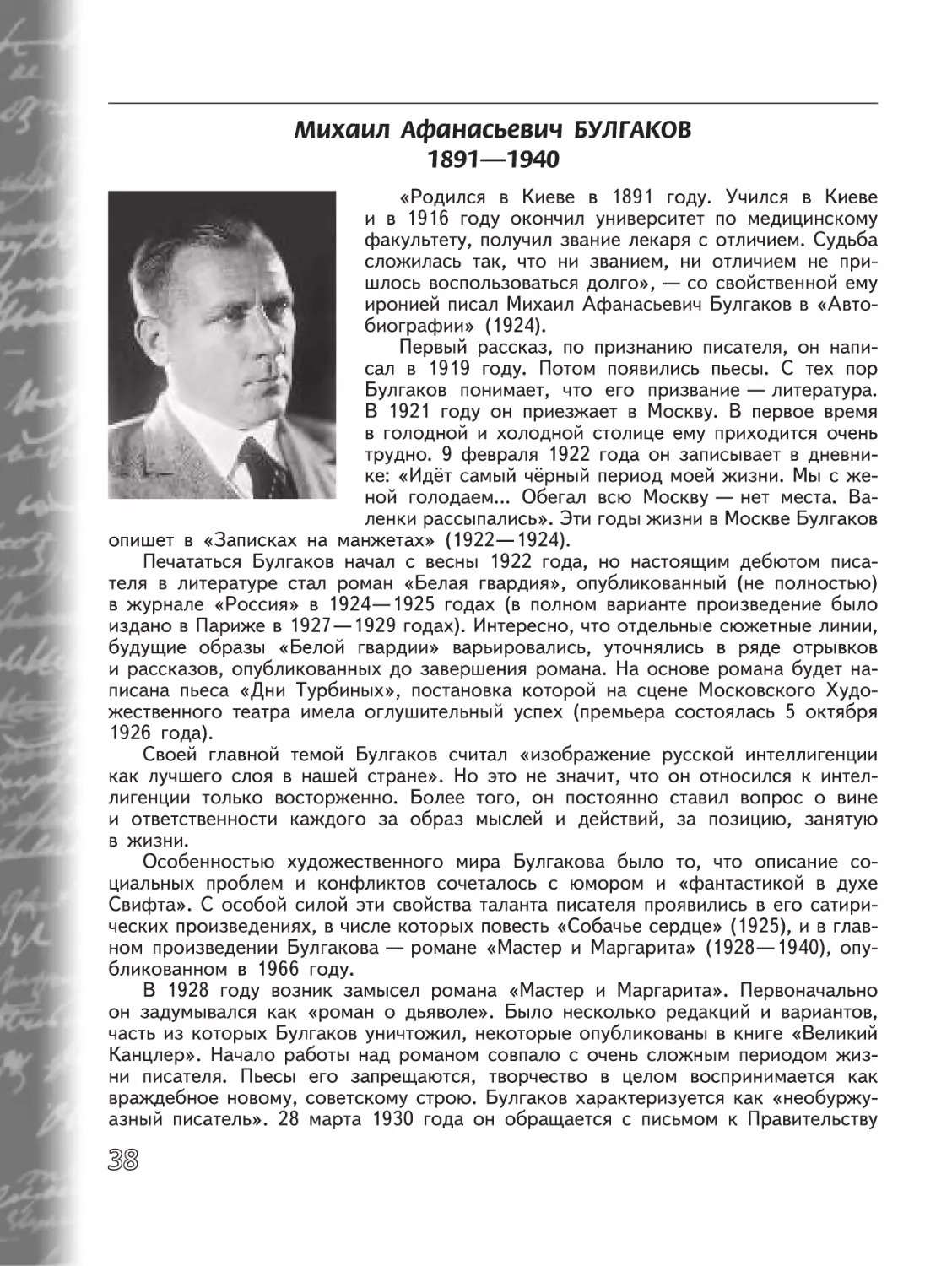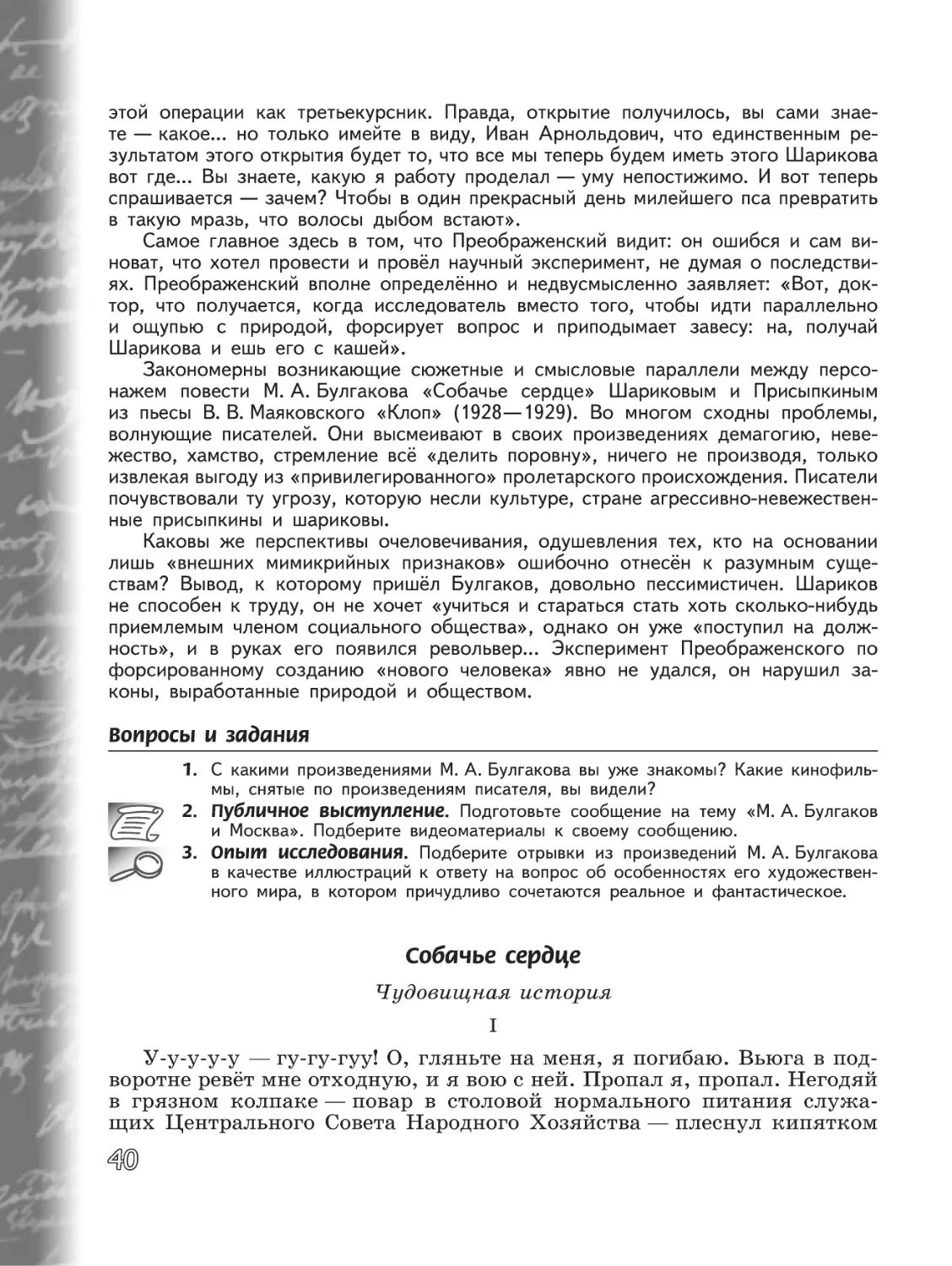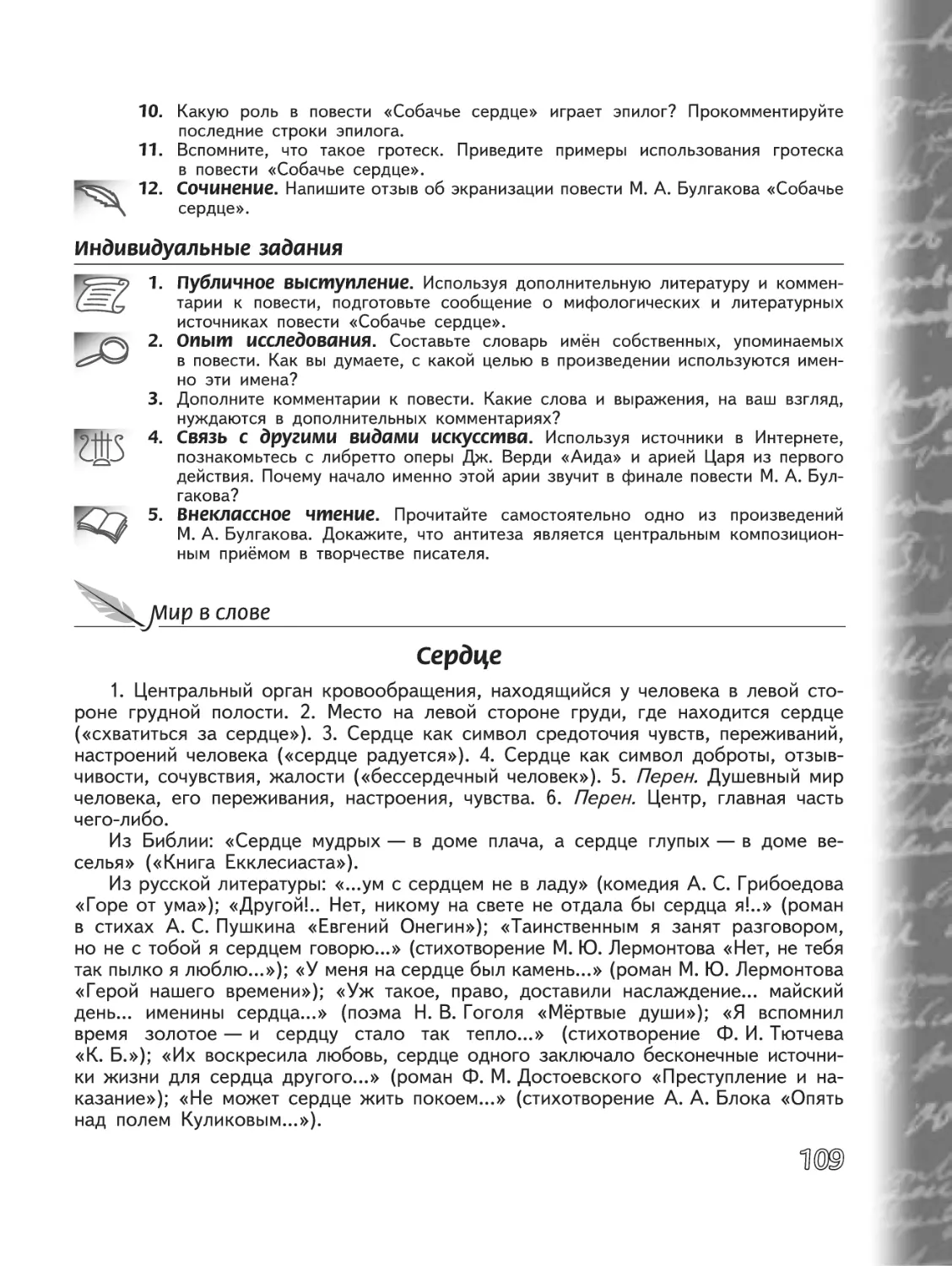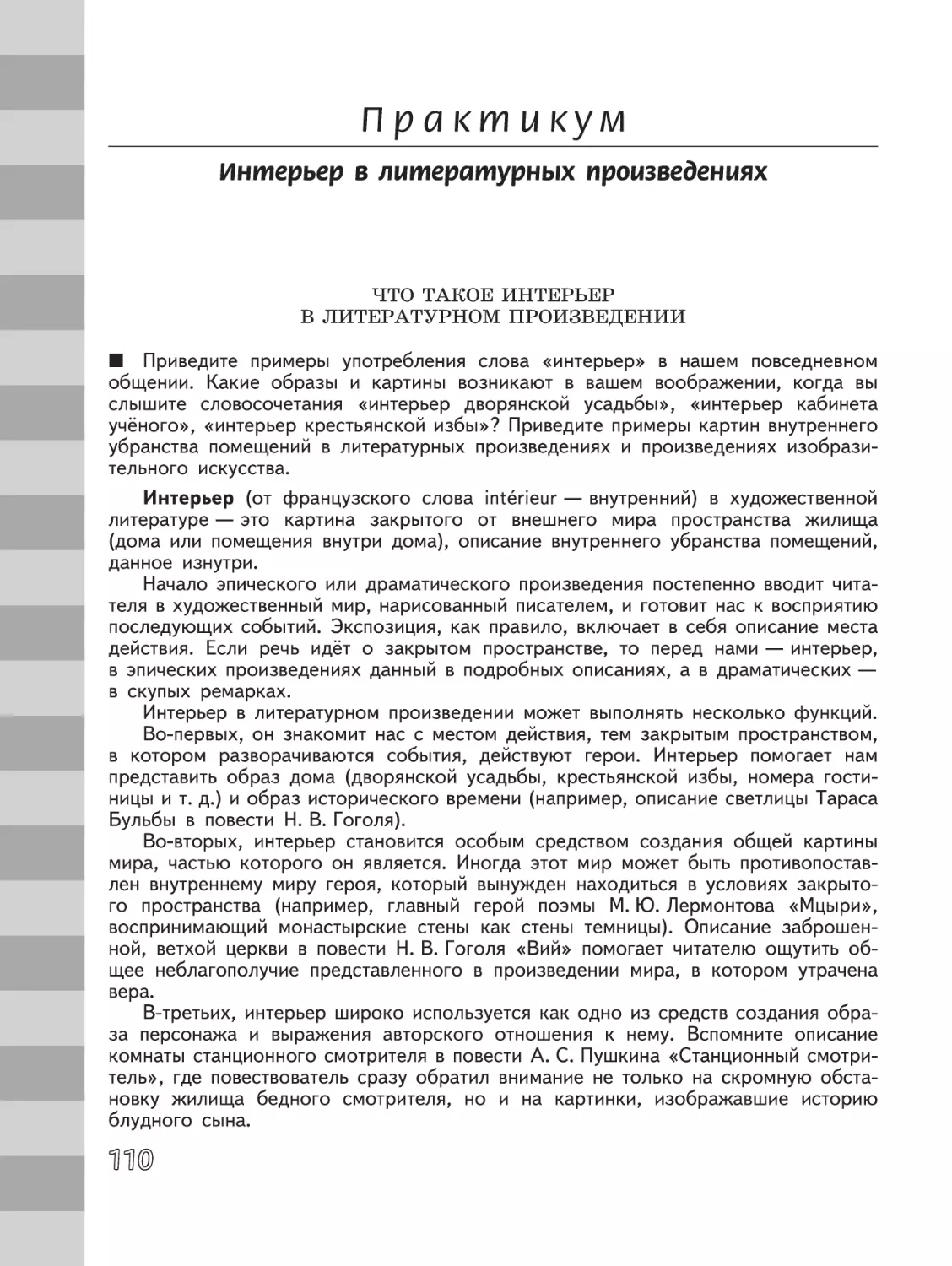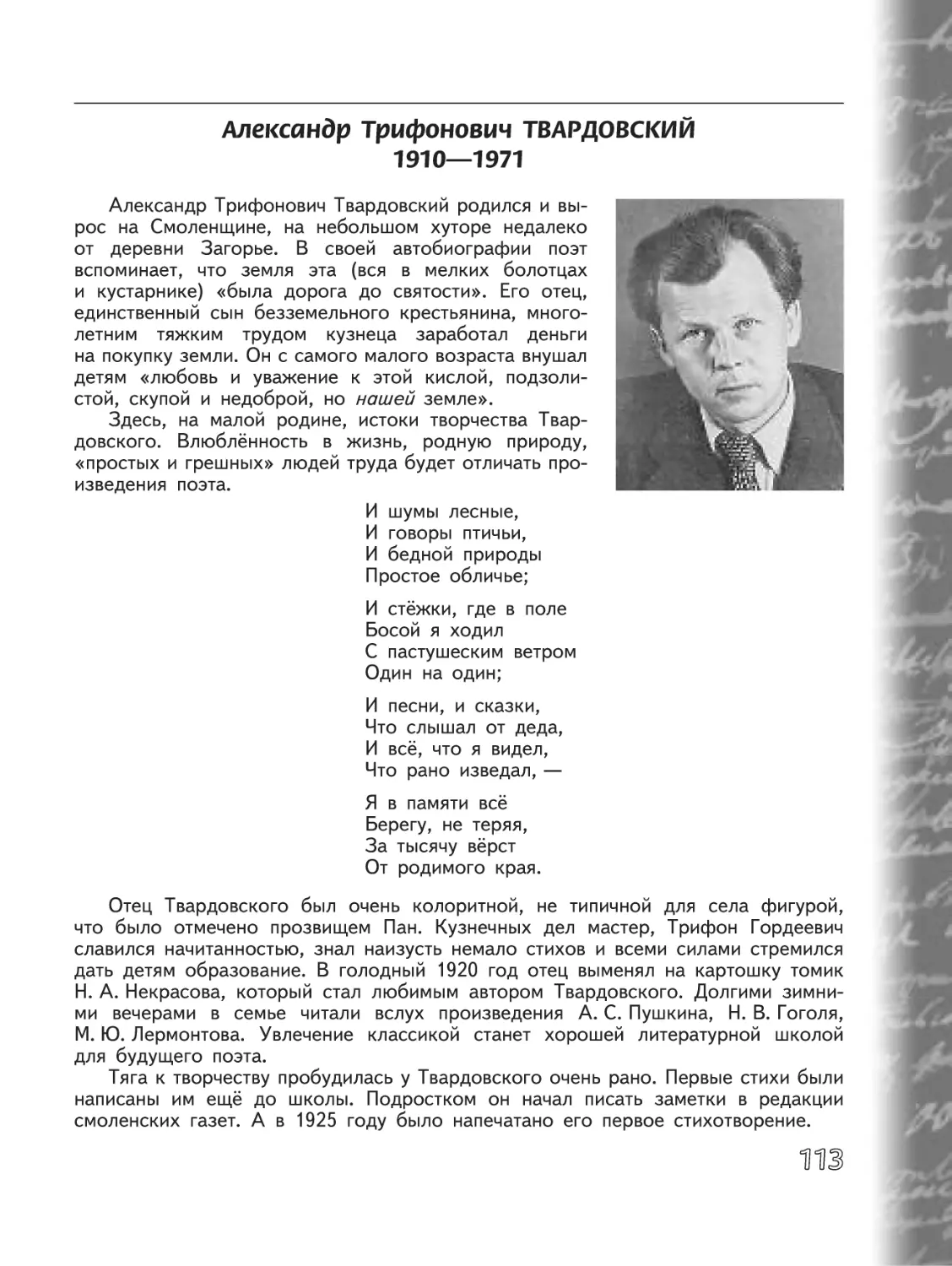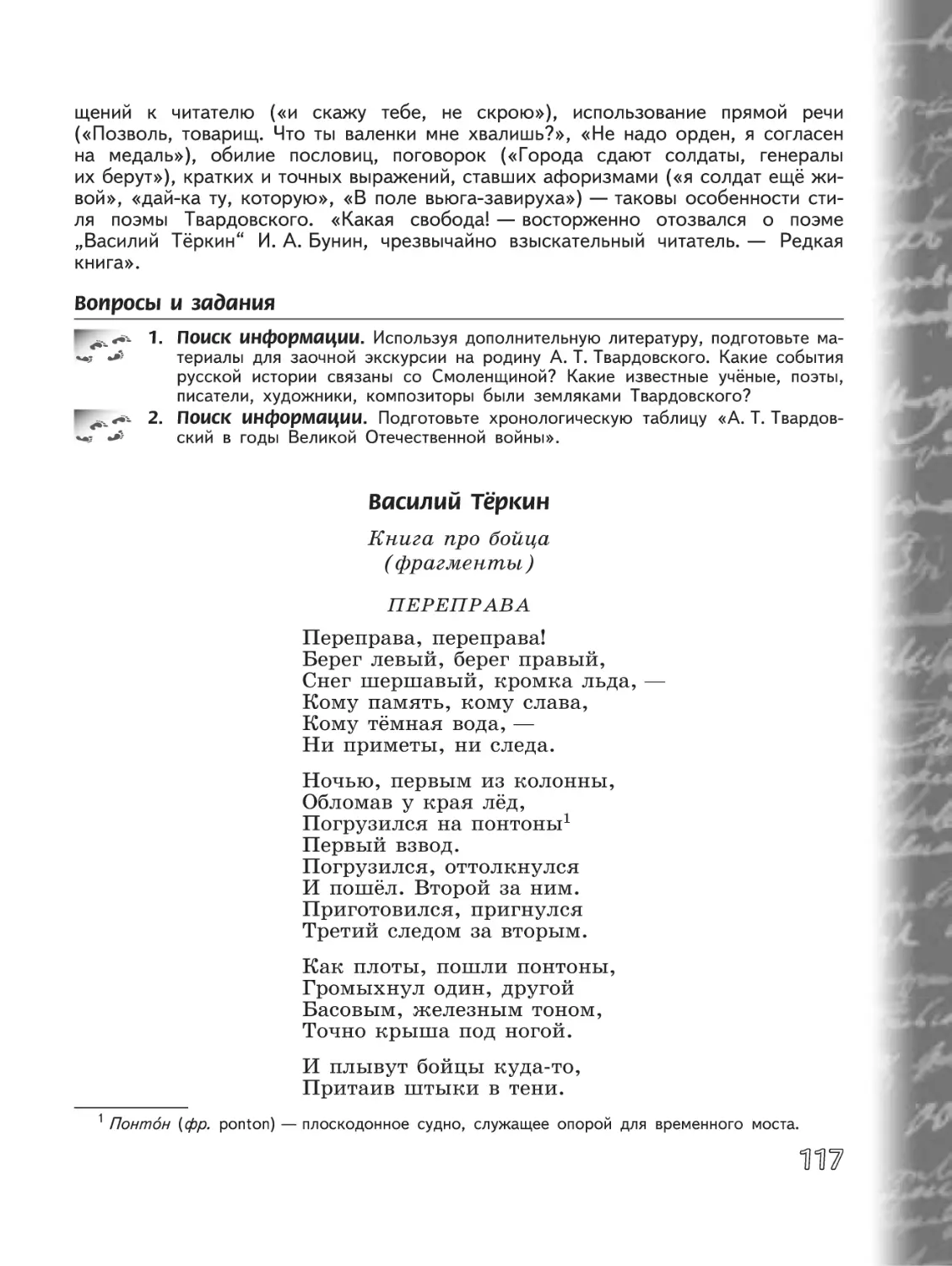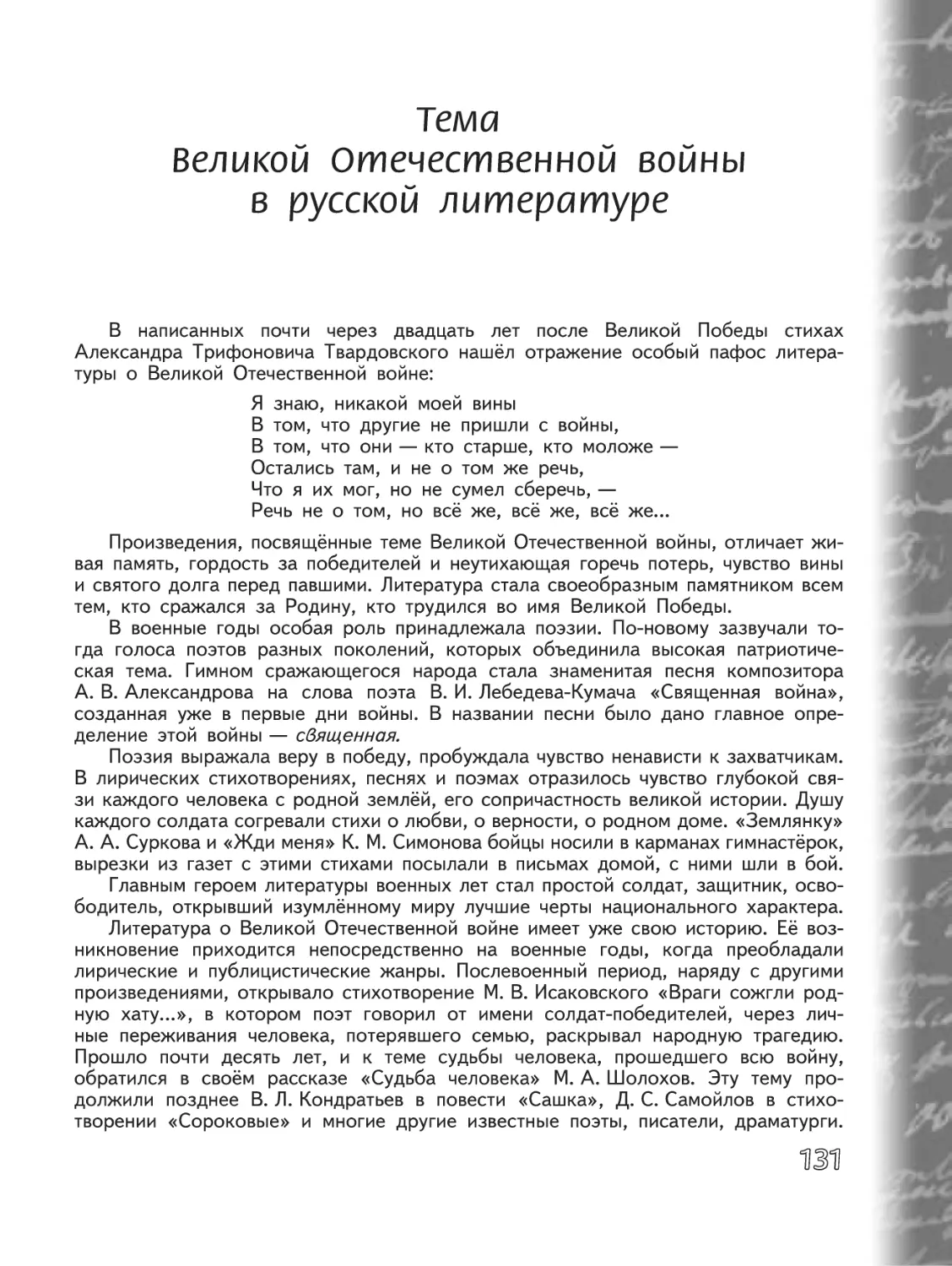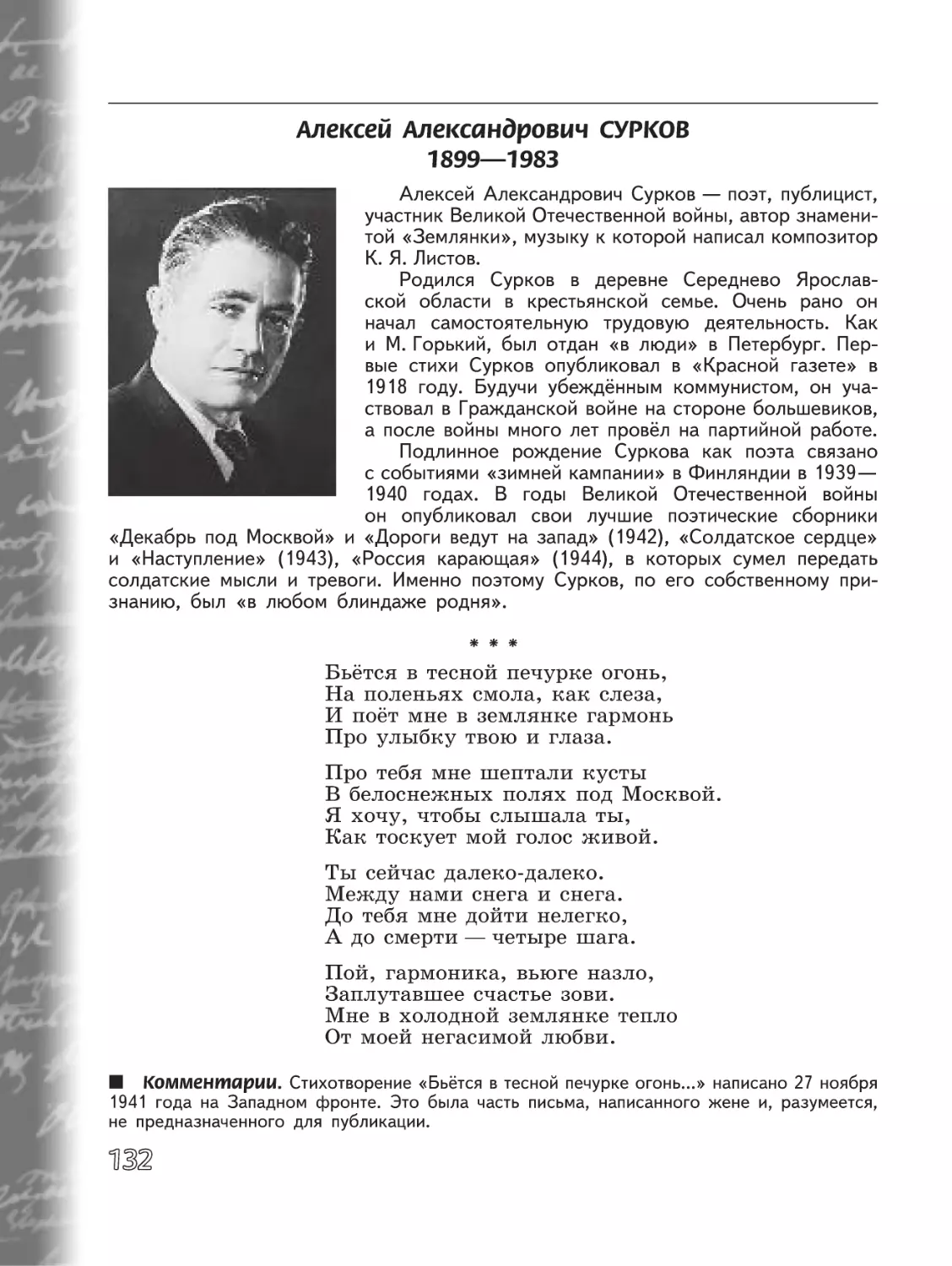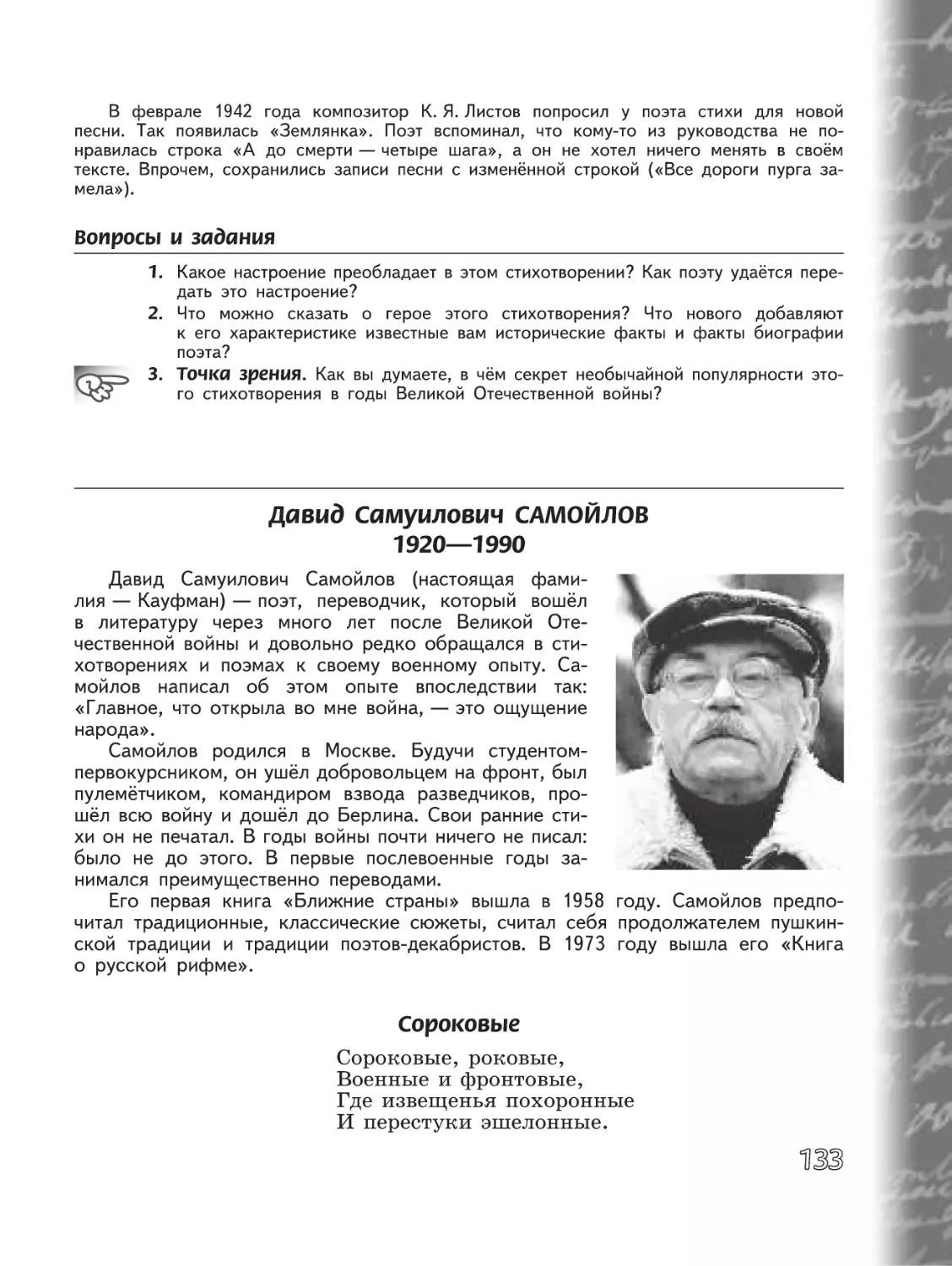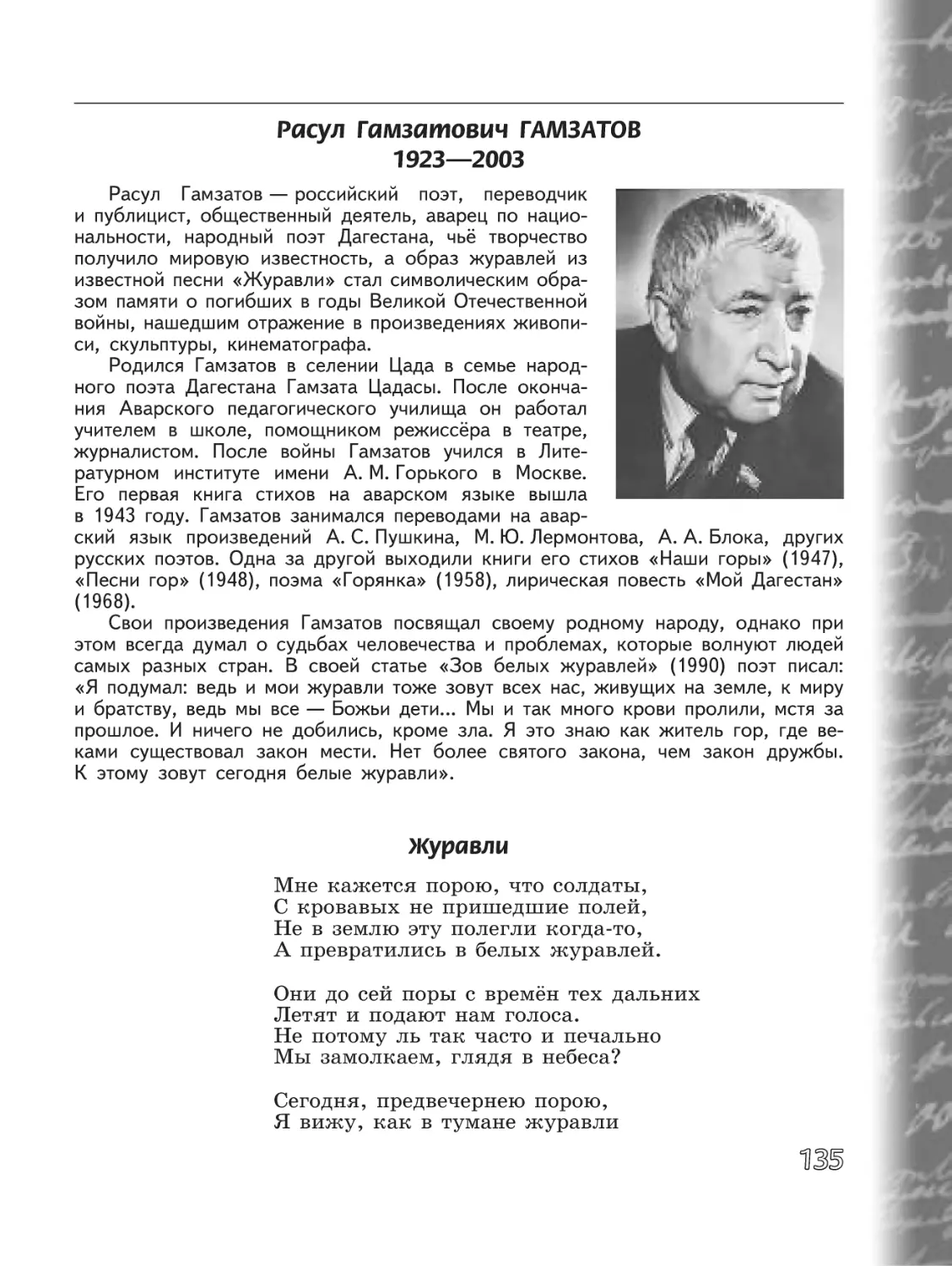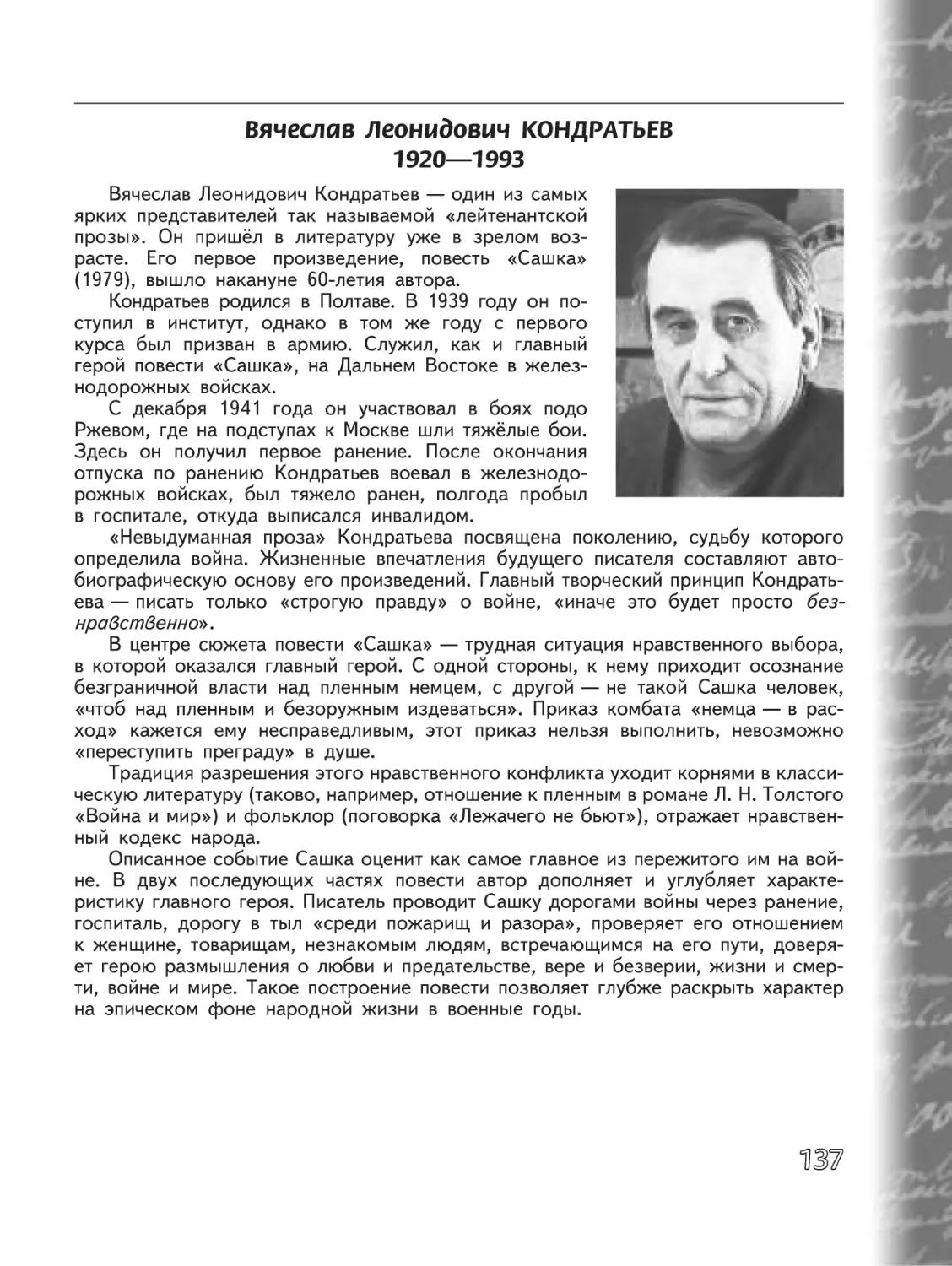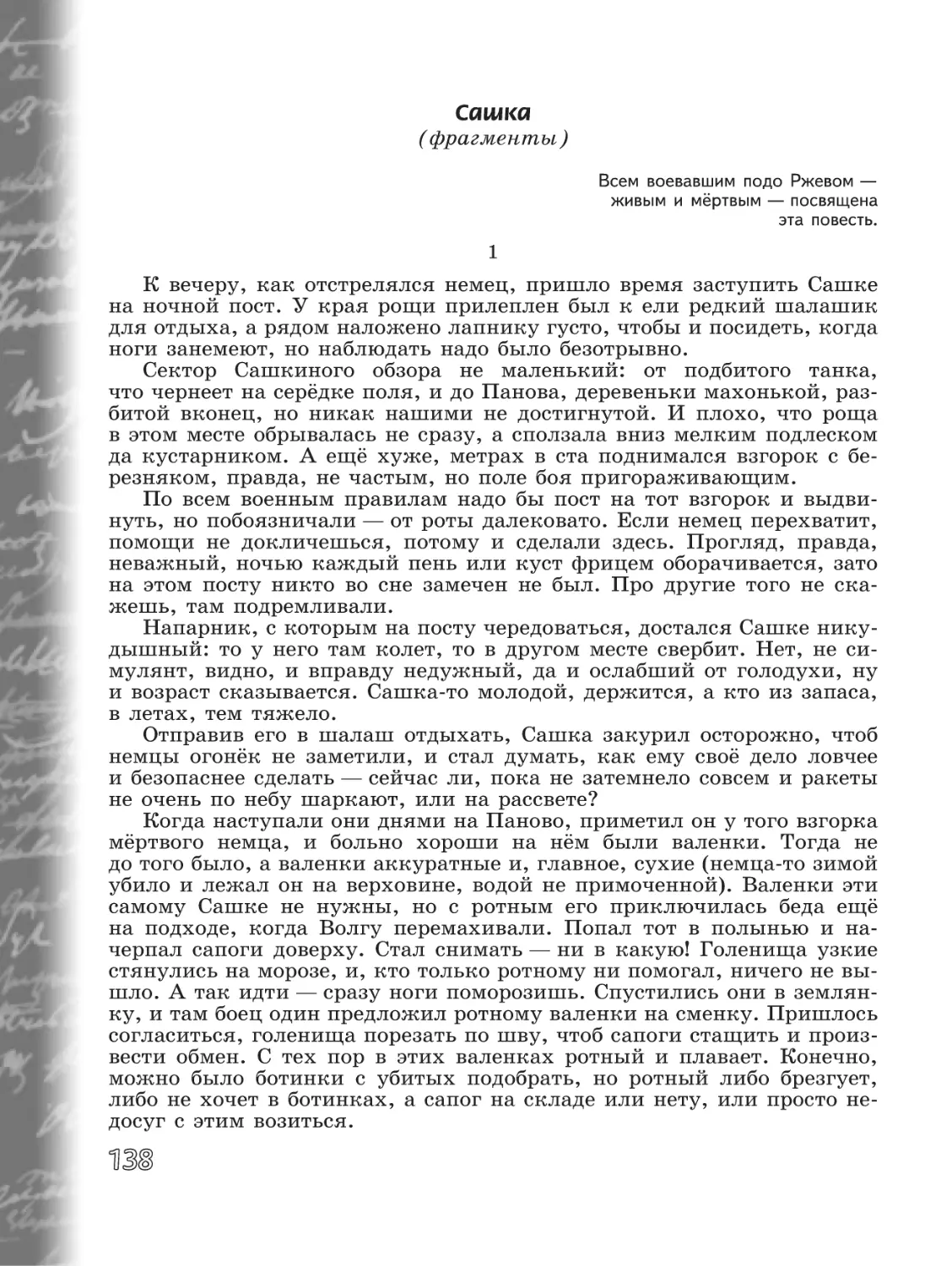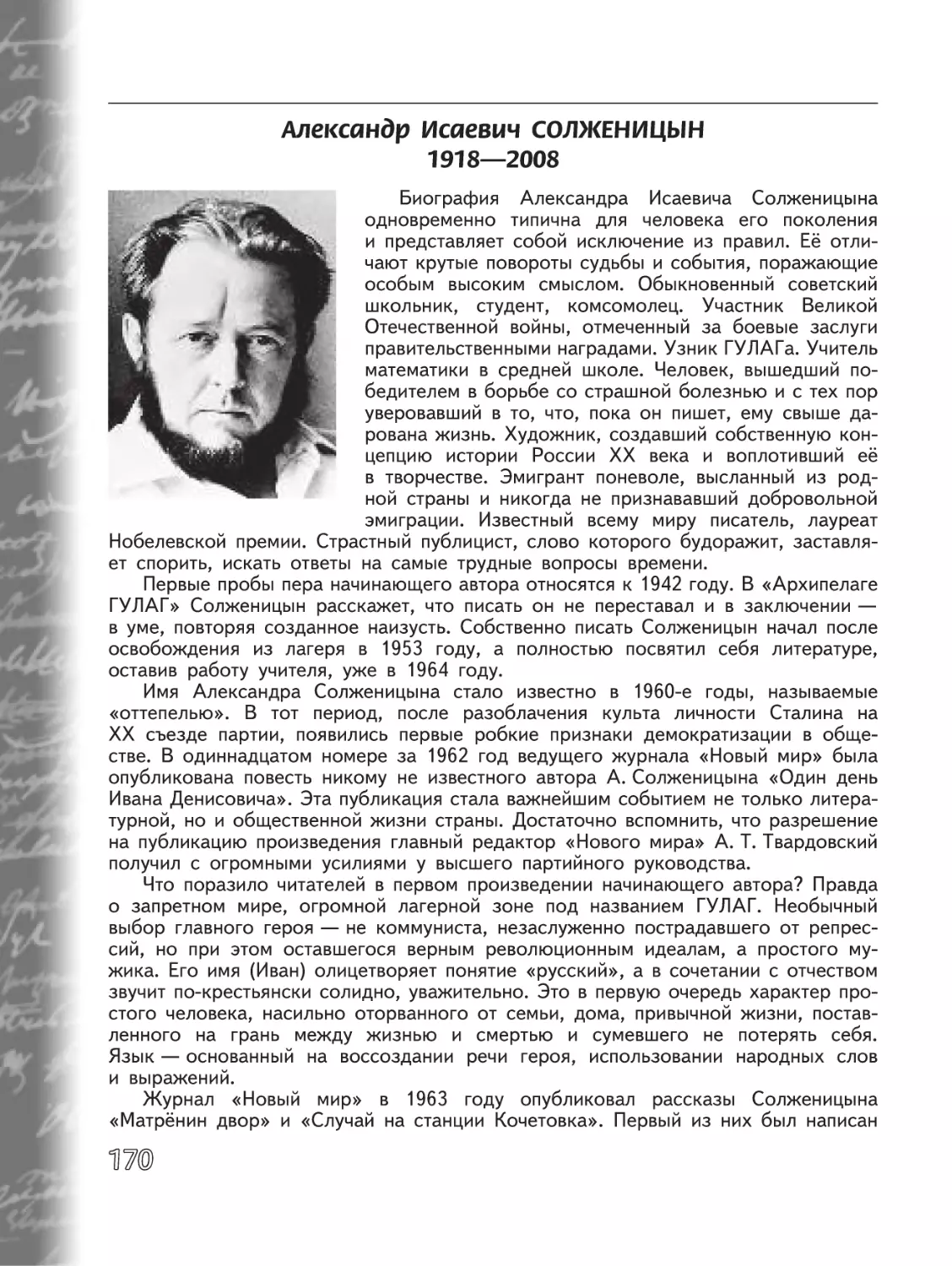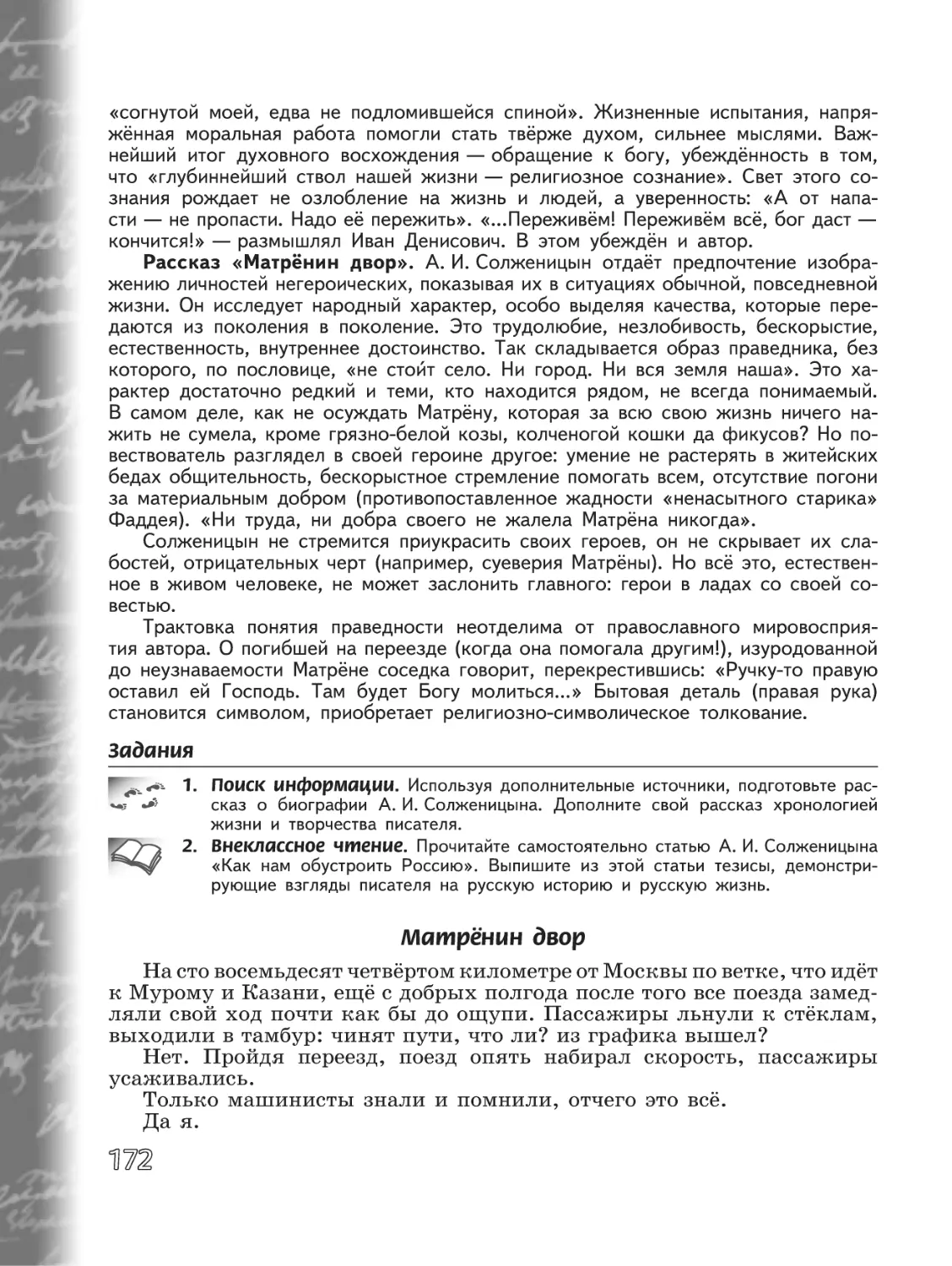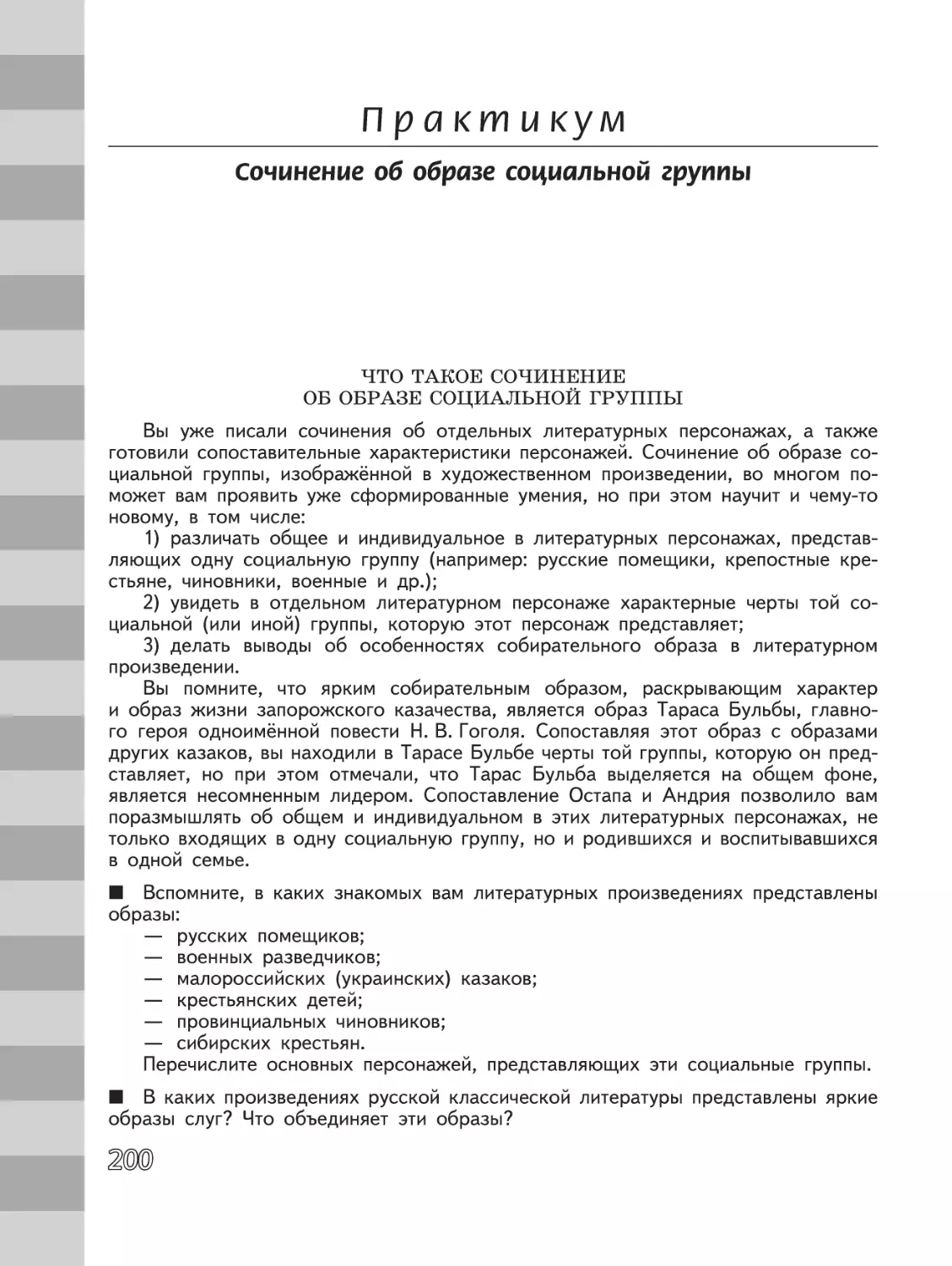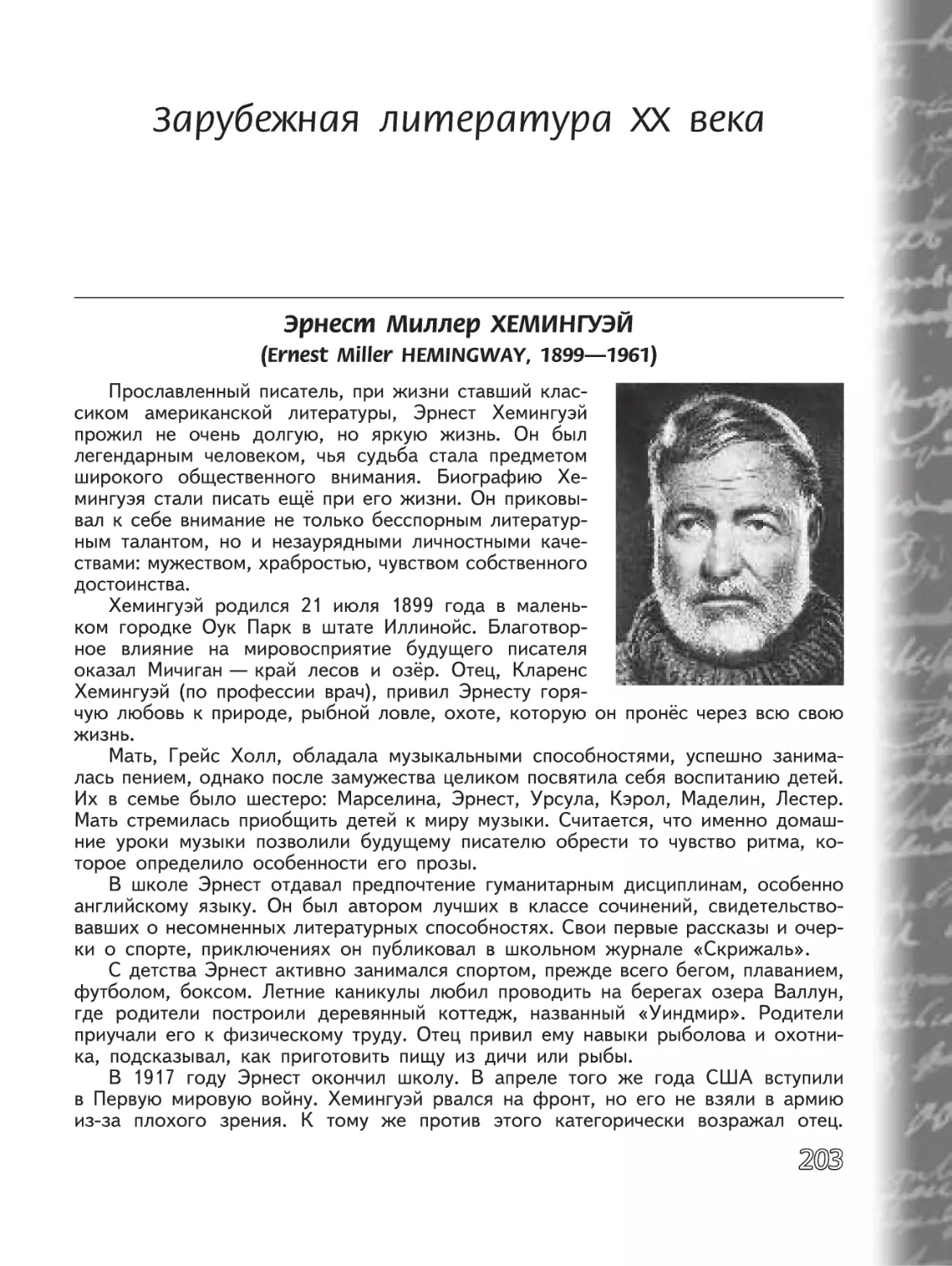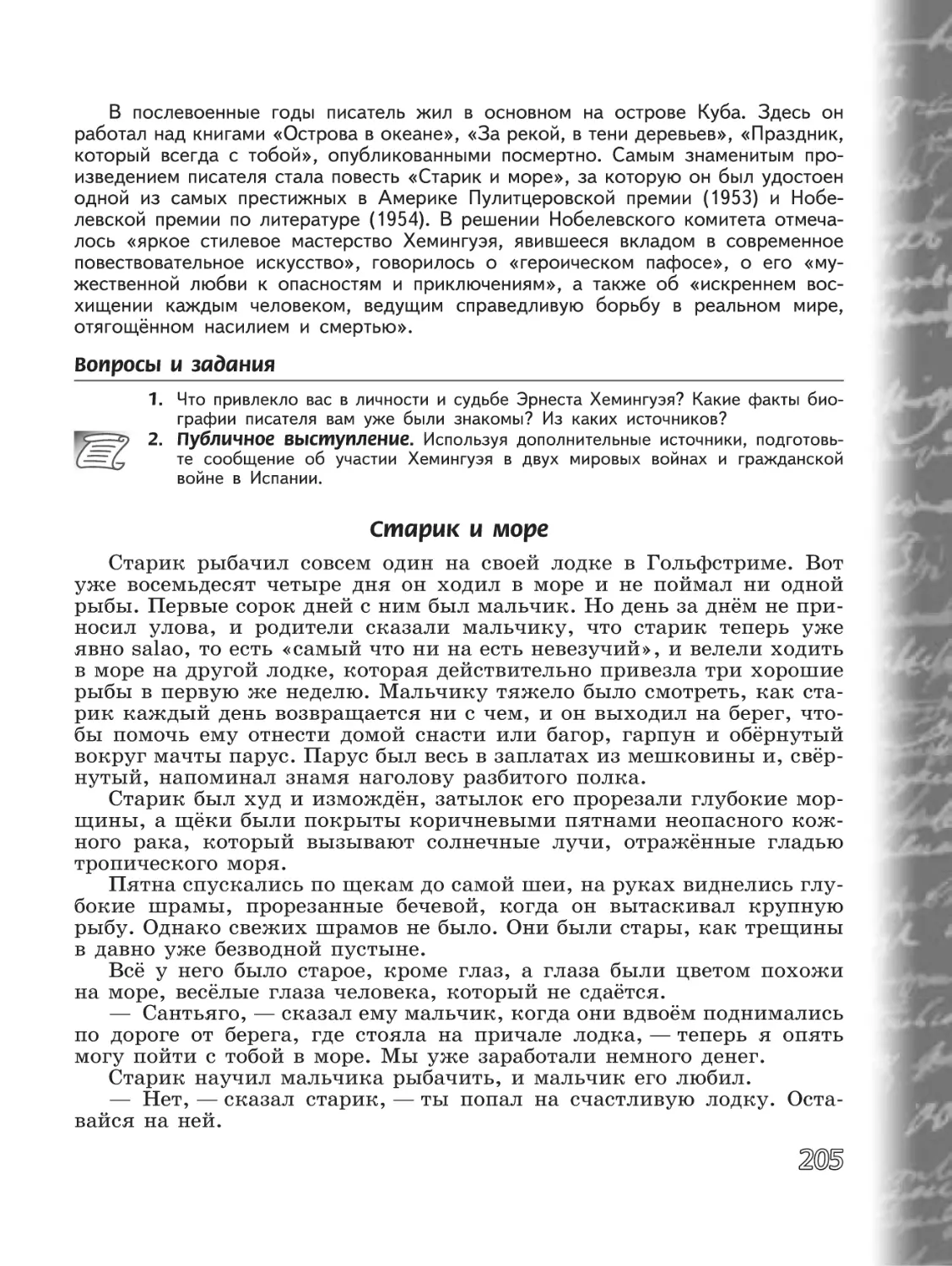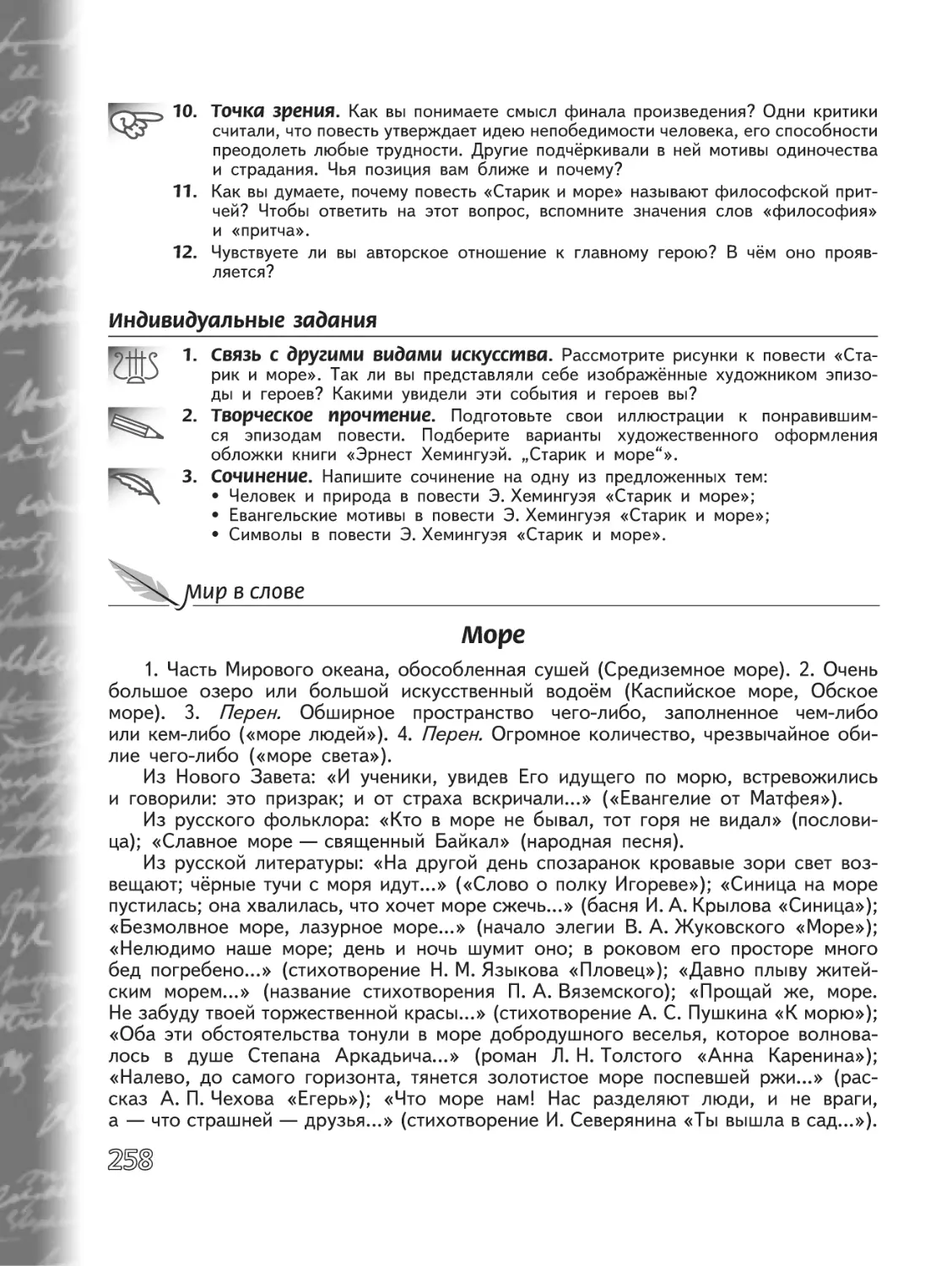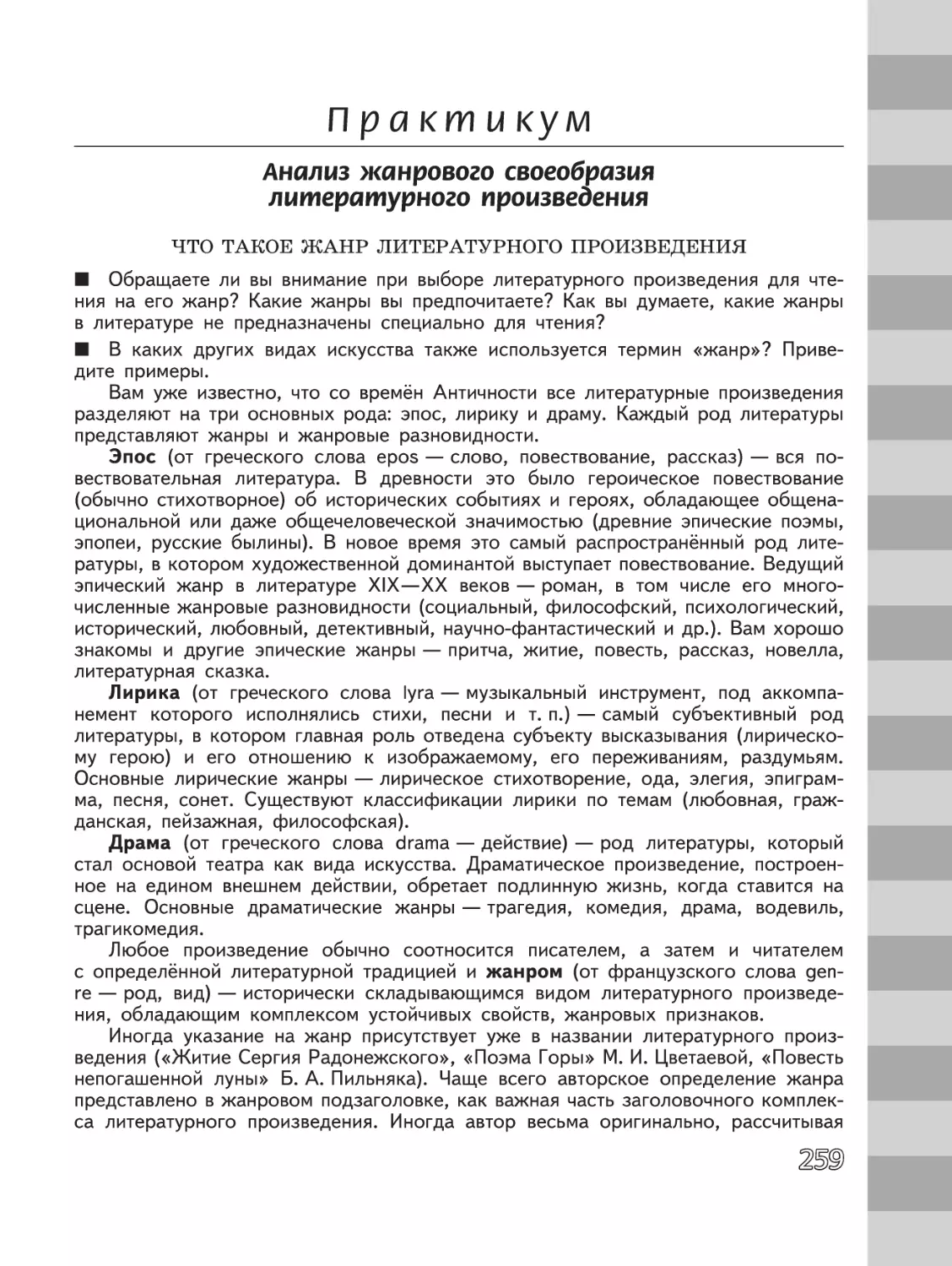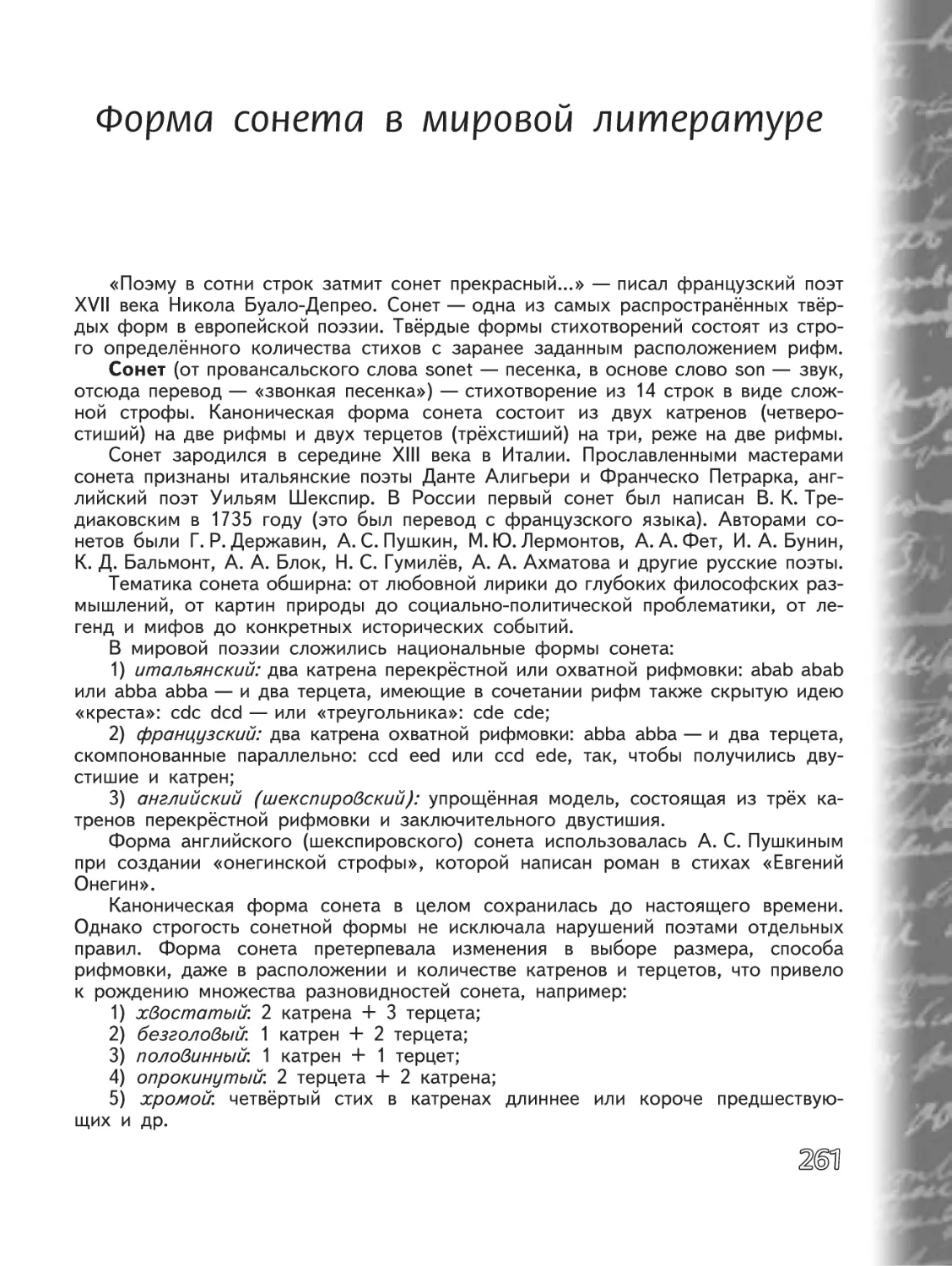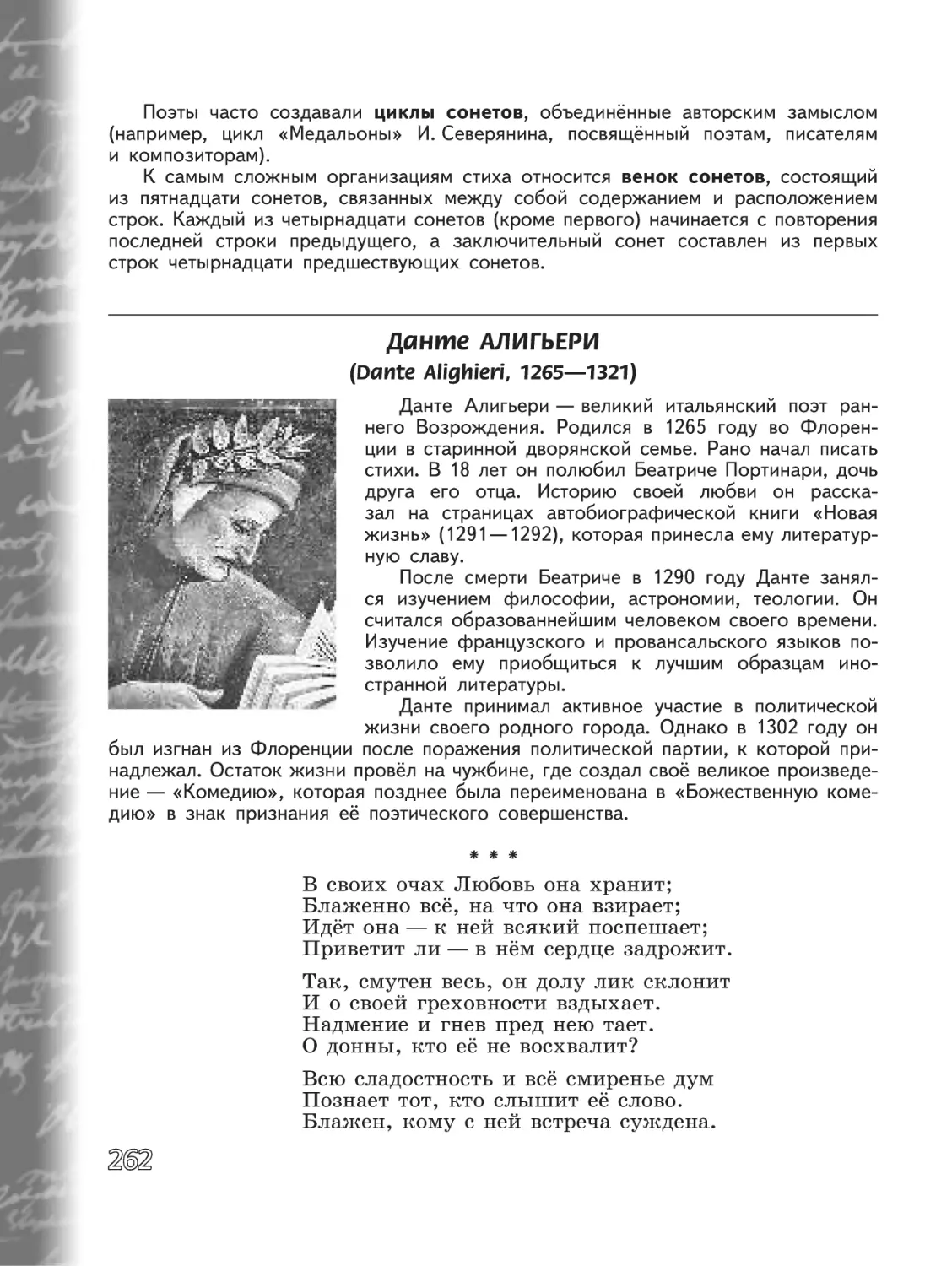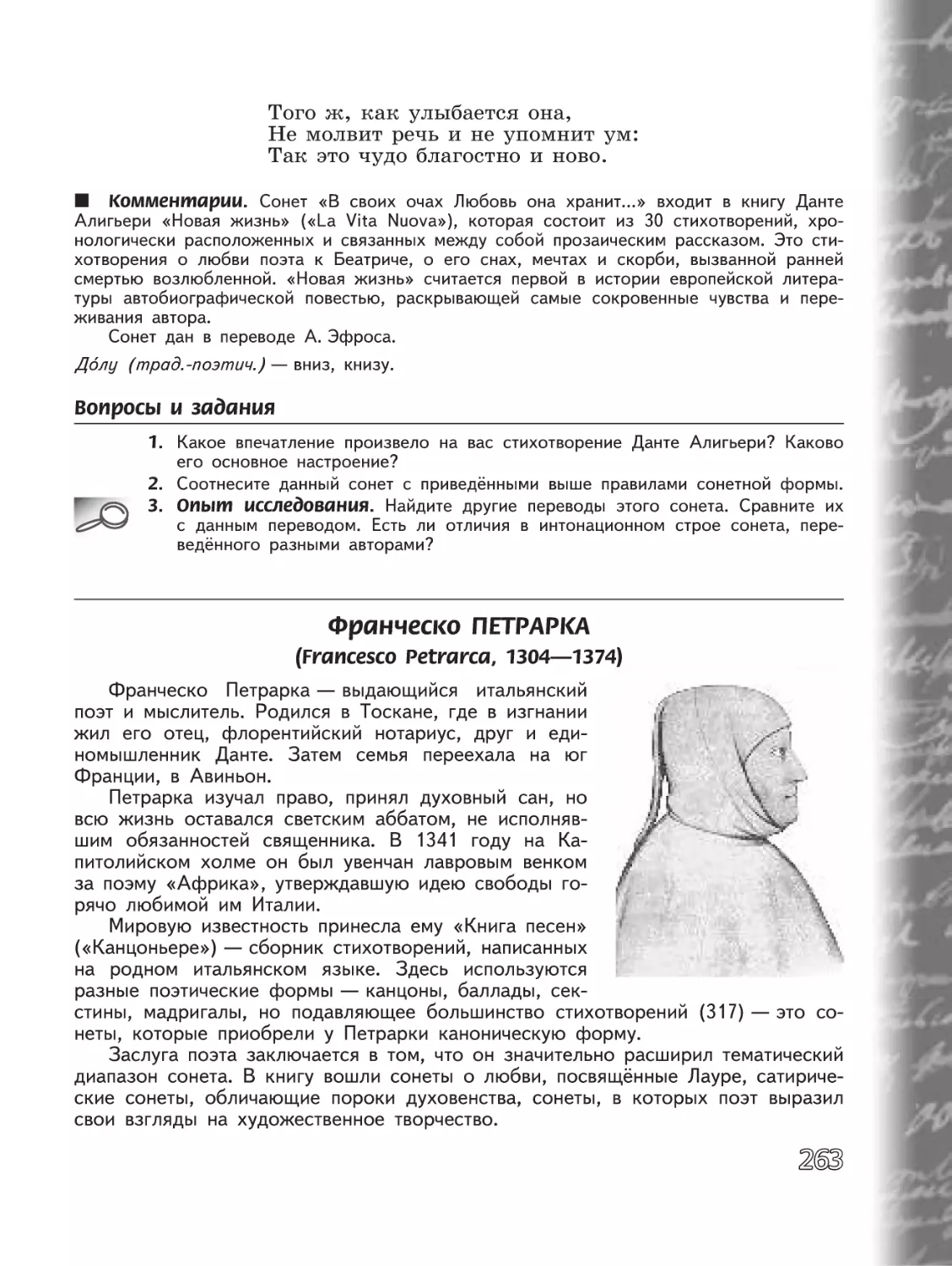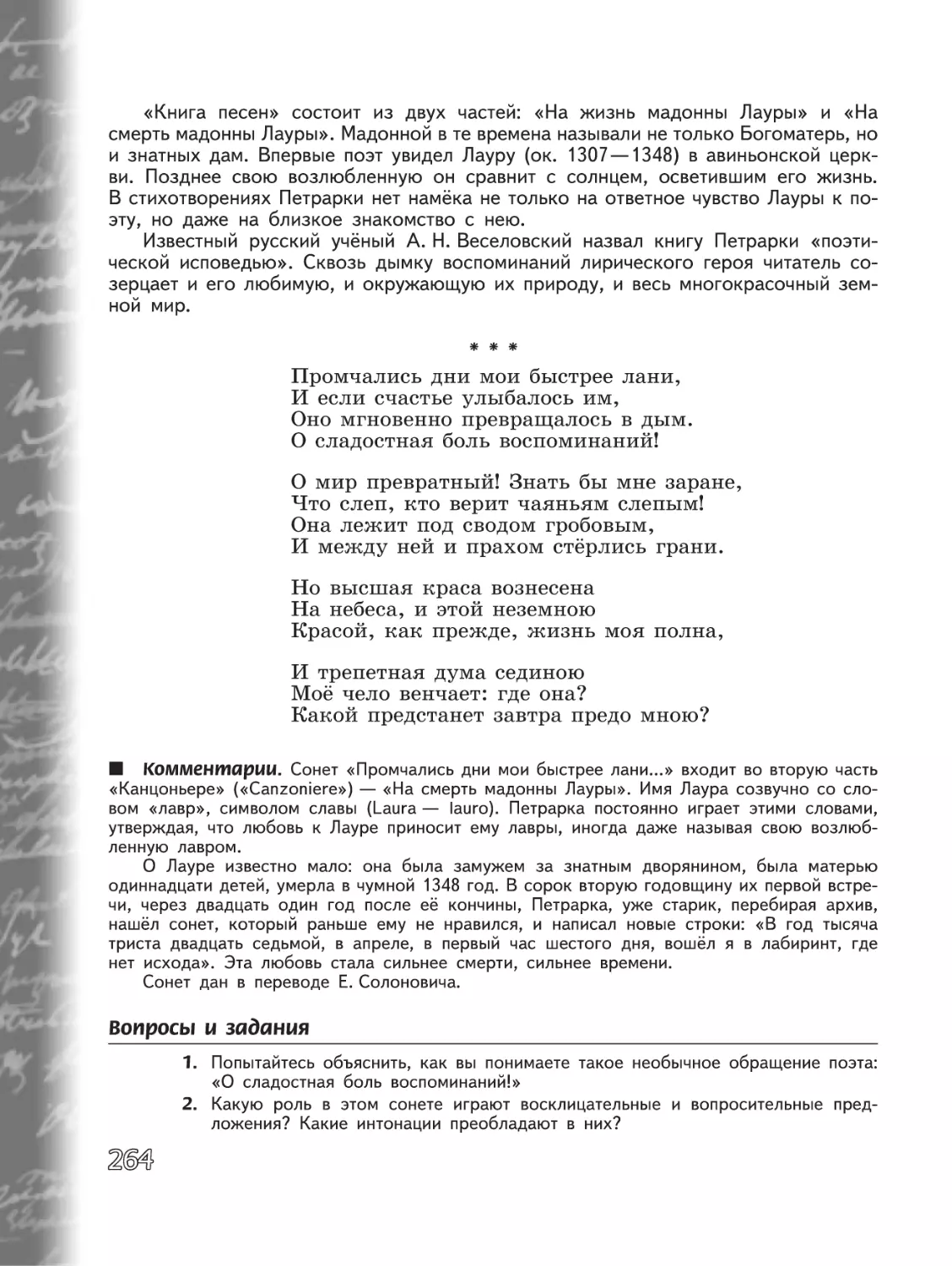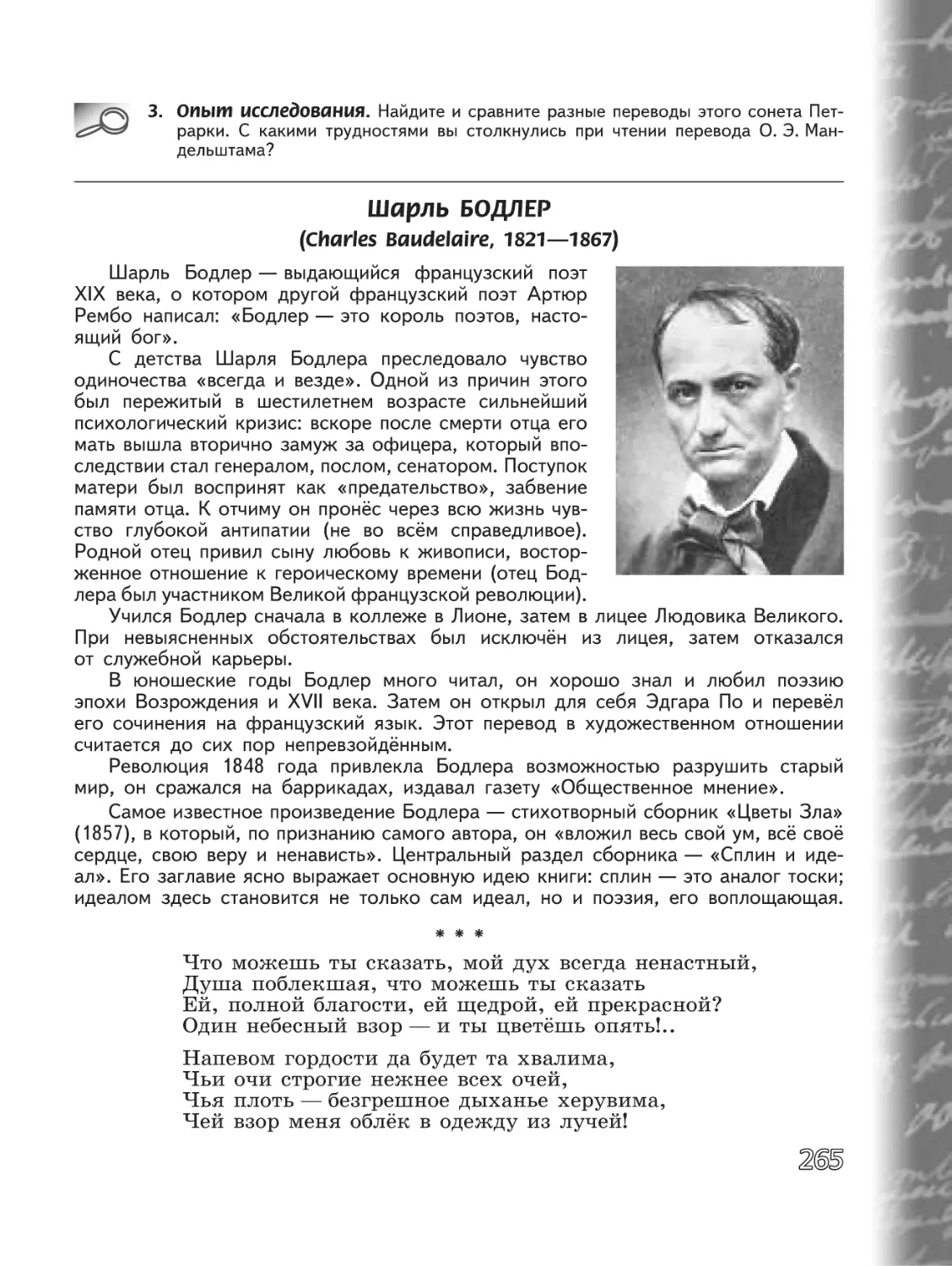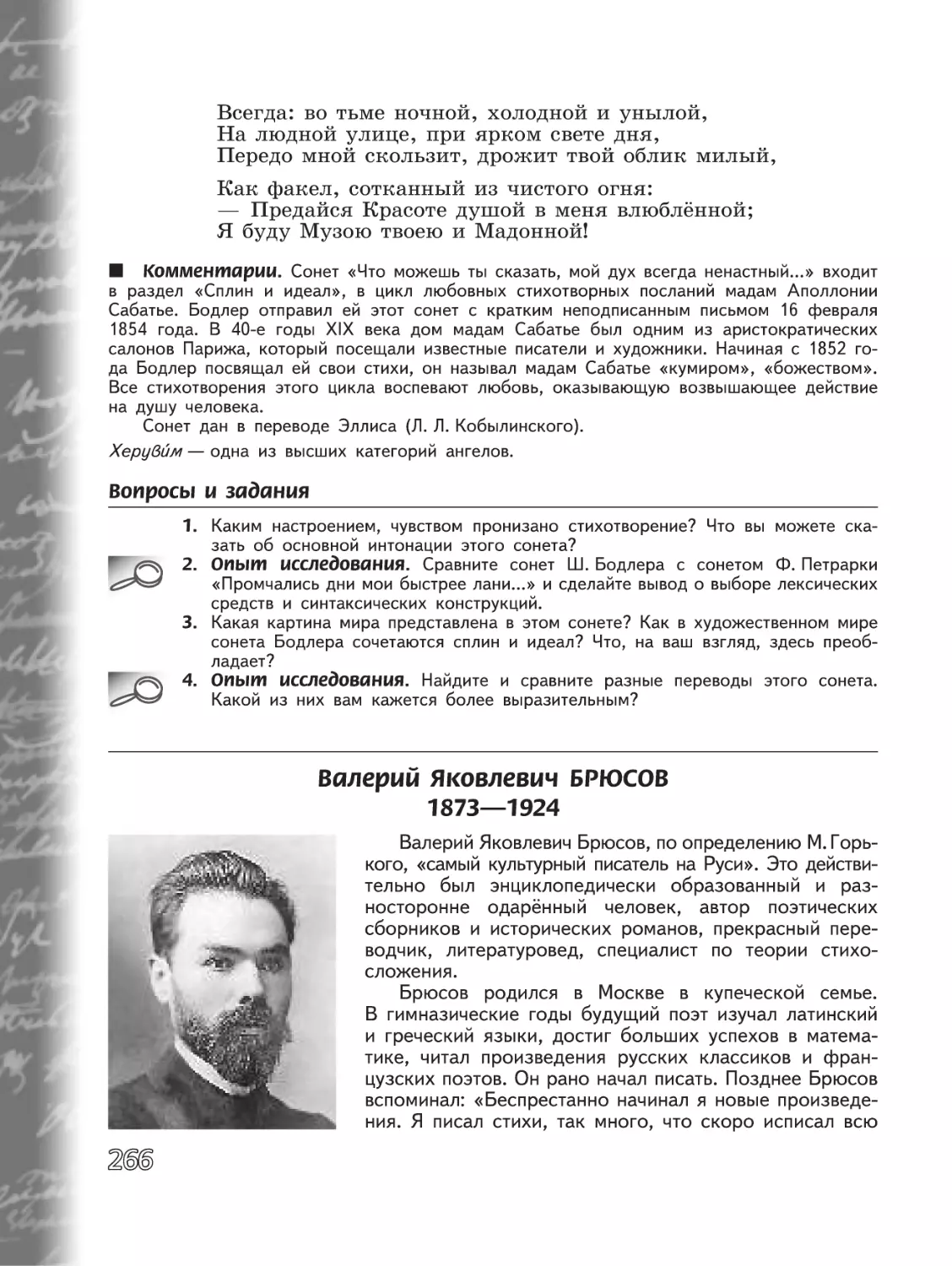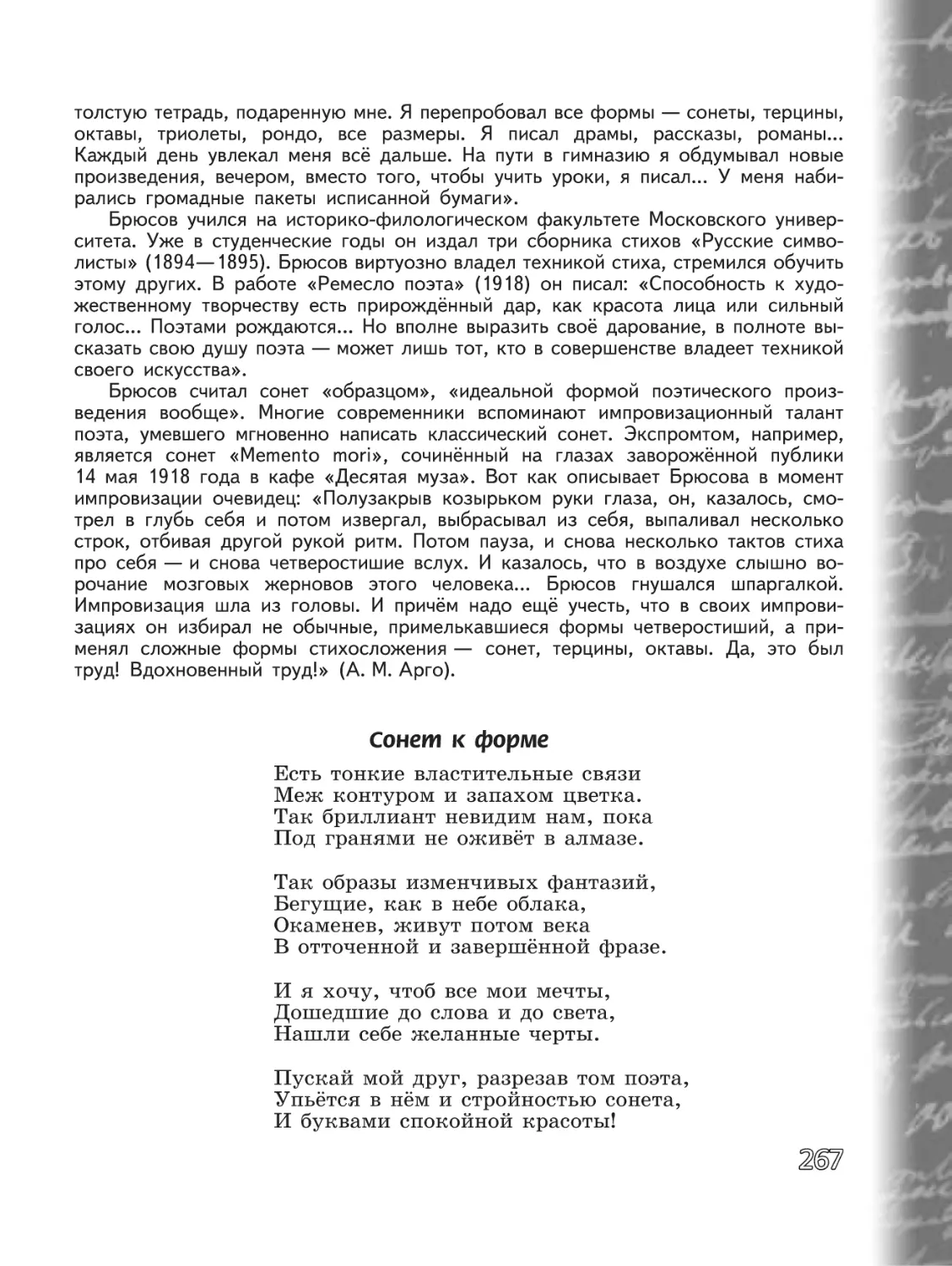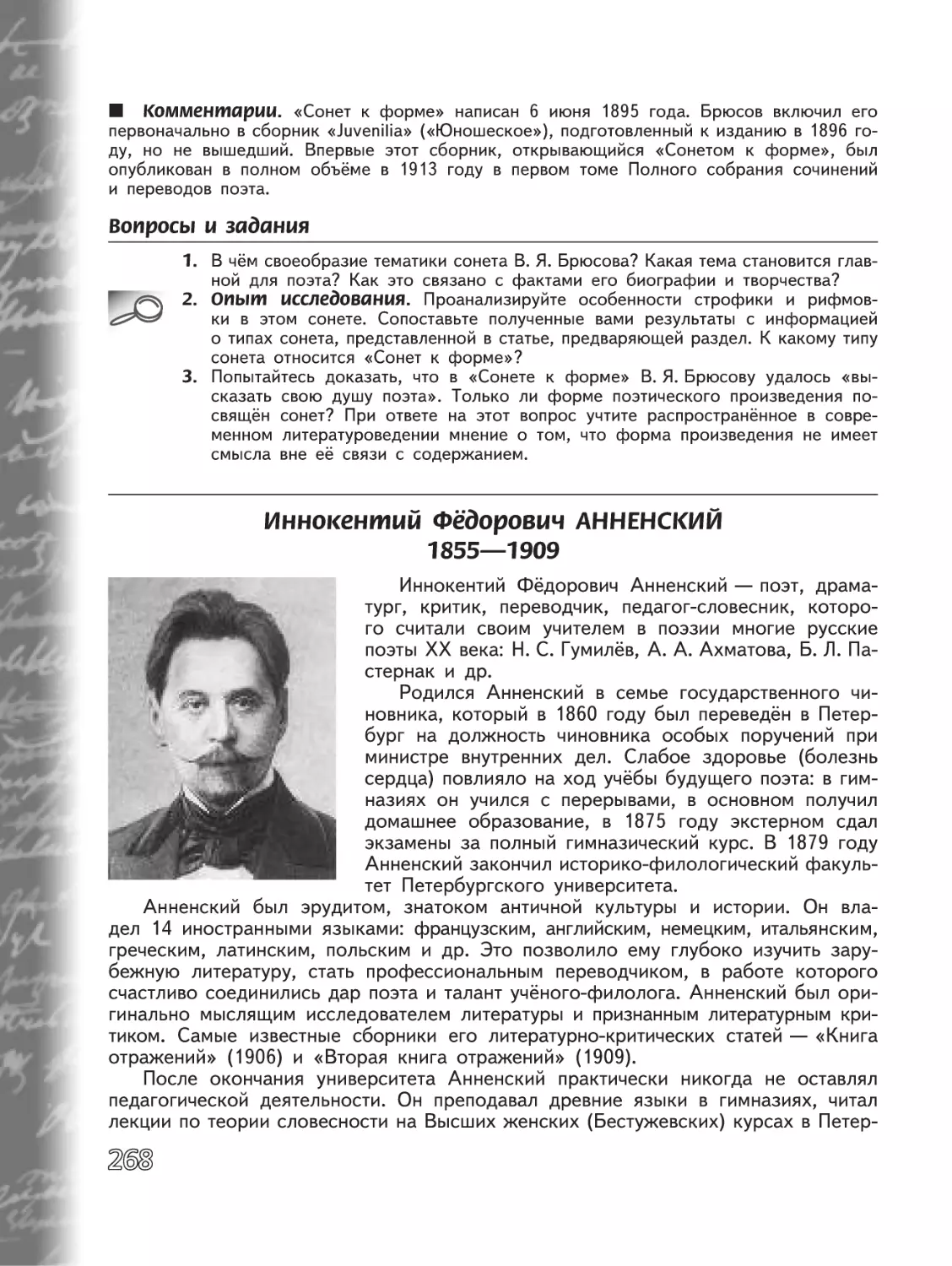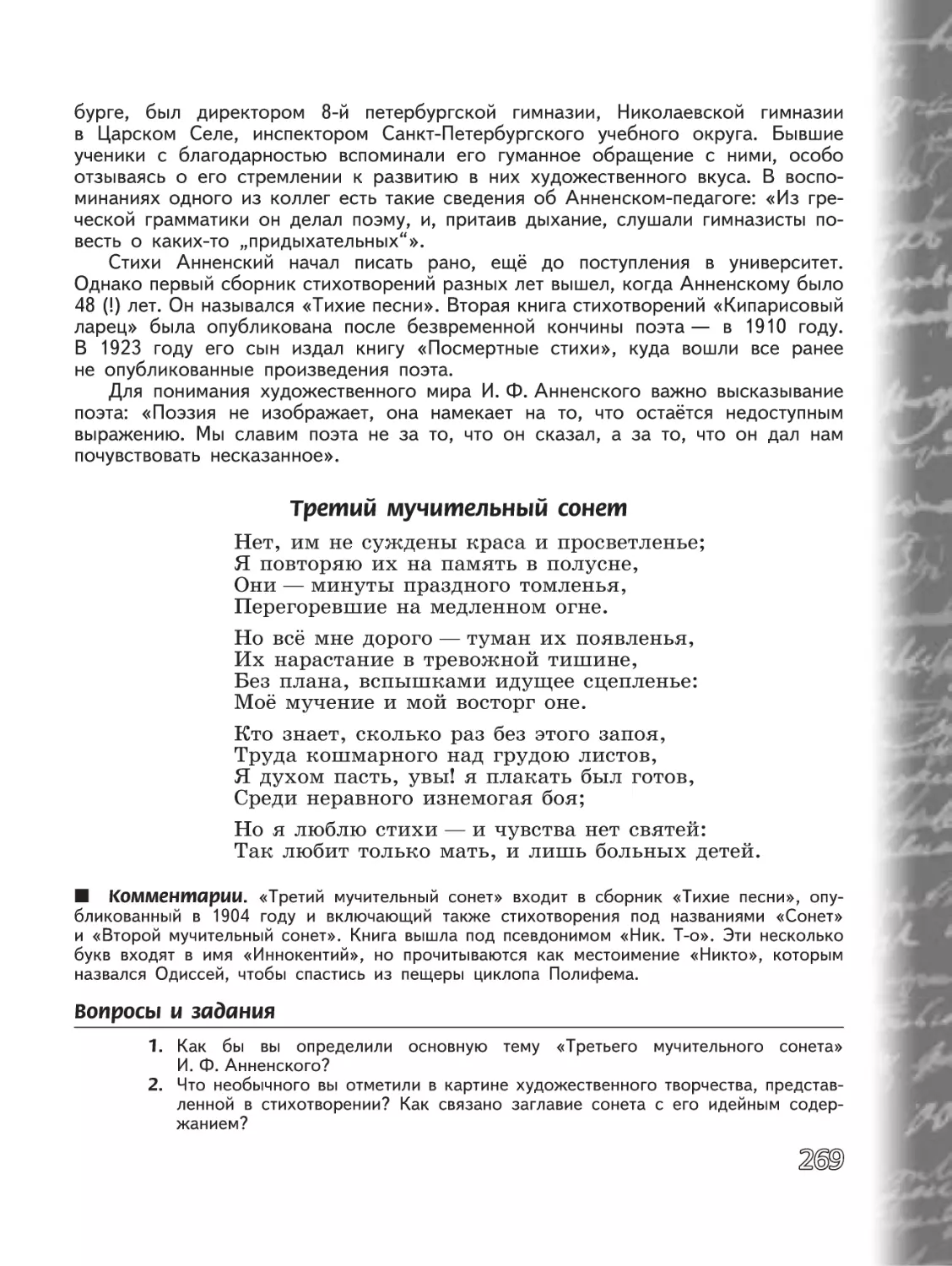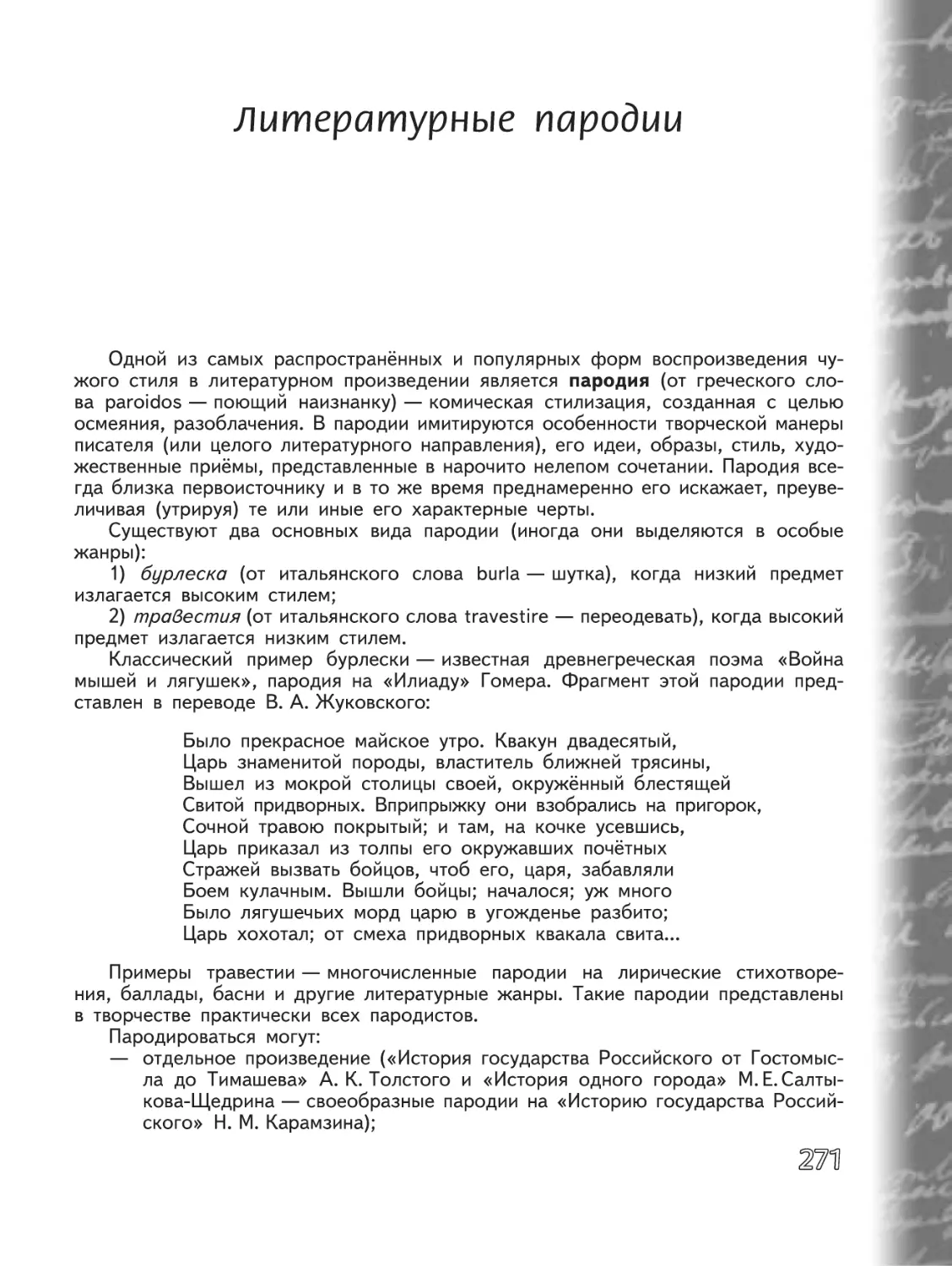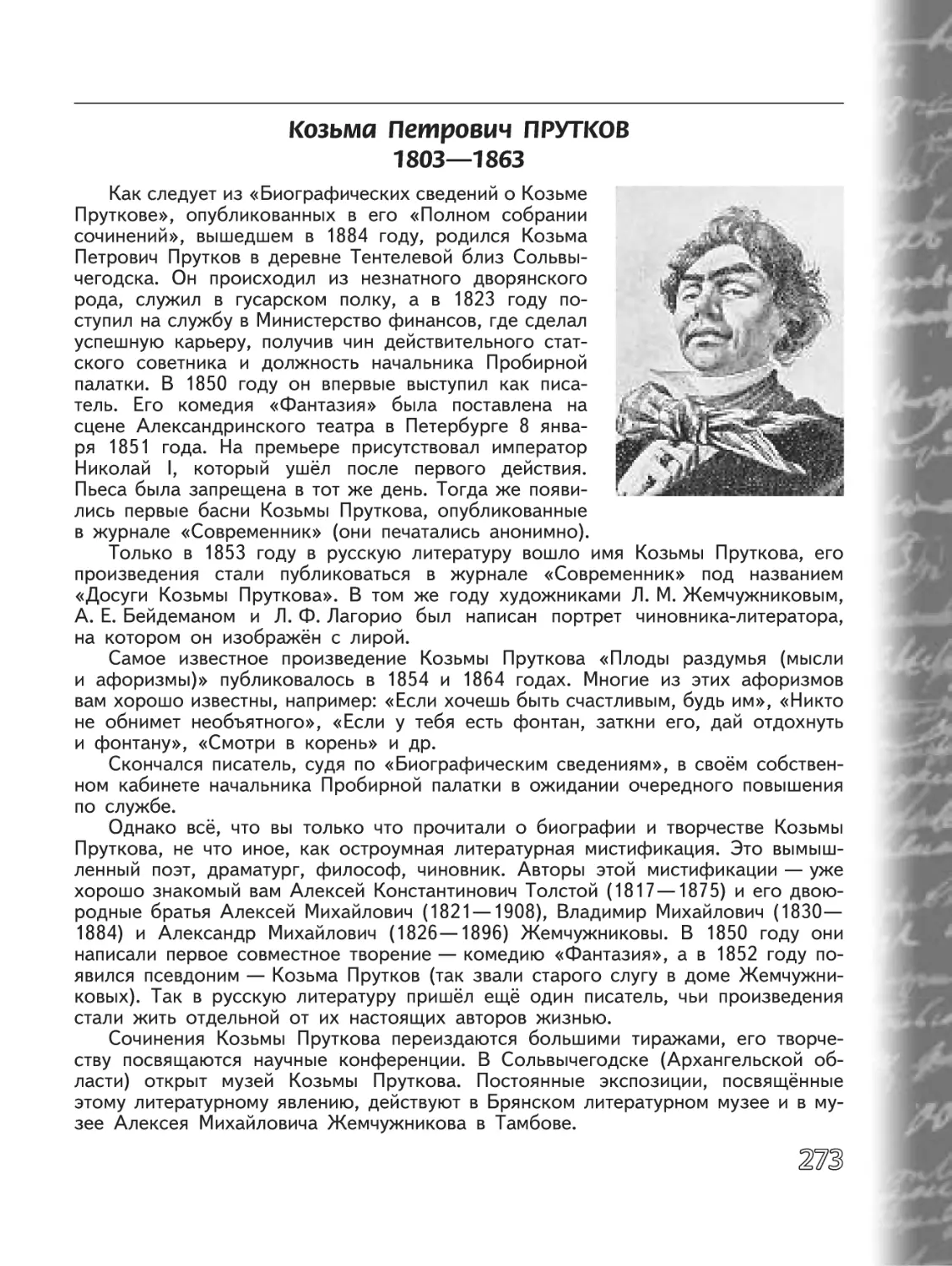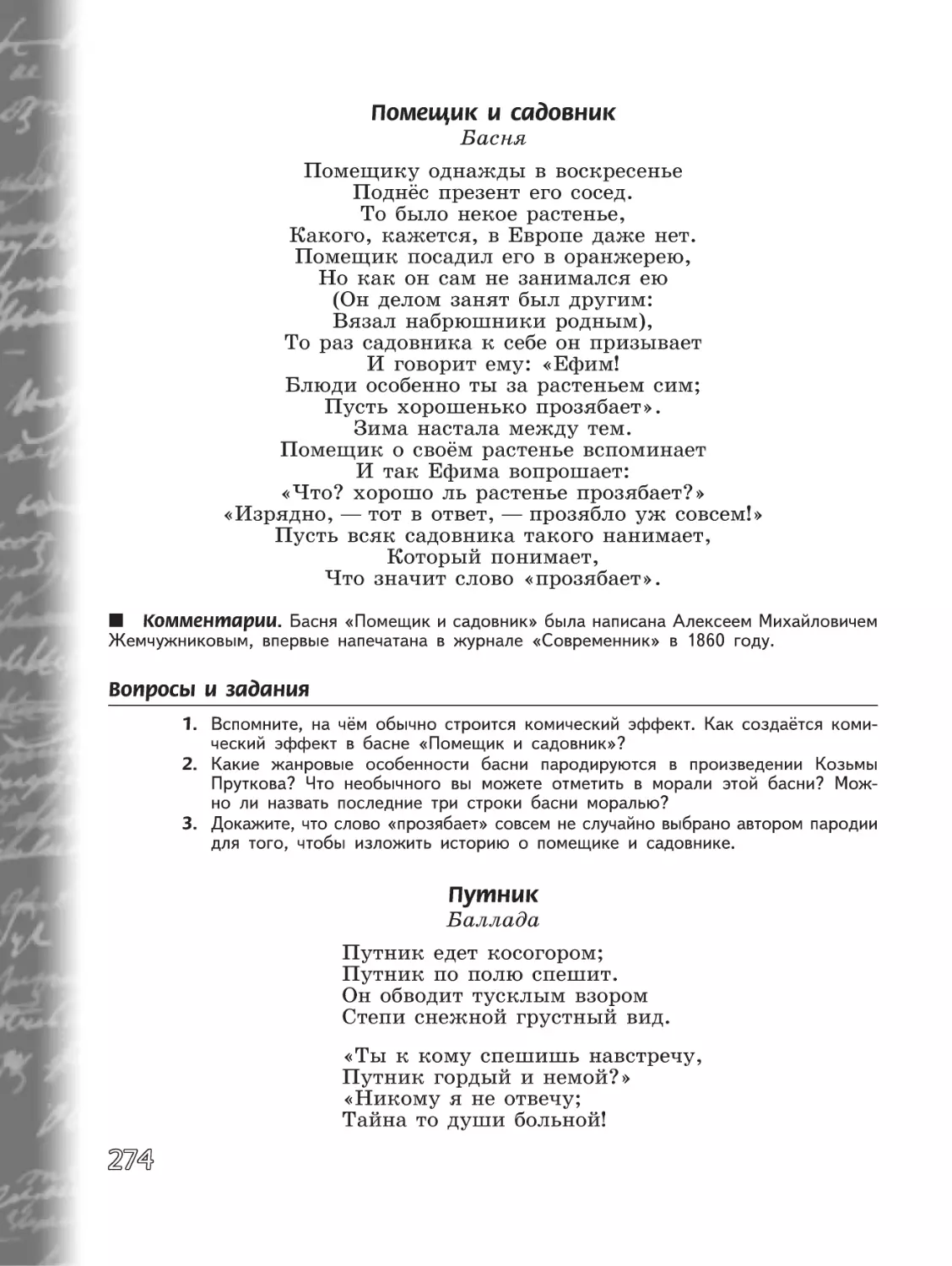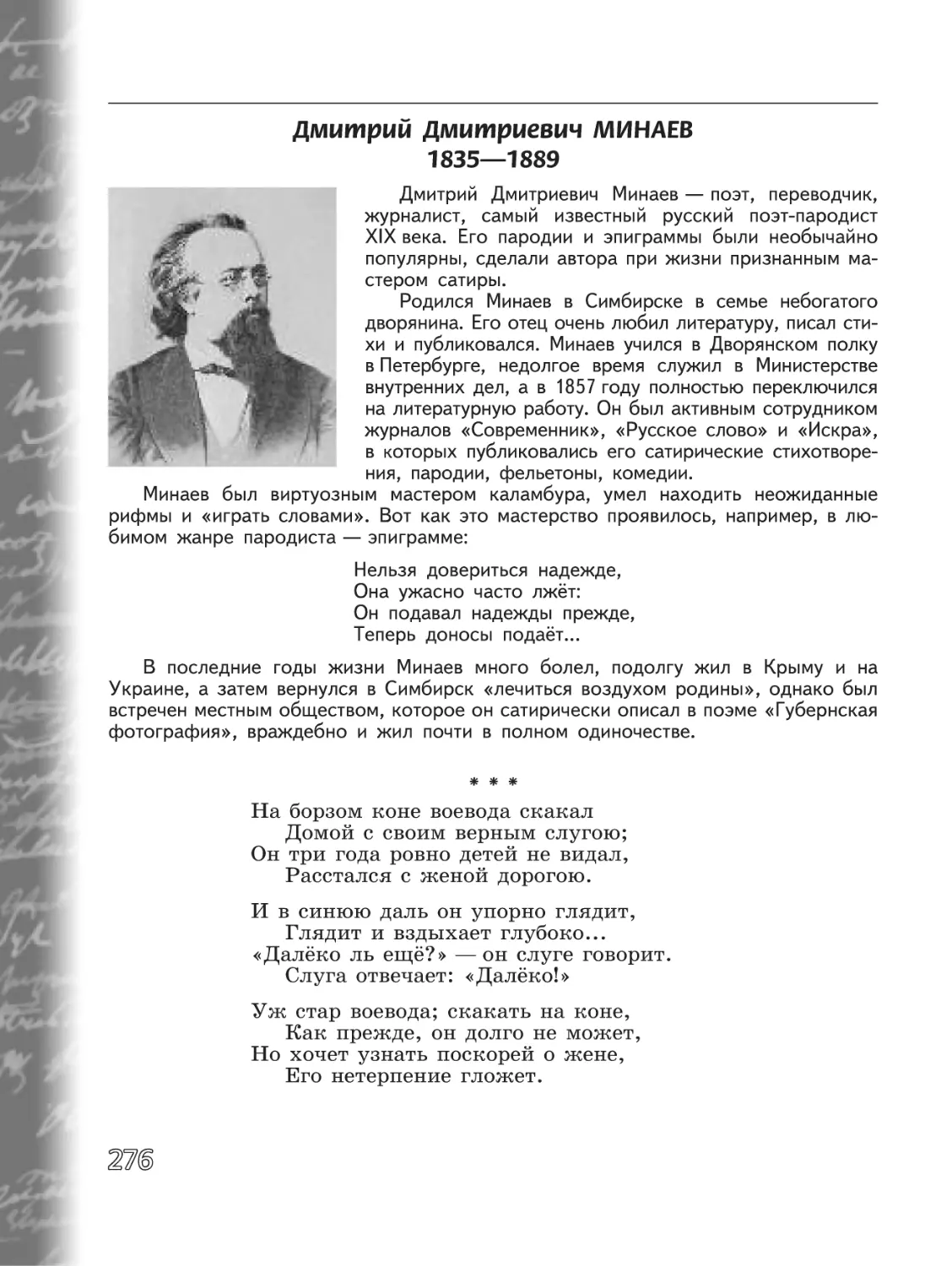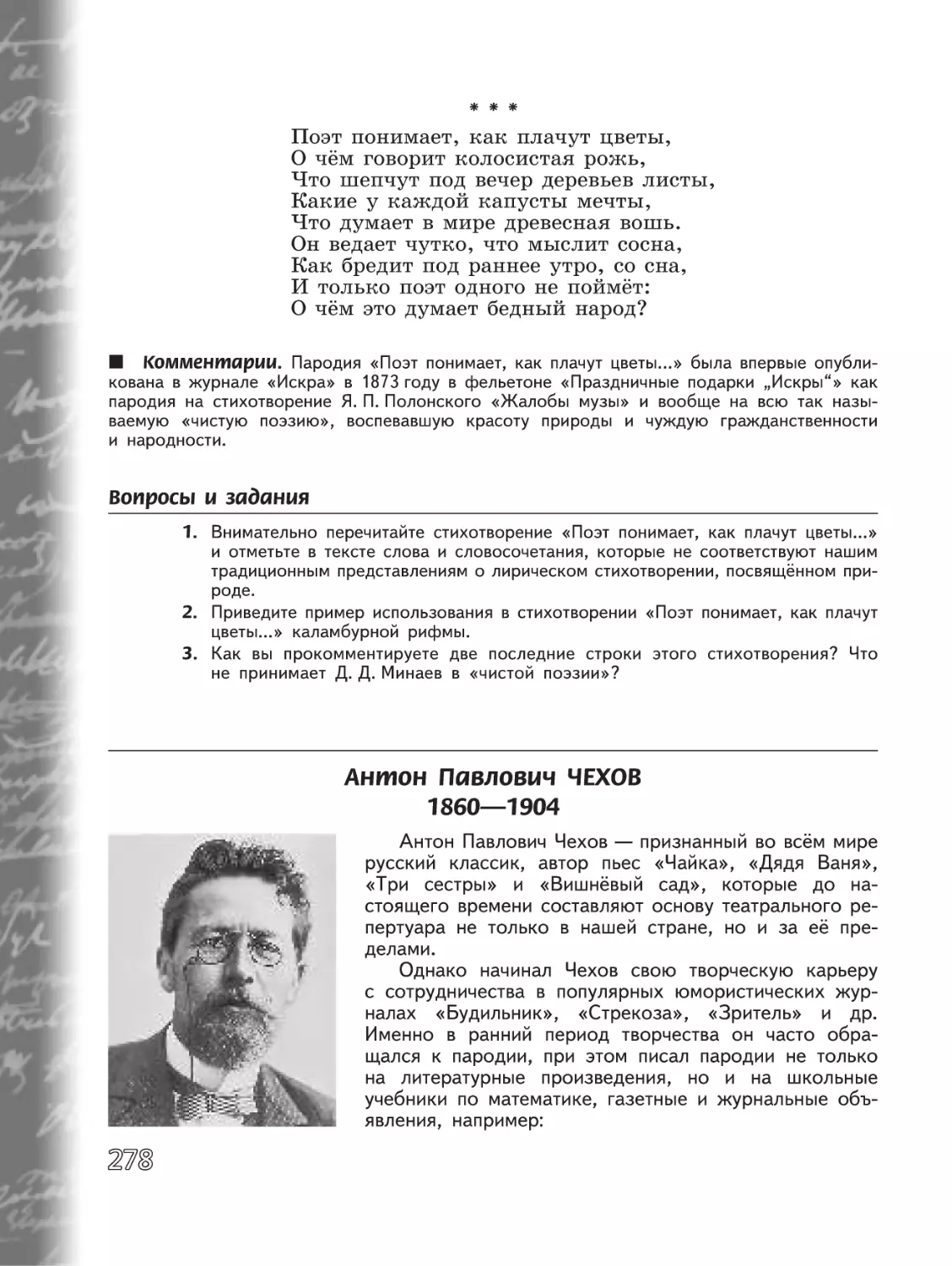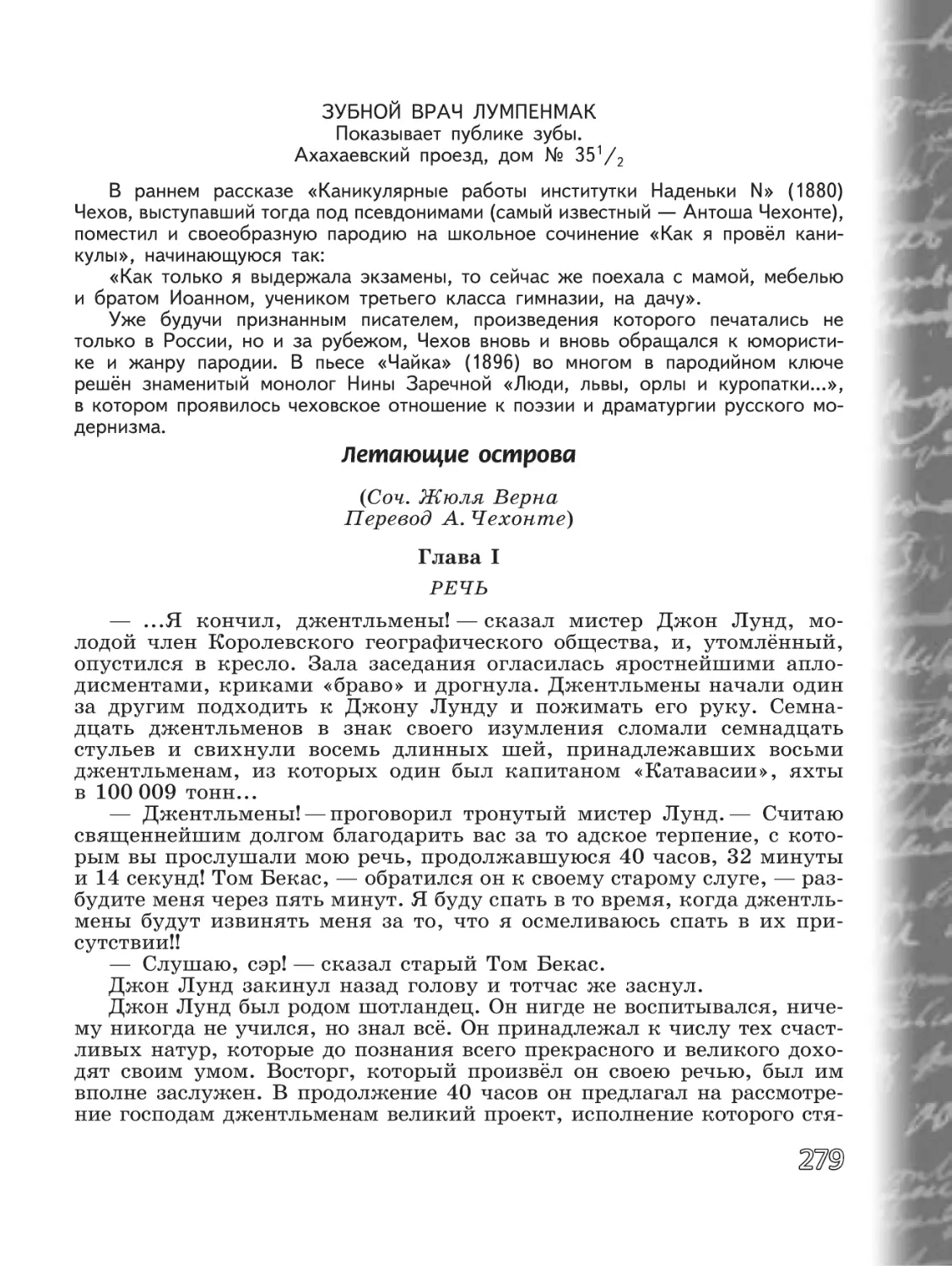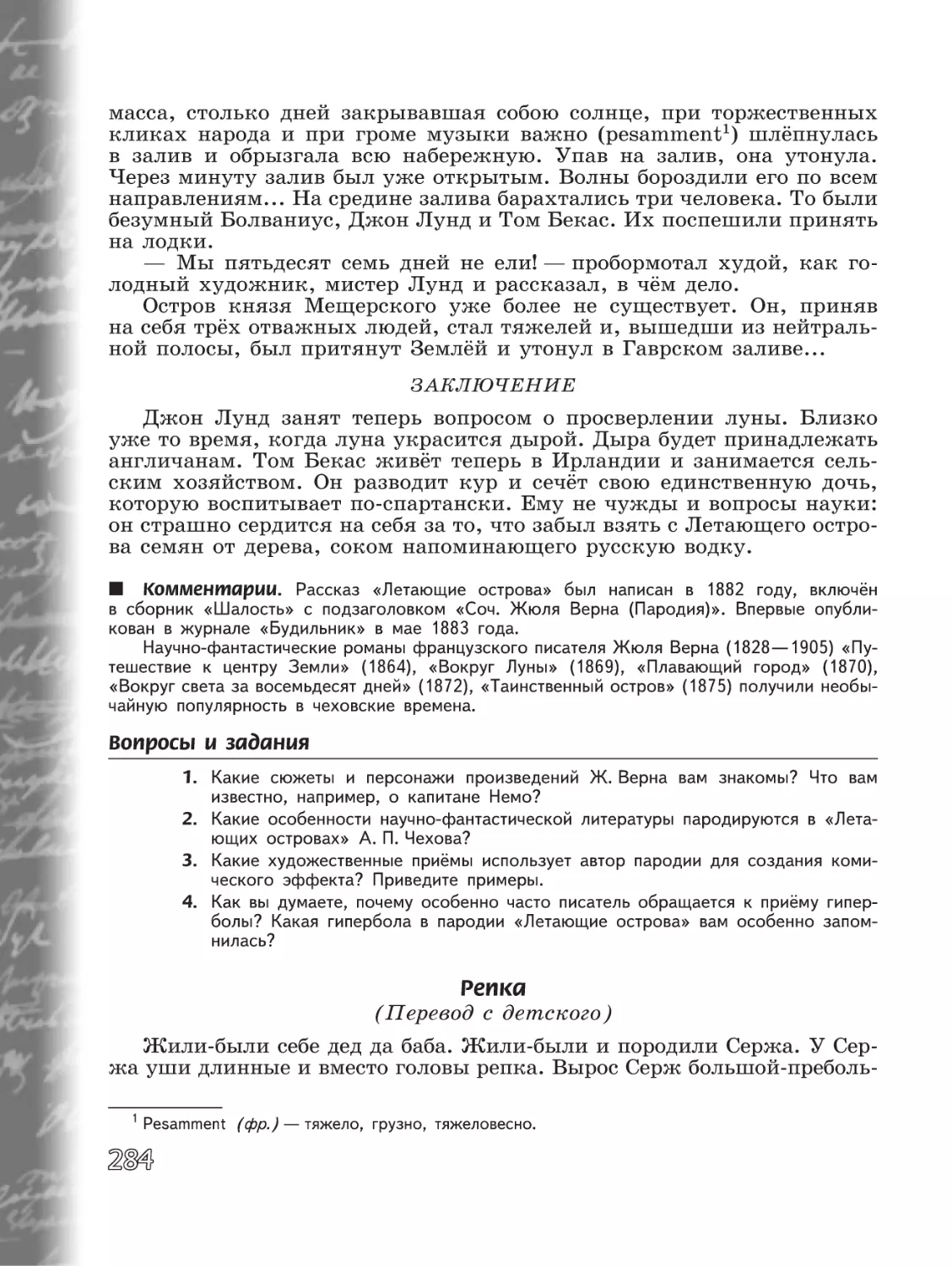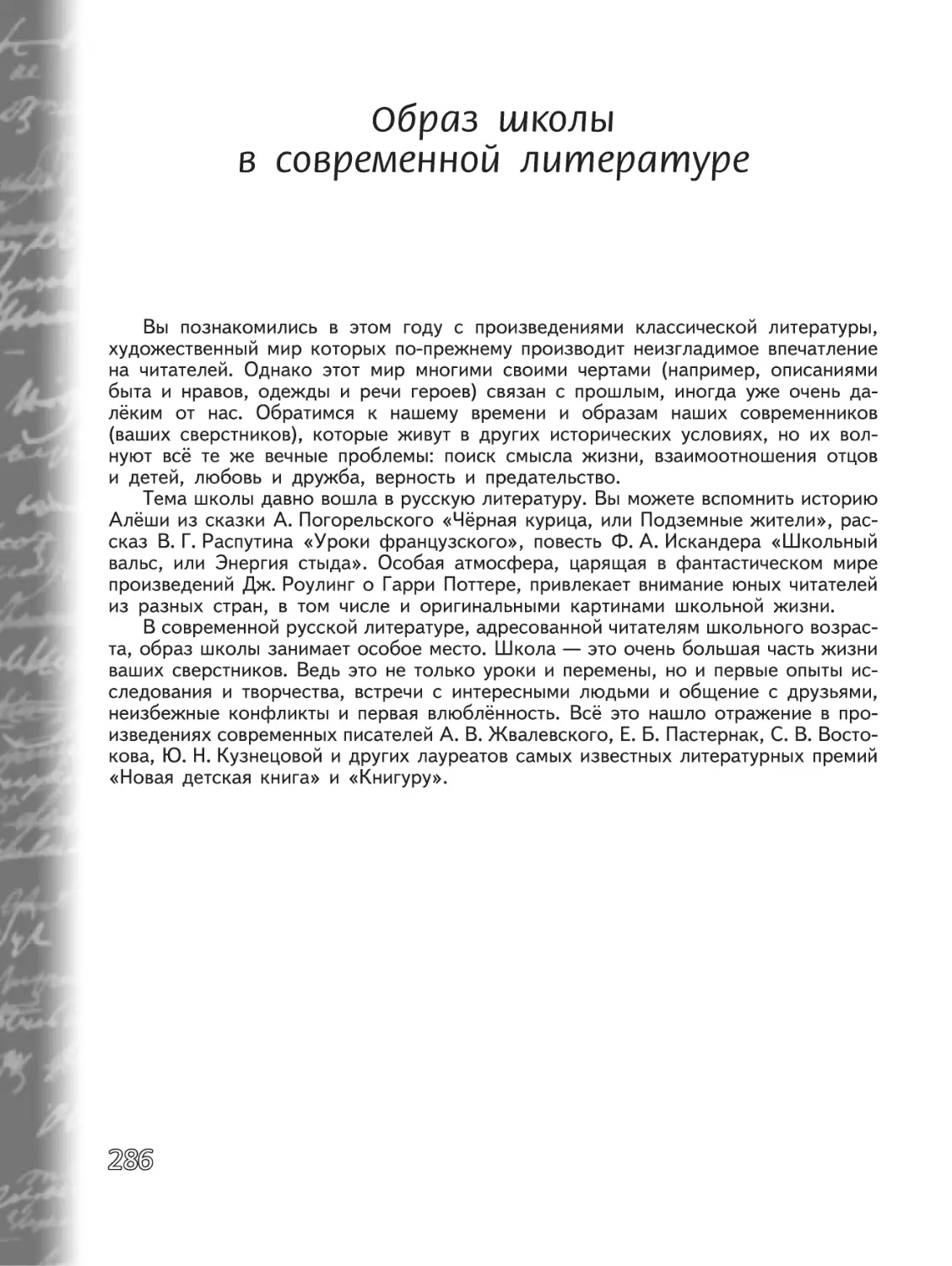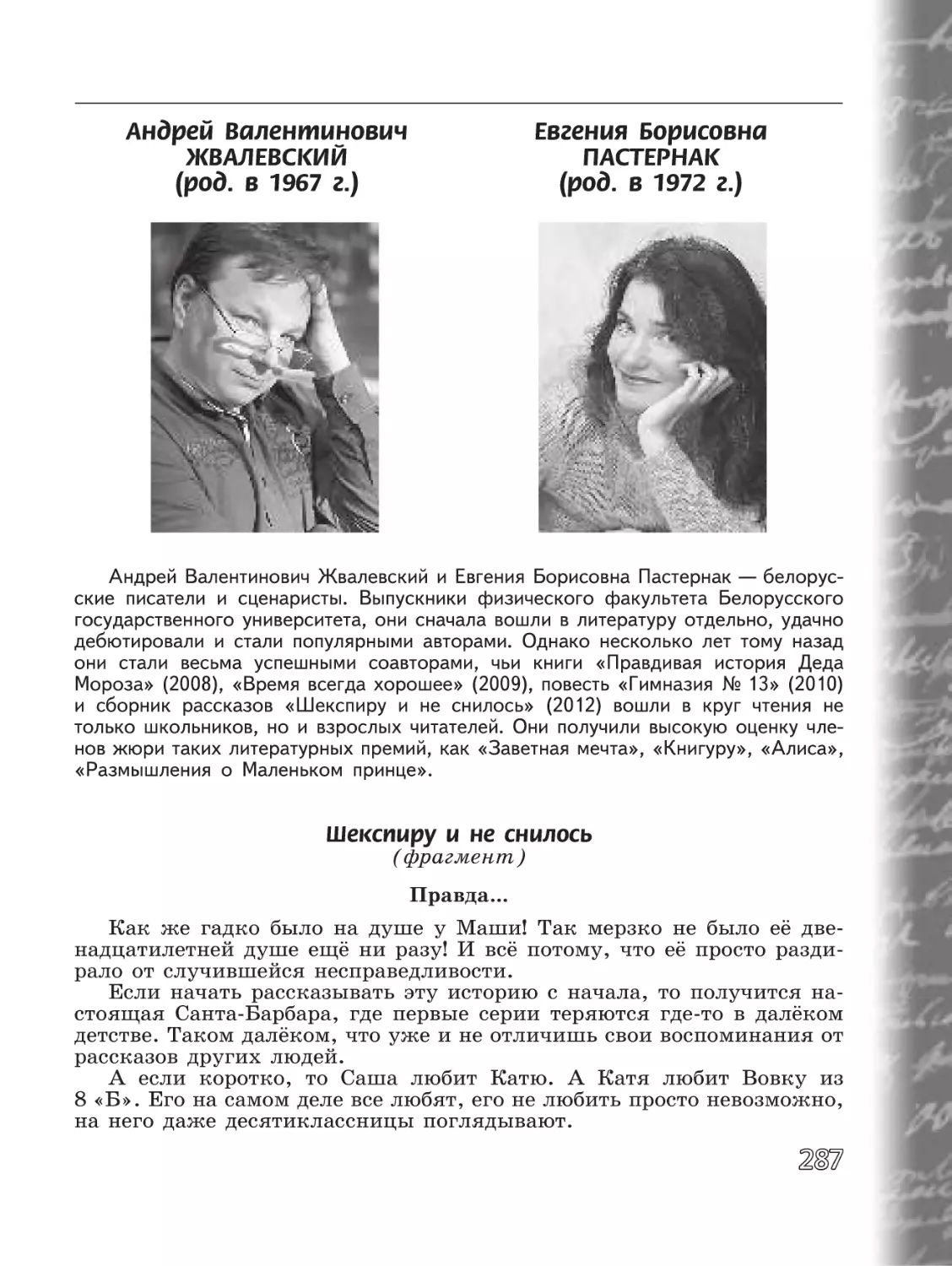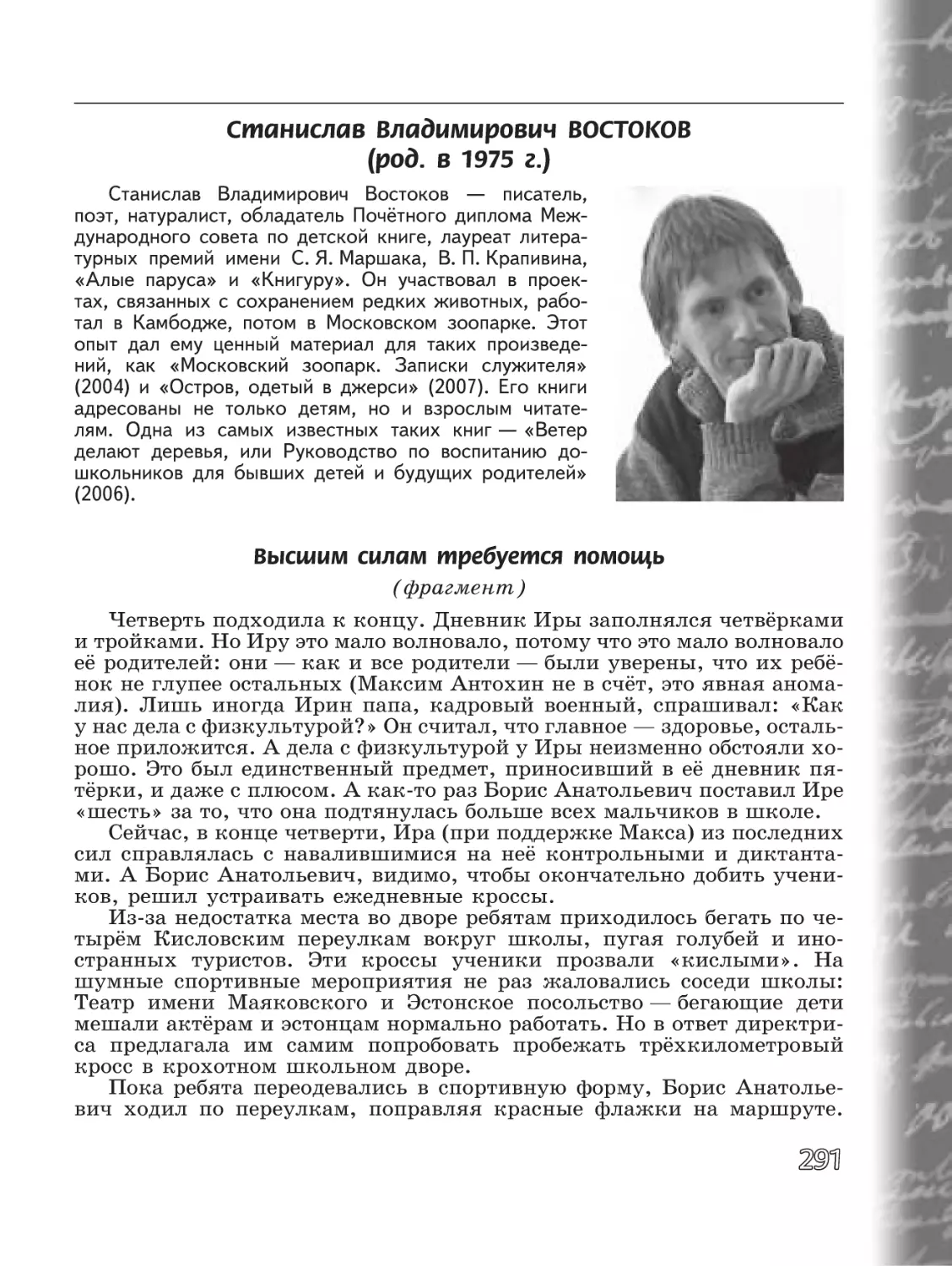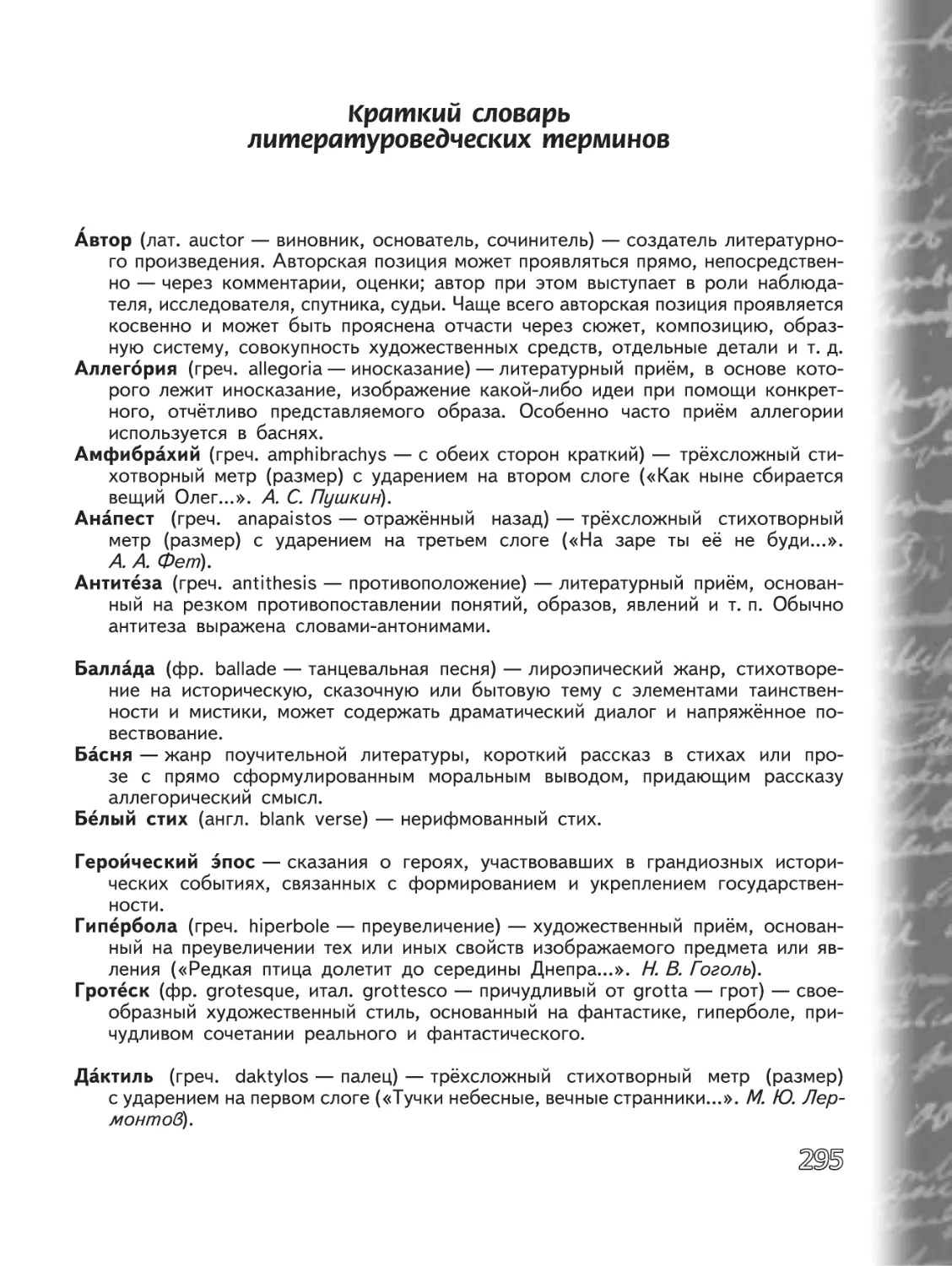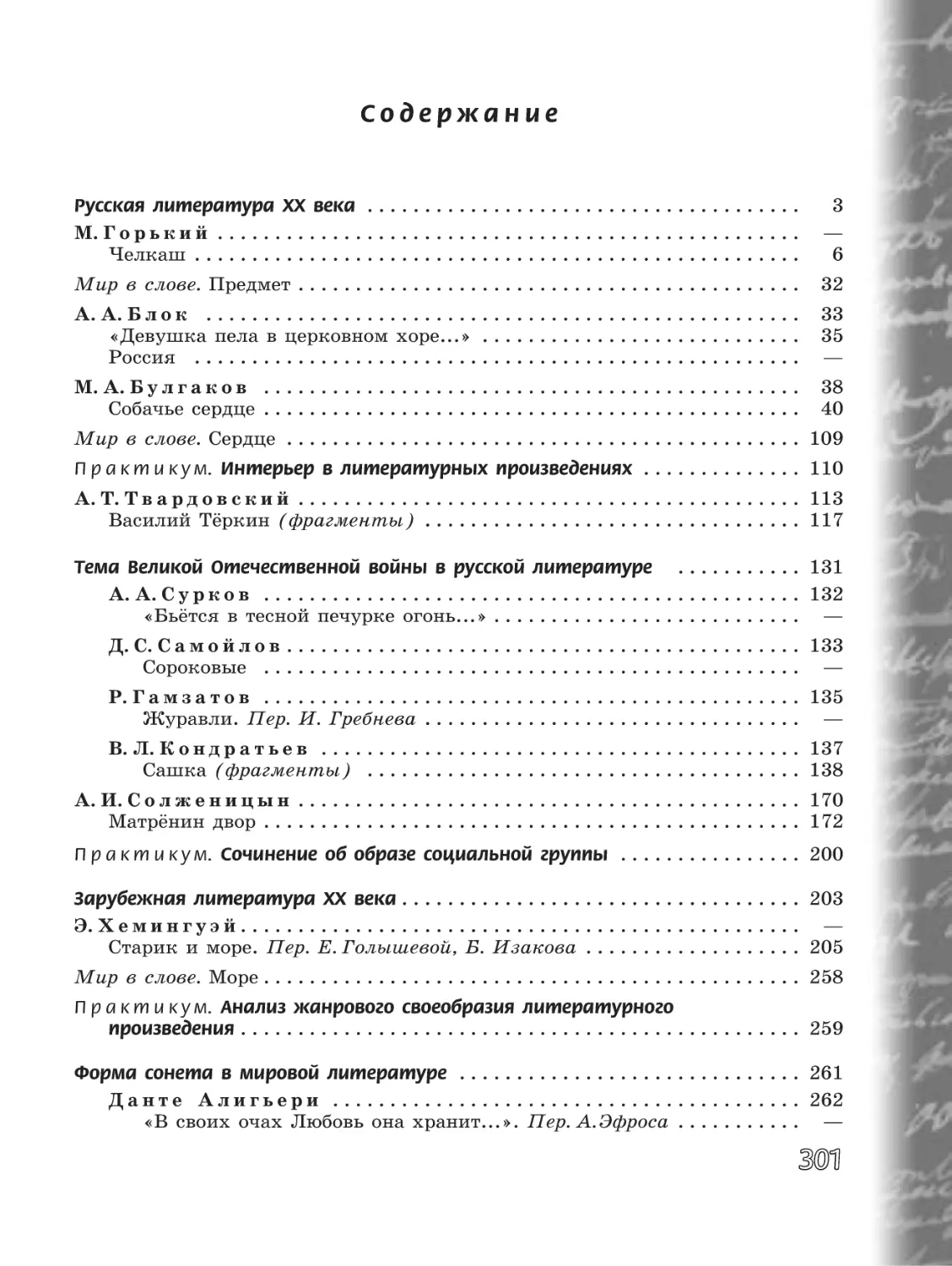Автор: Чертов В.Ф. Трубина Л.А. Антипова А.М. Маныкина А.А.
Теги: общее школьное образование общеобразовательная школа литература литературоведение история и критика мировой литературы и литературы отдельных стран учебник художественная литература
ISBN: 978-5-09-070516-5
Год: 2019
УДК 373:82.0+82.0(075.3)
ББК 83.3я721
Л64
А в т о р ы:
В. Ф. Чертов, Л. А. Трубина, А. М. Антипова, А. А. Маныкина
На учебник получены положительные заключения по результатам
научной (заключение РАО № 836 от 21.11.2016 г.),
педагогической (заключение РАО № 607 от 21.11.2016 г.)
и общественной (заключение РКС № 286-ОЭ от 22.12.2016 г.) экспертиз.
Линия учебно-методических комплектов под редакцией
д-ра пед. наук, профессора В. Ф. Чертова
На переплёте — фрагмент репродукции картины М. В. Нестерова
«Видение отроку Варфоломею»
Условные обозначения:
Внеклассное чтение
Вместе со старшими
Опыт исследования
Творческое прочтение
Поиск информации
Публичное выступление
Вместе с товарищами
Связь с другими видами
искусства
Сочинение
Точка зрения
Опыт творчества
Для дискуссии
Литература. 8 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций.
Л64 В 2 ч. Ч. 2 / [В. Ф. Чертов, Л. А. Трубина, А. М. Антипова, А. А. Маныкина] ; под ред. В. Ф. Чертова. — 8-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2019. — 303 с. : ил. — ISBN 978-5-09-070516-5.
Учебник подготовлен в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.
В каждом из классов отмечена одна ведущая проблема, которая нашла отражение в содержании вступительной статьи и во многом определила выбор художественных текстов и аспектов анализа, форм работы на уроке и во внеурочное
время. В 8 классе это художественный мир литературного произведения.
УДК 373:82.0+82.0(075.3)
ББК 83.3я721
ISBN 978-5-09-070516-5(2)
© Издательство «Просвещение», 2011
ISBN 978-5-09-070515-8(общ.)
© Издательство «Просвещение», 2014, 2019,
с изменениями
© Художественное оформление.
Издательство «Просвещение», 2011, 2019
Все права защищены
Русская литература
XX века
Максим ГОРЬКИЙ
(Алексей Максимович ПЕШКОВ, 1868—1936)
Максиму Горькому принадлежит особое место
в истории русской культуры. Ещё при жизни писатель
был признан классиком. Его жизненный и творческий
путь отразил бурные процессы, происходившие в стране в первой трети XX века. Лучший биограф Горького — сам писатель. О важнейших событиях своей жизни
он рассказал в автобиографической трилогии «Детство»
(1913), «В людях» (1916), «Мои университеты» (1923).
Алексей Максимович Пешков (Максим Горький —
псевдоним писателя) родился в Нижнем Новгороде
в семье столяра-краснодеревщика. Его мать, дочь владельца красильной мастерской Каширина, вышла замуж против воли отца. После ранней смерти мужа (он
умер от холеры, выхаживая заболевшего сына) ей пришлось вернуться в родной дом с маленьким Алексеем
на руках.
В доме деда прошло детство будущего писателя. Скупой и деспотичный дед,
несчастливая в личной жизни мать, постоянно враждующие друг с другом родственники, вечная боязнь разорения... Единственным светлым пятном в этом мире
была бабушка Акулина Ивановна — страдающая, мягкая, покорная. Она учила
внука народным песням, приобщила к сказкам, стихам.
Оставшись сиротой после смерти матери, Алексей был вынужден с одиннадцати лет уйти «в люди». Он работал «мальчиком» в магазине, учеником чертёжника и иконописца, посудником на пароходах, десятником на стройке, статистом
в театре, фельетонистом в газете. По адресам странствий будущего писателя можно изучать быт и географию Российской империи: Поволжье, Дон, Украина,
Бессарабия, Крым, Кавказ...
Тяжёлая жизнь, необходимость с ранних лет самому зарабатывать себе на
кусок хлеба не позволили Горькому получить систематическое образование, о чём
он жалел всю жизнь. Но страстная любовь к чтению, непрестанное самообразование, встречи с интересными собеседниками позволили ему стать одним из самых
знающих людей своего времени. А полученные впечатления, понимание жизни
и людей побудили к творчеству. В повести «Детство» Горький нашёл точный
образ, определивший главное в его прозе: «С тех дней у меня явилось беспокой-
3
ное внимание к людям, и точно мне содрали кожу с сердца, оно стало невыносимо чутким ко всякой обиде и боли, своей и чужой».
Пережитые трудности породили в душе писателя ненависть к «свинцовым мерзостям жизни», чувство протеста против невыносимой действительности и мечту
о другой, справедливой и прекрасной жизни. А главное — укрепили интерес к человеку, веру в его силы, творческий разум, в его способность преобразовать мир
и себя в нём. Это был источник, питавший всё творчество писателя.
Первый рассказ молодого писателя был опубликован 12 сентября 1892 года
в тифлисской газете «Кавказ» под псевдонимом, в котором заключалась характеристика трудного жизненного опыта: М. Горький (помимо этого, известно более
30 других псевдонимов, использовавшихся писателем в разные годы). Это был
романтический рассказ «Макар Чудра». За ним последовали «Старуха Изергиль»
(1895), «Челкаш» (1895), «Песня о Соколе» (1895), «Песня о Буревестнике»
(1901).
Ново, ярко и смело прозвучало слово молодого Горького. Пессимизму, разочарованности, усталости от жизни он противопоставил идею свободы и человеческого достоинства. «Настало время нужды в героическом» — так определил писатель общественную потребность, на которую ответил созданием образов
сильных, гордых и страстных героев, противопоставленных «скучным людям». «Да
здравствуют сильные духом, мужественные люди — люди, которые служат истине,
справедливости, красоте!» — эти горьковские строки точно характеризуют идеал
личности, который раскрывает автор в своих произведениях.
Создавая образы таких героев, Горький не боялся «приукрашивать» жизнь,
используя художественные приёмы, найденные романтиками: исключительная личность в исключительных обстоятельствах; экзотический пейзаж и портрет, подчёркивающие эту исключительность; антитеза как основа композиции произведения; близость прозаического слова к стихотворному, ритмичность, насыщенность
тропами, символика.
Параллельно с романтическими произведениями и в тесной связи и взаимовлиянии с ними писатель создавал реалистические рассказы «Дед Архип и Лёнька» (1894), «Коновалов» (1897), «Супруги Орловы» (1897) и др. В 1899 году вышел первый роман Горького «Фома Гордеев», принёсший ему мировую известность.
Одна за другой были опубликованы и поставлены на сцене театров пьесы
«Мещане» (1902), «На дне» (1902), «Дачники» (1904) и др.
Освоение творческого опыта романтизма обогатило реалистическую манеру
письма Горького. В его произведениях суровый реализм изображения сочетается
с романтически просветлённой верой в человека, драматические сюжеты и характеры — с романтической стилистикой, сквозь конкретные сюжеты просвечивает
высокая символика.
«Пусть сильнее грянет буря!» — этот горьковский афоризм в период нарастания революционного движения начала XX века был воспринят в идеологическом
контексте, а самого автора многие годы называли «буревестником революции».
Но его взгляд на революцию значительно отличался от представлений её лидеров.
Он воспринимал революцию как возможность творить новую действительность,
в которой раскроется человеческий гений.
Когда пришла революция, которую Горький так ждал и для которой так
много работал, писатель довольно быстро разочаровался в «социальном эксперименте» над страной, начал высказывать мысли об опасности разгула масс, о со-
4
зидательной роли культуры. Во многом изменились и его представления о человеке. Противоречие между реалистически трезвым и суровым взглядом на жизнь
и восторженной революционностью стало для М. Горького источником постоянного внутреннего — с самим собой — конфликта, который не прекратился до
смерти.
Рассказ «Челкаш». М. Горький нашёл в среде «маленьких людей» героев необыкновенных, с особым благородным строем души, с чувством внутренней свободы. Ими оказались босяки, выброшенные на обочину жизни, на самое её дно,
но, вопреки обстоятельствам, сохранившие «жемчужины нравственных качеств».
Один из первых примеров такого героя дан в раннем рассказе «Челкаш».
В центре произведения — вопрос о смысле жизни, идеалах человека. Раскрыть
позицию автора помогает своеобразная композиция рассказа, состоящего из вступления и трёх глав.
В рассказе причудливо соединены черты реализма и романтизма. Произведение
открывает нарисованная реалистически картина порта. Писатель использует зрительные, слуховые образы, придавая описанию точность и яркость. Но используемые автором детали (море — не яркое и могучее, а закованное в гранит; резкие
звуки), прямые авторские оценки (люди «смешны и жалки») создают обобщённый
образ мира, враждебного человеку, поработившего и обезличившего его.
Это описание становится не просто вступлением к событиям рассказа. Оно
изменяет масштабы нарисованного автором конфликта, помогает понять, что это
не просто столкновение двух характеров, но и частное проявление общего неблагополучия в жизни.
В портрете главного героя, именем которого назван рассказ, присутствует реалистическая детализация: «В одном буром усе у него торчала соломина, другая
соломина запуталась в щетине левой бритой щеки, а за ухо он заткнул себе маленькую, только что сорванную ветку липы». Эти точные детали позволяют сразу же представить возраст героя, его внешность, образ жизни. А с другой стороны, в портрете выделены черты романтические (подчёркнуто сходство с диким
и сильным хищником в описании взгляда, походки, подобной степному ястребу,
«хищной худобы»). Но здесь очевиден и элемент снижения (усы «как у кота»).
Конфликт двух героев имеет жизненную основу, но решён он романтическими
приёмами: на фоне моря, символизирующего естественность, свободу и неукротимую силу, с использованием контраста как основы характеристики персонажей.
С одной стороны, гордость, полная независимость, презрение к деньгам, бескорыстие могучего человека Челкаша, а с другой — рабская зависимость, мелочность, трусость Гаврилы с его идеалом «почёт, довольство, веселье», ради которого он готов пойти на убийство.
В произведении от главы к главе нарастает противостояние героев, по-разному
понимающих смысл жизни человека. Кульминацией в этом споре является третья
глава. В рассказе нашла отражение сквозная мысль всего творчества Горького —
о «пестроте» человеческих характеров. Одни, «скучные люди», «родятся стариками», неспособными понять истинную красоту жизни, а другие, свободные и мужественные, эту красоту олицетворяют или, во всяком случае, вносят в жизнь
«бродильное начало».
Однако открытого авторского любования романтизированным босяком здесь
нет. Реалистическое восприятие заставляет увидеть в героях этого типа «слепоту
ума», внутреннюю неустойчивость и несостоятельность.
5
Вопросы и задания
1. Какие факты биографии М. Горького объясняют особый интерес писателя к подробному изображению жизни низов общества и к необычному герою, резко
отличающемуся от общей массы?
2. Публичное выступление. Подготовьте сообщение о круге общения М. Горького. С кем из известных русских писателей, художников, композиторов, общественных и политических деятелей он поддерживал дружеские отношения?
Челкаш
Потемневшее от пыли голубое юное небо — мутно; жаркое солнце
смотрит в зеленоватое море, точно сквозь тонкую серую вуаль. Оно
почти не отражается в воде, рассекаемой ударами вёсел, пароходных
винтов, острыми килями турецких фелюг и других судов, бороздящих
по всем направлениям тесную гавань. Закованные в гранит волны
моря подавлены громадными тяжестями, скользящими по их хребтам,
бьются о борта судов, о берега, бьются и ропщут, вспененные, загрязнённые разным хламом.
Звон якорных цепей, грохот сцеплений вагонов, подвозящих груз,
металлический вопль железных листов, откуда-то падающих на камень мостовой, глухой стук дерева, дребезжание извозчичьих телег,
свистки пароходов, то пронзительно резкие, то глухо ревущие, крики грузчиков, матросов и таможенных солдат — все эти звуки сливаются в оглушительную музыку трудового дня и, мятежно колыхаясь,
стоят низко в небе над гаванью, — к ним вздымаются с земли всё
новые и новые волны звуков — то глухие, рокочущие, они сурово сотрясают всё кругом, то резкие, гремящие, — рвут пыльный, звонкий
воздух.
Гранит, железо, дерево, мостовая гавани, суда и люди — всё дышит
мощными звуками страстного гимна Меркурию. Но голоса людей, еле
слышные в нём, слабы и смешны. И сами люди, первоначально родившие этот шум, смешны и жалки: их фигуры, пыльные, оборванные,
юркие, согнутые под тяжестью товаров, лежащих на их спинах, суетливо бегают то туда, то сюда в тучах пыли, в море зноя и звуков, они
ничтожны по сравнению с окружающими их железными колоссами,
грудами товаров, гремящими вагонами и всем, что они создали. Созданное ими поработило и обезличило их.
Стоя под парами, тяжёлые гиганты-пароходы свистят, шипят, глубоко вздыхают, и в каждом звуке, рождённом ими, чудится насмешливая нота презрения к серым, пыльным фигурам людей, ползавших по их палубам, наполняя глубокие трюмы продуктами своего
рабского труда. До слёз смешны длинные вереницы грузчиков, несущих на плечах своих тысячи пудов хлеба в железные животы судов для того, чтобы заработать несколько фунтов того же хлеба
для своего желудка. Рваные, потные, отупевшие от усталости, шума
и зноя люди и могучие, блестевшие на солнце дородством машины, созданные этими людьми, — машины, которые в конце концов
6
приводились в движение всё-таки не паром, а мускулами и кровью
своих творцов, — в этом сопоставлении была целая поэма жёсткой
иронии.
Шум — подавлял, пыль, раздражая ноздри, — слепила глаза, зной —
пёк тело и изнурял его, и всё кругом казалось напряжённым, теряющим терпение, готовым разразиться какой-то грандиозной катастрофой, взрывом, за которым в освежённом им воздухе будет дышаться свободно и легко, на земле воцарится тишина, а этот пыльный
шум, оглушительный, раздражающий, доводящий до тоскливого бешенства, исчезнет, и тогда в городе, на море, в небе станет тихо, ясно,
славно...
Раздалось двенадцать мерных и звонких ударов в колокол. Когда
последний медный звук замер, дикая музыка труда уже звучала тише.
Через минуту ещё она превратилась в глухой недовольный ропот. Теперь голоса людей и плеск моря стали слышней. Это — наступило время обеда.
I
Когда грузчики, бросив работать, рассыпались по гавани шумными
группами, покупая себе у торговок разную снедь и усаживаясь обедать
тут же, на мостовой, в тенистых уголках, — появился Гришка Челкаш, старый травленый волк, хорошо знакомый га€ванскому люду, заядлый пьяница и ловкий, смелый вор. Он был бос, в старых, вытертых
плисовых штанах, без шапки, в грязной ситцевой рубахе с разорванным воротом, открывавшим его сухие и угловатые кости, обтянутые
коричневой кожей. По всклокоченным чёрным с проседью волосам
и смятому, острому, хищному лицу было видно, что он только что проснулся. В одном буром усе у него торчала соломина, другая соломина
запуталась в щетине левой бритой щеки, а за ухо он заткнул себе маленькую, только что сорванную ветку липы. Длинный, костлявый, немного сутулый, он медленно шагал по камням и, поводя своим горбатым, хищным носом, кидал вокруг себя острые взгляды, поблёскивая
холодными серыми глазами и высматривая кого-то среди грузчиков.
Его бурые усы, густые и длинные, то и дело вздрагивали, как у кота,
а заложенные за спину руки потирали одна другую, нервно перекручиваясь длинными, кривыми и цепкими пальцами. Даже и здесь, среди сотен таких же, как он, резких босяцких фигур, он сразу обращал
на себя внимание своим сходством с степным ястребом, своей хищной
худобой и этой прицеливающейся походкой, плавной и покойной
с виду, но внутренне возбуждённой и зоркой, как лёт той хищной птицы, которую он напоминал.
Когда он поравнялся с одной из групп босяков-грузчиков, расположившихся в тени под грудой корзин с углём, ему навстречу встал коренастый малый с глупым, в багровых пятнах, лицом и поцарапанной
шеей, должно быть, недавно избитый. Он встал и пошёл рядом с Челкашом, вполголоса говоря:
— Флотские двух мест мануфактуры хватились... Ищут.
7
— Ну? — спросил Челкаш, спокойно смерив его глазами.
— Чего — ну? Ищут, мол. Больше ничего.
— Меня, что ли, спрашивали, чтоб помог поискать?
И Челкаш с улыбкой посмотрел туда, где возвышался пакгауз Добровольного флота.
— Пошёл к чёрту!
Товарищ повернул назад.
— Эй, погоди! Кто это тебя изукрасил? Ишь как испортили
вывеску-то... Мишку не видал здесь?
— Давно не видал! — крикнул тот, уходя к своим товарищам.
Челкаш шагал дальше, встречаемый всеми, как человек хорошо
знакомый. Но он, всегда весёлый и едкий, был сегодня, очевидно, не
в духе и отвечал на расспросы отрывисто и резко.
Откуда-то из-за бунта товара вывернулся таможенный сторож,
тёмно-зелёный, пыльный и воинственно-прямой. Он загородил дорогу Челкашу, встав перед ним в вызывающей позе, схватившись левой рукой за ручку кортика, а правой пытаясь взять Челкаша за
ворот.
— Стой! Куда идёшь?
Челкаш отступил на шаг, поднял глаза на сторожа и сухо улыбнулся.
Красное, добродушно-хитрое лицо служивого пыталось изобразить
грозную мину, для чего надулось, стало круглым, багровым, двигало
бровями, таращило глаза и было очень смешно.
— Сказано тебе — в гавань не смей ходить, рёбра изломаю! А ты
опять? — грозно кричал сторож.
— Здравствуй, Семёныч! мы с тобой давно не вида€лись, — спокойно
поздоровался Челкаш и протянул ему руку.
— Хоть бы век тебя не видеть! Иди, иди!..
Но Семёныч всё-таки пожал протянутую руку.
— Вот что скажи, — продолжал Челкаш, не выпуская из своих
цепких пальцев руки Семёныча и приятельски-фамильярно потряхивая её, — ты Мишку не видал?
— Какого ещё Мишку? Никакого Мишки не знаю! Пошёл, брат,
вон! а то пакгаузный увидит, он те...
— Рыжего, с которым я прошлый раз работал на «Костроме», — стоял на своём Челкаш.
— С которым воруешь вместе, вот как скажи! В больницу его свезли, Мишку твоего, ногу отдавило чугунной штыкой. Поди, брат, пока
честью просят, поди, а то в шею провожу!..
— Ага, ишь ты! а ты говоришь — не знаю Мишки... Знаешь, вот.
Ты чего же такой сердитый, Семёныч?..
— Вот что, ты мне зубы не заговаривай, а иди!..
Сторож начал сердиться и, оглядываясь по сторонам, пытался вырвать свою руку из крепкой руки Челкаша. Челкаш спокойно посматривал на него из-под своих густых бровей и, не отпуская его руки,
продолжал разговаривать:
— Ты не торопи меня. Я вот наговорюсь с тобой вдоволь и уйду.
Ну, сказывай, как живёшь?.. жена, детки — здоровы? — И, сверкая
8
М. Горький. «Челкаш». Художник Д. Богословский
глазами, он, оскалив зубы насмешливой улыбкой, добавил: — В гости
к тебе собираюсь, да всё времени нет — пью всё вот...
— Ну, ну, — ты это брось! Ты — не шути, дьявол костлявый!
Я, брат, в самом деле... Али ты уж по домам, по улицам грабить собираешься?
— Зачем? И здесь на наш с тобой век добра хватит. Ей-богу, хватит, Семёныч! Ты, слышь, опять два места мануфактуры слямзил?..
Смотри, Семёныч, осторожней! не попадись как-нибудь!..
Возмущённый Семёныч затрясся, брызгая слюной и пытаясь что-то
сказать. Челкаш отпустил его руку и спокойно зашагал длинными
ногами назад, к воротам гавани. Сторож, неистово ругаясь, двинулся
за ним.
Челкаш повеселел; он, тихо посвистывая сквозь зубы и засунув
руки в карманы штанов, шёл медленно, отпуская направо и налево
колкие смешки и шутки. Ему платили тем же.
— Ишь ты, Гришка, начальство-то как тебя оберегает! — крикнул
кто-то из толпы грузчиков, уже пообедавших и валявшихся на земле,
отдыхая.
— Я — босый, так вот Семёныч следит, как бы мне ногу не напороть, — ответил Челкаш.
Подошли к воротам. Два солдата ощупали Челкаша и легонько вытолкнули его на улицу.
9
Челкаш перешёл через дорогу и сел на тумбочку против дверей
кабака. Из ворот гавани с грохотом выезжала вереница нагруженных телег. Навстречу им неслись порожние телеги с извозчиками,
подпрыгивающими на них. Гавань изрыгала воющий гром и едкую
пыль...
В этой бешеной сутолоке Челкаш чувствовал себя прекрасно. Впереди ему улыбался солидный заработок, требуя немного труда и много
ловкости. Он был уверен, что ловкости хватит у него, и, щуря глаза,
мечтал о том, как загуляет завтра поутру, когда в его кармане явятся
кредитные бумажки... Вспомнился товарищ, Мишка, — он очень пригодился бы сегодня ночью, если бы не сломал себе ногу. Челкаш
про себя обругался, думая, что одному, без Мишки, пожалуй, и не
справиться с делом. Какова-то будет ночь?.. Он посмотрел на небо
и вдоль по улице.
Шагах в шести от него, у тротуара, на мостовой, прислонясь спиной к тумбочке, сидел молодой парень в синей пестрядинной1 рубахе,
в таких же штанах, в лаптях и в оборванном рыжем картузе. Около него
лежала маленькая котомка и коса без черенка, обёрнутая в жгут из
соломы, аккуратно перекрученный верёвочкой. Парень был широкоплеч, коренаст, русый, с загорелым и обветренным лицом и с большими голубыми глазами, смотревшими на Челкаша доверчиво и добродушно.
Челкаш оскалил зубы, высунул язык и, сделав страшную рожу,
уставился на него вытаращенными глазами.
Парень, сначала недоумевая, смигнул, но потом вдруг расхохотался, крикнул сквозь смех: «Ах, чудак!» — и, почти не вставая с земли,
неуклюже перевалился от своей тумбочки к тумбочке Челкаша, волоча свою котомку по пыли и постукивая пяткой косы о камни.
— Что, брат, погулял, видно, здорово!.. — обратился он к Челкашу, дёрнув его штанину.
— Было дело, сосунок, было этакое дело! — улыбаясь, сознался
Челкаш. Ему сразу понравился этот здоровый добродушный парень
с ребячьими светлыми глазами. — С косовицы, что ли?
— Как же!.. Косили версту — выкосили грош. Плохи дела-то! Нарроду — уйма! Голодающий этот самый приплёлся, — цену сбили, хоть
не берись! Шесть гривен в Кубани платили. Дела!.. А раньше-то, говорят, три целковых цена, четыре, пять!..
— Раньше!.. Раньше-то за одно погляденье на русского человека
там трёшку платили. Я вот годов десять тому назад этим самым и промышлял. Придёшь в станицу — русский, мол, я! Сейчас тебя поглядят,
пощупают, подивуются и — получи три рубля! Да напоят, накормят.
И живи сколько хочешь!
Парень, слушая Челкаша, сначала широко открыл рот, выражая
на круглой физиономии недоумевающее восхищение, но потом, поняв,
1
10
Пестрядинная рубаха — т. е. рубаха, сшитая из грубой пеньковой полосатой или пёстрой
ткани.
что оборванец врёт, шлёпнул губами и захохотал. Челкаш сохранял
серьёзную мину, скрывая улыбку в своих усах.
— Чудак, говоришь будто правду, а я слушаю да верю... Нет,
ей-богу, раньше там...
— Ну, а я про что? Ведь и я говорю, что, мол, там раньше...
— Поди ты!.. — махнул рукой парень. — Сапожник, что ли? Али
портной?.. Ты-то?
— Я-то? — переспросил Челкаш и, подумав, сказал: — Рыбак я...
— Рыба-ак! Ишь ты! Что же, ловишь рыбу?..
— Зачем рыбу? Здешние рыбаки не одну рыбу ловят. Больше утопленников, старые якоря, потонувшие суда — всё! Удочки такие есть
для этого...
— Ври, ври!.. Из тех, может, рыбаков, которые про себя поют:
Мы закидываем сети
По сухим берегам
Да по амбарам, по клетям!
— А ты видал таких? — спросил Челкаш, с усмешкой поглядывая
на него.
— Нет, видать где же! Слыхал...
— Нравятся?
— Они-то? Как же!.. Ничего ребята, вольные, свободные...
— А что тебе — свобода?.. Ты любишь свободу?
— Да ведь как же? Сам себе хозяин, пошёл — куда хошь, делай —
что хошь... Ещё бы! Коли сумеешь себя в порядке держать да на шее
у тебя камней нет, — первое дело! Гуляй знай как хошь, бога только
помни...
Челкаш презрительно сплюнул и отвернулся от парня.
— Сейчас вот моё дело... — говорил тот. — Отец у меня умер, хозяйство — малое, мать старуха, земля высосана, — что я должен делать? Жить — надо. А как? Неизвестно. Пойду я в зятья в хороший
дом. Ладно. Кабы выделили дочь-то!.. Нет ведь — тесть-дьявол не выделит. Ну, и буду я ломать на него... долго... Года! Вишь, какие делато! А кабы мне рублей ста полтора заробить, сейчас бы я на ноги встал
и — Антипу-то — накося, выкуси! Хошь выделить Марфу? Нет?
Не надо! Слава Богу, девок в деревне не одна она. И был бы я, значит,
совсем свободен, сам по себе... Н-да! — Парень вздохнул. — А теперь
ничего не поделаешь иначе, как в зятья идти. Думал было я: вот, мол,
на Кубань-то пойду, рублёв за два ста тяпну, — шабаш! барин!.. Ан
не выгорело. Ну и пойдёшь в батраки... Своим хозяйством не справлюсь я, ни в каком разе! Эхе-ха!..
Парню сильно не хотелось идти в зятья. У него даже лицо печально потускнело. Он тяжело заёрзал на земле.
Челкаш спросил:
— Теперь куда ж ты?
— Да ведь — куда? известно, домой.
— Ну, брат, мне это неизвестно, может, ты в Турцию собрался...
11
— В Ту-урцию!.. — протянул парень. — Кто ж это туда ходит
из православных? Сказал тоже!..
— Экой ты дурак! — вздохнул Челкаш и снова отворотился от собеседника. В нём этот здоровый деревенский парень что-то будил...
Смутное, медленно назревавшее, досадливое чувство копошилось
где-то глубоко и мешало ему сосредоточиться и обдумать то, что нужно было сделать в эту ночь.
Обруганный парень бормотал что-то вполголоса, изредка бросая
на босяка косые взгляды. У него смешно надулись щёки, оттопырились губы и суженные глаза как-то чересчур часто и смешно помаргивали. Он, очевидно, не ожидал, что его разговор с этим усатым оборванцем кончится так быстро и обидно.
Оборванец не обращал больше на него внимания. Он задумчиво
посвистывал, сидя на тумбочке и отбивая по ней такт голой грязной
пяткой.
Парню хотелось поквитаться с ним.
— Эй ты, рыбак! Часто это ты запиваешь-то? — начал было он, но
в тот же момент рыбак быстро обернул к нему лицо, спросив его:
— Слушай, сосун! Хочешь сегодня ночью работать со мной? Говори
скорей!
— Чего работать? — недоверчиво спросил парень.
— Ну, чего!.. Чего заставлю... Рыбу ловить поедем. Грести будешь...
— Так... Что же? Ничего. Работать можно. Только вот... не влететь бы во что с тобой. Больно ты закомурист... тёмен ты...
Челкаш почувствовал нечто вроде ожога в груди и с холодной злобой вполголоса проговорил:
— А ты не болтай, чего не смыслишь. Я те вот долбану по башке,
тогда у тебя в ней просветлеет...
Он соскочил с тумбочки, дёрнул левой рукой свой ус, а правую
сжал в твёрдый, жилистый кулак и заблестел глазами.
Парень испугался. Он быстро оглянулся вокруг и, робко моргая,
тоже вскочил с земли. Меряя друг друга глазами, они молчали.
— Ну? — сурово спросил Челкаш. Он кипел и вздрагивал от оскорбления, нанесённого ему этим молоденьким телёнком, которого он во
время разговора с ним презирал, а теперь сразу возненавидел за то, что
у него такие чистые голубые глаза, здоровое загорелое лицо, короткие
крепкие руки, за то, что он имеет где-то там деревню, дом в ней, за то,
что его приглашает в зятья зажиточный мужик, — за всю его жизнь,
прошлую и будущую, и больше всего за то, что он, этот ребёнок,
по сравнению с ним, Челкашом, смеет любить свободу, которой не знает цены и которая ему не нужна. Всегда неприятно видеть, что человек,
которого ты считаешь хуже и ниже себя, любит или ненавидит то же,
что и ты, и, таким образом, становится похож на тебя.
Парень смотрел на Челкаша и чувствовал в нём хозяина.
— Ведь я... не прочь... — заговорил он. — Работы ведь и ищу. Мне
всё равно, у кого работать, у тебя или у другого. Я только к тому сказал, что не похож ты на рабочего человека, больно уж того... драный.
12
Ну, я ведь знаю, что это со всяким может быть. Господи, рази я не видел пьяниц! Эх, сколько!.. да ещё и не таких, как ты.
— Ну, ладно, ладно! Согласен? — уже мягче переспросил Челкаш.
— Я-то? Айда... с моим удовольствием! Говори цену.
— Цена у меня по работе. Какая работа будет. Какой улов, значит... Пятитку можешь получить. Понял?
Но теперь дело касалось денег, а тут крестьянин хотел быть точным
и требовал той же точности от нанимателя. У парня вновь вспыхнуло
недоверие и подозрительность.
— Это мне не рука, брат!
Челкаш вошёл в роль:
— Не толкуй, погоди! Идём в трактир!
И они пошли по улице рядом друг с другом, Челкаш — с важной
миной хозяина, покручивая усы, парень — с выражением полной готовности подчиниться, но всё-таки полный недоверия и боязни.
— А как тебя звать? — спросил Челкаш.
— Гаврилом! — ответил парень.
Когда они пришли в грязный и закоптелый трактир, Челкаш, подойдя к буфету, фамильярным тоном завсегдатая заказал бутылку водки, щей, поджарку из мяса, чаю и, перечислив требуемое, коротко
бросил буфетчику: «В долг всё!», на что буфетчик молча кивнул головой. Тут Гаврила сразу преисполнился уважением к своему хозяину,
который, несмотря на свой вид жулика, пользуется такой известностью и доверием.
— Ну вот, мы теперь закусим и поговорим толком. Пока ты посиди, а я схожу кое-куда.
Он ушёл. Гаврила осмотрелся кругом. Трактир помещался в подвале; в нём было сыро, темно, и весь он был полон удушливым запахом
перегорелой водки, табачного дыма, смолы и ещё чего-то острого. Против Гаврилы, за другим столом, сидел пьяный человек в матросском
костюме, с рыжей бородой, весь в угольной пыли и смоле. Он урчал,
поминутно икая, песню, всю из каких-то перерванных и изломанных
слов, то страшно шипящих, то гортанных. Он был, очевидно, не русский.
Сзади его поместились две молдаванки; оборванные, черноволосые,
загорелые, они тоже скрипели песню пьяными голосами.
Потом из тьмы выступали ещё разные фигуры, все странно растрёпанные, все полупьяные, крикливые, беспокойные...
Гавриле стало жутко. Ему захотелось, чтобы хозяин воротился скорее. Шум в трактире сливался в одну ноту, и казалось, что это рычит
какое-то огромное животное, оно, обладая сотней разнообразных голосов, раздражённо, слепо рвётся вон из этой каменной ямы и не находит выхода на волю... Гаврила чувствовал, как в его тело всасывается
что-то опьяняющее и тягостное, от чего у него кружилась голова и туманились глаза, любопытно и со страхом бегавшие по трактиру.
Пришёл Челкаш, и они стали есть и пить, разговаривая. С третьей
рюмки Гаврила опьянел. Ему стало весело и хотелось сказать что-нибудь
приятное своему хозяину, который — славный человек! — так вкусно
13
угостил его. Но слова, целыми волнами подливавшиеся ему к горлу,
почему-то не сходили с языка, вдруг отяжелевшего.
Челкаш смотрел на него и, насмешливо улыбаясь, говорил:
— Наклюкался!.. Э-эх, тюря! с пяти рюмок!.. как работать-то будешь?..
— Друг!.. — лепетал Гаврила. — Не бойся! Я тебе уважу!.. Дай поцелую тебя!.. а?..
— Ну, ну!.. На€, ещё клюкни!
Гаврила пил и дошёл наконец до того, что у него в глазах всё стало колебаться ровными, волнообразными движениями. Это было неприятно, и от этого тошнило. Лицо у него сделалось глупо восторженное. Пытаясь сказать что-нибудь, он смешно шлёпал губами и мычал.
Челкаш, пристально поглядывая на него, точно вспоминал что-то, крутил свои усы и всё улыбался хмуро. А трактир ревел пьяным шумом.
Рыжий матрос спал, облокотясь на стол.
— Ну-ка, идём! — сказал Челкаш, вставая.
Гаврила попробовал подняться, но не смог и, крепко обругавшись,
засмеялся бессмысленным смехом пьяного.
— Развезло! — молвил Челкаш, снова усаживаясь против него на
стул.
Гаврила всё хохотал, тупыми глазами поглядывая на хозяина.
И тот смотрел на него пристально, зорко и задумчиво. Он видел перед
собою человека, жизнь которого попала в его волчьи лапы. Он, Челкаш, чувствовал себя в силе повернуть её и так и этак. Он мог разломать её, как игральную карту, и мог помочь ей установиться в прочные крестьянские рамки. Чувствуя себя господином другого, он думал
о том, что этот парень никогда не изопьёт такой чаши, какую судьба
дала испить ему, Челкашу... И он завидовал и сожалел об этой молодой жизни, подсмеивался над ней и даже огорчался за неё, представляя, что она может ещё раз попасть в такие руки, как его... И все
чувства в конце концов слились у Челкаша в одно — нечто отеческое
и хозяйственное. Малого было жалко, и малый был нужен. Тогда Челкаш взял Гаврилу под мышки и, легонько толкая его сзади коленом,
вывел во двор трактира, где сложил на землю в тень от поленницы
дров, а сам сел около него и закурил трубку. Гаврила немного повозился, помычал и заснул.
II
— Ну, готов? — вполголоса спросил Челкаш у Гаврилы, возившегося с вёслами.
— Сейчас! Уключина вот шатается, — можно разок вдарить веслом?
— Ни-ни! Никакого шуму! Надави её руками крепче, она и войдёт
себе на место.
Оба они тихо возились с лодкой, привязанной к корме одной из целой флотилии парусных барок, нагруженных дубовой клёпкой, и больших турецких фелюг, занятых пальмой, сандалом и толстыми кряжами кипариса.
14
Ночь была тёмная, по небу двигались толстые пласты лохматых
туч, море было спокойно, черно и густо, как масло. Оно дышало влажным, солёным ароматом и ласково звучало, плескаясь о борта судов,
о берег, чуть-чуть покачивая лодку Челкаша. На далёкое пространство
от берега с моря подымались тёмные остовы судов, вонзая в небо
острые мачты с разноцветными фонарями на вершинах. Море отражало огни фонарей и было усеяно массой жёлтых пятен. Они красиво
трепетали на его бархате, мягком, матово-чёрном. Море спало здоровым, крепким сном работника, который сильно устал за день.
— Едем! — сказал Гаврила, спуская вёсла в воду.
— Есть! — Челкаш сильным ударом руля вытолкнул лодку в полосу воды между барками, она быстро поплыла по скользкой воде,
и вода под ударами вёсел загоралась голубоватым фосфорическим сиянием, — длинная лента его, мягко сверкая, вилась за кормой.
— Ну, что голова? болит? — ласково спросил Челкаш.
— Страсть!.. как чугун гудит... Намочу её водой сейчас.
— Зачем? Ты, на-ко вот, нутро помочи, может, скорее очухаешься, — и он протянул Гавриле бутылку.
— Ой ли? Господи благослови!..
Послышалось тихое бульканье.
— Эй ты! рад?.. Будет! — остановил его Челкаш.
Лодка помчалась снова, бесшумно и легко вертясь среди судов...
Вдруг она вырвалась из их толпы, и море — бесконечное, могучее —
развернулось перед ними, уходя в синюю даль, где из вод его вздымались в небо горы облаков — лилово-сизых, с жёлтыми пуховыми каймами по краям, зеленоватых, цвета морской воды — и тех скучных,
свинцовых туч, что бросают от себя такие тоскливые, тяжёлые тени.
Облака ползли медленно, то сливаясь, то обгоняя друг друга, мешали
свои цвета и формы, поглощая сами себя и вновь возникая в новых
очертаниях, величественные и угрюмые... Что-то роковое было в этом
медленном движении бездушных масс. Казалось, что там, на краю
моря, их бесконечно много и они всегда будут так равнодушно всползать на небо, задавшись злой целью не позволять ему никогда больше
блестеть над сонным морем миллионами своих золотых очей — разноцветных звёзд, живых и мечтательно сияющих, возбуждая высокие
желания в людях, которым дорог их чистый блеск.
— Хорошо море? — спросил Челкаш.
— Ничего! Только боязно в нём, — ответил Гаврила, ровно и сильно ударяя вёслами по воде. Вода чуть слышно звенела и плескалась
под ударами длинных вёсел и всё блестела тёплым голубым светом
фосфора.
— Боязно! Экая дура!.. — насмешливо проворчал Челкаш.
Он, вор, любил море. Его кипучая нервная натура, жадная на впечатления, никогда не пресыщалась созерцанием этой тёмной широты,
бескрайней, свободной и мощной. И ему было обидно слышать такой
ответ на вопрос о красоте того, что он любил. Сидя на корме, он резал
рулём воду и смотрел вперёд спокойно, полный желания ехать долго
и далеко по этой бархатной глади.
15
На море в нём всегда поднималось широкое, тёплое чувство, —
охватывая всю его душу, оно немного очищало её от житейской скверны. Он ценил это и любил видеть себя лучшим тут, среди воды и воздуха, где думы о жизни и сама жизнь всегда теряют — первые — остроту, вторая — цену. По ночам над морем плавно носится мягкий шум
его сонного дыхания, этот необъятный звук вливает в душу человека
спокойствие и, ласково укрощая её злые порывы, родит в ней могучие
мечты...
— А снасть-то где? — вдруг спросил Гаврила, беспокойно оглядывая лодку.
Челкаш вздрогнул.
— Снасть? Она у меня на корме.
Но ему стало обидно лгать перед этим мальчишкой, и ему было
жаль тех дум и чувств, которые уничтожил этот парень своим вопросом. Он рассердился. Знакомое ему острое жжение в груди и у горла
передёрнуло его, он внушительно и жёстко сказал Гавриле:
— Ты вот что — сидишь, ну и сиди! А не в своё дело носа не суй.
Наняли тебя грести, и греби. А коли будешь языком трепать, будет
плохо. Понял?..
На минуту лодка дрогнула и остановилась. Вёсла остались в воде,
вспенивая её, и Гаврила беспокойно завозился на скамье.
— Греби!
Резкое ругательство потрясло воздух. Гаврила взмахнул вёслами.
Лодка точно испугалась и пошла быстрее, нервными толчками, с шумом разрезая воду.
— Ровней!..
Челкаш привстал с кормы, не выпуская весла из рук и воткнув
свои холодные глаза в бледное лицо Гаврилы. Изогнувшийся, наклоняясь вперёд, он походил на кошку, готовую прыгнуть. Слышно было
злое скрипение зубов и робкое пощёлкивание какими-то костяшками.
— Кто кричит? — раздался с моря суровый окрик.
— Ну, дьявол, греби же!.. Тише!.. убью, собаку!.. Ну же, греби!..
Раз, два! Пикни только!.. Р-разорву!.. — шипел Челкаш.
— Богородице... Дево... — шептал Гаврила, дрожа и изнемогая
от страха и усилий.
Лодка плавно повернулась и пошла назад к гавани, где огни фонарей столпились в разноцветную группу и видны были стволы мачт.
— Эй! кто орёт? — донеслось снова.
Теперь голос был дальше, чем в первый раз. Челкаш успокоился.
— Сам ты орёшь! — сказал он по направлению криков и затем обратился к Гавриле, всё ещё шептавшему молитву: — Ну, брат, счастье
твоё! Кабы эти дьяволы погнались за нами — конец тебе. Чуешь? Я бы
тебя сразу — к рыбам!..
Теперь, когда Челкаш говорил спокойно и даже добродушно, Гаврила, всё ещё дрожащий от страха, взмолился:
— Слушай, отпусти ты меня! Христом прошу, отпусти! Высади куда-нибудь! Ай-ай-ай!.. Про-опал я совсем!.. Ну, вспомни бога, отпусти!
Что я тебе? Не могу я этого!.. Не бывал я в таких делах... Первый
16
раз... Господи! Пропаду ведь я! Как ты это, брат, обошёл меня? а?
Грешно тебе!.. Душу ведь губишь!.. Ну, дела-а...
— Какие дела? — сурово спросил Челкаш. — А? Ну, какие дела?
Его забавлял страх парня, и он наслаждался и страхом Гаврилы,
и тем, что вот какой он, Челкаш, грозный человек.
— Тёмные дела, брат... Пусти для бога!.. Что я тебе?.. а? Милый...
— Ну, молчи! Не нужен был бы, так я тебя не брал бы. Понял? — ну
и молчи!
— Господи! — вздохнул Гаврила.
— Ну-ну!.. куксись у меня! — оборвал его Челкаш.
Но Гаврила теперь уже не мог удержаться и, тихо всхлипывая, плакал, сморкался, ёрзал по лавке, но грёб сильно, отчаянно. Лодка мчалась стрелой. Снова на дороге встали тёмные корпуса судов, и лодка
потерялась в них, волчком вертясь в узких полосах воды между бортами.
— Эй ты! слушай! Буде спросит кто о чём — молчи, коли жив быть
хочешь! Понял?
— Эхма!.. — безнадёжно вздохнул Гаврила в ответ на суровое приказание и горько добавил: — Судьбина моя пропащая!..
— Не ной! — внушительно шепнул Челкаш.
Гаврила от этого шёпота потерял способность соображать что-либо
и помертвел, охваченный холодным предчувствием беды. Он машинально опускал вёсла в воду, откидывался назад, вынимая их, бросал
снова и всё время упорно смотрел на свои лапти.
Сонный шум волн гудел угрюмо и был страшен. Вот гавань... За её
гранитной стеной слышались людские голоса, плеск воды, песня и тонкие свистки.
— Стой! — шепнул Челкаш. — Бросай вёсла! Упирайся руками
в стену! Тише, чёрт!..
Гаврила, цепляясь руками за скользкий камень, повёл лодку вдоль
стены. Лодка двигалась без шороха, скользя бортом по наросшей
на камне слизи.
— Стой!.. Дай вёсла! Дай сюда! А паспорт у тебя где? В котомке?
Дай котомку! Ну, давай скорей! Это, мил друг, для того, чтобы ты
не удрал... Теперь не удерёшь. Без вёсел-то ты бы кое-как мог удрать,
а без паспорта побоишься. Жди! Да смотри, коли ты пикнешь — на дне
моря найду!..
И вдруг, уцепившись за что-то руками, Челкаш поднялся на воздух
и исчез на стене.
Гаврила вздрогнул... Это вышло так быстро. Он почувствовал, как
с него сваливается, сползает та проклятая тяжесть и страх, который
он чувствовал при этом усатом худом воре... Бежать теперь!.. И он,
свободно вздохнув, оглянулся кругом. Слева возвышался чёрный корпус без мачт — какой-то огромный гроб, безлюдный и пустой... Каждый удар волны в его бока родил в нём глухое, гулкое эхо, похожее
на тяжёлый вздох. Справа над водой тянулась сырая каменная стена
мола, как холодная, тяжёлая змея. Сзади виднелись тоже какието чёрные остовы, а спереди, в отверстии между стеной и бортом это-
17
го гроба, видно было море, молчаливое, пустынное, с чёрными над
ним тучами. Они медленно двигались, огромные, тяжёлые, источая из
тьмы ужас и готовые раздавить человека тяжестью своей. Всё было
холодно, черно, зловеще. Гавриле стало страшно. Этот страх был хуже
страха, навеянного на него Челкашом; он охватил грудь Гаврилы
крепким объятием, сжал его в робкий комок и приковал к скамье
лодки...
А кругом всё молчало. Ни звука, кроме вздохов моря. Тучи ползли
по небу так же медленно и скучно, как и раньше, но их всё больше
вздымалось из моря, и можно было, глядя на небо, думать, что и оно
тоже море, только море взволнованное и опрокинутое над другим, сонным, покойным и гладким. Тучи походили на волны, ринувшиеся
на землю вниз кудрявыми седыми хребтами, и на пропасти, из которых вырваны эти волны ветром, и на зарождавшиеся валы, ещё не покрытые зеленоватой пеной бешенства и гнева.
Гаврила чувствовал себя раздавленным этой мрачной тишиной
и красотой и чувствовал, что он хочет видеть скорее хозяина. А если
он там останется?.. Время шло медленно, медленнее, чем ползли тучи
по небу... И тишина, от времени, становилась всё зловещей... Но вот
за стеной мола послышался плеск, шорох и что-то похожее на шёпот.
Гавриле показалось, что он сейчас умрёт...
— Эй! Спишь? Держи!.. осторожно!.. — раздался глухой голос Челкаша.
Со стены спускалось что-то кубическое и тяжёлое. Гаврила принял
это в лодку. Спустилось ещё одно такое же. Затем поперёк стены вытянулась длинная фигура Челкаша, откуда-то явились вёсла, к ногам
Гаврилы упала его котомка, и тяжело дышавший Челкаш уселся
на корме.
Гаврила радостно и робко улыбался, глядя на него.
— Устал? — спросил он.
— Не без того, теля! Ну-ка, греби добре! Дуй во всю силу!.. Хорошо
ты, брат, заработал! Полдела сделали. Теперь только у чертей между
глаз проплыть, а там — получай денежки и ступай к своей Машке.
Машка-то есть у тебя?
— Н-нету! — Гаврила старался во всю силу, работая грудью, как мехами, и руками, как стальными пружинами. Вода под лодкой рокотала, и голубая полоса за кормой теперь была шире. Гаврила весь облился потом, но продолжал грести во всю силу. Пережив дважды в эту
ночь такой страх, он теперь боялся пережить его в третий раз и желал
одного: скорей кончить эту проклятую работу, сойти на землю и бежать от этого человека, пока он в самом деле не убил или не завёл его
в тюрьму. Он решил не говорить с ним ни о чём, не противоречить ему,
делать всё, что велит, и, если удастся благополучно развязаться с ним,
завтра же отслужить молебен Николаю Чудотворцу. Из его груди готова была вылиться страстная молитва. Но он сдерживался, пыхтел,
как паровик, и молчал, исподлобья кидая взгляды на Челкаша.
А тот, сухой, длинный, нагнувшийся вперёд и похожий на птицу,
готовую лететь куда-то, смотрел во тьму вперёд лодки ястребиными
18
очами и, поводя хищным, горбатым носом, одной рукой цепко держал
руку руля, а другой теребил ус, вздрагивавший от улыбок, которые
кривили его тонкие губы. Челкаш был доволен своей удачей, собой
и этим парнем, так сильно запуганным им и превратившимся в его
раба. Он смотрел, как старался Гаврила, и ему стало жалко, захотелось
ободрить его.
— Эй! — усмехаясь, тихо заговорил он. — Что, здорово ты перепугался? а?
— Н-ничего!.. — выдохнул Гаврила и крякнул.
— Да уж теперь ты не очень наваливайся на вёсла-то. Теперь шабаш. Вот ещё только одно бы место пройти... Отдохни-ка...
Гаврила послушно приостановился, вытер рукавом рубахи пот
с лица и снова опустил вёсла в воду.
— Ну, греби тише. Чтобы вода не разговаривала. Воротца одни
надо миновать. Тише, тише... А то, брат, тут народы серьёзные...
Как раз из ружья пошалить могут. Такую шишку на лбу набьют, что
и не охнешь.
Лодка теперь кралась по воде почти совершенно беззвучно. Только
с вёсел капали голубые капли, и когда они падали в море, на месте
их падения вспыхивало ненадолго тоже голубое пятнышко. Ночь становилась всё темнее и молчаливей. Теперь небо уже не походило
на взволнованное море — тучи расплылись по нему и покрыли его ровным тяжёлым пологом, низко опустившимся над водой и неподвижным. А море стало ещё спокойней, черней, сильнее пахло тёплым, солёным запахом и уж не казалось таким широким, как раньше.
— Эх, кабы дождь пошёл! — прошептал Челкаш. — Так бы мы
и проехали, как за занавеской.
Слева и справа от лодки из чёрной воды поднялись какие-то здания — баржи, неподвижные, мрачные и тоже чёрные. На одной из них
двигался огонь, кто-то ходил с фонарём. Море, гладя их бока, звучало
просительно и глухо, а они отвечали ему эхом, гулким и холодным,
точно спорили, не желая уступить ему в чём-то.
— Кордоны!.. — чуть слышно шепнул Челкаш.
С момента, когда он велел Гавриле грести тише, Гаврилу снова
охватило острое выжидательное напряжение. Он весь подался вперёд,
во тьму, и ему казалось, что он растёт, — кости и жилы вытягивались
в нём с тупой болью, голова, заполненная одной мыслью, болела, кожа
на спине вздрагивала, а в ноги вонзались маленькие, острые и холодные иглы. Глаза ломило от напряжённого рассматривания тьмы, из
которой — он ждал — вот-вот встанет нечто и гаркнет на них: «Стой,
воры!..»
Теперь, когда Челкаш шепнул «кордоны!», Гаврила дрогнул: острая,
жгучая мысль прошла сквозь него, прошла и задела по туго натянутым нервам, — он хотел крикнуть, позвать людей на помощь к себе... Он уже открыл рот и привстал немного на лавке, выпятил
грудь, вобрал в неё много воздуха и открыл рот, — но вдруг, поражённый ужасом, ударившим его, как плетью, закрыл глаза и свалился
с лавки.
19
...Впереди лодки, далеко за горизонтом, из чёрной воды моря поднялся огромный огненно-голубой меч, поднялся, рассёк тьму ночи,
скользнул своим остриём по тучам в небе и лёг на грудь моря широкой
голубой полосой. Он лёг, и в полосу его сияния из мрака выплыли невидимые до той поры суда, чёрные, молчаливые, обвешанные пышной
ночной мглой. Казалось, они долго были на дне моря, увлечённые туда
могучей силой бури, и вот теперь поднялись оттуда по велению огненного меча, рождённого морем, — поднялись, чтобы посмотреть на небо
и на всё, что поверх воды... Их такелаж обнимал собой мачты и казался цепкими водорослями, поднявшимися со дна вместе с этими чёрными гигантами, опутанными их сетью. И он опять поднялся кверху
из глубины моря, этот страшный голубой меч, поднялся, сверкая, снова рассёк ночь и снова лёг уже в другом направлении. И там, где он
лёг, снова всплыли остовы судов, невидимых до его появления.
Лодка Челкаша остановилась и колебалась на воде, как бы недоумевая. Гаврила лежал на дне, закрыв лицо руками, а Челкаш толкал
его ногой и шипел бешено, но тихо:
— Дурак, это крейсер таможенный... Это фонарь электрический!..
Вставай, дубина! Ведь на нас свет бросят сейчас!.. Погубишь, чёрт,
и себя, и меня! Ну!..
И наконец, когда один из ударов каблуком сапога сильнее других
опустился на спину Гаврилы, он вскочил, всё ещё боясь открыть глаза, сел на лавку и, ощупью схватив вёсла, двинул лодку.
— Тише! Убью ведь! Ну, тише!.. Эка дурак, чёрт тебя возьми!.. Чего
ты испугался? Ну? Харя!.. Фонарь — только и всего. Тише вёслами!..
Кислый чёрт!.. За контрабандой это следят. Нас не заденут — далеко
отплыли они. Не бойся, не заденут. Теперь мы... — Челкаш торжествующе оглянулся кругом. — Конечно, выплыли!.. Фу-у!.. Н-ну, счастлив
ты, дубина стоеросовая!..
Гаврила молчал, грёб и, тяжело дыша, искоса смотрел туда, где всё
ещё поднимался и опускался этот огненный меч. Он никак не мог поверить Челкашу, что это только фонарь. Холодное голубое сияние, разрубавшее тьму, заставляя море светиться серебряным блеском, имело
в себе нечто необъяснимое, и Гаврила опять впал в гипноз тоскливого
страха. Он грёб, как машина, и всё сжимался, точно ожидал удара
сверху, и ничего, никакого желания не было уже в нём — он был пуст
и бездушен. Волнения этой ночи выглодали наконец из него всё человеческое.
А Челкаш торжествовал. Его привычные к потрясениям нервы уже
успокоились. У него сладострастно вздрагивали усы и в глазах разгорался огонёк. Он чувствовал себя великолепно, посвистывая сквозь
зубы, глубоко вдыхая влажный воздух моря, оглядывался кругом
и добродушно улыбался, когда его глаза останавливались на Гавриле.
Ветер пронёсся и разбудил море, вдруг заигравшее частой зыбью.
Тучи сделались как бы тоньше и прозрачней, но всё небо было обложено ими. Несмотря на то, что ветер, хотя ещё лёгкий, свободно носился над морем, тучи были неподвижны и точно думали какую-то серую, скучную думу.
20
— Ну ты, брат, очухайся, пора! Ишь, тебя как — точно из кожи-то
твоей весь дух выдавили, один мешок костей остался! Конец уж всему.
Эй!..
Гавриле всё-таки было приятно слышать человеческий голос, хотя
это и говорил Челкаш.
— Я слышу, — тихо сказал он.
— То-то! Мякиш... Ну-ка, садись на руль, а я — на вёсла, устал,
поди!
Гаврила машинально переменил место. Когда Челкаш, меняясь
с ним местами, взглянул ему в лицо и заметил, что он шатается на дрожащих ногах, ему стало ещё больше жаль парня. Он хлопнул его
по плечу.
— Ну, ну, не робь! Заработал зато хорошо. Я те, брат, награжу богато. Четвертной билет хочешь получить? а?
— Мне — ничего не надо. Только на берег бы...
Челкаш махнул рукой, плюнул и принялся грести, далеко назад
забрасывая вёсла своими длинными руками.
Море проснулось. Оно играло маленькими волнами, рождая их,
украшая бахромой пены, сталкивая друг с другом и разбивая в мелкую пыль. Пена, тая, шипела и вздыхала, — и всё кругом было заполнено музыкальным шумом и плеском. Тьма как бы стала живее.
— Ну, скажи мне, — заговорил Челкаш, — придёшь ты в деревню,
женишься, начнёшь землю копать, хлеб сеять, жена детей народит,
кормов не будет хватать; ну, будешь ты всю жизнь из кожи лезть...
Ну и что? Много в этом смаку?
— Какой уж смак! — робко и вздрагивая ответил Гаврила.
Кое-где ветер прорывал тучи, и из разрывов смотрели голубые кусочки неба с одной-двумя звёздочками на них. Отражённые играющим
морем, эти звёздочки прыгали по волнам, то исчезая, то вновь блестя.
— Правее держи! — сказал Челкаш. — Скоро уж приедем. Н-да!..
Кончили. Работка важная! Вот видишь как?.. Ночь одна — и полтысячи я тяпнул!
— Полтысячи?! — недоверчиво протянул Гаврила, но сейчас же испугался и быстро спросил, толкая ногой тюки в лодке: — А это что же
будет за вещь?
— Это — дорогая вещь. Всё-то, коли по цене продать, так и за тысячу хватит. Ну, я не дорожусь... Ловко?
— Н-да-а?.. — вопросительно протянул Гаврила. — Кабы мне такто вот! — вздохнул он, сразу вспомнив деревню, убогое хозяйство, свою
мать и всё то далёкое, родное, ради чего он ходил на работу, ради чего
так измучился в эту ночь. Его охватила волна воспоминаний о своей
деревеньке, сбегавшей по круглой горе вниз, к речке, скрытой в роще
берёз, вётел, рябин, черёмухи... — Эх, важно бы!.. — грустно вздохнул он.
— Н-да!.. Я думаю, ты бы сейчас по чугунке домой... Уж и полюбили бы тебя девки дома, а-ах как!.. Любую бери! Дом бы себе сгрохал — ну, для дома денег, положим, маловато...
— Это верно... для дому нехватка. У нас дорог лес-то.
21
— Ну что ж? Старый бы поправил. Лошадь как? есть?
— Лошадь? Она и есть, да больно стара, чёрт.
— Ну, значит, лошадь. Ха-арошую лошадь! Корову... Овец... Птицы разной... А?
— Не говори!.. Ох ты, господи! вот уж пожил бы!
— Н-да, брат, житьишко было бы ничего себе... Я тоже понимаю
толк в этом деле. Было когда-то своё гнездо... Отец-то был из первых
богатеев в селе.
Челкаш грёб медленно. Лодка колыхалась на волнах, шаловливо
плескавшихся о её борта, еле двигалась по тёмному морю, а оно играло всё резвей и резвей. Двое людей мечтали, покачиваясь на воде и задумчиво поглядывая вокруг себя. Челкаш начал наводить Гаврилу
на мысль о деревне, желая немного ободрить и успокоить его. Сначала
он говорил, посмеиваясь себе в усы, но потом, подавая реплики собеседнику и напоминая ему о радостях крестьянской жизни, в которых
сам давно разочаровался, забыл о них и вспоминал только теперь, — он
постепенно увлёкся и вместо того, чтобы расспрашивать парня о деревне и её делах, незаметно для себя стал сам рассказывать ему:
— Главное в крестьянской жизни — это, брат, свобода! Хозяин ты
есть сам себе. У тебя твой дом — грош ему цена, да он твой. У тебя
земля своя — и того её горсть, да она твоя! Король ты на своей земле!..
У тебя есть лицо... Ты можешь от всякого требовать уважения к тебе...
Так ли? — воодушевлённо закончил Челкаш.
Гаврила глядел на него с любопытством и тоже воодушевлялся. Он
во время этого разговора успел уже забыть, с кем имеет дело, и видел
перед собой такого же крестьянина, как и сам он, прилепленного навеки к земле потом многих поколений, связанного с ней воспоминаниями детства, самовольно отлучившегося от неё и от забот о ней и понёсшего за эту отлучку должное наказание.
— Это, брат, верно! Ах, как верно! Вот гляди-ка на себя, что ты
теперь такое без земли? Землю, брат, как мать, не забудешь надолго.
Челкаш одумался... Он почувствовал это раздражающее жжение
в груди, являющееся всегда, чуть только его самолюбие — самолюбие
бесшабашного удальца — бывало задето кем-либо, и особенно тем, кто
не имел цены в его глазах.
— Замолол!.. — сказал он свирепо, — ты, может, думал, что я всё
это всерьёз... Держи карман шире!
— Да, чудак-человек!.. — снова оробел Гаврила. — Разве я про тебя
говорю? Чай, таких-то, как ты, — много! Эх, сколько несчастного народу на свете!.. Шатающих...
— Садись, тюлень, в вёсла! — кратко скомандовал Челкаш, почему-то сдержав в себе целый поток горячей ругани, хлынувшей ему
к горлу.
Они опять переменились местами, причём Челкаш, перелезая на
корму через тюки, ощутил в себе острое желание дать Гавриле пинка,
чтобы он слетел в воду.
Короткий разговор смолк, но теперь даже от молчания Гаврилы
на Челкаша веяло деревней... Он вспоминал прошлое, забывая править
22
лодкой, повёрнутой волнением и плывшей куда-то в море. Волны точно понимали, что эта лодка потеряла цель, и, всё выше подбрасывая
её, легко играли ею, вспыхивая под вёслами своим ласковым голубым
огнём. А перед Челкашом быстро неслись картины прошлого, далёкого прошлого, отделённого от настоящего целой стеной из одиннадцати
лет босяцкой жизни. Он успел посмотреть себя ребёнком, свою деревню, свою мать, краснощёкую, пухлую женщину, с добрыми серыми
глазами, отца — рыжебородого гиганта, с суровым лицом; видел себя
женихом и видел жену, черноглазую Анфису, с длинной косой, полную, мягкую, весёлую, снова себя, красавцем, гвардейским солдатом;
снова отца, уже седого и согнутого работой, и мать, морщинистую,
осевшую к земле; посмотрел и картину встречи его деревней, когда он
возвратился со службы; видел, как гордился перед всей деревней отец
своим Григорием, усатым, здоровым солдатом, ловким красавцем...
Память, этот бич несчастных, оживляет даже камни прошлого и даже
в яд, выпитый некогда, подливает капли мёда...
Челкаш чувствовал себя овеянным примиряющей, ласковой струёй
родного воздуха, донёсшего с собой до его слуха и ласковые слова матери, и солидные речи истового крестьянина-отца, много забытых звуков и много сочного запаха матушки-земли, только что оттаявшей,
только что вспаханной и только что покрытой изумрудным шёлком
озими... Он чувствовал себя одиноким, вырванным и выброшенным
навсегда из того порядка жизни, в котором выработалась та кровь,
что течёт в его жилах.
— Эй, а куда же мы едем? — спросил вдруг Гаврила.
Челкаш дрогнул и оглянулся тревожным взором хищника.
— Ишь, чёрт занёс!.. Гребни-ка погуще...
— Задумался? — улыбаясь спросил Гаврила.
— Устал...
— Так теперь мы, значит, уж не попадёмся с этим? — Гаврила
ткнул ногой в тюки.
— Нет... Будь покоен. Сейчас вот сдам и денежки получу... Н-да!
— Пять сотен?
— Не меньше.
— Это тово, — сумма! Кабы мне, горюну!.. Эх, и сыграл бы я песенку с ними!..
— По крестьянству?
— Никак больше! Сейчас бы...
И Гаврила полетел на крыльях мечты. А Челкаш молчал. Усы
у него обвисли, правый бок, захлёстанный волнами, был мокр, глаза
ввалились и потеряли блеск. Всё хищное в его фигуре обмякло, стушёванное приниженной задумчивостью, смотревшей даже из складок
его грязной рубахи.
Он круто повернул лодку и направил её к чему-то чёрному, высовывавшемуся из воды.
Небо снова всё покрылось тучами, и посыпался дождь, мелкий, тёплый, весело звякавший, падая на хребты волн.
— Стой! Тише! — скомандовал Челкаш.
23
Лодка стукнулась носом о корпус барки.
— Спят, что ли, черти?.. — ворчал Челкаш, цепляясь багром
за какие-то верёвки, спускавшиеся с борта. — Трап давай!.. Дождь пошёл ещё, не мог раньше-то! Эй, вы, губки!.. Эй!..
— Селкаш это? — раздалось сверху ласковое мурлыканье.
— Ну, спускай трап!
— Калимера1, Селкаш!
— Спускай трап, копчёный дьявол!.. — взревел Челкаш.
— О, сердитый пришёл сегодня... Элоу!
— Лезь, Гаврила! — обратился Челкаш к товарищу.
В минуту они были на палубе, где три тёмные бородатые фигуры,
оживлённо болтая друг с другом на странном сюсюкающем языке, смотрели за борт в лодку Челкаша. Четвёртый, завёрнутый в длинную
хламиду, подошёл к нему и молча пожал ему руку, потом подозрительно оглянул Гаврилу.
— Припаси к утру деньги, — коротко сказал ему Челкаш. — А теперь я спать иду. Гаврила, идём! Есть хочешь?
— Спать бы... — ответил Гаврила и через пять минут храпел,
а Челкаш, сидя рядом с ним, примерял себе на ногу чей-то сапог и, задумчиво сплёвывая в сторону, грустно свистел сквозь зубы. Потом он
вытянулся рядом с Гаврилой, заложив руки под голову, поводя усами.
Барка тихо покачивалась на игравшей воде, где-то поскрипывало
дерево жалобным звуком, дождь мягко сыпался на палубу, и плескались волны о борта... Всё было грустно и звучало, как колыбельная
песнь матери, не имеющей надежд на счастье своего сына...
Челкаш, оскалив зубы, приподнял голову, огляделся вокруг и, прошептав что-то, снова улёгся... Раскинув ноги, он стал похож на большие ножницы.
III
Он проснулся первым, тревожно оглянулся вокруг, сразу успокоился и посмотрел на Гаврилу, ещё спавшего. Тот сладко всхрапывал
и во сне улыбался чему-то всем своим детским, здоровым, загорелым
лицом. Челкаш вздохнул и полез вверх по узкой верёвочной лестнице.
В отверстие трюма смотрел свинцовый кусок неба. Было светло, но поосеннему скучно и серо.
Челкаш вернулся часа через два. Лицо у него было красное, усы
лихо закручены кверху. Он был одет в длинные крепкие сапоги,
в куртку, в кожаные штаны и походил на охотника. Весь его костюм
был потёрт, но крепок и очень шёл к нему, делая его фигуру шире,
скрадывая его костлявость и придавая ему воинственный вид.
— Эй, телёнок, вставай!.. — толкнул он ногой Гаврилу.
Тот вскочил и, не узнавая его со сна, испуганно уставился на него
мутными глазами. Челкаш захохотал.
— Ишь ты какой!.. — широко улыбнулся наконец Гаврила. — Барином стал!
1
24
Калимера (греч.) — доброе утро.
— У нас это скоро. Ну и пуглив же ты! Сколько раз умирать-то вчера ночью собирался?
— Да ты сам посуди, впервой я на такое дело! Ведь можно было
душу загубить на всю жизнь!
— Ну, а ещё раз поехал бы? а?
— Ещё!.. Да ведь это — как тебе сказать? Из-за какой корысти?..
вот что!
— Ну, ежели бы две радужных?
— Два ста рублёв, значит? Ничего... Это можно...
— Стой! А как душу-то загубишь?..
— Да ведь, может... и не загубишь! — улыбнулся Гаврила.
— Не загубишь, а человеком на всю жизнь сделаешься.
Челкаш весело захохотал.
— Ну, ладно! будет шутки шутить. Едем на берег...
И вот они снова на лодке. Челкаш на руле, Гаврила на вёслах.
Над ними небо, серое, ровно затянутое тучами, и лодкой играет мутнозелёное море, шумно подбрасывая её на волнах, пока ещё мелких, весело бросающих в борта светлые солёные брызги. Далеко по носу лодки видна жёлтая полоса песчаного берега, а за кормой уходит вдаль
море, изрытое стаями волн, убранных пышной белой пеной. Там же,
вдали, видно много судов, далеко влево — целый лес мачт и белые груды домов города. Оттуда по морю льётся глухой гул, рокочущий и вместе с плеском волн создающий хорошую, сильную музыку... И на всё
наброшена тонкая пелена пепельного тумана, отдаляющего предметы
друг от друга...
— Эх, разыграется к вечеру-то добре! — кивнул Челкаш головой
на море.
— Буря? — спросил Гаврила, мощно бороздя волны вёслами. Он
был уже мокр с головы до ног от этих брызг, разбрасываемых по морю
ветром.
— Эге!.. — подтвердил Челкаш.
Гаврила пытливо посмотрел на него...
— Ну, сколько ж тебе дали? — спросил он наконец, видя, что Челкаш не собирается начать разговора.
— Вот! — сказал Челкаш, протягивая Гавриле что-то, вынутое
из кармана.
Гаврила увидал пёстрые бумажки, и всё в его глазах приняло яркие, радужные оттенки.
— Эх!.. А я ведь думал: врал ты мне!.. Это — сколько?
— Пятьсот сорок!
— Л-ловко!.. — прошептал Гаврила, жадными глазами провожая
пятьсот сорок, снова спрятанные в карман. — Э-эхма!.. Кабы этакие
деньги!.. — и он угнетённо вздохнул.
— Гульнём мы с тобой, парнюга! — с восхищением вскрикнул Челкаш. — Эх, хватим... Не думай, я тебе, брат, отделю... Сорок отделю!
а? Доволен? Хочешь, сейчас дам?
— Коли не обидно тебе — что же? Я приму!
Гаврила весь трепетал от ожидания, острого, сосавшего ему грудь.
25
— Ах ты, чёртова кукла! Приму! Прими, брат, пожалуйста! Очень
я тебя прошу, прими! Не знаю я, куда мне такую кучу денег девать!
Избавь ты меня, прими-ка, на!..
Челкаш протянул Гавриле несколько бумажек. Тот взял их дрожащей рукой, бросил вёсла и стал прятать куда-то за пазуху, жадно сощурив глаза, шумно втягивая в себя воздух, точно пил что-то жгучее.
Челкаш с насмешливой улыбкой поглядывал на него. А Гаврила уже
снова схватил вёсла и грёб нервно, торопливо, точно пугаясь чего-то
и опустив глаза вниз. У него вздрагивали плечи и уши.
— А жаден ты... Нехорошо... Впрочем, что же?.. Крестьянин... — задумчиво сказал Челкаш.
— Да ведь с деньгами-то что можно сделать!.. — воскликнул Гаврила, вдруг весь вспыхивая страстным возбуждением. И он отрывисто,
торопясь, точно догоняя свои мысли и с лёту хватая слова, заговорил о жизни в деревне с деньгами и без денег. Почёт, довольство, веселье!..
Челкаш слушал его внимательно, с серьёзным лицом и с глазами,
сощуренными какой-то думой. По временам он улыбался довольной
улыбкой.
— Приехали! — прервал он речь Гаврилы.
Волна подхватила лодку и ловко ткнула её в песок.
— Ну, брат, теперь кончено. Лодку нужно вытащить подальше,
чтобы не смыло. Придут за ней. А мы с тобой — прощай!.. Отсюда
до города вёрст восемь. Ты что, опять в город вернёшься? а?
На лице Челкаша сияла добродушно-хитрая улыбка, и весь он имел
вид человека, задумавшего нечто весьма приятное для себя и неожиданное для Гаврилы. Засунув руки в карман, он шелестел там бумажками.
— Нет... я... не пойду... я... — Гаврила задыхался и давился чем-то.
Челкаш посмотрел на него.
— Что это тебя корчит? — спросил он.
— Так... — Но лицо Гаврилы то краснело, то делалось серым, и он
мялся на месте, не то желая броситься на Челкаша, не то разрываемый иным желанием, исполнить которое ему было трудно.
Челкашу стало не по себе при виде такого возбуждения в этом парне. Он ждал, чем оно разразится.
Гаврила начал как-то странно смеяться смехом, похожим на рыдание. Голова его была опущена, выражения его лица Челкаш не видал,
смутно видны были только уши Гаврилы, то красневшие, то бледневшие.
— Ну тя к чёрту! — махнул рукой Челкаш. — Влюбился ты в меня,
что ли? Мнётся, как девка! Али расставание со мной тошно? Эй, сосун!
Говори, что ты? А то уйду я!..
— Уходишь?! — звонко крикнул Гаврила.
Песчаный и пустынный берег дрогнул от его крика, и намытые волнами моря жёлтые волны песку точно всколыхнулись. Дрогнул и Челкаш. Вдруг Гаврила сорвался с своего места, бросился к ногам Челкаша, обнял их своими руками и дёрнул к себе. Челкаш пошатнулся,
26
грузно сел на песок и, скрипнув зубами, резко взмахнул в воздухе
своей длинной рукой, сжатой в кулак. Но он не успел ударить, остановленный стыдливым и просительным шёпотом Гаврилы:
— Голубчик!.. Дай ты мне эти деньги! Дай, Христа ради! Что они
тебе?.. Ведь в одну ночь — только в ночь... А мне — года нужны...
Дай — молиться за тебя буду! Вечно — в трёх церквах — о спасении
души твоей!.. Ведь ты их на ветер... а я бы — в землю! Эх, дай мне их!
Что в них тебе?.. Али тебе дорого? Ночь одна — и богат! Сделай доброе
дело! Пропащий ведь ты... Нет тебе пути... А я бы — ох! Дай ты их мне!
Челкаш, испуганный, изумлённый и озлобленный, сидел на песке,
откинувшись назад и упираясь в него руками, сидел, молчал и страшно таращил глаза на парня, уткнувшегося головой в его колени и шептавшего, задыхаясь, свои мольбы. Он оттолкнул его наконец, вскочил
на ноги и, сунув руку в карман, бросил в Гаврилу бумажки.
— На! Жри... — крикнул он, дрожа от возбуждения, острой жалости и ненависти к этому жадному рабу. И, бросив деньги, он почувствовал себя героем.
— Сам я хотел тебе больше дать. Разжалобился вчера я, вспомнил
деревню... Подумал: дай помогу парню. Ждал я, что ты сделаешь, попросишь — нет? А ты... Эх, войлок! Нищий!.. Разве из-за денег можно
так истязать себя? Дурак! Жадные черти!.. Себя не помнят... За пятак
себя продаёте!..
— Голубчик!.. Спаси Христос тебя! Ведь это теперь у меня что?..
я теперь... богач!.. — визжал Гаврила в восторге, вздрагивая и пряча
деньги за пазуху. — Эх ты, милый!.. Вовек не забуду!.. Никогда!..
И жене, и детям закажу — молись!
Челкаш слушал его радостные вопли, смотрел на сиявшее, искажённое восторгом жадности лицо и чувствовал, что он — вор, гуляка,
оторванный от всего родного, — никогда не будет таким жадным, низким, не помнящим себя. Никогда не станет таким!.. И эта мысль
и ощущение, наполняя его сознанием своей свободы, удерживали его
около Гаврилы на пустынном морском берегу.
— Осчастливил ты меня! — кричал Гаврила и, схватив руку Челкаша, тыкал ею себе в лицо.
Челкаш молчал и по-волчьи скалил зубы. Гаврила всё изливался:
— Ведь я что думал? Едем мы сюда... думаю... хвачу я его — тебя —
веслом... рраз!.. денежки — себе, его — в море... тебя-то... а? Кто, мол,
его хватится? И найдут, не станут допытываться — как да кто. Не такой, мол, он человек, чтоб из-за него шум подымать!.. Ненужный на
земле! Кому за него встать?
— Дай сюда деньги!.. — рявкнул Челкаш, хватая Гаврилу за горло.
Гаврила рванулся раз, два, — другая рука Челкаша змеёй обвилась
вокруг него... Треск разрываемой рубахи — и Гаврила лежал на песке,
безумно вытаращив глаза, цапаясь пальцами рук за воздух и взмахивая ногами. Челкаш, прямой, сухой, хищный, зло оскалив зубы, смеялся дробным, едким смехом, и его усы нервно прыгали на угловатом,
остром лице. Никогда за всю жизнь его не били так больно, и никогда
он не был так озлоблен.
27
— Что, счастлив ты? — сквозь смех спросил он Гаврилу и, повернувшись к нему спиной, пошёл прочь, по направлению к городу. Но он
не сделал пяти шагов, как Гаврила кошкой изогнулся, вскочил на ноги
и, широко размахнувшись в воздухе, бросил в него круглый камень,
злобно крикнув:
— Рраз!..
Челкаш крякнул, схватился руками за голову, качнулся вперёд,
повернулся к Гавриле и упал лицом в песок. Гаврила замер, глядя
на него. Вот он шевельнул ногой, попробовал поднять голову и вытянулся, вздрогнув, как струна. Тогда Гаврила бросился бежать вдаль,
где над туманной степью висела мохнатая чёрная туча и было темно.
Волны шуршали, взбегая на песок, сливаясь с ним и снова взбегая.
Пена шипела, и брызги воды летали по воздуху.
Посыпался дождь. Сначала редкий, он быстро перешёл в плотный,
крупный, лившийся с неба тонкими струйками. Они сплетали целую
сеть из ниток воды, — сеть, сразу закрывшую собой даль степи и даль
моря. Гаврила исчез за ней. Долго ничего не было видно, кроме дождя
и длинного человека, лежавшего на песке у моря. Но вот из дождя
снова появился бегущий Гаврила, он летел птицей; подбежав к Челкашу, упал перед ним и стал ворочать его на земле. Его рука окунулась в тёплую красную слизь... Он дрогнул и пошатнулся с безумным,
бледным лицом.
— Брат, встань-кось! — шептал он под шум дождя в ухо Челкашу.
Челкаш очнулся и толкнул Гаврилу от себя, хрипло сказал:
— Поди прочь!..
— Брат! Прости!.. дьявол это меня... — дрожа, шептал Гаврила, целуя руку Челкаша.
— Иди... Ступай... — хрипел тот.
— Сними грех с души!.. Родной! Прости!..
— Про... уйди ты!.. уйди к дьяволу! — вдруг крикнул Челкаш и сел
на песке. Лицо у него было бледное, злое, глаза мутны и закрывались,
точно он сильно хотел спать. — Чего тебе ещё? Сделал своё дело... иди!
Пошёл! — и он хотел толкнуть убитого горем Гаврилу ногой, но не смог
и снова свалился бы, если бы Гаврила не удержал его, обняв за плечи.
Лицо Челкаша было теперь в уровень с лицом Гаврилы. Оба были
бледны и страшны.
— Тьфу! — плюнул Челкаш в широко открытые глаза своего работника.
Тот смиренно вытерся рукавом и прошептал:
— Что хошь делай... Не отвечу словом. Прости для Христа!
— Гнус!.. И блудить-то не умеешь!.. — презрительно крикнул Челкаш, сорвал из-под своей куртки рубаху и молча, изредка поскрипывая зубами, стал обвязывать себе голову. — Деньги взял? — сквозь
зубы процедил он.
— Не брал я их, брат! Не надо мне!.. беда от них!..
Челкаш сунул руку в карман своей куртки, вытащил пачку денег,
одну радужную бумажку положил обратно в карман, а все остальные
кинул Гавриле.
28
— Возьми и ступай!
— Не возьму, брат... Не могу! Прости!
— Бери, говорю!.. — взревел Челкаш, страшно вращая глазами.
— Прости!.. Тогда возьму... — робко сказал Гаврила и пал в ноги
Челкаша на сырой песок, щедро поливаемый дождём.
— Врёшь, возьмёшь, гнус! — уверенно сказал Челкаш, и, с усилием подняв его голову за волосы, он сунул ему деньги в лицо.
— Бери! бери! Не даром работал! Бери, не бойсь! Не стыдись, что человека чуть не убил! За таких людей, как я, никто не взыщет. Ещё спасибо скажут, как узнают. На, бери.
Гаврила видел, что Челкаш смеётся, и ему стало легче. Он крепко
сжал деньги в руке.
— Брат! а простишь меня? Не хочешь? а? — слезливо спросил он.
— Родимой!.. — в тон ему ответил Челкаш, подымаясь на ноги
и покачиваясь. — За что? Не за что! Сегодня ты меня, завтра я тебя...
— Эх, брат, брат!.. — скорбно вздохнул Гаврила, качая головой.
Челкаш стоял перед ним и странно улыбался, а тряпка на его голове, понемногу краснея, становилась похожей на турецкую феску.
Дождь лил как из ведра. Море глухо роптало, волны бились о берег
бешено и гневно.
Два человека помолчали.
М. Горький. «Челкаш». Художник Д. Богословский
29
— Ну, прощай! — насмешливо сказал Челкаш, пускаясь в путь.
Он шатался, у него дрожали ноги, и он так странно держал голову,
точно боялся потерять её.
— Прости, брат!.. — ещё раз попросил Гаврила.
— Ничего! — холодно ответил Челкаш, пускаясь в путь.
Он пошёл, пошатываясь и всё поддерживая голову ладонью левой
руки, а правой тихо дёргал свой бурый ус.
Гаврила смотрел ему вслед до поры, пока он не исчез в дожде, всё
гуще лившем из туч тонкими, бесконечными струйками и окутывавшем степь непроницаемой, стального цвета мглой.
Потом Гаврила снял свой мокрый картуз, перекрестился, посмотрел на деньги, зажатые в ладони, свободно и глубоко вздохнул, спрятал их за пазуху и широкими, твёрдыми шагами пошёл берегом в сторону, противоположную той, где скрылся Челкаш.
Море выло, швыряло большие, тяжёлые волны на прибрежный песок, разбивая их в брызги и пену. Дождь ретиво сёк воду и землю...
ветер ревел... Всё кругом наполнялось воем, рёвом, гулом... За дождём
не видно было ни моря, ни неба.
Скоро дождь и брызги волн смыли красное пятно на том месте, где
лежал Челкаш, смыли следы Челкаша и следы молодого парня на
прибрежном песке... И на пустынном берегу моря не осталось ничего
в воспоминание о маленькой драме, разыгравшейся между двумя
людьми.
5 Комментарии. Рассказ «Челкаш» был написан в Нижнем Новгороде в августе
1894 года. Впервые напечатан в журнале «Русское богатство» в 1895 году с подзаголовком
«Эпизод». В основе сюжета рассказа лежит подлинная история, услышанная Горьким
в июле 1891 года в городе Николаеве от одесского босяка — соседа по больничной койке. Ещё в рукописи произведение было прочитано известным писателем В. Г. Короленко, который разглядел в начинающем авторе «самородка с несомненным литературным
талантом».
...гимна Меркурию... — имеется в виду древнеримское божество Меркурий (в древнегреческой мифологии — Гермес), покровитель путешественников, купцов и воров.
Голодающий этот самый приплёлся... — действие происходит в неурожайный, голодный
1891 год.
Вопросы и задания
1. Какое настроение создаёт автор во вступлении? Выпишите цитаты, выражающие позицию автора. Обратите особое внимание на фрагмент, начинающийся
словами «Шум — подавлял...».
2. Опыт исследования. Какие особенности портрета Челкаша позволяют назвать его реалистическим? Какие портретные детали делают Челкаша похожим
на романтического героя? Выпишите примеры из текста.
3. Найдите портретное описание Гаврилы. Есть ли сходство между героями? Покажите, как в портретных описаниях раскрываются особенности характеров
персонажей.
4. Какой эпизод первой главы вы можете назвать центральным и почему?
Как автор раскрывает в нём различия героев, их отношение друг к другу? Как
30
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
и в чём перекликается тональность повествования с настроением, созданным
во вступлении?
Составьте план сравнительной характеристики Челкаша и Гаврилы (портрет,
детали биографии, позиция в споре, отношение друг к другу).
Как характеризует героев их отношение к морю? Почему именно на этом фоне
разворачивается основной конфликт произведения?
Перечитайте часть второй главы, в которой описан разговор героев (со слов
«Море проснулось...»). О чём мечтают и спорят герои? Что такое свобода в понимании каждого персонажа? Как и почему изменился внешний вид Челкаша?
Какую роль играет третья глава в рассказе? Для ответа на этот вопрос перечитайте эпизоды, рисующие взаимоотношения персонажей, их взаимные характеристики.
Точка зрения. В чём причина резкого конфликта между Челкашом и Гаврилой? На чьей стороне симпатии автора? Чья позиция близка вам?
Как вы объясните смысл названия рассказа? Почему рассказ назван по имени
одного героя?
Опыт исследования. Прочитайте заключительную пейзажную зарисовку, сопоставьте её с описанием моря в предыдущих эпизодах. Сделайте вывод
о роли пейзажа в произведении.
Сочинение. Напишите сочинение-эссе на тему «Разве из-за денег можно так
истязать себя?» (М. Горький).
Индивидуальные задания
1. Перечитайте вступление к рассказу. Найдите описание неба, моря. Обратите
внимание на используемые эпитеты. Чем отличается образ моря во вступлении
к рассказу от образа «вольной стихии», созданного поэтами-романтиками?
2. Приведите примеры использования звуковых образов в описании порта.
3. Как описаны в рассказе люди? Какие черты выделены в групповом портрете?
4. Внеклассное чтение. Прочитайте самостоятельно «Песню о Соколе» и «Песню о Буревестнике» М. Горького. Докажите, что антитеза является центральным композиционным приёмом в этих произведениях и в рассказе «Челкаш».
31
Предмет
1. Всякое конкретное материальное явление, воспринимаемое органами чувств
и мышлением как нечто существующее особо («одушевлённый предмет»). 2. Вещь
(преимущественно бытового обихода, трудовой деятельности и т. п.), обслуживающая ту или иную потребность («предметы домашнего обихода»). 3. Явление действительности, факт. 4. Тема, то, что служит содержанием мысли, речи, на что направлена деятельность («предмет разговора»). 5. То, что служит объектом, источником какой-либо деятельности, какого-либо состояния или отношения («предмет
для подражания»). 6. Разг., устар. Человек, внушающий другому любовь, влечение к себе. 7. Круг знаний, образующий особую дисциплину преподавания.
Из Ветхого Завета: «...изрек на место сие и на жителей его, что они будут
предметом ужаса...» («Четвёртая книга Царств»).
Из русской литературы: «Красавицы не долго были предмет его привычных
дум...» (роман в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин»); «Из предыдущей главы уже видно, в чём состоял главный предмет его вкуса и склонностей...» (поэма Н. В. Гоголя «Мёртвые души»); «Встав с постели, Аркадий раскрыл окно —
и первый предмет, бросившийся ему в глаза, был Василий Иванович...» (роман
И. С. Тургенева «Отцы и дети»); «Ваш предмет у меня теперь сидит; она собирается домой...» (комедия А. Н. Островского «Не в свои сани не садись»); «Предмет истории есть жизнь народов и человечества» (роман Л. Н. Толстого «Война
и мир»); «Даша положила на стол небольшой квадратный предмет, завёрнутый
аккуратно в белую бумагу и тщательно перевязанный розовой ленточкой» (рассказ
А. И. Куприна «Гранатовый браслет»).
32
Александр Александрович БЛОК
1880—1921
Лауреат Нобелевской премии по литературе
Б. Л. Пастернак так оценивал личность и особенности
художественного мира Александра Александровича
Блока, своего современника и учителя: «У Блока было
всё, что создаёт великого поэта, — огонь, нежность,
проникновение, свой образ мира, свой дар особого,
всё претворяющего прикосновения, своя сдержанная,
скрадывающаяся, вобравшая в себя судьба».
Детские годы Блока прошли в доме его деда —
знаменитого учёного-биолога, ректора Петербургского университета Андрея Николаевича Бекетова. Здесь
почитали не только науку, но и литературу. Бабушка
будущего поэта, Елизавета Григорьевна, занималась
переводами научных и художественных произведений,
мастерски читала вслух. Мать поэта, Александра
Андреевна, в молодости писала стихи, потом переводила на русский язык книги
французских авторов.
Брак родителей оказался неудачным, они разошлись сразу после рождения
сына, поэтому с отцом, Александром Львовичем, преподававшим государственное
право в Варшавском университете, мальчик встречался очень редко.
Блок воспитывался в особой атмосфере любви и заботы, был окружён вниманием, ограждён от житейских проблем и вёл до поступления в университет,
по его собственному признанию, довольно замкнутый образ жизни, очень рано
увлёкся литературным творчеством, театром, мечтал стать актёром. В 1898 году
он начал активно участвовать в любительских спектаклях, устраивавшихся группой
молодых людей в подмосковных имениях Шахматово, где жили летом Бекетовы
со своим внуком, и Боблово, которое принадлежало Дмитрию Ивановичу Менделееву. Блок выступал в ролях Ромео, Гамлета, Чацкого, Скупого рыцаря.
Участвовала в спектаклях и дочь знаменитого русского химика Любовь Дмитриевна,
ставшая впоследствии женой поэта.
В университете Блок познакомился с современной литературой, «властителем»
своих дум он считал поэта, философа и критика Владимира Сергеевича Соловьёва
(1853—1900), чьи мечты о Вечной Женственности, которая могла спасти мир
на самой последней грани катастрофы, нашли воплощение в ранней лирике Блока,
стали ведущей темой книги «Стихи о Прекрасной Даме» (1904). Художественный
мир этой книги — это мир переживаний лирического героя, поэта, рыцаря
Прекрасной Дамы, характеризующийся особой атмосферой тревожного ожидания
и предчувствия. Вот так начинается одно из самых известных ранних стихотворений Блока:
Предчувствую Тебя. Года проходят мимо —
Всё в облике одном предчувствую Тебя.
Весь горизонт в огне — и ясен нестерпимо,
И молча жду, — тоскуя и любя.
33
Уже в следующем сборнике «Нечаянная Радость» (1907) поэт открывает для
себя новый мир — обыденную жизнь города, которая противопоставлена миру
романтического героя. Лучшее стихотворение этого сборника — «Незнакомка» —
принесло Блоку всероссийскую известность.
Исторические события начала XX века (Русско-японская война, первая русская революция, Первая мировая война, Октябрьская революция 1917 года и последовавшая за ней Гражданская война), нарушившие привычный жизненный
уклад, быт и частную жизнь человека, внесли в лирическую поэзию Блока эпическое начало. Одной из центральных тем не случайно становится тема исторического пути России, нашедшая особенно яркое художественное воплощение в цикле «На поле Куликовом» (1908), стихотворениях «Россия» (1908), «На железной
дороге» (1910), поэмах «Возмездие» (1910—1921) и «Двенадцать» (1918).
«Постоянство образного мышления Блока, его верность себе поразительны.
Всю жизнь, по существу, он оперировал считаным количеством образов-символов,
и все они выражали одно — тревогу, ожидание, напряжённое вглядыванье в будущее; отсюда и рождались темы и мотивы движения, езды, приближения или
удаления чего-то грозного, неумолимого, ломающего (или уже сломавшего) жизни и судьбы людей...
Блок... твёрдо укрепился во взгляде на себя и свою судьбу как явления типические, характерные для России в переходную, кризисную, но значительнейшую
эпоху её существования» (Л. К. Долгополов 1).
Во многих зрелых произведениях поэта подчёркивается его нерасторжимая
связь с судьбой страны и с историческим временем. В стихотворении «Рождённые в года глухие...» (1914) лирический герой говорит от имени всего своего
поколения:
Рождённые в года глухие
Пути не помнят своего.
Мы — дети страшных лет России —
Забыть не в силах ничего.
Зимой 1919 года, в 82-ю годовщину со дня смерти А. С. Пушкина, Блок произносит в голодном и холодном революционном Петрограде речь «О назначении
поэзии», в которой он говорит о высоком предназначении поэта: «Поэт — сын
гармонии; и ему дана какая-то роль в мировой культуре. Три дела возложены
на него: во-первых, освободить звуки из родной безначальной стихии, в которой
они пребывают; во-вторых — привести эти звуки в гармонию, дать им форму;
в-третьих — внести эту гармонию во внешний мир».
Вопросы и задания
1. Публичное выступление. Подготовьте сообщение «А. А. Блок в воспоминаниях современников», используя дополнительную литературу и источники
в Интернете.
2. Вспомните значения и происхождение слова «гармония». Прокомментируйте
слова А. А. Блока о «трёх делах», возложенных на поэта. Как вы думаете,
какое из этих «дел» самое сложное, какое — самое важное?
1
34
Д о л г о п о л о в Леонид Константинович (1928—1995) — литературовед, исследователь творчества А. А. Блока.
***
Девушка пела в церковном хоре
О всех усталых в чужом краю,
О всех кораблях, ушедших в море,
О всех, забывших радость свою.
Так пел её голос, летящий в купол,
И луч сиял на белом плече,
И каждый из мрака смотрел и слушал,
Как белое платье пело в луче.
И всем казалось, что радость будет,
Что в тихой заводи все корабли,
Что на чужбине усталые люди
Светлую жизнь себе обрели.
И голос был сладок, и луч был тонок,
И только высоко, у царских врат,
Причастный тайнам, — плакал ребёнок
О том, что никто не придёт назад.
5 Комментарии. Стихотворение «Девушка пела в церковном хоре...» написано в августе 1905 года. Сюжетная основа стихотворения — хоровое исполнение «ектеньи», в которой содержатся просьбы о заступничестве за мореплавателей и странников.
...у царских врат... — царские врата — двустворчатые двери, ведущие в алтарную часть,
главные врата в православном храме.
Причастный тайнам... ребёнок... — иконописное изображение Младенца Христа, всё знающего и всё видящего свидетеля.
Вопросы и задания
1. Как вы охарактеризуете общую атмосферу этого стихотворения? Обратите внимание на то, какие слова в нём повторяются. Что, на ваш взгляд, здесь преобладает — мрачное или светлое?
2. Определите основную тему этого стихотворения. Какое состояние испытывает
его лирический герой, ничего не говорящий о себе и сосредоточившийся
на восприятии церковного песнопения?
3. Как вы объясните словосочетание «голос, летящий в купол»? Какой символический смысл имеет этот образ?
4. Какую метафору в тексте можно считать самой яркой и необычной? Как эта
метафора помогает создать особую атмосферу стихотворения?
5. Точка зрения. Перечитайте финальные строки стихотворения «Девушка пела
в церковном хоре...» и объясните их смысл.
Россия
Опять, как в годы золотые,
Три стёртых треплются шлеи,
И вязнут спицы расписные
В расхлябанные колеи...
35
Россия, нищая Россия,
Мне избы серые твои,
Твои мне песни ветровые —
Как слёзы первые любви!
Тебя жалеть я не умею
И крест свой бережно несу...
Какому хочешь чародею
Отдай разбойную красу!
Пускай заманит и обманет, —
Не пропадёшь, не сгинешь ты,
И лишь забота затуманит
Твои прекрасные черты...
Ну что ж? Одной заботой боле —
Одной слезой река шумней,
А ты всё та же — лес, да поле,
Да плат узорный до бровей...
И невозможное возможно,
Дорога долгая легка,
Когда блеснёт в дали дорожной
Мгновенный взор из-под платка,
Когда звенит тоской острожной
Глухая песня ямщика!..
5 Комментарии. Стихотворение «Россия» написано 18 октября 1908 года. Оно вошло
в книгу стихов Блока «Родина» и непосредственно примыкает к известному циклу стихотворений «На поле Куликовом», созданному в том же 1908 году и также посвящённому
теме исторического пути России.
Очевидна перекличка образов стихотворения «Россия» с такими, например, строками
цикла «На поле Куликовом»:
О, Русь моя! Жена моя! До боли
Нам ясен долгий путь!
Наш путь — стрелой татарской древней воли
Пронзил нам грудь!
Шлея — часть сбруи в виде ремня, идущего от хомута вокруг туловища лошади.
Боле (устар.) — больше.
Вопросы и задания
1. Что необычного вы можете отметить в заглавном образе стихотворения «Россия»? Что в этом образе особо подчёркивает поэт?
2. Какое символическое значение имеют образы дороги и песни в стихотворении
«Россия»? Как связаны эти образы с темой исторического пути России?
3. Что вы можете сказать о лирическом герое этого стихотворения? Как он воспринимает и оценивает прошлое и настоящее своей родины? Что он думает
о её будущем?
36
4. Перечитайте первое четверостишие стихотворения «Россия». Обратите внимание на необычное сочетание эпитетов («золотые» — «стёртых», «расписные» —
«расхлябанные»). Докажите, что и в последующих строках стихотворения
для создания образа России поэт использует приём контраста.
5. Точка зрения. Как вы объясните смысл финальных строк стихотворения «Россия»? Почему, несмотря ни на что, «дорога долгая легка»?
Индивидуальные задания
1. Опыт исследования. Сопоставьте два прочитанных вами стихотворения
А. А. Блока. Что их объединяет? Чем различаются эти стихотворения по тематике, настроению, ритму?
2. Творческое прочтение. Какие рифмы и способы рифмовки используются
в прочитанных вами стихотворениях?
3. Подготовьте выразительное чтение наизусть одного из стихотворений А. А. Блока.
4. Связь с другими видами искусства. Опишите картину Ф. А. Малявина
«Вихрь», используя полные и неполные цитаты из стихотворения А. А. Блока
«Россия». Какое событие изображено на этой картине? В чём своеобразие
созданного её автором художественного мира? Какие образы и настроения
здесь преобладают? Как вы объясните преобладание красного цвета?
5. Связь с другими видами искусства. Что необычного вы можете отметить
в иллюстрации И. С. Глазунова «Сирень» к циклу стихотворений А. А. Блока
«Родина»? Как вы объясните, что основное пространство картины художник
отвёл изображению цветущей сирени?
37
Михаил Афанасьевич БУЛГАКОВ
1891—1940
«Родился в Киеве в 1891 году. Учился в Киеве
и в 1916 году окончил университет по медицинскому
факультету, получил звание лекаря с отличием. Судьба
сложилась так, что ни званием, ни отличием не пришлось воспользоваться долго», — со свойственной ему
иронией писал Михаил Афанасьевич Булгаков в «Автобиографии» (1924).
Первый рассказ, по признанию писателя, он написал в 1919 году. Потом появились пьесы. С тех пор
Булгаков понимает, что его призвание — литература.
В 1921 году он приезжает в Москву. В первое время
в голодной и холодной столице ему приходится очень
трудно. 9 февраля 1922 года он записывает в дневнике: «Идёт самый чёрный период моей жизни. Мы с женой голодаем... Обегал всю Москву — нет места. Валенки рассыпались». Эти годы жизни в Москве Булгаков
опишет в «Записках на манжетах» (1922—1924).
Печататься Булгаков начал с весны 1922 года, но настоящим дебютом писателя в литературе стал роман «Белая гвардия», опубликованный (не полностью)
в журнале «Россия» в 1924—1925 годах (в полном варианте произведение было
издано в Париже в 1927—1929 годах). Интересно, что отдельные сюжетные линии,
будущие образы «Белой гвардии» варьировались, уточнялись в ряде отрывков
и рассказов, опубликованных до завершения романа. На основе романа будет написана пьеса «Дни Турбиных», постановка которой на сцене Московского Художественного театра имела оглушительный успех (премьера состоялась 5 октября
1926 года).
Своей главной темой Булгаков считал «изображение русской интеллигенции
как лучшего слоя в нашей стране». Но это не значит, что он относился к интеллигенции только восторженно. Более того, он постоянно ставил вопрос о вине
и ответственности каждого за образ мыслей и действий, за позицию, занятую
в жизни.
Особенностью художественного мира Булгакова было то, что описание социальных проблем и конфликтов сочеталось с юмором и «фантастикой в духе
Свифта». С особой силой эти свойства таланта писателя проявились в его сатирических произведениях, в числе которых повесть «Собачье сердце» (1925), и в главном произведении Булгакова — романе «Мастер и Маргарита» (1928—1940), опубликованном в 1966 году.
В 1928 году возник замысел романа «Мастер и Маргарита». Первоначально
он задумывался как «роман о дьяволе». Было несколько редакций и вариантов,
часть из которых Булгаков уничтожил, некоторые опубликованы в книге «Великий
Канцлер». Начало работы над романом совпало с очень сложным периодом жизни писателя. Пьесы его запрещаются, творчество в целом воспринимается как
враждебное новому, советскому строю. Булгаков характеризуется как «необуржуазный писатель». 28 марта 1930 года он обращается с письмом к Правительству
38
СССР, в котором со всей откровенностью заявляет о своей позиции, об отношении к нему критики, уничтожающей его и как личность, и как писателя.
«...Борьба с цензурой, — писал Булгаков, — какая бы она ни была и при какой бы власти она ни существовала, — мой писательский долг, так же как и призывы к свободе печати. Я горячий поклонник этой свободы и полагаю, что если
кто-нибудь из писателей задумал бы доказать, что она ему не нужна, он уподобился бы рыбе, публично уверяющей, что ей не нужна вода.
Вот одна из черт моего творчества... Но с первой чертой в связи все остальные, выступающие в моих сатирических повестях: чёрные и мистические краски
(я — мистический писатель), в которых изображены бесчисленные уродства нашего быта, яд, которым пропитан мой язык, глубокий скептицизм в отношении
революционного процесса, происходящего в моей отсталой стране, и противопоставление ему излюбленной и Великой Эволюции, а самое главное — изображение
страшных черт моего народа, тех черт, которые задолго до революции вызывали
глубочайшие страдания моего учителя М. Е. Салтыкова-Щедрина».
Все эти уродливые приметы быта, человеческие характеры Булгаков и показывает в своём романе, жанр которого определяет сам как «фантастический».
Но даже при первом знакомстве становится ясно, что это роман философский,
в котором писатель пытается решить, подобно выдающимся реалистам XIX века,
«проклятые» вопросы о жизни и смерти, добре и зле, о человеке, его совести
и нравственных ценностях, без которых не могут существовать ни человек, ни
общество в целом.
Повесть «Собачье сердце». Повесть М. А. Булгакова «Собачье сердце» — это
своеобразная реплика художника в разгоревшемся после революции 1917 года
споре о попытках искусственного и ускоренного воспитания «нового человека».
На это указывает фамилия главного героя, профессора Преображенского. Для
Булгакова операция Преображенского, социальная революция, «вся эта социальная кутерьма», — вещи одного порядка, они похожи в своём стремлении искусственно, на основе теории усовершенствовать человеческое общество и природу.
В основе сюжета — эксперимент, на который идёт профессор: операция по
превращению собаки в человека. Реальный, казалось бы, сюжет (операция) изначально фантастичен (превратить собаку в человека, Homo sapiens, невозможно).
Мысль о нереальности, обречённости задуманного в подтексте звучит с самого
начала. Так, по поводу дня операции рассказчик говорит: «И вот в этот ужасный
день, ещё утром, Шарика кольнуло предчувствие. Вследствие этого он вдруг заскучал и утренний завтрак... съел без всякого аппетита». Рассказчик называет день
«ужасным». Можно полагать, что это мнение Шарика, и Булгаков просто использует довольно популярный литературный приём, показывая мир глазами животного
(например, «Каштанка» А. П. Чехова). Но это не совсем так, о чём говорят детали. День назван «довольно ужасным» до того, как Шарика кольнуло предчувствие.
Булгаков внимательно и точно подбирает слова. С самого начала предчувствие
простой дворняжки помогает понять, что эксперимент плох.
Уже после операции из дневника помощника профессора Преображенского Борменталя мы узнаём, что на предложение последнего развить Шарикова
«в очень высокую психическую личность» Преображенский просто хмыкает и отвечает зловещим тоном: «Вы думаете?» Его сомнения подробно объясняются
в одном из разговоров ночью после того дня, когда Шариков получил имя и отчество. Преображенский говорит: «...старый осёл Преображенский нарвался на
39
этой операции как третьекурсник. Правда, открытие получилось, вы сами знаете — какое... но только имейте в виду, Иван Арнольдович, что единственным результатом этого открытия будет то, что все мы теперь будем иметь этого Шарикова
вот где... Вы знаете, какую я работу проделал — уму непостижимо. И вот теперь
спрашивается — зачем? Чтобы в один прекрасный день милейшего пса превратить
в такую мразь, что волосы дыбом встают».
Самое главное здесь в том, что Преображенский видит: он ошибся и сам виноват, что хотел провести и провёл научный эксперимент, не думая о последствиях. Преображенский вполне определённо и недвусмысленно заявляет: «Вот, доктор, что получается, когда исследователь вместо того, чтобы идти параллельно
и ощупью с природой, форсирует вопрос и приподымает завесу: на, получай
Шарикова и ешь его с кашей».
Закономерны возникающие сюжетные и смысловые параллели между персонажем повести М. А. Булгакова «Собачье сердце» Шариковым и Присыпкиным
из пьесы В. В. Маяковского «Клоп» (1928—1929). Во многом сходны проблемы,
волнующие писателей. Они высмеивают в своих произведениях демагогию, невежество, хамство, стремление всё «делить поровну», ничего не производя, только
извлекая выгоду из «привилегированного» пролетарского происхождения. Писатели
почувствовали ту угрозу, которую несли культуре, стране агрессивно-невежественные присыпкины и шариковы.
Каковы же перспективы очеловечивания, одушевления тех, кто на основании
лишь «внешних мимикрийных признаков» ошибочно отнесён к разумным существам? Вывод, к которому пришёл Булгаков, довольно пессимистичен. Шариков
не способен к труду, он не хочет «учиться и стараться стать хоть сколько-нибудь
приемлемым членом социального общества», однако он уже «поступил на должность», и в руках его появился револьвер... Эксперимент Преображенского по
форсированному созданию «нового человека» явно не удался, он нарушил законы, выработанные природой и обществом.
Вопросы и задания
1. С какими произведениями М. А. Булгакова вы уже знакомы? Какие кинофильмы, снятые по произведениям писателя, вы видели?
2. Публичное выступление. Подготовьте сообщение на тему «М. А. Булгаков
и Москва». Подберите видеоматериалы к своему сообщению.
3. Опыт исследования. Подберите отрывки из произведений М. А. Булгакова
в качестве иллюстраций к ответу на вопрос об особенностях его художественного мира, в котором причудливо сочетаются реальное и фантастическое.
Собачье сердце
Чудовищная история
I
У-у-у-у-у — гу-гу-гуу! О, гляньте на меня, я погибаю. Вьюга в подворотне ревёт мне отходную, и я вою с ней. Пропал я, пропал. Негодяй
в грязном колпаке — повар в столовой нормального питания служащих Центрального Совета Народного Хозяйства — плеснул кипятком
40
и обварил мне левый бок. Какая гадина, а ещё пролетарий. Господи,
боже мой, — как больно! До костей проело кипяточком. Я теперь вою,
вою, да разве воем поможешь.
Чем я ему помешал? Неужели я обожру Совет Народного Хозяйства, если в помойке пороюсь? Жадная тварь! Вы гляньте когда-нибудь
на его рожу: ведь он поперёк себя шире. Вор с медной мордой. Ах,
люди, люди. В полдень угостил меня колпак кипятком, а сейчас стемнело, часа четыре приблизительно пополудни, судя по тому, как луком пахнет из пожарной Пречистенской команды. Пожарные ужинают
кашей, как вам известно. Но это — последнее дело, вроде грибов. Знакомые псы с Пречистенки, впрочем, рассказывали, будто бы на Неглинном в ресторане «Бар» жрут дежурное блюдо — грибы, соус пикан
по 3 р. 75 к. порция. Это дело на любителя — всё равно что калошу
лизать... У-у-у-у-у...
Бок болит нестерпимо, и даль моей карьеры видна мне совершенно
отчётливо: завтра появятся язвы и, спрашивается, чем я их буду лечить? Летом можно смотаться в Сокольники, там есть особенная, очень
хорошая травка, а кроме того, нажрёшься бесплатно колбасных головок, бумаги жирной набросают граждане, налижешься. И если бы
не грымза какая-то, что поёт на лугу при луне — «милая Аида» — так,
что сердце падает, было бы отлично. А теперь куда пойдёшь? Не били
вас по заду сапогом? Били. Кирпичом по рёбрам получали? Кушано
достаточно. Всё испытал, с судьбой своей мирюсь, и если плачу сейчас,
то только от физической боли и холода, потому что дух мой ещё
не угас... Живуч собачий дух.
Но вот тело моё изломанное, битое, надругались над ним люди достаточно. Ведь главное что — как врезал он кипяточком, под шерсть
проело, и защиты, стало быть, для левого бока нет никакой. Я очень
легко могу получить воспаление лёгких, а получив его, я, граждане,
подохну с голоду. С воспалением лёгких полагается лежать на парадном ходе под лестницей, а кто же вместо меня, лежащего холостого
пса, будет бегать по сорным ящикам в поисках питания? Прохватит
лёгкое, поползу я на животе, ослабею, и любой спец пришибёт меня
палкой насмерть. И дворники с бляхами ухватят меня за ноги и выкинут на телегу...
Дворники из всех пролетариев самая гнусная мразь. Человечьи
очистки — самая низшая категория. Повар попадается разный. Например — покойный Влас с Пречистенки. Скольким он жизнь спас. Потому что самое главное во время болезни перехватить кус. И вот, бывало, говорят старые псы, махнёт Влас кость, а на ней с осьмушку
мяса. Царство ему небесное за то, что был настоящая личность, барский повар графов Толстых, а не из Совета нормального питания.
Что они там вытворяют в нормальном питании — уму собачьему непостижимо. Ведь они же, мерзавцы, из вонючей солонины щи варят,
а те, бедняги, ничего и не знают. Бегут, жрут, лакают.
Иная машинисточка получает по IX разряду четыре с половиной червонца... Да... Прибежит машинисточка, ведь за 4,5 червонца
в «Бар» не пойдёшь. Ей и на кинематограф не хватает; а кинематограф
41
у женщины единственное утешение в жизни. Дрожит, морщится, а лопает... Подумать только: 40 копеек из двух блюд, а они оба эти блюда
и пятиалтынного не стоят, потому что остальные 25 копеек завхоз уворовал. А ей разве такой стол нужен? У неё и верхушка правого лёгкого не в порядке... на службе с неё вычли, тухлятиной в столовой накормили, вон она, вон она... Бежит в подворотню... Ноги холодные,
в живот дует, потому что шерсть на ней вроде моей, а штаны она носит холодные, одна кружевная видимость...
Жаль мне её, жаль! Но самого себя мне ещё больше жаль. Не
из эгоизма говорю, о нет, а потому что мы действительно не в равных
условиях. Ей-то хоть дома тепло, ну а мне, а мне... Куда пойду?
У-у-у-у-у!..
— Куть, куть, куть! Шарик, а Шарик... Чего ты скулишь, бедняжка? Кто тебя обидел? Ух...
Ведьма сухая метель загремела воротами и помелом съездила
по уху барышню. Юбчонку взбила до колен, обнажила кремовые чулочки и узкую полосочку плохо стиранного кружевного бельишка, задушила слова и замела пса.
Боже мой... Какая погода... Ух... И живот болит. Это солонина, это
солонина! И когда же это всё кончится?
Наклонив голову, бросилась барышня в атаку, прорвалась в ворота,
и на улице начало её вертеть, вертеть, раскидывать, потом завинтило
снежным винтом, и она пропала.
A пёс остался в подворотне и, страдая от изуродованного бока, прижался к холодной стене, задохся и твёрдо решил, что больше отсюда
никуда не пойдёт, тут и сдохнет в подворотне. Отчаяние повалило его.
На душе у него было до того больно и горько, до того одиноко и страшно, что мелкие собачьи слёзы, как пупырышки, вылезали из глаз
и тут же засыхали. Испорченный бок торчал свалявшимися промёрзшими комьями, а между ними глядели красные зловещие пятна обвара. До чего бессмысленны, тупы, жестоки повара. «Шарик» она назвала его... Какой он к чёрту «Шарик»? Шарик — это значит круглый,
упитанный, глупый, овсянку жрёт, сын знатных родителей, а он
лохматый, долговязый и рваный, шляйка поджарая, бездомный пёс.
Впрочем, спасибо на добром слове.
Дверь через улицу в ярко освещённом магазине хлопнула, и из неё
показался гражданин. Именно гражданин, а не товарищ, и даже — вернее всего — господин. Ближе — яснее — господин. Вы думаете, я сужу
по пальто? Вздор. Пальто теперь очень многие и из пролетариев носят.
Правда, воротники не такие, об этом и говорить нечего, но всё же издали можно спутать. А вот по глазам — тут уж и вблизи и издали
не спутаешь. О, глаза значительная вещь. Вроде барометра. Всё видно — у кого великая сушь в душе, кто ни за что ни про что может
ткнуть носком сапога в рёбра, а кто сам всякого боится. Вот последнего холуя именно и приятно бывает тяпнуть за лодыжку. Боишься — получай. Раз боишься — значит стоишь... р-р-р... гау-гау...
Господин уверенно пересёк в столбе метели улицу и двинулся в подворотню. Да, да, у этого всё видно. Этот тухлой солонины лопать
42
М. А. Булгаков. «Собачье сердце». Кадр из телефильма.
Режиссёр В. Бортко. Профессор Преображенский — актёр
Е. Евстигнеев
не станет, а если где-нибудь ему её и подадут, поднимет такой скандал,
в газеты напишет: меня, Филиппа Филипповича, обкормили.
Вот он всё ближе и ближе. Этот ест обильно и не ворует, этот не станет пинать ногой, но и сам никого не боится, а не боится потому, что
вечно сыт. Он умственного труда господин, с французской остроконечной бородкой и усами седыми, пушистыми и лихими, как у французских рыцарей, но запах по метели от него летит скверный — больницей. И сигарой.
Какого же лешего, спрашивается, носило его в кооператив Центрохоза? Вот он рядом... Чего ждёт? У-у-у-у... Что он мог покупать в дрянном магазинишке, разве ему мало Охотного ряда? Что такое? Кол-басу. Господин, если бы вы видели, из чего эту колбасу делают, вы бы
близко не подошли к магазину. Отдайте её мне.
Пёс собрал остаток сил и в безумии пополз из подворотни на тротуар. Вьюга захлопала из ружья над головой, взметнула громадные
буквы полотняного плаката «Возможно ли омоложение?».
Натурально, возможно. Запах омолодил меня, поднял с брюха,
жгучими волнами стеснил двое суток пустующий желудок, запах,
победивший больницу, райский запах рубленой кобылы с чесноком
и перцем. Чувствую, знаю — в правом кармане шубы у него колбаса.
Он надо мной. О, мой властитель! Глянь на меня. Я умираю. Рабская
наша душа, подлая доля!
Пёс пополз, как змея, на брюхе, обливаясь слезами. Обратите внимание на поварскую работу. Но ведь вы ни за что не дадите. Ох, знаю
43
я очень хорошо богатых людей! А в сущности — зачем она вам?
Для чего вам гнилая лошадь? Нигде кроме такой отравы не получите,
как в Моссельпроме. А вы сегодня завтракали, вы, величина мирового
значения, благодаря мужским половым железам. У-у-у-у... Что же это
делается на белом свете? Видно, помирать-то ещё рано, а отчаяние —
и подлинно грех. Руки ему лизать, больше ничего не остаётся.
Загадочный господин наклонился к псу, сверкнул золотыми ободками глаз и вытащил из правого кармана белый продолговатый
свёрток. Не снимая коричневых перчаток, размотал бумагу, которой
тотчас же овладела метель, и отломил кусок колбасы, называемой
«Особенная краковская». И псу этот кусок. О, бескорыстная личность!
У-у-у!
— Фить-фить, — посвистал господин и добавил строгим голосом: —
Бери! Шарик, Шарик!
Опять Шарик. Окрестили. Да называйте как хотите. За такой исключительный ваш поступок.
Пёс мгновенно оборвал кожуру, с всхлипыванием вгрызся в краковскую и сожрал её в два счёта. При этом подавился колбасой и снегом до слёз, потому что от жадности едва не заглотал верёвочку. Ещё,
ещё лижу вам руку. Целую штаны, мой благодетель!
— Будет пока что... — Господин говорил так отрывисто, точно командовал. Он наклонился к Шарику, пытливо глянул ему в глаза и неожиданно провёл рукой в перчатке интимно и ласково по Шарикову
животу.
— А-га, — многозначительно молвил он, — ошейника нету, ну вот
и прекрасно, тебя-то мне и надо. Ступай за мной. — Он пощёлкал пальцами. — Фить-фить!
За вами идти? Да на край света. Пинайте меня вашими фетровыми
ботиками, я слова не вымолвлю.
По всей Пречистенке сияли фонари. Бок болел нестерпимо, но Шарик временами забывал о нём, поглощённый одной мыслью — как бы
не утерять в сутолоке чудесного видения в шубе и чем-нибудь выразить
ему любовь и преданность. И раз семь на протяжении Пречистенки до
Обухова переулка он её выразил. Поцеловал в ботик у Мёртвого переулка, расчищая дорогу, диким воем так напугал какую-то даму, что
она села на тумбу, раза два подвыл, чтобы поддержать жалость к себе.
Какой-то сволочной, под сибирского деланный кот-бродяга вынырнул из-за водосточной трубы и, несмотря на вьюгу, учуял краковскую.
Шарик света невзвидел при мысли, что богатый чудак, подбирающий
раненых псов в подворотне, чего доброго, и этого вора прихватит с собой, и придётся делиться моссельпромовским изделием. Поэтому на
кота он так лязгнул зубами, что тот с шипением, похожим на шипение
дырявого шланга, забрался по трубе до второго этажа. — Ф-р-р-р... гау!
Вон! Не напасёшься Моссельпрома на всякую рвань, шляющуюся по
Пречистенке.
Господин оценил преданность и у самой пожарной команды, у окна,
из которого слышалось приятное ворчание валторны, наградил пса
вторым куском, поменьше, золотников на пять.
44
Эх, чудак. Подманивает меня. Не беспокойтесь! Я и сам никуда
не уйду. За вами буду двигаться, куда ни прикажете.
— Фить-фить-фить! Сюда!
В Обухов? Сделайте одолжение. Очень хорошо известен нам этот
переулок.
— Фить-фить! Сюда? С удово... Э, нет, позвольте. Нет. Тут швейцар. А уж хуже этого ничего на свете нет. Во много раз опаснее дворника. Совершенно ненавистная порода. Гаже котов. Живодёр в позументе.
— Да не бойся ты, иди.
— Здравия желаю, Филипп Филиппович.
— Здравствуй, Фёдор.
Вот это — личность. Боже мой, на кого же ты нанесла меня, собачья моя доля! Что это за такое лицо, которое может псов с улицы мимо
швейцаров вводить в дом жилищного товарищества? Посмотрите, этот
подлец — ни звука, ни движения! Правда, в глазах у него пасмурно,
но, в общем, он равнодушен под околышем с золотыми галунами.
Словно так и полагается. Уважает, господа, до чего уважает! Ну-с,
а я с ним и за ним. Что, тронул? Выкуси. Вот бы тяпнуть за пролетарскую мозолистую ногу. За все издевательства вашего брата. Щёткой сколько раз морду уродовал мне, а?
— Иди, иди.
Понимаем, понимаем, не извольте беспокоиться. Куда вы, туда
и мы. Вы только дорожку указывайте, а я уж не отстану, несмотря
на отчаянный мой бок.
С лестницы вниз:
— Писем мне, Фёдор, не было?
Снизу на лестницу, почтительно:
— Никак нет, Филипп Филиппович (интимно, вполголоса вдогонку), — а в третью квартиру жилтоварищей вселили.
Важный пёсий благотворитель круто обернулся на ступеньке и, перегнувшись через перила, в ужасе спросил:
— Ну-у?
Глаза его округлились, и усы встали дыбом.
Швейцар снизу задрал голову, приладил ладошку к губам и подтвердил:
— Точно так, целых четыре штуки.
— Боже мой! Воображаю, что теперь будет в квартире. Ну и что ж
они?
— Да ничего-с.
— А Фёдор Павлович?
— За ширмами поехали и за кирпичом. Перегородки будут ставить.
— Чёрт знает что такое!
— Во все квартиры, Филипп Филиппович, будут вселять, кроме
вашей. Сейчас собрание было, выбрали новое товарищество, а прежних — в шею.
— Что делается. Ай-яй-яй... Фить-фить.
45
Иду-с, поспешаю. Бок, изволите ли видеть, даёт себя знать. Разрешите лизнуть сапожок.
Галун швейцара скрылся внизу. На мраморной площадке повеяло
теплом от труб, ещё раз повернули, и вот — бельэтаж.
II
Учиться читать совершенно не к чему, когда мясо и так пахнет
за версту. Тем не менее, ежели вы проживаете в Москве и хоть какиенибудь мозги у вас в голове имеются, вы волей-неволей выучитесь грамоте, и притом безо всяких курсов. Из сорока тысяч московских псов
разве уж какой-нибудь совершенный идиот не сумеет сложить из букв
слово «колбаса».
Шарик начал учиться по цветам. Лишь только исполнилось ему
четыре месяца, по всей Москве развесили зелёно-голубые вывески
с надписью МСПО — мясная торговля. Повторяем, всё это ни к чему,
потому что и так мясо слышно. И путаница раз произошла: равняясь
по голубоватому едкому цвету, Шарик, обоняние которого зашиб бензинным дымом мотор, вкатил вместо мясной в магазин электрических
принадлежностей братьев Голубизнер на Мясницкой улице. Там у братьев пёс отведал изолированной проволоки, а она почище извозчичьего кнута. Этот знаменитый момент и следует считать началом шариковского образования. Уже на тротуаре тут же Шарик начал соображать,
что «голубой» не всегда означает «мясной», и, зажимая от жгучей
боли хвост между задними лапами и воя, припомнил, что на всех мясных первой слева стоит золотая или рыжая раскоряка, похожая
на санки.
Далее пошло ещё успешней. «А» он выучил в «Главрыбе» на углу
Моховой, а потом и «Б» — подбегать ему было удобнее с хвоста слова
«рыба», потому что при начале слова стоял милиционер.
Изразцовые квадратики, облицовывавшие угловые места в Москве,
всегда и неизбежно означали «С-ы-р». Чёрный кран от самовара, возглавлявший слово, обозначал бывшего хозяина Чичкина, горы голландского красного, зверей-приказчиков, ненавидевших собак, опилки
на полу и гнуснейший, дурно пахнущий бакштейн.
Если играли на гармошке, что было немногим лучше «милой
Аиды», и пахло сосисками, первые буквы на белых плакатах чрезвычайно удобно складывались в слово «неприли...», что означало «неприличными словами не выражаться и на чай не давать». Здесь порою винтом закипали драки, людей били кулаком по морде, правда,
в редких случаях, псов же постоянно — салфетками или сапогами.
Если в окнах висели несвежие окорока ветчины и лежали мандарины... гау-гау... га... строномия. Если тёмные бутылки с плохой жидкостью... Ве-и-ви-на-а-вина... Елисеевы, братья бывшие.
Неизвестный господин, притащивший пса к дверям своей роскошной квартиры, помещавшейся в бельэтаже, позвонил, а пёс тотчас поднял глаза на большую, чёрную с золотыми буквами карточку, висящую сбоку широкой, застеклённой волнистым и розовым стеклом
46
двери. Три первых буквы он сложил сразу: «Пэ-ер-о — Про». Но дальше шла пузатая двубокая дрянь, неизвестно что обозначающая. «Неужто пролетарий?» — подумал Шарик с удивлением... «Быть этого
не может». Он поднял нос кверху, ещё раз обнюхал шубу и уверенно
подумал: «Нет, здесь пролетарием не пахнет. Учёное слово, а бог его
знает — что оно значит».
За розовым стеклом вспыхнул неожиданный и радостный свет,
ещё более оттенив чёрную карточку. Дверь совершенно бесшумно распахнулась, и молодая красивая женщина в белом фартучке и кружевной наколке предстала перед псом и его господином. Первого из них
обдало божественным теплом, и юбка женщины запахла, как ландыш.
«Вот это да, это я понимаю», — подумал пёс.
— Пожалуйте, господин Шарик, — иронически пригласил господин, и Шарик благоговейно пожаловал, вертя хвостом.
Великое множество предметов загромождало богатую переднюю.
Тут же запомнилось зеркало до самого пола, немедленно отразившее
второго истасканного и рваного Шарика, страшные оленьи рога в высоте, бесчисленные шубы и калоши и опаловый тюльпан с электричеством под потолком.
— Где же вы такого взяли, Филипп Филиппович? — улыбаясь,
спрашивала женщина и помогала снимать тяжёлую шубу на чёрнобурой лисе с синеватой искрой. — Батюшки! До чего паршивый!
— Вздор говоришь. Где паршивый? — строго и отрывисто спрашивал господин.
По снятии шубы он оказался в чёрном костюме английского сукна,
и на животе у него радостно и неярко засверкала золотая цепь.
— Погоди-ка, не вертись, фить... да не вертись, дурачок. Гм!.. Это
не парши... да стой ты, чёрт... Гм! А-а. Это ожог. Какой же негодяй
тебя обварил? А? Да стой ты смирно!..
«Повар-каторжник, повар!» — жалобными глазами молвил пёс
и слегка подвыл.
— Зина, — скомандовал господин, — в смотровую его сейчас же
и мне халат.
Женщина посвистала, пощёлкала пальцами, и пёс, немного поколебавшись, последовал за ней. Они вдвоём попали в узкий, тускло освещённый коридор, одну лакированную дверь миновали, пришли
в конец, а затем попали налево и оказались в тёмной каморке, которая
мгновенно не понравилась псу своим зловещим запахом. Тьма щёлкнула и превратилась в ослепительный день, причём со всех сторон засверкало, засияло и забелело.
«Э, нет, — мысленно завыл пёс, — извините, не дамся! Понимаю,
о чёрт бы взял их с их колбасой. Это меня в собачью лечебницу заманили. Сейчас касторку заставят жрать и весь бок изрежут ножиками, а до него и так дотронуться нельзя!»
— Э, нет, куда?! — закричала та, которую называли Зиной.
Пёс извернулся, спружинил и вдруг ударил в дверь здоровым боком
так, что хряснуло по всей квартире. Потом отлетел назад, закрутился
на месте, как кубарь под кнутом, причём вывернул на пол белое ведро,
47
из которого разлетелись комья ваты. Во время верчения кругом него
порхали стены, уставленные шкафами с блестящими инструментами,
запрыгал белый передник и искажённое женское лицо.
— Куда ты, чёрт лохматый?.. — кричала отчаянно Зина, — вот
окаянный!
«Где у них чёрная лестница?..» — соображал пёс. Он размахнулся
и комком ударил наобум в стекло, в надежде, что это вторая дверь.
Туча осколков вылетела с громом и звоном, выпрыгнула пузатая банка с рыжей гадостью, которая мгновенно залила весь пол и завоняла.
Настоящая дверь распахнулась.
— Стой, с-скотина, — кричал господин, прыгая в халате, надетом
на один рукав, и хватая пса за ноги. — Зина, держи его за шиворот,
мерзавца!
— Ба... Батюшки, вот так пёс!
Ещё шире распахнулась дверь, и ворвалась ещё одна личность мужского пола в халате. Давя битые стёкла, она кинулась не ко псу,
а к шкафу, раскрыла его и всю комнату наполнила сладким и тошным
запахом. Затем личность навалилась на пса сверху животом, причём
пёс с увлечением тяпнул её повыше шнурков на ботинке. Личность
охнула, но не потерялась. Тошнотворная жидкость перехватила дыхание пса, и в голове у него завертелось, потом ноги отвалились, и он
поехал куда-то криво и вбок. «Спасибо, кончено, — мечтательно думал
он, валясь прямо на острые стёкла. — Прощай, Москва! Не видать мне
больше Чичкина, и пролетариев, и краковской колбасы. Иду в рай
за собачье долготерпение. Братцы-живодёры, за что ж вы меня?»
И тут он окончательно завалился на бок и издох.
___________
Когда он воскрес, у него легонько кружилась голова и чуть-чуть
тошнило в животе, бока же как будто не было, бок сладостно молчал.
Пёс приоткрыл правый томный глаз и краем его увидел, что он туго
забинтован поперёк боков и живота. «Всё-таки отделали, сукины
дети, — подумал он смутно, — но ловко, надо отдать им справедливость».
— От Севильи до Гренады... в тихом сумраке ночей, — запел
над ним рассеянный и фальшивый голос.
Пёс удивился, совсем открыл оба глаза и в двух шагах увидел мужскую ногу на белом табурете. Штанина и кальсоны на ней были поддёрнуты, и голая жёлтая голень вымазана засохшей кровью и йодом.
«Угодники! — подумал пёс. — Это, стало быть, я его кусанул. Моя
работа. Ну, будут драть!»
— Р-раздаются серенады, раздаётся стук мечей! Ты зачем, бродяга,
доктора укусил? А? Зачем стекло разбил? А?
— У-у-у, — жалобно заскулил пёс.
— Ну, ладно, опомнился и лежи, болван.
— Как это вам удалось, Филипп Филиппович, подманить такого
нервного пса? — спросил приятный мужской голос, и триковая кальсона откатилась книзу. Запахло табаком, и в шкафу зазвенели склянки.
48
— Лаской-с. Единственным способом, который возможен в обращении с живым существом. Террором ничего поделать нельзя с животным,
на какой бы ступени развития оно ни стояло. Это я утверждал, утверждаю и буду утверждать. Они напрасно думают, что террор им поможет.
Нет-с, нет-с, не поможет, какой бы он ни был: белый, красный и даже
коричневый! Террор совершенно парализует нервную систему. Зина!
Я купил этому прохвосту краковской колбасы на один рубль сорок копеек. Потрудитесь накормить его, когда его перестанет тошнить.
Захрустели выметаемые стёкла, и женский голос кокетливо заметил:
— Краковской! Господи, да ему обрезков нужно было купить
на двугривенный в мясной. Краковскую колбасу я сама лучше съем.
— Только попробуй. Я тебе съем! Это отрава для человеческого желудка. Взрослая девушка, а, как ребёнок, тащишь в рот всякую гадость. Не сметь! Предупреждаю: ни я, ни доктор Борменталь не будем
с тобой возиться, когда у тебя живот схватит... «Всех, кто скажет,
что другая здесь сравняется с тобой...»
Мягкие дробные звоночки сыпались в это время по всей квартире,
а в отдалении из передней то и дело слышались голоса. Звенел телефон. Зина исчезла.
Филипп Филиппович бросил окурок папиросы в ведро, застегнул халат, перед зеркальцем на стене расправил пушистые усы и окликнул пса:
— Фить, фить. Ну, ничего, ничего. Идём принимать.
Пёс поднялся на нетвёрдые ноги, покачался и подрожал, но быстро
оправился и пошёл следом за развевающейся полой Филиппа Филипповича. Опять пёс пересёк узкий коридор, но теперь увидел, что он
ярко освещён сверху розеткой. Когда же открылась лакированная
дверь, он вошёл с Филиппом Филипповичем в кабинет, и тот ослепил
пса своим убранством. Прежде всего он весь полыхал светом: горело
под лепным потолком, горело на столе, горело на стене, в стёклах шкафов. Свет заливал целую бездну предметов, из которых самым занятным оказалась громадная сова, сидящая на стене на суку.
— Ложись, — приказал Филипп Филиппович. <...>
Окончательно пёс очнулся глубоким вечером, когда звоночки прекратились, и как раз в то мгновение, когда дверь впустила особенных
посетителей. Их было сразу четверо. Все молодые люди, и все одеты
очень скромно.
«Этим что нужно?» — удивлённо подумал пёс. Гораздо более неприязненно встретил гостей Филипп Филиппович. Он стоял у письменного стола и смотрел на вошедших, как полководец на врагов. Ноздри
его ястребиного носа раздувались. Вошедшие топтались на ковре.
— Мы к вам, профессор, — заговорил тот из них, у кого на голове
возвышалась на четверть аршина копна густейших вьющихся волос, — вот по какому делу...
— Вы, господа, напрасно ходите без калош в такую погоду, — перебил его наставительно Филипп Филиппович, — во-первых, вы простудитесь, а во-вторых, вы наследили мне на коврах, а все ковры у меня
персидские.
49
Тот, с копной, умолк, и все четверо в изумлении уставились на
Филиппа Филипповича. Молчание продолжалось несколько секунд,
и прервал его лишь стук пальцев Филиппа Филипповича по расписному деревянному блюду на столе.
— Во-первых, мы не господа, — молвил наконец самый юный из
четверых, персикового вида.
— Во-первых, — перебил и его Филипп Филиппович, — вы мужчина или женщина?
Четверо вновь смолкли и открыли рты. На этот раз опомнился первый, тот, с копной.
— Какая разница, товарищ? — спросил он горделиво.
— Я — женщина, — признался персиковый юноша в кожаной
куртке и сильно покраснел. Вслед за ним покраснел почему-то густейшим образом один из вошедших — блондин в папахе.
— В таком случае вы можете оставаться в кепке, а вас, милостивый
государь, прошу снять ваш головной убор, — внушительно сказал Филипп Филиппович.
— Я вам не милостивый государь, — резко заявил блондин, снимая
папаху.
— Мы пришли к вам, — вновь начал чёрный с копной...
— Прежде всего — кто это мы?
— Мы — новое домоуправление нашего дома, — в сдержанной ярости заговорил чёрный. — Я — Швондер, она — Вяземская, он — товарищ Пеструхин и Жаровкин. И вот мы...
— Это вас вселили в квартиру Фёдора Павловича Саблина?
— Нас, — ответил Швондер.
— Боже, пропал Калабуховский дом! — в отчаянии воскликнул
Филипп Филиппович и всплеснул руками.
— Что вы, профессор, смеётесь? — возмутился Швондер.
— Какое там смеюсь?! Я в полном отчаянии, — крикнул Филипп
Филиппович, — что же теперь будет с паровым отоплением?
— Вы издеваетесь, профессор Преображенский?
— По какому делу вы пришли ко мне? Говорите как можно скорее,
я сейчас иду обедать.
— Мы, управление дома, — с ненавистью заговорил Швондер, —
пришли к вам после общего собрания жильцов нашего дома, на котором стоял вопрос об уплотнении квартир дома...
— Кто на ком стоял? — крикнул Филипп Филиппович, — потрудитесь излагать ваши мысли яснее.
— Вопрос стоял об уплотнении.
— Довольно! Я понял! Вам известно, что постановлением от 12 сего
августа моя квартира освобождена от каких бы то ни было уплотнений
и переселений?
— Известно, — ответил Швондер, — но общее собрание, рассмотрев
ваш вопрос, пришло к заключению, что в общем и целом вы занимаете чрезмерную площадь. Совершенно чрезмерную. Вы один живёте
в семи комнатах.
50
— Я один живу и работаю в семи комнатах, — ответил Филипп Филиппович, — и желал бы иметь восьмую. Она мне необходима под библиотеку.
Четверо онемели.
— Восьмую! Э-хе-хе, — проговорил блондин, лишённый головного
убора, — однако это здорово.
— Это неописуемо! — воскликнул юноша, оказавшийся женщиной.
— У меня приёмная — заметьте — она же библиотека, столовая,
мой кабинет — 3. Смотровая — 4. Операционная — 5. Моя спальня — 6
и комната прислуги — 7. В общем, не хватает... Да, впрочем, это неважно. Моя квартира свободна, и разговору конец. Могу я идти обедать?
— Извиняюсь, — сказал четвёртый, похожий на крепкого жука.
— Извиняюсь, — перебил его Швондер, — вот именно по поводу
столовой и смотровой мы и пришли поговорить. Общее собрание просит вас добровольно, в порядке трудовой дисциплины, отказаться
от столовой. Столовых нет ни у кого в Москве.
— Даже у Айседоры Дункан, — звонко крикнула женщина.
С Филиппом Филипповичем что-то сделалось, вследствие чего его
лицо нежно побагровело, и он не произнёс ни одного звука, выжидая,
что будет дальше.
— И от смотровой также, — продолжал Швондер, — смотровую
прекрасно можно соединить с кабинетом.
— Угу, — молвил Филипп Филиппович каким-то странным голосом, — а где же я должен принимать пищу?
— В спальне, — хором ответили все четверо.
Багровость Филиппа Филипповича приняла несколько сероватый
оттенок.
— В спальне принимать пищу, — заговорил он слегка придушенным голосом, — в смотровой читать, в приёмной одеваться, оперировать в комнате прислуги, а в столовой осматривать. Очень возможно,
что Айседора Дункан так и делает. Может быть, она в кабинете обедает, а кроликов режет в ванной. Может быть. Но я не Айседора Дункан!.. — вдруг рявкнул он, и багровость его стала жёлтой. — Я буду обедать в столовой, а оперировать в операционной! Передайте это общему
собранию, и покорнейше вас прошу вернуться к вашим делам, а мне
предоставить возможность принять пищу там, где её принимают все
нормальные люди, то есть в столовой, а не в передней и не в детской.
— Тогда, профессор, ввиду вашего упорного противодействия, —
сказал взволнованный Швондер, — мы подадим на вас жалобу в высшие инстанции.
— Ага, — молвил Филипп Филиппович, — так? — И голос его принял подозрительно вежливый оттенок, — одну минуточку попрошу вас
подождать.
«Вот это парень, — в восторге подумал пёс, — весь в меня. Ох, тяпнет он их сейчас, ох, тяпнет. Не знаю ещё — каким способом, но так
тяпнет... Бей их! Этого голенастого взять сейчас повыше сапога за подколенное сухожилие... р-р-р...»
51
Филипп Филиппович, стукнув, снял трубку с телефона и сказал
в неё так:
— Пожалуйста... да... благодарю вас... Петра Александровича попросите, пожалуйста. Профессор Преображенский. Пётр Александрович? Очень рад, что вас застал. Благодарю вас, здоров. Пётр Александрович, ваша операция отменяется. Что? Совсем отменяется. Равно
как и все остальные операции. Вот почему: я прекращаю работу в Москве и вообще в России... Сейчас ко мне вошли четверо, из них одна
женщина, переодетая мужчиной, и двое вооружённых револьверами,
и терроризировали меня в квартире с целью отнять часть её.
— Позвольте, профессор, — начал Швондер, меняясь в лице.
— Извините... У меня нет возможности повторить всё, что они говорили. Я не охотник до бессмыслиц. Достаточно сказать, что они
предложили мне отказаться от моей смотровой, другими словами, поставили меня в необходимость оперировать вас там, где я до сих пор
резал кроликов. В таких условиях я не только не могу, но и не имею
права работать. Поэтому я прекращаю деятельность, закрываю квартиру и уезжаю в Сочи. Ключи могу передать Швондеру. Пусть он оперирует.
Четверо застыли. Снег таял у них на сапогах.
— Что же делать... Мне самому очень неприятно... Как? О, нет,
Пётр Александрович! О, нет. Больше я так не согласен. Терпение моё
лопнуло. Это уже второй случай с августа месяца. Как? Гм... Как угодно. Хотя бы. Но только одно условие: кем угодно, когда угодно,
что угодно, но чтобы это была такая бумажка, при наличии которой
ни Швондер, ни кто-либо другой не могли бы даже подойти к двери
моей квартиры. Окончательная бумажка. Фактическая. Настоящая!
Броня. Чтобы моё имя даже не упоминалось. Кончено. Я для них
умер. Да, да. Пожалуйста. Кем? Ага... Ну, это другое дело. Ага... Хорошо. Сейчас передаю трубку. Будьте любезны, — змеиным голосом
обратился Филипп Филиппович к Швондеру, — сейчас с вами будут
говорить.
— Позвольте, профессор, — сказал Швондер, то вспыхивая, то угасая, — вы извратили наши слова.
— Попрошу вас не употреблять таких выражений.
Швондер растерянно взял трубку и молвил:
— Я слушаю. Да... Председатель домкома... Мы же действовали
по правилам... Так у профессора и так совершенно исключительное
положение... Мы знаем об его работах... Целых пять комнат хотели
оставить ему... Ну, хорошо... Раз так... Хорошо...
Совершенно красный, он повесил трубку и повернулся.
«Как оплевал! Ну и парень! — восхищённо подумал пёс, — что он,
слово, что ли, такое знает? Ну, теперь можете меня бить — как хотите, а я отсюда не уйду».
Трое, открыв рты, смотрели на оплёванного Швондера.
— Это какой-то позор, — несмело вымолвил тот.
— Если бы сейчас была дискуссия, — начала женщина, волнуясь
и загораясь румянцем, — я бы доказала Петру Александровичу...
52
— Виноват, вы не сию минуту хотите открыть эту дискуссию? —
вежливо спросил Филипп Филиппович.
Глаза женщины загорелись.
— Я понимаю вашу иронию, профессор, мы сейчас уйдём... Только
я, как заведующий культотделом дома...
— За-ве-дующая, — поправил её Филипп Филиппович.
— Хочу предложить вам, — тут женщина из-за пазухи вытащила
несколько ярких и мокрых от снега журналов, — взять несколько
журналов в пользу детей Германии. По полтиннику штука.
— Нет, не возьму, — кратко ответил Филипп Филиппович, покосившись на журналы.
Совершенное изумление выразилось на лицах, а женщина покрылась клюквенным налётом.
— Почему же вы отказываетесь?
— Не хочу.
— Вы не сочувствуете детям Германии?
— Сочувствую.
— Жалеете по полтиннику?
— Нет.
— Так почему же?
— Не хочу.
Помолчали.
— Знаете ли, профессор, — заговорила девушка, тяжело вздохнув, — если бы вы не были европейским светилом и за вас не заступались бы самым возмутительным образом (блондин дёрнул её за край
куртки, но она отмахнулась) лица, которых, я уверена, мы ещё разъясним, вас следовало бы арестовать.
— А за что? — с любопытством спросил Филипп Филиппович.
— Вы ненавистник пролетариата! — гордо сказала женщина.
— Да, я не люблю пролетариата, — печально согласился Филипп
Филиппович и нажал кнопку. Где-то прозвенело. Открылась дверь
в коридор.
— Зина, — крикнул Филипп Филиппович, — подавай обед. Вы позволите, господа?
Четверо молча вышли из кабинета, молча прошли приёмную, молча — переднюю, и слышно было, как за ними закрылась тяжело
и звучно парадная дверь.
Пёс встал на задние лапы и сотворил перед Филиппом Филипповичем какой-то намаз1!
III
На разрисованных райскими цветами тарелках с чёрной широкой
каймой лежала тонкими ломтиками нарезанная сёмга, маринованные
угри. На тяжёлой доске кусок сыра со слезой, и в серебряной кадушке, обложенной снегом, — икра. Меж тарелками несколько тоненьких
1
Намаз — мусульманский религиозный обряд.
53
рюмочек и три хрустальных графинчика с разноцветными водками.
Все эти предметы помещались на маленьком мраморном столике, уютно присоединившемся к громадному резного дуба буфету, изрыгающему пучки стеклянного и серебряного света. Посреди комнаты — тяжёлый, как гробница, стол, накрытый белой скатертью, а на ней два
прибора, салфетки, свёрнутые в виде папских тиар, и три тёмные бутылки.
Зина внесла серебряное крытое блюдо, в котором что-то ворчало.
Запах от блюда шёл такой, что рот пса немедленно наполнился жидкой
слюной. «Сады Семирамиды!» — подумал он и застучал по паркету
хвостом, как палкой.
— Сюда их, — хищно скомандовал Филипп Филиппович. — Доктор Борменталь, умоляю вас, оставьте икру в покое. И если хотите послушаться доброго совета: налейте не английской, а обыкновенной
русской водки.
Красавец тяпнутый — он был уже без халата, в приличном чёрном
костюме — передёрнул широкими плечами, вежливо ухмыльнулся
и налил прозрачной.
— Ново-благословенная? — осведомился он.
— Бог с вами, голубчик, — отозвался хозяин. — Это спирт. Дарья
Петровна сама отлично готовит водку.
— Не скажите, Филипп Филиппович, все утверждают, что очень
приличная — 30 градусов.
— А водка должна быть в 40 градусов, а не в 30, это во-первых, — наставительно перебил Филипп Филиппович, — а во-вторых, бог их знает, чего они туда плеснули. Вы можете сказать, что им придёт в голову?
— Всё, что угодно, — уверенно молвил тяпнутый.
— И я того же мнения, — добавил Филипп Филиппович и вышвырнул одним комком содержимое рюмки себе в горло, — ...мм...
доктор Борменталь, умоляю вас, мгновенно эту штучку, и если вы скажете, что это... я ваш кровный враг на всю жизнь. От Севильи до Гренады...
Сам он с этими словами подцепил на лапчатую серебряную вилку
что-то похожее на маленький тёмный хлебик. Укушенный последовал
его примеру. Глаза Филиппа Филипповича засветились.
— Это плохо? — жуя, спрашивал Филипп Филиппович. — Плохо?
Вы ответьте, уважаемый доктор.
— Это бесподобно, — искренно ответил тяпнутый.
— Ещё бы... Заметьте, Иван Арнольдович, холодными закусками
и супом закусывают только недорезанные большевиками помещики.
Мало-мальски уважающий себя человек оперирует закусками горячими. А из горячих московских закусок — это первая. Когда-то их великолепно приготовляли в Славянском базаре. На, получай.
— Пса в столовой прикармливаете, — раздался женский голос, — а потом его отсюда калачом не выманишь.
— Ничего. Бедняга наголодался, — Филипп Филиппович на конце
вилки подал псу закуску, принятую тем с фокусной ловкостью, и вилку с грохотом свалил в полоскательницу.
54
Засим от тарелок поднимался пахнущий раками пар; пёс сидел
в тени скатерти с видом часового у порохового склада. А Филипп
Филиппович, заложив хвост тугой салфетки за воротничок, проповедовал:
— Еда, Иван Арнольдович, штука хитрая. Есть нужно уметь,
а представьте себе — большинство людей вовсе есть не умеют. Нужно
не только знать — что съесть, но и когда и как. (Филипп Филиппович
многозначительно потряс ложкой.) И что при этом говорить. Да-с.
Если вы заботитесь о своём пищеварении, мой добрый совет — не говорите за обедом о большевизме и о медицине. И — боже вас сохрани — не читайте до обеда советских газет.
— Гм... Да ведь других нет.
— Вот никаких и не читайте. Вы знаете, я произвёл 30 наблюдений у себя в клинике. И что же вы думаете? Пациенты, не читающие
газет, чувствуют себя превосходно. Те же, которых я специально заставлял читать «Правду», — теряли в весе.
— Гм... — с интересом отозвался тяпнутый, розовея от супа и вина.
— Мало этого. Пониженные коленные рефлексы, скверный аппетит, угнетённое состояние духа.
— Вот чёрт...
— Да-с. Впрочем, что ж это я? Сам же заговорил о медицине.
Филипп Филиппович, откинувшись, позвонил, и в вишнёвой портьере появилась Зина. Псу достался бледный и толстый кусок осетрины, которая ему не понравилась, а непосредственно за этим ломоть
окровавленного ростбифа. Слопав его, пёс вдруг почувствовал, что
он хочет спать и больше не может видеть никакой еды. «Странное
ощущение, — думал он, захлопывая отяжелевшие веки, — глаза бы
мои не смотрели ни на какую пищу. А курить после обеда — это глупость».
Столовая наполнилась неприятным синим дымом. Пёс дремал, уложив голову на передние лапы.
— «Сен-Жюльен» — приличное вино, — сквозь сон слышал пёс, —
но только ведь теперь же его нету.
Глухой, смягчённый потолками и коврами хорал донёсся откуда-то
сверху и сбоку.
Филипп Филиппович позвонил, и пришла Зина.
— Зинуша, что это такое значит?
— Опять общее собрание сделали, Филипп Филиппович, — ответила Зина.
— Опять! — горестно воскликнул Филипп Филиппович, — ну, теперь, стало быть, пошло, пропал Калабуховский дом. Придётся уезжать, но куда — спрашивается. Всё будет как по маслу. Вначале каждый вечер пение, затем в сортирах замёрзнут трубы, потом лопнет
котёл в паровом отоплении и так далее. Крышка Калабухову.
— Убивается Филипп Филиппович, — заметила, улыбаясь, Зина
и унесла груду тарелок.
— Да ведь как не убиваться?! — возопил Филипп Филиппович, —
ведь это какой дом был — вы поймите!
55
— Вы слишком мрачно смотрите на вещи, Филипп Филиппович, —
возразил красавец тяпнутый, — они теперь резко изменились.
— Голубчик, вы меня знаете? Не правда ли? Я — человек фактов, человек наблюдения. Я — враг необоснованных гипотез. И это
очень хорошо известно не только в России, но и в Европе. Если
я что-нибудь говорю, значит, в основе лежит некий факт, из которого я делаю вывод. И вот вам факт: вешалка и калошная стойка в нашем доме.
— Это интересно...
«Ерунда — калоши. Не в калошах счастье, — подумал пёс, — но
личность выдающаяся».
— Не угодно ли — калошная стойка. С 1903 года я живу в этом
доме. И вот, в течение этого времени, до марта 1917 года не было
ни одного случая — подчёркиваю красным карандашом: ни одного,
чтобы из нашего парадного внизу при общей незапертой двери пропала бы хоть одна пара калош. Заметьте, здесь 12 квартир, у меня
приём. В марте 17 года в один прекрасный день пропали все калоши,
в том числе две пары моих, 3 палки, пальто и самовар у швейцара.
И с тех пор калошная стойка прекратила своё существование. Голубчик! Я не говорю уже о паровом отоплении. Не говорю. Пусть: раз
социальная революция — не нужно топить. Но я спрашиваю: почему,
когда началась вся эта история, все стали ходить в грязных калошах
и валенках по мраморной лестнице? Почему калоши до сих пор нужно ещё запирать под замок? И ещё приставлять к ним солдата, чтобы
кто-либо их не стащил? Почему убрали ковёр с парадной лестницы?
Разве Карл Маркс запрещает держать на лестнице ковры? Разве гденибудь у Карла Маркса сказано, что 2-й подъезд Калабуховского дома
на Пречистенке следует забить досками и ходить кругом через чёрный
двор? Кому это нужно? Почему пролетарий не может оставить свои
калоши внизу, а пачкает мрамор?
— Да у него ведь, Филипп Филиппович, и вовсе нет калош, — заикнулся было тяпнутый.
— Ничего похожего! — громовым голосом ответил Филипп Филиппович и налил стакан вина. — Гм... я не признаю ликёров после обеда:
они тяжелят и скверно действуют на печень... Ничего подобного!
На нём есть теперь калоши, и эти калоши... мои! Это как раз те самые
калоши, которые исчезли весной 1917 года. Спрашивается, кто их попёр? Я? Не может быть. Буржуй Саблин? (Филипп Филиппович ткнул
пальцем в потолок.) Смешно даже предположить. Сахарозаводчик Полозов? (Филипп Филиппович указал вбок.) Ни в коем случае! Это сделали вот эти самые певуны! Да-с! Но хоть бы они их снимали на лестнице! (Филипп Филиппович начал багроветь.) На какого чёрта убрали
цветы с площадок? Почему электричество, которое, дай бог памяти,
тухло в течение 20 лет два раза, в теперешнее время аккуратно гаснет
раз в месяц? Доктор Борменталь, статистика — ужасная вещь. Вам,
знакомому с моей последней работой, это известно лучше, чем кому бы
то ни было другому.
— Разруха, Филипп Филиппович.
56
— Нет, — совершенно уверенно возразил Филипп Филиппович, —
нет. Вы первый, дорогой Иван Арнольдович, воздержитесь от употребления самого этого слова. Это — мираж, дым, фикция, — Филипп
Филиппович широко растопырил короткие пальцы, отчего две тени,
похожие на черепах, заёрзали по скатерти. — Что такое эта ваша разруха? Старуха с клюкой? Ведьма, которая выбила все стёкла, потушила все лампы? Да её вовсе и не существует. Что вы подразумеваете
под этим словом? — яростно спросил Филипп Филиппович у несчастной картонной утки, висящей кверху ногами рядом с буфетом, и сам
же ответил за неё. — Это вот что: если я, вместо того чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья
Петровна, в уборной начнётся разруха. Следовательно, разруха не
в клозетах, а в головах. Значит, когда эти баритоны кричат: «Бей разруху!» — я смеюсь. (Лицо Филиппа Филипповича перекосило так,
что тяпнутый открыл рот.) Клянусь вам, мне смешно! Это означает,
что каждый из них должен лупить себя по затылку! И вот, когда он
вылупит из себя всякие галлюцинации и займётся чисткой сараев —
прямым своим делом, — разруха исчезнет сама собой. Двум богам служить нельзя! Невозможно в одно и то же время подметать трамвайные
пути и устраивать судьбы каких-то испанских оборванцев! Это никому не удастся, доктор, и тем более — людям, которые вообще, отстав
в развитии от европейцев лет на 200, до сих пор ещё не совсем уверенно застёгивают свои собственные штаны!
Филипп Филиппович вошёл в азарт. Ястребиные ноздри его раздувались. Набравшись сил после сытного обеда, гремел он подобно
древнему пророку, и голова его сверкала серебром.
Его слова на сонного пса падали, точно глухой подземный гул.
То сова с глупыми жёлтыми глазами выскакивала в сонном видении,
то гнусная рожа повара в белом грязном колпаке, то лихой ус Филиппа Филипповича, освещённый резким электричеством от абажура,
то сонные сани скрипели и пропадали, а в собачьем желудке варился,
плавая в соку, истерзанный кусок ростбифа.
«Он бы прямо на митингах мог деньги зарабатывать, — мутно мечтал пёс, — первоклассный деляга. Впрочем, у него и так, по-видимому,
денег куры не клюют».
— Городовой! — кричал Филипп Филиппович. — Городовой! — «Угугу-гу!» — какие-то пузыри лопались в мозгу пса... — Городовой! Это
и только это. И совершенно неважно — будет ли он с бляхой или же
в красном кепи. Поставить городового рядом с каждым человеком и заставить этого городового умерить вокальные порывы наших граждан.
Вы говорите — разруха. Я вам скажу, доктор, что ничто не изменится
к лучшему в нашем доме, да и во всяком другом доме, до тех пор, пока
не усмирят этих певцов! Лишь только они прекратят свои концерты,
положение само собой изменится к лучшему.
— Контрреволюционные вещи вы говорите, Филипп Филиппович, —
шутливо заметил тяпнутый, — не дай бог вас кто-нибудь услышит.
57
— Ничего опасного, — с жаром возразил Филипп Филиппович. —
Никакой контрреволюции. Кстати, вот ещё слово, которое я совершенно не выношу. Абсолютно неизвестно — что под ним скрывается? Чёрт
его знает! Так я и говорю: никакой этой самой контрреволюции в моих
словах нет. В них здравый смысл и жизненная опытность.
Тут Филипп Филиппович вынул из-за воротничка хвост блестящей изломанной салфетки и, скомкав, положил её рядом с недопитым стаканом вина. Укушенный тотчас поднялся и поблагодарил:
«Мерси».
— Минутку, доктор! — приостановил его Филипп Филиппович, вынимая из кармана брюк бумажник. Он прищурился, отсчитал белые
бумажки и протянул их укушенному со словами: — Сегодня вам, Иван
Арнольдович, 40 рублей причитается. Прошу.
Пострадавший от пса вежливо поблагодарил и, краснея, засунул
деньги в карман пиджака.
— Я сегодня вечером не нужен вам, Филипп Филиппович? — осведомился он.
— Нет, благодарю вас, голубчик. Ничего делать сегодня не будем.
Во-первых, кролик издох, а во-вторых, сегодня в Большом — «Аида».
А я давно не слышал. Люблю... Помните? Дуэт... Тари-ра-рим.
— Как это вы успеваете, Филипп Филиппович? — с уважением
спросил врач.
— Успевает всюду тот, кто никуда не торопится, — назидательно
объяснил хозяин. — Конечно, если бы я начал прыгать по заседаниям
и распевать целый день, как соловей, вместо того чтобы заниматься прямым своим делом, я бы никуда не поспел, — под пальцами Филиппа
Филипповича в кармане небесно заиграл репетитор, — начало девятого... Ко второму акту поеду... Я сторонник разделения труда. В Большом пусть поют, а я буду оперировать. Вот и хорошо. И никаких разрух... Вот что, Иван Арнольдович, вы всё же следите внимательно:
как только подходящая смерть, тотчас со стола — в питательную жидкость и ко мне!
— Не беспокойтесь, Филипп Филиппович, — патологоанатомы мне
обещали.
— Отлично, а мы пока этого уличного неврастеника понаблюдаем.
Пусть бок у него заживёт.
«Обо мне заботится, — подумал пёс, — очень хороший человек.
Я знаю, кто это. Он — волшебник, маг и кудесник из собачьей сказки... Ведь не может же быть, чтобы всё это я видел во сне. А вдруг — сон?
(Пёс во сне дрогнул.) Вот проснусь... и ничего нет. Ни лампы в шелку,
ни тепла, ни сытости. Опять начнётся подворотня, безумная стужа,
оледеневший асфальт, голод, злые люди... Столовая, снег... Боже,
как тяжело мне будет!..»
Но ничего этого не случилось. Именно подворотня растаяла, как
мерзкое сновидение, и более не вернулась.
Видно, уж не так страшна разруха. Невзирая на неё, дважды в день
серые гармоники под подоконником наливались жаром, и тепло волнами расходилось по всей квартире.
58
Совершенно ясно: пёс вытащил самый главный собачий билет. Глаза его теперь не менее двух раз в день наливались благодарными слезами
по адресу пречистенского мудреца. Кроме того, все трюмо в гостиной,
в приёмной между шкафами отражали удачливого пса-красавца.
«Я — красавец. Быть может, неизвестный собачий принц-инкогнито, — размышлял пёс, глядя на лохматого кофейного пса с довольной
мордой, разгуливающего в зеркальных далях. — Очень возможно,
что бабушка моя согрешила с водолазом. То-то я смотрю — у меня
на морде — белое пятно. Откуда оно, спрашивается? Филипп Филиппович — человек с большим вкусом, не возьмёт он первого попавшегося пса-дворнягу».
В течение недели пёс сожрал столько же, сколько в полтора последних голодных месяца на улице. Ну, конечно, только по весу. О качестве еды у Филиппа Филипповича и говорить не приходилось. Если
даже не принимать во внимание того, что ежедневно Дарьей Петровной закупалась груда обрезков на Смоленском рынке на 18 копеек,
достаточно упомянуть обеды в 7 часов вечера в столовой, на которых
пёс присутствовал, несмотря на протесты изящной Зины. Во время
этих обедов Филипп Филиппович окончательно получил звание божества. Пёс становился на задние лапы и жевал пиджак, пёс изучил звонок Филиппа Филипповича — два полнозвучных отрывистых хозяйских удара, и вылетал с лаем встречать его в передней. Хозяин вваливался в чёрно-бурой лисе, сверкая миллионом снежных блёсток,
пахнущий мандаринами, сигарами, духами, лимонами, бензином, одеколоном, сукном, и голос его, как командная труба, разносился по всему жилищу.
— Зачем ты, свинья, сову разорвал? Она тебе мешала? Мешала,
я тебя спрашиваю? Зачем профессора Мечникова разбил?
— Его, Филипп Филиппович, нужно хлыстом отодрать хоть один
раз, — возмущённо говорила Зина, — а то он совершенно избалуется.
Вы поглядите, что он с вашими калошами сделал.
— Никого драть нельзя, — волновался Филипп Филиппович, — запомни это раз навсегда. На человека и на животное можно действовать
только внушением. Мясо ему давали сегодня?
— Господи, он весь дом обожрал. Что вы спрашиваете, Филипп Филиппович. Я удивляюсь — как он не лопнет.
— Ну и пусть ест на здоровье... Чем тебе помешала сова, хулиган?
— У-у! — скулил пёс-подлиза и полз на брюхе, вывернув лапы.
Затем его с гвалтом волокли за шиворот через приёмную в кабинет. Пёс подвывал, огрызался, цеплялся за ковёр, ехал на заду, как
в цирке. Посредине кабинета на ковре лежала стеклянноглазая сова
с распоротым животом, из которого торчали какие-то красные тряпки, пахнущие нафталином. На столе валялся вдребезги разбитый портрет.
— Я нарочно не убрала, чтобы вы полюбовались, — расстроенно докладывала Зина, — ведь на стол вскочил, мерзавец! И за хвост её — цап!
Я опомниться не успела, как он её всю растерзал. Мордой его потычьте в сову, Филипп Филиппович, чтобы он знал, как вещи портить.
59
И начинался вой. Пса, прилипшего к ковру, тащили тыкать в сову,
причём пёс заливался горькими слезами и думал: «Бейте, только
из квартиры не выгоняйте».
— Сову чучельнику отправить сегодня же. Кроме того, вот тебе
8 рублей и 16 копеек на трамвай, съезди к Мюру, купи ему хороший
ошейник с цепью.
На следующий день на пса надели широкий блестящий ошейник.
В первый момент, поглядевшись в зеркало, он очень расстроился, поджал хвост и ушёл в ванную комнату, размышляя — как бы ободрать его
о сундук или ящик. Но очень скоро понял, что он — просто дурак. Зина
повела его гулять на цепи по Обухову переулку. Пёс шёл, как арестант,
сгорая от стыда, но, пройдя по Пречистенке до храма Христа, отлично
сообразил, что значит в жизни ошейник. Бешеная зависть читалась
в глазах у всех встречных псов, а у Мёртвого переулка — какой-то долговязый с обрубленным хвостом дворняга облаял его «барской сволочью» и «шестёркой». Когда пересекали трамвайные рельсы, милиционер
посмотрел на ошейник с удовольствием и уважением, а когда вернулись,
произошло самое невиданное в жизни: Фёдор-швейцар собственноручно
отпер парадную дверь и впустил Шарика. Зине он при этом заметил:
— Ишь, каким лохматым обзавёлся Филипп Филиппович. И удивительно жирный.
— Ещё бы — за шестерых лопает, — пояснила румяная и красивая
от мороза Зина.
«Ошейник — всё равно что портфель», — сострил мысленно пёс и, виляя задом, последовал в бельэтаж, как барин.
Оценив ошейник по достоинству, пёс сделал первый визит в то главное отделение рая, куда до сих пор вход ему был категорически запрещён, — именно в царство поварихи Дарьи Петровны. Вся квартира
не стоила и двух пядей Дарьиного царства. Всякий день в чёрной
и сверху облицованной кафелем плите стреляло и бушевало пламя.
Духовой шкаф потрескивал. В багровых столбах горело вечной огненной мукой и неутолённой страстью лицо Дарьи Петровны. Оно лоснилось и отливало жиром. В модной причёске на уши и с корзинкой
светлых волос на затылке светились 22 поддельных бриллианта.
По стенам на крюках висели золотые кастрюли, вся кухня громыхала
запахами, клокотала и шипела в закрытых сосудах...
— Вон! — завопила Дарья Петровна. — Вон, беспризорный карманник! Тебя тут не хватало! Я тебя кочергой!..
«Чего ты? Ну, чего лаешься? — умильно щурил глаза пёс. — Какой же я карманник? Ошейник вы разве не замечаете?» — и он боком
лез в дверь, просовывая в неё морду.
Шарик-пёс обладал каким-то секретом покорять сердца людей. Через два дня он уже лежал рядом с корзиной углей и смотрел, как работает Дарья Петровна. Острым узким ножом она отрубала беспомощным рябчикам головы и лапки, затем, как яростный палач, с костей
сдирала мякоть, из кур вырывала внутренности, что-то вертела в мясорубке. Шарик в это время терзал рябчикову голову. Из миски с молоком Дарья Петровна вытаскивала куски размокшей булки, сме-
60
шивала их на доске с мясной кашицей, заливала всё это сливками,
посыпала солью и на доске лепила котлеты. В плите гудело, как на пожаре, а на сковородке ворчало, пузырилось и прыгало. Заслонка с громом отпрыгивала, обнаруживала страшный ад, в котором пламя клокотало и переливалось.
Вечером потухала каменная пасть, в окне кухни, над белой половинной занавесочкой стояла густая и важная пречистенская ночь
с одинокой звездой. В кухне было сыро на полу, кастрюли сияли таинственно и тускло, на столе лежала пожарная фуражка. Шарик лежал на тёплой плите, как лев на воротах, и, задрав от любопытства
одно ухо, глядел, как черноусый и взволнованный человек в широком
кожаном поясе за полуприкрытой дверью в комнате Зины и Дарьи Петровны обнимал Дарью Петровну. Лицо у той горело мукой и страстью, всё, кроме мертвенного напудренного носа. Щель света лежала
на портрете черноусого, и пасхальный розан свисал с него.
— Как демон пристал, — бормотала в полумраке Дарья Петровна, — отстань! Зина сейчас придёт. Что ты, чисто тебя тоже омолодили?
— Нам это ни к чему, — плохо владея собой и хрипло отвечал черноусый. — До чего вы огненная!
Вечерами пречистенская звезда скрывалась за тяжкими шторами,
и, если в Большом театре не было «Аиды» и не было заседания Всероссийского хирургического общества, божество помещалось в кабинете в глубоком кресле. Огней под потолком не было. Горела только одна
зелёная лампа на столе. Шарик лежал на ковре в тени и не отрываясь
глядел на ужасные дела. В отвратительной едкой и мутной жиже
в стеклянных сосудах лежали человеческие мозги. Руки божества,
обнажённые по локоть, были в рыжих резиновых перчатках, и скользкие тупые пальцы копошились в извилинах. Временами божество вооружалось маленьким сверкающим ножиком и тихонько резало жёлтые упругие мозги.
— К берегам священным Нила, — тихонько напевало божество, закусывая губы и вспоминая золотую внутренность Большого театра.
Трубы в этот час нагревались до высшей точки. Тепло от них поднималось к потолку, оттуда расходилось по всей комнате, в пёсьей
шкуре оживала последняя, ещё не вычесанная самим Филиппом Филипповичем, но уже обречённая блоха. Ковры глушили звуки в квартире. А потом далеко звенела входная дверь.
«Зинка в кинематограф пошла, — думал пёс, — а как придёт, ужинать, стало быть, будем. Сегодня, надо полагать, — телячьи отбивные!»
__________
В этот ужасный день ещё утром Шарика кольнуло предчувствие.
Вследствие этого он вдруг заскучал и утренний завтрак — полчашки
овсянки и вчерашнюю баранью косточку — съел без всякого аппетита.
Он скучно прошёлся в приёмную и легонько подвыл там на собственное отражение. Но днём, после того как Зина сводила его погулять
на бульвар, день пошёл обычно. Приёма сегодня не было, потому что,
как известно, по вторникам приёма не бывает, и божество сидело в ка-
61
бинете, развернув на столе какие-то тяжёлые книги с пёстрыми картинками. Ждали обеда. Пса несколько оживила мысль о том, что сегодня на второе блюдо, как он точно узнал на кухне, будет индейка.
Проходя по коридору, пёс услышал, как в кабинете Филиппа Филипповича неприятно и неожиданно прозвенел телефон. Филипп Филиппович взял трубку, прислушался и вдруг взволновался.
— Отлично, — послышался его голос, — сейчас же везите, сейчас же!
Он засуетился, позвонил и вошедшей Зине приказал срочно подавать обед.
— Обед! Обед! Обед!
В столовой тотчас застучали тарелками, Зина забегала, из кухни
послышалась воркотня Дарьи Петровны, что индейка не готова. Пёс
опять почувствовал волнение.
«Не люблю кутерьмы в квартире», — раздумывал он... И только он
это подумал, как кутерьма приняла ещё более неприятный характер.
И прежде всего благодаря появлению тяпнутого некогда доктора
Борменталя. Тот привёз с собой дурно пахнущий чемодан и, даже не раздеваясь, устремился с ним через коридор в смотровую. Филипп Филиппович бросил недопитую чашку кофе, чего с ним никогда не случалось,
выбежал навстречу Борменталю, чего с ним тоже никогда не бывало.
— Когда умер? — закричал он.
— Три часа назад, — ответил Борменталь, не снимая заснеженной
шапки и расстёгивая чемодан.
«Кто такой умер? — хмуро и недовольно подумал пёс и сунулся под
ноги, — терпеть не могу, когда мечутся».
— Уйди из-под ног! Скорей, скорей, скорей! — закричал Филипп
Филиппович на все стороны и стал звонить во все звонки, как показалось псу.
Прибежала Зина.
— Зина! К телефону Дарью Петровну, записывать, никого не принимать! Ты нужна. Доктор Борменталь, умоляю вас — скорей, скорей,
скорей!
«Не нравится мне, не нравится», — пёс обиженно нахмурился
и стал шляться по квартире, а вся суета сосредоточилась в смотровой.
Зина оказалась неожиданно в халате, похожем на саван, и начала бегать из смотровой в кухню и обратно.
«Пойти, что ль, пожрать? Ну их в болото», — решил пёс и вдруг
получил сюрприз.
— Шарику ничего не давать, — загремела команда из смотровой.
— Усмотришь за ним, как же.
— Запереть!
И Шарика заманили и заперли в ванной.
«Хамство, — подумал Шарик, сидя в полутёмной ванной комнате, — просто глупо...»
И около четверти часа он пробыл в ванной в странном настроении
духа — то в злобе, то в каком-то тяжёлом упадке. Всё было скучно,
неясно...
62
«Ладно, будете вы иметь калоши завтра, многоуважаемый Филипп
Филиппович, — думал он, — две пары уже пришлось прикупить, и ещё
одну купите. Чтоб вы псов не запирали».
Но вдруг его яростную мысль перебило. Внезапно и ясно почему-то вспомнился кусок самой ранней юности — солнечный необъятный двор у Преображенской заставы, осколки солнца в бутылках, битый кирпич, вольные псы-побродяги.
«Нет, куда уж, ни на какую волю отсюда не уйдёшь, зачем лгать, —
тосковал пёс, сопя носом, — привык. Я, барский пёс, интеллигентное
существо, отведал лучшей жизни. Да и что такое воля? Так, дым, мираж, фикция... Бред этих злосчастных демократов...»
Потом полутьма ванной стала страшной, он завыл, бросился на
дверь, стал царапаться.
— У-у-у! — как в бочку пролетело по квартире.
«Сову раздеру опять», — бешено, но бессильно подумал пёс. Затем
ослаб, полежал, а когда поднялся, шерсть на нём стала вдруг дыбом,
почему-то в ванне померещились отвратительные волчьи глаза.
И в разгар муки дверь раскрылась. Пёс вышел, отряхнувшись,
и угрюмо собрался на кухню, но Зина за ошейник настойчиво повлекла его в смотровую. Холодок прошёл у пса под сердцем.
«Зачем же я понадобился? — подумал он подозрительно. — Бок зажил, ничего не понимаю».
И он поехал лапами по скользкому паркету, так и был привезён
в смотровую. В ней сразу поразило невиданное освещение. Белый шар
под потолком сиял до того, что резало глаза. В белом сиянии стоял
жрец и сквозь зубы напевал про священные берега Нила. Только по
смутному запаху можно было узнать, что это Филипп Филиппович.
Подстриженная его седина скрывалась под белым колпаком, напоминающим патриарший куколь; божество было всё в белом, а поверх белого, как епитрахиль1, был надет резиновый узкий фартук. Руки —
в чёрных перчатках.
В куколе оказался и тяпнутый. Длинный стол был раскинут, а сбоку придвинули маленький, четырёхугольный, на блестящей ноге.
Пёс здесь возненавидел больше всего тяпнутого и больше всего
за его сегодняшние глаза. Обычно смелые и прямые, ныне они бегали
во все стороны от пёсьих глаз. Они были насторожённые, фальшивые,
и в глубине их таилось нехорошее, пакостное дело, если не целое преступление. Пёс глянул на него тяжело и пасмурно и ушёл в угол.
— Ошейник, Зина, — негромко молвил Филипп Филиппович, —
только не волнуй его.
У Зины мгновенно стали такие же мерзкие глаза, как у тяпнутого.
Она подошла к псу и явно фальшиво погладила его. Тот с тоской и презрением поглядел на неё.
«Что же... вас трое. Возьмёте, если захотите. Только стыдно вам...
Хоть бы я знал, что будете делать со мной...»
1
Епитрахиль — одно из облачений священника Русской православной церкви, надеваемое
на шею, в виде передника с крестами, сшитого из двух широких лент, которые опускаются
до земли.
63
Зина отстегнула ошейник, пёс помотал головой, фыркнул. Тяпнутый вырос перед ним, и скверный мутнящий запах разлился от него.
«Фу, гадость... Отчего мне так мутно и страшно...» — подумал пёс
и попятился от тяпнутого.
— Скорее, доктор, — нетерпеливо молвил Филипп Филиппович.
Резко и сладко пахнуло в воздухе. Тяпнутый, не сводя с пса насторожённых дрянных глаз, высунул из-за спины правую руку и быстро ткнул псу в нос ком влажной ваты. Шарик оторопел, в голове
у него легонько закружилось, но он успел ещё отпрянуть. Тяпнутый
прыгнул за ним и вдруг залепил всю морду ватой. Тотчас же заперло
дыхание, но ещё раз пёс успел вырваться. «Злодей... — мелькнуло
в голове. — За что?» И ещё раз облепили. Тут неожиданно посреди
смотровой представилось озеро, а на нём в лодках очень весёлые загробные, небывалые розовые псы. Ноги лишились костей и согнулись.
— На стол! — весёлым голосом бухнули где-то слова Филиппа Филипповича и расплылись в оранжевых струях. Ужас исчез, сменился
радостью. Секунды две угасающий пёс любил тяпнутого. Затем весь
мир перевернулся дном кверху и была ещё почувствована холодная,
но приятная рука под животом! Потом — ничего.
IV
На узком операционном столе лежал, раскинувшись, пёс Шарик,
и голова его беспомощно колотилась о белую клеёнчатую подушку.
Живот его был выстрижен, и теперь доктор Борменталь, тяжело дыша
и спеша, машинкой въедаясь в шерсть, стриг голову Шарика. Филипп
Филиппович, опершись ладонями на край стола, блестящими, как золотые обода его очков, глазами наблюдал за этой процедурой и говорил взволнованно:
— Иван Арнольдович, самый важный момент — когда я войду
в турецкое седло. Мгновенно, умоляю вас, подайте отросток и тут же
шить. Если там у меня начнёт кровить, потеряем время и пса потеряем.
Впрочем, для него и так никакого шанса нету, — он помолчал, прищурил глаз, заглянул в как бы насмешливо полуприкрытый глаз пса
и добавил: — А знаете, жалко его. Представьте, я привык к нему.
Руки он вздымал в это время, как будто благословлял на трудный
подвиг злосчастного пса Шарика. Он старался, чтобы ни одна пылинка не села на чёрную резину.
Из-под выстриженной шерсти засверкала беловатая кожа собаки.
Борменталь отшвырнул машинку и вооружился бритвой. Он намылил
беспомощную маленькую голову и стал брить. Сильно хрустело под лезвием, кое-где выступила кровь. Обрив голову, тяпнутый мокрым бензиновым комочком обтёр её, затем оголённый живот пса растянул
и промолвил, отдуваясь: «Готово».
Зина открыла кран над раковиной, и Борменталь бросился мыть
руки. Зина из склянки полила их спиртом.
— Можно мне уйти, Филипп Филиппович? — спросила она, боязливо косясь на бритую голову пса.
64
— Можешь.
Зина пропала. Борменталь засуетился дальше. Лёгкими марлевыми салфеточками он обложил голову Шарика, и тогда на подушке оказался никем не виданный лысый пёсий череп и странная бородатая
морда.
Тут шевельнулся жрец. Он выпрямился, глянул на собачью голову
и сказал:
— Ну, господи, благослови. Нож.
Борменталь из сверкающей груды на столике вынул маленький
брюхатый ножик и подал его жрецу. Затем он облёкся в такие же чёрные перчатки, как и жрец.
— Спит? — спросил Филипп Филиппович.
— Спит.
Зубы Филиппа Филипповича сжались, глазки приобрели остренький колючий блеск, и, взмахнув ножичком, он метко и длинно протянул по животу Шарика рану. Кожа тотчас разошлась, и из неё брызнула кровь в разные стороны. Борменталь набросился хищно, стал
комьями марли давить Шарикову рану, затем маленькими, как бы
сахарными щипчиками зажал её края, и она высохла. На лбу у Борменталя пузырьками выступил пот. Филипп Филиппович полоснул
второй раз, и тело Шарика вдвоём начали разрывать крючьями, ножницами, какими-то скобками. Выскочили розовые и жёлтые, плачущие кровавой росой ткани. Филипп Филиппович вертел ножом в теле,
потом крикнул: «Ножницы!»
Инструмент мелькнул в руках у тяпнутого, как у фокусника. Филипп Филиппович залез в глубину и в несколько поворотов вырвал
из тела Шарика его семенные железы с какими-то обрывками. Борменталь, совершенно мокрый от усердия и волнения, бросился к стеклянной банке и извлёк из неё другие, мокрые, обвисшие семенные
железы. В руках у профессора и ассистента запрыгали, завились короткие влажные струны. Дробно защёлкали кривые иглы в зажимах,
семенные железы вшили на место Шариковых. Жрец отвалился от
раны, ткнул в неё комком марли и скомандовал:
— Шейте, доктор, мгновенно кожу, — затем оглянулся на круглые
белые стенные часы.
— 14 минут делали, — сквозь стиснутые зубы пропустил Борменталь и кривой иголкой впился в дряблую кожу. Затем оба заволновались, как убийцы, которые спешат.
— Нож! — крикнул Филипп Филиппович.
Нож вскочил ему в руки как бы сам собой, после чего лицо Филиппа Филипповича стало страшным. Он оскалил фарфоровые и золотые
коронки и одним приёмом навёл на лбу Шарика красный венец. Кожу
с бритыми волосами откинули как скальп. Обнажили костяной череп.
Филипп Филиппович крикнул:
— Трепан!
Борменталь подал ему блестящий коловорот. Кусая губы, Филипп
Филиппович начал втыкать коловорот и высверливать в черепе Шарика маленькие дырочки в сантиметре расстояния одна от другой так,
65
что они шли кругом всего черепа. На каждую он тратил не более пяти
секунд. Потом пилой невиданного фасона, всунув её хвост в первую
дырочку, начал пилить, как выпиливают дамский рукодельный ящик.
Череп тихо визжал и трясся. Минуты через три крышку черепа с Шарика сняли.
Тогда обнажился купол Шарикового мозга — серый с синеватыми
прожилками и красноватыми пятнами. Филипп Филиппович въелся
ножницами в оболочки и их вскрыл. Один раз ударил тонкий фонтан
крови, чуть не попал в глаз профессору и окропил его колпак. Борменталь с торзионным пинцетом, как тигр, бросился зажимать и зажал. Пот с Борменталя полз потоками, и лицо его стало мясистым
и разноцветным. Глаза его метались от рук профессора к тарелке
на инструментальном столе. Филипп же Филиппович стал положительно страшен. Сипение вырывалось из его носа, зубы открылись
до дёсен. Он ободрал оболочку с мозга и пошёл куда-то вглубь, выдвигая из вскрытой чаши полушария мозга. В это время Борменталь начал бледнеть, одной рукой охватил грудь Шарика и хрипловато сказал:
— Пульс резко падает...
Филипп Филиппович зверски оглянулся на него, что-то промычал
и врезался ещё глубже. Борменталь с хрустом сломал стеклянную
ампулку, насосал из неё шприц и коварно кольнул Шарика где-то
у сердца.
— Иду к турецкому седлу, — зарычал Филипп Филиппович и окровавленными скользкими перчатками выдвинул серо-жёлтый мозг Шарика из головы. На мгновение он скосил глаза на морду Шарика,
и Борменталь тотчас же сломал вторую ампулу с жёлтой жидкостью
и вытянул её в длинный шприц.
— В сердце? — робко спросил он.
— Что вы ещё спрашиваете? — злобно заревел профессор, — всё
равно он уже 5 раз у вас умер. Колите! Разве мыслимо? — Лицо у него
при этом стало как у вдохновенного разбойника.
Доктор с размаху легко всадил иглу в сердце пса.
— Живёт, но еле-еле, — робко прошептал он.
— Некогда рассуждать тут — живёт не живёт, — засипел страшный Филипп Филиппович, — я в седле. Всё равно помрёт!.. ах, ты чё...
К берегам священным Нила... Придаток давайте.
Борменталь подал ему склянку, в которой болтался на нитке в жидкости белый комочек. Одной рукой — «Не имеет равных в Европе...
ей-богу!» — смутно подумал Борменталь, — он выхватил болтающийся
комочек, а другой, ножницами, выстриг такой же в глубине гдето между распяленными полушариями. Шариков комочек он вышвырнул на тарелку, а новый заложил в мозг вместе с ниткой и своими
короткими пальцами, ставшими точно чудом тонкими и гибкими, ухитрился янтарной нитью его там замотать. После этого он выбросил
из головы какие-то распялки, пинцет, мозг упрятал назад в костяную
чашу, откинулся и уже поспокойнее спросил:
— Умер, конечно?..
66
— Нитевидный пульс, — ответил Борменталь.
— Ещё адреналину.
Профессор оболочками забросал мозг, отпиленную крышку приложил как по мерке, скальп надвинул и взревел:
— Шейте!
Борменталь минут в пять зашил голову, сломав три иглы.
И вот на подушке появилась на окрашенном кровью фоне безжизненная потухшая морда Шарика с кольцевой раной на голове.
Тут же Филипп Филиппович отвалился окончательно, как сытый
вампир, сорвал одну перчатку, выбросив из неё облако потной пудры,
другую разорвал, швырнул на пол и позвонил, нажав кнопку в стене. Зина появилась на пороге, отвернувшись, чтобы не видеть Шарика в крови. Жрец снял меловыми руками окровавленный куколь
и крикнул:
— Папиросу мне сейчас же, Зина. Всё свежее бельё и ванну!
Он подбородком лёг на край стола, двумя пальцами раздвинул правое веко пса, заглянул в явно умирающий глаз и молвил:
— Вот, чёрт возьми. Не издох. Ну, всё равно издохнет. Эх, доктор
Борменталь, жаль пса, ласковый был, хотя и хитрый.
V
Из дневника доктора Борменталя
Тонкая, в писчий лист форматом тетрадь. Исписана почерком Борменталя. На первых двух страницах он аккуратен, уборист и чёток,
в дальнейшем размашист, взволнован, с большим количеством клякс.
22 декабря 1924 г. Понедельник.
История болезни.
Лабораторная собака приблизительно 2 лет от роду, самец. Порода — дворняжка. Кличка — Шарик. Шерсть жидкая, кустами, буроватая, с подпалинами. Хвост цвета топлёного молока. На правом боку
следы совершенно зажившего ожога. Питание до поступления к профессору — плохое, после недельного пребывания — крайне упитанный.
Вес 8 кг (знак восклицат.). Сердце, лёгкие, желудок, температура...
23 декабря. В 8.30 часов вечера произведена первая в Европе операция по проф. Преображенскому: под хлороформенным наркозом удалены яичники Шарика и вместо них пересажены мужские яичники
с придатками и семенными канатиками, взятые от скончавшегося за
4 часа, 4 минуты до операции мужчины 28 лет и сохранявшиеся в стерилизованной физиологической жидкости по проф. Преображенскому.
Непосредственно вслед за сим удалён после трепанации черепной
крышки придаток мозга — гипофиз и заменён человеческим от вышеуказанного мужчины.
Введено 8 кубиков хлороформа, 1 шприц камфары, 2 шприца адреналина в сердце.
Показание к операции: постановка опыта Преображенского с комбинированной пересадкой гипофиза и яичек для выяснения вопроса
67
о приживаемости гипофиза, а в дальнейшем и о его влиянии на омоложение организма у людей.
Оперировал проф. Ф. Ф. Преображенский.
Ассистировал д-р И. А. Борменталь.
В ночь после операции: грозные повторные падения пульса. Ожидание смертельного исхода. Громадные дозы камфары по Преображенскому.
24 декабря. Утром — улучшение. Дыхание учащено вдвое, температура 42. Камфара, кофеин под кожу.
25 декабря. Вновь ухудшение. Пульс еле прощупывается, похолодание конечностей, зрачки не реагируют. Адреналин в сердце, камфара по Преображенскому, физиологический раствор в вену.
26 декабря. Некоторое улучшение. Пульс 180, дыхание 92, температура 41. Камфара, питание клизмами.
27 декабря. Пульс 152, дыхание 50, температура 39,8, зрачки реагируют. Камфара под кожу.
28 декабря. Значительное улучшение. В полдень внезапный проливной пот, температура 37,0. Операционные раны в прежнем состоянии. Перевязка. Появился аппетит. Питание жидкое.
29 декабря. Внезапно обнаружено выпадение шерсти на лбу и на боках туловища. Вызваны для консультации: профессор по кафедре кожных болезней Василий Васильевич Бундарев и директор московского
ветеринарного показательного института. Ими случай признан не описанным в литературе. Диагностика осталась неустановленной. Температура — нормальна.
(Запись карандашом.)
Вечером появился первый лай (8 ч. 15 мин.). Обращает внимание
резкое изменение тембра и понижение тона. Лай вместо слова «гаугау» на слоги «а-о», по окраске отдалённо напоминает стон.
30 декабря. Выпадение шерсти приняло характер общего облысения. Взвешивание дало неожиданный результат — вес 30 кг за счёт
роста (удлинения) костей. Пёс по-прежнему лежит.
31 декабря. Колоссальный аппетит.
В тетради — клякса. После кляксы торопливым почерком.
В 12 ч. 12 мин. дня пёс отчётливо пролаял А-б-ыр.
(В тетради перерыв и дальше, очевидно, по ошибке от волнения
написано):
1 декабря. (Перечёркнуто, поправлено.) 1 января 1925 г. Фотографирован утром. Отчётливо лает «Абыр», повторяя это слово громко
и как бы радостно. В 3 часа дня (крупными буквами) засмеялся, вызвав обморок горничной Зины. Вечером произнёс 8 раз подряд слово
«Абыр-валг», «Абыр».
Косыми буквами карандашом: профессор расшифровал слово
«Абыр-валг», оно означает «Главрыба»... Что-то чудовищ...
2 января. Фотографирован во время улыбки при магнии. Встал
с постели и уверенно держался полчаса на задних лапах. Моего почти
роста.
68
В тетради вкладной лист.
Русская наука чуть не понесла тяжёлую утрату.
История болезни профессора Преображенского.
В 1 час 13 мин. — глубокий обморок с проф. Преображенским.
При падении ударился головой о палку стула. Тинктура Валериана.
В моём и Зины присутствии пёс (если псом, конечно, можно назвать) обругал проф. Преображенского по матери.
__________
(Перерыв в записях.)
__________
6 января. (То карандашом, то фиолетовыми чернилами.)
Сегодня после того, как у него отвалился хвост, он произнёс совершенно отчётливо слово «пивная». Работает фонограф. Чёрт знает что
такое.
__________
Я теряюсь.
__________
Приём у профессора прекращён. Начиная с 5-ти час. дня из смотровой, где расхаживает это существо, слышится явственно вульгарная ругань и слова «ещё парочку».
7 января. Он произносит очень много слов: «Извозчик», «Мест
нету», «Вечерняя газета», «Лучший подарок детям» и все бранные
слова, какие только существуют в русском лексиконе.
Вид его странен. Шерсть осталась только на голове, на подбородке
и на груди. В остальном он лыс, с дряблой кожей. В области половых
органов — формирующийся мужчина. Череп увеличивается значительно. Лоб скошен и низок.
__________
Ей-богу, я с ума сойду.
__________
Филипп Филиппович всё ещё чувствует себя плохо. Большинство
наблюдений веду я. (Фонограф, фотографии.)
__________
По городу расплылись слухи.
__________
Последствия неисчислимые. Сегодня днём весь переулок был полон
какими-то бездельниками и старухами. Зеваки стоят и сейчас ещё
под окнами. В утренних газетах появилась удивительная заметка.
«Слухи о марсианине в Обуховом переулке ни на чём не основаны. Они
распущены торговцами с Сухаревки и будут строго наказаны». О каком, к чёрту, марсианине? Ведь это — кошмар.
__________
Ещё лучше в «Вечерней» — написали, что родился ребёнок, который играет на скрипке. Тут же рисунок — скрипка и моя фотографи-
69
ческая карточка, и под ней подпись: «Проф. Преображенский, делавший кесарево сечение у матери». Это — что-то неописуемое... Он
говорит новое слово «милиционер».
__________
Оказывается, Дарья Петровна была в меня влюблена и свистнула
карточку из альбома Филиппа Филипповича. После того как прогнал
репортёров, один из них пролез на кухню и т. д.
__________
Что творится во время приёма! Сегодня было 82 звонка. Телефон
выключен. Бездетные дамы с ума сошли и идут...
__________
В полном составе домком во главе со Швондером. Зачем — сами
не знают.
8 января. Поздним вечером поставили диагноз. Филипп Филиппович, как истый учёный, признал свою ошибку — перемена гипофиза
даёт не омоложение, а полное о ч е л о в е ч е н и е (подчёркнуто три
раза). От этого его изумительное, потрясающее открытие не становится ничуть меньше.
Тот сегодня впервые прошёлся по квартире. Смеялся в коридоре,
глядя на электрическую лампу. Затем, в сопровождении Филиппа Филипповича и меня, он проследовал в кабинет. Он стойко держится
на задних лапах (зачёркнуто)... на ногах и производит впечатление
маленького и плохо сложённого мужчины.
Смеялся в кабинете. Улыбка его неприятна и как бы искусственна.
Затем он почесал затылок, огляделся, и я записал новое, отчётливо
произнесённое слово: «буржуи». Ругался. Ругань эта методическая,
беспрерывная и, по-видимому, совершенно бессмысленная. Она носит
несколько фонографический характер: как будто это существо где-то
раньше слышало бранные слова, автоматически, подсознательно занесло их в свой мозг и теперь изрыгает их пачками. А впрочем, я не психиатр, чёрт меня возьми.
На Филиппа Филипповича брань производит почему-то удивительно тягостное впечатление. Бывают моменты, когда он выходит из сдержанного и холодного наблюдения новых явлений и как бы теряет терпение. Так, в момент ругани он вдруг нервно выкрикнул:
— Перестать!
Это не произвело никакого эффекта.
После прогулки в кабинете общими усилиями Шарик был водворён
в смотровую.
После этого мы имели совещание с Филиппом Филипповичем.
Впервые, я должен сознаться, видел я этого уверенного и поразительно умного человека растерянным. Напевая по своему обыкновению, он
спросил: «Что же мы теперь будем делать?» И сам же ответил буквально так: «Москвошвея, да... От Севильи до Гренады. Москвошвея,
дорогой доктор...» Я ничего не понял. Он пояснил: «Я вас прошу, Иван
Арнольдович, купить ему бельё, штаны и пиджак».
70
9 января. Лексикон обогащается каждые пять минут (в среднем)
новым словом, с сегодняшнего утра, и фразами. Похоже, что они, замёрзшие в сознании, оттаивают и выходят. Вышедшее слово остаётся
в употреблении. Со вчерашнего вечера фонографом отмечены: «Не толкайся», «Подлец», «Слезай с подножки», «Я тебе покажу», «Признание Америки», «Примус».
10 января. Произошло одевание. Нижнюю сорочку позволил надеть
на себя охотно, даже весело смеясь. От кальсон отказался, выразив
протест хриплыми криками: «В очередь, сукины дети, в очередь!» Был
одет. Носки ему велики.
(В тетради какие-то схематические рисунки, по всем признакам
изображающие превращение собачьей ноги в человеческую.)
Удлиняется задняя половина скелета стопы (planta). Вытягивание
пальцев. Когти.
Повторное систематическое обучение посещения уборной. Прислуга
совершенно подавлена.
Но следует отметить понятливость существа. Дело вполне идёт
на лад.
11 января. Совершенно примирился со штанами. Произнёс длинную весёлую фразу: «Дай папиросочку — у тебя брюки в полосочку».
Шерсть на голове — слабая, шелковистая. Легко спутать с волосами. Но подпалины остались на темени. Сегодня облез последний пух
с ушей. Колоссальный аппетит. С увлечением ест селёдку.
В 5 часов дня событие: впервые слова, произнесённые существом,
не были оторваны от окружающих явлений, а явились реакцией на
них. Именно: когда профессор приказал ему: «Не бросай объедки на
пол» — неожиданно ответил: «Отлезь, гнида».
Филипп Филиппович был поражён, потом оправился и сказал:
— Если ты ещё раз позволишь себе обругать меня или доктора, тебе
влетит.
Я фотографировал в это время Шарика. Ручаюсь, что он понял слова профессора. Угрюмая тень легла на его лицо. Поглядел исподлобья
довольно раздражённо, но стих.
Ура, он понимает!
12 января. Закладывание рук в карманы штанов. Отучаем от ругани. Свистал «Ой, яблочко». Поддерживает разговор.
Я не могу удержаться от нескольких гипотез: к чертям омоложение
пока что. Другое неизмеримо более важно: изумительный опыт проф.
Преображенского раскрыл одну из тайн человеческого мозга. Отныне
загадочная функция гипофиза — мозгового придатка — разъяснена. Он
определяет человеческий облик. Его гормоны можно назвать важнейшими в организме — гормонами облика. Новая область открывается
в науке: безо всякой реторты Фауста создан гомункул. Скальпель хирурга вызвал к жизни новую человеческую единицу. Проф. Преображенский, вы — творец. (Клякса.)
Впрочем, я уклонился в сторону... Итак, он поддерживает разговор.
По моему предположению, дело обстоит так: прижившийся гипофиз
открыл центр речи в собачьем мозгу, и слова хлынули потоком. По-
71
моему, перед нами оживший развернувшийся мозг, а не мозг вновь
созданный. О, дивное подтверждение эволюционной теории! О, цепь
величайшая от пса до Менделеева-химика! Ещё моя гипотеза: мозг
Шарика в собачьем периоде его жизни накопил бездну понятий. Все
слова, которыми он начал оперировать в первую очередь, — уличные
слова, он их слышал и затаил в мозгу. Теперь, проходя по улице,
я с тайным ужасом смотрю на встречных псов. Бог их знает, что у них
таится в мозгах.
__________
Шарик читал. Читал (3 восклицательных знака). Это я догадался.
По главрыбе. Именно с конца читал. И я даже знаю, где разрешение
этой загадки: в перерыве зрительных нервов собаки.
__________
Что в Москве творится — уму непостижимо человеческому. Семь
сухаревских торговцев уже сидят за распространение слухов о светопреставлении, которое навлекли большевики. Дарья Петровна говорила и даже точно называла число: 28 ноября 1925 года, в день преподобного мученика Стефана, земля налетит на небесную ось... Какие-то
жулики уже читают лекции. Такой кабак мы сделали с этим гипофизом, что хоть вон беги из квартиры. Я переехал к Преображенскому
по его просьбе и ночую в приёмной с Шариком. Смотровая превращена в приёмную. Швондер оказался прав. Домком злорадствует. В шкафах ни одного стекла, потому что прыгал. Еле отучили.
__________
С Филиппом что-то странное делается. Когда я ему рассказал о своих гипотезах и о надежде развить Шарика в очень высокую психическую личность, он хмыкнул и ответил: «Вы думаете?» Тон его зловещий. Неужели я ошибся? Старик что-то придумал. Пока я вожусь
с историей болезни, он сидит над историей того человека, от которого
мы взяли гипофиз.
__________
(В тетрадях вкладной лист.)
Клим Григорьевич Чугункин, 25 лет, холост. Беспартийный, сочувствующий. Судился 3 раза и оправдан: в первый раз благодаря недостатку улик, второй раз происхождение спасло, в третий раз — условно каторга на 15 лет. Кражи. Профессия — игра на балалайке по
трактирам.
Маленького роста, плохо сложён! Печень расширена (алкоголь).
Причина смерти — удар ножом в сердце в пивной («Стоп-Сигнал»,
у Преображенской заставы).
__________
Старик, не отрываясь, сидит над Климовской болезнью. Не понимаю — в чём дело. Бурчал что-то насчёт того, что вот не догадался
осмотреть в патологоанатомическом весь труп Чугункина. В чём дело — не понимаю. Не всё ли равно, чей гипофиз?
72
17 января. Не записывал несколько дней: болел инфлюэнцей. За это
время облик окончательно сложился.
а) совершенный человек по строению тела;
б) вес около 3-х пудов;
в) рост маленький;
г) голова маленькая;
д) начал курить;
е) ест человеческую пищу;
ж) одевается самостоятельно;
з) гладко ведёт разговор.
__________
Вот так гипофиз (клякса).
__________
Этим историю болезни заканчиваю. Перед нами новый организм;
наблюдать его нужно сначала.
Приложение: стенограммы речи, записи фонографа, фотографические снимки.
Подпись: ассистент профессора Ф. Ф. Преображенского
Доктор Борменталь.
VI
Был зимний вечер. Конец января. Предобеденное, предприёмное
время. На притолоке у двери в приёмную висел белый лист бумаги,
на коем рукою Филиппа Филипповича было написано:
«Семечки есть в квартире запрещаю.
Ф. Преображенский».
И синим карандашом крупными, как пирожные, буквами рукой
Борменталя:
«Игра на музыкальных инструментах от 5 часов дня до 7 часов утра
воспрещается».
Затем рукой Зины:
«Когда вернётесь, скажите Филиппу Филипповичу: я не знаю — куда
он ушёл. Фёдор говорил, что со Швондером».
Рукой Преображенского:
«Сто лет буду ждать стекольщика?»
Рукой Дарьи Петровны (печатно):
«Зина ушла в магазин, сказала, приведёт».
В столовой было совершенно по-вечернему, благодаря лампе под
шёлковым абажуром. Свет из буфета падал перебитый пополам, — зеркальные стёкла были заклеены косым крестом от одной фасетки до
другой. Филипп Филиппович, склонившись над столом, погрузился
в развёрнутый громадный лист газеты. Молнии коверкали его лицо,
и сквозь зубы сыпались оборванные, куцые воркующие слова. Он читал заметку:
«Никаких сомнений нет в том, что это его незаконнорождённый
(как выражались в гнилом буржуазном обществе) сын. Вот как раз-
73
влекается наша псевдоучёная буржуазия. Семь комнат каждый умеет
занимать до тех пор, пока блистающий меч правосудия не сверкнул
над ним красным лучом.
Шв...р».
Очень настойчиво, с залихватской ловкостью играли за двумя стенами на балалайке, и звуки хитрой вариации «Светит месяц» смешивались в голове Филиппа Филипповича со словами заметки в ненавистную кашу. Дочитав, он сухо плюнул через плечо и машинально
запел сквозь зубы:
— Све-е-етит месяц... све-е-етит месяц... све-тит месяц... Тьфу,
прицепилась, вот окаянная мелодия!
Он позвонил. Зинино лицо просунулось между полотнищами портьеры.
— Скажи ему, что 5 часов, чтобы прекратил, и позови его сюда,
пожалуйста.
Филипп Филиппович сидел у стола в кресле. Между пальцами левой руки торчал коричневый окурок сигары. У портьеры, прислонившись к притолоке, стоял, заложив ногу за ногу, человек маленького
роста и несимпатичной наружности. Волосы у него на голове росли
жёсткие, как бы кустами на выкорчеванном поле, а лицо покрывал
небритый пух. Лоб поражал своей малой вышиной. Почти непосредственно над чёрными кисточками раскиданных бровей начиналась густая головная щётка.
Пиджак, прорванный под левой мышкой, был усеян соломой, полосатые брючки на правой коленке продраны, а на левой выпачканы
лиловой краской. На шее у человека был повязан ядовито-небесного
цвета галстук с фальшивой рубиновой булавкой. Цвет этого галстука
был настолько бросок, что время от времени, закрывая утомлённые
глаза, Филипп Филиппович в полной тьме то на потолке, то на стене
видел пылающий факел с голубым венцом. Открывая их, слеп вновь,
так как с полу, разбрызгивая веера света, бросались в глаза лаковые
штиблеты с белыми гетрами.
«Как в калошах», — с неприятным чувством подумал Филипп Филиппович, вздохнул, засопел и стал возиться с затухшей сигарой. Человек у двери мутноватыми глазами поглядывал на профессора и курил папиросу, посыпая манишку пеплом.
Часы на стене рядом с деревянным рябчиком прозвенели пять раз.
Внутри них ещё что-то стонало, когда вступил в беседу Филипп Филиппович.
— Я, кажется, два раза уже просил не спать на полатях в кухне —
тем более днём?
Человек кашлянул сипло, точно подавившись косточкой, и ответил:
— Воздух в кухне приятнее.
Голос у него был необыкновенный, глуховатый и в то же время
гулкий, как в маленький бочонок.
Филипп Филиппович покачал головой и спросил:
— Откуда взялась эта гадость? Я говорю о галстуке.
74
Человек, глазами следуя пальцу, скосил их через оттопыренную
губу и любовно поглядел на галстук.
— Чем же «гадость»? — заговорил он, — шикарный галстук. Дарья
Петровна подарила.
— Дарья Петровна вам мерзость подарила, вроде этих ботинок. Что
это за сияющая чепуха? Откуда? Я что просил? Купить при-лич-ные
ботинки, а это что? Неужели доктор Борменталь такие выбрал?
— Я ему велел, чтобы лаковые. Что я, хуже людей? Пойдите на
Кузнецкий — все в лаковых.
Филипп Филиппович повертел головой и заговорил веско:
— Спаньё на полатях прекращается. Понятно? Что это за нахальство! Ведь вы мешаете. Там женщины.
Лицо человека потемнело, и губы оттопырились.
— Ну, уж и женщины. Подумаешь. Барыни какие. Обыкновенная
прислуга, а форсу, как у комиссарши. Это всё Зинка ябедничает.
Филипп Филиппович глянул строго:
— Не сметь называть Зину Зинкой! Понятно?
Молчание.
— Понятно, я вас спрашиваю?
— Понятно.
— Убрать эту пакость с шеи. Вы... ты... вы посмотрите на себя
в зеркало, на что вы похожи. Балаган какой-то. Окурки на пол не бросать — в сотый раз прошу. Чтобы я более не слышал ни одного ругательного слова в квартире! Не плевать! Вот плевательница. С писсуаром обращаться аккуратно. С Зиной всякие разговоры прекратить. Она
жалуется, что вы в темноте её подкарауливаете. Смотрите! Кто ответил
пациенту «пёс его знает»? Что вы, в самом деле, в кабаке, что ли?
М. А. Булгаков. «Собачье сердце». Кадр из телефильма.
Режиссёр В. Бортко. Шариков — актёр В. Толоконников
75
— Что-то вы меня, папаша, больно утесняете, — вдруг плаксиво
выговорил человек.
Филипп Филиппович покраснел, очки сверкнули.
— Кто это тут вам папаша? Что это за фамильярности? Чтобы
я больше не слышал этого слова! Называть меня по имени и отчеству!
Дерзкое выражение загорелось в человеке.
— Да что вы всё... То не плевать. То не кури. Туда не ходи... Что
уж это на самом деле? Чисто как в трамвае. Что вы мне жить не даёте?! И насчёт «папаши» — это вы напрасно. Разве я просил мне операцию делать? — человек возмущённо лаял. — Хорошенькое дело! Ухватили животную, исполосовали ножиком голову, а теперь гнушаются.
Я, может, своего разрешения на операцию не давал. А равно (человек
завёл глаза к потолку, как бы вспоминая некую формулу), а равно
и мои родные. Я иск, может, имею право предъявить.
Глаза Филиппа Филипповича сделались совершенно круглыми, сигара вывалилась из рук. «Ну, тип», — пролетело у него в голове.
— Вы изволите быть недовольным, что вас превратили в человека? — прищурившись, спросил он. — Вы, может быть, предпочитаете
снова бегать по помойкам? Мёрзнуть в подворотнях? Ну, если бы
я знал...
— Да что вы всё попрекаете — помойка, помойка. Я свой кусок
хлеба добывал. А если бы я у вас помер под ножом? Вы что на это
выразите, товарищ?
— Филипп Филиппович! — раздражённо воскликнул Филипп Филиппович, — я вам не товарищ! Это чудовищно! «Кошмар, кошмар», —
подумалось ему.
— Уж конечно, как же... — иронически заговорил человек и победоносно отставил ногу, — мы понимаем-с. Какие уж мы вам товарищи!
Где уж. Мы в университетах не обучались, в квартирах по 15 комнат
с ванными не жили. Только теперь пора бы это оставить. В настоящее
время каждый имеет своё право...
Филипп Филиппович, бледнея, слушал рассуждения человека. Тот
прервал речь и демонстративно направился к пепельнице с изжёванной папиросой в руке. Походка у него была развалистая. Он долго мял
окурок в раковине с выражением, ясно говорящим: «На! На!» Затушив
папиросу, он на ходу вдруг лязгнул зубами и сунул нос под мышку.
— Пальцами блох ловить! Пальцами! — яростно крикнул Филипп
Филиппович, — и я не понимаю — откуда вы их берёте?
— Да что уж, развожу я их, что ли? — обиделся человек, — видно,
блохи меня любят, — тут он пальцами пошарил в подкладке под рукавом и выпустил в воздух клок рыжей лёгкой ваты.
Филипп Филиппович обратил взор к гирляндам на потолке и забарабанил пальцами по столу. Человек, казнив блоху, отошёл и сел
на стул. Руки он при этом, опустив кисти, развесил вдоль лацканов
пиджака. Глаза его скосились к шашкам паркета. Он созерцал свои
башмаки, и это доставляло ему большое удовольствие. Филипп Филиппович посмотрел туда, где сияли резкие блики на тупых носках, глаза
прижмурил и заговорил:
76
— Какое дело ещё вы мне хотели сообщить?
— Да что ж дело! Дело простое. Документ, Филипп Филиппович,
мне надо.
Филиппа Филипповича несколько передёрнуло.
— Хм... Чёрт! Документ! Действительно... Кхм... а, может быть,
это как-нибудь можно... — голос его звучал неуверенно и тоскливо.
— Помилуйте, — уверенно ответил человек, — как же так без документа? Это уж — извиняюсь. Сами знаете, человеку без документов
строго воспрещается существовать. Во-первых, домком...
— При чём тут домком?
— Как это при чём? Встречают, спрашивают — когда ж ты, говорят, многоуважаемый, пропишешься?
— Ах ты, господи, — уныло воскликнул Филипп Филиппович, —
встречаются, спрашивают... Воображаю, что вы им говорите. Ведь
я же вам запрещал шляться по лестницам.
— Что я, каторжный? — удивился человек, и сознание его правоты
загорелось у него даже в рубине. — Как это так «шляться»?! Довольно
обидные ваши слова. Я хожу, как все люди.
При этом он посучил лакированными ногами по паркету.
Филипп Филиппович умолк, глаза его ушли в сторону. «Надо всётаки сдерживать себя», — подумал он. Подойдя к буфету, он одним
духом выпил стакан воды.
— Отлично-с, — поспокойнее заговорил он, — дело не в словах.
Итак, что говорит этот ваш прелестный домком?
— Что ж ему говорить... Да вы напрасно его прелестным ругаете.
Он интересы защищает.
— Чьи интересы, позвольте осведомиться?
— Известно чьи — трудового элемента.
Филипп Филиппович выкатил глаза.
— Почему же вы — труженик?
— Да уж известно — не нэпман.
— Ну, ладно. Итак, что же ему нужно в защитах вашего революционного интереса?
— Известно что — прописать меня. Они говорят — где ж это видано, чтоб человек проживал непрописанный в Москве? Это — раз. А самое главное — учётная карточка. Я дезертиром быть не желаю. Опять
же — союз, биржа...
— Позвольте узнать, по чему я вас пропишу? По этой скатерти или
по своему паспорту? Ведь нужно всё-таки считаться с положением.
Не забывайте, что вы... э... гм... вы ведь, так сказать, — неожиданно
явившееся существо, лабораторное. — Филипп Филиппович говорил
всё менее уверенно.
Человек победоносно молчал.
— Отлично-с. Что же, в конце концов, нужно, чтобы вас прописать
и вообще устроить всё по плану этого вашего домкома? Ведь у вас же
нет ни имени, ни фамилии.
— Это вы несправедливо. Имя я себе совершенно спокойно могу
избрать. Пропечатал в газете, и шабаш.
77
— Как же вам угодно именоваться?
Человек поправил галстук и ответил:
— Полиграф Полиграфович.
— Не валяйте дурака, — хмуро отозвался Филипп Филиппович, —
я с вами серьёзно говорю.
Язвительная усмешка искривила усишки человека.
— Что-то не пойму я, — заговорил он весело и осмысленно. — Мне
по матушке нельзя. Плевать — нельзя. А от вас только и слышу: «Дурак,
дурак». Видно, только профессорам разрешается ругаться в Ресефесере.
Филипп Филиппович налился кровью и, наполняя стакан, разбил
его. Напившись из другого, подумал: «Ещё немного, он меня учить
станет и будет совершенно прав. В руках не могу держать себя».
Он повернулся на стуле, преувеличенно вежливо склонил стан
и с железной твёрдостью произнёс:
— Из-вините. У меня расстроены нервы. Ваше имя показалось мне
странным. Где вы, интересно знать, откопали себе такое?
— Домком посоветовал. По календарю искали — какое тебе, говорят? Я и выбрал.
— Ни в каком календаре ничего подобного быть не может.
— Довольно удивительно, — человек усмехнулся, — когда у вас
в смотровой висит.
Филипп Филиппович, не вставая, закинулся к кнопке на обоях,
и на звонок явилась Зина.
— Календарь из смотровой.
Протекла пауза. Когда Зина вернулась с календарём, Филипп Филиппович спросил:
— Где?
— 4-го марта празднуется.
— Покажите... Гм... Чёрт... В печку его, Зина, сейчас же.
Зина, испуганно тараща глаза, ушла с календарём, а человек покачал укоризненно головой.
— Фамилию позвольте узнать?
— Фамилию я согласен наследственную принять.
— Как? Наследственную? Именно?
— Шариков.
__________
В кабинете перед столом стоял председатель домкома Швондер
в кожаной тужурке. Доктор Борменталь сидел в кресле. При этом
на румяных от мороза щеках доктора (он только что вернулся) было
столь же растерянное выражение, как и у Филиппа Филипповича, сидящего рядом.
— Как же писать? — нетерпеливо спросил он.
— Что же, — заговорил Швондер, — дело не сложное. Пишите удостоверение, гражданин профессор. Что так, мол, и так, предъявитель
сего действительно Шариков Полиграф Полиграфович, гм... зародившийся в вашей, мол, квартире.
Борменталь недоумённо шевельнулся в кресле. Филипп Филиппович дёрнул усом.
78
— Гм... вот чёрт! Глупее ничего себе и представить нельзя. Ничего
он не зародился, а просто... ну, одним словом...
— Это — ваше дело, — со спокойным злорадством вымолвил Швондер, — зародился или нет... В общем и целом ведь вы делали опыт,
профессор! Вы и создали гражданина Шарикова.
— И очень просто, — пролаял Шариков от книжного шкафа. Он
вглядывался в галстук, отражавшийся в зеркальной бездне.
— Я бы очень просил вас, — огрызнулся Филипп Филиппович, —
не вмешиваться в разговор. Вы напрасно говорите «и очень просто» —
это очень не просто.
— Как же мне не вмешиваться, — обидчиво забубнил Шариков.
Швондер немедленно его поддержал.
— Простите, профессор, гражданин Шариков совершенно прав. Это
его право — участвовать в обсуждении его собственной участи, в особенности постольку, поскольку дело касается документов. Документ —
самая важная вещь на свете.
В этот момент оглушительный трезвон над ухом оборвал разговор.
Филипп Филиппович сказал в трубку: «Да...», покраснел и закричал:
— Прошу не отрывать меня по пустякам. Вам какое дело? — И он
с силой всадил трубку в рогульки.
Голубая радость разлилась по лицу Швондера. Филипп Филиппович, багровея, прокричал:
— Одним словом, кончим это.
Он оторвал листок от блокнота и набросал несколько слов, затем
раздражённо прочитал вслух:
— «Сим удостоверяю...» Чёрт знает, что такое... Гм... «Предъявитель сего — человек, полученный при лабораторном опыте путём
операции на головном мозгу, нуждается в документах»... Чёрт! Да
я вообще против получения этих идиотских документов. Подпись —
«профессор Преображенский».
— Довольно странно, профессор, — обиделся Швондер, — как это
так вы документы называете идиотскими? Я не могу допустить пребывание в доме бездокументного жильца, да ещё не взятого на воинский
учёт милицией. А вдруг война с империалистическими хищниками?
— Я воевать не пойду никуда! — вдруг хмуро тявкнул Шариков
в шкаф.
Швондер оторопел, но быстро оправился и учтиво заметил Шарикову:
— Вы, гражданин Шариков, говорите в высшей степени несознательно. На воинский учёт необходимо взяться.
— На учёт возьмусь, а воевать — шиш с маслом, — неприязненно
ответил Шариков, поправляя бант.
Настала очередь Швондера смутиться. Преображенский злобно
и тоскливо переглянулся с Борменталем: «Не угодно ли — мораль».
Борменталь многозначительно кивнул головой.
— Я тяжко раненный при операции, — хмуро подвыл Шариков, —
меня, вишь, как отделали, — и он показал на голову. Поперёк лба тянулся очень свежий операционный шрам.
79
— Вы анархист-индивидуалист? — спросил Швондер, высоко поднимая брови.
— Мне белый билет полагается, — ответил Шариков на это.
— Ну-с, хорошо-с, не важно пока, — ответил удивлённый Швондер, — факт в том, что мы удостоверение профессора отправим в милицию и нам выдадут документ.
— Вот что, э... — внезапно перебил его Филипп Филиппович, очевидно терзаемый какой-то думой, — нет ли у вас в доме свободной комнаты? Я согласен её купить.
Жёлтенькие искры появились в карих глазах Швондера.
— Нет, профессор, к величайшему сожалению. И не предвидится.
Филипп Филиппович сжал губы и ничего не сказал. Опять как оглашенный загремел телефон. Филипп Филиппович, ничего не спрашивая, молча сбросил трубку с рогулек так, что она, покрутившись немного, повисла на голубом шнуре. Все вздрогнули. «Изнервничался
старик», — подумал Борменталь, а Швондер, сверкая глазами, поклонился и вышел.
Шариков, скрипя сапожным рантом, отправился за ним следом.
Профессор остался наедине с Борменталем. Немного помолчав, Филипп Филиппович мелко потряс головой и заговорил:
— Это кошмар, честное слово. Вы видите? Клянусь вам, дорогой
доктор, я измучился за эти две недели больше, чем за последние 14 лет!
Вот — тип, я вам доложу...
В отдалении глухо треснуло стекло, затем вспорхнул заглушённый
женский визг и тотчас потух. Нечистая сила шарахнула по обоям в коридоре, направляясь к смотровой, там чем-то грохнула и мгновенно
пролетела обратно. Захлопали двери, и в кухне отозвался низкий крик
Дарьи Петровны. Затем завыл Шариков.
— Боже мой, ещё что-то! — закричал Филипп Филиппович, бросаясь к дверям.
— Кот, — сообразил Борменталь и выскочил за ним вслед. Они понеслись по коридору в переднюю, ворвались в неё, оттуда свернули
в коридор к уборной и ванной. Из кухни выскочила Зина и вплотную
наскочила на Филиппа Филипповича.
— Сколько раз я приказывал — котов чтобы не было, — в бешенстве закричал Филипп Филиппович. — Где он?! Иван Арнольдович,
успокойте, ради бога, пациентов в приёмной!
— В ванной, в ванной проклятый чёрт сидит, — задыхаясь, закричала Зина.
Филипп Филиппович навалился на дверь ванной, но та не поддавалась.
— Открыть сию секунду!
В ответ в запертой ванной по стенам что-то запрыгало, обрушились
тазы, дикий голос Шарикова глухо проревел за дверью:
— Убью на месте...
Вода зашумела по трубам и полилась. Филипп Филиппович налёг
на дверь и стал её рвать. Распаренная Дарья Петровна с искажённым
лицом появилась на пороге кухни. Затем высокое стекло, выходящее
80
под самым потолком ванной в кухню, треснуло червивой трещиной,
и из него вывалились два осколка, а за ними выпал громаднейших
размеров кот в тигровых кольцах и с голубым бантом на шее, похожий
на городового. Он упал прямо на стол в длинное блюдо, расколов его
вдоль, с блюда на пол, затем повернулся на трёх ногах, а правой взмахнул, как будто в танце, и тотчас просочился в узкую щель на чёрную
лестницу. Щель расширилась, и кот сменился старушечьей физиономией в платке. Юбка старухи, усеянная белым горохом, оказалась
в кухне. Старуха указательным и большим пальцем обтёрла запавший
рот, припухшими и колючими глазами окинула кухню и произнесла
с любопытством:
— О, господи Иисусе!
Бледный Филипп Филиппович пересёк кухню и спросил старуху
грозно:
— Что вам надо?
— Говорящую собачку любопытно поглядеть, — ответила старуха
заискивающе и перекрестилась.
Филипп Филиппович ещё более побледнел, к старухе подошёл
вплотную и шепнул удушливо:
— Сию секунду из кухни вон!
Старуха попятилась к дверям и заговорила обидевшись:
— Что-то уж больно дерзко, господин профессор.
— Вон, я говорю! — повторил Филипп Филиппович, и глаза его
сделались круглыми, как у совы. Он собственноручно трахнул чёрной
дверью за старухой. — Дарья Петровна, я же просил вас!
— Филипп Филиппович, — в отчаянье ответила Дарья Петровна,
сжимая обнажённые руки в кулаки, — что же я поделаю? Народ целые
дни ломится, хоть всё бросай.
Вода в ванной ревела глухо и грозно, но голоса более не было слышно. Вошёл доктор Борменталь.
— Иван Арнольдович, убедительно прошу... гм... сколько там пациентов?
— Одиннадцать, — ответил Борменталь.
— Отпустите всех, сегодня принимать не буду.
Филипп Филиппович постучал костяшкой пальца в дверь и крикнул:
— Сию минуту извольте выйти! Зачем вы заперлись?
— Гу-гу! — жалобно и тускло ответил голос Шарикова.
— Какого чёрта!.. Не слышу, закройте воду.
— Гау! Гау!..
— Да закройте воду! Что он сделал — не понимаю... — приходя
в исступление, вскричал Филипп Филиппович.
Зина и Дарья Петровна, открыв дверь, выглядывали из кухни. Филипп Филиппович ещё раз прогрохотал кулаком в дверь.
— Вот он! — выкрикнула Дарья Петровна из кухни.
Филипп Филиппович ринулся туда. В разбитое окно под потолком
показалась и высунулась в кухню физиономия Полиграфа Полиграфовича. Она была перекошена, глаза плаксивы, а вдоль носа тянулась,
пламенея от свежей крови, царапина.
81
— Вы с ума сошли? — спросил Филипп Филиппович. — Почему вы
не выходите?
Шариков и сам в тоске и страхе оглянулся и ответил:
— Защёлкнулся я.
— Откройте замок. Что ж, вы никогда замка не видели?
— Да не открывается, окаянный! — испуганно ответил Полиграф.
— Батюшки! Он предохранитель защёлкнул! — вскричала Зина
и всплеснула руками.
— Там пуговка есть такая! — выкрикивал Филипп Филиппович,
стараясь перекричать воду, — нажмите её книзу... Вниз нажимайте!
Вниз!
Шариков пропал и через минуту вновь появился в окошке.
— Ни пса не видно, — в ужасе пролаял он в окно.
— Да лампу зажгите. Он взбесился!
— Котяра проклятый лампу раскокал, — ответил Шариков, —
а я стал его, подлеца, за ноги хватать, кран вывернул, а теперь найти
не могу.
Все трое всплеснули руками и в таком положении застыли.
Минут через пять Борменталь, Зина и Дарья Петровна сидели рядышком на мокром ковре, свёрнутом трубкою у подножия двери,
и задними местами прижимали его к щели под дверью, а швейцар Фёдор с зажжённой венчальной свечой Дарьи Петровны по деревянной
лестнице лез в слуховое окно. Его зад в крупной серой клетке мелькнул в воздухе и исчез в отверстии.
— Ду... гу-гу! — что-то кричал Шариков сквозь рёв воды.
Послышался голос Фёдора:
— Филипп Филиппович, всё равно надо открывать, пусть разойдётся, отсосём из кухни.
— Открывайте! — сердито крикнул Филипп Филиппович.
Тройка поднялась с ковра, дверь из ванной нажали, и тотчас волна
хлынула в коридорчик. В нём она разделилась на три потока: прямо —
в противоположную уборную, направо — в кухню и налево — в переднюю. Шлёпая и прыгая, Зина захлопнула в неё дверь. По щиколотку
в воде вышел Фёдор, почему-то улыбаясь. Он был как в клеёнке — весь
мокрый.
— Еле заткнул, напор большой, — пояснил он.
— Где этот? — спросил Филипп Филиппович и с проклятием поднял одну ногу.
— Боится выходить, — глупо усмехаясь, объяснил Фёдор.
— Бить будете, папаша, — донёсся плаксивый голос Шарикова
из ванной.
— Болван! — коротко отозвался Филипп Филиппович.
Зина и Дарья Петровна в подоткнутых до колен юбках, с голыми
ногами, и Шариков с швейцаром, босые, с закатанными штанами,
шваркали мокрыми тряпками по полу кухни и отжимали их в грязные вёдра и раковину. Заброшенная плита гудела. Вода уходила через дверь на гулкую лестницу прямо в пролёт лестницы и падала
в подвал.
82
Борменталь, вытянувшись на цыпочках, стоял в глубокой луже
на паркете в передней и вёл переговоры через чуть приоткрытую дверь
на цепочке.
— Не будет сегодня приёма, профессор нездоров. Будьте добры
отойти от двери, у нас труба лопнула...
— А когда же приём? — добивался голос за дверью, — мне бы только на минуточку...
— Не могу, — Борменталь переступил с носков на каблуки, — профессор лежит, и труба лопнула. Завтра прошу. Зина! Милая! Отсюда
вытирайте, а то она на парадную лестницу выльется.
— Тряпки не берут.
— Сейчас кружками вычерпаем, — отозвался Фёдор, — сейчас.
Звонки следовали один за другим, и Борменталь уже подошвой стоял в воде.
— Когда же операция? — приставал голос и пытался просунуться
в щель.
— Труба лопнула...
— Я бы в калошах прошёл...
Синеватые силуэты появились за дверью.
— Нельзя, прошу завтра.
— А я записан.
— Завтра. Катастрофа с водопроводом.
Фёдор у ног доктора ёрзал в озере, скрёб кружкой, а исцарапанный
Шариков придумал новый способ. Он скатал громадную тряпку в трубку, лёг животом в воду и погнал её из передней обратно к уборной.
М. А. Булгаков. «Собачье сердце». Кадр из телефильма.
Режиссёр В. Бортко. Шариков — актёр В. Толоконников
83
— Что ты, леший, по всей квартире гоняешь? — сердилась Дарья
Петровна, — выливай в раковину.
— Да что в раковину, — ловя руками мутную воду, отвечал Шариков, — она на парадное вылезет.
Из коридора со скрежетом выехала скамеечка, и на ней вытянулся,
балансируя, Филипп Филиппович в синих с полосками носках.
— Иван Арнольдович, бросьте вы отвечать. Идите в спальню, я вам
туфли дам.
— Ничего, Филипп Филиппович, какие пустяки.
— В калоши станьте.
— Да ничего. Всё равно уже ноги мокрые.
— Ах, боже мой! — расстраивался Филипп Филиппович.
— До чего вредное животное! — отозвался вдруг Шариков и выехал
на корточках с суповой миской в руке.
Борменталь захлопнул дверь, не выдержал и засмеялся. Ноздри
Филиппа Филипповича раздулись, очки вспыхнули.
— Вы про кого говорите? — спросил он у Шарикова с высоты, — позвольте узнать.
— Про кота я говорю. Такая сволочь, — ответил Шариков, бегая
глазами.
— Знаете, Шариков, — переводя дух, отозвался Филипп Филиппович, — я положительно не видал более наглого существа, чем вы.
Борменталь хихикнул.
— Вы, — продолжал Филипп Филиппович, — просто нахал. Как вы
смеете это говорить? Вы всё это учинили и ещё позволяете... Да нет!
Это чёрт знает что такое!
— Шариков, скажите мне, пожалуйста, — заговорил Борменталь, —
сколько времени ещё вы будете гоняться за котами? Стыдитесь! Ведь
это же безобразие! Дикарь!
— Какой я дикарь? — хмуро отозвался Шариков, — ничего я не дикарь. Его терпеть в квартире невозможно. Только и ищет — как бы
что своровать. Фарш слопал у Дарьи. Я его поучить хотел.
— Вас бы самого поучить! — ответил Филипп Филиппович, — вы
поглядите на свою физиономию в зеркале.
— Чуть глаза не лишил, — мрачно отозвался Шариков, трогая глаз
мокрой грязной рукой.
Когда чёрный от влаги паркет несколько подсох, все зеркала покрылись банным налётом и звонки прекратились, Филипп Филиппович в сафьяновых красных туфлях стоял в передней.
— Вот вам, Фёдор.
— Покорнейше благодарю.
— Переоденьтесь сейчас же. Да вот что: выпейте у Дарьи Петровны
водки.
— Покорнейше благодарю, — Фёдор помялся, потом сказал: — Тут
ещё, Филипп Филиппович. Я извиняюсь, уж прямо и совестно. Только — за стекло в 7-й квартире... Гражданин Шариков камнями швырял...
— В кота? — спросил Филипп Филиппович, хмурясь, как облако.
84
— То-то, что в хозяина квартиры. Он уж в суд грозился подавать.
— Чёрт!
— Кухарку Шариков ихнюю обнял, а тот его гнать стал. Ну, повздорили.
— Ради бога, вы мне всегда сообщайте сразу о таких вещах! Сколько нужно?
— Полтора.
Филипп Филиппович извлёк три блестящих полтинника и вручил
Фёдору.
— Ещё за такого мерзавца полтора целковых платить, — послышался в дверях глухой голос, — да он сам...
Филипп Филиппович обернулся, закусил губу и молча нажал
на Шарикова, вытеснил его в приёмную и запер его на ключ. Шариков
изнутри тотчас загрохотал кулаками в дверь.
— Не сметь! — явно больным голосом воскликнул Филипп Филиппович.
— Ну, уж это действительно, — многозначительно заметил Фёдор, — такого наглого я в жизнь свою не видал.
Борменталь как из-под земли вырос.
— Филипп Филиппович, прошу вас, не волнуйтесь.
Энергичный эскулап отпер дверь в приёмную, и оттуда донёсся его
голос:
— Вы что? В кабаке, что ли?
— Это так... — добавил решительно Фёдор, — вот это так... Да
по уху бы ещё!..
— Ну, что вы, Фёдор, — печально буркнул Филипп Филиппович.
— Помилуйте, вас жалко, Филипп Филиппович.
VII
— Нет, нет и нет! — настойчиво заговорил Борменталь, — извольте
заложить.
— Ну, что, ей-богу, — забурчал недовольно Шариков.
— Благодарю вас, доктор, — ласково сказал Филипп Филиппович, — а то мне уже надоело делать замечания.
— Всё равно не позволю есть, пока не заложите. Зина, примите
майонез у Шарикова.
— Как это так «примите»? — расстроился Шариков, — я сейчас заложу.
Левой рукой он заслонил блюдо от Зины, а правой запихнул салфетку за воротник и стал похож на клиента в парикмахерской.
— И вилкой, пожалуйста, — добавил Борменталь.
Шариков длинно вздохнул и стал ловить куски осетрины в густом
соусе.
— Я ещё водочки выпью? — заявил он вопросительно.
— А не будет ли вам? — осведомился Борменталь, — вы последнее
время слишком налегаете на водку.
— Вам жалко? — осведомился Шариков и глянул исподлобья.
85
— Глупости говорите... — вмешался суровый Филипп Филиппович, но Борменталь его перебил.
— Не беспокойтесь, Филипп Филиппович, я сам. Вы, Шариков,
чепуху говорите, и возмутительнее всего то, что говорите её безапелляционно и уверенно. Водки мне, конечно, не жаль, тем более что она
и не моя, а Филиппа Филипповича. Просто — это вредно. Это — раз,
а второе — вы и без водки держите себя неприлично.
Борменталь указал на заклеенный буфет.
— Зинуша, дайте мне, пожалуйста, ещё рыбы, — произнёс профессор.
Шариков тем временем потянулся к графинчику и, покосившись
на Борменталя, налил рюмочку.
— И другим надо предложить, — сказал Борменталь, — и так:
сперва Филиппу Филипповичу, затем мне, а в заключение себе.
Шариковский рот тронула едва заметная сатирическая улыбка,
и он разлил водку по рюмкам.
— Вот всё у вас, как на параде, — заговорил он, — салфетку — туда,
галстук — сюда, да «извините», да «пожалуйста — мерси», а так, чтобы по-настоящему, это — нет. Мучаете сами себя, как при царском
режиме.
— А как это «по-настоящему», позвольте осведомиться?
Шариков на это ничего не ответил Филиппу Филипповичу, а поднял рюмку и произнёс:
— Ну, желаю, чтобы все...
— И вам также, — с некоторой иронией отозвался Борменталь.
Шариков выплеснул содержимое рюмки себе в глотку, сморщился,
кусочек хлеба поднёс к носу, понюхал, а затем проглотил, причём глаза его налились слезами.
— Стаж, — вдруг отрывисто и как бы в забытьи проговорил Филипп Филиппович.
Борменталь удивлённо покосился.
— Виноват...
— Стаж! — повторил Филипп Филиппович и горько качнул головой, — тут уж ничего не поделаешь — Клим.
Борменталь с чрезвычайным интересом остро вгляделся в глаза Филиппа Филипповича:
— Вы полагаете, Филипп Филиппович?
— Нечего полагать, уверен в этом.
— Неужели... — начал Борменталь и остановился, покосившись на
Шарикова.
Тот подозрительно нахмурился.
— Spдter...1 — негромко сказал Филипп Филиппович.
— Gut2, — отозвался ассистент.
Зина внесла индейку. Борменталь налил Филиппу Филипповичу
красного вина и предложил Шарикову.
1
2
86
Позже (нем.).
Хорошо (нем.).
— Я не хочу. Я лучше водочки выпью. — Лицо его замаслилось,
на лбу проступил пот, он повеселел. И Филипп Филиппович несколько
подобрел после вина. Его глаза прояснились, он благосклоннее поглядывал на Шарикова, чёрная голова которого в салфетке сидела, как
муха в сметане.
Борменталь же, подкрепившись, обнаружил склонность к деятельности.
— Ну-с, что же мы с вами предпримем сегодня вечером? — осведомился он у Шарикова.
Тот поморгал глазами, ответил:
— В цирк пойдём, лучше всего.
— Каждый день в цирк, — благодушно заметил Филипп Филиппович, — это довольно скучно, по-моему. Я бы на вашем месте хоть раз
в театр сходил.
— В театр я не пойду, — неприязненно отозвался Шариков и перекрестил рот.
— Икание за столом отбивает у других аппетит, — машинально сообщил Борменталь. — Вы меня извините... Почему, собственно, вам
не нравится театр?
Шариков посмотрел в пустую рюмку, как в бинокль, подумал и оттопырил губы.
— Да дурака валяние... Разговаривают, разговаривают... Контрреволюция одна.
Филипп Филиппович откинулся на готическую спинку и захохотал
так, что во рту у него засверкал золотой частокол. Борменталь только
повертел головою.
— Вы бы почитали что-нибудь, — предложил он, — а то, знаете ли...
— Уж и так читаю, читаю... — ответил Шариков и вдруг хищно
и быстро налил себе полстакана водки.
— Зина, — тревожно закричал Филипп Филиппович, — убирай,
детка, водку. Больше уж не нужна. Что же вы читаете?
В голове у него вдруг мелькнула картина: необитаемый остров,
пальма, человек в звериной шкуре и колпаке. «Надо будет Робинзона...»
— Эту... Как её... переписку Энгельса с этим... как его — дьявола? — с Каутским.
Борменталь остановил на полдороге вилку с куском белого мяса,
а Филипп Филиппович расплескал вино. Шариков в это время изловчился и проглотил водку.
Филипп Филиппович локти положил на стол, вгляделся в Шарикова и спросил:
— Позвольте узнать, что вы можете сказать по поводу прочитанного?
Шариков пожал плечами.
— Да не согласен я.
— С кем? С Энгельсом или с Каутским?
— С обоими, — ответил Шариков.
87
— Это замечательно, клянусь богом. «Всех, кто скажет, что другая...» А что бы вы со своей стороны могли предложить?
— Да что тут предлагать?.. А то пишут, пишут... конгресс, немцы
какие-то... Голова пухнет. Взять всё, да и поделить...
— Так я и думал, — воскликнул Филипп Филиппович, шлёпнув ладонью по скатерти, — именно так и полагал.
— Вы и способ знаете? — спросил заинтересованный Борменталь.
— Да какой тут способ, — становясь словоохотливым после водки,
объяснил Шариков, — дело не хитрое. А то что ж: один в семи комнатах расселился, штанов у него 40 пар, а другой шляется, в сорных
ящиках питание ищет.
— Насчёт семи комнат — это вы, конечно, на меня намекаете? —
горделиво прищурившись, спросил Филипп Филиппович.
Шариков съёжился и промолчал.
— Что же, хорошо, я не против дележа. Доктор, скольким вы вчера отказали?
— 39-ти человекам, — тотчас ответил Борменталь.
— Гм... 390 рублей. Ну, грех на трёх мужчин. Дам — Зину и Дарью
Петровну — считать не станем. С вас, Шариков, 130 рублей. Потрудитесь внести.
— Хорошенькое дело, — ответил Шариков, испугавшись, — это за
что такое?
— За кран и за кота, — рявкнул вдруг Филипп Филиппович, выходя из состояния иронического спокойствия.
— Филипп Филиппович, — тревожно воскликнул Борменталь.
— Погодите. За безобразие, которое вы учинили и благодаря которому сорвали приём. Это же нестерпимо. Человек, как первобытный,
прыгает по всей квартире, рвёт краны. Кто убил кошку у мадам Поласухер? Кто...
— Вы, Шариков, третьего дня укусили даму на лестнице, — подлетел Борменталь.
— Вы стоите... — рычал Филипп Филиппович.
— Да она меня по морде хлопнула, — взвизгнул Шариков, — у меня
не казённая морда!
— Потому что вы её за грудь ущипнули, — закричал Борменталь,
опрокинув бокал, — вы стоите...
— Вы стоите на самой низшей ступени развития, — перекричал Филипп Филиппович, — вы ещё только формирующееся, слабое
в умственном отношении существо, все ваши поступки чисто звериные, и вы в присутствии двух людей с университетским образованием
позволяете себе с развязностью совершенно невыносимой подавать какие-то советы космического масштаба и космической же глупости
о том, как всё поделить... а в то же время вы наглотались зубного
порошку...
— Третьего дня, — подтвердил Борменталь.
— Ну вот-с, — гремел Филипп Филиппович, — зарубите себе
на носу, — кстати, почему вы стёрли с него цинковую мазь? — что вам
нужно молчать и слушать, что вам говорят. Учиться и стараться стать
88
хоть сколько-нибудь приемлемым членом социального общества. Кстати, какой негодяй снабдил вас этой книжкой?
— Все у вас негодяи, — испуганно ответил Шариков, оглушённый
нападением с двух сторон.
— Я догадываюсь, — злобно краснея, воскликнул Филипп Филиппович.
— Ну, что же. Ну, Швондер дал. Он не негодяй... Чтоб я развивался...
— Я вижу, как вы развиваетесь после Каутского, — визгливо и пожелтев крикнул Филипп Филиппович. Тут он яростно нажал на кнопку в стене. — Сегодняшний случай показывает это как нельзя лучше.
Зина!
— Зина! — кричал Борменталь.
— Зина! — орал испуганный Шариков.
Зина прибежала бледная.
— Зина, там в приёмной... Она в приёмной?
— В приёмной, — покорно ответил Шариков, — зелёная, как купорос.
— Зелёная книжка...
— Ну, сейчас палить, — отчаянно воскликнул Шариков, — она казённая, из библиотеки!
— Переписка — называется, как его... Энгельса с этим чёртом...
В печку её!
Зина улетела.
— Я бы этого Швондера повесил, честное слово, на первом суку, —
воскликнул Филипп Филиппович, яростно впиваясь в крыло индюшки, — сидит изумительная дрянь в доме — как нарыв. Мало того, что
он пишет всякие бессмысленные пасквили в газетах...
Шариков злобно и иронически начал коситься на профессора. Филипп Филиппович в свою очередь отправил ему косой взгляд и умолк.
«Ох, ничего доброго у нас, кажется, не выйдет в квартире», — вдруг
пророчески подумал Борменталь.
Зина внесла на круглом блюде рыжую с правого и румяную с левого бока бабу и кофейник.
— Я не буду её есть, — сразу угрожающе-неприязненно заявил Шариков.
— Никто вас не приглашает. Держите себя прилично. Доктор, прошу вас.
В молчании закончился обед.
Шариков вытащил из кармана смятую папиросу и задымил. Откушав кофею, Филипп Филиппович поглядел на часы, нажал на репетир, и они проиграли нежно восемь с четвертью. Филипп Филиппович
откинулся по своему обыкновению на готическую спинку и потянулся
к газете на столике.
— Доктор, прошу вас, съездите с ним в цирк. Только, ради бога,
посмотрите в программе — котов нету?
— И как такую сволочь в цирк пускают, — хмуро заметил Шариков, покачивая головой.
89
— Ну, мало ли кого туда допускают, — двусмысленно отозвался
Филипп Филиппович, — что там у них?
— У Соломонского, — стал вычитывать Борменталь, — четыре какие-то... Юссемс и человек мёртвой точки.
— Что это за Юссемс? — подозрительно осведомился Филипп Филиппович.
— Бог их знает. Впервые это слово встречаю.
— Ну, тогда лучше смотрите у Никитиных. Необходимо, чтобы
было всё ясно.
— У Никитиных... У Никитиных... гм... слоны и предел человеческой ловкости.
— Так-с. Что вы скажете относительно слонов, дорогой Шариков? — недоверчиво спросил Филипп Филиппович у Шарикова.
Тот обиделся.
— Что же, я не понимаю, что ли. Кот — другое дело. Слоны — животные полезные, — ответил Шариков.
— Ну-с, и отлично. Раз полезные, поезжайте и поглядите на них.
Ивана Арнольдовича слушаться надо. И ни в какие разговоры там
не пускаться в буфете! Иван Арнольдович, покорнейше прошу пива
Шарикову не предлагать.
Через 10 минут Иван Арнольдович и Шариков, одетый в кепку
с утиным носом и в драповое пальто с поднятым воротником, уехали
в цирк. В квартире стихло. Филипп Филиппович оказался в своём кабинете. Он зажёг лампу под тяжёлым зелёным колпаком, отчего в громадном кабинете стало очень мирно, и начал мерять комнату. Долго и жарко светился кончик сигары бледно-зелёным огнём. Руки
профессор заложил в карманы брюк, и тяжкая дума терзала его учёный с зализами лоб. Он причмокивал, напевал сквозь зубы «к берегам
священным Нила...» и что-то бормотал. Наконец отложил сигару в пепельницу, подошёл к шкафу, сплошь состоящему из стекла, и весь
кабинет осветил тремя сильнейшими огнями с потолка. Из шкафа,
с третьей стеклянной полки, Филипп Филиппович вынул узкую банку
и стал, нахмурившись, рассматривать её на свет огней. В прозрачной
и тяжкой жидкости плавал, не падая на дно, малый беленький комочек, извлечённый из недр Шарикова мозга. Пожимая плечами,
кривя губы и хмыкая, Филипп Филиппович пожирал его глазами,
как будто в белом нетонущем комке хотел разглядеть причину удивительных событий, перевернувших вверх дном жизнь в пречистенской
квартире.
Очень возможно, что высокоучёный человек её и разглядел. По
крайней мере, вдоволь насмотревшись на придаток мозга, он банку
спрятал в шкаф, запер его на ключ, ключ положил в жилетный карман, а сам обрушился, вдавив голову в плечи и глубочайше засунув
руки в карманы пиджака, на кожу дивана. Он долго палил вторую
сигару, совершенно изжевав её конец, и наконец, в полном одиночестве, зелёно окрашенный, как седой Фауст, воскликнул:
— Ей-богу, я, кажется, решусь.
90
Никто ему не ответил на это. В квартире прекратились всякие звуки. В Обуховом переулке в 11 часов, как известно, затихает движение.
Редко-редко звучали отдалённые шаги запоздавшего пешехода, они
постукивали где-то за шторами и угасали. В кабинете нежно звенел
под пальцами Филиппа Филипповича репетир в карманчике... Профессор нетерпеливо поджидал возвращения д-ра Борменталя и Шарикова из цирка.
VIII
Неизвестно, на что решился Филипп Филиппович. Ничего особенного в течение следующей недели он не предпринимал, и, может быть,
вследствие его бездействия квартирная жизнь переполнилась событиями.
Дней через шесть после истории с водой и котом из домкома к Шарикову явился молодой человек, оказавшийся женщиной, и вручил
ему документы, которые Шариков немедленно заложил в карман и немедленно после этого позвал д-ра Борменталя.
— Борменталь!
— Нет, уж вы меня по имени и отчеству, пожалуйста, называйте! — отозвался Борменталь, меняясь в лице.
Нужно заметить, что в эти шесть дней хирург ухитрился раз восемь
поссориться со своим воспитанником. И атмосфера в обуховских комнатах была душная.
— Ну и меня называйте по имени и отчеству! — совершенно основательно ответил Шариков.
— Нет! — загремел в дверях Филипп Филиппович, — по такому
имени и отчеству в моей квартире я вас не разрешу называть. Если
вам угодно, чтобы вас перестали именовать фамильярно «Шариков»,
и я и доктор Борменталь будем называть вас «господин Шариков».
— Я не господин, господа все в Париже! — отлаял Шариков.
— Швондерова работа! — кричал Филипп Филиппович, — ну, ладно, посчитаюсь я с этим негодяем. Не будет никого, кроме господ,
в моей квартире, пока я в ней нахожусь! В противном случае или я,
или вы уйдёте отсюда и, вернее всего, вы. Сегодня я помещу в газетах
объявление, и, поверьте, я вам найду комнату.
— Ну да, такой я дурак, чтобы я съехал отсюда, — очень чётко ответил Шариков.
— Как? — спросил Филипп Филиппович и до того изменился в лице, что Борменталь подлетел к нему и нежно и тревожно взял его за
рукав.
— Вы, знаете, не нахальничайте, мосье Шариков! — Борменталь
очень повысил голос. Шариков отступил, вытащил из кармана 3 бумаги: зелёную, жёлтую и белую — и, тыча в них пальцами, заговорил:
— Вот. Член жилищного товарищества, и площадь мне полагается
определённо в квартире № 5 у ответственного съёмщика Преображенского в 16 квадратных аршин, — Шариков подумал и добавил слово,
которое Борменталь машинально отметил в мозгу как новое, — благоволите.
91
Филипп Филиппович закусил губу и сквозь неё неосторожно вымолвил:
— Клянусь, что я этого Швондера в конце концов застрелю.
Шариков в высшей степени внимательно и остро принял эти слова,
что было видно по его глазам.
— Филипп Филиппович, vorsichtig...1 — предостерегающе начал
Борменталь.
— Ну, уж знаете... Если уж такую подлость!.. — вскричал Филипп
Филиппович по-русски. — Имейте в виду, Шариков... господин, что я,
если вы позволите себе ещё одну наглую выходку, я лишу вас обеда
и вообще питания в моём доме. 16 аршин — это прелестно, но ведь
я вас не обязан кормить по этой лягушечьей бумаге!
Тут Шариков испугался и приоткрыл рот.
— Я без пропитания оставаться не могу, — забормотал он, — где же
я буду харчеваться?
— Тогда ведите себя прилично! — в один голос заявили оба эскулапа.
Шариков значительно притих и в тот день не причинил никакого
вреда никому, за исключением самого себя: пользуясь небольшой отлучкой Борменталя, он завладел его бритвой и распорол себе скулу
так, что Филипп Филиппович и д-р Борменталь накладывали ему на
порез швы, отчего Шариков долго выл, заливаясь слезами.
Следующую ночь в кабинете профессора в зелёном полумраке сидели
двое — сам Филипп Филиппович и верный, привязанный к нему Борменталь. В доме уже спали. Филипп Филиппович был в своём лазоревом
халате и красных туфлях, а Борменталь в рубашке и синих подтяжках.
Между врачами на круглом столе рядом с пухлым альбомом стояла
бутылка коньяку, блюдечко с лимоном и сигарный ящик. Учёные, накурив полную комнату, с жаром обсуждали последнее событие: этим
вечером Шариков присвоил в кабинете Филиппа Филипповича два червонца, лежавшие под пресс-папье, пропал из квартиры, вернулся поздно и совершенно пьяный. Этого мало. С ним явились две неизвестные
личности, шумевшие на парадной лестнице и изъявившие желание ночевать в гостях у Шарикова. Удалились означенные личности лишь после того, как Фёдор, присутствовавший при этой сцене в осеннем пальто, накинутом сверх белья, позвонил по телефону в сорок пятое отделение
милиции. Личности мгновенно отбыли, лишь только Фёдор повесил
трубку. Неизвестно куда после ухода личностей задевалась малахитовая
пепельница с подзеркальника в передней, бобровая шапка Филиппа Филипповича и его же трость, на каковой трости золотою вязью было написано: «Дорогому и уважаемому Филиппу Филипповичу благодарные
ординаторы в день...», дальше шла римская цифра XXV.
— Кто они такие? — наступал Филипп Филиппович, сжимая кулаки, на Шарикова.
Тот, шатаясь и прилипая к шубам, бормотал насчёт того, что личности ему неизвестны, что они не сукины сыны какие-нибудь, а — хорошие.
1
92
Осторожно (нем.).
— Изумительнее всего, что ведь они же оба пьяные... Как же они
ухитрились? — поражался Филипп Филиппович, глядя на то место
в стойке, где некогда помещалась память юбилея.
— Специалисты, — пояснил Фёдор, удаляясь спать с рублём в кармане.
От двух червонцев Шариков категорически отпёрся и при этом выговорил что-то неявственное насчёт того, что вот, мол, он не один
в квартире.
— Ага, быть может, это доктор Борменталь свистнул червонцы? —
осведомился Филипп Филиппович тихим, но страшным по оттенку голосом.
Шариков качнулся, открыл совершенно посоловевшие глаза и высказал предположение:
— А может быть, Зинка взяла...
— Что такое?.. — закричала Зина, появившись в дверях как привидение, прикрывая на груди расстёгнутую кофточку ладонью, — да
как он...
Шея Филиппа Филипповича налилась красным цветом.
— Спокойно, Зинуша, — молвил он, простирая к ней руку, — не
волнуйся, мы всё это устроим.
Зина немедленно заревела, распустив губы, и ладонь запрыгала
у неё на ключице.
— Зина, как вам не стыдно? Кто же может подумать? Фу, какой
срам! — заговорил Борменталь растерянно.
— Ну, Зина, ты — дура, прости господи, — начал было Филипп
Филиппович.
Но тут Зинин плач прекратился сам собой, и все умолкли. Шарикову стало нехорошо. Стукнувшись головой об стену, он издал звук —
не то «и», не то «е» — вроде «э-э-э!». Лицо его побледнело, и судорожно задвигалась челюсть.
— Ведро ему, негодяю, из смотровой дать!
И все забегали, ухаживая за заболевшим Шариковым. Когда его
отводили спать, он, пошатываясь в руках Борменталя, очень нежно
и мелодически ругался скверными словами, выговаривая их с трудом.
Вся эта история произошла около часу, а теперь было часа 3 полуночи, но двое в кабинете бодрствовали, взвинченные коньяком с лимоном. Накурили они до того, что дым двигался густыми медленными
плоскостями, даже не колыхаясь.
Доктор Борменталь, бледный, с очень решительными глазами, поднял рюмку со стрекозиной талией.
— Филипп Филиппович, — прочувственно воскликнул он, — я никогда не забуду, как я полуголодным студентом явился к вам, и вы
приютили меня при кафедре. Поверьте, Филипп Филиппович, вы для
меня гораздо больше, чем профессор, учитель... Моё безмерное уважение к вам... Позвольте вас поцеловать, дорогой Филипп Филиппович.
— Да, голубчик мой... — растерянно промычал Филипп Филиппович и поднялся навстречу. Борменталь его обнял и поцеловал в пушистые, сильно прокуренные усы.
93
— Ей-богу, Филипп Фили...
— Так растрогали, так растрогали... Спасибо вам, — говорил Филипп Филиппович, — голубчик, я иногда на вас ору на операциях.
Уж простите стариковскую вспыльчивость. В сущности, ведь я так
одинок... «От Севильи до Гренады...»
— Филипп Филиппович, не стыдно ли вам?.. — искренно воскликнул пламенный Борменталь, — если вы не хотите меня обижать, не говорите мне больше таким образом...
— Ну, спасибо вам... «К берегам священным Нила...» Спасибо...
И я вас полюбил как способного врача.
— Филипп Филиппович, я вам говорю!.. — страстно воскликнул
Борменталь, сорвался с места, плотнее прикрыл дверь, ведущую в коридор, и, вернувшись, продолжал шёпотом, — ведь это — единственный исход. Я не смею вам, конечно, давать советы, но, Филипп Филиппович, посмотрите на себя, вы совершенно замучились, ведь так
нельзя же больше работать!
— Абсолютно невозможно, — вздохнув, подтвердил Филипп Филиппович.
— Ну вот, это же немыслимо, — шептал Борменталь, — в прошлый
раз вы говорили, что боитесь за меня, и если бы вы знали, дорогой
профессор, как вы меня этим тронули. Но ведь я же не мальчик и сам
соображаю, насколько это может получиться ужасная штука. Но,
по моему глубокому убеждению, другого выхода нет.
Филипп Филиппович встал, замахал на него руками и воскликнул:
— И не соблазняйте, даже и не говорите, — профессор заходил по
комнате, закачав дымные волны, — и слушать не буду. Понимаете, что
получится, если нас накроют. Нам ведь с вами на «принимая во внимание происхождение» — отъехать не придётся, невзирая на нашу первую
судимость. Ведь у вас нет подходящего происхождения, мой дорогой?
— Какой там чёрт! Отец был судебным следователем в Вильно, — горестно ответил Борменталь, допивая коньяк.
— Ну вот-с, не угодно ли. Ведь это же дурная наследственность.
Пакостнее и представить себе ничего нельзя. Впрочем, виноват, у меня
ещё хуже. Отец — кафедральный протоиерей. Мерси. «От Севильи до
Гренады... в тихом сумраке ночей...» Вот, чёрт её возьми.
— Филипп Филиппович, вы — величина мирового значения, и изза какого-то, извините за выражение, сукина сына... Да разве они могут вас тронуть, помилуйте!
— Тем более не пойду на это, — задумчиво возразил Филипп Филиппович, останавливаясь и озираясь на стеклянный шкаф.
— Да почему?
— Потому что вы-то ведь не величина мирового значения.
— Где уж...
— Ну вот-с. А бросать коллегу в случае катастрофы, самому же выскочить на мировом значении, простите... Я — московский студент,
а не Шариков.
Филипп Филиппович горделиво поднял плечи и сделался похож
на французского древнего короля.
94
— Филипп Филиппович, эх... — горестно воскликнул Борменталь, — значит, что же? Теперь вы будете ждать, пока удастся из этого хулигана сделать человека?
Филипп Филиппович жестом руки остановил его, налил себе коньяку, хлебнул, пососал лимон и заговорил:
— Иван Арнольдович, как по-вашему, я понимаю что-либо в анатомии и физиологии, ну, скажем, человеческого мозгового аппарата?
Как ваше мнение?
— Филипп Филиппович, что вы спрашиваете? — с большим чувством ответил Борменталь и развёл руками.
— Ну, хорошо. Без ложной скромности. Я тоже полагаю, что в этом
я не самый последний человек в Москве.
— А я полагаю, что вы — первый не только в Москве, а и в Лондоне и в Оксфорде! — яростно перебил Борменталь.
— Ну, ладно, пусть будет так. Ну так вот-с, будущий профессор
Борменталь: это никому не удастся. Кончено. Можете и не спрашивать. Так и сошлитесь на меня, скажите, Преображенский сказал.
Finita. Клим! — вдруг торжественно воскликнул Филипп Филиппович,
и шкаф ответил ему звоном, — Клим, — повторил он. — Вот что, Борменталь, вы первый ученик моей школы и, кроме того, мой друг, как
я убедился сегодня. Так вот вам, как другу, сообщу по секрету, — конечно, я знаю, вы не станете срамить меня — старый осёл Преображенский нарвался на этой операции как третьекурсник. Правда, открытие
получилось, вы сами знаете — какое, — тут Филипп Филиппович горестно указал обеими руками на оконную штору, очевидно, намекая
на Москву, — но только имейте в виду, Иван Арнольдович, что единственным результатом этого открытия будет то, что все мы теперь будем иметь этого Шарикова вот где — здесь, — Преображенский похлопал себя по крутой и склонной к параличу шее, — будьте спокойны!
Если бы кто-нибудь, — сладострастно продолжал Филипп Филиппович, — разложил меня здесь и выпорол, — я бы, клянусь, заплатил бы
червонцев пять! «От Севильи до Гренады...» Чёрт меня возьми... Ведь
я пять лет сидел, выковыривал придатки из мозгов... Вы знаете, какую я работу проделал — уму непостижимо. И вот теперь спрашивается — зачем? Чтобы в один прекрасный день милейшего пса превратить в такую мразь, что волосы дыбом встают.
— Исключительное что-то.
— Совершенно с вами согласен. Вот, доктор, что получается, когда
исследователь вместо того, чтобы идти параллельно и ощупью с природой, форсирует вопрос и приподымает завесу: на, получай Шарикова и ешь его с кашей.
— Филипп Филиппович, а если бы мозг Спинозы?
— Да! — рявкнул Филипп Филиппович. — Да! Если только злосчастная собака не помрёт у меня под ножом, а вы видели — какого
сорта эта операция. Одним словом, я — Филипп Преображенский, ничего труднее не делал в своей жизни. Можно привить гипофиз Спинозы или ещё какого-нибудь такого лешего и соорудить из собаки чрезвычайно высоко стоящего. Но на какого дьявола? — спрашивается.
95
Объясните мне, пожалуйста, зачем нужно искусственно фабриковать
Спиноз, когда любая баба может его родить когда угодно. Ведь родила же в Холмогорах мадам Ломоносова этого своего знаменитого. Доктор, человечество само заботится об этом и в эволюционном порядке
каждый год упорно, выделяя из массы всякой мрази, создаёт десятками выдающихся гениев, украшающих земной шар. Теперь вам понятно, доктор, почему я опорочил ваш вывод в истории шариковской болезни. Моё открытие, черти б его съели, с которым вы носитесь, стоит
ровно один ломаный грош... Да, не спорьте, Иван Арнольдович, я ведь
уж понял. Я же никогда не говорю на ветер, вы это отлично знаете.
Теоретически это интересно. Ну, ладно! Физиологи будут в восторге.
Москва беснуется... Ну, а практически что? Кто теперь перед вами? —
Преображенский указал пальцем в сторону смотровой, где почивал
Шариков.
— Исключительный прохвост.
— Но кто он? — Клим, Клим, — крикнул профессор, — Клим Чугункин (Борменталь открыл рот) — вот что-с: две судимости, алкоголизм, «всё поделить», шапка и два червонца пропали (тут Филипп Филиппович вспомнил юбилейную палку и побагровел) — хам
и свинья... Ну, эту палку я найду. Одним словом, гипофиз — закрытая
камера, определяющая человеческое данное лицо. Данное! «От Севильи до Гренады...» — свирепо вращая глазами, кричал Филипп Филиппович, — а не общечеловеческое. Это — в миниатюре — сам мозг.
И мне он совершенно не нужен, ну его ко всем свиньям. Я заботился
совсем о другом, об евгенике, об улучшении человеческой породы.
И вот на омоложение нарвался. Неужели вы думаете, что из-за денег
произвожу их? Ведь я же всё-таки учёный.
— Вы великий учёный, вот что! — молвил Борменталь, глотая коньяк. Глаза его налились кровью.
— Я хотел проделать маленький опыт, после того как два года тому
назад впервые получил из гипофиза вытяжку полового гормона. И вместо этого что же получилось? Боже ты мой! Этих гормонов в гипофизе,
о господи... Доктор, передо мной — тупая безнадёжность, я, клянусь,
потерялся.
Борменталь вдруг засучил рукава и произнёс, кося глазами к носу:
— Тогда вот что, дорогой учитель, если вы не желаете, я сам на
свой риск накормлю его мышьяком. Чёрт с ним, что папа судебный
следователь. Ведь в конце концов — это ваше собственное экспериментальное существо.
Филипп Филиппович потух, обмяк, завалился в кресло и сказал:
— Нет, я не позволю вам этого, милый мальчик. Мне 60 лет, я вам
могу давать советы. На преступление не идите никогда, против кого бы
оно ни было направлено. Доживите до старости с чистыми руками.
— Помилуйте, Филипп Филиппович, да ежели его ещё обработает
этот Швондер, что ж из него получится?! Боже мой, я только теперь
начинаю понимать, что может выйти из этого Шарикова!
— Ага! Теперь поняли? А я понял через 10 дней после операции.
Ну так вот, Швондер и есть самый главный дурак. Он не понимает,
96
что Шариков для него более грозная опасность, чем для меня. Ну, сейчас он всячески старается натравить его на меня, не соображая, что
если кто-нибудь в свою очередь натравит Шарикова на Швондера, то
от него останутся только рожки да ножки.
— Ещё бы! Одни коты чего стоят! Человек с собачьим сердцем.
— О нет, нет, — протяжно ответил Филипп Филиппович, — вы,
доктор, делаете крупнейшую ошибку, ради бога, не клевещите на
пса. Коты — это временно... Это вопрос дисциплины и двух-трёх недель. Уверяю вас. Ещё какой-нибудь месяц, и он перестанет на них
кидаться.
— А почему не теперь?
— Иван Арнольдович, это элементарно... Что вы, на самом деле,
спрашиваете? Да ведь гипофиз не повиснет же в воздухе. Ведь он всётаки привит на собачий мозг, дайте же ему прижиться. Сейчас Шариков проявляет уже только остатки собачьего, и поймите, что коты — это
лучшее из всего, что он делает. Сообразите, что весь ужас в том, что
у него уже не собачье, а именно человеческое сердце. И самое паршивое из всех, которые существуют в природе!
До последней степени взвинченный Борменталь сжал сильные худые руки в кулаки, повёл плечами, твёрдо молвил:
— Кончено. Я его убью!
— Запрещаю это! — категорически ответил Филипп Филиппович.
— Да помилуйте...
Филипп Филиппович вдруг насторожился, поднял палец.
— Погодите-ка... Мне шаги послышались.
Оба прислушались, но в коридоре было тихо.
— Показалось, — молвил Филипп Филиппович и с жаром заговорил по-немецки. В его словах несколько раз звучало русское слово
«уголовщина».
— Минуточку, — вдруг насторожился Борменталь и шагнул к двери. Шаги слышались явственно и приблизились к кабинету. Кроме
того, бубнил голос. Борменталь распахнул двери и отпрянул в изумлении. Совершенно поражённый Филипп Филиппович застыл в кресле.
В освещённом четырёхугольнике коридора предстала в одной ночной сорочке Дарья Петровна с боевым и пылающим лицом. И врача
и профессора ослепило обилие мощного и, как от страху показалось
обоим, совершенно голого тела. В могучих руках Дарья Петровна волокла что-то, и это «что-то», упираясь, садилось на зад, и небольшие
его ноги, крытые чёрным пухом, заплетались по паркету. «Что-то»,
конечно, оказалось Шариковым, совершенно потерянным, всё ещё пьяненьким, разлохмаченным и в одной рубашке.
Дарья Петровна, грандиозная и нагая, тряхнула Шарикова, как мешок с картофелем, и произнесла такие слова:
— Полюбуйтесь, господин профессор, на нашего визитёра Телеграфа Телеграфовича. Я замужем была, а Зина — невинная девушка. Хорошо, что я проснулась.
Окончив эту речь, Дарья Петровна впала в состояние стыда, вскрикнула, закрыла грудь руками и унеслась.
97
— Дарья Петровна, извините, ради бога, — опомнившись, крикнул
ей вслед красный Филипп Филиппович.
Борменталь повыше засучил рукава рубашки и двинулся к Шарикову. Филипп Филиппович заглянул ему в глаза и ужаснулся.
— Что вы, доктор! Я запрещаю...
Борменталь правой рукой взял Шарикова за шиворот и тряхнул его
так, что полотно на сорочке спереди треснуло.
Филипп Филиппович бросился наперерез и стал выдирать щуплого
Шарикова из цепких хирургических рук.
— Вы не имеете права биться! — полузадушенный, кричал Шариков, садясь наземь и трезвея.
— Доктор! — вопил Филипп Филиппович.
Борменталь несколько пришёл в себя и выпустил Шарикова, после
чего тот сейчас же захныкал.
— Ну, ладно, — прошипел Борменталь, — подождём до утра. Я ему
устрою бенефис, когда он протрезвится.
Тут он ухватил Шарикова под мышки и поволок его в приёмную
спать.
При этом Шариков сделал попытку брыкаться, но ноги его не слушались.
Филипп Филиппович растопырил ноги, отчего лазоревые полы разошлись, возвёл руки и глаза к потолочной лампе в коридоре и молвил:
— Ну-ну...
IX
Бенефис Шарикова, обещанный доктором Борменталем, не состоялся, однако, на следующее утро по той причине, что Полиграф Полиграфович исчез из дома. Борменталь пришёл в яростное отчаяние,
обругал себя ослом за то, что не спрятал ключ от парадной двери, кричал, что это непростительно, и кончил пожеланием, чтобы Шариков
попал под автобус. Филипп Филиппович сидел в кабинете, запустив
пальцы в волосы, и говорил:
— Воображаю, что будет твориться на улице... Вообража-а-ю. «От
Севильи до Гренады», боже мой.
— Он в домкоме ещё может быть, — беспокоился Борменталь
и куда-то бегал.
В домкоме он поругался с председателем Швондером до того,
что тот сел писать заявление в народный суд Хамовнического района,
крича при этом, что он не сторож питомца профессора Преображенского, тем более что этот питомец Полиграф не далее как вчера оказался прохвостом, взяв в домкоме якобы на покупку учебников в кооперативе 7 рублей.
Фёдор, заработавший на этом деле три рубля, обыскал весь дом
сверху донизу. Нигде никаких следов Шарикова не было.
Выяснилось только одно, что Полиграф отбыл на рассвете в кепке,
шарфе и пальто, захватив с собой бутылку рябиновой в буфете, перчатки доктора Борменталя и все свои документы. Дарья Петровна
98
М. А. Булгаков. «Собачье сердце». Кадр из телефильма. Режиссёр В. Бортко. Профессор Преображенский, доктор
Борменталь, Шариков — актёры Е. Евстигнеев, Б. Плотников, В. Толоконников
и Зина, не скрывая, выразили свою бурную радость и надежду, что
Шариков больше не вернётся. У Дарьи Петровны Шариков занял накануне три рубля пятьдесят копеек.
— Так вам и надо! — рычал Филипп Филиппович, потрясая кулаками. Целый день звенел телефон, звенел телефон на другой день.
Врачи принимали необыкновенное количество пациентов, а на третий день вплотную встал в кабинете вопрос о том, что нужно дать
знать в милицию, каковая должна разыскать Шарикова в московском
омуте.
И только что было произнесено слово «милиция», как благоговейную тишину Обухова переулка прорезал лай грузовика, и окна в доме
дрогнули. Затем прозвучал уверенный звонок, и Полиграф Полиграфович вошёл с необычайным достоинством, в полном молчании снял
кепку, пальто повесил на рога и оказался в новом виде. На нём была
кожаная куртка с чужого плеча, кожаные же потёртые штаны и английские высокие сапожки со шнуровкой до колен. Неимоверный запах
котов тотчас расплылся по всей передней. Преображенский и Борменталь точно по команде скрестили руки на груди, стали у притолоки
и ожидали первых сообщений от Полиграфа Полиграфовича. Он пригладил жёсткие волосы, кашлянул и осмотрелся так, что видно было:
смущение Полиграф желает скрыть при помощи развязности.
— Я, Филипп Филиппович, — начал он наконец говорить, — на
должность поступил.
99
Оба врача издали неопределённый сухой звук горлом и шевельнулись. Преображенский опомнился первый, руку протянул и молвил:
— Бумагу дайте.
Было напечатано: «Предъявитель сего товарищ Полиграф Полиграфович Шариков действительно состоит заведующим подотделом
очистки города Москвы от бродячих животных (котов и пр.) в отделе
МКХ».
— Так, — тяжело молвил Филипп Филиппович, — кто же вас
устроил? Ах, впрочем, я и сам догадываюсь.
— Ну, да, Швондер, — ответил Шариков.
— Позвольте-с вас спросить, почему от вас так отвратительно
пахнет?
Шариков понюхал куртку озабоченно.
— Ну, что ж, пахнет... известно: по специальности. Вчера котов
душили, душили...
Филипп Филиппович вздрогнул и посмотрел на Борменталя. Глаза
у того напоминали два чёрных дула, направленных на Шарикова в упор.
Без всяких предисловий он двинулся к Шарикову и легко и уверенно
взял его за глотку.
— Караул! — пискнул Шариков, бледнея.
— Доктор!
— Ничего не позволю себе дурного, Филипп Филиппович, не беспокойтесь, — железным голосом отозвался Борменталь и завопил: —
Зина и Дарья Петровна!
Те появились в передней.
— Ну, повторяйте, — сказал Борменталь и чуть-чуть притиснул
горло Шарикова к шубе, — извините меня...
— Ну, хорошо, повторяю, — сиплым голосом ответил совершенно
поражённый Шариков, вдруг набрал воздуху, дёрнулся и попытался
крикнуть «караул», но крик не вышел, и голова его совсем погрузилась в шубу.
— Доктор, умоляю вас.
Шариков закивал головой, давая знать, что он покоряется и будет
повторять.
— ...Извините меня, многоуважаемая Дарья Петровна и Зинаида?..
— Прокофьевна, — шепнула испуганно Зина.
— Уф. Прокофьевна... — говорил, перехватывая воздух, охрипший
Шариков, — ...что я позволил себе...
— Себе гнусную выходку ночью в состоянии опьянения.
— Опьянения...
— Никогда больше не буду...
— Не бу...
— Пустите, пустите его, Иван Арнольдович, — взмолились одновременно обе женщины, — вы его задушите.
Борменталь выпустил Шарикова на свободу и сказал:
— Грузовик вас ждёт?
— Нет, — почтительно ответил Полиграф, — он только меня привёз.
100
— Зина, отпустите машину. Теперь имейте в виду следующее: вы
опять вернулись в квартиру Филиппа Филипповича?
— Куда же мне ещё? — робко ответил Шариков, блуждая глазами.
— Отлично-с. Быть тише воды, ниже травы. В противном случае
за каждую безобразную выходку будете иметь со мною дело. Понятно?
— Понятно, — ответил Шариков.
Филипп Филиппович во всё время насилия над Шариковым хранил
молчание. Как-то жалко он съёжился у притолоки и грыз ноготь, потупив глаза в паркет. Потом вдруг поднял их на Шарикова и спросил,
глухо и автоматически:
— Что же вы делаете с этими... с убитыми котами?
— На польты пойдут, — ответил Шариков, — из них белок будут
делать на рабочий кредит.
Засим в квартире настала тишина и продолжалась двое суток.
Полиграф Полиграфович утром уезжал на грузовике, появлялся
вечером, тихо обедал в компании Филиппа Филипповича и Борменталя.
Несмотря на то что Борменталь и Шариков спали в одной комнате — приёмной, они не разговаривали друг с другом, так что Борменталь соскучился первый.
Дня через два в квартире появилась худенькая с подрисованными
глазами барышня в кремовых чулочках и очень смутилась при виде
великолепия квартиры. В потёртом пальтишке она шла следом за Шариковым и в передней столкнулась с профессором.
Тот, оторопелый, остановился, прищурился и спросил:
— Позвольте узнать?
— Я с ней расписываюсь, это — наша машинистка, жить со мной
будет. Борменталя надо будет выселить из приёмной. У него своя квартира есть, — крайне неприязненно и хмуро пояснил Шариков.
Филипп Филиппович поморгал глазами, подумал, глядя на побагровевшую барышню, и очень вежливо пригласил её.
— Я вас попрошу на минуточку ко мне в кабинет.
— И я с ней пойду, — быстро и подозрительно молвил Шариков.
И тут моментально вынырнул как из-под земли Борменталь.
— Извините, — сказал он, — профессор побеседует с дамой, а мы
уж с вами побудем здесь.
— Я не хочу, — злобно отозвался Шариков, пытаясь устремиться вслед за сгорающей от стыда барышней и Филиппом Филипповичем.
— Нет, простите, — Борменталь взял Шарикова за кисть руки,
и они вошли в смотровую.
Минут пять из кабинета ничего не слышалось, а потом вдруг глухо
донеслись рыдания барышни.
Филипп Филиппович стоял у стола, а барышня плакала в грязный
кружевной платочек.
— Он сказал, негодяй, что ранен в боях, — рыдала барышня.
— Лжёт, — непреклонно отвечал Филипп Филиппович. Он покачал
головою и продолжал: — Мне вас искренне жаль, но нельзя же так
101
с первым встречным только из-за служебного положения... Детка, ведь
это безобразие... Вот что... — Он открыл ящик письменного стола
и вынул три бумажки по три червонца.
— Я отравлюсь, — плакала барышня, — в столовке солонина каждый день... и угрожает... говорит, что он красный командир... со мною,
говорит, будешь жить в роскошной квартире... каждый день ананасы... психика у меня добрая, говорит, я только котов ненавижу... Он
у меня кольцо на память взял...
— Ну, ну, ну, — психика добрая... «От Севильи до Гренады», — бормотал Филипп Филиппович, — нужно перетерпеть — вы ещё так молоды...
— Неужели в этой самой подворотне?
— Ну, берите деньги, когда дают взаймы, — рявкнул Филипп Филиппович.
Затем торжественно распахнулись двери, и Борменталь по приглашению Филиппа Филипповича ввёл Шарикова. Тот бегал глазами,
и шерсть на голове у него возвышалась, как щётка.
— Подлец, — выговорила барышня, сверкая заплаканными размазанными глазами и полосатым напудренным носом.
— Отчего у вас шрам на лбу? Потрудитесь объяснить этой даме, —
вкрадчиво спросил Филипп Филиппович.
Шариков сыграл ва-банк:
— Я на колчаковских фронтах ранен, — пролаял он.
Барышня встала и с громким плачем вышла.
— Перестаньте! — крикнул вслед Филипп Филиппович, — погодите, колечко позвольте, — сказал он, обращаясь к Шарикову.
Тот покорно снял с пальца дутое колечко с изумрудом.
— Ну, ладно, — вдруг злобно сказал он, — попомнишь ты у меня.
Завтра я тебе устрою сокращение штатов.
— Не бойтесь его, — крикнул вслед Борменталь, — я ему не позволю ничего сделать. — Он повернулся и поглядел на Шарикова так,
что тот попятился и стукнулся затылком о шкаф.
— Как её фамилия? — спросил у него Борменталь. — Фамилия! —
заревел он и вдруг стал дик и страшен.
— Васнецова, — ответил Шариков, ища глазами, как бы улизнуть.
— Ежедневно, — взявшись за лацкан шариковской куртки, выговорил Борменталь, — сам лично буду справляться в очистке — не сократили ли гражданку Васнецову. И если только вы... узнаю, что сократили, я вас... собственными руками здесь же пристрелю. Берегитесь,
Шариков, — говорю русским языком!
Шариков, не отрываясь, смотрел на борменталевский нос.
— У самих револьверы найдутся... — пробормотал Полиграф, но
очень вяло и вдруг, изловчившись, брызнул в дверь.
— Берегитесь! — донёсся ему вдогонку борменталевский крик.
Ночь и половину следующего дня висела, как туча перед грозой, тишина. Все молчали. Но на следующий день, когда Полиграф Полиграфович, которого утром кольнуло скверное предчувствие, мрачный уехал
на грузовике к месту службы, профессор Преображенский в совершенно
102
неурочный час принял одного из своих прежних пациентов, толстого
и рослого человека в военной форме. Тот настойчиво добивался свидания и добился. Войдя в кабинет, он вежливо щёлкнул каблуками.
— У вас боли, голубчик, возобновились? — спросил его осунувшийся Филипп Филиппович, — садитесь, пожалуйста.
— Мерси. Нет, профессор, — ответил гость, ставя шлем на угол стола, — я вам очень признателен... Гм... Я приехал к вам по другому
делу, Филипп Филиппович... питая большое уважение... гм... предупредить. Явная ерунда. Просто он прохвост...
Пациент полез в портфель и вынул бумагу.
— Хорошо, что мне непосредственно доложили...
Филипп Филиппович оседлал нос пенсне поверх очков и принялся
читать. Он долго бормотал про себя, меняясь в лице каждую секунду:
«...а также угрожая убить председателя домкома товарища Швондера, из чего видно, что хранит огнестрельное оружие. И произносит
контрреволюционные речи, и даже Энгельса приказал своей социалприслужнице Зинаиде Прокофьевне Буниной спалить в печке, как явный меньшевик со своим ассистентом Борменталем Иваном Арнольдовичем, который тайно, не прописанный, проживает в его квартире.
Подпись заведующего подотделом очистки П. П. Шарикова — удостоверяю. Председатель домкома, Швондер, секретарь Пеструхин».
— Вы позволите мне это оставить у себя? — спросил Филипп Филиппович, покрываясь пятнами, — или, виноват, может быть, это вам нужно, чтобы дать законный ход делу?
— Извините, профессор, — очень обиделся пациент и раздул ноздри, — вы действительно очень уж презрительно смотрите на нас. Я... —
и тут он стал надуваться, как индийский петух.
— Ну, извините, извините, голубчик! — забормотал Филипп Филиппович, — простите, я, право, не хотел вас обидеть. Голубчик, не
сердитесь, меня он так задёргал...
— Я думаю, — совершенно отошёл пациент, — но какая всё-таки
дрянь! Любопытно было бы взглянуть на него. В Москве прямо легенды какие-то про вас рассказывают...
Филипп Филиппович только отчаянно махнул рукой. Тут пациент
разглядел, что профессор сгорбился и даже как будто поседел за последнее время.
* * *
Преступление созрело и упало, как камень, как это обычно и бывает. С сосущим нехорошим сердцем вернулся в грузовике Полиграф
Полиграфович. Голос Филиппа Филипповича пригласил его в смотровую. Удивлённый Шариков пришёл и с неясным страхом заглянул
в дуло на лице Борменталя, а затем на Филиппа Филипповича. Туча
ходила вокруг ассистента, и левая его рука с папироской чуть вздрагивала на блестящей ручке акушерского кресла.
Филипп Филиппович со спокойствием очень зловещим сказал:
— Сейчас заберите вещи: брюки, пальто, всё, что вам нужно, —
и вон из квартиры!
103
— Как это так? — искренне удивился Шариков.
— Вон из квартиры — сегодня, — монотонно повторил Филипп Филиппович, щурясь на свои ногти.
Какой-то нечистый дух вселился в Полиграфа Полиграфовича;
очевидно, гибель уже караулила его и рок стоял у него за плечами.
Он сам бросился в объятия неизбежного и гавкнул злобно и отрывисто:
— Да что такое, в самом деле! Что я, управы, что ли, не найду
на вас? Я на 16 аршинах здесь сижу и буду сидеть.
— Убирайтесь из квартиры, — задушевно шепнул Филипп Филиппович.
Шариков сам пригласил свою смерть. Он поднял левую руку и показал Филиппу Филипповичу обкусанный, с нестерпимым кошачьим
запахом шиш. А затем правой рукой по адресу опасного Борменталя
из кармана вынул револьвер. Папироса Борменталя упала падучей
звездой, а через несколько секунд прыгающий по битым стёклам Филипп Филиппович в ужасе метался от шкафа к кушетке. На ней, распростёртый и хрипящий, лежал заведующий подотделом очистки, а на
груди у него помещался хирург Борменталь и душил его беленькой
малой подушкой.
Через несколько минут доктор Борменталь с не своим лицом прошёл на передний ход и рядом с кнопкой звонка наклеил записку:
«Сегодня приёма по случаю болезни профессора — нет. Просят не
беспокоить звонками».
Блестящим перочинным ножичком он перерезал провод звонка,
в зеркале осмотрел исцарапанное в кровь своё лицо и изодранные, мелкой дрожью прыгающие руки. Затем он появился в дверях кухни и насторожённым Зине и Дарье Петровне сказал:
— Профессор просит вас никуда не уходить из квартиры.
— Хорошо, — робко ответили Зина и Дарья Петровна.
— Позвольте мне запереть дверь на чёрный ход и забрать ключ, — заговорил Борменталь, прячась за дверь в тень и прикрывая ладонью
лицо. — Это временно, не из недоверия к вам. Но кто-нибудь придёт,
а вы не выдержите и откроете, а нам нельзя мешать. Мы заняты.
— Хорошо, — ответили женщины, и сейчас же стали бледными.
Борменталь запер чёрный ход, запер парадный, запер дверь из коридора в переднюю, и шаги его пропали у смотровой.
Тишина покрыла квартиру, заползла во все углы. Полезли сумерки, скверные, насторожённые, одним словом, мрак. Правда, впоследствии соседи через двор говорили, что будто бы в окнах смотровой,
выходящих во двор, в этот вечер горели у Преображенского все огни
и даже будто бы они видели белый колпак самого профессора... Проверить трудно. Правда, и Зина, когда уже кончилось, болтала, что
в кабинете у камина после того, как Борменталь и профессор вышли
из смотровой, её до смерти напугал Иван Арнольдович. Якобы он сидел в кабинете на корточках и жёг в камине собственноручно тетрадь
в синей обложке из той пачки, в которой записывались истории болезни профессорских пациентов! Лицо будто бы у доктора было совершенно зелёное и всё, ну, всё... вдребезги исцарапанное. И Филипп Филип-
104
пович в тот вечер сам на себя не был похож. И ещё, что... впрочем,
может быть, невинная девушка из пречистенской квартиры и врёт...
За одно можно поручиться: в квартире в этот вечер была полнейшая и ужаснейшая тишина.
КОНЕЦ ПОВЕСТИ
ЭПИЛОГ
Ночь в ночь через десять дней после сражения в смотровой в квартире профессора Преображенского, что в Обуховом переулке, ударил
резкий звонок.
— Уголовная милиция и следователь. Благоволите открыть.
Забегали шаги, застучали, стали входить, и в сверкающей от огней
приёмной с заново застеклёнными шкафами оказалась масса народу.
Двое в милицейской форме, один в чёрном пальто, с портфелем, злорадный и бледный председатель Швондер, юноша-женщина, швейцар
Фёдор, Зина, Дарья Петровна и полуодетый Борменталь, стыдливо
прикрывающий горло без галстука.
Дверь из кабинета пропустила Филиппа Филипповича. Он вышел
в известном всем лазоревом халате, и тут же все могли убедиться сразу,
что Филипп Филиппович очень поправился в последнюю неделю. Прежний властный и энергичный Филипп Филиппович, полный достоинства, предстал перед ночными гостями и извинился, что он в халате.
— Не стесняйтесь, профессор, — очень смущённо отозвался человек в штатском, затем он замялся и заговорил: — Очень неприятно.
У нас есть ордер на обыск в вашей квартире и, — человек покосился
М. А. Булгаков. «Собачье сердце». Кадр из телефильма.
Режиссёр В. Бортко
105
на усы Филиппа Филипповича и докончил: — и арест, в зависимости
от результата.
Филипп Филиппович прищурился и спросил:
— А по какому обвинению, смею спросить, и кого?
Человек почесал щёку и стал вычитывать по бумажке из портфеля:
— По обвинению Преображенского, Борменталя, Зинаиды Буниной и Дарьи Ивановой в убийстве заведующего подотделом очистки
МКХ Полиграфа Полиграфовича Шарикова.
Рыдания Зины покрыли конец его слов. Произошло движение.
— Ничего я не понимаю, — ответил Филипп Филиппович, королевски вздёргивая плечи, — какого такого Шарикова? Ах, виноват, этого
моего пса... которого я оперировал?
— Простите, профессор, не пса, а когда он уже был человеком. Вот
в чём дело.
— То есть он говорил? — спросил Филипп Филиппович, — это ещё
не значит быть человеком. Впрочем, это неважно. Шарик и сейчас существует, и никто его решительно не убивал.
— Профессор, — очень удивлённо заговорил чёрный человечек
и поднял брови, — тогда его придётся предъявить. Десятый день, как
пропал, а данные, извините меня, очень нехорошие.
— Доктор Борменталь, благоволите предъявить Шарика следователю, — приказал Филипп Филиппович, овладевая ордером.
Доктор Борменталь, криво улыбнувшись, вышел.
Когда он вернулся и посвистал, за ним из двери кабинета выскочил
пёс странного качества. Пятнами он был лыс, пятнами на нём отрастала шерсть. Вышел он, как учёный циркач, на задних лапах, потом
опустился на все четыре и осмотрелся. Гробовое молчание застыло
в приёмной, как желе. Кошмарного вида пёс с багровым шрамом
на лбу вновь поднялся на задние лапы и, улыбнувшись, сел в кресло.
Второй милиционер вдруг перекрестился размашистым крестом
и, отступив, сразу отдавил Зине обе ноги.
Человек в чёрном, не закрывая рта, выговорил такое:
— Как же, позвольте?.. Он служил в очистке...
— Я его туда не назначал, — ответил Филипп Филиппович, — ему
господин Швондер дал рекомендацию, если я не ошибаюсь.
— Я ничего не понимаю, — растерянно сказал чёрный и обратился
к первому милиционеру: — Это он?
— Он, — беззвучно ответил милицейский. — Форменно он.
— Он самый, — послышался голос Фёдора, — только, сволочь,
опять оброс.
— Он же говорил... кхе... кхе...
— И сейчас ещё говорит, но только всё меньше и меньше, так
что пользуйтесь случаем, а то он скоро совсем умолкнет.
— Но почему же? — тихо осведомился чёрный человек.
Филипп Филиппович пожал плечами.
— Наука ещё не знает способов обращать зверей в людей. Вот я попробовал, да только неудачно, как видите. Поговорил и начал обращаться в первобытное состояние. Атавизм.
106
— Неприличными словами не выражаться! — вдруг гаркнул пёс
с кресла и встал.
Чёрный человек внезапно побледнел, уронил портфель и стал падать на бок, милицейский подхватил его сбоку, а Фёдор сзади. Произошла суматоха, и в ней отчётливей всего были слышны три фразы:
Филиппа Филипповича: — Валерьянки. Это обморок.
Доктора Борменталя: — Швондера я собственноручно сброшу с лестницы, если он ещё раз появится в квартире профессора Преображенского.
И Швондера: — Прошу занести эти слова в протокол.
* * *
Серые гармонии труб грели. Шторы скрыли густую пречистенскую
ночь с её одинокой звездою. Высшее существо, важный пёсий благотворитель сидел в кресле, а пёс Шарик, привалившись, лежал на ковре
у кожаного дивана. От мартовского тумана пёс по утрам страдал головными болями, которые мучили его кольцом по головному шву. Но от
тепла к вечеру они проходили. И сейчас легчало, легчало, и мысли в голове у пса текли складные и тёплые.
«Так свезло мне, так свезло, — думал он, задрёмывая, — просто неописуемо свезло. Утвердился я в этой квартире. Окончательно уверен
я, что в моём происхождении нечисто. Тут не без водолаза. Потаскуха
была моя бабушка, царство ей небесное, старушке. Правда, голову всю
исполосовали зачем-то, но это до свадьбы заживёт. Нам на это нечего
смотреть».
__________
В отдалении глухо позвякивали склянки. Тяпнутый убирал в шкафах смотровой.
Седой же волшебник сидел и напевал:
— «К берегам священным Нила...»
Пёс видел страшные дела. Руки в скользких перчатках важный человек погружал в сосуд, доставал мозги, — упорный человек, настойчивый, всё чего-то добивался, резал, рассматривал, щурился и пел:
— «К берегам священным Нила...»
Январь — март 1925 г.
Москва
5 Комментарии. Повесть «Собачье сердце» создана писателем в 1925 году, однако
её публикация была запрещена. Только в 1987 году она была опубликована на родине
писателя в журнале «Знамя».
Действие происходит в Москве, в районе улицы Пречистенка и примыкающих к ней
переулках, в первые послереволюционные годы. В повести упоминаются также другие московские адреса: Сокольники, Охотный ряд, Смоленский рынок, Кузнецкий мост, Моховая,
Мясницкая.
Моссельпром — основанное в 1922 году объединение по переработке сельскохозяйственных продуктов. Моссельпром находился в здании, расположенном в районе Арбатской
площади. Здесь же размещалась администрация московских продуктовых магазинов.
107
«От Севильи до Гренады...» — здесь и далее в повести повторяются строки романса
П. И. Чайковского «Серенада Дон Жуана» (из драматической поэмы А. К. Толстого
«Дон Жуан»).
Айседора Дункан — американская танцовщица (1877—1927), приезжавшая в первые послереволюционные годы в Россию. Была женой известного русского поэта С. А. Есенина.
Сады Семирамиды — одно из семи чудес света — Висячие сады Семирамиды в Вавилоне.
«Правда» — главная ежедневная газета в советское время, центральный орган Коммунистической партии.
Карл Маркс — немецкий экономист и философ (1818—1883), чьи труды стали основой
коммунистического движения марксизма.
«Аида» — опера итальянского композитора Джузеппе Верди (1813—1901), написанная
в 1870 году.
...съезди к Мюру... — универмаг товарищества «Мюр и Мерилиз» в центре Москвы, рядом с Большим театром (с 1933 года — ЦУМ — Центральный универсальный магазин).
«К берегам священным Нила...» — начало арии Царя из оперы Дж. Верди «Аида».
...реторта Фауста... — речь идёт об опыте доктора Фауста, героя трагедии немецкого
писателя Иоганна Вольфганга Гёте (1749—1832) «Фауст» (1774—1831), по созданию
гомункула, подобного человеку существа, полученного искусственным путём.
...белый билет... — условное наименование документа, освобождающего от воинской
службы.
С Энгельсом или с Каутским?.. — имеются в виду немецкий экономист, философ Фридрих
Энгельс (1820—1895) и немецкий экономист, историк и публицист Карл Каутский
(1854—1938).
Спиноза — нидерландский философ Бенедикт Спиноза (1632—1677).
Вопросы и задания
1. Какое впечатление произвели на вас первые страницы повести «Собачье сердце»? Какой приём использует писатель для представления атмосферы исторического времени и обстановки, в которой будет разворачиваться последующее
действие повести?
2. Какие черты московской жизни в первые послереволюционные годы отмечены
в первых главах повести?
3. Вместе со старшими. В чём опасность научного эксперимента, осуществлённого профессором Преображенским? Как оценивают этот эксперимент
персонажи произведения? Что можно сказать об авторской позиции? Как она
проявляется в тексте повести, её заглавии и необычном жанровом подзаголовке?
4. Точка зрения. Что в поведении и высказываниях профессора Преображенского вы принимаете? Что вызывает ваше активное неприятие?
5. Докажите, что образ Швондера представляет собой характерный пример сатирического образа. Какие приёмы изображения использует писатель для создания этого образа?
6. Точка зрения. Кто из персонажей повести «Собачье сердце» вызывает у вас
наибольшие симпатии? Свою позицию аргументируйте.
7. Вместе со старшими. Как вы прокомментируете размышления профессора
Преображенского о «разрухе» (глава III)?
8. Как вы думаете, почему в повести такое большое место отведено необычным
внутренним монологам Шарика?
9. Для дискуссии. Почему образ Шарикова в повести «Собачье сердце» обычно
связывают с понятием «шариковщина»? Какое социальное и моральное явление
нашло художественное воплощение в этом образе?
108
10. Какую роль в повести «Собачье сердце» играет эпилог? Прокомментируйте
последние строки эпилога.
11. Вспомните, что такое гротеск. Приведите примеры использования гротеска
в повести «Собачье сердце».
12. Сочинение. Напишите отзыв об экранизации повести М. А. Булгакова «Собачье
сердце».
Индивидуальные задания
1. Публичное выступление. Используя дополнительную литературу и комментарии к повести, подготовьте сообщение о мифологических и литературных
источниках повести «Собачье сердце».
2. Опыт исследования. Составьте словарь имён собственных, упоминаемых
в повести. Как вы думаете, с какой целью в произведении используются именно эти имена?
3. Дополните комментарии к повести. Какие слова и выражения, на ваш взгляд,
нуждаются в дополнительных комментариях?
4. Связь с другими видами искусства. Используя источники в Интернете,
познакомьтесь с либретто оперы Дж. Верди «Аида» и арией Царя из первого
действия. Почему начало именно этой арии звучит в финале повести М. А. Булгакова?
5. Внеклассное чтение. Прочитайте самостоятельно одно из произведений
М. А. Булгакова. Докажите, что антитеза является центральным композиционным приёмом в творчестве писателя.
Сердце
1. Центральный орган кровообращения, находящийся у человека в левой стороне грудной полости. 2. Место на левой стороне груди, где находится сердце
(«схватиться за сердце»). 3. Сердце как символ средоточия чувств, переживаний,
настроений человека («сердце радуется»). 4. Сердце как символ доброты, отзывчивости, сочувствия, жалости («бессердечный человек»). 5. Перен. Душевный мир
человека, его переживания, настроения, чувства. 6. Перен. Центр, главная часть
чего-либо.
Из Библии: «Сердце мудрых — в доме плача, а сердце глупых — в доме веселья» («Книга Екклесиаста»).
Из русской литературы: «...ум с сердцем не в ладу» (комедия А. С. Грибоедова
«Горе от ума»); «Другой!.. Нет, никому на свете не отдала бы сердца я!..» (роман
в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин»); «Таинственным я занят разговором,
но не с тобой я сердцем говорю...» (стихотворение М. Ю. Лермонтова «Нет, не тебя
так пылко я люблю...»); «У меня на сердце был камень...» (роман М. Ю. Лермонтова
«Герой нашего времени»); «Уж такое, право, доставили наслаждение... майский
день... именины сердца...» (поэма Н. В. Гоголя «Мёртвые души»); «Я вспомнил
время золотое — и сердцу стало так тепло...» (стихотворение Ф. И. Тютчева
«К. Б.»); «Их воскресила любовь, сердце одного заключало бесконечные источники жизни для сердца другого...» (роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание»); «Не может сердце жить покоем...» (стихотворение А. А. Блока «Опять
над полем Куликовым...»).
109
Практикум
Интерьер в литературных произведениях
ЧТО ТАКОЕ ИНТЕРЬЕР
В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ
5 Приведите примеры употребления слова «интерьер» в нашем повседневном
общении. Какие образы и картины возникают в вашем воображении, когда вы
слышите словосочетания «интерьер дворянской усадьбы», «интерьер кабинета
учёного», «интерьер крестьянской избы»? Приведите примеры картин внутреннего
убранства помещений в литературных произведениях и произведениях изобразительного искусства.
Интерьер (от французского слова intеrieur — внутренний) в художественной
литературе — это картина закрытого от внешнего мира пространства жилища
(дома или помещения внутри дома), описание внутреннего убранства помещений,
данное изнутри.
Начало эпического или драматического произведения постепенно вводит читателя в художественный мир, нарисованный писателем, и готовит нас к восприятию
последующих событий. Экспозиция, как правило, включает в себя описание места
действия. Если речь идёт о закрытом пространстве, то перед нами — интерьер,
в эпических произведениях данный в подробных описаниях, а в драматических —
в скупых ремарках.
Интерьер в литературном произведении может выполнять несколько функций.
Во-первых, он знакомит нас с местом действия, тем закрытым пространством,
в котором разворачиваются события, действуют герои. Интерьер помогает нам
представить образ дома (дворянской усадьбы, крестьянской избы, номера гостиницы и т. д.) и образ исторического времени (например, описание светлицы Тараса
Бульбы в повести Н. В. Гоголя).
Во-вторых, интерьер становится особым средством создания общей картины
мира, частью которого он является. Иногда этот мир может быть противопоставлен внутреннему миру героя, который вынужден находиться в условиях закрытого пространства (например, главный герой поэмы М. Ю. Лермонтова «Мцыри»,
воспринимающий монастырские стены как стены темницы). Описание заброшенной, ветхой церкви в повести Н. В. Гоголя «Вий» помогает читателю ощутить общее неблагополучие представленного в произведении мира, в котором утрачена
вера.
В-третьих, интерьер широко используется как одно из средств создания образа персонажа и выражения авторского отношения к нему. Вспомните описание
комнаты станционного смотрителя в повести А. С. Пушкина «Станционный смотритель», где повествователь сразу обратил внимание не только на скромную обстановку жилища бедного смотрителя, но и на картинки, изображавшие историю
блудного сына.
110
5 Прочитайте приведённые ниже описания интерьера. Помните ли вы, каким ли-
тературным героям принадлежат описанные помещения? Что это за помещения?
Как по описанию интерьера можно определить характер, образ жизни, социальное
положение героев?
«...Он устроил её себе сам, по своему вкусу: соорудил в ней кровать из дубовых досок на четырёх чурбаках, истинно богатырскую кровать; сто пудов можно было положить на неё — не погнулась бы; под кроватью находился дюжий
сундук; в уголку стоял столик такого же крепкого свойства, а возле столика — стул на трёх ножках, да такой прочный и приземистый, что сам... бывало,
поднимет его, уронит и ухмыльнётся. Каморка запиралась на замок, напоминавший
своим видом калач, только чёрный...»
«Всё было чисто, вымазано цветной глиной. На стенах — сабли, нагайки, сетки для птиц, невода и ружья, хитро обделанный рог для пороху, золотая уздечка на коня и путы с серебряными бляхами. Окна в светлице были маленькие,
с круглыми тусклыми стёклами, какие встречаются ныне только в старинных церквах, сквозь которые иначе нельзя было глядеть, как приподняв надвижное стекло.
Вокруг окон и дверей были красные отводы. На полках по углам стояли кувшины,
бутыли и фляжки зелёного и синего стекла, разные серебряные кубки, позолоченные чарки всякой работы...»
«Каждая вещь помещалась на своём месте. Хорошо вычищенные и смазанные
салом автоматы висели на жёлтых палочках, изнутри подпиравших палатку.
Шинели и плащ-палатки, сложенные ровно, без единой складки, лежали на свежих еловых и можжевеловых ветках. Противогазы и вещевые мешки, поставленные в головах вместо подушек, были покрыты чистыми суровыми утиральниками.
При выходе из палатки стояло ведро, покрытое фанерой. На фанере в большом
порядке помещались кружки, сделанные из консервных банок, целлулоидные
мыльницы, тюбики зубной пасты и зубные щётки в разноцветных футлярах с дырочками. Был даже в алюминиевой чашечке помазок для бритья, и висело маленькое круглое зеркальце».
5 Для того чтобы более точно представить, какие выразительные средства ис-
пользуют авторы, создавая словесные картины закрытого пространства, проанализируйте небольшие отрывки из художественных произведений (по вашему
выбору). Выпишите наиболее яркие примеры использования изобразительных
средств.
ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН
АНАЛИЗА ИНТЕРЬЕРА
В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ
1. Чьими глазами видится картина, нарисованная автором (самого автора, героев произведения, любого человека)?
2. Что включено в границы словесной картины? Каков масштаб изображения?
3. Какую картину рисует автор — жизнеподобную или условную? С каким пространством она соотносится?
111
4. Какие детали предметного мира особо выделены в описании интерьера?
С какой целью они выделены? Что говорят эти детали о характере, настроении,
психологическом состоянии их владельцев?
5. Укажите, какое место занимает анализируемый художественный интерьер
в содержании произведения, с какими событиями, поступками героев связано это
описание.
6. Какова позиция автора по отношению к нарисованной картине? Какова его
оценка описания? Какими средствами выражена эта оценка?
Вопросы и задания
1. Связь с другими видами искусства. Чем отличается интерьер в литературном произведении от интерьера в изобразительном искусстве?
2. В каких знакомых вам литературных произведениях используется приём контраста в изображении открытого (пейзаж) и закрытого (интерьер) пространства? С какой целью используется этот приём?
3. Сочинение. Используя примерный план характеристики интерьера, подготовьте
рассказ о внутреннем убранстве комнаты одного из литературных персонажей.
112
Александр Трифонович ТВАРДОВСКИЙ
1910—1971
Александр Трифонович Твардовский родился и вырос на Смоленщине, на небольшом хуторе недалеко
от деревни Загорье. В своей автобиографии поэт
вспоминает, что земля эта (вся в мелких болотцах
и кустарнике) «была дорога до святости». Его отец,
единственный сын безземельного крестьянина, многолетним тяжким трудом кузнеца заработал деньги
на покупку земли. Он с самого малого возраста внушал
детям «любовь и уважение к этой кислой, подзолистой, скупой и недоброй, но нашей земле».
Здесь, на малой родине, истоки творчества Твардовского. Влюблённость в жизнь, родную природу,
«простых и грешных» людей труда будет отличать произведения поэта.
И шумы лесные,
И говоры птичьи,
И бедной природы
Простое обличье;
И стёжки, где в поле
Босой я ходил
С пастушеским ветром
Один на один;
И песни, и сказки,
Что слышал от деда,
И всё, что я видел,
Что рано изведал, —
Я в памяти всё
Берегу, не теряя,
За тысячу вёрст
От родимого края.
Отец Твардовского был очень колоритной, не типичной для села фигурой,
что было отмечено прозвищем Пан. Кузнечных дел мастер, Трифон Гордеевич
славился начитанностью, знал наизусть немало стихов и всеми силами стремился
дать детям образование. В голодный 1920 год отец выменял на картошку томик
Н. А. Некрасова, который стал любимым автором Твардовского. Долгими зимними вечерами в семье читали вслух произведения А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя,
М. Ю. Лермонтова. Увлечение классикой станет хорошей литературной школой
для будущего поэта.
Тяга к творчеству пробудилась у Твардовского очень рано. Первые стихи были
написаны им ещё до школы. Подростком он начал писать заметки в редакции
смоленских газет. А в 1925 году было напечатано его первое стихотворение.
113
Наставником начинающего литератора стал его земляк, уже известный в те
годы поэт Михаил Исаковский1. Его пример показал юному автору, что жизнь села,
неброская смоленская природа, чувства простых людей могут быть предметом
поэзии. И хотя ранние стихи, по признанию самого Твардовского, были ученическими, эти первые опыты помогали найти собственный путь в литературе.
Семнадцатилетним юношей Твардовский начинает самостоятельную жизнь
в Смоленске, затем пытается устроиться в Москве. Не имея специальности, он
берётся за любую работу в газетах, ездит по сёлам, пишет корреспонденции,
учится в Смоленском педагогическом институте. Твардовского увлекают своим размахом преобразования, происходившие в жизни села. Он видит в коллективизации
приметы новой жизни деревни и обо всём этом пишет в своих произведениях.
Формируется художественный мир Твардовского, в основе которого лежит изображение реальной жизни, мыслей и переживаний обыкновенных людей. Повествовательная интонация, умение точно и ярко описать событие, обрисовать характер,
передать речь героя — таковы черты стиля Твардовского.
Окончательно определившись с профессией, Твардовский остро ощутил недостаток образования. Будучи уже автором поэмы «Страна Муравия» (1936), он поступает в Московский институт истории, философии и литературы, который с отличием оканчивает в 1939 году.
Почти сразу же Твардовского призывают в армию. Он участвует в освобождении Западной Белоруссии, в войне с Финляндией, Великой Отечественной войне. Так важнейшие вехи истории страны становятся этапами личной и творческой
судьбы Твардовского.
Внимание к ведущим социальным проблемам времени, выявление глубинных
связей человека и эпохи определяют главные творческие принципы Твардовского.
Основной жанр творчества поэта — поэма, самая знаменитая из которых — эпос
о Великой Отечественной войне «Василий Тёркин».
Твардовский мастерски рисует поэтичные картины родной земли («Листвой
и яблоками сад запахнет на заре», «Июль — макушка лета», «Листва отпылала,
опала»). Он умеет слышать и передавать народный говор («Не весь в окошке белый свет», «Угостить — так дым трубой», «Дед кипит: — Позволь, товарищ. Что
ты валенки мне хвалишь? Разреши-ка доложить. Хороши? А где сушить?»).
Обращение к фольклорным жанрам сказки, песни, частушки, пословицы, поговорки, умение строить диалоги, мягкий юмор, музыкальность, простота и афористичность речи отличают его произведения. Как писал сам Твардовский:
Вот стихи, а всё понятно,
Всё на русском языке.
Человек яркого гражданского темперамента, Твардовский не просто отражал
биографию страны и народа, но и сам вписал в неё немало значительных страниц.
В течение 16 лет (в 1950—1954 и 1958—1970 годах) он был главным редактором
журнала «Новый мир», объединив вокруг него лучшие литературные силы своего
времени.
Я жил, я был — за всё на свете
Я отвечаю головой —
1
И с а к о в с к и й Михаил Васильевич (1900—1973) — поэт, автор знаменитых стихотворений,
ставших песнями: «Катюша», «Дан приказ: ему — на запад...», «В лесу прифронтовом», «Ой,
цветёт калина...» и др.
114
Памятник А. Т. Твардовскому и Василию Тёркину в г. Смоленске. Скульптор А. Сергеев
эти слова А. Т. Твардовского точно выражают особенности личности поэта, своеобразие его гражданской позиции, идейного содержания его творчества.
Поэма «Василий Тёркин». Ещё в период финской войны 1939—1940 годов
А. Т. Твардовский открыл для себя «новый, необычайно суровый и вместе с тем
очень человеческий, дружный и радостный мир». Это был мир армейского братства,
смертельно опасной солдатской работы, «великой трудности войны». Без этих впечатлений не возникло бы образов «войны-работы» и «русского труженика-солдата»
в «Василии Тёркине».
Предыстория главного героя также относится к финской войне. Весёлые
фельетоны об удачливом бойце Васе Тёркине появились на страницах газеты
Карельского фронта. Но в поэме от фельетонного героя осталась лишь фамилия,
сам же образ получил другую трактовку: он стал воплощением русского национального характера.
Работу над поэмой Твардовский начал в июне 1942 года. Отдельные главы появлялись на страницах фронтовой печати, в журналах.
Приступая к созданию поэмы, Твардовский определит принцип, который будет
положен в основу изображения:
Не прожить наверняка — без чего?
Без правды сущей,
115
Правды, прямо в сердце бьющей,
Да была б она погуще,
Как бы ни была горька.
Правдой о буднях войны, о тяжком повседневном труде солдат («война-работа»),
о потерях, силе духа и стойкости незаметных героев войны — «русских стриженых
ребятах» — поразит современников поэма Твардовского (главы «Переправа»,
«Бой в болоте» и др.).
Реальные условия войны и задачи, которые поставил перед собой писатель,
определили особенности жанра и композиции произведения.
Жанр поэт определил так: «книга про бойца». И разъяснил:
Без начала, без конца,
Без особого сюжета.
Почему же без сюжета?
На войне сюжета нет.
Почему же без конца? —
Просто жалко молодца.
Книга имеет свободную, открытую композицию, в которой не используются
традиционные для поэмы приёмы построения. В ней нет единого сквозного сюжета ни с точки зрения развития событий, ни с точки зрения истории жизни героя.
Произведение состоит из 25 самостоятельных глав, каждая из которых имеет завершённый сюжет, круг действующих лиц.
Главы объединены образом главного героя. При этом характер героя не формируется постепенно, а раскрывается в наиболее ярких и одновременно общих
своих проявлениях.
Автор наделяет героя «говорящей» фамилией. Тёркин — от слова «тереть»,
т. е. это человек опытный, бывалый, тёртый жизнью. Герой поэмы — обыкновенный солдат («парень сам собой он обыкновенный»). И в то же время он «парень
хоть куда»: всегда оказывается там, где надо, готов прийти на выручку товарищу,
смекалист, с врождённым чувством юмора («Может, сало надо жарить? Так опять
могу помочь...»), весельчак и гармонист.
Твардовский подчёркивает в образе Тёркина его обобщённость, собирательность («Парень в этом роде / В каждой роте есть всегда, / Да и в каждом взводе»). Так создаётся эпический характер русского солдата, в котором раскрыты
наиболее важные качества народа.
Есть в произведении ещё один герой, роль которого в книге особенно важна.
Это герой-повествователь. Его образ имеет автобиографическую основу. Он близок автору по своей биографии, характеру, взглядам на жизнь, войну, творчество
(главы «От автора», «О себе»).
Присутствие героя-повествователя придаёт книге цельность и вносит в неё лирическую тональность. Повествователь ведёт разговор по душам о том, что его
волнует, даёт оценки, размышляет. Твардовский позже писал, что работа над этой
книгой была для него истинным счастьем: «„Тёркин“ был для меня во взаимоотношениях писателя со своим читателем моей лирикой, моей публицистикой, песней
и поучением, анекдотом и присказкой, разговором по душам и репликой к случаю».
Полная свобода в обращении со стихом и словом, непринуждённость повествования, ориентация на живую разговорную речь, наличие многочисленных обра-
116
щений к читателю («и скажу тебе, не скрою»), использование прямой речи
(«Позволь, товарищ. Что ты валенки мне хвалишь?», «Не надо орден, я согласен
на медаль»), обилие пословиц, поговорок («Города сдают солдаты, генералы
их берут»), кратких и точных выражений, ставших афоризмами («я солдат ещё живой», «дай-ка ту, которую», «В поле вьюга-завируха») — таковы особенности стиля поэмы Твардовского. «Какая свобода! — восторженно отозвался о поэме
„Василий Тёркин“ И. А. Бунин, чрезвычайно взыскательный читатель. — Редкая
книга».
Вопросы и задания
1. Поиск информации. Используя дополнительную литературу, подготовьте материалы для заочной экскурсии на родину А. Т. Твардовского. Какие события
русской истории связаны со Смоленщиной? Какие известные учёные, поэты,
писатели, художники, композиторы были земляками Твардовского?
2. Поиск информации. Подготовьте хронологическую таблицу «А. Т. Твардовский в годы Великой Отечественной войны».
Василий Тёркин
Книга про бойца
(фрагменты)
ПЕРЕПРАВА
Переправа, переправа!
Берег левый, берег правый,
Снег шершавый, кромка льда, —
Кому память, кому слава,
Кому тёмная вода, —
Ни приметы, ни следа.
Ночью, первым из колонны,
Обломав у края лёд,
Погрузился на понтоны1
Первый взвод.
Погрузился, оттолкнулся
И пошёл. Второй за ним.
Приготовился, пригнулся
Третий следом за вторым.
Как плоты, пошли понтоны,
Громыхнул один, другой
Басовым, железным тоном,
Точно крыша под ногой.
И плывут бойцы куда-то,
Притаив штыки в тени.
1
Понтон (фр. ponton) — плоскодонное судно, служащее опорой для временного моста.
117
И совсем свои ребята
Сразу — будто не они,
Сразу будто не похожи
На своих, на тех ребят:
Как-то все дружней и строже,
Как-то все тебе дороже
И родней, чем час назад.
Поглядеть — и впрямь — ребята!
Как, по правде, желторот,
Холостой ли он, женатый,
Этот стриженый народ.
Но уже идут ребята,
На войне живут бойцы,
Как когда-нибудь в двадцатом
Их товарищи — отцы.
Тем путём идут суровым,
Что и двести лет назад
Проходил с ружьём кремнёвым
Русский труженик-солдат.
Мимо их висков вихрастых,
Возле их мальчишьих глаз
Смерть в бою свистела часто,
И минёт ли в этот раз?
Налегли, гребут, потея,
Управляются с шестом,
А вода ревёт правее —
Под подорванным мостом.
Вот уже на середине
Их относит и кружит...
А вода ревёт в теснине,
Жухлый лёд в куски крошит,
Меж погнутых балок фермы
Бьётся в пене и в пыли...
А уж первый взвод, наверно,
Достаёт шестом земли.
Позади шумит протока,
И кругом — чужая ночь.
И уже он так далёко,
Что ни крикнуть, ни помочь.
И чернеет там зубчатый,
За холодною чертой,
118
А. Т. Твардовский. «Василий Тёркин». Художник О. Верейский
Неподступный, непочатый
Лес над чёрною водой.
Переправа, переправа!
Берег правый, как стена...
Этой ночи след кровавый
В море вынесла волна.
Было так: из тьмы глубокой,
Огненный взметнув клинок,
Луч прожектора протоку
Пересёк наискосок,
И столбом поставил воду
Вдруг снаряд. Понтоны — в ряд.
Густо было там народу —
Наших стриженых ребят...
И увиделось впервые,
Не забудется оно:
Люди тёплые, живые
Шли на дно, на дно, на дно...
Под огнём неразбериха —
Где свои, где кто, где связь?
Только вскоре стало тихо —
Переправа сорвалась.
119
И покамест неизвестно,
Кто там робкий, кто герой,
Кто там парень расчудесный,
А наверно, был такой.
Переправа, переправа...
Темень, холод. Ночь, как год.
Но вцепился в берег правый,
Там остался первый взвод.
И о нём молчат ребята
В боевом родном кругу,
Словно чем-то виноваты,
Кто на левом берегу.
Не видать конца ночлегу.
За ночь грудою взялась
Пополам со льдом и снегом
Перемешанная грязь.
И усталая с похода,
Что б там ни было, — жива,
Дремлет, скорчившись, пехота,
Сунув руки в рукава.
Дремлет, скорчившись, пехота,
И в лесу, в ночи глухой
Сапогами пахнет, потом,
Мёрзлой хвоей и махрой.
Чутко дышит берег этот
Вместе с теми, что на том
Под обрывом ждут рассвета,
Греют землю животом, —
Ждут рассвета, ждут подмоги,
Духом падать не хотят.
Ночь проходит, нет дороги
Ни вперёд и ни назад...
А быть может, там с полночи
Порошит снежок им в очи,
И уже давно
Он не тает в их глазницах
И пыльцой лежит на лицах —
Мёртвым всё равно.
Стужи, холода не слышат,
Смерть за смертью не страшна,
120
Хоть ещё паёк1 им пишет
Первой роты старшина.
Старшина паёк им пишет,
А по почте полевой
Не быстрей идут, не тише
Письма старые домой,
Что ещё ребята сами
На привале, при огне,
Где-нибудь в лесу писали
Друг у друга на спине...
Из Рязани, из Казани,
Из Сибири, из Москвы —
Спят бойцы. Своё сказали
И уже навек правы.
И тверда, как камень, груда,
Где застыли их следы...
Может — так, а может — чудо?
Хоть бы знак какой оттуда,
И беда б за полбеды.
Долги ночи, жёстки зори
В ноябре — к зиме седой.
Два бойца сидят в дозоре
Над холодною водой.
То ли снится, то ли мнится,
Показалось что невесть,
То ли иней на ресницах,
То ли вправду что-то есть?
Видят — маленькая точка
Показалась вдалеке:
То ли чурка, то ли бочка
Проплывает по реке?
— Нет, не чурка и не бочка —
Просто глазу маята.
— Не пловец ли одиночка?
— Шутишь, брат. Вода не та!
— Да, вода. Помыслить страшно.
Даже рыбам холодна.
— Не из наших ли вчерашних
Поднялся какой со дна?..
1
Паёк — продовольствие, выдаваемое по определённой норме на определённый срок.
121
Оба разом присмирели,
И сказал один боец:
— Нет, он выплыл бы в шинели,
С полной выкладкой, мертвец.
Оба здорово продрогли,
Как бы ни было, — впервой.
Подошёл сержант с биноклем.
Присмотрелся: нет, живой.
— Нет, живой. Без гимнастёрки.
— А не фриц? Не к нам ли в тыл?
— Нет. А может, это Тёркин? —
Кто-то робко пошутил.
— Стой, ребята, не соваться,
Толку нет спускать понтон.
— Разрешите попытаться?
— Что пытаться!
— Братцы, — он!
И, у заберегов корку
Ледяную обломав,
Он как он, Василий Тёркин,
Встал живой, — добрался вплавь.
Гладкий, голый, как из бани,
Встал, шатаясь тяжело,
Ни зубами, ни губами
Не работает — свело.
Подхватили, обвязали,
Дали валенки с ноги.
Пригрозили, приказали —
Можешь, нет ли, а беги.
Под горой, в штабной избушке,
Парня тотчас на кровать
Положили для просушки,
Стали спиртом растирать.
Растирали, растирали...
Вдруг он молвит, как во сне:
— Доктор, доктор, а нельзя ли
Изнутри погреться мне,
Чтоб не всё на кожу тратить?
Дали стопку — начал жить,
Приподнялся на кровати:
— Разрешите доложить...
Взвод на правом берегу
Жив-здоров назло врагу!
122
Лейтенант всего лишь просит
Огоньку туда подбросить.
А уж следом за огнём
Встанем, ноги разомнём.
Что там есть, перекалечим,
Переправу обеспечим...
Доложил по форме, словно
Тотчас плыть ему назад.
— Молодец, — сказал полковник. —
Молодец! Спасибо, брат.
И с улыбкою неробкой
Говорит тогда боец:
— А ещё нельзя ли стопку,
Потому как молодец?
Посмотрел полковник строго,
Покосился на бойца.
— Молодец, а будет много —
Сразу две.
— Так два ж конца...
Переправа, переправа!
Пушки бьют в кромешной мгле.
А. Т. Твардовский. «Василий Тёркин».
Художник О. Верейский
123
Бой идёт святой и правый.
Смертный бой не ради славы,
Ради жизни на земле.
ДВА СОЛДАТА
В поле вьюга-завируха,
В трёх верстах гудит война,
На печи сидит старуха,
Дед-хозяин у окна.
Рвутся мины. Звук знакомый
Отзывается в спине.
Это значит — Тёркин дома,
Тёркин снова на войне.
А старик как будто ухом
По привычке не ведёт.
— Перелёт! Лежи, старуха. —
Или скажет:
— Недолёт...
На печи, забившись в угол,
Та следит исподтишка
С уважительным испугом
За повадкой старика,
С кем жила — не уважала,
С кем бранилась на печи,
От кого всегда держала
По хозяйству все ключи.
А старик, одевшись в шубу
И в очках подсев к столу,
Как от клюквы, кривит губы —
Точит старую пилу.
— Вот не режет, точишь, точишь,
Не берёт, ну что ты хочешь!.. —
Тёркин встал:
— А может, дед,
У неё развода нет?
Сам пилу берёт:
— А ну-ка... —
И в руках его пила,
Точно поднятая щука,
Острой спинкой повела.
Повела, повисла кротко,
Тёркин щурится:
— Ну, вот.
124
Поищи-ка, дед, разводку1,
Мы ей сделаем развод.
Посмотреть — и то отрадно:
Завалящая пила
Так-то ладно, так-то складно
У него в руках прошла.
Обернулась — и готово.
— На-ко, дед, бери, смотри.
Будет резать лучше новой,
Зря инстру€мент не кори.
И хозяин виновато
У бойца берёт пилу.
— Вот что значит мы, солдаты, —
Ставит бережно в углу.
А старуха:
— Слаб глазами,
Стар годами мой солдат.
Поглядел бы, что с часами,
С той войны ещё стоят...
Снял часы, глядит, машина,
Точно мельница, в пыли.
Паутинами пружины
Пауки обволокли.
Их повесил в хате новой
Дед-солдат давным-давно:
На стене простой сосновой
Так и светится пятно.
Осмотрев часы детально, —
Всё ж часы, а не пила, —
Мастер тихо и печально
Посвистел:
— Плохи дела...
Но куда-то шильцем сунул,
Что-то высмотрел в пыли,
Внутрь куда-то дунул, плюнул, —
Что ты думаешь, — пошли!
Крутит стрелку, ставит пятый,
Час — другой, вперёд — назад.
— Вот что значит мы, солдаты, —
Прослезился дед-солдат.
1
Разводка — инструмент для разводки зубьев пилы.
125
Дед растроган, а старуха,
Отслонив ладонью ухо,
С печки слушает:
— Идут!
Ну и парень, ну и шут...
Удивляется. А парень
Услужить ещё не прочь.
— Может, сало надо жарить?
Так опять могу помочь.
Тут старуха застонала:
— Сало, сало! Где там сало...
Тёркин:
— Бабка, сало здесь.
Не был немец — значит, есть!
И добавил, выжидая,
Глядя под ноги себе:
— Хочешь, бабка, угадаю,
Где лежит оно в избе?
Бабка охнула тревожно,
Завозилась на печи:
— Бог с тобою, разве можно...
Помолчи уж, помолчи.
А хозяин плутовато
Гостя под локоть тишком:
— Вот что значит мы, солдаты,
А ведь сало под замком.
Ключ старуха долго шарит,
Лезет с печки, сало жарит
И, страдая до конца,
Разбивает два яйца.
Эх, яичница! Закуски
Нет полезней и прочней.
Полагается по-русски
Выпить чарку перед ней.
— Ну, хозяин, понемножку,
По одной, как на войне.
Это доктор на дорожку
Для здоровья выдал мне.
Отвинтил у фляжки крышку:
— Пей, отец, не будет лишку.
Поперхнулся дед-солдат,
Подтянулся:
— Виноват!..
126
Крошку хлебушка понюхал,
Пожевал — и сразу сыт.
А боец, тряхнув над ухом
Тою флягой, говорит:
— Рассуждая так ли, сяк ли,
Всё равно такою каплей
Не согреть бойца в бою,
Будьте живы!
— Пейте.
— Пью...
И сидят они по-братски
За столом, плечо в плечо.
Разговор ведут солдатский,
Дружно спорят, горячо.
Дед кипит:
— Позволь, товарищ.
Что ты валенки мне хвалишь?
Разреши-ка доложить.
Хороши? А где сушить?
Не просушишь их в землянке,
Нет, ты дай-ка мне сапог,
Да суконные портянки
Дай ты мне — тогда я бог!
Снова где-то на задворках
Мёрзлый грунт боднул снаряд.
Как ни в чём — Василий Тёркин,
Как ни в чём — старик солдат.
— Эти штуки в жизни нашей, —
Дед расхвастался, — пустяк!
Нам осколки даже в каше
Попадались. Точно так.
Попадёт, откинешь ложкой,
А в тебя — так и мертвец.
— Но не знали вы бомбёжки,
Я скажу тебе, отец.
— Это верно, тут наука,
Тут напротив не попрёшь...
А скажи, простая штука
Есть у вас?
— Какая?
— Вошь.
И, макая в сало коркой,
Продолжая ровно есть,
Улыбнулся вроде Тёркин
127
И сказал:
— Частично есть...
— Значит, есть? Тогда ты воин,
Рассуждать со мной достоин.
Ты — солдат, хотя и млад,
А солдат солдату — брат.
И скажи мне откровенно,
Да не в шутку, а всерьёз.
С точки зрения военной
Отвечай на мой вопрос.
Отвечай: побьём мы немца
Или, может, не побьём?
— Погоди, отец, наемся,
Закушу, скажу потом.
Ел он много, но не жадно,
Отдавал закуске честь,
Так-то ладно, так-то складно,
Поглядишь — захочешь есть.
Всю зачистил сковородку,
Встал, как будто вдруг подрос,
И платочек к подбородку,
Ровно сложенный, поднёс.
Отряхнул опрятно руки
И, как долг велит в дому,
Поклонился и старухе,
И солдату самому.
Молча в путь запоясался,
Осмотрелся — всё ли тут?
Честь по чести распрощался,
На часы взглянул: идут!
Всё припомнил, всё проверил,
Подогнал и под конец
Он вздохнул у самой двери
И сказал:
— Побьём, отец...
В поле вьюга-завируха,
В трёх верстах гремит война.
На печи в избе старуха.
Дед-хозяин у окна.
В глубине родной России,
Против ветра, грудь вперёд,
По снегам идёт Василий
Тёркин. Немца бить идёт.
128
5 Комментарии. Первые главы поэмы «Василий Тёркин» публиковались в газете Западного фронта «Красноармейская правда» в 1942 году и были необычайно популярны
среди солдат. Поэт стал получать письма с фронта и даже «продолжения» истории о Василии Тёркине. Когда в мае 1945 года была опубликована заключительная глава поэмы
«От автора», фронтовики стали просить поэта продолжить работу над «книгой про бойца»,
рассказать о том, как Тёркин будет действовать в мирное время.
Первое полное издание поэмы вышло в 1945 году. В 1946 году она была удостоена
Сталинской премии.
Подробная история создания поэмы представлена в статье А. Т. Твардовского «Как был
написан „Василий Тёркин“ (ответ читателям)» (1951—1966).
Переправа, переправа!.. — глава «Переправа» написана под впечатлением от событий
на Соловьёвой переправе через Днепр в районе Смоленска. Здесь на пути в Москву
в 1812 году шли бои с армией Наполеона. Во время Великой Отечественной войны
в 1941 году советские войска удерживали эту позицию до поздней осени. По разным
подсчётам, здесь погибло от 50 до 100 тысяч солдат и офицеров. На месте переправы
в 2002 году был открыт храм иконы Божией Матери «Взыскание погибших». Рядом
установлен памятник знаменитой «катюше», легендарному гвардейскому миномёту.
Как когда-нибудь в двадцатом... — напоминание о событиях Гражданской войны 1917—
1922 годов.
Отвечай: побьём мы немца... — события, описанные в главах «Переправа» и «Два бойца»,
относятся к первому году Великой Отечественной войны, времени отступления советских войск. Вопрос старика был в то время самым главным и очень трудным вопросом.
Вопросы и задания
1. Как описываются в главе «Переправа» суровые будни войны? Как воспринимает эти будни «стриженый народ»?
2. Объясните смысл названия главы «Переправа», покажите его связь с темой
этой главы.
3. Докажите, что образ переправы в поэме имеет метафорическое значение.
При выполнении этого задания используйте комментарии к поэме.
4. Вспомните, что такое рефрен (См. «Краткий словарь литературоведческих терминов» в конце учебника). Объясните смысл использования рефрена в главах
«Переправа» и «Два солдата».
5. Какую роль играет диалог в главе «Переправа»? Как диалоги помогают создать
характеры?
6. Дайте краткую характеристику действующим лицам главы «Два солдата». Покажите роль диалога в создании образов Василия Тёркина и старика.
7. Приведите примеры юмористических ситуаций в главах «Переправа» и «Два
солдата». Какую роль играет юмор в главах, посвящённых труднейшему периоду Великой Отечественной войны?
8. Опыт исследования. Докажите, что поэма «Василий Тёркин» создана под
непосредственным воздействием фольклора. Какие фольклорные образы и
приёмы используются в поэме?
9. Перечитайте финальную часть главы «Два солдата». Найдите рифму к имени
героя — Василий, объясните её смысл. Что нового добавляет эта глава к образу Тёркина?
10. Выпишите особенно яркие афористичные выражения из поэмы «Василий Тёркин». Обратите внимание на то, кому они принадлежат.
11. Как проявляется в поэме «Василий Тёркин» авторская позиция? Приведите примеры прямого выражения позиции автора в прочитанных вами главах
поэмы.
129
12. Творческое прочтение. Подготовьте выразительное чтение наизусть фрагмента поэмы «Василий Тёркин» (финала главы «Переправа» со слов «Долги
ночи, жёстки зори...»).
Индивидуальные задания
1. Публичное выступление. Прочитайте статью А. Т. Твардовского «Как был
написан „Василий Тёркин“ (ответ читателям)». Кратко изложите историю создания этого произведения.
2. Составьте план характеристики Василия Тёркина. Подберите цитаты к этому
плану, используя прочитанные главы поэмы.
3. Публичное выступление. Подготовьте сообщение на тему «Поэма А. Т. Твардовского „Василий Тёркин“ в иллюстрациях художника О. Верейского». Подберите иллюстративный материал к своему сообщению.
4. Творческое прочтение. Самостоятельно прочитайте и подготовьте выразительное чтение наизусть стихотворений А. Т. Твардовского о войне («В тот день,
когда окончилась война...», «Две строчки», «Жестокая память» и др.).
5. Сочинение. Напишите сочинение-эссе на тему «Давайте, люди, никогда об
этом не забудем...» (А. Т. Твардовский).
130
Тема
Великой Отечественной войны
в русской литературе
В написанных почти через двадцать лет после Великой Победы стихах
Александра Трифоновича Твардовского нашёл отражение особый пафос литературы о Великой Отечественной войне:
Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны,
В том, что они — кто старше, кто моложе —
Остались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь, —
Речь не о том, но всё же, всё же, всё же...
Произведения, посвящённые теме Великой Отечественной войны, отличает живая память, гордость за победителей и неутихающая горечь потерь, чувство вины
и святого долга перед павшими. Литература стала своеобразным памятником всем
тем, кто сражался за Родину, кто трудился во имя Великой Победы.
В военные годы особая роль принадлежала поэзии. По-новому зазвучали тогда голоса поэтов разных поколений, которых объединила высокая патриотическая тема. Гимном сражающегося народа стала знаменитая песня композитора
А. В. Александрова на слова поэта В. И. Лебедева-Кумача «Священная война»,
созданная уже в первые дни войны. В названии песни было дано главное определение этой войны — священная.
Поэзия выражала веру в победу, пробуждала чувство ненависти к захватчикам.
В лирических стихотворениях, песнях и поэмах отразилось чувство глубокой связи каждого человека с родной землёй, его сопричастность великой истории. Душу
каждого солдата согревали стихи о любви, о верности, о родном доме. «Землянку»
А. А. Суркова и «Жди меня» К. М. Симонова бойцы носили в карманах гимнастёрок,
вырезки из газет с этими стихами посылали в письмах домой, с ними шли в бой.
Главным героем литературы военных лет стал простой солдат, защитник, освободитель, открывший изумлённому миру лучшие черты национального характера.
Литература о Великой Отечественной войне имеет уже свою историю. Её возникновение приходится непосредственно на военные годы, когда преобладали
лирические и публицистические жанры. Послевоенный период, наряду с другими
произведениями, открывало стихотворение М. В. Исаковского «Враги сожгли родную хату...», в котором поэт говорил от имени солдат-победителей, через личные переживания человека, потерявшего семью, раскрывал народную трагедию.
Прошло почти десять лет, и к теме судьбы человека, прошедшего всю войну,
обратился в своём рассказе «Судьба человека» М. А. Шолохов. Эту тему продолжили позднее В. Л. Кондратьев в повести «Сашка», Д. С. Самойлов в стихотворении «Сороковые» и многие другие известные поэты, писатели, драматурги.
131
Алексей Александрович СУРКОВ
1899—1983
Алексей Александрович Сурков — поэт, публицист,
участник Великой Отечественной войны, автор знаменитой «Землянки», музыку к которой написал композитор
К. Я. Листов.
Родился Сурков в деревне Середнево Ярославской области в крестьянской семье. Очень рано он
начал самостоятельную трудовую деятельность. Как
и М. Горький, был отдан «в люди» в Петербург. Первые стихи Сурков опубликовал в «Красной газете» в
1918 году. Будучи убеждённым коммунистом, он участвовал в Гражданской войне на стороне большевиков,
а после войны много лет провёл на партийной работе.
Подлинное рождение Суркова как поэта связано
с событиями «зимней кампании» в Финляндии в 1939—
1940 годах. В годы Великой Отечественной войны
он опубликовал свои лучшие поэтические сборники
«Декабрь под Москвой» и «Дороги ведут на запад» (1942), «Солдатское сердце»
и «Наступление» (1943), «Россия карающая» (1944), в которых сумел передать
солдатские мысли и тревоги. Именно поэтому Сурков, по его собственному признанию, был «в любом блиндаже родня».
***
Бьётся в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза,
И поёт мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза.
Про тебя мне шептали кусты
В белоснежных полях под Москвой.
Я хочу, чтобы слышала ты,
Как тоскует мой голос живой.
Ты сейчас далеко-далеко.
Между нами снега и снега.
До тебя мне дойти нелегко,
А до смерти — четыре шага.
Пой, гармоника, вьюге назло,
Заплутавшее счастье зови.
Мне в холодной землянке тепло
От моей негасимой любви.
5 Комментарии. Стихотворение «Бьётся в тесной печурке огонь...» написано 27 ноября
1941 года на Западном фронте. Это была часть письма, написанного жене и, разумеется,
не предназначенного для публикации.
132
В феврале 1942 года композитор К. Я. Листов попросил у поэта стихи для новой
песни. Так появилась «Землянка». Поэт вспоминал, что кому-то из руководства не понравилась строка «А до смерти — четыре шага», а он не хотел ничего менять в своём
тексте. Впрочем, сохранились записи песни с изменённой строкой («Все дороги пурга замела»).
Вопросы и задания
1. Какое настроение преобладает в этом стихотворении? Как поэту удаётся передать это настроение?
2. Что можно сказать о герое этого стихотворения? Что нового добавляют
к его характеристике известные вам исторические факты и факты биографии
поэта?
3. Точка зрения. Как вы думаете, в чём секрет необычайной популярности этого стихотворения в годы Великой Отечественной войны?
Давид Самуилович САМОЙЛОВ
1920—1990
Давид Самуилович Самойлов (настоящая фамилия — Кауфман) — поэт, переводчик, который вошёл
в литературу через много лет после Великой Отечественной войны и довольно редко обращался в стихотворениях и поэмах к своему военному опыту. Самойлов написал об этом опыте впоследствии так:
«Главное, что открыла во мне война, — это ощущение
народа».
Самойлов родился в Москве. Будучи студентомпервокурсником, он ушёл добровольцем на фронт, был
пулемётчиком, командиром взвода разведчиков, прошёл всю войну и дошёл до Берлина. Свои ранние стихи он не печатал. В годы войны почти ничего не писал:
было не до этого. В первые послевоенные годы занимался преимущественно переводами.
Его первая книга «Ближние страны» вышла в 1958 году. Самойлов предпочитал традиционные, классические сюжеты, считал себя продолжателем пушкинской традиции и традиции поэтов-декабристов. В 1973 году вышла его «Книга
о русской рифме».
Сороковые
Сороковые, роковые,
Военные и фронтовые,
Где извещенья похоронные
И перестуки эшелонные.
133
Гудят накатанные рельсы.
Просторно. Холодно. Высоко.
И погорельцы, погорельцы
Кочуют с запада к востоку...
А это я на полустанке
В своей замурзанной ушанке,
Где звёздочка не уставная,
А вырезанная из банки.
Да, это я на белом свете,
Худой, весёлый и задорный.
И у меня табак в кисете,
И у меня мундштук наборный.
И
И
И
И
я с девчонкой балагурю,
больше нужного хромаю,
пайку надвое ломаю,
всё на свете понимаю.
Как это было! Как совпало —
Война, беда, мечта и юность!
И это всё в меня запало
И лишь потом во мне очнулось!..
Сороковые, роковые,
Свинцовые, пороховые...
Война гуляет по России,
А мы такие молодые!
5 Комментарии. Стихотворение «Сороковые» было написано в 1961 году и в том
же году напечатано в журнале «Новый мир», главным редактором которого был тогда
А. Т. Твардовский.
Вопросы и задания
1. Что необычного вы отметили в переживании лирического героя? Как в его
восприятии военного времени соединились образы беды и мечты, войны и
юности?
2. Докажите, что образ военного времени представлен в восприятии и оценке
человека, уже успевшего осмыслить свой военный опыт, судьбу своего поколения.
3. В одном из своих поздних стихотворений Д. С. Самойлов признавался, что четыре военных года были для него и его поколения самым значительным и ярким событием:
Если вычеркнуть войну,
Что останется — не густо...
Докажите, что и в стихотворении «Сороковые» лирический герой близок к такому признанию.
134
Расул Гамзатович ГАМЗАТОВ
1923—2003
Расул Гамзатов — российский поэт, переводчик
и публицист, общественный деятель, аварец по национальности, народный поэт Дагестана, чьё творчество
получило мировую известность, а образ журавлей из
известной песни «Журавли» стал символическим образом памяти о погибших в годы Великой Отечественной
войны, нашедшим отражение в произведениях живописи, скульптуры, кинематографа.
Родился Гамзатов в селении Цада в семье народного поэта Дагестана Гамзата Цадасы. После окончания Аварского педагогического училища он работал
учителем в школе, помощником режиссёра в театре,
журналистом. После войны Гамзатов учился в Литературном институте имени А. М. Горького в Москве.
Его первая книга стихов на аварском языке вышла
в 1943 году. Гамзатов занимался переводами на аварский язык произведений А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, А. А. Блока, других
русских поэтов. Одна за другой выходили книги его стихов «Наши горы» (1947),
«Песни гор» (1948), поэма «Горянка» (1958), лирическая повесть «Мой Дагестан»
(1968).
Свои произведения Гамзатов посвящал своему родному народу, однако при
этом всегда думал о судьбах человечества и проблемах, которые волнуют людей
самых разных стран. В своей статье «Зов белых журавлей» (1990) поэт писал:
«Я подумал: ведь и мои журавли тоже зовут всех нас, живущих на земле, к миру
и братству, ведь мы все — Божьи дети... Мы и так много крови пролили, мстя за
прошлое. И ничего не добились, кроме зла. Я это знаю как житель гор, где веками существовал закон мести. Нет более святого закона, чем закон дружбы.
К этому зовут сегодня белые журавли».
Журавли
Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю эту полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.
Они до сей поры с времён тех дальних
Летят и подают нам голоса.
Не потому ль так часто и печально
Мы замолкаем, глядя в небеса?
Сегодня, предвечернею порою,
Я вижу, как в тумане журавли
135
Летят своим определённым строем,
Как по полям людьми они брели.
Они летят, свершают путь свой длинный
И выкликают чьи-то имена.
Не потому ли с кличем журавлиным
От века речь аварская сходна?
Летит, летит по небу клин усталый —
Летит в тумане на исходе дня,
И в том строю есть промежуток малый —
Быть может, это место для меня!
Настанет день, и с журавлиной стаей
Я поплыву в такой же сизой мгле,
Из-под небес по-птичьи окликая
Всех вас, кого оставил на земле.
5 Комментарии. Поводом к созданию стихотворения «Журавли» стали воспоминания
поэта о своих родных и близких, не вернувшихся с войны, и его поездка в 1965 году
в японский город Хиросиму, посещение музея Садако Сасаки, страдавшей лейкемией после
атомного взрыва и надеявшейся вылечиться, если она смастерит тысячу бумажных журавликов.
Стихотворение было опубликовано в 1968 году в журнале «Новый мир». Автором
перевода на русский язык стал поэт-фронтовик Наум Исаевич Гребнев (1921—1988). Стихотворение начиналось так: «Мне кажется порою, что джигиты...», однако в процессе создания песни появилось слово «солдаты». Музыку написал композитор Ян Абрамович
Френкель (1920—1989), а первым исполнителем песни стал киноактёр Марк Наумович
Бернес (1911—1969).
Вопросы и задания
1. Точка зрения. Что делает это стихотворение Р. Гамзатова, посвящённое памяти павших в конкретной войне, страстным отрицанием всякой войны и призывом к миру во всём мире?
2. Точка зрения. Какую роль в стихотворении «Журавли» играет тема преемственности поколений? В каких его строках особенно отчётливо проявилась
авторская позиция?
3. Опыт исследования. Сопоставьте текст стихотворения и текст песни «Журавли». Что хотели особо подчеркнуть в идейном содержании песни её авторы
и первый исполнитель?
4. Публичное выступление. Подготовьте презентацию о жизни и творчестве
Р. Гамзатова. Какие иллюстрации и фрагменты произведений могли бы дополнить ваш рассказ о поэте и своеобразии его творчества?
136
Вячеслав Леонидович КОНДРАТЬЕВ
1920—1993
Вячеслав Леонидович Кондратьев — один из самых
ярких представителей так называемой «лейтенантской
прозы». Он пришёл в литературу уже в зрелом возрасте. Его первое произведение, повесть «Сашка»
(1979), вышло накануне 60-летия автора.
Кондратьев родился в Полтаве. В 1939 году он поступил в институт, однако в том же году с первого
курса был призван в армию. Служил, как и главный
герой повести «Сашка», на Дальнем Востоке в железнодорожных войсках.
С декабря 1941 года он участвовал в боях подо
Ржевом, где на подступах к Москве шли тяжёлые бои.
Здесь он получил первое ранение. После окончания
отпуска по ранению Кондратьев воевал в железнодорожных войсках, был тяжело ранен, полгода пробыл
в госпитале, откуда выписался инвалидом.
«Невыдуманная проза» Кондратьева посвящена поколению, судьбу которого
определила война. Жизненные впечатления будущего писателя составляют автобиографическую основу его произведений. Главный творческий принцип Кондратьева — писать только «строгую правду» о войне, «иначе это будет просто безнравственно».
В центре сюжета повести «Сашка» — трудная ситуация нравственного выбора,
в которой оказался главный герой. С одной стороны, к нему приходит осознание
безграничной власти над пленным немцем, с другой — не такой Сашка человек,
«чтоб над пленным и безоружным издеваться». Приказ комбата «немца — в расход» кажется ему несправедливым, этот приказ нельзя выполнить, невозможно
«переступить преграду» в душе.
Традиция разрешения этого нравственного конфликта уходит корнями в классическую литературу (таково, например, отношение к пленным в романе Л. Н. Толстого
«Война и мир») и фольклор (поговорка «Лежачего не бьют»), отражает нравственный кодекс народа.
Описанное событие Сашка оценит как самое главное из пережитого им на войне. В двух последующих частях повести автор дополняет и углубляет характеристику главного героя. Писатель проводит Сашку дорогами войны через ранение,
госпиталь, дорогу в тыл «среди пожарищ и разора», проверяет его отношением
к женщине, товарищам, незнакомым людям, встречающимся на его пути, доверяет герою размышления о любви и предательстве, вере и безверии, жизни и смерти, войне и мире. Такое построение повести позволяет глубже раскрыть характер
на эпическом фоне народной жизни в военные годы.
137
Сашка
(фрагменты)
Всем воевавшим подо Ржевом —
живым и мёртвым — посвящена
эта повесть.
1
К вечеру, как отстрелялся немец, пришло время заступить Сашке
на ночной пост. У края рощи прилеплен был к ели редкий шалашик
для отдыха, а рядом наложено лапнику густо, чтобы и посидеть, когда
ноги занемеют, но наблюдать надо было безотрывно.
Сектор Сашкиного обзора не маленький: от подбитого танка,
что чернеет на серёдке поля, и до Панова, деревеньки махонькой, разбитой вконец, но никак нашими не достигнутой. И плохо, что роща
в этом месте обрывалась не сразу, а сползала вниз мелким подлеском
да кустарником. А ещё хуже, метрах в ста поднимался взгорок с березняком, правда, не частым, но поле боя пригораживающим.
По всем военным правилам надо бы пост на тот взгорок и выдвинуть, но побоязничали — от роты далековато. Если немец перехватит,
помощи не докличешься, потому и сделали здесь. Прогляд, правда,
неважный, ночью каждый пень или куст фрицем оборачивается, зато
на этом посту никто во сне замечен не был. Про другие того не скажешь, там подремливали.
Напарник, с которым на посту чередоваться, достался Сашке никудышный: то у него там колет, то в другом месте свербит. Нет, не симулянт, видно, и вправду недужный, да и ослабший от голодухи, ну
и возраст сказывается. Сашка-то молодой, держится, а кто из запаса,
в летах, тем тяжело.
Отправив его в шалаш отдыхать, Сашка закурил осторожно, чтоб
немцы огонёк не заметили, и стал думать, как ему своё дело ловчее
и безопаснее сделать — сейчас ли, пока не затемнело совсем и ракеты
не очень по небу шаркают, или на рассвете?
Когда наступали они днями на Паново, приметил он у того взгорка
мёртвого немца, и больно хороши на нём были валенки. Тогда не
до того было, а валенки аккуратные и, главное, сухие (немца-то зимой
убило и лежал он на верховине, водой не примоченной). Валенки эти
самому Сашке не нужны, но с ротным его приключилась беда ещё
на подходе, когда Волгу перемахивали. Попал тот в полынью и начерпал сапоги доверху. Стал снимать — ни в какую! Голенища узкие
стянулись на морозе, и, кто только ротному ни помогал, ничего не вышло. А так идти — сразу ноги поморозишь. Спустились они в землянку, и там боец один предложил ротному валенки на сменку. Пришлось
согласиться, голенища порезать по шву, чтоб сапоги стащить и произвести обмен. С тех пор в этих валенках ротный и плавает. Конечно,
можно было ботинки с убитых подобрать, но ротный либо брезгует,
либо не хочет в ботинках, а сапог на складе или нету, или просто недосуг с этим возиться.
138
Место, где фриц лежит, Сашка заприметил, даже ориентир у него
есть: два пальца влево от берёзки, что на краю взгорка. Берёзу эту
пока видно, может, сейчас и подобраться? Жизнь такая — откладывать ничего нельзя.
Когда напарник Сашкин откряхтелся в шалаше, накашлялся вдосыть и вроде заснул, Сашка курнул наскоро два разка для храбрости — что ни говори, а вылезать на поле, холодком обдувает — и, оттянув затвор автомата на боевой взвод, стал было спускаться с пригорка,
но что-то его остановило... Бывает на передке такое, словно предчувствие, словно голос какой говорит: не делай этого. Так было с Сашкой
зимой, когда окопчики снежные ещё не растаяли. Сидел он в одном,
сжался, вмёрзся в ожидании утреннего обстрела, и вдруг... ёлочка,
что перед окопчиком росла, упала на него, подрезанная пулей. И стало
Сашке не по себе, махнул он из этого окопа в другой. А при обстреле
в это самое место мина! Останься Сашка там, хоронить было б нечего.
Вот и сейчас расхотелось Сашке ползти к немцу, и всё! Отложу-ка
на утро, подумал он и начал взбираться обратно.
А ночь плыла над передовой, как обычно... Всплескивались ракеты
в небо, рассыпались там голубоватым светом, а потом с шипом, уже
погасшие, шли вниз к развороченной снарядами и минами земле... Порой небо прорезывалось трассирующими, порой тишину взрывали пулемётные очереди или отдалённая артиллерийская канонада... Как
обычно... Привык уже Сашка к этому, обтерпелся и понял, что непохожа война на то, что представлялось им на Дальнем Востоке, когда
катила она свои волны по России, а они, сидя в глубоком тылу, переживали, что идёт война пока мимо них, и как бы не прошла совсем,
и не совершить им тогда ничего геройского, о чём мечталось вечерами
в тёплой курилке.
Да, скоро два месяца минет... И, терпя ежечасно от немцев, не видел ещё Сашка вблизи живого врага. Деревни, которые они брали,
стояли как будто мёртвые, не видать в них было никакого движения.
Только летели оттуда стаи противно воющих мин, шелестящих снарядов и тянулись нити трассирующих. Из живого видели они лишь танки, которые, контратакуя, пёрли на них, урча моторами и поливая
их пулемётным огнём, а они метались на заснеженном тогда поле...
Хорошо, наши сорокапятки затявкали, отогнали фрицев.
Сашка хоть и думал про всё это, но глаз от поля не отрывал... Правда, немцы сейчас их не тревожили, отделывались утренними и вечерними миномётными налётами, ну и снайперы постреливали, а так вроде наступать не собираются. Да и чего им тут, в этой болотной
низинке? До сих пор вода из земли выжимается. Пока дороги не пообсохли, вряд ли попрёт немец, а к тому времени сменить их должны.
Сколько можно на передке находиться?
Часа через два пришёл сержант с проверкой, угостил Сашку табачком. Посидели, покурили, побалакали о том о сём. Сержант всё
о выпивке мечтает — разбаловался в разведке, там чаще подносили.
А Сашкиной роте только после первого наступления богато досталось — граммов по триста. Не стали вычитать потери, по списочному
139
составу выдали. Перед другими наступлениями тоже давали, но всего
по сто — и не почувствуешь. Да не до водки сейчас... С хлебцем плохо.
Навару никакого. Полкотелка жидни пшёнки на двоих — и будь здоров. Распутица!
Когда сержант ушёл, недолго и до конца Сашкиной смены. Вскоре
разбудил он напарника, вывел его, сонного, на своё место, а сам в шалашик. На телогрейку шинелишку натянул, укрылся с головой и заснул...
Спали они тут без просыпу, но Сашка почему-то дважды ото сна
уходил и один раз даже поднялся напарника проверить — ненадёжный больно. Тот не спал, но носом клевал, и Сашка потрепал его немножко, встряхнул, потому как старший он на посту, но вернулся
в шалаш какой-то неуспокоенный. С чего бы это? Подсасывало что-то.
И был он даже рад, когда пришёл конец его отдыху, когда на пост
заступил, — на самого себя надёжи-то больше.
Рассвет ещё не наступил, а немцы ракеты вдруг перестали запускать — так, реденько, одна-другая в разных концах поля. Но Сашку
это не насторожило: надоело пулять всю ночь, вот и кончили. Это ему
даже на руку. Сейчас он к немцу за валенками и смотается...
До взгорка добрался он быстро, не очень таясь, и до берёзы, а вот
тут незадача... Расстояние в два пальца на местности в тридцать метров обернулось, и ни кустика, ни ямки какой — чистое поле. Как бы
немец не засёк! Здесь уж на пузе придётся, ползком...
Сашка помедлил малость, обтёр пот со лба... Для себя ни за что бы
не полез, пропади пропадом эти валенки! Но ротного жалко. Его пимы1
насквозь водой пропитались — и за лето не просушить, а тут сухенькие
наденет и походит в сухом, пока ему сапоги со склада не доставят...
Ладно, была не была!
Без останову дополз Сашка до немца, схоронился за него, осмотрелся и взялся за валенок. Потянул, но не выходит! То, что приходится
мёртвого тела касаться, его не смущало — попривыкли они к трупамто. По всей роще раскиданы, на людей уже не похожие. Зимой лица
их цвета не покойницкого, а оранжевого, прямо куклы какие, и потому Сашка брезговал не очень. И сейчас, хотя и весна, лица их такими же остались — красноватыми.
В общем, лёжа снять с трупа валенки не получалось, пришлось
на колени привстать, но тоже не выходит, тянется весь фриц за своим
валенком, ну что делать? Но тут смекнул Сашка упереться ногой
в немца и попробовать так. Стал поддаваться валенок, а когда стронулся с места, уже пошёл... Значит, один есть.
Небо на востоке зажелтилось немного, но до настоящего рассвета
ещё далеко — так, еле-еле начинало вокруг кое-что проглядываться.
Ракеты немцы совсем перестали запускать. Всё же перед тем, как за
второй валенок приняться, огляделся Сашка. Вроде спокойно всё,
можно снимать. Снял и пополз быстро к взгорку, а оттуда меж осинок
и кустов можно и в рост без опаски до своего шалашика.
1
Пимы — валенки.
140
Только подумал это Сашка, как завыло над головой, зашелестело,
а потом гроханули разрывы по всей роще, и пошло... Что-то рановато
сегодня немцы начали. С чего бы так?
Со взгорка сполз он в низинку и залёг под кустом. В рощу возвращаться сейчас незачем, там всё в грохоте, треске, в дыму и гари,
а сюда немец не бьёт. Опять подумалось: неспроста в такую рань начали, и обстрел большой — рвутся мины одна за другой, пачками, будто строчит очередь какой-то здоровенный пулемётище. А вдруг наступать, гады, надумали? Эта мысль обожгла, но заставила Сашку глядеть
в оба. В роще-то теперь под таким обстрелом вдавились все в землю,
им не до наблюдения.
Вот заразы так заразы! Всё не перестают! И верно, такого налёта
Сашка не помнит, уж больно силён и долог. Глянул назад, и впрямь
творится там страшное — разрывы по всему лесу, взметаются вверх
комья земли, падают вывороченные с корнем деревья. Как бы не побило всех. Сашке даже неловко стало, что оказался он случайно в безопасности, от своей роты в отрыве, но валенки рукой погладил.
Курнуть захотелось смертно, и Сашка начал курить цигарку, глаза
на миг от поля отведя, а когда поднял их — обомлел!
Из-за взгорка поднимался громадный немец... Огляделся и дал сигнал рукой остальным, ещё не видимым Сашкой: дескать, можно идти.
Высунулись ещё двое, такие же огромные, — сперва головы в касках,
потом в полтуловища, а потом и во весь рост...
Цигарка у Сашки выпала из рук, дыхание перехватило, сердце провалилось куда-то, тело зацепенело — ни рукой, ни ногой не двинуть.
А немцев тем временем прибавлялось — то здесь, то там появлялись.
Большие, серые, размытые предутренней дымкой, страшные...
И Сашка понял, не выдержит он сейчас, поднимется, заорёт благим
матом «немцы» и бросится бежать в рощу, к своим, лишь бы не быть
одному. Уже напряглось тело, уже растянулся рот... Но тут услышал
он приглушённую команду «форвертс1, форвертс», которую немцы исполнили не сразу, а заколебавшись. И вот эта минутная заминка у них,
безохотное выполнение приказа дало Сашке время прийти в себя,
и страх, сдавивший его поначалу, как-то сошёл с него.
Двигались немцы осторожно, с опаской, и это дало Сашке мысль:
побаиваются они тоже, разве знать им, сколько русских в роще и что
ждёт их здесь? И это вдруг успокоило Сашку, голова заработала, мысли не пересекали друг друга, а стали строиться в ряд — что делать
сначала, что потом... Наперво поглядел он назад и выбрал место поукрытистей, да не одно, а два, потом, привстав на колено, чтоб видеть
лучше, резанул длинной очередью по немцам и сразу побежал к намеченному кусту, тут он опять с колена дал веерок трассирующих,
перекатился в сторону, а уж оттуда что есть мочи бросился в рощу.
Здесь только услышал он ответную пальбу, крики, свист, улюлюканье и треск разрывных пуль вокруг, а оглянувшись, увидел — немцы
бежали вовсю, раскрыв рты, прижав автоматы к животу...
1
Vorwärts — вперёд (нем.).
141
Сашка влетел в рощу, крича «немцы! немцы!», чтоб упредить своих, и тут же столкнулся с ротным, схватившим его за грудь и прокричавшим прямо в лицо:
— Много их? Много?
— Много! — выдохнул Сашка.
— Беги передай — всем за овраг! Там залечь и ни шагу!
— А вы?
— Беги! — повторил ротный, и Сашка побежал.
И верно, подумал Сашка, принимать бой здесь, когда немцы вошли
уж в рощу, нельзя. А перед оврагом ручей и место открытое, там немцы, если попрут, на виду будут, там и прищучить можно, ну и вторая
рота поможет.
В серёдке пятачка столпилась их битая-перебитая рота около раненного в ногу политрука1. Тот размахивал карабином и кричал:
— Ни шагу! Назад ни шагу!
— Приказ ротного — отойти за овраг! — крикнул Сашка. — А оттуда ни шагу!
Этого будто и ждали, побежали резво, откуда силёнки взялись,
а политрук, побелевший, скривившийся от боли, растерянно глядел,
как неслась схваченная паникой рота.
Один из бойцов, коренастый татарин, нагнулся над политруком,
схватил под мышки и потянул к ручью. Сашка подмогнул ему, а потом, спешно подзарядив диск, бросился туда, где остался ротный.
Опять столкнулись они, чуть не сбив друг друга с ног.
— Попридержи их! — прохрипел ротный и, пустив короткую, видать, из последних патронов, очередь, миновал Сашку.
Схоронившись за ель, Сашка водил стволом автомата, пуская длинные очереди, но его выстрелы тонули в резких и звонких хлопках разрывных, которыми была наполнена роща. Да и обычные пули взвывали совсем рядом, сбивая ветви елей, взрыхляя землю вокруг. Стало
Сашке страшновато — как бы не ранило! Тогда хана! Тогда к немцам
попадёшь запросто. И, не расстреляв всех патронов, Сашка метнулся
назад.
За оврагом командовал сержант, останавливая не в меру разбежавшихся. Теперь-то к политруку подбежали человек пять и, пожалуйста,
готовы нести в тыл его хоть на руках. Но он, ругаясь, гнал их от себя,
посылая в оборону, а потом и подоспевший ротный разметал всех
по местам.
Немцы к тому времени неожиданно замолкли, ни стрельбы, ни криков, ни свиста.
И рота, занявшая оборону кто за деревом, кто за кустиком, кто
в окопчике для стрельбы лёжа (были тут такие, неизвестно кем копанные), — тоже притихла в напряжённом ожидании, что вот-вот начнут
выползать фашисты и пойдёт уже настоящий бой. Лица были хоть
и бледные, но живые, хоть и со сдвинутыми бровями и сжатыми рта1
Политрук — руководитель политической работой в подразделениях войсковых частей Советской армии.
142
ми, но не испуганные, не такие, как при налётах и бомбёжках, когда
нету другого спасения, как вжаться в матушку-землю... Тут враг был
рядом и, главное, их оружию доступный — и пуле, и гранате, и штыку, — а стало быть, от них самих зависит, как этот бой провести.
Но немцы не выходили... И тишина, такая неожиданная после грохота сегодняшнего утра, тяготно давила на них ожиданием неизвестного и страшного, что вот-вот должно сейчас произойти, и потому,
когда взорвалась она не громом выстрелов, не криками немцев, а хриплым и жалким:
— Братцы, помогите... Братцы... — они растерялись, и даже ротный выкрикнул не сразу:
— Сержант! Все люди на месте?
— Вроде все... — не враз, а сперва приподнявшись и глазами пересчитав людей, ответил сержант не особо уверенно.
— Точнее!
Сержант ещё раз огляделся, помедлил малость с ответом, но подтвердил:
— Все, товарищ командир.
— Провокация... — процедил ротный. — Передать по цепи: без команды не стрелять!
Сашка тоже вертел головой, стараясь разглядеть, все ли на месте,
потому как голос этот ему знакомым показался, но ребята затаились,
замаскировались, кто как мог, не разглядишь. Да и кто мог там остаться, такой огонь проспать, такой шум?
— Братцы... — донеслось опять оттуда, ещё более хриплое, придушенное, и снова тягомотная тишина нависла над ними.
И вдруг другой голос — молодой, какой-то торжествующий и даже
приятный на слух — прокричал им:
— Товарищи! Товарищи! Бросайте оружие, закурим сигареты! Товарищи...
— Ух, лярвы, — проскрежетал Сашка. — Знают, сволочи, что мы
без курева...
А приятный голос продолжал уговаривать настойчиво:
— Товарищи! В районах, освобождённых немецкими войсками, начинается посевная. Вас ждёт свобода и работа. Бросайте оружие, закурим сигареты...
Они продолжали слушать, ничего не понимая, стараясь разгадать,
какую игру ведут с ними немцы, пока ротный не поднялся с перекошенным лицом и не закричал каким-то не своим голосом:
— Это разведка! Ребята, их мало! Это разведка! Их мало! Вперёд! — и бросился через ручей без огляда, бегут ли за ним люди.
Но люди побежали, растянув рты в «ура» и недружно стреляя редкими выстрелами из винтовок и короткими очередями из ППШ1,
а за ними и Сашка, который, вскоре обогнав ротного, заглянул тому
в лицо, увидел, как растерянно оно, потому как взводит он на ходу
1
ППШ — пистолет-пулемёт конструктора Г. С. Шпагина, автоматическое ручное огнестрельное
оружие.
143
затвор автомата, а тот не стреляет. Смекнул Сашка, что ротный расстрелял свой диск, а сообразить это не может и недоумевает. Отцепил
он с ремня свой диск и сунул в руку ротному. Тот кивнул благодарно,
и побежали они дальше... А за ними, шумно дыша, матюгаясь, топала
их рота, а за нею и подоспевшая вторая.
Хоть и впервые Сашка столкнулся так близко с немцами, страха
он почему-то не ощущал, а только злость и какой-то охотничий пыл —
настичь немцев непременно и перестрелять их, когда они на поле высыплются и будут видны как на ладони, а он с того взгорка, у которого сегодня фрица искал, будет резать по ним трассирующими... Вот
будет им закурка! А то «закурим сигареты»! Вот гады! В таком раже
обогнал Сашка ротного, который задерживался, подтягивая людей,
и проскочил уже больше половины их леска, не встречая ни немцев,
ни их стрельбы ответной. Странно что-то... Но тут недолго и до края,
а там уже будут на виду немцы, деться им некуда, обратный путь через поле, другого нету. И жал Сашка из последних сил, пока не рассёкся над ним воздух нарастающим, выворачивающим душу воем.
И уже по нему понял Сашка: не одна, не две летят мины, а целая стая.
И впрямь гроханули разрывы по всей роще, а особенно густо перед
краем. Стали стеной перед Сашкой, огненными кустами. Пришлось
брякнуться на землю, и, падая, понимал он: отрезают немцы их от своей разведки, которая спокойненько уходит сейчас восвояси. И так
обидно стало — уйдут, заразы, безнаказанно, — что Сашка поднялся
и рванул через огонь. Когда бежал сквозь разрывы, страшно не было,
а когда добежал до опушки и залёг, пробрала дрожь. Отсюда и взгорок
виден, и часть поля, но немцев не было. Куда же они, сволота, делись?
Как сквозь землю провалились!
И Сашка уже просто так, чтоб выплеснуть злобу и обиду, пустил
длинную очередь наобум, пока не заглох ППШ. Тут только опомнился — запасного диска-то нет, ротному отдал...
А миномётный огонь подползал сзади, к опушке, и пришлось Сашке
вперёд податься, чтоб от него уйти. Опять он от роты оторвался, но
что делать, немцев-то они упустили, как ни верти. Обидно очень. Только раз за эти месяцы выпал им случай поквитаться с фрицем, ан нет,
не вышло! Матюгнулся Сашка, но что-то ему говорило, не всё ещё кончилось. Может, податься ему к тому взгорку, может, застанет ещё немцев на поле? Но что он один да с пустым диском? Но, когда услышал
Сашка, как кричит сзади ротный, поднимая людей, видно стараясь прорваться с ними через огонь, решил и он продвинуться подальше и приподнялся... Но тут же просвистевшая над ним автоматная очередь бросила его наземь.
Откуда? Значит, тут ещё немцы? Сашка быстро отполз чуток
в сторону и осторожно поднял голову, чтоб оглядеться, и чуть было
не вырвался у него вскрик: «Стой! Хальт!» Впереди метнулось чтото серое и скрылось. Непослушными пальцами расстегнул Сашка чехол «лимонки», а когда вынул её и прихватил пальцем кольцо, зашептал:
— Теперь не уйдёшь, гад... Не уйдёшь...
144
Что есть силы, царапая лицо, руки, поправляя непрестанно налезающую на глаза каску, пополз он по направлению к немцу, но не прямо, а стороной, сообразив, что надо заползти тому в тыл, отрезать его
от поля.
Немца было не видать. Залёг, наверно, а всего скорее — ползёт он
к взгорку. Теперь кто кого упередит.
Кадровый боец, Сашка полз умело, не приподнимая зада, полз споро и потому решил: если немец лежит на месте, то должен он его уже
обойти, а если тот тоже ползёт, то сравняться по крайней мере. Приподняться Сашка боялся — немец, наверно, нет-нет да оглядывается.
Если заметит, то резанёт из автомата, и потому приходилось двигаться вслепую — какой обзор у ползущего?
То, что патронов у него нет, Сашка помнил и, на что идёт, понимал,
но выхода-то другого не было, иначе упустишь немца, а скольких ребят из разведки положили, пока за «языком» лазили, Сашка знал.
Сполз он уже в низинку, и теперь, как немец на взгорок приползёт,
будет ему виден непременно. Как прихватить его только? Этого Сашка
не знал.
Но немец выскочил вдруг в нескольких шагах от Сашки и, не оборачиваясь, рванул к пригорку. Не помешкав и секунды, бросился Сашка вдогон и хотел было метнуть гранату вслед — достал бы! — но раздумал, боясь прибить немца насмерть, а он, гад, живьём нужен. Судя
по тому, что отстал фриц от своих, был он, видать, не очень-то расторопный... Эти мысли пробегали в Сашкиной голове, пока он за немцем гнался, но главной была: не дать уйти тому на поле — там его
не взять, там оба на виду будут, там их обоих и угробят немцы запросто.
А до взгорка считаные метры! Пока они здесь, в низинке, надо
и действовать! На Сашкино счастье, не обернулся фриц ни разу, знал,
что за ним стена огня, что прикрывают его свои, а насчёт Сашки думал
небось, что прибил его своей очередью... Раздумывать больше некогда!
Сделал Сашка хороший замах и бросил «лимонку» с расчётом, что упадёт она впереди немца и тот, увидя её, бросится наземь, тут Сашка
и навалится...
Так и вышло... В несколько прыжков достиг Сашка лежащего немца и всем телом с размаху навалился тому на спину. В тот же миг
рванулась граната, просвистели осколки, обсыпало Сашку землёй,
но он крепко прижал правой рукой фрицевский «шмайссер»1, а левой
сбоку что есть силы ударил немца по виску, благо был тот без каски,
а только в пилотке. Но удар не оглушил немца, и стал он под Сашкой
изворачиваться, пытаясь скинуть его. Вцепился тогда Сашка ему
в шею, но одной рукой сильно не придавишь, и немец не переставал
барахтаться. Но всё же чуял Сашка, немец не сильнее его, и, кабы
не маета двухмесячная, смял бы он его быстро. Пахло от немца какимто чужим запахом: и табаком не таким, и одеждой другой, и даже потом другим... Лица его Сашка не видел, только затылок и шею, не осо1
«Шмайссер» — название немецкого пистолета-пулемёта конструктора X. Шмайссера.
145
В. Л. Кондратьев. «Сашка». Художник
Б. Страхов
бо толстую, которую он отпустил на секунду, чтоб трахнуть ещё раз
левой по виску. Но удара не получилось — дёрнулся тот головой в сторону, а рукой прихватил Сашкину и держал крепко, не вырвать... Теперь вправо немного немец повернулся и часть его лица показалась.
Молодой был и курносый, чему Сашка удивился — в роще всё больше
длинноносые лежали. Обезручел Сашка — одна рука немцем прихвачена, вторая автомат и правую фрицевскую руку прижимает. Так, пожалуй, и изловчиться немец сможет, вывернуться из-под Сашки.
Хоть бы подоспел кто. Но звать на помощь Сашка не стал — метался сзади миномётный отрезающий огонь, как бы не прибило кого, если
начнут пробиваться. Беспокоился Сашка, конечно, за ротного. Тот
у них такой, побежит первый на помощь, а Сашка ротному жизнью
обязан, природнились за эти месяцы страшные.
Не успел Сашка это подумать, как услышал сквозь разрывы голос
ротного:
— Сашка! Где ты? Сашка!
Не ответить было нельзя, и он откликнулся:
— Здесь я, командир! Фрица прижал!
— Иду! Не выпускай, Сашок!
146
«Догадался ротный, что без патронов я», — с теплотой подумал
Сашка, но немец враз стал выворачиваться, пытаясь скинуть его,
и пришлось рискнуть — оторвать руку от фрицевского «шмайссера»...
Удар, который нанёс Сашка правой по лицу немца, пришёлся тому
по носу, и хлынула кровь у фрица. Приослаб он как-то сразу, и, воспользовавшись этим, вырвал Сашка свою левую руку и стал ею бить
немца опять по виску. Как только тот обмяк, бить перестал, но прижал увесистей, приговаривая:
— Ну что? Не ушёл, зараза! Теперь всё, капут!
Тяжело дыша, ротный упал справа от Сашки, вырвал к себе немецкий автомат, потом так же резко сорвал с пояса немца гранату
с длинной деревянной ручкой и отбросил от себя.
— Теперь всё, можешь отпустить... — сказал он Сашке, и тот отвалился от немца влево. И лежал фриц между ними уже обезоруженный, пленённый уже окончательно. — Молодец, Сашок! Как это вышло? — спросил ротный.
— А шут его знает. Дуриком, товарищ командир. Я к краю проскочил — никого. Ну, думаю, упустили фрицев. Потом приподнялся... — Но тут Сашке пришлось умолкнуть.
Заметили их, видно, разглядели в бинокли, потому как перенесли
огонёк прямо на них. И лежать им теперь и не рыпаться. Одно успокоение — если прибьют, то с немцем заодно. Близко рвались мины,
взметая клочья земли, вырывая с корнями кусты, и всё это носилось
над их головами, потом падало, вжимая их ещё больше в сухую, жёлтую, прошлогоднюю траву... Но всё это было привычное, испытываемое ими каждодневно и потому особого страха не вызывало и не
могло забить того радостного, что ощущалось, — ведь первого немца
взяли!
Захотелось Сашке курить, прямо невмочь, и стал он сворачивать
цигарку.
— И мне сверни, — попросил ротный.
Немец вроде с любопытством смотрел, как рвёт Сашка газетку, высыпает махру, сворачивает недрожащими пальцами, спокойно прислюнивает, и всё это под огнём, когда то здесь, то там рвутся мины,
свистят осколки. А Сашка, видя внимание немца, делал это ещё неспешней, ещё размеренней — дескать, плевать мы хотели на ваш
огонь... Но ещё большее удивление, если не сказать — недоумение, вызвало у немца то, как Сашка, вынув кресало и трут — «катюшей» они
это называли, — начал выбивать искру, а она, как назло, то не выбивалась, то выбивалась слабая, и трут никак не загорался. Тогда немец
заворочался, полез в карман... Ротный его руку, лезшую в карман,
прихватил, но тот зажигалку вынул и протянул её лейтенанту.
Ротный обмундированием от Сашки не отличался: такая же телогрейка, грязью заляпанная, ремня широкого командирского ему ещё
не выдали, такое же оружие у него солдатское — автомат. Только маленький кубарь1 в петлицах отличает его, но немец рассмотрел.
1
Кубарь — название нашивок лейтенанта во время Великой Отечественной войны.
147
Настала пора и Сашке разглядеть немца как следует. Был он вроде бы Сашкин одногодок, лет двадцати — двадцати двух, курносый
и веснушчатый, на вид прямо русский. Напомнил он Сашке лицом
одного его дружка деревенского — Димку. Тот чуть поскуластей был
и поплотнее. С Димкой Сашка в борьбе не справлялся, и была у них
либо ничья, либо бывал Сашка побеждённым.
Ротный взял зажигалку, чиркнул, прикурил и дал огня Сашке.
Улыбнувшись, сказал:
— Гляди, какие мы вежливые, — повертел зажигалку, рассматривая, и подал её обратно немцу.
— Хорошая зажигалка, — сказал Сашка и добавил: — Всё не кончат никак, заразы. Прибьют тебя свои же, фриц. Ферштеен1?
Немцу было не до «ферштеен» — кровь из носа хлестала не переставая, и весь платок, который он прижимал к лицу, был красный.
Есть такие, подумал Сашка, чуть до носа дотронешься — и сразу кровь.
Видно, немец из таких. Правда, ударил Сашка не жалея кулака, до сих
пор костяшки пальцев ноют. Кабы не обстрел, перевернули бы немца
на спину, может, кровь и перестала, но сейчас не до того — ужались
в землю, аж до боли в животах, скорей бы пронесло...
— Может, рванём, товарищ командир? — предложил Сашка,
но ротный покачал головой: порядочно до рощи, могут пулемётом прихватить, место-то открытое.
Но вот наконец начинает сбавлять силу налёт, редчают разрывы,
тихнет вой над головой... Чавкнули в стороне две мины, видать, последние, и затихло всё.
Они пролежали ещё немного, докуривая, потом ротный сказал чтото фрицу по-немецки и, прихватив его руку, резко поднялся, за ним
немец, потом и Сашка. И все трое ходу, без перебежек, в свою рощу.
Хоть и нет там ничего — ни укрытий, ни окопов, ни щелей, только
шалашики, — но попривыкли к ней, словно дом родимый...
Влетели, запыхавшись, а их уже встречают. Стабунилась рота около сержанта, и стыда не заметно, что не помогла, а отлежалась, пока
Сашка с ротным немца брали. И сразу к немцу поближе, оглядывают,
любопытничают.
Немец стоял потупившись, переминаясь с ноги на ногу, руки длинные болтались как-то потерянно, но страха особого не выказывал. Был
он без шинелишки, в сереньком мундирчике с погонами, в коротких
сапогах, довольно побитых, с аккуратной заплатой на голенищах. Роста он был повыше Сашки. Лицо в грязи и крови. Воротник мундира
в красных разводах.
— Ранен он, что ли? — спросил один из бойцов.
— Да нет. Это я по носу его вдарил, — не без гордости ответил
Сашка.
Подошёл к ротному сержант, пробормотал виновато:
— Простите, товарищ командир. Сплошали. Отрезал немец. И хотим к вам пробиться, да через огонь не перескочишь. Больно густо бил.
1
Verstehen — понимать (нем.).
148
— Ладно, — вроде добродушно ответил ротный, но сержант подошёл ближе и шепнул что-то. Ротный нахмурился, помрачнел и скомандовал Сашке резко: — Веди немца ко мне.
Но тут один из бойцов, недавно к ним прибывший из пополнения,
но быстро здесь освоившийся, озорной такой парень, сказал немцу
с вызовом:
— Ну что, фриц... Манили нас сигаретами, так давай закуривать.
Немец понял и вытащил из кармана небольшой портсигар и протянул его ротному, но без суеты и подобострастия. Ротный отказался.
Тогда Сашке. Но тот тоже отрицательно помотал головой — раз ротный не берёт, и он не будет. Немец отвёл руку с открытым портсигаром к ребятам, те брезговать не стали, навалились, и фрицевский портсигар мигом опустел, да и было там сигарет восемь. Только один
замахнулся на немца:
— Да иди ты, гнида, со своими сигаретами!
Остальные задымили вдумчиво, не спеша, оценивая немецкий табачок, и вроде не одобрили — крепости мало, с нашей «моршанской»
не сравнить.
После этого повёл Сашка немца к землянке ротного (выкопали ему
недавно через силу, вышла не ахти, но всё ж не шалашик) и там остановился. Немец всё прижимал платок к носу, но, видимо, кровь пошла
на убыль. Ротный пришёл скоро, в глазах былой радости нет, озабоченный чем-то, смурной...
— Забрали у нас немцы одного раззяву, Сашок...
— Неужто? Это, верно, напарника моего, с кем на посту стоял...
Когда «братцы» кричал, чую, голос знакомый, а чей, не пойму. Эх,
негораздь какая!
— Это очень плохо, — сказал ротный серьёзно.
— Достанется вам?
— Не в этом дело, — махнул рукой ротный и приказал немцу спускаться в землянку.
Сашка слышал, как балакают они что-то по-немецки. Потом крутил
ротный телефон и разговаривал с помкомбата1.
Привалился Сашка к пеньку, вытянул ноги и только тут почувствовал охватившую тело усталость и тянущее изнутри ощущение пустоты в желудке, которое прихватывало их всех по нескольку раз на
день.
Немец вылез из землянки красный, со сжатыми упрямо губами
и какими-то ошалелыми глазами, а ротный, наоборот, побледневший
и злой.
— Вот тебе рапорт начальнику штаба. Ну, и сам расскажешь,
как всё было. И веди немца.
— В штаб?
— Да. И смотри, чтоб не случилось чего с немцем. Он мне главного ничего не сказал.
— Во паразит, — удивился Сашка.
1
Помкомбата — помощник командира батальона.
149
— Перехитрили они нас. Пока мы, раскрыв рты, их болтовню слушали, остальные уходили с этим... раззявой. Этот фриц, которого ты
взял, прикрывал переводчика. Вот такие дела. Понял?
— Вот гады, — пробормотал Сашка. — Кто бы мог подумать...
— Ну, ладно, после драки кулаками не машут. Иди, — ротный
махнул рукой, а Сашка, сменивший уже диск в автомате, щёлкнул
затвором и скомандовал немцу «комм»1.
Немец поёжился от звука взводимого затвора и пошёл, поначалу
часто оборачиваясь на Сашку, видно боясь, что тот может стрельнуть
ему в спину. Сашка это понял и сказал наставительно:
— Чего боишься? Мы не вы. Пленных не расстреливаем.
Немец, опять посеревший, сморщил лоб, стараясь понять, что толкует ему Сашка, который, видя это, добавил:
— Мы, — ударил он себя в грудь, — нихт шиссен2 тебя, — уставил
палец на немца. — Ферштеен?
Теперь тот понял, кивнул головой и пошёл резвее, посматривая
по сторонам. Изредка недоумённо пожимал плечами, покачивал головой, а иногда чуть кривился в улыбке. Это, как понял Сашка, дивился он никудышной нашей обороне. А чего дивиться? Мог бы рассказать Сашка, как с ходу после ночного марша бросили их в атаку
на Овсянниково, да не раз и не два... Потом каждый день ожидали —
сегодня опять идти в наступление. Чего ж перед смертью мучиться,
окопы в мёрзлой земле колупать? Земля — как камень. Малой сапёрной лопатой разве одолеешь? Потом, в апреле, водой всю рощу залило,
каждая махонькая воронка ею наполнилась. Ну, а сейчас, когда пообсохло малость, силёнок уже нет, выдохлись начисто, да и смену
со дня на день дожидаем. Чего тут рыть? Придут свеженькие, пусть
и роют себе... Но немцу этого не расскажешь, да и незачем тому это
знать... Просто взял Сашка левее сразу, в глубь леса, чтоб миновать
расположение второй роты, хотя и хотелось ему форснуть перед знакомыми ребятами своим немцем.
Здесь, в роще, много наших, советских, листовок было разбросано,
когда немцы ещё тут находились. Пользовали их на завёртку самокруток, на розжиг костров и ещё кое для чего. В одной они разобрались
без труда: была там таблица, сколько немцы в нашем плену продуктов
получают. «Брот»3 — столько-то, «буттер»4 — столько-то и всего прочего столько-то... Выходило богато! Особенно в сравнении с тем, что они
сами сейчас получали. Даже обидно стало. Начальника продснабжения
бригады без матерка не поминали, но, когда в апреле концентрат-пшёнку получили с отметкой на этикетке, что выпущена она в марте месяце,
задумались...
Так вот, сейчас попалась на глаза Сашке эта листовочка, поднял
он её, расправил и дал немцу — пускай успокоится, паразит, и поймёт,
1
Kommen — идти, ходить (нем.).
Nicht schießen — не стрелять (нем.).
3
Brot — хлеб (нем.).
4
Butter — масло (нем.).
2
150
что русские над пленными не издеваются, а кормят дай Бог, не хуже
своих.
Немец прочёл и буркнул:
— Пропаганден.
— Какая тебе пропаганда! — возмутился Сашка. — Правда это! — Немец еле заметно пожал плечами, а Сашка, не успокоившись, продолжал: — Это у вас пропаганда! А у нас правда! Понял? Мог я тебя прихлопнуть? Мог! Гранату под ноги — и хана! Валялся бы сейчас без ног
и кровью исходил. А я не стал! А почему? Потому как люди мы! А вы
фашисты!
— Их бин нихт фашист1, — сказал немец.
— Ну да, рассказывай... Скажи — Гитлер капут! Скажи! — Немец
молчал. — Вот зараза так зараза! Значит, фашист, раз молчишь.
— Их бин нихт фашист, — упрямо повторил немец. — Их бин дейче зольдат. Их бин дейче зольдат2.
— Заладил — зольдат, зольдат... А ну тебя! — махнул рукой Сашка. — Что я, с тобой политбеседу проводить буду! Пропади ты пропадом!
Немец листовку всё же не бросил, а, сложив аккуратно, положил
в карман мундира.
Встречались на передовой и другие наши листовки. На одной была
фотография девушки в белом платье с аккордеоном, а рядом парень
в гражданском, и написано было: «Немецкий солдат! Этот счастливый
час не вернётся для тебя, если ты не сдашься в плен...» Ну и, конечно,
что будет обеспечена жизнь, возвращение домой после войны и прочее... Эту листовку ротный им перевёл. Вот эту бы немцу дать почитать, но что-то её по дороге не попадалось.
То, что немец не стал повторять «Гитлер капут», вначале разозлило Сашку, но, поразмыслив, он решил, — значит, немец не трус,
не стал ему поддакивать. А раз так, победа над ним показалась Сашке
более значительной. Разве уж таким дуриком он взял его? Всё же проявил смекалку и красноармейскую находчивость. И, что ни говори,
смелость. Ведь с пустым диском немца догонял.
Прошли они почти половину пути... Эти две версты до штаба последнее время Сашка без передыха не осиливал. Ходил всегда через
вторую роту, там и делал перекур, чтоб поболтать со знакомыми. Правда, почти совсем не осталось однополчан-дальневосточников, один-два
на роту...
И теперь, почувствовав слабину в ногах, решил Сашка приостановиться и малость передохнуть. Должна быть тут невдалеке большая
воронка, а около поваленное взрывом дерево. Вот на нём и посидеть
можно. Забыл только Сашка, что рядом лежат там ещё не захороненные убитые, а немцу смотреть на них ни к чему. Но было уже поздно
сворачивать, подошли вплотную.
Воронка была доверху наполнена чёрной водой, в которой плавали
жёлтые прошлогодние листья, обёртки от махорки и табака «Бело1
2
Ich bin nicht Faschist. — Я не фашист (нем.).
Ich bin deutscher Soldat. — Я немецкий солдат (нем.).
151
мор», какие-то тряпки, бинты. Тут можно и в порядок себя привести,
обмыться и почиститься. В штаб же идут, не куда-нибудь.
Сашка первым набрал в ладони воды, плеснул на лицо и жестом
пригласил немца последовать его примеру. Тот постоял, посмотрел
на застойную воду, поморщился, потом взял свой окровавленный носовой платок, пополоскал его и стал вытирать лицо и воротник мундира. Сашка после умывания стал свою телогрейку отряхивать, грязь
с брюк счищать и даже попытался налипшую глину с ботинок соскрести и всё норовил перед немцем быть, загораживая телом полянку,
на которой и лежали наши.
Немец, глядя на Сашку, тоже стал отряхиваться. Закончив приводить себя в порядок, Сашка присел на ствол поваленного дерева и сказал:
— Передохнём, фриц... — и стал наскребать из кармана махру,
но немец, присевший рядом, не замедлил вытащить смятую пачку
с несколькими сигаретами и предложил Сашке. — Попробуем вашего
табачку, — не отказался Сашка.
Немец чиркнул зажигалкой, поднёс огонёк. Задымили...
Жаль, немецкого не знаю, подумал Сашка, поговорил бы... Многое
можно было спросить у немца, но немецкие слова, что учил он в семилетке, все выветрились, призабылись, а если и всплывали в памяти
какие, то не те, которые нужны. Вертелся в голове какой-то «Геноссе1
Купфербарт» из учебника, а вот спросить, какая у них в Овсянникове
оборона, сколько народа, сколько орудий и миномётов, слов нет. Не
то учили, зубрили стишки какие-то. И для чего? А многое было Сашке любопытно: и как у немцев с кормёжкой, и сколько сигарет в день
получают, сколько рому, и почему перебоев с минами нет, да и мало ли
что можно было спросить?
Про своё житьё-бытьё Сашка, разумеется, рассказывать бы не стал,
хвалиться пока нечем. И со жратвой туго, и с боеприпасами. Но это
всё временное, далеко от железной дороги оторвались, распутица.
Ещё стояли в Сашкиных глазах газетные январские фотографии, когда
гнали немцев от Москвы, — и трупы их замёрзшие, и техника брошенная, и какие они были жалкие, в бабьи платки закутанные, с поднятыми воротниками жидких шинелишек... Какие у них шинели хлипкие, Сашка знает, просвечивают насквозь, с нашими не сравнять.
Тут немец кинул случайно взгляд на поляну, покачал головой и залопотал что-то по-своему, из чего только «шлехт... зэр шлехт»2 Сашке
было понятно. Сам знает Сашка, что плохо, но нету силёнок ребят
хоронить, нету... Ведь себе, живым, окопчика вырыть не в силах.
Но немцу об этом не скажешь, он и так нагляделся предостаточно
на то, на что ему глядеть не положено.
А немец, подняв две веточки с земли, обломил их, соединил крестом, показывая Сашке, как хоронят они своих. Знает это Сашка! Видал в Малоярославце, как всю площадь центральную берёзовыми крестами немцы украсили.
1
2
Genosse — товарищ (нем.).
Schlecht... sehr schlecht — плохо... очень плохо (нем.).
152
Озлился Сашка и, вспомнив немецкое слово «генуг»1, прервал немца резко:
— Генуг! Хватит болтать! Не твоего ума дело! — Немец сразу осёкся, умолк. — Ты мне скажи, чего с моим напарником, что в плен к вам
попал, делать будете? Шиссен, наверное? Иль пытать будете?
Немец, кроме «генуг», ничего, конечно, не понял, но при слове
«шиссен» вздрогнул, сжался, лицо побледнело... И тут понял Сашка,
какая у него сейчас страшная власть над немцем. Ведь тот от каждого
его слова или жеста то обмирает, то в надежду входит. Он, Сашка,
сейчас над жизнью и смертью другого человека волен. Захочет — доведёт до штаба живым, захочет — хлопнет по дороге! Сашке даже
как-то не по себе стало... И немец, конечно, понимает, что в Сашкиных руках находится полностью. А что ему про русских наплели,
одному богу известно! Только не знает немец, какой Сашка человек,
что не такой он, чтоб над пленным и безоружным издеваться.
Вспомнил Сашка, был у них в роте один больно злой на немцев,
из белорусов вроде. Тот бы фрица не довёл. Сказал бы, при попытке
к бегству, и спросу никакого.
И стало Сашке как-то не по себе от свалившейся на него почти неограниченной власти над другим человеком.
— Ладно уж, — сказал он, — кури спокойно. Раухен2.
Немец сразу в лице изменился, оживел, бледнота сошла... Курил
он мелкими неглубокими затяжками, не как они — взахлёб, вдыхая
дым что есть мочи, чтобы продрало до самого нутра.
Интересно, доволен фриц, что в плен попал, что отвоевался?
Или переживает? В плену, ясно, не радость, но живым-то останется.
Что касается самого Сашки, то он плена не представлял. Лучше
руки на себя наложить. Но можно и не успеть. А если раненый да
без сознания? Вот замешкался бы он утром с этими валенками, мог бы
и прозевать немцев, могли бы и прихватить его. Даже дрожь пробежала по телу — бр-бр...
Размышляя об этом, Сашка искоса поглядывал на немца. Любопытно ему, кем этот фриц на гражданке был. Может, тоже из деревни?
Припомнив, как по-немецки «рабочий» и «крестьянин», он спросил:
— Ты кем был? Арбайтер или бауэр?
— Штудент.
— Вот оно что... — протянул Сашка. Значит, вроде ротного их. Выходит, грамотный немец, а в Гитлере не разобрался. — Эх ты... штудент, а пошёл с фашистами.
— Их бин нихт фашист, — как-то устало перебил его немец.
— Это я уже слыхал. Ну, ладно, отдохнули, и хватит, — поднялся
Сашка. — Пошли.
Как ни старался Сашка вести немца так, чтоб не попадались убитые,
нет-нет да натыкались они на них, и опять стыдно было Сашке, что незахороненные, словно сам в чём-то виноватый.
1
2
Genug — хватит, достаточно (нем.).
Rauchen — дымить, курить (нем.).
153
При подходе к Чернову, где штаб расположен, увидел Сашка
на опушке свежую могилку настоящую, закиданную лапником и даже
с венком из еловых веток. Звезды фанерной, правда, не было (не успели,
видно), но могилка как могилка, будто в мирное время. Приостановился Сашка. Кого же похоронили так? Ладно, дойдём, узнаем у ребят...
В деревне было пусто... И верно, расхаживать по ней днём не очень
будешь. На пригорке она и прямо напротив Усова, что немцем занято,
и просматривается оттуда куда хорошо. Каждый раз, приходя сюда то
с донесением, то когда раненых помогал приносить, примечал Сашка,
как уменьшалась и без того малая эта деревенька... Вот и сейчас увидел: не стало сарая, где они первую ночь укрывались, дома крайнего
тоже нет, одни головешки, ну и воронок поприбавилось.
Всю дорогу, пока вёл сюда немца, где-то на самом краешке души
затаённая хоронилась у Сашки надежда: а вдруг его с немцем в штаб
бригады отправят? Далеко это, за Волгой, туда-обратно целый день
протопаешь, но могла быть у него тогда встреча, о которой мечтал
и в глубине сердца держал все эти месяцы. Поэтому сейчас, подходя
к штабу, где могло всё решиться, Сашка забеспокоился. Хоть и не
любил он ни у кого ничего просить, тут решил даже попроситься,
как бы в награду за то, что немца полонил.
Изба, в которой штаб батальона находился, была пока целёхонькая,
только рядом две воронки здоровые — это, наверно, после бомбёжки
самолётной, что недавно была. На крыльце сидел боец с винтовкой,
покуривал, греясь на солнышке. Увидев Сашку и немца, вскочил:
— Гляди, ребя, фриц!
Из дома выскочили несколько человек связистов, уставились.
— Это ты его? — спросил один.
— Ну я, — вроде неохотно, но с достоинством ответил Сашка. — Мне
к начштаба. Тут он?
— Нет никого. Всех в штаб бригады вызвали.
— Куда же мне его? — кивнул Сашка на немца.
— Ждать придётся... Или к комбату веди, он у себя. Только, понимаешь, больной он сейчас, не в себе... — сказал один. — Знаешь, где
блиндаж его?
— Знаю.
— А может, не стоит капитана тревожить? — вступил другой. — Несчастье вышло: убило вчера Катеньку нашу. Переживает комбат...
— Значит, её могилка на опушке? — спросил Сашка упавшим голосом. — Жалость-то какая...
— Её. Когда хоронили, страшно на комбата глядеть было — все
губы покусал, почернел весь...
Вспомнил Сашка, как на марше, когда они с ротным подтягивали
отстающих в хвосте колонны, подъезжал комбат на белом жеребце, сам
в белом полушубке, к штабным саням и ласково справлялся, не замёрзла ли, у сидевшей там сестрёнки из санроты... Катей её вроде называли.
Эх, жалко дивчину! Очень жалко. И зачем только берут их на войну?
Неужели без них не обойтись? Каково им среди мужиков-то? Хорошо,
что остальные девчата в тылу, за Волгой, но и там может всякое при-
154
ключиться. Засосало у Сашки под ложечкой — ничего он про Зину
не знает... Последний раз на разгрузке свиделись, попрощались, и всё...
А времени два месяца прошло — для войны время огромное.
— Ладно, поведу к комбату, — решил Сашка.
У комбатовского блиндажа, не особо крепкого, тоже, видать, на скорую руку сделанного, сидел на брёвнышке, полуразвалясь, комбатов
связной — парень расторопный, но нахальный (знал его Сашка, из
одной дальневосточной части они были). Лицо красное, загорелое, наверно, часто на солнышке припухает, глаза полузакрытые и будто
хмельные.
Поднялся он лениво, поправил на груди автомат, скользнул взглядом по немцу небрежно (словно видал их каждый день) и процедил:
— Привет.
— Здорово, — ответил Сашка, уязвлённый немного равнодушием
связного к его немцу.
— К комбату, что ли?
— К нему.
— Нельзя! — резанул тот и сделал шаг к двери.
— Я ж с немцем, разве не видишь?
— Нельзя!
— Чего заладил? Пойди доложи. Разведка немецкая сегодня на нас
нагрянула. Выбили мы их и вот фрица взяли. Доложи.
— Не велел комбат никого пускать. Понял?
— Понял. Знаю, что у вас. Но куда мне с фрицем? Может, его
в бригаду вести надо? Так я отведу. Только комбат приказать должен.
— Ты его, что ли, взял?
— А кто же?
— Кроме тебя, народу на передке нет, что ли, чудило?
— Я самолично. Только под конец ротный подмогнул.
— Герой, — усмехаясь и, видно, завидуя, процедил связной.
— Может, и не герой, а повозиться пришлось. Я ж его с пустым
диском брал, в рукопашной. Ну, иди доложи.
— Фриц не из здоровых, — оглядывая немца, сказал тот. — Такого
не велико дело взять.
Сашка озлился, хотел было съязвить насчёт мурла, которое наел
тот на тыловых харчах, да раздумал.
— Иди доложи. — Уж очень надеялся Сашка, что пошлёт его комбат в бригаду немца вести, потому и настаивал.
— Уж так и быть, — снизошёл связной и стал спускаться в блиндаж.
Немец что-то забеспокоился, вытащил свои сигареты, быстро прикурил, жадно затянулся несколько раз. Дал сигарету и Сашке.
— Ты не робей, — решил подбодрить немца Сашка. — Комбат у нас
мировой мужик. В последнее наступление сам ходил. Красиво шёл.
Понял?
Немец, разумеется, не понял, но одёрнул мундир, подтянул пояс,
поправил пилотку, а лицо его, несмотря на суетливость движений, наоборот, как-то поспокойнело, отвердилось, хоть и побледнело. Губы
упрямо сжались, на лбу складка наметилась.
155
— Проходите, — не поднимаясь, а снизу пригласил связной.
В блиндаже было совсем темно, только керосиновая лампа с разбитым стеклом тускло мерцала в углу стола. После света Сашка не сразу и разглядел комбата, сидевшего в глубине в наброшенной на плечи
шинели. И, разглядев, не узнал. Всегда чисто выбритый, подтянутый,
в белом подворотничке, сейчас комбат имел другой вид — обросший,
со спутанными волосами, лезшими ему на лоб, в расстёгнутой гимнастёрке, согнутый, с отвисшей нижней губой и чёрными кругами около
глаз, необычный и страшноватый.
— Докладывайте, — приказал он негромко, взглянув на Сашку
и немца мёртвыми, пустыми глазами.
Сашка вытянулся, набрал воздуху, но что-то мешало ему... Он откашлялся, скользнул взглядом по столу, а там разбросанные окурки,
куски чёрного хлеба, бутылка водки, кружка, банка консервов початая, раскрытая планшетка с картой, и понял, что вот этот беспорядок
на столе и вид самого комбата мешают ему начать.
— Я слушаю. — Комбат отпил из кружки.
Сашка вздохнул ещё раз и громко начал с того, как обрушили
на них немцы утром огонь невиданной силы, как...
— Тише, — перебил капитан, поморщившись.
Это сбило Сашку, и он скомкал всё остальное — как навалилась неожиданно немецкая разведка, как пришлось, опасаясь окружения,
отойти за овсянниковский овраг...
Тут комбат позвал к столу и велел показать на карте, откуда пришла
разведка. Сашка показал и, закончив доклад, передал рапорт ротного.
Комбат прочитал записку, вскинулся вдруг, поднялся резко во весь
рост, стукнувшись головой о потолок, выругался и, ударив кулаком
по столу, закричал:
— Разини! Своего проморгали! А вы тут заливаете — выбили, отбили, в плен взяли... А своего упустили! Судить буду ротного! Судить! — Он опустился на стул, хлебнул ещё из кружки, сминая беломорину, сломал её, взял другую, закурил и уставился на немца.
Тот вытянулся по-солдатски и вначале глядел на комбата прямо,
но потом, не выдержав упорного, тяжёлого капитанова взгляда, вздрогнул и отвёл глаза.
Капитан тем временем поднялся, вышел из-за стола и медленно
надвигался на немца. Сашка глянул на комбата, на побелевшие его
глаза, на сведённые губы, и пробрала его дрожь — такого взгляда не
видел он у людей никогда.
— Немец... — прохрипел капитан, подойдя вплотную. — Вот ты
каков, немец... — Тот отшатнулся.
Комбат не переставал смотреть на немца немигающими мутными
глазами, пока тот не отступил назад, прижатый взглядом капитана
к стене блиндажа.
— Сейчас ты мне всё расскажешь, фашист, всё... — продолжал капитан. — Толик! Где разговорник? — Ординарец бросился к топчану,
вынул из-под матраца русско-немецкий словарь и подал комбату. Тот
отошёл к столу, сел и буркнул: — Выйдите оба!
156
В. Л. Кондратьев. «Сашка». Художник
Б. Страхов
Сашка вышел из блиндажа, мало сказать, расстроенный, а прямотаки ошарашенный. Не так всё вышло, как думалось. А думалось, порадуется комбат «языку», похвалит Сашку, поблагодарит. Не исключал
он и стопочку преподнесённую, и обещание награды... Ан нет, по-другому всё обернулось. И за ротного беспокойно стало, неужто и вправду
судить будут? Сержант же подвёл, не смог с перепугу людей сосчитать.
Кабы хватились сразу, разве отдали бы? Поднялись бы в атаку, отбили бы Сашкиного напарника... Да... и комбат нехорош сегодня...
Начальство Сашка уважал. И не только потому, что большинство
командиров были старше его по возрасту, но и потому, что понял он
за два года кадровой — в армии без этого нельзя. И теперь ему было
неловко за комбата, что не в своём он виде, хотя горе его понимал...
Понимал он и ненавидящий взгляд комбата, сверливший немца, хотя
у самого Сашки ненависть к фашистам почему-то не переносилась
на этого вот пленного...
Вот когда поднялись они из-под взгорка — серые, страшные, нелюди какие-то, это были враги! Их-то Сашка готов был давить и уничтожать безжалостно! Но, когда брал он этого фрица, дрался с ним, ощу-
157
щая тепло его тела, силу мышц, показался он Сашке обыкновенным
человеком, таким же солдатом, как и он, только одетым в другую
форму, только одураченным и обманутым... Потому и мог разговаривать с ним по-человечески, принимать сигареты, курить вместе...
Привалившись на брёвнах около блиндажа, опять Сашка почувствовал, как сморила усталость — обмякло тело, залипли веки, зазевалось.
И захотелось ему растянуться прямо тут и вздремнуть хоть минутно.
Сказались и ночь неспаная, и напряг во время обстрела, и драка с немцем из последних сил... Чуток попротивившись сну, он всё же не выдержал, прикрыл глаза и провалился, ушёл от тягомотины этого утра.
Очнулся он, когда тряхнул его за плечо комбатовский ординарец:
— Слушай! Хватит дрыхнуть! Не говорит твой немец ничего. Понял? Ни номера части, ни расположения. Ничего, сука, не говорит.
Из блиндажа неясно раздавался хриплый капитанов голос, кричавший на немца.
Сашка протёр глаза.
— Он и ротному ничего не сказал. Такой немец... — проговорил
Сашка, подавляя зевоту.
— Ничего, — продолжал Толик. — У капитана заговорит. А не расколется — к стенке!
— Чего городишь? — уже проснувшись окончательно, встревожился Сашка.
— А чего с ним цацкаться? Раз молчит, туда ему и дорога.
— А ты бы заговорил, если б в плен попал?
— Чего равняешь?
— Так он тоже присягу небось принимал.
— Кому? — возмутился Толик. — Гитлеру-гаду! Ты что-то запутался, герой, — он снисходительно похлопал Сашку по спине. — Нельзя
нас с ними равнять. Понял?
— Именно, — сказал Сашка. — Раз они гады, значит, и мы такими
должны быть? Так, что ли, по-твоему? Ты листовки наши для немцев
читал?
— Нет.
— То-то и оно. А там написано: обеспечена жизнь и возвращение
на родину после войны. Вот так.
— Так это если добровольно сдастся, если расскажет всё. А этого
ты в бою взял, и говорить он, сука, ничего не желает.
— Ладно, дай покурить лучше. Труха у меня одна, — попросил
Сашка, а у самого зависло в сердце что-то тяжёлое от этого разговора.
— Держи, — Толик протянул туго набитый кисет с вышитой
надписью «Бей фашистов».
— У вас тут с табачком, видать, получше.
Сашка оторвал газетки побольше и махры прихватил не стесняясь.
Цигарка свернулась на славу, раза три можно прикладываться.
— Фриц сигаретами угощал, но не тот табачок, до души не доходит, — добавил Сашка, затянувшись во всю силу, и, выдыхнув дым,
спросил: — Откуда кисет такой?
— Подарок из тыла. Прислали тут посылочки с Урала.
158
— До нас что-то не дошло, — заметил Сашка, возвращая кисет,
а потом спросил: — Много капитан выпил?
— По нему не поймёшь. Как Катю вчера утром похоронили, так
и начал. И ночью не спал, небось подкреплялся.
— Как убило-то?
— Шла из штаба в блиндаж, и убило... У нас здесь тоже потерь
хватает.
— Ну, с нашими-то не сравнить.
— Не скажи... Вы сами виноваты, капитан говорит, окопов вырыть
не можете.
— Тебя бы туда. Рассуждать легко, а мы еле ноги таскаем, не
до рытья, — стало Сашке обидно. Что они, враги себе? Кабы могли,
разве не выкопали бы?
Никто на передовой особо в душу к Сашке не лез, никто особо
не интересовался, что чувствует, что переживает рядовой боец Сашка,
не до того было. Только одно и слышал: Сашка — туда, Сашка сюда!
Сашка, бегом в штаб с донесением! Сашка, помоги раненого нести!
Сашка, этой ночью придётся в разведку! Сашка, бери ручной пулемёт!
Только ротный, бывало, перед тем как приказать что-нибудь, хлопал Сашку по плечу и говорил: «Надо, Сашок. Понимаешь, надо».
И Сашка понимал — надо, и делал всё, что приказано, как следует.
Но на всё, что тут делалось и делается, было у него своё суждение.
Видел он — не слепой же — промашки начальства, и большого и малого, замечал и у ротного своего, к которому всей душой, и ошибки,
и недогадки... И с распутицей этой, на которую теперь всё валят, чтото не так. Разве весна негаданная пришла? Разве зимой припасов нельзя было заготовить? Просто худо пока всё, недохват во всём, и воевать,
видать, не научились ещё. Но в том, что вскорости всё изменится
к лучшему, Сашка ни на минуту не сомневался.
От дыма, что глотал густо, кружило в голове, и хотелось ему сейчас
только одного — поскорей бы с немцем всё кончилось и отпустили бы
его обратно в роту. На то, что в штаб бригады направят, уже не надеялся — не та обстановка сложилась.
— Может, идти мне можно? Разберётесь тут с немцем без меня? —
спросил он у Толика.
— Разобраться-то разберёмся, будь спок, — насмешливо осклабясь,
ответил тот. — Но не отпускал тебя капитан. Жди. Возможно, какие
приказания твоему ротному с тобой отправит.
— Муторно что-то, — вздохнул Сашка.
Из блиндажа слышался только комбатов голос, а немца словно
и не было. Молчит, зараза! А чего молчит? Рассказал бы всё, выложил
начистоту, и отпустил бы его капитан. Упрямый немец. Зло на него
поднялось у Сашки — все задумки из-за него, гада, пошли прахом.
И вообще неурядь вышла — и дивчину эту убило, и комбат из-за этого
не в себе, и в штабе никого, и немец не раскалывается... Всё к одному.
Наконец затихло в блиндаже и потянулась тишина... Сашка уж
полцигарки искурить успел, а оттуда ни слова. Думает комбат чего-то...
— Ко мне! — расколол тишину капитанов голос.
159
И Сашка с ординарцем, слетев мигом с лестницы, оказались опять
в полутьме блиндажа.
Жёлтый свет керосиновой лампы освещал капитана сбоку, резко
обозначая морщины у губ и прямую складку у переносицы. На столе
лежал русско-немецкий разговорник и зловеще поблёскивал воронёным металлом капитанов пистолет. Немец стоял в тени, и когда Сашка, проходя вперёд, коснулся его плеча, то почувствовал, как бьёт
немца дрожь.
У капитана ходили желваки на скулах и играли руки. Он стоял —
большой, в свалившейся с одного плеча шинели и оттого какой-то скособоченный, странно непохожий на себя прежнего, прямого и собранного. Он грузно опустился на табуретку, вытирая пот со лба и откидывая одновременно назад волосы, и тихо, словно бы через силу, выдавил:
— Немца — в расход.
У Сашки потемнело в глазах и поплыло всё вокруг — и стены блиндажа, и лампа, и лицо комбата, даже качнулся Сашка... Но потом,
придя в себя, бросился к немцу, схватил его за грудки и закричал:
— Да говори ты, гад! Говори! Убивать же будут! Понимаешь? Говори, чего капитан спрашивает! Говори, зараза!
Немец, обмякший, недвижный, только мотнул головой и закусил
губу.
— Не понимаешь? Шиссен будут! Тебя шиссен! Говори...
— Прекратить! Не ломайте комедии! — крикнул капитан и, размяв
чуть дрожащими пальцами папироску, уже спокойно добавил: — Выполняйте приказание.
— Вы мне, товарищ капитан? — упавшим голосом спросил Сашка,
отпуская немца.
— Вам, — негромко сказал капитан, а Сашке показалось, будто
гром с неба. — По исполнении доложить. Толик, пойдёшь с ними, проверишь.
— Есть проверить! — вытянулся тот.
— Товарищ капитан... — начал заикаться Сашка. — Товарищ капитан... Я ж обещался ему... Я листовку нашу ему показывал, где всё
сказано... Где у тебя листовка? — подался он опять к немцу. — Где
папир, которую тебе дал? Покажи капитану!
Немец, возможно, и понял, но даже рукой не шелохнул, чтоб достать листовку. Тогда Сашка рванул карман его мундира, выхватил
оттуда сложенную аккуратно бумажку и ринулся к комбату:
— Вот она, товарищ капитан! Там сказано... Вы ж по-немецки читаете... Вот она!
Комбат листовку не взял, отстранил её от себя будто брезгливо,
и обескураженный, растерянный Сашка сунул её опять в карман
немцу.
— Сколько у вас в роте было человек? — спросил капитан, упёршись в Сашку тяжёлым взглядом.
— Сто пятьдесят, товарищ капитан.
— Сколько осталось?
— Шестнадцать...
160
— И ты гада этого жалеешь? — гаркнул капитан, переходя на «ты».
— Я... я... не жалею... — У Сашки сметало рот, занемели губы,
и он еле-еле выдавливал слова.
И сказал он неправду. Жалел он немца. Может, не столько жалел,
сколько не представлял, как будет вести его куда-то... К стенке, наверно, надо (читал он в повестях о Гражданской войне, что к стенке
всегда водили расстреливать), и безоружного, беспомощного стрелять
будет... Много, очень много видал Сашка смертей за это время — проживи до ста лет, столько не увидишь, — но цена человеческой жизни
не умалилась от этого в его сознании, и он пролепетал:
— Не могу я, товарищ капитан... Ну, не могу... Слово я ему давал, — уже понимая, что ни к чему его слова, что всё равно заставит
его капитан свой приказ исполнить, потому как на войне они, на передовой и приказ начальника — закон.
— Какое право имел обещать что-то? И кому — фашисту!
— Он не фашист, — вырвалось у Сашки.
— Выпить бы ему, товарищ капитан, перед этим, — осторожно
вмешался Толик, чуть побледневший и наглость свою малость утративший.
Но капитан оставил это без внимания — и Сашкин возглас, и предложение Толика. Глядя на Сашку в упор, отчеканил:
— Повторите приказание!
Сашка утёр рукавом липкий пот со лба... Он видел, пошло дело
на принцип, и капитан от своего не отступится, придётся покориться.
Но повторить приказание просто физически не мог, не раскрывался
рот, залип язык...
— Повторите приказание! — уже раздражённо и повысив голос,
сказал комбат и потянулся к пистолету.
Толик дёрнул Сашку за полу ватника — не валяй дурака, дескать,
а то плохо будет. Так понял его жест Сашка.
— Я жду! — прикрикнул капитан и положил ладонь на ручку ТТ.
Ординарец дёрнул Сашку ещё сильнее, и Сашка, уже обессиленный
этим неравным поединком, прошептал чуть слышно:
— Есть немца — в расход...
— Не слышу! — перебил капитан.
— Есть немца — в расход, — погромче повторил Сашка.
— О выполнении доложить!
— О выполнении доложить...
— Теперь сначала и как следует!
— Есть немца — в расход. О выполнении доложить.
— Выполняйте! — капитан отвернулся от Сашки и сел.
— Есть выполнять. — Сашка попытался повернуться по-строевому,
но не получилось, не было силы в ногах, и услышал вслед:
— Отставить!
Пришлось ещё раз. Старался Сашка прищёлкнуть каблуками,
но заляпанные грязью ботинки звука не давали, и ожидал он опять
«отставить», но комбат сказал только:
— Выполняйте.
161
Сказал тихо, каким-то усталым, без прежнего напора голосом.
Когда Сашка повернулся, немец, понявший всё, без Сашкиной команды пошёл к выходу, тяжело топая ногами по лестнице. За ними
вышел и Толик.
— Ты чего ломался? — бросился он на Сашку. — Из-за этого гада
жизни лишиться хотел? Видишь же, не в себе капитан. Такой он всё
может...
— Ладно, не суети... — Сашка неверной рукой стал выбивать искру
и прижёг свой чинарик. — Обещал я жизнь немцу. Понимаешь?
— Чокнутый ты, что ли? Обещал он! Тоже мне, командующий нашёлся! Кто мы с тобой? Рядовые! Наше дело телячье... Приказали — исполнил! А ты...
— Не суети, говорю, — Сашка глубоко втянул в себя дым, даже
раскашлялся и сказал немцу: — Кури тоже...
Тот вытащил свои сигареты и, видно, забыв про свою зажигалку,
потянулся к Сашке прикурить дрожащей сигаретиной. И тут столкнулся Сашка с его глазами...
Много пришлось видеть на передовой помирающих от ран ребят,
и всегда поражали Сашку их глаза — посветлевшие какие-то, отрешённые, уже с того света будто бы... Умирали глаза раньше тела. Ещё билось сердце, дышала грудь, а глаза... глаза уже помертвевшие. Вот
и у немца сейчас такие же... Отвёл Сашка взгляд, потупился.
А капитанский ординарец, когда немец сигареты доставал, ухватил
цепким взглядом часы на его руке и уже не отпускал.
— Боишься ты, что ли? — сказал он, вскинув автомат. — Давай я.
— Не балуй! — ударил Сашка рукой по стволу ППШ. — Горазды
вы тут... Ты бы взял его наперёд, а тогда...
— Да я пошутил, — поспешил Толик.
— Нашёл чем...
— Куда поведём фрица-то?
— Не знаю.
— К сараю пойдём, в сторону.
— Погоди, дай человеку докурить.
— Слушай, а куда ты трофей денешь? — спросил наконец Толик,
не сводя взгляд с часов на руке немца.
— Какой трофей? — не понял Сашка.
— Часики фрицевские.
— А, часики... Что ж, трофей законный, в бою добытый... Ротному
отдам... Ему без часов нельзя, а свои разбил он намедни при обстреле.
Толик помялся немного, потом сказал вроде небрежно:
— Я бы тебе буханку черняшки дал... за часики-то...
— Нет, ротному отдам.
— Обойдётся твой ротный... Махры могу пачку в придачу. Идёт?
Сашка слушал вполуха, а сам соображал, что же такого придумать?
Хоть и повторил он приказание комбата, но до сих пор представить
не мог, как выполнять его будет. И решил он, что надо наперво отделаться от этого Толика, чтоб не мешался. И он закинул:
— Может, я тебе часики и за так отдам.
162
— За так? — удивился тот.
— За так, — повторил Сашка. — Только не мешайся. Договорились?
— А чего я тебе мешаю? Я приказ получил — проверить.
— Потом и проверишь. А я хочу без тебя это дело сделать.
Понял?
— Как хочешь. Мне смотреть на это удовольствия никакого.
На немца Сашка не глядел. Не мог глядеть. Однако, пересилив
себя, повернулся к нему и хотел было подойти и часы снять, но увидел, что немец, видно, догадавшись, о чём речь у них шла, стал сам
ремешок у часов расстёгивать, только не мог — дрожали пальцы. Остановился тогда Сашка.
— Потом тебе часы отдам... Понимаешь? — бросил он Толику.
— Понимаю, — тихо ответил Толик, а сам в лице изменился, побледнел, сробел, видно, и сказал немцу как бы с сожалением: — Эх,
фриц, надо было шпрехен. Понимаешь, шпрехен. А теперь на себя
пеняй.
Немец его не слушал. Он вынул из кармана листовку и стал рвать
её на мелкие куски, бормоча что-то, и только слово «пропаганден»,
повторённое не однажды, понял Сашка. Хотел было крикнуть: «Не смей
нашу листовку рвать! Не смей!» Но... не крикнул, только кольнуло
сердце — сроду никого не обманывал, а тут обманул. И в чём? В самом
главном, чего уже не поправишь.
— Пошли, — сказал он немцу.
Медленно, тяня шаг, двинулись они к полуразрушенному сараю — впереди Сашка, за ним немец, а Толик в хвосте. Сарай этот
Сашке памятен. Ночью после самого первого их наступления дали немцы огня по тылам, и под этим сараем погребены человек двенадцать
его однополчан-дальневосточников. И до передка не дошли ребята,
а все молодые, Сашкины однолетки. У сарая до сих пор трупным духом веет. Остановились...
— Здесь и решать будешь? — спросил Толик. Но у Сашки свои
мысли.
— Нет, больно близко к штабу... Вон туда поведу, — показал Сашка на пепелище, черневшее по обеим сторонам большака1, что проходил в полуверсте от Чернова. — А ты меня здесь подождёшь.
— Чего ты крутишь, герой? — подозрительно оглядел Толик Сашку. — Надеешься, одумается капитан? Нет, брат, он не такой. Что
сказал...
— Подождёшь? — перебил Сашка.
— Подожду, — как-то странно ответил тот, оглядывая Сашку.
Что делать и как быть, Сашка ещё не решил. Разные мысли метались, но ни одной стоящей. Может, встретится кто из начальства
и приказ комбата отменит (по уставу последнее приказание выполняется), может, комиссар и начштаба вернутся, тогда всё в порядке будет — отменит комиссар приказ этот непременно... Может быть, обой1
Большак (разг.) — большая дорога.
163
ти это разорище, что на большаке, и, минуя Черново, в роту податься
и к помкомбата сразу?.. Ничего-то пока Сашка не решил, но знал
одно — это ещё в блиндаже, когда приказ повторял, в голове пронеслось, — есть у него в душе заслон какой или преграда, переступить
которую он не в силах.
— Побудь с немцем чуток, я мигом, — попросил он ординарца.
— Куда ты?
— Только немца не тронь! А то часики тебе не понадобятся, — пригрозил Сашка больше так, чем по делу. Видел он, что Толик похвалиться любит, а сам слабак.
— Валяй, иди. Не трону, не бойся.
Сашка затрусил к штабу батальона — авось пришёл кто, может, дежурный есть?
И верно, сидел на перилах крыльца незнакомый лейтенант, видать,
из пополнения. Сашка к нему. Козырнул и напрямик:
— Такое дело, товарищ лейтенант. Немца я в плен взял, к комбату
привёл, а тот...
— Что?
— Ну, не в себе комбат немного... И приказал немца — в расход.
— Ну и что вы хотите?
— Нужен же немец... Отмените его приказание.
Лейтенант удивлённо вскинул голову, подумал и спросил:
— Допрашивал его комбат?
— Допрашивал вроде, — в подробности Сашка вдаваться не стал.
Лейтенант опять подумал, провёл рукой по подбородку.
— М-да... Не могу я, брат, отменять приказание комбата, когда он
здесь, на месте. Понял? Не могу.
Сашка махнул рукой досадливо и побежал обратно, но вскоре на
шаг перешёл, а потом и остановился совсем. Не забежать ли в санчасть, там военврач — мужик хороший и по званию тоже капитан, его
попросить за немца вступиться? Да нет, едва ли тот станет. Строг комбат, все его побаиваются, повернёт кругом, и весь разговор.
— Ну как? — усмехнулся Толик. Видел он, как Сашка с лейтенантом разговаривал.
— Дожди меня здесь. Приду, вместе на доклад пойдём.
— Ну, хорошо. — Толик с любопытством смотрел на Сашку. Понял
он, хочет Сашка как-то выкрутиться, но ничего у него не получится. — Смотри только... Ты капитана не знаешь, он на руку скорый.
Учти. Из-за тебя и я рискую.
— Не пугай. С передка я. Пошли, — кивнул Сашка немцу.
Шёл Сашка позади немца, но и со спины видно — мается фриц,
хотя виду старается не подавать, шагает ровно, только плечами иногда
передёргивает, будто от озноба. Но, когда поравнялся с ним Сашка,
кинул взгляд, лица немца не узнал, так обострилось оно, построжало,
посерело... Губы сжатые спеклись, а в глаза лучше не глядеть.
Если раньше относился Сашка к своему немцу добродушно-снисходительно, с эдакой жалостливой подсмешкой, то теперь глядел подругому, серьёзней и даже с некоторым уважением — блюдёт свою
164
солдатскую присягу фриц, ничего не скажешь. Только обидно, что зазря всё это, ведь за неправое дело воюет! И захотелось Сашке сказать:
«Эх, задурили тебе голову! За кого смерть принимать будешь? За Гитлера-гада! Эх ты...» — однако не сказал, понимая, не до слов сейчас,
не до разговора, когда такое страшное впереди.
На половине пути немец остановился и попросил покурить. Сашка
разрешил, и они остановились. Закурив, немец опять стал совать пачку с сигаретами и зажигалку Сашке в руку.
— Не надо, себе оставь, — мотал головой Сашка, отказываясь,
но фриц совал и совал.
Хотел было сказать Сашка, что сгодятся ещё ему сигареты, но
не сказал — не может он его зря обнадёживать, может, и верно,
не нужно будет курево немцу. Пришлось взять и сигареты, и зажигалку.
Пока стояли, обернулся Сашка — Толика уже было не видно, да
и Черново лишь крышами виднелось. А погорелая деревня, которая
на большаке, почти рядом. Если в штаб бригады идти, надо этот большак пересечь и по полю до леса, а через лес к Волге. И только за ней
уж Бахмутово будет. Далеко. Если до этого была у Сашки мысль вести
немца в штаб бригады, то теперь отошла — нет у него права без приказа в такую даль идти, дезертиром могут счесть запросто.
Немец шаг сузил, а Сашка подгонять не стал. Так и шли еле-еле,
а куда спешить?..
Немец всю дорогу слюну глотал часто, и дёргался у него кадык,
и у Сашки тоже в горле комок давит, дышать мешает. Понимает он,
чего немец сейчас испытывает, какую тяготу несёт, и завёл с ним Сашка мысленный разговор: «Понимаешь, какую задачу ты мне задал?
Из-за тебя, язвы, приказ не выполняю. И что мне за это будет, не знаю.
Может, трибунал, а может, комбат вгорячах прихлопнет? Есть у него
такое право — война же! Ты вот листовку порвал, „пропаганден, пропаганден“ бормотал, а каково мне было глядеть, как ты нашу листовку
рвёшь? А что мне было сказать, когда из-за капитана вышло, что брехня эта листовка. А не так это! Правда она! И писалась людьми повыше
комбата. И что мне теперь делать? Что?» — закончил он безответным
вопросом.
А пепелище уж близко... Вот подошли они к первой сожжённой
избе. Надгробием торчала печная труба из груды пепла. Немец в нерешительности приостановился, но Сашка повёл его дальше, чтоб
из Чернова было их не видно. Вокруг пепелище, кое-где остались стены изб обгоревшие, а так только уголья чернели да что железное сохранилось: кровати искорёженные, чугуны, сковороды, ну и кирпичи
битые. Немецкая, видать, работа. При отходе сожгли, сволочи! Вот
поджигателей этих стрелял бы Сашка безжалостно, если б попались,
а как в безоружного? Как?..
Тут подумал Сашка, а как бы ротный на его месте поступил? Ротного на горло не возьмёшь! Он бы слова для капитана нашёл! А что Сашка — растерялся начисто, лепетал только «не могу»... Да что может
Сашка, рядовой боец, которому каждый отделенный — начальник?
165
Ничего вроде бы. Но хватило же у него духу капитану перечить, а сейчас такое умыслил, душа переворачивается — приказ не выполнить!
Да кого? Самого командира части.
Впервые за всю службу в армии, за месяцы фронта столкнулись
у Сашки в отчаянном противоречии привычка подчиняться беспрекословно и страшное сомнение в справедливости и нужности того, что
ему приказали. И ещё третье есть, что сплелось с остальным: не может
он беззащитного убивать. Не может, и всё!
Остановился Сашка. Приставил ногу и немец. Близко стоят друг
против друга. Поднял голову немец, глянул на Сашку пустыми, неживыми уже глазами, и предсмертная тоска, шедшая из них, больно
хлестнула по Сашкиному сердцу... Отвернулся он и, забыв, что есть
у него фрицевские сигареты, набрал в кармане махры, завернул цигарку, прижёг... Потом очнулся и протянул немцу его пачку. Тот помотал головой, отказался, и понял Сашка почему: небось решил, что
последняя перед смертью эта сигарета, и не захотел этой милости.
— Кури, кури... — не убирал Сашка пачку.
Немец опять вскинулся, и пришлось Сашке принять его взгляд,
а лучше бы не видеть... Померкшие глаза и мука в них: чего тянешь,
чего душу выматываешь? Приказ есть приказ, ничего тут не поделаешь, кончай скорей... Так или не так понял Сашка его взгляд, но обдал он его такой тоской, что впору и себе пулю в лоб.
Поглядел он с надеждой на поле — не идёт ли кто? Нет, не видать.
Он и вышел-то сюда, к пепелищу, потому что отсюда поле почти до самого леса проглядывается и, если будет начальство из Бахмутова возвращаться, он издалека увидит, а как увидит, побежит сразу навстречу и к комиссару...
И тут послышался какой-то крик со стороны Чернова. Обернулся
Сашка и обмер — маячила вдалеке высокая фигура комбата, шедшего
ровным, неспешным шагом прямиком к ним, а рядом ординарец Толик, то забегавший поперёк капитана, то равнявшийся с ним. Он-то
и кричал что-то, наверно, Сашку звал.
Побледнел Сашка, съёжился, облило тело ледяным потом, сдавилось сердце — идёт комбат, конечно, проверить, исполнен ли приказ
его! И что будет-то?..
Кинул он тоскливый взгляд опять на поле, а вдруг... Но пусто поле.
Тогда вышел Сашка из-за обгоревших брёвен показаться Толику, чтоб
не орал он; ординарец, заметивший его, перестал кричать и размахивать руками.
За спиной Сашки тяжело задышал немец, подошедший и тоже увидевший идущих. Задышал часто, с хрипом, словно воздуха ему не хватало.
«Теперь всё! Теперь уже ничего не придумаешь! — безнадёжно проносилось в Сашкиной голове. — Конец теперь немцу...»
Комбат был без шинели и без фуражки (ушанку он вообще не носил, даже на марше в метели лютые в фуражечке красовался), воротник гимнастёрки расстёгнут, незатянутый ремень оттягивался кобурой, но походка была твёрдая, не качнулся ни разу.
166
Вспомнил Сашка, так же вот ровно шёл комбат в последнем их наступлении на Овсянниково, когда ни ротные, ни помкомбата не смогли поднять вконец измученных перемаянных людей. Красиво шёл...
Глядели на него тогда с восхищением и поднялись как один через немоготу и усталь... И теперь прёт, как танк, сравнил Сашка, потому
как ощущения были схожие — тогда он знал, что никуда не денешься,
и сейчас тоже...
И секундной вспышкой мелькнуло — ну а если... хлопнуть сейчас
немца и бегом к капитану: «Ваше приказание выполнено...» И снята
с души вся путань... И, не тронув автомата даже, только повернувшись
чуть к немцу, увидел Сашка: прочёл тот мысль эту секундную, смертной пеленой зашлись глаза, заходил кадык...
Нет, не могу... Прислонился Сашка к уцелевшей полуобгорелой стене, такая слабость охватила, но в душе нарастало: не буду,
не буду! Пусть сам комбат стреляет. Или своему Толику прикажет.
Не буду!
И когда решил так бесповоротно, вроде спокойней стало, только
покой этот — покойницкий... Лишь бы скорей всё это кончалось.
И немцу маета эта невпроворот, и Сашке...
А капитан с ординарцем всё ближе и ближе... Ну, что комбат делать будет? Силой заставит немца угрохать? Есть в уставе такое — обязан командир добиться выполнения своего приказа во что бы то ни стало и, если нужно, оружие применить. Или просто за невыполнение
приказа Сашку на месте кокнет?
Уже шагах в сорока они. Видно, как попыхивает сбитая в самый
угол рта папироска, как треплет ветром незачёсанный чуб на лбу капитана, и ждать уж недолго.
И стал Сашка считать капитановы шаги, чтоб не думать ни о чём:
раз, два... семь, восемь... двенадцать... двадцать, двадцать один...
тридцать... тридцать четыре, тридцать пять...
Совсем рядом комбат... Что будет-то? Приослаб Сашка, но всё же
нашёл в себе силу выйти навстречу и, остановившись, вытянуться
под стойку «смирно» и уставиться в лицо комбата.
Тот тоже остановился, широко расставил ноги и глянул на Сашку,
но долго взгляда не задержал, хотя Сашка глаза не отводил, а прошёлся вскользь, переводя потом на немца, тоже ненадолго... Откинув
прядь со лба, комбат затянулся сильно папироской и вроде задумался,
уставившись в землю.
Толик на Сашку не смотрел, только кинул мимолётно: что, допрыгался, предупреждал я...
Только минуты перед атакой бывали для Сашки такими же маетными, такими же мытарными... И тихо бывало так же. Только теперь
за спиной Сашки шумно глотал слюну немец и поскрипывали его сапоги на переступающих на одном месте ногах.
Комбат докурил, затоптал носком сапога брошенный окурок, опять
отбросил налезший на лоб клок и, шагнув к Сашке, упёрся в него своим неморгающим тяжёлым взглядом.
167
Теперь конец, подумал Сашка, сейчас закричит, затопает, вытащит
пистолет, и что тогда?
Но Сашка не сник, не опустил глаза, а, ощутив вдруг, как отвердилось, окрепло в нём чувство собственной правоты, встретил взгляд
капитана прямо, без страха, с отчаянной решимостью не уступить — ну,
что будешь делать? Меня стрелять? Ну, стреляй, если сможешь, всё
равно я правый, а не ты... Ну, стреляй... Ну...
Чуял Сашка, озлится комбат на его непокорный ответный взгляд,
но на Сашку тоже накатило, ничего ему не страшно, будь что будет...
И верно, раздул капитан ноздри своего чуть кривоватого с горбинкой
носа, но не закричал, не затопал, к кобуре руку не потянул, а глядел
на Сашку хоть и сурово, но без злобы, очень серьёзно и вроде раздумчиво, — может, отошёл малость, одумался...
Это дало Сашке надежду, и вызов в своих глазах он погасил, и смотрел на комбата уже без дерзости, но твёрдо, хотя и колотилось сердце
как бешеное, отдаваясь болью в висках.
И отвернул глаза капитан.
— Пойдём, — сказал он поражённому ординарцу, который хотел
было что-то вякнуть, но не вякнул, а повернулся кругом, еле успев
задеть Сашку недоумённым взглядом.
Сашка же стоял окаменело в той же стойке «смирно», всё ещё не
сводя глаз с комбата, всё ещё не зная, радоваться ему или нет.
Уже на ходу, на миг остановившись, комбат повернулся к Сашке
и бросил:
— Немца отвести в штаб бригады. Я отменяю своё приказание.
У Сашки засёкся голос ответить «есть», закружилось всё, и чуть
не осел он у обгоревших брёвен, чувствуя, как железный обруч, стягивавший его голову всё это время, начинает понемногу ослабевать
и наконец отпускает совсем.
— Повторите приказание, боец! — словно издалека услышал он капитана и, набравши воздуху, выдохнул:
— Есть отвести немца в штаб бригады! — очень громко, как ему
казалось, а на самом деле еле слышно.
— Выполняйте! — Комбат зашагал так же ровно, неспешно, сильно
размахивая левой рукой, а около него крутился Толик, кидавший через плечо торопливые непонимающие взгляды на Сашку.
Сашка же вздохнул глубоко, полной грудью, снял каску, обтёр
со лба пот, провёл рукой по ёжику отросших за эти месяцы волос
и окинул взором всё окрест — и удаляющегося комбата, и большак,
и церкву разрушенную, которую и не примечал прежде, и синеющий
бор за полем, и нешибко голубое небо, словно впервые за этот день
увиденное, и немца, из-за которого вся эта неурядь вышла, и подумал:
коли живой останется, то из всего, им на передке пережитого, будет
для него случай этот самым памятным, самым незабывным...
5 Комментарии. Повесть «Сашка», первое произведение В. Л. Кондратьева, была написана через много лет после окончания Великой Отечественной войны, опубликована
в феврале 1979 года в журнале «Дружба народов». Позднее включалась в сборники
168
рассказов и повестей писателя. В предисловии к первому изданию К. М. Симонов писал:
«...это история человека, оказавшегося в самое трудное время в самом трудном месте
и на самой трудной должности — солдатской. Мне кажется, что, не прочитай я „Сашки“,
мне бы чего-то не хватало — не в литературе, а просто-напросто в жизни».
На основе сюжета повести в Московском театре Моссовета в 1981 году был поставлен
спектакль «Сашка» (режиссёр Г. М. Черняховский, исполнитель главной роли С. Б. Проханов).
...наши сорокапятки... — имеется в виду 45-миллиметровая противотанковая пушка.
...с нашей «моршанской»... — город Моршанск (Тамбовской области) был крупным центром производства махорки и табака, которые в годы Великой Отечественной войны
поставляли на фронт.
Вопросы и задания
1. Как описаны в повести суровые военные будни? О каком периоде войны здесь
повествуется? Свой ответ проиллюстрируйте примерами из текста.
2. Как характеризуют Сашку его действия в начале повести? Каковы были ваши
первые впечатления о главном герое?
3. Что особо подчёркнуто в описании пленного немца? Учтите, что такое описание
было невозможно в произведениях, создававшихся непосредственно в военные
годы, и что это описание дано в восприятии Сашки.
4. Вместе с товарищами. Перечитайте диалог Сашки с ординарцем комбата Толиком. Какие два взгляда на военные события и два отношения к пленным сталкиваются в этом отрывке? Почему у Сашки «зависло в сердце чтото тяжёлое от этого разговора»? Как это характеризует главного героя повести?
5. Опыт исследования. Приведите примеры внутренних монологов Сашки. Почему писатель так часто обращается к этому приёму изображения человеческого
характера?
6. Почему в своеобразном поединке комбата и Сашки победителем оказывается
простой солдат?
7. Укажите фрагменты повести «Сашка», которые показались вам самыми напряжёнными, которые могли бы проиллюстрировать ваш ответ на вопрос о том,
почему этот случай из жизни героя оказался «самым памятным, самым незабывным».
Индивидуальные задания
1. Публичное выступление. Подготовьте сообщение на тему «Песни Великой Отечественной войны». Подберите необходимый иллюстративный материал к своему сообщению, записи песен военного времени, фрагменты кинофильмов.
2. Творческое прочтение. Расскажите об одном из поэтов — участников Великой Отечественной войны. Подготовьте выразительное чтение его стихотворений.
3. Опыт исследования. Подготовьте сопоставительную характеристику Василия Тёркина (поэма А. Т. Твардовского «Василий Тёркин») и Сашки (повесть
В. Л. Кондратьева «Сашка»).
4. Приведите примеры высказываний Сашки из одноимённой повести В. Л. Кондратьева, которые могли бы дополнить его характеристику как народного характера.
5. Сочинение. Прочитайте самостоятельно повесть В. Л. Кондратьева «Сашка»
и напишите отзыв об этой повести.
169
Александр Исаевич СОЛЖЕНИЦЫН
1918—2008
Биография Александра Исаевича Солженицына
одновременно типична для человека его поколения
и представляет собой исключение из правил. Её отличают крутые повороты судьбы и события, поражающие
особым высоким смыслом. Обыкновенный советский
школьник, студент, комсомолец. Участник Великой
Отечественной войны, отмеченный за боевые заслуги
правительственными наградами. Узник ГУЛАГа. Учитель
математики в средней школе. Человек, вышедший победителем в борьбе со страшной болезнью и с тех пор
уверовавший в то, что, пока он пишет, ему свыше дарована жизнь. Художник, создавший собственную концепцию истории России XX века и воплотивший её
в творчестве. Эмигрант поневоле, высланный из родной страны и никогда не признававший добровольной
эмиграции. Известный всему миру писатель, лауреат
Нобелевской премии. Страстный публицист, слово которого будоражит, заставляет спорить, искать ответы на самые трудные вопросы времени.
Первые пробы пера начинающего автора относятся к 1942 году. В «Архипелаге
ГУЛАГ» Солженицын расскажет, что писать он не переставал и в заключении —
в уме, повторяя созданное наизусть. Собственно писать Солженицын начал после
освобождения из лагеря в 1953 году, а полностью посвятил себя литературе,
оставив работу учителя, уже в 1964 году.
Имя Александра Солженицына стало известно в 1960-е годы, называемые
«оттепелью». В тот период, после разоблачения культа личности Сталина на
XX съезде партии, появились первые робкие признаки демократизации в обществе. В одиннадцатом номере за 1962 год ведущего журнала «Новый мир» была
опубликована повесть никому не известного автора А. Солженицына «Один день
Ивана Денисовича». Эта публикация стала важнейшим событием не только литературной, но и общественной жизни страны. Достаточно вспомнить, что разрешение
на публикацию произведения главный редактор «Нового мира» А. Т. Твардовский
получил с огромными усилиями у высшего партийного руководства.
Что поразило читателей в первом произведении начинающего автора? Правда
о запретном мире, огромной лагерной зоне под названием ГУЛАГ. Необычный
выбор главного героя — не коммуниста, незаслуженно пострадавшего от репрессий, но при этом оставшегося верным революционным идеалам, а простого мужика. Его имя (Иван) олицетворяет понятие «русский», а в сочетании с отчеством
звучит по-крестьянски солидно, уважительно. Это в первую очередь характер простого человека, насильно оторванного от семьи, дома, привычной жизни, поставленного на грань между жизнью и смертью и сумевшего не потерять себя.
Язык — основанный на воссоздании речи героя, использовании народных слов
и выражений.
Журнал «Новый мир» в 1963 году опубликовал рассказы Солженицына
«Матрёнин двор» и «Случай на станции Кочетовка». Первый из них был написан
170
на «деревенскую» тему, второй раскрывал тему войны. Но эти тематические определения фиксируют скорее внешние различия, поскольку рассказы объединяло
с повестью «Один день Ивана Денисовича» главное: исследование корневых
свойств народного характера, особенно ярко проявляющихся в трудные периоды
жизни. Всё говорило о том, что в литературу пришёл зрелый мастер со своим
кругом проблем, конфликтов, характеров, с особым, легко узнаваемым стилем.
Определим некоторые художественные особенности прозы Солженицына.
В основу его произведений положены реальные события и факты, а образы героев имеют прототипы. Писатель делает сознательную установку на минимальный
вымысел. Важнейшее значение для него имеет критерий жизненной правды,
без которой нет правды художественной. В подходе к пониманию сути искусства
отражается религиозное восприятие мира, свойственное Солженицыну.
Уже тогда, в 1960-е годы, Солженицын начал исследовать сложнейший комплекс проблем, который определит понятием «русский вопрос». Писатель размышлял об особенностях национального самосознания, об исторической судьбе
России и роли революции в ней, об ответственности каждого человека за всё,
что происходило и происходит с Россией.
Многие замыслы рождались параллельно друг другу, отсюда смысловые повторы, переклички в произведениях и кажущаяся быстрота завершения работы
над отдельными текстами, которые на самом деле вынашивались годами. Так,
например, повесть «Один день Ивана Денисовича» была задумана в Экибастузском
Особом лагере в 1950—1951 годах, а написана всего за три недели в 1959 году.
Одновременно Солженицын работает над романом «В круге первом». Он начинает «непомерно много сразу»: будущий «Архипелаг ГУЛАГ», «Раковый корпус»,
большое историческое произведение о революции 1917 года. Последний замысел
выльется в историческую эпопею «Красное колесо», которую Солженицын назовёт
главной книгой своей жизни. Однако в конце 1980-х годов, когда начнётся возвращение в Россию книг Солженицына, писатель выдвинет непременным условием
первоочередную публикацию «Архипелага ГУЛАГ». В нём — выстраданное и высказанное публицистически прямо кредо писателя.
«Архипелаг ГУЛАГ» — дань памяти жертвам политических репрессий ХХ века.
Писатель выполнял свой долг перед собратьями по судьбе, прося прощения за то,
что «не всё увидел, не всё вспомнил, не обо всём догадался». Многое из того,
о чём повествует Солженицын в «Архипелаге», было незнакомо читателю. Но не
количеством и новизной фактов поразила книга Солженицына. Она открыла качественно иное понимание событий. Картины насилия, подавления свободы, унижения человеческой личности, выстроенные писателем в логическую цепочку, эмоционально поданные, доказывали основную авторскую идею. Писатель убеждён,
что, допустив насилие в качестве рычага истории, революция «красным колесом»
прокатилась по России, принеся ей неисчислимые беды.
Показывая падение человека во мрак Архипелага, автор постоянно размышляет над вопросом: что помогает человеку выстоять и сохранить себя? Он тщательно исследует любые ростки внутреннего сопротивления растлению души, отмечает даже самые робкие шаги «возвращения в человечество». С особым
уважением писатель рассказывает о том, какую стойкость проявляли в лагере
по-настоящему верующие люди.
Солженицын не теряет веру в возможность духовного возрождения человека.
Её источник — собственный опыт, который дано было вынести из тюремных лет
171
«согнутой моей, едва не подломившейся спиной». Жизненные испытания, напряжённая моральная работа помогли стать твёрже духом, сильнее мыслями. Важнейший итог духовного восхождения — обращение к богу, убеждённость в том,
что «глубиннейший ствол нашей жизни — религиозное сознание». Свет этого сознания рождает не озлобление на жизнь и людей, а уверенность: «А от напасти — не пропасти. Надо её пережить». «...Переживём! Переживём всё, бог даст —
кончится!» — размышлял Иван Денисович. В этом убеждён и автор.
Рассказ «Матрёнин двор». А. И. Солженицын отдаёт предпочтение изображению личностей негероических, показывая их в ситуациях обычной, повседневной
жизни. Он исследует народный характер, особо выделяя качества, которые передаются из поколения в поколение. Это трудолюбие, незлобивость, бескорыстие,
естественность, внутреннее достоинство. Так складывается образ праведника, без
которого, по пословице, «не стоит село. Ни город. Ни вся земля наша». Это характер достаточно редкий и теми, кто находится рядом, не всегда понимаемый.
В самом деле, как не осуждать Матрёну, которая за всю свою жизнь ничего нажить не сумела, кроме грязно-белой козы, колченогой кошки да фикусов? Но повествователь разглядел в своей героине другое: умение не растерять в житейских
бедах общительность, бескорыстное стремление помогать всем, отсутствие погони
за материальным добром (противопоставленное жадности «ненасытного старика»
Фаддея). «Ни труда, ни добра своего не жалела Матрёна никогда».
Солженицын не стремится приукрасить своих героев, он не скрывает их слабостей, отрицательных черт (например, суеверия Матрёны). Но всё это, естественное в живом человеке, не может заслонить главного: герои в ладах со своей совестью.
Трактовка понятия праведности неотделима от православного мировосприятия автора. О погибшей на переезде (когда она помогала другим!), изуродованной
до неузнаваемости Матрёне соседка говорит, перекрестившись: «Ручку-то правую
оставил ей Господь. Там будет Богу молиться...» Бытовая деталь (правая рука)
становится символом, приобретает религиозно-символическое толкование.
Задания
1. Поиск информации. Используя дополнительные источники, подготовьте рассказ о биографии А. И. Солженицына. Дополните свой рассказ хронологией
жизни и творчества писателя.
2. Внеклассное чтение. Прочитайте самостоятельно статью А. И. Солженицына
«Как нам обустроить Россию». Выпишите из этой статьи тезисы, демонстрирующие взгляды писателя на русскую историю и русскую жизнь.
Матрёнин двор
На сто восемьдесят четвёртом километре от Москвы по ветке, что идёт
к Мурому и Казани, ещё с добрых полгода после того все поезда замедляли свой ход почти как бы до ощупи. Пассажиры льнули к стёклам,
выходили в тамбур: чинят пути, что ли? из графика вышел?
Нет. Пройдя переезд, поезд опять набирал скорость, пассажиры
усаживались.
Только машинисты знали и помнили, отчего это всё.
Да я.
172
1
Летом 1956 года из пыльной горячей пустыни я возвращался наугад — просто в Россию. Ни в одной точке её никто меня не ждал
и не звал, потому что я задержался с возвратом годиков на десять. Мне
просто хотелось в среднюю полосу — без жары, с лиственным рокотом
леса. Мне хотелось затесаться и затеряться в самой нутряной России —
если такая где-то была, жила.
За год до того по сю сторону Уральского хребта я мог наняться разве таскать носилки. Даже электриком на порядочное строительство
меня бы не взяли. А меня тянуло — учительствовать. Говорили мне
знающие люди, что нечего и на билет тратиться, впустую проезжу.
Но что-то начинало уже страгиваться. Когда я поднялся по лестнице Владимирского облоно1 и спросил, где отдел кадров, то с удивлением увидел, что кадры уже не сидели здесь за чёрной кожаной дверью,
а за остеклённой перегородкой, как в аптеке. Всё же я подошёл к окошечку робко, поклонился и попросил:
— Скажите, не нужны ли вам математики? Где-нибудь подальше
от железной дороги? Я хочу поселиться там навсегда.
Каждую букву в моих документах перещупали, походили из комнаты в комнату и куда-то звонили. Тоже и для них редкость была — все
ведь просятся в город, да покрупней. И вдруг-таки дали мне местечко — Высокое Поле. От одного названия веселела душа.
Название не лгало. На взгорке между ложков, а потом других
взгорков, цельно-обомкнутое лесом, с прудом и плотинкой, Высокое
Поле было тем самым местом, где не обидно бы и жить и умереть. Там
я долго сидел в рощице на пне и думал, что от души бы хотел не нуждаться каждый день завтракать и обедать, только бы остаться здесь
и ночами слушать, как ветви шуршат по крыше — когда ниоткуда
не слышно радио и всё в мире молчит.
Увы, там не пекли хлеба. Там не торговали ничем съестным. Вся
деревня волокла снедь мешками из областного города.
Я вернулся в отдел кадров и взмолился перед окошечком. Сперва
и разговаривать со мной не хотели. Потом всё ж походили из комнаты в комнату, позвонили, поскрипели и отпечатали мне в приказе:
«Т о р ф о п р о д у к т».
Торфопродукт? Ах, Тургенев не знал, что можно по-русски составить такое!
На станции Торфопродукт, состарившемся временном серо-деревянном бараке, висела строгая надпись: «На поезд садиться только
со стороны вокзала!» Гвоздём по доскам было доцарапано: «И без билетов». А у кассы с тем же меланхолическим остроумием было навсегда вырезано ножом: «Билетов нет». Точный смысл этих добавлений я оценил позже. В Торфопродукт легко было приехать. Но не
уехать.
А и на этом месте стояли прежде и перестояли революцию дремучие, непрохожие леса. Потом их вырубили — торфоразработчи1
Облоно — областной отдел народного образования.
173
ки и соседний колхоз. Председатель его, Горшков, свёл под корень изрядно гектаров леса и выгодно сбыл в Одесскую область, на
том свой колхоз возвысив, а себе получив Героя Социалистического
Труда.
Меж торфяными низинами беспорядочно разбросался посёлок —
однообразные, худо штукатуренные бараки тридцатых годов и, с резьбой по фасаду, с остеклёнными верандами, домики пятидесятых. Но
внутри этих домиков нельзя было увидеть перегородки, доходящей до
потолка, так что не снять мне было комнаты с четырьмя настоящими
стенами.
Над посёлком дымила фабричная труба. Туда и сюда сквозь посёлок
проложена была узкоколейка, и паровозики, тоже густо дымящие,
пронзительно свистя, таскали по ней поезда с бурым торфом, торфяными плитами и брикетами. Без ошибки я мог предположить, что вечером над дверьми клуба будет надрываться радиола, а по улице пображивать пьяные да подпыривать друг друга ножами.
Вот куда завела меня мечта о тихом уголке России. А ведь там,
откуда я приехал, мог я жить в глинобитной хатке, глядящей в пустыню. Там дул такой свежий ветер ночами и только звёздный свод
распахивался над головой.
Мне не спалось на станционной скамье, и я чуть свет опять побрёл
по посёлку. Теперь я увидел крохотный базарец. По рани единственная
женщина стояла там, торгуя молоком. Я взял бутылку, стал пить
тут же.
Меня поразила её речь. Она не говорила, а напевала умильно, и слова её были те самые, за которыми потянула меня тоска из Азии:
— Пей, пей с душою жела€дной. Ты, пота€й1, приезжий?
— А вы откуда? — просветлел я.
И узнал, что не всё вокруг торфоразработки, что есть за полотном
железной дороги — бугор, а за бугром — деревня, и деревня эта —
Та€льново, испокон она здесь, ещё когда была барыня-«цыганка» и кругом лес лихой стоял. А дальше целый край идёт деревень: Часлицы,
Овинцы, Спудни, Шевертни, Шестимирово — всё поглуше, от железной дороги подале, к озёрам.
Ветром успокоения потянуло на меня от этих названий. Они обещали мне кондовую Россию.
И я попросил мою новую знакомую отвести меня после базара
в Тальново и подыскать избу, где бы стать мне квартирантом.
Я оказался квартирантом выгодным: сверх платы сулила школа
за меня ещё машину торфа на зиму. По лицу женщины прошли заботы уже не умильные. У самой у неё места не было (они с мужем
воспитывали её престарелую мать), оттого она повела меня к одним
своим родным и ещё к другим. Но и здесь не нашлось комнаты отдельной, везде было тесно и лопотно.
Так мы дошли до высыхающей подпруженной речушки с мостиком. Милей этого места мне не приглянулось во всей деревне; две-три
1
Потай — тайно; здесь: наверно.
174
ивы, избушка перекособоченная, а по пруду плавали утки, и выходили на берег гуси, отряхиваясь.
— Ну, разве что к Матрёне зайдём, — сказала моя проводница, уже
уставая от меня. — Только у неё не так уборно, в за€пущи она живёт,
болеет.
Дом Матрёны стоял тут же, неподалёку, с четырьмя оконцами
в ряд на холодную некрасную сторону, крытый щепою, на два ската
и с украшенным под теремок чердачным окошком. Дом не низкий — восемнадцать венцов1. Однако изгнивала щепа, посерели от
старости брёвна сруба и ворота, когда-то могучие, и проредилась их
обвершка2.
Калитка была на запоре, но проводница моя не стала стучать, а просунула руку под низом и отвернула завёртку — нехитрую затею против скота и чужого человека. Дворик не был крыт, но в доме многое
было под одной связью. За входной дверью внутренние ступеньки поднимались на просторные мосты, высоко осенённые крышей. Налево
ещё ступеньки вели вверх в горницу — отдельный сруб без печи, и ступеньки вниз, в подклеть. А направо шла сама изба, с чердаком и подпольем.
Строено было давно и добротно, на большую семью, а жила теперь
одинокая женщина лет шестидесяти.
Когда я вошёл в избу, она лежала на русской печи, тут же, у входа, накрытая неопределённым тёмным тряпьём, таким бесценным
в жизни рабочего человека.
Просторная изба, и особенно лучшая приоконная её часть, была
уставлена по табуреткам и лавкам — горшками и кадками с фикусами. Они заполнили одиночество хозяйки безмолвной, но живой толпой. Они разрослись привольно, забирая небогатый свет северной стороны. В остатке света, и к тому же за трубой, кругловатое лицо
хозяйки показалось мне жёлтым, больным. И по глазам её замутнённым можно было видеть, что болезнь измотала её.
Разговаривая со мной, она так и лежала на печи ничком, без подушки, головой к двери, а я стоял внизу. Она не проявила радости
заполучить квартиранта, жаловалась на чёрный недуг, из приступа
которого выходила сейчас: недуг налетал на неё не каждый месяц, но,
налетев, — ...держит два€-дни и три€-дни, так что ни встать, ни подать
я вам не приспею. А избу бы не жалко, живите.
И она перечисляла мне других хозяек, у кого будет мне покойней
и угожей, и слала обойти их. Но я уже видел, что жребий мой
был — поселиться в этой темноватой избе с тусклым зеркалом, в которое совсем нельзя было смотреться, с двумя яркими рублёвыми плакатами о книжной торговле и об урожае, повешенными на стене
для красоты. Здесь было мне тем хорошо, что по бедности Матрёна
не держала радио, а по одиночеству не с кем было ей разговаривать.
1
Венец — здесь: брёвна или брусья, составляющие один горизонтальный ряд деревянного
сруба.
2
Обвершка — крыша, кровля.
175
И хотя Матрёна Васильевна вынудила меня походить ещё по деревне, и хотя в мой второй приход долго отнекивалась:
— Не умемши, не варёмши — как утрафишь? — но уж встретила
меня на ногах, и даже будто удовольствие пробудилось в её глазах оттого, что я вернулся.
Поладили о цене и о торфе, что школа привезёт.
Я только потом узнал, что год за годом, многие годы, ниоткуда
не зарабатывала Матрёна Васильевна ни рубля. Потому что пенсии ей
не платили. Родные ей помогали мало. А в колхозе она работала не
за деньги — за палочки. За палочки трудодней в замусленной книжке
учётчика.
Так и поселился я у Матрёны Васильевны. Комнаты мы не делили.
Её кровать была в дверном углу у печки, а я свою раскладушку развернул у окна и, оттесня от света любимые Матрёнины фикусы, ещё
у одного окна поставил стол. Электричество же в деревне было — его
ещё в двадцатые годы подтянули от Шатуры. В газетах писали тогда — «лампочки Ильича», а мужики, глаза тараща, говорили: «Царь
Огонь!»
Может, кому из деревни, кто побогаче, изба Матрёны и не казалась
доброжилой, нам же с ней в ту осень и зиму вполне была хороша:
от дождей она ещё не протекала и ветрами студёными выдувало из неё
печное грево не сразу, лишь под утро, особенно тогда, когда дул ветер
с прохудившейся стороны.
Кроме Матрёны и меня, жили в избе ещё — кошка, мыши и тараканы.
Кошка была немолода, а главное — колченога. Она из жалости
была Матрёной подобрана и прижилась. Хотя она и ходила на четырёх
ногах, но сильно прихрамывала: одну ногу она берегла, больная была
нога. Когда кошка прыгала с печи на пол, звук касания её о пол не был
кошаче-мягок, как у всех, а — сильный одновременный удар трёх ног:
туп! — такой сильный удар, что я не сразу привык, вздрагивал. Это
она три ноги подставляла разом, чтоб уберечь четвёртую.
Но не потому были мыши в избе, что колченогая кошка с ними
не справлялась: она как молния за ними прыгала в угол и выносила
в зубах. А недоступны были мыши для кошки из-за того, что ктото когда-то, ещё по хорошей жизни, оклеил Матрёнину избу рифлёными зеленоватыми обоями, да не просто в слой, а в пять слоёв. Друг
с другом обои склеились хорошо, от стены же во многих местах отстали — и получилась как бы внутренняя шкура на избе. Между брёвнами избы и обойной шкурой мыши и проделали себе ходы и нагло
шуршали, бегая по ним даже и под потолком. Кошка сердито смотрела вслед их шуршанью, а достать не могла.
Иногда ела кошка и тараканов, но от них ей становилось нехорошо.
Единственное, что тараканы уважали, это черту перегородки, отделявшей устье русской печи и кухоньку от чистой избы. В чистую избу
они не переползали. Зато в кухоньке по ночам кишели, и если поздно вечером, зайдя испить воды, я зажигал там лампочку — пол весь,
и скамья большая, и даже стена были чуть не сплошь бурыми и ше-
176
А. И. Солженицын. «Матрёнин двор». Художник В. Бритвин
велились. Приносил я из химического кабинета буры, и, смешивая
с тестом, мы их травили. Тараканов менело1, но Матрёна боялась
отравить вместе с ними и кошку. Мы прекращали подсыпку яда, и тараканы плодились вновь.
По ночам, когда Матрёна уже спала, а я занимался за столом, — редкое быстрое шуршание мышей под обоями покрывалось слитным, единым, непрерывным, как далёкий шум океана, шорохом тараканов
за перегородкой. Но я свыкся с ним, ибо в нём не было ничего злого,
в нём не было лжи. Шуршанье их — была их жизнь.
И с грубой плакатной красавицей я свыкся, которая со стены постоянно протягивала мне Белинского, Панфёрова и ещё стопу каких-то
книг, но — молчала. Я со всем свыкся, что было в избе Матрёны.
Матрёна вставала в четыре-пять утра. Ходикам Матрёниным было
двадцать семь лет, как куплены в сельпо. Всегда они шли вперёд,
и Матрёна не беспокоилась — лишь бы не отставали, чтоб утром не запоздниться. Она включала лампочку за кухонной перегородкой и тихо,
вежливо, стараясь не шуметь, топила русскую печь, ходила доить козу
(все животы её были — одна эта грязно-белая криворогая коза), по воду
ходила и варила в трёх чугунках: один чугунок — мне, один — себе,
один — козе. Козе она выбирала из подполья самую мелкую картошку,
себе — мелкую, а мне — с куриное яйцо. Крупной же картошки огород
её песчаный, с довоенных лет не удобренный и всегда засаживаемый
картошкой, картошкой и картошкой, — крупной не давал.
1
Тараканов менело (диал.) — становилось меньше.
177
Мне почти не слышались её утренние хлопоты. Я спал долго, просыпался на позднем зимнем свету и потягивался, высовывая голову изпод одеяла и тулупа. Они да ещё лагерная телогрейка на ногах, а снизу
мешок, набитый соломой, хранили мне тепло даже в те ночи, когда
стужа толкалась с севера в наши хилые оконца. Услышав за перегородкой сдержанный шумок, я всякий раз размеренно говорил:
— Доброе утро, Матрёна Васильевна!
И всегда одни и те же доброжелательные слова раздавались мне
из-за перегородки. Они начинались каким-то низким тёплым мурчанием, как у бабушек в сказках:
— М-м-мм... также и вам!
И немного погодя:
— А завтрак вам приспе-ел.
Что€ на завтрак, она не объявляла, да это и догадаться было легко:
картовь необлупленная, или суп картонный (так выговаривали все
в деревне), или каша ячневая (другой крупы в тот год нельзя было
купить в Торфопродукте, да и ячневую-то с бою — как самой дешёвой
ею откармливали свиней и мешками брали). Не всегда это было посолено как надо, часто пригорало, а после еды оставляло налёт на нёбе,
дёснах и вызывало изжогу.
Но не Матрёны в том была вина: не было в Торфопродукте и масла,
маргарин нарасхват, а свободно только жир комбинированный. Да
и русская печь, как я пригляделся, неудобна для стряпни: варка идёт
скрыто от стряпухи, жар к чугунку подступает с разных сторон неравномерно. Но потому, должно быть, пришла она к нашим предкам
из самого каменного века, что, протопленная раз на досветьи, весь
день хранит в себе тёплыми корм и пойло для скота, пищу и воду
для человека. И спать тепло.
Я покорно съедал всё наваренное мне, терпеливо откладывал в сторону, если попадалось что неурядное: волос ли, торфа кусочек, тараканья ножка. У меня не хватало духу упрекнуть Матрёну. В конце
концов, она сама же меня предупреждала: «Не умемши, не варёмши —
как утрафишь?»
— Спасибо, — вполне искренне говорил я.
— На чём? На своём на добром? — обезоруживала она меня лучезарной улыбкой. И, простодушно глядя блёкло-голубыми глазами,
спрашивала: — Ну, а к ужо€ткому что вам приготовить?
К ужоткому значило — к вечеру. Ел я дважды в сутки, как
на фронте. Что мог я заказать к ужоткому? Всё из того же, картовь
или суп картонный.
Я мирился с этим, потому что жизнь научила меня не в еде находить смысл повседневного существования. Мне дороже была эта улыбка её кругловатого лица, которую, заработав наконец на фотоаппарат,
я тщетно пытался уловить. Увидев на себе холодный глаз объектива, Матрёна принимала выражение или натянутое, или повышенносуровое.
Раз только запечатлел я, как она улыбалась чему-то, глядя в окошко на улицу.
178
В ту осень много было у Матрёны обид. Вышел перед тем новый
пенсионный закон, и надоумили её соседки добиваться пенсии. Была
она одинокая кругом, а с тех пор, как стала сильно болеть, — и из колхоза её отпустили. Наворочено было много несправедливостей с Матрёной: она была больна, но не считалась инвалидом; она четверть века
проработала в колхозе, но потому что не на заводе — не полагалось ей
пенсии за себя, а добиваться можно было только за мужа, то есть
за утерю кормильца. Но мужа не было уже пятнадцать лет, с начала
войны, и нелегко было теперь добыть те справки с разных мест о его
ста€ше и сколько он там получал. Хлопоты были — добыть эти справки; и чтоб написали всё же, что получал он в месяц хоть рублей триста; и справку заверить, что живёт она одна и никто ей не помогает;
и с года она какого; и потом всё это носить в собес; и перенашивать,
исправляя, что сделано не так; и ещё носить. И узнавать — дадут ли
пенсию.
Хлопоты эти были тем затруднены, что собес от Тальнова был
в двадцати километрах к востоку, сельский совет — в десяти километрах к западу, а поселковый — к северу, час ходьбы. Из канцелярии
в канцелярию и гоняли её два месяца — то за точкой, то за запятой.
Каждая проходка — день. Сходит в сельсовет, а секретаря сегодня нет,
просто так вот нет, как это бывает в сёлах. Завтра, значит, опять иди.
Теперь секретарь есть, да печати у него нет. Третий день опять иди.
А четвёртый день иди потому, что сослепу они не на той бумажке расписались, бумажки-то все у Матрёны одной пачкой сколоты.
— Притесняют меня, Игнатич, — жаловалась она мне после таких
бесплодных проходок. — Иззаботилась я.
Но лоб её недолго оставался омрачённым. Я заметил: у неё было
верное средство вернуть себе доброе расположение духа — работа. Тотчас же она или хваталась за лопату и копала картовь. Или с мешком
под мышкой шла за торфом. А то с плетёным кузовом — по ягоды
в дальний лес. И не столам конторским кланяясь, а лесным кустам,
да наломавши спину ношей, в избу возвращалась Матрёна уже просветлённая, всем довольная, со своей доброй улыбкой.
— Теперича я зуб наложила, Игнатич, знаю, где брать, — говорила
она о торфе. — Ну и местечко, любота€ одна!
— Да Матрёна Васильевна, разве моего торфа не хватит? Машина
целая.
— Фу-у! твоего торфу! Ещё столько, да ещё столько — тогда, бывает, хватит. Тут как зима закрутит, да дуе€ль в окна, так не столько
топишь, сколько выдувает. Летось мы торфу натаскивали сколища!
Я ли бы и теперь три машины не натаскала? Так вот ловят. Уж одну
бабу нашу по судам тягают.
Да, это было так. Уже закруживалось пугающее дыхание зимы —
и щемило сердца. Стояли вокруг леса, а топки взять было негде. Рычали кругом экскаваторы на болотах, но не продавалось торфу жителям, а только везли — начальству, да кто при начальстве, да по
машине — учителям, врачам, рабочим завода. Топлива не было положено — и спрашивать о нём не полагалось. Председатель колхоза хо-
179
дил по деревне, смотрел в глаза требовательно, или мутно, или простодушно и о чём угодно говорил, кроме топлива. Потому что сам он
запасся. А зимы не ожидалось.
Что ж, воровали раньше лес у барина, теперь тянули торф у треста.
Бабы собирались по пять, по десять, чтобы смелей. Ходили днём.
За лето накопано было торфу повсюду и сложено штабелями для просушки. Этим и хорош торф, что, добыв, его не могут увезти сразу. Он
сохнет до осени, а то и до снега, если дорога не станет или трест затомошился1. Это-то время бабы его и брали. Зараз уносили в мешке
торфин шесть, если были сыроваты, торфин десять, если сухие. Одного мешка такого, принесённого иногда километра за три (и весил он
пуда два), хватало на одну протопку. А дней в зиме двести. А топить
надо: утром русскую, вечером «голландку».
— Да чего говорить оба€пол2! — сердилась Матрёна на кого-то невидимого. — Как лошадей не стало, так чего на себе не припрёшь, того
и в дому€ нет. Спина у меня никогда не заживает. Зимой салазки
на себе, летом вязанки на себе, ей-богу правда!
Ходили бабы в день — не по разу. В хорошие дни Матрёна приносила по шесть мешков. Мой торф она сложила открыто, свой прятала
под мостами, и каждый вечер забивала лаз доской.
— Разве уж догадаются, враги, — улыбалась она, вытирая пот
со лба, — а то ни в жисть не найдут.
Что было делать тресту? Ему не отпускалось штатов, чтобы расставлять караульщиков по всем болотам. Приходилось, наверно, показав обильную добычу в сводках, затем списывать — на крошку,
на дожди. Иногда, порывами, собирали патруль и ловили баб у входа
в деревню. Бабы бросали мешки и разбегались. Иногда, по доносу, ходили по домам с обыском, составляли протокол на незаконный торф
и грозились передать в суд. Бабы на время бросали носить, но зима
надвигалась и снова гнала их — с санками по ночам.
Вообще, приглядываясь к Матрёне, я замечал, что, помимо стряпни
и хозяйства, на каждый день у неё приходилось и какое-нибудь другое
немалое дело; закономерный порядок этих дел она держала в голове
и, проснувшись поутру, всегда знала, чем сегодня день её будет занят.
Кроме торфа, кроме сбора старых пеньков, вывороченных трактором
на болоте, кроме брусники, намачиваемой на зиму в четвертях («Поточи зубки, Игнатич», — угощала меня), кроме копки картошки, кроме беготни по пенсионному делу она должна была ещё где-то раздобывать сенца для единственной своей грязно-белой козы.
— А почему вы коровы не держите, Матрёна Васильевна?
— Э-эх, Игнатич, — разъясняла Матрёна, стоя в нечистом фартуке
в кухонном дверном вырезе и оборотясь к моему столу. — Мне молока и от козы хватит. А корову заведи, так она меня самою€ с ногами
съест. У полотна не скоси — там свои хозяева, и в лесу косить
нету — лесничество хозяин, и в колхозе мне не велят — не колхозни1
2
Затомошиться — забегаться, засуетиться, завозиться впопыхах, захлопотать.
Обапол — вокруг, около.
180
ца, мол, теперь. Да они и колхозницы до самых белых мух всё в колхоз, всё в колхоз, а себе уж из-под снегу — что за трава?.. По-бывалошному кипели с сеном в межень, с Петрова до Ильина. Считалось, трава — медовая...
Так, одной у€тельной1 козе собрать было сена — для Матрёны труд
великий. Брала она с утра мешок и серп и уходила в места, которые
помнила, где трава росла по обмежкам, по задороге, по островкам среди болота. Набив мешок свежей тяжёлой травой, она тащила её домой
и во дворике у себя раскладывала пластом. С мешка травы получалось
подсохшего сена — навильник2.
Председатель новый, недавний, присланный из города, первым делом обре€зал всем инвалидам огороды. Пятнадцать соток песочка оставил Матрёне, а десять соток так и пустовало за забором. Впрочем,
и за пятнадцать соток потягивал колхоз Матрёну. Когда рук не хватало,
когда отнекивались бабы уж очень упорно, жена председателя приходила к Матрёне. Она была тоже женщина городская, решительная,
коротким серым полупальто и грозным взглядом как бы военная.
Она входила в избу и, не здороваясь, строго смотрела на Матрёну.
Матрёна мешалась.
— Та-ак, — раздельно говорила жена председателя. — Товарищ
Григорьева! Надо будет помочь колхозу! Надо будет завтра ехать навоз
вывозить!
Лицо Матрёны складывалось в извиняющую полуулыбку — как будто ей было совестно за жену председателя, что та не могла ей заплатить
за работу.
— Ну что ж, — тянула она. — Я больна, конечно. И к делу вашему
теперь не присоединёна. — И тут же спешно исправлялась: — Ко€му
часу приходить-то?
— И вилы свои бери! — наставляла председательша и уходила,
шурша твёрдой юбкой.
— Во как! — пеняла Матрёна вслед. — И вилы свои бери! Ни лопат,
ни вил в колхозе нету. А я без мужика живу, кто мне насадит?..
И размышляла потом весь вечер:
— Да что говорить, Игнатич! Ни к столбу, ни к перилу эта работа.
Станешь, об лопату опершись, и ждёшь, скоро ли с фабрики гудок
на двенадцать. Да ещё заведутся бабы, счёты сводят, кто вышел, кто
не вышел. Когда, бывалоча, по себе работали, так никакого звуку
не было, только ой-ой-ойиньки, вот обед подкатил, вот вечер подступил.
Всё же поутру она уходила со своими вилами.
Но не колхоз только, а любая родственница дальняя или просто соседка приходила тоже к Матрёне с вечера и говорила:
— Завтра, Матрёна, придёшь мне пособить. Картошку будем докапывать.
И Матрёна не могла отказать. Она покидала свой черёд дел, шла
помогать соседке и, воротясь, ещё говорила без тени зависти:
1
2
Утельная — единственная.
Навильник — пучок сена, который можно поддеть вилами.
181
— Ах, Игнатич, и крупная ж картошка у неё! В охотку копала,
уходить с участка не хотелось, ей-богу правда!
Тем более не обходилась без Матрёны ни одна пахота огорода. Тальновские бабы установили доточно, что одной вскопать свой огород лопатою тяжеле и дольше, чем, взяв соху и вшестером впрягшись, вспахать на себе шесть огородов. На то и звали Матрёну в помощь.
— Что ж, платили вы ей? — приходилось мне потом спрашивать.
— Не берёт она денег. Уж поневоле ей вопрятаешь.
Ещё суета большая выпадала Матрёне, когда подходила её очередь
кормить козьих пастухов: одного — здоровенного, немо-глу€хого, и второго — мальчишку с постоянной слюнявой цыгаркой в зубах. Очередь
эта была в полтора месяца раз, но вгоняла Матрёну в большой расход.
Она шла в сельпо, покупала рыбные консервы, расстарывалась и сахару и масла, чего не ела сама. Оказывается, хозяйки выкладывались
друг перед другом, стараясь накормить пастухов получше.
— Бойся портного да пастуха, — объясняла она мне. — По всей деревне тебя ославят, если что им не так.
И в эту жизнь, густую заботами, ещё врывалась временами тяжёлая
немочь, Матрёна валилась и сутки-двое лежала пластом. Она не жаловалась, не стонала, но и не шевелилась почти. В такие дни Маша,
близкая подруга Матрёны, с самых молодых годков, приходила обихаживать козу да топить печь. Сама Матрёна не пила, не ела и не просила ничего. Вызвать на дом врача из поселкового медпункта было
в Тальнове в диво, как-то неприлично перед соседями — мол, барыня.
Вызывали однажды, та приехала злая очень, велела Матрёне, как
отлежится, приходить на медпункт самой. Матрёна ходила против
воли, брали анализы, посылали в районную больницу — да так и заглохло.
Дела звали к жизни. Скоро Матрёна начинала вставать, сперва двигалась медленно, а потом опять живо.
— Это ты меня прежде не видал, Игнатич, — оправдывалась она. —
Все мешки мои были, по пять пудов ти€желью не считала. Свёкор кричал: «Матрёна! Спину сломаешь!» Ко мне ди€вирь1 не подходил, чтоб
мой конец бревна на передок подсадить. Конь был военный у нас, Волчок, здоровый...
— А почему военный?
— А нашего на войну забрали, этого подраненного — взамен. А он
стихово€й2 какой-то попался. Раз с испугу сани понёс в озеро, мужики
отскакивали, а я, правда, за узду схватила, остановила. Овсяной был
конь. У нас мужики любили лошадей кормить. Которые кони овсяные,
те и ти€жели не признают.
Но отнюдь не была Матрёна бесстрашной. Боялась она пожара, боялась молоньи€, а больше всего почему-то — поезда.
— Как мне в Черусти ехать, с Нечаевки поезд вылезет, глаза здоровенные свои вылупит, рельсы гудят — аж в жар меня бросает, ко1
2
Дивирь (искаж.) — деверь (брат мужа).
Стиховой — здесь: своенравный, неровный, причудливый.
182
ленки трясутся. Ей-богу правда! — сама удивлялась и пожимала плечами Матрёна.
— Так, может, потому, что билетов не дают, Матрёна Васильевна?
— В окошечко? Только мягкие суют. А уж поезд — трогацать! Мечемся туда-сюда: да взойдите ж в сознание! Мужики — те по лесенке
на крышу полезли. А мы нашли дверь незапертую, впёрлись прям так,
без билетов, — а вагоны-то все простые идут, все простые, хоть на полке растягивайся. Отчего билетов не давали, паразиты несочувственные, — не знато...
Всё же к той зиме жизнь Матрёны наладилась как никогда. Стали-таки платить ей рублей восемьдесят пенсии. Ещё сто с лишком
получала она от школы и от меня.
— Фу-у! Теперь Матрёне и умирать не надо! — уже начинали завидовать некоторые из соседок. — Больше денег ей, старой, и девать
некуда.
— А что — пенсия? — возражали другие. — Государство — оно минутное. Сегодня, вишь, дало, а завтра отымет.
Заказала себе Матрёна скатать новые валенки. Купила новую телогрейку. И справила пальто из ношеной железнодорожной шинели, которую подарил ей машинист из Черустей, муж её бывшей воспитанницы Киры. Деревенский портной-горбун подложил под сукно ваты,
и такое славное пальто получилось, какого за шесть десятков лет Матрёна не нашивала.
И в середине зимы зашила Матрёна в подкладку этого пальто двести рублей — себе на похороны. Повеселела:
— Маненько и я спокой увидала, Игнатич.
Прошёл декабрь, прошёл январь — за два месяца не посетила её
болезнь. Чаще Матрёна по вечерам стала ходить к Маше посидеть, семячки пощёлкать. К себе она гостей по вечерам не звала, уважая мои
занятия. Только на Крещенье, воротясь из школы, я застал в избе
пляску и познакомлен был с тремя Матрёниными родными сёстрами,
звавшими Матрёну как старшую — лёлька или нянька. До этого дня
мало было в нашей избе слышно о сёстрах — то ли опасались они, что
Матрёна будет просить у них помощи?
Одно только событие или предзнаменование омрачило Матрёне этот
праздник: ходила она за пять вёрст в церковь на водосвятие, поставила
свой котелок меж других, а когда водосвятие кончилось и бросились
бабы, толкаясь, разбирать — Матрёна не поспела средь первых, а в конце — не оказалось её котелка. И взамен котелка никакой другой посуды
тоже оставлено не было. Исчез котелок, как дух нечистый его унёс.
— Бабоньки! — ходила Матрёна среди молящихся. — Не прихватил ли кто неуладкой чужую воду освячённую? в котелке?
Не признался никто. Бывает, мальчишки созоровали, были там
и мальчишки. Вернулась Матрёна печальная. Всегда у неё бывала святая вода, а на этот год не стало.
Не сказать, однако, чтобы Матрёна верила как-то истово. Даже скорей была она язычница, брали в ней верх суеверия: что на Ивана Пост-
183
ного в огород зайти нельзя — на будущий год урожая не будет; что
если метель крутит — значит, кто-то где-то удавился, а дверью ногу
прищемишь — быть гостю. Сколько жил я у неё — никогда не видал
её молящейся, ни чтоб она хоть раз перекрестилась. А дело всякое
начинала «с Богом!» и мне всякий раз «с Богом!» говорила, когда
я шёл в школу. Может быть, она и молилась, но не показно, стесняясь
меня или боясь меня притеснить. Был святой угол в чистой избе,
и иконка Николая Угодника в кухоньке. За€будни стояли они тёмные,
а во время всенощной и с утра по праздникам зажигала Матрёна лампадку.
Только грехов у неё было меньше, чем у её колченогой кошки.
Та — мышей душила...
Немного выдравшись из колотно€й своей житёнки, стала Матрёна
повнимательней слушать и моё радио (я не преминул поставить себе
разведку — так Матрёна называла розетку. Мой приёмничек уже
не был для меня бич, потому что я своей рукой мог его выключить
в любую минуту; но, действительно, выходил он для меня из глухой
избы — разведкой). В тот год повелось по две, по три иностранных делегации в неделю принимать, провожать и возить по многим городам,
собирая митинги. И что ни день, известия полны были важными сообщениями о банкетах, обедах и завтраках.
Матрёна хмурилась, неодобрительно вздыхала:
— Ездят-ездят, чего-нибудь наездят.
Услышав, что машины изобретены новые, ворчала Матрёна из
кухни:
— Всё новые, новые, на старых работать не хотят, куды старые
складывать будем?
Ещё в тот год обещали искусственные спутники Земли. Матрёна
качала головой с печи:
— Ой-ой-ойиньки, чего-нибудь изменят, зиму или лето.
Исполнял Шаляпин русские песни. Матрёна стояла-стояла, слушала и приговорила решительно:
— Чудно€ поют, не по-нашему.
— Да что вы, Матрёна Васильевна, да прислушайтесь!
Ещё послушала. Сжала губы:
— Не. Не так. Ладу не нашего. И голосом балует.
Зато и вознаградила меня Матрёна. Передавали как-то концерт
из романсов Глинки. И вдруг после пятка камерных романсов Матрёна, держась за фартук, вышла из-за перегородки растепленная, с пеленой слезы в неярких своих глазах:
— А вот это — по-нашему... — прошептала она.
2
Так привыкли Матрёна ко мне, а я к ней, и жили мы запросто.
Не мешала она моим долгим вечерним занятиям, не досаждала никакими расспросами. До того отсутствовало в ней бабье любопытство или
до того она была деликатна, что не спросила меня ни разу: был ли
184
я когда женат? Все тальновские бабы приставали к ней — узнать обо
мне. Она им отвечала:
— Вам нужно — вы и спрашивайте. Знаю одно — дальний он.
И когда невскоре я сам сказал ей, что много провёл в тюрьме, она
только молча покивала головой, как бы подозревала и раньше.
А я тоже видел Матрёну сегодняшнюю, потерянную старуху, и тоже
не бередил её прошлого, да и не подозревал, чтоб там было что искать.
Знал я, что замуж Матрёна вышла ещё до революции, и сразу в эту
избу, где мы жили теперь с ней, и сразу к печке (то есть не было в живых ни свекрови, ни старшей золовки1 незамужней, и с первого послебрачного утра Матрёна взялась за ухват). Знал, что детей у неё было
шестеро и один за другим умирали все очень рано, так что двое сразу
не жило. Потом была какая-то воспитанница Кира. А муж Матрёны
не вернулся с этой войны. Похоронного тоже не было. Односельчане,
кто был с ним в роте, говорили, что либо в плен он попал, либо погиб,
а только тела не нашли. За одиннадцать послевоенных лет решила
и Матрёна сама, что он не жив. И хорошо, что думала так. Хоть и был
бы теперь он жив — так женат где-нибудь в Бразилии или в Австралии. И деревня Тальново, и язык русский изглаживаются из памяти его...
Раз, придя из школы, я застал в нашей избе гостя. Высокий чёрный
старик, сняв на колени шапку, сидел на стуле, который Матрёна выставила ему на середину комнаты, к печке-«голландке». Всё лицо его
облегали густые чёрные волосы, почти не тронутые сединой: с чёрной
окладистой бородой сливались усы густые, чёрные, так что рот был
виден едва; и непрерывные бакены чёрные, едва выказывая уши, поднимались к чёрным космам, свисавшим с темени; и ещё широкие чёрные брови мостами были брошены друг другу навстречу. И только лоб
уходил лысым куполом в лысую просторную маковку. Во всём облике
старика показалось мне многознание и достойность. Он сидел ровно,
сложив руки на посохе, посох же отвесно уперев в пол, — сидел в положении терпеливого ожидания и, видно, мало разговаривал с Матрёной, возившейся за перегородкой.
Когда я пришёл, он плавно повернул ко мне величавую голову и назвал меня внезапно:
— Батюшка!.. Вижу вас плохо. Сын мой учится у вас. Григорьев
Антошка...
Дальше мог бы он и не говорить... При всём моём порыве помочь
этому почтенному старику, заранее знал я и отвергал всё то бесполезное, что скажет старик сейчас. Григорьев Антошка был круглый румяный малец из 8-го «б», выглядевший как кот после блинов. В школу он приходил как бы отдыхать, за партой сидел и улыбался лениво.
Уж тем более он никогда не готовил уроков дома. Но, главное, борясь
за тот высокий процент успеваемости, которым славились школы нашего района, нашей области и соседних областей, — из году в год его
переводили, и он ясно усвоил, что, как бы учителя ни грозились, всё
1
Золовка — сестра мужа.
185
равно в конце года переведут, и не надо для этого учиться. Он просто
смеялся над нами. Он сидел в 8-м классе, однако не владел дробями
и не различал, какие бывают треугольники. По первым четвертям он
был в цепкой хватке моих двоек — и то же ожидало его в третьей четверти.
Но этому полуслепому старику, годному Антошке не в отцы, а в деды, и пришедшему ко мне на униженный поклон, — как было сказать
теперь, что год за годом школа его обманывала, дальше же обманывать
я не могу, иначе развалю весь класс, и превращусь в балаболку, и наплевать должен буду на весь свой труд и звание своё?
И теперь я терпеливо объяснял ему, что запущено у сына очень,
и он в школе и дома лжёт, надо дневник проверять у него почаще
и круто браться с двух сторон.
— Да уж куда крутей, батюшка, — заверил меня гость. — Бью его
теперь, что неделя. А рука тяжёлая у меня.
В разговоре я вспомнил, что уже один раз и Матрёна сама почемуто ходатайствовала за Антошку Григорьева, но я не спросил, что за родственник он ей, и тоже тогда отказал. Матрёна и сейчас стала в дверях
кухоньки бессловесной просительницей. И когда Фаддей Миронович
ушёл от меня с тем, что будет заходить — узнавать, я спросил:
— Не пойму, Матрёна Васильевна, как же этот Антошка вам приходится?
— Дивиря моего сын, — ответила Матрёна суховато и ушла доить
козу.
Разочтя, я понял, что чёрный настойчивый этот старик — родной
брат мужа её, без вести пропавшего.
И долгий вечер прошёл — Матрёна не касалась больше этого разговора. Лишь поздно вечером, когда я думать забыл о старике и писал
своё в тишине избы под шорох тараканов и постук ходиков, — Матрёна вдруг из тёмного своего угла сказала:
— Я, Игнатич, когда-то за него чуть замуж не вышла.
Я и о Матрёне-то самой забыл, что она здесь, не слышал её, — но так
взволнованно она это сказала из темноты, будто и сейчас ещё тот старик домогался её.
Видно, весь вечер Матрёна только об том и думала.
Она поднялась с убогой тряпичной кровати и медленно выходила
ко мне, как бы идя за своими словами. Я откинулся — и в первый раз
совсем по-новому увидел Матрёну.
Верхнего света не было в нашей большой комнате, как лесом заставленной фикусами. От настольной же лампы свет падал кру€гом
только на мои тетради, — а по всей комнате глазам, оторвавшимся
от света, казался полумрак с розовинкой. И из него выступала Матрёна. И щёки её померещились мне не жёлтыми, как всегда, а тоже с розовинкой.
— Он за меня первый сватался... раньше Ефима... Он был брат —
старший... Мне было девятнадцать, Фаддею — двадцать три... Вот
в этом самом доме они тогда жили. Ихний был дом. Ихним отцом
строенный.
186
Я невольно оглянулся. Этот старый серый изгнивающий дом вдруг
сквозь блёкло-зелёную шкуру обоев, под которыми бегали мыши, проступил мне молодыми, ещё не потемневшими тогда, стругаными брёвнами и весёлым смолистым запахом.
— И вы его...? И что же?..
— В то лето... ходили мы с ним в рощу сидеть, — прошептала
она. — Тут роща была, где теперь конный двор, вырубили её... Без малого не вышла, Игнатич. Война германская началась. Взяли Фаддея
на войну.
Она уронила это — и вспыхнул передо мной голубой, белый и жёлтый июль четырнадцатого года: ещё мирное небо, плывущие облака
и народ, кипящий со спелым жнивом. Я представил их рядом: смоляного богатыря с косой через спину; её, румяную, обнявшую сноп.
И — песню, песню под небом, какие давно уже отстала деревня петь,
да и не споёшь при механизмах.
— Пошёл он на войну — пропал... Три года затаилась я, ждала.
И ни весточки, и ни косточки...
Обвязанное старческим слинявшим платочком смотрело на меня
в непрямых мягких отсветах лампы круглое лицо Матрёны — как будто освобождённое от морщин, от будничного небрежного наряда — испуганное, девичье, перед страшным выбором.
Да. Да... Понимаю... Облетали листья, падал снег — и потом таял.
Снова пахали, снова сеяли, снова жали. И опять облетали листья,
и опять падал снег. И одна революция. И другая революция. И весь
свет перевернулся.
— Мать у них умерла — и присватался ко мне Ефим. Мол, в нашу
избу ты идти хотела, в нашу и иди. Был Ефим моложе меня на год.
Говорят у нас: умная выходит после Покрова€, а дура — после Петрова€.
Рук у них не хватало. Пошла я... На Петров день повенчались, а к Миколе зимнему — вернулся... Фаддей... из венгерского плена.
Матрёна закрыла глаза.
Я молчал.
Она обернулась к двери, как к живой:
— Стал на пороге. Я как закричу! В колена б ему бросилась!.. Нельзя... Ну, говорит, если б то не брат мой родной — я бы вас порубал
обоих!
Я вздрогнул. От её надрыва или страха я живо представил, как он
стоит там, чёрный, в тёмных дверях, и топором замахнулся на Матрёну.
Но она успокоилась, оперлась о спинку стула перед собой и певуче
рассказывала:
— Ой-ой-ойиньки, головушка бедная! Сколько невест было на деревне — не женился. Сказал: буду имячко твоё искать, вторую Матрёну. И привёл-таки себе из Липовки Матрёну, срубили избу отдельную,
где и сейчас живут, ты каждый день мимо их в школу ходишь.
Ах, вот оно что! Теперь я понял, что видел ту вторую Матрёну
не раз. Не любил я её: всегда приходила она к моей Матрёне жаловаться, что муж её бьёт, и скаред муж, жилы из неё вытягивает, и плакала здесь подолгу, и голос-то всегда у неё был на слезе.
187
Но выходило, что не о чем моей Матрёне жалеть — так бил Фаддей
свою Матрёну всю жизнь, и по сей день, и так зажал весь дом.
— Меня сам ни разику не бил, — рассказывала она о Ефиме. —
По улице на мужиков с кулаками бегал, а меня — ни разику... То есть
был-таки раз — я с золовкой поссорилась, он ложку мне об лоб расшибил. Вскочила я от стола: «Захленуться бы вам, подавиться, трутни!» И в лес ушла. Больше не трогал.
Кажется, и Фаддею не о чем было жалеть: родила ему вторая Матрёна тоже шестерых детей (средь них и Антошка мой, самый младший, поскрёбыш) — и выжили все, а у Матрёны с Ефимом дети не стояли: до трёх месяцев не доживая и не болея ничем, умирал каждый.
— Одна дочка только родилась, помыли её живую — тут она и померла. Так мёртвую уж обмывать не пришлось... Как свадьба моя была
в Петров день, так и шестого ребёнка, Александра, в Петров день схоронила.
И решила вся деревня, что в Матрёне — порча.
— Порция во мне! — убеждённо кивала и сейчас Матрёна. — Возили меня к монашенке одной бывшей лечиться, она меня на кашель
наводила — ждала, что порция из меня лягушкой выбросится. Ну,
не выбросилась...
И шли года, как плыла вода... В сорок первом не взяли на войну
Фаддея из-за слепоты, зато Ефима взяли. И как старший брат в первую войну, так младший без вести исчез во вторую. Но этот вовсе
не вернулся. Гнила и старела когда-то шумная, а теперь пустынная
изба — и старела в ней безпритульная Матрёна.
И попросила она у той второй, забитой, Матрёны — чрева её урывочек (или кровиночку Фаддея?) — младшую их девочку Киру.
Десять лет она воспитывала её здесь как родную, вместо своих невыстоявших. И незадолго до меня выдала за молодого машиниста
в Черусти. Только оттуда ей теперь и помощь сочилась: иногда сахарку, когда поросёнка зарежут — сальца.
Страдая от недугов и чая недалёкую смерть, тогда же объявила Матрёна свою волю: отдельный сруб горницы, расположенный под общей
связью с избою, после смерти её отдать в наследство Кире. О самой
избе она ничего не сказала. Ещё три сестры её метили получить эту
избу.
Так в тот вечер открылась мне Матрёна сполна. И, как это бывает,
связь и смысл её жизни, едва став мне видимыми, — в тех же днях
пришли и в движение. Из Черустей приехала Кира, забеспокоился старик Фаддей: в Черустях, чтобы получить и удержать участок земли,
надо было молодым поставить какое-нибудь строение. Шла для этого
вполне Матрёнина горница. А другого нечего было и поставить, неоткуда лесу взять. И не так сама Кира, и не так муж её, как за них
старый Фаддей загорелся захватить этот участок в Черустях.
И вот он зачастил к нам, пришёл раз, ещё раз, наставительно говорил с Матрёной и требовал, чтоб она отдала горницу теперь же,
при жизни. В эти приходы он не показался мне тем опирающимся
188
о посох старцем, который вот развалится от толчка или грубого слова.
Хоть и пригорбленный больною поясницей, но всё ещё статный, старше шестидесяти сохранивший сочную, молодую черноту в волосах, он
наседал с горячностью.
Не спала Матрёна две ночи. Нелегко ей было решиться. Не жалко
было саму горницу, стоявшую без дела, как вообще ни труда, ни добра
своего не жалела Матрёна никогда. И горница эта всё равно была завещана Кире. Но жутко ей было начать ломать ту крышу, под которой
прожила сорок лет. Даже мне, постояльцу, было больно, что начнут
отрывать доски и выворачивать брёвна дома. А для Матрёны было
это — конец её жизни всей.
Но те, кто настаивал, знали, что её дом можно сломать и при жизни.
И Фаддей с сыновьями и зятьями пришли как-то февральским
утром и застучали в пять топоров, завизжали и заскрипели отрываемыми досками. Глаза самого Фаддея деловито поблёскивали. Несмотря
на то, что спина его не распрямлялась вся, он ловко лазил и под стропила и живо суетился внизу, покрикивая на помощников. Эту избу он
парнишкою сам и строил когда-то с отцом; эту горницу для него, старшего сына, и рубили, чтоб он поселился здесь с молодой. А теперь он
яро разбирал её по рёбрышкам, чтоб увезти с чужого двора.
Переметив номерами венцы сруба и доски потолочного настила,
горницу с подклетью разобрали, а избу саму с укороченными мостами
отсекли временной тесовой стеночкой. В стенке они покинули щели,
и всё показывало, что ломатели — не строители и не предполагают,
чтобы Матрёне ещё долго пришлось здесь жить.
А пока мужчины ломали, женщины готовили ко дню погрузки самогон: водка обошлась бы чересчур дорого. Кира привезла из Московской области пуд сахару, Матрёна Васильевна под покровом ночи носила тот сахар и бутыли самогонщику.
Вынесены и соштабелёваны были брёвна перед воротами, зятьмашинист уехал в Черусти за трактором.
Но в тот же день началась метель — дуель, по-матрёниному. Она
кутила и кружила двое суток и замела дорогу непомерными сугробами. Потом, чуть дорогу умяли, прошёл грузовик-другой — внезапно
потеплело, в один день разом распустило, стали сырые туманы, журчали ручьи, прорывшиеся в снегу, и нога в сапоге увязала по всё голенище.
Две недели не давалась трактору разломанная горница! Эти две недели Матрёна ходила как потерянная. Оттого особенно ей было тяжело, что пришли три сестры её, все дружно обругали её дурой за то,
что горницу отдала, сказали, что видеть её больше не хотят, — и ушли.
И в те же дни кошка колченогая сбрела со двора — и пропала. Одно
к одному. Ещё и это пришибло Матрёну.
Наконец стаявшую дорогу прихватило морозом. Наступил солнечный день, и повеселело на душе. Матрёне что-то доброе приснилось
под тот день. С утра узнала она, что я хочу сфотографировать когонибудь за старинным ткацким станом (такие ещё стояли в двух избах,
на них ткали грубые половики), — и усмехнулась застенчиво:
189
— Да уж погоди, Игнатич, пару дней, вот горницу, бывает, отправлю — сложу свой стан, ведь цел у меня, — и снимешь тогда. Ей-богу
правда!
Видно, привлекало её изобразить себя в старине. От красного морозного солнца чуть розовым залилось замороженное окошко сеней,
теперь укороченных, — и грел этот отсвет лицо Матрёны. У тех людей
всегда лица хороши, кто в ладах с совестью своей.
Перед сумерками, возвращаясь из школы, я увидел движение близ
нашего дома. Большие новые тракторные сани были уже нагружены
брёвнами, но многое ещё не поместилось — и семья деда Фаддея,
и приглашённые помогать кончали сбивать ещё одни сани, самодельные. Все работали как безумные, в том ожесточении, какое бывает
у людей, когда пахнет большими деньгами или ждут большого угощения. Кричали друг на друга, спорили.
Спор шёл о том, как везти сани — порознь или вместе. Один сын
Фаддея, хромой, и зять-машинист толковали, что сразу обои сани
нельзя, трактор не утянет. Тракторист же, самоуверенный толстомордый здоровяга, хрипел, что ему видней, что он водитель и повезёт
сани вместе. Расчёт его был ясен: по уговору машинист платил ему за
перевоз горницы, а не за рейсы. Двух рейсов за ночь — по двадцать
пять километров да один раз назад — он никак бы не сделал. А к утру
ему надо было быть с трактором уже в гараже, откуда он увёл его
тайком для левой.
Старику Фаддею не терпелось сегодня же увезти всю горницу — и он
кивнул своим уступить. Вторые, наспех сколоченные сани подцепили
за крепкими первыми.
Матрёна бегала среди мужчин, суетилась и помогала накатывать
брёвна на сани. Тут заметил я, что она в моей телогрейке, уже измазала рукава о льдистую грязь брёвен, — и с неудовольствием сказал ей
об этом. Телогрейка эта была мне память, она грела меня в тяжёлые
годы.
Так я в первый раз рассердился на Матрёну Васильевну.
— Ой-ой-ойиньки, головушка бедная! — озадачилась она. — Ведь
я её бегма подхватила, да и забыла, что твоя. Прости, Игнатич. — И сняла, повесила сушиться.
Погрузка кончилась, и все, кто работал, человек до десяти мужчин,
прогремели мимо моего стола и нырнули под занавеску в кухоньку.
Оттуда глуховато застучали стаканы, иногда звякала бутыль, голоса
становились всё громче, похвальба — задорнее. Особенно хвастался
тракторист. Тяжёлый запах самогона докатился до меня. Но пили недолго — темнота заставляла спешить. Стали выходить. Самодовольный, с жестоким лицом вышел тракторист. Сопровождать сани до Черустей шли зять-машинист, хромой сын Фаддея и ещё племянник
один. Остальные расходились по домам. Фаддей, размахивая палкой,
догонял кого-то, спешил что-то втолковать. Хромой сын задержался
у моего стола закурить и вдруг заговорил, как любит он тётку Матрёну, и что женился недавно, и вот сын у него родился только что.
Тут ему крикнули, он ушёл. За окном зарычал трактор.
190
Последней торопливо выскочила из-за перегородки Матрёна. Она
тревожно качала головой вслед ушедшим. Надела телогрейку, накинула платок. В дверях сказала мне:
— И что было двух не срядить? Один бы трактор занемог — другой
подтянул. А теперь чего будет — Богу весть!..
И убежала за всеми.
После пьянки, споров и хождения стало особенно тихо в брошенной
избе, выстуженной частым открыванием дверей. За окнами уже совсем
стемнело. Я тоже влез в телогрейку и сел за стол. Трактор стих в отдалении.
Прошёл час, другой. И третий. Матрёна не возвращалась, но я не
удивлялся: проводив сани, должно быть, ушла к своей Маше.
И ещё прошёл час. И ещё. Не только тьма, но глубокая какая-то тишина опустилась на деревню. Я не мог тогда понять, отчего тишина, — оттого, оказалось, что за весь вечер ни одного поезда не прошло
по линии в полуверсте от нас. Приёмник мой молчал, и я заметил,
что очень уж, как никогда, развозились мыши: всё нахальней, всё
шумней они бегали под обоями, скребли и попискивали.
Я очнулся. Был первый час ночи, а Матрёна не возвращалась.
Вдруг услышал я несколько громких голосов на деревне. Ещё были
они далеко, но как подтолкнуло меня, что это к нам. И правда, скоро
резкий стук раздался в ворота. Чужой властный голос кричал, чтоб
открыли. Я вышел с электрическим фонариком в густую темноту. Деревня вся спала, окна не светились, а снег за неделю притаял и тоже
не отсвечивал. Я отвернул нижнюю завёртку и впустил. К избе прошли четверо в шинелях. Неприятно это очень, когда ночью приходят
к тебе громко и в шинелях.
При свете огляделся я, однако, что у двоих шинели — железнодорожные. Старший, толстый, с таким же лицом, как у того тракториста, спросил:
— Где хозяйка?
— Не знаю.
— А трактор с санями из этого двора уезжал?
— Из этого.
— Они пили тут перед отъездом?
Все четверо щурились, оглядывались в полутьме при настольной
лампе. Я так понял, что кого-то арестовали или хотели арестовать.
— Да что случилось?
— Отвечайте, что вас спрашивают!
— Но...
— Поехали пьяные?
— Они пили тут?
Убил ли кто кого? Или перевозить нельзя было горницы? Очень
уж они на меня наседали. Но одно было ясно: что за самогонщину
Матрёне могут дать срок.
Я отступил к кухонной дверке и так перегородил её собою.
— Право, не заметил. Не видно было.
(Мне и действительно не видно было, только слышно.)
191
И как бы растерянным жестом я провёл рукой, показывая обстановку избы: мирный настольный свет над книгами и тетрадями; толпу
испуганных фикусов; суровую койку отшельника. Никаких следов
разгула. А за часы-то, часы, самогонный запах подразвеялся.
Они уже и сами с досадой заметили, что никакой попойки здесь
не было. И повернули к выходу, между собой говоря, что, значит,
пьянка была не в этой избе, но хорошо бы прихватить, что была.
Я провожал их и допытывался, что же случилось. И только в калитке
мне буркнул один:
— Разворотило их всех. Не соберёшь.
А другой добавил:
— Да это что! Двадцать первый скорый чуть с рельс не сошёл, вот
было бы.
И они быстро ушли.
Кого — их? Кого — всех? Матрёна-то где?..
Я вернулся в избу, отвёл полог и прошёл в кухоньку. Тут самогонный смрад ещё сохранялся, ударил в меня. Это было застывшее побоище — сгруженных табуреток и скамьи, пустых лежачих бутылок
и одной неоконченной, стаканов, недоеденной селёдки, лука и раскромсанного сала.
Всё было мертво. И только тараканы спокойно ползали по полю битвы.
Я кинулся всё убирать. Я полоскал бутылки, убирал еду, разносил
стулья, а остаток самогона спрятал в тёмное подполье подальше.
И лишь когда я всё это сделал, я встал пнём посреди пустой избы:
что-то сказано было о двадцать первом скором. К чему?.. Может, надо
было всё это показать им? Я уже сомневался. Но что за манера проклятая — ничего не объяснить нечиновному человеку?
И вдруг скрипнула наша калитка. Я быстро вышел на мосты:
— Матрёна Васильевна?
В избу, пошатываясь, вошла её подруга Маша:
— Матрёна-то... Матрёна-то наша, Игнатич...
Я усадил её, и, мешая со слезами, она рассказала.
На переезде — горка, взъезд крутой. Шлагбаума нет. С первыми
санями трактор перевалил, а трос лопнул, и вторые сани, самодельные, на переезде застряли и разваливаться начали — Фаддей для них
лесу хорошего не дал, для вторых саней. Отвезли чуток первые —
за вторыми вернулись, трос ладили — тракторист и сын Фаддея хромой, и туда же, меж трактором и санями, понесло и Матрёну. Что€ она
там подсобить могла мужикам? Вечно она в мужичьи дела мешалась.
И конь когда-то её чуть в озеро не сшиб, под прорубь. И зачем на переезд проклятый пошла? — отдала горницу, и весь её долг, рассчиталась... Машинист всё смотрел, чтобы с Черустей поезд не нагрянул,
его б фонари далеко видать, а с другой стороны, от станции нашей,
шли два паровоза сцепленных — без огней и задом. Почему без огней —
неведомо, а когда паровоз задом идёт — машинисту с тендера сыплет
в глаза пылью угольной, смотреть плохо. Налетели — и в мясо тех
троих расплющили, кто между трактором и санями. Трактор изувечили, сани в щепки, рельсы вздыбили, и паровоза оба набок.
192
— Да как же они не слышали, что паровозы подходят?
— Да трактор-то заведённый орёт.
— А с трупами что?
— Не пускают. Оцепили.
— А что я про скорый слышал... будто скорый?..
— А скорый десятичасовой — нашу станцию с ходу, и тоже к переезду. Но как паровозы рухнули — машинисты два уцелели, спрыгнули
и побежали назад, и руками махают, на рельсы ставши, — и успели поезд остановить... Племянника тоже бревном покалечило. Прячется сейчас у Клавки, чтоб не знали, что он на переезде был. А то ведь затягают
свидетелем!.. Незнайка на печи лежит, а знайку на верёвочке ведут...
А муж Киркин — ни царапины. Хотел повеситься, из петли вынули. Из-за
меня, мол, тётя погибла и брат. Сейчас пошёл сам, арестовался. Да его
теперь не в тюрьму, его в дом безумный. Ах, Матрёна-Матрёнушка!..
Нет Матрёны. Убит родной человек. И в день последний я укорил
её за телогрейку.
Разрисованная красно-жёлтая баба с книжного плаката радостно
улыбалась.
Тётя Маша ещё посидела, поплакала. И уже встала, чтоб идти.
И вдруг спросила:
— Игнатич! Ты помнишь... вя€заночка серая была у Матрёны... Она
ведь её после смерти прочила Таньке моей, верно?
И с надеждой смотрела на меня в полутьме — неужели я забыл?
Но я помнил:
— Прочила, верно.
— Так слушай, может, разреши я её заберу сейчас? Утром тут родня налетит, мне уж потом не получить.
И опять с мольбой и надеждой смотрела на меня — её полувековая
подруга, единственная, кто искренно любил Матрёну в этой деревне...
Наверно, так надо было.
— Конечно... Берите... — подтвердил я.
Она открыла сундучок, достала вязанку, сунула под полу и ушла...
Мышами овладело какое-то безумие, они ходили по стенам ходенём, и почти зримыми волнами перекатывались зелёные обои над мышиными спинами.
Идти мне было некуда. Ещё придут сами ко мне, допрашивать.
Утром ждала меня школа. Час ночи был третий. И выход был: запереться и лечь спать.
Запереться, потому что Матрёна не придёт.
Я лёг, оставив свет. Мыши пищали, стонали почти, и всё бегали,
бегали. Уставшей бессвязной головой нельзя было отделаться от невольного трепета — как будто Матрёна невидимо металась и прощалась тут, с избой своей.
И вдруг в притёмке у входных дверей, на пороге, я вообразил себе
чёрного молодого Фаддея с занесённым топором:
«Если б то не брат мой родной — порубал бы я вас обоих!»
Сорок лет пролежала его угроза в углу, как старый тесак, — а ударила-таки...
193
3
На рассвете женщины привезли с переезда на санках под накинутым грязным мешком — всё, что осталось от Матрёны. Скинули мешок, чтоб обмывать. Всё было месиво — ни ног, ни половины туловища, ни левой руки. Одна женщина перекрестилась и сказала:
— Ручку-то правую оставил ей Господь. Там будет Богу молиться...
И вот всю толпу фикусов, которых Матрёна так любила, что, проснувшись когда-то ночью в дыму, не избу бросилась спасать, а валить
фикусы на пол (не задохнулись бы от дыму), — фикусы вынесли из
избы. Чисто вымели полы. Тусклое Матрёнино зеркало завесили широким полотенцем старой домашней вытоки. Сняли со стены праздные
плакаты. Сдвинули мой стол. И к окнам, под образа, поставили на табуретках гроб, сколоченный без затей.
А в гробу лежала Матрёна. Чистой простынёй было покрыто её отсутствующее изуродованное тело, и голова охвачена белым платком, —
а лицо осталось целёхонькое, спокойное, больше живое, чем мёртвое.
Деревенские приходили постоять-посмотреть. Женщины приводили и маленьких детей взглянуть на мёртвую. И если начинался плач,
все женщины, хотя бы зашли они в избу из пустого любопытства, — все
обязательно подплакивали от двери и от стен, как бы аккомпанировали хором. А мужчины стояли молча навытяжку, сняв шапки.
Самый же плач доставалось вести родственницам. В плаче заметил
я холодно-продуманный, искони заведённый порядок. Те, кто подале,
подходили к гробу ненадолго и у самого гроба причитали негромко.
Те, кто считал себя покойнице роднее, начинали плач ещё с порога,
а достигнув гроба, наклонялись голосить над самым лицом усопшей.
Мелодия была самодеятельная у каждой плакальщицы. И свои собственные излагались мысли и чувства.
Тут узнал я, что плач над покойной не просто есть плач, а своего
рода политика. Слетелись три сестры Матрёны, захватили избу, козу
и печь, заперли сундук её на замок, из подкладки пальто выпотрошили двести похоронных рублей, приходящим всем втолковывали,
что они одни были Матрёне близкие. И над гробом плакали так:
— Ах, нянькя-нянькя! Ах, лёлька-лёлька! И ты ж наша единственная! И жила бы ты тихо-мирно! И мы бы тебя всегда приласкали! А погубила тебя твоя горница! А доконала тебя, заклятая! И зачем ты её
ломала? И зачем ты нас не послушала?
Так плачи сестёр были обвинительные плачи против мужниной
родни: не надо было понуждать Матрёну горницу ломать. (А подспудный смысл был: горницу-ту вы взять-взяли, избы же самой мы вам
не дадим!)
Мужнина родня — Матрёнины золовки, сёстры Ефима и Фаддея,
и ещё племянницы разные приходили и плакали так:
— Ах, тётанька-тётанька! И как же ты себя не берегла! И наверно,
теперь они на нас обиделись! И родимая ж ты наша, и вина вся твоя!
И горница тут ни при чём. И зачем же пошла ты туда, где смерть тебя
стерегла? И никто тебя туда не звал! И как ты умерла — не думала!
И что же ты нас не слушалась?..
194
(И изо всех этих причитаний выпирал ответ: в смерти её мы не виноваты, а насчёт избы ещё поговорим!)
Но широколицая грубая «вторая» Матрёна — та подставная Матрёна, которую взял когда-то Фаддей по одному лишь имячку, — сбивалась с этой политики и простовато вопила, надрываясь над гробом:
— Да ты ж моя сестричечка! Да неужели ж ты на меня обидишься?
Ох-ма!.. Да бывалоча мы всё с тобой говорили и говорили! И прости
ты меня, горемычную! Ох-ма!.. И ушла ты к своей матушке, а наверно,
ты за мной заедешь! Ох-ма-а-а!..
На этом «ох-ма-а-а» она словно испускала весь дух свой — и билась, билась грудью о стенку гроба. И когда плач её переходил обрядные нормы, женщины, как бы признавая, что плач вполне удался, все
дружно говорили:
— Отстань! Отстань!
Матрёна отставала, но потом приходила вновь и рыдала ещё неистовее. Вышла тогда из угла старуха древняя и, положа Матрёне руку
на плечо, сказала строго:
— Две загадки в мире есть: как родился — не помню, как умру —
не знаю.
И смолкла Матрёна тотчас, и все смолкли до полной тишины.
Но и сама эта старуха, намного старше здесь всех старух и как будто даже Матрёне чужая вовсе, погодя некоторое время тоже плакала:
— Ох ты, моя болезная! Ох ты, моя Васильевна! Ох, надоело мне
вас провожать!
И совсем уже не обрядно — простым рыданием нашего века, не бедного ими, рыдала злосчастная Матрёнина приёмная дочь — та Кира
из Черустей, для которой ломали и везли эту горницу. Её завитые локончики жалко растрепались. Красны, как кровью залиты, были глаза. Она не замечала, как сбивается на морозе её платок, или надевала
пальто мимо рукава. Она невменяемая ходила от гроба приёмной матери в одном доме к гробу брата в другом, — и ещё опасались за разум
её, потому что должны были мужа судить.
Выступало так, что муж её был виновен вдвойне: он не только вёз
горницу, но был железнодорожный машинист, хорошо знал правила
неохраняемых переездов — и должен был сходить на станцию, предупредить о тракторе. В ту ночь в уральском скором тысяча жизней
людей, мирно спавших на первых и вторых полках при полусвете
поездных ламп, должна была оборваться. Из-за жадности нескольких людей: захватить участок земли или не делать второго рейса трактором.
Из-за горницы, на которую легло проклятие с тех пор, как руки
Фаддея ухватились её ломать.
Впрочем, тракторист уже ушёл от людского суда. А управление дороги само было виновно и в том, что оживлённый переезд не охранялся, и в том, что паровозная сплотка1 шла без фонарей. Потому-то они
сперва всё старались свалить на пьянку, а теперь замять и самый суд.
1
Сплотка — здесь: ряд соединённых друг с другом паровозов.
195
Рельсы и полотно так искорёжило, что три дня, пока гробы стояли
в домах, поезда не шли — их заворачивали другою веткой. Всю пятницу, субботу и воскресенье — от конца следствия и до похорон — на
переезде днём и ночью шёл ремонт пути. Ремонтники мёрзли и для обогрева, а ночью и для света раскладывали костры из даровых досок
и брёвен со вторых саней, рассыпанных близ переезда.
А первые сани, нагруженные, целые, так и стояли за переездом невдали.
И именно это — что одни сани дразнили, ждали с готовым тросом,
а вторые ещё можно было выхватывать из огня — именно это терзало
душу чернобородого Фаддея всю пятницу и всю субботу. Дочь его трогалась разумом, над зятем висел суд, в собственном доме его лежал
убитый им сын, на той же улице — убитая им женщина, которую он
любил когда-то, — Фаддей только ненадолго приходил постоять у гробов, держась за бороду. Высокий лоб его был омрачён тяжёлой думой,
но дума эта была — спасти брёвна горницы от огня и от козней Матрёниных сестёр.
Перебрав тальновских, я понял, что Фаддей был в деревне такой
не один.
Что д о б р о м нашим, народным или моим, странно называет язык
имущество наше. И его-то терять считается перед людьми постыдно
и глупо.
Фаддей, не присаживаясь, метался то на посёлок, то на станцию,
от начальства к начальству, и с неразгибной спиной, опираясь на посох, просил каждого снизойти к его старости и дать разрешение вернуть горницу.
И кто-то дал такое разрешение. И Фаддей собрал своих уцелевших
сыновей, зятей и племянников, и достал лошадей в колхозе — и с того
бока развороченного переезда, кружным путём через три деревни,
обвозил остатки горницы к себе во двор. Он кончил это в ночь с субботы на воскресенье.
А в воскресенье днём — хоронили. Два гроба сошлись в середине
деревни, родственники поспорили, какой гроб вперёд. Потом поставили их на одни розвальни рядышком, тётю и племянника, и по февральскому вновь обсыревшему насту под пасмурным небом повезли
покойников на церковное кладбище за две деревни от нас. Погода была
ветреная, неприютная, и поп с дьяконом ждали в церкви, не вышли
в Тальново навстречу.
До околицы народ шёл медленно и пел хором. Потом — отстал.
Ещё под воскресенье не стихала бабья суетня в нашей избе: старушка у гроба мурлыкала псалтырь, Матрёнины сёстры сновали у русской
печи с ухватом, из чела печи пышело жаром от раскалённых торфин —
от тех, которые носила Матрёна в мешке с дальнего болота. Из плохой
муки пекли невкусные пирожки.
В воскресенье, когда вернулись с похорон, а было уж то к вечеру,
собрались на поминки. Столы, составленные в один длинный, захватывали и то место, где утром стоял гроб. Сперва стали все вокруг сто-
196
ла, и старик, золовкин муж, прочёл «Отче наш». Потом налили каждому на самое дно миски — медовой сыты. Её, на помин души, мы
выхлебали ложками, безо всего. Потом ели что-то и пили водку, и разговоры становились оживлённее. Перед киселём встали все и пели
«Вечную память» (так и объяснили мне, что поют её — перед киселём
обязательно). Опять пили. И говорили ещё громче, совсем уже не
о Матрёне. Золовкин муж расхвастался:
— А заметили вы, православные, что отпевали сегодня медленно?
Это потому, что отец Михаил меня заметил. Знает, что я службу знаю.
А иначе б — со святыми помоги, вокруг ноги — и всё.
Наконец ужин кончился. Опять все поднялись. Спели «Достойно
есть». И опять, с тройным повтором: вечная память! вечная память!
вечная память! Но голоса были хриплы, розны, лица пьяны, и никто
в эту вечную память уже не вкладывал чувства.
Потом основные гости разошлись, остались самые близкие, вытянули папиросы, закурили, раздались шутки, смех. Коснулось пропавшего без вести мужа Матрёны, и золовкин муж, бья себя в грудь, доказывал мне и сапожнику, мужу одной из Матрёниных сестёр:
— Умер Ефим, умер! Как бы это он мог не вернуться? Да если б
я знал, что меня на родине даже повесят, — всё равно б я вернулся!
Сапожник согласно кивал ему. Он был дезертир и вовсе не расставался с родиной: всю войну перепрятался у матери в подполье.
Высоко на печи сидела оставшаяся ночевать та строгая молчаливая
старуха, древнее всех древних. Она сверху смотрела немо, осуждающе
на неприлично оживлённую пятидесяти- и шестидесятилетнюю молодёжь.
И только несчастная приёмная дочь, выросшая в этих стенах, ушла
за перегородку и там плакала.
Фаддей не пришёл на поминки Матрёны — потому ли, что поминал
сына. Но в ближайшие дни он два раза враждебно приходил в эту избу
на переговоры с Матрёниными сёстрами и с сапожником-дезертиром.
Спор шёл об избе: кому она — сестре или приёмной дочери. Уж дело
упиралось писать в суд, но примирились, рассудя, что суд отдаст избу
не тем и не другим, а сельсовету. Сделка состоялась. Козу забрала одна
сестра, избу — сапожник с женою, а в зачёт Фаддеевой доли, что он
«здесь каждое брёвнышко своими руками перенянчил», пошла уже
свезённая горница, и ещё уступили ему сарай, где жила коза, и весь
внутренний забор, между двором и огородом.
И опять, преодолевая немощь и ломоту, оживился и помолодел ненасытный старик. Опять он собрал уцелевших сыновей и зятей, они
разбирали сарай и забор, и он сам возил брёвна на саночках, на саночках, под конец уже только с Антошкой своим из 8-го «б», который
здесь не ленился.
Избу Матрёны до весны забили, и я переселился к одной из её
золовок, неподалёку. Эта золовка потом по разным поводам вспоминала что-нибудь о Матрёне и как-то с новой стороны осветила мне
умершую.
197
— Ефим её не любил. Говорил: люблю одеваться культурно,
а она — кое-как, всё по-деревенски. А одново€ мы с ним в город ездили,
на заработки, так он себе там сударку завёл, к Матрёне и возвращаться не хотел.
Все отзывы её о Матрёне были неодобрительны: и нечистоплотная
она была; и за обзаводом не гналась; и не бережна€я; и даже поросёнка
не держала, выкармливать почему-то не любила; и, глупая, помогала
чужим людям бесплатно (и самый повод вспомнить Матрёну выпал — некого было дозвать огород вспахать на себе сохою).
И даже о сердечности и простоте Матрёны, которые золовка за ней
признавала, она говорила с презрительным сожалением.
И только тут — из этих неодобрительных отзывов золовки — выплыл передо мною образ Матрёны, какой я не понимал её, даже живя
с нею бок о бок.
В самом деле! — ведь поросёнок-то при каждой избе! А у неё
не было. Что может быть легче — выкармливать жадного поросёнка,
ничего в мире не признающего, кроме еды! Трижды в день варить ему,
жить для него — и потом зарезать и иметь сало.
А она не имела...
Не гналась за обзаводом... Не выбивалась, чтобы купить вещи и потом беречь их больше своей жизни.
Не гналась за нарядами. За одеждой, приукрашивающей уродов
и злодеев.
Не понятая и брошенная даже мужем своим, схоронившая шесть
детей, но не нрав свой общительный, чужая сёстрам, золовкам, смешная, по-глупому работающая на других бесплатно, — она не скопила имущества к смерти. Грязно-белая коза, колченогая кошка, фикусы...
Все мы жили рядом с ней и не поняли, что есть она тот самый праведник, без которого, по пословице, не стои€т село.
Ни город.
Ни вся земля наша.
5 Комментарии. Рассказ «Матрёнин двор» был написан в 1959 году. Первоначальное
его название — «Не стоит село без праведника». Окончательное название было предложено А. Т. Твардовским. Рассказ впервые опубликован в журнале «Новый мир» в 1963 году.
Сюжет основан на фактах биографии писателя, работавшего сельским учителем. В рассказе воссоздана реальная история Матрёны Васильевны Захаровой. Настоящее название
деревни — Мильцево (Курловский район Владимирской области).
...задержался с возвратом годиков на десять... — намёк на десятилетний срок пребывания в лагере для политических заключённых, из которого герой возвращается
в 1956 году.
Вопросы и задания
1. Какие черты героини рассказа «Матрёнин двор» кажутся вам самыми важными
и почему? Расскажите об истории жизни Матрёны. Покажите особенности её
речи. Как выражено отношение автора к героине? Обратите внимание на роль
детали в произведении.
198
А. И. Солженицын на пороге дома Матрёны Васильевны. 1994 г.
2. Дайте характеристику особенностей композиции рассказа А. И. Солженицына
«Матрёнин двор». Что необычного вы можете отметить в его построении?
3. Объясните смысл заглавия произведения. Раскройте символическое значение
понятия «двор».
4. Опыт исследования. В чём своеобразие языка рассказа А. И. Солженицына?
Запишите тезисы ответа на этот вопрос. Выпишите примеры пословиц, поговорок, просторечий, диалектных слов, использования жаргона. Какие ещё необычные слова и выражения вы встретили? С какой целью их употребляет
автор? Есть ли в произведении элементы сказа?
5. Покажите черты сходства и различия речи автора и персонажей. Что привлекает вас в языке А. И. Солженицына?
Индивидуальные задания
1. Какие картины жизни русского села нарисованы в рассказе «Матрёнин двор»?
Что в этой жизни представляется вам особенно характерным, постоянным и напоминающим о традиционном укладе русского села?
2. В каких других произведениях отечественной литературы описана жизнь русской деревни? Чем отличаются описания русского быта в рассказе А. И. Солженицына «Матрёнин двор» от аналогичных описаний в рассказах В. М. Шукшина?
3. Точка зрения. Объясните значение слова «праведник». В чём, на ваш взгляд,
смысл первоначального названия рассказа А. И. Солженицына?
4. Какие автобиографические черты вы можете отметить в рассказе «Матрёнин
двор»?
5. Сочинение. Напишите сочинение на одну из предложенных ниже тем:
• «Чем люди живы» (по произведениям А. И. Солженицына);
• Народный характер в изображении А. И. Солженицына;
• Размышляя над страницами книги А. И. Солженицына.
199
Практикум
Сочинение об образе социальной группы
ЧТО ТАКОЕ СОЧИНЕНИЕ
ОБ ОБРАЗЕ СОЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ
Вы уже писали сочинения об отдельных литературных персонажах, а также
готовили сопоставительные характеристики персонажей. Сочинение об образе социальной группы, изображённой в художественном произведении, во многом поможет вам проявить уже сформированные умения, но при этом научит и чему-то
новому, в том числе:
1) различать общее и индивидуальное в литературных персонажах, представляющих одну социальную группу (например: русские помещики, крепостные крестьяне, чиновники, военные и др.);
2) увидеть в отдельном литературном персонаже характерные черты той социальной (или иной) группы, которую этот персонаж представляет;
3) делать выводы об особенностях собирательного образа в литературном
произведении.
Вы помните, что ярким собирательным образом, раскрывающим характер
и образ жизни запорожского казачества, является образ Тараса Бульбы, главного героя одноимённой повести Н. В. Гоголя. Сопоставляя этот образ с образами
других казаков, вы находили в Тарасе Бульбе черты той группы, которую он представляет, но при этом отмечали, что Тарас Бульба выделяется на общем фоне,
является несомненным лидером. Сопоставление Остапа и Андрия позволило вам
поразмышлять об общем и индивидуальном в этих литературных персонажах, не
только входящих в одну социальную группу, но и родившихся и воспитывавшихся
в одной семье.
5 Вспомните, в каких знакомых вам литературных произведениях представлены
образы:
— русских помещиков;
— военных разведчиков;
— малороссийских (украинских) казаков;
— крестьянских детей;
— провинциальных чиновников;
— сибирских крестьян.
Перечислите основных персонажей, представляющих эти социальные группы.
5 В каких произведениях русской классической литературы представлены яркие
образы слуг? Что объединяет эти образы?
200
КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К СОЧИНЕНИЮ
ОБ ОБРАЗЕ СОЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ
Чтобы подготовиться к написанию сочинения об образе социальной группы,
нужно:
— проанализировать тему сочинения, уточнив для себя, о каком образе в нём
пойдёт речь и какие персонажи представляют эту группу;
— учесть исторические и литературные источники, которые помогли бы вам
лучше представить эту социальную группу;
— подумать о том, как отразились взгляды писателя на жизнь в описании
этой группы персонажей;
— внимательно перечитать текст произведения, выделить значимые эпизоды,
описания, художественные детали, особенно важные для характеристики
образа социальной группы;
— составить план сочинения, выделить в нём те позиции, которые связаны
с характеристикой отдельных представителей социальной группы;
— продумать последовательность сопоставления литературных персонажей;
— написать черновой вариант сочинения, внимательно проверить черновик
и аккуратно переписать его в тетрадь.
КАК СОСТАВИТЬ
ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН СОЧИНЕНИЯ
ОБ ОБРАЗЕ СОЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ
Во вступлении необходимо подвести к анализу изображённой в литературном
произведении социальной группы, можно обратиться к характеристике реального
исторического времени, эпохи, особенностей быта и нравов указанной социальной
группы.
В основной части работы, опираясь на текст литературного произведения,
важно не упустить при характеристике социальной группы те моменты, которые
особо подчёркнуты автором, сказать об общем и индивидуальном в литературных
персонажах, представляющих эту группу. Отдельные пункты плана характеристики
нужно дополнить цитатами, указаниями на сцены, художественные описания, речевые характеристики персонажей.
Примерные вопросы и задания, которые необходимы для осмысления темы,
связанной с анализом социальной группы, изображённой в литературном произведении:
1. Как вы думаете, что привлекло писателя в данной социальной группе?
Почему он не ограничился изображением её отдельных представителей, а создал
собирательный образ?
2. Как образ этой социальной группы соотносится с системой образов данного литературного произведения? Является ли этот образ заглавным, центральным,
одним из центральных, второстепенным, но при этом весьма значимым для писателя?
3. Какое участие принимает данная социальная группа в основном сюжетном
действии, конфликте произведения?
4. Кто из персонажей является наиболее характерными представителями этой
социальной группы?
201
5. Какие художественные приёмы использует автор при описании этой социальной группы и её отдельных представителей?
6. Как вы определите отношение автора к этой группе персонажей и её основным представителям? Есть ли в тексте прямые авторские оценки?
В заключении подводятся итоги, делается вывод о месте данной социальной
группы в сюжете и системе образов литературного произведения.
Задания
1. Составьте развёрнутый план сочинения на тему «Образы врачей в повести
М. А. Булгакова „Собачье сердце“». Подберите цитаты к каждому пункту плана основной части сочинения.
2. Сочинение. Напишите сочинение на одну из предложенных ниже тем:
• «Изображение жизни русских крестьян в рассказе А. И. Солженицына „Матрёнин двор“»;
• «Образы русских солдат в поэме А. Т. Твардовского „Василий Тёркин“».
202
Зарубежная литература XX века
Эрнест Миллер ХЕМИНГУЭЙ
(Ernest Miller HEMINGWAY, 1899—1961)
Прославленный писатель, при жизни ставший классиком американской литературы, Эрнест Хемингуэй
прожил не очень долгую, но яркую жизнь. Он был
легендарным человеком, чья судьба стала предметом
широкого общественного внимания. Биографию Хемингуэя стали писать ещё при его жизни. Он приковывал к себе внимание не только бесспорным литературным талантом, но и незаурядными личностными качествами: мужеством, храбростью, чувством собственного
достоинства.
Хемингуэй родился 21 июля 1899 года в маленьком городке Оук Парк в штате Иллинойс. Благотворное влияние на мировосприятие будущего писателя
оказал Мичиган — край лесов и озёр. Отец, Кларенс
Хемингуэй (по профессии врач), привил Эрнесту горячую любовь к природе, рыбной ловле, охоте, которую он пронёс через всю свою
жизнь.
Мать, Грейс Холл, обладала музыкальными способностями, успешно занималась пением, однако после замужества целиком посвятила себя воспитанию детей.
Их в семье было шестеро: Марселина, Эрнест, Урсула, Кэрол, Маделин, Лестер.
Мать стремилась приобщить детей к миру музыки. Считается, что именно домашние уроки музыки позволили будущему писателю обрести то чувство ритма, которое определило особенности его прозы.
В школе Эрнест отдавал предпочтение гуманитарным дисциплинам, особенно
английскому языку. Он был автором лучших в классе сочинений, свидетельствовавших о несомненных литературных способностях. Свои первые рассказы и очерки о спорте, приключениях он публиковал в школьном журнале «Скрижаль».
С детства Эрнест активно занимался спортом, прежде всего бегом, плаванием,
футболом, боксом. Летние каникулы любил проводить на берегах озера Валлун,
где родители построили деревянный коттедж, названный «Уиндмир». Родители
приучали его к физическому труду. Отец привил ему навыки рыболова и охотника, подсказывал, как приготовить пищу из дичи или рыбы.
В 1917 году Эрнест окончил школу. В апреле того же года США вступили
в Первую мировую войну. Хемингуэй рвался на фронт, но его не взяли в армию
из-за плохого зрения. К тому же против этого категорически возражал отец.
203
По приглашению своего дяди Эрнест переехал в Канзас-Сити. Семь месяцев он
проработал репортёром местной газеты «Канзас Стар». Позднее Хемингуэй так
оценил опыт журналистской работы: «Сотрудничая в „Стар“, я учился писать простые и ясные фразы. Это полезно любому. Газетная работа никогда не повредит
новичку и сослужит добрую службу, если вовремя с ней расстаться».
И всё-таки в апреле 1918 года Эрнест вместе с группой добровольцев американского Красного Креста отправился на военную службу (требования медицинской комиссии, отбиравшей людей для санитарной службы, были менее строгими).
По прибытии в Париж Хемингуэй был командирован в Италию. Будучи шофёром
санитарной машины, он подбирал раненых прямо на поле боя. Хемингуэй был
тяжело ранен. За участие в военных действиях он был награждён серебряной
медалью «За доблесть» и итальянским Военным Крестом.
После войны он вернулся к газетной работе, сначала был местным корреспондентом газеты «Торонто Дейли Стар», а затем — её европейским корреспондентом. В 1920-е годы Хемингуэй жил в Париже, о котором позднее напишет книгу
воспоминаний «Праздник, который всегда с тобой». В те годы он много читал,
строго отбирая то, что ему как писателю представлялось наиболее ценным. Он открыл для себя мир русской литературы: «Сначала русские, а потом все остальные.
Но долгое время только русские». Он прочитал всего И. С. Тургенева, Н. В. Гоголя,
английские издания Л. Н. Толстого и А. П. Чехова. Первое место в списке для
обязательного чтения занимали «Война и мир» и «Анна Каренина» Л. Н. Толстого.
Толстого Хемингуэй считал художественным эталоном, а Тургенева называл «величайшим из писателей, когда-либо творивших».
Оставив Париж, Хемингуэй поселился в маленьком городке Ки Уэст, где прожил до 1939 года. Здесь писатель создал многие свои произведения. Через десять лет после возвращения с фронта Хемингуэй завершил роман «Прощай,
оружие!» (1929), работа над которым была начата в Париже. В нём было художественно осмыслено пережитое на войне. Это произведение принесло автору
мировую славу.
В Ки Уэсте Хемингуэй познакомился с рыбаками, рабочими, любил расспрашивать их о жизни, профессии. Будучи страстным рыбаком, он совершил длительную поездку к Багамским островам, часто доплывал до берегов Кубы. Любил
первенствовать в рыбной ловле, вылавливая самых крупных морских рыб. В одном
из писем отцу сообщал о своих достижениях: пять тарпонов, самый тяжёлый
из которых весил 75 фунтов, шестьдесят морских щук, множество морских окуней,
скатов, а также акул, включая людоедов. В 1930-е годы Хемингуэй совершил
длительную поездку в Африку, побывал в Испании, которую называл «самой лучшей страной в Европе».
В начале 1937 года Хемингуэй получил предложение от директора Североамериканского газетного объединения заключить контракт на корреспонденции
из Испании, в которой шла гражданская война. Он закупил на свои средства колонну санитарных автомобилей и отправил их в распоряжение республиканцев.
В тот период он писал военные репортажи, очерки, пьесу «Пятая колонна».
Гражданская война в Испании стала главной темой романа Э. Хемингуэя «По ком
звонит колокол» (1940).
В дни Второй мировой войны Хемингуэй принимал участие в охране Америки
от немецких подводных лодок, затем служил корреспондентом в авиационных
частях и участвовал в высадке союзных войск во Франции.
204
В послевоенные годы писатель жил в основном на острове Куба. Здесь он
работал над книгами «Острова в океане», «За рекой, в тени деревьев», «Праздник,
который всегда с тобой», опубликованными посмертно. Самым знаменитым произведением писателя стала повесть «Старик и море», за которую он был удостоен
одной из самых престижных в Америке Пулитцеровской премии (1953) и Нобелевской премии по литературе (1954). В решении Нобелевского комитета отмечалось «яркое стилевое мастерство Хемингуэя, явившееся вкладом в современное
повествовательное искусство», говорилось о «героическом пафосе», о его «мужественной любви к опасностям и приключениям», а также об «искреннем восхищении каждым человеком, ведущим справедливую борьбу в реальном мире,
отягощённом насилием и смертью».
Вопросы и задания
1. Что привлекло вас в личности и судьбе Эрнеста Хемингуэя? Какие факты биографии писателя вам уже были знакомы? Из каких источников?
2. Публичное выступление. Используя дополнительные источники, подготовьте сообщение об участии Хемингуэя в двух мировых войнах и гражданской
войне в Испании.
Старик и море
Старик рыбачил совсем один на своей лодке в Гольфстриме. Вот
уже восемьдесят четыре дня он ходил в море и не поймал ни одной
рыбы. Первые сорок дней с ним был мальчик. Но день за днём не приносил улова, и родители сказали мальчику, что старик теперь уже
явно salao, то есть «самый что ни на есть невезучий», и велели ходить
в море на другой лодке, которая действительно привезла три хорошие
рыбы в первую же неделю. Мальчику тяжело было смотреть, как старик каждый день возвращается ни с чем, и он выходил на берег, чтобы помочь ему отнести домой снасти или багор, гарпун и обёрнутый
вокруг мачты парус. Парус был весь в заплатах из мешковины и, свёрнутый, напоминал знамя наголову разбитого полка.
Старик был худ и измождён, затылок его прорезали глубокие морщины, а щёки были покрыты коричневыми пятнами неопасного кожного рака, который вызывают солнечные лучи, отражённые гладью
тропического моря.
Пятна спускались по щекам до самой шеи, на руках виднелись глубокие шрамы, прорезанные бечевой, когда он вытаскивал крупную
рыбу. Однако свежих шрамов не было. Они были стары, как трещины
в давно уже безводной пустыне.
Всё у него было старое, кроме глаз, а глаза были цветом похожи
на море, весёлые глаза человека, который не сдаётся.
— Сантьяго, — сказал ему мальчик, когда они вдвоём поднимались
по дороге от берега, где стояла на причале лодка, — теперь я опять
могу пойти с тобой в море. Мы уже заработали немного денег.
Старик научил мальчика рыбачить, и мальчик его любил.
— Нет, — сказал старик, — ты попал на счастливую лодку. Оставайся на ней.
205
— А помнишь, один раз ты ходил в море целых восемьдесят семь
дней и ничего не поймал, а потом мы три недели кряду каждый день
привозили по большой рыбе.
— Помню, — сказал старик. — Я знаю, ты ушёл от меня не потому, что не верил.
— Меня заставил отец, а я ещё мальчик и должен слушаться.
— Знаю, — сказал старик. — Как же иначе.
— Он-то не очень верит.
— Да, — сказал старик. — А вот мы верим. Правда?
— Конечно. Хочешь, я угощу тебя пивом на Террасе? А потом мы
отнесём домой снасти.
— Ну что ж, — сказал старик. — Ежели рыбак подносит рыбаку...
Они уселись на Террасе, и многие рыбаки подсмеивались над стариком, но он не был на них в обиде. Рыбакам постарше было грустно
на него глядеть. Однако они не показывали виду и вели вежливый разговор о течении, и о том, на какую глубину они забрасывали леску,
и как держится погода, и что они видели в море. Те, кому в этот день
повезло, уже вернулись с лова, выпотрошили своих марлинов и, взвалив их поперёк двух досок, взявшись по двое за каждый конец доски,
перетащили рыбу на рыбный склад, откуда её должны были отвезти
в рефрижераторе на рынок в Гавану.
Рыбаки, которым попались акулы, сдали их на завод по разделке
акул на другой стороне бухты, там туши подвесили на блоках, вынули
из них печёнку, вырезали плавники, содрали кожу и нарезали мясо
тонкими пластинками для засола.
Когда ветер дул с востока, он приносил вонь с акульей фабрики,
но сегодня запаха почти не было слышно, потому что ветер переменился на северный, а потом стих, и на Террасе было солнечно и приятно.
— Сантьяго, — сказал мальчик.
— Да? — откликнулся старик. Он смотрел на свой стакан с пивом
и вспоминал давно минувшие дни.
— Можно, я наловлю тебе на завтра сардин?
— Не стоит. Поиграй лучше в бейсбол. Я ещё сам могу грести,
а Рохелио забросит сети.
— Нет, дай лучше мне. Если мне нельзя с тобой рыбачить, я хочу
помочь тебе хоть чем-нибудь.
— Да ведь ты угостил меня пивом, — сказал старик. — Ты уже
взрослый мужчина.
— Сколько мне было лет, когда ты первый раз взял меня в море?
— Пять, и ты чуть было не погиб, когда я втащил в лодку совсем
ещё живую рыбу и она чуть не разнесла всё в щепки, помнишь?
— Помню, как она била хвостом и сломала банку и как ты громко
колотил её дубинкой. Помню, ты швырнул меня на нос, где лежали
мокрые снасти, а лодка вся дрожала, и твоя дубинка стучала, словно
рубили дерево, а кругом стоял приторный запах крови.
— Ты правда всё это помнишь, или я тебе потом рассказывал?
— Я помню всё с самого первого дня, когда ты взял меня в море.
206
Старик поглядел на него воспалёнными от солнца, доверчивыми
и любящими глазами.
— Если бы ты был моим сыном, я бы сейчас рискнул взять
тебя с собой. Но у тебя есть отец и мать, и ты попал на счастливую
лодку.
— Давай я всё-таки схожу за сардинами. И я знаю, где можно достать четырёх живцов.
— У меня ещё целы сегодняшние. Я положил их в ящик с солью.
— Я достану тебе четырёх свежих.
— Одного, — возразил старик.
Он и так никогда не терял ни надежды, ни веры в будущее, но теперь они крепли в его сердце, словно с моря подул свежий ветер.
— Двух, — сказал мальчик.
— Ладно, двух, — сдался старик. — А ты их, часом, не стащил?
— Стащил бы, если бы понадобились. Но я их купил.
— Спасибо, — сказал старик.
Он был слишком простодушен, чтобы задуматься о том, когда пришло к нему смирение. Но он знал, что смирение пришло, не принеся
с собой ни позора, ни утраты человеческого достоинства.
— Если течение не переменится, завтра будет хороший день, — сказал старик.
— Ты где будешь ловить?
— Подальше от берега, а вернусь, когда переменится ветер. Выйду
до рассвета.
— Надо будет уговорить моего тоже отойти подальше. Если тебе
попадётся очень большая рыба, мы тебе поможем.
— Твой не любит уходить слишком далеко от берега.
— Да, — сказал мальчик. — Но я уж высмотрю что-нибудь такое,
чего он не сможет разглядеть, — ну хотя бы чаек. Тогда его можно
уговорить отойти подальше за золотой макрелью.
— Неужели у него так плохо с глазами?
— Почти совсем ослеп.
— Странно. Он ведь никогда не ходил за черепахами. От них-то
всего больше и слепнешь.
— Но ты столько лет ходил за черепахами к Москитному берегу,
а глаза у тебя в порядке.
— Я — необыкновенный старик.
— А сил у тебя хватит, если попадётся очень большая рыба?
— Думаю, что хватит. Тут главное — сноровка.
— Давай отнесём домой снасти. А потом я возьму сеть и схожу
за сардинами.
Они вытащили из лодки снасти. Старик нёс на плече мачту, а мальчик — деревянный ящик с мотками туго сплетённой коричневой лесы,
багор и гарпун с рукояткой. Ящик с наживкой остался на корме лодки вместе с дубинкой, которой глушат крупную рыбу, когда её вытаскивают на поверхность. Вряд ли кто вздумал бы обокрасть старика,
но лучше было отнести парус и тяжёлые снасти домой, чтобы они не
отсырели от росы. И хотя старик был уверен, что никто из местных
207
жителей не позарится на его добро, он всё-таки предпочитал убирать
от греха багор, да и гарпун тоже.
Они поднялись по дороге к хижине старика и вошли в дверь, растворённую настежь. Старик прислонил мачту с обёрнутым вокруг неё парусом к стене, а мальчик положил рядом снасти. Мачта была почти
такой же длины, как хижина, построенная из листьев королевской
пальмы, которую здесь зовут guano. В хижине были кровать, стол и стул
и в глинобитном полу — выемка, чтобы стряпать пищу на древесном
угле. Коричневые стены, сложенные из прессованных волокнистых
листьев, были украшены цветными олеографиями1 Сердца Господня
и Santa Maria del Cobre. Они достались ему от покойной жены. Когда-то
на стене висела и раскрашенная фотография самой жены, но потом старик её спрятал, потому что смотреть на неё было очень уж тоскливо.
Теперь фотография лежала на полке в углу, под чистой рубахой.
— Что у тебя на ужин? — спросил мальчик.
— Миска жёлтого риса с рыбой. Хочешь?
— Нет, я поем дома. Развести тебе огонь?
— Не надо. Я сам разведу попозже. А может, буду есть рис так,
холодный.
— Можно взять сеть?
— Конечно.
Никакой сети давно не было — мальчик помнил, когда они её продали. Однако оба каждый день делали вид, будто сеть у старика есть.
Не было и миски с жёлтым рисом и рыбой, и это мальчик знал тоже.
— Восемьдесят пять — счастливое число, — сказал старик. — А ну
как завтра поймаю рыбу в тысячу фунтов?
— Я достану сеть и схожу за сардинами. Посиди покуда на пороге,
тут солнышко.
— Ладно. У меня есть вчерашняя газета. Почитаю про бейсбол.
Мальчик не знал, есть ли у старика на самом деле газета или это
тоже выдумка. Но старик и вправду вытащил газету из-под кровати.
— Мне её дал Педрико в винной лавке, — объяснил старик.
— Я только наловлю сардин и вернусь. Положу и мои и твои вместе на лёд, утром поделимся. Когда я вернусь, ты расскажешь мне
про бейсбол.
— «Янки» не могут проиграть.
— Как бы их не побили кливлендские «Индейцы»!
— Не бойся, сынок. Вспомни о великом Ди Маджио.
— Я боюсь не только «Индейцев», но и «Тигров» из Детройта.
— Ты, чего доброго, скоро будешь бояться и «Краснокожих» из
Цинциннати, и чикагских «Белых чулок».
— Почитай газету и расскажи мне, когда я вернусь.
— А что, если нам купить лотерейный билет с цифрой восемьдесят
семь? Ведь в прошлый раз было восемьдесят семь дней.
— Два раза ничего не повторяется. А ты сможешь достать билет
с цифрой восемьдесят пять?
1
Олеография — печатная многокрасочная картинка.
208
Э. Хемингуэй. «Старик и море». Художник
И. Сакуров
— Закажу.
— Одинарный. За два доллара пятьдесят. Где бы нам их занять?
— Пустяки! Я всегда могу занять два доллара пятьдесят.
— Я, наверно, тоже мог бы. Только я стараюсь не брать в долг.
Сначала просишь в долг, потом просишь милостыню.
— Смотри не простудись, старик. Не забудь, что на дворе сентябрь.
— В сентябре идёт крупная рыба. Каждый умеет рыбачить в мае.
— Ну, я пошёл за сардинами, — сказал мальчик.
Когда мальчик вернулся, солнце уже зашло, а старик спал, сидя
на стуле. Мальчик снял с кровати старое солдатское одеяло и прикрыл
им спинку стула и плечи старика. Это были удивительные плечи — могучие, несмотря на старость, да и шея была сильная, и теперь, когда
старик спал, уронив голову на грудь, морщины были не так заметны.
Рубаха его была такая же латаная-перелатаная, как парус, а заплаты
были разных оттенков, потому что неровно выгорали на солнце. Однако лицо у старика было всё же очень старое, и теперь, во сне, с закрытыми глазами, оно казалось совсем неживым. Газета лежала у него
на коленях, прижатая локтем, чтобы её не сдуло. Ноги были босы.
Мальчик не стал его будить и ушёл, а когда он вернулся снова,
старик всё ещё спал.
— Проснись! — позвал его мальчик и положил ему руку на колено.
209
Старик открыл глаза и несколько мгновений возвращался откуда-то
издалека. Потом он улыбнулся.
— Что ты принёс?
— Ужин. Сейчас мы будем есть.
— Да я не так уж голоден.
— Давай есть. Нельзя ловить рыбу не евши.
— Мне случалось, — сказал старик, поднимаясь и складывая газету; потом он стал складывать одеяло.
— Не снимай одеяла, — сказал мальчик. — Покуда я жив, я не дам
тебе ловить рыбу не евши.
— Тогда береги себя и живи как можно дольше, — сказал старик. — А что мы будем есть?
— Чёрные бобы с рисом, жареные бананы и тушёную говядину.
Мальчик принёс еду в металлических судках из ресторанчика
на Террасе. Вилки, ножи и ложки он положил в карман; каждый прибор был завёрнут отдельно в бумажную салфетку.
— Кто тебе всё это дал?
— Мартин, хозяин ресторана.
— Надо его поблагодарить.
— Я его поблагодарил, — сказал мальчик, — уж ты не беспокойся.
— Дам ему самую мясистую часть большой рыбы, — сказал старик, — ведь он помогает нам не первый раз?
— Нет, не первый.
— Тогда одной мясистой части будет мало. Он нам сделал много добра.
— А вот сегодня дал ещё и пива.
— Я-то больше всего люблю консервированное пиво.
— Знаю. Но сегодня он дал пиво в бутылках. Бутылки я сдам
обратно.
— Ну, спасибо тебе, — сказал старик. — Давай есть?
— Я тебе давно предлагаю поесть, — ласково упрекнул его мальчик. — Всё жду, когда ты сядешь за стол, и не открываю судков, чтобы еда не остыла.
— Давай. Мне ведь надо было помыться.
«Где ты мог помыться?» — подумал мальчик. До колонки было два
квартала. «Надо припасти ему воды, мыла и хорошее полотенце. Как
я раньше об этом не подумал? Ему нужна новая рубашка, зимняя
куртка, какая-нибудь обувь и ещё одно одеяло».
— Вкусное мясо, — похвалил старик.
— Расскажи мне про бейсбол, — попросил его мальчик.
— В Американской лиге выигрывают «Янки», как я и говорил, —
с довольным видом начал старик.
— Да, но сегодня их побили.
— Это ничего. Зато великий Ди Маджио опять в форме.
— Он не один в команде.
— Верно! Но он решает исход игры. Во второй лиге — бруклинцев
и филадельфийцев — шансы есть только у бруклинцев. Впрочем, ты
помнишь, как бил Дик Сайзлер? Какие у него были удары, когда он
играл там, в старом парке!
210
— Высокий класс! Он бьёт дальше всех.
— Помнишь, он приходил на Террасу? Мне хотелось пригласить
его с собой порыбачить, но я постеснялся. Я просил тебя его пригласить, но и ты тоже постеснялся.
— Помню. Глупо, что я струсил. А вдруг бы он согласился?
Было бы о чём вспоминать до самой смерти!
— Вот бы взять с собой в море великого Ди Маджио, — сказал старик. — Говорят, отец у него был рыбаком. Кто его знает, может, он
и сам когда-то был рыбаком. Кто его знает.
— Отец великого Сайзлера никогда не был бедняком. Он играл
в настоящих командах, когда ему было столько лет, сколько мне.
— Когда мне было столько лет, сколько тебе, я плавал юнгой на паруснике к берегам Африки. По вечерам я видел, как на отмель выходят львы.
— Ты мне рассказывал.
— О чём мы будем разговаривать: об Африке или о бейсболе?
— Лучше о бейсболе. Расскажи мне про великого Джона Мак-Гроу.
— Он тоже в прежние времена захаживал к нам на Террасу. Но когда напивался, с ним не было сладу. А в голове у него был не только
бейсбол, но и лошади. Вечно таскал в карманах программы бегов и называл имена лошадей по телефону.
— Он был великий тренер, — сказал мальчик. — Отец говорит,
что он был самый великий тренер на свете.
— Потому что он видел его чаще других. Если бы и Дюроше приезжал к нам каждый год, твой отец считал бы его самым великим тренером на свете.
— А кто, по-твоему, самый великий тренер? Люк или Майк Гонсалес?
— По-моему, они стоят друг друга.
— А самый лучший рыбак на свете — это ты.
— Нет. Я знавал рыбаков и получше.
— Que€ va!1 — сказал мальчик. — На свете немало хороших рыбаков, есть и просто замечательные. Но таких, как ты, нету нигде.
— Спасибо. Я рад, что ты так думаешь. Надеюсь, мне не попадётся
чересчур большая рыба, а то ты ещё во мне разочаруешься.
— Нет на свете такой рыбы, если у тебя и вправду осталась прежняя сила.
— Может, её у меня и меньше, чем я думал. Но сноровка у меня
есть и выдержки хватит.
— Ты теперь ложись спать, чтобы к утру набраться сил. А я отнесу посуду.
— Ладно. Спокойной ночи. Утром я тебя разбужу.
— Ты для меня всё равно что будильник, — сказал мальчик.
— А мой будильник — старость. Отчего старики так рано просыпаются? Неужели для того, чтобы продлить себе хотя бы этот день?
— Не знаю. Знаю только, что молодые спят долго и крепко.
1
Что ты! (исп.)
211
— Это я помню, — сказал старик. — Я разбужу тебя вовремя.
— Я почему-то не люблю, когда меня будит тот, другой. Как будто
я хуже его.
— Понимаю.
— Спокойной ночи, старик.
Мальчик ушёл. Они ели, не зажигая света, и теперь старик, сняв
штаны, лёг спать в темноте. Он скатал их, чтобы положить под голову вместо подушки, а в свёрток сунул ещё и газету. Завернувшись
в одеяло, он улёгся на старые газеты, которыми были прикрыты голые
пружины кровати.
Уснул он быстро, и ему снилась Африка его юности, длинные золотистые берега и белые отмели — такие белые, что глазам больно, —
высокие утёсы и громадные бурые горы.
Каждую ночь он теперь вновь приставал к этим берегам, слышал
во сне, как ревёт прибой, и видел, как несёт на сушу лодки туземцев.
Во сне он снова вдыхал запах смолы и пакли, который шёл от палубы,
вдыхал запах Африки, принесённый с берега утренним ветром.
Обычно, когда его настигал этот запах, он просыпался и, одевшись,
отправлялся будить мальчика. Но сегодня запах берега настиг его
очень рано, он понял, что слышит его во сне, и продолжал спать, чтобы увидеть белые верхушки утёсов, встающие из моря, гавани и бухты
Канарских островов.
Ему теперь уже больше не снились ни бури, ни женщины, ни великие события, ни огромные рыбы, ни драки, ни состязания в силе,
ни жена. Ему снились только далёкие страны и львята, выходящие
на берег. Словно котята, они резвились в сумеречной мгле, и он любил
их так, как любил мальчика. Но мальчик ему никогда не снился.
Старик вдруг проснулся, взглянул через отворённую дверь на луну,
развернул свои штаны и надел их. Выйдя из хижины, он помочился
и пошёл вверх по дороге будить мальчика. Его познабливало от утренней
свежести. Но он знал, что озноб пройдёт, а скоро он сядет на вёсла и совсем согреется.
Дверь дома, где жил мальчик, была открыта, и старик вошёл, неслышно ступая босыми ногами. Мальчик спал на койке в первой комнате, и старик мог разглядеть его при ущербном свете луны. Он легонько ухватил его за ногу и держал до тех пор, пока мальчик не проснулся
и, перевернувшись на спину, не поглядел на него. Старик кивнул ему;
мальчик взял штаны со стула подле кровати и сидя натянул их.
Старик вышел из дома, и мальчик последовал за ним. Он всё ещё
не мог проснуться, и старик, обняв его за плечи, сказал:
— Прости меня.
— Que€ va! — ответил мальчик. — Такова уж наша мужская доля.
Что поделаешь.
Они пошли вниз по дороге к хижине старика, и по всей дороге шли
босые люди, таща мачты со своих лодок.
Придя в хижину, мальчик взял корзину с мотками лески, гарпун
и багор, а старик взвалил на плечо мачту с обёрнутым вокруг неё парусом.
212
— Хочешь кофе? — спросил мальчик.
— Сначала положим снасти в лодку, а потом выпьем кофе.
Они пили кофе из консервных банок в закусочной, которая обслуживала рыбаков и открывалась рано.
— Ты хорошо спал, старик? — спросил мальчик; он уже почти совсем проснулся, хотя ему трудно было расстаться со сном.
— Очень хорошо, Манолин. Сегодня я верю в удачу.
— И я, — сказал мальчик. — Подожди, я сейчас вернусь. Выпей
ещё кофе. Нам здесь дают в долг.
Он зашлёпал босыми ногами по коралловому рифу к холодильнику,
где хранились живцы.
Старик медленно потягивал кофе. Он знал, что надо напиться кофе
как следует, потому что больше он сегодня есть не будет. Ему давно
уже прискучил процесс еды, и он никогда не брал с собой в море завтрака. На носу лодки хранилась бутылка с водой — вот и всё, что понадобится до вечера.
Мальчик вернулся, неся сардины и завёрнутых в газету живцов.
Они спустились по тропинке к воде, чувствуя, как осыпается
под ногами мелкий гравий. Приподняв лодку, они сдвинули её в воду.
— Желаю тебе удачи, старик.
— И тебе тоже.
Старик надел верёвочные петли вёсел на колышки уключин и, наклонившись вперёд, стал в темноте выводить лодку из гавани. С других отмелей в море выходили другие лодки, и старик хоть и не видел
их теперь, когда луна зашла за холмы, но слышал, как опускаются
и загребают воду вёсла.
Время от времени то в одной, то в другой лодке слышался говор.
Но на большей части лодок царило молчание и доносился лишь плеск
вёсел. Выйдя из бухты, лодки рассеялись в разные стороны, и каждый
рыбак направлялся туда, где он надеялся найти рыбу.
Старик заранее решил, что уйдёт далеко от берега; он оставил позади себя запахи земли и грёб прямо в свежее утреннее дыхание океана. Проплывая над той его частью, которую рыбаки прозвали «великим колодцем», он видел, как светятся в глубине водоросли. Дно
в этом месте нередко опускается на целых семьсот морских саженей,
и здесь собираются всевозможные рыбы, потому что течение, натолкнувшись на круглые откосы океанского дна, образует водоворот. Тут
скапливаются огромные стаи креветок и мелкой рыбёшки, а на самых
глубинах порою толпится множество каракатиц; ночью они поднимаются на поверхность и служат пищей для всех бродячих рыб.
В темноте старик чувствовал приближение утра; загребая вёслами,
он слышал дрожащий звук — это летучая рыба выходила из воды
и уносилась прочь, со свистом рассекая воздух жёсткими крыльями.
Он питал нежную привязанность к летучим рыбам — они были лучшими друзьями его здесь, в океане. Птиц он жалел, особенно маленьких и хрупких морских ласточек, которые вечно летают в поисках
пищи и почти никогда её не находят, и он думал: «Птичья жизнь много тяжелее нашей, если не считать стервятников и больших, сильных
213
птиц. Зачем птиц создали такими хрупкими и беспомощными, как вот
эти морские ласточки, если океан бывает так жесток? Он добр и прекрасен, но иногда он вдруг становится таким жестоким, а птицы, которые летают над ним, ныряя за пищей и перекликаясь слабыми, печальными голосами, — они слишком хрупки для него».
Мысленно он всегда звал море la mar, как зовут его по-испански
люди, которые его любят. Порою те, кто его любит, говорят о нём дурно, но всегда как о женщине, в женском роде. Рыбаки помоложе,
из тех, кто пользуется буями вместо поплавков для своих снастей и ходит на моторных лодках, купленных в те дни, когда акулья печёнка
была в большой цене, называют море el mar, то есть в мужском роде.
Они говорят о нём как о пространстве, как о сопернике, а порою даже
как о враге. Старик же постоянно думал о море как о женщине, которая дарит великие милости или отказывает в них, а если и позволяет
себе необдуманные или недобрые поступки, — что поделаешь, такова
уж её природа. «Луна волнует море, как женщину», — думал старик.
Он мерно грёб, не напрягая сил, потому что поверхность океана
была гладкой, за исключением тех мест, где течение образовывало водоворот. Старик давал течению выполнять за себя треть работы, и, когда стало светать, он увидел, что находится куда дальше, чем надеялся быть в этот час.
«Я рыбачил в глубинных местах целую неделю и ничего не поймал, — подумал старик. — Сегодня я попытаю счастья там, где ходят
стаи бонито и альбакоре. Вдруг там плавает и большая рыба?»
Ещё не рассвело, а он уже закинул свои крючки с приманкой и медленно поплыл по течению. Один из живцов находился на глубине сорока морских саженей, другой ушёл вниз на семьдесят пять, а третий
и четвёртый погрузились в голубую воду на сто и сто двадцать пять
саженей. Живцы висели головою вниз, причём стержень крючка проходил внутри рыбы и был накрепко завязан и зашит, сам же крючок — его изгиб и остриё — были унизаны свежими сардинами. Сардины были нанизаны на крючок через оба глаза, образуя гирлянду на
стальном полукружье крючка. Приблизившись к крючку, большая
рыба почувствовала бы, как сладко и аппетитно пахнет каждый его
кусочек.
Мальчик дал старику с собой двух свежих тунцов, которых тот наживил на самые длинные лесы, а к двум остальным прицепил большую голубую макрель и жёлтую умбрицу. Он ими уже пользовался
в прошлый раз, однако они всё ещё были в хорошем состоянии, а отличные сардины придавали им аромат и заманчивость. Каждая леса
толщиной с большой карандаш была закинута на гибкий прут так,
чтобы любое прикосновение рыбы к наживке заставило прут пригнуться к воде, и была подвязана к двум запасным моткам лесы по сорок
саженей в каждом, которые, в свою очередь, могли бы быть соединены
с другими запасными мотками, так что при надобности рыбу можно
было отпустить больше чем на триста саженей.
Теперь старик наблюдал, не пригибаются ли к борту зелёные прутья, и тихонечко грёб, следя за тем, чтобы леса уходила в воду прямо
214
и на должную глубину. Стало уже совсем светло, вот-вот должно было
взойти солнце.
Солнце едва приметно поднялось из моря, и старику стали видны
другие лодки: они низко сидели в воде по всей ширине течения, но гораздо ближе к берегу. Потом солнечный свет стал ярче и вода отразила
его сияние, а когда солнце совсем поднялось над горизонтом, гладкая
поверхность моря стала отбрасывать его лучи прямо в глаза, причиняя
резкую боль, и старик грёб, стараясь не глядеть на воду. Он смотрел
в тёмную глубь моря, куда уходили его лески. У него они всегда уходили в воду прямее, чем у других рыбаков, и рыбу в разных глубинах
ожидала в темноте приманка на том самом месте, которое он для неё
определил. Другие рыбаки позволяли своим снастям плыть по течению, и порою они оказывались на глубине в шестьдесят саженей, когда рыбаки считали, что опустили их на сто.
«Я же, — подумал старик, — всегда закидываю свои снасти точно.
Мне просто не везёт. Однако кто знает? Может, сегодня счастье мне
улыбнётся. День на день не приходится. Конечно, хорошо, когда человеку везёт. Но я предпочитаю быть точным в моём деле. А когда
счастье придёт, я буду к нему готов».
Солнце поднималось уже два часа, и глядеть на восток было не так
больно. Теперь видны были только три лодки: отсюда казалось, что они
совсем низко сидят в воде и почти не отошли от берега.
«Всю жизнь у меня резало глаза от утреннего света, — думал старик. — Но видят они ещё хорошо. Вечером я могу смотреть прямо
на солнце, и чёрные пятна не мелькают у меня перед глазами. А вечером солнце светит куда сильнее. Но по утрам оно причиняет мне
боль».
В это самое время он заметил птицу-фрегата, которая кружила
впереди него в небе, распластав длинные чёрные крылья. Птица круто
сорвалась к воде, закинув назад крылья, а потом снова пошла кругами.
— Почуяла добычу, — сказал старик вслух. — Не просто кружит.
Старик медленно и мерно грёб в ту сторону, где кружила птица.
Не торопясь, он следил за тем, чтобы его лесы под прямым углом уходили в воду. Однако лодка всё же слегка обгоняла течение, и, хотя
старик удил всё так же правильно, движения его были чуточку быстрее, чем прежде, до появления птицы.
Фрегат поднялся выше и снова стал делать круги, неподвижно раскинув крылья. Внезапно он нырнул, и старик увидел, как из воды
взметнулась летучая рыба и отчаянно понеслась над водной гладью.
— Макрель, — громко произнёс старик. — Крупная золотая макрель.
Он вынул из воды вёсла и достал из-под носового настила леску.
На конце её был прикручен проволокой небольшой крючок, на который он насадил одну из сардинок. Старик опустил леску в воду и привязал её к кольцу, ввинченному в корму. Потом он насадил наживку
на другую леску и оставил её смотанной в тени под настилом. Взяв
в руки вёсла, он снова стал наблюдать за длиннокрылой чёрной пти-
215
цей, которая охотилась теперь низко над водой. Птица опять нырнула
в воду, закинув за спину крылья, а потом замахала ими суматошно
и беспомощно, погнавшись за летучей рыбой. Старик видел, как вода
вздымалась, — это золотая макрель преследовала убегавшую от неё
рыбу. Макрель плыла наперерез с большой скоростью, чтобы оказаться как раз под рыбой в тот миг, когда она опустится в воду.
«Там, видно, большая стая макрели, — подумал старик. — Они
плывут поодаль друг от друга, и у рыбы мало шансов спастись. У птицы же нет никакой надежды её поймать. Летучая рыба слишком крупна для фрегата и движется слишком быстро».
Старик следил за тем, как летучая рыба снова и снова вырывалась
из воды и как неловко пыталась поймать её птица. «Макрель ушла от
меня, — подумал старик. — Она уплывает слишком быстро и слишком
далеко. Но, может быть, мне попадётся макрель, отбившаяся от стаи,
а может, поблизости от неё плывёт и моя большая рыба? Ведь должна же она где-нибудь плыть».
Облака над землёй возвышались теперь как горная гряда, а берег казался длинной зелёной полоской, позади которой вырисовывались серо-голубые холмы. Вода стала тёмно-синей, почти фиолетовой.
Когда старик глядел в воду, он видел красноватые переливы планктона в тёмной глубине и причудливый отсвет солнечных лучей. Он следил за тем, прямо ли уходят в воду его лески, и радовался, что кругом
столько планктона, потому что это сулило рыбу.
Причудливое отражение лучей в воде теперь, когда солнце поднялось выше, означало хорошую погоду, так же как и форма облаков,
висевших над землёй. Однако птица была уже далеко, а на поверхности воды не виднелось ничего, кроме пучков жёлтых, выгоревших
на солнце саргассовых водорослей и лиловатого, переливчатого студенистого пузыря — португальской физалии, плывшей неподалёку от
лодки. Физалия перевернулась на бок, потом приняла прежнее положение. Она плыла весело, сверкая на солнце, как мыльный пузырь,
и волочила за собой по воде на целый ярд свои длинные смертоносные
лиловые щупальца.
<...>
Легко загребая вёслами, он заглянул в глубину и увидел там крошечных рыбёшек, окрашенных в тот же цвет, что и влачащиеся в воде
щупальца; они плавали между ними и в тени уносимого водой пузыря.
Яд его не мог причинить им вреда. Другое дело людям: когда такие
вот щупальца цеплялись за леску и приставали к ней, склизкие и лиловатые, пока старик вытаскивал рыбу, руки до локтей покрывались язвами, словно от ожога плющом. Отравление наступало быстро
и пронзало острой болью, как удар бича.
Переливавшиеся радугой пузыри необычайно красивы. Но это самые коварные жители моря, и старик любил смотреть, как их пожирают громадные морские черепахи. Завидев физалий, черепахи приближались к ним спереди, закрыв глаза, что делало их совершенно
неуязвимыми, а затем поедали физалий целиком, вместе со щупальцами. Старику нравилось смотреть, как черепахи поедают физалий; он
216
Э. Хемингуэй. «Старик и море». Художник
И. Сакуров
любил и сам ступать по ним на берегу после шторма, прислушиваясь,
как лопаются пузыри, когда их давит мозолистая подошва.
Он любил зелёных черепах за их изящество и проворство, а также
за то, что они так дорого ценились, и питал снисходительное презрение к одетым в жёлтую броню неуклюжим и глупым биссам, прихотливым в любовных делах и поедающим с закрытыми глазами португальских физалий.
Он не испытывал к черепахам суеверного страха, хотя и плавал
с охотниками за черепахами много лет кряду. Старик жалел их, даже
огромных кожистых черепах, называемых «луты», длиною в целую
лодку и весом в тонну.
Большинство людей бессердечно относится к черепахам, ведь черепашье сердце бьётся ещё долго после того, как животное убьют и разрежут на куски. «Но ведь и у меня, — думал старик, — такое же сердце,
а мои руки и ноги похожи на их лапы». Он ел белые черепашьи яйца,
чтобы придать себе силы. Он ел их весь май, чтобы быть сильным в сентябре и октябре, когда пойдёт по-настоящему большая рыба.
Каждый день старик выпивал также по чашке жира из акульей
печёнки, который хранился в большой бочке в том сарае, где многие
рыбаки берегли свои снасти. Жиром мог пользоваться любой рыбак,
217
кто бы ни захотел. Большинству рыбаков вкус этого жира казался отвратительным, но пить его было отнюдь не противнее, чем затемно
подниматься с постели, а он очень помогал от простуды и был полезен
для глаз.
Старик поглядел на небо и увидел, что фрегат снова закружил над
морем.
— Нашёл рыбу, — сказал он вслух.
Ни одна летучая рыба не тревожила водную гладь, не было заметно кругом и мелкой рыбёшки. Но старик вдруг увидел, как в воздух
поднялся небольшой тунец, перевернулся на лету и головой вниз снова ушёл в море.
Тунец блеснул серебром на солнце, а за ним поднялись другие тунцы и запрыгали во все стороны, вспенивая воду и длинными бросками
кидаясь на мелкую рыбёшку. Они кружили подле неё и гнали её перед
собой.
«Если они не поплывут слишком быстро, я нагоню всю стаю», — подумал старик, наблюдая за тем, как тунцы взбивают воду добела,
а фрегат ныряет, хватая рыбёшку, которую страх перед тунцами выгнал на поверхность.
— Птица — верный помощник рыбаку, — сказал старик.
В этот миг короткая леска, опущенная с кормы, натянулась под ногой, которой он придерживал один её виток; старик бросил вёсла
и, крепко ухватив конец бечевы, стал выбирать её, чувствуя вес небольшого тунца, который судорожно дёргал крючок. Леска дёргалась
у него в руках всё сильнее, и он увидел голубую спинку и отливающие
золотом бока рыбы ещё до того, как подтянул её к самой лодке и перекинул через борт.
Тунец лежал у кормы на солнце, плотный, словно литая пуля,
и, вытаращив большие бессмысленные глаза, прощался с жизнью под
судорожные удары аккуратного, подвижного хвоста. Старик из жалости убил его ударом по голове и, ещё трепещущего, отшвырнул ногой
в тень под кормовой настил,
— Альбакоре, — сказал он вслух. — Из него выйдет прекрасная наживка. Веса в нём фунтов десять, не меньше.
Старик уже не мог припомнить, когда он впервые стал разговаривать сам с собой вслух.
Прежде, оставшись один, он пел; он пел иногда и ночью, стоя на вахте, когда ходил на больших парусниках или охотился за черепахами.
Наверное, он стал разговаривать вслух, когда от него ушёл мальчик и он
остался совсем один. Теперь он уже не помнил. Но ведь и рыбача с мальчиком, они разговаривали только тогда, когда это было необходимо.
Разговаривали ночью или во время вынужденного безделья в непогоду.
В море не принято разговаривать без особой нужды. Старик сам считал,
что это дурно, и уважал обычай. А вот теперь он по многу раз повторял
свои мысли вслух — ведь они никому не могли быть в тягость.
— Если бы кто-нибудь послушал, как я разговариваю сам с собой,
он решил бы, что я спятил, — сказал старик. — Но раз я не спятил,
кому какое дело? Хорошо богатым: у них есть радио, которое может
218
разговаривать с ними в лодке и рассказывать им новости про бейсбол.
Теперь не время думать про бейсбол, — сказал сам себе старик. —
Теперь время думать только об одном. О том, для чего я родился. Гденибудь рядом с этим косяком тунцов, может быть, плывёт моя большая рыба. Я ведь поймал только одного альбакоре, да и то отбившегося
от стаи. А они охотятся далеко от берега и плывут очень быстро. Всё,
что встречается сегодня в море, движется очень быстро и на северовосток. Может быть, так всегда бывает в это время дня? А может, это
к перемене погоды, и я просто не знаю такой приметы?
Старик уже больше не видел зелёной береговой полосы; вдали
вырисовывались лишь верхушки голубых холмов, которые отсюда казались белыми, словно были одеты снегом. Облака над ними были похожи на высокие снежные горы. Море стало очень тёмным, и солнечные лучи преломлялись в воде. Бесчисленные искры планктона теперь
были погашены солнцем, стоящим в зените, и в тёмно-синей воде старик видел большие радужные пятна от преломлявшихся в ней солнечных лучей да бечёвки, прямо уходящие в глубину, которая достигала
здесь целой мили.
Тунцы — рыбаки звали всех рыб этой породы тунцами и различали
их настоящие имена лишь тогда, когда шли их продавать на рынок
или сбывали как наживку, — снова ушли в глубину. Солнце припекало, и старик чувствовал, как оно жжёт ему затылок. Пот струйками
стекал по спине, когда он грёб.
«Я мог бы пойти по течению, — подумал старик, — и поспать, привязав леску к большому пальцу ноги, чтобы вовремя проснуться.
Но сегодня восемьдесят пятый день и надо быть начеку».
И как раз в этот миг он заметил, как одно из зелёных удилищ дрогнуло и пригнулось к воде.
— Ну вот, — сказал он. — Вот! — и вытащил из воды вёсла, стараясь не тревожить лодку.
Старик потянулся к леске и тихонько захватил её большим и указательным пальцами правой руки. Он не чувствовал ни напряжения,
ни тяги и держал леску легко, не сжимая. Но вот она дрогнула снова.
На этот раз рывок был осторожный и не сильный, и старик в точности
знал, что это значит. На глубине в сто морских саженей марлин пожирал сардины, которыми были унизаны остриё и полукружие крючка, там, где этот выкованный вручную крючок вылезал из головы небольшого тунца.
Старик, легонько придерживая бечеву, левой рукой осторожно отвязал её от удилища. Теперь она могла незаметно для рыбы скользить
у него между пальцами.
«Там, далеко от берега, да ещё в это время года, рыба, наверно,
огромная. Ешь, рыба. Ешь. Ну, ешь же, пожалуйста. Сардины такие
свеженькие, а тебе так холодно в воде, на глубине в шестьсот футов, холодно и темно. Поворотись ещё разок в темноте, ступай назад и поешь!»
Он почувствовал лёгкий, осторожный рывок, а затем и более сильный, — видно, одну из сардин оказалось труднее сорвать с крючка.
Потом всё стихло.
219
— Ну же, — сказал старик вслух, — поворотись ещё разок. Понюхай. Разве они не прелесть? Покушай хорошенько. А за ними, глядишь, настанет черёд попробовать тунца! Он ведь твёрдый, прохладный, прямо объедение. Не стесняйся, рыба. Ешь, прошу тебя.
Он ждал, держа бечеву между большим и указательным пальцами,
следя одновременно за ней и за другими лесками, потому что рыба
могла переплыть с места на место. И вдруг он снова почувствовал лёгкое, чуть приметное подёргивание лески.
— Клюнет, — сказал старик вслух. — Клюнет, дай ей бог здоровья!
Но она не клюнула. Она ушла, и леска была неподвижна.
— Она не могла уйти, — сказал старик. — Видит бог, она не могла
уйти. Она просто поворачивается и делает заплыв. Может быть, она
уже попадалась на крючок и помнит об этом.
Тут он снова почувствовал лёгкое подёргивание лески, и у него отлегло от сердца.
— Я же говорил, что она только поворачивается, — сказал старик. — Теперь-то уж она клюнет!
Он был счастлив, ощущая, как рыба потихоньку дёргает леску,
и вдруг почувствовал какую-то невероятную тяжесть. Он почувствовал
вес огромной рыбы и, выпустив бечеву, дал ей скользить вниз, вниз,
вниз, разматывая за собой один из запасных мотков. Леска уходила
вниз, легко скользя между пальцами, но, хотя он едва придерживал её, он всё же чувствовал огромную тяжесть, которая влекла её за
собой.
— Что за рыба! — сказал он вслух. — Зацепила крючок губой и хочет удрать вместе с ним подальше.
«Она всё равно повернётся и проглотит крючок», — подумал старик. Однако он не произнёс своей мысли вслух, чтобы не сглазить. Он
знал, как велика эта рыба, и мысленно представлял себе, как она уходит в темноте всё дальше с тунцом, застрявшим у неё поперёк пасти.
На какой-то миг движение прекратилось, но он по-прежнему ощущал
вес рыбы. Потом тяга усилилась, и он снова отпустил бечеву. На секунду он придержал её пальцами; напряжение увеличилось, и бечеву
потянуло прямо вниз.
— Клюнула, — сказал старик. — Пусть теперь поест как следует.
Он позволил лесе скользить между пальцами, а левой рукой привязал свободный конец двух запасных мотков к петле двух запасных
мотков второй удочки. Теперь всё было готово. У него в запасе было
три мотка лесы по сорок саженей в каждом, не считая той, на которой
он держал рыбу.
— Поешь ещё немного, — сказал он. — Ешь, не стесняйся.
«Ешь так, чтобы остриё крючка попало тебе в сердце и убило тебя
насмерть, — подумал он. — Всплыви сама и дай мне всадить в тебя
гарпун. Ну вот и ладно. Ты готова? Насытилась вволю?»
— Пора! — сказал он вслух и, сильно дёрнув обеими руками лесу,
выбрал около ярда, а потом стал дёргать её снова и снова, подтягивая
поочередно то одной, то другой рукой и напрягая при каждом рывке
всю силу рук и тела.
220
Усилия его были тщетны. Рыба медленно уходила прочь, и старик
не мог приблизить её к себе ни на дюйм. Леска у него была крепкая,
рассчитанная на крупную рыбу, и он перекинул её за спину и натянул
так туго, что по ней запрыгали водяные капли. Затем леса негромко
зашла в воду, а он всё держал её, упершись в сиденье и откинув назад
туловище. Лодка начала чуть заметно отходить на северо-запад.
Рыба плыла и плыла, и они медленно двигались по зеркальной
воде. Другие наживки всё ещё были закинуты в море, но старик ничего не мог с этим поделать.
— Эх, если бы со мной был мальчик! — сказал он. — Меня тащит
на буксире рыба, а я сам изображаю буксирный битенг1. Можно бы
привязать бечёвку к лодке. Но тогда рыба, чего доброго, сорвётся.
Я должен крепко держать её и отпускать по мере надобности. Слава
богу, что она плывёт, а не опускается на дно... А что я стану делать,
если она решит пойти на глубину? Что я стану делать, если она пойдёт
камнем на дно и умрёт? Не знаю. Там будет видно. Мало ли что я могу
сделать!
Он упирался в бечеву спиной и следил за тем, как косо она уходит
в воду и как медленно движется лодка на северо-запад.
«Скоро она умрёт, — думал старик. — Не может она плыть вечно».
Однако прошло четыре часа, рыба всё так же неутомимо уходила
в море, таща за собой лодку, а старик всё так же сидел, упершись
в банку, с натянутой за спиной лесой.
— Когда я поймал её, был полдень, — сказал старик. — А я до сих
пор её не видел.
Перед тем как поймать рыбу, он плотно натянул соломенную шляпу на лоб, и теперь она больно резала ему кожу. Старику хотелось
пить, и, осторожно став на колени, так, чтобы не держать бечеву, он
подполз как можно ближе к носу и одной рукой достал бутылку. Откупорив её, он отпил несколько глотков. Потом он отдохнул, привалившись к носу. Он отдыхал, сидя на мачте со скатанным парусом,
стараясь не думать, а только беречь силы.
Потом он поглядел назад и обнаружил, что земли уже не видно.
«Невелика беда, — подумал он. — Я всегда смогу вернуться, правя
на огни Гаваны. До захода солнца осталось два часа, может быть, она
ещё выплывет за это время. Если нет, то она, может быть, выплывет
при свете луны. А то, может быть, на рассвете. Руки у меня не сводит,
и я полон сил. Проглотила ведь крючок она, а не я. Но что же это
за рыба, если она так тянет! Видно, она крепко прикусила проволоку.
Хотелось бы мне на неё поглядеть хоть одним глазком, только бы
я знал, с кем имею дело».
Насколько старик мог судить по звёздам, рыба плыла всю ночь,
не меняя направления. После захода солнца похолодало, пот высох
у него на спине, на плечах и на старых ногах, и ему стало холодно.
Днём он вытащил мешок, покрывавший ящик с наживкой, и расстелил его на солнце сушить. Когда солнце зашло, он обвязал мешок во1
Битенг — металлическая тумба, служащая для крепления буксирного троса (каната).
221
круг шеи и спустил его себе на спину, осторожно просунув под бечеву.
Бечева резала теперь куда меньше, и, прислонившись к носу, он согнулся так, что ему было почти удобно. По правде говоря, в этом положении ему было чуточку легче, но он уверял себя, что теперь ему
почти совсем удобно.
«Я ничего не могу с ней поделать, но и она ничего не может поделать со мной, — сказал себе старик. — Во всяком случае до тех пор,
пока не придумает какой-нибудь новый фокус».
Разок он встал, чтобы помочиться через борт лодки, поглядеть
на звёзды и определить, куда идёт лодка. Бечева казалась тоненьким
лучиком, уходящим от его плеча прямо в воду. Теперь они двигались
медленнее, и огни Гаваны потускнели, — по-видимому, течение уносило их на восток. «Раз огни Гаваны исчезают — значит, мы идём всё
больше на восток, — подумал старик. — Если бы рыба не изменила
своего курса, я их видел бы ещё много часов. Интересно, чем окончились сегодня матчи? Хорошо бы иметь на лодке радио!» Но он прервал
свои мысли: «Не отвлекайся! Думай о том, что ты делаешь. Думай,
чтобы не совершить какую-нибудь глупость».
Вслух он сказал:
— Жаль, что со мной нет мальчика. Он бы мне помог и увидел бы
всё это сам.
«Нельзя, чтобы в старости человек оставался один, — думал
он. — Однако это неизбежно. Не забыть бы мне съесть тунца, покуда
он не протух, ведь мне нельзя терять силы. Не забыть бы мне съесть
его утром, даже если я совсем не буду голоден. Только бы не забыть», —
повторял он себе.
Ночью к лодке подплывали две морские свиньи, и старик слышал, как громко пыхтит самец и чуть слышно, словно вздыхая, пыхтит самка.
— Они хорошие, — сказал старик. — Играют, дурачатся и любят
друг друга. Они нам родня, совсем как летучая рыба.
Потом ему стало жалко большую рыбу, которую он поймал на крючок. «Ну не чудо ли эта рыба, и один бог знает, сколько лет она прожила на свете. Никогда ещё мне не попадалась такая сильная рыба.
И подумать только, как странно она себя ведёт! Может быть, она потому не прыгает, что уж больно умна. Ведь она погубила бы меня, если
бы прыгнула или рванула изо всех сил вперёд. Но, может быть, она
не раз уже попадалась на крючок и понимает, что так ей лучше бороться за жизнь. Почём ей знать, что против неё всего один человек,
да и тот старик. Но какая большая эта рыба и сколько она принесёт
денег, если у неё вкусное мясо! Она схватила наживку, как самец, тянет, как самец, и борется со мной без всякого страха. Интересно, знает она, что ей делать, или плывёт очертя голову, как и я?»
Он вспомнил, как однажды поймал на крючок самку марлина. Самец всегда подпускает самку к пище первую, и, попавшись на крючок,
самка со страха вступила в яростную, отчаянную борьбу, которая быстро её изнурила, а самец, ни на шаг не отставая от неё, плавал и кружил вместе с ней по поверхности моря. Он плыл так близко, что ста-
222
рик боялся, как бы он не перерезал лесу хвостом, острым, как серп,
и почти такой же формы. Когда старик зацепил самку багром и стукнул её дубинкой, придерживая острую, как рапира, пасть с шершавыми краями, когда он бил её дубинкой по черепу до тех пор, пока цвет
её не стал похож на цвет амальгамы, которой покрывают обратную
сторону зеркала, и когда потом он с помощью мальчика втаскивал её
в лодку, самец оставался рядом. Потом, когда старик стал сматывать
лесу и готовить гарпун, самец высоко подпрыгнул в воздух возле лодки, чтобы поглядеть, что стало с его подругой, а затем глубоко ушёл
в воду, раскинув светло-сиреневые крылья грудных плавников, и широкие сиреневые полосы у него на спине были ясно видны. Старик
не мог забыть, какой он был красивый. И он не покинул свою подругу до конца.
«Ни разу в море я не видел ничего печальнее, — подумал старик. — Мальчику тоже стало грустно, и мы попросили у самки прощения и быстро разделали её тушу».
— Жаль, что со мной нет мальчика, — сказал он вслух и поудобнее
примостился к округлым доскам носа, всё время ощущая через бечеву,
которая давила ему на плечи, могучую силу большой рыбы, неуклонно уходившей к какой-то своей цели.
— Подумать только, что благодаря моему коварству ей пришлось
изменить своё решение!
«Её судьба была оставаться в тёмной глубине океана, вдали от всяческих ловушек, приманок и людского коварства. Моя судьба была
отправиться к ней в одиночку и найти её там, куда не проникал
ни один человек. Ни один человек на свете. Теперь мы связаны друг
с другом с самого полудня. И некому помочь ни ей, ни мне. Может
быть, мне не нужно было становиться рыбаком, — думал он. — Но ведь
для этого я родился. Только бы не забыть съесть тунца, когда рассветёт».
Незадолго до восхода солнца клюнуло на одну из наживок за спиной. Он услышал, как сломалось удилище и бечева заскользила через
планшир лодки. В темноте он выпростал из футляра свой нож и, перенеся всю тяжесть рыбы на левое плечо, откинулся назад и перерезал лесу на планшире. Потом он перерезал лесу, находившуюся рядом с ним, и в темноте крепко связал друг с другом концы запасных
мотков. Он ловко работал одной рукой, придерживая ногой мотки,
чтобы покрепче затянуть узел. Теперь у него было целых шесть запасных мотков лесы: по два от каждой перерезанной им бечевы и два
от лесы, на которую попалась рыба; все мотки были связаны друг
с другом.
«Когда рассветёт, — думал он, — я постараюсь достать ту же лесу,
которую я опустил на сорок саженей, и тоже её перережу, соединив
запасные мотки. Правда, я потеряю двести саженей крепкой каталонской верёвки, не говоря уже о крючках и грузилах. Ничего, это добро
можно достать снова. Но кто достанет мне новую рыбу, если на крючок попадётся какая-нибудь другая рыба и сорвёт мне эту? Не знаю,
что там сейчас клюнуло. Может быть, марлин, а может быть, и меч-
223
рыба или акула. Я даже не успел её почувствовать. Надо было побыстрее от неё отвязаться».
Вслух он сказал:
— Эх, был бы со мной мальчик!
«Но мальчика с тобой нет, — думал он. — Ты можешь рассчитывать
только на себя, и, хоть сейчас и темно, лучше бы ты попытался достать
ту, последнюю лесу, перерезать её и связать два запасных мотка».
Он так и сделал. В темноте ему было трудно работать, и один раз
рыба дёрнула так, что он свалился лицом вниз и рассёк щёку под глазом. Кровь потекла по скуле, но свернулась и подсохла, ещё не дойдя
до подбородка, а он подполз обратно к носу и привалился к нему, чтобы передохнуть. Старик поправил мешок, осторожно передвинул бечеву на новое, ещё не натруженное место и, передав весь упор на плечи,
попытался определить, сильно ли тянет рыба, а потом опустил руку
в воду, чтобы выяснить, с какой скоростью движется лодка.
«Интересно, почему она рванулась, — подумал он. — Проволока,
верно, соскользнула с большого холма её спины. Конечно, её спине
не так больно, как моей. Но не может же она тащить лодку до конца,
как бы велика она ни была! Теперь я избавился от всего, что могло
причинить мне вред, и у меня большой запас бечевы, — чего же ещё
человеку нужно?»
— Рыба, — позвал он тихонько, — я с тобой не расстанусь, пока
не умру.
«Да и она со мной, наверно, не расстанется», — подумал старик
и стал дожидаться утра. В этот предрассветный час было холодно, и он
прижался к доскам, чтобы хоть немножко согреться. «Если она терпит, значит, и я стерплю».
И заря осветила натянутую лесу, уходящую в глубину моря. Лодка
двигалась вперёд неустанно, и, когда над горизонтом появился краешек солнца, свет его упал на правое плечо старика.
— Она плывёт к северу, — сказал старик. — А течение, наверно,
отнесло нас далеко на восток. Хотел бы я, чтобы она повернула по течению. Это означало бы, что она устала.
Но когда солнце поднялось выше, старик понял, что рыба и не думала уставать. Одно лишь было отрадно: уклон, под которым леса уходила в воду, показывал, что рыба плыла теперь на меньшей глубине.
Это отнюдь не означало, что она непременно вынырнет на поверхность.
Однако вынырнуть она всё же могла.
— Господи, заставь её вынырнуть! — сказал старик. — У меня хватит бечевы, чтобы с ней справиться.
«Может быть, если мне удастся немножко усилить тягу, ей будет больно и она выпрыгнет, — подумал старик. — Теперь, когда стало
светло, пусть она выпрыгнет. Тогда пузыри, которые у неё идут вдоль
хребта, наполнятся воздухом и она не сможет больше уйти в глубину,
чтобы там умереть».
Он попытался натянуть бечеву потуже, но с тех пор, как он поймал рыбу, леса и так была натянута до отказа, и, когда он откинулся
назад, чтобы натянуть её ещё крепче, она больно врезалась в спину,
224
и он понял, что у него ничего не выйдет. «А дёргать нельзя, — подумал
он. — Каждый рывок расширяет рану, которую нанёс ей крючок,
и, если рыба вынырнет, крючок может вырваться совсем. Во всяком
случае я чувствую себя лучше теперь, когда светит солнце, и на этот
раз мне не надо на него смотреть».
Лесу опутали жёлтые водоросли, но старик был рад им, потому
что они задерживали ход лодки. Это были те самые жёлтые водоросли,
которые так светились ночью.
— Рыба, — сказал он, — я тебя очень люблю и уважаю. Но я убью
тебя прежде, чем настанет вечер.
«Будем надеться, что это мне удастся», — подумал он.
С севера к лодке приблизилась маленькая птичка. Она летела низко над водой. Старик видел, что она очень устала.
Птица села на корму отдохнуть. Потом она покружилась у старика
над головой и уселась на бечеву, где ей было удобнее.
— Сколько тебе лет? — спросил старик. — Наверно, это твоё первое
путешествие?
Птица посмотрела на него в ответ. Она слишком устала, чтобы проверить, достаточно ли прочна бечева, и лишь покачивалась, обхватив
её своими нежными лапками.
— Не бойся, верёвка натянута крепко, — заверил её старик. — Даже
слишком крепко. Тебе не полагалось бы так уставать в безветренную
ночь. Ах, не те нынче пошли птицы!
«А вот ястребы, — подумал он, — выходят в море вам навстречу».
Но он не сказал этого птице, да она всё равно его бы не поняла. Ничего, сама скоро всё узнает про ястребов.
— Отдохни хорошенько, маленькая птичка, — сказал он. — А потом лети к берегу и борись, как борется человек, птица или рыба.
Разговор с птицей его подбодрил, а то спина у него совсем одеревенела за ночь, и теперь ему было по-настоящему больно.
— Побудь со мной, если хочешь, птица, — сказал он. — Жаль, что
я не могу поставить парус и привезти тебя на сушу, хотя сейчас и поднимается лёгкий ветер. Но у меня тут друг, которого я не могу покинуть.
В это мгновенье рыба внезапно рванулась и повалила старика на
нос; она стащила бы его за борт, если бы он не упёрся в него руками
и не отпустил бы лесу.
Когда бечева дернулась, птица взлетела, и старик даже не заметил,
как она исчезла. Он пощупал лесу правой рукой и увидел, что из руки
течёт кровь.
— Верно, рыбе тоже стало больно, — сказал он вслух и потянул
бечеву, проверяя, не сможет ли он повернуть рыбу в другую сторону.
Натянув лесу до отказа, он снова замер в прежнем положении.
— Худо тебе, рыба? — спросил он. — Видит бог, мне и самому не
легче.
Он поискал глазами птицу, потому что ему хотелось с кем-нибудь
поговорить. Но птицы нигде не было.
«Недолго же ты побыла со мной, — подумал старик. — Но там,
куда ты полетела, ветер много крепче, и он будет дуть до самой суши.
225
Как же это я позволил рыбе поранить меня одним быстрым рывком?
Верно, я совсем поглупел. А может быть, просто загляделся на птичку
и думал только о ней? Теперь я буду думать о деле и съем тунца, чтобы набраться сил».
— Жаль, что мальчик не со мной и что у меня нет соли, — сказал
он вслух.
Переместив тяжесть рыбы на левое плечо и осторожно став на колени, он вымыл руку, подержав её с минуту в воде и наблюдая за тем,
как расплывается кровавый след, как мерно обтекает руку встречная
струя.
— Теперь рыба плывёт куда медленнее, — сказал он вслух.
Старику хотелось подольше подержать руку в солёной воде, но он
боялся, что рыба снова дёрнет, поэтому он поднялся на ноги, натянул
спиною лесу и подержал руку на солнце. На ней была всего одна ссадина от бечевы, рассёкшей мякоть, но как раз на той части руки, которая
нужна была ему для работы. Старик понимал, что сегодня ему ещё
не раз понадобятся руки, и огорчался, что поранил их в самом начале.
— Теперь, — сказал он, когда рука обсохла, — я должен съесть
тунца. Я могу достать его багром и поесть как следует.
Старик снова опустился на колени и, пошарив багром под кормой,
отыскал там тунца. Он подтащил его к себе, стараясь не потревожить
мотки лесы. Снова переместив всю тяжесть рыбы на левое плечо и упираясь о борт левой рукой, он снял тунца с крючка и положил багор
на место. Он прижал тунца коленом и стал вырезать со спины и от
затылка до хвоста продольные куски тёмно-красного мяса. Нарезав
шесть клинообразных кусков, он разложил их на досках носа, вытер
нож о штаны, поднял скелет тунца за хвост и выкинул его в море.
— Пожалуй, целого куска мне не съесть, — сказал он и перерезал
один из кусков пополам.
Старик чувствовал, как сильно, не ослабевая, тянет большая рыба,
а левую руку у него совсем свело. Она судорожно сжимала тяжёлую
верёвку, и старик поглядел на неё с отвращением.
— Ну что это за рука, ей-богу! — сказал он. — Ладно, затекай, если
уж так хочешь. Превращайся в птичью лапу, тебе это всё равно не поможет.
«Поешь, — подумал он, поглядев в мутную воду и на косую линию
уходящей от неё бечевы, — и твоя рука станет сильнее. Чем она виновата? Ведь ты уж столько часов подряд держишь рыбу. Но ты не расстанешься с ней до конца. А пока что поешь».
Он взял кусок рыбы, положил его в рот и стал медленно жевать.
Вкус был не такой уж противный.
«Жуй хорошенько, — думал он, — чтобы не потерять ни капли соков. Неплохо было бы приправить её лимоном или хотя бы солью».
— Ну, как ты себя чувствуешь, рука? — спросил он затёкшую
руку, которая одеревенела почти как у покойника. — Ради тебя я съем
ещё кусочек.
Старик съел вторую половину куска, разрезанного надвое. Он старательно разжевал его, а потом выплюнул кожу.
226
— Ну как, рука, полегчало? Или ты ещё ничего не почувствовала?
Он взял ещё один кусок и тоже съел его.
«Это здоровая, полнокровная рыба, — подумал он. — Хорошо,
что мне попался тунец, а не макрель. Макрель слишком сладкая.
А в этой рыбе почти нет сладости, и она сохранила всю свою питательность. Однако нечего отвлекаться посторонними мыслями, — подумал
он. — Жаль, что у меня нет хоть щепотки соли. И я не знаю, провялится остаток рыбы на солнце или протухнет, поэтому давай-ка лучше
я её съем, хоть я и не голоден. Большая рыба ведёт себя тихо и спокойно. Я доем тунца и тогда буду готов».
— Потерпи, рука, — сказал он. — Видишь, как я ради тебя стараюсь.
«Следовало бы мне покормить и большую рыбу, — подумал он. —
Ведь она моя родня. Но я должен убить её, а для этого мне нужны
силы».
Медленно и добросовестно старик съел все клинообразные куски
тунца. Обтирая руку о штаны, он выпрямился.
— Ну вот, — сказал он. — Теперь, рука, ты можешь отпустить
лесу; я совладаю с ней одной правой, покуда ты не перестанешь валять
дурака.
Левой ногой он прижал толстую бечеву, которую раньше держала
его левая рука, и откинулся назад, перенеся тяжесть рыбы на спину.
— Дай бог, чтобы у меня прошла судорога! — сказал он. — Кто знает, что ещё придёт в голову этой рыбе.
«По виду она спокойна, — подумал он, — и действует обдуманно.
Но что она задумала? И что собираюсь делать я? Мой план я должен
тут же приспособить к её плану, ведь она такая громадина. Если она
выплывет, я смогу её убить. А если она так и останется в глубине?
Тогда я останусь с нею».
Он потёр сведённую судорогой руку о штаны и попытался разжать
пальцы. Но рука не разгибалась. «Может быть, она разожмётся от
солнца, — подумал он. — Может быть, она разожмётся, когда желудок
переварит сырого тунца. Если она мне уж очень понадобится, я её
разожму, чего бы мне это ни стоило. Но сейчас я не хочу применять
силу. Пускай она разожмётся сама и оживёт по своей воле. Как-никак,
ночью ей от меня досталось, когда нужно было перерезать и связать
друг с другом все мои лесы».
Старик поглядел вдаль и понял, как он теперь одинок. Но он видел
разноцветные солнечные лучи, преломляющиеся в тёмной глубине, натянутую, уходящую вниз бечеву и странное колыхание морской глади.
Облака кучились, предвещая пассат, и, глядя вперёд, он заметил
над водою стаю диких уток, резко очерченных в небе; вот стая расплылась, потом опять обрисовалась ещё чётче, и старик понял, что человек в море никогда не бывает одинок.
Он подумал о том, как некоторым людям бывает страшно оставаться
в открытом море в маленькой лодке, и решил, что страх их обоснован
в те месяцы, когда непогода налетает внезапно. Но теперь ведь стоит
пора ураганов, а пока урагана нет, это время самое лучшее в году.
227
Если ураган близится, в море всегда можно увидеть его признаки
в небе за много дней вперёд. На суше их не видят, думал старик, потому что не знают, на что смотреть. Да на суше и форма облаков совсем
другая. Однако сейчас урагана ждать нечего.
Он поглядел на небо и увидел белые кучевые облака, похожие
на его любимое мороженое, а над ними, в высоком сентябрьском небе,
прозрачные клочья перистых облаков.
— Скоро поднимется лёгкий бриз, — сказал старик. — А он куда
выгоднее мне, чем тебе, рыба.
Левая рука его всё ещё была сведена судорогой, но он уже мог потихоньку ею шевелить.
«Ненавижу, когда у меня сводит руку, — подумал он. — Собственное тело — и такой подвох! Унизительно, когда тебя на людях мучает
понос или рвота от отравления рыбой. Но судорога (он мысленно называл её calambre) особенно унижает тебя, когда ты один».
«Если бы со мной был мальчик, — подумал он, — он растёр бы мне
руку от локтя донизу. Но ничего, она оживёт и так».
И вдруг, ещё прежде, чем он заметил, как изменился уклон, под которым леса уходит в воду, его правая рука почувствовала, что тяга
ослабела. Он откинулся назад, изо всех сил заколотил левой рукой
по бедру и тут увидел, что леса медленно пошла кверху.
— Поднимается, — сказал он. — Ну-ка, рука, оживай! Пожалуйста!
Леса вытягивалась в длину всё больше и больше, и наконец поверхность океана перед лодкой вздулась, и рыба вышла из воды. Она всё
выходила и выходила, и казалось, ей не будет конца, а вода потоками
скатывалась с её боков. Вся она горела на солнце, голова и спина у неё
были тёмно-фиолетовые, а полосы на боках казались при ярком свете
очень широкими и нежно-сиреневыми. Вместо носа у неё был меч,
длинный, как бейсбольная бита, и острый на конце, как рапира. Она
поднялась из воды во весь рост, снова опустилась бесшумно, как пловец, и едва ушёл в глубину её огромный хвост, похожий на лезвие
серпа, как леса начала стремительно разматываться.
— Она на два фута длиннее моей лодки, — сказал старик.
Леса уходила в море быстро, но равномерно, и рыба явно не была
напугана. Старик обеими руками натягивал лесу до отказа. Он знал,
что, если ему не удастся замедлить ход рыбы таким же равномерным
сопротивлением, она заберёт все запасы его бечевы и сорвётся.
«Она громадина, эта рыба, и я не дам ей почувствовать свою силу, — думал он. — Нельзя, чтобы она поняла, что может сделать со
мной, если пустится наутёк. На её месте я бы сейчас поставил всё на
карту и шёл бы вперёд до тех пор, покуда что-нибудь не лопнет. Но
рыбы, слава богу, не так умны, как люди, которые их убивают; хотя
в них гораздо больше и ловкости и благородства».
Старик встречал на своём веку много больших рыб. Он видел много рыб, весивших более тысячи фунтов, и сам поймал в своё время две
такие рыбы, но никогда ещё ему не приходилось делать это в одиночку. А теперь один, в открытом море, он был накрепко привязан к такой большой рыбе, какой он никогда не видел, о какой даже никогда
228
не слышал, и его левая рука по-прежнему была сведена судорогой,
как сжатые когти орла.
«Ну, рука у меня разойдётся, — подумал он. — Конечно, разойдётся, хотя бы для того, чтобы помочь правой руке. Жили-были три брата: рыба и мои две руки... Непременно разойдётся. Просто стыд, что её
свело».
Рыба замедлила ход и теперь шла с прежней скоростью. «Интересно, почему она вдруг вынырнула, — размышлял старик. — Можно
подумать, что она вынырнула только для того, чтобы показать мне,
какая она громадная. Ну что ж, теперь я знаю. Жаль, что я не могу
показать ей, что я за человек. Положим, она бы тогда увидела мою
сведённую руку. Пусть она думает обо мне лучше, чем я на самом деле,
и я тогда буду и в самом деле лучше. Хотел бы я быть рыбой и чтобы у меня было всё, что есть у неё, а не только воля и сообразительность».
Он покойно уселся, прислонившись к дощатой обшивке, безропотно
перенося мучившую его боль, а рыба всё так же упорно плыла вперёд,
и лодка медленно двигалась по тёмной воде. Восточный ветер поднял
небольшую волну.
К полудню левая рука у старика совсем ожила.
— Туго тебе теперь придётся, рыба, — сказал он и передвинул бечеву на спине.
Ему было хорошо, хотя боль и донимала его по-прежнему; только
он не признавался себе в том, как ему больно.
— В Бога я не верую, — сказал он. — Но я прочту десять раз «Отче
наш» и столько же раз «Богородицу», чтобы поймать эту рыбу. Я дам
обет отправиться на богомолье, если я её и впрямь поймаю. Даю слово.
Старик стал читать молитву. По временам он чувствовал себя таким
усталым, что забывал слова, и тогда он старался читать как можно
быстрее, чтобы слова выговаривались сами собой. «Богородицу» повторять легче, чем «Отче наш», думал он.
— Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобой.
Благословенна Ты в жёнах, и благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших. Аминь. — Потом он добавил: — Пресвятая
Богородица, помолись, чтобы рыба умерла. Хотя она и очень замечательная.
Прочтя молитву и почувствовав себя куда лучше, хотя боль нисколько не уменьшилась, а может быть, даже стала сильнее, он прислонился к обшивке носа и начал машинально упражнять пальцы левой руки. Солнце жгло, ветерок потихоньку усиливался.
— Пожалуй, стоит опять наживить маленькую удочку, — сказал
старик. — Если рыба не всплывёт и в эту ночь, мне нужно будет снова
поесть, да и воды в бутылке осталось совсем немного. Не думаю, что
здесь можно поймать что-нибудь, кроме макрели. Но если не съесть её
сразу, она не так уж противна. Хорошо бы ночью ко мне в лодку попалась летучая рыба. Но у меня нет света, которым я мог бы её заманить. Сырая летучая рыба — отличная еда, и потрошить её не надо.
А мне теперь надо беречь силы. Ведь не знал же я, господи, что она
229
такая большая!.. Но я её всё равно одолею, — сказал он. — При всей
её величине и при всём её великолепии.
«Хоть это и несправедливо, — прибавил он мысленно, — но я докажу ей, на что способен человек и что он может вынести».
— Я ведь говорил мальчику, что я необыкновенный старик, — сказал он. — Теперь пришла пора это доказать.
Он доказывал это уже тысячу раз. Ну так что ж? Теперь приходится доказывать это снова. Каждый раз счёт начинается сызнова; поэтому когда он что-нибудь делал, то никогда не вспоминал о прошлом.
«Хотел бы я, чтобы она заснула, тогда и я смогу заснуть и увидеть
во сне львов, — подумал он. — Почему львы? Это самое лучшее, что
у меня осталось?»
— Не надо думать, старик, — сказал он себе. — Отдохни тихонько,
прислонясь к доскам, и ни о чём не думай. Она сейчас трудится. Ты же
пока трудись как можно меньше.
Солнце клонилось к закату, а лодка всё плыла и плыла, медленно
и неуклонно. Восточный ветерок подгонял её, и старик тихонько покачивался на невысоких волнах, легко и незаметно перенося боль
от верёвки, врезавшейся ему в спину.
Как-то раз после полудня леса снова стала подниматься. Однако
рыба просто продолжала свой ход на несколько меньшей глубине.
Солнце припекало старику спину, левое плечо и руку. Из этого он понял, что рыба свернула на северо-восток.
Теперь, когда он уже однажды взглянул на рыбу, он мог себе представить, как она плывёт под водой, широко, словно крылья, раскинув
фиолетовые грудные плавники и прорезая тьму могучим хвостом.
«Интересно, много ли она видит на такой глубине? — подумал старик. — У неё огромные глаза, а лошадь, у которой глаз куда меньше,
видит в темноте. Когда-то и я хорошо видел в темноте. Конечно, не
в полной тьме, но зрение у меня было почти как у кошки».
Солнце и беспрестанное упражнение пальцев совершенно расправили сведённую судорогой левую руку, и старик стал постепенно перемещать на неё тяжесть рыбы, двигая мускулами спины, чтобы хоть
немного ослабить боль от бечевы.
— Если ты ещё не устала, — сказал он вслух, — ты и в самом
деле — необыкновенная рыба.
Сам он теперь чувствовал огромную усталость, знал, что скоро наступит ночь, и поэтому старался думать о чём-нибудь постороннем. Он
думал о знаменитых бейсбольных лигах, которые для него были Gran
Ligas1, и о том, что сегодня нью-йоркские «Янки» должны были играть
с «Тиграми» из Детройта.
«Вот уже второй день, как я ничего не знаю о результатах juegos2, —
подумал он. — Но я должен верить в свои силы и быть достойным великого Ди Маджио, который всё делает великолепно, что бы ни делал,
даже тогда, когда страдает от костной мозоли в пятке. Что такое кост1
2
Великие лиги (исп.).
Спортивные игры (исп.).
230
ная мозоль? Un espuelo de hueso. У нас, рыбаков, их не бывает. Неужели это так же больно, как удар в пятку шпорой бойцовского петуха?
Я, кажется, не вытерпел бы ни такого удара, ни потери глаза или обоих глаз и не смог бы продолжать драться, как это делают бойцовые
петухи. Человек — это не бог весть что рядом с замечательными зверями и птицами. Мне бы хотелось быть тем зверем, что плывёт сейчас
там, в морской глубине».
— Да, если только не нападут акулы, — сказал он вслух. — Если
нападут акулы — помилуй господи и её, и меня!
«Неужели ты думаешь, что великий Ди Маджио держался бы
за рыбу так же упорно, как ты? — спросил он себя. — Да, я уверен,
что он поступил так же, а может быть, и лучше, потому что он моложе и сильнее меня. К тому же отец его был рыбаком... А ему очень
больно от костной мозоли?»
— Не знаю, — сказал он вслух. — У меня никогда не было костной
мозоли.
Когда солнце зашло, старик, чтобы подбодриться, стал вспоминать,
как однажды в таверне Касабланки он состязался в силе с могучим негром из Сьенфуэгос, самым сильным человеком в порту. Они просидели целые сутки друг против друга, уперев локти в черту, прочерченную
мелом на столе, не сгибая рук и крепко сцепив ладони. Каждый из них
пытался пригнуть руку другого к столу. Кругом держали пари, люди
входили и выходили из комнаты, тускло освещённой керосиновыми
лампами, а он не сводил глаз с руки и локтя негра и с его лица. После
того как прошли первые восемь часов, судьи стали меняться через
каждые четыре часа, чтобы поспать. Из-под ногтей обоих противников сочилась кровь, а они всё глядели друг другу в глаза, и на руку,
и на локоть. Люди, державшие пари, входили и выходили из комнаты; они рассаживались на высокие стулья у стен и ждали, чем это
кончится. Деревянные стены были выкрашены в ярко-голубой цвет,
и лампы отбрасывали на них тени. Тень негра была огромной и шевелилась на стене, когда ветер раскачивал лампы.
Преимущество переходило от одного к другому всю ночь напролёт;
негра поили ромом и зажигали ему сигарету. Выпив рому, негр делал
отчаянное усилие, и один раз ему удалось пригнуть руку старика — который тогда не был стариком, и звался Сантьяго El Campeon1 — почти
на три дюйма. Но старик снова выпрямил руку. После этого он уже
больше не сомневался, что победит негра, который был хорошим парнем и большим силачом. И на рассвете, когда люди стали требовать,
чтобы судья объявил ничью, а тот только пожал плечами, старик внезапно напряг свои силы и стал пригибать руку негра всё ниже и ниже,
покуда она не легла на стол.
Поединок начался в воскресенье и окончился утром в понедельник.
Многие из державших пари требовали признать ничью, потому что им
пора было выходить на работу в порт, где они грузили уголь для Гаванской угольной компании или мешки с сахаром. Если бы не это,
1
Чемпион (исп.).
231
все бы хотели довести состязание до конца. Но старик победил, и победил до того, как грузчикам надо было выйти на работу.
Долго потом его звали Чемпионом, а весною он дал негру отыграться. Однако ставки уже были не такими высокими, и он легко победил
во второй раз, потому что вера в свою силу у негра из Сьенфуэгос была
сломлена ещё в первом матче. Потом Сантьяго участвовал ещё в нескольких состязаниях, но скоро бросил это дело. Он понял, что если
очень захочет, то победит любого противника, и решил, что такие поединки вредны для его правой руки, которая ему нужна для рыбной
ловли. Несколько раз он пробовал посостязаться левой рукой. Но его
левая рука всегда подводила его, не желала ему подчиняться, и он ей
не доверял.
«Солнце её теперь пропечёт хорошенько, — подумал он. — Она не
посмеет больше затекать мне назло, разве что ночью будет очень холодно. Хотел бы я знать, что мне сулит эта ночь».
Над головой у него прошёл самолёт, летевший в Майами, и старик видел, как тень самолёта спугнула и подняла в воздух стаю летучих рыб.
— Раз здесь так много летучей рыбы, где-то поблизости должна
быть и макрель, — сказал он и посильнее упёрся спиною в лесу, проверяя, нельзя ли подтащить рыбу хоть чуточку ближе. Но он скоро
понял, что это невозможно, потому что бечева снова задрожала, как
струна, угрожая лопнуть, и по ней запрыгали водяные капли. Лодка
медленно плыла вперёд, и он провожал глазами самолёт, пока тот не
скрылся.
«Наверно, с самолёта всё выглядит очень странно, — подумал
он. — Интересно, какой вид с такой высоты имеет море? Они оттуда
могли бы прекрасно разглядеть мою рыбу, если бы не летели так высоко. Хотел бы я медленно-медленно лететь на высоте в двести саженей, чтобы сверху посмотреть на мою рыбу. Когда я плавал за черепахами, я, бывало, взбирался на верхушку мачты и даже оттуда
мог разглядеть довольно много. Макрель только выглядит зелёной,
на самом деле она золотистая. Но когда она по-настоящему голодна
и охотится за пищей, на боках у неё проступают фиолетовые полосы,
как у марлина. Неужели это от злости? А может быть, потому, что она
движется быстрее, чем обычно?»
Незадолго до темноты, когда они проплывали мимо большого
островка саргассовых водорослей, которые вздымались и раскачивались на лёгкой волне, словно океан обнимался с кем-то под жёлтым
одеялом, на маленькую удочку попалась макрель. Старик увидел её,
когда она подпрыгнула в воздух, переливаясь чистым золотом в последних лучах солнца, сгибаясь от ужаса пополам и бешено хлопая
по воздуху плавниками. Она подпрыгивала снова и снова, как заправский акробат, а старик перебрался на корму, присел и, придерживая
большую бечеву правой рукой и локтем, вытащил макрель левой, наступая босой левой ногой на выбранную лесу. Когда макрель была
у самой лодки и отчаянно билась и бросалась из стороны в сторону,
старик перегнулся через корму и втащил в лодку жаркую, как золото,
232
рыбу с фиолетовыми разводами. Пасть макрели судорожно сжималась,
прикусывая крючок, а длинное плоское тело, голова и хвост колотились о дно лодки, пока старик не стукнул её по горящей золотой голове, и она, задрожав, затихла.
Старик снял рыбу с крючка, снова наживил его сардиной и закинул леску за борт. Потом он медленно перебрался на нос. Обмыв левую руку, он вытер её о штаны, переместил тяжёлую бечеву с правого
плеча на левое и вымыл правую руку, наблюдая за тем, как солнце
опускается в океан и под каким уклоном тянется в воду его большая
леса.
— Всё идёт по-прежнему, — сказал он.
Но, опустив руку в воду, он почувствовал, что движение лодки
сильно замедлилось.
— Я свяжу друг с другом оба весла и прикреплю их поперёк кормы, чтобы они ночью тормозили лодку, — сказал он. — У этой рыбы
хватит сил на всю ночь. Ну, и у меня тоже.
«Пожалуй, лучше будет, если я выпотрошу макрель попозже, — подумал он, — чтобы из неё не вытекала вся кровь. Я сделаю это немного погодя и тогда же свяжу вёсла, чтобы притормозить лодку. Лучше
мне покуда не беспокоить рыбу, особенно во время захода солнца. Заход солнца дурно влияет на всякую рыбу».
Он обсушил руку на ветру, а затем, схватив ею бечеву, позволил
рыбе подтянуть себя вплотную к дощатой обшивке, переместив таким
образом упор со своего тела на лодку.
«Кое-чему я научился, — подумал он. — Пока что я с нею справляюсь. К тому же нельзя забывать, что она не ела с тех пор, как проглотила наживку, а она ведь большая и ей нужно много пищи. Я-то
съел целого тунца. Завтра я поем макрели, — старик назвал макрель
dorado. — Пожалуй, я съем кусочек, когда буду её чистить. Макрель
есть труднее, чем тунца. Но ничего на свете не даётся легко».
— Как ты себя чувствуешь, рыба? — спросил он громко. — Я себя
чувствую прекрасно. Левая рука болит меньше, и пищи хватит на целую ночь и ещё на день. Ладно, тащи лодку, рыба.
Старик совсем не так уж хорошо себя чувствовал, потому что боль,
которую причиняла его спине верёвка, почти перестала быть болью
и превратилась в глухую ломоту, а это его беспокоило. «Со мной случались вещи и похуже, — утешал он себя. — Рука у меня поранена совсем легко, а другую больше не сводит судорога. Ноги у меня в порядке. Да и в смысле пищи мне куда лучше, чем рыбе».
Было темно: в сентябре темнота всегда наступает внезапно, сразу же после захода солнца. Он лежал, прислонившись к изъеденным
солью доскам, и изо всех сил старался отдохнуть. На небе показались
первые звёзды. Он не знал названия звезды Ригель, но, увидев её, понял, что скоро покажутся и все остальные, и тогда эти далёкие друзья
будут снова с ним.
— Рыба — она тоже мне друг, — сказал он. — Я никогда не видел
такой рыбы и не слышал, что такие бывают. Но я должен её убить.
Как хорошо, что нам не приходится убивать звёзды!
233
«Представь себе: человек что ни день пытается убить луну! А луна
от него убегает. Ну, а если человеку пришлось бы каждый день охотиться за солнцем? Нет, что ни говори, нам ещё повезло», — подумал он.
Потом ему стало жалко большую рыбу, которой нечего есть, но печаль о ней нисколько не мешала его решимости её убить. Сколько людей она насытит! Но достойны ли люди ею питаться? Конечно, нет.
Никто на свете не достоин ею питаться: поглядите только, как она себя
ведёт, с каким великим благородством.
«Я многого не понимаю, — подумал он. — Но как хорошо, что нам
не приходится убивать солнце, луну и звёзды. Достаточно того, что мы
вымогаем пищу у моря и убиваем своих братьев.
Теперь мне следует подумать о тормозе из вёсел. У него есть и хорошие и дурные стороны. Я могу потерять столько бечевы, что потеряю и рыбу, если она захочет вырваться, а тормоз из вёсел лишит
лодку подвижности. Лёгкость лодки продлевает наши страдания — и мои, и рыбы, но в ней и залог моего спасения. Ведь эта рыба,
если захочет, может плыть ещё быстрее. Как бы там ни было, надо
выпотрошить макрель, пока она не протухла, и поесть немножко, чтобы набраться сил.
Теперь я отдохну ещё часок, а потом, если увижу, что рыба ничего
не замышляет, переберусь на корму, сделаю там что нужно и приму
решение насчёт вёсел. А тем временем я присмотрюсь, как она будет
себя вести. Штука с вёслами — удачная выдумка, однако сейчас надо
действовать наверняка. Рыба ещё в полной силе, и я заметил, что крючок застрял у неё в самом углу рта, а рот она держит плотно закрытым. Мучения, которые причиняет ей крючок, не так уж велики, её
гораздо больше мучит голод и ощущение опасности, которой она не понимает. Отдохни же, старик. Пусть трудится рыба, пока не настанет
твой черёд».
Он отдыхал, как ему казалось, не меньше двух часов. Луна выходила теперь поздно, и он не мог определить время. Правда, отдыхал
он только так, относительно. Он по-прежнему ощущал спиной тяжесть
рыбы, но, опершись левой рукой о планшир носа, старался переместить всё больший и больший вес на саму лодку.
«Как всё было бы просто, если бы я мог привязать бечеву к лодке! — подумал он. — Но стоит ей рвануться хотя бы легонько, — и бечева лопнет. Я должен непрерывно ослаблять тягу своим телом и быть
готов в любую минуту опустить бечеву обеими руками».
— Но ты ведь ещё не спал, старик, — сказал он вслух. — Прошло
полдня и ночь, а потом ещё день, а ты всё не спишь и не спишь. Придумай, как бы тебе поспать хоть немножко, пока она спокойна и не балует. Если ты не будешь спать, в голове у тебя помутится.
«Сейчас голова у меня ясная, — подумал он. — Даже слишком. Такая же ясная, как сёстры мои, звёзды. Но всё равно мне надо поспать.
И звёзды спят, и луна спит, и солнце спит, и даже океан спит в те
дни, когда нет течения и стоит полная тишь. Не забудь поспать, — напомнил он себе. — Заставь себя поспать; придумай какой-нибудь про-
234
стой и верный способ, как составить бечеву. Теперь ступай на корму
и выпотроши макрель. А тормоз из вёсел — вещь опасная, если ты
заснёшь».
— Но я могу обойтись и без сна, — сказал он себе. — Да, можешь,
но и это слишком опасно.
Он стал на четвереньках перебираться на корму, стараясь не потревожить рыбу. «Она, может быть, тоже дремлет, — подумал он. —
Но я не хочу, чтобы она отдыхала. Она должна тащить лодку, пока
не умрёт».
Добравшись до кормы, он повернулся и переместил всю тяжесть
рыбы на левую руку, а правой вытащил из футляра нож. Звёзды светили ярко, и макрель хорошо было видно. Воткнув нож ей в голову,
старик вытащил её из-под настила кормы. Он придержал рыбу ногой
и быстро вспорол ей живот от хвоста до кончика нижней челюсти. Потом положил нож и правой рукой выпотрошил макрель и вырвал жабры. Желудок был тяжёлый и скользкий; разрезав его, он нашёл там
две летучие рыбы. Они были свежие и твёрдые, и он положил их рядышком на дно лодки, а внутренности выбросил за борт. Погрузившись в воду, они оставили за собой светящийся след. В бледном сиянии звёзд макрель казалась грязно-белой. Старик ободрал с одного
бока кожу, придерживая голову рыбы ногой. Потом он перевернул
макрель, снял кожу с другого бока и срезал мясо с головы до хвоста.
Выкинув скелет макрели за борт, он поглядел, не видно ли на воде
кругов, но там был только светящийся след медленно уходящего
вглубь остова рыбы. Тогда он повернулся, положил двух летучих рыб
между кусками макрельного филе и, спрятав нож в футляр, снова
осторожно перебрался на нос. Спину его пригибала тяжесть лесы, рыбу
он нёс в правой руке.
Вернувшись на нос, он разложил рыбное филе на досках и рядом
с ним положил летучих рыб. После этого он передвинул лесу на
ещё не заболевшую часть спины и снова переместил тяжесть на левую
руку, опиравшуюся о планшир. Перегнувшись через борт, он обмыл
летучую рыбу в море, замечая попутно, как быстро движется вода
у него под рукой. Рука его светилась оттого, что он сдирал ею с макрели кожу, и он смотрел, как её обтекает вода. Теперь она текла медленнее, и, потерев ребро руки о край лодки, он увидел, как неторопливо уплывают к корме частицы фосфора.
— Она либо устала, либо отдыхает, — сказал старик. — Надо поскорее покончить с едой и немножко поспать.
Он съел половину одного из филе и одну летучую рыбу, которую
предварительно выпотрошил при свете звёзд, чувствуя, как ночь становится всё холоднее.
— Что может быть вкуснее макрели, если есть её в варёном виде! — сказал он. — Но до чего же она противна сырая! Никогда больше
не выйду в море без соли и без лимона.
«Будь у меня голова на плечах, — подумал он, — я бы целый день
поливал водой нос лодки и давал ей высохнуть — к вечеру у меня
была бы соль. Да, но ведь я поймал макрель перед самым заходом
235
солнца. И всё-таки я многого не предусмотрел. Однако я сжевал целый
кусок, и меня не тошнит».
Небо на востоке затуманилось облаками, и знакомые звёзды гасли
одна за другой. Казалось, что он вступает в огромное ущелье из
облаков. Ветер стих.
— Через три или четыре дня наступит непогода, — сказал он. — Но
ещё не сегодня и не завтра. Поспи, старик, покуда рыба ведёт себя
смирно.
Он схватил лесу правой рукой и припал к руке бедром, налегая
всем телом на край лодки. Потом сдвинул бечеву на спине чуть пониже и ухватился за неё левой рукой.
«Правая рука будет держать лесу, пока не разожмётся. А если
во сне она разожмётся, меня разбудит левая рука, почувствовав,
как леса убегает в море. Конечно, правой руке будет нелегко. Но она
привыкла терпеть лишения. Если я посплю хотя бы минут двадцать
или полчаса, и то хорошо».
Он привалился к борту, перенёс тяжесть рыбы на правую руку и заснул.
Во сне он не видел львов, но зато ему приснилась огромная стая
морских свиней, растянувшаяся на восемь или на десять миль, а так
как у них была брачная пора, они высоко подпрыгивали в воздух
и ныряли обратно в ту же водяную яму, из которой появлялись.
Потом ему снилось, что он лежит на своей кровати в деревне и в хижину задувает северный ветер, отчего ему очень холодно, а правая рука
его затекла, потому что он положил её под голову вместо подушки.
И уже потом ему приснилась длинная жёлтая отмель, и он увидел,
как в сумерках из неё вышел первый лев, а за ним идут и другие; он
опёрся подбородком о борт корабля, стоящего на якоре, его обвевает
вечерним ветром с суши, он ждёт, не покажутся ли новые львы, и совершенно счастлив.
Луна уже давно взошла, но он всё спал и спал, а рыба мерно влекла лодку в ущелье из облаков.
Он проснулся от рывка; кулак правой руки ударил его в лицо,
а леса, обжигая ладонь, стремительно уходила в воду. Левой руки он
не чувствовал, поэтому он пытался затормозить бечеву правой рукой,
но бечева продолжала бешено уноситься в море. В конце концов и левая рука нащупала бечеву, он опёрся о неё спиной, и теперь леса жгла
его спину и левую руку, на которую перешла вся тяжесть рыбы. Он
оглянулся на запасные мотки лесы и увидел, что они быстро разматываются. В это мгновение рыба вынырнула, взорвав океанскую гладь,
и тяжело упала обратно в море. Потом она прыгнула опять и опять,
а лодка неслась вперёд, хотя леса и продолжала мчаться за борт, и старик натягивал её до отказа, на миг отпускал, а потом снова натягивал
изо всех сил, рискуя, что она оборвётся. Его самого притянуло вплотную к носу, лицо его было прижато к куску макрельего мяса, но он
не мог пошевелиться.
«Вот этого-то мы и ждали, — подумал он. — Теперь держись... Я ей
отплачу за лесу! Я ей отплачу!»
236
Он не мог видеть прыжков рыбы, он только слышал, как с шумом
разверзается океан и тяжёлый всплеск, когда рыба вновь падала в воду. Убегающая за борт бечева жестоко резала руки, но он заранее знал,
что так случится, и старался подставить мозолистую часть руки, чтобы леса не поранила ладонь или пальцы.
«Будь со мной мальчик, — подумал старик, — он смочил бы лесу
водой. Да, если бы мальчик был здесь! Если бы он был здесь!»
Леса всё неслась, неслась и неслась, но теперь она шла уже труднее, и он заставлял рыбу отвоёвывать каждый её дюйм. Ему удалось
поднять голову и отодвинуть лицо от макрельего мяса, которое его
скула превратила в лепёшку. Сперва он встал на колени, а потом медленно поднялся на ноги. Он всё ещё отпускал лесу, но всё скупее
и скупее. Переступив ближе к тому месту, где он в темноте мог нащупать ногой мотки бечевы, он убедился, что запас у него ещё большой. А в воде её столько, что рыбе не так-то легко будет с ней справиться.
«Ну вот, — подумал он. — Теперь она прыгнула уже больше десяти
раз и наполнила свои пузыри воздухом; теперь она уже не сможет уйти
в глубину, откуда её не достать, и умереть там. Она скоро начнёт делать круги, и тогда мне придётся поработать. Интересно, что её вывело
из себя? Голод довёл её до отчаяния или что-нибудь испугало во тьме?
Может, она вдруг почувствовала страх? Но ведь это была спокойная
и сильная рыба. Она казалась мне такой смелой и такой уверенной
в себе. Странно!»
— Лучше, старик, сам забудь о страхе и побольше верь в свои
силы, — сказал он. — Хоть ты её и держишь, ты не можешь вытянуть
ни дюйма лесы. Но скоро она начнёт делать круги.
Старик теперь удерживал лесу левой рукой и плечами; нагнувшись, он правой рукой зачерпнул воды, чтобы смыть с лица раздавленное мясо макрели. Он боялся, что его стошнит и он ослабеет. Вымыв лицо, старик опустил за борт правую руку и подержал её в соленой
воде, глядя на светлеющее небо. «Сейчас она плывёт почти прямо на
восток, — подумал он. — Это значит, что она устала и идёт по течению. Скоро ей придётся пойти кругами. Тогда-то и начнётся настоящая работа». Подержав некоторое время руку в солёной воде, он вынул и оглядел её.
— Не так страшно, — сказал он. — А боль мужчине нипочём.
Старик осторожно взял бечеву, стараясь, чтобы она не попала ни
в один из свежих порезов, и переместил вес тела таким образом, чтобы
и левую руку тоже опустить в воду через другой борт лодки.
— Для такого ничтожества, как ты, ты вела себя неплохо, — сказал он левой руке. — Но была минута, когда ты меня чуть не подвела.
«Почему я не родился с двумя хорошими руками? — думал он. —
Может, это я виноват, что вовремя не научил свою левую руку работать как следует. Но, видит бог, она сама могла научиться! Честно
говоря, она не так уж меня подвела нынче ночью; и судорогой её свело всего один раз. Но если это повторится, тогда уж лучше пусть её
совсем отрежет бечевой!»
237
Подумав это, старик сразу понял, что в голове у него помутилось.
Надо бы пожевать ещё кусочек макрели.
— Не могу, — сказал он себе. — Пусть лучше у меня будет голова
не в порядке, чем слабость от тошноты. А я знаю, что не смогу проглотить мясо после того, как на нём лежало моё лицо. Я сохраню мясо
на крайний случай, пока оно не испортится... Всё равно сейчас уже
поздно подкрепляться. Глупый старик! — выругал он себя. — Ты ведь
можешь съесть вторую летучую рыбу. Вот она лежит, выпотрошенная,
чистенькая, — и, взяв её левой рукой, он съел летучую рыбу, старательно разжёвывая кости, съел целиком, без остатка.
«Она сытнее любой другой рыбы, — подумал он. — Во всяком случае, в ней есть то, что мне нужно... Ну вот, теперь я сделал всё, что
мог. Пусть только она начнёт кружить — мы с ней сразимся».
Солнце вставало уже в третий раз с тех пор, как он вышел в море,
и тут-то рыба начала делать круги.
Он ещё не мог определить по уклону, под которым леса уходила
в море, начала ли рыба делать круги. Для этого ещё было рано. Он
только почувствовал, что тяга чуточку ослабела, и стал потихоньку
выбирать лесу правой рукой. Леса натянулась до отказа, как и прежде, но в тот самый миг, когда она, казалось, вот-вот лопнет, она
вдруг пошла свободно. Тогда старик, нагнувшись, высвободил плечи
из давившей на них бечевы и начал выбирать лесу неторопливо и равномерно.
Он работал, взмахивая обеими руками поочерёдно. Его старые ноги
и плечи помогали движению рук.
— Она делает очень большой круг, — сказал он, — но она его всётаки делает.
Внезапно движение лесы затормозилось, но он продолжал тянуть
её, покуда по ней не запрыгали блестящие на солнце водяные капли.
Потом лесу потянуло прочь, и, став на колени, старик стал нехотя отпускать её понемножку назад, в тёмную воду.
— Теперь рыба делает самую дальнюю часть своего круга, — сказал он.
«Надо держать её как можно крепче. Натянутая бечева будет всякий раз укорачивать круг. Может быть, через час я её увижу. Сперва
я должен убедить её в моей силе, а потом я её одолею».
Однако прошло два часа, а рыба всё ещё продолжала медленно кружить вокруг лодки. Со старика градом катился пот, и устал он сверх
всякой меры. Правда, круги, которые делала рыба, стали гораздо короче, и по тому, как уходила в воду леса, было видно, что рыба постепенно поднимается на поверхность.
Вот уже целый час, как у старика перед глазами прыгали чёрные
пятна, солёный пот заливал и жёг глаза, жёг рану над глазом и другую
рану — на лбу. Чёрные пятна его пугали. В них не было ничего удивительного, если подумать, с каким напряжением он тянул лесу. Но
два раза он почувствовал слабость, и это встревожило его не на шутку.
«Неужели я оплошаю и умру из-за какой-то рыбы? — спрашивал
он себя. — И главное — теперь, когда всё идёт так хорошо. Господи,
238
помоги мне выдержать! Я прочту сто раз „Отче наш“ и сто раз „Богородицу“. Только не сейчас. Сейчас не могу».
«Считай, что я их прочёл, — подумал он. — Я прочту их после».
В этот миг он почувствовал удары по бечеве, которую держал обеими руками, и рывок. Рывок был резкий и очень сильный.
«Она бьёт своим мечом по проволоке, которой привязан крючок, —
подумал старик. — Ну, конечно. Так ей и полагалось поступить. Однако это может заставить её выпрыгнуть, а я предпочёл бы, чтобы сейчас
она продолжала делать круги. Прыжки были ей нужны, чтобы набрать
воздуху, но теперь каждый новый прыжок расширит рану, в которой
торчит крючок, и рыба может сорваться».
— Не прыгай, рыба, — просил он. — Пожалуйста, не прыгай!
Рыба снова и снова ударяла по проволоке, и всякий раз, покачав
головой, старик понемногу отпускал лесу.
«Я не должен причинять ей лишнюю боль, — думал он. — Моя
боль — она при мне. С ней я могу совладать. Но рыба может обезуметь
от боли».
Через некоторое время рыба перестала биться о проволоку и начала
снова делать круги. Старик равномерно выбирал лесу. Но ему опять
стало дурно. Он зачерпнул левой рукой морской воды и вылил её себе
на голову. Потом он вылил себе на голову ещё немного воды и растёр
затылок.
— Зато у меня нет больше судороги, — сказал он. — Рыба скоро
всплывёт, а я ещё подержусь. Ты должен держаться, старик. И не смей
даже думать, что ты можешь не выдержать.
Он опустился на колени и на время снова закинул лесу себе за спину. «Покуда она кружит, я передохну, а потом встану и, когда она
подойдёт поближе, снова начну выбирать лесу».
Ему очень хотелось подольше отдохнуть на носу лодки и позволить
рыбе сделать лишний круг, не выбирая лесы. Но когда тяга показала,
что рыба повернула и возвращается к лодке, старик встал и начал тянуть бечеву, взмахивая поочерёдно руками и поворачивая из стороны
в сторону туловище, для того чтобы выбрать как можно больше лесы.
«Я устал так, как не уставал ни разу в жизни, — подумал старик, —
а между тем ветер усиливается. Правда, ветер будет кстати, когда
я повезу её домой. Мне он очень пригодится, этот ветер».
— Я отдохну, когда она пойдёт в новый круг, — сказал он. — Тем более что сейчас я себя чувствую гораздо лучше. Ещё каких-нибудь дватри круга, и рыба будет моя.
Его соломенная шляпа была сдвинута на самый затылок, и, когда
рыба повернула и стала снова тянуть, он в изнеможении повалился
на нос.
«Поработай теперь ты, рыба, — подумал он. — Я снова возьмусь
за тебя, как только ты повернёшь назад».
По морю пошла крупная волна. Но воду гнал добрый ветер, спутник ясной погоды, который был ему нужен, чтобы добраться до дому.
— Буду править на юг и на запад, — сказал он. — И всё. Разве
можно заблудиться в море? К тому же остров у нас длинный.
239
Рыбу он увидел во время её третьего круга.
Сначала он увидел тёмную тень, которая так долго проходила у него
под лодкой, что он просто глазам не поверил.
— Нет, — сказал он. — Не может быть, чтобы она была такая
большая.
Но рыба была такая большая, и к концу третьего круга она всплыла на поверхность всего в тридцати ярдах от лодки, и старик увидел,
как поднялся над морем её хвост. Он был больше самого большого серпа и над тёмно-синей водой казался бледно-сиреневым. Рыба нырнула
снова, но уже неглубоко, и старик мог разглядеть её громадное туловище, опоясанное фиолетовыми полосами. Её спинной плавник был
опущен, а огромные грудные плавники раскинуты в стороны.
Пока она делала свой круг, старик разглядел глаз рыбы и плывших
подле неё двух серых рыб-прилипал. Время от времени прилипалы
присасывались к рыбе, а потом стремглав бросались прочь. Порою же
они весело плыли в тени, которую отбрасывала большая рыба. Каждая
из прилипал была длиною более трёх футов, и, когда они плыли быстро, они извивались всем телом, как угри.
По лицу старика катился пот, но теперь уже не только от солнца.
Во время каждого нового круга, который так спокойно и, казалось, безмятежно проплывала рыба, старик выбирал всё больше лесы и теперь
был уверен, что через два круга ему удастся всадить в рыбу гарпун.
«Но я должен подтянуть её ближе, гораздо ближе, — подумал
он. — И не надо целиться в голову. Надо бить в сердце».
— Будь спокойным и сильным, старик, — сказал он себе.
Во время следующего круга спина рыбы показалась под водой,
но плыла она всё ещё слишком далеко от лодки. Рыба сделала ещё один
круг, но была по-прежнему слишком далеко от лодки, хотя и возвышалась над водой куда больше. Старик знал, что, выбери он ещё немного лесы, он мог бы подтащить рыбу к самому борту. Он уже давно
приготовил гарпун; связка тонкого троса лежала в круглой корзине,
а конец он привязал к битенгу на носу.
Рыба приближалась, делая свой круг, такая спокойная и красивая,
чуть шевеля огромным хвостом. Старик тянул лесу что было силы,
стараясь подтащить рыбу как можно ближе к лодке. На секунду рыба
слегка завалилась на бок. Потом она выпрямилась и начала новый
круг.
— Я сдвинул её с места, — сказал старик. — Я всё-таки заставил её
перевернуться.
У него снова закружилась голова, но он тянул лесу с большой рыбой изо всех сил. «Ведь мне всё-таки удалось перевернуть её на бок, —
думал он. — Может быть, на этот раз я сумею перевернуть её на спину.
Тяните! — приказал он своим рукам. — Держите меня, ноги! Послужи
мне ещё, голова! Послужи мне. Ты ведь никогда меня не подводила.
На этот раз я переверну её на спину».
Ещё задолго до того, как рыба приблизилась к лодке, он напряг все
свои силы и стал тянуть что было мочи. Но рыба лишь слегка перевернулась на бок, потом снова выпрямилась и уплыла вдаль.
240
— Послушай, рыба! — сказал ей старик. — Ведь тебе всё равно
умирать. Зачем же тебе надо, чтобы и я тоже умер?
«Этак мне ничего не добиться», — подумал старик. Во рту у него
так пересохло, что он больше не мог говорить, и не было сил дотянуться до бутылки с водой. «На этот раз я должен подтащить её к лодке, —
подумал он. — Надолго меня не хватит». — «Нет, хватит, — возразил
он себе. — Тебя, старик, хватит навеки».
Во время следующего круга старик чуть было её не достал, но рыба
снова выпрямилась и медленно поплыла прочь.
«Ты губишь меня, рыба, — думал старик. — Это, конечно, твоё право. Ни разу в жизни я не видел существа более громадного, прекрасного, спокойного и благородного, чем ты. Ну что же, убей меня. Мне
уже всё равно, кто кого убьёт. Опять у тебя путается в голове, старик!
А голова у тебя должна быть ясная. Приведи свои мысли в порядок
и постарайся переносить страдания, как человек... Или как рыба», —
мысленно добавил он.
— А ну-ка, голова, работай, — сказал он так тихо, что едва услышал свой голос. — Работай, говорят тебе.
Ещё два круга всё оставалось по-прежнему.
«Что делать? — думал старик. Всякий раз, когда рыба уходила, ему
казалось, что он теряет сознание. — Что делать? Попробую ещё раз».
Он сделал ещё попытку и почувствовал, что теряет сознание, но он
всё-таки перевернул рыбу на спину. Потом рыба перевернулась обратно и снова медленно уплыла прочь, помахивая в воздухе своим громадным хвостом.
«Попробую ещё раз», — пообещал старик, хотя руки у него совсем
ослабли и перед глазами стоял туман.
Он попробовал снова, и рыба снова ушла. «Ах, так? — подумал он
и сразу же почувствовал, что жизнь в нём замирает. — Я попробую
ещё раз».
Он собрал всю свою боль, и весь остаток своих сил, и всю свою
давно утраченную гордость и кинул их на поединок с муками, которые
терпела рыба, и тогда она перевернулась на бок и тихонько поплыла
на боку, едва-едва не доставая мечом до обшивки лодки; она чуть было
не проплыла мимо, длинная, широкая, серебряная, перевитая фиолетовыми полосами, и казалось, что ей не будет конца.
Старик бросил леску, наступил на неё ногой, поднял гарпун так
высоко, как только мог, и изо всей силы, которая у него была и которую он сумел в эту минуту собрать, вонзил гарпун рыбе в бок, как раз
позади её громадного грудного плавника, высоко вздымавшегося над
морем до уровня человеческой груди. Он почувствовал, как входит железо в мякоть, и, упёршись в гарпун, всаживал его всё глубже и глубже, помогая себе всей тяжестью своего тела.
И тогда рыба ожила, хоть и несла уже в себе смерть, — она высоко
поднялась над водой, словно хвастая своей огромной длиной и шириной, всей своей красой и мощью. Казалось, что она висит в воздухе
над стариком и лодкой. Потом она грохнулась в море, залив потоками
воды и старика, и всю его лодку.
241
Старика одолела слабость и дурнота; он почти ничего не видел. Но,
отпустив бечеву гарпуна, он стал медленно перебирать её в изрезанных
руках, а когда зрение вернулось, он увидел, что рыба лежит на спине,
серебряным брюхом кверху. Рукоятка гарпуна торчала наискось из её
спины, а море вокруг было окрашено кровью её сердца. Сначала пятно было тёмное, словно голубую воду на целую милю вглубь заполнила стая рыб. Потом пятно расплылось и стало похоже на облако. Серебристая рыба тихо покачивалась на волнах.
Старик не сводил с неё глаз, пока зрение у него опять не затуманилось. Тогда он дважды обмотал верёвку гарпуна о битенг и опустил
голову на руки.
«Что же с моей головой? — сказал он, прижавшись лицом к обшивке носа. — Я старый человек, и я очень устал. Но я всё-таки убил эту
рыбу, которая мне дороже брата, и теперь мне осталось сделать чёрную
работу.
Теперь я должен приготовить верёвку и связать её в петли, чтобы
принайтовить рыбу к лодке. Даже если бы нас было двое и мы затопили бы лодку, чтобы погрузить в неё рыбу, а потом вычерпали воду, — всё равно лодка не выдержала бы такой тяжести. Я должен приготовить всё, что нужно, а потом подтянуть рыбу к борту, привязать
её накрепко к лодке, поставить парус и отправиться восвояси».
Он стал подтягивать рыбу к борту, чтобы, пропустив верёвку через
жабры и через пасть, привязать её голову к носу.
«Мне хочется посмотреть на неё, — подумал он, — потрогать её, почувствовать, что же это за рыба. Ведь она — моё богатство. Но я не поэтому хочу её потрогать. Мне кажется, что я уже дотронулся до её
сердца, — думал он, — тогда, когда я вонзил в неё гарпун до самого
конца. Ладно, подтяни её поближе, привяжи, надень петлю ей на хвост,
а другую перекинь вокруг туловища, чтобы получше приладить её
к лодке».
— Ну, старик, за работу, — сказал он себе и отпил маленький глоток воды. — Теперь, когда битва окончена, осталась ещё уйма чёрной
работы.
Старик посмотрел на небо, потом на рыбу. Он глядел на солнце
очень внимательно. «Сейчас едва перевалило за полдень. А пассат
крепчает. Лесы чинить теперь бесполезно. Мы с мальчиком срастим
их дома».
— Подойди-ка сюда, рыба!
Но рыба его не послушалась. Она безмятежно покачивалась на волнах, и старику пришлось самому подвести к ней лодку.
Когда он подошёл к ней вплотную и голова рыбы пришлась вровень
с носом лодки, старик снова поразился её величине. Но он отвязал гарпунную верёвку от битенга, пропустил её через жабры рыбы, вывел
конец через пасть, обкрутил её вокруг меча, потом снова пропустил
верёвку через жабры, опять накрутил на меч и, связав двойным узлом,
привязал к битенгу. Перерезав верёвку, он перешёл на корму, чтобы
петлёй закрепить хвост. Цвет рыбы из фиолетово-серебристого превратился в чистое серебро, а полосы стали такими же бледно-сиреневыми,
242
как хвост рыбы. Полосы эти были шире растопыренной мужской руки,
а глаз рыбы был таким же отрешённым, как зеркало перископа или
как лики святых во время крестного хода.
— Я не мог её убить по-другому, — сказал старик.
Выпив воды, он почувствовал себя куда лучше. Теперь он знал, что
не потеряет сознания, и в голове у него прояснилось. «Она весит
не меньше полутонны, — подумал он. — А может быть, и значительно
больше». Сколько же он получит, если мяса выйдет две трети этого
веса по тридцати центов за фунт?
— Без карандаша не сочтёшь, — сказал старик. — Для этого нужна
ясная голова. Но я думаю, что великий Ди Маджио мог бы сегодня
мною гордиться. Правда, у меня не было костной мозоли. Но руки
и спина у меня здорово болели. Интересно, что такое костная мозоль?
Может, и у нас есть, да только мы этого не подозреваем?
Старик привязал рыбу к носу, к корме и к сиденью. Она была такая
громадная, что ему показалось, будто он прицепил лодку к борту большого корабля. Отрезав кусок бечевы, он подвязал нижнюю челюсть
рыбы к её мечу, чтобы рот не открывался и было легче плыть. Потом
он поставил мачту, приспособил палку вместо гафеля, натянул шкот.
Залатанный парус надулся, лодка двинулась вперёд, и старик, полулёжа на корме, поплыл на юго-запад.
Старику не нужен был компас, чтобы определить, где юго-запад.
Ему достаточно было чувствовать, куда дует пассат и как надувается
парус. «Пожалуй, стоило бы забросить удочку — не поймаю ли я на
блесну какую-нибудь рыбёшку, а то ведь мне нечего есть». Но он не
нашёл блесны, а сардины протухли. Тогда он подцепил багром пук
жёлтых водорослей, мимо которого они проплывали, и потряс его; оттуда высыпались в лодку маленькие креветки. Их было больше дюжины, и они прыгали и перебирали ножками, словно земляные блохи.
Старик двумя пальцами оторвал им головки и съел целиком, разжёвывая скорлупу и хвост. Креветки были крошечные, но старик знал,
что они очень питательные и к тому же очень вкусные.
В бутылке ещё оставалось немного воды, и, поев креветок, старик
отпил от неё четвёртую часть.
Лодка шла хорошо, несмотря на сопротивление, которое ей приходилось преодолевать, и старик правил, придерживая румпель локтем. Ему всё время была видна рыба, а стоило ему взглянуть на свои
руки или дотронуться до лодки спиной — и он чувствовал, что всё это
не было сном и случилось с ним на самом деле. Одно время, уже к самому концу, когда ему стало дурно, старику вдруг показалось, что всё
это только сон. Да и потом, когда он увидел, как рыба вышла из воды
и, прежде чем упасть в неё снова, неподвижно повисла в небе, ему почудилась во всём этом какая-то удивительная странность, и он не поверил своим глазам. Правда, тогда он и видел-то совсем плохо, а теперь глаза у него опять были в порядке.
Теперь он знал, что рыба существует на самом деле и что боль в руках и спине — это тоже не сон. «Руки заживают быстро, — подумал
он. — Я пустил достаточно крови, чтобы не загрязнить раны, а солё-
243
ная вода их залечит. Тёмная вода залива — лучший в мире целитель.
Только бы не путались мысли! Руки своё дело сделали, и лодка идёт
хорошо. Рот у рыбы закрыт, хвост она держит прямо, мы плывём
с ней рядом, как братья». В голове у него снова немножко помутилось,
и он подумал: «А кто же кого везёт домой — я её или она меня?
Если бы я тащил её на буксире, всё было бы ясно. Или если бы она
лежала в лодке, потеряв всё своё достоинство, всё тоже было бы ясно.
Но ведь мы плывём рядом, накрепко связанные друг с другом. Ну
и пожалуйста, пусть она меня везёт, если ей так нравится. Я ведь взял
над нею верх только хитростью; она не замышляла против меня никакого зла».
Они плыли и плыли, и старик полоскал руки в солёной воде и старался, чтобы мысли у него не путались. Кучевые облака шли высоко,
над ними плыли перистые; старик знал, что ветер будет дуть всю ночь.
Он то и дело поглядывал на рыбу, чтобы проверить, на самом ли деле
она ему не приснилась. Прошёл целый час, прежде чем его настигла
первая акула.
Акула догнала его не случайно. Она выплыла из самой глубины
океана, когда тёмное облако рыбьей крови сгустилось, а потом разошлось по воде глубиной в целую милю. Она всплыла быстро, без всякой опаски, разрезала голубую гладь моря и вышла на солнце. Потом
она снова ушла в воду, снова почуяла запах крови и поплыла по следу,
который оставляли за собой лодка и рыба.
Порою она теряла след. Но она либо попадала на него снова, либо
чуяла едва слышный его запах и преследовала его неотступно. Это
была очень большая акула породы мако, созданная для того, чтобы
плавать так же быстро, как плавает самая быстрая рыба в море, и всё
в ней было красиво, кроме пасти. Спина у неё была такая же голубая,
как у меч-рыбы, брюхо серебряное, а кожа гладкая и красивая, и вся
она была похожа на меч-рыбу, если не считать огромных челюстей,
которые сейчас были плотно сжаты. Она быстро плыла у самой поверхности моря, легко прорезая воду своим высоким спинным плавником.
За плотно сжатыми двойными губами её пасти в восемь рядов шли
косо посаженные зубы. Они были не похожи на обычные пирамидальные зубы большинства акул, а напоминали человеческие пальцы,
скрюченные, как звериные когти. Длиною они не уступали пальцам
старика, а по бокам были остры, как лезвия бритвы. Акула была создана, чтобы питаться всеми морскими рыбами, даже такими подвижными, сильными и хорошо вооружёнными, что никакой другой враг
им не был страшен. Сейчас она спешила, чуя, что добыча уже близко,
и её синий спинной плавник так и резал воду.
Когда старик её увидел, он понял, что эта акула ничего не боится
и поступит так, как ей заблагорассудится. Он приготовил гарпун и закрепил конец его верёвки, поджидая, чтобы акула подошла ближе.
Верёвка была коротка, потому что он отрезал от неё кусок, когда привязывал свою рыбу.
В голове у старика теперь совсем прояснилось, и он был полон решимости, хотя и не тешил себя надеждой.
244
Э. Хемингуэй. «Старик и море». Кадр из фильма «Старик и море».
США. 1958. Режиссёр Дж. Стерджес
«Дело шло уж больно хорошо, так не могло продолжаться», — думал он.
Наблюдая за тем, как подходит акула, старик кинул взгляд на большую рыбу. «Лучше бы, пожалуй, всё это оказалось сном. Я не могу
помешать ей напасть на меня, но, может быть, я смогу её убить?
Dentuso1, — подумал он. — Чума на твою мать!»
Акула подплыла к самой корме, и, когда она кинулась на рыбу, старик увидел её разинутую пасть и необыкновенные глаза и услышал,
как щёлкнули челюсти, вонзившиеся в рыбу чуть повыше хвоста. Голова акулы возвышалась над водой, вслед за головой показалась и спина, и старик, слыша, как акульи челюсти с шумом раздирают кожу
и мясо большой рыбы, всадил свой гарпун ей в голову в том месте, где
линия, соединяющая её глаза, перекрещивается с линией, уходящей
вверх от её носа. На самом деле таких линий не было. Была только тяжёлая, заострённая голубая голова, большие глаза и лязгающая, выпяченная всеядная челюсть. Но в этом месте у акулы находился мозг,
и старик ударил в него своим гарпуном. Он изо всех сил ударил в него
гарпуном, зажатым в иссечённых до крови руках. Он ударил в него, ни
на что не надеясь, но с решимостью и яростной злобой.
Акула перевернулась, и старик увидел её потухший глаз, а потом
она перевернулась снова, дважды обмотав вокруг себя верёвку. Старик
1
Вид акулы (исп.).
245
понял, что акула мертва, но сама она не хотела мириться с этим. Лёжа
на спине, она била хвостом и лязгала челюстями, вспенивая воду,
как гоночная лодка. Море там, где она взбивала его хвостом, было совсем белое. Туловище акулы поднялось на три четверти над водой,
верёвка натянулась, задрожала и наконец лопнула. Акула полежала
немножко на поверхности, и старик всё глядел на неё. Потом очень
медленно она погрузилась в воду.
— Она унесла с собой около сорока фунтов рыбы, — вслух сказал
старик.
«Она утащила на дно и мой гарпун, и весь остаток верёвки, — прибавил он мысленно, — а из рыбы снова течёт кровь, и вслед за этой
акулой придут другие».
Ему больше не хотелось смотреть на рыбу теперь, когда её так
изуродовали. Когда акула кинулась на рыбу, ему показалось, что она
кинулась на него самого.
«Но я всё-таки убил акулу, которая напала на мою рыбу, — подумал он. — И это была самая большая dentuso, какую я когда-либо видел. А мне, ей-богу, пришлось повстречать на своём веку немало больших акул.
Дела мои шли слишком хорошо. Дальше так не могло продолжаться. Хотел бы я, чтобы всё это было сном: я не поймал никакой рыбы,
а сплю себе один на кровати, застеленной газетами».
— Но человек не для того создан, чтобы терпеть поражения, — сказал он. — Человека можно уничтожить, но его нельзя победить.
«Жаль всё-таки, что я убил рыбу, — подумал он. — Мне придётся
очень тяжко, а я лишился даже гарпуна. Dentuso — животное ловкое
и жестокое, умное и сильное. Но я оказался умнее его. А может быть,
и не умнее. Может быть, я был просто лучше вооружён».
— Не нужно думать, старик, — сказал он вслух. — Плыви по ветру
и встречай беду, когда она придёт.
«Нет, я должен думать, — мысленно возразил он себе. — Ведь это
всё, что мне осталось. Это и бейсбол. Интересно, понравилось бы великому Ди Маджио, как я ударил акулу прямо в мозг? В общем, ничего в этом не было особенного — любой мог сделать не хуже. Но как
ты думаешь, старик: твои руки мешали тебе больше, чем костная мозоль? Почём я знаю! У меня никогда ничего не случалось с пятками,
только один раз меня ужалил в пятку электрический скат, когда я наступил на него во время купания; у меня тогда парализовало ногу
до колена, и боль была нестерпимая».
— Подумай лучше о чём-нибудь весёлом, старик, — сказал он
вслух. — С каждой минутой ты теперь всё ближе и ближе к дому. Да
и плыть тебе стало легче с тех пор, как ты потерял сорок фунтов рыбы.
Он отлично знал, что его ожидает, когда он войдёт в самую середину течения. Но делать теперь уже было нечего.
— Неправда, у тебя есть выход, — сказал он. — Ты можешь привязать свой нож к рукоятке одного из вёсел.
Он так и сделал, держа румпель под мышкой и наступив на верёвку от паруса ногой.
246
— Ну вот, — сказал он. — Я хоть и старик, но по крайней мере
я не безоружен.
Дул свежий ветер, и лодка быстро шла вперёд. Старик смотрел
только на переднюю часть рыбы, и к нему вернулась частица надежды.
«Глупо терять надежду, — думал он. — К тому же, кажется, это
грех. Не стоит думать о том, что грех, а что не грех. На свете есть о чём
подумать и без этого. Сказать правду, я в грехах мало что понимаю.
Не понимаю и, наверно, в них не верю. Может быть, грешно было
убивать рыбу. Думаю, что грешно, хоть я и убил её для того, чтобы
не умереть с голоду и накормить ещё уйму людей. В таком случае всё,
что ты делаешь, грешно. Нечего раздумывать над тем, что грешно,
а что не грешно. Сейчас уже об этом поздно думать, да к тому же пусть
грехами занимаются те, кому за это платят. Пусть они раздумывают
о том, что такое грех. Ты родился, чтобы стать рыбаком, как рыба
родилась, чтобы быть рыбой. Святой Пётр1 тоже был рыбаком, так же
как и отец великого Ди Маджио».
Но он любил поразмыслить обо всём, что его окружало, и, так
как ему нечего было читать и у него не было радио, он много думал,
в том числе и о грехе. «Ты убил рыбу не только для того, чтобы продать её другим и поддержать свою жизнь, — думал он. — Ты убил её
из гордости и потому, что ты — рыбак. Ты любил эту рыбу, пока она
жила, и сейчас любишь. Если кого-нибудь любишь, его не грешно
убить. А может быть, наоборот, ещё более грешно?»
— Ты слишком много думаешь, старик, — сказал он вслух.
«Но ты с удовольствием убивал dentuso, — подумал старик. — А она,
как и ты, кормится, убивая рыбу. Она не просто пожирает падаль
и не просто ненасытная утроба, как многие другие акулы. Она — красивое и благородное животное, которое не знает, что такое страх».
— Я убил её, защищая свою жизнь, — сказал старик вслух. —
И я убил её мастерски.
«К тому же, — подумал он, — все так или иначе убивают кого-нибудь или что-нибудь. Рыбная ловля убивает меня точно так же, как
и не даёт мне умереть. Мальчик — вот кто не даёт мне умереть. Не
обольщайся, старик».
Он перегнулся через борт и оторвал от рыбы кусок мяса в том месте,
где её разгрызла акула. Он пожевал мясо, оценивая его качество
и вкус. Мясо было твёрдое и сочное, как говядина, хоть и не красное.
Оно не было волокнистым, и старик знал, что за него дадут на рынке
самую высокую цену. Но его запах уносило с собой море, и старик
не мог этому помешать. Он понимал, что ему придётся нелегко.
Ветер не ослабевал; он слегка отклонился дальше на северо-восток,
и это означало, что он не прекратится. Старик смотрел вдаль, но не
видел ни парусов, ни дымка или корпуса какого-нибудь судна. Только летучие рыбы поднимались из моря и разлетались во все стороны от носа его лодки да желтели островки водорослей. Не было даже
птиц.
1
Святой Пётр — один из двенадцати евангельских апостолов, сопровождавших Христа.
247
Он плыл уже два часа, полулёжа на корме, пожёвывая рыбье мясо
и стараясь поскорее набраться сил и отдохнуть, когда заметил первую
из акул.
— Ай! — произнёс старик слово, не имеющее смысла, скорее звук,
который невольно издаёт человек, чувствуя, как гвоздь, пронзив его
ладонь, входит в дерево.
— Galanos1, — сказал он вслух.
Он увидел, как за первым плавником из воды показался другой,
и по этим коричневым треугольным плавникам, так же как и по размашистому движению хвоста, понял, что это широконосые акулы. Они
почуяли запах рыбы, взволновались и, совсем одурев от голода, то теряли, то вновь находили этот заманчивый запах. Но они с каждой минутой приближались.
Старик намертво закрепил парус и заклинил руль. Потом он поднял весло с привязанным к нему ножом. Он поднял весло легонько,
потому что руки его нестерпимо болели. Он сжимал и разжимал пальцы, чтобы хоть немножко их размять. Потом ухватился за весло крепче, чтобы заставить руки сразу почувствовать боль в полную меру
и уже больше не отвиливать от работы, и стал наблюдать за тем, как
подплывают акулы. Он видел их приплюснутые, широконосые головы
и большие, отороченные белым грудные плавники. Это были самые
гнусные из всех акул — вонючие убийцы, пожирающие и падаль; когда их мучит голод, они готовы укусить и весло, и руль лодки. Такие
акулы откусывают лапы у черепах, когда те засыпают на поверхности
моря, а сильно оголодав, набрасываются в воде и на человека, даже
если от него не пахнет рыбьей кровью или рыбьей слизью.
— Ай! — сказал старик. — Ну что ж, плывите сюда, galanos.
И они приплыли. Но они приплыли не так, как приплыла мако.
Одна из них, сверкнув, скрылась под лодкой, и старик почувствовал,
как лодка задрожала, когда акула рвала рыбу. Другая следила за стариком своими узкими жёлтыми глазками, затем, широко разинув полукружье пасти, кинулась на рыбу в том самом месте, где её обглодала мако. Старику была ясно видна линия, бегущая с верхушки её
коричневой головы на спину, где мозг соединяется с хребтом, и он
ударил ножом, надетым на весло, как раз в это место; потом вытащил
нож и всадил его снова в жёлтые кошачьи глаза акулы. Акула, издыхая, отвалилась от рыбы и скользнула вниз, доглатывая то, что откусила.
Лодка всё ещё дрожала от той расправы, которую вторая акула чинила над рыбой, и старик, отпустив парус, дал лодке повернуться боком, чтобы выманить из-под неё акулу. Увидев её, он перегнулся через
борт и ткнул её ножом. Он попал ей в мякоть, а жёсткая кожа не давала проникнуть глубже. От удара у старика заболели не только руки,
но и плечо. Но акула, выставив из воды пасть, бросилась на рыбу снова, и тогда старик ударил её в самую середину приплюснутой головы.
Он вытащил лезвие и вонзил его в то же самое место вторично. Акула
1
Вид акулы (исп.).
248
всё ещё висела на рыбе, плотно сжав челюсти, и старик вонзил ей нож
в левый глаз. Акула по-прежнему держалась за рыбу.
— Ах, ты так? — сказал старик и вонзил нож между мозгом и позвонками.
Сейчас это было нетрудно, и он почувствовал, что рассёк хрящ. Старик повернул весло другим концом и всунул его акуле в пасть, чтобы
разжать ей челюсти. Он повертел веслом и, когда акула соскользнула
с рыбы, сказал:
— Ступай вниз, galano. Ступай вниз на целую милю. Повидайся
там со своим дружком. А может быть, это была твоя мать?
Он вытер лезвие ножа и положил весло в лодку. Потом поставил
парус и, когда его надуло ветром, повернул лодку на прежний курс.
— Они, наверно, унесли с собой не меньше четверти рыбы, и притом самое лучшее мясо, — сказал он вслух. — Хотел бы я, чтобы всё
было сном и я не ловил этой рыбы. Мне жалко, рыба, что так нехорошо получилось.
Старик замолчал, ему не хотелось теперь глядеть на рыбу. Обескровленная и вымоченная в воде, она по цвету напоминала амальгаму,
которой покрывают зеркало, но полосы всё ещё были заметны.
— Мне не следовало уходить так далеко в море, — сказал он. — Мне
очень жаль, рыба, что всё так плохо получилось. И для тебя, и для меня.
«Ну-ка, не зевай! — сказал он себе. — Проверь, не перерезана ли
верёвка, которой прикреплён нож. И приведи свою руку в порядок,
потому что работа ещё не кончена».
— Жаль, что у меня нет точила для ножа, — сказал старик, проверив верёвку на рукоятке весла. — Надо было мне захватить с собой
точило.
«Тебе много чего надо было захватить с собой, старик, — подумал
он. — Да вот не захватил. Теперь не время думать о том, чего у тебя
нет. Подумай, как бы обойтись с тем, что есть».
— Ух, и надоел же ты мне со своими советами! — сказал он вслух.
Он сунул румпель под мышку и окунул обе руки в воду.
Лодка плыла вперёд.
— Один бог знает, сколько сожрала та последняя акула, — сказал
он. — Но рыба стала легче.
Ему не хотелось думать об её изуродованном брюхе. Он знал,
что каждый толчок акулы об лодку означал кусок оторванного мяса
и что рыба теперь оставляет в море след, широкий, как шоссейная дорога, и доступный всем акулам на свете.
«Такая рыба могла прокормить человека всю зиму... Не думай
об этом, старик! Отдыхай и постарайся привести свои руки в порядок,
чтобы защитить то, что у тебя ещё осталось. Запах крови от твоих
рук — ничто по сравнению с тем запахом, который идёт теперь по воде
от рыбы. Да из рук кровь почти и не течёт. На них нет глубоких порезов. А небольшое кровопускание предохранит левую руку от судороги.
О чём бы мне сейчас подумать? Ни о чём. Лучше мне ни о чём не думать и подождать новых акул. Хотел бы я, чтобы это и в самом деле
было сном. Впрочем, как знать? Всё ещё может обернуться к лучшему».
249
Следующая акула явилась в одиночку и была тоже из породы широконосых.
Она подошла, словно свинья к своему корыту, только у свиньи нет
такой огромной пасти, чтобы разом откусить человеку голову.
Старик дал ей вцепиться в рыбу, а потом ударил её ножом, надетым
на весло, по голове. Но акула рванулась назад, перекатываясь на спину, и лезвие ножа сломалось.
Старик уселся за руль. Он даже не стал смотреть, как медленно тонет акула, становясь всё меньше, а потом и совсем крошечной. Зрелище это всегда его захватывало. Но теперь он не захотел смотреть.
— У меня остался багор, — сказал он. — Но какой от него толк?
У меня есть ещё два весла, румпель и дубинка.
«Вот теперь они меня одолели, — подумал он. — Я слишком стар,
чтобы убивать акул дубинкой. Но я буду сражаться с ними, покуда
у меня есть вёсла, дубинка и румпель».
Он снова окунул руку в солёную воду.
Близился вечер, и кругом было видно лишь небо да море. Ветер дул
сильнее, чем прежде, и он надеялся, что скоро увидит землю.
— Ты устал, старик, — сказал он. — Душа у тебя устала.
Акулы напали на него снова только перед самым заходом солнца.
Старик увидел, как движутся коричневые плавники по широкому
следу, который рыба теперь уже несомненно оставляла за собой в море.
Они даже не рыскали по этому следу, а шли рядышком прямо на лодку.
Старик заклинил румпель, подвязал парус и достал из-под кормы
дубинку. Это была отпиленная часть сломанного весла длиной около
двух с половиной футов. Он мог ухватить её как следует только одной
рукой, там, где была рукоятка, и он крепко взял её в правую руку
и помотал кистью, ожидая, когда подойдут акулы. Их было две, и обе
они были galanos.
«Мне надо дождаться, пока первая крепко уцепится за рыбу, — подумал он, — тогда я ударю её по кончику носа или прямо по черепу».
Обе акулы подплыли вместе, и, когда та, что была поближе, разинула пасть и вонзила зубы в серебристый бок рыбы, старик высоко
поднял дубинку и тяжело опустил её на плоскую голову акулы. Рука
его почувствовала упругую твёрдость, но она почувствовала и непроницаемую крепость кости, и старик снова с силой ударил акулу по кончику носа. Акула соскользнула в воду.
Другая акула уже успела поживиться и отплыть, а теперь опять
подплыла с широко разинутой пастью. Перед тем как она, кинувшись
на рыбу, вцепилась в неё, старик увидел белые лоскутья мяса, приставшие к её челюстям. Старик размахнулся, но попал только по голове, и акула, взглянув на него, вырвала из рыбы кусок мяса. Когда
она отвалилась, чтобы проглотить этот кусок, старик ударил её снова,
но удар опять пришёлся по твёрдой упругой поверхности её головы.
— Ну-ка, подойди поближе, galano, — сказал старик. — Подойди
ещё разок!
Акула стремглав кинулась на рыбу, и старик ударил её в то мгновенье, когда она защёлкнула пасть. Он ударил её изо всех сил, подняв
250
как можно выше свою дубинку. На этот раз он попал в кость у основания черепа и ударил снова по тому же самому месту. Акула вяло
оторвала от рыбы кусок мяса и соскользнула в воду.
Старик ждал, не появятся ли акулы снова, но их больше не было
видно. Потом он заметил, как одна из них кружит возле лодки. Плавник другой акулы исчез вовсе.
«Я и не рассчитывал, что могу их убить, — подумал старик. — Раньше бы мог. Однако я их сильно покалечил обеих, и они вряд ли так
уж хорошо себя чувствуют. Если бы я мог ухватить дубинку обеими
руками, я убил бы первую наверняка. Даже и теперь, в мои годы».
Ему не хотелось смотреть на рыбу. Он знал, что половины её не стало. Пока он воевал с акулами, солнце совсем зашло.
— Скоро стемнеет, — сказал он. — Тогда я, наверно, увижу зарево
от огней Гаваны. Если я отклонился слишком далеко на восток, я увижу огни одного из новых курортов.
«Я не могу быть очень далеко от берега, — подумал старик. — Надеюсь, что они там зря не волнуются. Волноваться, впрочем, может
только мальчик. Но он-то во мне не сомневается! Рыбаки постарше —
те, наверно, тревожатся. Да и молодые тоже, — думал он. — Я ведь
живу среди хороших людей».
Он не мог больше разговаривать с рыбой: уж очень она была изуродована. Но вдруг ему пришла в голову новая мысль.
— Полрыбы! — позвал он её. — Бывшая рыба! Мне жалко, что
я ушёл так далеко в море. Я погубил нас обоих. Но мы с тобой уничтожили много акул и покалечили ещё больше. Тебе немало, верно,
пришлось убить их на своём веку, старая рыба? Ведь не зря у тебя из
головы торчит твой меч.
Ему нравилось думать о рыбе и о том, что она могла бы сделать
с акулой, если бы свободно плыла по морю.
«Надо было мне отрубить её меч, чтобы сражаться им с акулами, —
думал он. Но у него не было топора, а теперь уже не было и ножа. — Но
если бы у меня был её меч, я мог бы привязать его к рукоятке весла —
замечательное было бы оружие! Вот тогда бы мы с ней и в самом деле
сражались бок о бок! А что ты теперь станешь делать, если они придут
ночью? Что ты можешь сделать?»
— Драться, — сказал он, — драться, пока не умру.
Но в темноте не было видно ни огней, ни зарева — были только ветер
да надутый парус, и ему вдруг показалось, что он уже умер. Он сложил
руки вместе и почувствовал свои ладони. Они не были мертвы, и он мог
вызвать боль, а значит, и жизнь, просто сжимая и разжимая их. Он прислонился к корме и понял, что жив. Об этом ему сказали его плечи.
«Мне надо прочесть все те молитвы, которые я обещался прочесть,
если поймаю рыбу, — подумал он. — Но сейчас я слишком устал. Возьму-ка я лучше мешок и прикрою плечи».
Лёжа на корме, он правил лодкой и ждал, пока покажется в небе
зарево от огней Гаваны. «У меня осталась от неё половина, — подумал
он. — Может быть, мне посчастливится, и я довезу до дому хоть её
переднюю часть. Должно же мне наконец повезти!.. Нет, — сказал он
251
себе. — Ты надругался над собственной удачей, когда зашёл так далеко
в море. Не болтай глупостей, старик! — прервал он себя. — Не спи
и следи за рулем. Тебе ещё может привалить счастье».
— Хотел бы я купить себе немножко счастья, если его где-нибудь
продают, — сказал старик.
«А на что ты его купишь? — спросил он себя. — Разве его купишь
на потерянный гарпун, сломанный нож и покалеченные руки?
Почём знать! Ты ведь хотел купить счастье за восемьдесят четыре
дня, которые ты провёл в море. И, между прочим, тебе его чуть было
не продали...
Не нужно думать о всякой ерунде. Счастье приходит к человеку во
всяком виде, разве его узнаешь? Я бы, положим, взял немножко счастья
в каком угодно виде и заплатил за него всё, что спросят. Хотел бы я увидеть зарево Гаваны, — подумал он. — Ты слишком много хочешь сразу,
старик. Но сейчас я хочу увидеть огни Гаваны — и ничего больше».
Он попробовал примоститься у руля поудобнее и по тому, как усилилась боль, понял, что он и в самом деле не умер.
Он увидел зарево городских огней около десяти часов вечера. Вначале оно казалось только бледным сиянием в небе, какое бывает перед
восходом луны. Потом огни стали явственно видны за полосой океана,
по которому крепчавший ветер гнал высокую волну. Он правил на эти
огни и думал, что скоро, теперь уже совсем скоро войдёт в Гольфстрим.
«Ну, вот и всё, — подумал он. — Конечно, они нападут на меня снова. Но что может сделать с ними человек в темноте голыми руками?»
Всё его тело ломило и саднило, а ночной холод усиливал боль его
ран и натруженных рук и ног. «Надеюсь, мне не нужно будет больше
сражаться, — подумал он. — Только бы мне больше не сражаться!»
Но в полночь он сражался с акулами снова — и на этот раз знал,
что борьба бесполезна. Они напали на него целой стаей, а он видел
лишь полосы на воде, которые прочерчивали их плавники, и свет, который они излучали, когда кидались рвать рыбу. Он бил дубинкой
по головам и слышал, как лязгают челюсти и как сотрясается лодка,
когда они хватают рыбу снизу. Он отчаянно бил дубинкой по чемуто невидимому, что мог только слышать и осязать, и вдруг почувствовал, как дубинки не стало.
Он вырвал румпель из гнезда и, держа его обеими руками, бил
и колотил им, нанося удар за ударом. Но акулы уже были у самого
носа лодки и набрасывались на рыбу одна за другой и все разом, отдирая от неё куски мяса, которые светились в море; акулы разворачивались снова, чтобы снова накинуться на свою добычу.
Одна из акул подплыла наконец к самой голове рыбы, и тогда старик понял, что всё кончено. Он ударил румпелем по носу акулы, там,
где её зубы застряли в крепких костях рыбьей головы. Ударил раз,
другой и третий. Услышав, как затрещал и раскололся румпель, он
стукнул акулу расщеплённой рукояткой. Старик почувствовал, как
дерево вонзилось в мясо, и, зная, что обломок острый, ударил акулу
снова. Она бросила рыбу и отплыла подальше. То была последняя акула из напавшей на него стаи. Им больше нечего было есть.
252
Старик едва дышал и чувствовал странный привкус во рту. Привкус был сладковатый и отдавал медью, и на минуту старик испугался. Но скоро всё прошло. Он сплюнул в океан и сказал:
— Ешьте, galanos, давитесь! И пусть вам приснится, что вы убили
человека.
Старик знал, что теперь уже он побеждён окончательно и непоправимо, и, вернувшись на корму, обнаружил, что обломок румпеля входит
в рулевое отверстие и что им, на худой конец, тоже можно править.
Накинув мешок на плечи, он поставил лодку на курс. Теперь она
шла легко, и старик ни о чём не думал и ничего не чувствовал. Теперь
ему было всё равно, лишь бы поскорее и получше привести лодку
к родному берегу.
Ночью акулы накинулись на обглоданный остов рыбы, словно обжоры, хватающие объедки со стола. Старик не обратил на них внимания.
Он ни на что больше не обращал внимания, кроме своей лодки. Он
только ощущал, как легко и свободно она идёт теперь, когда её больше не тормозит огромная тяжесть рыбы.
«Хорошая лодка, — подумал он. — Она цела и невредима, если
не считать румпеля. А румпель нетрудно поставить новый».
Старик чувствовал, что вошёл в тёплое течение, и ему были видны
огни прибрежных посёлков. Он знал, где он находится, и добраться
до дому теперь не составляло никакого труда.
«Ветер — он-то уж наверняка нам друг, — подумал он, а потом добавил: — Впрочем, не всегда. И огромное море — оно тоже полно и наших друзей, и наших врагов. А постель... — думал он, — постель — мой
друг. Вот именно, обыкновенная постель. Лечь в постель — великое дело. А как легко становится, когда ты побеждён! — подумал он. — Я и не
знал, что это так легко... Кто же тебя победил, старик? — спросил он
себя. — Никто, — ответил он. — Просто я слишком далеко ушёл в море».
Когда он входил в маленькую бухту, огни на Террасе были погашены, и старик понял, что все уже спят. Ветер беспрерывно крепчал и теперь дул очень сильно. Но в гавани было тихо, и старик пристал к полосе гальки под скалами. Помочь ему было некому, и он подгрёб
как можно ближе. Потом вылез из лодки и привязал её к скале.
Сняв мачту, он скатал на неё парус и завязал его. Потом взвалил
мачту на плечо и двинулся в гору. Вот тогда-то он понял всю меру
своей усталости. На мгновенье он остановился и, оглянувшись, увидел
в свете уличного фонаря, как высоко вздымается за кормой лодки
огромный хвост рыбы. Он увидел белую обнажённую линию её позвоночника и тёмную тень головы с выдающимся вперёд мечом.
Старик снова начал карабкаться вверх. Одолев подъём, он упал
и полежал немного с мачтой на плече. Потом постарался встать
на ноги, но это было нелегко, и он так и остался сидеть, глядя на дорогу. Пробежала кошка, направляясь по своим делам, и старик долго
смотрел ей вслед; потом стал глядеть на пустую дорогу.
Наконец он сбросил мачту наземь и встал. Подняв мачту, он снова
взвалил её себе на плечо и пошёл вверх по дороге. По пути к своей
хижине ему пять раз пришлось отдыхать.
253
Войдя в дом, он прислонил мачту к стене. В темноте он нашёл бутылку с водой и напился. Потом лёг на кровать. Он натянул одеяло
на плечи, прикрыл им спину и ноги и заснул, уткнувшись лицом в газеты и вытянув руки ладонями вверх.
Он спал, когда утром в хижину заглянул мальчик. Ветер дул так
сильно, что люди не вышли в море, и мальчик проспал, а потом пришёл в хижину старика, как приходил каждое утро. Мальчик убедился
в том, что старик дышит, но потом увидел его руки и заплакал. Он тихонько вышел из хижины, чтобы принести кофе, и всю дорогу плакал.
Вокруг лодки собралось множество рыбаков, и все они рассматривали то, что было к ней привязано; один из рыбаков, закатав штаны,
стоял в воде и мерил скелет верёвкой.
Мальчик не стал к ним спускаться; он уже побывал внизу, и один
из рыбаков пообещал ему присмотреть за лодкой.
— Как он себя чувствует? — крикнул мальчику один из рыбаков.
— Спит, — отозвался мальчик. Ему было всё равно, что они видят,
как он плачет. — Не надо его тревожить.
— От носа до хвоста в ней было восемнадцать футов! — крикнул
ему рыбак, который мерил рыбу.
— Не меньше, — сказал мальчик.
Он вошёл на Террасу и попросил банку кофе:
— Дайте мне горячего кофе и побольше молока и сахару.
— Возьми что-нибудь ещё.
— Не надо. Потом я погляжу, что ему можно будет есть.
— Ох, и рыба! — сказал хозяин. — Прямо-таки небывалая рыба. Но
и ты поймал вчера две хорошие рыбы.
— Ну её совсем, мою рыбу! — сказал мальчик и снова заплакал.
— Хочешь чего-нибудь выпить? — спросил его хозяин.
— Не надо, — ответил мальчик. — Скажи им, чтобы они не надоедали Сантьяго. Я ещё приду.
— Передай ему, что я очень сожалею.
— Спасибо, — сказал мальчик.
Мальчик отнёс в хижину банку с горячим кофе и посидел около
старика, покуда тот не проснулся. Один раз мальчику показалось,
что он просыпается, но старик забылся в тяжёлом сне, и мальчик пошёл к соседям через дорогу, чтобы взять у них взаймы немного дров
и разогреть кофе.
Наконец старик проснулся.
— Лежи, не вставай, — сказал ему мальчик. — Вот выпей!
Он налил ему кофе в стакан.
Старик взял у него стакан и выпил кофе.
— Они одолели меня, Манолин, — сказал он. — Они меня победили.
— Но сама-то она ведь не смогла тебя одолеть! Рыба ведь тебя
не победила!
— Нет. Что верно, то верно. Это уж потом случилось.
— Педрико обещал присмотреть за лодкой и за снастью. Что ты собираешься делать с головой?
— Пусть Педрико разрубит её на приманку для сетей.
254
— А меч?
— Возьми его себе на память, если хочешь.
— Хочу, — сказал мальчик. — Теперь давай поговорим о том, что
нам делать дальше.
— Меня искали?
— Конечно. И береговая охрана, и самолёты.
— Океан велик, а лодка совсем маленькая, её и не заметишь, — сказал старик. Он почувствовал, как приятно, когда есть с кем поговорить, кроме самого себя и моря. — Я скучал по тебе, — сказал он. — Ты
что-нибудь поймал?
— Одну рыбу в первый день. Одну во второй и две в третий.
— Прекрасно!
— Теперь мы опять будем рыбачить вместе.
— Нет. Я — несчастливый. Мне больше не везёт.
— Да наплевать на это везенье! — сказал мальчик. — Я тебе принесу счастье.
— А что скажут твои родные?
— Не важно. Я ведь поймал вчера две рыбы. Но теперь мы будем рыбачить с тобой вместе, потому что мне ещё многому надо научиться.
— Придётся достать хорошую острогу и всегда брать её с собой.
Лезвие можно сделать из рессоры старого форда. Заточим его в Гуана-
Э. Хемингуэй. «Старик и море». Художник
И. Сакуров
255
бакоа. Оно должно быть острое, без закалки, чтобы не сломалось. Мой
нож, он весь сломался.
— Я достану тебе новый нож и заточу рессору. Сколько дней
ещё будет дуть сильный brisa1?
— Может быть, три. А может быть, и больше.
— К тому времени всё будет в порядке, — сказал мальчик. — А ты
пока что подлечи свои руки.
— Я знаю, что с ними делать. Ночью я выплюнул какую-то странную жидкость, и мне показалось, будто в груди у меня что-то разорвалось.
— Подлечи и это тоже, — сказал мальчик. — Ложись, старик,
я принесу тебе чистую рубаху. И чего-нибудь поесть.
— Захвати какую-нибудь газету за те дни, что меня не было, — попросил старик.
— Ты должен поскорее поправиться, потому что я ещё многому
должен у тебя научиться, а ты можешь научить меня всему на свете.
Тебе было очень больно?
— Очень, — сказал старик.
— Я принесу еду и газеты. Отдохни, старик. Я возьму в аптеке какое-нибудь снадобье для твоих рук.
— Не забудь сказать Педрико, чтобы он взял себе голову рыбы.
— Не забуду.
Когда мальчик вышел из хижины и стал спускаться вниз по старой
каменистой дороге, он снова заплакал.
В этот день на Террасу приехала группа туристов, и, глядя на то,
как восточный ветер вздувает высокие валы у входа в бухту, одна
из приезжих заметила среди пустых пивных жестянок и дохлых медуз
длинный белый позвоночник с огромным хвостом на конце, который
вздымался и раскачивался на волнах прибоя.
— Что это такое? — спросила она официанта, показывая на длинный позвоночник огромной рыбы, сейчас уже просто мусор, который
скоро унесёт отливом.
— Tiburon, — сказал официант. — Акулы. — Он хотел объяснить
ей всё, что произошло.
— Вот не знала, что у акул бывают такие красивые, изящно выгнутые хвосты!
— Да, и я не знал, — согласился её спутник.
Наверху, в своей хижине, старик опять спал. Он снова спал лицом
вниз, и его сторожил мальчик. Старику снились львы.
5 Комментарии. Повесть «Старик и море» («The Old Man and the Sea») была опубликована в сентябре 1952 года в журнале «Лайф», тираж которого составлял 5 миллионов экземпляров. Через неделю повесть вышла отдельным изданием. Успех повести был
огромный.
По замыслу писателя повесть должна была стать органической частью задуманной им
трилогии о море. В одном из писем он сообщал, что эта трилогия сама собой разрослась
до четырёх частей — четвёртой частью стала повесть о старике Сантьяго. Он отмечал так1
Береговой ветер (исп.).
256
же, что каждая часть является самостоятельным произведением, а потом он найдёт способ
объединить их в одно целое.
Многие критики считали повесть произведением символическим. Сам Хемингуэй писал:
«Не было ещё хорошей книги, которая возникла бы из заранее выдуманного символа,
запечённого в книгу, как изюм в сладкую булку. Сладкая булка с изюмом хорошая штука,
но простой хлеб лучше. Я попытался дать настоящего старика и настоящего мальчика,
настоящее море и настоящую рыбу и настоящих акул. И, если это мне удалось сделать
достаточно хорошо и правдиво, они, конечно, могут быть истолкованы по-разному».
Хемингуэй много лет прожил на Кубе и всё знал о рыбной ловле. Он был признанным
чемпионом в охоте на крупную рыбу. Вся история в повести написана со знанием опасной
и тяжёлой профессии рыбака. Хемингуэй признавался: «Я постарался опустить всё не необходимое, с тем чтобы передать свой опыт читателям так, чтобы после чтения это стало
частью их опыта и представлялось действительно случившимся... на этот раз мне небывало повезло, и я смог передать опыт полностью, и при этом такой опыт, который никто
никогда не передавал. Мне повезло, что у меня были хороший старик и хороший мальчик,
а за последнее время писатели забыли, что такие существуют. Кроме того, океан заслуживает, чтобы о нём писали так же, как о человеке. Так что и в этом повезло».
Любопытно отметить, что кубинец, ставший прообразом старика Сантьяго, дожил до
102 лет и умер в 2002 году (создавая своё произведение, писатель «состарил» героя).
Москитный берег — узкая полоса земли вдоль восточного побережья Никарагуа.
Santa Maria del Cobre — в переводе с испанского языка — Мадонна медных рудников, чтимая на Кубе статуя «медной» Богоматери, покровительницы рыбаков и Кубы вообще.
Вопросы и задания
1. Какое впечатление произвела на вас повесть «Старик и море»? Над какими
вопросами она заставила вас задуматься?
2. Каковы особенности проблематики повести «Старик и море»? Какие философские и нравственные проблемы в ней поставлены?
3. Что привлекает вас в рыбаке Сантьяго? Докажите, что Сантьяго — «необыкновенный старик».
4. Для дискуссии. Как ведёт себя старик в экстремальной ситуации? Победителем или побеждённым выходит старик из этой ситуации?
5. Вместе со старшими. Чем интересны приведённые ниже размышления старика Сантьяго? Прокомментируйте его слова:
«Нельзя, чтобы в старости человек остался один. Однако это неизбежно».
«Может быть, мне не нужно было становиться рыбаком. Но ведь для этого
я родился».
«Как хорошо, что нам не приходится убивать звёзды!»
«Но человек не для того создан, чтобы терпеть поражения. Человека можно
уничтожить, но его нельзя победить».
«Глупо терять надежду. К тому же, кажется, это грех».
«Счастье приходит к человеку во всяком виде, разве его узнаешь?»
6. С какой целью в повесть вводятся воспоминания старика о поединке с «могучим негром из Сьенфуэгос»?
7. Сравните описания поединков старика с рыбой и акулами. Оформите результаты своей работы в виде небольшого изложения или таблицы. Обязательно
используйте цитаты из текста повести.
8. Какое место в жизни старика занимает мальчик Манолин? Раскройте характер
взаимоотношений между героями.
9. Каковы особенности описания моря в повести? Приведите наиболее характерные примеры.
257
10. Точка зрения. Как вы понимаете смысл финала произведения? Одни критики
считали, что повесть утверждает идею непобедимости человека, его способности
преодолеть любые трудности. Другие подчёркивали в ней мотивы одиночества
и страдания. Чья позиция вам ближе и почему?
11. Как вы думаете, почему повесть «Старик и море» называют философской притчей? Чтобы ответить на этот вопрос, вспомните значения слов «философия»
и «притча».
12. Чувствуете ли вы авторское отношение к главному герою? В чём оно проявляется?
Индивидуальные задания
1. Связь с другими видами искусства. Рассмотрите рисунки к повести «Старик и море». Так ли вы представляли себе изображённые художником эпизоды и героев? Какими увидели эти события и героев вы?
2. Творческое прочтение. Подготовьте свои иллюстрации к понравившимся эпизодам повести. Подберите варианты художественного оформления
обложки книги «Эрнест Хемингуэй. „Старик и море“».
3. Сочинение. Напишите сочинение на одну из предложенных тем:
• Человек и природа в повести Э. Хемингуэя «Старик и море»;
• Евангельские мотивы в повести Э. Хемингуэя «Старик и море»;
• Символы в повести Э. Хемингуэя «Старик и море».
Море
1. Часть Мирового океана, обособленная сушей (Средиземное море). 2. Очень
большое озеро или большой искусственный водоём (Каспийское море, Обское
море). 3. Перен. Обширное пространство чего-либо, заполненное чем-либо
или кем-либо («море людей»). 4. Перен. Огромное количество, чрезвычайное обилие чего-либо («море света»).
Из Нового Завета: «И ученики, увидев Его идущего по морю, встревожились
и говорили: это призрак; и от страха вскричали...» («Евангелие от Матфея»).
Из русского фольклора: «Кто в море не бывал, тот горя не видал» (пословица); «Славное море — священный Байкал» (народная песня).
Из русской литературы: «На другой день спозаранок кровавые зори свет возвещают; чёрные тучи с моря идут...» («Слово о полку Игореве»); «Синица на море
пустилась; она хвалилась, что хочет море сжечь...» (басня И. А. Крылова «Синица»);
«Безмолвное море, лазурное море...» (начало элегии В. А. Жуковского «Море»);
«Нелюдимо наше море; день и ночь шумит оно; в роковом его просторе много
бед погребено...» (стихотворение H. M. Языкова «Пловец»); «Давно плыву житейским морем...» (название стихотворения П. А. Вяземского); «Прощай же, море.
Не забуду твоей торжественной красы...» (стихотворение А. С. Пушкина «К морю»);
«Оба эти обстоятельства тонули в море добродушного веселья, которое волновалось в душе Степана Аркадьича...» (роман Л. Н. Толстого «Анна Каренина»);
«Налево, до самого горизонта, тянется золотистое море поспевшей ржи...» (рассказ А. П. Чехова «Егерь»); «Что море нам! Нас разделяют люди, и не враги,
а — что страшней — друзья...» (стихотворение И. Северянина «Ты вышла в сад...»).
258
Практикум
Анализ жанрового своеобразия
литературного произведения
ЧТО ТАКОЕ ЖАНР ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ
5 Обращаете ли вы внимание при выборе литературного произведения для чте-
ния на его жанр? Какие жанры вы предпочитаете? Как вы думаете, какие жанры
в литературе не предназначены специально для чтения?
5 В каких других видах искусства также используется термин «жанр»? Приведите примеры.
Вам уже известно, что со времён Античности все литературные произведения
разделяют на три основных рода: эпос, лирику и драму. Каждый род литературы
представляют жанры и жанровые разновидности.
Эпос (от греческого слова epos — слово, повествование, рассказ) — вся повествовательная литература. В древности это было героическое повествование
(обычно стихотворное) об исторических событиях и героях, обладающее общенациональной или даже общечеловеческой значимостью (древние эпические поэмы,
эпопеи, русские былины). В новое время это самый распространённый род литературы, в котором художественной доминантой выступает повествование. Ведущий
эпический жанр в литературе XIX—XX веков — роман, в том числе его многочисленные жанровые разновидности (социальный, философский, психологический,
исторический, любовный, детективный, научно-фантастический и др.). Вам хорошо
знакомы и другие эпические жанры — притча, житие, повесть, рассказ, новелла,
литературная сказка.
Лирика (от греческого слова lyra — музыкальный инструмент, под аккомпанемент которого исполнялись стихи, песни и т. п.) — самый субъективный род
литературы, в котором главная роль отведена субъекту высказывания (лирическому герою) и его отношению к изображаемому, его переживаниям, раздумьям.
Основные лирические жанры — лирическое стихотворение, ода, элегия, эпиграмма, песня, сонет. Существуют классификации лирики по темам (любовная, гражданская, пейзажная, философская).
Драма (от греческого слова drama — действие) — род литературы, который
стал основой театра как вида искусства. Драматическое произведение, построенное на едином внешнем действии, обретает подлинную жизнь, когда ставится на
сцене. Основные драматические жанры — трагедия, комедия, драма, водевиль,
трагикомедия.
Любое произведение обычно соотносится писателем, а затем и читателем
с определённой литературной традицией и жанром (от французского слова genre — род, вид) — исторически складывающимся видом литературного произведения, обладающим комплексом устойчивых свойств, жанровых признаков.
Иногда указание на жанр присутствует уже в названии литературного произведения («Житие Сергия Радонежского», «Поэма Горы» М. И. Цветаевой, «Повесть
непогашенной луны» Б. А. Пильняка). Чаще всего авторское определение жанра
представлено в жанровом подзаголовке, как важная часть заголовочного комплекса литературного произведения. Иногда автор весьма оригинально, рассчитывая
259
на диалог с читателем, даёт жанровое определение. Так, свою повесть «Собачье
сердце» М. А. Булгаков называет «чудовищной историей».
Жанры различают:
а) по принадлежности к роду литературы: эпические, лирические, драматические, лиро-эпические, лирико-драматические;
б) по характеру тематики и проблематики: социально-бытовые, психологические, авантюрно-приключенческие, сатирические, юмористические, детективные,
научно-фантастические и др.
5 Соотнесите названия известных вам литературных произведений и их жанровые подзаголовки. На примере одного из этих произведений покажите, почему
автору было важно именно такое жанровое определение.
«Алые паруса» А. С. Грина
Восточное сказание
«Василий Тёркин» А. Т. Твардовского
Феерия
«Кладовая солнца» М. М. Пришвина
Книга про бойца
«Три пальмы» М. Ю. Лермонтова
Сказка-быль
ЧТО НУЖНО УЧЕСТЬ ПРИ АНАЛИЗЕ ЖАНРОВОГО СВОЕОБРАЗИЯ
ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Характеристика жанра может стать частью вашего устного ответа или сочинения, посвящённого художественному своеобразию, особенностям сюжета или композиции литературного произведения. Попытайтесь ответить на вопросы:
1. Какой литературный жанр представляет данное произведение? Внимательно
перечитайте заголовочный комплекс. Есть ли у произведения авторское жанровое
обозначение (жанровый подзаголовок)?
2. Вспомните другие литературные произведения, которые принадлежат этому
жанру. Перечислите основные признаки этого жанра.
3. В чём автор следует жанровой традиции, а в чём от неё отступает? Отвечая
на этот вопрос, учтите, что каждый писатель стремится внести что-то новое в традиционные жанровые схемы. Поэтому все комедии, например, имеют много общего, но каждая из них несёт в себе и нечто неожиданное, оригинальное, часто
связанное с отступлением от жанровой традиции.
4. Определите жанровую разновидность произведения на основе анализа его
тематики и проблематики, особенностей сюжета и композиции (например, автобиографическая повесть, детективный рассказ, сатирическая комедия и т. п.).
5. Используются ли в произведении элементы других литературных жанров?
Как вы думаете, с какой целью? Как это связано с авторским замыслом?
6. Сделайте вывод о том, как жанр произведения определяет другие его особенности: сюжетные, композиционные.
Вопросы и задания
1. Публичное выступление. Вспомните, каким литературным жанрам были посвящены специальные темы в предыдущих классах. Подготовьте сообщение
об истории одного из литературных жанров, используя справочную литературу
и источники в Интернете.
2. Подготовьте устную или письменную характеристику своеобразия жанра одного из ранее изученных литературных произведений, используя помещённый
выше примерный план.
260
Форма сонета в мировой литературе
«Поэму в сотни строк затмит сонет прекрасный...» — писал французский поэт
XVII века Никола Буало-Депрео. Сонет — одна из самых распространённых твёрдых форм в европейской поэзии. Твёрдые формы стихотворений состоят из строго определённого количества стихов с заранее заданным расположением рифм.
Сонет (от провансальского слова sonet — песенка, в основе слово son — звук,
отсюда перевод — «звонкая песенка») — стихотворение из 14 строк в виде сложной строфы. Каноническая форма сонета состоит из двух катренов (четверостиший) на две рифмы и двух терцетов (трёхстиший) на три, реже на две рифмы.
Сонет зародился в середине XIII века в Италии. Прославленными мастерами
сонета признаны итальянские поэты Данте Алигьери и Франческо Петрарка, английский поэт Уильям Шекспир. В России первый сонет был написан В. К. Тредиаковским в 1735 году (это был перевод с французского языка). Авторами сонетов были Г. Р. Державин, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, А. А. Фет, И. А. Бунин,
К. Д. Бальмонт, А. А. Блок, Н. С. Гумилёв, А. А. Ахматова и другие русские поэты.
Тематика сонета обширна: от любовной лирики до глубоких философских размышлений, от картин природы до социально-политической проблематики, от легенд и мифов до конкретных исторических событий.
В мировой поэзии сложились национальные формы сонета:
1) итальянский: два катрена перекрёстной или охватной рифмовки: abab abab
или abba abba — и два терцета, имеющие в сочетании рифм также скрытую идею
«креста»: сdс dсd — или «треугольника»: cde cde;
2) французский: два катрена охватной рифмовки: abba abba — и два терцета,
скомпонованные параллельно: ссd eed или ссd ede, так, чтобы получились двустишие и катрен;
3) английский (шекспировский): упрощённая модель, состоящая из трёх катренов перекрёстной рифмовки и заключительного двустишия.
Форма английского (шекспировского) сонета использовалась А. С. Пушкиным
при создании «онегинской строфы», которой написан роман в стихах «Евгений
Онегин».
Каноническая форма сонета в целом сохранилась до настоящего времени.
Однако строгость сонетной формы не исключала нарушений поэтами отдельных
правил. Форма сонета претерпевала изменения в выборе размера, способа
рифмовки, даже в расположении и количестве катренов и терцетов, что привело
к рождению множества разновидностей сонета, например:
1) хвостатый: 2 катрена + 3 терцета;
2) безголовый: 1 катрен + 2 терцета;
3) половинный: 1 катрен + 1 терцет;
4) опрокинутый: 2 терцета + 2 катрена;
5) хромой: четвёртый стих в катренах длиннее или короче предшествующих и др.
261
Поэты часто создавали циклы сонетов, объединённые авторским замыслом
(например, цикл «Медальоны» И. Северянина, посвящённый поэтам, писателям
и композиторам).
К самым сложным организациям стиха относится венок сонетов, состоящий
из пятнадцати сонетов, связанных между собой содержанием и расположением
строк. Каждый из четырнадцати сонетов (кроме первого) начинается с повторения
последней строки предыдущего, а заключительный сонет составлен из первых
строк четырнадцати предшествующих сонетов.
Данте АЛИГЬЕРИ
(Dante Alighieri, 1265—1321)
Данте Алигьери — великий итальянский поэт раннего Возрождения. Родился в 1265 году во Флоренции в старинной дворянской семье. Рано начал писать
стихи. В 18 лет он полюбил Беатриче Портинари, дочь
друга его отца. Историю своей любви он рассказал на страницах автобиографической книги «Новая
жизнь» (1291—1292), которая принесла ему литературную славу.
После смерти Беатриче в 1290 году Данте занялся изучением философии, астрономии, теологии. Он
считался образованнейшим человеком своего времени.
Изучение французского и провансальского языков позволило ему приобщиться к лучшим образцам иностранной литературы.
Данте принимал активное участие в политической
жизни своего родного города. Однако в 1302 году он
был изгнан из Флоренции после поражения политической партии, к которой принадлежал. Остаток жизни провёл на чужбине, где создал своё великое произведение — «Комедию», которая позднее была переименована в «Божественную комедию» в знак признания её поэтического совершенства.
***
В своих очах Любовь она хранит;
Блаженно всё, на что она взирает;
Идёт она — к ней всякий поспешает;
Приветит ли — в нём сердце задрожит.
Так, смутен весь, он долу лик склонит
И о своей греховности вздыхает.
Надмение и гнев пред нею тает.
О донны, кто её не восхвалит?
Всю сладостность и всё смиренье дум
Познает тот, кто слышит её слово.
Блажен, кому с ней встреча суждена.
262
Того ж, как улыбается она,
Не молвит речь и не упомнит ум:
Так это чудо благостно и ново.
5 Комментарии. Сонет «В своих очах Любовь она хранит...» входит в книгу Данте
Алигьери «Новая жизнь» («La Vita Nuova»), которая состоит из 30 стихотворений, хронологически расположенных и связанных между собой прозаическим рассказом. Это стихотворения о любви поэта к Беатриче, о его снах, мечтах и скорби, вызванной ранней
смертью возлюбленной. «Новая жизнь» считается первой в истории европейской литературы автобиографической повестью, раскрывающей самые сокровенные чувства и переживания автора.
Сонет дан в переводе А. Эфроса.
Долу (трад.-поэтич.) — вниз, книзу.
Вопросы и задания
1. Какое впечатление произвело на вас стихотворение Данте Алигьери? Каково
его основное настроение?
2. Соотнесите данный сонет с приведёнными выше правилами сонетной формы.
3. Опыт исследования. Найдите другие переводы этого сонета. Сравните их
с данным переводом. Есть ли отличия в интонационном строе сонета, переведённого разными авторами?
Франческо ПЕТРАРКА
(Francesco Petrarca, 1304—1374)
Франческо Петрарка — выдающийся итальянский
поэт и мыслитель. Родился в Тоскане, где в изгнании
жил его отец, флорентийский нотариус, друг и единомышленник Данте. Затем семья переехала на юг
Франции, в Авиньон.
Петрарка изучал право, принял духовный сан, но
всю жизнь оставался светским аббатом, не исполнявшим обязанностей священника. В 1341 году на Капитолийском холме он был увенчан лавровым венком
за поэму «Африка», утверждавшую идею свободы горячо любимой им Италии.
Мировую известность принесла ему «Книга песен»
(«Канцоньере») — сборник стихотворений, написанных
на родном итальянском языке. Здесь используются
разные поэтические формы — канцоны, баллады, секстины, мадригалы, но подавляющее большинство стихотворений (317) — это сонеты, которые приобрели у Петрарки каноническую форму.
Заслуга поэта заключается в том, что он значительно расширил тематический
диапазон сонета. В книгу вошли сонеты о любви, посвящённые Лауре, сатирические сонеты, обличающие пороки духовенства, сонеты, в которых поэт выразил
свои взгляды на художественное творчество.
263
«Книга песен» состоит из двух частей: «На жизнь мадонны Лауры» и «На
смерть мадонны Лауры». Мадонной в те времена называли не только Богоматерь, но
и знатных дам. Впервые поэт увидел Лауру (ок. 1307—1348) в авиньонской церкви. Позднее свою возлюбленную он сравнит с солнцем, осветившим его жизнь.
В стихотворениях Петрарки нет намёка не только на ответное чувство Лауры к поэту, но даже на близкое знакомство с нею.
Известный русский учёный А. Н. Веселовский назвал книгу Петрарки «поэтической исповедью». Сквозь дымку воспоминаний лирического героя читатель созерцает и его любимую, и окружающую их природу, и весь многокрасочный земной мир.
***
Промчались дни мои быстрее лани,
И если счастье улыбалось им,
Оно мгновенно превращалось в дым.
О сладостная боль воспоминаний!
О мир превратный! Знать бы мне заране,
Что слеп, кто верит чаяньям слепым!
Она лежит под сводом гробовым,
И между ней и прахом стёрлись грани.
Но высшая краса вознесена
На небеса, и этой неземною
Красой, как прежде, жизнь моя полна,
И трепетная дума сединою
Моё чело венчает: где она?
Какой предстанет завтра предо мною?
5 Комментарии. Сонет «Промчались дни мои быстрее лани...» входит во вторую часть
«Канцоньере» («Canzoniere») — «На смерть мадонны Лауры». Имя Лаура созвучно со словом «лавр», символом славы (Laura — lauro). Петрарка постоянно играет этими словами,
утверждая, что любовь к Лауре приносит ему лавры, иногда даже называя свою возлюбленную лавром.
О Лауре известно мало: она была замужем за знатным дворянином, была матерью
одиннадцати детей, умерла в чумной 1348 год. В сорок вторую годовщину их первой встречи, через двадцать один год после её кончины, Петрарка, уже старик, перебирая архив,
нашёл сонет, который раньше ему не нравился, и написал новые строки: «В год тысяча
триста двадцать седьмой, в апреле, в первый час шестого дня, вошёл я в лабиринт, где
нет исхода». Эта любовь стала сильнее смерти, сильнее времени.
Сонет дан в переводе Е. Солоновича.
Вопросы и задания
1. Попытайтесь объяснить, как вы понимаете такое необычное обращение поэта:
«О сладостная боль воспоминаний!»
2. Какую роль в этом сонете играют восклицательные и вопросительные предложения? Какие интонации преобладают в них?
264
3. Опыт исследования. Найдите и сравните разные переводы этого сонета Петрарки. С какими трудностями вы столкнулись при чтении перевода О. Э. Мандельштама?
Шарль БОДЛЕР
(Charles Baudelaire, 1821—1867)
Шарль Бодлер — выдающийся французский поэт
XIX века, о котором другой французский поэт Артюр
Рембо написал: «Бодлер — это король поэтов, настоящий бог».
С детства Шарля Бодлера преследовало чувство
одиночества «всегда и везде». Одной из причин этого
был пережитый в шестилетнем возрасте сильнейший
психологический кризис: вскоре после смерти отца его
мать вышла вторично замуж за офицера, который впоследствии стал генералом, послом, сенатором. Поступок
матери был воспринят как «предательство», забвение
памяти отца. К отчиму он пронёс через всю жизнь чувство глубокой антипатии (не во всём справедливое).
Родной отец привил сыну любовь к живописи, восторженное отношение к героическому времени (отец Бодлера был участником Великой французской революции).
Учился Бодлер сначала в коллеже в Лионе, затем в лицее Людовика Великого.
При невыясненных обстоятельствах был исключён из лицея, затем отказался
от служебной карьеры.
В юношеские годы Бодлер много читал, он хорошо знал и любил поэзию
эпохи Возрождения и XVII века. Затем он открыл для себя Эдгара По и перевёл
его сочинения на французский язык. Этот перевод в художественном отношении
считается до сих пор непревзойдённым.
Революция 1848 года привлекла Бодлера возможностью разрушить старый
мир, он сражался на баррикадах, издавал газету «Общественное мнение».
Самое известное произведение Бодлера — стихотворный сборник «Цветы Зла»
(1857), в который, по признанию самого автора, он «вложил весь свой ум, всё своё
сердце, свою веру и ненависть». Центральный раздел сборника — «Сплин и идеал». Его заглавие ясно выражает основную идею книги: сплин — это аналог тоски;
идеалом здесь становится не только сам идеал, но и поэзия, его воплощающая.
***
Что можешь ты сказать, мой дух всегда ненастный,
Душа поблекшая, что можешь ты сказать
Ей, полной благости, ей щедрой, ей прекрасной?
Один небесный взор — и ты цветёшь опять!..
Напевом гордости да будет та хвалима,
Чьи очи строгие нежнее всех очей,
Чья плоть — безгрешное дыханье херувима,
Чей взор меня облёк в одежду из лучей!
265
Всегда: во тьме ночной, холодной и унылой,
На людной улице, при ярком свете дня,
Передо мной скользит, дрожит твой облик милый,
Как факел, сотканный из чистого огня:
— Предайся Красоте душой в меня влюблённой;
Я буду Музою твоею и Мадонной!
5 Комментарии. Сонет «Что можешь ты сказать, мой дух всегда ненастный...» входит
в раздел «Сплин и идеал», в цикл любовных стихотворных посланий мадам Аполлонии
Сабатье. Бодлер отправил ей этот сонет с кратким неподписанным письмом 16 февраля
1854 года. В 40-е годы XIX века дом мадам Сабатье был одним из аристократических
салонов Парижа, который посещали известные писатели и художники. Начиная с 1852 года Бодлер посвящал ей свои стихи, он называл мадам Сабатье «кумиром», «божеством».
Все стихотворения этого цикла воспевают любовь, оказывающую возвышающее действие
на душу человека.
Сонет дан в переводе Эллиса (Л. Л. Кобылинского).
Херувим — одна из высших категорий ангелов.
Вопросы и задания
1. Каким настроением, чувством пронизано стихотворение? Что вы можете сказать об основной интонации этого сонета?
2. Опыт исследования. Сравните сонет Ш. Бодлера с сонетом Ф. Петрарки
«Промчались дни мои быстрее лани...» и сделайте вывод о выборе лексических
средств и синтаксических конструкций.
3. Какая картина мира представлена в этом сонете? Как в художественном мире
сонета Бодлера сочетаются сплин и идеал? Что, на ваш взгляд, здесь преобладает?
4. Опыт исследования. Найдите и сравните разные переводы этого сонета.
Какой из них вам кажется более выразительным?
Валерий Яковлевич БРЮСОВ
1873—1924
Валерий Яковлевич Брюсов, по определению М. Горького, «самый культурный писатель на Руси». Это действительно был энциклопедически образованный и разносторонне одарённый человек, автор поэтических
сборников и исторических романов, прекрасный переводчик, литературовед, специалист по теории стихосложения.
Брюсов родился в Москве в купеческой семье.
В гимназические годы будущий поэт изучал латинский
и греческий языки, достиг больших успехов в математике, читал произведения русских классиков и французских поэтов. Он рано начал писать. Позднее Брюсов
вспоминал: «Беспрестанно начинал я новые произведения. Я писал стихи, так много, что скоро исписал всю
266
толстую тетрадь, подаренную мне. Я перепробовал все формы — сонеты, терцины,
октавы, триолеты, рондо, все размеры. Я писал драмы, рассказы, романы...
Каждый день увлекал меня всё дальше. На пути в гимназию я обдумывал новые
произведения, вечером, вместо того, чтобы учить уроки, я писал... У меня набирались громадные пакеты исписанной бумаги».
Брюсов учился на историко-филологическом факультете Московского университета. Уже в студенческие годы он издал три сборника стихов «Русские символисты» (1894—1895). Брюсов виртуозно владел техникой стиха, стремился обучить
этому других. В работе «Ремесло поэта» (1918) он писал: «Способность к художественному творчеству есть прирождённый дар, как красота лица или сильный
голос... Поэтами рождаются... Но вполне выразить своё дарование, в полноте высказать свою душу поэта — может лишь тот, кто в совершенстве владеет техникой
своего искусства».
Брюсов считал сонет «образцом», «идеальной формой поэтического произведения вообще». Многие современники вспоминают импровизационный талант
поэта, умевшего мгновенно написать классический сонет. Экспромтом, например,
является сонет «Memento mori», сочинённый на глазах заворожённой публики
14 мая 1918 года в кафе «Десятая муза». Вот как описывает Брюсова в момент
импровизации очевидец: «Полузакрыв козырьком руки глаза, он, казалось, смотрел в глубь себя и потом извергал, выбрасывал из себя, выпаливал несколько
строк, отбивая другой рукой ритм. Потом пауза, и снова несколько тактов стиха
про себя — и снова четверостишие вслух. И казалось, что в воздухе слышно ворочание мозговых жерновов этого человека... Брюсов гнушался шпаргалкой.
Импровизация шла из головы. И причём надо ещё учесть, что в своих импровизациях он избирал не обычные, примелькавшиеся формы четверостиший, а применял сложные формы стихосложения — сонет, терцины, октавы. Да, это был
труд! Вдохновенный труд!» (А. М. Арго).
Сонет к форме
Есть тонкие властительные связи
Меж контуром и запахом цветка.
Так бриллиант невидим нам, пока
Под гранями не оживёт в алмазе.
Так образы изменчивых фантазий,
Бегущие, как в небе облака,
Окаменев, живут потом века
В отточенной и завершённой фразе.
И я хочу, чтоб все мои мечты,
Дошедшие до слова и до света,
Нашли себе желанные черты.
Пускай мой друг, разрезав том поэта,
Упьётся в нём и стройностью сонета,
И буквами спокойной красоты!
267
5 Комментарии. «Сонет к форме» написан 6 июня 1895 года. Брюсов включил его
первоначально в сборник «Juvenilia» («Юношеское»), подготовленный к изданию в 1896 году, но не вышедший. Впервые этот сборник, открывающийся «Сонетом к форме», был
опубликован в полном объёме в 1913 году в первом томе Полного собрания сочинений
и переводов поэта.
Вопросы и задания
1. В чём своеобразие тематики сонета В. Я. Брюсова? Какая тема становится главной для поэта? Как это связано с фактами его биографии и творчества?
2. Опыт исследования. Проанализируйте особенности строфики и рифмовки в этом сонете. Сопоставьте полученные вами результаты с информацией
о типах сонета, представленной в статье, предваряющей раздел. К какому типу
сонета относится «Сонет к форме»?
3. Попытайтесь доказать, что в «Сонете к форме» В. Я. Брюсову удалось «высказать свою душу поэта». Только ли форме поэтического произведения посвящён сонет? При ответе на этот вопрос учтите распространённое в современном литературоведении мнение о том, что форма произведения не имеет
смысла вне её связи с содержанием.
Иннокентий Фёдорович АННЕНСКИЙ
1855—1909
Иннокентий Фёдорович Анненский — поэт, драматург, критик, переводчик, педагог-словесник, которого считали своим учителем в поэзии многие русские
поэты XX века: Н. С. Гумилёв, А. А. Ахматова, Б. Л. Пастернак и др.
Родился Анненский в семье государственного чиновника, который в 1860 году был переведён в Петербург на должность чиновника особых поручений при
министре внутренних дел. Слабое здоровье (болезнь
сердца) повлияло на ход учёбы будущего поэта: в гимназиях он учился с перерывами, в основном получил
домашнее образование, в 1875 году экстерном сдал
экзамены за полный гимназический курс. В 1879 году
Aнненский закончил историко-филологический факультет Петербургского университета.
Анненский был эрудитом, знатоком античной культуры и истории. Он владел 14 иностранными языками: французским, английским, немецким, итальянским,
греческим, латинским, польским и др. Это позволило ему глубоко изучить зарубежную литературу, стать профессиональным переводчиком, в работе которого
счастливо соединились дар поэта и талант учёного-филолога. Анненский был оригинально мыслящим исследователем литературы и признанным литературным критиком. Самые известные сборники его литературно-критических статей — «Книга
отражений» (1906) и «Вторая книга отражений» (1909).
После окончания университета Анненский практически никогда не оставлял
педагогической деятельности. Он преподавал древние языки в гимназиях, читал
лекции по теории словесности на Высших женских (Бестужевских) курсах в Петер-
268
бурге, был директором 8-й петербургской гимназии, Николаевской гимназии
в Царском Селе, инспектором Санкт-Петербургского учебного округа. Бывшие
ученики с благодарностью вспоминали его гуманное обращение с ними, особо
отзываясь о его стремлении к развитию в них художественного вкуса. В воспоминаниях одного из коллег есть такие сведения об Анненском-педагоге: «Из греческой грамматики он делал поэму, и, притаив дыхание, слушали гимназисты повесть о каких-то „придыхательных“».
Стихи Анненский начал писать рано, ещё до поступления в университет.
Однако первый сборник стихотворений разных лет вышел, когда Анненскому было
48 (!) лет. Он назывался «Тихие песни». Вторая книга стихотворений «Кипарисовый
ларец» была опубликована после безвременной кончины поэта — в 1910 году.
В 1923 году его сын издал книгу «Посмертные стихи», куда вошли все ранее
не опубликованные произведения поэта.
Для понимания художественного мира И. Ф. Анненского важно высказывание
поэта: «Поэзия не изображает, она намекает на то, что остаётся недоступным
выражению. Мы славим поэта не за то, что он сказал, а за то, что он дал нам
почувствовать несказанное».
Третий мучительный сонет
Нет, им не суждены краса и просветленье;
Я повторяю их на память в полусне,
Они — минуты праздного томленья,
Перегоревшие на медленном огне.
Но всё мне дорого — туман их появленья,
Их нарастание в тревожной тишине,
Без плана, вспышками идущее сцепленье:
Моё мучение и мой восторг оне.
Кто знает, сколько раз без этого запоя,
Труда кошмарного над грудою листов,
Я духом пасть, увы! я плакать был готов,
Среди неравного изнемогая боя;
Но я люблю стихи — и чувства нет святей:
Так любит только мать, и лишь больных детей.
5 Комментарии. «Третий мучительный сонет» входит в сборник «Тихие песни», опубликованный в 1904 году и включающий также стихотворения под названиями «Сонет»
и «Второй мучительный сонет». Книга вышла под псевдонимом «Ник. Т-о». Эти несколько
букв входят в имя «Иннокентий», но прочитываются как местоимение «Никто», которым
назвался Одиссей, чтобы спастись из пещеры циклопа Полифема.
Вопросы и задания
1. Как бы вы определили основную тему «Третьего мучительного сонета»
И. Ф. Анненского?
2. Что необычного вы отметили в картине художественного творчества, представленной в стихотворении? Как связано заглавие сонета с его идейным содержанием?
269
3. Как вы прокомментируете последнюю строку сонета? Почему поэт сравнивает
стихи с «больными детьми»?
4. Определите тип сонета И. Ф. Анненского. Каким стихотворным размером написан этот сонет?
Индивидуальные задания
1. Творческое прочтение. Подготовьте выразительное чтение наизусть наиболее понравившегося вам сонета.
2. Поиск информации. Подберите материалы к презентации, посвящённой биографии и творчеству одного из поэтов, писавших сонеты (Данте Алигьери,
Ф. Петрарки, Ш. Бодлера, В. Я. Брюсова, И. Ф. Анненского).
3. Сопоставьте два сонета И. Ф. Анненского: «Третий мучительный сонет» (сборник «Тихие песни») и «Мучительный сонет» (сборник «Кипарисовый ларец»).
Что объединяет эти стихотворения?
4. Внеклассное чтение. Познакомьтесь самостоятельно с венком сонетов
В. Я. Брюсова «Роковой ряд» или «Светоч мысли». Какое впечатление произвели на вас эти стихотворные произведения?
5. Опыт творчества. Опишите картину К. А. Сомова «Первая любовь». Какая
историческая эпоха на ней изображена? Подберите дополнительный материал
о галантной поэзии и галантном стиле в музыке. Приведите строки из сонетов
русских и зарубежных поэтов, соответствующие сюжету картины и её настроению. Докажите, что в изображении этой галантной сцены сочетаются восторг
и ирония.
270
Литературные пародии
Одной из самых распространённых и популярных форм воспроизведения чужого стиля в литературном произведении является пародия (от греческого слова paroidos — поющий наизнанку) — комическая стилизация, созданная с целью
осмеяния, разоблачения. В пародии имитируются особенности творческой манеры
писателя (или целого литературного направления), его идеи, образы, стиль, художественные приёмы, представленные в нарочито нелепом сочетании. Пародия всегда близка первоисточнику и в то же время преднамеренно его искажает, преувеличивая (утрируя) те или иные его характерные черты.
Существуют два основных вида пародии (иногда они выделяются в особые
жанры):
1) бурлеска (от итальянского слова burla — шутка), когда низкий предмет
излагается высоким стилем;
2) травестия (от итальянского слова travestire — переодевать), когда высокий
предмет излагается низким стилем.
Классический пример бурлески — известная древнегреческая поэма «Война
мышей и лягушек», пародия на «Илиаду» Гомера. Фрагмент этой пародии представлен в переводе В. А. Жуковского:
Было прекрасное майское утро. Квакун двадесятый,
Царь знаменитой породы, властитель ближней трясины,
Вышел из мокрой столицы своей, окружённый блестящей
Свитой придворных. Вприпрыжку они взобрались на пригорок,
Сочной травою покрытый; и там, на кочке усевшись,
Царь приказал из толпы его окружавших почётных
Стражей вызвать бойцов, чтоб его, царя, забавляли
Боем кулачным. Вышли бойцы; началося; уж много
Было лягушечьих морд царю в угожденье разбито;
Царь хохотал; от смеха придворных квакала свита...
Примеры травестии — многочисленные пародии на лирические стихотворения, баллады, басни и другие литературные жанры. Такие пародии представлены
в творчестве практически всех пародистов.
Пародироваться могут:
— отдельное произведение («История государства Российского от Гостомысла до Тимашева» А. К. Толстого и «История одного города» М. Е. Салтыкова-Щедрина — своеобразные пародии на «Историю государства Российского» Н. М. Карамзина);
271
— особенности стиля одного писателя («Осень. С персидского, из ибнФета» и «Юнкер Шмидт» Козьмы Пруткова — пародии на произведения
А. А. Фета);
— стиль целого направления, литературной школы, эпохи («Философ в бане»
Козьмы Пруткова — пародия на античную лирику, «Тысяча одна страсть,
или Страшная ночь (роман в одной части с эпилогом)» А. П. Чехова — пародия на романтическую литературу);
— произведения определённого жанра («Шведская спичка» А. П. Чехова —
пародия на уголовный роман);
— отдельные художественные приёмы, ставшие штампами (в ранней юмористической прозе А. П. Чехова).
Обычно пародии как отдельные произведения невелики по объёму. Кроме того,
элементы пародии часто включаются в литературные произведения, становятся
неотъемлемой частью их художественного мира («Повести Белкина» А. С. Пушкина, «История одного города» М. Е. Салтыкова-Щедрина, «Мастер и Маргарита»
М. А. Булгакова).
Иногда созданные во многом с целью пародирования литературные произведения выходят далеко за рамки этого юмористического по своей природе жанра.
Вы помните, что роман М. Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский»
создавался как своеобразная пародия на рыцарские романы.
272
Козьма Петрович ПРУТКОВ
1803—1863
Как следует из «Биографических сведений о Козьме
Пруткове», опубликованных в его «Полном собрании
сочинений», вышедшем в 1884 году, родился Козьма
Петрович Прутков в деревне Тентелевой близ Сольвычегодска. Он происходил из незнатного дворянского
рода, служил в гусарском полку, а в 1823 году поступил на службу в Министерство финансов, где сделал
успешную карьеру, получив чин действительного статского советника и должность начальника Пробирной
палатки. В 1850 году он впервые выступил как писатель. Его комедия «Фантазия» была поставлена на
сцене Александринского театра в Петербурге 8 января 1851 года. На премьере присутствовал император
Николай I, который ушёл после первого действия.
Пьеса была запрещена в тот же день. Тогда же появились первые басни Козьмы Пруткова, опубликованные
в журнале «Современник» (они печатались анонимно).
Только в 1853 году в русскую литературу вошло имя Козьмы Пруткова, его
произведения стали публиковаться в журнале «Современник» под названием
«Досуги Козьмы Пруткова». В том же году художниками Л. М. Жемчужниковым,
А. Е. Бейдеманом и Л. Ф. Лагорио был написан портрет чиновника-литератора,
на котором он изображён с лирой.
Самое известное произведение Козьмы Пруткова «Плоды раздумья (мысли
и афоризмы)» публиковалось в 1854 и 1864 годах. Многие из этих афоризмов
вам хорошо известны, например: «Если хочешь быть счастливым, будь им», «Никто
не обнимет необъятного», «Если у тебя есть фонтан, заткни его, дай отдохнуть
и фонтану», «Смотри в корень» и др.
Скончался писатель, судя по «Биографическим сведениям», в своём собственном кабинете начальника Пробирной палатки в ожидании очередного повышения
по службе.
Однако всё, что вы только что прочитали о биографии и творчестве Козьмы
Пруткова, не что иное, как остроумная литературная мистификация. Это вымышленный поэт, драматург, философ, чиновник. Авторы этой мистификации — уже
хорошо знакомый вам Алексей Константинович Толстой (1817—1875) и его двоюродные братья Алексей Михайлович (1821—1908), Владимир Михайлович (1830—
1884) и Александр Михайлович (1826—1896) Жемчужниковы. В 1850 году они
написали первое совместное творение — комедию «Фантазия», а в 1852 году появился псевдоним — Козьма Прутков (так звали старого слугу в доме Жемчужниковых). Так в русскую литературу пришёл ещё один писатель, чьи произведения
стали жить отдельной от их настоящих авторов жизнью.
Сочинения Козьмы Пруткова переиздаются большими тиражами, его творчеству посвящаются научные конференции. В Сольвычегодске (Архангельской области) открыт музей Козьмы Пруткова. Постоянные экспозиции, посвящённые
этому литературному явлению, действуют в Брянском литературном музее и в музее Алексея Михайловича Жемчужникова в Тамбове.
273
Помещик и садовник
Басня
Помещику однажды в воскресенье
Поднёс презент его сосед.
То было некое растенье,
Какого, кажется, в Европе даже нет.
Помещик посадил его в оранжерею,
Но как он сам не занимался ею
(Он делом занят был другим:
Вязал набрюшники родным),
То раз садовника к себе он призывает
И говорит ему: «Ефим!
Блюди особенно ты за растеньем сим;
Пусть хорошенько прозябает».
Зима настала между тем.
Помещик о своём растенье вспоминает
И так Ефима вопрошает:
«Что? хорошо ль растенье прозябает?»
«Изрядно, — тот в ответ, — прозябло уж совсем!»
Пусть всяк садовника такого нанимает,
Который понимает,
Что значит слово «прозябает».
5 Комментарии. Басня «Помещик и садовник» была написана Алексеем Михайловичем
Жемчужниковым, впервые напечатана в журнале «Современник» в 1860 году.
Вопросы и задания
1. Вспомните, на чём обычно строится комический эффект. Как создаётся комический эффект в басне «Помещик и садовник»?
2. Какие жанровые особенности басни пародируются в произведении Козьмы
Пруткова? Что необычного вы можете отметить в морали этой басни? Можно ли назвать последние три строки басни моралью?
3. Докажите, что слово «прозябает» совсем не случайно выбрано автором пародии
для того, чтобы изложить историю о помещике и садовнике.
Путник
Баллада
Путник едет косогором;
Путник по полю спешит.
Он обводит тусклым взором
Степи снежной грустный вид.
«Ты к кому спешишь навстречу,
Путник гордый и немой?»
«Никому я не отвечу;
Тайна то души больной!
274
Уж давно я тайну эту
Хороню в груди своей
И бесчувственному свету
Не открою тайны сей:
Ни
Ни
Ни
Ни
за знатность, ни за злато,
за груды серебра,
под взмахами булата,
средь пламени костра!»
Он сказал и вдаль несётся
Косогором, весь в снегу,
Конь испуганный трясётся,
Спотыкаясь на бегу.
Путник с гневом погоняет
Карабахского коня.
Конь усталый упадает,
Седока с собой роняет
И под снегом погребает
Господина и себя.
Схоронённый под сугробом,
Путник тайну скрыл с собой.
Он пребудет и за гробом
Тот же гордый и немой.
5 Комментарии. Пародия на балладу «Путник» была впервые опубликована в журнале «Современник» в 1854 году. Точное авторство этой пародии Козьмы Пруткова не установлено.
Карабахского коня... — имеется в виду одна из лучших пород верховых лошадей на Кавказе. Она была выведена на территории Карабахского ханства в XVII—XVIII веках.
Вопросы и задания
1. Какие жанровые признаки баллады пародируются в этом стихотворении Козьмы Пруткова? Какие знакомые вам баллады напомнила эта пародия?
2. Какие эпитеты, характеризующие путника, дважды повторяются в тексте пародии? Как создаётся комический эффект в этой пародии Козьмы Пруткова?
275
Дмитрий Дмитриевич МИНАЕВ
1835—1889
Дмитрий Дмитриевич Минаев — поэт, переводчик,
журналист, самый известный русский поэт-пародист
XIX века. Его пародии и эпиграммы были необычайно
популярны, сделали автора при жизни признанным мастером сатиры.
Родился Минаев в Симбирске в семье небогатого
дворянина. Его отец очень любил литературу, писал стихи и публиковался. Минаев учился в Дворянском полку
в Петербурге, недолгое время служил в Министерстве
внутренних дел, а в 1857 году полностью переключился
на литературную работу. Он был активным сотрудником
журналов «Современник», «Русское слово» и «Искра»,
в которых публиковались его сатирические стихотворения, пародии, фельетоны, комедии.
Минаев был виртуозным мастером каламбура, умел находить неожиданные
рифмы и «играть словами». Вот как это мастерство проявилось, например, в любимом жанре пародиста — эпиграмме:
Нельзя довериться надежде,
Она ужасно часто лжёт:
Он подавал надежды прежде,
Теперь доносы подаёт...
В последние годы жизни Минаев много болел, подолгу жил в Крыму и на
Украине, а затем вернулся в Симбирск «лечиться воздухом родины», однако был
встречен местным обществом, которое он сатирически описал в поэме «Губернская
фотография», враждебно и жил почти в полном одиночестве.
***
На борзом коне воевода скакал
Домой с своим верным слугою;
Он три года ровно детей не видал,
Расстался с женой дорогою.
И в синюю даль он упорно глядит,
Глядит и вздыхает глубоко...
«Далёко ль ещё?» — он слуге говорит.
Слуга отвечает: «Далёко!»
Уж стар воевода; скакать на коне,
Как прежде, он долго не может,
Но хочет узнать поскорей о жене,
Его нетерпение гложет.
276
Слуге говорит он: «Скачи ты вперёд,
Узнай ты, всё ль дома здорово,
С коня не слезая, у самых ворот,
И мчись ко мне с весточкой снова».
И скачет без устали верный слуга...
Скорее ему доскакать бы...
Вот видит знакомой реки берега
И сад воеводской усадьбы.
Узнал обо всём он у барских ворот,
И вот как опущенный в воду
Печальные вести назад он везёт,
И жалко ему воеводу.
«Ну, что?» — Воевода скрывает свой вздох
И ждёт. — «Всё в усадьбе исправно, —
Слуга отвечает, — лишь только издох
Любимый ваш сокол недавно».
«Ах, бедный мой сокол! Он дорог был мне...
Какой же с ним грех приключился?»
«Сидел он на вашем издохшем коне,
Съел падаль и с жизнью простился».
«Как, конь мой буланый? Неу€жели пал,
Но как же погиб он, мой боже!»
«Когда под Николу ваш дом запылал,
Сгорел вместе с домом он тоже».
«Что слышу? Скажи мне, мой терем спалён,
Мой терем, где рос я, женился?
Но как то случилось?» «Да в день похорон
В усадьбе пожар приключился».
«О, если тебе жизнь моя дорога,
Скажи мне как брату, как другу:
Кого ж хоронили?» — И молвил слуга:
«Покойную вашу супругу».
5 Комментарии. Пародия «На борзом коне воевода скакал...» была впервые опубликована в журнале «Отечественные записки» в 1868 году в цикле «Народные мотивы».
Вопросы и задания
1. Какой жанр пародируется в стихотворении «На борзом коне воевода скакал...»? Какие признаки этого жанра можно отметить в стихотворении?
2. Докажите, что это стихотворение представляет собой пример травестийного
варианта пародии.
277
***
Поэт понимает, как плачут цветы,
О чём говорит колосистая рожь,
Что шепчут под вечер деревьев листы,
Какие у каждой капусты мечты,
Что думает в мире древесная вошь.
Он ведает чутко, что мыслит сосна,
Как бредит под раннее утро, со сна,
И только поэт одного не поймёт:
О чём это думает бедный народ?
5 Комментарии. Пародия «Поэт понимает, как плачут цветы...» была впервые опубликована в журнале «Искра» в 1873 году в фельетоне «Праздничные подарки „Искры“» как
пародия на стихотворение Я. П. Полонского «Жалобы музы» и вообще на всю так называемую «чистую поэзию», воспевавшую красоту природы и чуждую гражданственности
и народности.
Вопросы и задания
1. Внимательно перечитайте стихотворение «Поэт понимает, как плачут цветы...»
и отметьте в тексте слова и словосочетания, которые не соответствуют нашим
традиционным представлениям о лирическом стихотворении, посвящённом природе.
2. Приведите пример использования в стихотворении «Поэт понимает, как плачут
цветы...» каламбурной рифмы.
3. Как вы прокомментируете две последние строки этого стихотворения? Что
не принимает Д. Д. Минаев в «чистой поэзии»?
Антон Павлович ЧЕХОВ
1860—1904
Антон Павлович Чехов — признанный во всём мире
русский классик, автор пьес «Чайка», «Дядя Ваня»,
«Три сестры» и «Вишнёвый сад», которые до настоящего времени составляют основу театрального репертуара не только в нашей стране, но и за её пределами.
Однако начинал Чехов свою творческую карьеру
с сотрудничества в популярных юмористических журналах «Будильник», «Стрекоза», «Зритель» и др.
Именно в ранний период творчества он часто обращался к пародии, при этом писал пародии не только
на литературные произведения, но и на школьные
учебники по математике, газетные и журнальные объявления, например:
278
ЗУБНОЙ ВРАЧ ЛУМПЕНМАК
Показывает публике зубы.
Ахахаевский проезд, дом № 351/2
В раннем рассказе «Каникулярные работы институтки Наденьки N» (1880)
Чехов, выступавший тогда под псевдонимами (самый известный — Антоша Чехонте),
поместил и своеобразную пародию на школьное сочинение «Как я провёл каникулы», начинающуюся так:
«Как только я выдержала экзамены, то сейчас же поехала с мамой, мебелью
и братом Иоанном, учеником третьего класса гимназии, на дачу».
Уже будучи признанным писателем, произведения которого печатались не
только в России, но и за рубежом, Чехов вновь и вновь обращался к юмористике и жанру пародии. В пьесе «Чайка» (1896) во многом в пародийном ключе
решён знаменитый монолог Нины Заречной «Люди, львы, орлы и куропатки...»,
в котором проявилось чеховское отношение к поэзии и драматургии русского модернизма.
Летающие острова
(Соч. Жюля Верна
Перевод А. Чехонте)
Глава I
РЕЧЬ
— ...Я кончил, джентльмены! — сказал мистер Джон Лунд, молодой член Королевского географического общества, и, утомлённый,
опустился в кресло. Зала заседания огласилась яростнейшими аплодисментами, криками «браво» и дрогнула. Джентльмены начали один
за другим подходить к Джону Лунду и пожимать его руку. Семнадцать джентльменов в знак своего изумления сломали семнадцать
стульев и свихнули восемь длинных шей, принадлежавших восьми
джентльменам, из которых один был капитаном «Катавасии», яхты
в 100 009 тонн...
— Джентльмены! — проговорил тронутый мистер Лунд. — Считаю
священнейшим долгом благодарить вас за то адское терпение, с которым вы прослушали мою речь, продолжавшуюся 40 часов, 32 минуты
и 14 секунд! Том Бекас, — обратился он к своему старому слуге, — разбудите меня через пять минут. Я буду спать в то время, когда джентльмены будут извинять меня за то, что я осмеливаюсь спать в их присутствии!!
— Слушаю, сэр! — сказал старый Том Бекас.
Джон Лунд закинул назад голову и тотчас же заснул.
Джон Лунд был родом шотландец. Он нигде не воспитывался, ничему никогда не учился, но знал всё. Он принадлежал к числу тех счастливых натур, которые до познания всего прекрасного и великого доходят своим умом. Восторг, который произвёл он своею речью, был им
вполне заслужен. В продолжение 40 часов он предлагал на рассмотрение господам джентльменам великий проект, исполнение которого стя-
279
жало впоследствии великую славу для Англии и показало, как далеко
может иногда хватать ум человеческий! «Просверление луны колоссальным буравом» — вот что служило предметом речи мистера Лунда!
Глава II
ТАИНСТВЕННЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ
Сэр Лунд не проспал и трёх минут. Чья-то тяжёлая рука опустилась
на его плечо, и он проснулся. Перед ним стоял джентльмен 481/2 вершка роста, тонкий, как пика, и худой, как засушенная змея. Он был
совершенно лыс. Одетый во всё чёрное, он имел на носу четыре пары
очков, а на груди и на спине по термометру.
— Идите за мной! — гробовым голосом произнёс лысый джентльмен.
— Куда?
— Идите за мной, Джон Лунд!
— А если я не пойду?
— Тогда я буду принуждён просверлить луну раньше вас!
— В таком случае, сэр, я к вашим услугам.
— Ваш слуга последует за нами!
Мистер Лунд, лысый джентльмен и Том Бекас оставили залу заседания и все трое зашагали по освещённым улицам Лондона. Шли
они очень долго.
— Сэр, — обратился Бекас к мистеру Лунду, — если наш путь так
же длинен, как и этот джентльмен, то на основании законов трения
мы лишимся своих подошв!
Джентльмены подумали и, через десять минут нашедши, что слова
Бекаса остроумны, громко засмеялись.
— С кем я имею честь смеяться, сэр? — спросил Лунд лысого
джентльмена.
— Вы имеете честь идти, смеяться и говорить с членом всех географических, археологических и этнографических обществ, магистром
всех существовавших и существующих наук, членом Московского
артистического кружка, почётным попечителем школы коровьих акушеров в Саутгамптоне, подписчиком «Иллюстрированного беса», профессором жёлто-зелёной магии и начальной гастрономии в будущем
Новозеландском университете, директором Безымянной обсерватории
Вильямом Болваниусом. Я веду вас, сэр, в...
Джон Лунд и Том Бекас преклонили свои колени перед великим
человеком, о котором они так много слышали, и почтительно опустили головы...
— Я веду вас, сэр, в свою обсерваторию, находящуюся в 20 милях
отсюда. Сэр! Мне нужен товарищ в моём предприятии, значение которого вы в состоянии постигнуть только обоими полушариями вашего
головного мозга. Мой выбор пал на вас... Вы после сорокачасовой речи
навряд ли захотите вступать со мной в какие бы то ни было разговоры,
а я, сэр, ничего так не люблю, как свой телескоп и продолжительное
молчание. Язык вашего слуги, я надеюсь, свяжется вашим, сэр, при-
280
казанием. Да здравствует пауза!!! Я веду вас... Вы ничего не имеете
против этого?
— Ничего, сэр! Мне остаётся пожалеть только о том, что мы не скороходы и что мы имеем под ступнями подошвы, которые стоят денег и...
— Я вам куплю новые сапоги.
— Благодарю вас, сэр.
Кто из читателей воспылает желанием ближе познакомиться с мистером Вильямом Болваниусом, тот пусть прочтёт его замечательное
сочинение: «Существовала ли луна до потопа? Если существовала,
то почему же и она не утонула?» При этом сочинении приложена
и запрещённая брошюра, написанная им за год перед смертью: «Способ стереть вселенную в порошок и не погибнуть в то же время».
В этих сочинениях как нельзя лучше характеризуется личность этого
замечательнейшего из людей.
Между прочим там описывается, как он прожил два года в австралийских камышах, где питался раками, тиной и яйцами крокодилов
и в эти два года не видел ни разу огня. Будучи в камышах, он изобрёл
микроскоп, совершенно сходный с нашим обыкновенным микроскопом,
и нашёл спинной хребет у рыб вида «Riba». Воротившись из своего
долгого путешествия, он поселился в нескольких милях от Лондона
и всецело посвятил себя астрономии. Будучи порядочным женоненавистником (он был три раза женат, а потому и имел три пары прекраснейших, ветвистых рогов) и не желая до поры до времени быть
открытым, он жил аскетом. Обладая тонким, дипломатическим умом,
он ухитрился сделать так, что обсерватория и труды его по астрономии
были известны только одному ему. К сожалению и несчастью всех благомыслящих англичан, этот великий человек не дожил до нашего времени. В прошлом году он тихо скончался: купаясь в Ниле, он был
проглочен тремя крокодилами.
Глава III
ТАИНСТВЕННЫЕ ПЯТНА
Обсерватория, в которую ввёл он Лунда и старого Тома Бекаса (следует длиннейшее и скучнейшее описание обсерватории, которое переводчик в видах экономии места и времени нашёл нужным не переводить)... стоял телескоп, усовершенствованный Болваниусом. Мистер
Лунд подошёл к телескопу и начал смотреть на луну.
— Что вы там видите, сэр?
— Луну, сэр.
— А возле луны что вы видите, мистер Лунд?
— Я имею честь видеть одну только луну.
— А не видите ли вы бледных пятен, движущихся возле луны?
— Чёрт возьми, сэр! Называйте меня ослом, если я не вижу этих
пятен! Что это за пятна?
— Это пятна, которые видны в один только мой телескоп. Довольно! Оставьте телескоп! Мистер Лунд и Том Бекас! Я должен, я хочу
281
узнать, что это за пятна! Я буду скоро там! Я иду к этим пятнам! Вы
следуете за мной!
— Ура! Да здравствуют пятна! — крикнули Джон Лунд и Том
Бекас.
Глава IV
СКАНДАЛ НА НЕБЕ
Через полчаса мистеры Вильям Болваниус, Джон Лунд и шотландец Том Бекас летели уже к таинственным пятнам на восемнадцати
аэростатах. Они сидели в герметически закупоренном кубе, в котором
находился сгущённый воздух и препараты для изготовления кислорода1. Начало этого грандиозного, доселе небывалого полёта было совершено в ночь под 13-е марта 1870 года. Дул юго-западный ветер. Магнитная стрелка показывала NWW (следует скучнейшее описание
куба и 18 аэростатов)... В кубе царило глубокое молчание. Джентльмены кутались в плащи и курили сигары. Том Бекас, растянувшись
на полу, спал, как у себя дома. Термометр2 показывал ниже 0. В продолжение первых 20 часов не было сказано ни одного слова и особенного ничего не произошло. Шары проникли в область облаков. Несколько молний погнались за шарами, но их не догнали, потому
что они принадлежали англичанину. На третий день Джон Лунд заболел дифтеритом, а Тома Бекаса обуял сплин. Куб, столкнувшись
с аэролитом, получил страшный толчок. Термометр показывал −76.
— Как ваше здоровье, сэр? — прервал наконец молчание Болваниус, обратясь на пятый день к сэру Лунду.
— Благодарю вас, сэр! — отвечал тронутый Лунд. — Ваше внимание трогает меня. Я ужасно страдаю! А где мой верный Том?
— Он сидит теперь в углу, жуёт табак и старается походить на человека, женившегося сразу на десятерых.
— Ха, ха, ха, сэр Болваниус!
— Благодарю вас, сэр!
Не успел мистер Болваниус пожать руку молодому Лунду, как произошло нечто ужасное. Раздался страшный треск... Что-то треснуло, раздалась тысяча пушечных выстрелов, пронёсся гул, неистовый
свист. Медный куб, попав в среду разрежённую, не вынес внутреннего
давления, треснул, и клочья его понеслись в бесконечное пространство.
Это была ужасная, единственная в истории вселенной минута!!
Мистер Болваниус ухватился за ноги Тома Бекаса, этот последний
ухватился за ноги Джона Лунда, и все трое с быстротою молнии понеслись в неведомую бездну. Шары отделились от них и, освобождённые от тяжести, закружились и с треском полопались.
— Где мы, сэр?
— В эфире.
1
Химиками выдуманный дух. Говорят, что без него жить невозможно. Пустяки. Без денег только жить невозможно. — Примеч. переводчика.
2
Такой инструмент есть. — Примеч. переводчика.
282
— Гм... Если в эфире, то чем же мы дышать будем?
— А где сила вашей воли, сэр Лунд?
— Мистеры! — крикнул Бекас. — Честь имею объявить вам, что мы
почему-то летим не вниз, а вверх!
— Гм... Сто чертей! Значит, мы уже не находимся в области притяжения Земли... Нас тянет к себе наша цель! Ураа! Сэр Лунд, как
ваше здоровье?
— Благодарю вас, сэр! Я вижу наверху Землю, сэр!
— Это не земля, а одно из наших пятен! Мы сейчас разобьёмся
о него! Тррррах!!!!
Глава V
ОСТРОВ КНЯЗЯ МЕЩЕРСКОГО
Первый пришёл в чувство Том Бекас. Он протёр глаза и начал обозревать местность, на которой лежали он, Болваниус и Лунд. Он снял
чулок и принялся тереть им джентльменов. Джентльмены не замедлили очнуться.
— Где мы? — спросил Лунд.
— Вы на острове, принадлежащем к группе летающих! Ураа!
— Ураа! Посмотрите, сэр, вверх! Мы затмили Колумба!
Над островом летало ещё несколько островов (следует описание
картины, понятной одним только англичанам)... Пошли осматривать
остров. Он был шириной... длиной... (цифры и цифры... Бог с ними!)
Тому Бекасу удалось найти дерево, соком своим напоминающее русскую водку. Странно, что деревья были ниже травы (?). Остров был
необитаем. Ни одно живое существо не касалось доселе его почвы...
— Сэр, посмотрите, что это такое? — обратился мистер Лунд к сэру
Болваниусу, поднимая какой-то свёрток.
— Странно... Удивительно... Поразительно... — забормотал Болваниус.
Свёрток оказался сочинениями какого-то князя Мещерского, написанными на одном из варварских языков, кажется, русском.
Как попали сюда эти сочинения?
— Пррроклятие! — закричал мистер Болваниус. — Здесь были раньше нас?!!? Кто мог быть здесь?!. Скажите — кто, кто? Прроклятие!
Оооо! Размозжите, громы небесные, мои мозги! Дайте мне сюда его!
Дайте мне его! Я проглочу его, с его сочинениями!
И мистер Болваниус, подняв вверх руки, страшно захохотал. В глазах его блеснул подозрительный огонёк. Он сошёл с ума.
Глава VI
ВОЗВРАЩЕНИЕ
— Урааа!! — кричали жители Гавра, наполняя собою все гаврские
набережные. Воздух оглашался радостными криками, звоном и музыкой. Чёрная масса, грозившая всем смертью, опускалась не на город, а в залив... Корабли поспешили убраться в открытое море. Чёрная
283
масса, столько дней закрывавшая собою солнце, при торжественных
кликах народа и при громе музыки важно (pesamment1) шлёпнулась
в залив и обрызгала всю набережную. Упав на залив, она утонула.
Через минуту залив был уже открытым. Волны бороздили его по всем
направлениям... На средине залива барахтались три человека. То были
безумный Болваниус, Джон Лунд и Том Бекас. Их поспешили принять
на лодки.
— Мы пятьдесят семь дней не ели! — пробормотал худой, как голодный художник, мистер Лунд и рассказал, в чём дело.
Остров князя Мещерского уже более не существует. Он, приняв
на себя трёх отважных людей, стал тяжелей и, вышедши из нейтральной полосы, был притянут Землёй и утонул в Гаврском заливе...
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Джон Лунд занят теперь вопросом о просверлении луны. Близко
уже то время, когда луна украсится дырой. Дыра будет принадлежать
англичанам. Том Бекас живёт теперь в Ирландии и занимается сельским хозяйством. Он разводит кур и сечёт свою единственную дочь,
которую воспитывает по-спартански. Ему не чужды и вопросы науки:
он страшно сердится на себя за то, что забыл взять с Летающего острова семян от дерева, соком напоминающего русскую водку.
5 Комментарии. Рассказ «Летающие острова» был написан в 1882 году, включён
в сборник «Шалость» с подзаголовком «Соч. Жюля Верна (Пародия)». Впервые опубликован в журнале «Будильник» в мае 1883 года.
Научно-фантастические романы французского писателя Жюля Верна (1828—1905) «Путешествие к центру Земли» (1864), «Вокруг Луны» (1869), «Плавающий город» (1870),
«Вокруг света за восемьдесят дней» (1872), «Таинственный остров» (1875) получили необычайную популярность в чеховские времена.
Вопросы и задания
1. Какие сюжеты и персонажи произведений Ж. Верна вам знакомы? Что вам
известно, например, о капитане Немо?
2. Какие особенности научно-фантастической литературы пародируются в «Летающих островах» А. П. Чехова?
3. Какие художественные приёмы использует автор пародии для создания комического эффекта? Приведите примеры.
4. Как вы думаете, почему особенно часто писатель обращается к приёму гиперболы? Какая гипербола в пародии «Летающие острова» вам особенно запомнилась?
Репка
(Перевод с детского)
Жили-были себе дед да баба. Жили-были и породили Сержа. У Сержа уши длинные и вместо головы репка. Вырос Серж большой-преболь1
Pesamment (фр.) — тяжело, грузно, тяжеловесно.
284
шой... Потянул дед за уши; тянет-потянет, вытянуть в люди не может.
Кликнул дед бабку.
Бабка за дедку, дедка за репку, тянут-потянут и вытянуть не могут.
Кликнула бабка тётку-княгиню.
Тётка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку, тянут-потянут, вытянуть в люди не могут. Кликнула княгиня кума-генерала.
Кум за тётку, тётка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку, тянутпотянут, вытянуть не могут. Не вытерпел дед. Выдал он дочку за богатого купца. Кликнул он купца с сторублёвками.
Купец за кума, кум за тётку, тётка за бабку, бабка за дедку, дедка
за репку, тянут-потянут и вытянули голову-репку в люди.
И Серж стал статским советником.
5 Комментарии. Впервые опубликовано в юмористическом журнале «Осколки» 19 февраля 1883 года (№ 8) с подписью «Человек без селезёнки».
Вопросы и задания
1. С какой целью писатель обращается к известному сказочному сюжету? Подумайте, можно ли в полной мере применить к этому произведению Чехова
знакомые вам строки А. С. Пушкина, посвящённые сказке: «Сказка ложь, да
в ней намёк! Добрым молодцам урок».
2. Чего больше в этом произведении — пародии или юмористической стилизации?
Докажите, что писатель избирает основным художественным приёмом в «Репке» каламбур — игру слов, использование в одном контексте разных значений
одного слова или слов и словосочетаний, сходных по звучанию.
3. Опыт исследования. В произведениях Чехова представлено множество
ярких примеров того, как благодаря неожиданному построению предложений
и словосочетаний, игре слов достигается комический эффект. Проведите небольшое исследование, дополните приведённые ниже примеры комических
чеховских словосочетаний и афоризмов своими примерами и сделайте вывод
о художественной функции игры слов в литературных произведениях.
«При словах „предложение“ и „союз“ ученицы скромно потупляют
глаза и краснеют...» («Из записок старого педагога»);
«Если барышня любит не вас, а вашего брата, то это братская любовь» («Словотолкователь для барышень»);
«Я иду по ковру. Ты идёшь, пока врёшь...» («Ионыч»);
«Я кавалер, потому что имею Анну на шее» («Анна на шее»).
Индивидуальные задания
1. Внеклассное чтение. Прочитайте самостоятельно «Плоды раздумья (мысли
и афоризмы)» Козьмы Пруткова и выпишите наиболее понравившиеся вам
фрагменты. Свой выбор прокомментируйте.
2. Внеклассное чтение. Познакомьтесь со стихотворением Козьмы Пруткова
«Мой портрет» и сопоставьте его с живописными портретами поэта.
3. Публичное выступление. Подготовьте сообщение «Лирическая поэзия
А. А. Фета в зеркале пародии».
4. Что сближает пародию А. П. Чехова «Летающие острова» с литературой нонсенса и абсурда?
285
Образ школы
в современной литературе
Вы познакомились в этом году с произведениями классической литературы,
художественный мир которых по-прежнему производит неизгладимое впечатление
на читателей. Однако этот мир многими своими чертами (например, описаниями
быта и нравов, одежды и речи героев) связан с прошлым, иногда уже очень далёким от нас. Обратимся к нашему времени и образам наших современников
(ваших сверстников), которые живут в других исторических условиях, но их волнуют всё те же вечные проблемы: поиск смысла жизни, взаимоотношения отцов
и детей, любовь и дружба, верность и предательство.
Тема школы давно вошла в русскую литературу. Вы можете вспомнить историю
Алёши из сказки А. Погорельского «Чёрная курица, или Подземные жители», рассказ В. Г. Распутина «Уроки французского», повесть Ф. А. Искандера «Школьный
вальс, или Энергия стыда». Особая атмосфера, царящая в фантастическом мире
произведений Дж. Роулинг о Гарри Поттере, привлекает внимание юных читателей
из разных стран, в том числе и оригинальными картинами школьной жизни.
В современной русской литературе, адресованной читателям школьного возраста, образ школы занимает особое место. Школа — это очень большая часть жизни
ваших сверстников. Ведь это не только уроки и перемены, но и первые опыты исследования и творчества, встречи с интересными людьми и общение с друзьями,
неизбежные конфликты и первая влюблённость. Всё это нашло отражение в произведениях современных писателей А. В. Жвалевского, Е. Б. Пастернак, С. В. Востокова, Ю. Н. Кузнецовой и других лауреатов самых известных литературных премий
«Новая детская книга» и «Книгуру».
286
Евгения Борисовна
ПАСТЕРНАК
(род. в 1972 г.)
Андрей Валентинович
ЖВАЛЕВСКИЙ
(род. в 1967 г.)
Андрей Валентинович Жвалевский и Евгения Борисовна Пастернак — белорусские писатели и сценаристы. Выпускники физического факультета Белорусского
государственного университета, они сначала вошли в литературу отдельно, удачно
дебютировали и стали популярными авторами. Однако несколько лет тому назад
они стали весьма успешными соавторами, чьи книги «Правдивая история Деда
Мороза» (2008), «Время всегда хорошее» (2009), повесть «Гимназия № 13» (2010)
и сборник рассказов «Шекспиру и не снилось» (2012) вошли в круг чтения не
только школьников, но и взрослых читателей. Они получили высокую оценку членов жюри таких литературных премий, как «Заветная мечта», «Книгуру», «Алиса»,
«Размышления о Маленьком принце».
Шекспиру и не снилось
(фрагмент)
Правда...
Как же гадко было на душе у Маши! Так мерзко не было её двенадцатилетней душе ещё ни разу! И всё потому, что её просто раздирало от случившейся несправедливости.
Если начать рассказывать эту историю с начала, то получится настоящая Санта-Барбара, где первые серии теряются где-то в далёком
детстве. Таком далёком, что уже и не отличишь свои воспоминания от
рассказов других людей.
А если коротко, то Саша любит Катю. А Катя любит Вовку из
8 «Б». Его на самом деле все любят, его не любить просто невозможно,
на него даже десятиклассницы поглядывают.
287
А Сашка, чтобы Катя обратила на него внимание, взял и стащил
классный журнал и поставил ей две «десятки» по математике, чтоб
оценка за четверть была повыше. А математичка, она не дура, у неё
память отличная... Короче, она это заметила и устроила Кате дикий
скандал и завучем, и директором.
Катька ревела три урока подряд, потому что она вообще не понимает, откуда у неё эти «десятки» взялись. А Сашка её, конечно, любит... Но он как посмотрел на завуча и директора, так сразу понял,
что не такая уж она и красивая. Сидит себе в сторонке и делает вид,
что вообще ни при чём.
А Маша просто случайно видела, как Саша вчера выскакивал из
учительской с журналом. Действительно, случайно. Она шла с факультатива. А тут Саша. И журнал. А сегодня скандал. А Саша любит
Катю. Короче, дважды два четыре и никаких вариантов.
Пиная ногами ледышку, Маша шла по двору из школы. Рассказать
или не рассказать? А если рассказать, то кому? Кате? А если она не
поверит? Саше? Да он же её убьёт на месте! Классной? Но она молчать
не будет, скажет Саше, что именно Маша его сдала. И тогда точно мало
не покажется.
Что делать? Что делать... Льдинка улетела далеко вперёд и выскочила под колёса вылезающего из сугроба автомобиля. Глядя на блестящие осколки, Маша чуть не заплакала. Она тащила эту льдинку
перед собой от самой школы, она уже сроднилась с ней, а тут... Вдребезги...
— Уууу, садюга, — прошептала Маша вслед отъезжающему водителю, и вошла в подъезд.
Уроки не делались, по телеку показывали сплошную фигню, а все
игры на компе надоели до дрожи. Маша бродила по квартире, хватала
в руки то книжку, то учебник, то диск, то старый набор с вышивкой,
который валялся у неё уже три года всё в том же, зачаточно-вышивательном состоянии.
Мама приехала неожиданно.
— Как, ты ещё не собралась? Нам выходить через полчаса, а ты
ещё даже не переоделась?
Маша с удовольствием зажала б уши руками и не стала этого делать
только потому, что точно знала: будет ещё громче и дольше.
Еда в горло не лезла, одежда не надевалась, предстоящая тренировка вызывала дикое отвращение. Мама монотонно бубнила на заднем
фоне, а в Машиной голове проносились дикие мысли. Подкинуть анонимное письмо... Позвонить по телефону... Анонимно. А как сейчас
анонимно позвонишь, если все телефоны определяются! А если позвонить, то кому? И что сказать?
С одной стороны, Катька ревёт — её жалко. А с другой, Саша ей не
двоек поставил, он хотел как лучше... И вообще ябедничать нехорошо!
— Мама, ябедничать нехорошо?
Мама слегка опешила и сбилась с мысли.
— Нехорошо, конечно, — ответила она и продолжила про то, что
нужно быть собранной и тогда точнобудешьвсёуспевать...
288
Уже в машине, глядя как плачет, отпотевая, боковое стекло, Маша
снова спросила. Не выдержала.
— Мама, а если что-то знаешь, но не говоришь, это значит врёшь?
Мама опять сбилась с мысли и насторожилась.
— У тебя что-то случилось?
— Нет. У меня ничего не случилось, — сказала Маша и уткнулась
носом в окно.
Вокруг носа тут же начал расплываться «надышанный» кусочек.
— Когда как, — осторожно ответила мама. — Если от того, что ты
не говоришь, кому-то плохо... У тебя точно ничего не случилось?
Кому-то плохо. Катька ревёт. А если Маша скажет правду, то реветь будет Саша. А он... Он... Не то, чтоб нравится Маше... Маше считает, что вся эта любовь — это глупости. И выдумки. Но от того, что
Саше будет плохо, в горле становится противный комок...
— Мам, у меня голова болит, я не могу сегодня танцевать, — решила Маша.
— Ну, здрасте, мы уже приехали! — обиделась мама. — Иди! Надо
было меньше на диване лежать!
Маша вышла, хлопнув дверцей, и потащилась ко входу в ДК. Некстати вспомнила про разлетевшуюся на кусочки льдинку. «Как моё
сердце!» — подумала Маша, но тут же пришла в себя.
— Тьфу, это ж надо такое придумать! — Машка взбодрилась,
встряхнула головой и побежала на тренировку.
На обратном пути мама спешила и поэтому молчала. Молчала, даже
когда её на полном скаку остановил «гаишник», радостно махая своей
полосатой палкой. Маша уже приготовилась по губам прочитать всё,
что мама постесняется при ней сказать вслух... Но мама только крепче сжала губы и остановилась.
— Нарушаете, гражданочка! — весело сообщил в открытое окно молоденький сержант. — Что ж вы так? Ребёнка везёте, а нарушаете?
— Домой хочу, — улыбнулась мама, — поздно уже.
— Ну, так тише едешь — дальше будешь! И деньги платить не придётся! — радостно сообщил гаишник. — А теперь вот придётся пройти
в машину и оформить!
Мама вздохнула и начала отстёгивать ремень.
— Мам, попроси, он тебя отпустит, — заныла Маша, — тебя ж всегда отпускают! Или пусть на месте...
— Не хочу, — отмахнулась мама, — сегодня не хочу. В конце концов, я нарушила правила, он честно меня остановил. А я вот сейчас
пойду и честно заплачу штраф. По квитанции.
— И кому ты что докажешь? — крикнула Маша, но её чуть не сдуло ворвавшимся в машину сквозняком.
Мама вернулась минут через двадцать. Кинула на полочку квитанцию и аккуратно вырулила на дорогу.
— И тебе не жалко? — спросила Маша, кивнув на бумажку.
— Не-а, — улыбнулась мама, — противно перед ними унижаться,
просить... Штраф заплатила — совесть чистая. Оч хорошо!
289
И в этот момент Маша приняла решение.
Сашка, когда узнал, что она его видела, стал пунцовый. Сначала
стал её пугать. Потом просить. Потом пообещал выпросить у сеструхи
её старый телефон, который лучше Машиного нового...
Маше было одновременно страшно и стыдно, и смешно.
— Короче, Саш, я тебе рассказала, теперь ты сам решай, что с этим
делать. А моя совесть чиста.
Сашка ещё долго орал ей что-то вслед, но Маша, кроме облегчения,
уже ничего не испытывала.
На последнем уроке пришла классная и сказала, что администрация школы приносит свои извинения Кате. Потому что тот, кто подставил оценки в журнал, сам во всём признался.
— Кто? — выдохнул класс.
— Не важно, — отмахнулась учительница и ушла.
А после уроков Маша видела, как пунцовый Саша стоял перед Катей, а она била его портфелем по голове.
А потом они ушли вместе. И Саша нёс Катин портфель. А Катя
отряхивала его куртку от снега.
И у Маши в горле стоял огромный комок.
«Я ведь могла не говорить...» — подумала она. А потом вспомнила
вчерашнее гнетущее состояние на душе и поняла, что не могла. Не
могла не сказать.
«Тем более, что в любовь я всё равно не верю!» — вспомнила Маша
и с хрустом раздавила каблуком ещё одну ни в чём не повинную льдинку. Вдребезги.
5 Комментарии. Сборник рассказов «Шекспиру и не снилось» был опубликован
в издательстве «Детская литература» в 2012 году, однако все рассказы этого сборника
годом ранее вошли в сборник «Типа смотри короче».
...настоящая Санта-Барбара... — имеется в виду известный американский телесериал
«Санта-Барбара», более двух тысяч серий которого демонстрировались в США (1984—
1993), а потом во многих странах мира, в том числе и в России (1992—2002).
Вопросы и задания
1. Какой нравственный выбор делает героиня рассказа «Правда...»? Докажите,
насколько нелёгким был этот выбор. Какое событие оказало влияние на решение Маши?
2. Точка зрения. Как вы оцениваете те решения, которые приняли сначала
Маша, а потом Саша? Как эти решения характеризуют их?
3. Опыт исследования. Какие явления в современном русском языке учитывают и используют в своём произведении авторы? Как это помогает им создать образы школьников, черпающих информацию преимущественно из Интернета, следующих в общении со сверстниками вовсе не нормам литературного
языка, широко использующих просторечные выражения и молодёжный сленг?
4. Внеклассное чтение. Прочитайте самостоятельно любой из рассказов, включённых в книгу А. В. Жвалевского и Е. Б. Пастернак «Шекспиру и не снилось».
Напишите отзыв об этом рассказе.
290
Станислав Владимирович ВОСТОКОВ
(род. в 1975 г.)
Станислав Владимирович Востоков — писатель,
поэт, натуралист, обладатель Почётного диплома Международного совета по детской книге, лауреат литературных премий имени С. Я. Маршака, В. П. Крапивина,
«Алые паруса» и «Книгуру». Он участвовал в проектах, связанных с сохранением редких животных, работал в Камбодже, потом в Московском зоопарке. Этот
опыт дал ему ценный материал для таких произведений, как «Московский зоопарк. Записки служителя»
(2004) и «Остров, одетый в джерси» (2007). Его книги
адресованы не только детям, но и взрослым читателям. Одна из самых известных таких книг — «Ветер
делают деревья, или Руководство по воспитанию дошкольников для бывших детей и будущих родителей»
(2006).
Высшим силам требуется помощь
(фрагмент)
Четверть подходила к концу. Дневник Иры заполнялся четвёрками
и тройками. Но Иру это мало волновало, потому что это мало волновало
её родителей: они — как и все родители — были уверены, что их ребёнок не глупее остальных (Максим Антохин не в счёт, это явная аномалия). Лишь иногда Ирин папа, кадровый военный, спрашивал: «Как
у нас дела с физкультурой?» Он считал, что главное — здоровье, остальное приложится. А дела с физкультурой у Иры неизменно обстояли хорошо. Это был единственный предмет, приносивший в её дневник пятёрки, и даже с плюсом. А как-то раз Борис Анатольевич поставил Ире
«шесть» за то, что она подтянулась больше всех мальчиков в школе.
Сейчас, в конце четверти, Ира (при поддержке Макса) из последних
сил справлялась с навалившимися на неё контрольными и диктантами. А Борис Анатольевич, видимо, чтобы окончательно добить учеников, решил устраивать ежедневные кроссы.
Из-за недостатка места во дворе ребятам приходилось бегать по четырём Кисловским переулкам вокруг школы, пугая голубей и иностранных туристов. Эти кроссы ученики прозвали «кислыми». На
шумные спортивные мероприятия не раз жаловались соседи школы:
Театр имени Маяковского и Эстонское посольство — бегающие дети
мешали актёрам и эстонцам нормально работать. Но в ответ директриса предлагала им самим попробовать пробежать трёхкилометровый
кросс в крохотном школьном дворе.
Пока ребята переодевались в спортивную форму, Борис Анатольевич ходил по переулкам, поправляя красные флажки на маршруте.
291
Приведя их в порядок, он вернулся к школе. Семиклассники уже собрались у её ворот и над чем-то дружно смеялись. Среди них был только один серьёзный человек — Мешков.
— И что вас так развеселило? — физрук вынул секундомер. — Конец четверти — не время для смеха.
— Посмотрите на Мешкова! — послышалось из толпы.
Следуя совету, Борис Анатольевич отыскал широкую физиономию
хулигана и перевёл взгляд на его ноги. На толстяке были старинного
покроя сапоги, которые очень странно смотрелись среди кед и кроссовок.
— Что это за маскарад? — рассердился Борис Анатольевич. — Я, конечно, понимаю, теперь много всяких неформалов. Но на физкультуру
я бы просил являться в СПОРТИВНОЙ одежде!
— Да я простыл. Ноги мёрзнут. — Мешков фальшиво чихнул.
— Ты в кедах еле на тройку бегаешь. А в этих ботфортах тебе гарантирован кол!
— Может, он из Гималаев? — подал голос Смирнитский в испачканном краской костюме. — Знаете, в Тибете есть такие крутые парни,
которые умеют делаться невесомыми. Они, чтобы не взлететь на ходу,
цепляют к ногам здоровенные гири...
Класс загоготал. Мешков исподтишка показал Смирнитскому кулак. С другой стороны ещё один кулак ему показал Коренев, чтобы
морально поддержать друга.
Борис Анатольевич хлопнул огромными ладонями.
— Мешков, у меня нет времени с тобой разбираться. Беги хоть
в лаптях, но никаких поблажек по поводу твоей так называемой простуды не будет!
Через минуту ребята выстроились на линии старта напротив дорогого бутика. Через стекло на школьников неприязненно поглядывали
менеджеры по продажам.
Борис Анатольевич поднял руку:
— На старт, внимание... Девочки, хватит пялиться на магазин!
Марш!
Он махнул рукой, и 7 «В» рванул по Малому Кисловскому. Рассеяв
небольшую очередь перед Эстонским посольством, школьники понеслись в направлении Нижнего Кисляка, как они выражались.
Ира сразу вырвалась вперёд. За ней следовал натренированный
в покорении заборов Смирнитский. Последним, как обычно, бежал
Антохин в слегка перекосившихся очках. Однако самое интересное
происходило на старте. Там продолжал стоять Мешков, озабоченно постукивая каблуком о каблук и недоумённо поглядывая на сапоги. Это
окончательно вывело физрука из себя.
— Время! — заорал он на весь переулок.
От испуга Мешков особенно сильно стукнул пятками и вдруг с невероятной скоростью ринулся за одноклассниками. Его ноги мелькали
быстрее, быстрее и наконец слились в серое пятно, отчего казалось,
что Мешок едет верхом на одноколёсном велосипеде.
— Мама-а-а! — заорал толстяк, вновь рассеивая очередь у посольства.
292
С. В. Востоков. «Высшим силам требуется помощь». Художник О. Попович
В одно мгновение он с воем обогнал одноклассников и скрылся
в Нижнем Кисловском. Ребята удивлённо остановились.
— Что это было? — Коренев протёр глаза.
— Я, кажется, видел пол-Мешка! — Смирнитский сам себе не верил.
Коренев с ужасом смотрел на угол, за которым исчезла половина
его друга.
— Я туда не побегу. А вдруг Мешок там того... неживой.
Буквально через несколько секунд они услышали вопль позади.
Обернувшись, ребята увидели, как Мешков вылетел из Среднего Кисловского и понёсся к школе.
— Остановите меня-а-а! — орал он, размахивая руками.
Физрук встал в позу вратаря, собираясь выполнить просьбу Мешкова, но в последний момент отскочил в сторону — летящие на него восемьдесят килограммов могли покалечить. Пролетев через школьный
дворик, Мешков с треском врезался в деревянный забор, отделявший
стройку от школы, и рухнул вместе с несколькими секциями. Остатки
забора покачались, как бы размышляя, что делать дальше, но потом
последовали за упавшей частью. Над землёй взметнулся фонтан грязи.
Встревоженный Борис Анатольевич подбежал к сгустку глины,
из которого торчали сапоги. Определив по глухому мычанию местопо-
293
ложение лица, физрук вытер его носовым платком и поднял школьника на ноги. Оглушённый толстяк смотрел вокруг так, будто видел
этот мир впервые. Забыв про кросс, к школе сбежались все его участники.
— Боюсь, твоему отцу предстоит тяжёлый разговор со строителями, — сказал физрук. — Пусть он после уроков заедет в школу. Эй, —
Борис Анатольевич потряс Мешка, — ты меня понял?
Хулиган в качестве ответа пустил несколько грязных пузырей.
— Коренев и Смирнитский, отведите Мешкова в медпункт. Пусть
его осмотрят... и вымоют.
Одноклассники, стараясь не испачкаться, повели Мешка к школе.
5 Комментарии. Повесть «Высшим силам требуется помощь» впервые была опубликована в 2015 году. В аннотации отмечен необычный жанр этого произведения, в котором
«сплетаются сказка, фантастика и даже историческая повесть».
...по четырём Кисловским переулкам... — здесь имеются в виду переулки в центре Москвы: Малый Кисловский, Большой Кисловский, Средний Кисловский и Нижний Кисловский.
Вопросы и задания
1. Вы прочитали небольшой фрагмент повести С. В. Востокова «Высшим силам
требуется помощь». Что вам показалось странным и необычным в описании
события, произошедшего на уроке физкультуры? Как вы можете прокомментировать эту поистине фантастическую ситуацию? Очевидно, что только знакомство с аннотациями к повести или полным её текстом поможет вам разобраться в этой истории. Обратитесь к поисковым системам в Интернете, чтобы
выполнить это задание.
2. Поиск информации. Подготовьте информацию о месте действия в повести
С. В. Востокова «Высшим силам требуется помощь». Представьте эту информацию в виде слайдов, используйте карты упоминаемых в повести районов
Москвы.
3. Точка зрения. Какие описания и диалоги в повести произвели на вас особенно сильное впечатление? Какие картины жизни современного школьника
показались самыми близкими, понятными и очень знакомыми?
4. Внеклассное чтение. Прочитайте полный текст повести С. В. Востокова «Высшим силам требуется помощь» или другое произведение этого писателя. Подготовьте устный отзыв о произведении. Кому вы можете рекомендовать его
для чтения?
Индивидуальные задания
1. Вместе с товарищами. Подготовьте презентацию, посвящённую одной из
литературных премий («Новая детская книга», «Книгуру» или др.) или новинкам
современной литературы для среднего и старшего школьного возраста. Сами
выберите название для своей презентации, продумайте формы подачи информации.
2. Опыт творчества. Напишите рассказ о школьной жизни, основанный на
реальных событиях или созданный исключительно благодаря работе воображения, творческой фантазии. Проведите конкурс таких рассказов, обсудите его
результаты, используя возможности электронных ресурсов.
294
Краткий словарь
литературоведческих терминов
Автор (лат. auctor — виновник, основатель, сочинитель) — создатель литературного произведения. Авторская позиция может проявляться прямо, непосредственно — через комментарии, оценки; автор при этом выступает в роли наблюдателя, исследователя, спутника, судьи. Чаще всего авторская позиция проявляется
косвенно и может быть прояснена отчасти через сюжет, композицию, образную систему, совокупность художественных средств, отдельные детали и т. д.
Аллегория (греч. allegoria — иносказание) — литературный приём, в основе которого лежит иносказание, изображение какой-либо идеи при помощи конкретного, отчётливо представляемого образа. Особенно часто приём аллегории
используется в баснях.
Амфибрахий (греч. amphibrachys — с обеих сторон краткий) — трёхсложный стихотворный метр (размер) с ударением на втором слоге («Как ныне сбирается
вещий Олег...». А. С. Пушкин).
Анапест (греч. anapaistos — отражённый назад) — трёхсложный стихотворный
метр (размер) с ударением на третьем слоге («На заре ты её не буди...».
А. А. Фет).
Антитеза (греч. antithesis — противоположение) — литературный приём, основанный на резком противопоставлении понятий, образов, явлений и т. п. Обычно
антитеза выражена словами-антонимами.
Баллада (фр. ballade — танцевальная песня) — лироэпический жанр, стихотворение на историческую, сказочную или бытовую тему с элементами таинственности и мистики, может содержать драматический диалог и напряжённое повествование.
Басня — жанр поучительной литературы, короткий рассказ в стихах или прозе с прямо сформулированным моральным выводом, придающим рассказу
аллегорический смысл.
Белый стих (англ. blank verse) — нерифмованный стих.
Героический эпос — сказания о героях, участвовавших в грандиозных исторических событиях, связанных с формированием и укреплением государственности.
Гипербола (греч. hiperbole — преувеличение) — художественный приём, основанный на преувеличении тех или иных свойств изображаемого предмета или явления («Редкая птица долетит до середины Днепра...». Н. В. Гоголь).
Гротеск (фр. grotesque, итал. grottesco — причудливый от grotta — грот) — своеобразный художественный стиль, основанный на фантастике, гиперболе, причудливом сочетании реального и фантастического.
Дактиль (греч. daktylos — палец) — трёхсложный стихотворный метр (размер)
с ударением на первом слоге («Тучки небесные, вечные странники...». М. Ю. Лермонтов).
295
Деталь художественная (фр. detail — подробность, мелочь) — выразительная подробность (быта, пейзажа, интерьера, портрета, жеста, действия, речи и т. п.)
в произведении, несущая значительную смысловую и эмоциональную нагрузку.
Детектив (лат. detectio — раскрытие) — художественное произведение с особым
типом построения сюжета, в основе которого лежит раскрытие преступления.
Диалог (греч. dialogos — разговор, беседа) — разговор двух или нескольких лиц.
Драма (греч. drama — действие) — один из трёх родов литературы, наряду с эпосом и лирикой. Большинство драматических произведений построено на действии. Основные драматические жанры: трагедия, комедия, драма.
Древнерусская литература — средневековая русская литература XI—XVII веков.
Духовная поэзия — стихотворные произведения на религиозные темы и сюжеты.
Жанр литературный (фр. genre — род, вид) — исторически складывающийся вид
литературного произведения. Различают эпические (роман, повесть, рассказ,
новелла и др.), лирические (лирическое стихотворение, ода, послание и др.),
драматические (трагедия, комедия, драма и др.) и лиро-эпические (баллада,
поэма и др.) жанры.
Житие — жанр средневековой литературы, повествование о жизни святого и последующих после смерти святого чудесах, связанных с его именем.
Завязка — событие, знаменующее начало развития действия. Обычно ей предшествует экспозиция.
Заглавный образ — художественный образ, вынесенный в заглавие литературного произведения.
Инверсия (лат. inversio — переворачивание, перестановка) — нарушение «естественного» порядка слов («И курганов зеленеет / Убегающая цепь...».
А. А. Фет).
Интерпретация (лат. interpretation — истолкование, объяснение) — истолкование
литературного произведения, постижение его смысла, идеи, концепции.
Интерьер (фр. intеrieur — внутренний) в литературе — описание внутреннего
убранства помещений.
Ирония (греч. eironeia — притворство) — иносказание, выражающее насмешку
или лукавство.
Классицизм (от лат. classicus — образцовый) — направление в европейской литературе и искусстве XVII — начала XIX века, основанное на подражании античным (классическим) образцам и принципах рационализма, рассматривающее
художественное произведение как создание сознательно сотворённое, разумно организованное и логически построенное.
Комедия (греч. komodia, от komos — весёлая процессия и ode — песня) — один
из основных драматических жанров, в котором характеры, ситуации и действие представлены в смешных формах. Различают комедию положений (ситуаций) и комедию нравов (характеров).
Комментарий (лат. commentarius — заметки, толкование) — толкование, разъяснение текста литературного произведения.
Композиция (лат. compositio — составление, соединение) — построение литературного произведения, система сопоставлений либо по сходству, либо по кон-
296
трасту. Композиция включает в себя «расстановку» персонажей, событий, способов повествования, стилистических приёмов и др.
Конфликт (лат. conflictus — столкновение) — столкновение противоречий, основа
и движущая сила в произведении.
Кульминация (от лат. culmen — вершина) — момент наивысшего напряжения действия в произведении.
Летопись — жанр древнерусской литературы, погодные (по годам) записи исторических событий.
Лирика (от греч. lyra — музыкальный инструмент, под аккомпанемент которого
исполнялись стихи, песни и т. п.) — один из трёх родов литературы, наряду
с эпосом и драмой. В лирических произведениях в центре внимания изображение переживания. Основные лирические жанры — лирическое стихотворение,
ода, послание.
Метафора (греч. metaphora — перенесение) — один из основных художественных
приёмов (тропов), перенесение свойств одного предмета (явления) на другой
по принципу их сходства в каком-либо отношении или по контрасту («Улыбкой
ясною природа / Сквозь сон встречает утро года...». А. С. Пушкин).
Мифы (греч. mythos — предание) — древнейшие сказания о богах и героях, их
подвигах и открытиях.
Монолог (от греч. monos — один и logos — слово) — развёрнутое высказывание
одного персонажа в литературном произведении.
Новелла (итал. novella — новость) — один из малых жанров эпической (повествовательной) литературы, отличающийся от рассказа более острым сюжетом
и композиционной стройностью.
Ода (греч. ode — песня) — жанр лирической поэзии преимущественно торжественного характера, посвящённый какому-либо важному событию или прославлению Бога, природы, Отечества, человеческих достоинств.
Олицетворение — художественный приём, особый вид метафоры, перенесение
черт живого существа на неодушевлённые предметы или явления («Поют деревья, блещут воды...». Ф. И. Тютчев).
Пародия (греч. parodia — перепев) — комическое подражание художественному
произведению.
Пейзаж (фр. paysage — пейзаж) — изображение природного окружения человека
или образ любого открытого пространства.
Персонаж (от лат. persona — личность, лицо) — образ человека в литературном
произведении.
Повесть — жанр повествовательной (эпической) литературы, «средняя» форма
эпической прозы, сопоставимая с романом (большая форма) и рассказом (малая форма).
Повтор — художественный приём, основанный на повторении слов, фраз, образов, звуков.
Поучение — вид проповеди, жанр древнерусской литературы.
297
Поэма (греч. poiema, от poieo — делаю, творю) — лироэпический жанр, большое
или среднее по объёму стихотворное произведение с эпическим или лирическим сюжетом.
Предметный мир литературного произведения — мир вещей в литературном произведении.
Прототип (греч. prototypon — прообраз) — реально существовавшее лицо, послужившее писателю прообразом для создания литературного персонажа.
Психологизм (от греч. psyche — душа и logos — понятие) — глубокое и детальное раскрытие внутреннего мира героев, их мыслей, желаний, переживаний.
Пьеса (фр. piece — кусок, часть) — всякое произведение драматического рода.
Развязка — заключительный момент в развитии действия, конфликта в драматическом или эпическом произведении.
Рассказ — малый жанр повествовательной (эпической) литературы.
Реализм (от позднелат. realis — вещественный, действительный) — направление
в литературе и искусстве, доминировавшее в XIX веке. Писатели-реалисты
стремились к художественному осмыслению действительности, основанному
на принципе жизнеподобия, представляли типические характеры, действующие
в типических обстоятельствах, особое внимание уделяли социально-бытовому
фону.
Ремарка (фр. remarque — замечание, пояснение) — указание автора в тексте пьесы (обычно в скобках) на поступки героев, их жесты, мимику, интонацию,
обстановку, в которой происходит действие, и т. д.
Рефрен (от ст.-фр. refrain (от refraindre) — повторять) — повторяющаяся часть
песни, повторяющаяся стихотворная строка в поэзии.
Рецензия (лат. recensio — рассмотрение) — подробный отзыв, содержащий разбор произведения, его критическую оценку.
Рифма (греч. rhythmos — плавность, соразмерность) — созвучие окончаний стихотворных строк. Различают рифмы точные («гор — спор») и неточные («рассказ — тоска»), мужские (с ударением на последнем слоге строки), женские
(с ударением на предпоследнем слоге строки), дактилические (с ударением
на третьем от конца строки слоге). По расположению в строках рифмы делят
на парные, или смежные (по схеме аабб), перекрёстные (по схеме абаб), охватные, или опоясанные (по схеме абба). Стихи без рифм называют белыми.
Род литературный — вид литературных произведений. Традиционно выделяют три
основных рода литературы: 1) эпос, 2) лирика, 3) драма.
Роман (фр. roman, нем. Roman, англ. novel) — большое по объёму эпическое произведение, наиболее распространённый жанр повествовательной литературы.
Романтизм (фр. romantisme от исп. romance — по-романски) — одно из крупнейших литературных направлений в европейской и американской литературе
и искусстве конца XVIII — первой половины XIX века, сосредоточившееся на
изображении исключительного героя, действующего в исключительных обстоятельствах, воспринимающего реальную действительность как нечто непостижимое, враждебное личности, противостоящее романтическому идеалу, миру
главного героя (романтическое двоемирие). Романтический герой осознаёт
невозможность утвердить идеальный мир в мире реальном, и этот факт оценивается им как следствие романтического подхода к жизни (романтическая
ирония).
298
Сатира (лат. satira) — беспощадное и уничтожающее осмеяние, критика жизни,
человека, явления.
Сентиментализм (от англ. sentimental — чувствительный, фр. sentiment — чувство) — направление в европейской литературе и искусстве второй половины
XVIII — начала XIX века, обратившееся к изображению внутреннего мира, чувствам обычного человека.
Символ (греч. symbolon — условный знак) — художественный образ, служащий
условным обозначением какого-либо явления.
Сказ — жанр эпической (повествовательной) литературы, опирающийся на народные предания. Повествование в сказе ведётся от лица рассказчика и в особой
сказовой манере.
Сонет (итал. sonetto от sonare — звучать, звенеть, т. е. «звонкая песенка») —
твёрдая форма в европейской поэзии, стихотворение из 14 строк в виде сложной строфы. Каноническая форма сонета состоит из двух катренов (четверостиший) на две рифмы и двух терцетов (трёхстиший) на три, реже на две
рифмы.
Сравнение — изображение одного явления с помощью сопоставления его с другим («И мы, сплетясь, как пара змей, / Обнявшись крепче двух друзей...».
М. Ю. Лермонтов).
Сюжет (фр. sujet — предмет) — развитие действия, ход событий в литературном
произведении.
Тема — круг жизненных явлений, изображённых в художественном произведении.
Трагедия (греч. tragodia — козлиная песнь) — один из основных драматических
жанров, основанный на трагических (неразрешимых) противоречиях, неизбежно ведущих героев к катастрофе.
Троп (греч. tropos — поворот) — употребление слова или выражения в переносном значении.
Фабула (лат. fabula — рассказ, басня) — повествование о событиях, изображённых в художественном произведении.
Фантастика (греч. phantastike — искусство воображать) — разновидность художественной литературы, в которой авторский вымысел приводит к созданию нереального, «чудесного» мира.
Фигура (лат. figura — очертания, внешний вид, образ) — необычное построение
словосочетания, предложения или группы предложений.
Фэнтези (англ. fantasy) — вид фантастической литературы, предполагающей существование фактов и явлений, не поддающихся, в отличие от научной фантастики, объяснению.
Хорей (греч. choreios — плясовой) — двусложный стихотворный метр (размер)
с ударением на первом слоге («Буря мглою небо кроет...». А. С. Пушкин).
Художественный мир — вторичная, вымышленная реальность, созданная при непосредственном участии вымысла, фантазии, художественной условности. Это
то, что изображено в произведении, система, совокупность образов, вполне
соотносимых с реальным миром: люди, события, природа (живая и неживая),
вещи, время и пространство.
299
Цикл (лат. cyclus, греч. kyklos — круг) — группа произведений, сознательно объединённых автором по жанровому, идейно-тематическому принципу или общностью персонажей («Записки охотника» И. С. Тургенева).
Цитата (лат. citatum — приведённое) — дословная выдержка из какого-либо текста.
Эзопов язык (по имени древнегреческого баснописца Эзопа) — особый вид иносказания, к которому обращались писатели в условиях цензуры.
Экспозиция (лат. expositio — изложение, объяснение) — изображение жизни персонажей в период, предшествующий завязке.
Эпиграмма (греч. epigramma — надпись) — жанр лирической поэзии, короткое
стихотворение сатирического содержания.
Эпиграф (греч. epigraphe — надпись) — надпись, короткий текст, помещаемый автором перед текстом сочинения или его части, цитата из авторитетного источника.
Эпизод (греч. episodion — вставка) — относительно самостоятельная единица действия в эпическом или драматическом произведении.
Эпитет (греч. epitheton — приложенное) — художественное (образное) определение предмета (явления), выраженное преимущественно прилагательным («Под
тенью сладостной зелёного листка...». М. Ю. Лермонтов).
Эпопея (греч. epopoiеa — собрание песен, сказаний) — самая крупная форма эпической (повествовательной) литературы.
Эпос (греч. epos — слово, повествование, рассказ) — один из трёх родов художественной литературы, наряду с лирикой и драмой, повествовательная литература. Основные эпические жанры — сказка, предание, эпопея, повесть, рассказ, роман.
Эссе (фр. essai — попытка, проба, очерк) — прозаическое сочинение небольшого
объёма и свободной композиции, выражающее индивидуальные впечатления
и соображения по конкретному поводу или вопросу, не претендующее на исчерпывающую трактовку предмета, имеющее философский, историко-биографический, публицистический, литературно-критический, научно-популярный или чисто
беллетристический характер.
Юмор (англ. humour — юмор, нрав, настроение, склонность) — смех весёлый
и доброжелательный, в отличие от сатиры.
Ямб (греч. iambos) — двусложный стихотворный метр (размер) с ударением на втором слоге («Мой дядя самых честных правил...». А. С. Пушкин).
300
Содержание
Русская литература XX века . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
М. Г о р ь к и й . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Челкаш . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
—
6
Мир в слове. Предмет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
А. А. Б л о к . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
«Девушка пела в церковном хоре...» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Россия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
35
—
М. А. Б у л г а к о в . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Собачье сердце . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38
40
Мир в слове. Сердце . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
П р а к т и к у м. Интерьер в литературных произведениях . . . . . . . . . . . . . . 110
А. Т. Т в а р д о в с к и й . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Василий Тёркин (фрагменты) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Тема Великой Отечественной войны в русской литературе . . . . . . . . . . . 131
А. А. С у р к о в . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
«Бьётся в тесной печурке огонь...» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —
Д. С. С а м о й л о в . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Сороковые . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —
Р. Г а м з а т о в . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Журавли. Пер. И. Гребнева . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —
В. Л. К о н д р а т ь е в . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Сашка (фрагменты) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
А. И. С о л ж е н и ц ы н . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Матрёнин двор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
П р а к т и к у м. Сочинение об образе социальной группы . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Зарубежная литература XX века . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Э. Х е м и н г у э й . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —
Старик и море. Пер. Е. Голышевой, Б. Изакова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Мир в слове. Море . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
П р а к т и к у м. Анализ жанрового своеобразия литературного
произведения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
Форма сонета в мировой литературе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
Д а н т е А л и г ь е р и . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
«В своих очах Любовь она хранит...». Пер. А. Эфроса . . . . . . . . . . . —
301
Ф. П е т р а р к а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
«Промчались дни мои быстрее лани...»
Пер. Е. Солоновича . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
Ш. Б о д л е р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
«Что можешь ты сказать, мой дух всегда ненастный...»
Пер. Эллиса (Л. Кобылинского). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —
В. Я. Б р ю с о в . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
Сонет к форме . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
И. Ф. А н н е н с к и й . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
Третий мучительный сонет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
Литературные пародии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
К о з ь м а П е т р о в и ч П р у т к о в . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
Помещик и садовник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
Путник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —
Д. Д. М и н а е в . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
«На борзом коне воевода скакал...» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —
«Поэт понимает, как плачут цветы...» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
А. П. Ч е х о в . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —
Летающие острова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
Репка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
Образ школы в современной литературе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
А. В. Ж в а л е в с к и й, Е. Б. П а с т е р н а к . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
Шекспиру и не снилось (фрагмент) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —
С. В. В о с т о к о в . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
Высшим силам требуется помощь (фрагмент) . . . . . . . . . . . . . . . . —
Краткий словарь литературоведческих терминов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
302
Список заимствованных иллюстраций
Часть 1
Белов А. Д. И. Фонвизин. «Недоросль» // Фонвизин Д. И. Комедии;
прозаические произведения. — М.: Детская литература, 2012.
Бенуа А. А. С. Пушкин. «Капитанская дочка» // Пушкин в портретах и
иллюстрациях: Пособие для учителей средней школы / Сост. М. М. Калаушин. — Л.: Учпедгиз, 1956.
Герасимов С. А. С. Пушкин. «Капитанская дочка» // Пушкин в портретах
и иллюстрациях: Пособие для учителей средней школы / Сост. М. М. Калаушин. — Л.: Учпедгиз, 1956.
Добужинский М. Город в николаевское время // Мстислав Добужинский.
Альбом. — М.: Изобразительное искусство, 1982.
Епифанов Г. Н. М. Карамзин. «Бедная Лиза» // Карамзин Н. М. Бедная
Лиза. — Л.: Художественная литература, 1977.
Константинов Ф. М. Ю. Лермонтов. «Мцыри» // Лермонтов М. Ю.
Мцыри. — М.: Гослитиздат, 1961.
Константиновский А. Н. В. Гоголь. «Ревизор» // Гоголь Н. В. Ревизор. —
М.; Л.: Детгиз, 1952.
Крымов Н. Речка // Порто И. Б. Н. П. Крымов. — Л.: Художник РСФСР,
1973. — (Массовая библиотечка по искусству).
Пастернак Л. М. Ю. Лермонтов. «Мцыри» // Русская книжная
иллюстрация XIX в. — М.: Искусство, 1952.
Фотоматериал предоставлен фотобанками Лори, Легион Медиа.
Часть 2
Богословский Д. М. Горький. «Челкаш» // Горький М. Челкаш. — М.; Л.:
Детиздат, 1937.
Бритвин В. А. И. Солженицын. «Матрёнин двор» // Солженицын А. И.
Матрёнин двор: Рассказы. — М.: Детская литература, 2009.
Верейский О. А. Т. Твардовский. «Василий Тёркин» // Каменский А. А.
Орест Георгиевич Верейский. — М.: Советский художник, 1960.
Глазунов И. Сирень // Солоухин В. А. Писатель и художник: произведения
русской классической литературы в иллюстрациях И. Глазунова. — М.:
Изобразительное искусство, 1979.
Кузьмин Н. Козьма Прутков // Козьма Прутков. — Л.: Художник РСФСР,
1962.
Непринцев Ю. «Отдых после боя» // Советское изобразительное искусство. — М.: Изобразительное искусство, 1982.
Сакуров И. Э. Хемингуэй. «Старик и море» // Хемингуэй Э. Старик и
море: Рассказы и повесть. — М.: Детская литература, 2003.
Страхов Б. В. Л. Кондратьев. «Сашка» // Кондратьев В. Л. Отпуск по
ранению: Повести. — М.: Детская литература, 2002.
Фотоматериал предоставлен архивом РГАКФД, фотобанками РИА новости,
Легион Медиа, Shutterstock, Diomedia, East News, Фотодом.
303
Учебное издание
Чертов Виктор Фёдорович
Трубина Людмила Александровна
Антипова Алла Михайловна
Маныкина Анна Александровна
ЛИТЕРАТУРА
8 класс
Учебник для общеобразовательных организаций
В двух частях
ЧАСТЬ 2
Редакция русского языка и литературы
Заведующий редакцией Л. Ю. Клевцова
Ответственный за выпуск А. С. Наруцкая
Редакторы Е. И. Правоторова, Е. Н. Бармина
Художественные редакторы Е. В. Дьячкова, А. В. Щербаков
Художник Ю. В. Христич
Техническое редактирование и вёрстка А. Г. Хуторовской
Корректор Е. Д. Светозарова
Налоговая льгота — Общероссийский классификатор продукции ОК 005-93—953000. Изд. лиц.
Серия ИД № 05824 от 12.09.01. Подписано в печать 20.04.19. Формат 70 × 901/16.
Бумага офсетная. Гарнитура Школьная. Уч.-изд. л. 23,19 + 0,41 вкл. Печать офсетная.
Тираж 3000 экз. Заказ №
.
Акционерное общество «Издательство «Просвещение».
Российская Федерация, 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16,
стр. 3, этаж 4, помещение I.
Предложения по оформлению и содержанию учебников —
электронная почта «Горячей линии» — fpu@prosv.ru.
Отпечатано в России.
Отпечатано по заказу АО «ПолиграфТрейд» в АО «Первая Образцовая типография»,
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ». 432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14.
«Битая дичь, овощи и грибы». Художник И. Хруцкий
«Перед исповедью». Художник А. Корзухин
«Купчиха за чаем». Художник Б. Кустодиев
«Порт воображаемого города». Художник К. Богаевский
«Сирень». Художник И. Глазунов
«Вихрь». Художник Ф. Малявин
«Отдых после боя». Художник Ю. Непринцев
«Первая любовь». Художник К. Сомов