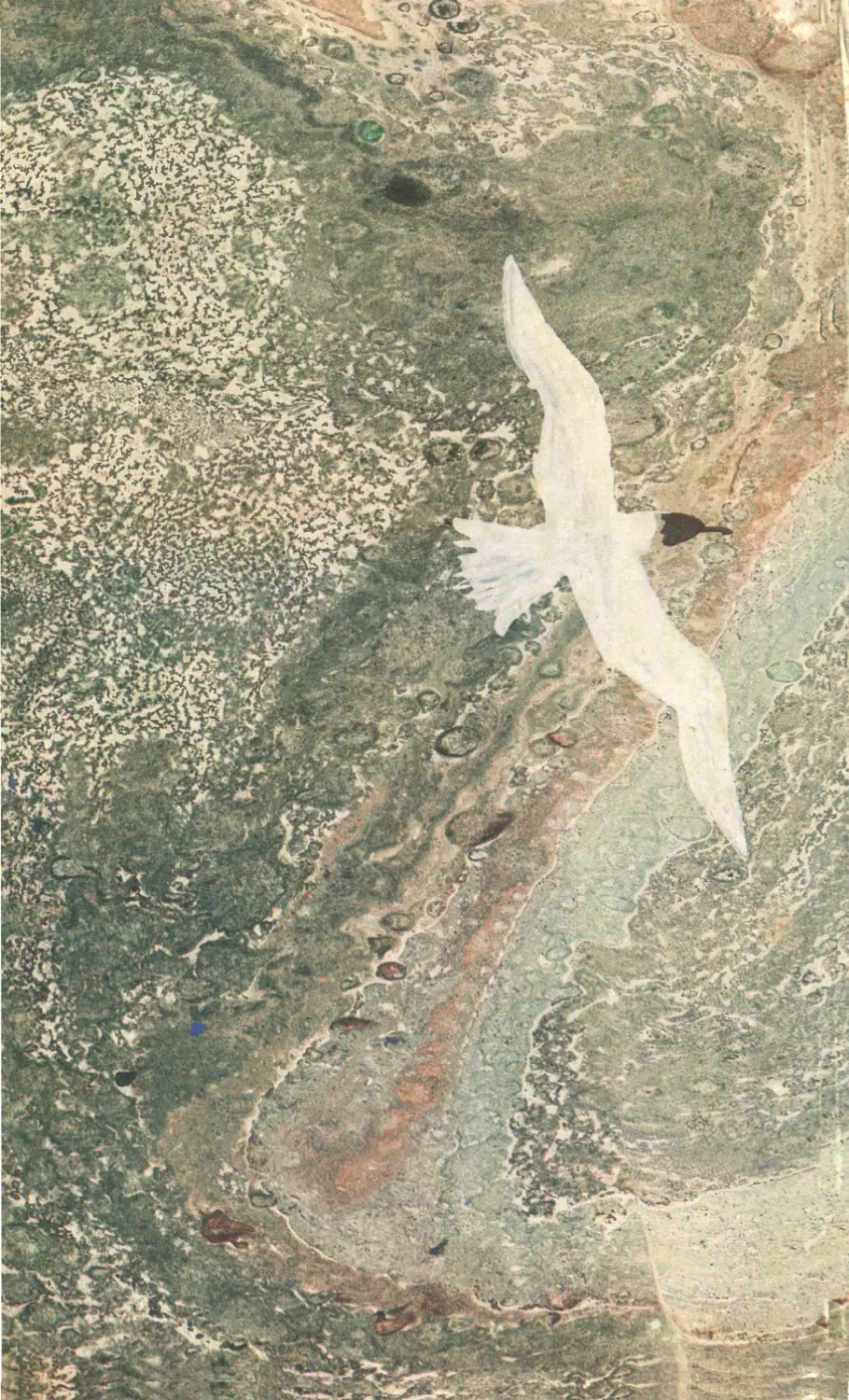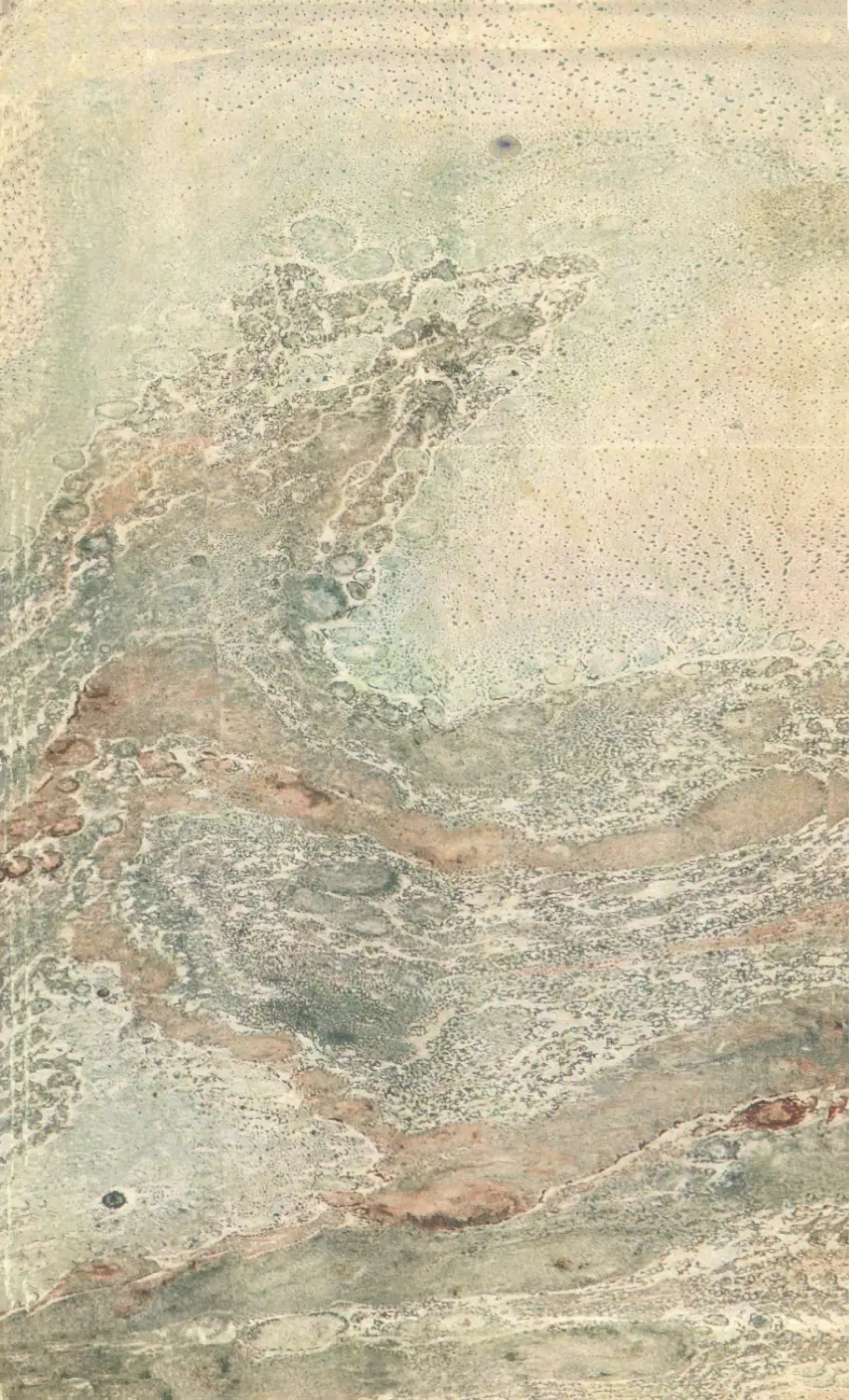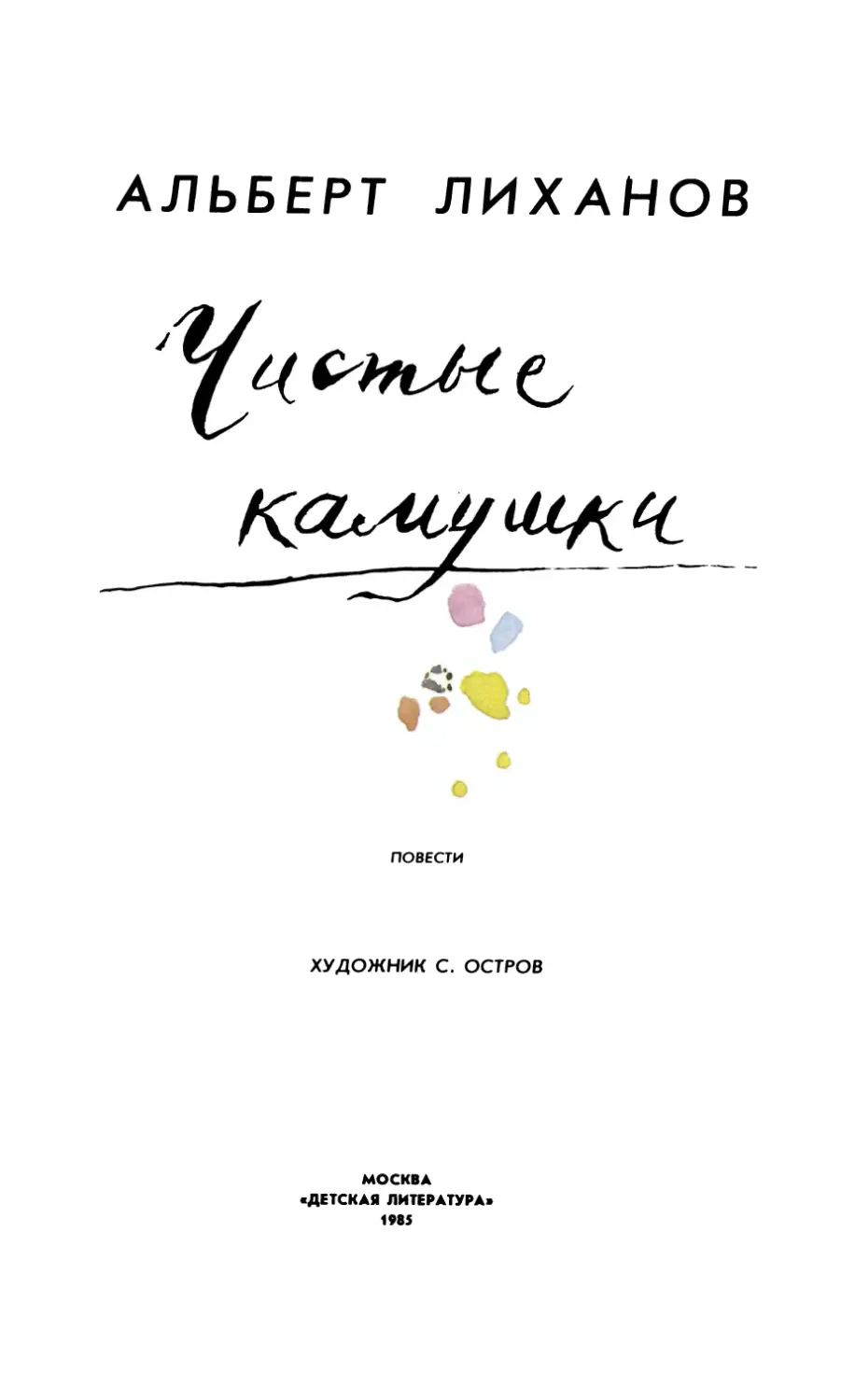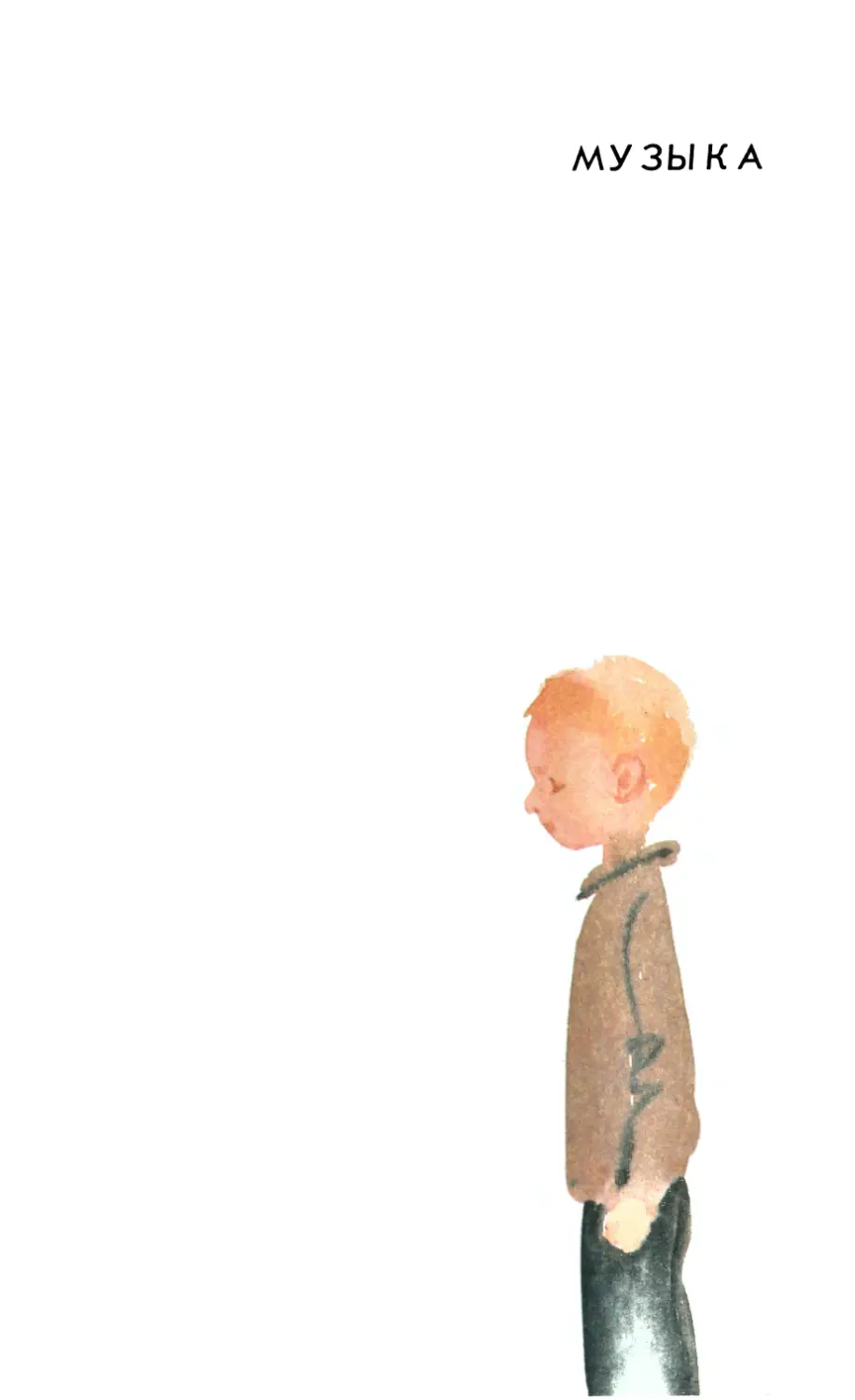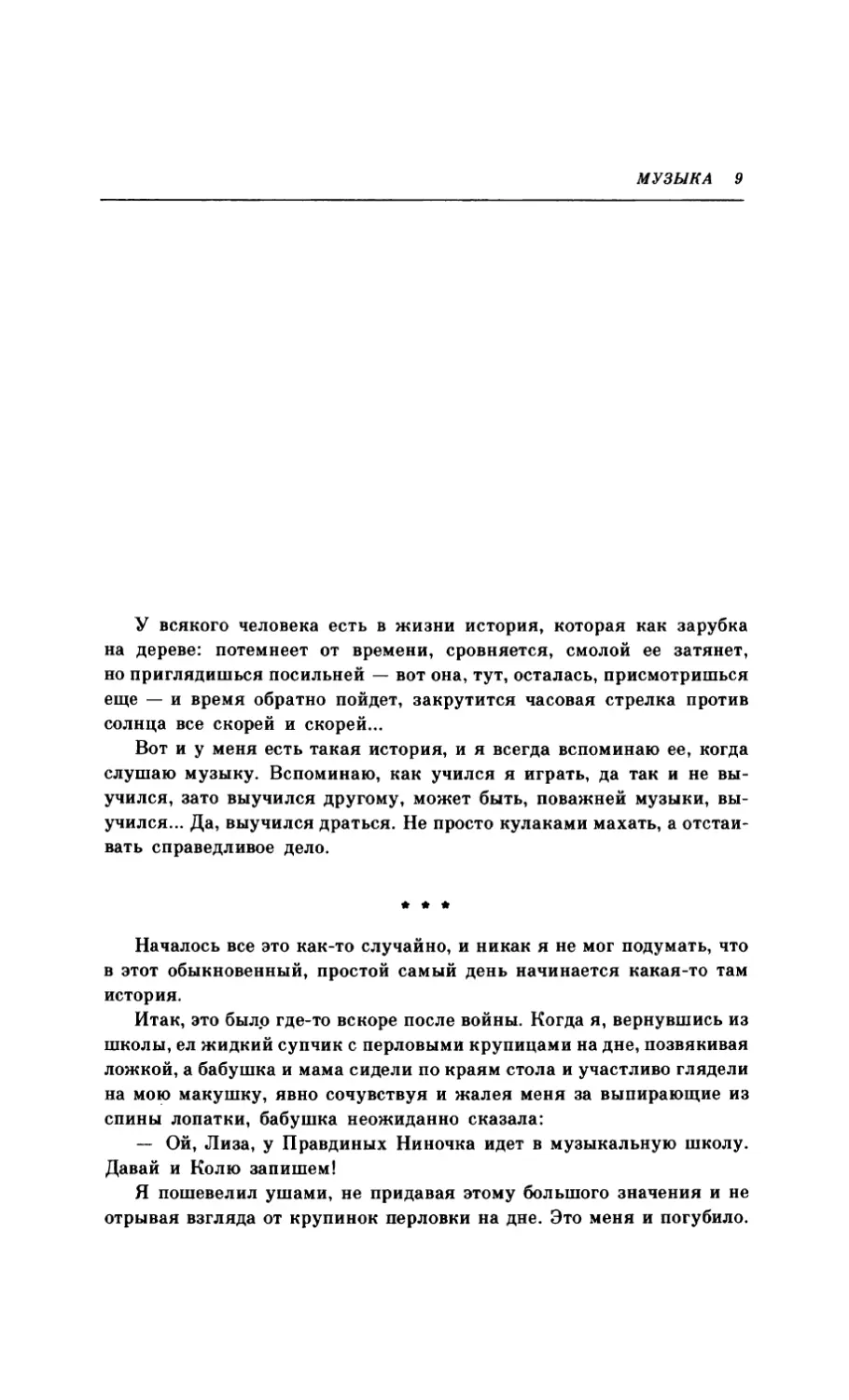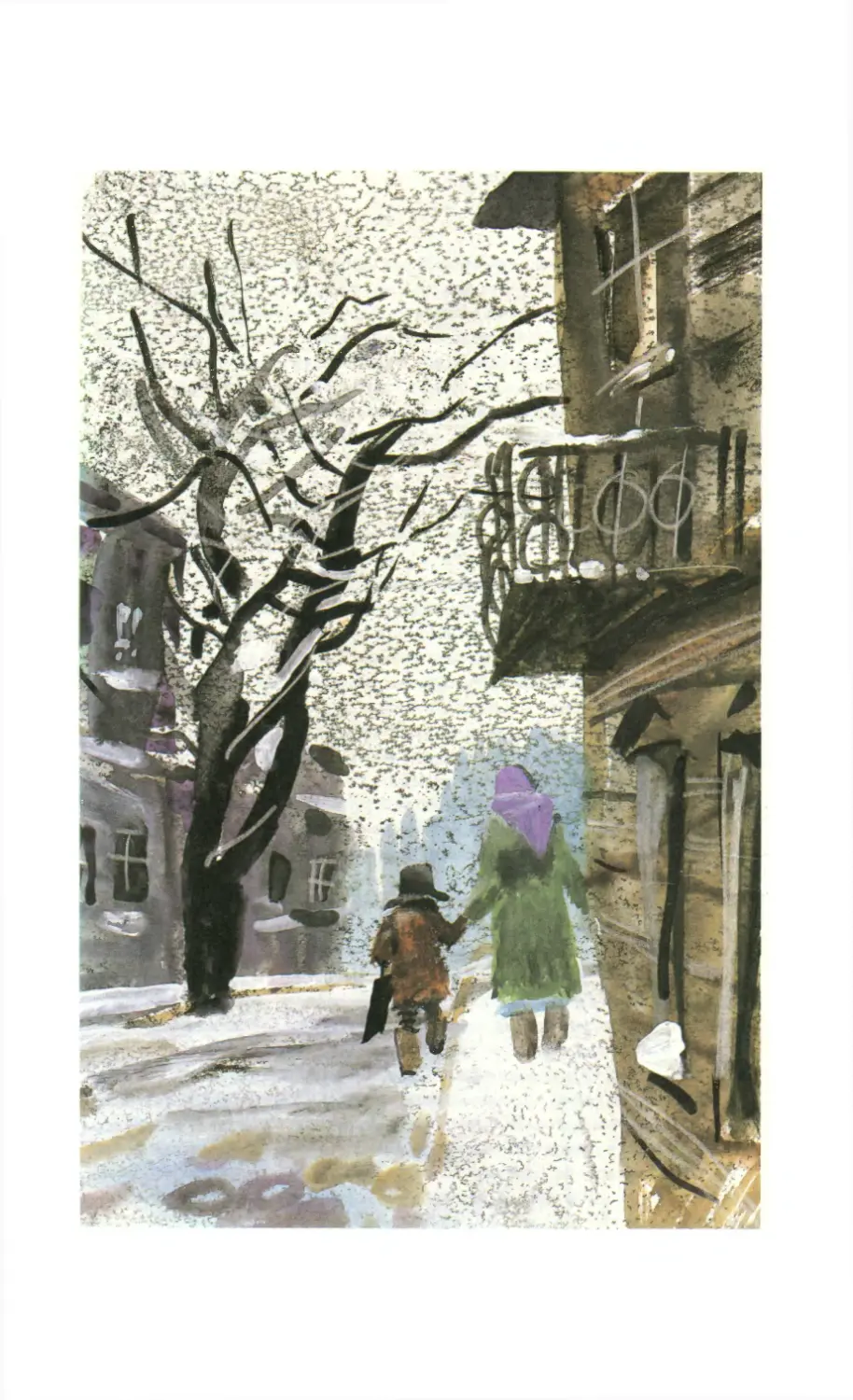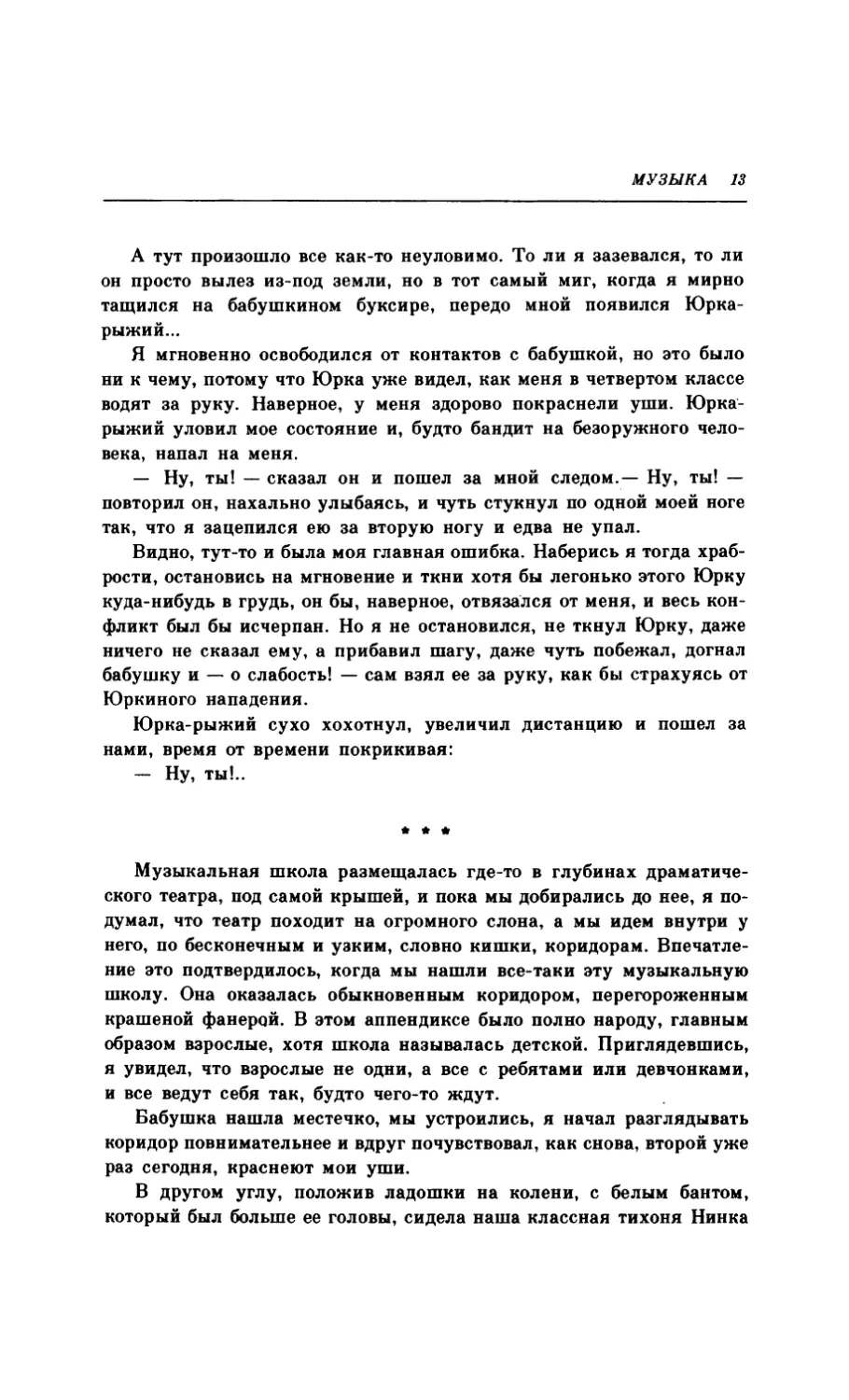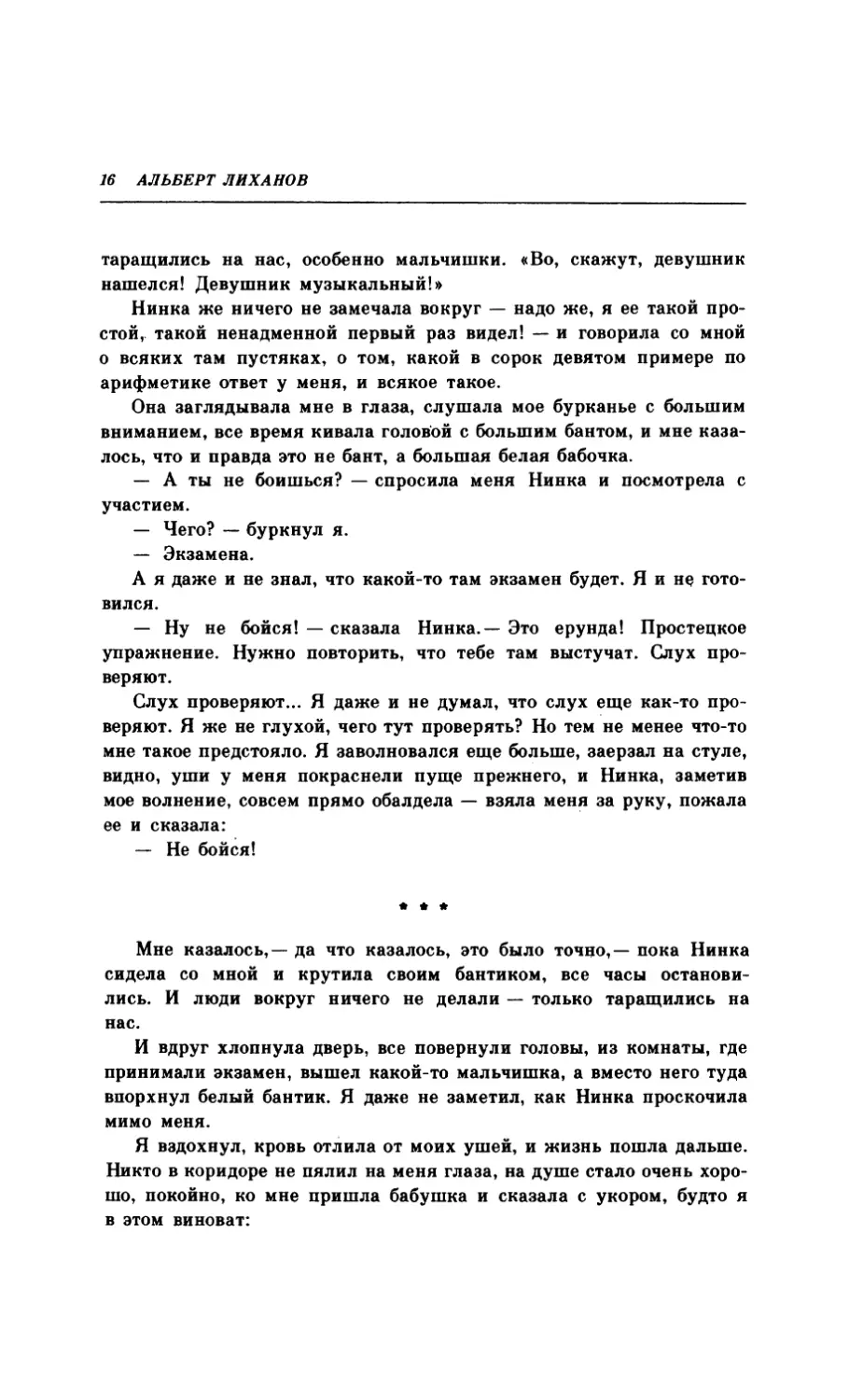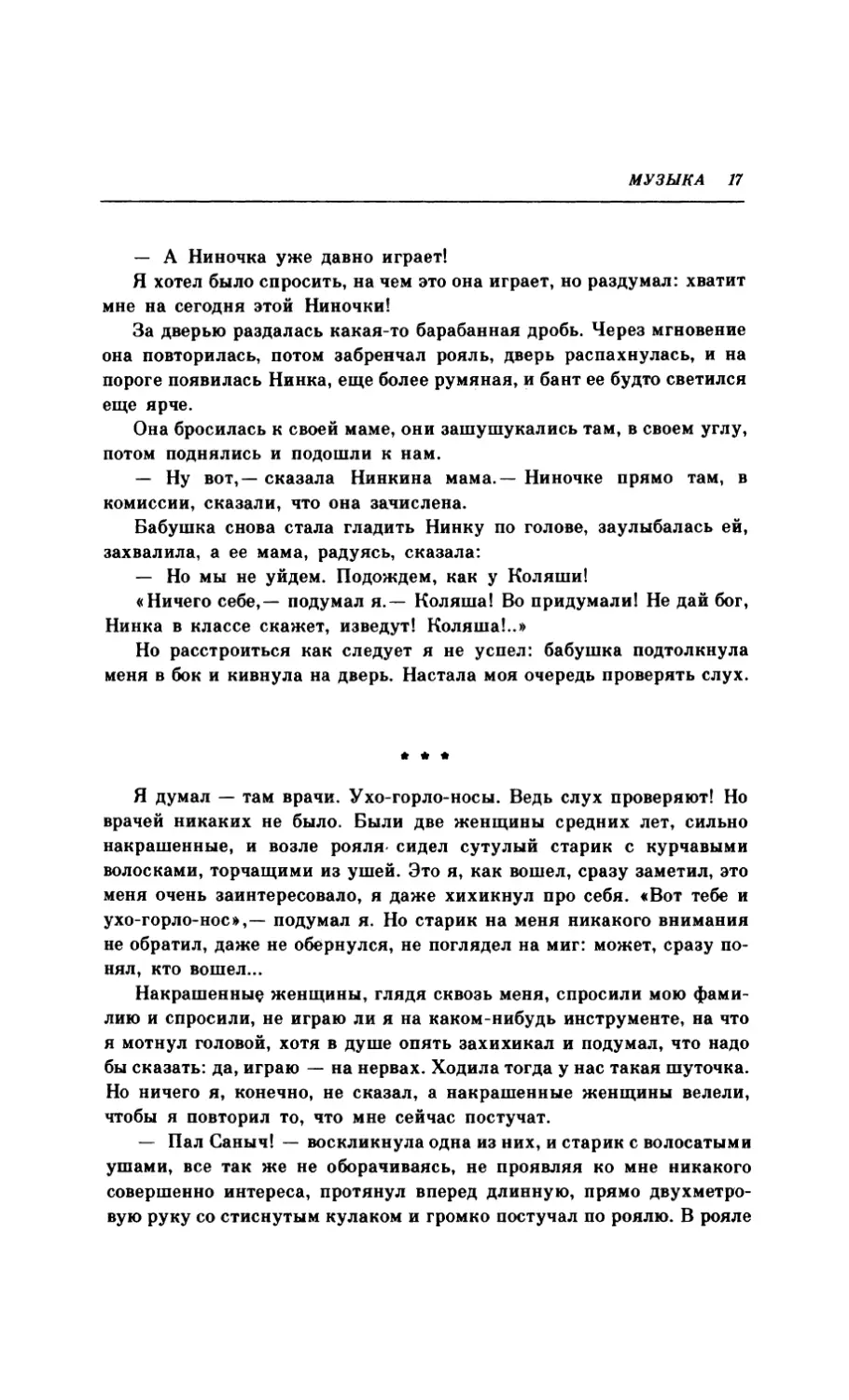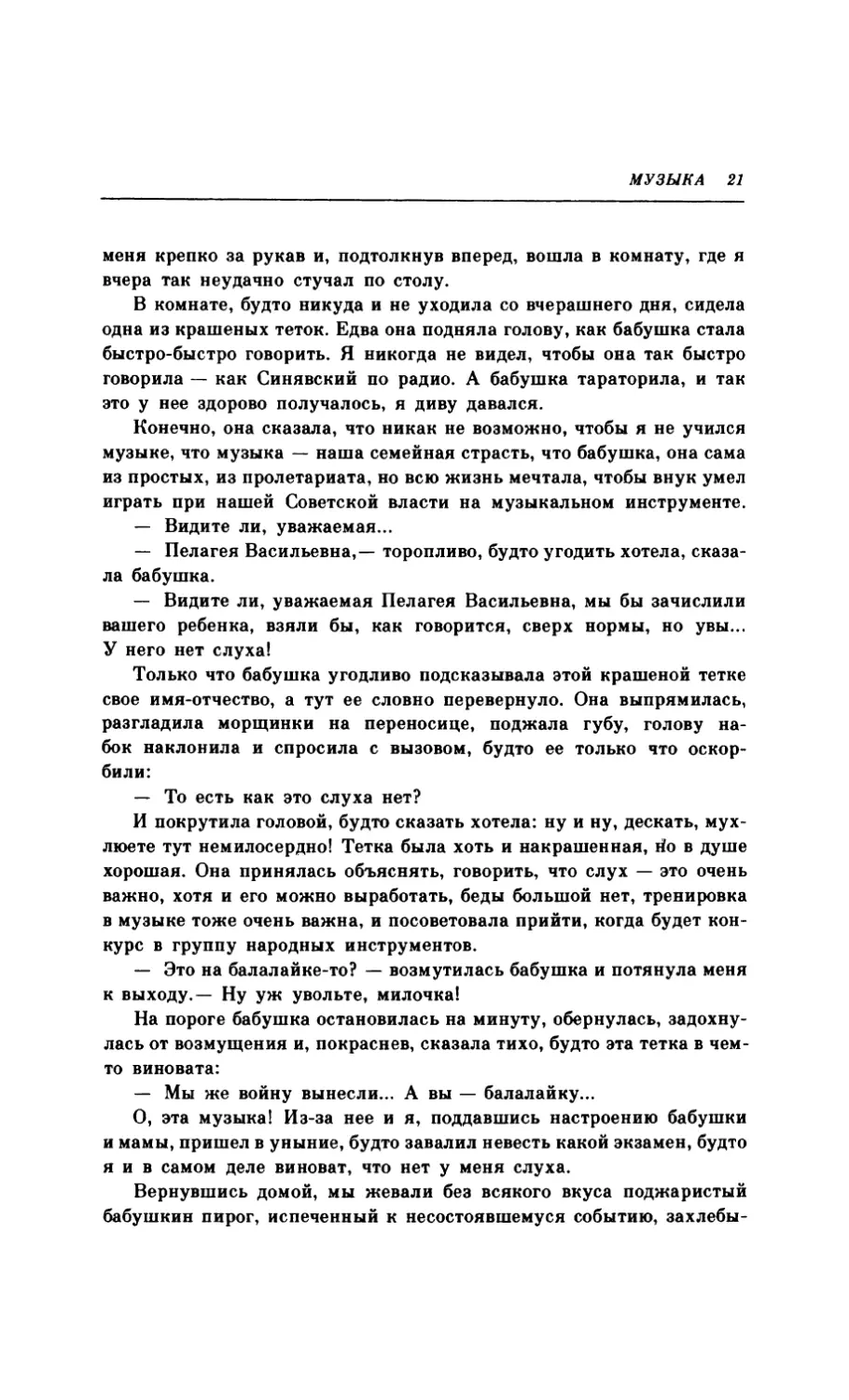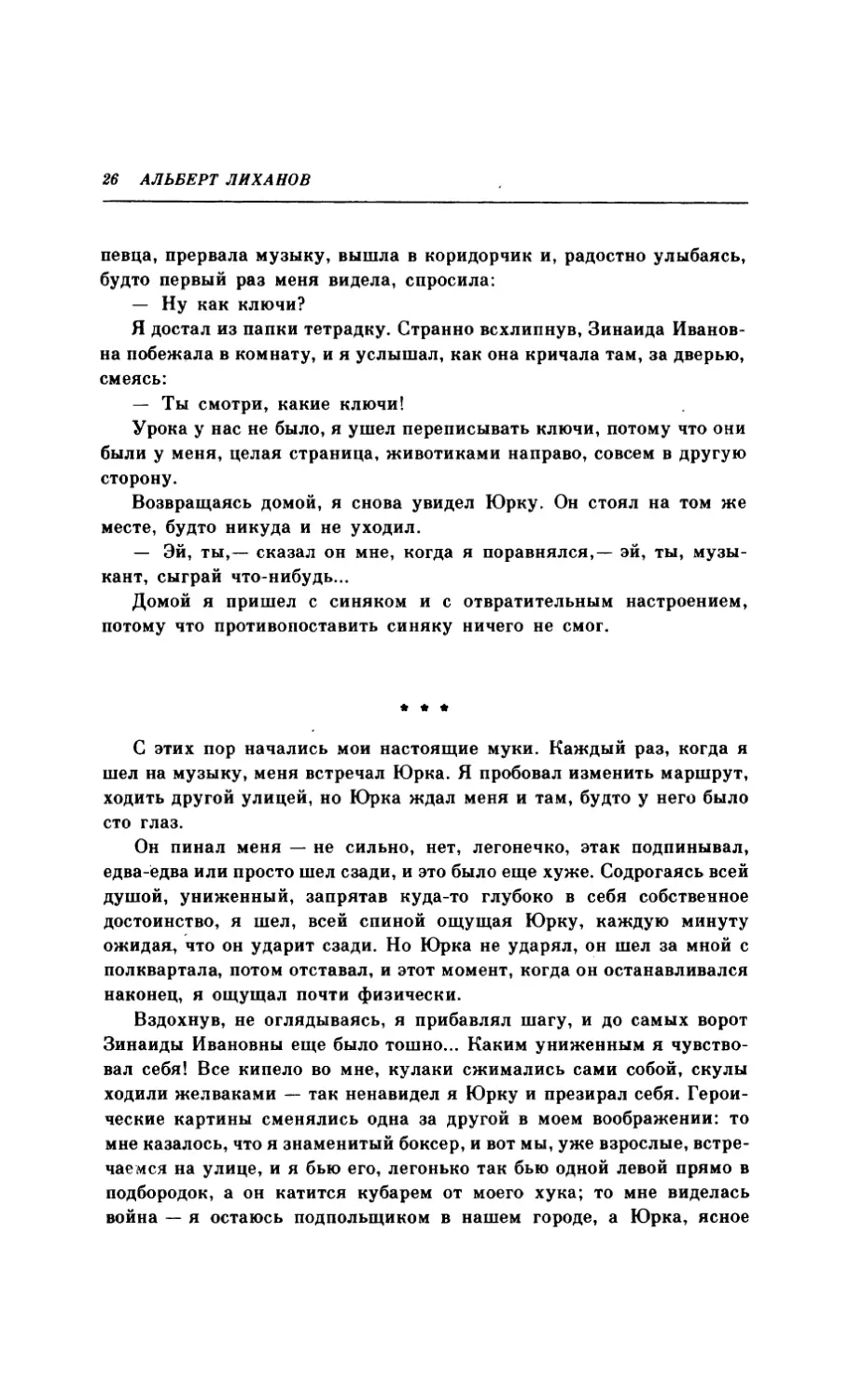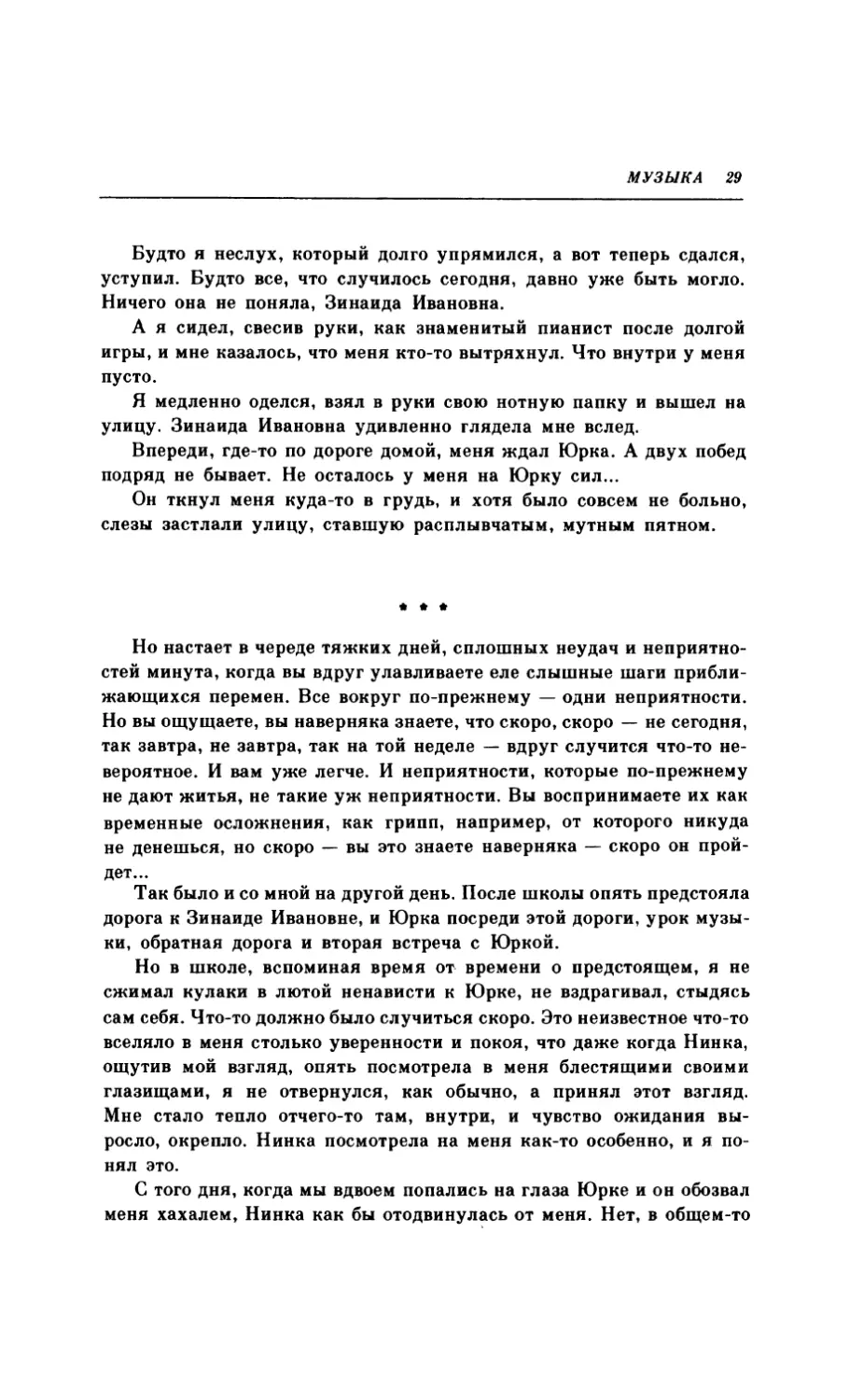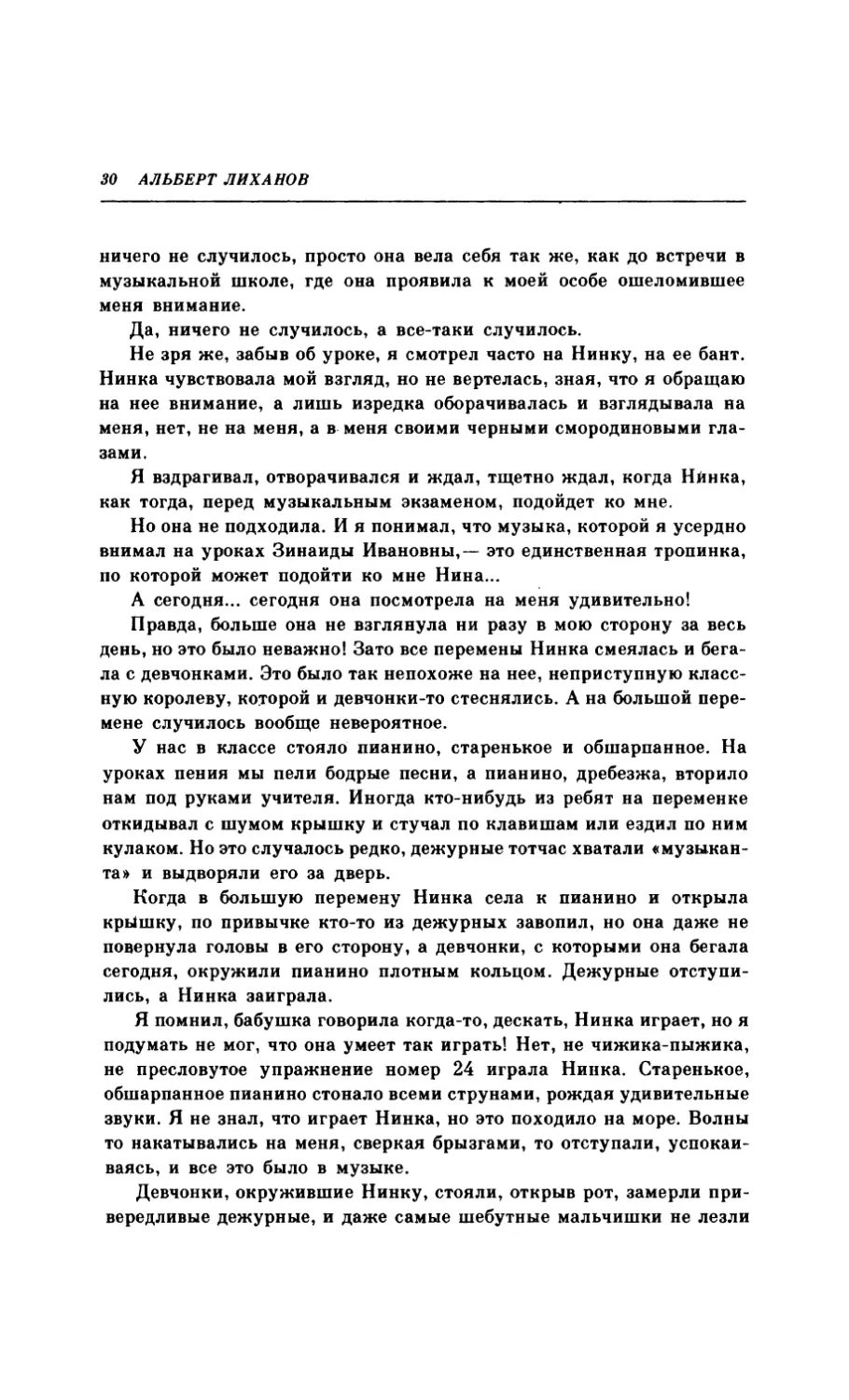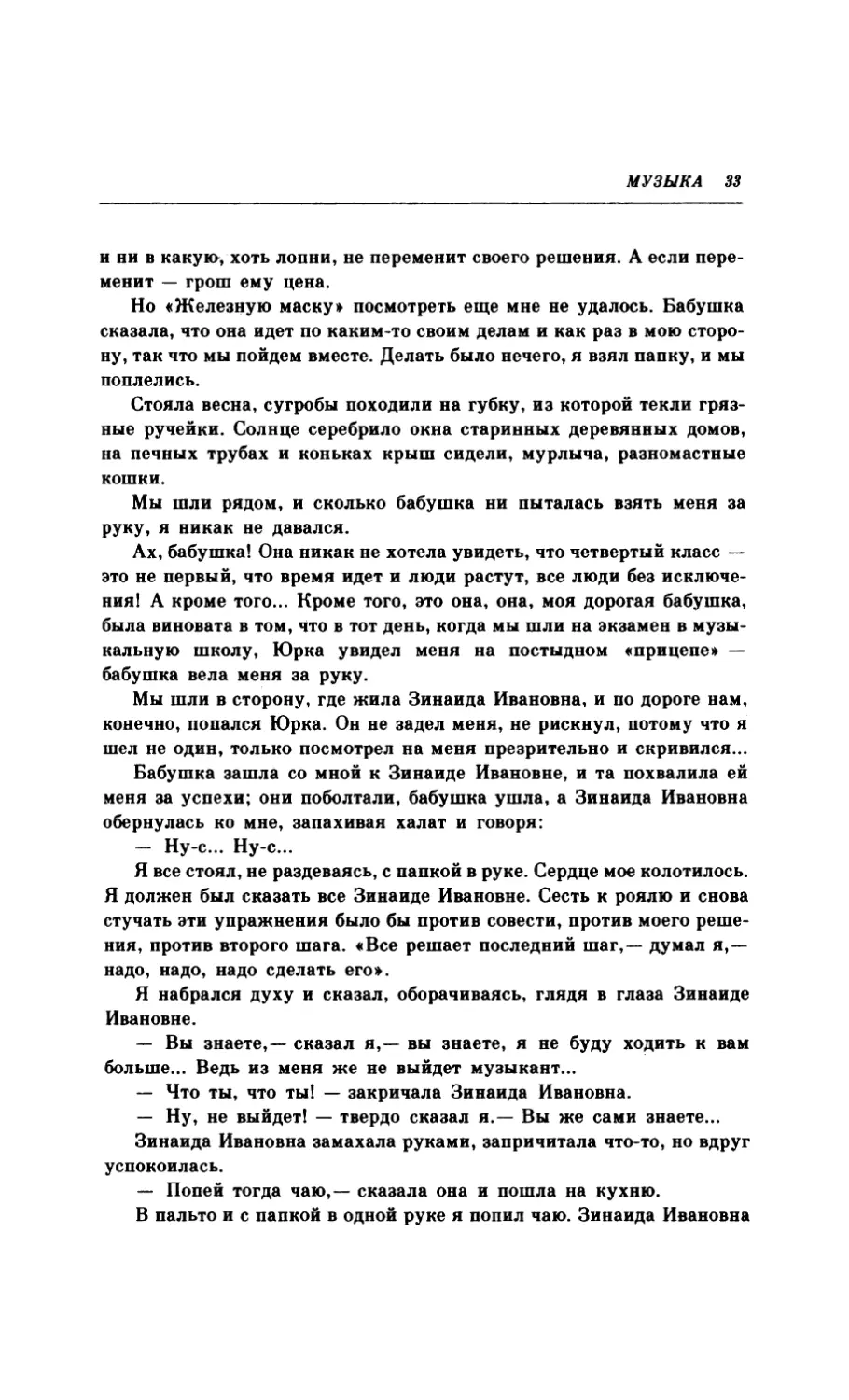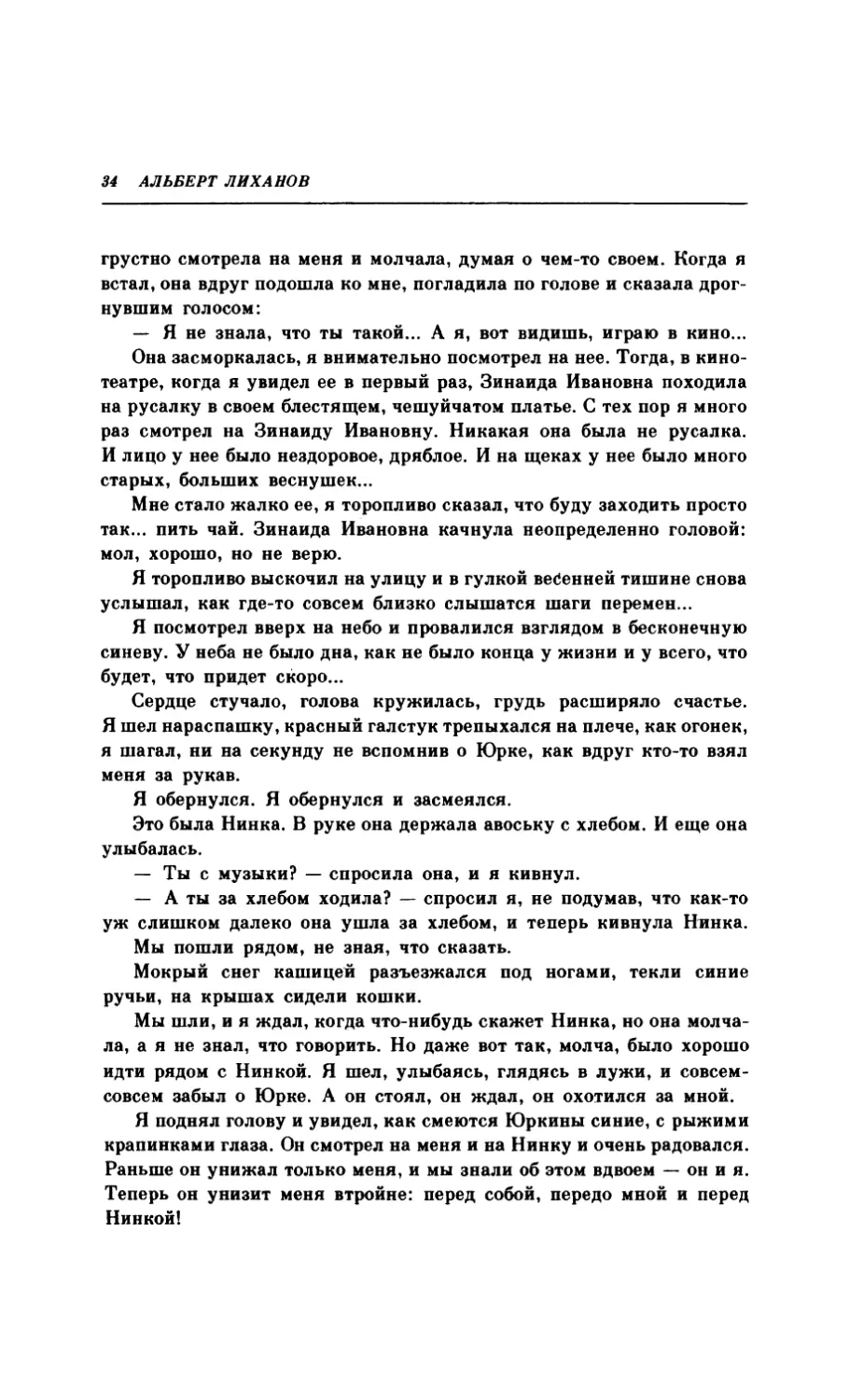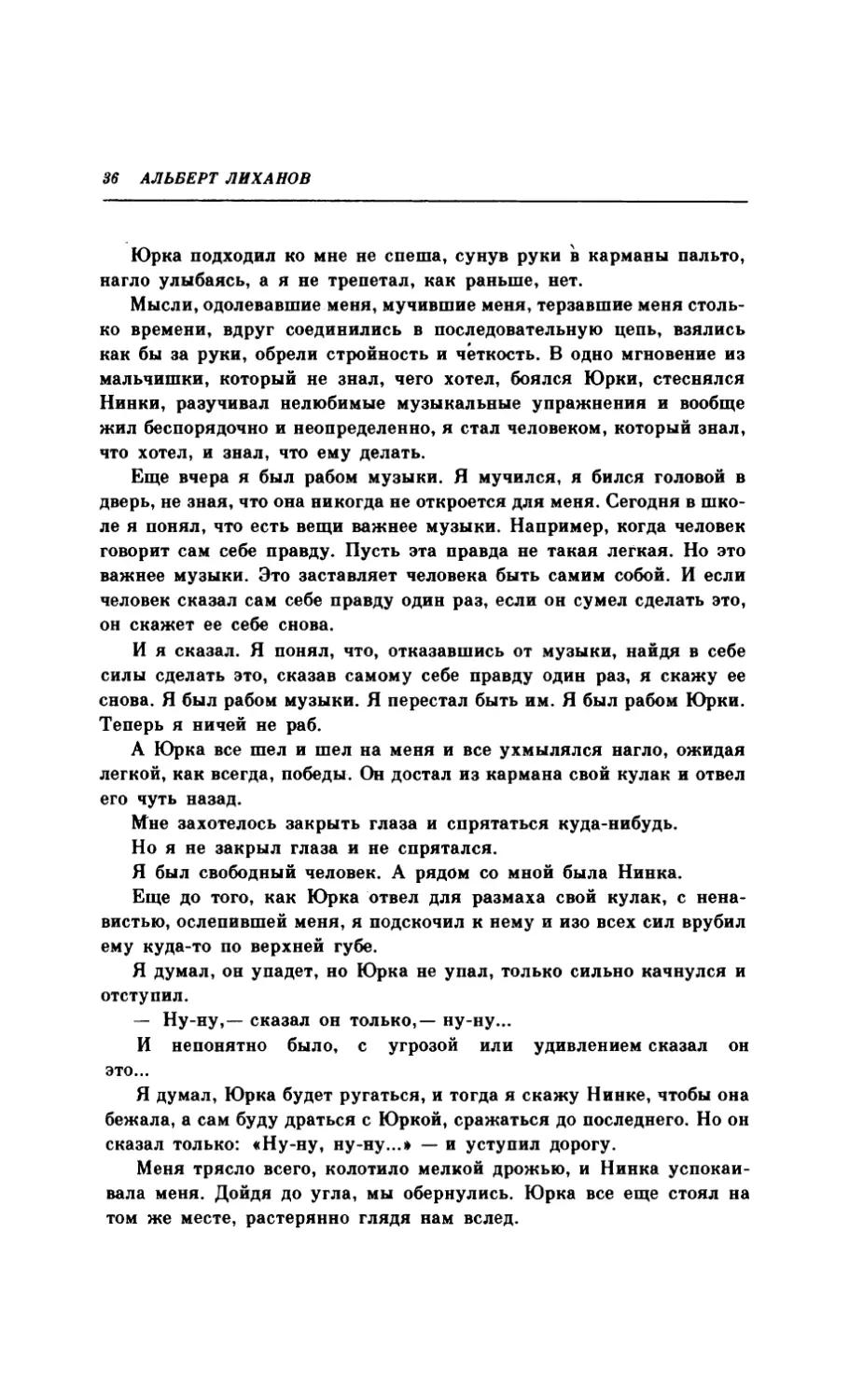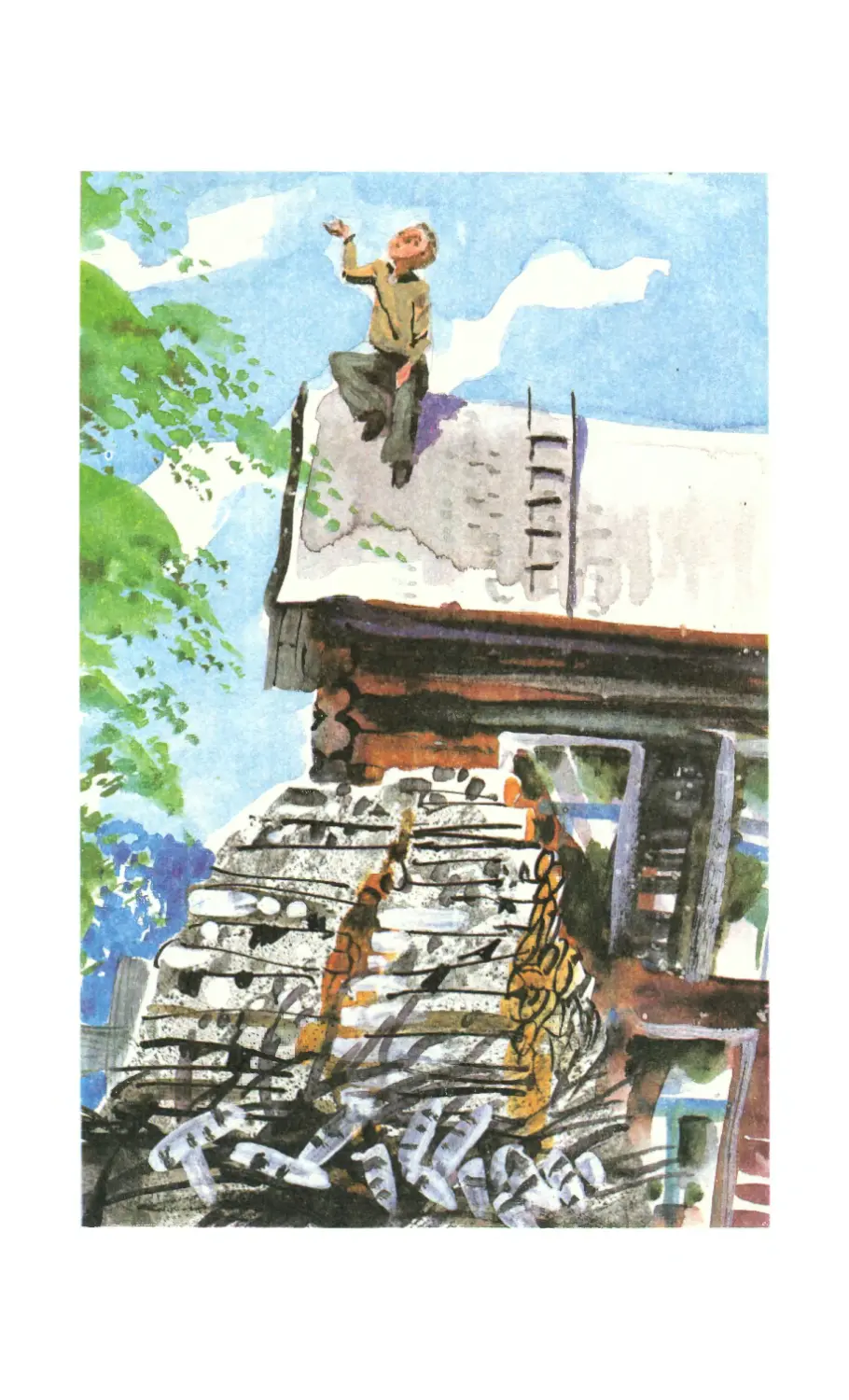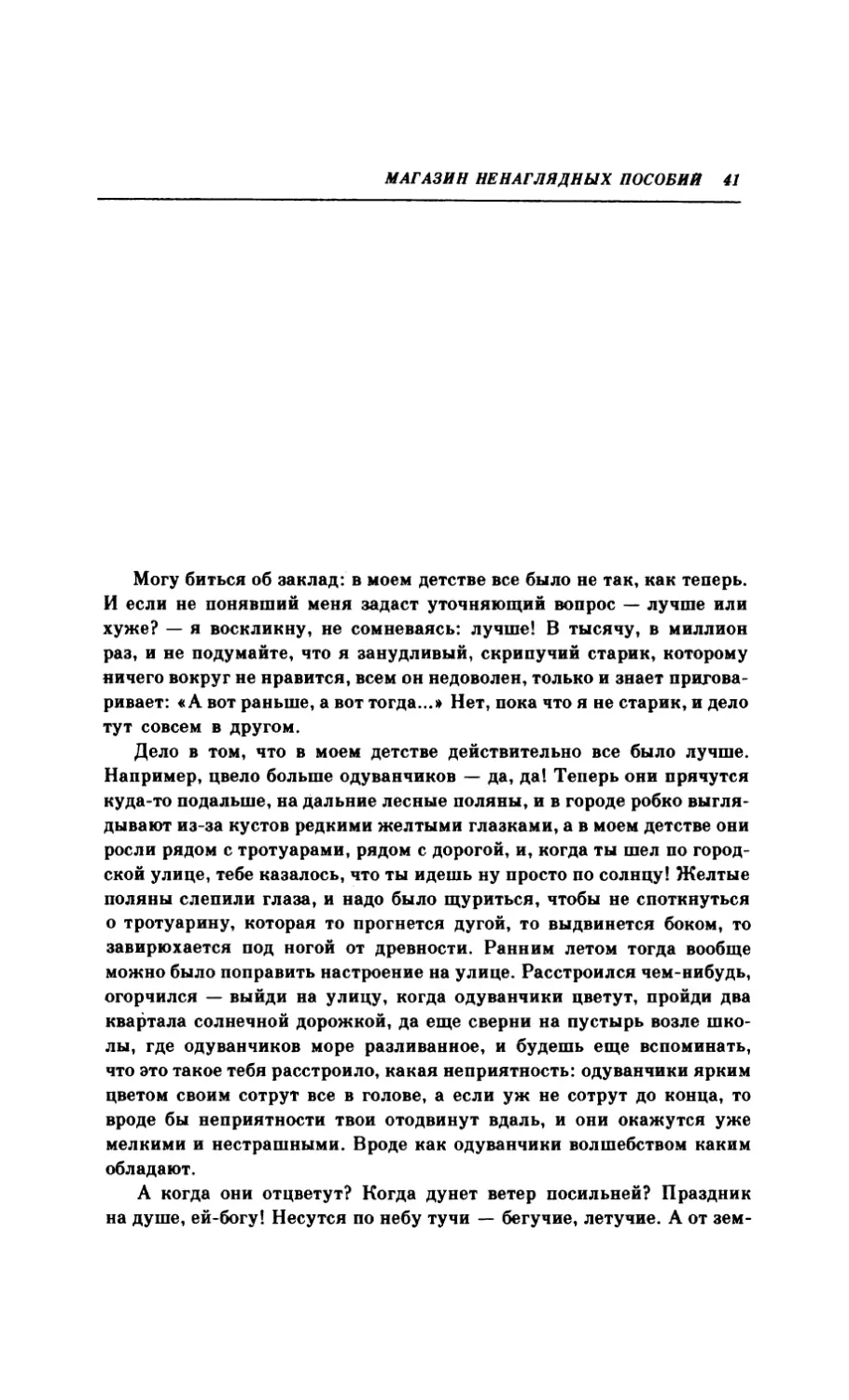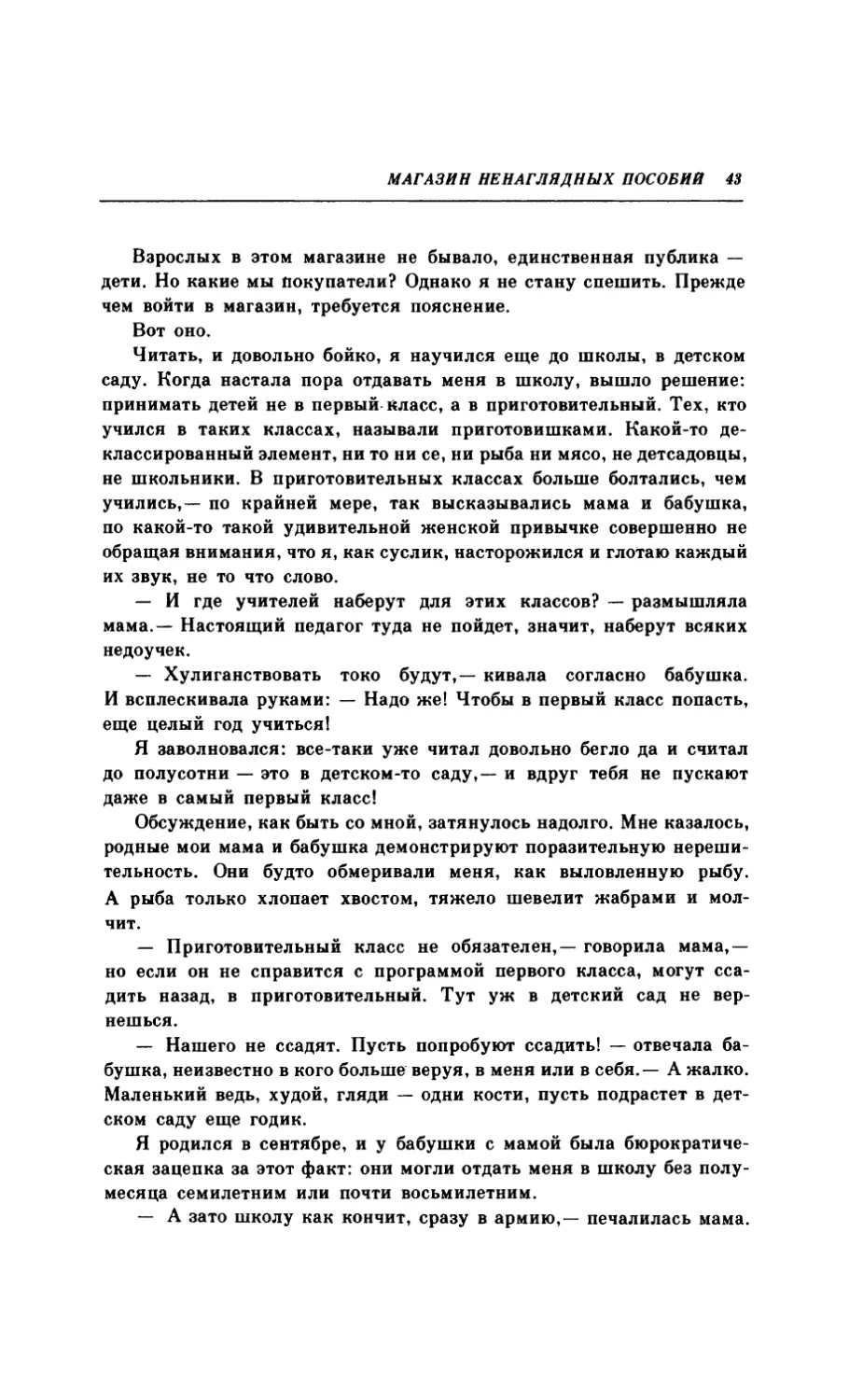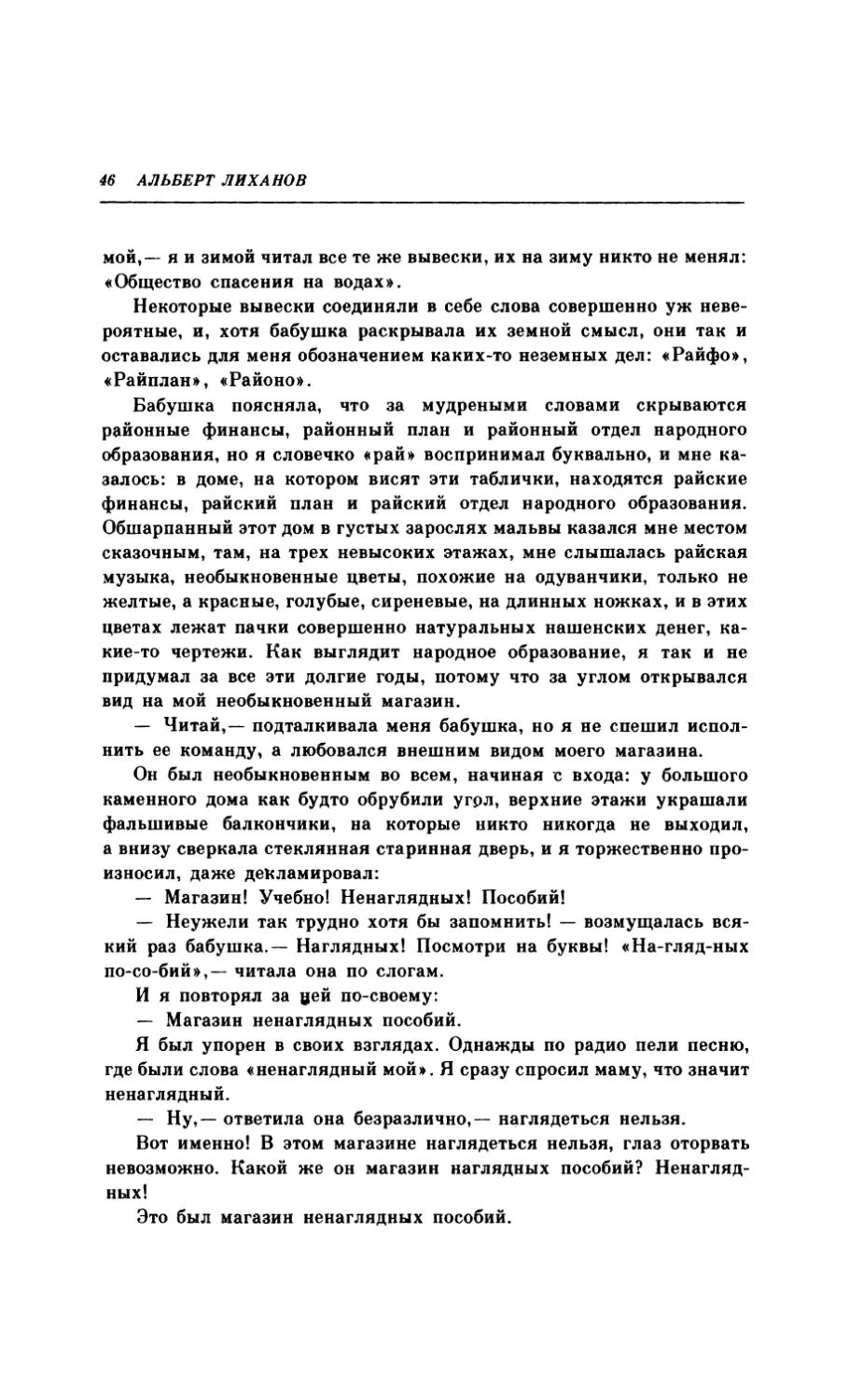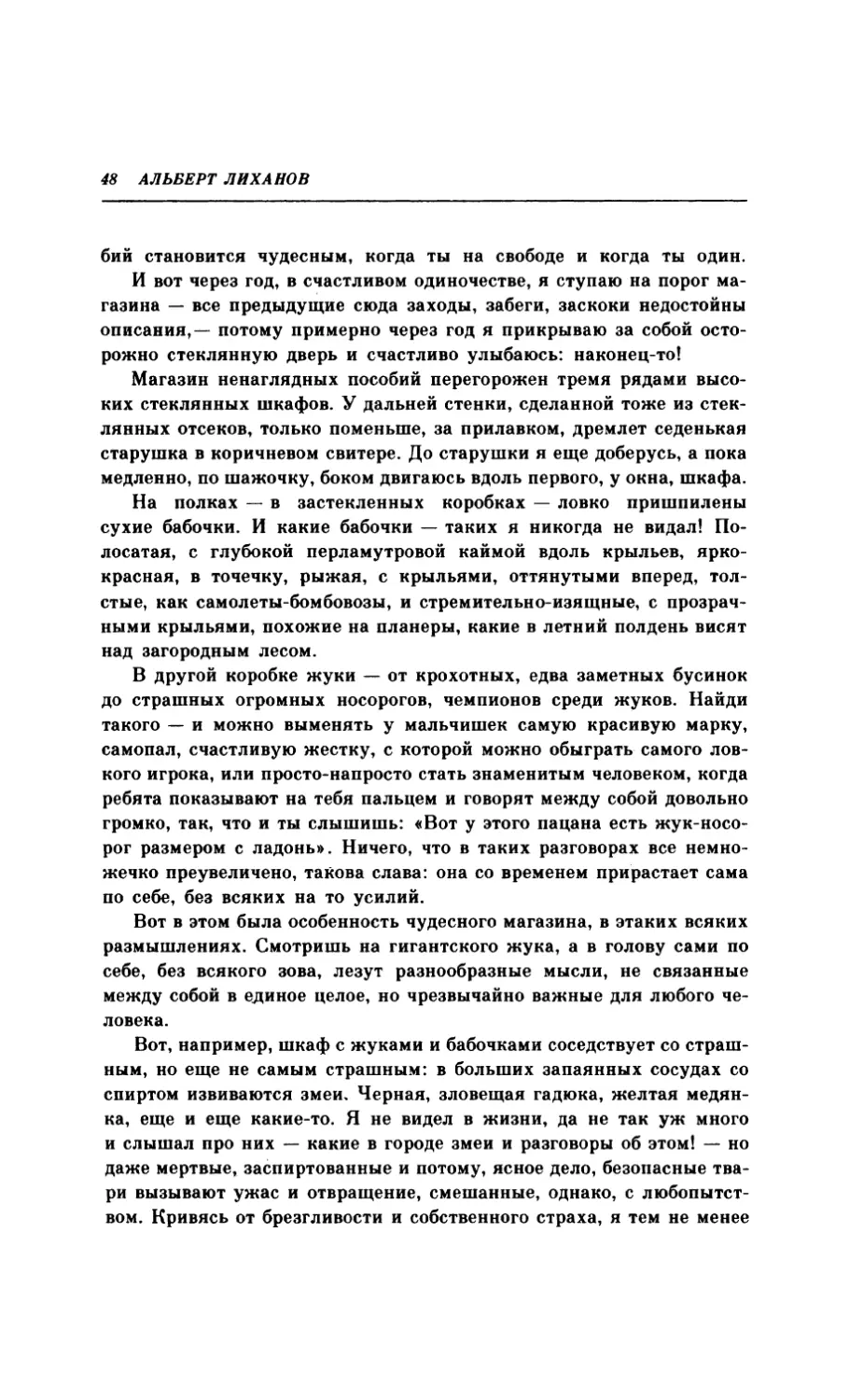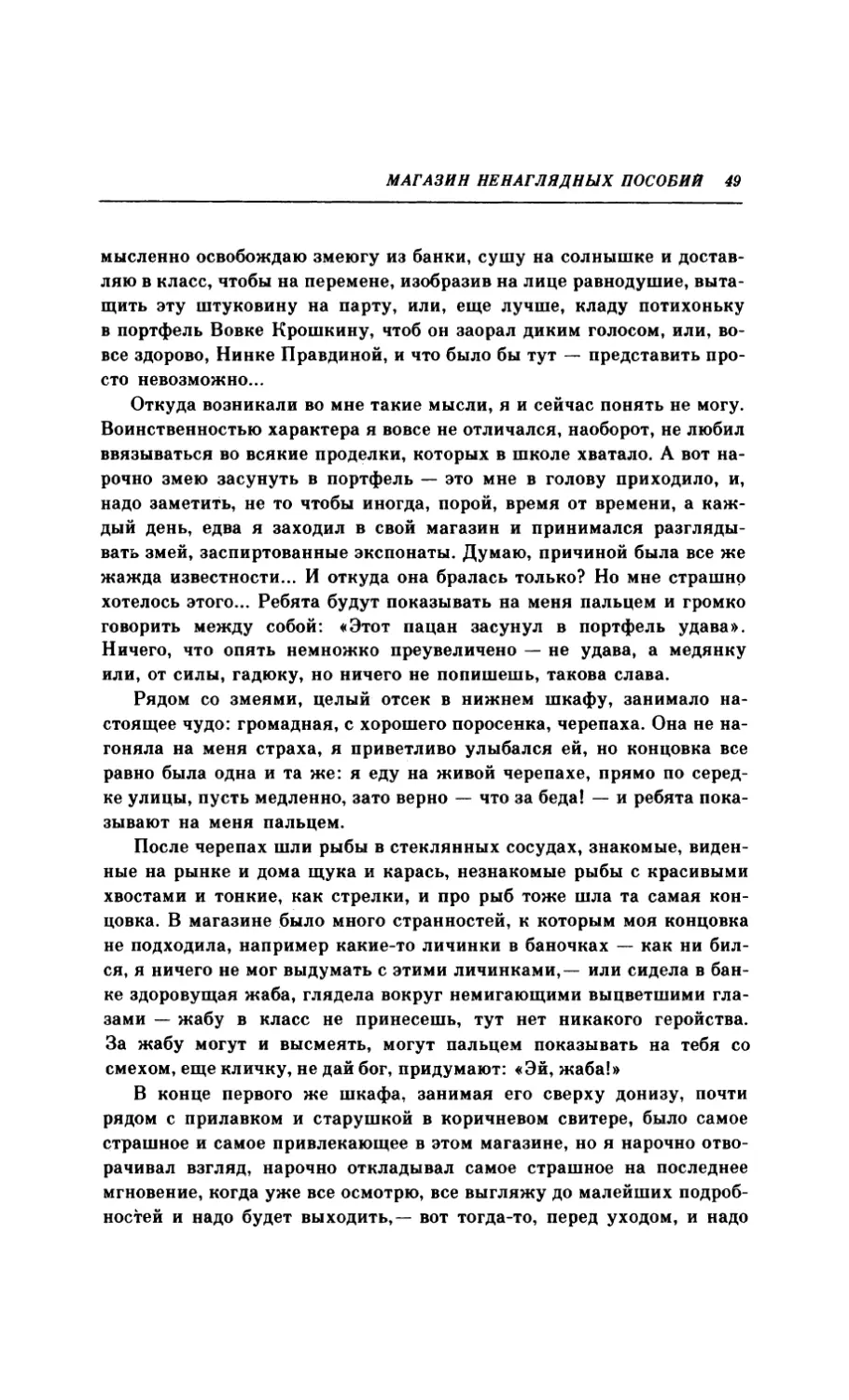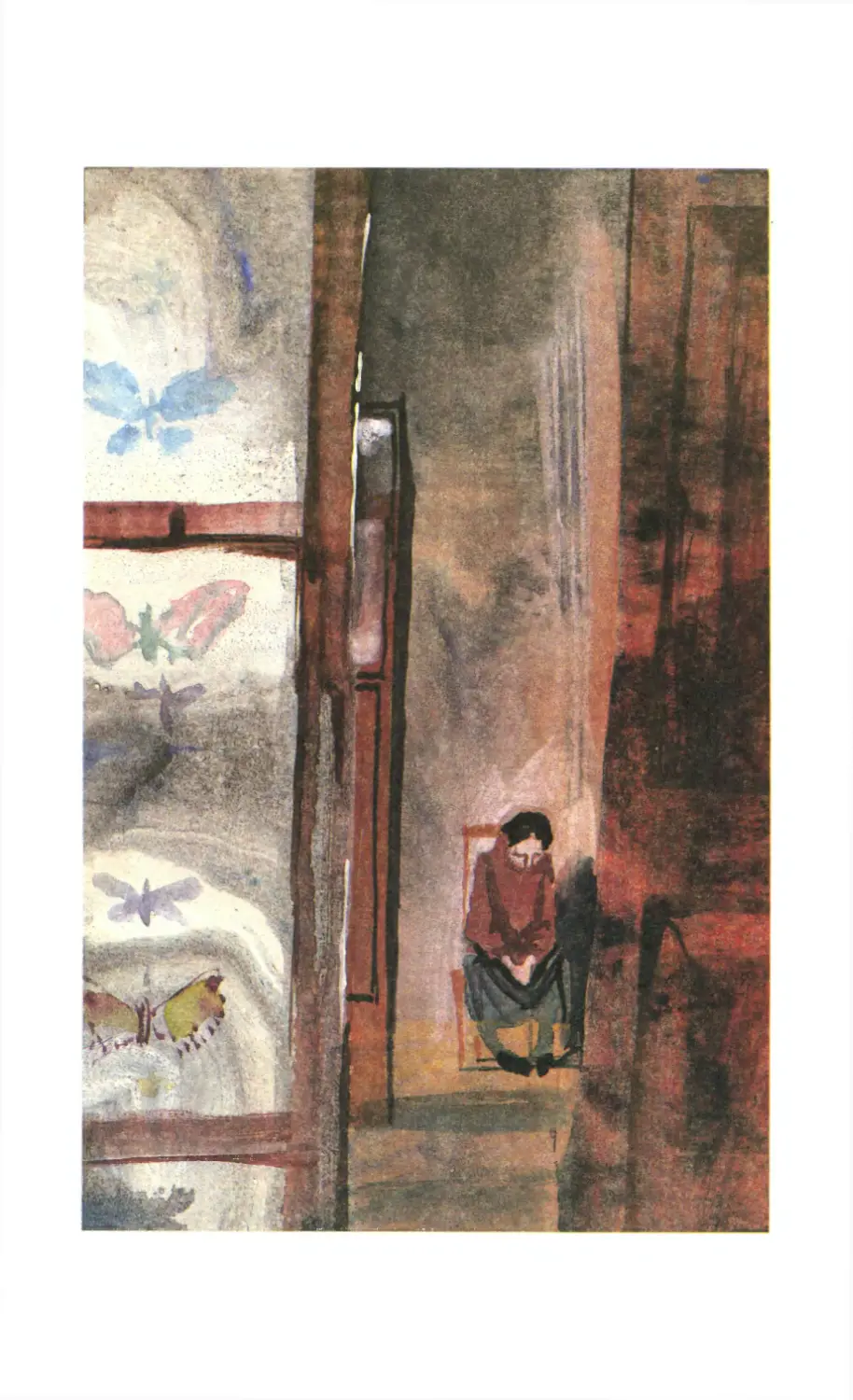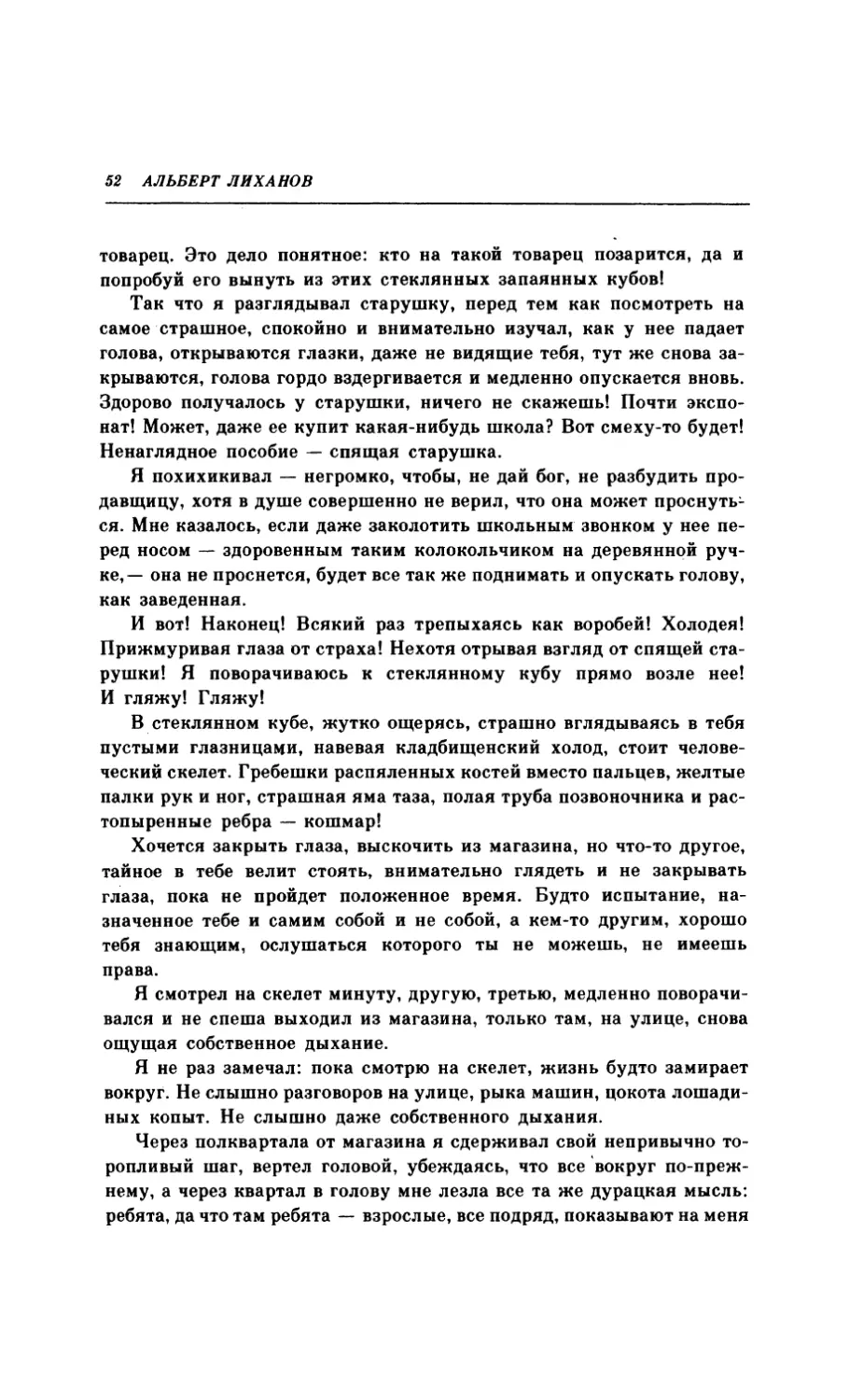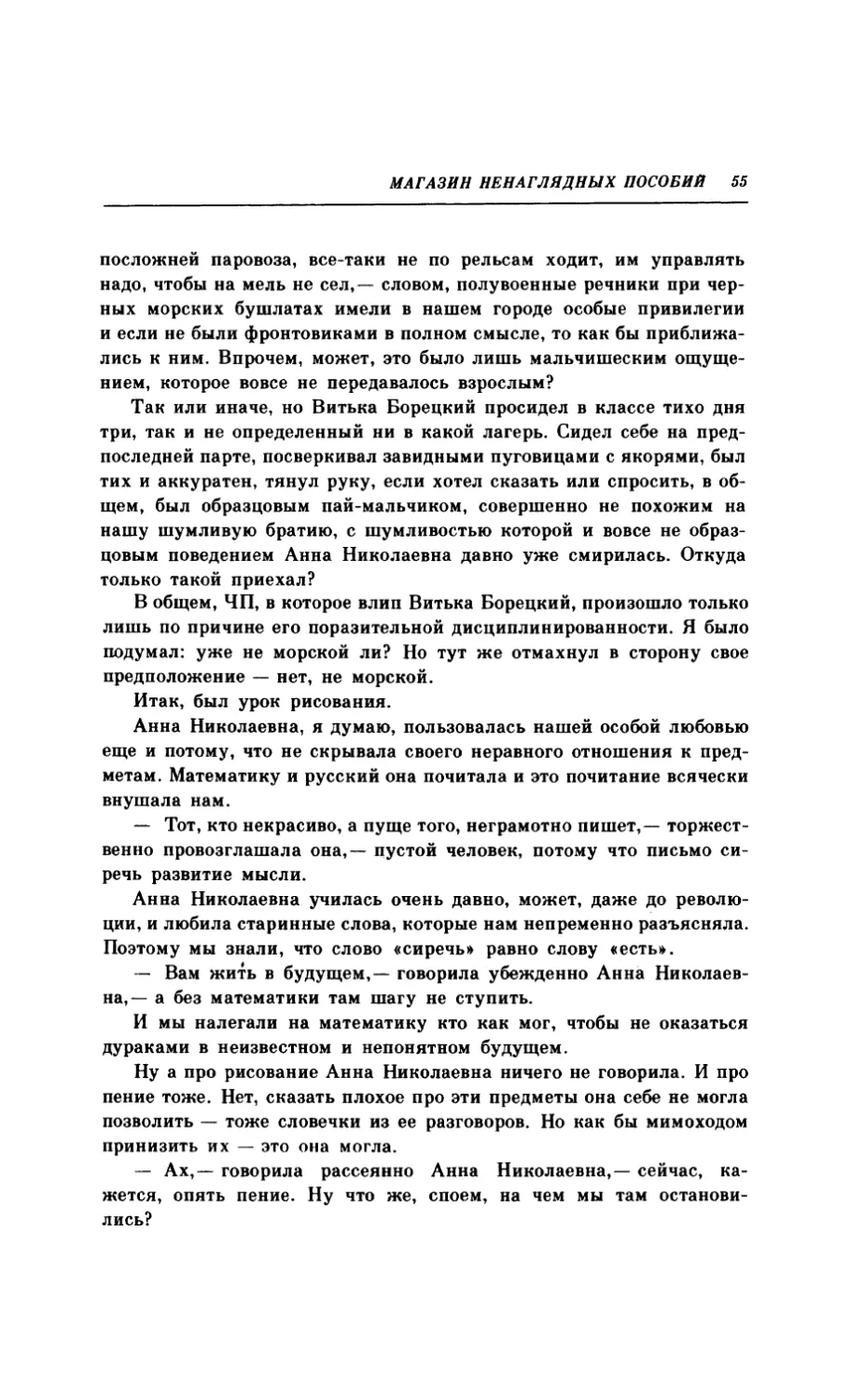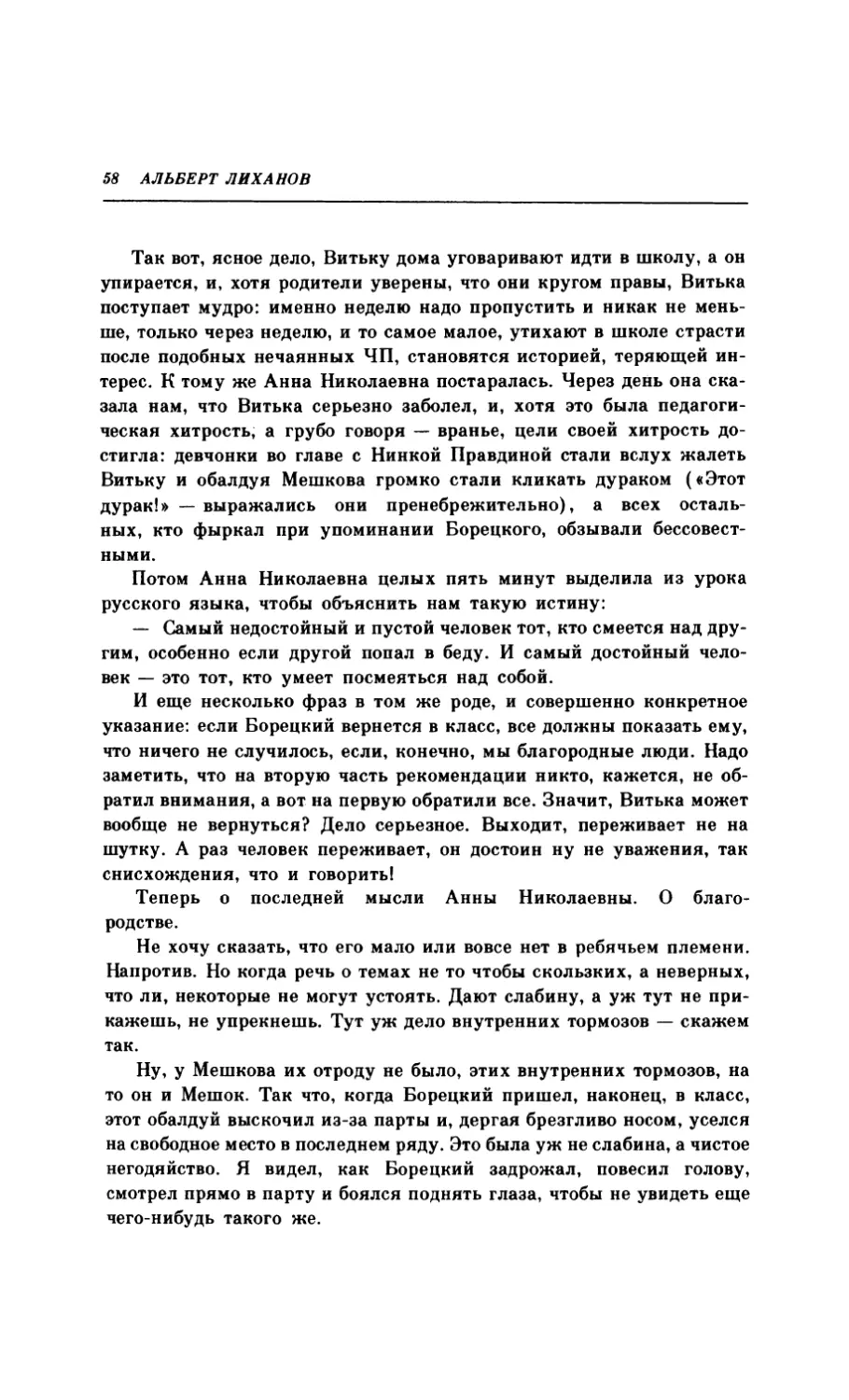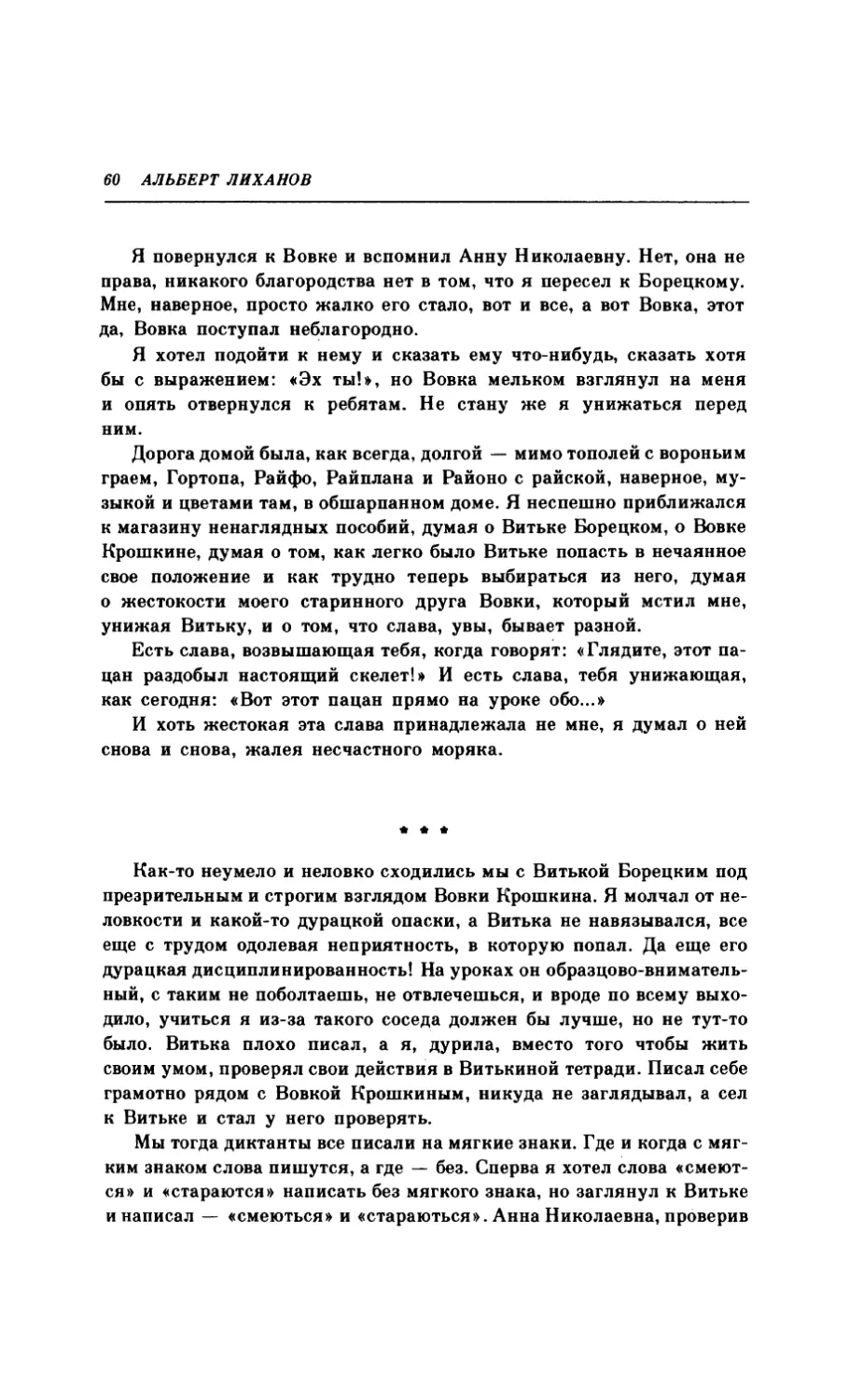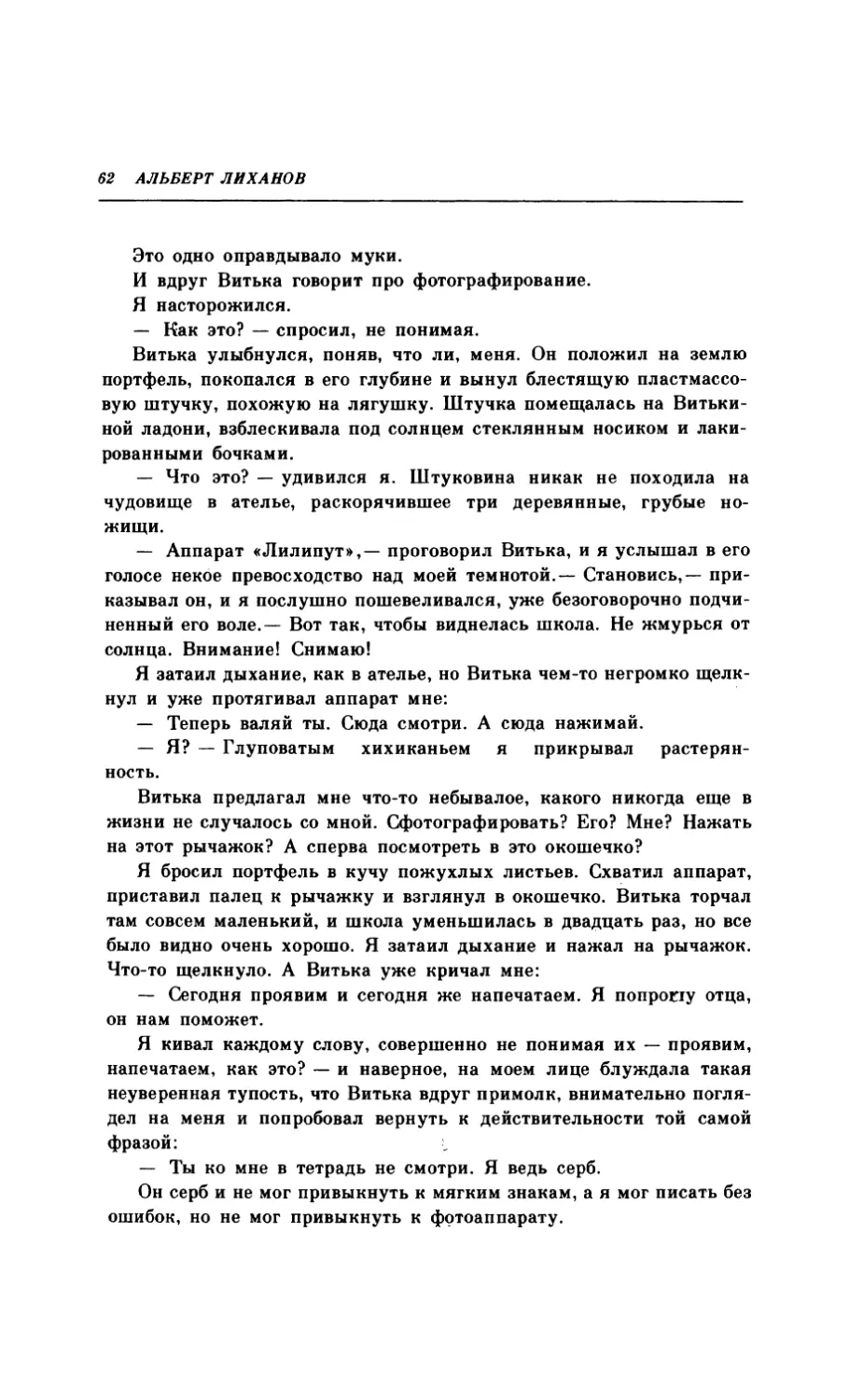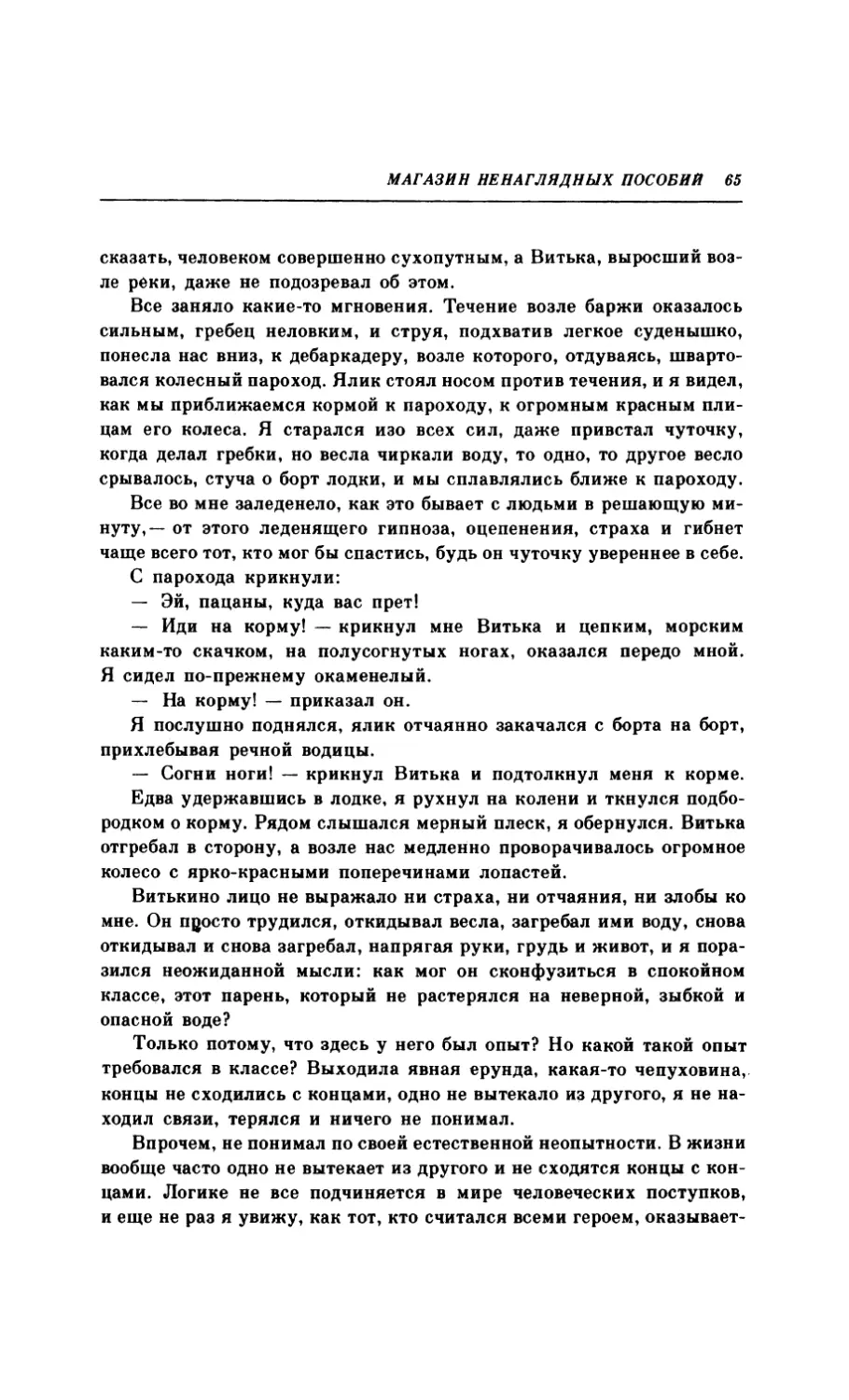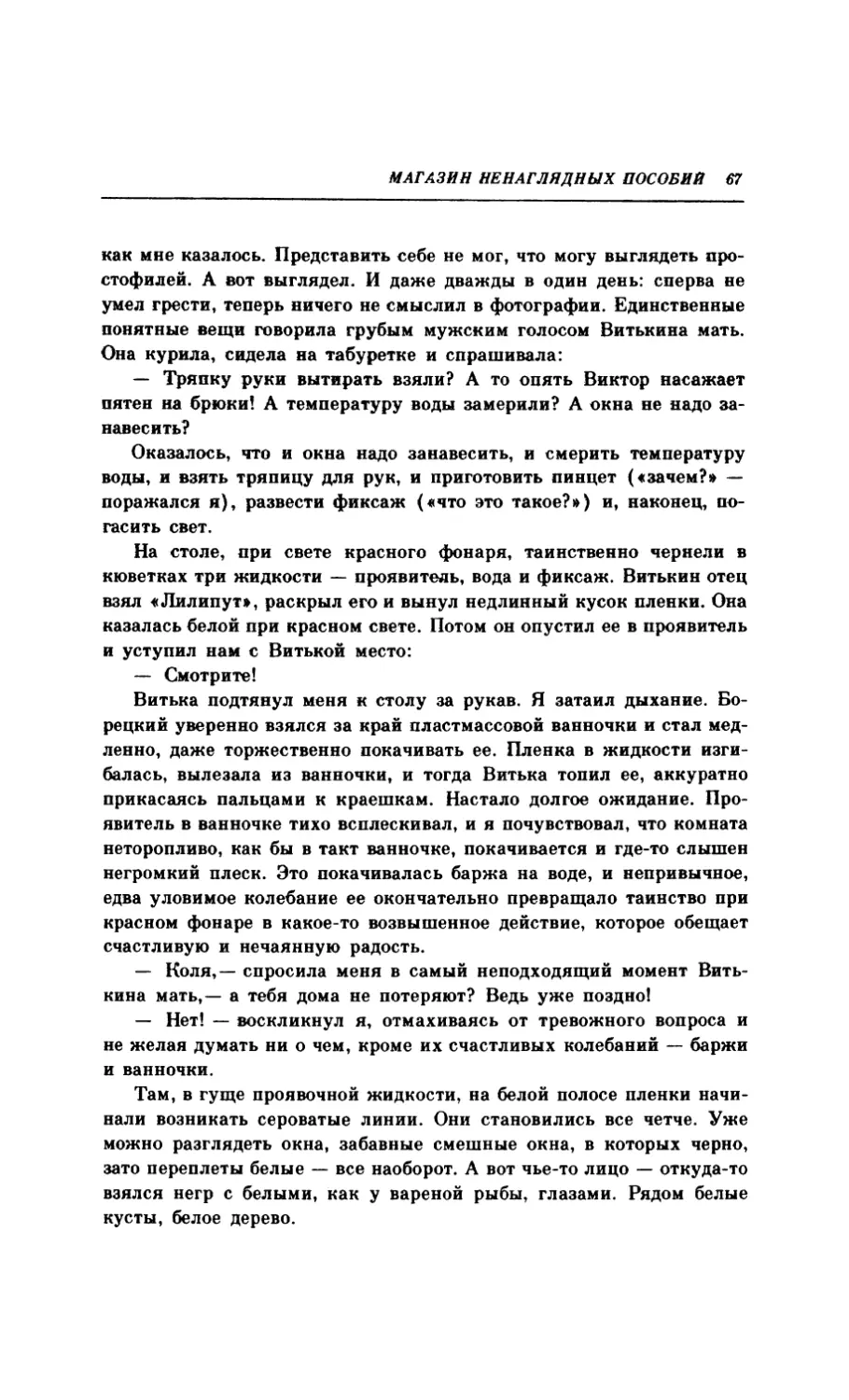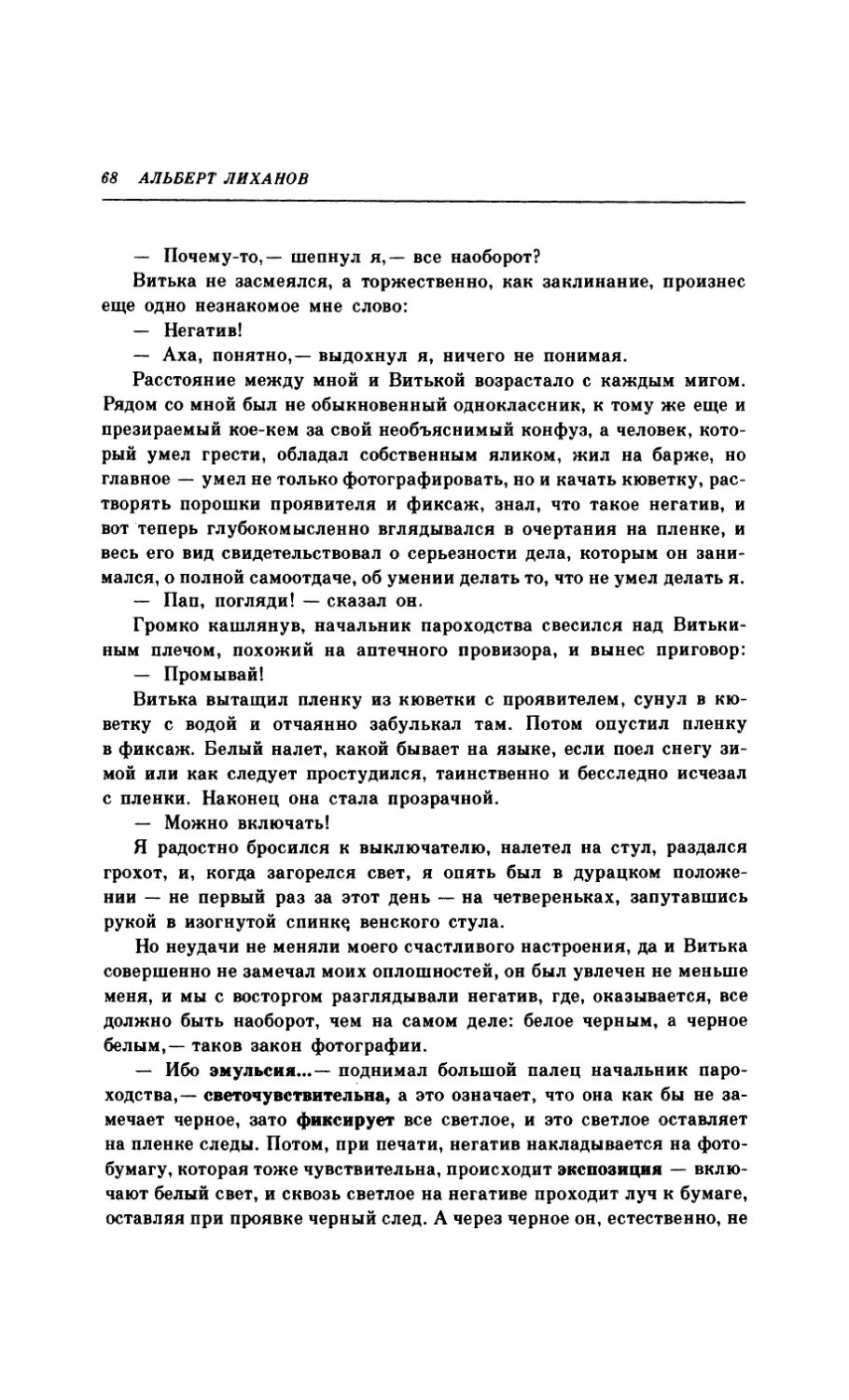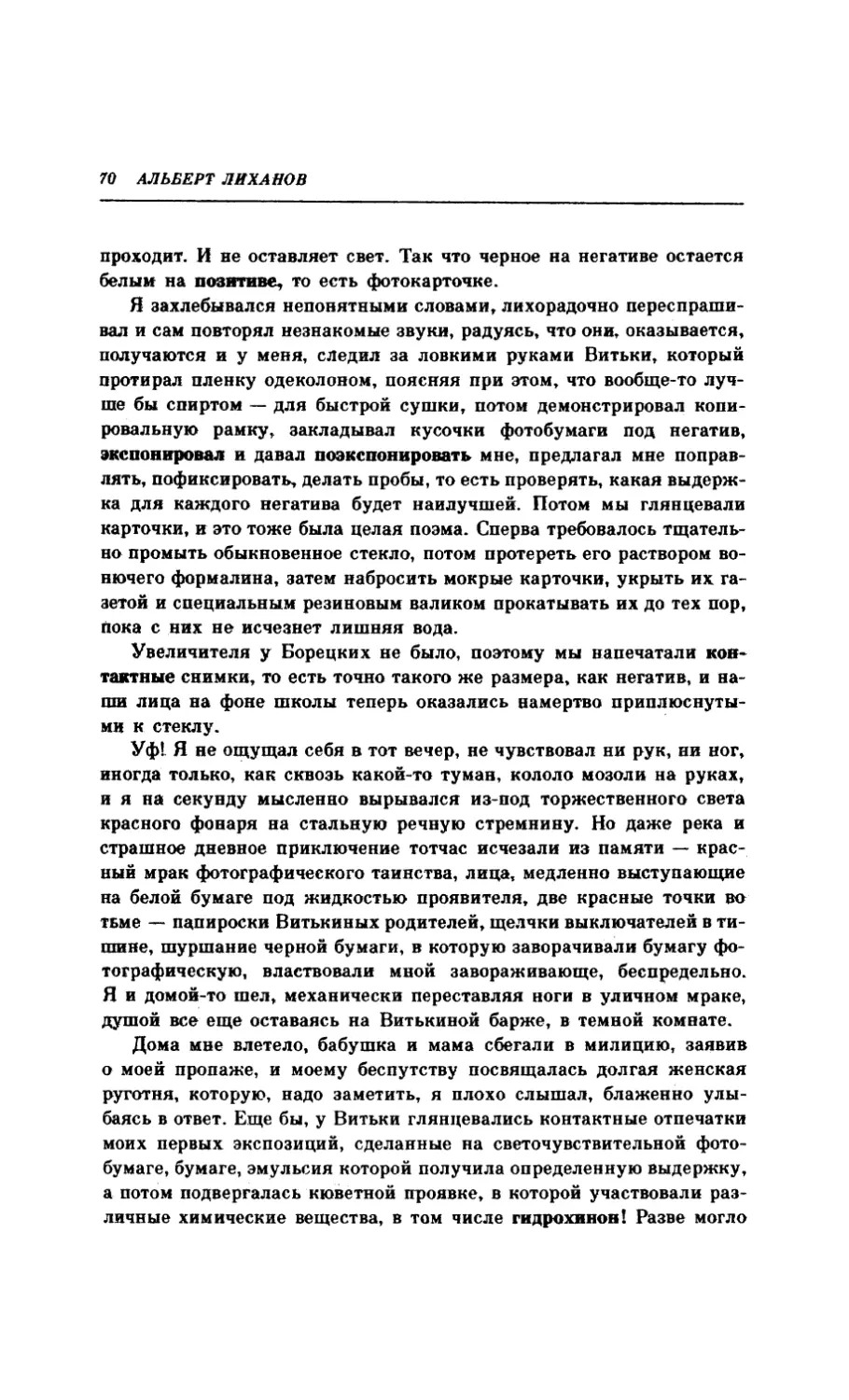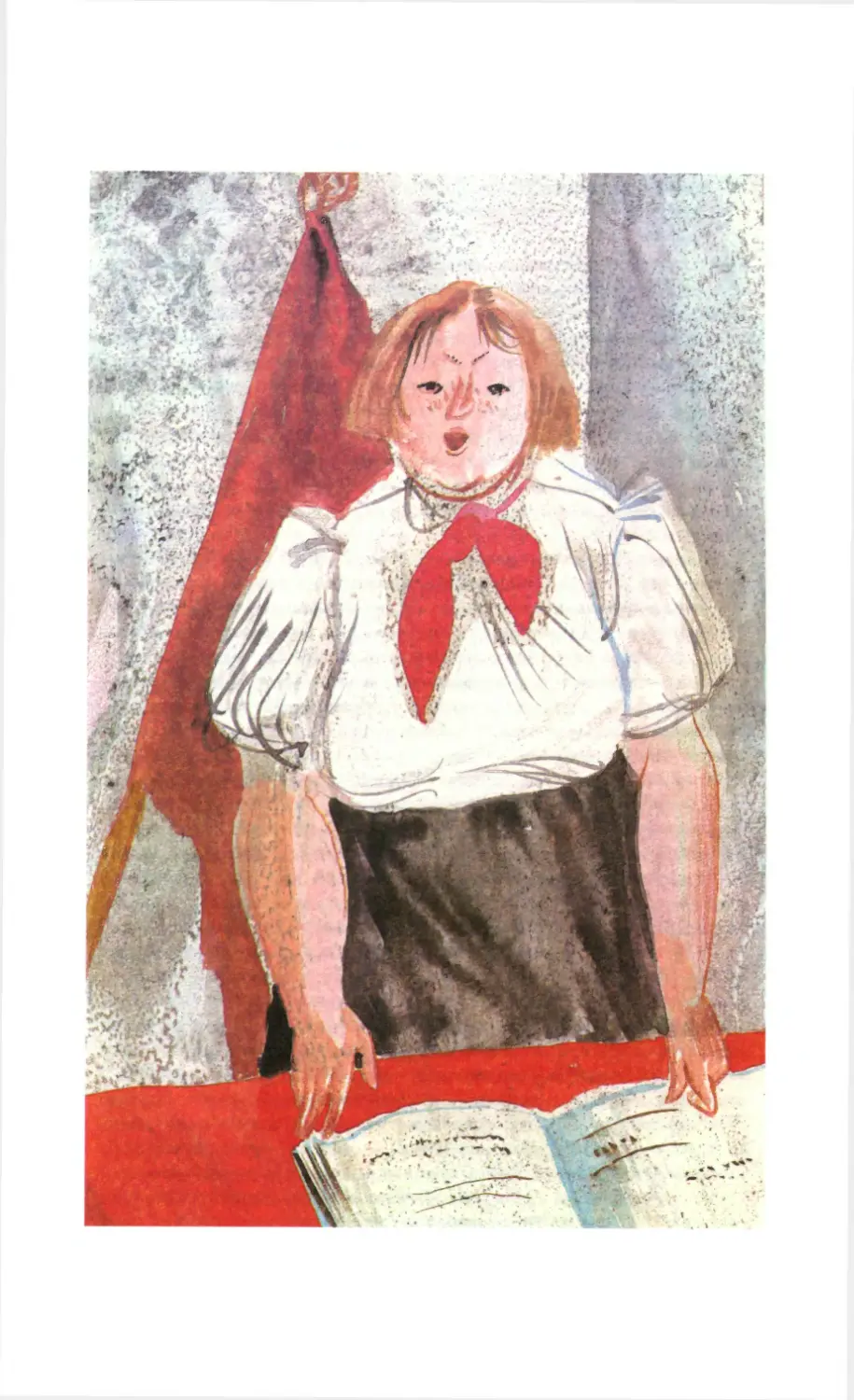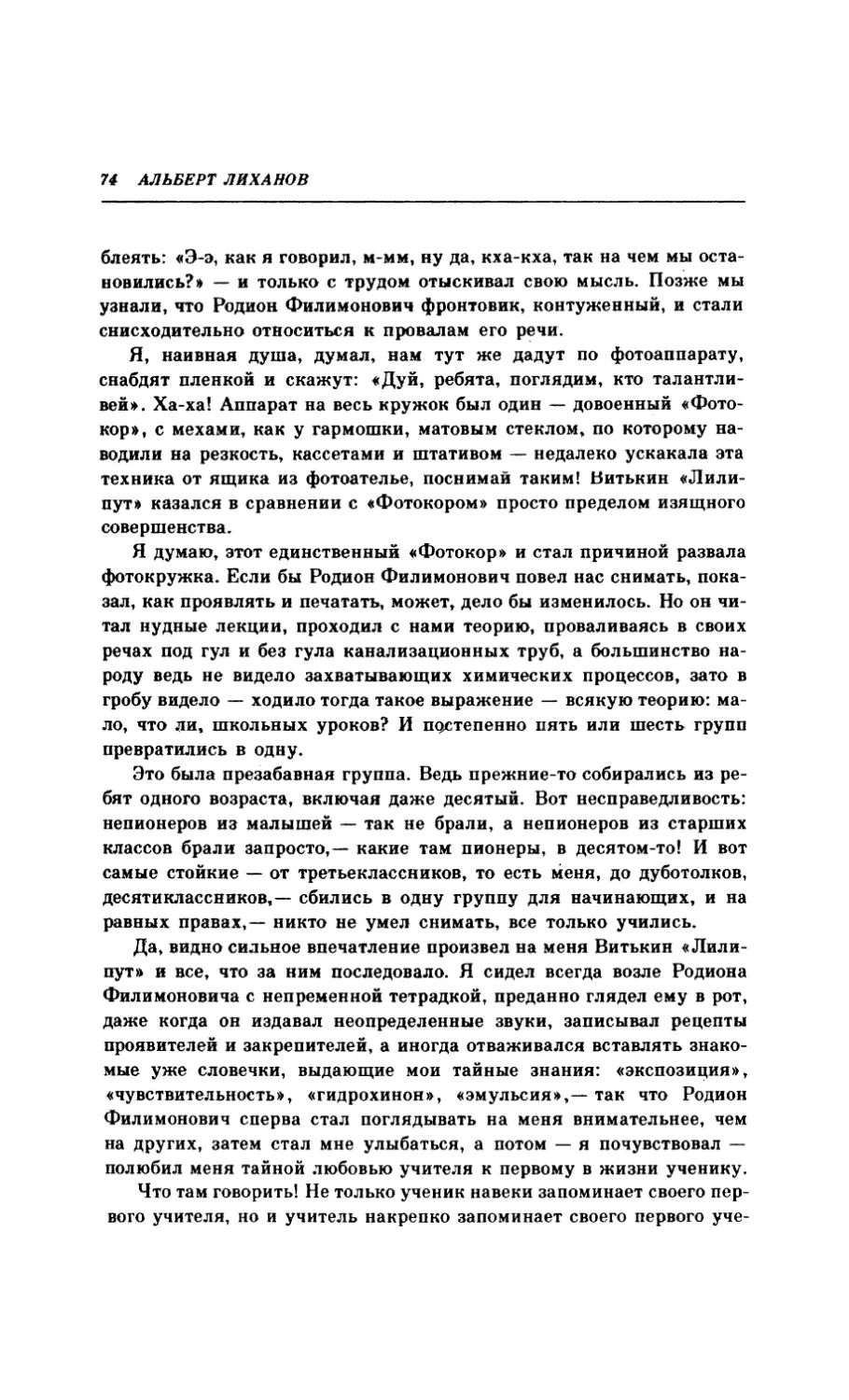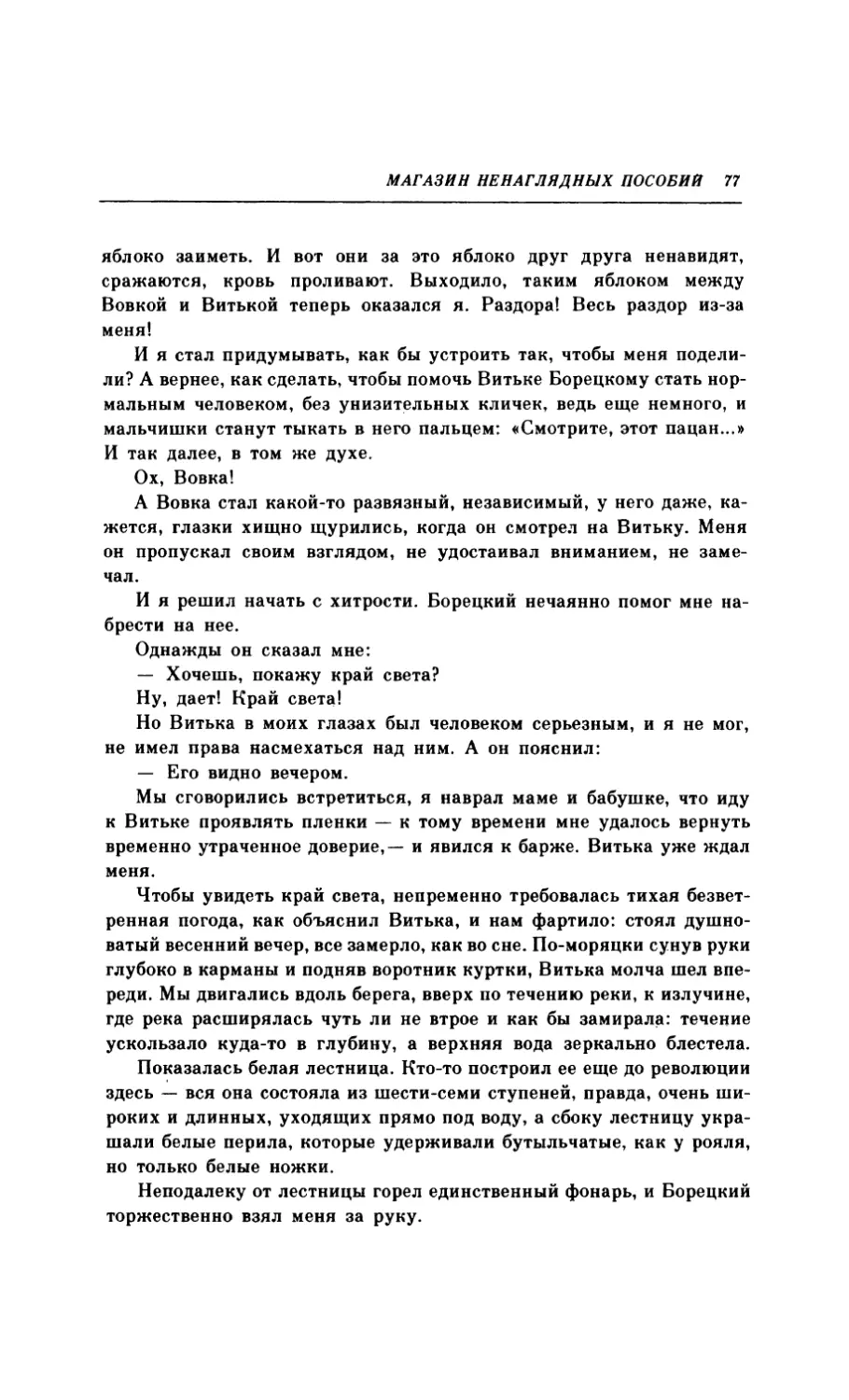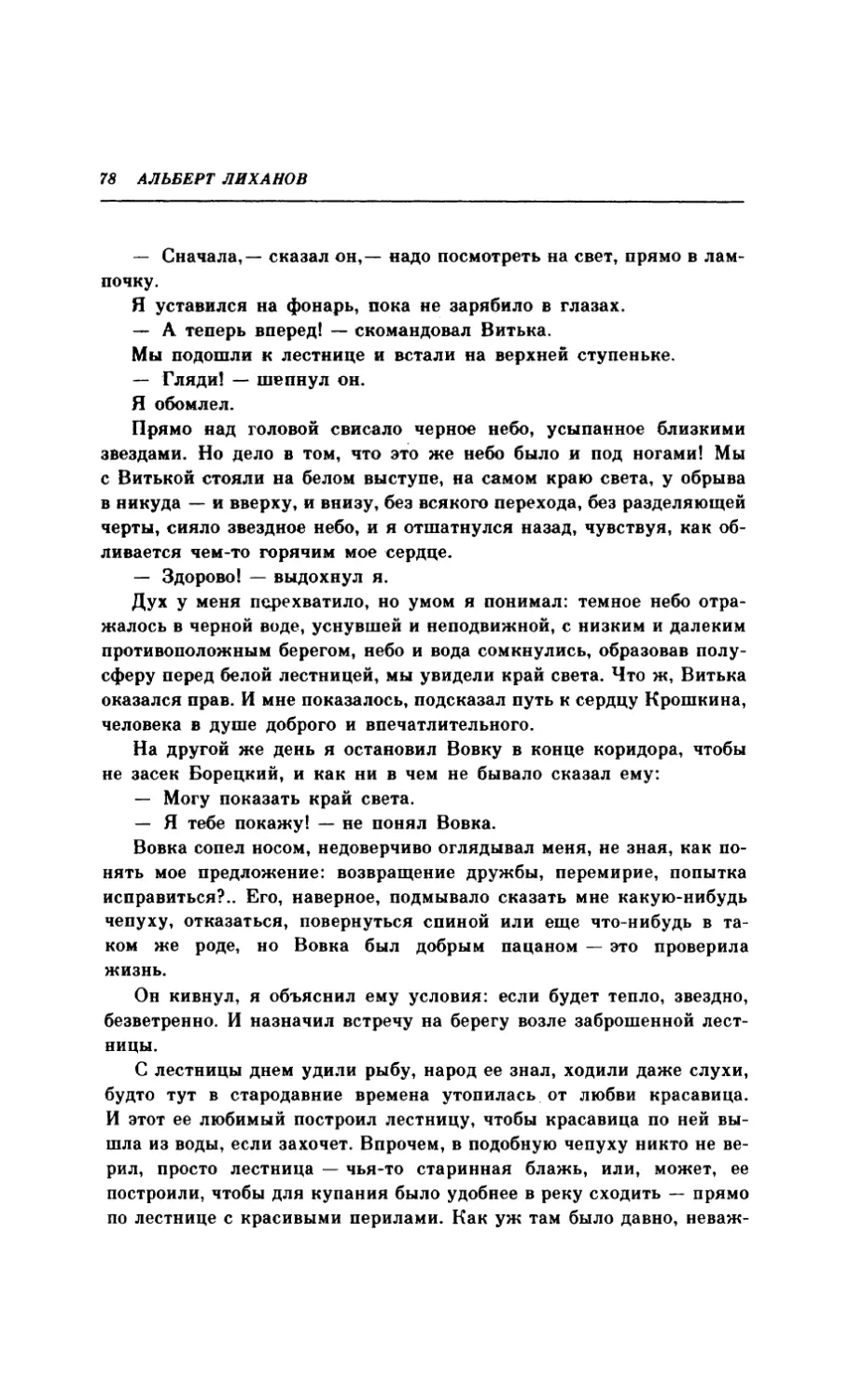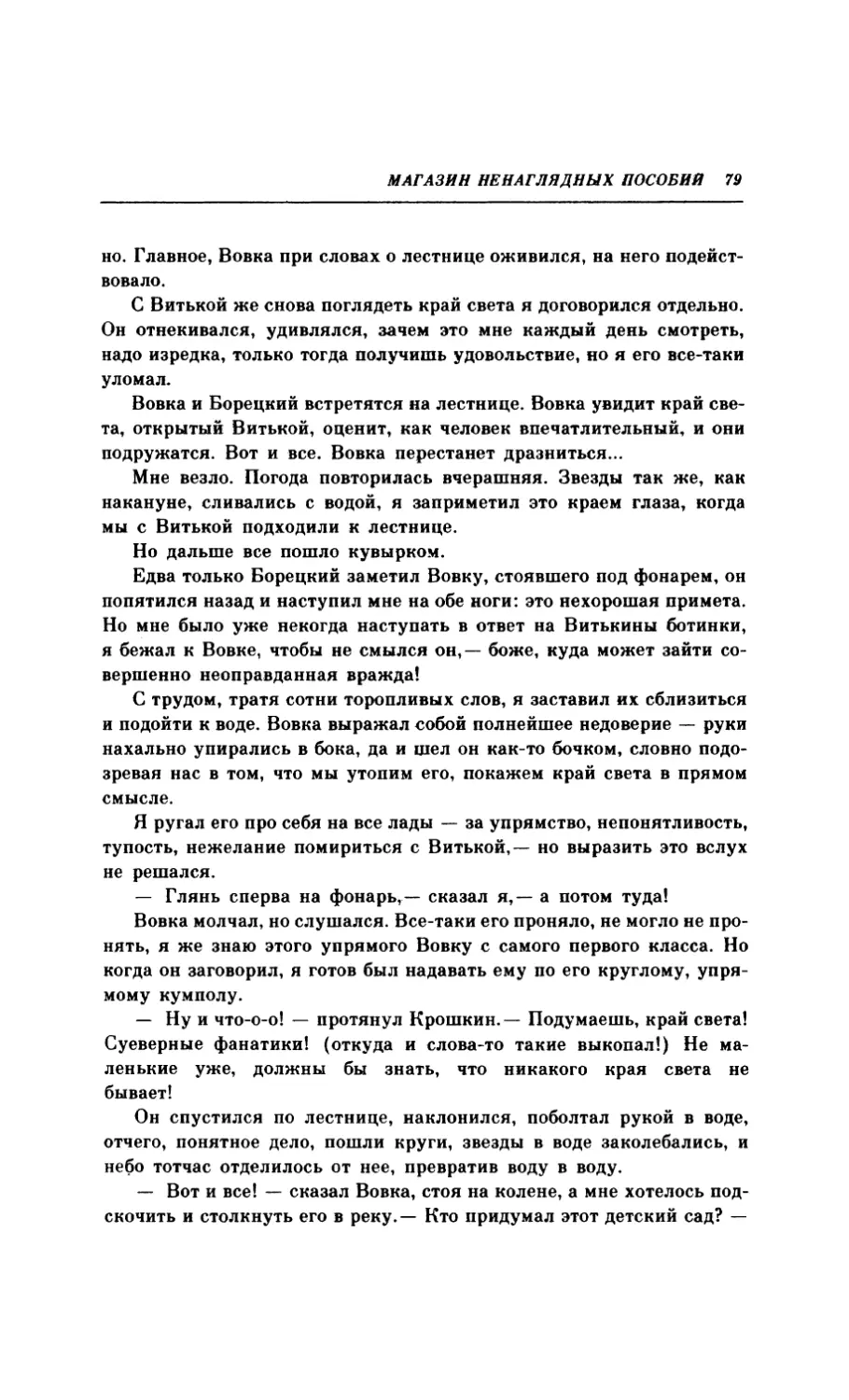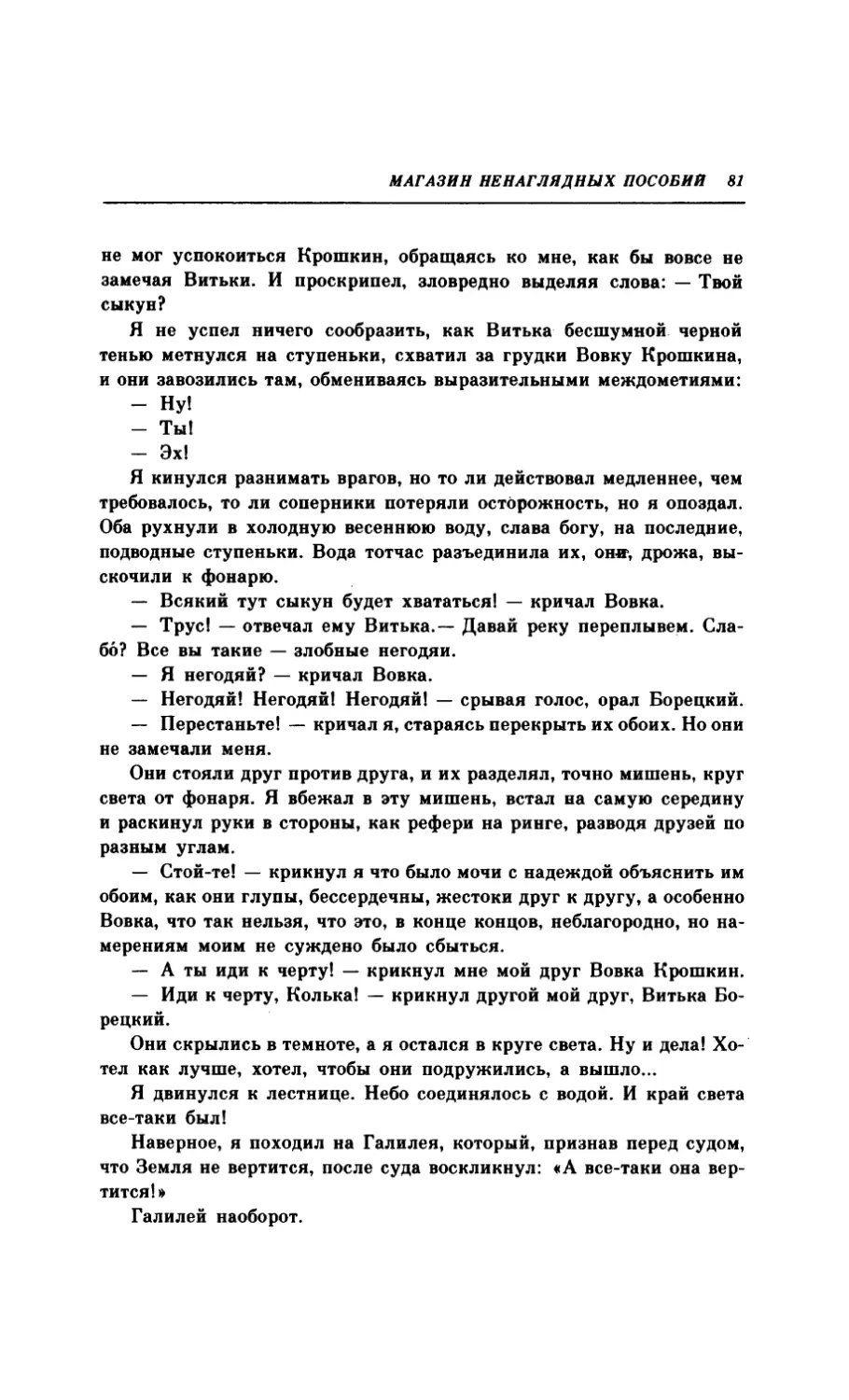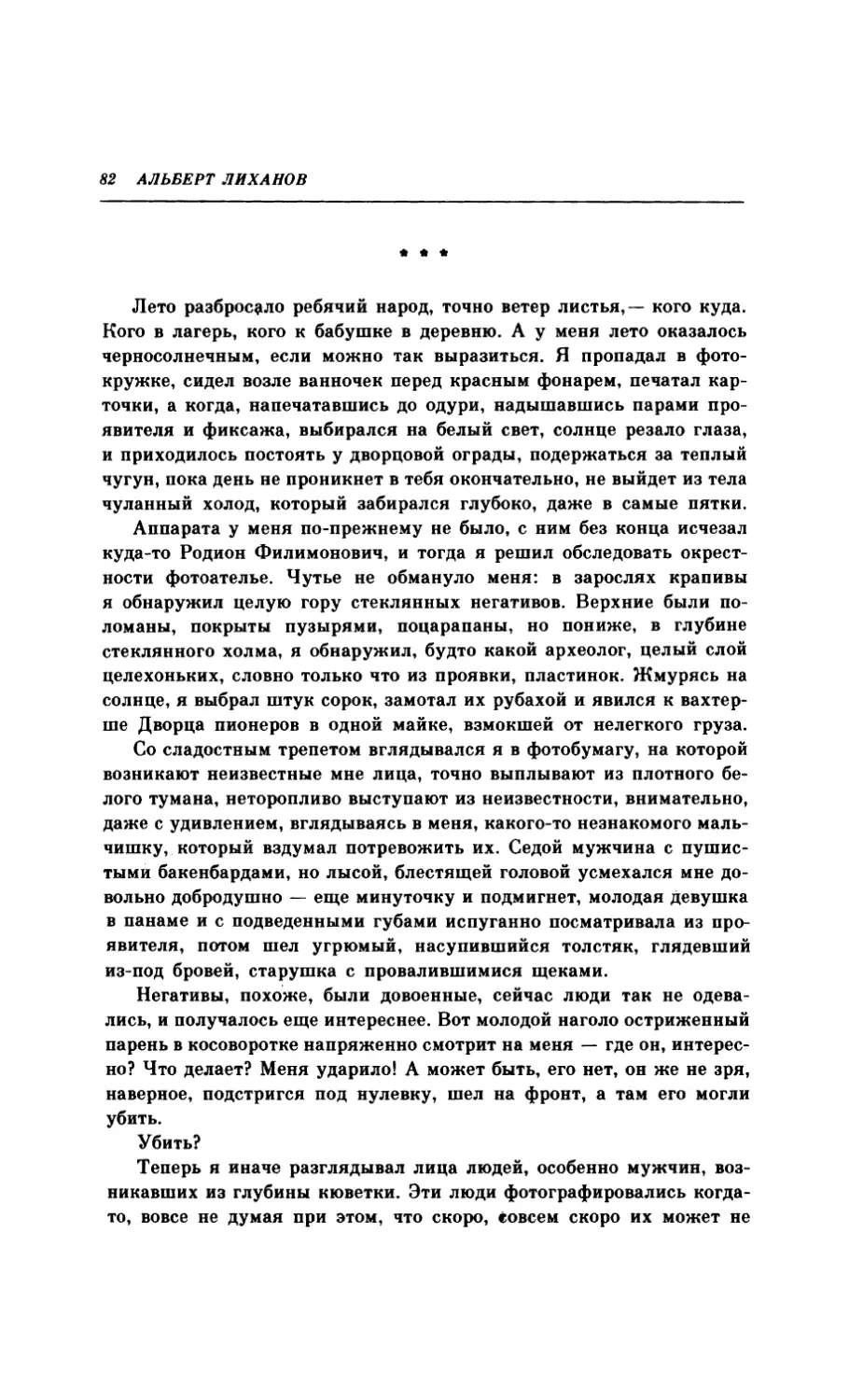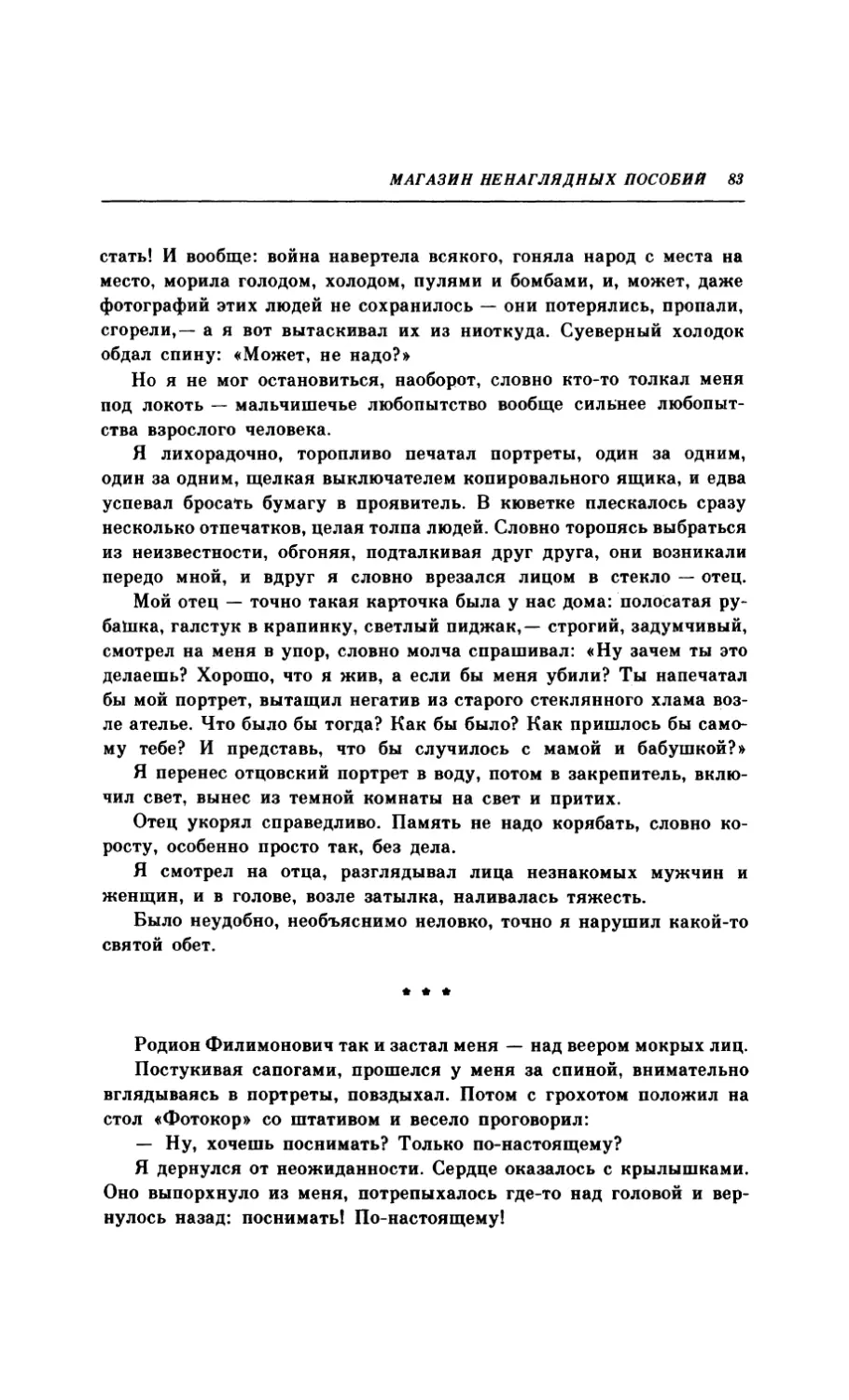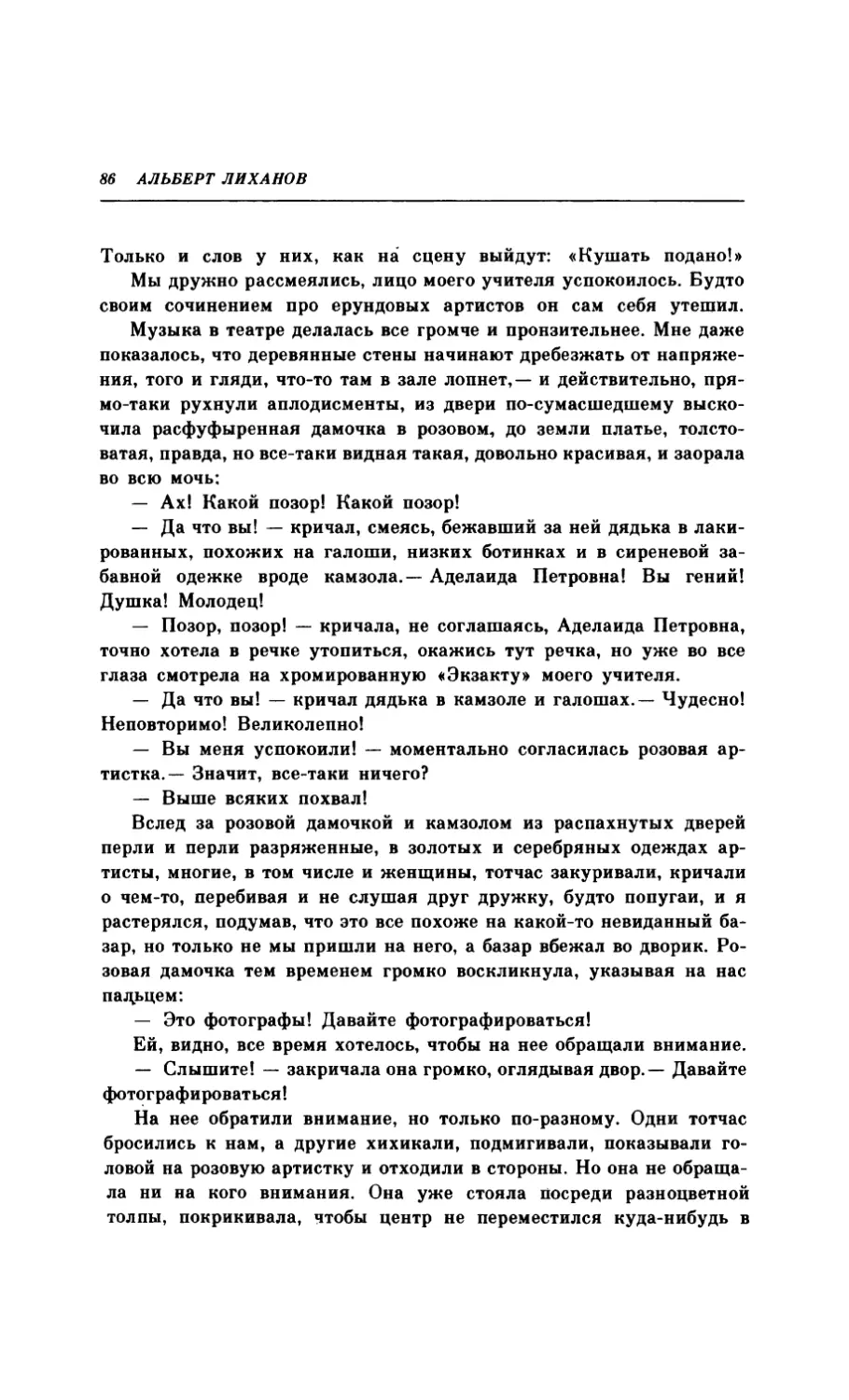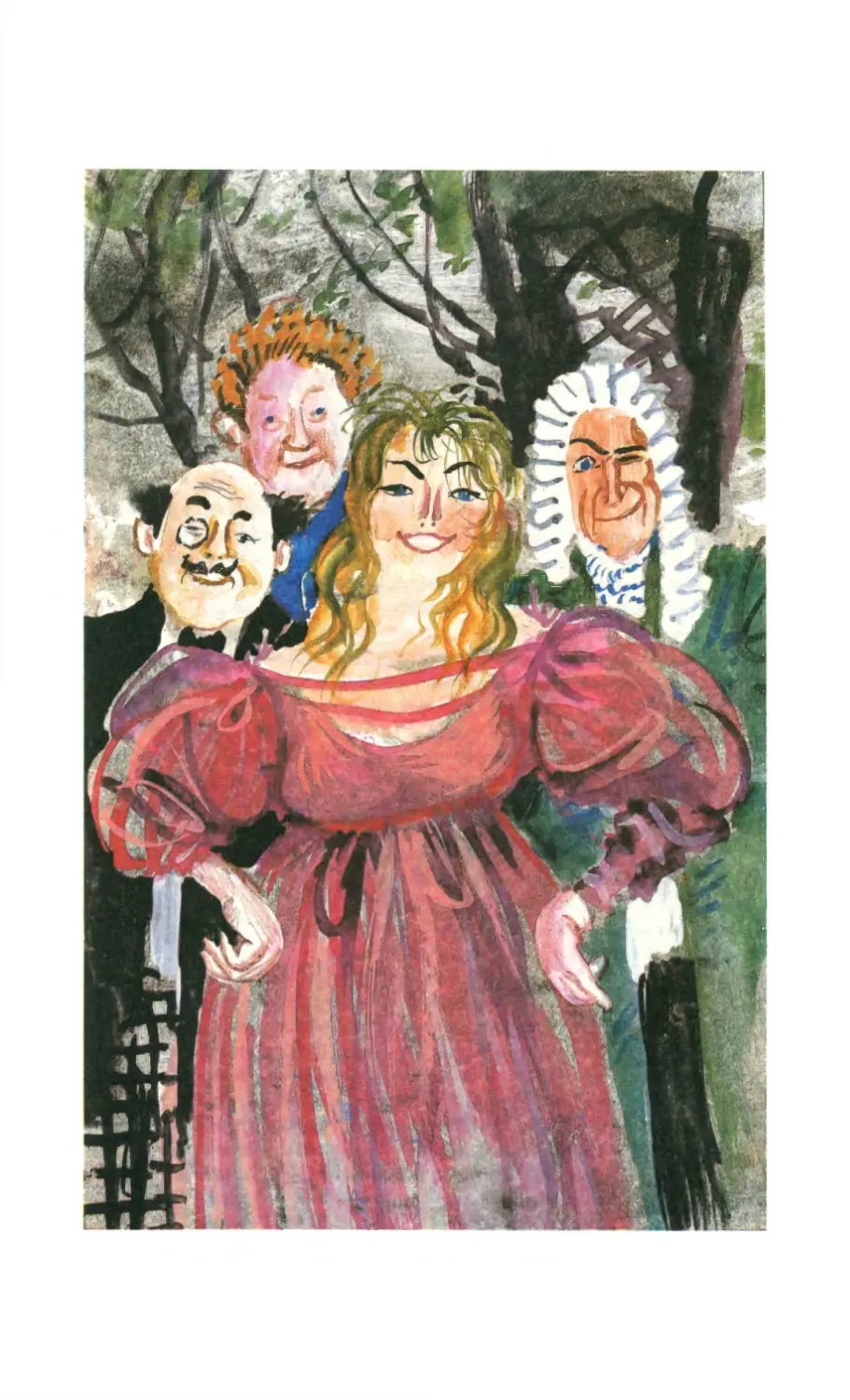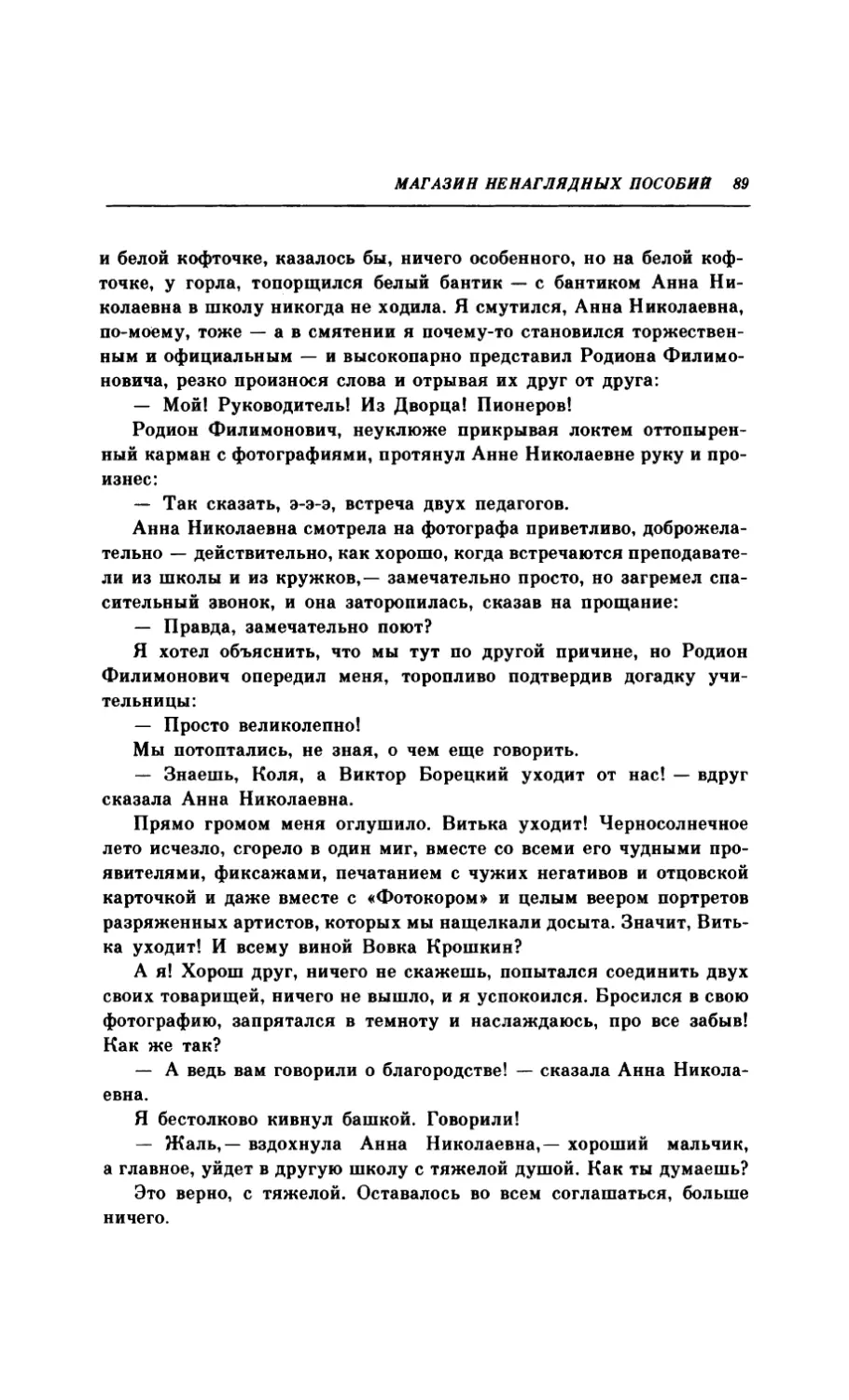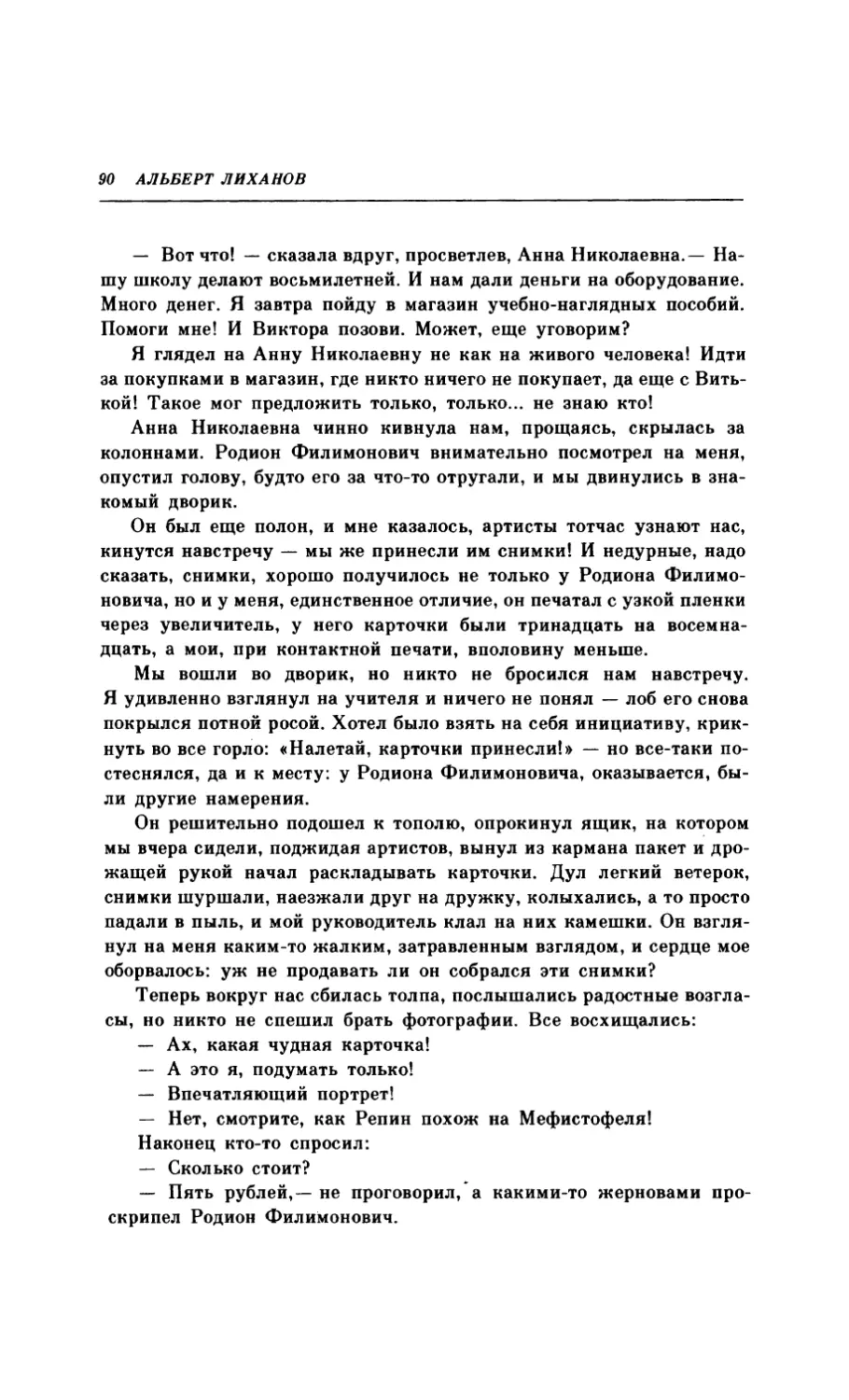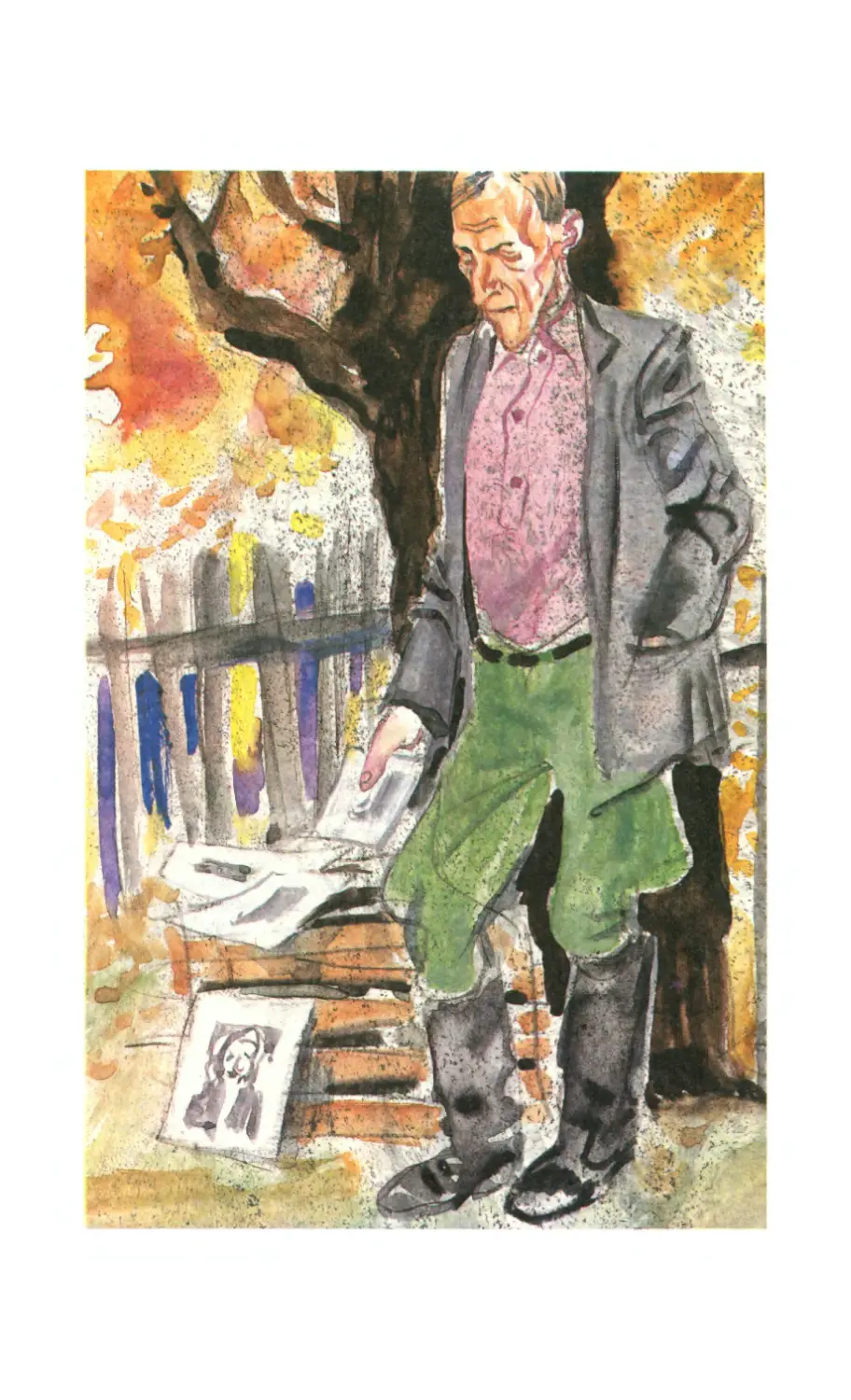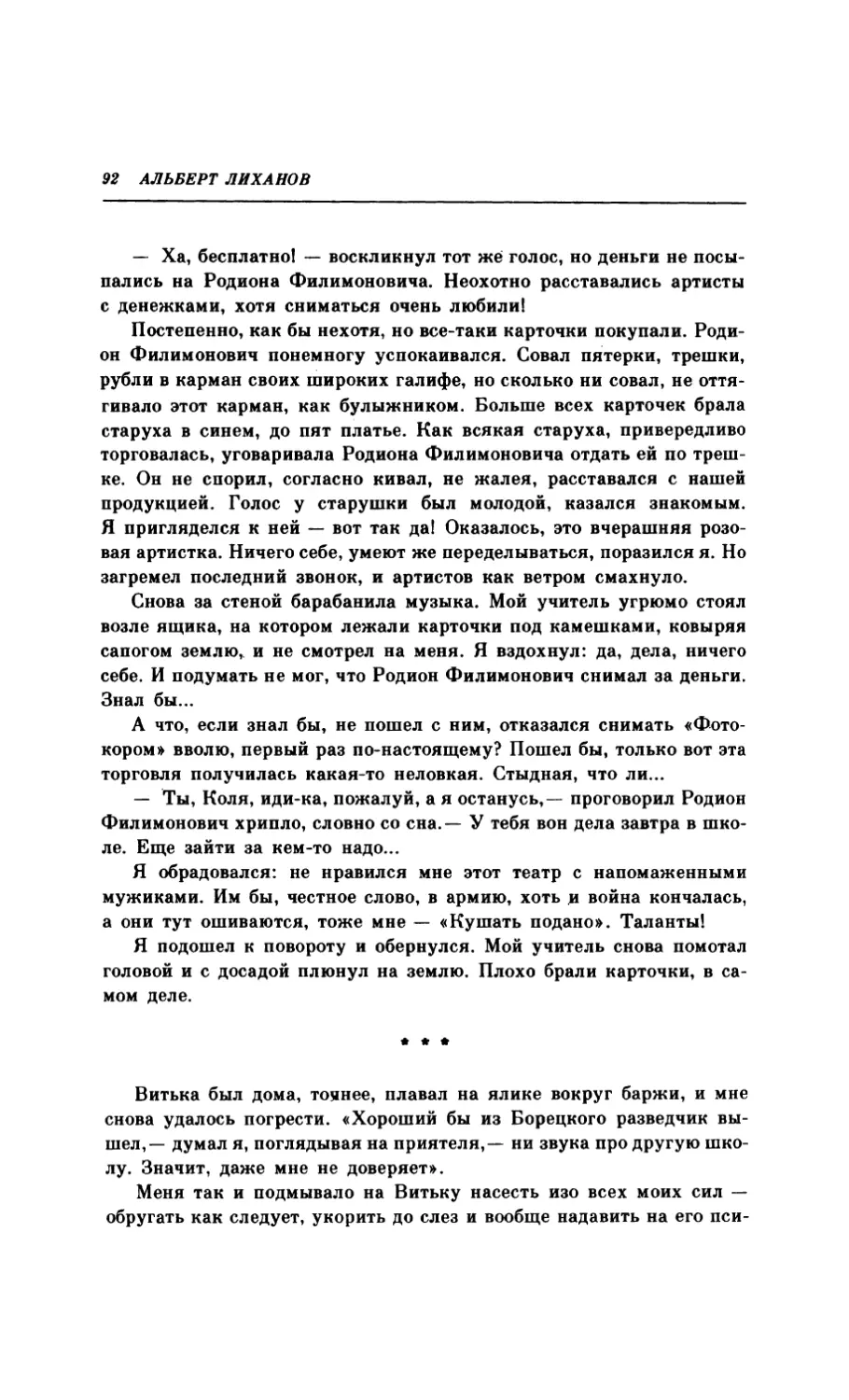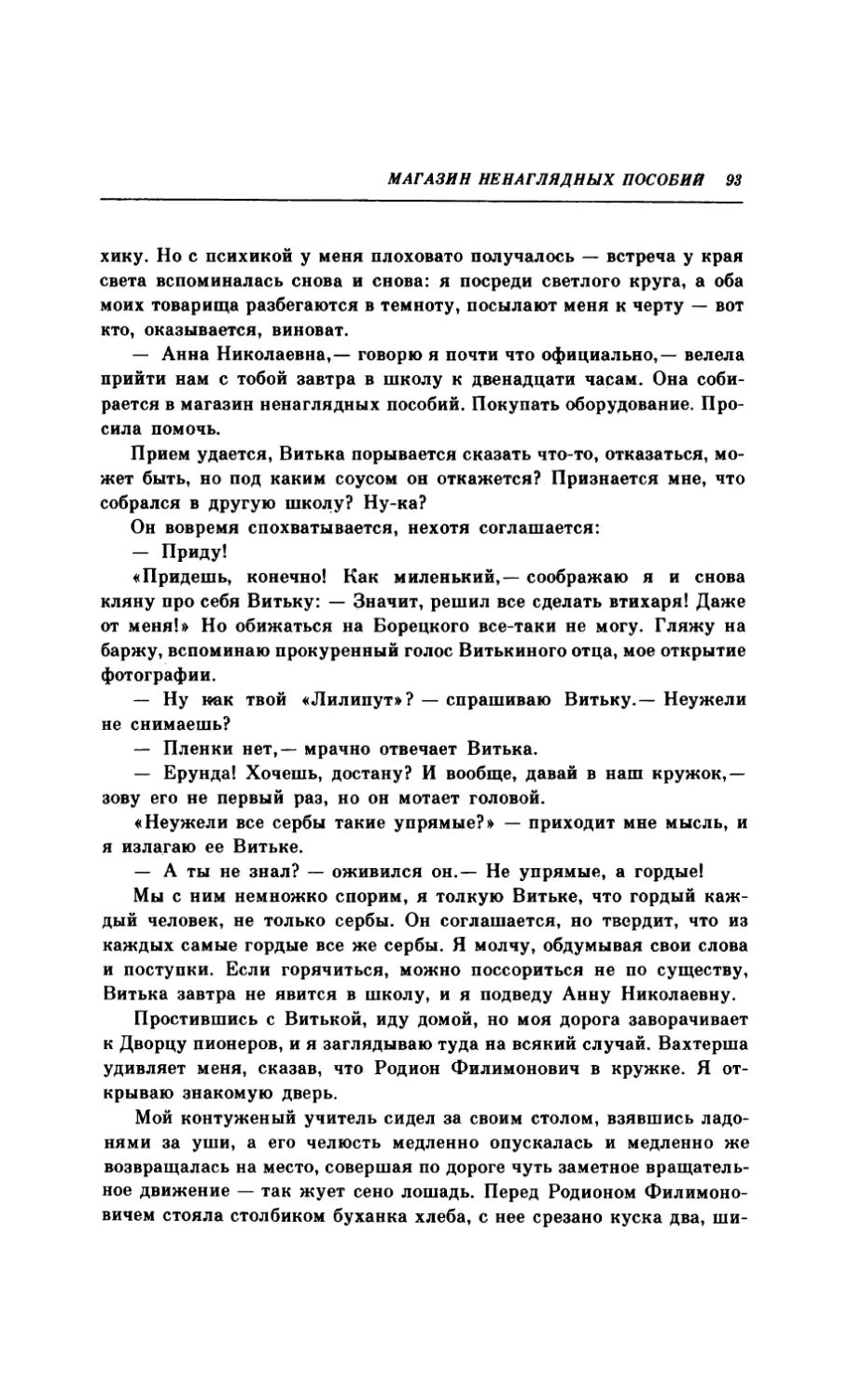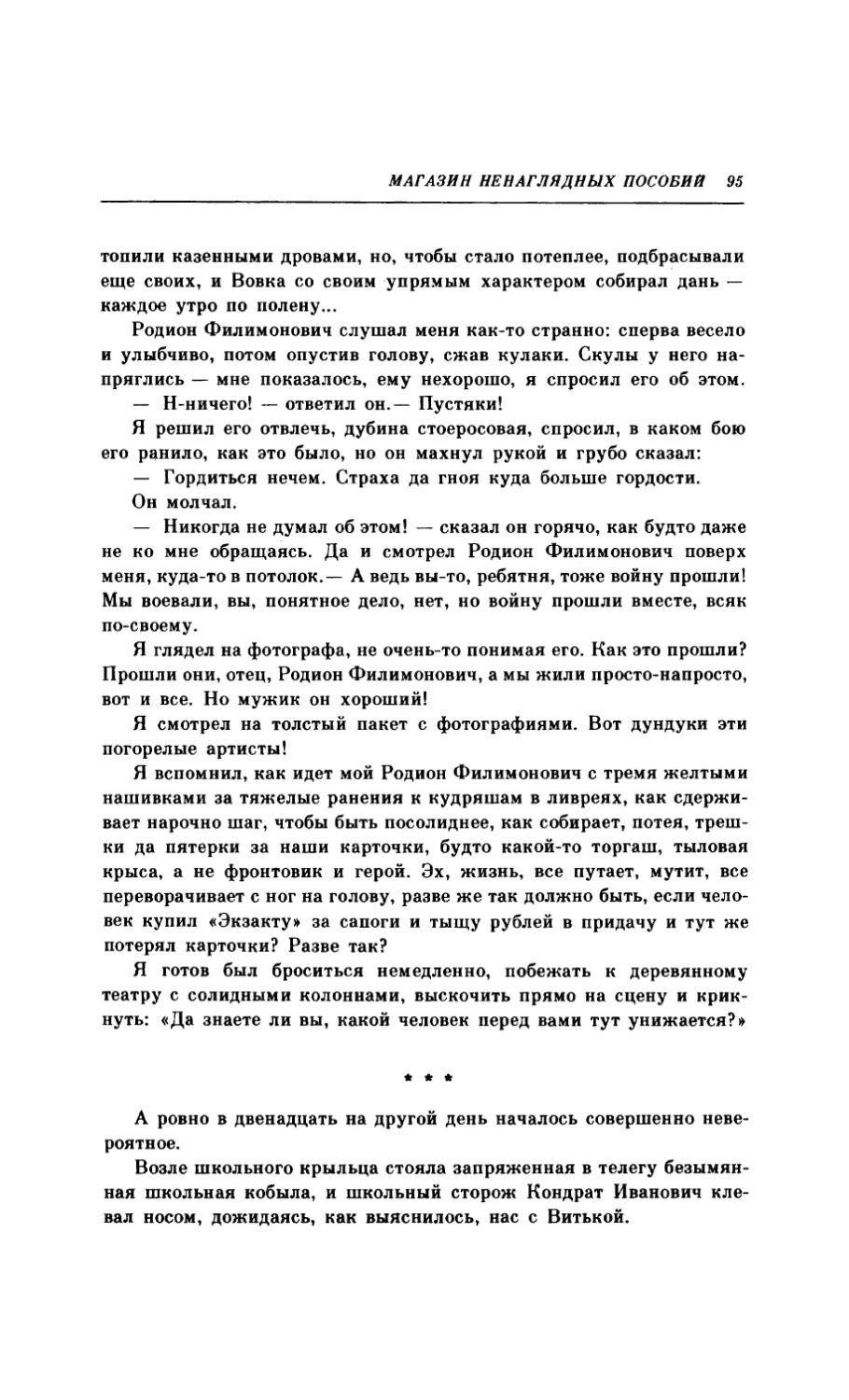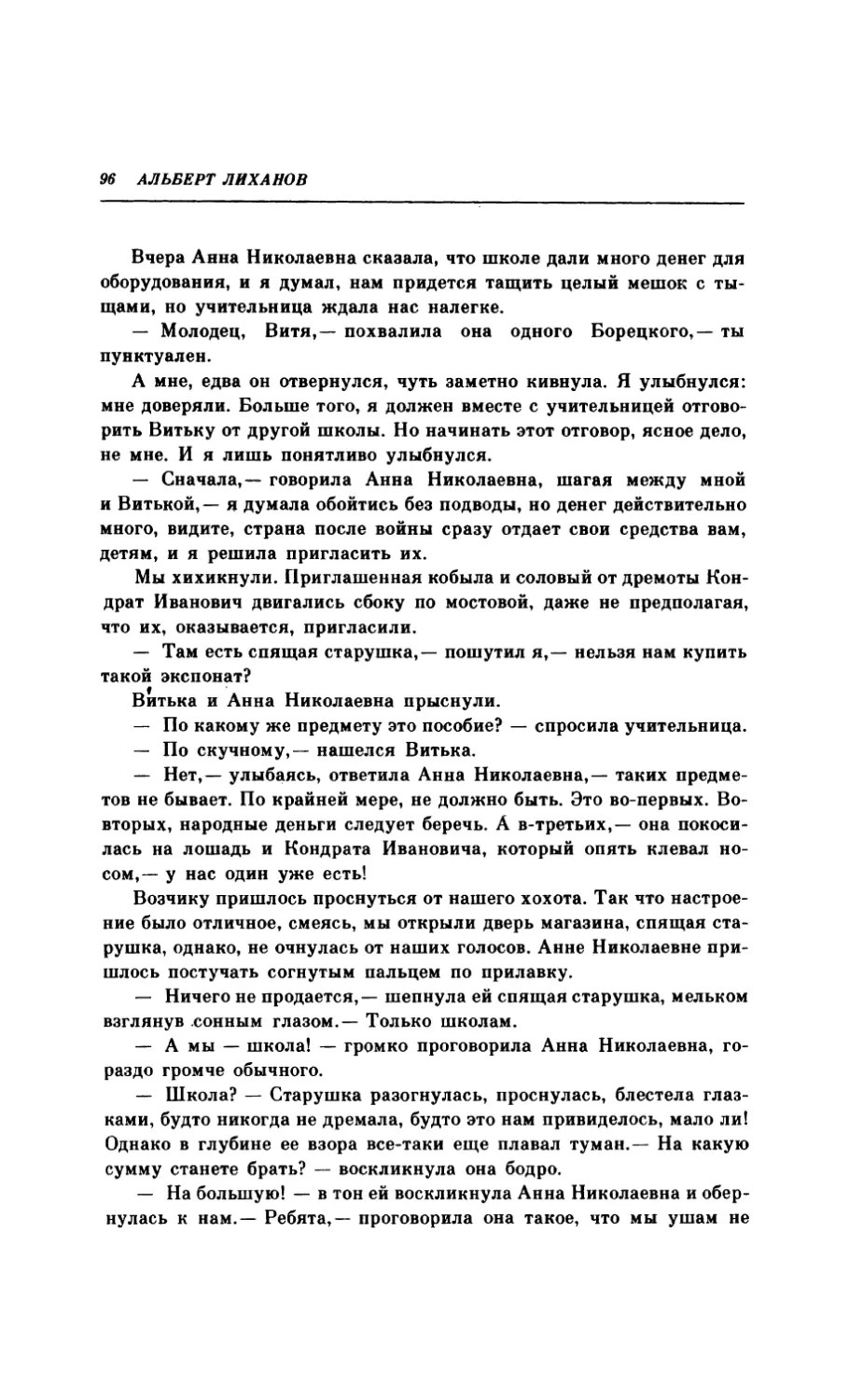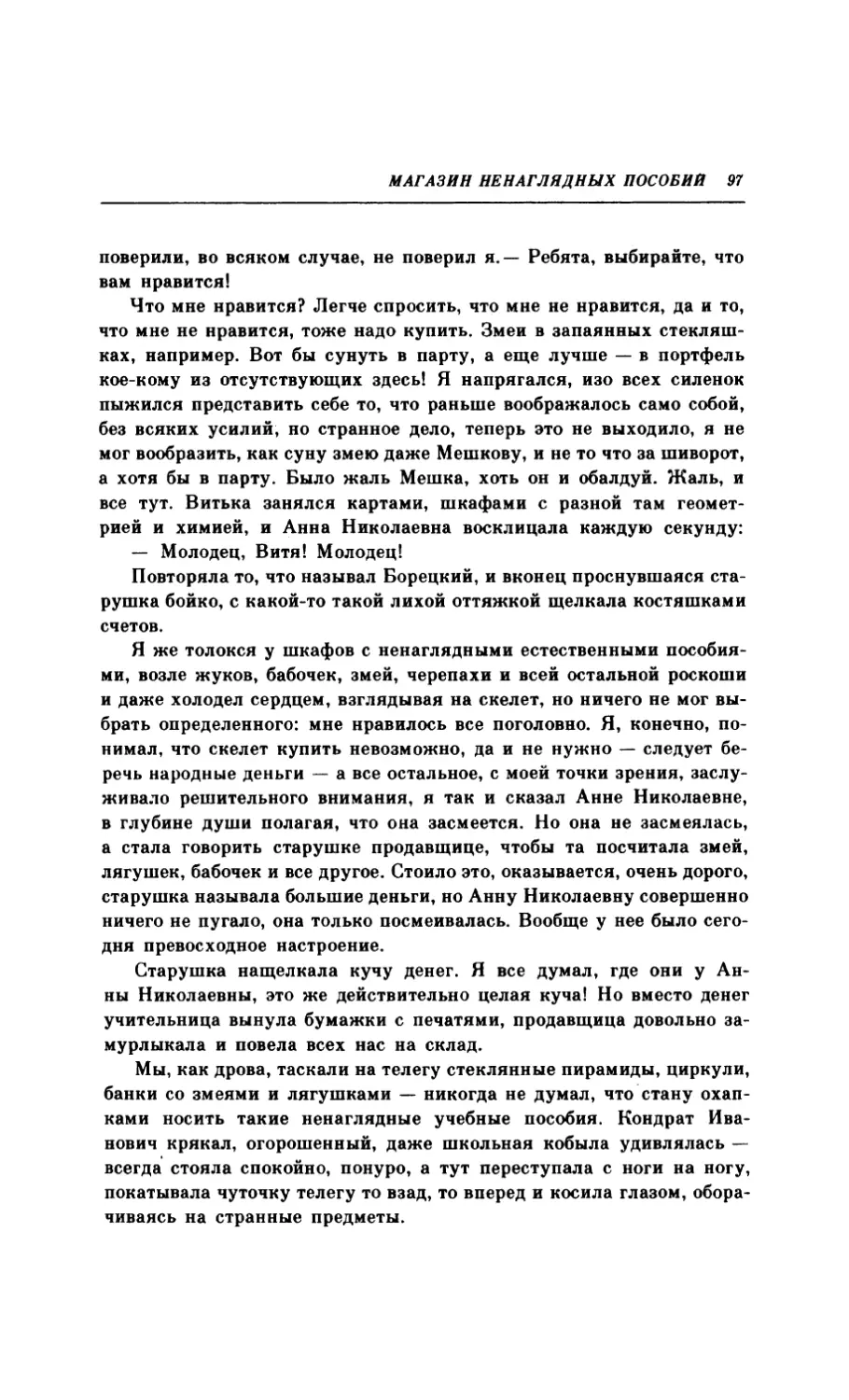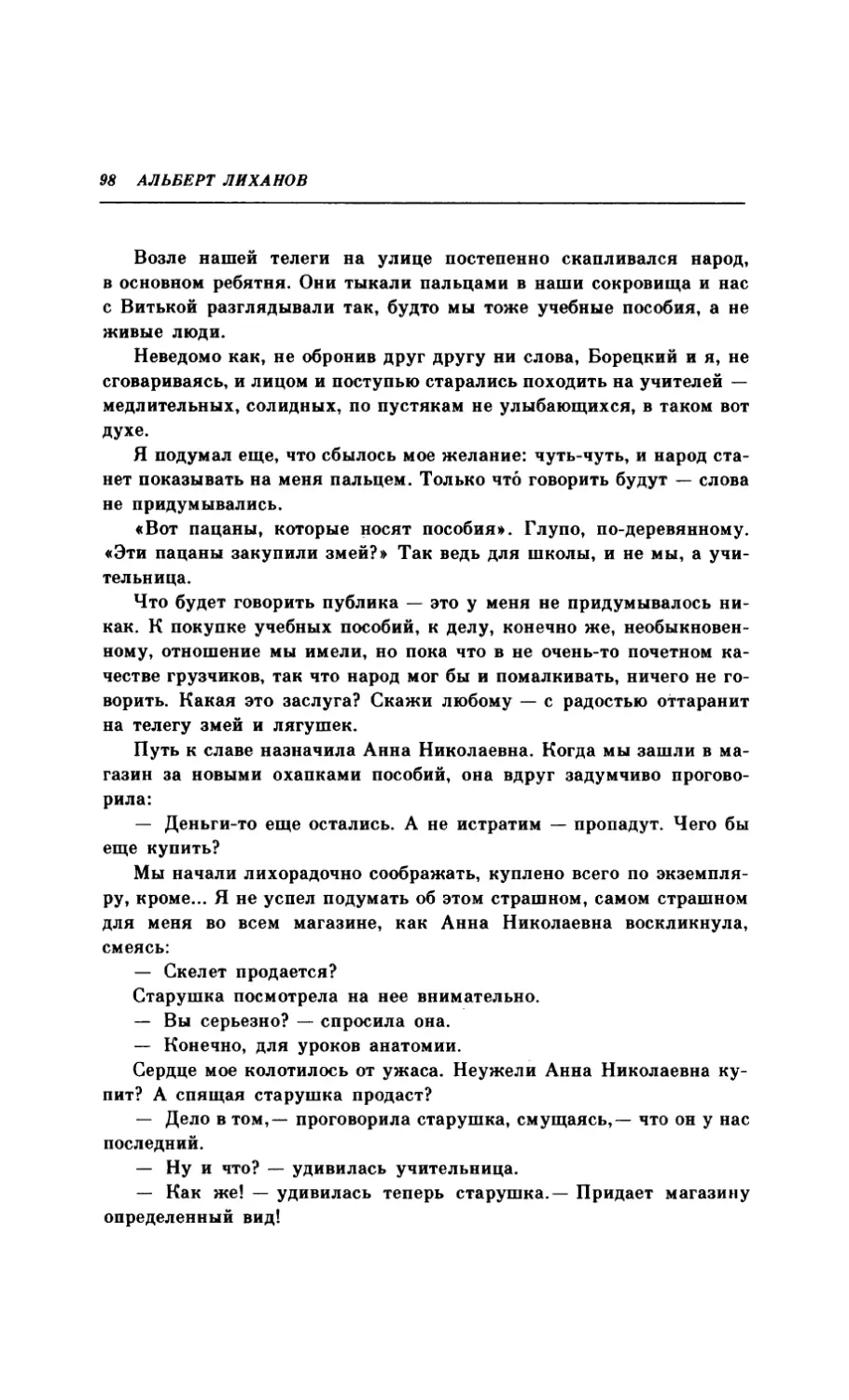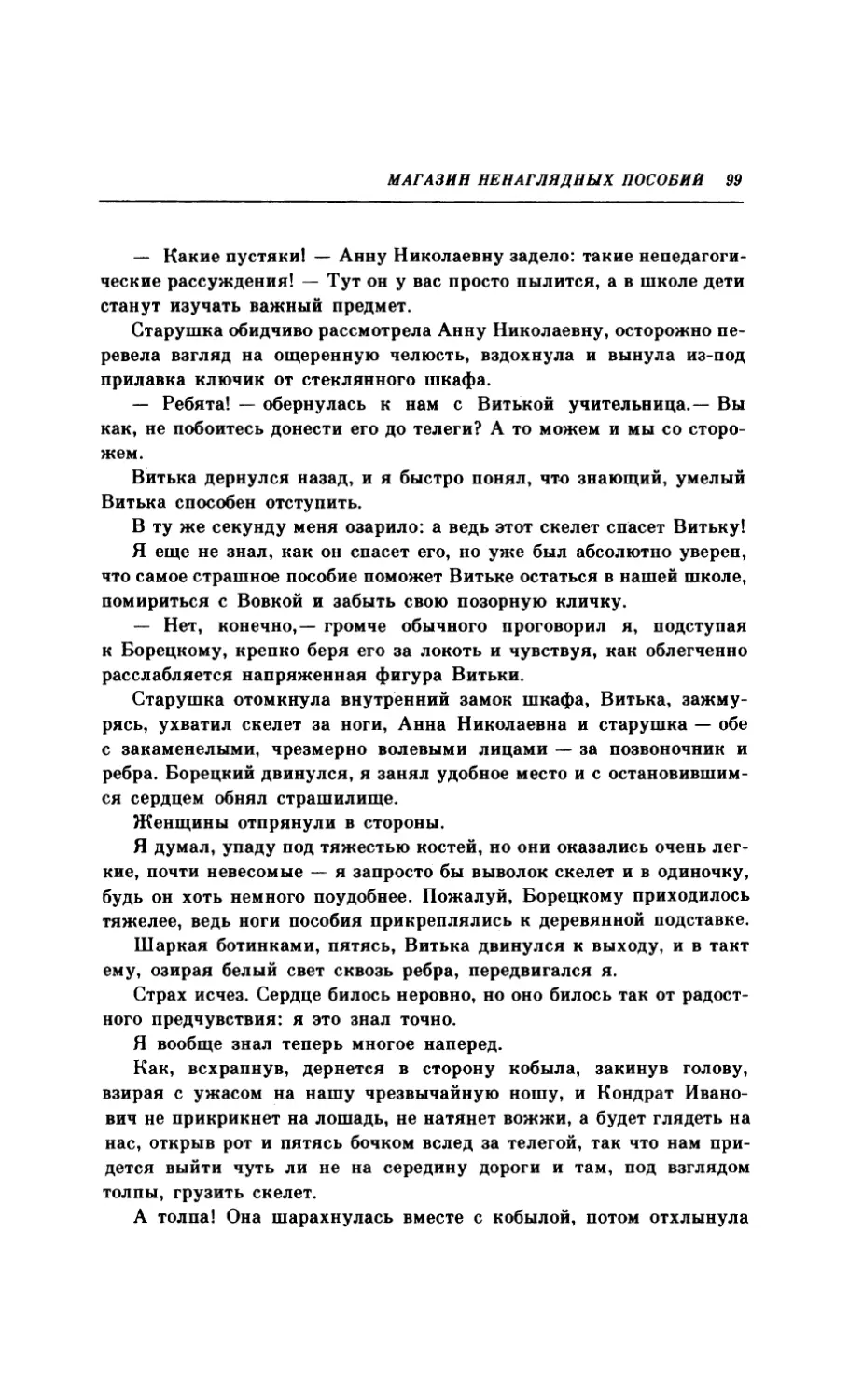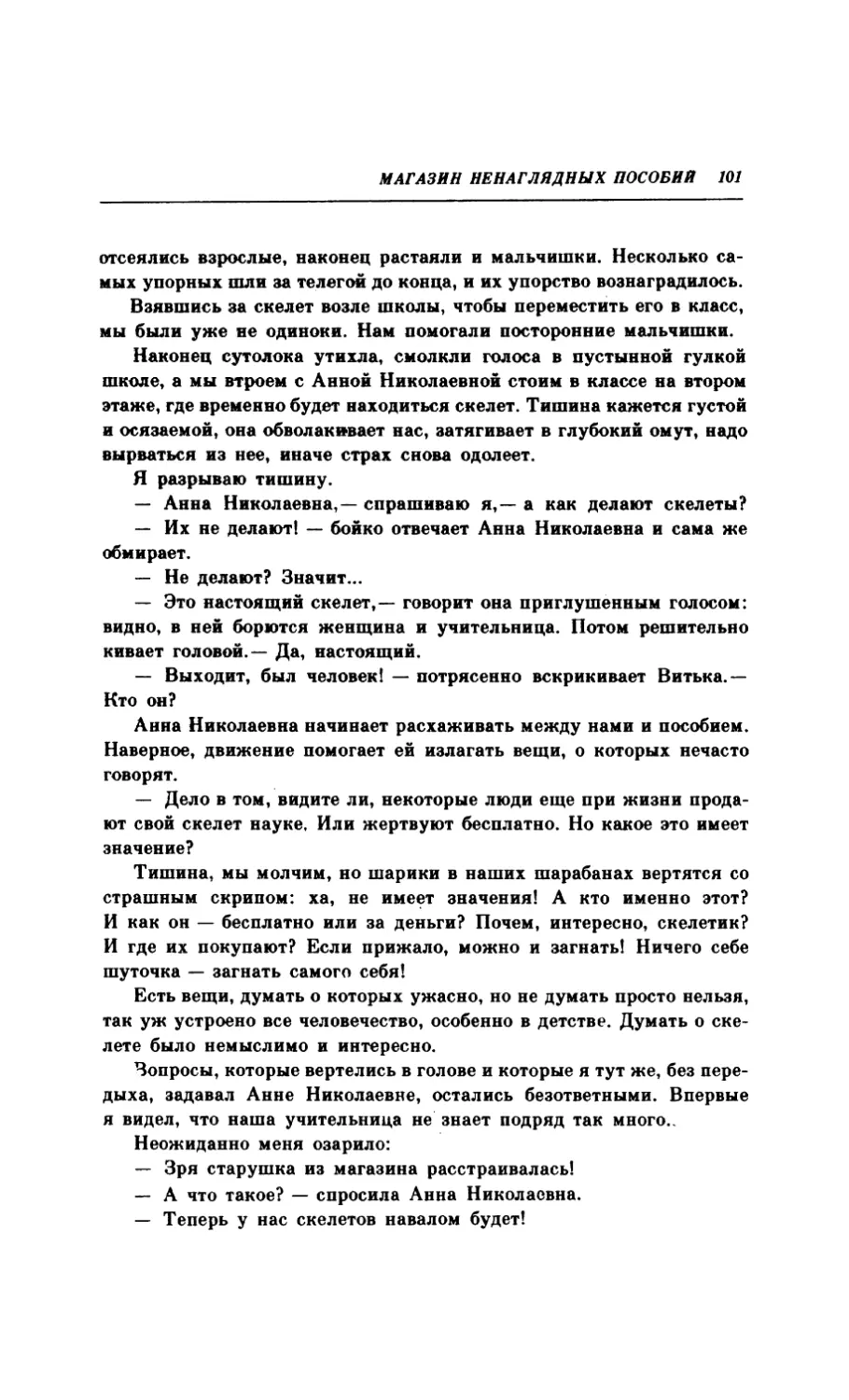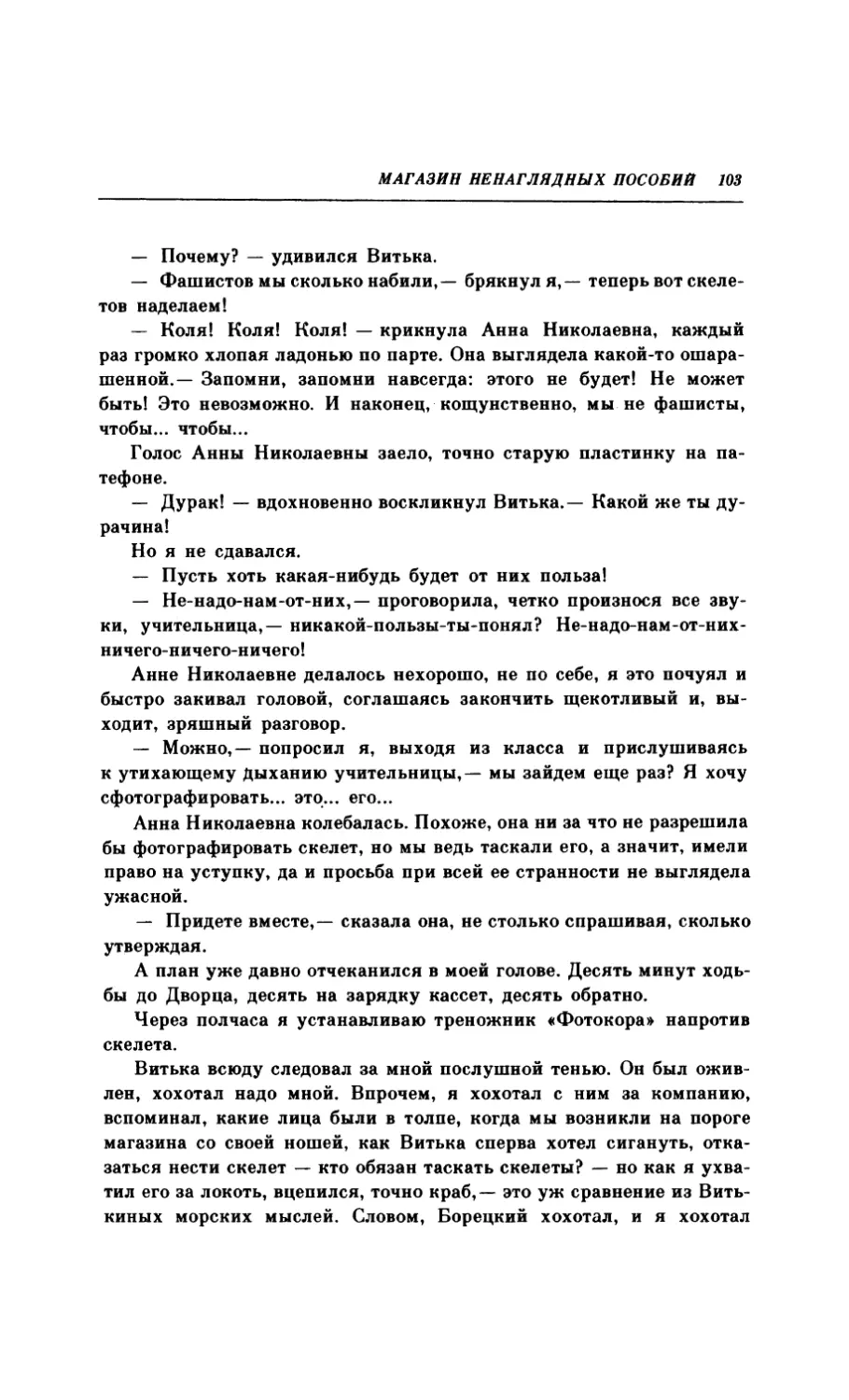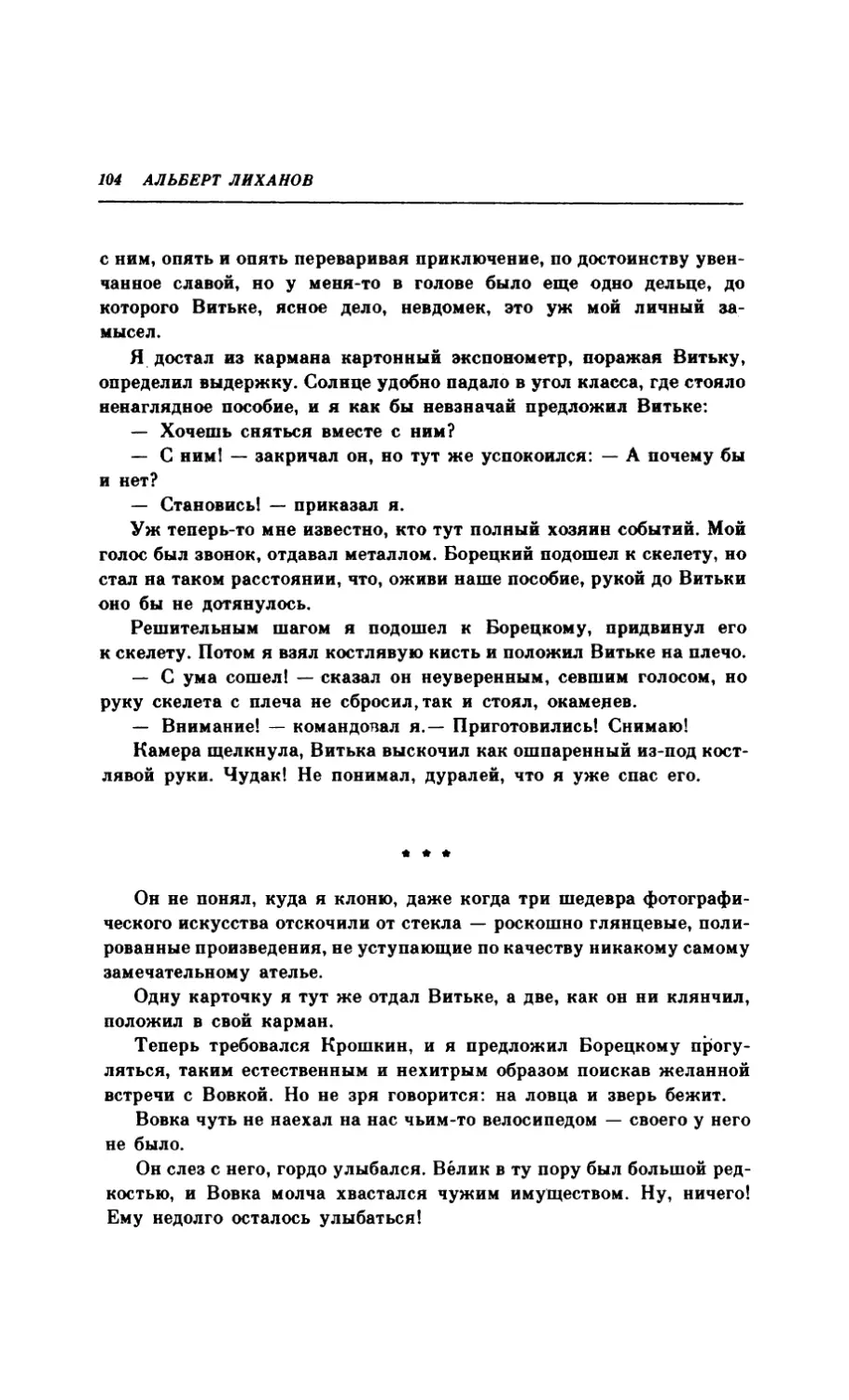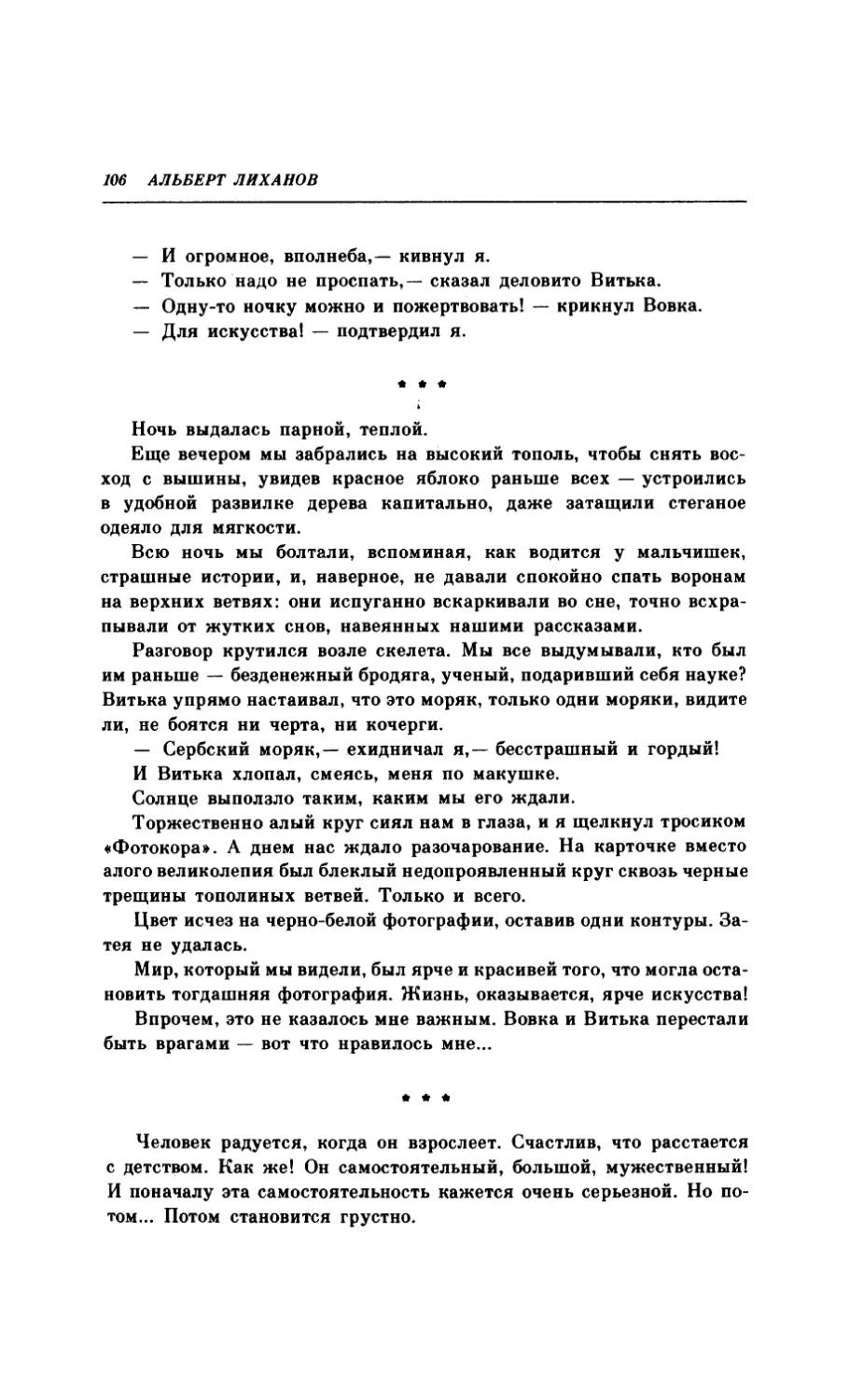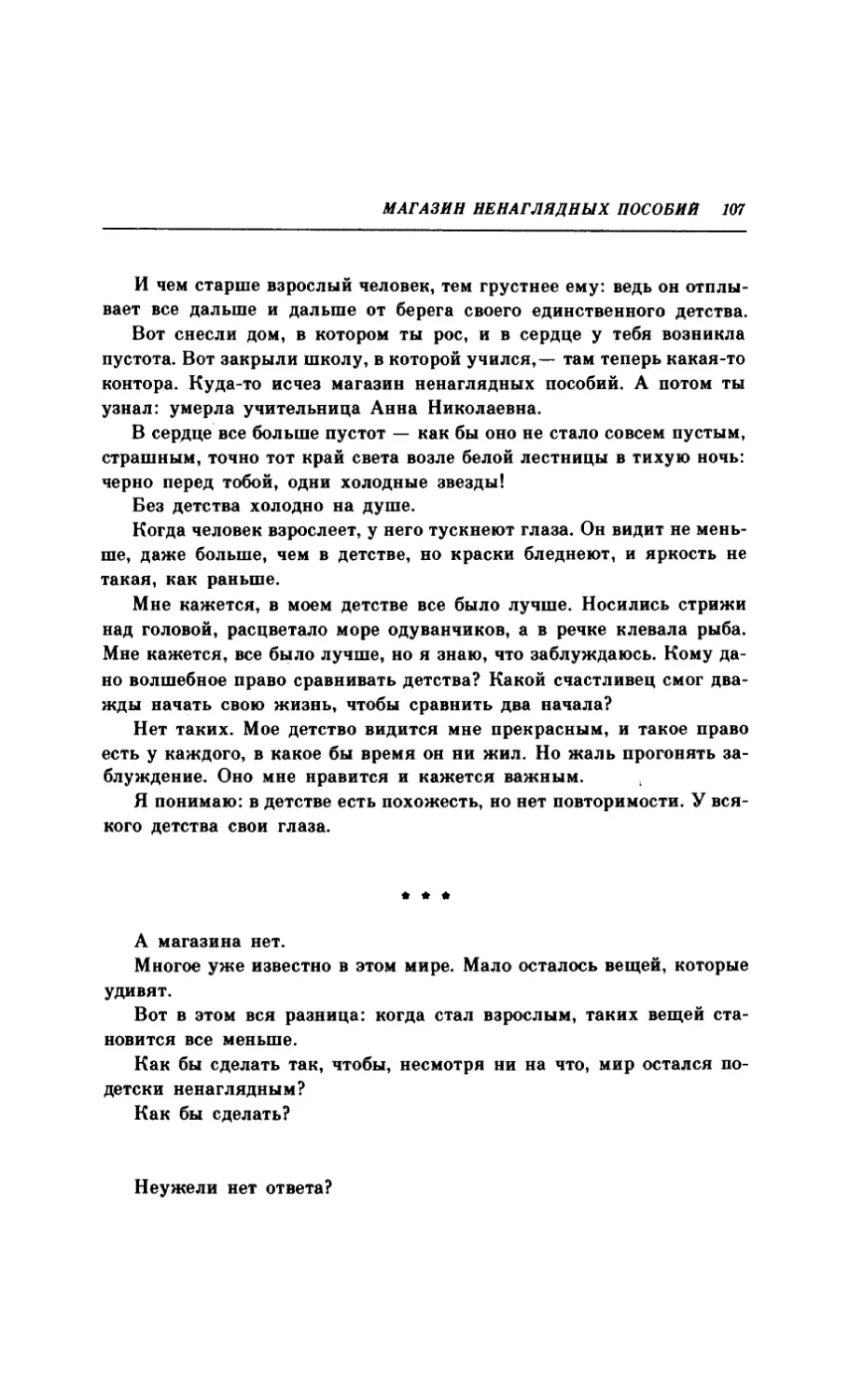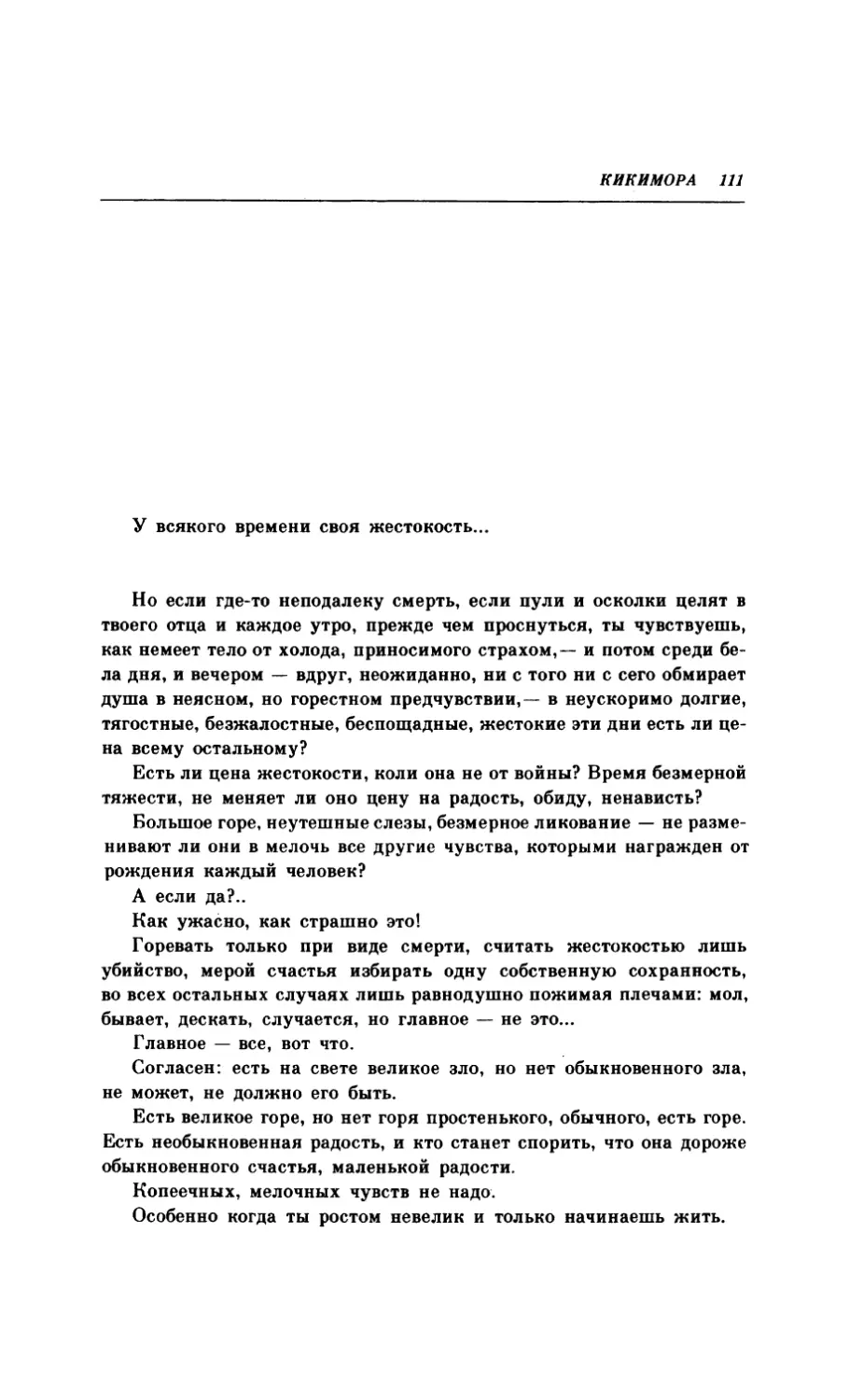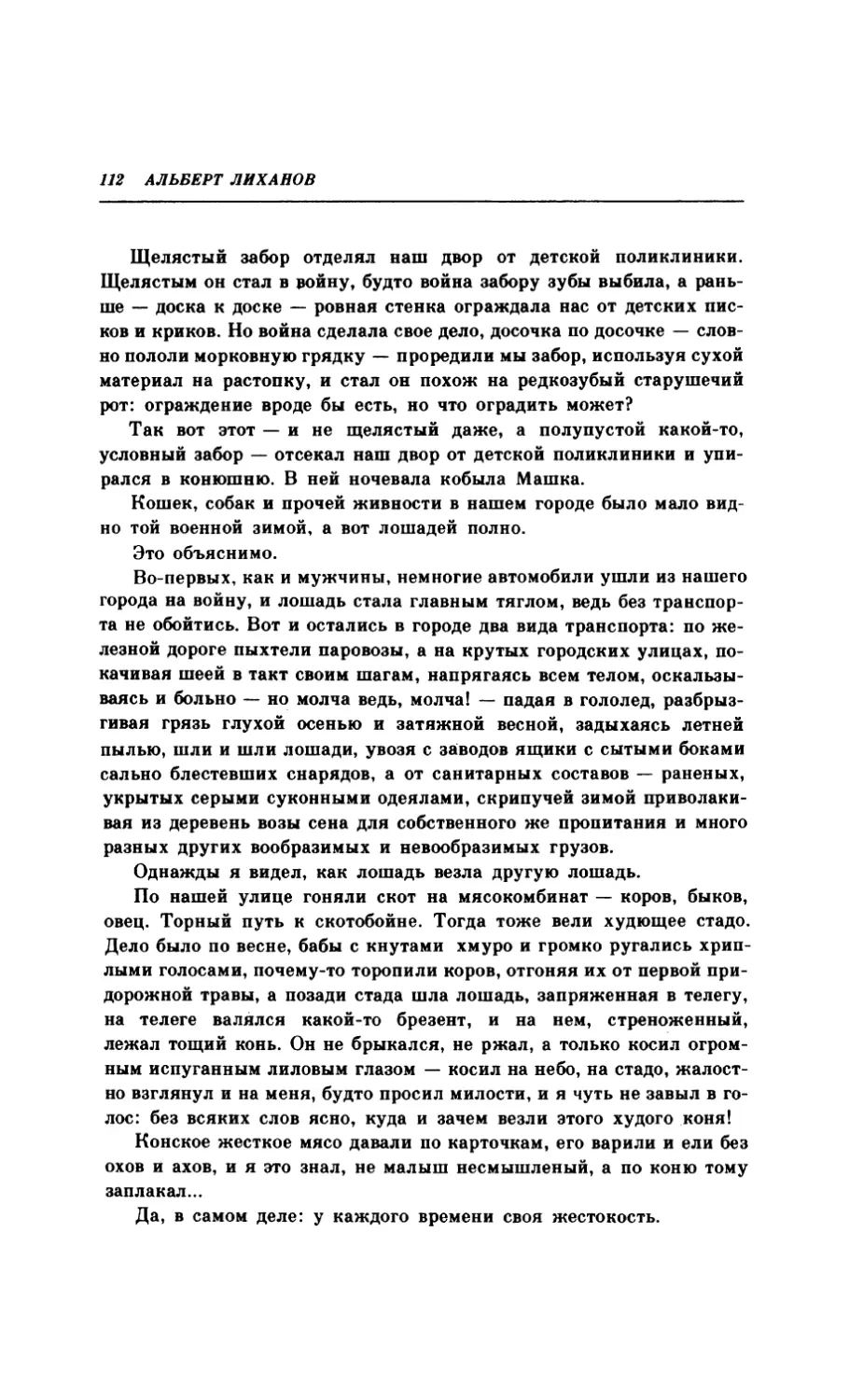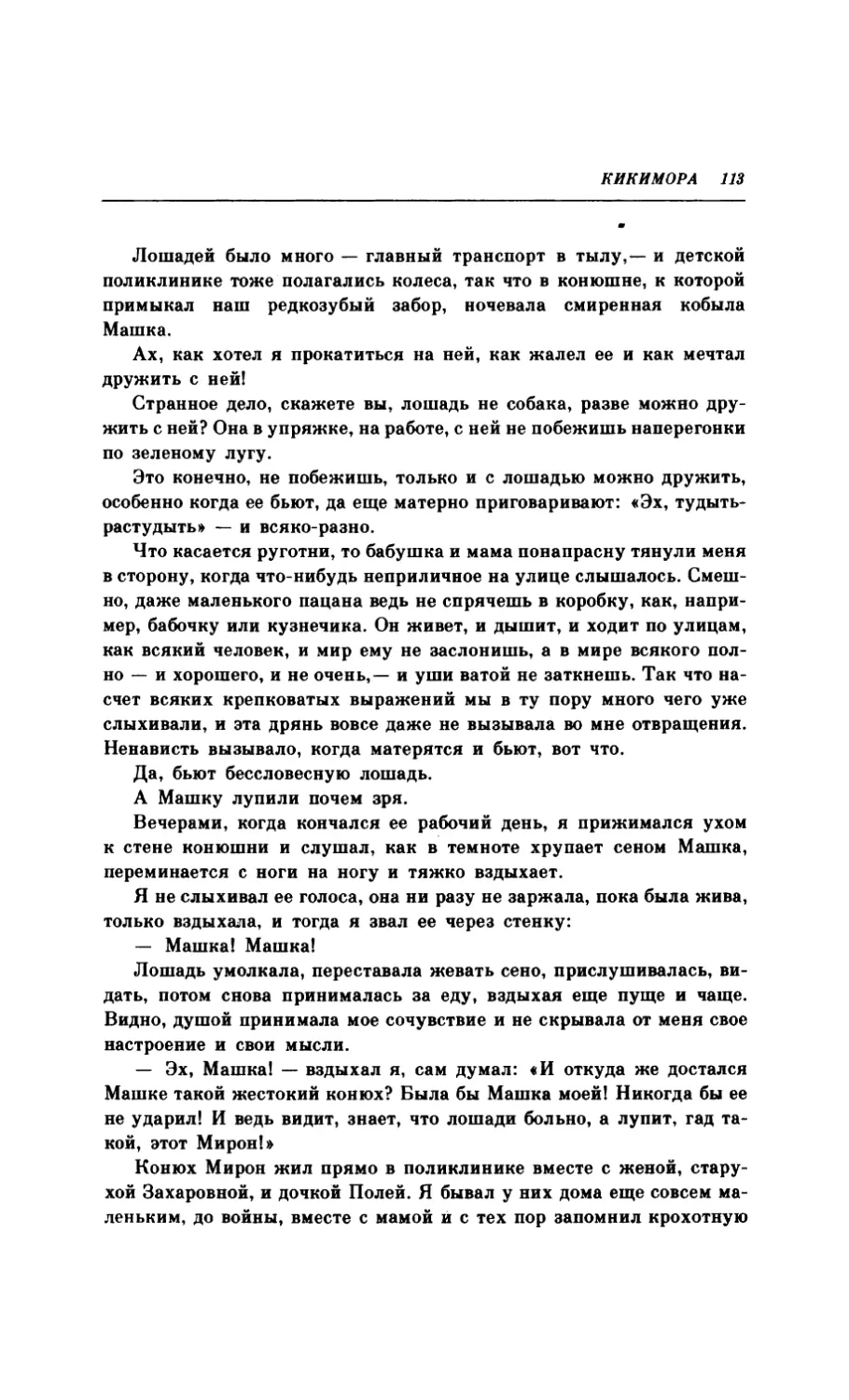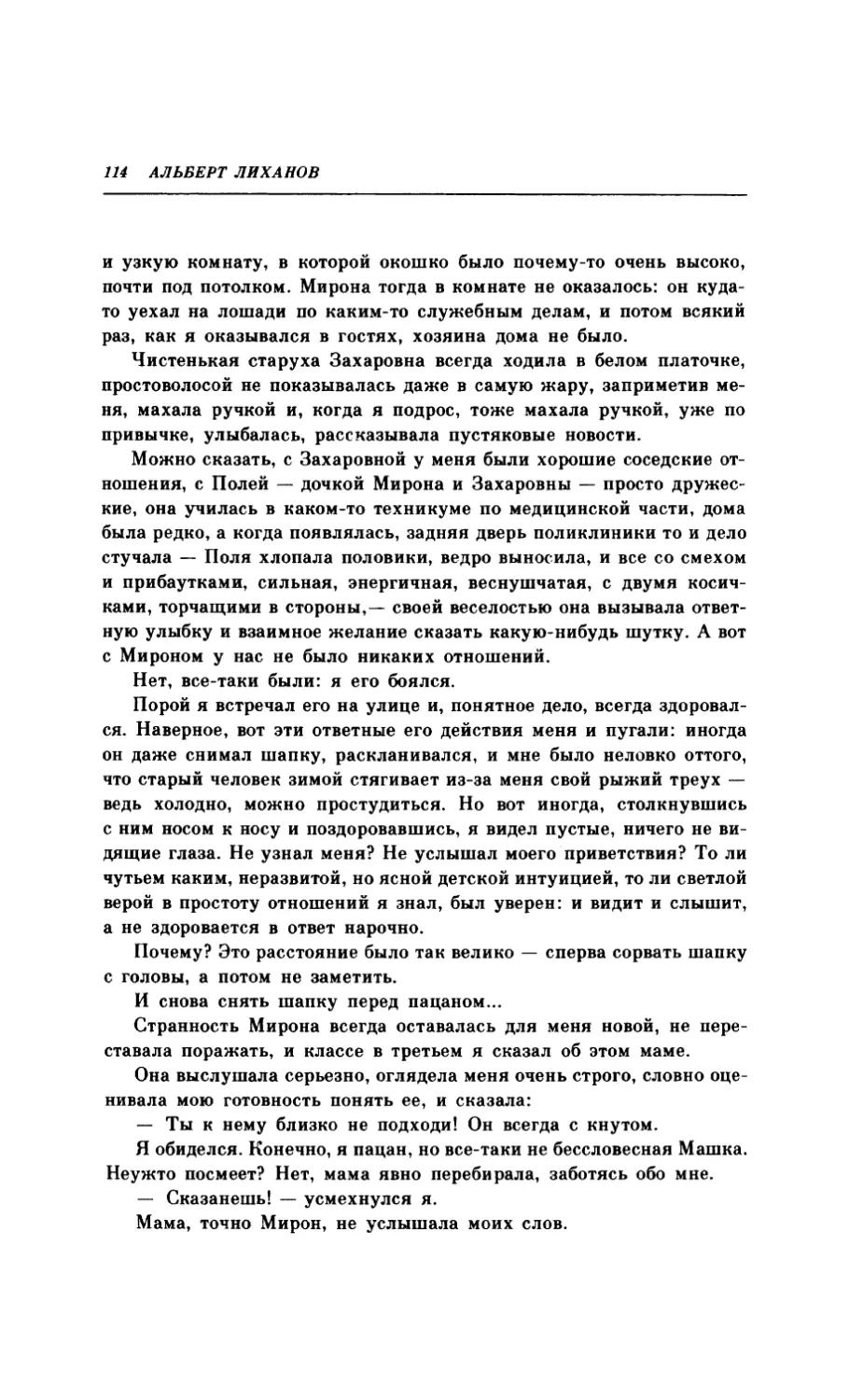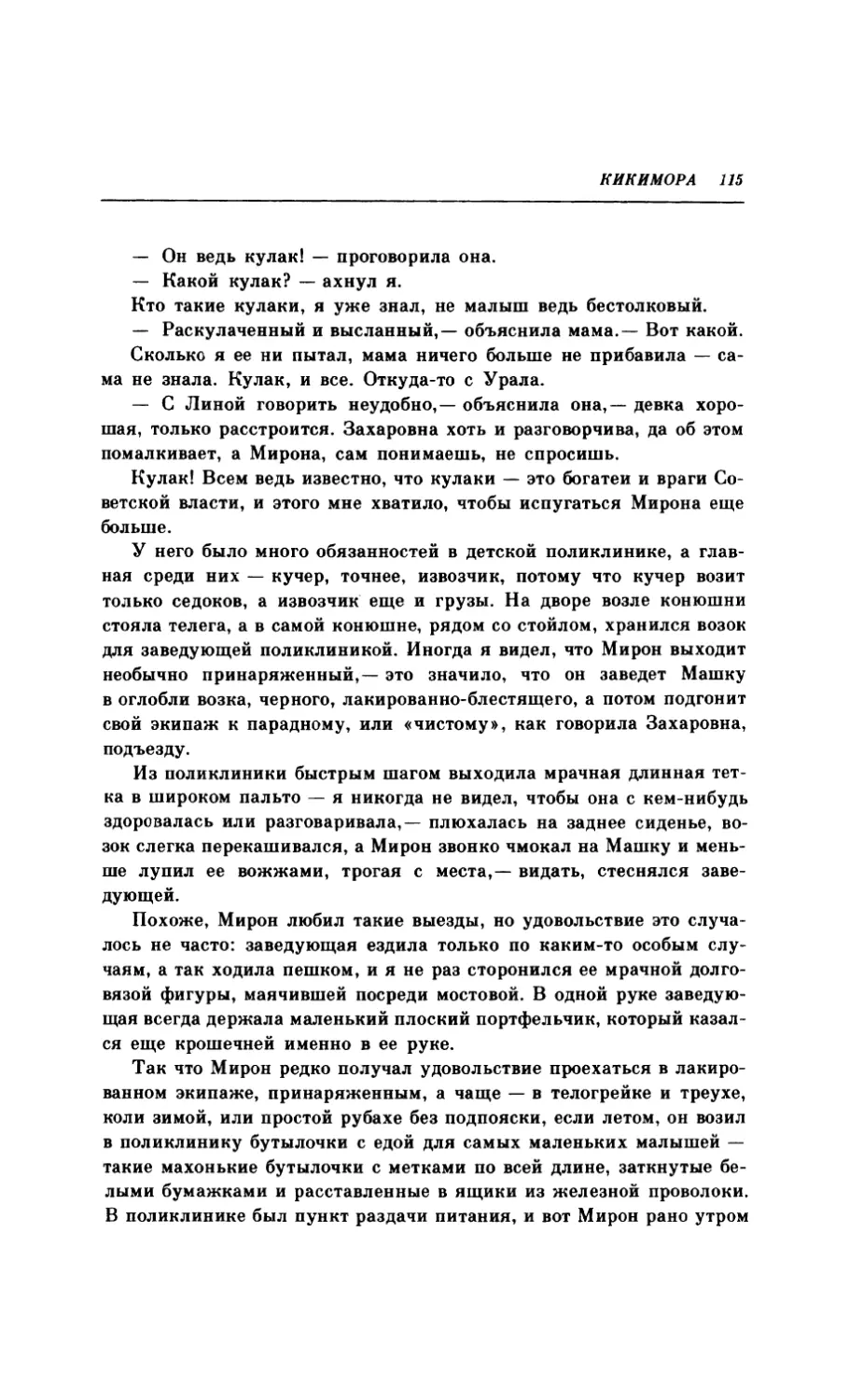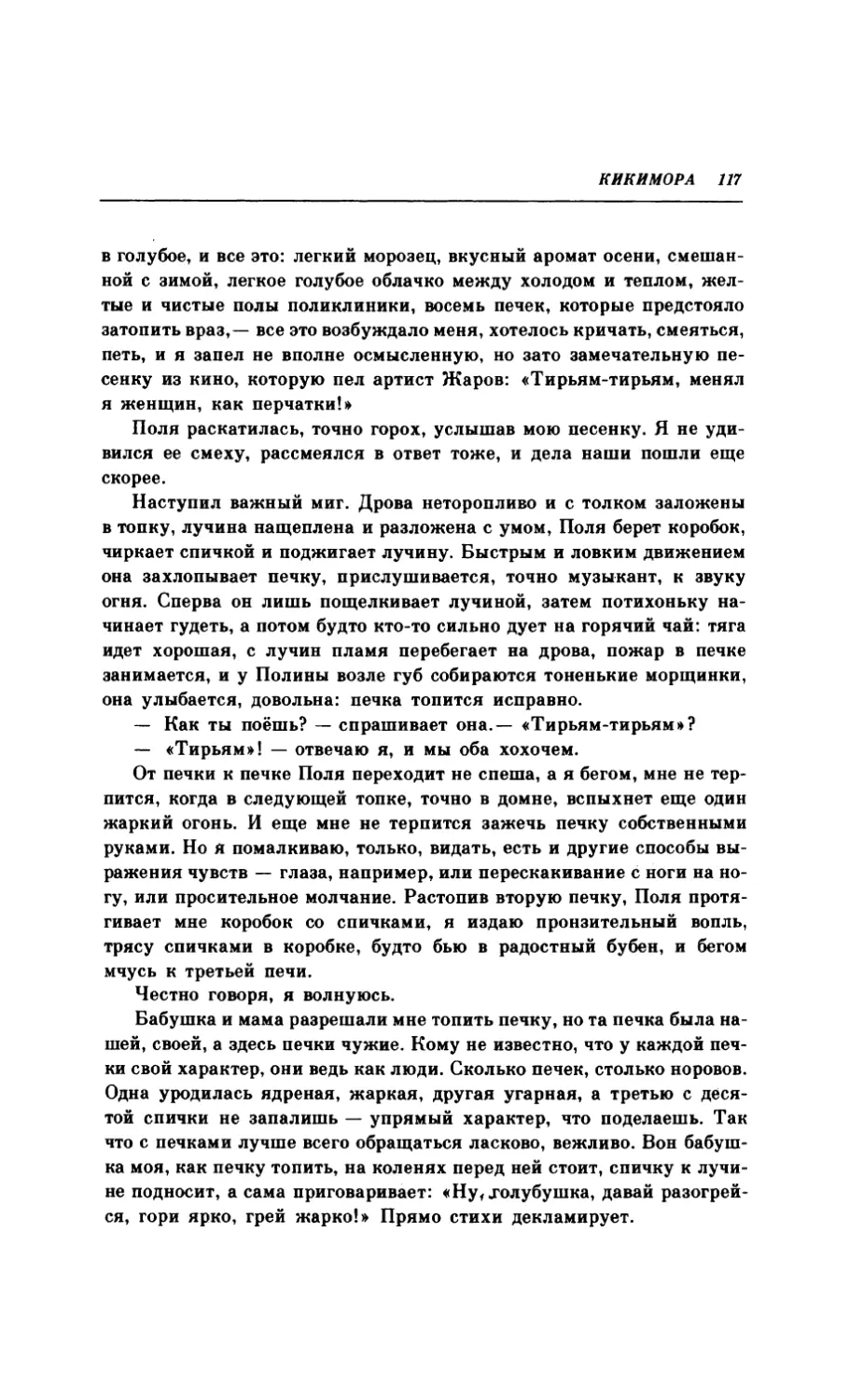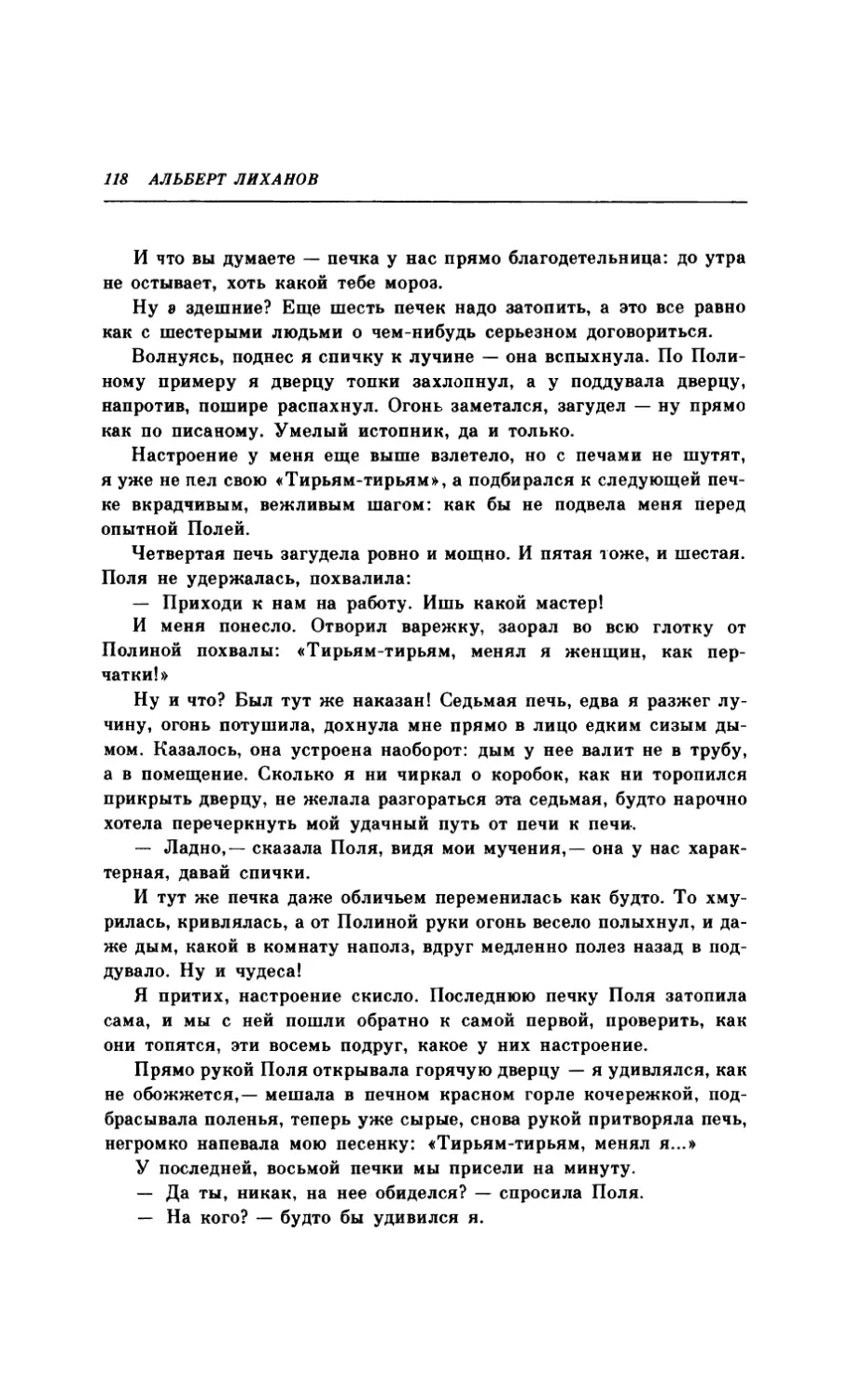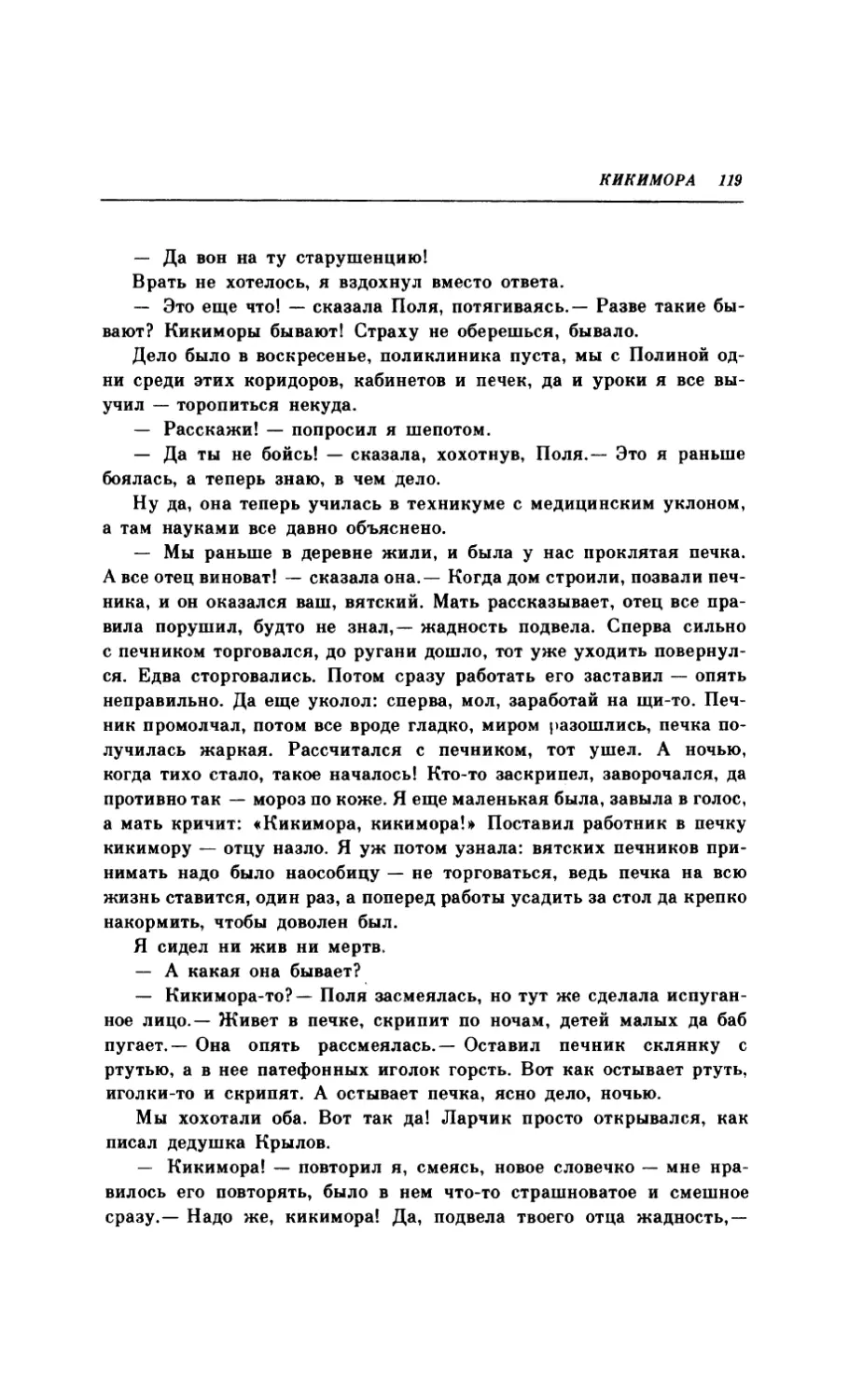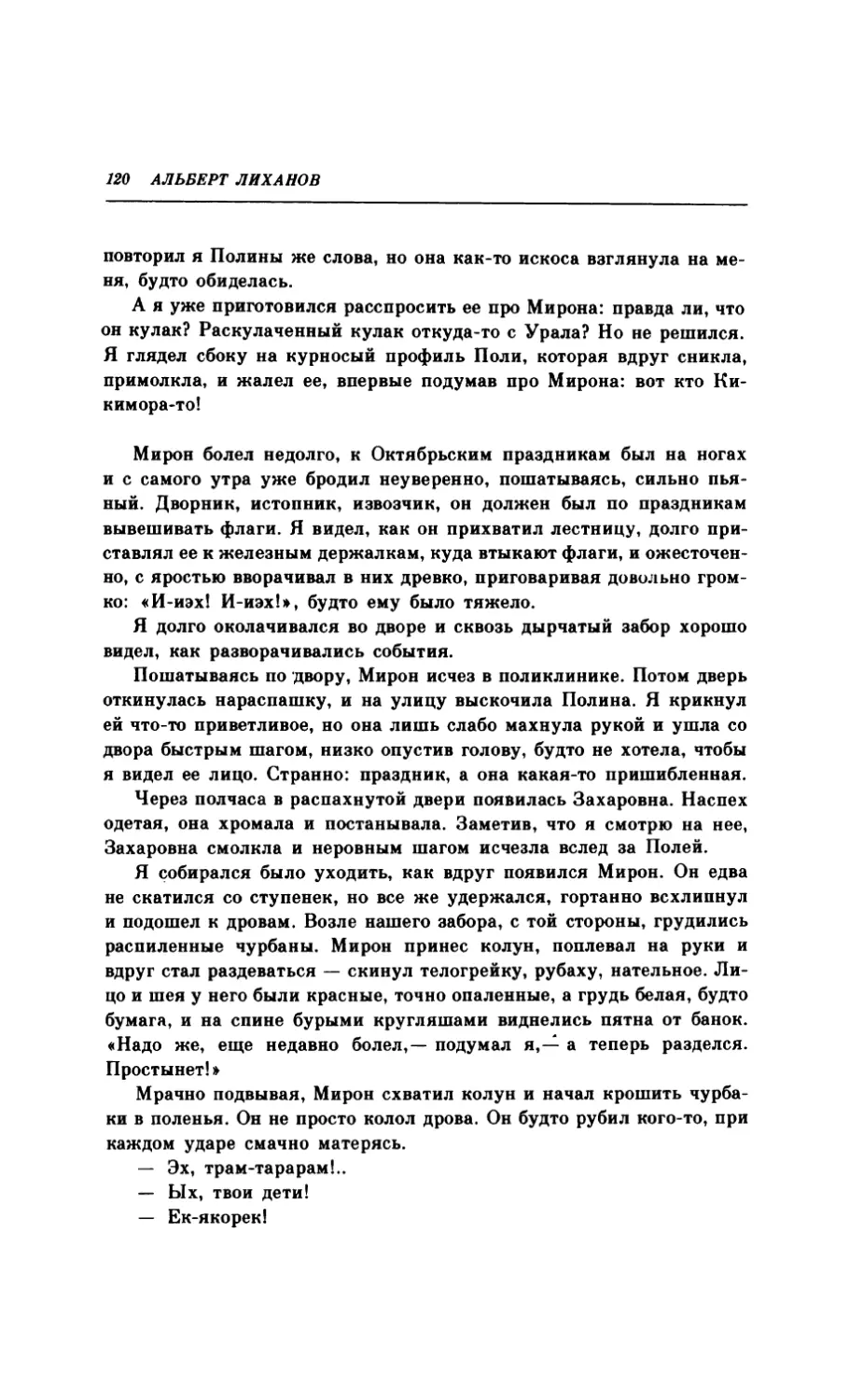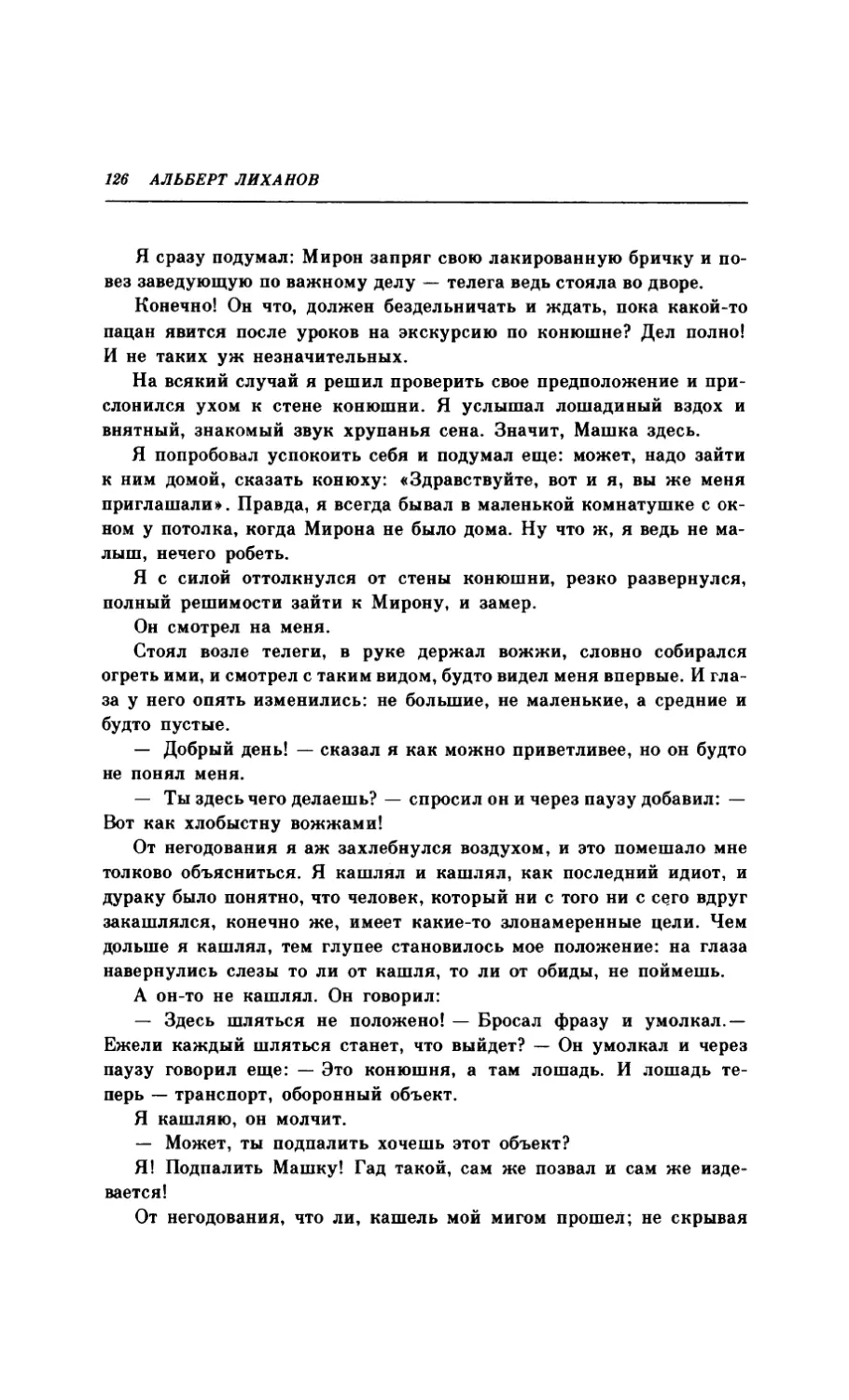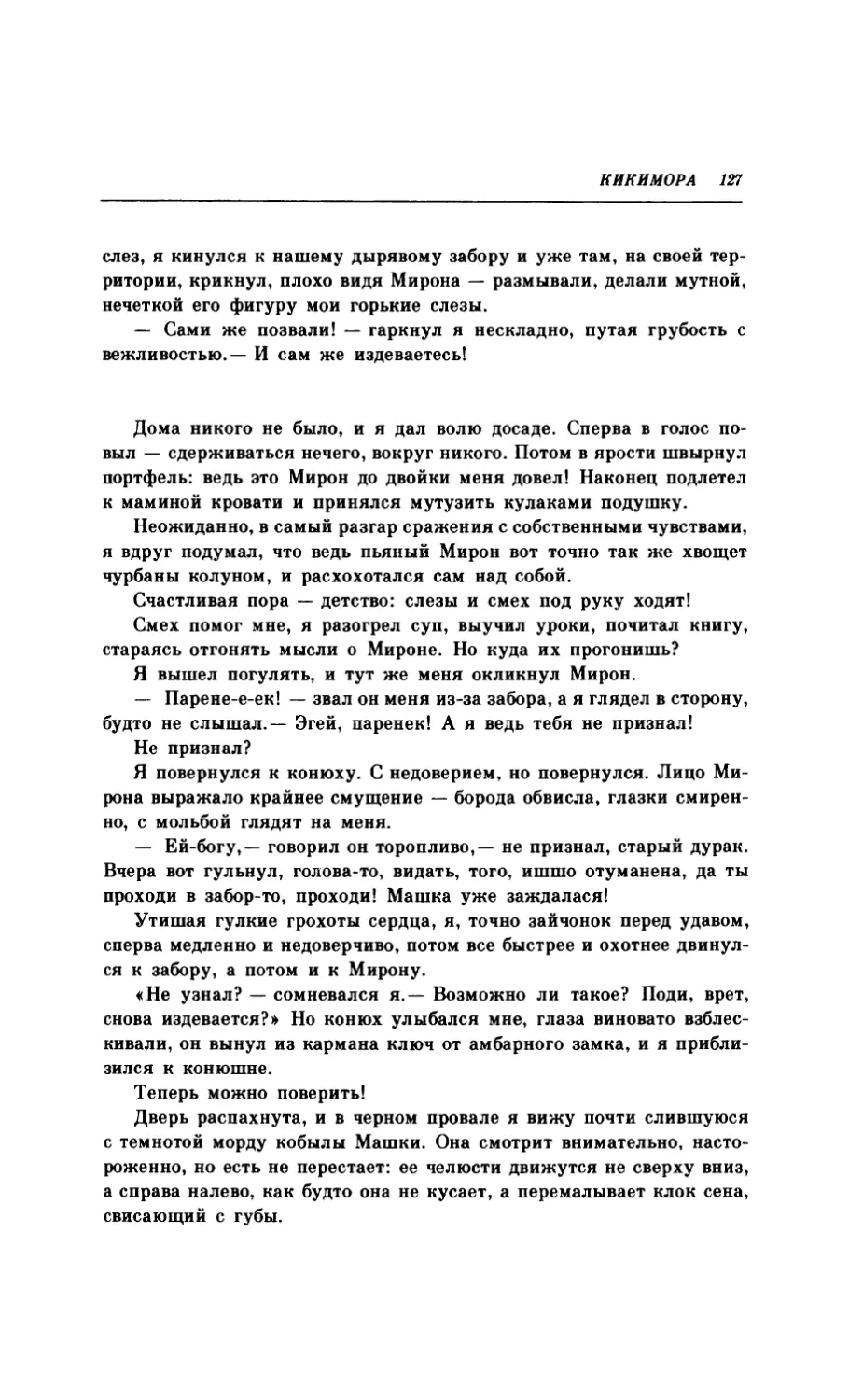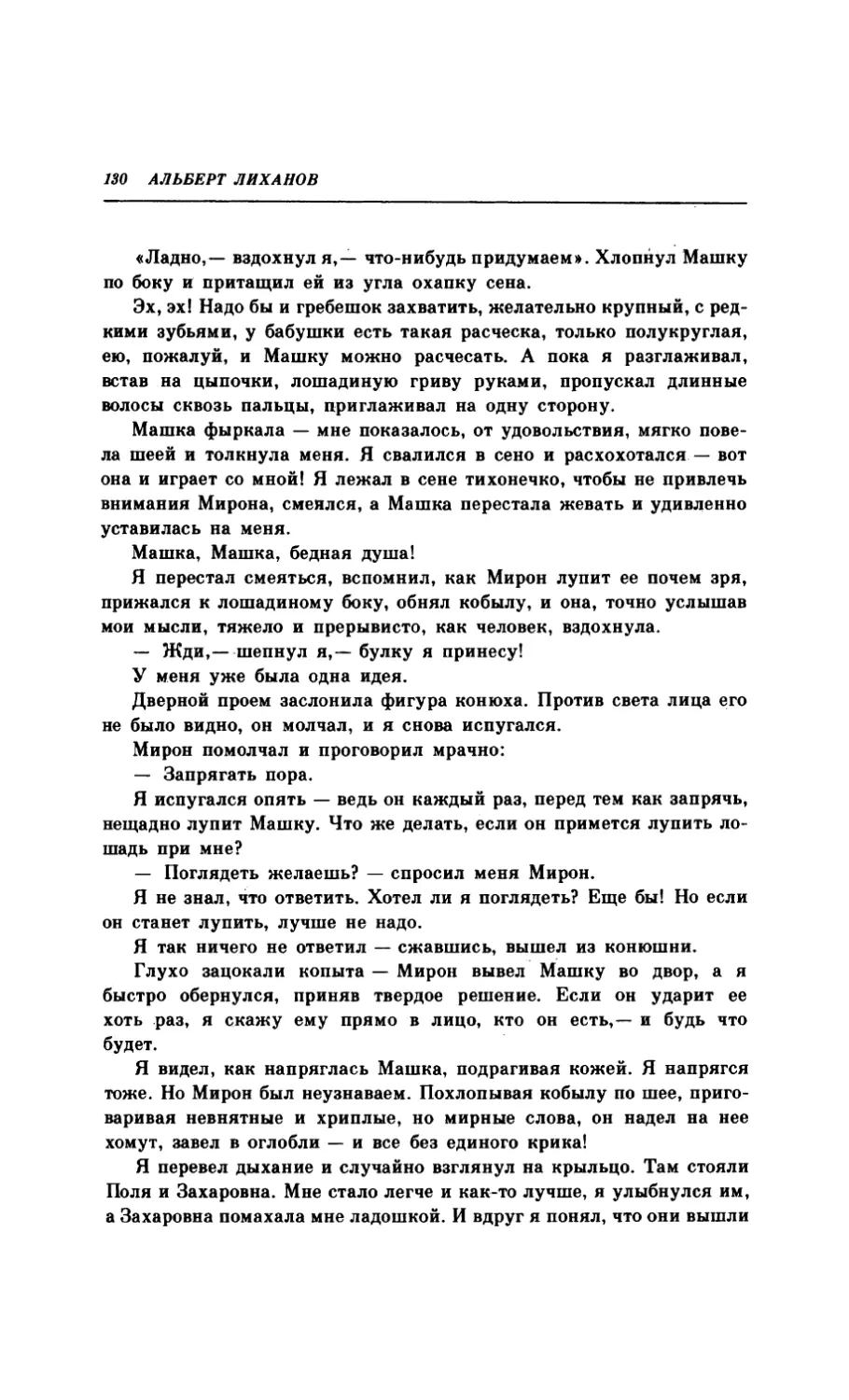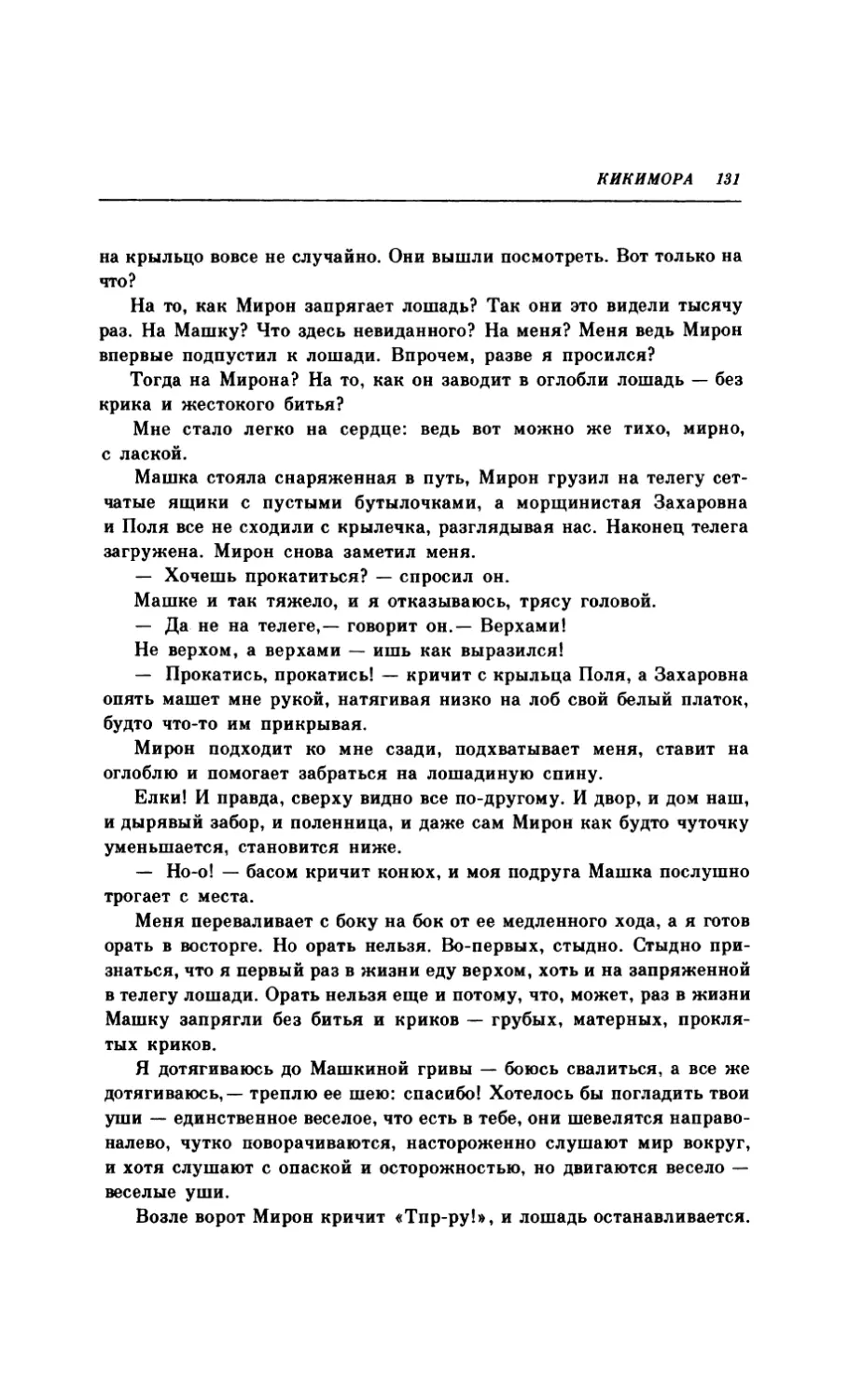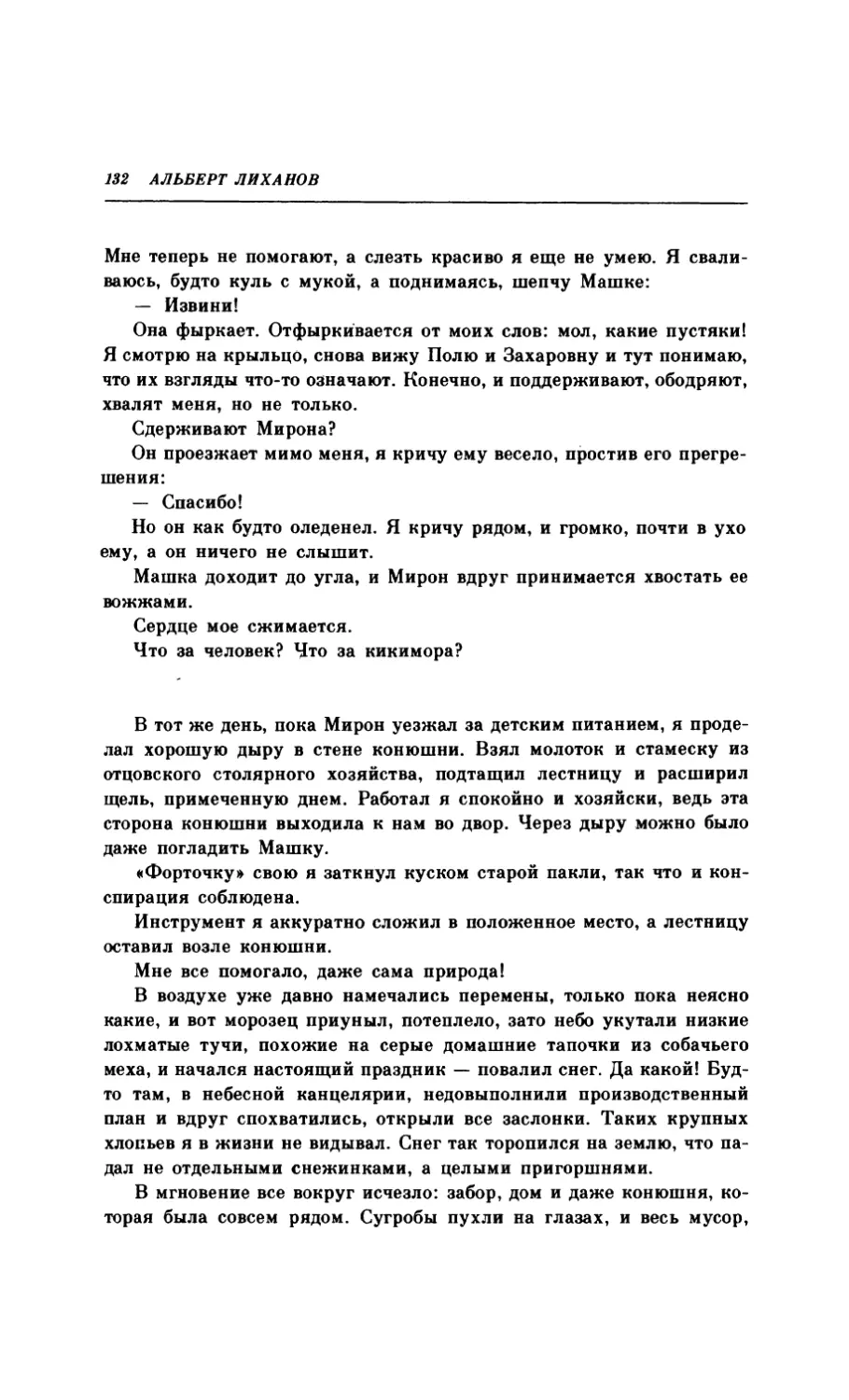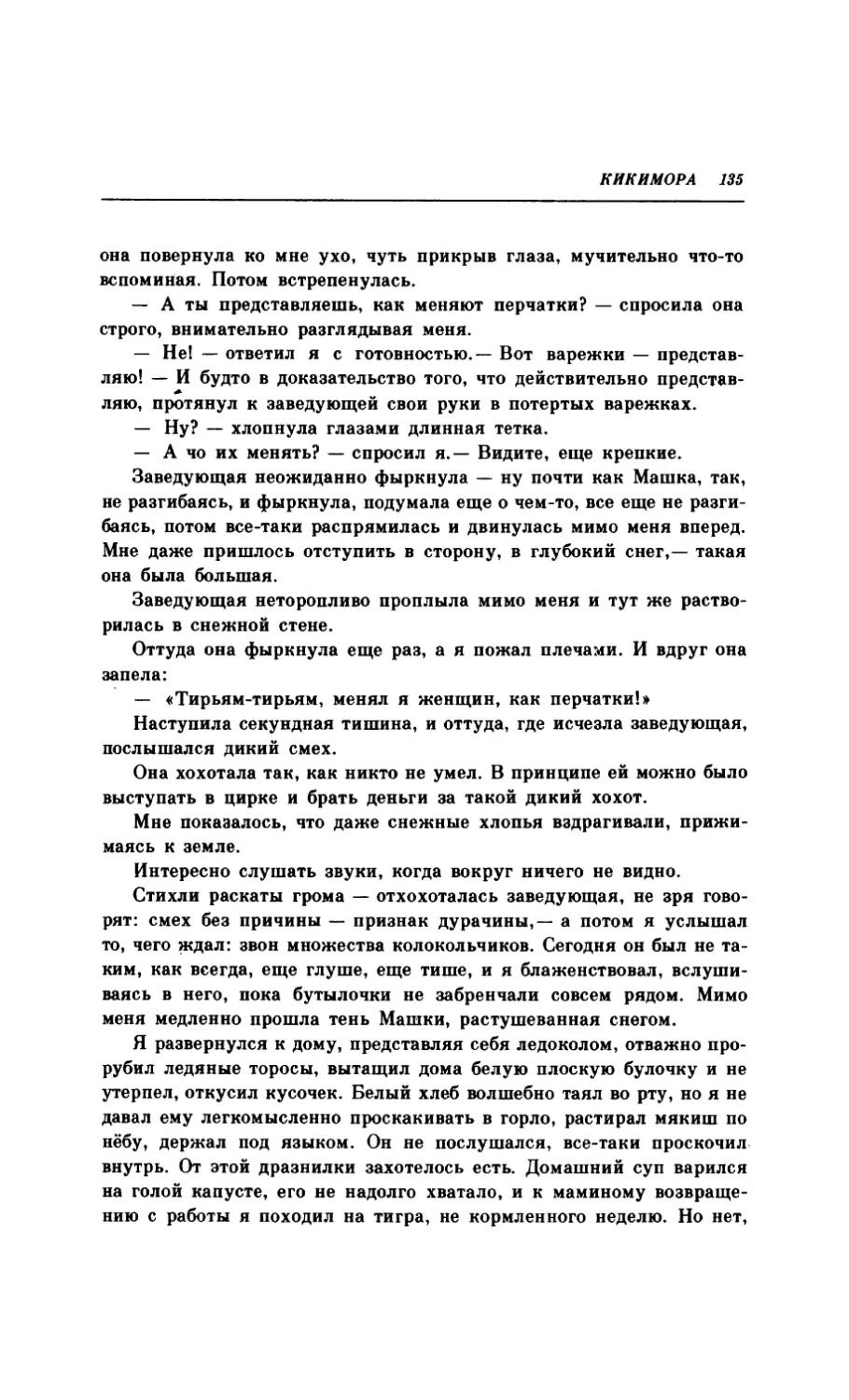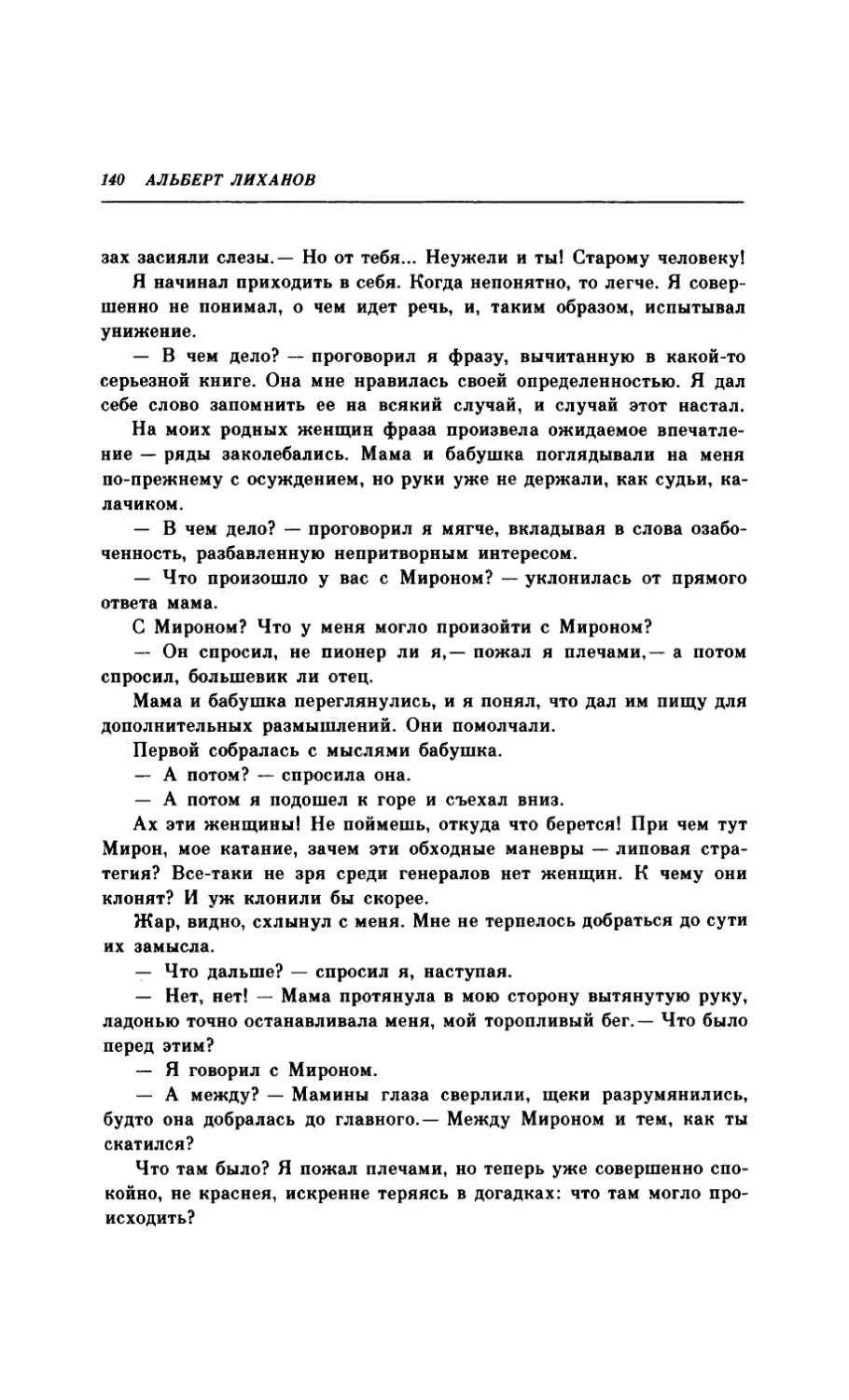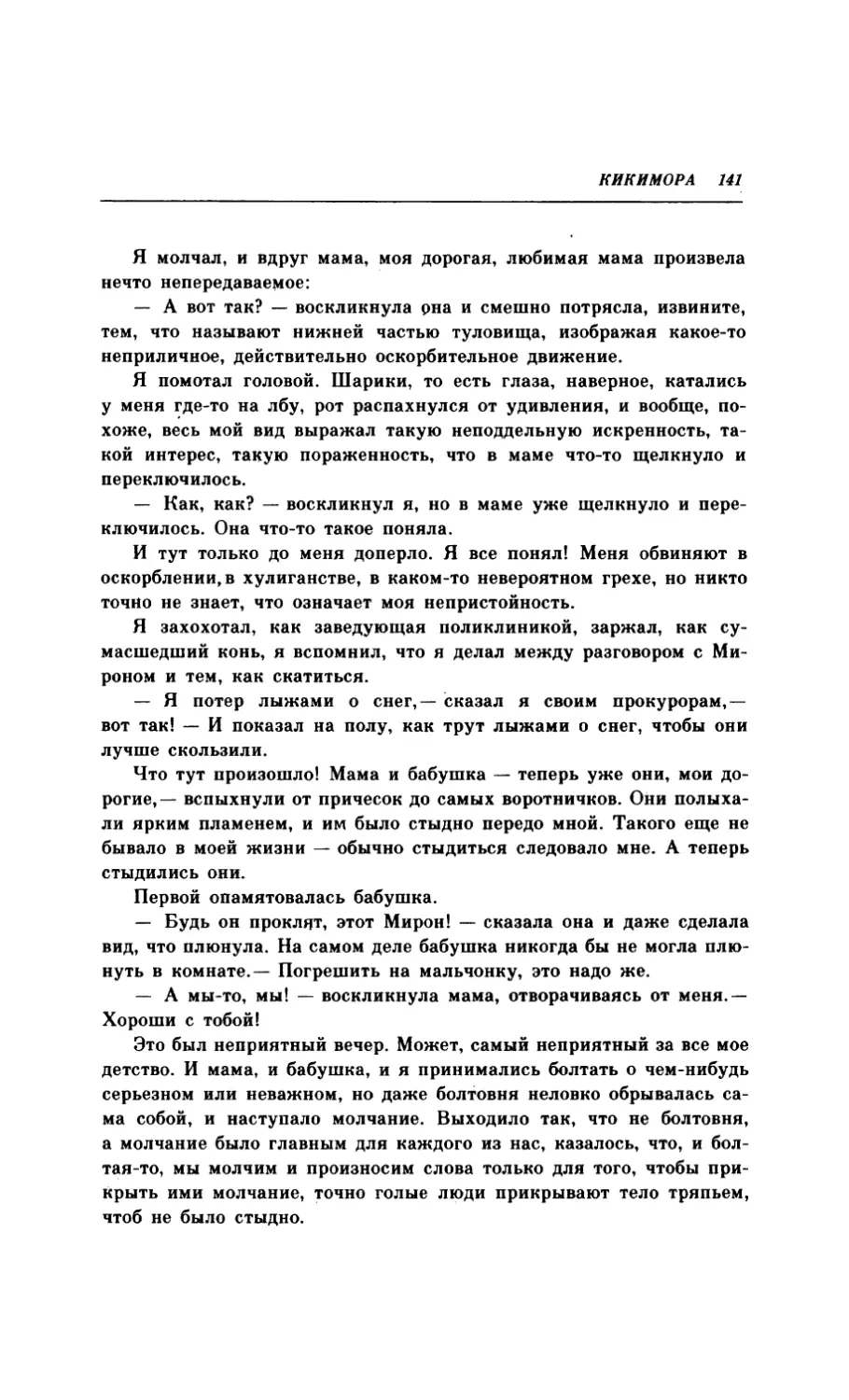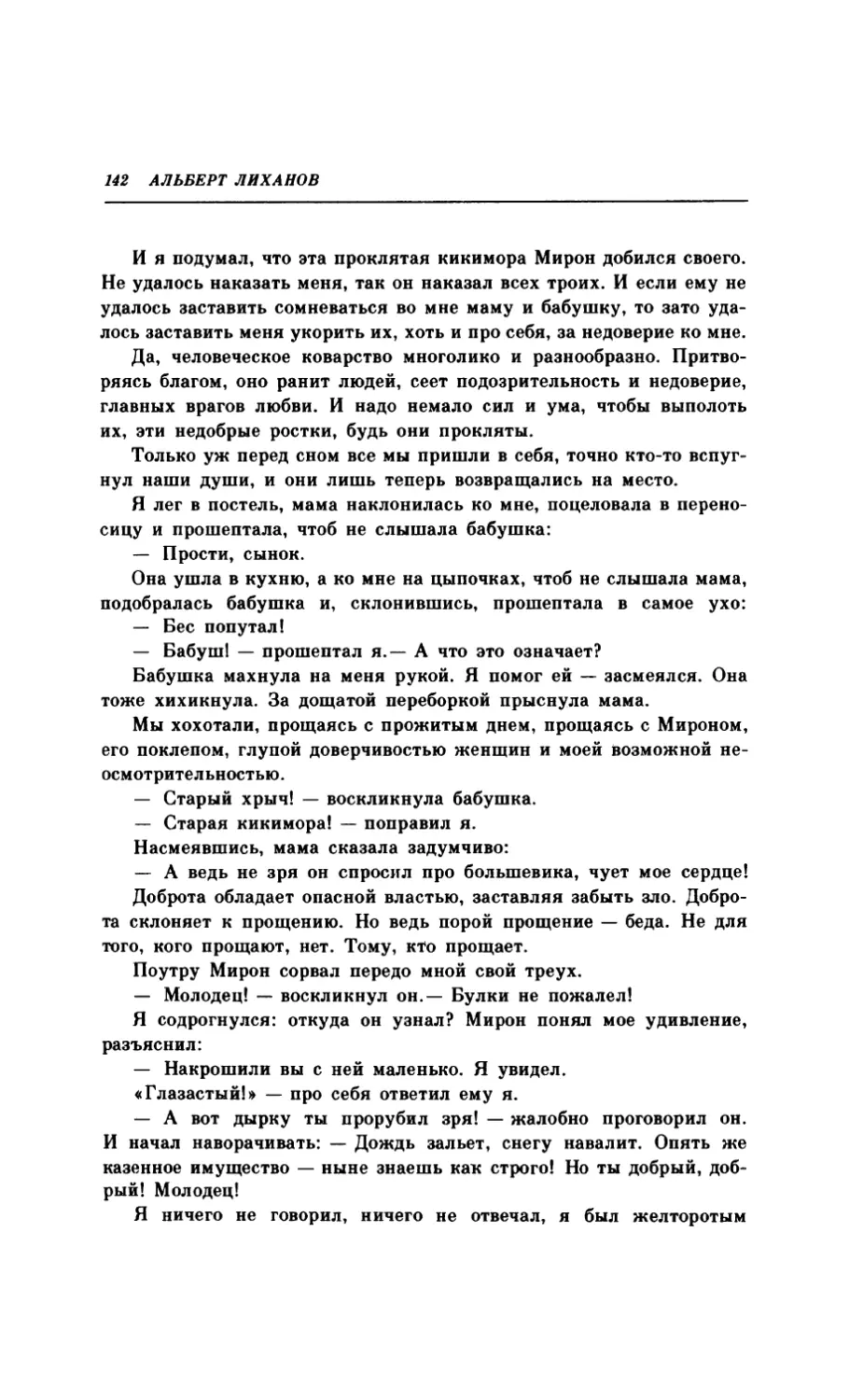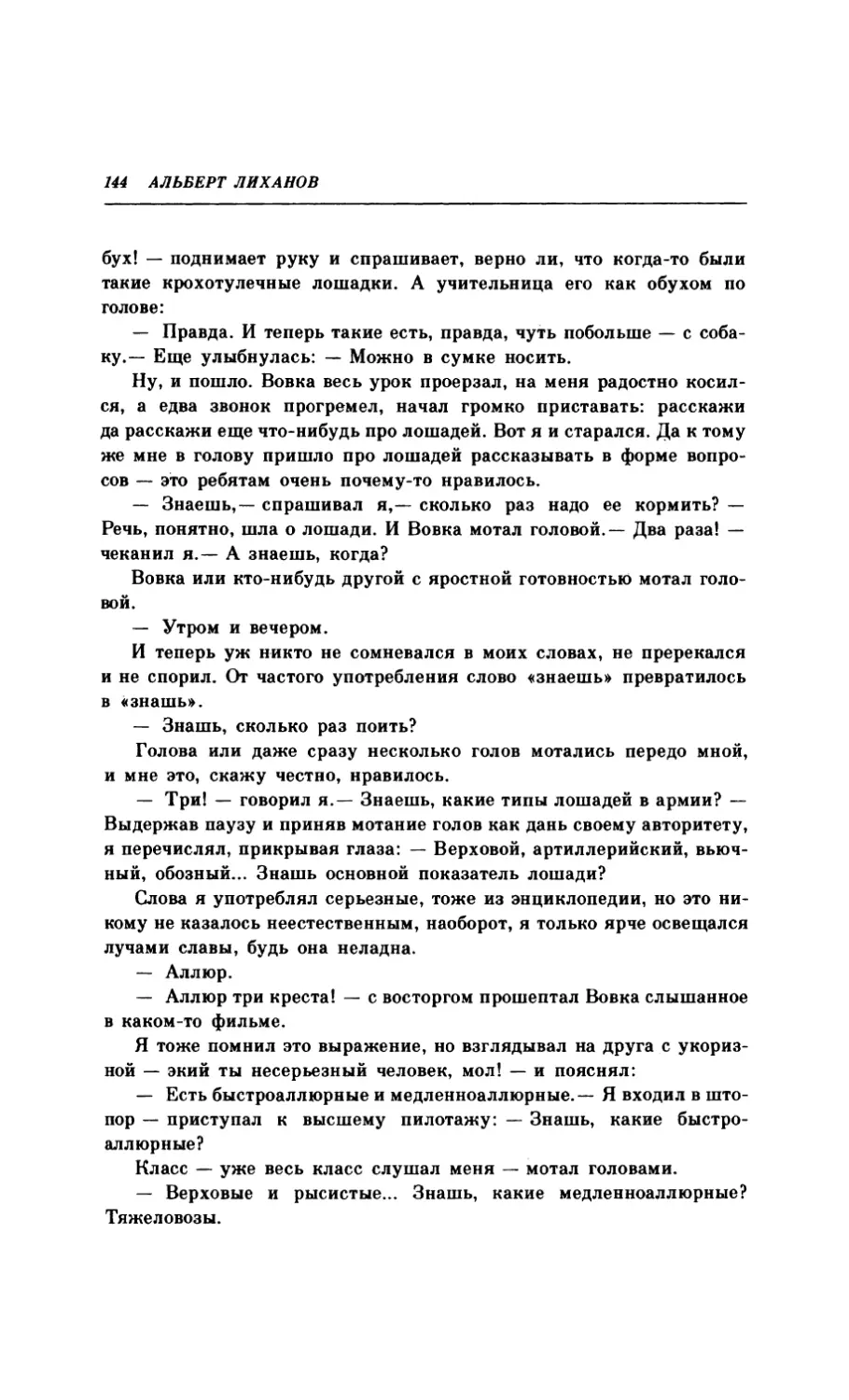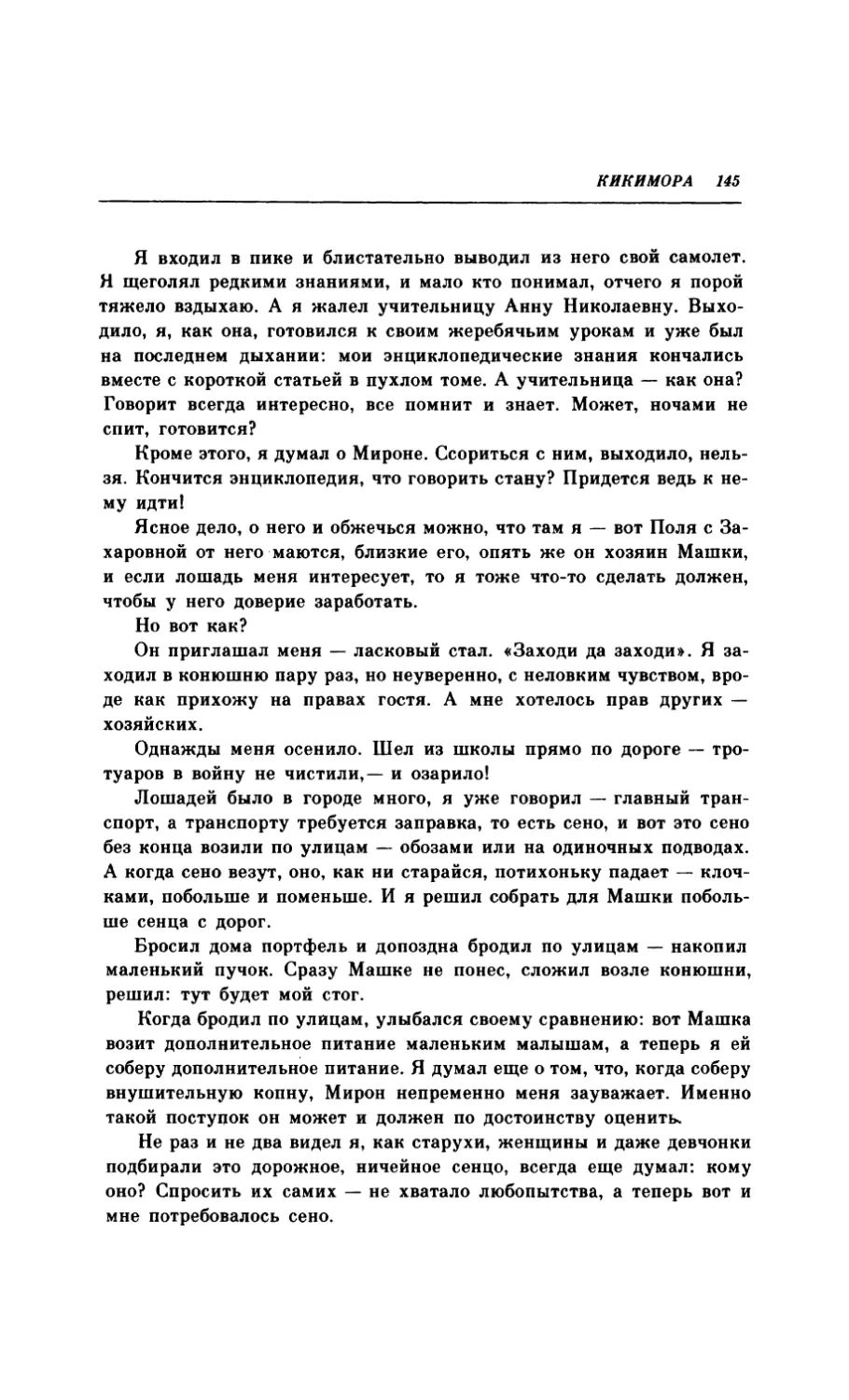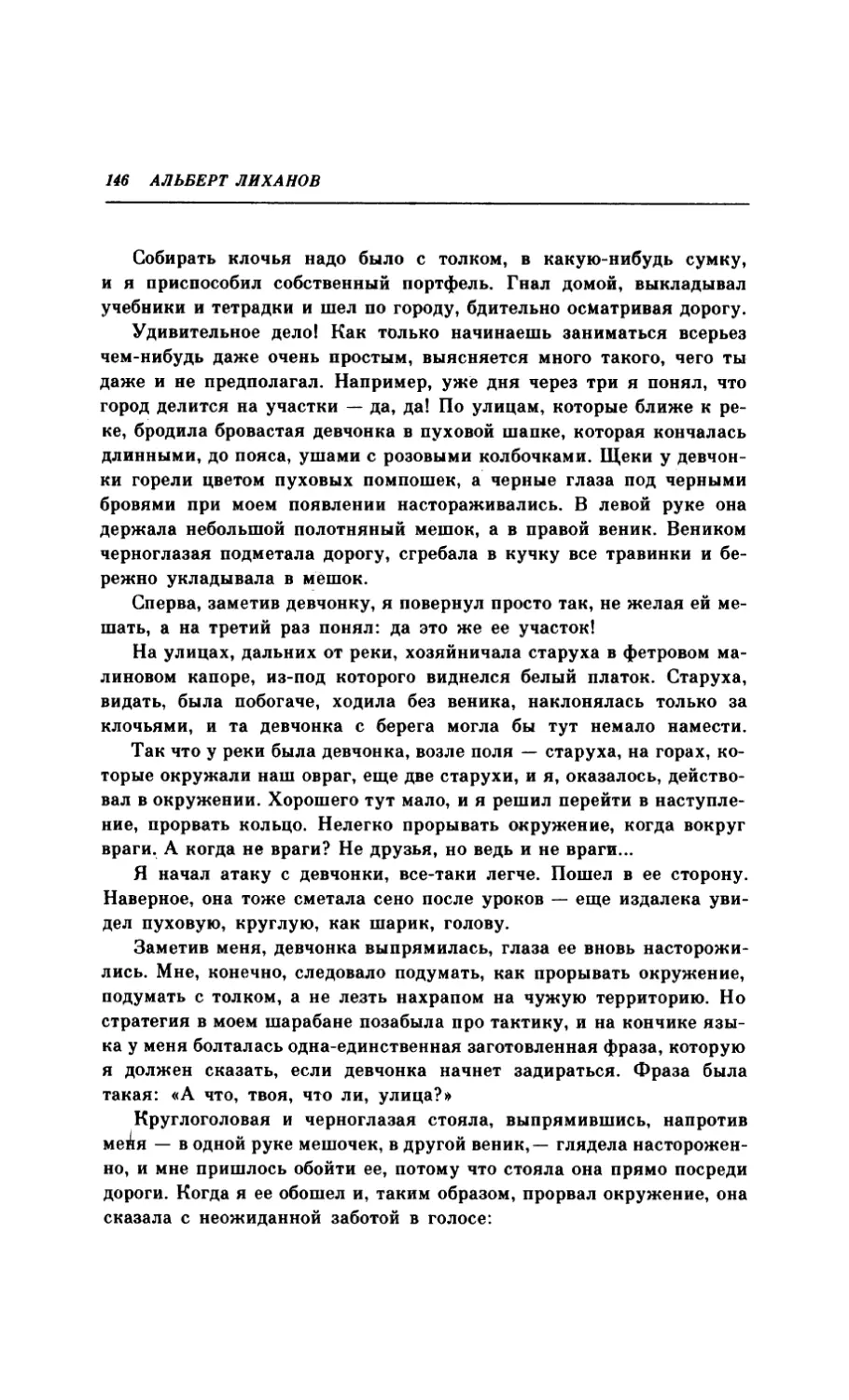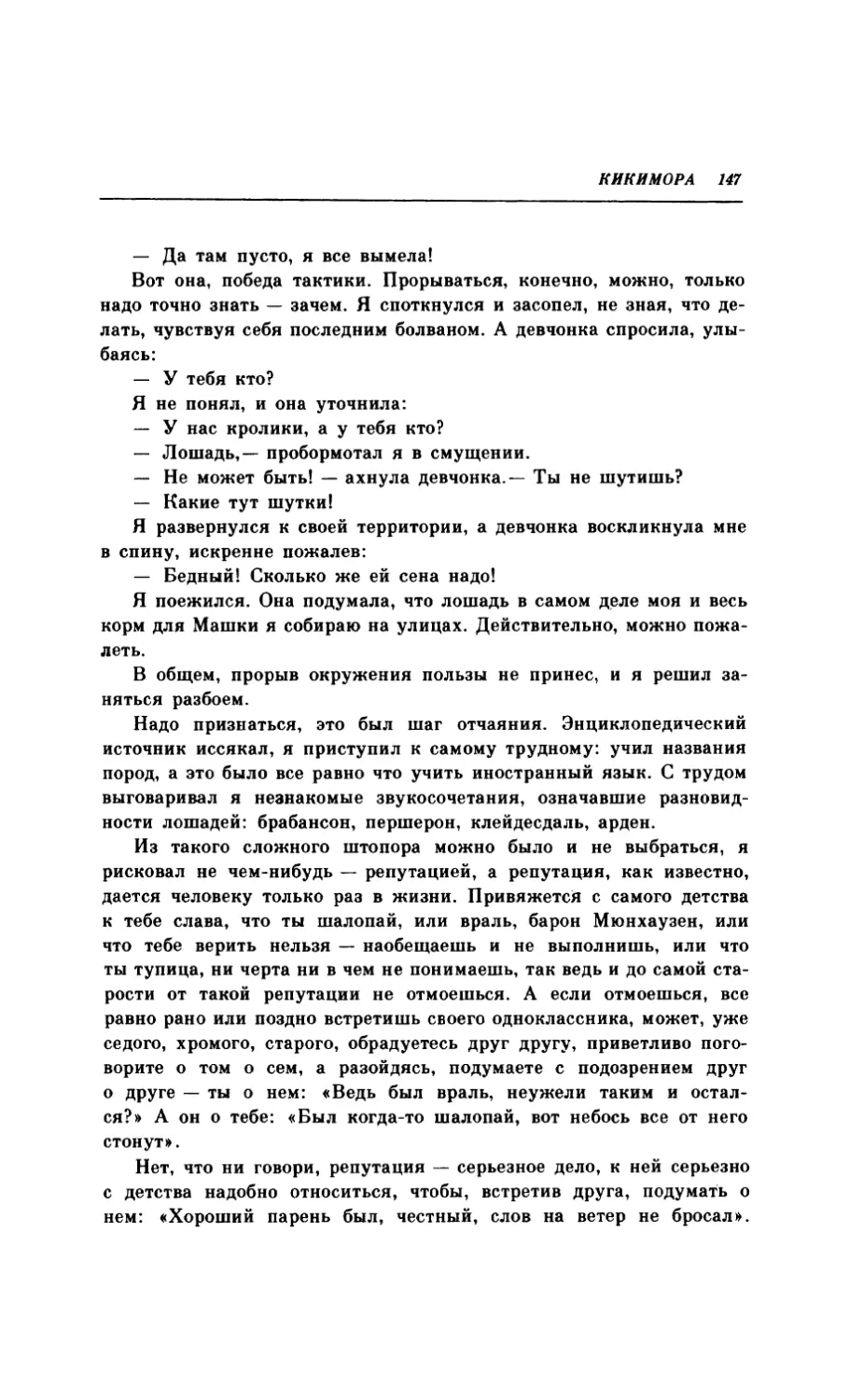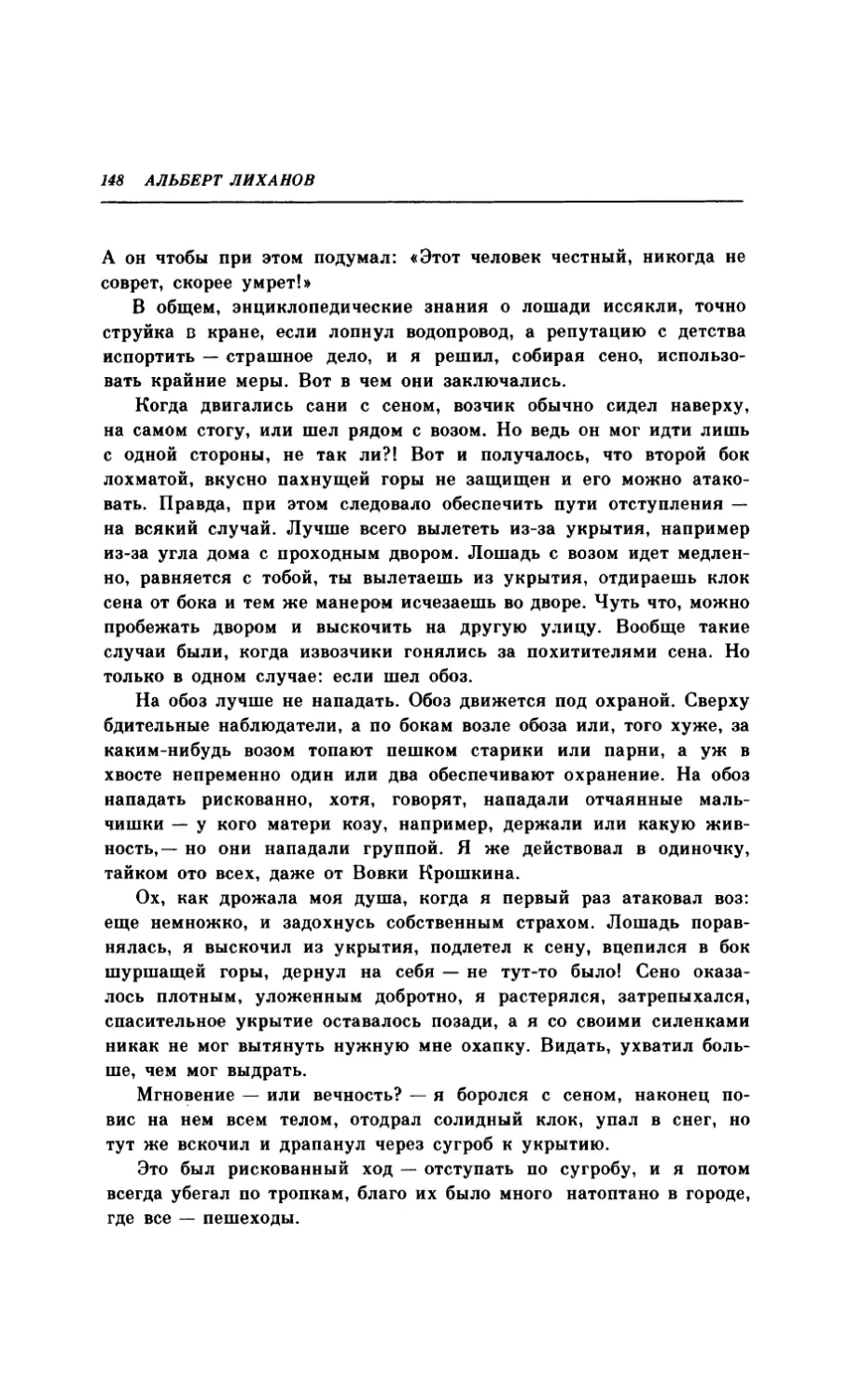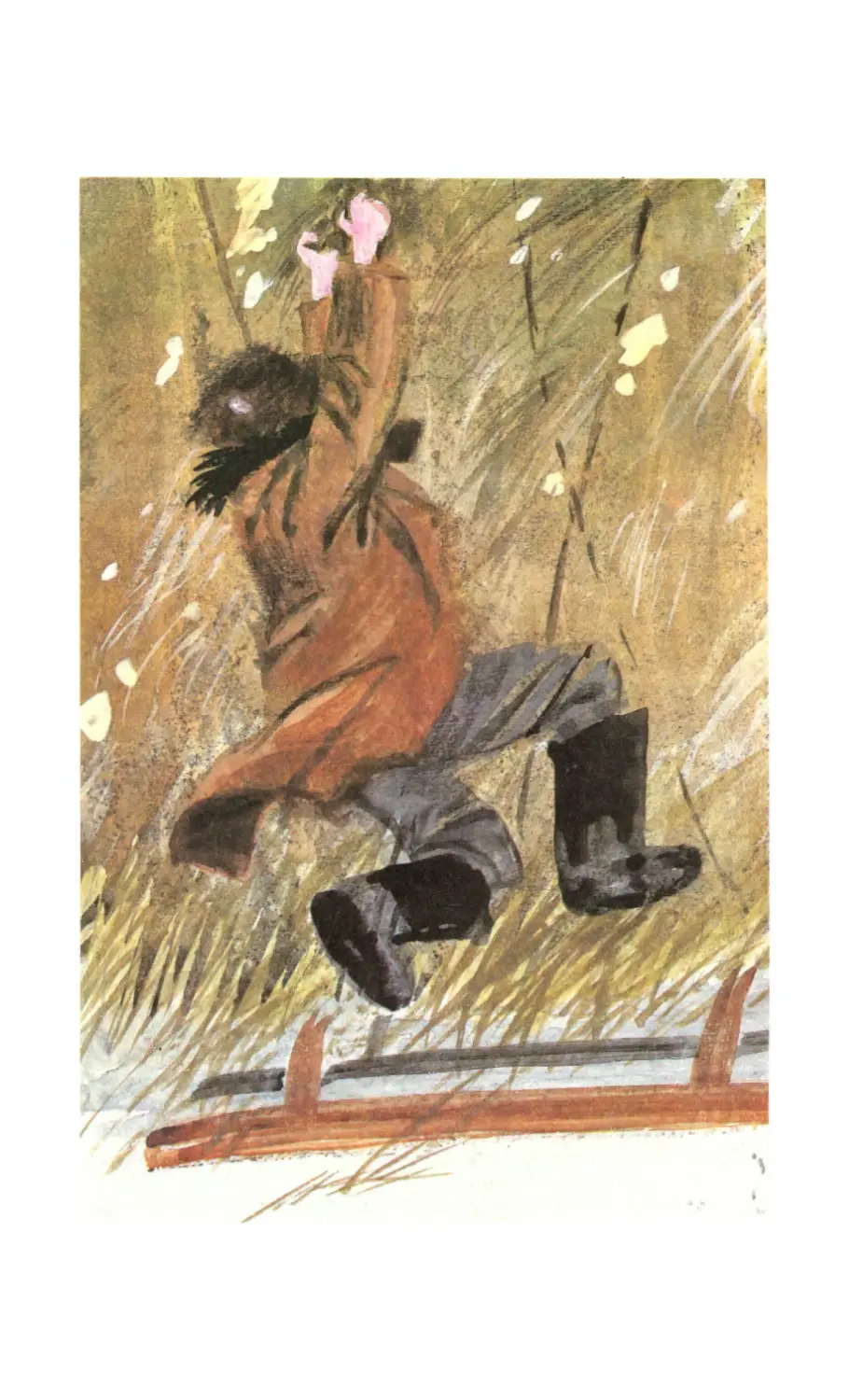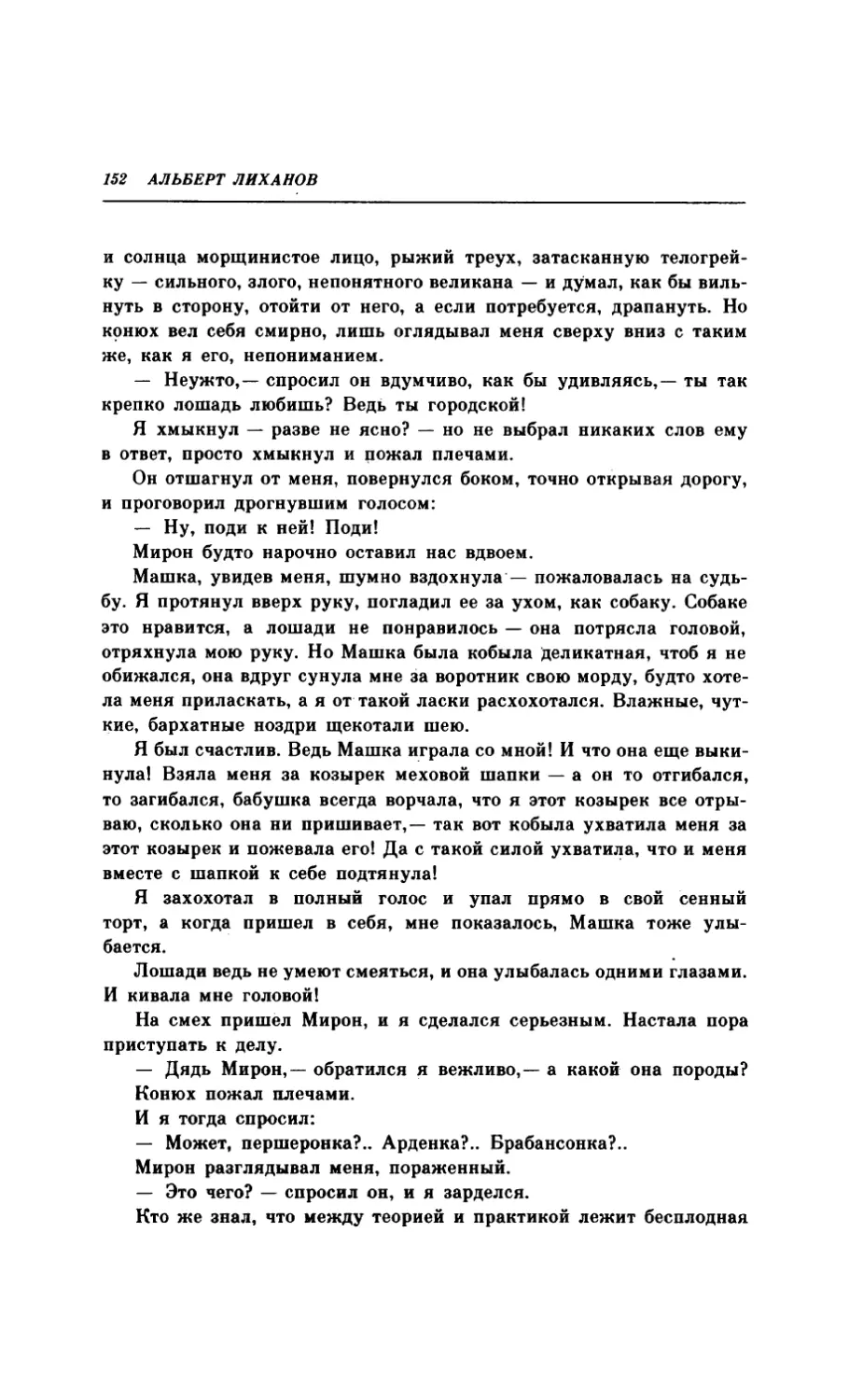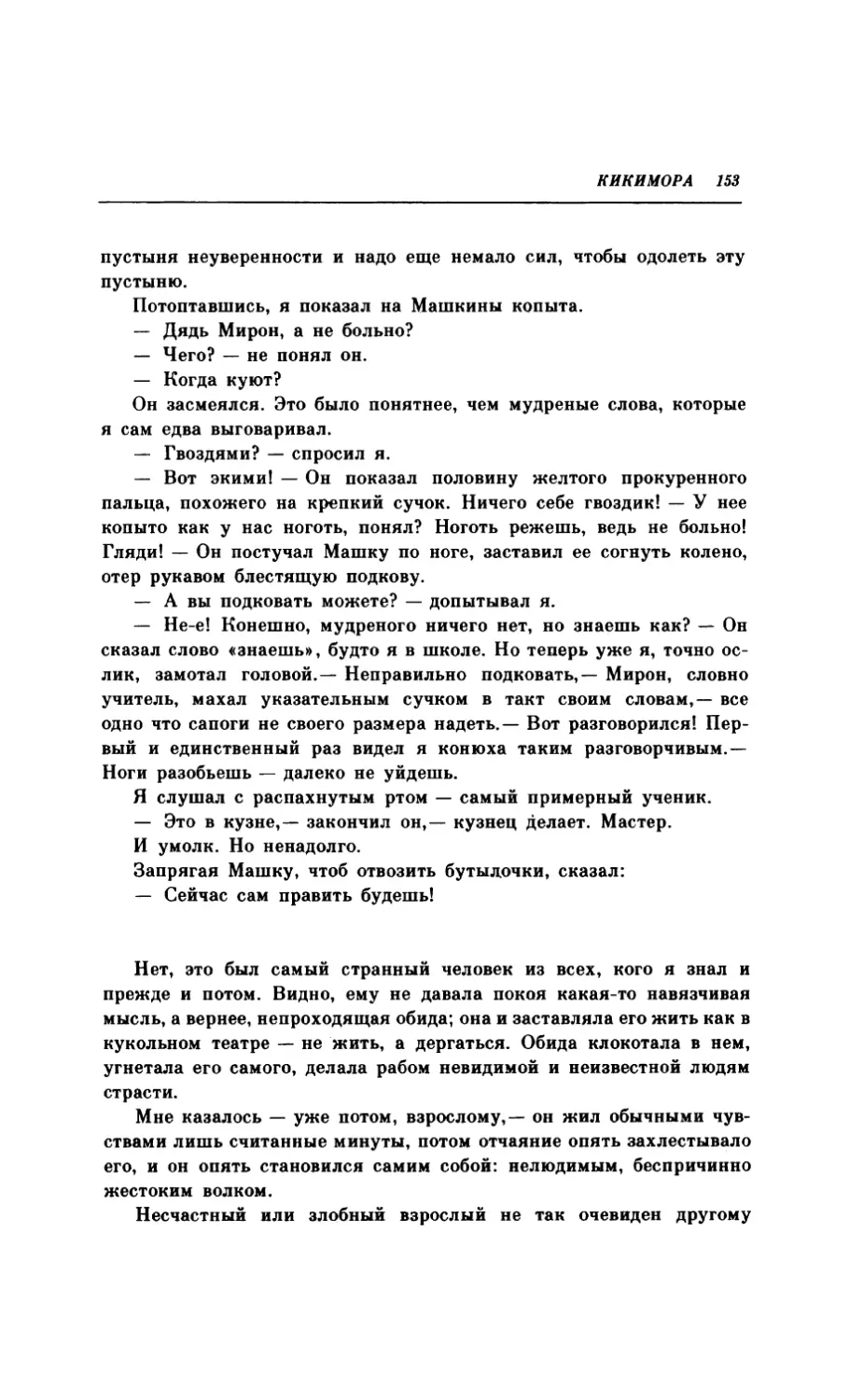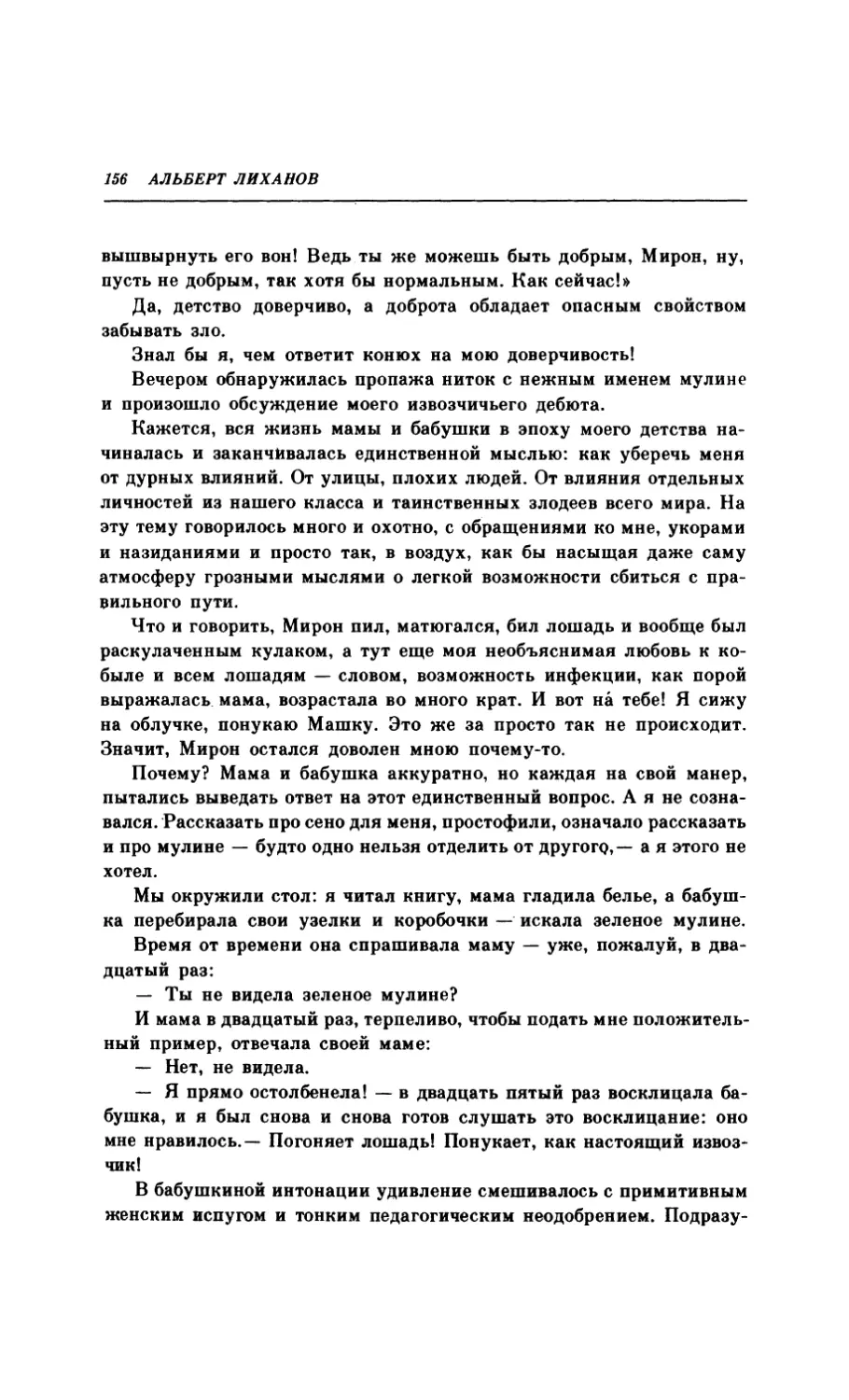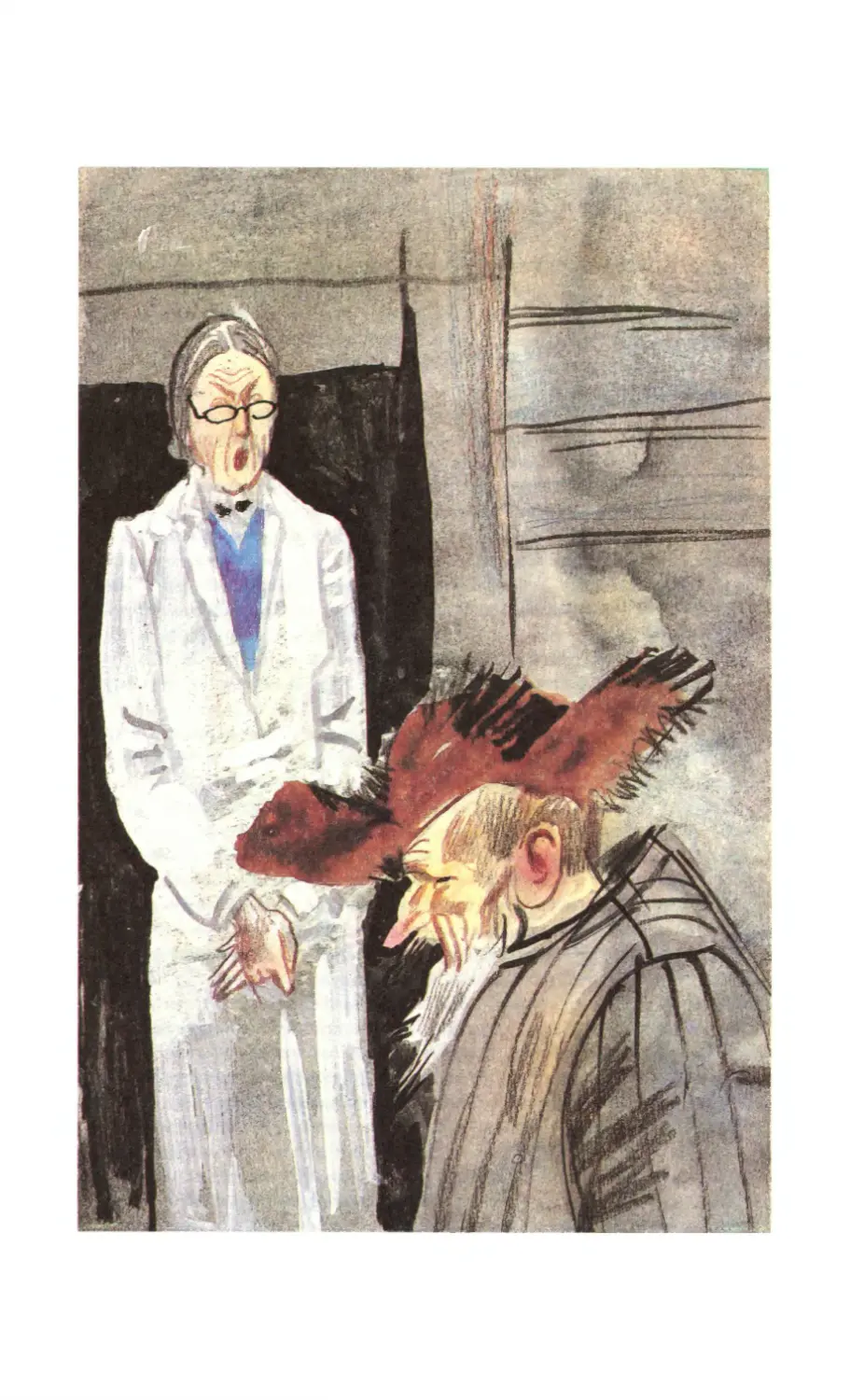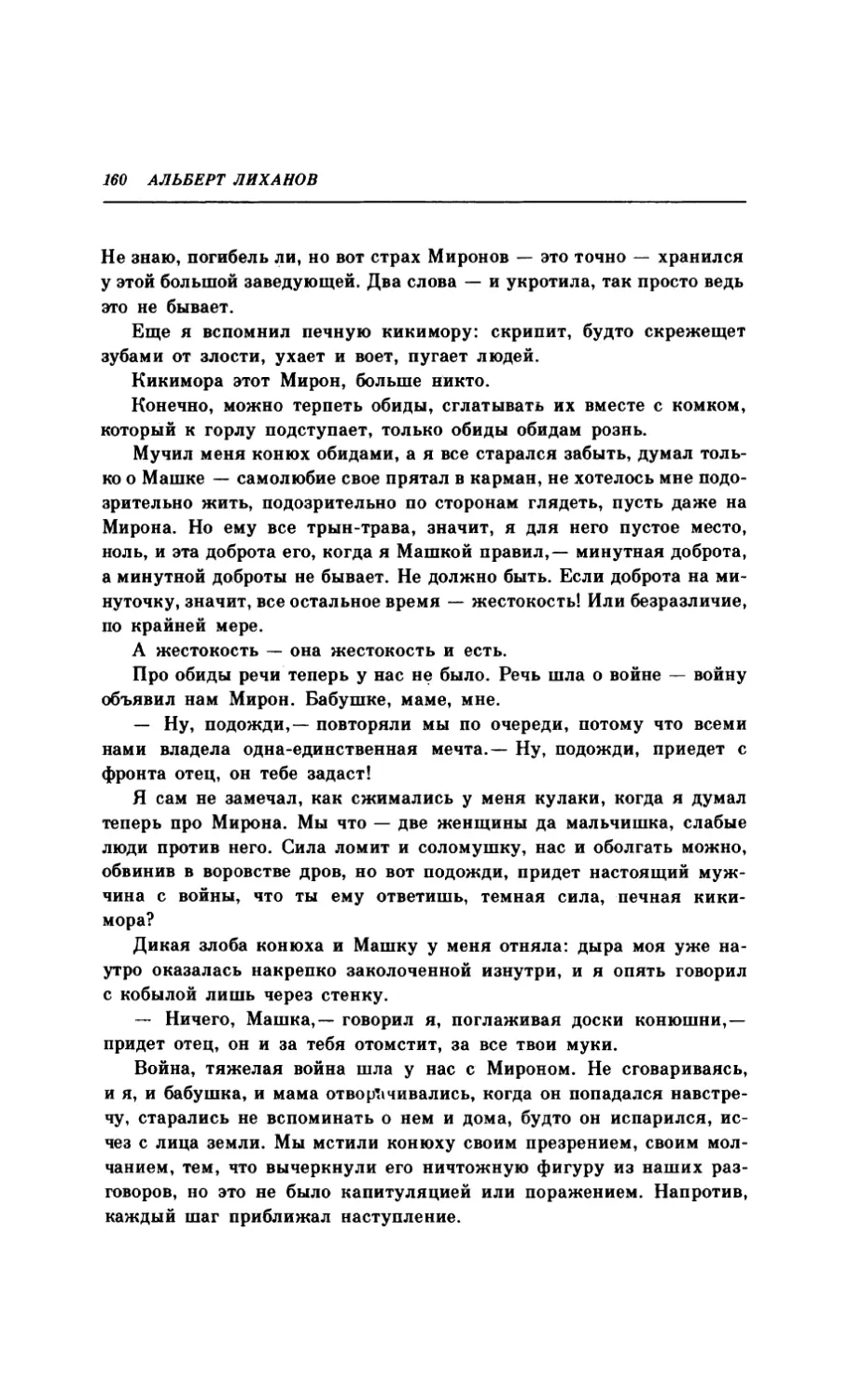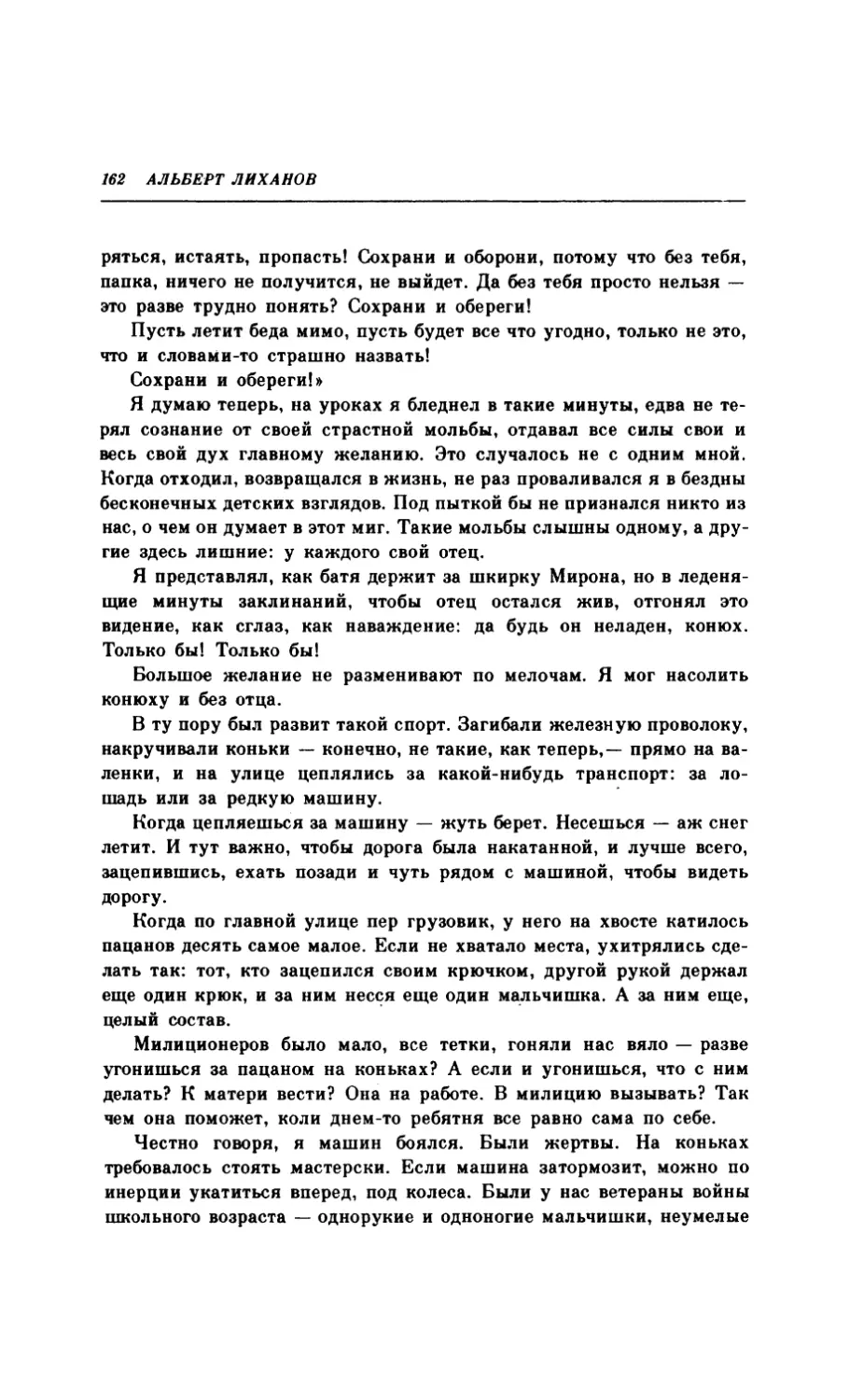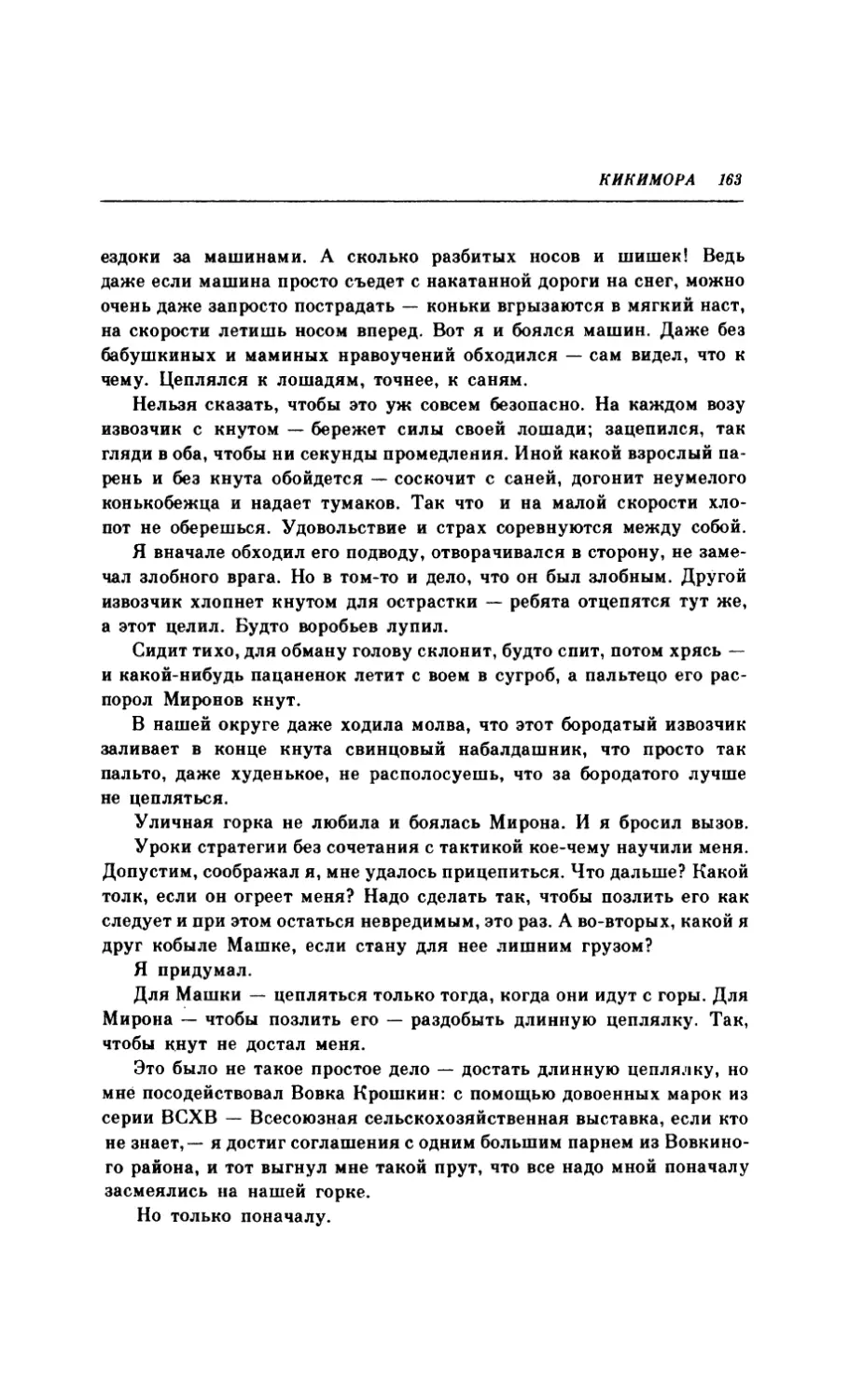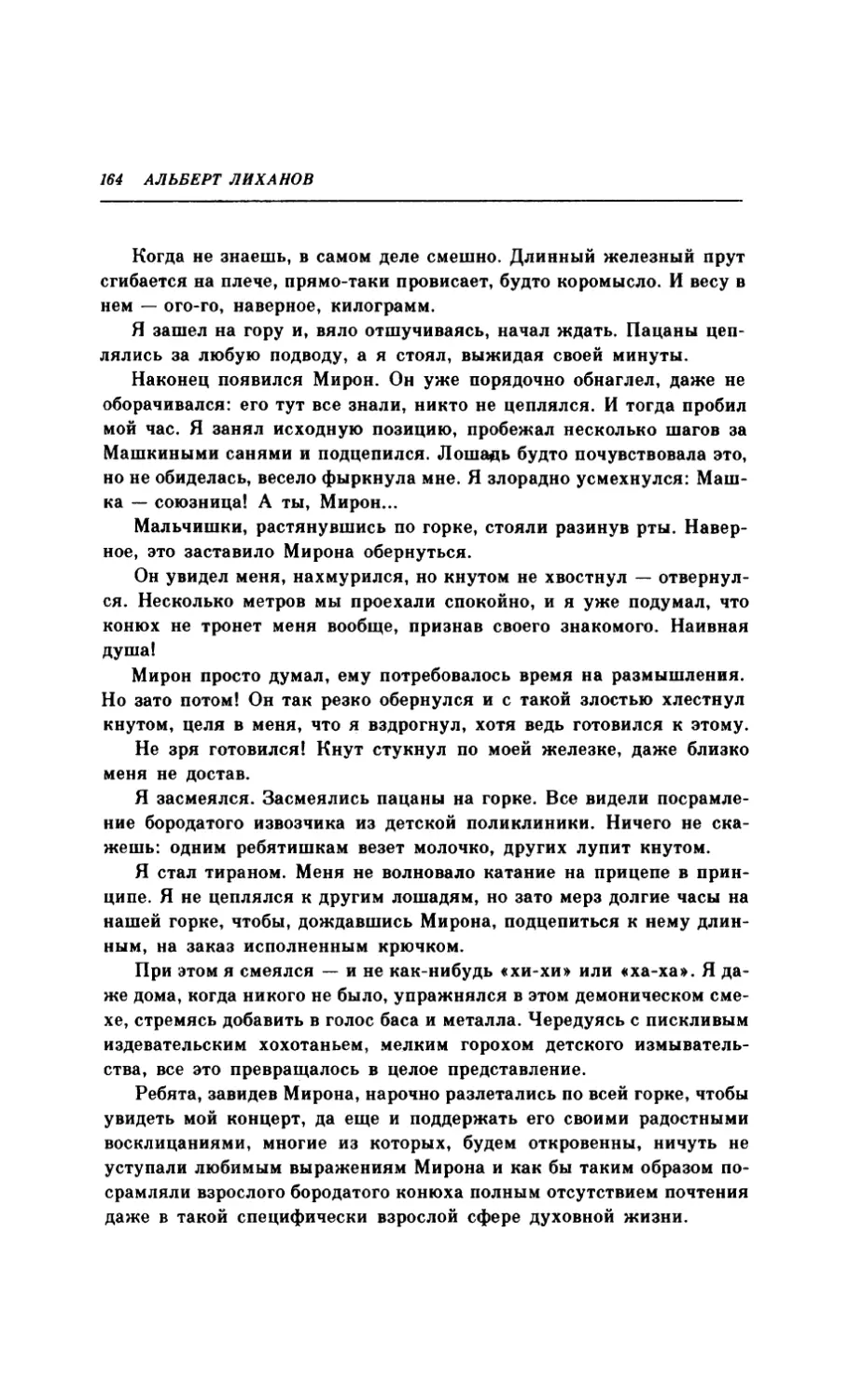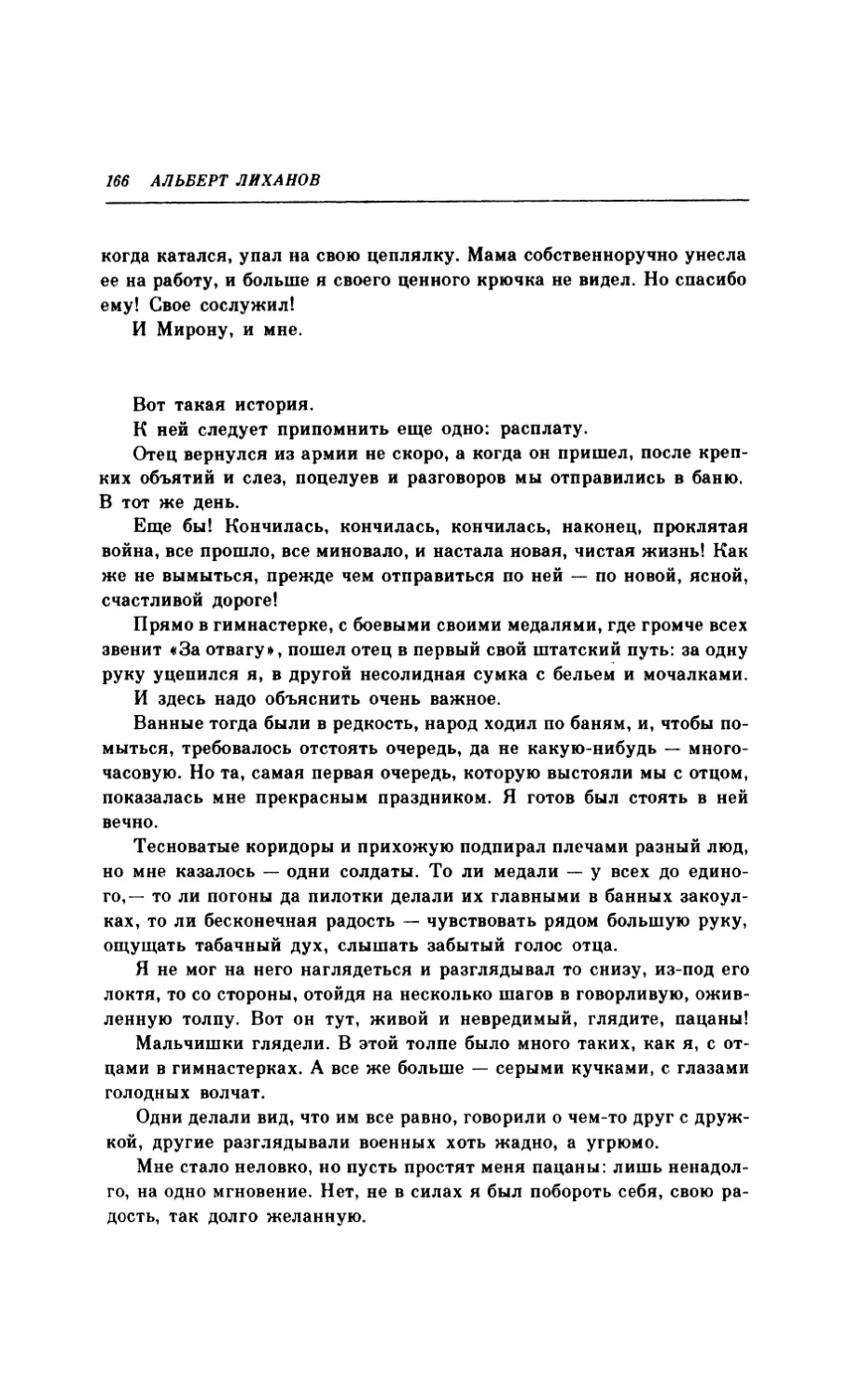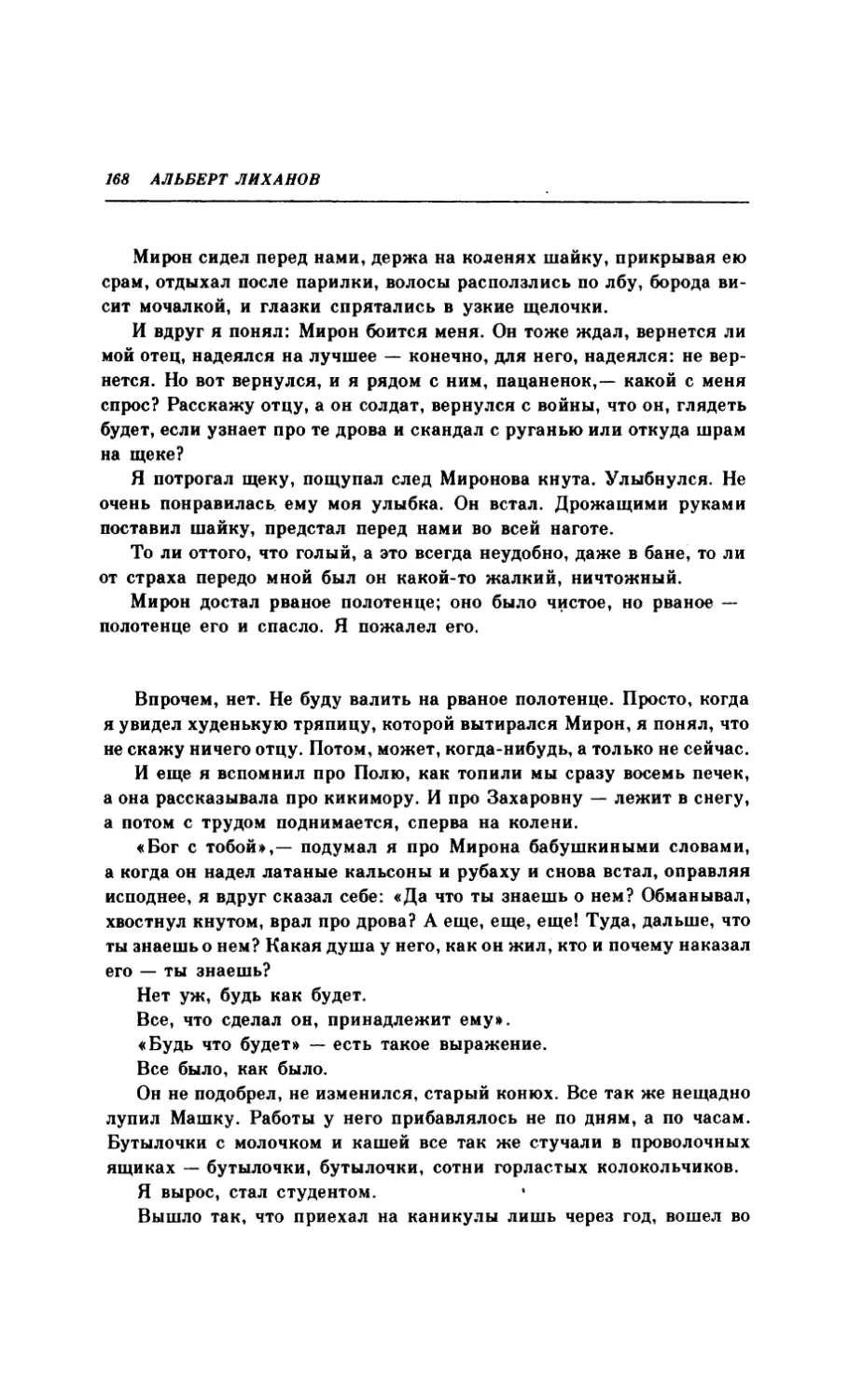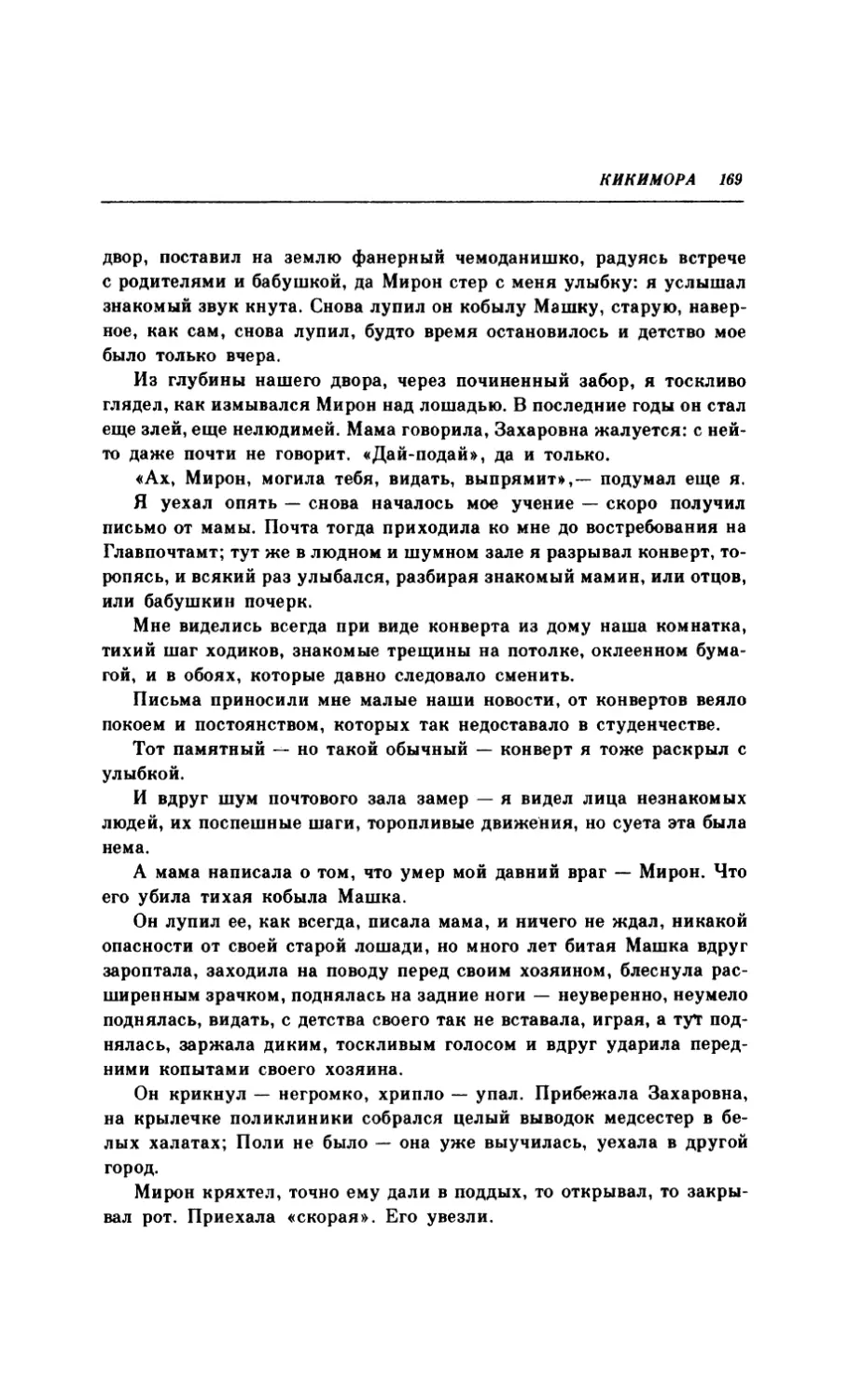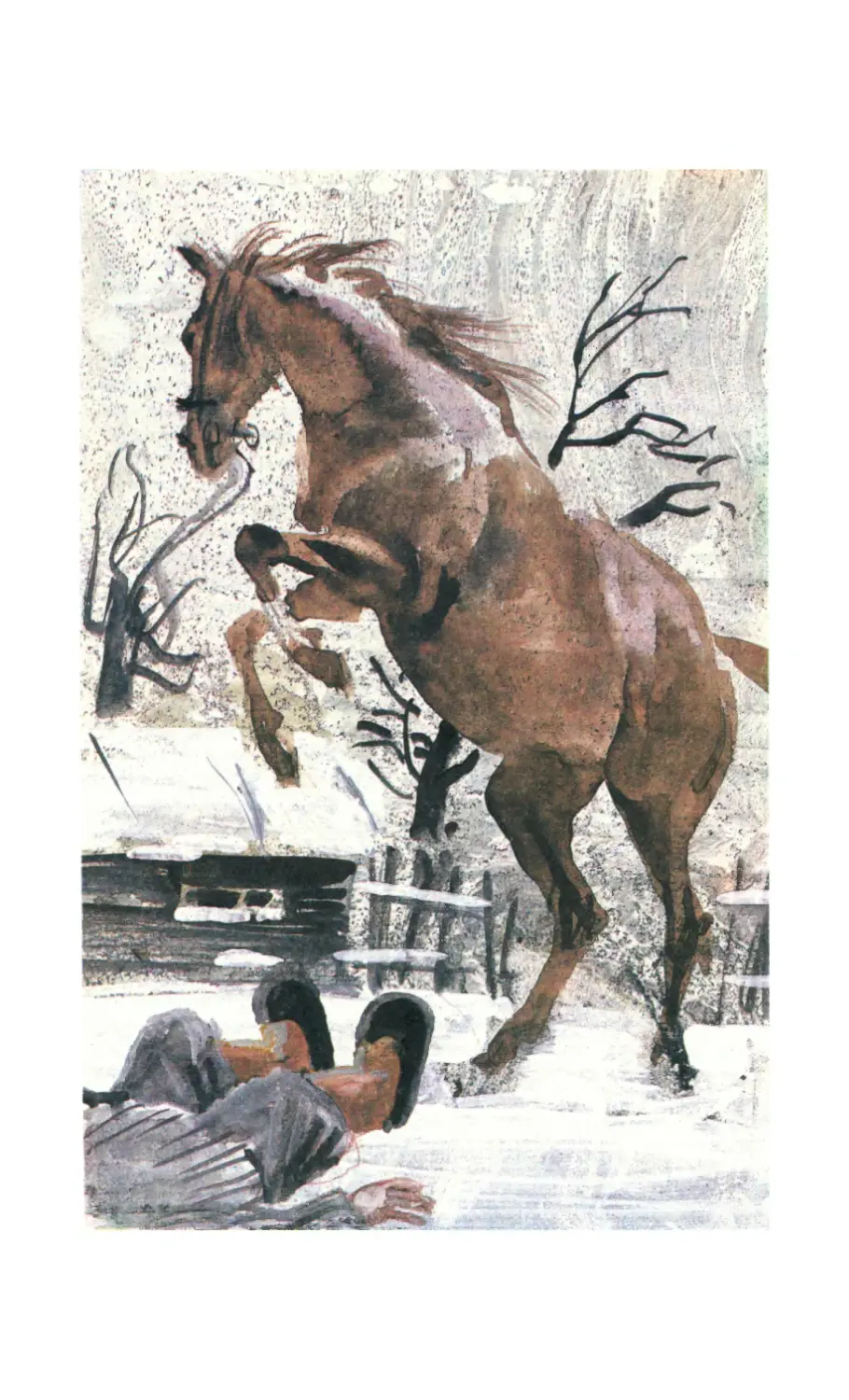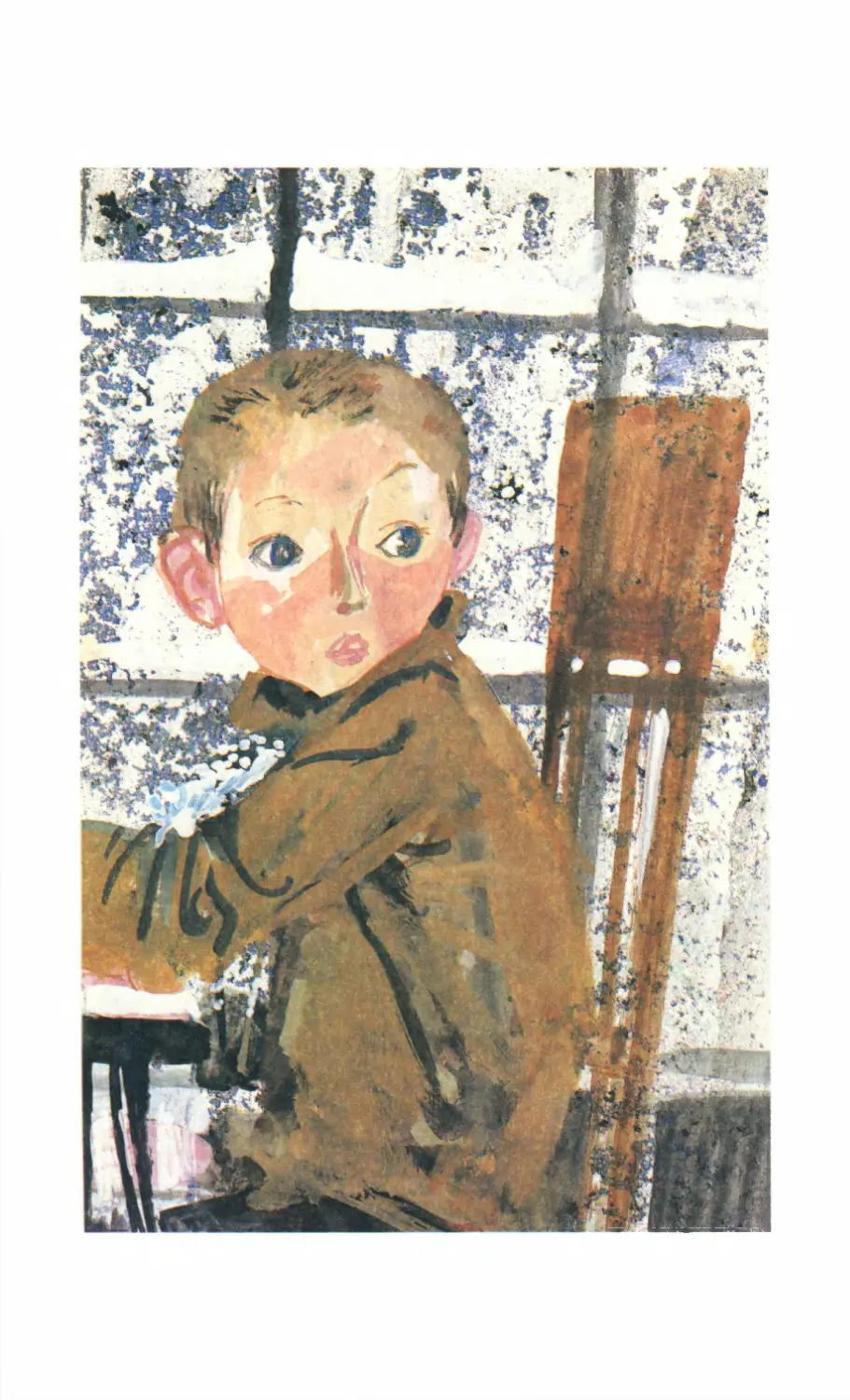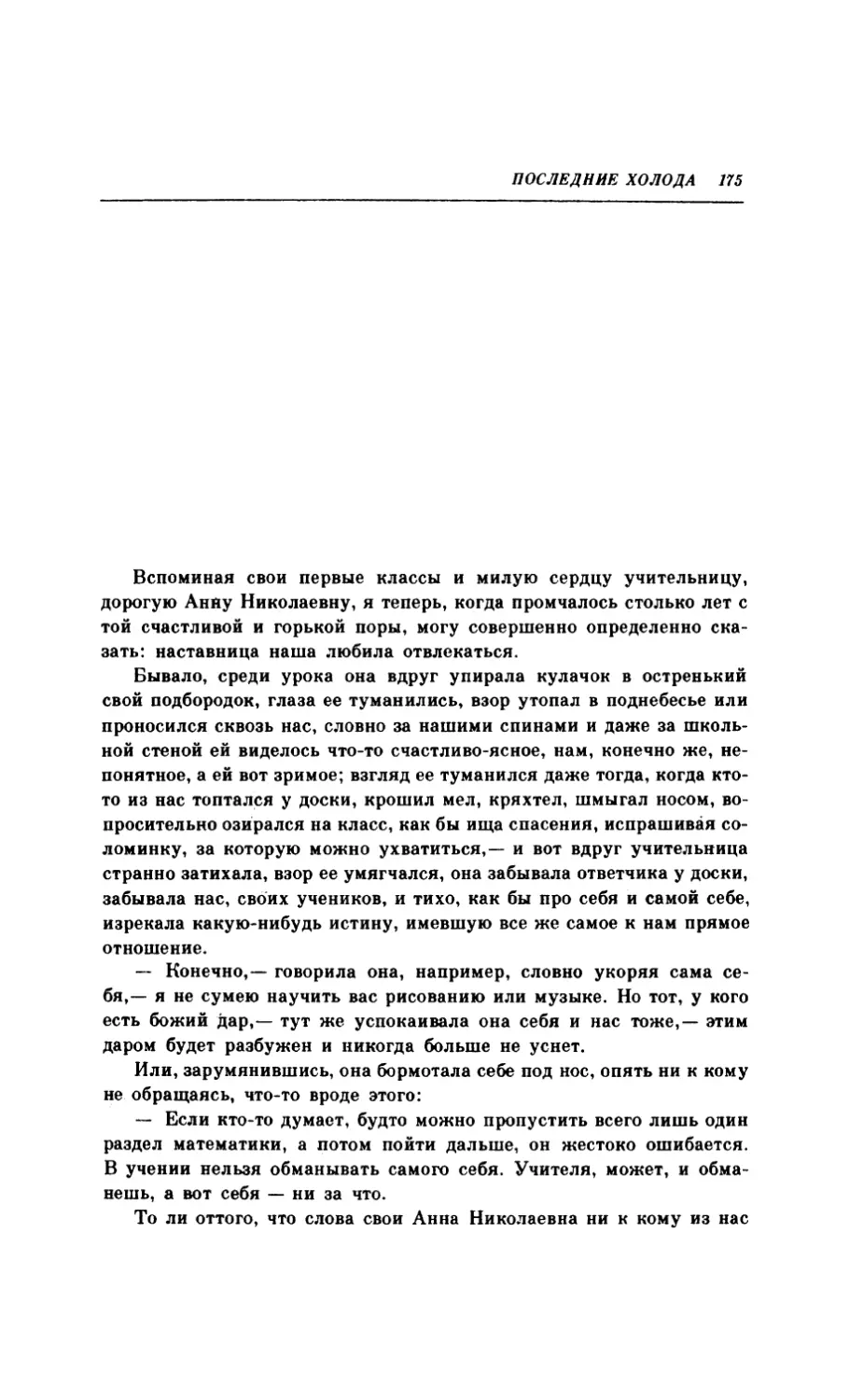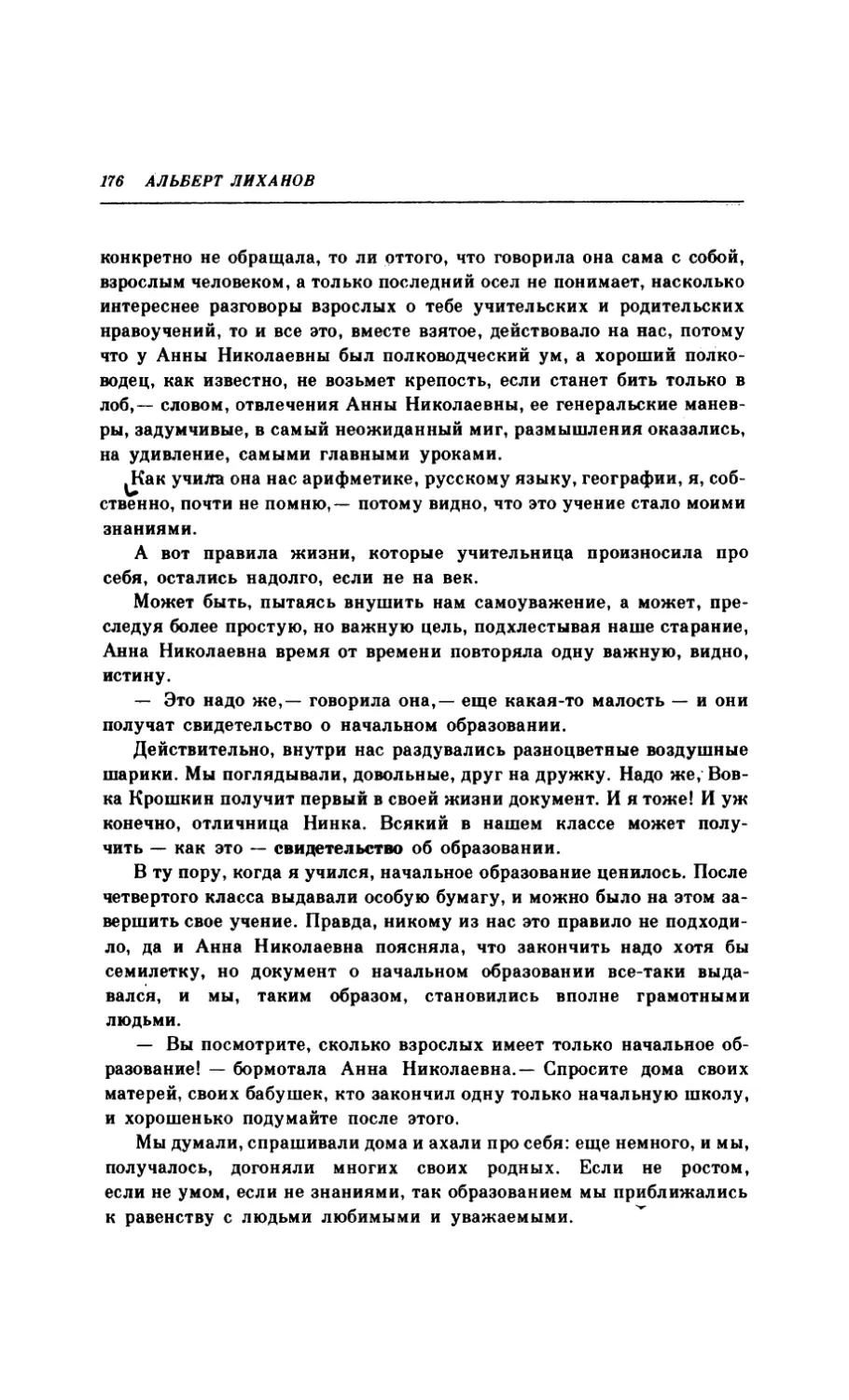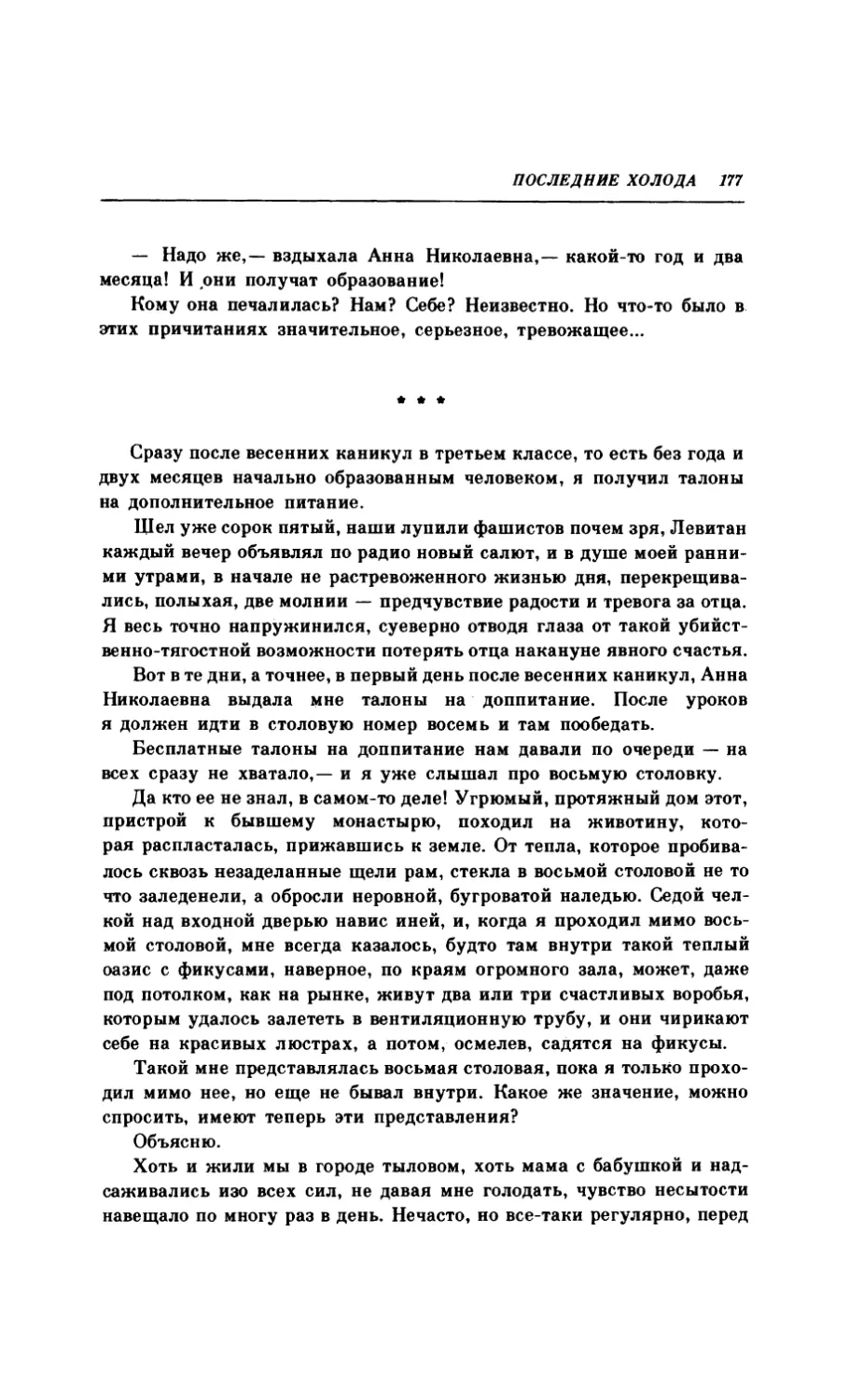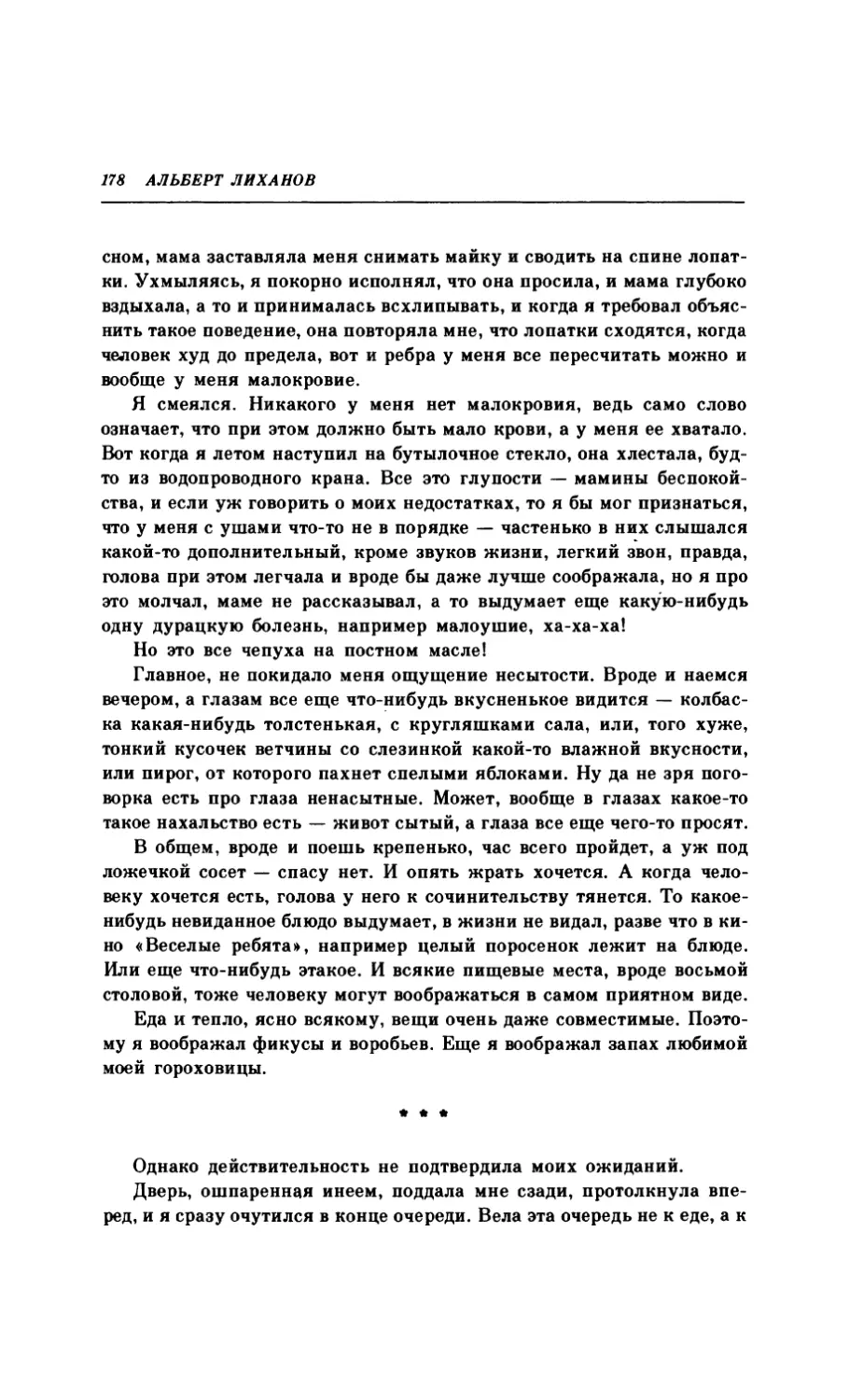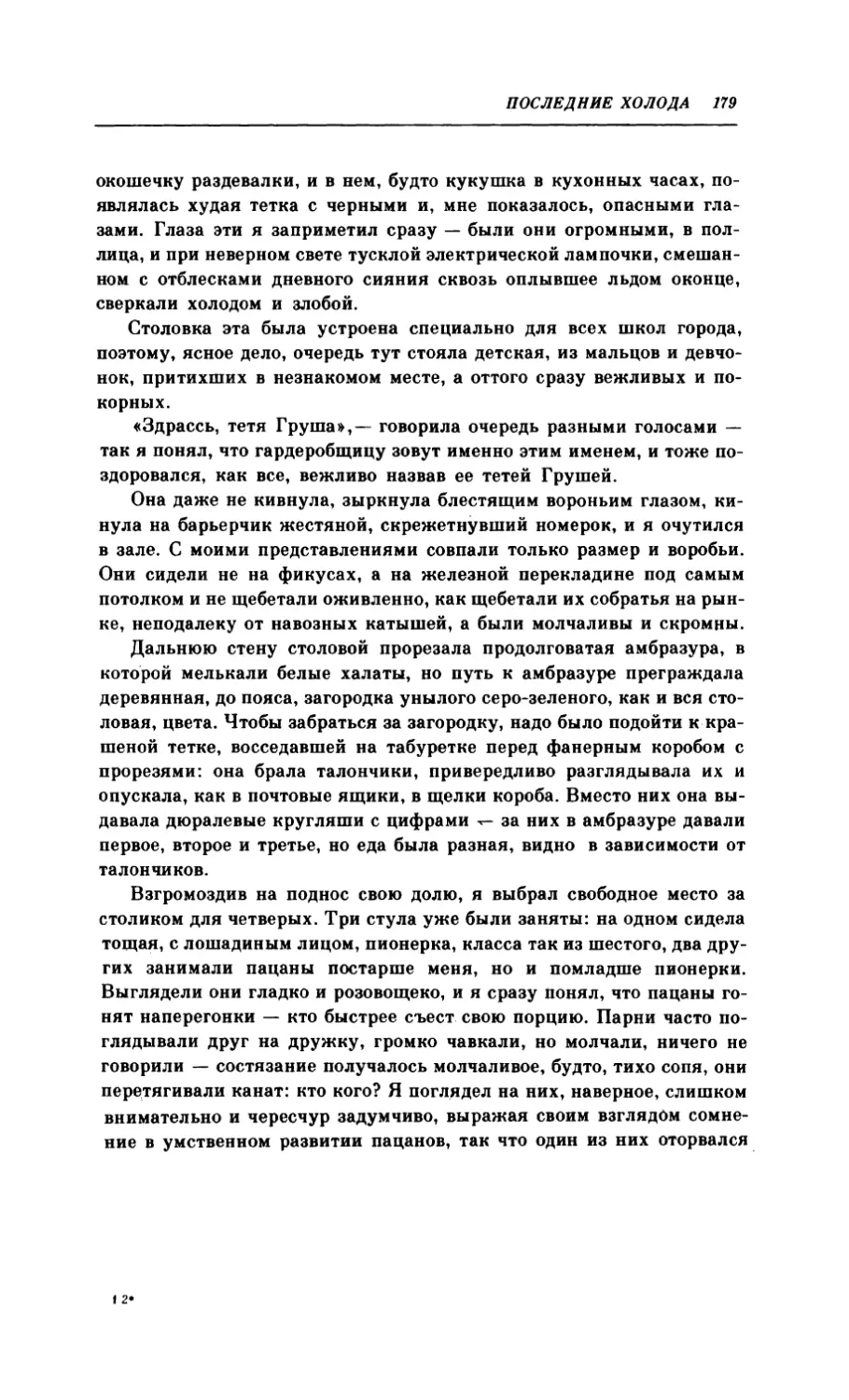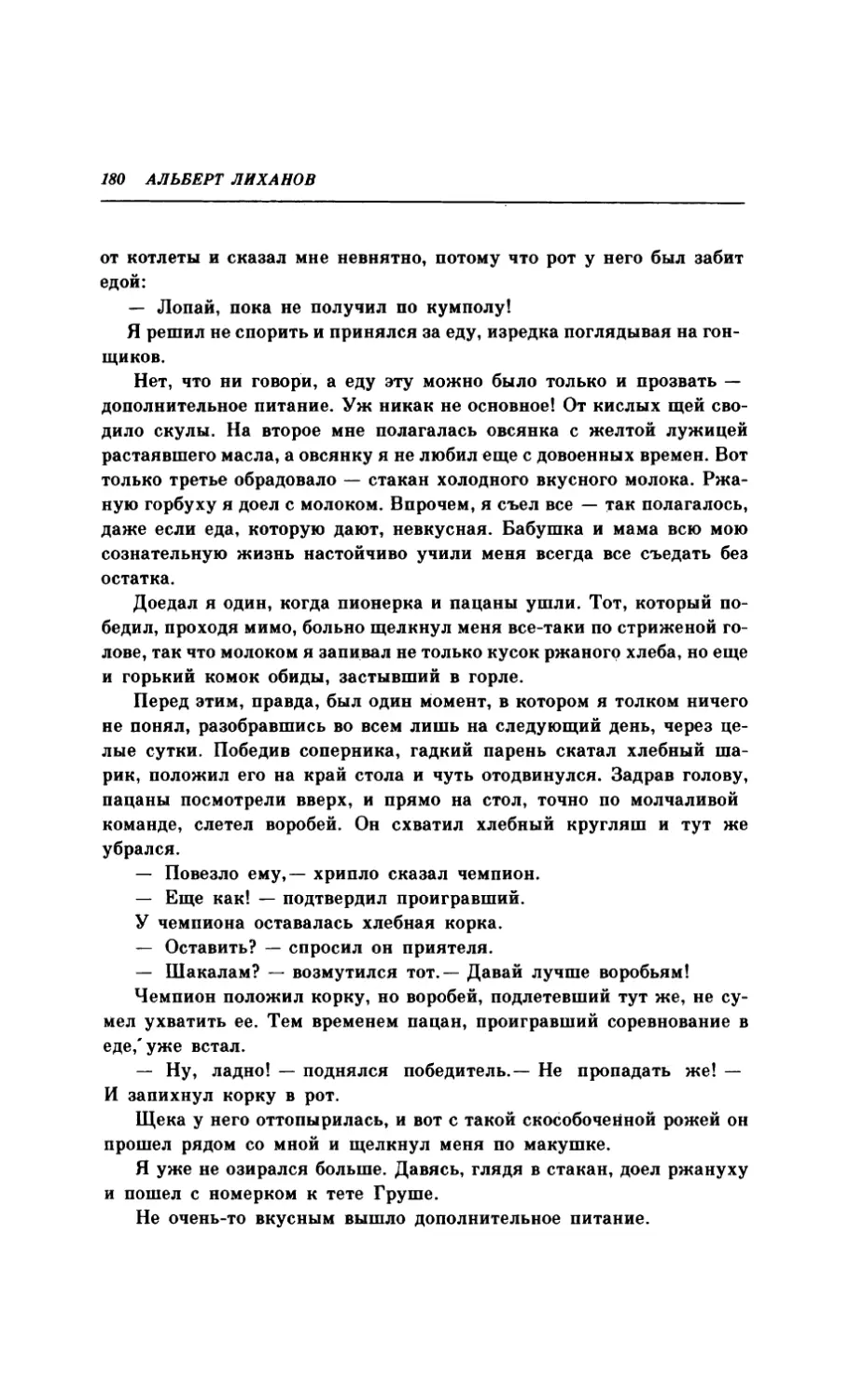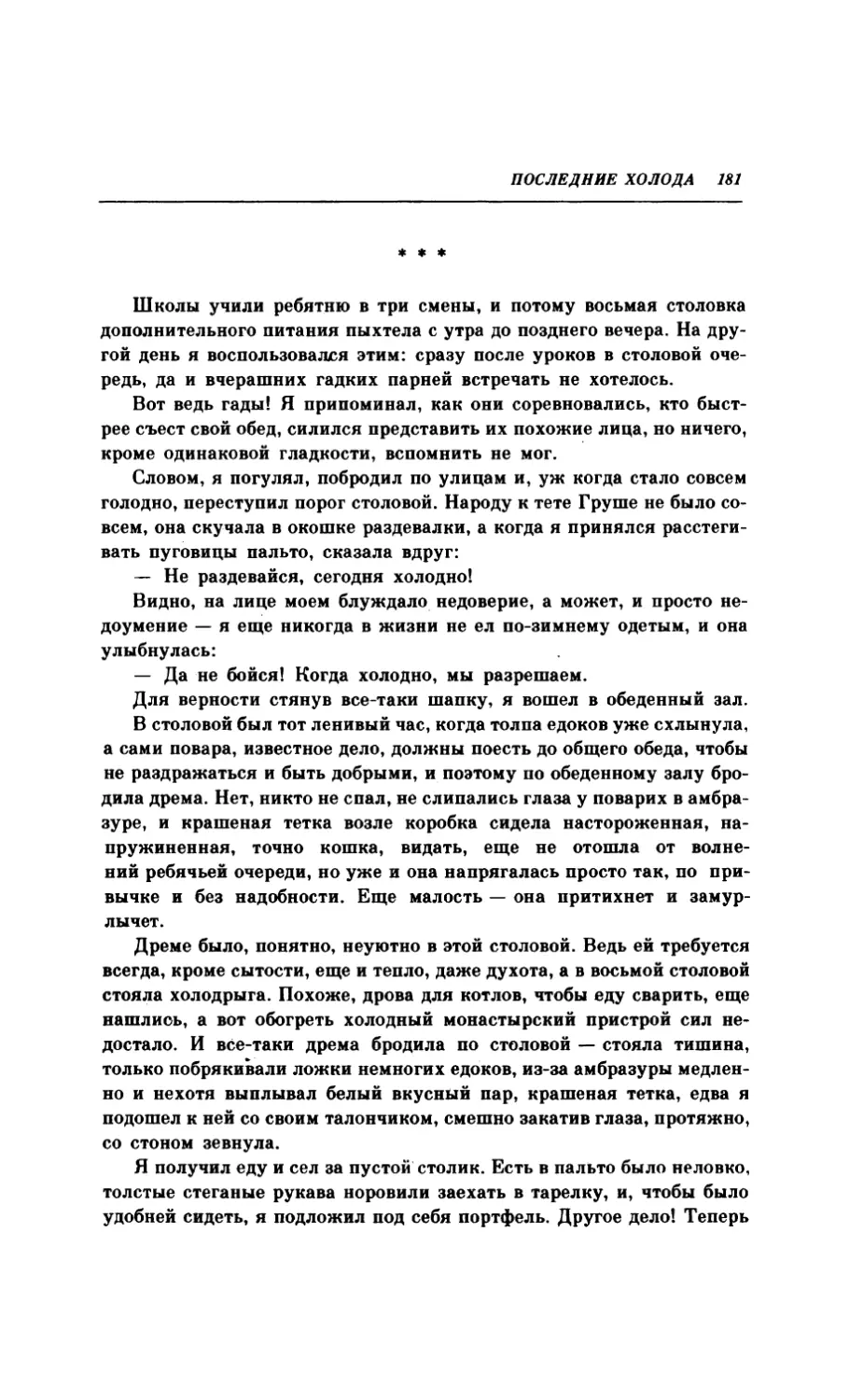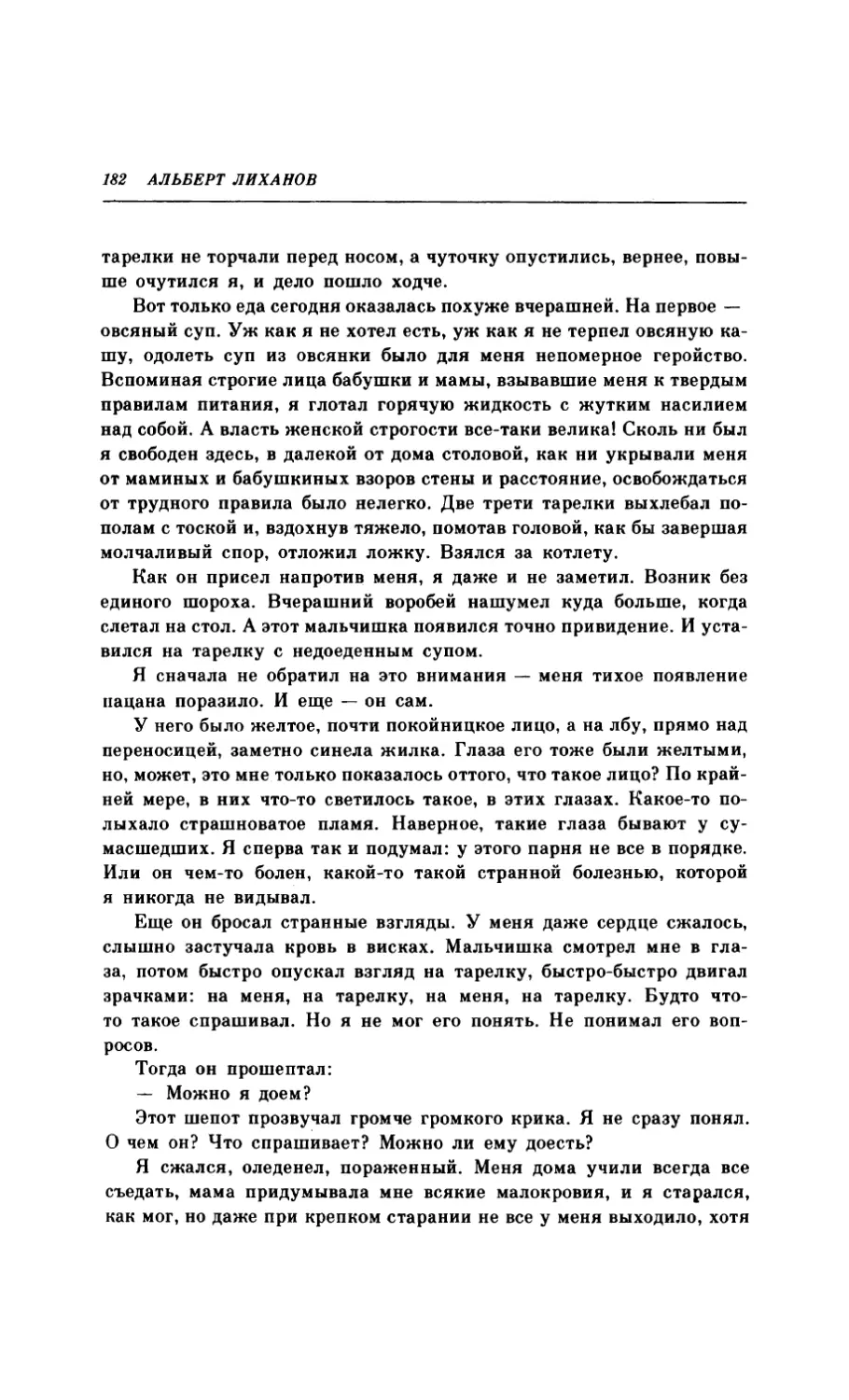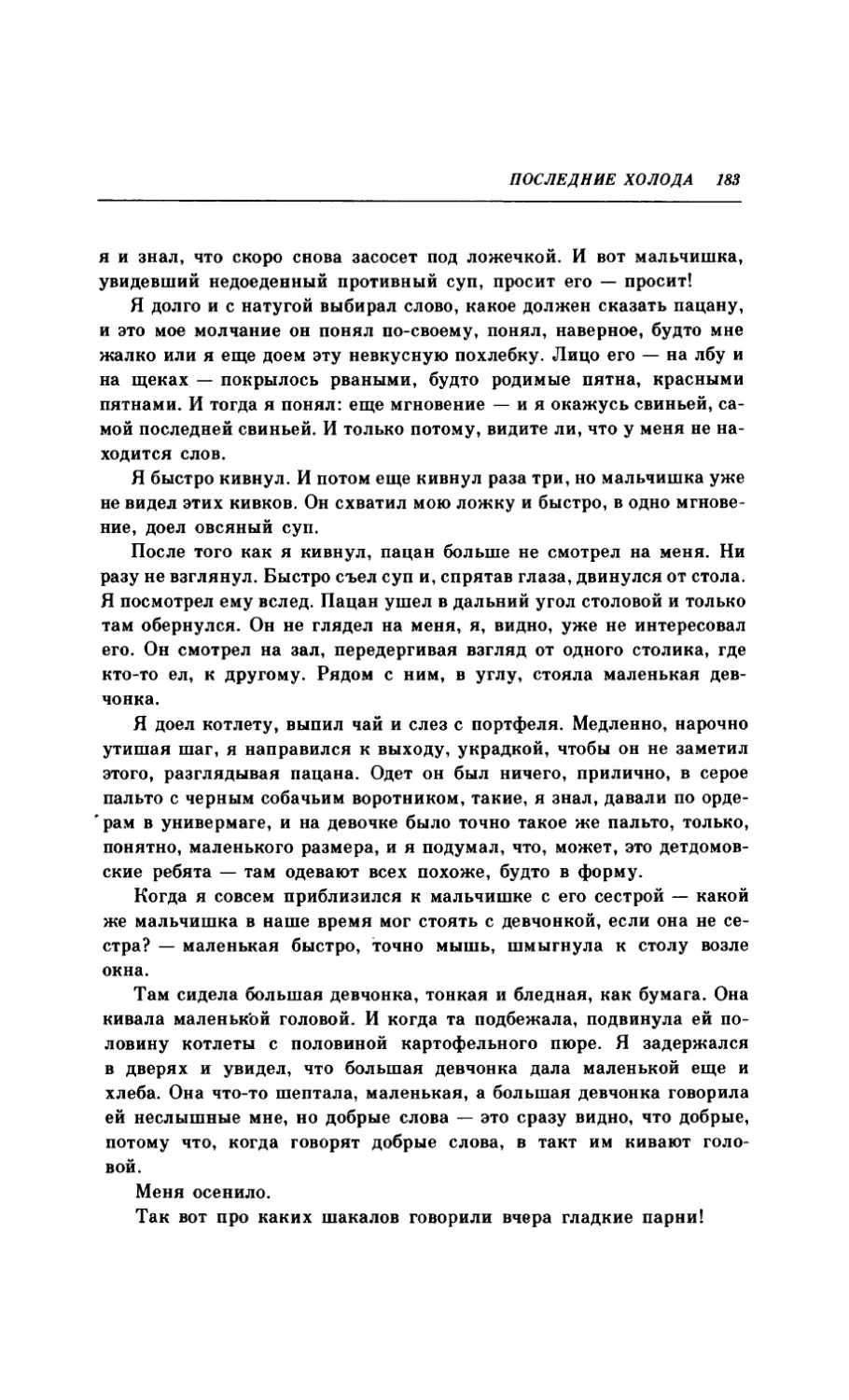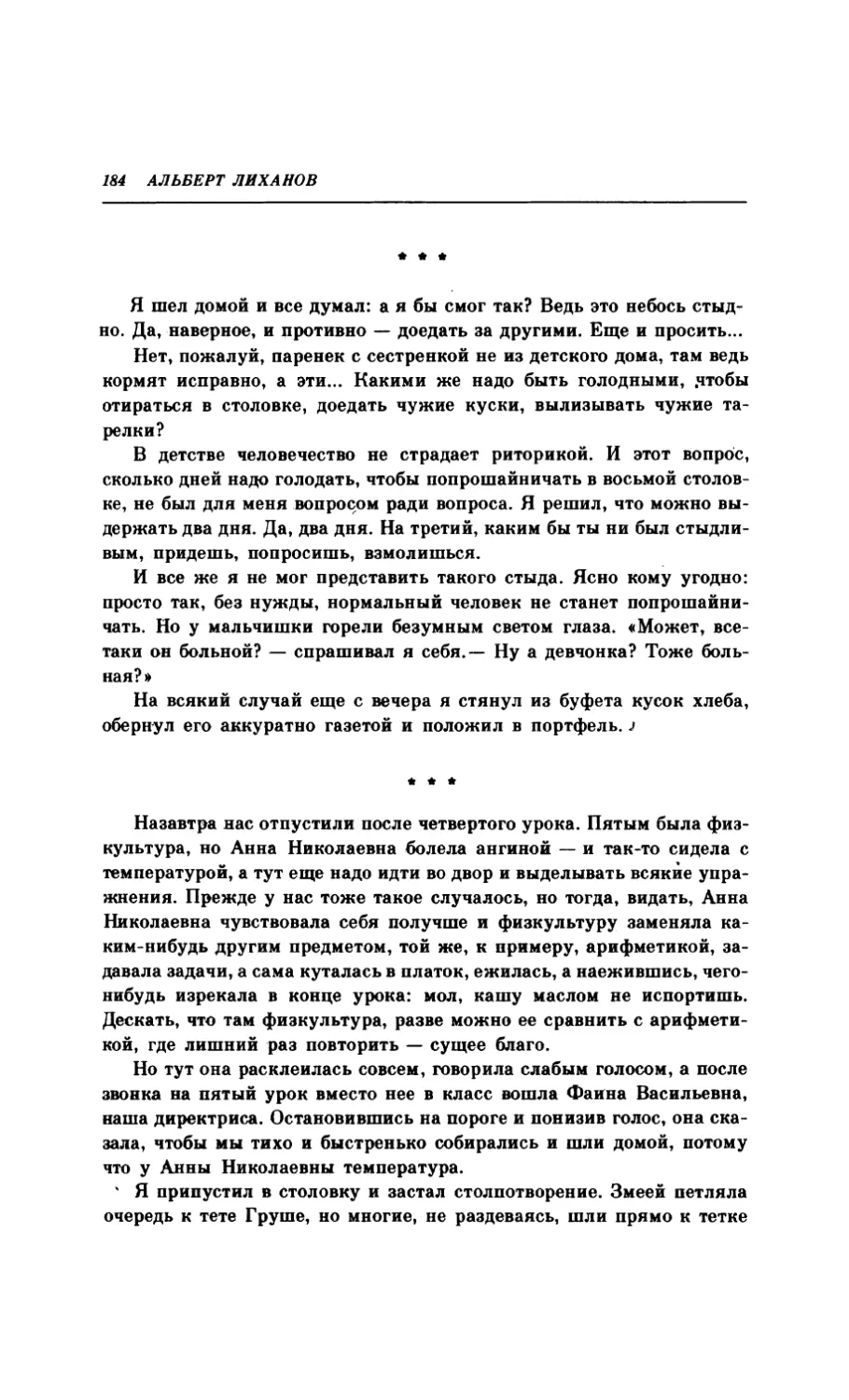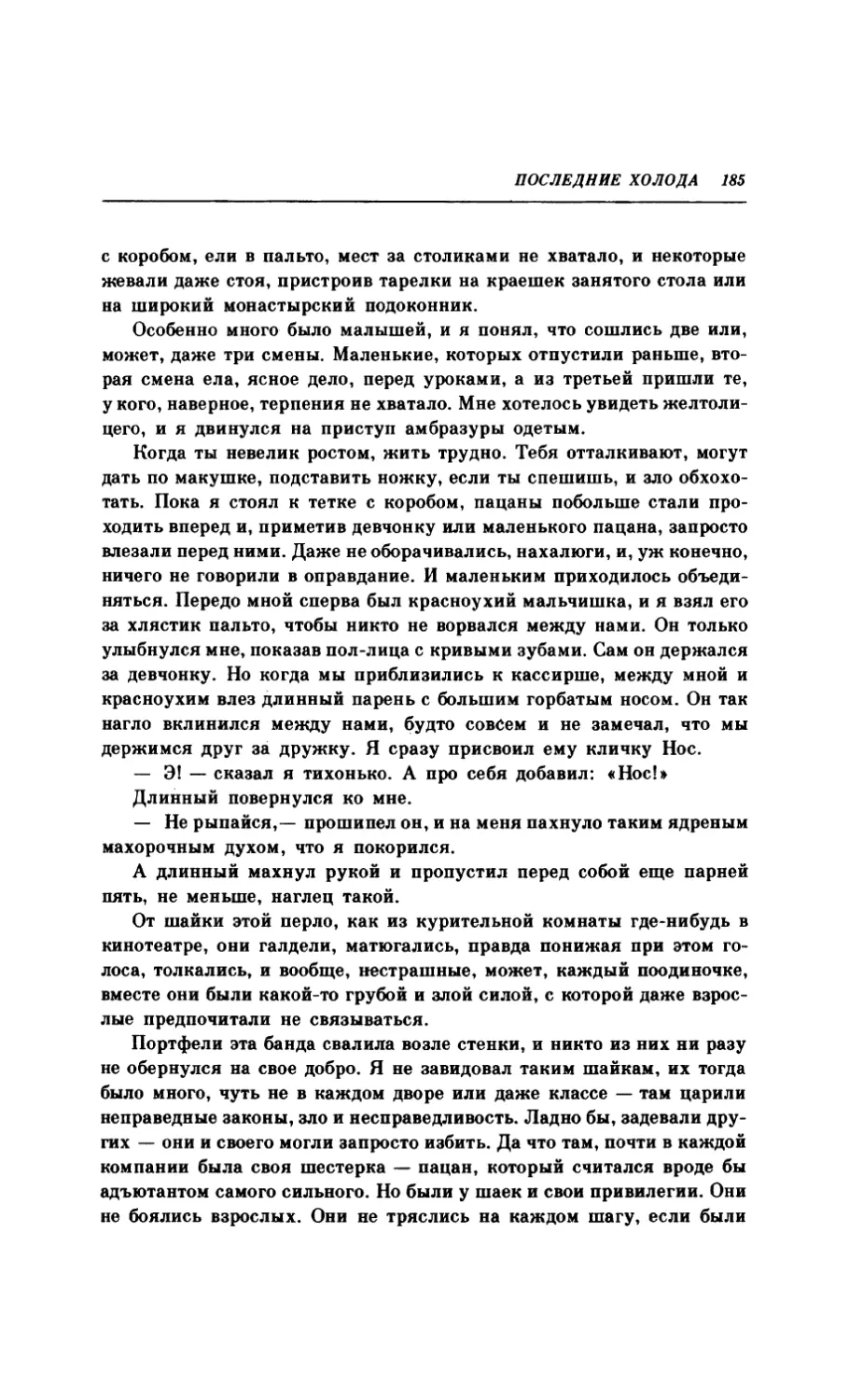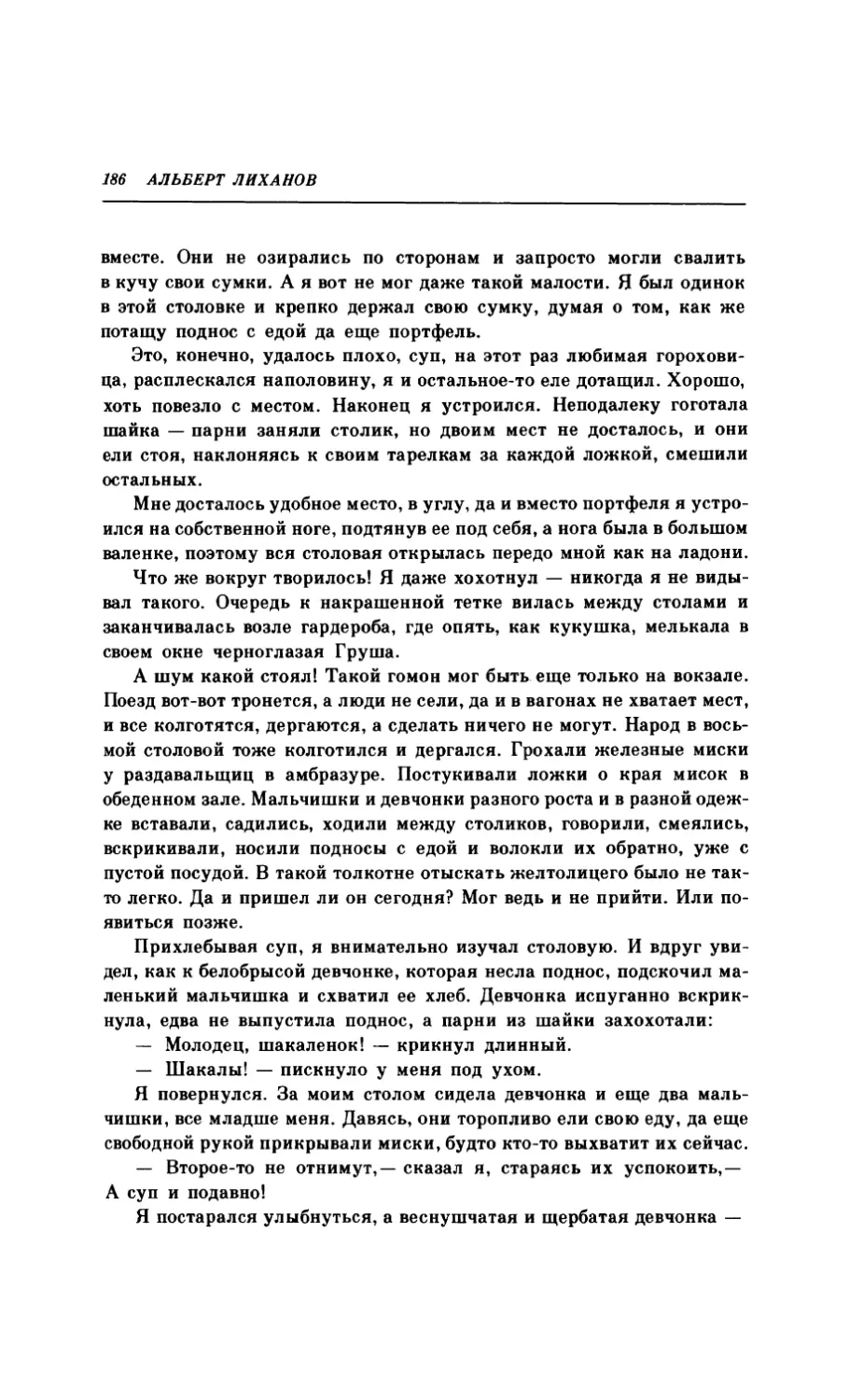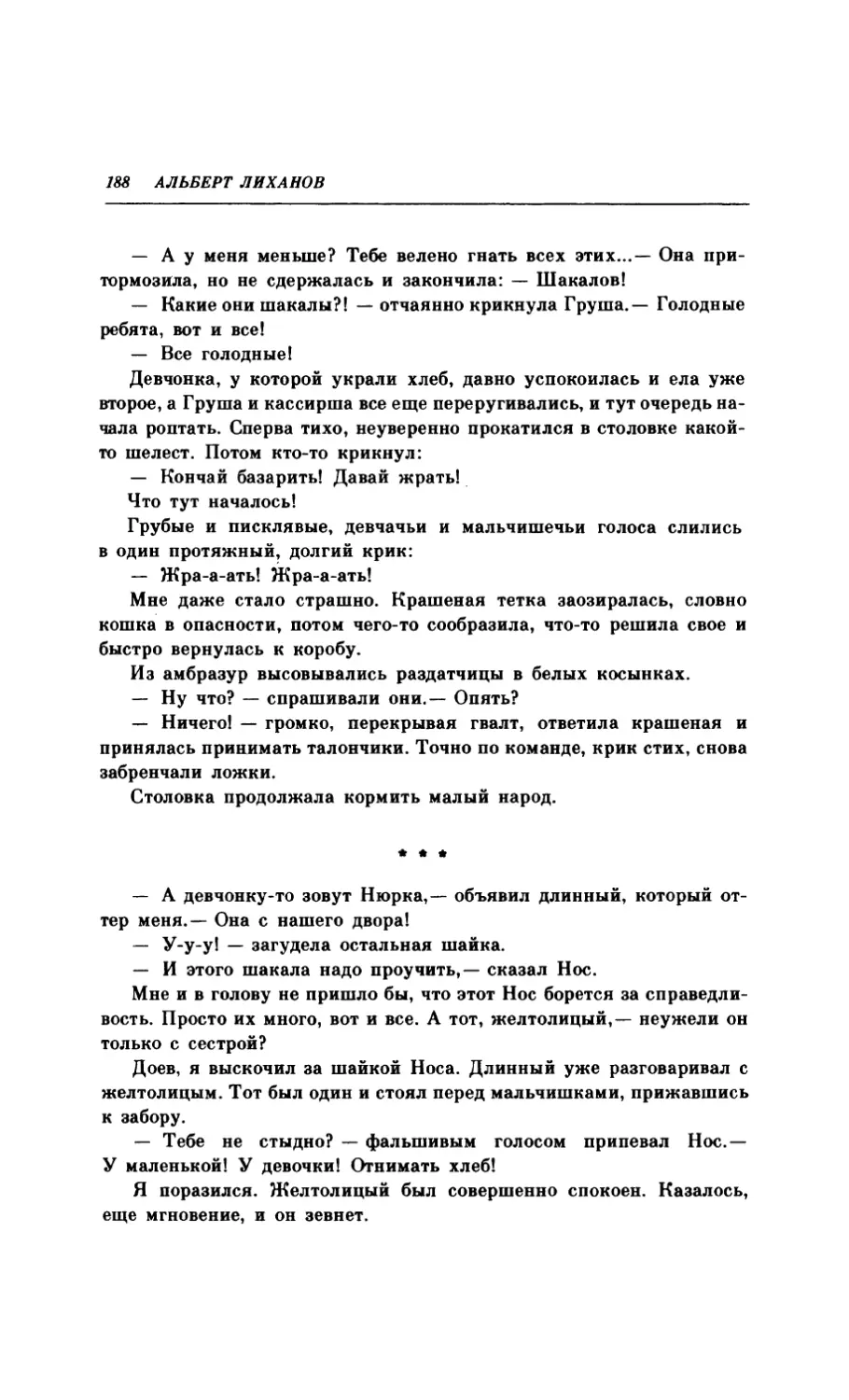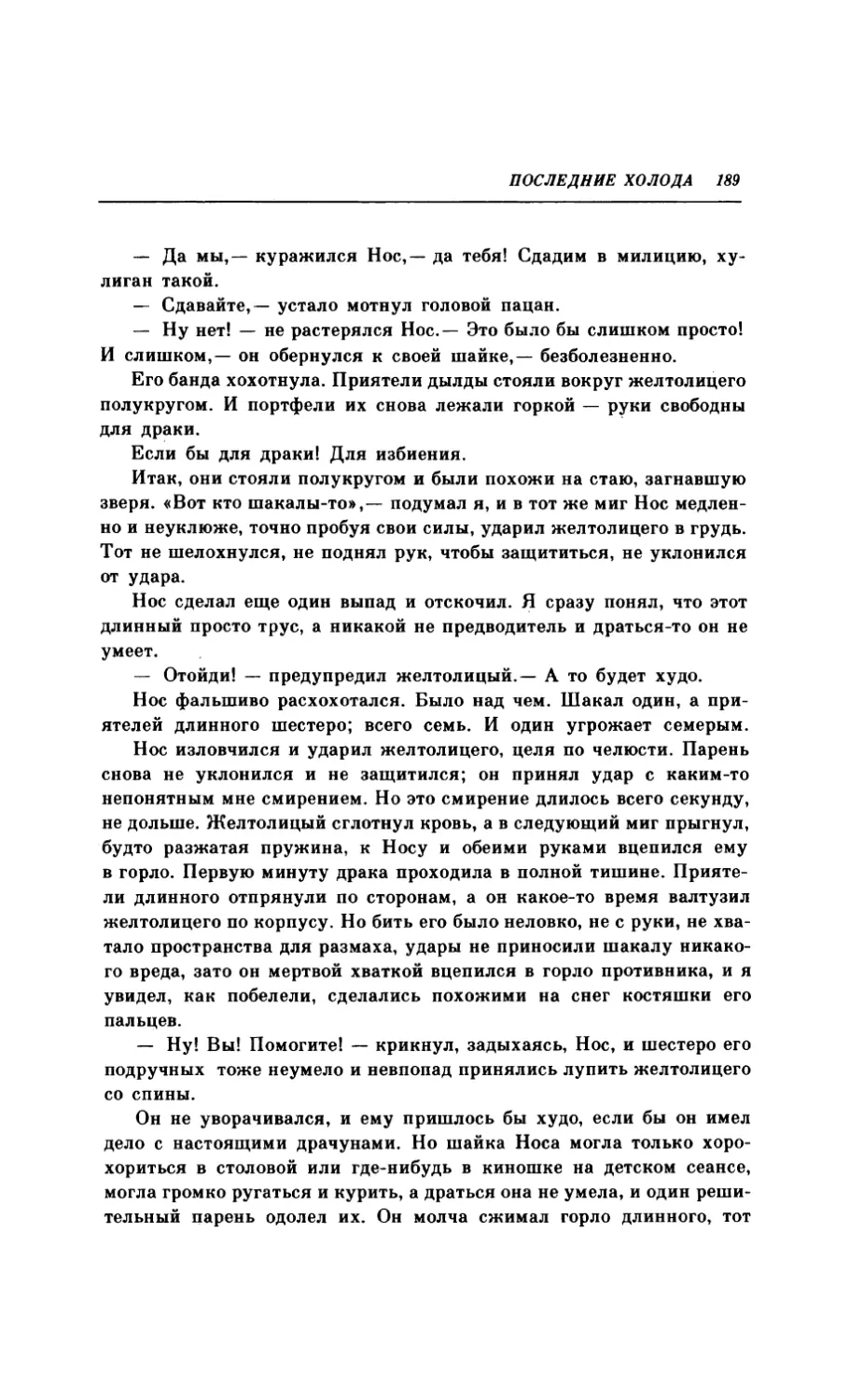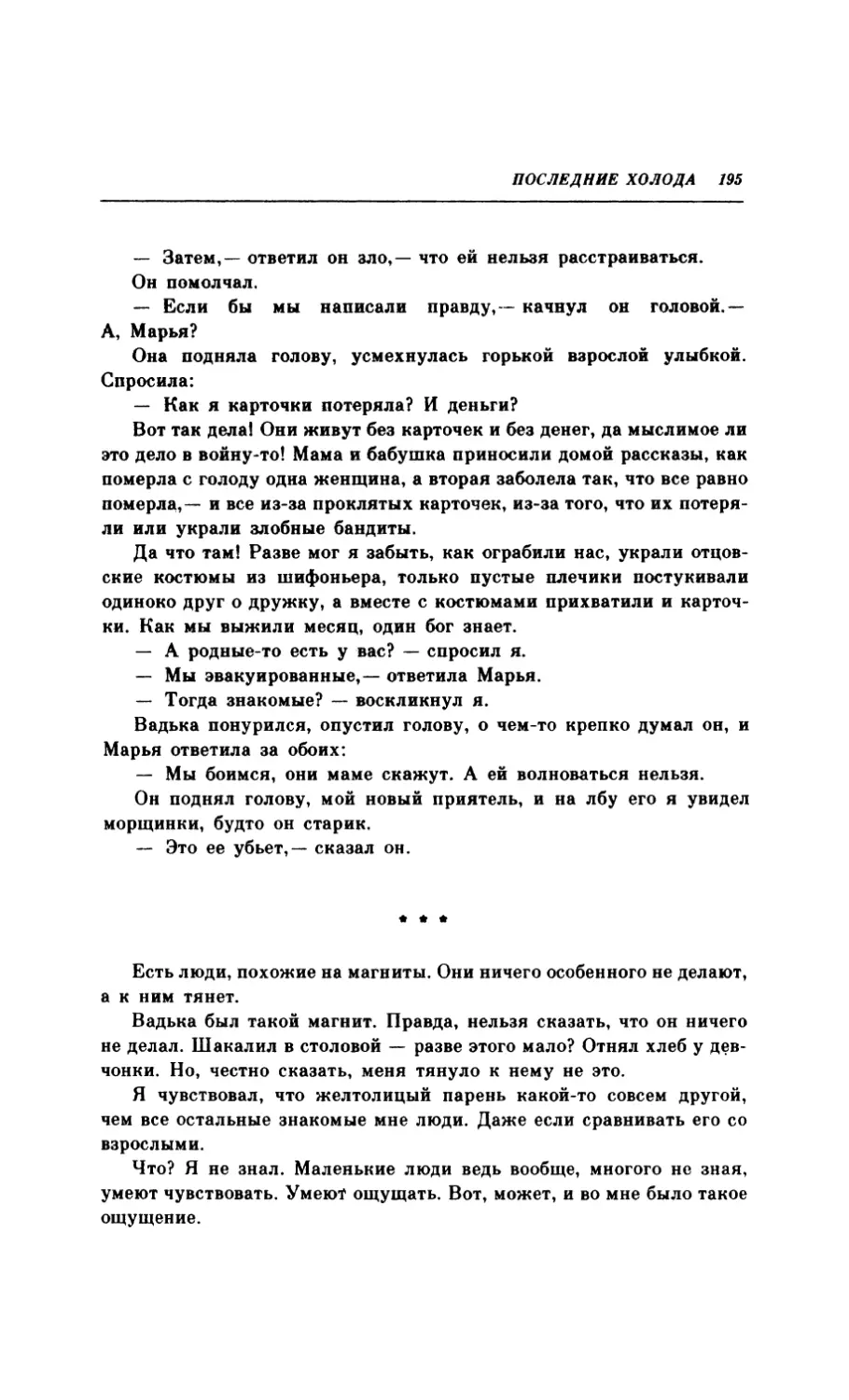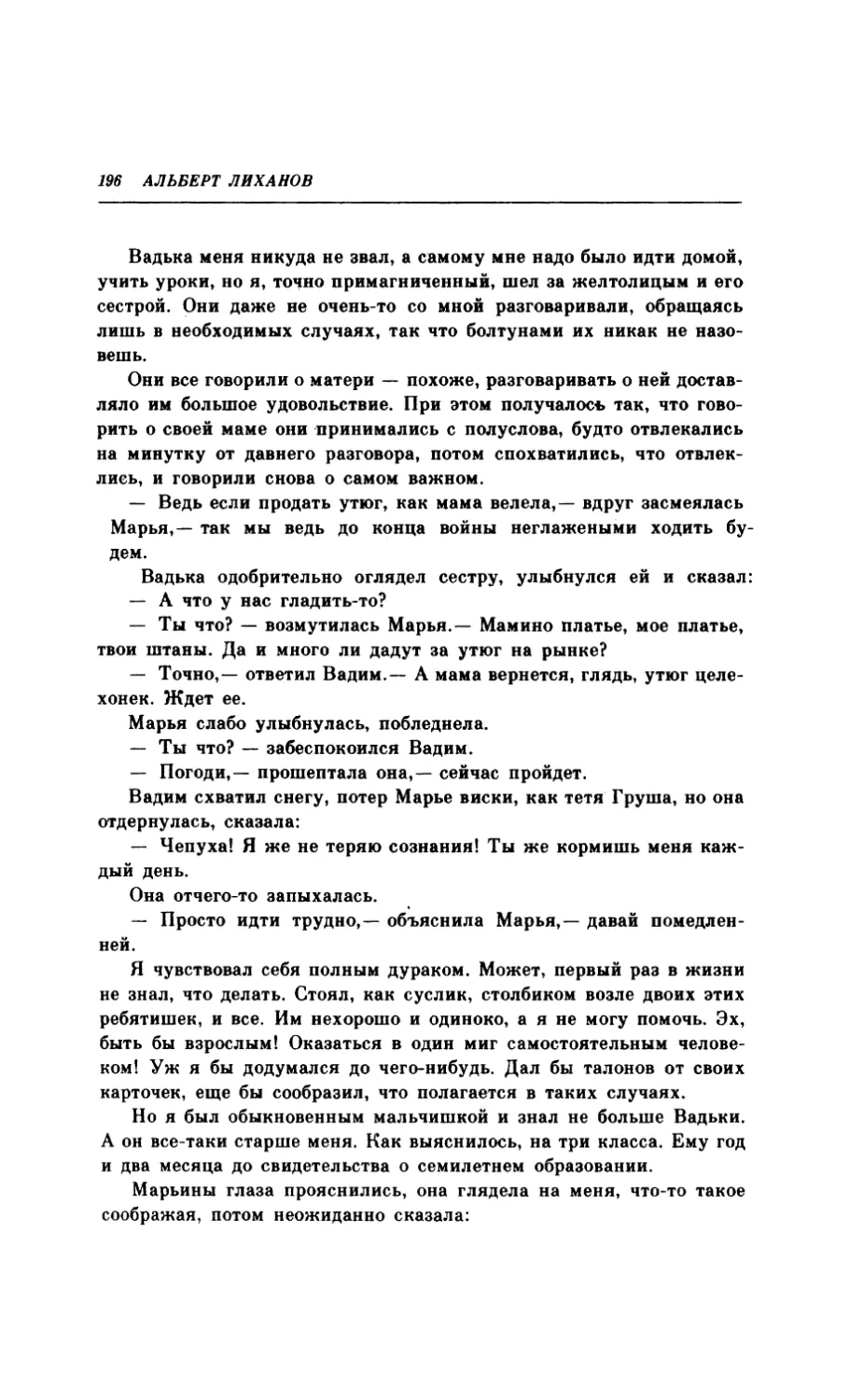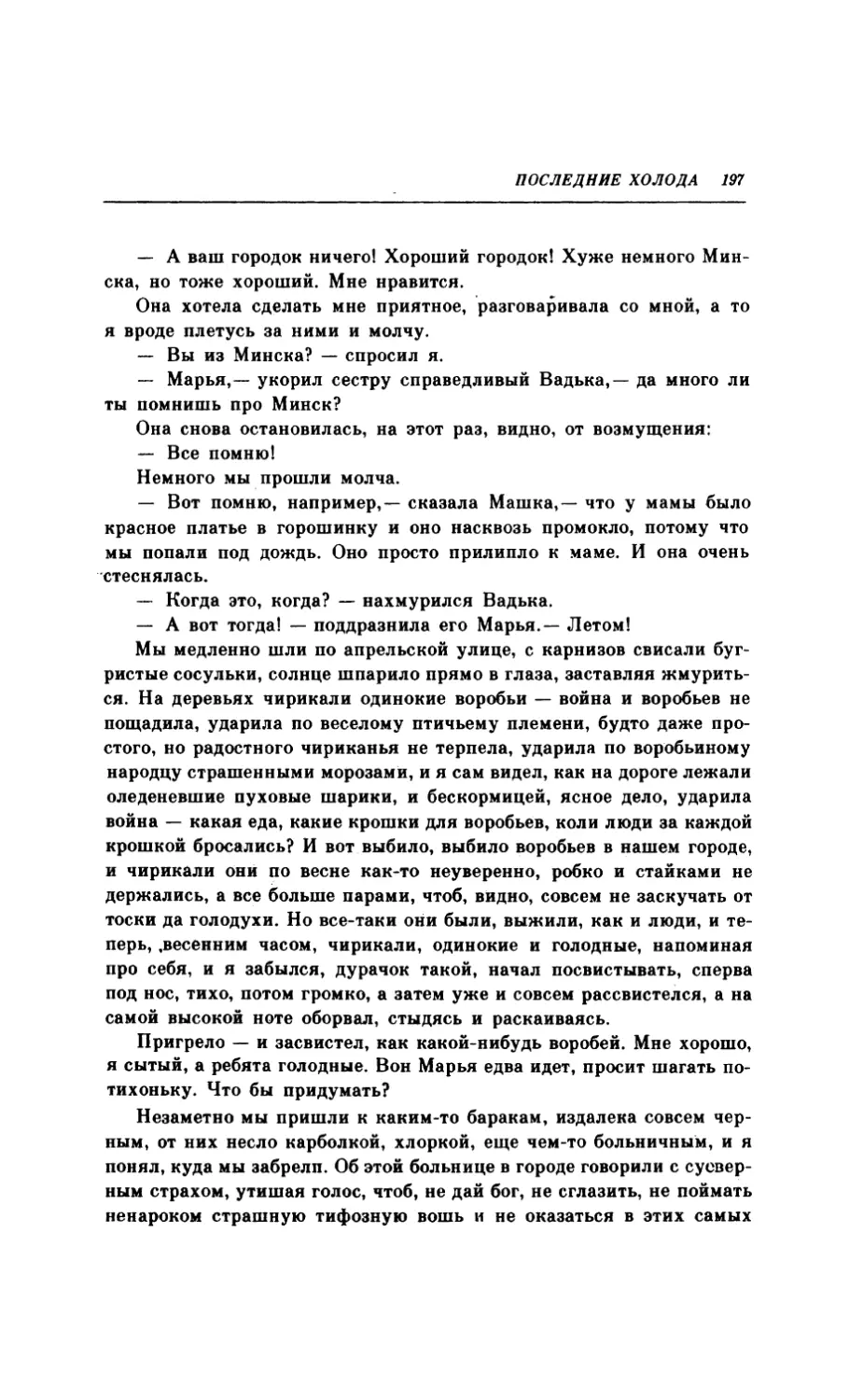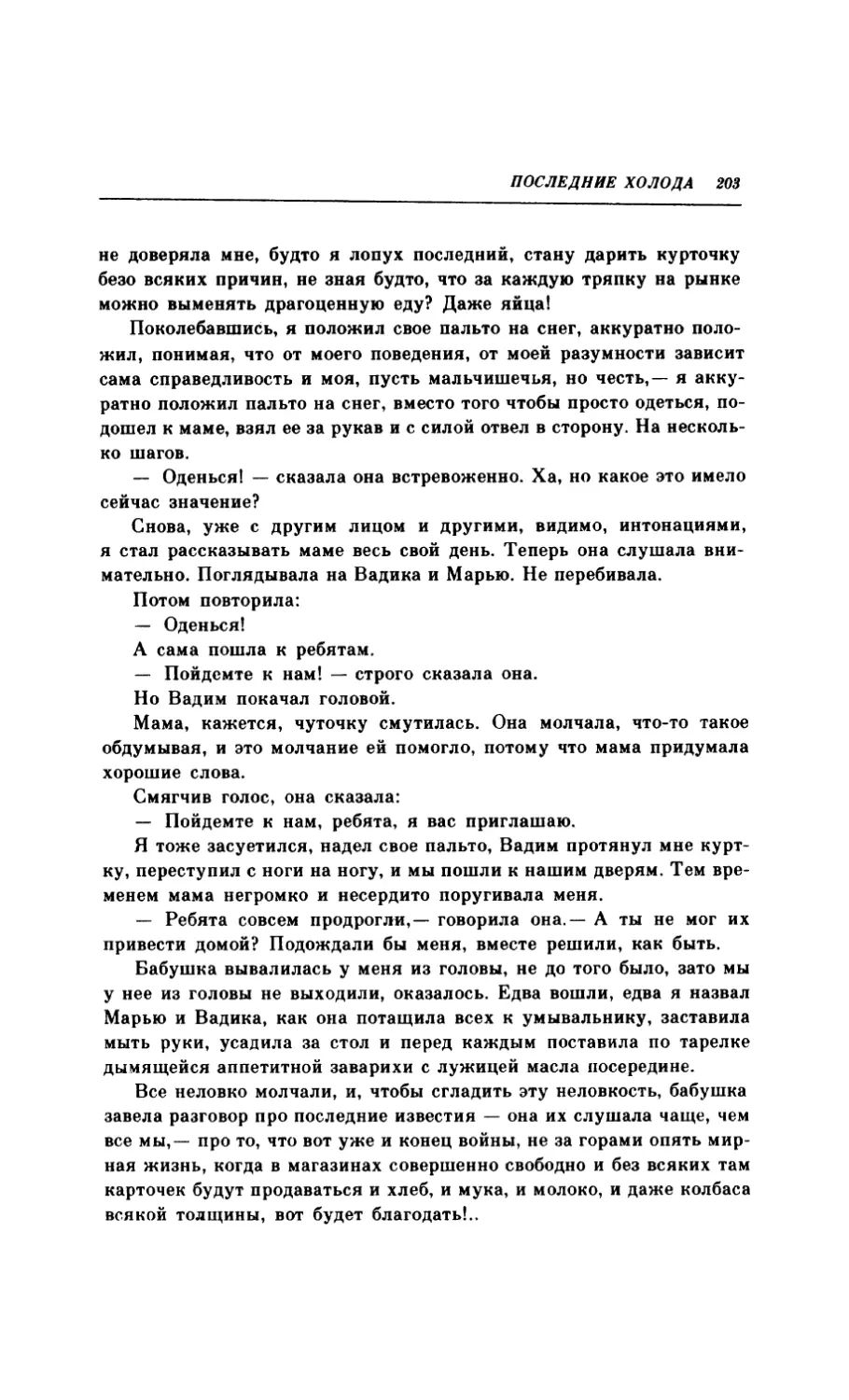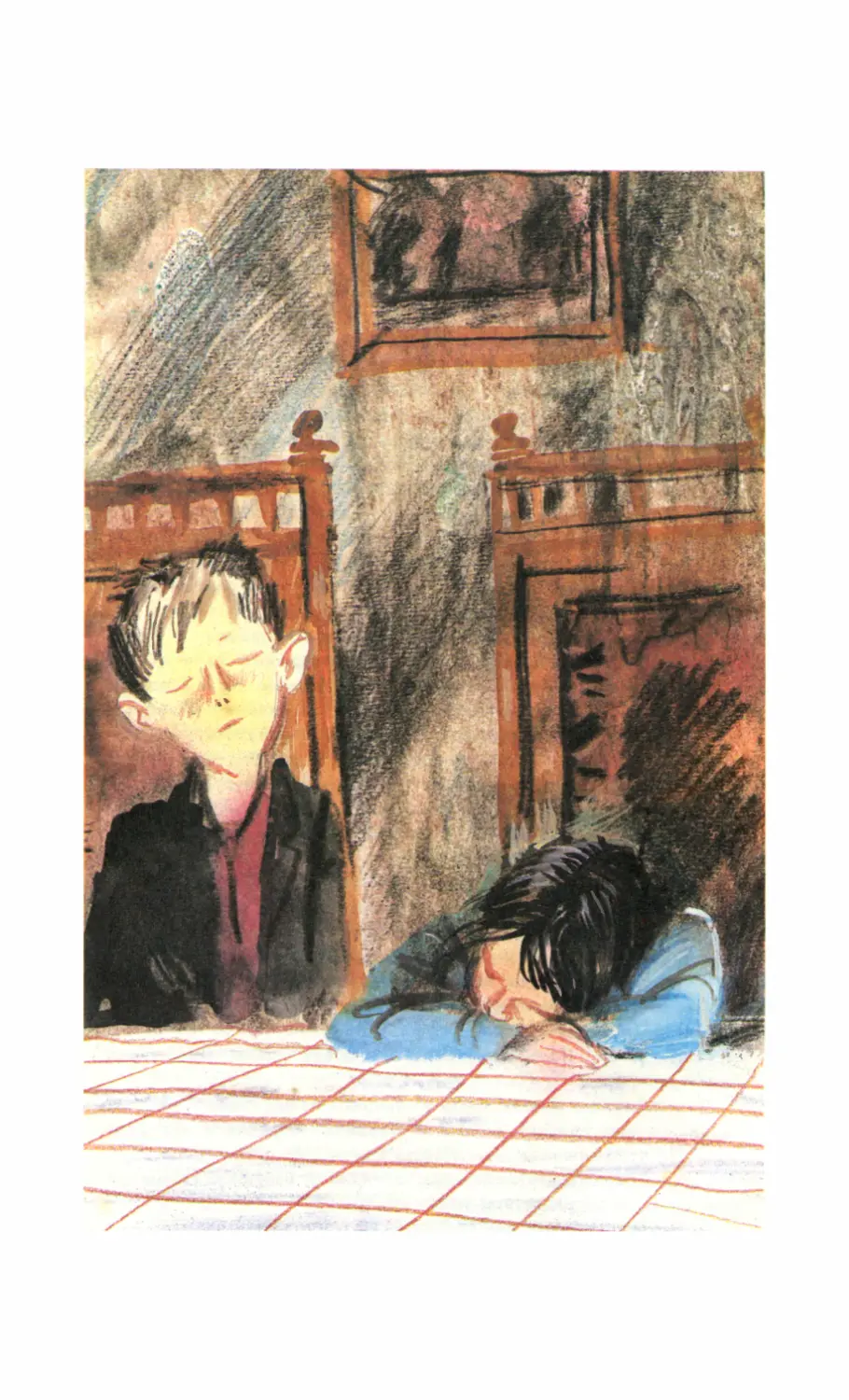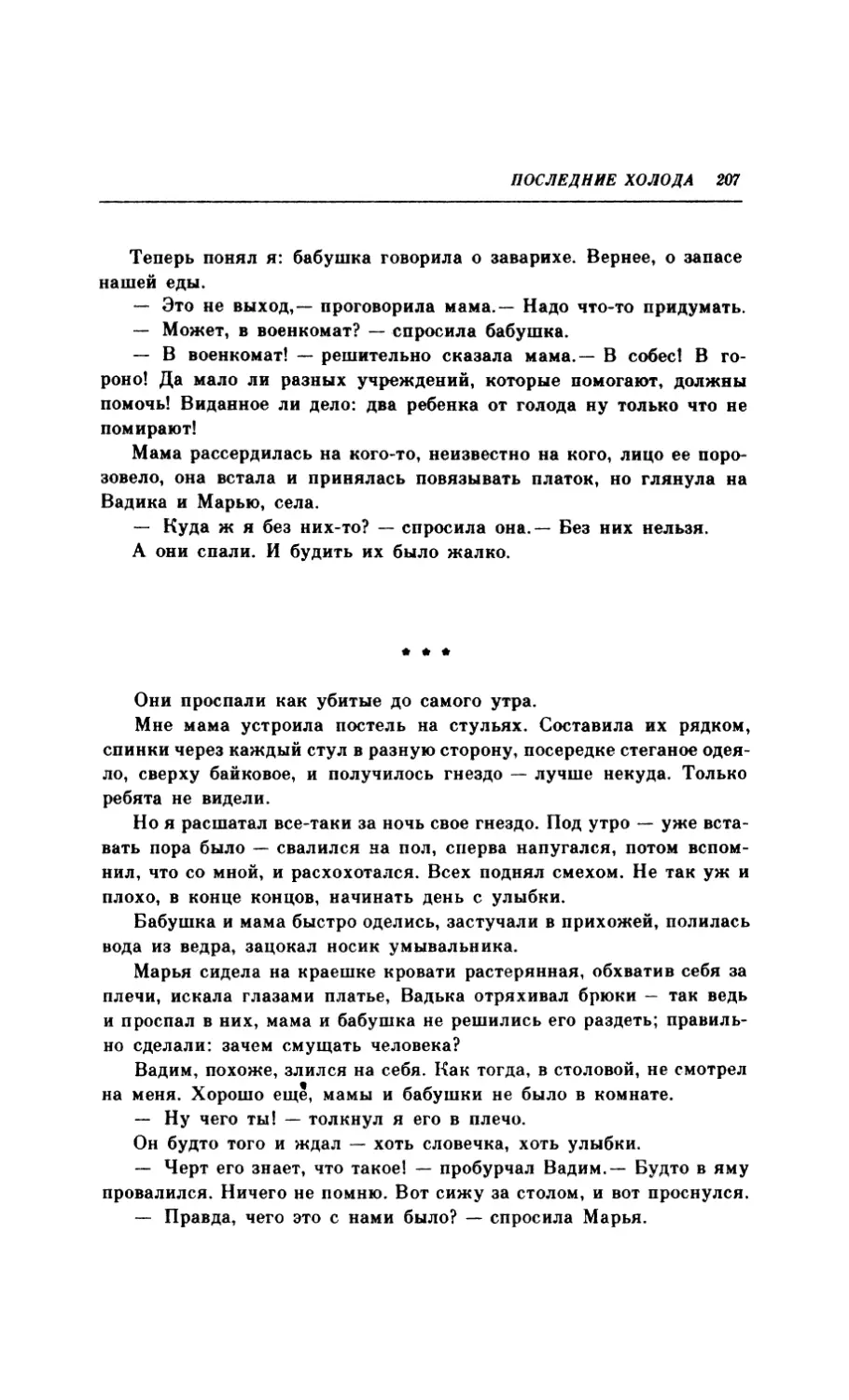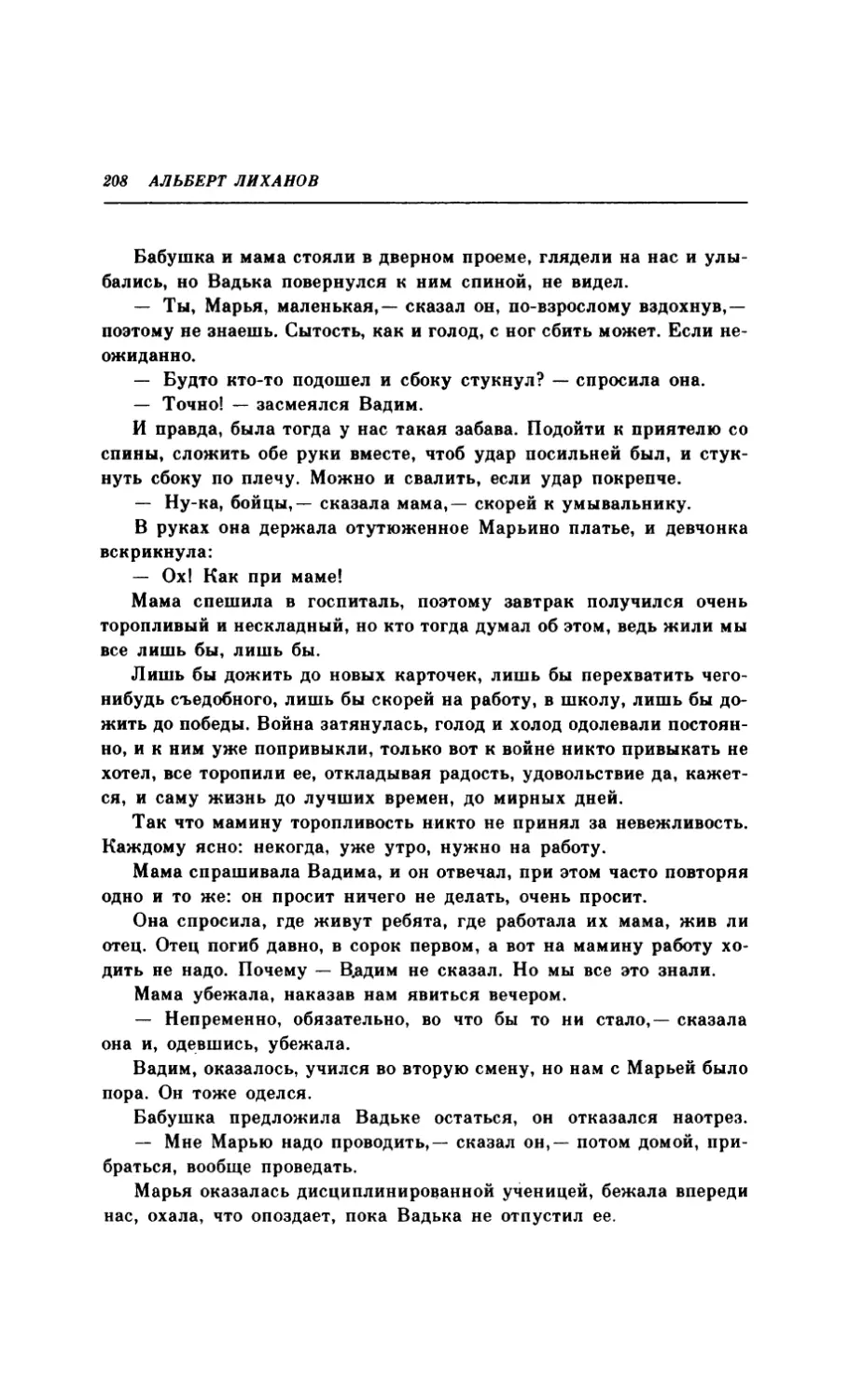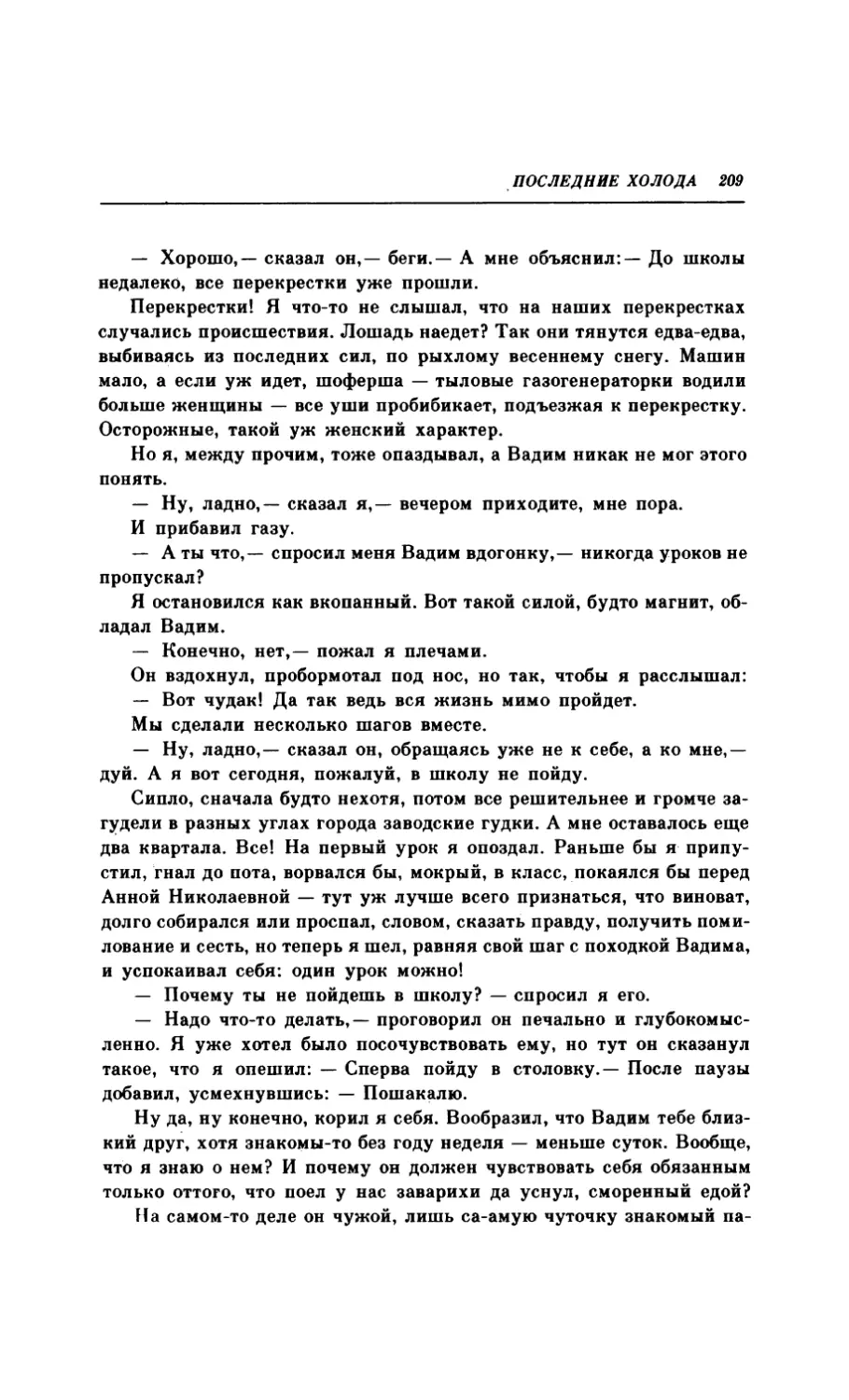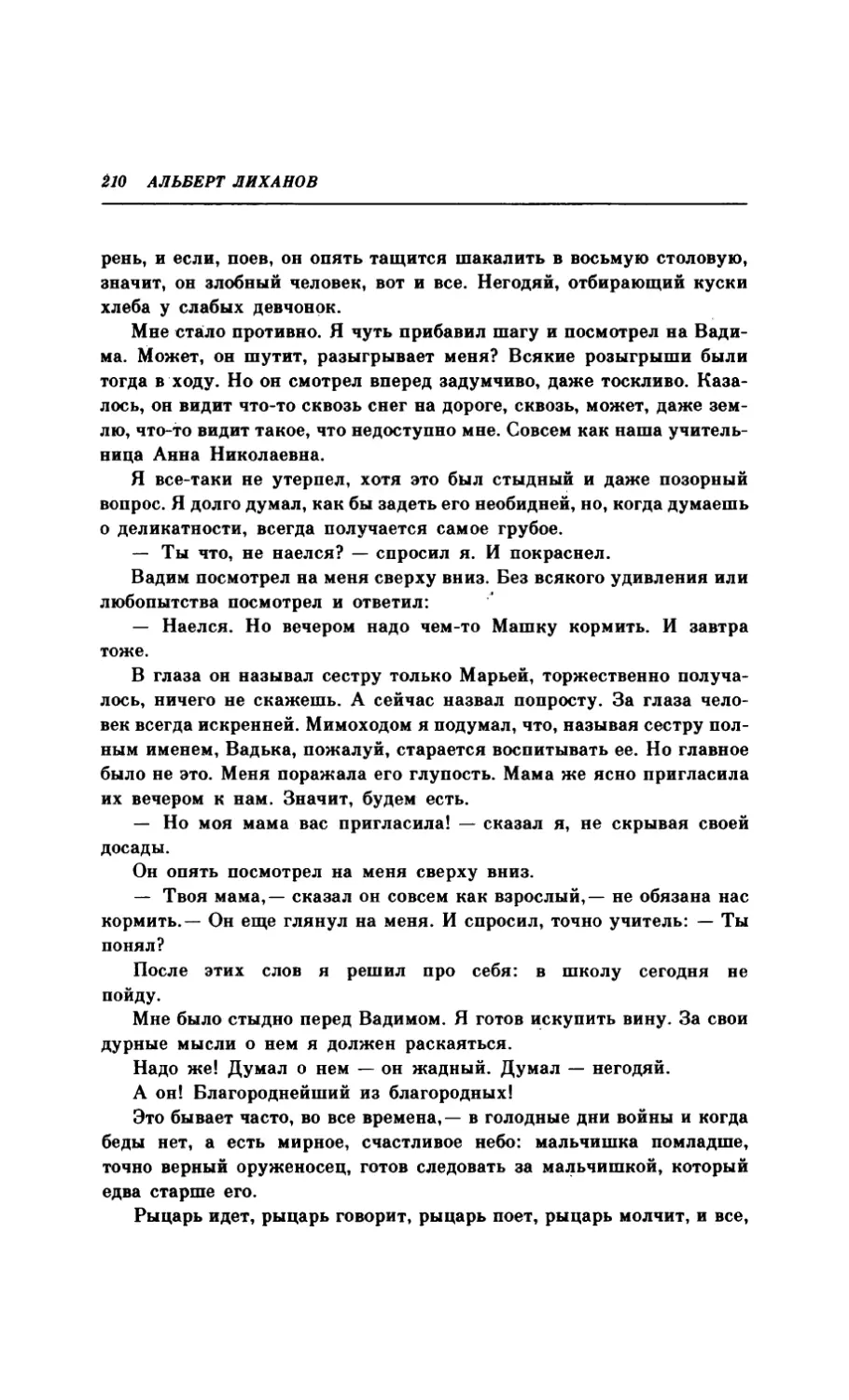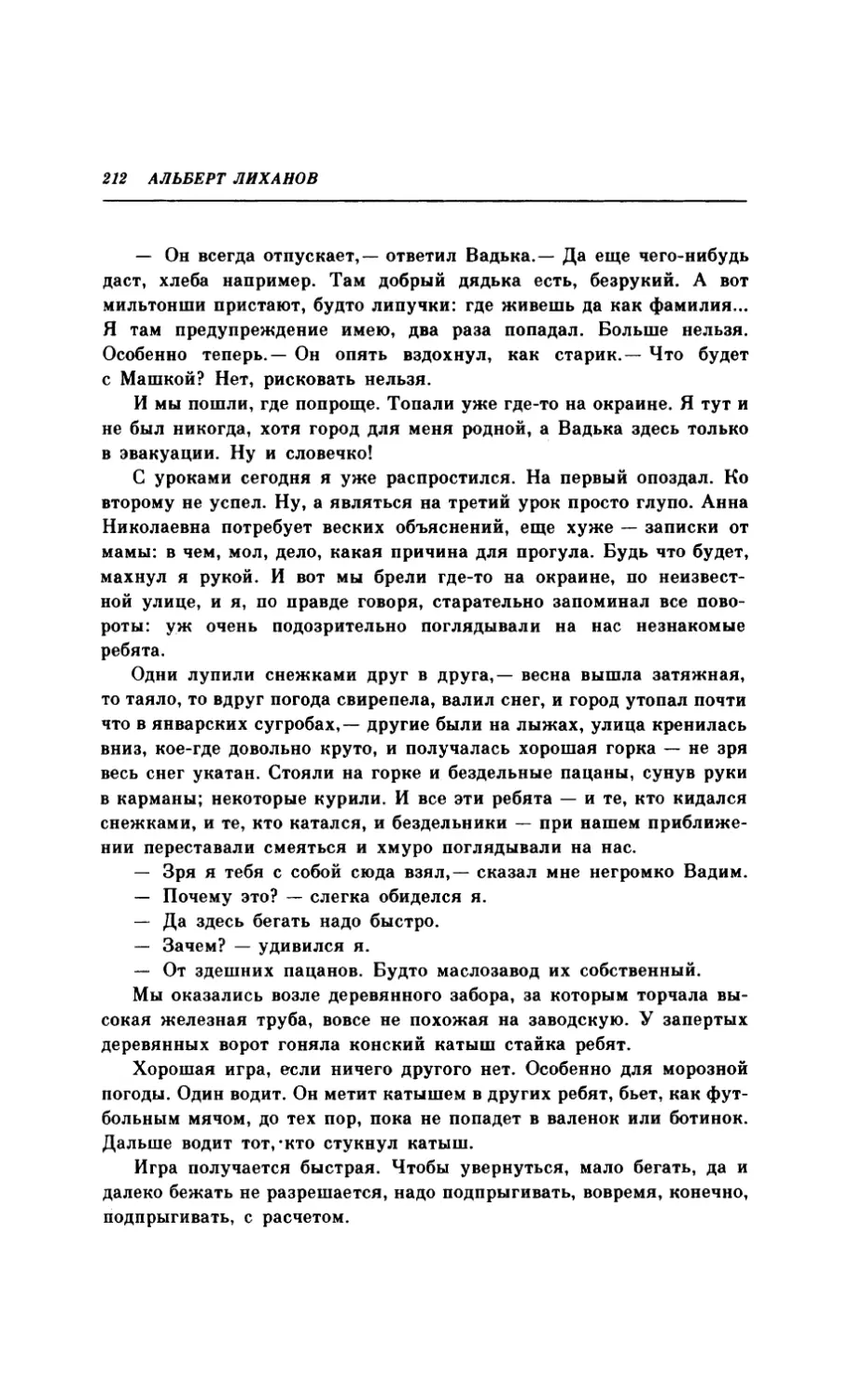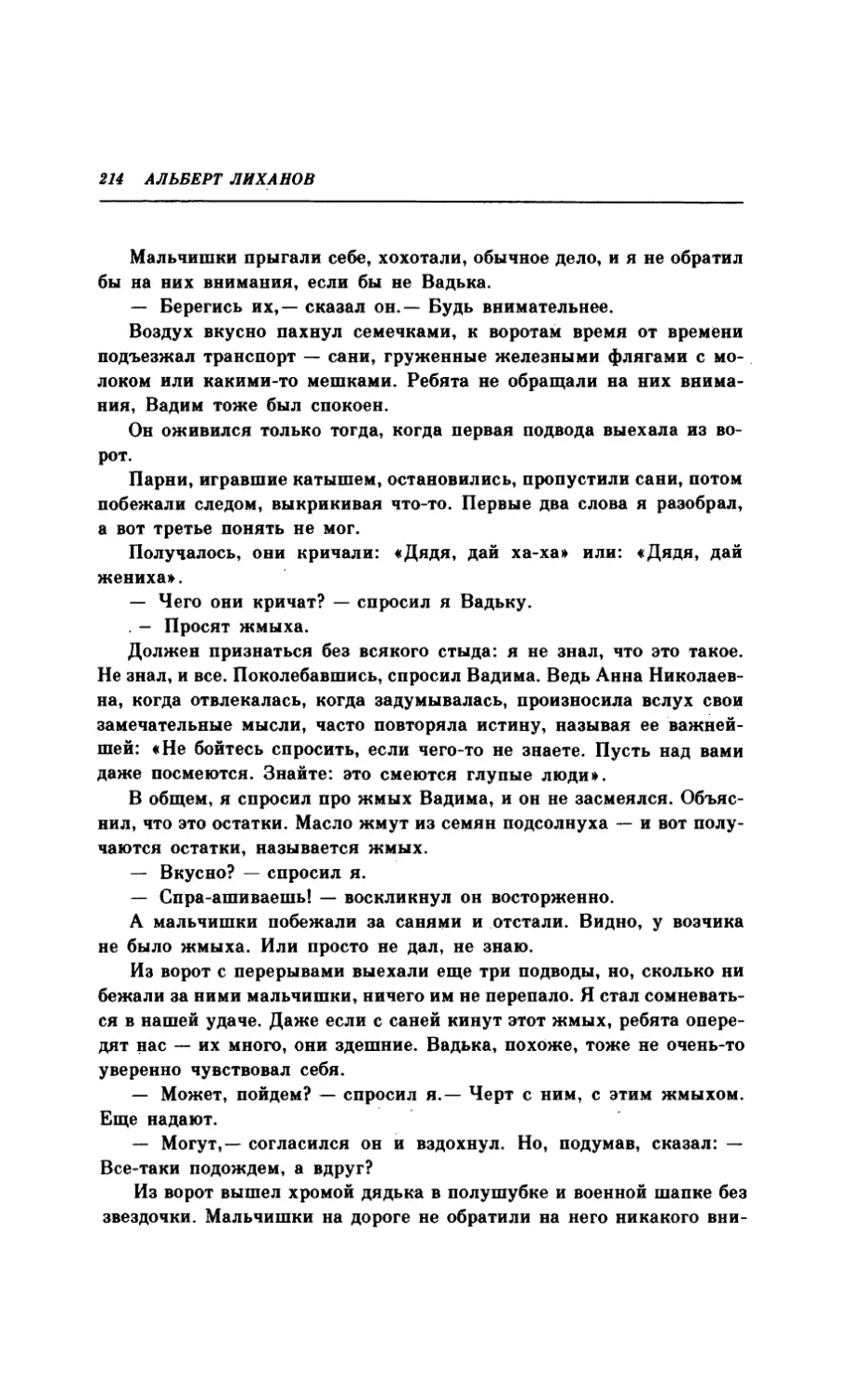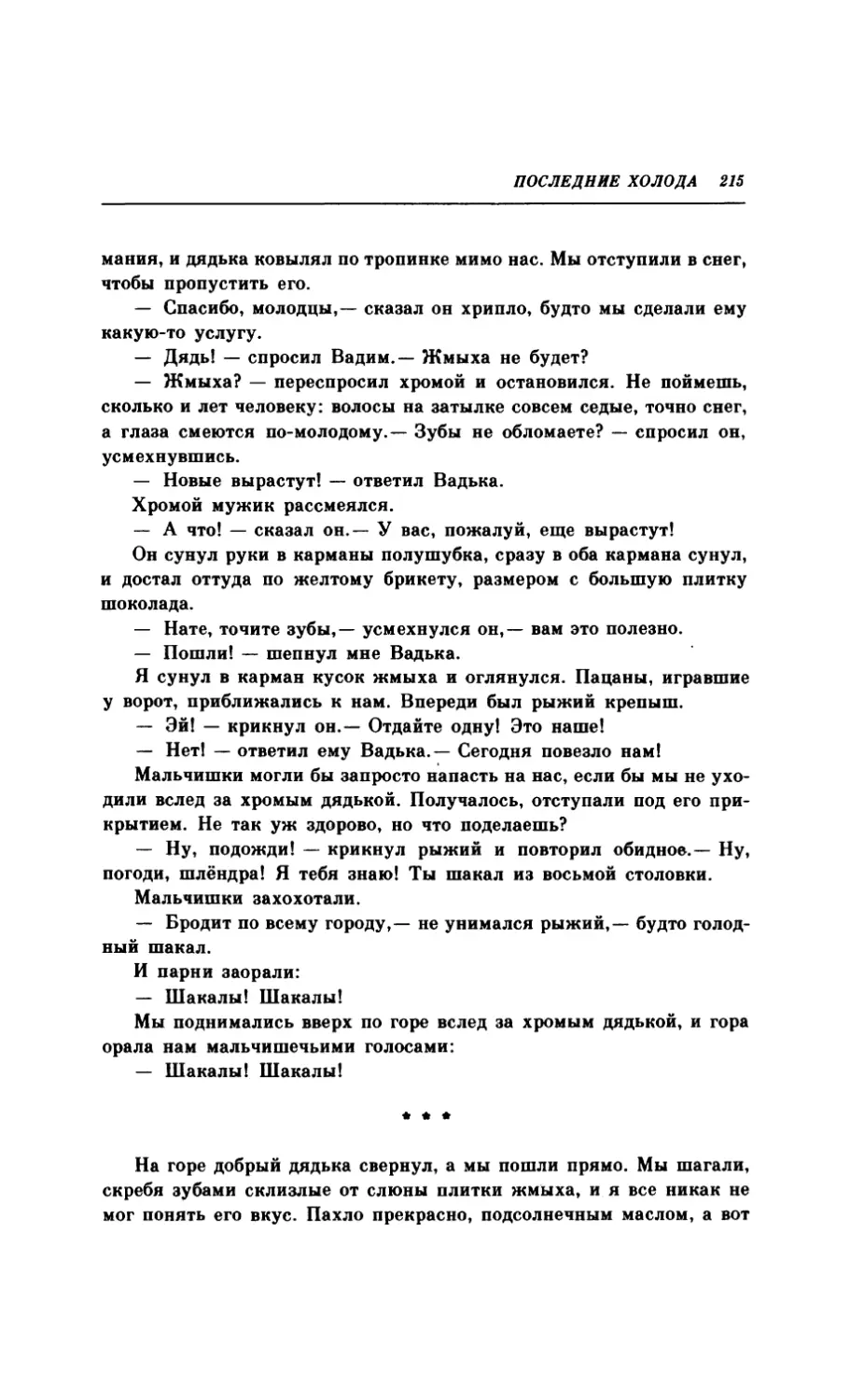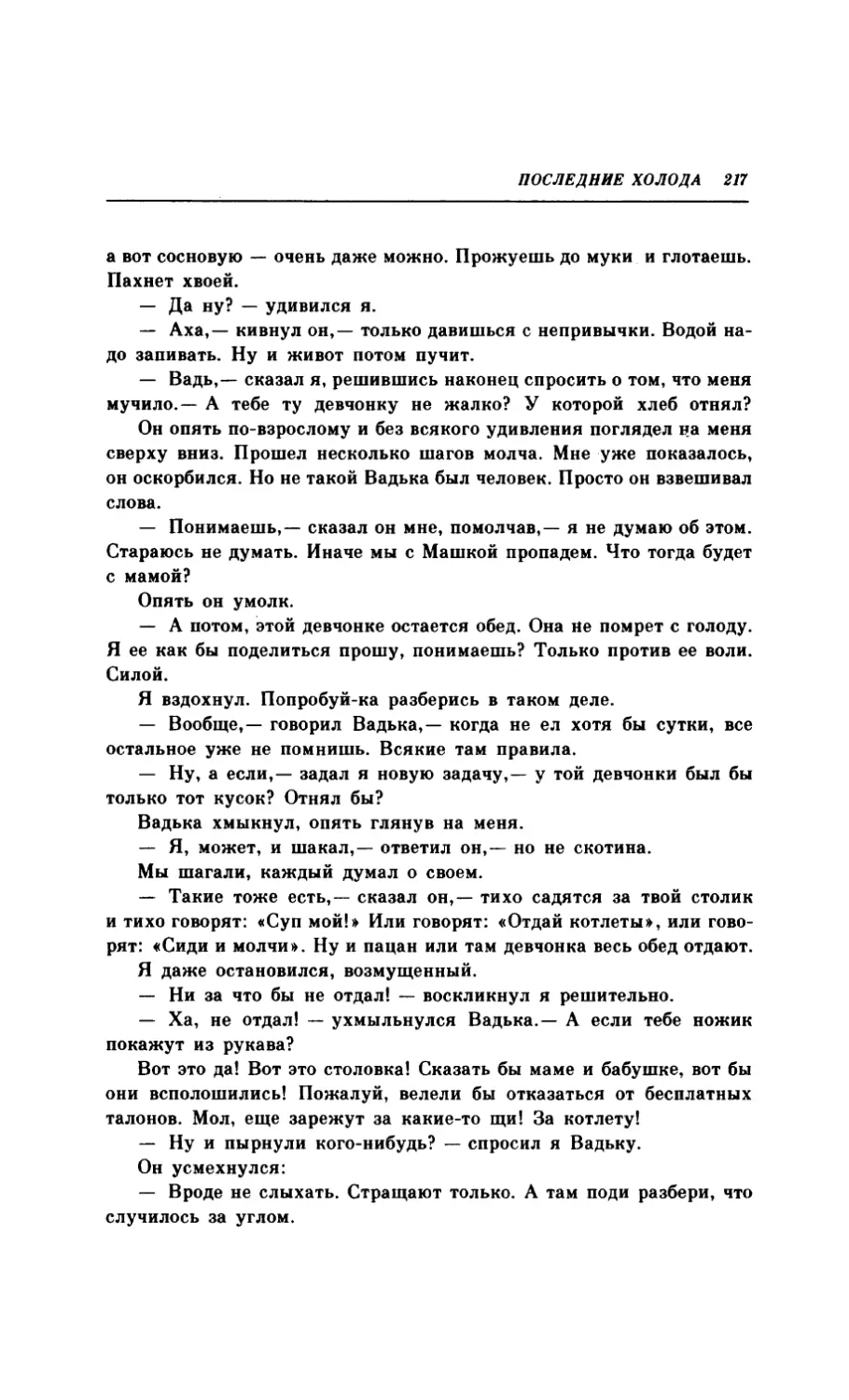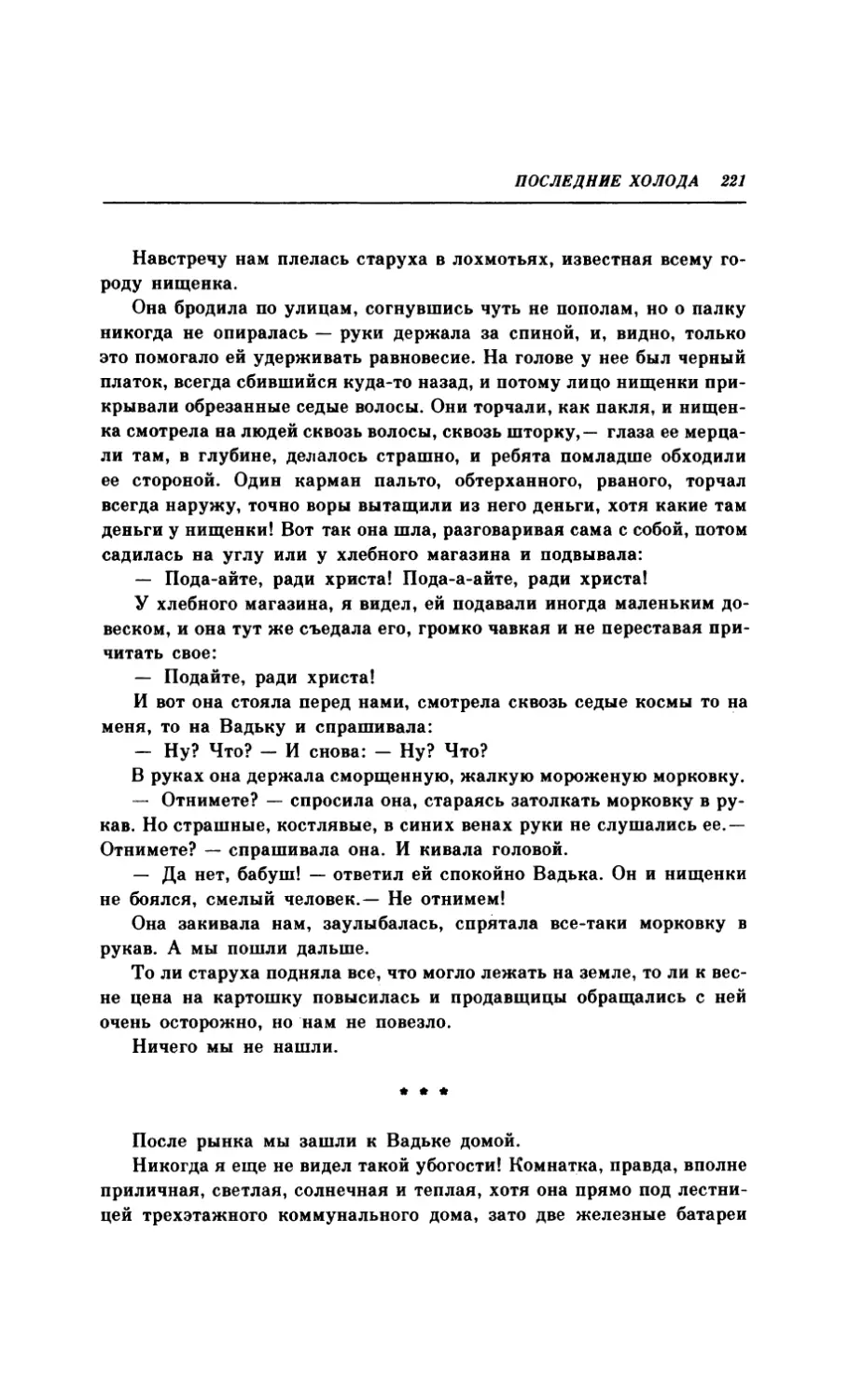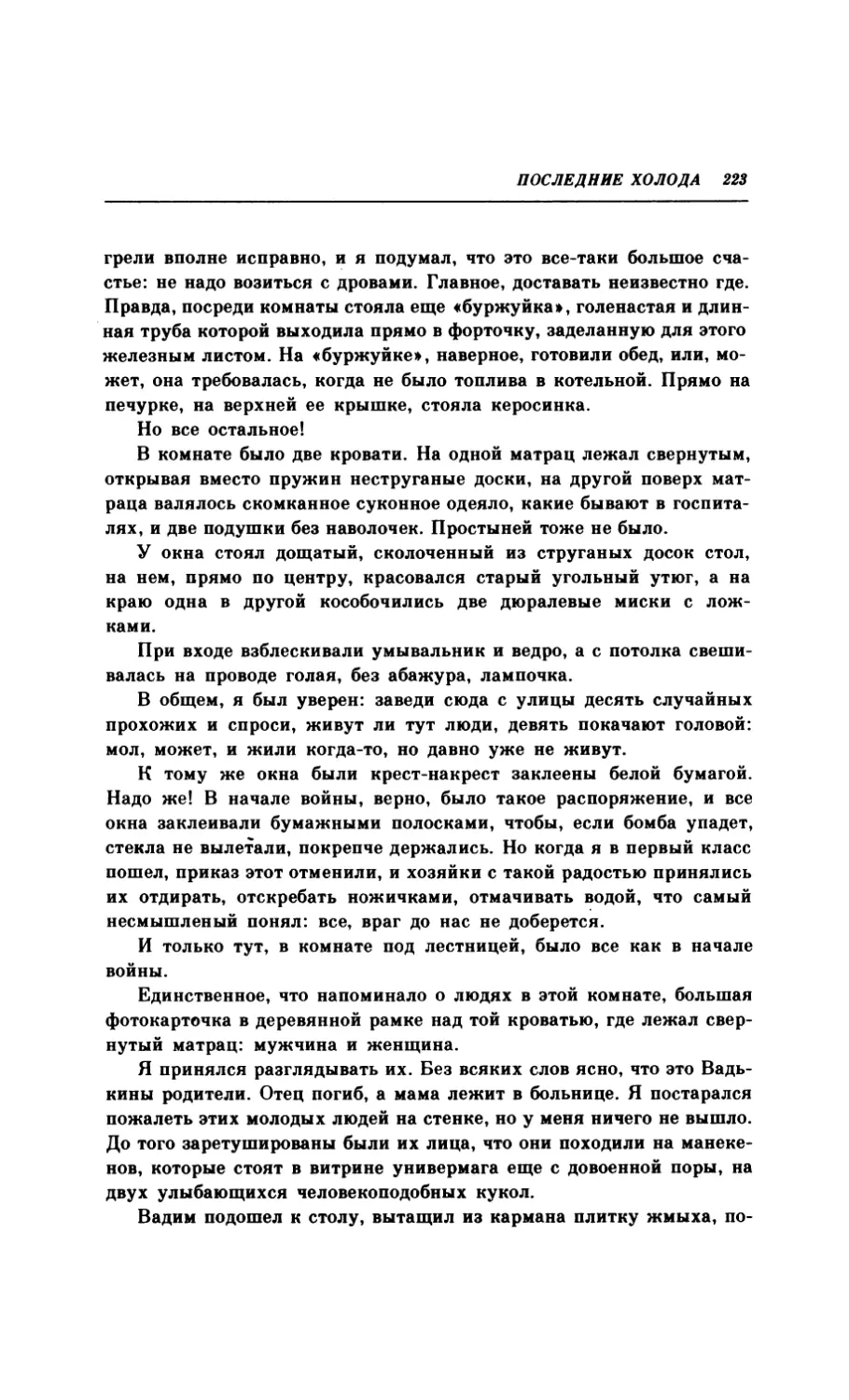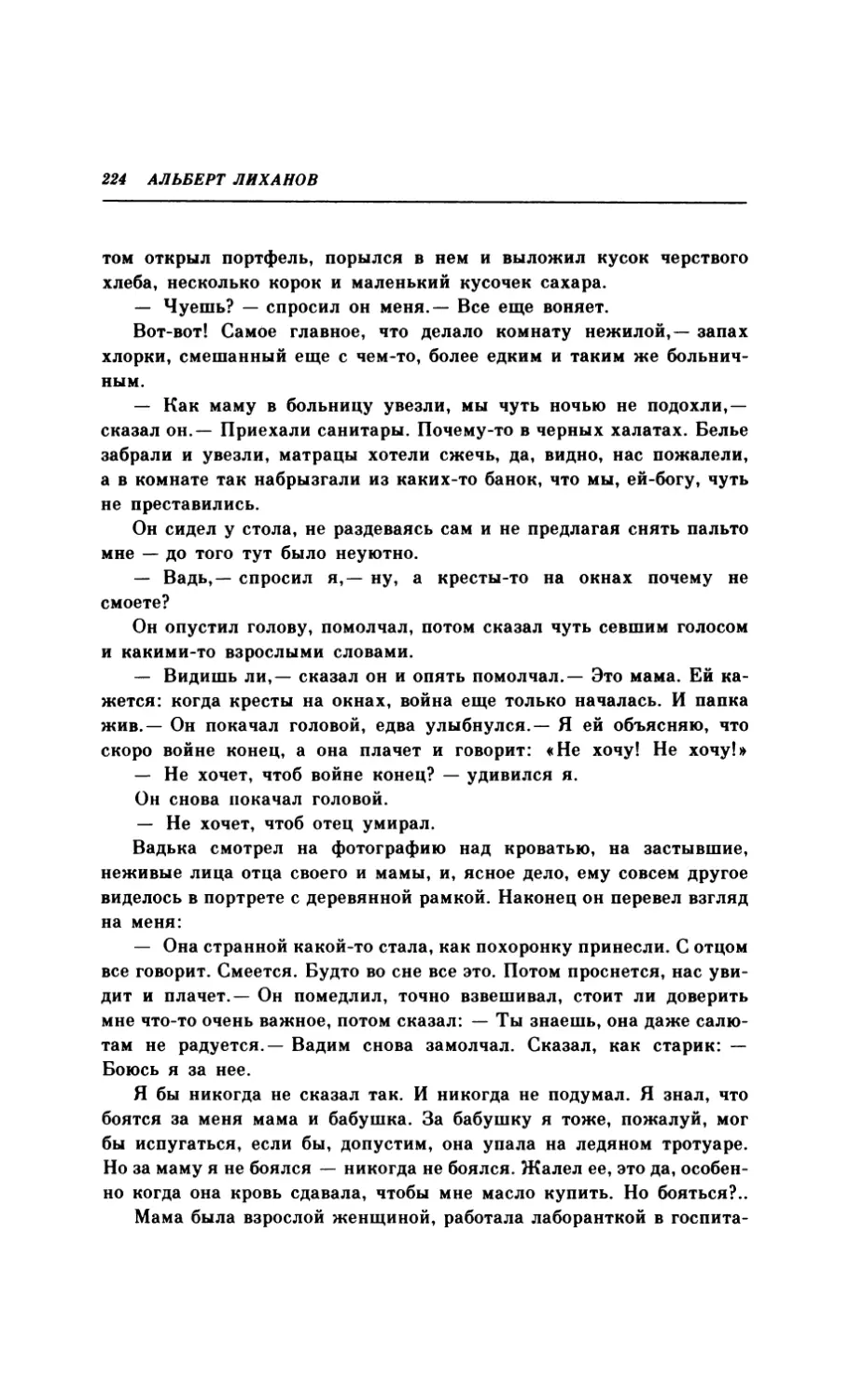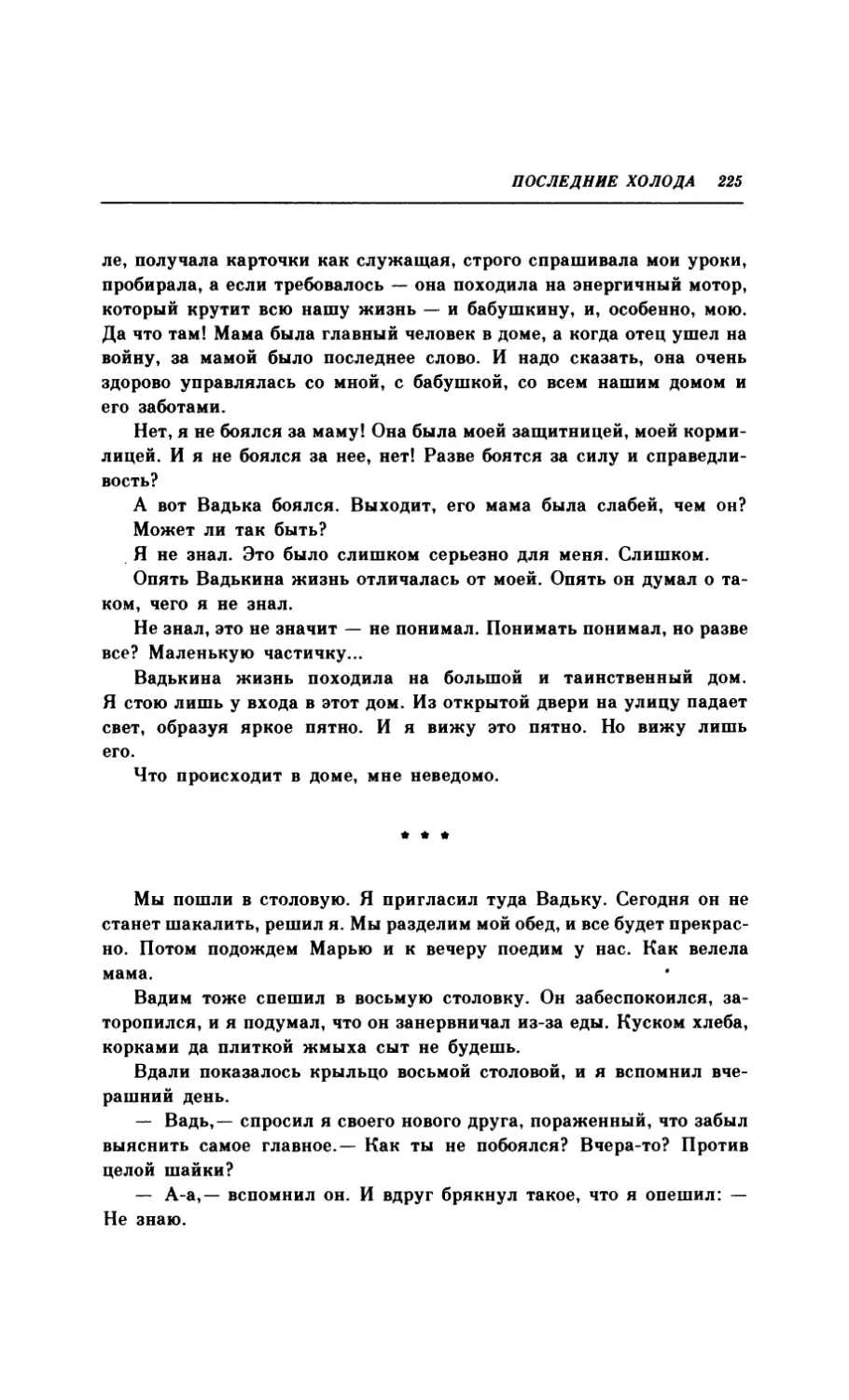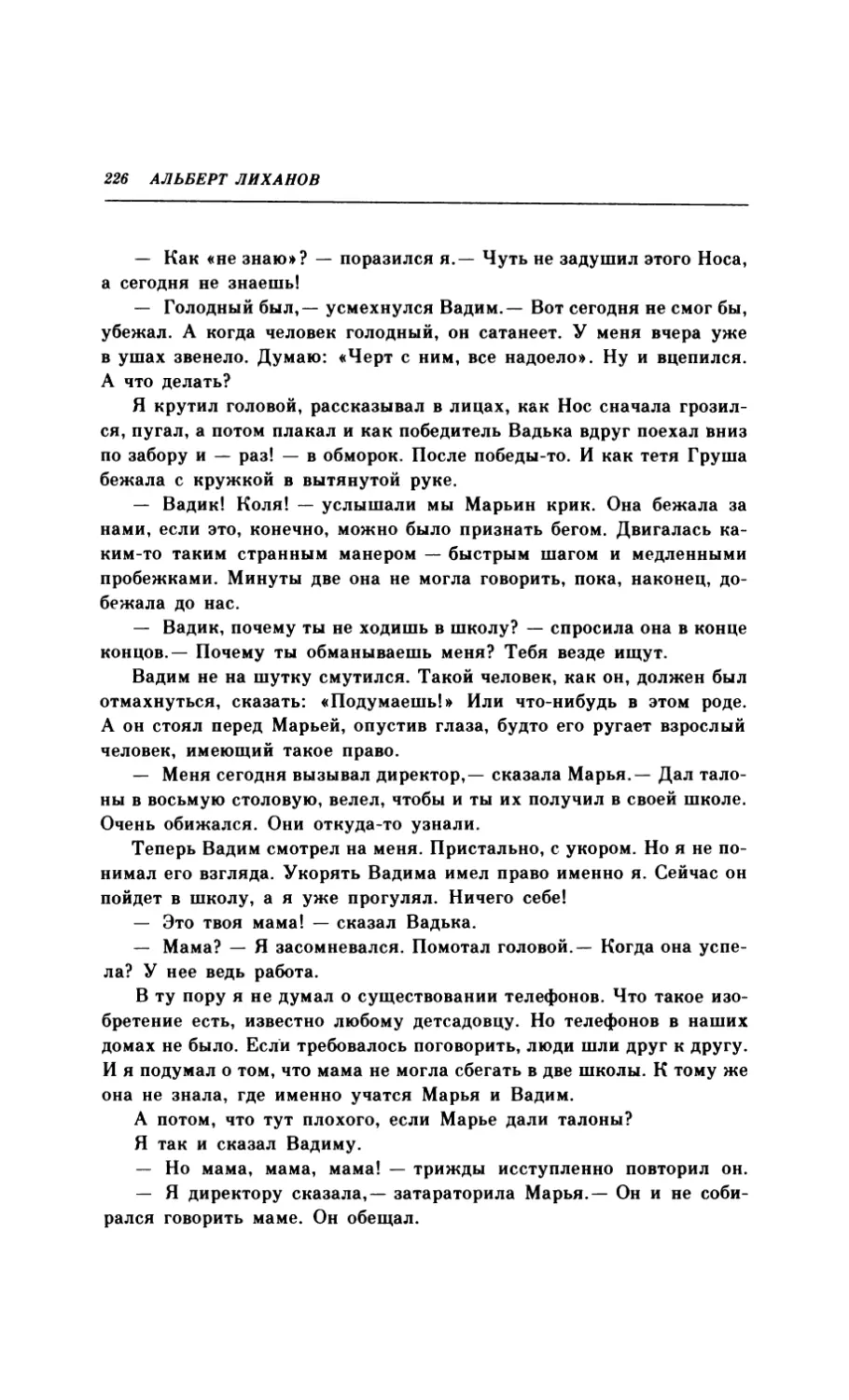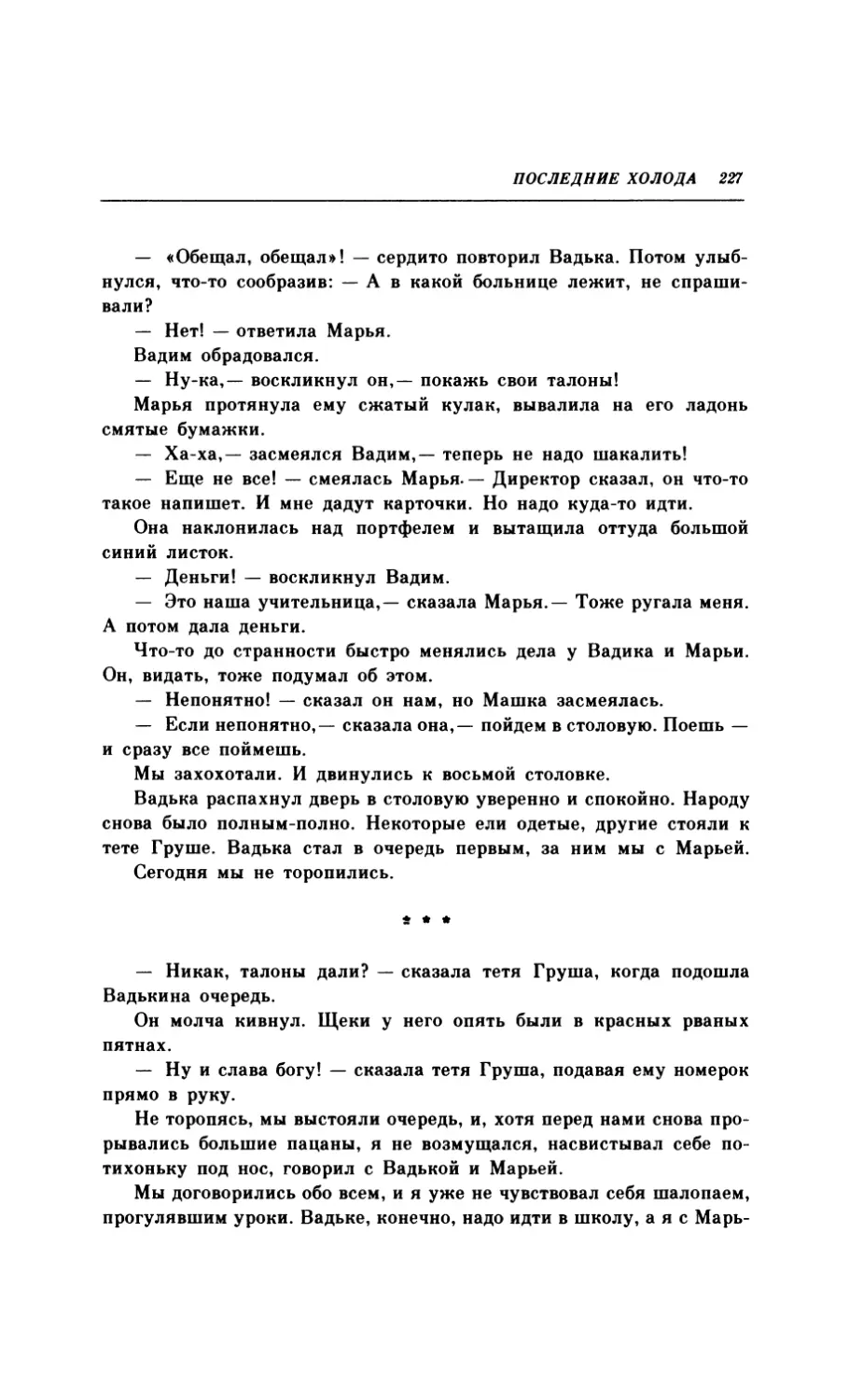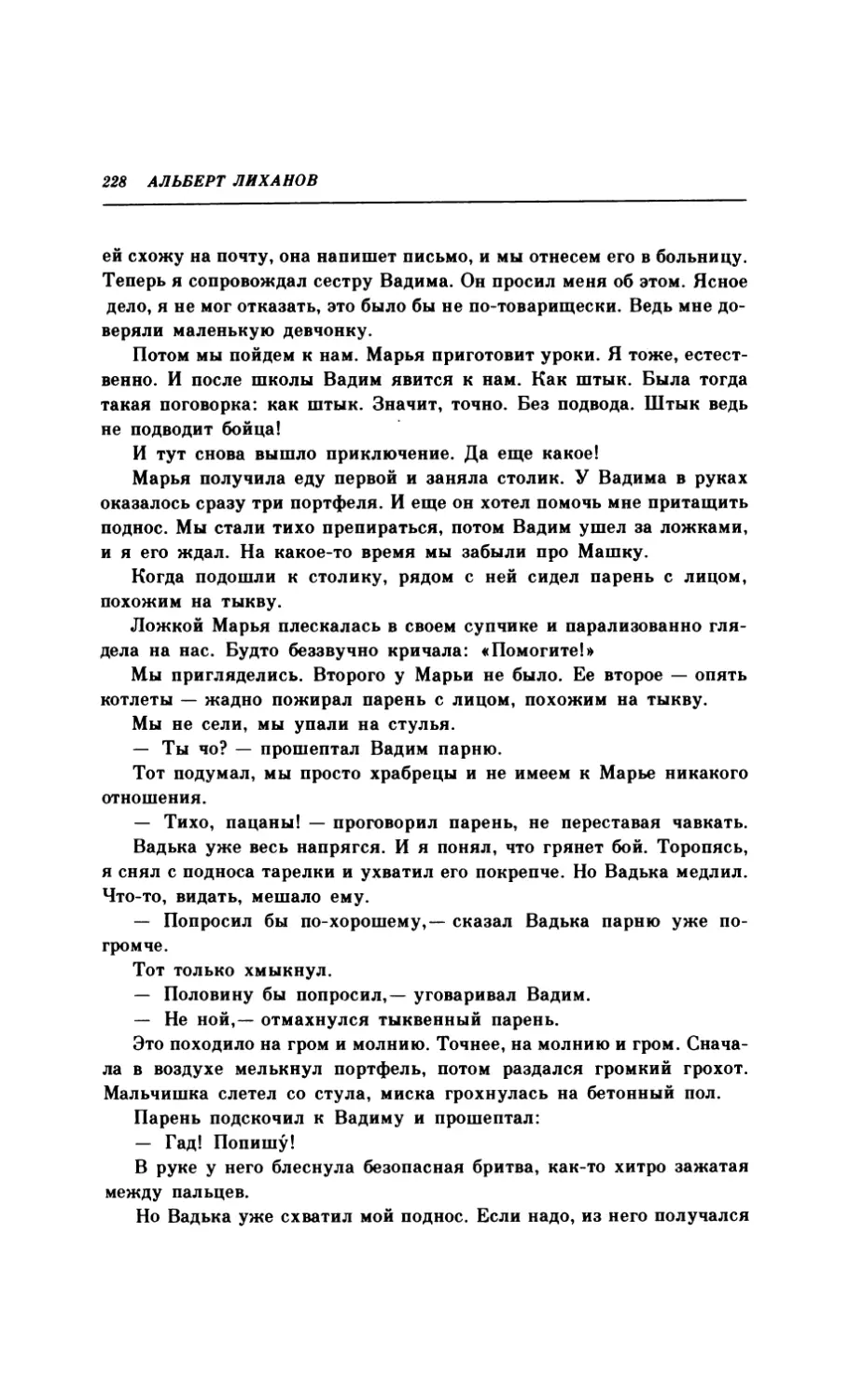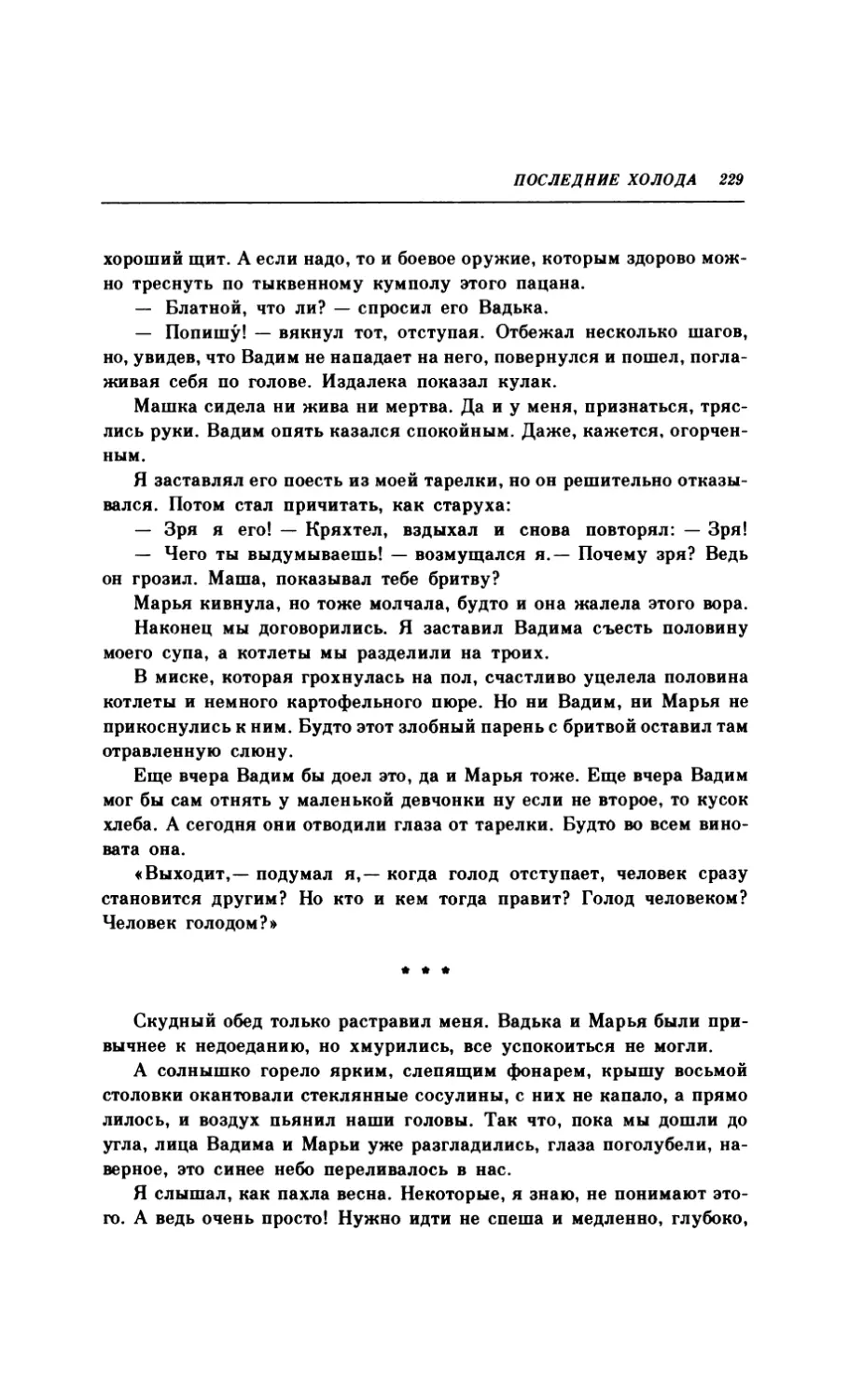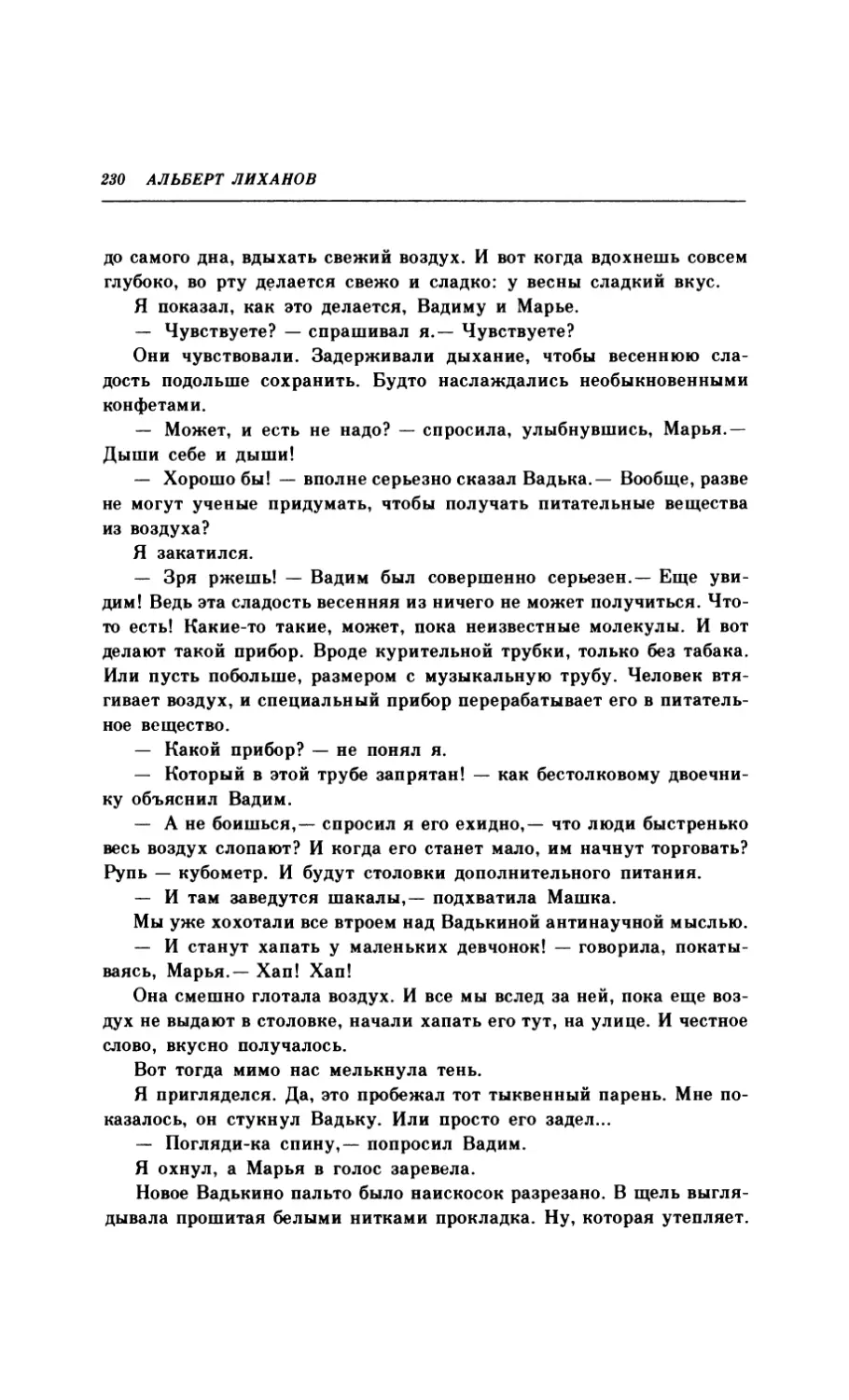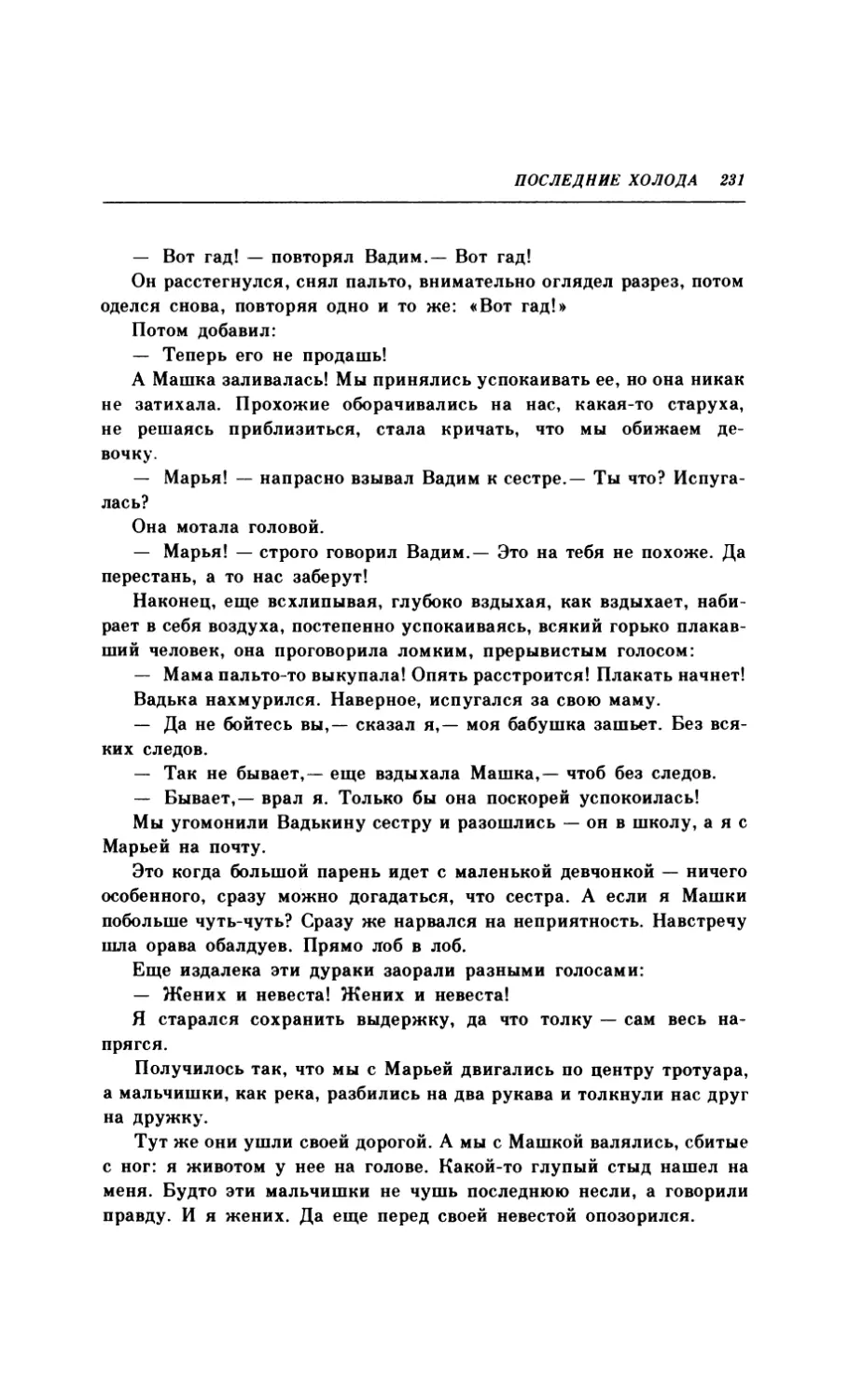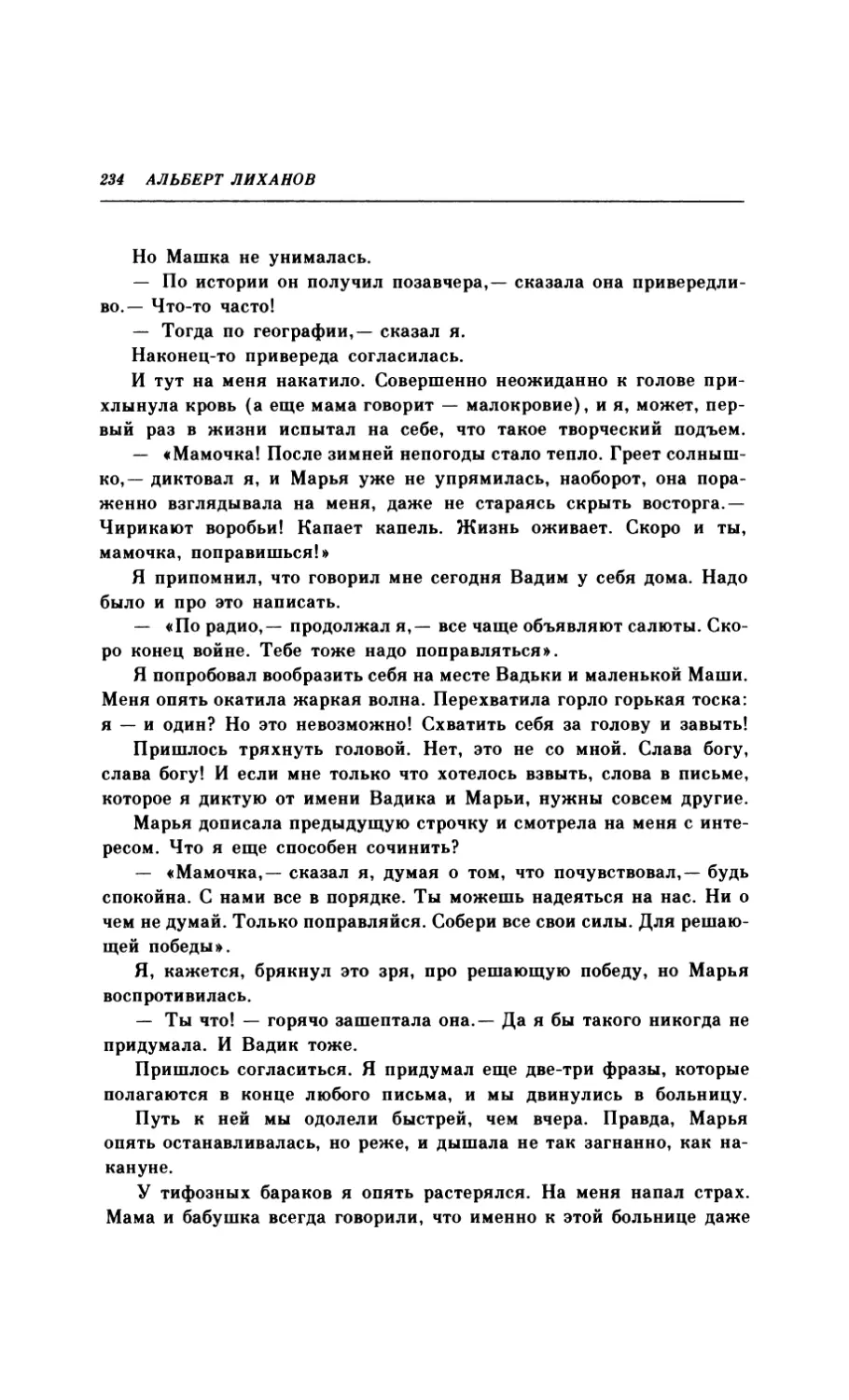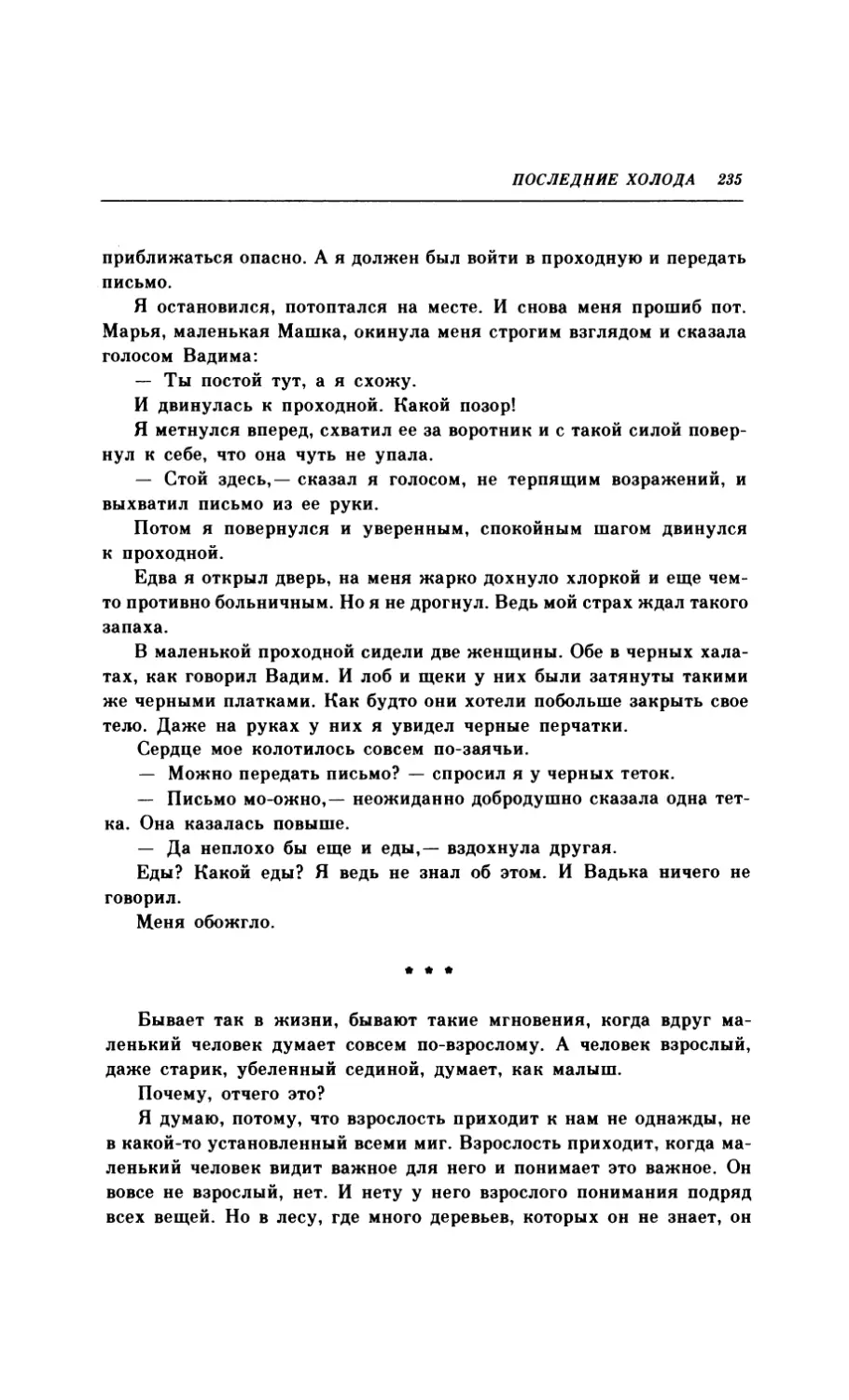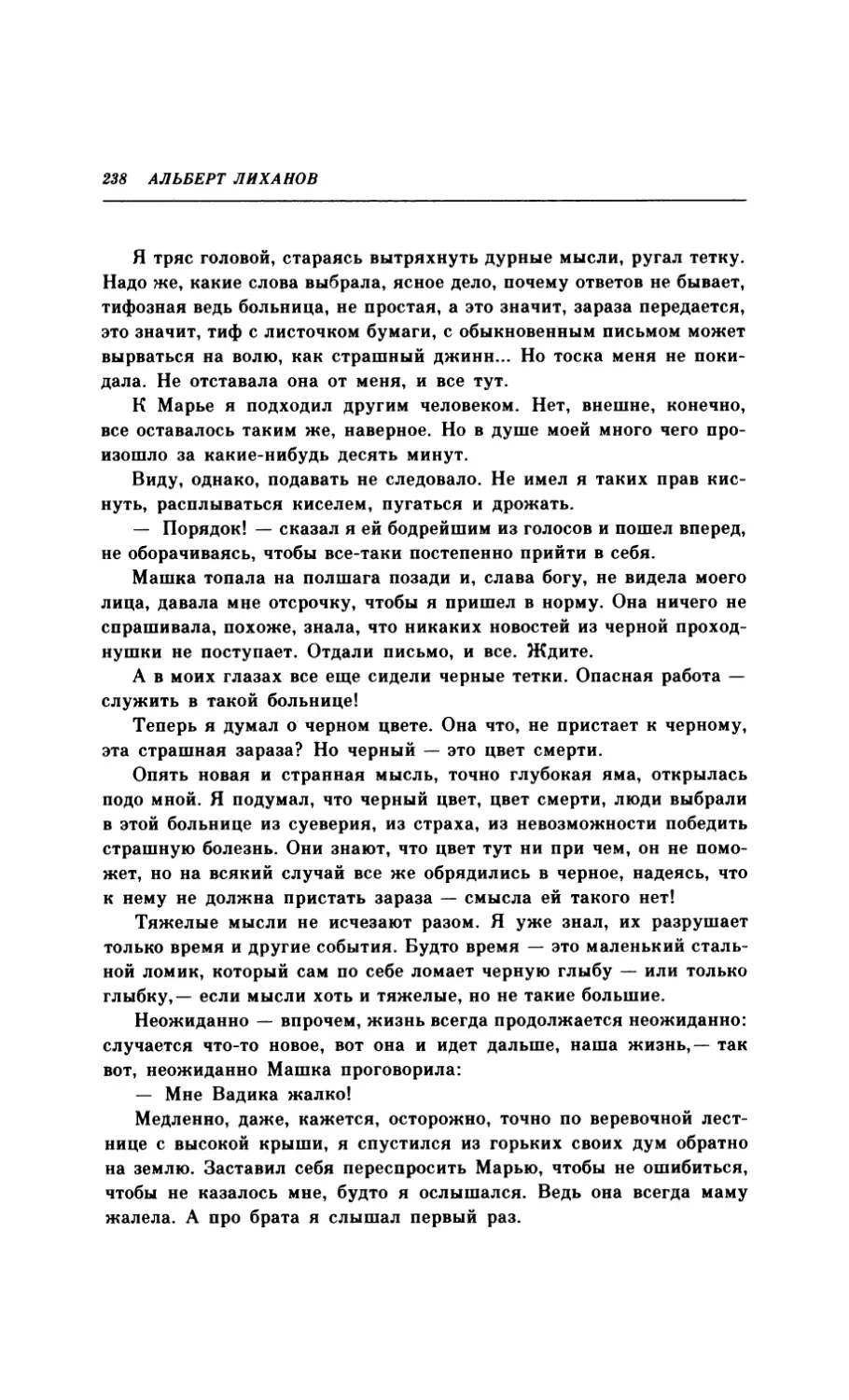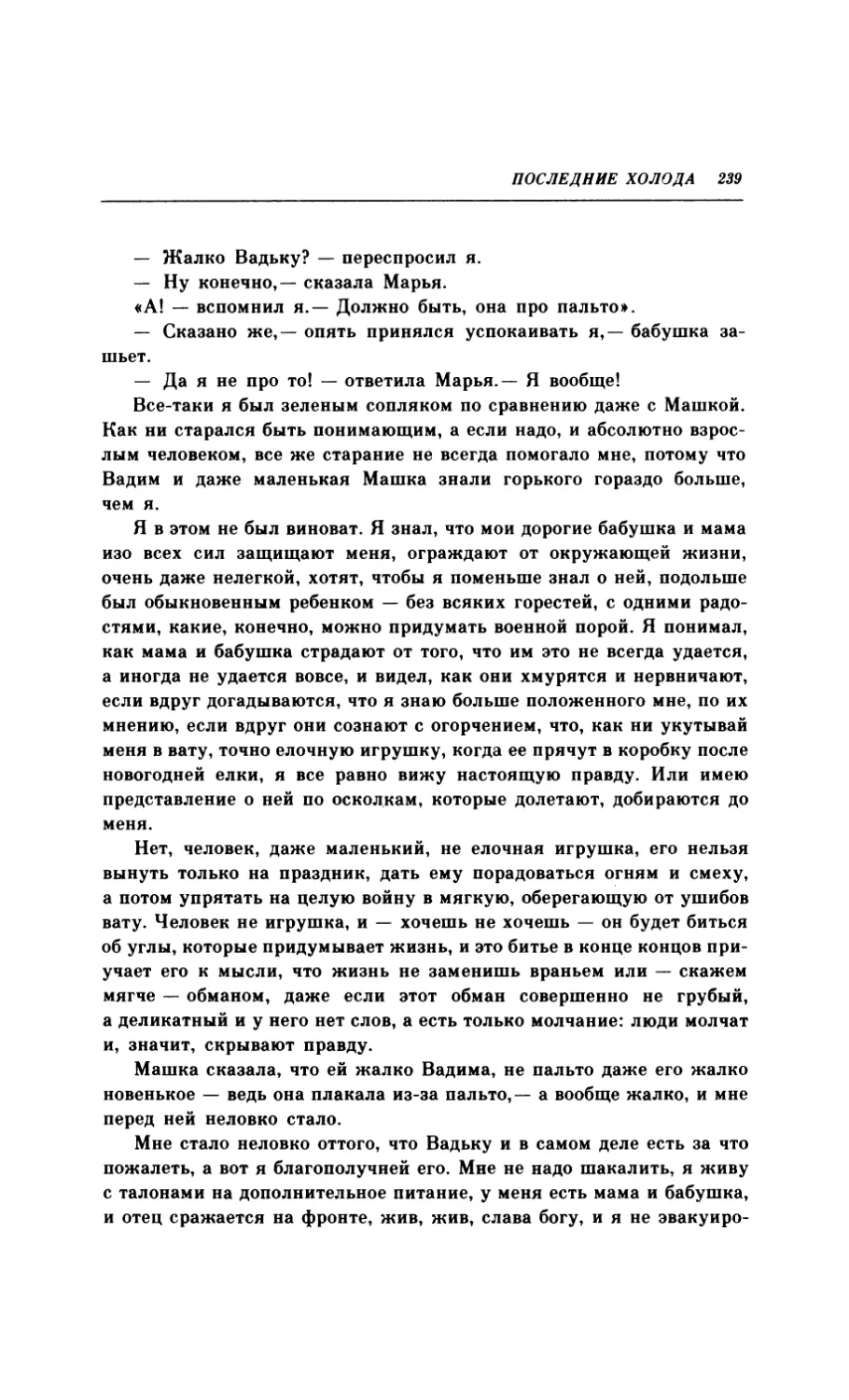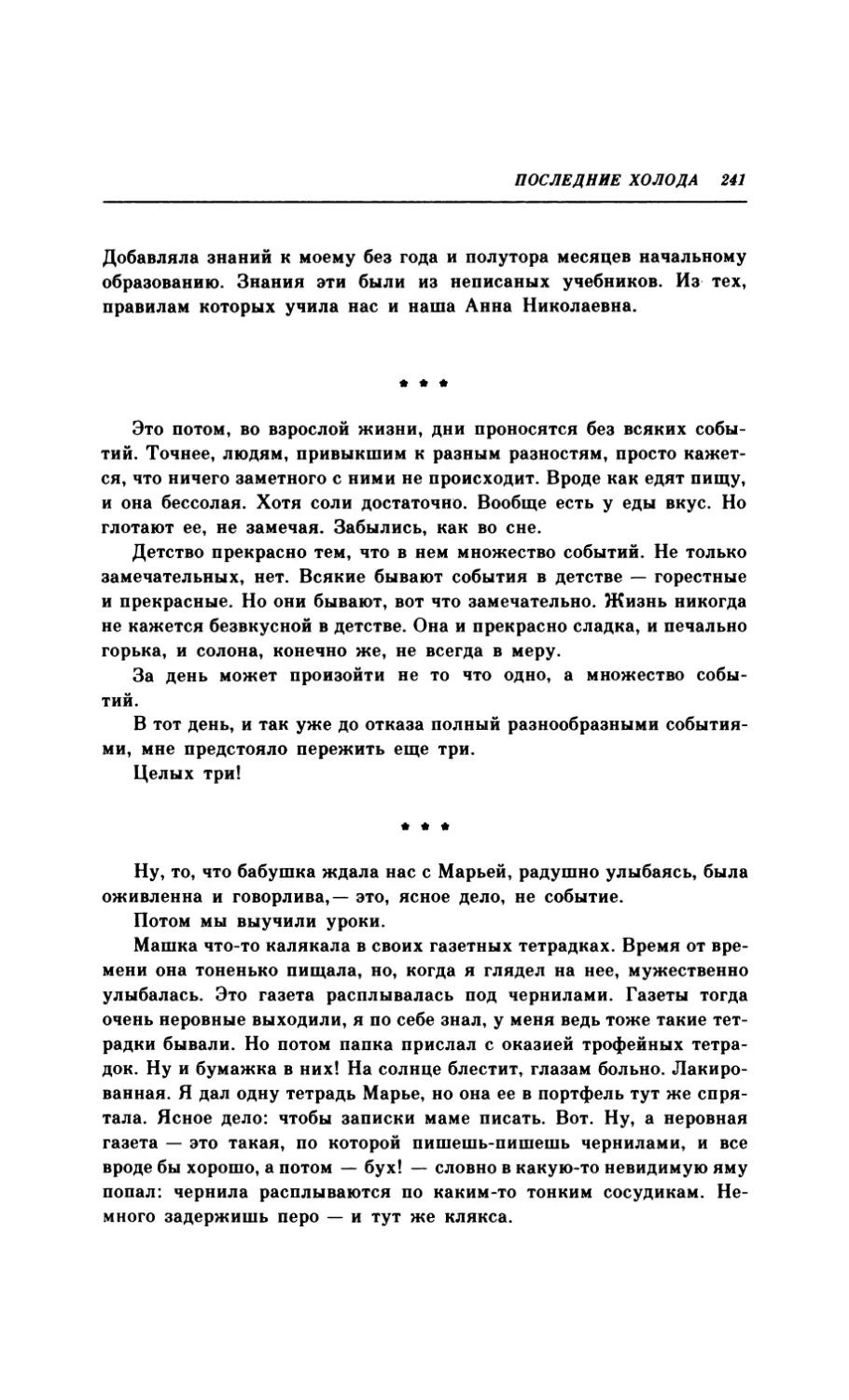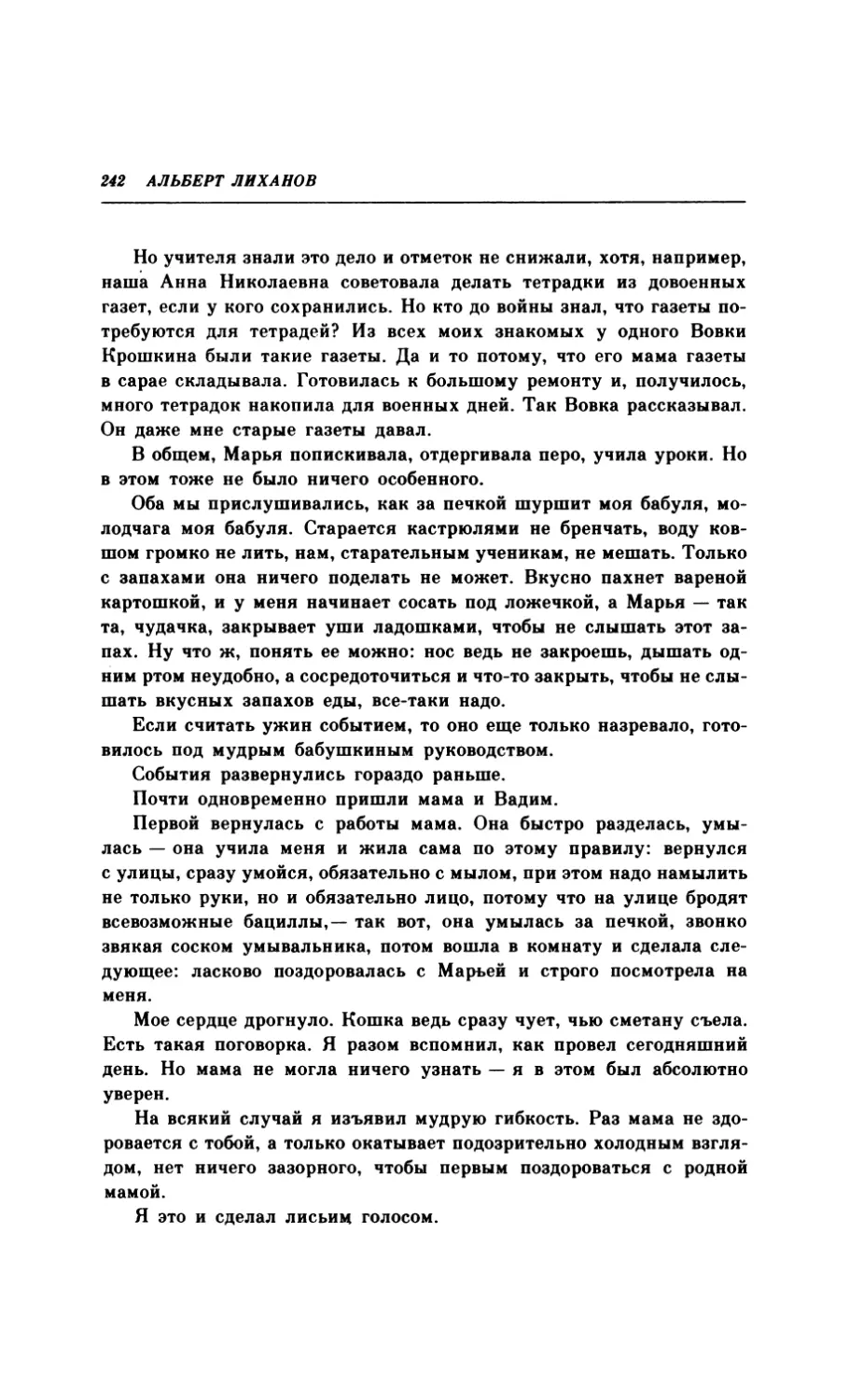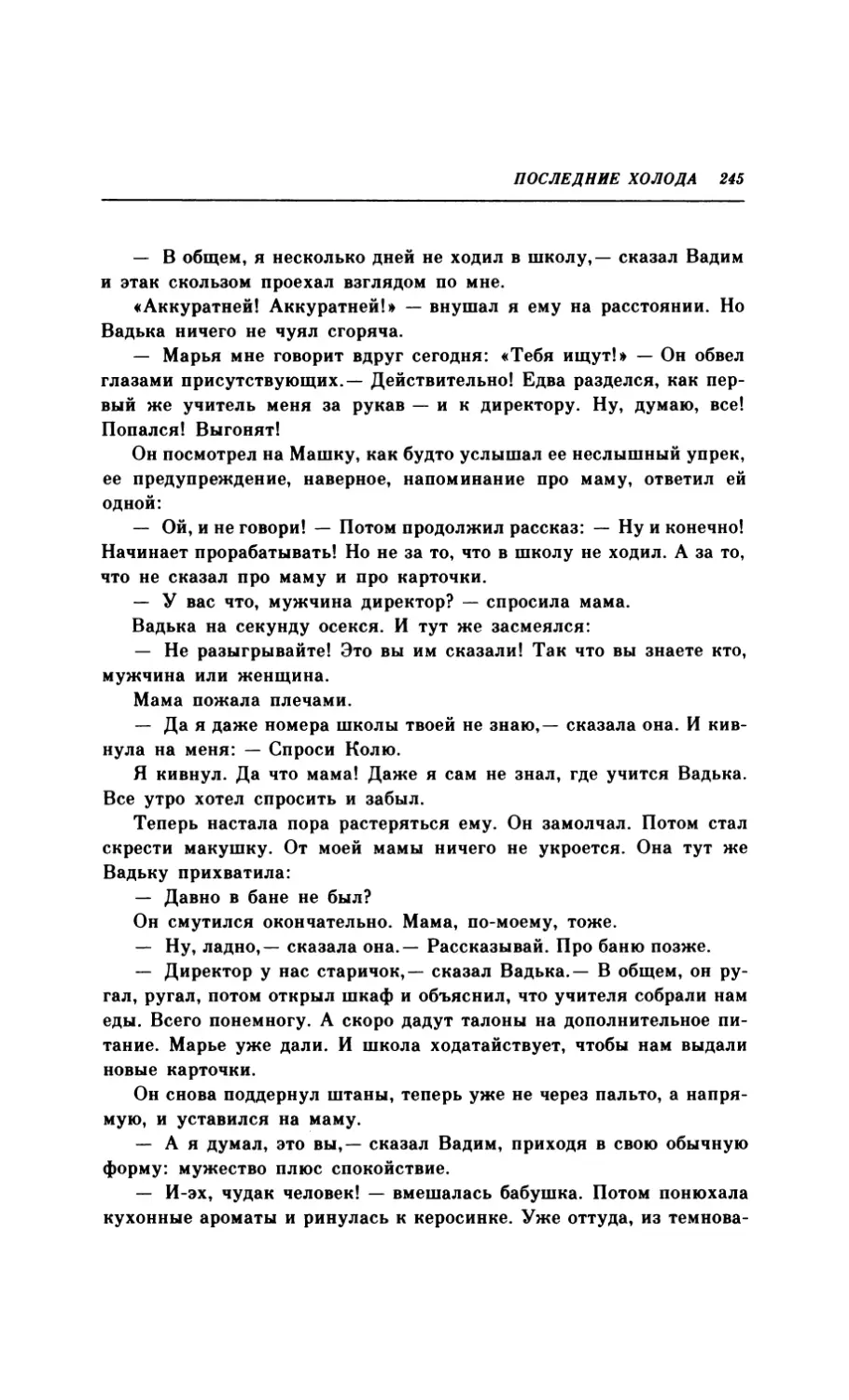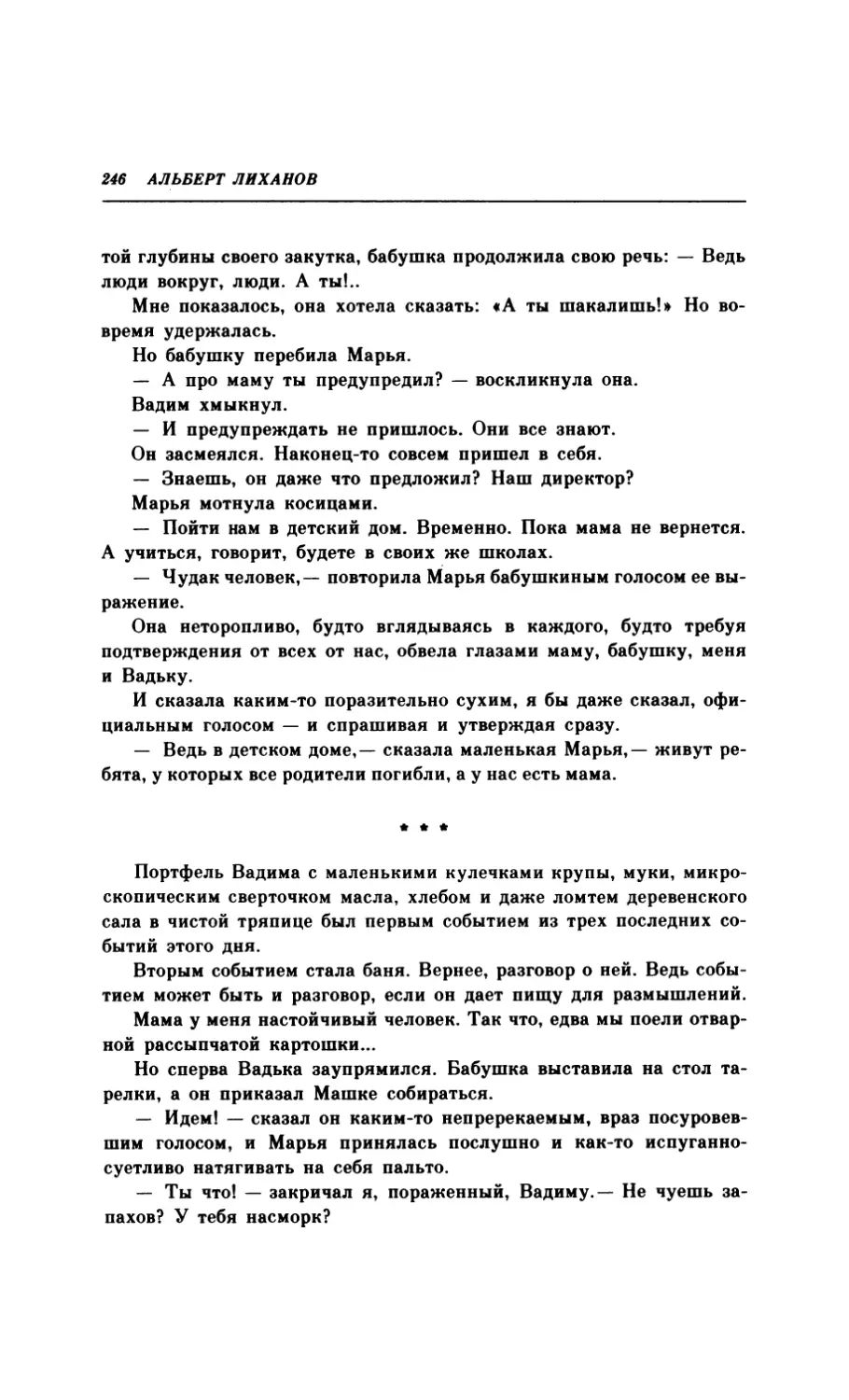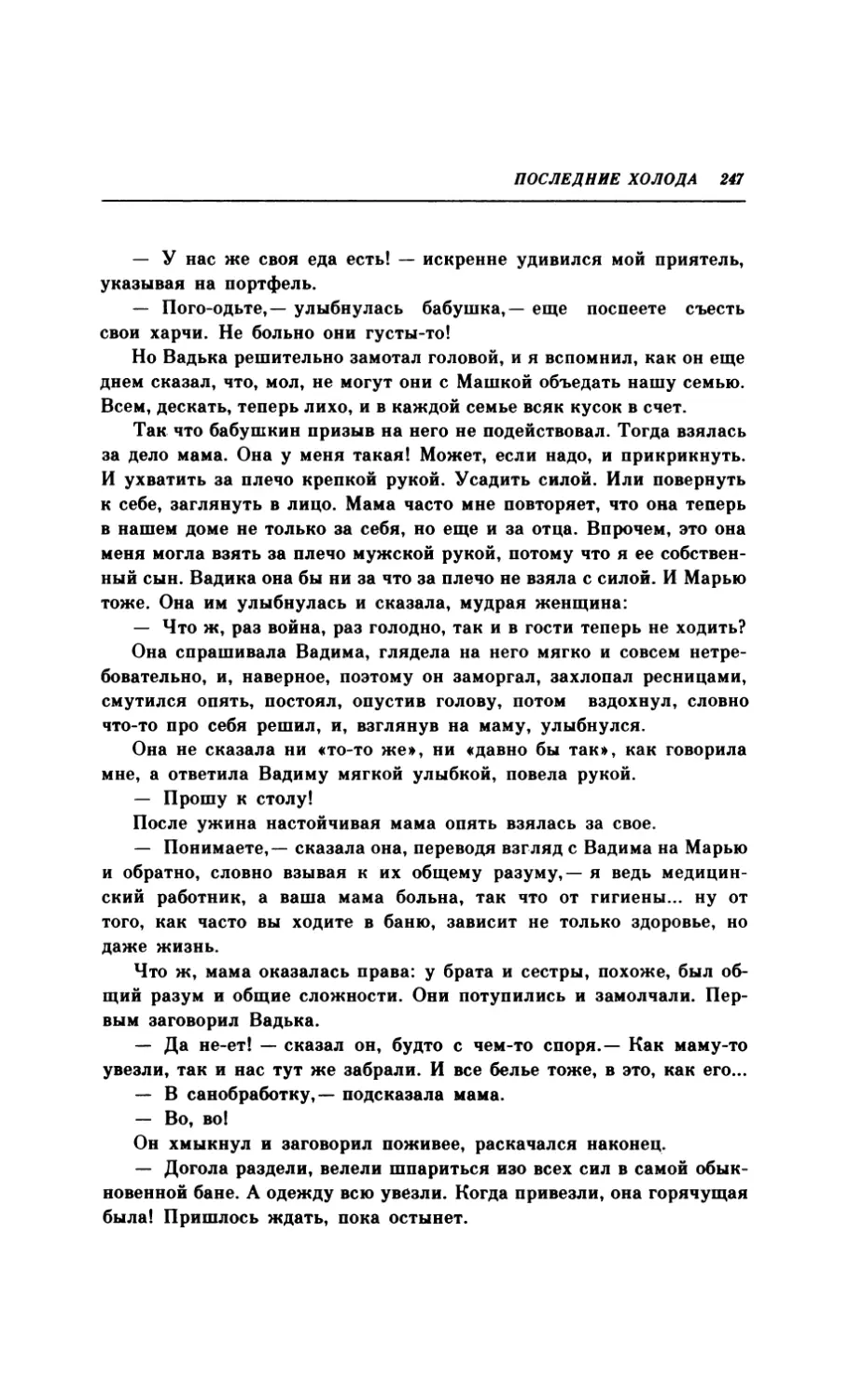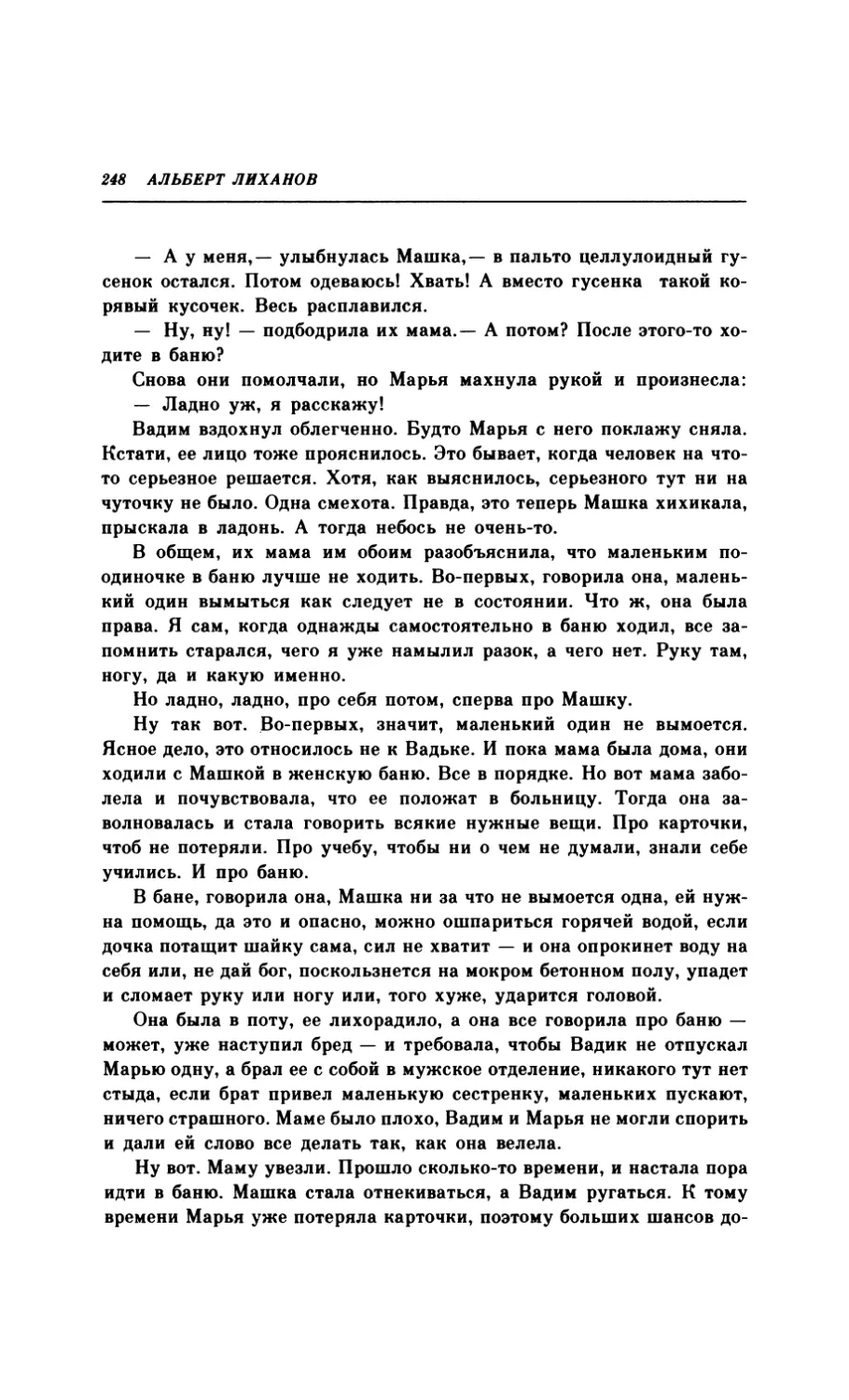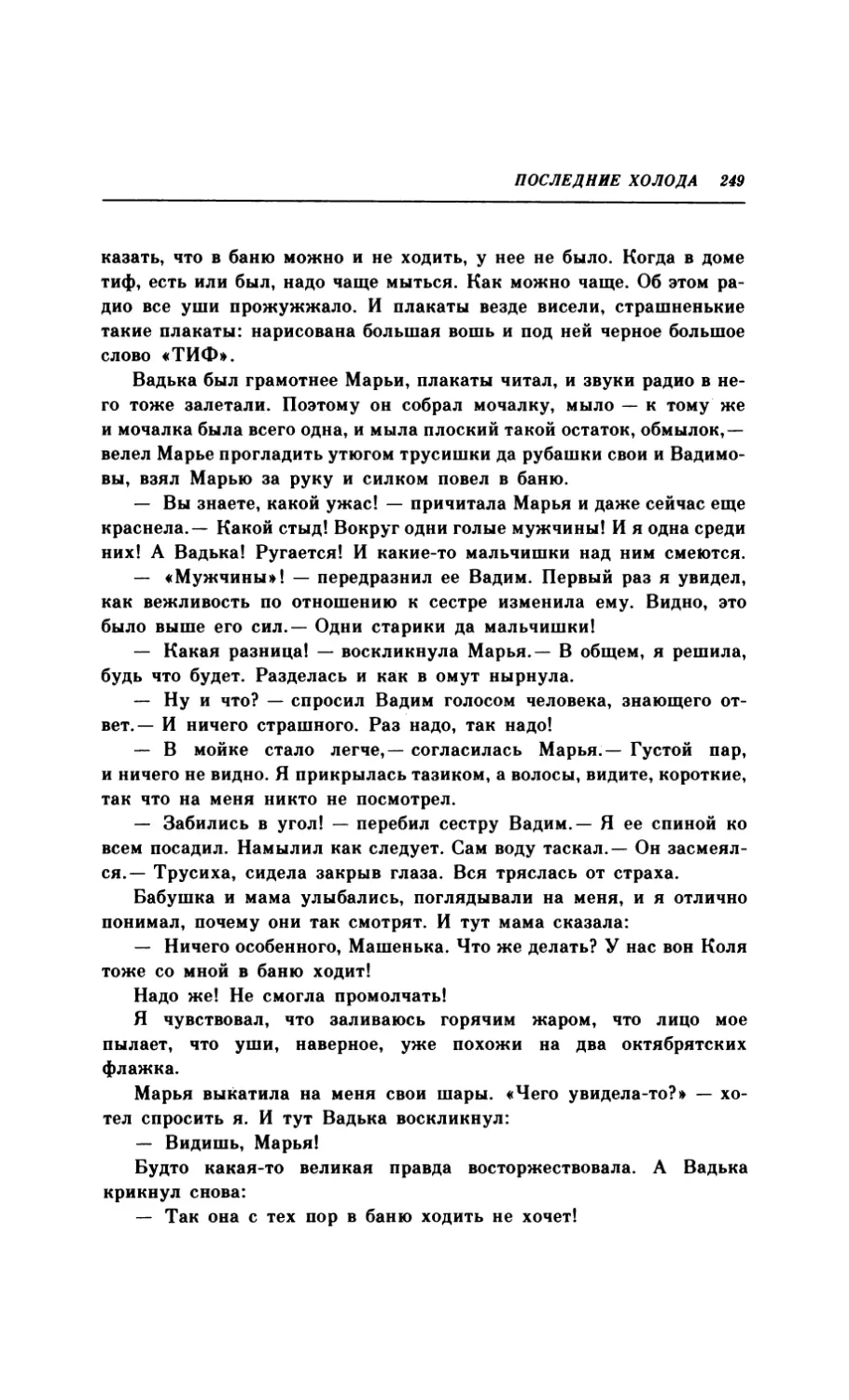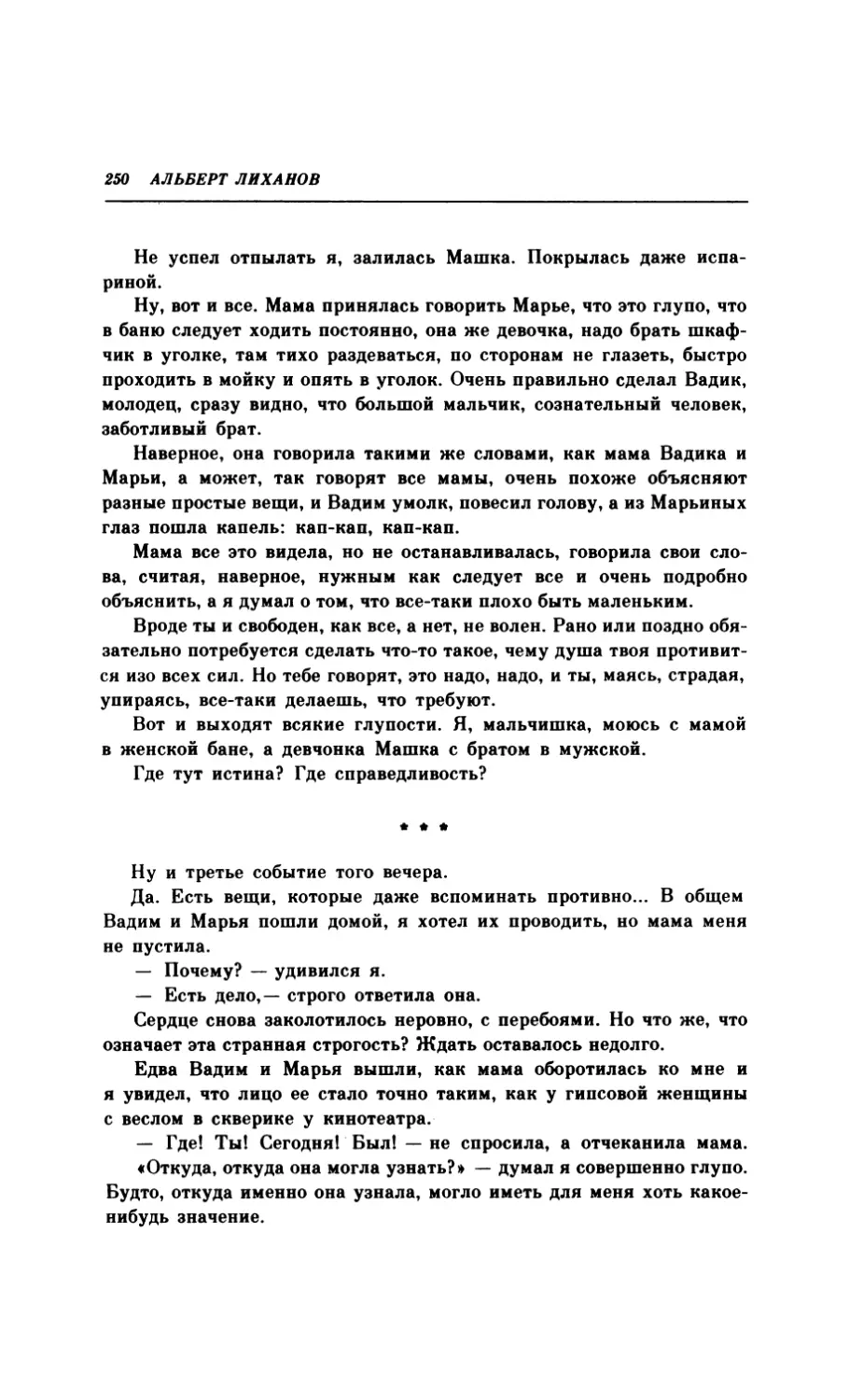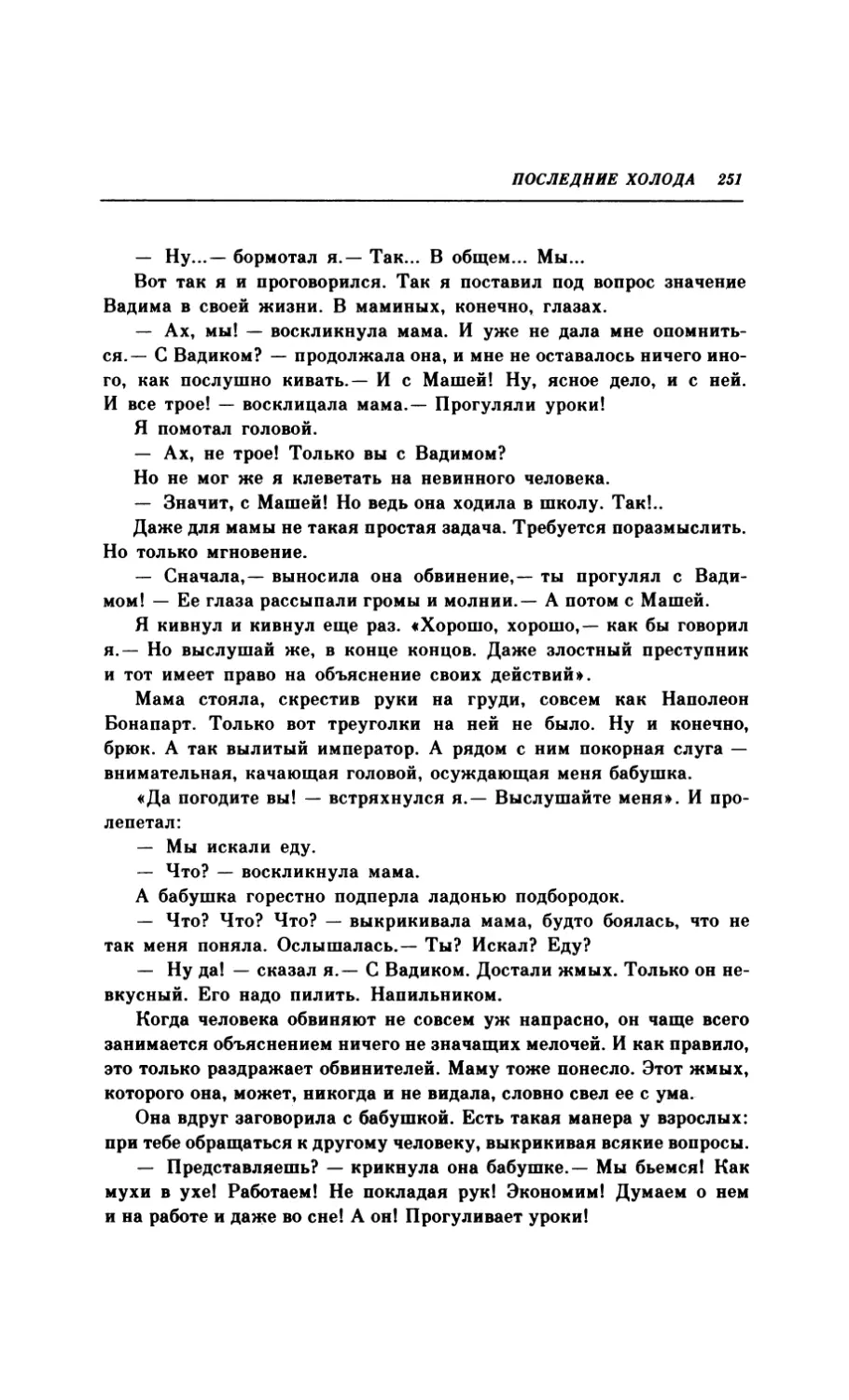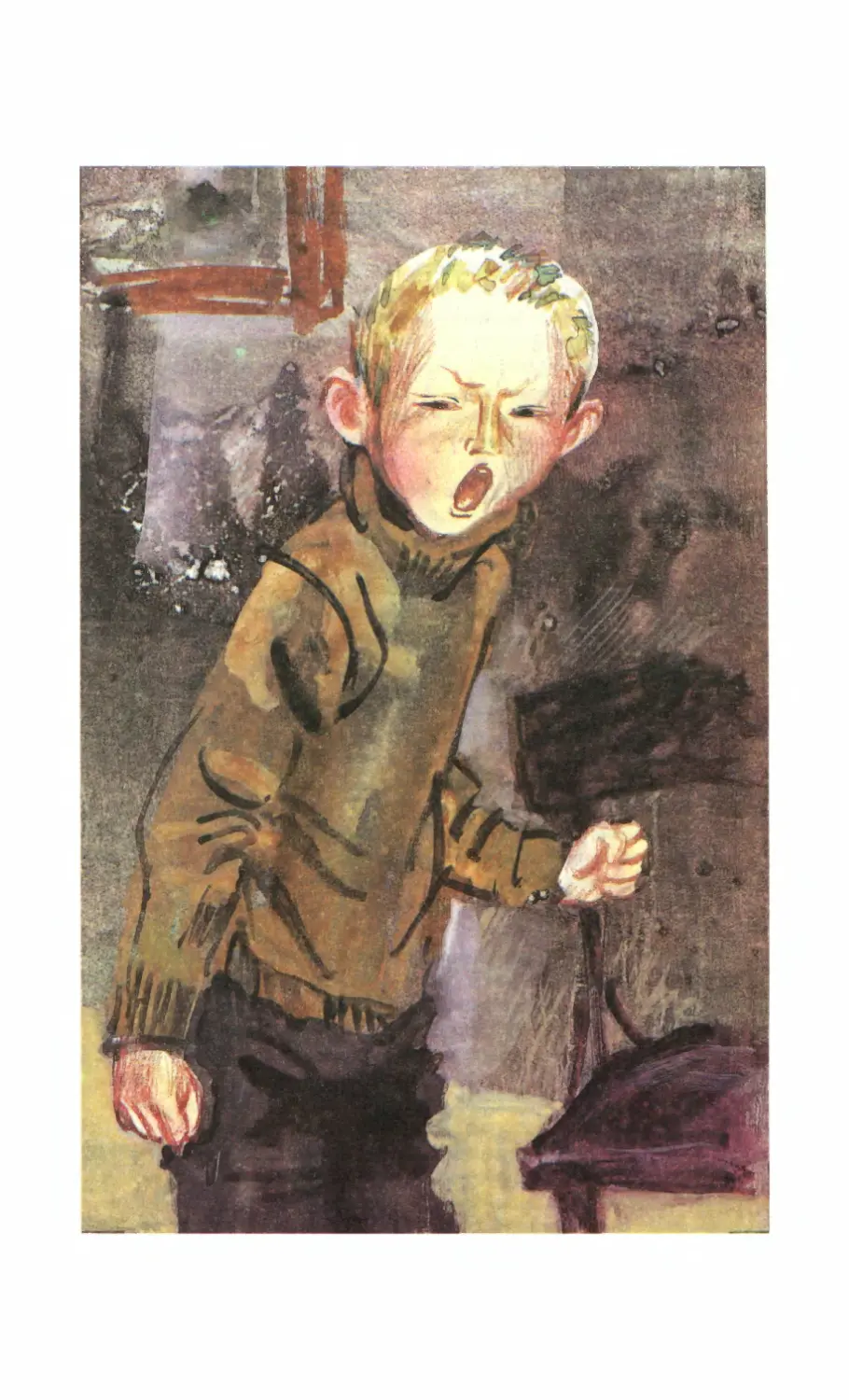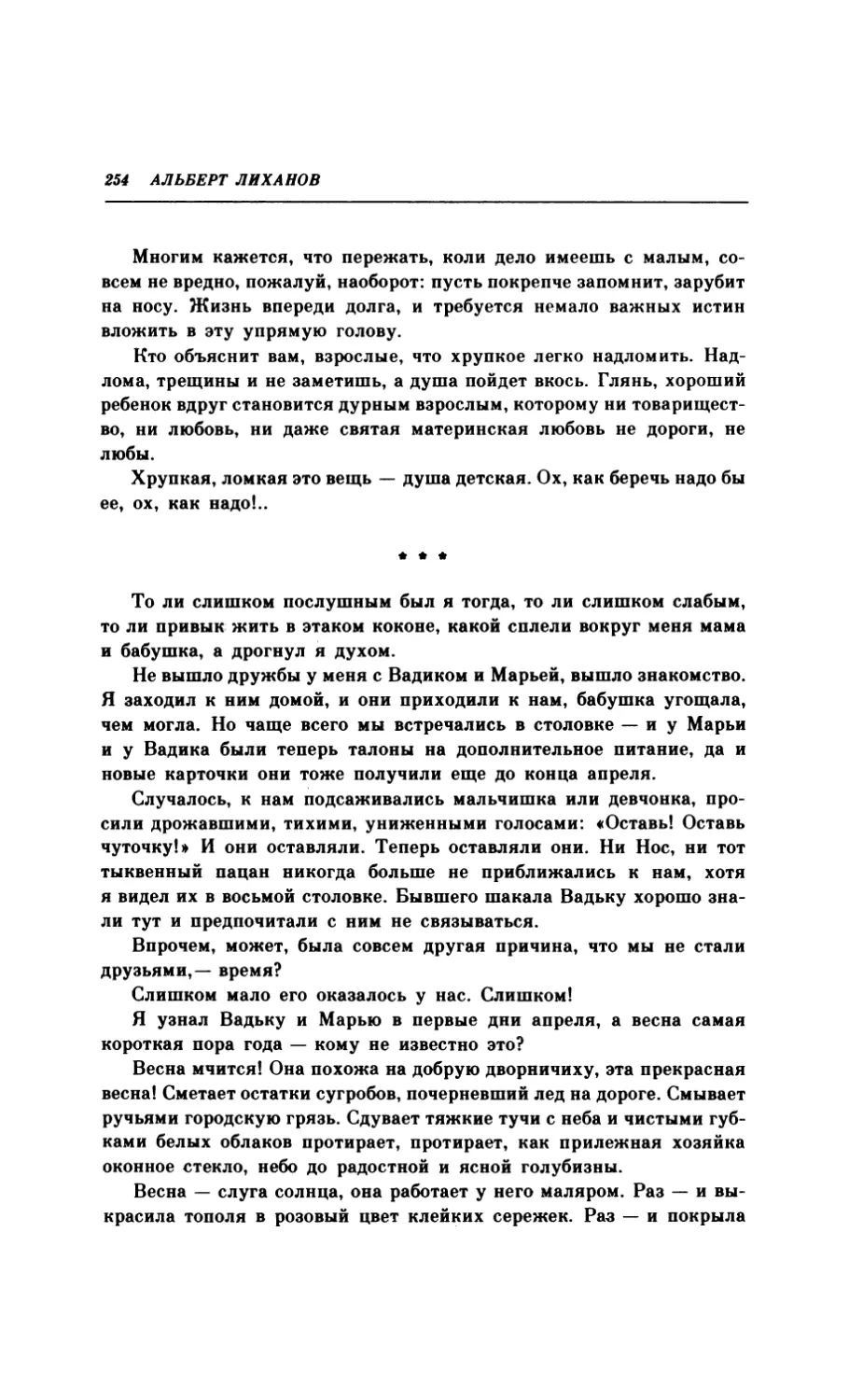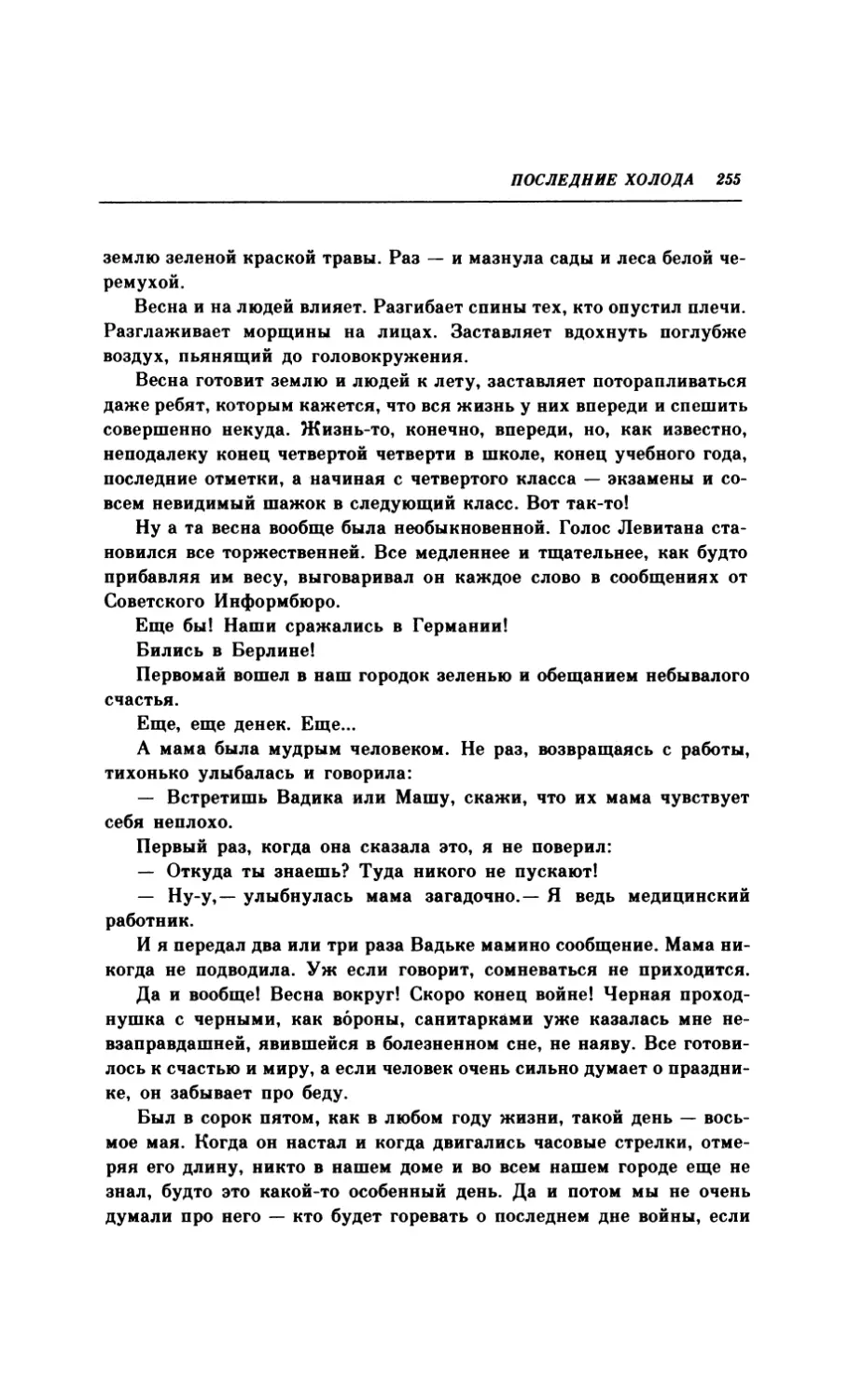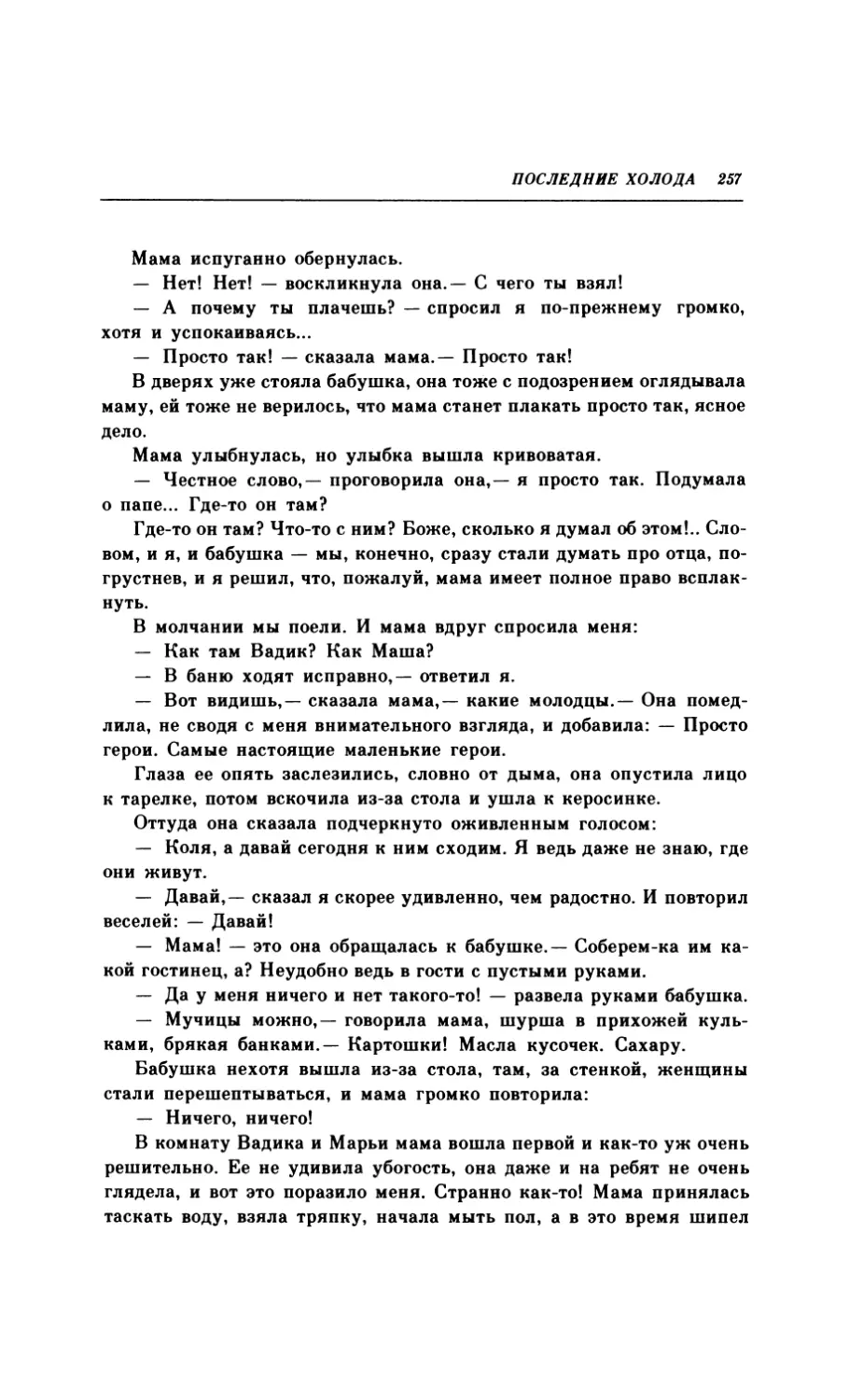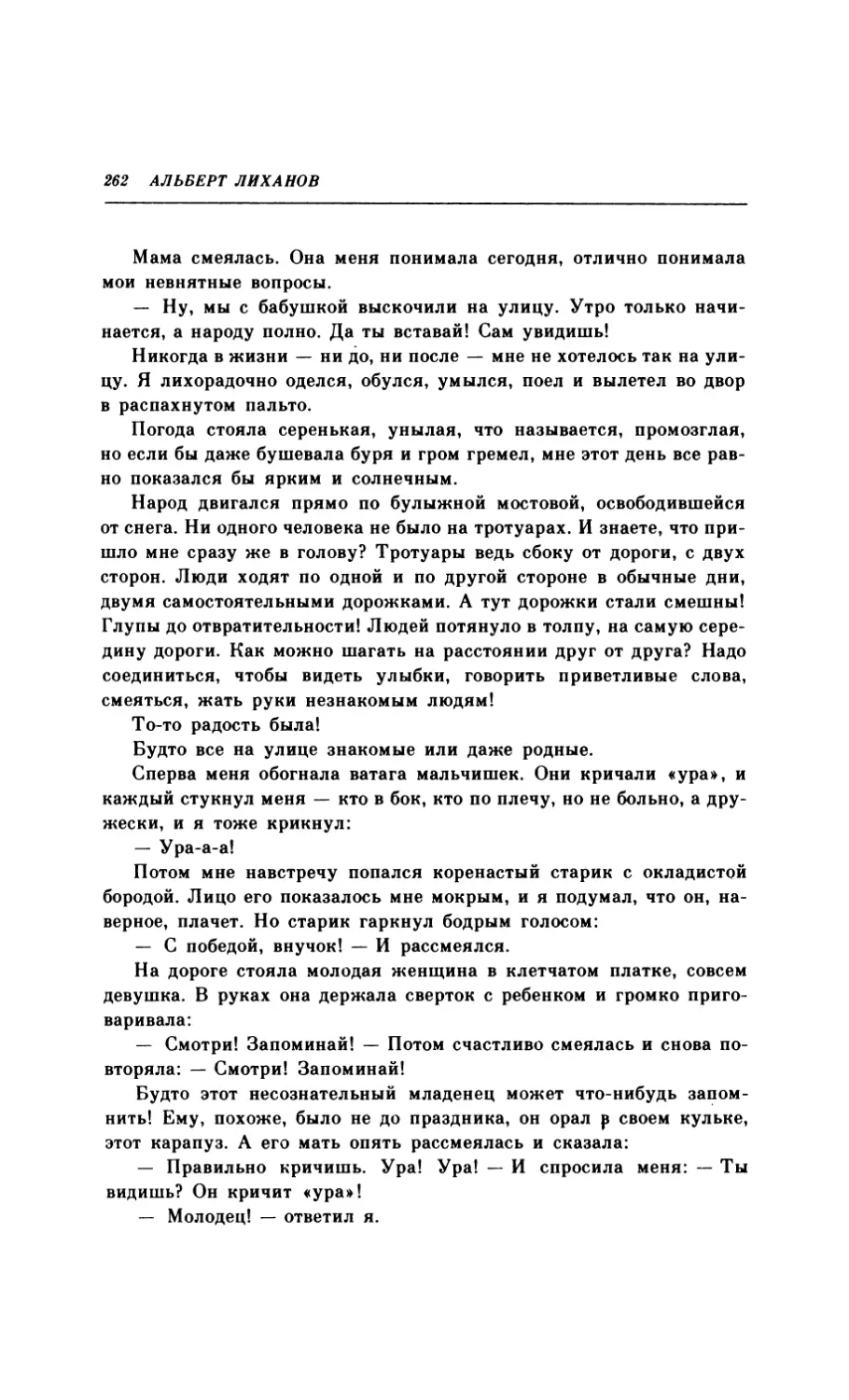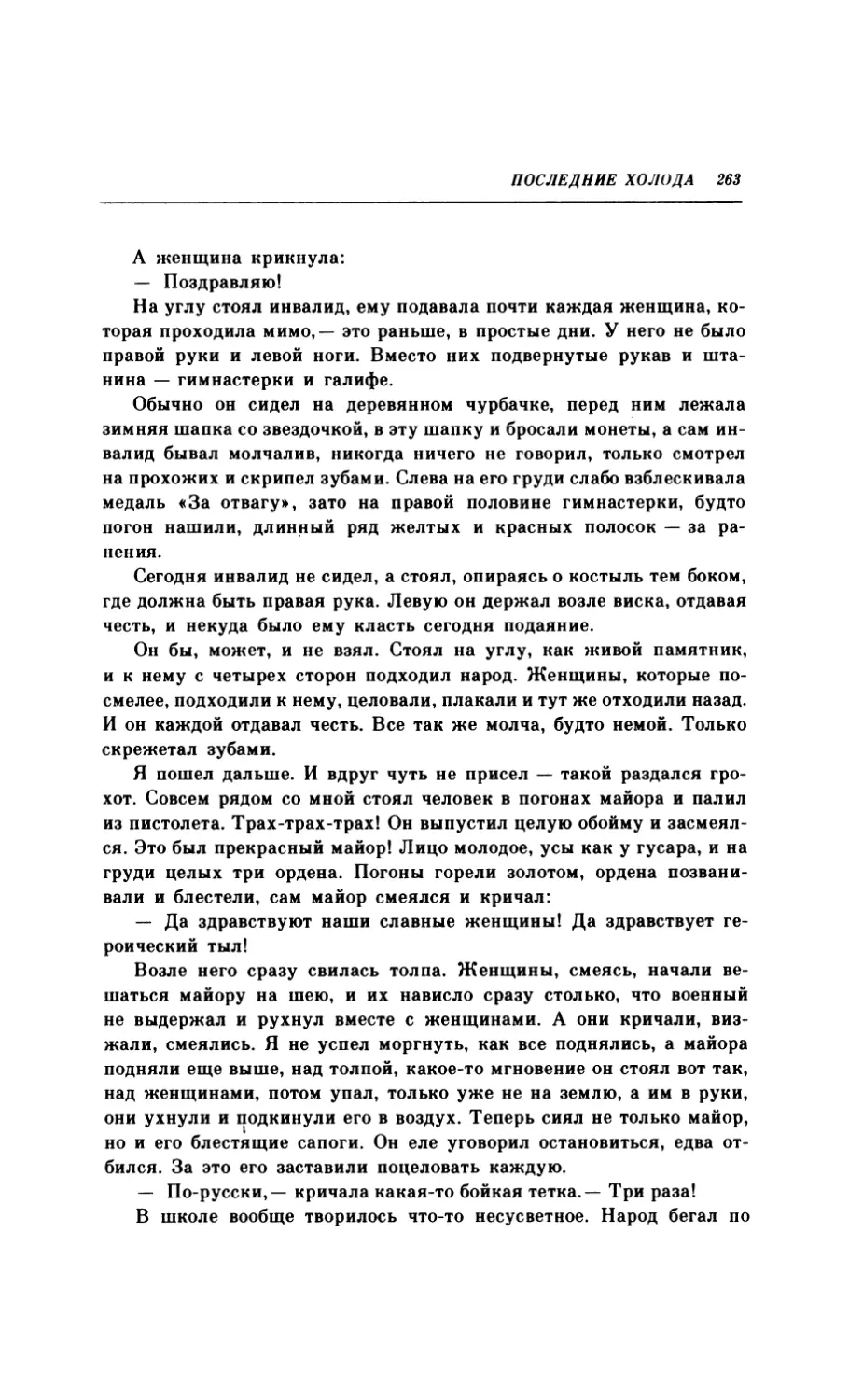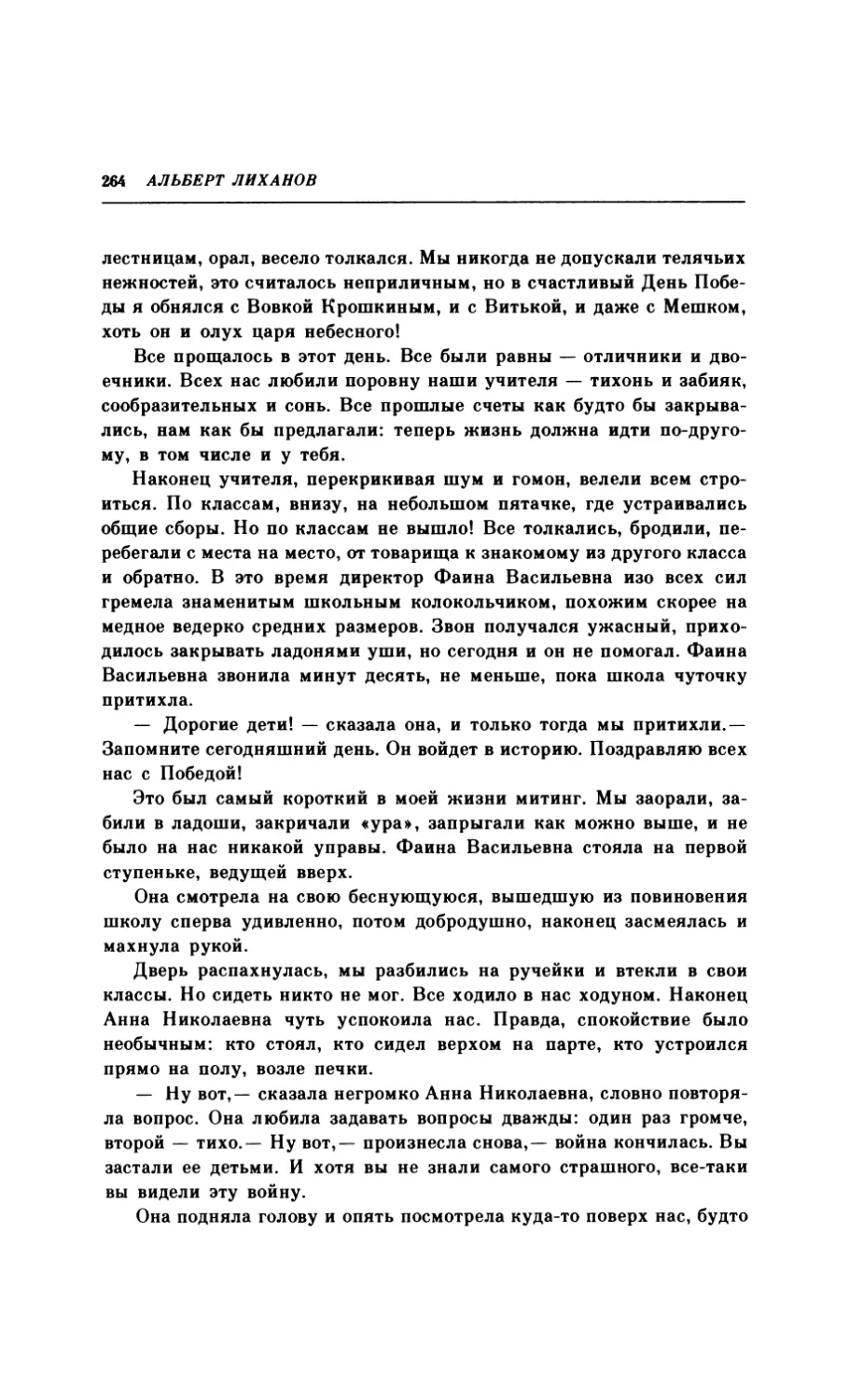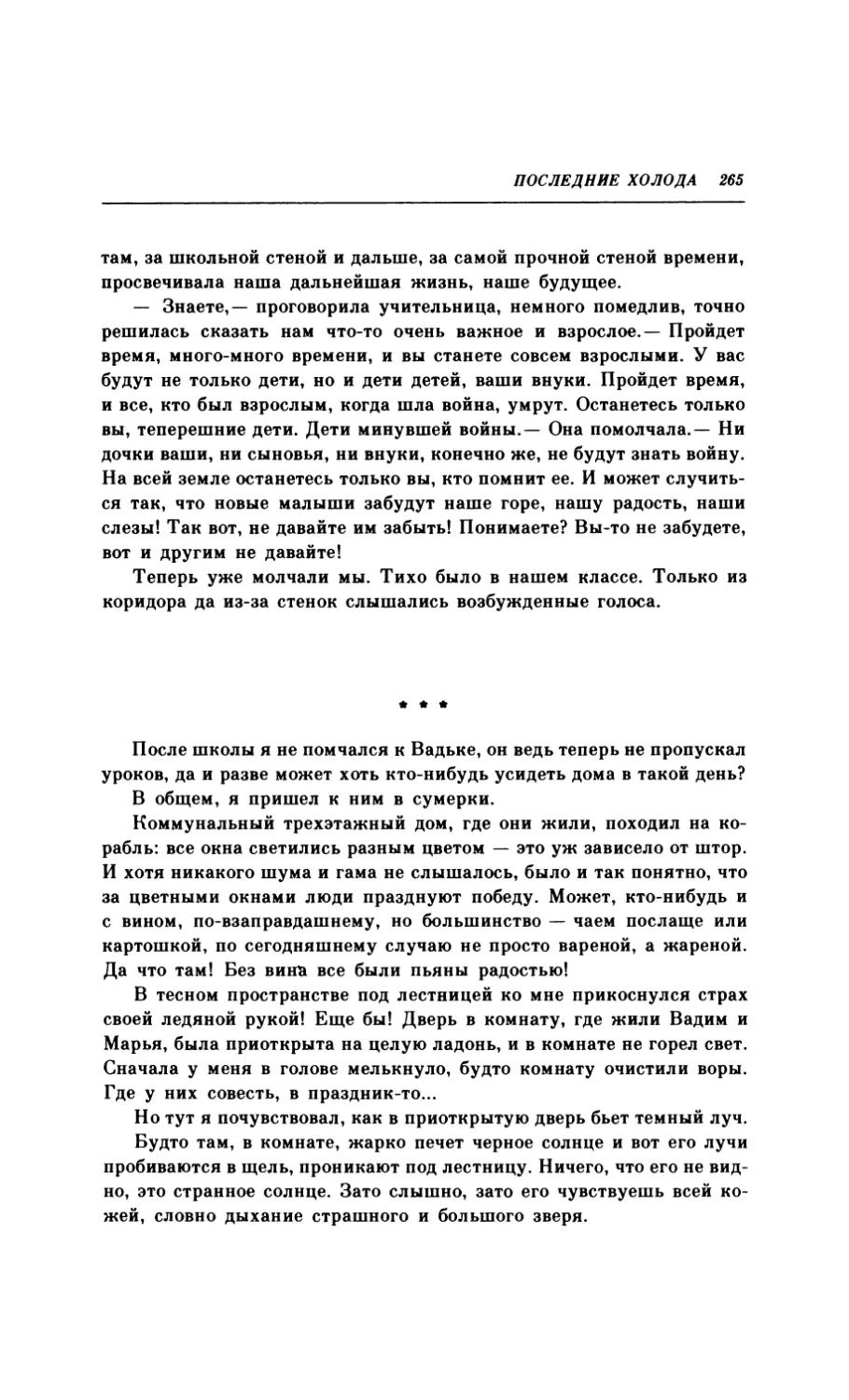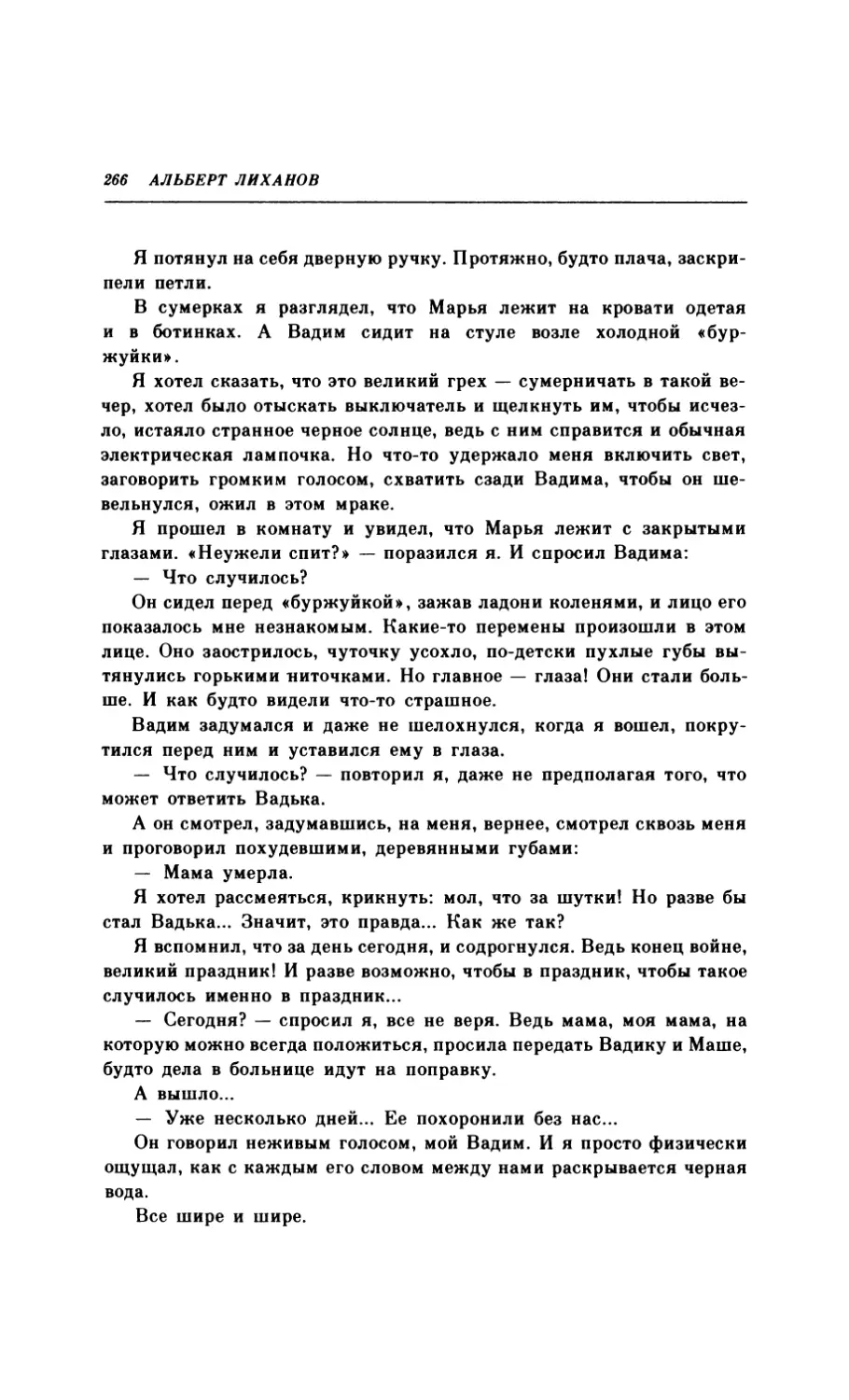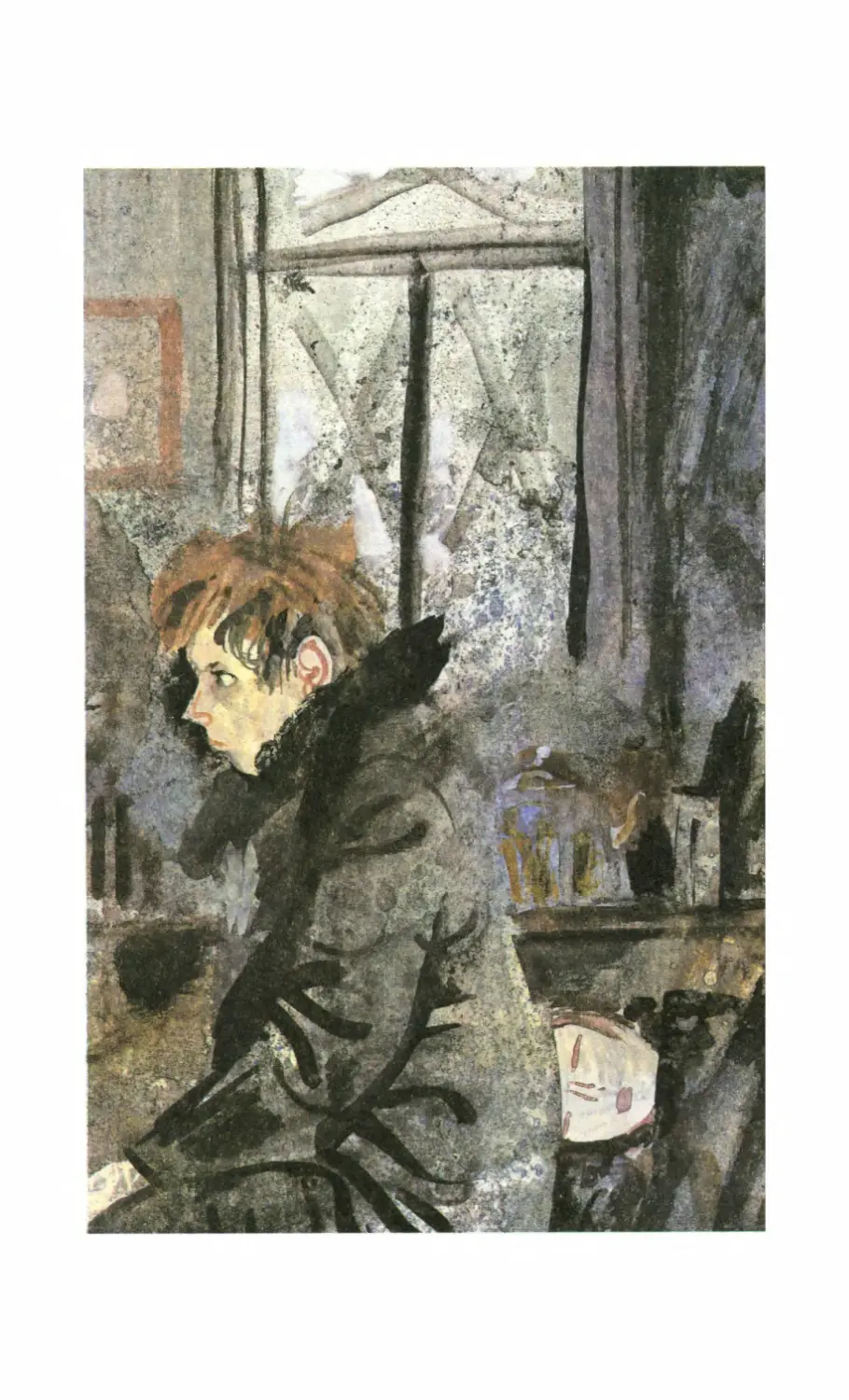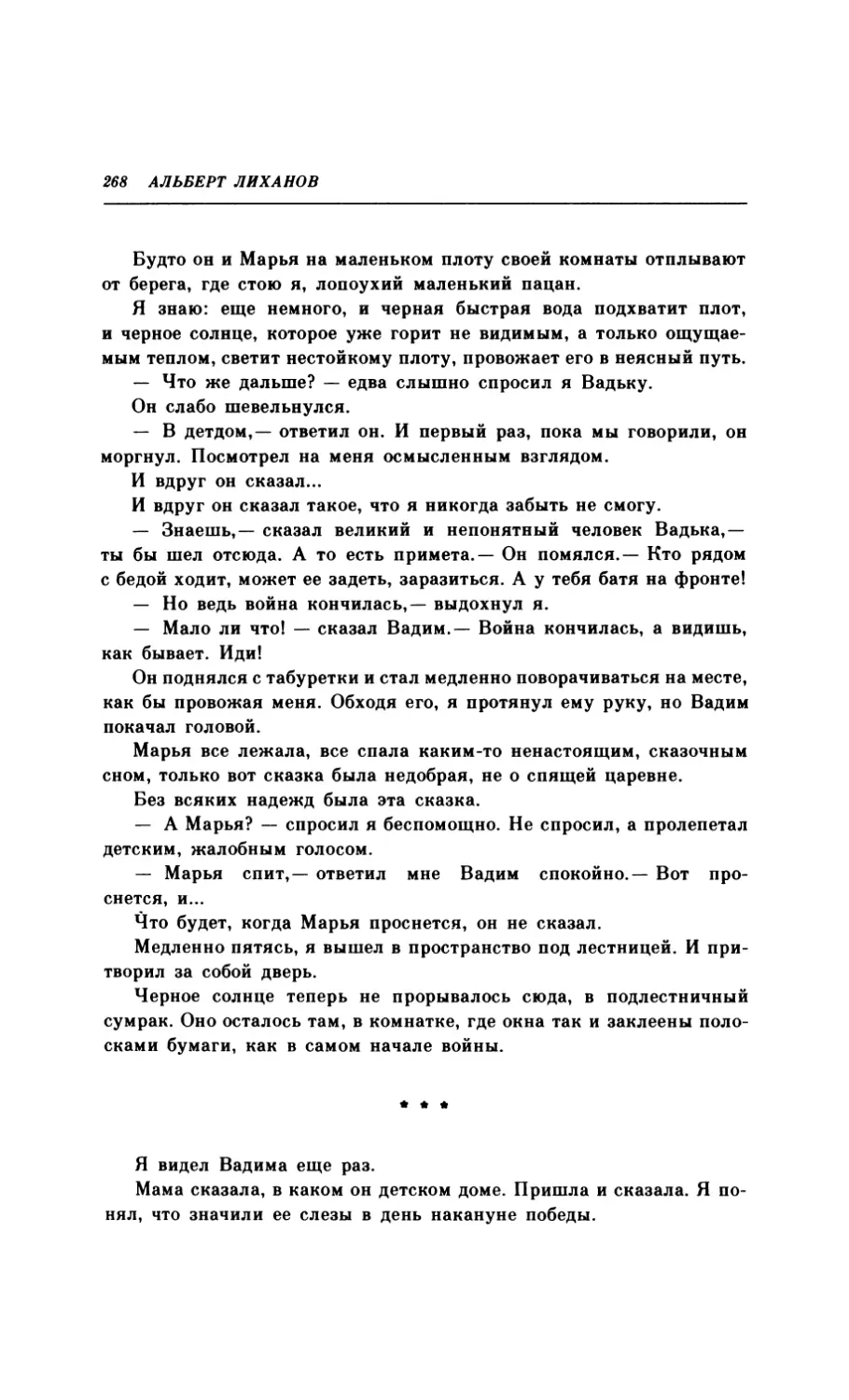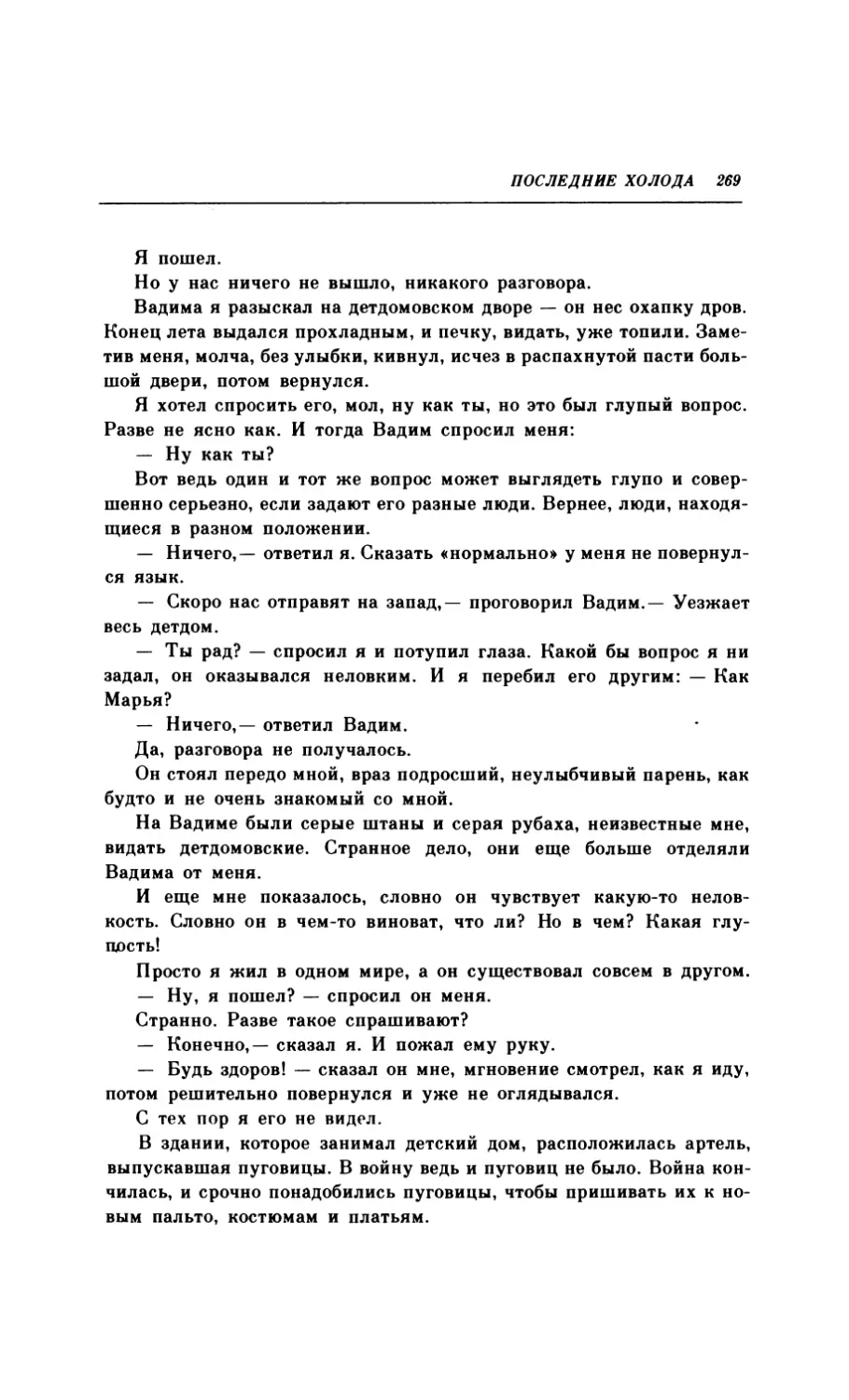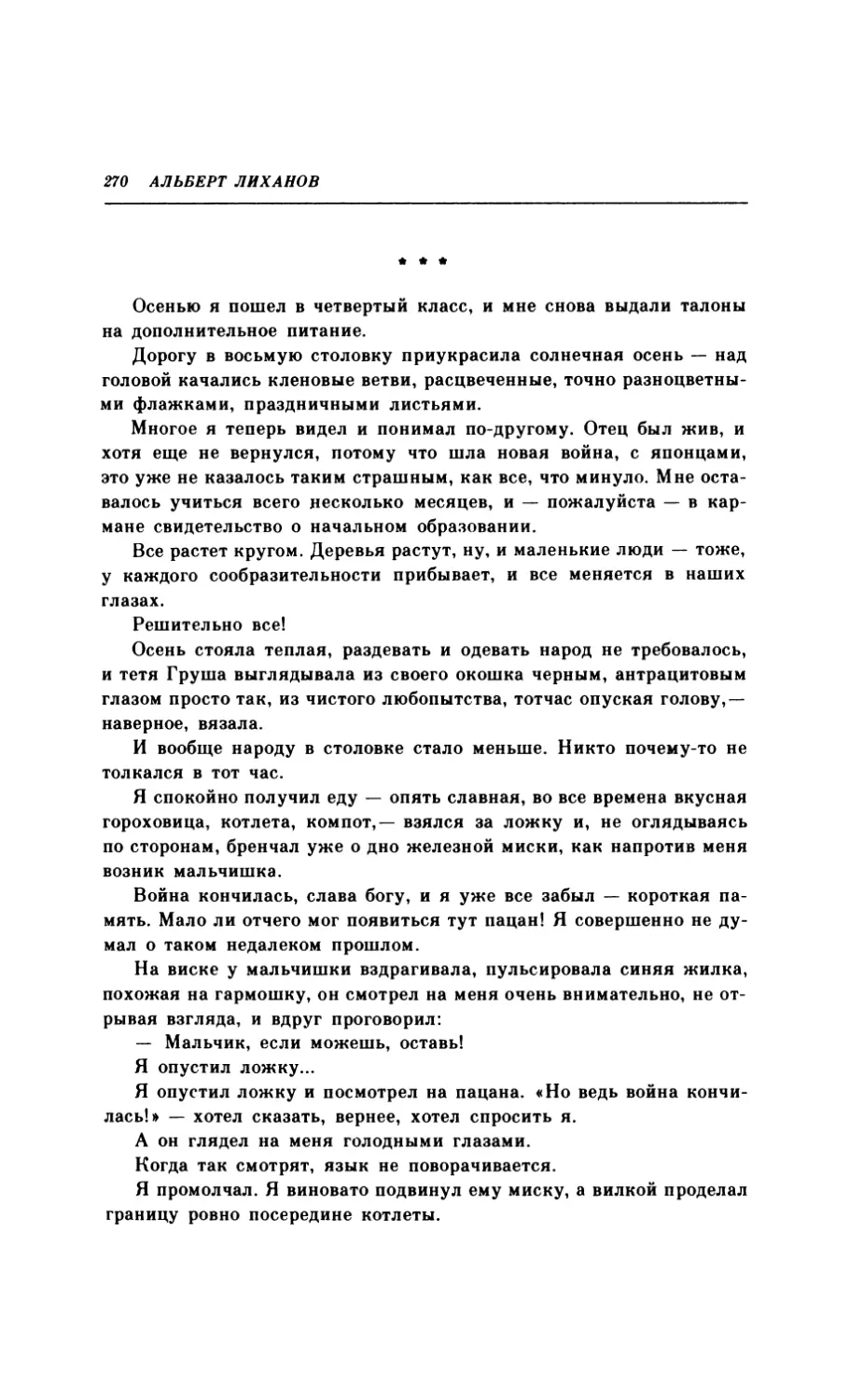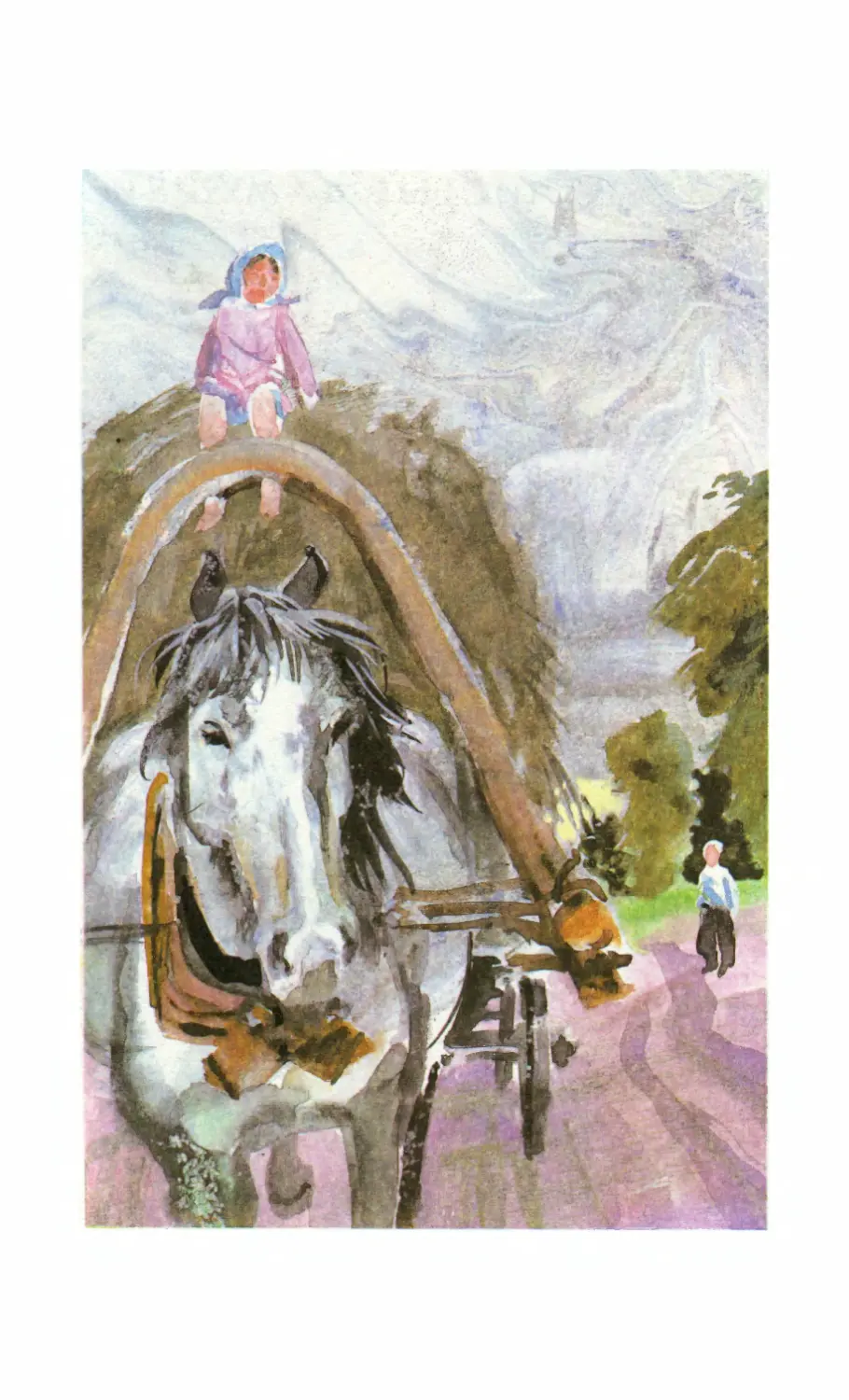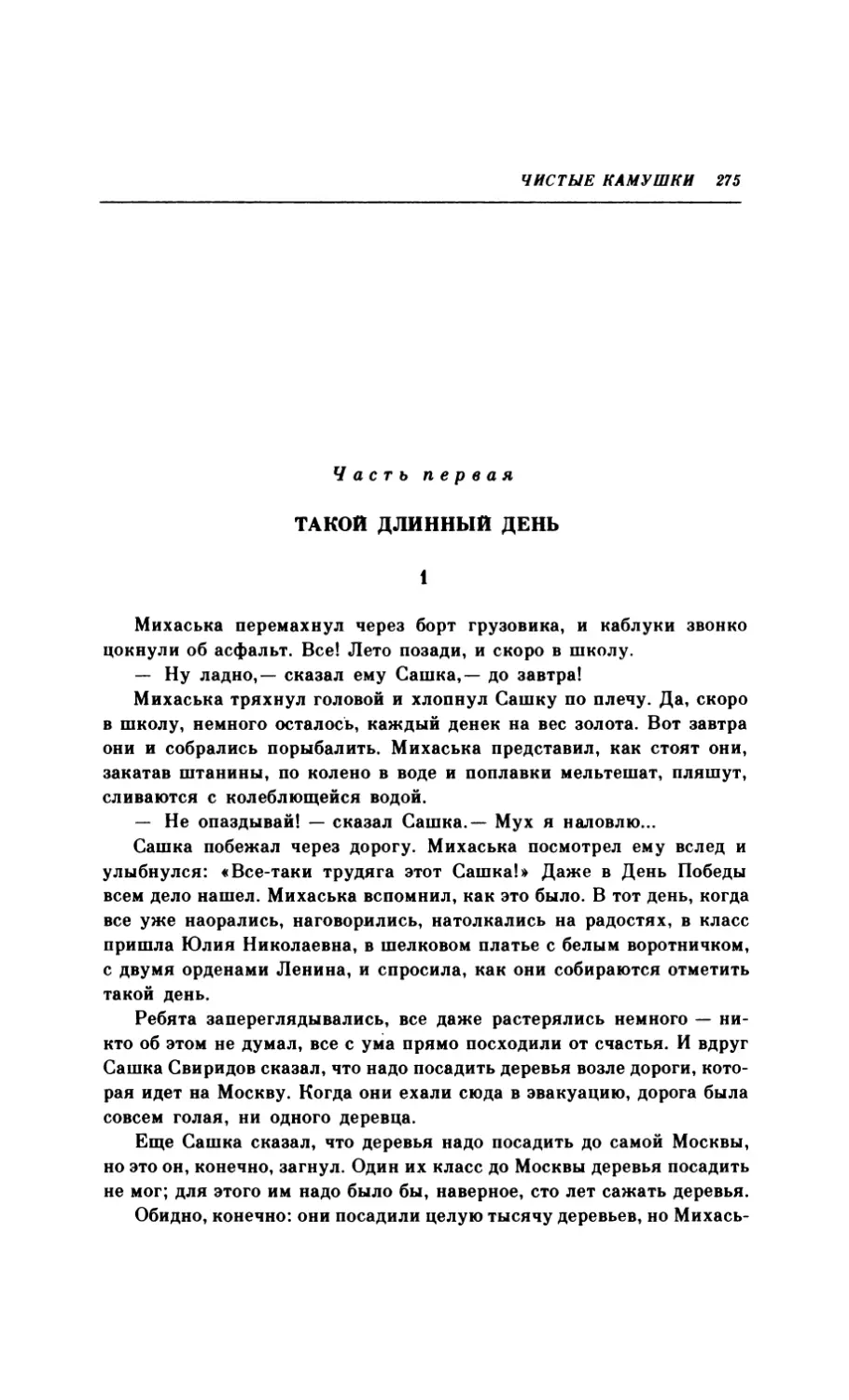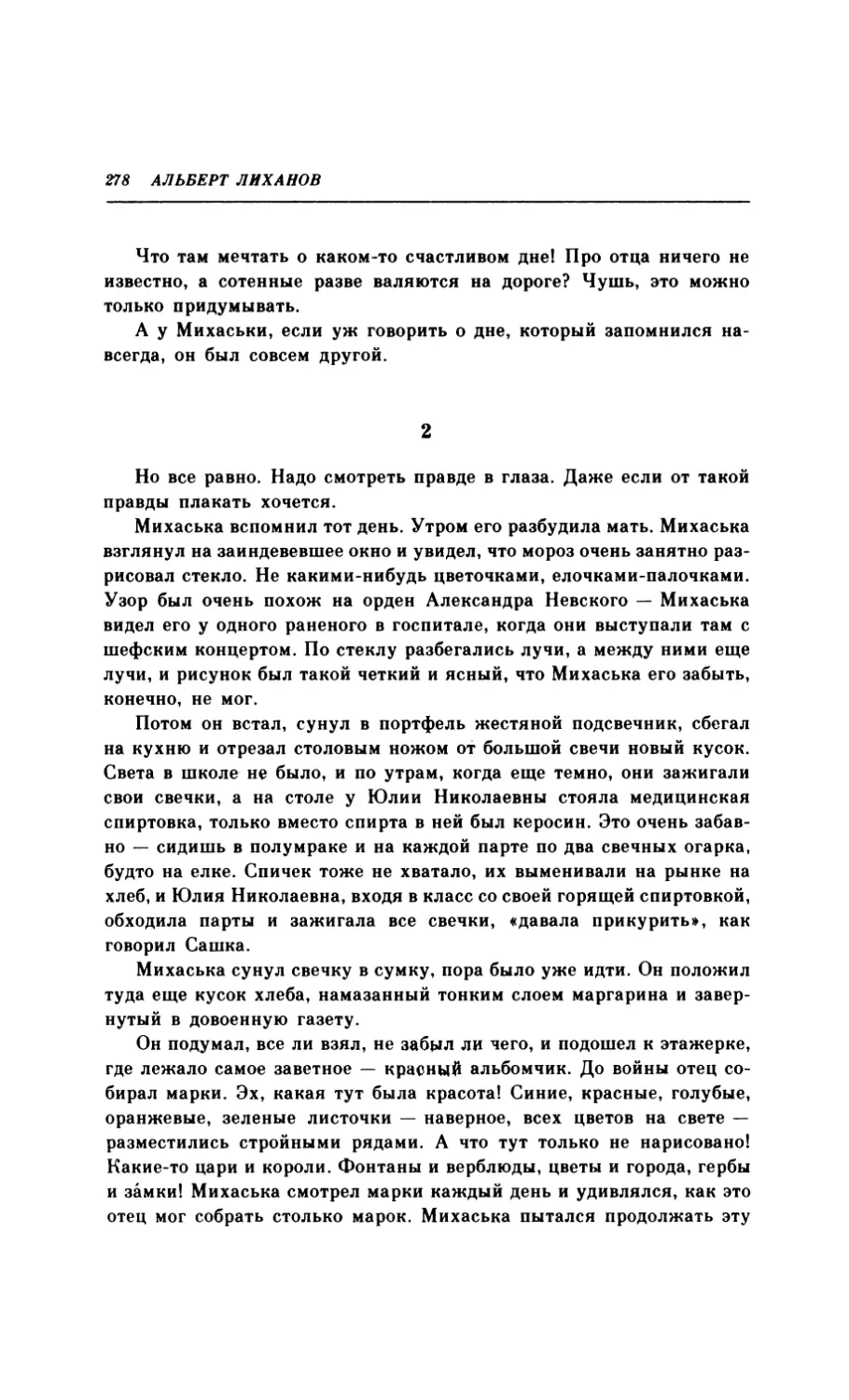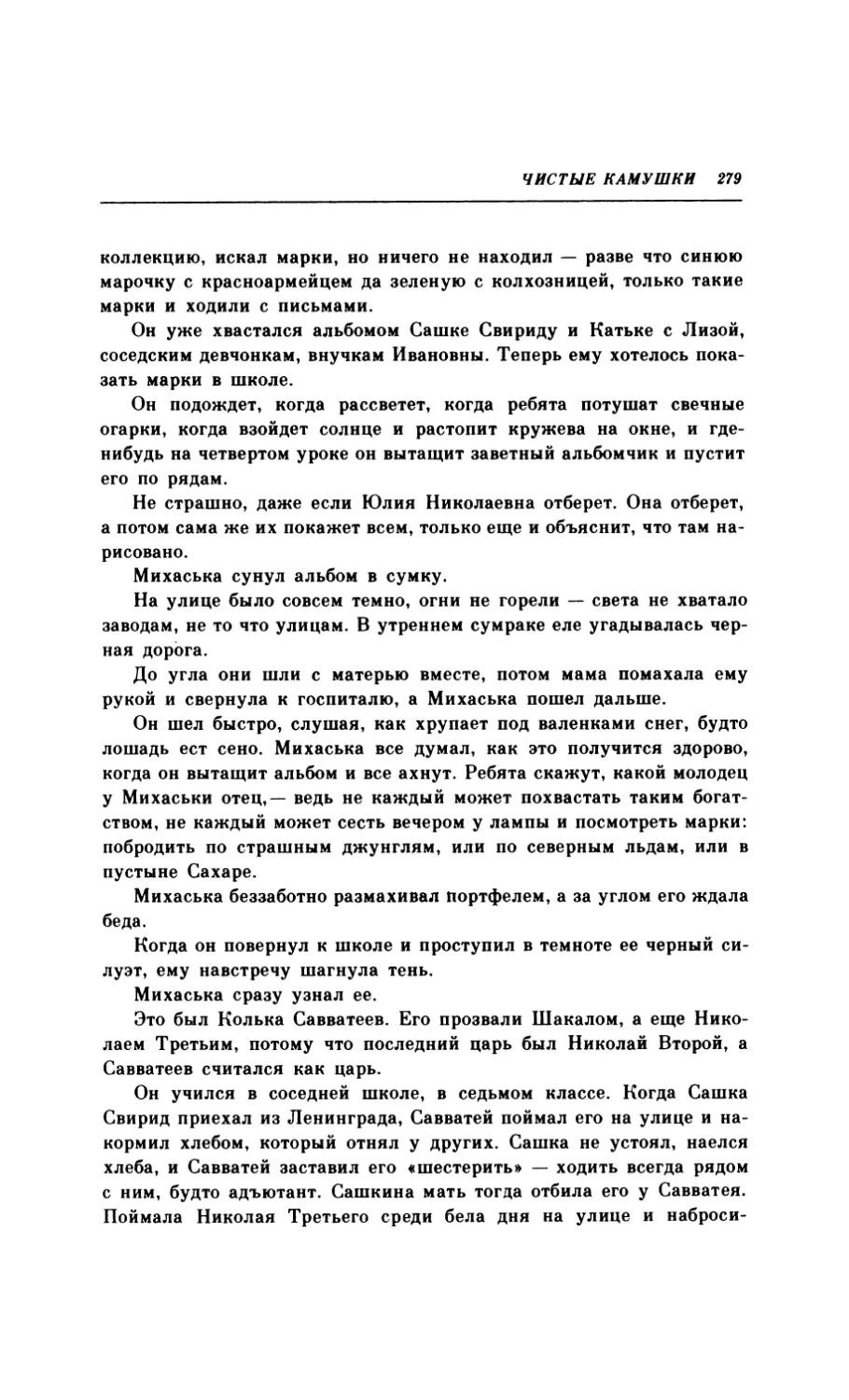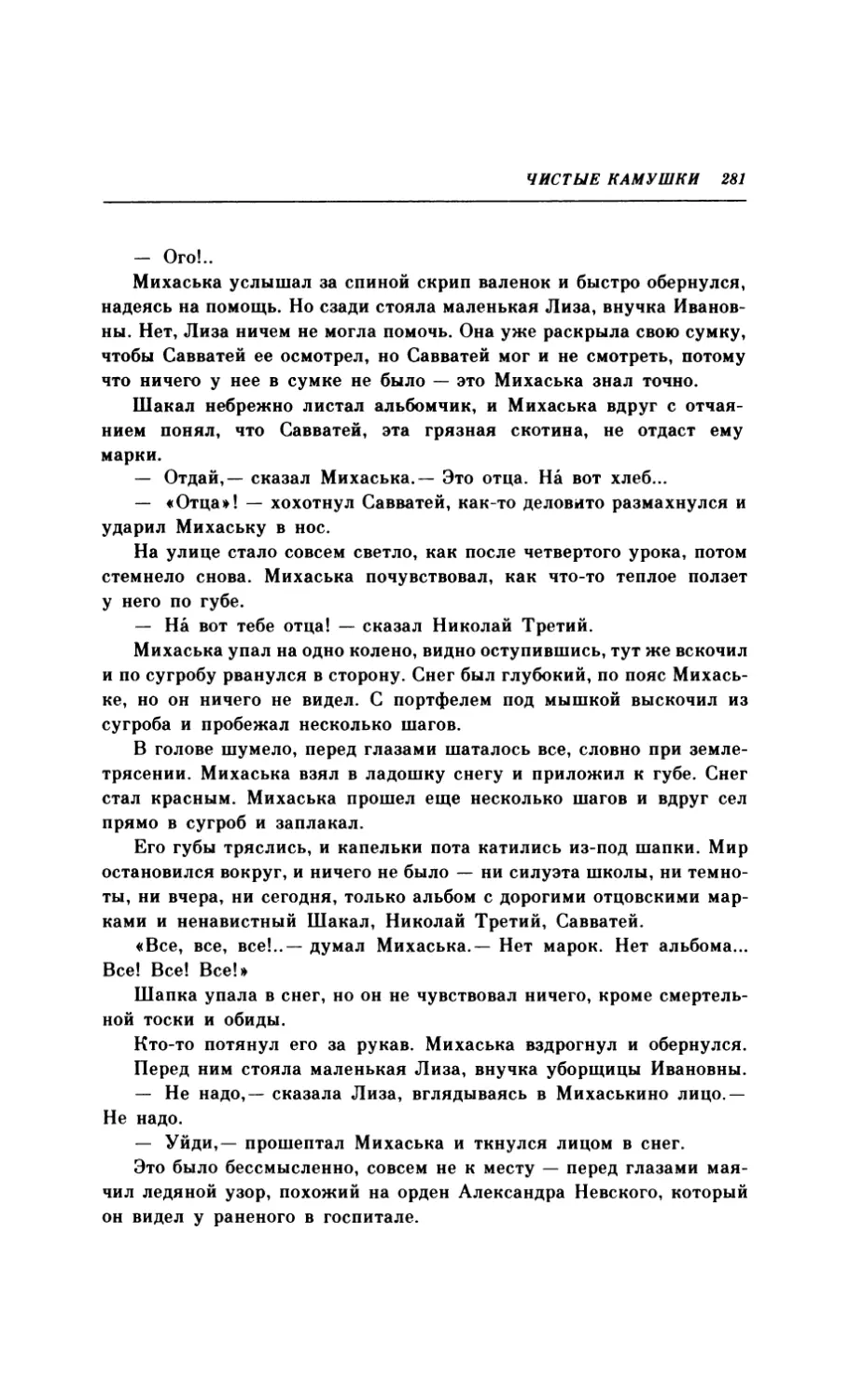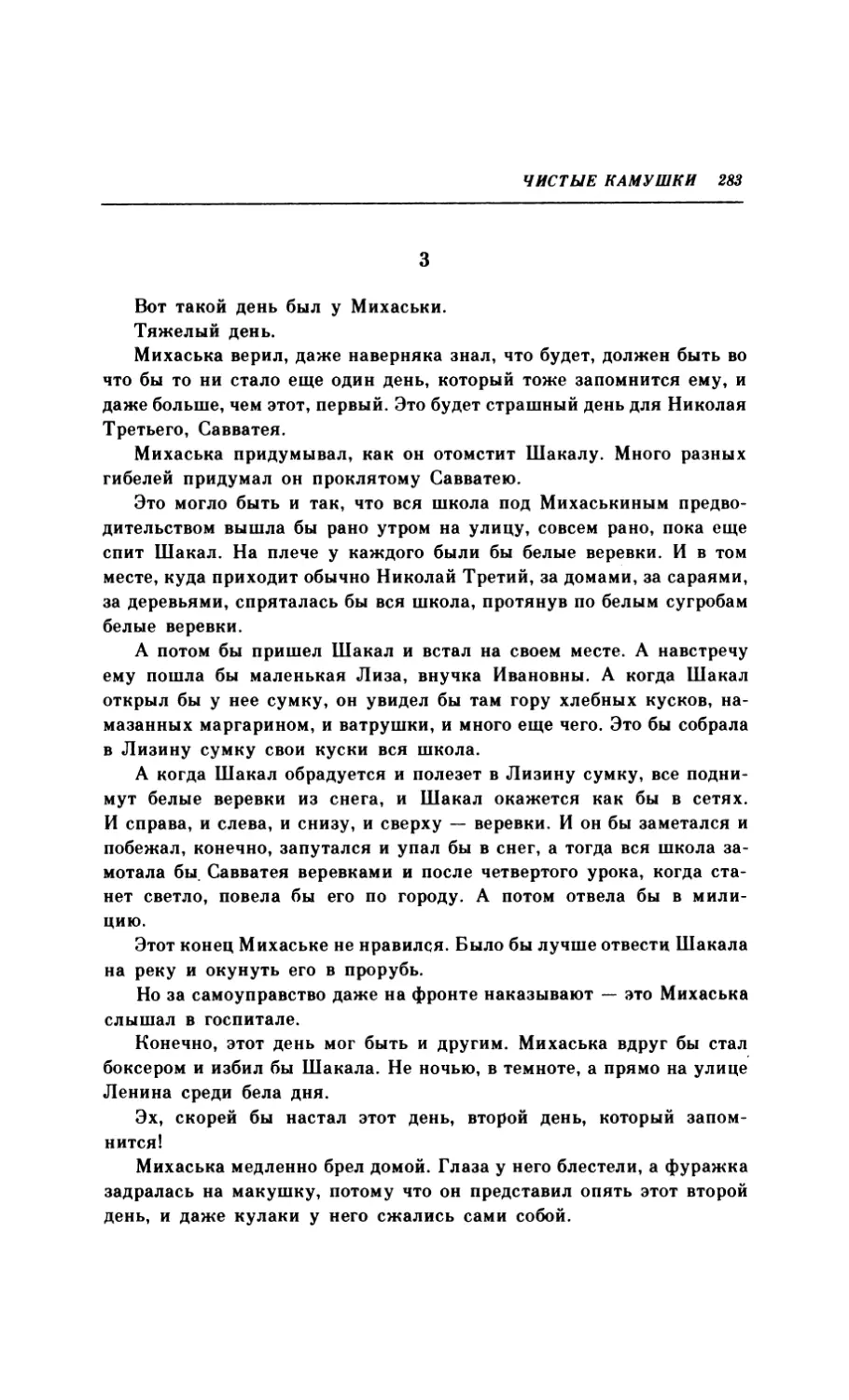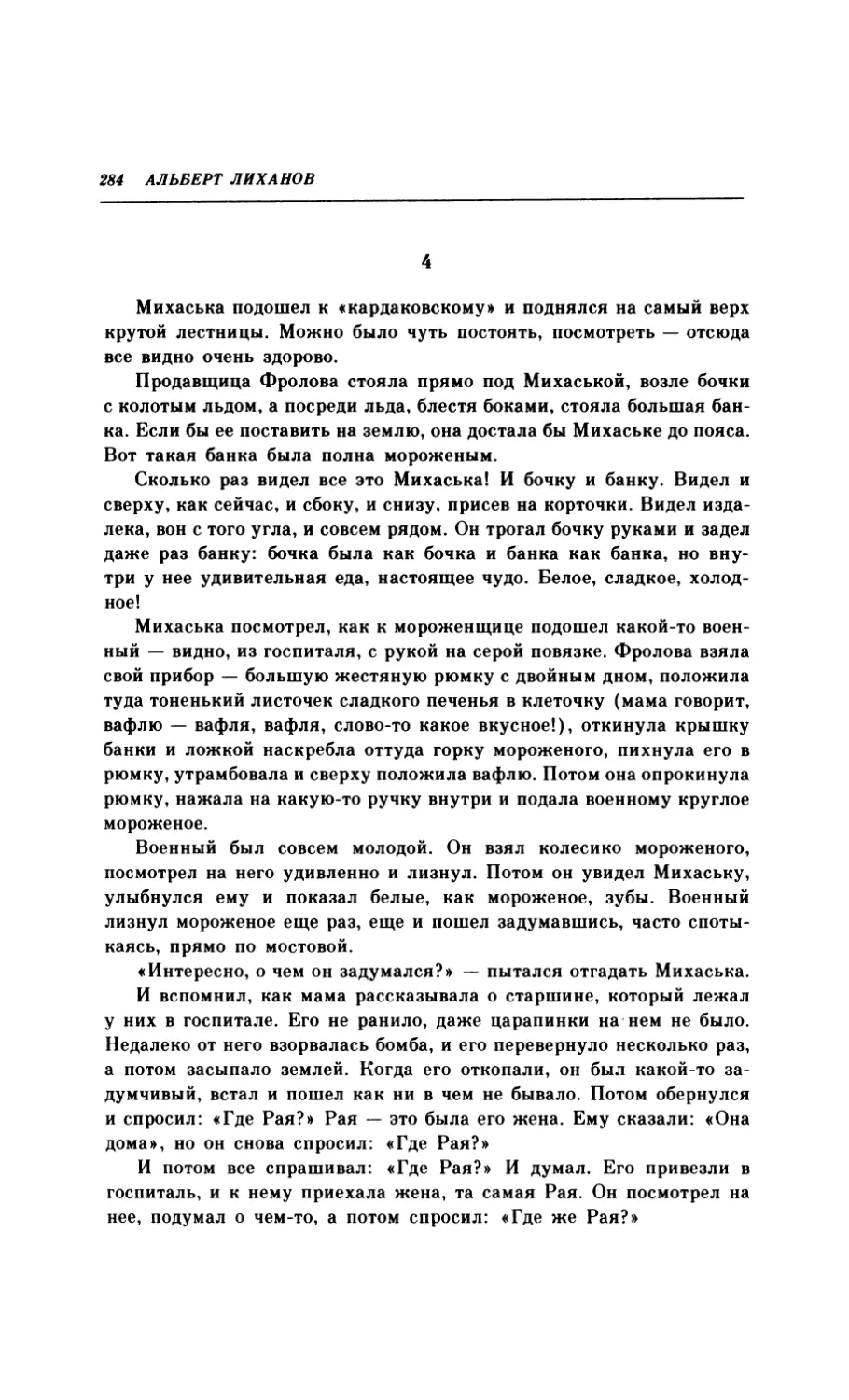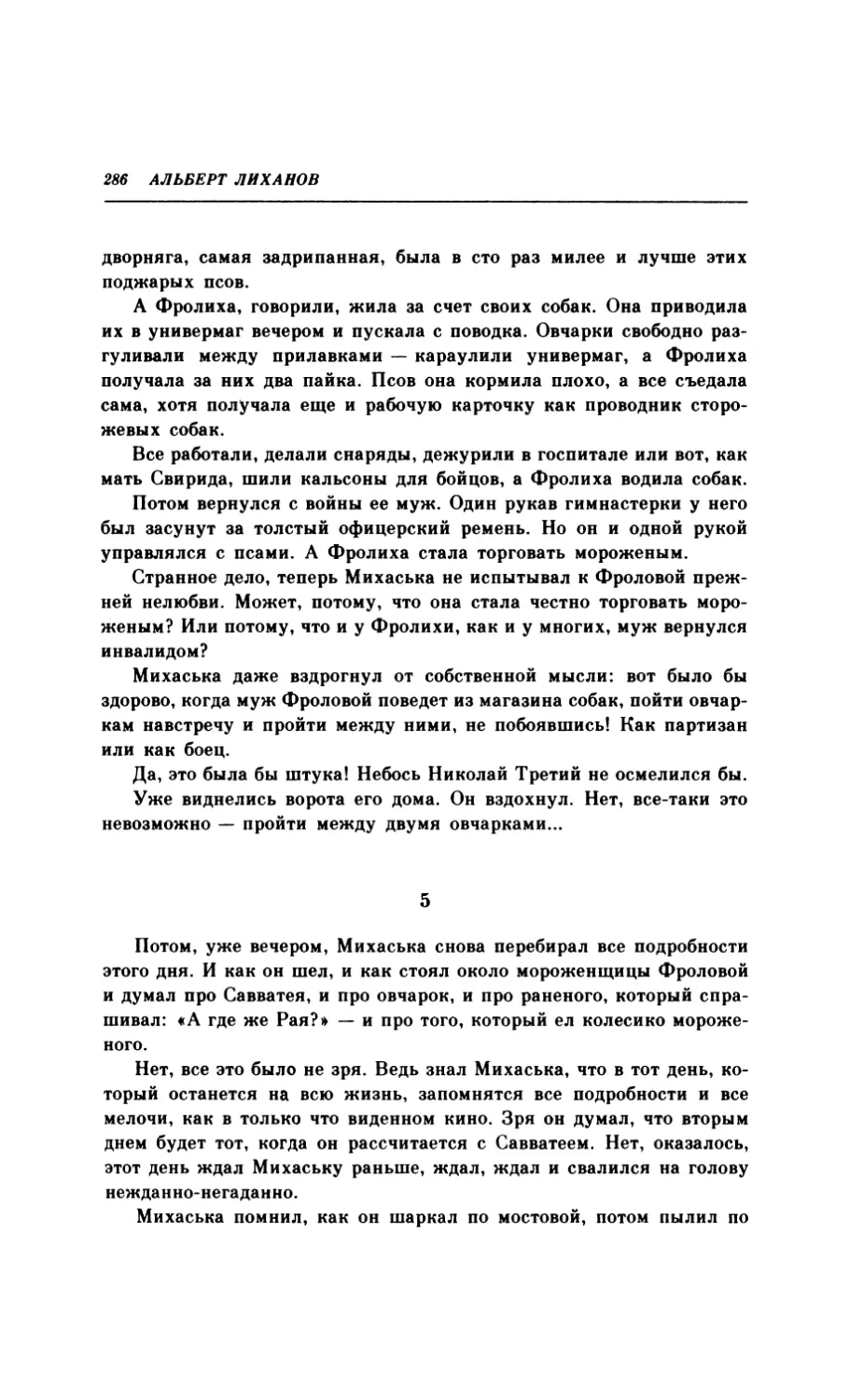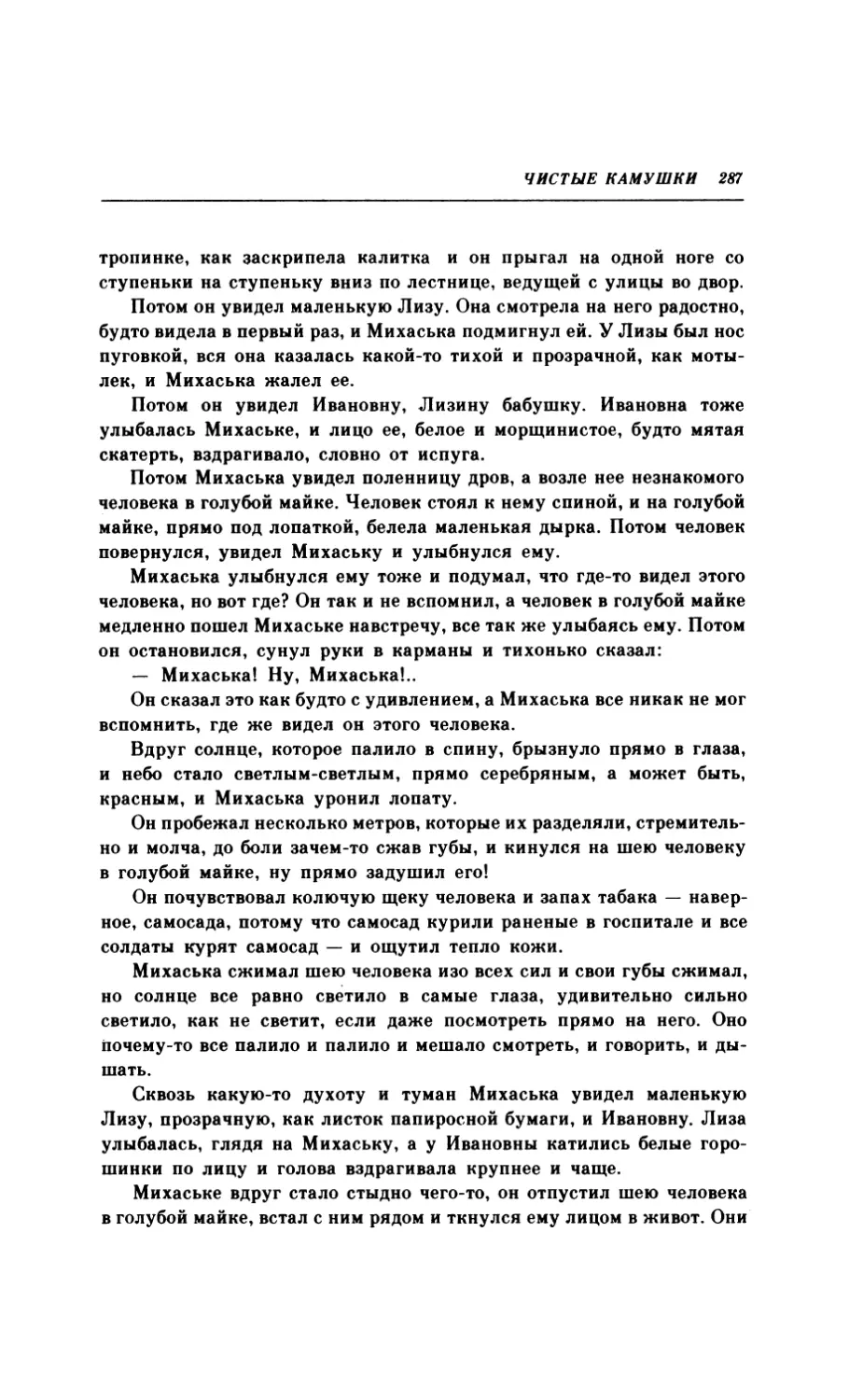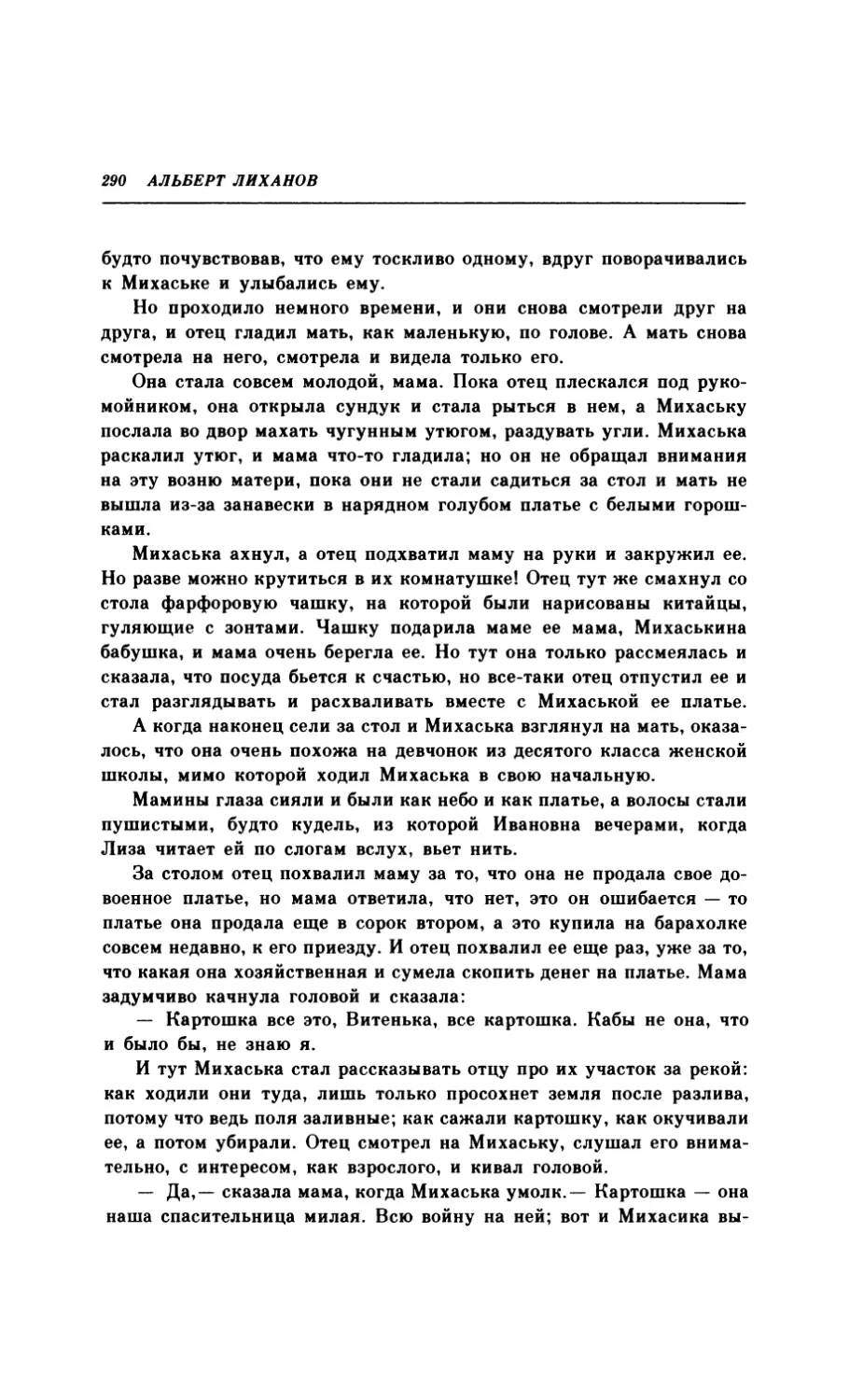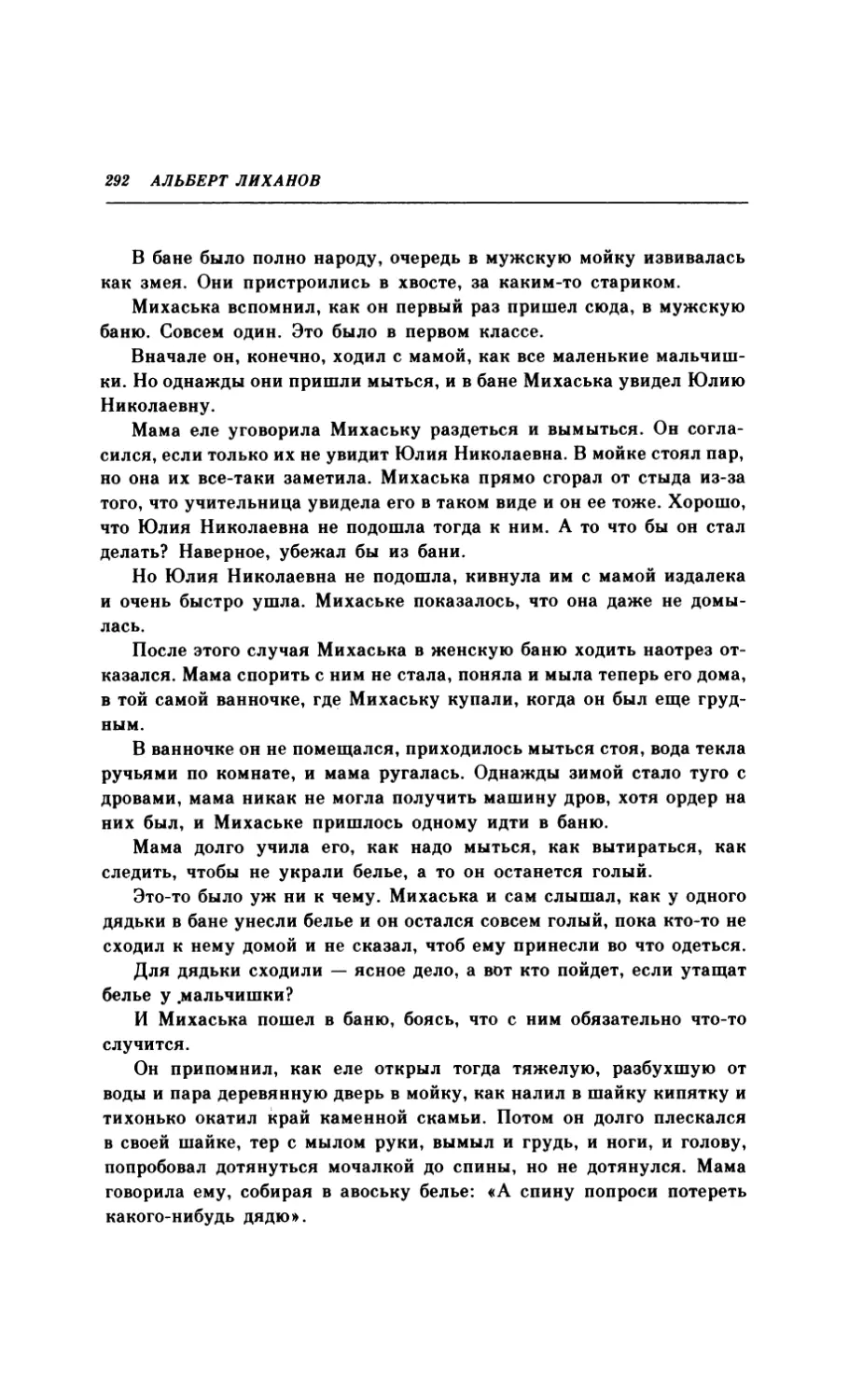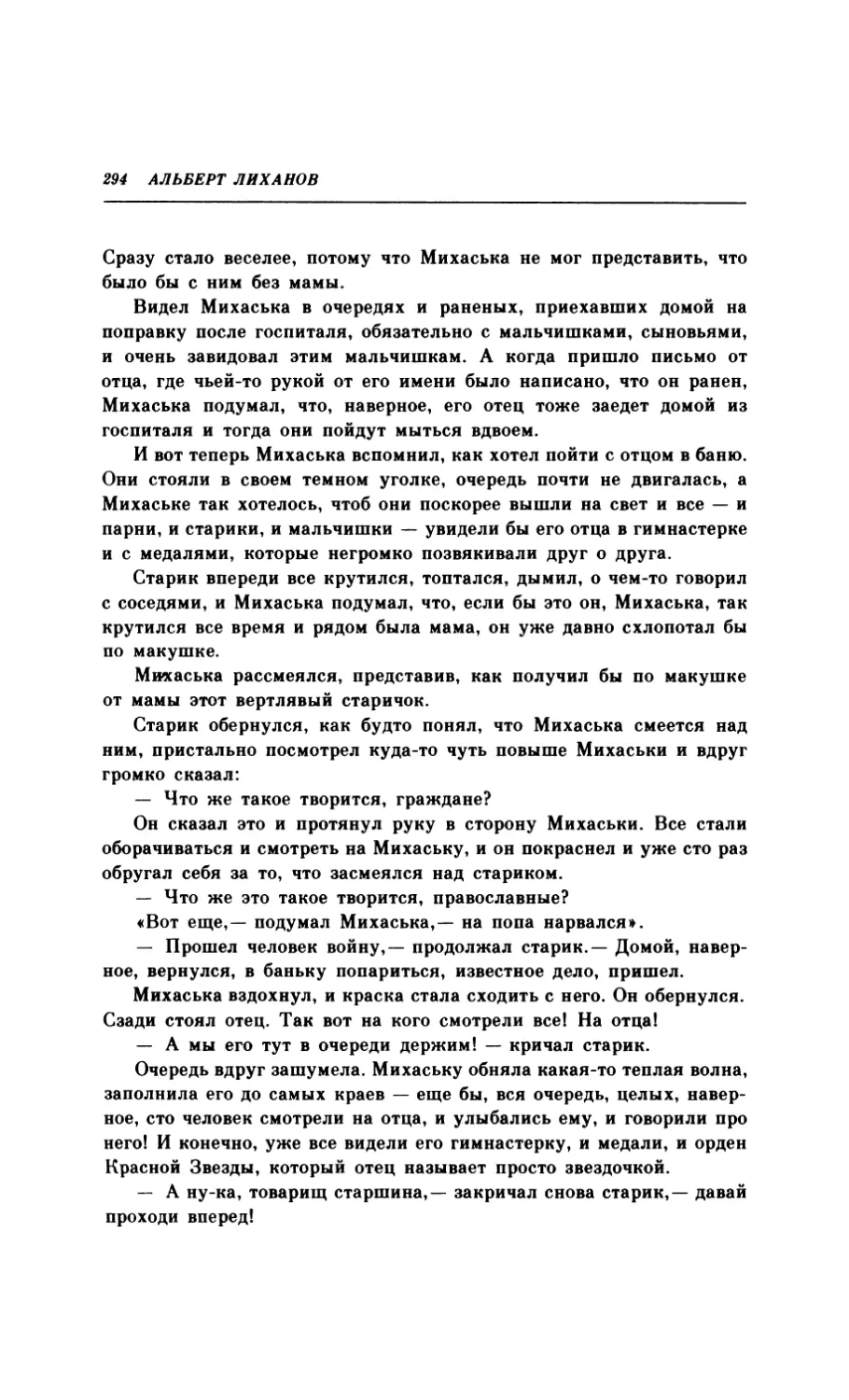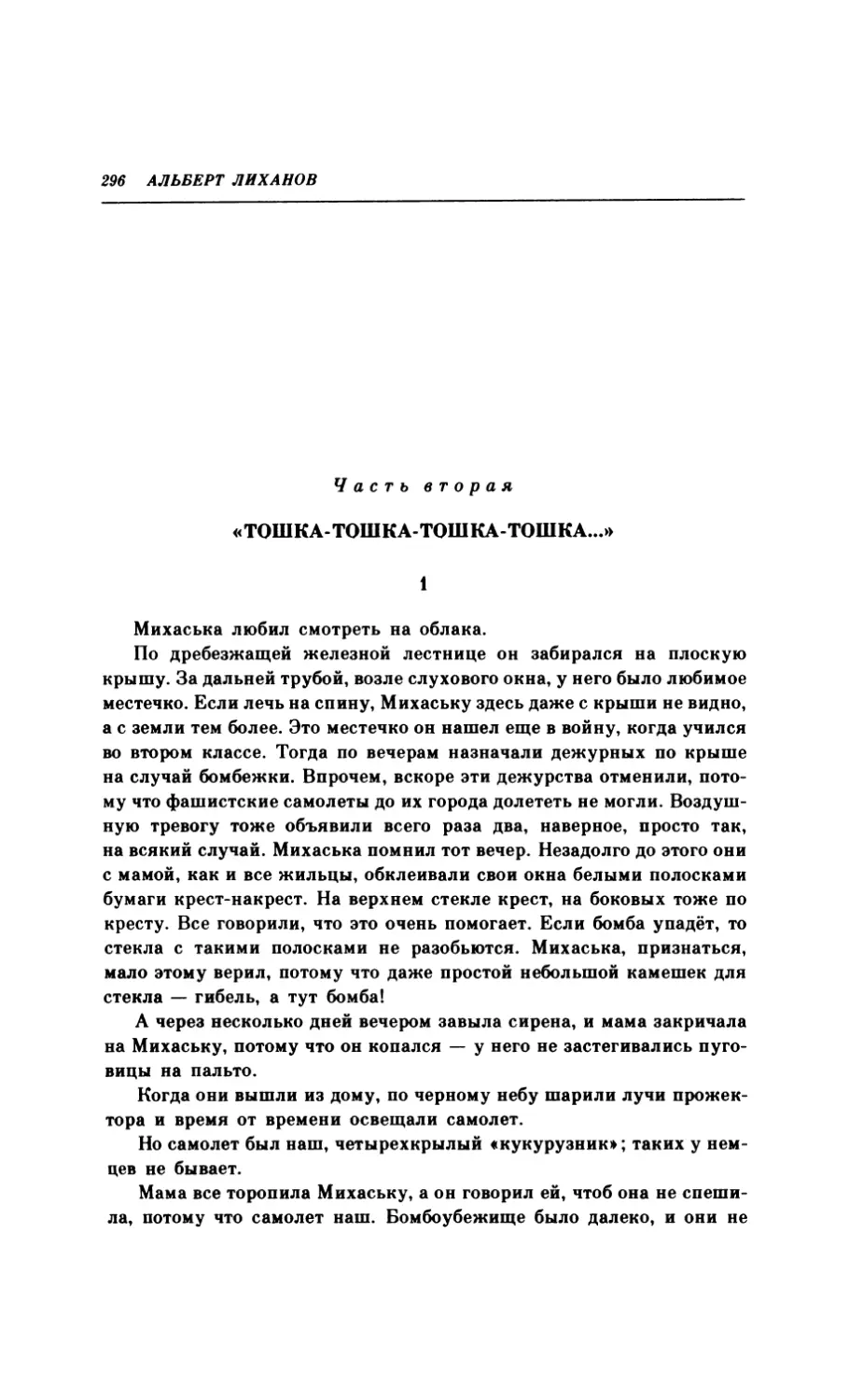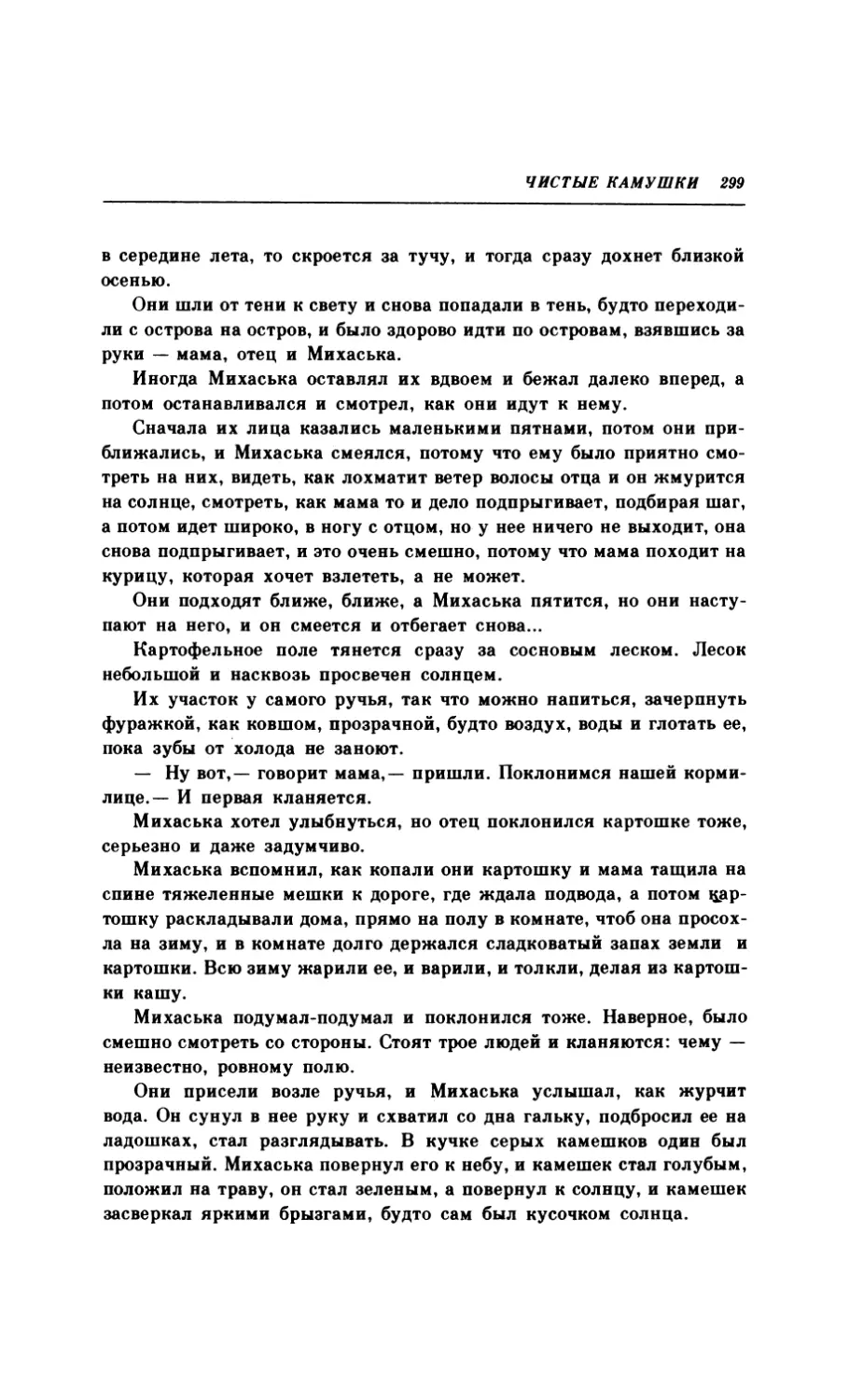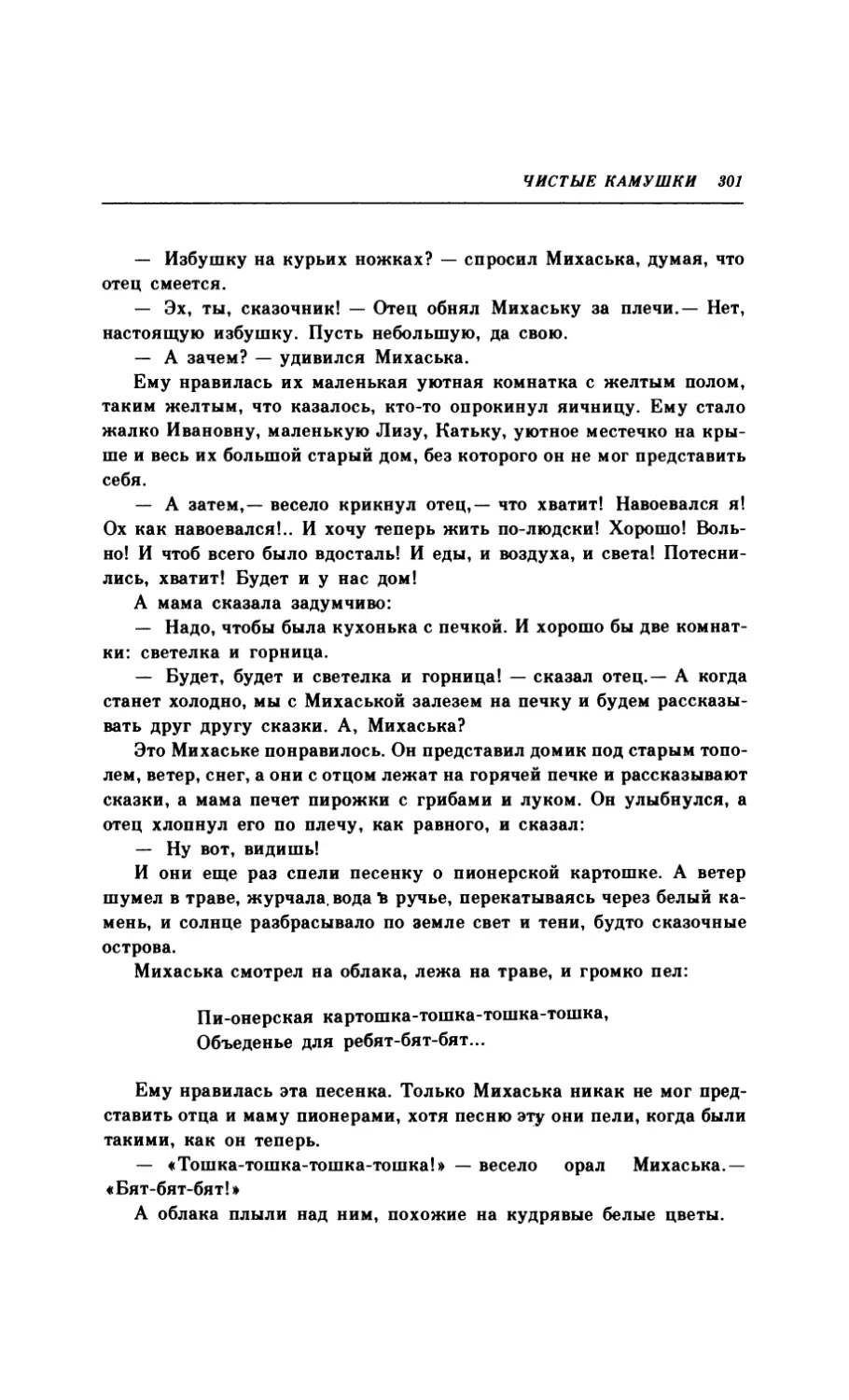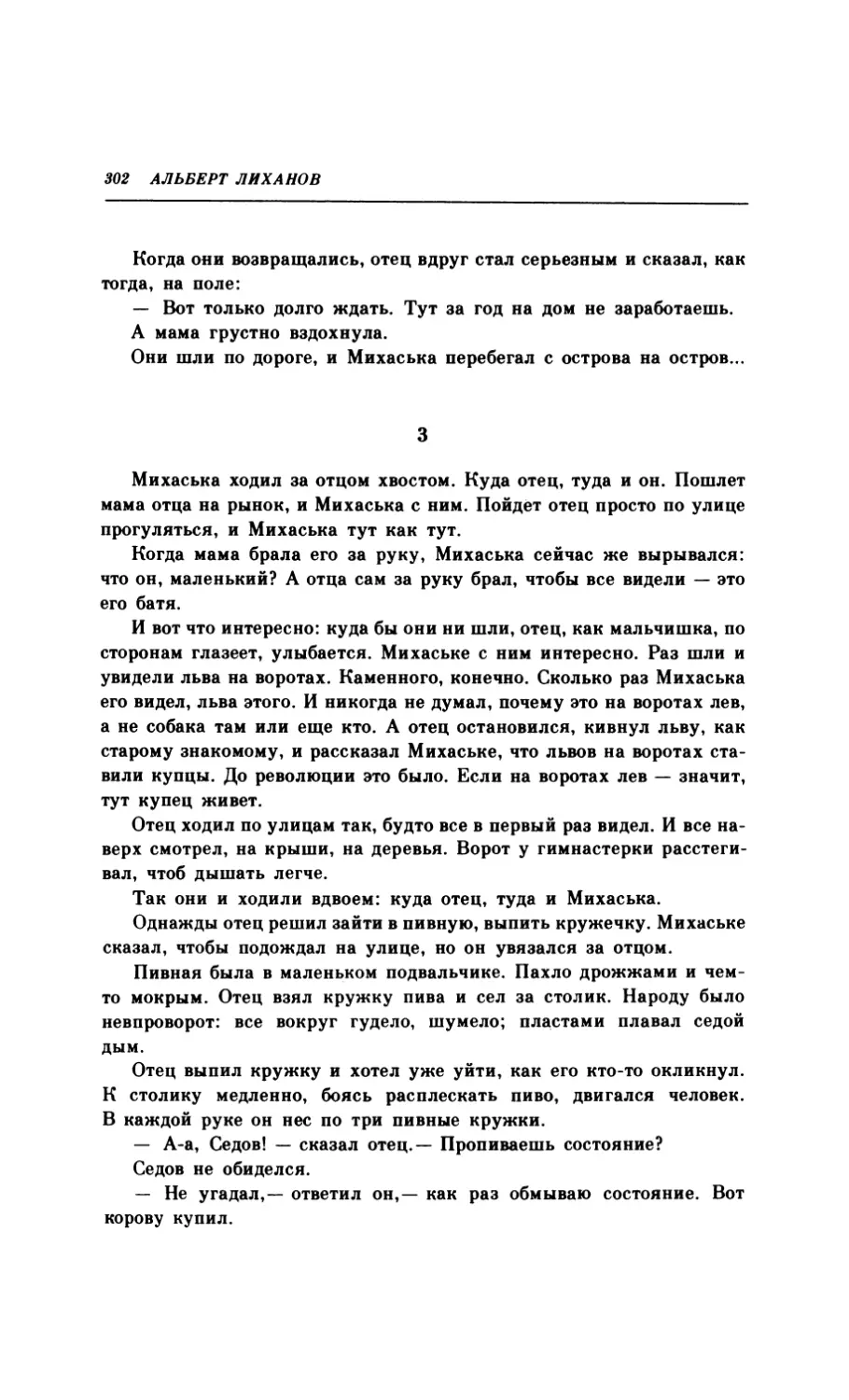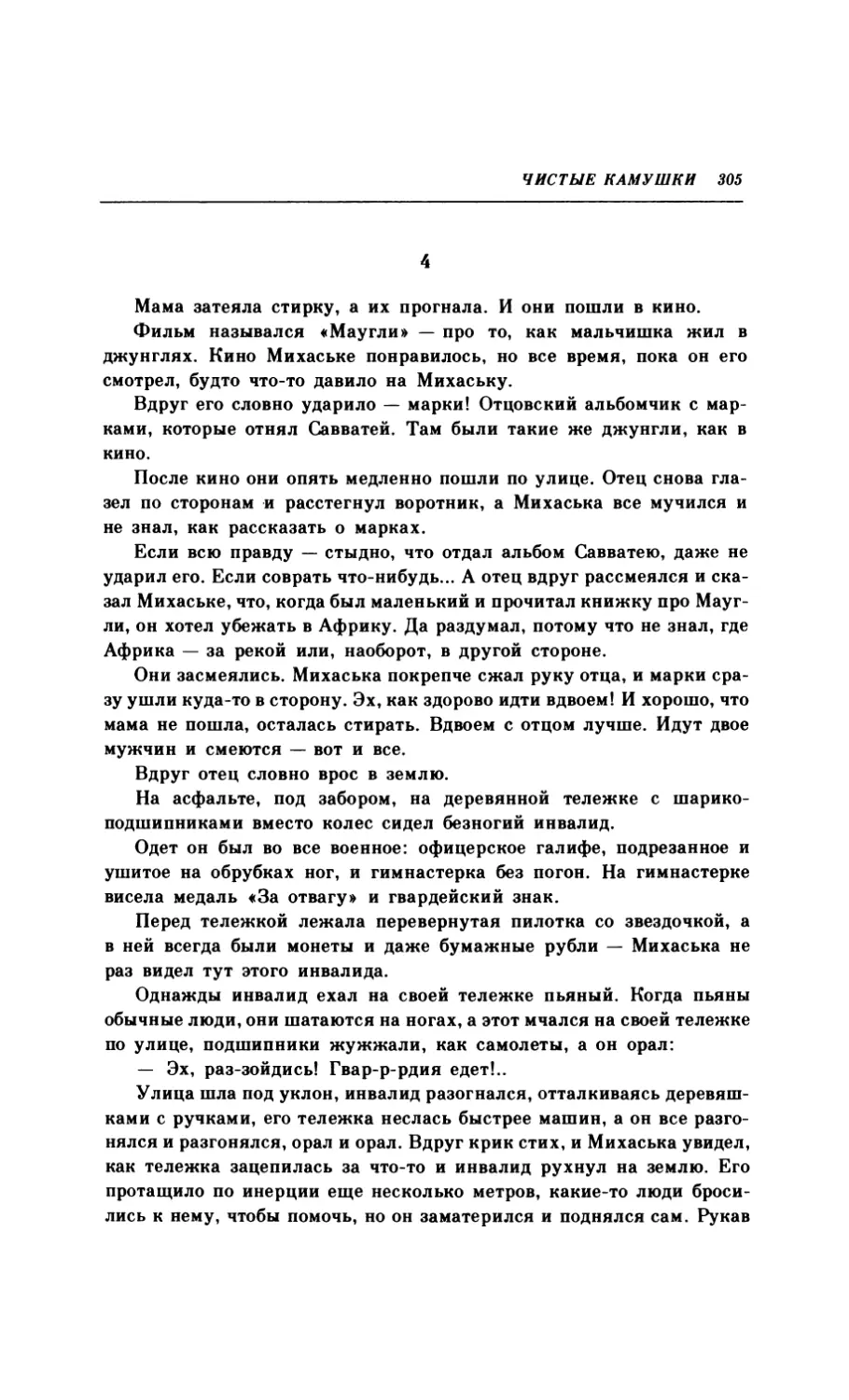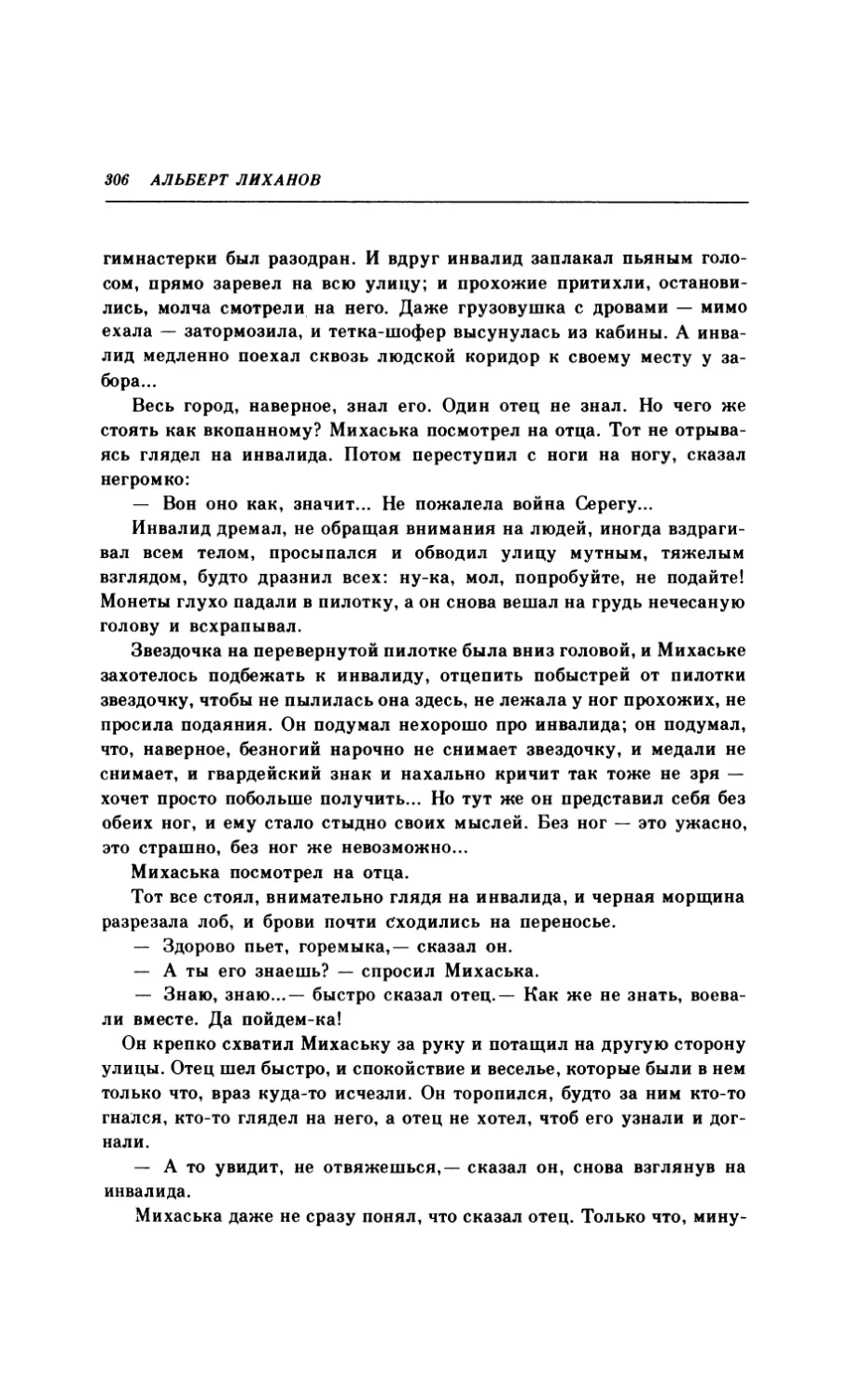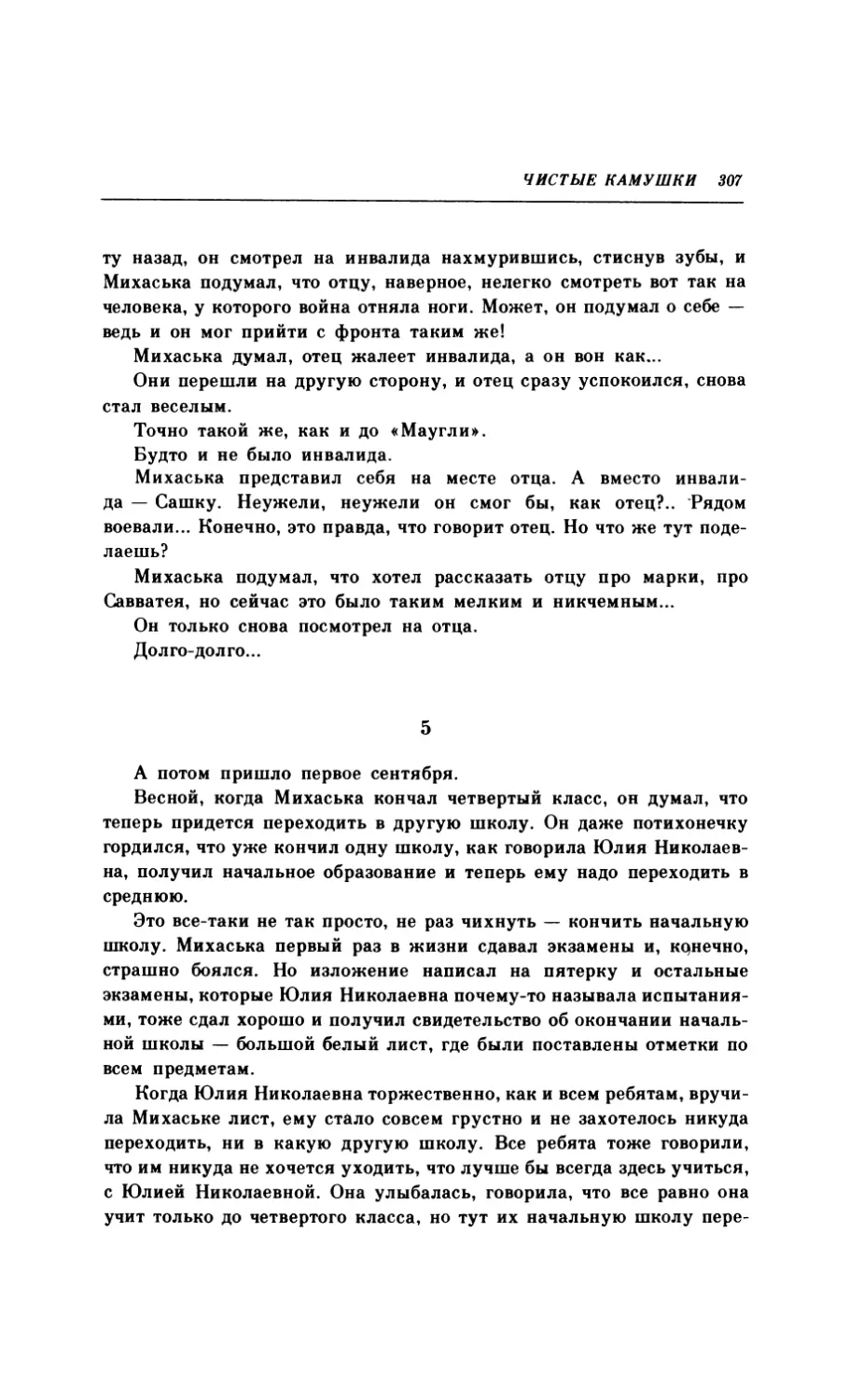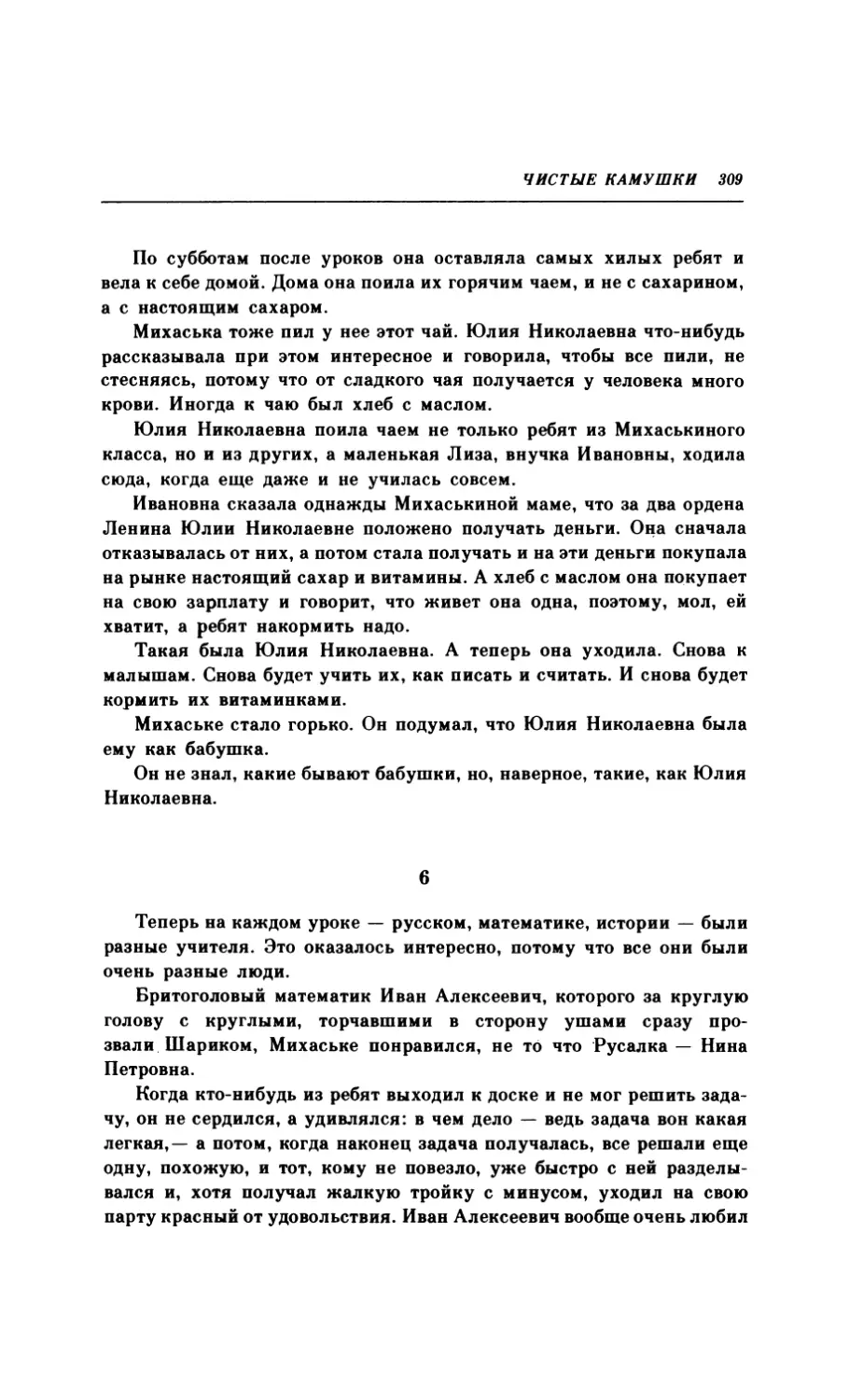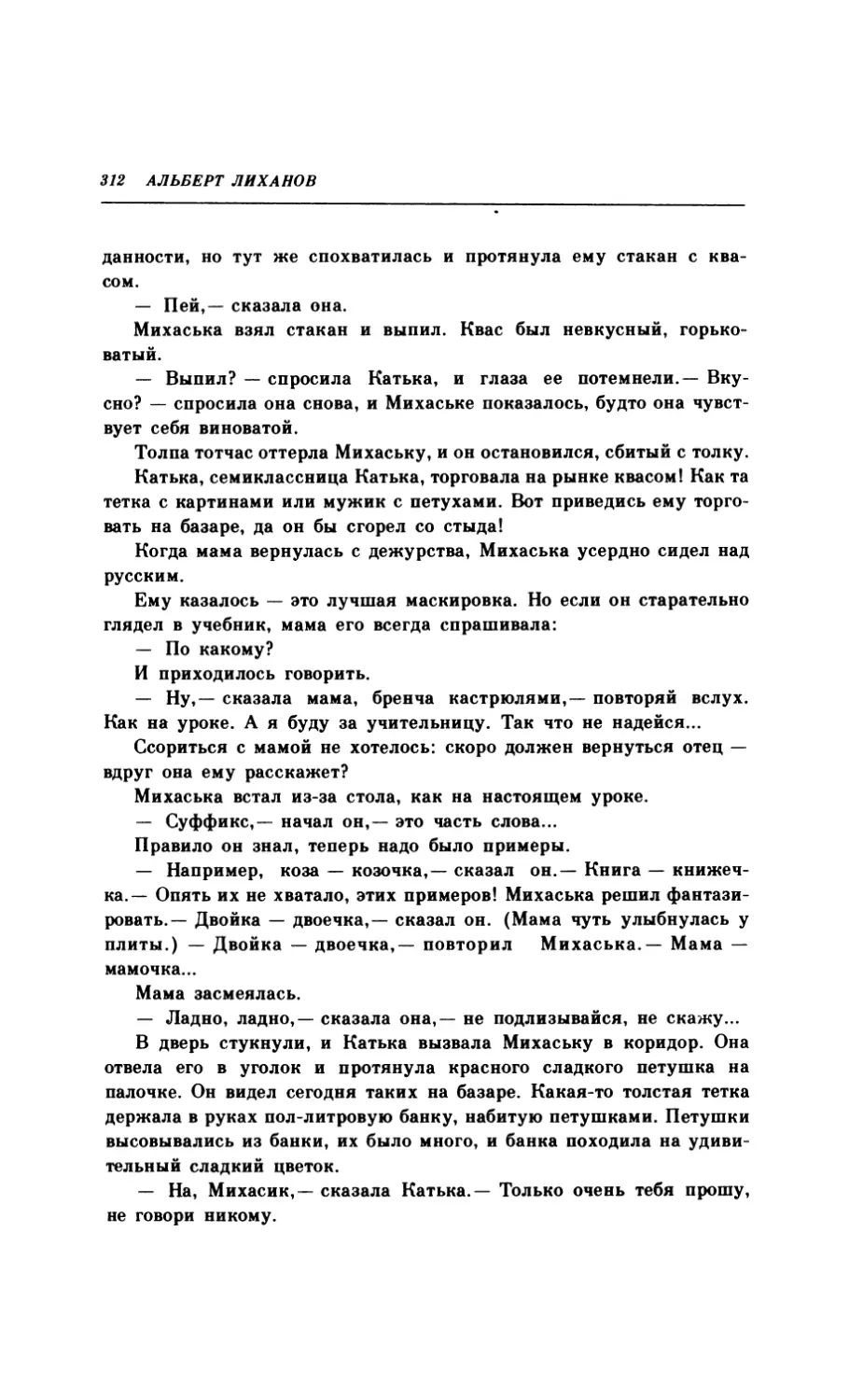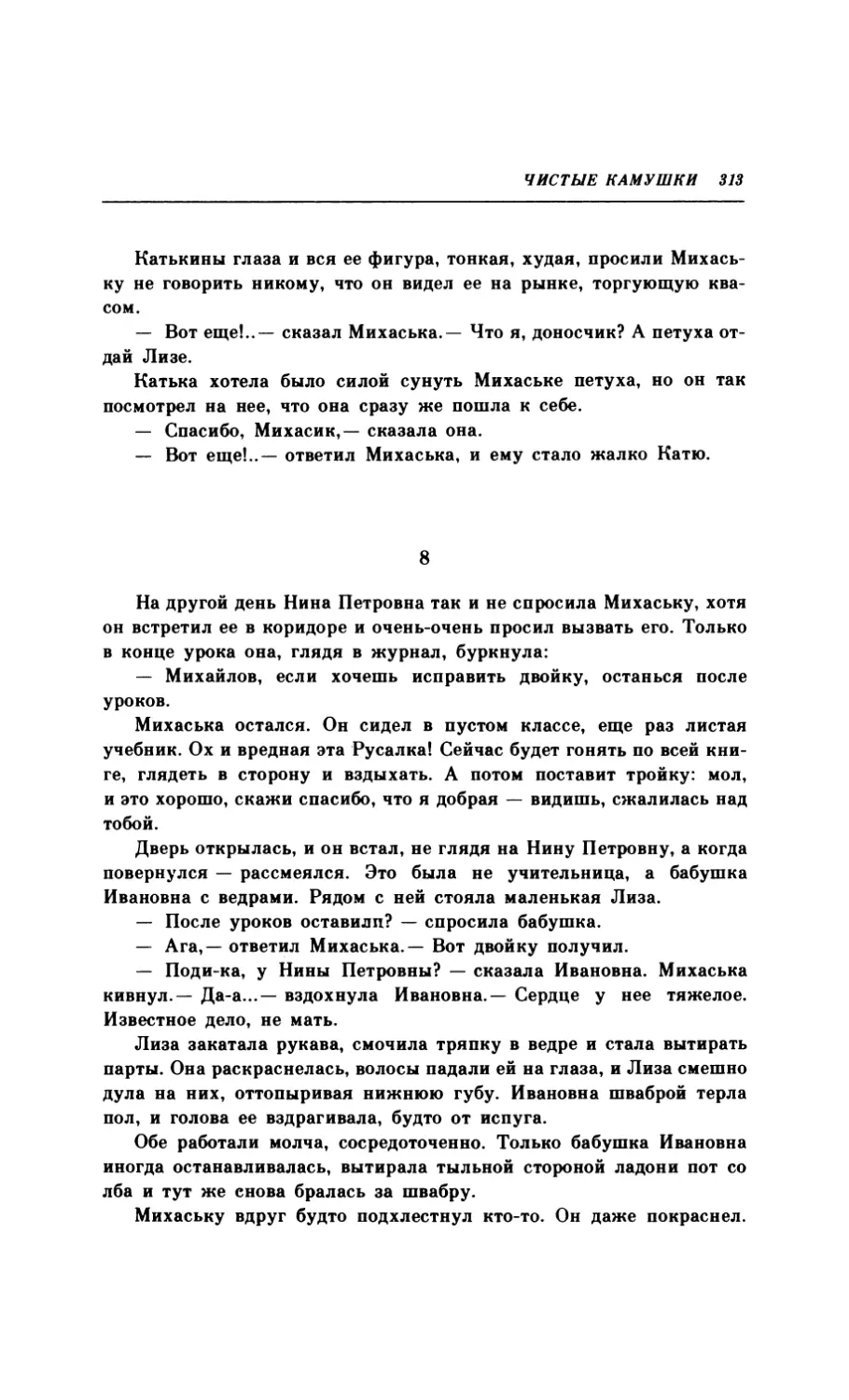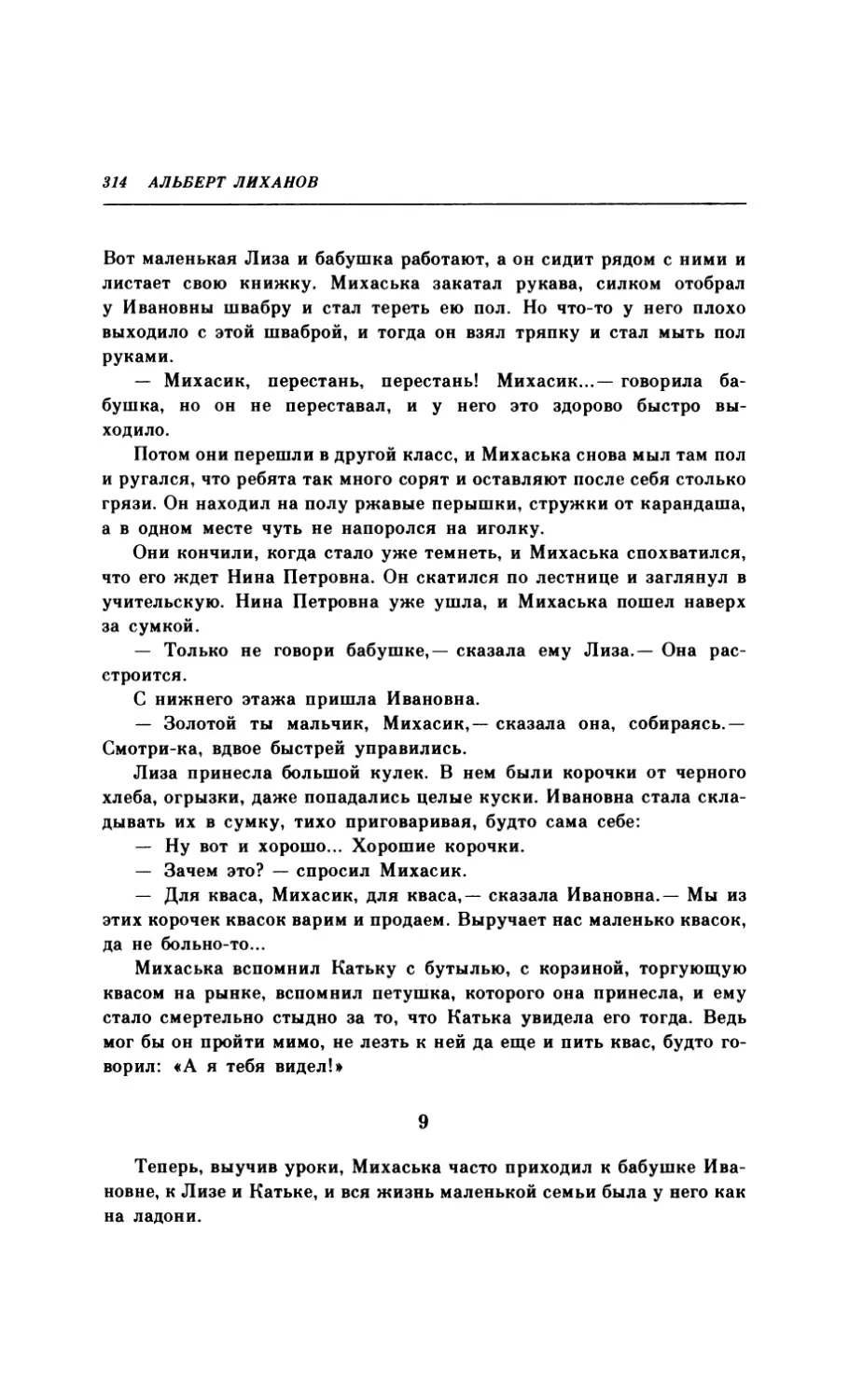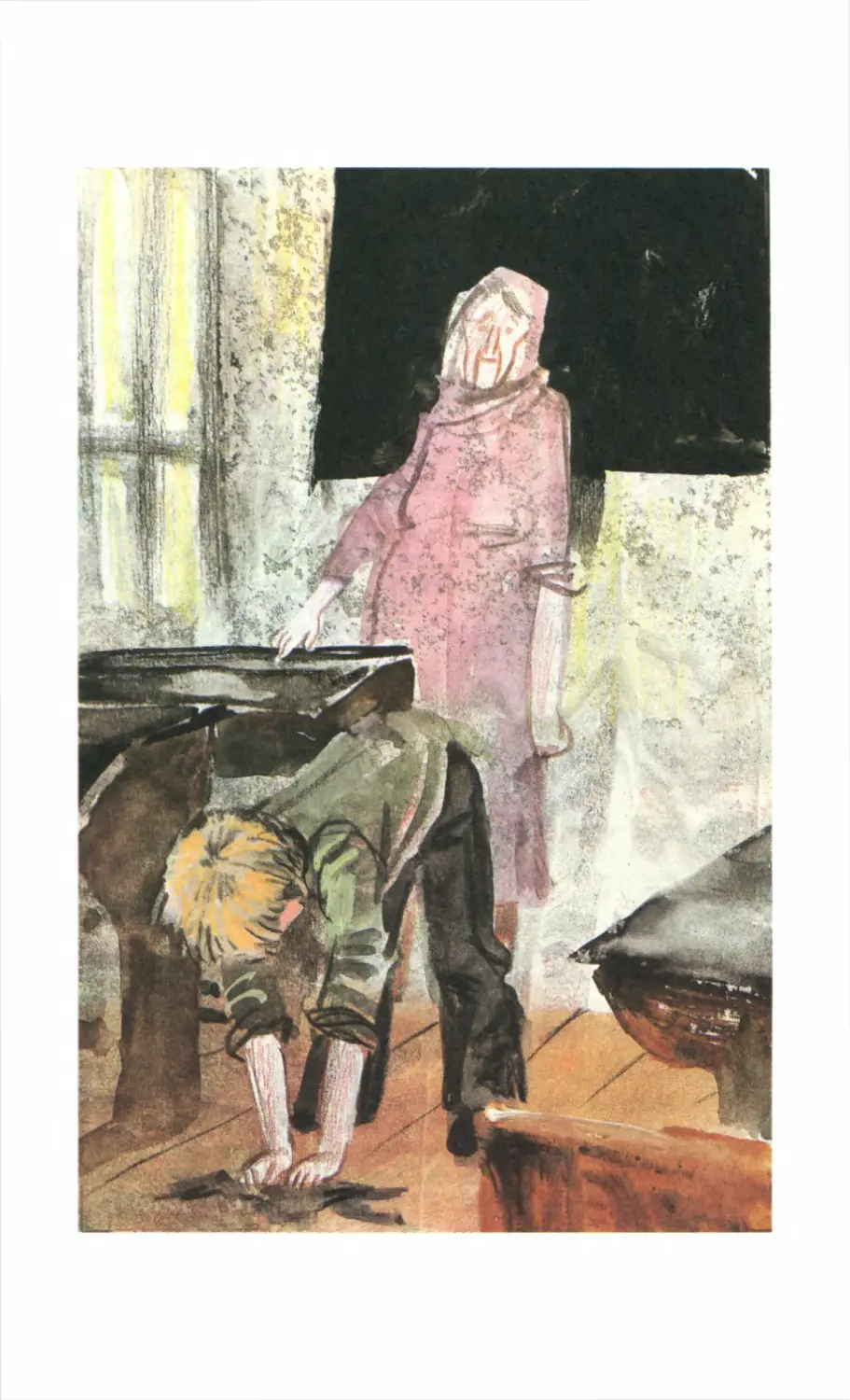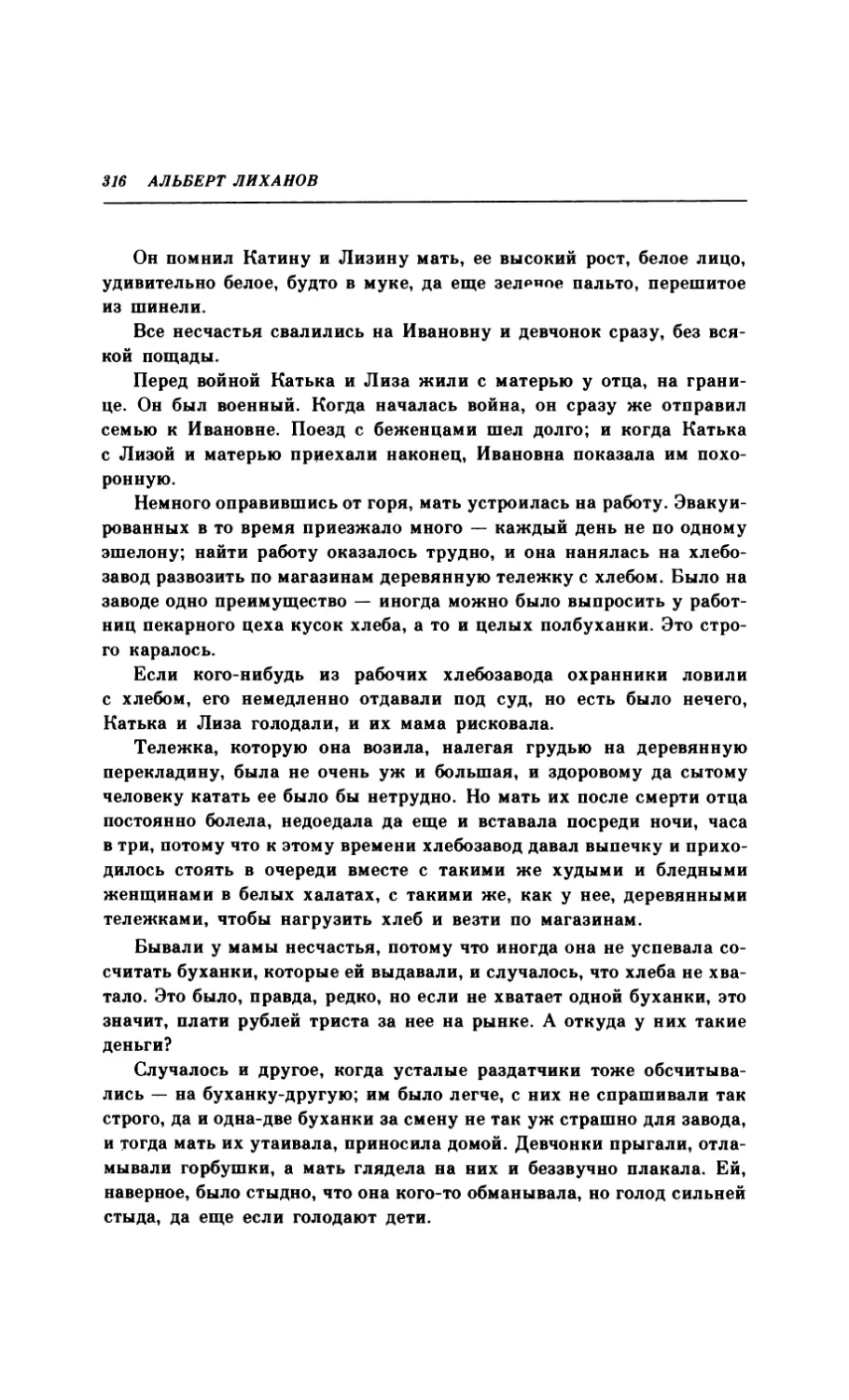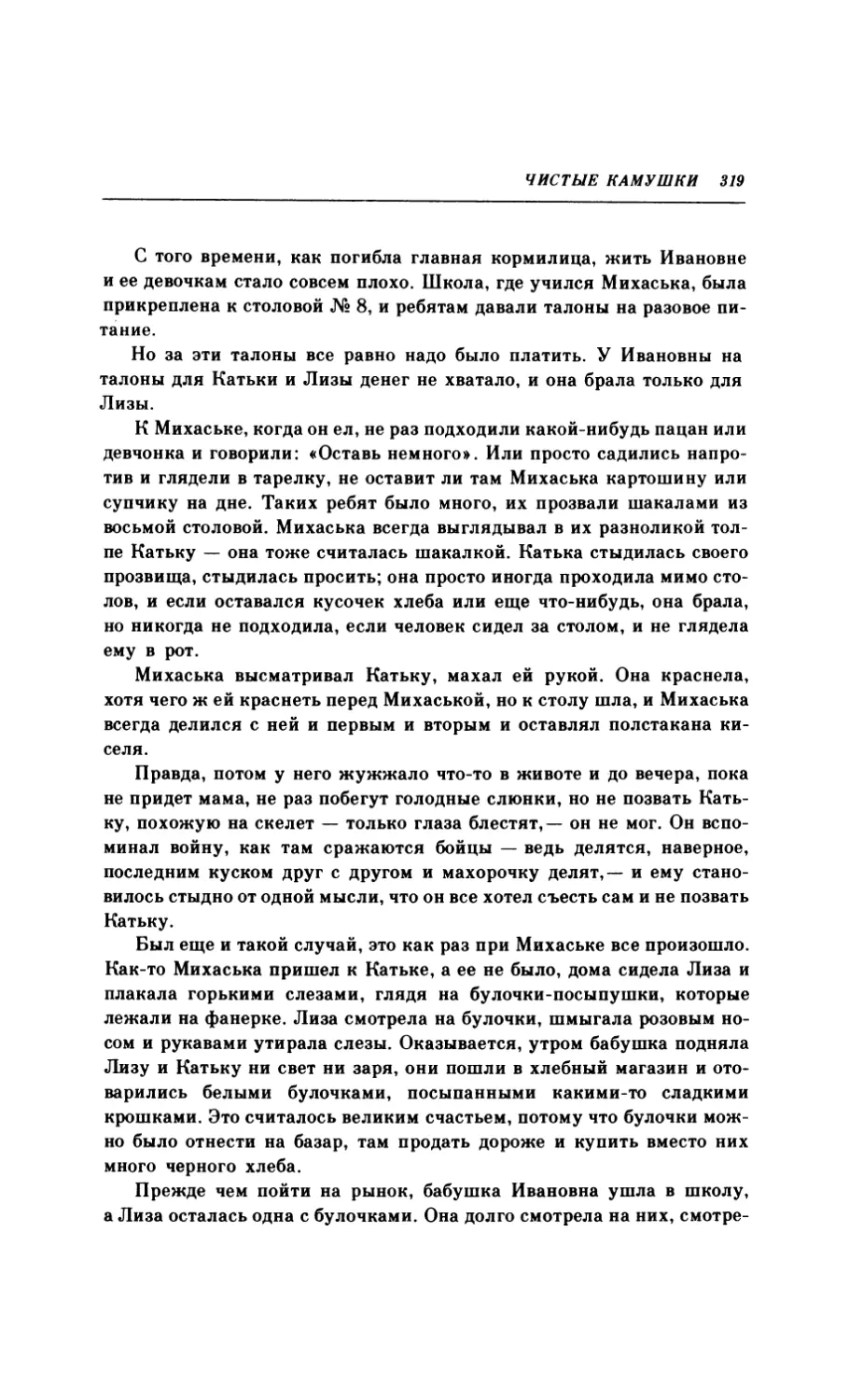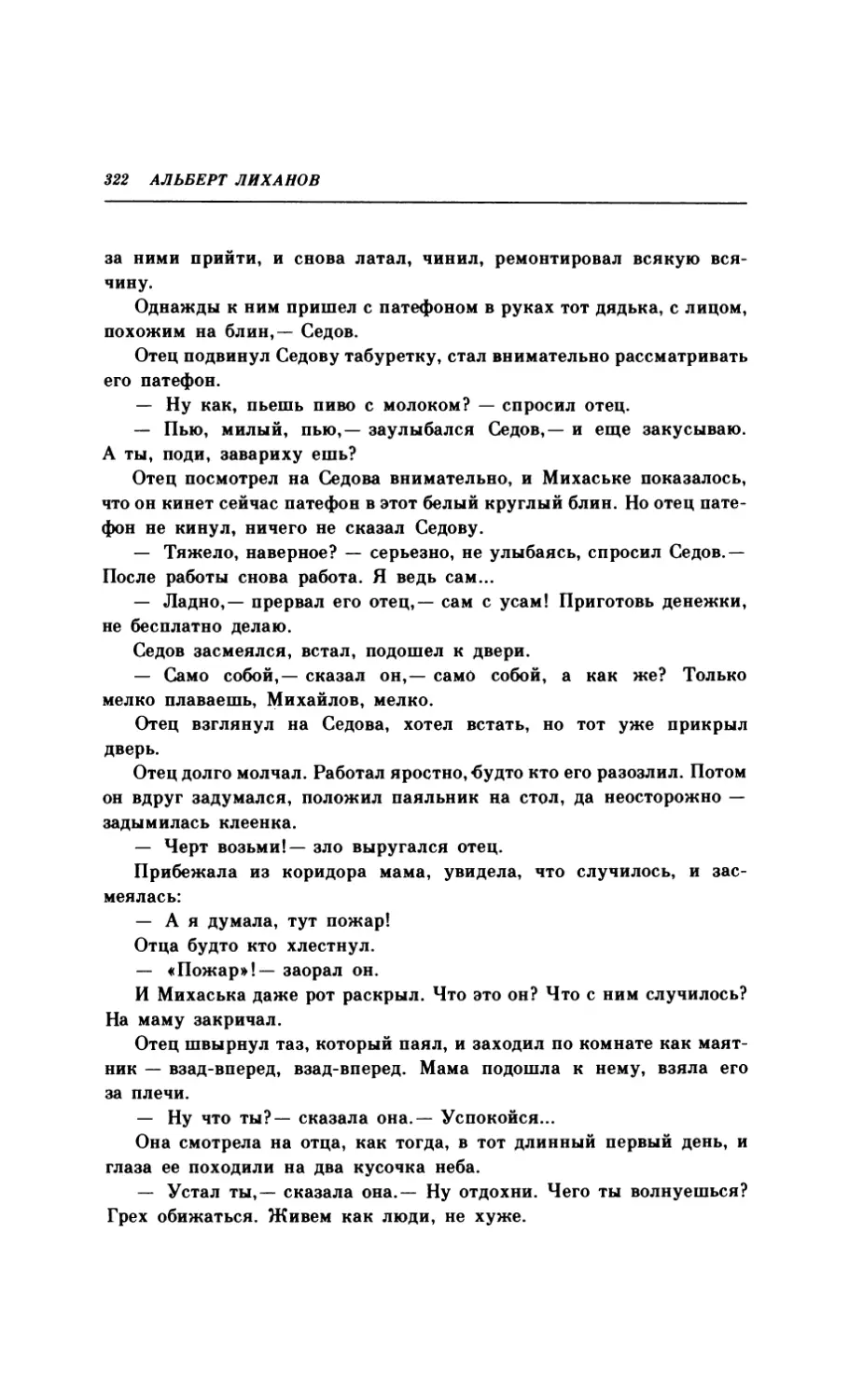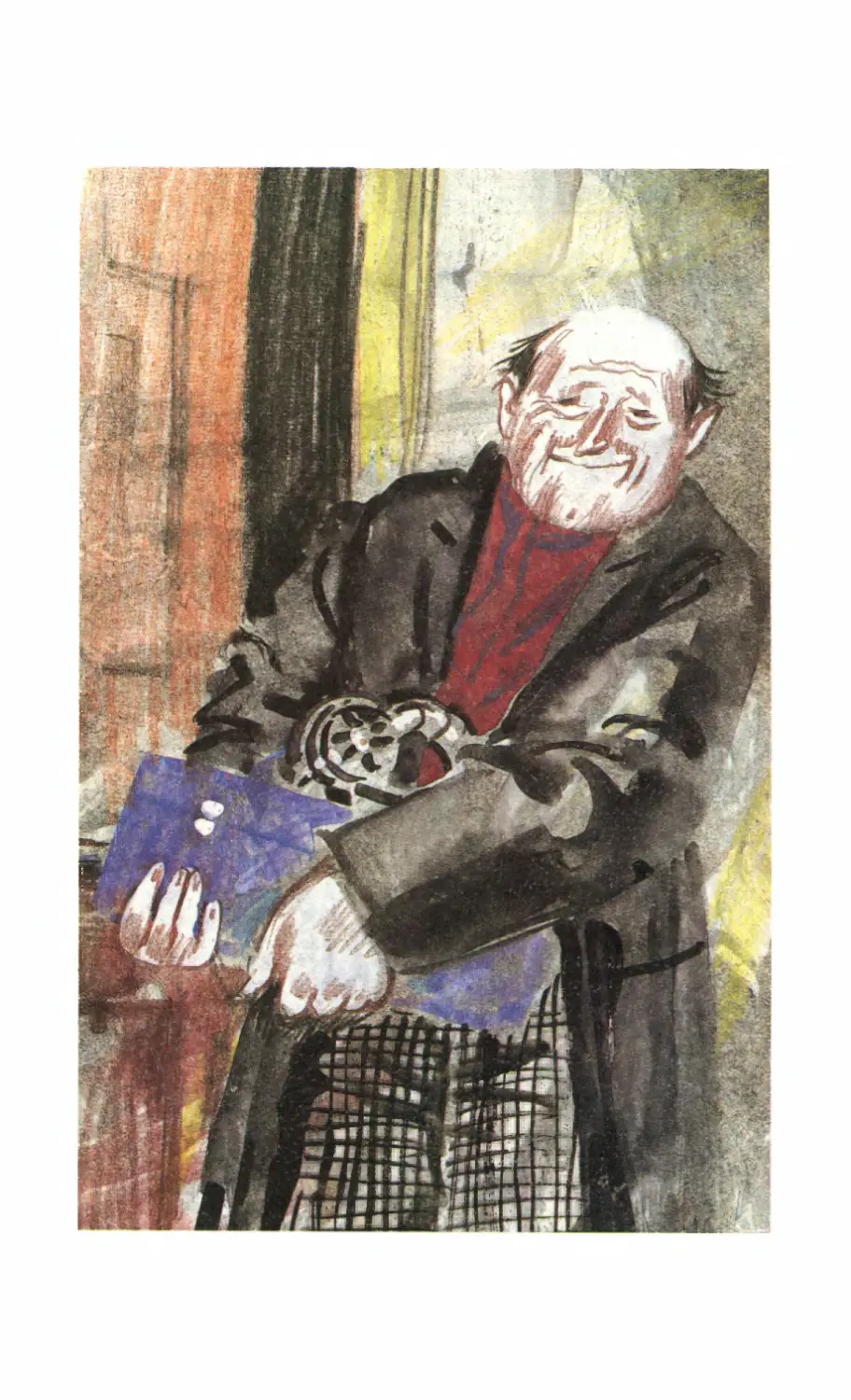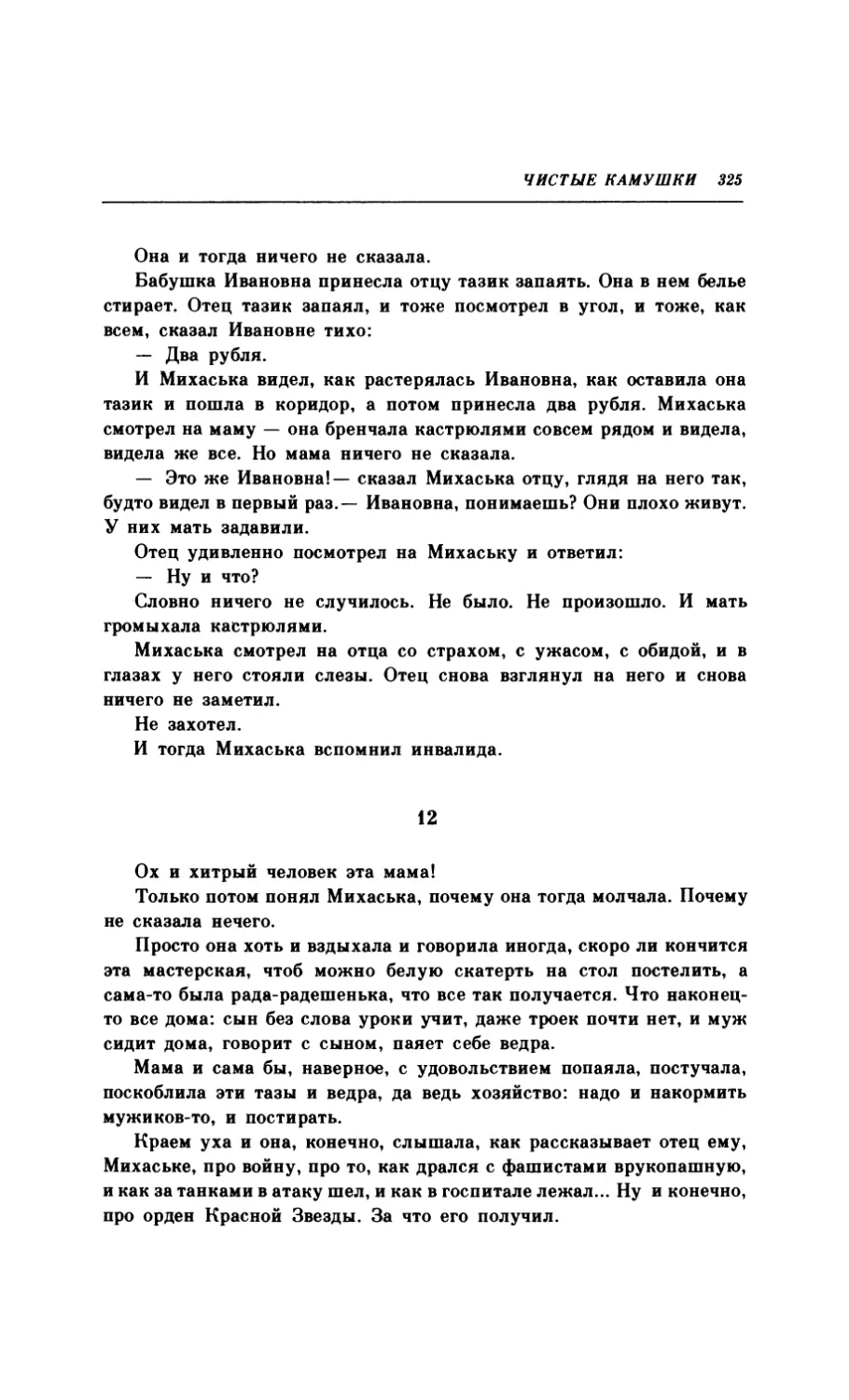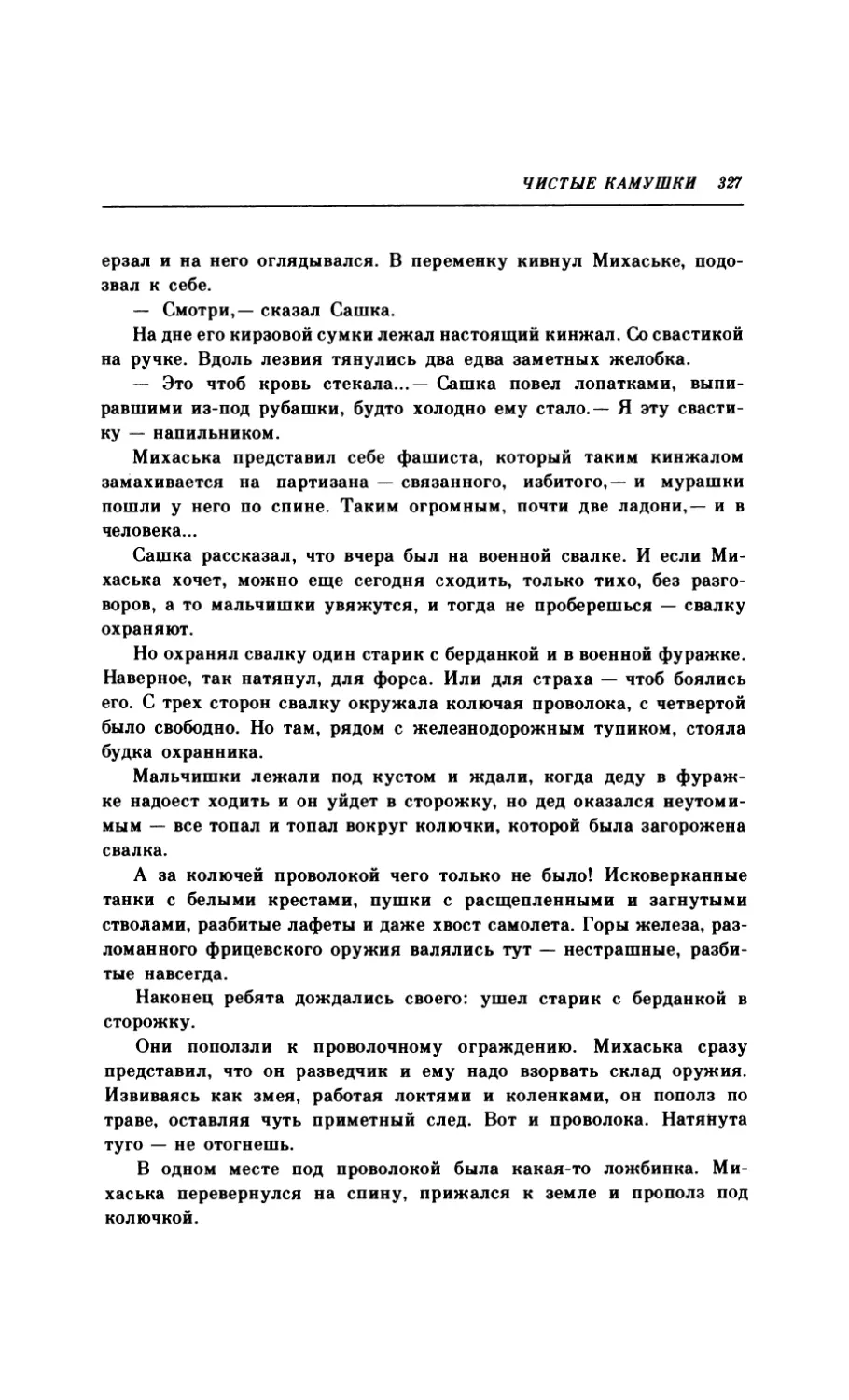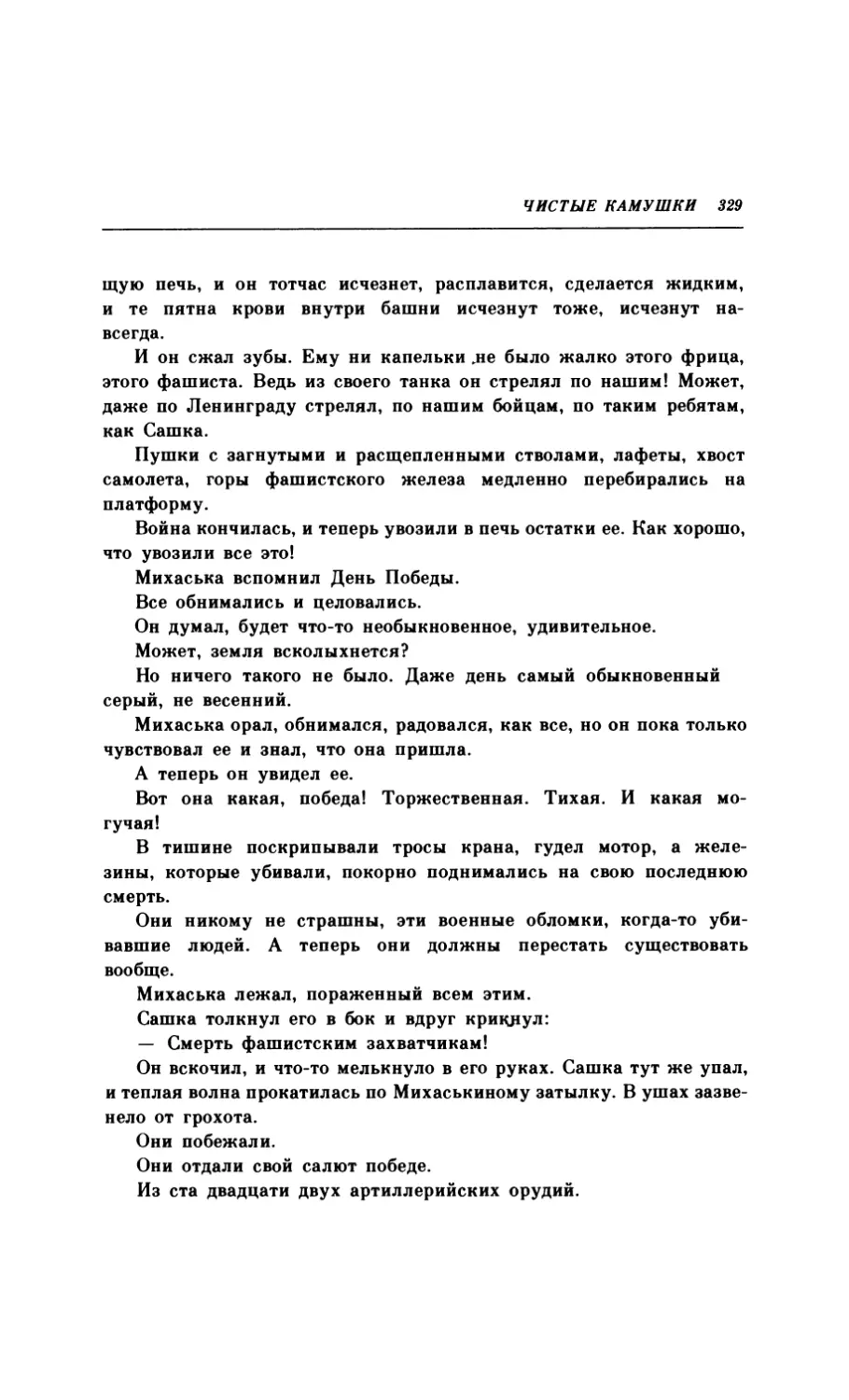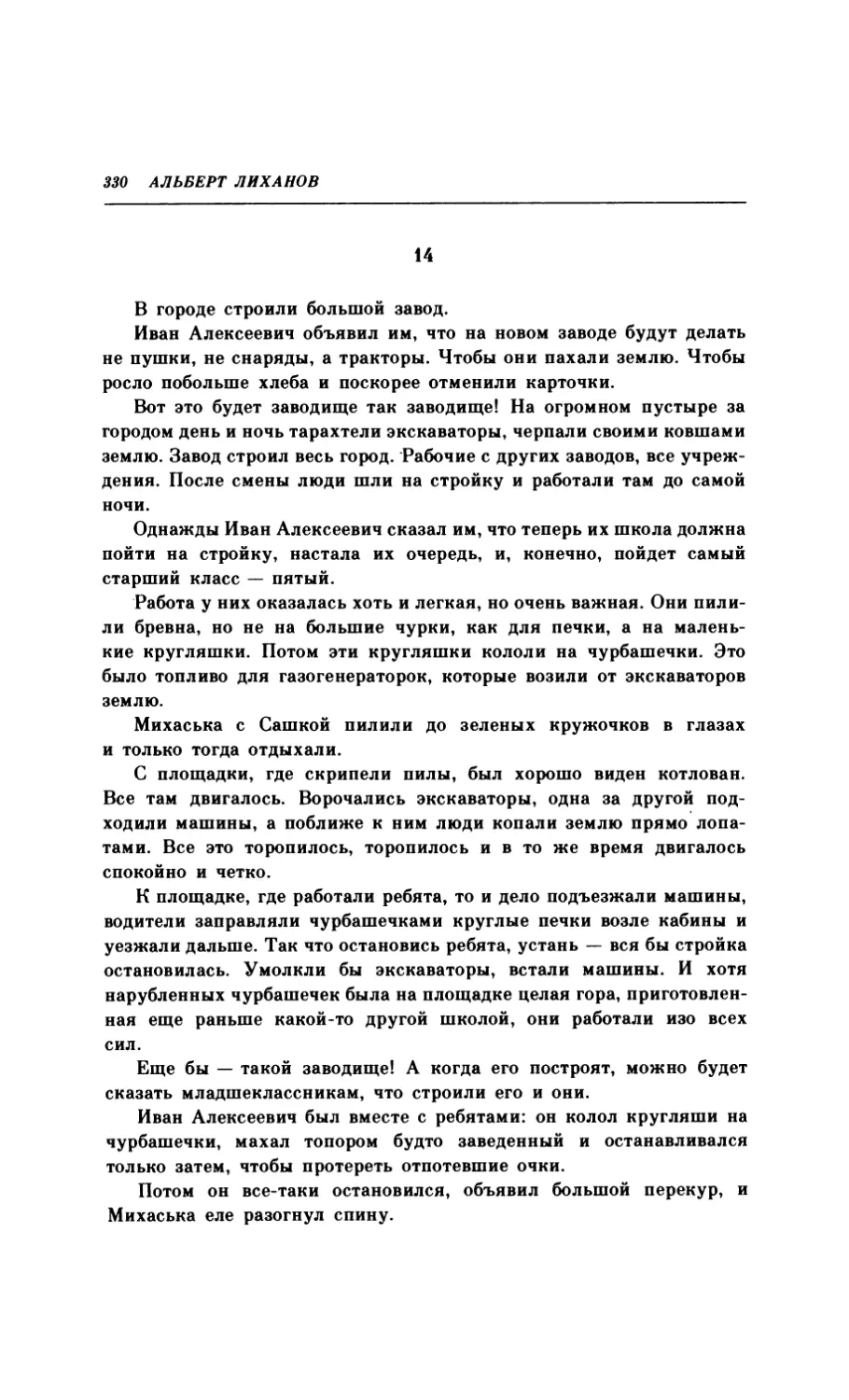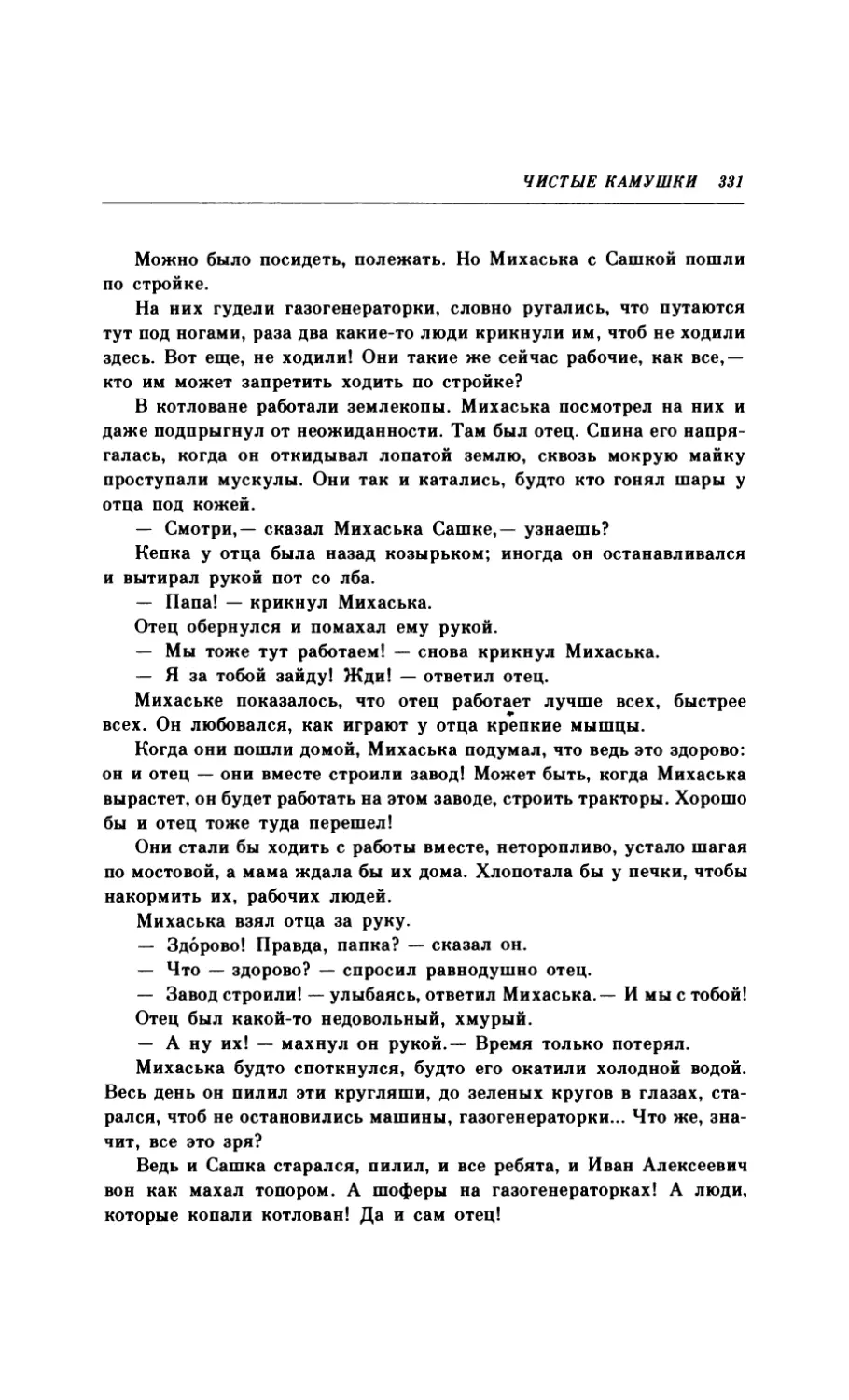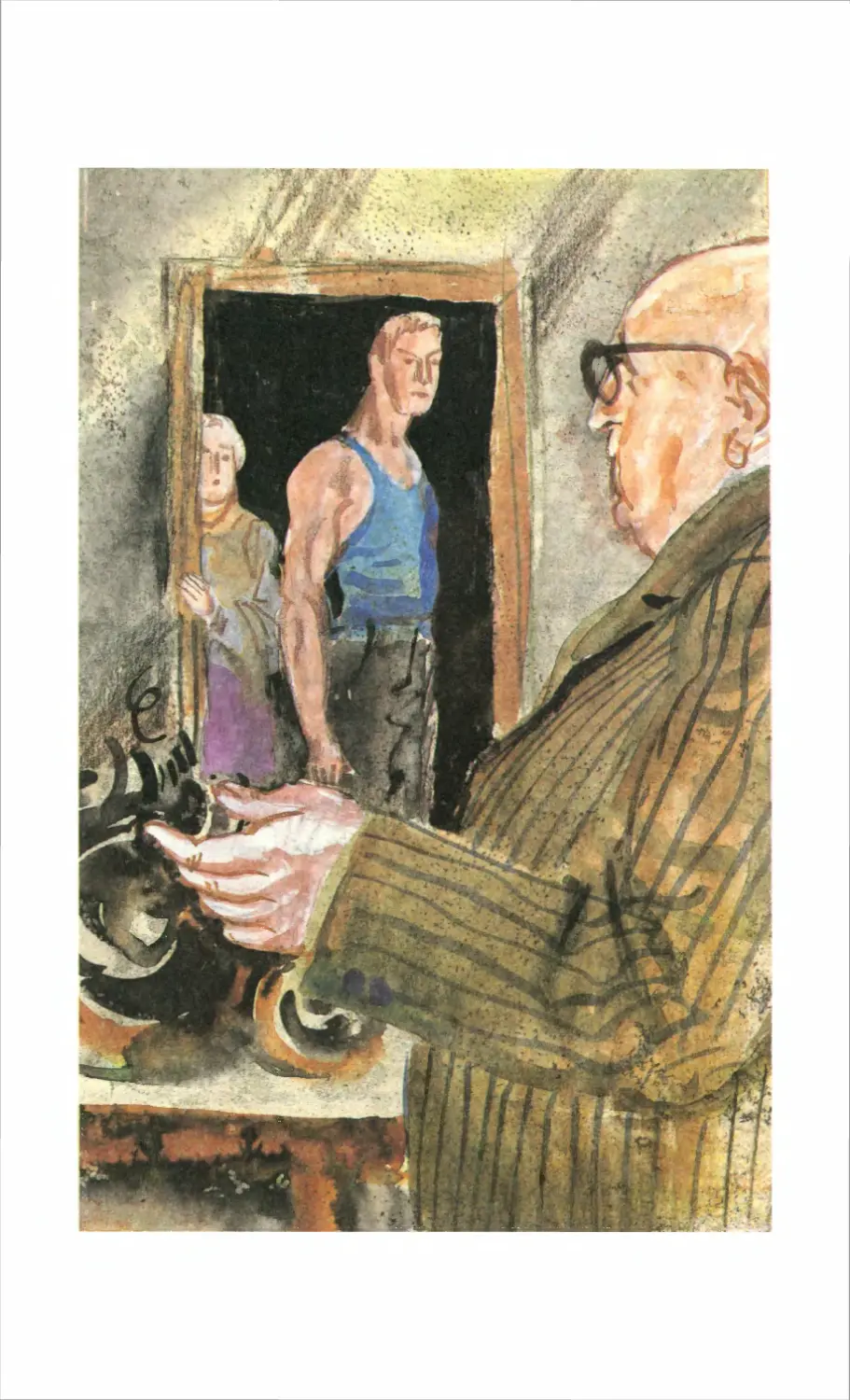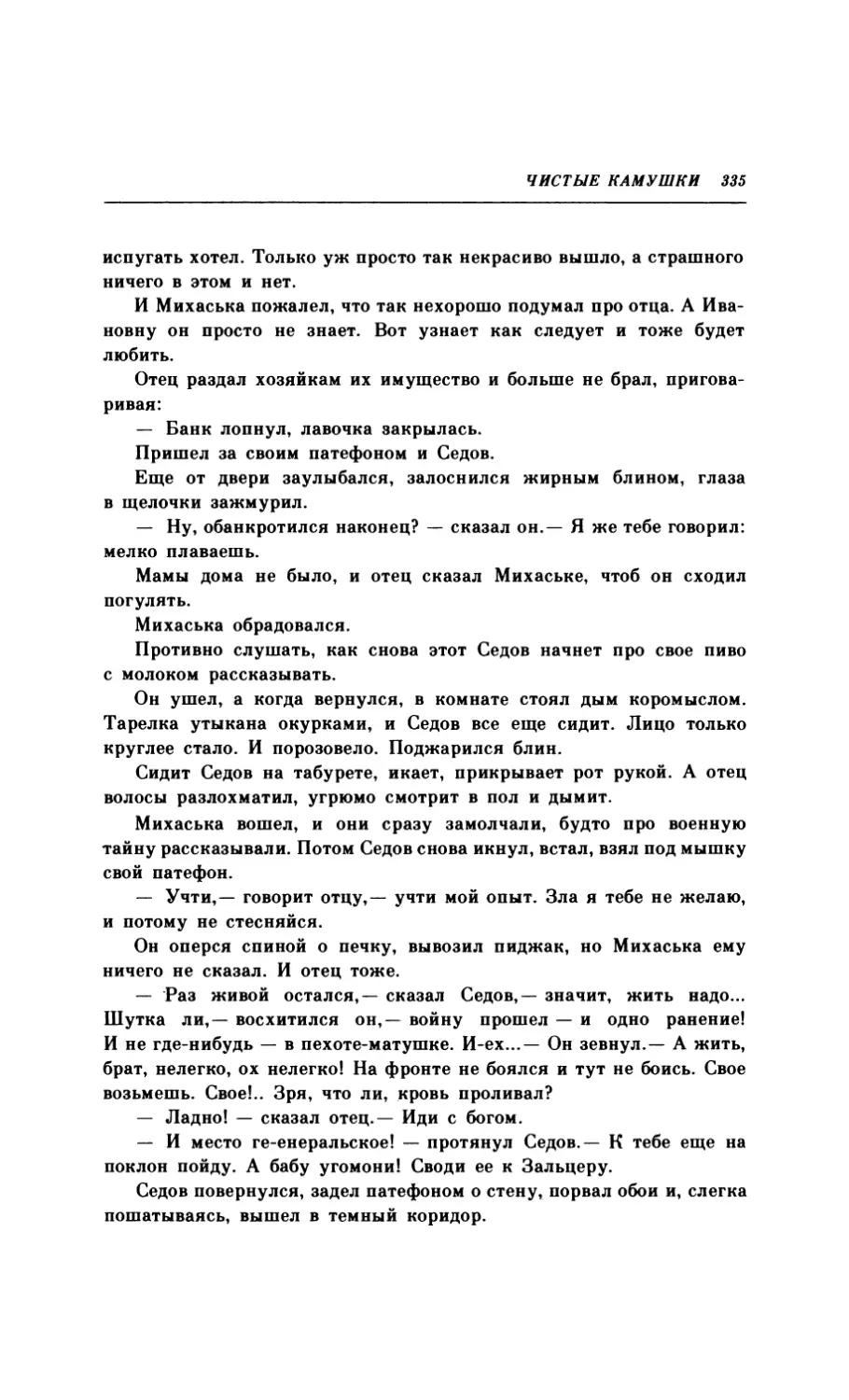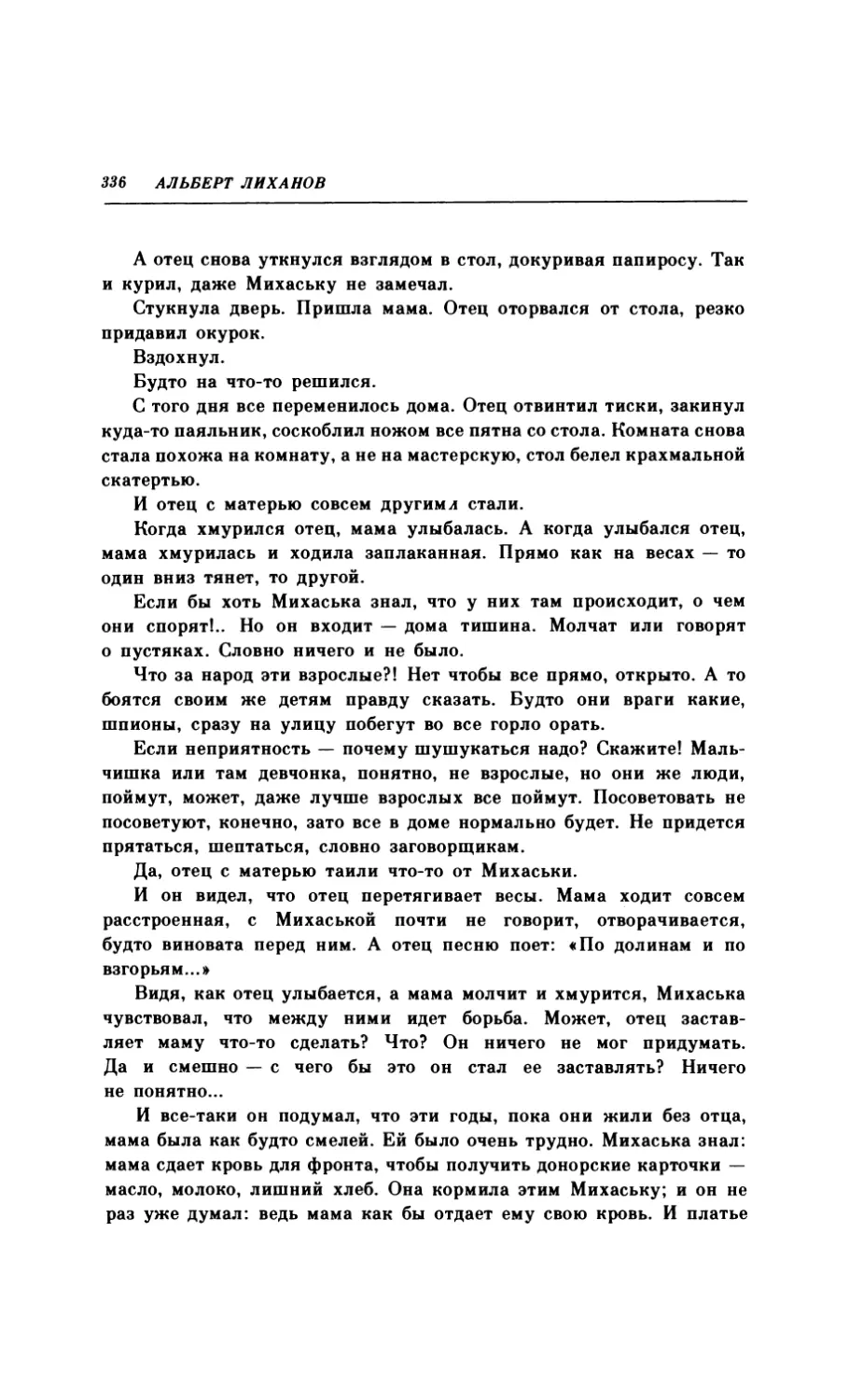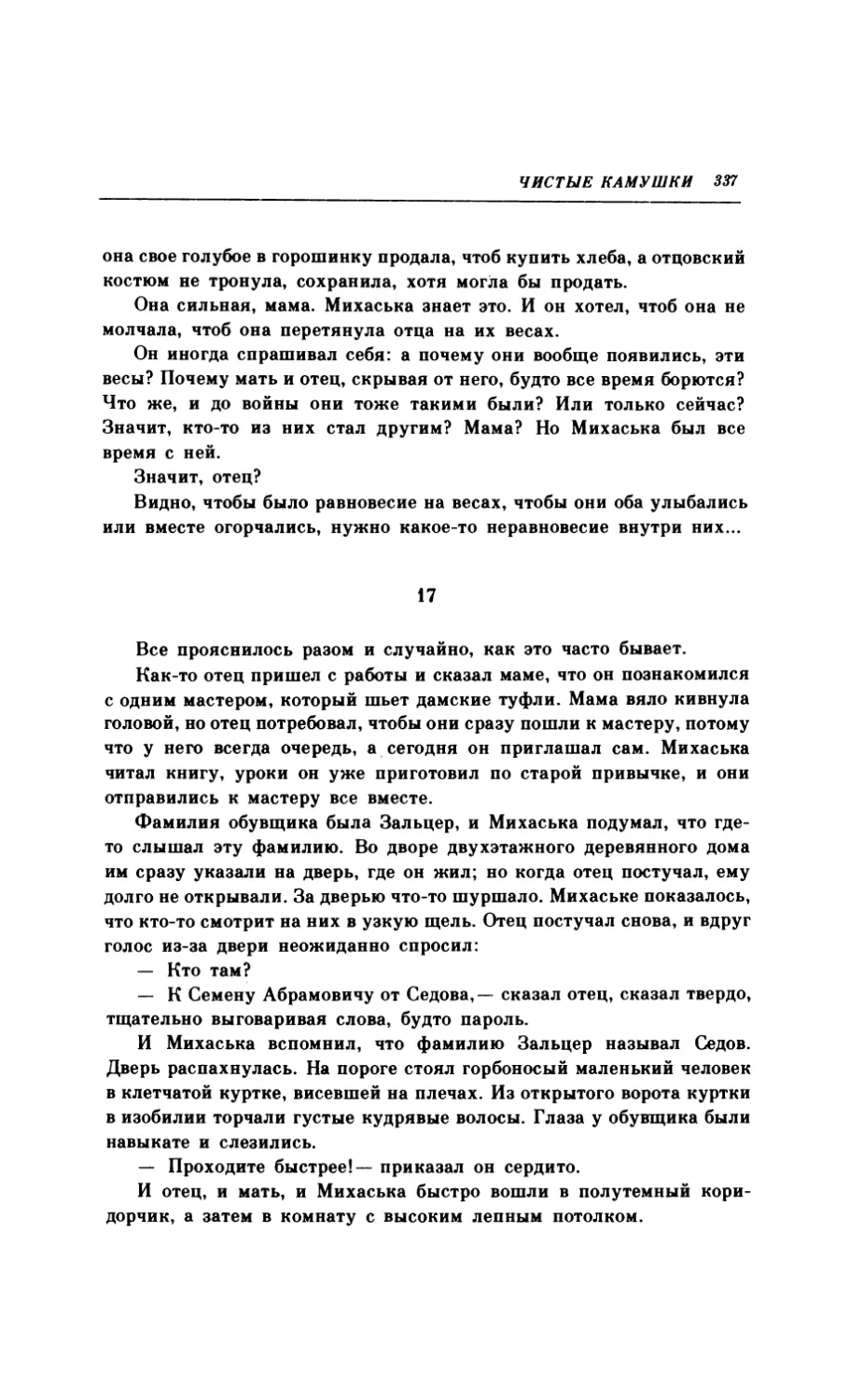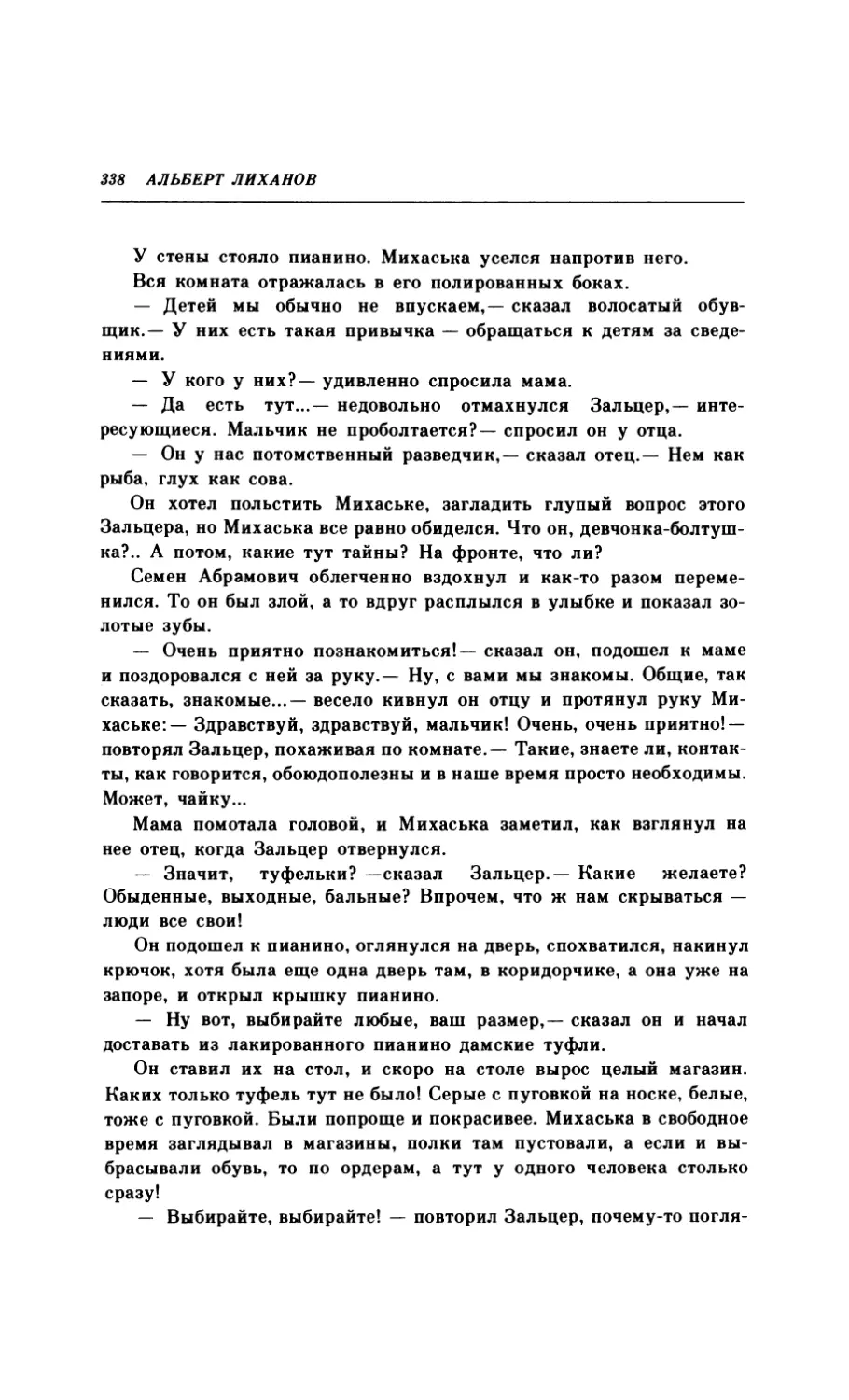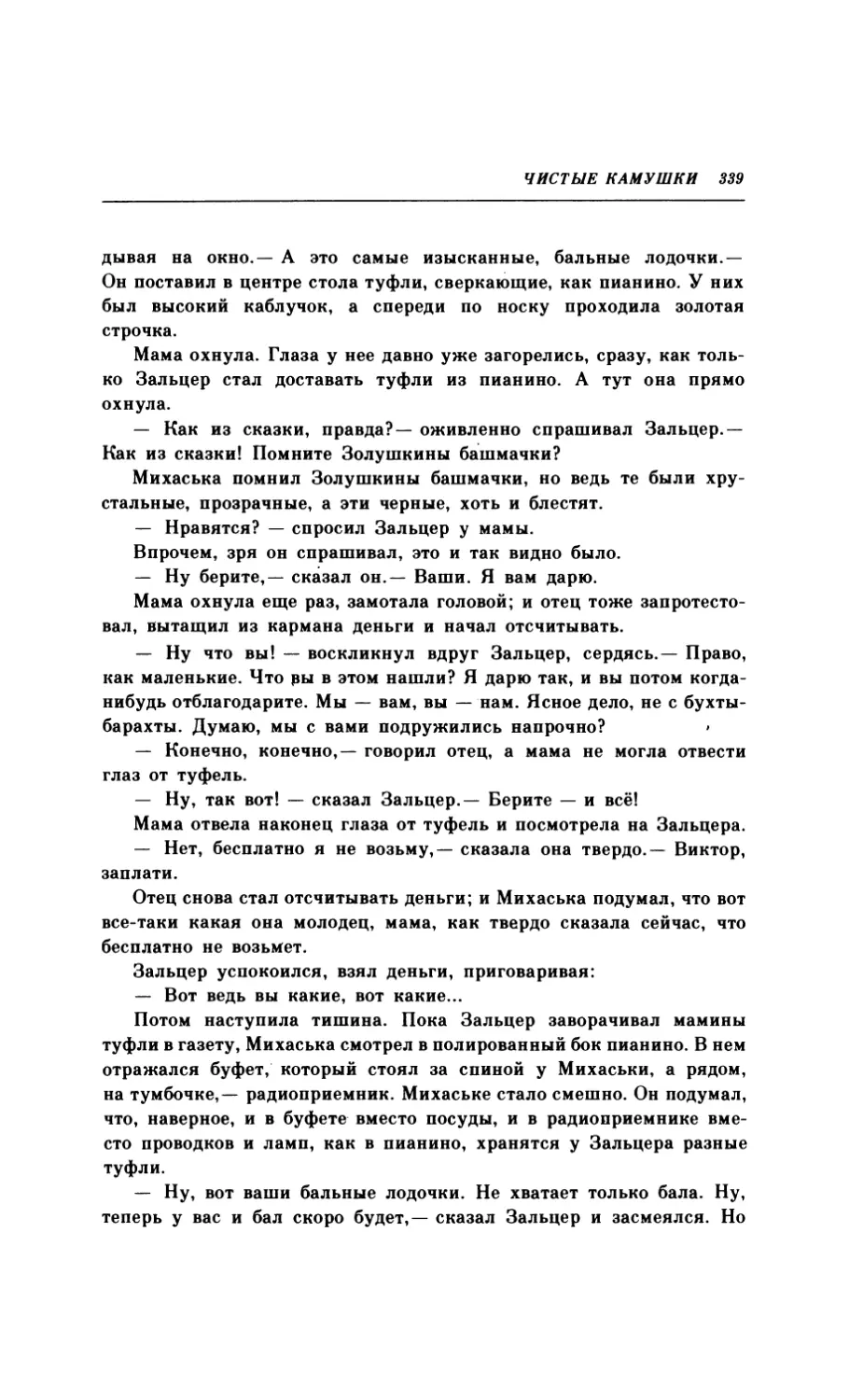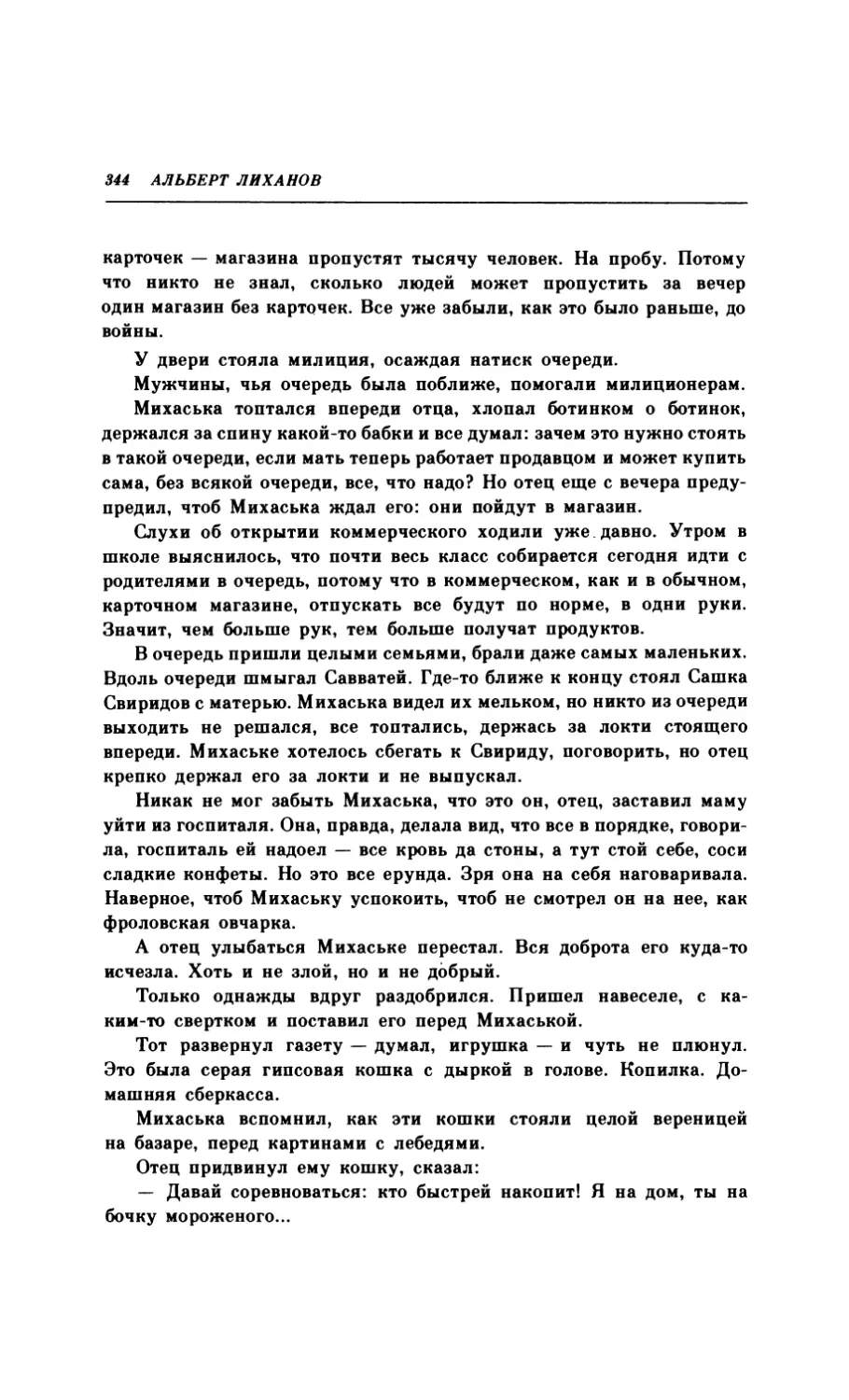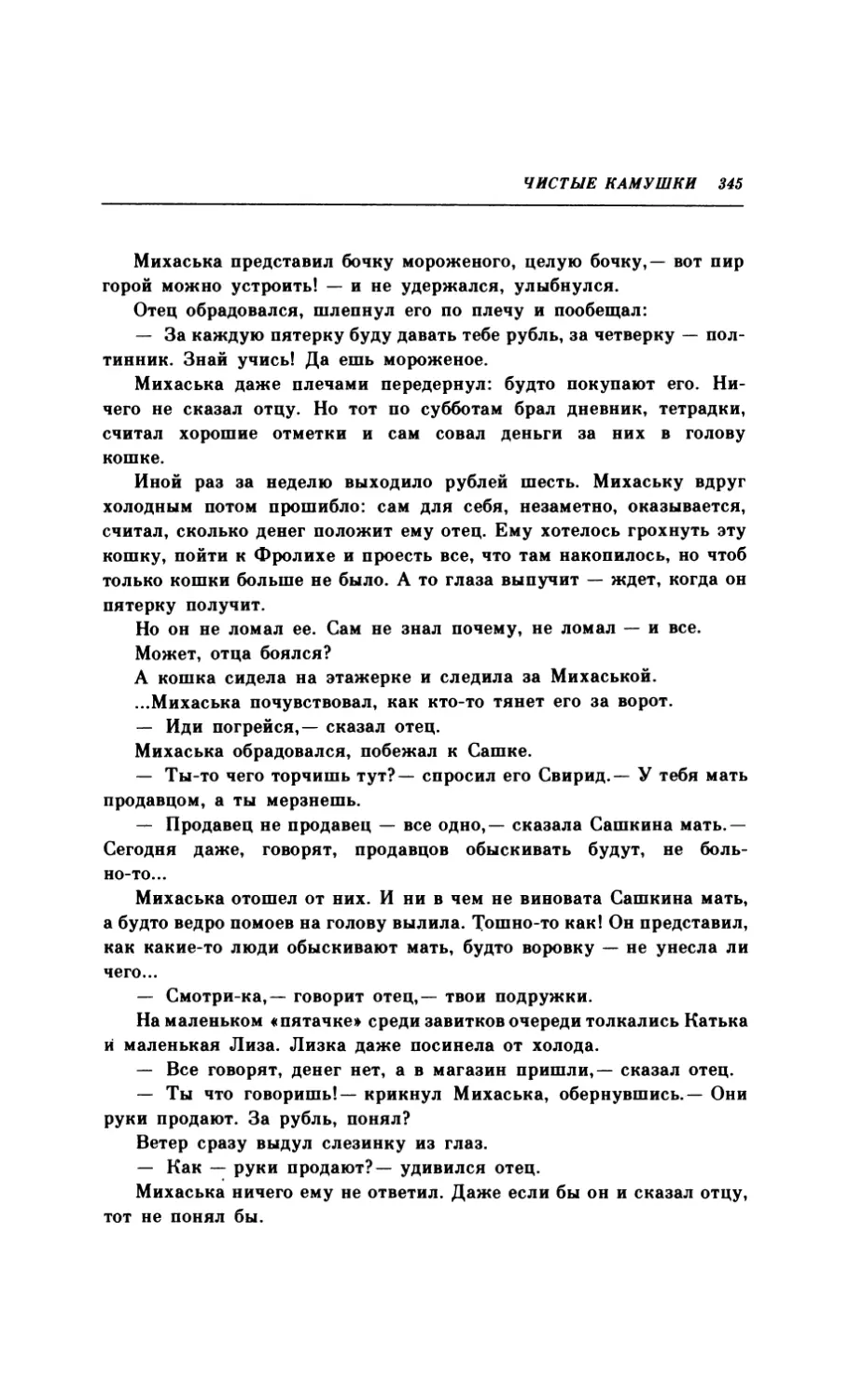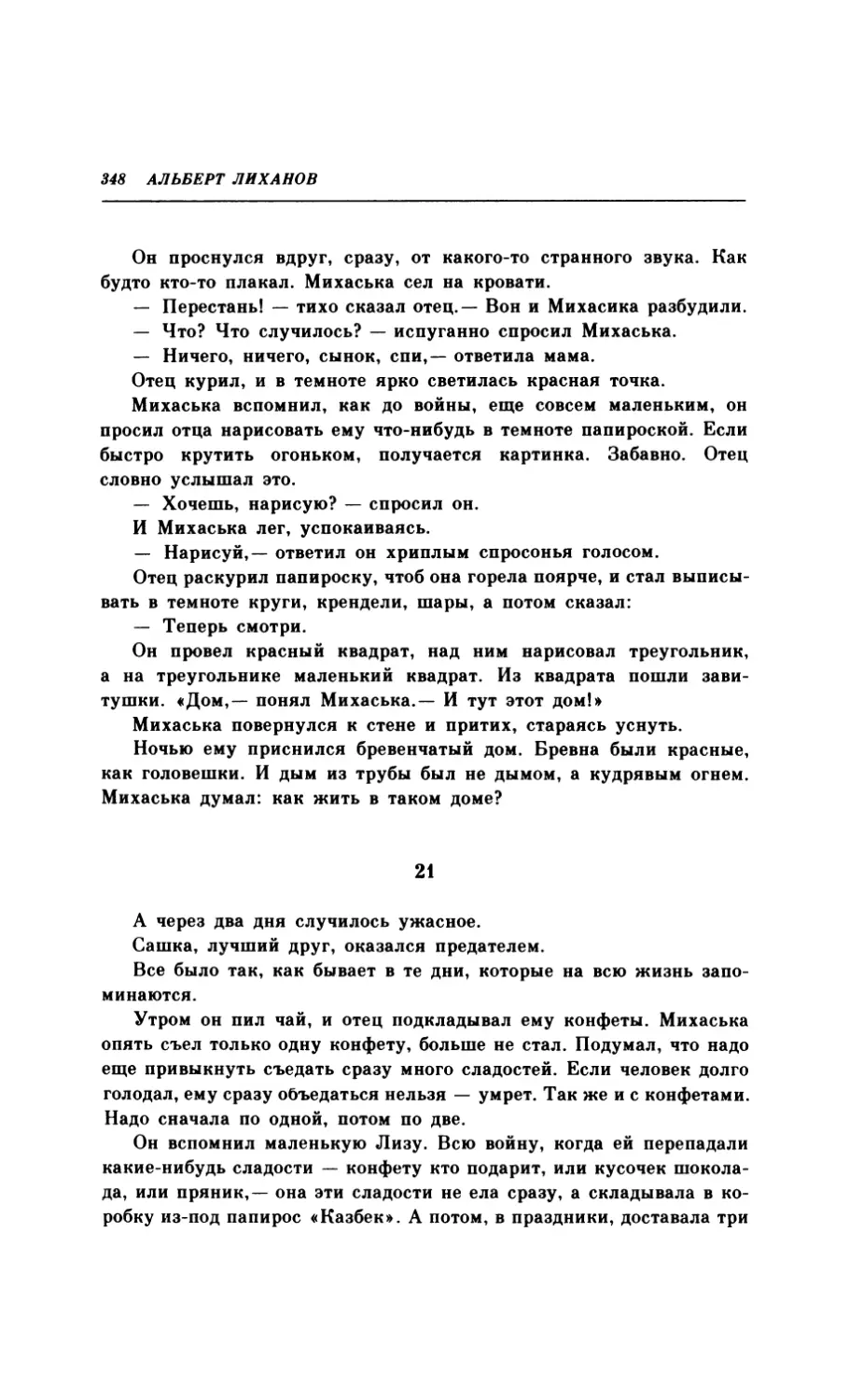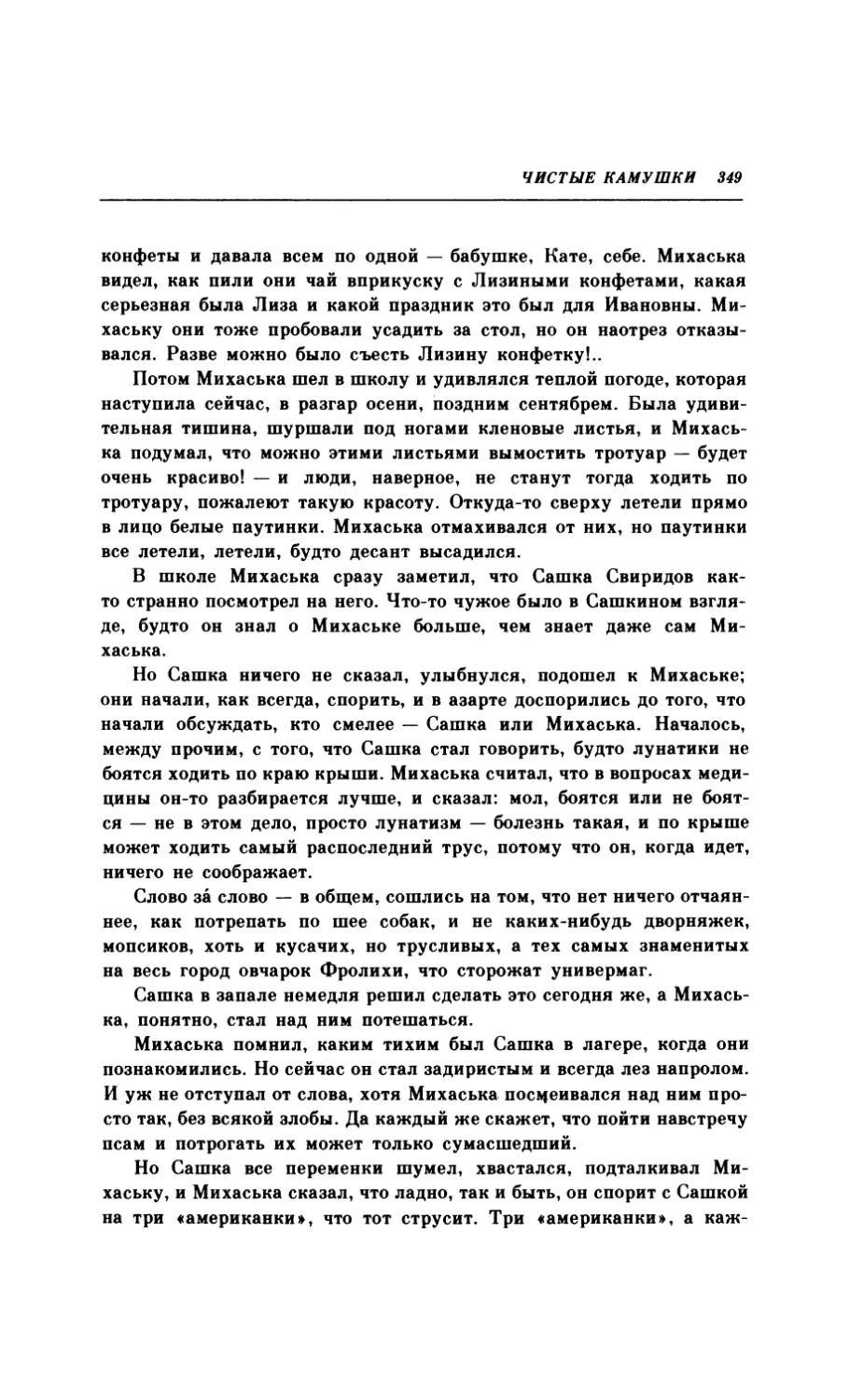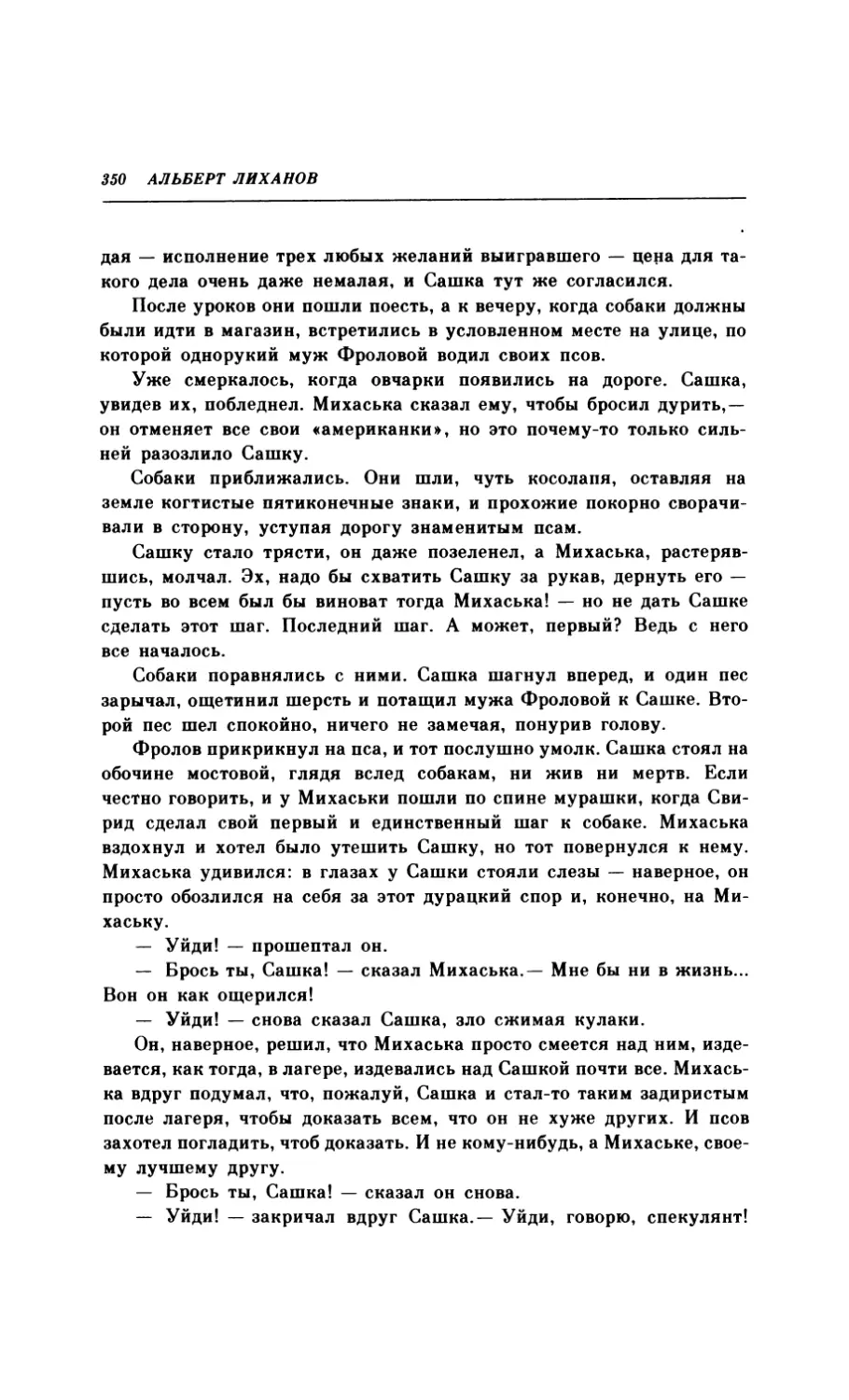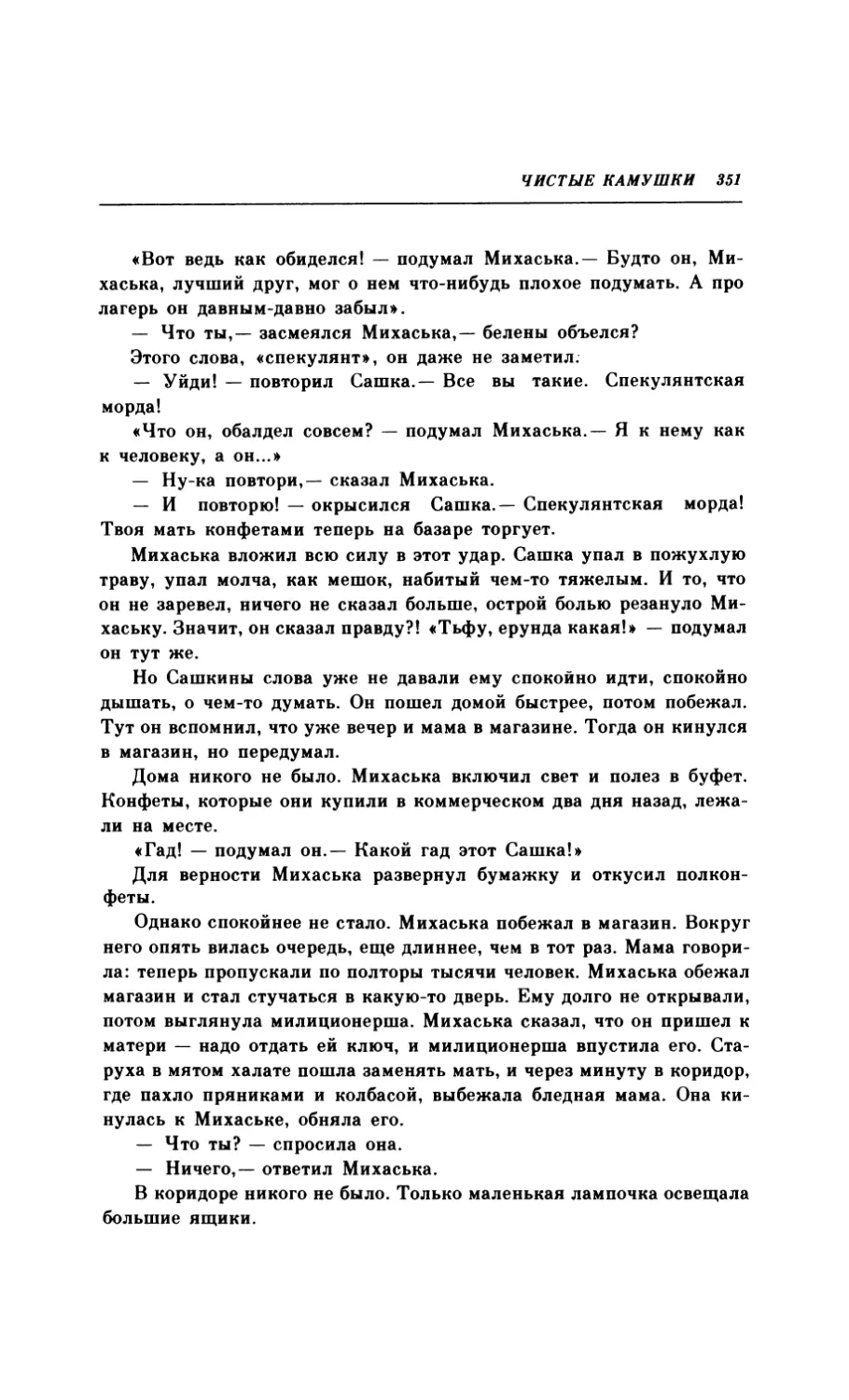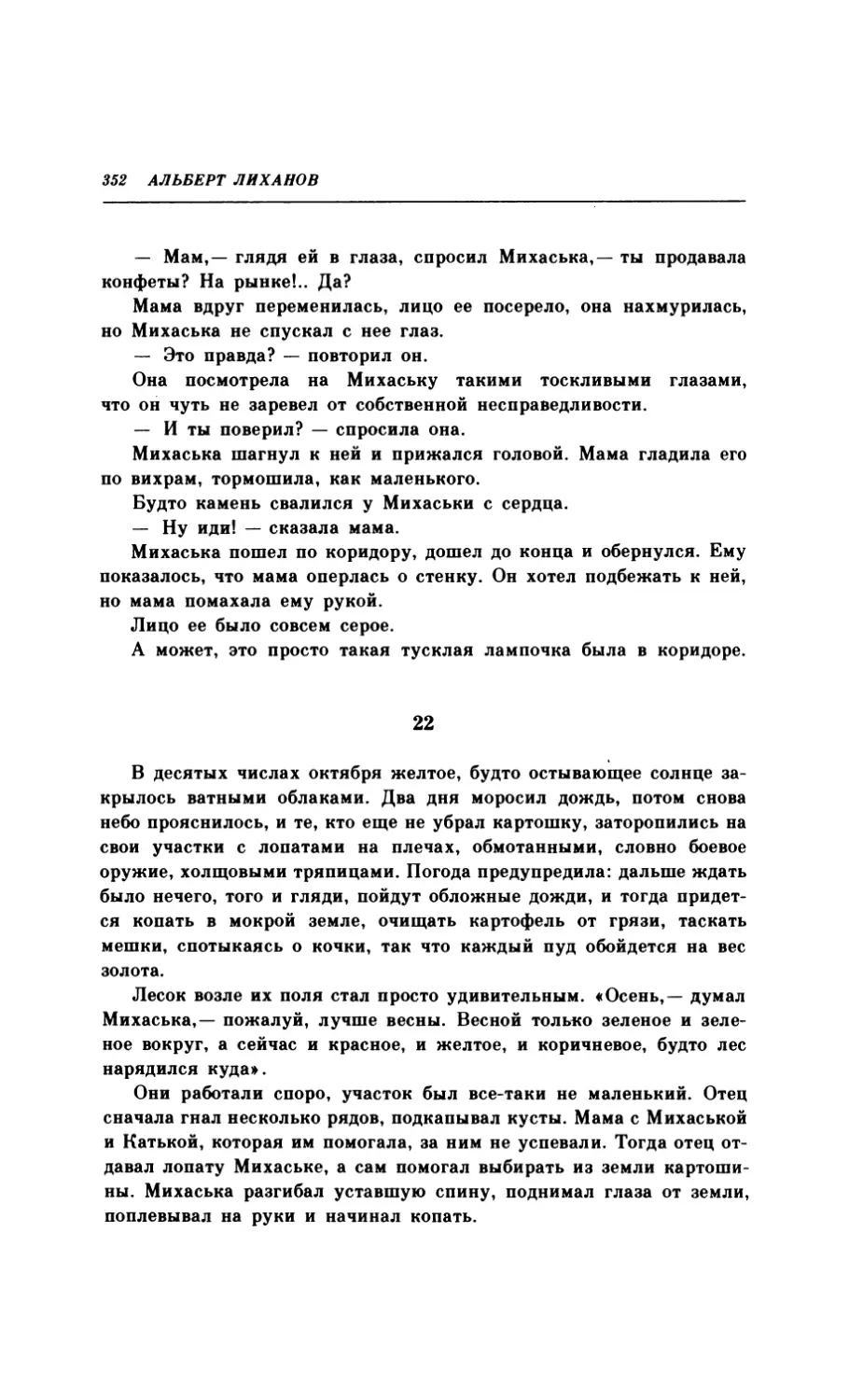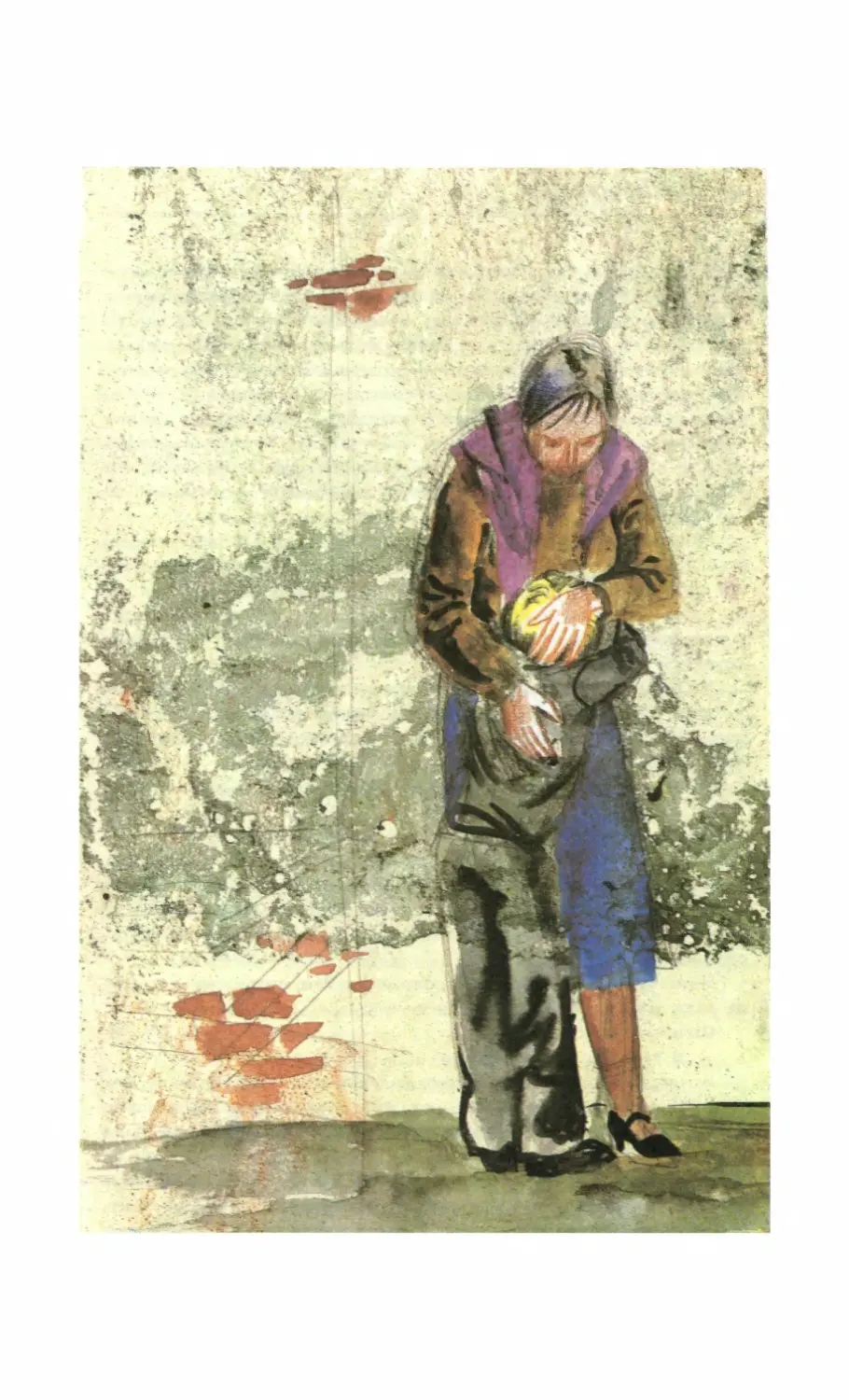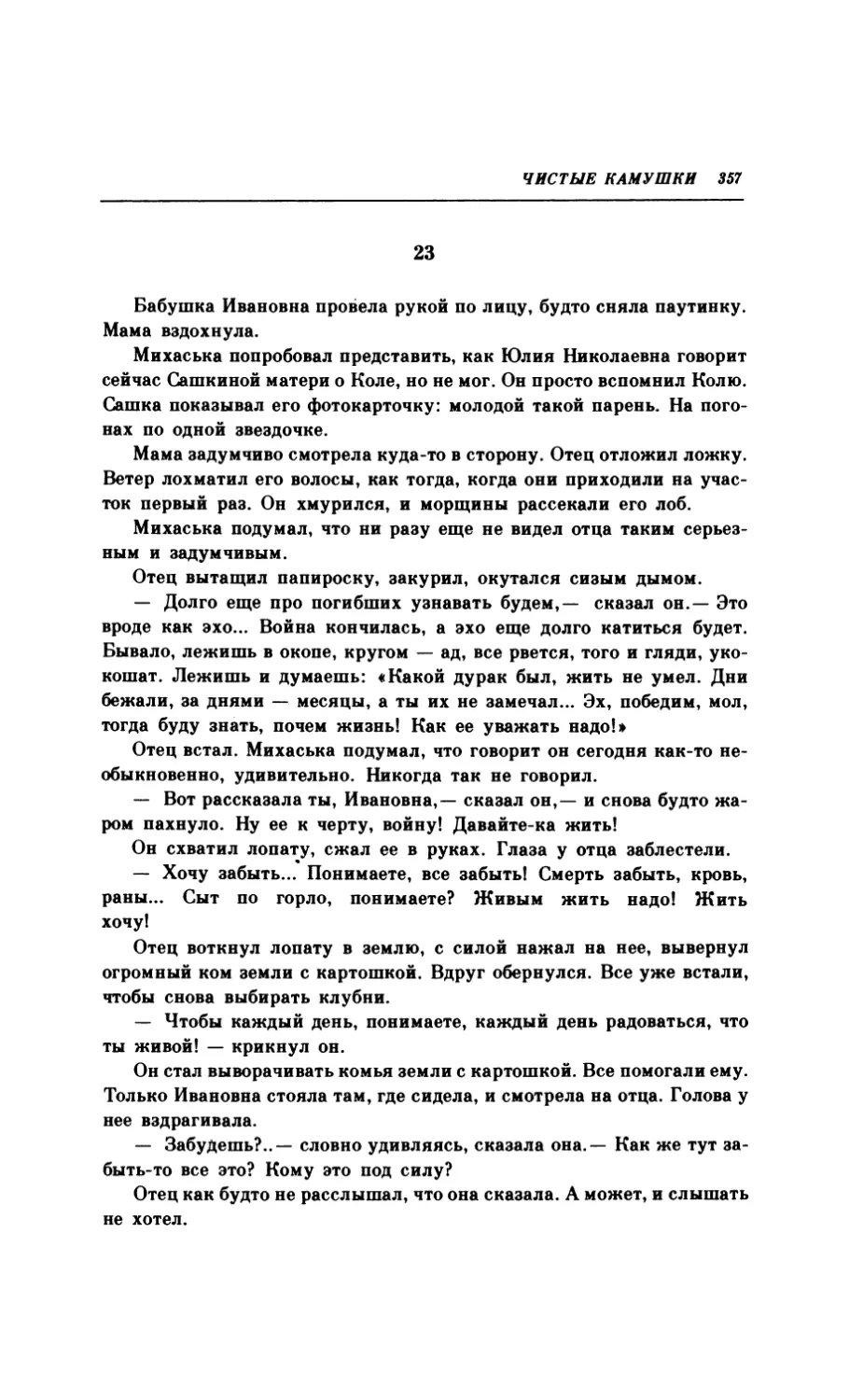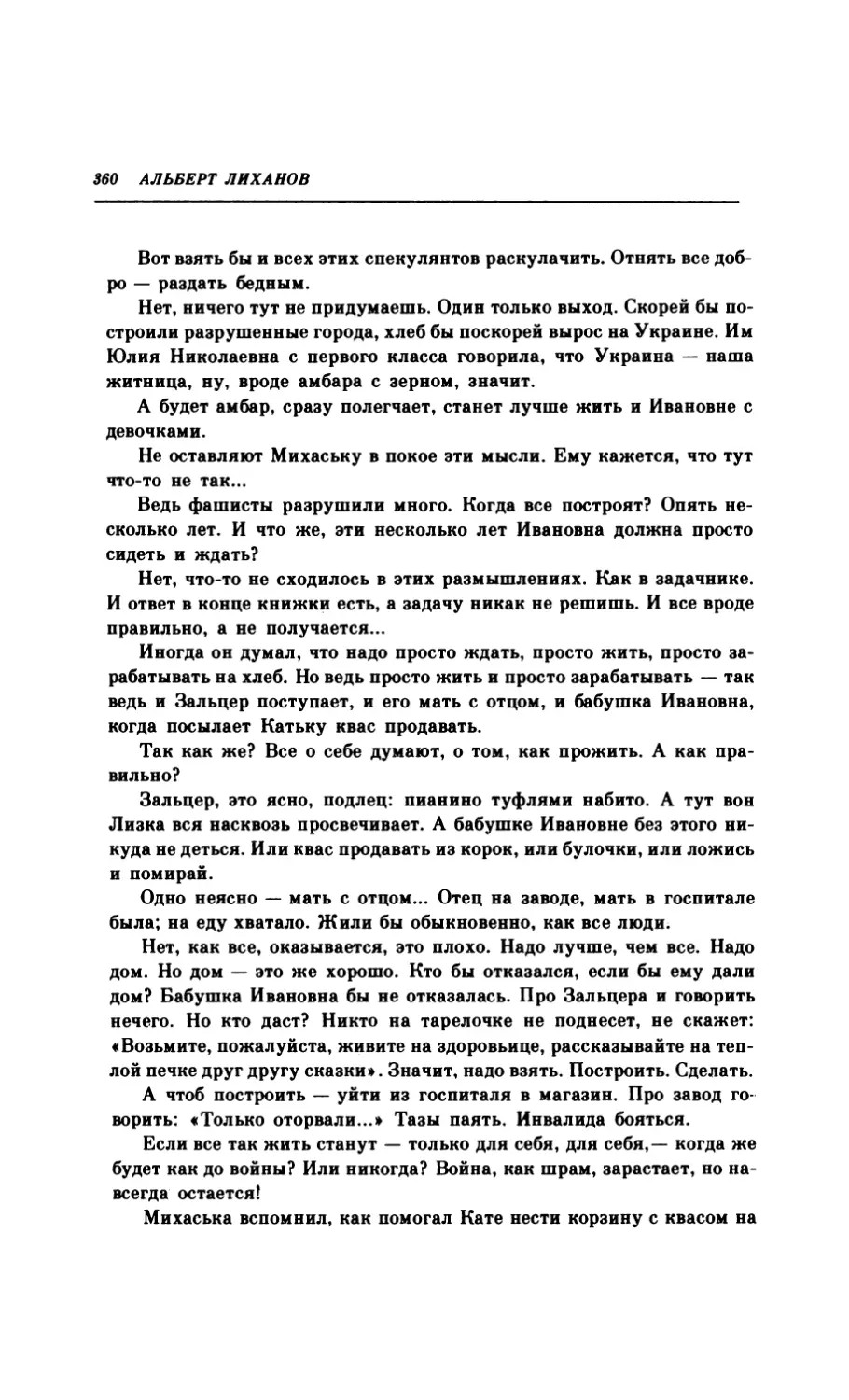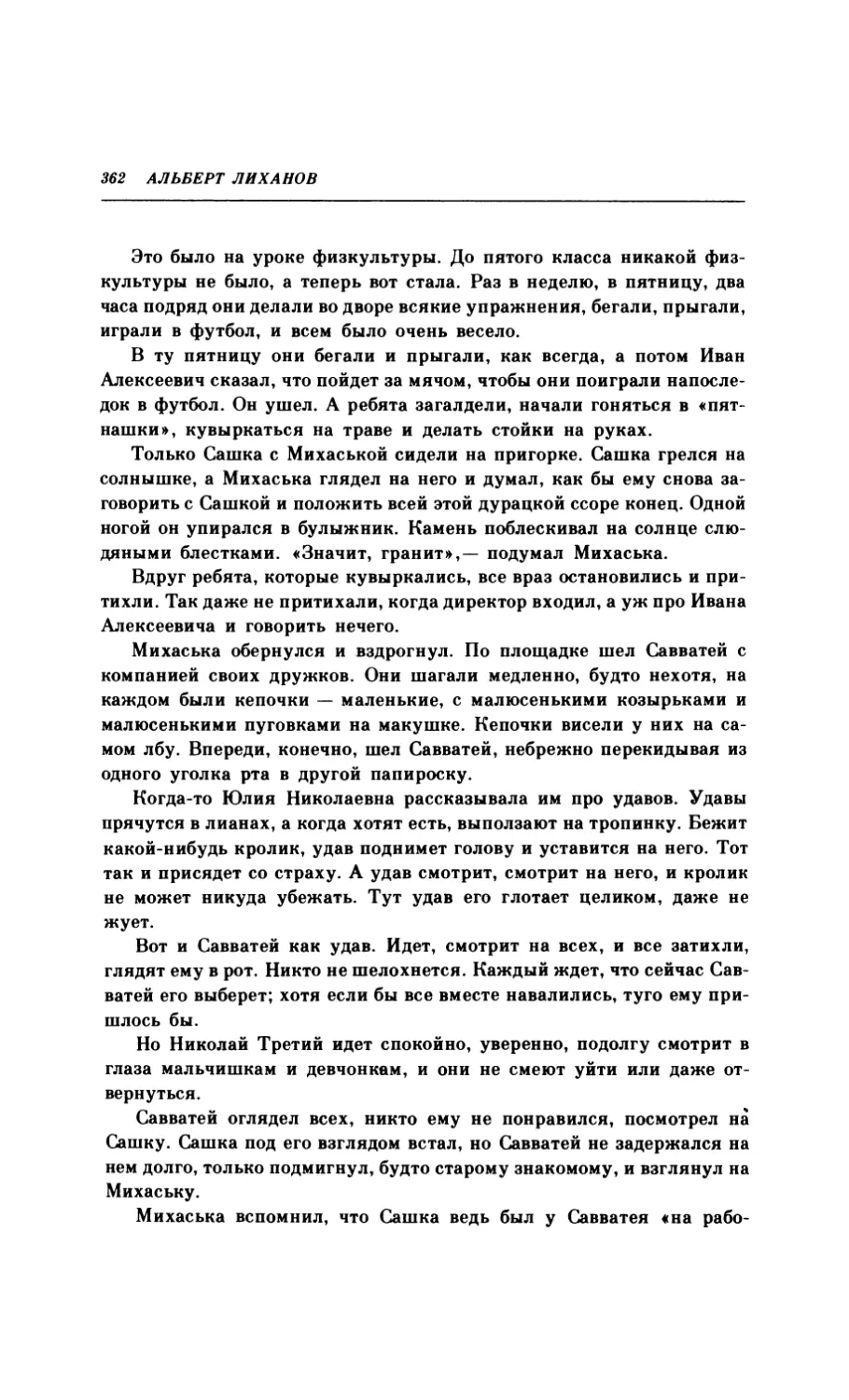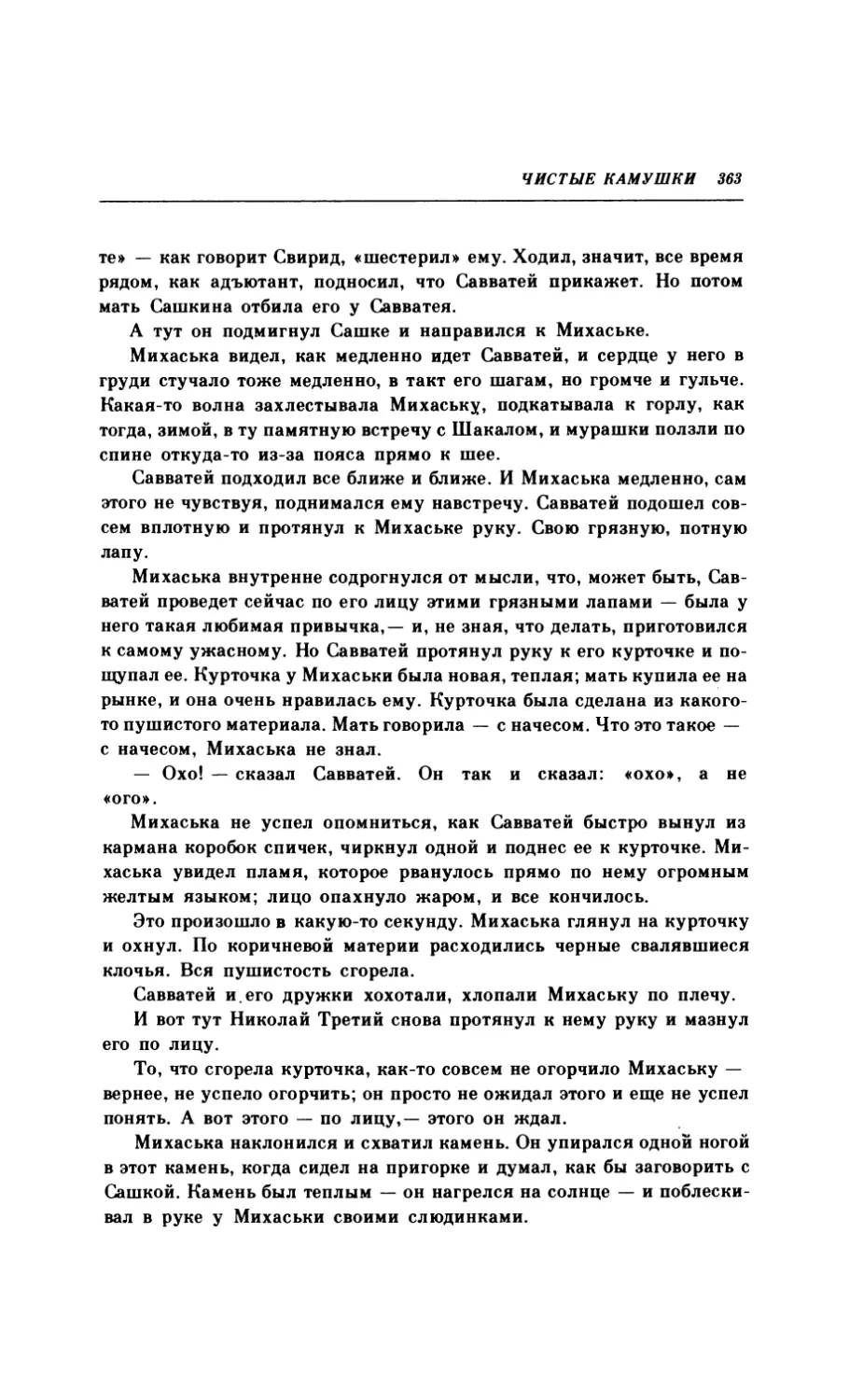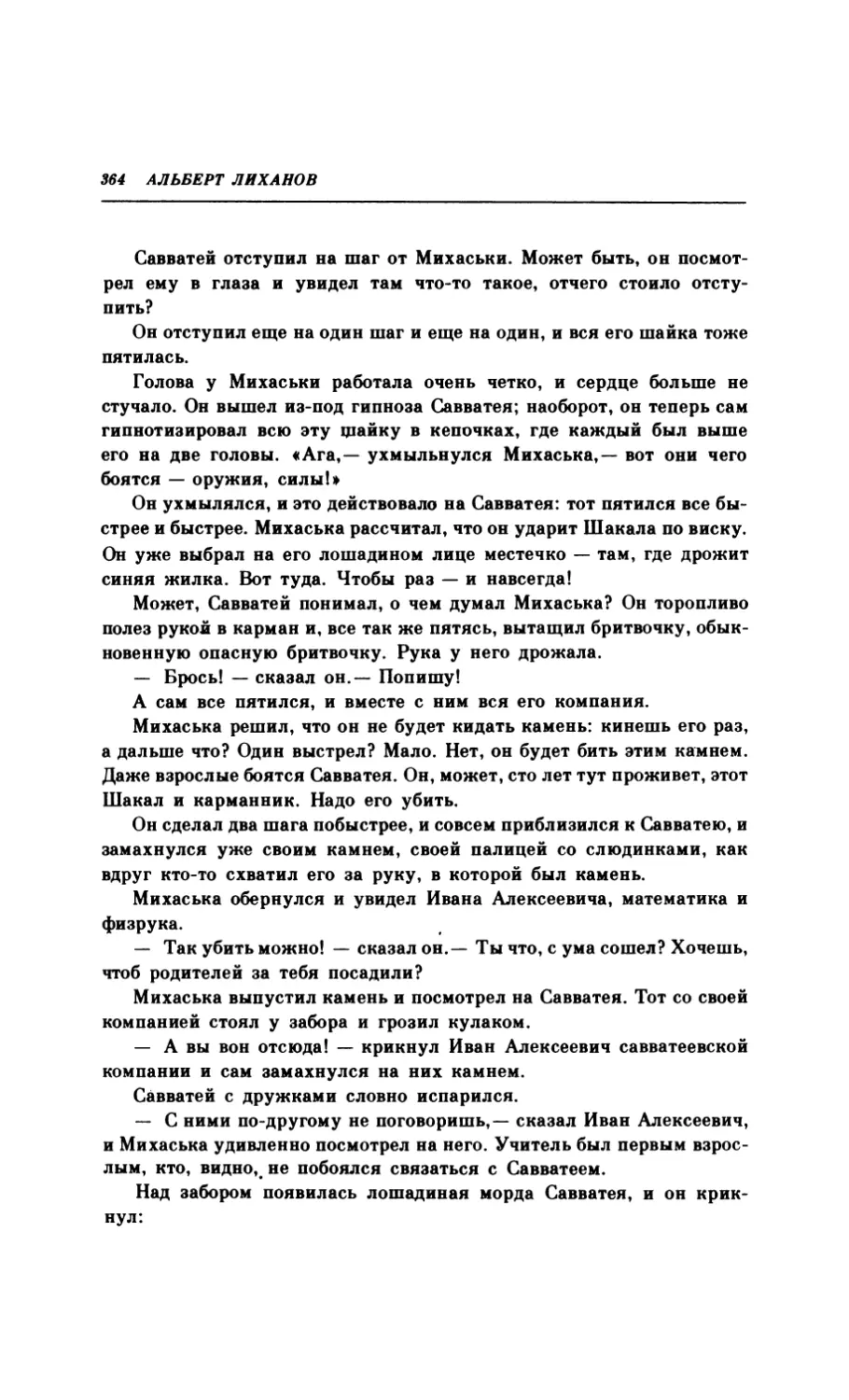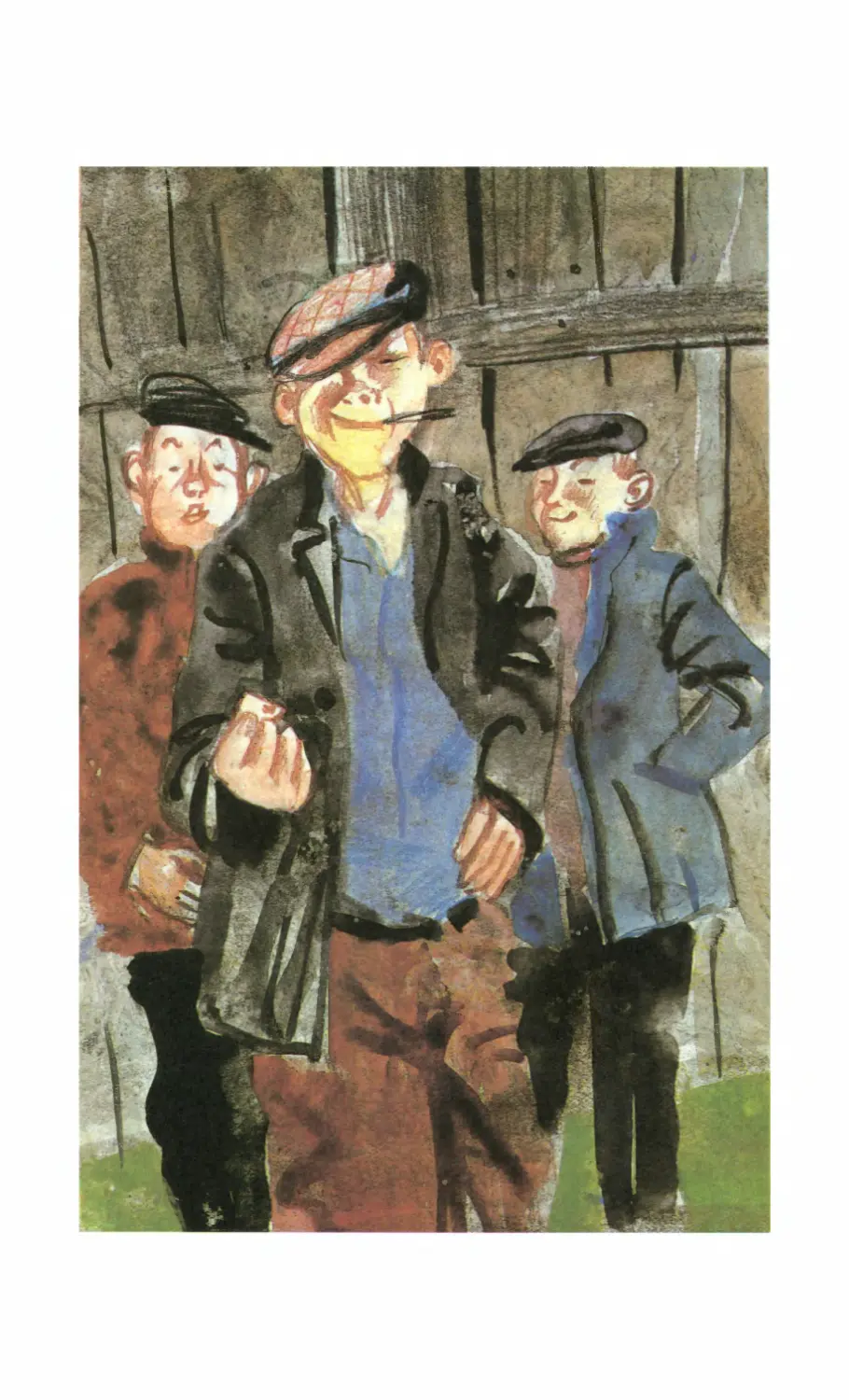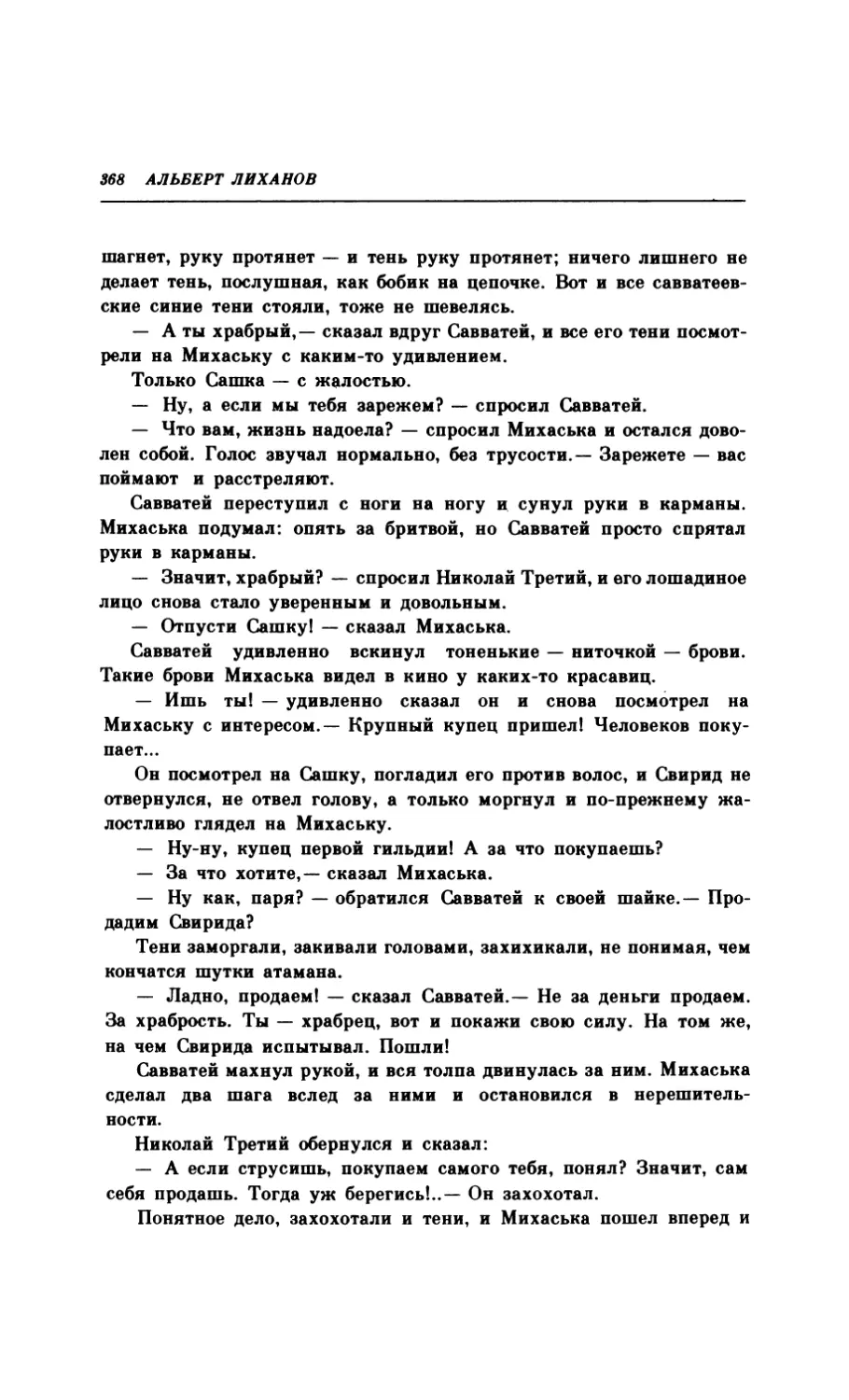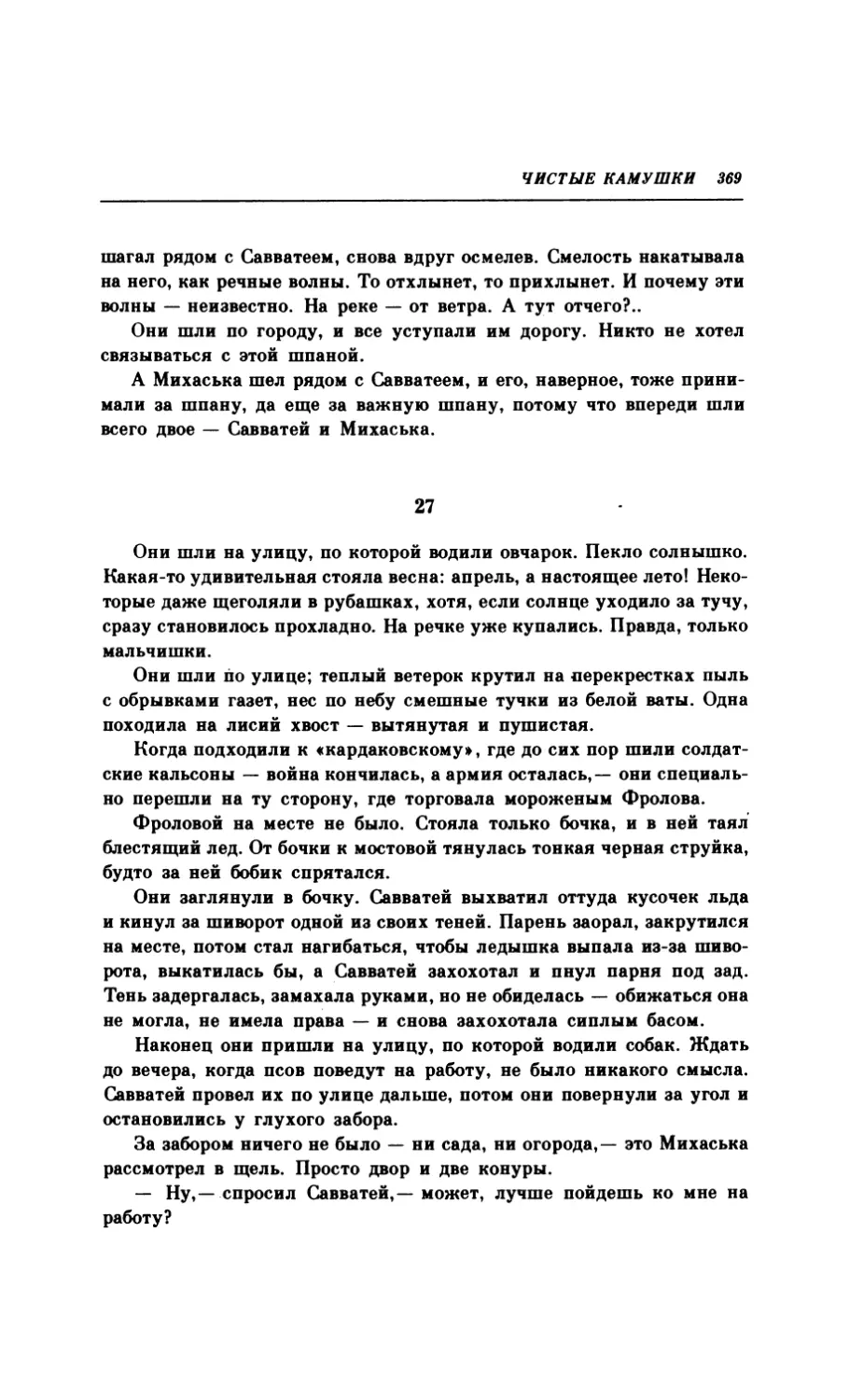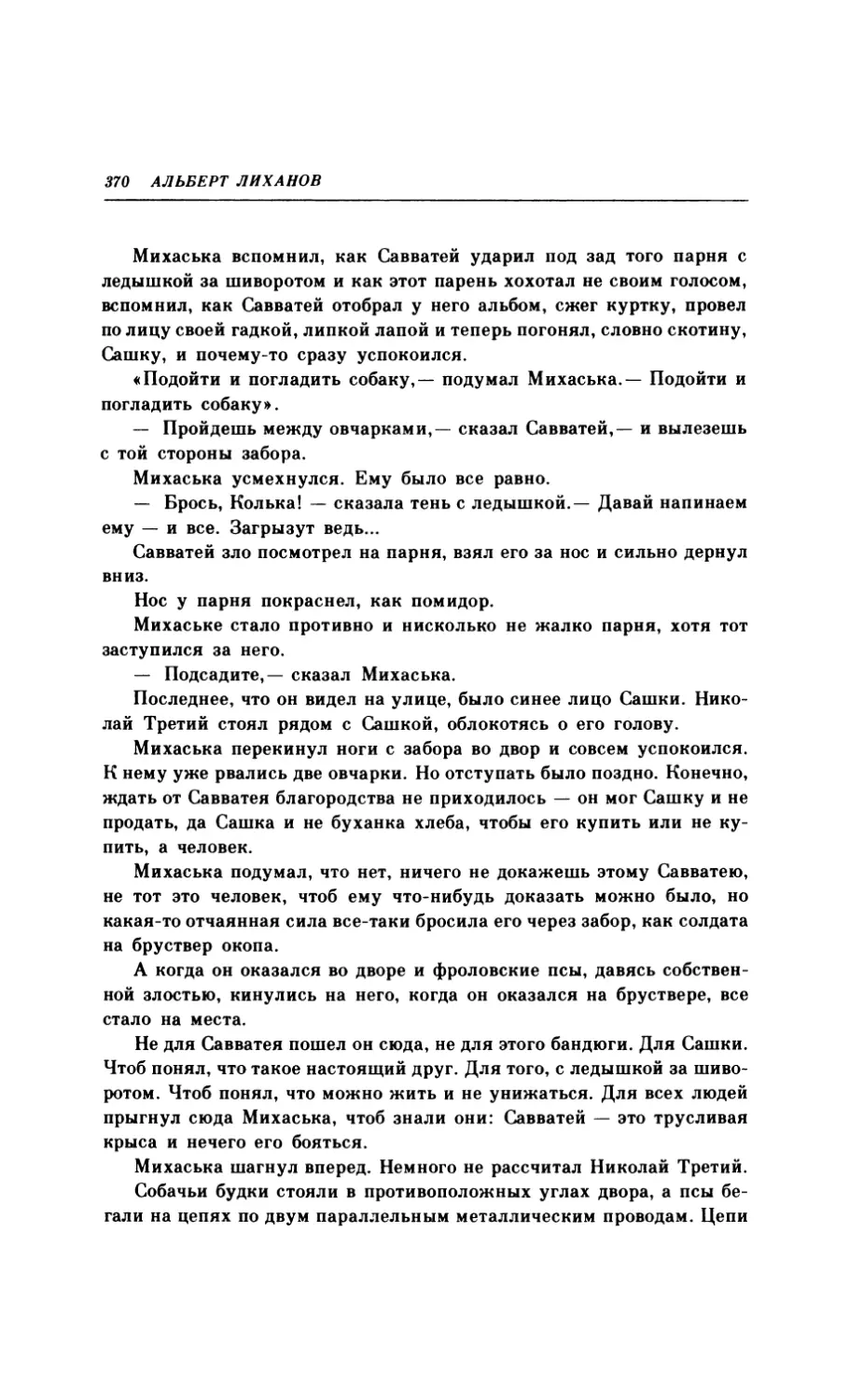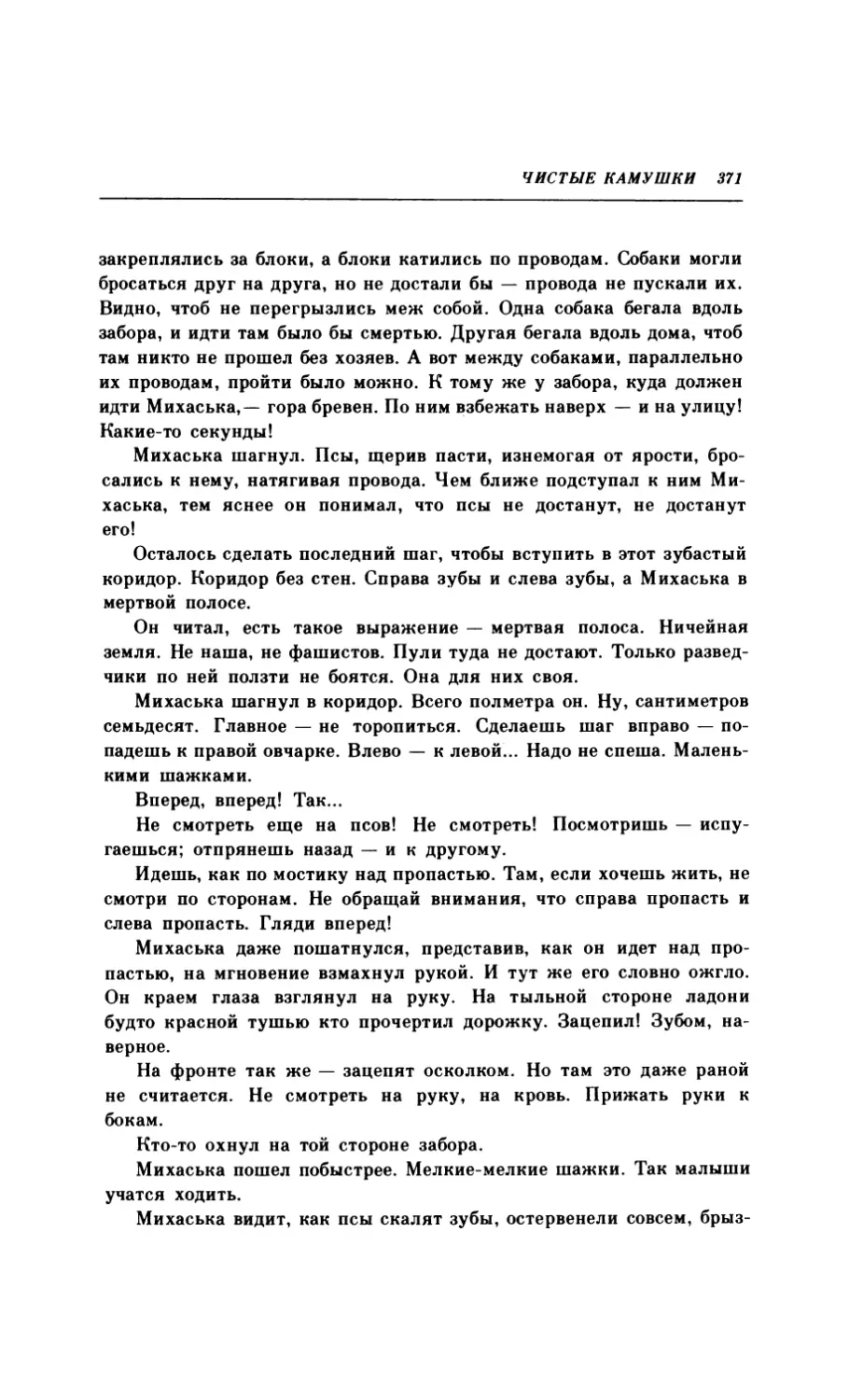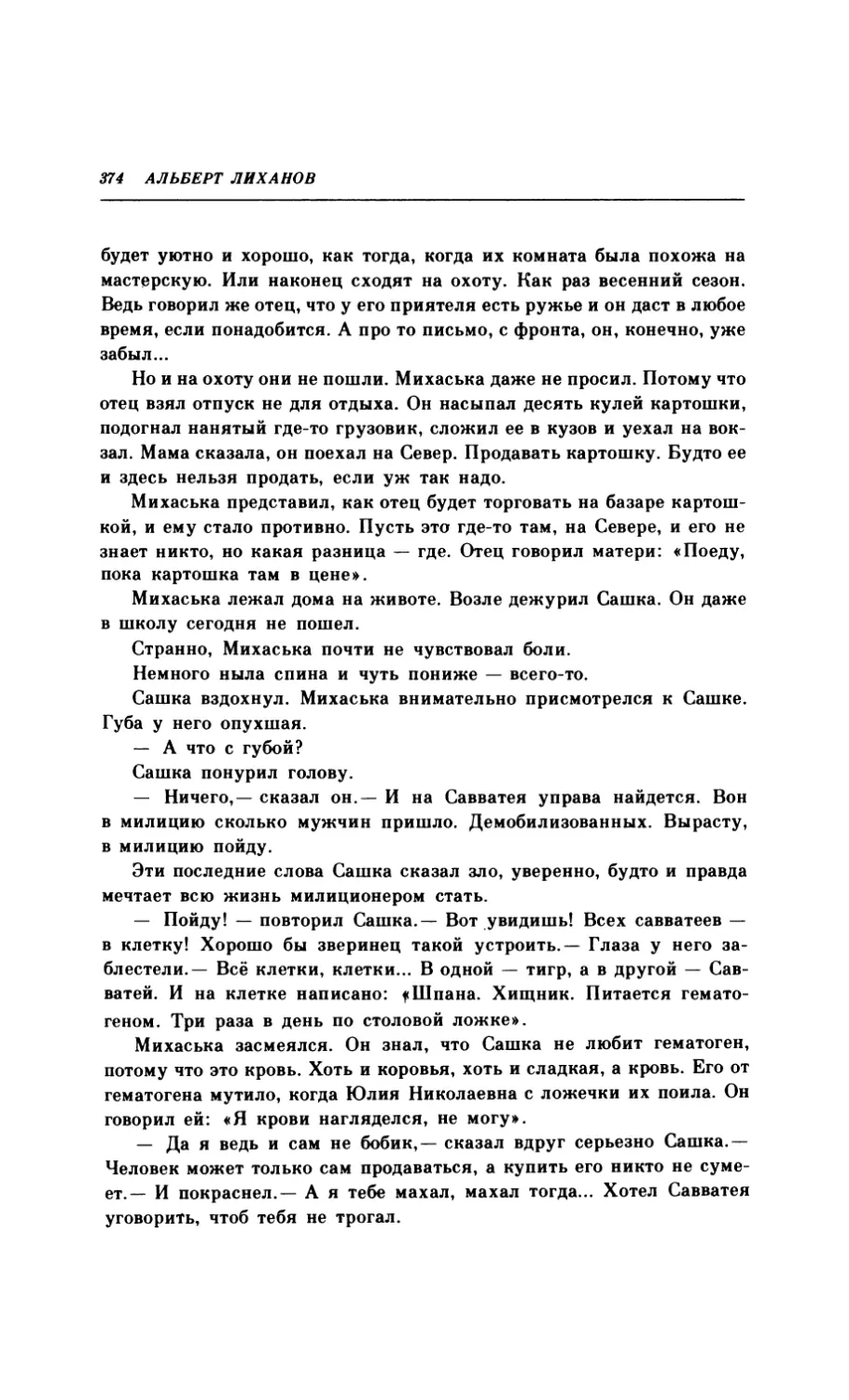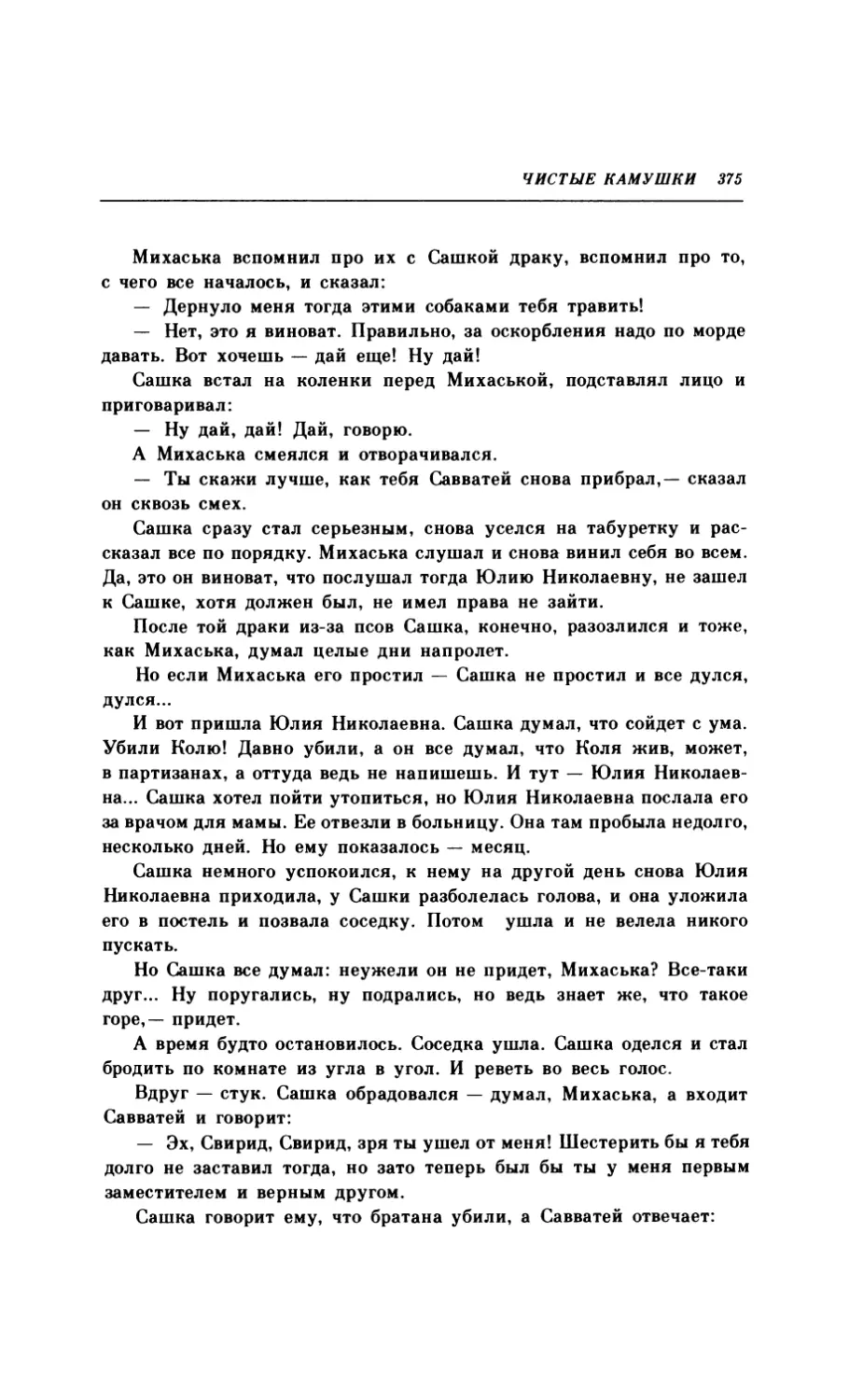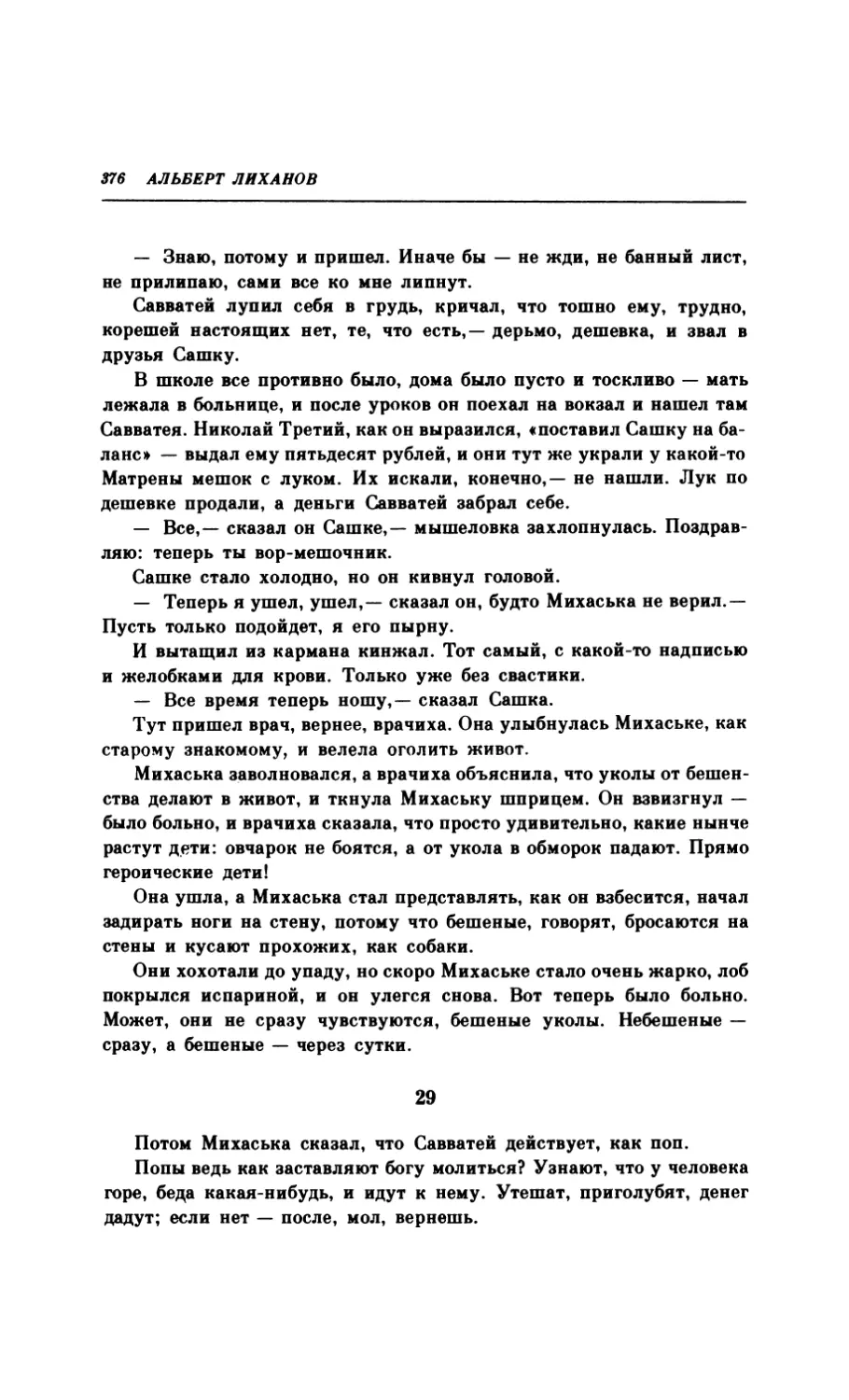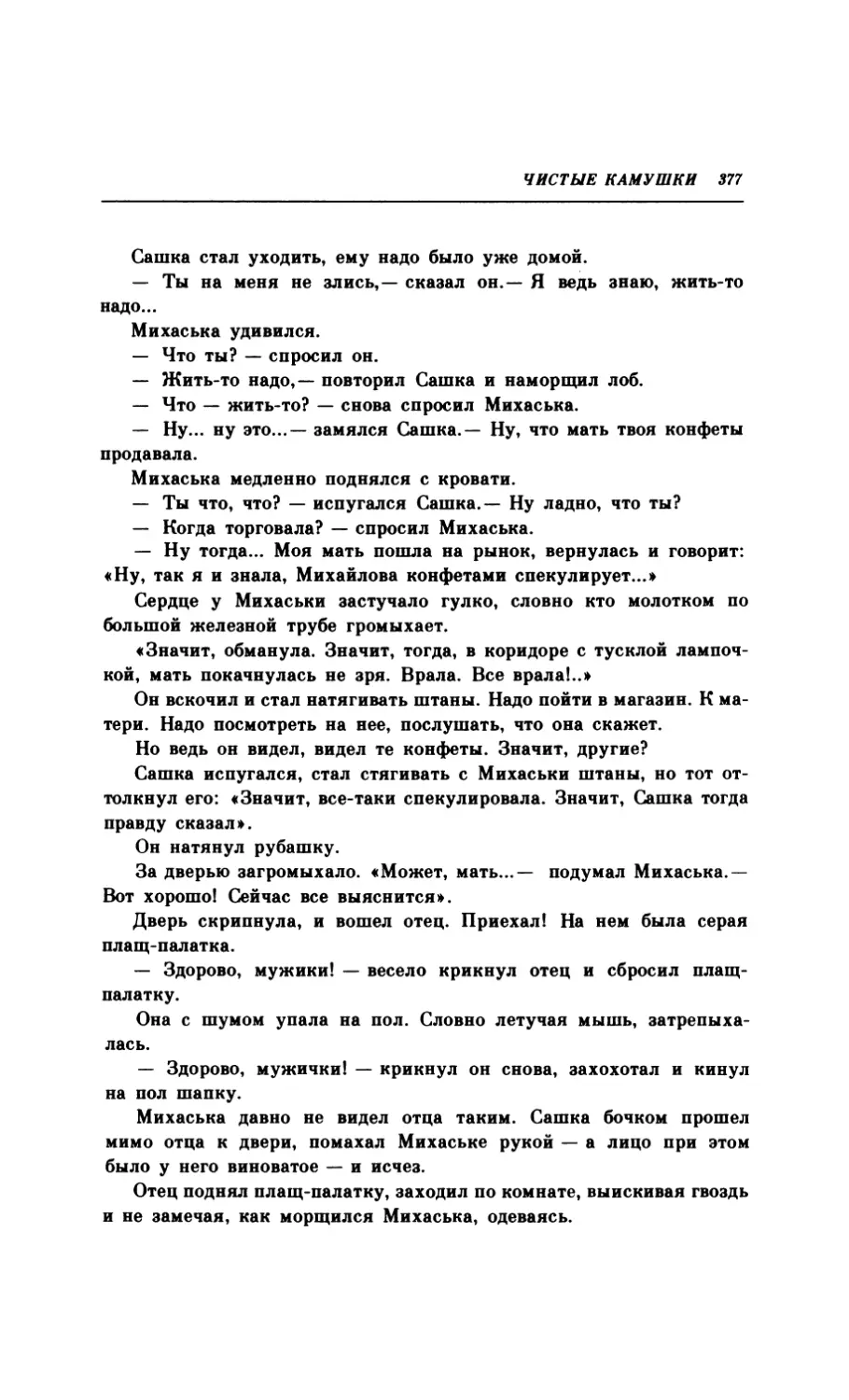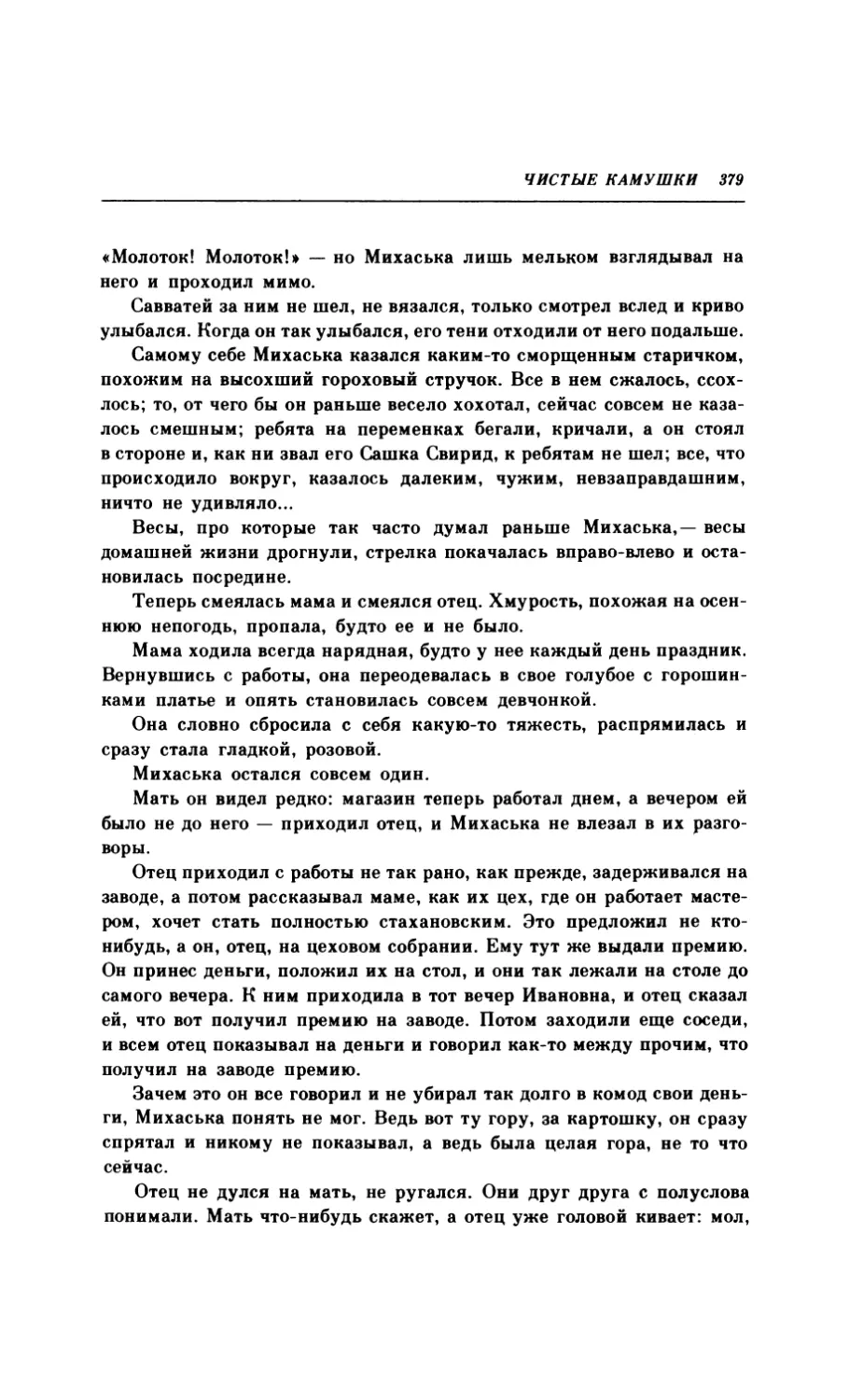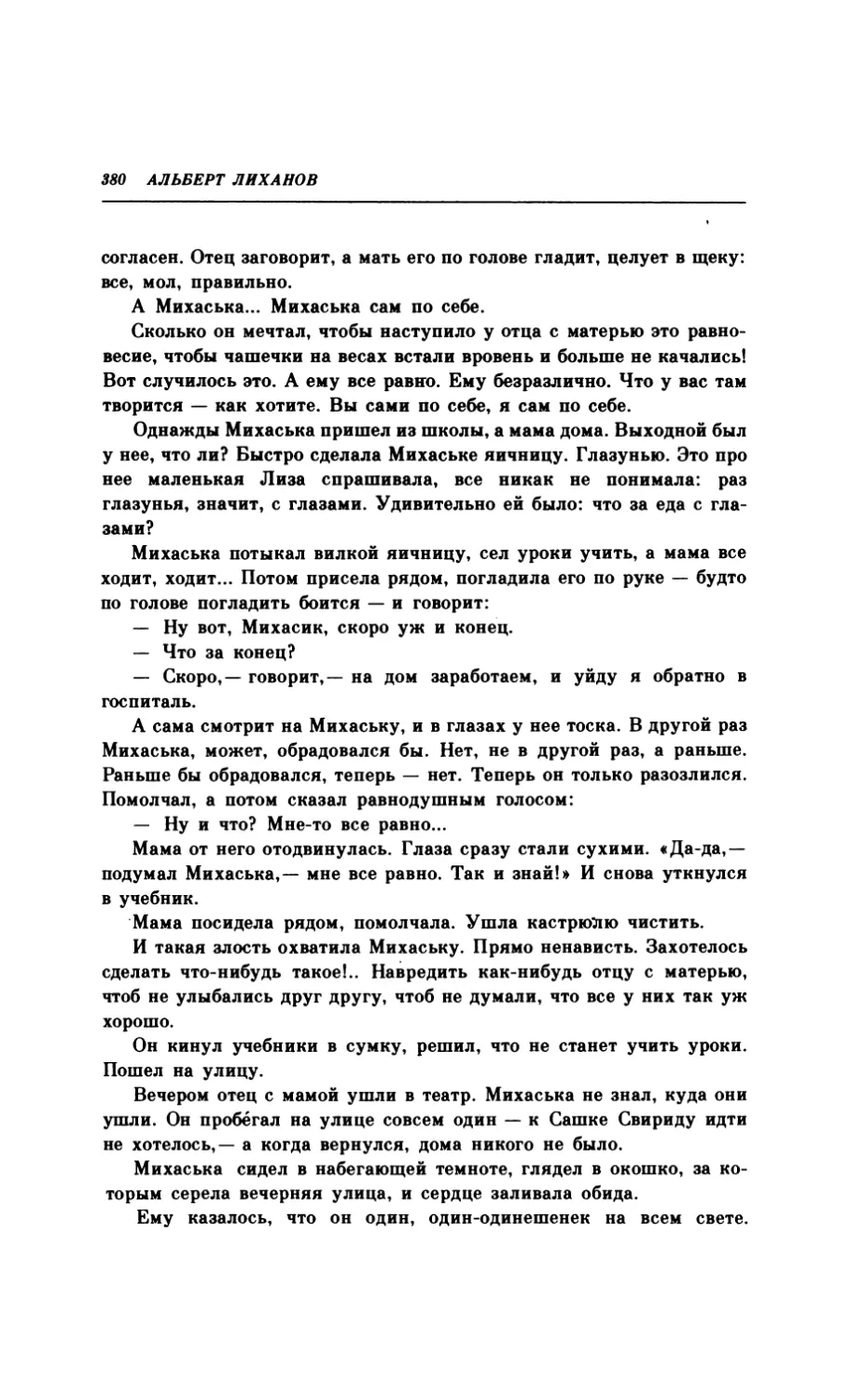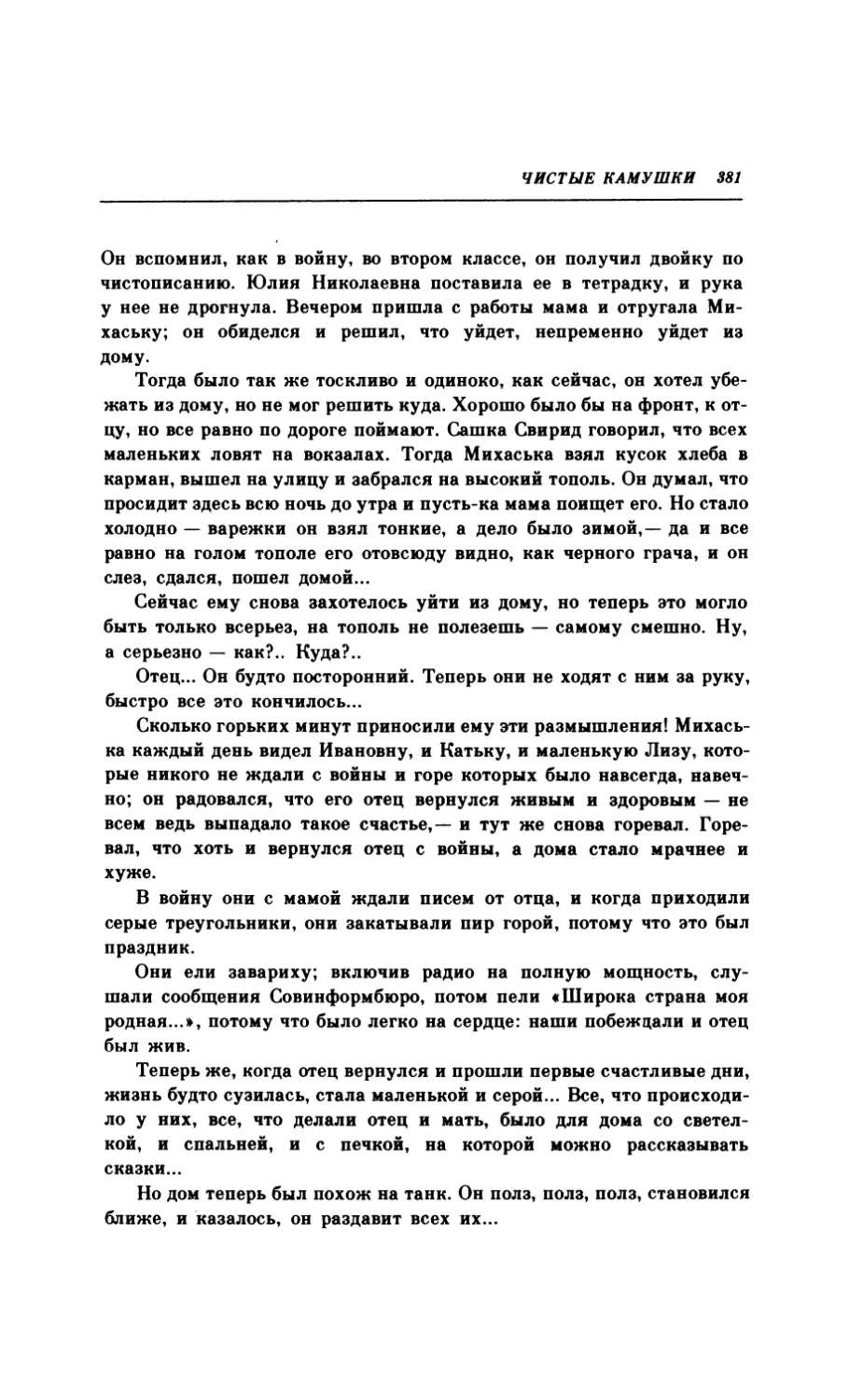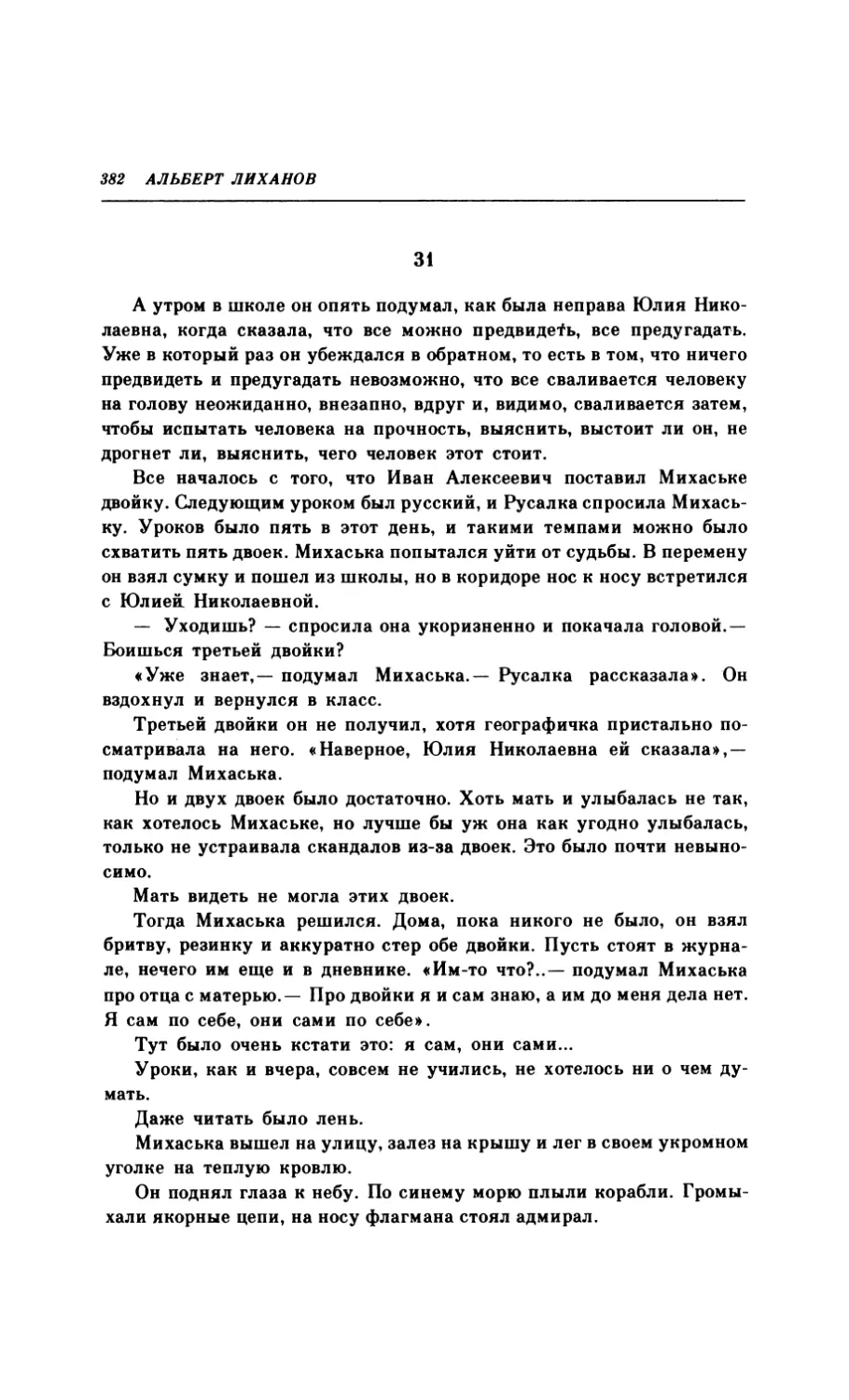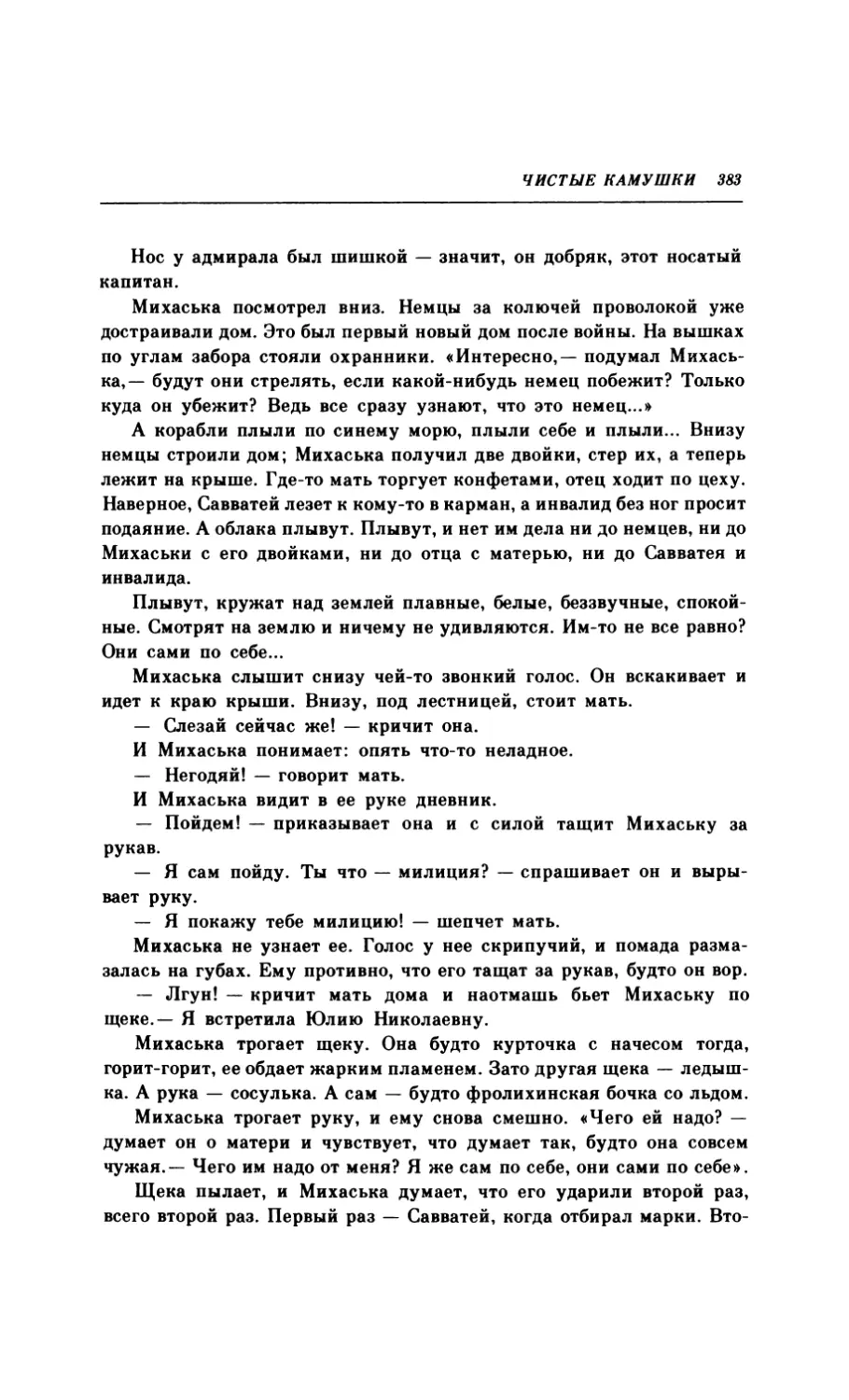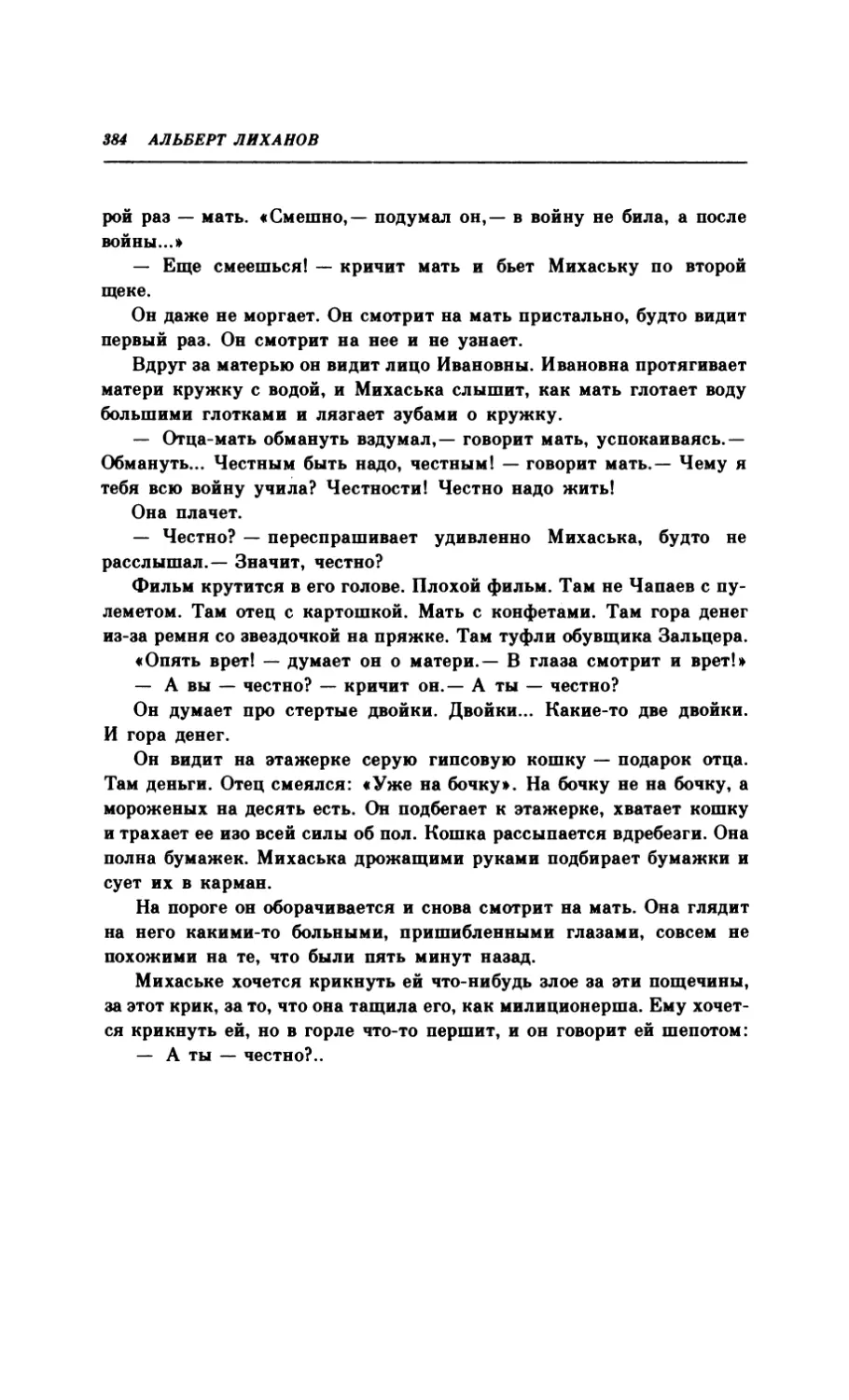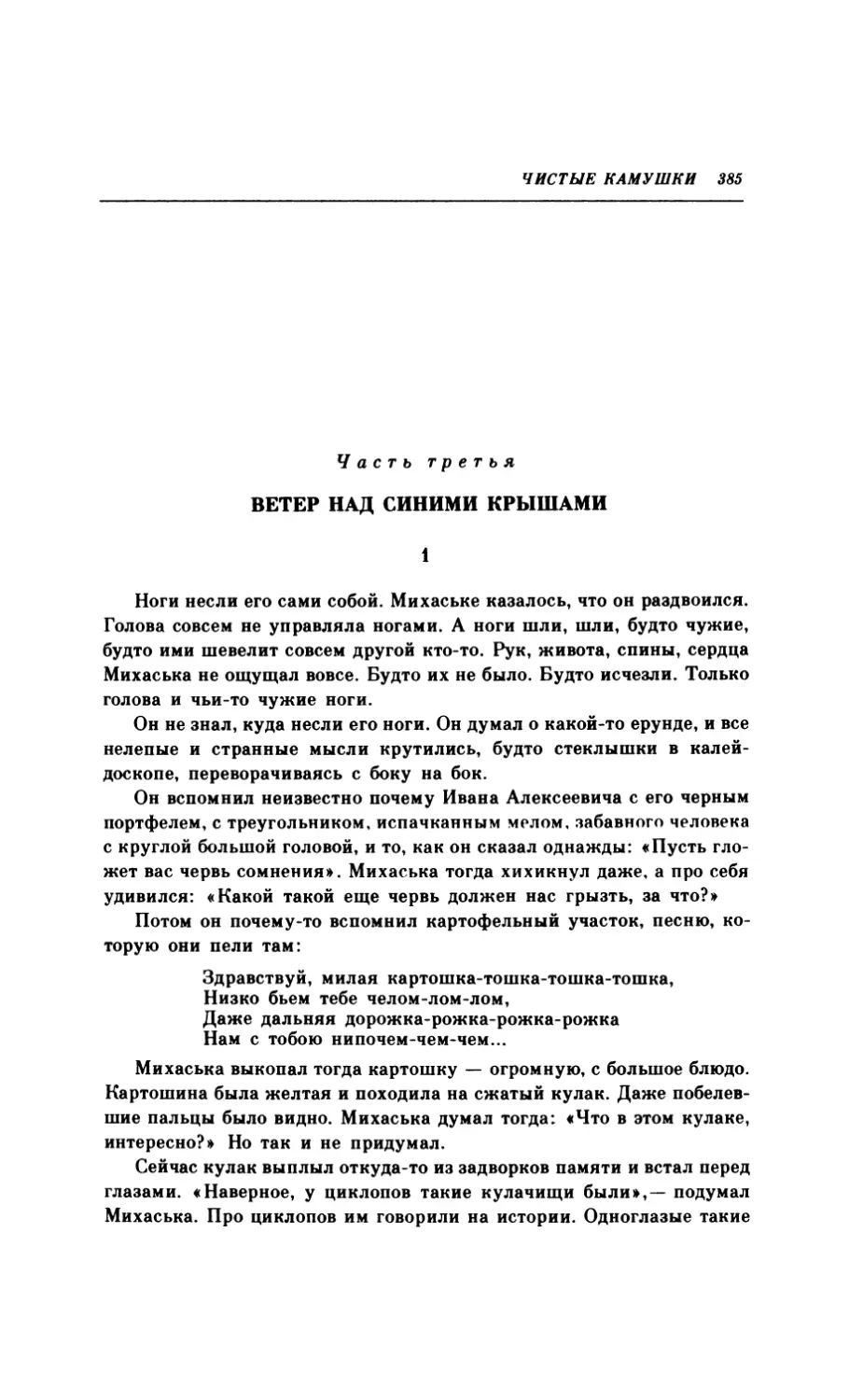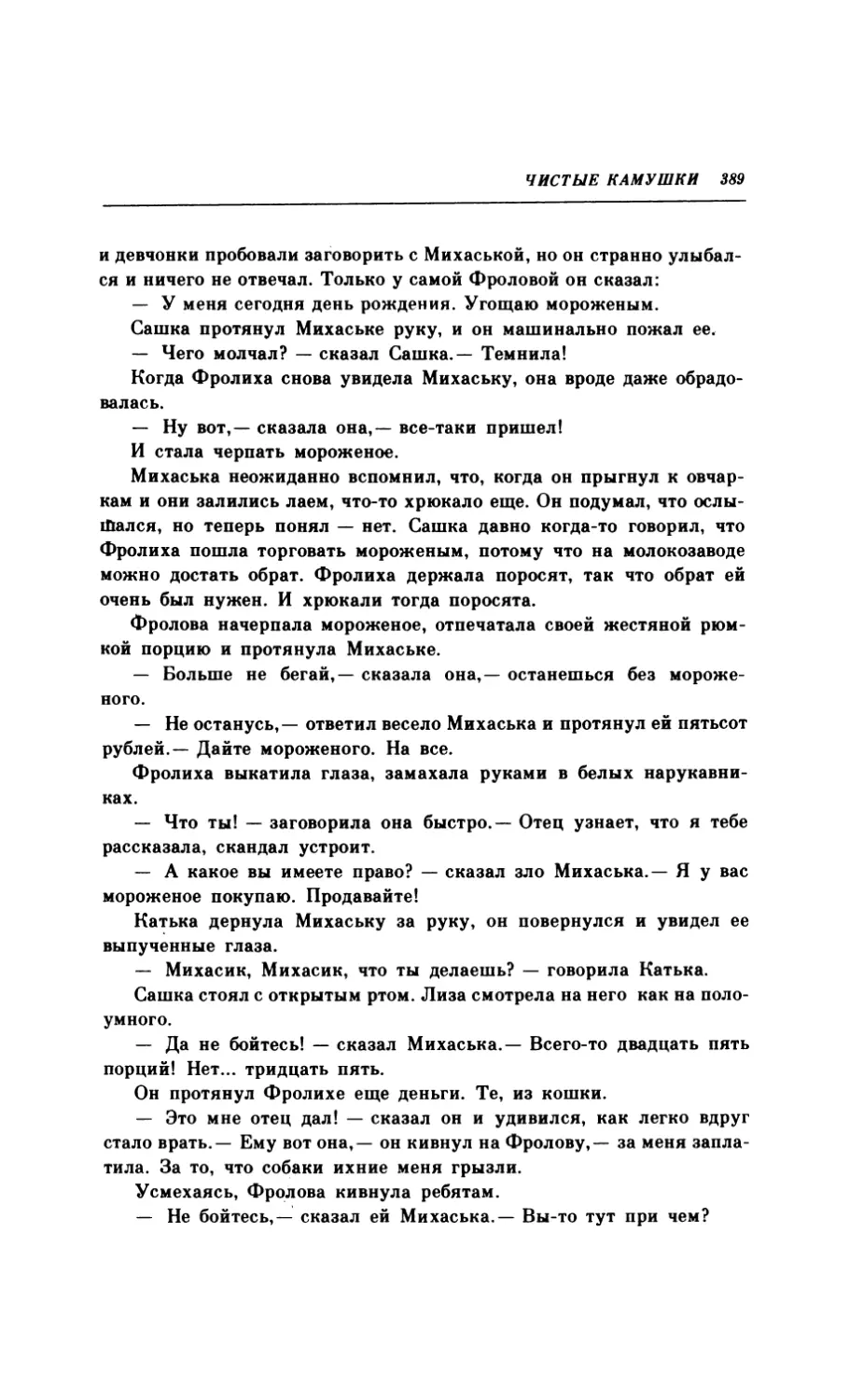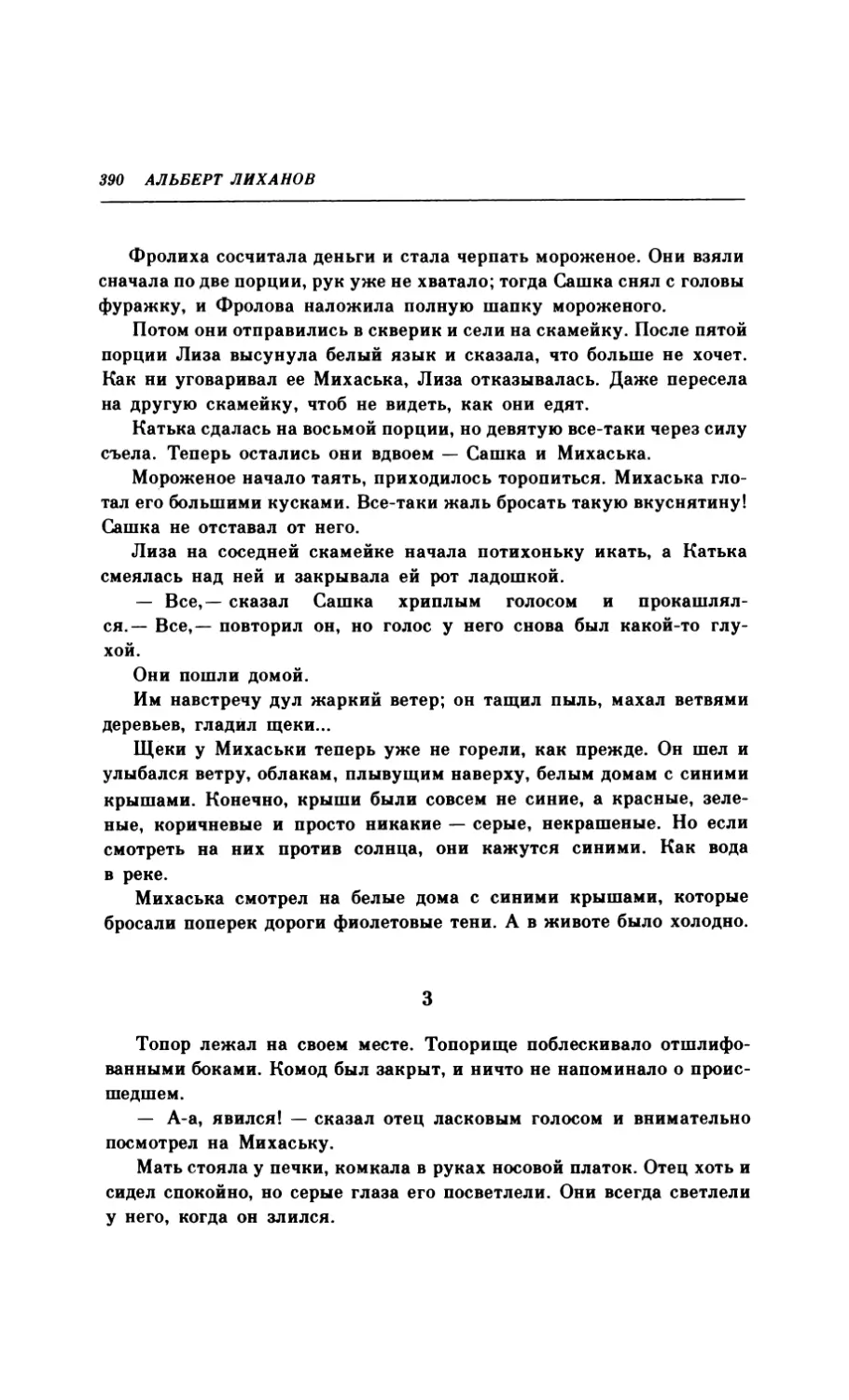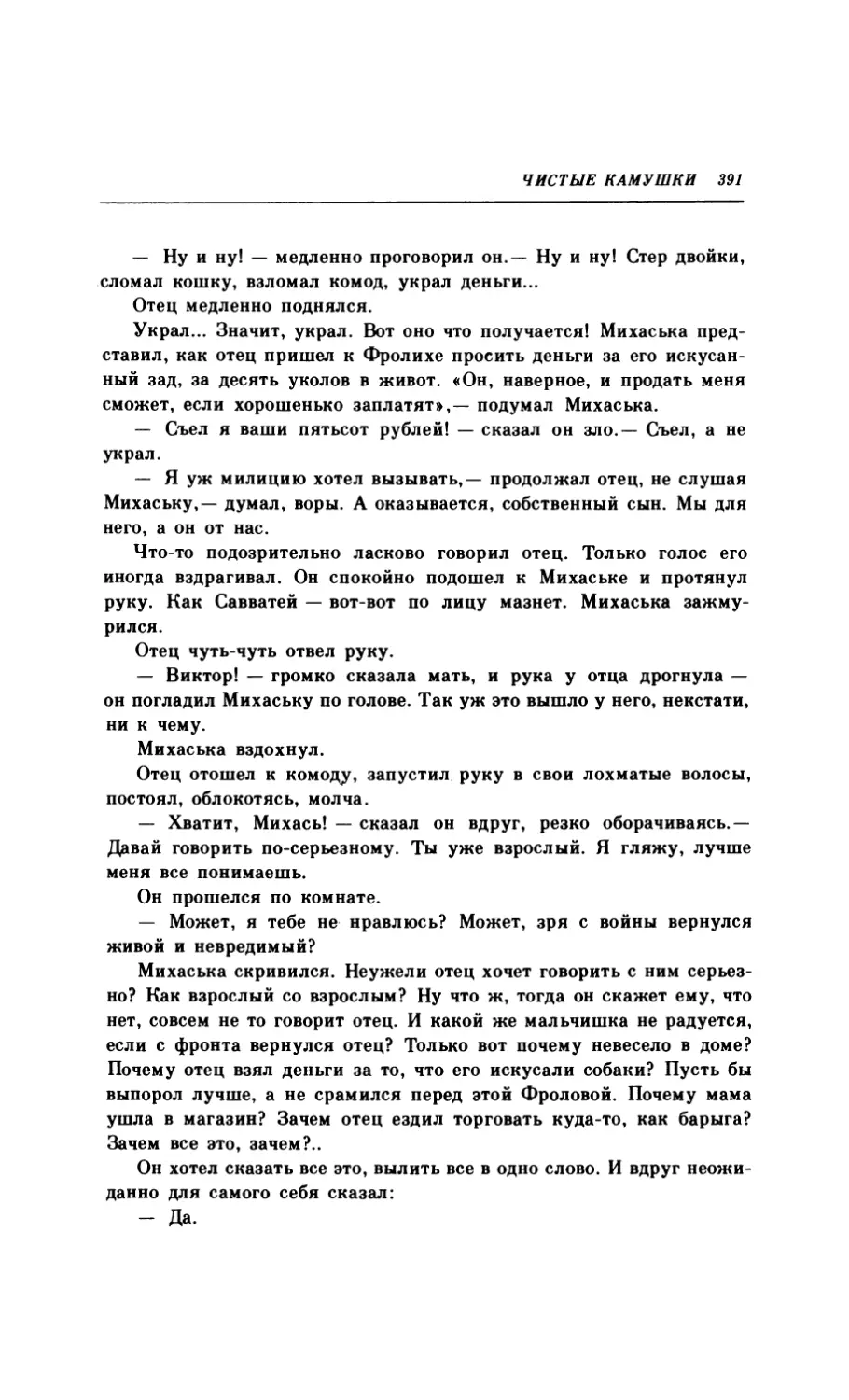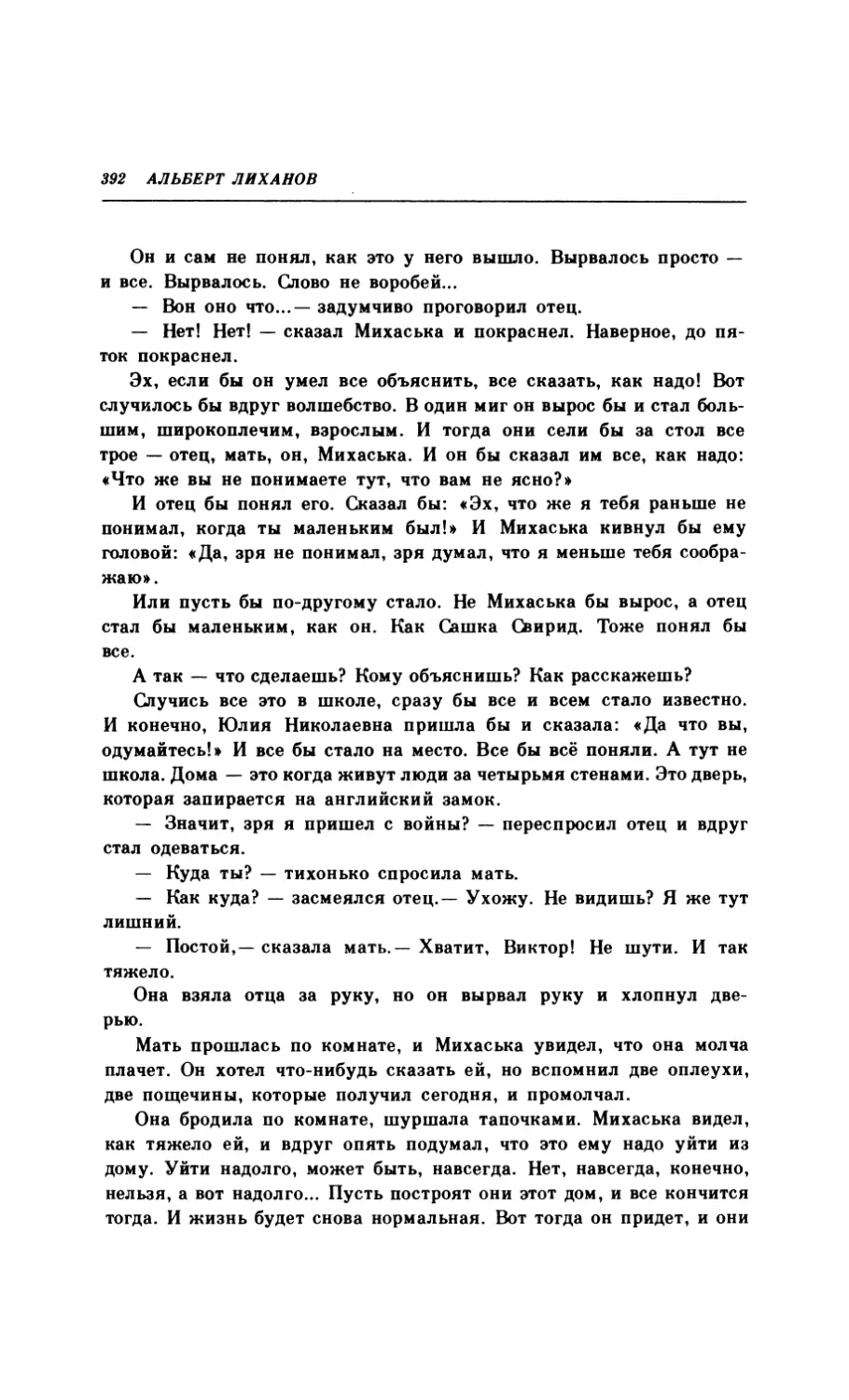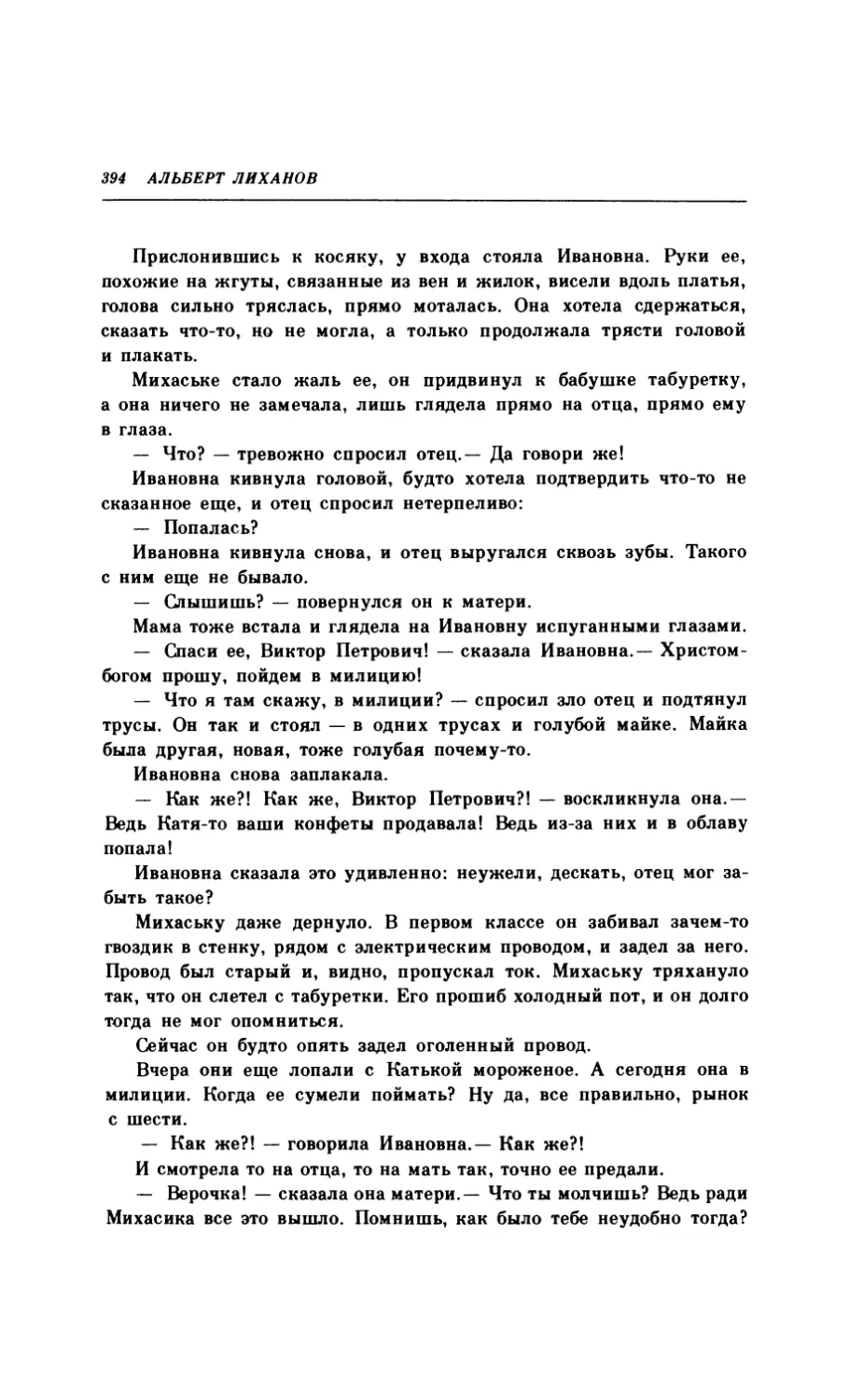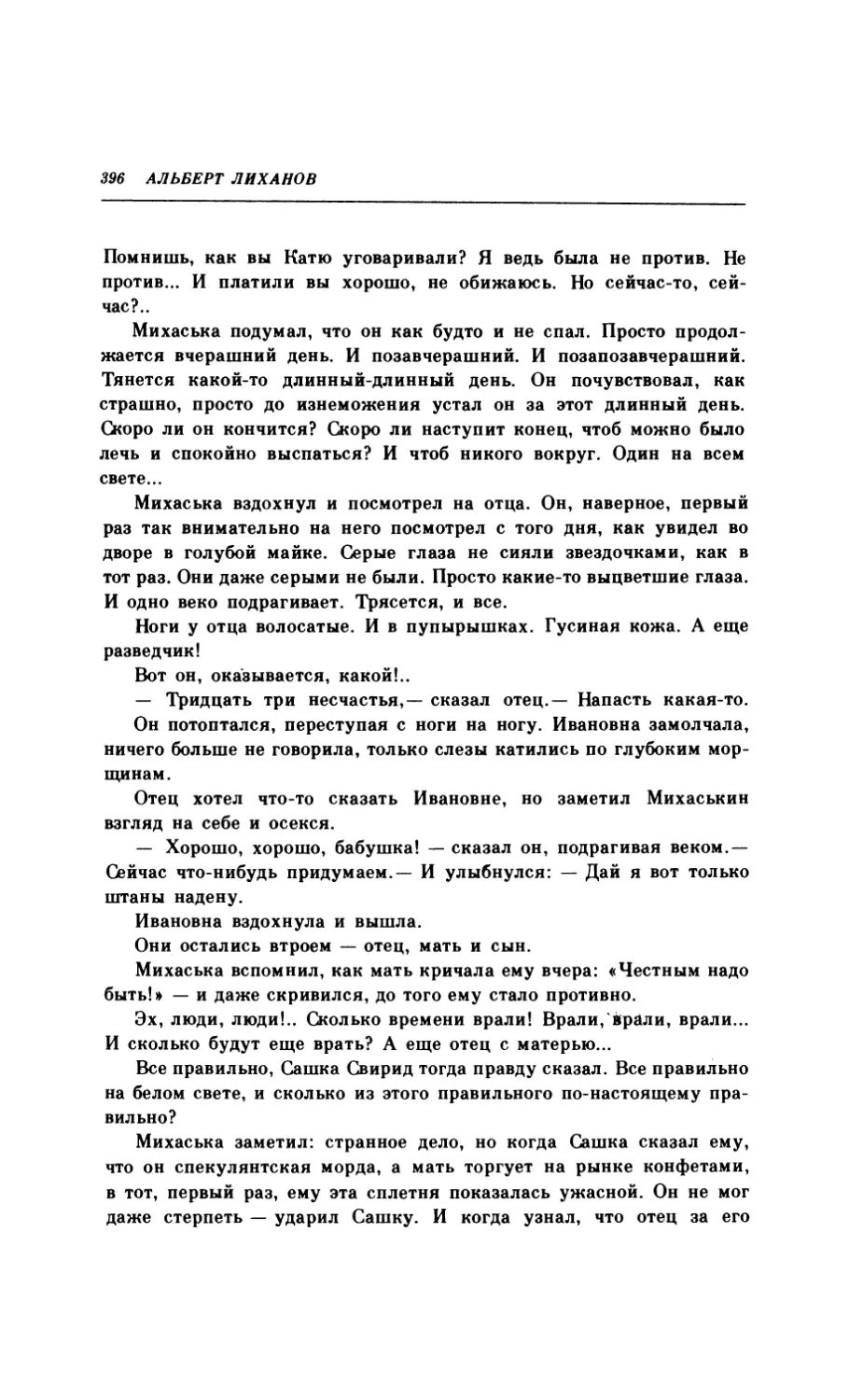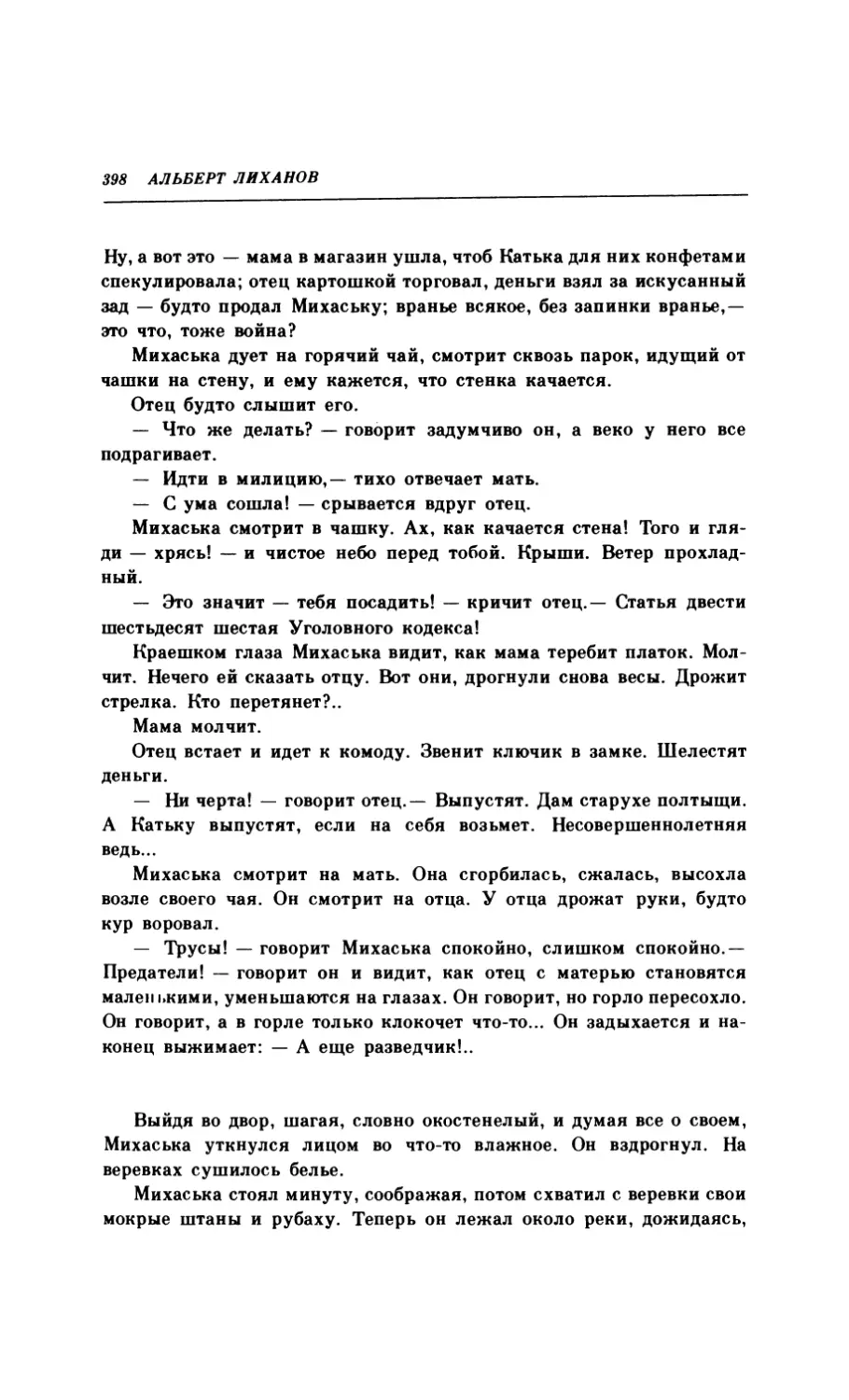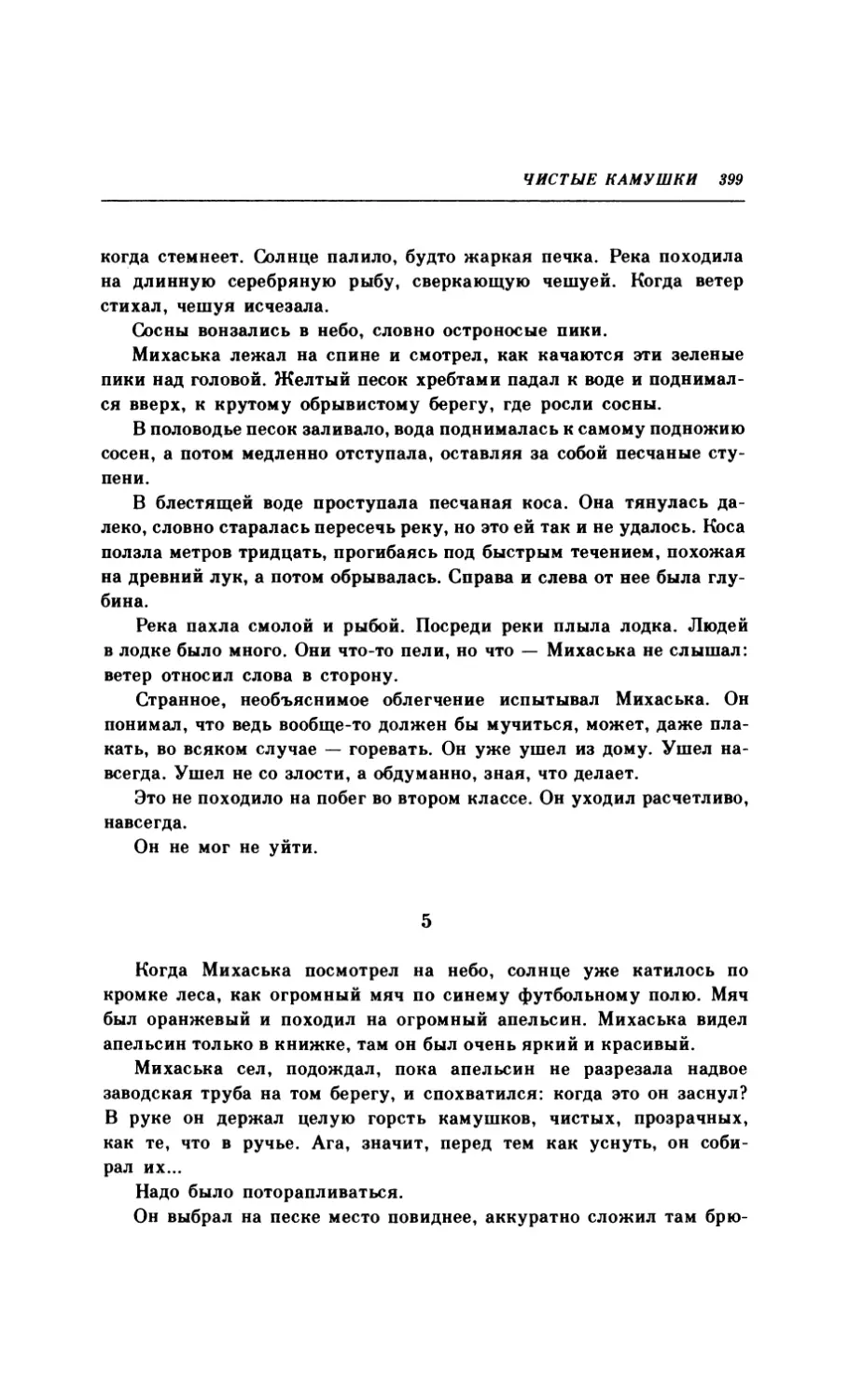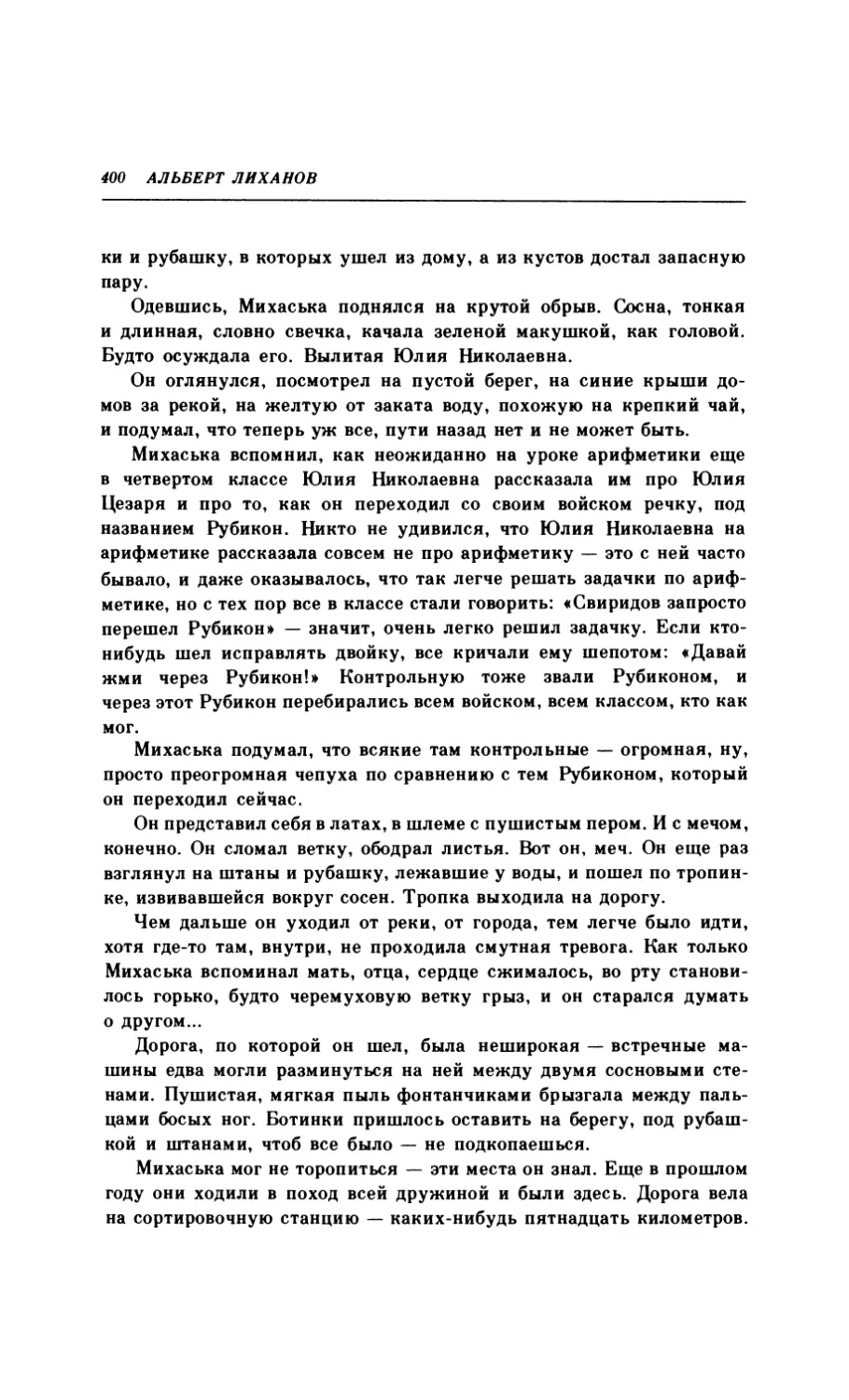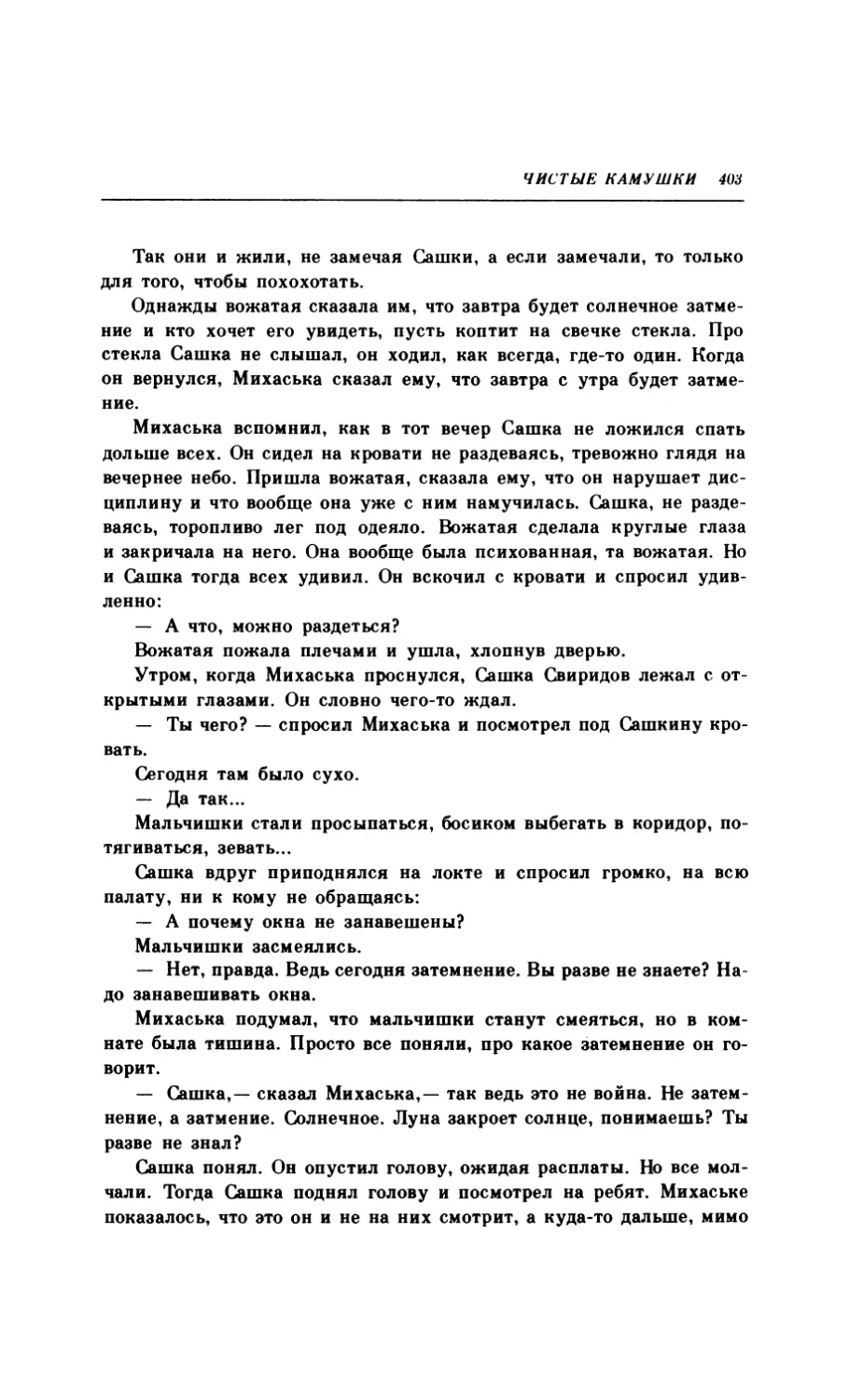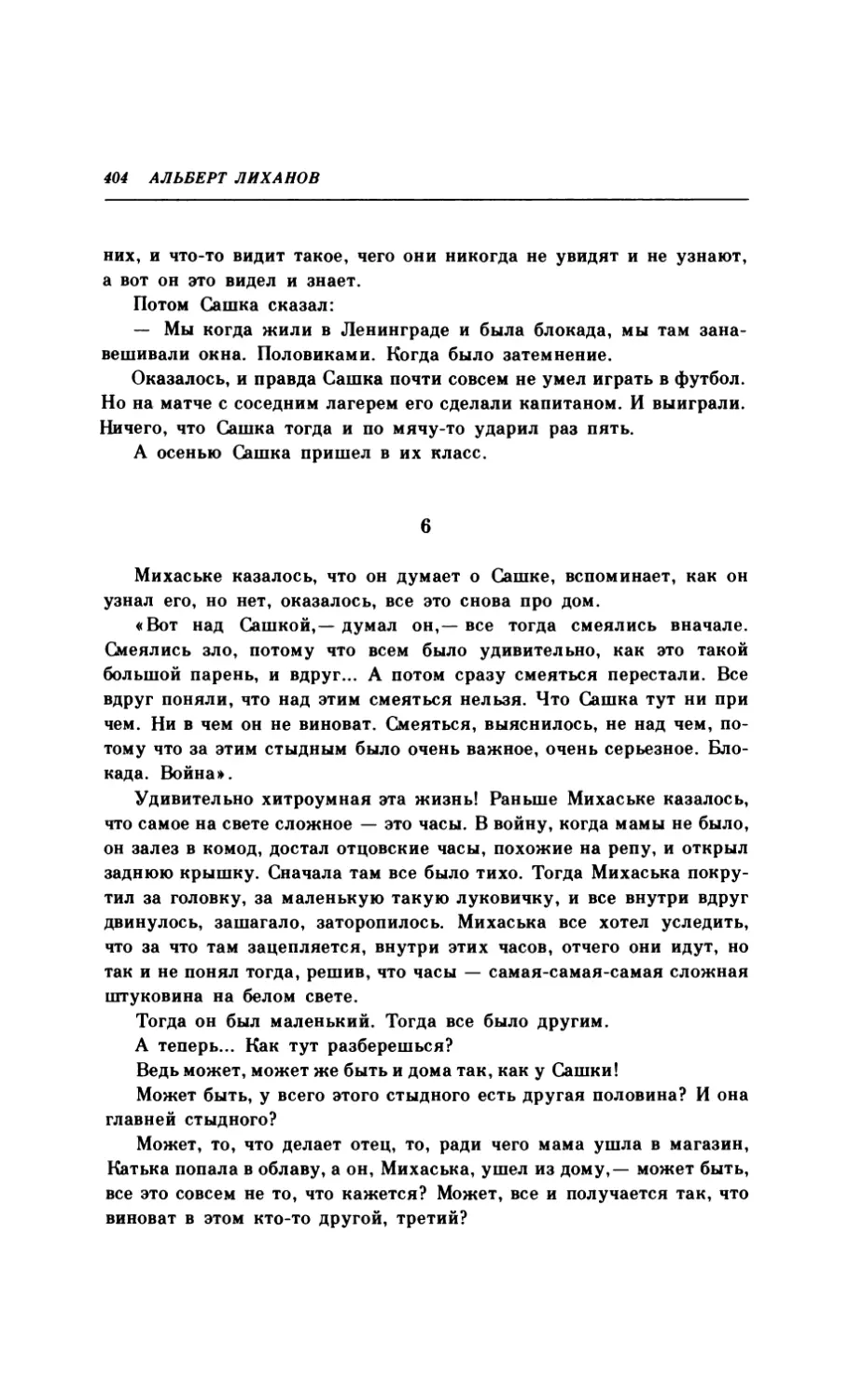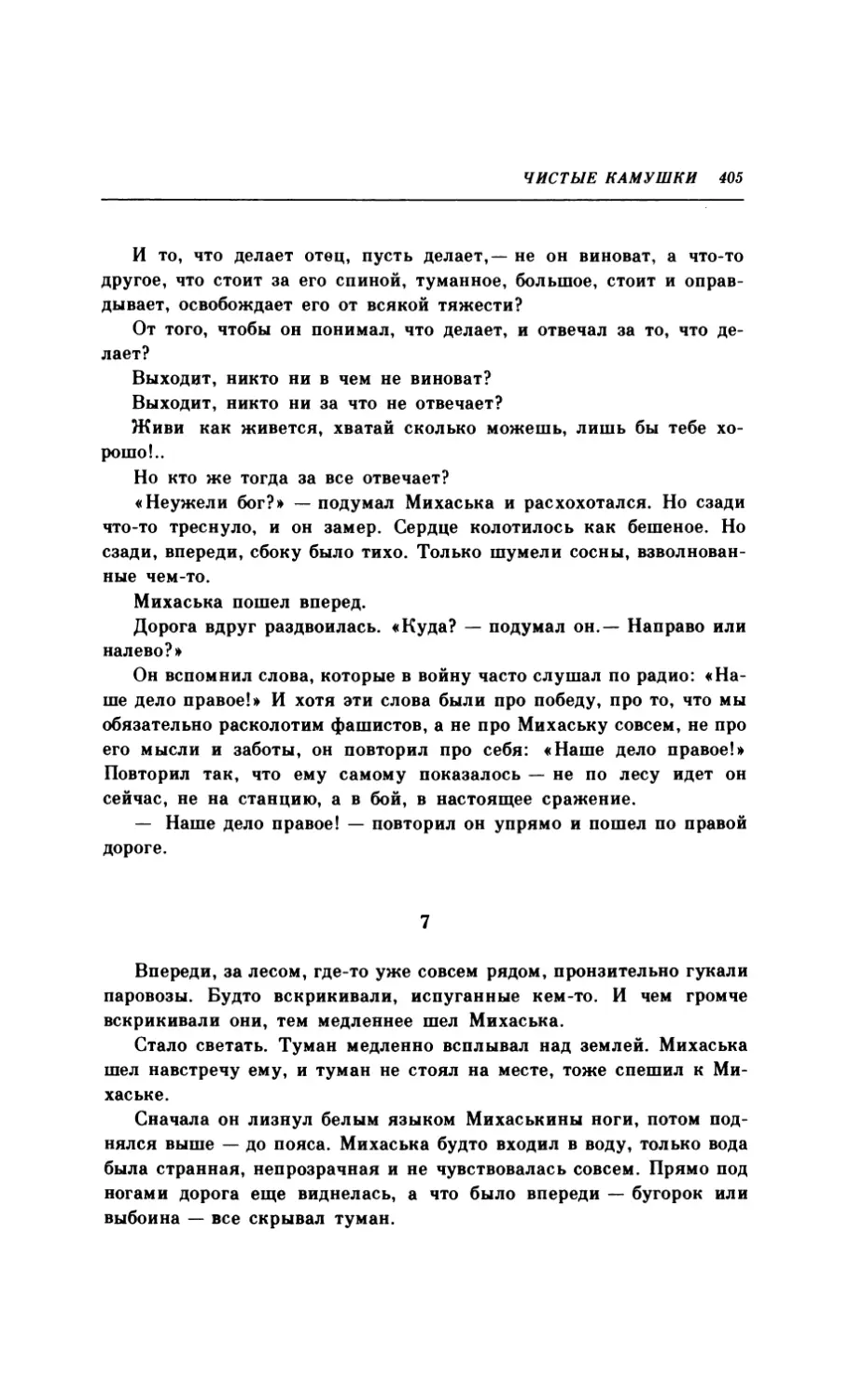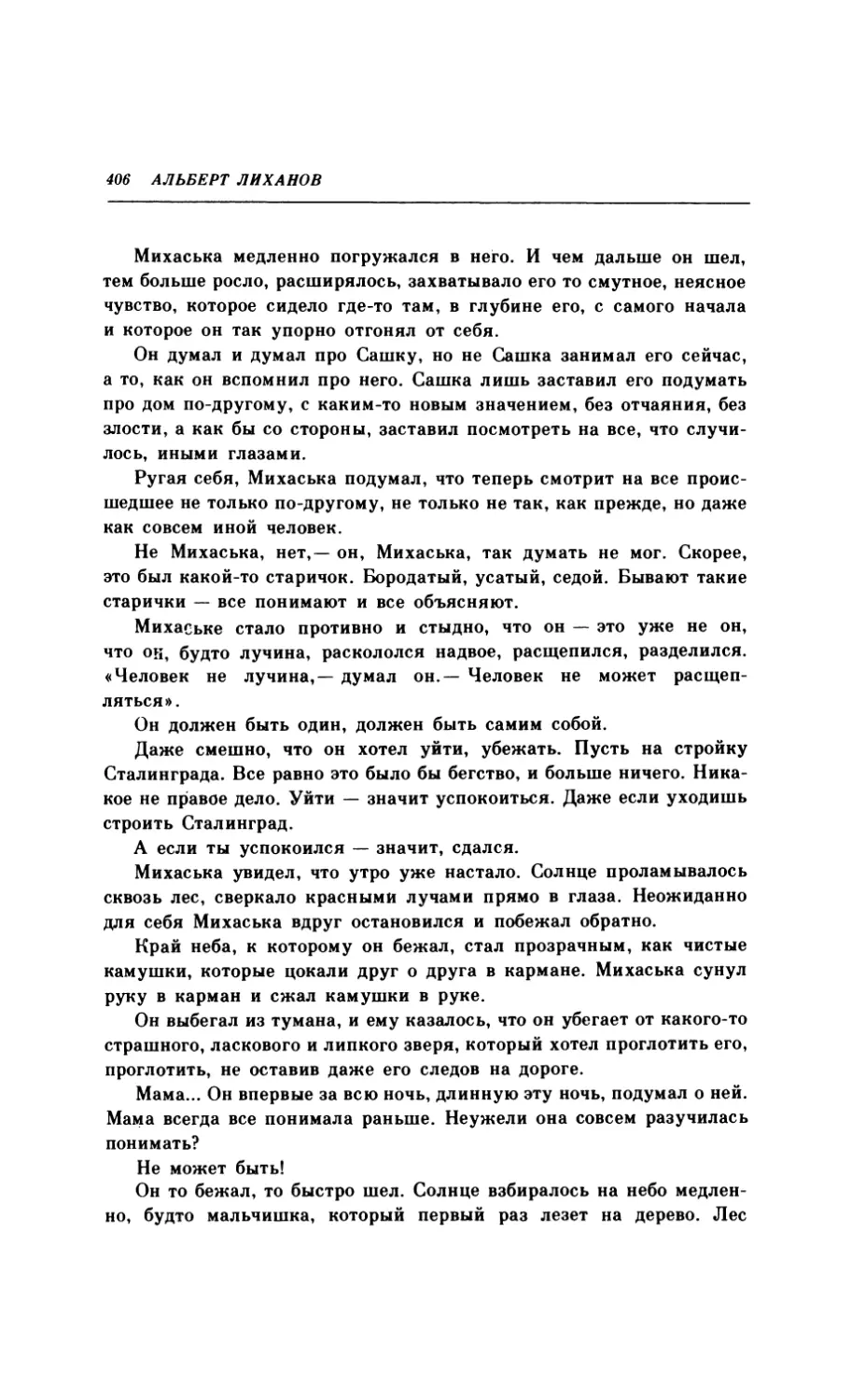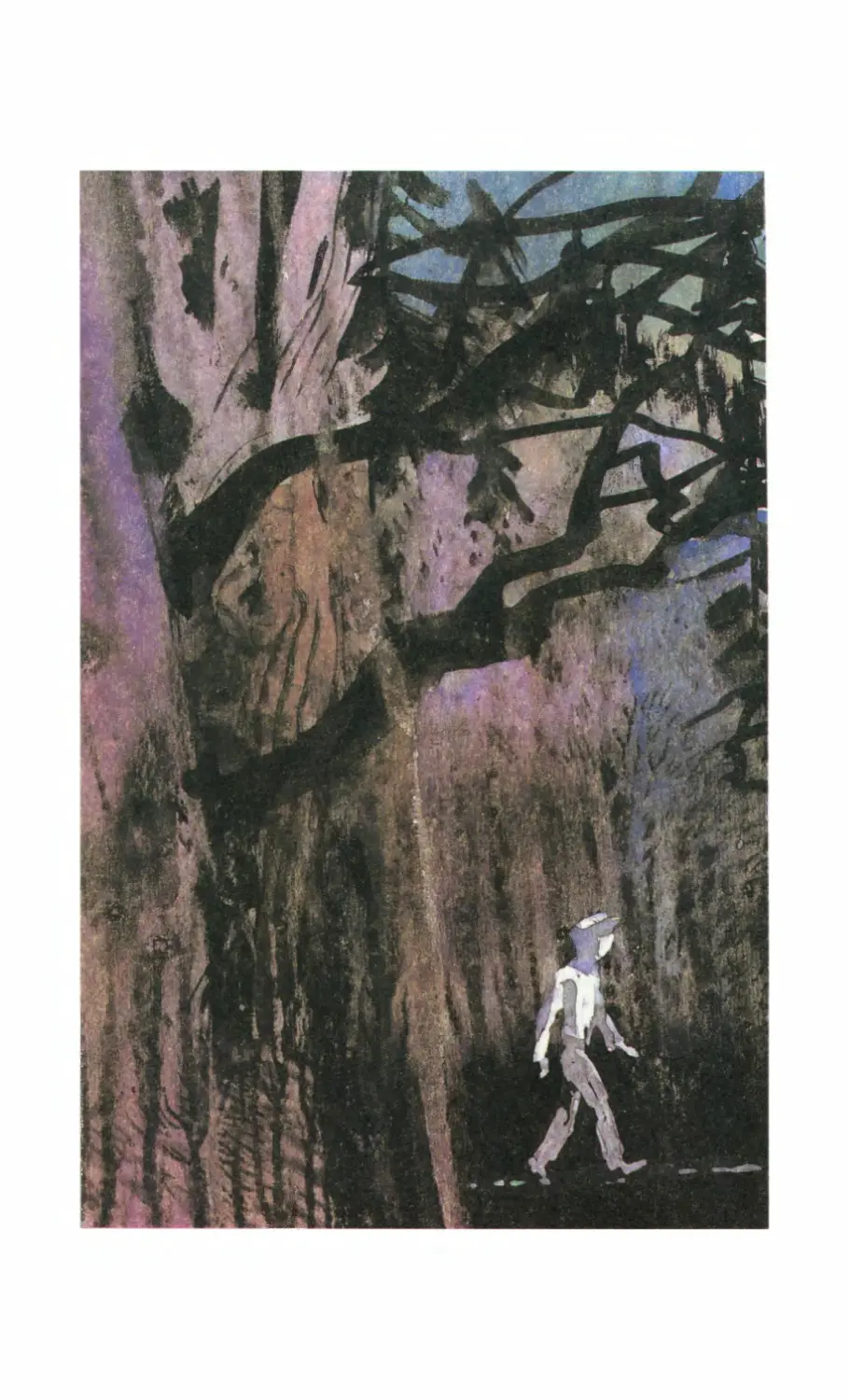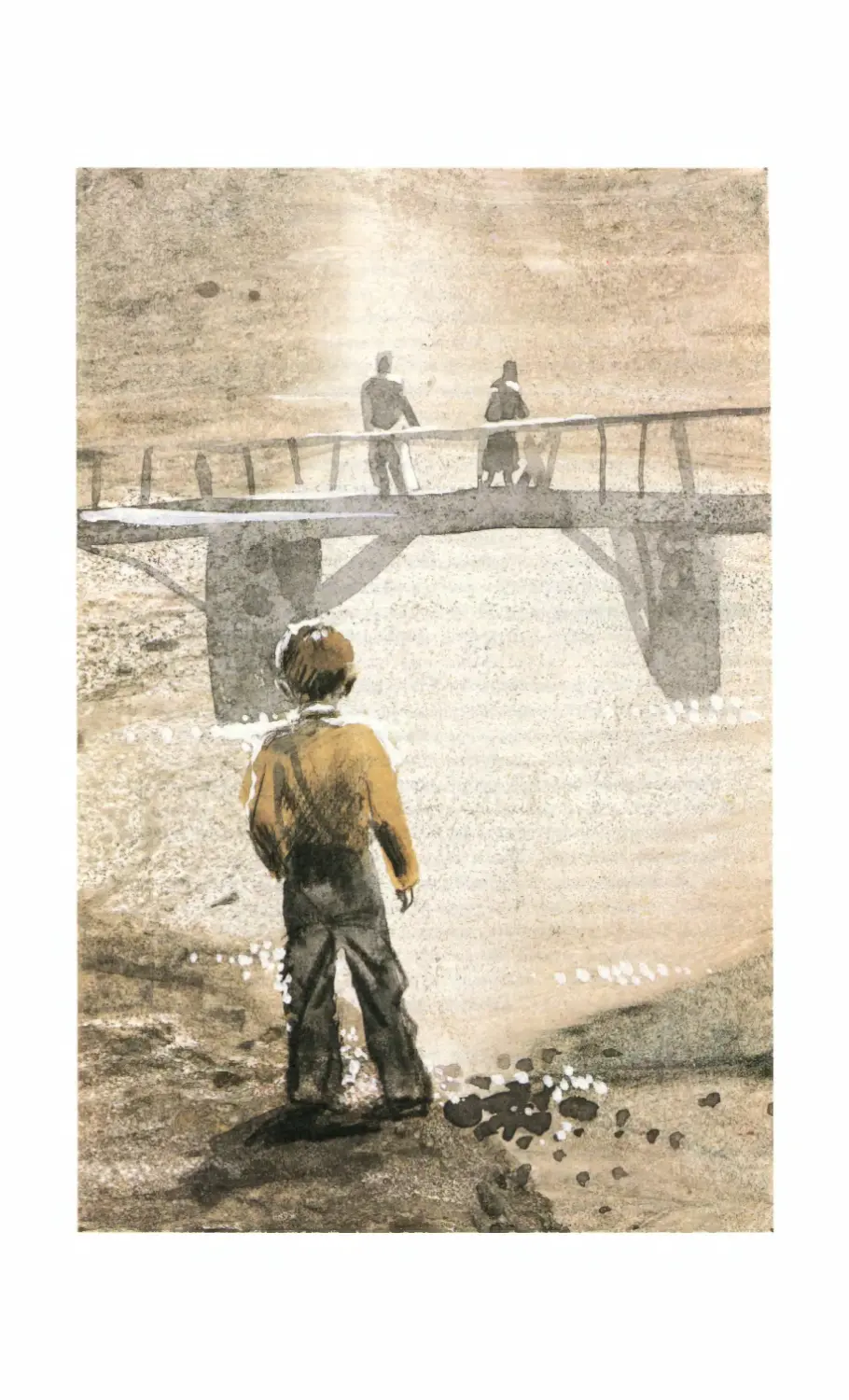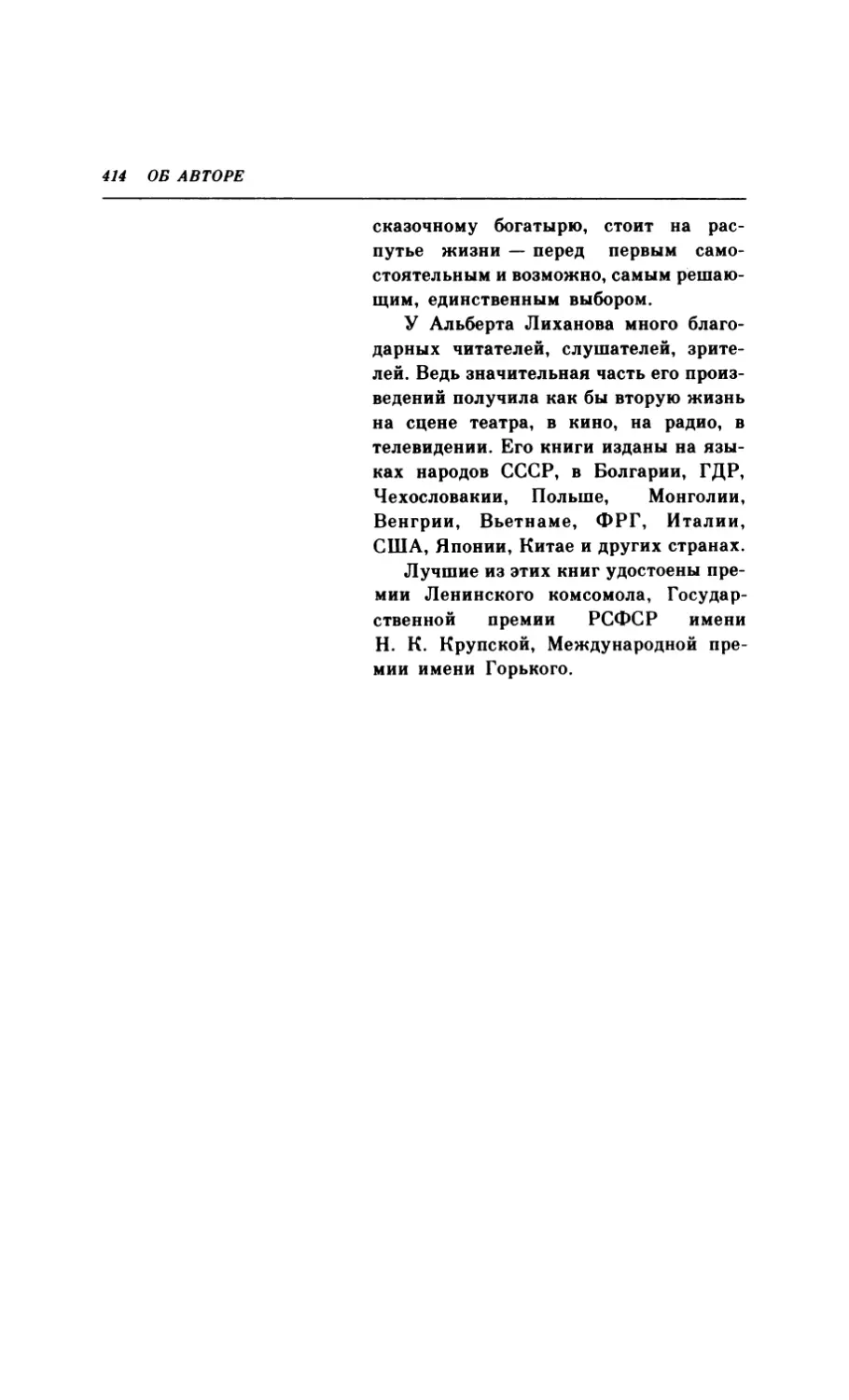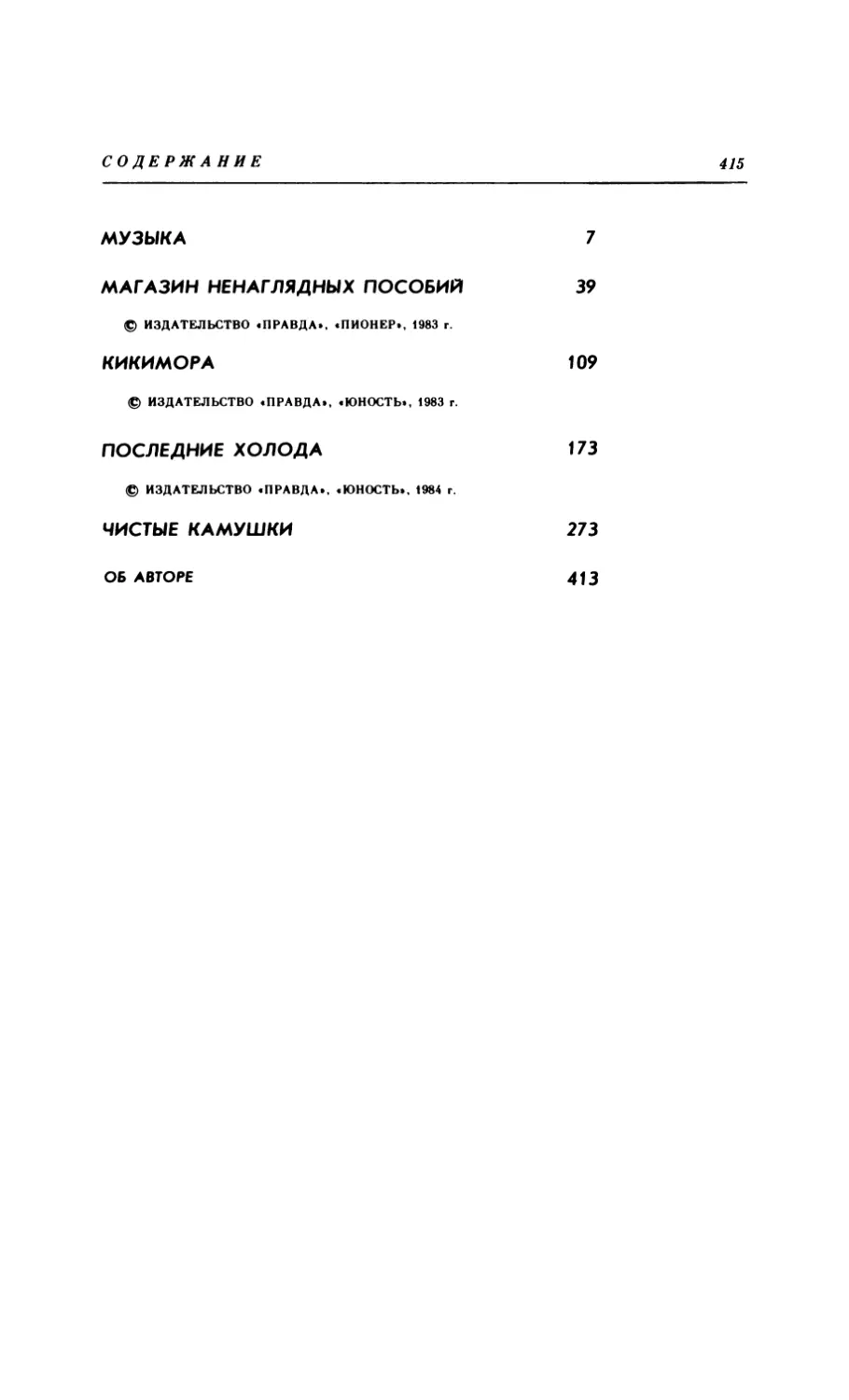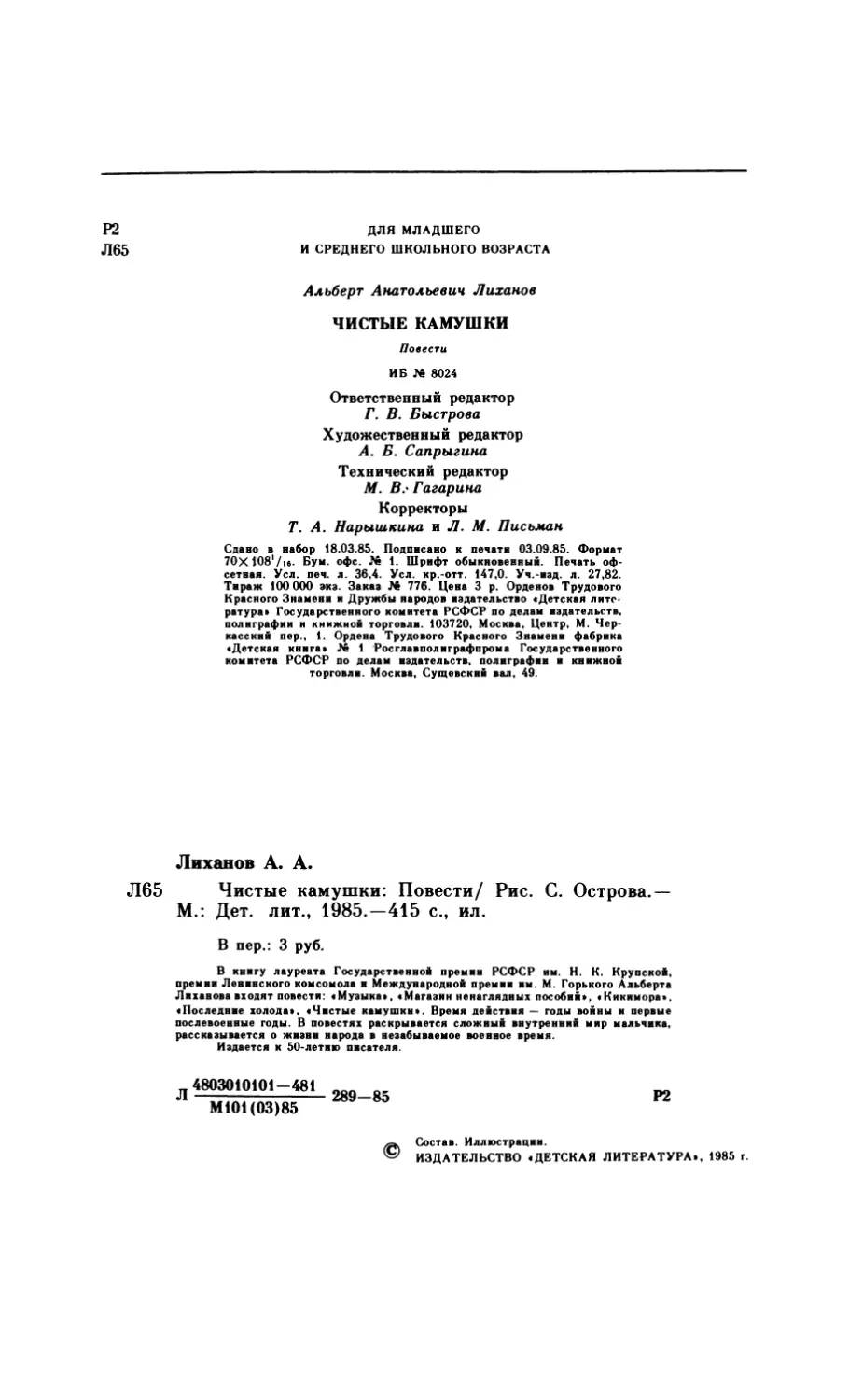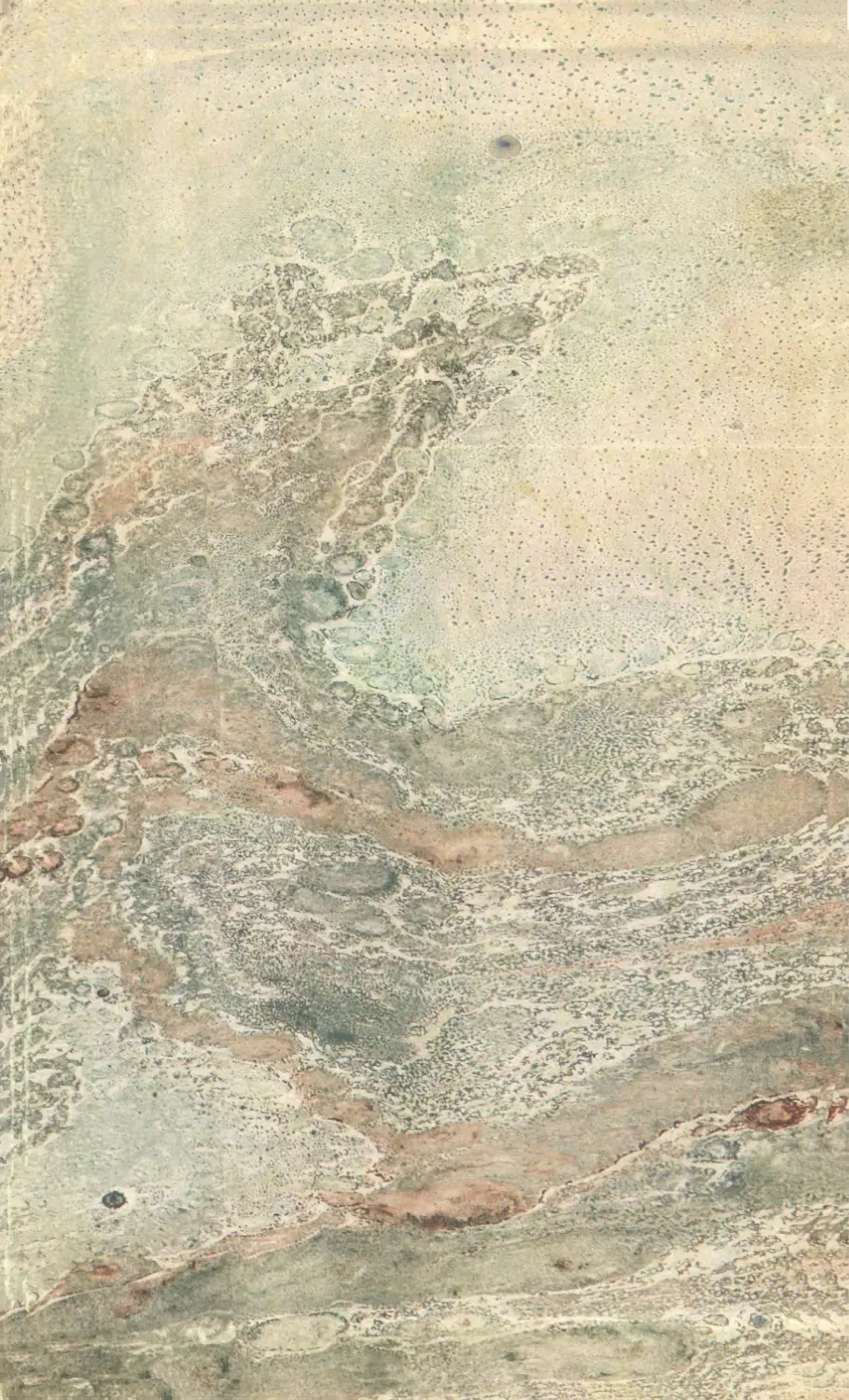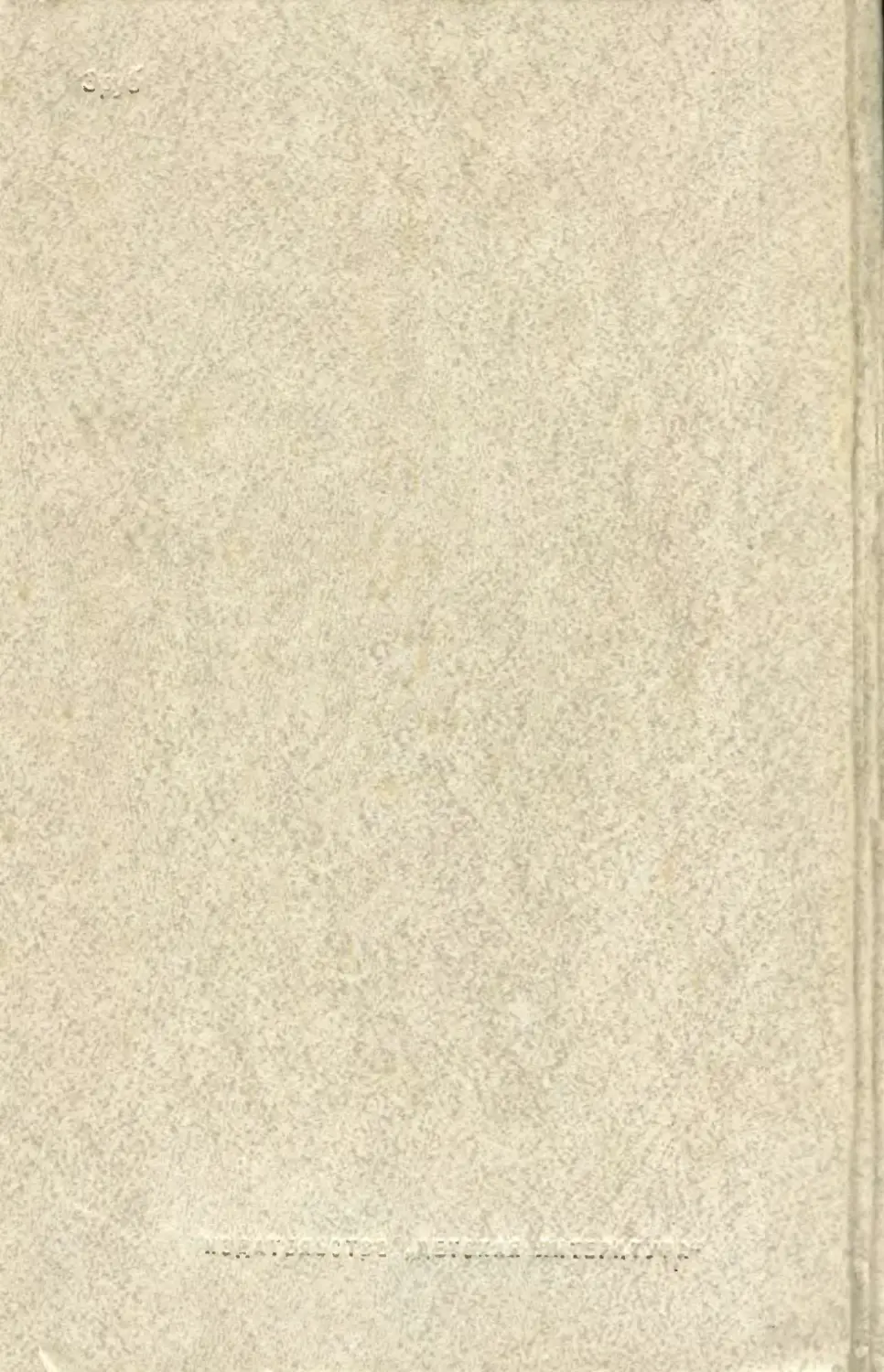Автор: Лиханов А.А.
Теги: великая отечественная война послевоенные годы жизнь людей военное время жизнь мальчика
Год: 1985
Текст
ррш
АЛЬБЕРТ ЛИ ХАНОВ «ЧИСТЫЕ КАМУШКИ»
V
АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
%ч с
€>
О
ПОВЕСТИ
ХУДОЖНИК С. ОСТРОВ
МОСКВА
«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1985
МУЗЫКА
МУЗЫКА 9
У всякого человека есть в жизни история, которая как зарубка
на дереве: потемнеет от времени, сровняется, смолой ее затянет,
но приглядишься посильней — вот она, тут, осталась, присмотришься
еще — и время обратно пойдет, закрутится часовая стрелка против
солнца все скорей и скорей...
Вот и у меня есть такая история, и я всегда вспоминаю ее, когда
слушаю музыку. Вспоминаю, как учился я играть, да так и не вы¬
учился, зато выучился другому, может быть, поважней музыки, вы¬
учился... Да, выучился драться. Не просто кулаками махать, а отстаи¬
вать справедливое дело.
* * *
Началось все это как-то случайно, и никак я не мог подумать, что
в этот обыкновенный, простой самый день начинается какая-то там
история.
Итак, это было где-то вскоре после войны. Когда я, вернувшись из
школы, ел жидкий супчик с перловыми крупицами на дне, позвякивая
ложкой, а бабушка и мама сидели по краям стола и участливо глядели
на мою макушку, явно сочувствуя и жалея меня за выпирающие из
спины лопатки, бабушка неожиданно сказала:
— Ой, Лиза, у Правдиных Ниночка идет в музыкальную школу.
Давай и Колю запишем!
Я пошевелил ушами, не придавая этому большого значения и не
отрывая взгляда от крупинок перловки на дне. Это меня и погубило.
10 АЛЬБЕРТ ЛИ ХАНОВ
Я не удосужился посмотреть, как заблестели бабушкины глаза,
и был наказан.
А бабушка и мама оживленно говорили надо мной, обсуждая новую
проблему, и бабушка, особо склонная к искусству, рисовала живые
картины. Я и эти картины пропускал и оторвался от тарелки только
раз, когда бабушка вдруг зажужжала.
Я вопросительно поднял голову и увидел, как бабушка, закрыв
глаза и отведя в сторону левую руку, держит в другой руке вилку и
жужжит — то громче, то тише. Лицо ее выражало высшее блажен¬
ство, и только тут я понял, что она подражает скрипачу и звуку,
видимо, скрипки.
Мама сидела напротив бабушки, облокотившись, глядя куда-то
вдаль, и лицо ее было задумчиво.
Я смотрел на них, и незаметно ложка упала у меня из руки, про¬
изведя чужеродный обстановке звук, сопровождаемый жидким фон¬
танчиком.
Бабушкина скрипка умолкла, она поглядела на меня и засмеялась.
Засмеялась и мама, и они долго хохотали, вытирая слезы и гладя меня
по макушке.
Разговоры о музыке поутихли, хотя, как мне казалось, бабушка
чаще прислушивалась теперь, когда по радио что-нибудь играли и,
бывало, даже останавливалась посреди комнаты с суповой кастрюлей,
а на лице ее было отсутствующее выражение.
Я по-прежнему жил своей мелкой, частной жизнью зауряд¬
ного четвероклассника и все еще не мог осознать назревающей уг¬
розы.
Примерно через неделю, когда я, как и в прошлый раз, глотал суп,
мечтая о белой булке и раздумывая, почему она называется француз¬
ской, над моей головой произошел еще один разговор на музыкальную
тему.
— Ты знаешь,— сказала бабушка мне,— я была у Правди-
ных. Они скрипку не рекомендуют. Очень действует на нервную си¬
стему.
— А как же? — растерянно спросила мама. — Можно было бы
мою шубу обменять. На рынке скрипки есть.
— Да,— сказала бабушка,— но большой размер, взрослые. Для
детей нужно поменьше. А купишь маленькую, вырастет, новую надо.
Не наберешься...
Они вздохнули.
— А фортепьяно,— сказала бабушка,— легче. Можно с кем-
МУЗЫКА 11
нибудь договориться, к кому-нибудь ходить на игру. И на нервы
меньше действует... А то тут эти, как их, пиццикато. Одной рукой все
дрожать надо...
Теперь засмеялся я. Я представил себя в черном фраке и с галстуч¬
ком, как у франта или у офицера в кино. А в руках у меня скрипка,
желтая, как сливочное масло. Лизни — вкусное. А я не лижу, стою на
сцене и смычком по струнам вожу и такую выскрипываю музыку!
А в зале, прямо напротив меня, сидит враг мой первейший — Юрка-
рыжий и губы от зависти облизывает.
Ох, этот Юрка!
Трудно, в общем, невозможно установить, почему сложились у
нас тогда такие отношения, но Юрка преследовал меня буквально
по пятам.
В первом классе мы учились вместе, и по переменкам от нечего
делать, а может быть, от холода, который стоял в классе, мы станови¬
лись возле стенки и толкались. Кто кого отошьет от стенки. Юрка был
посильней, во всяком случае, мне это так казалось, и всегда всех от¬
шивал от стенки, а меня проще других. Отшивая, он нахально смеял¬
ся, и это действовало на меня особенно. Впрочем, всякая очень уж
сильная уверенность человека в самом себе, самоуверенность, словом,
до сих пор приводит меня в некое смятение и вызывает неуверенность.
Не по себе мне как-то становится...
Так вот, Юрка отпихивал всех от стены, мы орали, но уступали
ему — и морально и физически. Потом Юрка перешел почему-то в
другую школу и на некоторое время исчез с горизонта. Но только на
время.
* * *
Между тем музыкальные события развивались, и в один прекрас¬
ный вечер, совершив необычайный поступок в своей практике —
велев отложить уроки «на потом»,— бабушка взяла меня за руку и
повела в музыкальную школу.
Идти с ней за руку мне было стыдно, но такая уж существовала
у бабушки традиция — водить меня по улице, как детсадовца,— и я
шел, озираясь по сторонам, чтобы в решающую минуту, когда из-за
угла появится какая-нибудь знакомая личность, вдруг зачихать и
полезть в карман за платком или просто напрячь силы и посильней
рвануть руку, дабы доказать свою хотя и относительную, но все-таки
независимость.
МУЗЫКА 13
А тут произошло все как-то неуловимо. То ли я зазевался, то ли
он просто вылез из-под земли, но в тот самый миг, когда я мирно
тащился на бабушкином буксире, передо мной появился Юрка-
рыжий...
Я мгновенно освободился от контактов с бабушкой, но это было
ни к чему, потому что Юрка уже видел, как меня в четвертом классе
водят за руку. Наверное, у меня здорово покраснели уши. Юрка-
рыжий уловил мое состояние и, будто бандит на безоружного чело¬
века, напал на меня.
— Ну, ты! — сказал он и пошел за мной следом.— Ну, ты! —
повторил он, нахально улыбаясь, и чуть стукнул по одной моей ноге
так, что я зацепился ею за вторую ногу и едва не упал.
Видно, тут-то и была моя главная ошибка. Наберись я тогда храб¬
рости, остановись на мгновение и ткни хотя бы легонько этого Юрку
куда-нибудь в грудь, он бы, наверное, отвязался от меня, и весь кон¬
фликт был бы исчерпан. Но я не остановился, не ткнул Юрку, даже
ничего не сказал ему, а прибавил шагу, даже чуть побежал, догнал
бабушку и — о слабость! — сам взял ее за руку, как бы страхуясь от
Юркиного нападения.
Юрка-рыжий сухо хохотнул, увеличил дистанцию и пошел за
нами, время от времени покрикивая:
— Ну, ты!..
* * *
Музыкальная школа размещалась где-то в глубинах драматиче¬
ского театра, под самой крышей, и пока мы добирались до нее, я по¬
думал, что театр походит на огромного слона, а мы идем внутри у
него, по бесконечным и узким, словно кишки, коридорам. Впечатле¬
ние это подтвердилось, когда мы нашли все-таки эту музыкальную
школу. Она оказалась обыкновенным коридором, перегороженным
крашеной фанерай. В этом аппендиксе было полно народу, главным
образом взрослые, хотя школа называлась детской. Приглядевшись,
я увидел, что взрослые не одни, а все с ребятами или девчонками,
и все ведут себя так, будто чего-то ждут.
Бабушка нашла местечко, мы устроились, я начал разглядывать
коридор повнимательнее и вдруг почувствовал, как снова, второй уже
раз сегодня, краснеют мои уши.
В другом углу, положив ладошки на колени, с белым бантом,
который был больше ее головы, сидела наша классная тихоня Нинка
14 АЛЬБЕРТ ЛИ ХАНОВ
Правдина, сидела выпрямившись, словно на уроке, серьезная до
невозможности, и смотрела на меня, преисполненная чувства собст¬
венного достоинства.
Даже кнопочный нос с редкими веснушками у нее кверху зади¬
рался.
В краску меня бросило сразу от многих обстоятельств. Во-первых,
потому, что вся эта история с музыкой казалась мне ненужной и даже
постыдной в глазах серьезных людей, и в мои планы вовсе не входило,
чтобы кто-то видел меня тут.
Во-вторых, потому, что Нинка Правдина в ту пору казалась мне
непревзойденной красавицей, чему не мешали даже ее веснушки.
Кроме того, она держалась в школе особняком, даже с девчонками
не водилась, а потому казалась мне какой-то необыкновенной... Во
всяком случае, к ее ответам на уроках, за которые ей всегда ставили
пятерки, я внимательно прислушивался, а ее неофициальных выска¬
зываний на переменках, равно как и взглядов, пронизывающих до
пяток, просто-напросто остерегался.
Ну, а в-третьих, от чего меня бросило в жар, была ее мамаша, кото¬
рую я как-то видел в школе и которая теперь улыбалась мне и кивала
так, будто мы с ней какие-нибудь родственники, и смотрела на меня
так поощрительно, будто я уже не просто Колька, а какой-нибудь
заслуженный артист республики.
Меня этот взгляд добил окончательно, но в эту минуту рядом
кашлянула бабушка, кокетливо поправила гребенку в седых волосах
и, поднявшись, пошла к Нинкиной маме.
Нинкина мама поднялась навстречу бабушке, они заворковали
сразу о чем-то, наверное, о своих «пиццикатах», присели, а Нинка
прямо бабочкой вокруг них кружилась, так и вертелась вся. Бабушка,
улыбаясь, поглядывала на нее, гладила ее по волосам, потом посмотре¬
ла на меня и сказала Нинке что-то, наверное, сказала, чтобы она
пошла ко мне. Я подумал про себя, что уж это дудки, что уж Нинка
ко мне не пойдет, очень ей надо; но, странное дело, она, ничуточки
не стесняясь — а ведь народу в коридоре было порядочно,— пришла
ко мне, и хоть бы хны!.. Уселась рядышком. Словно мы с ней давниш¬
ние дружки.
От Нинки несло каким-то благоуханием, бант у нее прямо светился
белым сиянием, щеки горели, как фонарики, черные глаза блестели.
Нинка чувствовала себя как рыба в воде, будто она тут всю жизнь,
в этом коридоре, пасется. Она поглядывала на меня дружелюбно, а я
не знал, куда от стыда деться: народ в коридоре скучал, и все прямо
16 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
таращились на нас, особенно мальчишки. «Во, скажут, девушник
нашелся! Девушник музыкальный!»
Нинка же ничего не замечала вокруг — надо же, я ее такой про¬
стой, такой ненадменной первый раз видел! — и говорила со мной
о всяких там пустяках, о том, какой в сорок девятом примере по
арифметике ответ у меня, и всякое такое.
Она заглядывала мне в глаза, слушала мое бурканье с большим
вниманием, все время кивала головой с большим бантом, и мне каза¬
лось, что и правда это не бант, а большая белая бабочка.
— А ты не боишься? — спросила меня Нинка и посмотрела с
участием.
— Чего? — буркнул я.
— Экзамена.
А я даже и не знал, что какой-то там экзамен будет. Я и не гото¬
вился.
— Ну не бойся! — сказала Нинка.— Это ерунда! Простецкое
упражнение. Нужно повторить, что тебе там выстучат. Слух про¬
веряют.
Слух проверяют... Я даже и не думал, что слух еще как-то про¬
веряют. Я же не глухой, чего тут проверять? Но тем не менее что-то
мне такое предстояло. Я заволновался еще больше, заерзал на стуле,
видно, уши у меня покраснели пуще прежнего, и Нинка, заметив
мое волнение, совсем прямо обалдела — взяла меня за руку, пожала
ее и сказала:
— Не бойся!
# * *
Мне казалось,— да что казалось, это было точно,— пока Нинка
сидела со мной и крутила своим бантиком, все часы останови¬
лись. И люди вокруг ничего не делали — только таращились на
нас.
И вдруг хлопнула дверь, все повернули головы, из комнаты, где
принимали экзамен, вышел какой-то мальчишка, а вместо него туда
впорхнул белый бантик. Я даже не заметил, как Нинка проскочила
мимо меня.
Я вздохнул, кровь отлила от моих ушей, и жизнь пошла дальше.
Никто в коридоре не пялил на меня глаза, на душе стало очень хоро¬
шо, покойно, ко мне пришла бабушка и сказала с укором, будто я
в этом виноват:
МУЗЫКА 17
— А Ниночка уже давно играет!
Я хотел было спросить, на чем это она играет, но раздумал: хватит
мне на сегодня этой Ниночки!
За дверью раздалась какая-то барабанная дробь. Через мгновение
она повторилась, потом забренчал рояль, дверь распахнулась, и на
пороге появилась Нинка, еще более румяная, и бант ее будто светился
еще ярче.
Она бросилась к своей маме, они зашушукались там, в своем углу,
потом поднялись и подошли к нам.
— Ну вот,— сказала Нинкина мама.— Ниночке прямо там, в
комиссии, сказали, что она зачислена.
Бабушка снова стала гладить Нинку по голове, заулыбалась ей,
захвалила, а ее мама, радуясь, сказала:
— Но мы не уйдем. Подождем, как у Коляши!
«Ничего себе,— подумал я.— Коляша! Во придумали! Не дай бог,
Нинка в классе скажет, изведут! Коляша!..»
Но расстроиться как следует я не успел: бабушка подтолкнула
меня в бок и кивнула на дверь. Настала моя очередь проверять слух.
* * *
Я думал — там врачи. Ухо-горло-носы. Ведь слух проверяют! Но
врачей никаких не было. Были две женщины средних лет, сильно
накрашенные, и возле рояля- сидел сутулый старик с курчавыми
волосками, торчащими из ушей. Это я, как вошел, сразу заметил, это
меня очень заинтересовало, я даже хихикнул про себя. «Вот тебе и
ухо-горло-нос»,— подумал я. Но старик на меня никакого внимания
не обратил, даже не обернулся, не поглядел на миг: может, сразу по¬
нял, кто вошел...
Накрашенные женщины, глядя сквозь меня, спросили мою фами¬
лию и спросили, не играю ли я на каком-нибудь инструменте, на что
я мотнул головой, хотя в душе опять захихикал и подумал, что надо
бы сказать: да, играю — на нервах. Ходила тогда у нас такая шуточка.
Но ничего я, конечно, не сказал, а накрашенные женщины велели,
чтобы я повторил то, что мне сейчас постучат.
— Пал Саныч! — воскликнула одна из них, и старик с волосатыми
ушами, все так же не оборачиваясь, не проявляя ко мне никакого
совершенно интереса, протянул вперед длинную, прямо двухметро¬
вую руку со стиснутым кулаком и громко постучал по роялю. В рояле
18 АЛЬБЕРТ ЛИХ А НО В
что-то тоненько звякнуло, пружина, наверное, и я понял, что старик
стучит не просто так, а со смыслом, с какими-то едва уловимыми
перерывами. Будто азбуку Морзе выстукивает.
Я провел кулаком под носом, была у меня такая привычка, вздох¬
нул, подошел к столу и постучал что-то совсем не то. Даже мне это
стало ясно. Крашеные тетки нахмурились, но старик, все так же не
поворачиваясь, опять протянул руку вперед. И как-то так он ее про¬
тянул, что мне показалось, будто он протягивает мне руку помощи,
как утопающему.
Я вцепился взглядом в эту длинную, жилистую руку и напряг
все свои слуховые возможности. Старик постучал быстро, но как-то
внятно, и я тут же, без остановки, повторил то, что он простучал.
Точно, без помарок.
Крашеные тетки уже не глазели на меня, но вдруг повернулся
старик. Он глядел на меня, щурясь слезящимися белесыми глазами,
и словно хотел что-то сказать. ,
Но он ничего не сказал, а одна из крашеных теток велела мне
идти, и я вышел с красными от слуховой работы ушами, растерянный,
не зная, что и подумать.
* * *
В коридоре на меня набросились так, будто я неделю в тайге про¬
плутал, а бабушка, и Нинка, и ее мама не чаяли меня и увидеть. Они
смотрели на меня, как на страдальца какого или как на генерала —
юного, но седого и израненного всего. Опять я зарделся, как морковка,
но они ничего не замечали,—что им полный коридор людей, если я
оттуда, от этой комиссии, живым вышел!
Еле они угомонились, еле отошли: бабушка узнала, что оконча¬
тельные результаты всем скажут завтра, и мы пошли домой все
вместе — Нинка со своей мамой, бабушка и я.
О-хо-хо, этот несчастный день! Мало того, что мы пошли вместе
и дошли до самого нашего дома, потому что, видите ли, Нинкина мама
решила, что нас с бабушкой надо проводить после такого дела, одни
не дойдем,— мало этого, так бабушка еще велела идти мне вместе
с Нинкой впереди. Бабушка с Нинкиной мамой шли позади и все гово¬
рили о жизни замечательных музыкантов, а я плелся с Нинкой, вогнав
голову в плечи, готовый даже за руку с бабушкой идти, только не так,
только не с Нинкой.
МУЗЫКА 19
Я плелся, и все в моей душе переворачивалось от тяжких пред¬
чувствий.
Сейчас, много лет спустя, когда заговорили, наконец, о существо¬
вании телепатии, странных, не видимых никому излучений, которые
передают на рассстоянне не только мысли, но и страх и могут, говорят,
формировать всяческие предчувствия, я думаю, что вот те два длин¬
ных квартала, пока я шел с Нинкой Правдиной, были крупнейшим
в моей жизни сеансом телепатии. Странные, не видимые мне, но
рыжие, наверное, Юркины волны вызывали во мне совершенно ясное
чувство предстоящих неприятностей.
И точно. Есть она, черная магия! Как только мы подошли к углу,
где сегодня днем я встретил Юрку, он снова появился как из-под
земли.
Глаза у него были круглые. А рыжих ресниц и бровей, тоже
рыжих, почти не было заметно.
Он стоял молча, пока мы с Нинкой, а потом бабушка с Нинкиной
мамой не прошли мимо него. Потом он также молча забежал вперед
и снова посмотрел, как мы пройдем перед ним. Потом он забежал
вперед еще раз и снова пристально посмотрел на нас. И когда я в
третий раз, окончательно добитый, в паре с Нинкой прошел под его
светящимся, радостным и одновременно недоумевающим взглядом,
он, остановившись, отпустил нас на некоторое расстояние и крикнул
адресованное мне, страшное:
— Хахаль! Э, хахаль!
Уже потом, дома, шаг за шагом разматывая клубок минувшего
дня, я припомнил Нинку и эту минуту.
До сих пор она все пыталась говорить ср мной.
Но когда Юрка крикнул это, она сразу замолчала. Не обернулась
на рыжего, нет. Она просто замолчала и выпрямилась, и высоко под¬
няла голову. И так посмотрела на меня, словно ничего не было. Ни
музыкальной школы, ни экзамена. И будто не трещала она, заговари¬
вая со мной целый вечер.
Нинка посмотрела на меня, будто насквозь прожгла.
И тошно мне стало так.
* * *
На другой день, вернувшись из школы, я застал бабушку очень
разрумянившейся. Она хлопотала у печки, в комнате вкусно пахло
ржаным пирогом с картошкой.
20 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
Бабушка моя была мастерица по части всякой выпечки, в хорошие
годы, когда водилась мука, всех она удивляла неиссякаемым умением
стряпать какие-то вкуснейшие коржики, пышки, пончики и пирожки.
Гремя противнями, сложив морщинки на переносице от важности
производимого дела, взмахивая куриным крылышком, окунутым
в маслице, бабушка напоминала сталевара, выдающего плавку, где
с горячим металлом не шути — обожжет или переварится. В такие
минуты она была сердита, сосредоточенна, и тут уж лучше было к ней
не подступаться!
Из всех своих произведений больше всего любила бабушка печь
пирог — какой хошь, на усмотрение и на требование — хоть с морков¬
кой, с картошкой, хоть с нежнейшей рыбой или мясным фаршем,
заправленным как следует лучком, с совершенно особой, тающей во
рту поджаренной верхней корочкой.
Пирог был для бабушки высшей точкой ее душевного вдохнове¬
ния, как, скажем, контрапункт для композитора. Перед праздником
либо перед другим каким торжественным событием бабушка сначала
начинала охать и волноваться, и когда волнение достигало накала,
она упрекала себя: «Что же это я?» — и начинала хлопотать у печки.
После войны пирогов с тающей верхней корочкой бабушке печь
не приходилось, но она не унывала, доставала в обмен на довоенные
жакеты или стоптанные туфли ржаной мучицы, но себе не изменяла.
Ведь не может же композитор перестать сочинять музыку. Даже в
самое трудное время...
Когда я вошел, бабушка стряпать уже заканчивала, строгость
сошла с ее лица: она улыбалась мне и заторопила меня, чтобы я соби¬
рался в музыкальную школу за результатом.
В коридоре, перегороженном крашеной фанерой, было пусто, на
стенке висели листки с фамилиями принятых учиться музыке. Ба¬
бушка велела мне быстренько найти себя в этих списках, я посмотрел,
но не нашел, посмотрел еще раз и снова не нашел. Бабушка рассерди¬
лась,— экая я бестолковщина! — вытащила футляр, обмотан¬
ный тонкой резинкой, нацепила очки и сама стала читать списки,
поводя головой слева направо, потом быстро налево и снова Ha¬
ir
право... ^
Бабушка читала не торопясь, основательно, боясь упустить строч¬
ку — ведь каждая строчка была целой фамилией! Листки кончились,
бабушка долго смотрела на стенку рядом с последней строкой, и что
было в душе у нее в этот миг, одному богу известно!
Она постояла так недолго, потом, решившись на что-то, взяла
МУЗЫКА 21
меня крепко за рукав и, подтолкнув вперед, вошла в комнату, где я
вчера так неудачно стучал по столу.
В комнате, будто никуда и не уходила со вчерашнего дня, сидела
одна из крашеных теток. Едва она подняла голову, как бабушка стала
быстро-быстро говорить. Я никогда не видел, чтобы она так быстро
говорила — как Синявский по радио. А бабушка тараторила, и так
это у нее здорово получалось, я диву давался.
Конечно, она сказала, что никак не возможно, чтобы я не учился
музыке, что музыка — наша семейная страсть, что бабушка, она сама
из простых, из пролетариата, но всю жизнь мечтала, чтобы внук умел
играть при нашей Советской власти на музыкальном инструменте.
— Видите ли, уважаемая...
— Пелагея Васильевна,— торопливо, будто угодить хотела, сказа¬
ла бабушка.
— Видите ли, уважаемая Пелагея Васильевна, мы бы зачислили
вашего ребенка, взяли бы, как говорится, сверх нормы, но увы...
У него нет слуха!
Только что бабушка угодливо подсказывала этой крашеной тетке
свое имя-отчество, а тут ее словно перевернуло. Она выпрямилась,
разгладила морщинки на переносице, поджала губу, голову на¬
бок наклонила и спросила с вызовом, будто ее только что оскор¬
били:
— То есть как это слуха нет?
И покрутила головой, будто сказать хотела: ну и ну, дескать, мух¬
люете тут немилосердно! Тетка была хоть и накрашенная, rio в душе
хорошая. Она принялась объяснять, говорить, что слух — это очень
важно, хотя и его можно выработать, беды большой нет, тренировка
в музыке тоже очень важна, и посоветовала прийти, когда будет кон¬
курс в группу народных инструментов.
— Это на балалайке-то? — возмутилась бабушка и потянула меня
к выходу.— Ну уж увольте, милочка!
На пороге бабушка остановилась на минуту, обернулась, задохну¬
лась от возмущения и, покраснев, сказала тихо, будто эта тетка в чем-
то виновата:
— Мы же войну вынесли... А вы — балалайку...
О, эта музыка! Из-за нее и я, поддавшись настроению бабушки
и мамы, пришел в уныние, будто завалил невесть какой экзамен, будто
я и в самом деле виноват, что нет у меня слуха.
Вернувшись домой, мы жевали без всякого вкуса поджаристый
бабушкин пирог, испеченный к несостоявшемуся событию, захлебы¬
22 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
вали его крепким чаем и молчали опять, потому что говорить было
нечего. Что тут скажешь?
Где-то в душе я, потихоньку остывая, успокаивался, думал, что в
общем-то ничего страшного не случилось, какой в самом деле из меня
музыкант, вот Юрке бы как следует надавать за «хахаля» — это
дело, а с музыкой — ну что, переживем, пусть Нинка Правдина
играет, это вполне для нее подойдет...
И только я подумал про Нинку, ну вот только-только, как в дверь
постучали, и вошла сначала Нинка, а за ней ее мама.
Лица у них были встревоженные. Оказалось, они все уже знали,
потому что были вслед за нами в музыкальной школе. Сразу же, с
порога еще, Нинкина мама стала утешать нас, говоря, что все это
ерунда, что просто большой конкурс в музыкальную школу, а слух —
ведь это не беда, его можно развить упражнениями.
— Да, да,— сказала бабушка невесело,— мне ведь и заведующая
это же говорила, да что толку... Как же этот слух развивать, если Колю
не приняли...
Все задумались ненадолго, а я посмотрел на Нинку. Она разгляды¬
вала нашу комнату, потом увидела фотографию на стене, где я малень¬
кий, голышом, да еще с бантом на голове, как девчонка, поняла, что
это я, ухмыльнулась, взглянула на меня искоса. Я покраснел слегка,
а Нинкина мама сказала:
— Вы знаете, можно же частно договориться. С каким-нибудь
музыкантом. У вас есть знакомые музыканты?
Бабушка глянула на нас с интересом, а мама даже в ладоши хлоп¬
нула.
— Зинаида Ивановна! — воскликнула мама.
Бабушка надменно повела плечами, покачала головой.
— Зинаида Ивановна! — горько усмехнулась она.— Зинаида
Ивановна в кинотеатре играет. Тоже мне музыкантша!
— Не страшно! — обрадовалась Нинкина мама.— Вовсе не страш¬
но! Главное, музицирует, а раз музицирует — научит!
* * *
Зинаида Ивановна была дальней нашей родственницей, такой
дальней-предальней, что о ее существовании вспоминали, только
встретив на улице или же придя в кино, где она играла перед началом
вечерних сеансов.
МУЗЫКА 23
Меня, понятное дело, на вечерние сеансы не пускали, поэтому я
Зинаиду Ивановну представлял себе смутно, очень даже плохо пред¬
ставлял.
В кино на переговоры с дальней родственницей мама и бабушка
собирались тщательно, волнуясь, потому что, по их представлениям,
это был последний шанс сделать из меня великого — ну, не великого,
так по крайней мере крупного — музыканта.
Зинаида Ивановна работала в «Иллюзионе», самом шикар¬
ном кинотеатре. Двери в фойе там были стеклянные, и сквозь них
можно было бесплатно послушать музыку, которую исполнял ор¬
кестр.
Мы пришли пораньше, прослушали сквозь стекло всю программу,
а когда зрителей пустили в зал и оркестранты стали собирать на
сцене свои трубы, бабушка попросилась у контролерши пройти в
фойе.
— В оркестр,— сказала бабушка,— к Зинаиде Ивановне.
Мы прошли в фойе все втроем, и бабушка с мамой отправились
на сцену, куда-то за кулисы. Я стоял как будто какой-нибудь без¬
билетник, и каждый киношный работник, проходивший по фойе, мог
меня турнуть.
Наконец появилась Зинаида Ивановна. Она шла, будто русалка,
в чешуйчатом платье до пола, круглолицая, и в чуть выпяченных
губах у нее ловко сидела папироска. Роста Зинаида Ивановна была
весьма маленького, гораздо ниже мамы и бабушки, но неотразимое ее
платье все-таки заслоняло их, делало сразу невидными какими-то
и тусклыми.
Маленькими, неторопливыми шажками, глядя в глаза, Зинаида
Ивановна подошла ко мне и вдруг потрепала по щеке.
— Уй-тютюлечки! — сказала она.— Какой большой мальчик!
И учится, наверное, хорошо?
— Хорошо, хорошо,— торопливо подтвердила бабушка, и в голосе
ее ни чуточки не было от того пренебрежения, с каким говорила она
вчера о Зинаиде Ивановне.
— Ах, музыка! — воскликнула в это время Зинаида Ивановна,
закатывая к потолку маленькие глазки и всплескивая ручками.—
Ах, музыка! Я вас понимаю!.. Ну что же, что же... Приходите!
Я ваша!..
— Когда же? — спросила мама, как девочка, стоявшая все время
в тени.
— Хоть завтра! — сказала Зинаида Ивановна, но тут же спохва¬
24 АЛЬБЕРТ Л ИХ А НО В
тилась.— Нет, завтра я не могу... Послезавтра... Впрочем, давайте
на той неделе, в понедельник...
— Ишь ты, стрекоза,— ерепенилась бабушка, когда мы шли
домой.— Завтра, послезавтра, в понедельник.— И тяжело взды¬
хала: — Будет ли какой от нее толк?
А мне почему-то вспомнилось серебряное, в чешуйку, платье
Зинаиды Ивановны и казалось, что толк будет...
На первый урок мы пошли вместе с бабушкой, и Зинаида Иванов¬
на, уже без чешуйчатого платья, поила нас чаем, а потом долго музи¬
цировала.
Она играла польки и вальсы, и бабушка, смягчаясь, молча, по¬
нимающе кивала головой, когда Зинаида Ивановна брала высокие
аккорды. Бабушке первый урок очень понравился, она в корне пере¬
смотрела свое отношение к дальней родственнице и полностью дове¬
рила меня ей.
Теперь я ходил на музыку уже один и чаем Зинаида Иванов¬
на меня не поила, поглубже запахивалась при моем появлении в за¬
саленный стеганый халат и садилась рядом со мной к инстру¬
менту.
Она учила меня для начала, как надо держать руки, как нажимать
клавиши и в то же время жать на педали.
Жать на педали мне особенно нравилось, это напоминало автомо¬
биль — сцепления и тормоза — и, увлекаясь этим, представляя,
что я вовсе шофер, а никакой не музыкант, я забывал об осталь¬
ном.
Зинаида Ивановна обреченно откидывалась на высокую спинку
стула, стирала пот со лба, тяжело дышала, по лицу ее ползли красные
пятна, а я сидел, опустив голову, сознавая собственное ничтожество,
и боялся взглянуть на учительницу.
Наконец Зинаида Ивановна отходила, лишь в голосе ее слышалась
какая-то тугость, будто трудно ей было мне все наново объяснять,
и мы начинали опять.
Отметок, ясное дело, Зинаида Ивановна не ставила: бабушка, при¬
строив меня к музыке, успокоилась, решив, что теперь, видно, надо
ждать; мама с утра до позднего вечера была на работе, так что о моих
музыкальных успехах знали лишь мы — я и моя учительница. А дома
на вопрос: «Ну как там музыка?» — я непринужденно отвечал: «Все
в порядке».
Не помню точно, какое упражнение мы разучивали с Зинаидой
Ивановной первым. По-моему, это было упражнение № 24, какая-то
МУЗЫКА 25
очень простенькая музыкальная фраза. Нужно было ударить несколь¬
ко раз разными пальцами по клавишам в определенной последователь¬
ности. Выходило упражнение № 24.
Видно, комиссия в музыкальной школе кое-что понимала все-таки:
запомнить на слух упражнение это я никак не мог, поэтому после не¬
скольких сеансов мучений я попробовал запомнить, какими пальцами
куда надо было жать.
Но запомнить это тоже оказалось непросто, что-то я там такое
путал, и Зинаида Ивановна, видно, отчаявшись, велела мне поучиться
писать музыкальные ключи.
— Вот, посмотри,— сказала она и ткнула пальцем в ноты.— Ты,
конечно, знаешь, что такое музыкальный ключ.
Я кивнул.
— Вот и напиши целую страницу ключей.
Придя домой, я быстро написал по памяти страницу ключей в
тетради, чтобы поскорее выбросить из головы эту музыку и заняться
своими делами.
На другой день по дороге к Зинаиде Ивановне мне попался Юрка-
рыжий. Я шел с нотной папкой на веревочке, с довоенной еще папкой,
которую невесть где раскопала бабушка, а Юрка стоял на тротуаре,
пристально, как удав, глядя на меня.
Я сжался весь, готовый к схватке, но Юрка пропустил меня мимо,
не тронув пальцем.
— Ну, музыкант! — крикнул он вслед то ли с удивлением, то ли
с угрозой.— Ну, музыкант!
Трепеща, я пришел к Зинаиде Ивановне. В ее комнате гремела
музыка, соревнуясь с отчаянным мужским голосом. Я остановился
в нерешительности, взявшись за дверную ручку, не зная, входить или
лучше не надо. А рояль гремел так, что, казалось, у него вот-вот стру¬
ны лопнут:
— Мой совет до обручень-я!
— Не цалуй я-го! — орал мужской голос.
— Не цалуй я-го!
— Аха-ха-ха-ха!
— Ха-ха-ха-ха!
Я даже вздрогнул от этого хохота, приоткрыл дверь и увидел, что
у рояля, облокотившись, стоит мужчина с галстуком-бабочкой.
Я сразу подумал, что ему бы больше подошло грузить на пристани
кули с картошкой или молотобойцем работать с такой пунцовой
физиономией, но Зинаида Ивановна не дала мне разглядывать своего
26 АЛЬБЕРТ Л И ХАНОВ
певца, прервала музыку, вышла в коридорчик и, радостно улыбаясь,
будто первый раз меня видела, спросила:
— Ну как ключи?
Я достал из папки тетрадку. Странно всхлипнув, Зинаида Иванов¬
на побежала в комнату, и я услышал, как она кричала там, за дверью,
смеясь:
— Ты смотри, какие ключи!
Урока у нас не было, я ушел переписывать ключи, потому что они
были у меня, целая страница, животиками направо, совсем в другую
сторону.
Возвращаясь домой, я снова увидел Юрку. Он стоял на том же
месте, будто никуда и не уходил.
— Эй, ты,— сказал он мне, когда я поравнялся,— эй, ты, музы¬
кант, сыграй что-нибудь...
Домой я пришел с синяком и с отвратительным настроением,
потому что противопоставить синяку ничего не смог.
* * *
С этих пор начались мои настоящие муки. Каждый раз, когда я
шел на музыку, меня встречал Юрка. Я пробовал изменить маршрут,
ходить другой улицей, но Юрка ждал меня и там, будто у него было
сто глаз.
Он пинал меня — не сильно, нет, легонечко, этак подпинывал,
едва-едва или просто шел сзади, и это было еще хуже. Содрогаясь всей
душой, униженный, запрятав куда-то глубоко в себя собственное
достоинство, я шел, всей спиной ощущая Юрку, каждую минуту
ожидая, что он ударит сзади. Но Юрка не ударял, он шел за мной с
полквартала, потом отставал, и этот момент, когда он останавливался
наконец, я ощущал почти физически.
Вздохнув, не оглядываясь, я прибавлял шагу, и до самых ворот
Зинаиды Ивановны еще было тошно... Каким униженным я чувство¬
вал себя! Все кипело во мне, кулаки сжимались сами собой, скулы
ходили желваками — так ненавидел я Юрку и презирал себя. Герои¬
ческие картины сменялись одна за другой в моем воображении: то
мне казалось, что я знаменитый боксер, и вот мы, уже взрослые, встре¬
чаемся на улице, и я бью его, легонько так бью одной левой прямо в
подбородок, а он катится кубарем от моего хука; то мне виделась
война — я остаюсь подпольщиком в нашем городе, а Юрка, ясное
МУЗЫКА 27
дело, становится предателем, и я мщу ему — не только за себя мщу,
но, конечно, и за себя,— хватаю его темной ночью на улице и веду на
партизанский суд...
Но между видениями я снова оказывался на улице, шагая к Зинаи¬
де Ивановне с этой проклятой музыкальной папкой, и прохожие
толкали меня и возвращали к действительности, к Юрке, которого я
встречу не когда-то там, а который сейчас стоит посреди дороги на
пути домой.
Я стучался в дверь к Зинаиде Ивановне, и новые мучения нава¬
ливались на меня.
Музыкальные ключи кое-как нарисовать мне удалось, но занятие,
пропущенное из-за этого «ха-ха-ха-ха», из-за этого сатаны с бабочкой-
галстуком, немедленно сказалось, я снова забыл, куда каким пальцем
жать в 24-м упражнении.
Зинаида же Ивановна, решив, видно, что она достаточно помаялась
со мной и уж что-что, а 24-е упражнение я должен знать назубок,
заупрямилась, требуя от меня упражнение, и не желала показывать,
куда когда надо нажимать.
Это занятие было переломным в моей музыкальной биографии.
Я пыхтел, обливаясь потом, краснел с макушки до пяток, нажи¬
мал клавиши, лихорадочно пытаясь вспомнить, как это делается, но
рояль издавал какие-то чужеродные звуки, вовсе не напоминавшие
музыку.
В тяжелые минуты всегда приходят какие-то странные, ненужные
мысли. Отчаявшись, опустив руки, я вспомнил вдруг давнее свое виде¬
ние. На сцене, перед толпой народа стою я в черном фраке с гал¬
стучком, как у того «ха-ха-ха-ха», который приходил к Зинаиде Ива¬
новне.
Я глянул вперед, перед собой. В блестящей стенке рояля отражал¬
ся жалкий шпингалет со встрепанными волосами, в залатанной на
локтях курточке и курносый вдобавок...
Мне стало горестно, так горестно, что захотелось не то что зареветь,
завыть волком — протяжно и глухо, от отчаяния, от того, что я такая
безобразная, ни с чем не сравнимая бездарь!
Я сидел перед очами суровой Зинаиды Ивановны, отражаясь жал¬
ким, всклокоченным существом в зеркальной стенке рояля, чувствуя
все свое ничтожество, готовый вдарить кулаком по этим проклятым,
незапоминающимся клавишам, как вдруг Зинаида Ивановна, моя
дальняя родственница, сделала такое, чего я никогда, никогда в жизни
не забуду.
28 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
Краснея лицом, светлея глазами, запахивая потуже халат, она
встала и прошептала, отворачиваясь, искренне возмущаясь:
— Какая бесталанность!
Гнев душил Зинаиду Ивановну. Еще бы, потрачено столько сил,
столько энергии, в конце концов столько родственных чувств — и ни¬
какой отдачи. Полная пустота. Полная неспособность. Не сдержав
себя в минуту гнева, она прошептала этот свой страшный приговор,
и я услышал его, услышал!
Все вскипело во мне. Сначала, отчаявшись, я опустил голову, гото¬
вый вскочить и убежать отсюда, уйти навсегда, чтобы не видеть этого
белозубого оскала открытого рояля. Но уйти — означало сдаться.
Нас было трое в комнате. Зинаида Ивановна, я и рояль. Сумерки
вползли в окна, было безумно тихо, и вдруг — вдруг я почувствовал
себя легким и свободным — будто я, как лягушка-царевна, сбро¬
сил свою лягушечью шкуру и стал другим, совсем другим чело¬
веком.
Мне стало просто и ясно, и как-то особо, со всеми деталями я
увидел все, что было вокруг. Зинаиду Ивановну, и каждое пятно на
ее туго запахнутом халате, и ее красное лицо, и рояль, смеющийся во
весь рот надо мной, и оконный переплет — черный крест на фоне
синеющего неба, и коричневый — именно коричневый! — гор¬
шок на подоконнике с причудливо прогнутым стволиком герани.
Мне почудилось, что я даже слышу терпкий запах гераниевых
листьев.
Я выпрямился, посмотрев на себя в стенку рояля, посмотрев себе
в глаза, и смело положил руки на клавиши. Они прошлись по белым
зубам рояля быстро и непринужденно! Это было упражнение но¬
мер 24!
Я сыграл еще раз, глядя на клавиши, и еще раз — уже не глядя
на них.
Торопливые шаги прозвучали у меня за спиной и умолкли. Шаги
говорили. Я понял, что они не удивлены, нет, они поражены.
А я играл и играл упражнение номер 24.
Молча, ничего не говоря, Зинаида Ивановна взяла меня за руки,
отвела их в сторону и сыграла какую-то новую фразу. Я тотчас по¬
вторил ее. Тогда она сыграла третью, и я опять поразил ее. Я сыг¬
рал все три фразы подряд, сначала упражнение 24, а потом два
новых.
Зинаида Ивановна вздохнула, погладила меня по голове и сказала:
— Вот видишь...
МУЗЫКА 29
Будто я неслух, который долго упрямился, а вот теперь сдался,
уступил. Будто все, что случилось сегодня, давно уже быть могло.
Ничего она не поняла, Зинаида Ивановна.
А я сидел, свесив руки, как знаменитый пианист после долгой
игры, и мне казалось, что меня кто-то вытряхнул. Что внутри у меня
пусто.
Я медленно оделся, взял в руки свою нотную папку и вышел на
улицу. Зинаида Ивановна удивленно глядела мне вслед.
Впереди, где-то по дороге домой, меня ждал Юрка. А двух побед
подряд не бывает. Не осталось у меня на Юрку сил...
Он ткнул меня куда-то в грудь, и хотя было совсем не больно,
слезы застлали улицу, ставшую расплывчатым, мутным пятном.
* * *
Но настает в череде тяжких дней, сплошных неудач и неприятно¬
стей минута, когда вы вдруг улавливаете еле слышные шаги прибли¬
жающихся перемен. Все вокруг по-прежнему — одни неприятности.
Но вы ощущаете, вы наверняка знаете, что скоро, скоро — не сегодня,
так завтра, не завтра, так на той неделе — вдруг случится что-то не¬
вероятное. И вам уже легче. И неприятности, которые по-прежнему
не дают житья, не такие уж неприятности. Вы воспринимаете их как
временные осложнения, как грипп, например, от которого никуда
не денешься, но скоро — вы это знаете наверняка — скоро он прой¬
дет...
Так было и со мной на другой день. После школы опять предстояла
дорога к Зинаиде Ивановне, и Юрка посреди этой дороги, урок музы¬
ки, обратная дорога и вторая встреча с Юркой.
Но в школе, вспоминая время от времени о предстоящем, я не
сжимал кулаки в лютой ненависти к Юрке, не вздрагивал, стыдясь
сам себя. Что-то должно было случиться скоро. Это неизвестное что-то
вселяло в меня столько уверенности и покоя, что даже когда Нинка,
ощутив мой взгляд, опять посмотрела в меня блестящими своими
глазищами, я не отвернулся, как обычно, а принял этот взгляд.
Мне стало тепло отчего-то там, внутри, и чувство ожидания вы¬
росло, окрепло. Нинка посмотрела на меня как-то особенно, и я по¬
нял это.
С того дня, когда мы вдвоем попались на глаза Юрке и он обозвал
меня хахалем, Нинка как бы отодвинулась от меня. Нет, в общем-то
30 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
ничего не случилось, просто она вела себя так же, как до встречи в
музыкальной школе, где она проявила к моей особе ошеломившее
меня внимание.
Да, ничего не случилось, а все-таки случилось.
Не зря же, забыв об уроке, я смотрел часто на Нинку, на ее бант.
Нинка чувствовала мой взгляд, но не вертелась, зная, что я обращаю
на нее внимание, а лишь изредка оборачивалась и взглядывала на
меня, нет, не на меня, а в меня своими черными смородиновыми гла¬
зами.
Я вздрагивал, отворачивался и ждал, тщетно ждал, когда Нйнка,
как тогда, перед музыкальным экзаменом, подойдет ко мне.
Но она не подходила. И я понимал, что музыка, которой я усердно
внимал на уроках Зинаиды Ивановны,— это единственная тропинка,
по которой может подойти ко мне Нина...
А сегодня... сегодня она посмотрела на меня удивительно!
Правда, больше она не взглянула ни разу в мою сторону за весь
день, но это было неважно! Зато все перемены Нинка смеялась и бега¬
ла с девчонками. Это было так непохоже на нее, неприступную класс¬
ную королеву, которой и девчонки-то стеснялись. А на большой пере¬
мене случилось вообще невероятное.
У нас в классе стояло пианино, старенькое и обшарпанное. На
уроках пения мы пели бодрые песни, а пианино, дребезжа, вторило
нам под руками учителя. Иногда кто-нибудь из ребят на переменке
откидывал с шумом крышку и стучал по клавишам или ездил по ним
кулаком. Но это случалось редко, дежурные тотчас хватали «музыкан¬
та» и выдворяли его за дверь.
Когда в большую перемену Нинка села к пианино и открыла
крь!шку, по привычке кто-то из дежурных завопил, но она даже не
повернула головы в его сторону, а девчонки, с которыми она бегала
сегодня, окружили пианино плотным кольцом. Дежурные отступи¬
лись, а Нинка заиграла.
Я помнил, бабушка говорила когда-то, дескать, Нинка играет, но я
подумать не мог, что она умеет так играть! Нет, не чижика-пыжика,
не пресловутое упражнение номер 24 играла Нинка. Старенькое,
обшарпанное пианино стонало всеми струнами, рождая удивительные
звуки. Я не знал, что играет Нинка, но это походило на море. Волны
то накатывались на меня, сверкая брызгами, то отступали, успокаи¬
ваясь, и все это было в музыке.
Девчонки, окружившие Нинку, стояли, открыв рот, замерли при¬
вередливые дежурные, и даже самые шебутные мальчишки не лезли
МУЗЫКА 31
и не орали. Все слушали музыку, и всем, всем, ничего не понимавшим
в ней, она нравилась.
Нинка играла, а волны все катились, и вот море уже бушевало.
Меня будто мороз по коже продрал — стало холодно и торжественно.
Я видел только Нинкин венчик, сделанный из косички, ее корону,
и Нинка, конечно, не смотрела на меня, но я знал, я чувствовал,
что эта удивительная и неожиданная музыка имеет отношение ко
мне.
Волна благодарности к Нинке захлестнула меня, закружила
голову. Мне захотелось сейчас, сию минуту сделать что-нибудь удиви¬
тельное, достойное, рыцарское, чтобы и Нинка поняла мое к ней отно¬
шение, и, как только она встала, перестав играть, я, краснея, подошел
к пианино и одним духом выпалил все, что знал: упражнение номер
24 и два других новых упражнения. Я сыграл их на одном дыхании,
без остановки, и, ясное дело, вышла какая-то мешанина.
Кто-то из мальчишек хлопнул меня по плечу, крикнул в ухо мод¬
ную в четвертом классе присказку: «И ты, брутто, сказало нетто, за¬
вернулось в тару и упало!»
Смешная поговорка, которой я не придавал раньше ровно никакого
значения и вместе со всеми потешался этой забавной нескладухе,
вдруг приобрела для меня особый смысл.
Я зарделся.
Нинка играла хорошую музыку, а у меня вышло так, будто я ее
передразнил своей ерундой. После нее мои упражнения прозвучали
резко и странно и совсем некстати.
Я готов был сгореть со стыда* но все-таки набрался сил и взглянул
на Нинку. Она стояла совсем рядом со мной, а смотрела в сторону.
Туда и смотреть-то нечего было — пустой угол, а она смотрела.
Просто отворачивалась.
Мне стало опять горько.
Протарахтел в коридоре звонок, начался урок, а я все не мог
прийти в себя. Было так хорошо, и вот...
Ах, как клял я себя, как проклинал, какими последними ругал
словами! «И ты, брутто, сказало нетто, завернулось в тару и упало!» —
дурацкая эта прибаутка вертелась в голове, и я представлял сам себе
то брутто, то нетто, которое заворачивается в какую-то тару и падает
с позором. Было тошно. Мне казалось, что все смотрят на меня, и я
сидел, уткнувшись в тетрадь. Наконец мне стало невмоготу, и я под¬
нял голову, чтобы попроситься выйти, спрятаться в уборной, сунуть
там голову под холодный кран. Я поднял голову, и глаза мои сами
32 АЛЬБЕРТ ЛИ ХАНОВ
собой посмотрели на Нинку. Я думал, что увижу опять ее бант, но нет,
я встретился с ее смородинами.
Она смотрела на меня и улыбалась, ничуть не сердясь.
Я повел плечами: тяжкий груз свалился с меня. Я понял, что мне
опять хорошо и что радостное предчувствие доброго возвращается
снова.
Я засмеялся тихонько и вдруг с неожиданной остротой, с лег¬
костью и удивлением, что так долго не мог догадаться о таком простом,
подумал, что ведь я ни в чем, совсем ни в чем не виноват перед Нин¬
кой. Просто она музыкант, а я нет и никогда им не стану.
Да, да, да! Сегодня были две музыки. Нинкина и моя. Какие там
две — одна, Нинкина. То, что бренчал я,— никакая не музыка, и
музыкой никогда не станет. Дело все в том, что музыка не для меня,
и это яснее ясного.
Я припомнил свои муки у Зинаиды Ивановны, тот день преодоле¬
ния, когда я сыграл проклятое упражнение номер 24 и еще два. Каза¬
лось бы, мне не хватало логики. Решиться на это, когда вроде бы теле¬
га сдвинулась с места.
Нет, я не буду учиться музыке. Я не нужен ей. Нинка доказала
сегодня, что музыка — это то, что выбирает человека само. Не человек
выбирает музыку.
Диким напряжением, оскорбленным достоинством я преодолел
музыку у Зинаиды Ивановны. Я собрался, чтобы сыграть, и сыграл.
Но я не сделал ничего, кроме того, что собрался и соединил все, что
я уже умел, уже должен был уметь делать.
Это был первый шаг. Важный, но первый.
Решает все последний шаг. Я сделал второй.
Я улыбался смородиновым Нинкиным глазам и точно знал, что это
она, а не я, будет играть на сцене.
И будет шуметь море. То приливать бешеными волнами, то от¬
ступать, успокаиваясь...
# * *
Вместо музыки в тот день я хотел уйти в кино. В «Иллюзионе»
крутили «Железную маску», и хотя я смотрел ее уже два раза,
замирая от страха, ну что ж, придется смотреть еще раз. Все ре¬
шено!
Великое дело, если человек решил что-нибудь для себя! Решил —
МУЗЫКА 33
и ни в какую, хоть лопни, не переменит своего решения. А если пере¬
менит — грош ему цена.
Но «Железную маску» посмотреть еще мне не удалось. Бабушка
сказала, что она идет по каким-то своим делам и как раз в мою сторо¬
ну, так что мы пойдем вместе. Делать было нечего, я взял папку, и мы
поплелись.
Стояла весна, сугробы походили на губку, из которой текли гряз¬
ные ручейки. Солнце серебрило окна старинных деревянных домов,
на печных трубах и коньках крыш сидели, мурлыча, разномастные
кошки.
Мы шли рядом, и сколько бабушка ни пыталась взять меня за
руку, я никак не давался.
Ах, бабушка! Она никак не хотела увидеть, что четвертый класс —
это не первый, что время идет и люди растут, все люди без исключе¬
ния! А кроме того... Кроме того, это она, она, моя дорогая бабушка,
была виновата в том, что в тот день, когда мы шли на экзамен в музы¬
кальную школу, Юрка увидел меня на постыдном «прицепе» —
бабушка вела меня за руку.
Мы шли в сторону, где жила Зинаида Ивановна, и по дороге нам,
конечно, попался Юрка. Он не задел меня, не рискнул, потому что я
шел не один, только посмотрел на меня презрительно и скривился...
Бабушка зашла со мной к Зинаиде Ивановне, и та похвалила ей
меня за успехи; они поболтали, бабушка ушла, а Зинаида Ивановна
обернулась ко мне, запахивая халат и говоря:
— Ну-с... Ну-с...
Я все стоял, не раздеваясь, с папкой в руке. Сердце мое колотилось.
Я должен был сказать все Зинаиде Ивановне. Сесть к роялю и снова
стучать эти упражнения было бы против совести, против моего реше¬
ния, против второго шага. «Все решает последний шаг,— думал я,—
надо, надо, надо сделать его».
Я набрался духу и сказал, оборачиваясь, глядя в глаза Зинаиде
Ивановне.
— Вы знаете,— сказал я,— вы знаете, я не буду ходить к вам
больше... Ведь из меня же не выйдет музыкант...
— Что ты, что ты! — закричала Зинаида Ивановна.
— Ну, не выйдет! — твердо сказал я.— Вы же сами знаете...
Зинаида Ивановна замахала руками, запричитала что-то, но вдруг
успокоилась.
— Попей тогда чаю,— сказала она и пошла на кухню.
В пальто и с папкой в одной руке я попил чаю. Зинаида Ивановна
34 АЛЬБЕРТ ЛИ ХА НОВ
грустно смотрела на меня и молчала, думая о чем-то своем. Когда я
встал, она вдруг подошла ко мне, погладила по голове и сказала дрог¬
нувшим голосом:
— Я не знала, что ты такой... А я, вот видишь, играю в кино...
Она засморкалась, я внимательно посмотрел на нее. Тогда, в кино¬
театре, когда я увидел ее в первый раз, Зинаида Ивановна походила
на русалку в своем блестящем, чешуйчатом платье. С тех пор я много
раз смотрел на Зинаиду Ивановну. Никакая она была не русалка.
И лицо у нее было нездоровое, дряблое. И на щеках у нее было много
старых, больших веснушек...
Мне стало жалко ее, я торопливо сказал, что буду заходить просто
так... пить чай. Зинаида Ивановна качнула неопределенно головой:
мол, хорошо, но не верю.
Я торопливо выскочил на улицу и в гулкой весенней тишине снова
услышал, как где-то совсем близко слышатся шаги перемен...
Я посмотрел вверх на небо и провалился взглядом в бесконечную
синеву. У неба не было дна, как не было конца у жизни и у всего, что
будет, что придет скоро...
Сердце стучало, голова кружилась, грудь расширяло счастье.
Я шел нараспашку, красный галстук трепыхался на плече, как огонек,
я шагал, ни на секунду не вспомнив о Юрке, как вдруг кто-то взял
меня за рукав.
Я обернулся. Я обернулся и засмеялся.
Это была Нинка. В руке она держала авоську с хлебом. И еще она
улыбалась.
— Ты с музыки? — спросила она, и я кивнул.
— А ты за хлебом ходила? — спросил я, не подумав, что как-то
уж слишком далеко она ушла за хлебом, и теперь кивнула Нинка.
Мы пошли рядом, не зная, что сказать.
Мокрый снег кашицей разъезжался под ногами, текли синие
ручьи, на крышах сидели кошки.
Мы шли, и я ждал, когда что-нибудь скажет Нинка, но она молча¬
ла, а я не знал, что говорить. Но даже вот так, молча, было хорошо
идти рядом с Нинкой. Я шел, улыбаясь, глядясь в лужи, и совсем-
совсем забыл о Юрке. А он стоял, он ждал, он охотился за мной.
Я поднял голову и увидел, как смеются Юркины синие, с рыжими
крапинками глаза. Он смотрел на меня и на Нинку и очень радовался.
Раньше он унижал только меня, и мы знали об этом вдвоем — он и я.
Теперь он унизит меня втройне: перед собой, передо мной и перед
Нинкой!
36 АЛЬБЕРТ ЛИХА НОВ
Юрка подходил ко мне не спеша, сунув руки в карманы пальто,
нагло улыбаясь, а я не трепетал, как раньше, нет.
Мысли, одолевавшие меня, мучившие меня, терзавшие меня столь¬
ко времени, вдруг соединились в последовательную цепь, взялись
как бы за руки, обрели стройность и четкость. В одно мгновение из
мальчишки, который не знал, чего хотел, боялся Юрки, стеснялся
Нинки, разучивал нелюбимые музыкальные упражнения и вообще
жил беспорядочно и неопределенно, я стал человеком, который знал,
что хотел, и знал, что ему делать.
Еще вчера я был рабом музыки. Я мучился, я бился головой в
дверь, не зная, что она никогда не откроется для меня. Сегодня в шко¬
ле я понял, что есть вещи важнее музыки. Например, когда человек
говорит сам себе правду. Пусть эта правда не такая легкая. Но это
важнее музыки. Это заставляет человека быть самим собой. И если
человек сказал сам себе правду один раз, если он сумел сделать это,
он скажет ее себе снова.
И я сказал. Я понял, что, отказавшись от музыки, найдя в себе
силы сделать это, сказав самому себе правду один раз, я скажу ее
снова. Я был рабом музыки. Я перестал быть им. Я был рабом Юрки.
Теперь я ничей не раб.
А Юрка все шел и шел на меня и все ухмылялся нагло, ожидая
легкой, как всегда, победы. Он достал из кармана свой кулак и отвел
его чуть назад.
Мне захотелось закрыть глаза и спрятаться куда-нибудь.
Но я не закрыл глаза и не спрятался.
Я был свободный человек. А рядом со мной была Нинка.
Еще до того, как Юрка отвел для размаха свой кулак, с нена¬
вистью, ослепившей меня, я подскочил к нему и изо всех сил врубил
ему куда-то по верхней губе.
Я думал, он упадет, но Юрка не упал, только сильно качнулся и
отступил.
— Ну-ну,— сказал он только,— ну-ну...
И непонятно было, с угрозой или удивлением сказал он
это...
Я думал, Юрка будет ругаться, и тогда я скажу Нинке, чтобы она
бежала, а сам буду драться с Юркой, сражаться до последнего. Но он
сказал только: «Ну-ну, ну-ну...» — и уступил дорогу.
Меня трясло всего, колотило мелкой дрожью, и Нинка успокаи¬
вала меня. Дойдя до угла, мы обернулись. Юрка все еще стоял на
том же месте, растерянно глядя нам вслед.
МУЗЫКА 37
И тут только я спохватился. Во время драки я бросил нотную
папку.
Она была ни к чему мне теперь, совсем ни к чему. Это упражнение
номер 24 и тетрадка с этими ключами, животиком в другую сторону.
Да, она была ни к чему мне, нотная папка, которую невесть где доста¬
ла бабушка, но я вернулся.
Нинка хотела было остановить меня, но я посмотрел на нее внима¬
тельно и сказал дрожащими губами:
— Пусти!
Она отпустила меня, и я вернулся к Юрке. Я не спеша наклонился
и не спеша взял папку. Потом я повернулся и не спеша пошел к
Нинке.
Юрка не двинулся, не сказал ни слова.
* * *
Когда дома я открыл папку, нотные знаки и ключи — и неправиль¬
ные, брюшком в другую сторону, и правильные, с хорошим брюш¬
ком — расплылись и потекли.
Я подошел к окну и посмотрел на улицу, в самый ее конец, куда
ушла Нинка с авоськой.
Бабушки еще не было.
Бабушка еще должна была прийти.
МАГАЗИН
НЕНАГЛЯДНЫХ
ПОСОБИЙ
МАГАЗИН НЕНАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ 41
Могу биться об заклад: в моем детстве все было не так, как теперь.
И если не понявший меня задаст уточняющий вопрос — лучше или
хуже? — я воскликну, не сомневаясь: лучше! В тысячу, в миллион
раз, и не подумайте, что я занудливый, скрипучий старик, которому
ничего вокруг не нравится, всем он недоволен, только и знает пригова¬
ривает: «А вот раньше, а вот тогда...» Нет, пока что я не старик, и дело
тут совсем в другом.
Дело в том, что в моем детстве действительно все было лучше.
Например, цвело больше одуванчиков — да, да! Теперь они прячутся
куда-то подальше, на дальние лесные поляны, и в городе робко выгля¬
дывают из-за кустов редкими желтыми глазками, а в моем детстве они
росли рядом с тротуарами, рядом с дорогой, и, когда ты шел по город¬
ской улице, тебе казалось, что ты идешь ну просто по солнцу! Желтые
поляны слепили глаза, и надо было щуриться, чтобы не споткнуться
о тротуарину, которая то прогнется дугой, то выдвинется боком, то
завирюхается под ногой от древности. Ранним летом тогда вообще
можно было поправить настроение на улице. Расстроился чем-нибудь,
огорчился — выйди на улицу, когда одуванчики цветут, пройди два
квартала солнечной дорожкой, да еще сверни на пустырь возле шко¬
лы, где одуванчиков море разливанное, и будешь еще вспоминать,
что это такое тебя расстроило, какая неприятность: одуванчики ярким
цветом своим сотрут все в голове, а если уж не сотрут до конца, то
вроде бы неприятности твои отодвинут вдаль, и они окажутся уже
мелкими и нестрашными. Вроде как одуванчики волшебством каким
обладают.
А когда они отцветут? Когда дунет ветер посильней? Праздник
на душе, ей-богу! Несутся по небу тучи — бегучие, летучие. А от зем¬
42 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
ли к тучам взлетают миллиарды парашютиков — настоящая метель;
но как ни силен ветер, он непременно стихнет, и с неба, будто облака
сбросили десант, плавно, медленно в наставшей вдруг тишине летят
назад одуванчиковые парашюты, и тогда хорошо залезть на забор, или
на крышу дровяного сарая, или даже на крышу дома, сесть там на
самый конек и задрать лицо к небу, разглядывая парашютики, встре¬
чая их взглядом и провожая к земле. В такой день ходишь ликующий,
будто это ты сам летал над землей, поглядел на нее сверху. Или увидел
какое-то чудесное чудо, салют, а может, странный дождь, который
сулит впереди тайную радость и исполнение желаний.
В моем детстве было больше воды в нашей старой реке и ее не
рассекали песчаные отмели — это уж всякий подтвердит, даже уче¬
ные. В моем детстве в реке была рыба, клевали на удочку здоровущие
окуни, не то что сейчас, всякая мелкота! В моем детстве было больше
птиц, и почему-то среди всех других — стрижей. Они носились
над крутым берегом реки, над нашим оврагом, а жили под стрехой
поликлиники, которая стояла впритык с нашим домом. Там лю¬
били селиться стремительные птицы, чей полет похож на след мол¬
нии.
По стрижам мы всегда узнавали погоду: если летят понизу, прямо
над твоей головой, с легким шелестом разрезая воздух, значит, к
дождю, а если вьются в бездонной высоте мелкими точками, значит,
к вёдру, можно не опасаться — самая надежная примета.
В моем детстве было много разных важных событий, так не по¬
хожих на сегодняшние, но дело не в непохожести, а в том, что все это
я видел и помню до сих пор.
Видел, хотя мог и не видеть, и помню, хотя мог не помнить.
Почему?
Мне кажется, все дело в фотоаппарате.
* * *
Среди необыкновенностей моего детства был один магазин.
Это был сказочный магазин! Сколько потом я ни ездил, ни ходил,
ни летал по белу свету, я больше не встречал таких магазинов — мо¬
жет, не везло, или, может, их не стало вовсе, а вот в ту военную пору
магазин такой был, и не где-нибудь, а в нашем не бог весть каком
большом городке. До сих пор я ломаю голову: зачем был этот магазин,
почему? Ведь в нем почти не покупали и ничего не продавали.
МАГАЗИН НЕНАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ 43
Взрослых в этом магазине не бывало, единственная публика —
дети. Но какие мы покупатели? Однако я не стану спешить. Прежде
чем войти в магазин, требуется пояснение.
Вот оно.
Читать, и довольно бойко, я научился еще до школы, в детском
саду. Когда настала пора отдавать меня в школу, вышло решение:
принимать детей не в первый класс, а в приготовительный. Тех, кто
учился в таких классах, называли приготовишками. Какой-то де¬
классированный элемент, ни то ни се, ни рыба ни мясо, не детсадовцы,
не школьники. В приготовительных классах больше болтались, чем
учились,— по крайней мере, так высказывались мама и бабушка,
по какой-то такой удивительной женской привычке совершенно не
обращая внимания, что я, как суслик, насторожился и глотаю каждый
их звук, не то что слово.
— И где учителей наберут для этих классов? — размышляла
мама.— Настоящий педагог туда не пойдет, значит, наберут всяких
недоучек.
— Хулиганствовать токо будут,— кивала согласно бабушка.
И всплескивала руками: — Надо же! Чтобы в первый класс попасть,
еще целый год учиться!
Я заволновался: все-таки уже читал довольно бегло да и считал
до полусотни — это в детском-то саду,— и вдруг тебя не пускают
даже в самый первый класс!
Обсуждение, как быть со мной, затянулось надолго. Мне казалось,
родные мои мама и бабушка демонстрируют поразительную нереши¬
тельность. Они будто обмеривали меня, как выловленную рыбу.
А рыба только хлопает хвостом, тяжело шевелит жабрами и мол¬
чит.
— Приготовительный класс не обязателен,— говорила мама,—
но если он не справится с программой первого класса, могут сса¬
дить назад, в приготовительный. Тут уж в детский сад не вер¬
нешься.
— Нашего не ссадят. Пусть попробуют ссадить! — отвечала ба¬
бушка, неизвестно в кого больше веруя, в меня или в себя.— А жалко.
Маленький ведь, худой, гляди — одни кости, пусть подрастет в дет¬
ском саду еще годик.
Я родился в сентябре, и у бабушки с мамой была бюрократиче¬
ская зацепка за этот факт: они могли отдать меня в школу без полу¬
месяца семилетним или почти восьмилетним.
— А зато школу как кончит, сразу в армию,— печалилась мама.
44 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
— Эк куда хватила! — махала ладошкой бабушка. Десять лет ей
казались далью неохватной, немереной, и так далеко загадывать
тогда никому не хотелось: война только началась, и отец совсем не¬
давно ушел на фронт.
Отец ушел, радио говорило тревожным голосом Левитана, школы
переезжали из своих зданий в деревянные бараки и старые дома,
жильцов в квартирах уплотняли: вдруг поздно вечером открывалась
дверь и входила женщина, а то и не одна, с ребеночком, с другим;
в руках женщина держала ордер на уплотнение, и ничего не поде¬
лаешь, приходилось вытаскивать пожитки из одной комнаты в дру¬
гую, если раньше жили в двухкомнатной квартире, а чаще всего из
одного угла комнаты в другой, потому что в двухкомнатных кварти¬
рах до войны редко кто жил, и эвакуированные помещались в той
же комнате, только за занавеской. Ну, а главное — приходили первые
похоронки, и мы, махонькие ребята, уже слыхивали истошный бабий
вой — на одной ноте,— от которого бегут по загривку мурашки и все
в доме замирают с одним суеверным заклинанием: «Только бы нас
обнесло!..»
Самым горьким человеком на нашей улице была почтальонка
Муся. Жила она где-то на другом конце города — я думаю, почтовое
начальство специально так подстраивало, чтобы почтальонка никого
близко на нашей улице не знала,— и появлялась, как молчаливая
серая птица, в одни и те же часы.
Бабушка с утра задергивала занавески в комнате, тревожно по¬
глядывала на ходики, а когда наступал час и на улице появлялась
почтальонка, бабушка подходила к окну, вставала так, чтобы ее не
было видно, а сама она бы видела все, поверх занавески следя за
действиями почтальонки, и минут на пятнадцать замирала — даже
дыхание как будто замедляла. Иногда я становился впереди бабушки,
раздвигал пошире щель между занавесками и тоже смотрел, как, по¬
тупив глаза, быстро идет по улице Муся, подходит к ящикам, бросает
в них газеты и письма, худая, кожа да кости, худенькое пальтецо бол¬
тается на плечах, как на вешалке, красные руки торчат из коротких
рукавов и такой же красный, озябший нос.
Я жалел Мусю, а бабушка ее не любила неизвестно за что и вся¬
кий раз крестилась, облегченно вздыхая, когда почтальонка прохо¬
дила наш дом. Каждое утро бабушка исполняла этот ритуал — зами¬
рала на пятнадцать минут, таясь за занавеской. Потом крестилась,
и жизнь продолжалась.
Моя ученическая судьба решалась в августе сорок первого года,
МАГАЗИН НЕНАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ 45
когда, как я теперь понимаю, от жизни до смерти и от неуверенности
до веры был всего лишь один шаг. Утром бабушка выглядывала из-
за занавески на почтальонку Мусю, страшась самого горького, а вече¬
ром они с мамой рассуждали о таком смешном, но, получалось,
важном — сколько мне будет лет, когда я кончу школу, и какой толк
от приготовительного класса.
Было ли что-нибудь странное в этом?
Было, но только лишь если поглядеть на то время из сегодняш¬
него дня. В ту же пору никто ничего странного не увидел бы. А ежели
кто-то заговорил об этой странности, ему бы ответили: «А что же
делать? Жить-то надо!»
И жили! И я не знаю случаев, чтобы заорали, стали жаловаться,
если вдруг на пороге появлялась женщина с детьми и ордером на
уплотнение. Мирно подвигались и жили. Всякое, наверное, было,
может, кто-то и побежал жаловаться, но ничего у него не вышло,
а если и вышло, то исчезло из памяти, а осталось только это: «Что же
делать, жить-то надо!» И в тесноте надо жить, и в беде тоже надо
жить, и когда почтальонка Муся того и гляди принесет бумажку, от
которой завоет кто-то так, что мурашки по спине...
Бабушка и мама решили меня все-таки в приготовишки не отда¬
вать, пусть я покормлюсь перед школой в детском садике и уж лучше
без полумесяца в восемь лет пойду сразу в первый класс. А чтобы
не ссадили оттуда к приготовишкам — что просто унизительно в во-
семь-то без полумесяца,— надо мне учиться.
И мы с бабушкой начали странные уроки. По дороге в детсад и
из него я считал — уже до сотни! — и читал. Но читать на улице
можно было только вывески.
Дорога с бабушкой из детского сада — утром-то все-таки поспеша¬
ли! — была долгой и забавной, и за эту дорогу много я выучил в ту
пору разных слов, которые бабушка объясняла в силу своих знаний
и пониманий. Вывески были разные, они отличались по цвету, пре¬
имущественно черные и бордовые с белыми или золотыми буква¬
ми, по размерам — от совсем маленьких до длинных и застекленных,
по словам — понятные, написанные полными словами, или сокра¬
щенные, словно засекреченные. Например, «Гортоп». За этой вы¬
веской, во дворе, лежали дрова, возле дров всегда суетился народ,
хотя еще совсем недавно, несколько месяцев назад, до войны, на
дровах всегда дремал сторож в валенках и было тихо, как в глухом
лесу.
Некоторые вывески звучали торжественно и нелепо, особенно зи¬
46 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
мой,— я и зимой читал все те же вывески, их на зиму никто не менял:
«Общество спасения на водах».
Некоторые вывески соединяли в себе слова совершенно уж неве¬
роятные, и, хотя бабушка раскрывала их земной смысл, они так и
оставались для меня обозначением каких-то неземных дел: «Райфо»,
«Райплан», «Районо».
Бабушка поясняла, что за мудреными словами скрываются
районные финансы, районный план и районный отдел народного
образования, но я словечко «рай» воспринимал буквально, и мне ка¬
залось: в доме, на котором висят эти таблички, находятся райские
финансы, райский план и райский отдел народного образования.
Обшарпанный этот дом в густых зарослях мальвы казался мне местом
сказочным, там, на трех невысоких этажах, мне слышалась райская
музыка, необыкновенные цветы, похожие на одуванчики, только не
желтые, а красные, голубые, сиреневые, на длинных ножках, и в этих
цветах лежат пачки совершенно натуральных нашенских денег, ка¬
кие-то чертежи. Как выглядит народное образование, я так и не
придумал за все эти долгие годы, потому что за углом открывался
вид на мой необыкновенный магазин.
— Читай,— подталкивала меня бабушка, но я не спешил испол¬
нить ее команду, а любовался внешним видом моего магазина.
Он был необыкновенным во всем, начиная с входа: у большого
каменного дома как будто обрубили угрл, верхние этажи украшали
фальшивые балкончики, на которые никто никогда не выходил,
а внизу сверкала стеклянная старинная дверь, и я торжественно про¬
износил, даже декламировал:
— Магазин! Учебно! Ненаглядных! Пособий!
— Неужели так трудно хотя бы запомнить! — возмущалась вся¬
кий раз бабушка.— Наглядных! Посмотри на буквы! «На-гляд-ных
по-со-бий»,— читала она по слогам.
И я повторял за дей по-своему:
— Магазин ненаглядных пособий.
Я был упорен в своих взглядах. Однажды по радио пели песню,
где были слова «ненаглядный мой». Я сразу спросил маму, что значит
ненаглядный.
— Ну,— ответила она безразлично,— наглядеться нельзя.
Вот именно! В этом магазине наглядеться нельзя, глаз оторвать
невозможно. Какой же он магазин наглядных пособий? Ненагляд¬
ных!
Это был магазин ненаглядных пособий.
МАГАЗИН НЕНАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ 47
* * *
Ах, как длинны дороги в детстве!
И как сладка первая свобода!
Нынче дорогу от своей бывшей школы до дома я промахиваю за
дюжину минут, не встретив ничего достойного внимания,— магазин
ненаглядных пособий умер, его нет, и тот угол под балкончиками,
которые тоже бесследно исчезли, занимает другой магазин — совер¬
шенно скучный магазин обыкновенных игрушек, битком набитый
заводными машинами, кубиками, куклами, медведями и прочей дре¬
беденью, возле которой не встретишь даже малышей. А тогда, тогда...
Тогда дорога из школы домой занимала час — самое малое. Шесть
с половиной кварталов, длиннейший из которых, не больше двухсот
метров, я одолевал так, как одолевает гурман вкусное пирожное: от¬
кусывая по маленькому кусочку, разжевывая тщательно, жмурясь и
мурлыча от удовольствия и уж потом — совсем-совсем потом — не¬
охотно проглатывая. Кто-то там бежал, спешил по разным неотлож¬
ным делам, а у меня быстро никак не получалось, и время от време¬
ни дома происходили яростные стычки с бабушкой, которая никак
понять не могла, что целый час я просто иду из школы, просто шагаю
и никаких в этот час не совершаю преступлений — не курю с прияте¬
лями, не шатаюсь по рынку, не бегаю по пустырям с мелкими жули¬
ками моего возраста, которых развелось в нашем городе великое мно¬
жество. Нет, не понимала меня бабушка, не понимала, что можно про¬
сто медленно идти, останавливаясь у старых тополей, чтобы послу¬
шать вороний грай, зайти во двор Гортопа и поглядеть, как женщины
грузят на телеги дрова для своих печей, суетясь, оживленно переру¬
гиваясь, а в самые ответственные и спорные мгновения размахивая
какими-то бумагами, полученными, видно, в конторе. Ну а главное,
ведь надо же каждый день обязательно заглянуть в чудесный мага¬
зин!
Я делаю этот проскок в целый год, от детского сада к школе, без¬
жалостно и вполне умышленно листанув дней четыреста, чтобы ско¬
рее приблизиться к моему дорогому магазину. Ибо какое же удоволь¬
ствие и какое наслаждение может испытывать человек, которого на
минуточку, да и то без всякого встречного желания, лишь под напо¬
ром нытья и даже плаксивого хныканья заводит за руку бабушка,
чтобы тут же, брезгливо фыркнув, вытащить обратно?
Нет, нет и нет! С бабушкой — это не магазин, хотя она и водила
меня туда, когда я еще ходил в детсад. Магазин ненаглядных посо¬
48 АЛЬБЕРТ ЛИХА НО В
бий становится чудесным, когда ты на свободе и когда ты один.
И вот через год, в счастливом одиночестве, я ступаю на порог ма¬
газина — все предыдущие сюда заходы, забеги, заскоки недостойны
описания,— потому примерно через год я прикрываю за собой осто¬
рожно стеклянную дверь и счастливо улыбаюсь: наконец-то!
Магазин ненаглядных пособий перегорожен тремя рядами высо¬
ких стеклянных шкафов. У дальней стенки, сделанной тоже из стек¬
лянных отсеков, только поменьше, за прилавком, дремлет седенькая
старушка в коричневом свитере. До старушки я еще доберусь, а пока
медленно, по шажочку, боком двигаюсь вдоль первого, у окна, шкафа.
На полках — в застекленных коробках — ловко пришпилены
сухие бабочки. И какие бабочки — таких я никогда не видал! По¬
лосатая, с глубокой перламутровой каймой вдоль крыльев, ярко-
красная, в точечку, рыжая, с крыльями, оттянутыми вперед, тол¬
стые, как самолеты-бомбовозы, и стремительно-изящные, с прозрач¬
ными крыльями, похожие на планеры, какие в летний полдень висят
над загородным лесом.
В другой коробке жуки — от крохотных, едва заметных бусинок
до страшных огромных носорогов, чемпионов среди жуков. Найди
такого — и можно выменять у мальчишек самую красивую марку,
самопал, счастливую жестку, с которой можно обыграть самого лов¬
кого игрока, или просто-напросто стать знаменитым человеком, когда
ребята показывают на тебя пальцем и говорят между собой довольно
громко, так, что и ты слышишь: «Вот у этого пацана есть жук-носо¬
рог размером с ладонь». Ничего, что в таких разговорах все немно¬
жечко преувеличено, такова слава: она со временем прирастает сама
по себе, без всяких на то усилий.
Вот в этом была особенность чудесного магазина, в этаких всяких
размышлениях. Смотришь на гигантского жука, а в голову сами по
себе, без всякого зова, лезут разнообразные мысли, не связанные
между собой в единое целое, но чрезвычайно важные для любого че¬
ловека.
Вот, например, шкаф с жуками и бабочками соседствует со страш¬
ным, но еще не самым страшным: в больших запаянных сосудах со
спиртом извиваются змеи. Черная, зловещая гадюка, желтая медян¬
ка, еще и еще какие-то. Я не видел в жизни, да не так уж много
и слышал про них — какие в городе змеи и разговоры об этом! — но
даже мертвые, заспиртованные и потому, ясное дело, безопасные тва¬
ри вызывают ужас и отвращение, смешанные, однако, с любопытст¬
вом. Кривясь от брезгливости и собственного страха, я тем не менее
МАГАЗИН НЕНАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ 49
мысленно освобождаю змеюгу из банки, сушу на солнышке и достав¬
ляю в класс, чтобы на перемене, изобразив на лице равнодушие, выта¬
щить эту штуковину на парту, или, еще лучше, кладу потихоньку
в портфель Вовке Крошкину, чтоб он заорал диким голосом, или, во¬
все здорово, Нинке Правдиной, и что было бы тут — представить про¬
сто невозможно...
Откуда возникали во мне такие мысли, я и сейчас понять не могу.
Воинственностью характера я вовсе не отличался, наоборот, не любил
ввязываться во всякие проделки, которых в школе хватало. А вот на¬
рочно змею засунуть в портфель — это мне в голову приходило, и,
надо заметить, не то чтобы иногда, порой, время от времени, а каж¬
дый день, едва я заходил в свой магазин и принимался разгляды¬
вать змей, заспиртованные экспонаты. Думаю, причиной была все же
жажда известности... И откуда она бралась только? Но мне страшно
хотелось этого... Ребята будут показывать на меня пальцем и громко
говорить между собой: «Этот пацан засунул в портфель удава».
Ничего, что опять немножко преувеличено — не удава, а медянку
или, от силы, гадюку, но ничего не попишешь, такова слава.
Рядом со змеями, целый отсек в нижнем шкафу, занимало на¬
стоящее чудо: громадная, с хорошего поросенка, черепаха. Она не на¬
гоняла на меня страха, я приветливо улыбался ей, но концовка все
равно была одна и та же: я еду на живой черепахе, прямо по серед¬
ке улицы, пусть медленно, зато верно — что за беда! — и ребята пока¬
зывают на меня пальцем.
После черепах шли рыбы в стеклянных сосудах, знакомые, виден¬
ные на рынке и дома щука и карась, незнакомые рыбы с красивыми
хвостами и тонкие, как стрелки, и про рыб тоже шла та самая кон¬
цовка. В магазине было много странностей, к которым моя концовка
не подходила, например какие-то личинки в баночках — как ни бил¬
ся, я ничего не мог выдумать с этими личинками,— или сидела в бан¬
ке здоровущая жаба, глядела вокруг немигающими выцветшими гла¬
зами — жабу в класс не принесешь, тут нет никакого геройства.
За жабу могут и высмеять, могут пальцем показывать на тебя со
смехом, еще кличку, не дай бог, придумают: «Эй, жаба!»
В конце первого же шкафа, занимая его сверху донизу, почти
рядом с прилавком и старушкой в коричневом свитере, было самое
страшное и самое привлекающее в этом магазине, но я нарочно отво¬
рачивал взгляд, нарочно откладывал самое страшное на последнее
мгновение, когда уже все осмотрю, все выгляжу до малейших подроб¬
ностей и надо будет выходить,— вот тогда-то, перед уходом, и надо
50 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
внимательно, не спеша, со вкусом, но и с трепетом разглядеть это са-
мое-самое страшное, до которого мы в школе еще не добрались и не¬
известно, когда доберемся, если, конечно, доберемся вообще. Так что
я отводил взор на второй ряд стеклянных шкафов, где хранились
вещи, мне менее понятные, но тем не менее тоже любопытные: пира¬
мида с ровными, удивительно гладко отполированными гранями,
песочные часы разных размеров, большие линейки, по которым можно
чертить разве что на доске, но уж никак не в тетрадке, громадный
учительский циркуль — тоже для черчения на доске,— деревянный,
с острой железкой на одном конце и гнездышком для мелка на дру¬
гом, глобусы двух размеров — большущий, руками не обхватить, и
поменьше. В третьем ряду стояли колбы разнообразных форм, торча¬
ли веером стеклянные трубочки, сияли в коробках, раскрытых для
красоты, разноцветные стеклышки и множество банок — ну точно
как в аптеке,— больших и поменьше, где на наклейках тщательно
написаны иностранные слова. В стенку, возле третьего ряда шкафов,
был вбит громадный гвоздь — даже гвоздь в этом магазине был изуми¬
тельным и невиданным: он выставлялся из стенки сантиметров на
двадцать, не меньше, шляпка у него была с целый пятак. И вот на
этом гвозде висела пачка больших географических карт — а верхняя
прямо-таки излучала красоту, сияя красными, малиновыми, жел¬
тыми, изумрудными, голубыми, еще и еще какими-то цветами, назва¬
ний которых я просто даже не знал.
Ну, вот и все.
За исключением еще двух достопримечательностей — старушки
продавщицы и самого страшного.
Старушка мне нравилась одной особенностью: она все время дре¬
мала. Голова ее совершала однообразное движение: медленно-мед¬
ленно опускалась, а когда безвольно падала совсем, старушка на
мгновение приоткрывала затуманенные дремотой глаза, как-то гордо
вскидывала голову — пока она вскидывала ее, глаза уже закрыва¬
лись,— и голова едва заметными рывками падала снова.
Сколько раз я заходил в магазин ненаглядных пособий, старушка
всегда сидела в коричневом свитере — даже летом, в жару,— всегда
дремала, и по этой причине магазин мне нравился особенно крепко,
потому что во всех других магазинах продавщицы смотрели на тебя,
как змеи, не отрываясь, настороженно, немигающими глазами, точно
стоит им раз моргнуть, как ты, тайный маленький мошенник, тотчас
что-нибудь стянешь. А эта старушка знай дремлет себе, не смотрит
на тебя подозрительно, не боится, что у нее упрут какой-нибудь
52 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
товарец. Это дело понятное: кто на такой товарец позарится, да и
попробуй его вынуть из этих стеклянных запаянных кубов!
Так что я разглядывал старушку, перед тем как посмотреть на
самое страшное, спокойно и внимательно изучал, как у нее падает
голова, открываются глазки, даже не видящие тебя, тут же снова за¬
крываются, голова гордо вздергивается и медленно опускается вновь.
Здорово получалось у старушки, ничего не скажешь! Почти экспо¬
нат! Может, даже ее купит какая-нибудь школа? Вот смеху-то будет!
Ненаглядное пособие — спящая старушка.
Я похихикивал — негромко, чтобы, не дай бог, не разбудить про¬
давщицу, хотя в душе совершенно не верил, что она может проснуть¬
ся. Мне казалось, если даже заколотить школьным звонком у нее пе¬
ред носом — здоровенным таким колокольчиком на деревянной руч¬
ке,— она не проснется, будет все так же поднимать и опускать голову,
как заведенная.
И вот! Наконец! Всякий раз трепыхаясь как воробей! Холодея!
Прижмуривая глаза от страха! Нехотя отрывая взгляд от спящей ста¬
рушки! Я поворачиваюсь к стеклянному кубу прямо возле нее!
И гляжу! Гляжу!
В стеклянном кубе, жутко ощерясь, страшно вглядываясь в тебя
пустыми глазницами, навевая кладбищенский холод, стоит челове¬
ческий скелет. Гребешки распяленных костей вместо пальцев, желтые
палки рук и ног, страшная яма таза, полая труба позвоночника и рас¬
топыренные ребра — кошмар!
Хочется закрыть глаза, выскочить из магазина, но что-то другое,
тайное в тебе велит стоять, внимательно глядеть и не закрывать
глаза, пока не пройдет положенное время. Будто испытание, на¬
значенное тебе и самим собой и не собой, а кем-то другим, хорошо
тебя знающим, ослушаться которого ты не можешь, не имеешь
права.
Я смотрел на скелет минуту, другую, третью, медленно поворачи¬
вался и не спеша выходил из магазина, только там, на улице, снова
ощущая собственное дыхание.
Я не раз замечал: пока смотрю на скелет, жизнь будто замирает
вокруг. Не слышно разговоров на улице, рыка машин, цокота лошади¬
ных копыт. Не слышно даже собственного дыхания.
Через полквартала от магазина я сдерживал свой непривычно то¬
ропливый шаг, вертел головой, убеждаясь, что все вокруг по-преж¬
нему, а через квартал в голову мне лезла все та же дурацкая мысль:
ребята, да что там ребята — взрослые, все подряд, показывают на меня
МАГАЗИН НЕНАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ 53
пальцем и говорят друг дружке: «Представляете, этот пацан купил
скелет в магазине учебно-наглядных пособий!»
Купить скелет! От такой мысли веяло суеверной жутыо, богохуль¬
ством и вообще чем-то недозволенным, опасным, даже стыдным, но
эта мысль неизменно приходила ко мне, правда, не раньше чем за
квартал от магазина ненаглядных пособий,— наверно, это было безо¬
паснее, за квартал.
Купить! Но как, если даже преодолеть суеверие, богохульство,
опасность, стыд и недозволенность? Я ни разу не видел, чтобы ста¬
рушка продавщица проснулась по-настоящему, а значит, ни разу не
видел, чтобы кто-нибудь что-нибудь покупал в этом магазине.
Или мне не везло?
* * *
А теперь промахнем три с лишним года — хорошо, что это можно
сделать, когда думаешь о прошлом: будущее так просто не промах¬
нешь, оно движется день за днем в наше настоящее, с годами убыст¬
ряя свой бег, и ты все чаще возвращаешься к детству — да будет бла¬
гословенно оно! Да живет вечно оно в нашей памяти, счастливо тягу¬
чее время начала жизни...
Итак, через три года, в конце третьего уже класса, как раз по весне,
когда вскрылась река и с шорохом и гулом уплыли вниз по воде рых¬
лые серые льдины, наша Анна Николаевна, опоздав немножко на
урок, привела с собой пацана в кителе с морскими пуговицами.
Эти пуговицы бросились мне в глаза прежде всего. В кителях хо¬
дили почти все офицеры — такая вводилась форма, то ли по причине
военной поры, то ли по причине общей строгости и нужды: вид у ки¬
теля был строгий, шился он легко, а носился просто — знай меняй
воротнички, вот и все.
Но пуговицы! У всех были железные пуговицы со звездочкой, а
у Витьки Борецкого, который вошел в класс вместе с учительницей,
редкостные для нашего сухопутного города чрезвычайно — с якорями.
Анна Николаевна усадила Витьку в конце класса на свободное место
и с минуту, наверное, обозревала пространство поверх наших голов,
явно недовольная своим решением: далеко сидел Борецкий, далеко.
Мы хорошо знали, когда Анна Николаевна была недовольна:
взгляд ее задерживался поверх наших голов дольше обычного, и по¬
рой, когда свет падал определенным образом на ее пенсне, это было
чуточку странновато, потому что глаз учительницы за пенсне не было
54 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
видно, а стеклышки блестели, и казалось, что у нашей доброй Анны
Николаевны огромные стеклянные зрачки. Но в тот миг особый
взгляд был нам непонятен, неясным получалось это блистание стек¬
лышками пенсне и медленное озирание класса. Наконец Анна Нико¬
лаевна проговорила несколько расстроенно:
— У Вити отец — новый начальник пароходства.
Да-а, тут было над чем поразмыслить.
Дело в том, что военное время разделило всех мужчин на две по¬
ловины. На тех, кто воевал, и на тех, кто был в тылу. И фронтовики
с презрением относились к тем, кто оставался дома: еще бы, на войне
погибают, а в тылу как ни трудно, а все равно легче. Если повнима¬
тельней приглядеться, то и сейчас еще живо это неравенство —
иногда справедливое, а иногда и нет, потому что всякому ясно: без
тыла нет фронта и на одних женщин тыл тоже нельзя оставлять,
много тяжкого приходилось на тыл — и голодуха зеленая, и смерть
от дистрофии, и срочная стройка военных заводов без сна и роздыха,
но что поделаешь, так считалось и так считается: кто в тылу, тот
крыса и достоин только презрения, кто на фронте, тот герой, слава
ему и честь. Что у взрослых, то и у ребятни.
Каждый класс и каждая школа делились на две половины — на
тех, у кого отец воюет, и на тех, у кого отец дома.
Детей тыловиков мы презирали, и, как часто это бывает у ребят,
гораздо несправедливей и с большей жестокостью, чем взрослые фрон¬
товики взрослых тыловиков. Детский суд строг и не терпит объясне¬
ний. Любой суд обвинением кончается, а детский из одного обвинения
и состоит.
Так вот, Витьку Борецкого требовалось немедля зачислить в
большую — фронтовую или меньшую — тыловую часть класса, и по
всем строгим правилам детского суда попадал он в явные тыловики,
но вот якоря на пуговицах и должность отца — начальник пароход¬
ства! — сильно смущали. И не только меня.
Якоря, в моем представлении, даже речные, всегда дело серьезное,
почти военное. А флот пуще того. Город наш стоял на реке не очень
великой да широкой, но все же судоходной, и хотя он был также
серьезным железнодорожным узлом и поездов, в том числе военных,
ого-го сколько у нас проходило, паровозы и железнодорожники, даже
военные железнодорожники, почему-то нашим уважением, как реч¬
ные судоходы, не пользовались. То ли потому, что все же речники,
как и моряки, в бескозырках, то ли потому, что их во много раз мень¬
ше, чем железнодорожникор, то ли потому, что пароход, как ни крути,
МАГАЗИН НЕНАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ 55
посложней паровоза, все-таки не по рельсам ходит, им управлять
надо, чтобы на мель не сел,— словом, полувоенные речники при чер¬
ных морских бушлатах имели в нашем городе особые привилегии
и если не были фронтовиками в полном смысле, то как бы приближа¬
лись к ним. Впрочем, может, это было лишь мальчишеским ощуще¬
нием, которое вовсе не передавалось взрослым?
Так или иначе, но Витька Борецкий просидел в классе тихо дня
три, так и не определенный ни в какой лагерь. Сидел себе на пред¬
последней парте, посверкивал завидными пуговицами с якорями, был
тих и аккуратен, тянул руку, если хотел сказать или спросить, в об¬
щем, был образцовым пай-мальчиком, совершенно не похожим на
нашу шумливую братию, с шумливостью которой и вовсе не образ¬
цовым поведением Анна Николаевна давно уже смирилась. Откуда
только такой приехал?
В общем, ЧП, в которое влип Витька Борецкий, произошло только
лишь по причине его поразительной дисциплинированности. Я было
подумал: уже не морской ли? Но тут же отмахнул в сторону свое
предположение — нет, не морской.
Итак, был урок рисования.
Анна Николаевна, я думаю, пользовалась нашей особой любовью
еще и потому, что не скрывала своего неравного отношения к пред¬
метам. Математику и русский она почитала и это почитание всячески
внушала нам.
— Тот, кто некрасиво, а пуще того, неграмотно пишет,— торжест¬
венно провозглашала она,— цустой человек, потому что письмо си-
речь развитие мысли.
Анна Николаевна училась очень давно, может, даже до револю¬
ции, и любила старинные слова, которые нам непременно разъясняла.
Поэтому мы знали, что слово «сиречь» равно слову «есть».
— Вам жить в будущем,— говорила убежденно Анна Николаев¬
на,— а без математики там шагу не ступить.
И мы налегали на математику кто как мог, чтобы не оказаться
дураками в неизвестном и непонятном будущем.
Ну а про рисование Анна Николаевна ничего не говорила. И про
пение тоже. Нет, сказать плохое про эти предметы она себе не могла
позволить — тоже словечки из ее разговоров. Но как бы мимоходом
принизить их — это она могла.
— Ах,— говорила рассеянно Анна Николаевна,— сейчас, ка¬
жется, опять пение. Ну что же, споем, на чем мы там останови¬
лись?
56 АЛЬБЕРТ ЛИ ХА НОВ
И мы пели песню под ее неверный аккомпанемент на обшарпанном
пианино, причем в отличие от других предметов учительница не пово¬
рачивалась к нам, когда кто-нибудь нарочно выдавал пискливую но¬
ту, громко хрюкал или звонко хлопал ладонью по макушке соседа,
сводя счеты, не разрешенные на перемене. Анна Николаевна нале¬
гала на слова, не особенно упирая на музыку, и наше исполнение и
отметки по пению тоже ставила за слова.
Когда наступал урок рисования, Анна Николаевна была еще не¬
аккуратнее, даже иногда проговаривалась.
— Может, вместо рисования попишем диктант? — наивно спра¬
шивала она, конечно же, не нас, а сама себя. И как бы утверждала эту
мысль весомым аргументом: — Репиных из вас все равно не выйдет!
И нередко мы действительно вместо рисования писали диктант
или решали задачи, но самым любимым приемом Анны Николаевны
был такой — большинство все-таки рисовало бутылку, или черниль¬
ницу, или две книги, живописно поставленные одна на другую, а те,
кого учительница считала если не вполне пустыми людьми, но и не
вполне полными, решали задачу или писали изложение.
На сей раз выпал как раз такой урок. Кто-то глубокомысленно
ковырял в носу и загибал пальцы — решал задачу, кто-то, свесив на¬
бок язык, старательно скрипел пером, а кто-то одним простым каран¬
дашом изображал сложную комбинацию из пустого стакана и книги
Гоголя, которую Анна Николаевна поставила боком, но по рассеян¬
ности вниз головой, и теперь слово «Гоголь» приходилось рисовать
вниз головой — получились смешные палочки, и над классом — то
в одном ряду, то в другом — повисали смешки.
Урок шел к концу, Анна Николаевна принялась ставить отметки
за рисунки, возле нее собрался такой барьерчик из народа, и тут Вить¬
ка Борецкий поднял руку на своей предпоследней парте. Ему бы
встать и запросто подойти к Анне Николаевне или громко сказать:
«Можно выйти?», а он сидел на своей парте, вирюхал коленками —
ясно было, куда дело клонится,— но дисциплинированно держал ру¬
ку, да еще локотком на парте.
Нашлись люди, хихикнули над ним, но разве Анна Николаев¬
на поймет в такой суматохе, кто там над кем хихикнул? Была бы
математика или русский — другое дело. А тут рисование, она и
внимания не обращает, что где творится. Я даже громко сказал
Витьке:
— Ты встань и скажи! Она не видит!
Витька покосил на меня коричневым жалостным глазом, но не по-
МАГАЗИН НЕНАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ 57
слушался — вот до чего дисциплинированный, тут-то я и подумал
про морскую дисциплину.
И вдруг раздался громкий свист. Здесь уж Анна Николаевна не
могла не подняться со своего стула. Она грозно поглядела в сторону
предпоследней парты, а обалдуй Мешков, с которым сидел Борец¬
кий, по-прежнему свистел и медленно, даже оторопело, отъезжал
по скамейке от Витьки, пока не упал — нарочно, конечно,—
с нее.
— Мешко-о-ов! — протянула Анна Николаевна, уставшая бороть¬
ся с Мешковым.— Ну что еще там?
А Мешков поднялся с пола и нахальным голосом, заранее зная,
что его оправдают, проговорил:
— Он тут описался!
Все смотрели на Борецкого. Витька был пунцового цвета. И мед¬
ленно поднимался. Под морячком, в выемке скамьи, которая делается,
чтобы удобней сидеть, была сырость.
Что тут случилось!
Крики, стоны, хохот, девчачьи ахи и охи!
Анна Николаевна колотила по столу книгой Гоголя, разрушив
стройную художественную композицию. Она всегда внушала нам,
что к книгам надо относиться свято, а тут громко колотила корешком
Гоголя по столу, но не произносила ни слова.
И лицо у нее было странное. Какое-то дрожащее.
* * *
Ах, как легко попасть в нечаянное положение и как трудно, неимо¬
верно трудно выбраться из него, когда тебе от роду лет десять. Я легко
представляю, как мучился и страдал Витька Борецкий.
Тотчас после позорного эпизода Анна Николаевна отправила его
домой, а наутро он не пришел в школу и не появлялся целую неделю.
Можно вообразить, какой бой он выдерживал дома. Родители —
а отец все-таки начальник пароходства, командует всеми парохода¬
ми — уговаривают и даже ругают, может, вполне вероятно, приме¬
няют грубую силу с помощью широкого морского ремня. Я однажды
видел такой ремень на матросе, он продавал башмаки возле рынка,
топтался неловко, маленький, красноносый, вовсе не похожий на реч¬
ника, но ремень у него был что ни на есть боевой — широкий, с латун¬
ной бляхой, откуда прямо-таки вылезает выпуклый якорь.
58 АЛЬБЕРТ ЛИХА НО В
Так вот, ясное дело, Витьку дома уговаривают идти в школу, а он
упирается, и, хотя родители уверены, что они кругом правы, Витька
поступает мудро: именно неделю надо пропустить и никак не мень¬
ше, только через неделю, и то самое малое, утихают в школе страсти
после подобных нечаянных ЧП, становятся историей, теряющей ин¬
терес. К тому же Анна Николаевна постаралась. Через день она ска¬
зала нам, что Витька серьезно заболел, и, хотя это была педагоги¬
ческая хитрость, а грубо говоря — вранье, цели своей хитрость до¬
стигла: девчонки во главе с Нинкой Правдиной стали вслух жалеть
Витьку и обалдуя Мешкова громко стали кликать дураком («Этот
дурак!» — выражались они пренебрежительно), а всех осталь¬
ных, кто фыркал при упоминании Борецкого, обзывали бессовест¬
ными.
Потом Анна Николаевна целых пять минут выделила из урока
русского языка, чтобы объяснить нам такую истину:
— Самый недостойный и пустой человек тот, кто смеется над дру¬
гим, особенно если другой попал в беду. И самый достойный чело¬
век — это тот, кто умеет посмеяться над собой.
И еще несколько фраз в том же роде, и совершенно конкретное
указание: если Борецкий вернется в класс, все должны показать ему,
что ничего не случилось, если, конечно, мы благородные люди. Надо
заметить, что на вторую часть рекомендации никто, кажется, не об¬
ратил внимания, а вот на первую обратили все. Значит, Витька может
вообще не вернуться? Дело серьезное. Выходит, переживает не на
шутку. А раз человек переживает, он достоин ну не уважения, так
снисхождения, что и говорить!
Теперь о последней мысли Анны Николаевны. О благо¬
родстве.
Не хочу сказать, что его мало или вовсе нет в ребячьем племени.
Напротив. Но когда речь о темах не то чтобы скользких, а неверных,
что ли, некоторые не могут устоять. Дают слабину, а уж тут не при¬
кажешь, не упрекнешь. Тут уж дело внутренних тормозов — скажем
так.
Ну, у Мешкова их отроду не было, этих внутренних тормозов, на
то он и Мешок. Так что, когда Борецкий пришел, наконец, в класс,
этот обалдуй выскочил из-за парты и, дергая брезгливо носом, уселся
на свободное место в последнем ряду. Это была уж не слабина, а чистое
негодяйство. Я видел, как Борецкий задрожал, повесил голову,
смотрел прямо в парту и боялся поднять глаза, чтобы не увидеть еще
чего-нибудь такого же.
МАГАЗИН НЕНАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ 59
Разглядывая в этот миг Витьку, я ни к селу ни к городу подумал
вдруг о том, что, будь у меня с собой гадюка из магазина учебно¬
ненаглядных пособий, я ни за что бы не сумел подсунуть ее сейчас
Борецкому. Но с большим удовольствием сунул бы за шиворот обал¬
дую Мешкову. Потом, неторопливо представив себе, как Мешок
заорет, точно зарезанный, я неожиданно для себя вытащил из парты
портфель и пересел к Борецкому. Он был словно конь, этот Витька.
Не посмотрел на меня, а лишь покосил благодарно коричневым гла¬
зом — совсем по-лошадиному, вот чудак.
Зато Вовка Крошкин, от которого я ушел, мой верный, старинный
друг с первого класса, хлопал глазами и таращился на меня. Мне
стало нехорошо. Я выполз из-за своей парты, не сказав ничего Вовке,
не предупредив его, да что там, даже ведь для себя нечаянно, но поди-
ка объясни это сейчас, когда уже ушел.
Да, это выглядело предательством по отношению к Вовке, самым
натуральным и совершенно необъяснимым предательством.
Но дело было сделано. Я сидел с Борецким и боялся, как бы
Вовка не показал на меня пальцем когда-нибудь в коридоре при на¬
роде из других, не знающих, в чем дело, классов и не сказал бы:
«Этот пацан — предатель!»
Но вышло совсем по-другому, хотя и не лучше. Анна Николаевна
уцепила меня на перемене за локоть и шепнула:
— Ты благородный человек.
Я мгновенно вспотел от неожиданности, наверно, еще и рот при¬
открыл, но учительница уже исчезла, а я вдогонку ей запоздало по¬
думал: «При чем тут благородство?»
Благородство тут было ни при чем, ясное дело, просто так полу¬
чилось. И вышло совсем даже нехорошо. Вовка Крошкин никак не
исчезал у меня из головы: ни за что обидел человека.
Я как в воду глядел.
После уроков мы с Борецким вышли из школы вместе. Я хо¬
тел пойти с Вовкой, но он куда-то запропастился, и, когда за нами
хлопнула тяжелая школьная дверь, я понял, что он запропастился
не зря.
Вовка Крошкин стоял среди ребят из соседнего класса, стоял
спиной к нам, но когда мы с Витькой поравнялись с ним, Вовка сказал
деревянным каким-то, не своим, а вражеским голосом:
— Вот этот пацан прямо на уроке обо...
Даже я вздрогнул от Вовкиной непонятной жестокости, а Витька
опустил плечи, прошел еще шагов пять и побежал.
60 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
Я повернулся к Вовке и вспомнил Анну Николаевну. Нет, она не
права, никакого благородства нет в том, что я пересел к Борецкому.
Мне, наверное, просто жалко его стало, вот и все, а вот Вовка, этот
да, Вовка поступал неблагородно.
Я хотел подойти к нему и сказать ему что-нибудь, сказать хотя
бы с выражением: «Эх ты!», но Вовка мельком взглянул на меня
и опять отвернулся к ребятам. Не стану же я унижаться перед
ним.
Дорога домой была, как всегда, долгой — мимо тополей с вороньим
граем, Гортопа, Райфо, Райплана и Районо с райской, наверное, му¬
зыкой и цветами там, в обшарпанном доме. Я неспешно приближался
к магазину ненаглядных пособий, думая о Витьке Борецком, о Вовке
Крошкине, думая о том, как легко было Витьке попасть в нечаянное
свое положение и как трудно теперь выбираться из него, думая
о жестокости моего старинного друга Вовки, который мстил мне,
унижая Витьку, и о том, что слава, увы, бывает разной.
Есть слава, возвышающая тебя, когда говорят: «Глядите, этот па¬
цан раздобыл настоящий скелет!» И есть слава, тебя унижающая,
как сегодня: «Вот этот пацан прямо на уроке обо...»
И хоть жестокая эта слава принадлежала не мне, я думал о ней
снова и снова, жалея несчастного моряка.
* * *
Как-то неумело и неловко сходились мы с Витькой Борецким под
презрительным и строгим взглядом Вовки Крошкина. Я молчал от не¬
ловкости и какой-то дурацкой опаски, а Витька не навязывался, все
еще с трудом одолевая неприятность, в которую попал. Да еще его
дурацкая дисциплинированность! На уроках он образцово-вниматель¬
ный, с таким не поболтаешь, не отвлечешься, и вроде по всему выхо¬
дило, учиться я из-за такого соседа должен бы лучше, но не тут-то
было. Витька плохо писал, а я, дурила, вместо того чтобы жить
своим умом, проверял свои действия в Витькиной тетради. Писал себе
грамотно рядом с Вовкой Крошкиным, никуда не заглядывал, а сел
к Витьке и стал у него проверять.
Мы тогда диктанты все писали на мягкие знаки. Где и когда с мяг¬
ким знаком слова пишутся, а где — без. Сперва я хотел слова «смеют¬
ся» и «стараются» написать без мягкого знака, но заглянул к Витьке
и написал — «смеються» и «стараються». Анна Николаевна, проверив
МАГАЗИН НЕНАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ 61
тетради, жутковато засверкала стеклышками пенсне в нашу сторону,
и я сразу понял: оставит после уроков.
После уроков Анна Николаевна пересадила нас на первую парту
и целый час диктовала всякие слова с мягким знаком. Я старался
к Витьке не заглядывать, но все же раза три заглянул и сделал три
ошибки. Витька это засек и сказал мне:
— Ты ко мне в тетрадь не смотри. Я ведь серб!
Я первый раз видел серба, но все равно удивился:
— А это при чем?
— Никак привыкнуть не могу к мягким знакам!
Но Витькино признание, что он серб и поэтому не может привык¬
нуть к мягким знакам, сильного впечатления на меня все-таки не про¬
извело. Потому что сильное впечатление Витька произвел на меня
чуточку раньше.
Когда мы вышли на улицу, он спросил:
— Хочешь, я тебя сфотографирую?
Фотографировали в специальной мастерской, у нее было даже
красивое нерусское название — ателье, и я не раз бывал там, правда,
еще до школы, маленьким, и, надо сказать, всякий раз прилично
волновался.
Бабушка и мама наряжали меня, как на праздник, вели с собой
в это ателье, где была стеклянная крыша, и недовольный дядька
усаживал меня на стул, уходил к фотоаппарату на треноге — с аппа¬
рата свисал черный платок, дядька укрывался им, потом быстро шел
ко мне, хватал за лицо руками и заставлял всяко неудобно поворачи¬
ваться, а у меня, как назло, подбородок опускался, и он подбегал снова
и опять вздергивал мою голову, так что уже хотелось не фотографи¬
роваться, а реветь. Потом фальшиво-притворным голосом дядька
говорил:
— Мальчик, смотри сюда и не шевелись, сейчас птичка вылетит.
Но никакая птичка не вылетала, и я уходил из ателье изнуренным
и расстроенным.
И все ради чего? Ради того, чтобы через неделю бабушка, ликуя,
выложила на стол карточки, где у меня какое-то фанерное, испуган¬
ное лицо, будто меня со всех сторон скрутили веревками и заставили
при этом улыбаться.
Единственное серьезное начало было во всей этой затее, единст¬
венное достойное понимания: карточка посылалась отцу на фронт.
А отец однажды взамен прислал свою: сидит на колесе пушки в пило-
точке и улыбается.
62 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
Это одно оправдывало муки.
И вдруг Витька говорит про фотографирование.
Я насторожился.
— Как это? — спросил, не понимая.
Витька улыбнулся, поняв, что ли, меня. Он положил на землю
портфель, покопался в его глубине и вынул блестящую пластмассо¬
вую штучку, похожую на лягушку. Штучка помещалась на Витьки-
ной ладони, взблескивала под солнцем стеклянным носиком и лаки¬
рованными бочками.
— Что это? — удивился я. Штуковина никак не походила на
чудовище в ателье, раскорячившее три деревянные, грубые но¬
жищи.
— Аппарат «Лилипут»,— проговорил Витька, и я услышал в его
голосе некое превосходство над моей темнотой.— Становись,— при¬
казывал он, и я послушно пошевеливался, уже безоговорочно подчи¬
ненный его воле.— Вот так, чтобы виднелась школа. Не жмурься от
солнца. Внимание! Снимаю!
Я затаил дыхание, как в ателье, но Витька чем-то негромко щелк¬
нул и уже протягивал аппарат мне:
— Теперь валяй ты. Сюда смотри. А сюда нажимай.
— Я? — Глуповатым хихиканьем я прикрывал растерян¬
ность.
Витька предлагал мне что-то небывалое, какого никогда еще в
жизни не случалось со мной. Сфотографировать? Его? Мне? Нажать
на этот рычажок? А сперва посмотреть в это окошечко?
Я бросил портфель в кучу пожухлых листьев. Схватил аппарат,
приставил палец к рычажку и взглянул в окошечко. Витька торчал
там совсем маленький, и школа уменьшилась в двадцать раз, но все
было видно очень хорошо. Я затаил дыхание и нажал на рычажок.
Что-то щелкнуло. А Витька уже кричал мне:
— Сегодня проявим и сегодня же напечатаем. Я попропу отца,
он нам поможет.
Я кивал каждому слову, совершенно не понимая их — проявим,
напечатаем, как это? — и наверное, на моем лице блуждала такая
неуверенная тупость, что Витька вдруг примолк, внимательно погля¬
дел на меня и попробовал вернуть к действительности той самой
фразой:
— Ты ко мне в тетрадь не смотри. Я ведь серб.
Он серб и не мог привыкнуть к мягким знакам, а я мог писать без
ошибок, но не мог привыкнуть к фотоаппарату.
МАГАЗИН НЕНАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ 63
* « *
Это было только начало, кто бы знал! Блестящий лакированный
«Лилипут» со сверкающим глазком линзы посреди толстенького
пластмассового животика был даже не самым интересным в этом
деле!
Самое замечательное началось под вечер, после обеда — первого
моего обеда в гостях, когда я в гости пришел не с мамой и бабушкой,
а один и когда вернулся с работы Витькин отец.
Но до вечера, до самого главного, произошло множество других со¬
бытий, может, и не таких важных, но, безусловно, выдающихся, кото¬
рые создавали в моих глазах вокруг Витьки Борецкого ореол необык¬
новенности.
Начать хотя бы с того, что Витька жил на барже.
Рядом с дебаркадером, куда швартовались пароходы, только выше
по течению, стояла черно-коричневая баржа. Мы приблизились к ней
и по узкому трапу перешли полоску воды между берегом и бортом.
Дальше была обычная дверь, обычная комната, с кроватью, шкафом
и кушеткой. Единственное отличие от обыкновенного дома — два кро¬
хотных окна и дрожащие солнечные блики на потолке, отраженные
не стеклышком, не консервной банкой, а водой и потому бегущие,
шевелящиеся, живые.
Витька бросил портфель, положил фотоаппарат, велел и мне
освободиться от своего груза, и мы выскочили обратно на палубу.
Вдоль нее на веревке полоскались наволочки и подштанники, судно
было явно не боевое, но это ничуть не оскорбило моего радостного вол¬
нения. Витька подвел меня к борту, и я увидел две лодки на цепях —
большую и поменьше.
— Это мой ялик! — кивнул он на маленькую.
Его! Собственная! И слово он применил мной еще не слыханное.
Ну, про*лодку я знал, понимал, что такое плоскодонка, читал про
шлюпку, но ялик? Витька подтянул лодку за цепь, расковал весла,
как-то лихо, по-морскому, наступил ногой на нос ялика и приказал
мне:
— Садись на весла!
Я добрался до лавки, укрепил весла, и Витька прыгнул в лодку,
отчего нос резко приопустился. Ему бы надо сесть на корму, уже по¬
том соображал я, но в тот миг я отчаянно и радостно принялся буро-
вить воду веслами.
Будем откровенны: я первый раз в жизни сел за весла, был, так
МАГАЗИН НЕНАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ 65
сказать, человеком совершенно сухопутным, а Витька, выросший воз¬
ле реки, даже не подозревал об этом.
Все заняло какие-то мгновения. Течение возле баржи оказалось
сильным, гребец неловким, и струя, подхватив легкое суденышко,
понесла нас вниз, к дебаркадеру, возле которого, отдуваясь, шварто¬
вался колесный пароход. Ялик стоял носом против течения, и я видел,
как мы приближаемся кормой к пароходу, к огромным красным пли¬
цам его колеса. Я старался изо всех сил, даже привстал чуточку,
когда делал гребки, но весла чиркали воду, то одно, то другое весло
срывалось, стуча о борт лодки, и мы сплавлялись ближе к пароходу.
Все во мне заледенело, как это бывает с людьми в решающую ми¬
нуту,— от этого леденящего гипноза, оцепенения, страха и гибнет
чаще всего тот, кто мог бы спастись, будь он чуточку увереннее в себе.
С парохода крикнули:
— Эй, пацаны, куда вас прет!
— Иди на корму! — крикнул мне Витька и цепким, морским
каким-то скачком, на полусогнутых ногах, оказался передо мной.
Я сидел по-прежнему окаменелый.
— На корму! — приказал он.
Я послушно поднялся, ялик отчаянно закачался с борта на борт,
прихлебывая речной водицы.
— Согни ноги! — крикнул Витька и подтолкнул меня к корме.
Едва удержавшись в лодке, я рухнул на колени и ткнулся подбо¬
родком о корму. Рядом слышался мерный плеск, я обернулся. Витька
отгребал в сторону, а возле нас медленно проворачивалось огромное
колесо с ярко-красными поперечинами лопастей.
Витькино лицо не выражало ни страха, ни отчаяния, ни злобы ко
мне. Он просто трудился, откидывал весла, загребал ими воду, снова
откидывал и снова загребал, напрягая руки, грудь и живот, и я пора¬
зился неожиданной мысли: как мог он сконфузиться в спокойном
классе, этот парень, который не растерялся на неверной, зыбкой и
опасной воде?
Только потому, что здесь у него был опыт? Но какой такой опыт
требовался в классе? Выходила явная ерунда, какая-то чепуховина,
концы не сходились с концами, одно не вытекало из другого, я не на¬
ходил связи, терялся и ничего не понимал.
Впрочем, не понимал по своей естественной неопытности. В жизни
вообще часто одно не вытекает из другого и не сходятся концы с кон¬
цами. Логике не все подчиняется в мире человеческих поступков,
и еще не раз я увижу, как тот, кто считался всеми героем, оказывает-
66 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
с я трусом, а тот, кто считался слабым, оказывался сильным. В общем,
бывают задачки, где результат не сходится с ответом, которого ждут.
И правильность решений как раз вот в этом — в том, что не сходится.
А Витька вывел ялик на тихую воду, бросил, ни слова не говоря,
весла и пересел обратно на нос.
Я ничего не спросил, но, видно, лицо мое изображало такой во¬
прос, что он засмеялся и сказал:
— Ну, греби!
Мы плыли по тихой воде, и Витька учил меня, как опускать весла
в воду, как закидывать их вперед до предела, а потом, не заталкивая
в глубину, вести назад, помогая рукам всем туловищем.
Обратно, к барже, я подгребал сам, спокойно и уверенно пройдя
стремнину, и Витька, заковав свой ялик цепями, весело подмигнул
мне.
Я радостно рассмеялся. Ладошки у меня вспухли прозрачными
пузырьками, спина и руки болели, но я был счастлив, потому что на¬
учился полезному делу.
А самое интересное только еще приближалось.
* * *
Это было настоящее таинство! Торжественный, невиданный, даже
чуточку пугающий ритуал! Особые, неслыханные дотоле слова!
Хриплым, прокуренным голосом начальник пароходства, тощий,
как плоскодонка, с носом, похожим на руль корабля, в кителе с непо¬
нятными нашивками на рукаве, спрашивал строго Витьку:
— Какая у пленки чувствительность?
Борецкий произносил в ответ таинственные цифры.
— Бачка у нас нет,— говорил ему отец,— это тебе известно?
Витька деловито кивал, и отец, разделяя слова, а оттого произнося
их как бы торжественно, продолжал:
— Ну ничего! Чувствительность невысокая! Можно проявить при
красном свете!
Витька притащил красный фонарь, расставил такие пластмассо¬
вые коробки, они назывались кюветки, и принялся растворять
какие-то порошки разных цветов, а я внимал происходящему, ни
шиша не понимая, как последний тупица.
Вроде бы я во многом разбирался на третьем году школьной жиз¬
ни! Уж по крайней мере, вел себя уверенно в любых обстоятельствах,
МАГАЗИН НЕНАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ 67
как мне казалось. Представить себе не мог, что могу выглядеть про¬
стофилей. А вот выглядел. И даже дважды в один день: сперва не
умел грести, теперь ничего не смыслил в фотографии. Единственные
понятные вещи говорила грубым мужским голосом Витькина мать.
Она курила, сидела на табуретке и спрашивала:
— Тряпку руки вытирать взяли? А то опять Виктор насажает
пятен на брюки! А температуру воды замерили? А окна не надо за¬
навесить?
Оказалось, что и окна надо занавесить, и смерить температуру
воды, и взять тряпицу для рук, и приготовить пинцет («зачем?» —
поражался я), развести фиксаж («что это такое?») и, наконец, по¬
гасить свет.
На столе, при свете красного фонаря, таинственно чернели в
кюветках три жидкости — проявитель, вода и фиксаж. Витькин отец
взял «Лилипут», раскрыл его и вынул недлинный кусок пленки. Она
казалась белой при красном свете. Потом он опустил ее в проявитель
и уступил нам с Витькой место:
— Смотрите!
Витька подтянул меня к столу за рукав. Я затаил дыхание. Бо¬
рецкий уверенно взялся за край пластмассовой ванночки и стал мед¬
ленно, даже торжественно покачивать ее. Пленка в жидкости изги¬
балась, вылезала из ванночки, и тогда Витька топил ее, аккуратно
прикасаясь пальцами к краешкам. Настало долгое ожидание. Про¬
явитель в ванночке тихо всплескивал, и я почувствовал, что комната
неторопливо, как бы в такт ванночке, покачивается и где-то слышен
негромкий плеск. Это покачивалась баржа на воде, и непривычное,
едва уловимое колебание ее окончательно превращало таинство при
красном фонаре в какое-то возвышенное действие, которое обещает
счастливую и нечаянную радость.
— Коля,— спросила меня в самый неподходящий момент Вить¬
кина мать,— а тебя дома не потеряют? Ведь уже поздно!
— Нет! — воскликнул я, отмахиваясь от тревожного вопроса и
не желая думать ни о чем, кроме их счастливых колебаний — баржи
и ванночки.
Там, в гуще проявочной жидкости, на белой полосе пленки начи¬
нали возникать сероватые линии. Они становились все четче. Уже
можно разглядеть окна, забавные смешные окна, в которых черно,
зато переплеты белые — все наоборот. А вот чье-то лицо — откуда-то
взялся негр с белыми, как у вареной рыбы, глазами. Рядом белые
кусты, белое дерево.
68 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
— Почему-то,— шепнул я,— все наоборот?
Витька не засмеялся, а торжественно, как заклинание, произнес
еще одно незнакомое мне слово:
— Негатив!
— Аха, понятно,— выдохнул я, ничего не понимая.
Расстояние между мной и Витькой возрастало с каждым мигом.
Рядом со мной был не обыкновенный одноклассник, к тому же еще и
презираемый кое-кем за свой необъяснимый конфуз, а человек, кото¬
рый умел грести, обладал собственным яликом, жил на барже, но
главное — умел не только фотографировать, но и качать кюветку, рас¬
творять порошки проявителя и фиксаж, знал, что такое негатив, и
вот теперь глубокомысленно вглядывался в очертания на пленке, и
весь его вид свидетельствовал о серьезности дела, которым он зани¬
мался, о полной самоотдаче, об умении делать то, что не умел делать я.
— Пап, погляди! — сказал он.
Громко кашлянув, начальник пароходства свесился над Витьки-
ным плечом, похожий на аптечного провизора, и вынес приговор:
— Промывай!
Витька вытащил пленку из кюветки с проявителем, сунул в кю¬
ветку с водой и отчаянно забулькал там. Потом опустил пленку
в фиксаж. Белый налет, какой бывает на языке, если поел снегу зи¬
мой или как следует простудился, таинственно и бесследно исчезал
с пленки. Наконец она стала прозрачной.
— Можно включать!
Я радостно бросился к выключателю, налетел на стул, раздался
грохот, и, когда загорелся свет, я опять был в дурацком положе¬
нии — не первый раз за этот день — на четвереньках, запутавшись
рукой в изогнутой спинку венского стула.
Но неудачи не меняли моего счастливого настроения, да и Витька
совершенно не замечал моих оплошностей, он был увлечен не меньше
меня, и мы с восторгом разглядывали негатив, где, оказывается, все
должно быть наоборот, чем на самом деле: белое черным, а черное
белым,— таков закон фотографии.
— Ибо эмульсия...— поднимал большой палец начальник паро¬
ходства,— светочувствительна, а это означает, что она как бы не за¬
мечает черное, зато фиксирует все светлое, и это светлое оставляет
на пленке следы. Потом, при печати, негатив накладывается на фото¬
бумагу, которая тоже чувствительна, происходит экспозиция — вклю¬
чают белый свет, и сквозь светлое на негативе проходит луч к бумаге,
оставляя при проявке черный след. А через черное он, естественно, не
70 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
проходит. И не оставляет свет. Так что черное на негативе остается
белым на позитиве, то есть фотокарточке.
Я захлебывался непонятными словами, лихорадочно переспраши¬
вал и сам повторял незнакомые звуки, радуясь, что они, оказывается,
получаются и у меня, следил за ловкими руками Витьки, который
протирал пленку одеколоном, поясняя при этом, что вообще-то луч¬
ше бы спиртом — для быстрой сушки, потом демонстрировал копи¬
ровальную рамку, закладывал кусочки фотобумаги под негатив,
экспонировал и давал поэкспонировать мне, предлагал мне поправ¬
лять, пофиксировать, делать пробы, то есть проверять, какая выдерж¬
ка для каждого негатива будет наилучшей. Потом мы глянцевали
карточки, и это тоже была целая поэма. Сперва требовалось тщатель¬
но промыть обыкновенное стекло, потом протереть его раствором во¬
нючего формалина, затем набросить мокрые карточки, укрыть их га¬
зетой и специальным резиновым валиком прокатывать их до тех пор,
пока с них не исчезнет лишняя вода.
Увеличителя у Борецких не было, поэтому мы напечатали кон¬
тактные снимки, то есть точно такого же размера, как негатив, и на¬
ши лица на фоне школы теперь оказались намертво приплюснуты¬
ми к стеклу.
Уф! Я не ощущал себя в тот вечер, не чувствовал ни рук, ни ног,
иногда только, как сквозь какой-то туман, кололо мозоли на руках,
и я на секунду мысленно вырывался из-под торжественного света
красного фонаря на стальную речную стремнину. Но даже река и
страшное дневное приключение тотчас исчезали из памяти — крас¬
ный мрак фотографического таинства, лица, медленно выступающие
на белой бумаге под жидкостью проявителя, две красные точки во
тьме — папироски Витькиных родителей, щелчки выключателей в ти¬
шине, шуршание черной бумаги, в которую заворачивали бумагу фо¬
тографическую, властвовали мной завораживающе, беспредельно.
Я и домой-то шел, механически переставляя ноги в уличном мраке,
душой все еще оставаясь на Витькиной барже, в темной комнате.
Дома мне влетело, бабушка и мама сбегали в милицию, заявив
о моей пропаже, и моему беспутству посвящалась долгая женская
руготня, которую, надо заметить, я плохо слышал, блаженно улы¬
баясь в ответ. Еще бы, у Витьки глянцевались контактные отпечатки
моих первых экспозиций, сделанные на светочувствительной фото¬
бумаге, бумаге, эмульсия которой получила определенную выдержку,
а потом подвергалась кюветной проявке, в которой участвовали раз¬
личные химические вещества, в том числе гидрохинон! Разве могло
МАГАЗИН НЕНАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ 71
со всем этим соперничать какое-то незначительное опоздание домой,
поздний приход, бабушкина и мамина проборка. Господи! Да я же
сегодня просто Магеллан! Или Колумб! Я открыл для себя неведо¬
мую, неповторимую страну, в которой на бумаге ни с того ни с сего
появляется вдруг дом, или человеческое лицо, или дерево! И хочу,
жадно хочу научиться, как Витька, устанавливать диафрагму и вы¬
держку в зависимости .от чувствительности пленки, покачивать
кюветку, уметь растворять порошки и вообще уметь фотографировать!
Ведь можно же будет запечатлеть этих шумливых женщин, если*
конечно, они спокойны, наш дом, заросли одуванчиков вдоль тротуа¬
ров и на пустыре возле школы стрекоз, неподвижно замерших в воз¬
духе, Вовку Крошкина, Анну Николаевну, дом, где сразу Райфо,
Райплан и Районо, и, наконец, магазин ненаглядных пособий — весь
мир можно снять на пленку, оставить на бумаге, запечатлеть на¬
всегда, навсегда, навсегда!
Где бы только раздобыть «Лилипут» — странное, с блестящим
глазком на полированном брюшке существо, способное навсегда за¬
помнить мир? Я представлял, как иду по улице, меня встречает тол¬
па незнакомых совершенно мальчишек и кто-то один из них говорит,
кивнув на меня: «Смотрите на этого пацана! Он знаете что умеет?
Фотографировать!»
«Все мечты сбываются, товарищ!» — такие слова в песенке есть.
«Если только очень захотеть» — так, кажется, дальше. Справедливо
это. Действительно, сбываются, если очень пожелать. Даже иногда
кажется, кто-то нарочно подкарауливает твои желания — давай толь¬
ко пожелай.
Той весной в городе открывался Дворец пионеров в красивом та¬
ком старом здании за витой железной оградой на берегу реки. И везде
висели фанерные объявления — какие открываются кружки. Был
в этом объявлении и фотокружок. Но вся загвоздка — я еще не пио¬
нер. Никто в нашем классе не пионер. Через лето, осенью, под Ок¬
тябрьские праздники, примут всех, а пока что еще не доросли, и мой
поход во Дворец пионеров окончился первой весенней пылью, разма¬
занной по щекам: слезы высохли, а грязь осталась.
Времени миновало уже немало с тех пор, как бабушка и мама
искали меня через милицию, острота позднего возвращения притупи¬
лась, и мои опекунши слушали внимательно и с сочувствием стон
моей души. Да куда это годится? Фотоаппарата у меня нет, во Дво¬
рец пионеров не пускают, не дорос, видите ли, каких-то шести меся¬
цев до пионеров, и вот, нате вам, целое лето пропадает, а я так и не
72 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
научусь фотографировать! Может, во мне пропадает дарование!
Мама хмыкала, видно, в душе соглашалась со мной, бабушка со¬
чувственно качала головой, выясняя подробности:
— Это в каком же дому Дворец-то пионерский? A-а? В архиерей¬
ском!
Махусенькие карточки, которые я принес на другой день после
того, как припозднился,— они свободно умещались на ладошке, но
были блестящие, как из настоящего ателье,— убеждали маму и ба¬
бушку, что прошлялся я, видно, все-таки не зря и что толк из меня
может выйти. Заключение сделала бабушка. Прямо мне в лицо, про¬
стодушно и откровенно. Говорила она маме, но в лицо глядела мне:
— Польза есть, хоть шляться впустую не будет. А то ведь из шко¬
лы до дому битый час. Где это видано?
Надо же, магазин ненаглядных пособий помог мне! Время, кото¬
рое я толкался в нем каждый день, пошло на пользу. Мама взяла пас¬
порт, меня, и мы двинулись во Дворец пионеров, прямехонько к ди¬
ректору.
Директором оказалась большая толстая тетка с пионерским
галстуком на шее и писклявым девчоночьим голосом. Она говорила
бодро, по-пионерски, поэтому разговор происходил какой-то несерьез¬
ный: мама ей объясняла про меня строго и внушительно, а директор
в галстуке несолидно пищала и со всем соглашалась.
Дело кончилось тем, что мама написала бумажку, называемую
поручительством,— поручалась, выходит, за меня,— и тетка в гал¬
стуке пропищала мне торжественно:
— Ну вот, Коля, и сбылась твоя мечта! Ты зачислен в начальную
группу фотокружка! — Встала и Отдала мне пионерский салют. Но
я ведь не был пионером, не мог же салютовать в ответ и поэтому глу¬
по поклонился.
Когда мы сидели у директора, я обратил внимание на полукруг¬
лые, сводчатые потолки ее кабинета и подумал, что тут, наверное,
была спальня архиерея.
Фотокружок же разместился, видно, в архиерейских чуланах. То
справа, то слева от комнаты, где мы занимались, всхаркивали кана¬
лизационные трубы, и по ним гулко неслась вода. Речь руководителя,
таким образом, заглушалась, он повторял фразу сначала.
Впрочем, вполне вероятно, Родион Филимонович повторялся со¬
вершенно по иной причине, и трубы просто помогали ему, создавая,
как говорится, подходящую обстановку,— ведь бывало, что и без труб,
в тишине и покое, он вдруг беспричинно задумывался, начинал
74 АЛЬБЕРТ Л ИХ А НОВ
блеять: «Э-э, как я говорил, м-мм, ну да, кха-кха, так на чем мы оста¬
новились?» — и только с трудом отыскивал свою мысль. Позже мы
узнали, что Родион Филимонович фронтовик, контуженный, и стали
снисходительно относиться к провалам его речи.
Я, наивная душа, думал, нам тут же дадут по фотоаппарату,
снабдят пленкой и скажут: «Дуй, ребята, поглядим, кто талантли¬
вей». Ха-ха! Аппарат на весь кружок был один — довоенный «Фото¬
кор», с мехами, как у гармошки, матовым стеклом, по которому на¬
водили на резкость, кассетами и штативом — недалеко ускакала эта
техника от ящика из фотоателье, поснимай таким! Витькин «Лили¬
пут» казался в сравнении с «Фотокором» просто пределом изящного
совершенства.
Я думаю, этот единственный «Фотокор» и стал причиной развала
фотокружка. Если бы Родион Филимонович повел нас снимать, пока¬
зал, как проявлять и печатать, может, дело бы изменилось. Но он чи¬
тал нудные лекции, проходил с нами теорию, проваливаясь в своих
речах под гул и без гула канализационных труб, а большинство на¬
роду ведь не видело захватывающих химических процессов, зато в
гробу видело — ходило тогда такое выражение — всякую теорию: ма¬
ло, что ли, школьных уроков? И постепенно пять или шесть групп
превратились в одну.
Это была презабавная группа. Ведь прежние-то собирались из ре¬
бят одного возраста, включая даже десятый. Вот несправедливость:
непионеров из малышей — так не брали, а непионеров из старших
классов брали запросто,— какие там пионеры, в десятом-то! И вот
самые стойкие — от третьеклассников, то есть меня, до дуботолков,
десятиклассников,— сбились в одну группу для начинающих, и на
равных правах,— никто не умел снимать, все только учились.
Да, видно сильное впечатление произвел на меня Витькин «Лили¬
пут» и все, что за ним последовало. Я сидел всегда возле Родиона
Филимоновича с непременной тетрадкой, преданно глядел ему в рот,
даже когда он издавал неопределенные звуки, записывал рецепты
проявителей и закрепителей, а иногда отваживался вставлять знако¬
мые уже словечки, выдающие мои тайные знания: «экспозиция»,
«чувствительность», «гидрохинон», «эмульсия»,—так что Родион
Филимонович сперва стал поглядывать на меня внимательнее, чем
на других, затем стал мне улыбаться, а потом — я почувствовал —
полюбил меня тайной любовью учителя к первому в жизни ученику.
Что там говорить! Не только ученик навеки запоминает своего пер¬
вого учителя, но и учитель накрепко запоминает своего первого уче¬
МАГАЗИН НЕНАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ 75
ника, которому он смог, в отличие от многих бестолочей, быстро и
точно передать свои знания. Я оказался таким.
Я был самым маленьким, с большим отрывом от двух довольно
рослых четвероклассников, да еще ходил в ботинках с галошами, по¬
тому что у ботинок отставала подметка, в серых широких шароварах,
отчего низ у меня делался как бы тяжелее — в увес тонким рукам
и впалой груди, прикрытым тонкой вязаной кофтой. Вид мой напоми¬
нал усеченный конус, оттого я казался еще меньше, чем был на самом
деле, и вот мне-то, самому маленькому, Родион Филимонович пору¬
чил быть старостой кружка.
Я приходил раньше других, садился возле учительского стола,
строго взглядывал на входивших, отмечал явки, и ко мне обраща¬
лись с уважением — не то что в школе. Сколько бы получил я там
щелчков и насмешек не то что от десятиклассников, а даже от тех,
кто постарше совсем немного или даже вовсе не старше!
Нет смысла описывать наше учение. Замечу только, что я расска¬
зывал о фотокружке Витьке Борецкому, звал его с собой, но он с не¬
объяснимым упрямством мотал головой, может, считал, что и без
кружка все умеет? Однако скоро я начал понимать, что догнал Вить¬
ку, а потом — что решительно перегнал его. Он, например, представ¬
ления не имел, что такое глубина резкости, как пользоваться экспо¬
нометром, какая разница между номерами фотобумаги.
Я обогнал Витьку, который еще недавно потряс меня, и обогнал
всех в фотокружке. Поэтому, когда настало лето и многие разъеха¬
лись из города, Родион Филимонович вручил мне «Фотокор», показал
гвоздик, на который вешал ключ от шкафа с фотоматериалами,
а вахтеру при входе во Дворец объяснил, что я староста и могу при¬
ходить в кружок самостоятельно, когда мне захочется, чтобы прояв¬
лять пленки и печатать фотографии.
* * *
Но вернемся пока назад, в начало весны, когда я, потрясенный
открытием волшебства фотографии, днем и ночью помню о достой¬
ном человеке Витьке Борецком, к которому так несправедлива судьба.
Потому что Вовка Крошкин продолжает бесчинствовать.
Ах, как безжалостна ревность, как несправедлива, мстительна и
зла, если даже добряка Крошкина превратила в упрямо ненавидя¬
щего человека! Мельком глянув на крохотные глянцевые карточки,
76 АЛЬБЕРТ ЛИ ХА НОВ
которые я по неосторожности показал в классе, воспев «Лилипут»
и его хозяина, Вовка придумал Борецкому смертельную кличку
«сыкун».
— Что? — спросил громко Вовка, не обращаясь ни к кому,— Этот
сыкун умеет фотографировать?
Конечно, Анна Николаевна очень старалась пробудить в нас бла¬
городство, да и Нинка Правдина обзывала бессовестными всех, кто
вспоминал про грех Борецкого, но хитро придуманное словцо может
пробить самые высоконравственные плотины. Мешок — так тот про¬
сто повалился на парту, мальчишки дружно заржали, а девчонки
прыснули в ладони так, точно хором чихнули. Даже моралистка Прав¬
дина отвернулась в сторону — значит, улыбалась.
Не смеялся один я, да еще, понятное дело, Витька, но ему, пожа¬
луй, не о чем было думать, он просто пребывал в отчаянии — сжал
кулаки, покраснел, свесил голову,— а вот я призадумался.
Что же это выходило! Ведь Крошкин злобствует из-за меня —
мстит, видите ли, нашел способ бить другого человека из-за того, что
я пересел к нему на парту! Ясное дело, теперь кличка пристанет
к Витьке надолго, может, до самого десятого класса, и ему впору хоть
в другую школу переводиться.
Но ведь я обязан Борецкому! Противноватое слово — обязан! Про¬
сто Витька совсем другой! Живет на барже, умеет грести, фотографи¬
рует, а главное, он хороший человек. Не ругался, хотя из-за моего
неумения мы чуть не погибли под красным колесом парохода, не
смеялся, когда я не понимал про негатив, дал сфотографировать мне
первый раз в жизни.
Да чего там рассусоливать! Я должен вмешаться! Должен при¬
жать Крошкина к стенке. Если потребуется, и по носу дать!
Но я был от рождения мирный человек, и мне не хотелось давать
Вовке по носу. А кроме того, нас многое связывало. Дружба с первого
класса! Мне хотелось, чтобы мой старый приятель Вовка и новый
товарищ Борецкий подружились между собой. Чтобы Вовка покатал¬
ся на Витькином ялике, научился фотографировать. А Витька по¬
жал бы ему руку, и все дела. Пусть позорная кличка, изобретен¬
ная Вовкой, умрет, и Витька навсегда забудет свой нечаянный
позор.
Но добиться этого должен я!
В какой-то книжке мне попалось выражение «яблоко раздора».
Это когда два человека одно яблоко поделить не могут. Надо бы по¬
полам его разрезать — оба довольны!-^ но каждому хочется целое
МАГАЗИН НЕНАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ 77
яблоко заиметь. И вот они за это яблоко друг друга ненавидят,
сражаются, кровь проливают. Выходило, таким яблоком между
Вовкой и Витькой теперь оказался я. Раздора! Весь раздор из-за
меня!
И я стал придумывать, как бы устроить так, чтобы меня подели¬
ли? А вернее, как сделать, чтобы помочь Витьке Борецкому стать нор¬
мальным человеком, без унизительных кличек, ведь еще немного, и
мальчишки станут тыкать в него пальцем: «Смотрите, этот пацан...»
И так далее, в том же духе.
Ох, Вовка!
А Вовка стал какой-то развязный, независимый, у него даже, ка¬
жется, глазки хищно щурились, когда он смотрел на Витьку. Меня
он пропускал своим взглядом, не удостаивал вниманием, не заме¬
чал.
И я решил начать с хитрости. Борецкий нечаянно помог мне на¬
брести на нее.
Однажды он сказал мне:
— Хочешь, покажу край света?
Ну, дает! Край света!
Но Витька в моих глазах был человеком серьезным, и я не мог,
не имел права насмехаться над ним. А он пояснил:
— Его видно вечером.
Мы сговорились встретиться, я наврал маме и бабушке, что иду
к Витьке проявлять пленки — к тому времени мне удалось вернуть
временно утраченное доверие,— и явился к барже. Витька уже ждал
меня.
Чтобы увидеть край света, непременно требовалась тихая безвет¬
ренная погода, как объяснил Витька, и нам фартило: стоял душно¬
ватый весенний вечер, все замерло, как во сне. По-моряцки сунув руки
глубоко в карманы и подняв воротник куртки, Витька молча шел впе¬
реди. Мы двигались вдоль берега, вверх по течению реки, к излучине,
где река расширялась чуть ли не втрое и как бы замирала: течение
ускользало куда-то в глубину, а верхняя вода зеркально блестела.
Показалась белая лестница. Кто-то построил ее еще до революции
здесь — вся она состояла из шести-семи ступеней, правда, очень ши¬
роких и длинных, уходящих прямо под воду, а сбоку лестницу укра¬
шали белые перила, которые удерживали бутыльчатые, как у рояля,
но только белые ножки.
Неподалеку от лестницы горел единственный фонарь, и Борецкий
торжественно взял меня за руку.
78 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
— Сначала, — сказал он,— надо посмотреть на свет, прямо в лам¬
почку.
Я уставился на фонарь, пока не зарябило в глазах.
— А теперь вперед! — скомандовал Витька.
Мы подошли к лестнице и встали на верхней ступеньке.
— Гляди! — шепнул он.
Я обомлел.
Прямо над головой свисало черное небо, усыпанное близкими
звездами. Но дело в том, что это же небо было и под ногами! Мы
с Витькой стояли на белом выступе, на самом краю света, у обрыва
в никуда — и вверху, и внизу, без всякого перехода, без разделяющей
черты, сияло звездное небо, и я отшатнулся назад, чувствуя, как об¬
ливается чем-то горячим мое сердце.
— Здорово! — выдохнул я.
Дух у меня перехватило, но умом я понимал: темное небо отра¬
жалось в черной воде, уснувшей и неподвижной, с низким и далеким
противоположным берегом, небо и вода сомкнулись, образовав полу-
сферу перед белой лестницей, мы увидели край света. Что ж, Витька
оказался прав. И мне показалось, подсказал путь к сердцу Крошкина,
человека в душе доброго и впечатлительного.
На другой же день я остановил Вовку в конце коридора, чтобы
не засек Борецкий, и как ни в чем не бывало сказал ему:
— Могу показать край света.
— Я тебе покажу! — не понял Вовка.
Вовка сопел носом, недоверчиво оглядывал меня, не зная, как по¬
нять мое предложение: возвращение дружбы, перемирие, попытка
исправиться?.. Его, наверное, подмывало сказать мне какую-нибудь
чепуху, отказаться, повернуться спиной или еще что-нибудь в та¬
ком же роде, но Вовка был добрым пацаном — это проверила
жизнь.
Он кивнул, я объяснил ему условия: если будет тепло, звездно,
безветренно. И назначил встречу на берегу возле заброшенной лест¬
ницы.
С лестницы днем удили рыбу, народ ее знал, ходили даже слухи,
будто тут в стародавние времена утопилась от любви красавица.
И этот ее любимый построил лестницу, чтобы красавица по ней вы¬
шла из воды, если захочет. Впрочем, в подобную чепуху никто не ве¬
рил, просто лестница — чья-то старинная блажь, или, может, ее
построили, чтобы для купания было удобнее в реку сходить — прямо
по лестнице с красивыми перилами. Как уж там было давно, неваж¬
МАГАЗИН НЕНАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ 79
но. Главное, Вовка при словах о лестнице оживился, на него подейст¬
вовало.
С Витькой же снова поглядеть край света я договорился отдельно.
Он отнекивался, удивлялся, зачем это мне каждый день смотреть,
надо изредка, только тогда получишь удовольствие, но я его все-таки
уломал.
Вовка и Борецкий встретятся на лестнице. Вовка увидит край све¬
та, открытый Витькой, оценит, как человек впечатлительный, и они
подружатся. Вот и все. Вовка перестанет дразниться...
Мне везло. Погода повторилась вчерашняя. Звезды так же, как
накануне, сливались с водой, я заприметил это краем глаза, когда
мы с Витькой подходили к лестнице.
Но дальше все пошло кувырком.
Едва только Борецкий заметил Вовку, стоявшего под фонарем, он
попятился назад и наступил мне на обе ноги: это нехорошая примета.
Но мне было уже некогда наступать в ответ на Витькины ботинки,
я бежал к Вовке, чтобы не смылся он, — боже, куда может зайти со¬
вершенно неоправданная вражда!
С трудом, тратя сотни торопливых слов, я заставил их сблизиться
и подойти к воде. Вовка выражал собой полнейшее недоверие — руки
нахально упирались в бока, да и шел он как-то бочком, словно подо¬
зревая нас в том, что мы утопим его, покажем край света в прямом
смысле.
Я ругал его про себя на все лады — за упрямство, непонятливость,
тупость, нежелание помириться с Витькой,— но выразить это вслух
не решался.
— Глянь сперва на фонарь,— сказал я,— а потом туда!
Вовка молчал, но слушался. Все-таки его проняло, не могло не про¬
нять, я же знаю этого упрямого Вовку с самого первого класса. Но
когда он заговорил, я готов был надавать ему по его круглому, упря¬
мому кумполу.
— Ну и что-о-о! — протянул Крошкин.— Подумаешь, край света!
Суеверные фанатики! (откуда и слова-то такие выкопал!) Не ма¬
ленькие уже, должны бы знать, что никакого края света не
бывает!
Он спустился по лестнице, наклонился, поболтал рукой в воде,
отчего, понятное дело, пошли круги, звезды в воде заколебались, и
небо тотчас отделилось от нее, превратив воду в воду.
— Вот и все! — сказал Вовка, стоя на колене, а мне хотелось под¬
скочить и столкнуть его в реку.— Кто придумал этот детский сад? —
МАГАЗИН НЕНАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ 81
не мог успокоиться Крошкин, обращаясь ко мне, как бы вовсе не
замечая Витьки. И проскрипел, зловредно выделяя слова: — Твой
сыкун?
Я не успел ничего сообразить, как Витька бесшумной черной
тенью метнулся на ступеньки, схватил за грудки Вовку Крошкина,
и они завозились там, обмениваясь выразительными междометиями:
— Ну!
— Ты!
— Эх!
Я кинулся разнимать врагов, но то ли действовал медленнее, чем
требовалось, то ли соперники потеряли осторожность, но я опоздал.
Оба рухнули в холодную весеннюю воду, слава богу, на последние,
подводные ступеньки. Вода тотчас разъединила их, он®, дрожа, вы¬
скочили к фонарю.
— Всякий тут сыкун будет хвататься! — кричал Вовка.
— Трус! — отвечал ему Витька.— Давай реку переплывем. Сла¬
бо? Все вы такие — злобные негодяи.
— Я негодяй? — кричал Вовка.
— Негодяй! Негодяй! Негодяй! — срывая голос, орал Борецкий.
— Перестаньте! — кричал я, стараясь перекрыть их обоих. Но они
не замечали меня.
Они стояли друг против друга, и их разделял, точно мишень, круг
света от фонаря. Я вбежал в эту мишень, встал на самую середину
и раскинул руки в стороны, как рефери на ринге, разводя друзей по
разным углам.
— Стой-те! — крикнул я что было мочи с надеждой объяснить им
обоим, как они глупы, бессердечны, жестоки друг к другу, а особенно
Вовка, что так нельзя, что это, в конце концов, неблагородно, но на¬
мерениям моим не суждено было сбыться.
— А ты иди к черту! — крикнул мне мой друг Вовка Крошкин.
— Иди к черту, Колька! — крикнул другой мой друг, Витька Бо¬
рецкий.
Они скрылись в темноте, а я остался в круге света. Ну и дела! Хо¬
тел как лучше, хотел, чтобы они подружились, а вышло...
Я двинулся к лестнице. Небо соединялось с водой. И край света
все-таки был!
Наверное, я походил на Галилея, который, признав перед судом,
что Земля не вертится, после суда воскликнул: «А все-таки она вер¬
тится!»
Галилей наоборот.
82 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
* * *
Лето разбросало ребячий народ, точно ветер листья,— кого куда.
Кого в лагерь, кого к бабушке в деревню. А у меня лето оказалось
черносолнечным, если можно так выразиться. Я пропадал в фото¬
кружке, сидел возле ванночек перед красным фонарем, печатал кар¬
точки, а когда, напечатавшись до одури, надышавшись парами про¬
явителя и фиксажа, выбирался на белый свет, солнце резало глаза,
и приходилось постоять у дворцовой ограды, подержаться за теплый
чугун, пока день не проникнет в тебя окончательно, не выйдет из тела
чуланный холод, который забирался глубоко, даже в самые пятки.
Аппарата у меня по-прежнему не было, с ним без конца исчезал
куда-то Родион Филимонович, и тогда я решил обследовать окрест¬
ности фотоателье. Чутье не обмануло меня: в зарослях крапивы
я обнаружил целую гору стеклянных негативов. Верхние были по¬
ломаны, покрыты пузырями, поцарапаны, но пониже, в глубине
стеклянного холма, я обнаружил, будто какой археолог, целый слой
целехоньких, словно только что из проявки, пластинок. Жмурясь на
солнце, я выбрал штук сорок, замотал их рубахой и явился к вахтер¬
ше Дворца пионеров в одной майке, взмокшей от нелегкого груза.
Со сладостным трепетом вглядывался я в фотобумагу, на которой
возникают неизвестные мне лица, точно выплывают из плотного бе¬
лого тумана, неторопливо выступают из неизвестности, внимательно,
даже с удивлением, вглядываясь в меня, какого-то незнакомого маль¬
чишку, который вздумал потревожить их. Седой мужчина с пушис¬
тыми бакенбардами, но лысой, блестящей головой усмехался мне до¬
вольно добродушно — еще минуточку и подмигнет, молодая девушка
в панаме и с подведенными губами испуганно посматривала из про¬
явителя, потом шел угрюмый, насупившийся толстяк, глядевший
из-под бровей, старушка с провалившимися щеками.
Негативы, похоже, были довоенные, сейчас люди так не одева¬
лись, и получалось еще интереснее. Вот молодой наголо остриженный
парень в косоворотке напряженно смотрит на меня — где он, интерес¬
но? Что делает? Меня ударило! А может быть, его нет, он же не зря,
наверное, подстригся под нулевку, шел на фронт, а там его могли
убить.
Убить?
Теперь я иначе разглядывал лица людей, особенно мужчин, воз¬
никавших из глубины кюветки. Эти люди фотографировались когда-
то, вовсе не думая при этом, что скоро, совсем скоро их может не
МАГАЗИН НЕНАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ 83
стать! И вообще: война навертела всякого, гоняла народ с места на
место, морила голодом, холодом, пулями и бомбами, и, может, даже
фотографий этих людей не сохранилось — они потерялись, пропали,
сгорели,— а я вот вытаскивал их из ниоткуда. Суеверный холодок
обдал спину: «Может, не надо?»
Но я не мог остановиться, наоборот, словно кто-то толкал меня
под локоть — мальчишечье любопытство вообще сильнее любопыт¬
ства взрослого человека.
Я лихорадочно, торопливо печатал портреты, один за одним,
один за одним, щелкая выключателем копировального ящика, и едва
успевал бросать бумагу в проявитель. В кюветке плескалось сразу
несколько отпечатков, целая толпа людей. Словно торопясь выбраться
из неизвестности, обгоняя, подталкивая друг друга, они возникали
передо мной, и вдруг я словно врезался лицом в стекло — отец.
Мой отец — точно такая карточка была у нас дома: полосатая ру¬
башка, галстук в крапинку, светлый пиджак,— строгий, задумчивый,
смотрел на меня в упор, словно молча спрашивал: «Ну зачем ты это
делаешь? Хорошо, что я жив, а если бы меня убили? Ты напечатал
бы мой портрет, вытащил негатив из старого стеклянного хлама воз¬
ле ателье. Что было бы тогда? Как бы было? Как пришлось бы само¬
му тебе? И представь, что бы случилось с мамой и бабушкой?»
Я перенес отцовский портрет в воду, потом в закрепитель, вклю¬
чил свет, вынес из темной комнаты на свет и притих.
Отец укорял справедливо. Память не надо корябать, словно ко¬
росту, особенно просто так, без дела.
Я смотрел на отца, разглядывал лица незнакомых мужчин и
женщин, и в голове, возле затылка, наливалась тяжесть.
Было неудобно, необъяснимо неловко, точно я нарушил какой-то
святой обет.
* * *
Родион Филимонович так и застал меня — над веером мокрых лиц.
Постукивая сапогами, прошелся у меня за спиной, внимательно
вглядываясь в портреты, повздыхал. Потом с грохотом положил на
стол «Фотокор» со штативом и весело проговорил:
— Ну, хочешь поснимать? Только по-настоящему?
Я дернулся от неожиданности. Сердце оказалось с крылышками.
Оно выпорхнуло из меня, потрепыхалось где-то над головой и вер¬
нулось назад: поснимать! По-настоящему!
84 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
— А чем? — спросил я,
— Будем снимать с тобой на пару! — говорил мне Родион Фили¬
монович.— Ты бери «Фотокор», а я...— Он достал ключик, открыл
стол и вытащил блистающее линзой объектива и стеклышками ви¬
доискателя, сверкающее хромированным металлом и полированными
черными боками настоящее великолепие.
— Что это? — воскликнул я, потрясенный.
— Немецкая «Экзакта»! Купил на рынке! Представляешь, отдал
хромовые сапоги и еще тысячу!
Елки-палки! Такую ценность надо хранить за семью печатями,
а он в своем столе — ну как утянут?
Раскачиваясь на волнах восторга — идем снимать что-то серьез¬
ное! — я заряжал кассеты — целых два десятка! — вспоминал хроми¬
рованную «Экзакту», невиданное чудо трофейной техники, возвра¬
щался мыслями к старым негативам и портрету отца, рассказывал
об этом Родиону Филимоновичу, коренастому, круглолицему, добро¬
му энтузиасту фотоискусства, тот охал и ахал, совсем как мама или
бабушка, поражался, подтверждал, глядя на снимки, что негативы,
кажется, действительно довоенные, и эта радостная суета, счастливая
взволнованность совершенно выбили из моей головы самое главное:
а что снимать-то будем, куда идем?
Родион Филимонович шел со мной рядом, и я удлинял шаг, чтобы
не отстать от крепыша в военном полувыцветшем френче с тремя жел¬
тыми нашивками на правой стороне груди — три тяжелых ранения.
По дороге мы оживленно разговаривали, обсуждали, какую выдержку
и диафрагму надо устанавливать, если снимать при солнце, а какую
в тени. Родион Филимонович пояснял, что работа будет срочная и
нужно отнестись к делу внимательно, особенно когда я буду наводить
«Фотокор» на резкость через матовое стекло — снимать придется со
штатива,— не забывай про композицию, не торопись, следи, чтобы на
лица не падали глубокие тени, хорошо, что у нас есть в запасе хими¬
каты и все такое, о чем всегда говорят взволнованные и не до конца
уверенные в себе фотографы, идущие на важную съемку.
Замысел Родиона Филимоновича состоял в следующем: он обнов¬
ляет «Экзакту», а я, поскольку работу нельзя провалить, дублирую
его и, хотя он уверен в прекрасной камере — немцы, что ни говори,
мастера в аппаратуре, особенно оптической,— снимаю нашим про¬
стым советским «Фотокором» на наши простые довоенные пластинки,
набиваю, так сказать, руку, учусь мастерству.
Я не успел оглянуться, как мы оказались в городском парке,
МАГАЗИН НЕНАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ 85
торопливо прошли тенистыми березовыми аллеями к старому дере¬
вянному театру. Зимой этот театр без печек, ясное дело, вымерзал
насквозь, тараканы и те небось околевали, но вот всякую весну его
подкрашивали, подмалевывали, как могли, и зазывали сюда разных
разъезжих артистов.
Тем летом в деревянном — но с белеными колоннами, а оттого
солидном — здании выступал театр музыкальной комедии; об этом
извещали на каждом углу афиши с аршинными буквами. Однако
я не совсем понимал, при чем тут мы с Родионом Филимоновичем?
Почему мы движемся к театру, заходим во дворик за спиной у него,
устраиваемся на ящиках под тополем? За деревянными стенами
гремела музыка, слышались арии или как их там.
Сперва во дворе никого не было, потом выскочили трое здоровен¬
ных кудрявых мужиков в ливреях, расшитых золотом, и с накрашен¬
ными помадой губами. Родион Филимонович поднялся с ящика,
навесил на грудь блестящую «Экзакту» и, солидно посверкивая хро¬
мировкой, не спеша, явно сдерживая шаг, двинулся к ним.
Белокурые здоровые кудряши окружили моего крепенького учи¬
теля — он не доставал им до плеча,— вежливо склонили головы, по¬
том дружно закивали, опять помолчали мгновение и, опять закивав,
поправляя парики, двинулись к тополю. Родион Филимонович шел
впереди, и лицо его показалось мне одновременно измученным —
виноватые глаза, щеки в румянце — и оживлённым.
— Вот сюда, пожалуйста! — указал он рукой патлатым верзилам
и шепнул мне: — Ну чего ты! Действуй!
Торопясь, дрожащими руками, я начал раздвигать штатив, уста¬
навливать «Фотокор», наводить аппарат на артистов, а Родион Фили¬
монович, склонясь над зеркальным видоискателем своей солидной
«Экзакты», щелкал затвором. Наконец изготовился снимать мужиков
в ливреях и я — уже заправил кассету! — но тут из открытых на¬
стежь боковых дверей, откуда вывалились эти трое, кто-то заорал
громоподобным басом:
— Эй! Кушать подано! На сцену!
Мужики сорвались, кинулись к дверям, обгоняя друг друга и
всхохатывая, а я стоял как дурак: одна рука поднята — внимание,
дескать, снимаю,— вторая держит тросик. Я чертыхнулся, но Родион
Филимонович успокоил:
— Невелика беда! Подумаешь! Кушать подано!
Я спросил, что это значит.
— Да артисты это, значит,— улыбнулся Родион Филимонович,—
86 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
Только и слов у них, как на сцену выйдут: «Кушать подано!»
Мы дружно рассмеялись, лицо моего учителя успокоилось. Будто
своим сочинением про ерундовых артистов он сам себя утешил.
Музыка в театре делалась все громче и пронзительнее. Мне даже
показалось, что деревянные стены начинают дребезжать от напряже¬
ния, того и гляди, что-то там в зале лопнет,— и действительно, пря¬
мо-таки рухнули аплодисменты, из двери по-сумасшедшему выско¬
чила расфуфыренная дамочка в розовом, до земли платье, толсто¬
ватая, правда, но все-таки видная такая, довольно красивая, и заорала
во всю мочь:
— Ах! Какой позор! Какой позор!
— Да что вы! — кричал, смеясь, бежавший за ней дядька в лаки¬
рованных, похожих на галоши, низких ботинках и в сиреневой за¬
бавной одежке вроде камзола.— Аделаида Петровна! Вы гений!
Душка! Молодец!
— Позор, позор! — кричала, не соглашаясь, Аделаида Петровна,
точно хотела в речке утопиться, окажись тут речка, но уже во все
глаза смотрела на хромированную «Экзакту» моего учителя.
— Да что вы! — кричал дядька в камзоле и галошах.— Чудесно!
Неповторимо! Великолепно!
— Вы меня успокоили! — моментально согласилась розовая ар¬
тистка.— Значит, все-таки ничего?
— Выше всяких похвал!
Вслед за розовой дамочкой и камзолом из распахнутых дверей
перли и перли разряженные, в золотых и серебряных одеждах ар¬
тисты, многие, в том числе и женщины, тотчас закуривали, кричали
о чем-то, перебивая и не слушая друг дружку, будто попугаи, и я
растерялся, подумав, что это все похоже на какой-то невиданный ба¬
зар, но только не мы пришли на него, а базар вбежал во дворик. Ро¬
зовая дамочка тем временем громко воскликнула, указывая на нас
падьцем:
— Это фотографы! Давайте фотографироваться!
Ей, видно, все время хотелось, чтобы на нее обращали внимание.
— Слышите! — закричала она громко, оглядывая двор.— Давайте
фотографироваться!
На нее обратили внимание, но только по-разному. Одни тотчас
бросились к нам, а другие хихикали, подмигивали, показывали го¬
ловой на розовую артистку и отходили в стороны. Но она не обраща¬
ла ни на кого внимания. Она уже стояла посреди разноцветной
толпы, покрикивала, чтобы центр не переместился куда-нибудь в
88 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
сторону, смеялась, шутила, забыв начисто про какой-то позор,
который еще недавно ее так огорчал.
Я опять действовал замедленно, и Родиону Филимоновичу, быстро
щелкнувшему своей сверкающей техникой, пришлось удерживать
публику.
— Для главного кадра,— говорил он,— для главного кадра.
Мне ко всему пришлось поворачивать голову штатива, устанавли¬
вать аппарат боком для горизонтальной съемки, и когда я, взмылен¬
ный, наконец изготовился нажать спуск тросика, чуть не свалился со
смеху. Каждый артист кого-то из себя изображал — один вытянул
гордо голову, второй скособочил брови одна выше другой, а тетенька
в розовом мучительно удерживала на лице приторную, совсем кон¬
фетную улыбку. Один только дядька в кафтане, который гнался за
ней и уговаривал ее, снял с головы мохнатый, до пупа парик и весело
блестел лысиной, ничуть не заботясь о выражении лица.
Что началось потом!
Расписная группа рассыпалась, и мы с Родионом Филимоновичем
только успевали поворачиваться: каждый хотел сняться отдельно.
Ну, вдвоем на худой конец. Но большинство — отдельно. Мой учи¬
тель выхлопал всю свою пленку, я тянулся дольше, «Фотокор» все-
таки не позволял таких скоростей. Но и у меня скоро кончились кас¬
сеты. Загремел звонок, потом заиграла музыка, театрик проглотил
со двора всех артистов, снова стало пусто.
Родион Филимонович, как землекоп, например, отирал со лба пот,
неуверенно, как-то робко улыбался, и я подумал, что искусство —
оно действительно требует жертв.
* * •
Ровно через сутки произошла торжественная встреча моих учи¬
телей — Анны Николаевны и Родиона Филимоновича.
Мы с руководителем кружка не успевали напечатать множество
карточек, припозднились, зато шли с пухлым черным пакетом из-под
фотобумаги, который оттопыривал карман Родиона Филимоновича,
словно бумажник, и появились перед театром в антракте, так что при¬
шлось продираться сквозь толпу зрителей, которые неторопливо про¬
хаживались возле белых деревянных колонн. Тут-то мы и столкну¬
лись с Анной Николаевной.
Она была нарядная, в строгой черной юбке, таком же пиджачке
МАГАЗИН НЕНАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ 89
и белой кофточке, казалось бы, ничего особенного, но на белой коф¬
точке, у горла, топорщился белый бантик — с бантиком Анна Ни¬
колаевна в школу никогда не ходила. Я смутился, Анна Николаевна,
по-моему, тоже — а в смятении я почему-то становился торжествен¬
ным и официальным — и высокопарно представил Родиона Филимо¬
новича, резко произнося слова и отрывая их друг от друга:
— Мой! Руководитель! Из Дворца! Пионеров!
Родион Филимонович, неуклюже прикрывая локтем оттопырен¬
ный карман с фотографиями, протянул Анне Николаевне руку и про¬
изнес:
— Так сказать, э-э-э, встреча двух педагогов.
Анна Николаевна смотрела на фотографа приветливо, доброжела¬
тельно — действительно, как хорошо, когда встречаются преподавате¬
ли из школы и из кружков,— замечательно просто, но загремел спа¬
сительный звонок, и она заторопилась, сказав на прощание:
— Правда, замечательно поют?
Я хотел объяснить, что мы тут по другой причине, но Родион
Филимонович опередил меня, торопливо подтвердив догадку учи¬
тельницы:
— Просто великолепно!
Мы потоптались, не зная, о чем еще говорить.
— Знаешь, Коля, а Виктор Борецкий уходит от нас! — вдруг
сказала Анна Николаевна.
Прямо громом меня оглушило. Витька уходит! Черносолнечное
лето исчезло, сгорело в один миг, вместе со всеми его чудными про¬
явителями, фиксажами, печатанием с чужих негативов и отцовской
карточкой и даже вместе с «Фотокором» и целым веером портретов
разряженных артистов, которых мы нащелкали досыта. Значит, Вить¬
ка уходит! И всему виной Вовка Крошкин?
А я! Хорош друг, ничего не скажешь, попытался соединить двух
своих товарищей, ничего не вышло, и я успокоился. Бросился в свою
фотографию, запрятался в темноту и наслаждаюсь, про все забыв!
Как же так?
— А ведь вам говорили о благородстве! — сказала Анна Никола¬
евна.
Я бестолково кивнул башкой. Говорили!
— Жаль,— вздохнула Анна Николаевна,— хороший мальчик,
а главное, уйдет в другую школу с тяжелой душой. Как ты думаешь?
Это верно, с тяжелой. Оставалось во всем соглашаться, больше
ничего.
90 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
— Вот что! — сказала вдруг, просветлев, Анна Николаевна.— На¬
шу школу делают восьмилетней. И нам дали деньги на оборудование.
Много денег. Я завтра пойду в магазин учебно-наглядных пособий.
Помоги мне! И Виктора позови. Может, еще уговорим?
Я глядел на Анну Николаевну не как на живого человека! Идти
за покупками в магазин, где никто ничего не покупает, да еще с Вить¬
кой! Такое мог предложить только, только... не знаю кто!
Анна Николаевна чинно кивнула нам, прощаясь, скрылась за
колоннами. Родион Филимонович внимательно посмотрел на меня,
опустил голову, будто его за что-то отругали, и мы двинулись в зна¬
комый дворик.
Он был еще полон, и мне казалось, артисты тотчас узнают нас,
кинутся навстречу — мы же принесли им снимки! И недурные, надо
сказать, снимки, хорошо получилось не только у Родиона Филимо¬
новича, но и у меня, единственное отличие, он печатал с узкой пленки
через увеличитель, у него карточки были тринадцать на восемна¬
дцать, а мои, при контактной печати, вполовину меньше.
Мы вошли во дворик, но никто не бросился нам навстречу.
Я удивленно взглянул на учителя и ничего не понял — лоб его снова
покрылся потной росой. Хотел было взять на себя инициативу, крик¬
нуть во все горло: «Налетай, карточки принесли!» — но все-таки по¬
стеснялся, да и к месту: у Родиона Филимоновича, оказывается, бы¬
ли другие намерения.
Он решительно подошел к тополю, опрокинул ящик, на котором
мы вчера сидели, поджидая артистов, вынул из кармана пакет и дро¬
жащей рукой начал раскладывать карточки. Дул легкий ветерок,
снимки шуршали, наезжали друг на дружку, колыхались, а то просто
падали в пыль, и мой руководитель клал на них камешки. Он взгля¬
нул на меня каким-то жалким, затравленным взглядом, и сердце мое
оборвалось: уж не продавать ли он собрался эти снимки?
Теперь вокруг нас сбилась толпа, послышались радостные возгла¬
сы, но никто не спешил брать фотографии. Все восхищались:
— Ах, какая чудная карточка!
— А это я, подумать только!
— Впечатляющий портрет!
— Нет, смотрите, как Репин похож на Мефистофеля!
Наконец кто-то спросил:
— Сколько стоит?
— Пять рублей,— не проговорил, а какими-то жерновами про¬
скрипел Родион Филимонович.
92 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
— Ха, бесплатно! — воскликнул тот же голос, но деньги не посы¬
пались на Родиона Филимоновича. Неохотно расставались артисты
с денежками, хотя сниматься очень любили!
Постепенно, как бы нехотя, но все-таки карточки покупали. Роди¬
он Филимонович понемногу успокаивался. Совал пятерки, трешки,
рубли в карман своих широких галифе, но сколько ни совал, не оття¬
гивало этот карман, как булыжником. Больше всех карточек брала
старуха в синем, до пят платье. Как всякая старуха, привередливо
торговалась, уговаривала Родиона Филимоновича отдать ей по треш¬
ке. Он не спорил, согласно кивал, не жалея, расставался с нашей
продукцией. Голос у старушки был молодой, казался знакомым.
Я пригляделся к ней — вот так да! Оказалось, это вчерашняя розо¬
вая артистка. Ничего себе, умеют же переделываться, поразился я. Но
загремел последний звонок, и артистов как ветром смахнуло.
Снова за стеной барабанила музыка. Мой учитель угрюмо стоял
возле ящика, на котором лежали карточки под камешками, ковыряя
сапогом землю, и не смотрел на меня. Я вздохнул: да, дела, ничего
себе. И подумать не мог, что Родион Филимонович снимал за деньги.
Знал бы...
А что, если знал бы, не пошел с ним, отказался снимать «Фото¬
кором» вволю, первый раз по-настоящему? Пошел бы, только вот эта
торговля получилась какая-то неловкая. Стыдная, что ли...
— Ты, Коля, иди-ка, пожалуй, а я останусь,— проговорил Родион
Филимонович хрипло, словно со сна.— У тебя вон дела завтра в шко¬
ле. Еще зайти за кем-то надо...
Я обрадовался: не нравился мне этот театр с напомаженными
мужиками. Им бы, честное слово, в армию, хоть и война кончалась,
а они тут ошиваются, тоже мне — «Кушать подано». Таланты!
Я подошел к повороту и обернулся. Мой учитель снова помотал
головой и с досадой плюнул на землю. Плохо брали карточки, в са¬
мом деле.
* * #
Витька был дома, точнее, плавал на ялике вокруг баржи, и мне
снова удалось погрести. «Хороший бы из Борецкого разведчик вы¬
шел,— думал я, поглядывая на приятеля,— ни звука про другую шко¬
лу. Значит, даже мне не доверяет».
Меня так и подмывало на Витьку насесть изо всех моих сил —
обругать как следует, укорить до слез и вообще надавить на его пси¬
МАГАЗИН НЕНАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ 93
хику. Но с психикой у меня плоховато получалось — встреча у края
света вспоминалась снова и снова: я посреди светлого круга, а оба
моих товарища разбегаются в темноту, посылают меня к черту — вот
кто, оказывается, виноват.
— Анна Николаевна,— говорю я почти что официально,— велела
прийти нам с тобой завтра в школу к двенадцати часам. Она соби¬
рается в магазин ненаглядных пособий. Покупать оборудование. Про¬
сила помочь.
Прием удается, Витька порывается сказать что-то, отказаться, мо¬
жет быть, но под каким соусом он откажется? Признается мне, что
собрался в другую школу? Ну-ка?
Он вовремя спохватывается, нехотя соглашается:
— Приду!
«Придешь, конечно! Как миленький,— соображаю я и снова
кляну про себя Витьку: — Значит, решил все сделать втихаря! Даже
от меня!» Но обижаться на Борецкого все-таки не могу. Гляжу на
баржу, вспоминаю прокуренный голос Витькиного отца, мое открытие
фотографии.
— Ну как твой «Лилипут»? — спрашиваю Витьку.— Неужели
не снимаешь?
— Пленки нет,— мрачно отвечает Витька.
— Ерунда! Хочешь, достану? И вообще, давай в наш кружок,—
зову его не первый раз, но он мотает головой.
«Неужели все сербы такие упрямые?» — приходит мне мысль, и
я излагаю ее Витьке.
— А ты не знал? — оживился он.— Не упрямые, а гордые!
Мы с ним немножко спорим, я толкую Витьке, что гордый каж¬
дый человек, не только сербы. Он соглашается, но твердит, что из
каждых самые гордые все же сербы. Я молчу, обдумывая свои слова
и поступки. Если горячиться, можно поссориться не по существу,
Витька завтра не явится в школу, и я подведу Анну Николаевну.
Простившись с Витькой, иду домой, но моя дорога заворачивает
к Дворцу пионеров, и я заглядываю туда на всякий случай. Вахтерша
удивляет меня, сказав, что Родион Филимонович в кружке. Я от¬
крываю знакомую дверь.
Мой контуженый учитель сидел за своим столом, взявшись ладо¬
нями за уши, а его челюсть медленно опускалась и медленно же
возвращалась на место, совершая по дороге чуть заметное вращатель¬
ное движение — так жует сено лошадь. Перед Родионом Филимоно¬
вичем стояла столбиком буханка хлеба, с нее срезано куска два, ши¬
94 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
роких, поперек всей буханки, и один такой кусман, посыпанный
солью, лежал рядом. Учитель задумчиво разглядывал этот кусище,
дожевывал предыдущий и все держался за уши.
— Голова болит? — спросил я.
Родион Филимонович вздрогнул всем телом, быстро вскинул гла¬
за, потом жалобно улыбнулся мне.
— Хочешь? — кивнул он на кусок.
Я не отказался.
— Видишь, как получилось! — сказал Родион Филимонович, по¬
казав на пакет.— Сколько наших снимков пропало!
— А! — попробовал я успокоить его.— Задранный театришко!
Родион Филимонович покивал согласно.
— А я еще продовольственные карточки потерял. Понимаешь,
какое дело, — проговорил он, внимательно оглядывая меня.— Купил
эту «Экзакту», продал сапоги, отдал все деньги и тут же потерял.
Вот в чем дело! Теперь понятно, почему он на деньги снимал.
— Хоть продавай аппарат! — вздохнул Родион Филимонович,
тоскливо поглядев на «Экзакту». Она лежала рядом с буханкой, та¬
кая неуместная тут, блестящая, нарядная, хромированная.
— Ни за что! — воскликнул я.
— Конечно! — обрадованно улыбнулся Родион Филимонович.—
Ни за что! Только вот с тобой,— вздохнул он,— нехорошо получилось.
Да еще учительница твоя. Встреча двух педагогов,— замотал головой
он.— Ничего себе! — Опять вздохнул.— Учительница твоя, видать,
хорошая. Вся такая чистенькая.
Я принялся рассказывать про Анну Николаевну, а съехал совсем
на другое — жевал черный хлеб с солью, разглядывал дорогого учи¬
теля фотографии и вспоминал всякие школьные дела, какие в войну
были: про раненых рассказывал, про госпиталь — там в маминой
лаборатории я учил таблицу умножения и видел кровь под микро¬
скопом, лейкоциты и эритроциты; про то, как нам давали маленькие
булочки на большой перемене, с эконький детский кулачок, и мы,
чтобы булки стали побольше, засовывали их в учебник, чтоб не запач¬
кать, совали под парту и партой их давили — получался широкий
блин, хоть и тонкий, но зато плотный, так что вроде еда получалась
увеличенного размера; про то, как уроки в войну начинались при све¬
чах и коптилках, а писали мы на тетрадках, сшитых из газет, прямо
по печатным буквам, и это выходило довольно удобно: как пишутся
некоторые слова, можно было вычитать в газете; про то, как ходили
на уроки с поленьями — это Вовка Крошкин всех заставлял, печку
МАГАЗИН НЕНАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ 95
топили казенными дровами, но, чтобы стало потеплее, подбрасывали
еще своих, и Вовка со своим упрямым характером собирал дань —
каждое утро по полену...
Родион Филимонович слушал меня как-то странно: сперва весело
и улыбчиво, потом опустив голову, сжав кулаки. Скулы у него на¬
пряглись — мне показалось, ему нехорошо, я спросил его об этом.
— Н-ничего! — ответил он.— Пустяки!
Я решил его отвлечь, дубина стоеросовая, спросил, в каком бою
его ранило, как это было, но он махнул рукой и грубо сказал:
— Гордиться нечем. Страха да гноя куда больше гордости.
Он молчал.
— Никогда не думал об этом! — сказал он горячо, как будто даже
не ко мне обращаясь. Да и смотрел Родион Филимонович поверх
меня, куда-то в потолок.— А ведь вы-то, ребятня, тоже войну прошли!
Мы воевали, вы, понятное дело, нет, но войну прошли вместе, всяк
по-своему.
Я глядел на фотографа, не очень-то понимая его. Как это прошли?
Прошли они, отец, Родион Филимонович, а мы жили просто-напросто,
вот и все. Но мужик он хороший!
Я смотрел на толстый пакет с фотографиями. Вот дундуки эти
погорелые артисты!
Я вспомнил, как идет мой Родион Филимонович с тремя желтыми
нашивками за тяжелые ранения к кудряшам в ливреях, как сдержи¬
вает нарочно шаг, чтобы быть посолиднее, как собирает, потея, треш¬
ки да пятерки за наши карточки, будто какой-то торгаш, тыловая
крыса, а не фронтовик и герой. Эх, жизнь, все путает, мутит, все
переворачивает с ног на голову, разве же так должно быть, если чело¬
век купил «Экзакту» за сапоги и тыщу рублей в придачу и тут же
потерял карточки? Разве так?
Я готов был броситься немедленно, побежать к деревянному
театру с солидными колоннами, выскочить прямо на сцену и крик¬
нуть: «Да знаете ли вы, какой человек перед вами тут унижается?»
* * *
А ровно в двенадцать на другой день началось совершенно неве¬
роятное.
Возле школьного крыльца стояла запряженная в телегу безымян¬
ная школьная кобыла, и школьный сторож Кондрат Иванович кле¬
вал носом, дожидаясь, как выяснилось, нас с Витькой.
96 АЛЬБЕРТ ЛИ ХА НОВ
Вчера Анна Николаевна сказала, что школе дали много денег для
оборудования, и я думал, нам придется тащить целый мешок с ты¬
щами, но учительница ждала нас налегке.
— Молодец, Витя,— похвалила она одного Борецкого,— ты
пунктуален.
А мне, едва он отвернулся, чуть заметно кивнула. Я улыбнулся:
мне доверяли. Больше того, я должен вместе с учительницей отгово¬
рить Витьку от другой школы. Но начинать этот отговор, ясное дело,
не мне. И я лишь понятливо улыбнулся.
— Сначала,— говорила Анна Николаевна, шагая между мной
и Витькой,— я думала обойтись без подводы, но денег действительно
много, видите, страна после войны сразу отдает свои средства вам,
детям, и я решила пригласить их.
Мы хихикнули. Приглашенная кобыла и соловый от дремоты Кон¬
драт Иванович двигались сбоку по мостовой, даже не предполагая,
что их, оказывается, пригласили.
— Там есть спящая старушка,— пошутил я,— нельзя нам купить
такой экспонат?
Витька и Анна Николаевна прыснули.
— По какому же предмету это пособие? — спросила учительница.
— По скучному,— нашелся Витька.
— Нет,— улыбаясь, ответила Анна Николаевна,— таких предме¬
тов не бывает. По крайней мере, не должно быть. Это во-первых. Во-
вторых, народные деньги следует беречь. А в-третьих,— она покоси¬
лась на лошадь и Кондрата Ивановича, который опять клевал но¬
сом,— у нас один уже есть!
Возчику пришлось проснуться от нашего хохота. Так что настрое¬
ние было отличное, смеясь, мы открыли дверь магазина, спящая ста¬
рушка, однако, не очнулась от наших голосов. Анне Николаевне при¬
шлось постучать согнутым пальцем по прилавку.
— Ничего не продается,— шепнула ей спящая старушка, мельком
взглянув сонным глазом.— Только школам.
— А мы — школа! — громко проговорила Анна Николаевна, го¬
раздо громче обычного.
— Школа? — Старушка разогнулась, проснулась, блестела глаз¬
ками, будто никогда не дремала, будто это нам привиделось, мало ли!
Однако в глубине ее взора все-таки еще плавал туман,— На какую
сумму станете брать? — воскликнула она бодро.
— На большую! — в тон ей воскликнула Анна Николаевна и обер¬
нулась к нам.— Ребята,— проговорила она такое, что мы ушам не
МАГАЗИН НЕНАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ 97
поверили, во всяком случае, не поверил я.— Ребята, выбирайте, что
вам нравится!
Что мне нравится? Легче спросить, что мне не нравится, да и то,
что мне не нравится, тоже надо купить. Змеи в запаянных стекляш¬
ках, например. Вот бы сунуть в парту, а еще лучше — в портфель
кое-кому из отсутствующих здесь! Я напрягался, изо всех силенок
пыжился представить себе то, что раньше воображалось само собой,
без всяких усилий, но странное дело, теперь это не выходило, я не
мог вообразить, как суну змею даже Мешкову, и не то что за шиворот,
а хотя бы в парту. Было жаль Мешка, хоть он и обалдуй. Жаль, и
все тут. Витька занялся картами, шкафами с разной там геомет¬
рией и химией, и Анна Николаевна восклицала каждую секунду:
— Молодец, Витя! Молодец!
Повторяла то, что называл Борецкий, и вконец проснувшаяся ста¬
рушка бойко, с какой-то такой лихой оттяжкой щелкала костяшками
счетов.
Я же толокся у шкафов с ненаглядными естественными пособия¬
ми, возле жуков, бабочек, змей, черепахи и всей остальной роскоши
и даже холодел сердцем, взглядывая на скелет, но ничего не мог вы¬
брать определенного: мне нравилось все поголовно. Я, конечно, по¬
нимал, что скелет купить невозможно, да и не нужно — следует бе¬
речь народные деньги — а все остальное, с моей точки зрения, заслу¬
живало решительного внимания, я так и сказал Анне Николаевне,
в глубине души полагая, что она засмеется. Но она не засмеялась,
а стала говорить старушке продавщице, чтобы та посчитала змей,
лягушек, бабочек и все другое. Стоило это, оказывается, очень дорого,
старушка называла большие деньги, но Анну Николаевну совершенно
ничего не пугало, она только посмеивалась. Вообще у нее было сего¬
дня превосходное настроение.
Старушка нащелкала кучу денег. Я все думал, где они у Ан¬
ны Николаевны, это же действительно целая куча! Но вместо денег
учительница вынула бумажки с печатями, продавщица довольно за¬
мурлыкала и повела всех нас на склад.
Мы, как дрова, таскали на телегу стеклянные пирамиды, циркули,
банки со змеями и лягушками — никогда не думал, что стану охап¬
ками носить такие ненаглядные учебные пособия. Кондрат Ива¬
нович крякал, огорошенный, даже школьная кобыла удивлялась —
всегда стояла спокойно, понуро, а тут переступала с ноги на ногу,
покатывала чуточку телегу то взад, то вперед и косила глазом, обора¬
чиваясь на странные предметы.
98 АЛЬБЕРТ ЛИХА НОВ
Возле нашей телеги на улице постепенно скапливался народ,
в основном ребятня. Они тыкали пальцами в наши сокровища и нас
с Витькой разглядывали так, будто мы тоже учебные пособия, а не
живые люди.
Неведомо как, не обронив друг другу ни слова, Борецкий и я, не
сговариваясь, и лицом и поступью старались походить на учителей —
медлительных, солидных, по пустякам не улыбающихся, в таком вот
духе.
Я подумал еще, что сбылось мое желание: чуть-чуть, и народ ста¬
нет показывать на меня пальцем. Только что говорить будут — слова
не придумывались.
«Вот пацаны, которые носят пособия». Глупо, по-деревянному.
«Эти пацаны закупили змей?» Так ведь для школы, и не мы, а учи¬
тельница.
Что будет говорить публика — это у меня не придумывалось ни¬
как. К покупке учебных пособий, к делу, конечно же, необыкновен¬
ному, отношение мы имели, но пока что в не очень-то почетном ка¬
честве грузчиков, так что народ мог бы и помалкивать, ничего не го¬
ворить. Какая это заслуга? Скажи любому — с радостью оттаранит
на телегу змей и лягушек.
Путь к славе назначила Анна Николаевна. Когда мы зашли в ма¬
газин за новыми охапками пособий, она вдруг задумчиво прогово¬
рила:
— Деньги-то еще остались. А не истратим — пропадут. Чего бы
еще купить?
Мы начали лихорадочно соображать, куплено всего по экземпля¬
ру, кроме... Я не успел подумать об этом страшном, самом страшном
для меня во всем магазине, как Анна Николаевна воскликнула,
смеясь:
— Скелет продается?
Старушка посмотрела на нее внимательно.
— Вы серьезно? — спросила она.
— Конечно, для уроков анатомии.
Сердце мое колотилось от ужаса. Неужели Анна Николаевна ку¬
пит? А спящая старушка продаст?
— Дело в том,— проговорила старушка, смущаясь,— что он у нас
последний.
— Ну и что? — удивилась учительница.
— Как же! — удивилась теперь старушка.— Придает магазину
определенный вид!
МАГАЗИН НЕНАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ 99
— Какие пустяки! — Анну Николаевну задело: такие непедагоги¬
ческие рассуждения! — Тут он у вас просто пылится, а в школе дети
станут изучать важный предмет.
Старушка обидчиво рассмотрела Анну Николаевну, осторожно пе¬
ревела взгляд на ощеренную челюсть, вздохнула и вынула из-под
прилавка ключик от стеклянного шкафа.
— Ребята! — обернулась к нам с Витькой учительница.— Вы
как, не побоитесь донести его до телеги? А то можем и мы со сторо¬
жем.
Витька дернулся назад, и я быстро понял, что знающий, умелый
Витька способен отступить.
В ту же секунду меня озарило: а ведь этот скелет спасет Витьку!
Я еще не знал, как он спасет его, но уже был абсолютно уверен,
что самое страшное пособие поможет Витьке остаться в нашей школе,
помириться с Вовкой и забыть свою позорную кличку.
— Нет, конечно,— громче обычного проговорил я, подступая
к Борецкому, крепко беря его за локоть и чувствуя, как облегченно
расслабляется напряженная фигура Витьки.
Старушка отомкнула внутренний замок шкафа, Витька, зажму-
рясь, ухватил скелет за ноги, Анна Николаевна и старушка — обе
с закаменелыми, чрезмерно волевыми лицами — за позвоночник и
ребра. Борецкий двинулся, я занял удобное место и с остановившим¬
ся сердцем обнял страшилище.
Женщины отпрянули в стороны.
Я думал, упаду под тяжестью костей, но они оказались очень лег¬
кие, почти невесомые — я запросто бы выволок скелет и в одиночку,
будь он хоть немного поудобнее. Пожалуй, Борецкому приходилось
тяжелее, ведь ноги пособия прикреплялись к деревянной подставке.
Шаркая ботинками, пятясь, Витька двинулся к выходу, и в такт
ему, озирая белый свет сквозь ребра, передвигался я.
Страх исчез. Сердце билось неровно, но оно билось так от радост¬
ного предчувствия: я это знал точно.
Я вообще знал теперь многое наперед.
Как, всхрапнув, дернется в сторону кобыла, закинув голову,
взирая с ужасом на нашу чрезвычайную ношу, и Кондрат Ивано¬
вич не прикрикнет на лошадь, не натянет вожжи, а будет глядеть на
нас, открыв рот и пятясь бочком вслед за телегой, так что нам при¬
дется выйти чуть ли не на середину дороги и там, под взглядом
толпы, грузить скелет.
А толпа! Она шарахнулась вместе с кобылой, потом отхлынула
100 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
назад, мгновенно поплотнев и прибавив в росте; теперь уже не только
ребятня, но и взрослые взирали на нас, народ гудел, самые малень¬
кие взвизгивали, точно щенята, одни мы, сохраняя спокойствие,—
впрочем, это казалось только одному мне! — шли, держа скелет на
весу, негнущееся, жуткое, редкое пособие!
Кондрат Иванович отошел, кинулся к телеге, сдвинул остальные
пособия на край, и мы уложили скелет в сено. Подумав, Анна
Николаевна кивнула мне на рулон географических карт. Я отмотал
верхнюю — это оказалась цветная карта мира на двух полушариях,
Витька ухватил ее за один край, я за другой, мы зашли по разные
стороны от телеги и укрыли скелет полушариями Земли.
Не спеша, с чувством и толком оглядывал я толпу, внимая каж¬
дому ее звуку.
И услышал долгожданное.
Не мог не услышать.
— Глядите, какие пацаны! — сказал молодой солдат, улыбаясь
нам с Витькой.— Глядите, какие смелые пацаны! Я бы побоялся!
Не знаю, что там чувствовали чкаловцы и папанинцы, когда их
встречали как героев. Я чувствовал спокойствие. И подъем.
Мне казалось, я как бы подрастаю — на глазах! — голова моя вы¬
ше других голов, даже взрослых, и я вижу макушки мальчишек, кеп¬
ки мужчин и даже одну шляпу и свободно разглядываю цветы на
платке какой-то очень высокой женщины.
Я как будто ухожу в вышину, медленно отлетаю без всяких там
двигателей и моторов, а чем выше, тем чище пространство, шире вид¬
но вокруг, яснее слышны звуки.
— Ой, грех-то какой! — проговорил явственно старушечий голос.
— Какой грех, старая! — не согласился мужицкий хриплый
бас.— Не грех, а учебное пособие!
— Глядите, эти пацаны несли на руках скелет! послышался
мальчишеский голос.
Я увидел палец, протянутый в мою сторону.
Грязный мальчишечий палец, с заусенцами.
Толпа не расходилась, и наша телега уже стала походить на
катафалк, где лежит покойник. Похожесть усилилась, когда кучер
тронул лошадь: какое-то время за телегой шла вся толпа. Потом
МАГАЗИН НЕНАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ 101
отсеялись взрослые, наконец растаяли и мальчишки. Несколько са¬
мых упорных шли за телегой до конца, и их упорство вознаградилось.
Взявшись за скелет возле школы, чтобы переместить его в класс,
мы были уже не одиноки. Нам помогали посторонние мальчишки.
Наконец сутолока утихла, смолкли голоса в пустынной гулкой
школе, а мы втроем с Анной Николаевной стоим в классе на втором
этаже, где временно будет находиться скелет. Тишина кажется густой
и осязаемой, она обволакивает нас, затягивает в глубокий омут, надо
вырваться из нее, иначе страх снова одолеет.
Я разрываю тишину.
— Анна Николаевна,— спрашиваю я,— а как делают скелеты?
— Их не делают! — бойко отвечает Анна Николаевна и сама же
обмирает.
— Не делают? Значит...
— Это настоящий скелет,— говорит она приглушенным голосом:
видно, в ней борются женщина и учительница. Потом решительно
кивает головой.— Да, настоящий.
— Выходит, был человек! — потрясенно вскрикивает Витька.—
Кто он?
Анна Николаевна начинает расхаживать между нами и пособием.
Наверное, движение помогает ей излагать вещи, о которых нечасто
говорят.
— Дело в том, видите ли, некоторые люди еще при жизни прода¬
ют свой скелет науке. Или жертвуют бесплатно. Но какое это имеет
значение?
Тишина, мы молчим, но шарики в наших шарабанах вертятся со
страшным скрипом: ха, не имеет значения! А кто именно этот?
И как он — бесплатно или за деньги? Почем, интересно, скелетик?
И где их покупают? Если прижало, можно и загнать! Ничего себе
шуточка — загнать самого себя!
Есть вещи, думать о которых ужасно, но не думать просто нельзя,
так уж устроено все человечество, особенно в детстве. Думать о ске¬
лете было немыслимо и интересно.
Вопросы, которые вертелись в голове и которые я тут же, без пере¬
дыха, задавал Анне Николаевне, остались безответными. Впервые
я видел, что наша учительница не знает подряд так много..
Неожиданно меня озарило:
— Зря старушка из магазина расстраивалась!
— А что такое? — спросила Анна Николаевна.
— Теперь у нас скелетов навалом будет!
МАГАЗИН НЕНАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ 103
— Почему? — удивился Витька.
— Фашистов мы сколько набили,— брякнул я,— теперь вот скеле¬
тов наделаем!
— Коля! Коля! Коля! — крикнула Анна Николаевна, каждый
раз громко хлопая ладонью по парте. Она выглядела какой-то ошара¬
шенной.— Запомни, запомни навсегда: этого не будет! Не может
быть! Это невозможно. И наконец, кощунственно, мы не фашисты,
чтобы... чтобы...
Голос Анны Николаевны заело, точно старую пластинку на па¬
тефоне.
— Дурак! — вдохновенно воскликнул Витька.— Какой же ты ду¬
рачина!
Но я не сдавался.
— Пусть хоть какая-нибудь будет от них польза!
— Не-надо-нам-от-них,— проговорила, четко произнося все зву¬
ки, учительница,— никакой-пользы-ты-понял? Не-надо-нам-от-них-
ничего-ничего-ничего!
Анне Николаевне делалось нехорошо, не по себе, я это почуял и
быстро закивал головой, соглашаясь закончить щекотливый и, вы¬
ходит, зряшный разговор.
— Можно,— попросил я, выходя из класса и прислушиваясь
к утихающему Дыханию учительницы,— мы зайдем еще раз? Я хочу
сфотографировать... это... его...
Анна Николаевна колебалась. Похоже, она ни за что не разрешила
бы фотографировать скелет, но мы ведь таскали его, а значит, имели
право на уступку, да и просьба при всей ее странности не выглядела
ужасной.
— Придете вместе,— сказала она, не столько спрашивая, сколько
утверждая.
А план уже давно отчеканился в моей голове. Десять минут ходь¬
бы до Дворца, десять на зарядку кассет, десять обратно.
Через полчаса я устанавливаю треножник «Фотокора» напротив
скелета.
Витька всюду следовал за мной послушной тенью. Он был ожив¬
лен, хохотал надо мной. Впрочем, я хохотал с ним за компанию,
вспоминал, какие лица были в толпе, когда мы возникли на пороге
магазина со своей ношей, как Витька сперва хотел сигануть, отка¬
заться нести скелет — кто обязан таскать скелеты? — но как я ухва¬
тил его за локоть, вцепился, точно краб,— это уж сравнение из Вить-
киных морских мыслей. Словом, Борецкий хохотал, и я хохотал
104 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
с ним, опять и опять переваривая приключение, по достоинству увен¬
чанное славой, но у меня-то в голове было еще одно дельце, до
которого Витьке, ясное дело, невдомек, это уж мой личный за¬
мысел.
Я достал из кармана картонный экспонометр, поражая Витьку,
определил выдержку. Солнце удобно падало в угол класса, где стояло
ненаглядное пособие, и я как бы невзначай предложил Витьке:
— Хочешь сняться вместе с ним?
— С ним1 — закричал он, но тут же успокоился: — А почему бы
и нет?
— Становись! — приказал я.
Уж теперь-то мне известно, кто тут полный хозяин событий. Мой
голос был звонок, отдавал металлом. Борецкий подошел к скелету, но
стал на таком расстоянии, что, оживи наше пособие, рукой до Витьки
оно бы не дотянулось.
Решительным шагом я подошел к Борецкому, придвинул его
к скелету. Потом я взял костлявую кисть и положил Витьке на плечо.
— С ума сошел! — сказал он неуверенным, севшим голосом, но
руку скелета с плеча не сбросил, так и стоял, окаменев.
— Внимание! — командовал я.— Приготовились! Снимаю!
Камера щелкнула, Витька выскочил как ошпаренный из-под кост¬
лявой руки. Чудак! Не понимал, дуралей, что я уже спас его.
* * *
Он не понял, куда я клоню, даже когда три шедевра фотографи¬
ческого искусства отскочили от стекла — роскошно глянцевые, поли¬
рованные произведения, не уступающие по качеству никакому самому
замечательному ателье.
Одну карточку я тут же отдал Витьке, а две, как он ни клянчил,
положил в свой карман.
Теперь требовался Крошкин, и я предложил Борецкому прогу¬
ляться, таким естественным и нехитрым образом поискав желанной
встречи с Вовкой. Но не зря говорится: на ловца и зверь бежит.
Вовка чуть не наехал на нас чьим-то велосипедом — своего у него
не было.
Он слез с него, гордо улыбался. Велик в ту пору был большой ред¬
костью, и Вовка молча хвастался чужим имуществом. Ну, ничего!
Ему недолго осталось улыбаться!
МАГАЗИН НЕНАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ 105
Неторопливым движением я достал фотографию и протянул
Вовке:
— Посмотри!
Он нехотя взял карточку, и глаза у него поехали на лоб. Вовка
был добрый человек, а добрые не умеют скрывать своих чувств, даже
если очень хотят этого.
— Ну дае-ешь! — прошептал он и уставился на Витьку.— Ну
дае-е-ешь!
Я ликовал.
Я салютовал самому себе из тысячи артиллерийских орудий.
Пусть попробует теперь Вовка повторить позорную кличку, выду¬
манную для Витьки! Как у него повернется язык!
А у Вовки язык и не поворачивался. Он глядел на Борецкого
с ярко выраженным уважением, и Витька — это было трудно не
заметить — потихоньку приосанивался: наливал грудь, выпрямлял
спину, приподнимал подбородок.
Настоящий серб, гордый, как все сербы!
— Вот так вот! — не утерпел я, но Вовка даже не среагировал на
мою реплику. Он все смотрел на Витьку, и взгляд из уважительного
постепенно превращался в восторженный.
* * *
Ну, вот и все.
Вся история моего магазина ненаглядных пособий. Пожалуй,
вся.
Я повернулся к своим приятелям спиной и молча пошел в сто¬
рону.
— Ты куда? — испуганным дуэтом крикнули они.
— Снимать! — остановился я. Меня распирало от счастья.— Фо¬
тографировать!
— Мы с тобой,— опять враз крикнули ребята.
Вовка сел на седло велосипеда, а Витька, растопырив ноги, устро¬
ился на багажнике.
Они медленно катились рядом со мной, и я сказал, улыбаясь:
— Вот так я вас и сниму!
— Давайте снимем самое красивое, что есть на свете! — сказал
Вовка возвышенным тоном.
— Откуда здесь море? — проговорил Борецкий.
— Восход солнца! — ответил Вовка.— Самое начало видали?
Солнце красное, будто спелое яблоко.
106 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
— И огромное, вполнеба,— кивнул я.
— Только надо не проспать,— сказал деловито Витька.
— Одну-то ночку можно и пожертвовать! — крикнул Вовка.
— Для искусства! — подтвердил я.
* * *
*
Ночь выдалась парной, теплой.
Еще вечером мы забрались на высокий тополь, чтобы снять вос¬
ход с вышины, увидев красное яблоко раньше всех — устроились
в удобной развилке дерева капитально, даже затащили стеганое
одеяло для мягкости.
Всю ночь мы болтали, вспоминая, как водится у мальчишек,
страшные истории, и, наверное, не давали спокойно спать воронам
на верхних ветвях: они испуганно вскаркивали во сне, точно всхра¬
пывали от жутких снов, навеянных нашими рассказами.
Разговор крутился возле скелета. Мы все выдумывали, кто был
им раньше — безденежный бродяга, ученый, подаривший себя науке?
Витька упрямо настаивал, что это моряк, только одни моряки, видите
ли, не боятся ни черта, ни кочерги.
— Сербский моряк,— ехидничал я,— бесстрашный и гордый!
И Витька хлопал, смеясь, меня по макушке.
Солнце выползло таким, каким мы его ждали.
Торжественно алый круг сиял нам в глаза, и я щелкнул тросиком
«Фотокора». А днем нас ждало разочарование. На карточке вместо
алого великолепия был блеклый недопроявленный круг сквозь черные
трещины тополиных ветвей. Только и всего.
Цвет исчез на черно-белой фотографии, оставив одни контуры. За¬
тея не удалась.
Мир, который мы видели, был ярче и красивей того, что могла оста¬
новить тогдашняя фотография. Жизнь, оказывается, ярче искусства!
Впрочем, это не казалось мне важным. Вовка и Витька перестали
быть врагами — вот что нравилось мне...
* * *
Человек радуется, когда он взрослеет. Счастлив, что расстается
с детством. Как же! Он самостоятельный, большой, мужественный!
И поначалу эта самостоятельность кажется очень серьезной. Но по¬
том... Потом становится грустно.
МАГАЗИН НЕНАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ 107
И чем старше взрослый человек, тем грустнее ему: ведь он отплы¬
вает все дальше и дальше от берега своего единственного детства.
Вот снесли дом, в котором ты рос, и в сердце у тебя возникла
пустота. Вот закрыли школу, в которой учился,— там теперь какая-то
контора. Куда-то исчез магазин ненаглядных пособий. А потом ты
узнал: умерла учительница Анна Николаевна.
В сердце все больше пустот — как бы оно не стало совсем пустым,
страшным, точно тот край света возле белой лестницы в тихую ночь:
черно перед тобой, одни холодные звезды!
Без детства холодно на душе.
Когда человек взрослеет, у него тускнеют глаза. Он видит не мень¬
ше, даже больше, чем в детстве, но краски бледнеют, и яркость не
такая, как раньше.
Мне кажется, в моем детстве все было лучше. Носились стрижи
над головой, расцветало море одуванчиков, а в речке клевала рыба.
Мне кажется, все было лучше, но я знаю, что заблуждаюсь. Кому да¬
но волшебное право сравнивать детства? Какой счастливец смог два¬
жды начать свою жизнь, чтобы сравнить два начала?
Нет таких. Мое детство видится мне прекрасным, и такое право
есть у каждого, в какое бы время он ни жил. Но жаль прогонять за¬
блуждение. Оно мне нравится и кажется важным.
Я понимаю: в детстве есть похожесть, но нет повторимости. У вся¬
кого детства свои глаза.
* * *
А магазина нет.
Многое уже известно в этом мире. Мало осталось вещей, которые
удивят.
Вот в этом вся разница: когда стал взрослым, таких вещей ста¬
новится все меньше.
Как бы сделать так, чтобы, несмотря ни на что, мир остался по-
детски ненаглядным?
Как бы сделать?
Неужели нет ответа?
КИКИМОРА
КИКИМОРА 111
У всякого времени своя жестокость...
Но если где-то неподалеку смерть, если пули и осколки целят в
твоего отца и каждое утро, прежде чем проснуться, ты чувствуешь,
как немеет тело от холода, приносимого страхом,— и потом среди бе¬
ла дня, и вечером — вдруг, неожиданно, ни с того ни с сего обмирает
душа в неясном, но горестном предчувствии,— в неускоримо долгие,
тягостные, безжалостные, беспощадные, жестокие эти дни есть ли це¬
на всему остальному?
Есть ли цена жестокости, коли она не от войны? Время безмерной
тяжести, не меняет ли оно цену на радость, обиду, ненависть?
Большое горе, неутешные слезы, безмерное ликование — не разме¬
нивают ли они в мелочь все другие чувства, которыми награжден от
рождения каждый человек?
А если да?..
Как ужасно, как страшно это!
Горевать только при виде смерти, считать жестокостью лишь
убийство, мерой счастья избирать одну собственную сохранность,
во всех остальных случаях лишь равнодушно пожимая плечами: мол,
бывает, дескать, случается, но главное — не это...
Главное — все, вот что.
Согласен: есть на свете великое зло, но нет обыкновенного зла,
не может, не должно его быть.
Есть великое горе, но нет горя простенького, обычного, есть горе.
Есть необыкновенная радость, и кто станет спорить, что она дороже
обыкновенного счастья, маленькой радости.
Копеечных, мелочных чувств не надо.
Особенно когда ты ростом невелик и только начинаешь жить.
112 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
Щелястый забор отделял наш двор от детской поликлиники.
Щелястым он стал в войну, будто война забору зубы выбила, а рань¬
ше — доска к доске — ровная стенка ограждала нас от детских пис¬
ков и криков. Но война сделала свое дело, досочка по досочке — слов¬
но пололи морковную грядку — проредили мы забор, используя сухой
материал на растопку, и стал он похож на редкозубый старушечий
рот: ограждение вроде бы есть, но что оградить может?
Так вот этот — и не щелястый даже, а полупустой какой-то,
условный забор — отсекал наш двор от детской поликлиники и упи¬
рался в конюшню. В ней ночевала кобыла Машка.
Кошек, собак и прочей живности в нашем городе было мало вид¬
но той военной зимой, а вот лошадей полно.
Это объяснимо.
Во-первых, как и мужчины, немногие автомобили ушли из нашего
города на войну, и лошадь стала главным тяглом, ведь без транспор¬
та не обойтись. Вот и остались в городе два вида транспорта: по же¬
лезной дороге пыхтели паровозы, а на крутых городских улицах, по¬
качивая шеей в такт своим шагам, напрягаясь всем телом, оскальзы¬
ваясь и больно — но молча ведь, молча! — падая в гололед, разбрыз¬
гивая грязь глухой осенью и затяжной весной, задыхаясь летней
пылью, шли и шли лошади, увозя с заводов ящики с сытыми боками
сально блестевших снарядов, а от санитарных составов — раненых,
укрытых серыми суконными одеялами, скрипучей зимой приволаки¬
вая из деревень возы сена для собственного же пропитания и много
разных других вообразимых и невообразимых грузов.
Однажды я видел, как лошадь везла другую лошадь.
По нашей улице гоняли скот на мясокомбинат — коров, быков,
овец. Торный путь к скотобойне. Тогда тоже вели худющее стадо.
Дело было по весне, бабы с кнутами хмуро и громко ругались хрип¬
лыми голосами, почему-то торопили коров, отгоняя их от первой при¬
дорожной травы, а позади стада шла лошадь, запряженная в телегу,
на телеге валялся какой-то брезент, и на нем, стреноженный,
лежал тощий конь. Он не брыкался, не ржал, а только косил огром¬
ным испуганным лиловым глазом — косил на небо, на стадо, жалост¬
но взглянул и на меня, будто просил милости, и я чуть не завыл в го¬
лос: без всяких слов ясно, куда и зачем везли этого худого коня!
Конское жесткое мясо давали по карточкам, его варили и ели без
охов и ахов, и я это знал, не малыш несмышленый, а по коню тому
заплакал...
Да, в самом деле: у каждого времени своя жестокость.
КИКИМОРА 113
Лошадей было много — главный транспорт в тылу,— и детской
поликлинике тоже полагались колеса, так что в конюшне, к которой
примыкал наш редкозубый забор, ночевала смиренная кобыла
Машка.
Ах, как хотел я прокатиться на ней, как жалел ее и как мечтал
дружить с ней!
Странное дело, скажете вы, лошадь не собака, разве можно дру¬
жить с ней? Она в упряжке, на работе, с ней не побежишь наперегонки
по зеленому лугу.
Это конечно, не побежишь, только и с лошадью можно дружить,
особенно когда ее бьют, да еще матерно приговаривают: «Эх, тудыть-
растудыть» — и всяко-разно.
Что касается руготни, то бабушка и мама понапрасну тянули меня
в сторону, когда что-нибудь неприличное на улице слышалось. Смеш¬
но, даже маленького пацана ведь не спрячешь в коробку, как, напри¬
мер, бабочку или кузнечика. Он живет, и дышит, и ходит по улицам,
как всякий человек, и мир ему не заслонишь, а в мире всякого пол¬
но — и хорошего, и не очень,— и уши ватой не заткнешь. Так что на¬
счет всяких крепковатых выражений мы в ту пору много чего уже
слыхивали, и эта дрянь вовсе даже не вызывала во мне отвращения.
Ненависть вызывало, когда матерятся и бьют, вот что.
Да, бьют бессловесную лошадь.
А Машку лупили почем зря.
Вечерами, когда кончался ее рабочий день, я прижимался ухом
к стене конюшни и слушал, как в темноте хрупает сеном Машка,
переминается с ноги на ногу и тяжко вздыхает.
Я не слыхивал ее голоса, она ни разу не заржала, пока была жива,
только вздыхала, и тогда я звал ее через стенку:
— Машка! Машка!
Лошадь умолкала, переставала жевать сено, прислушивалась, ви¬
дать, потом снова принималась за еду, вздыхая еще пуще и чаще.
Видно, душой принимала мое сочувствие и не скрывала от меня свое
настроение и свои мысли.
— Эх, Машка! — вздыхал я, сам думал: «И откуда же достался
Машке такой жестокий конюх? Была бы Машка моей! Никогда бы ее
не ударил! И ведь видит, знает, что лошади больно, а лупит, гад та¬
кой, этот Мирон!»
Конюх Мирон жил прямо в поликлинике вместе с женой, стару¬
хой Захаровной, и дочкой Полей. Я бывал у них дома еще совсем ма¬
леньким, до войны, вместе с мамой и с тех пор запомнил крохотную
114 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
и узкую комнату, в которой окошко было почему-то очень высоко,
почти под потолком. Мирона тогда в комнате не оказалось: он куда-
то уехал на лошади по каким-то служебным делам, и потом всякий
раз, как я оказывался в гостях, хозяина дома не было.
Чистенькая старуха Захаровна всегда ходила в белом платочке,
простоволосой не показывалась даже в самую жару, заприметив ме¬
ня, махала ручкой и, когда я подрос, тоже махала ручкой, уже по
привычке, улыбалась, рассказывала пустяковые новости.
Можно сказать, с Захаровной у меня были хорошие соседские от¬
ношения, с Полей — дочкой Мирона и Захаровны — просто дружес¬
кие, она училась в каком-то техникуме по медицинской части, дома
была редко, а когда появлялась, задняя дверь поликлиники то и дело
стучала — Поля хлопала половики, ведро выносила, и все со смехом
и прибаутками, сильная, энергичная, веснушчатая, с двумя косич¬
ками, торчащими в стороны,— своей веселостью она вызывала ответ¬
ную улыбку и взаимное желание сказать какую-нибудь шутку. А вот
с Мироном у нас не было никаких отношений.
Нет, все-таки были: я его боялся.
Порой я встречал его на улице и, понятное дело, всегда здоровал¬
ся. Наверное, вот эти ответные его действия меня и пугали: иногда
он даже снимал шапку, раскланивался, и мне было неловко оттого,
что старый человек зимой стягивает из-за меня свой рыжий треух —
ведь холодно, можно простудиться. Но вот иногда, столкнувшись
с ним носом к носу и поздоровавшись, я видел пустые, ничего не ви¬
дящие глаза. Не узнал меня? Не услышал моего приветствия? То ли
чутьем каким, неразвитой, но ясной детской интуицией, то ли светлой
верой в простоту отношений я знал, был уверен: и видит и слышит,
а не здоровается в ответ нарочно.
Почему? Это расстояние было так велико — сперва сорвать шапку
с головы, а потом не заметить.
И снова снять шапку перед пацаном...
Странность Мирона всегда оставалась для меня новой, не пере¬
ставала поражать, и классе в третьем я сказал об этом маме.
Она выслушала серьезно, оглядела меня очень строго, словно оце¬
нивала мою готовность понять ее, и сказала:
— Ты к нему близко не подходи! Он всегда с кнутом.
Я обиделся. Конечно, я пацан, но все-таки не бессловесная Машка.
Неужто посмеет? Нет, мама явно перебирала, заботясь обо мне.
— Сказанешь! — усмехнулся я.
Мама, точно Мирон, не услышала моих слов.
КИКИМОРА 115
— Он ведь кулак! — проговорила она.
— Какой кулак? — ахнул я.
Кто такие кулаки, я уже знал, не малыш ведь бестолковый.
— Раскулаченный и высланный,— объяснила мама.— Вот какой.
Сколько я ее ни пытал, мама ничего больше не прибавила — са¬
ма не знала. Кулак, и все. Откуда-то с Урала.
— С Линой говорить неудобно,— объяснила она,— девка хоро¬
шая, только расстроится. Захаровна хоть и разговорчива, да об этом
помалкивает, а Мирона, сам понимаешь, не спросишь.
Кулак! Всем ведь известно, что кулаки — это богатеи и враги Со¬
ветской власти, и этого мне хватило, чтобы испугаться Мирона еще
больше.
У него было много обязанностей в детской поликлинике, а глав¬
ная среди них — кучер, точнее, извозчик, потому что кучер возит
только седоков, а извозчик еще и грузы. На дворе возле конюшни
стояла телега, а в самой конюшне, рядом со стойлом, хранился возок
для заведующей поликлиникой. Иногда я видел, что Мирон выходит
необычно принаряженный,— это значило, что он заведет Машку
в оглобли возка, черного, лакированно-блестящего, а потом подгонит
свой экипаж к парадному, или «чистому», как говорила Захаровна,
подъезду.
Из поликлиники быстрым шагом выходила мрачная длинная тет¬
ка в широком пальто — я никогда не видел, чтобы она с кем-нибудь
здоровалась или разговаривала,— плюхалась на заднее сиденье, во¬
зок слегка перекашивался, а Мирон звонко чмокал на Машку и мень¬
ше лупил ее вожжами, трогая с места,— видать, стеснялся заве¬
дующей.
Похоже, Мирон любил такие выезды, но удовольствие это случа¬
лось не часто: заведующая ездила только по каким-то особым слу¬
чаям, а так ходила пешком, и я не раз сторонился ее мрачной долго¬
вязой фигуры, маячившей посреди мостовой. В одной руке заведую¬
щая всегда держала маленький плоский портфельчик, который казал¬
ся еще крошечней именно в ее руке.
Так что Мирон редко получал удовольствие проехаться в лакиро¬
ванном экипаже, принаряженным, а чаще — в телогрейке и треухе,
коли зимой, или простой рубахе без подпояски, если летом, он возил
в поликлинику бутылочки с едой для самых маленьких малышей —
такие махонькие бутылочки с метками по всей длине, заткнутые бе¬
лыми бумажками и расставленные в ящики из железной проволоки.
В поликлинике был пункт раздачи питания, и вот Мирон рано утром
116 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
привозил откуда-то эти проволочные ящики с молоком и кашей.
Было слышно издалека, как он подъезжает к поликлинике. По
булыжной мостовой телега катилась с привычным грохотом, от тряс¬
ки бутылочки с детским питанием тоненько дребезжали, и казалось,
звенит сразу множество колокольчиков.
Я не раз ловил себя на том, что, при всей своей нелюбви к Миро¬
ну, улыбаюсь, заслышав звон бутылочек. Тысячу раз я видел, как
люди на улице — не только старухи и женщины, но и мужики и да¬
же военные — смотрят вслед Машке и Мирону, которые везут буты¬
лочки, и лица у них разглаживаются.
Война идет, а дети есть просят! Значит, растут! Значит, не так уж
плохи наши дела!
А у Мирона были еще две обязанности, может быть, самые труд¬
ные и важные для детской поликлиники. Он привозил дрова с берега
реки, пилил их, чаще всего в одиночку, колол, разносил охапки по¬
леньев к печкам и топил их.
Однажды он заболел, и Поля, возвращаясь из техникума, позвала
меня топить печки. Я пошел.
Топить печку — кто этого не умел в ту пору? Замечательное дело,
хоть и не такое простое, особенно вначале, когда огонь нужно раздуть,
превратить в пламя. Да что там, это целое искусство — затопить печь,
да еще сразу, с одной спички, да еще когда дровишки не первый
сорт — сырые, с улицы, из-под снега или дождя. Для такого дела сле¬
дует сперва нащипать лучины, а для лучины нужно лежалое в су¬
хости полено, лучше всего березовое. Лучину надо еще с умом разло¬
жить под дровами, поначалу сухими, а сырые можно класть только
в самый жар, когда пламя полыхает, жжет нещадным жаром.
Растопить одну печку и то требуется умение, а Поля мне сказану¬
ла такое, что я ахнул: надо запалить восемь печей! Поликлиника
большая — два этажа, два подъезда, множество кабинетов,—вот и
печей сразу восемь. Ничего не попишешь, надо топить.
Это оказалось сказочным удовольствием — топить сразу много пе¬
чек.
Сперва я носился на улицу и обратно с Полей наперегонки, таскал
дрова, и мы их складывали возле печей. Помню, было это в конце
октября, но зима торопилась, и на дворе осень смешалась с морозцем:
еще пахло осенней пряностью, палым листом, но запах этот был как
бы остужен, разбавлен резким холодом, а оттого легок и нежен.
Когда дверь распахивалась, на пороге между холодом и теплом
вспыхивало легкое облачко пара, яркое солнце подсвечивало его
КИКИМОРА 117
в голубое, и все это: легкий морозец, вкусный аромат осени, смешан¬
ной с зимой, легкое голубое облачко между холодом и теплом, жел¬
тые и чистые полы поликлиники, восемь печек, которые предстояло
затопить враз,— все это возбуждало меня, хотелось кричать, смеяться,
петь, и я запел не вполне осмысленную, но зато замечательную пе¬
сенку из кино, которую пел артист Жаров: «Тирьям-тирьям, менял
я женщин, как перчатки!»
Поля раскатилась, точно горох, услышав мою песенку. Я не уди¬
вился ее смеху, рассмеялся в ответ тоже, и дела наши пошли еще
скорее.
Наступил важный миг. Дрова неторопливо и с толком заложены
в топку, лучина нащеплена и разложена с умом, Поля берет коробок,
чиркает спичкой и поджигает лучину. Быстрым и ловким движением
она захлопывает печку, прислушивается, точно музыкант, к звуку
огня. Сперва он лишь пощелкивает лучиной, затем потихоньку на¬
чинает гудеть, а потом будто кто-то сильно дует на горячий чай: тяга
идет хорошая, с лучин пламя перебегает на дрова, пожар в печке
занимается, и у Полины возле губ собираются тоненькие морщинки,
она улыбается, довольна: печка топится исправно.
— Как ты поёшь? — спрашивает она.— «Тирьям-тирьям»?
— «Тирьям»! — отвечаю я, и мы оба хохочем.
От печки к печке Поля переходит не спеша, а я бегом, мне не тер¬
пится, когда в следующей топке, точно в домне, вспыхнет еще один
жаркий огонь. И еще мне не терпится зажечь печку собственными
руками. Но й помалкиваю, только, видать, есть и другие способы вы¬
ражения чувств — глаза, например, или перескакивание с ноги на но¬
гу, или просительное молчание. Растопив вторую печку, Поля протя¬
гивает мне коробок со спичками, я издаю пронзительный вопль,
трясу спичками в коробке, будто бью в радостный бубен, и бегом
мчусь к третьей печи.
Честно говоря, я волнуюсь.
Бабушка и мама разрешали мне топить печку, но та печка была на¬
шей, своей, а здесь печки чужие. Кому не известно, что у каждой печ¬
ки свой характер, они ведь как люди. Сколько печек, столько норовов.
Одна уродилась ядреная, жаркая, другая угарная, а третью с деся¬
той спички не запалишь — упрямый характер, что поделаешь. Так
что с печками лучше всего обращаться ласково, вежливо. Вон бабуш¬
ка моя, как печку топить, на коленях перед ней стоит, спичку к лучи¬
не подносит, а сама приговаривает: «Нуголубушка, давай разогрей¬
ся, гори ярко, грей жарко!» Прямо стихи декламирует.
118 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
И что вы думаете — печка у нас прямо благодетельница: до утра
не остывает, хоть какой тебе мороз.
Ну в здешние? Еще шесть печек надо затопить, а это все равно
как с шестерыми людьми о чем-нибудь серьезном договориться.
Волнуясь, поднес я спичку к лучине — она вспыхнула. По Поли¬
ному примеру я дверцу топки захлопнул, а у поддувала дверцу,
напротив, пошире распахнул. Огонь заметался, загудел — ну прямо
как по писаному. Умелый истопник, да и только.
Настроение у меня еще выше взлетело, но с печами не шутят,
я уже не пел свою «Тирьям-тирьям», а подбирался к следующей печ¬
ке вкрадчивым, вежливым шагом: как бы не подвела меня перед
опытной Полей.
Четвертая печь загудела ровно и мощно. И пятая тоже, и шестая.
Поля не удержалась, похвалила:
— Приходи к нам на работу. Ишь какой мастер!
И меня понесло. Отворил варежку, заорал во всю глотку от
Полиной похвалы: «Тирьям-тирьям, менял я женщин, как пер¬
чатки!»
Ну и что? Был тут же наказан! Седьмая печь, едва я разжег лу¬
чину, огонь потушила, дохнула мне прямо в лицо едким сизым ды¬
мом. Казалось, она устроена наоборот: дым у нее валит не в трубу,
а в помещение. Сколько я ни чиркал о коробок, как ни торопился
прикрыть дверцу, не желала разгораться эта седьмая, будто нарочно
хотела перечеркнуть мой удачный путь от печи к печи.
— Ладно,— сказала Поля, видя мои мучения,— она у нас харак¬
терная, давай спички.
И тут же печка даже обличьем переменилась как будто. То хму¬
рилась, кривлялась, а от Полиной руки огонь весело полыхнул, и да¬
же дым, какой в комнату наполз, вдруг медленно полез назад в под¬
дувало. Ну и чудеса!
Я притих, настроение скисло. Последнюю печку Поля затопила
сама, и мы с ней пошли обратно к самой первой, проверить, как
они топятся, эти восемь подруг, какое у них настроение.
Прямо рукой Поля открывала горячую дверцу — я удивлялся, как
не обожжется,— мешала в печном красном горле кочережкой, под¬
брасывала поленья, теперь уже сырые, снова рукой притворяла печь,
негромко напевала мою песенку: «Тирьям-тирьям, менял я...»
У последней, восьмой печки мы присели на минуту.
— Да ты, никак, на нее обиделся? — спросила Поля.
— На кого? — будто бы удивился я.
КИКИМОРА 119
— Да вон на ту старушенцию!
Врать не хотелось, я вздохнул вместо ответа.
— Это еще что! — сказала Поля, потягиваясь.— Разве такие бы¬
вают? Кикиморы бывают! Страху не оберешься, бывало.
Дело было в воскресенье, поликлиника пуста, мы с Полиной од¬
ни среди этих коридоров, кабинетов и печек, да и уроки я все вы¬
учил — торопиться некуда.
— Расскажи! — попросил я шепотом.
— Да ты не бойсь! — сказала, хохотнув, Поля.— Это я раньше
боялась, а теперь знаю, в чем дело.
Ну да, она теперь училась в техникуме с медицинским уклоном,
а там науками все давно объяснено.
— Мы раньше в деревне жили, и была у нас проклятая печка.
А все отец виноват! — сказала она.— Когда дом строили, позвали печ¬
ника, и он оказался ваш, вятский. Мать рассказывает, отец все пра¬
вила порушил, будто не знал,— жадность подвела. Сперва сильно
с печником торговался, до ругани дошло, тот уже уходить повернул¬
ся. Едва сторговались. Потом сразу работать его заставил — опять
неправильно. Да еще уколол: сперва, мол, заработай на щи-то. Печ¬
ник промолчал, потом все вроде гладко, миром разошлись, печка по¬
лучилась жаркая. Рассчитался с печником, тот ушел. А ночью,
когда тихо стало, такое началось! Кто-то заскрипел, заворочался, да
противно так — мороз по коже. Я еще маленькая была, завыла в голос,
а мать кричит: «Кикимора, кикимора!» Поставил работник в печку
кикимору — отцу назло. Я уж потом узнала: вятских печников при¬
нимать надо было наособицу — не торговаться, ведь печка на всю
жизнь ставится, один раз, а поперед работы усадить за стол да крепко
накормить, чтобы доволен был.
Я сидел ни жив ни мертв.
— А какая она бывает?
— Кикимора-то?— Поля засмеялась, но тут же сделала испуган¬
ное лицо.— Живет в печке, скрипит по ночам, детей малых да баб
пугает,— Она опять рассмеялась.— Оставил печник склянку с
ртутью, а в нее патефонных иголок горсть. Вот как остывает ртуть,
иголки-то и скрипят. А остывает печка, ясно дело, ночью.
Мы хохотали оба. Вот так да! Ларчик просто открывался, как
писал дедушка Крылов.
— Кикимора! — повторил я, смеясь, новое словечко — мне нра¬
вилось его повторять, было в нем что-то страшноватое и смешное
сразу.— Надо же, кикимора! Да, подвела твоего отца жадность,—
120 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
повторил я Полины же слова, но она как-то искоса взглянула на ме¬
ня, будто обиделась.
А я уже приготовился расспросить ее про Мирона: правда ли, что
он кулак? Раскулаченный кулак откуда-то с Урала? Но не решился.
Я глядел сбоку на курносый профиль Поли, которая вдруг сникла,
примолкла, и жалел ее, впервые подумав про Мирона: вот кто Ки¬
кимора-то!
Мирон болел недолго, к Октябрьским праздникам был на ногах
и с самого утра уже бродил неуверенно, пошатываясь, сильно пья¬
ный. Дворник, истопник, извозчик, он должен был по праздникам
вывешивать флаги. Я видел, как он прихватил лестницу, долго при¬
ставлял ее к железным держалкам, куда втыкают флаги, и ожесточен¬
но, с яростью вворачивал в них древко, приговаривая довольно гром¬
ко: «И-иэх! И-иэх!», будто ему было тяжело.
Я долго околачивался во дворе и сквозь дырчатый забор хорошо
видел, как разворачивались события.
Пошатываясь по двору, Мирон исчез в поликлинике. Потом дверь
откинулась нараспашку, и на улицу выскочила Полина. Я крикнул
ей что-то приветливое, но она лишь слабо махнула рукой и ушла со
двора быстрым шагом, низко опустив голову, будто не хотела, чтобы
я видел ее лицо. Странно: праздник, а она какая-то пришибленная.
Через полчаса в распахнутой двери появилась Захаровна. Наспех
одетая, она хромала и постанывала. Заметив, что я смотрю на нее,
Захаровна смолкла и неровным шагом исчезла вслед за Полей.
Я собирался было уходить, как вдруг появился Мирон. Он едва
не скатился со ступенек, но все же удержался, гортанно всхлипнул
и подошел к дровам. Возле нашего забора, с той стороны, грудились
распиленные чурбаны. Мирон принес колун, поплевал на руки и
вдруг стал раздеваться — скинул телогрейку, рубаху, нательное. Ли¬
цо и шея у него были красные, точно опаленные, а грудь белая, будто
бумага, и на спине бурыми кругляшами виднелись пятна от банок.
«Надо же, еще недавно болел,— подумал я,— а теперь разделся.
Простынет!»
Мрачно подвывая, Мирон схватил колун и начал крошить чурба¬
ки в поленья. Он не просто колол дрова. Он будто рубил кого-то, при
каждом ударе смачно матерясь.
— Эх, трам-тарарам!..
— Ых, твои дети!
— Ек-якорек!
122 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
Я стоял развесив уши. Немало чего порочного и недостойного
детского уха слышал я в нашем городке военной поры, а таких зву¬
косочетаний слыхивать все же не приходилось.
— Ах, вас-нас-матрас! — изливался Мирон.
— Ить-вить-растудыть!
Был он сильный, несмотря на впалую белую грудь, а сегодня еще
и яростный — видать, из-за вина,— и поленья отскакивали от чурба¬
ков, точно семечки, иные высоко подлетая, будто норовя Мирону
в лоб за его злость и словечки.
Я думал, он не видит меня, раз напился, но извозчик вдруг обер¬
нулся ко мне и крикнул с такой страшной яростью, что я съежился:
— Чаво уставился! Але не видал?
Серая борода его топорщилась лопатой в мою сторону, глаза свер¬
кали взаправдашней и непонятной мне ненавистью. Я растерялся и
проговорил в ответ:
— Здрасьте!
— Здравствуйте — не хвастайте! — зарычал Мирон, руганулся
многоэтажно и неслыханно и жахнул колуном по чурбану — будто
меня убивал.— Здравствуйте! — крикнул он, снова вскинул колун и
бухнул по деревяшке.— Не хвастайте! /
Он кроил кругляки с чудовищной силой и приговаривал как-то
навзрыд, подхохатывая: «Здравствуйте! Не хвастайте! Здравствуйте!
Не хвастайте». Будто сошел с ума.
И я знал: если бы ему требовалось ехать, он бы с такой же яро¬
стью и сумасшедшим гневом без всякой на то причины лупил бы сей¬
час безответную кобылу Машку!
Ему что дерево, что животина — все одно.
Да, все одно.
Мирон напивался во все праздники, но всегда при этом работал:
колол дрова, как тогда, или мел тротуар перед поликлиникой, разма¬
хивая яростно метлой и распугивая прохожих ругней, повторяемой
в такт шарканью своего инструмента.
А хуже всего, если он собирался ехать — ведь малыши требовали
еды даже по праздникам. В таком случае Мирон ругался еще ярост¬
нее, пересыпая свою матерщину извозчичьими восклицаниями —
«Но-о! Тпру-у!» Ужасней всех его слов был хлест вожжей и кцута.
Сперва, видно, для порядку, со всего маху прохаживался он по Маш¬
киной спине брезентовыми вожжами, вкладывая в удар всю свою
силу.
КИКИМОРА 123
Кобыла прядала ушами, приседала на задние ноги, изгибала шею,
кося на хозяина кровавым глазом, а молчала и только взглядом мо¬
лила о пощаде. Но что ему лошадиный взгляд, этому извергу Миро¬
ну. Он лупил кобылу для порядка, просто так, чтоб знала, кто она
такая и кто властвует ее жизнью.
Отлупил лошадь, изругавшись до пота, ослабев от своей физзаряд¬
ки и, кажется, даже получив удовольствие, Мирон наконец слабел,
крики его становились тише, невнятнее, Машка успокаивалась и
смирно становилась между оглобель. Он запрягал ее, подтягивал под¬
пруги, подлаживал какие-то ремешки и ремни и, довольный, цокал на
кобылу. Она трогала со двора, а в телеге — или на санях зимою —
тысячью колокольчиками брякали маленькие стеклянные бутылочки,
отсюда пустые, а обратно белые, полные, с изменившимся — чуть
поглуше — звуком.
Лошади ведь не машины, ходят только чуть побыстрее человека,
и порой я шел за Мироном и Машкой, нисколько не отставая от них.
Кучер дремал, борода его упиралась в рубаху, и Машка, каким-то
чутьем понимая это, утишала шаг, давая себе отдых. В эти мгнове¬
ния я шел поближе, негромко, чтобы не разбудить Мирона, разгова¬
ривал с Машкой, жалел ее.
— Правильно, Машка,— например, приговаривал я, — гнать неку¬
да, поубавь шагу, все равно этот сейчас проснется и погонит вперед,
передохни малость.
Машка не оборачивалась ко мне, но по ушам, которые шевелились,
стояли домиком, видел, что она меня слышит, и понимает, и считает
меня своим.
«Эх, Машка,— думал я в такие минуты,— отвезти бы сейчас мо¬
лочко малышам — это, конечно, дело нужное, да распрячь тебя, да
дунуть бы нам вдвоем куда-нибудь за город, к стогу сена, еще не
очень заметенному снегом, и забыть тебе этого проклятого Мирона».
Я представлял себе очень ярко: сижу верхом на Машке, а она,
сразу взбодрившаяся, подтянутая — ну что тебе буланый конь,— не¬
сет меня вперед бодрой рысцой, сверху видно все хорошо, и вот мы
уже на просторе, на лесной дороге, и Машка радостно ржет — хоть
бы разок услышать ее ржание!
Но Машка тяжело вздыхает, Мирон на телеге начинает ворохать¬
ся, я отстаю, и тут опять начинается безжалостная бойня. На малень¬
ком подъеме Мирон непременно просыпается, приходит в себя и при¬
нимается лупить кобылу со свежей яростью. Похоже, этот подъемчик,
который лошадь и так бы одолела без всяких понуканий, он исполь¬
124 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
зует как повод, чтобы поиздеваться над бессловесной тварью. А для
людей, для чужих глаз — оправдание: смотрите, как он старается на
работе, погоняет лошадь, чтоб лучше шла и на подъеме время не те¬
ряла.
Машке хочется уйти от этих ударов, она пробует поджать круп,
уйти от ременного, с тяжелым узлом на конце, кнута, но куда убе¬
жишь из упряжи да оглоблей? И она прибавляет шаг, качая головой
в такт шагам, надсаживается без всякой нужды, выполняя волю свое¬
го злобного хозяина.
А тот стегает Машку кнутом — она уже бежит, но он все стегает,
словно лупит ненавистного ему врага.
Наутро после тех праздников, когда Мирон, ругаясь, колол дрова,
по дороге в школу я наткнулся на его взгляд.
Вот это да!
Глаза у Мирона обладали свойством то расширяться, будто фа¬
ры, вылезать на лоб, а то прямо-таки прятаться, делаться маленьки¬
ми, как у рыбки.
Он глядел на меня поутру маленькими глазками — маленькими,
но какими-то твердыми, упорными — и сам кивал головой. А вдоба¬
вок стянул с себя шапку, приподнял над головой.
— Здравствуйте! — проговорил он хриплым и каким-то робким
голосом.
«Не хвастайте!» — передразнил я его про себя, но вслух этого ска¬
зать не посмел, а покраснел и слабо проговорил в ответ:
— Доброе утро!
— Вот-вот,— обрадовался Мирон,— доброе, доброе...
Хотя утро выдалось пасмурное и холодно-ветреное.
Он топтался на месте передо мной, совсем не похожий на вчераш¬
него: согнутая, усталая спина, оперся на метлу, глядит вопроситель¬
но, словно чего-то ждет. А чего от меня ждать?
Я двинулся вперед, норовя обойти его, но Мирон кашлянул, будто
хотел еще что-то сказать, и проговорил:
— Ты, это, на меня не серчай, старого дурака.
Извинялся за вчерашнее. А чего передо мной-то извиняться? За
руготню? Лучше бы перед Полей извинился да перед собственной
женой. И еще перед Машкой — наперед. Но надо было что-то отве¬
тить. А что я мог сказать? Я легкомысленно пожал плечами: дескать,
что за дела? Это, между прочим, хороший способ уклониться от от¬
КИКИМОРА 125
вета: когда нечего говорить, пожми плечами, и все тут. Понимай как
хочешь. Как непонимание, как извинение или еще как.
Мирон услужливо сдвинулся к краю тротуара, и я уже миновал
дворника, но вдруг услышал:
— Приходи на конюшню-то!
Я мигом развернулся. «Приходи на конюшню»! Да это же мечта,
это заветная моя идея — прийти на конюшню, похлопать Машку по
боку, задать ей сена в ясли — есть такое ямщицкое выражение, я где-
то читал.
— Когда? — выдохнул я.
— После школы, видать,— ответил Мирон.
Мне очень не хотелось, чтобы он понял мои чувства, этот непонят¬
ный человек. Я уже кое-что знал о жизни и не привык так скоро до¬
верять людям. Я молча кивнул, повернулся и погнал в школу, по
крайней мере, погнал до угла, чтобы вложить в бег всю свою ра¬
дость. Только на углу я расслабился и засмеялся. После школы я по¬
глажу наконец-то Машку. Но что за странный человек Мирон?
Да, дорого обошлась мне эта предательская доброта.
В школе я сидел, как на пиле, уроки не лезли в голову — мысли
мои были у конюшни,— так что учиться явилось лишь мое тело,
а дух витал возле Машки, и, как всегда водится в таких случаях,
я получил «плохо» по арифметике просто-напросто потому, что про¬
слушал вопрос учительницы.
Это на минутку привело меня в чувство, но лишь на минутку:
я трепетал от одной только мысли, что, пользуясь случаем, попрошу
Мирона подсадить меня на лошадь и прокачусь верхом хотя бы по
двору. Кто из наших пацанов мог похвастать таким? А я похвастаю!
Приду завтра в школу и всем расскажу: скакал верхом на лошади!
Тирьям-тирьям!
После уроков я расправил крылья и полетел в сторону дома.
Вообще-то, по-хорошему, требовалось оттаранить сперва портфель,
разогреть суп на плитке и самостоятельно пообедать, но какими пус¬
тяками казались мне эти никому не нужные ерундовые правила!
С ходу я завернул во двор поликлиники, подлетел к дверям ко¬
нюшни и обмер: в могучих железных петлях висел такой же могучий
амбарный замок.
Когда человек сталкивается с чем-то плохим или неприятным,
странное дело, он сначала пытается выдумать всякие оправдания.
Мол, виноватых нет, есть какая-то причина, чтобы вместо радости
и счастья — подвох и неприятность.
126 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
Я сразу подумал: Мирон запряг свою лакированную бричку и по¬
вез заведующую по важному делу — телега ведь стояла во дворе.
Конечно! Он что, должен бездельничать и ждать, пока какой-то
пацан явится после уроков на экскурсию по конюшне? Дел полно!
И не таких уж незначительных.
На всякий случай я решил проверить свое предположение и при¬
слонился ухом к стене конюшни. Я услышал лошадиный вздох и
внятный, знакомый звук хрупанья сена. Значит, Машка здесь.
Я попробовал успокоить себя и подумал еще: может, надо зайти
к ним домой, сказать конюху: «Здравствуйте, вот и я, вы же меня
приглашали». Правда, я всегда бывал в маленькой комнатушке с ок¬
ном у потолка, когда Мирона не было дома. Ну что ж, я ведь не ма¬
лыш, нечего робеть.
Я с силой оттолкнулся от стены конюшни, резко развернулся,
полный решимости зайти к Мирону, и замер.
Он смотрел на меня.
Стоял возле телеги, в руке держал вожжи, словно собирался
огреть ими, и смотрел с таким видом, будто видел меня впервые. И гла¬
за у него опять изменились: не большие, не маленькие, а средние и
будто пустые.
— Добрый день! — сказал я как можно приветливее, но он будто
не понял меня.
— Ты здесь чего делаешь? — спросил он и через паузу добавил: —
Вот как хлобыстну вожжами!
От негодования я аж захлебнулся воздухом, и это помешало мне
толково объясниться. Я кашлял и кашлял, как последний идиот, и
дураку было понятно, что человек, который ни с того ни с сего вдруг
закашлялся, конечно же, имеет какие-то злонамеренные цели. Чем
дольше я кашлял, тем глупее становилось мое положение: на глаза
навернулись слезы то ли от кашля, то ли от обиды, не поймешь.
А он-то не кашлял. Он говорил:
— Здесь шляться не положено! — Бросал фразу и умолкал.—
Ежели каждый шляться станет, что выйдет? — Он умолкал и через
паузу говорил еще: — Это конюшня, а там лошадь. И лошадь те¬
перь — транспорт, оборонный объект.
Я кашляю, он молчит.
— Может, ты подпалить хочешь этот объект?
Я! Подпалить Машку! Гад такой, сам же позвал и сам же изде¬
вается!
От негодования, что ли, кашель мой мигом прошел; не скрывая
КИКИМОРА 127
слез, я кинулся к нашему дырявому забору и уже там, на своей тер¬
ритории, крикнул, плохо видя Мирона — размывали, делали мутной,
нечеткой его фигуру мои горькие слезы.
— Сами же позвали! — гаркнул я нескладно, путая грубость с
вежливостью.— И сам же издеваетесь!
Дома никого не было, и я дал волю досаде. Сперва в голос по¬
выл — сдерживаться нечего, вокруг никого. Потом в ярости швырнул
портфель: ведь это Мирон до двойки меня довел! Наконец подлетел
к маминой кровати и принялся мутузить кулаками подушку.
Неожиданно, в самый разгар сражения с собственными чувствами,
я вдруг подумал, что ведь пьяный Мирон вот точно так же хвощет
чурбаны колуном, и расхохотался сам над собой.
Счастливая пора — детство: слезы и смех под руку ходят!
Смех помог мне, я разогрел суп, выучил уроки, почитал книгу,
стараясь отгонять мысли о Мироне. Но куда их прогонишь?
Я вышел погулять, и тут же меня окликнул Мирон.
— Парене-е-ек! — звал он меня из-за забора, а я глядел в сторону,
будто не слышал.— Эгей, паренек! А я ведь тебя не признал!
Не признал?
Я повернулся к конюху. С недоверием, но повернулся. Лицо Ми¬
рона выражало крайнее смущение — борода обвисла, глазки смирен¬
но, с мольбой глядят на меня.
— Ей-богу,— говорил он торопливо,— не признал, старый дурак.
Вчера вот гульнул, голова-то, видать, того, ишшо отуманена, да ты
проходи в забор-то, проходи! Машка уже заждалася!
Утишая гулкие грохоты сердца, я, точно зайчонок перед удавом,
сперва медленно и недоверчиво, потом все быстрее и охотнее двинул¬
ся к забору, а потом и к Мирону.
«Не узнал? — сомневался я,— Возможно ли такое? Поди, врет,
снова издевается?» Но конюх улыбался мне, глаза виновато взблес¬
кивали, он вынул из кармана ключ от амбарного замка, и я прибли¬
зился к конюшне.
Теперь можно поверить!
Дверь распахнута, и в черном провале я вижу почти слившуюся
с темнотой морду кобылы Машки. Она смотрит внимательно, насто¬
роженно, но есть не перестает: ее челюсти движутся не сверху вниз,
а справа налево, как будто она не кусает, а перемалывает клок сена,
свисающий с губы.
128 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
— Ты тут побудь, паренек,— говорит Мирон, деликатно не желая
мне мешать,— а я дрова поколю.
Он отходит, а я вхожу в душистый мрак конюшни. Пахнет сеном,
навозом, лошадиным потом, и, смешиваясь, эти запахи образуют дух,
приятный моему обонянию.
Эх, Машка! Разве такой должна быть наша первая настоящая
встреча, когда я могу погладить тебя по боку, прикоснуться к влаж¬
ным замшевым ноздрям, потрогать жилу, вздувшуюся на ноге?
Ведь днем, на переменке, я приготовил тебе настоящую школьную
булку. Да еще какую! Необыкновенную! Неизвестно, кто изо¬
брел этот волшебный способ превращения обыкновенной маленькой
булочки в необыкновенную большую, но это был истинно великий
человек. Небольшое усилие, и нате вам — огромный плоский
кругляш.
Это делалось очень просто. Требовался лишь кусок газеты, и то
для гигиены, а если парта чистая, и так можно.
Одним словом, готовясь к встрече с Машкой, я решил угостить
ее школьной булочкой. Суп, который выдавали нам в классе, слопал
просто так, «наголо», а булку аккуратно вложил между двух промо¬
кашек и начал прессовать ее крышкой парты. Бух-бух-бух — хлопа¬
ла крышка на переменке, и, после каждого жима заглядывая под
крышку, я видел, как плющилась булочка, как превращалась из пух¬
лого, но маленького комка в плотный, но тонкий блин, в целое румя¬
ное солнце. Сперва она стала больше вдвое, потом втрое, наконец
вчетверо.
Все мальчишки в нашем классе жали свои булки до возможных
пределов, и всем казалось, что она вырастала от этого сжатия во много
крат, потом жевали с тройным аппетитом, а я сложил свой кругляш,
это желтенькое солнце, в портфель, для Машки, и дома, в слезах и
расстройстве, начисто забыл о нем.
Вот так, Машка! Пришел к тебе с пустыми руками.
Побежать домой, взять плоскую булку и принести снова — я по¬
думал об этом первым делом, но тут же отрекся от своей мысли. А Ми¬
рон? Вдруг он закроет дверь? Да и объяснять ему все никакой охоты.
— Не горюй, Машка,— прошептал я кобыле,— за мной не заржа¬
веет.
Нет ли тут щелей, кстати? Я оглядел стену конюшни, выходившую
на наш двор. Понизу, на уровне моего роста, щелей не было, а вот
повыше просвечивала светлая линейка, только уж очень узкая, даже
самый тонкий блин не пройдет.
180 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
«Ладно,— вздохнул я,— что-нибудь придумаем». Хлопнул Машку
по боку и притащил ей из угла охапку сена.
Эх, эх! Надо бы и гребешок захватить, желательно крупный, с ред¬
кими зубьями, у бабушки есть такая расческа, только полукруглая,
ею, пожалуй, и Машку можно расчесать. А пока я разглаживал,
встав на цыпочки, лошадиную гриву руками, пропускал длинные
волосы сквозь пальцы, приглаживал на одну сторону.
Машка фыркала — мне показалось, от удовольствия, мягко пове¬
ла шеей и толкнула меня. Я свалился в сено и расхохотался — вот
она и играет со мной! Я лежал в сене тихонечко, чтобы не привлечь
внимания Мирона, смеялся, а Машка перестала жевать и удивленно
уставилась на меня.
Машка, Машка, бедная душа!
Я перестал смеяться, вспомнил, как Мирон лупит ее почем зря,
прижался к лошадиному боку, обнял кобылу, и она, точно услышав
мои мысли, тяжело и прерывисто, как человек, вздохнула.
— Жди,— шепнул я,— булку я принесу!
У меня уже была одна идея.
Дверной проем заслонила фигура конюха. Против света лица его
не было видно, он молчал, и я снова испугался.
Мирон помолчал и проговорил мрачно:
— Запрягать пора.
Я испугался опять — ведь он каждый раз, перед тем как запрячь,
нещадно лупит Машку. Что же делать, если он примется лупить ло¬
шадь при мне?
— Поглядеть желаешь? — спросил меня Мирон.
Я не знал, что ответить. Хотел ли я поглядеть? Еще бы! Но если
он станет лупить, лучше не надо.
Я так ничего не ответил — сжавшись, вышел из конюшни.
Глухо зацокали копыта — Мирон вывел Машку во двор, а я
быстро обернулся, приняв твердое решение. Если он ударит ее
хоть раз, я скажу ему прямо в лицо, кто он есть,— и будь что
будет.
Я видел, как напряглась Машка, подрагивая кожей. Я напрягся
тоже. Но Мирон был неузнаваем. Похлопывая кобылу по шее, приго¬
варивая невнятные и хриплые, но мирные слова, он надел на нее
хомут, завел в оглобли — и все без единого крика!
Я перевел дыхание и случайно взглянул на крыльцо. Там стояли
Поля и Захаровна. Мне стало легче и как-то лучше, я улыбнулся им,
а Захаровна помахала мне ладошкой. И вдруг я понял, что они вышли
КИКИМОРА 131
на крыльцо вовсе не случайно. Они вышли посмотреть. Вот только на
что?
На то, как Мирон запрягает лошадь? Так они это видели тысячу
раз. На Машку? Что здесь невиданного? На меня? Меня ведь Мирон
впервые подпустил к лошади. Впрочем, разве я просился?
Тогда на Мирона? На то, как он заводит в оглобли лошадь — без
крика и жестокого битья?
Мне стало легко на сердце: ведь вот можно же тихо, мирно,
с лаской.
Машка стояла снаряженная в путь, Мирон грузил на телегу сет¬
чатые ящики с пустыми бутылочками, а морщинистая Захаровна
и Поля все не сходили с крылечка, разглядывая нас. Наконец телега
загружена. Мирон снова заметил меня.
— Хочешь прокатиться? — спросил он.
Машке и так тяжело, и я отказываюсь, трясу головой.
— Да не на телеге,— говорит он.— Верхами!
Не верхом, а верхами — ишь как выразился!
— Прокатись, прокатись! — кричит с крыльца Поля, а Захаровна
опять машет мне рукой, натягивая низко на лоб свой белый платок,
будто что-то им прикрывая.
Мирон подходит ко мне сзади, подхватывает меня, ставит на
оглоблю и помогает забраться на лошадиную спину.
Елки! И правда, сверху видно все по-другому. И двор, и дом наш,
и дырявый забор, и поленница, и даже сам Мирон как будто чуточку
уменьшается, становится ниже.
— Но-о! — басом кричит конюх, и моя подруга Машка послушно
трогает с места.
Меня переваливает с боку на бок от ее медленного хода, а я готов
орать в восторге. Но орать нельзя. Во-первых, стыдно. Стыдно при¬
знаться, что я первый раз в жизни еду верхом, хоть и на запряженной
в телегу лошади. Орать нельзя еще и потому, что, может, раз в жизни
Машку запрягли без битья и криков — грубых, матерных, прокля¬
тых криков.
Я дотягиваюсь до Машкиной гривы — боюсь свалиться, а все же
дотягиваюсь, — треплю ее шею: спасибо! Хотелось бы погладить твои
уши — единственное веселое, что есть в тебе, они шевелятся направо-
налево, чутко поворачиваются, настороженно слушают мир вокруг,
и хотя слушают с опаской и осторожностью, но двигаются весело —
веселые уши.
Возле ворот Мирон кричит «Тпр-pyb, и лошадь останавливается.
132 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
Мне теперь не помогают, а слезть красиво я еще не умею. Я свали¬
ваюсь, будто куль с мукой, а поднимаясь, шепчу Машке:
— Извини!
Она фыркает. Отфыркивается от моих слов: мол, какие пустяки!
Я смотрю на крыльцо, снова вижу Полю и Захаровну и тут понимаю,
что их взгляды что-то означают. Конечно, и поддерживают, ободряют,
хвалят меня, но не только.
Сдерживают Мирона?
Он проезжает мимо меня, я кричу ему весело, простив его прегре¬
шения:
— Спасибо!
Но он как будто оледенел. Я кричу рядом, и громко, почти в ухо
ему, а он ничего не слышит.
Машка доходит до угла, и Мирон вдруг принимается хвостать ее
вожжами.
Сердце мое сжимается.
Что за человек? Что за кикимора?
В тот же день, пока Мирон уезжал за детским питанием, я проде¬
лал хорошую дыру в стене конюшни. Взял молоток и стамеску из
отцовского столярного хозяйства, подтащил лестницу и расширил
щель, примеченную днем. Работал я спокойно и хозяйски, ведь эта
сторона конюшни выходила к нам во двор. Через дыру можно было
даже погладить Машку.
«Форточку» свою я заткнул куском старой пакли, так что и кон¬
спирация соблюдена.
Инструмент я аккуратно сложил в положенное место, а лестницу
оставил возле конюшни.
Мне все помогало, даже сама природа!
В воздухе уже давно намечались перемены, только пока неясно
какие, и вот морозец приуныл, потеплело, зато небо укутали низкие
лохматые тучи, похожие на серые домашние тапочки из собачьего
меха, и начался настоящий праздник — повалил снег. Да какой! Буд¬
то там, в небесной канцелярии, недовыполнили производственный
план и вдруг спохватились, открыли все заслонки. Таких крупных
хлопьев я в жизни не видывал. Снег так торопился на землю, что па¬
дал не отдельными снежинками, а целыми пригоршнями.
В мгновение все вокруг исчезло: забор, дом и даже конюшня, ко¬
торая была совсем рядом. Сугробы пухли на глазах, и весь мусор,
КИКИМОРА 133
который наскоблил я стамеской, сперва затушевало, а потом совсем
стерло с лица земли. Никаких следов!
Не очень-то я боялся этих следов, но на всякий случай, конечно,
неплохо, ведь я не хотел, чтобы про мою «форточку» знал хоть кто-
нибудь. Даже мама или бабушка.
А снег валил. И душа ликовала.
Как хорошо, когда со всех сторон тебя обступили снежные стены.
Будто ты в белой комнате. Хлопья глушат голос — о-го-го! — звук
пропадает в двух шагах от тебя, но тебе вовсе не страшно: ты же
дома, на собственном дворе,— и наоборот, интересно, ни на что не
похоже, даже как будто уютно.
Я вдоволь поглазел по сторонам, под ноги, над собой — будто
упакован в снежную коробку, со всех сторон белые обои, а сверху
снежинки несутся прямо в открытые глаза, делается смешно и прият¬
но,— и потихоньку двинулся к забору, проник сквозь него, не спе¬
ша, по-хозяйски прогулялся по двору поликлиники и вышел на
улицу.
Я хотел подождать возвращения Машки, чтобы принести ей свою
расплющенную школьную булочку. И вообще день выдался длинный,
полный разных событий, тревожных и радостных, но все-таки этот
день получался необыкновенным, и я походил на кувшин, перепол¬
ненный радостью, как водой.
Мне казалось, я один на улице: никого ведь не видно в сплошном
снегопаде. И я запел — сперва потихоньку, а потом во все горло,
совершенно забыв, что я все же на улице:
— «Тирьям-тирьям, менял я женщин, как перчатки. Тирьям-
тирьям...»
Что-то у меня ничего не получалось дальше этой строчки, да и
была ли следующая, не знал.
И тут из снежной стены, как в сказке, выступила заведующая
поликлиникой с маленьким портфельчиком и, чтобы лучше видеть
меня в этой снежной мешанине, склонилась к моей шапке.
— Мальчик,— спросила она удивленно,— где ты подобрал эту
песню?
И густой снег и неожиданное возникновение именно заведую¬
щей — все это было невзаправдашним, точно во сне, и я, против
обыкновения, не растерялся и не покраснел, а ответил громко и
внятно, как на уроке, с этаким даже воодушевлением:
— В кино, у артиста Михаила Жарова.
Заведующая походила на жирафу: согнувшись почти пополам,
КИКИМОРА 135
она повернула ко мне ухо, чуть прикрыв глаза, мучительно что-то
вспоминая. Потом встрепенулась.
— А ты представляешь, как меняют перчатки? — спросила она
строго, внимательно разглядывая меня.
— Не! — ответил я с готовностью.— Вот варежки — представ¬
ляю! — И будто в доказательство того, что действительно представ¬
ляю, протянул к заведующей свои руки в потертых варежках.
— Ну? — хлопнула глазами длинная тетка.
— А чо их менять? — спросил я.— Видите, еще крепкие.
Заведующая неожиданно фыркнула — ну почти как Машка, так,
не разгибаясь, и фыркнула, подумала еще о чем-то, все еще не разги¬
баясь, потом все-таки распрямилась и двинулась мимо меня вперед.
Мне даже пришлось отступить в сторону, в глубокий снег,— такая
она была большая.
Заведующая неторопливо проплыла мимо меня и тут же раство¬
рилась в снежной стене.
Оттуда она фыркнула еще раз, а я пожал плечами. И вдруг она
запела:
— «Тирьям-тирьям, менял я женщин, как перчатки!»
Наступила секундная тишина, и оттуда, где исчезла заведующая,
послышался дикий смех.
Она хохотала так, как никто не умел. В принципе ей можно было
выступать в цирке и брать деньги за такой дикий хохот.
Мне показалось, что даже снежные хлопья вздрагивали, прижи¬
маясь к земле.
Интересно слушать звуки, когда вокруг ничего не видно.
Стихли раскаты грома — отхохоталась заведующая, не зря гово¬
рят: смех без причины — признак дурачины,— а потом я услышал
то, чего ждал: звон множества колокольчиков. Сегодня он был не та¬
ким, как всегда, еще глуше, еще тише, и я блаженствовал, вслуши¬
ваясь в него, пока бутылочки не забренчали совсем рядом. Мимо
меня медленно прошла тень Машки, растушеванная снегом.
Я развернулся к дому, представляя себя ледоколом, отважно про¬
рубил ледяные торосы, вытащил дома белую плоскую булочку и не
утерпел, откусил кусочек. Белый хлеб волшебно таял во рту, но я не
давал ему легкомысленно проскакивать в горло, растирал мякиш по
нёбу, держал под языком. Он не послушался, все-таки проскочил
внутрь. От этой дразнилки захотелось есть. Домашний суп варился
на голой капусте, его не надолго хватало, и к маминому возвраще¬
нию с работы я походил на тигра, не кормленного неделю. Но нет,
136 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
предательство недопустимо, я уже обещал Машке, да и что будут
стоить добрые пожелания без поступков?
Я взял булочное плоское солнце, вышел на улицу, влез на лесен¬
ку у конюшни, вытащил паклю, и мою руку сразу лизнуло что-то
теплое и шершавое.
— Машка,— прошептал я и стал аккуратно подавать в мягкие,
деликатные губы кусочки школьной булочки.
На душе было тепло, и очень помогал снег: мы были вдвоем
с кобылой. Я жалел ее, приговаривая ласковые слова, и можно
было не стесняться собственной нежности: все стирал бесшумный
снегопад.
Настала зима, последняя военная зима, но кто знал тогда это?
Машка сменила телегу на сани, и потихонечку, незаметно, работы
ей прибавлялось: теперь уже не один, а два раза за утро гонял ее
Мирон на молочную кухню за дополнительной едой для самых ма¬
леньких малышей.
Я видел лишь это — у Машки прибавилось работы — и жалел ее,
вот и всё, а мама и бабушка замечали совсем другое — ведь женщи¬
ны! — и часто про это говорили.
Начинала всегда бабушка, она возвращалась из магазина очень
рано, когда я еще не ушел в школу, приходила вся в снегу, продрог¬
шая, отоварив карточки, прижимая к животу сумку с малень¬
кими свертками, но говорила теперь не про еду, а совсем про дру¬
гое.
— Все больше и больше,— сообщала она, и мама понимающе
улыбалась.
Но я совершенно не понимал.
— Чего больше?
— А того! — весело отвечала бабушка.— Женщин с утра у поли¬
клиники все больше и больше. За детским питанием, понимаешь?
Значит, детей рождается больше и больше.— Она разматывала пла¬
ток, снимала валенки, зацепив носком одного за пятку другого.—
Видать, к концу война-то,— улыбалась она?
— Твоими бы устами да мед пить, — отвечала мама, грустно
вздыхая.
Что война пошла к концу, и младенцу ясно: Левитан каждый
день по радио говорит, что мы сражаемся уже не на нашей земле.
Гоним фашистов!
КИКИМОРА 137
Но у бабушки на этот счет свои приметы. Она объясняет маме,
а у меня ушки на макушке.
— Раненые возвращаются,— говорит она.— Пока раненые — и то
уже какая прибавка.— Она смеется и уточняет, пожалуй, для меня: —
Прибавка детишек!
Я не очень понимаю ее радость, но твердо уверен: раз бабушка
радуется, значит, и вправду хорошо. Она меня никогда не подводит.
— Машке работы больше,— вздыхаю я, а бабушка с мамой сме¬
ются:
— Побольше бы такой работы!
Но Машка Машкой, у меня с ней дружба, а есть еще Мирон —
вражья сила, как бабушка однажды выразилась.
«Сила, да еще коварная»,— добавлю я.
Зима установилась, я встал на лыжи и после уроков гонял на сво¬
их обрубышках с крутых гор нашего оврага. Пока я катался со средних
спусков, дорога у меня была одна, но постепенно, к середине зимы,
мастерство мое возросло, и я решил освоить самый крутой склон.
А он начинался от поликлиники, за конюшней. Так что требовалось
пролезть в дырявый забор и пройти по двору поликлиники — только
тогда можно добраться до вершины горки. Или еще снизу, из оврага,
подниматься вверх, но это уж потом, когда скатишься. Для начала же,
для первого спуска, мне удобней всего было пройти через Миронов
двор. Я и ходил, вовсе не думая, что лыжи мои оставляют след на
снегу и след с абсолютной точностью указывает, кто откуда и когда
двигался на этих лыжах. Двор поликлиники был общий, его пере¬
секало множество разного народу, и мне в голову не приходило,
что кто-то станет выслеживать меня.
Я одолел забор, двинулся по двору и увидел Мирона. Он сидел
на краю распряженных саней, точно на тропе, оглобли смотрели в
небо, как зенитки, курил «козью ножку» и нетерпеливо поглядывал
на меня, будто ждал. Я вежливо поздоровался.
Он треух не сорвал, небрежно кивнул мне в ответ, я было уже ми¬
новал его, как он спросил неожиданно:
— А ты, поди-ка, пионер?
Я мотнул головой. В пионеры мне ровно через год, пока рановато.
— А батя-то у тебя, поди, большевик? — спросил Мирон.
— Аха! — ответил я не без гордости.
Батя у меня большевик, и на фронт он ушел среди первых, добро¬
вольцем, а не просто так. Добровольцем — значит, сам вызвался,
это же каждому ясно.
КИКИМОРА 139
— Молодец,— весело похвалил Мирон, и непонятно было, кого он
хвалит, отца или меня.
Я ничего не понял из разговора, а оказалось, напрасно. Только
оказалось-то чуть спустя. Спрашивает человек, как ему не ответить?
Я кивнул Мирону, добрался до своей горки — езда у меня уже
получалась — и не без задней мысли обернулся на конюха: смотри,
мол, сейчас слечу вниз. Я еще улыбнулся ему, простофиля, по¬
тер, чуточку приседая, лыжами о снег, чтобы лучше скользили, и
поехал.
Явился я домой уже в сумерки, когда мама вернулась с работы.
Они с бабушкой стояли возле нашей печки, и я сразу насторожился:
обе сложили руки кренделями, лица хмурые, глядят на меня вырази¬
тельно — с какой-то такой брезгливостью.
Мысленно я окинул прожитый день, тщательно в нем порылся,
как в собственном кармане, отыскивая там прорехи и прегрешения,
но ничего не обнаружил — деяния мои были святы и беспорочны:
дневник украшала крупная, как хороший стул, только в переверну¬
том виде, четверка по арифметике, потом я заскочил в библиотеку,
вовремя ел, катался на лыжах, и вот он я, весь как на ладони.
Мама сдвинула брови, нахмурилась, задала первый вопрос. Я сра¬
зу понял: идет серьезное дознание.
— Как ты мог? — спросила мама, а бабушка только вздохнула,
будто я уже в тюрьме, и качнула, осуждая, головой из стороны в сто¬
рону.
— Что? — спросил я, заливаясь краской.
Да, да! Есть на белом свете безвинные люди — а их почему-то
больше всего среди маленьких и честных,— которые при взгляде
в упор или из-за какого-нибудь дурацкого вопроса начинают яростно
краснеть, просто костром полыхать, и, хоть ни в чем не виноваты,
никто им поверить не может по глупой, хоть и древней поговорке:
на воре шапка горит. А тут не шапка — лицо. Полыхает — и хоть
умри, никогда своей невиновности не докажешь.
Я даже потрогал щеки еще холодными с мороза руками, чтобы
остудить их. Это только прибавило уверенности в моей вине.
— А еще ученик! — сказала бабушка.
— Ха-ха,— попытался я успокоить себя, но это было совершенно
не убедительно даже для меня самого.
А маме и бабушке этот дурацкий хохоток подтвердил правоту
их обвинений.
— Вокруг столько хулиганства! — воскликнула мама, и в ее гла¬
140 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
зах засияли слезы.— Но от тебя... Неужели и ты! Старому человеку!
Я начинал приходить в себя. Когда непонятно, то легче. Я совер¬
шенно не понимал, о чем идет речь, и, таким образом, испытывал
унижение.
— В чем дело? — проговорил я фразу, вычитанную в какой-то
серьезной книге. Она мне нравилась своей определенностью. Я дал
себе слово запомнить ее на всякий случай, и случай этот настал.
На моих родных женщин фраза произвела ожидаемое впечатле¬
ние — ряды заколебались. Мама и бабушка поглядывали на меня
по-прежнему с осуждением, но руки уже не держали, как судьи, ка¬
лачиком.
— В чем дело? — проговорил я мягче, вкладывая в слова озабо¬
ченность, разбавленную непритворным интересом.
— Что произошло у вас с Мироном? — уклонилась от прямого
ответа мама.
С Мироном? Что у меня могло произойти с Мироном?
— Он спросил, не пионер ли я,— пожал я плечами,— а потом
спросил, большевик ли отец.
Мама и бабушка переглянулись, и я понял, что дал им пищу для
дополнительных размышлений. Они помолчали.
Первой собралась с мыслями бабушка.
— А потом? — спросила она.
— А потом я подошел к горе и съехал вниз.
Ах эти женщины! Не поймешь, откуда что берется! При чем тут
Мирон, мое катание, зачем эти обходные маневры — липовая стра¬
тегия? Все-таки не зря среди генералов нет женщин. К чему они
клонят? И уж клонили бы скорее.
Жар, видно, схлынул с меня. Мне не терпелось добраться до сути
их замысла.
— Что дальше? — спросил я, наступая.
— Нет, нет! — Мама протянула в мою сторону вытянутую руку,
ладонью точно останавливала меня, мой торопливый бег. — Что было
перед этим?
— Я говорил с Мироном.
— А между? — Мамины глаза сверлили, щеки разрумянились,
будто она добралась до главного.— Между Мироном и тем, как ты
скатился?
Что там было? Я пожал плечами, но теперь уже совершенно спо¬
койно, не краснея, искренне теряясь в догадках: что там могло про¬
исходить?
КИКИМОРА 141
Я молчал, и вдруг мама, моя дорогая, любимая мама произвела
нечто непередаваемое:
— А вот так? — воскликнула она и смешно потрясла, извините,
тем, что называют нижней частью туловища, изображая какое-то
неприличное, действительно оскорбительное движение.
Я помотал головой. Шарики, то есть глаза, наверное, катались
у меня где-то на лбу, рот распахнулся от удивления, и вообще, по¬
хоже, весь мой вид выражал такую неподдельную искренность, та¬
кой интерес, такую пораженность, что в маме что-то щелкнуло и
переключилось.
— Как, как? — воскликнул я, но в маме уже щелкнуло и пере¬
ключилось. Она что-то такое поняла.
И тут только до меня доперло. Я все понял! Меня обвиняют в
оскорблении, в хулиганстве, в каком-то невероятном грехе, но никто
точно не знает, что означает моя непристойность.
Я захохотал, как заведующая поликлиникой, заржал, как су¬
масшедший конь, я вспомнил, что я делал между разговором с Ми¬
роном и тем, как скатиться.
— Я потер лыжами о снег,— сказал я своим прокурорам,—
вот так! — И показал на полу, как трут лыжами о снег, чтобы они
лучше скользили.
Что тут произошло! Мама и бабушка — теперь уже они, мои до¬
рогие,— вспыхнули от причесок до самых воротничков. Они полыха¬
ли ярким пламенем, и им было стыдно передо мной. Такого еще не
бывало в моей жизни — обычно стыдиться следовало мне. А теперь
стыдились они.
Первой опамятовалась бабушка.
— Будь он проклят, этот Мирон! — сказала она и даже сделала
вид, что плюнула. На самом деле бабушка никогда бы не могла плю¬
нуть в комнате.— Погрешить на мальчонку, это надо же.
— А мы-то, мы! — воскликнула мама, отворачиваясь от меня.—
Хороши с тобой!
Это был неприятный вечер. Может, самый неприятный за все мое
детство. И мама, и бабушка, и я принимались болтать о чем-нибудь
серьезном или неважном, но даже болтовня неловко обрывалась са¬
ма собой, и наступало молчание. Выходило так, что не болтовня,
а молчание было главным для каждого из нас, казалось, что, и бол-
тая-то, мы молчим и произносим слова только для того, чтобы при¬
крыть ими молчание, точно голые люди прикрывают тело тряпьем,
чтоб не было стыдно.
142 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
И я подумал, что эта проклятая кикимора Мирон добился своего.
Не удалось наказать меня, так он наказал всех троих. И если ему не
удалось заставить сомневаться во мне маму и бабушку, то зато уда¬
лось заставить меня укорить их, хоть и про себя, за недоверие ко мне.
Да, человеческое коварство многолико и разнообразно. Притво¬
ряясь благом, оно ранит людей, сеет подозрительность и недоверие,
главных врагов любви. И надо немало сил и ума, чтобы выполоть
их, эти недобрые ростки, будь они прокляты.
Только уж перед сном все мы пришли в себя, точно кто-то вспуг¬
нул наши души, и они лишь теперь возвращались на место.
Я лег в постель, мама наклонилась ко мне, поцеловала в перено¬
сицу и прошептала, чтоб не слышала бабушка:
— Прости, сынок.
Она ушла в кухню, а ко мне на цыпочках, чтоб не слышала мама,
подобралась бабушка и, склонившись, прошептала в самое ухо:
— Бес попутал!
— Бабуш! — прошептал я.— А что это означает?
Бабушка махнула на меня рукой. Я помог ей — засмеялся. Она
тоже хихикнула. За дощатой переборкой прыснула мама.
Мы хохотали, прощаясь с прожитым днем, прощаясь с Мироном,
его поклепом, глупой доверчивостью женщин и моей возможной не¬
осмотрительностью.
— Старый хрыч! — воскликнула бабушка.
— Старая кикимора! — поправил я.
Насмеявшись, мама сказала задумчиво:
— А ведь не зря он спросил про большевика, чует мое сердце!
Доброта обладает опасной властью, заставляя забыть зло. Добро¬
та склоняет к прощению. Но ведь порой прощение — беда. Не для
того, кого прощают, нет. Тому, кто прощает.
Поутру Мирон сорвал передо мной свой треух.
— Молодец! — воскликнул он.— Булки не пожалел!
Я содрогнулся: откуда он узнал? Мирон понял мое удивление,
разъяснил:
— Накрошили вы с ней маленько. Я увидел.
«Глазастый!» — про себя ответил ему я.
— А вот дырку ты прорубил зря! — жалобно проговорил он.
И начал наворачивать: — Дождь зальет, снегу навалит. Опять же
казенное имущество — ныне знаешь как строго! Но ты добрый, доб¬
рый! Молодец!
Я ничего не говорил, ничего не отвечал, я был желторотым
КИКИМОРА 143
воробьем, возле которого прохаживается кот да ласково мурлычет,—
и страшно и интересно. Выслушав одобрения, смешанные с далекой
угрозой, я обошел Мирона, а по дороге в школу, размышляя над его
словами, решил по наивности, что ободрения в них все же больше,
чем угрозы. Вон сколько раз повторял: «Молодец, молодец», даже
по плечу похлопал, когда я огибал его.
На прощание Мирон сказал:
— Заходи к Машке-то, проведай, как захочешь.
«Как захочешь»! Выходит, если верить Мирону, дверь на конюш¬
ню теперь всегда открыта для меня.
Я старался обрадоваться, хотел запрыгать от радости, но что-то не
радовалось и не прыгалось. Вчерашняя ранка затягивалась не сразу,
хотя и затягивалась, должна затянуться: ведь я вроде бы как связан
с конюхом.
С тех пор как я прокатился на Машке, а потом свалился с нее ку¬
лем, мое положение в школе переменилось: народ наш считал меня
лихим всадником — ведь про куль-то я умолчал. И про многое другое
в классе не знали. Зато знали всякого такого, что я и сам-то слышал
во второй раз: второй от самого себя, в школе, а первый из тома до¬
военной энциклопедии, которую читал каждый вечер, готовясь к утру.
Нет, что ни говори, а страшная шутка — слава. Про Машку-то,
про то, что на ней прокатился, сказал единственному Вовке Крошки-
ну — я даже и хвастаться не хотел, просто сказал: «Вчера катался на
лошади», но и этого хватило. К середине уроков весь класс уже знал,
что я скакал на коне. Рядом, мол, у меня конюшня, вот я и уговорил
конюха. Не станешь ведь махать руками и каждому честно объяснять,
как было дело. Я сперва помучился, а потом плюнул: невелика беда!
Я ведь прокатился? Прокатился! А как потом слезал — не так уж,
оказалось, важно для нашего класса.
Только зря думал, что беда невелика.
Теперь каждый день приходилось читать в энциклопедии про
лошадей. И не просто читать — готовиться. Почище, чем к урокам.
Каждый день — на переменке или перед уроками — меня теперь
окружали люди, всерьез интересующиеся лошадьми. И я должен был
им рассказывать, да не просто как-нибудь, а каждый день подавай
что-нибудь новенькое, будто я знатный наездник, в самом деле. Или
конюх.
Кашу заварил все тот же Вовка. Я ему сказал, что самые первые
предки лошадей были ростом с кошку. Он выпучил глаза, завыл, на¬
до мной издеваясь, изобразил, что падает в обморок, а на уроке —
144 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
бух! — поднимает руку и спрашивает, верно ли, что когда-то были
такие крохотулечные лошадки. А учительница его как обухом по
голове:
— Правда. И теперь такие есть, правда, чуть побольше — с соба¬
ку.— Еще улыбнулась: — Можно в сумке носить.
Ну, и пошло. Вовка весь урок проерзал, на меня радостно косил¬
ся, а едва звонок прогремел, начал громко приставать: расскажи
да расскажи еще что-нибудь про лошадей. Вот я и старался. Да к тому
же мне в голову пришло про лошадей рассказывать в форме вопро¬
сов — это ребятам очень почему-то нравилось.
— Знаешь,— спрашивал я,— сколько раз надо ее кормить? —
Речь, понятно, шла о лошади. И Вовка мотал головой.— Два раза! —
чеканил я.— А знаешь, когда?
Вовка или кто-нибудь другой с яростной готовностью мотал голо¬
вой.
— Утром и вечером.
И теперь уж никто не сомневался в моих словах, не пререкался
и не спорил. От частого употребления слово «знаешь» превратилось
в «знашь».
— Знашь, сколько раз поить?
Голова или даже сразу несколько голов мотались передо мной,
и мне это, скажу честно, нравилось.
— Три! — говорил я.— Знаешь, какие типы лошадей в армии? —
Выдержав паузу и приняв мотание голов как дань своему авторитету,
я перечислял, прикрывая глаза: — Верховой, артиллерийский, вьюч¬
ный, обозный... Знашь основной показатель лошади?
Слова я употреблял серьезные, тоже из энциклопедии, но это ни¬
кому не казалось неестественным, наоборот, я только ярче освещался
лучами славы, будь она неладна.
— Аллюр.
— Аллюр три креста! — с восторгом прошептал Вовка слышанное
в каком-то фильме.
Я тоже помнил это выражение, но взглядывал на друга с укориз¬
ной — экий ты несерьезный человек, мол! — и пояснял:
— Есть быстроаллюрные и медленноаллюрные.— Я входил в што¬
пор — приступал к высшему пилотажу: — Знашь, какие быстро¬
аллюрные?
Класс — уже весь класс слушал меня — мотал головами.
— Верховые и рысистые... Знашь, какие медленноаллюрные?
Тяжеловозы.
КИКИМОРА 145
Я входил в пике и блистательно выводил из него свой самолет.
Я щеголял редкими знаниями, и мало кто понимал, отчего я порой
тяжело вздыхаю. А я жалел учительницу Анну Николаевну. Выхо¬
дило, я, как она, готовился к своим жеребячьим урокам и уже был
на последнем дыхании: мои энциклопедические знания кончались
вместе с короткой статьей в пухлом томе. А учительница — как она?
Говорит всегда интересно, все помнит и знает. Может, ночами не
спит, готовится?
Кроме этого, я думал о Мироне. Ссориться с ним, выходило, нель¬
зя. Кончится энциклопедия, что говорить стану? Придется ведь к не¬
му идти!
Ясное дело, о него и обжечься можно, что там я — вот Поля с За¬
харовной от него маются, близкие его, опять же он хозяин Машки,
и если лошадь меня интересует, то я тоже что-то сделать должен,
чтобы у него доверие заработать.
Но вот как?
Он приглашал меня — ласковый стал. «Заходи да заходи». Я за¬
ходил в конюшню пару раз, но неуверенно, с неловким чувством, вро¬
де как прихожу на правах гостя. А мне хотелось прав других —
хозяйских.
Однажды меня осенило. Шел из школы прямо по дороге — тро¬
туаров в войну не чистили,— и озарило!
Лошадей было в городе много, я уже говорил — главный тран¬
спорт, а транспорту требуется заправка, то есть сено, и вот это сено
без конца возили по улицам — обозами или на одиночных подводах.
А когда сено везут, оно, как ни старайся, потихоньку падает — клоч¬
ками, побольше и поменьше. И я решил собрать для Машки поболь¬
ше сенца с дорог.
Бросил дома портфель и допоздна бродил по улицам — накопил
маленький пучок. Сразу Машке не понес, сложил возле конюшни,
решил: тут будет мой стог.
Когда бродил по улицам, улыбался своему сравнению: вот Машка
возит дополнительное питание маленьким малышам, а теперь я ей
соберу дополнительное питание. Я думал еще о том, что, когда соберу
внушительную копну, Мирон непременно меня зауважает. Именно
такой поступок он может и должен по достоинству оценить.
Не раз и не два видел я, как старухи, женщины и даже девчонки
подбирали это дорожное, ничейное сенцо, всегда еще думал: кому
оно? Спросить их самих — не хватало любопытства, а теперь вот и
мне потребовалось сено.
146 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
Собирать клочья надо было с толком, в какую-нибудь сумку,
и я приспособил собственный портфель. Гнал домой, выкладывал
учебники и тетрадки и шел по городу, бдительно осматривая дорогу.
Удивительное дело! Как только начинаешь заниматься всерьез
чем-нибудь даже очень простым, выясняется много такого, чего ты
даже и не предполагал. Например, уже дня через три я понял, что
город делится на участки — да, да! По улицам, которые ближе к ре¬
ке, бродила бровастая девчонка в пуховой шапке, которая кончалась
длинными, до пояса, ушами с розовыми колбочками. Щеки у девчон¬
ки горели цветом пуховых помпошек, а черные глаза под черными
бровями при моем появлении настораживались. В левой руке она
держала небольшой полотняный мешок, а в правой веник. Веником
черноглазая подметала дорогу, сгребала в кучку все травинки и бе¬
режно укладывала в мешок.
Сперва, заметив девчонку, я повернул просто так, не желая ей ме¬
шать, а на третий раз понял: да это же ее участок!
На улицах, дальних от реки, хозяйничала старуха в фетровом ма¬
линовом капоре, из-под которого виднелся белый платок. Старуха,
видать, была побогаче, ходила без веника, наклонялась только за
клочьями, и та девчонка с берега могла бы тут немало намести.
Так что у реки была девчонка, возле поля — старуха, на горах, ко¬
торые окружали наш овраг, еще две старухи, и я, оказалось, действо¬
вал в окружении. Хорошего тут мало, и я решил перейти в наступле¬
ние, прорвать кольцо. Нелегко прорывать окружение, когда вокруг
враги. А когда не враги? Не друзья, но ведь и не враги...
Я начал атаку с девчонки, все-таки легче. Пошел в ее сторону.
Наверное, она тоже сметала сено после уроков — еще издалека уви¬
дел пуховую, круглую, как шарик, голову.
Заметив меня, девчонка выпрямилась, глаза ее вновь насторожи¬
лись. Мне, конечно, следовало подумать, как прорывать окружение,
подумать с толком, а не лезть нахрапом на чужую территорию. Но
стратегия в моем шарабане позабыла про тактику, и на кончике язы¬
ка у меня болталась одна-единственная заготовленная фраза, которую
я должен сказать, если девчонка начнет задираться. Фраза была
такая: «А что, твоя, что ли, улица?»
Круглоголовая и черноглазая стояла, выпрямившись, напротив
ме^я — в одной руке мешочек, в другой веник,— глядела насторожен¬
но, и мне пришлось обойти ее, потому что стояла она прямо посреди
дороги. Когда я ее обошел и, таким образом, прорвал окружение, она
сказала с неожиданной заботой в голосе:
КИКИМОРА 147
— Да там пусто, я все вымела!
Вот она, победа тактики. Прорываться, конечно, можно, только
надо точно знать — зачем. Я споткнулся и засопел, не зная, что де¬
лать, чувствуя себя последним болваном. А девчонка спросила, улы¬
баясь:
— У тебя кто?
Я не понял, и она уточнила:
— У нас кролики, а у тебя кто?
— Лошадь,— пробормотал я в смущении.
— Не может быть! — ахнула девчонка.— Ты не шутишь?
— Какие тут шутки!
Я развернулся к своей территории, а девчонка воскликнула мне
в спину, искренне пожалев:
— Бедный! Сколько же ей сена надо!
Я поежился. Она подумала, что лошадь в самом деле моя и весь
корм для Машки я собираю на улицах. Действительно, можно пожа¬
леть.
В общем, прорыв окружения пользы не принес, и я решил за¬
няться разбоем.
Надо признаться, это был шаг отчаяния. Энциклопедический
источник иссякал, я приступил к самому трудному: учил названия
пород, а это было все равно что учить иностранный язык. С трудом
выговаривал я незнакомые звукосочетания, означавшие разновид¬
ности лошадей: брабансон, першерон, клейдесдаль, арден.
Из такого сложного штопора можно было и не выбраться, я
рисковал не чем-нибудь — репутацией, а репутация, как известно,
дается человеку только раз в жизни. Привяжется с самого детства
к тебе слава, что ты шалопай, или враль, барон Мюнхаузен, или
что тебе верить нельзя — наобещаешь и не выполнишь, или что
ты тупица, ни черта ни в чем не понимаешь, так ведь и до самой ста¬
рости от такой репутации не отмоешься. А если отмоешься, все
равно рано или поздно встретишь своего одноклассника, может, уже
седого, хромого, старого, обрадуетесь друг другу, приветливо пого¬
ворите о том о сем, а разойдясь, подумаете с подозрением друг
о друге — ты о нем: «Ведь был враль, неужели таким и остал¬
ся?» А он о тебе: «Был когда-то шалопай, вот небось все от него
стонут».
Нет, что ни говори, репутация — серьезное дело, к ней серьезно
с детства надобно относиться, чтобы, встретив друга, подумать о
нем: «Хороший парень был, честный, слов на ветер не бросал».
148 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
А он чтобы при этом подумал: «Этот человек честный, никогда не
соврет, скорее умрет!»
В общем, энциклопедические знания о лошади иссякли, точно
струйка в кране, если лопнул водопровод, а репутацию с детства
испортить — страшное дело, и я решил, собирая сено, использо¬
вать крайние меры. Вот в чем они заключались.
Когда двигались сани с сеном, возчик обычно сидел наверху,
на самом стогу, или шел рядом с возом. Но ведь он мог идти лишь
с одной стороны, не так ли?! Вот и получалось, что второй бок
лохматой, вкусно пахнущей горы не защищен и его можно атако¬
вать. Правда, при этом следовало обеспечить пути отступления —
на всякий случай. Лучше всего вылететь из-за укрытия, например
из-за угла дома с проходным двором. Лошадь с возом идет медлен¬
но, равняется с тобой, ты вылетаешь из укрытия, отдираешь клок
сена от бока и тем же манером исчезаешь во дворе. Чуть что, можно
пробежать двором и выскочить на другую улицу. Вообще такие
случаи были, когда извозчики гонялись за похитителями сена. Но
только в одном случае: если шел обоз.
На обоз лучше не нападать. Обоз движется под охраной. Сверху
бдительные наблюдатели, а по бокам возле обоза или, того хуже, за
каким-нибудь возом топают пешком старики или парни, а уж в
хвосте непременно один или два обеспечивают охранение. На обоз
нападать рискованно, хотя, говорят, нападали отчаянные маль¬
чишки — у кого матери козу, например, держали или какую жив¬
ность,— но они нападали группой. Я же действовал в одиночку,
тайком ото всех, даже от Вовки Крошкина.
Ох, как дрожала моя душа, когда я первый раз атаковал воз:
еще немножко, и задохнусь собственным страхом. Лошадь порав¬
нялась, я выскочил из укрытия, подлетел к сену, вцепился в бок
шуршащей горы, дернул на себя — не тут-то было! Сено оказа¬
лось плотным, уложенным добротно, я растерялся, затрепыхался,
спасительное укрытие оставалось позади, а я со своими силенками
никак не мог вытянуть нужную мне охапку. Видать, ухватил боль¬
ше, чем мог выдрать.
Мгновение — или вечность? — я боролся с сеном, наконец по¬
вис на нем всем телом, отодрал солидный клок, упал в снег, но
тут же вскочил и драпанул через сугроб к укрытию.
Это был рискованный ход — отступать по сугробу, и я потом
всегда убегал по тропкам, благо их было много натоптано в городе,
где все — пешеходы.
150 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
Возчик даже не шелохнулся. Его фигура, укутанная в тулуп,
напоминала сноп, но сноп был объят паром, точно дымом, будто
рядом с лошадью двигался какой-то странный паровой механизм.
За неделю я наразбойничал немало сена, оно грудилось возле
конюшни небольшим стожком, и настал миг, когда я решил пре¬
поднести его Машке — конечно же, в непременном присутствии
конюха.
Мечтая об этом, я, как часто со мной случалось той счастли¬
вой порой, крепко фантазировал. Мне меньше всего хотелось
события прозаического — приволок сено, охапкой больше, охап¬
кой меньше, что толку? Машка все-таки не голодала, и я мучитель¬
но изобретал, как бы преподнести свой подарок поэффектнее,
позаметнее.
И придумал.
Я решил сделать сенный торт. В бабушкином хозяйстве были
шелковые нитки для вышивания под ласковым названием мулине.
Вообще-то нитки тогда ценились чрезвычайно, на рынке катушка
обыкновенных черных или белых ниток, как и иголки, стоила
больших денег, и я, понятное дело, знал об этом, как знал и о том,
что бабушка планирует какое-то грандиозное вышивание нитка¬
ми мулине — нечто невероятное, потрясающее, может быть, даже
целую картину, например на подушке. Ты, допустим, ложишься
спать, а у тебя под головой картина Шишкина про медведей, и тебе
во сне начинает сниться этот лес и эти медведи, только в живом
виде, ты не знаешь, куда от них укрыться, тебя бросает в пот, и
потому не так, например, холодно, если дело происходит зимой
и печка сегодня была не топлена из-за отсутствия дров. Вот такие
эффекты от вышитой подушки.
Это, конечно, шутка, я эту шутку выдумал сам для себя, чтобы
оправдать собственный поступок, взять у бабушки мулине зеле¬
ного цвета и увериться в том, что вышивать подушки — не такое
уж значительное дело. Во всяком случае, по сравнению с тем,
которое готовил я.
А я придумал торт для Машки. Утоптал сено таким кругляшом,
связал его — немало попотев, кстати,— зеленой ниткой мулине,
ее в зеленом сене совершенно не видно было; я истратил целый
моток, но сварганил кругляш, который хоть на одной руке неси —
такой он красивый и выразительный.
Потом я выждал, когда во дворе поликлиники появился Мирон,
одолел забор и, возложив сено себе на голову, двинулся к конюшне.
КИКИМОРА 151
Может, это было не очень прилично, да и отношения с Мироном
такого, в общем, не позволяли, но очень уж эффектным оказался мой
торт, и я не удержался — затрубил марш.
Мирон насторожился — не понял сперва, что это к нему движет¬
ся,— потом разглядел меня, покачал головой: неясно, то ли одобряя,
то ли осуждая.
Я свалил сенный торт с головы, чихнул от него три раза и прого¬
ворил:
— Это Машке к дню рождения!
Мирон крякнул, словно его кто в поддых ударил.
— К дню ангела, значит?
Он помолчал, потом часто-часто задвигал бородой. Оказалось,
смеется. Но так, словно смех свой под бороду прячет.
— К дню ангела,— подтвердил я.
— А сено-то,— все двигая бородой, не спросил, а как-то гортан¬
но выкликнул он,— а сено-то где взял?
— Да на дороге,— махнул я рукой: дескать, велика ли забота? —
За обозами подбирал.
Он перестал трясти бородой, уставился на меня рачьими вытара¬
щенными глазами, будто на сумасшедшего, начал, как попугай, пере¬
спрашивать — все не верил:
— Подбирал?
— Ну!
— Так вить скоко!
— Ерунда!
— Ну и ну!
Что-то с ним происходило, что-то бурлило, кипело в нем, как в кот¬
ле. Я и раньше замечал, что руки у него всегда дрожат — поколи-
ка столько дров! — но теперь они просто тряслись. Конюх держал в
руке «козью ножку», свернутую из газеты, и дымок выписывал в
морозном тихом воздухе витую нить.
Мирон взял кнут и — я даже вздрогнул от неожиданности —
хвостнул им по снегу. Снежная пыль взметнулась в воздух.
— Надо же! — сказал он хрипло.— Это надо же! — И опять хвост¬
нул снег, будто злился. А говорил совсем другое: — Ну, молодец!
Это надо же!.. Надо же!..
Я не знал, что делать: рассмеяться или убежать? Страшновато
делалось от таких похвал.
Он бросил кнут и подошел ко мне. Я разглядывал конюха снизу
вверх, разглядывал его серую бороду, красное от морозных ожогов
152 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
и солнца морщинистое лицо, рыжий треух, затасканную телогрей¬
ку — сильного, злого, непонятного великана — и думал, как бы виль¬
нуть в сторону, отойти от него, а если потребуется, драпануть. Но
конюх вел себя смирно, лишь оглядывал меня сверху вниз с таким
же, как я его, непониманием.
— Неужто,— спросил он вдумчиво, как бы удивляясь,— ты так
крепко лошадь любишь? Ведь ты городской!
Я хмыкнул — разве не ясно? — но не выбрал никаких слов ему
в ответ, просто хмыкнул и пожал плечами.
Он отшагнул от меня, повернулся боком, точно открывая дорогу,
и проговорил дрогнувшим голосом:
— Ну, поди к ней! Поди!
Мирон будто нарочно оставил нас вдвоем.
Машка, увидев меня, шумно вздохнула — пожаловалась на судь¬
бу. Я протянул вверх руку, погладил ее за ухом, как собаку. Собаке
это нравится, а лошади не понравилось — она потрясла головой,
отряхнула мою руку. Но Машка была кобыла деликатная, чтоб я не
обижался, она вдруг сунула мне за воротник свою морду, будто хоте¬
ла меня приласкать, а я от такой ласки расхохотался. Влажные, чут¬
кие, бархатные ноздри щекотали шею.
Я был счастлив. Ведь Машка играла со мной! И что она еще выки¬
нула! Взяла меня за козырек меховой шапки — а он то отгибался,
то загибался, бабушка всегда ворчала, что я этот козырек все отры¬
ваю, сколько она ни пришивает,— так вот кобыла ухватила меня за
этот козырек и пожевала его! Да с такой силой ухватила, что и меня
вместе с шапкой к себе подтянула!
Я захохотал в полный голос и упал прямо в свой сенный
торт, а когда пришел в себя, мне показалось, Машка тоже улы¬
бается.
Лошади ведь не умеют смеяться, и она улыбалась одними глазами.
И кивала мне головой!
На смех пришел Мирон, и я сделался серьезным. Настала пора
приступать к делу.
— Дядь Мирон,— обратился я вежливо,— а какой она породы?
Конюх пожал плечами.
И я тогда спросил:
— Может, першеронка?.. Арденка?.. Брабансонка?..
Мирон разглядывал меня, пораженный.
— Это чего? — спросил он, и я зарделся.
Кто же знал, что между теорией и практикой лежит бесплодная
КИКИМОРА 153
пустыня неуверенности и надо еще немало сил, чтобы одолеть эту
пустыню.
Потоптавшись, я показал на Машкины копыта.
— Дядь Мирон, а не больно?
— Чего? — не понял он.
— Когда куют?
Он засмеялся. Это было понятнее, чем мудреные слова, которые
я сам едва выговаривал.
— Гвоздями? — спросил я.
— Вот экими! — Он показал половину желтого прокуренного
пальца, похожего на крепкий сучок. Ничего себе гвоздик! — У нее
копыто как у нас ноготь, понял? Ноготь режешь, ведь не больно!
Гляди! — Он постучал Машку по ноге, заставил ее согнуть колено,
отер рукавом блестящую подкову.
— А вы подковать можете? — допытывал я.
— Не-е! Конешно, мудреного ничего нет, но знаешь как? — Он
сказал слово «знаешь», будто я в школе. Но теперь уже я, точно ос¬
лик, замотал головой.— Неправильно подковать,— Мирон, словно
учитель, махал указательным сучком в такт своим словам,— все
одно что сапоги не своего размера надеть.— Вот разговорился! Пер¬
вый и единственный раз видел я конюха таким разговорчивым.—
Ноги разобьешь — далеко не уйдешь.
Я слушал с распахнутым ртом — самый примерный ученик.
— Это в кузне,— закончил он,— кузнец делает. Мастер.
И умолк. Но ненадолго.
Запрягая Машку, чтоб отвозить бутылочки, сказал:
— Сейчас сам править будешь!
Нет, это был самый странный человек из всех, кого я знал и
прежде и потом. Видно, ему не давала покоя какая-то навязчивая
мысль, а вернее, непроходящая обида; она и заставляла его жить как в
кукольном театре — не жить, а дергаться. Обида клокотала в нем,
угнетала его самого, делала рабом невидимой и неизвестной людям
страсти.
Мне казалось — уже потом, взрослому,— он жил обычными чув¬
ствами лишь считанные минуты, потом отчаяние опять захлестывало
его, и он опять становился самим собой: нелюдимым, беспричинно
жестоким волком.
Несчастный или злобный взрослый не так очевиден другому
154 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
взрослому своей несчастливостыо или злобой — он маскируется,
прячет себя. Детей не таятся. И неясное взрослому прекрасно извест¬
но ребенку. Все дело лишь в том, что он не умеет обозначить словами
и даже мыслями видимое ему. Но потом, со временем, становясь взрос¬
лым, человек без конца возвращается в детство, прилагая ум и знания
к тому, что давным-давно лишь только почувствовал. Смыкаясь, про¬
шлое и настоящее дают понимание. То, чего так недостает детству.
Я ничего не понимал!
Да и как это можно понять?
Он запряг Машку, выехал на улицу и — о, блаженство! — отдал
вожжи мне, а сам пошел следом за санями. Если бы что случилось,
он не смог бы помочь мне. Но это означало только одно: он не боялся
за меня, нелюдимый конюх Мирон! Вручал хозяйские права.
Сначала я сидел невероятно напрягшись.
В вытянутых, одеревеневших руках держал я вожжи, спина неме¬
ла, и даже ноги превратились в железные кочережки и ничего не
чувствовали. Каждое мгновение я готов был потянуть вожжи на себя,
закричать басом на Машку «Тпр-ру», и мне в голову не приходило,
что крик мой будет таким же грубым, как у конюха.
А он шел позади и изредка подавал мне советы:
— Руки-то опусти!.. Спину-то согни, обессилешь!
Через квартал я чувствовал себя уверенней, мне все улыбалось:
и солнце, и удача. Одолев квартал, я увидел белый шарик с розовыми
помпошками. Черноглазая даже остановилась, чтобы разглядеть
меня получше, и я ей крикнул:
— Привет!
Машка фыркнула, присоединясь ко мне, и девчонка улыбнулась
в ответ. Теперь она знает, что я ее не обманывал. Крошкин бы еще
попался! Но Крошкин не показался. Зато на углу стояла бабушка.
Она, конечно, не стояла, а шла, но, увидев меня, обмерла, останови¬
лась будто вкопанная. Представьте себе: стоит старушка, прижала
к животу сумку с продуктами, и, пока я еду мимо нее на лошади,
она поворачивает голову вслед за мной. И молчит. То ли поражена,
то ли не хочет конфузить меня перед конюхом.
Я проводил бабушку глазами и увидел, как Мирон приподнял пе¬
ред ней свой мохнатый треух.
Пустые бутылочки колотились у меня за спиной тысячью коло¬
кольчиками, я блаженствовал, доверясь лошади, и думал с укором:
«Но ведь идет же Машка без всякого кнута! Зачем ее бить? Да надо
сломать этот кнут, порвать ремень с большим узелком на конце,
156 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
вышвырнуть его вон! Ведь ты же можешь быть добрым, Мирон, ну,
пусть не добрым, так хотя бы нормальным. Как сейчас!»
Да, детство доверчиво, а доброта обладает опасным свойством
забывать зло.
Знал бы я, чем ответит конюх на мою доверчивость!
Вечером обнаружилась пропажа ниток с нежным именем мулине
и произошло обсуждение моего извозчичьего дебюта.
Кажется, вся жизнь мамы и бабушки в эпоху моего детства на¬
чиналась и заканчивалась единственной мыслью: как уберечь меня
от дурных влияний. От улицы, плохих людей. От влияния отдельных
личностей из нашего класса и таинственных злодеев всего мира. На
эту тему говорилось много и охотно, с обращениями ко мне, укорами
и назиданиями и просто так, в воздух, как бы насыщая даже саму
атмосферу грозными мыслями о легкой возможности сбиться с пра¬
вильного пути.
Что и говорить, Мирон пил, матюгался, бил лошадь и вообще был
раскулаченным кулаком, а тут еще моя необъяснимая любовь к ко¬
быле и всем лошадям — словом, возможность инфекции, как порой
выражалась мама, возрастала во много крат. И вот на тебе! Я сижу
на облучке, понукаю Машку. Это же за просто так не происходит.
Значит, Мирон остался доволен мною почему-то.
Почему? Мама и бабушка аккуратно, но каждая на свой манер,
пытались выведать ответ на этот единственный вопрос. А я не созна¬
вался. Рассказать про сено для меня, простофили, означало рассказать
и про мулине — будто одно нельзя отделить от другого,— а я этого не
хотел.
Мы окружили стол: я читал книгу, мама гладила белье, а бабуш¬
ка перебирала свои узелки и коробочки — искала зеленое мулине.
Время от времени она спрашивала маму — уже, пожалуй, в два¬
дцатый раз:
— Ты не видела зеленое мулине?
И мама в двадцатый раз, терпеливо, чтобы подать мне положитель¬
ный пример, отвечала своей маме:
— Нет, не видела.
— Я прямо остолбенела! — в двадцать пятый раз восклицала ба¬
бушка, и я был снова и снова готов слушать это восклицание: оно
мне нравилось.— Погоняет лошадь! Понукает, как настоящий извоз¬
чик!
В бабушкиной интонации удивление смешивалось с примитивным
женским испугом и тонким педагогическим неодобрением. Подразу¬
КИКИМОРА 157
мевалось таким образом, что обо мне — извозчике — можно было го¬
ворить только в шутливом понимании слова.
Воспитывать, кстати говоря, можно по-всякому. Можно произно¬
сить укоризненные слова, а можно и молча — вздыхая. Бабушка го¬
ворила, изыскивая все новые интонации, а мама вздыхала с одной
и той же силой, но очень методично и настойчиво. Я должен был по¬
нять, что ей тоже решительно не нравится поездка под руковод¬
ством Мирона.
Перед сном, поправляя мою подушку, мама сказала, еще раз
вздохнув:
— Держался бы ты от него подальше.
Мама — провидица. Она точно в воду глядела.
Днем, меньше чем через сутки после моей поездки на Машке,
у дырчатой границы, которая отделяла наш двор от поликлиники,
Мирон разыграл мерзкую сцену.
На нашей территории в снегу лежали четыре полена. Они были
разбросаны как-то очень интересно — вроде бы цепочкой. Будто
кто-то их растерял, эти четыре полена. Таскал торопливо большие
охапки и впопыхах растерял.
Я вернулся из школы в самый разгар ругани. По нашу сторону
стояла простоволосая бабушка в пальто, накинутом на плечи, а во
дворе поликлиники с противным привизгом орал Мирон.
Я сразу понял, что он набрался,— а ведь пьяным он был особенно
жесток,— и я испугался за бабушку. Надо ли говорить, что сразу, еще
не узнав, в чем дело, я оказался не на его, а на ее стороне.
Конюх не выбирал слов. Раньше его ругань всегда обращалась
к предметам неодушевленным, например к дровам, или к существам
безответным — кобыле Машке. А тут родная бабушка!
— Я вот на тебя заявлю, трах-тарарах! — блажил он.— Весь на¬
род воюет, а ты дрова воруешь! Да и пацаненка приучаешь, бум-
перебум! Вон он какую дыру в конюшне разворотил!
Перепалка шла по всем правилам искусства, а настоящие кри¬
ки — это такие, когда все кричат и никто никого не слушает.
— Народ-то воюет,— с достоинством, какое, конечно, возможно
в таком крике, отвечала суровым голосом бабушка,— да ты-то отси¬
живаешься, кулацкая рожа! У самого душа черная, и нас замарать
хочешь? Не выйдет! Придумал! Подбросить свои поленья!
— Воры! — орал Мирон.— Народное имущество тянут!
158 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
— Да мы с голоду помрем,— отвечала бабушка, размахивая ука¬
зательным пальцем,— а ничего чужого не тронем!
Мирона за рукав тащила его жена Захаровна, он отмахивался от
нее, выдергивая руку, потом толкнул ее, на секунду отвлекшись от
ругани. Захаровна упала.
Я увидел, как затряслись ее плечи, она поднялась с трудом, сперва
на колени и только потом на ноги. Одну руку Захаровна протянула
вперед, к Мирону, что-то шептала ему, но он и слушать не хотел, орал,
пошатываясь, изнемогал от лютой, звериной ненависти. Чего-то ему
не терпелось еще сказать, такое важное, из-за чего он и распалил
этот сыр-бор, но к этому важному следовало еще подойти, подо¬
браться, отыскать причину. И он наворачивал!
— Растуды-туды-сюды! Дети в поликлинике мерзнут, дров не
хватает, а они, ишь ты, поленья через забор тягают. Вот заколочу за¬
бор-то!
— Заколоти! — отвечала бабушка.— Давно мечтаю!
— Ох-переёх, небось и дыру в конюшне провертели не случайно,
лошадь отравить хочете!
Я уже смеялся, просто хохотал, надрывал живот, даже портфель
в снег бросил. Ну, вражья сила, чего выдумал!
Мирона мой смех точно подстегнул, он завизжал с новой яростью:
— Да я на вас в суд! Думаете, большевики, дак все дозволено?
Может, он из-за этих слов всю склоку-то с дровами затеял!
Захаровна подбежала к Мирону, дернула его изо всех сил за руку,
но он опять отмахнулся, а дергала его Захаровна не зря: на кры¬
лечко вышла заведующая поликлиникой. Я едва узнал ее — она была
в белом халате и очках, строгая и опасная.
Она постояла всего минуту, только минуту послушала крики ко¬
нюха, но ей и этого хватило.
— Миро-о-он! — проговорила она властно.
Тот сейчас же обернулся и уже открыл рот, чтобы повторить свои
гнусные обвинения, но заведующая не дала ему сказать.
— Миро-о-он! — повторила она ему и добавила, как отрубила: —
Брось! Дурака! Валять!
— Дрова воруют,— начал было он, а заведующая снова, только
еще требовательнее, сказала ему:
— Брось дурака валять! И прикуси язык!
Конюх повернулся и пошел, Захаровна тотчас схватила его за ру¬
ку. Он больше не вырывался. А я подумал про Кощея Бессмертного.
Погибель его была в сундуке, в утке, в яйце, на конце иголки.
160 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
Не знаю, погибель ли, но вот страх Миронов — это точно — хранился
у этой большой заведующей. Два слова — и укротила, так просто ведь
это не бывает.
Еще я вспомнил печную кикимору: скрипит, будто скрежещет
зубами от злости, ухает и воет, пугает людей.
Кикимора этот Мирон, больше никто.
Конечно, можно терпеть обиды, сглатывать их вместе с комком,
который к горлу подступает, только обиды обидам рознь.
Мучил меня конюх обидами, а я все старался забыть, думал толь¬
ко о Машке — самолюбие свое прятал в карман, не хотелось мне подо¬
зрительно жить, подозрительно по сторонам глядеть, пусть даже на
Мирона. Но ему все трын-трава, значит, я для него пустое место,
ноль, и эта доброта его, когда я Машкой правил,— минутная доброта,
а минутной доброты не бывает. Не должно быть. Если доброта на ми¬
нуточку, значит, все остальное время — жестокость! Или безразличие,
по крайней мере.
А жестокость — она жестокость и есть.
Про обиды речи теперь у нас не было. Речь шла о войне — войну
объявил нам Мирон. Бабушке, маме, мне.
— Ну, подожди,— повторяли мы по очереди, потому что всеми
нами владела одна-единственная мечта.— Ну, подожди, приедет с
фронта отец, он тебе задаст!
Я сам не замечал, как сжимались у меня кулаки, когда я думал
теперь про Мирона. Мы что — две женщины да мальчишка, слабые
люди против него. Сила ломит и соломушку, нас и оболгать можно,
обвинив в воровстве дров, но вот подожди, придет настоящий муж¬
чина с войны, что ты ему ответишь, темная сила, печная кики¬
мора?
Дикая злоба конюха и Машку у меня отняла: дыра моя уже на¬
утро оказалась накрепко заколоченной изнутри, и я опять говорил
с кобылой лишь через стенку.
— Ничего, Машка,— говорил я, поглаживая доски конюшни,—
придет отец, он и за тебя отомстит, за все твои муки.
Война, тяжелая война шла у нас с Мироном. Не сговариваясь,
и я, и бабушка, и мама отворачивались, когда он попадался навстре¬
чу, старались не вспоминать о нем и дома, будто он испарился, ис¬
чез с лица земли. Мы мстили конюху своим презрением, своим мол¬
чанием, тем, что вычеркнули его ничтожную фигуру из наших раз¬
говоров, но это не было капитуляцией или поражением. Напротив,
каждый шаг приближал наступление.
КИКИМОРА 161
Наверное, бабушкина душа, как и мамина, с трудом переносила
это тягостное затишье. Я сужу по себе — я страдал.
Задумываясь о Мироне, сжимая кулаки, я воображал, как отец
возвращается с фронта, и первое, что мы делаем,— собираемся все
вчетвером — папа, мама, бабушка и я,— отец, конечно, впереди, грудь
в медалях, мы пролезаем в наш дырявый забор и подходим к ко¬
нюху.
Он в ужасе пятится назад, спотыкается, непременно падает, и
тогда отец могучей рукой поднимает его с земли, берет за ворот и на-
чинает^трясти, да так, что борода у Мирона прямо летает, зубы клаца¬
ют, а глаза наливаются жутким страхом.
Дальше моя фантазия, бурная обычно, отчего-то угасала. Отец
трясет конюха, тот кричит в ужасе: «А-а-а!» — и дальше все пропа¬
дало, стиралось. Но может, этим и должна закончиться праведная
месть: пусть трясется, не убивать же его в самом деле.
А зима никак не кончалась, как не кончались бои. Отец писал
утешительные слова, которые никого не утешали: ведь там, на фрон¬
те, летали миллионы пуль и снарядов!
Отец, отец! Я до сих пор, давно став взрослым, не знаю, где ты
был в тот-то и тот-то день такого-то далекого месяца, что делал утром
или вечером: держал винтовку, лежал в окопе, ел кашу из котелка
или, может, жизнь твоя в такой-то и такой-то час была куда спокой¬
нее — в тыловом охранении или на отдыхе,— много я не знаю про
тебя, ведь нельзя же рассказать про каждый час жизни; это зна¬
чило бы прожить другую жизнь, заставить прожить ее сына, жену,
близких.
Да, это невозможно — знать каждый миг другой жизни, все верно,
но как я хотел знать этот каждый миг, как я желал всей своей ре¬
бячьей душой, чтобы всякий миг облетала тебя пуля, не трогал ос¬
колок, не прикасалась беда и боль.
Можно верить, нужно верить! Можно и нужно верить, что с твоим
отцом ничего не случится в том кромешном аду, но сколько видел я,
как бьются в слезах мои малолетние дружки, как дрожат худенькие
мальчишечьи плечи в неутешном плаче — они ведь тоже верили и
ждали, да слабая выходила эта защита — вера и ожидание.
Не раз и не сто, вдруг среди дня, среди смеха или среди ночной
темноты я, обмирая всем телом, думал об отце и молил, молил все
силы, какие лишь есть на белом свете и там, за пределами белого
света, в звездной, торжественно-тихой тьме,— молил старушечьими,
от бабушки услышанными словами: «Сохрани и оборони, не дай поте¬
162 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
ряться, истаять, пропасть! Сохрани и оборони, потому что без тебя,
папка, ничего не получится, не выйдет. Да без тебя просто нельзя —
это разве трудно понять? Сохрани и обереги!
Пусть летит беда мимо, пусть будет все что угодно, только не это,
что и слова ми-то страшно назвать!
Сохрани и обереги!»
Я думаю теперь, на уроках я бледнел в такие минуты, едва не те¬
рял сознание от своей страстной мольбы, отдавал все силы свои и
весь свой дух главному желанию. Это случалось не с одним мной.
Когда отходил, возвращался в жизнь, не раз проваливался я в бездны
бесконечных детских взглядов. Под пыткой бы не признался никто из
нас, о чем он думает в этот миг. Такие мольбы слышны одному, а дру¬
гие здесь лишние: у каждого свой отец.
Я представлял, как батя держит за шкирку Мирона, но в леденя¬
щие минуты заклинаний, чтобы отец остался жив, отгонял это
видение, как сглаз, как наваждение: да будь он неладен, конюх.
Только бы! Только бы!
Большое желание не разменивают по мелочам. Я мог насолить
конюху и без отца.
В ту пору был развит такой спорт. Загибали железную проволоку,
накручивали коньки — конечно, не такие, как теперь,— прямо на ва¬
ленки, и на улице цеплялись за какой-нибудь транспорт: за ло¬
шадь или за редкую машину.
Когда цепляешься за машину — жуть берет. Несешься — аж снег
летит. И тут важно, чтобы дорога была накатанной, и лучше всего,
зацепившись, ехать позади и чуть рядом с машиной, чтобы видеть
дорогу.
Когда по главной улице пер грузовик, у него на хвосте катилось
пацанов десять самое малое. Если не хватало места, ухитрялись сде¬
лать так: тот, кто зацепился своим крючком, другой рукой держал
еще один крюк, и за ним несся еще один мальчишка. А за ним еще,
целый состав.
Милиционеров было мало, все тетки, гоняли нас вяло — разве
утонишься за пацаном на коньках? А если и угонишься, что с ним
делать? К матери вести? Она на работе. В милицию вызывать? Так
чем она поможет, коли днем-то ребятня все равно сама по себе.
Честно говоря, я машин боялся. Были жертвы. На коньках
требовалось стоять мастерски. Если машина затормозит, можно по
инерции укатиться вперед, под колеса. Были у нас ветераны войны
школьного возраста — однорукие и одноногие мальчишки, неумелые
КИКИМОРА 163
ездоки за машинами. А сколько разбитых носов и шишек! Ведь
даже если машина просто съедет с накатанной дороги на снег, можно
очень даже запросто пострадать — коньки вгрызаются в мягкий наст,
на скорости летишь носом вперед. Вот я и боялся машин. Даже без
бабушкиных и маминых нравоучений обходился — сам видел, что к
чему. Цеплялся к лошадям, точнее, к саням.
Нельзя сказать, чтобы это уж совсем безопасно. На каждом возу
извозчик с кнутом — бережет силы своей лошади; зацепился, так
гляди в оба, чтобы ни секунды промедления. Иной какой взрослый па¬
рень и без кнута обойдется — соскочит с саней, догонит неумелого
конькобежца и надает тумаков. Так что и на малой скорости хло¬
пот не оберешься. Удовольствие и страх соревнуются между собой.
Я вначале обходил его подводу, отворачивался в сторону, не заме¬
чал злобного врага. Но в том-то и дело, что он был злобным. Другой
извозчик хлопнет кнутом для острастки — ребята отцепятся тут же,
а этот целил. Будто воробьев лупил.
Сидит тихо, для обману голову склонит, будто спит, потом хрясь —
и какой-нибудь пацаненок летит с воем в сугроб, а пальтецо его рас¬
порол Миронов кнут.
В нашей округе даже ходила молва, что этот бородатый извозчик
заливает в конце кнута свинцовый набалдашник, что просто так
пальто, даже худенькое, не располосуешь, что за бородатого лучше
не цепляться.
Уличная горка не любила и боялась Мирона. И я бросил вызов.
Уроки стратегии без сочетания с тактикой кое-чему научили меня.
Допустим, соображал я, мне удалось прицепиться. Что дальше? Какой
толк, если он огреет меня? Надо сделать так, чтобы позлить его как
следует и при этом остаться невредимым, это раз. А во-вторых, какой я
друг кобыле Машке, если стану для нее лишним грузом?
Я придумал.
Для Машки — цепляться только тогда, когда они идут с горы. Для
Мирона — чтобы позлить его — раздобыть длинную цеплялку. Так,
чтобы кнут не достал меня.
Это было не такое простое дело — достать длинную цеплялку, но
мне посодействовал Вовка Крошкин: с помощью довоенных марок из
серии ВСХВ — Всесоюзная сельскохозяйственная выставка, если кто
не знает,— я достиг соглашения с одним большим парнем из Вовкино¬
го района, и тот выгнул мне такой прут, что все надо мной поначалу
засмеялись на нашей горке.
Но только поначалу.
164 АЛЬБЕРТ ЛИ ХА НОВ
Когда не знаешь, в самом деле смешно. Длинный железный прут
сгибается на плече, прямо-таки провисает, будто коромысло. И весу в
нем — ого-го, наверное, килограмм.
Я зашел на гору и, вяло отшучиваясь, начал ждать. Пацаны цеп¬
лялись за любую подводу, а я стоял, выжидая своей минуты.
Наконец появился Мирон. Он уже порядочно обнаглел, даже не
оборачивался: его тут все знали, никто не цеплялся. И тогда пробил
мой час. Я занял исходную позицию, пробежал несколько шагов за
Машкиными санями и подцепился. Лошадь будто почувствовала это,
но не обиделась, весело фыркнула мне. Я злорадно усмехнулся: Маш¬
ка — союзница! А ты, Мирон...
Мальчишки, растянувшись по горке, стояли разинув рты. Навер¬
ное, это заставило Мирона обернуться.
Он увидел меня, нахмурился, но кнутом не хвостнул — отвернул¬
ся. Несколько метров мы проехали спокойно, и я уже подумал, что
конюх не тронет меня вообще, признав своего знакомого. Наивная
душа!
Мирон просто думал, ему потребовалось время на размышления.
Но зато потом! Он так резко обернулся и с такой злостью хлестнул
кнутом, целя в меня, что я вздрогнул, хотя ведь готовился к этому.
Не зря готовился! Кнут стукнул по моей железке, даже близко
меня не достав.
Я засмеялся. Засмеялись пацаны на горке. Все видели посрамле¬
ние бородатого извозчика из детской поликлиники. Ничего не ска¬
жешь: одним ребятишкам везет молочко, других лупит кнутом.
Я стал тираном. Меня не волновало катание на прицепе в прин¬
ципе. Я не цеплялся к другим лошадям, но зато мерз долгие часы на
нашей горке, чтобы, дождавшись Мирона, подцепиться к нему длин¬
ным, на заказ исполненным крючком.
При этом я смеялся — и не как-нибудь «хи-хи» или «ха-ха». Я да¬
же дома, когда никого не было, упражнялся в этом демоническом сме¬
хе, стремясь добавить в голос баса и металла. Чередуясь с пискливым
издевательским хохотаньем, мелким горохом детского измыватель¬
ства, все это превращалось в целое представление.
Ребята, завидев Мирона, нарочно разлетались по всей горке, чтобы
увидеть мой концерт, да еще и поддержать его своими радостными
восклицаниями, многие из которых, будем откровенны, ничуть не
уступали любимым выражениям Мирона и как бы таким образом по¬
срамляли взрослого бородатого конюха полным отсутствием почтения
даже в такой специфически взрослой сфере духовной жизни.
КИКИМОРА 165
Он бесился, шея его багровела, он яростно лупил кнутом, но ниче¬
го у него не получалось.
Он принял мой вызов. Торжество мое длилось недолго.
В один прекрасный и солнечный день, когда народу на горке было
особенно много — может, это было даже воскресенье, выбрал же,
гад! — я, как обычно, зацепился за Машкины сани. Громогласное «ха-
ха-ха!» я чередовал с издевательским пискливым «хи-хи-хи!», менял
на измывательское «ху-ху-ху!» и начинал крутить пластинку по но¬
вой.
Я видел, как Мирон замахивается, как медленно, точно нехотя,
прорезает синее небо кнут, как блестит на солнце один повернутый ко
мне глаз конюха, как движется в мою сторону черная острая змейка,
но мне и в голову не пришло отцепиться: длинная цеплялка, знал я,
оберегает меня от удара.
Лишь в самый последний миг я понял, что ошибся,— даже не по¬
нял, почувствовал. Тонкое жало кнута нависло над моим глазом, и я
чуточку повернулся — отцепиться уже не хватало времени.
Меня полоснуло чем-то огненным и острым, я заметил, как по сне¬
гу просыпались красные ягодки брусники, и услышал, как пацан,
стоящий неподалеку, заорал во всю глотку:
— Уби-ил-и-и!
«Кого-то убили»,— подумал я и свалился в снег.
Я быстро вывернулся из сугроба и сказал мальчишкам, обступив¬
шим меня:
— Он кнут надбавил!
Мальчишки не отвечали — таращились на меня во все глаза, и
вдруг из-за них появилась бабушка. Она протягивала мне чистый
платок и говорила:
— Промокни кровь! Кровь промокни!
В том-то и дело, что это была не бабушка. Какая-то старушка, про¬
ходившая мимо. Я ее принял за бабушку от боли и испуга.
Если бы это была моя бабушка! Она бы, наверное, подала в суд на
Мирона, а так все обошлось спокойно. Я сам сбегал в больницу, мне
остановили кровь перекисью водорода, а потом наложили два малень¬
ких шва. Стежки до сих пор на моей щеке, под ухом, только побелели
от времени. Не повернись я в последний миг, мог бы остаться без
глаза.
Бабушка и мама так и этак пытали меня, где да как. Соврал, что,
166 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
когда катался, упал на свою цеплялку. Мама собственноручно унесла
ее на работу, и больше я своего ценного крючка не видел. Но спасибо
ему! Свое сослужил!
И Мирону, и мне.
Вот такая история.
К ней следует припомнить еще одно: расплату.
Отец вернулся из армии не скоро, а когда он пришел, после креп¬
ких объятий и слез, поцелуев и разговоров мы отправились в баню.
В тот же день.
Еще бы! Кончилась, кончилась, кончилась, наконец, проклятая
война, все прошло, все миновало, и настала новая, чистая жизнь! Как
же не вымыться, прежде чем отправиться по ней — по новой, ясной,
счастливой дороге!
Прямо в гимнастерке, с боевыми своими медалями, где громче всех
звенит «За отвагу», пошел отец в первый свой штатский путь: за одну
руку уцепился я, в другой несолидная сумка с бельем и мочалками.
И здесь надо объяснить очень важное.
Ванные тогда были в редкость, народ ходил по баням, и, чтобы по¬
мыться, требовалось отстоять очередь, да не какую-нибудь — много¬
часовую. Но та, самая первая очередь, которую выстояли мы с отцом,
показалась мне прекрасным праздником. Я готов был стоять в ней
вечно.
Тесноватые коридоры и прихожую подпирал плечами разный люд,
но мне казалось — одни солдаты. То ли медали — у всех до едино¬
го,— то ли погоны да пилотки делали их главными в банных закоул¬
ках, то ли бесконечная радость — чувствовать рядом большую руку,
ощущать табачный дух, слышать забытый голос отца.
Я не мог на него наглядеться и разглядывал то снизу, из-под его
локтя, то со стороны, отойдя на несколько шагов в говорливую, ожив¬
ленную толпу. Вот он тут, живой и невредимый, глядите, пацаны!
Мальчишки глядели. В этой толпе было много таких, как я, с от¬
цами в гимнастерках. А все же больше — серыми кучками, с глазами
голодных волчат.
Одни делали вид, что им все равно, говорили о чем-то друг с друж¬
кой, другие разглядывали военных хоть жадно, а угрюмо.
Мне стало неловко, но пусть простят меня пацаны: лишь ненадол¬
го, на одно мгновение. Нет, не в силах я был побороть себя, свою ра¬
дость, так долго желанную.
КИКИМОРА 167
Когда мы раздевались в шумном предбаннике, жалость и страх
чуть не задушили меня. На теле отца я увидел два шрама — два ране¬
ния. Еще бы немножко правее, и не радовался бы я теперь, не хоро¬
хорился постыдно перед одинокими пацанами. Еще бы немножко...
Холодок прокатился по мне: так близко, в нескольких сантиметрах,
скользнула по отцу страшная беда.
По отцу, это значит — по мне.
Не раз в тот вечер сжимал я зубы — и дома, и тут,— не раз вспы¬
хивали слезы в глазах яркими, разноцветными брызгами.
Как мало бывает таких мгновений в жизни! Слава богу, что мало.
Будто необъятное богатство, выпущенное было из рук, вернулось к те¬
бе, и у богатства нет цены, потому что оно выше всякой цены.
Выше, неповторимей и безвозвратней.
День клонился к вечеру, в мойке душно и парно, сквозь туман едва
просвечивают лампочки под высоким потолком и белые тела людей.
Гулко громыхают шайки о бетонные лавки, плещет вода, возбужден¬
но переплетаются голоса, сливаясь в гомон.
Отец потащил меня в парилку, заставил забраться на полок, занял
веник у какого-то бородатого старика, хлопал меня, а я сгорал от
жары, от радости, орал, как дурачок, какую-то чепуху.
Он смеялся надо мной, мой батя, не жалел моей шкуры, мы вышли
в предбанник красные, точно вареные раки, обнявшись и устав.
Бухнулись на лавку.
— Эх, пивка бы! — сказал отец.
— Пивка бы! — как эхо откликнулся старик с бородой.
Не у него ли отец занимал веник? Я пригляделся. Да это Мирон!
Ну вот!
В бане, при народе,— неподходящее место, а встретились, встре¬
тились.
— А! — проговорил отец.— Никак, ты, соседушка?
— С возвращеньицем,— поклонился Мирон.
Не такой уж он был старик, это борода скрывала его возраст, а те¬
ло еще хоть куда. Правда, с отцом никакого сравнения. Отец или он,
кто кого? Глупый вопрос.
И вот настал мой миг.
Ведь настал? Ведь я же готовился к нему? Тысячу раз представ¬
лял я себе, как отец трясет его за шкирку — мучителя проклятого,
темную силу, кикимору печную. И вот мы втроем. Не очень подходя¬
щие условия, ну и что? Не надо трясти его за шкирку. Пусть лучше
скажет отец. Просто скажет.
168 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
Мирон сидел перед нами, держа на коленях шайку, прикрывая ею
срам, отдыхал после парилки, волосы расползлись по лбу, борода ви¬
сит мочалкой, и глазки спрятались в узкие щелочки.
И вдруг я понял: Мирон боится меня. Он тоже ждал, вернется ли
мой отец, надеялся на лучшее — конечно, для него, надеялся: не вер¬
нется. Но вот вернулся, и я рядом с ним, пацаненок,— какой с меня
спрос? Расскажу отцу, а он солдат, вернулся с войны, что он, глядеть
будет, если узнает про те дрова и скандал с руганью или откуда шрам
на щеке?
Я потрогал щеку, пощупал след Миронова кнута. Улыбнулся. Не
очень понравилась ему моя улыбка. Он встал. Дрожащими руками
поставил шайку, предстал перед нами во всей наготе.
То ли оттого, что голый, а это всегда неудобно, даже в бане, то ли
от страха передо мной был он какой-то жалкий, ничтожный.
Мирон достал рваное полотенце; оно было чистое, но рваное —
полотенце его и спасло. Я пожалел его.
Впрочем, нет. Не буду валить на рваное полотенце. Просто, когда
я увидел худенькую тряпицу, которой вытирался Мирон, я понял, что
не скажу ничего отцу. Потом, может, когда-нибудь, а только не сейчас.
И еще я вспомнил про Полю, как топили мы сразу восемь печек,
а она рассказывала про кикимору. И про Захаровну — лежит в снегу,
а потом с трудом поднимается, сперва на колени.
«Бог с тобой»,— подумал я про Мирона бабушкиными словами,
а когда он надел латаные кальсоны и рубаху и снова встал, оправляя
исподнее, я вдруг сказал себе: «Да что ты знаешь о нем? Обманывал,
хвостнул кнутом, врал про дрова? А еще, еще, еще! Туда, дальше, что
ты знаешь о нем? Какая душа у него, как он жил, кто и почему наказал
его — ты знаешь?
Нет уж, будь как будет.
Все, что сделал он, принадлежит ему».
«Будь что будет» — есть такое выражение.
Все было, как было.
Он не подобрел, не изменился, старый конюх. Все так же нещадно
лупил Машку. Работы у него прибавлялось не по дням, а по часам.
Бутылочки с молочком и кашей все так же стучали в проволочных
ящиках — бутылочки, бутылочки, сотни горластых колокольчиков.
Я вырос, стал студентом.
Вышло так, что приехал на каникулы лишь через год, вошел во
КИКИМОРА 169
двор, поставил на землю фанерный чемоданишко, радуясь встрече
с родителями и бабушкой, да Мирон стер с меня улыбку: я услышал
знакомый звук кнута. Снова лупил он кобылу Машку, старую, навер¬
ное, как сам, снова лупил, будто время остановилось и детство мое
было только вчера.
Из глубины нашего двора, через починенный забор, я тоскливо
глядел, как измывался Мирон над лошадью. В последние годы он стал
еще злей, еще нелюдимей. Мама говорила, Захаровна жалуется: с ней-
то даже почти не говорит. «Дай-подай», да и только.
«Ах, Мирон, могила тебя, видать, выпрямит»,— подумал еще я.
Я уехал опять — снова началось мое учение — скоро получил
письмо от мамы. Почта тогда приходила ко мне до востребования на
Главпочтамт; тут же в людном и шумном зале я разрывал конверт, то¬
ропясь, и всякий раз улыбался, разбирая знакомый мамин, или отцов,
или бабушкин почерк.
Мне виделись всегда при виде конверта из дому наша комнатка,
тихий шаг ходиков, знакомые трещины на потолке, оклеенном бума¬
гой, и в обоях, которые давно следовало сменить.
Письма приносили мне малые наши новости, от конвертов веяло
покоем и постоянством, которых так недоставало в студенчестве.
Тот памятный — но такой обычный — конверт я тоже раскрыл с
улыбкой.
И вдруг шум почтового зала замер — я видел лица незнакомых
людей, их поспешные шаги, торопливые движения, но суета эта была
нема.
А мама написала о том, что умер мой давний враг — Мирон. Что
его убила тихая кобыла Машка.
Он лупил ее, как всегда, писала мама, и ничего не ждал, никакой
опасности от своей старой лошади, но много лет битая Машка вдруг
зароптала, заходила на поводу перед своим хозяином, блеснула рас¬
ширенным зрачком, поднялась на задние ноги — неуверенно, неумело
поднялась, видать, с детства своего так не вставала, играя, a Tyt под¬
нялась, заржала диким, тоскливым голосом и вдруг ударила перед¬
ними копытами своего хозяина.
Он крикнул — негромко, хрипло — упал. Прибежала Захаровна,
на крылечке поликлиники собрался целый выводок медсестер в бе¬
лых халатах; Поли не было — она уже выучилась, уехала в другой
город.
Мирон кряхтел, точно ему дали в поддых, то открывал, то закры¬
вал рот. Приехала «скорая». Его увезли.
ПОСЛЕДНИЕ ХОЛОДА
ПОСЛЕДНИЕ ХОЛОДА 175
Вспоминая свои первые классы и милую сердцу учительницу,
дорогую Анйу Николаевну, я теперь, когда промчалось столько лет с
той счастливой и горькой поры, могу совершенно определенно ска¬
зать: наставница наша любила отвлекаться.
Бывало, среди урока она вдруг упирала кулачок в остренький
свой подбородок, глаза ее туманились, взор утопал в поднебесье или
проносился сквозь нас, словно за нашими спинами и даже за школь¬
ной стеной ей виделось что-то счастливо-ясное, нам, конечно же, не¬
понятное, а ей вот зримое; взгляд ее туманился даже тогда, когда кто-
то из нас топтался у доски, крошил мел, кряхтел, шмыгал носом, во¬
просительно озирался на класс, как бы ища спасения, испрашивая со¬
ломинку, за которую можно ухватиться,— и вот вдруг учительница
странно затихала, взор ее умягчался, она забывала ответчика у доски,
забывала нас, своих учеников, и тихо, как бы про себя и самой себе,
изрекала какую-нибудь истину, имевшую все же самое к нам прямое
отношение.
— Конечно,— говорила она, например, словно укоряя сама се¬
бя,— я не сумею научить вас рисованию или музыке. Но тот, у кого
есть божий дар,— тут же успокаивала она себя и нас тоже,— этим
даром будет разбужен и никогда больше не уснет.
Или, зарумянившись, она бормотала себе под нос, опять ни к кому
не обращаясь, что-то вроде этого:
— Если кто-то думает, будто можно пропустить всего лишь один
раздел математики, а потом пойти дальше, он жестоко ошибается.
В учении нельзя обманывать самого себя. Учителя, может, и обма¬
нешь, а вот себя — ни за что.
То ли оттого, что слова свои Анна Николаевна ни к кому из нас
176 АЛЬБЕРТ ЛИ ХА НОВ
конкретно не обращала, то ли оттого, что говорила она сама с собой,
взрослым человеком, а только последний осел не понимает, насколько
интереснее разговоры взрослых о тебе учительских и родительских
нравоучений, то и все это, вместе взятое, действовало на нас, потому
что у Анны Николаевны был полководческий ум, а хороший полко¬
водец, как известно, не возьмет крепость, если станет бить только в
лоб,— словом, отвлечения Анны Николаевны, ее генеральские манев¬
ры, задумчивые, в самый неожиданный миг, размышления оказались,
на удивление, самыми главными уроками.
Как учила она нас арифметике, русскому языку, географии, я, соб-
U
ственно, почти не помню,— потому видно, что это учение стало моими
знаниями.
А вот правила жизни, которые учительница произносила про
себя, остались надолго, если не на век.
Может быть, пытаясь внушить нам самоуважение, а может, пре¬
следуя более простую, но важную цель, подхлестывая наше старание,
Анна Николаевна время от времени повторяла одну важную, видно,
истину.
— Это надо же,— говорила она,— еще какая-то малость — и они
получат свидетельство о начальном образовании.
Действительно, внутри нас раздувались разноцветные воздушные
шарики. Мы поглядывали, довольные, друг на дружку. Надо же, Вов¬
ка Крошкин получит первый в своей жизни документ. И я тоже! И уж
конечно, отличница Нинка. Всякий в нашем классе может полу¬
чить — как это — свидетельство об образовании.
В ту пору, когда я учился, начальное образование ценилось. После
четвертого класса выдавали особую бумагу, и можно было на этом за¬
вершить свое учение. Правда, никому из нас это правило не подходи¬
ло, да и Анна Николаевна поясняла, что закончить надо хотя бы
семилетку, но документ о начальном образовании все-таки выда¬
вался, и мы, таким образом, становились вполне грамотными
людьми.
— Вы посмотрите, сколько взрослых имеет только начальное об¬
разование! — бормотала Анна Николаевна.— Спросите дома своих
матерей, своих бабушек, кто закончил одну только начальную школу,
и хорошенько подумайте после этого.
Мы думали, спрашивали дома и ахали про себя: еще немного, и мы,
получалось, догоняли многих своих родных. Если не ростом,
если не умом, если не знаниями, так образованием мы приближались
к равенству с людьми любимыми и уважаемыми. ^
ПОСЛЕДНИЕ ХОЛОДА 177
— Надо же,— вздыхала Анна Николаевна,— какой-то год и два
месяца! И они получат образование!
Кому она печалилась? Нам? Себе? Неизвестно. Но что-то было в
этих причитаниях значительное, серьезное, тревожащее...
* * *
Сразу после весенних каникул в третьем классе, то есть без года и
двух месяцев начально образованным человеком, я получил талоны
на дополнительное питание.
Щел уже сорок пятый, наши лупили фашистов почем зря, Левитан
каждый вечер объявлял по радио новый салют, и в душе моей ранни¬
ми утрами, в начале не растревоженного жизнью дня, перекрещива¬
лись, полыхая, две молнии — предчувствие радости и тревога за отца.
Я весь точно напружинился, суеверно отводя глаза от такой убийст¬
венно-тягостной возможности потерять отца накануне явного счастья.
Вот в те дни, а точнее, в первый день после весенних каникул, Анна
Николаевна выдала мне талоны на доппитание. После уроков
я должен идти в столовую номер восемь и там пообедать.
Бесплатные талоны на доппитание нам давали по очереди — на
всех сразу не хватало,— и я уже слышал про восьмую столовку.
Да кто ее не знал, в самом-то деле! Угрюмый, протяжный дом этот,
пристрой к бывшему монастырю, походил на животину, кото¬
рая распласталась, прижавшись к земле. От тепла, которое пробива¬
лось сквозь незаделанные щели рам, стекла в восьмой столовой не то
что заледенели, а обросли неровной, бугроватой наледью. Седой чел¬
кой над входной дверью навис иней, и, когда я проходил мимо вось¬
мой столовой, мне всегда казалось, будто там внутри такой теплый
оазис с фикусами, наверное, по краям огромного зала, может, даже
под потолком, как на рынке, живут два или три счастливых воробья,
которым удалось залететь в вентиляционную трубу, и они чирикают
себе на красивых люстрах, а потом, осмелев, садятся на фикусы.
Такой мне представлялась восьмая столовая, пока я только прохо¬
дил мимо нее, но еще не бывал внутри. Какое же значение, можно
спросить, имеют теперь эти представления?
Объясню.
Хоть и жили мы в городе тыловом, хоть мама с бабушкой и над¬
саживались изо всех сил, не давая мне голодать, чувство несытости
навещало по многу раз в день. Нечасто, но все-таки регулярно, перед
ПОСЛЕДНИЕ ХОЛОДА 179
окошечку раздевалки, и в нем, будто кукушка в кухонных часах, по¬
являлась худая тетка с черными и, мне показалось, опасными гла¬
зами. Глаза эти я заприметил сразу — были они огромными, в пол-
лица, и при неверном свете тусклой электрической лампочки, смешан¬
ном с отблесками дневного сияния сквозь оплывшее льдом оконце,
сверкали холодом и злобой.
Столовка эта была устроена специально для всех школ города,
поэтому, ясное дело, очередь тут стояла детская, из мальцов и девчо¬
нок, притихших в незнакомом месте, а оттого сразу вежливых и по¬
корных.
«Здрассь, тетя Груша»,— говорила очередь разными голосами —
так я понял, что гардеробщицу зовут именно этим именем, и тоже по¬
здоровался, как все, вежливо назвав ее тетей Грушей.
Она даже не кивнула, зыркнула блестящим вороньим глазом, ки¬
нула на барьерчик жестяной, скрежетнувший номерок, и я очутился
в зале. С моими представлениями совпали только размер и воробьи.
Они сидели не на фикусах, а на железной перекладине под самым
потолком и не щебетали оживленно, как щебетали их собратья на рын¬
ке, неподалеку от навозных катышей, а были молчаливы и скромны.
Дальнюю стену столовой прорезала продолговатая амбразура, в
которой мелькали белые халаты, но путь к амбразуре преграждала
деревянная, до пояса, загородка унылого серо-зеленого, как и вся сто¬
ловая, цвета. Чтобы забраться за загородку, надо было подойти к кра¬
шеной тетке, восседавшей на табуретке перед фанерным коробом с
прорезями: она брала талончики, привередливо разглядывала их и
опускала, как в почтовые ящики, в щелки короба. Вместо них она вы¬
давала дюралевые кругляши с цифрами т- за них в амбразуре давали
первое, второе и третье, но еда была разная, видно в зависимости от
талончиков.
Взгромоздив на поднос свою долю, я выбрал свободное место за
столиком для четверых. Три стула уже были заняты: на одном сидела
тощая, с лошадиным лицом, пионерка, класса так из шестого, два дру¬
гих занимали пацаны постарше меня, но и помладше пионерки.
Выглядели они гладко и розовощеко, и я сразу понял, что пацаны го¬
нят наперегонки — кто быстрее съест свою порцию. Парни часто по¬
глядывали друг на дружку, громко чавкали, но молчали, ничего не
говорили — состязание получалось молчаливое, будто, тихо сопя, они
перетягивали канат: кто кого? Я поглядел на них, наверное, слишком
внимательно и чересчур задумчиво, выражая своим взглядом сомне¬
ние в умственном развитии пацанов, так что один из них оторвался
I 2*
180 АЛЬБЕРТ ЛИ ХАНОВ
от котлеты и сказал мне невнятно, потому что рот у него был забит
едой:
— Лопай, пока не получил по кумполу!
Я решил не спорить и принялся за еду, изредка поглядывая на гон¬
щиков.
Нет, что ни говори, а еду эту можно было только и прозвать —
дополнительное питание. Уж никак не основное! От кислых щей сво¬
дило скулы. На второе мне полагалась овсянка с желтой лужицей
растаявшего масла, а овсянку я не любил еще с довоенных времен. Вот
только третье обрадовало — стакан холодного вкусного молока. Ржа¬
ную горбуху я доел с молоком. Впрочем, я съел все — так полагалось,
даже если еда, которую дают, невкусная. Бабушка и мама всю мою
сознательную жизнь настойчиво учили меня всегда все съедать без
остатка.
Доедал я один, когда пионерка и пацаны ушли. Тот, который по¬
бедил, проходя мимо, больно щелкнул меня все-таки по стриженой го¬
лове, так что молоком я запивал не только кусок ржаного хлеба, но еще
и горький комок обиды, застывший в горле.
Перед этим, правда, был один момент, в котором я толком ничего
не понял, разобравшись во всем лишь на следующий день, через це¬
лые сутки. Победив соперника, гадкий парень скатал хлебный ша¬
рик, положил его на край стола и чуть отодвинулся. Задрав голову,
пацаны посмотрели вверх, и прямо на стол, точно по молчаливой
команде, слетел воробей. Он схватил хлебный кругляш и тут же
убрался.
— Повезло ему,— хрипло сказал чемпион.
— Еще как! — подтвердил проигравший.
У чемпиона оставалась хлебная корка.
— Оставить? — спросил он приятеля.
— Шакалам? — возмутился тот.— Давай лучше воробьям!
Чемпион положил корку, но воробей, подлетевший тут же, не су¬
мел ухватить ее. Тем временем пацан, проигравший соревнование в
еде/уже встал.
— Ну, ладно! — поднялся победитель.— Не пропадать же! —
И запихнул корку в рот.
Щека у него оттопырилась, и вот с такой скособоченной рожей он
прошел рядом со мной и щелкнул меня по макушке.
Я уже не озирался больше. Давясь, глядя в стакан, доел ржануху
и пошел с номерком к тете Груше.
Не очень-то вкусным вышло дополнительное питание.
ПОСЛЕДНИЕ ХОЛОДА 181
* * *
Школы учили ребятню в три смены, и потому восьмая столовка
дополнительного питания пыхтела с утра до позднего вечера. На дру¬
гой день я воспользовался этим: сразу после уроков в столовой оче¬
редь, да и вчерашних гадких парней встречать не хотелось.
Вот ведь гады! Я припоминал, как они соревновались, кто быст¬
рее съест свой обед, силился представить их похожие лица, но ничего,
кроме одинаковой гладкости, вспомнить не мог.
Словом, я погулял, побродил по улицам и, уж когда стало совсем
голодно, переступил порог столовой. Народу к тете Груше не было со¬
всем, она скучала в окошке раздевалки, а когда я принялся расстеги¬
вать пуговицы пальто, сказала вдруг:
— Не раздевайся, сегодня холодно!
Видно, на лице моем блуждало недоверие, а может, и просто не¬
доумение — я еще никогда в жизни не ел по-зимнему одетым, и она
улыбнулась:
— Да не бойся! Когда холодно, мы разрешаем.
Для верности стянув все-таки шапку, я вошел в обеденный зал.
В столовой был тот ленивый час, когда толпа едоков уже схлынула,
а сами повара, известное дело, должны поесть до общего обеда, чтобы
не раздражаться и быть добрыми, и поэтому по обеденному залу бро¬
дила дрема. Нет, никто не спал, не слипались глаза у поварих в амбра¬
зуре, и крашеная тетка возле коробка сидела настороженная, на¬
пружиненная, точно кошка, видать, еще не отошла от волне¬
ний ребячьей очереди, но уже и она напрягалась просто так, по при¬
вычке и без надобности. Еще малость — она притихнет и замур¬
лычет.
Дреме было, понятно, неуютно в этой столовой. Ведь ей требуется
всегда, кроме сытости, еще и тепло, даже духота, а в восьмой столовой
стояла холодрыга. Похоже, дрова для котлов, чтобы еду сварить, еще
нашлись, а вот обогреть холодный монастырский пристрой сил не¬
достало. И все-таки дрема бродила по столовой — стояла тишина,
только побрякивали ложки немногих едоков, из-за амбразуры медлен¬
но и нехотя выплывал белый вкусный пар, крашеная тетка, едва я
подошел к ней со своим талончиком, смешно закатив глаза, протяжно,
со стоном зевнула.
Я получил еду и сел за пустой столик. Есть в пальто было неловко,
толстые стеганые рукава норовили заехать в тарелку, и, чтобы было
удобней сидеть, я подложил под себя портфель. Другое дело! Теперь
182 АЛЬБЕРТ ЛИ ХАНОВ
тарелки не торчали перед носом, а чуточку опустились, вернее, повы¬
ше очутился я, и дело пошло ходче.
Вот только еда сегодня оказалась похуже вчерашней. На первое —
овсяный суп. Уж как я не хотел есть, уж как я не терпел овсяную ка¬
шу, одолеть суп из овсянки было для меня непомерное геройство.
Вспоминая строгие лица бабушки и мамы, взывавшие меня к твердым
правилам питания, я глотал горячую жидкость с жутким насилием
над собой. А власть женской строгости все-таки велика! Сколь ни был
я свободен здесь, в далекой от дома столовой, как ни укрывали меня
от маминых и бабушкиных взоров стены и расстояние, освобождаться
от трудного правила было нелегко. Две трети тарелки выхлебал по¬
полам с тоской и, вздохнув тяжело, помотав головой, как бы завершая
молчаливый спор, отложил ложку. Взялся за котлету.
Как он присел напротив меня, я даже и не заметил. Возник без
единого шороха. Вчерашний воробей нашумел куда больше, когда
слетал на стол. А этот мальчишка появился точно привидение. И уста¬
вился на тарелку с недоеденным супом.
Я сначала не обратил на это внимания — меня тихое появление
пацана поразило. И еще — он сам.
У него было желтое, почти покойницкое лицо, а на лбу, прямо над
переносицей, заметно синела жилка. Глаза его тоже были желтыми,
но, может, это мне только показалось оттого, что такое лицо? По край¬
ней мере, в них что-то светилось такое, в этих глазах. Какое-то по¬
лыхало страшноватое пламя. Наверное, такие глаза бывают у су¬
масшедших. Я сперва так и подумал: у этого парня не все в порядке.
Или он чем-то болен, какой-то такой странной болезнью, которой
я никогда не видывал.
Еще он бросал странные взгляды. У меня даже сердце сжалось,
слышно застучала кровь в висках. Мальчишка смотрел мне в гла¬
за, потом быстро опускал взгляд на тарелку, быстро-быстро двигал
зрачками: на меня, на тарелку, на меня, на тарелку. Будто что-
то такое спрашивал. Но я не мог его понять. Не понимал его воп¬
росов.
Тогда он прошептал:
— Можно я доем?
Этот шепот прозвучал громче громкого крика. Я не сразу понял.
О чем он? Что спрашивает? Можно ли ему доесть?
Я сжался, оледенел, пораженный. Меня дома учили всегда все
съедать, мама придумывала мне всякие малокровия, и я старался,
как мог, но даже при крепком старании не все у меня выходило, хотя
ПОСЛЕДНИЕ ХОЛОДА 183
я и знал, что скоро снова засосет под ложечкой. И вот мальчишка,
увидевший недоеденный противный суп, просит его — просит!
Я долго и с натугой выбирал слово, какое должен сказать пацану,
и это мое молчание он понял по-своему, понял, наверное, будто мне
жалко или я еще доем эту невкусную похлебку. Лицо его — на лбу и
на щеках — покрылось рваными, будто родимые пятна, красными
пятнами. И тогда я понял: еще мгновение — и я окажусь свиньей, са¬
мой последней свиньей. И только потому, видите ли, что у меня не на¬
ходится слов.
Я быстро кивнул. И потом еще кивнул раза три, но мальчишка уже
не видел этих кивков. Он схватил мою ложку и быстро, в одно мгнове¬
ние, доел овсяный суп.
После того как я кивнул, пацан больше не смотрел на меня. Ни
разу не взглянул. Быстро съел суп и, спрятав глаза, двинулся от стола.
Я посмотрел ему вслед. Пацан ушел в дальний угол столовой и только
там обернулся. Он не глядел на меня, я, видно, уже не интересовал
его. Он смотрел на зал, передергивая взгляд от одного столика, где
кто-то ел, к другому. Рядом с ним, в углу, стояла маленькая дев¬
чонка.
Я доел котлету, выпил чай и слез с портфеля. Медленно, нарочно
утишая шаг, я направился к выходу, украдкой, чтобы он не заметил
этого, разглядывая пацана. Одет он был ничего, прилично, в серое
пальто с черным собачьим воротником, такие, я знал, давали по орде¬
рам в универмаге, и на девочке было точно такое же пальто, только,
понятно, маленького размера, и я подумал, что, может, это детдомов¬
ские ребята — там одевают всех похоже, будто в форму.
Когда я совсем приблизился к мальчишке с его сестрой — какой
же мальчишка в наше время мог стоять с девчонкой, если она не се¬
стра? — маленькая быстро, точно мышь, шмыгнула к столу возле
окна.
Там сидела большая девчонка, тонкая и бледная, как бумага. Она
кивала маленькой головой. И когда та подбежала, подвинула ей по¬
ловину котлеты с половиной картофельного пюре. Я задержался
в дверях и увидел, что большая девчонка дала маленькой еще и
хлеба. Она что-то шептала, маленькая, а большая девчонка говорила
ей неслышные мне, но добрые слова — это сразу видно, что добрые,
потому что, когда говорят добрые слова, в такт им кивают голо¬
вой.
Меня осенило.
Так вот про каких шакалов говорили вчера гладкие парни!
184 АЛЬБЕРТ ЛИХА НО В
* * #
Я шел домой и все думал: а я бы смог так? Ведь это небось стыд¬
но. Да, наверное, и противно — доедать за другими. Еще и просить...
Нет, пожалуй, паренек с сестренкой не из детского дома, там ведь
кормят исправно, а эти... Какими же надо быть голодными, «чтобы
отираться в столовке, доедать чужие куски, вылизывать чужие та¬
релки?
В детстве человечество не страдает риторикой. И этот вопрос,
сколько дней надо голодать, чтобы попрошайничать в восьмой столов¬
ке, не был для меня вопросом ради вопроса. Я решил, что можно вы¬
держать два дня. Да, два дня. На третий, каким бы ты ни был стыдли¬
вым, придешь, попросишь, взмолишься.
И все же я не мог представить такого стыда. Ясно кому угодно:
просто так, без нужды, нормальный человек не станет попрошайни¬
чать. Но у мальчишки горели безумным светом глаза. «Может, все-
таки он больной? — спрашивал я себя.— Ну а девчонка? Тоже боль¬
ная?»
На всякий случай еще с вечера я стянул из буфета кусок хлеба,
обернул его аккуратно газетой и положил в портфель, j
* * *
Назавтра нас отпустили после четвертого урока. Пятым была физ¬
культура, но Анна Николаевна болела ангиной — и так-то сидела с
температурой, а тут еще надо идти во двор и выделывать всякие упра¬
жнения. Прежде у нас тоже такое случалось, но тогда, видать, Анна
Николаевна чувствовала себя получше и физкультуру заменяла ка¬
ким-нибудь другим предметом, той же, к примеру, арифметикой, за¬
давала задачи, а сама куталась в платок, ежилась, а наежившись, чего-
нибудь изрекала в конце урока: мол, кашу маслом не испортишь.
Дескать, что там физкультура, разве можно ее сравнить с арифмети¬
кой, где лишний раз повторить — сущее благо.
Но тут она расклеилась совсем, говорила слабым голосом, а после
звонка на пятый урок вместо нее в класс вошла Фаина Васильевна,
наша директриса. Остановившись на пороге и понизив голос, она ска¬
зала, чтобы мы тихо и быстренько собирались и шли домой, потому
что у Анны Николаевны температура.
4 Я припустил в столовку и застал столпотворение. Змеей петляла
очередь к тете Груше, но многие, не раздеваясь, шли прямо к тетке
ПОСЛЕДНИЕ ХОЛОДА 185
с коробом, ели в пальто, мест за столиками не хватало, и некоторые
жевали даже стоя, пристроив тарелки на краешек занятого стола или
на широкий монастырский подоконник.
Особенно много было малышей, и я понял, что сошлись две или,
может, даже три смены. Маленькие, которых отпустили раньше, вто¬
рая смена ела, ясное дело, перед уроками, а из третьей пришли те,
у кого, наверное, терпения не хватало. Мне хотелось увидеть желтоли¬
цего, и я двинулся на приступ амбразуры одетым.
Когда ты невелик ростом, жить трудно. Тебя отталкивают, могут
дать по макушке, подставить ножку, если ты спешишь, и зло обхохо-
тать. Пока я стоял к тетке с коробом, пацаны побольше стали про¬
ходить вперед и, приметив девчонку или маленького пацана, запросто
влезали перед ними. Даже не оборачивались, нахалюги, и, уж конечно,
ничего не говорили в оправдание. И маленьким приходилось объеди¬
няться. Передо мной сперва был красноухий мальчишка, и я взял его
за хлястик пальто, чтобы никто не ворвался между нами. Он только
улыбнулся мне, показав пол-лица с кривыми зубами. Сам он держался
за девчонку. Но когда мы приблизились к кассирше, между мной и
красноухим влез длинный парень с большим горбатым носом. Он так
нагло вклинился между нами, будто совсем и не замечал, что мы
держимся друг за дружку. Я сразу присвоил ему кличку Нос.
— Э! — сказал я тихонько. А про себя добавил: «Нос!»
Длинный повернулся ко мне.
— Не рыпайся,— прошипел он, и на меня пахнуло таким ядреным
махорочным духом, что я покорился.
А длинный махнул рукой и пропустил перед собой еще парней
пять, не меньше, наглец такой.
От шайки этой перло, как из курительной комнаты где-нибудь в
кинотеатре, они галдели, матюгались, правда понижая при этом го¬
лоса, толкались, и вообще, нестрашные, может, каждый поодиночке,
вместе они были какой-то грубой и злой силой, с которой даже взрос¬
лые предпочитали не связываться.
Портфели эта банда свалила возле стенки, и никто из них ни разу
не обернулся на свое добро. Я не завидовал таким шайкам, их тогда
было много, чуть не в каждом дворе или даже классе — там царили
неправедные законы, зло и несправедливость. Ладно бы, задевали дру¬
гих — они и своего могли запросто избить. Да что там, почти в каждой
компании была своя шестерка — пацан, который считался вроде бы
адъютантом самого сильного. Но были у шаек и свои привилегии. Они
не боялись взрослых. Они не тряслись на каждом шагу, если были
186 АЛЬБЕРТ Л ИХ А НО В
вместе. Они не озирались по сторонам и запросто могли свалить
в кучу свои сумки. А я вот не мог даже такой малости. Я был одинок
в этой столовке и крепко держал свою сумку, думая о том, как же
потащу поднос с едой да еще портфель.
Это, конечно, удалось плохо, суп, на этот раз любимая горохови¬
ца, расплескался наполовину, я и остальное-то еле дотащил. Хорошо,
хоть повезло с местом. Наконец я устроился. Неподалеку гоготала
шайка — парни заняли столик, но двоим мест не досталось, и они
ели стоя, наклоняясь к своим тарелкам за каждой ложкой, смешили
остальных.
Мне досталось удобное место, в углу, да и вместо портфеля я устро¬
ился на собственной ноге, подтянув ее под себя, а нога была в большом
валенке, поэтому вся столовая открылась передо мной как на ладони.
Что же вокруг творилось! Я даже хохотнул — никогда я не виды¬
вал такого. Очередь к накрашенной тетке вилась между столами и
заканчивалась возле гардероба, где опять, как кукушка, мелькала в
своем окне черноглазая Груша.
А шум какой стоял! Такой гомон мог быть еще только на вокзале.
Поезд вот-вот тронется, а люди не сели, да и в вагонах не хватает мест,
и все колготятся, дергаются, а сделать ничего не могут. Народ в вось¬
мой столовой тоже колготился и дергался. Грохали железные миски
у раздавальщиц в амбразуре. Постукивали ложки о края мисок в
обеденном зале. Мальчишки и девчонки разного роста и в разной одеж¬
ке вставали, садились, ходили между столиков, говорили, смеялись,
вскрикивали, носили подносы с едой и волокли их обратно, уже с
пустой посудой. В такой толкотне отыскать желтолицего было не так-
то легко. Да и пришел ли он сегодня? Мог ведь и не прийти. Или по¬
явиться позже.
Прихлебывая суп, я внимательно изучал столовую. И вдруг уви¬
дел, как к белобрысой девчонке, которая несла поднос, подскочил ма¬
ленький мальчишка и схватил ее хлеб. Девчонка испуганно вскрик¬
нула, едва не выпустила поднос, а парни из шайки захохотали:
— Молодец, шакаленок! — крикнул длинный.
— Шакалы! — пискнуло у меня под ухом.
Я повернулся. За моим столом сидела девчонка и еще два маль¬
чишки, все младше меня. Давясь, они торопливо ели свою еду, да еще
свободной рукой прикрывали миски, будто кто-то выхватит их сейчас.
— Второе-то не отнимут,— сказал я, стараясь их успокоить,—
А суп и подавно!
Я постарался улыбнуться, а веснушчатая и щербатая девчонка —
ПОСЛЕДНИЕ ХОЛОДА 187
из разговорчивых, видать,— прошепелявила сквозь картофельное
пюре:
— Еще как отнимут!
— Прямо миску? — удивился я.
— Прямо миску! Я видела один раз,— прожевав, будто учитель¬
ница, объяснила она,— как парень прямо из миски котлету выхватил
и тут же съел! Даже не побежал!
Маленькие пацаны за нашим столом сильнее застучали ложками.
— Главное,— объясняла веснушка,— скорее суп съесть.
— Почему? — удивился я.
— Тогда только одна тарелка останется. Ее можно держать.
Двое мальчишек замирали, пока девчонка говорила, будто запо¬
минали урок умной учительницы, но, как только она замолкала, про¬
сто грохотали ложками.
Я снова оглядел зал. И увидел наконец желтолицего. Он походил
на охотника. Стоял в какой-то настороженной позе.
А щербатая девчонка не умолкала. Она добралась до компота и,
видно, теперь не боялась, что ее ограбят. Вот и старалась.
— Есть, конечно, такие, которые по-хорошему просят,— сказала
она и отпила компот.— На них и облавы устраивают. Ничего не помо¬
гает.— Она болтала ногами и уже не думала о страхе.— Но хуже всех
маленьким приходится. И нам, девчонкам. А если ты маленький и
девчонка, то вообще!
Едва она успела проговорить, как желтолицый, ловко огибая сто¬
лик, кинулся навстречу еще одной маленькой девчонке с подносом и
схватил хлеб.
Та, белобрысая, промолчала — видать, боялась и знала, как себя
вести,— а маленькая завыла, точно сирена. В столовой сразу стало ти¬
хо, все обернулись к ней и желтолицему, и в этой тишине шакал молча,
уверенно и быстро выскочил из столовой.
— Эт-та что такое опять? — закричала крашеная тетка, с грохо¬
том захлопнула деревянный шлагбаум к амбразуре, вскочила со свое¬
го возвышения, заорала гардеробщице: — Груша, опять тут воруют?
Парни за соседним столом загоготали, началась свара между Гру¬
шей и крашеной, и все были на стороне Груши: ясное дело, уж кто
сидит, так это крашеная, а гардеробщица, будто кукушка в часах, едва
поворачиваться поспевает.
— Это я сижу? — кричала Груша.
— А кто же? — отвечала ей крашеная.
— Посмотри, скоко народу!
188 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
— А у меня меньше? Тебе велено гнать всех этих...— Она при¬
тормозила, но не сдержалась и закончила: — Шакалов!
— Какие они шакалы?! — отчаянно крикнула Груша.— Голодные
ребята, вот и все!
— Все голодные!
Девчонка, у которой украли хлеб, давно успокоилась и ела уже
второе, а Груша и кассирша все еще переругивались, и тут очередь на¬
чала роптать. Сперва тихо, неуверенно прокатился в столовке какой-
то шелест. Потом кто-то крикнул:
— Кончай базарить! Давай жрать!
Что тут началось!
Грубые и писклявые, девчачьи и мальчишечьи голоса слились
в один протяжный, долгий крик:
— Жра-а-ать! Жра-а-ать!
Мне даже стало страшно. Крашеная тетка заозиралась, словно
кошка в опасности, потом чего-то сообразила, что-то решила свое и
быстро вернулась к коробу.
Из амбразур высовывались раздатчицы в белых косынках.
— Ну что? — спрашивали они.— Опять?
— Ничего! — громко, перекрывая гвалт, ответила крашеная и
принялась принимать талончики. Точно по команде, крик стих, снова
забренчали ложки.
Столовка продолжала кормить малый народ.
* * *
— А девчонку-то зовут Нюрка,— объявил длинный, который от¬
тер меня.— Она с нашего двора!
— У-у-у! — загудела остальная шайка.
— И этого шакала надо проучить,— сказал Нос.
Мне и в голову не пришло бы, что этот Нос борется за справедли¬
вость. Просто их много, вот и все. А тот, желтолицый,— неужели он
только с сестрой?
Доев, я выскочил за шайкой Носа. Длинный уже разговаривал с
желтолицым. Тот был один и стоял перед мальчишками, прижавшись
к забору.
— Тебе не стыдно? — фальшивым голосом припевал Нос.—
У маленькой! У девочки! Отнимать хлеб!
Я поразился. Желтолицый был совершенно спокоен. Казалось,
еще мгновение, и он зевнет.
ПОСЛЕДНИЕ ХОЛОДА 189
— Да мы,— куражился Нос,— да тебя! Сдадим в милицию, ху¬
лиган такой.
— Сдавайте,— устало мотнул головой пацан.
— Ну нет! — не растерялся Нос.— Это было бы слишком просто!
И слишком,— он обернулся к своей шайке,— безболезненно.
Его банда хохотнула. Приятели дылды стояли вокруг желтолицего
полукругом. И портфели их снова лежали горкой — руки свободны
для драки.
Если бы для драки! Для избиения.
Итак, они стояли полукругом и были похожи на стаю, загнавшую
зверя. «Вот кто шакалы-то»,— подумал я, и в тот же миг Нос медлен¬
но и неуклюже, точно пробуя свои силы, ударил желтолицего в грудь.
Тот не шелохнулся, не поднял рук, чтобы защититься, не уклонился
от удара.
Нос сделал еще один выпад и отскочил. Я сразу понял, что этот
длинный просто трус, а никакой не предводитель и драться-то он не
умеет.
— Отойди! — предупредил желтолицый.— А то будет худо.
Нос фальшиво расхохотался. Было над чем. Шакал один, а при¬
ятелей длинного шестеро; всего семь. И один угрожает семерым.
Нос изловчился и ударил желтолицего, целя по челюсти. Парень
снова не уклонился и не защитился; он принял удар с каким-то
непонятным мне смирением. Но это смирение длилось всего секунду,
не дольше. Желтолицый сглотнул кровь, а в следующий миг прыгнул,
будто разжатая пружина, к Носу и обеими руками вцепился ему
в горло. Первую минуту драка проходила в полной тишине. Прияте¬
ли длинного отпрянули по сторонам, а он какое-то время валтузил
желтолицего по корпусу. Но бить его было неловко, не с руки, не хва¬
тало пространства для размаха, удары не приносили шакалу никако¬
го вреда, зато он мертвой хваткой вцепился в горло противника, и я
увидел, как побелели, сделались похожими на снег костяшки его
пальцев.
— Ну! Вы! Помогите! — крикнул, задыхаясь, Нос, и шестеро его
подручных тоже неумело и невпопад принялись лупить желтолицего
со спины.
Он не уворачивался, и ему пришлось бы худо, если бы он имел
дело с настоящими драчунами. Но шайка Носа могла только хоро¬
хориться в столовой или где-нибудь в киношке на детском сеансе,
могла громко ругаться и курить, а драться она не умела, и один реши¬
тельный парень одолел их. Он молча сжимал горло длинного, тот
190 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
крутанулся и раз, и другой, бухнулся на землю, увлекая за собой
противника, и вдруг задрыгал ногами — странно очень задрыгал, по-
взаправдашнему задрыгал и захрипел из последних сил:
— Отпусти-и-и!
Его команда не на шутку испугалась, увидев, как Нос судорожно
задрыгал ногами, сбилась в кучу и притихла. Желтолицый лежал на
противнике. Он с трудом, даже, кажется, с болью разжимал собствен¬
ные пальцы. На горле Носа темнели пятнышки — это были синяки!
Ну и ну! Желтолицый дрался не на шутку. Еще немного, и он мог бы
задушить длинного. Вот тут, возле столовки, посреди бела дня, да
еще когда Нос не один, а с целой компанией помощников!
Такого я не видывал — ни до, ни после.
Желтолицый встал, с трудом поднимался и Нос. Неожиданно
длинный заплакал. Он хрипел, что-то хотел сказать, но у него ничего
не получалось, и я не мог понять, угрожает он или жалуется. Каза¬
лось, один желтолицый понимает его.
— А как же ты думал? — спросил он спокойно, даже добродуш¬
но.— Я ведь и убить могу.
Он проговорил это без всякой угрозы, но шайка Носа кинулась к
своим сумкам и растворилась.
Нос остался один. Он просморкался, вытер рукавом свой горба¬
тый нос, вроде привел себя в порядок, но не справился с собой. Снова
заревел, но теперь уже по-другому, визжа не от боли, а от досады.
Он подобрал свою сумку, а поравнявшись со мной, пнул мой порт¬
фель.
За что? За то, что я был свидетелем? Но ведь драку видели многие.
У входа в столовку скопилась настоящая толпа. Только никто не
решался подойти близко.
Я стоял ближе всех.
* * *
Едва драка кончилась, как все разошлись. Остался один я. И жел¬
толицый, конечно. Он подошел к забору, возле которого стоял перед
дракой, и опять прислонился. Лицо его было таким, будто он вовсе
и не дрался. «Вот это воля, надо же!» — восхитился я.
Два непохожих чувства боролись во мне — восхищения и отвра¬
щения.
Желтолицый был примерно одного класса с Носом, но ниже ро¬
ПОСЛЕДНИЕ ХОЛОДА 191
стом, один, и его отчаянная, ни на что не похожая храбрость не могла
не поражать. Но ведь этот человек отнял хлеб у девчонки в столовой.
У маленькой к тому же девчонки, такой, как его сестра.
Что же значило это? И что еще, кроме отвращения, могло вызы¬
вать, какие чувства?
Я приготовил ему кусок хлеба, раз он такой голодный, я хотел
отдать ему ломоть, завернутый в газету, но события так закрутились...
Я не знал, что делать.
Желтолицый все стоял у забора, прислонившись, прикрыв глаза.
Казалось, он ничего не видит. И даже не дышит.
И тут он упал. Не сразу, не как подкошенный, а вдруг закатил
глаза и пополз вниз по забору.
Он неловко сел в снег, и голова его откинулась.
Ну, я перепугался!
Первое, что пришло мне в голову,— это коварство Носа. Наверное,
подумал я, во время драки он всадил желтолицему шило в живот.
Шпана военных лет обожала ходить с шилом, или с наточенным раш¬
пилем, или с каким-нибудь железным прутом,— не придерешься,
не холодное оружие. Я подумал, что Нос ткнул желтолицего шилом,
тот сперва терпел, а теперь вот свалился.
Я побежал к мальчишке, потряс его за воротник — на большее
не решился — и, бросив портфель, кинулся в столовую.
Народу в прихожей было поменьше, но все-таки много, и я закри¬
чал, перебивая шум, обращаясь к единственной, кого знал по имени,
обращаясь без веры, что она поможет, очень уж черные и злые были
у нее глаза, но я все равно кричал, потому что надо было как-то спасать
желтолицего.
— Тетя Груша! — орал я благим матом, от страха не слыша са¬
мого себя.— Там парень упал! Шакал! Помира-а-ает!
— Такой желтолицый? — крикнула тетя Груша.
— Они там дрались,— заорал я в ответ,— и он потом упал.
Но тетя Груша несла какую-то чепуху.
— Чайку надо,— говорила она, выскакивая из своего скворечни¬
ка.— Сладкого чайку! — Потом кинулась в зал, к амбразуре, закри¬
чала: — Девочки, дайте чайку послаще! Да побыстрей!
— Опять? — спросила крашеная тетка.
— Опять! — ответила Груша.
Мелко семеня, она мчалась по столовке, и все перед ней расступа¬
лись, точнее, перед железной кружкой, над которой дымился парок
и которую несла в вытянутой руке тетя Груша.
ПОСЛЕДНИЕ ХОЛОДА 193
Я выскочил на улицу первым. Желтолицый сидел все в той же
неудобной позе, откинувшись назад.
— На-ка, мальчик, подержи,— сказала тетя Груша, протягивая
мне кружку с чаем. Сама она схватила снег и принялась растирать
им виски желтолицего пацана. — Ох ты господи! — повторяла тетя
Груша.— Ох ты господи! Что же это деется-то, а?
Я увидел ее при дневном свете и поразился: как же может оши¬
баться человек! Она вовсе не походила на ту женщину, которая, будто
кукушка, появлялась в своем окошке. Лицо ее было вовсе не злое,
а усталое, может, тронутое какой-то болезнью, и синие круги под
глазами опустились до середины щек. И сами глаза были совер¬
шенно другие. Не угольные, не пугающие, а как бы бархатные и пе¬
чальные.
— Это что же, господи! — повторяла она, умело растирая виски
желтолицему.— Что же голод-то с нами делает?
Желтолицый вздохнул, открыл глаза, увидел меня и произнес че¬
рез силу:
— А! Это ты!
— Ну-ка попей чайку! — воскликнула тетя Груша. Она помогла
желтолицему встать.
Он держался одной рукой за забор, другой взял кружку и начал
прихлебывать горячий чай.
Ноги его дрожали.
Было видно, как трясутся коленки.
«Как же он победил? — поразился я.— Ведь только что он чуть
не задушил Носа у меня на глазах, а теперь еле держится на ногах!
Неужели так бывает?»
Он допил чай, сквозь желтизну на щеках проступили рваные
красные пятна.
— Спасибо! — вздохнул он и сел прямо в снег.
— А теперь признавайся,— проговорила тетя Груша,— сколько
дней не ел?
Он усмехнулся:
— Вот он меня вчера угостил.
— А сегодня,— спросила тетя Груша,— тот хлеб?
— Его сеструхе.
— Ну, как следует? Сколько дней не ел как следует?
— Пять,— проговорил желтолицый.
194 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
* * *
— Что с тобой было? — спросил я Вадьку. Теперь я знал имя
желтолицего.— У забора?
Он усмехнулся:
— «Что, что». Обморок! Да мне не привыкать. Да, Марья?
Мы шли втроем — Вадька, его сеструха, которую он смешно и тор¬
жественно называл Марья, и я. Маша доедала кусок хлеба украден¬
ный, а Вадька — который принес я.
— Только зря все это,— сказал Вадька.— Жрать сильнее захо¬
телось.
— Ага! — согласилась Марья.— Если не есть, на третий день лег¬
че становится.
— Тебя это не касается,— оборвал ее Вадька,— тебе надо есть,
ты еще растешь.
— Можно подумать, ты вырос! — как взрослая, проворчала Марья.
Мы шли по улице, и я думал: мы бредем просто так, без всякой
цели, может быть, в сторону дома, где живут Вадька и Марья, но при¬
шли мы к главной почте. Вадька уверенно распахнул дверь, прошел
в большое помещение, сел за стол.
— Доставай,— велел он Марье.
Девчонка открыла портфель, вынула тетрадку в косую линейку,
вырвала листок.
— Пиши ты, — строго сказал Вадька сестренке,— мама любит
твой почерк.
Машка, видно, перечила брату не всегда. Высунув язык, она взяла
почтовую ручку, обмакнула перо в казенные чернила и старательно,
большими буквами вывела первую строчку.
— «Дорогая мамочка!» — продиктовал Вадька.
— Уже написала,— сказала Марья.
— «У нас все хорошо,— задумчиво проговорил он.— Вадик по¬
лучил три пятерки. По математике, русскому языку и географии.
У меня вообще одни пятерки. Вчера мы были в гостях у тети Фай, она
нас до отвала накормила холодцом».
— А как пишется «до отвала»? — спросила Марья.— На конце
«а» или «у»?
— Да все равно,— сказал Вадька,— главное, холодец.
Я понял, что они врут. Про холодец и про гости врут абсолютно
точно, это ясно, но ведь про пятерки, наверное, тоже.
— Зачем врешь? — спросил я Вадьку.
ПОСЛЕДНИЕ ХОЛОДА 195
— Затем,— ответил он зло,— что ей нельзя расстраиваться.
Он помолчал.
— Если бы мы написали правду,— качнул он головой.—
А, Марья?
Она подняла голову, усмехнулась горькой взрослой улыбкой.
Спросила:
— Как я карточки потеряла? И деньги?
Вот так дела! Они живут без карточек и без денег, да мыслимое ли
это дело в войну-то! Мама и бабушка приносили домой рассказы, как
померла с голоду одна женщина, а вторая заболела так, что все равно
померла,— и все из-за проклятых карточек, из-за того, что их потеря¬
ли или украли злобные бандиты.
Да что там! Разве мог я забыть, как ограбили нас, украли отцов¬
ские костюмы из шифоньера, только пустые плечики постукивали
одиноко друг о дружку, а вместе с костюмами прихватили и карточ¬
ки. Как мы выжили месяц, один бог знает.
— А родные-то есть у вас? — спросил я.
— Мы эвакуированные,— ответила Марья.
— Тогда знакомые? — воскликнул я.
Вадька понурился, опустил голову, о чем-то крепко думал он, и
Марья ответила за обоих:
— Мы боимся, они маме скажут. А ей волноваться нельзя.
Он поднял голову, мой новый приятель, и на лбу его я увидел
морщинки, будто он старик.
— Это ее убьет,— сказал он.
* * *
Есть люди, похожие на магниты. Они ничего особенного не делают,
а к ним тянет.
Вадька был такой магнит. Правда, нельзя сказать, что он ничего
не делал. Шакалил в столовой — разве этого мало? Отнял хлеб у дев¬
чонки. Но, честно сказать, меня тянуло к нему не это.
Я чувствовал, что желтолицый парень какой-то совсем другой,
чем все остальные знакомые мне люди. Даже если сравнивать его со
взрослыми.
Что? Я не знал. Маленькие люди ведь вообще, многого не зная,
умеют чувствовать. Умеют ощущать. Вот, может, и во мне было такое
ощущение.
196 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
Вадька меня никуда не звал, а самому мне надо было идти домой,
учить уроки, но я, точно примагниченный, шел за желтолицым и его
сестрой. Они даже не очень-то со мной разговаривали, обращаясь
лишь в необходимых случаях, так что болтунами их никак не назо¬
вешь.
Они все говорили о матери — похоже, разговаривать о ней достав¬
ляло им большое удовольствие. При этом получалось так, что гово¬
рить о своей маме они принимались с полуслова, будто отвлекались
на минутку от давнего разговора, потом спохватились, что отвлек¬
лись, и говорили снова о самом важном.
— Ведь если продать утюг, как мама велела,— вдруг засмеялась
Марья,— так мы ведь до конца войны неглажеными ходить бу¬
дем.
Вадька одобрительно оглядел сестру, улыбнулся ей и сказал:
— А что у нас гладить-то?
— Ты что? — возмутилась Марья.— Мамино платье, мое платье,
твои штаны. Да и много ли дадут за утюг на рынке?
— Точно,— ответил Вадим.— А мама вернется, глядь, утюг целе¬
хонек. Ждет ее.
Марья слабо улыбнулась, побледнела.
— Ты что? — забеспокоился Вадим.
— Погоди,— прошептала она,— сейчас пройдет.
Вадим схватил снегу, потер Марье виски, как тетя Груша, но она
отдернулась, сказала:
— Чепуха! Я же не теряю сознания! Ты же кормишь меня каж¬
дый день.
Она отчего-то запыхалась.
— Просто идти трудно,— объяснила Марья,— давай помедлен¬
ней.
Я чувствовал себя полным дураком. Может, первый раз в жизни
не знал, что делать. Стоял, как суслик, столбиком возле двоих этих
ребятишек, и все. Им нехорошо и одиноко, а я не могу помочь. Эх,
быть бы взрослым! Оказаться в один миг самостоятельным челове¬
ком! Уж я бы додумался до чего-нибудь. Дал бы талонов от своих
карточек, еще бы сообразил, что полагается в таких случаях.
Но я был обыкновенным мальчишкой и знал не больше Вадьки.
А он все-таки старше меня. Как выяснилось, на три класса. Ему год
и два месяца до свидетельства о семилетием образовании.
Марьины глаза прояснились, она глядела на меня, что-то такое
соображая, потом неожиданно сказала:
ПОСЛЕДНИЕ ХОЛОДА 197
— А ваш городок ничего! Хороший городок! Хуже немного Мин¬
ска, но тоже хороший. Мне нравится.
Она хотела сделать мне приятное, разговаривала со мной, а то
я вроде плетусь за ними и молчу.
— Вы из Минска? — спросил я.
— Марья,— укорил сестру справедливый Вадька,— да много ли
ты помнишь про Минск?
Она снова остановилась, на этот раз, видно, от возмущения:
— Все помню!
Немного мы прошли молча.
— Вот помню, например,— сказала Машка,— что у мамы было
красное платье в горошинку и оно насквозь промокло, потому что
мы попали под дождь. Оно просто прилипло к маме. И она очень
стеснялась.
— Когда это, когда? — нахмурился Вадька.
— А вот тогда! — поддразнила его Марья.— Летом!
Мы медленно шли по апрельской улице, с карнизов свисали буг¬
ристые сосульки, солнце шпарило прямо в глаза, заставляя жмурить¬
ся. На деревьях чирикали одинокие воробьи — война и воробьев не
пощадила, ударила по веселому птичьему племени, будто даже про¬
стого, но радостного чириканья не терпела, ударила по воробьиному
народцу страшенными морозами, и я сам видел, как на дороге лежали
оледеневшие пуховые шарики, и бескормицей, ясное дело, ударила
война — какая еда, какие крошки для воробьев, коли люди за каждой
крошкой бросались? И вот выбило, выбило воробьев в нашем городе,
и чирикали они по весне как-то неуверенно, робко и стайками не
держались, а все больше парами, чтоб, видно, совсем не заскучать от
тоски да голодухи. Но все-таки они были, выжили, как и люди, и те¬
перь, .весенним часом, чирикали, одинокие и голодные, напоминая
про себя, и я забылся, дурачок такой, начал посвистывать, сперва
под нос, тихо, потом громко, а затем уже и совсем рассвистелся, а на
самой высокой ноте оборвал, стыдясь и раскаиваясь.
Пригрело — и засвистел, как какой-нибудь воробей. Мне хорошо,
я сытый, а ребята голодные. Вон Марья едва идет, просит шагать по¬
тихоньку. Что бы придумать?
Незаметно мы пришли к каким-то баракам, издалека совсем чер¬
ным, от них несло карболкой, хлоркой, еще чем-то больничным, и я
понял, куда мы забрелп. Об этой больнице в городе говорили с суевер¬
ным страхом, утишая голос, чтоб, не дай бог, не сглазить, не поймать
ненароком страшную тифозную вошь и не оказаться в этих самых
ПОСЛЕДНИЕ ХОЛОДА 199
тифозных бараках, откуда, конечно, выходят, выбираются некоторые
счастливчики, но откуда многих выносят, обрядив в последнюю
дорогу.
Бараки эти я видел впервые, хотя знал, в каком примерно месте
они стоят, я подальше обходил не то что больницу, но даже часть горо¬
да, где она была.
Вот, значит, в какой больнице лежит мама Вадика и Марьи!
Но знают ли они об этом? Догадываются ли, куда угодила их
мать? Понимают ли, что за беда...
При виде бараков я попятился, и Вадим заметил это. Он остано¬
вился и, помолчав чуточку, сказал:
— Вы будьте здесь. А я отнесу письмо.
Он ушел к проходной, долго был там, потом вернулся.
Вадим подходил к нам какой-то сгорбленной, усталой, взрослой
походкой. Он, казалось, даже не видел нас.
— Ну как мама? — окликнула его Марья.
Он вскинул голову, посмотрел на нас.
— Идет на поправку,— ответил он спокойно и уверенно, будто
ничего другого и не могло быть. Вадим говорил одно, а думал другое,
я понял это. Но что думает он?
— Велит тебя поцеловать,— неожиданно сказал он. Постоял
секунду, наклонился и поцеловал Марью.— Теперь вот надо нам ду¬
мать.
Вадька стоял и раскачивался, как от зубной боли. Молчал и раска¬
чивался.
Марья даже сказала ему:
— Хватит качаться!
— Слушай! — повернулся он ко мне.— А у тебя нет какой-нибудь
куртки? До весны. Не бойся, я отдам.— Вадька воодушевлялся с каж¬
дым словом, видать, его озарила хорошая идея.— Понимаешь,—
объяснил он,— я бы толкнул это пальто на рынке, и мы бы как-нибудь
дожили до конца месяца. А там новые карточки!
Я не знал, что ответить. Была ли у меня куртка? Была. Но, если
по-честному, я ведь не распоряжался ею. Надо спрашивать разреше¬
ния мамы. А она станет обсуждать это с бабушкой. Значит, разреше¬
ние требовалось от обеих.
«Вот ведь как,— оборвал я себя.— На словах сочувствовать, ко¬
нечно, легко. А как до дела, так сразу всякие объяснения и сложно¬
сти!»
— Пошли ко мне! — сказал я Вадьке решительно.
200 АЛЬБЕРТ ЛИ ХАНОВ
* * *
Зайти к нам они отказались, как я ни уговаривал.
— Мы подождем здесь,— говорил Вадим.— Подождем здесь.
В конце концов, мы разобрались, поняли тяжкое положение друг
друга. Я, что ни говори, должен был бы показать, кому я прошу от¬
дать мою куртку до весны. Но и Вадиму, как выяснилось, было не¬
ловко. Мне ведь потребовались бы доказательства. А Вадиму слушать
про себя не хотелось. Ведь я и про столовую должен был рассказать.
В общем, я согласился. Уступил. Попросил только Вадика и
Марью стать под нашими окнами, чтобы мне было хоть кого показать.
Дома оказалась одна бабушка.
Бросив портфель у порога, не раздеваясь, не слушая ее упреков
в том, что опять стал последним бродягой, я уселся на стул возле нее
и с жаром принялся рассказывать про шакалов в восьмой столовой,
про Вадима, про его маленькую сестру, про драку с целой шайкой, из
которой мой новый друг вышел победителем, про то, что он не ел пять
дней, а карточки потеряны и мать лежит в тифозных бараках, уже
поправляется, но вот есть такая идея: продать хорошее пальто. Так
как бы насчет моей курточки? Одолжить? До весны! До тепла! Это же
всего месяц!
Чтобы быть доказательным, я подтащил бабушку к окну и показал
ей Вадика и Марью.
Они стояли внизу, два темных человечка в синеющих сумерках,
один побольше, другой поменьше, и, наверное, оттого, что смотрел
я сверху, плечи их казались мне опущенными, будто топчутся на сне¬
гу не пацан и девчонка, а два сгорбленных карлика.
Что удивительного в карликах? Отчего люди показывают на них
пальцами? Оттого ведь, что маленькие ростом, а на самом деле взрос¬
лые люди или даже старики.
Марья и Вадим тоже совсем взрослые — пришло мне в голову.
Взрослые! Им не хватает только роста и знания, чтобы спасти себя.
* * *
Бабушка глядела на них сверху, крепко задумавшись, и сквозь
задумчивость свою спрашивала меня очень странным голосом, как
заведенная, без всякой интонации, спрашивала меня всякие глупости.
Одну за другой. Даже, кажется, не ожидая моих ответов.
— Разве можно прожить месяц на это пальтишко? И пять дней
ПОСЛЕДНИЕ ХОЛОДА 201
без еды — тоже неправда. Никто не выдержит. А школа где же? Мож¬
но в гороно сходить. Эвакуированным помогают, есть специальное
учреждение. Ох, сомневаюсь я! Если не вернут? Маму дождаться
надо, без нее нельзя.
Не знаю, сколько уж я бился с бабушкой. От окна она отошла, но
согласия своего не давала, хотя и возражала тоже странно — молч¬
ком. Я уже, распалясь, начал голос повышать — может, она меня
лучше так поймет,— но бабушка глядела на меня округлившимися,
перепуганными глазами, часто моргала и неуверенно отбивалась.
Мне показалось, она обиделась на меня. Ушла за печку, загремела
там кастрюлями, включила керогаз, в миске захлюпала, вкусно за¬
пахла завариха.
«Эх, елки,— подумал я,— а ведь Вадька-то с Марьей, кроме един¬
ственного куска хлеба, ничего не ели».
Я решился. Подошел к шкафу, где хранилась семейная одежонка,
вернее, жалкие ее остатки, повернул ключик, потянул на себя дверцу.
Она, как назло, заскрипела — противно, по-козлиному, я напугался:
вот выскочит сейчас бабушка, примется стыдить меня и я окажусь
вроде как вором в собственном доме. А кому хочется, чтобы про него
плохо думали? Я испуганно толкнул дверцу обратно, и она снова
заблеяла. Прямо не дверь, а бабушкина союзница.
Пришлось сунуть руки в брюки, независимо, как будто ничего не
случилось, обогнуть печку, поводить носом возле кастрюли, спросить:
«Завариха?», а самому украдкой глянуть на бабушку — не заподоз¬
рила ли она что?
Но бабушкино лицо было по-прежнему задумчивым, а взгляд от¬
сутствующим. Что-то такое с ней происходило, мне совершенно не¬
понятное и ранее невиданное. Бабушкина задумчивость была до того
крепкой, что она набухала огромную миску муки, помешивала зава-
риху, словно готовила ужин не для троих, а для целой роты.
Я быстро вернулся к шкафу, не боясь, решительно и резко рванул
на себя дверцу, она коротко визгнула, будто ахнула от моей такой на¬
стойчивости.
Куртка, сшитая бабушкой для весны, когда еще не так жарко, но
уже и не холодно, походила скорее на серый и тонкий балахон, и,
еще натягивая ее, я подумал, что вряд ли выручу Вадима — в такой
одежде запросто продрогнешь до самых костей, все-таки еще вокруг
снег, пусть и рыхлый, а утром поджимают заморозки, так что, выхо¬
дит, этот худой балахон мой не спасение, а полный риск.
Но когда человек на что-то решается, отступать нельзя, да и все
202 АЛЬБЕРТ ЛИХА НО В
равно должен был я показать Вадиму свою куртку, чтобы не подумал,
будто я сдрейфил.
Пальто свое, ворвавшись домой, я не повесил на крюк возле двери,
и это меня спасло. Сперва пришлось натянуть на себя куртку, а по¬
том пальто, лежавшее на стуле. Аккуратно застегнув пуговицы, я
опять принял независимый вид и прошел мимо бабушки.
— Бауш,— сказал я,— маму подожду на улице. С ребятами.
Она ничего не ответила. Что тут ответишь, когда человек говорит
здраво и непреклонно!
В общем, мама застала всех нас в дурацком положении. Я снял
пальто, стянул куртку, и Вадим рассматривал ее, прикладывал, будто
в магазине, рукава к плечам, подойдет ли, а я зажал свое пальто меж¬
ду ног, помогая ему, излагая сомнения насчет спасительности этого
балахона. Марья тоже увлеклась, она, как старушенция какая-ни¬
будь, ворчала на нас обоих, говорила, что Вадька помрет, отбросит
копыта, сыграет в ящик, в общем, повторяла всякие мальчишеские
выражения, надеясь, видно, что они скорее дойдут до наших мозгов.
Вот тут мама и подошла. Она появилась из-за моей спины. Поэто¬
му я не увидел ее, и она спросила прямо у меня над ухом:
— Что происходит?
Вадька и Марья замерли, готовые отбежать в сторону, а перепу¬
гался все-таки больше всех именно я. Во-первых, потому, что мама
возникла неожиданно, точнее, в самую неподходящую минуту, застав
меня врасплох, а во-вторых, одно дело, когда готовишься к разговору
заранее, тут и лицо, улыбка твоя, и шаг, и сама фигура тебе помогают,
и совсем другое, когда говорить, да еще того важнее — убеждать
принимаешься с ходу, через плечо, хочешь не хочешь, а первые слова
всегда выходят вроде оправдания.
Напрягаясь, стараясь вложить в собственные слова всю силу убеж¬
дения и в то же время обходя неудобные моменты, щадя самолюбие
Вадика и Марьи, я попробовал объяснить суть моего переодевания.
Вышло куцо и непонятно.
Мама решила, что меня, простофилю, облапошили. Еще бы, что
это значит — дать куртку на время, до весны, пацану, которого она
видит первый раз! И мама сказала, избрав самую краткую и реши¬
тельную форму приказа:
— Ну-ка марш домой!
Я понимал, что она не разобралась только из-за меня, из-за моего
путаного объяснения, но мама тоже поступала нехорошо — приказы¬
вала мне при людях, приказывала, не докопавшись до сути, и, значит,
ПОСЛЕДНИЕ ХОЛОДА 203
не доверяла мне, будто я лопух последний, стану дарить курточку
безо всяких причин, не зная будто, что за каждую тряпку на рынке
можно выменять драгоценную еду? Даже яйца!
Поколебавшись, я положил свое пальто на снег, аккуратно поло¬
жил, понимая, что от моего поведения, от моей разумности зависит
сама справедливость и моя, пусть мальчишечья, но честь,— я акку¬
ратно положил пальто на снег, вместо того чтобы просто одеться, по¬
дошел к маме, взял ее за рукав и с силой отвел в сторону. На несколь¬
ко шагов.
— Оденься! — сказала она встревоженно. Ха, но какое это имело
сейчас значение?
Снова, уже с другим лицом и другими, видимо, интонациями,
я стал рассказывать маме весь свой день. Теперь она слушала вни¬
мательно. Поглядывала на Вадика и Марью. Не перебивала.
Потом повторила:
— Оденься!
А сама пошла к ребятам.
— Пойдемте к нам! — строго сказала она.
Но Вадим покачал головой.
Мама, кажется, чуточку смутилась. Она молчала, что-то такое
обдумывая, и это молчание ей помогло, потому что мама придумала
хорошие слова.
Смягчив голос, она сказала:
— Пойдемте к нам, ребята, я вас приглашаю.
Я тоже засуетился, надел свое пальто, Вадим протянул мне курт¬
ку, переступил с ноги на ногу, и мы пошли к нашим дверям. Тем вре¬
менем мама негромко и несердито поругивала меня.
— Ребята совсем продрогли,— говорила она.— А ты не мог их
привести домой? Подождали бы меня, вместе решили, как быть.
Бабушка вывалилась у меня из головы, не до того было, зато мы
у нее из головы не выходили, оказалось. Едва вошли, едва я назвал
Марью и Вадика, как она потащила всех к умывальнику, заставила
мыть руки, усадила за стол и перед каждым поставила по тарелке
дымящейся аппетитной заварихи с лужицей масла посередине.
Все неловко молчали, и, чтобы сгладить эту неловкость, бабушка
завела разговор про последние известия — она их слушала чаще, чем
все мы,— про то, что вот уже и конец войны, не за горами опять мир¬
ная жизнь, когда в магазинах совершенно свободно и без всяких там
карточек будут продаваться и хлеб, и мука, и молоко, и даже колбаса
всякой толщины, вот будет благодать!..
204 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
Так уж как-то вышло, что разговоры про скорую мирную жизнь
получались у нас тихими, осторожными, как бы даже священными
разговорами,— каждый мечтал об этом, точно о высшей мере счастья.
Когда кто-нибудь из нас заговаривал об этом, остальные старались
есть тише, задумывались, смотрели друг на дружку просветленно,
с надеждой. Мы и сейчас притихли — мама, бабушка и я,— но Вадим
и Марья будто оглохли. Они стучали ложками, торопливо глотали
завариху и не обращали ровно никакого внимания на бабушкины
мечтания. Бабушка деликатно умолкла. Потом принесла всем до¬
бавки. Затем еще Вадику и Марье.
Они отложили ложки, и я отметил про себя, что в глазах у ребят
появилась какая-то муть. «Вот елки,— подумал я,— им, наверное,
нехорошо, ведь всем известно, что после голода нельзя есть много,
так и помереть можно. Нам об этом говорила Анна Николаевна».
Но муть была совсем другая. Марья положила руки на стол, а на
руки уронила голову и тотчас, будто по волшебству, уснула.
Вадька спал по-другому. Чуть отвалившись на спинку стула, стол¬
биком, сидя, открыв рот и повесив голову набок.
* * *
Втроем мы перетащили Марью и Вадика на мою кровать, и они
даже на мгновение не очнулись. Казалось, это не сон, а тяжелое, мо¬
жет, смертельное ранение и ребята лежат без сознания.
— О-хо-хо! — вздыхала бабушка, покачивая головой.— До чего
же голодуха детей доводит! До чего доводит!
— Где хоть они живут? — негромко спрашивала меня мама.
Я пожимал плечами.
— Какая хоть у них фамилия?.. В каких школах учатся?
Но и этого я не знал.
Аккуратно приподнимая Марью, мама сняла с нее платьишко,
внимательно, по швам, оглядела его, потом встряхнула, повесила на
спинку стула.
— Платьице чистое,— сказала она бабушке,— латаное, но ухо¬
женное.
— Да и он не запущенный,— ответила бабушка.— Пальтишко и
правда новое, ботинки тоже.
— Видать,— подхватила мама,— хозяйку в больницу отправили
недавно.
Разглядывая одежду Марьи и Вадима, бабушка и мама будто их
206 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
документы рассматривали. Молодцы, ничего не скажешь! Женский
взгляд видит такое, на что обычный человек внимания не обратит.
— Раз все новое,— сказала под конец бабушка,— значит, крепко
бедствуют. Все выдано по ордерам, все получено в помощь.
Мама решительно взяла Марьин портфель, открыла его — я и пик¬
нуть не успел,— принялась перебирать содержимое.
Я догадался, что ищет тетрадку, ведь на обложках все пишут
класс и школу, там и место для этого есть. Но Марьины тетрадки —
их оказалось три — были сшиты из обыкновенной газеты. Разрезали
газету, прихватили листки иглой и белой ниткой, получилась тетрад¬
ка. И на ней — имя, фамилия, класс, предмет. «Арифметика», «Рус¬
ский язык». В портфеле была и чистая неподписанная тетрадка с
хорошей бумагой, очень, правда, тонкая, листы больше чем наполови¬
ну уже выдраны, и я догадался, что на этой бумаге ребята писали
записки своей маме в больницу.
Так мы узнали фамилию Марьи и Вадима: Русаковы.
Мамины глаза наливались решимостью, морщины на ее лбу со¬
шлись к переносице — она готовилась к действиям. Но я вспомнил
почту и письмо, которое мы отнесли в тифозную больницу. Я предста¬
вил свою маму на месте их мамы, представил на минуточку, что, кро¬
ме тифа, у мамы еще больное сердце, как у мамы Вадика и Марьи,
и что бабушки у меня нет, а я потерял карточки и могу, могу сооб¬
щить об этом маме, имею такое право, но все-таки никак не могу, по¬
тому что она и так там плачет — не из-за себя плачет, не из-за своей
болезни, а от страха, от беспокойства за меня, да еще, окажется, я кар¬
точки потерял и должен загнуться с голодухи. Нет уж! Правильно по¬
ступали Вадим и Марья! Как ни крути, из двух бед надо всегда вы¬
бирать ту, которая больше, о ней помнить, с ней бороться, пока до¬
стает сил, а ту, которая меньше, одолевать втихомолку, придумывая
что угодно, шакаля даже, если придется, только не сдаваясь, не до¬
пуская, чтобы большая беда победила.
И я сказал маме:
— Ни за что! Ни за что нельзя, чтобы она узнала. Представля¬
ешь — она умрет?
Мама, конечно, поняла, о чем я говорю. Она опустила голову, на¬
хмурилась еще сильнее, спрятала Марьины тетрадки в портфель.
— Но что-то надо делать! Как-то помочь!
Она посмотрела выразительным взглядом на бабушку. Та понури¬
лась, о чем-то задумавшись, потом сказала:
— Ну, на неделю у нас пороху хватит.
ПОСЛЕДНИЕ ХОЛОДА 207
Теперь понял я: бабушка говорила о заварихе. Вернее, о запасе
нашей еды.
— Это не выход,— проговорила мама.— Надо что-то придумать.
— Может, в военкомат? — спросила бабушка.
— В военкомат! — решительно сказала мама.— В собес1 В го¬
роно! Да мало ли разных учреждений, которые помогают, должны
помочь! Виданное ли дело: два ребенка от голода ну только что не
помирают!
Мама рассердилась на кого-то, неизвестно на кого, лицо ее поро¬
зовело, она встала и принялась повязывать платок, но глянула на
Вадика и Марью, села.
— Куда ж я без них-то? — спросила она.— Без них нельзя.
А они спали. И будить их было жалко.
* * *
Они проспали как убитые до самого утра.
Мне мама устроила постель на стульях. Составила их рядком,
спинки через каждый стул в разную сторону, посередке стеганое одея¬
ло, сверху байковое, и получилось гнездо — лучше некуда. Только
ребята не видели.
Но я расшатал все-таки за ночь свое гнездо. Под утро — уже вста¬
вать пора было — свалился на пол, сперва напугался, потом вспом¬
нил, что со мной, и расхохотался. Всех поднял смехом. Не так уж и
плохо, в конце концов, начинать день с улыбки.
Бабушка и мама быстро оделись, застучали в прихожей, полилась
вода из ведра, зацокал носик умывальника.
Марья сидела на краешке кровати растерянная, обхватив себя за
плечи, искала глазами платье, Вадька отряхивал брюки — так ведь
и проспал в них, мама и бабушка не решились его раздеть; правиль¬
но сделали: зачем смущать человека?
Вадим, похоже, злился на себя. Как тогда, в столовой, не смотрел
на меня. Хорошо еще, мамы и бабушки не было в комнате.
— Ну чего ты! — толкнул я его в плечо.
Он будто того и ждал — хоть словечка, хоть улыбки.
— Черт его знает, что такое! — пробурчал Вадим,— Будто в яму
провалился. Ничего не помню. Вот сижу за столом, и вот проснулся.
— Правда, чего это с нами было? — спросила Марья.
208 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
Бабушка и мама стояли в дверном проеме, глядели на нас и улы¬
бались, но Вадька повернулся к ним спиной, не видел.
— Ты, Марья, маленькая,— сказал он, по-взрослому вздохнув,—
поэтому не знаешь. Сытость, как и голод, с ног сбить может. Если не¬
ожиданно.
— Будто кто-то подошел и сбоку стукнул? — спросила она.
— Точно! — засмеялся Вадим.
И правда, была тогда у нас такая забава. Подойти к приятелю со
спины, сложить обе руки вместе, чтоб удар посильней был, и стук¬
нуть сбоку по плечу. Можно и свалить, если удар покрепче.
— Ну-ка, бойцы,— сказала мама,— скорей к умывальнику.
В руках она держала отутюженное Марьино платье, и девчонка
вскрикнула:
— Ох! Как при маме!
Мама спешила в госпиталь, поэтому завтрак получился очень
торопливый и нескладный, но кто тогда думал об этом, ведь жили мы
все лишь бы, лишь бы.
Лишь бы дожить до новых карточек, лишь бы перехватить чего-
нибудь съедобного, лишь бы скорей на работу, в школу, лишь бы до¬
жить до победы. Война затянулась, голод и холод одолевали постоян¬
но, и к ним уже попривыкли, только вот к войне никто привыкать не
хотел, все торопили ее, откладывая радость, удовольствие да, кажет¬
ся, и саму жизнь до лучших времен, до мирных дней.
Так что мамину торопливость никто не принял за невежливость.
Каждому ясно: некогда, уже утро, нужно на работу.
Мама спрашивала Вадима, и он отвечал, при этом часто повторяя
одно и то же: он просит ничего не делать, очень просит.
Она спросила, где живут ребята, где работала их мама, жив ли
отец. Отец погиб давно, в сорок первом, а вот на мамину работу хо¬
дить не надо. Почему — В.адим не сказал. Но мы все это знали.
Мама убежала, наказав нам явиться вечером.
— Непременно, обязательно, во что бы то ни стало,— сказала
она и, одевшись, убежала.
Вадим, оказалось, учился во вторую смену, но нам с Марьей было
пора. Он тоже оделся.
Бабушка предложила Вадьке остаться, он отказался наотрез.
— Мне Марью надо проводить,— сказал он, — потом домой, при¬
браться, вообще проведать.
Марья оказалась дисциплинированной ученицей, бежала впереди
нас, охала, что опоздает, пока Вадька не отпустил ее.
ПОСЛЕДНИЕ ХОЛОДА 209
— Хорошо,— сказал он,— беги,— А мне объяснил:— До школы
недалеко, все перекрестки уже прошли.
Перекрестки! Я что-то не слышал, что на наших перекрестках
случались происшествия. Лошадь наедет? Так они тянутся едва-едва,
выбиваясь из последних сил, по рыхлому весеннему снегу. Машин
мало, а если уж идет, шоферша — тыловые газогенераторки водили
больше женщины — все уши пробибикает, подъезжая к перекрестку.
Осторожные, такой уж женский характер.
Но я, между прочим, тоже опаздывал, а Вадим никак не мог этого
понять.
— Ну, ладно,— сказал я,— вечером приходите, мне пора.
И прибавил газу.
— А ты что,— спросил меня Вадим вдогонку,— никогда уроков не
пропускал?
Я остановился как вкопанный. Вот такой силой, будто магнит, об¬
ладал Вадим.
— Конечно, нет,— пожал я плечами.
Он вздохнул, пробормотал под нос, но так, чтобы я расслышал:
— Вот чудак! Да так ведь вся жизнь мимо пройдет.
Мы сделали несколько шагов вместе.
— Ну, ладно,— сказал он, обращаясь уже не к себе, а ко мне,—
дуй. А я вот сегодня, пожалуй, в школу не пойду.
Сипло, сначала будто нехотя, потом все решительнее и громче за¬
гудели в разных углах города заводские гудки. А мне оставалось еще
два квартала. Все! На первый урок я опоздал. Раньше бы я припу¬
стил, гнал до пота, ворвался бы, мокрый, в класс, покаялся бы перед
Анной Николаевной — тут уж лучше всего признаться, что виноват,
долго собирался или проспал, словом, сказать правду, получить поми¬
лование и сесть, но теперь я шел, равняя свой шаг с походкой Вадима,
и успокаивал себя: один урок можно!
— Почему ты не пойдешь в школу? — спросил я его.
— Надо что-то делать,— проговорил он печально и глубокомыс¬
ленно. Я уже хотел было посочувствовать ему, но тут он сказанул
такое, что я опешил: — Сперва пойду в столовку.— После паузы
добавил, усмехнувшись: — Пошакалю.
Ну да, ну конечно, корил я себя. Вообразил, что Вадим тебе близ¬
кий друг, хотя знакомы-то без году неделя — меньше суток. Вообще,
что я знаю о нем? И почему он должен чувствовать себя обязанным
только оттого, что поел у нас заварихи да уснул, сморенный едой?
На самом-то деле он чужой, лишь са-амую чуточку знакомый па¬
210 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
рень, и если, поев, он опять тащится шакалить в восьмую столовую,
значит, он злобный человек, вот и все. Негодяй, отбирающий куски
хлеба у слабых девчонок.
Мне стало противно. Я чуть прибавил шагу и посмотрел на Вади¬
ма. Может, он шутит, разыгрывает меня? Всякие розыгрыши были
тогда в ходу. Но он смотрел вперед задумчиво, даже тоскливо. Каза¬
лось, он видит что-то сквозь снег на дороге, сквозь, может, даже зем¬
лю, что-то видит такое, что недоступно мне. Совсем как наша учитель¬
ница Анна Николаевна.
Я все-таки не утерпел, хотя это был стыдный и даже позорный
вопрос. Я долго думал, как бы задеть его необидней, но, когда думаешь
о деликатности, всегда получается самое грубое.
— Ты что, не наелся? — спросил я. И покраснел.
Вадим посмотрел на меня сверху вниз. Без всякого удивления или
любопытства посмотрел и ответил:
— Наелся. Но вечером надо чем-то Машку кормить. И завтра
тоже.
В глаза он называл сестру только Марьей, торжественно получа¬
лось, ничего не скажешь. А сейчас назвал попросту. За глаза чело¬
век всегда искренней. Мимоходом я подумал, что, называя сестру пол¬
ным именем, Вадька, пожалуй, старается воспитывать ее. Но главное
было не это. Меня поражала его глупость. Мама же ясно пригласила
их вечером к нам. Значит, будем есть.
— Но моя мама вас пригласила! — сказал я, не скрывая своей
досады.
Он опять посмотрел на меня сверху вниз.
— Твоя мама,— сказал он совсем как взрослый,— не обязана нас
кормить.— Он еще глянул на меня. И спросил, точно учитель: — Ты
понял?
После этих слов я решил про себя: в школу сегодня не
пойду.
Мне было стыдно перед Вадимом. Я готов искупить вину. За свои
дурные мысли о нем я должен раскаяться.
Надо же! Думал о нем — он жадный. Думал — негодяй.
А он! Благороднейший из благородных!
Это бывает часто, во все времена,— в голодные дни войны и когда
беды нет, а есть мирное, счастливое небо: мальчишка помладше,
точно верный оруженосец, готов следовать за мальчишкой, который
едва старше его.
Рыцарь идет, рыцарь говорит, рыцарь поет, рыцарь молчит, и все,
ПОСЛЕДНИЕ ХОЛОДА 211
даже молчание любимого рыцаря, кажется оруженосцу значительным
и важным.
Счастливы оба.
* * *
Я думал, мы будем гулять, просто шляться, но Вадим двигался
скорым шагом, и приходилось поторапливаться, чтобы не отстать от
него. Время от времени он останавливался и молча смотрел на меня
терпеливыми глазами.
— Ты что? — спрашивал я.
— Отдохни,— предлагал он.
Сперва я неопределенно хмыкнул: с чего он взял, будто я устал?
Но потом хмыкать перестал. Мы уже прошли километров пять, на¬
верное. Перед этим получился такой разговор.
— А ведь ты и вчера в школе не был,— догадался я.
— Не успеваю,— ответил Вадим.— Пока все обойдешь...
— А где ты ходишь?
— Ты думаешь, одной восьмой столовкой прокормишься?
Что-то не сходились концы с концами, я сразу это сообразил. Ну,
неделю назад они потеряли карточки, тут все ясно. Но если человек
шакалит всего неделю, откуда он все знает-то? Все столовые?
Вадька будто услышал меня. Понял незаданный вопрос.
— Мама у нас часто болеет,— сказал он. И вздохнул: — Так что
приходится.
Он оживился, стал рассказывать.
— Самое хорошее место — вокзал,— сказал он.— А самые добрые
люди — солдаты. Мне целую буханку хлеба однажды дали,— пове¬
селел он.— А в другой раз банку американской тушенки. А еще раз —
пачку шоколада. Представляешь? — Он даже хохотнул.— Лучше
всего дают, когда на фронт едут! А когда с фронта, разве что сухарь
получишь. Понятно. Хотят домой привезти. Сейчас всем худо.
— Так давай на вокзал,— предложил я.— Вдвоем больше выпро¬
сим.
— Там гоняют,— вздохнул Вадька.— На перрон за деньги пуска¬
ют, да и то к приходу поезда. А так заберешься — в милицию тащат.
Или к военному коменданту. К нему — лучше.
— Почему? — удивился я. Военная комендатура, да еще на вокза¬
ле, ловила всяких шпиков, я это знал, проверяли документы не только
у солдат, но у всех мужчин: нет ли дезертиров?
212 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
— Он всегда отпускает,— ответил Вадька.— Да еще чего-нибудь
даст, хлеба например. Там добрый дядька есть, безрукий. А вот
мильтонши пристают, будто липучки: где живешь да как фамилия...
Я там предупреждение имею, два раза попадал. Больше нельзя.
Особенно теперь.— Он опять вздохнул, как старик.— Что будет
с Машкой? Нет, рисковать нельзя.
И мы пошли, где попроще. Топали уже где-то на окраине. Я тут и
не был никогда, хотя город для меня родной, а Вадька здесь только
в эвакуации. Ну и словечко!
С уроками сегодня я уже распростился. На первый опоздал. Ко
второму не успел. Ну, а являться на третий урок просто глупо. Анна
Николаевна потребует веских объяснений, еще хуже — записки от
мамы: в чем, мол, дело, какая причина для прогула. Будь что будет,
махнул я рукой. И вот мы брели где-то на окраине, по неизвест¬
ной улице, и я, по правде говоря, старательно запоминал все пово¬
роты: уж очень подозрительно поглядывали на нас незнакомые
ребята.
Одни лупили снежками друг в друга,— весна вышла затяжная,
то таяло, то вдруг погода свирепела, валил снег, и город утопал почти
что в январских сугробах,— другие были на лыжах, улица кренилась
вниз, кое-где довольно круто, и получалась хорошая горка — не зря
весь снег укатан. Стояли на горке и бездельные пацаны, сунув руки
в карманы; некоторые курили. И все эти ребята — и те, кто кидался
снежками, и те, кто катался, и бездельники — при нашем приближе¬
нии переставали смеяться и хмуро поглядывали на нас.
— Зря я тебя с собой сюда взял,— сказал мне негромко Вадим.
— Почему это? — слегка обиделся я.
— Да здесь бегать надо быстро.
— Зачем? — удивился я.
— От здешних пацанов. Будто маслозавод их собственный.
Мы оказались возле деревянного забора, за которым торчала вы¬
сокая железная труба, вовсе не похожая на заводскую. У запертых
деревянных ворот гоняла конский катыш стайка ребят.
Хорошая игра, если ничего другого нет. Особенно для морозной
погоды. Один водит. Он метит катышем в других ребят, бьет, как фут¬
больным мячом, до тех пор, пока не попадет в валенок или ботинок.
Дальше водит тот,-кто стукнул катыш.
Игра получается быстрая. Чтобы увернуться, мало бегать, да и
далеко бежать не разрешается, надо подпрыгивать, вовремя, конечно,
подпрыгивать, с расчетом.
214 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
Мальчишки прыгали себе, хохотали, обычное дело, и я не обратил
бы на них внимания, если бы не Вадька.
— Берегись их,— сказал он.— Будь внимательнее.
Воздух вкусно пахнул семечками, к воротам время от времени
подъезжал транспорт — сани, груженные железными флягами с мо¬
локом или какими-то мешками. Ребята не обращали на них внима¬
ния, Вадим тоже был спокоен.
Он оживился только тогда, когда первая подвода выехала из во¬
рот.
Парни, игравшие катышем, остановились, пропустили сани, потом
побежали следом, выкрикивая что-то. Первые два слова я разобрал,
а вот третье понять не мог.
Получалось, они кричали: «Дядя, дай ха-ха» или: «Дядя, дай
жениха».
— Чего они кричат? — спросил я Вадьку.
. — Просят жмыха.
Должен признаться без всякого стыда: я не знал, что это такое.
Не знал, и все. Поколебавшись, спросил Вадима. Ведь Анна Николаев¬
на, когда отвлекалась, когда задумывалась, произносила вслух свои
замечательные мысли, часто повторяла истину, называя ее важней¬
шей: «Не бойтесь спросить, если чего-то не знаете. Пусть над вами
даже посмеются. Знайте: это смеются глупые люди».
В общем, я спросил про жмых Вадима, и он не засмеялся. Объяс¬
нил, что это остатки. Масло жмут из семян подсолнуха — и вот полу¬
чаются остатки, называется жмых.
— Вкусно? — спросил я.
— Спра-ашиваешь! — воскликнул он восторженно.
А мальчишки побежали за санями и отстали. Видно, у возчика
не было жмыха. Или просто не дал, не знаю.
Из ворот с перерывами выехали еще три подводы, но, сколько ни
бежали за ними мальчишки, ничего им не перепало. Я стал сомневать¬
ся в нашей удаче. Даже если с саней кинут этот жмых, ребята опере¬
дят нас — их много, они здешние. Вадька, похоже, тоже не очень-то
уверенно чувствовал себя.
— Может, пойдем? — спросил я.— Черт с ним, с этим жмыхом.
Еще надают.
— Могут,— согласился он и вздохнул. Но, подумав, сказал: —
Все-таки подождем, а вдруг?
Из ворот вышел хромой дядька в полушубке и военной шапке без
звездочки. Мальчишки на дороге не обратили на него никакого вни-
ПОСЛЕДНИЕ ХОЛОДА 215
мания, и дядька ковылял по тропинке мимо нас. Мы отступили в снег,
чтобы пропустить его.
— Спасибо, молодцы,— сказал он хрипло, будто мы сделали ему
какую-то услугу.
— Дядь! — спросил Вадим.— Жмыха не будет?
— Жмыха? — переспросил хромой и остановился. Не поймешь,
сколько и лет человеку: волосы на затылке совсем седые, точно снег,
а глаза смеются по-молодому.— Зубы не обломаете? — спросил он,
усмехнувшись.
— Новые вырастут! — ответил Вадька.
Хромой мужик рассмеялся.
— А что! — сказал он.— У вас, пожалуй, еще вырастут!
Он сунул руки в карманы полушубка, сразу в оба кармана сунул,
и достал оттуда по желтому брикету, размером с большую плитку
шоколада.
— Нате, точите зубы,— усмехнулся он,— вам это полезно.
— Пошли! — шепнул мне Вадька.
Я сунул в карман кусок жмыха и оглянулся. Пацаны, игравшие
у ворот, приближались к нам. Впереди был рыжий крепыш.
— Эй! — крикнул он.— Отдайте одну! Это наше!
— Нет! — ответил ему Вадька.— Сегодня повезло нам!
Мальчишки могли бы запросто напасть на нас, если бы мы не ухо¬
дили вслед за хромым дядькой. Получалось, отступали под его при¬
крытием. Не так уж здорово, но что поделаешь?
— Ну, подожди! — крикнул рыжий и повторил обидное.— Ну,
погоди, шлёндра! Я тебя знаю! Ты шакал из восьмой столовки.
Мальчишки захохотали.
— Бродит по всему городу,— не унимался рыжий,— будто голод¬
ный шакал.
И парни заорали:
— Шакалы! Шакалы!
Мы поднимались вверх по горе вслед за хромым дядькой, и гора
орала нам мальчишечьими голосами:
— Шакалы! Шакалы!
* * *
На горе добрый дядька свернул, а мы пошли прямо. Мы шагали,
скребя зубами склизлые от слюны плитки жмыха, и я все никак не
мог понять его вкус. Пахло прекрасно, подсолнечным маслом, а вот
216 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
отгрызть хоть кусочек и размять его, чтобы проглотить, никак не уда¬
валось. Вот так еда, топором руби!
Вадим молчал. Наверное, он думал о том же, о чем думал и я. А я
думал о пацанах на горке и у завода. О щедрости и жадности. О доб¬
роте и злобности.
Нелегко доставалась еда Вадьке. Но это что, трудность! Главное,
какой ценой.
Не верил я, что вся горка такой уж сытой была, нет, не верил.
Значит, могли бы понять голодного пацана? Но понимать не желали.
Почему? Из-за злобы, из-за выдуманного кем-то права собственности
здешних пацанов на этот жмых, будь он проклят. Как откусить —
и то не поймешь.
И вот они в отместку засвистели, заулюлюкали, заобзывались. Не
смогли властью своей, своим правом, не смогли силой своей добиться,
так давай словом колошматить Вадьку. Вернее, нас двоих.
Да, колошматили нас обоих, и это мне помогло разобраться в Ва¬
диме. В его чувствах. Он шел понурый, усталый и, если б не я, совсем
одинокий. Я понимал его тихое отчаяние: за голод приходилось рас¬
считываться самым неразменным — добрым именем. И все-таки он
был сильный человек, этот Вадик. Улыбнулся мне и сказал:
— Я этот жмых дома напильником пилю. Получается такая крош¬
ка. Глотай — и все. Вкуснота!
Я засмеялся:
— Как яичный порошок? Никто не догадался выпускать жмыхо¬
вый порошок. Твое изобретение!
— Аха! — весело согласился Вадим.— Еще и топором рублю на
мелкие кусочки. Получается как халва, только твердая. Ты ел
халву?
Я пожал плечами. Кажется, ел. Но это было так давно, до войны,
и я уже забыл, какая она такая, эта халва, какого вида и вкуса.
— Не помнишь? — спросил Вадька. И вздохнул: — А я помню.
Просто житья нет.
— Житья? — удивился я.
— Ну да! — воскликнул Вадим.— Когда долго не ешь, вместо того
чтобы забыть, наоборот, всякие вкусности вспоминаешь. Халву там,
ромовую бабу, или кровяную колбасу, или жареные котлеты с луком,
и так под ложечкой сосет — готов дерево грызть.
Я засмеялся.
— Чего смеешься,— спросил Вадим серьезно,— я и дерево грыз.
Кору. Осиновая горькая, березовая — никакая, ее не раскусишь,
ПОСЛЕДНИЕ ХОЛОДА 217
а вот сосновую — очень даже можно. Прожуешь до муки и глотаешь.
Пахнет хвоей.
— Да ну? — удивился я.
— Аха,— кивнул он,— только давишься с непривычки. Водой на¬
до запивать. Ну и живот потом пучит.
— Вадь,— сказал я, решившись наконец спросить о том, что меня
мучило.— А тебе ту девчонку не жалко? У которой хлеб отнял?
Он опять по-взрослому и без всякого удивления поглядел на меня
сверху вниз. Прошел несколько шагов молча. Мне уже показалось,
он оскорбился. Но не такой Вадька был человек. Просто он взвешивал
слова.
— Понимаешь,— сказал он мне, помолчав,— я не думаю об этом.
Стараюсь не думать. Иначе мы с Машкой пропадем. Что тогда будет
с мамой?
Опять он умолк.
— А потом, этой девчонке остается обед. Она не помрет с голоду.
Я ее как бы поделиться прошу, понимаешь? Только против ее воли.
Силой.
Я вздохнул. Попробуй-ка разберись в таком деле.
— Вообще,— говорил Вадька,— когда не ел хотя бы сутки, все
остальное уже не помнишь. Всякие там правила.
— Ну, а если,— задал я новую задачу,— у той девчонки был бы
только тот кусок? Отнял бы?
Вадька хмыкнул, опять глянув на меня.
— Я, может, и шакал,— ответил он,— но не скотина.
Мы шагали, каждый думал о своем.
— Такие тоже есть,— сказал он,— тихо садятся за твой столик
и тихо говорят: «Суп мой!» Или говорят: «Отдай котлеты», или гово¬
рят: «Сиди и молчи». Ну и пацан или там девчонка весь обед отдают.
Я даже остановился, возмущенный.
— Ни за что бы не отдал! — воскликнул я решительно.
— Ха, не отдал! — ухмыльнулся Вадька.— А если тебе ножик
покажут из рукава?
Вот это да! Вот это столовка! Сказать бы маме и бабушке, вот бы
они всполошились! Пожалуй, велели бы отказаться от бесплатных
талонов. Мол, еще зарежут за какие-то щи! За котлету!
— Ну и пырнули кого-нибудь? — спросил я Вадьку.
Он усмехнулся:
— Вроде не слыхать. Стращают только. А там поди разбери, что
случилось за углом.
218 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
Я спросил Вадьку:
— Неужели из-за еды можно человека убить?
Он помотал головой:
— Не знаю. Но те, что с ножиками по столовке рыщут, не такие
уж голодные. Шпана.
Про шпану у нас в городке толковали много и охотно. Казалось,
к концу войны шпана разбушевалась. Однажды дошли до того, что
искололи ножом офицера, который из госпиталя выписался, на вок¬
зал шел. В мешке у него был большой паек — консервы там, хлеб,—
на него и зарились. Офицер стал защищаться, дрался, как мог, но
против ножа одними кулаками не больно навоюешь, вот и вышло:
вернули офицера обратно в госпиталь. Едва выжил. Выходит, ничем
не лучше хулиганская финка вражеских пуль.
Город роптал чуть не месяц. По улицам ходили военные патрули,
останавливали всех, кому больше пятнадцати лет. Подозрительных
обыскивали, отвозили в городскую комендатуру.
Ходили и смешанные патрули — военные и милиционерши; ясное
дело, что от одних милиционерок толку мало — с кем они справятся?
Разве с малолетним. Милиционерши ходили с военными, улыбались
друг дружке, кокетничали, наверное. Наконец патрули исчезли со¬
всем. До нового происшествия.
Так что я хоть и поразился опасности, которая угрожала каждому
в восьмой столовке, но поверил Вадьке.
Не такой он был человек, чтобы врать.
* * *
Почему я так верил ему?
Вижу всего второй день, а верю, как учительнице, как маме. Поче¬
му без всяких особых усилий он повел меня по городу, заставив за¬
быть про школу? В чем состояла его магнитная сила?
Думаю, дело в том, что маленький человек способен сильно пора¬
жаться. Вообще сила чувств — великое свойство маленьких людей.
Крепко любить и сильно страдать — замечательные достоинства, да,
да, именно так: достоинства. Сильное чувство движет человеком.
Пораженный маленький человек испытывает чувство привязанности
к тому, что поразило его.
Меня поразил Вадим. Конечно же! Но еще сильней поразила его
жизнь.
ПОСЛЕДНИЕ ХОЛОДА 219
Нельзя сказать, что я не знал лишений. Но бабушка и мама из
сил выбивались, чтобы спасти меня. И я не знал, что такое голод. Как
он ни стучал в наши двери, мама и бабушка не пустили его.
А вот Вадька знал голодуху. Очень хорошо знал, в лицо.
Обстоятельства, которые выпали на долю Вадима с сестрой, дали
ему полную свободу и самостоятельность — что и говорить, заманчи¬
вое преимущество. Но заманчивое при других условиях.
Свобода, дарованная для сражения с голодом, самостоятельность,
полученная для того, чтобы не помереть, выглядели иначе.
Они не могли не поражать.
* * *
Мы стояли у ворот рынка, и я, зачарованный, глазел на мрачную
тетку в телогрейке и мужских бурках. В руках у нее была банка —
обыкновенная пол-литровая банка, набитая сладкими петушками на
палочке. Петушки в банке заманчиво топорщились, сияли на солнце,
ведь были они красные, даже алые, и я решал неразрешимую задачу:
какую же, интересно, краску добавляют в съедобных петухов, если
они так горят.
— Ха, чудак,— сказал Вадим, перехватив мой взгляд.— Разве
это еда? Один обман!
И мы пошли искать еду.
Но вначале Вадька как следует объяснил мне, что к чему. Вообще
рынок он считал серьезным в смысле жратвы местом. Тут были,
например, тетки, которые даже зимой продавали подогретое молоко.
И если есть деньги, можно купить кусок хлеба, стакан молока и пря¬
мо тут поесть.
Как объяснил Вадька, эта радость выпадала ему очень редко, ко¬
гда не болела мама, когда она была на работе и когда, например, не
было обеда, но были деньги.
Есть еще один хитрый прием, но им надо пользоваться умело,
редко и, конечно, летом. Взять в руки бидончик или бутылку, будто
мать послала купить молока,— все-таки лучше бидончик, потому что
у него есть своя крышка,— подходить к тетке и говорить ей очень
уверенным голосом. Про уверенный голос Вадим сказал раза два или
три подряд. По его словам, это имело решающее значение. Так вот,
надо было подойти к тетке и сказать ей очень уверенным голосом:
«Тетенька, ну-ка попробуем вашего молочка, не разбавлено ли води¬
220 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
цей!» Тут тетка начинала божиться, что сроду таким делом не занима¬
лась, и плескала чуток молока в подставленную крышку от бидон¬
чика. Дальше следовало не спеша, смакуя, как бы пробуя на вкус,
выпить молоко, спросить подозрительно: «А свежее?» — и, пока тетка
или бабка снова божилась и крестилась, пожать плечами и отойти на
достаточно безопасное расстояние — туда, где не видели этого под¬
хода. Вот такой военной хитростью, прохаживаясь по молочному ряду,
Вадька ухитрялся, по его словам, выпить стакан молока — из разных
бутылок, от разных хозяек, по глоточку.
— Но чуть дрогнет голо-ос! — протянул Вадька.— Берегись! Тор¬
говки друг дружку не любят. Соревнуются. А тут сразу — лучшие
подруги. В один голос орут: «Жулик! Нахал!» И надо еще память
хорошую,— смеясь, объяснял он,— чтобы к одной и той же не подой¬
ти. И нужно все-таки иногда покупать. Вот уж покупать,— рассказы¬
вал он,— лучше у той, которую однажды обвел и которая тебя пом¬
нит.
Я представлял, как Вадька уверенно шагает с бидончиком по мо¬
лочному ряду, останавливается для блезиру, торговки приглядывают¬
ся к нему, а одна, узнавшая его, собирает узелком губы, придержи¬
вая до поры бранное, крикливое словцо, Вадька тоже узнает ее, смело,
глядя прямо в глаза, подходит, говорит, как уже не раз говорил:
«Ну-ка, тетенька, дайте на пробу!» — пробует, нарочно тянет, чтобы
подразнить молочницу, потом улыбается и восклицает: «Наливайте
литр! Хорошее сегодня у вас молочко!»
— Одну и ту же тетку,— объяснил мне Вадим,— можно ду¬
рить так до бесконечности. Ясное дело: изредка надо молоко по¬
купать.
Но сейчас было еще не лето, только апрель, и еду мы искали не
на прилавках, а под ними.
Вадька обучил меня: надо идти с задней стороны длинного базар¬
ного прилавка и глядеть под ноги продавцов. Искать .следовало толь¬
ко одно: картошку.
Торопясь, продавец может уронить одну картофелину, она лежит
себе у него под ногами, он ее даже истоптать по нечаянности может,
к тому же не часто оборачивается. Подойди, стараясь сделать это не¬
заметно, наклонись и возьми.
Мы шли, медленно переставляя ноги, точно солдаты на минном
поле, мы шли медленно, успевая заглянуть во все закоулки деревян¬
ного прилавка, отыскивая оброненную картофелину, но нам не везло.
Да и не одни мы оказались такими хитрыми.
ПОСЛЕДНИЕ ХОЛОДА 221
Навстречу нам плелась старуха в лохмотьях, известная всему го¬
роду нищенка.
Она бродила по улицам, согнувшись чуть не пополам, но о палку
никогда не опиралась — руки держала за спиной, и, видно, только
это помогало ей удерживать равновесие. На голове у нее был черный
платок, всегда сбившийся куда-то назад, и потому лицо нищенки при¬
крывали обрезанные седые волосы. Они торчали, как пакля, и нищен¬
ка смотрела на людей сквозь волосы, сквозь шторку,— глаза ее мерца¬
ли там, в глубине, делалось страшно, и ребята помладше обходили
ее стороной. Один карман пальто, обтерханного, рваного, торчал
всегда наружу, точно воры вытащили из него деньги, хотя какие там
деньги у нищенки! Вот так она шла, разговаривая сама с собой, потом
садилась на углу или у хлебного магазина и подвывала:
— Пода-айте, ради христа! Пода-а-айте, ради христа!
У хлебного магазина, я видел, ей подавали иногда маленьким до¬
веском, и она тут же съедала его, громко чавкая и не переставая при¬
читать свое:
— Подайте, ради христа!
И вот она стояла перед нами, смотрела сквозь седые космы то на
меня, то на Вадьку и спрашивала:
— Ну? Что? — И снова: — Ну? Что?
В руках она держала сморщенную, жалкую мороженую морковку.
— Отнимете? — спросила она, стараясь затолкать морковку в ру¬
кав. Но страшные, костлявые, в синих венах руки не слушались ее.—
Отнимете? — спрашивала она. И кивала головой.
— Да нет, бабуш! — ответил ей спокойно Вадька. Он и нищенки
не боялся, смелый человек.— Не отнимем!
Она закивала нам, заулыбалась, спрятала все-таки морковку в
рукав. А мы пошли дальше.
То ли старуха подняла все, что могло лежать на земле, то ли к вес¬
не цена на картошку повысилась и продавщицы обращались с ней
очень осторожно, но нам не повезло.
Ничего мы не нашли.
* * *
После рынка мы зашли к Вадьке домой.
Никогда я еще не видел такой убогости! Комнатка, правда, вполне
приличная, светлая, солнечная и теплая, хотя она прямо под лестни¬
цей трехэтажното коммунального дома, зато две железные батареи
ПОСЛЕДНИЕ ХОЛОДА 223
грели вполне исправно, и я подумал, что это все-таки большое сча¬
стье: не надо возиться с дровами. Главное, доставать неизвестно где.
Правда, посреди комнаты стояла еще «буржуйка», голенастая и длин¬
ная труба которой выходила прямо в форточку, заделанную для этого
железным листом. На «буржуйке», наверное, готовили обед, или, мо¬
жет, она требовалась, когда не было топлива в котельной. Прямо на
печурке, на верхней ее крышке, стояла керосинка.
Но все остальное!
В комнате было две кровати. На одной матрац лежал свернутым,
открывая вместо пружин неструганые доски, на другой поверх мат¬
раца валялось скомканное суконное одеяло, какие бывают в госпита¬
лях, и две подушки без наволочек. Простыней тоже не было.
У окна стоял дощатый, сколоченный из струганых досок стол,
на нем, прямо по центру, красовался старый угольный утюг, а на
краю одна в другой кособочились две дюралевые миски с лож¬
ками.
При входе взблескивали умывальник и ведро, а с потолка свеши¬
валась на проводе голая, без абажура, лампочка.
В общем, я был уверен: заведи сюда с улицы десять случайных
прохожих и спроси, живут ли тут люди, девять покачают головой:
мол, может, и жили когда-то, но давно уже не живут.
К тому же окна были крест-накрест заклеены белой бумагой.
Надо же! В начале войны, верно, было такое распоряжение, и все
окна заклеивали бумажными полосками, чтобы, если бомба упадет,
стекла не вылетали, покрепче держались. Но когда я в первый класс
пошел, приказ этот отменили, и хозяйки с такой радостью принялись
их отдирать, отскребать ножичками, отмачивать водой, что самый
несмышленый понял: все, враг до нас не доберется.
И только тут, в комнате под лестницей, было все как в начале
войны.
Единственное, что напоминало о людях в этой комнате, большая
фотокарточка в деревянной рамке над той кроватью, где лежал свер¬
нутый матрац: мужчина и женщина.
Я принялся разглядывать их. Без всяких слов ясно, что это Вадь-
кины родители. Отец погиб, а мама лежит в больнице. Я постарался
пожалеть этих молодых людей на стенке, но у меня ничего не вышло.
До того заретушированы были их лица, что они походили на манеке¬
нов, которые стоят в витрине универмага еще с довоенной поры, на
двух улыбающихся человекоподобных кукол.
Вадим подошел к столу, вытащил из кармана плитку жмыха, по¬
224 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
том открыл портфель, порылся в нем и выложил кусок черствого
хлеба, несколько корок и маленький кусочек сахара.
— Чуешь? — спросил он меня.— Все еще воняет.
Вот-вот! Самое главное, что делало комнату нежилой,— запах
хлорки, смешанный еще с чем-то, более едким и таким же больнич¬
ным.
— Как маму в больницу увезли, мы чуть ночью не подохли,—
сказал он.— Приехали санитары. Почему-то в черных халатах. Белье
забрали и увезли, матрацы хотели сжечь, да, видно, нас пожалели,
а в комнате так набрызгали из каких-то банок, что мы, ей-богу, чуть
не преставились.
Он сидел у стола, не раздеваясь сам и не предлагая снять пальто
мне — до того тут было неуютно.
— Вадь,— спросил я,— ну, а кресты-то на окнах почему не
смоете?
Он опустил голову, помолчал, потом сказал чуть севшим голосом
и какими-то взрослыми словами.
— Видишь ли,— сказал он и опять помолчал.— Это мама. Ей ка¬
жется: когда кресты на окнах, война еще только началась. И папка
жив.— Он покачал головой, едва улыбнулся.— Я ей объясняю, что
скоро войне конец, а она плачет и говорит: «Не хочу! Не хочу!»
— Не хочет, чтоб войне конец? — удивился я.
Он снова покачал головой.
— Не хочет, чтоб отец умирал.
Вадька смотрел на фотографию над кроватью, на застывшие,
неживые лица отца своего и мамы, и, ясное дело, ему совсем другое
виделось в портрете с деревянной рамкой. Наконец он перевел взгляд
на меня:
— Она странной какой-то стала, как похоронку принесли. С отцом
все говорит. Смеется. Будто во сне все это. Потом проснется, нас уви¬
дит и плачет.— Он помедлил, точно взвешивал, стоит ли доверить
мне что-то очень важное, потом сказал: — Ты знаешь, она даже салю¬
там не радуется.— Вадим снова замолчал. Сказал, как старик: —
Боюсь я за нее.
Я бы никогда не сказал так. И никогда не подумал. Я знал, что
боятся за меня мама и бабушка. За бабушку я тоже, пожалуй, мог
бы испугаться, если бы, допустим, она упала на ледяном тротуаре.
Но за маму я не боялся — никогда не боялся. Жалел ее, это да, особен¬
но когда она кровь сдавала, чтобы мне масло купить. Но бояться?..
Мама была взрослой женщиной, работала лаборанткой в госпита¬
ПОСЛЕДНИЕ ХОЛОДА 225
ле, получала карточки как служащая, строго спрашивала мои уроки,
пробирала, а если требовалось — она походила на энергичный мотор,
который крутит всю нашу жизнь — и бабушкину, и, особенно, мою.
Да что там! Мама была главный человек в доме, а когда отец ушел на
войну, за мамой было последнее слово. И надо сказать, она очень
здорово управлялась со мной, с бабушкой, со всем нашим домом и
его заботами.
Нет, я не боялся за маму! Она была моей защитницей, моей корми¬
лицей. И я не боялся за нее, нет! Разве боятся за силу и справедли¬
вость?
А вот Вадька боялся. Выходит, его мама была слабей, чем он?
Может ли так быть?
Я не знал. Это было слишком серьезно для меня. Слишком.
Опять Вадькина жизнь отличалась от моей. Опять он думал о та¬
ком, чего я не знал.
Не знал, это не значит — не понимал. Понимать понимал, но разве
все? Маленькую частичку...
Вадькина жизнь походила на большой и таинственный дом.
Я стою лишь у входа в этот дом. Из открытой двери на улицу падает
свет, образуя яркое пятно. И я вижу это пятно. Но вижу лишь
его.
Что происходит в доме, мне неведомо.
* * *
Мы пошли в столовую. Я пригласил туда Вадьку. Сегодня он не
станет шакалить, решил я. Мы разделим мой обед, и все будет прекрас¬
но. Потом подождем Марью и к вечеру поедим у нас. Как велела
мама.
Вадим тоже спешил в восьмую столовку. Он забеспокоился, за¬
торопился, и я подумал, что он занервничал из-за еды. Куском хлеба,
корками да плиткой жмыха сыт не будешь.
Вдали показалось крыльцо восьмой столовой, и я вспомнил вче¬
рашний день.
— Вадь,— спросил я своего нового друга, пораженный, что забыл
выяснить самое главное.— Как ты не побоялся? Вчера-то? Против
целой шайки?
— A-а,— вспомнил он. И вдруг брякнул такое, что я опешил: —
Не знаю.
226 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
— Как «не знаю»? — поразился я.— Чуть не задушил этого Носа,
а сегодня не знаешь!
— Голодный был,— усмехнулся Вадим.— Вот сегодня не смог бы,
убежал. А когда человек голодный, он сатанеет. У меня вчера уже
в ушах звенело. Думаю: «Черт с ним, все надоело». Ну и вцепился.
А что делать?
Я крутил головой, рассказывал в лицах, как Нос сначала грозил¬
ся, пугал, а потом плакал и как победитель Вадька вдруг поехал вниз
по забору и — раз! — в обморок. После победы-то. И как тетя Груша
бежала с кружкой в вытянутой руке.
— Вадик! Коля! — услышали мы Марьин крик. Она бежала за
нами, если это, конечно, можно было признать бегом. Двигалась ка¬
ким-то таким странным манером — быстрым шагом и медленными
пробежками. Минуты две она не могла говорить, пока, наконец, до¬
бежала до нас.
— Вадик, почему ты не ходишь в школу? — спросила она в конце
концов.— Почему ты обманываешь меня? Тебя везде ищут.
Вадим не на шутку смутился. Такой человек, как он, должен был
отмахнуться, сказать: «Подумаешь!» Или что-нибудь в этом роде.
А он стоял перед Марьей, опустив глаза, будто его ругает взрослый
человек, имеющий такое право.
— Меня сегодня вызывал директор,— сказала Марья.— Дал тало¬
ны в восьмую столовую, велел, чтобы и ты их получил в своей школе.
Очень обижался. Они откуда-то узнали.
Теперь Вадим смотрел на меня. Пристально, с укором. Но я не по¬
нимал его взгляда. Укорять Вадима имел право именно я. Сейчас он
пойдет в школу, а я уже прогулял. Ничего себе!
— Это твоя мама! — сказал Вадька.
— Мама? — Я засомневался. Помотал головой.— Когда она успе¬
ла? У нее ведь работа.
В ту пору я не думал о существовании телефонов. Что такое изо¬
бретение есть, известно любому детсадовцу. Но телефонов в наших
домах не было. Если требовалось поговорить, люди шли друг к другу.
И я подумал о том, что мама не могла сбегать в две школы. К тому же
она не знала, где именно учатся Марья и Вадим.
А потом, что тут плохого, если Марье дали талоны?
Я так и сказал Вадиму.
— Но мама, мама, мама! — трижды исступленно повторил он.
— Я директору сказала,— затараторила Марья.— Он и не соби¬
рался говорить маме. Он обещал.
ПОСЛЕДНИЕ ХОЛОДА 227
— «Обещал, обещал»! — сердито повторил Вадька. Потом улыб¬
нулся, что-то сообразив: — А в какой больнице лежит, не спраши¬
вали?
— Нет! — ответила Марья.
Вадим обрадовался.
— Ну-ка,— воскликнул он,— покажь свои талоны!
Марья протянула ему сжатый кулак, вывалила на его ладонь
смятые бумажки.
— Ха-ха,— засмеялся Вадим,— теперь не надо шакалить!
— Еще не все! — смеялась Марья. — Директор сказал, он что-то
такое напишет. И мне дадут карточки. Но надо куда-то идти.
Она наклонилась над портфелем и вытащила оттуда большой
синий листок.
— Деньги! — воскликнул Вадим.
— Это наша учительница,— сказала Марья.— Тоже ругала меня.
А потом дала деньги.
Что-то до странности быстро менялись дела у Вадика и Марьи.
Он, видать, тоже подумал об этом.
— Непонятно! — сказал он нам, но Машка засмеялась.
— Если непонятно,— сказала она,— пойдем в столовую. Поешь —
и сразу все поймешь.
Мы захохотали. И двинулись к восьмой столовке.
Вадька распахнул дверь в столовую уверенно и спокойно. Народу
снова было полным-полно. Некоторые ели одетые, другие стояли к
тете Груше. Вадька стал в очередь первым, за ним мы с Марьей.
Сегодня мы не торопились.
+ * *
— Никак, талоны дали? — сказала тетя Груша, когда подошла
Вадькина очередь.
Он молча кивнул. Щеки у него опять были в красных рваных
пятнах.
— Ну и слава богу! — сказала тетя Груша, подавая ему номерок
прямо в руку.
Не торопясь, мы выстояли очередь, и, хотя перед нами снова про¬
рывались большие пацаны, я не возмущался, насвистывал себе по¬
тихоньку под нос, говорил с Вадькой и Марьей.
Мы договорились обо всем, и я уже не чувствовал себя шалопаем,
прогулявшим уроки. Вадьке, конечно, надо идти в школу, а я с Марь¬
228 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
ей схожу на почту, она напишет письмо, и мы отнесем его в больницу.
Теперь я сопровождал сестру Вадима. Он просил меня об этом. Ясное
дело, я не мог отказать, это было бы не по-товарищески. Ведь мне до¬
веряли маленькую девчонку.
Потом мы пойдем к нам. Марья приготовит уроки. Я тоже, естест¬
венно. И после школы Вадим явится к нам. Как штык. Была тогда
такая поговорка: как штык. Значит, точно. Без подвода. Штык ведь
не подводит бойца!
И тут снова вышло приключение. Да еще какое!
Марья получила еду первой и заняла столик. У Вадима в руках
оказалось сразу три портфеля. И еще он хотел помочь мне притащить
поднос. Мы стали тихо препираться, потом Вадим ушел за ложками,
и я его ждал. На какое-то время мы забыли про Машку.
Когда подошли к столику, рядом с ней сидел парень с лицом,
похожим на тыкву.
Ложкой Марья плескалась в своем супчике и парализованно гля¬
дела на нас. Будто беззвучно кричала: «Помогите!»
Мы пригляделись. Второго у Марьи не было. Ее второе — опять
котлеты — жадно пожирал парень с лицом, похожим на тыкву.
Мы не сели, мы упали на стулья.
— Ты чо? — прошептал Вадим парню.
Тот подумал, мы просто храбрецы и не имеем к Марье никакого
отношения.
— Тихо, пацаны! — проговорил парень, не переставая чавкать.
Вадька уже весь напрягся. И я понял, что грянет бой. Торопясь,
я снял с подноса тарелки и ухватил его покрепче. Но Вадька медлил.
Что-то, видать, мешало ему.
— Попросил бы по-хорошему,— сказал Вадька парню уже по¬
громче.
Тот только хмыкнул.
— Половину бы попросил,— уговаривал Вадим.
— Не ной,— отмахнулся тыквенный парень.
Это походило на гром и молнию. Точнее, на молнию и гром. Снача¬
ла в воздухе мелькнул портфель, потом раздался громкий грохот.
Мальчишка слетел со стула, миска грохнулась на бетонный пол.
Парень подскочил к Вадиму и прошептал:
— Гад! Попишу!
В руке у него блеснула безопасная бритва, как-то хитро зажатая
между пальцев.
Но Вадька уже схватил мой поднос. Если надо, из него получался
ПОСЛЕДНИЕ ХОЛОДА 229
хороший щит. А если надо, то и боевое оружие, которым здорово мож¬
но треснуть по тыквенному кумполу этого пацана.
— Блатной, что ли? — спросил его Вадька.
— Попишу! — вякнул тот, отступая. Отбежал несколько шагов,
но, увидев, что Вадим не нападает на него, повернулся и пошел, погла¬
живая себя по голове. Издалека показал кулак.
Машка сидела ни жива ни мертва. Да и у меня, признаться, тряс¬
лись руки. Вадим опять казался спокойным. Даже, кажется, огорчен¬
ным.
Я заставлял его поесть из моей тарелки, но он решительно отказы¬
вался. Потом стал причитать, как старуха:
— Зря я его! — Кряхтел, вздыхал и снова повторял: — Зря!
— Чего ты выдумываешь! — возмущался я.— Почему зря? Ведь
он грозил. Маша, показывал тебе бритву?
Марья кивнула, но тоже молчала, будто и она жалела этого вора.
Наконец мы договорились. Я заставил Вадима съесть половину
моего супа, а котлеты мы разделили на троих.
В миске, которая грохнулась на пол, счастливо уцелела половина
котлеты и немного картофельного пюре. По ни Вадим, ни Марья не
прикоснулись к ним. Будто этот злобный парень с бритвой оставил там
отравленную слюну.
Еще вчера Вадим бы доел это, да и Марья тоже. Еще вчера Вадим
мог бы сам отнять у маленькой девчонки ну если не второе, то кусок
хлеба. А сегодня они отводили глаза от тарелки. Будто во всем вино¬
вата она.
«Выходит,— подумал я,— когда голод отступает, человек сразу
становится другим? Но кто и кем тогда правит? Голод человеком?
Человек голодом?»
* * *
Скудный обед только растравил меня. Вадька и Марья были при¬
вычнее к недоеданию, но хмурились, все успокоиться не могли.
А солнышко горело ярким, слепящим фонарем, крышу восьмой
столовки окантовали стеклянные сосулины, с них не капало, а прямо
лилось, и воздух пьянил наши головы. Так что, пока мы дошли до
угла, лица Вадима и Марьи уже разгладились, глаза поголубели, на¬
верное, это синее небо переливалось в нас.
Я слышал, как пахла весна. Некоторые, я знаю, не понимают это¬
го. А ведь очень просто! Нужно идти не спеша и медленно, глубоко,
230 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
до самого дна, вдыхать свежий воздух. И вот когда вдохнешь совсем
глубоко, во рту делается свежо и сладко: у весны сладкий вкус.
Я показал, как это делается, Вадиму и Марье.
— Чувствуете? — спрашивал я.— Чувствуете?
Они чувствовали. Задерживали дыхание, чтобы весеннюю сла¬
дость подольше сохранить. Будто наслаждались необыкновенными
конфетами.
— Может, и есть не надо? — спросила, улыбнувшись, Марья.—
Дыши себе и дыши!
— Хорошо бы! — вполне серьезно сказал Вадька.— Вообще, разве
не могут ученые придумать, чтобы получать питательные вещества
из воздуха?
Я закатился.
— Зря ржешь! — Вадим был совершенно серьезен.— Еще уви¬
дим! Ведь эта сладость весенняя из ничего не может получиться. Что-
то есть! Какие-то такие, может, пока неизвестные молекулы. И вот
делают такой прибор. Вроде курительной трубки, только без табака.
Или пусть побольше, размером с музыкальную трубу. Человек втя¬
гивает воздух, и специальный прибор перерабатывает его в питатель¬
ное вещество.
— Какой прибор? — не понял я.
— Который в этой трубе запрятан! — как бестолковому двоечни¬
ку объяснил Вадим.
— А не боишься,— спросил я его ехидно,— что люди быстренько
весь воздух слопают? И когда его станет мало, им начнут торговать?
Рупь — кубометр. И будут столовки дополнительного питания.
— И там заведутся шакалы,— подхватила Машка.
Мы уже хохотали все втроем над Вадькиной антинаучной мыслью.
— И станут хапать у маленьких девчонок! — говорила, покаты¬
ваясь, Марья.— Хап! Хап!
Она смешно глотала воздух. И все мы вслед за ней, пока еще воз¬
дух не выдают в столовке, начали хапать его тут, на улице. И честное
слово, вкусно получалось.
Вот тогда мимо нас мелькнула тень.
Я пригляделся. Да, это пробежал тот тыквенный парень. Мне по¬
казалось, он стукнул Вадьку. Или просто его задел...
— Погляди-ка спину,— попросил Вадим.
Я охнул, а Марья в голос заревела.
Новое Вадькино пальто было наискосок разрезано. В щель выгля¬
дывала прошитая белыми нитками прокладка. Ну, которая утепляет.
ПОСЛЕДНИЕ ХОЛОДА 231
— Вот гад! — повторял Вадим.— Вот гад!
Он расстегнулся, снял пальто, внимательно оглядел разрез, потом
оделся снова, повторяя одно и то же: «Вот гад!»
Потом добавил:
— Теперь его не продашь!
А Машка заливалась! Мы принялись успокаивать ее, но она никак
не затихала. Прохожие оборачивались на нас, какая-то старуха,
не решаясь приблизиться, стала кричать, что мы обижаем де¬
вочку.
— Марья! — напрасно взывал Вадим к сестре.— Ты что? Испуга¬
лась?
Она мотала головой.
— Марья! — строго говорил Вадим.— Это на тебя не похоже. Да
перестань, а то нас заберут!
Наконец, еще всхлипывая, глубоко вздыхая, как вздыхает, наби¬
рает в себя воздуха, постепенно успокаиваясь, всякий горько плакав¬
ший человек, она проговорила ломким, прерывистым голосом:
— Мама пальто-то выкупала! Опять расстроится! Плакать начнет!
Вадька нахмурился. Наверное, испугался за свою маму.
— Да не бойтесь вы,— сказал я,— моя бабушка зашьет. Вез вся¬
ких следов.
— Так не бывает,— еще вздыхала Машка,— чтоб без следов.
— Бывает,— врал я. Только бы она поскорей успокоилась!
Мы угомонили Вадькину сестру и разошлись — он в школу, а я с
Марьей на почту.
Это когда большой парень идет с маленькой девчонкой — ничего
особенного, сразу можно догадаться, что сестра. А если я Машки
побольше чуть-чуть? Сразу же нарвался на неприятность. Навстречу
шла орава обалдуев. Прямо лоб в лоб.
Еще издалека эти дураки заорали разными голосами:
— Жених и невеста! Жених и невеста!
Я старался сохранить выдержку, да что толку — сам весь на¬
прягся.
Получилось так, что мы с Марьей двигались по центру тротуара,
а мальчишки, как река, разбились на два рукава и толкнули нас друг
на дружку.
Тут же они ушли своей дорогой. А мы с Машкой валялись, сбитые
с ног: я животом у нее на голове. Какой-то глупый стыд нашел на
меня. Будто эти мальчишки не чушь последнюю несли, а говорили
правду. И я жених. Да еще перед своей невестой опозорился.
232 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
Я нелорко поднялся, стал отряхиваться, сердито отвернувшись от
Марьи, будто она в чем-то виновата.
— Идиоты! — ругался я.— Охламоны! Дураки!
Марья легкомысленно засмеялась.
— Да чего ты, Коль? — воскликнула она.— Они же просто одича¬
лые. Вот кончится война! Снова мальчишки и девчонки учиться вме¬
сте станут! И дикость пройдет! Нам учительница говорила.
Еще этого не хватало! Теперь маленькая Марья успокаивала
меня!
* * *
Я должен был помогать ей, раз Вадька доверил мне свою сестру.
Но разве сразу сообразишь, какие надо придумать слова, чтобы про¬
диктовать письмо их маме.
Пришлось снять шапку, потому что голова взмокла от напряжения.
А Марья сидела рядом со мной, взирая на меня с послушным внимани¬
ем. Она взирала, а я потел и краснел. Да еще она оказалась спорщи¬
цей — ворчала на каждом шагу.
— «Дорогая мамочка!» — продиктовал я. Так она даже с этим не
согласилась.
— В каждом письме «дорогая мамочка»! — сказала Машка.—
Надо что-нибудь другое.
— «Любимая мама»! — предложил я. Но и это не подошло.
— «Милая наша мамочка!» — придумала Марья и, высунув кон¬
чик языка, аккуратно вывела на листке, вырванном из тетради.
— «Сегодня я получила...» — продиктовал я.— Сколько ты полу¬
чила пятерок?
— Ни одной,— вздохнула Машка.
— «Три пятерки»,— выдумал я.
Она охотно записала мою ложь.
— «А Вадик,— продолжал я фантазировать,— только одну. Зато
по арифметике».
— У них уже нет арифметики,— вскинула голову Марья,—
алгебра, геометрия.
— Погоди,— проворчал я недовольно. Мне эти предметы были
пока неизвестны, а мало ли, маленькая Марья может и перепутать
слова. Разбирайся потом. Вдруг их мама забеспокоится, догадавшись
про вранье, будет плакать, ей станет хуже. Нет, не мог я рисковать
такими серьезными вещами.— «Зато по истории..» — предложил я.
234 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
Но Машка не унималась.
— По истории он получил позавчера,— сказала она привередли¬
во.— Что-то часто!
— Тогда по географии,— сказал я.
Наконец-то привереда согласилась.
И тут на меня накатило. Совершенно неожиданно к голове при¬
хлынула кровь (а еще мама говорит — малокровие), и я, может, пер¬
вый раз в жизни испытал на себе, что такое творческий подъем.
— «Мамочка! После зимней непогоды стало тепло. Греет солныш¬
ко,— диктовал я, и Марья уже не упрямилась, наоборот, она пора-
женно взглядывала на меня, даже не стараясь скрыть восторга.—
Чирикают воробьи! Капает капель. Жизнь оживает. Скоро и ты,
мамочка, поправишься!»
Я припомнил, что говорил мне сегодня Вадим у себя дома. Надо
было и про это написать.
— «По радио,— продолжал я,— все чаще объявляют салюты. Ско¬
ро конец войне. Тебе тоже надо поправляться».
Я попробовал вообразить себя на месте Вадьки и маленькой Маши.
Меня опять окатила жаркая волна. Перехватила горло горькая тоска:
я — и один? Но это невозможно! Схватить себя за голову и завыть!
Пришлось тряхнуть головой. Нет, это не со мной. Слава богу,
слава богу! И если мне только что хотелось взвыть, слова в письме,
которое я диктую от имени Вадика и Марьи, нужны совсем другие.
Марья дописала предыдущую строчку и смотрела на меня с инте¬
ресом. Что я еще способен сочинить?
— «Мамочка,— сказал я, думая о том, что почувствовал,— будь
спокойна. С нами все в порядке. Ты можешь надеяться на нас. Ни о
чем не думай. Только поправляйся. Собери все свои силы. Для решаю¬
щей победы».
Я, кажется, брякнул это зря, про решающую победу, но Марья
воспротивилась.
— Ты что! — горячо зашептала она.— Да я бы такого никогда не
придумала. И Вадик тоже.
Пришлось согласиться. Я придумал еще две-три фразы, которые
полагаются в конце любого письма, и мы двинулись в больницу.
Путь к ней мы одолели быстрей, чем вчера. Правда, Марья
опять останавливалась, но реже, и дышала не так загнанно, как на¬
кануне.
У тифозных бараков я опять растерялся. На меня напал страх.
Мама и бабушка всегда говорили, что именно к этой больнице даже
ПОСЛЕДНИЕ ХОЛОДА 235
приближаться опасно. А я должен был войти в проходную и передать
письмо.
Я остановился, потоптался на месте. И снова меня прошиб пот.
Марья, маленькая Машка, окинула меня строгим взглядом и сказала
голосом Вадима:
— Ты постой тут, а я схожу.
И двинулась к проходной. Какой позор!
Я метнулся вперед, схватил ее за воротник и с такой силой повер¬
нул к себе, что она чуть не упала.
— Стой здесь,— сказал я голосом, не терпящим возражений, и
выхватил письмо из ее руки.
Потом я повернулся и уверенным, спокойным шагом двинулся
к проходной.
Едва я открыл дверь, на меня жарко дохнуло хлоркой и еще чем-
то противно больничным. Но я не дрогнул. Ведь мой страх ждал такого
запаха.
В маленькой проходной сидели две женщины. Обе в черных хала¬
тах, как говорил Вадим. И лоб и щеки у них были затянуты такими
же черными платками. Как будто они хотели побольше закрыть свое
тело. Даже на руках у них я увидел черные перчатки.
Сердце мое колотилось совсем по-заячьи.
— Можно передать письмо? — спросил я у черных теток.
— Письмо мо-ожно,— неожиданно добродушно сказала одна тет¬
ка. Она казалась повыше.
— Да неплохо бы еще и еды,— вздохнула другая.
Еды? Какой еды? Я ведь не знал об этом. И Вадька ничего не
говорил.
Меня обожгло.
• * *
Бывает так в жизни, бывают такие мгновения, когда вдруг ма¬
ленький человек думает совсем по-взрослому. А человек взрослый,
даже старик, убеленный сединой, думает, как малыш.
Почему, отчего это?
Я думаю, потому, что взрослость приходит к нам не однажды, не
в какой-то установленный всеми миг. Взрослость приходит, когда ма¬
ленький человек видит важное для него и понимает это важное. Он
вовсе не взрослый, нет. И нету у него взрослого понимания подряд
всех вещей. Но в лесу, где много деревьев, которых он не знает, он
236 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
вдруг догадывается: вот это, пожалуй, пихта. А это кедр. Во множе¬
стве сложных вещей он узнает самые главные, понимая их если и не
умом, то сердцем.
Ну а взрослый... Это объясняется легче. Просто взрослым надо
помнить свое детство. В этом нет ничего стыдного. Наоборот! Пре¬
красно!
Прекрасно, если взрослый, даже седой человек способен подумать,
как ребенок.
* * *
Меня обожгло. И я подумал: «А что мог сказать Вадька мне? Что
мог он сделать? Отнести кусок жмыха, ломтик черствого хлеба сюда,
своей маме?»
Снова перехватило горло.
Его перехватило потому, что я понял Вадькину беспомощность
перед этой проходной, перед черными, как галки, тетками, перед
тифозными бараками. Перед бедой — своей и маминой.
Он не мог ей помочь. У него не было таких сил.
Я вздохнул, онемелый,— и раз, и два.
— Что, милый? — спросила высокая тетка.
— Тебе худо? — заволновалась другая.
— Тяжко без мамки-то? — вздохнула первая.
— О-хо-хо! — вздохнула вторая.
— Нету еды,— сказал я совсем Вадькиным голосом.
Они вздохнули вразнобой.
— Худо! — сказала высокая.
Теперь-то я знал: худо! И страшно оттого, что худо. Надо было
уходить. Но я топтался. Какая-то ведь у меня мелькнула мысль.
Да! Я знал, что в госпитале или больнице, если написал записку
больному, можно получить ответ. «Как обрадуются ребята,— поду¬
мал еще я.— Запляшут, закричат. Еще бы: письмо от мамы!»
И я спросил:
— А можно ответ получить?
Черная тетка, что повыше, качнула головой. И сказала страшное:
— У нас ответов не бывает.
Дверь проходнушки жахнула за моей спиной. Ее приходилось от¬
тягивать изо всех сил, потому что держалась она на крепких желез¬
ных пружинах, но я этот дверной выстрел как теткины слова понял:
приговор!
238 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
Я тряс головой, стараясь вытряхнуть дурные мысли, ругал тетку.
Надо же, какие слова выбрала, ясное дело, почему ответов не бывает,
тифозная ведь больница, не простая, а это значит, зараза передается,
это значит, тиф с листочком бумаги, с обыкновенным письмом может
вырваться на волю, как страшный джинн... Но тоска меня не поки¬
дала. Не отставала она от меня, и все тут.
К Марье я подходил другим человеком. Нет, внешне, конечно,
все оставалось таким же, наверное. Но в душе моей много чего про¬
изошло за какие-нибудь десять минут.
Виду, однако, подавать не следовало. Не имел я таких прав кис¬
нуть, расплываться киселем, пугаться и дрожать.
— Порядок! — сказал я ей бодрейшим из голосов и пошел вперед,
не оборачиваясь, чтобы все-таки постепенно прийти в себя.
Машка топала на полшага позади и, слава богу, не видела моего
лица, давала мне отсрочку, чтобы я пришел в норму. Она ничего не
спрашивала, похоже, знала, что никаких новостей из черной проход¬
нушки не поступает. Отдали письмо, и все. Ждите.
А в моих глазах все еще сидели черные тетки. Опасная работа —
служить в такой больнице!
Теперь я думал о черном цвете. Она что, не пристает к черному,
эта страшная зараза? Но черный — это цвет смерти.
Опять новая и странная мысль, точно глубокая яма, открылась
подо мной. Я подумал, что черный цвет, цвет смерти, люди выбрали
в этой больнице из суеверия, из страха, из невозможности победить
страшную болезнь. Они знают, что цвет тут ни при чем, он не помо¬
жет, но на всякий случай все же обрядились в черное, надеясь, что
к нему не должна пристать зараза — смысла ей такого нет!
Тяжелые мысли не исчезают разом. Я уже знал, их разрушает
только время и другие события. Будто время — это маленький сталь¬
ной ломик, который сам по себе ломает черную глыбу — или только
глыбку,— если мысли хоть и тяжелые, но не такие большие.
Неожиданно — впрочем, жизнь всегда продолжается неожиданно:
случается что-то новое, вот она и идет дальше, наша жизнь,— так
вот, неожиданно Машка проговорила:
— Мне Вадика жалко!
Медленно, даже, кажется, осторожно, точно по веревочной лест¬
нице с высокой крыши, я спустился из горьких своих дум обратно
на землю. Заставил себя переспросить Марью, чтобы не ошибиться,
чтобы не казалось мне, будто я ослышался. Ведь она всегда маму
жалела. А про брата я слышал первый раз.
ПОСЛЕДНИЕ ХОЛОДА 239
— Жалко Вадьку? — переспросил я.
— Ну конечно,— сказала Марья.
«А! — вспомнил я.— Должно быть, она про пальто».
— Сказано же,— опять принялся успокаивать я,— бабушка за¬
шьет.
— Да я не про то! — ответила Марья.— Я вообще!
Все-таки я был зеленым сопляком по сравнению даже с Машкой.
Как ни старался быть понимающим, а если надо, и абсолютно взрос¬
лым человеком, все же старание не всегда помогало мне, потому что
Вадим и даже маленькая Машка знали горького гораздо больше,
чем я.
Я в этом не был виноват. Я знал, что мои дорогие бабушка и мама
изо всех сил защищают меня, ограждают от окружающей жизни,
очень даже нелегкой, хотят, чтобы я поменьше знал о ней, подольше
был обыкновенным ребенком — без всяких горестей, с одними радо¬
стями, какие, конечно, можно придумать военной порой. Я понимал,
как мама и бабушка страдают от того, что им это не всегда удается,
а иногда не удается вовсе, и видел, как они хмурятся и нервничают,
если вдруг догадываются, что я знаю больше положенного мне, по их
мнению, если вдруг они сознают с огорчением, что, как ни укутывай
меня в вату, точно елочную игрушку, когда ее прячут в коробку после
новогодней елки, я все равно вижу настоящую правду. Или имею
представление о ней по осколкам, которые долетают, добираются до
меня.
Нет, человек, даже маленький, не елочная игрушка, его нельзя
вынуть только на праздник, дать ему порадоваться огням и смеху,
а потом упрятать на целую войну в мягкую, оберегающую от ушибов
вату. Человек не игрушка, и — хочешь не хочешь — он будет биться
об углы, которые придумывает жизнь, и это битье в конце концов при¬
учает его к мысли, что жизнь не заменишь враньем или — скажем
мягче — обманом, даже если этот обман совершенно не грубый,
а деликатный и у него нет слов, а есть только молчание: люди молчат
и, значит, скрывают правду.
Машка сказала, что ей жалко Вадима, не пальто даже его жалко
новенькое — ведь она плакала из-за пальто,— а вообще жалко, и мне
перед ней неловко стало.
Мне стало неловко оттого, что Вадьку и в самом деле есть за что
пожалеть, а вот я благополучней его. Мне не надо шакалить, я живу
с талонами на дополнительное питание, у меня есть мама и бабушка,
и отец сражается на фронте, жив, жив, слава богу, и я не эвакуиро¬
240 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
ванный, а шляюсь тут по своему собственному городу без всяких там
печалей. А вот Вадька!
— Знаешь, как ему тяжко? — сказала Марья. И вздохнула.—
Да он по ночам стонет, понимаешь? Как больной. Я сперва пугалась,
будила его, но потом перестала.
В весеннем снегу таились глубокие синие тени, похожие издалека
на лужицы, и вообще погода стояла райская. Ни с чем она не желала
считаться. Ни с войной, ни со смертью, которая настигала чьего-то
отца в этот самый миг, ни с маленькой Машкой, которая вот идет по
солнечному свету, а вовсе и не видит его, будто ослепла.
— Вечером я долго уснуть не могу, от голода в животе сосет, ну
а утром от голода же проснуться не могу. И Вадька беспокоится, по¬
тому что боится, я на первый урок просплю.
Машка заглянула в мое лицо, будто спрашивала, понимаю ли я,
о чем она со мной толкует, могу ли я это все осознать.
— И вот он так волю собирает, что от всякого звука просыпается.
Боится, чтобы первый гудок не пропустить. И потом трясет меня.—
Машка улыбнулась: — Когда он 'трясет, мне снится, будто я на коне
скачу.
На коне! Я усмехнулся. Такие сны мальчишкам могут сниться.
А маленькую Машку на коне даже вообразить себе невозможно.
— А в столовке! — восйликнула Машка.— Знаешь, какая стыдоба
поначалу! Я вообще к столам ходить не хотела. Раза два в обморок
падала. Прямо там. И Вадька мне каждую крошку тащит. Как во¬
робей.
Я припомнил столовских воробьев. Они сидели на железных пере¬
кладинах под потолком, но, странное дело, не чирикали. Тогда
к гладкорожим мальчишкам слетел воробей ведь молча, схватил хлеб
и был таков.
И мне вдруг пришла в голову мысль, что воробьи хоть и залетели
к еде поближе, но толку для них от этого мало. Ведь все до крошки
зализывают маленькие ребята. Уж извините, воробьи! Ваше молчание
так понятно...
— А потом? — спросил я Машку.
— Потом уже не стыдно,— ответила она, опять совсем по-ста¬
рушечьи вздохнув. И сказанула такое, что мне снова стало не по се¬
бе: — Голод убивает всякий стыд.
Этого я не знал. Сам, собственным животом. Такое узнать можно
только животом, никак иначе.
Выходило, маленькая Марья учила меня. Как и брат ее Вадька.
ПОСЛЕДНИЕ ХОЛОДА 241
Добавляла знаний к моему без года и полутора месяцев начальному
образованию. Знания эти были из неписаных учебников. Из тех,
правилам которых учила нас и наша Анна Николаевна.
* * *
Это потом, во взрослой жизни, дни проносятся без всяких собы¬
тий. Точнее, людям, привыкшим к разным разностям, просто кажет¬
ся, что ничего заметного с ними не происходит. Вроде как едят пищу,
и она бессолая. Хотя соли достаточно. Вообще есть у еды вкус. Но
глотают ее, не замечая. Забылись, как во сне.
Детство прекрасно тем, что в нем множество событий. Не только
замечательных, нет. Всякие бывают события в детстве — горестные
и прекрасные. Но они бывают, вот что замечательно. Жизнь никогда
не кажется безвкусной в детстве. Она и прекрасно сладка, и печально
горька, и солона, конечно же, не всегда в меру.
За день может произойти не то что одно, а множество собы¬
тий.
В тот день, и так уже до отказа полный разнообразными события¬
ми, мне предстояло пережить еще три.
Целых три!
* * *
Ну, то, что бабушка ждала нас с Марьей, радушно улыбаясь, была
оживленна и говорлива,— это, ясное дело, не событие.
Потом мы выучили уроки.
Машка что-то калякала в своих газетных тетрадках. Время от вре¬
мени она тоненько пищала, но, когда я глядел на нее, мужественно
улыбалась. Это газета расплывалась под чернилами. Газеты тогда
очень неровные выходили, я по себе знал, у меня ведь тоже такие тет¬
радки бывали. Но потом папка прислал с оказией трофейных тетра¬
док. Ну и бумажка в них! На солнце блестит, глазам больно. Лакиро¬
ванная. Я дал одну тетрадь Марье, но она ее в портфель тут же спря¬
тала. Ясное дело: чтобы записки маме писать. Вот. Ну, а неровная
газета — это такая, по которой пишешь-пишешь чернилами, и все
вроде бы хорошо, а потом — бух! — словно в какую-то невидимую яму
попал: чернила расплываются по каким-то тонким сосудикам. Не¬
много задержишь перо — и тут же клякса.
242 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
Но учителя знали это дело и отметок не снижали, хотя, например,
наша Анна Николаевна советовала делать тетрадки из довоенных
газет, если у кого сохранились. Но кто до войны знал, что газеты по¬
требуются для тетрадей? Из всех моих знакомых у одного Вовки
Крошкина были такие газеты. Да и то потому, что его мама газеты
в сарае складывала. Готовилась к большому ремонту и, получилось,
много тетрадок накопила для военных дней. Так Вовка рассказывал.
Он даже мне старые газеты давал.
В общем, Марья попискивала, отдергивала перо, учила уроки. Но
в этом тоже не было ничего особенного.
Оба мы прислушивались, как за печкой шуршит моя бабуля, мо¬
лодчага моя бабуля. Старается кастрюлями не бренчать, воду ков¬
шом громко не лить, нам, старательным ученикам, не мешать. Только
с запахами она ничего поделать не может. Вкусно пахнет вареной
картошкой, и у меня начинает сосать под ложечкой, а Марья — так
та, чудачка, закрывает уши ладошками, чтобы не слышать этот за¬
пах. Ну что ж, понять ее можно: нос ведь не закроешь, дышать од¬
ним ртом неудобно, а сосредоточиться и что-то закрыть, чтобы не слы¬
шать вкусных запахов еды, все-таки надо.
Если считать ужин событием, то оно еще только назревало, гото¬
вилось под мудрым бабушкиным руководством.
События развернулись гораздо раньше.
Почти одновременно пришли мама и Вадим.
Первой вернулась с работы мама. Она быстро разделась, умы¬
лась — она учила меня и жила сама по этому правилу: вернулся
с улицы, сразу умойся, обязательно с мылом, при этом надо намылить
не только руки, но и обязательно лицо, потому что на улице бродят
всевозможные бациллы,— так вот, она умылась за печкой, звонко
звякая соском умывальника, потом вошла в комнату и сделала сле¬
дующее: ласково поздоровалась с Марьей и строго посмотрела на
меня.
Мое сердце дрогнуло. Кошка ведь сразу чует, чью сметану съела.
Есть такая поговорка. Я разом вспомнил, как провел сегодняшний
день. Но мама не могла ничего узнать — я в этом был абсолютно
уверен.
На всякий случай я изъявил мудрую гибкость. Раз мама не здо¬
ровается с тобой, а только окатывает подозрительно холодным взгля¬
дом, нет ничего зазорного, чтобы первым поздороваться с родной
мамой.
Я это и сделал лисьим голосом.
244 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
Она кивнула и, кажется, что-то хотела ответить мне. Но именно
в это мгновение пришел Вадька.
Он стоял на пороге с совершенно растерянной физиономией.
И подтягивал штаны.
Это выглядело довольно забавно, ведь штаны-то под пальто.
Вадька стоял какое-то время, потом локтем прихватывал пальто там,
где находится талия, и поддергивал его вверх. Глаза при этом у него
совершали стремительное и неорганизованное движение. Ну просто
дергались. На маму, на меня, на бабушку, на Марью, на пол, на по¬
толок, на окно, в сторону.
В одной руке Вадим держал чуть припухший портфель, а в другой
пачку учебников и тетрадей, перевязанных брючным ремнем. Поль¬
зуясь дедуктивным методом английского сыщика Шерлока Холмса,
о котором узнал из детской радиопередачи, я довольно сообразитель¬
но вычислил, что вытащить ремень из брюк Вадьку заставили серьез¬
ные причины. И эти причины находились в портфеле.
Мама нашлась первой. Она приветливо улыбнулась и сказала
Вадьке, чтобы он не стоял на пороге, что довольно странно, а входил
и раздевался.
— Это вы? — спросил он каким-то не своим, чуть севшим голосом.
Мама рассмеялась.
— Да как будто это я, действительно.
Вадька смущенно мотнул головой. И обозначил свой вопрос точ¬
нее:
— Это сделали вы?
— Да что сделала я? — удивилась мама.
— Смотрите! — сказал Вадька смущенно. Он положил тетрадки,
обмотанные ремнем, и открыл портфель.
В нем грудились пакетики и свертки, а поверху несколько разных
долей ржаного хлеба. Буханки лежали порезанными неодинаково —
вдоль и поперек, были тут и четвертушки, кажется две.
— Откуда это? — спросила Машка.
— Учителя,— сказал Вадька. Он, кажется, чуть отошел, перестал
крутить глазами во все стороны, принялся говорить связно: — Такой
устроили бенц!
Теперь уже напрягся я. Вадим, похоже, расслабился, его речь ли¬
лась раскованно, так болтают мальчишки между собой, забылся то¬
варищ, елки-палки, а когда люди забываются, они могут выболтать
что-нибудь лишнее. Хотя бы про сегодняшний день.
Так оно и было. Он с этого и начал, чудак!
ПОСЛЕДНИЕ ХОЛОДА 245
— В общем, я несколько дней не ходил в школу,— сказал Вадим
и этак скользом проехал взглядом по мне.
«Аккуратней! Аккуратней!» — внушал я ему на расстоянии. Но
Вадька ничего не чуял сгоряча.
— Марья мне говорит вдруг сегодня: «Тебя ищут!» — Он обвел
глазами присутствующих.— Действительно! Едва разделся, как пер¬
вый же учитель меня за рукав — и к директору. Ну, думаю, все!
Попался! Выгонят!
Он посмотрел на Машку, как будто услышал ее неслышный упрек,
ее предупреждение, наверное, напоминание про маму, ответил ей
одной:
— Ой, и не говори! — Потом продолжил рассказ: — Ну и конечно!
Начинает прорабатывать! Но не за то, что в школу не ходил. А за то,
что не сказал про маму и про карточки.
— У вас что, мужчина директор? — спросила мама.
Вадька на секунду осекся. И тут же засмеялся:
— Не разыгрывайте! Это вы им сказали! Так что вы знаете кто,
мужчина или женщина.
Мама пожала плечами.
— Да я даже номера школы твоей не знаю,— сказала она. И кив¬
нула на меня: — Спроси Колю.
Я кивнул. Да что мама! Даже я сам не знал, где учится Вадька.
Все утро хотел спросить и забыл.
Теперь настала пора растеряться ему. Он замолчал. Потом стал
скрести макушку. От моей мамы ничего не укроется. Она тут же
Вадьку прихватила:
— Давно в бане не был?
Он смутился окончательно. Мама, по-моему, тоже.
— Ну, ладно,— сказала она.— Рассказывай. Про баню позже.
— Директор у нас старичок,— сказал Вадька.— В общем, он ру¬
гал, ругал, потом открыл шкаф и объяснил, что учителя собрали нам
еды. Всего понемногу. А скоро дадут талоны на дополнительное пи¬
тание. Марье уже дали. И школа ходатайствует, чтобы нам выдали
новые карточки.
Он снова поддернул штаны, теперь уже не через пальто, а напря¬
мую, и уставился на маму.
— А я думал, это вы,— сказал Вадим, приходя в свою обычную
форму: мужество плюс спокойствие.
— И-эх, чудак человек! — вмешалась бабушка. Потом понюхала
кухонные ароматы и ринулась к керосинке. Уже оттуда, из темнова¬
246 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
той глубины своего закутка, бабушка продолжила свою речь: — Ведь
люди вокруг, люди. А ты!..
Мне показалось, она хотела сказать: «А ты шакалишь!» Но во¬
время удержалась.
Но бабушку перебила Марья.
— А про маму ты предупредил? — воскликнула она.
Вадим хмыкнул.
— И предупреждать не пришлось. Они все знают.
Он засмеялся. Наконец-то совсем пришел в себя.
— Знаешь, он даже что предложил? Наш директор?
Марья мотнула косицами.
— Пойти нам в детский дом. Временно. Пока мама не вернется.
А учиться, говорит, будете в своих же школах.
— Чудак человек,— повторила Марья бабушкиным голосом ее вы¬
ражение.
Она неторопливо, будто вглядываясь в каждого, будто требуя
подтверждения от всех от нас, обвела глазами маму, бабушку, меня
и Вадьку.
И сказала каким-то поразительно сухим, я бы даже сказал, офи¬
циальным голосом — и спрашивая и утверждая сразу.
— Ведь в детском доме,— сказала маленькая Марья,— живут ре¬
бята, у которых все родители погибли, а у нас есть мама.
* * *
Портфель Вадима с маленькими кулечками крупы, муки, микро¬
скопическим сверточком масла, хлебом и даже ломтем деревенского
сала в чистой тряпице был первым событием из трех последних со¬
бытий этого дня.
Вторым событием стала баня. Вернее, разговор о ней. Ведь собы¬
тием может быть и разговор, если он дает пищу для размышлений.
Мама у меня настойчивый человек. Так что, едва мы поели отвар¬
ной рассыпчатой картошки...
Но сперва Вадька заупрямился. Бабушка выставила на стол та¬
релки, а он приказал Машке собираться.
— Идем! — сказал он каким-то непререкаемым, враз посуровев¬
шим голосом, и Марья принялась послушно и как-то испуганно¬
суетливо натягивать на себя пальто.
— Ты что! — закричал я, пораженный, Вадиму.— Не чуешь за¬
пахов? У тебя насморк?
ПОСЛЕДНИЕ ХОЛОДА 247
— У нас же своя еда есть! — искренне удивился мой приятель,
указывая на портфель.
— Пого-одьте,— улыбнулась бабушка,— еще поспеете съесть
свои харчи. Не больно они густы-то!
Но Вадька решительно замотал головой, и я вспомнил, как он еще
днем сказал, что, мол, не могут они с Машкой объедать нашу семью.
Всем, дескать, теперь лихо, и в каждой семье всяк кусок в счет.
Так что бабушкин призыв на него не подействовал. Тогда взялась
за дело мама. Она у меня такая! Может, если надо, и прикрикнуть.
И ухватить за плечо крепкой рукой. Усадить силой. Или повернуть
к себе, заглянуть в лицо. Мама часто мне повторяет, что она теперь
в нашем доме не только за себя, но еще и за отца. Впрочем, это она
меня могла взять за плечо мужской рукой, потому что я ее собствен¬
ный сын. Вадика она бы ни за что за плечо не взяла с силой. И Марью
тоже. Она им улыбнулась и сказала, мудрая женщина:
— Что ж, раз война, раз голодно, так и в гости теперь не ходить?
Она спрашивала Вадима, глядела на него мягко и совсем нетре¬
бовательно, и, наверное, поэтому он заморгал, захлопал ресницами,
смутился опять, постоял, опустив голову, потом вздохнул, словно
что-то про себя решил, и, взглянув на маму, улыбнулся.
Она не сказала ни «то-то же», ни «давно бы так», как говорила
мне, а ответила Вадиму мягкой улыбкой, повела рукой.
— Прошу к столу!
После ужина настойчивая мама опять взялась за свое.
— Понимаете,— сказала она, переводя взгляд с Вадима на Марью
и обратно, словно взывая к их общему разуму,— я ведь медицин¬
ский работник, а ваша мама больна, так что от гигиены... ну от
того, как часто вы ходите в баню, зависит не только здоровье, но
даже жизнь.
Что ж, мама оказалась права: у брата и сестры, похоже, был об¬
щий разум и общие сложности. Они потупились и замолчали. Пер¬
вым заговорил Вадька.
— Да не-ет! — сказал он, будто с чем-то споря.— Как маму-то
увезли, так и нас тут же забрали. И все белье тоже, в это, как его...
— В санобработку,— подсказала мама.
— Во, во!
Он хмыкнул и заговорил поживее, раскачался наконец.
— Догола раздели, велели шпариться изо всех сил в самой обык¬
новенной бане. А одежду всю увезли. Когда привезли, она горячущая
была! Пришлось ждать, пока остынет.
248 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
— А у меня,— улыбнулась Машка,— в пальто целлулоидный гу¬
сенок остался. Потом одеваюсь! Хвать! А вместо гусенка такой ко¬
рявый кусочек. Весь расплавился.
— Ну, ну! — подбодрила их мама.— А потом? После этого-то хо¬
дите в баню?
Снова они помолчали, но Марья махнула рукой и произнесла:
— Ладно уж, я расскажу!
Вадим вздохнул облегченно. Будто Марья с него поклажу сняла.
Кстати, ее лицо тоже прояснилось. Это бывает, когда человек на что-
то серьезное решается. Хотя, как выяснилось, серьезного тут ни на
чуточку не было. Одна смехота. Правда, это теперь Машка хихикала,
прыскала в ладонь. А тогда небось не очень-то.
В общем, их мама им обоим разобъяснила, что маленьким по¬
одиночке в баню лучше не ходить. Во-первых, говорила она, малень¬
кий один вымыться как следует не в состоянии. Что ж, она была
права. Я сам, когда однажды самостоятельно в баню ходил, все за¬
помнить старался, чего я уже намылил разок, а чего нет. Руку там,
ногу, да и какую именно.
Но ладно, ладно, про себя потом, сперва про Машку.
Ну так вот. Во-первых, значит, маленький один не вымоется.
Ясное дело, это относилось не к Вадьке. И пока мама была дома, они
ходили с Машкой в женскую баню. Все в порядке. Но вот мама забо¬
лела и почувствовала, что ее положат в больницу. Тогда она за¬
волновалась и стала говорить всякие нужные вещи. Про карточки,
чтоб не потеряли. Про учебу, чтобы ни о чем не думали, знали себе
учились. И про баню.
В бане, говорила она, Машка ни за что не вымоется одна, ей нуж¬
на помощь, да это и опасно, можно ошпариться горячей водой, если
дочка потащит шайку сама, сил не хватит — и она опрокинет воду на
себя или, не дай бог, поскользнется на мокром бетонном полу, упадет
и сломает руку или ногу или, того хуже, ударится головой.
Она была в поту, ее лихорадило, а она все говорила про баню —
может, уже наступил бред — и требовала, чтобы Вадик не отпускал
Марью одну, а брал ее с собой в мужское отделение, никакого тут нет
стыда, если брат привел маленькую сестренку, маленьких пускают,
ничего страшного. Маме было плохо, Вадим и Марья не могли спорить
и дали ей слово все делать так, как она велела.
Ну вот. Маму увезли. Прошло сколько-то времени, и настала пора
идти в баню. Машка стала отнекиваться, а Вадим ругаться. К тому
времени Марья уже потеряла карточки, поэтому больших шансов до¬
ПОСЛЕДНИЕ ХОЛОДА 249
казать, что в баню можно и не ходить, у нее не было. Когда в доме
тиф, есть или был, надо чаще мыться. Как можно чаще. Об этом ра¬
дио все уши прожужжало. И плакаты везде висели, страшненькие
такие плакаты: нарисована большая вошь и под ней черное большое
слово «ТИФ».
Вадька был грамотнее Марьи, плакаты читал, и звуки радио в не¬
го тоже залетали. Поэтому он собрал мочалку, мыло — к тому же
и мочалка была всего одна, и мыла плоский такой остаток, обмылок,—
велел Марье прогладить утюгом трусишки да рубашки свои и Вадимо¬
вы, взял Марью за руку и силком повел в баню.
— Вы знаете, какой ужас! — причитала Марья и даже сейчас еще
краснела.— Какой стыд! Вокруг одни голые мужчины! И я одна среди
них! А Вадька! Ругается! И какие-то мальчишки над ним смеются.
— «Мужчины»! — передразнил ее Вадим. Первый раз я увидел,
как вежливость по отношению к сестре изменила ему. Видно, это
было выше его сил.— Одни старики да мальчишки!
— Какая разница! — воскликнула Марья.— В общем, я решила,
будь что будет. Разделась и как в омут нырнула.
— Ну и что? — спросил Вадим голосом человека, знающего от¬
вет.— И ничего страшного. Раз надо, так надо!
— В мойке стало легче,— согласилась Марья.— Густой пар,
и ничего не видно. Я прикрылась тазиком, а волосы, видите, короткие,
так что на меня никто не посмотрел.
— Забились в угол! — перебил сестру Вадим.— Я ее спиной ко
всем посадил. Намылил как следует. Сам воду таскал.— Он засмеял¬
ся.— Трусиха, сидела закрыв глаза. Вся тряслась от страха.
Бабушка и мама улыбались, поглядывали на меня, и я отлично
понимал, почему они так смотрят. И тут мама сказала:
— Ничего особенного, Машенька. Что же делать? У нас вон Коля
тоже со мной в баню ходит!
Надо же! Не смогла промолчать!
Я чувствовал, что заливаюсь горячим жаром, что лицо мое
пылает, что уши, наверное, уже похожи на два октябрятских
флажка.
Марья выкатила на меня свои шары. «Чего увидела-то?» — хо¬
тел спросить я. И тут Вадька воскликнул:
— Видишь, Марья!
Будто какая-то великая правда восторжествовала. А Вадька
крикнул снова:
— Так она с тех пор в баню ходить не хочет!
250 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
Не успел отпылать я, залилась Машка. Покрылась даже испа¬
риной.
Ну, вот и все. Мама принялась говорить Марье, что это глупо, что
в баню следует ходить постоянно, она же девочка, надо брать шкаф¬
чик в уголке, там тихо раздеваться, по сторонам не глазеть, быстро
проходить в мойку и опять в уголок. Очень правильно сделал Вадик,
молодец, сразу видно, что большой мальчик, сознательный человек,
заботливый брат.
Наверное, она говорила такими же словами, как мама Вадика и
Марьи, а может, так говорят все мамы, очень похоже объясняют
разные простые вещи, и Вадим умолк, повесил голову, а из Марьиных
глаз пошла капель: кап-кап, кап-кап.
Мама все это видела, но не останавливалась, говорила свои сло¬
ва, считая, наверное, нужным как следует все и очень подробно
объяснить, а я думал о том, что все-таки плохо быть маленьким.
Вроде ты и свободен, как все, а нет, не волен. Рано или поздно обя¬
зательно потребуется сделать что-то такое, чему душа твоя противит¬
ся изо всех сил. Но тебе говорят, это надо, надо, и ты, маясь, страдая,
упираясь, все-таки делаешь, что требуют.
Вот и выходят всякие глупости. Я, мальчишка, моюсь с мамой
в женской бане, а девчонка Машка с братом в мужской.
Где тут истина? Где справедливость?
* * *
Ну и третье событие того вечера.
Да. Есть вещи, которые даже вспоминать противно... В общем
Вадим и Марья пошли домой, я хотел их проводить, но мама меня
не пустила.
— Почему? — удивился я.
— Есть дело,— строго ответила она.
Сердце снова заколотилось неровно, с перебоями. Но что же, что
означает эта странная строгость? Ждать оставалось недолго.
Едва Вадим и Марья вышли, как мама оборотилась ко мне и
я увидел, что лицо ее стало точно таким, как у гипсовой женщины
с веслом в скверике у кинотеатра.
— Где! Ты! Сегодня! Был! — не спросила, а отчеканила мама.
«Откуда, откуда она могла узнать?» — думал я совершенно глупо.
Будто, откуда именно она узнала, могло иметь для меня хоть какое-
нибудь значение.
ПОСЛЕДНИЕ ХОЛОДА 251
— Ну...— бормотал я.— Так... В общем... Мы...
Вот так я и проговорился. Так я поставил под вопрос значение
Вадима в своей жизни. В маминых, конечно, глазах.
— Ах, мы! — воскликнула мама. И уже не дала мне опомнить¬
ся.— С Вадиком? — продолжала она, и мне не оставалось ничего ино¬
го, как послушно кивать.— И с Машей! Ну, ясное дело, и с ней.
И все трое! — восклицала мама.— Прогуляли уроки!
Я помотал головой.
— Ах, не трое! Только вы с Вадимом?
Но не мог же я клеветать на невинного человека.
— Значит, с Машей! Но ведь она ходила в школу. Так!..
Даже для мамы не такая простая задача. Требуется поразмыслить.
Но только мгновение.
— Сначала,— выносила она обвинение,— ты прогулял с Вади¬
мом! — Ее глаза рассыпали громы и молнии.— А потом с Машей.
Я кивнул и кивнул еще раз. «Хорошо, хорошо,— как бы говорил
я.— Но выслушай же, в конце концов. Даже злостный преступник
и тот имеет право на объяснение своих действий».
Мама стояла, скрестив руки на груди, совсем как Наполеон
Бонапарт. Только вот треуголки на ней не было. Ну и конечно,
брюк. А так вылитый император. А рядом с ним покорная слуга —
внимательная, качающая головой, осуждающая меня бабушка.
«Да погодите вы! — встряхнулся я.— Выслушайте меня». И про¬
лепетал:
— Мы искали еду.
— Что? — воскликнула мама.
А бабушка горестно подперла ладонью подбородок.
— Что? Что? Что? — выкрикивала мама, будто боялась, что не
так меня поняла. Ослышалась.— Ты? Искал? Еду?
— Ну да! — сказал я.— С Вадиком. Достали жмых. Только он не¬
вкусный. Его надо пилить. Напильником.
Когда человека обвиняют не совсем уж напрасно, он чаще всего
занимается объяснением ничего не значащих мелочей. И как правило,
это только раздражает обвинителей. Маму тоже понесло. Этот жмых,
которого она, может, никогда и не видала, словно свел ее с ума.
Она вдруг заговорила с бабушкой. Есть такая манера у взрослых:
при тебе обращаться к другому человеку, выкрикивая всякие вопросы.
— Представляешь? — крикнула она бабушке.— Мы бьемся! Как
мухи в ухе! Работаем! Не покладая рук! Экономим! Думаем о нем
и на работе и даже во сне! А он! Прогуливает уроки!
252 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
Есть еще и другой способ пытки. Обращаются вроде к тебе, а от¬
ветить не дают. Отвечают сами.
— Ты что, голоден? — спросила меня мама, но даже не взглянула
на меня.— Сыт! Ты разут? Нет, обут! У тебя нет тетрадок? Есть!
Тебе холодно? Ты живешь в тепле! Тогда чего же тебе надо? —
воскликнула она, и я подумал, что хоть сейчас-то дадут слово мне.
Не тут-то было! У мамы на все имелись свои ответы.— Хорошо учить¬
ся! — сказала она. И прошлась от стола до шифоньера.— И уж ко¬
нечно! Не пропускать уроков!
Без всякого перехода Наполеон Бонапарт опустил руки и за¬
шмыгал носом. Самый худший вид пытки — материнские слезы. Да
еще из-за тебя. Я этого не мог переносить совершенно. Мне сразу хо¬
телось в прорубь головой.
Но вот мама пошмыгала носом и произнесла уже обыкновенным,
вполне маминым голосом сквозь скорые, будто летний дождь, слезы:
— Мы с бабушкой стараемся, а ты!
— Больше не буду! — искренне и даже горячо сказал я единст¬
венно возможное, что говорят в таких случаях.
— Выходит...— вдруг успокоилась мама. И дальше бухнула жут¬
кую ерунду: — Выходит, на тебя плохо влияет Вадик!
Мне даже уши заложило от гнева.
— Как не стыдно! — крикнул я ей. Нет, не просто крикнуть та¬
кие слова маме. Да еще повторить: — Как тебе не стыдно!
Меня всего колотило! Ну, эти взрослые! Им лень поверить собст¬
венным детям. Им все кажется, будто их надуют. Трудно разве —
возьми расспроси по шажочку каждый час целого дня. Попробуй по¬
нять! Раздавить легче всего. Попробуй понять, вот что самое главное.
И потом, почему надо думать, будто дети хуже всех? Так и рвутся
к беде, к гадостям, так и рвутся натворить каких-нибудь позорных
безобразий.
Маму мой отчаянный крик остановил. Так мне показалось. Но
что-то рухнуло во мне. Какая-то тонкая перегородочка сломалась.
* * *
Ах, взрослые, умные, мудрые люди!
Если бы знали вы, как тяжелы ваши окрики! Как неправильно —
не звучит, а действует ваше слово, в которое, может, и смысла вы та¬
кого не вкладывали, но вот произнесли, и оно звучит, звучит, как
протяжный звук камертона, в маленькой душе долгие-долгие годы.
254 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
Многим кажется, что пережать, коли дело имеешь с малым, со¬
всем не вредно, пожалуй, наоборот: пусть покрепче запомнит, зарубит
на носу. Жизнь впереди долга, и требуется немало важных истин
вложить в эту упрямую голову.
Кто объяснит вам, взрослые, что хрупкое легко надломить. Над¬
лома, трещины и не заметишь, а душа пойдет вкось. Глянь, хороший
ребенок вдруг становится дурным взрослым, которому ни товарищест¬
во, ни любовь, ни даже святая материнская любовь не дороги, не
любы.
Хрупкая, ломкая это вещь — душа детская. Ох, как беречь надо бы
ее, ох, как надо!..
* * *
То ли слишком послушным был я тогда, то ли слишком слабым,
то ли привык жить в этаком коконе, какой сплели вокруг меня мама
и бабушка, а дрогнул я духом.
Не вышло дружбы у меня с Вадиком и Марьей, вышло знакомство.
Я заходил к ним домой, и они приходили к нам, бабушка угощала,
чем могла. Но чаще всего мы встречались в столовке — и у Марьи
и у Вадика были теперь талоны на дополнительное питание, да и
новые карточки они тоже получили еще до конца апреля.
Случалось, к нам подсаживались мальчишка или девчонка, про¬
сили дрожавшими, тихими, униженными голосами: «Оставь! Оставь
чуточку!» И они оставляли. Теперь оставляли они. Ни Нос, ни тот
тыквенный пацан никогда больше не приближались к нам, хотя
я видел их в восьмой столовке. Бывшего шакала Вадьку хорошо зна¬
ли тут и предпочитали с ним не связываться.
Впрочем, может, была совсем другая причина, что мы не стали
друзьями,— время?
Слишком мало его оказалось у нас. Слишком!
Я узнал Вадьку и Марью в первые дни апреля, а весна самая
короткая пора года — кому не известно это?
Весна мчится! Она похожа на добрую дворничиху, эта прекрасная
весна! Сметает остатки сугробов, почерневший лед на дороге. Смывает
ручьями городскую грязь. Сдувает тяжкие тучи с неба и чистыми губ¬
ками белых облаков протирает, протирает, как прилежная хозяйка
оконное стекло, небо до радостной и ясной голубизны.
Весна — слуга солнца, она работает у него маляром. Раз — и вы¬
красила тополя в розовый цвет клейких сережек. Раз — и покрыла
ПОСЛЕДНИЕ ХОЛОДА 255
землю зеленой краской травы. Раз — и мазнула сады и леса белой че¬
ремухой.
Весна и на людей влияет. Разгибает спины тех, кто опустил плечи.
Разглаживает морщины на лицах. Заставляет вдохнуть поглубже
воздух, пьянящий до головокружения.
Весна готовит землю и людей к лету, заставляет поторапливаться
даже ребят, которым кажется, что вся жизнь у них впереди и спешить
совершенно некуда. Жизнь-то, конечно, впереди, но, как известно,
неподалеку конец четвертой четверти в школе, конец учебного года,
последние отметки, а начиная с четвертого класса — экзамены и со¬
всем невидимый шажок в следующий класс. Вот так-то!
Ну а та весна вообще была необыкновенной. Голос Левитана ста¬
новился все торжественней. Все медленнее и тщательнее, как будто
прибавляя им весу, выговаривал он каждое слово в сообщениях от
Советского Информбюро.
Еще бы! Наши сражались в Германии!
Бились в Берлине!
Первомай вошел в наш городок зеленью и обещанием небывалого
счастья.
Еще, еще денек. Еще...
А мама была мудрым человеком. Не раз, возвращаясь с работы,
тихонько улыбалась и говорила:
— Встретишь Вадика или Машу, скажи, что их мама чувствует
себя неплохо.
Первый раз, когда она сказала это, я не поверил:
— Откуда ты знаешь? Туда никого не пускают!
— Ну-у,— улыбнулась мама загадочно.— Я ведь медицинский
работник.
И я передал два или три раза Вадьке мамино сообщение. Мама ни¬
когда не подводила. Уж если говорит, сомневаться не приходится.
Да и вообще! Весна вокруг! Скоро конец войне! Черная проход-
нушка с черными, как вороны, санитарками уже казалась мне не¬
взаправдашней, явившейся в болезненном сне, не наяву. Все готови¬
лось к счастью и миру, а если человек очень сильно думает о праздни¬
ке, он забывает про беду.
Был в сорок пятом, как в любом году жизни, такой день — вось¬
мое мая. Когда он настал и когда двигались часовые стрелки, отме¬
ряя его длину, никто в нашем доме и во всем нашем городе еще не
знал, будто это какой-то особенный день. Да и потом мы не очень
думали про него — кто будет горевать о последнем дне войны, если
256 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
рядом с ним стоит первый день мира! Но он все-таки был, этот день.
Последний день войны.
Война умирала нехотя. Все было ясно, а где-то там, в Берлине,
еще строчили автоматы и ухали пушки.
Восьмое мая началось как обычно. Весна рвалась в окна солнеч¬
ными щедрыми шторами, клокотала мутными ручьями, орала грачи¬
ными голосами. Так что все шло своим ходом.
Я уже давно выучил уроки, когда мама вернулась с работы.
Вообще я считал себя внимательным человеком, но вначале ни¬
чего не заметил. Хотя потом, когда прошло время, и я понял чуть
побольше, чем понимал вначале, мне стало понятно, отчего мама не
вошла сразу в комнату, почему сразу занялась какими-то делами на
кухне, отчего долго умывалась и говорила с бабушкой подчеркнуто
легким голосом.
Потом она вошла в комнату, порылась в комоде, в шкатулке пе¬
ред зеркалом — на этой шкатулке сияли под ярким солнцем невидан¬
ные пальмы на берегу зеленого моря, а внутри хранились всякие
женские мелочи — заколки, наперстки, пустой флакончик из-под до¬
военных духов, довоенная и уже высохшая без употребления губная
помада. Ничему этому не стоило придавать ровным счетом ника¬
кого значения. Я и не придавал. Это потом уж я подумал, что мама
копалась в своей шкатулке слишком долго для ее скорого харак¬
тера.
Потом она обернулась, сделала шаг ко мне и поцеловала меня
в макушку. Я даже вздрогнул с перепугу. Не то чтобы мама не ласка¬
ла меня, напротив! Я рос, пожалуй, скорее, заласканным, с каким-
то девичьим, от жизни в женской семье, характером. Но мама поце¬
ловала меня так неожиданно, что я дернулся, хотел обернуть к ней
лицо, но у меня ничего не вышло: мама крепко держала меня за
голову. Она не хотела, чтобы я видел ее.
Потом стремительно, как всегда, отошла к окну. И я увидел, что
она плачет.
Ужас! Меня всегда охватывал ужас, когда мама вдруг плакала.
Потому что она никогда не плакала за всю войну. Раза три или че¬
тыре, а может, пять в счет не шли. Я точно знал: мама может пла¬
кать только от большой радости или большого горя. Поэтому при
виде ее дрожащих плеч мне приходило в голову самое худшее. Отец!
Что-то случилось с отцом!
Конечно, я закричал, вскочив:
— Что с папой?
ПОСЛЕДНИЕ ХОЛОДА 257
Мама испуганно обернулась.
— Нет! Нет! — воскликнула она.— С чего ты взял!
— А почему ты плачешь? — спросил я по-прежнему громко,
хотя и успокаиваясь...
— Просто так! — сказала мама.— Просто так!
В дверях уже стояла бабушка, она тоже с подозрением оглядывала
маму, ей тоже не верилось, что мама станет плакать просто так, ясное
дело.
Мама улыбнулась, но улыбка вышла кривоватая.
— Честное слово,— проговорила она,— я просто так. Подумала
о папе... Где-то он там?
Где-то он там? Что-то с ним? Боже, сколько я думал об этом!.. Сло¬
вом, и я, и бабушка — мы, конечно, сразу стали думать про отца, по¬
грустнев, и я решил, что, пожалуй, мама имеет полное право всплак¬
нуть.
В молчании мы поели. И мама вдруг спросила меня:
— Как там Вадик? Как Маша?
— В баню ходят исправно,— ответил я.
— Вот видишь,— сказала мама,— какие молодцы.— Она помед¬
лила, не сводя с меня внимательного взгляда, и добавила: — Просто
герои. Самые настоящие маленькие герои.
Глаза ее опять заслезились, словно от дыма, она опустила лицо
к тарелке, потом вскочила из-за стола и ушла к керосинке.
Оттуда она сказала подчеркнуто оживленным голосом:
— Коля, а давай сегодня к ним сходим. Я ведь даже не знаю, где
они живут.
— Давай,— сказал я скорее удивленно, чем радостно. И повторил
веселей: — Давай!
— Мама! — это она обращалась к бабушке.— Соберем-ка им ка¬
кой гостинец, а? Неудобно ведь в гости с пустыми руками.
— Да у меня ничего и нет такого-то! — развела руками бабушка.
— Мучицы можно,— говорила мама, шурша в прихожей куль¬
ками, брякая банками.— Картошки! Масла кусочек. Сахару.
Бабушка нехотя вышла из-за стола, там, за стенкой, женщины
стали перешептываться, и мама громко повторила:
— Ничего, ничего!
В комнату Вадика и Марьи мама вошла первой и как-то уж очень
решительно. Ее не удивила убогость, она даже и на ребят не очень
глядела, и вот это поразило меня. Странно как-то! Мама принялась
таскать воду, взяла тряпку, начала мыть пол, а в это время шипел
258 АЛЬБЕРТ ЛИ ХАНОВ
чайник, и мама перемыла всю посуду, хотя ее было мало и она ока¬
залась чистой.
Мне показалось, мама мучает себя нарочно, придумывает себе
работу, которой можно и не делать, ведь пол в комнате был вполне
приличный. Похоже, она не знала, за что взяться. И все не глядела
на Вадика и Марью, отворачивала взгляд. Хотя болтала без умолку.
— Машенька, голубушка,— тараторила мама,— а ты умеешь што¬
пать? Сейчас ведь, сама знаешь, как худо. Учиться, учиться надо,
деточка, и это очень просто: берешь грибок такой деревянный, ну,
конечно, грибок не обязательно, можно на электрической лампочке
перегорелой, можно даже на стакане, натягиваешь носок, дырочкой-
то кверху, ну и ниткой, сперва шовчик вдоль, потом поперек, не
торопясь надо, старательно, вот и получится нитяная штопка, это все¬
гда пригодится...
В общем, такая вот говорильня на женские темы, сперва про штоп¬
ку, потом как борщ готовить, потом чем волосы мыть, чтобы были
пушистые,— и так без передыху, не то что без точки, без паузы, но
даже без точки с запятой.
И все бы ничего, если бы не одно важное обстоятельство, впрочем,
известное одному мне. Обстоятельство это заключалось в том, что
мама терпеть не могла такой болтовни и мягко, но решительно преры¬
вала подобные разговоры, если за них принималась какая-нибудь
женщина, зашедшая к нам на огонек. Я слушал и не верил своим
ушам.
Наконец вся комната оказалась прибранной и прочищенной, чай
вскипел, и не оставалось ничего другого, как сесть за стол.
Мама первый раз за весь вечер оглядела Вадика и Марью. Вмиг
она умолкла и сразу опустила голову. Вадька понял это по-своему
и стал неуклюже, но вежливо благодарить. Мама быстро, скользом
глянула на него и неискренне засмеялась:
— Ну что ты, что ты!
Я-то видел: она думает о другом. Нет, честное слово, мама не
походила на себя сегодня. Будто с ней что-то случилось, а она скры¬
вает. И это ей плохо удается.
Мы попили чай.
Пили его с хлебом, помазанным тонким, совершенно прозрачным
слоем масла, и с сахаром — совсем по-праздничному. Сахару было ма¬
ло, и мы ели его вприкуску, ничего удивительного. Пить чай внаклад¬
ку считалось в войну непозволительной роскошью.
Сахар к чаю был тоже военный, бабушкин.
ПОСЛЕДНИЕ ХОЛОДА 259
Получив паек песком, она насыпала его в мисочку, добавляла
воды и терпеливо кипятила на медленном огне. Когда варево осты¬
вало, получался желтый ноздреватый сахар, который было легко ко¬
лоть щипцами. А главное, его становилось чуточку больше. Вот та¬
кая военная хитрость.
Мы пили чай, ели черный хлеб с маслом, прикусывали сахарку
помалу, а стрелки часов подвигались к краю последнего дня войны,
за которым начинался мир. Разве мог я подумать, что это последний
наш чай в этой неуютной комнате?..
Потом мы вышли на улицу. Вадик и Марья улыбались нам вслед.
Стояли на пороге комнаты, махали руками и улыбались.
Я еще подумал: как будто они уезжают. Стоят на вагонной сту¬
пеньке, поезд еще не тронулся, но вот-вот тронется. И они куда-то
поедут.
Мы вышли на улицу, и я снова почувствовал, что с мамой неладно.
Губы у нее не дрожали, а просто тряслись.
Мы повернули за угол, и я опять крикнул:
— Что с папой?
Мама остановилась, сильно повернула меня к себе и неудобно при¬
жала к себе мою голову.
— Сыночка! — всхлипывала она.— Родной мой! Сыночка!
И я заплакал тоже. Я был уверен: отца нет в живых.
Она еле отговорила меня. Клялась и божилась. Я успокоился
с трудом. Все не верил, все спрашивал:
— Что же случилось?
— Просто так! — повторяла мама, и глаза ее наполнялись сле¬
зами.— Дурацкое такое настроение! Прости! Я расстроила тебя,
глупая.
* * *
А потом настало завтра! Первый день без войны.
Я ведь, конечно, не понимал, как кончаются войны,— подумаешь,
без года и одного месяца начальное образование! Просто я не знал,
как это делается. Правда, я думаю, и бабушка моя не представляла,
и мама тоже, и многие-многие взрослые, которые не были на войне,
да и те, кто были,— не могли вообразить, как закончилась эта прокля¬
тая война там, в Берлине.
Перестали стрелять? Тихо стало? Ну а что еще? Ведь не может
же быть, чтобы перестали стрелять — и все кончилось! Наверное,
ПОСЛЕДНИЕ ХОЛОДА 261
кричали наши военные, а? «Ура» орали изо всех сил. Плакали, об¬
нимались, плясали, палили в небо ракеты всех цветов?
Нет, чего ни придумай, чего ни вспомни, все будет мало, чтобы
небывалое счастье выразить.
Я уж думал: может, заплакать надо? Всем-всем-всем заплакать:
и девчонкам, и пацанам, и женщинам, и, конечно, военным, солдатам,
генералам и даже Верховному Главнокомандующему у себя в Кремле.
Встать всем и заплакать, ничегошеньки не стыдясь,— от великой,
необъятной, как небо и как земля, счастливой радости.
Конечно, слезы всегда на вкус соленые, даже если плачет человек
от радости. А уж горя-то, горя в этих слезах — полной чашей, неме¬
реного, крутого...
Вот и мама — она меня в тот день слезами умыла. Я еще спал,
она схватила меня спящего, что-то шепчет, чтобы не напугать, а на
лицо мне ее горячие слезы капают: кап-кап, кап-кап.
— Что случилось?
Я вскочил перепуганный, взъерошенный, как воробей. Первое, что
мне в голову пришло: я был прав. Отец! Нельзя же плакать без
серьезных причин целый вечер и утро в придачу!
Но мама мне шепнула:
— Все! Все! Конец войне!
«Почему она шепчет? — подумал я.— Об этом же кричать надо!»
И гаркнул что было сил:
— Ура-а-а!
Бабушка и мама прыгали возле моей кровати, как девчонки,
смеялись, хлопали в ладоши и тоже кричали, будто наперегонки:
— Ура-а-а!
— Ура-ура-ура!
— А когда? — спросил я, стоя на кровати в трусах и майке. Надо
же, отсюда, сверху, наша комната казалась огромной, просто целый
мир, и я, простофиля, об этом не знал.
— Что — когда? — засмеялась мама.
— Когда конец войны настал?
— Рано утром объявили. Ты еще спал!
Я вскипел:
— И меня не разбудили?
— Жалко было! — сказала мама.
— Ты что говоришь! — опять закричал я.— Как это жалко? Когда
такое, когда такое...— Я не знал, какое слово применить. Как назвать
эту радость. Так и не придумал.— А как, как?
262 АЛЬБЕРТ ЛИ ХА НОВ
Мама смеялась. Она меня понимала сегодня, отлично понимала
мои невнятные вопросы.
— Ну, мы с бабушкой выскочили на улицу. Утро только начи¬
нается, а народу полно. Да ты вставай! Сам увидишь!
Никогда в жизни — ни до, ни после — мне не хотелось так на ули¬
цу. Я лихорадочно оделся, обулся, умылся, поел и вылетел во двор
в распахнутом пальто.
Погода стояла серенькая, унылая, что называется, промозглая,
но если бы даже бушевала буря и гром гремел, мне этот день все рав¬
но показался бы ярким и солнечным.
Народ двигался прямо по булыжной мостовой, освободившейся
от снега. Ни одного человека не было на тротуарах. И знаете, что при¬
шло мне сразу же в голову? Тротуары ведь сбоку от дороги, с двух
сторон. Люди ходят по одной и по другой стороне в обычные дни,
двумя самостоятельными дорожками. А тут дорожки стали смешны!
Глупы до отвратительности! Людей потянуло в толпу, на самую сере¬
дину дороги. Как можно шагать на расстоянии друг от друга? Надо
соединиться, чтобы видеть улыбки, говорить приветливые слова,
смеяться, жать руки незнакомым людям!
То-то радость была!
Будто все на улице знакомые или даже родные.
Сперва меня обогнала ватага мальчишек. Они кричали «ура», и
каждый стукнул меня — кто в бок, кто по плечу, но не больно, а дру¬
жески, и я тоже крикнул:
— Ура-а-а!
Потом мне навстречу попался коренастый старик с окладистой
бородой. Лицо его показалось мне мокрым, и я подумал, что он, на¬
верное, плачет. Но старик гаркнул бодрым голосом:
— С победой, внучок! — И рассмеялся.
На дороге стояла молодая женщина в клетчатом платке, совсем
девушка. В руках она держала сверток с ребенком и громко приго¬
варивала:
— Смотри! Запоминай! — Потом счастливо смеялась и снова по¬
вторяла: — Смотри! Запоминай!
Будто этот несознательный младенец может что-нибудь запом¬
нить! Ему, похоже, было не до праздника, он орал р своем кульке,
этот карапуз. А его мать опять рассмеялась и сказала:
— Правильно кричишь. Ура! Ура! — И спросила меня: — Ты
видишь? Он кричит «ура»!
— Молодец! — ответил я.
ПОСЛЕДНИЕ ХОЛОДА 263
А женщина крикнула:
— Поздравляю!
На углу стоял инвалид, ему подавала почти каждая женщина, ко¬
торая проходила мимо,— это раньше, в простые дни. У него не было
правой руки и левой ноги. Вместо них подвернутые рукав и шта¬
нина — гимнастерки и галифе.
Обычно он сидел на деревянном чурбачке, перед ним лежала
зимняя шапка со звездочкой, в эту шапку и бросали монеты, а сам ин¬
валид бывал молчалив, никогда ничего не говорил, только смотрел
на прохожих и скрипел зубами. Слева на его груди слабо взблескивала
медаль «За отвагу», зато на правой половине гимнастерки, будто
погон нашили, длинный ряд желтых и красных полосок — за ра¬
нения.
Сегодня инвалид не сидел, а стоял, опираясь о костыль тем боком,
где должна быть правая рука. Левую он держал возле виска, отдавая
честь, и некуда было ему класть сегодня подаяние.
Он бы, может, и не взял. Стоял на углу, как живой памятник,
и к нему с четырех сторон подходил народ. Женщины, которые по¬
смелее, подходили к нему, целовали, плакали и тут же отходили назад.
И он каждой отдавал честь. Все так же молча, будто немой. Только
скрежетал зубами.
Я пошел дальше. И вдруг чуть не присел — такой раздался гро¬
хот. Совсем рядом со мной стоял человек в погонах майора и палил
из пистолета. Трах-трах-трах! Он выпустил целую обойму и засмеял¬
ся. Это был прекрасный майор! Лицо молодое, усы как у гусара, и на
груди целых три ордена. Погоны горели золотом, ордена позвани¬
вали и блестели, сам майор смеялся и кричал:
— Да здравствуют наши славные женщины! Да здравствует ге¬
роический тыл!
Возле него сразу свилась толпа. Женщины, смеясь, начали ве¬
шаться майору на шею, и их нависло сразу столько, что военный
не выдержал и рухнул вместе с женщинами. А они кричали, виз¬
жали, смеялись. Я не успел моргнуть, как все поднялись, а майора
подняли еще выше, над толпой, какое-то мгновение он стоял вот так,
над женщинами, потом упал, только уже не на землю, а им в руки,
они ухнули и подкинули его в воздух. Теперь сиял не только майор,
но и его блестящие сапоги. Он еле уговорил остановиться, едва от¬
бился. За это его заставили поцеловать каждую.
— По-русски,— кричала какая-то бойкая тетка.— Три раза!
В школе вообще творилось что-то несусветное. Народ бегал по
264 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
лестницам, орал, весело толкался. Мы никогда не допускали телячьих
нежностей, это считалось неприличным, но в счастливый День Побе¬
ды я обнялся с Вовкой Крошкиным, и с Витькой, и даже с Мешком,
хоть он и олух царя небесного!
Все прощалось в этот день. Все были равны — отличники и дво¬
ечники. Всех нас любили поровну наши учителя — тихонь и забияк,
сообразительных и сонь. Все прошлые счеты как будто бы закрыва¬
лись, нам как бы предлагали: теперь жизнь должна идти по-друго¬
му, в том числе и у тебя.
Наконец учителя, перекрикивая шум и гомон, велели всем стро¬
иться. По классам, внизу, на небольшом пятачке, где устраивались
общие сборы. Но по классам не вышло! Все толкались, бродили, пе¬
ребегали с места на место, от товарища к знакомому из другого класса
и обратно. В это время директор Фаина Васильевна изо всех сил
гремела знаменитым школьным колокольчиком, похожим скорее на
медное ведерко средних размеров. Звон получался ужасный, прихо¬
дилось закрывать ладонями уши, но сегодня и он не помогал. Фаина
Васильевна звонила минут десять, не меньше, пока школа чуточку
притихла.
— Дорогие дети! — сказала она, и только тогда мы притихли.—
Запомните сегодняшний день. Он войдет в историю. Поздравляю всех
нас с Победой!
Это был самый короткий в моей жизни митинг. Мы заорали, за¬
били в ладоши, закричали «ура», запрыгали как можно выше, и не
было на нас никакой управы. Фаина Васильевна стояла на первой
ступеньке, ведущей вверх.
Она смотрела на свою беснующуюся, вышедшую из повиновения
школу сперва удивленно, потом добродушно, наконец засмеялась и
махнула рукой.
Дверь распахнулась, мы разбились на ручейки и втекли в свои
классы. Но сидеть никто не мог. Все ходило в нас ходуном. Наконец
Анна Николаевна чуть успокоила нас. Правда, спокойствие было
необычным: кто стоял, кто сидел верхом на парте, кто устроился
прямо на полу, возле печки.
— Ну вот,— сказала негромко Анна Николаевна, словно повторя¬
ла вопрос. Она любила задавать вопросы дважды: один раз громче,
второй — тихо.— Ну вот,— произнесла снова,— война кончилась. Вы
застали ее детьми. И хотя вы не знали самого страшного, все-таки
вы видели эту войну.
Она подняла голову и опять посмотрела куда-то поверх нас, будто
ПОСЛЕДНИЕ ХОЛОДА 265
там, за школьной стеной и дальше, за самой прочной стеной времени,
просвечивала наша дальнейшая жизнь, наше будущее.
— Знаете,— проговорила учительница, немного помедлив, точно
решилась сказать нам что-то очень важное и взрослое.— Пройдет
время, много-много времени, и вы станете совсем взрослыми. У вас
будут не только дети, но и дети детей, ваши внуки. Пройдет время,
и все, кто был взрослым, когда шла война, умрут. Останетесь только
вы, теперешние дети. Дети минувшей войны.— Она помолчала.— Ни
дочки ваши, ни сыновья, ни внуки, конечно же, не будут знать войну.
На всей земле останетесь только вы, кто помнит ее. И может случить¬
ся так, что новые малыши забудут наше горе, нашу радость, наши
слезы! Так вот, не давайте им забыть! Понимаете? Вы-то не забудете,
вот и другим не давайте!
Теперь уже молчали мы. Тихо было в нашем классе. Только из
коридора да из-за стенок слышались возбужденные голоса.
* * *
После школы я не помчался к Вадьке, он ведь теперь не пропускал
уроков, да и разве может хоть кто-нибудь усидеть дома в такой день?
В общем, я пришел к ним в сумерки.
Коммунальный трехэтажный дом, где они жили, походил на ко¬
рабль: все окна светились разным цветом — это уж зависело от штор.
И хотя никакого шума и гама не слышалось, было и так понятно, что
за цветными окнами люди празднуют победу. Может, кто-нибудь и
с вином, по-взаправдашнему, но большинство — чаем послаще или
картошкой, по сегодняшнему случаю не просто вареной, а жареной.
Да что там! Без вина все были пьяны радостью!
В тесном пространстве под лестницей ко мне прикоснулся страх
своей ледяной рукой! Еще бы! Дверь в комнату, где жили Вадим и
Марья, была приоткрыта на целую ладонь, и в комнате не горел свет.
Сначала у меня в голове мелькнуло, будто комнату очистили воры.
Где у них совесть, в праздник-то...
Но тут я почувствовал, как в приоткрытую дверь бьет темный луч.
Будто там, в комнате, жарко печет черное солнце и вот его лучи
пробиваются в щель, проникают под лестницу. Ничего, что его не вид¬
но, это странное солнце. Зато слышно, зато его чувствуешь всей ко¬
жей, словно дыхание страшного и большого зверя.
266 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
Я потянул на себя дверную ручку. Протяжно, будто плача, заскри¬
пели петли.
В сумерках я разглядел, что Марья лежит на кровати одетая
и в ботинках. А Вадим сидит на стуле возле холодной «бур¬
жуйки» .
Я хотел сказать, что это великий грех — сумерничать в такой ве¬
чер, хотел было отыскать выключатель и щелкнуть им, чтобы исчез¬
ло, истаяло странное черное солнце, ведь с ним справится и обычная
электрическая лампочка. Но что-то удержало меня включить свет,
заговорить громким голосом, схватить сзади Вадима, чтобы он ше¬
вельнулся, ожил в этом мраке.
Я прошел в комнату и увидел, что Марья лежит с закрытыми
глазами. «Неужели спит?» — поразился я. И спросил Вадима:
— Что случилось?
Он сидел перед «буржуйкой», зажав ладони коленями, и лицо его
показалось мне незнакомым. Какие-то перемены произошли в этом
лице. Оно заострилось, чуточку усохло, по-детски пухлые губы вы¬
тянулись горькими ниточками. Но главное — глаза! Они стали боль¬
ше. И как будто видели что-то страшное.
Вадим задумался и даже не шелохнулся, когда я вошел, покру¬
тился перед ним и уставился ему в глаза.
— Что случилось? — повторил я, даже не предполагая того, что
может ответить Вадька.
А он смотрел, задумавшись, на меня, вернее, смотрел сквозь меня
и проговорил похудевшими, деревянными губами:
— Мама умерла.
Я хотел рассмеяться, крикнуть: мол, что за шутки! Но разве бы
стал Вадька... Значит, это правда... Как же так?
Я вспомнил, что за день сегодня, и содрогнулся. Ведь конец войне,
великий праздник! И разве возможно, чтобы в праздник, чтобы такое
случилось именно в праздник...
— Сегодня? — спросил я, все не веря. Ведь мама, моя мама, на
которую можно всегда положиться, просила передать Вадику и Маше,
будто дела в больнице идут на поправку.
А вышло...
— Уже несколько дней... Ее похоронили без нас...
Он говорил неживым голосом, мой Вадим. И я просто физически
ощущал, как с каждым его словом между нами раскрывается черная
вода.
Все шире и шире.
268 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
Будто он и Марья на маленьком плоту своей комнаты отплывают
от берега, где стою я, лопоухий маленький пацан.
Я знаю: еще немного, и черная быстрая вода подхватит плот,
и черное солнце, которое уже горит не видимым, а только ощущае¬
мым теплом, светит нестойкому плоту, провожает его в неясный путь.
— Что же дальше? — едва слышно спросил я Вадьку.
Он слабо шевельнулся.
— В детдом,— ответил он. И первый раз, пока мы говорили, он
моргнул. Посмотрел на меня осмысленным взглядом.
И вдруг он сказал...
И вдруг он сказал такое, что я никогда забыть не смогу.
— Знаешь,— сказал великий и непонятный человек Вадька,—
ты бы шел отсюда. А то есть примета.— Он помялся.— Кто рядом
с бедой ходит, может ее задеть, заразиться. А у тебя батя на фронте!
— Но ведь война кончилась,— выдохнул я.
— Мало ли что! — сказал Вадим.— Война кончилась, а видишь,
как бывает. Иди!
Он поднялся с табуретки и стал медленно поворачиваться на месте,
как бы провожая меня. Обходя его, я протянул ему руку, но Вадим
покачал головой.
Марья все лежала, все спала каким-то ненастоящим, сказочным
сном, только вот сказка была недобрая, не о спящей царевне.
Без всяких надежд была эта сказка.
— А Марья? — спросил я беспомощно. Не спросил, а пролепетал
детским, жалобным голосом.
— Марья спит,— ответил мне Вадим спокойно.— Вот про¬
снется, и...
Что будет, когда Марья проснется, он не сказал.
Медленно пятясь, я вышел в пространство под лестницей. И при¬
творил за собой дверь.
Черное солнце теперь не прорывалось сюда, в подлестничный
сумрак. Оно осталось там, в комнатке, где окна так и заклеены поло¬
сками бумаги, как в самом начале войны.
* * *
Я видел Вадима еще раз.
Мама сказала, в каком он детском доме. Пришла и сказала. Я по¬
нял, что значили ее слезы в день накануне победы.
ПОСЛЕДНИЕ ХОЛОДА 269
Я пошел.
Но у нас ничего не вышло, никакого разговора.
Вадима я разыскал на детдомовском дворе — он нес охапку дров.
Конец лета выдался прохладным, и печку, видать, уже топили. Заме¬
тив меня, молча, без улыбки, кивнул, исчез в распахнутой пасти боль¬
шой двери, потом вернулся.
Я хотел спросить его, мол, ну как ты, но это был глупый вопрос.
Разве не ясно как. И тогда Вадим спросил меня:
— Ну как ты?
Вот ведь один и тот же вопрос может выглядеть глупо и совер¬
шенно серьезно, если задают его разные люди. Вернее, люди, находя¬
щиеся в разном положении.
— Ничего,— ответил я. Сказать «нормально» у меня не повернул¬
ся язык.
— Скоро нас отправят на запад,— проговорил Вадим.— Уезжает
весь детдом.
— Ты рад? — спросил я и потупил глаза. Какой бы вопрос я ни
задал, он оказывался неловким. И я перебил его другим: — Как
Марья?
— Ничего,— ответил Вадим.
Да, разговора не получалось.
Он стоял передо мной, враз подросший, неулыбчивый парень, как
будто и не очень знакомый со мной.
На Вадиме были серые штаны и серая рубаха, неизвестные мне,
видать детдомовские. Странное дело, они еще больше отделяли
Вадима от меня.
И еще мне показалось, словно он чувствует какую-то нелов¬
кость. Словно он в чем-то виноват, что ли? Но в чем? Какая глу¬
пость!
Просто я жил в одном мире, а он существовал совсем в другом.
— Ну, я пошел? — спросил он меня.
Странно. Разве такое спрашивают?
— Конечно,— сказал я. И пожал ему руку.
— Будь здоров! — сказал он мне, мгновение смотрел, как я иду,
потом решительно повернулся и уже не оглядывался.
С тех пор я его не видел.
В здании, которое занимал детский дом, расположилась артель,
выпускавшая пуговицы. В войну ведь и пуговиц не было. Война кон¬
чилась, и срочно понадобились пуговицы, чтобы пришивать их к но¬
вым пальто, костюмам и платьям.
270 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
* * *
Осенью я пошел в четвертый класс, и мне снова выдали талоны
на дополнительное питание.
Дорогу в восьмую столовку приукрасила солнечная осень — над
головой качались кленовые ветви, расцвеченные, точно разноцветны¬
ми флажками, праздничными листьями.
Многое я теперь видел и понимал по-другому. Отец был жив, и
хотя еще не вернулся, потому что шла новая война, с японцами,
это уже не казалось таким страшным, как все, что минуло. Мне оста¬
валось учиться всего несколько месяцев, и — пожалуйста — в кар¬
мане свидетельство о начальном образовании.
Все растет кругом. Деревья растут, ну, и маленькие люди — тоже,
у каждого сообразительности прибывает, и все меняется в наших
глазах.
Решительно все!
Осень стояла теплая, раздевать и одевать народ не требовалось,
и тетя Груша выглядывала из своего окошка черным, антрацитовым
глазом просто так, из чистого любопытства, тотчас опуская голову,—
наверное, вязала.
И вообще народу в столовке стало меньше. Никто почему-то не
толкался в тот час.
Я спокойно получил еду — опять славная, во все времена вкусная
гороховица, котлета, компот,— взялся за ложку и, не оглядываясь
по сторонам, бренчал уже о дно железной миски, как напротив меня
возник мальчишка.
Война кончилась, слава богу, и я уже все забыл — короткая па¬
мять. Мало ли отчего мог появиться тут пацан! Я совершенно не ду¬
мал о таком недалеком прошлом.
На виске у мальчишки вздрагивала, пульсировала синяя жилка,
похожая на гармошку, он смотрел на меня очень внимательно, не от¬
рывая взгляда, и вдруг проговорил:
— Мальчик, если можешь, оставь!
Я опустил ложку...
Я опустил ложку и посмотрел на пацана. «Но ведь война кончи¬
лась!» — хотел сказать, вернее, хотел спросить я.
А он глядел на меня голодными глазами.
Когда так смотрят, язык не поворачивается.
Я промолчал. Я виновато подвинул ему миску, а вилкой проделал
границу ровно посередине котлеты.
ПОСЛЕДНИЕ ХОЛОДА 271
* * *
Да, войны кончаются рано или поздно.
Но голодуха отступает медленнее, чем враг.
И слезы долго не высыхают.
И работают столовки с дополнительным питанием. И там живут
шакалы. Маленькие, голодные, ни в чем не повинные ребятишки.
Мы-то это помним.
Не забыли бы вы, новые люди.
Не забудьте! Так мне велела наша учительница Анна Николаевна.
* * *
Это все правда. Все это было.
ЧИСТЫЕ КАМУШКИ
>1ш **
ЧИСТЫЕ КАМУШКИ 275
Часть первая
ТАКОЙ ДЛИННЫЙ ДЕНЬ
1
Михаська перемахнул через борт грузовика, и каблуки звонко
цокнули об асфальт. Все! Лето позади, и скоро в школу.
— Ну ладно,— сказал ему Сашка,— до завтра!
Михаська тряхнул головой и хлопнул Сашку по плечу. Да, скоро
в школу, немного осталось, каждый денек на вес золота. Вот завтра
они и собрались порыбалить. Михаська представил, как стоят они,
закатав штанины, по колено в воде и поплавки мельтешат, пляшут,
сливаются с колеблющейся водой.
— Не опаздывай! — сказал Сашка.— Мух я наловлю...
Сашка побежал через дорогу. Михаська посмотрел ему вслед и
улыбнулся: «Все-таки трудяга этот Сашка!» Даже в День Победы
всем дело нашел. Михаська вспомнил, как это было. В тот день, когда
все уже наорались, наговорились, натолкались на радостях, в класс
пришла Юлия Николаевна, в шелковом платье с белым воротничком,
с двумя орденами Ленина, и спросила, как они собираются отметить
такой день.
Ребята запереглядывались, все даже растерялись немного — ни¬
кто об этом не думал, все с ума прямо посходили от счастья. И вдруг
Сашка Свиридов сказал, что надо посадить деревья возле дороги, кото¬
рая идет на Москву. Когда они ехали сюда в эвакуацию, дорога была
совсем голая, ни одного деревца.
Еще Сашка сказал, что деревья надо посадить до самой Москвы,
но это он, конечно, загнул. Один их класс до Москвы деревья посадить
не мог; для этого им надо было бы, наверное, сто лет сажать деревья.
Обидно, конечно: они посадили целую тысячу деревьев, но Михась-
276 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
ка сам, собственными руками так ни одного и не посадил. Он копал
ямы, а ставили туда саженцы и засыпали корни землей девчонки или
те, кто послабее.
Михаська пошевелил лопатками: будто по спине кто ногами ходил.
Накопался досыта. Ну да ладно... Зато завтра!.. Он снова представил
поплавок, пляшущий на волнах.
Мимо ехала лошадь с сеном. Она шла понурив голову, а на огром¬
ном возу, свесив босые ноги, сидела девчонка. Она смотрела по сто¬
ронам и совсем забыла про свою лошадь. Михаська подумал, что
сегодня какой-то длинный день. Тащится, словно эта лошадь d сеном.
И сколько в жизни вот таких дней! Будто серые, пасмурные облака.
Но все-таки бывают в жизни у человека дни, которые по пальцам
можно пересчитать. Потому что они будто только что увиденное кино:
помнятся от самого начала до самого конца и со всеми подробностями.
Сколько бы человек ни жил потом — десять... двадцать, а может быть,
и сто лет,— все равно такие дни он помнит так, как будто это было
вчера.
Лично у Михаськи был пока что один такой день.
Конечно, каждому человеку хочется, чтобы такие дни, которые
в памяти, как зарубки на дереве, помнились бы потому, что они с утра
и до самого вечера состояли из одного только счастья.
Например, такой день мог бы начаться с того, что по дороге в
школу Михаська нашел бы сотенную. Лежит себе этакий кусок бу¬
маги, сложенный вчетверо, лежит, на людей смотрит. Ждет, кто его
подберет. И вот идет Михаська и находит эту деньжищу — именно
он, а не кто-нибудь. А потом бы вдруг отменили уроки; и, конечно,
он кинулся бы на улицу Ленина, к магазину с высокими ступеньками.
Мама рассказывала, что раньше, при царе Николае Втором, когда она
была совсем маленькой, в этом магазине торговал какой-то купец, по
фамилии Кардаков. Купца уже давно не было, да и магазина тут не
было — его закрыли, когда началась война, и сделали в нем фабрику,
где усталые женщины шили солдатское белье. Фабрика считалась
оборонным объектом, но Михаська-то знал точно, что там шьют каль¬
соны. У Сашки Свиридова там мать работает. Но хотя шили в бывшем
магазине купца Кардакова теперь кальсоны для солдат, здание это
с крутыми каменными ступеньками и с перилами в виде железных
лир все в городе называли по-старому, как при Николае Втором,—
кардаковским.
А нынешней весной «кардаковский» стал самым известным ме¬
стом среди мальчишек и девчонок. Городской молокозавод освоил
ЧИСТЫЕ КАМУШКИ 277
производство мороженого, и продавалось оно не где-нибудь, а у «кар-
даковского», под крутыми ступеньками с железными лирами в ка¬
честве перил.
Так вот, в свой самый счастливый день Михаська кинулся бы,
конечно, с Сашкой к «кардаковскому» и купил бы сразу четыре пор¬
ции мороженого, потому что на сто рублей как раз выходило ровно
четыре порции. Он прошелся бы по улице от нечего делать, ну, а потом
можно было бы совершить какой-нибудь подвиг.
Скажем, вдруг солдаты бегут с автоматами за дезертиром, а тот
мчится с красным, злым лицом, без ремня, с пистолетом в руке, и все
боятся к нему подступиться. А Михаська кинулся бы ему под ноги —
не жалко и пальто, хотя оно еще почти новое, во втором классе по
ордеру купили,— и дезертир бы хряпнулся на землю, и пистолет бы
у него выпал, стукнулся о камень и выстрелил бы. И пуля бы про¬
летела над самым ухом Михаськи. И пусть бы даже ранило. Только
чуть-чуть. Ну, за ухо бы зацепило. За самую мочку. Это совсем не
больно. Михаська пробовал однажды сквозь мочку иголку пропускать.
Свирид где-то этот фокус разузнал.
Михаська вздохнул и оглянулся. Улица была пустая и пыльная.
На плече он нес, как ружье, лопату черенком вниз. Михаська под¬
тянул и без того тощий живот и стал печатать шаг, оттягивая носочки
и взмахивая до пояса свободной рукой. Как отец на Параде Победы.
Конечно, отец не был на Параде Победы, он бы уж обязательно
написал, если бы был, но все равно.
Эх, отец!.. Когда только он приедет?
Много солдат уже вернулось домой. Каждый вечер к московскому
поезду шли женщины. Они ходили потому, что солдаты не любили
давать телеграмм. Они почему-то приезжали вдруг, неожиданно, как
снег на голову. И женщины ходили к поезду посмотреть, не вернулся
ли муж. Или отец. Или брат.
Михаська тоже ходил несколько раз. Но отец не приезжал. Только
присылал треугольнички. Однажды он написал, что осенью, видимо,
его отпустят и тогда они с Михаськой пойдут на охоту.
Вот здорово! На охоту!.. Михаська сразу решил, что обязательно
попросит отца взять и Сашку, ему же не с кем ходить на охоту. И пой¬
дут они с Сашкой по лесу — ружья наперевес.
Но до осени было еще далеко... А осень тоже длинная — когда он
приедет?
Михаська вздохнул, подумав, что ему надо идти мимо «кардаков-
ского», а значит, и мимо мороженого.
278 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
Что там мечтать о каком-то счастливом дне! Про отца ничего не
известно, а сотенные разве валяются на дороге? Чушь, это можно
только придумывать.
А у Михаськи, если уж говорить о дне, который запомнился на¬
всегда, он был совсем другой.
2
Но все равно. Надо смотреть правде в глаза. Даже если от такой
правды плакать хочется.
Михаська вспомнил тот день. Утром его разбудила мать. Михаська
взглянул на заиндевевшее окно и увидел, что мороз очень занятно раз¬
рисовал стекло. Не какими-нибудь цветочками, елочками-палочками.
Узор был очень похож на орден Александра Невского — Михаська
видел его у одного раненого в госпитале, когда они выступали там с
шефским концертом. По стеклу разбегались лучи, а между ними еще
лучи, и рисунок был такой четкий и ясный, что Михаська его забыть,
конечно, не мог.
Потом он встал, сунул в портфель жестяной подсвечник, сбегал
на кухню и отрезал столовым ножом от большой свечи новый кусок.
Света в школе не было, и по утрам, когда еще темно, они зажигали
свои свечки, а на столе у Юлии Николаевны стояла медицинская
спиртовка, только вместо спирта в ней был керосин. Это очень забав¬
но — сидишь в полумраке и на каждой парте по два свечных огарка,
будто на елке. Спичек тоже не хватало, их выменивали на рынке на
хлеб, и Юлия Николаевна, входя в класс со своей горящей спиртовкой,
обходила парты и зажигала все свечки, «давала прикурить», как
говорил Сашка.
Михаська сунул свечку в сумку, пора было уже идти. Он положил
туда еще кусок хлеба, намазанный тонким слоем маргарина и завер¬
нутый в довоенную газету.
Он подумал, все ли взял, не забыл ли чего, и подошел к этажерке,
где лежало самое заветное — красный альбомчик. До войны отец со¬
бирал марки. Эх, какая тут была красота! Синие, красные, голубые,
оранжевые, зеленые листочки — наверное, всех цветов на свете —
разместились стройными рядами. А что тут только не нарисовано!
Какие-то цари и короли. Фонтаны и верблюды, цветы и города, гербы
и замки! Михаська смотрел марки каждый день и удивлялся, как это
отец мог собрать столько марок. Михаська пытался продолжать эту
ЧИСТЫЕ КАМУШКИ 279
коллекцию, искал марки, но ничего не находил — разве что синюю
марочку с красноармейцем да зеленую с колхозницей, только такие
марки и ходили с письмами.
Он уже хвастался альбомом Сашке Свириду и Катьке с Лизой,
соседским девчонкам, внучкам Ивановны. Теперь ему хотелось пока¬
зать марки в школе.
Он подождет, когда рассветет, когда ребята потушат свечные
огарки, когда взойдет солнце и растопит кружева на окне, и где-
нибудь на четвертом уроке он вытащит заветный альбомчик и пустит
его по рядам.
Не страшно, даже если Юлия Николаевна отберет. Она отберет,
а потом сама же их покажет всем, только еще и объяснит, что там на¬
рисовано.
Михаська сунул альбом в сумку.
На улице было совсем темно, огни не горели — света не хватало
заводам, не то что улицам. В утреннем сумраке еле угадывалась чер¬
ная дорога.
До угла они шли с матерью вместе, потом мама помахала ему
рукой и свернула к госпиталю, а Михаська пошел дальше.
Он шел быстро, слушая, как хрупает под валенками снег, будто
лошадь ест сено. Михаська все думал, как это получится здорово,
когда он вытащит альбом и все ахнут. Ребята скажут, какой молодец
у Михаськи отец,— ведь не каждый может похвастать таким богат¬
ством, не каждый может сесть вечером у лампы и посмотреть марки:
побродить по страшным джунглям, или по северным льдам, или в
пустыне Сахаре.
Михаська беззаботно размахивал портфелем, а за углом его ждала
беда.
Когда он повернул к школе и проступил в темноте ее черный си¬
луэт, ему навстречу шагнула тень.
Михаська сразу узнал ее.
Это был Колька Савватеев. Его прозвали Шакалом, а еще Нико¬
лаем Третьим, потому что последний царь был Николай Второй, а
Савватеев считался как царь.
Он учился в соседней школе, в седьмом классе. Когда Сашка
Свирид приехал из Ленинграда, Савватей поймал его на улице и на¬
кормил хлебом, который отнял у других. Сашка не устоял, наелся
хлеба, и Савватей заставил его «шестерить» — ходить всегда рядом
с ним, будто адъютант. Сашкина мать тогда отбила его у Савватея.
Поймала Николая Третьего среди бела дня на улице и наброси¬
280 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
лась на него. «За кусок хлеба ребенку голову морочишь!» — кричала
она.
Удивительно, Савватей от Сашки отвязался.
По утрам, особенно зимой, Николай Третий вставал рано, как
настоящий шакал, и дежурил у начальной школы, где учился Михась¬
ка. Он специально дежурил именно у этой школы, потому что в на¬
чальной учатся до четвертого класса и ребята все маленькие. Савватей
стоял в темноте и обшаривал ребят. Он отбирал куски хлеба, намазан¬
ные маргарином, и серые пеклеванные булочки, базарные конфетки —
подушечки и овсяные ватрушки. Иногда он выхватывал из сумки
вместо булочки учебник или тетрадку и швырял ее в сугроб или за¬
бирал себе, чтобы, отойдя потом на несколько шагов, бросить под
ноги и вытереть о них валенки. Когда он отнимал книжки или тет¬
радки, ребята не уходили. Они стояли в отдалении и ждали,
когда Николай Третий бросит тетрадки, а потом бежали подби¬
рать их.
Савватей делал все это молча, нагло, становясь поперек узкой
дорожки между двух сугробов. Он отбирал не у всех: куда ему было
столько хлеба — лопнешь, не съешь! Он отбирал на выбор, кто ему не
понравится, а может, наоборот, понравится. Тем, у кого он отнимал
что-нибудь, Савватей шептал:
— Молчи, стер-рва!
Это «стер-рва», это протяжное «р-р» действовало на всех без
исключения. Все молчали. Все боялись кары ужасного Савватея,
Николая Третьего.
Когда Михаська увидел тень Савватея, шагнувшего навстречу,
сердце у него вдруг громко застучало, предчувствуя беду. Они встре¬
чались и раньше, но чаще всего Савватей пропускал почему-то Ми-
хаську, и он, загребая валенками снег в глубоком сугробе, обходил
его. Такой был шакалий закон — обойти его по сугробу. Один раз
Николай Третий отобрал у Михаськи кусок хлеба, и Михаська не
очень-то расстроился, потому что так случалось со всеми.
Но сейчас, когда Савватей шагнул к нему, Михаська сразу вспом¬
нил альбом и понял, что произойдет ужасное.
— Открой,— хриплым голосом сказал ему Шакал и кивнул на
портфель.
Одеревенелыми руками Михаська снял варежки, сунул их в кар¬
ман и щелкнул портфельным замком. Михаська с тайной надеждой
подумал, что, может быть, в темноте Шакал не заметит альбома, но
Савватей заметил, открыл его и сказал:
ЧИСТЫЕ КАМУШКИ 281
— Ого!..
Михаська услышал за спиной скрип валенок и быстро обернулся,
надеясь на помощь. Но сзади стояла маленькая Лиза, внучка Иванов¬
ны. Нет, Лиза ничем не могла помочь. Она уже раскрыла свою сумку,
чтобы Савватей ее осмотрел, но Савватей мог и не смотреть, потому
что ничего у нее в сумке не было — это Михаська знал точно.
Шакал небрежно листал альбомчик, и Михаська вдруг с отчая¬
нием понял, что Савватей, эта грязная скотина, не отдаст ему
марки.
— Отдай,— сказал Михаська.— Это отца. На вот хлеб...
— «Отца»! — хохотнул Савватей, как-то деловито размахнулся и
ударил Михаську в нос.
На улице стало совсем светло, как после четвертого урока, потом
стемнело снова. Михаська почувствовал, как что-то теплое ползет
у него по губе.
— На вот тебе отца! — сказал Николай Третий.
Михаська упал на одно колено, видно оступившись, тут же вскочил
и по сугробу рванулся в сторону. Снег был глубокий, по пояс Михась-
ке, но он ничего не видел. С портфелем под мышкой выскочил из
сугроба и пробежал несколько шагов.
В голове шумело, перед глазами шаталось все, словно при земле¬
трясении. Михаська взял в ладошку снегу и приложил к губе. Снег
стал красным. Михаська прошел еще несколько шагов и вдруг сел
прямо в сугроб и заплакал.
Его губы тряслись, и капельки пота катились из-под шапки. Мир
остановился вокруг, и ничего не было — ни силуэта школы, ни темно¬
ты, ни вчера, ни сегодня, только альбом с дорогими отцовскими мар¬
ками и ненавистный Шакал, Николай Третий, Савватей.
«Все, все, все!..— думал Михаська.— Нет марок. Нет альбома...
Все! Все! Все!»
Шапка упала в снег, но он не чувствовал ничего, кроме смертель¬
ной тоски и обиды.
Кто-то потянул его за рукав. Михаська вздрогнул и обернулся.
Перед ним стояла маленькая Лиза, внучка уборщицы Ивановны.
— Не надо,— сказала Лиза, вглядываясь в Михаськино лицо.—
Не надо.
— Уйди,— прошептал Михаська и ткнулся лицом в снег.
Это было бессмысленно, совсем не к месту — перед глазами мая¬
чил ледяной узор, похожий на орден Александра Невского, который
он видел у раненого в госпитале.
ЧИСТЫЕ КАМУШКИ 283
3
Вот такой день был у Михаськи.
Тяжелый день.
Михаська верил, даже наверняка знал, что будет, должен быть во
что бы то ни стало еще один день, который тоже запомнится ему, и
даже больше, чем этот, первый. Это будет страшный день для Николая
Третьего, Савватея.
Михаська придумывал, как он отомстит Шакалу. Много разных
гибелей придумал он проклятому Савватею.
Это могло быть и так, что вся школа под Михаськиным предво¬
дительством вышла бы рано утром на улицу, совсем рано, пока еще
спит Шакал. На плече у каждого были бы белые веревки. И в том
месте, куда приходит обычно Николай Третий, за домами, за сараями,
за деревьями, спряталась бы вся школа, протянув по белым сугробам
белые веревки.
А потом бы пришел Шакал и встал на своем месте. А навстречу
ему пошла бы маленькая Лиза, внучка Ивановны. А когда Шакал
открыл бы у нее сумку, он увидел бы там гору хлебных кусков, на¬
мазанных маргарином, и ватрушки, и много еще чего. Это бы собрала
в Лизину сумку свои куски вся школа.
А когда Шакал обрадуется и полезет в Лизину сумку, все подни¬
мут белые веревки из снега, и Шакал окажется как бы в сетях.
И справа, и слева, и снизу, и сверху — веревки. И он бы заметался и
побежал, конечно, запутался и упал бы в снег, а тогда вся школа за¬
мотала бы. Савватея веревками и после четвертого урока, когда ста¬
нет светло, повела бы его по городу. А потом отвела бы в мили¬
цию.
Этот конец Михаське не нравился. Было бы лучше отвести Шакала
на реку и окунуть его в прорубь.
Но за самоуправство даже на фронте наказывают — это Михаська
слышал в госпитале.
Конечно, этот день мог быть и другим. Михаська вдруг бы стал
боксером и избил бы Шакала. Не ночью, в темноте, а прямо на улице
Ленина среди бела дня.
Эх, скорей бы настал этот день, второй день, который запом¬
нится!
Михаська медленно брел домой. Глаза у него блестели, а фуражка
задралась на макушку, потому что он представил опять этот второй
день, и даже кулаки у него сжались сами собой.
284 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
4
Михаська подошел к «кардаковскому» и поднялся на самый верх
крутой лестницы. Можно было чуть постоять, посмотреть — отсюда
все видно очень здорово.
Продавщица Фролова стояла прямо под Михаськой, возле бочки
с колотым льдом, а посреди льда, блестя боками, стояла большая бан¬
ка. Бели бы ее поставить на землю, она достала бы Михаське до пояса.
Вот такая банка была полна мороженым.
Сколько раз видел все это Михаська! И бочку и банку. Видел и
сверху, как сейчас, и сбоку, и снизу, присев на корточки. Видел изда¬
лека, вон с того угла, и совсем рядом. Он трогал бочку руками и задел
даже раз банку: бочка была как бочка и банка как банка, но вну¬
три у нее удивительная еда, настоящее чудо. Белое, сладкое, холод¬
ное!
Михаська посмотрел, как к мороженщице подошел какой-то воен¬
ный — видно, из госпиталя, с рукой на серой повязке. Фролова взяла
свой прибор — большую жестяную рюмку с двойным дном, положила
туда тоненький листочек сладкого печенья в клеточку (мама говорит,
вафлю — вафля, вафля, слово-то какое вкусное!), откинула крышку
банки и ложкой наскребла оттуда горку мороженого, пихнула его в
рюмку, утрамбовала и сверху положила вафлю. Потом она опрокинула
рюмку, нажала на какую-то ручку внутри и подала военному круглое
мороженое.
Военный был совсем молодой. Он взял колесико мороженого,
посмотрел на него удивленно и лизнул. Потом он увидел Михаську,
улыбнулся ему и показал белые, как мороженое, зубы. Военный
лизнул мороженое еще раз, еще и пошел задумавшись, часто споты¬
каясь, прямо по мостовой.
«Интересно, о чем он задумался?» — пытался отгадать Михаська.
И вспомнил, как мама рассказывала о старшине, который лежал
у них в госпитале. Его не ранило, даже царапинки на нем не было.
Недалеко от него взорвалась бомба, и его перевернуло несколько раз,
а потом засыпало землей. Когда его откопали, он был какой-то за¬
думчивый, встал и пошел как ни в чем не бывало. Потом обернулся
и спросил: «Где Рая?» Рая — это была его жена. Ему сказали: «Она
дома», но он снова спросил: «Где Рая?»
И потом все спрашивал: «Где Рая?» И думал. Его привезли в
госпиталь, и к нему приехала жена, та самая Рая. Он посмотрел на
нее, подумал о чем-то, а потом спросил: «Где же Рая?»
ЧИСТЫЕ КАМУШКИ 285
Михаська видел этого старшину. Он сидел на кровати и глядел
в одну точку — серый, небритый.
Михаська вздохнул, посмотрел вслед раненому, который споты¬
кался, лизал мороженое и тоже о чем-то думал, как тот старшина.
«О чем он думает?» — удивился Михаська. О чем можно ду¬
мать, если ешь мороженое? Можно только улыбаться. Смеяться. Хо¬
хотать.
Он посмотрел еще раз на бочку, на таявший лед, на банку, сияю¬
щую белой крышкой, и, грохоча каблуками, скатился с крутых сту¬
пенек.
— Тьфу, черт, напугал! — ругнулась Фролова.
Мороженщицу Фролову Михаська знал хорошо. Фролова была
городской знаменитостью. И не только из-за мороженого, а скорей
из-за овчарок.
На мороженое Фролова перешла совсем недавно, уже после побе¬
ды, как только завод стал его делать.
А почти всю войну она «жила собаками». Мама так говорила. Все
работали, все старались, чтобы скорее победа, а Фролиха...
Началось все с того, что какие-то бандиты ограбили универмаг.
И ничего там особенного не было, никакого золота, а только довоен¬
ные женские платья, детские пальто, галоши, валенки. Их распре¬
деляли заводам, учреждениям, школам и выдавали по ордерам.
Но для бандитов, видно, и валенки были не хуже золота. Мама
в тот день ходила днем с работы в город и рассказала Михаське, что
возле универмага полно милиции, но в милицию Михаська не верил,
потому что там работали теперь женщины. Наганы тоже, говорят, все
отдали на войну, и у теток-милиционерш их не было. Михаська сам
видел, как у одной из кобуры торчала какая-то тряпка.
Словом, бандитов не нашли, но тут объявилась Фролова. Каждое
утро и каждый вечер на улице появлялась толстая рябая тетка.
В обеих руках она держала по крепкому кожаному ремню, а на ремнях
были две овчарки. Тетка шла, откинувшись назад, по мостовой, и все,
кто шел по дороге, жались к заборам, потому что овчарки были тощие,
злые, тянули тетку в разные стороны и, казалось, были готовы кинуть¬
ся на любого и тут же разорвать. Тетка время от времени кричала
псам непонятные слова: «Фу!», «Брэк!» — и псы покорно шли вперед
понурив головы.
Михаська не любил овчарок. Овчарок фашисты напускали на
наших раненых бойцов, когда их пытали. Псы хватали раненых за
горло и душили их. Михаська сам читал об этом в газете, и любая
286 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
дворняга, самая задрипанная, была в сто раз милее и лучше этих
поджарых псов.
А Фролиха, говорили, жила за счет своих собак. Она приводила
их в универмаг вечером и пускала с поводка. Овчарки свободно раз¬
гуливали между прилавками — караулили универмаг, а Фролиха
получала за них два пайка. Псов она кормила плохо, а все съедала
сама, хотя получала еще и рабочую карточку как проводник сторо¬
жевых собак.
Все работали, делали снаряды, дежурили в госпитале или вот, как
мать Свирида, шили кальсоны для бойцов, а Фролиха водила собак.
Потом вернулся с войны ее муж. Один рукав гимнастерки у него
был засунут за толстый офицерский ремень. Но он и одной рукой
управлялся с псами. А Фролиха стала торговать мороженым.
Странное дело, теперь Михаська не испытывал к Фроловой преж¬
ней нелюбви. Может, потому, что она стала честно торговать моро¬
женым? Или потому, что и у Фролихи, как и у многих, муж вернулся
инвалидом?
Михаська даже вздрогнул от собственной мысли: вот было бы
здорово, когда муж Фроловой поведет из магазина собак, пойти овчар¬
кам навстречу и пройти между ними, не побоявшись! Как партизан
или как боец.
Да, это была бы штука! Небось Николай Третий не осмелился бы.
Уже виднелись ворота его дома. Он вздохнул. Нет, все-таки это
невозможно — пройти между двумя овчарками...
5
Потом, уже вечером, Михаська снова перебирал все подробности
этого дня. И как он шел, и как стоял около мороженщицы Фроловой
и думал про Савватея, и про овчарок, и про раненого, который спра¬
шивал: «А где же Рая?» — и про того, который ел колесико мороже¬
ного.
Нет, все это было не зря. Ведь знал Михаська, что в тот день, ко¬
торый останется на всю жизнь, запомнятся все подробности и все
мелочи, как в только что виденном кино. Зря он думал, что вторым
днем будет тот, когда он рассчитается с Савватеем. Нет, оказалось,
этот день ждал Михаську раньше, ждал, ждал и свалился на голову
нежданно-негаданно.
Михаська помнил, как он шаркал по мостовой, потом пылил по
ЧИСТЫЕ КАМУШКИ 287
тропинке, как заскрипела калитка и он прыгал на одной ноге со
ступеньки на ступеньку вниз по лестнице, ведущей с улицы во двор.
Потом он увидел маленькую Лизу. Она смотрела на него радостно,
будто видела в первый раз, и Михаська подмигнул ей. У Лизы был нос
пуговкой, вся она казалась какой-то тихой и прозрачной, как моты¬
лек, и Михаська жалел ее.
Потом он увидел Ивановну, Лизину бабушку. Ивановна тоже
улыбалась Михаське, и лицо ее, белое и морщинистое, будто мятая
скатерть, вздрагивало, словно от испуга.
Потом Михаська увидел поленницу дров, а возле нее незнакомого
человека в голубой майке. Человек стоял к нему спиной, и на голубой
майке, прямо под лопаткой, белела маленькая дырка. Потом человек
повернулся, увидел Михаську и улыбнулся ему.
Михаська улыбнулся ему тоже и подумал, что где-то видел этого
человека, но вот где? Он так и не вспомнил, а человек в голубой майке
медленно пошел Михаське навстречу, все так же улыбаясь ему. Потом
он остановился, сунул руки в карманы и тихонько сказал:
— Михаська! Ну, Михаська!..
Он сказал это как будто с удивлением, а Михаська все никак не мог
вспомнить, где же видел он этого человека.
Вдруг солнце, которое палило в спину, брызнуло прямо в глаза,
и небо стало светлым-светлым, прямо серебряным, а может быть,
красным, и Михаська уронил лопату.
Он пробежал несколько метров, которые их разделяли, стремитель¬
но и молча, до боли зачем-то сжав губы, и кинулся на шею человеку
в голубой майке, ну прямо задушил его!
Он почувствовал колючую щеку человека и запах табака — навер¬
ное, самосада, потому что самосад курили раненые в госпитале и все
солдаты курят самосад — и ощутил тепло кожи.
Михаська сжимал шею человека изо всех сил и свои губы сжимал,
но солнце все равно светило в самые глаза, удивительно сильно
светило, как не светит, если даже посмотреть прямо на него. Оно
почему-то все палило и палило и мешало смотреть, и говорить, и ды¬
шать.
Сквозь какую-то духоту и туман Михаська увидел маленькую
Лизу, прозрачную, как листок папиросной бумаги, и Ивановну. Лиза
улыбалась, глядя на Михаську, а у Ивановны катились белые горо¬
шинки по лицу и голова вздрагивала крупнее и чаще.
Михаське вдруг стало стыдно чего-то, он отпустил шею человека
в голубой майке, встал с ним рядом и ткнулся ему лицом в живот. Они
ЧИСТЫЕ КАМУШКИ 289
постояли так немного. Человек гладил и ерошил серые Михаськины
волосы, а Михаська стоял и все не мог разжать свои губы, не мог
открыть рта.
Потом он тяжело вздохнул.
Солнца не было перед глазами. Оно, как полагалось, жарило
спину — правда, на ресницах что-то такое дрожало, мешало глядеть.
Но тут и это исчезло, и Михаська увидел серые глаза, смотрящие на
него сверху, и серые, совсем как у него, волосы.
— Все? — выдохнул наконец Михаська.— Больше не уедешь?
И отец кивнул ему и вдруг схватил его под мышки, и Михаська
с хохотом полетел в небо, вверх, и так взлетал в сильных отцовских
руках, и хохотал, и видел стрижей, падающих к земле, и желтую по¬
ленницу дров, и Лизу, задравшую кверху лицо, и Ивановну. Он уви¬
дел сверху и мать, стоявшую у калитки, белую как полотно, и, взле¬
тая, видел, как она сделала шаг вперед и медленно села на ступеньку
дворовой лестницы.
Небо то поднималось, то летело ему навстречу, а отец в голубой
майке с маленькой дырочкой под самой лопаткой тоже хохотал, глядя
на Михаську, и ловил, и ловил, и ловил его...
6
Они ели потом завариху — муку, заваренную горячей водой.
И Михаська уплетал ее за обе щеки, а маме это объедение сегодня не
нравилось, что ли... Она брала ложку, глотала завариху и тут же
клала ложку обратно, глядя на отца. Она как только увидела его, не
отрывала от него глаз, будто боялась, что он исчезнет, растает, спря¬
чется. Но* отец не прятался никуда, а с аппетитом ел завариху, все
шутил, смеялся и говорил маме, чтоб она ела.
Время от времени он тоже становился задумчивым, смотрел на
маму, потом брал ее за плечи, поворачивал к себе и минуту глядел ей
в глаза, ничего не говоря.
Так смотрели они друг на друга, забыв, наверное, и о нем, и глаза
их становились необыкновенными. Михаська глядел на них и видел,
как в глазах матери отражается маленький отец, а в глазах отца —
маленькая мать; и ему казалось, что они уходят от него в какой-то
волшебный мир, ему непонятный, смутный взрослый мир, и там,
в глазах друг у друга, уменьшившись совсем, они и в самом деле одни,
без него, Михаськи. И Михаське становилось тоскливо. А отец и мать,
290 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
будто почувствовав, что ему тоскливо одному, вдруг поворачивались
к Михаське и улыбались ему.
Но проходило немного времени, и они снова смотрели друг на
друга, и отец гладил мать, как маленькую, по голове. А мать снова
смотрела на него, смотрела и видела только его.
Она стала совсем молодой, мама. Пока отец плескался под руко¬
мойником, она открыла сундук и стала рыться в нем, а Михаську
послала во двор махать чугунным утюгом, раздувать угли. Михаська
раскалил утюг, и мама что-то гладила; но он не обращал внимания
на эту возню матери, пока они не стали садиться за стол и мать не
вышла из-за занавески в нарядном голубом платье с белыми горош¬
ками.
Михаська ахнул, а отец подхватил маму на руки и закружил ее.
Но разве можно крутиться в их комнатушке! Отец тут же смахнул со
стола фарфоровую чашку, на которой были нарисованы китайцы,
гуляющие с зонтами. Чашку подарила маме ее мама, Михаськина
бабушка, и мама очень берегла ее. Но тут она только рассмеялась и
сказала, что посуда бьется к счастью, но все-таки отец отпустил ее и
стал разглядывать и расхваливать вместе с Михаськой ее платье.
А когда наконец сели за стол и Михаська взглянул на мать, оказа¬
лось, что она очень похожа на девчонок из десятого класса женской
школы, мимо которой ходил Михаська в свою начальную.
Мамины глаза сияли и были как небо и как платье, а волосы стали
пушистыми, будто кудель, из которой Ивановна вечерами, когда
Лиза читает ей по слогам вслух, вьет нить.
За столом отец похвалил маму за то, что она не продала свое до¬
военное платье, но мама ответила, что нет, это он ошибается — то
платье она продала еще в сорок втором, а это купила на барахолке
совсем недавно, к его приезду. И отец похвалил ее еще раз, уже за то,
что какая она хозяйственная и сумела скопить денег на платье. Мама
задумчиво качнула головой и сказала:
— Картошка все это, Витенька, все картошка. Кабы не она, что
и было бы, не знаю я.
И тут Михаська стал рассказывать отцу про их участок за рекой:
как ходили они туда, лишь только просохнет земля после разлива,
потому что ведь поля заливные; как сажали картошку, как окучивали
ее, а потом убирали. Отец смотрел на Михаську, слушал его внима¬
тельно, с интересом, как взрослого, и кивал головой.
— Да,— сказала мама, когда Михаська умолк.— Картошка — она
наша спасительница милая. Всю войну на ней; вот и Михасика вы¬
ЧИСТЫЕ КАМУШКИ 291
тянула — не дистрофик, не больной. Была бы верующая, свечку
в церкви ей поставила, картошке нашей!
Отец затянулся самосадом, хмуря лоб.
Они помолчали, думая каждый об одном — о войне, и каждый
по-своему. Михаська почему-то снова вспомнил маленькую Лизу,
которая еще в прошлом году только пошла в школу, а всю войну
ходила по двору тихой тенью, и о бабушке Ивановне. О том, как стала
трястись голова у Ивановны, когда умерла мама Лизы и Катьки.
— На днях сходим,— помолчав, сказал отец,— к вашей корми¬
лице.
— К нашей кормилице. Теперь к нашей...
Потом они перебрались на сундук все втроем и долго сидели
обнявшись; и отец рассказывал, как его ранило осколком, и ведь это
здорово, что прошел всю войну, а ранило хоть тяжело, но один раз —
не всем так везет. Мама потребовала, чтобы он снял майку, и отец
послушно ее снял. Михаська увидел сине-фиолетовый рубец на отцов¬
ской спине и потрогал его пальцем. Кожа была там гладкой и блестела.
Мама чуть-чуть дотронулась до рубца и вдруг, всхлипнув, запла¬
кала. Отец ничего ей не сказал, только опять обнял и снова погладил
по голове. Мама успокоилась и стала говорить, каких раненых видела
за войну в своем госпитале, как умирали люди; и наверное, им было
страшнее умирать здесь, за столько километров от фронта, потому что
они почти все умирали тяжело... Но она принимала все это как необ¬
ходимое — война ведь, а сейчас вдруг, когда отец показал свою рану,
испугалась, что его могли убить, пройди осколок чуть дальше, и отца
бы теперь не было...
— Смерть будто холодом дохнула,— сказала она.— Вот, говорят,
судьба — не судьба. А кому судьба умирать? Нет такой судьбы, всем
судьба жить, а вот умирают. Бабы толкуют: а как же, мол, кто-то
должен погибнуть... И как тут быть — кто должен, кто не должен...
Уже смеркалось, и мама вдруг спохватилась, стала искать авоську
и складывать белье.
— Мужики, в баню! В баню, мужики! — кричала она. И почему-то
было ей приятно повторять это слово — «мужики».
Отец хотел было идти в простой рубашке, но Михаська заставил
его надеть гимнастерку с двумя медалями «За отвагу», и с орденом
Красной Звезды, и с другими медалями — за освобождение разных
городов и даже государств.
Эх, как жалел Михаська, что в сумерках плохо видны отцовские
награды! Да еще, как назло, никто не попадается из знакомых ребят.
292 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
В бане было полно народу, очередь в мужскую мойку извивалась
как змея. Они пристроились в хвосте, за каким-то стариком.
Михаська вспомнил, как он первый раз пришел сюда, в мужскую
баню. Совсем один. Это было в первом классе.
Вначале он, конечно, ходил с мамой, как все маленькие мальчиш¬
ки. Но однажды они пришли мыться, и в бане Михаська увидел Юлию
Николаевну.
Мама еле уговорила Михаську раздеться и вымыться. Он согла¬
сился, если только их не увидит Юлия Николаевна. В мойке стоял пар,
но она их все-таки заметила. Михаська прямо сгорал от стыда из-за
того, что учительница увидела его в таком виде и он ее тоже. Хорошо,
что Юлия Николаевна не подошла тогда к ним. А то что бы он стал
делать? Наверное, убежал бы из бани.
Но Юлия Николаевна не подошла, кивнула им с мамой издалека
и очень быстро ушла. Михаське показалось, что она даже не домы¬
лась.
После этого случая Михаська в женскую баню ходить наотрез от¬
казался. Мама спорить с ним не стала, поняла и мыла теперь его дома,
в той самой ванночке, где Михаську купали, когда он был еще груд¬
ным.
В ванночке он не помещался, приходилось мыться стоя, вода текла
ручьями по комнате, и мама ругалась. Однажды зимой стало туго с
дровами, мама никак не могла получить машину дров, хотя ордер на
них был, и Михаське пришлось одному идти в баню.
Мама долго учила его, как надо мыться, как вытираться, как
следить, чтобы не украли белье, а то он останется голый.
Это-то было уж ни к чему. Михаська и сам слышал, как у одного
дядьки в бане унесли белье и он остался совсем голый, пока кто-то не
сходил к нему домой и не сказал, чтоб ему принесли во что одеться.
Для дядьки сходили — ясное дело, а вот кто пойдет, если утащат
белье у .мальчишки?
И Михаська пошел в баню, боясь, что с ним обязательно что-то
случится.
Он припомнил, как еле открыл тогда тяжелую, разбухшую от
воды и пара деревянную дверь в мойку, как налил в шайку кипятку и
тихонько окатил край каменной скамьи. Потом он долго плескался
в своей шайке, тер с мылом руки, вымыл и грудь, и ноги, и голову,
попробовал дотянуться мочалкой до спины, но не дотянулся. Мама
говорила ему, собирая в авоську белье: «А спину попроси потереть
какого-нибудь дядю».
ЧИСТЫЕ КАМУШКИ 293
Михаська оглянулся, выбрал парня, который сидел к нему спиной
на соседней скамейке и усердно тер свою шею.
— Ну держись...— сказал ему парень и начал драить Михаськину
спину так, будто хотел снять с него кожу.
У Михаськи навернулись слезы.
Парень оказался веселый, все спрашивал, на каком фронте у
Михаськи отец, и Михаська не знал, что ответить. Один же фронт —
там, где сражаются. Михаське парень понравился; он все думал, что
бы такое сделать для него, наконец сообразил предложить теперь ему
потереть спину. Но парень улыбнулся, показав зубы, ответил, что уже
натерся, спасибо, и дальше они словно познакомились. Парень нет-нет
да и поглядывал на Михаську, подмигивал ему и когда пошел одевать¬
ся, Михаська увязался за ним, наскоро окатившись.
Парень оделся быстро. Михаська едва успевал за ним. Выходя,
парень сказал пожилому банщику:
— Спасибо за баньку, папаша!
И Михаська тоже повторил за ним:
— Спасибо за баньку, папаша!
Банщик засмеялся и шлепнул его легонько сухим березовым
веником.
За воротами цх с парнем дороги расходились, они приветливо
подмигнули друг другу на прощание, и Михаська подумал, что как
здорово, если бы все люди были такие.
С тех пор Михаська стал своим человеком в этих длинных банных
очередях. Он всегда брал с собой географию или еще какой-нибудь
учебник и, пока стоял в очереди, выучивал урок назубок. После
бани он получал пятерки, и поэтому ходить туда Михаське нра¬
вилось.
Всяких людей видывал он в этих длинных банных очередях.
Особенно Михаська завидовал мальчишкам, у которых есть дедушки,
а значит, есть с кем ходить в баню. А раз он видел старика, который
пришел в баню с маленькой девчонкой. Сначала Михаська засмеял¬
ся — такое он видел впервые: в женской бане мальчишек много —
это да, а чтоб девчонка мылась с мужчинами?
Но потом он призадумался: чего ж тут смешного? Мальчишки
ходят с мамами в баню, потому что у них нет отцов, они на войне,
а вот если девчонка идет с дедом — значит, у нее нет мамы? Или,
может, она тоже на фронте? Он испугался: а вдруг маму у этой девоч¬
ки убьют? Потом он решил, что, наверное, просто маме этой девочки
некогда: может, она на суточном дежурстве или уехала куда-нибудь?
294 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
Сразу стало веселее, потому что Михаська не мог представить, что
было бы с ним без мамы.
Видел Михаська в очередях и раненых, приехавших домой на
поправку после госпиталя, обязательно с мальчишками, сыновьями,
и очень завидовал этим мальчишкам. А когда пришло письмо от
отца, где чьей-то рукой от его имени было написано, что он ранен,
Михаська подумал, что, наверное, его отец тоже заедет домой из
госпиталя и тогда они пойдут мыться вдвоем.
И вот теперь Михаська вспомнил, как хотел пойти с отцом в баню.
Они стояли в своем темном уголке, очередь почти не двигалась, а
Михаське так хотелось, чтоб они поскорее вышли на свет и все — и
парни, и старики, и мальчишки — увидели бы его отца в гимнастерке
и с медалями, которые негромко позвякивали друг о друга.
Старик впереди все крутился, топтался, дымил, о чем-то говорил
с соседями, и Михаська подумал, что, если бы это он, Михаська, так
крутился все время и рядом была мама, он уже давно схлопотал бы
по макушке.
Михаська рассмеялся, представив, как получил бы по макушке
от мамы этот вертлявый старичок.
Старик обернулся, как будто понял, что Михаська смеется над
ним, пристально посмотрел куда-то чуть повыше Михаськи и вдруг
громко сказал:
— Что же такое творится, граждане?
Он сказал это и протянул руку в сторону Михаськи. Все стали
оборачиваться и смотреть на Михаську, и он покраснел и уже сто раз
обругал себя за то, что засмеялся над стариком.
— Что же это такое творится, православные?
«Вот еще,— подумал Михаська,— на попа нарвался».
— Прошел человек войну,— продолжал старик.— Домой, навер¬
ное, вернулся, в баньку попариться, известное дело, пришел.
Михаська вздохнул, и краска стала сходить с него. Он обернулся.
Сзади стоял отец. Так вот на кого смотрели все! На отца!
— А мы его тут в очереди держим! — кричал старик.
Очередь вдруг зашумела. Михаську обняла какая-то теплая волна,
заполнила его до самых краев — еще бы, вся очередь, целых, навер¬
ное, сто человек смотрели на отца, и улыбались ему, и говорили про
него! И конечно, уже все видели его гимнастерку, и медали, и орден
Красной Звезды, который отец называет просто звездочкой.
— А ну-ка, товарищ старшина,— закричал снова старик,— давай
проходи вперед!
ЧИСТЫЕ КАМУШКИ 295
— Да что вы,— сказал отец,— постоим, отдохнем, теперь торо¬
питься некуда.
— Нет, нет,— закричал шустрый старик,— торопись! Торопись
отдыхать, а то скоро снова за работу! Давай, говорю, проходи!
Отца стали подталкивать, очередь перед ним расступилась, и он
пошел вперед, а Михаська за ним, чувствуя на себе завистливые
взгляды мальчишек... Кто-то даже легонько толкнул его в бок.
...Уже засыпая, разморенный от жаркой бани и горячего чая,
Михаська подумал, радостно удивляясь: вот он, оказывается, какой
был второй длинный день...
296 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
Часть вторая
«ТОШКА-ТОШКА-ТОШКА-ТОШКА...»
1
Михаська любил смотреть на облака.
По дребезжащей железной лестнице он забирался на плоскую
крышу. За дальней трубой, возле слухового окна, у него было любимое
местечко. Если лечь на спину, Михаську здесь даже с крыши не видно,
а с земли тем более. Это местечко он нашел еще в войну, когда учился
во втором классе. Тогда по вечерам назначали дежурных по крыше
на случай бомбежки. Впрочем, вскоре эти дежурства отменили, пото¬
му что фашистские самолеты до их города долететь не могли. Воздуш¬
ную тревогу тоже объявили всего раза два, наверное, просто так,
на всякий случай. Михаська помнил тот вечер. Незадолго до этого они
с мамой, как и все жильцы, обклеивали свои окна белыми полосками
бумаги крест-накрест. На верхнем стекле крест, на боковых тоже по
кресту. Все говорили, что это очень помогает. Если бомба упадёт, то
стекла с такими полосками не разобьются. Михаська, признаться,
мало этому верил, потому что даже простой небольшой камешек для
стекла — гибель, а тут бомба!
А через несколько дней вечером завыла сирена, и мама закричала
на Михаську, потому что он копался — у него не застегивались пуго¬
вицы на пальто.
Когда они вышли из дому, по черному небу шарили лучи прожек¬
тора и время от времени освещали самолет.
Но самолет был наш, четырехкрылый «кукурузник»; таких у нем¬
цев не бывает.
Мама все торопила Михаську, а он говорил ей, чтоб она не спеши¬
ла, потому что самолет наш. Бомбоубежище было далеко, и они не
ЧИСТЫЕ КАМУШКИ 297
успели до него дойти, как тревогу отменили, и они пошли домой. Ми¬
хаська говорил маме: «Ну, видишь, видишь, ведь я говорил...» Мама
ничего не отвечала и только вздыхала.
А на крыше все тогда оборудовали по-настоящему. В разных кон¬
цах поставили ящики с песком, возле слухового окна — бочку с водой
и прямо к бочке прибили два гвоздя, загнули их и на крючки повесили
ведра.
Это Михаське нравилось. Было похоже на корабль. Там тоже висят
ведра, только белые с красной полосой.
Но бочка так и не пригодилась. Песок потом растаскали по крыше
ребята, а вёдра унесли обратно в домоуправление.
Осталось от всей тревоги одно Михаськино тихое местечко за
трубой.
Он иногда приходил сюда, ложился на спину, ощущая ею жар
нагретого железа, и смотрел в небо, на облака.
Облака мчались перед ним, как белые паруса и как дикие звери,
каких даже в сказках не бывает. Иногда они походили на фаши¬
стов — ощеренные морды в рогатых касках, и тогда Михаська сражал¬
ся с ними, расстреливая их — «ты-ты-ты-ты!» — из автомата.
Теперь воевать не надо, фашистов разгромили, и Михаська
блаженствовал на крыше просто так.
А фашисты, вон они. Михаське видно отсюда, как за тесовым
забором с колючей проволокой копошатся зеленые фигуры — строят
новый дом. «Правильно, стройте, стройте,— подумал Михаська.—
Рушили все, теперь стройте».
Вот ведь ерунда какая: будто назло все про войну да про фашистов
думается и из головы не выходит!
Он уставился на облака, стараясь представить какие-нибудь цве¬
ты, но там, на небе, все получались какие-то взрывы.
Михаська зажмурил глаза и решил, что нарочно больше не будет
думать про войну и разглядывать в облаках эти взрывы.
Он подумал про отца и открыл глаза.
Над головой плыли цветы из облаков.
2
В прошлое воскресенье они все-таки сходили за реку, на свой
участок.
Солнце словно играло в прятки — то выглянет и припечет, будто
ЧИСТЫЕ КАМУШКИ 299
в середине лета, то скроется за тучу, и тогда сразу дохнет близкой
осенью.
Они шли от тени к свету и снова попадали в тень, будто переходи¬
ли с острова на остров, и было здорово идти по островам, взявшись за
руки — мама, отец и Михаська.
Иногда Михаська оставлял их вдвоем и бежал далеко вперед, а
потом останавливался и смотрел, как они идут к нему.
Сначала их лица казались маленькими пятнами, потом они при¬
ближались, и Михаська смеялся, потому что ему было приятно смо¬
треть на них, видеть, как лохматит ветер волосы отца и он жмурится
на солнце, смотреть, как мама то и дело подпрыгивает, подбирая шаг,
а потом идет широко, в ногу с отцом, но у нее ничего не выходит, она
снова подпрыгивает, и это очень смешно, потому что мама походит на
курицу, которая хочет взлететь, а не может.
Они подходят ближе, ближе, а Михаська пятится, но они насту¬
пают на него, и он смеется и отбегает снова...
Картофельное поле тянется сразу за сосновым леском. Лесок
небольшой и насквозь просвечен солнцем.
Их участок у самого ручья, так что можно напиться, зачерпнуть
фуражкой, как ковшом, прозрачной, будто воздух, воды и глотать ее,
пока зубы от холода не заноют.
— Ну вот,— говорит мама,— пришли. Поклонимся нашей корми¬
лице.— И первая кланяется.
Михаська хотел улыбнуться, но отец поклонился картошке тоже,
серьезно и даже задумчиво.
Михаська вспомнил, как копали они картошку и мама тащила на
спине тяжеленные мешки к дороге, где ждала подвода, а потом цар-
тошку раскладывали дома, прямо на полу в комнате, чтоб она просох¬
ла на зиму, и в комнате долго держался сладковатый запах земли и
картошки. Всю зиму жарили ее, и варили, и толкли, делая из картош¬
ки кашу.
Михаська подумал-подумал и поклонился тоже. Наверное, было
смешно смотреть со стороны. Стоят трое людей и кланяются: чему —
неизвестно, ровному полю.
Они присели возле ручья, и Михаська услышал, как журчит
вода. Он сунул в нее руку и схватил со дна гальку, подбросил ее на
ладошках, стал разглядывать. В кучке серых камешков один был
прозрачный. Михаська повернул его к небу, и камешек стал голубым,
положил на траву, он стал зеленым, а повернул к солнцу, и камешек
засверкал яркими брызгами, будто сам был кусочком солнца.
300 АЛЬБЕРТ ЛИХА НО В
Отец потрепал ботву. Кое-где на ней болтались гроздья зеленых
яблочек с семенами.
— Знаете,— сказал отец,— а ведь есть песня про картошку.
Он скинул рубашку и майку и теперь лежал на спине, подставив
грудь солнцу.
— Знаем,— сказала мама, ласково погладила отца по щеке и поло¬
жила свою голову ему на грудь, к самому сердцу.
— Нет! — закричал Михаська.— Я не знаю!
— А мы знаем,— сказала мама.
— Ну вот,— ответил Михаська,— и спойте!
— А что, и споем,— сказал отец.— Споем, а? Нашу пионер¬
скую?
— Вот уж да! — улыбнулся Михаська.— Пионерскую про кар¬
тошку?
А отец и мама весело запели:
Рас-скажите-ка, ребята-бята-бята-бята,
Жили в лагере мы как-как-как.
И на солнце, как котята-тята-тята-тята,
Грелись этак, грелись так-так-так!
Михаська засмеялся. Уж очень забавные были слова у песни —
«тята-тята-тята» или «бята-бята-бята». Мама и отец допели песню,
и Михаська попросил, чтобы они спели еще, и теперь уже подпевал
им:
Здравствуй, милая картошка-тошка-тошка-тошка,
Низко бьем тебе челом-лом-лом...
Потом они посидели еще немного, погрелись на солнышке, побрыз¬
гались водой из ручья, и мама визжала на все поле, а потом спели
еще про картошку, и этот веселый мотив никак не выходил у Михась¬
ки из головы.
Даже дальняя дорожка-рожка-рожка-рожка
Нам с тобою нипочем-чем-чем...
— Эх,— сказал вдруг отец,— долго ждать!
Мама кивнула головой, а Михаська спросил:
— Что долго ждать?
— Да вот решили мы с мамой, сынок,— ответил отец,— построить
свой домик. Уж очень тесно живем.
ЧИСТЫЕ КАМУШКИ 301
— Избушку на курьих ножках? — спросил Михаська, думая, что
отец смеется.
— Эх, ты, сказочник! — Отец обнял Михаську за плечи.— Нет,
настоящую избушку. Пусть небольшую, да свою.
— А зачем? — удивился Михаська.
Ему нравилась их маленькая уютная комнатка с желтым полом,
таким желтым, что казалось, кто-то опрокинул яичницу. Ему стало
жалко Ивановну, маленькую Лизу, Катьку, уютное местечко на кры¬
ше и весь их большой старый дом, без которого он не мог представить
себя.
— А затем,— весело крикнул отец,— что хватит! Навоевался я!
Ох как навоевался!.. И хочу теперь жить по-людски! Хорошо! Воль¬
но! И чтоб всего было вдосталь! И еды, и воздуха, и света! Потесни¬
лись, хватит! Будет и у нас дом!
А мама сказала задумчиво:
— Надо, чтобы была кухонька с печкой. И хорошо бы две комнат¬
ки: светелка и горница.
— Будет, будет и светелка и горница! — сказал отец.— А когда
станет холодно, мы с Михаськой залезем на печку и будем рассказы¬
вать друг другу сказки. А, Михаська?
Это Михаське понравилось. Он представил домик под старым топо¬
лем, ветер, снег, а они с отцом лежат на горячей печке и рассказывают
сказки, а мама печет пирожки с грибами и луком. Он улыбнулся, а
отец хлопнул его по плечу, как равного, и сказал:
— Ну вот, видишь!
И они еще раз спели песенку о пионерской картошке. А ветер
шумел в траве, журчала, вода Ъ ручье, перекатываясь через белый ка¬
мень, и солнце разбрасывало по земле свет и тени, будто сказочные
острова.
Михаська смотрел на облака, лежа на траве, и громко пел:
Пи-онерская картошка-тошка-тошка-тошка,
Объеденье для ребят-бят-бят...
Ему нравилась эта песенка. Только Михаська никак не мог пред¬
ставить отца и маму пионерами, хотя песню эту они пели, когда были
такими, как он теперь.
— «Тошка-тошка-тошка-тошка!» — весело орал Михаська.—
«Бят-бят-бят!»
А облака плыли над ним, похожие на кудрявые белые цветы.
302 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
Когда они возвращались, отец вдруг стал серьезным и сказал, как
тогда, на поле:
— Вот только долго ждать. Тут за год на дом не заработаешь.
А мама грустно вздохнула.
Они шли по дороге, и Михаська перебегал с острова на остров...
3
Михаська ходил за отцом хвостом. Куда отец, туда и он. Пошлет
мама отца на рынок, и Михаська с ним. Пойдет отец просто по улице
прогуляться, и Михаська тут как тут.
Когда мама брала его за руку, Михаська сейчас же вырывался:
что он, маленький? А отца сам за руку брал, чтобы все видели — это
его батя.
И вот что интересно: куда бы они ни шли, отец, как мальчишка, по
сторонам глазеет, улыбается. Михаське с ним интересно. Раз шли и
увидели льва на воротах. Каменного, конечно. Сколько раз Михаська
его видел, льва этого. И никогда не думал, почему это на воротах лев,
а не собака там или еще кто. А отец остановился, кивнул льву, как
старому знакомому, и рассказал Михаське, что львов на воротах ста¬
вили купцы. До революции это было. Если на воротах лев — значит,
тут купец живет.
Отец ходил по улицам так, будто все в первый раз видел. И все на¬
верх смотрел, на крыши, на деревья. Ворот у гимнастерки расстеги¬
вал, чтоб дышать легче.
Так они и ходили вдвоем: куда отец, туда и Михаська.
Однажды отец решил зайти в пивную, выпить кружечку. Михаське
сказал, чтобы подождал на улице, но он увязался за отцом.
Пивная была в маленьком подвальчике. Пахло дрожжами и чем-
то мокрым. Отец взял кружку пива и сел за столик. Народу было
невпроворот: все вокруг гудело, шумело; пластами плавал седой
дым.
Отец выпил кружку и хотел уже уйти, как его кто-то окликнул.
К столику медленно, боясь расплескать пиво, двигался человек.
В каждой руке он нес по три пивные кружки.
— A-а, Седов! — сказал отец.— Пропиваешь состояние?
Седов не обиделся.
— Не угадал,— ответил он,— как раз обмываю состояние. Вот
корову купил.
ЧИСТЫЕ КАМУШКИ 303
Он показал на какого-то старика — видно, колхозника.
— По поводу ценной покупки,— сказал он,— прими кружечку.—
Седов подул на кружку; хлопья пены полетели на пол.
Они выпили, и отец уже не посмеивался над Седовым, а все рас¬
спрашивал его о корове.
— Молочко буду теперь пить,— говорил Седов.— Ты знаешь, мо¬
локо с пивом,— во, говорят, выходит!
— Где же ты денег столько взял? — спросил отец.— Корова-то,
поди-ка, и правда целое состояние стоит?
Седов захохотал. Лицо у него было и так круглое, будто блин с
ушами, а когда он смеялся, становилось еще круглее, и глаза совсем
закрывались — одни щелочки только.
— Хочешь узнать? — спросил Седов, наклонил свой блин к отцу
и зашептал ему на ухо, хрипло похохатывая.
— Ну и скотина же ты, Седов! — сказал отец и поморщился,
будто зубы у него заболели.
Михаська подумал, что сейчас Седов вскочит, грохнет кулаком,
начнет орать, но он не грохнул и не заорал.
— Захочешь жить по-человечески,— сказал он ласково,— пой¬
мешь, что к чему.
— Я же воевал,— сказал отец,— в разведке служил! За кого ты
меня принимаешь?
— Вольному — воля,— сказал Седов серьезно, и Михаська уви¬
дел, что глаза у этого блина колючие.— Никто за рукав не тянет. Вой¬
на — это одно, а мирная жизнь — другое. Тут разведчики не требуют¬
ся, все уже разведано. Только выбирай...
Отец не ответил ему, кивнул, прощаясь, взял за руку Михаську,
и они пошли домой. Отец застегнул воротник, глядел под ноги, хму¬
рился и молчал. Перед самым домом спросил:
— Хочешь, Михаська, молока с пивом?
Михаська мотнул головой: молока, конечно, можно, но зачем же
с пивом?!
— А вот я, представляешь ли, хочу,— сказал отец задумчиво.—
Только как?
— Нет, лучше молоко отдельно. А пиво сам пей,— сказал Ми¬
хаська.
Отец усмехнулся и положил на Михаськино плечо свою
РУку.
— Только как? — повторил он, будто и не слышал Михаську.
Про что это он?
ЧИСТЫЕ КАМУШКИ 305
4
Мама затеяла стирку, а их прогнала. И они пошли в кино.
Фильм назывался «Маугли» — про то, как мальчишка жил в
джунглях. Кино Михаське понравилось, но все время, пока он его
смотрел, будто что-то давило на Михаську.
Вдруг его словно ударило — марки! Отцовский альбомчик с мар¬
ками, которые отнял Савватей. Там были такие же джунгли, как в
кино.
После кино они опять медленно пошли по улице. Отец снова гла¬
зел по сторонам и расстегнул воротник, а Михаська все мучился и
не знал, как рассказать о марках.
Если всю правду — стыдно, что отдал альбом Савватею, даже не
ударил его. Если соврать что-нибудь... А отец вдруг рассмеялся и ска¬
зал Михаське, что, когда был маленький и прочитал книжку про Мауг¬
ли, он хотел убежать в Африку. Да раздумал, потому что не знал, где
Африка — за рекой или, наоборот, в другой стороне.
Они засмеялись. Михаська покрепче сжал руку отца, и марки сра¬
зу ушли куда-то в сторону. Эх, как здорово идти вдвоем! И хорошо, что
мама не пошла, осталась стирать. Вдвоем с отцом лучше. Идут двое
мужчин и смеются — вот и все.
Вдруг отец словно врос в землю.
На асфальте, под забором, на деревянной тележке с шарико¬
подшипниками вместо колес сидел безногий инвалид.
Одет он был во все военное: офицерское галифе, подрезанное и
ушитое на обрубках ног, и гимнастерка без погон. На гимнастерке
висела медаль «За отвагу» и гвардейский знак.
Перед тележкой лежала перевернутая пилотка со звездочкой, а
в ней всегда были монеты и даже бумажные рубли — Михаська не
раз видел тут этого инвалида.
Однажды инвалид ехал на своей тележке пьяный. Когда пьяны
обычные люди, они шатаются на ногах, а этот мчался на своей тележке
по улице, подшипники жужжали, как самолеты, а он орал:
— Эх, раз-зойдись! Гвар-р-рдия едет!..
Улица шла под уклон, инвалид разогнался, отталкиваясь деревяш¬
ками с ручками, его тележка неслась быстрее машин, а он все разго¬
нялся и разгонялся, орал и орал. Вдруг крик стих, и Михаська увидел,
как тележка зацепилась за что-то и инвалид рухнул на землю. Его
протащило по инерции еще несколько метров, какие-то люди броси¬
лись к нему, чтобы помочь, но он заматерился и поднялся сам. Рукав
306 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
гимнастерки был разодран. И вдруг инвалид заплакал пьяным голо¬
сом, прямо заревел на всю улицу; и прохожие притихли, останови¬
лись, молча смотрели на него. Даже грузовушка с дровами — мимо
ехала — затормозила, и тетка-шофер высунулась из кабины. А инва¬
лид медленно поехал сквозь людской коридор к своему месту у за¬
бора...
Весь город, наверное, знал его. Один отец не знал. Но чего же
стоять как вкопанному? Михаська посмотрел на отца. Тот не отрыва¬
ясь глядел на инвалида. Потом переступил с ноги на ногу, сказал
негромко:
— Вон оно как, значит... Не пожалела война Серегу...
Инвалид дремал, не обращая внимания на людей, иногда вздраги¬
вал всем телом, просыпался и обводил улицу мутным, тяжелым
взглядом, будто дразнил всех: ну-ка, мол, попробуйте, не подайте!
Монеты глухо падали в пилотку, а он снова вешал на грудь нечесаную
голову и всхрапывал.
Звездочка на перевернутой пилотке была вниз головой, и Михаське
захотелось подбежать к инвалиду, отцепить побыстрей от пилотки
звездочку, чтобы не пылилась она здесь, не лежала у ног прохожих, не
просила подаяния. Он подумал нехорошо про инвалида; он подумал,
что, наверное, безногий нарочно не снимает звездочку, и медали не
снимает, и гвардейский знак и нахально кричит так тоже не зря —
хочет просто побольше получить... Но тут же он представил себя без
обеих ног, и ему стало стыдно своих мыслей. Без ног — это ужасно,
это страшно, без ног же невозможно...
Михаська посмотрел на отца.
Тот все стоял, внимательно глядя на инвалида, и черная морщина
разрезала лоб, и брови почти Сходились на переносье.
— Здорово пьет, горемыка,— сказал он.
— А ты его знаешь? — спросил Михаська.
— Знаю, знаю...— быстро сказал отец.— Как же не знать, воева¬
ли вместе. Да пойдем-ка!
Он крепко схватил Михаську за руку и потащил на другую сторону
улицы. Отец шел быстро, и спокойствие и веселье, которые были в нем
только что, враз куда-то исчезли. Он торопился, будто за ним кто-то
гнался, кто-то глядел на него, а отец не хотел, чтоб его узнали и дог¬
нали.
— А то увидит, не отвяжешься,— сказал он, снова взглянув на
инвалида.
Михаська даже не сразу понял, что сказал отец. Только что, мину¬
ЧИСТЫЕ КАМУШКИ 307
ту назад, он смотрел на инвалида нахмурившись, стиснув зубы, и
Михаська подумал, что отцу, наверное, нелегко смотреть вот так на
человека, у которого война отняла ноги. Может, он подумал о себе —
ведь и он мог прийти с фронта таким же!
Михаська думал, отец жалеет инвалида, а он вон как...
Они перешли на другую сторону, и отец сразу успокоился, снова
стал веселым.
Точно такой же, как и до «Маугли».
Будто и не было инвалида.
Михаська представил себя на месте отца. А вместо инвали¬
да — Сашку. Неужели, неужели он смог бы, как отец?.. Рядом
воевали... Конечно, это правда, что говорит отец. Но что же тут поде¬
лаешь?
Михаська подумал, что хотел рассказать отцу про марки, про
Савватея, но сейчас это было таким мелким и никчемным...
Он только снова посмотрел на отца.
Долго-долго...
5
А потом пришло первое сентября.
Весной, когда Михаська кончал четвертый класс, он думал, что
теперь придется переходить в другую школу. Он даже потихонечку
гордился, что уже кончил одну школу, как говорила Юлия Николаев¬
на, получил начальное образование и теперь ему надо переходить в
среднюю.
Это все-таки не так просто, не раз чихнуть — кончить начальную
школу. Михаська первый раз в жизни сдавал экзамены и, конечно,
страшно боялся. Но изложение написал на пятерку и остальные
экзамены, которые Юлия Николаевна почему-то называла испытания¬
ми, тоже сдал хорошо и получил свидетельство об окончании началь¬
ной школы — большой белый лист, где были поставлены отметки по
всем предметам.
Когда Юлия Николаевна торжественно, как и всем ребятам, вручи¬
ла Михаське лист, ему стало совсем грустно и не захотелось никуда
переходить, ни в какую другую школу. Все ребята тоже говорили,
что им никуда не хочется уходить, что лучше бы всегда здесь учиться,
с Юлией Николаевной. Она улыбалась, говорила, что все равно она
учит только до четвертого класса, но тут их начальную школу пере¬
308 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
делали в семилетнюю смешанную, и весь Михаськин класс остался в
старой школе.
Так что первого сентября Михаська не пошел, а поскакал в свою
школу, будто кенгуру. Перед первым уроком он поиграл в чехарду во
дворе, поспорил со Свиридом, что орден Красной Звезды ничуть
не хуже Боевого Красного Знамени, потому что красная звезда и
красное знамя ведь одно и то же: они всегда вместе и друг без друга не
обходятся.
Потом загремел звонок — Ивановна вышла во двор со своим мед¬
ным колокольчиком на деревянной ручке, у которого даже язычок
оторвался — столько он звонил,— и вместо него телефонным прово¬
дом была примотана железная шайба, и потому колокольчик не зве¬
нел, а гремел.
Когда они расселись, в класс вошла Юлия Николаевна с каким-то
человеком в очках, высоким и бритоголовым. Она ему еле до плеча
доставала.
— Ну вот,— сказала,— вы совсем взрослые. Уже пятикласс¬
ники. Теперь у вас будет не один учитель, а много. Учитесь
дальше...
Она была в том же самом платье, что и в День Победы,— с белым
воротничком из кружев, а на платье было два ордена Ленина.
Все ребята гордились Юлией Николаевной — еще бы, у нее было
сразу два ордена! И каких! Ни у одного учителя во всем городе нет
таких наград. Мама говорила Михаське, что Юлия Николаевна была
учительницей еще при царе — вот сколько она уже работала!
Девчонки стали пищать, что Юлия Николаевна от них уходит, но
она погрозила им пальцем и ушла.
Был бы Михаська девчонкой, он тоже бы запищал, ничего в этом
удивительного нет. Он вспомнил, как Юлия Николаевна, когда они
были первыши, вторыши да еще и в прошлом году по утрам, перед
первым уроком, доставала из своего портфеля серую коробочку и ма¬
ленькую ложку. Потом она ходила между партами и всем давала
маленькие сладкие шарики из своей коробки. Витаминки.
Витаминки-то все ели, причмокивая, а вот когда в большую пере¬
мену Ивановна приносила ведро с зеленой водой — хвойным отваром,
Юлии Николаевне приходилось смотреть, чтобы кто-нибудь не вы¬
плеснул отвар в цветочные горшки — зеленая водичка была горькая
и невкусная. Юлия Николаевна не уходила в учительскую, застав¬
ляла всех пить и приговаривала, что это пить сейчас надо обяза¬
тельно.
ЧИСТЫЕ КАМУШКИ 309
По субботам после уроков она оставляла самых хилых ребят и
вела к себе домой. Дома она поила их горячим чаем, и не с сахарином,
а с настоящим сахаром.
Михаська тоже пил у нее этот чай. Юлия Николаевна что-нибудь
рассказывала при этом интересное и говорила, чтобы все пили, не
стесняясь, потому что от сладкого чая получается у человека много
крови. Иногда к чаю был хлеб с маслом.
Юлия Николаевна поила чаем не только ребят из Михаськиного
класса, но и из других, а маленькая Лиза, внучка Ивановны, ходила
сюда, когда еще даже и не училась совсем.
Ивановна сказала однажды Михаськиной маме, что за два ордена
Ленина Юлии Николаевне положено получать деньги. Она сначала
отказывалась от них, а потом стала получать и на эти деньги покупала
на рынке настоящий сахар и витамины. А хлеб с маслом она покупает
на свою зарплату и говорит, что живет она одна, поэтому, мол, ей
хватит, а ребят накормить надо.
Такая была Юлия Николаевна. А теперь она уходила. Снова к
малышам. Снова будет учить их, как писать и считать. И снова будет
кормить их витаминками.
Михаське стало горько. Он подумал, что Юлия Николаевна была
ему как бабушка.
Он не знал, какие бывают бабушки, но, наверное, такие, как Юлия
Николаевна.
6
Теперь на каждом уроке — русском, математике, истории — были
разные учителя. Это оказалось интересно, потому что все они были
очень разные люди.
Бритоголовый математик Иван Алексеевич, которого за круглую
голову с круглыми, торчавшими в сторону ушами сразу про¬
звали Шариком, Михаське понравился, не то что Русалка — Нина
Петровна.
Когда кто-нибудь из ребят выходил к доске и не мог решить зада¬
чу, он не сердился, а удивлялся: в чем дело — ведь задача вон какая
легкая,— а потом, когда наконец задача получалась, все решали еще
одну, похожую, и тот, кому не повезло, уже быстро с ней разделы¬
вался и, хотя получал жалкую тройку с минусом, уходил на свою
парту красный от удовольствия. Иван Алексеевич вообще очень любил
310 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
плюсы и минусы. Он ставил двойки, тройки, четверки с минусами и
плюсами, а самыми крайними оценками у него были единица с мину¬
сом и пятерка с плюсом. Правда, такие отметки он ставил очень
редко: например, если уж кто-нибудь обманет его на контрольной или
так решит задачку, что даже учитель удивится. Однажды Свирид
такой номер выкинул.
После контрольной, когда раздавали тетрадки с отметками, Шарик
вдруг вызвал Сашку и сказал ему:
— А ты знаешь, Свиридов, у тебя ответ не сошелся.
Сашка опустил голову.
— Но ты все-таки молодец! — сказал Шарик.— Ты решил за¬
дачку по-своему. Я тебе пятерку поставил. Даже с плюсом. Са¬
дись.
Сашка покраснел до макушки, а Иван Алексеевич встал и захо¬
дил по классу.
— Да! — говорил математик.— Трижды да! Пусть всегда вас
гложет червь сомнения!
Михаська усмехнулся тогда: за что это его должны грызть какие-
то черви, но заметил — почему-то ребята реже стали звать учителя
Шариком.
Кроме математики, Иван Алексеевич преподавал у них физкульту¬
ру. Это, конечно, забавно: и на серьезной математике, и на несерьезной
физкультуре — один учитель! Михаська заметил, что Иван Алексее¬
вич и сам как будто этому удивляется. Но учителей не хватало. А на
физкультуре он даже иногда играл с ребятами в футбол, если в
одной команде не хватало игроков.
Ходил Иван Алексеевич и на математику и на физкультуру в
офицерском кителе без орденов, только на груди желтела, краснела
и снова желтела трехцветная полоска. Это означало, что у него два
тяжелых ранения и одно среднее. И хотя у Ивана Алексеевича были
целы и руки и ноги, Михаська, видавший в госпитале у мамы тяжело¬
раненых, жалел его.
7
Ну, а Русалка, Нина Петровна, была совсем другой. Русалкой
ребята прозвали ее не за длинные волосы, а за то, что она преподавала
русский язык. Нина Петровна всегда будто куда-то торопилась; и если
кто плохо отвечал или забыл немного, она тут же сажала на место и
ЧИСТЫЕ КАМУШКИ 311
ставила двойку. Нужно было потом за ней ходить и клянчить, чтобы
вызвала снова.
Ребята ее боялись и не любили, и Михаська тоже не любил.
У Юлии Николаевны он за изложение на экзаменах получил пятерку
и считался в прошлом году лучшим «русаком», а теперь выше трой¬
ки подняться никак не мог.
Однажды Нина Петровна вывела в его дневнике жирную двойку.
Это была первая двойка в новом году, и Михаська страшно рас¬
строился, тем более что урок был проще простого — суффиксы —
и он его знал, только почему-то растерялся и не смог назвать при¬
меры.
Он еле досидел до конца уроков и побрел куда глаза глядят. Домой
идти не хотелось, он проводил Сашку Свирида, погулял еще и неожи¬
данно для себя оказался на рынке.
Рынок кишел народом. Какой-то солдат держал в обеих руках по
буханке хлеба и торговался со старухой. Тетка, обмотанная в цве¬
тастую шаль, топталась возле деревянного забора, к которому кноп¬
ками были прикреплены странные картины — лебедь с женской голо¬
вой, плывущий по гладкому озеру, а на берегу человек с кривой саблей
на боку. Картины были все одинаковые, только на одной из них у
дядьки с саблей были черные усы и походил он чем-то на Чапаева.
Перед лебедями и «Чапаевым» на земле, устланной газетами, длинной
шеренгой выстроились серые кошки. Кошки были гипсовые, с дыркой
на голове, чтобы бросать туда монетки. Кошки-сберкассы.
Михаська побродил еще, прошелся по барахолке, где торговали
ржавыми гвоздями, засохшей краской и довоенными книгами, по¬
смотрел на клетку с живыми петухами, которых доставал по одному
дядька, с носом, похожим на картошку, и пошел к выходу.
Он совсем было уже вышел, как вдруг словно споткнулся. Возле
урны, полной окурков, бумаг и еще какой-то дряни, стояла Катька, и
ее окружала толпа.
Михаська пробрался вперед и увидел рядом с Катькой корзину,
из которой торчали две большие бутыли. Из третьей она наливала
в стакан квас, потом быстро ополаскивала стакан в миске и наливала
снова.
На улице было по-летнему жарко, хотелось пить, и торговля у
Катьки шла бойко.
Михаська хотел было выбраться, но очередь подтолкнула его пря¬
мо к Катьке.
Катька вздрогнула, увидев Михаську, моргнула глазами от неожи¬
312 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
данности, но тут же спохватилась и протянула ему стакан с ква¬
сом.
— Пей,— сказала она.
Михаська взял стакан и выпил. Квас был невкусный, горько¬
ватый.
— Выпил? — спросила Катька, и глаза ее потемнели.— Вку¬
сно? — спросила она снова, и Михаське показалось, будто она чувст¬
вует себя виноватой.
Толпа тотчас оттерла Михаську, и он остановился, сбитый с толку.
Катька, семиклассница Катька, торговала на рынке квасом! Как та
тетка с картинами или мужик с петухами. Вот приведись ему торго¬
вать на базаре, да он бы сгорел со стыда!
Когда мама вернулась с дежурства, Михаська усердно сидел над
русским.
Ему казалось — это лучшая маскировка. Но если он старательно
глядел в учебник, мама его всегда спрашивала:
— По какому?
И приходилось говорить.
— Ну,— сказала мама, бренча кастрюлями,— повторяй вслух.
Как на уроке. А я буду за учительницу. Так что не надейся...
Ссориться с мамой не хотелось: скоро должен вернуться отец —
вдруг она ему расскажет?
Михаська встал из-за стола, как на настоящем уроке.
— Суффикс,— начал он,— это часть слова...
Правило он знал, теперь надо было примеры.
— Например, коза — козочка,— сказал он.— Книга — книжеч¬
ка.— Опять их не хватало, этих примеров! Михаська решил фантази¬
ровать.— Двойка — двоечка,— сказал он. (Мама чуть улыбнулась у
плиты.) — Двойка — двоечка,— повторил Михаська. — Мама —
мамочка...
Мама засмеялась.
— Ладно, ладно,— сказала она,— не подлизывайся, не скажу...
В дверь стукнули, и Катька вызвала Михаську в коридор. Она
отвела его в уголок и протянула красного сладкого петушка на
палочке. Он видел сегодня таких на базаре. Какая-то толстая тетка
держала в руках пол-литровую банку, набитую петушками. Петушки
высовывались из банки, их было много, и банка походила на удиви¬
тельный сладкий цветок.
— На, Михасик,— сказала Катька.— Только очень тебя прошу,
не говори никому.
ЧИСТЫЕ КАМУШКИ 313
Катькины глаза и вся ее фигура, тонкая, худая, просили Михась¬
ку не говорить никому, что он видел ее на рынке, торгующую ква¬
сом.
— Вот еще!..— сказал Михаська.— Что я, доносчик? А петуха от¬
дай Лизе.
Катька хотела было силой сунуть Михаське петуха, но он так
посмотрел на нее, что она сразу же пошла к себе.
— Спасибо, Михасик,— сказала она.
— Вот еще!..— ответил Михаська, и ему стало жалко Катю.
8
На другой день Нина Петровна так и не спросила Михаську, хотя
он встретил ее в коридоре и очень-очень просил вызвать его. Только
в конце урока она, глядя в журнал, буркнула:
— Михайлов, если хочешь исправить двойку, останься после
уроков.
Михаська остался. Он сидел в пустом классе, еще раз листая
учебник. Ох и вредная эта Русалка! Сейчас будет гонять по всей кни¬
ге, глядеть в сторону и вздыхать. А потом поставит тройку: мол,
и это хорошо, скажи спасибо, что я добрая — видишь, сжалилась над
тобой.
Дверь открылась, и он встал, не глядя на Нину Петровну, а когда
повернулся — рассмеялся. Это была не учительница, а бабушка
Ивановна с ведрами. Рядом с ней стояла маленькая Лиза.
— После уроков оставили? — спросила бабушка.
— Ага,— ответил Михаська.— Вот двойку получил.
— Поди-ка, у Нины Петровны? — сказала Ивановна. Михаська
кивнул.— Да-а...— вздохнула Ивановна.— Сердце у нее тяжелое.
Известное дело, не мать.
Лиза закатала рукава, смочила тряпку в ведре и стала вытирать
парты. Она раскраснелась, волосы падали ей на глаза, и Лиза смешно
дула на них, оттопыривая нижнюю губу. Ивановна шваброй терла
пол, и голова ее вздрагивала, будто от испуга.
Обе работали молча, сосредоточенно. Только бабушка Ивановна
иногда останавливалась, вытирала тыльной стороной ладони пот со
лба и тут же снова бралась за швабру.
Михаську вдруг будто подхлестнул кто-то. Он даже покраснел.
314 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
Вот маленькая Лиза и бабушка работают, а он сидит рядом с ними и
листает свою книжку. Михаська закатал рукава, силком отобрал
у Ивановны швабру и стал тереть ею пол. Но что-то у него плохо
выходило с этой шваброй, и тогда он взял тряпку и стал мыть пол
руками.
— Михасик, перестань, перестань! Михасик...— говорила ба¬
бушка, но он не переставал, и у него это здорово быстро вы¬
ходило.
Потом они перешли в другой класс, и Михаська снова мыл там пол
и ругался, что ребята так много сорят и оставляют после себя столько
грязи. Он находил на полу ржавые перышки, стружки от карандаша,
а в одном месте чуть не напоролся на иголку.
Они кончили, когда стало уже темнеть, и Михаська спохватился,
что его ждет Нина Петровна. Он скатился по лестнице и заглянул в
учительскую. Нина Петровна уже ушла, и Михаська пошел наверх
за сумкой.
— Только не говори бабушке,— сказала ему Лиза.— Она рас¬
строится.
С нижнего этажа пришла Ивановна.
— Золотой ты мальчик, Михасик,— сказала она, собираясь.—
Смотри-ка, вдвое быстрей управились.
Лиза принесла большой кулек. В нем были корочки от черного
хлеба, огрызки, даже попадались целые куски. Ивановна стала скла¬
дывать их в сумку, тихо приговаривая, будто сама себе:
— Ну вот и хорошо... Хорошие корочки.
— Зачем это? — спросил Михасик.
— Для кваса, Михасик, для кваса,— сказала Ивановна.— Мы из
этих корочек квасок варим и продаем. Выручает нас маленько квасок,
да не больно-то...
Михаська вспомнил Катьку с бутылью, с корзиной, торгующую
квасом на рынке, вспомнил петушка, которого она принесла, и ему
стало смертельно стыдно за то, что Катька увидела его тогда. Ведь
мог бы он пройти мимо, не лезть к ней да еще и пить квас, будто го¬
ворил: «А я тебя видел!»
9
Теперь, выучив уроки, Михаська часто приходил к бабушке Ива¬
новне, к Лизе и Катьке, и вся жизнь маленькой семьи была у него как
на ладони.
316 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
Он помнил Катину и Лизину мать, ее высокий рост, белое лицо,
удивительно белое, будто в муке, да еще зеленое пальто, перешитое
из шинели.
Все несчастья свалились на Ивановну и девчонок сразу, без вся¬
кой пощады.
Перед войной Катька и Лиза жили с матерью у отца, на грани¬
це. Он был военный. Когда началась война, он сразу же отправил
семью к Ивановне. Поезд с беженцами шел долго; и когда Катька
с Лизой и матерью приехали наконец, Ивановна показала им похо¬
ронную.
Немного оправившись от горя, мать устроилась на работу. Эвакуи¬
рованных в то время приезжало много — каждый день не по одному
эшелону; найти работу оказалось трудно, и она нанялась на хлебо¬
завод развозить по магазинам деревянную тележку с хлебом. Было на
заводе одно преимущество — иногда можно было выпросить у работ¬
ниц пекарного цеха кусок хлеба, а то и целых полбуханки. Это стро¬
го каралось.
Если кого-нибудь из рабочих хлебозавода охранники ловили
с хлебом, его немедленно отдавали под суд, но есть было нечего,
Катька и Лиза голодали, и их мама рисковала.
Тележка, которую она возила, налегая грудью на деревянную
перекладину, была не очень уж и большая, и здоровому да сытому
человеку катать ее было бы нетрудно. Но мать их после смерти отца
постоянно болела, недоедала да еще и вставала посреди ночи, часа
в три, потому что к этому времени хлебозавод давал выпечку и прихо¬
дилось стоять в очереди вместе с такими же худыми и бледными
женщинами в белых халатах, с такими же, как у нее, деревянными
тележками, чтобы нагрузить хлеб и везти по магазинам.
Бывали у мамы несчастья, потому что иногда она не успевала со¬
считать буханки, которые ей выдавали, и случалось, что хлеба не хва¬
тало. Это было, правда, редко, но если не хватает одной буханки, это
значит, плати рублей триста за нее на рынке. А откуда у них такие
деньги?
Случалось и другое, когда усталые раздатчики тоже обсчитыва¬
лись — на буханку-другую; им было легче, с них не спрашивали так
строго, да и одна-две буханки за смену не так уж страшно для завода,
и тогда мать их утаивала, приносила домой. Девчонки прыгали, отла¬
мывали горбушки, а мать глядела на них и беззвучно плакала. Ей,
наверное, было стыдно, что она кого-то обманывала, но голод сильней
стыда, да еще если голодают дети.
ЧИСТЫЕ КАМУШКИ 317
Тележка у мамы Лизы и Катьки была старая; случалось, у нее
обламывалось колесо.
Михаська шел однажды куда-то, была слякотная осень, и вдруг
он увидел у обочины дороги мать Лизы и Катьки, стоявшую на
коленях возле тележки со сломанным колесом. Она пыталась почи¬
нить ее, надеть колесо на ось, но тележка была с хлебом, а хлеб был
сырой,— на полкило выходил совсем маленький кусочек, говорили
тогда, что в хлеб нарочно добавляют воды,— и она не могла поднять
покосившуюся набок тележку. Михаська подошел к тележке, попробо¬
вал помочь ее поднять, но что он мог тогда, в сорок первом? Такой-то
замухрышка.
Тогда мама Лизы и Катьки попросила его сходить на хлебозавод,
сказать, чтоб послали кого на помощь; и Михаська сбегал, дождался,
когда выйдут из проходной три женщины, тоже развозчицы, и при¬
вел их к тележке.
В другой раз Михаська увидел, как рядом с матерью, напирая на
деревянную перекладину руками, шла Катька.
Начинало подсыхать, грязь сделалась гладкая, и тележку заносило
в сторону. Михаська подбежал тогда к ним, запрягся третьим в
упряжку и подумал, что, наверное, со стороны они походят на людей
с картинки, которую он видел в довоенном журнале. Оборванные люди
тянут по реке баржу. Только и разницы, что они не такие уж оборван¬
ные.
Беда случилась тогда же, осенью сорок первого, буквально че¬
рез несколько дней после того, как Михаська помогал Катьке и ее
маме.
Рано утром, было совсем еще темно, в коридоре вдруг раздался ди¬
кий крик. Михаська вскочил. Мама в одной рубашке выбежала в ко¬
ридор и быстро вернулась, такая бледная, что даже в темноте было
видно.
Она зажгла керосиновую лампу и долго сидела молча, сжав губы.
Михаська тормошил ее, спрашивал, что случилось, хотел сам выйти
в коридор, но она его не пустила, а потом сказала, что маму Лизы и
Катьки задавила машина.
Михаська не поверил, снова пошел к двери, но мама схватила его,
закрыла дверь на ключ и легла. Ее знобило. Может, подумала: а что,
если вот так же случилось бы с ней? Куда бы делся тогда Михаська?
Ведь ни бабушки, никого у них нет. Значит, в детдом.
Михаська ходил на похороны вместе с мамой. Развозчицы хлеба
сняли с двух тележек, которые они всегда возили, хлебные фургон-
318 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
чики, тележки соединили между собой. Кто-то принес еловые ветки.
Ветки были удивительные — серебристые, почти белые и очень краси¬
вые. Они были от серебристой ели, их срубили в ботаническом саду.
Еловыми лапами убрали сдвоенную тележку, на нее поставили тесо¬
вый гроб. Потом развозчицы вытащили из сумок белые халаты и наде¬
ли их поверх пальто. Затем они взялись за тележку со всех четырех
сторон, человек двадцать в белых халатах поверх пальто, и покатили
гроб в сторону кладбища.
Они шли тихо; наверное, никогда так тихо не возили они хлеб¬
ные тележки. Гроб был заколочен — Михаська так и не увидел боль¬
ше маму Лизы и Кати. Девочки шли, взяв под руки бабушку,
у Ивановны почему-то тряслась голова. Она совсем поседела за эту
ночь.
Потом Михаська узнал, что хлебную тележку, которую везла мама
Катьки и Лизы, занесло на гололеде, а вслед за ней шел грузовик, шо¬
фер стал тормозить, и машину тоже понесло по скользкому льду пря¬
мо на тележку...
10
Катька сказала Михаське через несколько дней, что шофером тоже
была женщина; она шла на похоронах рядом с ними, но Михаська
ее не заметил тогда.
Он увидел ее позже. Это была пожилая тетка. Удивительно, что
она водила машину, но кем только тогда не работали женщины!
Тетка приносила Ивановне муку — она ездила в какую-то деревню и
выменяла там на что-то, потом приносила деньги — и это было уже
при Михаське, он готовил тогда уроки с Катькой — и еще много раз
приходила, и так ходила всю войну, пока вдруг не исчезла. Ивановна
узнала потом: тетка эта, такая неприметная и маленькая, что Михась¬
ка никак не мог ее запомнить, умерла от сыпного тифа.
Бабушка Ивановна плакала, и Михаська удивлялся тогда, что это
она плачет — ведь эта тетка задавила ее дочь и оставила девчонок
круглыми сиротами.
Но Ивановна плакала так, будто потеряла родного человека; она
ведь даже в суд ходила, просила, чтоб эту тетку не судили, когда она
задавила Катькину и Лизину маму.
«Она ведь тут ни при чем»,— говорила Ивановна, хоть у нее и ста¬
ла трястись голова после этого «ни при чем».
ЧИСТЫЕ КАМУШКИ 319
С того времени, как погибла главная кормилица, жить Ивановне
и ее девочкам стало совсем плохо. Школа, где учился Михаська, была
прикреплена к столовой «N*2 8, и ребятам давали талоны на разовое пи¬
тание.
Но за эти талоны все равно надо было платить. У Ивановны на
талоны для Катьки и Лизы денег не хватало, и она брала только для
Лизы.
К Михаське, когда он ел, не раз подходили какой-нибудь пацан или
девчонка и говорили: «Оставь немного». Или просто садились напро¬
тив и глядели в тарелку, не оставит ли там Михаська картошину или
супчику на дне. Таких ребят было много, их прозвали шакалами из
восьмой столовой. Михаська всегда выглядывал в их разноликой тол¬
пе Катьку — она тоже считалась шакалкой. Катька стыдилась своего
прозвища, стыдилась просить; она просто иногда проходила мимо сто¬
лов, и если оставался кусочек хлеба или еще что-нибудь, она брала,
но никогда не подходила, если человек сидел за столом, и не глядела
ему в рот.
Михаська высматривал Катьку, махал ей рукой. Она краснела,
хотя чего ж ей краснеть перед Михаськой, но к столу шла, и Михаська
всегда делился с ней и первым и вторым и оставлял полстакана ки¬
селя.
Правда, потом у него жужжало что-то в животе и до вечера, пока
не придет мама, не раз побегут голодные слюнки, но не позвать Кать¬
ку, похожую на скелет — только глаза блестят,— он не мог. Он вспо¬
минал войну, как там сражаются бойцы — ведь делятся, наверное,
последним куском друг с другом и махорочку делят,— и ему стано¬
вилось стыдно от одной мысли, что он все хотел съесть сам и не позвать
Катьку.
Был еще и такой случай, это как раз при Михаське все произошло.
Как-то Михаська пришел к Катьке, а ее не было, дома сидела Лиза и
плакала горькими слезами, глядя на булочки-посыпушки, которые
лежали на фанерке. Лиза смотрела на булочки, шмыгала розовым но¬
сом и рукавами утирала слезы. Оказывается, утром бабушка подняла
Лизу и Катьку ни свет ни заря, они пошли в хлебный магазин и ото¬
варились белыми булочками, посыпанными какими-то сладкими
крошками. Это считалось великим счастьем, потому что булочки мож¬
но было отнести на базар, там продать дороже и купить вместо них
много черного хлеба.
Прежде чем пойти на рынок, бабушка Ивановна ушла в школу,
а Лиза осталась одна с булочками. Она долго смотрела на них, смотре¬
320 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
ла, потом стала слизывать с одной булочки сладкие крошки. Когда
она слизала, ей показалось, что с булочкой ничего особенного не
произошло — булочка как булочка, она ведь не откусила ее, а просто
слизала крошки. Так слизала Лиза крошки со всех булочек и вдруг
увидела, что они стали голые, без крошек-то, несладкие и их не купят,
и вот сидела, пускала пузыри.
Михаське стало жалко Лизу; он ее утешал как мог, а сам про себя
подумал, какой он стал жалостливый, как какая-то старуха, прямо
по всякому поводу всех жалеет; надо бы дать этой Лизке по загрив¬
ку как следует: соображать же надо — лишила всех куска хлеба,
но дать по загривку ей не мог. Очень уж Лизка была прозрачная
какая-то.
Тут пришла бабушка. Увидела булочки без сладких крошек, оста¬
новилась на пороге, заметила зареванную Лизку, постояла, помолча¬
ла, потрясла сильнее головой да так ничего и не сказала. Ушла за
буфет.
Это все было в войну, а теперь война кончилась. Только ничего не
изменилось в семье у бабушки Ивановны. Так же, как раньше, дела¬
ла Ивановна котлеты из картофельных очисток, ходила по воскре¬
сеньям с девчонками в лес по грибы, по ягоды, по желуди; желуди она
жарила на противне, а потом молола, получался желудевый кофе. Ле¬
том они ели щи из крапивы, собирали щавель — летом можно было
жить, а вот к осени, к зиме становилось совсем худо. Картофельный
участок, который давали Ивановне, был мал, и она снова горевала,
как станут они зимовать.
Теперь осенью у них часто висел замок на двери. Катька после уро¬
ков забирала Лизу, и они шли на картофельное поле выбирать малень¬
кие, с ноготок, клубеньки из земли, потому что такие только и остава¬
лись, все покрупнее убирали подчистую. Или торчали у овощехрани¬
лища с сумками и ждали, когда упадет случайно турнепсина, репа
или морковка. Сумки Ивановна сшила им из разных лоскутков, какие
нашла, и девчонки походили на побирушек.
Михаська знал, что, когда погибла мать, к Ивановне приходили
развозчицы хлеба, предлагали отдать Катьку и Лизу в детский дом или
предлагали найти каких-нибудь богатых бездетных людей, которые
бы взяли девочек. Что до богатых — такие, наверное, были, а может, и
нет, а вот бездетные наверняка были. У некоторых эвакуированных по
дороге в тыл погибли дети. Они очень горевали и готовы были, не
глядя ни на что, взять ребенка.
Но Ивановна кричала на развозчиц, плакала, прижимала к себе
ЧИСТЫЕ КАМУШКИ 321
девчонок, и женщины отступились. Только иногда приносили хлеба с
завода.
Катя хотела уйти из школы, даже уже нашла место судомойки в
гарнизонной столовой, но бабушка Ивановна сказала, что, пока жива,
работать ей не даст, пусть учится, кончает десятилетку и поступает
в институт, а там будет легче, потому что в институте платят стипен¬
дию...
11
Михаське очень нравился завод, где работал отец.
Правда, он там не бывал ни разу, но труба завода, самая большая
в городе, коптила ночью и днем, а у ворот стояли часовые, как на гра¬
нице.
Отец ходил теперь не в гимнастерке, а в простой рубашке. Но это
не беда: зато отец — мастер! Михаська всем говорил, что отец у него
мастер. Значит, из всех рабочих — рабочий. Мастер на все руки — не
зря же так говорят.
А что отец мастер на все руки, Михаська ни на вот столечко не
сомневался.
Вот он как железо гнет, ведра паяет, плитки чинит!
Михаська теперь не слонялся по городу после школы, а скорее
мчался домой, хватал кусок хлеба и торопился побыстрее выучить
уроки.
К приходу отца все должно быть готово, и как следует готово,
конечно, чтоб отец не смог отправить его учить уроки, чтоб он мог
только весело поглядывать на Михаську и говорить с ним о серьез¬
ных делах.
А дела были серьезные!
Отец принес откуда-то паяльник, приладил на край стола малень¬
кие тиски, и комната их стала походить на мастерскую. Полкомнаты
занимали старые ведра, тазы, примусы, керогазы, плитки, замки.
Отец осторожно брал каждую вещь, осматривал ее внимательно, при¬
кидывал, как ее скорее починить,— и начиналось!..
Руки у него летали будто птицы, да так легко, умело летали, словно
он и не воевал вовсе, не стрелял по фашистам, а только тем и занимал¬
ся, что чинил ведра и прочее имущество.
Хозяйки со всего квартала, узнав, что отец никому не отказывает
и все умеет чинить, несли ему свое барахло. Отец улыбался, кивал в
угол, чтоб туда поставили ведро или примус, говорил, когда можно
322 АЛЬБЕРТ ЛИ ХАНОВ
за ними прийти, и снова латал, чинил, ремонтировал всякую вся¬
чину.
Однажды к ним пришел с патефоном в руках тот дядька, с лицом,
похожим на блин,— Седов.
Отец подвинул Седову табуретку, стал внимательно рассматривать
его патефон.
— Ну как, пьешь пиво с молоком? — спросил отец.
— Пью, милый, пью,— заулыбался Седов,— и еще закусываю.
А ты, поди, завариху ешь?
Отец посмотрел на Седова внимательно, и Михаське показалось,
что он кинет сейчас патефон в этот белый круглый блин. Но отец пате¬
фон не кинул, ничего не сказал Седову.
— Тяжело, наверное? — серьезно, не улыбаясь, спросил Седов.—
После работы снова работа. Я ведь сам...
— Ладно,— прервал его отец,— сам с усам! Приготовь денежки,
не бесплатно делаю.
Седов засмеялся, встал, подошел к двери.
— Само собой,— сказал он,— само собой, а как же? Только
мелко плаваешь, Михайлов, мелко.
Отец взглянул на Седова, хотел встать, но тот уже прикрыл
дверь.
Отец долго молчал. Работал яростно, будто кто его разозлил. Потом
он вдруг задумался, положил паяльник на стол, да неосторожно —
задымилась клеенка.
— Черт возьми!— зло выругался отец.
Прибежала из коридора мама, увидела, что случилось, и зас¬
меялась:
— А я думала, тут пожар!
Отца будто кто хлестнул.
— «Пожар»! — заорал он.
И Михаська даже рот раскрыл. Что это он? Что с ним случилось?
На маму закричал.
Отец швырнул таз, который паял, и заходил по комнате как маят¬
ник — взад-вперед, взад-вперед. Мама подошла к нему, взяла его
за плечи.
— Ну что ты?— сказала она.— Успокойся...
Она смотрела на отца, как тогда, в тот длинный первый день, и
глаза ее походили на два кусочка неба.
— Устал ты,— сказала она.— Ну отдохни. Чего ты волнуешься?
Грех обижаться. Живем как люди, не хуже.
324 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
Отец вырвался, снова заходил по комнате.
— «Как люди»!—крикнул он.—Вот именно как люди!—Он
остановился перед мамой и сказал ей хрипло, будто мороженого
наелся:— А я не хочу, как люди! Не хочу, слышишь! Я хочу лучше,
чем люди! Или я не заслужил?
Михаська смотрел во все глаза. Таким отца он никогда не видел.
Только что смеялись они, говорили о чем-то — и вдруг такое. Что
с ним?
Отец прошелся по комнате еще и еще, потом вдруг остановился,
обнял маму.
— Зло берет, понимаешь?— сказал он обычным голосом.— Целый
вечер сижу — семь тазов запаял.
Как гроза. Налетела, просыпала на землю молнии и умчалась
дальше. Отец снова взялся за работу.
Михаська подсел к нему. Отец научил его зачищать металл и
паять. Правда, паять Михаська умел еще плохо, но зачищал, как
заправский мастер.
Он привел однажды Сашку Свирида к себе домой, так тот до тем¬
ноты не уходил, пока отец не дал ему ведро чуть-чуть попаять.
Теперь Свирид каждый день в гости к Михаське просится.
Одна мама всем недовольна. Нагремится своими кастрюлями,
сядет напротив Михаськи с отцом и вздыхает.
Раз вздохнет, два. Отец оторвется от какого-нибудь примуса,
подойдет к матери, поцелует ее.
— Да я понимаю,— скажет мама, и глаза ее станут печальными,
словно плакать ей хочется.
— Что зарплата? — говорит отец.— На зарплату только про¬
жить...
За ремонт отец берет деньги. Когда хозяйки спрашивают — мол,
сколько, он смотрит в угол, где лежит всякое барахло для ремон¬
та, и тихо говорит сколько. А потом не глядя сует деньги в кар¬
ман.
Вечером, когда мама и Михаська уже лежат, отец долго еще паяет,
стучит. Наконец открывает форточку и моет руки.
Потом он достает из кармана смятые рубли, трешки, пятерки
и разглаживает их тихонько, складывает стопкой и идет спать. Теперь
руки он уже не моет, ложится рядом с мамой. А мама ведь говорит,
что после денег руки надо мыть, потому что деньги переносят инфек¬
цию.
Отец ложится, а мать ничего не говорит.
ЧИСТЫЕ КАМУШКИ 325
Она и тогда ничего не сказала.
Бабушка Ивановна принесла отцу тазик запаять. Она в нем белье
стирает. Отец тазик запаял, и тоже посмотрел в угол, и тоже, как
всем, сказал Ивановне тихо:
— Два рубля.
И Михаська видел, как растерялась Ивановна, как оставила она
тазик и пошла в коридор, а потом принесла два рубля. Михаська
смотрел на маму — она бренчала кастрюлями совсем рядом и видела,
видела же все. Но мама ничего не сказала.
— Это же Ивановна!— сказал Михаська отцу, глядя на него так,
будто видел в первый раз.— Ивановна, понимаешь? Они плохо живут.
У них мать задавили.
Отец удивленно посмотрел на Михаську и ответил:
— Ну и что?
Словно ничего не случилось. Не было. Не произошло. И мать
громыхала кастрюлями.
Михаська смотрел на отца со страхом, с ужасом, с обидой, и в
глазах у него стояли слезы. Отец снова взглянул на него и снова
ничего не заметил.
Не захотел.
И тогда Михаська вспомнил инвалида.
12
Ох и хитрый человек эта мама!
Только потом понял Михаська, почему она тогда молчала. Почему
не сказала нечего.
Просто она хоть и вздыхала и говорила иногда, скоро ли кончится
эта мастерская, чтоб можно белую скатерть на стол постелить, а
сама-то была рада-радешенька, что все так получается. Что наконец-
то все дома: сын без слова уроки учит, даже троек почти нет, и муж
сидит дома, говорит с сыном, паяет себе ведра.
Мама и сама бы, наверное, с удовольствием попаяла, постучала,
поскоблила эти тазы и ведра, да ведь хозяйство: надо и накормить
мужиков-то, и постирать.
Краем уха и она, конечно, слышала, как рассказывает отец ему,
Михаське, про войну, про то, как дрался с фашистами врукопашную,
и как за танками в атаку шел, и как в госпитале лежал... Ну и конечно,
про орден Красной Звезды. За что его получил.
326 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
Ходил он однажды в разведку и подорвал легковую машину с
офицерами. Офицеров убило: только один, с портфелем, жив остался.
Приволокли его в штаб как «языка», и оказалось, что гитлеровец
очень важный, а еще важнее его портфель.
Михаська подумал, что вроде про это он даже в газете читал.
Неужели про отца писали? В общем, все это мама слушала, и все
это видела, и очень радовалась, глядя, как Михаська с отцом сидят
разговаривают и даже ее не замечают.
Это уж Михаська потом понял.
Но после того случая мама пришла вдруг к Ивановне и принесла
ей ведерко картошки. Еще прошлогодней. Остатки. А потом положила
на стол два рубля и сказала:
— Ивановна, ты извини, тут Виктор ошибся.
Ивановна стала уговаривать маму, чтоб она взяла эти два рубля:
все-таки, мол, отец работал, а за работу пока что надо платить, все
правильно, не при коммунизме живем,— но мама наотрез отказалась,
и Михаська видел, что маме неудобно за отца. Стыдно.
И тогда он понял: это не отец вернул. Это она сама. Значит, она
не согласна с отцом, раз ей стыдно. И может быть, тогда, когда она
промолчала, ей было в сто раз труднее, чем Михаське, и в тысячу
раз обиднее, что отец так сделал.
А она промолчала.
Не сказала ни слова.
«Почему?» — думал Михаська и не мог понять. И только потом
понял, что мама промолчала, потому что любит и Михаську и отца,
любит всю их семью и не хочет, чтоб хоть самая маленькая беда
случилась с ней.
Она просто смолчала и исправила все за отца. А он так ничего
и не узнал.
«Но почему он не сам,—думал Михаська,—почему не сам?
Почему он так сделал, отец? Почему он такой?»
13
Однажды Михаська опоздал на первый урок. Ну, на какую-нибудь
минутку. Хорошо, что математика была: Иван Алексеевич пустил.
Русалка бы — ни за что!
Михаська сел на свое место, достал тетрадку. Смотрит — Сашка
ему семафорит. Михаська не понял. Так Сашка до конца урока все
ЧИСТЫЕ КАМУШКИ 327
ерзал и на него оглядывался. В переменку кивнул Михаське, подо¬
звал к себе.
— Смотри,— сказал Сашка.
На дне его кирзовой сумки лежал настоящий кинжал. Со свастикой
на ручке. Вдоль лезвия тянулись два едва заметных желобка.
— Это чтоб кровь стекала...— Сашка повел лопатками, выпи¬
равшими из-под рубашки, будто холодно ему стало.— Я эту свасти¬
ку — напильником.
Михаська представил себе фашиста, который таким кинжалом
замахивается на партизана — связанного, избитого,— и мурашки
пошли у него по спине. Таким огромным, почти две ладони,— и в
человека...
Сашка рассказал, что вчера был на военной свалке. И если Ми¬
хаська хочет, можно еще сегодня сходить, только тихо, без разго¬
воров, а то мальчишки увяжутся, и тогда не проберешься — свалку
охраняют.
Но охранял свалку один старик с берданкой и в военной фуражке.
Наверное, так натянул, для форса. Или для страха — чтоб боялись
его. С трех сторон свалку окружала колючая проволока, с четвертой
было свободно. Но там, рядом с железнодорожным тупиком, стояла
будка охранника.
Мальчишки лежали под кустом и ждали, когда деду в фураж¬
ке надоест ходить и он уйдет в сторожку, но дед оказался неутоми¬
мым — все топал и топал вокруг колючки, которой была загорожена
свалка.
А за колючей проволокой чего только не было! Исковерканные
танки с белыми крестами, пушки с расщепленными и загнутыми
стволами, разбитые лафеты и даже хвост самолета. Горы железа, раз¬
ломанного фрицевского оружия валялись тут — нестрашные, разби¬
тые навсегда.
Наконец ребята дождались своего: ушел старик с берданкой в
сторожку.
Они поползли к проволочному ограждению. Михаська сразу
представил, что он разведчик и ему надо взорвать склад оружия.
Извиваясь как змея, работая локтями и коленками, он пополз по
траве, оставляя чуть приметный след. Вот и проволока. Натянута
туго — не отогнешь.
В одном месте под проволокой была какая-то ложбинка. Ми¬
хаська перевернулся на спину, прижался к земле и прополз под
колючкой.
328 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
Лазать по железу приходилось осторожно: и не только потому,
что можно было наступить на что-нибудь и загрохотать на всю свалку,
но и потому, что железо во многих местах было рваное, безжалостно
разодранное, видно, снарядами с острыми зазубринами, и очень
легко можно было порезаться.
Михаська с Сашкой поцелились из разбитой пушки, поискали,
нет ли где-нибудь пистолета, и залезли в люк разбитого танка без
гусениц.
Ржавые танковые колеса врезались глубоко в землю и уже обросли
травой. Сашка сел за какие-то рычаги — наверное, там место води¬
теля, а Михаська стал командовать, как на корабле: «Право руля!
Лево руля!» Он просто не знал, как командуют на танке.
Потом Сашка показал Михаське темные пятна на железной стенке.
— Это кровь!— сказал он.
Михаська присмотрелся. Не скажи Сашка, он никогда бы не
подумал, что это высохшая кровь. Просто какие-то пятна. Одно
похоже на Скандинавию.
«Человека уже нет,— подумал он,— а кровь осталась».
Он тут же одернул себя: не человека, а фашиста,— но все равно
стало как-то тоскливо и неприятно.
Они уже решили выходить, и вдруг Сашка показал Михаське
гранату. Настоящую немецкую гранату. Длинную, с вытянутой
деревянной ручкой.
— Здорово! — прошептал Михаська.— Сейчас рванем!
Они уже совсем решили выходить, и вдруг за танком что-то за¬
гудело, загрохотало.
— Поезд...— шепнул Сашка.— Бежим!
Они выскользнули из танка. На железнодорожный тупичок возле
свалки подогнали товарный поезд.
Паровозик был маленький, пыхтел, ухал, шумел, а сам еле
двигал тяжелую махину.
Мальчишки быстро проползли под проволокой, а дальше побе¬
жали уже не таясь. Но их никто не заметил. Старик с берданкой
стоял у паровоза, курил с машинистом. Огромный кран на платформе
скрипнул, развернулся и склонил свой клюв к танку, в котором они
только что сидели.
Было слышно, как натужно застонали тросы, танк нехотя вздрог¬
нул и пополз вверх.
— Все,— сказал Сашка,— капут!
Михаська представил, как этот танк кинут в огромную кипя¬
ЧИСТЫЕ КАМУШКИ 329
щую печь, и он тотчас исчезнет, расплавится, сделается жидким,
и те пятна крови внутри башни исчезнут тоже, исчезнут на¬
всегда.
И он сжал зубы. Ему ни капельки ле было жалко этого фрица,
этого фашиста. Ведь из своего танка он стрелял по нашим! Может,
даже по Ленинграду стрелял, по нашим бойцам, по таким ребятам,
как Сашка.
Пушки с загнутыми и расщепленными стволами, лафеты, хвост
самолета, горы фашистского железа медленно перебирались на
платформу.
Война кончилась, и теперь увозили в печь остатки ее. Как хорошо,
что увозили все это!
Михаська вспомнил День Победы.
Все обнимались и целовались.
Он думал, будет что-то необыкновенное, удивительное.
Может, земля всколыхнется?
Но ничего такого не было. Даже день самый обыкновенный
серый, не весенний.
Михаська орал, обнимался, радовался, как все, но он пока только
чувствовал ее и знал, что она пришла.
А теперь он увидел ее.
Вот она какая, победа! Торжественная. Тихая. И какая мо¬
гучая!
В тишине поскрипывали тросы крана, гудел мотор, а желе¬
зины, которые убивали, покорно поднимались на свою последнюю
смерть.
Они никому не страшны, эти военные обломки, когда-то уби¬
вавшие людей. А теперь они должны перестать существовать
вообще.
Михаська лежал, пораженный всем этим.
Сашка толкнул его в бок и вдруг кривдул:
— Смерть фашистским захватчикам!
Он вскочил, и что-то мелькнуло в его руках. Сашка тут же упал,
и теплая волна прокатилась по Михаськиному затылку. В ушах зазве¬
нело от грохота.
Они побежали.
Они отдали свой салют победе.
Из ста двадцати двух артиллерийских орудий.
330 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
14
В городе строили большой завод.
Иван Алексеевич объявил им, что на новом заводе будут делать
не пушки, не снаряды, а тракторы. Чтобы они пахали землю. Чтобы
росло побольше хлеба и поскорее отменили карточки.
Вот это будет заводище так заводище! На огромном пустыре за
городом день и ночь тарахтели экскаваторы, черпали своими ковшами
землю. Завод строил весь город. Рабочие с других заводов, все учреж¬
дения. После смены люди шли на стройку и работали там до самой
ночи.
Однажды Иван Алексеевич сказал им, что теперь их школа должна
пойти на стройку, настала их очередь, и, конечно, пойдет самый
старший класс — пятый.
Работа у них оказалась хоть и легкая, но очень важная. Они пили¬
ли бревна, но не на большие чурки, как для печки, а на малень¬
кие кругляшки. Потом эти кругляшки кололи на чурбашечки. Это
было топливо для газогенераторок, которые возили от экскаваторов
землю.
Михаська с Сашкой пилили до зеленых кружочков в глазах
и только тогда отдыхали.
С площадки, где скрипели пилы, был хорошо виден котлован.
Все там двигалось. Ворочались экскаваторы, одна за другой под¬
ходили машины, а поближе к ним люди копали землю прямо лопа¬
тами. Все это торопилось, торопилось и в то же время двигалось
спокойно и четко.
К площадке, где работали ребята, то и дело подъезжали машины,
водители заправляли чурбашечками круглые печки возле кабины и
уезжали дальше. Так что остановись ребята, устань — вся бы стройка
остановилась. Умолкли бы экскаваторы, встали машины. И хотя
нарубленных чурбашечек была на площадке целая гора, приготовлен¬
ная еще раньше какой-то другой школой, они работали изо всех
сил.
Еще бы — такой заводище! А когда его построят, можно будет
сказать младшеклассникам, что строили его и они.
Иван Алексеевич был вместе с ребятами: он колол кругляши на
чурбашечки, махал топором будто заведенный и останавливался
только затем, чтобы протереть отпотевшие очки.
Потом он все-таки остановился, объявил большой перекур, и
Михаська еле разогнул спину.
ЧИСТЫЕ КАМУШКИ 331
Можно было посидеть, полежать. Но Михаська с Сашкой пошли
по стройке.
На них гудели газогенераторки, словно ругались, что путаются
тут под ногами, раза два какие-то люди крикнули им, чтоб не ходили
здесь. Вот еще, не ходили! Они такие же сейчас рабочие, как все,—
кто им может запретить ходить по стройке?
В котловане работали землекопы. Михаська посмотрел на них и
даже подпрыгнул от неожиданности. Там был отец. Спина его напря¬
галась, когда он откидывал лопатой землю, сквозь мокрую майку
проступали мускулы. Они так и катались, будто кто гонял шары у
отца под кожей.
— Смотри,— сказал Михаська Сашке,— узнаешь?
Кепка у отца была назад козырьком; иногда он останавливался
и вытирал рукой пот со лба.
— Папа! — крикнул Михаська.
Отец обернулся и помахал ему рукой.
— Мы тоже тут работаем! — снова крикнул Михаська.
— Я за тобой зайду! Жди! — ответил отец.
Михаське показалось, что отец работает лучше всех, быстрее
всех. Он любовался, как играют у отца крепкие мышцы.
Когда они пошли домой, Михаська подумал, что ведь это здорово:
он и отец — они вместе строили завод! Может быть, когда Михаська
вырастет, он будет работать на этом заводе, строить тракторы. Хорошо
бы и отец тоже туда перешел!
Они стали бы ходить с работы вместе, неторопливо, устало шагая
по мостовой, а мама ждала бы их дома. Хлопотала бы у печки, чтобы
накормить их, рабочих людей.
Михаська взял отца за руку.
— Здорово! Правда, папка? — сказал он.
— Что — здорово? — спросил равнодушно отец.
— Завод строили! — улыбаясь, ответил Михаська.— И мы с тобой!
Отец был какой-то недовольный, хмурый.
— А ну их! — махнул он рукой.— Время только потерял.
Михаська будто споткнулся, будто его окатили холодной водой.
Весь день он пилил эти кругляши, до зеленых кругов в глазах, ста¬
рался, чтоб не остановились машины, газогенераторки... Что же, зна¬
чит, все это зря?
Ведь и Сашка старался, пилил, и все ребята, и Иван Алексеевич
вон как махал топором. А шоферы на газогенераторках! А люди,
которые копали котлован! Да и сам отец!
332 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
Что же он, притворялся? Старался, работал, а сам ругает тех,
кто его сюда послал! Что же, ему ведра дороже?..
Михаська выпустил отцовскую руку.
15
Михаська и сам не понимал, что с ним сделалось. Спроси его, ни
в жизнь бы не объяснил. Просто раньше для него паянье было удо¬
вольствием почище кино. Окунешь паяльник в мелкодробленую
канифоль, прикоснешься к оловянному слитку, а от него белые
горошины катятся — жидкое олово.
А сейчас одна гарь, вонь. И все эти примусы, керогазы, ведра,
тазы опротивели. Лежат в углу, сколько места занимают — прямо
как на свалке. Зацепить бы их краном — да в переплавку...
Так оно и случилось.
Однажды сидели они с отцом, скребли, стучали, дымили паяльни¬
ком, и вдруг пришел человек. Толстый, рыхлый, и лицо такое, будто
он больной. Да так, наверное, и было. Не больных таких толстых не
бывает.
Толстяк поздоровался вежливо, потрогал зачем-то толстый нос
и сказал отцу:
— Я фининспектор. Говорят, вы тут частную практику открыли.
Похвально, похвально! Только почему налог с дохода не пла¬
тите?
Отец побледнел, встал и ушел за шкаф. Вышел в гимнастерке,
с медалями, с гвардейским знаком. Поправил ремень.
— Видите?— спросил он толстяка.— Я войну прошел. Ранен. Что
же, я теперь жить не могу, как хочу?
Мама пришла из коридора, прижалась к косяку. Испуганно
смотрела то на отца, то на инспектора.
— А вы мне тут налоги! — крикнул отец.
— Да не кричите,— сказал толстяк, снова трогая свой нос. Он го¬
ворил спокойно, будто отец и не кричал на него, будто ничего и не
случилось.— Я же вижу, что вы не жулик. Состояния на этом,— он
кивнул на ведра и тазы,— не заработаешь.
Отец сел. Фининспектор говорил с ним вежливо, не злился, даже
как будто сочувствовал отцу.
— Но закон есть закон. Если вы получаете доход, надо платить
налог. Понимаете? — спросил он и добавил, слегка раздосадован-
334 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
ный: — И гимнастерка тут ваша ни при чем, поверьте! Я сам воевал,
однако наградами потрясать в таком случае не решусь. Так что я
вас предупредил. В следующий раз составлю акт.
Толстяк ушел, тяжело дыша.
Отец ходил по комнате из угла в угол. Михаська ни разу не поднял
на него глаза.
Давно ли отец рассказывал, как ходил он в разведку, и Михаська
глядел ему прямо в рот, и было здорово, что у него такой удиви¬
тельный отец. Разведчик — ведь это значит самый, самый смелый, а
тут...
Когда отец вышел вдруг из-за занавески к фининспектору в форме,
Михаська даже не понял сразу, к чему это он надел гимнастерку
с медалями. А вон как вышло... Просто отец испугался этого человека.
Гимнастерку надел, будто броню какую. Будто можно гимнастеркой
от налогов этих защититься...
Мать все так же стояла у косяка и молчала. Почему она молчит?
Ведь она понимает! Все понимает. Или боится за эту мастерскую?
За эти ведра, тазы? Боится, что Михаська снова будет бегать
и хуже учиться, а не сидеть с отцом и паять ведра? Ну почему
она молчит?
Отец будто нехотя подошел к куче хлама в углу и изо всей силы
пнул ее сапогом.
Михаська вздрогнул. Весело забренчали, раскатываясь, ведра,
загромыхали тазы.
— К черту! — сказал отец.— Действительно, состояния на этом
не сколотишь.
16
А Михаська все думал об этом, думал и решил, что во всем вино¬
ват фининспектор. Что плохого сделал отец? Ремонтировал тазы
да кастрюли? Так от этого одна польза! Людям нужна посуда, ее
надо ремонтировать. Не виноват же отец, что во всем городе нет ни
одной мастерской, чтобы чинили посуду! Хотел людям добро сделать.
Разве за добро налоги берут?
Нет, ни в чем не виноват отец. Теперь Михаська знал это точно.
Только одно непонятно все-таки: отчего это он распетушился тогда
перед фининспектором, чего испугался?
А может, и не испугался — чего бояться-то? Может, наоборот,
ЧИСТЫЕ КАМУШКИ 335
испугать хотел. Только уж просто так некрасиво вышло, а страшного
ничего в этом и нет.
И Михаська пожалел, что так нехорошо подумал про отца. А Ива¬
новну он просто не знает. Вот узнает как следует и тоже будет
любить.
Отец раздал хозяйкам их имущество и больше не брал, пригова¬
ривая:
— Банк лопнул, лавочка закрылась.
Пришел за своим патефоном и Седов.
Еще от двери заулыбался, залоснился жирным блином, глаза
в щелочки зажмурил.
— Ну, обанкротился наконец? — сказал он.— Я же тебе говорил:
мелко плаваешь.
Мамы дома не было, и отец сказал Михаське, чтоб он сходил
погулять.
Михаська обрадовался.
Противно слушать, как снова этот Седов начнет про свое пиво
с молоком рассказывать.
Он ушел, а когда вернулся, в комнате стоял дым коромыслом.
Тарелка утыкана окурками, и Седов все еще сидит. Лицо только
круглее стало. И порозовело. Поджарился блин.
Сидит Седов на табурете, икает, прикрывает рот рукой. А отец
волосы разлохматил, угрюмо смотрит в пол и дымит.
Михаська вошел, и они сразу замолчали, будто про военную
тайну рассказывали. Потом Седов снова икнул, встал, взял под мышку
свой патефон.
— Учти,— говорит отцу,— учти мой опыт. Зла я тебе не желаю,
и потому не стесняйся.
Он оперся спиной о печку, вывозил пиджак, но Михаська ему
ничего не сказал. И отец тоже.
— Раз живой остался,— сказал Седов,— значит, жить надо...
Шутка ли,— восхитился он,— войну прошел — и одно ранение!
И не где-нибудь — в пехоте-матушке. И-ex...— Он зевнул.— А жить,
брат, нелегко, ох нелегко! На фронте не боялся и тут не боись. Свое
возьмешь. Свое!.. Зря, что ли, кровь проливал?
— Ладно! — сказал отец.— Иди с богом.
— И место ге-енеральское! — протянул Седов.— К тебе еще на
поклон пойду. А бабу угомони! Своди ее к Зальцеру.
Седов повернулся, задел патефоном о стену, порвал обои и, слегка
пошатываясь, вышел в темный коридор.
336 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
А отец снова уткнулся взглядом в стол, докуривая папиросу. Так
и курил, даже Михаську не замечал.
Стукнула дверь. Пришла мама. Отец оторвался от стола, резко
придавил окурок.
Вздохнул.
Будто на что-то решился.
С того дня все переменилось дома. Отец отвинтил тиски, закинул
куда-то паяльник, соскоблил ножом все пятна со стола. Комната снова
стала похожа на комнату, а не на мастерскую, стол белел крахмальной
скатертью.
И отец с матерью совсем другим л стали.
Когда хмурился отец, мама улыбалась. А когда улыбался отец,
мама хмурилась и ходила заплаканная. Прямо как на весах — то
один вниз тянет, то другой.
Если бы хоть Михаська знал, что у них там происходит, о чем
они спорят!.. Но он входит — дома тишина. Молчат или говорят
о пустяках. Словно ничего и не было.
Что за народ эти взрослые?! Нет чтобы все прямо, открыто. А то
боятся своим же детям правду сказать. Будто они враги какие,
шпионы, сразу на улицу побегут во все горло орать.
Если неприятность — почему шушукаться надо? Скажите! Маль¬
чишка или там девчонка, понятно, не взрослые, но они же люди,
поймут, может, даже лучше взрослых все поймут. Посоветовать не
посоветуют, конечно, зато все в доме нормально будет. Не придется
прятаться, шептаться, словно заговорщикам.
Да, отец с матерью таили что-то от Михаськи.
И он видел, что отец перетягивает весы. Мама ходит совсем
расстроенная, с Михаськой почти не говорит, отворачивается,
будто виновата перед ним. А отец песню поет: «По долинам и по
взгорьям...»
Видя, как отец улыбается, а мама молчит и хмурится, Михаська
чувствовал, что между ними идет борьба. Может, отец застав¬
ляет маму что-то сделать? Что? Он ничего не мог придумать.
Да и смешно — с чего бы это он стал ее заставлять? Ничего
не понятно...
И все-таки он подумал, что эти годы, пока они жили без отца,
мама была как будто смелей. Ей было очень трудно. Михаська знал:
мама сдает кровь для фронта, чтобы получить донорские карточки —
масло, молоко, лишний хлеб. Она кормила этим Михаську; и он не
раз уже думал: ведь мама как бы отдает ему свою кровь. И платье
ЧИСТЫЕ КАМУШКИ 337
она свое голубое в горошинку продала, чтоб купить хлеба, а отцовский
костюм не тронула, сохранила, хотя могла бы продать.
Она сильная, мама. Михаська знает это. И он хотел, чтоб она не
молчала, чтоб она перетянула отца на их весах.
Он иногда спрашивал себя: а почему они вообще появились, эти
весы? Почему мать и отец, скрывая от него, будто все время борются?
Что же, и до войны они тоже такими были? Или только сейчас?
Значит, кто-то из них стал другим? Мама? Но Михаська был все
время с ней.
Значит, отец?
Видно, чтобы было равновесие на весах, чтобы они оба улыбались
или вместе огорчались, нужно какое-то неравновесие внутри них...
17
Все прояснилось разом и случайно, как это часто бывает.
Как-то отец пришел с работы и сказал маме, что он познакомился
с одним мастером, который шьет дамские туфли. Мама вяло кивнула
головой, но отец потребовал, чтобы они сразу пошли к мастеру, потому
что у него всегда очередь, а сегодня он приглашал сам. Михаська
читал книгу, уроки он уже приготовил по старой привычке, и они
отправились к мастеру все вместе.
Фамилия обувщика была Зальцер, и Михаська подумал, что где-
то слышал эту фамилию. Во дворе двухэтажного деревянного дома
им сразу указали на дверь, где он жил; но когда отец постучал, ему
долго не открывали. За дверью что-то шуршало. Михаське показалось,
что кто-то смотрит на них в узкую щель. Отец постучал снова, и вдруг
голос из-за двери неожиданно спросил:
— Кто там?
— К Семену Абрамовичу от Седова,— сказал отец, сказал твердо,
тщательно выговаривая слова, будто пароль.
И Михаська вспомнил, что фамилию Зальцер называл Седов.
Дверь распахнулась. На пороге стоял горбоносый маленький человек
в клетчатой куртке, висевшей на плечах. Из открытого ворота куртки
в изобилии торчали густые кудрявые волосы. Глаза у обувщика были
навыкате и слезились.
— Проходите быстрее!— приказал он сердито.
И отец, и мать, и Михаська быстро вошли в полутемный кори¬
дорчик, а затем в комнату с высоким лепным потолком.
338 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
У стены стояло пианино. Михаська уселся напротив него.
Вся комната отражалась в его полированных боках.
— Детей мы обычно не впускаем,— сказал волосатый обув¬
щик.— У них есть такая привычка — обращаться к детям за сведе¬
ниями.
— У кого у них?— удивленно спросила мама.
— Да есть тут...— недовольно отмахнулся Зальцер,— инте¬
ресующиеся. Мальчик не проболтается?— спросил он у отца.
— Он у нас потомственный разведчик,— сказал отец.— Нем как
рыба, глух как сова.
Он хотел польстить Михаське, загладить глупый вопрос этого
Зальцера, но Михаська все равно обиделся. Что он, девчонка-болтуш¬
ка?.. А потом, какие тут тайны? На фронте, что ли?
Семен Абрамович облегченно вздохнул и как-то разом переме¬
нился. То он был злой, а то вдруг расплылся в улыбке и показал зо¬
лотые зубы.
— Очень приятно познакомиться!— сказал он, подошел к маме
и поздоровался с ней за руку.— Ну, с вами мы знакомы. Общие, так
сказать, знакомые...— весело кивнул он отцу и протянул руку Ми¬
хаське:— Здравствуй, здравствуй, мальчик! Очень, очень приятно! —
повторял Зальцер, похаживая по комнате.— Такие, знаете ли, контак¬
ты, как говорится, обоюдополезны и в наше время просто необходимы.
Может, чайку...
Мама помотала головой, и Михаська заметил, как взглянул на
нее отец, когда Зальцер отвернулся.
— Значит, туфельки? —сказал Зальцер.— Какие желаете?
Обыденные, выходные, бальные? Впрочем, что ж нам скрываться —
люди все свои!
Он подошел к пианино, оглянулся на дверь, спохватился, накинул
крючок, хотя была еще одна дверь там, в коридорчике, а она уже на
запоре, и открыл крышку пианино.
— Ну вот, выбирайте любые, ваш размер,— сказал он и начал
доставать из лакированного пианино дамские туфли.
Он ставил их на стол, и скоро на столе вырос целый магазин.
Каких только туфель тут не было! Серые с пуговкой на носке, белые,
тоже с пуговкой. Были попроще и покрасивее. Михаська в свободное
время заглядывал в магазины, полки там пустовали, а если и вы¬
брасывали обувь, то по ордерам, а тут у одного человека столько
сразу!
— Выбирайте, выбирайте! — повторил Зальцер, почему-то погля¬
ЧИСТЫЕ КАМУШКИ 339
дывая на окно.— А это самые изысканные, бальные лодочки.—
Он поставил в центре стола туфли, сверкающие, как пианино. У них
был высокий каблучок, а спереди по носку проходила золотая
строчка.
Мама охнула. Глаза у нее давно уже загорелись, сразу, как толь¬
ко Зальцер стал доставать туфли из пианино. А тут она прямо
охнула.
— Как из сказки, правда?— оживленно спрашивал Зальцер.—
Как из сказки! Помните Золушкины башмачки?
Михаська помнил Золушкины башмачки, но ведь те были хру¬
стальные, прозрачные, а эти черные, хоть и блестят.
— Нравятся? — спросил Зальцер у мамы.
Впрочем, зря он спрашивал, это и так видно было.
— Ну берите,— сказал он.— Ваши. Я вам дарю.
Мама охнула еще раз, замотала головой; и отец тоже запротесто¬
вал, вытащил из кармана деньги и начал отсчитывать.
— Ну что вы! — воскликнул вдруг Зальцер, сердясь.— Право,
как маленькие. Что ры в этом нашли? Я дарю так, и вы потом когда-
нибудь отблагодарите. Мы — вам, вы — нам. Ясное дело, не с бухты-
барахты. Думаю, мы с вами подружились напрочно? *
— Конечно, конечно,— говорил отец, а мама не могла отвести
глаз от туфель.
— Ну, так вот! — сказал Зальцер.— Берите — и всё!
Мама отвела наконец глаза от туфель и посмотрела на Зальцера.
— Нет, бесплатно я не возьму,— сказала она твердо.— Виктор,
заплати.
Отец снова стал отсчитывать деньги; и Михаська подумал, что вот
все-таки какая она молодец, мама, как твердо сказала сейчас, что
бесплатно не возьмет.
Зальцер успокоился, взял деньги, приговаривая:
— Вот ведь вы какие, вот какие...
Потом наступила тишина. Пока Зальцер заворачивал мамины
туфли в газету, Михаська смотрел в полированный бок пианино. В нем
отражался буфет, который стоял за спиной у Михаськи, а рядом,
на тумбочке,— радиоприемник. Михаське стало смешно. Он подумал,
что, наверное, и в буфете вместо посуды, и в радиоприемнике вме¬
сто проводков и ламп, как в пианино, хранятся у Зальцера разные
туфли.
— Ну, вот ваши бальные лодочки. Не хватает только бала. Ну,
теперь у вас и бал скоро будет,— сказал Зальцер и засмеялся. Но
340 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
смех у него получился неискренний, будто он рассердился про себя
на что-то.
— Какой там бал...— сказала мама.
— Ну как же, как же! — воскликнул Зальцер.— Не каждому,
знаете ли, выпадает такое счастье, как вам.
— Какое же счастье? — удивилась мама.
— Ох, скромный вы человек, скрытный! Но что ж вам своих людей
пугаться? Устроиться продавцом в первый коммерческий магазин
после войны — это вроде как сразу генералом стать. Поверьте мне,
старому воробью,— счастье. Да-да...
18
До Михаськи не сразу дошло все это. Он увидел, как залилась крас¬
кой мама и повернулась к нему. Он еще улыбался ей. Слова Зальце¬
ра остались в памяти, но Михаська относил их к кому-то другому, не
к маме. Мама всю войну работала в госпитале, спасала людей, дежу¬
рила ночи напролет возле умирающих солдат, а сейчас... Как же так —
в магазин? Продавцом? Это было так неправдоподобно, нелепо...
Михаська все никак не мог разобраться в том, что произошло.
Мысли путались, сталкивались, падали, как осенние мухи, которые
заснули, а их вдруг разбудили, и они мечутся, не знают, куда лететь.
Отец упорно не смотрел на Михаську и о чем-то говорил с Заль¬
цером.
— Мы пойдем,— сказала мама отцу.— Ты нас догонишь.
Она взяла Михаську за руку, как маленького; они снова прошли
по тусклому коридорчику, и Зальцер, закрывая за ними дверь, сказал
маме:
— Скажите мальчику, чтоб не распространялся.
— Да нет, нет, не волнуйтесь,— ответила раздраженно мама.
За спиной загремела цепочка. Они пошли молча по сухой осенней
улице. Эта улица нравилась Михаське. Здесь росли дубы, и он с Саш¬
кой Свиридом приходил сюда собирать желуди, чтобы делать из
них потом смешных человечков. Желуди и сейчас лежали под де¬
ревьями, но Михаська равнодушно наступал на них, и они выскаки¬
вали из-под ботинок, будто лягушки.
— Я не хотела, Михасик,— сказала мама бодрым голосом,— но
папа настоял. Да и в самом деле, прав этот Зальцер, жить будет
полегче. Глядишь, чего-нибудь сладенького принесу.
ЧИСТЫЕ КАМУШКИ 341
— Сладенького! — остановился Михаська.— Я что, маленький?
Мама смотрела на него, ей было плохо, Михаська видел это.
Но зачем она делает вид, что ничего не случилось, зачем пред¬
ставляется?
— Ты же в госпитале! — сказал он.— Зачем тебе магазин?
Михаська старался говорить спокойно, рассудительно, чтобы мама
поняла, что происходит: время еще есть, можно и передумать.
Он вспомнил, как ходил в госпиталь, к маме на работу. Она усажи¬
вала его в приемном покое у подоконника, там было тихо, и Михаська
учил уроки. Иногда мама говорила, чтобы сегодня после школы
Михаська шел домой,— это значило, что приходил эшелон с ранеными
и в приемном покое лежат бойцы. Михаська заглянул однажды туда,
когда прибыл эшелон. Там было шумно, людно. На кушетках сидели
и лежали раненые в одних кальсонах. Все они были перевязаны,
и у многих через перевязки проступали темные пятна.
А раз мама вернулась из госпиталя совсем белая и сразу пова¬
лилась на кровать. Михаська бросился к ней, думал, что она заболела.
Но мама отдышалась, попросила согреть чаю, а потом рассказала
Михаське, что сегодня привезли эшелон прямо с фронта, многим
раненым требовались срочные операции, переливание крови, а вот
крови не хватило. Мама дежурила в операционной — помогала
хирургу. Она закатала рукав, ее положили рядом с раненым и сдела¬
ли переливание крови от мамы к этому раненому. Михаська удивлялся,
как это из мамы кровь сразу перелили в жилы другому человеку. Мама
смеялась над ним, говорила, что, во-первых, не в жилы, а в вены, и
показывала у себя на руке синюю ниточку этой вены. И в одном месте
на руке, над веной, у нее был огромный фиолетовый синяк. Мама
сказала, что это от укола, но все пройдет, ей не привыкать. Во-первых,
говорила она, так бы сделал любой человек, и был бы там Михаська,
он тоже бы так сделал, потому что у него группа крови такая же,
как у нее, а значит, подходит всем раненым.
Вот что значил госпиталь для мамы! Да и для Михаськи он был
вторым домом всю войну.
Он отвечал в школе за сбор подарков раненым. Однажды всем
классом они шили прямо на уроке кисеты для бойцов, а девочки
вышивали красные надписи: «Поправляйся скорее, боец». Еще они со¬
бирали папиросную бумагу, теплые носки и варежки, и все это
Михаська вместе с другими ребятами и Юлией Николаевной пере¬
давал выздоравливающим раненым из маминого госпиталя. Бойцы,
лежа на кроватях, хлопали им, и мама тоже хлопала, она была тут же.
342 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
А теперь все это надо было забыть, выбросить из памяти, вычер¬
кнуть из жизни. Михаська вспомнил почему-то продавщицу мороже¬
ного Фролову, которая всю войну кормилась за счет собак, и ему до
слез стало стыдно за маму.
— Эх, ты!..— сказал он, зло глядя ей в глаза.
Будь мама мальчишкой, он, может быть, стукнул бы ее даже за
такую измену.
Мама хотела удержать его за рукав, но Михаська вырвался и по¬
бежал к Сашке Свириду.
На повороте он оглянулся.
Одинокая худенькая фигурка мамы маячила на дороге.
Михаське стало жалко ее, и он закусил губу, чтобы, чего доброго,
не зареветь посреди улицы.
Михаська вспомнил, что, когда Седов приходил к ним, то говорил
про какое-то генеральское место.
Вот оно, значит, какое генеральское место!
Значит, Седов перетянул отца, а отец — маму.
Мама говорила: инфекция — это когда болезнь передается от
одного человека к другому.
Попросту говоря, зараза...
19
Дул северный ветер. Он срывал с деревьев тучи листьев, и они,
как стаи голодных воробьев, летели по городу.
Отец заставил Михаську надеть зимнее пальто, но и оно не спасало.
Ветер пробирался внутрь и колол спину острыми иголками.
На ладони у Михаськи стоял фиолетовый номер 286, у отца — 287.
Впереди них и далеко за ними петляла очередь. Люди стояли, взявши
друг друга за локти, чтоб очередь не разрывалась, притопывали нога¬
ми, переминались, вжимали в воротники озябшие уши.
Быстро смеркалось. Коммерческий магазин открывали в шесть,
чтоб не волновать народ, чтоб люди не уходили с работы. Но уже к
пяти очередь обматывала магазин своими завитками, а народ все
подходил, подходил... И пожилая женщина, то ли выдвинутая народом,
то ли так, по своей воле, все надписывала и надписывала ладони хими¬
ческим карандашом.
Говорили, что сегодня, в первый день работы коммерческого — без
344 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
карточек — магазина пропустят тысячу человек. На пробу. Потому
что никто не знал, сколько людей может пропустить за вечер
один магазин без карточек. Все уже забыли, как это было раньше, до
войны.
У двери стояла милиция, осаждая натиск очереди.
Мужчины, чья очередь была поближе, помогали милиционерам.
Михаська топтался впереди отца, хлопал ботинком о ботинок,
держался за спину какой-то бабки и все думал: зачем это нужно стоять
в такой очереди, если мать теперь работает продавцом и может купить
сама, без всякой очереди, все, что надо? Но отец еще с вечера преду¬
предил, чтоб Михаська ждал его: они пойдут в магазин.
Слухи об открытии коммерческого ходили уже давно. Утром в
школе выяснилось, что почти весь класс собирается сегодня идти с
родителями в очередь, потому что в коммерческом, как и в обычном,
карточном магазине, отпускать все будут по норме, в одни руки.
Значит, чем больше рук, тем больше получат продуктов.
В очередь пришли целыми семьями, брали даже самых маленьких.
Вдоль очереди шмыгал Савватей. Где-то ближе к концу стоял Сашка
Свиридов с матерью. Михаська видел их мельком, но никто из очереди
выходить не решался, все топтались, держась за локти стоящего
впереди. Михаське хотелось сбегать к Свириду, поговорить, но отец
крепко держал его за локти и не выпускал.
Никак не мог забыть Михаська, что это он, отец, заставил маму
уйти из госпиталя. Она, правда, делала вид, что все в порядке, говори¬
ла, госпиталь ей надоел — все кровь да стоны, а тут стой себе, соси
сладкие конфеты. Но это все ерунда. Зря она на себя наговаривала.
Наверное, чтоб Михаську успокоить, чтоб не смотрел он на нее, как
фроловская овчарка.
А отец улыбаться Михаське перестал. Вся доброта его куда-то
исчезла. Хоть и не злой, но и не добрый.
Только однажды вдруг раздобрился. Пришел навеселе, с ка¬
ким-то свертком и поставил его перед Михаськой.
Тот развернул газету — думал, игрушка — и чуть не плюнул.
Это была серая гипсовая кошка с дыркой в голове. Копилка. До¬
машняя сберкасса.
Михаська вспомнил, как эти кошки стояли целой вереницей
на базаре, перед картинами с лебедями.
Отец придвинул ему кошку, сказал:
— Давай соревноваться: кто быстрей накопит! Я на дом, ты на
бочку мороженого...
ЧИСТЫЕ КАМУШКИ 345
Михаська представил бочку мороженого, целую бочку,— вот пир
горой можно устроить! — и не удержался, улыбнулся.
Отец обрадовался, шлепнул его по плечу и пообещал:
— За каждую пятерку буду давать тебе рубль, за четверку — пол¬
тинник. Знай учись! Да ешь мороженое.
Михаська даже плечами передернул: будто покупают его. Ни¬
чего не сказал отцу. Но тот по субботам брал дневник, тетрадки,
считал хорошие отметки и сам совал деньги за них в голову
кошке.
Иной раз за неделю выходило рублей шесть. Михаську вдруг
холодным потом прошибло: сам для себя, незаметно, оказывается,
считал, сколько денег положит ему отец. Ему хотелось грохнуть эту
кошку, пойти к Фролихе и проесть все, что там накопилось, но чтоб
только кошки больше не было. А то глаза выпучит — ждет, когда он
пятерку получит.
Но он не ломал ее. Сам не знал почему, не ломал — и все.
Может, отца боялся?
А кошка сидела на этажерке и следила за Михаськой.
...Михаська почувствовал, как кто-то тянет его за ворот.
— Иди погрейся,— сказал отец.
Михаська обрадовался, побежал к Сашке.
— Ты-то чего торчишь тут?— спросил его Свирид.— У тебя мать
продавцом, а ты мерзнешь.
— Продавец не продавец — все одно,— сказала Сашкина мать.—
Сегодня даже, говорят, продавцов обыскивать будут, не боль-
но-то...
Михаська отошел от них. И ни в чем не виновата Сашкина мать,
а будто ведро помоев на голову вылила. Тошно-то как! Он представил,
как какие-то люди обыскивают мать, будто воровку — не унесла ли
чего...
— Смотри-ка,— говорит отец,— твои подружки.
На маленьком «пятачке» среди завитков очереди толкались Катька
й маленькая Лиза. Лизка даже посинела от холода.
— Все говорят, денег нет, а в магазин пришли,— сказал отец.
— Ты что говоришь!— крикнул Михаська, обернувшись.— Они
руки продают. За рубль, понял?
Ветер сразу выдул слезинку из глаз.
— Как — руки продают?— удивился отец.
Михаська ничего ему не ответил. Даже если бы он и сказал отцу,
тот не понял бы.
346 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
Просто у Катьки и Лизы на каждой ладони по химическому но¬
меру. Две очереди. Одна ближе, другая дальше. И они эти очереди
продают. За рубль. Потому что все дают в одни руки.
20
В магазин пускали партиями по сто человек. И хотя без очереди
никто не лез, когда открывали дверь, начиналась давка. Люди,
держась за локти, не входили, а вбегали в магазин. Иногда кто-нибудь
отпускал локти стоящего впереди, очередь рвалась, как старая верев¬
ка, и начиналась паника. Те, что стояли сзади, нажимали и кричали.
Милиционерши пытались закрыть дверь, чтобы навести порядок, но
партия прошла еще не вся, и дверь закрыть не давали.
В самой толкучке неожиданно возникал Савватей с дружками, и
немного погодя действительно оказывалось, что у кого-то вытащили
карточки, а кто-то потерял деньги.
Тут очередь свирепела, сжималась как пружина, и если тебя
вытолкнули из нее, кричи, божись — не пустят, пока не схлынет
волнение и пружина не ослабнет.
Она была как живое существо, эта очередь. Она двигалась, шеве¬
лилась. Но если б грянул вдруг гром, пошел ливень, град, никто бы
не разбежался. И Михаська стоял вместе со всеми и ничему не удив¬
лялся, потому что эти люди, эта очередь, слишком хорошо знали, что
такое еда, что такое конфеты малышне, что такое коммерческий
магазин, где можно купить хоть немного сахару, муки или масла
без карточек. t
Первой, кого увидел Михаська, когда очередь, словно волна, за¬
несла их в магазин, была мама.
Она стояла за гнутым стеклянным прилавком, и кривое стекло
согнуло ее пополам. Будто мама просит что-то. Михаська хотел по¬
дойти к ней, но отец уже дергал его за руку. Надо было занимать
сперва очередь в кассу, а потом уж бежать вдоль прилавков — выби¬
рать, что купить.
Люди брали сыр, масло, колбасу, а отец почему-то выбил конфеты,
и они еще три раза обернулись в очереди у кассы и снова и снова отби¬
ли чеки на конфеты.
Теперь они опять стояли в очереди. Уже к маме. Михаська не
отрываясь смотрел на нее. Мама была какая-то незнакомая, стро¬
гая. Михаська видел ее на работе и раньше, в госпитале. И тогда мама
ЧИСТЫЕ КАМУШКИ 347
была строгая, если делала что-то важное, но лицо ее оставалось теп¬
лым, ясным, светлым. А сейчас будто какая-то тень набежала на
него. Она нахмурила брови и не отрывает глаз от своих весов, не
взглянет даже на них с отцом.
Михаська подошел к весам. Он протянул маме чек, хотел сказать:
«Свешайте конфет», но не смог. Язык просто не повернулся
сказать маме это, как какой-то продавщице. Но мама и правда была
теперь продавщицей, и все ей говорили: «Свешайте, свешайте»,
и никому ничего больше не требовалось.
Всем было все равно, что за человек там за прилавком; главное,
чтоб он взвесил и не ошибся, не надавил пальцем на весы, не обжу¬
лил.
Мама смотрела на Михаську, ей в глаз попала какая-то ерун-
довина, и мама моргала-моргала, хотела выморгнуть эту ерундо-
вину.
Она замешкалась немного с Михаськой, а очередь сразу зашумела
на нее: все тут торопились, всем было некогда — и мама сунула
Михаське кулек с конфетами, словно чужому, просто покупателю,
и продолжала вешать свои конфеты, не отрываясь от весов.
А слезинка ползла у нее по щеке, и мама дула на нее краешком
губ, хотела сдуть и все не могла...
Дома было неуютно и холодно. Истопить печку мама не успела,
и отец начал строгать лучину. Михаська развернул кулек. Конфеты
оказались шоколадные, с фруктовой начинкой.
Последний раз ел Михаська такую конфету у Юлии Николаевны.
На прошлый Новый год она позвала к себе Катю с Лизой, Сашку и
еще нескольких ребят. Всем досталось по такой конфете. Когда
конфеты съели, а фантики спрятали по карманам, Юлия Николаевна
вдруг рассказала, почему сейчас мало конфет. Оказалось, машины,
которые раньше выпускали конфеты, теперь делают патроны.
— Хорошо! — сказал тогда Сашка.— Фашистам к чаю.
Они рассмеялись. Но еще от одной конфетки никто бы не отказал¬
ся. А больше у Юлии Николаевны не было.
Михаська часто думал, что» когда наступит мир, он объестся кон¬
фетами. И вот они лежали перед ним. А есть их совсем не хотелось.
Михаська лег в кровать.
В печке гудел огонь, он освещал лицо отца, и оно казалось ярко-
красным и недобрым.
Михаська решил, что обязательно подождет маму, но незаметно
уснул.
348 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
Он проснулся вдруг, сразу, от какого-то странного звука. Как
будто кто-то плакал. Михаська сел на кровати.
— Перестань! — тихо сказал отец.— Вон и Михасика разбудили.
— Что? Что случилось? — испуганно спросил Михаська.
— Ничего, ничего, сынок, спи,— ответила мама.
Отец курил, и в темноте ярко светилась красная точка.
Михаська вспомнил, как до войны, еще совсем маленьким, он
просил отца нарисовать ему что-нибудь в темноте папироской. Если
быстро крутить огоньком, получается картинка. Забавно. Отец
словно услышал это.
— Хочешь, нарисую? — спросил он.
И Михаська лег, успокаиваясь.
— Нарисуй,— ответил он хриплым спросонья голосом.
Отец раскурил папироску, чтоб она горела поярче, и стал выписы¬
вать в темноте круги, крендели, шары, а потом сказал:
— Теперь смотри.
Он провел красный квадрат, над ним нарисовал треугольник,
а на треугольнике маленький квадрат. Из квадрата пошли зави¬
тушки. «Дом,— понял Михаська.— И тут этот дом!»
Михаська повернулся к стене и притих, стараясь уснуть.
Ночью ему приснился бревенчатый дом. Бревна были красные,
как головешки. И дым из трубы был не дымом, а кудрявым огнем.
Михаська думал: как жить в таком доме?
21
А через два дня случилось ужасное.
Сашка, лучший друг, оказался предателем.
Все было так, как бывает в те дни, которые на всю жизнь запо¬
минаются.
Утром он пил чай, и отец подкладывал ему конфеты. Михаська
опять съел только одну конфету, больше не стал. Подумал, что надо
еще привыкнуть съедать сразу много сладостей. Если человек долго
голодал, ему сразу объедаться нельзя — умрет. Так же и с конфетами.
Надо сначала по одной, потом по две.
Он вспомнил маленькую Лизу. Всю войну, когда ей перепадали
какие-нибудь сладости — конфету кто подарит, или кусочек шокола¬
да, или пряник,— она эти сладости не ела сразу, а складывала в ко¬
робку из-под папирос «Казбек». А потом, в праздники, доставала три
ЧИСТЫЕ КАМУШКИ 349
конфеты и давала всем по одной — бабушке, Кате, себе. Михаська
видел, как пили они чай вприкуску с Лизиными конфетами, какая
серьезная была Лиза и какой праздник это был для Ивановны. Ми¬
хаську они тоже пробовали усадить за стол, но он наотрез отказы¬
вался. Разве можно было съесть Лизину конфетку!..
Потом Михаська шел в школу и удивлялся теплой погоде, которая
наступила сейчас, в разгар осени, поздним сентябрем. Была удиви¬
тельная тишина, шуршали под ногами кленовые листья, и Михась¬
ка подумал, что можно этими листьями вымостить тротуар — будет
очень красиво! — и люди, наверное, не станут тогда ходить по
тротуару, пожалеют такую красоту. Откуда-то сверху летели прямо
в лицо белые паутинки. Михаська отмахивался от них, но паутинки
все летели, летели, будто десант высадился.
В школе Михаська сразу заметил, что Сашка Свиридов как-
то странно посмотрел на него. Что-то чужое было в Сашкином взгля¬
де, будто он знал о Михаське больше, чем знает даже сам Ми¬
хаська.
Но Сашка ничего не сказал, улыбнулся, подошел к Михаське;
они начали, как всегда, спорить, и в азарте доспорились до того, что
начали обсуждать, кто смелее — Сашка или Михаська. Началось,
между прочим, с того, что Сашка стал говорить, будто лунатики не
боятся ходить по краю крыши. Михаська считал, что в вопросах меди¬
цины он-то разбирается лучше, и сказал: мол, боятся или не боят¬
ся — не в этом дело, просто лунатизм — болезнь такая, и по крыше
может ходить самый распоследний трус, потому что он, когда идет,
ничего не соображает.
Слово за слово — в общем, сошлись на том, что нет ничего отчаян¬
нее, как потрепать по шее собак, и не каких-нибудь дворняжек,
мопсиков, хоть и кусачих, но трусливых, а тех самых знаменитых
на весь город овчарок Фролихи, что сторожат универмаг.
Сашка в запале немедля решил сделать это сегодня же, а Михась¬
ка, понятно, стал над ним потешаться.
Михаська помнил, каким тихим был Сашка в лагере, когда они
познакомились. Но сейчас он стал задиристым и всегда лез напролом.
И уж не отступал от слова, хотя Михаська посмеивался над ним про¬
сто так, без всякой злобы. Да каждый же скажет, что пойти навстречу
псам и потрогать их может только сумасшедший.
Но Сашка все переменки шумел, хвастался, подталкивал Ми¬
хаську, и Михаська сказал, что ладно, так и быть, он спорит с Сашкой
на три «американки», что тот струсит. Три «американки», а каж¬
350 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
дая — исполнение трех любых желаний выигравшего — цена для та¬
кого дела очень даже немалая, и Сашка тут же согласился.
После уроков они пошли поесть, а к вечеру, когда собаки должны
были идти в магазин, встретились в условленном месте на улице, по
которой однорукий муж Фроловой водил своих псов.
Уже смеркалось, когда овчарки появились на дороге. Сашка,
увидев их, побледнел. Михаська сказал ему, чтобы бросил дурить,—
он отменяет все свои «американки», но это почему-то только силь¬
ней разозлило Сашку.
Собаки приближались. Они шли, чуть косолапя, оставляя на
земле когтистые пятиконечные знаки, и прохожие покорно сворачи¬
вали в сторону, уступая дорогу знаменитым псам.
Сашку стало трясти, он даже позеленел, а Михаська, растеряв¬
шись, молчал. Эх, надо бы схватить Сашку за рукав, дернуть его —
пусть во всем был бы виноват тогда Михаська! — но не дать Сашке
сделать этот шаг. Последний шаг. А может, первый? Ведь с него
все началось.
Собаки поравнялись с ними. Сашка шагнул вперед, и один пес
зарычал, ощетинил шерсть и потащил мужа Фроловой к Сашке. Вто¬
рой пес шел спокойно, ничего не замечая, понурив голову.
Фролов прикрикнул на пса, и тот послушно умолк. Сашка стоял на
обочине мостовой, глядя вслед собакам, ни жив ни мертв. Если
честно говорить, и у Михаськи пошли по спине мурашки, когда Сви-
рид сделал свой первый и единственный шаг к собаке. Михаська
вздохнул и хотел было утешить Сашку, но тот повернулся к нему.
Михаська удивился: в глазах у Сашки стояли слезы — наверное, он
просто обозлился на себя за этот дурацкий спор и, конечно, на Ми¬
хаську.
— Уйди! — прошептал он.
— Брось ты, Сашка! — сказал Михаська.— Мне бы ни в жизнь...
Вон он как ощерился!
— Уйди! — снова сказал Сашка, зло сжимая кулаки.
Он, наверное, решил, что Михаська просто смеется над ним, изде¬
вается, как тогда, в лагере, издевались над Сашкой почти все. Михась¬
ка вдруг подумал, что, пожалуй, Сашка и стал-то таким задиристым
после лагеря, чтобы доказать всем, что он не хуже других. И псов
захотел погладить, чтоб доказать. И не кому-нибудь, а Михаське, свое¬
му лучшему другу.
— Брось ты, Сашка! — сказал он снова.
— Уйди! — закричал вдруг Сашка.— Уйди, говорю, спекулянт!
ЧИСТЫЕ КАМУШКИ 351
«Вот ведь как обиделся! — подумал Михаська.— Будто он, Ми¬
хаська, лучший друг, мог о нем что-нибудь плохое подумать. А про
лагерь он давным-давно забыл».
— Что ты,— засмеялся Михаська,— белены объелся?
Этого слова, «спекулянт», он даже не заметил.
— Уйди! — повторил Сашка.— Все вы такие. Спекулянтская
морда!
«Что он, обалдел совсем? — подумал Михаська.— Я к нему как
к человеку, а он...»
— Ну-ка повтори,— сказал Михаська.
— И повторю! — окрысился Сашка.— Спекулянтская морда!
Твоя мать конфетами теперь на базаре торгует.
Михаська вложил всю силу в этот удар. Сашка упал в пожухлую
траву, упал молча, как мешок, набитый чем-то тяжелым. И то, что
он не заревел, ничего не сказал больше, острой болью резануло Ми¬
хаську. Значит, он сказал правду?! «Тьфу, ерунда какая!» — подумал
он тут же.
Но Сашкины слова уже не давали ему спокойно идти, спокойно
дышать, о чем-то думать. Он пошел домой быстрее, потом побежал.
Тут он вспомнил, что уже вечер и мама в магазине. Тогда он кинулся
в магазин, но передумал.
Дома никого не было. Михаська включил свет и полез в буфет.
Конфеты, которые они купили в коммерческом два дня назад, лежа¬
ли на месте.
«Гад! — подумал он.— Какой гад этот Сашка!»
Для верности Михаська развернул бумажку и откусил полкон¬
феты.
Однако спокойнее не стало. Михаська побежал в магазин. Вокруг
него опять вилась очередь, еще длиннее, чем в тот раз. Мама говори¬
ла: теперь пропускали по полторы тысячи человек. Михаська обежал
магазин и стал стучаться в какую-то дверь. Ему долго не открывали,
потом выглянула милиционерша. Михаська сказал, что он пришел к
матери — надо отдать ей ключ, и милиционерша впустила его. Ста¬
руха в мятом халате пошла заменять мать, и через минуту в коридор,
где пахло пряниками и колбасой, выбежала бледная мама. Она ки¬
нулась к Михаське, обняла его.
— Что ты? — спросила она.
— Ничего,— ответил Михаська.
В коридоре никого не было. Только маленькая лампочка освещала
большие ящики.
352 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
— Мам,— глядя ей в глаза, спросил Михаська,— ты продавала
конфеты? На рынке!.. Да?
Мама вдруг переменилась, лицо ее посерело, она нахмурилась,
но Михаська не спускал с нее глаз.
— Это правда? — повторил он.
Она посмотрела на Михаську такими тоскливыми глазами,
что он чуть не заревел от собственной несправедливости.
— И ты поверил? — спросила она.
Михаська шагнул к ней и прижался головой. Мама гладила его
по вихрам, тормошила, как маленького.
Будто камень свалился у Михаськи с сердца.
— Ну иди! — сказала мама.
Михаська пошел по коридору, дошел до конца и обернулся. Ему
показалось, что мама оперлась о стенку. Он хотел подбежать к ней,
но мама помахала ему рукой.
Лицо ее было совсем серое.
А может, это просто такая тусклая лампочка была в коридоре.
22
В десятых числах октября желтое, будто остывающее солнце за¬
крылось ватными облаками. Два дня моросил дождь, потом снова
небо прояснилось, и те, кто еще не убрал картошку, заторопились на
свои участки с лопатами на плечах, обмотанными, словно боевое
оружие, холщовыми тряпицами. Погода предупредила: дальше ждать
было нечего, того и гляди, пойдут обложные дожди, и тогда придет¬
ся копать в мокрой земле, очищать картофель от грязи, таскать
мешки, спотыкаясь о кочки, так что каждый пуд обойдется на вес
золота.
Лесок возле их поля стал просто удивительным. «Осень,— думал
Михаська,— пожалуй, лучше весны. Весной только зеленое и зеле¬
ное вокруг, а сейчас и красное, и желтое, и коричневое, будто лес
нарядился куда».
Они работали споро, участок был все-таки не маленький. Отец
сначала гнал несколько рядов, подкапывал кусты. Мама с Михаськой
и Катькой, которая им помогала, за ним не успевали. Тогда отец от¬
давал лопату Михаське, а сам помогал выбирать из земли картоши¬
ны. Михаська разгибал уставшую спину, поднимал глаза от земли,
поплевывал на руки и начинал копать.
354 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
Иногда он втыкал лопату в землю и шел к ручью, который пере¬
бегал через белый камень. Вода приятно холодила горло, леденила
зубы. Михаська ложился на траву у воды и пил прямо из ручья. На
дне золотели песчинки, освещенные солнцем, вода переливалась,
торопясь к речке или к большому ручью, омывая рассыпанные в песке
разноцветные камушки. Михаська смотрел на эти камушки, ему не
хотелось трогать их, брать со дна, мутить воду. Среди серых обыкно¬
венных камушков, простой гальки, поблескивая в воде, лежали проз¬
рачные и чистые. «Может, это хрусталь?» — думал Михаська. На
географии им говорили, что в ручьях попадаются кусочки горного
хрусталя, чистого, прозрачного, как вода.
Михаська вспомнил, как они приходили сюда с отцом и мамой
вскоре после того, как приехал отец, и Михаська вытаскивал со дна
эти прозрачные камушки, и смотрел сквозь них на поле, на не¬
бо, на солнце, и не знал еще тогда, что это хрусталинки. Они пели
пионерскую песню отца и мамы, песню про картошку, и все было
хорошо и ясно тогда.
Михаська снова подумал про Сашку Свирида, про неожиданную
и какую-то нелепую эту драку. Он никак не мог понять, с чего бы
вдруг Сашка, лучший его школьный товарищ, сказал такое. Ведь
ничего между ними не было плохого.
Ну обозлился. Даже ясно, почему обозлился, хотя и совсем зря, но
такое говорить!..
Никак не поймет Михаська, в чем тут дело.
Книжку читает — про Сашку думает, по улице идет — снова про
Сашку, на уроке сидит — Сашка ему покоя не дает. А уж картошку
копает — тем более. Никогда просто так, ни за что Сашка никого не
обижал. Даже девчонок за косы без дела не дергал. А тут — такая не¬
суразица...
Михаська копает картошку, собирает клубни, пьет время от време¬
ни воду, и ему все Сашка покоя не дает.
Отец говорит:
— В час — большой перекур.
В час должна прийти Ивановна, принести обед. Мама с ней
договорилась. Сегодня воскресенье, они с утра ушли на участок,
а Ивановна приготовит обед для всех и принесет. Мама ей денег
дала.
В животе начинает урчать. Катька говорит, от голоду кишки в
животе ссыхаются, могут прямо присохнуть друг к другу. Поэтому,
если есть нечего, надо пить воду. Это, конечно, ерунда, разговоры
ЧИСТЫЕ КАМУШКИ 355
одни, но Катька говорит, что у нее такое было. Они прошлой зимой
голодали, есть совсем нечего было, все отдавали маленькой Лизе.
Тогда бабушка Ивановна пошла в военкомат. Ее уже там знали —
все-таки отец у Катьки с Лизой был кадровый офицер,— и бабушке
выдали денег. Она купила на рынке мерзлой брюквы, чтоб подешевле
и побольше, сварила чан похлебки, и стали есть. Катька не выдержа¬
ла, наелась; вдруг стало больно в животе, и она прямо каталась на
кровати.
Когда приехала врачиха, она на бабушку накинулась, что дает по¬
сле голодания столько еды девочкам.
— Так заворот кишок может быть,— сказала она.
Михаська сходил еще раз к ручейку, напился, вытер рукавом
губы. Вдали по меже кто-то шел.
— Наверное, бабушка Ивановна,— сказал он матери.
В эмалированном, еще довоенном ведре, укрытом маленькой
подушкой, Ивановна принесла кашу. Над кашей стояла широкая мис¬
ка со щами.
Все уселись в кружок, долго звали Ивановну, но она наотрез от¬
казалась — сказала, что уже отобедала.
Лицо у бабушки Ивановны будто вырезанное из белого дерева.
И по нему глубокие темные трещины — морщины. Морщины такие
тяжелые, такие глубокие, просто даже не верится, что когда-то, как у
всех молодых, было у бабушки Ивановны гладкое лицо.
— Что ты, Ивановна? — спросила мама.— Или расстроена чем?
Ивановна подняла трясущуюся голову.
— Ох, не говори, Вера! — сказала она.— Вот и война кончилась,
а горе все идет...
Все повернулись к ней.
— Встретила сейчас Юлию Николаевну нашу. Идет к Свиридо¬
вым. С горем идет.
И Ивановна рассказала про Юлию Николаевну такую историю,
что Михаська просто ахнул.
Еще в позапрошлом году шла она из школы домой и встретила
почтальоншу, бывшую свою ученицу. Остановились, поговорили. По¬
чтальонша и говорит: «Не учится ли у вас Свиридов, у него еще мать
сердечница?» Юлия Николаевна сказала, что да, учится такой Саша
Свиридов, особенно успевает по математике, и правда, мать у него
часто болеет.
— Боюсь,— говорит почтальонша,— к ней идти. Им похоронная
на старшего сына. Вдруг мать не выдержит.
356 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
Юлия Николаевна ваяла у почтальонши похоронную и сказала ей,
что передаст сама, когда настанет время.
Михаська знал, что мать у Сашки сердечница. Даже при нем, когда
он бывал у них дома, с Сашкиной матерью не раз делалось плохо, и
они вместе бежали в проходную лесозавода, которая была поблизости,
вызывать по телефону «скорую помощь».
«Точно,—подумал Михаська,— Сашкина мать, конечно, не вы¬
держала бы, и остался бы Сашка совсем один. Отец у него как раз
перед войной умер».
Ивановна говорила, а Михаська представлял себе, как Юлия Ни¬
колаевна строго-настрого велела почтальонше никому ничего не гово¬
рить, а сама спрятала похоронную подальше, потому что надо было
Сашкину мать подготовить к такому известию.
То-то Михаська так часто встречал Юлию Николаевну у Свиридо¬
вых. Она говорила с Сашкиной матерью о всяких пустяках, а Сашкина
мать кивала головой, говорила, что все бы ничего, вот и Саша уже
большой, но беспокоится она за Колю, старшего сына.
От него нет известий и похоронной тоже нет; вот, может быть, к
партизанам заброшен...
А Юлия Николаевна все не решалась отдать похоронную, сил у
нее, наверное, не хватало отдать эту бумажку.
Она думала о Коле, подолгу смотрела на переменах на Сашку и не
останавливала его, когда он шалил, и все думала о Сашке, о его мате¬
ри, о похоронной.
Никто ее не просил об этом, но Юлия Николаевна сама взяла на
себя эту тяжесть и несла ее одна, хотя это, наверное, было трудно.
Она несла чужую тяжесть и ждала, когда Сашкиной матери будет лег¬
че, когда она привыкнет к мысли, что Коли уже нет, чтобы потом раз¬
делить с ней это горе и спасти ее, потому что у нее есть еще один
сын — Сашка.
Приближалась победа.
Юлия Николаевна думала, что Сашкина мать не выдержала бы
такого горя в эти дни.
Теперь война кончилась, прошли месяцы, как она кончилась. Сей¬
час надо было сказать.
Михаська представил, как Юлия Николаевна пришла к Сашкино¬
му дому, как подошла к крыльцу, но остановилась, потопталась в не¬
решительности, посмотрела рассеянно по сторонам.
А потом вздохнула и тяжело поднялась по скрипящим ступень¬
кам.
ЧИСТЫЕ КАМУШКИ 357
23
Бабушка Ивановна провела рукой по лицу, будто сняла паутинку.
Мама вздохнула.
Михаська попробовал представить, как Юлия Николаевна говорит
сейчас Сашкиной матери о Коле, но не мог. Он просто вспомнил Колю.
Сашка показывал его фотокарточку: молодой такой парень. На пого¬
нах по одной звездочке.
Мама задумчиво смотрела куда-то в сторону. Отец отложил ложку.
Ветер лохматил его волосы, как тогда, когда они приходили на учас¬
ток первый раз. Он хмурился, и морщины рассекали его лоб.
Михаська подумал, что ни разу еще не видел отца таким серьез¬
ным и задумчивым.
Отец вытащил папироску, закурил, окутался сизым дымом.
— Долго еще про погибших узнавать будем,— сказал он.— Это
вроде как эхо... Война кончилась, а эхо еще долго катиться будет.
Бывало, лежишь в окопе, кругом — ад, все рвется, того и гляди, уко¬
кошат. Лежишь и думаешь: «Какой дурак был, жить не умел. Дни
бежали, за днями — месяцы, а ты их не замечал... Эх, победим, мол,
тогда буду знать, почем жизнь! Как ее уважать надо!»
Отец встал. Михаська подумал, что говорит он сегодня как-то не¬
обыкновенно, удивительно. Никогда так не говорил.
— Вот рассказала ты, Ивановна,— сказал он,— и снова будто жа¬
ром пахнуло. Ну ее к черту, войну! Давайте-ка жить!
Он схватил лопату, сжал ее в руках. Глаза у отца заблестели.
— Хочу забыть... Понимаете, все забыть! Смерть забыть, кровь,
раны... Сыт по горло, понимаете? Живым жить надо! Жить
хочу!
Отец воткнул лопату в землю, с силой нажал на нее, вывернул
огромный ком земли с картошкой. Вдруг обернулся. Все уже встали,
чтобы снова выбирать клубни.
— Чтобы каждый день, понимаете, каждый день радоваться, что
ты живой! — крикнул он.
Он стал выворачивать комья земли с картошкой. Все помогали ему.
Только Ивановна стояла там, где сидела, и смотрела на отца. Голова у
нее вздрагивала.
— Забудешь?..— словно удивляясь, сказала она.— Как же тут за¬
быть-то все это? Кому это под силу?
Отец как будто не расслышал, что она сказала. А может, и слышать
не хотел.
358 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
Он работал со злостью, с силой переворачивая землю. Будто хо¬
тел на всем поле выкопать всю картошку.
«Тошку-тошку-тошку-тошку...»
24
На другой день Сашка Свиридов в школу не пришел.
После уроков Михаська отправился к нему домой и на крыльце
столкнулся с Юлией Николаевной.
— Пока не ходи туда,— сказала она.— Завтра он придет в школу.
Им теперь надо одним побыть.
А когда Сашка пришел в школу, весь класс уже знал, что у
него убит брат, и никто к нему не лез, потому что Михаська предупре¬
дил.
В первую же перемену Михаська подсел к Сашке. Так они просиде¬
ли до звонка, не сказав друг другу ни слова, потому что Сашка просто
не замечал Михаську.
Не заметил он Михаську и на другой день; и Михаська подумал,
что Сашке, наверное, неприятно, что к нему лезут. Когда у человека
горе, ему лучше одному побыть, отойти, остыть...
Теперь по вечерам, приготовив уроки, он пропадал у Лизы и
Катьки.
Правда, иногда ему казалось, что девчонки и Ивановна относятся
к нему как-то по-другому. Они улыбаются ему, болтают с ним как ни в
чем не бывало. Но когда садятся есть свой суп из брюквы или крапи¬
вы, Михаську за стол уже не зовут. А раньше звали.
Михаське было горько от этого, стыдно за самого себя. Ведь он
знает: его не зовут, потому что думают, что он откажется — его же
теперь дома вкусно кормят. Колбаса у них не переводится, масло и все
по твердой цене, потому что мать в магазин устроилась. А у них колба¬
сы нет и неизвестно, когда будет.
Михаське кажется, что теперь Ивановна с матерью даже как-то по-
особому и здоровается-то. Как с генералом.
Не зря же этот Зальцер тогда говорил. И Седов тоже.
Он не винит Ивановну — она тут ни при чем, это мать виновата.
И отец. Из-за них теперь Ивановна не зовет его есть с ними. Вроде
барином он стал.
Михаська старается загладить свою вину. Он приносит девчонкам
куски колбасы, и ему стыдно: может быть, они подумают, что вот те¬
ЧИСТЫЕ КАМУШКИ 359
перь он разбогател и хвастается своей колбасой, их кормит. Правда,
ничего такого ни Катька, ни Лиза не говорили, но, наверное, ду¬
мали.
Когда Михаська размышлял обо всем этом, какая-то тяжесть слов¬
но наваливалась на него. Он думал о том, что очень все-таки неспра¬
ведливая жизнь на земле. Вот для одних — для них, например,— вой¬
на уже кончилась. Приехал отец; они теперь и завариху-то редко едят,
все больше кашу — гречневую или там пшенную. В общем, нет войны,
прошла она для них. Недаром отец тогда кричал: «Живым жить на¬
до!» Вот и стараются, живут.
А для Ивановны когда она еще кончится!.. Скоро ли?
Когда? Да никогда, может. Как вспомнят Лиза и Катька своего
отца, маму свою, так снова для них война. Вырастут уже, может, по¬
стареют, своих детей народят, а вот вспомнят отца и мать — и снова
война загрохочет. Снова вспомнят брюкву, и куски хлеба с хлебозаво¬
да, и булочки-посыпушки, облизанные Лизкой, и гроб на хлебных
тележках...
А вот жизнь простая, обыкновенная: чтоб еды было вдосталь,
колбасы, масла... Когда это будет?
Михаська иногда мечтает: просыпается он утром, а Левитан
торжественно объявляет, что с сегодняшнего дня все, кто еще недоеда¬
ет, недопивает, все, кто плохо живет, потому что война была, по¬
лучают особые карточки и по этим карточкам в коммерческом ма¬
газине — чего хочешь, и бесплатно, по норме, конечно, в одни
руки.
Он вспомнил, как тогда, когда магазин открыли, все люди пришли
еду покупать, а Катька с Лизой руки продавали. Четыре очереди —
четыре рубля.
Михаське — конфеты с фруктовой начинкой, а им...
А тут бы, по таким новым карточкам, им в первую очередь.
Михаська понимает, что это, конечно, ерунда. Карточек таких не
будет. Может, будут, но не сейчас.
Сейчас государство еще слабое после войны. Как человек, которого
ранили, и он много крови потерял.
Но как же тогда быть? Почему для одних война кончилась, а для
других нет, хотя ведь салют в День Победы для всех был и победа для
всех?
Правда, для некоторых никакой войны вообще не было. Для Заль¬
цера, например. Торговал всю войну туфлями, а за деньги даже в вой¬
ну на рынке что угодно купить можно.
360 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
Вот взять бы и всех этих спекулянтов раскулачить. Отнять все доб¬
ро — раздать бедным.
Нет, ничего тут не придумаешь. Один только выход. Скорей бы по¬
строили разрушенные города, хлеб бы поскорей вырос на Украине. Им
Юлия Николаевна с первого класса говорила, что Украина — наша
житница, ну, вроде амбара с зерном, значит.
А будет амбар, сразу полегчает, станет лучше жить и Ивановне с
девочками.
Не оставляют Михаську в покое эти мысли. Ему кажется, что тут
что-то не так...
Ведь фашисты разрушили много. Когда все построят? Опять не¬
сколько лет. И что же, эти несколько лет Ивановна должна просто
сидеть и ждать?
Нет, что-то не сходилось в этих размышлениях. Как в задачнике.
И ответ в конце книжки есть, а задачу никак не решишь. И все вроде
правильно, а не получается...
Иногда он думал, что надо просто ждать, просто жить, просто за¬
рабатывать на хлеб. Но ведь просто жить и просто зарабатывать — так
ведь и Зальцер поступает, и его мать с отцом, и бабушка Ивановна,
когда посылает Катьку квас продавать.
Так как же? Все о себе думают, о том, как прожить. А как пра¬
вильно?
Зальцер, это ясно, подлец: пианино туфлями набито. А тут вон
Лизка вся насквозь просвечивает. А бабушке Ивановне без этого ни¬
куда не деться. Или квас продавать из корок, или булочки, или ложись
и помирай.
Одно неясно — мать с отцом... Отец на заводе, мать в госпитале
была; на еду хватало. Жили бы обыкновенно, как все люди.
Нет, как все, оказывается, это плохо. Надо лучше, чем все. Надо
дом. Но дом — это же хорошо. Кто бы отказался, если бы ему дали
дом? Бабушка Ивановна бы не отказалась. Про Зальцера и говорить
нечего. Но кто даст? Никто на тарелочке не поднесет, не скажет:
«Возьмите, пожалуйста, живите на здоровьице, рассказывайте на теп¬
лой печке друг другу сказки». Значит, надо взять. Построить. Сделать.
А чтоб построить — уйти из госпиталя в магазин. Про завод го¬
ворить: «Только оторвали...» Тазы паять. Инвалида бояться.
Если все так жить станут — только для себя, для себя,— когда же
будет как до войны? Или никогда? Война, как шрам, зарастает, но на¬
всегда остается!
Михаська вспомнил, как помогал Кате нести корзину с квасом на
ЧИСТЫЕ КАМУШКИ 361
рынок. Только подходят, а с базара вдруг как побегут люди! Катька
кричит: «Облава!» — и юрк в подворотню. Катька дрожит, а мимо
подворотни бегут кто с чем. Тетка пробежала с красными сладкими
петушками. Какой-то дядька с двумя буханками хлеба под мышкой.
Другая тетка без ничего, только карманы оттопыриваются.
И вдруг на улице появились грузовики. На них — какие-то ве¬
селые люди. Песни поют. А на бортах — красная материя, и по
ней написано: «Восстановим Сталинград!», «Восстановим Сталин¬
град!»
— Эх,— сказала Катька,— поехать бы с ними!..
Михаська и сам поехал бы.
Они смотрели вслед машинам, а мимо все еще бежали люди с
рынка.
25
Пронеслась метелями зима, повьюжила, понасыпала сугробы, по¬
трещала бревнами в деревянных избах, и снова запели ручьи, загорла¬
нили нетерпеливые грачи; земля, подставляя себя солнцу, скинула
белые одеяла.
А с Сашкой Свиридом так ничего и не выходило у Михаськи.
Михаська ругал себя за ту драку. Не надо было заводить Сашку,
говорить, что предел храбрости — погладить этих овчарок. Можно же
было сказать что-нибудь совсем невероятное — например, прыгнуть с
парашютом. В их городе с парашютом никто не прыгает, хотя самоле¬
ты есть, летают иногда «кукурузники», и все, спор бы кончился. По¬
пробуй докажи Сашка свою храбрость, если с парашютом никак не
прыгнешь. А то — псы... Псы, конечно, вон они, каждый день по улице
ходят. С работы и на работу. Овчарки рядом, храбрость можно и про¬
верить.
Допроверялись...
Юлия Николаевна еще в четвертом классе говорила — нет на свете
ничего неожиданного. Все можно предусмотреть и предсказать. Это
она о науке тогда говорила. Дескать, землетрясения, наводнения, лив¬
ни и снегопады — все наука может заранее предсказать. Это она к
тому говорила, что бога нет.
Бога-то, может, и нет, а вот предсказать все нельзя.
Разве мог знать Михаська, что с Сашкой Свиридом все так полу¬
чится?
362 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
Это было на уроке физкультуры. До пятого класса никакой физ¬
культуры не было, а теперь вот стала. Раз в неделю, в пятницу, два
часа подряд они делали во дворе всякие упражнения, бегали, прыгали,
играли в футбол, и всем было очень весело.
В ту пятницу они бегали и прыгали, как всегда, а потом Иван
Алексеевич сказал, что пойдет за мячом, чтобы они поиграли напосле¬
док в футбол. Он ушел. А ребята загалдели, начали гоняться в «пят¬
нашки», кувыркаться на траве и делать стойки на руках.
Только Сашка с Михаськой сидели на пригорке. Сашка грелся на
солнышке, а Михаська глядел на него и думал, как бы ему снова за¬
говорить с Сашкой и положить всей этой дурацкой ссоре конец. Одной
ногой он упирался в булыжник. Камень поблескивал на солнце слю¬
дяными блестками. «Значит, гранит»,— подумал Михаська.
Вдруг ребята, которые кувыркались, все враз остановились и при¬
тихли. Так даже не притихали, когда директор входил, а уж про Ивана
Алексеевича и говорить нечего.
Михаська обернулся и вздрогнул. По площадке шел Савватей с
компанией своих дружков. Они шагали медленно, будто нехотя, на
каждом были кепочки — маленькие, с малюсенькими козырьками и
малюсенькими пуговками на макушке. Кепочки висели у них на са¬
мом лбу. Впереди, конечно, шел Савватей, небрежно перекидывая из
одного уголка рта в другой папироску.
Когда-то Юлия Николаевна рассказывала им про удавов. Удавы
прячутся в лианах, а когда хотят есть, выползают на тропинку. Бежит
какой-нибудь кролик, удав поднимет голову и уставится на него. Тот
так и присядет со страху. А удав смотрит, смотрит на него, и кролик
не может никуда убежать. Тут удав его глотает целиком, даже не
жует.
Вот и Савватей как удав. Идет, смотрит на всех, и все затихли,
глядят ему в рот. Никто не шелохнется. Каждый ждет, что сейчас Сав¬
ватей его выберет; хотя если бы все вместе навалились, туго ему при¬
шлось бы.
Но Николай Третий идет спокойно, уверенно, подолгу смотрит в
глаза мальчишкам и девчонкам, и они не смеют уйти или даже от¬
вернуться.
Савватей оглядел всех, никто ему не понравился, посмотрел на
Сашку. Сашка под его взглядом встал, но Савватей не задержался на
нем долго, только подмигнул, будто старому знакомому, и взглянул на
Михаську.
Михаська вспомнил, что Сашка ведь был у Савватея «на рабо¬
ЧИСТЫЕ КАМУШКИ 363
те» — как говорит Свирид, «шестерил» ему. Ходил, значит, все время
рядом, как адъютант, подносил, что Савватей прикажет. Но потом
мать Сашкина отбила его у Савватея.
А тут он подмигнул Сашке и направился к Михаське.
Михаська видел, как медленно идет Савватей, и сердце у него в
груди стучало тоже медленно, в такт его шагам, но громче и гульче.
Какая-то волна захлестывала Михаську, подкатывала к горлу, как
тогда, зимой, в ту памятную встречу с Шакалом, и мурашки ползли по
спине откуда-то из-за пояса прямо к шее.
Савватей подходил все ближе и ближе. И Михаська медленно, сам
этого не чувствуя, поднимался ему навстречу. Савватей подошел сов¬
сем вплотную и протянул к Михаське руку. Свою грязную, потную
лапу.
Михаська внутренне содрогнулся от мысли, что, может быть, Сав¬
ватей проведет сейчас по его лицу этими грязными лапами — была у
него такая любимая привычка,— и, не зная, что делать, приготовился
к самому ужасному. Но Савватей протянул руку к его курточке и по¬
щупал ее. Курточка у Михаськи была новая, теплая; мать купила ее на
рынке, и она очень нравилась ему. Курточка была сделана из какого-
то пушистого материала. Мать говорила — с начесом. Что это такое —
с начесом, Михаська не знал.
— Охо! — сказал Савватей. Он так и сказал: «охо», а не
«ого».
Михаська не успел опомниться, как Савватей быстро вынул из
кармана коробок спичек, чиркнул одной и поднес ее к курточке. Ми¬
хаська увидел пламя, которое рванулось прямо по нему огромным
желтым языком; лицо опахнуло жаром, и все кончилось.
Это произошло в какую-то секунду. Михаська глянул на курточку
и охнул. По коричневой материи расходились черные свалявшиеся
клочья. Вся пушистость сгорела.
Савватей и. его дружки хохотали, хлопали Михаську по плечу.
И вот тут Николай Третий снова протянул к нему руку и мазнул
его по лицу.
То, что сгорела курточка, как-то совсем не огорчило Михаську —
вернее, не успело огорчить; он просто не ожидал этого и еще не успел
понять. А вот этого — по лицу,— этого он ждал.
Михаська наклонился и схватил камень. Он упирался одной ногой
в этот камень, когда сидел на пригорке и думал, как бы заговорить с
Сашкой. Камень был теплым — он нагрелся на солнце — и поблески¬
вал в руке у Михаськи своими слюдинками.
364 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
Савватей отступил на шаг от Михаськи. Может быть, он посмот¬
рел ему в глаза и увидел там что-то такое, отчего стоило отсту¬
пить?
Он отступил еще на один шаг и еще на один, и вся его шайка тоже
пятилась.
Голова у Михаськи работала очень четко, и сердце больше не
стучало. Он вышел из-под гипноза Савватея; наоборот, он теперь сам
гипнотизировал всю эту щайку в кепочках, где каждый был выше
его на две головы. «Ага,— ухмыльнулся Михаська,— вот они чего
боятся — оружия, силы!»
Он ухмылялся, и это действовало на Савватея: тот пятился все бы¬
стрее и быстрее. Михаська рассчитал, что он ударит Шакала по виску.
Он уже выбрал на его лошадином лице местечко — там, где дрожит
синяя жилка. Вот туда. Чтобы раз — и навсегда!
Может, Савватей понимал, о чем думал Михаська? Он торопливо
полез рукой в карман и, все так же пятясь, вытащил бритвочку, обык¬
новенную опасную бритвочку. Рука у него дрожала.
— Брось! — сказал он.— Попишу!
А сам все пятился, и вместе с ним вся его компания.
Михаська решил, что он не будет кидать камень: кинешь его раз,
а дальше что? Один выстрел? Мало. Нет, он будет бить этим камнем.
Даже взрослые боятся Савватея. Он, может, сто лет тут проживет, этот
Шакал и карманник. Надо его убить.
Он сделал два шага побыстрее, и совсем приблизился к Савватею, и
замахнулся уже своим камнем, своей палицей со слюдинками, как
вдруг кто-то схватил его за руку, в которой был камень.
Михаська обернулся и увидел Ивана Алексеевича, математика и
физрука.
— Так убить можно! — сказал он.— Ты что, с ума сошел? Хочешь,
чтоб родителей за тебя посадили?
Михаська выпустил камень и посмотрел на Савватея. Тот со своей
компанией стоял у забора и грозил кулаком.
— А вы вон отсюда! — крикнул Иван Алексеевич савватеевской
компании и сам замахнулся на них камнем.
Савватей с дружками словно испарился.
— С ними по-другому не поговоришь,— сказал Иван Алексеевич,
и Михаська удивленно посмотрел на него. Учитель был первым взрос¬
лым, кто, видно,а не побоялся связаться с Савватеем.
Над забором появилась лошадиная морда Савватея, и он крик¬
нул:
366 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
— Эй ты, обгорелый, попишу!
Савватей не бросался словами — это все знали, но Михаське было
все равно в ту минуту.
— Посмотрим, кто кого! — крикнул он Савватею.
Савватей заржал, как мерин, и снова крикнул:
— Свирид! — и свистнул.
Михаська даже не понял сначала, что это так повелительно, будто
своему рабу, Савватей кричит Сашке.
Он обернулся к Свириду и увидел, как, потоптавшись, Сашка по¬
брел к забору.
— А н-ну, кор-роче! — протяжно крикнул Николай Третий, и
Сашка затрусил к забору рысцой.
Словно что-то хлестнуло Михаську.
Это было обидней, чем сожженная курточка и грязные лапы Сав¬
ватея.
Шакал хозяйственно покрикивал из-за забора, будто тянул за шну¬
рок, к которому был привязан Сашка, и тот бежал, послушно бежал к
заклятому Михаськиному врагу, перебегал на вражью сторону.
— Предатель! — крикнул Михаська.
Сашку будто подсекли. Он остановился на мгновение, махнул
Михаське рукой куда-то в сторону, махнул еще раз, словно хотел
сказать «уходи», но Михаська не понял и крикнул снова, стараясь
выбирать слова пообиднее:
— Шестерка! Предатель!
Но Сашка уже не останавливался.
— Свиридов, вернись! — крикнул Иван Алексеевич, и Михаська
увидел, как он побагровел.— Вернись, урок еще не кончен!
Михаська усмехнулся: что значит теперь для Сашки урок, если его
зовет Савватей!
А Сашка все бежал, бежал! И вдруг Михаська понял, что он
проиграл, лежит на обеих лопатках, что Савватей, который только
что пятился OTj него — а себя при этом Михаська представлял доб¬
рым молодцем с булавой,— что Савватей этот плюет на него, плюет
тысячу раз, потому что, отойдя к забору, он уводит его лучшего
друга.
Пусть они поссорились, даже подрались, но ведь Сашка друг,
друг!..
И если Савватей склонил его к предательству, к тому, что
Сашка теперь на Шакальей стороне, значит, Михаська проиграл.
И это было в тысячу раз обиднее, чем тогда, зимой.
ЧИСТЫЕ КАМУШКИ 367
26
Михаська даже вздрогнул от этой мысли. Он сделал шаг вперед,
к забору, и побежал.
— Ты что, с ума сошел? — сказал ему вслед Иван Алексеевич.—
Они же на что угодно способны.
И Михаська обернулся.
Он обернулся и улыбнулся учителю в офицерском кителе, у кото¬
рого было два тяжелых ранения и одно среднее. Зря он подумал, что
Иван Алексеевич первый взрослый, который не боится связаться с
Савватеем. Зря!..
Михаська побежал к забору еще быстрее, мимо застывших фигур
мальчишек и девчонок, которые так и стояли все это время, ни разу
не шелохнувшись. Михаська улыбнулся: как фигуры на шахматной
доске. Стоят и ждут, когда их передвинут.
— Сумасшедший! — крикнула ему какая-то девчонка.
— Вернись, Михайлов! — заорал за спиной Иван Алексеевич.—
Урок не окончен, я тебе запрещаю!
«Запрещаю! — усмехнулся Михаська.— Сашке, своему отлични¬
ку, запретить не смог, а мне запрещаешь!» Ему стало смешно. Просто
удивительно: в такой момент — и смех разбирает.
Свирид уже давно перелез через забор. Савватей ему подал руку,
и они исчезли. Михаська бежал широким шагом, прижав руки к
бокам, не размахивая ими, согнув в локтях, как учил Иван Алексеевич
на физкультуре. По всем правилам. Забор показался ему совсем
маленьким, он перелетел через него как птица, легко спрыгнул в
гору жухлых листьев, и они зашумели под ногами, как миллион
мышей.
Савватей с компанией стоял к забору спиной. Он вздрогнул и
обернулся. Испуганно повернулись и остальные. Из-за них выгляды¬
вал Сашка.
— Ну!..— выдохнул Михаська, смело шагнул к Савватею и тут
почувствовал, что снова боится.
Смех пропал неизвестно куда, и вся храбрость мгновенно исчезла.
Страх, липкий, как рука Савватея, ползал где-то в животе и мешал
думать.
Михаське показалось, что Савватей сразу набросится на него и
начнет резать своей бритвочкой, но Савватей молча смотрел, опешив
от такой неожиданности, не шевелился. Все остальные были его
тенями. В лунную ночь идет человек, шагнет — и ёто синяя тень
368 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
шагнет, руку протянет — и тень руку протянет; ничего лишнего не
делает тень, послушная, как бобик на цепочке. Вот и все савватеев-
ские синие тени стояли, тоже не шевелясь.
— А ты храбрый,— сказал вдруг Савватей, и все его тени посмот¬
рели на Михаську с каким-то удивлением.
Только Сашка — с жалостью.
— Ну, а если мы тебя зарежем? — спросил Савватей.
— Что вам, жизнь надоела? — спросил Михаська и остался дово¬
лен собой. Голос звучал нормально, без трусости.— Зарежете — вас
поймают и расстреляют.
Савватей переступил с ноги на ногу и сунул руки в карманы.
Михаська подумал: опять за бритвой, но Савватей просто спрятал
руки в карманы.
— Значит, храбрый? — спросил Николай Третий, и его лошадиное
лицо снова стало уверенным и довольным.
— Отпусти Сашку! — сказал Михаська.
Савватей удивленно вскинул тоненькие — ниточкой — брови.
Такие брови Михаська видел в кино у каких-то красавиц.
— Ишь ты! — удивленно сказал он и снова посмотрел на
Михаську с интересом.— Крупный купец пришел! Человеков поку¬
пает...
Он посмотрел на Сашку, погладил его против волос, и Свирид не
отвернулся, не отвел голову, а только моргнул и по-прежнему жа¬
лостливо глядел на Михаську.
— Ну-ну, купец первой гильдии! А за что покупаешь?
— За что хотите,— сказал Михаська.
— Ну как, паря? — обратился Савватей к своей шайке.— Про¬
дадим Свирида?
Тени заморгали, закивали головами, захихикали, не понимая, чем
кончатся шутки атамана.
— Ладно, продаем! — сказал Савватей.— Не за деньги продаем.
За храбрость. Ты — храбрец, вот и покажи свою силу. На том же,
на чем Свирида испытывал. Пошли!
Савватей махнул рукой, и вся толпа двинулась за ним. Михаська
сделал два шага вслед за ними и остановился в нерешитель¬
ности.
Николай Третий обернулся и сказал:
— А если струсишь, покупаем самого тебя, понял? Значит, сам
себя продашь. Тогда уж берегись!..— Он захохотал.
Понятное дело, захохотали и тени, и Михаська пошел вперед и
ЧИСТЫЕ КАМУШКИ 369
шагал рядом с Савватеем, снова вдруг осмелев. Смелость накатывала
на него, как речные волны. То отхлынет, то прихлынет. И почему эти
волны — неизвестно. На реке — от ветра. А тут отчего?..
Они шли по городу, и все уступали им дорогу. Никто не хотел
связываться с этой шпаной.
А Михаська шел рядом с Савватеем, и его, наверное, тоже прини¬
мали за шпану, да еще за важную шпану, потому что впереди шли
всего двое — Савватей и Михаська.
27
Они шли на улицу, по которой водили овчарок. Пекло солнышко.
Какая-то удивительная стояла весна: апрель, а настоящее лето! Неко¬
торые даже щеголяли в рубашках, хотя, если солнце уходило за тучу,
сразу становилось прохладно. На речке уже купались. Правда, только
мальчишки.
Они шли по улице; теплый ветерок крутил на перекрестках пыль
с обрывками газет, нес по небу смешные тучки из белой ваты. Одна
походила на лисий хвост — вытянутая и пушистая.
Когда подходили к «кардаковскому», где до сих пор шили солдат¬
ские кальсоны — война кончилась, а армия осталась,— они специаль¬
но перешли на ту сторону, где торговала мороженым Фролова.
Фроловой на месте не было. Стояла только бочка, и в ней таял
блестящий лед. От бочки к мостовой тянулась тонкая черная струйка,
будто за ней бобик спрятался.
Они заглянули в бочку. Савватей выхватил оттуда кусочек льда
и кинул за шиворот одной из своих теней. Парень заорал, закрутился
на месте, потом стал нагибаться, чтобы ледышка выпала из-за шиво¬
рота, выкатилась бы, а Савватей захохотал и пнул парня под зад.
Тень задергалась, замахала руками, но не обиделась — обижаться она
не могла, не имела права — и снова захохотала сиплым басом.
Наконец они пришли на улицу, по которой водили собак. Ждать
до вечера, когда псов поведут на работу, не было никакого смысла.
Савватей провел их по улице дальше, потом они повернули за угол и
остановились у глухого забора.
За забором ничего не было — ни сада, ни огорода,— это Михаська
рассмотрел в щель. Просто двор и две конуры.
— Ну,— спросил Савватей,— может, лучше пойдешь ко мне на
работу?
370 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОБ
Михаська вспомнил, как Савватей ударил под зад того парня с
ледышкой за шиворотом и как этот парень хохотал не своим голосом,
вспомнил, как Савватей отобрал у него альбом, сжег куртку, провел
по лицу своей гадкой, липкой лапой и теперь погонял, словно скотину,
Сашку, и почему-то сразу успокоился.
«Подойти и погладить собаку,— подумал Михаська.— Подойти и
погладить собаку».
— Пройдешь между овчарками,— сказал Савватей,— и вылезешь
с той стороны забора.
Михаська усмехнулся. Ему было все равно.
— Брось, Колька! — сказала тень с ледышкой.— Давай напинаем
ему — и все. Загрызут ведь...
Савватей зло посмотрел на парня, взял его за нос и сильно дернул
вниз.
Нос у парня покраснел, как помидор.
Михаське стало противно и нисколько не жалко парня, хотя тот
заступился за него.
— Подсадите,— сказал Михаська.
Последнее, что он видел на улице, было синее лицо Сашки. Нико¬
лай Третий стоял рядом с Сашкой, облокотясь о его голову.
Михаська перекинул ноги с забора во двор и совсем успокоился.
К нему уже рвались две овчарки. Но отступать было поздно. Конечно,
ждать от Савватея благородства не приходилось — он мог Сашку и не
продать, да Сашка и не буханка хлеба, чтобы его купить или не ку¬
пить, а человек.
Михаська подумал, что нет, ничего не докажешь этому Савватею,
не тот это человек, чтоб ему что-нибудь доказать можно было, но
какая-то отчаянная сила все-таки бросила его через забор, как солдата
на бруствер окопа.
А когда он оказался во дворе и фроловские псы, давясь собствен¬
ной злостью, кинулись на него, когда он оказался на бруствере, все
стало на места.
Не для Савватея пошел он сюда, не для этого бандюги. Для Сашки.
Чтоб понял, что такое настоящий друг. Для того, с ледышкой за шиво¬
ротом. Чтоб понял, что можно жить и не унижаться. Для всех людей
прыгнул сюда Михаська, чтоб знали они: Савватей — это трусливая
крыса и нечего его бояться.
Михаська шагнул вперед. Немного не рассчитал Николай Третий.
Собачьи будки стояли в противоположных углах двора, а псы бе¬
гали на цепях по двум параллельным металлическим проводам. Цепи
ЧИСТЫЕ КАМУШКИ 371
закреплялись за блоки, а блоки катились по проводам. Собаки могли
бросаться друг на друга, но не достали бы — провода не пускали их.
Видно, чтоб не перегрызлись меж собой. Одна собака бегала вдоль
забора, и идти там было бы смертью. Другая бегала вдоль дома, чтоб
там никто не прошел без хозяев. А вот между собаками, параллельно
их проводам, пройти было можно. К тому же у забора, куда должен
идти Михаська,— гора бревен. По ним взбежать наверх — и на улицу!
Какие-то секунды!
Михаська шагнул. Псы, щерив пасти, изнемогая от ярости, бро¬
сались к нему, натягивая провода. Чем ближе подступал к ним Ми¬
хаська, тем яснее он понимал, что псы не достанут, не достанут
его!
Осталось сделать последний шаг, чтобы вступить в этот зубастый
коридор. Коридор без стен. Справа зубы и слева зубы, а Михаська в
мертвой полосе.
Он читал, есть такое выражение — мертвая полоса. Ничейная
земля. Не наша, не фашистов. Пули туда не достают. Только развед¬
чики по ней ползти не боятся. Она для них своя.
Михаська шагнул в коридор. Всего полметра он. Ну, сантиметров
семьдесят. Главное — не торопиться. Сделаешь шаг вправо — по¬
падешь к правой овчарке. Влево — к левой... Надо не спеша. Малень¬
кими шажками.
Вперед, вперед! Так...
Не смотреть еще на псов! Не смотреть! Посмотришь — испу¬
гаешься; отпрянешь назад — и к другому.
Идешь, как по мостику над пропастью. Там, если хочешь жить, не
смотри по сторонам. Не обращай внимания, что справа пропасть и
слева пропасть. Гляди вперед!
Михаська даже пошатнулся, представив, как он идет над про¬
пастью, на мгновение взмахнул рукой. И тут же его словно ожгло.
Он краем глаза взглянул на руку. На тыльной стороне ладони
будто красной тушью кто прочертил дорожку. Зацепил! Зубом, на¬
верное.
На фронте так же — зацепят осколком. Но там это даже раной
не считается. Не смотреть на руку, на кровь. Прижать руки к
бокам.
Кто-то охнул на той стороне забора.
Михаська пошел побыстрее. Мелкие-мелкие шажки. Так малыши
учатся ходить.
Михаська видит, как псы скалят зубы, остервенели совсем, брыз¬
372 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
жут слюной, брызги летят на Михаську. Провода натянулись, но
держат. Прочные.
Осталось меньше половины...
Уже треть осталась. Каких-нибудь двадцать шажков. Если бы
обыкновенно идти — пять шагов, а так — двадцать.
Михаська пробирается вперед. Он посмотрел на забор. Савватей
смотрит остановившимися глазами. А Сашка совсем зеленый. Забор
облепили какие-то люди.
— Жулик, что ли? — спрашивает кто-то.
— Нет,— отвечает Савватей,— фокусник. Деньги сейчас собирать
станет.
— А-а-а-а!..— заорал кто-то протяжно.
Михаська взглянул на дом, на одно мгновение посмотрел. Там
орала Фролиха. Сердце у Михаськи упало, и он посмотрел на нее
снова, подольше. Фролиха бежала к собакам, а за ней скатывался со
ступенек ее однорукий муж.
Михаська ругал себя потом. Выходит, собак не испугался, а Фро-
лихи с мужем испугался. Укусили бы они, что ли?
Но разве все заранее знаешь? И до бревен осталось метра два, а там
и улица, но увидел Михаська бегущую Фролиху с мужем и пошат¬
нулся, повернулся к ним лицом.
Какая-то страшная сила резанула Михаську сзади, он рванулся
вперед и чуть не угодил к другой собаке. Это была бы верная смерть.
За горло — и все... Каким-то усилием воли он оттолкнулся назад, и
снова его резануло что-то сзади.
Перед лицом плясала красная ревущая пасть. Было видно
даже глотку. «Фашисты наших тоже овчарками травили»,— вспом¬
нил он.
Михаська кинулся к бревнам, вторая собака рванула его за обго¬
релую курточку, сбоку громко треснуло, и он рухнул на верхние
бревна, ткнувшись головой о забор.
Он поднял голову и увидел красные глаза Сашки. Почему-то
красные...
28
Все это случилось без отца, и может, еще потому Михаська так
легко отделался дома. Мама только плакала целый вечер.
А отец взял отпуск на неделю. «Без содержания»,— сказал он.
Михаська подумал, что, может быть, они посидят вместе дома, снова
374 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
будет уютно и хорошо, как тогда, когда их комната была похожа на
мастерскую. Или наконец сходят на охоту. Как раз весенний сезон.
Ведь говорил же отец, что у его приятеля есть ружье и он даст в любое
время, если понадобится. А про то письмо, с фронта, он, конечно, уже
забыл...
Но и на охоту они не пошли. Михаська даже не просил. Потому что
отец взял отпуск не для отдыха. Он насыпал десять кулей картошки,
подогнал нанятый где-то грузовик, сложил ее в кузов и уехал на вок¬
зал. Мама сказала, он поехал на Север. Продавать картошку. Будто ее
и здесь нельзя продать, если уж так надо.
Михаська представил, как отец будет торговать на базаре картош¬
кой, и ему стало противно. Пусть это где-то там, на Севере, и его не
знает никто, но какая разница — где. Отец говорил матери: «Поеду,
пока картошка там в цене».
Михаська лежал дома на животе. Возле дежурил Сашка. Он даже
в школу сегодня не пошел.
Странно, Михаська почти не чувствовал боли.
Немного ныла спина и чуть пониже — всего-то.
Сашка вздохнул. Михаська внимательно присмотрелся к Сашке.
Губа у него опухшая.
— А что с губой?
Сашка понурил голову.
— Ничего,— сказал он.— И на Савватея управа найдется. Вон
в милицию сколько мужчин пришло. Демобилизованных. Вырасту,
в милицию пойду.
Эти последние слова Сашка сказал зло, уверенно, будто и правда
мечтает всю жизнь милиционером стать.
— Пойду! — повторил Сашка.— Вот увидишь! Всех савватеев —
в клетку! Хорошо бы зверинец такой устроить.— Глаза у него за¬
блестели.— Всё клетки, клетки... В одной — тигр, а в другой — Сав¬
ватей. И на клетке написано: ^Шпана. Хищник. Питается гемато¬
геном. Три раза в день по столовой ложке».
Михаська засмеялся. Он знал, что Сашка не любит гематоген,
потому что это кровь. Хоть и коровья, хоть и сладкая, а кровь. Его от
гематогена мутило, когда Юлия Николаевна с ложечки их поила. Он
говорил ей: «Я крови нагляделся, не могу».
— Да я ведь и сам не бобик,— сказал вдруг серьезно Сашка.—
Человек может только сам продаваться, а купить его никто не суме¬
ет.— И покраснел.— А я тебе махал, махал тогда... Хотел Савватея
уговорить, чтоб тебя не трогал.
ЧИСТЫЕ КАМУШКИ 375
Михаська вспомнил про их с Сашкой драку, вспомнил про то,
с чего все началось, и сказал:
— Дернуло меня тогда этими собаками тебя травить!
— Нет, это я виноват. Правильно, за оскорбления надо по морде
давать. Вот хочешь — дай еще! Ну дай!
Сашка встал на коленки перед Михаськой, подставлял лицо и
приговаривал:
— Ну дай, дай! Дай, говорю.
А Михаська смеялся и отворачивался.
— Ты скажи лучше, как тебя Савватей снова прибрал,— сказал
он сквозь смех.
Сашка сразу стал серьезным, снова уселся на табуретку и рас¬
сказал все по порядку. Михаська слушал и снова винил себя во всем.
Да, это он виноват, что послушал тогда Юлию Николаевну, не зашел
к Сашке, хотя должен был, не имел права не зайти.
После той драки из-за псов Сашка, конечно, разозлился и тоже,
как Михаська, думал целые дни напролет.
Но если Михаська его простил — Сашка не простил и все дулся,
дулся...
И вот пришла Юлия Николаевна. Сашка думал, что сойдет с ума.
Убили Колю! Давно убили, а он все думал, что Коля жив, может,
в партизанах, а оттуда ведь не напишешь. И тут — Юлия Николаев¬
на... Сашка хотел пойти утопиться, но Юлия Николаевна послала его
за врачом для мамы. Ее отвезли в больницу. Она там пробыла недолго,
несколько дней. Но ему показалось — месяц.
Сашка немного успокоился, к нему на другой день снова Юлия
Николаевна приходила, у Сашки разболелась голова, и она уложила
его в постель и позвала соседку. Потом ушла и не велела никого
пускать.
Но Сашка все думал: неужели он не придет, Михаська? Все-таки
друг... Ну поругались, ну подрались, но ведь знает же, что такое
горе,— придет.
А время будто остановилось. Соседка ушла. Сашка оделся и стал
бродить по комнате из угла в угол. И реветь во весь голос.
Вдруг — стук. Сашка обрадовался — думал, Михаська, а входит
Савватей и говорит:
— Эх, Свирид, Свирид, зря ты ушел от меня! Шестерить бы я тебя
долго не заставил тогда, но зато теперь был бы ты у меня первым
заместителем и верным другом.
Сашка говорит ему, что братана убили, а Савватей отвечает:
376 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
— Знаю, потому и пришел. Иначе бы — не жди, не банный лист,
не прилипаю, сами все ко мне липнут.
Савватей лупил себя в грудь, кричал, что тошно ему, трудно,
корешей настоящих нет, те, что есть,— дерьмо, дешевка, и звал в
друзья Сашку.
В школе все противно было, дома было пусто и тоскливо — мать
лежала в больнице, и после уроков он поехал на вокзал и нашел там
Савватея. Николай Третий, как он выразился, «поставил Сашку на ба¬
ланс» — выдал ему пятьдесят рублей, и они тут же украли у какой-то
Матрены мешок с луком. Их искали, конечно,— не нашли. Лук по
дешевке продали, а деньги Савватей забрал себе.
— Все,— сказал он Сашке,— мышеловка захлопнулась. Поздрав¬
ляю: теперь ты вор-мешочник.
Сашке стало холодно, но он кивнул головой.
— Теперь я ушел, ушел,— сказал он, будто Михаська не верил.—
Пусть только подойдет, я его пырну.
И вытащил из кармана кинжал. Тот самый, с какой-то надписью
и желобками для крови. Только уже без свастики.
— Все время теперь ношу,— сказал Сашка.
Тут пришел врач, вернее, врачиха. Она улыбнулась Михаське, как
старому знакомому, и велела оголить живот.
Михаська заволновался, а врачиха объяснила, что уколы от бешен¬
ства делают в живот, и ткнула Михаську шприцем. Он взвизгнул —
было больно, и врачиха сказала, что просто удивительно, какие нынче
растут дети: овчарок не боятся, а от укола в обморок падают. Прямо
героические дети!
Она ушла, а Михаська стал представлять, как он взбесится, начал
задирать ноги на стену, потому что бешеные, говорят, бросаются на
стены и кусают прохожих, как собаки.
Они хохотали до упаду, но скоро Михаське стало очень жарко, лоб
покрылся испариной, и он улегся снова. Вот теперь было больно.
Может, они не сразу чувствуются, бешеные уколы. Небешеные —
сразу, а бешеные — через сутки.
29
Потом Михаська сказал, что Савватей действует, как поп.
Попы ведь как заставляют богу молиться? Узнают, что у человека
горе, беда какая-нибудь, и идут к нему. Утешат, приголубят, денег
дадут; если нет — после, мол, вернешь.
ЧИСТЫЕ КАМУШКИ 377
Сашка стал уходить, ему надо было уже домой.
— Ты на меня не злись,— сказал он.— Я ведь знаю, жить-то
надо...
Михаська удивился.
— Что ты? — спросил он.
— Жить-то надо,— повторил Сашка и наморщил лоб.
— Что — жить-то? — снова спросил Михаська.
— Ну... ну это... — замялся Сашка.— Ну, что мать твоя конфеты
продавала.
Михаська медленно поднялся с кровати.
— Ты что, что? — испугался Сашка.— Ну ладно, что ты?
— Когда торговала? — спросил Михаська.
— Ну тогда... Моя мать пошла на рынок, вернулась и говорит:
«Ну, так я и знала, Михайлова конфетами спекулирует...»
Сердце у Михаськи застучало гулко, словно кто молотком по
большой железной трубе громыхает.
«Значит, обманула. Значит, тогда, в коридоре с тусклой лампоч¬
кой, мать покачнулась не зря. Врала. Все врала!..»
Он вскочил и стал натягивать штаны. Надо пойти в магазин. К ма¬
тери. Надо посмотреть на нее, послушать, что она скажет.
Но ведь он видел, видел те конфеты. Значит, другие?
Сашка испугался, стал стягивать с Михаськи штаны, но тот от¬
толкнул его: «Значит, все-таки спекулировала. Значит, Сашка тогда
правду сказал».
Он натянул рубашку.
За дверью загромыхало. «Может, мать...— подумал Михаська.—
Вот хорошо! Сейчас все выяснится».
Дверь скрипнула, и вошел отец. Приехал! На нем была серая
плащ-палатка.
— Здорово, мужики! — весело крикнул отец и сбросил плащ-
палатку.
Она с шумом упала на пол. Словно летучая мышь, затрепыха¬
лась.
— Здорово, мужички! — крикнул он снова, захохотал и кинул
на пол шапку.
Михаська давно не видел отца таким. Сашка бочком прошел
мимо отца к двери, помахал Михаське рукой — а лицо при этом
было у него виноватое — и исчез.
Отец поднял нлащ-палатку, заходил по комнате, выискивая гвоздь
и не замечая, как морщился Михаська, одеваясь.
378 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
— Все бегаешь? — крикнул отец.— Штанами улицы метешь, не¬
поседа! — и захохотал без всякой причины.
Снова Михаська представил себе мать: и как она пошатнулась
тогда в коридоре, и лицо у нее было серое, а ему показалось, это от
света — слабая лампочка.
Михаська подтянул штаны. Сзади все болело, больно было ступить,
но он пошел к двери. Скорей, скорей в магазин, посмотреть на мать,
заглянуть ей в глаза!
— Бежишь? — снова крикнул отец.— Да ты постой! Погоди! По¬
кажу я тебе чего...
Отец шагнул на середину комнаты, и половица скрипнула у него
под сапогом. Он разомкнул ремень. Со звездочкой на пряжке. И снизу,
из гимнастерки, как из мешка, посыпались деньги.
Красные, зеленые, синие, желтые...
Деньги.
Гора денег.
«Ерунда! — подумал Михаська.— Ерунда! Все вокруг какая-то
ерунда».
Ему вдруг захотелось спать. Он вернулся к кровати и стал снимать
штаны.
Никуда не надо было бегать.
30
После уроков Михаська ходил в поликлинику. Он задирал рубаху,
и сестра делала ему укол в живот. Уколы с каждым разом становились
все больнее, Михаська морщился, просил, чтоб его укололи в спину —
все-таки как-то привычнее, но сестра отвечала, что надо обязательно
в живот, что осталось уже немного и если после десяти уколов Михась¬
ка не взбесится, значит, все в порядке.
Только эти минуты — когда его кололи и острая боль прошибала
все тело — выводили Михаську из какого-то оцепенения.
По утрам он шел в школу, сидел на уроках, ничего не слушая,
дома глядел в открытые учебники, читал и перечитывал строчки, но
в голове оставалась какая-то ерунда, какие-то незначащие подроб¬
ности. Кое-как он решал задачки и даже не смотрел на ответы в конце
задачника — было все равно.
Раза два он встречал Савватея. Шакал подходил к нему, говорил:
ЧИСТЫЕ КАМУШКИ 379
«Молоток! Молоток!» — но Михаська лишь мельком взглядывал на
него и проходил мимо.
Савватей за ним не шел, не вязался, только смотрел вслед и криво
улыбался. Когда он так улыбался, его тени отходили от него подальше.
Самому себе Михаська казался каким-то сморщенным старичком,
похожим на высохший гороховый стручок. Все в нем сжалось, ссох¬
лось; то, от чего бы он раньше весело хохотал, сейчас совсем не каза¬
лось смешным; ребята на переменках бегали, кричали, а он стоял
в стороне и, как ни звал его Сашка Свирид, к ребятам не шел; все, что
происходило вокруг, казалось далеким, чужим, невзаправдашним,
ничто не удивляло...
Весы, про которые так часто думал раньше Михаська,— весы
домашней жизни дрогнули, стрелка покачалась вправо-влево и оста¬
новилась посредине.
Теперь смеялась мама и смеялся отец. Хмурость, похожая на осен¬
нюю непогодь, пропала, будто ее и не было.
Мама ходила всегда нарядная, будто у нее каждый день праздник.
Вернувшись с работы, она переодевалась в свое голубое с горошин¬
ками платье и опять становилась совсем девчонкой.
Она словно сбросила с себя какую-то тяжесть, распрямилась и
сразу стала гладкой, розовой.
Михаська остался совсем один.
Мать он видел редко: магазин теперь работал днем, а вечером ей
было не до него — приходил отец, и Михаська не влезал в их разго¬
воры.
Отец приходил с работы не так рано, как прежде, задерживался на
заводе, а потом рассказывал маме, как их цех, где он работает масте¬
ром, хочет стать полностью стахановским. Это предложил не кто-
нибудь, а он, отец, на цеховом собрании. Ему тут же выдали премию.
Он принес деньги, положил их на стол, и они так лежали на столе до
самого вечера. К ним приходила в тот вечер Ивановна, и отец сказал
ей, что вот получил премию на заводе. Потом заходили еще соседи,
и всем отец показывал на деньги и говорил как-то между прочим, что
получил на заводе премию.
Зачем это он все говорил и не убирал так долго в комод свои день¬
ги, Михаська понять не мог. Ведь вот ту гору, за картошку, он сразу
спрятал и никому не показывал, а ведь была целая гора, не то что
сейчас.
Отец не дулся на мать, не ругался. Они друг друга с полуслова
понимали. Мать что-нибудь скажет, а отец уже головой кивает: мол,
380 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
согласен. Отец заговорит, а мать его по голове гладит, целует в щеку:
все, мол, правильно.
А Михаська... Михаська сам по себе.
Сколько он мечтал, чтобы наступило у отца с матерью это равно¬
весие, чтобы чашечки на весах встали вровень и больше не качались!
Вот случилось это. А ему все равно. Ему безразлично. Что у вас там
творится — как хотите. Вы сами по себе, я сам по себе.
Однажды Михаська пришел из школы, а мама дома. Выходной был
у нее, что ли? Быстро сделала Михаське яичницу. Глазунью. Это про
нее маленькая Лиза спрашивала, все никак не понимала: раз
глазунья, значит, с глазами. Удивительно ей было: что за еда с гла¬
зами?
Михаська потыкал вилкой яичницу, сел уроки учить, а мама все
ходит, ходит... Потом присела рядом, погладила его по руке — будто
по голове погладить боится — и говорит:
— Ну вот, Михасик, скоро уж и конец.
— Что за конец?
— Скоро,— говорит,— на дом заработаем, и уйду я обратно в
госпиталь.
А сама смотрит на Михаську, и в глазах у нее тоска. В другой раз
Михаська, может, обрадовался бы. Нет, не в другой раз, а раньше.
Раньше бы обрадовался, теперь — нет. Теперь он только разозлился.
Помолчал, а потом сказал равнодушным голосом:
— Ну и что? Мне-то все равно...
Мама от него отодвинулась. Глаза сразу стали сухими. «Да-да,—
подумал Михаська,— мне все равно. Так и знай!» И снова уткнулся
в учебник.
Мама посидела рядом, помолчала. Ушла кастрюлю чистить.
И такая злость охватила Михаську. Прямо ненависть. Захотелось
сделать что-нибудь такое!.. Навредить как-нибудь отцу с матерью,
чтоб не улыбались друг другу, чтоб не думали, что все у них так уж
хорошо.
Он кинул учебники в сумку, решил, что не станет учить уроки.
Пошел на улицу.
Вечером отец с мамой ушли в театр. Михаська не знал, куда они
ушли. Он пробегал на улице совсем один — к Сашке Свириду идти
не хотелось,— а когда вернулся, дома никого не было.
Михаська сидел в набегающей темноте, глядел в окошко, за ко¬
торым серела вечерняя улица, и сердце заливала обида.
Ему казалось, что он один, один-одинешенек на всем свете.
ЧИСТЫЕ КАМУШКИ 381
Он вспомнил, как в войну, во втором классе, он получил двойку по
чистописанию. Юлия Николаевна поставила ее в тетрадку, и рука
у нее не дрогнула. Вечером пришла с работы мама и отругала Ми¬
хаську; он обиделся и решил, что уйдет, непременно уйдет из
дому.
Тогда было так же тоскливо и одиноко, как сейчас, он хотел убе¬
жать из дому, но не мог решить куда. Хорошо было бы на фронт, к от¬
цу, но все равно по дороге поймают. Сашка Свирид говорил, что всех
маленьких ловят на вокзалах. Тогда Михаська взял кусок хлеба в
карман, вышел на улицу и забрался на высокий тополь. Он думал, что
просидит здесь всю ночь до утра и пусть-ка мама поищет его. Но стало
холодно — варежки он взял тонкие, а дело было зимой,— да и все
равно на голом тополе его отовсюду видно, как черного грача, и он
слез, сдался, пошел домой...
Сейчас ему снова захотелось уйти из дому, но теперь это могло
быть только всерьез, на тополь не полезешь — самому смешно. Ну,
а серьезно — как?.. Куда?..
Отец... Он будто посторонний. Теперь они не ходят с ним за руку,
быстро все это кончилось...
Сколько горьких минут приносили ему эти размышления! Михась¬
ка каждый день видел Ивановну, и Катьку, и маленькую Лизу, кото¬
рые никого не ждали с войны и горе которых было навсегда, навеч¬
но; он радовался, что его отец вернулся живым и здоровым — не
всем ведь выпадало такое счастье,— и тут же снова горевал. Горе¬
вал, что хоть и вернулся отец с войны, а дома стало мрачнее и
хуже.
В войну они с мамой ждали писем от отца, и когда приходили
серые треугольники, они закатывали нир горой, потому что это был
праздник.
Они ели завариху; включив радио на полную мощность, слу¬
шали сообщения Совинформбюро, потом пели «Широка страна моя
родная...», потому что было легко на сердце: наши побеждали и отец
был жив.
Теперь же, когда отец вернулся и прошли первые счастливые дни,
жизнь будто сузилась, стала маленькой и серой... Все, что происходи¬
ло у них, все, что делали отец и мать, было для дома со светел¬
кой, и спальней, и с печкой, на которой можно рассказывать
сказки...
Но дом теперь был похож на танк. Он полз, полз, полз, становился
ближе, и казалось, он раздавит всех их...
382 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
31
А утром в школе он опять подумал, как была неправа Юлия Нико¬
лаевна, когда сказала, что все можно предвидев, все предугадать.
Уже в который раз он убеждался в обратном, то есть в том, что ничего
предвидеть и предугадать невозможно, что все сваливается человеку
на голову неожиданно, внезапно, вдруг и, видимо, сваливается затем,
чтобы испытать человека на прочность, выяснить, выстоит ли он, не
дрогнет ли, выяснить, чего человек этот стоит.
Все началось с того, что Иван Алексеевич поставил Михаське
двойку. Следующим уроком был русский, и Русалка спросила Михась¬
ку. Уроков было пять в этот день, и такими темпами можно было
схватить пять двоек. Михаська попытался уйти от судьбы. В перемену
он взял сумку и пошел из школы, но в коридоре нос к носу встретился
с Юлией Николаевной.
— Уходишь? — спросила она укоризненно и покачала головой.—
Боишься третьей двойки?
«Уже знает,— подумал Михаська.— Русалка рассказала». Он
вздохнул и вернулся в класс.
Третьей двойки он не получил, хотя географичка пристально по¬
сматривала на него. «Наверное, Юлия Николаевна ей сказала»,—
подумал Михаська.
Но и двух двоек было достаточно. Хоть мать и улыбалась не так,
как хотелось Михаське, но лучше бы уж она как угодно улыбалась,
только не устраивала скандалов из-за двоек. Это было почти невыно¬
симо.
Мать видеть не могла этих двоек.
Тогда Михаська решился. Дома, пока никого не было, он взял
бритву, резинку и аккуратно стер обе двойки. Пусть стоят в журна¬
ле, нечего им еще и в дневнике. «Им-то что?..— подумал Михаська
про отца с матерью.— Про двойки я и сам знаю, а им до меня дела нет.
Я сам по себе, они сами по себе».
Тут было очень кстати это: я сам, они сами...
Уроки, как и вчера, совсем не учились, не хотелось ни о чем ду¬
мать.
Даже читать было лень.
Михаська вышел на улицу, залез на крышу и лег в своем укромном
уголке на теплую кровлю.
Он поднял глаза к небу. По синему морю плыли корабли. Громы¬
хали якорные цепи, на носу флагмана стоял адмирал.
ЧИСТЫЕ КАМУШКИ 383
Нос у адмирала был шишкой — значит, он добряк, этот носатый
капитан.
Михаська посмотрел вниз. Немцы за колючей проволокой уже
достраивали дом. Это был первый новый дом после войны. На вышках
по углам забора стояли охранники. «Интересно,— подумал Михась¬
ка,— будут они стрелять, если какой-нибудь немец побежит? Только
куда он убежит? Ведь все сразу узнают, что это немец...»
А корабли плыли по синему морю, плыли себе и плыли... Внизу
немцы строили дом; Михаська получил две двойки, стер их, а теперь
лежит на крыше. Где-то мать торгует конфетами, отец ходит по цеху.
Наверное, Савватей лезет к кому-то в карман, а инвалид без ног просит
подаяние. А облака плывут. Плывут, и нет им дела ни до немцев, ни до
Михаськи с его двойками, ни до отца с матерью, ни до Савватея и
инвалида.
Плывут, кружат над землей плавные, белые, беззвучные, спокой¬
ные. Смотрят на землю и ничему не удивляются. Им-то не все равно?
Они сами по себе...
Михаська слышит снизу чей-то звонкий голос. Он вскакивает и
идет к краю крыши. Внизу, под лестницей, стоит мать.
— Слезай сейчас же! — кричит она.
И Михаська понимает: опять что-то неладное.
— Негодяй! — говорит мать.
И Михаська видит в ее руке дневник.
— Пойдем! — приказывает она и с силой тащит Михаську за
рукав.
— Я сам пойду. Ты что — милиция? — спрашивает он и выры¬
вает руку.
— Я покажу тебе милицию! — шепчет мать.
Михаська не узнает ее. Голос у нее скрипучий, и помада разма¬
залась на губах. Ему противно, что его тащат за рукав, будто он вор.
— Лгун! — кричит мать дома и наотмашь бьет Михаську по
щеке.— Я встретила Юлию Николаевну.
Михаська трогает щеку. Она будто курточка с начесом тогда,
горит-горит, ее обдает жарким пламенем. Зато другая щека — ледыш¬
ка. А рука — сосулька. А сам — будто фролихинская бочка со льдом.
Михаська трогает руку, и ему снова смешно. «Чего ей надо? —
думает он о матери и чувствует, что думает так, будто она совсем
чужая.— Чего им надо от меня? Я же сам по себе, они сами по себе».
Щека пылает, и Михаська думает, что его ударили второй раз,
всего второй раз. Первый раз — Савватей, когда отбирал марки. Вто¬
384 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
рой раз — мать. «Смешно,— подумал он,— в войну не била, а после
войны...»
— Еще смеешься! — кричит мать и бьет Михаську по второй
щеке.
Он даже не моргает. Он смотрит на мать пристально, будто видит
первый раз. Он смотрит на нее и не узнает.
Вдруг за матерью он видит лицо Ивановны. Ивановна протягивает
матери кружку с водой, и Михаська слышит, как мать глотает воду
большими глотками и лязгает зубами о кружку.
— Отца-мать обмануть вздумал,— говорит мать, успокаиваясь.—
Обмануть... Честным быть надо, честным! — говорит мать.— Чему я
тебя всю войну учила? Честности! Честно надо жить!
Она плачет.
— Честно? — переспрашивает удивленно Михаська, будто не
расслышал.— Значит, честно?
Фильм крутится в его голове. Плохой фильм. Там не Чапаев с пу¬
леметом. Там отец с картошкой. Мать с конфетами. Там гора денег
из-за ремня со звездочкой на пряжке. Там туфли обувщика Зальцера.
«Опять врет! — думает он о матери.— В глаза смотрит и врет!»
— А вы — честно? — кричит он.— А ты — честно?
Он думает про стертые двойки. Двойки... Какие-то две двойки.
И гора денег.
Он видит на этажерке серую гипсовую кошку — подарок отца.
Там деньги. Отец смеялся: «Уже на бочку». На бочку не на бочку, а
мороженых на десять есть. Он подбегает к этажерке, хватает кошку
и трахает ее изо всей силы об пол. Кошка рассыпается вдребезги. Она
полна бумажек. Михаська дрожащими руками подбирает бумажки и
сует их в карман.
На пороге он оборачивается и снова смотрит на мать. Она глядит
на него какими-то больными, пришибленными глазами, совсем не
похожими на те, что были пять минут назад.
Михаське хочется крикнуть ей что-нибудь злое за эти пощечины,
за этот крик, за то, что она тащила его, как милиционерша. Ему хочет¬
ся крикнуть ей, но в горле что-то першит, и он говорит ей шепотом:
— А ты — честно?..
ЧИСТЫЕ КАМУШКИ 385
Часть третья
ВЕТЕР НАД СИНИМИ КРЫШАМИ
1
Ноги несли его сами собой. Михаське казалось, что он раздвоился.
Голова совсем не управляла ногами. А ноги шли, шли, будто чужие,
будто ими шевелит совсем другой кто-то. Рук, живота, спины, сердца
Михаська не ощущал вовсе. Будто их не было. Будто исчезли. Только
голова и чьи-то чужие ноги.
Он не знал, куда несли его ноги. Он думал о какой-то ерунде, и все
нелепые и странные мысли крутились, будто стеклышки в калей¬
доскопе, переворачиваясь с боку на бок.
Он вспомнил неизвестно почему Ивана Алексеевича с его черным
портфелем, с треугольником, испачканным мелом, забавного человека
с круглой большой головой, и то, как он сказал однажды: «Пусть гло¬
жет вас червь сомнения». Михаська тогда хихикнул даже, а про себя
удивился: «Какой такой еще червь должен нас грызть, за что?»
Потом он почему-то вспомнил картофельный участок, песню, ко¬
торую они пели там:
Здравствуй, милая картошка-тошка-тошка-тошка,
Низко бьем тебе челом-лом-лом,
Даже дальняя дорожка-рожка-рожка-рожка
Нам с тобою нипочем-чем-чем...
Михаська выкопал тогда картошку — огромную, с большое блюдо.
Картошина была желтая и походила на сжатый кулак. Даже побелев¬
шие пальцы было видно. Михаська думал тогда: «Что в этом кулаке,
интересно?» Но так и не придумал.
Сейчас кулак выплыл откуда-то из задворков памяти и встал перед
глазами. «Наверное, у циклопов такие кулачищи были»,— подумал
Михаська. Про циклопов им говорили на истории. Одноглазые такие
386 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
чудовища. Не то человек, не то зверь. Раньше люди в них верили. Но
это сказки. Никаких циклопов не было и нет.
Михаська попробовал думать про мать, про оплеухи, но об этом
не думалось. Было просто противно, и все. Он даже не винил сейчас
ее. Просто как-то вяло удивлялся, повторял про себя: «Ну и ну!..
Ну и ну!..»
У него даже как-то это в такт получалось. На каждый шаг слово:
«Ну... и... ну!..» Будто кто командует.
Михаська вышел на главную улицу, увидел впереди «кардаков-
ский», остатки перил в форме музыкальных лир, а внизу под ними
бочку с мороженым и мороженщицу Фролову.
Он мгновенно вспомнил овчарок, узкий коридорчик между ними,
и по спине помчались мурашки. Михаська хотел повернуть в сторону,
не подходить к Фроловой, но тут же пристыдил себя: Фролова ведь
не овчарка, один раз он уже испугался ее, хватит, а деньги на моро¬
женое у него свои, законные. Он подумал про отвратительную гипсо¬
вую кошку, которая занимала пол-этажерки. Сколько она следила за
ним! Будто шпик. Никогда не спускала глаз. В какой бы угол комнаты
он ни отошел, она всегда смотрела на него вытаращенными глазами.
Теперь на полу валялись ее осколки. Пожалуй, мать уже выбросила
их. «Пропади они пропадом, эти пятерки и четверки! — решил он.—
Буду теперь одни тройки получать. Зато бесплатные».
У Фроловой никого не было. Михаська подумал, что вначале он
возьмет, пожалуй, две порции, погуляет, съест их, а потом купит еще.
Он протянул продавщице деньги на два мороженых и стал смотреть
в сторону, пока Фролова отштампует прохладные кругляшки. Очень
хотелось пить, было жарко, а Фролова вон подняла воротник. «Может,
ей от мороженого холодно?» — подумал Михаська.
Фролиха протянула ему одно мороженое, мельком взглянула на
Михаську и стала наскребать ложкой вторую порцию. Потом словно
вспомнила что-то и пристально посмотрела на Михаську.
— A-а...— сказала она ласково.— Это тот мальчик, которого поку¬
сали наши собаки?
Михаська дрыгнул ногой — хотел было убежать, но Фролова
держала второе мороженое в руках и не отдавала его.
— Хра-а-абрый мальчик,— сказала она, качая головой.— Я таких
храбрых первый раз вижу. Да и родители у тебя ничего. Вон как твой
папаша расшумелся, когда пришел. Пятьсот рублей за тебя затре¬
бовал.
— Как? — не понял Михаська.
ЧИСТЫЕ КАМУШКИ 387
— А вот так. «Гоните, говорит, пятьсот рублей за сына, а не то
в суд дело передам».
Ногами опять зашевелил кто-то другой. Михаська попятился, по¬
том повернулся и побежал.
— Мальчик! Мальчик! — кричала ему Фролова.— Мороженое!..
2
Но Михаське наплевать было на это мороженое. Правда, первую
порцию он лизал на ходу. Но делал это машинально, не замечая сам.
Все горело в нем; хотелось остудить это горение, но и мороженое не
помогало. Тогда Михаська положил все мороженое в рот и проглотил.
Холодный комок упал в живот, и снова стало жарко.
Ноги несли его домой. В комнате никого не было. Мать куда-то
ушла. Михаська подбежал к комоду и рванул за железную ручку.
Комод был закрыт. Тогда он пошел в угол, вытащил ящик, где лежали
отцовские инструменты, и взял топор.
И голова, и руки, и ноги, и живот, и сердце — все было сейчас на
месте, все было своим. Сколько раз уже замечал Михаська, что всякое
волнение проходит у него в решающие минуты.
Он всунул синее лезвие топора в щель между ящиком и крышкой
комода и изо всей силы навалился на топорище. Что-то хрустнуло в
комоде, и ящик нехотя выполз из своего гнезда.
Здесь лежали деньги. Мама говорила отцу, что деньги надо по¬
ложить на сберкнижку, но отец смеялся только в ответ, качал головой
и отвечал, что здесь надежнее. В окно, мол, воры не залезут — четвер¬
тый этаж все-таки,— а в дверь он вделал английский замок, к кото¬
рому ни один ключ не подходит.
Михаська рванул ящик и увидел деньги. Они лежали в почтовых
конвертах. Несколько синих конвертов с марками. Он достал конверт
и отсчитал пятьсот рублей. Топор так и остался лежать у взломан¬
ного комода.
Михаська выскочил в коридор, захлопнул дверь и пошел к Ива¬
новне.
Бабушки дома не было, а Лизка с Катей сидели на табуретках и
смотрели в окно.
— Пойдемте! — сказал им Михаська.
Они послушно поднялись и пошли за ним.
По дороге они сделали петлю и взяли Сашку Свиридова. Сашка
ЧИСТЫЕ КАМУШКИ 389
и девчонки пробовали заговорить с Михаськой, но он странно улыбал¬
ся и ничего не отвечал. Только у самой Фроловой он сказал:
— У меня сегодня день рождения. Угощаю мороженым.
Сашка протянул Михаське руку, и он машинально пожал ее.
— Чего молчал? — сказал Сашка.— Темнила!
Когда Фролиха снова увидела Михаську, она вроде даже обрадо¬
валась.
— Ну вот,— сказала она,— все-таки пришел!
И стала черпать мороженое.
Михаська неожиданно вспомнил, что, когда он прыгнул к овчар¬
кам и они залились лаем, что-то хрюкало еще. Он подумал, что ослы¬
шался, но теперь понял — нет. Сашка давно когда-то говорил, что
Фролиха пошла торговать мороженым, потому что на молокозаводе
можно достать обрат. Фролиха держала поросят, так что обрат ей
очень был нужен. И хрюкали тогда поросята.
Фролова начерпала мороженое, отпечатала своей жестяной рюм¬
кой порцию и протянула Михаське.
— Больше не бегай,— сказала она,— останешься без мороже¬
ного.
— Не останусь,— ответил весело Михаська и протянул ей пятьсот
рублей.— Дайте мороженого. На все.
Фролиха выкатила глаза, замахала руками в белых нарукавни¬
ках.
— Что ты! — заговорила она быстро.— Отец узнает, что я тебе
рассказала, скандал устроит.
— А какое вы имеете право? — сказал зло Михаська.— Я у вас
мороженое покупаю. Продавайте!
Катька дернула Михаську за руку, он повернулся и увидел ее
выпученные глаза.
— Михасик, Михасик, что ты делаешь? — говорила Катька.
Сашка стоял с открытым ртом. Лиза смотрела на него как на поло¬
умного.
— Да не бойтесь! — сказал Михаська.— Всего-то двадцать пять
порций! Нет... тридцать пять.
Он протянул Фролихе еще деньги. Те, из кошки.
— Это мне отец дал! — сказал он и удивился, как легко вдруг
стало врать.— Ему вот она,— он кивнул на Фролову,— за меня запла¬
тила. За то, что собаки ихние меня грызли.
Усмехаясь, Фролова кивнула ребятам.
— Не бойтесь,— сказал ей Михаська.— Вы-то тут при чем?
390 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
Фролиха сосчитала деньги и стала черпать мороженое. Они взяли
сначала по две порции, рук уже не хватало; тогда Сашка снял с головы
фуражку, и Фролова наложила полную шапку мороженого.
Потом они отправились в скверик и сели на скамейку. После пятой
порции Лиза высунула белый язык и сказала, что больше не хочет.
Как ни уговаривал ее Михаська, Лиза отказывалась. Даже пересела
на другую скамейку, чтоб не видеть, как они едят.
Катька сдалась на восьмой порции, но девятую все-таки через силу
съела. Теперь остались они вдвоем — Сашка и Михаська.
Мороженое начало таять, приходилось торопиться. Михаська гло¬
тал его большими кусками. Все-таки жаль бросать такую вкуснятину!
Сашка не отставал от него.
Лиза на соседней скамейке начала потихоньку икать, а Катька
смеялась над ней и закрывала ей рот ладошкой.
— Все,— сказал Сашка хриплым голосом и прокашлял¬
ся.— Все,— повторил он, но голос у него снова был какой-то глу¬
хой.
Они пошли домой.
Им навстречу дул жаркий ветер; он тащил пыль, махал ветвями
деревьев, гладил щеки...
Щеки у Михаськи теперь уже не горели, как прежде. Он шел и
улыбался ветру, облакам, плывущим наверху, белым домам с синими
крышами. Конечно, крыши были совсем не синие, а красные, зеле¬
ные, коричневые и просто никакие — серые, некрашеные. Но если
смотреть на них против солнца, они кажутся синими. Как вода
в реке.
Михаська смотрел на белые дома с синими крышами, которые
бросали поперек дороги фиолетовые тени. А в животе было холодно.
3
Топор лежал на своем месте. Топорище поблескивало отшлифо¬
ванными боками. Комод был закрыт, и ничто не напоминало о проис¬
шедшем.
— A-а, явился! — сказал отец ласковым голосом и внимательно
посмотрел на Михаську.
Мать стояла у печки, комкала в руках носовой платок. Отец хоть и
сидел спокойно, но серые глаза его посветлели. Они всегда светлели
у него, когда он злился.
ЧИСТЫЕ КАМУШКИ 391
— Ну и ну! — медленно проговорил он.— Ну и ну! Стер двойки,
сломал кошку, взломал комод, украл деньги...
Отец медленно поднялся.
Украл... Значит, украл. Вот оно что получается! Михаська пред¬
ставил, как отец пришел к Фролихе просить деньги за его искусан¬
ный зад, за десять уколов в живот. «Он, наверное, и продать меня
сможет, если хорошенько заплатят»,— подумал Михаська.
— Съел я ваши пятьсот рублей! — сказал он зло.— Съел, а не
украл.
— Я уж милицию хотел вызывать,— продолжал отец, не слушая
Михаську,— думал, воры. А оказывается, собственный сын. Мы для
него, а он от нас.
Что-то подозрительно ласково говорил отец. Только голос его
иногда вздрагивал. Он спокойно подошел к Михаське и протянул
руку. Как Савватей — вот-вот по лицу мазнет. Михаська зажму¬
рился.
Отец чуть-чуть отвел руку.
— Виктор! — громко сказала мать, и рука у отца дрогнула —
он погладил Михаську по голове. Так уж это вышло у него, некстати,
ни к чему.
Михаська вздохнул.
Отец отошел к комоду, запустил руку в свои лохматые волосы,
постоял, облокотясь, молча.
— Хватит, Михась! — сказал он вдруг, резко оборачиваясь.—
Давай говорить по-серьезному. Ты уже взрослый. Я гляжу, лучше
меня все понимаешь.
Он прошелся по комнате.
— Может, я тебе не нравлюсь? Может, зря с войны вернулся
живой и невредимый?
Михаська скривился. Неужели отец хочет говорить с ним серьез¬
но? Как взрослый со взрослым? Ну что ж, тогда он скажет ему, что
нет, совсем не то говорит отец. И какой же мальчишка не радуется,
если с фронта вернулся отец? Только вот почему невесело в доме?
Почему отец взял деньги за то, что его искусали собаки? Пусть бы
выпорол лучше, а не срамился перед этой Фроловой. Почему мама
ушла в магазин? Зачем отец ездил торговать куда-то, как барыга?
Зачем все это, зачем?..
Он хотел сказать все это, вылить все в одно слово. И вдруг неожи¬
данно для самого себя сказал:
— Да.
392 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
Он и сам не понял, как это у него вышло. Вырвалось просто —
и все. Вырвалось. Слово не воробей...
— Вон оно что... — задумчиво проговорил отец.
— Нет! Нет! — сказал Михаська и покраснел. Наверное, до пя¬
ток покраснел.
Эх, если бы он умел все объяснить, все сказать, как надо! Вот
случилось бы вдруг волшебство. В один миг он вырос бы и стал боль¬
шим, широкоплечим, взрослым. И тогда они сели бы за стол все
трое — отец, мать, он, Михаська. И он бы сказал им все, как надо:
«Что же вы не понимаете тут, что вам не ясно?»
И отец бы понял его. Сказал бы: «Эх, что же я тебя раньше не
понимал, когда ты маленьким был!» И Михаська кивнул бы ему
головой: «Да, зря не понимал, зря думал, что я меньше тебя сообра¬
жаю».
Или пусть бы по-другому стало. Не Михаська бы вырос, а отец
стал бы маленьким, как он. Как Сашка Свирид. Тоже понял бы
все.
А так — что сделаешь? Кому объяснишь? Как расскажешь?
Случись все это в школе, сразу бы все и всем стало известно.
И конечно, Юлия Николаевна пришла бы и сказала: «Да что вы,
одумайтесь!» И все бы стало на место. Все бы всё поняли. А тут не
школа. Дома — это когда живут люди за четырьмя стенами. Это дверь,
которая запирается на английский замок.
— Значит, зря я пришел с войны? — переспросил отец и вдруг
стал одеваться.
— Куда ты? — тихонько спросила мать.
— Как куда? — засмеялся отец.— Ухожу. Не видишь? Я же тут
лишний.
— Постой,— сказала мать.— Хватит, Виктор! Не шути. И так
тяжело.
Она взяла отца за руку, но он вырвал руку и хлопнул две¬
рью.
Мать прошлась по комнате, и Михаська увидел, что она молча
плачет. Он хотел что-нибудь сказать ей, но вспомнил две оплеухи,
две пощечины, которые получил сегодня, и промолчал.
Она бродила по комнате, шуршала тапочками. Михаська видел,
как тяжело ей, и вдруг опять подумал, что это ему надо уйти из
дому. Уйти надолго, может быть, навсегда. Нет, навсегда, конечно,
нельзя, а вот надолго... Пусть построят они этот дом, и все кончится
тогда. И жизнь будет снова нормальная. Вот тогда он придет, и они
ЧИСТЫЕ КАМУШКИ 393
начнут жить как ни в чем не бывало. Просто он перепрыгнет эту
яму. Перепрыгнет — и они пойдут дальше.
Это было глупостью, страшной глупостью, и Михаська понимал,
что выдумывает какую-то несусветную чушь. Нельзя ничего пере¬
прыгнуть в жизни, нельзя отвернуться или не заметить того, что
случается. Можно это принять или не принять, можно полюбить;
или возненавидеть, но перепрыгнуть, отвернуться, не увидеть
нельзя.
Мать ходила по комнате, куталась в платок. «Почему она не
кричит на меня? — подумал Михаська.— Почему не бьет? Ведь уда¬
рила же днем! Почему не идет за отцом?»
Мать вдруг остановилась.
— Ты мороженое ел? — спросила мать.
Михаська кивнул.
— Все деньги проел?
Михаська кивнул снова.
— Сумасшедший! — сказала мама.— Ведь заболеешь.
И Михаська подумал, что вот это да, это идея! Заболеть! Надо
заболеть! Тяжело, чтоб без памяти. Тифом. И на тифе все-таки пере¬
скочить эту пропасть.
Дверь хлопнула, и вошел бледный отец. За ним белел блин Седова.
— Зальцера арестовали,— сказал отец.
И тяжело сел на стул. Посидел, покурил и ушел с Седовым. Вер¬
нулся отец поздно вечером. На Михаську даже не взглянул.
Ночью Михаське приснился сон. Фашисты в касках с рогулька¬
ми стреляют в звездочку. Только она не золотая, а красная. Будто
из крови.
Фашисты хотят сбить ее, целятся и стреляют: кх! Кх! Кх!
А звездочка не сшибается.
4
— Кого там леший носит? — сказал осипшим спросонья голо¬
сом отец, и Михаська открыл глаза.— И в воскресенье поспать не
дадут!..
В дверь стучали: бум! Бум! Бум!
Отец прошлепал босиком к двери и щелкнул английским замком.
Кто-то переступил порог и тяжело задышал. Потом заплакал. Ми¬
хаська натянул штаны и подошел к двери.
394 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
Прислонившись к косяку, у входа стояла Ивановна. Руки ее,
похожие на жгуты, связанные из вен и жилок, висели вдоль платья,
голова сильно тряслась, прямо моталась. Она хотела сдержаться,
сказать что-то, но не могла, а только продолжала трясти головой
и плакать.
Михаське стало жаль ее, он придвинул к бабушке табуретку,
а она ничего не замечала, лишь глядела прямо на отца, прямо ему
в глаза.
— Что? — тревожно спросил отец.— Да говори же!
Ивановна кивнула головой, будто хотела подтвердить что-то не
сказанное еще, и отец спросил нетерпеливо:
— Попалась?
Ивановна кивнула снова, и отец выругался сквозь зубы. Такого
с ним еще не бывало.
— Слышишь? — повернулся он к матери.
Мама тоже встала и глядела на Ивановну испуганными глазами.
— Спаси ее, Виктор Петрович! — сказала Ивановна.— Христом-
богом прошу, пойдем в милицию!
— Что я там скажу, в милиции? — спросил зло отец и подтянул
трусы. Он так и стоял — в одних трусах и голубой майке. Майка
была другая, новая, тоже голубая почему-то.
Ивановна снова заплакала.
— Как же?! Как же, Виктор Петрович?! — воскликнула она.—
Ведь Катя-то ваши конфеты продавала! Ведь из-за них и в облаву
попала!
Ивановна сказала это удивленно: неужели, дескать, отец мог за¬
быть такое?
Михаську даже дернуло. В первом классе он забивал зачем-то
гвоздик в стенку, рядом с электрическим проводом, и задел за него.
Провод был старый и, видно, пропускал ток. Михаську тряхануло
так, что он слетел с табуретки. Его прошиб холодный пот, и он долго
тогда не мог опомниться.
Сейчас он будто опять задел оголенный провод.
Вчера они еще лопали с Катькой мороженое. А сегодня она в
милиции. Когда ее сумели поймать? Ну да, все правильно, рынок
с шести.
— Как же?! — говорила Ивановна.— Как же?!
И смотрела то на отца, то на мать так, точно ее предали.
— Верочка! — сказала она матери.— Что ты молчишь? Ведь ради
Михасика все это вышло. Помнишь, как было тебе неудобно тогда?
396 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
Помнишь, как вы Катю уговаривали? Я ведь была не против. Не
против... И платили вы хорошо, не обижаюсь. Но сейчас-то, сей¬
час?..
Михаська подумал, что он как будто и не спал. Просто продол¬
жается вчерашний день. И позавчерашний. И позапозавчерашний.
Тянется какой-то длинный-длинный день. Он почувствовал, как
страшно, просто до изнеможения устал он за этот длинный день.
Скоро ли он кончится? Скоро ли наступит конец, чтоб можно было
лечь и спокойно выспаться? И чтоб никого вокруг. Один на всем
свете...
Михаська вздохнул и посмотрел на отца. Он, наверное, первый
раз так внимательно на него посмотрел с того дня, как увидел во
дворе в голубой майке. Серые глаза не сияли звездочками, как в
тот раз. Они даже серыми не были. Просто какие-то выцветшие глаза.
И одно веко подрагивает. Трясется, и все.
Ноги у отца волосатые. И в пупырышках. Гусиная кожа. А еще
разведчик!
Вот он, оказывается, какой!..
— Тридцать три несчастья,— сказал отец.— Напасть какая-то.
Он потоптался, переступая с ноги на ногу. Ивановна замолчала,
ничего больше не говорила, только слезы катились по глубоким мор¬
щинам.
Отец хотел что-то сказать Ивановне, но заметил Михаськин
взгляд на себе и осекся.
— Хорошо, хорошо, бабушка! — сказал он, подрагивая веком.—
Сейчас что-нибудь придумаем.— И улыбнулся: — Дай я вот только
штаны надену.
Ивановна вздохнула и вышла.
Они остались втроем — отец, мать и сын.
Михаська вспомнил, как мать кричала ему вчера: «Честным надо
быть!» — и даже скривился, до того ему стало противно.
Эх, люди, люди!.. Сколько времени врали! Врали, врали, врали...
И сколько будут еще врать? А еще отец с матерью...
Все правильно, Сашка Свирид тогда правду сказал. Все правильно
на белом свете, и сколько из этого правильного по-настоящему пра¬
вильно?
Михаська заметил: странное дело, но когда Сашка сказал ему,
что он спекулянтская морда, а мать торгует на рынке конфетами,
в тот, первый раз, ему эта сплетня показалась ужасной. Он не мог
даже стерпеть — ударил Сашку. И когда узнал, что отец за его
ЧИСТЫЕ КАМУШКИ 397
искусанный зад взял пятьсот рублей, тоже страшно обозлился, ре¬
веть хотелось.
А сегодня — нет. Только что, сию минуту он узнал всю правду,
узнал, что отец с матерью врали ему, и ведь это было ужасно, но
странно — сегодня он не удивлялся. Ему было как-то все равно.
Может, он все-таки предполагал, что это произойдет? Как гово¬
рила Юлия Николаевна, предвидел? Михаська засмеялся, и отец с
матерью удивленно посмотрели на него. Конечно, предвидел! Как
землетрясение. Или снегопад. Снегопад. Снег падает. Снег падает на
голову. А это что, тоже падает на голову? Просто так — берет да
и падает?
Берет да и падает... И никто в этом не виноват. Ни отец. Ни
мать. Ни он, Михаська... Не было бы войны, построили бы за это вре¬
мя много домов. Белых, розовых, голубых. Целые улицы огромных
домов. И не надо было бы тогда отцу копить деньги на свой собствен¬
ный дом. Жили бы себе припеваючи в светлой квартире, простор¬
ной, с желтым, как масло, паркетом.
Война во всем виновата!
Гитлер!
Михаська чувствовал, как мать посматривает на него, будто
ждет чего-то. Они уже все оделись, на плитке чай вскипел,
отец побалтывает ложечкой в пустом стакане. Сейчас завтракать
будут.
Отец смотрит пристально в стакан. Руки у него вздрагивают.
Михаська слыхал, что есть такая примета: если когда-нибудь кур
воровал или там петухов, то руки дрожат.
Только все это Сашкины байки, брехня. Что же, отец кур воровал,
что ли?
А во всем, конечно, Гитлер виноват. Он. Война виновата. Отец
один раз сказал: «Война все спишет».
Спишет.
Как спишет? Куда спишет?
На пионерском сборе Юлия Николаевна говорила:
— Разве можно простить войну? Забыть ее? Разве можно вы¬
черкнуть гибель ваших братьев, отцов? А Зою Космодемьян¬
скую разве вы забудете? А Олега Кошевого? А Александра Матро¬
сова?
Конечно, нет! Что за вопрос? Смешно прямо! Люди погибли, а
их — забыть... Да никогда!
Но это проще. Когда люди сражаются, погибают — там все ясно.
398 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
Ну, а вот это — мама в магазин ушла, чтоб Катька для них конфетами
спекулировала; отец картошкой торговал, деньги взял за искусанный
зад — будто продал Михаську; вранье всякое, без запинки вранье,—
это что, тоже война?
Михаська дует на горячий чай, смотрит сквозь парок, идущий от
чашки на стену, и ему кажется, что стенка качается.
Отец будто слышит его.
— Что же делать? — говорит задумчиво он, а веко у него все
подрагивает.
— Идти в милицию,— тихо отвечает мать.
— С ума сошла! — срывается вдруг отец.
Михаська смотрит в чашку. Ах, как качается стена! Того и гля¬
ди — хрясь! — и чистое небо перед тобой. Крыши. Ветер прохлад¬
ный.
— Это значит — тебя посадить! — кричит отец.— Статья двести
шестьдесят шестая Уголовного кодекса!
Краешком глаза Михаська видит, как мама теребит платок. Мол¬
чит. Нечего ей сказать отцу. Вот они, дрогнули снова весы. Дрожит
стрелка. Кто перетянет?..
Мама молчит.
Отец встает и идет к комоду. Звенит ключик в замке. Шелестят
деньги.
— Ни черта! — говорит отец.— Выпустят. Дам старухе полтыщи.
А Катьку выпустят, если на себя возьмет. Несовершеннолетняя
ведь...
Михаська смотрит на мать. Она сгорбилась, сжалась, высохла
возле своего чая. Он смотрит на отца. У отца дрожат руки, будто
кур воровал.
— Трусы! — говорит Михаська спокойно, слишком спокойно.—
Предатели! — говорит он и видит, как отец с матерью становятся
маленькими, уменьшаются на глазах. Он говорит, но горло пересохло.
Он говорит, а в горле только клокочет что-то... Он задыхается и на¬
конец выжимает: — А еще разведчик!..
Выйдя во двор, шагая, словно окостенелый, и думая все о своем,
Михаська уткнулся лицом во что-то влажное. Он вздрогнул. На
веревках сушилось белье.
Михаська стоял минуту, соображая, потом схватил с веревки свои
мокрые штаны и рубаху. Теперь он лежал около реки, дожидаясь,
ЧИСТЫЕ КАМУШКИ 399
когда стемнеет. Солнце палило, будто жаркая печка. Река походила
на длинную серебряную рыбу, сверкающую чешуей. Когда ветер
стихал, чешуя исчезала.
Сосны вонзались в небо, словно остроносые пики.
Михаська лежал на спине и смотрел, как качаются эти зеленые
пики над головой. Желтый песок хребтами падал к воде и поднимал¬
ся вверх, к крутому обрывистому берегу, где росли сосны.
В половодье песок заливало, вода поднималась к самому подножию
сосен, а потом медленно отступала, оставляя за собой песчаные сту¬
пени.
В блестящей воде проступала песчаная коса. Она тянулась да¬
леко, словно старалась пересечь реку, но это ей так и не удалось. Коса
ползла метров тридцать, прогибаясь под быстрым течением, похожая
на древний лук, а потом обрывалась. Справа и слева от нее была глу¬
бина.
Река пахла смолой и рыбой. Посреди реки плыла лодка. Людей
в лодке было много. Они что-то пели, но что — Михаська не слышал:
ветер относил слова в сторону.
Странное, необъяснимое облегчение испытывал Михаська. Он
понимал, что ведь вообще-то должен бы мучиться, может, даже пла¬
кать, во всяком случае — горевать. Он уже ушел из дому. Ушел на¬
всегда. Ушел не со злости, а обдуманно, зная, что делает.
Это не походило на побег во втором классе. Он уходил расчетливо,
навсегда.
Он не мог не уйти.
5
Когда Михаська посмотрел на небо, солнце уже катилось по
кромке леса, как огромный мяч по синему футбольному полю. Мяч
был оранжевый и походил на огромный апельсин. Михаська видел
апельсин только в книжке, там он был очень яркий и красивый.
Михаська сел, подождал, пока апельсин не разрезала надвое
заводская труба на том берегу, и спохватился: когда это он заснул?
В руке он держал целую горсть камушков, чистых, прозрачных,
как те, что в ручье. Ага, значит, перед тем как уснуть, он соби¬
рал их...
Надо было поторапливаться.
Он выбрал на песке место повиднее, аккуратно сложил там брю¬
400 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
ки и рубашку, в которых ушел из дому, а из кустов достал запасную
пару.
Одевшись, Михаська поднялся на крутой обрыв. Сосна, тонкая
и длинная, словно свечка, качала зеленой макушкой, как головой.
Будто осуждала его. Вылитая Юлия Николаевна.
Он оглянулся, посмотрел на пустой берег, на синие крыши до¬
мов за рекой, на желтую от заката воду, похожую на крепкий чай,
и подумал, что теперь уж все, пути назад нет и не может быть.
Михаська вспомнил, как неожиданно на уроке арифметики еще
в четвертом классе Юлия Николаевна рассказала им про Юлия
Цезаря и про то, как он переходил со своим войском речку, под
названием Рубикон. Никто не удивился, что Юлия Николаевна на
арифметике рассказала совсем не про арифметику — это с ней часто
бывало, и даже оказывалось, что так легче решать задачки по ариф¬
метике, но с тех пор все в классе стали говорить: «Свиридов запросто
перешел Рубикон» — значит, очень легко решил задачку. Если кто-
нибудь шел исправлять двойку, все кричали ему шепотом: «Давай
жми через Рубикон!» Контрольную тоже звали Рубиконом, и
через этот Рубикон перебирались всем войском, всем классом, кто как
мог.
Михаська подумал, что всякие там контрольные — огромная, ну,
просто преогромная чепуха по сравнению с тем Рубиконом, который
он переходил сейчас.
Он представил себя в латах, в шлеме с пушистым пером. И с мечом,
конечно. Он сломал ветку, ободрал листья. Вот он, меч. Он еще раз
взглянул на штаны и рубашку, лежавшие у воды, и пошел по тропин¬
ке, извивавшейся вокруг сосен. Тропка выходила на дорогу.
Чем дальше он уходил от реки, от города, тем легче было идти,
хотя где-то там, внутри, не проходила смутная тревога. Как только
Михаська вспоминал мать, отца, сердце сжималось, во рту станови¬
лось горько, будто черемуховую ветку грыз, и он старался думать
о другом...
Дорога, по которой он шел, была неширокая — встречные ма¬
шины едва могли разминуться на ней между двумя сосновыми сте¬
нами. Пушистая, мягкая пыль фонтанчиками брызгала между паль¬
цами босых ног. Ботинки пришлось оставить на берегу, под рубаш¬
кой и штанами, чтоб все было — не подкопаешься.
Михаська мог не торопиться — эти места он знал. Еще в прошлом
году они ходили в поход всей дружиной и были здесь. Дорога вела
на сортировочную станцию — каких-нибудь пятнадцать километров.
ЧИСТЫЕ КАМУШКИ 401
Там Михаська рассчитывал сесть на товарняк и уехать в Сталин¬
град. Улица, по которой в одну сторону бегут от облавы спекулянты,
а в другую едут грузовики со строителями Сталинграда, не давала
ему покоя.
Там, в Сталинграде, на работу его, конечно, не возьмут, но вот
в ремесленное... Эх, надо было захватить свидетельство о рождении!
Но это было впереди. О том, что еще только будет, как и о том,
что было, думать не хотелось.
Михаська шел, глазел по сторонам, иногда заходил в лес. В зе¬
леном, словно невзаправдашнем мхе, в остролистной траве попада¬
лись сыроежки. Михаська обдирал красные шкурки со шляпок гри¬
бов и ел их. Грибы попадались все какие-то мучнистые, и есть их
было не очень-то вкусно. Тогда он срывал редкие ягодки черники,
встречавшиеся порой, и заедал грибы ими. В одном месте он вышел
на нетронутый куст дикой смородины. Ягоды висели черными кисточ¬
ками, и Михаська уселся прямо на траву возле куста. Он не ушел,
пока не объел все ягоды, думая при этом, что смородина, пожалуй,
походит на виноград, потому что, как рассказывала им Юлия Ни¬
колаевна, виноград тоже растет кисточками. Михаська еще ни разу
не ел винограда. Он закрыл глаза, представляя, что ест виноград,
и от этого только больше захотелось хлеба.
Он вспомнил, как они ели вчера мороженое в скверике, и подумал,
что было бы здорово, если бы мороженое не таяло. Тогда он, конечно,
взял бы его в дорогу и сейчас лизал бы потихоньку.
Стало смеркаться, и Михаська больше не уходил с дороги в лес.
Машины не обгоняли и не встречались ему. Он остался совсем один.
Вокруг качались сосны, будто хоровод плясунов взялся за руки
и ходит вокруг Михаськи, в такт покачивая головами. А он один
в центре этого круга, и все смотрят на него, не спускают глаз. Ми¬
хаське показалось, что и правда кто-то смотрит на него из-за придо¬
рожных кустов; он даже увидел, что тот, кто смотрит, приподнял
голову. Михаська остановился, совсем не дыша, потом нерешительно
шагнул вперед. «Тот» оказался просто веткой, вздрогнувшей от ветра.
Михаська поежился и пошел дальше, но страх не проходил. Тогда
он решил, что будет думать о чем-нибудь другом. Это всегда помогало.
Пока было светло, он, чтобы отвлечься от неприятных мыслей
о доме, думал про лес. Теперь лес пугал его. Ему хотелось к людям,
домой.
Дома, наверное, уже ищут его. Мать побежала к Ивановне, к Саш¬
ке Свириду спрашивать, не знают ли они, где Михаська!
402 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
Михаська обругал себя снова и запретил себе думать о доме. Он
перебирал в голове, про кого бы подумать, чтоб забыть этот страшный
лес: про Лизу и Катьку, про школу, про Савватея или про Сашку,—
и вдруг вспомнил лагерь.
В этот лагерь он ездил каждый год и там в первый раз увидел
Сашку Свирида, своего лучшего друга.
Было это в каникулы после второго класса. Наши фашистов
тогда здорово начали лупить, и они в лагере все спорили, кончится ли
к осени война.
Не спорил только один Сашка Свиридов. Был он новенький —
откуда-то, говорили, приехал.
Был тогда Сашка до того тощим, что лопатки так и торчали из
спины, будто пропеллеры, а на ребрах, если водить по ним железной
ложкой, можно было, наверное, что-нибудь сыграть. Расшитая тю¬
бетейка болталась у него на голове, как большая тарелка, и сползала
ему на уши, по очереди то на одно, то на другое.
Михаське было жалко этого мальчишку; про себя он звал его
шкелетиком, но вслух не называл, потому что прозвище это могло
сразу к Сашке приклеиться, а у него их и так хватало.
На другой день после того, как они приехали в лагерь, оказалось,
что у Сашки страшное и удивительное для мальчишки несчастье...
Тут же это стало известно девчонкам, и все стали над ним потешаться.
Даже Михаська с этим пороком примириться не мог. И ведь дейст¬
вительно стыдно это было для второклассника.
Каждое утро под Сашкиной кроватью оказывалась лужа. Он вста¬
вал, пряча от всех глаза. Вожатая, ругаясь, взваливала на плечо мок¬
рый матрац и вытаскивала его на самое видное место — на лагерный
забор напротив линейки.
Сашка ходил бледный, испуганно оглядывался и вздрагивал, если
его звали, будто украл что-то, и всегда был один. А когда к нему
подходил кто-нибудь, он убегал. Ну, это-то было понятно: подходили
к нему всегда только за тем, чтобы поговорить об одном — о Саш¬
киной беде.
Мальчишки гоняли мяч, а Сашка сидел на траве где-нибудь вдали
и смотрел на них. Однажды, сжалившись над ним, Михаська под¬
бежал к нему, нарочно хромая, и сказал:
— Поиграй за меня. Нога что-то...
Но Сашка, наверное, понял, что Михаська жалеет его, и отка¬
зался.
Ушел рвать ромашки.
ЧИСТЫЕ КАМУШКИ 403
Так они и жили, не замечая Сашки, а если замечали, то только
для того, чтобы похохотать.
Однажды вожатая сказала им, что завтра будет солнечное затме¬
ние и кто хочет его увидеть, пусть коптит на свечке стекла. Про
стекла Сашка не слышал, он ходил, как всегда, где-то один. Когда
он вернулся, Михаська сказал ему, что завтра с утра будет затме¬
ние.
Михаська вспомнил, как в тот вечер Сашка не ложился спать
дольше всех. Он сидел на кровати не раздеваясь, тревожно глядя на
вечернее небо. Пришла вожатая, сказала ему, что он нарушает дис¬
циплину и что вообще она уже с ним намучилась. Сашка, не разде¬
ваясь, торопливо лег под одеяло. Вожатая сделала круглые глаза
и закричала на него. Она вообще была психованная, та вожатая. Но
и Сашка тогда всех удивил. Он вскочил с кровати и спросил удив¬
ленно:
— А что, можно раздеться?
Вожатая пожала плечами и ушла, хлопнув дверью.
Утром, когда Михаська проснулся, Сашка Свиридов лежал с от¬
крытыми глазами. Он словно чего-то ждал.
— Ты чего? — спросил Михаська и посмотрел под Сашкину кро¬
вать.
Сегодня там было сухо.
— Да так...
Мальчишки стали просыпаться, босиком выбегать в коридор, по¬
тягиваться, зевать...
Сашка вдруг приподнялся на локте и спросил громко, на всю
палату, ни к кому не обращаясь:
— А почему окна не занавешены?
Мальчишки засмеялись.
— Нет, правда. Ведь сегодня затемнение. Вы разве не знаете? На¬
до занавешивать окна.
Михаська подумал, что мальчишки станут смеяться, но в ком¬
нате была тишина. Просто все поняли, про какое затемнение он го¬
ворит.
— Сашка,— сказал Михаська,— так ведь это не война. Не затем¬
нение, а затмение. Солнечное. Луна закроет солнце, понимаешь? Ты
разве не знал?
Сашка понял. Он опустил голову, ожидая расплаты. Но все мол¬
чали. Тогда Сашка поднял голову и посмотрел на ребят. Михаське
показалось, что это он и не на них смотрит, а куда-то дальше, мимо
404 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
них, и что-то видит такое, чего они никогда не увидят и не узнают,
а вот он это видел и знает.
Потом Сашка сказал:
— Мы когда жили в Ленинграде и была блокада, мы там зана¬
вешивали окна. Половиками. Когда было затемнение.
Оказалось, и правда Сашка почти совсем не умел играть в футбол.
Но на матче с соседним лагерем его сделали капитаном. И выиграли.
Ничего, что Сашка тогда и по мячу-то ударил раз пять.
А осенью Сашка пришел в их класс.
6
Михаське казалось, что он думает о Сашке, вспоминает, как он
узнал его, но нет, оказалось, все это снова про дом.
«Вот над Сашкой,— думал он,— все тогда смеялись вначале.
Смеялись зло, потому что всем было удивительно, как это такой
большой парень, и вдруг... А потом сразу смеяться перестали. Все
вдруг поняли, что над этим смеяться нельзя. Что Сашка тут ни при
чем. Ни в чем он не виноват. Смеяться, выяснилось, не над чем, по¬
тому что за этим стыдным было очень важное, очень серьезное. Бло¬
када. Война».
Удивительно хитроумная эта жизнь! Раньше Михаське казалось,
что самое на свете сложное — это часы. В войну, когда мамы не было,
он залез в комод, достал отцовские часы, похожие на репу, и открыл
заднюю крышку. Сначала там все было тихо. Тогда Михаська покру¬
тил за головку, за маленькую такую луковичку, и все внутри вдруг
двинулось, зашагало, заторопилось. Михаська все хотел уследить,
что за что там зацепляется, внутри этих часов, отчего они идут, но
так и не понял тогда, решив, что часы — самая-самая-самая сложная
штуковина на белом свете.
Тогда он был маленький. Тогда все было другим.
А теперь... Как тут разберешься?
Ведь может, может же быть и дома так, как у Сашки!
Может быть, у всего этого стыдного есть другая половина? И она
главней стыдного?
Может, то, что делает отец, то, ради чего мама ушла в магазин,
Катька попала в облаву, а он, Михаська, ушел из дому,— может быть,
все это совсем не то, что кажется? Может, все и получается так, что
виноват в этом кто-то другой, третий?
ЧИСТЫЕ КАМУШКИ 405
И то, что делает отец, пусть делает,— не он виноват, а что-то
другое, что стоит за его спиной, туманное, большое, стоит и оправ¬
дывает, освобождает его от всякой тяжести?
От того, чтобы он понимал, что делает, и отвечал за то, что де¬
лает?
Выходит, никто ни в чем не виноват?
Выходит, никто ни за что не отвечает?
Живи как живется, хватай сколько можешь, лишь бы тебе хо¬
рошо!..
Но кто же тогда за все отвечает?
«Неужели бог?» — подумал Михаська и расхохотался. Но сзади
что-то треснуло, и он замер. Сердце колотилось как бешеное. Но
сзади, впереди, сбоку было тихо. Только шумели сосны, взволнован¬
ные чем-то.
Михаська пошел вперед.
Дорога вдруг раздвоилась. «Куда? — подумал он.— Направо или
налево?»
Он вспомнил слова, которые в войну часто слушал по радио: «На¬
ше дело правое!» И хотя эти слова были про победу, про то, что мы
обязательно расколотим фашистов, а не про Михаську совсем, не про
его мысли и заботы, он повторил про себя: «Наше дело правое!»
Повторил так, что ему самому показалось — не по лесу идет он
сейчас, не на станцию, а в бой, в настоящее сражение.
— Наше дело правое! — повторил он упрямо и пошел по правой
дороге.
7
Впереди, за лесом, где-то уже совсем рядом, пронзительно гукали
паровозы. Будто вскрикивали, испуганные кем-то. И чем громче
вскрикивали они, тем медленнее шел Михаська.
Стало светать. Туман медленно всплывал над землей. Михаська
шел навстречу ему, и туман не стоял на месте, тоже спешил к Ми¬
хаське.
Сначала он лизнул белым языком Михаськины ноги, потом под¬
нялся выше — до пояса. Михаська будто входил в воду, только вода
была странная, непрозрачная и не чувствовалась совсем. Прямо под
ногами дорога еще виднелась, а что было впереди — бугорок или
выбоина — все скрывал туман.
406 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
Михаська медленно погружался в него. И чем дальше он шел,
тем больше росло, расширялось, захватывало его то смутное, неясное
чувство, которое сидело где-то там, в глубине его, с самого начала
и которое он так упорно отгонял от себя.
Он думал и думал про Сашку, но не Сашка занимал его сейчас,
а то, как он вспомнил про него. Сашка лишь заставил его подумать
про дом по-другому, с каким-то новым значением, без отчаяния, без
злости, а как бы со стороны, заставил посмотреть на все, что случи¬
лось, иными глазами.
Ругая себя, Михаська подумал, что теперь смотрит на все проис¬
шедшее не только по-другому, не только не так, как прежде, но даже
как совсем иной человек.
Не Михаська, нет,— он, Михаська, так думать не мог. Скорее,
это был какой-то старичок. Бородатый, усатый, седой. Бывают такие
старички — все понимают и все объясняют.
Михаське стало противно и стыдно, что он — это уже не он,
что он, будто лучина, раскололся надвое, расщепился, разделился.
«Человек не лучина,— думал он.— Человек не может расщеп¬
ляться».
Он должен быть один, должен быть самим собой.
Даже смешно, что он хотел уйти, убежать. Пусть на стройку
Сталинграда. Все равно это было бы бегство, и больше ничего. Ника¬
кое не правое дело. Уйти — значит успокоиться. Даже если уходишь
строить Сталинград.
А если ты успокоился — значит, сдался.
Михаська увидел, что утро уже настало. Солнце проламывалось
сквозь лес, сверкало красными лучами прямо в глаза. Неожиданно
для себя Михаська вдруг остановился и побежал обратно.
Край неба, к которому он бежал, стал прозрачным, как чистые
камушки, которые цокали друг о друга в кармане. Михаська сунул
руку в карман и сжал камушки в руке.
Он выбегал из тумана, и ему казалось, что он убегает от какого-то
страшного, ласкового и липкого зверя, который хотел проглотить его,
проглотить, не оставив даже его следов на дороге.
Мама... Он впервые за всю ночь, длинную эту ночь, подумал о ней.
Мама всегда все понимала раньше. Неужели она совсем разучилась
понимать?
Не может быть!
Он то бежал, то быстро шел. Солнце взбиралось на небо медлен¬
но, будто мальчишка, который первый раз лезет на дерево. Лес
408 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
начинал редеть. За поворотом с дороги сбегала тропка, ведущая к
реке.
Конечно, мама!
Он возвращается к ней. Он придет и скажет ей все, как должен
сказать, все, как думает и что думает.
Он скажет ей, что им не нужен этот дом.
Что он никогда не будет жить в таком доме.
Что пусть подождет она, когда он подрастет немного. Он пойдет
работать. И будет честно всегда работать. Будет мастером на все
руки. Мастером не для себя, а для всех.
А жить они будут тут, где прожили всю войну и до войны еще
сколько.
Тесно, что ли?
Вовсе нет, не такая уже плохая у них комната, есть похуже.
А потом построят новые дома.
Построят же их.
И над ними будет ходить ветер и гонять ребячьих змеев из старых
газет.
Тропка сбежала сквозь сосны к реке...
И вдруг он подумал об отце. Он подумал о нем со странным чувст¬
вом. Ему было жаль его сейчас. Просто жаль. Он жалел его за то,
что отец — такой сильный, ведь руки у него как свинец,— оказался
неожиданно слабым, слабее даже мамы.
Мама все понимала, хотя и делала вид, что не понимает, а отец
действительно ничего не понимал.
Или ничего не хотел понять.
Он снова вспомнил старичка, который был его второй половиной,
и улыбнулся. Старичок внутри него исчез. Исчез внутри него и он
сам, мальчишка Михаська.
Простое математическое понятие. Среднеарифметическое число.
Два человека не могли жить в одном. Старичок и мальчишка соеди¬
нились в нем и разделились надвое.
И не осталось ни того, ни другого.
Появился другой человек.
Просто взрослый.
Еще и не старый, а уже не молодой.
Михаська вышел на крутой берег. Перед ним плыла река — ог¬
ромная серебряная рыба.
410 АЛЬБЕРТ ЛИ ХАНОВ
8
Рубашки и штанов на песке не было...
Михаська оглядел с обрыва берег.
Берег был пуст, зато на мосту толпились какие-то люди. Они смот¬
рели на лодку. В лодке, которая тихо плыла по течению, стояли ка¬
кие-то мужчины и опускали в воду багры.
Михаське стало спокойно, как всегда в такие минуты. Он спрыг¬
нул на песок и пошел к мосту, оставляя следы на песке.
Сначала на него не обращали внимания, потом люди на мосту
увидели его, и две маленькие фигурки побежали навстречу Ми¬
хаське.
Он сразу узнал их. Это были Сашка и маленькая Лиза. Они мча¬
лись навстречу Михаське, и лица у них были не радостные, а испу¬
ганные.
Они остановились перед ним, и он пошел рядом, слыша, как они
тяжело дышат.
Люди на мосту смотрели на Михаську, и от них отделился еще
один. Отец. Он был в гимнастерке без ремня, как арестованный. Ми¬
хаська видел когда-то: так же в гимнастерке без ремня вели аресто¬
ванного солдата.
Отец шел медленно, с трудом вытаскивая ноги из песка, опустив
плечи, будто шел с долгой и тяжкой работы.
И вдруг из-за его спины появилась маленькая, легкая фигурка
и бросилась навстречу Михаське.
Мама бежала, протянув к Михаське руки; бежать ей было трудно
по песку, очень трудно; она чуть не падала, но не падала и бежала,
бежала, бежала к Михаське, ничего не видя перед собой.
Она схватила, смяла Михаську, сжала его так, что ему стало
даже больно, крепко прижала к себе, и Михаська услышал, как
стучит мамино сердце. Громко, гулко, будто хочет вырваться из
груди...
Она не плакала, нет, только на лице, темном от пыли, светлели
бледные дорожки — следы от выплаканных слез.
Мама все тискала и тискала Михаську, а он стоял опустив руки,
стоял и наконец обнял маму, обнял, как не обнимал давно — крепко,
уткнувшись головой в мягкие мамины волосы.
Когда Михаська оторвался от мамы, он увидел отца, стоявшего
невдалеке от них.
Михаська посмотрел на его лицо и увидел две глубокие линии
ЧИСТЫЕ КАМУШКИ 411
возле рта. Он подумал, что отец у него не такой уж молодой, и сам
удивился, почему он об этом подумал.
Отец взглянул на Михаську как-то по-взрослому — без злости,
без удивления, просто смотрел и думал о чем-то серьезном.
Михаська шагнул навстречу отцу и остановился. Они стояли друг
против друга — сын и отец, родная кровь, и Михаська смотрел на
отца и чуточку улыбался. Не было в этой улыбке ни обиды, ни нена¬
висти, ни отчаяния.
Только жалость, печальная жалость к этому большому человеку
в гимнастерке без ремня. Потом он шагнул вбок и обошел отца,
как обходят столб или еще что-нибудь неодушевленное.
Михаська шел рядом с мамой к мосту, а позади раздавались
шорох шагов и сопение Сашки и маленькой Лизы.
Михаська вдруг словно взлетел, как птица, и посмотрел на все
с высоты. На ветер, дующий над синими крышами. На мост с людьми,
которые толпились там. На угрюмого отца, которому предстоит мно¬
гое понять. На Сашку и Лизу. На самого себя.
Нет, самому по себе нельзя, все-таки никак нельзя!
Нельзя видеть только землю и лишь самого себя на ней. И никого
больше. И ничего больше. Все есть и никуда не денется, не исчезнет,
не переменится, если махнешь волшебной палочкой.
Все есть так, как есть. А волшебной палочки нет и не будет. Да и не
нужна она.
Волшебная палочка — это для Михаськи. Но его теперь в Ми¬
хаське нет. Есть взрослый человек.
Есть человек, который может, как птица, взлететь и увидеть мост,
людей на нем, отца, Сашку, Лизу, себя.
Увидеть все как есть и все понять.
9
Они шли по деревянному мосту, и Михаська слышал, как гулко
стучат за спиной шаги Сашки и Лизы.
Он вдруг почувствовал, что правая рука онемела. Он разжал
кулак и увидел чистые камушки. Те, что он собрал на реке еще
вчера.
Камушки блестели на ладони, и сквозь них видно было ладонь.
Он опустил правую руку и подумал, что ведь чистые камушки
теперь не нужны ему.
412 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
Михаська приоткрыл ладонь, и камушки, легонько постукивая,
стали падать на мост.
Он шел и сеял камушки, будто зерна.
Он шел рядом с мамой по скрипучему старому мосту и не обо¬
рачивался назад.
А если бы обернулся, увидел, что маленькая Лиза и Сашка под¬
бирают чистые камушки, которые он бросает.
И смотрят сквозь них на солнце.
И улыбаются.
Потому что если посмотреть сквозь камушек на воду, он станет
голубым, на траву — зеленым, а на облака — белым.
А если посмотреть на солнце, камушек станет кусочком солнца
и даже обожжет руки.
Такой камушек...
ОБ АВТОРЕ 413
Альберт Анатольевич Лиханов ро¬
дился 13 сентября 1935 года в городе
Кирове. После окончания отделения
журналистики Уральского государст¬
венного университета имени А. М. Горь¬
кого в Свердловске он возвращается
в родной город. Работал литературным
сотрудником областной газеты «Киров¬
ская правда», главным редактором мо¬
лодежной газеты «Комсомольское пле¬
мя». Позже был собственным коррес¬
пондентом «Комсомольской правды» по
Западной Сибири, работал в аппарате
ЦК ВЛКСМ, затем в журнале «Смена».
С 1975 года он — главный редактор
«Смены».
В 1962 году в журнале «Юность»
был опубликован первый рассказ Аль¬
берта Лиханова «Шагреневая кожа».
В 1963 году он участвует в IV Всесоюз¬
ном совещании молодых писателей. Ра¬
бота в семинаре Л. А. Кассиля опреде¬
лила литературную судьбу писателя.
С этой поры его творчество прочно свя¬
зано с литературой для детей и юноше¬
ства, хотя многие книги писателя
(«Голгофа», «Благие намерения»,
«Высшая мера», «Драматическая педа¬
гогика») адресованы взрослым.
Отрочество, ранняя юность — маг¬
нитный полюс души писателя не только
потому, что, когда Лиханов входил в
литературу, в ней было до обидного
мало хороших книг, адресованных чита¬
телям именно этого возраста. Сегодня
(отчасти благодаря творчеству Альберта
Лиханова) наша проза для подростков
вышла в авангардные ряды советской
литературы. Но пожалуй, главное —
это счастье говорить с теми, кто, подобно
414 ОБ АВТОРЕ
сказочному богатырю, стоит на рас¬
путье жизни — перед первым само¬
стоятельным и возможно, самым решаю¬
щим, единственным выбором.
У Альберта Лиханова много благо¬
дарных читателей, слушателей, зрите¬
лей. Ведь значительная часть его произ¬
ведений получила как бы вторую жизнь
на сцене театра, в кино, на радио, в
телевидении. Его книги изданы на язы¬
ках народов СССР, в Болгарии, ГДР,
Чехословакии, Польше, Монголии,
Венгрии, Вьетнаме, ФРГ, Италии,
США, Японии, Китае и других странах.
Лучшие из этих книг удостоены пре¬
мии Ленинского комсомола, Государ¬
ственной премии РСФСР имени
Н. К. Крупской, Международной пре¬
мии имени Горького.
СОДЕРЖАНИЕ
415
МУЗЫКА 7
МАГАЗИН НЕНАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ 39
© ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА», «ПИОНЕР», 1983 г.
КИКИМОРА 109
© ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА», «ЮНОСТЬ», 1983 г.
ПОСЛЕДНИЕ ХОЛОДА 173
© ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА», «ЮНОСТЬ», 1984 г.
ЧИСТЫЕ КАМУШКИ 273
ОБ АВТОРЕ 413
Р2
JI65
ДЛЯ МЛАДШЕГО
И СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Альберт Анатольевич Лиханов
ЧИСТЫЕ КАМУШКИ
Повести
ИБ № 8024
Ответственный редактор
Г. В. Быстрова
Художественный редактор
А. Б. Сапрыгина
Технический редактор
М. В.• Гагарина
Корректоры
Т. А. Нарышкина и Л. М. Письман
Сдано в набор 18.03.85. Подписано к печати 03.09.85. Формат
70Xl08'/i6- Бум. офс. № 1. Шрифт обыкновенный. Печать оф¬
сетная. Уел. печ. л. 36,4. Уел. кр.-отт. 147,0. Уч.-над. л. 27,82.
Тираж 100 000 эка. Заказ № 776. Цена 3 р. Орденов Трудового
Красного Знамени и Дружбы народов издательство «Детская лите¬
ратура» Государственного комитета РСФСР по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли. 103720, Москва, Центр, М. Чер¬
касский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика
«Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Государственного
комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной
торговли. Москва, Сущевский вал, 49.
Лиханов А. А.
Л65 Чистые камушки: Повести/ Рис. С. Острова.—
М.: Дет. лит., 1985.—415 с., ил.
В пер.: 3 руб.
В книгу лауреата Государственной премии РСФСР им. Н. К. Крупской,
премии Ленинского комсомола и Международной премии им. М. Горького Альберта
Лиханова входят повести: «Музыка», «Магазин ненаглядных пособий», «Кикимора»,
«Последние холода», «Чистые камушки». Время действия — годы войны и первые
послевоенные годы. В повестях раскрывается сложный внутренний мир мальчика,
рассказывается о жизни народа в незабываемое военное время.
Издается к 50-летню писателя.
Л «030101.1—«I
М101 (03)85
Состав. Иллюстрации.
® ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1985 г.
ррш