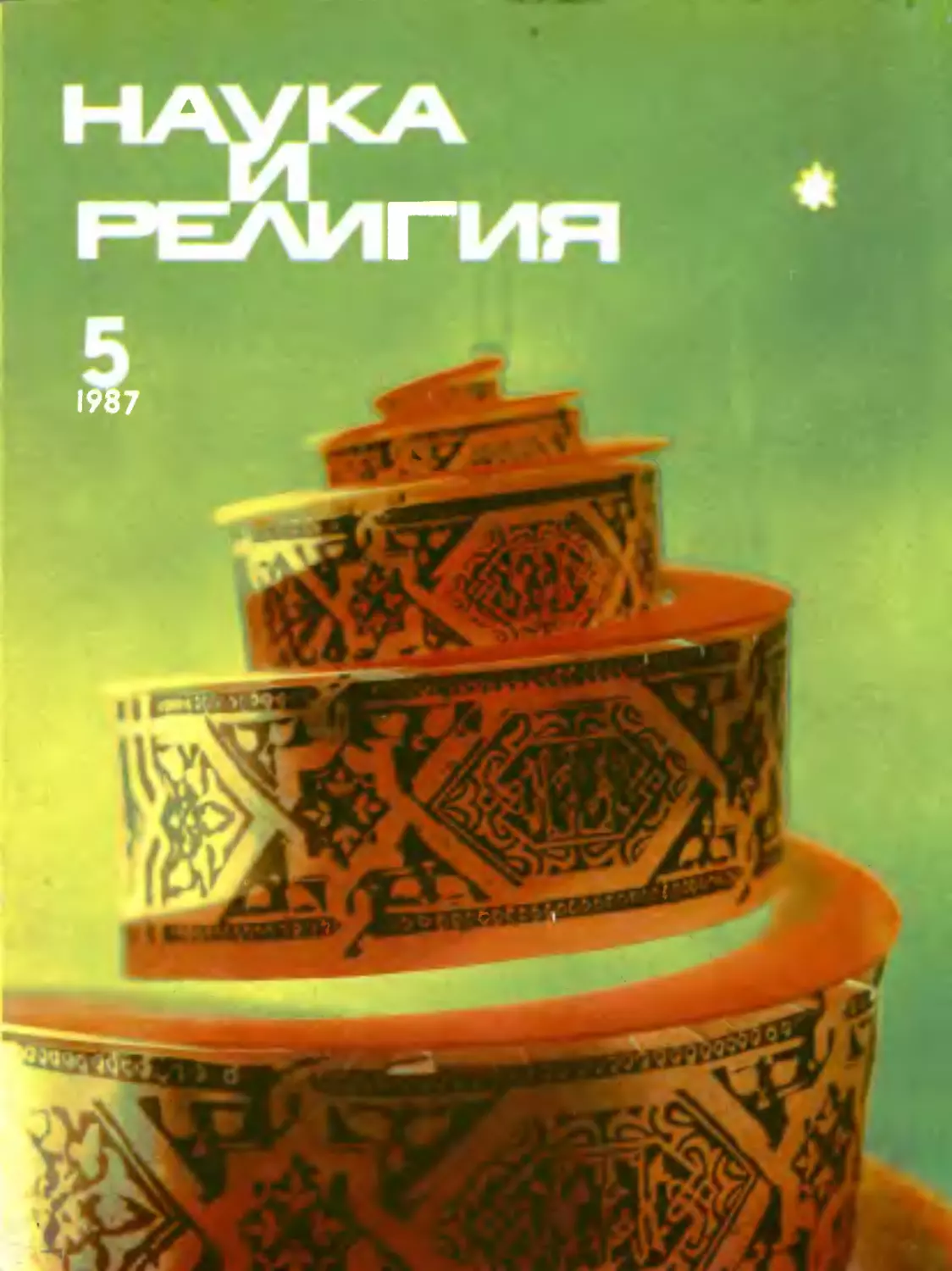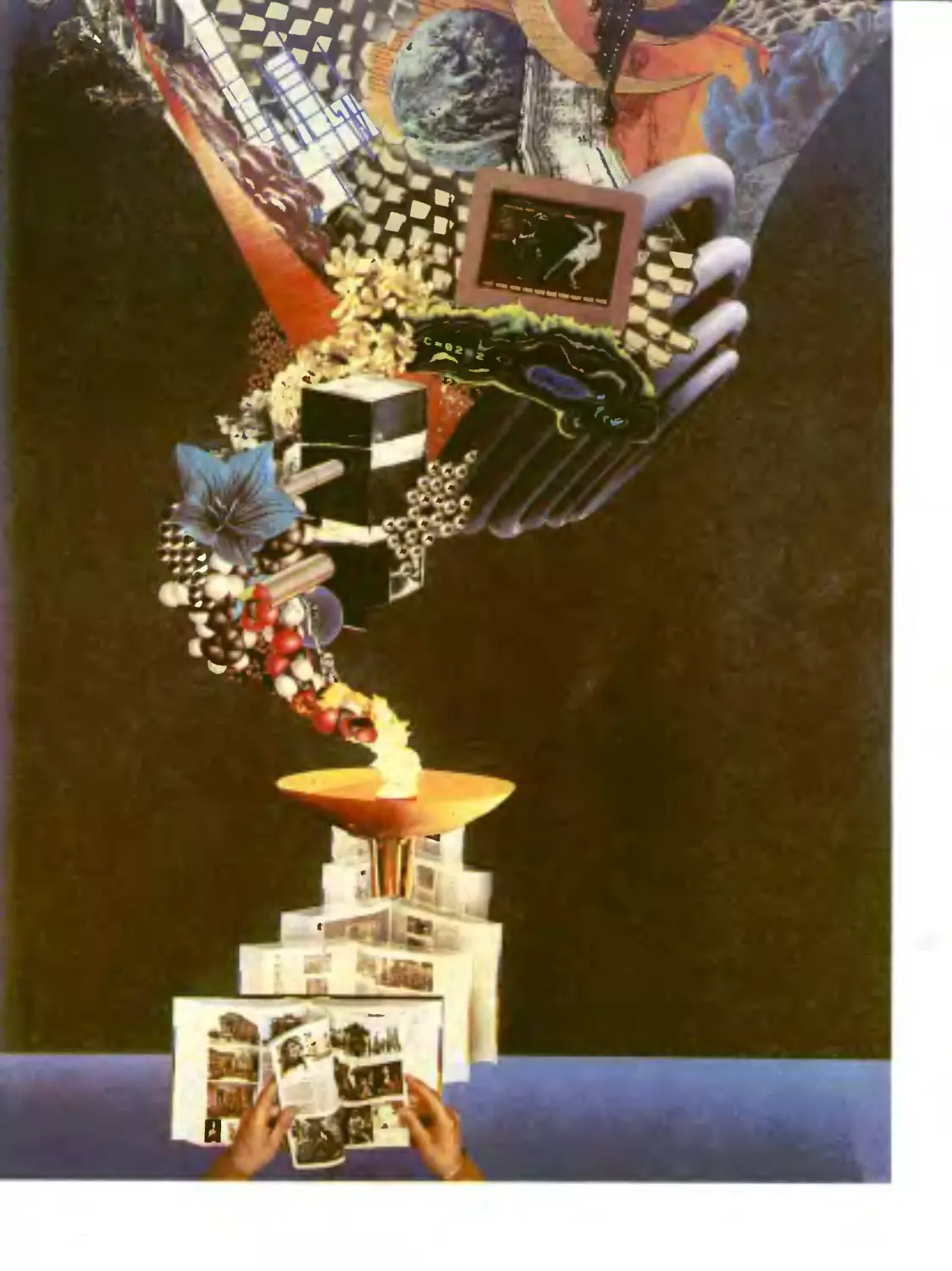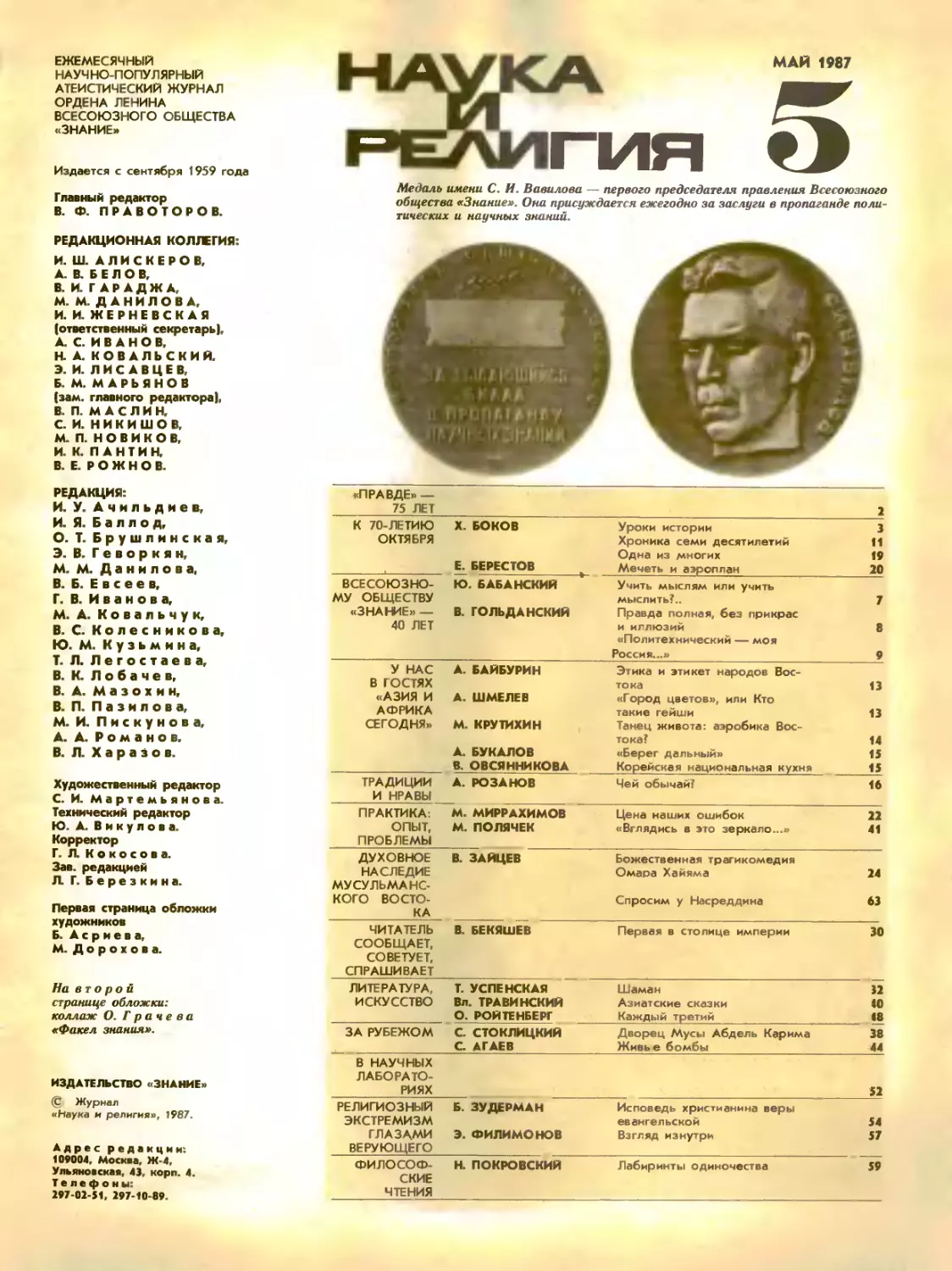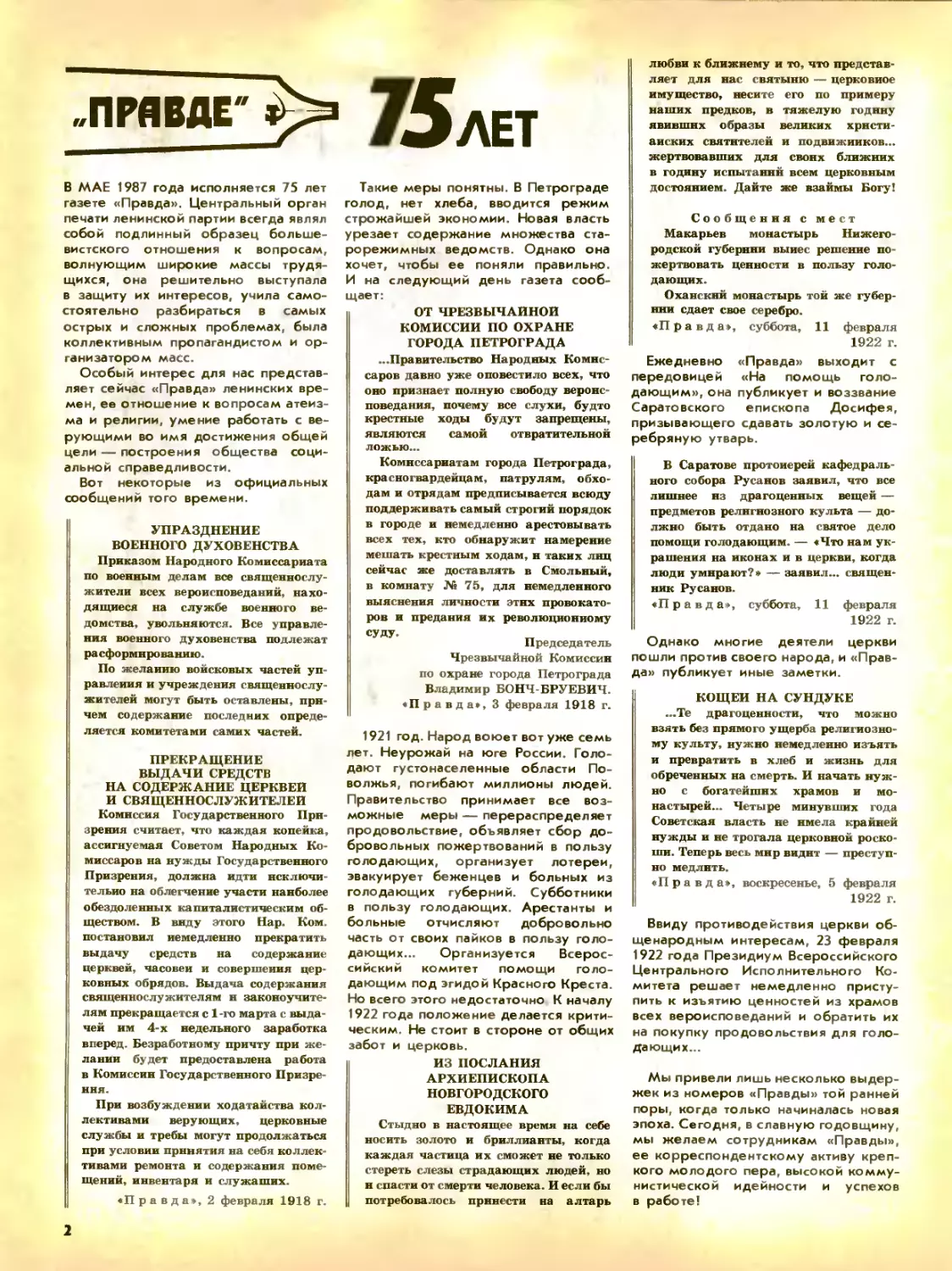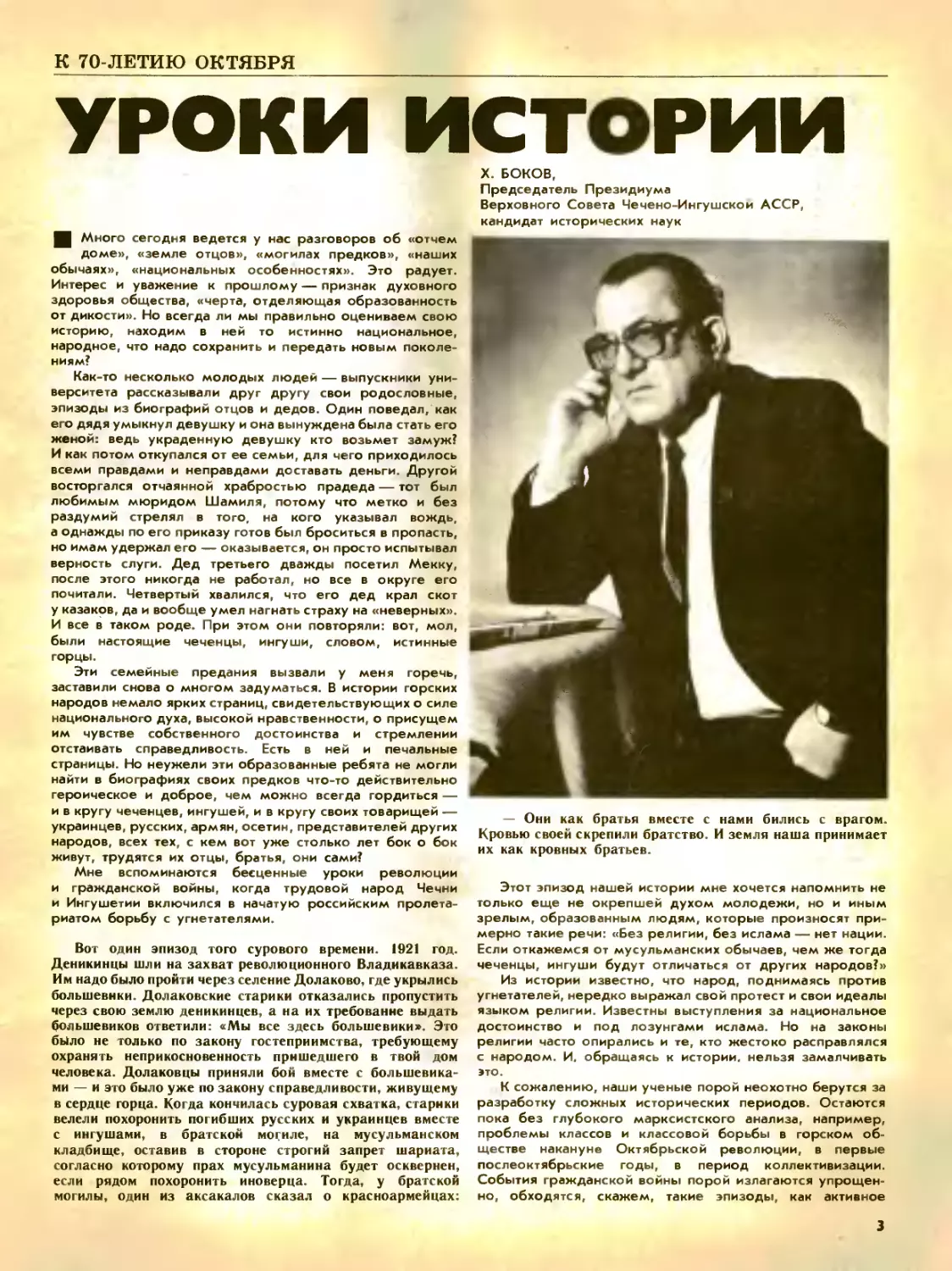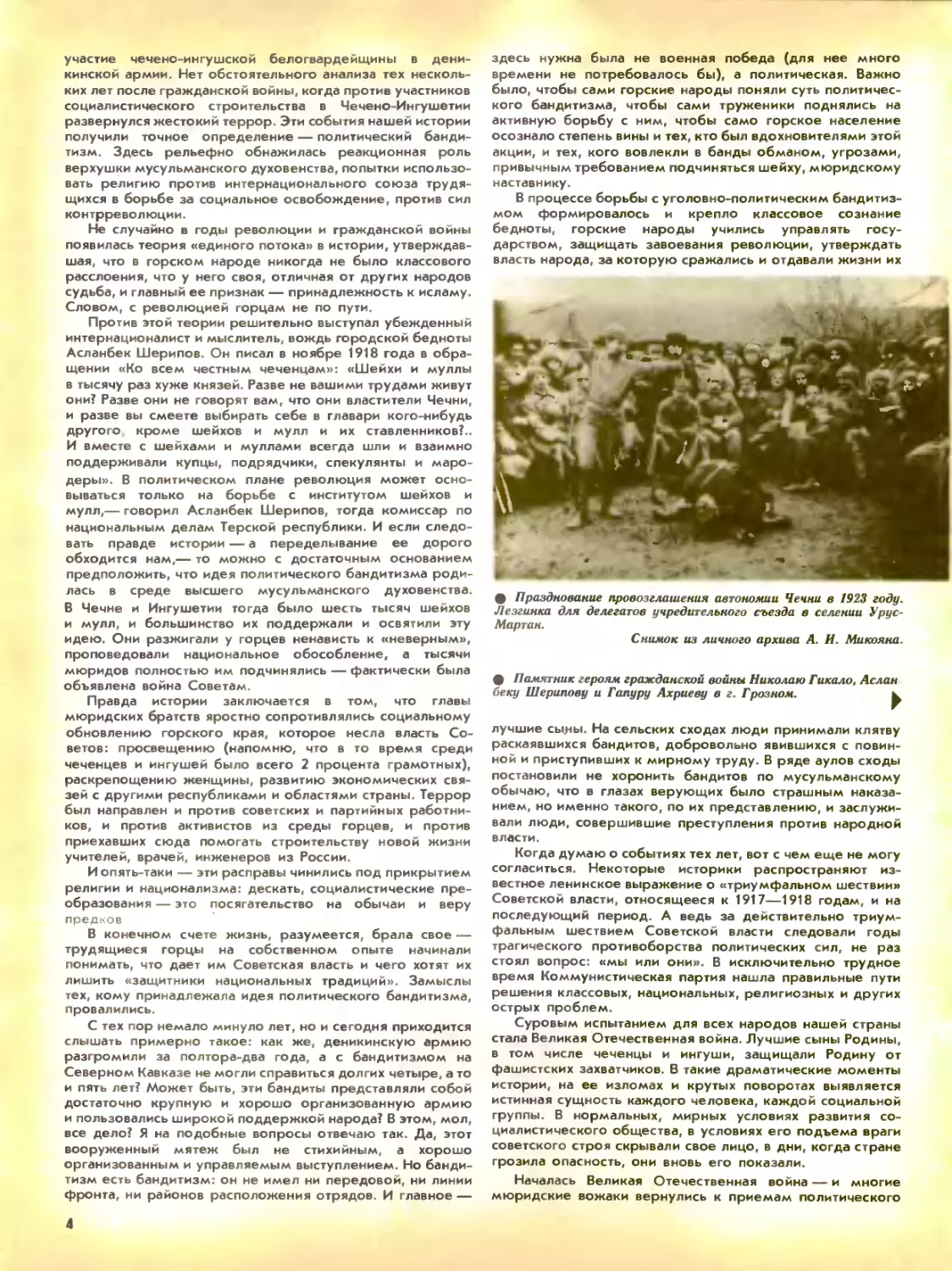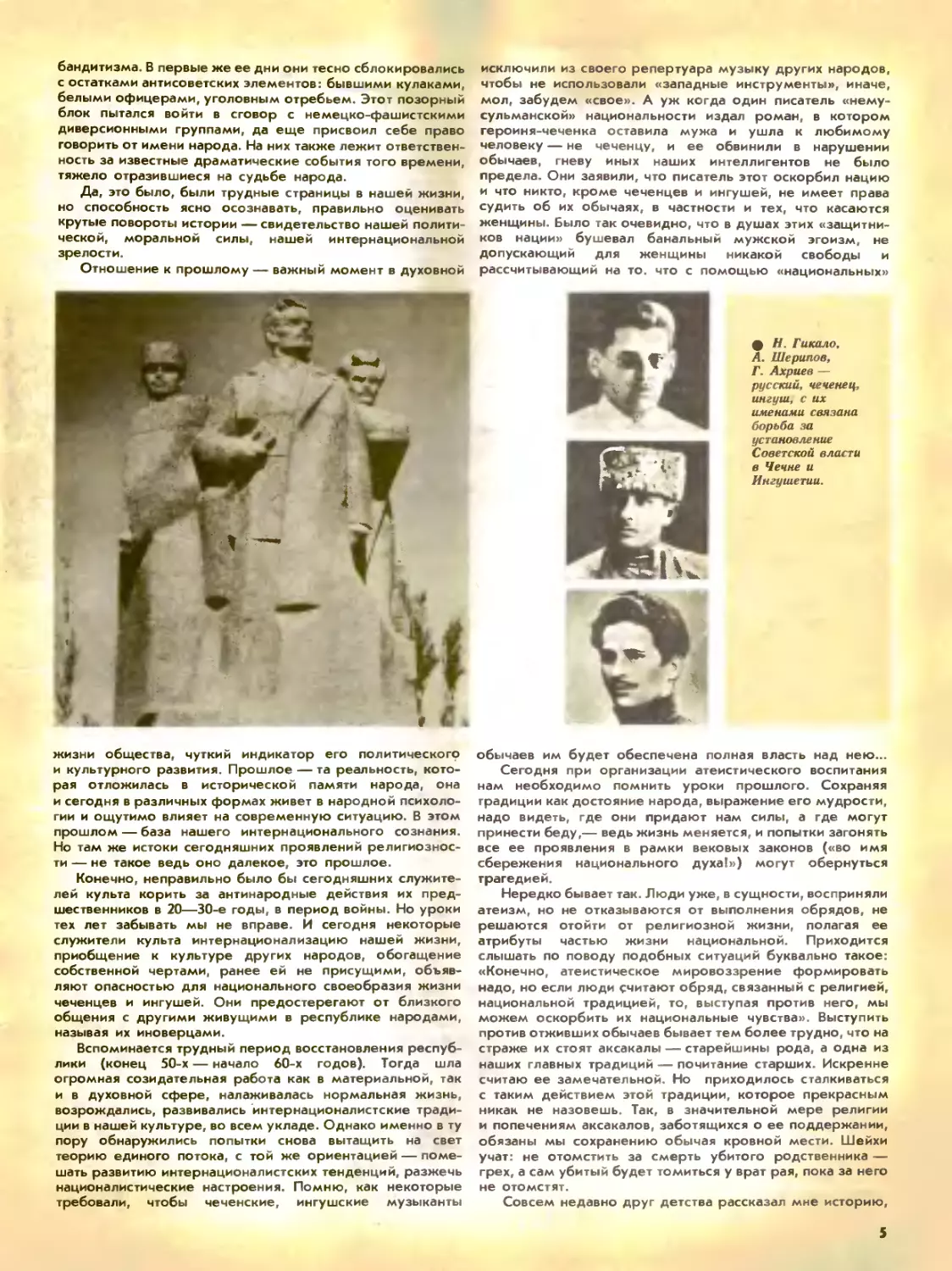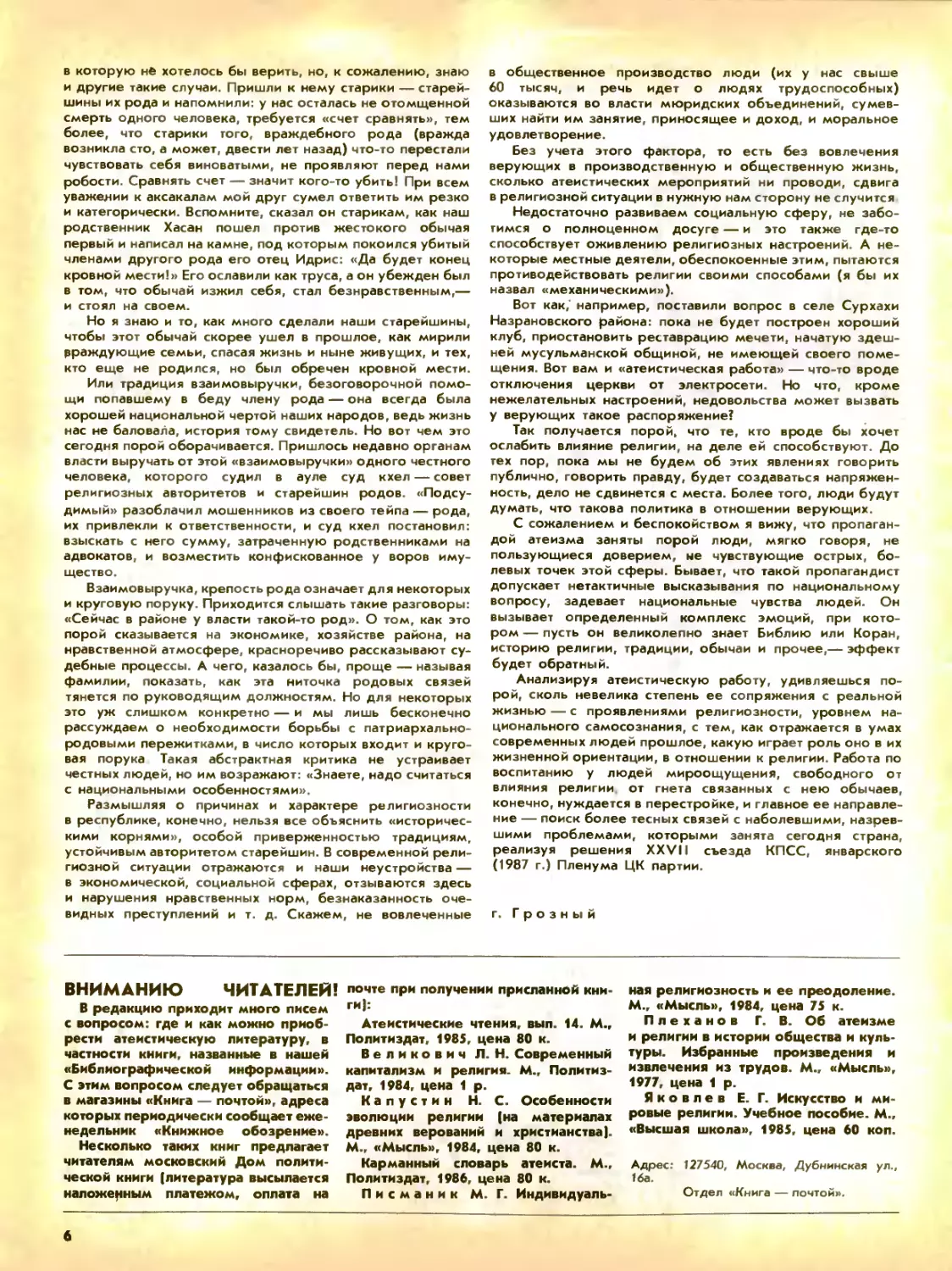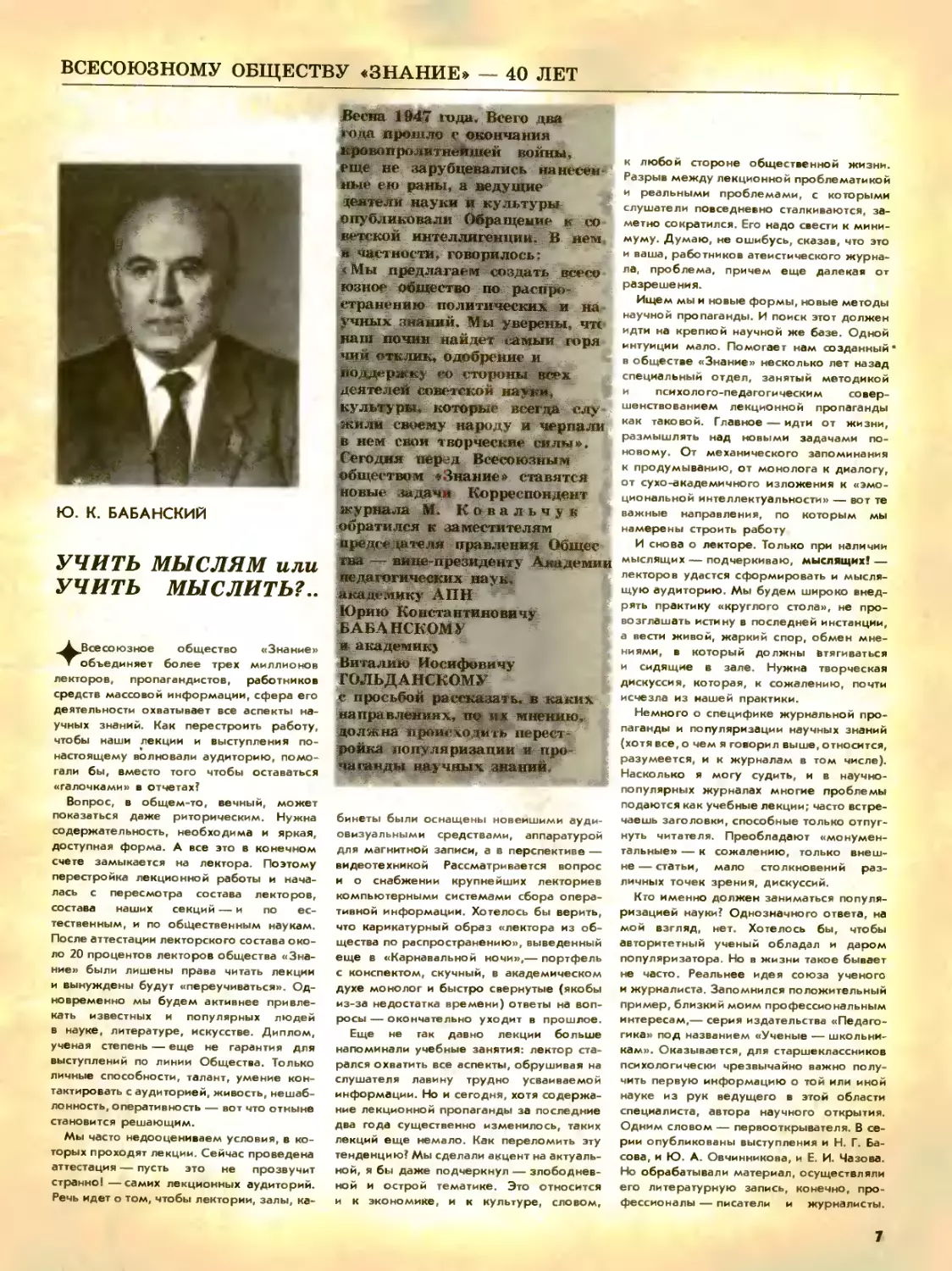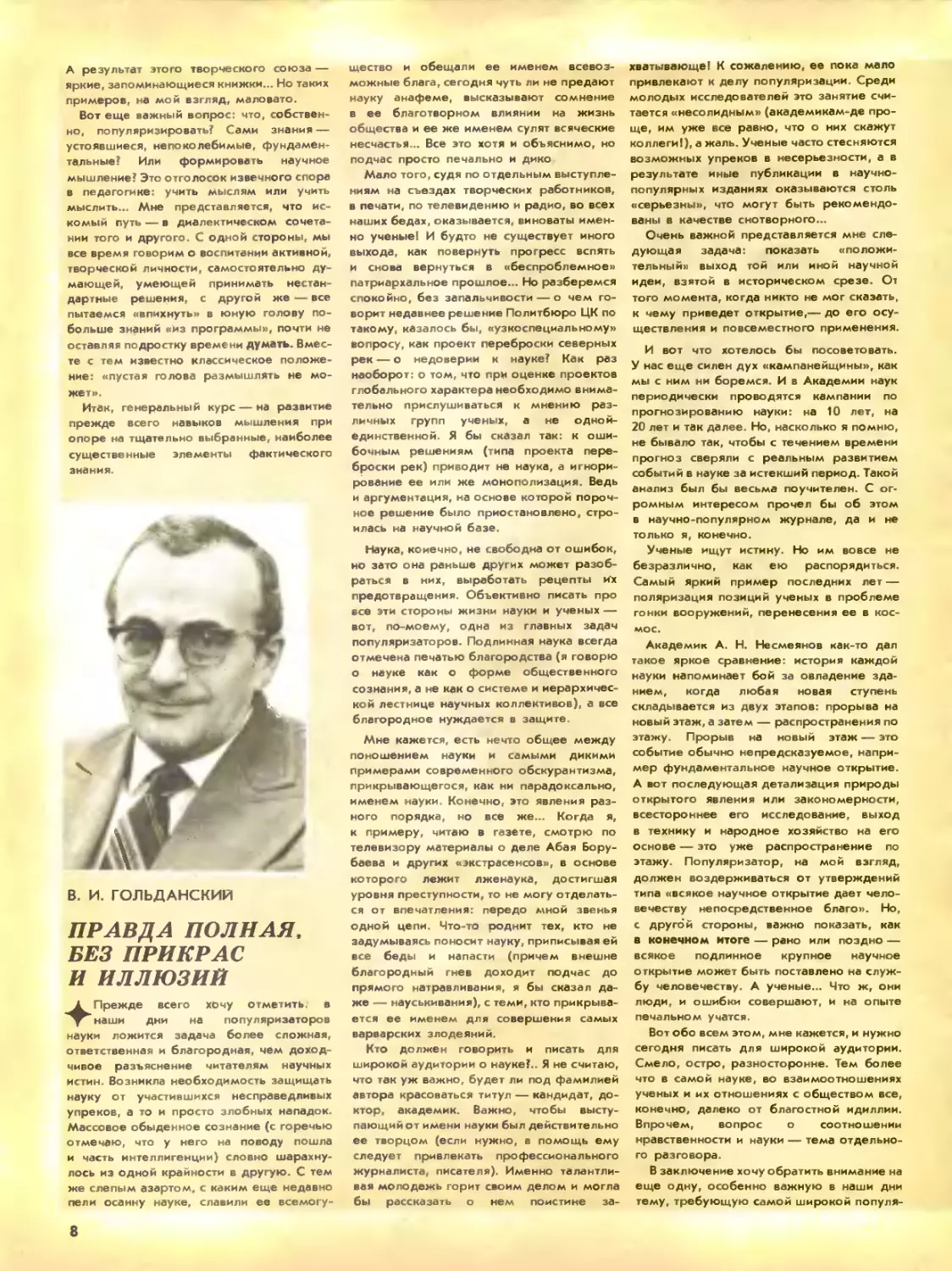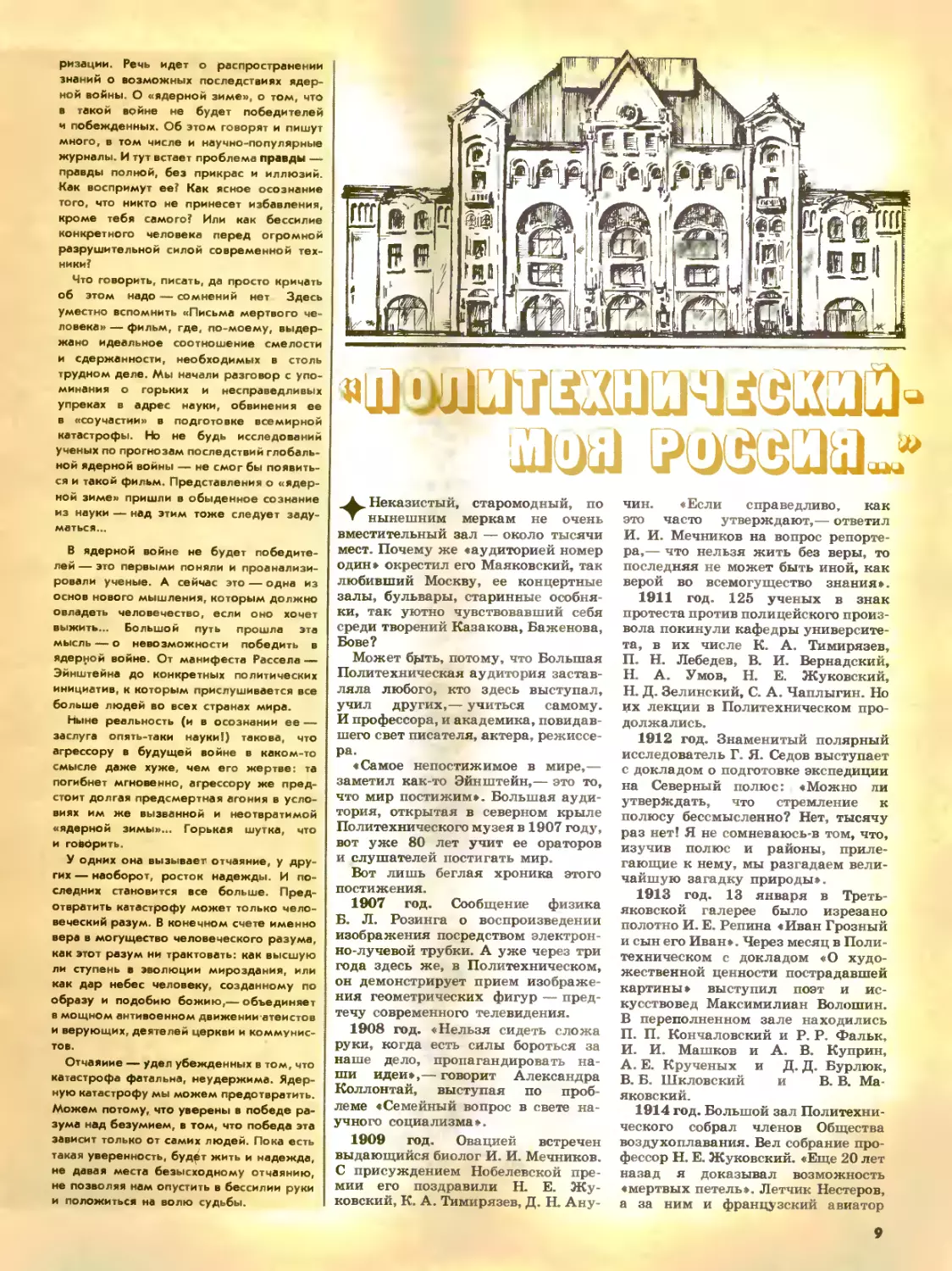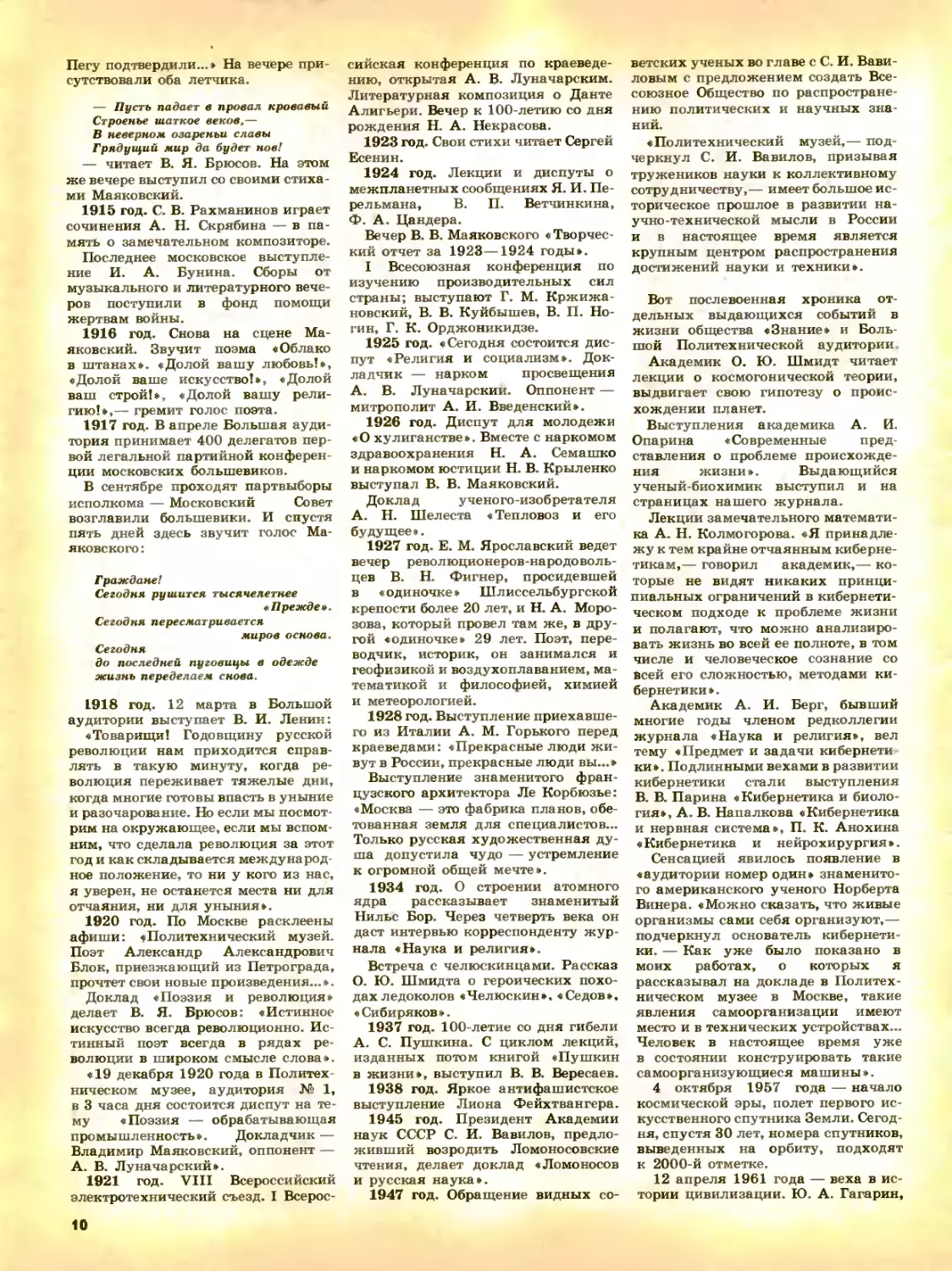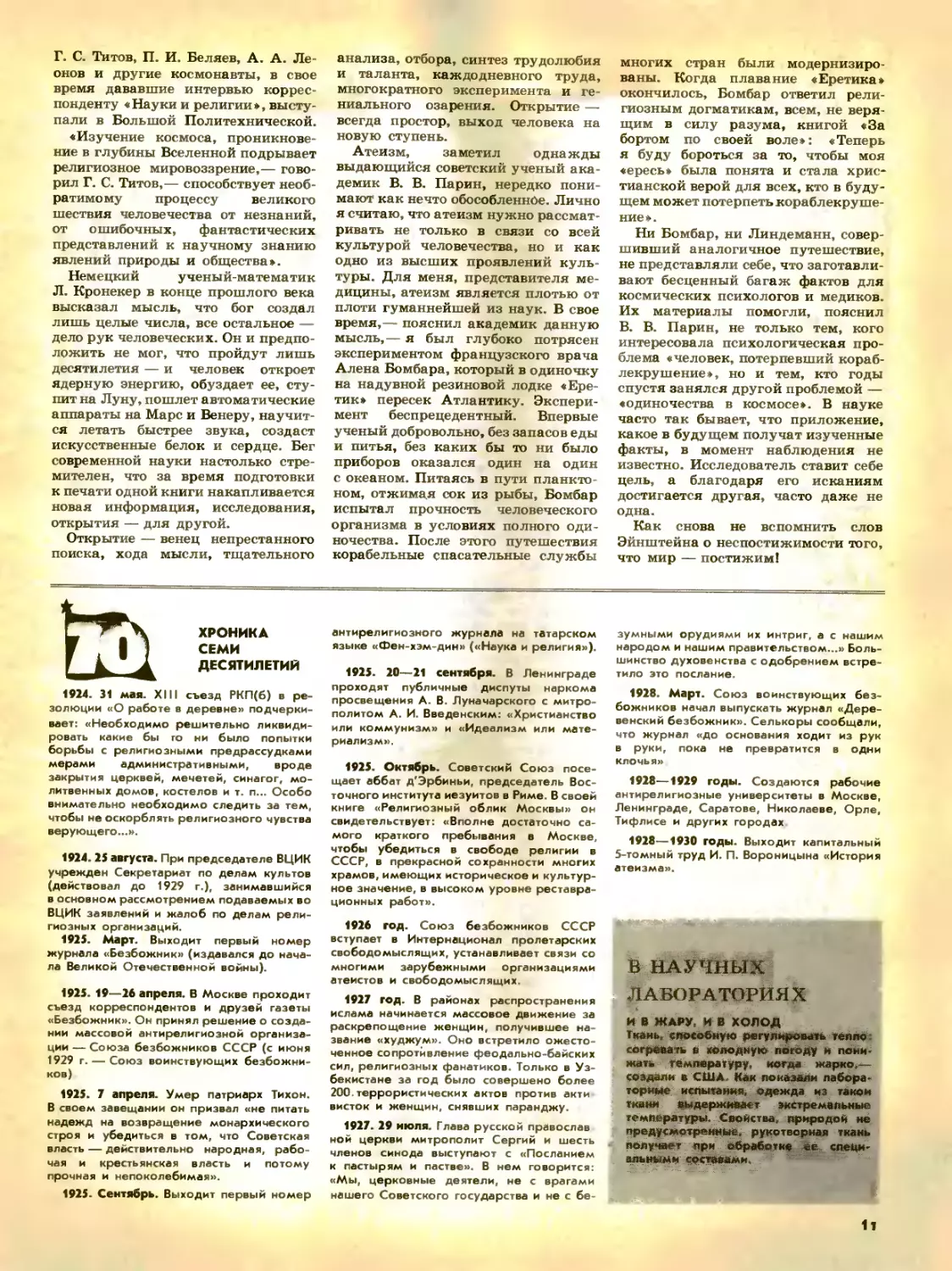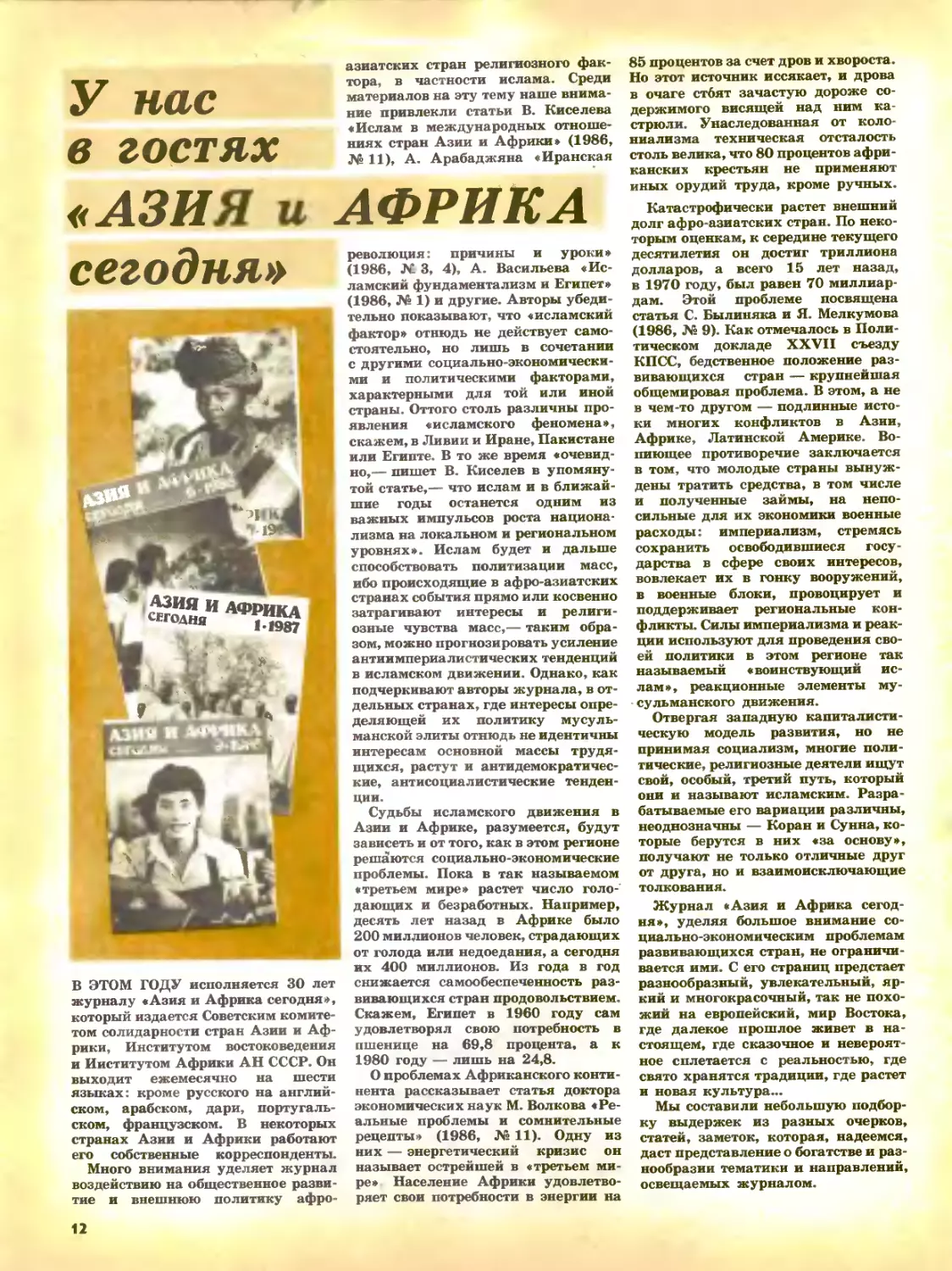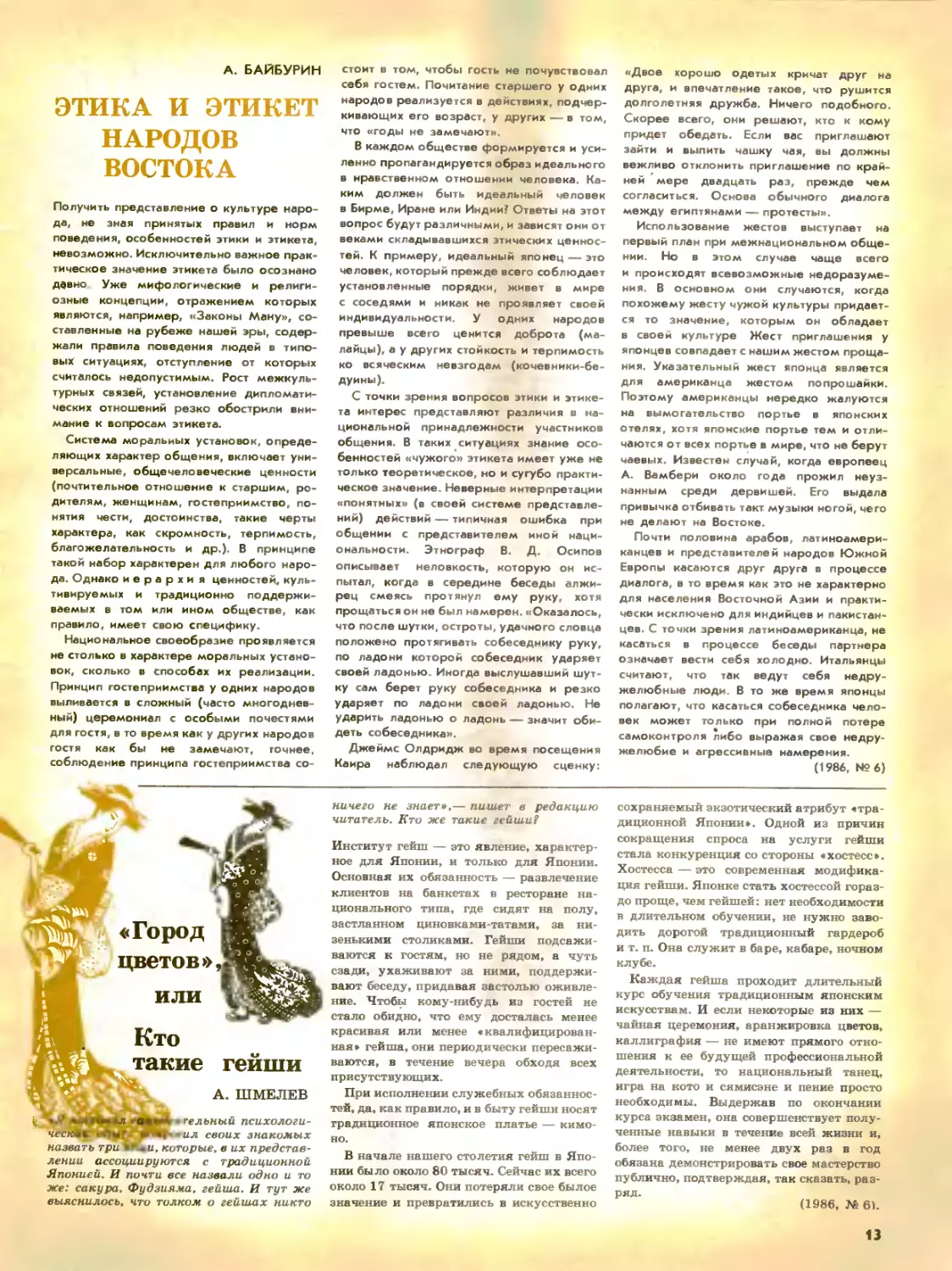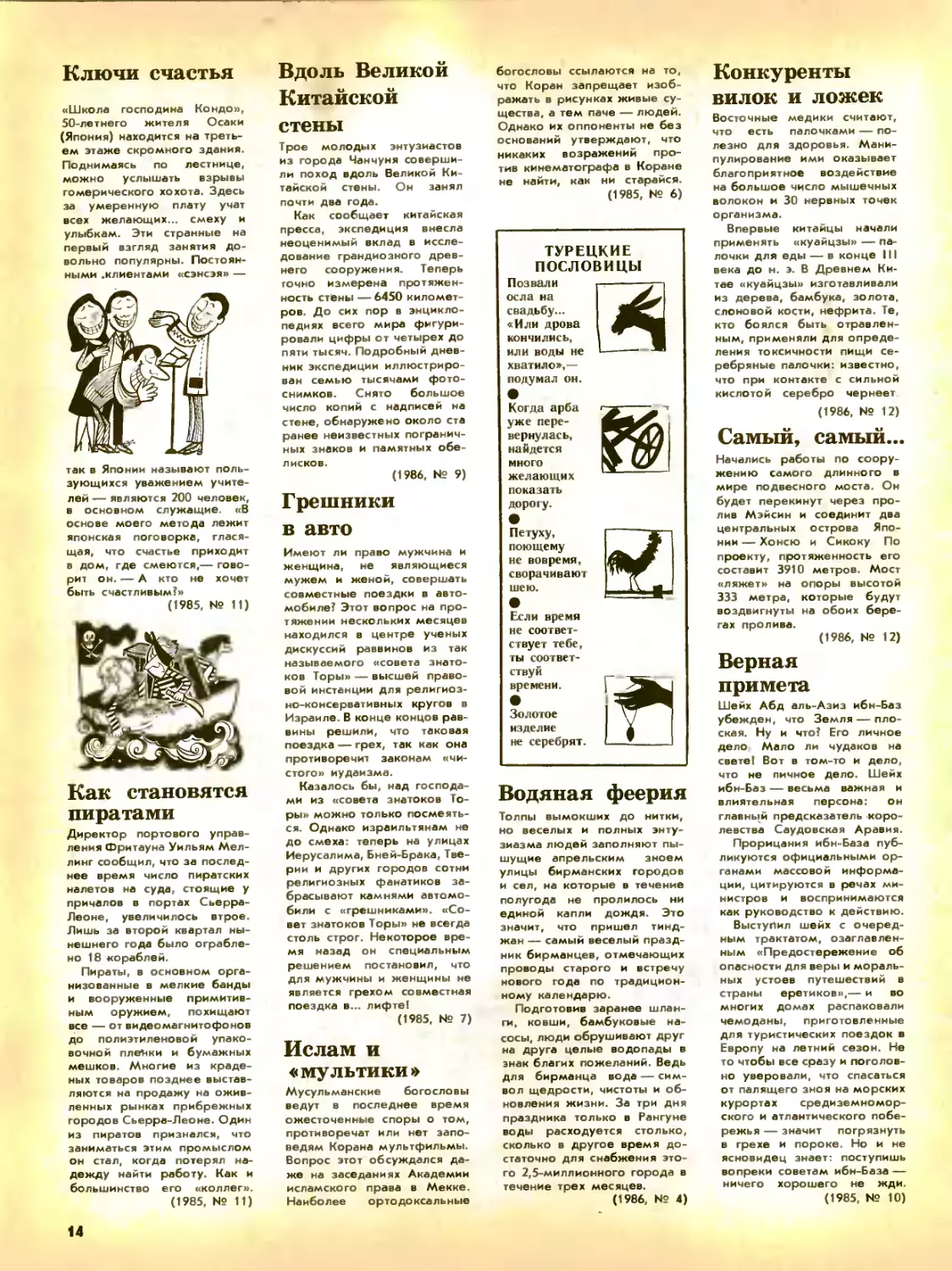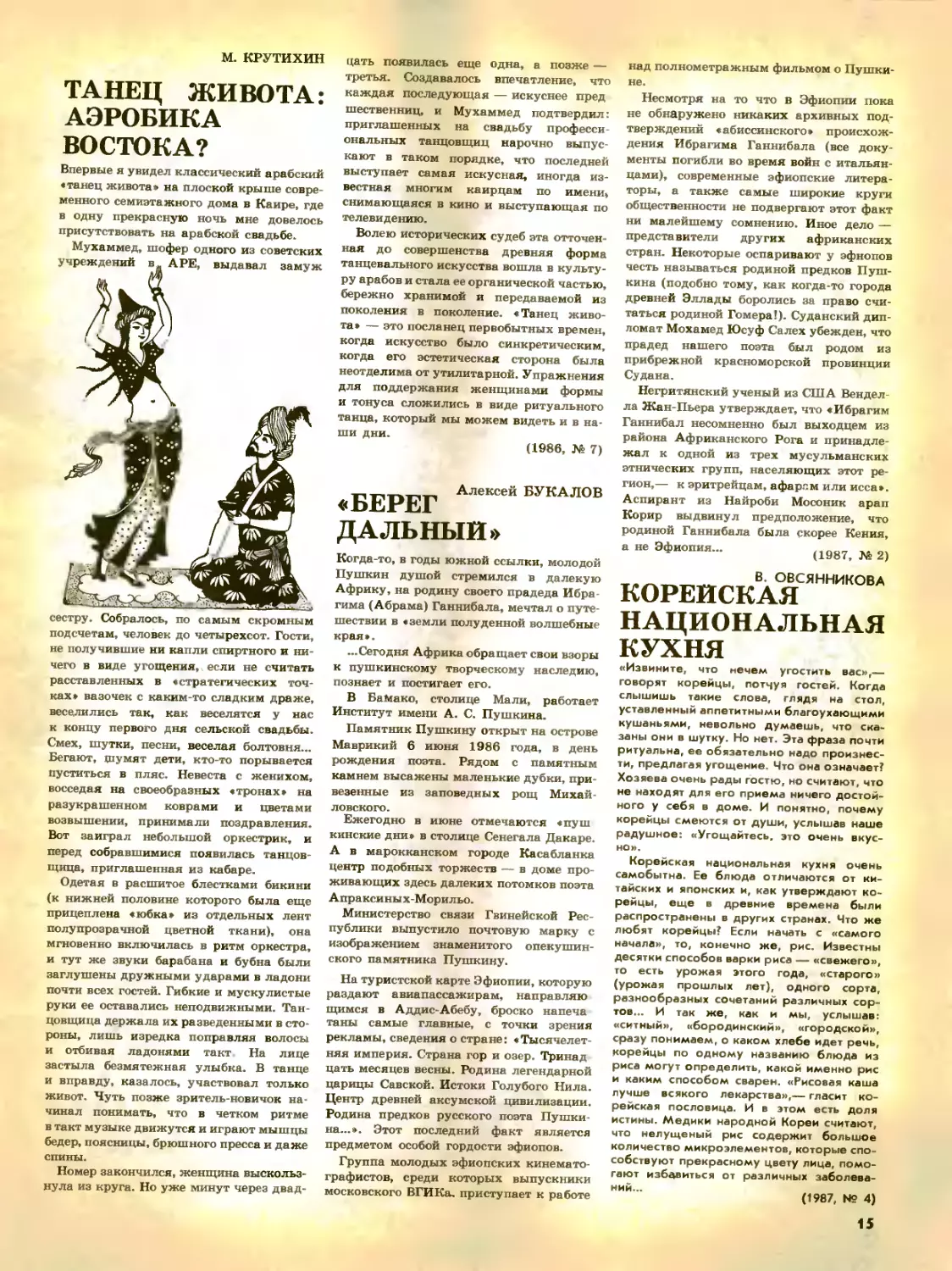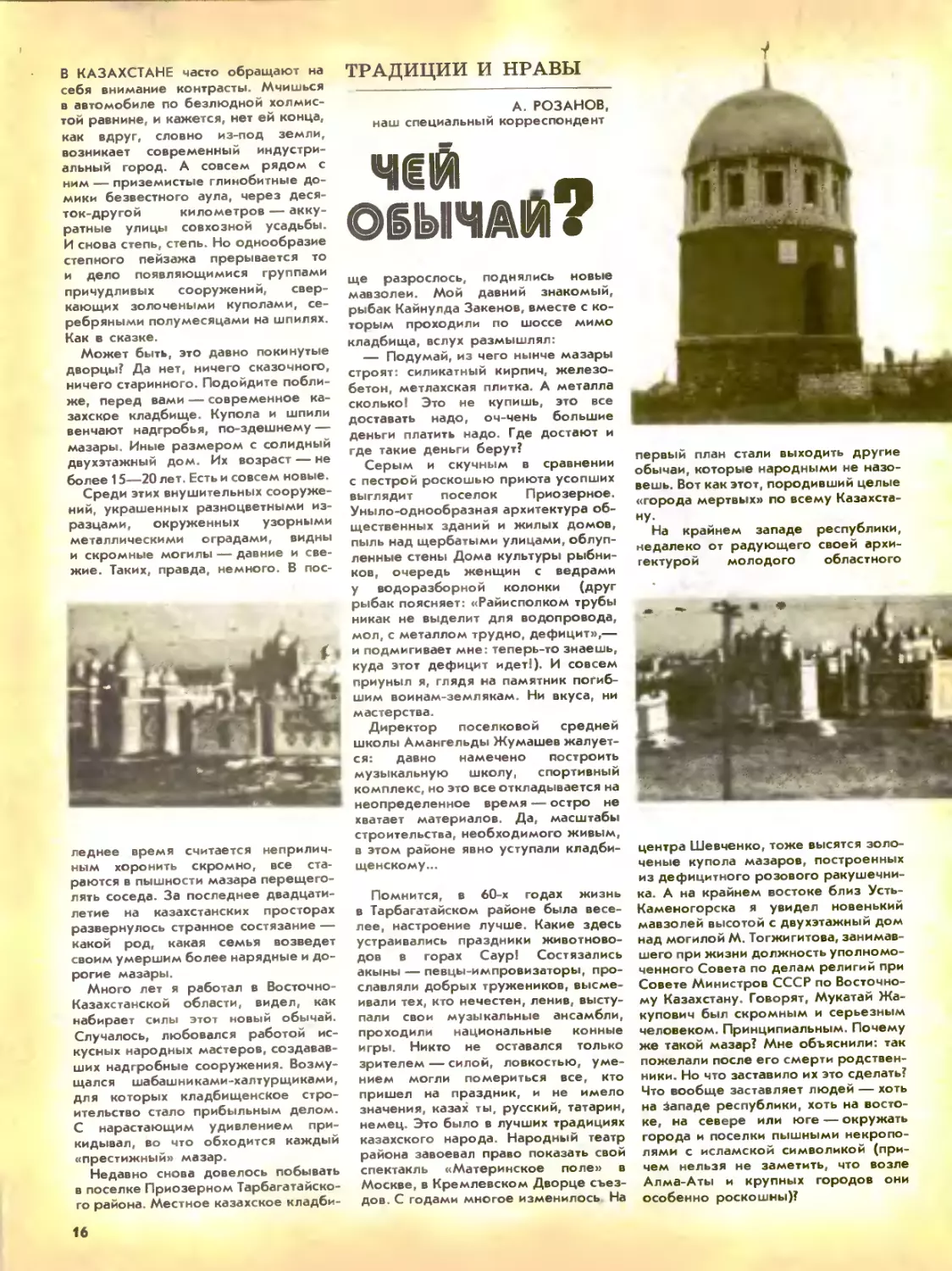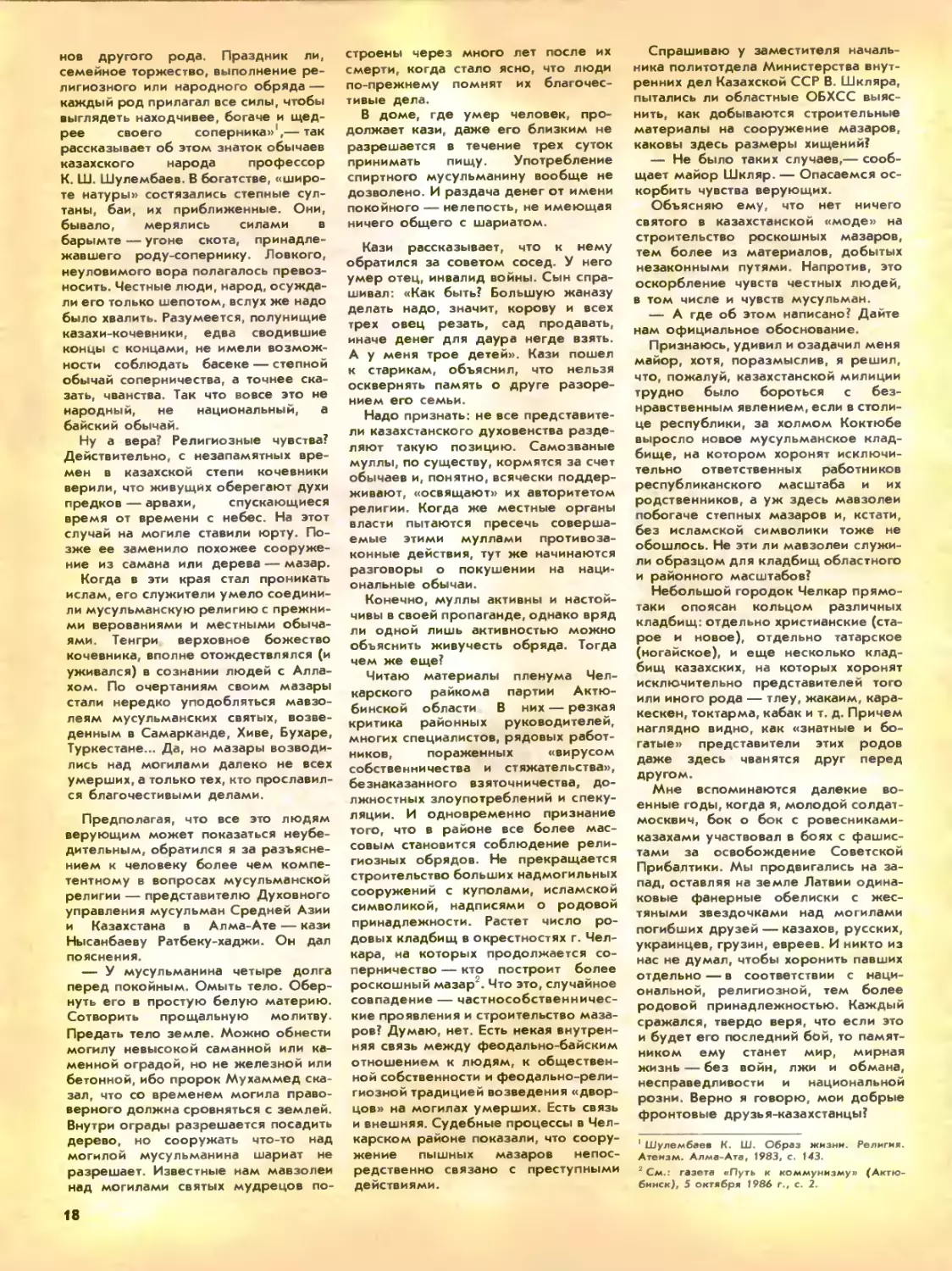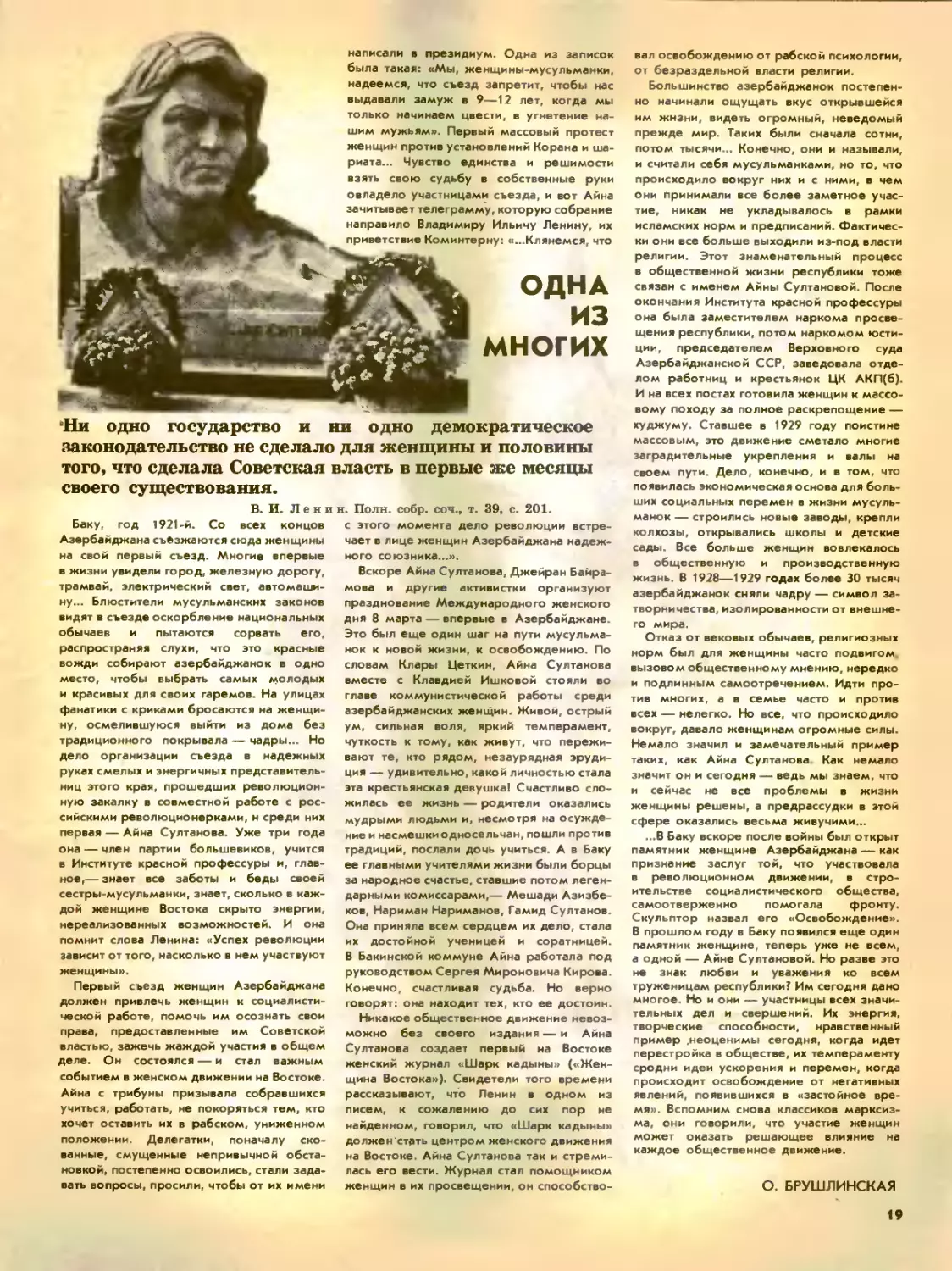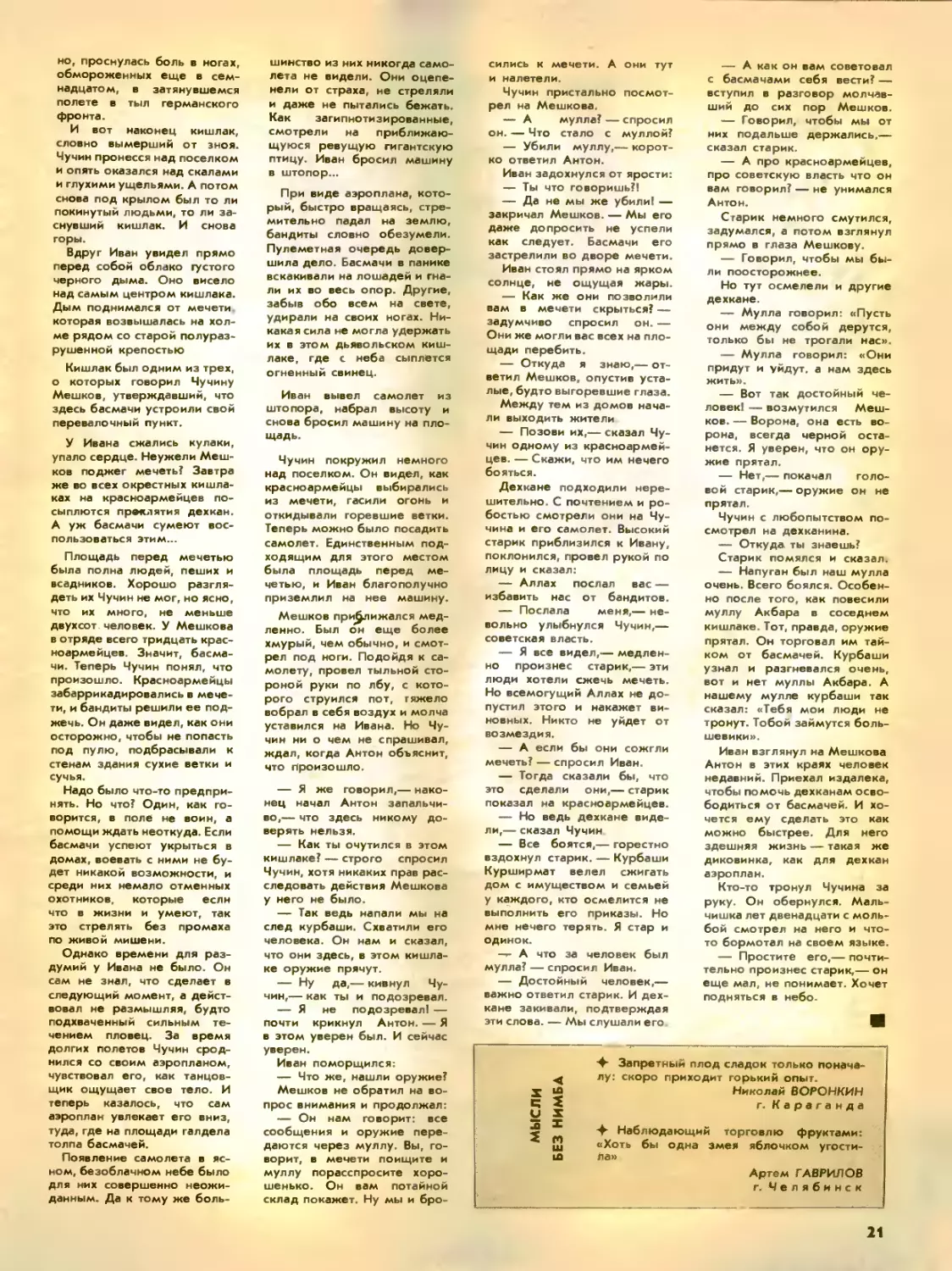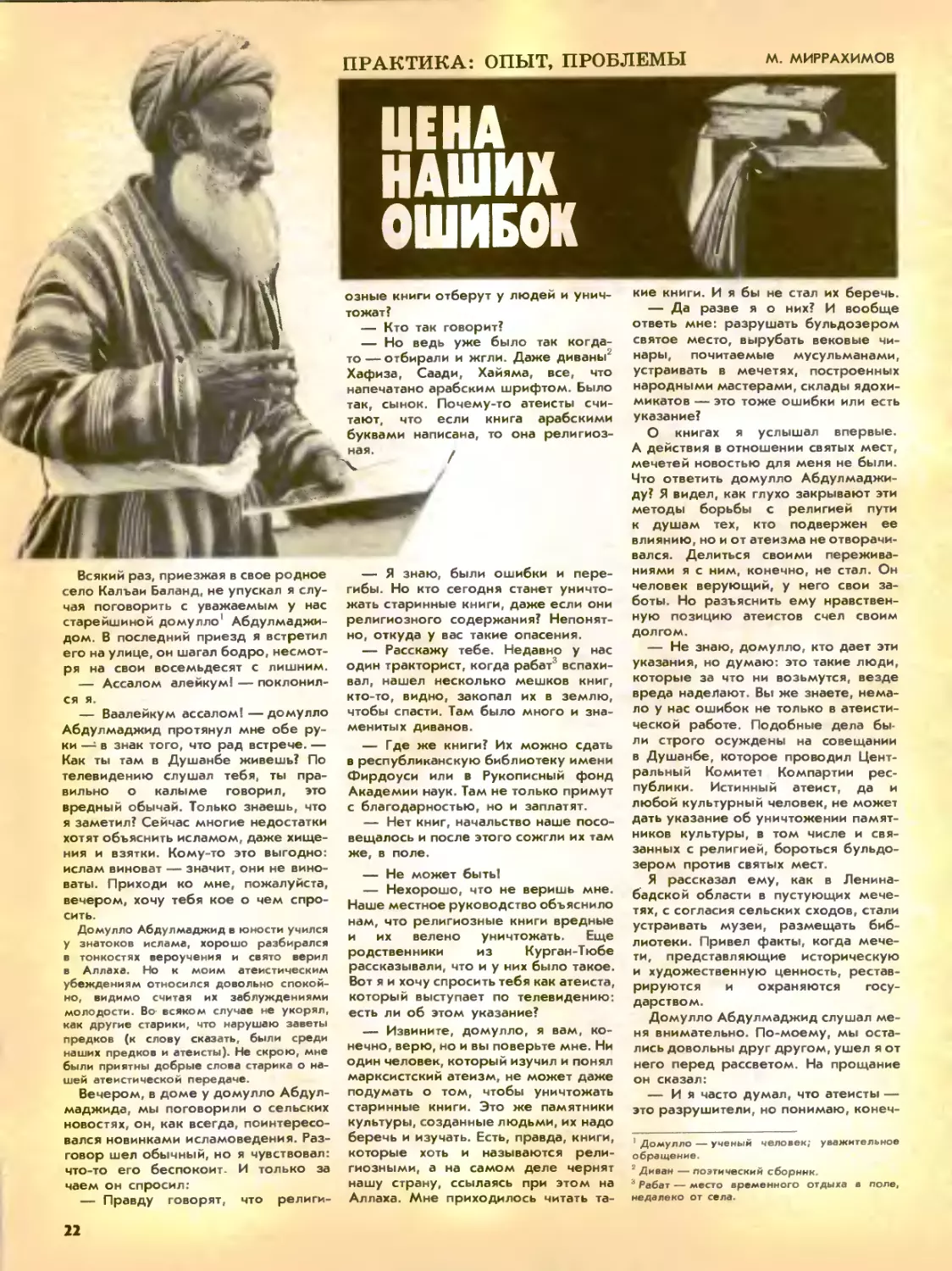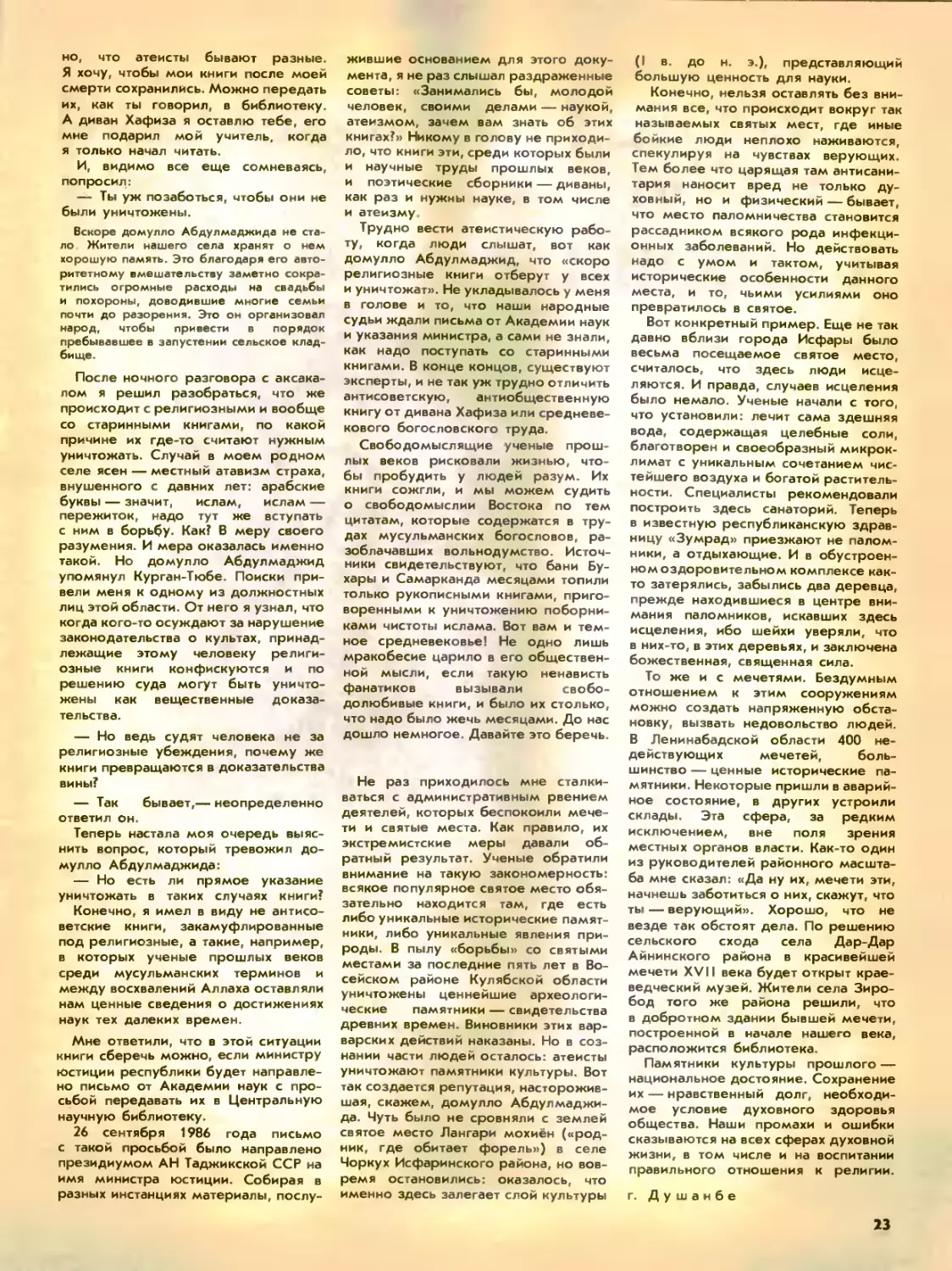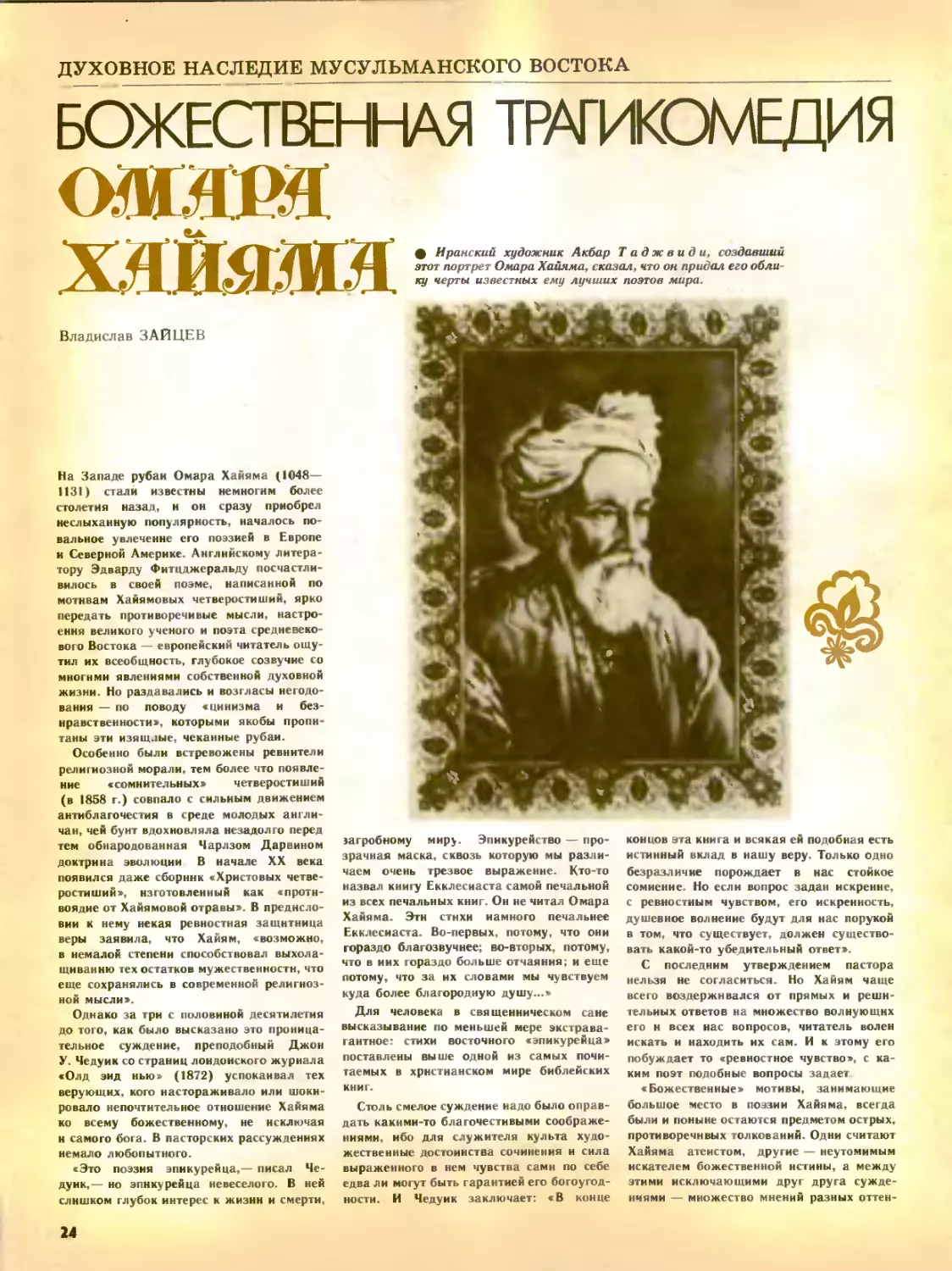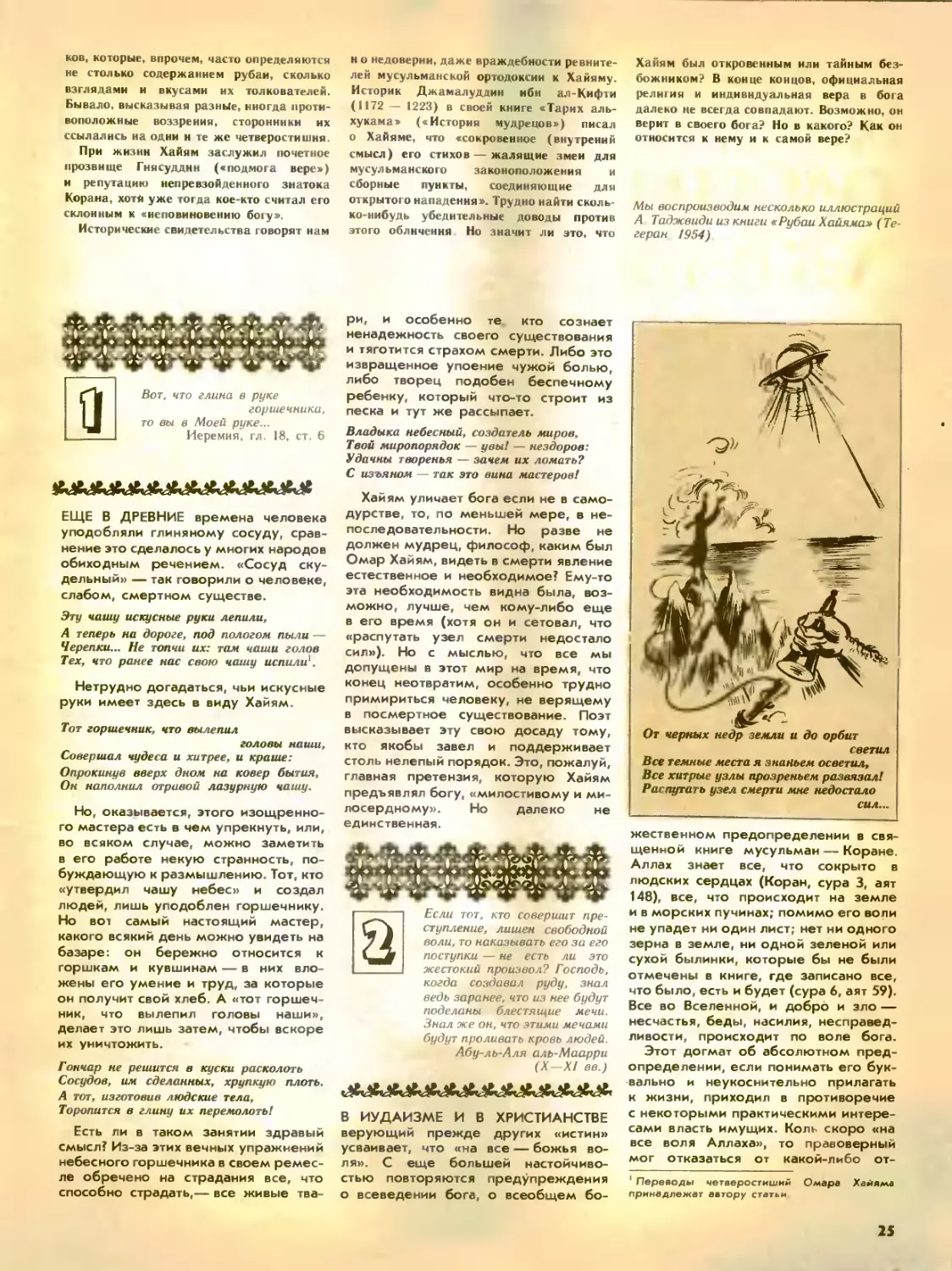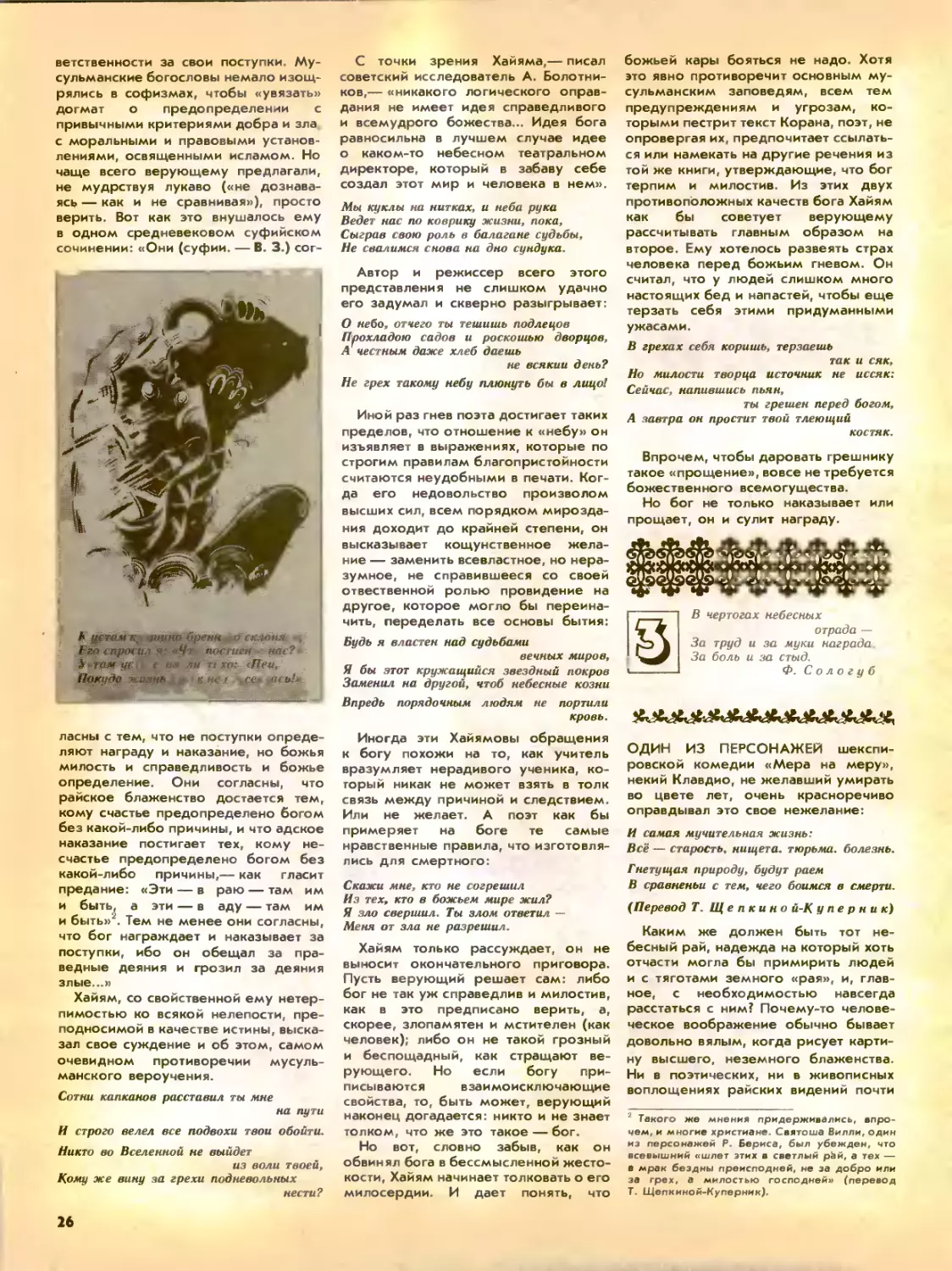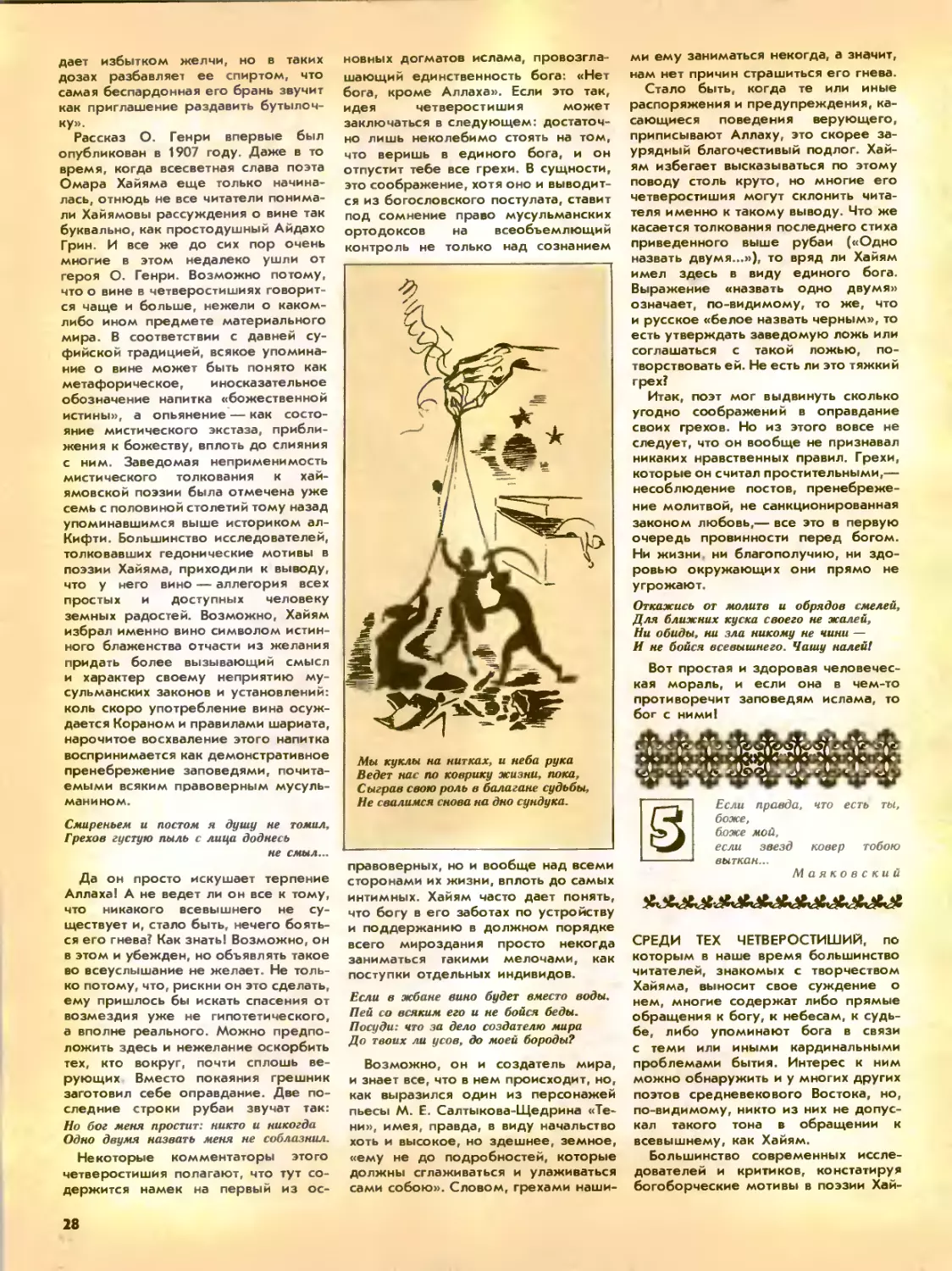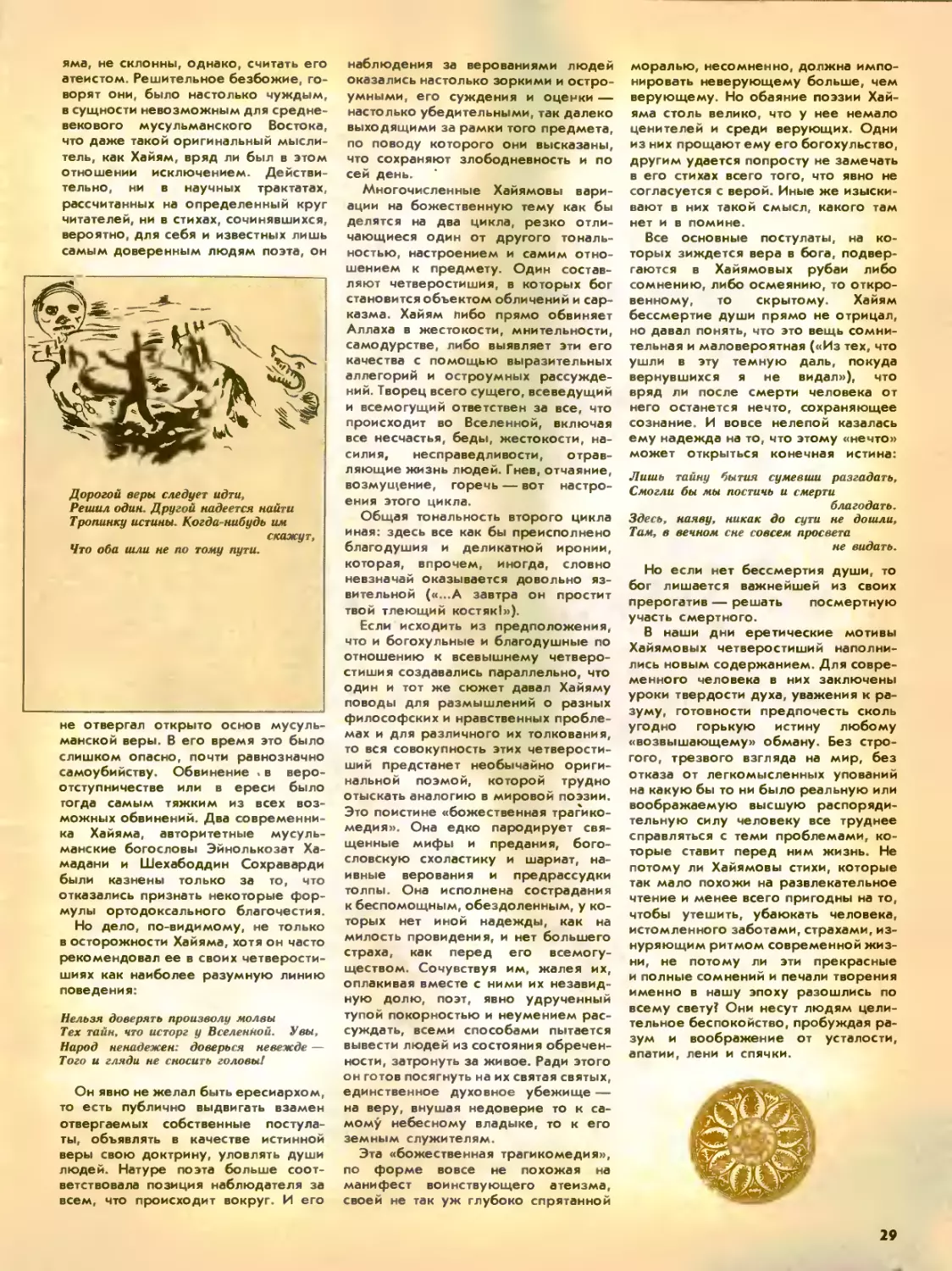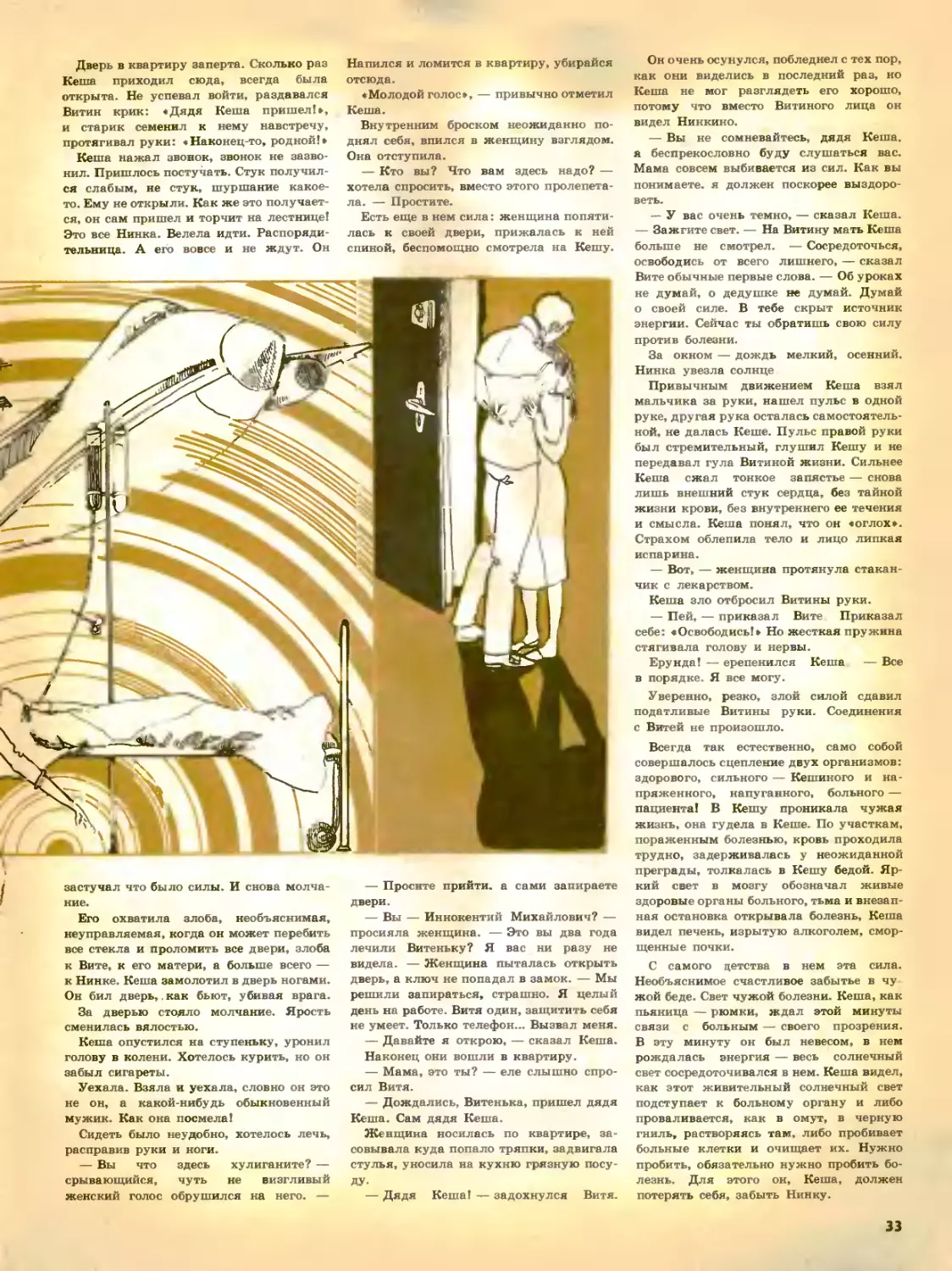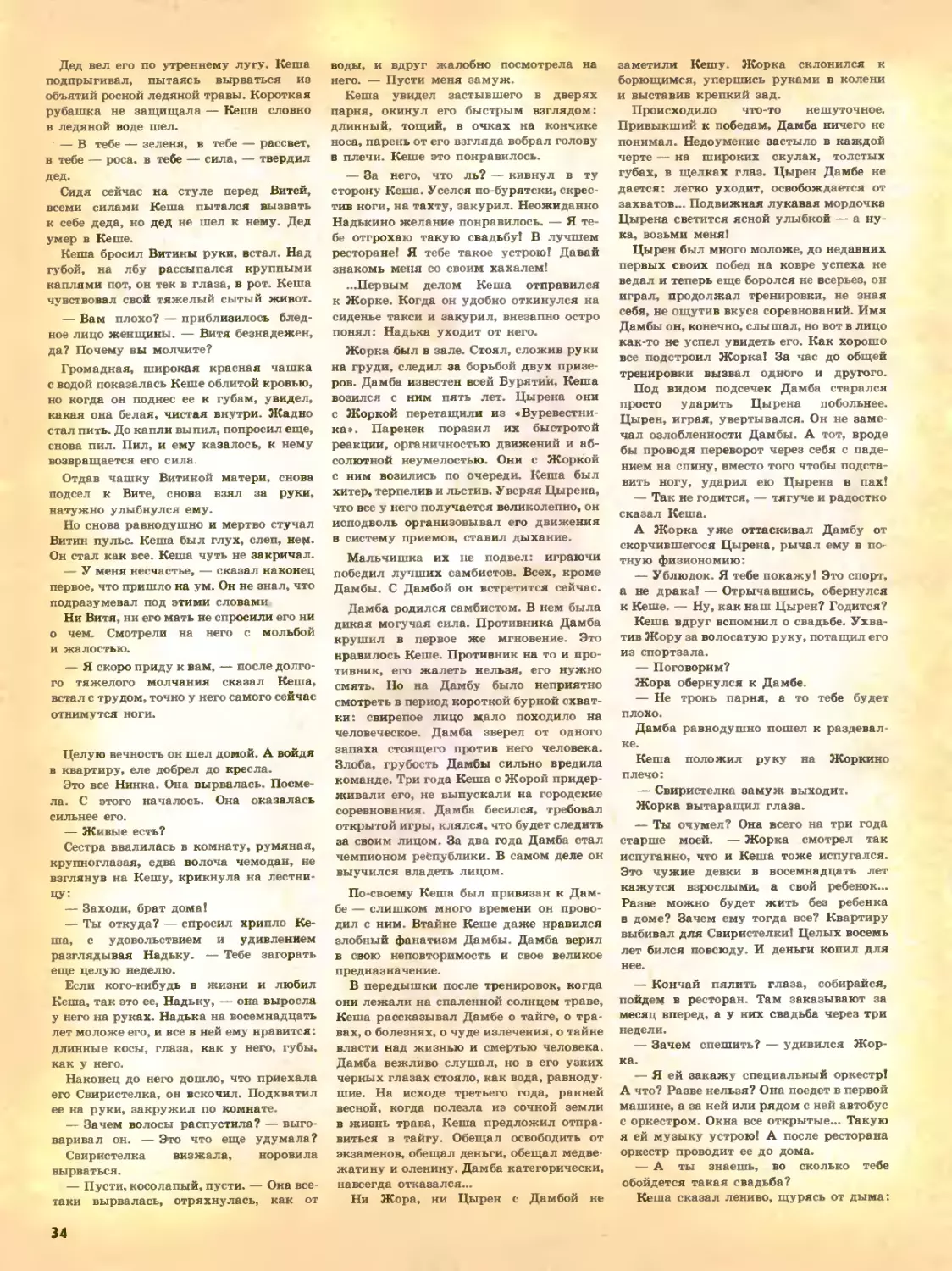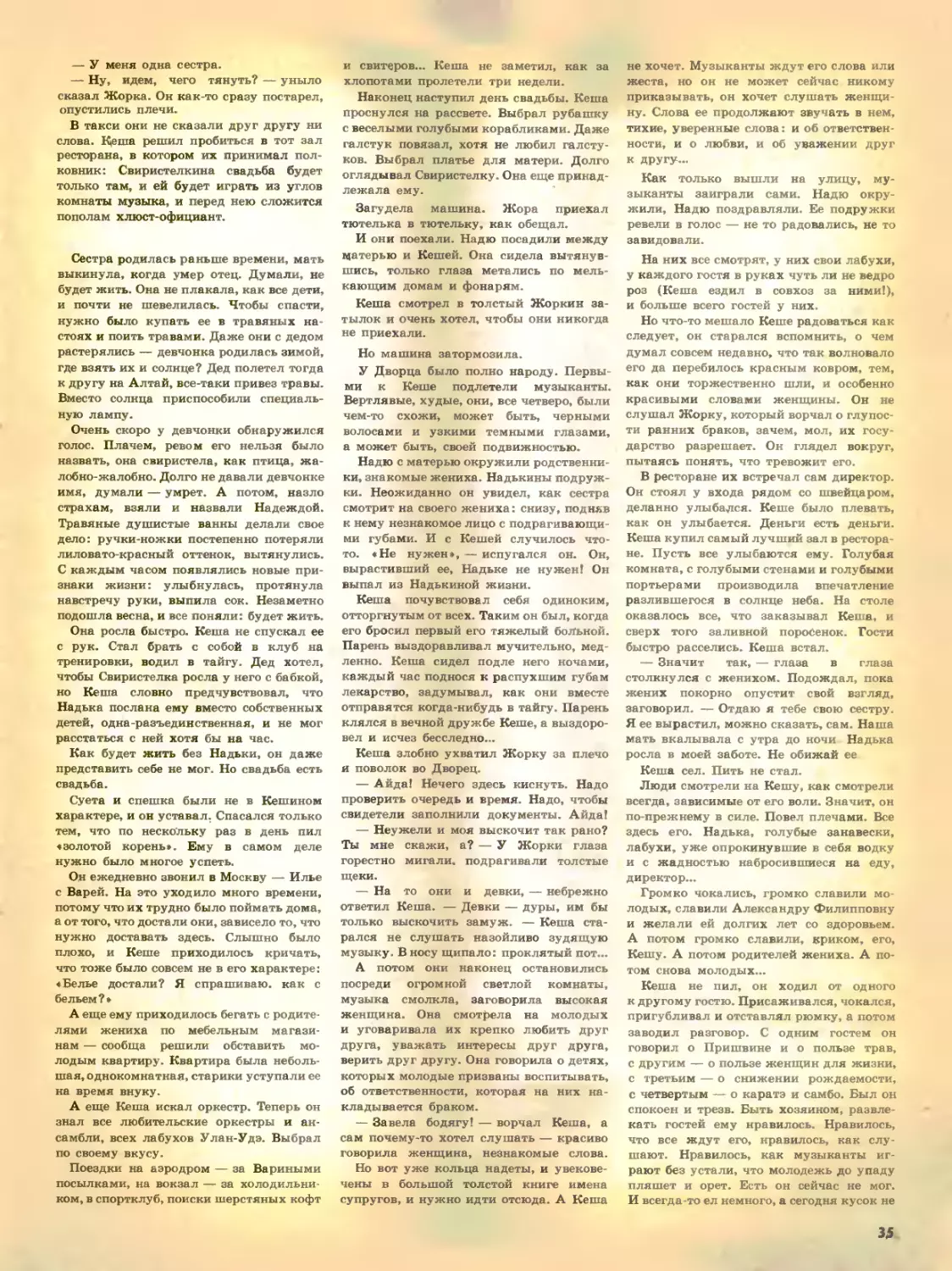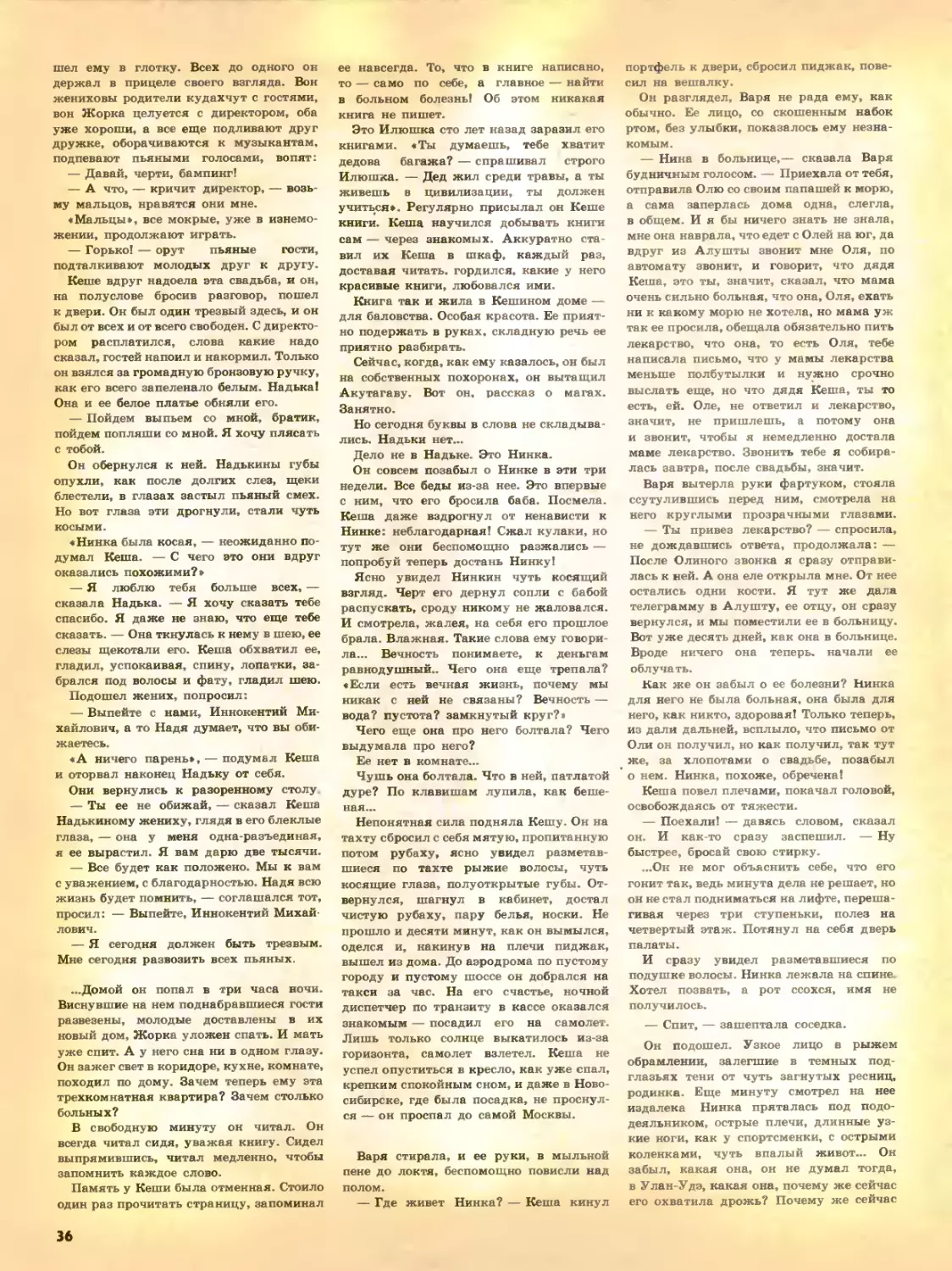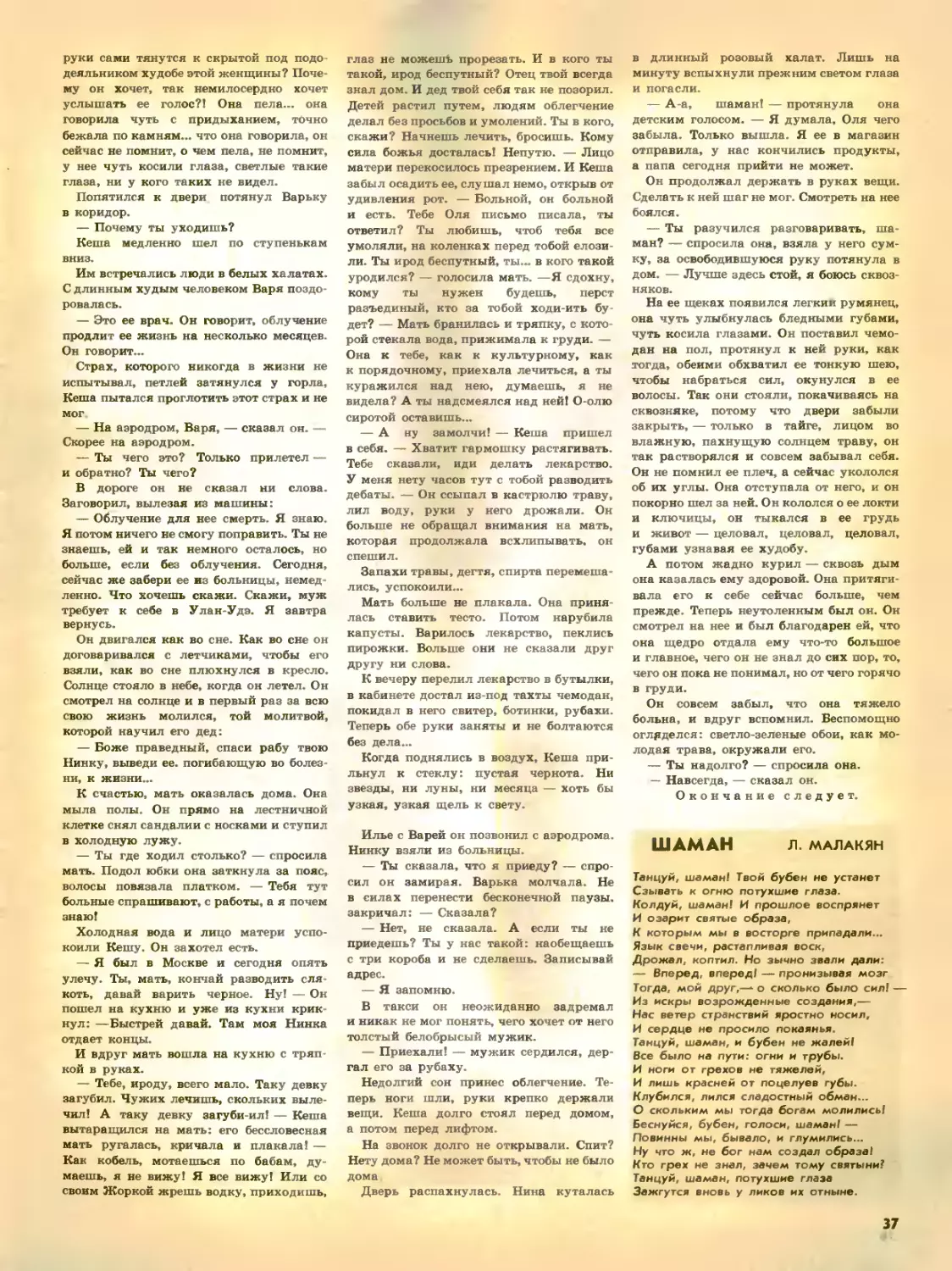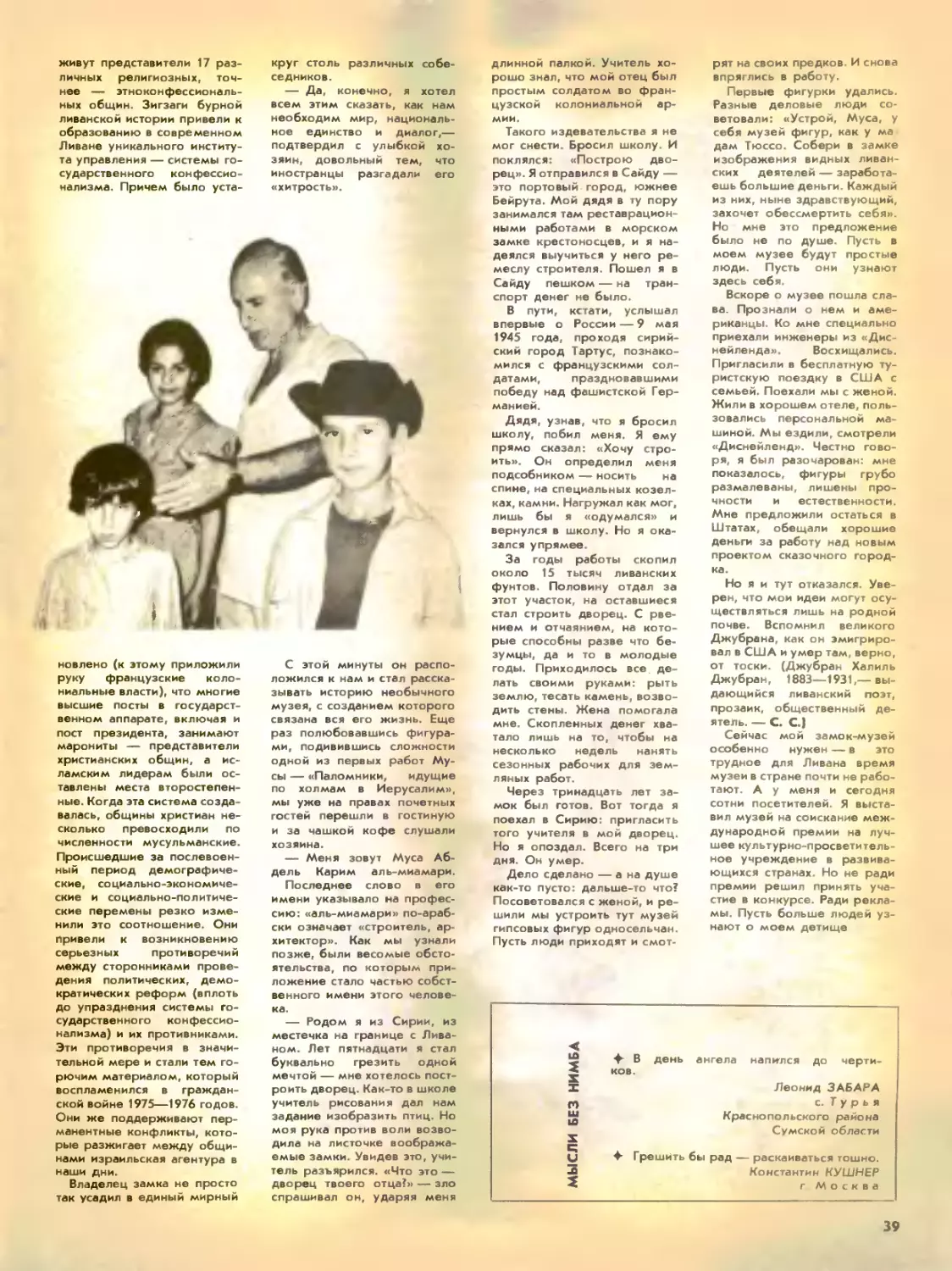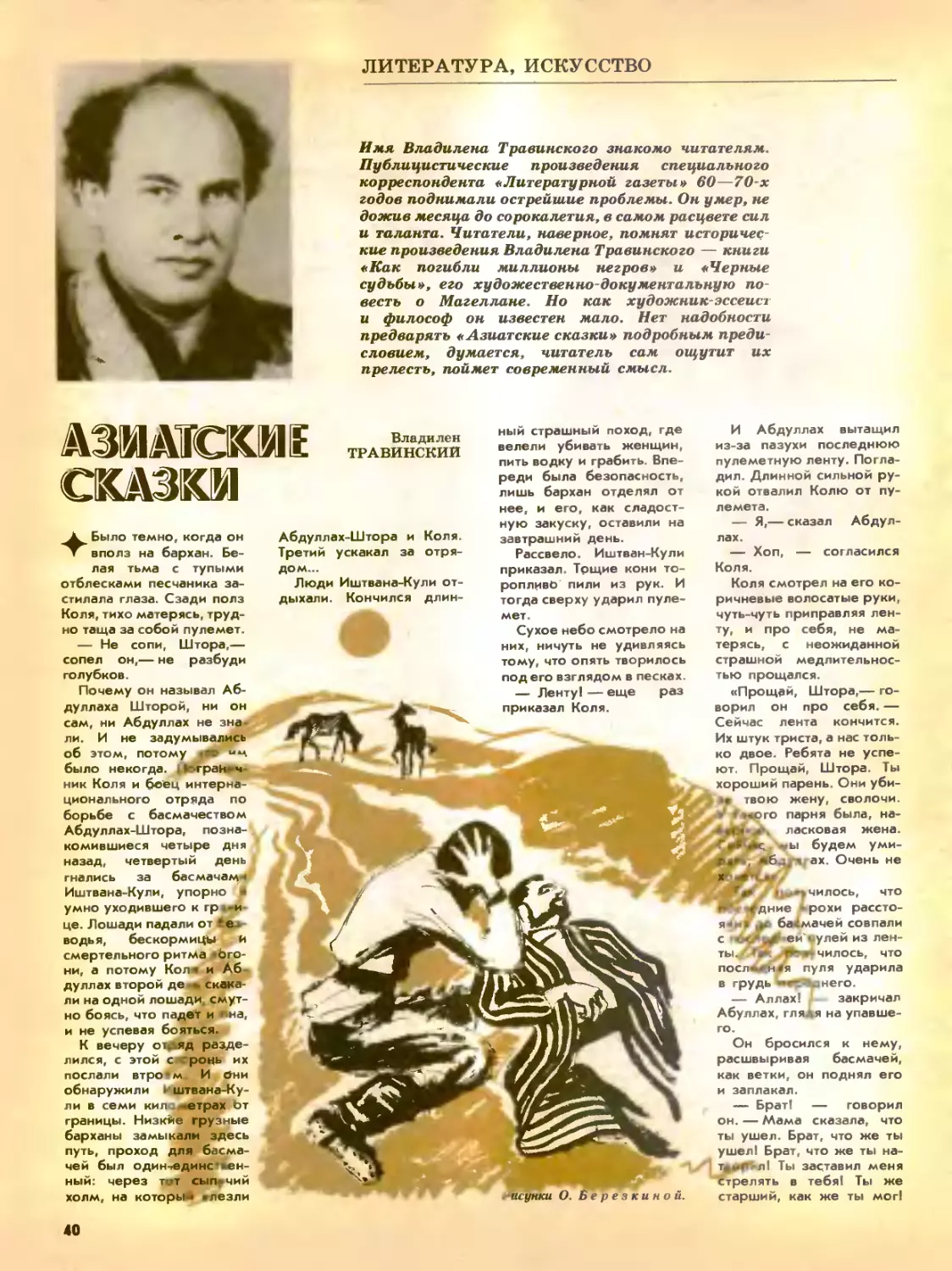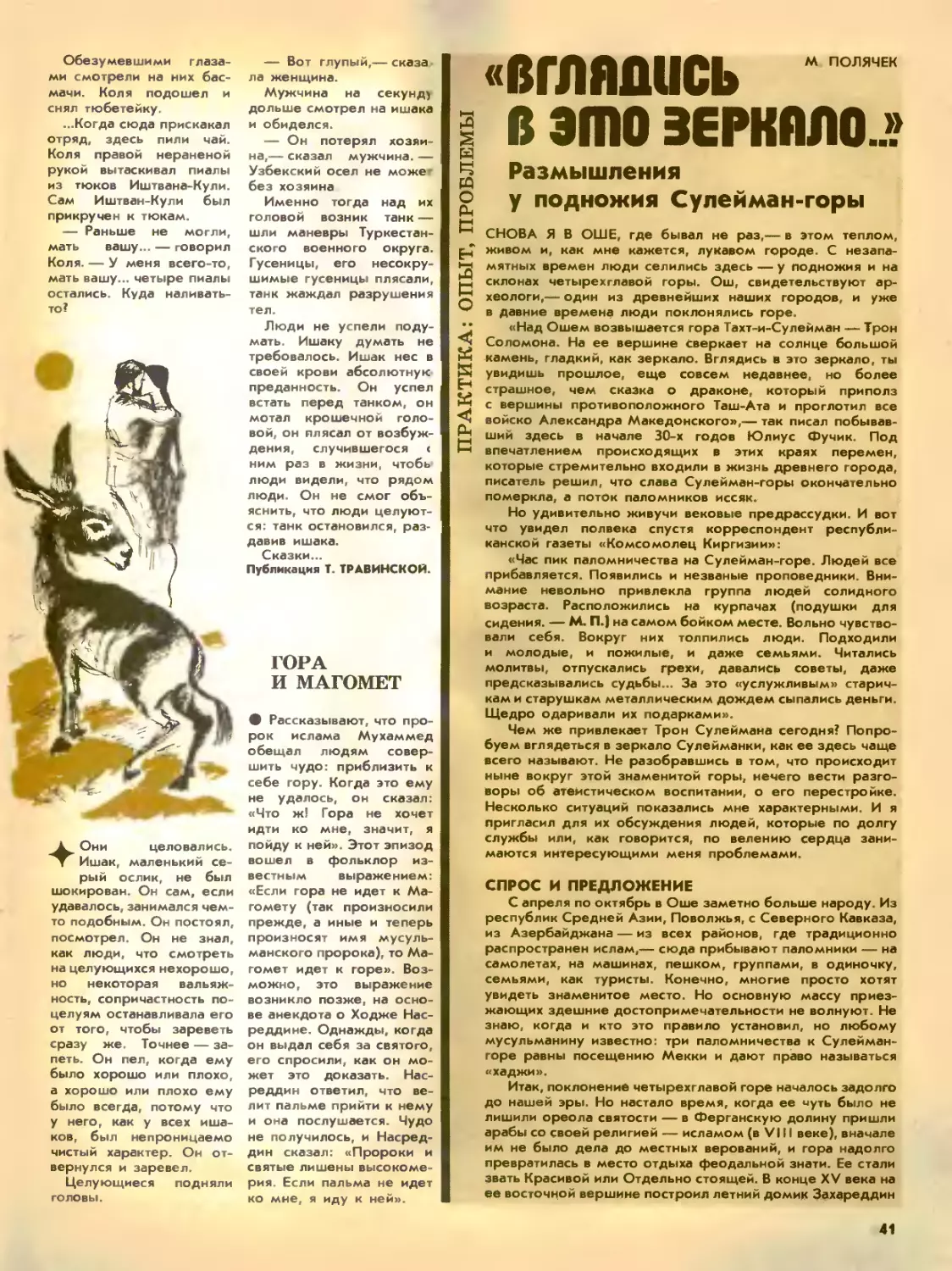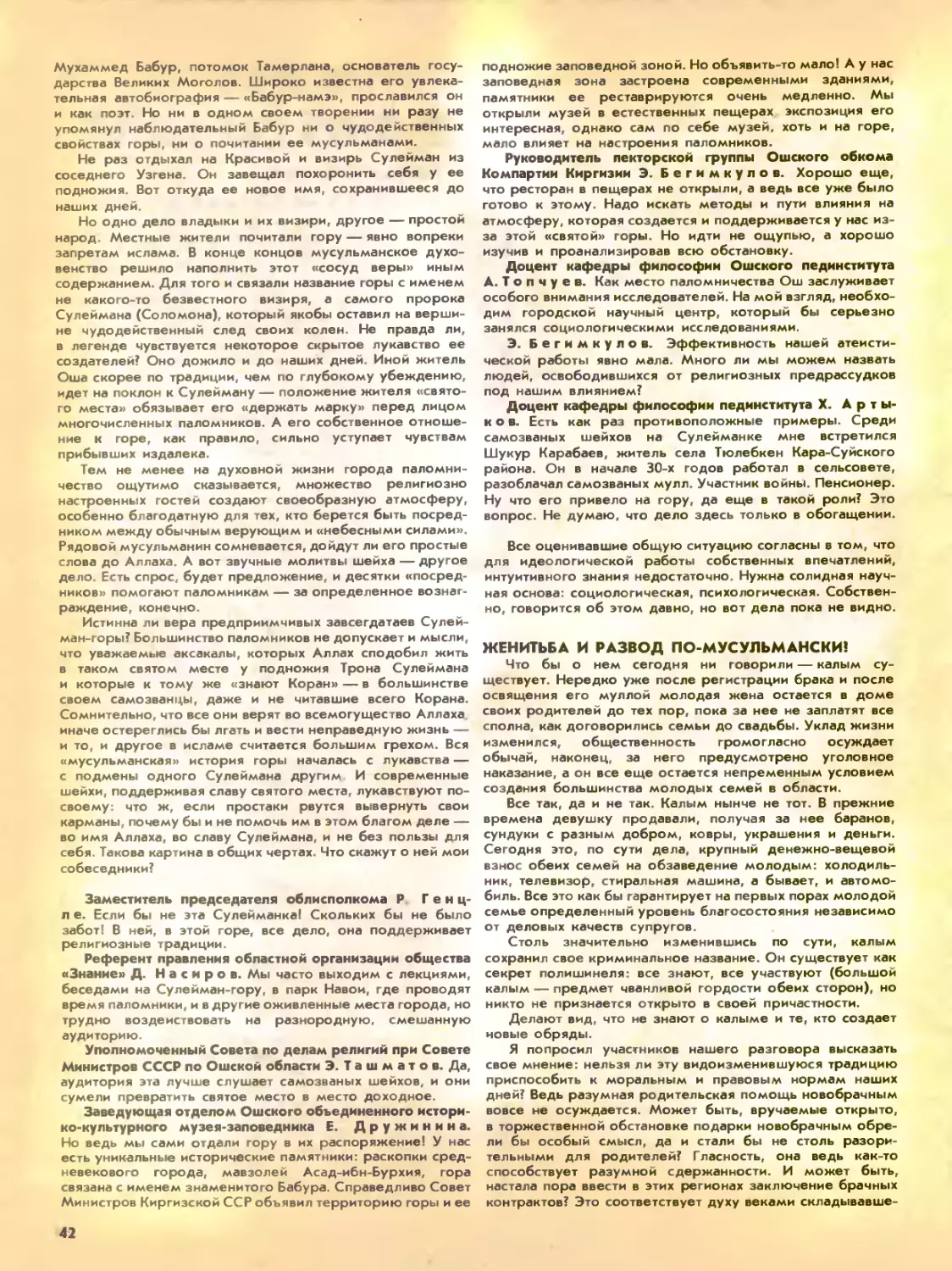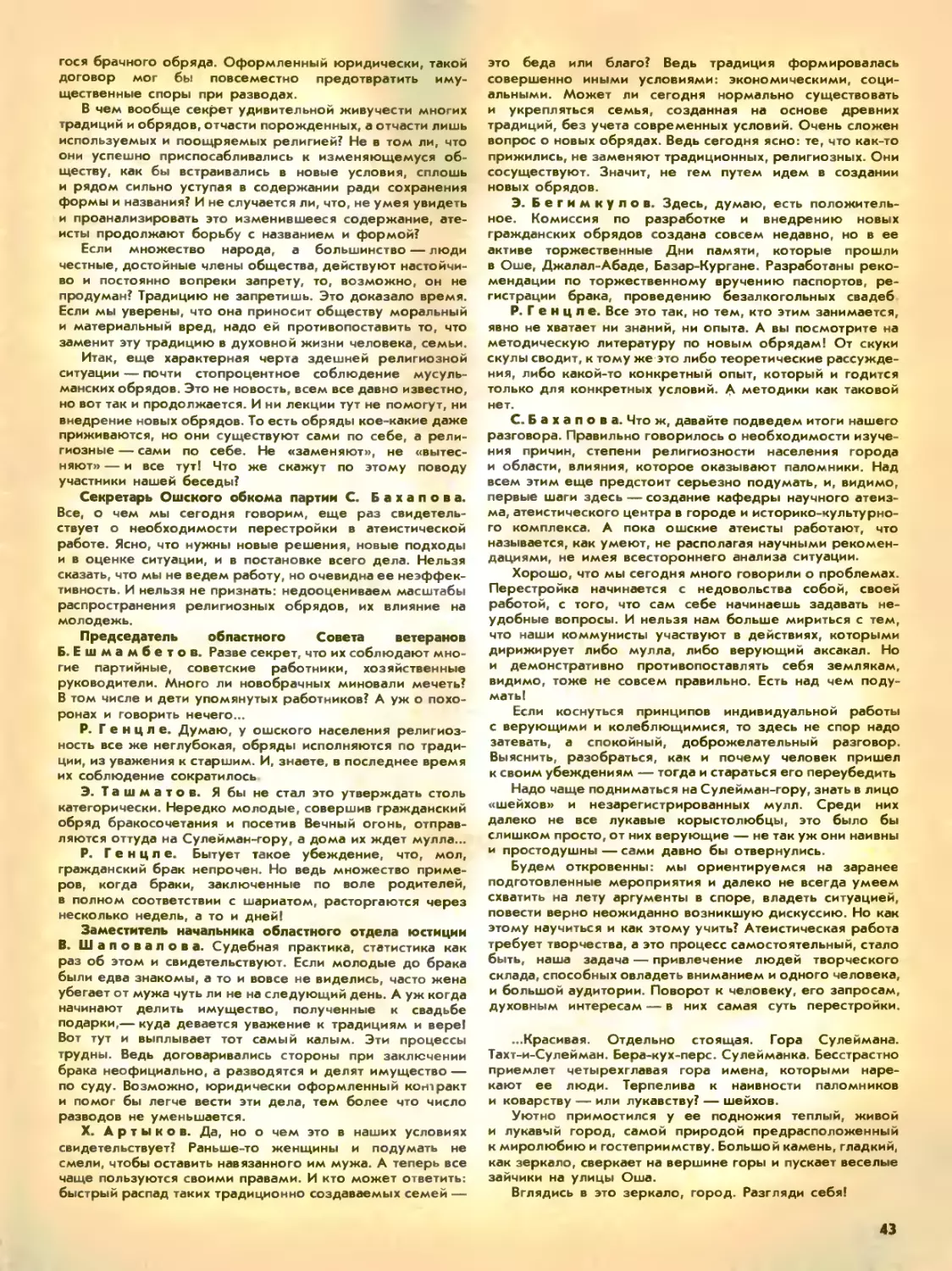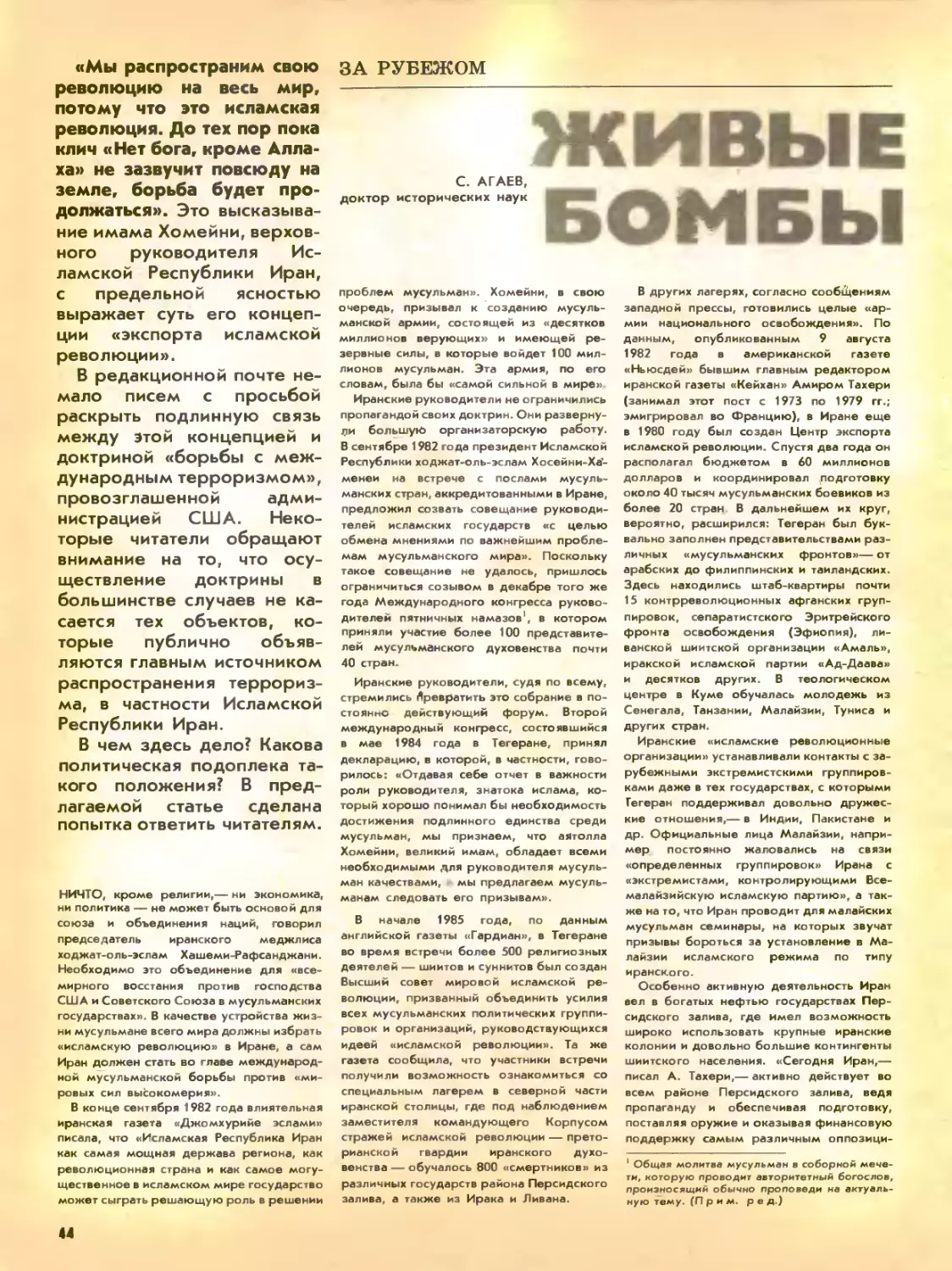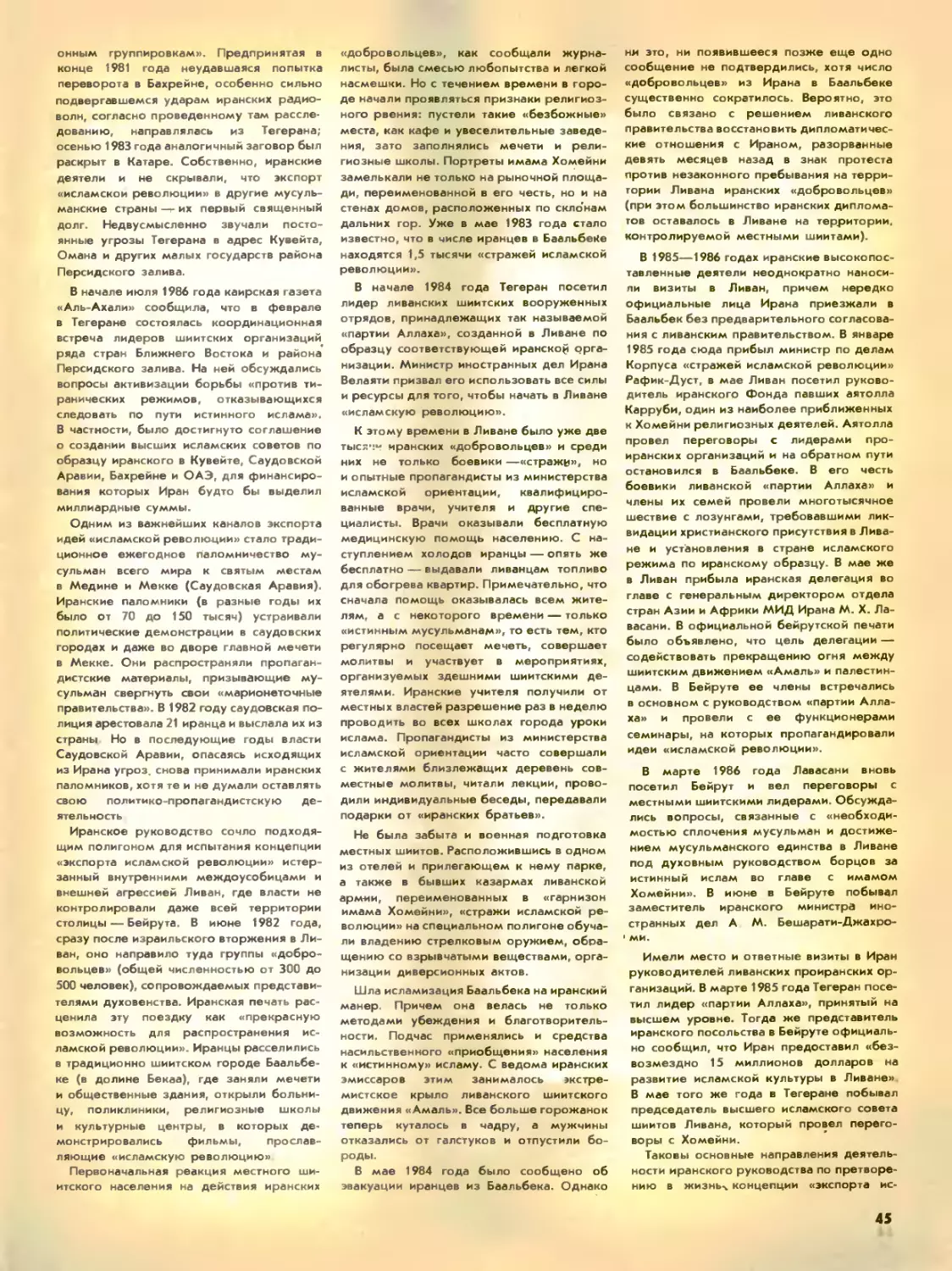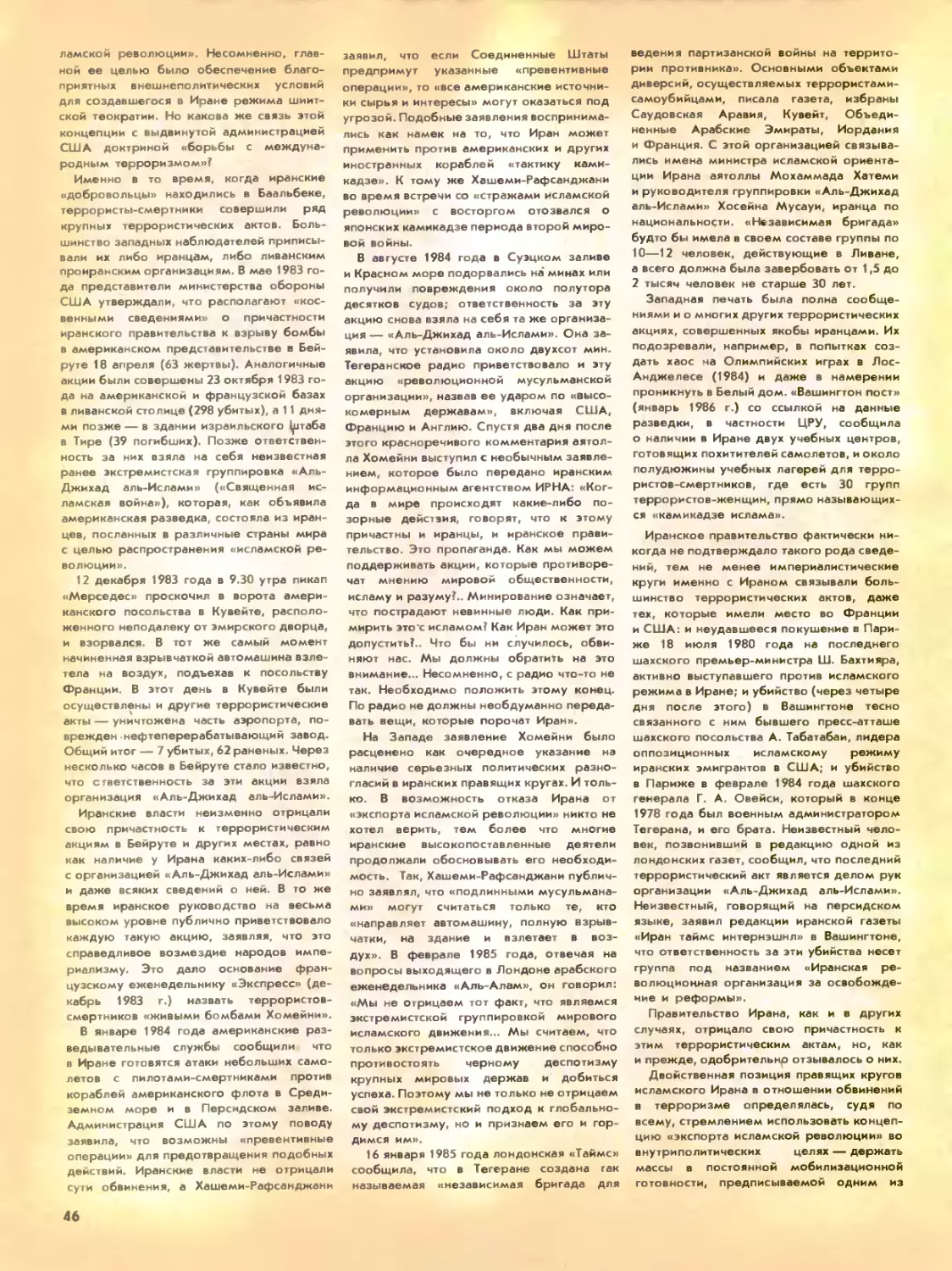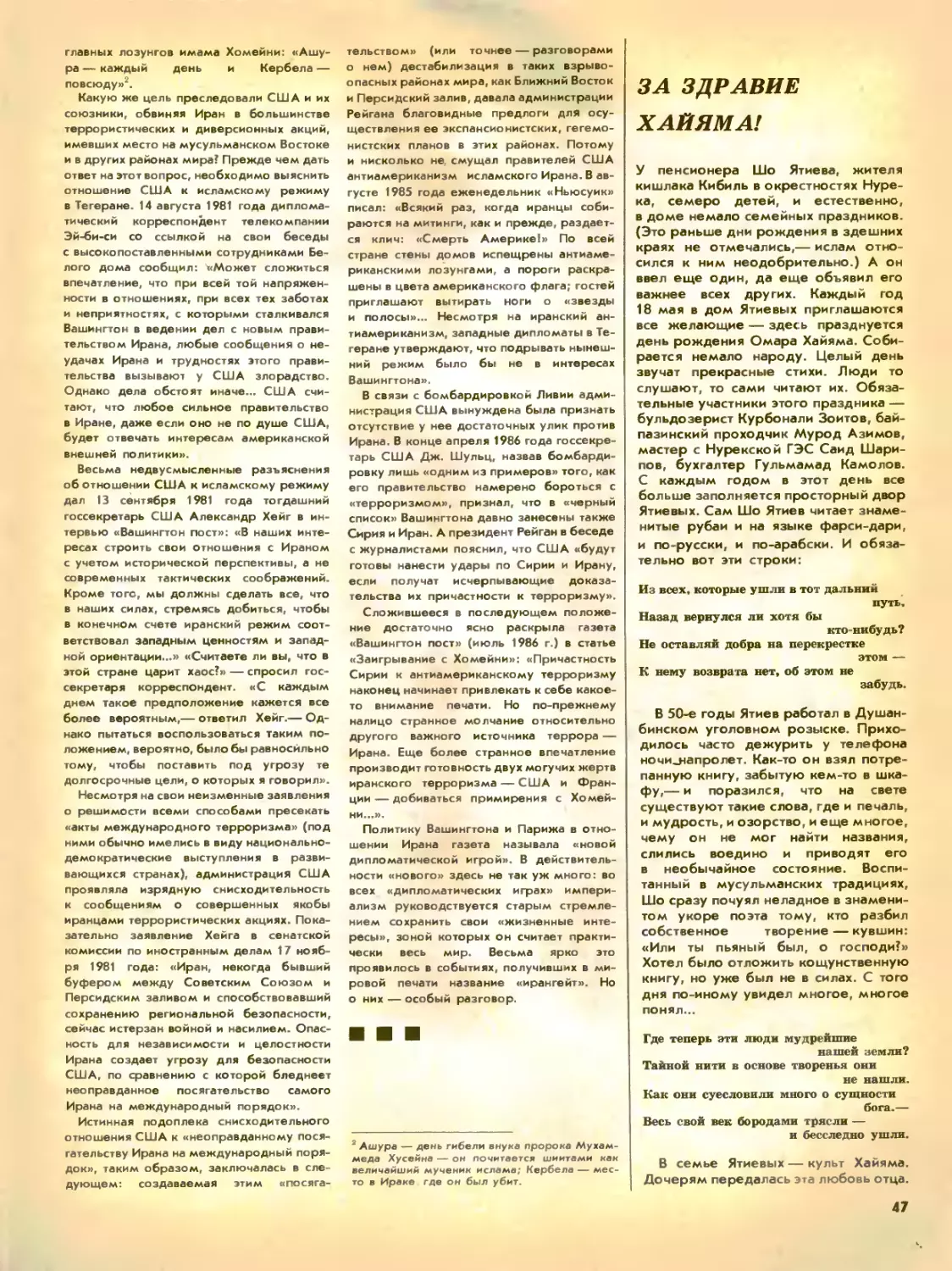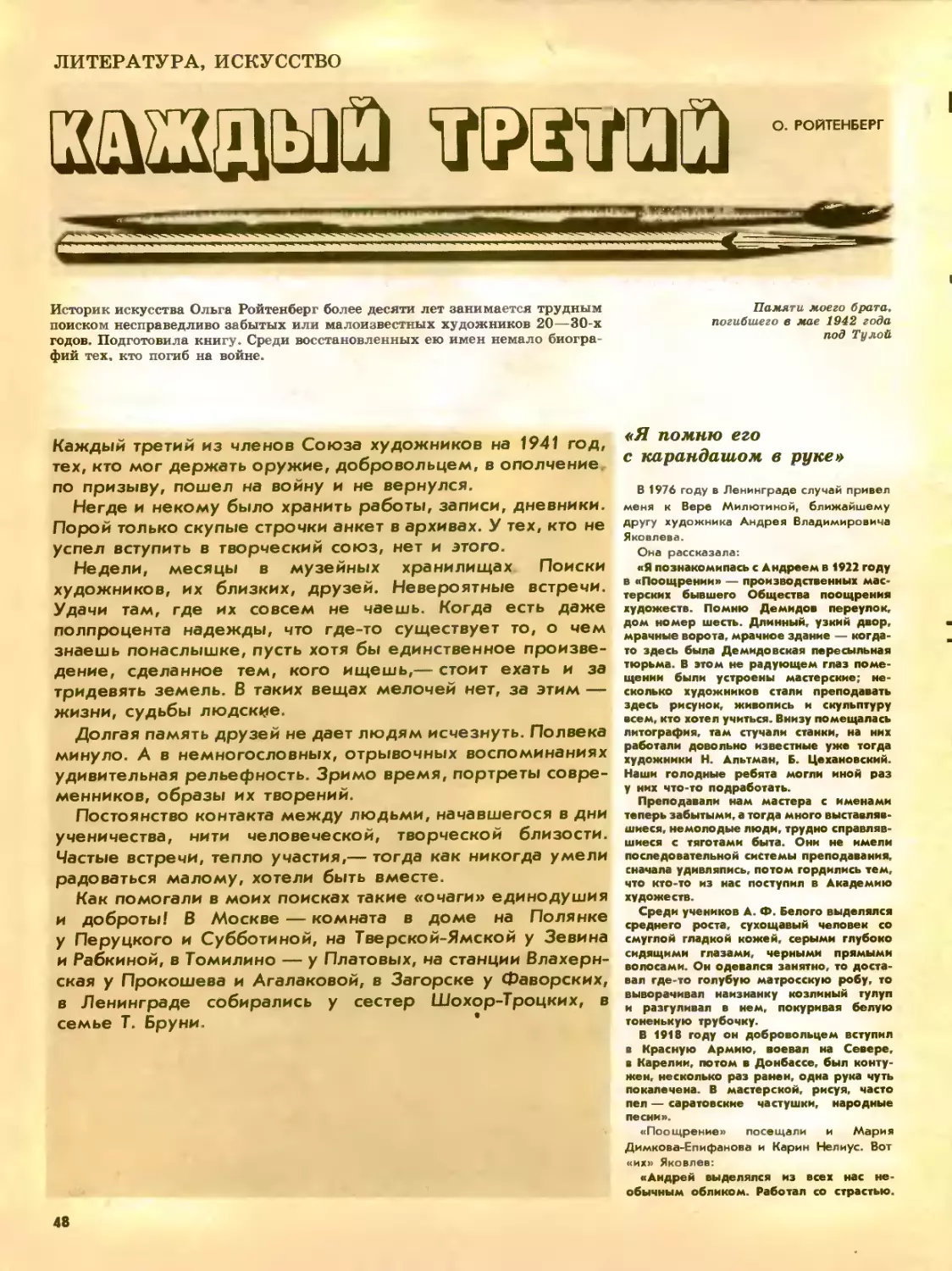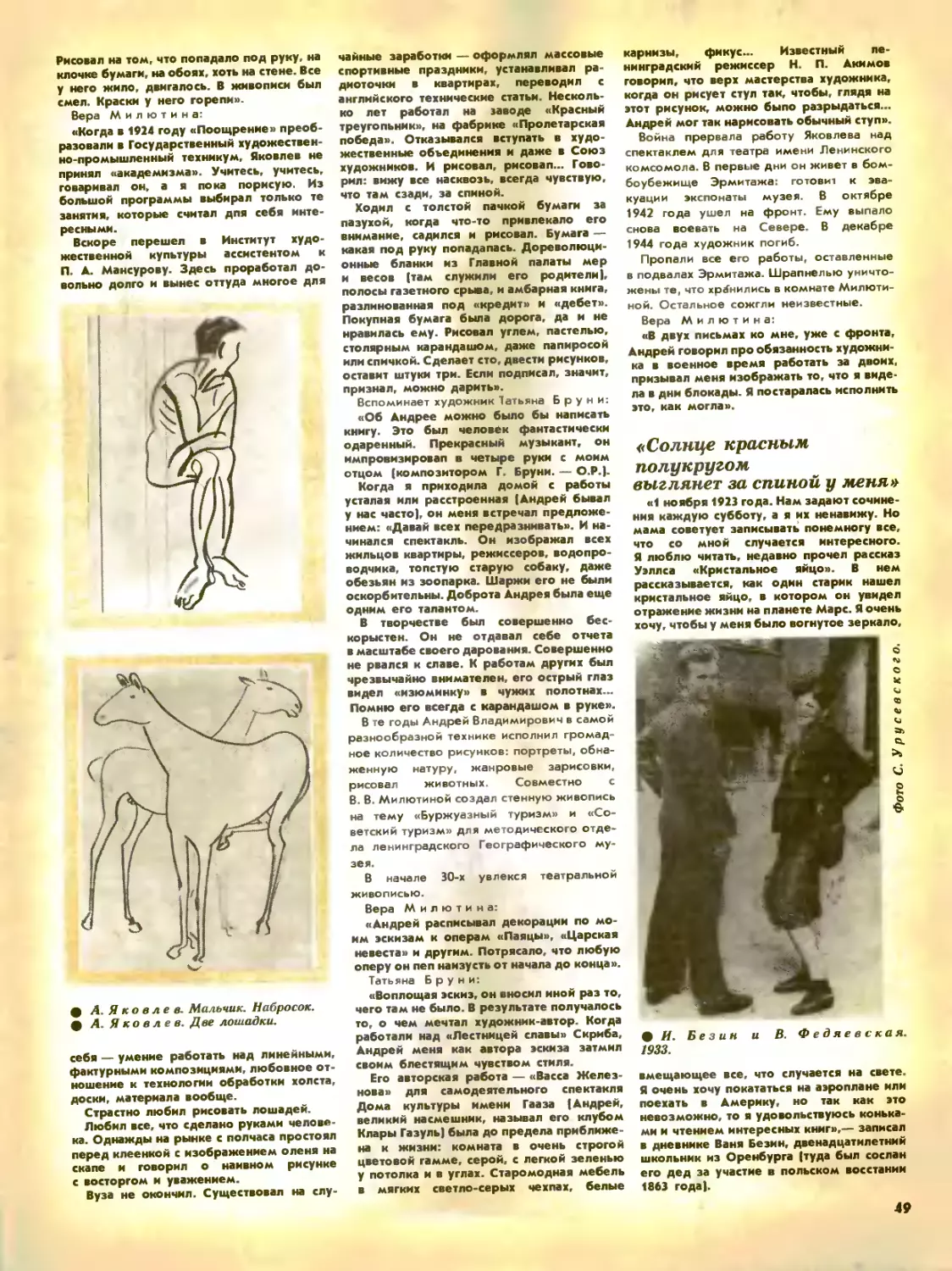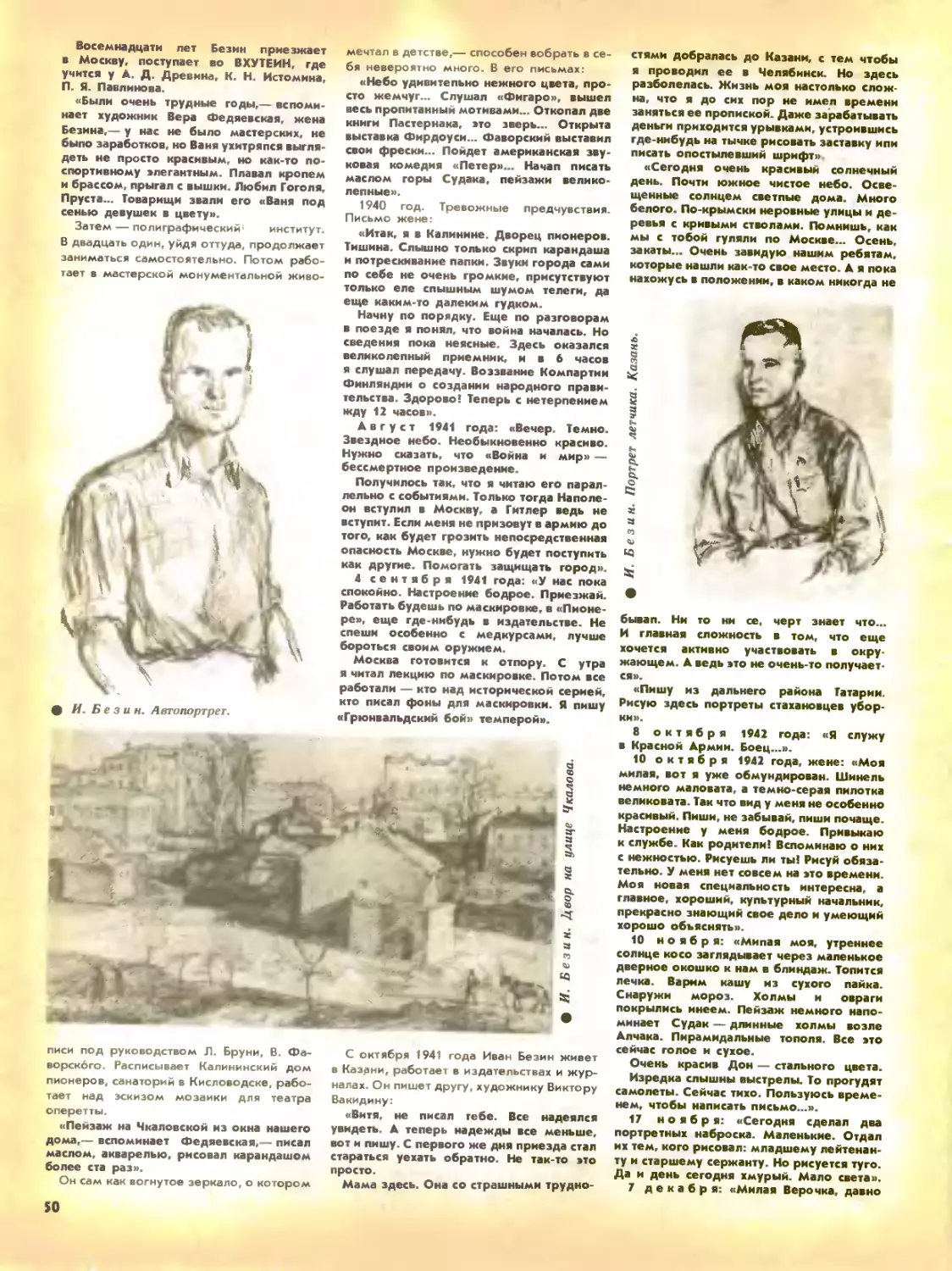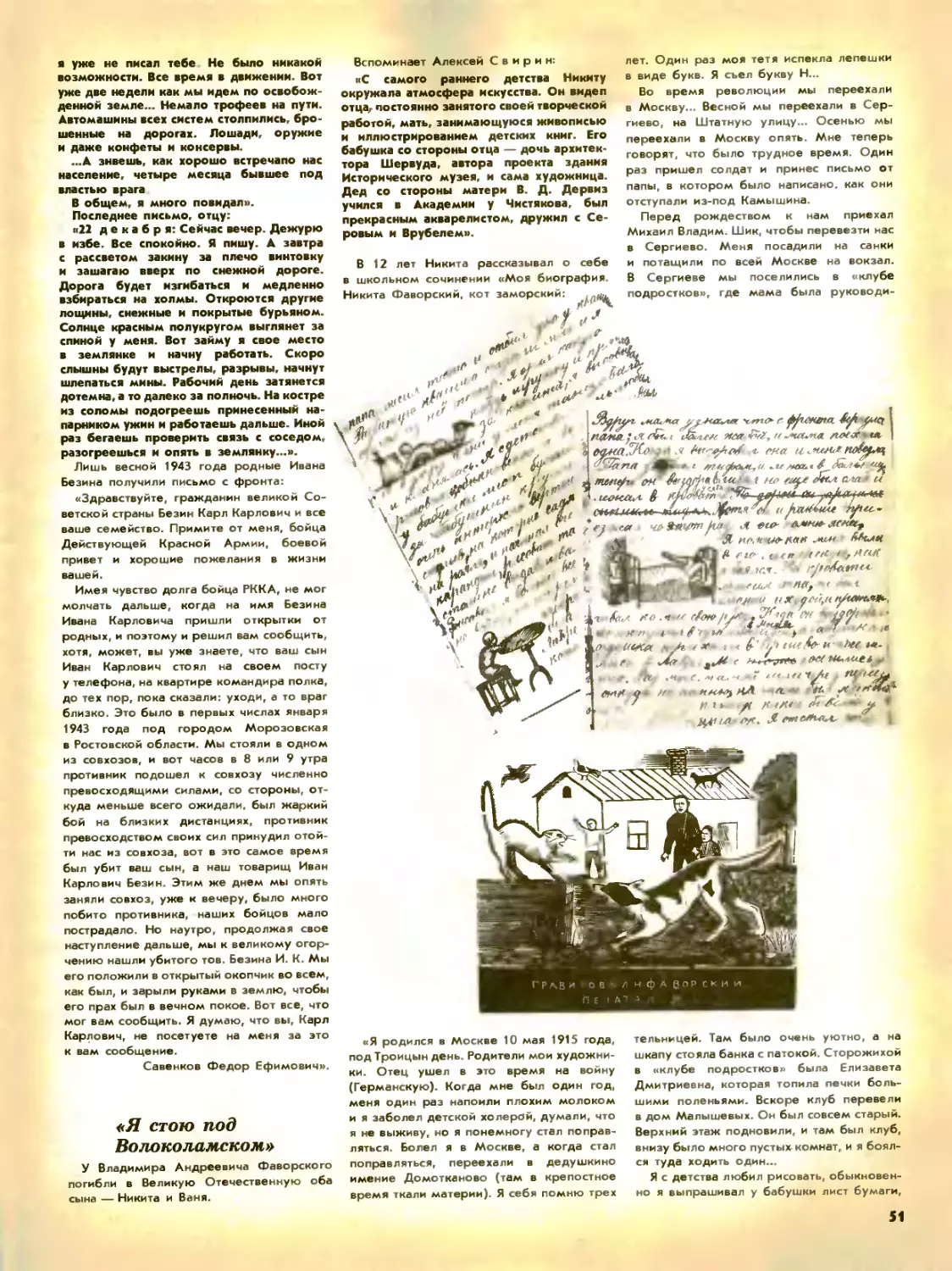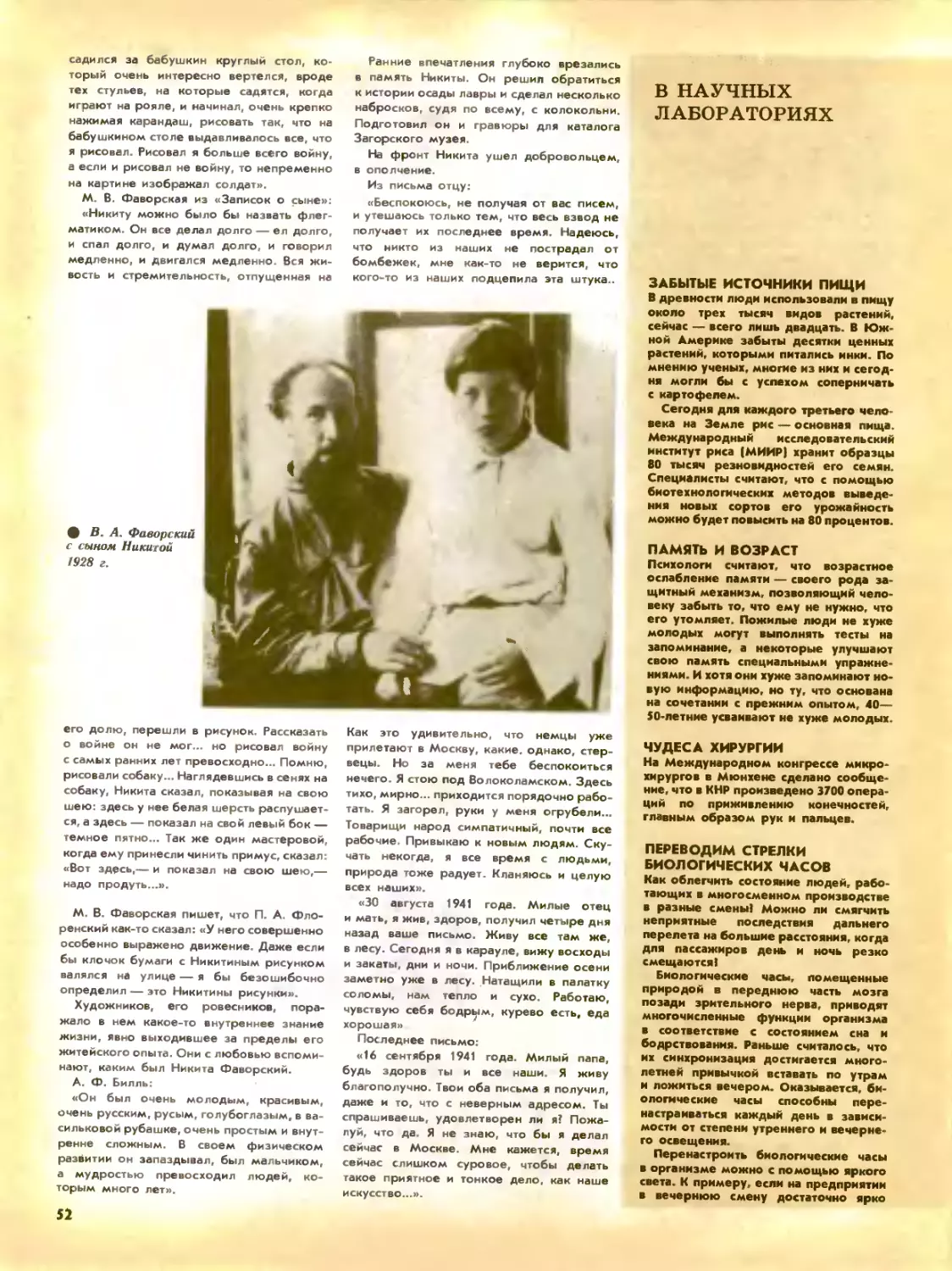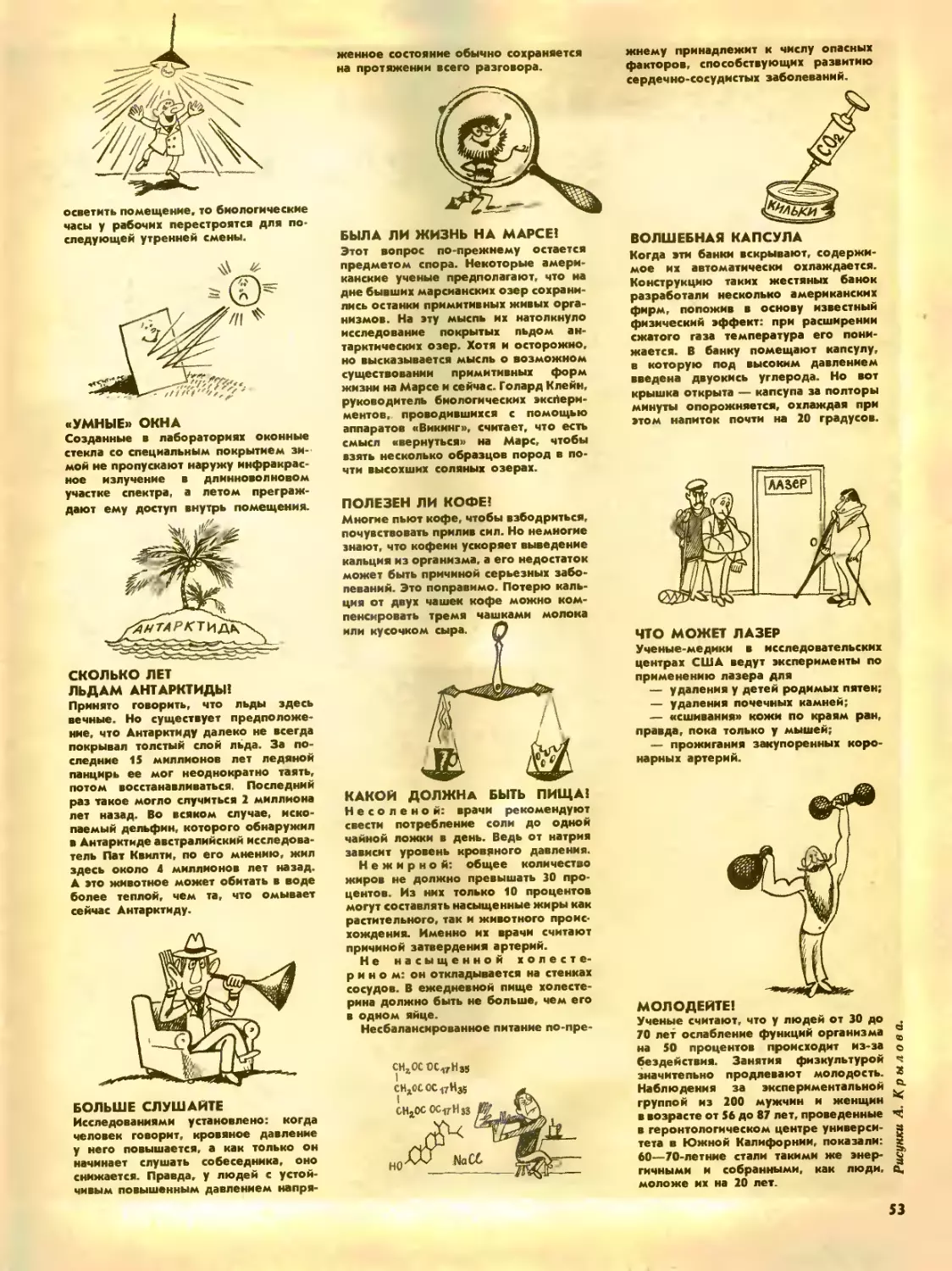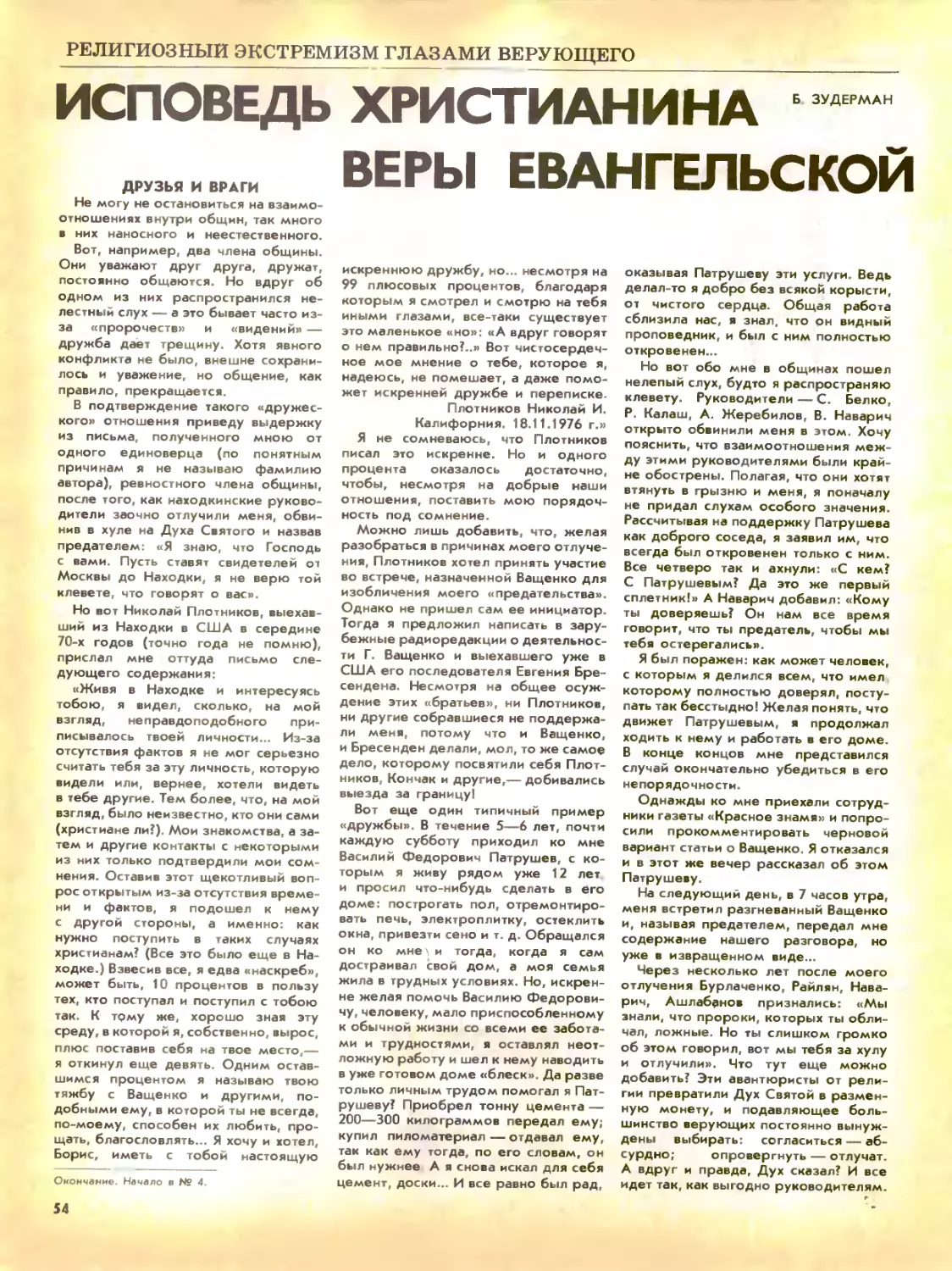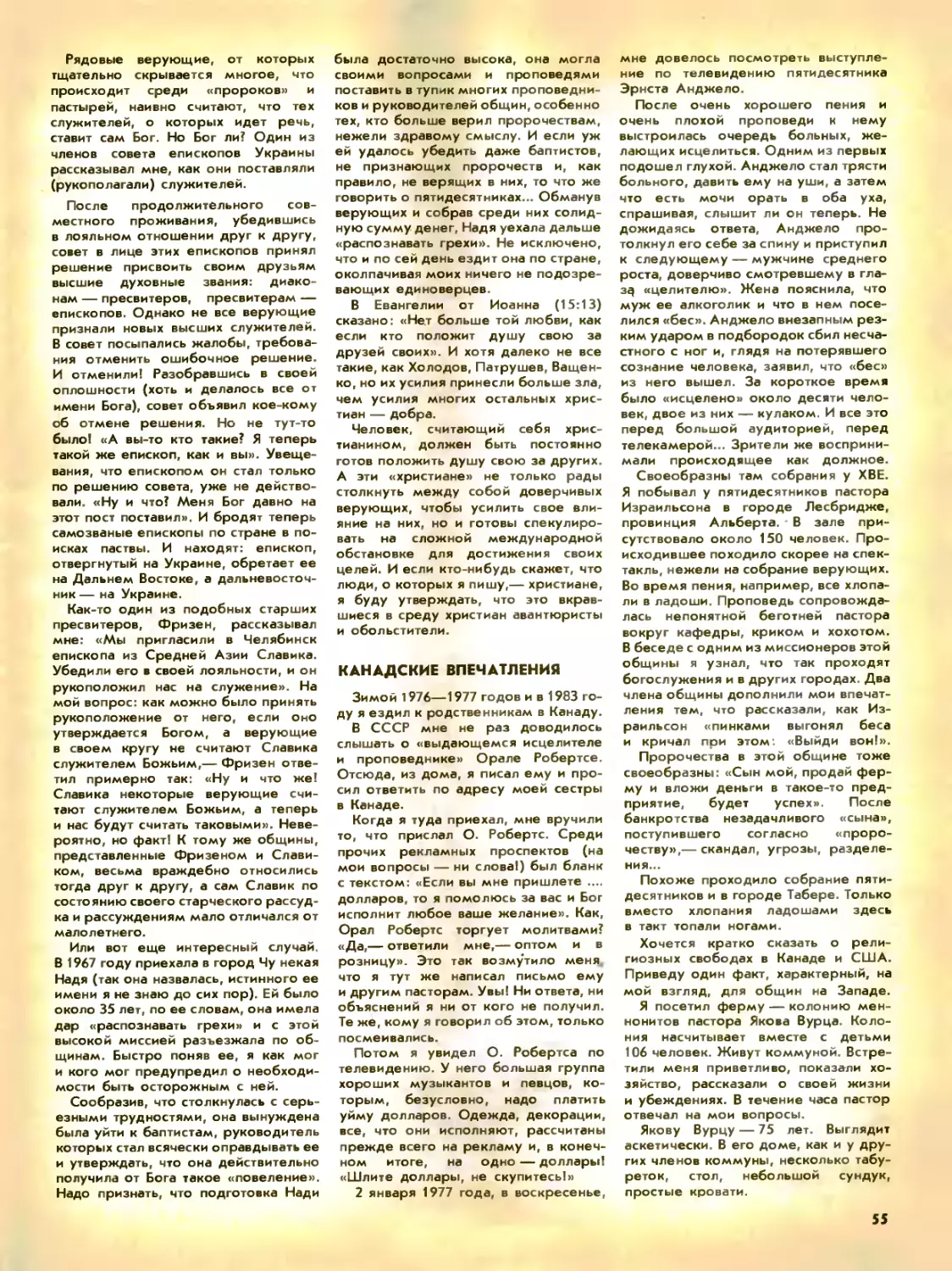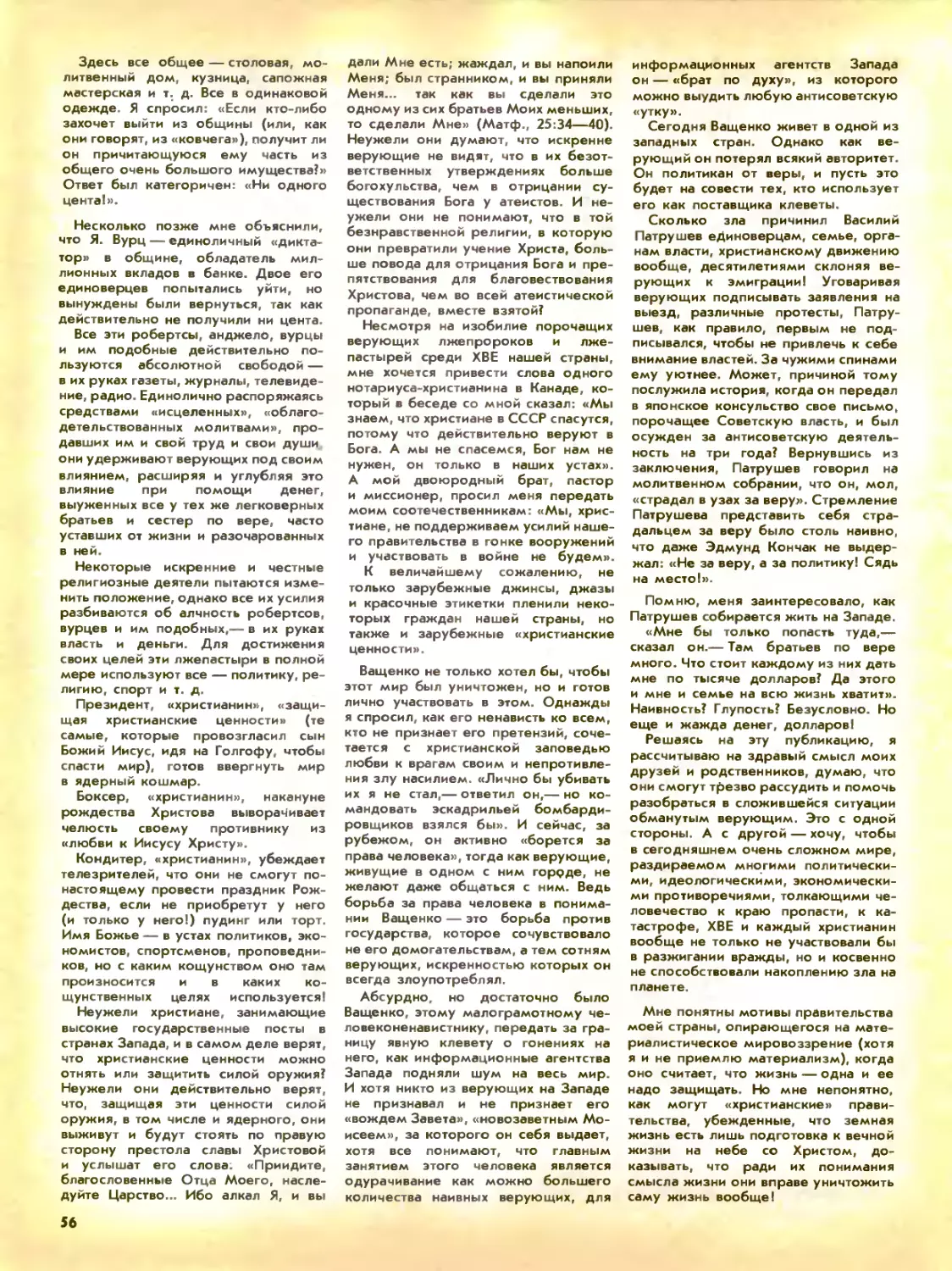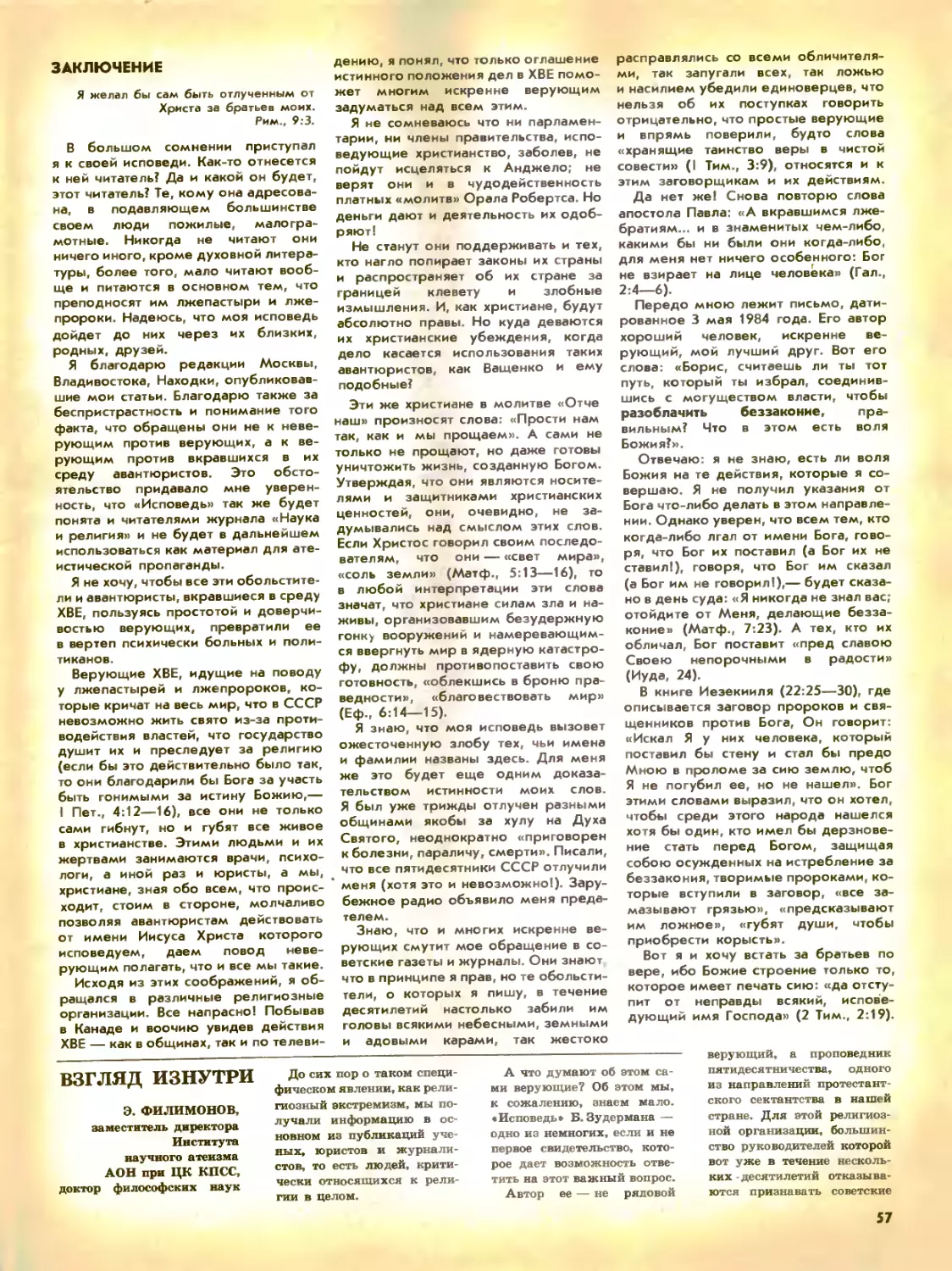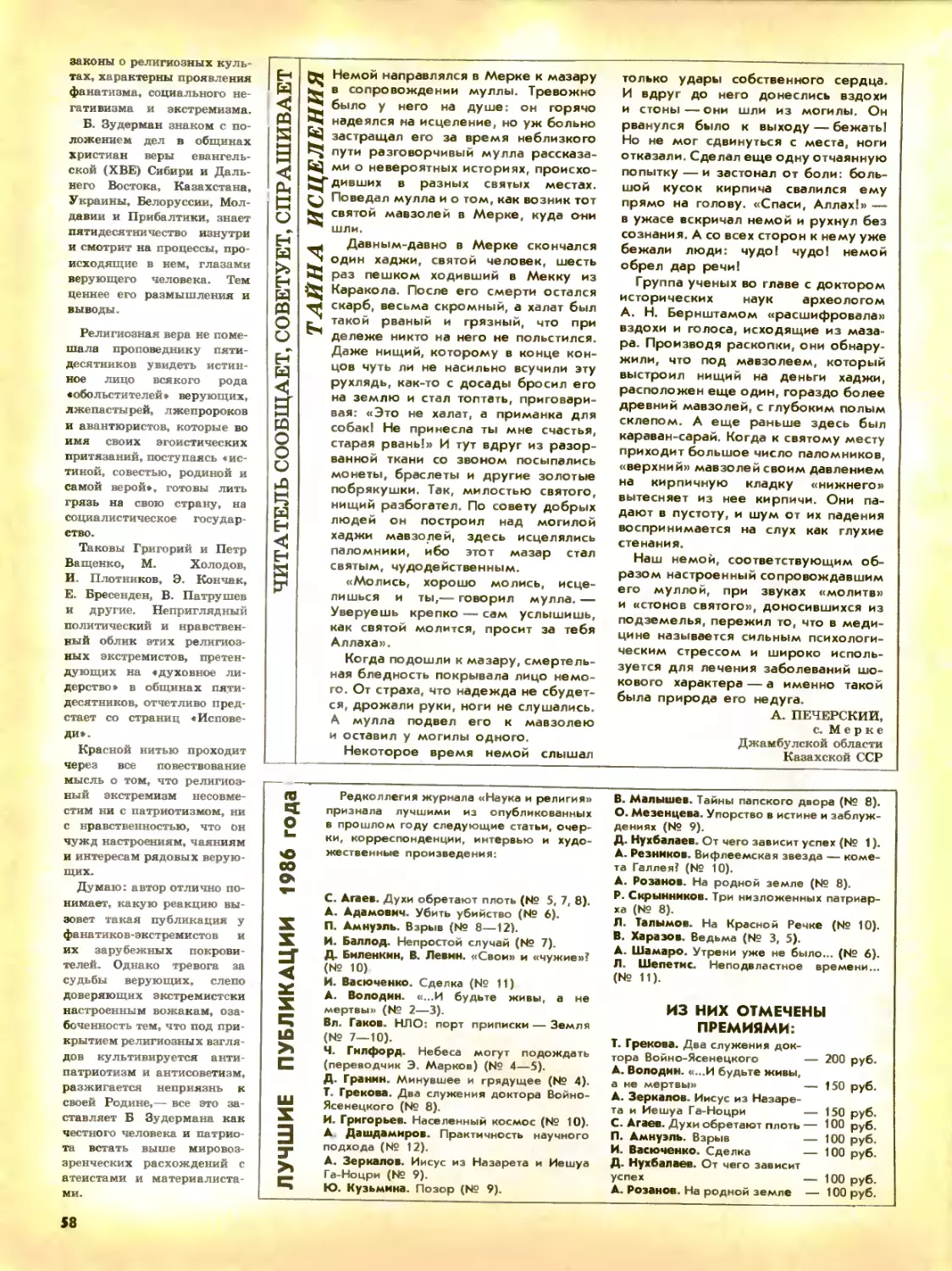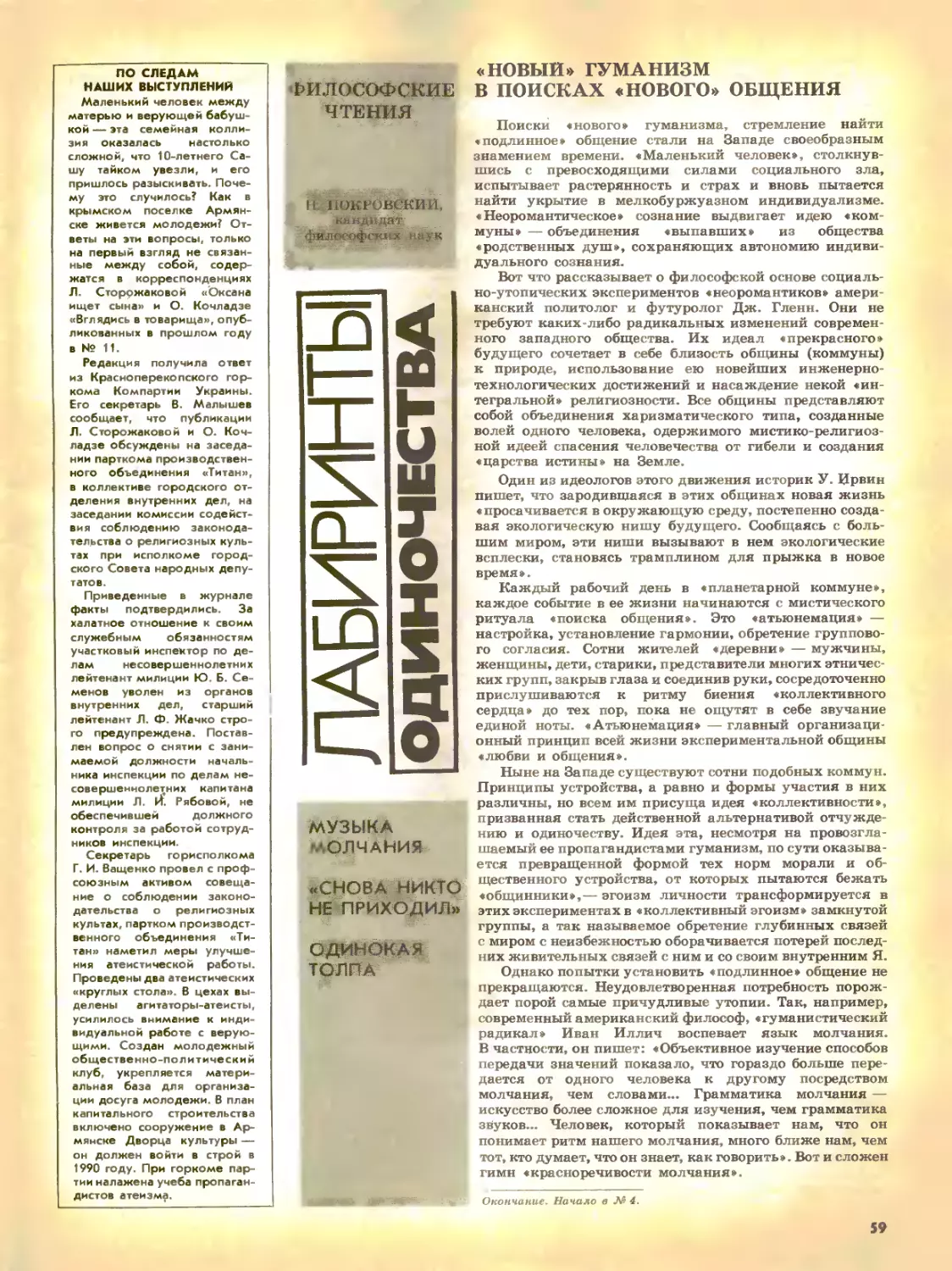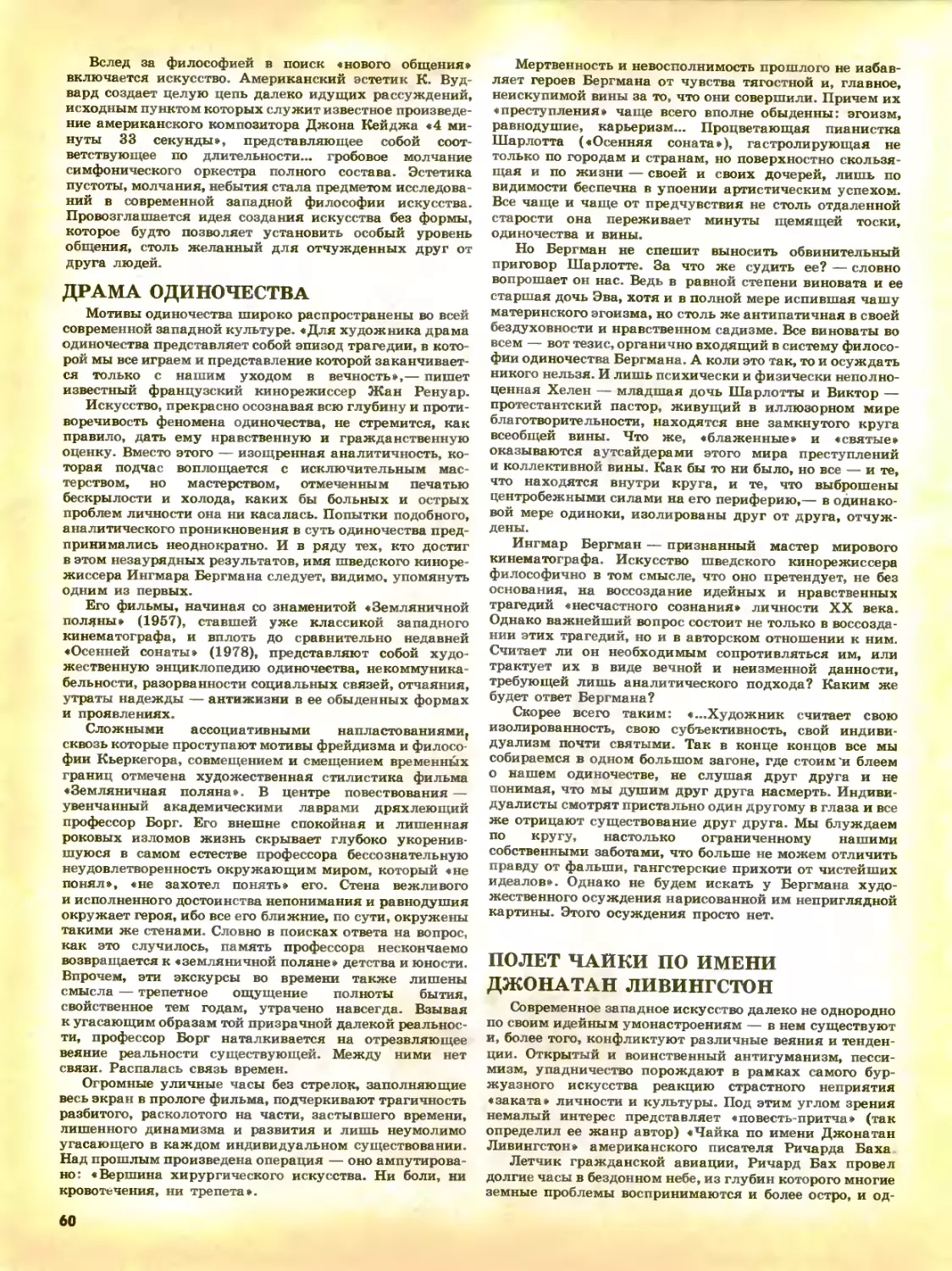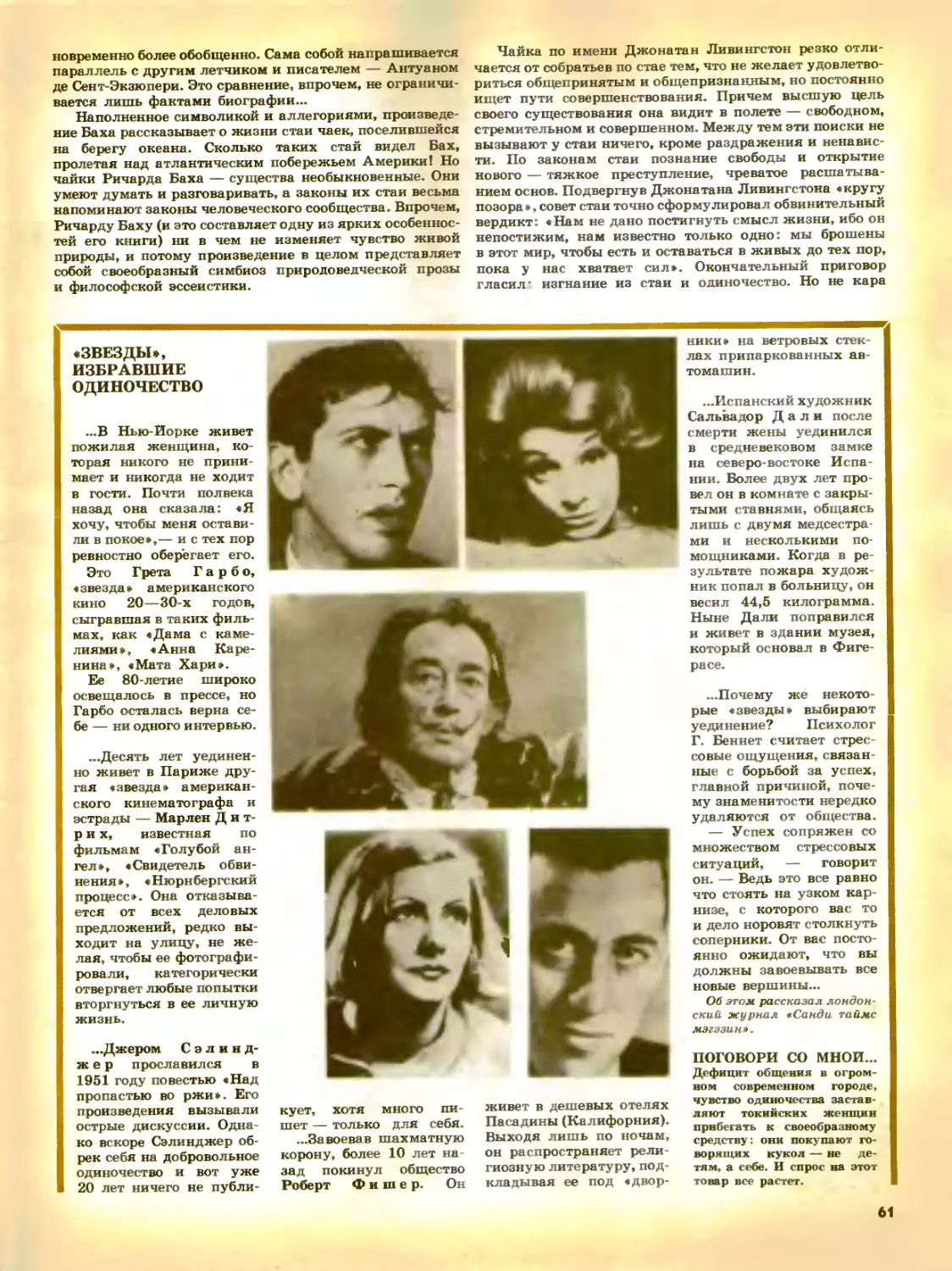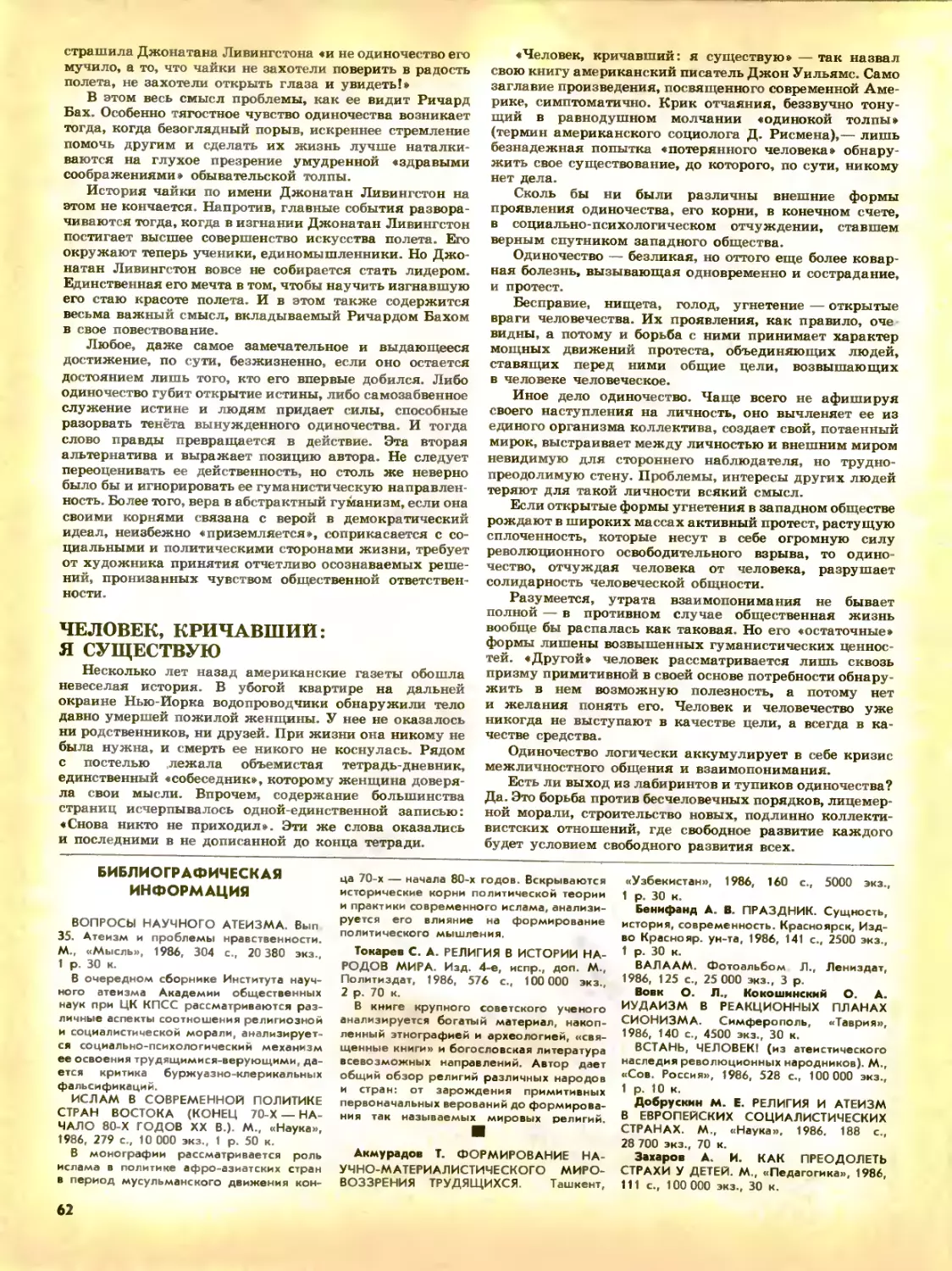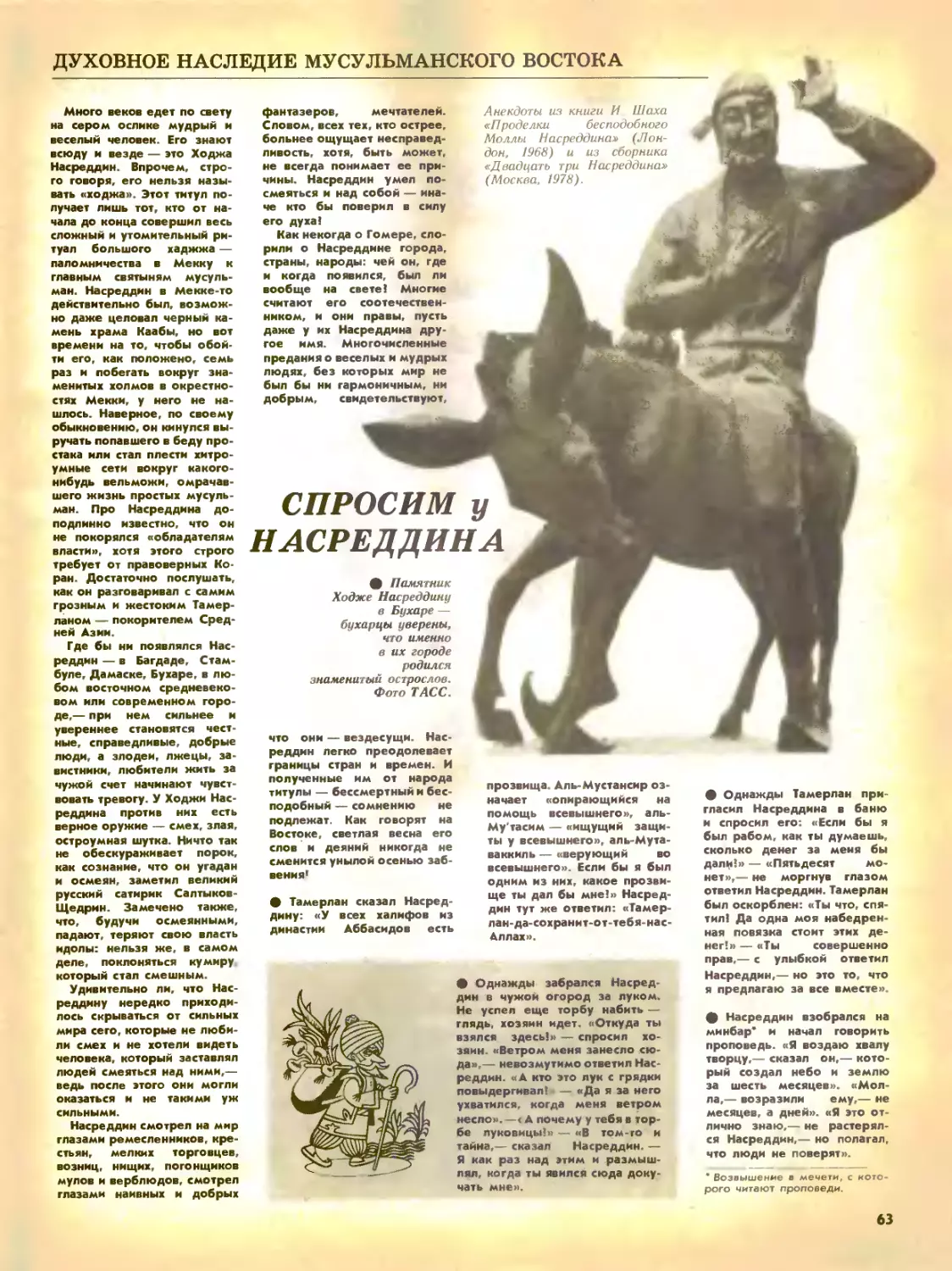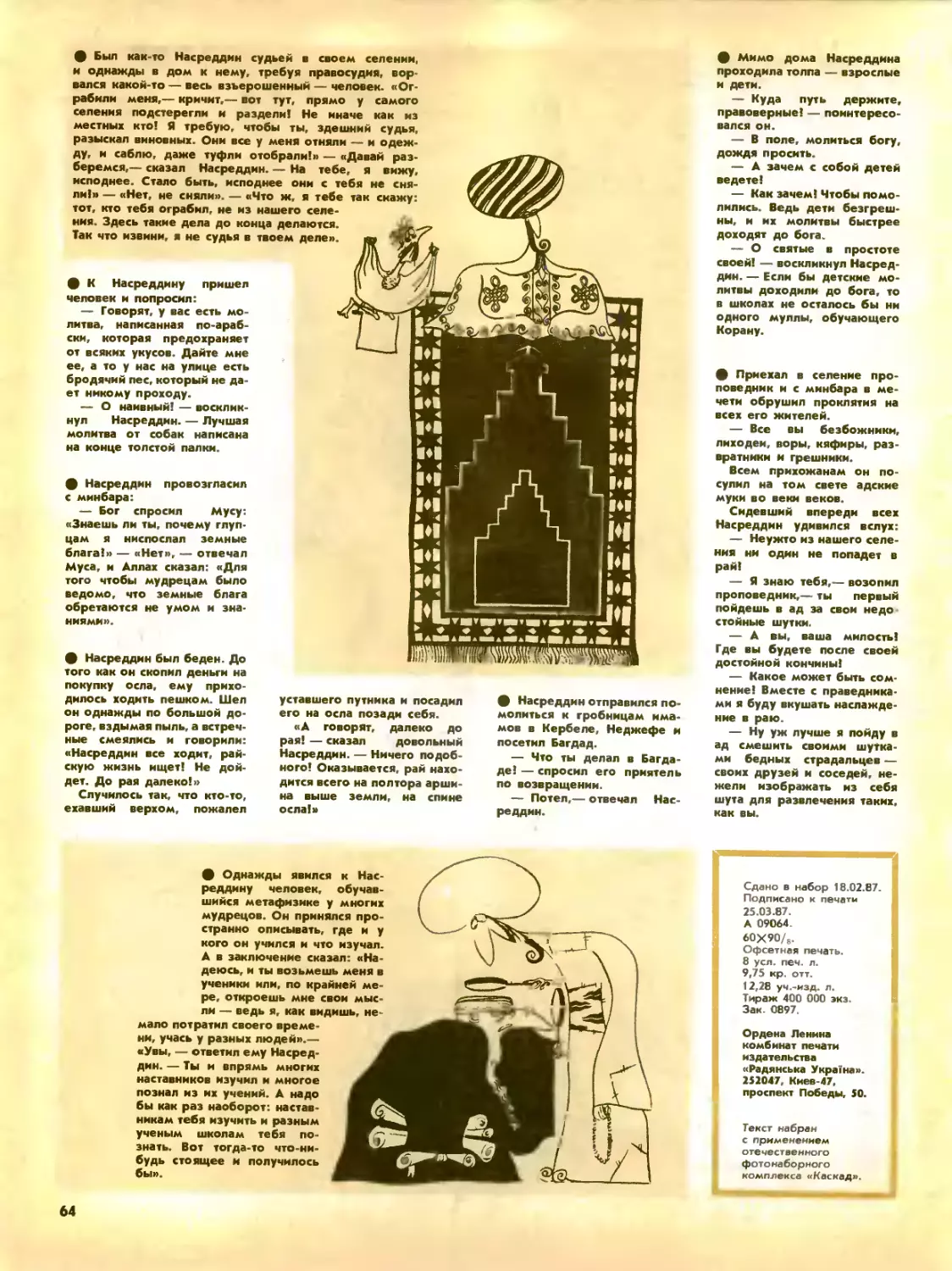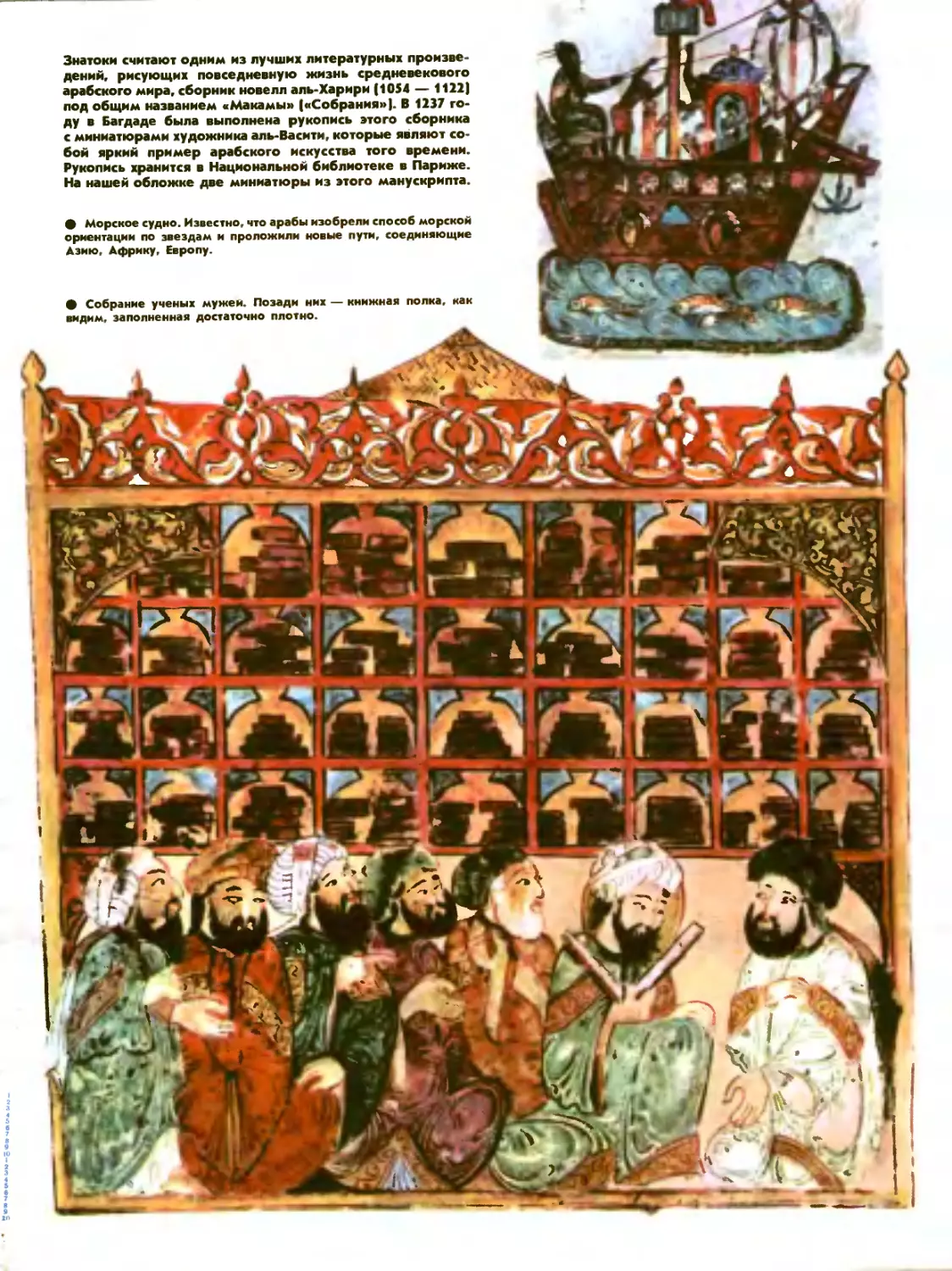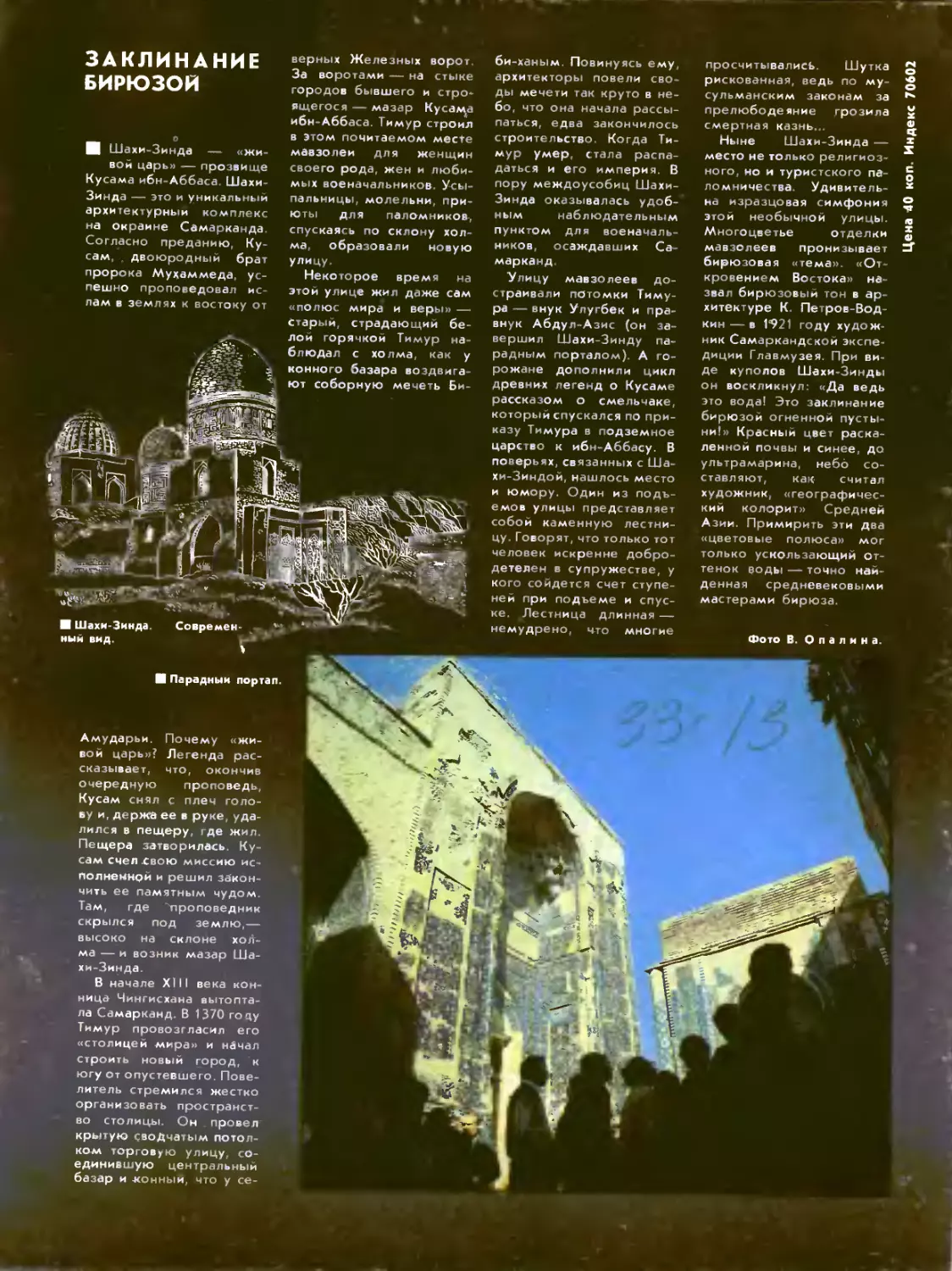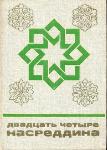Текст
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ
АТЕИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
ОРДЕНА ЛЕНИНА
ВСЕСОЮЗНОГО ОБЩЕСТВА
«ЗНАНИЕ»
Издается с сентября 1959 года
Главный редактор
В. Ф. ПРАВОТОРОВ.
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
И. Ш. А Л И С К Е Р О В.
А. В. Б Е Л О В,
В. И. Г А Р А Д Ж А,
М. М. Д А Н И Л О В А,
И. И. ЖЕРНЕВСКАЯ
(ответственный секретарь],
А. С. И В А Н О В,
Н. А. КОВАЛЬСКИЙ,
Э. И. Л И С А В Ц Е В,
Б. М. МАРЬЯНОВ
(зам. главного редактора),
В. П. М А С Л И Н,
С. И. Н И К И Ш О В,
М- П. Н О В И К О В,
И. К. П А Н Т И Н,
В. Е. Р О Ж Н О В.
РЕДАКЦИЯ:
И. У. А ч и л ь д и е в,
И. Я. Б а л л о д,
О. Т. Брушлинская,
Э. В. Геворкян,
М. М. Данило । а,
В. Б. Евсеев,
Г. В. Иванова,
М. А. Ковальчук,
В. С. Колесникова,
Ю. М. Кузьмина,
Т. Л. Легостаева,
В. К. Лобачев,
В. А. М а з о х и н,
В. П. П а з и л о в а,
М. И. Пискунова,
А. А. Романов.
В. Л. X а р а 3 о в.
Художественный редактор
С. И. Мартемьянова.
Технический редактор
Ю. А. Викулова.
Корректор
Г. Л. К о к о с о в а.
Зав. редакцией
Я Г. Березкина.
Первая страница обложки
художников
Б. А с р и е в а,
М. Дорохова.
На второй
странице обложки:
коллаж О. Г раче в а
«Факел знания».
Медаль имени С. И. Вавилова — первого председателя правления Всесоюзного
общества «Знание». Она присуждается ежегодно за заслуги в пропаганде поли-
тических и научных знаний.
G0
«ПРАВДЕ» —
_75 ЛЕТ __ _ _2
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЗНАНИЕ»
(С Журнал
«Наука и религия», 198
Адрес редакции:
109004, Москва, Ж-4
Ульяновская, 43, корп. 4.
Телефоны:
297-02-51, 297-10-89.
75 ЛЕТ 2
К 70-ЛЕТИЮ X. БОКОВ Уроки истории 3
ОКТЯБРЯ Хроника семи десятилетий 11
Одна из многих 19
Е. БЕРЕСТОВ Мечеть и аэроплан 20
ВСЕСОЮЗНО- Ю. БАБАНСКИЙ Учить мыслям или учить
МУ ОБЩЕСТВУ мыслить?.. 7
«ЗНАНИЕ» — В. ГОЛЬДАНСКИЙ Правда полная, без прикрас
40 ЛЕТ И иллюзий «Политехнический — моя 8
Россия...» 9
У НАС А. БАЙБУРИН Этика и этикет народов Вос-
В ГОСТЯХ тока 13
«АЗИЯ И А. ШМЕЛЕВ «Город цветов», или Кто
АФРИКА такие гейши 13
СЕГОДНЯ» М. КРУТИХИН Танец живота: аэробика Вос- тока? 14
А. БУКАЛОВ «Берег дельный» 15
В. ОВСЯННИКОВА Корейская национальная кухня 15
ТРАДИЦИИ А. РОЗАНОВ Чей обычай? 16
И НРАВЫ
ПРАКТИКА: М. МИРРАХИМОВ Цена наших ошибок 22
ОПЫТ, М. ПОЛЯЧЕК «Вглядись в это зеркало...» 41
ПРОБЛЕМЫ
ДУХОВНОЕ В. ЗА ИЦЕ Г Божественная трагикомедия
НАСЛЕДИЕ Омара Хайяма 24
МУСУЛЬМАНС- КОГО ВОСТО- Спросим у Насреддина 63
КА
ЧИТАТЕЛЬ СООБЩАЕТ, В. БЕКЯШЕВ Первая в столице империи 30
СОВЕТУЕТ,
СПРАШИВАЕТ
ЛИТЕРАТУРА, Т. УСПЕНСКАЯ Шаман 32
ИСКУССТВО Вл. ТРАВИ НСКИЙ Азиатские сказки 40
О. РОИТЕНБЕРГ Каждый третий 18
ЗА РУБЕЖОМ С. СТОКЛИЦКИЙ Дворец Мусы Абдель Карима 38
С. АГАЕВ Живь е бомбы 44
В НАУЧНЫХ ЛАБОРАТО-
РИЯХ 52
РЕЛИГИОЗНЫЙ Б. ЗУДЕРМАН Исповедь христианина веры
ЭКСТРЕМИЗМ евангельской 54
ГЛАЗАМИ ВЕРУЮЩЕГО Э. ФИЛИМОНОВ Взгляд изнутри 57
ФИЛОСОФ- Н. ПОКРОВСКИЙ Лабиринты одиночества 59
СКИЕ ЧТЕНИЯ
..ПРАВДЕ" 75 Т
В МАЕ 1987 года исполняется 75 лет
газете «Правда». Центральный орган
печати ленинской партии всегда являл
собой подлинный образец больше-
вистского отношения к вопросам,
волнующим широкие массы трудя-
щихся, она решительно выступала
в защиту их интересов, учила само-
стоятельно разбираться в самых
острых и сложных проблемах, была
коллективным пропагандистом и ор-
ганизатором масс.
Особый интерес для нас представ-
ляет сейчас «Правда» ленинских вре-
мен, ее отношение к вопросам атеиз-
ма и религии, умение работать с ве-
рующими во имя достижения общей
цели — построения общества соци-
альной справедливости.
Вот некоторые из официальных
сообщений того времени.
УПРАЗДНЕНИЕ
ВОЕННОГО ДУХОВЕНСТВА
Приказом Народного Комиссариата
по военным делам все священнослу-
жители всех вероисповеданий, нахо-
дящиеся на службе военного ве-
домства, увольняются. Все управле-
ния военного духовенства подлежат
расформированию.
По желанию войсковых частей уп-
равления и учреждения священнослу-
жителей могут быть оставлены, при-
чем содержание последних опреде-
ляется комитетами самих частей.
ПРЕКРАЩЕНИЕ
ВЫДАЧИ СРЕДСТВ
НА СОДЕРЖАНИЕ ЦЕРКВЕЙ
И СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ
Комиссия Государственного При-
зрения считает, что каждая копейка,
ассигнуемая Советом Народных Ко-
миссаров на нужды Государственного
Призрения, должна идти исключи-
те тьио на облегчение участи наиболее
обездоленных капиталистическим об-
ществом. В виду этого Нар. Ком.
постановил немедленно прекратить
выдачу средств на содержание
церквей, часовен и совершения цер-
ковных обрядов. Выдача содержания
священнослужителям и законоучите-
лям прекращается с 1 -го марта с выда-
чей им 4-х недельного заработка
вперед. Безработному причту при же-
лании будет предоставлена работа
в Комиссии Государственного Призре-
ния.
При возбуждении ходатайства кол-
лективами верующих церковные
службы и требы могут продолжаться
при условии принятия на себя коллек-
тивами ремонта и содержания поме-
щений, инвентаря и служащих.
«П р а в д а», 2 февраля 1918 г.
Такие меры понятны. В Петрограде
голод, нет хлеба, вводится режим
строжайшей экономии. Новая власть
урезает содержание множества ста-
рорежимных ведомств. Однако она
хочет, чтобы ее поняли правильно
И на следующий день газета сооб-
щает:
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ
КОМИССИИ ПО ОХРАНЕ
ГОРОДА ПЕТРОГРАДА
...Правительство Народных Комис-
саров давно уже оповестило всех, что
оно признает полную свободу вероис-
поведания, почему все слухи, будто
крестные ходы будут запрещены,
являются самой отвратительной
ложью...
Комиссариатам города Петрограда,
красногвардейцам, патрулям, обхо-
дам и отрядам предписывается всюду
поддерживать самый строгий поря (ок
в городе и немедленно арестовывать
всех тех, кто обнаружит намерение
мешать крестным ходам, н таких лиц
сейчас же доставлять в Смольный,
в комнату № 75, для немедленного
выяснения личности этих провокато-
ров и предания их революционному
суду. „
Председатель
Чрезвычайной Комиссии
по охране города Петрограда
Владимир БОНЧ-БРУЕВИЧ.
«Правда», 3 февраля 1918 г.
1921 год. Народ воюет вот уже семь
лет. Неурожай на юге России. Голо-
дают густонаселенные области По-
волжья, погибают миллионы людей.
Правительство принимает все воз-
можные меры — перераспределяет
продовольствие, объявляет сбор до-
бровольных пожертвований в пользу
голодающих, организует лотереи,
эвакуирует беженцев и больных из
голодающих губерний. Субботники
в пользу голодающих Арестанты и
больные отчисляют добровольно
часть от своих пайков в пользу голо-
дающих... Организуется Всерос-
сийский комитет помощи голо-
дающим под эгидой Красного Креста
Но всего этого недостаточно К началу
1922 года положение делается крити-
ческим. Не стоит в стороне от общих
забот и церковь.
ИЗ ПОСЛАНИЯ
АРХИЕПИСКОПА
НОВГОРОДСКОГО
ЕВДОКИМА
Стыдно в настоящее время на себе
носить золото и бриллианты, когда
каждая частица их сможет не только
стереть слезы страдающих людей, но
и спасти от смерти человека. И если бы
потребовалось принести на алтарь
любви к ближнему и то, что представ-
ляет для нас святыню — церковное
имущество, несите его по примеру
наших предков, в тяжелую годину
явивших образы великих христи-
анских святителей и подвижников...
жертвовавших для своих ближних
в годину испытании всем церковным
достоянием. Дайте же взаймы Богу!
Сообщения с мест
Макарьев монастырь Нижего-
родской губернии вынес решение по-
жертвовать ценности в пользу голо-
дающих.
Оханскнй монастырь той же губер-
нии сдает свое серебро.
«Правда», суббота, 11 февраля
1922 г.
Ежедневно «Правда» выходит с
передовицей «На помощь голо-
дающим», она публикует и воззвание
Саратовского епископа Досифея,
призывающего сдавать золотую и се-
ребряную утварь.
В Саратове протоиерей кафедраль-
ного собора Русанов заявил, что все
лишнее нз драгоценных вещей —
предметов религиозного культа — до-
лжно быть отдано на святое дело
помощи голодающим. — «Что нам ук-
рашения на иконах и в церкви, когда
люди умирают?» — заявил... священ-
ник Русанов.
«Правд а >, суббота, 11 февраля
1922 г.
Однако многие деятели церкви
пошли против своего народа, и «Прав-
да» публикует иные заметки.
КОЩЕИ НА СУНДУКЕ
...Те драгоценности, что можно
взять без прямого ущерба религиозно-
му культу, нужно немедленно изъять
и превратить в хлеб и жизнь для
обреченных на смерть. И начать нуж-
но с богатейших храмов и мо-
настырей... Четыре минувших года
Советская власть не имела крайней
нужды и не трогала церковной роско-
ши. Теперь весь мир видит — преступ-
но медлить.
«П р а в д а», воскресенье, 5 февраля
1922 г.
Ввиду противодействия церкви об-
щенародным интересам, 23 февраля
1922 года Президиум Всероссийского
Центрального Исполнительного Ко-
митета решает немедленно присту-
пить к изъятию ценностей из храмов
всех вероисповеданий и обратить их
на покупку продовольствия для голо-
дающих...
Мы привели лишь несколько выдер-
жек из номеров «Правды» той ранней
поры, когда только начиналась новая
эпоха. Сегодня, в славную годовщину,
мы желаем сотрудникам «Правды»,
ее корреспондентскому активу креп-
кого молодого пера, высокой комму-
нистической идейности и успехов
в работе!
2
К 70-ЛЕТИЮ ОКТЯБРЯ
УРОКИ ИСТОРИИ
Ц Много сегодня ведется у нас разговоров об «отчем
доме», «земле отцов», «могилах предков», «наших
обычаях», «национальных особенностях». Это радует.
Интерес и уважение к прошлому — признак духовного
здоровья общества, «черта, отделяющая образованность
от дикости». Но всегда ли мы правильно оцениваем свою
историю, находим в ней то истинно национальное,
народное, что надо сохранить и передать новым поколе-
ниям?
Как-то несколько молодых людей — выпускники уни-
верситета рассказывали друг другу свои родословные,
эпизоды из биографий отцов и дедов. Один поведал, как
его дядя умыкнул девушку и она вынуждена была стать его
женой: ведь украденную девушку кто возьмет замуж?
И как потом откупался от ее семьи, для чего приходилось
всеми правдами и неправдами доставать деньги. Другой
восторгался отчаянной храбростью прадеда — тот был
любимым мюридом Шамиля, потому что метко и без
раздумий стрелял в того, на кого указывал вождь,
а однажды по его приказу готов был броситься в пропасть,
но имам удержал его — оказывается, он просто испытывал
верность слуги. Дед третьего дважды посетил Мекку,
после этого никогда не работал, но все в округе его
почитали. Четвертый хвалился, что его дед крал скот
у казаков, да и вообще умел нагнать страху на «неверных».
И все в таком роде. При этом они повторяли: вот, мол,
были настоящие чеченцы, ингуши, словом, истинные
горцы.
Эти семейные предания вызвали у меня горечь,
заставили снова о многом задуматься. В истории горских
народов немало ярких страниц, свидетельствующих о силе
национального духа, высокой нравственности, о присущем
им чувстве собственного достоинства и стремлении
отстаивать справедливость. Есть в ней и печальные
страницы. Но неужели эти образованные ребята не могли
найти в биографиях своих предков что-то действительно
героическое и доброе, чем можно всегда гордиться —
и в кругу чеченцев, ингушей, и в кругу своих товарищей —
украинцев, русских, армян, осетин, представителей других
народов, всех тех, с кем вот уже столько лет бок о бок
живут, трудятся их отцы, братья, они сами?
Мне вспоминаются бесценные уроки революции
и гражданской войны, когда трудовой народ Чечни
и Ингушетии включился в начатую российским пролета-
риатом борьбу с угнетателями.
Вот один эпизод того сурового времени. 1921 год.
Деникинцы шли на захват революционного Владикавказа.
Им надо было пройти через селение Долаково, где укрылись
большевики. Долаковские старики отказались пропустить
через свою землю деникинцев, а на их требование выдать
большевиков ответили: «Мы все здесь большевики». Это
было не только по закону гостеприимства, требующему
охранять неприкосновенность пришедшего в твой дом
человека. Долаковцы приняли бой вместе с большевика-
ми — и это было уже по закону справедливости, живущему
в сердце горца. Когда кончилась суровая схватка, старики
велели похоронить погибших русских и украинцев вместе
с ингушами, в братской могиле, на мусульманском
кладбище, оставив в стороне строгий запрет шариата,
согласно которому прах мусульманина будет осквернен,
если рядом похоронить иноверца. Тогда, у братской
могилы, один из аксакалов сказал о красноармейцах:
X. БОКОВ,
Председатель Президиума
Верховного Совета Чечено-Ингушск и АССР,
кандидат исторических наук
— Они как братья вместе с нами бились с врагом.
Кровью своей скрепили братство. И земля наша принимает
их как кровных братьев.
Этот эпизод нашей истории мне хочется напомнить не
только еще не окрепшей духом молодежи, но и иным
зрелым, образованным людям, которые произносят при-
мерно такие речи: «Без религии, без ислама — нет нации.
Если откажемся от мусульманских обычаев, чем же тогда
чеченцы, ингуши будут отличаться от других народов?»
Из истории известно, что народ, поднимаясь против
угнетателей, нередко выражал свой протест и свои идеалы
языком религии. Известны выступления за национальное
достоинство и под лозунгами ислама. Но на законы
религии часто опирались и те, кто жестоко расправлялся
с народом. И. обращаясь к истории, нельзя замалчивать
это.
К сожалению, наши ученые порой неохотно берутся за
разработку сложных исторических периодов. Остаются
пока без глубокого марксистского анализа, например,
проблемы классов и классовой борьбы в горском об-
ществе накануне Октябрьской революции, в первые
послеоктябрьские годы, в период коллективизации.
События гражданской войны порой излагаются упрощен-
но, обходятся, скажем, такие эпизоды, как активное
3
участие чечено-ингушской белогвардейщины в дени-
кинской армии. Нет обстоятельного анализа тех несколь-
ких лет после гражданской войны, когда против участников
социалистического строительства в Чечено-Ингушетии
развернулся жестокий террор. Эти события нашей истории
получили точное определение — политический банди-
тизм. Здесь рельефно обнажилась реакционная роль
верхушки мусульманского духовенства, попытки использо-
вать религию против интернационального союза трудя-
щихся в борьбе за социальное освобождение, против сил
контрреволюции.
Не случайно в годы революции и гражданской войны
появилась теория «единого потока» в истории, утверждав-
шая, что в горском народе никогда не было классового
расслоения, что у него своя, отличная от других народов
судьба, и главный ее признак — принадлежность к исламу.
Словом, с революцией горцам не по пути.
Против этой теории решительно выступал убежденный
интернационалист и мыслитель, вождь городской бедноты
Асланбек Шерипов. Он писал в ноябре 1918 года в обра-
щении «Ко всем честным чеченцам»: «Шейхи и муллы
в тысячу раз хуже князей. Разве не вашими трудами живут
они? Разве они не говорят вам, что они властители Чечни,
и разве вы смеете выбирать себе в главари кого-нибудь
другого кроме шейхов и мулл и их ставленников?..
И вместе с шейхами и муллами всегда шли и взаимно
поддерживали купцы, подрядчики, спекулянты и маро-
деры». В политическом плане революция может осно-
вываться только на борьбе с институтом шейхов и
мулл,— говорил Асланбек Шерипов, тогда комиссар по
национальным делам Терской республики. И если следо-
вать правде истории — а переделывание ее дорого
обходится нам,— то можно с достаточным основанием
предположить, что идея политического бандитизма роди-
лась в среде высшего мусульманского духовенства.
В Чечне и Ингушетии тогда было шесть тысяч шейхов
и мулл, и большинство их поддержали и освятили эту
идею. Они разжигали у горцев ненависть к «неверным»,
проповедовали национальное обособление, а тысячи
мюридов полностью им подчинялись — фактически была
объявлена война Советам.
Правда истории заключается в том, что главы
мюридских братств яростно сопротивлялись социальному
обновлению горского края, которое несла власть Со-
ветов: просвещению (напомню, что в то время среди
чеченцев и ингушей было всего 2 процента грамотных),
раскрепощению женщины, развитию экономических свя-
зей с другими республиками и областями страны. Террор
был направлен и против советских и партийных работни-
ков, и против активистов из среды горцев, и против
приехавших сюда помогать строительству новой жизни
учителей, врачей, инженеров из России.
И опять-таки — эти расправы чинились под прикрытием
религии и национализма: дескать, социалистические пре-
образования — это посягательство на обычаи и веру
предков
В конечном счете жизнь, разумеется, брала свое —
трудящиеся горцы на собственном опыте начинали
понимать, что дает им Советская власть и чего хотят их
лишить «защитники национальных традиций». Замыслы
тех, кому принадлежала идея политического бандитизма,
провалились.
С тех пор немало минуло лет, но и сегодня приходится
слышать примерно такое: как же, деникинскую армию
разгромили за полтора-два года, а с бандитизмом на
Северном Кавказе не могли справиться долгих четыре, а то
и пять лет? Может быть, эти бандиты представляли собой
достаточно крупную и хорошо организованную армию
и пользовались широкой поддержкой народа? В этом, мол,
все дело? Я на подобные вопросы отвечаю так. Да, этот
вооруженный мятеж был не стихийным, а хорошо
организованным и управляемым выступлением. Но банди-
тизм есть бандитизм: он не имел ни передовой, ни линии
фронта, ни районов расположения отрядов. И главное —
здесь нужна была не военная победа (для нее много
времени не потребовалось бы), а политическая. Важно
было, чтобы сами горские народы поняли суть политичес-
кого бандитизма, чтобы сами труженики поднялись на
активную борьбу с ним, чтобы само горское население
осознало степень вины и тех, кто был вдохновителями этой
акции, и тех, кого вовлекли в банды обманом, угрозами,
привычным требованием подчиняться шейху, мюридскому
наставнику.
В процессе борьбы с уголовно-политическим бандитиз-
мом формировалось и крепло классовое сознание
бедноты, горские народы учились управлять госу-
дарством, защищать завоевания революции, утверждать
власть народа, за которую сражались и отдавали жизни их
• Празднование провозглашения автономии Чечни в 1923 году.
Лезгинка для делегатов учредительного съезда в селении Урус-
Мартан.
Снимок из личного архива А. И. Микояна.
• Памятник героям гражданской войны Николаю Гикало, Ас ган
беку Шерипову и Гапуру Ахриеву в г. Грозном.
лучшие сыны. На сельских сходах люди принимали клятву
раскаявшихся бандитов, добровольно явившихся с повин-
ной и приступивших к мирному труду. В ряде аулов сходы
постановили не хоронить бандитов по мусульманскому
обычаю, что в глазах верующих было страшным наказа-
нием, но именно такого, по их представлению, и заслужи-
вали люди, совершившие преступления против народной
власти.
Когда думаю о событиях тех лет, вот с чем еще не могу
согласиться. Некоторые историки распространяют из-
вестное ленинское выражение о «триумфальном шествии»
Советской власти, относящееся к 1917—1918 годам, и на
последующий период. А ведь за действительно триум-
фальным шествием Советской власти следовали годы
трагического противоборства политических сил, не раз
стоял вопрос: «мы или они». В исключительно трудное
время Коммунистическая партия нашла правильные пути
решения классовых, национальных, религиозных и других
острых проблем.
Суровым испытанием для всех народов нашей страны
стала Великая Отечественная война. Лучшие сыны Родины,
в том числе чеченцы и ингуши, защищали Родину от
фашистских захватчиков. В такие драматические моменты
истории, на ее изломах и крутых поворотах выявляется
истинная сущность каждого человека, каждой социальной
группы. В нормальных, мирных условиях развития со-
циалистического общества, в условиях его подъема враги
советского строя скрывали свое лицо, в дни, когда стране
грозила опасность, они вновь его показали.
Началась Великая Отечественная война — и многие
мюридские вожаки вернулись к приемам политического
4
бандитизма. В первые же ее дни они тесно сблокировались
с остатками антисоветских элементов: бывшими кулаками,
белыми офицерами, уголовным отребьем. Этот позорный
блок пытался войти в сговор с немецко-фашистскими
диверсионными группами, да еще присвоил себе право
говорить от имени народа. На них также лежит ответствен-
ность за известные драматические события того времени,
тяжело отразившиеся на судьбе народа.
Да, это было, были трудные страницы в нашей жизни,
но способность ясно осознавать, правильно оценивать
крутые повороты истории — свидетельство нашей полити-
ческой, моральной силы, нашей интернациональной
зрелости.
Отношение к прошлому — важный момент в духовной
исключили из своего репертуара музыку других народов,
чтобы не использовали «западные инструменты», иначе,
мол, забудем «свое». А уж когда один писатель «нему-
сульманской» национальности издал роман, в котором
героиня-чеченка оставила мужа и ушла к любимому
человеку — не чеченцу, и ее обвинили в нарушении
обычаев, гневу иных наших интеллигентов не было
предела. Они заявили, что писатель этот оскорбил нацию
и что никто, кроме чеченцев и ингушей, не имеет права
судить об их обычаях, в частности и тех, что касаются
женщины. Было так очевидно, что в душах этих «защитни-
ков нации» бушевал банальный мужской эгоизм, не
допускающий для женщины никакой свободы и
рассчитывающий на то. что с помощью «национальных»
• Н. Гикало,
А. Шерипов,
Г. Ахриев —
русский, чеченец,
ингуш, с их
именами связана
борьба за
установление
Советской власти
в Чечне и
Ингушетии.
жизни общества, чуткий индикатор его политического
и культурного развития. Прошлое — та реальность, кото-
рая отложилась в исторической памяти народа, она
и сегодня в различных формах живет в народной психоло-
гии и ощутимо влияет на современную ситуацию. В этом
прошлом — база нашего интернационального сознания.
Но там же истоки сегодняшних проявлений религиознос-
ти — не такое ведь оно далекое, это прошлое.
Конечно, неправильно было бы сегодняшних служите-
лей культа корить за антинародные действия их пред-
шественников в 20—30-е годы, в период войны. Но уроки
тех лет забывать мы не вправе. И сегодня некоторые
служители культа интернационализацию нашей жизни,
приобщение к культуре других народов, обогащение
собственной чертами, ранее ей не присущими, объяв-
ляют опасностью для национального своеобразия жизни
чеченцев и ингушей. Они предостерегают от близкого
общения с другими живущими в республике народами,
называя их иноверцами.
Вспоминается трудный период восстановления респуб-
лики (конец 50-х — начало 60-х годов). Тогда шла
огромная созидательная работа как в материальной, так
и в духовной сфере, налаживалась нормальная жизнь,
возрождались, развивались интернационалистские тради-
ции в нашей культуре, во всем укладе. Однако именно в ту
пору обнаружились попытки снова вытащить на свет
теорию единого потока, с той же ориентацией — поме-
шать развитию интернационалистских тенденций, разжечь
националистические настроения. Помню, как некоторые
требовали, чтобы чеченские, ингушские музыканты
обычаев им будет обеспечена полная власть над нею...
Сегодня при организации атеистического воспитания
нам необходимо помнить уроки прошлого. Сохраняя
традиции как достояние народа, выражение его мудрости,
надо видеть, где они придают нам силы, а где могут
принести беду,— ведь жизнь меняется, и попытки загонять
все ее проявления в рамки вековых законов («во имя
сбережения национального духа!») могут обернуться
трагедией.
Нередко бывает так. Люди уже, в сущности, восприняли
атеизм, но не отказываются от выполнения обрядов, не
решаются отойти от религиозной жизни, полагая ее
атрибуты частью жизни национальной. Приходится
слышать по поводу подобных ситуаций буквально такое:
«Конечно, атеистическое мировоззрение формировать
надо, но если люди считают обряд, связанный с религией,
национальной традицией, то, выступая против него, мы
можем оскорбить их национальные чувства». Выступить
против отживших обычаев бывает тем более трудно, что на
страже их стоят аксакалы — старейшины рода, а одна из
наших главных традиций — почитание старших. Искренне
считаю ее замечательной. Но приходилось сталкиваться
с таким действием этой традиции, которое прекрасным
никак не назовешь. Так, в значительной мере религии
и попечениям аксакалов, заботящихся о ее поддержании,
обязаны мы сохранению обычая кровной мести. Шейхи
учат: не отомстить за смерть убитого родственника —
грех, а сам убитый будет томиться у врат рая, пока за него
не отомстят.
Совсем недавно друг детства рассказал мне историю,
5
в которую нё хотелось бы верить, но, к сожалению, знаю
и другие такие случаи. Пришли к нему старики — старей-
шины их рода и напомнили: у нас осталась не отомщенной
смерть одного человека, требуется «счет сравнять», тем
более, что старики того, враждебного рода (вражда
возникла сто, а может, двести лет назад) что-то перестали
чувствовать себя виноватыми, не проявляют перед нами
робости. Сравнять счет — значит кого-то убить! При всем
уважении к аксакалам мой друг сумел ответить им резко
и категорически. Вспомните, сказал он старикам, как наш
родственник Хасан пошел против жестокого обычая
первый и написал на камне, под которым покоился убитый
членами другого рода его отец Идрис: «Да будет конец
кровной мести!» Его ославили как труса, а он убежден был
в том, что обычай изжил себя, стал безнравственным,—
и стоял на своем.
Но я знаю и то, как много сделали наши старейшины,
чтобы этот обычай скорее ушел в прошлое, как мирили
враждующие семьи, спасая жизнь и ныне живущих, и тех,
кто еще не родился, но был обречен кровной мести.
Или традиция взаимовыручки, безоговорочной помо-
щи попавшему в беду члену рода — она всегда была
хорошей национальной чертой наших народов, ведь жизнь
нас не баловала, история тому свидетель. Но вот чем это
сегодня порой оборачивается. Пришлось недавно органам
власти выручать от этой «взаимовыручки» одного честного
человека, которого судил в ауле суд кхел — совет
религиозных авторитетов и старейшин родов. «Подсу-
димый» разоблачил мошенников из своего тейпа — рода,
их привлекли к ответственности, и суд кхел постановил:
взыскать с него сумму, затраченную родственниками на
адвокатов, и возместить конфискованное у воров иму-
щество.
Взаимовыручка, крепость рода означает для некоторых
и круговую поруку. Приходится слышать такие разговоры:
«Сейчас в районе у власти такой-то род». О том, как это
порой сказывается на экономике, хозяйстве района, на
нравственной атмосфере, красноречиво рассказывают су-
дебные процессы. А чего, казалось бы, проще — называя
фамилии, показать, как эта ниточка родовых связей
тянется по руководящим должностям. Но для некоторых
это уж слишком конкретно — и мы лишь бесконечно
рассуждаем о необходимости борьбы с патриархально-
родовыми пережитками, в число которых входит и круго-
вая порука Такая абстрактная критика не устраивает
честных людей, но им возражают: «Знаете, надо считаться
с национальными особенностями».
Размышляя о причинах и характере религиозности
в республике, конечно, нельзя все объяснить «историчес-
кими корнями», особой приверженностью традициям,
устойчивым авторитетом старейшин. В современной рели-
гиозной ситуации отражаются и наши неустройства —
в экономической, социальной сферах, отзываются здесь
и нарушения нравственных норм, безнаказанность оче-
видных преступлений и т. д. Скажем, не вовлеченные
в общественное производство люди (их у нас свыше
60 тысяч, и речь идет о людях трудоспособных)
оказываются во власти мюридских объединений, сумев-
ших найти им занятие, приносящее и доход, и моральное
удовлетворение.
Без учета этого фактора, то есть без вовлечения
верующих в производственную и общественную жизнь,
сколько атеистических мероприятий ни проводи, сдвига
в религиозной ситуации в нужную нам сторону не случится
Недостаточно развиваем социальную сферу, не забо-
тимся о полноценном досуге — и это также где-то
способствует оживлению религиозных настроений. А не-
которые местные деятели, обеспокоенные этим, пытаются
противодействовать религии своими способами (я бы их
назвал «механическими»).
Вот как,' например, поставили вопрос в селе Сурхахи
Назрановского района: пока не будет построен хороший
клуб, приостановить реставрацию мечети, начатую здеш-
ней мусульманской общиной, не имеющей своего поме-
щения. Вот вам и «атеистическая работа» — что-то вроде
отключения церкви от электросети. Но что, кроме
нежелательных настроений, недовольства может вызвать
у верующих такое распоряжение?
Так получается порой, что те, кто вроде бы хочет
ослабить влияние религии, на деле ей способствуют. До
тех пор, пока мы не будем об этих явлениях говорить
публично, говорить правду, будет создаваться напряжен-
ность, дело не сдвинется с места. Более того, люди будут
думать, что такова политика в отношении верующих.
С сожалением и беспокойством я вижу, что пропаган-
дой атеизма заняты порой люди, мягко говоря, не
пользующиеся доверием, не чувствующие острых, бо-
левых точек этой сферы. Бывает, что такой пропагандист
допускает нетактичные высказывания по национальному
вопросу, задевает национальные чувства людей. Он
вызывает определенный комплекс эмоций, при кото-
ром — пусть он великолепно знает Библию или Коран,
историю религии, традиции, обычаи и прочее,— эффект
будет обратный.
Анализируя атеистическую работу, удивляешься по-
рой, сколь невелика степень ее сопряжения с реальной
жизнью — с проявлениями религиозности, уровнем на-
ционального самосознания, с тем, как отражается в умах
современных людей прошлое, какую играет роль оно в их
жизненной эриентации, в отношении к религии. Работа по
воспитанию у людей мироощущения, свободного от
влияния религии от гнета связанных с нею обычаев,
конечно, нуждается в перестройке, и главное ее направле-
ние — поиск более тесных связей с наболевшими, назрев-
шими проблемами, которыми занята сегодня страна,
реализуя решения XXVII съезда КПСС, январского
(1987 г.) Пленума ЦК партии.
г. Грозный
ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
В редакцию приходит много писем
с вопросом: где и как можно приоб-
рести атеистическую литературу, в
частности книги, названные в нашей
«Библиографической информации».
С этим вопросом следует обращаться
в магазины «Книга — почтой», адреса
которых периодически сообщает еже-
недельник «Книжное обозрение».
Несколько таких книг предлагает
читателям московский Дом полити-
ческой книги [литература высылается
наложенным платежом, оплата на
почте при получении присланной кни-
ги):
Атеистические чтения, выл. 14. М.,
Политиздат, 1985, цена 80 к.
Великович Л. Н. Современный
капитализм и религия. М., Политиз-
дат, 1984, цена 1 р.
Капустин Н. С. Особенности
эволюции религии [на материалах
древних верований и христианства).
М., «Мысль». 1984, цена 80 к
Карманный словарь атеиста. М.,
Политиздат, 1986, цена 80 к.
Писманик М. Г. Индивидуаль-
ная религиозность и ее преодоление.
М., «Мысль», 1984, цена 75 к.
Плеханов Г. В. Об атеизме
и религии в истории общества и куль-
туры. Избранные произведения и
извлечения из трудов. М., «Мысль»,
1977, цена 1 р.
Яковлев Е. Г. Искусство и ми-
ровые религии. Учебное пособие. М.,
«Высшая школа», 1985, цена 60 коп.
Адрес: 127540, Москва, Дубнинская ул.,
16а.
Отдел «Книга — почтой».
6
ВСЕСОЮЗНОМУ ОБЩЕСТВУ «ЗНАНИЕ» — 40 ЛЕТ
Ю. К. БАБАНСКИЙ
УЧИТЬ МЫСЛЯМ или
УЧИТЬ МЫСЛИТЬ?..
Всесоюзное общество «Знание»
т объединяет более трех миллионов
лекторов, пропагандистов, работников
средств массовой информации, сфера его
деятельности охватывает все аспекты на-
учных знаний. Как перестроить работу,
чтобы наши лекции и выступления по-
настоящему волновали аудиторию, помо-
гали бы, вместо того чтобы оставаться
«галочками» в отчетах?
Вопрос, в общем-то, вечный, может
показаться даже риторическим. Нужна
содержательность, необходима и яркая,
доступная форма. А все это в конечном
счете замыкается на лектора. Поэтому
перестройка лекционной работы и нача-
лась с пересмотра состава лекторов,
состава наших секций — и по ес-
тественным, и по общественным наукам.
После аттестации лекторского состава око-
ло 20 процентов лекторов общества «Зна-
ние» были лишены права читать лекции
и вынуждены будут «переучиваться». Од-
новременно мы будем активнее привле-
кать известных и популярных людей
в науке, литературе, искусстве. Диплом,
ученая степень — еще не гарантия для
выступлений по линии Общества. Только
личные способности, талант, умение кон-
тактировать с аудиторией, живость, нешаб-
лонность, оперативность — вот что отныне
становится решающим.
Мы часто недооцениваем условия, в ко-
торых проходят лекции. Сейчас проведена
аттестация — пусть это не прозвучит
странно!—самих лекционных аудиторий.
Речь идет о том, чтобы лектории, залы, ка-
Весна 1947 года. Всего два
года прошли с окончания
кровоиролитнекщей войны,
еще не зарубцевались нанесен
ные еж» раны, а ведущие
щдтели науки и культуры
опубликовали Обращение к .да
детской интеллигенции. В нем
в частности, говорилось:
<Мы предлагаем создать всеео
юзиое общество по распро-
странению политический; и на
умных знаний. ЭД ы уверены, чтс
наш почин найдет самый горя
чип «тклик, одобрениеjn.
поддержкэ со стороны всех
деятелей советской науки,
культуры, которые всегда еду
жили своему народу и черпали
в мем свои творческие силы».
Сегодня пер д Всесоюзным
обществом «Знание» ставятся
новые .гадами Корреспондент
журнала М. К овал ьчу н
обратился к заместителям
рредсе щтеля правления Общее
гва Н- вине-президенту Академии
педагогических наук,
академику АПН
Юрию Константиновичу
БАБАНСКОМУ
и академику
Виталию Иосифовичу
ГОЛЬДАНСКОМУ
е просьбой рассказать, в каких
направлениях, по их мнению,
должна происходить nepeci «
ройка .юну пяризапии и про-
чаганды научных знаний.
бинеты были оснащены новейшими ауди-
овизуальными средствами, аппаратурой
для магнитной записи, а в перспективе —
видеотехникой Рассматривается вопрос
и о снабжении крупнейших лекториев
компьютерными системами сбора опера-
тивной информации. Хотелось бы верить,
что карикатурный образ «лектора из об-
щества по распространению», выведенный
еще в «Карнавальной ночи»,— портфель
с конспектом, скучный, в академическом
духе монолог и быстро свернутые (якобы
из-за недостатка времени) ответы на воп-
росы — окончательно уходит в прошлое.
Еще не гак давно лекции больше
напоминали учебные занятия: лектор ста-
рался охватить все аспекты, обрушивая на
слушателя лавину трудно усваиваемой
информации. Но и сегодня, хотя содержа-
ние лекционной пропаганды за последние
два года существенно изменилось, таких
лекций еще немало. Как переломить эту
тенденцию? Мы сделали акцент на актуаль-
ной, я бы даже подчеркнул — злободнев-
ной и острой тематике. Это относится
и к экономике, и к культуре, словом,
к любой стороне общественной жизни.
Разрыв между лекционной проблематикой
И реальными проблемами, с которыми
слушатели повседневно сталкиваются, за-
метно сократился. Его надо свести к мини-
муму. Думаю, не ошибусь, сказав, что это
и ваша, работников атеистического журна-
ла, проблема, причем еще далекая от
разрешения.
Ищем мы и новые формы, новые методы
научной пропаганды. И поиск этот должен
идти на крепкой научной же базе. Одной
интуиции мало. Помогает нам созданный"
в обществе «Знание» несколько лет назад
специальный отдел, занятый методикой
и психолого-педагогическим совер-
шенствованием лекционной пропаганды
как таковой. Главное — идти от жизни,
размышлять над новыми задачами по-
ново му. От ме хани ческо го заломи на ни я
к продумыванию, от монолога к диалогу,
от сухо-академичного изложения к «эмо-
циональной интеллектуальности» — вот те
важные направления, по которым мы
намерены строить работу
И снова о лекторе. Только при наличии
мыслящих — подчеркиваю, мыслящих! —
лекторов удастся сформировать и мысля-
щую аудиторию. Мы будем широко внед-
рять практику «круглого стола», не про-
возглашать истину в последней инстанции,
а вести живой, жаркий спор, обмен мне-
ниями, в который должны втягиваться
и сидящие в зале. Нужна творческая
дискуссия, которая, к сожалению, почти
исчезла из нашей практики.
Немного о специфике журнальной про-
паганды и популяризации научных знаний
(хотя все, о чем я говорил выше, относится,
разумеется, и к журналам в том числе).
Насколько я могу судить, и в научно-
популярных журналах многие проблемы
подаются как учебные лекции; часто встре-
чаешь заголовки, способные только отпуг-
нуть читателя. Преобладают «монумен-
тальные» — к сожалению, только внеш-
не— статьи, мало столкновений раз-
личных точек зрения, дискуссий.
Кто именно должен заниматься популя-
ризацией науки? Однозначного ответа, на
мой взгляд, нет. Хотелось бы, чтобы
авторитетный ученый обладал и даром
популяризатора. Но в жизни такое бывает
не часто. Реальнее идея союза ученого
и журналиста. Запомнился положительный
пример, близкий моим профессиональным
интересам,— серия издательства «Педаго-
гика» под названием «Ученые — школьни-
кам». Оказывается, для старшеклассников
психологически чрезвычайно важно полу-
чить первую информацию о той или иной
науке из рук ведущего в этой области
специалиста, автора научного открытия.
Одним словом — первооткрывателя. В се-
рии опубликованы выступления и Н. Г. Ба-
сова, и Ю. А. Овчинникова, и Е. И. Чазова.
По обрабатывали материал, осуществляли
его литературную запись, конечно, про-
фессионалы — писатели и журналисты.
7
А результат этого творческого союза —
яркие, запоминающиеся книжки... Но таких
примеров, на мой взгляд, маловато.
Вот еще важный вопрос: что, собствен-
но, популяризировать? Сами знания —
устоявшиеся, непоколебимые, фундамен-
тальные? Или формировать научное
мышление? Это отголосок извечного спора
в педагогике: учить мыслям или учить
мыслить... Мне представляется, что ис-
комый путь — в диалектическом сочета-
нии того и другого. С одной стороны, мы
все время говорим о воспитании активной,
творческой личности, самостоятельно ду-
мающей, умеющей принимать нестан-
дартные решения, с другой же — все
пытаемся «впихнуть» в юную голову по-
больше знаний «из программы», почти не
оставляя подростку времени думать. Вмес-
те с тем известно классическое положе-
ние: «пустая голова размышлять не мо-
жет».
Итак, генеральный курс — на развитие
прежде всего навыков мышления при
опоре на тщательно выбранные, наиболее
существенные элементы фактического
знания.
В. И. ГОЛЬДАНСКИИ
ПРАВДА ПОЛНАЯ,
БЕЗ ПРИКРАС
И ИЛЛЮЗИЙ
± Прежде всего хочу отметить, в
наши дни на популяризаторов
науки ложится задача более сложная,
ответственная и благородная, чем доход-
чивое разъяснение читателям научных
истин. Возникла необходимость защищать
науку от участившихся несправедливых
упреков, а то и просто злобных нападок
Массовое обыденное сознание (с горечью
отмечаю, что у него на поводу пошла
и часть интеллигенции) словно шарахну-
лось из одной крайности в другую. С тем
же слепым азартом, с каким еще недавно
пели осанну науке, славили ее всемогу-
щество и обещали ее именем всевоз-
можные блага, сегодня чуть ли не предают
науку анафеме, высказывают сомнение
в ее благотворном влиянии на жизнь
общества и ее же именем сулят всяческие
несчастья... Все это хотя и объяснимо, но
подчас просто печально и дико
Мало того, судя по отдельным выступле-
ниям на съездах творческих работников,
в печати, по телевидению и радио, во всех
наших бедах, оказывается, виноваты имен-
но ученые! И будто не существует иного
выхода, как повернуть прогресс вспять
и снова вернуться в «беспроблемное»
патриархальное прошлое... Но разберемся
спокойно, без запальчивости — о чем го-
ворит недавнее решение Политбюро ЦК по
такому, казалось бы, «узкоспециальному»
вопросу, как проект переброски северных
рек — о недоверии к науке? Как раз
наоборот: о том, что при оценке проектов
глобального характера необходимо внима-
тельно прислушиваться к мнению раз-
личных групп ученых, а не одной-
единственной. Я бы сказал так: к оши-
бочным решениям (типа проекта пере-
броски рек) приводит не наука, а игнори
рование ее или же монополизация. Ведь
и аргументация, на основе которой пороч-
ное решение было приостановлено, стро-
илась на научной базе.
Наука, конечно, не свободна от ошибок,
но зато она раньше других может разоб-
раться в них, выработать рецепты их
предотвращения. Объективно писать про
все эти стороны жизни науки и ученых —
вот, по-моему, одна из главных задач
популяризаторов. Подлинная наука всегда
отмечена печатью благородства (я говорю
о науке как о форме общественного
сознания, а не как о системе и иерархичес-
кой лестнице научных коллективов), а все
благородное нуждается в защите.
Мне кажется, есть нечто общее между
поношением науки и самыми дикими
примерами современного обскурантизма,
прикрывающегося, как ни парадоксально,
именем науки. Конечно, это явления раз-
ного порядка, но все же... Когда я,
к примеру, читаю в газете, смотрю по
телевизору материалы о деле Абая Бору-
баева и других «экстрасенсов», в основе
которого лежит лженаука, достигшая
уровня преступности, то не могу отделать-
ся от впечатления: передо мной звенья
одной цепи. Что-то ооднит тех, кто не
задумываясь поносит науку, приписывая ей
все беды и напасти (причем внешне
благородный гнев доходит подчас до
прямого натравливания, я бы сказал да-
же — науськивания), с теми, кто прикрыва-
ется ее именем для совершения самых
варварских злодеяний.
Кто должен говорить и писать для
широкой аудитории о науке?.. Я не считаю,
что так уж важно, будет ли под фамилией
автора красоваться титул — кандидат, до-
ктор, академик Важно, чтобы высту-
пающий от имени науки был действительно
ее творцом (если нужно, в помощь ему
следует привлекать профессионального
журналиста, писателя). Именно талантли-
вая молодежь горит своим делом и могла
бы рассказать о нем поистине за-
хватывающе! К сожалению, ее пока мало
привлекают к делу популяризации. Среди
молодых исследователей это занятие счи-
тается «несолидным» (академикам-де про-
ще, им уже все равно, что о них скажут
коллеги!), а жаль. Ученые часто стесняются
возможных упреков в несерьезности, а в
результате иные публикации в научно-
популярных изданиях оказываются столь
«серьезны», что могут быть рекомендо-
ваны в качестве снотворного...
Очень важной представляется мне сле-
дующая задача: показать «положи-
тельный» выход той или иной научной
идеи, взятой в историческом срезе. От
того момента, когда никто не мог сказать,
к чему приведет открытие,— до его осу-
ществления и повсеместного применения.
И вот что хотелось бы посоветовать.
У нас еще силен дух «кампанейщины», как
мы с ним ни боремся. И в Академии наук
периодически проводятся кампании по
прогнозированию науки: на 10 лет, на
20 лет и так далее. Но, насколько я помню,
не бывало так, чтобы с течением времени
прогноз сверяли с реальным развитием
событий в науке за истекший период. Такой
анализ был бы весьма поучителен. С ог-
ромным интересом прочел бы об этом
в научно-популярном журнале, да и не
только я, конечно.
Ученые ищут истину. Но им вовсе не
безразлично, как ею распорядиться.
Самый яркий пример последних лет —
поляризация позиций ученых в проблеме
гонки вооружений, перенесения ее в кос-
мос.
Академик А. Н. Несмеянов как-то дал
такое яркое сравнение история каждой
науки напоминает бой за овладение зда-
нием, когда любая новая ступень
складывается из двух этапов: прорыва на
новый этаж, а затем — распространения по
этажу. Прорыв на новый этаж — это
событие обычно непредсказуемое, напри-
мер фундаментальное научное открытие.
А вот последующая детализация природы
открытого явления или закономерности,
всестороннее его исследование, выход
в технику и народное хозяйство на его
основе — это уже распространение по
этажу. Популяризатор, на мой взгляд,
должен воздерживаться от утверждений
типа «всякое научное открытие дает чело-
вечеству непосредственное благо». Но,
с другой стороны, важно показать, как
в конечном итоге — рано или поздно —
всякое подлинное крупное научное
открытие может быть поставлено на служ-
бу человечеству. А ученые... Что ж, они
люди, и ошибки совершают, и на опыте
печальном учатся.
Вот обо всем этом, мне кажется, и нужно
сегодня писать для широкой аудитории.
Смело, остро, разносторонне. Тем более
что в самой науке, во взаимоотношениях
ученых и их отношениях с обществом все,
конечно, далеко от благостной идиллии.
Впрочем, вопрос о соотношении
нравственности и науки — тема отдельно-
го разговора.
В заключение хочу обратить внимание на
еще одну, особенно важную в наши дни
тему, требующую самой широкой популя-
8
ризации Речь иде о распространении
знаний о возможных последствиях ядер-
но й войны. О «ядерной зиме», о том, что
в такой войне не будет победителей
и побежденных. Об этом говорят и пишут
много, в том числе и научно-популярные
журналы. И тут встает проблема правды —
правды полной, без прикрас и иллюзий.
Как воспримут ее’ Как ясное осознание
того, что никто не принесет избавления,
кроме тебя самого? Или как бессилие
конкретного человека перед огромной
разрушительной силой современной тех-
ники?
Что говорить, писать, да просто кричать
об этом надо — сомнений нет Здесь
уместно вспомнить «Письма мертвого че-
ловека» — фильм, где, по-моему, выдер-
жано идеальное соотношение смелости
и сдержанности, необходимых в столь
трудном деле. Мы начали разговор с упо-
минания о горьких и несправедливых
упреках в адрес науки, обвинения ее
в «соучастии» в подготовке всемирной
катастрофы. Но не будь исследований
ученых по прогнозам последствий глобаль-
ной ядерной войны — не смог бы появить-
ся и такой фильм. Представления о «ядер-
ной зиме» пришли в обыденное сознание
из науки — над этим тоже следует заду-
маться...
В ядерной войне не будет победите-
лей — это первыми поняли и проанализи-
ровали ученые. А сейчас это — одна из
основ нового мышления, которым должно
овладеть человечество, если оно хочет
выжить... Большой путь прошла эта
мысль — о невозможности победить в
ядерной войне. От манифеста Рассела —
Эйнштейна до конкретных политических
инициатив, к которым прислушивается все
больше людей во всех странах мира.
Ныне реальность (и в осознании ее —
заслуга опять-таки науки!) такова, что
агрессору в будущей войне в каком-то
смысле даже хуже, чем его жертве: та
погибнет мгновенно, агрессору же пред-
стоит долгая предсмертная агония в усло-
виях им же вызванной и неотвратимой
«ядерной зимы»... Горькая шутка, что
и говорить.
У одних она вызывает отчаяние, у дру-
гих— наоборот, росток надежды. И по-
следних становится все больше. Пред-
отвратить катастрофу может только чело-
веческий разум. В конечном счете именно
вера в могущество человеческого разума,
как этот разум ни трактовать: как высшую
ли ступень в эволюции мироздания, или
как дар небес человеку, созданному по
образу и подобию божию,— объединяет
в мощном антивоенном движении атеистов
и верующих, деятелей церкви и коммунис-
тов.
Отчаяиие — удел убежденных в том, что
катастрофа фатальна, неудержима. Ядер-
ную катастрофу мы можем предотвратить.
Можем потому, что уверены в победе ра-
зума над безумием, в том, что победа эта
зависит только от самих людей. Пока есть
такая уверенность, будет жить и надежда,
не давая места безысходному отчаянию,
не позволяя нам опустить в бессилии руки
и положиться на волю судьбы.
«и
Неказистый, старомодный, по
нынешним меркам не очень
вместительный зал — около тысячи
мест. Почему же «аудиторией номер
один» окрестил его Маяковский, так
любивший Москву, ее концертные
залы, бульвары, старинные особня-
ки, так уютно чувствовавший себя
среди творений Казакова, Баженова,
Бове?
Может бр!ть, потому, что Большая
Политехническая аудитория застав
ляла любого, кто здесь выступал,
учил других,— учиться самому.
И профессора, и академика, повидав-
шего свет писателя, актера, режиссе-
ра.
«Самое непостижимое в мире,—
заметил как-то Эйнштейн,— это то,
что мир постижим». Большая ауди-
тория, открытая в северном крыле
Политехнического музея в 1907 году,
вот уже 80 лет учит ее ораторов
и слушателей постигать мир.
Вот лишь беглая хроника этого
постижения.
1907 год. Сообщение физика
Б. Л. Розинга о воспроизведении
изображения посредством электрон-
но-лучевой трубки. А уже через три
года здесь же, в Политехническом,
он демонстрирует прием изображе-
ния геометрических фигур — пред-
течу современного телевидения.
1908 год. «Нельзя сидеть сложа
руки, когда есть силы бороться за
наше дело, пропагандировать на-
ши идеи»,— говорит Александра
Коллонтай, выступая по проб-
леме «Семейный вопрос в свете на-
учного социализма».
1909 год. Овацией встречен
выдающийся биолог И. И. Мечников.
С присуждением Нобелевской пре-
мии его поздравили Н. Е. Жу-
ковский, К. А. Тимирязев, Д. Н. Ану-
чин. «Если справедливо, как
это часто утверждают,— ответил
И. И. Мечников на вопрос репорте-
ра,— что нельзя жить без веры, то
последняя не может быть иной, как
верой во всемогущество знания».
1911 год. 125 ученых в знак
протеста против полицейского произ-
вола покинули кафедры университе-
та, в их числе К. А. Тимирязев,
П. Н. Лебедев, В. И. Вернадский,
Н. А. Умов, Н. Е. Жуковский,
Н. Д. Зелинский, С. А. Чаплыгин. Но
их лекции в Политехническом про-
должались.
1912 год. Знаменитый полярный
исследователь Г. Я. Седов выступает
с докладом о подготовке экспедиции
на Северный полюс: «Можно ли
утверждать, что стремление к
полюсу бессмысленно? Нет, тысячу
раз нет! Я не сомневаюсь-в том, что,
изучив полюс и районы, приле-
гающие к нему, мы разгадаем вели-
чайшую загадку природы».
1913 год. 13 января в Треть-
яковской галерее было изрезано
полотно И. Е. Репина «Иван Грозный
и сын его Иван». Через месяц в Поли-
техническом с докладом «О худо-
жественной ценности пострадавшей
картины» выступил поэт и ис-
кусствовед Максимилиан Волошин.
В переполненном зале находились
П. П. Кончаловский и Р. Р. Фальк.
И. И. Машков и А. В. Куприн,
А. Е. Крученых и Д. Д. Бурлюк,
В. Б. Шкловский и В. В. Ма-
яковский.
1914 год. Большой зал Политехни-
ческого собрал членов Общества
воздухоплавания. Вел собрание про-
фессор Н. Е. Жуковский. «Еще 20 лет
назад я доказывал возможность
«мертвых петель». Летчик Нестеров,
а за ним и французский авиатор
9
Пегу подтвердили...» На вечере при-
сутствовали оба летчика.
— Пусть падает в провал кровавый
Строенье шаткое веков,—
В неверном озареньи славы
Грядущий мир да будет нов!
— читает В. Я. Брюсов. На этом
же вечере выступил со своими стиха-
ми Маяковский.
1915 год. С. В. Рахманинов играет
сочинения А. Н. Скрябина — в па-
мять о замечательном композиторе.
Последнее московское выступле-
ние И А Бунина. Сборы от
музыкального и литературного вече-
ров поступили в фонд помощи
жертвам войны.
1916 год. Снова на сцене Ма-
яковский. Звучит поэма «Облако
в штанах». «Долой вашу любовь!»,
«Долой ваше искусство!», «Долой
ваш строй!», «Долой вашу рели-
гию!»,— гремит голос поэта.
1917 год. В апреле Большая ауди-
тория принимает 400 делегатов пер-
вой легальной партийной конферен-
ции московских большевиков.
В сентябре проходят партвыборы
исполкома — Московский Совет
возглавили большевики. И спустя
пять дней здесь звучит голос Ма-
яковского:
Граждане!
Сегодня рушится тысячелетнее
«Прежде».
Сегодня пересматривается
миров основа.
Сегодня
до последней пуговицы в одежде
жизнь переделаем снова.
1918 год. 12 марта в Большой
аудитории выступает В. И. Ленин:
«Товарищи! Годовщину русской
революции нам приходится справ-
лять в такую минуту, когда ре-
волюция переживает тяжелые дни,
когда многие готовы впасть в уныние
и разочарование. Но если мы посмот-
рим на окружающее, если мы вспом-
ним, что сделала революция за этот
год и как складывается международ-
ное положение, то ни у кого из нас,
я уверен, не останется места ни для
отчаяния, ни для уныния».
1920 год. По Москве расклеены
афиши: «Политехнический музей.
Поэт Александр Александрович
Блок, приезжающий из Петрограда,
прочтет свои новые произведения...».
Доклад «Поэзия и революция»
делает В. Я. Брюсов: «Истинное
искусство всегда революционно. Ис-
тинный поэт всегда в рядах ре-
волюции в широком смысле слова».
«19 декабря 1920 года в Политех
ническом музее, аудитория № 1,
в 3 часа дня состоится диспут на те-
му «Поэзия — обрабатывающая
промышленность». Докладчик —
Владимир Маяковский, оппонент —
А. В. Луначарский».
1921 год. VIII Всероссийский
электротехнический съезд. I Всерос-
сийская конференция по краеведе-
нию, открытая А. В. Луначарским.
Литературная композиция о Данте
Алигьери. Вечер к 100-летию со дня
рождения Н. А. Некрасова.
1923 год. Свои стихи читает Сергей
Есенин.
1924 год. Лекции и диспуты о
межпланетных сообщениях Я. И. Пе-
рельмана, В. П. Ветчинкина,
Ф. А. Цандера.
Вечер В. В. Маяковского «Творчес-
кий отчет за 1923—1924 годы».
I Всесоюзная конференция по
изучению производительных сил
страны; выступают Г. М Кржижа-
новский, В. В. Куйбышев, В. П. Но-
гин, Г. К. Орджоникидзе.
1925 год. «Сегодня состоится дис-
пут «Религия и социализм*. Док-
ладчик — нарком просвещения
А. В. Луначарский. Оппонент —
митрополит А. И. Введенский».
1926 год. Диспут для молодежи
«О хулиганстве». Вместе с наркомом
здравоохранения Н. А. Семашко
и наркомом юстиции Н. В. Крыленко
выступал В. В. Маяковский.
Доклад ученого-изобретателя
А. Н. Шелеста «Тепловоз и его
будущее».
1927 год. Е. М. Ярославский ведет
вечер революционеров-народоволь-
цев В Н. Фигнер, просидевшей
в «одиночке» Шлиссельбургской
крепости более 20 лет, и Н. А. Моро-
зова, который провел там же, в дру-
гой «одиночке» 29 лет. Поэт, пере-
водчик, историк, он занимался и
геофизикой и воздухоплаванием, ма-
тематикой и философией, химией
и метеорологией.
1928 год. Выступление приехавше-
го из Италии А. М. Горького перед
краеведами: «Прекрасные люди жи-
вут в России, прекрасные люди вы...»
Выступление знаменитого фран-
цузского архитектора Ле Корбюзье:
«Москва — это фабрика планов, обе-
тованная земля для специалистов...
Только русская художественная ду-
ша допустила чудо — устремление
к огромной общей мечте».
1934 год. О строении атомного
ядра рассказывает знаменитый
Нильс Бор. Через четверть века он
даст интервью корреспонденту жур-
нала «Наука и религия».
Встреча с челюскинцами. Рассказ
О. Ю. Шмидта о героических похо-
дах ледоколов «Челюскин». «Седов»,
«Сибиряков».
1937 год. 100-летие со дня гибели
А. С. Пушкина. С циклом лекций,
изданных потом книгой «Пушкин
в жизни», выступил В. В. Вересаев.
1938 год. Яркое антифашистское
выступление Лиона Фейхтвангера.
1945 год. Президент Академии
наук СССР С. И. Вавилов, предло-
живший возродить Ломоносовские
чтения, делает доклад «Ломоносов
и русская наука».
1947 год. Обращение видных со-
ветских ученых во главе с С. И. Вави-
ловым с предложением создать Все-
союзное Общество по распростране-
нию политических и научных зна-
ний.
«Политехнический музей,— под-
черкнул С. И. Вавилов, призывая
тружеников науки к коллективному
сотрудничеству,— имеет большое ис-
торическое прошлое в развитии на-
учно-технической мысли в России
и в настоящее время является
крупным центром распространения
достижений науки и техники».
Вот послевоенная хроника от-
дельных выдающихся событий в
жизни общества «Знание» и Боль-
шой Политехнической аудитории
Академик О. Ю. Шмидт читает
лекции о космогонической теории,
выдвигает свою гипотезу о проис-
хождении планет.
Выступления академика А. И.
Опарина «Современные пред-
ставления о проблеме происхожде-
ния жизни». Выдающийся
ученый-биохимик выступил и на
страницах нашего журнала.
Лекции замечательного математи-
ка А. Н, Колмогорова. «Я принадле-
жу к тем крайне отчаянным киберне-
тикам,— говорил академик,— ко-
торые не видят никаких принци-
пиальных ограничений в кибернети-
ческом подходе к проблеме жизни
и полагают, что можно анализиро-
вать жизнь во всей ее полноте, в том
числе и человеческое сознание со
Всей его сложностью, методами ки-
бернетики».
Академик А. И. Берг, бывший
многие годы членом редколлегии
журнала «Наука и религия», вел
тему «Предмет и задачи кибернети
ки». Подлинными вехами в развитии
кибернетики стали выступления
В. В. Парина «Кибернетика и биоло-
гия», А . В. Напалкова «Кибернетика
и нервная система», П К. Анохина
«Кибернетика и нейрохирургия».
Сенсацией явилось появление в
«аудитории номер один» знаменито-
го американского ученого Норберта
Винера. «Можно сказать, что живые
организмы сами себя организуют,—
подчеркнул основатель кибернети-
ки. — Как уже было показано в
моих работах, о которых я
рассказывал на докладе в Политех-
ническом музее в Москве, такие
явления самоорганизации имеют
место и в технических устройствах...
Человек в настоящее время уже
в состоянии конструировать такие
самоорганизующиеся машины».
4 октября 1957 года — начало
космической эры, полет первого ис-
кусственного спутника Земли. Сегод-
ня, спустя 30 лет, номера спутников,
выведенных на орбиту, подходят
к 2000-й отметке.
12 апреля 1961 года — веха в ис-
тории цивилизации. Ю. А. Гагарин,
10
Г. С. Титов, П. И. Беляев, А. А. Ле-
онов и другие космонавты, в свое
время дававшие интервью коррес-
понденту «Науки и религии», высту-
пали в Большой Политехнической.
«Изучение космоса, проникнове-
ние в глубины Вселенной подрывает
религиозное мировоззрение,— гово-
рил Г. С. Титов,— способствует необ-
ратимому процессу великого
шествия человечества от незнаний,
от ошибочных, фантастических
представлений к научному знанию
явлений природы и общества».
Немецкий ученый-математик
Л. Кронекер в конце прошлого века
высказал мысль, что бог создал
лишь целые числа, все остальное —
дело рук человеческих. Он и предпо-
ложить не мог, что пройдут лишь
десятилетия — и человек откроет
ядерную энергию, обуздает ее, сту-
пит на Луну, пошлет автоматические
аппараты на Марс и Венеру, научит-
ся летать быстрее звука, создаст
искусственные белок и сердце. Бег
современной науки настолько стре-
мителен, что за время подготовки
к печати одной книги накапливается
новая информация, исследования,
открытия — для другой.
Открытие — венец непрестанного
поиска, хода мысли, тщательного
анализа, отбора, синтез трудолюбия
и таланта, каждодневного труда,
многократного эксперимента и ге-
ниального озарения. Открытие —
всегда простор, выход человека на
новую ступень.
Атеизм, заметил однажды
выдающийся советский ученый ака-
демик В. В. Парин, нередко пони-
мают как нечто обособленное. Лично
я считаю, что атеизм нужно рассмат-
ривать не только в связи со всей
культурой человечества, но и как
одно из высших проявлений куль-
туры. Для меня, представителя ме-
дицины, атеизм является плотью от
плоти гуманнейшей из наук. В свое
время,— пояснил академик данную
мысль,— я был глубоко потрясен
экспериментом французского врача
Алена Бомбара, который в одиночку
на надувной резиновой лодке «Ере-
тик» пересек Атлантику. Экспери-
мент беспрецедентный. Впервые
ученый добровольно, без запасов еды
и питья, без каких бы то ни было
приборов оказался один на один
с океаном. Питаясь в пути планкто-
ном, отжимая сок из рыбы, Бомбар
испытал прочность человеческого
организма в условиях полного оди-
ночества. После этого путешествия
корабельные спасательные службы
многих стран были модернизиро-
ваны. Когда плавание «Еретика»
окончилось, Бомбар ответил рели-
гиозным догматикам, всем, не веря-
щим в силу разума, книгой «За
бортом по своей воле»: «Теперь
я буду бороться за то, чтобы моя
«ересь» была понята и стала хрис-
тианской верой для всех, кто в буду-
щем может потерпеть кораблекруше-
ние».
Ни Бомбар, ни Линдеманн, совер-
шивший аналогичное путешествие,
не представляли себе, что заготавли-
вают бесценный багаж фактов для
космических психологов и медиков.
Их материалы помогли, пояснил
В. В. Парин, не только тем, кого
интересовала психологическая про-
блема «человек, потерпевший кораб-
лекрушение», но и тем, кто годы
спустя занялся другой проблемой —
«одиночества в космосе». В науке
часто так бывает, что приложение,
какое в будущем получат изученные
факты, в момент наблюдения не
известно. Исследователь ставит себе
цель, а благодаря его исканиям
достигается другая, часто даже не
одна.
Как снова не вспомнить слов
Эйнштейна о неспостижимости того,
что мир — постижим!
ХРОНИКА
СЕМИ
ДЕСЯТИЛЕТИИ
1924. 31 мая. XIII съезд РКП(б) в ре-
золюции «О работе в деревне» подчерки-
вает: «Необходимо решительно ликвиди-
ровать какие бы го ни было попытки
борьбы с религиозными предрассудками
мерами административными, вроде
закрытия церквей, мечетей, синагог, мо-
литвенных домов, костелов и т. п... Особо
внимательно необходимо следить за тем,
чтобы не оскорблять религиозного чувства
верующего...».
1924. 25 августа. При председателе ВЦИК
учрежден Секретариат по делам культов
(действовал до 1929 г.), занимавшийся
в основном рассмотрением подаваемых во
ВЦИК заявлений и жалоб по делам рели-
гиозных организаций.
1925 Март. Выходит первый номер
журнала «Безбожник» (издавался до нача-
ла Великой Отечественной войны).
1925. 19—26 апреля. В Москве проходит
съезд корреспондентов и друзей газеты
«Безбожник». Он принял решение о созда-
нии массовой антирелигиозной организа-
ции — Союза безбожников СССР (с июня
1929 г. — Союз воинствующих безбожни-
ков)
1925. 7 апреля. Умер патриарх Тихон.
В своем завещании он призвал «не питать
надежд на возвращение монархического
строя и убедиться в том, что Советская
власть — действительно народная, рабо-
чая и крестьянская власть и потому
прочная и непоколебимая».
1925. Сентябрь. Выходит первый номер
антирелигиозного журнала на татарском
языке «Фен-хэм-дин» («Наука и религия»),
1925. 20—21 сентября. В Ленинграде
проходят публичные диспуты наркома
просвещения А. В. Луначарского с митро-
политом А. И. Введенским: «Христианство
или коммунизм» и «Идеализм или мате-
риализм».
1925. Октябрь. Советский Союз посе-
щает аббат д'Эрбиньи, председатель Вос-
точного института иезуитов в Риме. В своей
книге «Религиозный облик Москвы» он
свидетельствует: «Вполне достаточно са-
мого краткого пребывания в Москве,
чтобы убедиться в свободе религии в
СССР, в прекрасной сохранности многих
храмов, имеющих историческое и культур-
ное значение, в высоком уровне реставра-
ционных работ».
1926 год. Союз безбожников СССР
вступает в Интернационал пролетарских
свободомыслящих, устанавливает связи со
многими зарубежными организациями
атеистов и свободомыслящих.
1927 год. В районах распространения
ислама начинается массовое движение за
раскрепощение женщин, получившее на-
звание «худжум». Оно встретило ожесто-
ченное сопротивление феодально-байских
сил, религиозных фанатиков. Только в Уз-
бекистане за год было совершено более
200.террористических актов против акти
висток и женщин, снявших паранджу.
1927. 29 июля. Глава русской православ
ной церкви митрополит Сергий и шесть
членов синода выступают с «Посланием
к пастырям и пастве». В нем говорится:
«Мы, церковные деятели, не с врагами
нашего Советского государства и не с бе-
зумными орудиями их интриг, а с нашим
народом и нашим правительством...» Боль-
шинство духовенства с одобрением встре-
тило это послание.
1928. Март. Союз воинствующих без-
божников начал выпускать журнал «Дере-
венский безбожник». Селькоры сообщали,
что журнал «до основания ходит из рук
в руки, пока не превратится в одни
клочья»
1928—1929 годы. Создаются рабочие
антирелигиозные университеты в Москве,
Ленинграде, Саратове, Николаеве, Орле,
Тифлисе и других городах
1928—1930 годы. Выходит капитальный
5-томный труд И. П. Вороницына «История
атеизма».
В НАУЧНЫХ
ЛАБОРАТОРИЯХ
И В ЖАРУ, И В ХОЛОД
Ткань, способную регулировать тепло
согрева гь в холодную погоду и пони-
жать температуру, Kor.ua жарко,-
создали в США. Как показали лабора-
торные испытания, одежда из такой
ткани выдерживав г экстремальные
температуры. Свойства, природой не
предусмотренные, рукотворная ткань
получает при обработке :е.е. следи-
альныммсоставами.
11
У нас
в гостях
«АЗИЯ и АФРИКА
сегодня»
В ЭТОМ ГОДУ исполняется 30 лет
журналу «Азия и Африка сегодня»,
который издается Советским комите-
том солидарности стран Азии и Аф-
рики, Институтом востоковедения
и Институтом Африки АН СССР. Он
выходит ежемесячно на шести
языках: кроме русского на англий-
ском, арабском, дари, португаль-
ском, французском. В некоторых
странах Азии и Африки работают
его собственные корреспонденты.
Много внимания уделяет журнал
воздействию на общественное разви-
тие и внешнюю политику афро-
азиатских стран религиозного фак-
тора, в частности ислама. Среди
материалов на эту тему наше внима-
ние привлекли статьи В. Киселева
«Ислам в международных отноше-
ниях стран Азии и Африки» (1986,
№ 11), А. Арабаджяна «Иранская
революция. причины и уроки»
(1986, X 3, 4), А. Васильева «Ис
ламский фундаментализм и Египет»
(1986, № 1) и другие. Авторы убеди-
тельно показывают, что «исламский
фактор» отнюдь не действует само-
стоятельно, но лишь в сочетании
с другими социально-экономически-
ми и политическими факторами,
характерными для той или иной
страны. Оттого столь различны про-
явления «исламского феномена»,
скажем, в Ливии и Иране, Пакистане
или Египте. В то же время «очевид-
но,— пишет В. Киселев в упомяну-
той статье,— что ислам и в ближай-
шие годы останется одним из
важных импульсов роста национа-
лизма на локальном и региональном
уровнях». Ислам будет и дальше
способствовать политизации масс,
ибо происходящие в афро-азиатских
странах события прямо или косвенно
затрагивают интересы и религи-
озные чувства масс,— таким обра-
зом, можно прогнозировать усиление
антиимпериалистических тенденций
в исламском движении. Однако, как
подчеркивают авторы журнала, в от-
дельных странах, где интересы опре-
деляющей их политику мусуль-
манской элиты отнюдь не идентичны
интересам основной массы трудя-
щихся, растут и антидемократичес-
кие, антисоциалистические тенден-
ции.
Судьбы исламского движения в
Азии и Африке, разумеется, будут
зависеть и от того, как в этом регионе
решаются социально-экономические
проблемы. Пока в так называемом
«третьем мире» растет число голо-'
дающих и безработных. Например,
десять лет назад в Африке было
200 миллионов человек, страдающих
от голода или недоедания, а сегодня
их 400 миллионов. Из года в год
снижается самообеспеченность раз-
вивающихся стран продовольствием.
Скажем, Египет в 1960 году сам
удовлетворял свою потребность в
пшенице на 69,8 процента, а к
1980 году — лишь на 24,8.
О проблемах Африканского конти-
нента рассказывает статья доктора
экономических наук М. Волкова «Ре-
альные проблемы и сомнительные
рецепты» (1986, № 11). Одну из
них — энергетический кризис он
называет острейшей в «третьем ми-
ре» Население Африки удовлетво-
ряет свои потребности в энергии на
85 процентов за счет дров и хвороста.
Но этот источник иссякает, и дрова
в очаге стбят зачастую дороже со-
держимого висящей над ним ка-
стрюли. Унаследованная от коло-
ниализма техническая отсталость
столь велика, что 80 процентов афри-
канских крестьян не применяют
иных орудий труда, кроме ручных.
Катастрофически растет внешний
долг афро-азиатских стран. По неко-
торым оценкам, к середине текущего
десятилетия он достиг триллиона
долларов, а всего 15 лет назад,
в 1970 году, был равен 70 миллиар-
дам. Этой проблеме посвящена
статья С. Былиняка и Я. Мелкумова
(1986, № 9). Как отмечалось в Поли-
тическом докладе XXVII съезду
КПСС, бедственное положение раз-
вивающихся стран — крупнейшая
общемировая проблема. В этом, а не
в чем-то другом — подлинные исто-
ки многих конфликтов в Азии,
Африке, Латинской Америке. Во-
пиющее противоречие заключается
в том, что молодые страны вынуж-
дены тратить средства, в том числе
и полученные займы, на непо-
сильные для их экономики военные
расходы: империализм, стремясь
сохранить освободившиеся госу-
дарства в сфере своих интересов,
вовлекает их в гонку вооружений,
в военные блоки, провоцирует и
поддерживает региональные кон-
фликты. Силы империализма и реак-
ции используют для проведения сво-
ей политики в этом регионе так
называемый «воинствующий ис-
лам», реакционные элементы му-
сульманского движения.
Отвергая западную капиталисти-
ческую модель развития, но не
принимая социализм, многие поли-
тические, религиозные деятели ищут
свой, особый, третий путь, который
они и называют исламским. Разра-
батываемые его вариации различны,
неоднозначны — Коран и Сунна, ко-
торые берутся в них «за основу»,
получают не только отличные друг
от друга, но и взаимоисключающие
толкования.
Журнал «Азия и Африка сегод-
ня», уделяя большое внимание со-
циально-экономическим проблемам
развивающихся стран, не ограничи-
вается ими. С его страниц предстает
разнообразный, увлекательный, яр-
кий и многокрасочный, так не похо-
жий на европейский, мир Востока,
где далекое прошлое живет в на-
стоящем, где сказочное и невероят-
ное сплетается с реальностью, где
свято хранятся традиции, где растет
и новая культура...
Мы составили небольшую подбор-
ку выдержек из разных очерков,
статей, заметок, которая, надеемся,
даст представление о богатстве и раз-
нообразии тематики и направлений,
освещаемых журналом.
12
А. БАЙБУРИН
ЭТИКА И ЭТИКЕТ
НАРОДОВ
ВОСТОКА
Получить представление о культуре наро-
да, не зная принятых правил и норм
поведения, особенностей этики и этикета,
невозможно. Исключительно важное прак-
тическое значение этикета было осознано
давно Уже мифологические и религи-
озные концепции, отражением которых
являются, например, «Законы Ману», со-
ставленные на рубеже нашей эры, содер-
жали правила поведения людей в типо-
вых ситуациях, отступление от которых
считалось недопустимым. Рост межкуль-
турных связей, установление дипломати-
ческих отношений резко обострили вни-
мание к вопросам этикета.
Система моральных установок, опреде-
ляющих характер общения, включает уни-
версальные, общечеловеческие ценности
(почтительное отношение к старшим, ро-
дителям, женщинам, гостеприимство, по-
нятия чести, достоинства, такие черты
характера, как скромность, терпимость,
благожелательность и др.). В принципе
такой набор характерен для любого наро-
да. Однако иерархи я ценностей, куль-
тивируемых и традиционно поддержи-
ваемых в том или ином обществе, как
правило, имеет свою специфику.
Национальное своеобразие проявляется
не столько в характере моральных устано-
вок, сколько в способах их реализации.
Принцип гостеприимства у одних народов
выливается в сложный (часто многоднев-
ный) церемониал с особыми почестями
для гостя, в то время как у других народов
гостя как бы не замечают, точнее,
соблюдение принципа гостеприимства со-
А. ШМЕЛЕВ
Кто
такие геиши
«Город
цветов»
или
тельный психологи-
чес ил своих знакомых
назвать три »- .и, которые, в их представ-
лении ассоциируются с традиционной
Японией. И почти все назвали одно и то
же: сакура. Фудзияма, гейша. И тут же
выяснилось, что толком о гейшах никто
стоит в том, чтобы гость не почувствовал
себя гостем. Почитание старшего у одних
народов реализуется в действиях, подчер-
кивающих его возраст, у других — в том,
что «годы не замечают».
В каждом обществе формируется и уси-
ленно пропагандируется образ идеального
в нравственном отношении человека. Ка-
ким должен быть идеальный человек
в Бирме, Иране или Индии? Ответы на этот
вопрос будут различными, и зависят они от
веками складывавшихся этических ценнос-
тей. К примеру, идеальный японец — это
человек, который прежде всего соблюдает
установленные порядки, живет в мире
с соседями и никак не проявляет своей
индивидуальности. У одних народов
превыше всего ценится доброта (ма-
лайцы), а у других стойкость и терпимость
ко всяческим невзгодам (кочевники-бе-
дуины).
С точки зрения вопросов этики и этике-
та интерес представляют различия в на-
циональной принадлежности участников
общения. В таких ситуациях знание осо-
бенностей «чужого» этикета имеет уже не
только теоретическое, но и сугубо практи-
ческое значение. Неверные интерпретации
«понятных» (в своей системе представле-
ний) действий — типичная ошибка при
общении с представителем иной наци-
ональности. Этнограф В Д. Осипов
описывает неловкость, которую он ис-
пытал, когда в середине беседы алжи-
рец смеясь протянул ему руку, хотя
прощаться он не был намерен. «Оказалось,
что после шутки, остроты, удачного словца
положено протягивать собеседнику руку,
по ладони которой собеседник ударяет
своей ладонью. Иногда выслушавший шут-
ку сам берет руку собеседника и резко
ударяет по ладони своей ладонью. Не
ударить ладонью о ладонь — значит оби-
деть собеседника».
Джеймс Олдридж во время посещения
Каира наблюдал следующую сценку:
ничего не знает»,— пишет в редакцию
читатель. Кто же такие гейши?
Институт гейш — это явление, характер-
ное для Японии, и только для Японии.
Основная их обязанность — развлечение
клиентов на банкетах в ресторане на-
ционального типа, где сидят на полу,
застланном циновками-татами, за ни-
зенькими столиками. Гейши подсажи-
ваются к гостям, но не рядом, а чуть
сзади, ухаживают за ними, поддержи-
ваюз беседу, придавая застолью оживле-
ние. Чтобы кому-нибудь из гостей не
стало обидно, что ему досталась менее
красивая или менее «квалифицирован-
ная» гейша, они периодически пересажи-
ваются, в течение вечера обходя всех
присутствующих.
При исполнении служебных обязаннос-
тей, да, как правило, и в быту гейши носят
традиционное японское платье — кимо-
но.
В начале нашего столетия гейш в Япо-
нии было около 80 тысяч. Сейчас их всего
около 17 тысяч. Они потеряли свое былое
значение и превратились в искусственно
«Двое хорошо одетых кричат друг на
друга, и впечатление такое? что рушится
долголетняя дружба. Ничего подобного.
Скорее всего, они решают, кто к кому
придет обедать. Если вас приглашают
зайти и выпить чашку чая, вы должны
вежливо отклонить приглашение по край-
ней мере двадцать раз, прежде чем
согласиться. Основа обычного диалога
между египтянами — протесты».
Использование жестов выступает на
первый план при межнациональном обще-
нии. Но в этом случае чаще всего
и происходят всевозможные недоразуме-
ния. В основном они случаются, когда
похожему жесту чужой культуры придает-
ся то значение, которым он обладает
в своей культуре Жест приглашения у
японцев совпадает с нашим жестом проща-
ния. Указательный жест японца является
для американца жестом попрошайки.
Поэтому американцы нередко жалуются
на вымогательство портье в японских
отелях, хотя японские портье тем и отли-
чаются от всех портье в мире, что не берут
чаевых. Известен случай, когда европеец
А. Вамбери около года прожил неуз-
нанным среди дервишей. Его выдала
привычка отбивать такт музыки ногой, чего
не делают на Востоке.
Почти половина арабов, латиноамери-
канцев и представителей народов Южной
Европы касаются друг друга в процессе
диалога, в то время как это не характерно
для населения Восточной Азии и практи-
чески исключено для индийцев и пакистан-
цев. С точки зрения латиноамериканца, не
касаться в процессе беседы партнера
означает вести себя холодно. Итальянцы
считают, что так ведут себя недру-
желюбные люди. В то же время японцы
полагают, что касаться собеседника чело-
век может только при полной потере
самоконтроля либо выражая свое недру-
желюбие и агрессивные намерения.
(1986, №6)
сохраняемый экзотический атрибут «тра-
диционной Японии». Одной из причин
сокращения спроса на услуги гейши
стала конкуренция со стороны «хостесе».
Хостесса — это современная модифика-
ция гейши. Японке стать хостессой гораз-
до проще, чем гейшей: нет необходимости
в длительном обучении, не нужно заво-
дить дорогой традиционный гардероб
и т. п. Она служит в баре, кабаре, ночном
клубе.
Каждая гейша проходит длительный
курс обучения традиционным японским
искусствам. И если некоторые из них —
чайная церемония, аранжировка цветов,
каллиграфия — не имеют прямого отно-
шения к ее будущей профессиональной
деятельности, то национальный танец,
игра на кото и сямисэне и пение просто
необходимы. Выдержав по окончании
курса экзамен, она совершенствует полу-
ченные навыки в течение всей жизни и,
более того, не менее двух раз в год
обязана демонстрировать свое мастерство
публично, подтверждая, так сказать, раз-
ряд.
(1986, № 61.
13
Ключи счастья
«Школа господина Кондо»,
50-летнего жителя Осаки
(Япония) находится на треть-
ем этаже скромного здания.
Поднимаясь по лестнице,
можно услышать взрывы
гомерического хохота. Здесь
за умеренную плату учат
всех желающих... смеху и
улыбкам. Эти странные на
первый взгляд занятия до-
вольно популярны Постоян-
ными .клиентами «сэнсэя» —
так в Японии называют поль-
зующихся уважением учите-
лей — являются 200 человек,
в основном служащие. «В
основе моего метода лежит
японская поговорка, глася-
щая, что счастье приходит
в дом, где смеются,— гово-
рит он. — А кто не хочет
быть счастливым?»
(1985, № 11)
Как становятся
пиратами
Директор портового управ-
ления Фритауна Уильям Мел-
линг сообщил, что за послед-
нее время число пиратских
налетов на суда, стоящие у
причалов в портах Сьерра-
Леоне, увеличилось втрое.
Лишь за второй квартал ны-
нешнего года было ограбле-
но 18 кораблей.
Пираты, в основном орга-
низованные в мелкие банды
и вооруженные примитив-
ным оружием, похищают
все — от видеомагнитофонов
до полиэтиленовой упако-
вочной пленки и бумажных
мешков. Многие из краде-
ных товаров позднее выстав-
ляются на продажу на ожив-
ленных рынках прибрежных
городов Сьерра-Леоне. Один
из пиратов признался, что
заниматься этим поомыслом
он стал, когда потерял на-
дежду найти работу. Как и
большинство его «коллег».
(1985, № 11)
Вдоль Великой
Китайской
стены
Трое молодых энтузиастов
из города Чанчуня соверши-
ли поход вдоль Великой Ки-
тайской стены. Он занял
почти два года.
Как сообщает китайская
пресса, экспедиция внесла
неоценимый вклад в иссле-
дование грандиозного древ-
него сооружения. Теперь
точно измерена протяжен-
ность стены — 6450 километ-
ров. До сих пор в энцикло-
педиях всего мира фигури-
ровали цифры от четырех до
пяти тысяч. Подробный днев-
ник экспедиции иллюстриро-
ван семью тысячами фото-
снимков. Снято большое
число копий с надписей на
стене, обнаружено около ста
ранее неизвестных погранич-
ных знаков и памятных обе-
лисков.
(1986, № 9)
Грешники
в авто
Имеют ли право мужчина и
женщина, не являющиеся
мужем и женой, совершать
совместные поездки в авто-
мобиле? Этот вопрос на про-
тяжении нескольких месяцев
находился в центре ученых
дискуссий раввинов из так
называемого «совета знато-
ков Торы» — высшей право-
вой инстанции для религиоз-
но-консервативных кругов в
Израиле. В конце концов рав-
вины решили, что таковая
поездка — грех, так как она
противоречит законам «чи-
стого» иудаизма.
Казалось бы, над господа-
ми из «совета знатоков То-
ры» можно только посмеять-
ся. Однако израильтянам не
до смеха: теперь на улицах
Иерусалима, Бней-Брака, Тве-
рии и других городов сотни
религиозных фанатиков за-
брасывают камнями автомо-
били с «грешниками». «Со-
вет знатоков Торы» не всегда
столь строг. Некоторое вре-
мя назад он специальным
решением постановил, что
для мужчины и женщины не
является грехом совместная
поездка в... лифте!
(1985, № 7)
Ислам и
«мультики»
Мусульманские богословы
ведут в последнее время
ожесточенные споры о том,
противоречат или нет запо-
ведям Корана мультфильмы.
Вопрос этот обсуждался да-
же на заседаниях Академии
исламского права в Мекке.
Наиболее ортодоксальные
богословы ссылаются на то,
что Коран запрещает изоб-
ражать в рисунках живые су-
щества, а тем паче — людей.
Однако их оппоненты не без
оснований утверждают, что
никаких возражений про-
тив кинематографа в Коране
не найти, как ни старайся.
(1985, № 6)
ТУРЕЦКИЕ
ПОСЛОВИЦЫ
Позвали
осла на
свадьбу...
«Или дрова
кончились,
или воды не
хватило»,—
подумал он.
•
Когда арба
уже пере-
вернулась,
найдется
много
желающих
показать
дорогу.
•
Петуху,
поющему
не вовремя,
сворачивают
шею.
•
Если время
не соответ-
ствует тебе,
ты соответ-
ствуй
времени.
•
Золотое
изделие
не серебрят.
Водяная феерия
Толпы вымокших до нитки,
но веселых и полных энту-
зиазма людей заполняют пы-
шущие апрельским зноем
улицы бирманских городов
и сел, на которые в течение
полугода не пролилось ни
единой капли дождя. Это
значит, что пришел тинд-
жан — самый веселый празд-
ник бирманцев, отмечающих
проводы старого и встречу
нового года по традицион-
ному календарю.
Подготовив заранее шлан-
ги, ковши, бамбуковые на-
сосы, люди обрушивают друг
на друга целые водопады в
знак благих пожеланий. Ведь
для бирманца вода — сим-
вол щедрости, чистоты и об-
новления жизни. За три дня
праздника только в Рангуне
воды расходуется столько,
сколько в другое время до-
статочно для снабжения это-
го 2,5-миллионного города в
течение трех месяцев.
(1986, № 4)
Конкуренты
вилок и ложек
Восточные медики считают,
что есть палочками — по-
лезно для здоровья. Мани-
пулирование ими оказывает
благоприятное воздействие
на большое число мышечных
волокон и 30 нервных точек
организма.
Впервые китайцы начали
применять «куайцзы» — па-
лочки для еды — в конце HI
века до н. э. В Древнем Ки-
тае «куайцзы» изготавливали
из дерева, бамбука, золота,
слоновой кости, нефрита. Те,
кто боялся быть отравлен-
ным, применяли для опреде-
ления токсичности пищи се-
ребряные палочки: известно,
что при контакте с сильной
кислотой серебро чернеет
(1986, № 12)
Самый, самый...
Начались работы по соору-
жению самого длинного в
мире подвесного моста. Он
будет перекинут через про-
лив Мэйсин и соединит два
центральных острова Япо-
нии— Хонсю и Сикоку По
проекту, протяженность его
составит 3910 метров. Мост
«ляжет» на опоры высотой
333 метра, которые будут
воздвигнуты на обоих бере-
гах проливао
(1986, № 12)
Верная
примета
Шейх Абд аль-Азиз ибн-Баз
убежден, что Земля — пло-
ская. Ну и что? Его личное
дело Мало ли чудаков на
свете! Вот в том-то и дело,
что не личное дело. Шейх
ибн-Баз — весьма важная и
влиятельная персона: он
главный предсказатель коро-
левства Саудовская Аравия.
Прорицания ибн-База пуб-
ликуются официальными ор-
ганами массовой информа-
ции, цитируются в речах ми-
нистров и воспринимаются
как руководство к действию.
Выступил шейх с очеред-
ным трактатом, озаглавлен-
ным «Предостережение об
опасности для веры и мораль-
ных устоев путешествий в
страны еретиков»,— и во
многих домах распаковали
чемоданы, приготовленные
для туристических поездок в
Европу на летний сезон. Не
то чтобы все сразу и поголов-
но уверовали, что спасаться
от палящего зноя на морских
курортах средиземномор-
ского и атлантического побе-
режья — значит погрязнуть
в грехе и пороке. Но и не
ясновидец знает: поступишь
вопреки советам ибн-База —
ничего хорошего не жди.
(1985, № 10)
14
М. КРУТИХИН
ТАНЕЦ ЖИВОТА:
АЭРОБИКА
ВОСТОКА?
Впервые я увидел классический арабский
«танец живота» на плоской крыше совре-
менного семиэтажного дома в Каире, где
в одну прекрасную ночь мне довелось
присутствовать на арабской свадьбе.
Мухаммед, шофер одного из советских
учреждений в. АРЕ, выдавал замуж
сестру. Собралось, по самым скромным
подсчетам, человек до четырехсот. Гости,
не получившие ни капли спиртного и ни-
чего в виде угощения, если не считать
расставленных в «стратегических точ-
ках» вазочек с каким-то сладким драже,
веселились так, как веселятся у нас
к концу первого дня сельской свадьбы.
Смех, шутки, песни, веселая болтовня...
Бегают, шумят дети, кто-то порывается
пуститься в пляс. Невеста с женихом,
восседая на своеобразных «тронах» на
разукрашенном коврами и цветами
возвышении, принимали поздравления.
Вот заиграл небольшой оркестрик, и
перед собравшимися появилась танцов-
щица, приглашенная из кабаре.
Одетая в расшитое блестками бикини
(к нижней половине которого была еще
прицеплена «юбка» из отдельных лент
полупрозрачной цветной ткани), она
мгновенно включилась в ритм оркестра,
и тут же звуки барабана и бубна были
заглушены дружными ударами в ладони
почти всех гостей. Гибкие и мускулистые
руки ее оставались неподвижными. Тан-
цовщица держала их разведенными в сто-
роны, лишь изредка поправляя волосы
и отбивая ладонями такт На лице
застыла безмятежная улыбка. В танце
и вправду, казалось, участвовал только
живот. Чуть позже зритель-новичок на-
чинал понимать, что в четком ритме
в такт музыке движутся и играют мышцы
бедер, поясницы, брюшного пресса и даже
спины.
Номер закончился, женщина выскольз-
нула из круга. Но уже минут через двад-
цать появилась еще одна, а позже —
третья. Создавалось впечатление, что
каждая последующая — искуснее пред
шественниц, и Мухаммед подтвердил:
приглашенных на свадьбу професси-
ональных танцовщиц нарочно выпус-
кают в таком порядке, что последней
выступает самая искусная, иногда из-
вестная многим каирцам по имени,
снимающаяся в кино и выступающая по
телевидению.
Волею исторических судеб эта отточен-
ная до совершенства древняя форма
танцевального искусства вошла в культу-
ру арабов и стала ее органической частью,
бережно хранимой и передаваемой из
поколения в поколение. «Танец живо-
та» — это посланец первобытных времен,
когда искусство было синкретическим,
когда его эстетическая сторона была
неотделима от утилитарной. Упражнения
для поддержания женщинами формы
и тонуса сложились в виде ритуального
танца, который мы можем видеть и а на-
ши дни.
(1986, № 7)
«БЕРЕГ
Алексей БУКАЛОВ
ДАЛЬНЫИ»
Когда-то, в годы южной ссылки, молодой
Пушкин душой стремился в далекую
Африку, на родину своего прадеда Ибра-
гима (Абрама) Ганнибала, мечтал о путе-
шествии в «земли полуденной волшебные
края».
...Сегодня Африка обращает свои взоры
к пушкинскому творческому наследию,
познает и постигает его.
В Бамако, столице Мали, работает
Институт имени А. С. Пушкина.
Памятник Пушкину открыт на острове
Маврикий 6 июня 1986 года, в день
рождения поэта. Рядом с памятным
камнем высажены маленькие дубки, при-
везенные из заповедных рощ Михай-
ловского.
Ежегодно в июне отмечаются «пуш
кинские дни» в столице Сенегала Дакаре.
А в марокканском городе Касабланка
центр подобных торжеств — в доме про-
живающих здесь далеких потомков поэта
Апраксиных-Морильо.
Министерство связи Гвинейской Рес-
публики выпустило почтовую марку с
изображением знаменитого опекушин-
ского памятника Пушкину.
На туристской карте Эфиопии, которую
раздают авиапассажирам, направляю
щимся в Аддис-Абебу, броско напеча
таны самые главные, с точки зрения
рекламы, сведения о стране: «Тысячелет-
няя империя. Страна гор и озер. Тринад
цать месяцев весны. Родина легендарной
царицы Савской. Истоки Голубого Нила.
Центр древней аксумской цивилизации.
Родина предков русского поэта Пушки-
на...». Этот последний факт является
предметом особой гордости эфиопов.
Группа молодых эфиопских кинемато-
графистов, среди которых выпускники
московского ВГИКа, приступает к работе
над полнометражным фильмом о Пушки-
не.
Несмотря на то что в Эфиопии пока
не обнаружено никаких архивных под-
тверждений «абиссинского» происхож-
дения Ибрагима Ганнибала (все доку-
менты погибли во время войн с итальян-
цами), современные эфиопские литера-
торы, а также самые широкие круги
общественности не подвергают этот факт
ни малейшему сомнению. Иное дело —
представители других африканских
стран. Некоторые оспаривают у эфнопов
честь называться родиной предков Пуш-
кина (подобно тому, как когда-то города
древней Эллады боролись за право счи-
таться родиной Гомера!). Суданский дип-
ломат Мохамед Юсуф Салех убежден, что
прадед нашего поэта был родом из
прибрежной красноморской провинции
Судана.
Негритянский ученый из США Вендел
ла Жан-Пьера утверждает, что «Ибрагим
Ганнибал несомненно был выходцем из
района Африканского Рога и принадле-
жал к одной из трех мусульманских
этнических групп, населяющих этот ре-
гион,— к эритрейцам, афарс.м или исса».
Аспирант из Найроби Мосоник арап
Корир выдвинул предположение, что
родиной Ганнибала была скорее Кения,
а не Эфиопия... (1987, № 2)
В. ОВСЯННИКОВА
КОРЕЙСКАЯ
НАЦИОНАЛЬНАЯ
КУХНЯ
«Извините, что нечем угостить вас»,—
говорят корейцы, потчуя гостей. Когда
слышишь такие слова, глядя на стол,
уставленный аппетитными благоухающими
кушаньями, невольно думаешь, что ска-
заны они в шутку. Но нет. Эта фраза почти
ритуальна, ее обязательно надо произнес-
ти, предлагая угощение. Что она означает?
Хозяева очень рады гостю, но считают, что
не находят для его приема ничего достой-
ного у себя в доме. И понятно, почему
корейцы смеются от души, услышав наше
радушное: «Угощайтесь, это очень вкус-
но».
Корейская национальная кухня очень
самобытна. Ее блюда отличаются от ки-
тайских и японских и, как утверждают ко-
рейцы, еще в древние времена были
распространены в других странах. Что же
любят корейцы? Если начать с «самого
начала», то, конечно же, рис. Известны
десятки способов варки риса — «свежего»,
то есть урожая этого года, «старого»
(урожая прошлых лет), одного сорта,
разнообразных сочетаний различных сор-
тов... И так же, как и мы, услышав:
«ситный», «бородинский», «городской»,
сразу понимаем, о каком хлебе идет речь,
корейцы по одному названию блюда из
риса могут определить, какой именно рис
и каким способом сварен. «Рисовая каша
лучше всякого лекарства»,— гласит ко-
рейская пословица. И в этом есть доля
истины. Медики народной Кореи считают,
что нелущеный рис содержит большое
количество микроэлементов, которые спо-
собствуют прекрасному цвету лица, помо-
гают избавиться от различных заболева-
НИИ”’ (1987, № 4)
15
В КАЗАХСТАНЕ часто обращают на
себя внимание контрасты. Мчишься
и автомобиле по безлюдной холмис-
той равнине, и кажется, нет ей конца,
как вдруг, словно из-под земли,
возникает современный индустри-
альный город. А совсем рядом с
ним — приземистые глинобитные до-
мики безвестного аула, через деся-
ток-другой километров — акку-
ратные улицы совхозной усадьбы.
И снова степь, степь. Но однообразие
степного пейзажа прерывается то
и дело появляющимися группами
причудливых сооружений, свер-
кающих золочеными куполами, се-
ребряными полумесяцами на шпилях.
Как в сказке.
Может быть, это давно покинутые
дворцы? Да нет, ничего сказочного,
ничего старинного. Подойдите побли-
же, перед вами — современное ка-
захское кладбище. Купола и шпили
венчают надгробья, по-здешнему —
мазары. Иные размером с солидный
двухэтажный дом. Их возраст — не
более 15—20 лет. Есть и совсем новые.
Среди этих внушительных сооруже-
ний, украшенных разноцветными из-
разцами, окруженных узорными
металлическими оградами, видны
и скромные могилы — давние и све-
жие. Таких, правда, немного. В пос-
леднее время считается неприлич-
ным хоронить скромно, все ста-
раются в пышности мазара перещего-
лять соседа. За последнее двадцати-
летие на казахстанских просторах
развернулось странное состязание —
какой род, какая семья возведет
своим умершим более нарядные и до-
рогие мазары.
Много лет я работал в Восточно-
Казахстанской области, видел, как
набирает силы этот новый обычай.
Случалось, любовался работой ис-
кусных народных мастеров, создавав-
ших надгробные сооружения. Возму-
щался шабашниками-халтурщиками,
для которых кладбищенское стро-
ительство стало прибыльным делом.
С нарастающим удивлением при-
кидывал, во что обходится каждый
«престижный» мазар.
Недавно снова довелось побывать
в поселке Приозерном Тарбагатайско-
го района. Местное казахское кладби-
ТРАДИЦИИ И НРАВЫ
О
А. РОЗАНОВ,
наш специальный корреспондент
Ч(Й
ОБЫЧАЙ
ще разрослось, поднялись новые
мавзолеи. Мой давний знакомый,
рыбак Кайнулда Закенов, вместе с ко-
торым проходили по шоссе мимо
кладбища, вслух размышлял:
— Подумай, из чего нынче мазары
строят: силикатный кирпич, железо-
бетон, метлахская плитка. А металла
сколько! Это не купишь, это все
доставать надо, оч-чень большие
деньги платить надо. Где достают и
где такие деньги берут?
Серым и скучным в сравнении
с пестрой роскошью приюта усопших
выглядит поселок Приозерное.
Уныло-однообразная архитектура об-
щественных зданий и жилых домов,
пыль над щербатыми улицами, облуп-
ленные стены Дома культуры рыбни-
ков, очередь женщин с ведрами
у водоразборной колонки (друг
рыбак поясняет: «Райисполком трубы
никак не выделит для водопровода,
мол, с металлом трудно, дефицит»,—
и подмигивает мне: теперь-то знаешь,
куда этот дефицит идет)). И совсем
приуныл я, глядя на памятник погиб-
шим воинам-землякам. Ни вкуса, ни
мастерства.
Директор поселковой средней
школы Амангельды Жумашев жалует-
ся: давно намечено построить
музыкальную школу, спортивный
комплекс, но это все откладывается на
неопределенное время — остро не
хватает материалов. Да, масштабы
строительства, необходимого живым,
в этом районе явно уступали кладби-
щенскому...
Помнится, в 60-х годах жизнь
в Тарбагатайском районе была весе-
лее, настроение лучше. Какие здесь
устраивались праздники животново-
дов в горах Саур! Состязались
акыны — певцы-импровизаторы, про-
славляли добрых тружеников, высме-
ивали тех, кто нечестен, ленив, высту-
пали свои музыкальные ансамбли,
проходили национальные конные
игры. Никто не оставался только
зрителем — силой, ловкостью, уме-
нием могли помериться все, кто
пришел на праздник, и не имело
значения, казах ты, русский, татарин,
немец. Это было в лучших традициях
казахского народа. Народный театр
района завоевал право показать свой
спектакль «Материнское поле» в
Москве, в Кремлевском Дворце съез-
дов. С годами многое изменилось На
первый план стали выходить другие
обычаи, которые народными не назо-
вешь. Вот как этот, породивший целые
«города мертвых» по всему Казахста-
ну.
На крайнем западе республики,
недалеко от радующего своей архи-
тектурой молодого областного
центра Шевченко, тоже высятся золо-
ченые купола мазаров, построенных
из дефицитного розового ракушечни-
ка. А на крайнем востоке близ Усть-
Каменогорска я увидел новенький
мавзолей высотой с двухэтажный дом
над могилой М. Тогжигитова, занимав-
шего при жизни должность уполномо-
ченного Совета по делам религий при
Совете Министров СССР по Восточно-
му Казахстану. Говорят, Мукатай Жа-
купович был скромным и серьезным
человеком. Принципиальным. Почему
же такой мазар? Мне объяснили: так
пожелали после его смерти родствен-
ники. Но что заставило их это сделать?
Что вообще заставляет людей — хоть
на Западе республики, хоть на восто-
ке, на севере или юге — окружать
города и поселки пышными некропо-
лями с исламской символикой (при-
чем нельзя не заметить, что возле
Алма-Аты и крупных городов они
особенно роскошны)?
16
Чаще всего я слышал такое объяс-
нение: живем хорошо, с достатком,
потому можем себе позволить
соблюсти «наш старинный обычай»
особого почитания предков. То есть от
излишеств наших все это идет, от
избытка материальных средств. Так ли
это?
Жизнь действительно стала лучше.
Но далеко не все в ней устроено еще
так, как хотелось бы и как это уже
сегодня можно было бы устроить.
Обычай? Да, известно, что «обычай —
деспот меж людей». На жаназу — так
именуется у мусульман погребальный
обряд — съезжаются иногда несколь-
ко сотен родичей, знакомых и незна-
комых, иных привлекает даур —
обычай раздачи денег во искупление
грехов покойного. Для угощения за-
бивают много скота (не только лично-
го, но и совхозного, колхозного),
водку покупают ящиками. И при этом
считается неприличным выглядеть
«хуже людей» — приходится тратить
на похоронный ритуал сотни, тысячи
рублей. Честные люди, бывает, из-за
этого обычая распродают имущество,
ловкачи добывают средства иными
путями. Главное лицо в жаназе —
мулла. Он читает Коран, он знает
ритуал, и ему перепадает немалая
сумма. Особенно усердствуют са-
мозваные, так называемые бродячие
муллы (хотя многие из них ездят
в собственных автомобилях). С Кора-
ном они едва знакомы, но усердно
поучают, что надо чтить законы пред-
ков, и попутно осуждают тех, кто
поскупился на даур, на бешбармак
и водку, на «приличное» надгробное
сооружение. Так формируется «осо-
бое» общественное мнение, которое
оказывается сильнее здравого
смысла. И главный упор делается
здесь на то, что «так принято у каза-
хов», это «наш национальный
обычай».
За последние полтора-два десяти-
летия жаназа не только воскресла, но
приобрела большой размах. И вот
в уже упомянутом Тарбагатайском
районе жаназу справили в последнее
время по председателю районного
комитета народного контроля Б. Иска-
кову, секретарю парткома совхоза
«Тарбагатайский» У. Кусаинову, пред-
седателю Покровского сельсовета
А. Базарханову, педагогу Д. Нуркено-
ву...
Недавно мой старый приятель,
уважаемый специалист, работник
культуры поведал мне о своем не-
счастье. Умерла мать, завещала похо-
ронить ее по-мусульмански. Это зна-
чит — надо соблюсти весь сложив-
шийся за последнее время ритуал.
Мой знакомый — убежденный атеист,
но счел своим долгом исполнить волю
покойной.
— И вот устроил я жаназу. Не
представляешь, как было тягостно,
мерзко. Пришли люди, равнодушные
Фото В. Медведева
к моему горю, едят, пьют, говорят
о чем-то своем. Потом трое мулл,
явившихся на поминки, сцепились из-
за вознаграждения...
И после похорон опять огромные
траты — на сооружение надгробия —
мазара. И тоже «согласно обычаю
предков»...
— В такие долги я залез, что не
знаю, когда и рассчитаюсь. Зато все
как у людей,— горько заключил он.
Как у людей... И ведь не в далеком
ауле, а в столичном городе Алма-Ате,
в окружении и при участии научных
работников, литераторов, кинемато-
графистов, которые в другой обста-
новке-умело произносят высокоидей-
ные речи. В отношении жаназы у них
тоже готовы формулировки: «нельзя
оскорблять чувства верующих», «надо
уважать обычаи предков».
Что же это за обычай?
Смерть близкого человека — всег-
да большое горе, и память о нем
у всех народов свята, хотя и выра-
жается она по-разному. Но разве,
пережив смерть ближнего, не должны
мы становиться душою выше,
нравственно чище? А будет ли чистой
душа, если надо ловчить с дефи-
цитными материалами для мазара? Не
бросает ли похоронный обряд, тре-
бующий непомерных материальных
затрат, тень на умершего? Откуда
пришел к нам этот обычай и почему
принял столь уродливые формы —
скажем, разве в старину степняки
употребляли спиртное?..
Помните — состязание в сооруже-
нии пышных мазеров? Да, в давние
времена бытовало в степи басеке —
соперничество. «Зародилось и разви-
лось оно в условиях патриархально-
родовых отношений и выражалось
в том, что представители одного рода
старались во всем перещеголять чле-
17
нов другого рода. Праздник ли,
семейное торжество, выполнение ре-
лигиозного или народного обряда —
каждый род прилагал все силы, чтобы
выглядеть находчивее, богаче и щед-
рее своего соперника»1,— так
рассказывает об этом знаток обычаев
казахского народа профессор
К. Ш. Шулембаев. В богатстве, «широ-
те натуры» состязались степные сул-
таны, баи, их приближенные. Они,
бывало, мерялись силами в
барымте — угоне скота, принадле-
жавшего роду-сопернику. Ловко: о,
неуловимого вора полагалось превоз-
носить. Честные люди, народ, осужда-
ли его только шепотом, вслух же надо
было хвалить. Разумеется, полунищие
казахи-кочевники, едва сводившие
концы с концами, не имели возмож-
ности соблюдать басеке — степной
обычай соперничества, а точнее ска-
зать, чванства. Так что вовсе это не
народный, не национальный, а
байский обычай.
Ну а вера? Религиозные чувства?
Действительно, с незапамятных вре-
мен а казахской степи кочевники
верили, что живущих оберегают духи
предков — арвахи, спускающиеся
время от времени с небес. На этот
случай на могиле ставили юрту. По-
зже ее заменило похожее сооруже-
ние из самана или дерева — мазар.
Когда в эти края стал проникать
ислам, его служители умело соедини-
ли мусульманскую религию с прежни-
ми верованиями и местными обыча-
ями. Тенгри верховное божество
кочевника, вполне отождествлялся (и
уживался) в сознании людей с Алла-
хом По очертаниям своим мазары
стали нередко уподобляться мавзо-
леям мусульманских святых, возве-
денным в Самарканде, Хиве, Бухаре,
Туркестане... Да, но мазары возводи-
лись над могилами далеко не всех
умерших, а только тех, кто прославил-
ся благочестивыми делами.
Предполагая, что все это людям
верующим может показаться неубе-
дительным, обратился я за разъясне-
нием к человеку более чем компе-
тентному в вопросах мусульманской
религии — представителю Духовного
управления мусульман Средней Азии
и Казахстана в Алма-Ате — кази
Нысанбаеву Ратбеку-хаджи. Он дал
пояснения.
— У мусульманина четыре долга
перед покойным. Омыть тело. Обер-
нуть его в простую белую материю.
Сотворить прощальную молитву
Предать тело земле. Можно обнести
могилу невысокой саманной или ка-
менной оградой, но не железной или
бетонной, ибо пророк Мухаммед ска-
зал, что со временем могила право-
верного должна сровняться с землей.
Внутри ограды разрешается посадить
дерево, но сооружать что-то над
могилой мусульманина шариат не
разрешает. Известные нам мавзолеи
над могилами святых мудрецов по-
строены через много лет после их
смерти, когда стало ясно, что люди
по-прежнему помнят их благочес-
тивые дела.
В доме, где умер человек, про-
должает кази, даже его близким не
разрешается в течение трех суток
принимать пищу. Употребление
спиртного мусульманину вообще не
дозволено. И раздача денег от имени
покойного — нелепость, не имеющая
ничего общего с шариатом.
Кази рассказывает, что к нему
обратился за советом сосед. У него
умер отец, инвалид войны. Сын спра-
шивал: «Как быть? Большую жаназу
делать надо, значит, корову и всех
трех овец резать, сад продавать,
иначе денег для даура негде взять.
А у меня трое детей» Кази пошел
к старикам, объяснил, что нельзя
осквернять память о друге разоре-
нием его семьи.
Надо признать: не все представите-
ли казахстанского духовенства разде-
ляют такую позицию. Самозваные
муллы, по существу, кормятся за счет
обычаев и, понятно, всячески поддер-
живают, «освящают» их авторитетом
религии. Когда же местные органы
власти пытаются пресечь соверша-
емые этими муллами противоза-
конные действия, тут же начинаются
разговоры о покушении на наци-
ональные обычаи.
Конечно, муллы активны и настой-
чивы в своей пропаганде, однако вряд
ли одной лишь активностью можно
объяснить живучесть обряда. Тогда
чем же еще?
Читаю материалы пленума Чел-
карского райкома партии Актю-
бинской области В них — резкая
критика районных руководителей,
многих специалистов, рядовых работ-
ников, пораженных «вирусом
собственничества и стяжательства»,
безнаказанного взяточничества, до-
лжностных злоупотреблений и спеку-
ляции. И одновременно признание
того, что в районе все более мас-
совым становится соблюдение рели-
гиозных обрядов. Не прекращается
строительство больших надмогильных
сооружений с куполами, исламской
символикой, надписями о родовой
принадлежности. Растет число ро-
довых кладбищ в окрестностях г. Чел-
кара, на которых продолжается со-
перничество — кто построит более
роскошный мазар1 2. Что это, случайное
совпадение — частнособственничес-
кие проявления и строительство мазе-
ров? Думаю, нет. Есть некая внутрен-
няя связь между феодально-байским
отношением к людям, к обществен-
ной собственности и феодально-рели-
гиозной традицией возведения «двор-
цов» на могилах умерших. Есть связь
и внешняя. Судебные процессы в Чел-
карском районе показали, что соору-
жение пышных мазеров непос-
редственно связано с преступными
действиями.
Спрашиваю у заместителя началь-
ника политотдела Министерства внут-
ренних дел Казахской ССР В Шкляра,
пытались ли областные ОБХСС выяс-
нить, как добываются строительные
материалы на сооружение мазеров,
каковы здесь размеры хищений?
— Не было таких случаев,— сооб-
щает майор Шкляр. — Опасаемся ос-
корбить чувства верующих.
Объясняю ему, что нет ничего
святого в казахстанской «моде» на
строительство роскошных мазаров,
тем более из материалов, добытых
незаконными путями. Напротив, это
оскорбление чувств честных людей,
в том числе и чувств мусульман.
— А где об этом написано? Дайте
нам официальное обоснование.
Признаюсь, удивил и озадачил меня
майор, хотя, поразмыслив, я решил,
что, пожалуй, казахстанской милиции
трудно было бороться с без-
нравственным явлением, если в столи-
це республики, за холмом Коктюбе
выросло новое мусульманское клад-
бище, на котором хоронят исключи-
тельно ответственных работников
республиканского масштаба и их
родственников, а уж здесь мавзолеи
побогаче степных мазаров и, кстати,
без исламской символики тоже не
обошлось. Не эти ли мавзолеи служи-
ли образцом для кладбищ областного
и районного масштабов?
Небольшой городок Челкар прямо-
таки опоясан кольцом различных
кладбищ: отдельно христианские (ста-
рое и новое), отдельно татарское
(ногайское), и еще несколько клад-
бищ казахских, на которых хоронят
исключительно представителей того
или иного рода — тлеу, жакаим, кара-
кескен, токтарма, кабак и т. д. Причем
наглядно видно, как «знатные и бо-
гатые» представители этих родов
даже здесь чванятся друг перед
другом.
Мне вспоминаются далекие во-
енные годы, когда я, молодой солдат-
москвич, бок о бок с ровесниками-
казахами участвовал в боях с фашис-
тами за освобождение Советской
Прибалтики. Мы продвигались на за-
пад, оставляя на земле Латвии одина-
ковые фанерные обелиски с жес-
тяными звездочками над могилами
погибших друзей — казахов, русских,
украинцев, грузин, евреев. И никто из
нас не думал, чтобы хоронить павших
отдельно — в соответствии с наци-
ональной, религиозной, тем более
родовой принадлежностью. Каждый
сражался, твердо веря, что если это
и будет его последний бой, то памят-
ником ему станет мир, мирная
жизнь — без войн, лжи и обмана,
несправедливости и национальной
розни. Верно я говорю, мои добрые
фронтовые друзья-казахстанцы?
1 Шулембвев К. Ш= Образ жизни. Религия.
Атеизм. Алма-Ата, 1983, с. 143.
2 См.: газета «Путь к коммунизму» (Актю-
бинск), 5 октября 1986 г., с. 2.
18
“Ни одно государство и ни одно демократическое
законодательство не сделало для женщины и половины
того, что сделала Советская власть в первые же месяцы
своего существования.
В. И. Лени
Баку, год 1921-й. Со всех концов
Азербайджана съезжаются сюда женщины
на свой первый съезд. Многие впервые
в жизни увидели город, железную дорогу,
трамвай, электрический свет, автомаши-
ну... Блюстители мусульманских законов
видят в съезде оскорбление национальных
обычаев и пытаются сорвать его,
распространяя слухи, что это красные
вожди собирают азербайджанок в одно
место, чтобы выбрать самых молодых
и красивых для своих гаремов. На улицах
фанатики с криками бросаются на женщи-
ну, осмелившуюся выйти из дома без
традиционного покрывала — чадры... Но
дело организации съезда в надежных
руках смелых и энергичных представитель-
ниц этого края, прошедших революцион-
ную закалку в совместной работе с рос-
сийскими революционерками, н среди них
первая — Айна Султанова. Уже три года
она — член партии большевиков, учится
в Институте красной профессуры и, глав-
ное,— знает все заботы и беды своей
сестры-мусульманки, знает, сколько в каж-
дой женщине Востока скрыто энергии,
нереализованных возможностей. И она
помнит слова Ленина: «Успех революции
зависит от того, насколько в нем участвуют
женщины».
Первый съезд женщин Азербайджана
должен привлечь женщин к социалисти-
ческой работе, помочь им осознать свои
права, предоставленные им Советской
властью, зажечь жаждой участия в общем
деле. Он состоялся — и стал важным
событием в женском движении на Востоке.
Айна с трибуны призывала собравшихся
учиться, работать, не покоряться тем, кто
хочет оставить их в рабском, униженном
положении. Делегатки, поначалу ско-
ванные, смущенные непривычной обста-
новкой, постепенно освоились, стали зада-
вать вопросы, просили, чтобы от их имени
написали в президиум. Одна из записок
была такая: «Мы, женщины-мусульманки,
надеемся, что съезд запретит, чтобы нас
выдавали замуж в 9—12 лет, когда мы
только начинаем цвести, в угнетение на-
шим мужьям». Первый массовый протест
женщин против установлений Корана и ша-
риата... Чувство единства и решимости
взять свою судьбу в собственные руки
овладело участницами съезда, и вот Айна
зачитывает телеграмму, которую собрание
направило Владимиру Ильичу Ленину, их
приветствие Коминтерну: «...Клянемся, что
ОДНА
ИЗ
МНОГИХ
[. Поли. собр. соч.» т. 39, с. 201
с этого момента дело революции встре-
чает в лице женщин Азербайджана надеж-
ного союзника...».
Вскоре Айна Султанова, Джейран Байра-
мова и другие активистки организуют
празднование Международного женского
дня 8 марта — впервые в Азербайджане.
Это был еще один шаг на пути мусульма-
нок к новой жизни, к освобождению. По
словам Клары Цеткин, Айна Султанова
вместе с Клавдией Ишковой стояли во
главе коммунистической работы среди
азербайджанских женщин. Живои, острый
ум, сильная воля, яркий темперамент,
чуткость к тому, как живут, что пережи-
вают те, кто рядом, незаурядная эруди-
ция — удивительно, какой личностью стала
эта крестьянская девушка! Счастливо сло-
жилась ее жизнь — родители оказались
мудрыми людьми и, несмотря на осужде-
ние и насмешки односельчан, пошли против
традиций, послали дочь учиться. А в Баку
ее главными учителями жизни были борцы
за народное счастье, ставшие потом леген-
дарными комиссарами,— Мешади Азизбе-
ков, Нариман Нариманов, Гамид Султанов
Она приняла всем сердцем их дело, стала
их достойной ученицей и соратницей.
В Бакинской коммуне Айна работала под
руководством Сергея Мироновича Кирова.
Конечно, счастливая судьба. Но верно
говорят: она находит тех, кто ее достоин.
Никакое общественное движение невоз-
можно без своего издания — и Айна
Султанова создает первый на Востоке
женский журнал «Шарк кадыны» («Жен
щина Востока»), Свидетели того времени
рассказывают, что Ленин в одном из
писем, к сожалению до сих пор не
найденном, говорил, что «Шарк кадыны»
должен'стрть центром женского движения
на Востоке. Айна Султанова так и стреми-
лась его вести. Журнал стал помощником
женщин в их просвещении, он способство-
вал освобождению от рабской психологии,
от безраздельной власти религии.
Большинство азербайджанок постепен-
но начинали ощущать вкус открывшейся
им жизни, видеть огромный, неведомый
прежде мир. Таких были сначала сотни,
потом тысячи... Конечно, они и называли,
и считали себя мусульманками, но то, что
происходило вокруг них и с ними, в чем
они принимали все более заметное учас-
тие, никак не укладывалось в рамки
исламских норм и предписаний. Фактичес-
ки они все больше выходили из-под власти
религии. Этот знаменательный процесс
в общественной жизни республики тоже
связан с именем Айны Султановой. После
окончания Института красной профессуры
она была заместителем наркома просве-
щения республики, потом наркомом юсти-
ции, председателем Верховного суда
Азербайджанской ССР, заведовала отде-
лом работниц и крестьянок ЦК АКП(б)
И на всех постах готовила женщин к массо-
вому походу за полное раскрепощение —
худжуму. Ставшее в 1929 году поистине
массовым, это движение сметало многие
заградительные укрепления и валы на
своем пути. Дело, конечно, и в том, что
появилась экономическая основа для боль-
ших социальных перемен в жизни мусуль-
манок — строились новые заводы, крепли
колхозы, открывались школы и детские
сады. Все больше женщин вовлекалось
в общественную и производственную
жизнь. В 1928—1929 годах более 30 тысяч
азербайджанок сняли чадру — символ за-
творничества, изолированности от внешне-
го мира.
Отказ от вековых обычаев, религиозных
норм был для женщины часто подвигом
вызовом общественному мнению, нередко
и подлинным самоотречением. Идти про-
тив многих, а в семье часто и против
всех — нелегко. Но все, что происходило
вокруг, давал, женщинам огромные силы.
Немало значил и замечательный пример
таких, как Айна Султанова Как немало
значит он и сегодня — ведь мы знаем, что
и сейчас не все проблемы в жизни
женщины решены, а предрассудки в этой
сфере оказались весьма живучими...
...В Баку вскоре после войны был открыт
памятник женщине Азербайджана — как
признание заслуг той, что участвовала
в революционном движении, в стро-
ительстве социалистического общества,
самоотверженно помогала фронту.
Скульптор назвал его «Освобождение».
В прошлом году в Баку появился еще один
памятник женщине, теперь уже не всем,
а одной — Айне Султановой. Но разве это
не знак любви и уважения ко всем
труженицам республики? Им сегодня дано
многое. Но и они — участницы всех значи-
тельных дел и свершений. Их энергия,
творческие способности, нравственный
пример .неоценимы сегодня, когда идет
перестройка в обществе, их темпераменту
сродни идеи ускорения и перемен, когда
происходит освобождение от негативных
явлений, появившихся в «застойное вре-
мя». Вспомним снова классиков марксиз-
ма, они говорили, что участие женщин
может оказать решающее влияние на
каждое общественное движение.
О. БРУШЛИНСКАЯ
19
Иван Григорьевич Ч у ч и н был летчиком, что называется, милостью
божьей. Один из пятерых русских курсантов, еще до революции
окончивших школу высшего пилотажа в Англии, в советское время
Чучин стал человеком героической судьбы. Его имя прогремело и в
годы гражданской войны, и в Великую Отечественную. «Тот самым»
Чучин, который трижды обмораживал ноги в боях под Царицыном —
и трижды возвращался в строй; тот Чучин, что спас свой самолет от
деникинцев, подняв его в воздух под самым носом у белых; Чучин —
легендарный командующий подмосковным аэродромом, с которого
наши летчики уже в 1942 году водили бомбардировщики на фа-
шистский Берлин.
И. Г. Чучин прожил жизнь не только героическую, но и просто
долгую — он умер совсем недавно, в возрасте 90 лет.
Рассказ «Мечеть и аэроплан», повествующий о том времени, когда
велась борьба с басмачеством в Туркестане,— один из эпизодов ярк< >й
к биографии Ивана Григорьевича Чучина
к ЛШ 1 '.Л
ЩАнтон Мешков подошел
к огромной — во всю
стену — карте и решительно
провел по ней пальцем:
— Вот здесь.
— Почему ты так уве-
рен? — исподлобья глядя на
невысокого хмурого парня,
спросил Иван Чучин.
— Здесь,— облизав сухие
губы, упрямо повторил крас-
ноармеец. — Здесь они и
встречаются, и оружие пря-
чут В одном из этих кишла-
ког
— В каком именно? —
раздраженно спросил Иван.
— Пока не знаю,— пожал
плечами Мешков — но вы-
ясню. Обязательно выясню.
— У меня от таких разго-
воров,— сказал Иван,— зубы
ноют и в животе мутит.
Этот Мешков никогда ни-
чего толком не объяснит,
Он
воздух свой ста-
видавший виды
и отправился на
талдычит одно и то же, как
заклинание. И не поймешь:
привиделось ему это во сне
или он в самом деле нащу-
пал что-то важное.
— И опять же,— продол-
жал свое Антон,— без мулл
не обходится Оружие для
басмачей в мечетях прячут.
Факт. А мы все доказательств
ждем. Какие тут еще доказа-
тельства нужны? Я бы их
всех...
Мешков не успел догово-
рить, что бы он сделал с не-
навистными ему муллами.
Его срочно вызвал командир
термезского гарнизона.
Чучин подошел к раскры-
тому настежь окну. Улица
была тихая и пустынная, но
жила в ней какая-то тревога.
Будто беспощадное солнце,
палившее так, как ему поло-
жено жарить в июле, а вовсе
не в эти поздние сентябрь-
ские дни, сожгло здесь без
остатка весь покой.
В среду утром отряд Меш-
кова в гарнизон не вернулся
Его напрасно ждали весь
день, а утром в четверг Иван
Чучин получил приказ разы-
скать красноармейцев,
поднял в
ренький,
аэроплан
поиски.
Навстречу плыла расчален-
ная степь. Над одиноко тор-
чавшими кустиками, над из-
вивавшейся между ними бес-
конечной дорогой поднима-
лась к небу легкая прозрач-
ная дымка. Сквозь нее каза-
лись какими-то нереальными
эти еще недавно совсем чу-
жие, а теперь знакомые до
мельчайших деталей пейза-
жи.
За пологими холмами на-
чинались горы, каменистые и
угрюмые, с высеченными в
них узкими извилистыми тро-
пинками, с обрывистыми
склонами. Самолет медленно
набирал высоту. Иван взгля-
нул на альтиметр: два с поло-
виной километра. Как обыч-
20
но, проснулась боль в ногах,
обмороженных еще в сем-
надцатом, в затянувшемся
полете в тыл германского
фронта.
И вот наконец кишлак,
словно вымерший от зноя.
Чучин пронесся над поселком
и опять оказался над скалами
и глухими ущельями. А потом
снова под крылом был то ли
покинутый людьми, то ли за-
снувший кишлак. И снова
горы.
Вдруг Иван увидел прямо
перед собой облако густого
черного дыма. Оно висело
над самым центром кишлака.
Дым поднимался от мечети
которая возвышалась на хол-
ме рядом со старой полураз-
рушенной крепостью
Кишлак был одним из трех,
о которых говорил Чучину
Мешков, утверждавший, что
здесь басмачи устроили свой
перевалочный пункт.
У Ивана сжались кулаки,
упало сердце. Неужели Меш-
ков поджег мечеть? Завтра
же во всех окрестных кишла-
ках на красноармейцев по-
сыплются преклятия дехкан.
А уж басмачи сумеют вос-
пользоваться этим...
Площадь перед мечетью
была полна людей, пеших и
всадников. Хорошо разгля-
деть их Чучин не мог, но ясно,
что их много, не меньше
двухсот человек. У Мешкова
в отряде всего тридцать крас-
ноармейцев. Значит, басма-
чи. Теперь Чучин понял, что
произошло. Красноармейцы
забаррикадировались в мече-
ти, и бандиты решили ее под-
жечь. Он даже видел, как они
осторожно, чтобы не попасть
под пулю, подбрасывали к
стенам здания сухие ветки и
сучья.
Надо было что-то предпри-
нять. Но что? Один, как го-
ворится, в поле не воин, а
помощи ждать неоткуда. Если
басмачи успеют укрыться в
домах, воевать с ними не бу-
дет никакой возможности, и
среди них немало отменных
охотников, которые если
что в жизни и умеют, так
это стрелять без промаха
по живой мишени.
Однако времени для раз-
думий у Ивана не было. Он
сам не знал, что сделает в
следующий момент, а дейст-
вовал не размышляя, будто
подхваченный сильным те-
чением пловец. За время
долгих полетов Чучин срод-
нился со своим аэропланом,
чувствовал его, как танцов-
щик ощущает свое тело. И
теперь казалось, что сам
аэроплан увлекает его вниз,
туда, где на площади галдела
толпа басмачей.
Появление самолета в яс-
ном, безоблачном небе было
для них совершенно неожи-
данным. Да к тому же боль-
шинство из них никогда само-
лета не видели. Они оцепе-
нели от страха, не стреляли
и даже не пытались бежать.
Как загипнотизированные,
смотрели на приближаю-
щуюся ревущую гигантскую
птицу. Иван бросил машину
в штопор...
При виде аэроплана, кото-
рый, быстро вращаясь, стре-
мительно падал на землю,
бандиты словно обезумели.
Пулеметная очередь довер-
шила дело. Басмачи в панике
вскакивали на лошадей и гна-
ли их во весь опор. Другие,
забыв обо всем на свете,
удирали на своих ногах. Ни-
какая сила не могла удержать
их в этом дьявольском киш-
лаке, где с неба сыплется
огненный свинец.
Иван вывел самолет из
штопора, набрал высоту и
снова бросил машину на пло-
щадь.
Чучин покружил немного
над поселком. Он видел, как
красноармейцы выбирались
из мечети, гасили огонь и
откидывали горевшие ветки.
Теперь можно было посадить
самолет. Единственным под-
ходящим для этого местом
была площадь перед ме-
четью, и Иван благополучно
приземлил на нее машину.
Мешков приближался мед-
ленно. Был он еще более
хмурый, чем обычно, и смот-
рел под ноги. Подойдя к са-
молету, провел тыльной сто-
роной руки по лбу, с кото-
рого струился пот, тяжело
вобрал в себя воздух и молча
уставился на Ивана. Но Чу-
чин ни о чем не спрашивал,
ждал, когда Антон объяснит,
что произошло.
— Я же говорил,— нако-
нец начал Антон запальчи-
во,— что здесь никому до-
верять нельзя.
— Как ты очутился в этом
кишлаке? — строго спросил
Чучин, хотя никаких прав рас-
следовать действия Мешкова
у него не было.
— Так ведь напали мы на
след курбаши. Схватили его
человека. Он нам и сказал,
что они здесь, в этом кишла-
ке оружие прячут.
— Ну да,— кивнул Чу-
чин,— как ты и подозревал.
— Я не подозревал! —
почти крикнул Антон. — Я
в этом уверен был. И сейчас
уверен.
Иван поморщился:
— Что же, нашли оружие?
Мешков не обратил на во-
прос внимания и продолжал:
— Он нам говорит: все
сообщения и оружие пере-
даются через муллу. Вы, го-
ворит, в мечети поищите и
муллу порасспросите хоро-
шенько. Он вам потайной
склад покажет. Ну мы и бро-
сились к мечети. А они тут
и налетели.
Чучин пристально посмот-
рел на Мешкова.
— А мулла? — спросил
он. — Что стало с муллой?
— Убили муллу,— корот-
ко ответил Антон.
Иван задохнулся от ярости:
— Ты что говоришь?!
— Да не мы же убили! —
закричал Мешков. — Мы его
даже допросить не успели
как следует. Басмачи его
застрелили во дворе мечети.
Иван стоял прямо на ярком
солнце, не ощущая жары.
— Как же они позволили
вам в мечети скрыться? —
задумчиво спросил он. —
Они же могли вас всех на пло-
щади перебить.
— Откуда я знаю,— от-
ветил Мешков, опустив уста-
лые, будто выгоревшие глаза.
Между тем из домов нача-
ли выходить жители
— Позови их,— сказал Чу-
чин одному из красноармей-
цев. — Скажи, что им нечего
бояться.
Дехкане подходили нере-
шительно. С почтением и ро-
бостью смотрели они на Чу-
чина и его самолет. Высокий
старик приблизился к Ивану,
поклонился, провел рукой по
лицу и сказал:
— Аллах послал вас —
избавить нас от бандитов.
— Послала меня,— не-
вольно улыбнулся Чучин,—
советская власть.
— Я все видел,— медлен-
но произнес старик,— эти
люди хотели сжечь мечеть.
Но всемогущий Аллах не до-
пустил этого и накажет ви-
новных. Никто не уйдет от
возмездия.
— А если бы они сожгли
мечеть? — спросил Иван.
— Тогда сказали бы, что
это сделали они,— старик
показал на красноармейцев.
— Но ведь дехкане виде-
ли,— сказал Чучин
— Все боятся,— горестно
вздохнул старик. — Курбаши
Курширмат велел сжигать
дом с имуществом и семьей
у каждого, кто осмелится не
выполнить его приказы. Но
мне нечего терять. Я стар и
одинок.
-г- А что за человек был
мулла? — спросил Иван.
— Достойный человек,—
важно ответил старик. И дех-
кане закивали, подтверждая
эти слова. — Мы слушали его
4- Запретный плод сладок только понача-
лу: скоро приходит горький опыт.
Николай ВОРОНКИН
Г- Караганда
+ Наблюдающий торговлю фруктами:
«Хоть бы одна Змея яблочком угости-
ла»
— А как он вам советовал
с басмачами себя вести? —
вступил в разговор молчав-
ший до сих пор Мешков.
— Говорил, чтобы мы от
них подальше держались.—
сказал старик.
— А про красноармейцев,
про советскую власть что он
вам говорил? — не унимался
Антон.
Старик немного смутился,
задумался, а потом взглянул
прямо в глаза Мешкову.
— Говорил, чтобы мы бы-
ли поосторожнее.
Но тут осмелели и другие
дехкане.
— Мулла говорил: «Пусть
они между собой дерутся,
только бы не трогали нас».
— Мулла говорил: «Они
придут и уйдут, а нам здесь
жить».
— Вот так достойный че-
ловек! — возмутился Меш-
ков. — Ворона, она есть во-
рона, всегда черной оста-
нется. Я уверен, что он ору-
жие прятал.
— Нет,— покачал голо-
вой старик,— оружие он не
прятал.
Чучин с любопытством по-
смотрел на дехканина.
— Откуда ты знаешь?
Старик помялся и сказал.
— Напуган был наш мулла
очень. Всего боялся. Особен-
но после того, как повесили
муллу Акбара в соседнем
кишлаке. Тот, правда, оружие
прятал. Он торговал им тай-
ком от басмачей. Курбаши
узнал и разгневался очень,
вот и нет муллы Акбара. А
нашему мулле курбаши так
сказал: «Тебя мои люди не
тронут. Тобой займутся боль-
шевики».
Иван взглянул на Мешкова
Антон в этих краях человек
недавний. Приехал издалека,
чтобы помочь дехканам осво-
бодиться от басмачей. И хо-
чется ему сделать это как
можно быстрее. Для него
здешняя жизнь — такая же
диковинка, как для дехкан
аэроплан.
Кто-то тронул Чучина за
руку. Он обернулся. Маль-
чишка лет двенадцати с моль-
бой смотрел на него и что-
то бормотал на своем языке.
— Простите его,— почти-
тельно произнес старик,— он
еще мал, не понимает. Хочет
подняться в небо.
Артем Г АВРИЛОВ
г. Челябинск
21
*
ПРАКТИКА: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ
А
1
.'4.
М. МИРРАХИМОВ
b
Всякий раз, приезжая в свое родное
село Калъаи Баланд, не упускал я слу-
чая поговорить с уважаемым у нас
старейшиной домулло Абдулмаджи-
дом В последний приезд я встретил
его на улице, он шагал бодро, несмот-
ря на свои восемьдесят с лишним.
— Ассалом алейкум! — поклонил-
ся я.
— Ваалейкум ассалом!—домулло
Абдулмаджид протянул мне обе ру-
ки — в знак того, что рад встрече. —
Как ты там в Душанбе живешь? По
телевидению слушал тебя, ты пра-
вильно о калыме говорил, это
вредный обычай. Только знаешь, что
я заметил? Сейчас многие недостатки
хотят объяснить исламом, даже хище-
ния и взятки. Кому-то это выгодно:
ислам виноват — значит, они не вино-
ваты. Приходи ко мне, пожалуйста,
вечером, хочу тебя кое о чем спро-
сить.
Домулло Абдулмаджид в юности учился
у знатоков ислама, хорошо разбирался
в тонкостях вероучения и свято верил
в Аллаха. Но к моим атеистическим
убеждениям относился довольно спокой-
но, видимо считая их заблуждениями
молодости. Во всяком случае не укорял,
как другие старики, что нарушаю заветы
предков (к слову сказать, были среди
наших предков и атеисты). Не скрою, мне
были приятны добрые слова старика о на-
шей атеистической передаче.
Вечером, в доме у домулло Абдул-
маджида, мы поговорили о сельских
новостях, он, как всегда, поинтересо-
вался новинками исламоведения. Раз-
говор шел обычный, но я чувствовал:
что-то его беспокоит- И только за
чаем он спросил:
— Правду говорят, что религи-
озные книги отберут у людей и унич-
тожат?
— Кто так говорит?
— Но ведь уже было так когда-
то — отбирали и жгли. Даже диваны* 2
Хафиза, Саади, Хайяма, все, что
напечатано арабским шрифтом. Было
так, сынок. Почему-то атеисты счи-
тают, что если книга арабскими
буквами написана, то она религиоз-
ная. ,
— Я знаю, были ошибки и пере-
гибы. Но кто сегодня станет уничто-
жать старинные книги, даже если они
религиозного содержания? Непонят-
но, откуда у вас такие опасения.
— Расскажу тебе. Недавно у нас
один тракторист, когда рабат3 вспахи-
вал, нашел несколько мешков книг,
кто-то, видно, закопал их в землю,
чтобы спасти. Там было много и зна-
менитых диванов.
— Где же книги? Их можно сдать
в республиканскую библиотеку имени
Фирдоуси или в Рукописный фонд
Академии наук. Там не только примут
с благодарностью, но и заплатят.
— Нет книг, начальство наше посо-
вещалось и после этого сожгли их там
же, в поле.
— Не может быть!
— Нехорошо, что не веришь мне
Наше местное руководство объяснило
нам, что религиозные книги вредные
и их велено уничтожать. Еще
родственники из Курган-Тюбе
рассказывали, что и у них было такое.
Вот я и хочу спросить тебя как атеиста,
который выступает по телевидению
есть ли об этом указание?
— Извините, домулло, я вам, ко-
нечно, верю, но и вы поверьте мне. Ни
один человек, который изучил и понял
марксистский атеизм, не может даже
подумать о том, чтобы уничтожать
старинные книги. Это же памятники
культуры, созданные людьми, их надо
беречь и изучать. Есть, правда, книги,
которые хоть и называются рели-
гиозными, а на самом деле чернят
нашу страну, ссылаясь при этом на
Аллаха. Мне приходилось читать та-
кие книги. И я бы не стал их беречь.
— Да разве я о них? И вообще
ответь мне: разрушать бульдозером
святое место, вырубать вековые чи-
нары, почитаемые мусульманами,
устраивать в мечетях, построенных
народными мастерами, склады ядохи-
микатов — это тоже ошибки или есть
указание?
О книгах я услышал впервые.
А действия в отношении святых мест,
мечетей новостью для меня не были.
Что ответить домулло Абдулмаджи-
ду? Я видел, как глухо закрывают эти
методы борьбы с религией пути
к душам тех, кто подвержен ее
влиянию, но и от атеизма не отворачи-
вался. Делиться своими пережива-
ниями я с ним, конечно, не стал. Он
человек верующий, у него свои за-
боты. Но разъяснить ему нравствен-
ную позицию атеистов счел своим
долгом.
— Не знаю, домулло, кто дает эти
указания, но думаю: это такие люди,
которые за что ни возьмутся, везде
вреда наделают. Вы же знаете, нема-
ло у нас ошибок не только в атеисти-
ческой работе. Подобные дела бы-
ли строго осуждены на совещании
в Душанбе, которое проводил Цент-
ральный Комитет Компартии рес-
публики. Истинный атеист, да и
любой культурный человек, не может
дать указание об уничтожении памят-
ников культуры, в том числе и свя-
занных с религией, бороться бульдо-
зером против святых мест.
Я рассказал ему, как в Ленина-
бадской области в пустующих мече-
тях, с согласия сельских сходов, стали
устраивать музеи, размещать биб-
лиотеки. Привел факты, когда мече-
ти, представляющие историческую
и художественную ценность, рестав-
рируются и охраняются госу-
дарством.
Домулло Абдулмаджид слушал ме-
ня внимательно. По-моему, мы оста-
лись довольны друг другом, ушел я от
него перед рассветом. На прощание
он сказал:
— Ия часто думал, что атеисты —
это разрушители, но понимаю, конеч-
’ Домулло — ученый человек; уважительное
обращение.
2 Диван — поэтический сборник.
3 Рабат — место временного отдыха в поле,
недалеко от села.
22
но, что атеисты бывают разные.
Я хочу, чтобы мои книги после моей
смерти сохранились. Можно передать
их, как ты говорил, в библиотеку.
А диван Хафиза я оставлю тебе, его
мне подарил мой учитель, когда
я только начал читать.
И видимо все еще сомневаясь,
попросил:
— Ты уж позаботься, чтобы они не
были уничтожены.
Вскоре домулло Абдулмаджида не ста-
ло Жители нашего села хранят о нем
хорошую память. Это благодаря его авто-
ритетному вмешательству заметно сокра-
тились огромные расходы на свадьбы
и похороны, доводившие многие семьи
почти до разорения. Это он организовал
народ, чтобы привести в порядок
пребывавшее в запустении сельское клад-
бище.
После ночного разговора с аксака-
лом я решил разобраться, что же
происходит с религиозными и вообще
со старинными книгами, по какой
причине их где-то считают нужным
уничтожать. Случай в моем родном
селе ясен — местный атавизм страха,
внушенного с давних лет: арабские
буквы — значит, ислам, ислам —
пережиток, надо тут же вступать
с ним в борьбу. Как? В меру своего
разумения И мера оказалась именно
такой. Но домулло Абдулмаджид
упомянул Курган-Тюбе. Поиски при-
вели меня к одному из должностных
лиц этой области. От него я узнал, что
когда кого-то осуждают за нарушение
законодательства о культах, принад-
лежащие этому человеку религи-
озные книги конфискуются и по
решению суда могут быть уничто-
жены как вещественные доказа-
тельства.
— Но ведь судят человека не за
религиозные убеждения, почему же
книги превращаются в доказательства
вины?
— Так бывает,— неопределенно
ответил он.
Теперь настала моя очередь выяс-
нить вопрос, который тревожил до-
мулло Абдулмаджида:
— Но есть ли прямое указание
уничтожать в таких случаях книги?
Конечно, я имел в виду не антисо-
ветские книги, закамуфлированные
под религиозные, а такие, например,
в которых ученые прошлых веков
среди мусульманских терминов и
между восхвалений Аллаха оставляли
нам ценные сведения о достижениях
наук тех далеких времен.
Мне ответили, что в этой ситуации
книги сберечь можно, если министру
Юстиции республики будет направле-
но письмо от Академии наук с про-
сьбой передавать их в Центральную
научную библиотеку.
26 сентября 1986 года письмо
с такой просьбой было направлено
президиумом АН Таджикской ССР на
имя министра юстиции. Собирая в
разных инстанциях материалы, послу-
жившие основанием для этого доку-
мента, я не раз слышал раздраженные
советы: «Занимались бы, молодой
человек, своими делами — наукой,
атеизмом, зачем вам знать об этих
книгах?» Никому в голову не приходи-
ло, что книги эти, среди которых были
и научные труды прошлых веков,
и поэтические сборники — диваны,
как раз и нужны науке, в том числе
и атеизму
Трудно вести атеистическую рабо-
ту, когда люди слышат, вот как
домулло Абдулмаджид, что «скоро
религиозные книги отберут у всех
и уничтожат». Не укладывалось у меня
в голове и то, что наши народные
судьи ждали письма от Академии наук
и указания министра, а сами не знали,
как надо поступать сс старинными
книгами. 3 конце концов, существуют
эксперты, и не так уж трудно отличить
антисоветскую, антиобщественную
книгу от дивана Хафиза или средневе-
кового богословского труда.
Свободомыслящие ученые прош-
лых веков рисковали жизнью, что-
бы пробудить у людей разум. Их
книги сожгли, и мы можем судить
о свободомыслии Востока по тем
цитатам, которые содержатся в тру-
дах мусульманских богословов, ра-
зоблачавших вольнодумство. Источ-
ники свидетельствуют, что бани Бу-
хары и Самарканда месяцами топили
только рукописными книгами, приго-
воренными к уничтожению поборни-
ками чистоты ислама. Вот вам и тем-
ное средневековье! Не одно лишь
мракобесие царило в его обществен-
ной мысли, если такую ненависть
фанатиков вызывали свобо-
долюбивые книги, и было их столько,
что надо было жечь месяцами. До нас
дошло немногое. Давайте это беречь.
Не раз приходилось мне сталки-
ваться с административным рвением
деятелей, которых беспокоили мече-
ти и святые места. Как правило, их
экстремистские меры давали об-
ратный результат. Ученые обратили
внимание на такую закономерность:
всякое популярное святое место обя-
зательно находится там, где есть
либо уникальные исторические памят-
ники, либо уникальные явления при-
роды. В пылу «борьбы» со святыми
местами за последние пять лет в Во-
сейском районе Кулябской области
уничтожены ценнейшие археологи-
ческие памятники — свидетельства
древних времен. Виновники этих вар-
варских действий наказаны. Но в соз-
нании части людей осталось: атеисты
уничтожают памятники культуры. Вот
так создается репутация, насторожив-
шая, скажем, домулло Абдулмаджи-
да. Чуть было не сровняли с землей
святое место Лангари мохиён («род-
ник, где обитает форель») в селе
Чоркух Исфаринского района, но вов-
ремя остановились: оказалось, что
именно здесь залегает слой культуры
(I в. до н. э.), представляющий
большую ценность для науки.
Конечно, нельзя оставлять без вни-
мания все, что происходит вокруг так
называемых святых мест, где иные
бойкие люди неплохо наживаются,
спекулируя на чувствах верующих.
Тем более что царящая там антисани-
тария наносит вред не только ду-
ховный, но и физический — бывает,
что место паломничества становится
рассадником всякого рода инфекци-
онных заболеваний. Но действовать
надо с умом и тактом, учитывая
исторические особенности данного
места, и то, чьими усилиями оно
превратилось в святое.
Вот конкретный пример. Еще не так
давно вблизи города Исфары было
весьма посещаемое святое место,
считалось, что здесь люди исце-
ляются. И правда, случаев исцеления
было немало. Ученые начали с того,
что установили: лечит сама здешняя
вода, содержащая целебные соли,
благотворен и своеобразный микрок-
лимат с уникальным сочетанием чис-
тейшего воздуха и богатой раститель-
ности. Специалисты рекомендовали
построить здесь санаторий. Теперь
в известную республиканскую здрав-
ницу «Зумрад» приезжают не палом-
ники, а отдыхающие. И в обустроен-
ном оздоровительном комплексе как-
то затерялись, забылись два деревца,
прежде находившиеся в центре вни-
мания паломников, искавших здесь
исцеления, ибо шейхи уверяли, что
в них-то, в этих деревьях, и заключена
божественная, священная сила.
То же и с мечетями. Бездумным
отношением к этим сооружениям
можно создать напряженную обста-
новку, вызвать недовольство людей.
В Ленинабадской области 400 не-
действующих мечетей, боль-
шинство — ценные исторические па-
мятники. Некоторые пришли в аварий-
ное состояние, в других устроили
склады. Эта сфера, за редким
исключением, вне поля зрения
местных органов власти. Как-то один
из руководителей районного масшта-
ба мне сказал: «Да ну их, мечети эти,
начнешь заботиться о них, скажут, что
ты — верующий». Хорошо, что не
везде так обстоят дела. По решению
сельского схода села Дар-Дар
Айнинского района в красивейшей
мечети XVII века будет открыт крае
ведческий музей. Жители села Зиро-
бод того же района решили, что
в добротном здании бывшей мечети,
построенной в начале нашего века,
расположится библиотека.
Памятники культуры прошлого —
национальное достояние. Сохранение
их — нравственный долг, необходи-
мое условие духовного здоровья
общества. Наши промахи и ошибки
сказываются на всех сферах духовной
жизни, в том числе и на воспитании
правильного отношения к религии.
г. Душанбе
23
ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ МУСУЛЬМАНСКОГО ВОСТОКА
ЮЖЕСТВЕННАЯ ТВ^ИКОМЕДИЯ
олглж
хлйязия
• Иранский художник Акбар Т а д ж в и д и, создавший
этот портрет Омара Хайяма, сказал, что он придал его обли-
ку черты известных ему лучших поэтов мира.
Владислав ЗАЙЦЕВ
На Западе рубаи Омара Хайяма (1048—
1131) стали известны немногим более
столетня назад, н он сразу приобрел
неслыханную популярность, началось по-
вальное увлечение его поэзией в Европе
и Северной Америке. Английскому литера-
тору Эдварду Фитцджеральду посчастли-
вилось в своей поэме, написанной по
мотивам Хайямовых четверостиший, ярко
передать противоречивые мысли, настро-
ения великого ученого и поэта средневеко-
вого Востока — европейский читатель ощу-
тил их всеобщность, глубокое созвучие со
многими явлениями собственной духовной
жизни. Но раздавались и возгласы негодо-
вания — по поводу «цинизма и без-
нравственности», которыми якобы пропи-
таны эти изящлые, чеканные рубаи.
Особенно были встревожены ревнители
религиозной морали, тем более что появле-
ние «сомнительных» четверостиший
(в 1858 г.) совпало с сильным движением
антиблагочестия в среде молодых англи-
чан, чей бунт вдохновляла незадолго перед
тем обнародованная Чарлзом Дарвином
доктрина эволюции В начале XX века
появился даже сборник «Христовых четве-
ростиший», изготовленный как «проти-
воядие от Хайямовой отравы» В предисло-
вии к нему некая ревностная защитница
веры заявила, что Хайям, «возможно,
в немалой степени способствовал выхола-
щиванию тех остатков мужественности, что
еще сохранялись в современной религиоз-
ной мысли».
Однако за три с половиной десятилетия
до того, как было высказано это проница-
тельное суждение, преподобный Джон
У. Чедуик со страниц лондонского журнала
«Олд эид нью» (1872) успокаивал тех
верующих, кого настораживало или шоки-
ровало непочтительное отношение Хайяма
ко всему божественному, не исключая
н самого бога. В пасторских рассуждениях
немало любопытного.
«Это поэзия эпикурейца,— писал Че-
дуик,— но эпикурейца невеселого. В ней
слишком глубок интерес к жизни и смерти.
загробному миру. Эпикурейство — про-
зрачная маска, сквозь которую мы разли-
чаем очень трезвое выражение Кто-то
назвал книгу Екклесиаста самой печальной
из всех печальных книг. Он не читал Омара
Хайяма. Этн стихи намного печальнее
Екклесиаста. Во-первых, потому, что они
гораздо благозвучнее; во-вторых, потому,
что в иих гораздо больше отчаяния; и еще
потому, что за их словами мы чувствуем
куда более благородную душу...»
Для человека в священническом сане
высказывание по меньшей мере экстрава-
гантное: стихи восточного «эпикурейца»
поставлены выше одной из самых почи-
таемых в христианском мире библейских
книг.
Столь смелое суждение надо было оправ-
дать какими-то благочестивыми соображе-
ниями, ибо для служителя культа худо-
жественные достоинства сочинения и сила
выраженного в нем чувства самн по себе
едва ли могут быть гарантией его богоугод-
ное™. И Чедуик заключает; «В конце
концов эта книга и всякая ей подобная есть
истинный вклад в нашу веру. Только одно
безразличие порождает в нас стойкое
сомнение. Но если вопрос задан искренне,
с ревностным чувством, его искренность,
душевное волнение будут для нас порукой
в том, что существует, должен существо-
вать какой-то убедительный ответ».
С последним утверждением пастора
нельзя не согласиться. Но Хайям чаще
всего воздерживался от прямых и реши-
тельных ответов на множество волнующих
его н всех нас вопросов, читатель волен
искать и находить их сам. И к этому его
побуждает то [ревностное чувство», с ка-
ким поэт подобные вопросы задает
«Божественные» мотивы, занимающие
большое место в поэзии Хайяма, всегда
были и поныне остаются предметом острых,
противоречивых толкований. Одни считают
Хайяма атеистом, другие — неутомимым
искателем божественной истины, а между
этими исключающими друг друга сужде-
ниями — множество мнений разных оттен-
24
ков, которые, впрочем, часто определяются
не столько содержанием рубаи, сколько
взглядами и вкусами их толкователей.
Бывало, высказывая разные, иногда проти-
воположные воззрения, сторонники их
ссылались на одни н те же четверостишия
При жизни Хайям заслужил почетное
прозвище Гнясуддни («подмога вере»)
и репутацию непревзойденного знатока
Корана, хотя уже тогда кое-кто считал его
склонным к «неповиновению богу».
Исторические свидетельства говорят нам
н о недоверии, даже враждебности ревните-
лей мусульманской ортодоксии к Хайяму.
Историк Джамалуддин ибн ал-Кифти
(1172 — 1223) в своей книге «Тарих аль-
хукама» («История мудрецов») писал
о Хайяме, что «сокровенное (внутрений
смысл) его стихов — жалящие змеи для
мусульманского законоположения и
сборные пункты, соединяющие для
открытого нападения». Трудно найти сколь-
ко-нибудь убедительные доводы против
этого обличения Но значит ли это, что
Хайям был откровенным или тайным без-
божником? В конце концов, официальная
религия и индивидуальная вера в бога
далеко не всегда совпадают. Возможно, он
верит в своего бога? Но в какого? Как он
относится к нему и к самой вере?
Мы воспроизводим несколько иллюстраций
А Таджвиди из книги «Рубаи Хайяма» ( Те-
геран 1954)
О
Вот, что глина в руке
горшечника,
то вы в Моей руке...
Иеремия, гл. 18, ст. 6
ЕЩЕ В ДРЕВНИЕ времена человека
уподобляли глиняному сосуду, срав-
нение это сделалось у многих народов
обиходным речением. «Сосуд ску-
дельный» — так говорили о человеке,
слабом, смертном существе.
Эту чашу искусные руки лепили,
А теперь на дороге, под пологом пыли —
Черепки... Не топчи их: там чаши голов
Тех, что ранее нас свою чашу испили1.
Нетрудно догадаться, чьи искусные
руки имеет здесь в виду Хайям.
Тот горшечник, что вылепил
головы наши.
Совершал чудеса и хитрее, и краше
Опрокинув вверх дном на ковер бытия,
Он наполнил отравой лазурную чашу.
Но, оказывается, этого изощренно-
го мастера есть в чем упрекнуть, или,
во всяком случае, можно заметить
в его работе некую странность, по-
буждающую к размышлению. Тот, кто
«утвердил чашу небес» и создал
людей, лишь уподоблен горшечнику.
Но вот самый настоящий мастер,
какого всякий день можно увидеть на
базаре он бережно относится к
горшкам и кувшинам — в них вло-
жены его умение и труд, за которые
он получит свой хлеб. А «тот горшеч-
ник, что вылепил головы наши»,
делает это лишь затем, чтобы вскоре
их уничтожить.
Гончар не решится в куски расколоть
Сосудов, им сделанных, хрупкую плоть.
А тот, изготовив людские тела,
Торопится в глину их перемолоть!
Есть ли в таком занятии здравый
смысл? Из-за этих вечных упражнений
небесного горшечника в своем ремес-
ле обречено на страдания все, что
способно страдать,— все живые тва-
ри, и особенно те кто сознает
ненадежность своего существования
и тяготится страхом смерти. Либо это
извращенное упоение чужой болью,
либо творец подобен беспечному
ребенку, который что-то строит из
песка и тут же рассыпает.
Владыка небесный, создатель миров,
Твой миропорядок — увы! — нездоров:
Удачны творенья — зачем их ломать?
С изъяном — так это вина мастеров!
Хайям уличает бога если не в само-
дурстве, то, по меньшей мере, в не-
последовательности. Но разве не
должен мудрец, философ, каким был
Омар Хайям, видеть в смерти явление
естественное и необходимое? Ему-то
эта необходимость видна была, воз-
можно, лучше, чем кому-либо еще
в его время (хотя он и сетовал, что
«распутать узел смерти недостало
сил»). Но с мыслью, что все мы
допущены в этот мир на время, что
конец неотвратим, особенно трудно
примириться человеку, не верящему
в посмертное существование. Поэт
высказывает эту свою досаду тому,
кто якобы завел и поддерживает
столь нелепый порядок Это, пожалуй,
главная претензия, которую Хайям
предъявлял богу, «милостивому и ми-
лосердному». Но далеко не
единственная.
Если тот, кто совершит пре-
ступление, лишен свободной
воли, то наказывать его за его
поступки — не есть ли это
жестокий произвол? Господь,
когда создавал руду, знал
ведь заранее, что из нее будут
поделаны блестящие мечи.
Знал же он, что этими мечами
будут проливать кровь людей.
Абу-ль-Аля аль-Маарри
(X—XI вв.)
В ИУДАИЗМЕ И ХРИСТИАНСТВЕ
верующий прежде других «истин»
усваивает, что «на все — божья во-
ля». С еще большей настойчиво-
стью повторяются предупреждения
о всеведении бога, о всеобщем бо-
От черных недр земли и до орбит
светил
Все темные места я знаньем осветил,
Все хитрые узлы прозреньем развязал!
Распутать узел смерти мне недостало
сил...
жественном предопределении в свя-
щенной книге мусульман — Коране.
Аллах знает все, что сокрыто в
людских сердцах (Коран, сура 3, аят
148), все, что происходит на земле
и в морских пучинах; помимо его воли
не упадет ни один лист; нет ни одного
зерна в земле, ни одной зеленой или
сухой былинки, которые бы не были
отмечены в книге, где записано все,
что было, есть и будет (сура 6, аят 59).
Все во Вселенной, и добро и зло —
несчастья, беды, насилия, несправед-
ливости, происходит по воле бога.
Этот догмат об абсолютном пред-
определении, если понимать его бук-
вально и неукоснительно прилагать
к жизни, приходил в противоречие
с некоторыми практическими интере-
сами власть имущих. Коль скоро «на
все воля Аллаха», то правоверный
мог отказаться от какой-либо от-
1 Переводы четверостиший Омаре Хайяма
принадлежат автору статьи
25
ветственности за свои поступки. Му-
сульманские богословы немало изощ-
рялись в софизмах, чтобы «увязать»
догмат о предопределении с
привычными критериями добра и зла
с моральными и правовыми установ-
лениями, освященными исламом. Но
чаще всего верующему предлагали,
не мудрствуя лукаво («не дознава-
ясь — как и не сравнивая»), просто
верить. Вот как это внушалось ему
в одном средневековом суфийском
сочинении: «Они (суфии. — В. 3.) сог-
Л устам -к
спреи в; » <4- пог гаг» наг?.
У.гвжut из <Неи,
ПоК'1Ла к не г '•е шъ!*
ласны с тем, что не поступки опреде-
ляют награду и наказание, но божья
милость и справедливость и божье
определение. Они согласны, что
райское блаженство достается тем,
кому счастье предопределено богом
без какой-либо причины, и что адское
наказание постигает тех, кому не-
счастье предопределено богом без
какой-либо причины,— как гласит
предание: «Эти — в раю — там им
и быть, а эти — в аду — там им
и быть»2. Тем не менее они согласны,
что бог награждает и наказывает за
поступки, ибо он обещал за пра-
ведные деяния и грозил за деяния
злые...»
Хайям, со свойственной ему нетер-
пимостью ко всякой нелепости, пре-
подносимой в качестве истины, выска-
зал свое суждение и об этом, самом
очевидном противоречии мусуль-
манского вероучения.
Сотни капканов расставил ты мне
на пути
И строго велел все подвохи твои обойти.
Никто во Вселенной не выйдет
из воли твоей,
Кому же вину за грехи подневольных
нести?
С точки зрения Хайяма,— писал
советский исследователь А. Болотни-
ков,— «никакого логического оправ-
дания не имеет идея справедливого
и всемудрого божества... Идея бога
равносильна в лучшем случае идее
о каком-то небесном театральном
директоре, который в забаву себе
создал этот мир и человека в нем».
Мы куклы на нитках, и неба рука
Ведет нас по коврику жизни, пока,
Сыграв свою роль в балагане судьбы,
Не свалимся снова на дно сундука.
Автор и режиссер всего этого
представления не слишком удачно
его задумал и скверно разыгрывает:
О небо, отчего ты тешишь подлецов
Прохладою садов и роскошью дворцов,
А честным даже хлеб даешь
не всякий день?
Не грех такому небу плюнуть бы в лицо!
Иной раз гнев поэта достигает таких
пределов, что отношение к «небу» он
изъявляет в выражениях, которые по
строгим правилам благопристойности
считаются неудобными в печати. Ког-
да его недовольство произволом
высших сил, всем порядком мирозда-
ния доходит до крайней степени, он
высказывает кощунственное жела-
ние — заменить всевластное, но нера-
зумное, не справившееся со своей
отвественной ролью провидение на
другое, которое могло бы переина-
чить, переделать все основы бытия:
Будь я властен над судьбами
вечных миров,
Я бы этот кружащийся звездный покров
Заменил на другой, чтоб небесные козни
Впредь порядочным людям не портили
кровь.
Иногда эти Хайямовы обращения
к богу похожи на то, как учитель
вразумляет нерадивого ученика, ко-
торый никак не может взять в толк
связь между причиной и следствием.
Или не желает. А поэт как бы
примеряет на боге те самые
нравственные правила, что изготовля-
лись для смертного:
Скажи мне, кто не согрешил
Из тех, кто в божьем мире жил?
Я зло свершил. Ты злом ответил —
Меня от зла не разрешил.
Хайям только рассуждает, он не
выносит окончательного приговора.
Пусть верующий решает сам: либо
бог не так уж справедлив и милостив,
как в это предписано верить, а,
скорее, злопамятен и мстителен (как
человек); либо он не такой грозный
и беспощадный, как стращают ве-
рующего. Но если богу при-
писываются взаимоисключающие
свойства, то, быть может, верующий
наконец догадается: никто и не знает
толком, что же это такое — бог.
Но вот, словно забыв, как он
обвинял бога в бессмысленной жесто-
кости, Хайям начинает толковать о его
милосердии. И дает понять, что
божьей кары бояться не надо. Хотя
это явно противоречит основным му-
сульманским заповедям, всем тем
предупреждениям и угрозам, ко-
торыми пестрит текст Корана, поэт, не
опровергая их, предпочитает ссылать-
ся или намекать на другие речения из
той же книги, утверждающие, что бог
терпим и милостив. Из этих двух
противоположных качеств бога Хайям
как бы советует верующему
рассчитывать главным образом на
второе. Ему хотелось развеять страх
человека перед божьим гневом. Он
считал, что у людей слишком много
настоящих бед и напастей, чтобы еще
терзать себя этими придуманными
ужасами.
В грехах себя коришь, терзаешь
так и сяк,
Но милости творца источник не иссяк:
Сейчас, напившись пьян,
ты грешен перед богом,
А завтра он простит твой тлеющий
костяк.
Впрочем, чтобы даровать грешнику
такое «прощение», вовсе не требуется
божественного всемогущества.
Но бог не только наказывает или
прощает, он и сулит награду.
В чертогах небесных
отрада —
За труд и за муки награда
За боль и за стыд.
Ф. Сологуб
ОДИН ИЗ ПЕРСОНАЖЕЙ шекспи-
ровской комедии «Мера на меру»,
некий Клавдио, не желавший умирать
во цвете лет, очень красноречиво
оправдывал это свое нежелание:
И самая мучительная жизнь:
Всё — старость, нищета, тюрьма, болезнь.
Гнетущая природу, будут раем
В сравненьи с тем, чего боимся в смерти.
(Перевод Т. Щ е п к и н о й-К у пе р ник)
Каким же должен быть тот не-
бесный рай, надежда на который хоть
отчасти могла бы примирить людей
и с тяготами земного «рая», и, глав-
ное, с необходимостью навсегда
расстаться с ним? Почему-то челове-
ческое воображение обычно бывает
довольно вялым, когда рисует карти-
ну высшего, неземного блаженства.
Ни в поэтических, ни в живописных
воплощениях райских видений почти
2 Такого же мнения придерживались, впро-
чем, и многие христиане. Святоша Вилли, один
из персонажей Р. Бериса, был убежден, что
всевышний «шлет этих в светлый рёй, а тех —
в мрак бездны преисподней, не за добро или
за грех, а милостью господней» (перевод
Т. Щепкиной-Куперник).
26
никогда не ощущалось того вдохнове-
ния, той страсти, какими исполнены
многие картины адских ужасов.
Из всех известных концепций рая
мусульманский отличается своей яр-
кой образной конкретностью и даже
чувственностью — это идеал всех
благ, к которым человек стремится на
земле, с той разницей, что в раю все
это еще лучше, добротнее, «кон-
центрированнее».
Хайяма не прельщает заманчивая
возможность получить доступ в рай.
Все, что он говорил по этому поводу,
близко к смыслу известной русской
пословицы о журавле в небе и синице
в руках:
Сулят мне: в Эдеме отраду найдешь!
По мне, так и сок винограда хорош.
Наличность бери, а на слово не верь,
Лишь издали гром барабана хорош.
Поэт как будто не отрицает самого
существования рая (что было бы уже
откровенной ересью), но и не слиш-
ком полагается на обещания. Жизнь
учит,, что обещания — дело ненадеж-
ное, перспективы рая довольно ту-
манны и даже сомнительны. А потому
следует особенно ценить то немно-
гое, чем радует нас земная жизнь.
Мысль эта явно направлена против
всего того, что составляет социальную
подоплеку мифа о рае.
Надежда на райские блаженства
в той или иной мере примиряла
обездоленных с их земной участью,
гасила или ослабляла стихийные
порывы возмущения и протеста, не
давая им вылиться в открытое
действие. Дискредитируя этот символ
веры, Хайям создавал и косвенную
угрозу сложившемуся социально-по-
литическому порядку. Вольное обра-
щение с религиозной догмой,
трезвый, не отуманенный привычным
умилением взгляд на старую сказку
о рае для кого-то могли стать первым
шагом если не к свободомыслию, то
хотя бы к умению мыслить, рассуж-
дать, сравнивать, что уже таило в себе
опасность для власть имущих.
Сопоставление земной жизни с обе-
щанной потусторонней у Хайяма
всегда было в пользу здешней и тем
ослабляло обаяние гой, загробной.
Но если желаешь райских радостей
здесь, на земле, рискуешь преступить
божьи запреты, согрешить. И тем не
менее Хайям не хочет ждать:
В раю, говорят, будет мед и вино
И гурии будут глазастые... Но
Не грех бы разжиться всем этим теперь:
Немного пораньше — не все ли равно?
Интересно, что, собираясь нару-
шить мусульманские заповеди, поэт
будто нисколько не сомневается, что
если рай существует, то при всех
обстоятельствах доступ туда ему
обеспечен. Откуда подобная уверен-
ность у того, кто явно не в ладу
с религиозными предписаниями и ма-
ло того, что не скрывает своих
греховных наклонностей, но и других
побуждает выйти из повиновения
Аллаху то есть совершить грех? Да
только грех греху — рознь
«НЕ УБИЙ». «НЕ УКРАДИ». Невозмож-
но точно установить, кто и когда
впервые приписал эти и другие по-
добные им запреты богу или богам.
Но с тех пор как они были объявлены
божественными заповедями, их нару-
шение стало считаться грехом
В Коране осуждается бытовавший
до ислама у арабов обычай уби-
вать новорожденных девочек и
умерщвлять детей, когда семье не
хватает пропитания Детоубийство —
грех перед богом и преступление
перед людьми. Не только для мусуль-
манина, для верующего любого испо-
ведания и для атеиста это — чудовищ-
ное злодеяние.
Но бывают религиозные заповеди
другого рода, скажем, «не делай себе
кумира» (Библия, Исход, гл. 20, ст. 4),
«не ешь мясо свиньи» (Коран, сура 2,
аят 168 и др.), «запрещена вам
мертвечина... и убитая ударом, и уби-
тая при падении, и забоданная...»
(сура 5, аят 4). Нарушить эти за-
преты — тоже грех. Однако не для
всех, а лишь в той среде, где
действуют соответствующие религи-
озно-нравственные правила. В других
же местах такие поступки могут быть
вполне допустимыми, обычными, а то
и благочестивыми
Таким образом, грех — понятие
в высшей степени относительное. Ос-
кар Уайльд заметил по этому поводу,
что нет греха, кроме глупости. Конеч-
но, в этом афоризме сказалась неко-
торая эксцентричность, отличавшая
знаменитого литератора, но, как бы то
ни было, слово «грех» в наши дни
звучит совсем не так зловеще или
настораживающе, как слово «преступ-
ление» или «злодейство». Дело, ве-
роятно, в том, что поступки, расцени-
ваемые как преступления, направ-
лены против человека. У людей
и у бога (то есть у тех, кто выступает
от его имени) здесь могут быть
разные нравственные критерии.
Многие мусульманские вероучите-
ли разделяют грехи правоверного на
«великие» и «малые». Среди «вели-
ких», тех, за которые грешника ждет
ад, если он не искупит их, числятся,
например, убийство и неверие в
божью милость, лжесвидетельство и
бегство с поля боя в сражении с не-
верными, употребление вина и клят-
вопреступление, отсутствие страха
перед божьим гневом и колдовство.
Но сколь разнородными ни показа-
лись бы эти грехи, можно сразу
сказать, какие из них задевают пре-
жде всего интересы человека, а ка-
кие — Аллаха С точки зрения храни-
телей авторитета всевышнего, того,
кто разуверился в божьей милости,
следует судить строже, чем, скажем,
присвоившего имущество сирот (он
совершил «малый» грех).
У Хайяма собственная классифика-
ция грехов.
В деяниях и словах, не причи-
няющих зла другому человеку, пусть
и осуждавшихся как грех против бога,
против веры* он, даже и называя их
грехами, ничего постыдного и пагуб-
ного не усматривал. А потому даже не
видел необходимости в них каяться:
Истома любви не остынет во мне,
И впредь буду черпать веселье в вине.
Прощает господь, говорят, покаянных.
Другие пусть каются, я — в стороне!
Здесь, пожалуй, уместно затронуть
вопрос о том, как следует понимать то
пристрастие к земным гуриям и вину,
что так вдохновенно воспевается в
стихах Хайяма и многих других поэтов
мусульманского Востока.
Персонаж одного из рассказов
О. Генри, незадачливый золотоиска-
тель Айдахо Грин, случайно познако-
мившись со стихами Хайяма в
английском переводе и сильно увлек-
шись ими, так отзывался об их авторе:
«Он, похоже, что-то вроде агента по
продаже вин. Его дежурный тост: «Все
трын-трава» По-видимому, он стра-
27
дает избытком желчи, но в таких
дозах разбавляет ее спиртом, что
самая беспардонная его брань звучит
как приглашение раздавить бутылоч-
ку».
Рассказ О. Генри впервые был
опубликован в 1907 году. Даже в то
время, когда всесветная слава поэта
Омара Хайяма еще только начина-
лась, отнюдь не все читатели понима-
ли Хайямовы рассуждения о вине так
буквально, как простодушный Айдахо
Грин И все же до сих пор очень
многие в этом недалеко ушли от
героя О. Генри. Возможно потому,
что о вине в четверостишиях говорит-
ся чаще и больше, нежели о каком-
либо ином предмете материального
мира В соответствии с давней су-
фийской традицией, всякое упомина-
ние о вине может быть понято как
метафорическое, иносказательное
обозначение напитка «божественной
истины», а опьянение — как состо-
яние мистического экстаза, прибли-
жения к божеству, вплоть до слияния
с ним. Заведомая неприменимость
мистического толкования к хай-
ямовской поэзии была отмечена уже
семь с половиной столетий тому назад
упоминавшимся выше историком ал-
Кифти. Большинство исследователей,
толковавших гедонические мотивы в
поэзии Хайяма, приходили к выводу,
что у него вино — аллегория всех
простых и доступных человеку
земных радостей. Возможно, Хайям
избрал именно вино символом истин-
ного блаженства отчасти из желания
придать более вызывающий смысл
и характер своему неприятию му-
сульманских законов и установлений:
коль скоро употребление вина осуж-
дается Кораном и правилами шариата,
нарочитое восхваление этого напитка
воспринимается как демонстративное
пренебрежение заповедями, почита-
емыми всяким правоверным мусуль-
манином.
Смиреньем и постом я душу не томил.
Грехов густую пыль с лица доднесь
не смыл...
Да он просто искушает терпение
Аллаха! А не ведет ли он все к тому,
что никакого всевышнего не су-
ществует и, стало быть, нечего боять-
ся его гнева? Как знать! Возможно, он
в этом и убежден, но объявлять такое
во всеуслышание не желает. Не толь-
ко потому, что, рискни он это сделать,
ему пришлось бы искать спасения от
возмездия уже не гипотетического,
а вполне реального. Можно предпо-
ложить здесь и нежелание оскорбить
тех, кто вокруг, почти сплошь ве-
рующих Вместо покаяния грешник
заготовил себе оправдание. Две по-
следние строки рубаи звучат так:
Но бог меня простит: никто и никогда
Одно двумя назвать меня не соблазнил.
Некоторые комментаторы этого
четверостишия полагают, что тут со-
держится намек на первый из ос-
новных догматов ислама, провозгла-
шающий единственность бога: «Нет
бога, кроме Аллаха». Если это так,
идея четверостишия может
заключаться в следующем: достаточ-
но лишь неколебимо стоять на том,
что веришь в единого бога, и он
отпустит тебе все грехи. В сущности,
это соображение, хотя оно и выводит-
ся из богословского постулата, ставит
под сомнение право мусульманских
ортодоксов на всеобъемлющий
контроль не только над сознанием
Мы куклы на нитках, и неба рука
Ведет нас по коврику жизни, пока,
Сыграв свою роль в балагане судьбы,
Не свалимся снова на дно сундука.
правоверных, но и вообще над всеми
сторонами их жизни, вплоть до самых
интимных. Хайям часто дает понять,
что богу в его заботах по устройству
и поддержанию в должном порядке
всего мироздания просто некогда
заниматься такими мелочами, как
поступки отдельных индивидов.
Если в жбане вино будет вместо воды.
Пей со всяким его и не бойся беды.
Посуди: что за дело создателю мира
До твоих ли усов, до моей бороды?
Возможно, он и создатель мира,
и знает все, что в нем происходит, но,
как выразился один из персонажей
пьесы М. Е. Салтыкова-Щедрина «Те-
ни», имея, правда, в виду начальство
хоть и высокое, но здешнее, земное,
«ему не до подробностей, которые
должны сглаживаться и улаживаться
сами собою». Словом, грехами наши-
ми ему заниматься некогда, а значит,
нам нет причин страшиться его гнева.
Стало быть, когда те или иные
распоряжения и предупреждения, ка-
сающиеся поведения верующего,
приписывают Аллаху, это скорее за-
урядный благочестивый подлог. Хай-
ям избегает высказываться по этому
поводу столь круто, но многие его
четверостишия могут склонить чита-
теля именно к такому выводу. Что же
касается толкования последнего стиха
приведенного выше рубаи («Одно
назвать двумя...»), то вряд ли Хайям
имел здесь в виду единого бога.
Выражение «назвать одно двумя»
означает, по-видимому, то же, что
и русское «белое назвать черным», то
есть утверждать заведомую ложь или
соглашаться с такой ложью, по-
творствовать ей. Не есть ли это тяжкий
грех?
Итак, поэт мог выдвинуть сколько
угодно соображений в оправдание
своих грехов. Но из этого вовсе не
следует, что он вообще не признавал
никаких нравственных правил. Грехи,
которые он считал простительными,—
несоблюдение постов, пренебреже-
ние молитвой, не санкционированная
законом любовь,— все это в первую
очередь провинности перед богом.
Ни жизни ни благополучию, ни здо-
ровью окружающих они прямо не
угрожают
Откажись от молитв и обрядов смелей,
Для ближних куска своего не жалей,
Ни обиды, ни зла никому не чини —
И не бойся всевышнего. Чашу налей!
Вот простая и здоровая человечес-
кая мораль, и если она в чем-то
противоречит заповедям ислама, то
бог с ними!
Если правда, что есть ты,
боже,
боже мой,
если звезд ковер тобою
выткан...
Маяковский
СРЕДИ ТЕХ ЧЕТВЕРОСТИШИЙ, по
которым в наше время большинство
читателей, знакомых с творчеством
Хайяма, выносит свое суждение о
нем, многие содержат либо прямые
обращения к богу, к небесам, к судь-
бе, либо упоминают бога в связи
с теми или иными кардинальными
проблемами бытия. Интерес к ним
можно обнаружить и у многих других
поэтов средневекового Востока, но,
по-видимому, никто из них не допус-
кал такого тона в обращении к
всевышнему, как Хайям.
Большинство современных иссле-
дователей и критиков, констатируя
богоборческие мотивы в поэзии Хай-
28
яма, не склонны, однако, считать его
атеистом. Решительное безбожие, го-
ворят они, было настолько чуждым,
в сущности невозможным для средне-
векового мусульманского Востока,
что даже такой оригинальный мысли-
тель, как Хайям, вряд ли был в этом
отношении исключением. Действи-
тельно, ни в научных трактатах,
рассчитанных на определенный круг
читателей, ни в стихах, сочинявшихся,
вероятно, для себя и известных лишь
самым доверенным людям поэта, он
Дорогой веры следует идти,
Решил один. Другой надеется найти
Тропинку истины. Когда-нибудь им
скажут,
Что оба шли не по тому пути.
не отвергал открыто основ мусуль-
манской веры. В его время это было
слишком опасно, почти равнозначно
самоубийству. Обвинение . в веро-
отступничестве или в ереси было
тогда самым тяжким из всех воз-
можных обвинений. Два современни-
ка Хайяма, авторитетные мусуль-
манские богословы Эйнолькозат Ха-
мадани и Шехабоддин Сохраварди
были казнены только за то, что
отказались признать некоторые фор-
мулы ортодоксального благочестия.
Но дело, по-видимому, не только
в осторожности Хайяма, хотя он часто
рекомендовал ее в своих четверости-
шиях как наиболее разумную линию
поведения:
Нельзя доверять произволу молвы
Тех тайн, что исторг у Вселенной. Увы,
Народ ненадежен: доверься невежде —
Того и гляди не сносить головы!
Он явно не желал быть ересиархом,
то есть публично выдвигать взамен
отвергаемых собственные постула-
ты, объявлять в качестве истинной
веры свою доктрину, уловлять души
людей. Натуре поэта больше соот-
ветствовала позиция наблюдателя за
всем, что происходит вокруг. И его
наблюдения за верованиями людей
оказались настолько зоркими и остро-
умными, его суждения и оценки —
настолько убедительными, так далеко
выходящими за рамки того предмета,
по поводу которого они высказаны,
что сохраняют злободневность и по
сей день.
Многочисленные Хайямовы вари-
ации на божественную тему как бы
делятся на два цикла, резко отли-
чающиеся один от другого тональ-
ностью, настроением и самим отно-
шением к предмету. Один состав-
ляют четверостишия, в которых бог
становится объектом обличений и сар-
казма. Хайям либо прямо обвиняет
Аллаха в жестокости, мнительности,
самодурстве, либо выявляет эти его
качества с помощью выразительных
аллегорий и остроумных рассужде-
ний. Творец всего сущего, всеведущий
и всемогущий ответствен за все, что
происходит во Вселенной, включая
все несчастья, беды, жестокости, на-
силия, несправедливости, отрав-
ляющие жизнь людей. Гнев, отчаяние,
возмущение, горечь — вот настро-
ения этого цикла.
Общая тональность второго цикла
иная: здесь все как бы преисполнено
благодушия и деликатной иронии,
которая, впрочем, иногда, словно
невзначай оказывается довольно яз-
вительной («...А завтра он простит
твой тлеющий костяк!»)
Если исходить из предположения,
что и богохульные и благодушные по
отношению к всевышнему четверо-
стишия создавались параллельно, что
один и тот же сюжет давал Хайяму
поводы для размышлений о разных
философских и нравственных пробле-
мах и для различного их толкования,
то вся совокупность этих четверости-
ший предстанет необычайно ориги-
нальной поэмой, которой трудно
отыскать аналогию в мировой поэзии.
Это поистине «божественная трагико-
медия». Она едко пародирует свя-
щенные мифы и предания, бого-
словскую схоластику и шариат, на-
ивные верования и предрассудки
толпы. Она исполнена сострадания
к беспомощным, обездоленным, у ко-
торых нет иной надежды, как на
милость провидения, и нет большего
страха, как перед его всемогу-
ществом. Сочувствуя им, жалея их,
оплакивая вместе с ними их незавид-
ную долю, поэт, явно удрученный
тупой покорностью и неумением рас-
суждать, всеми способами пытается
вывести людей из состояния обречен-
ности, затронуть за живое. Ради этого
он готов посягнуть на их святая святых,
единственное духовное убежище —
на веру, внушая недоверие то к са-
мому небесному владыке, то к его
земным служителям.
Эта «божественная трагикомедия»,
по форме вовсе не похожая на
манифест воинствующего атеизма,
своей не так уж глубоко спрятанной
моралью, несомненно, должна импо-
нировать неверующему больше, чем
верующему. Но обаяние поэзии Хай-
яма столь велико, что у нее немало
ценителей и среди верующих. Одни
из них прощают ему его богохульство,
другим удается попросту не замечать
в его стихах всего того, что явно не
согласуется с верой. Иные же изыски-
вают в них такой смысл, какого там
нет и в помине.
Все основные постулаты, на ко-
торых зиждется вера в бога, подвер-
гаются в Хайямовых рубаи либо
сомнению, либо осмеянию, то откро-
венному, то скрытому. Хайям
бессмертие души прямо не отрицал,
но давал понять, что это вещь сомни-
тельная и маловероятная («Из тех, что
ушли в эту темную даль, покуда
вернувшихся я не видал»), что
вряд ли после смерти человека от
него останется нечто, сохраняющее
сознание И вовсе нелепой казалась
ему надежда на то, что этому «нечто»
может открыться конечная истина
Лишь тайну бытия сумевши разгадать,
Смогли бы мы постичь и смерти
благодать.
Здесь, наяву, никак до сути не дошли,
Там, в вечном сне совсем просвета
не видать.
Но если нет бессмертия души, то
бог лишается важнейшей из своих
прерогатив — решать посмертную
участь смертного.
В наши дни еретические мотивы
Хайямовых четверостиший наполни-
лись новым содержанием. Для совре-
менного человека в них заключены
уроки твердости духа, уважения к ра-
зуму, готовности предпочесть сколь
угодно горькую истину любому
«возвышающему» обману. Без стро-
гого, трезвого взгляда на мир, без
отказа от легкомысленных упований
на какую бы то ни было реальную или
воображаемую высшую распоряди-
тельную силу человеку все труднее
справляться с теми проблемами, ко-
торые ставит перед ним жизнь. Не
потому ли Хайямовы стихи, которые
так мало похожи на развлекательное
чтение и менее всего пригодны на то,
чтобы утешить, убаюкать человека,
истомленного заботами, страхами, из-
нуряющим ритмом современной жиз-
ни, не потому ли эти прекрасные
и полные сомнений и печали творения
именно в нашу эпоху разошлись по
всему свету? Они несут людям цели-
тельное беспокойство, пробуждая ра-
зум и воображение от усталости,
апатии, лени и спячки.
29
ЧИТАТЕЛЬ СООБЩАЕТ, СОВЕТУЕТ, СПРАШИВАЕТ
Расскажите, пожалуйста, о ленинградской мечети. Кем и
когда было построено это красивое здание? Нигде не
пришлось о нем прочесть. X. ГЛЕБОВА,
Ленинград
Первая
в столице империи
И В 1881 году россий-
ские мусульмане подали
на высочайшее имя про-
шение о разрешении по-
строить в столице мечеть.
Оно было дано через
двадцать с лишним лет.
Вот выдержки из посла-
ния эмира Бухарского,
одного из главных хода-
таев о возведении храма
мусульман в столице (а
их жило в ней немало),
царю Николаю 11 (при-
быв в конце 1904 года в
Петербург, эмир был
приглашен ко двору на
семейный завтрак):
«Сегодня, 5 декабря,
Властитель мира удостоил
нас счастья находиться в
семейном кругу Вашего
Императорского величе-
ства... приемлю смелость
доложить Вам, государь
Милостивый и Справед-
ливый, следующее: 23 го-
да тому назад я, в качест-
ве посла своего покойно-
го родителя, приезжал ко
двору в Петербург и
Москву на коронование
императора Александ-
ра III. В то время му-
сульмане Петербурга хло-
потали о сооружении себе
храма. До настоящего
времени... они не были в
состоянии выполнить свое
намерение... Испрашиваю
Высочайшее соизволение
Вашего Величества купить
нам участок земли... и по-
дарить его здешним му-
сульманам...»
Вскоре эмир записал в
своем дневнике: «Слава
Аллаху! Наше ходатайст-
во удостоилось всемило-
стивейшего одобрения».
Участок для мечети
площадью 250 квадратных
саженей* был выбран в
месте весьма престиж-
ном — на углу Кронверк-
ского проезда и Конного
* Сажень — мера длины, равная
примерно 2,1 метра.
переулка, эмир заплатил
за него 312 тысяч рублей
и стал, таким образом,
самым крупным жертво-
вателем. Кроме него
большие суммы на строи-
тельство мечети дали ба-
кинские и бухарские бо-
гачи, немалые средства
прислали мусульмане По-
волжья, Средней России.
Проект сделал архитектор
Д. Л. Кричевский.
Строили мечеть с раз-
махом, не стесняясь в
средствах. Приглашены
были искусные мастера,
известные своим участием
в сооружении мечетей
крупных мусульманских
центров. В 1911 году ра-
боты были в разгаре.
«На возведение того,
что до сих пор сделано,
потрачено всего около
200 тысяч рублей,— ин-
формировал петербург-
скую газету «В мире му-
сульманства» председа-
тель строительного коми-
тета полковник А. Дав-
летшин (к этому моменту
здание уже вчерне окон-
чено, надо было лишь воз-
вести еще на 6 саженей
минареты, а затем обли-
цевать храм). — Остается
у комитета еще 275 ты-
сяч рублей, которые бу-
дут поглощены на наруж-
ную отделку мечети.
Средства для внутренней
отделки, которая бы впол-
не соответствовала наруж-
ной роскоши, комитет на-
деется изыскать в даль-
нейшем».
Как и было задумано,
мечеть облицована серым
гранитом. Главный портал
украшен керамиковыми
сталактитами и майоли-
кой, в подражание старым
самаркандским мечетям.
Купол также покрыт го-
лубой майоликой. По тем
временам это было заме-
чательное сооружение
еще и потому, что в мече-
ти устроена вентиляция,
проведено электричество,
паровое отопление, она
совсем не походила на
другие мечети империи.
Кроме того, имеется у
нее и такая особенность:
хоры для женщин. «За
это нас упрекают и, дол-
жно быть, будут упре-
кать,— говорил Давлет-
шин,— но если женщины
допускаются в мечети в
Мекке, в нашей святыне,
и отделены от мужчин
только невысокой дере-
вянной оградой, то поче-
му мы не должны допу-
скать их хотя бы в изоли-
рованные хоры,закрытые
разрисованной стеклян-
ной стеной?»
Строительство закон-
чилось в 1916 году.
В. БЕКЯШЕВ
Ленинград
«...ЧУЖАЯ НЕ
НУЖНА»
• Баудин нерешительно
перешагнул порог и оста-
новился. В клубе царило
веселье. Лихо отплясыва-
ли нарядные парни и де-
вушки — жители сибир-
ской деревни, куда Бау-
дин приехал на заработ-
ки.
На него оглянулись с
удивлением — «шабашни-
ки», как называли при-
ехавших работать по под-
рядному договору, на тан-
цы никогда не ходили.
Работали без выходных,
от рассвета дотемна:
строили двухквартирные
дома. Уставали так, что не
до танцев было. Зато и
заработки ожидались со-
лидные: кто копил на
машину, кто еще на что.
Баудин зарабатывал на
калым — жениться пора,
говорили родители.
Но в клуб зашел не по-
тому, что приглядывал не-
весту,— тянуло к молоде-
жи. А вышло так, что
именно здесь и влюбился
с первого взгляда.
Белокурая, голубогла-
зая, стройная, улыбчи-
вая — такой была Дина,
единственная у матери
дочка. Сначала она рас-
терялась под напором
чувств молодого кавказ-
ца, а потом и сама полю-
била его. Что ни вечер —
молодые люди вместе.
И с каждой встречей ста-
новилось все яснее обо-
им: друг без друга не-
возможно. Работа у Бау-
дина и его товарищей за-
кончилась, и он купил два
билета на самолет. Мама
плакала, провожая дочку
в чужие края.
И вот — посадка. Пере-
лет оказался не из легких.
Дина чувствовала недомо-
гание — она уже ждала
ребенка, но Кавказ сразу
ее восхитил. Чеченский
30
гортанный говор тоже по-
казался красивым — ведь
это язык ее мужа, ее Бау-
дина!
Но на этом все хорошее,
радостное и закончилось.
Из аэропорта поехали
почему-то не к родителям
Баудина, а к его другу,
которому и была поведана
вся история любви.
Друг этот — я, мы с Бау-
дином вместе учились в
школе. Может, еще и по-
тому он поручил мне под-
готовить родителей, что у
нас в семье тоже русская
невестка: мой брат же-
нился на москвичке. От-
ношения с ее семьей у
нас самые добрые.
Я охотно согласился
быть «полпредом» и от-
правился к родителям
Баудина с легкой душой.
Дина уже не улыбалась,
сидела настороженная —
видно, чувствовала, как
все плохо оборачивается.
Но я не ожидал такого.
Узнав о моей миссии,
Байсари, мать Баудина,
затопала ногами, стала
выкрикивать бранные сло-
ва. В чем только' не об-
виняла Дину, которую и
в глаза-то не видела ни-
когда. И, сказав послед-
нее, самое страшное у
таких людей обвинение:
«Чужая, иноверка!», побе-
жала к молодым.
— Сейчас же до-
мой! — приказала она
Баудину.
Тот понурился и, не
взглянув на побледнев-
шую Дину, вышел из ком-
наты. На улице ждал Бау-
дина отец. А «свекровь»
до тех пор оскорбляла Ди-
ну, пока поток известной
ей ругани не иссяк. Мне
было горько ее слушать.
Вечером, через меня,
Байсари передала деньги
на обратный билет для
Дины:
— Пусть катится из на-
ших краев туда, откуда
приехала.
Провожал Дину я. Осу-
нувшаяся, растерянная,
она была словно во сне.
Оскорбления не достига-
ли ее — что значит грубая
брань по сравнению с пре-
дательством любимого
человека? «Чужая, ино-
верка»,— назвала ее Бай-
сари. А мне вспомнилось:
«Там, в краю далеком,
чужая мне не нужна».
Песня есть такая. Все она
вертелась у меня в голове,
когда провожал Дину в
аэропорт.
Слезы катились по ее
лицу — она их не замеча-
ла. На прощание и поже-
лать ей было нечего, все
слова звучали бы фальши-
во. Последнюю фразу
произнесла, ни к кому не
обращаясь, сама Дина:
«В чем, ну в чем я винова-
та?»
Этот вопрос до сих пор
мучит меня.
Хусаин БЕРСАНУКАЕВ,
с. Шали
Чечено-Ингушской АССР
ЦЫГАНКА
ГАДАЛА...
• «Дожить бы!» Как час-
то люди к месту и не к
месту произносят эти сло-
ва. Скажут — и забудут о
них: редко кто говорит это
всерьез, отмеряя себе
какой-то определенный
жизненный срок. Но мать
одной моей знакомой,
говоря так, подразумева-
ла вполне конкретную
цифру — 60 лет. В моло-
дости цыганка нагадала
ей, что доживет только до
этого возраста. Проро-
чество запало в душу Тем
более что остальные цы-
ганкины предсказания в
свое время «сбывались»:
замужество, рождение
дочери...
И со дня своего 60-ле-
тия бедная женщина по-
теряла покой и сон —
каждый миг ждала смер-
ти. Так прошел год,
другой... тридцатый. Да,
да, прожито еще 30 дол-
гих, полноценных лет,
выросли дети, внуки, под-
росли правнуки И когда
в 91 год действительно
слегла, она завещала всем
членам семьи: «Не верь-
те гадальщицам!»
Вот если бы могла ее
услышать вовремя Гульд-
жамал С. из узбекского
города Хива! К ней на ули-
це подошла цыганка и
попросила «двушку» для
телефона-автомата. Де-
вушка раскрыла кошелек,
в котором было немало
денег, и цыганка тут же
заговорила о другом.
«Разве ты, милая, не зна-
ешь, что серьезно больна?
Тебе грозит опасность.
Вот смотри: беру чистую
иголку, вкладываю в твою
ладонь — видишь, на игле
кровь? Это твоя болезнь
проступила. Ну, ничего,
я тебе помогу. Радуйся,
что встретила меня. Давай
60 рублей, завтра увидим-
ся — будешь здорова ..»
Точно такой же слу-
чай — с иголкой — про-
изошел недавно в Дер-
бенте. С той лишь разни-
цей, что «смертельно за-
болевшей» оказалась не
наивная девушка, а жен-
щина средних лет, образо-
ванная. Верно сказано —
у страха глаза велики, а
у суеверного страха они
еще больше. Так что же
с иголкой-то? Все очень
просто. Стоит смочить
пальцы раствором мед-
ного купороса, дать ему
высохнуть, а уж затем
взяться за иголку, как на
ней ржавчиной проступит
«кровь»: так взаимодей-
ствуют кислота и металл.
Г. МАГОМЕДШЕРИФОВ,
г. Дербент
СОМНЕВАЮСЬ...
• Мне 25 лет, у меня
трое детей. Как, в каком
духе их воспитывать, если
я сама в жизни многого
не понимаю — вот что не
дает покоя. Главный мой
вопрос и главное сомне-
ние касаются бога. Не
знаю, есть ли он, ведь я
его не видела и не слыша-
ла, но если его нет, то,
по-моему, какая-то таин-
ственная сила все же су-
ществует.
Иначе как объяснить вот
такой случай?
Я возвращалась с клад-
бища — ходила на моги-
лу к сестре. Путь с клад-
бища ведет через мост, с
которого хорошо видна
широкая асфальтирован-
ная дорога. Добрела до
середины моста (я ждала
ребенка и шла медлен-
но) — и вдруг что-то за-
ставило меня взглянуть на
дорогу. Лучше бы я этого
не делала... Там непод-
вижно стояла женщина в
белом и на моих глазах
превратилась в свинью
Знакомая потом объяс-
нила, что это был бесплот-
ный дух, появившийся из
загробного мира. Я об
этом много слышала, но
почему-то такое объясне-
ние меня не устраивает
Хочется других доказа-
тельств.
Вокруг многие говорят,
что надо воспитывать де-
тей по мусульманским
обычаям (я татарка, а
значит, по религии долж-
на быть мусульманкой).
Сама я не уверена в этом,
но и боюсь, научу ли без
религии своих детей, как
правильно жить. Сама ви-
жу, вокруг многие живут
не так. Может быть, пото-
му что не соблюдают
исламские обычаи?
Джамиля АХМАДАЛИЕВА
Языявоиский район
Ферганской области
Узбекской ССР
МОЖЕТ,
НАЙДУТСЯ
СРЕДСТВА?
• В прежние времена в
нашем кишлаке Чилгазы
было восемь мечетей. В
30-е годы часть их них, а
в 50-е и остальные пере-
стали действовать. Одну
определили под школу.
По поводу прочих реши-
ли, что послужат они кол-
хозу как амбары. Не поду-
мали тогда люди, что
нельзя так обращаться с
памятниками архитекту-
ры — единственными в
нашем селе. И вот на на-
ших глазах они рушатся,
исчезают. Резьба по дере-
ву, гипсовая лепнина, не-
повторимая роспись —
шедевры народного тад-
жикского творчества ока-
зались никому не нужны-
ми, бесхозными. Более
того, на время капиталь-
ного ремонта выселили из
здания мечети школу — а
назад вернуться мы не мо-
жем. Ничего нам не дают
там разместить — ни биб-
лиотеку, ни группы про-
дленного дня.
Ведь больно-то всем: и
верующим, и неверую-
щим. За наше прошлое, за
нашу историю. Остает-
ся уповать пока что толь-
ко на Исфаринский кооп-
горг, который в четырех
мечетях содержит свои
пункты по закупке суше-
ных фруктов. Может, у не-
го найдутся средства, что-
бы отремонтировать по-
мещения И совесть —
чтобы спасти националь-
ное достояние. Не знаем,
правда, его ли это обязан-
ность, но видим: нет хо-
зяина у памятников куль-
туры.
Каримджан ХАМРОЕВ,
учитель истории
средней школы № 36
Исфаринского района
Таджикской ССР
И
ЛИТЕРАТУРА, ИСКУССТВО
шаман
ПОВЕСТЬ
Т. УСПЕНСКАЯ
«Неужели снова прислал?» — подумал
Кеша, но сразу увидел крупные Нинины
слова.
Сперва не понял, еще раз прочитал.
Уехала? Он зло сплюнул. Может, написа-
ла подробнее? Раскрыл конверт, достал
деньги. Нинка оставила сто рублей —
четыре бумажки по двадцать пять.
— Черт с ней! — сказал Кеша вслух
и вдруг опустился на диван: как же так,
взяла и уехала?
Очень захотелось курить, но руки вяло
лежали на коленях.
Кеша очнулся к полудню в квартире
Жорки. Отчаянно болела голова. Он
обхватил ее руками.
Нужно встать, дойти до ванной, сунуть
голову под ледяную струю, но голова от
пола не отрывается. Как это получается,
что он, словно собака, валяется на полу?
Они с Жоркой позвали двух девок. Стали
пить. Больше вспомнить ничего не смог.
Постучал кулаком в стену. На его зов
никто не явился. С трудом перевернулся
на живот, боль с затылка перелилась
в виски и в макушку. Все-таки он
поднялся на четвереньки! Наполненная
болью, голова валилась на грудь, в глазах
было темно. Неуклюже сел. У основания
носа нашел болевую точку, резко нажал
и отпустил, еще раз нажал. Стало немно-
го легче. Чуть не ползком добрался до
ванной, наконец подставил голову под
воду. Вода оказалась теплой, облегчения
не принесла.
Нужно мотать домой, принять там
баданчику с мятой, выдрыхнуться. Нет,
дома не поспишь, там маячит Нинка.
Растер голову полотенцем. Пошел на
кухню. Четыре пустые коньячные
бутылки аккуратным строем стояли на
столе, словно приготовленные для сдачи,
горела конфорка, наполняя кухню
душным туманом. Кеша смутно помнил,
что они пытались варить кофе, газ
выключить, наверное, забыли.
День был пасмурный, с серенькими
облаками, лезущими чуть не в дом, вот-
вот соберется дождь и тогда зарядит на
несколько дней. Кеша любил дождь,
особенно в тайге. Только в дождь тайга,
с травой, мхом, хвоей кедрача, лиственни-
цами, выделяет из себя тот сладкий
запах, какого сроду не дождешься от нее
в солнце.
Кеша не стал будить Жорку. Злясь на
самого себя за то, что вчера перебрал,
вышел на улицу. Так он и думал: с неба
уже сеял редкий дождь. Выл он не
холодный и не теплый, падал лениво,
лица не охлаждал.
Зоя встретила его обычно: с улыбкой,
своим обычным причитанием:
— Как сквозь землю провалился. Это
где же ты волынился столько времени?
Я тут вся высохла, можно сказать, —
слова вылетали из нее, налезая одно на
другое. — Собирался вроде в загранку,
обещал вернуться через неделю, а канул
Продолжение. Начало в № 2—4.
на месяц! Сказал, скоро придешь, я уже
устала ждать, с тобой только договорись.
Кеша никогда не слушал ее. Пока она
говорила, он успел выпить стакан воды,
снять сандалии, брюки, рубаху и скинуть
одеяло с аккуратно застеленной ее крова-
ти.
Кеша всколыхнулся, только когда
увидел, что Зойка начала раздеваться,
небрежно махнул рукой:
— Не сымай. Я напился вчера вус-
мерть, нужно войти в форму...
Зойка поспешно натянула платье.
Он вернулся домой через два дня.
— Нинка! — позвал.
Никто не ответил. Заглянул в кухню.
Никого. В материну комнату. Никого.
Прошел к себе в кабинет. В глаза сразу
бросился голубой конверт. Конверт был
точно такой же, в каком преподнес ему
свои деньги полковник.
Это когда же она успела?
Закурил. Сел в кресло, жадно вдохнул
дым. Дым был горький. И все равно
вдыхал, раз за разом, беспрерывно
Ничего не сказала, уехала — и все. Ну
и черт с ней!
Но то, что Нинка уехала без спроса, без
его разрешения, то, что она сама решила
уехать, а не он ее отпустил, обескуражи-
вало. Ему казалось, Нинка бросится за
него в огонь.
Снова пошел в кабинет, взял в руки
конверт с ее почерком. «Приходила Вити-
на мать»... Выбросил сигарету, стал
собираться. Принял душ, сменил рубаш-
ку, взял из холодильника Витино ле-
карство.
Дождь падал с неба беспрерывно,
мелкий, назойливый; морось проникала
за воротник, жгла шею холодом — совсем
осенний, неизбывный дождь.
32
Дверь в квартиру заперта. Сколько раз
Кеша приходил сюда, всегда была
открыта. Не успевал войти, раздавался
Витин крик: «Дядя Кеша пришел!»,
и старик семени i к нему навстречу,
протягивал руки: «Наконец-то, родной!»
Кеша нажал звонок, звонок не зазво-
нил. Пришлось постучать. Стук получил-
ся слабым, не стук, шуршание какое-
то. Ему не открыли. Как же это получает-
ся, он сам пришел и торчит на лестнице!
Это все Нинка. Велела идти. Распоряди-
тельница. А его вовсе и не ждут. Он
застучал что было силы. И снова молча-
ние.
Его охватила злоба, необъяснимая,
неуправляемая, когда он может перебить
все стекла и проломить все двери, злоба
к Вите, к его матери, а больше всего —
к Нинке. Кеша замолотил в дверь ногами.
Он бил дверь, как бьют, убивая врага.
За дверью стояло молчание. Ярость
сменилась вялостью.
Кеша опустился на ступеньку, уронил
голову в колени. Хотелось курить, но он
забыл сигареты
Уехала. Взяла и уехала, словно он это
не он, а какой-нибудь обыкновенный
мужик. Как она посмела!
Сидеть было неудобно, хотелось лечь,
расправив руки и ноги.
— Вы что здесь хулиганите? —
срывающийся, чуть не визгливый
женский голос обрушился на него. —
Напился и ломится в квартиру, убирайся
отсюда.
♦Молодой голос», — привычно отметил
Кеша.
Внутренним броском неожиданно по-
днял себя, впился в женщину взглядом.
Она отступила.
— Кто вы? Что вам здесь надо? —
хотела спросить, вместо этого пролепета-
ла. — Простите.
Есть еще в нем сила: женщина попяти-
лась к своей двери, прижалась к ней
спиной, беспомощно смотрела на Кешу.
— Просите прийти, а сами запираете
двери.
— Вы — Иннокентий Михайлович? —
просияла женщина. — Это вы два года
лечили Витеньку? Я вас ни разу не
видела. — Женщина пыталась открыть
дверь, а ключ не попадал в замок. — Мы
решили запираться, страшно. Я целый
день на работе. Витя один, защитить себя
не умеет. Только телефон... Вызвал меня.
— Давайте я открою, — сказал Кеша.
Наконец они вошли в квартиру.
— Мама, это ты? — еле слышно спро-
сил Витя.
— Дождались, Витенька, пришел дядя
Кеша. Сам дядя Кеша
Женщина носилась по квартире, за-
совывала куда попало тряпки, задвигала
стулья, уносила на кухню грязную посу-
ду.
— Дядя Кеша! — задохнулся Витя.
Он очень осунулся, побледнел с тех пор,
как они виделись в последний раз, но
Кеша не мог разглядеть его хорошо,
потому что вместо Витиного лица он
видел Нинкино.
— Вы не сомневайтесь, дядя Кеша,
я беспрекословно буду слушаться вас.
Мама совсем выбивае гея из сил. Как вы
понимаете, я должен поскорее выздоро-
веть.
— У вас очень темно, — сказал Кеша.
— Зажгите свет. — На Витину мать Кеша
больше не смотрел. — Сосредоточься,
освободись от всего лишнего, — сказал
Вите обычные первые слова. — Об уроках
не думай, о дедушке не думай. Думай
о своей силе. В тебе скрыт источник
энергии. Сейчас ты обратишь свою силу
против болезни.
За окном — дождь мелкий, осенний.
Нинка увезла солнце
Привычным движением Кеша взял
мальчика за руки, нашел пульс в одной
руке, другая рука осталась самостоятель-
ной, не далась Кеше. Пульс правой руки
был стремительный, глушил Кешу и не
передавал гула Витиной жизни. Сильнее
Кеша сжал тонкое запястье — снова
лишь внешний стук сердца, без тайной
жизни крови, без внутреннего ее течения
и смысла. Кеша понял, что он «оглох».
Страхом облепила тело и лицо липкая
испарина.
— Вот, — женщина протянула стакан-
чик с лекарством.
Кеша зло отбросил Витины руки.
— Пей, — приказал Вите Приказал
себе: «Освободись!» Но жесткая пружина
стягивала голову и нервы
Ерунда! — ерепенился Кеша — Все
в порядке. Я все могу.
Уверенно, резко, злой силой сдавил
податливые Витины руки. Соединения
с Витей не произошло.
Всегда так естественно, само собой
совершалось сцепление двух организмов:
здорового, сильного - - Кешиного и на-
пряженного, напуганного, больного —
пациента! В Кешу проникала чужая
жизнь, она гудела в Кеше. По участкам,
пораженным болезнью, кровь проходила
трудно, задерживалась у неожиданной
преграды, толкалась в Кешу бедой. Яр-
кий свет в мозгу обозначал живые
здоровые органы больного, тьма и внезап-
ная остановка открывала болезнь, Кеша
видел печень, изрытую алкоголем, смор-
щенные почки.
С самого детства в нем эта сила.
Необъяснимое счастливое забытье в чу
жой беде. Свет чужой болезни. Кеша, как
пьяница — рюмки, ждал этой минуты
связи с больным — своего прозрения.
В эту минуту он был невесом, в нем
рождалась энергия — весь солнечный
свет сосредоточивался в нем Кеша видел,
как этот живительный солнечный свет
подступает к больному органу и либо
проваливается, как в омут, в черную
гниль, растворяясь там, либо пробивает
больные клетки и очищает их. Нужно
пробить, обязательно нужно пробить бо-
лезнь. Для этого он, Кеша, должен
потерять себя, забыть Нинку.
33
Дед вел его по утреннему лугу. Кеша
подпрыгивал, пытаясь вырваться из
объятий росной ледяной травы. Короткая
рубашка не защищала — Кеша словно
в ледяной воде шел.
— В тебе — зеленя, в тебе — рассвет,
в тебе — роса, в тебе — сила, — твердил
дед.
Сидя сейчас на стуле перед Витей,
всеми силами Кеша пытался вызвать
к себе деда, но дед не шел к нему. Дед
умер в Кеше.
Кеша бросил Витины руки, встал. Над
губой, на лбу рассыпался крупными
каплями пот, он тек в глаза, в рот. Кеша
чувствовал свой тяжелый сытый живот.
— Вам плохо? — приблизилось блед-
ное лицо женщины. — Витя безнадежен,
да? Почему вы молчите?
Громадная, широкая красная чашка
с водой показалась Кеше облитой кровью,
но когда он поднес ее к губам, увидел,
какая она белая, чистая внутри. Жадно
стал пить. До капли выпил, попросил еще,
снова пил. Пил, и ему казалось, к нему
возвращается его сила.
Отдав чашку Витиной матери, снова
подсел к Вите, снова взял за руки,
натужно улыбнулся ему.
Но снова равнодушно и мертво стучал
Витин пульс. Кеша был глух, слеп, нем-
Он стал как все. Кеша чуть не закричал.
— У меня несчастье, — сказал наконец
первое, что пришло на ум. Он не знал, что
подразумевал под этими словами
Ни Витя, ни его мать не спросили его ни
о чем. Смотрели на него с мольбой
и жалостью.
— Я скоро приду к вам, — после долго-
го тяжелого молчания сказал Кеша,
встал с трудом, точно у него самого сейчас
отнимутся ноги.
Целую вечность он шел домой. А войдя
в квартиру, еле добрел до кресла.
Это все Нинка. Она вырвалась. Посме-
ла. С этого началось. Она оказалась
сильнее его.
— Живые есть?
Сестра ввалилась в комнату, румяная,
крупноглазая, едва волоча чемодан, не
взглянув на Кешу, крикнула на лестни-
цу-
— Заходи, брат дома!
— Ты откуда? — спросил хрипло Ке-
ша, с удовольствием и удивлением
разглядывая Надьку. — Тебе загорать
еще целую неделю.
Если кого-нибудь в жизни и любил
Кеша, так это ее, Надьку, — она выросла
у него на руках. Надька на восемнадцать
лет моложе его, и все в ней ему нравится:
длинные косы, глаза, как у него, губы,
как у него.
Наконец до него дошло, что приехала
его Свиристелка, он вскочил. Подхватил
ее на руки, закружил по комнате.
— Зачем волосы распустила? — выго-
варивал он. — Это что еще удумала?
Свиристелка визжала, норовила
вырваться.
— Пусти, косолапый, пусти. — Она все-
таки вырвалась, отряхнулась, как от
воды, и вдруг жалобно посмотрела на
него. — Пусти меня замуж.
Кеша увидел застывшего в дверях
парня, окинул его быстрым взглядом:
длинный, тощий, в очках на кончике
носа, парень от его взгляда вобрал голову
в плечи. Кеше это понравилось.
— За него, что ль? — кивнул в ту
сторону Кеша. Уселся по-бурятски, скрес-
тив ноги, на тахту, закурил. Неожиданно
Надькино желание понравилось. — Я те-
бе отгрохаю такую свадьбу! В лучшем
ресторане! Я тебе такое устрою! Давай
знакомь меня со своим хахалем!
...Первым делом Кеша отправился
к Жорке. Когда он удобно откинулся на
сиденье такси и закурил, внезапно остро
понял: Надька уходит от него.
Жорка был в зале. Стоял, сложив руки
на груди, следил за борьбой двух призе-
ров. Дамба известен всей Бурятии, Кеша
возился с ним пять лет. Цырена они
с Жоркой перетащили из «Буревестни-
ка». Паренек поразил их быстротой
реакции, органичностью движений и аб-
солютной неумелостью. Они с Жоркой
с ним возились по очереди. Кеша был
хитер, терпелив и льстив. Уверяя Цырена,
что все у него получается великолепно, он
исподволь организовывал его движения
в систему приемов, ставил дыхание.
Мальчишка их не подвел: играючи
победил лучших самбистов. Всех, кроме
Дамбы. С Дамбой он встретится сейчас.
Дамба родился самбистом. В нем была
дикая могучая сила. Противника Дамба
крушил в первое же мгновение. Это
нравилось Кеше. Противник на то и про-
тивник, его жалеть нельзя, его нужно
смять. Но на Дамбу было неприятно
смотреть в период короткой бурной схват-
ки: свирепое лицо мало походило на
человеческое. Дамба зверел от одного
запаха стоящего против него человека.
Злоба, грубость Дамбы сильно вредила
команде. Три года Кеша с Жорой придер-
живали его, не выпускали на городские
соревнования. Дамба бесился, требовал
открытой игры, клялся, что будет следить
за своим лицом. За два года Дамба стал
чемпионом республики. В самом деле он
выучился владеть лицом.
По-своему Кеша был привязан к Дам-
бе — слишком много времени он прово-
дил с ним. Втайне Кеше даже нравился
злобный фанатизм Дамбы. Дамба верил
в свою неповторимость и свое великое
предназначение.
В передышки после тренировок, когда
они лежали на спаленной солнцем траве,
Кеша рассказывал Дамбе о тайге, о тра-
вах, о болезнях, о чуде излечения, о тайне
власти над жизнью и смертью человека.
Дамба вежливо слушал, но в его узких
черных глазах стояло, как вода, равноду-
шие. На исходе третьего года, ранней
весной, когда полезла иэ сочной земли
в жизнь трава, Кеша предложил отпра-
виться в тайгу. Обещал освободить от
экзаменов, обещал деньги, обещал медве-
жатину и оленину. Дамба категорически,
навсегда отказался...
Ни Жора, ни Цырен с Дамбой не
заметили Кешу. Жорка склонился к
борющимся, упершись руками в колени
и выставив крепкий зад.
Происходило что-то нешуточное.
Привыкший к победам, Дамба ничего не
понимал. Недоумение застыло в каждой
черте — на широких скулах, толстых
губах, в щелках глаз. Цырен Дамбе не
дается: легко уходит, освобождается от
захватов.. Подвижная лукавая мордочка
Цырена светится ясной улыбкой — а ну
ка, возьми меня!
Цырен был много моложе, до недавних
первых своих побед на ковре успеха не
ведал и теперь еще боролся не всерьез, он
играл, продолжал тренировки, не зная
себя, не ощутив вкуса соревнований. Имя
Дамбы он, конечно, слышал, но вот в лицо
как-то не успел увидеть его. Как хорошо
все подстроил Жорка! За час до общей
тренировки вызвал одного и другого.
Под видом подсечек Дамба старался
просто ударить Цырена побольнее.
Цырен, играя, увертывался. Он не заме-
чал озлобленности Дамбы. А тот, вроде
бы проводя переворот через себя с паде-
нием на спину, вместо того чтобы подста-
вить ногу, ударил ею Цырена в пах!
— Так не годится, — тягуче и радостно
сказал Кеша.
А Жорка уже оттаскивал Дамбу от
скорчившегося Цырена, рычал ему в по-
тную физиономию:
— Ублюдок. Я тебе покажу! Это спорт,
а не драка! — Отрычавшись, обернулся
к Кеше. — Ну, как наш Цырен? Годится?
Кеша вдруг вспомнил о свадьбе. Ухва-
тив Жору за волосатую руку, потащил его
из спортзала.
— Поговорим?
Жора обернулся к Дамбе.
— Не тронь парня, а то тебе будет
плохо.
Дамба равнодушно пошел к раздевал
ке.
Кеша положил руку на Жоркино
плечо:
— Свиристелка замуж выходит.
Жорка вытаращил глаза.
— Ты очумел? Она всего на три года
старше моей. — Жорка смотрел так
испуганно, что и Кеша тоже испугался.
Это чужие девки в восемнадцать лет
кажутся взрослыми, а свой ребенок...
Разве можно будет жить без ребенка
в доме? Зачем ему тогда все? Квартиру
выбивал для Свиристелки! Целых восемь
лет бился повсюду. И деньги копил для
нее.
— Кончай пялить глаза, собирайся,
пойдем в ресторан. Там заказывают за
месяц вперед, а у них свадьба через три
недели.
— Зачем спешить? — удивился Жор-
ка.
— Я ей закажу специальный оркестр!
А что? Разве нельзя? Она поедет в первой
машине, а за ней или рядом с ней автобус
с оркестром. Окна все открытые... Такую
я ей музыку устрою! А после ресторана
оркестр проводит ее до дома.
— А ты знаешь, во сколько тебе
обойдется такая свадьба?
Кеша сказал лениво, щурясь от дыма:
34
— У меня одна сестра.
— Ну, идем, чего тянуть? — уныло
сказал Жорка. Он как-то сразу постарел,
опустились плечи.
В такси они не сказали друг другу ни
слова. Кеша решил пробиться в тот зал
ресторана, в котором их принимал пол-
ковник: Свиристелкина свадьба будет
только там, и ей будет играть из углов
комнаты музыка и перед нею сложится
пополам хлюст-официант
Сестра родилась раньше времени, мать
выкинула, когда умер отец. Думали, не
будет жить. Она не плакала, как все дети,
и почти не шевелилась. Чтобы спасти,
нужно было купать ее в травяных на-
стоях и поить травами. Даже они с дедом
растерялись — девчонка родилась зимой,
где взять их и солнце? Дед полетел тогда
к другу на Алтай, все-таки привез травы.
Вместо солнца приспособили специаль-
ную лампу.
Очень скоро у девчонки обнаружился
голос. Плачем, ревом его нельзя было
назвать, она свиристела, как птица, жа-
лобно-жалобно. Долго не давали девчонке
имя, думали — умрет. А потом, назло
страхам, взяли и назвали Надеждой.
Травяные душистые ванны делали свое
дело: ручки-ножки постепенно потеряли
лиловато-красный оттенок, вытянулись.
С каждым часом появлялись новые при-
знаки жизни: улыбнулась, протянула
навстречу руки, выпила сок. Незаметно
подошла весна, и все поняли: будет жить.
Она росла быстро. Кеша не спускал ее
с рук. Стал брать с собой в клуб на
тренировки, водил в тайгу. Дед хотел,
чтобы Свиристелка росла у него с бабкой,
но Кеша словно предчувствовал, что
Надька послана ему вместо собственных
детей, одна-разъединственная, и не мог
расстаться с ней хотя бы на час.
Как будет жить без Надьки, он даже
представить себе не мог. Но свадьба есть
свадьба.
Суета и спешка были не в Кешином
характере, и он уставал. Спасался только
тем, что по нескольку раз в день пил
«золотой корень». Ему в самом деле
нужно было многое успеть.
Он ежедневно звонил в Москву — Илье
с Варей. На это уходило много времени,
потому что их трудно было поймать дома,
а от того, что достали они, зависело то, что
нужно доставать здесь. Слышно было
плохо, и Кеше приходилось кричать,
что тоже было совсем не в его характере:
«Белье достали? Я спрашиваю, как с
бельем?»
А еще ему приходилось бегать с родите-
лями жениха по мебельным магази-
нам — сообща решили обставить мо-
лодым квартиру. Квартира была неболь-
шая, однокомнатная, старики уступали ее
на время внуку.
А еще Кеша искал оркестр. Теперь он
знал все любительские оркестры и ан-
самбли, всех лабухов Улан-Удэ. Выбрал
по своему вкусу.
Поездки на аэродром — за Вариными
посылками, на вокзал — за холодильни-
ком, в спортклуб, поиски шерстяных кофт
и свитеров... Кеша не заметил, как за
хлопотами пролетели три недели.
Наконец наступил день свадьбы. Кеша
проснулся на рассвете. Выбрал рубашку
с веселыми голубыми корабликами. Даже
галстук повязал, хотя не любил галсту-
ков. Выбрал платье для матери. Долго
оглядывал Свиристелку. Она еще принад-
лежала ему.
Загудела машина. Жора приехал
тютелька в тютельку, как обещал.
И они поехали. Надю посадили между
матерью и Кешей. Она сидела вытянув-
шись, только глаза метались по мель-
кающим домам и фонарям.
Кеша смотрел в толстый Жоркин за-
тылок и очень хотел, чтобы они никогда
не приехали.
Но машина затормозила.
У Дворца было полно народу. Первы-
ми к Кеше подлетели музыканты.
Вертлявые, худые, они, все четверо, были
чем-то схожи, может быть, черными
волосами и узкими темными глазами,
а может быть, своей подвижностью.
На ,ю с матерью окружили родственни-
ки, знакомые жениха. Надькины подруж-
ки. Неожиданно он увидел, как сестра
смотрит на своего жениха: снизу, подняв
к нему незнакомое лицо с подрагивающи-
ми губами. И с Кешей случилось что-
то. «Не нужен», — испугался он. Он,
вырастивший ее, Надьке не нужен! Он
выпал из Надькиной жизни.
Кеша почувствовал себя одиноким,
отторгнутым от всех. Таким он был, когда
его бросил первый его тяжелый больной.
Парень выздоравливал мучительно, мед-
ленно. Кеша сидел подле него ночами,
каждый час поднося к распухшим губам
лекарство, задумывал, как они вместе
отправятся когда-нибудь в тайгу. Парень
клялся в вечной дружбе Кеше, а выздоро-
вел и исчез бесследно...
Кеша злобно ухватил Жорку за плечо
и поволок во Дворец.
— Айда! Нечего здесь киснуть. Надо
проверить очередь и время. Надо, чтобы
свидетели заполнили документы. Айда!
— Неужели и моя выскочит так рано?
Ты мне скажи, а? — У Жорки глаза
горестно мигали, подрагивали толстые
щеки.
— На то они и девки, — небрежно
ответил Кеша. — Девки — дуры, им бы
только выскочить замуж. — Кеша ста-
рался не слушать назойливо зудящую
музыку. Вносу щипало: проклятый пот...
А потом они наконец остановились
посреди огромной светлой комнаты,
музыка смолкла, заговорила высокая
женщина. Она смотрела на молодых
и уговаривала их крепко любить друг
друга, уважать интересы друг друга,
верить друг другу. Она говорила о детях,
которых молодые призваны воспитывать,
об ответственности, которая на них на-
кладывается браком.
— Завела бодягу! — ворчал Кеша, а
сам почему-то хотел слушать — красиво
говорила женщина, незнакомые слова.
Но вот уже кольца надеты, и увекове-
чены в большой толстой книге имена
супругов, и нужно идти отсюда. А Кеша
не хочет. Музыканты ждут его слова или
жеста, но он не может сейчас никому
приказывать, он хочет слушать женщи-
ну. Слова ее продолжают звучать в нем,
тихие, уверенные слова: и об ответствен-
ности, и о любви, и об уважении друг
к другу...
Как только вышли на улицу, му-
зыканты заиграли сами. Надю окру-
жили, Надю поздравляли. Ее подружки
ревели в голос — не то радовались, не то
завидовали.
На них все смотрят, у них свои лабухи,
у каждого гостя в руках чуть ли не ведро
роз (Кеша ездил в совхоз за ними!),
и больше всего гостей у них.
Но что-то мешало Кеше радоваться как
следует, он старался вспомнить, о чем
думал совсем недавно, что так волновало
его да перебилось красным ковром, тем,
как они торжественно шли, и особенно
красивыми словами женщины. Он не
слушал Жорку, который ворчал о глупос-
ти ранних браков, зачем, мол, их госу-
дарство разрешает. Он глядел вокруг,
пытаясь понять, что тревожит его.
В ресторане их встречал сам директор.
Он стоял у входа рядом со швейцаром,
деланно улыбался. Кеше было плевать,
как он улыбается. Деньги есть деньги.
Кеша купил самый лучший зал в рестора-
не. Пусть все улыбаются ему. Голубая
комната, с голубыми стенами и голубыми
портьерами производила впечатление
разлившегося в солнце неба. На столе
оказалось все, что заказывал Кеша, и
сверх того заливной поросенок. Гости
быстро расселись. Кеша встал.
— Значит так, — глаза в глаза
столкнулся с женихом. Подождал, пока
жених покорно опустит свой взгляд,
заговорил. —- Отдаю я тебе свою сестру.
Я ее вырастил, можно сказать, сам. Наша
мать вкалывала с утра до ночи Надька
росла в моей заботе. Не обижай ее
Кеша сел. Пить не стал.
Люди смотрели на Кешу, как смотрели
всегда, зависимые от его воли. Значит, он
по-прежнему в силе. Повел плечами. Все
здесь его. Надька, голубые занавески,
лабухи, уже опрокинувшие в себя водку
и с жадностью набросившиеся на еду,
директор...
Громко чокались, громко славили мо-
лодых, славили Александру Филипповну
и желали ей долгих лет со здоровьем.
А потом громко славили, криком, его,
Кешу. А потом родителей жениха. А по-
том снова молодых...
Кеша не пил, он ходил от одного
к другому гостю. Присаживался, чокался,
пригубливал и отставлял рюмку, а потом
заводил разговор. С одним гостем он
говорил о Пришвине и о пользе трав,
с другим — о пользе женщин для жизни,
с третьим — о снижении рождаемости,
с четвертым — о каратэ и самбо. Был он
спокоен и трезв. Быть хозяином, развле-
кать гостей ему нравилось. Нравилось,
что все ждут его, нравилось, как слу-
шают. Нравилось, как музыканты иг-
рают без устали, что молодежь до упаду
пляшет и орет. Есть он сейчас не мог.
И всегда-то ел немного, а сегодня кусок не
35
шел ему в глотку. Всех до одного он
держал в прицеле своего взгляда. Вон
жениховы родители кудахчут с гостями,
вон Жорка целуется с директором, оба
уже хороши, а все еще подливают друг
дружке, оборачиваются к музыкантам,
подпевают пьяными голосами, вопят:
— Давай, черти, бампинг!
— А что, — кричит директор, — возь
му мальцов, нравятся они мне.
«Мальцы», все мокрые, уже в изнемо-
жении, продолжают играть.
— Горько! — орут пьяные гости,
подталкивают молодых друг к другу.
Кеше вдруг надоела эта свадьба, и он,
на полуслове бросив разговор, пошел
к двери. Он был один трезвый здесь, и он
был от всех и от всего свободен. С директо-
ром расплатился, слова какие надо
сказал, гостей напоил и накормил. Только
он взялся за громадную бронзовую ручку,
как его всего запеленало белым. Надька!
Она и ее белое платье обняли его.
— Пойдем выпьем со мной, братик,
пойдем попляши со мной. Я хочу плясать
с тобой.
Он обернулся к ней. Надькины губы
опухли, как после долгих слез, щеки
блестели, в глазах застыл пьяный смех.
Но вот глаза эти дрогнули, стали чуть
косыми.
«Нинка была косая, — неожиданно по-
думал Кеша. — С чего это они вдруг
оказались похожими?»
— Я люблю тебя больше всех, —
сказала Надька. — Я хочу сказать тебе
спасибо. Я даже не знаю, что еще тебе
сказать. — Она ткнулась к нему в шею, ее
слезы щекотали его. Кеша обхватил ее,
гладил, успокаивая, спину, лопатки, за-
брался под волосы и фату, гладил шею.
Подошел жених, попросил:
— Выпейте с нами, Иннокентий Ми-
хайлович, а то Надя думает, что вы оби-
жаетесь.
♦ А ничего парень», — подумал Кеша
и оторвал наконец Надьку от себя.
Они вернулись к разоренному столу
— Ты ее не обижай, — сказал Кеша
Надькиному жениху, глядя в его блеклые
глаза, — она у меня одна-разъединая,
я ее вырастил. Я вам дарю две тысячи.
— Все будет как положено. Мы к вам
с уважением, с благодарностью. Надя всю
жизнь будет помнить, — соглашался тот,
просил: — Выпейте, Иннокентий Михай-
лович.
— Я сегодня должен быть трезвым.
Мне сегодня развозить всех пьяных.
...Домой он попал в три часа ночи.
Виснувшие на нем поднабравшиеся гости
развезены, молодые доставлены в их
новый дом, Жорка уложен спать. И мать
уже спит. А у него сна ни в одном глазу.
Он зажег свет в коридоре, кухне, комнате,
походил по дому. Зачем теперь ему эта
трехкомнатная квартира? Зачем столько
больных?
В свободную минуту он читал. Он
всегда читал сидя, уважая книгу. Сидел
выпрямившись, читал медленно, чтобы
запомнить каждое слово.
Память у Кеши была отменная. Стоило
один раз прочитать страницу, запоминал
ее навсегда. То, что в книге написано,
то — само по себе, а главное — найти
в больном болезнь! Об этом никакая
книга не пишет.
Это Илюшка сто лет назад заразил его
книгами. «Ты думаешь, тебе хватит
дедова багажа? — спрашивал строго
Илюшка. — Дед жил среди травы, а ты
живешь в цивилизации, ты должен
учиться». Регулярно присылал он Кеше
книги. Кеша научился добывать книги
сам — через знакомых. Аккуратно ста-
вил их Кеша в шкаф, каждый раз,
доставая читать, гордился, какие у него
красивые книги, любовался ими.
Книга так и жила в Кешином доме —
для баловства. Особая красота. Ее прият-
но подержать в руках, складную речь ее
приятно разбирать.
Сейчас, когда, как ему казалось, он был
на собственных похоронах, он вытащил
Акутагаву. Вот он, рассказ о магах.
Занятно.
Но сегодня буквы в слова не складыва-
лись. Надьки нет...
Дело не в Надьке. Это Нинка.
Он совсем позабыл о Нинке в эти три
недели. Все беды из-за нее. Это впервые
с ним, что его бросила баба. Посмела.
Кеша даже вздрогнул от ненависти к
Нинке: неблагодарная! Сжал кулаки, но
тут же они беспомощно разжались —
попробуй теперь достань Нинку!
Ясно увидел Нинкин чуть косящий
взгляд. Черт его дернул сопли с бабой
распускать, сроду никому не жаловался.
И смотрела, жалея, на себя его прошлое
брала. Влажная. Такие слова ему говори-
ла... Вечность понимаете, к деньгам
равнодушный.. Чего она еще трепала?
«Если есть вечная жизнь, почему мы
никак с ней не связаны? Вечность —
вода? пустота? замкнутый круг?»
Чего еще она про него болтала? Чего
выдумала про него?
Ее нет в комнате...
Чушь она болтала. Что в ней, патлатой
дуре? По клавишам лупила, как беше-
ная...
Непонятная сила подняла Кешу. Он на
тахту сбросил с себя мятую, пропитанную
потом рубаху, ясно увидел разметав-
шиеся по тахте рыжие волосы, чуть
косящие глаза, полуоткрытые губы. От-
вернулся, шагнул в кабинет, достал
чистую рубаху, пару белья, носки. Не
прошло и десяти минут, как он вымылся,
оделся и, накинув на плечи пиджак,
вышел из дома. До аэродрома по пустому
городу и пустому шоссе он добрался на
такси за час. На его счастье, ночной
диспетчер по транзиту в кассе оказался
знакомым — посадил его на самолет.
Лишь только солнце выкатилось из-за
горизонта, самолет взлетел. Кеша не
успел опуститься в кресло, как уже спал,
крепким спокойным сном, и даже в Ново-
сибирске, где была посадка, не проснул-
ся — он проспал до самой Москвы.
Варя стирала, и ее руки, в мыльной
пене до локтя, беспомощно повисли над
полом.
— Где живет Нинка? — Кеша кинул
портфель к двери, сбросил пиджак, пове-
сил на вешалку.
Он разглядел, Варя не рада ему, как
обычно. Ее лицо, со скошенным набок
ртом, без улыбки, показалось ему незна-
комым.
— Нина в больнице,— сказала Варя
будничным голосом. — Приехала от тебя,
отправила Олю со своим папашей к морю,
а сама заперлась дома одна, слегла,
в общем. И я бы ничего знать не знала,
мне она наврала, что едет с Олей на юг, да
вдруг из Алушты звонит мне Оля, по
автомату звонит, и говорит, что дядя
Кеша, это ты, значит, сказал, что мама
очень сильно больная, что она, Оля, ехать
ни к какому морю не хотела, но мама уж
так ее просила, обещала обязательно пить
лекарство, что она, то есть Оля, тебе
написала письмо, что у мамы лекарства
меньше полбутылки и нужно срочно
выслать еще, но что дядя Кеша, ты то
есть, ей. Оле, не ответил и лекарство,
значит, не пришлешь, а потому она
и звонит, чтобы я немедленно достала
маме лекарство. Звонить тебе я собира-
лась завтра, после свадьбы, значит.
Варя вытерла руки фартуком, стояла
ссутулившись перед ним, смотрела на
него круглыми прозрачными глазами.
— Ты привез лекарство? — спросила,
не дождавшись ответа, продолжала: —
После Олиного звонка я сразу отправи-
лась к ней. А она еле открыла мне. От нее
остались одни кости. Я тут же дала
телеграмму в Алушту, ее отцу, он сразу
вернулся, и мы поместили ее в больницу.
Вот уже десять дней, как она в больнице.
Вроде ничего она теперь, начали ее
облучать.
Как же он забыл о ее болезни? Нинка
для него не была больная, она была для
него, как никто, здоровая! Только теперь,
из дали дальней, всплыло, что письмо от
Оли он получил, но как получил, так тут
же, за хлопотами о свадьбе, позабыл
о нем. Нинка, похоже, обречена!
Кеша повел плечами, покачал головой,
освобождаясь от тяжести.
— Поехали! — давясь словом, сказал
он. И как-то сразу заспешил. — Ну
быстрее, бросай свою стирку.
...Он не мог объяснить себе, что его
гонит так, ведь минута дела не решает, но
он не стал подниматься на лифте, переша-
гивая через три ступеньки, полез на
четвертый этаж. Потянул на себя дверь
палаты.
И сразу увидел разметавшиеся по
подушке волосы. Нинка лежала на спине
Хотел позвать, а рот ссохся, имя не
получилось.
— Спит, — зашептала соседка.
Он подошел. Узкое лицо в рыжем
обрамлении, залегшие в темных под-
глазьях тени от чуть загнутых ресниц,
родинка. Еще минуту смотрел на нее
издалека Нинка пряталась под подо-
деяльником, острые плечи, длинные уз-
кие ноги, как у спортсменки, с острыми
коленками, чуть впалый живот... Он
забыл, какая она, он не думал тогда,
в Улан-Удэ, какая она, почему же сейчас
его охватила дрожь? Почему же сейчас
36
руки сами тянутся к скрытой под подо-
деяльником худобе этой женщины? Поче-
му он хочет, так немилосердно хочет
услышать ее голос?! Она пела... она
говорила чуть с придыханием, точно
бежала по камням... что она говорила, он
сейчас не помнит, о чем пела, не помнит,
у нее чуть косили глаза, светлые такие
глаза, ни у кого таких не видел.
Попятился к двери потянул Варьку
в коридор.
— Почему ты уходишь?
Кеша медленно шел по ступенькам
вниз.
Им встречались люди в белых халатах.
С длинным худым человеком Варя поздо-
ровалась.
— Это ее врач. Он говорит, облучение
продлит ее жизнь на несколько месяцев.
Он говорит...
Страх, которого никогда в жизни не
испытывал, петлей затянулся у горла,
Кеша пытался проглотить этот страх и не
мог
— На аэродром, Варя, — сказал он. —
Скорее на аэродром.
— Ты чего это? Только прилетел —
и обратно? Ты чего?
В дороге он не сказал ни слова.
Заговорил, вылезая из машины:
— Облучение для нее смерть. Я знаю.
Я потом ничего не смогу поправить. Ты не
знаешь, ей и так немного осталось, но
больше, если без облучения. Сегодня,
сейчас же забери ее из больницы, немед-
ленно. Что хочешь скажи. Скажи, муж
требует к себе в Улан-Удэ. Я завтра
вернусь.
Он двигался как во сне. Как во сне он
договаривался с летчиками, чтобы его
взяли, как во сне плюхнулся в кресло.
Солнце стояло в небе, когда он летел. Он
смотрел на солнце и в первый раз за всю
свою жизнь молился, той молитвой,
которой научил его дед:
— Боже праведный, спаси рабу твою
Нинку, выведи ее. погибающую во болез-
ни, к жизни...
К счастью, мать оказалась дома. Она
мыла полы. Он прямо на лестничной
клетке снял сандалии с носками и ступил
в холодную лужу.
— Ты где ходил столько? — спросила
мать. Подол юбки она заткнула за пояс,
волосы повязала платком. — Тебя тут
больные спрашивают, с работы, а я почем
знаю!
Холодная вода и лицо матери успо-
коили Кешу. Он захотел есть.
— Я был в Москве и сегодня опять
улечу. Ты, мать, кончай разводить сля-
коть, давай варить черное. Ну! — Он
пошел на кухню и уже из кухни крик-
нул: —Быстрей давай. Там моя Нинка
отдает концы.
И вдруг мать вошла на кухню с тряп-
кой в руках.
— Тебе, ироду, всего мало. Таку девку
загубил. Чужих лечишь, скольких выле-
чил! А таку девку загуби-ил! — Кеша
вытаращился на мать: его бессловесная
мать ругалась, кричала и плакала! —
Как кобель, мотаешься по бабам, ду-
маешь, я не вижу! Я все вижу! Или со
своим Жоркой жрешь водку, приходишь,
глаз не можешь прорезать. И в кого ты
такой, ирод беспутный? Отец твой всегда
знал дом. И дед твой себя так не позорил.
Детей растил путем, людям облегчение
делал без просьбов и умолений. Ты в кого,
скажи? Начнешь лечить, бросишь. Кому
сила божья досталась! Непутю. — Лицо
матери перекосилось презрением. И Кеша
забыл осадить ее, слушал немо, открыв от
удивления рот. — Больной, он больной
и есть. Тебе Оля письмо писала, ты
ответил? Ты любишь, чтоб тебя все
умоляли, на коленках перед тобой елози-
ли. Ты ирод беспутный, ты... в кого такой
уродился? — голосила мать. —Я сдохну,
кому ты нужен будешь, перст
разъединый, кто за тобой ходи-ить бу-
дет? — Мать бранилась и тряпку, с кото-
рой стекала вода, прижимала к груди. —
Она к тебе, как к культурному, как
к порядочному, приехала лечиться, а ты
куражился над нею, думаешь, я не
видела? А ты надсмеялся над ней! О-олю
сиротой оставишь...
— А ну замолчи! — Кеша пришел
в себя. — Хватит гармошку растягивать.
Тебе сказали, иди делать лекарство.
У меня нету часов тут с тобой разводить
дебаты. — Он ссыпал в кастрюлю траву,
лил воду, руки у него дрожали. Он
больше не обращал внимания на мать,
которая продолжала всхлипывать, он
спешил.
Запахи травы, дегтя, спирта перемеша-
лись, успокоили...
Мать больше не плакала. Она приня-
лась ставить тесто. Потом нарубила
капусты. Варилось лекарство, пеклись
пирожки. Больше они не сказали друг
Другу ни слова.
К вечеру перелил лекарство в бутылки,
в кабинете достал из-под тахты чемодан,
покидал в него свитер, ботинки, рубахи.
Теперь обе руки заняты и не болтаются
без дела...
Когда поднялись в воздух, Кеша при-
льнул к стеклу: пустая чернота. Ни
звезды, ни луны, ни месяца — хоть бы
узкая, узкая щель к свету.
Илье с Варей он позвонил с аэродрома.
Нинку взяли из больницы.
— Ты сказала, что я приеду? — спро-
сил он замирая. Варька молчала. Не
в силах перенести бесконечной паузы,
закричал: — Сказала?
— Нет, не сказала. А если ты не
приедешь? Ты у нас такой: наобещаешь
с три короба и не сделаешь. Записывай
адрес.
— Я запомню.
В такси он неожиданно задремал
и никак не мог понять, чего хочет от него
толстый белобрысый мужик.
— Приехали! — мужик сердился, дер-
гал его за рубаху.
Недолгий сон принес облегчение. Те-
перь ноги шли, руки крепко держали
вещи. Кеша долго стоял перед домом,
а потом перед лифтом.
На звонок долго не открывали. Спит?
Нету дома? Не может быть, чтобы не было
дома
Дверь распахнулась. Нина куталась
в длинный розовый халат. Лишь на
минуту вспыхнули прежним светом глаза
и погасли.
— A-а, шаман! — протянула она
детским голосом. — Я думала, Оля чего
забыла. Только вышла. Я ее в магазин
отправила, у нас кончились продукты,
а папа сегодня прийти не может.
Он продолжал держать в руках вещи.
Сделать к ней шаг не мог. Смотреть на нее
боялся.
— Ты разучился разговаривать, ша-
ман? — спросила она, взяла у него сум-
ку, за освободившуюся руку потянула в
дом. — Лучше здесь стой, я боюсь сквоз-
няков.
На ее щеках появился легкий румянец,
она чуть улыбнулась бледными губами,
чуть косила глазами. Он поставил чемо-
дан на пол, протянул к ней руки, как
тогда, обеими обхватил ее тонкую шею,
чтобы набраться сил, окунулся в ее
волосы. Так они стояли, покачиваясь на
сквозняке, потому что двери забыли
закрыть, — только в тайге, лицом во
влажную, пахнущую солнцем траву, он
так растворялся и совсем забывал себя.
Он не помнил ее плеч, а сейчас укололся
об их углы. Она отступала от него, и он
покорно шел за ней. Он кололся о ее локти
и ключицы, он тыкался в ее грудь
и живот — целовал, целовал, целовал,
губами узнавая ее худобу.
А потом жадно курил — сквозь дым
она казалась ему здоровой. Она притяги-
вала его к себе сейчас больше, чем
прежде. Теперь неутоленным был он. Он
смотрел на нее и был благодарен ей, что
она щедро отдала ему что-то большое
и главное, чего он не знал до сих пор, то,
чего он пока не понимал, но от чего горячо
в груди.
Он совсем забыл, что она тяжело
больна, и вдруг вспомнил. Беспомощно
огляделся: светло-зеленые обои, как мо-
лодая трава, окружали его.
— Ты надолго? — спросила она.
— Навсегда, — сказал он.
Окончание следует.
ШАМАН Л. МАЛАКЯН
Танцуй, шаман! Твой бубен не устанет
Сзывать к огню потухшие глаза.
Колдуй, шаман! И прошлое воспрянет
И озарит святые образа,
К которым мы в восторге припадали...
Язык свечи, растапливая воск.
Дрожал, коптил. Но зычно звали дали:
— Вперед, вперед! — пронизывая мозг
Тогда, мой друг,—о сколько было сил! —
Из искры возрожденные создания,—
Нас ветер странствий яростно носил,
И сердце не просило покаянья.
Танцуй, шаман, и бубен не жалей!
Все было на пути: огни и трубы.
И ноги от грехов не тяжелей,
И лишь красней от поцелуев губы.
Клубился, лился сладостный обман...
О скольким мы тогда богам молились!
Беснуйся, бубен, голоси, шаман! —
Повинны мы, бывало, и глумились...
Ну что ж, не бог нам создал образа!
Кто грех не знал, зачем тому святыни?
Танцуй, шаман, потухшие глаза
Зажгутся вновь у ликов их отныне.
37
ЗА РУБЕЖОМ
У войны своя архитектура — не созидания, а разру-
шения. Но и те памятники прошлого, что чудом
уцелели сегодня в Ливане, приходят в упадок.
Лишились должного присмотра древнейшие в мире
развалины Библа, грандиозный храмовый комплекс
в Баальбеке, морская цитадель крестоносцев в Сай-
де, библейские места Тира... До иных знаменитых
туристских жемчужин теперь не добраться. Но
и в суровое военное время мне удалось совершить
в этой области маленькое открытие, доставившее
истинную радость.
С. СТОКЛИЦКИЙ
щ иииис°» мямяам а шя иа -
МЫ СДЕЛАЛИ очередной
поворот на серпантине гор-
ной дороги, по которой еха-
ли к дворцовому комплексу
в Бейт эд-Дине,— и вдруг
увидели на небольшой пло-
щадке, отвоеванной у скалы,
замок с двумя башнями, на-
поминающими по форме
шахматные ладьи. Он очень
похож на сказочный: изящ-
ный вход охраняют игрушеч-
ные чугунные пушки, через
ров с водой, отделяющий
замок от дороги, перекинут
легкий деревянный мостик.
Скорее всего, полюбовав-
шись замком, мы поехали бы
дальше, если бы не группа
детишек. Парами, взявшись
за руки, они прошли по дере-
вянному мостику, вслед за
ними, не раздумывая, сту-
пили на него и мы...
Железные ворота, как и по-
ложено в сказке, не запер-
ты, толкни — и распахнутся.
Внутри сказка продолжалась.
Замок был заполнен стран-
ными молчаливыми людьми
в национальных одеждах. Все
они делают свои дела: ма-
шет молотом кузнец, суетит-
ся его подмастерье, рядом
хозяйка, присев на корточки,
месит тесто, а любопытная
коза подкрадывается сзади,
норовя стащить что-нибудь
вкусное. Поодаль трапезни-
чает группа мастеровых: пар-
нишка запрокинул голову и
вливает в горло нескончае-
мую струйку холодной воды
из кувшина (так ливанцы
обычно утоляют жажду —
без стакана). Толстяк курит,
с наслаждением выпуская из
наргиле длинные струи дыма.
Вроде обычные сцены сель-
ского быта, и все-таки что-то
тут не так. Да ведь люди —
гипсовые! Но до чего искусно
сделаны, как естественны их
движения, как ярки одежды!
Мы так засмотрелись на
все эти чудеса, что не сразу
заметили живого человека.
Крепыш в легком сафари
сидел за письменным столом
и продавал входные билеты.
Услышав, что посетители из
Советского Союза, Муса Аб-
дель Карим аль-миамари да
же привскочил от удивления
Как выяснилось, с советски-
ми людьми он никогда не
был знаком. Он сказал, что
сам будет вести экскурсию
по своему замку. Да, это его
собственный замок. Он все
здесь сделал сам.
— Перед вами единствен-
ный в Ливане этнографиче-
ский музей,— начал он, когда
мы оказались в мире гипсо-
вых фигур. — Они приводят-
ся в движение с помощью
воды. По специальным тру-
бочкам она поступает из того
самого рва, который окру-
А здесь группа, объединен-
ная другой, и очень актуаль-
жает замок. Механизмы дви-
жутся — вот и вся хитрость.
Муса, конечно, лукавит. Не
все так просто в его творе-
нии. Достаточно видеть, как
отлаженно действует каждая
фигурка, каждая деталь. Тка-
чиха за своим станком —
веселый челнок так и снует в
проворных руках. Вот пирую-
щая мужская компания —
хозяйка подает ей все новые
перемены блюд. Эти картин-
ки называются «Жизнь наших
дедов и прадедов».
ной, темой: кружком сидят
люди в разнообразных голов-
ных уборах: друз в своей
белой вязаной шапочке, фел-
лах-маронит в традиционной
повязке, суннит в феске, ка-
толический священник в мит-
ре. Люди различных веро-
исповеданий, они мирно бе-
седуют, и сам факт их диало-
га многозначителен для со-
временного Ливана.
Дело в том, что на терри-
тории этой небольшой страны
(она в четыре с лишним раза
меньше Московской области)
38
живут представители 17 раз-
личных религиозных, точ-
нее — этноконфессиональ-
ных общин. Зигзаги бурной
ливанской истории привели к
образованию в современном
Ливане уникального институ-
та управления — системы го-
сударственного конфессио-
нализма. Причем было уста-
новлено (к этому приложили
руку французские коло-
ниальные власти), что многие
высшие посты в государст-
венном аппарате, включая и
пост президента, занимают
марониты — представители
христианских общин, а ис-
ламским лидерам были ос-
тавлены места второстепен
ные. Когда эта система созда-
валась, общины христиан не-
сколько превосходили по
численности мусульманские.
Происшедшие за послевоен-
ный период демографиче-
ские, социально-экономиче-
ские и социально-политиче-
ские перемены резко изме-
нили это соотношение. Они
Привели к возникновению
серьезных противоречий
между сторонниками прове-
дения политических, демо-
кратических реформ (вплоть
до упразднения системы го-
сударственного конфессио-
нализма) и их противниками.
Эти противоречия в значи-
тельной мере и стали тем го-
рючим материалом, который
воспламенился в граждан-
ской войне 1975—1976 годов.
Они же поддерживают пер-
манентные конфликты, кото-
рые разжигает между общи-
нами израильская агентура в
наши дни.
Владелец замка не просто
так усадил в единый мирный
круг столь различных собе-
седников.
— Да, конечно, я хотел
всем этим сказать, как нам
необходим мир, националь-
ное единство и диалог,—
подтвердил с улыбкой хо-
зяин, довольный тем, что
иностранцы разгадали его
«хитрость».
С этой минуты он распо-
ложился к нам и стал расска-
зывать историю необычного
музея, с созданием которого
связана вся его жизнь. Еще
раз полюбовавшись фигура-
ми, подивившись сложности
одной из первых работ Му-
сы — «Паломники, идущие
по холмам в Иерусалим»,
мы уже на правах почетных
гостей перешли в гостиную
и за чашкой кофе слушали
хозяина.
— Меня зовут Муса Аб-
дель Карим аль-миамари.
Последнее слово в его
имени указывало на профес-
сию: «аль-миамари» по-араб-
ски означает «строитель, ар-
хитектор». Как мы узнали
позже, были весомые обсто-
ятельства, по которым при-
ложение стало частью собст-
венного имени этого челове-
ка.
— Родом я из Сирии, из
местечка на границе с Лива-
ном. Лет пятнадцати я стал
буквально грезить одной
мечтой — мне хотелось пост-
роить дворец. Как-то в школе
учитель рисования дал нам
задание изобразить птиц. Но
моя рука против воли возво-
дила на листочке вообража-
емые замки. Увидев это, учи-
тель разъярился. «Что это —
дворец твоего отца?» — зло
спрашивал он, ударяя меня
длинной палкой. Учитель хо-
рошо знал, что мой отец был
простым солдатом во фран-
цузской колониальной ар-
мии.
Такого издевательства я не
мог снести. Бросил школу. И
поклялся: «Построю дво-
рец». Я отправился в Сайду —
это портовый город, южнее
Бейрута. Мой дядя в ту пору
занимался там реставрацион-
ными работами в морском
замке крестоносцев, и я на-
деялся выучиться у него ре-
меслу строителя. Пошел я в
Сайду пешком — на тран-
спорт денег не было.
В пути, кстати, услышал
впервые о России — 9 мая
1945 года, проходя сирий-
ский город Тартус, познако-
мился с французскими сол-
датами, праздновавшими
победу над фашистской Гер-
манией.
Дядя, узнав, что я бросил
школу, побил меня. Я ему
прямо сказал: «Хочу стро-
ить». Он определил меня
подсобником — носить на
спине, на специальных козел-
ках, камни. Нагружал как мог,
лишь бы я «одумался» и
вернулся в школу. Но я ока-
зался упрямее^
За годы работы скопил
около 15 тысяч ливанских
фунтов. Половину отдал за
этот участок, на оставшиеся
стал строить дворец. С рве-
нием и отчаянием, на кото-
рые способны разве что бе-
зумцы, да и то в молодые
годы. Приходилось все де-
лать своими руками: рыть
землю, тесать камень, возво-
дить стены. Жена помогала
мне. Скопленных денег хва-
тало лишь на то, чтобы на
несколько недель нанять
сезонных рабочих для зем-
ляных работ
Через тринадцать лет за-
мок был готов. Вот тогда я
поехал в Сирию: пригласить
того учителя в мой дворец.
Но я опоздал. Всего на три
дня. Он умер.
Дело сделано — а на душе
как-то пусто: дальше-то что?
Посоветовался с женой, и ре-
шили мы устроить тут музей
гипсовых фигур односельчан.
Пусть люди приходят и смот-
<
!2 + В день ангела напился до черти-
* ков.
I Леонид ЗАБАРА
(V) с. Т у р ь я
Щ Краснопольского района
Сумской области
С х г
U Грешить бы рад — раскаиваться тошно.
Л Константин КУШНЕР
* гМосква
рят на своих предков. И снова
впряглись в работу.
Первые фигурки удались.
Разные деловые люди со-
ветовали: «Устрой, Муса, у
себя музей фигур, как у ма
дам Тюссо. Собери в замке
изображения видных ливан-
ских деятелей — заработа-
ешь большие деньги. Каждый
из них, ныне здравствующий,
захочет обессмертить себя».
Но мне это предложение
было не по душе. Пусть в
моем музее будут простые
люди. Пусть они узнают
здесь себя.
Вскоре о музее пошла сла-
ва. Прознали о нем и аме-
риканцы. Ко мне специально
приехали инженеры из «Дис-
нейленда». Восхищались.
Пригласили в бесплатную ту-
ристскую поездку в США с
семьей. Поехали мы с женой.
Жили в хорошем отеле, поль-
зовались персональной ма-
шиной. Мы ездили, смотрели
«Диснейленд». Честно гово-
ря, я был разочарован: мне
показалось, фигуры грубо
размалеваны, лишены про-
чности и естественности.
Мне предложили остаться в
Штатах, обещали хорошие
деньги за работу над новым
проектом сказочного город-
ка.
Но я и тут отказался. Уве-
рен, что мои идеи могут осу-
ществляться лишь на родной
почве. Вспомнил великого
Джубрана, как он эмигриро-
вал в США и умер там, верно,
от тоски. (Джубран Халиль
Джубран, 1883—1931,— вы-
дающийся ливанский поэт,
прозаик, общественный де-
ятель. — С. С.)
Сейчас мой замок-музей
особенно нужен — в это
трудное для Ливана время
музеи в стране почти не рабо-
тают. А у меня и сегодня
сотни посетителей. Я выста-
вил музей на соискание меж-
дународной премии на луч-
шее культурно-просветитель-
ное учреждение в развива-
ющихся странах. Но не ради
премии решил принять уча-
стие в конкурсе. Ради рекла-
мы, Пусть больше людей уз-
нают о моем детище
39
ЛИТЕРАТУРА, ИСКУССТВО
Имя Владилена Травинского знакомо читателям.
Публицистические произведения специального
корреспондента «Литературной газеты» 60—70-х
годов поднимали острейшие проблемы. Он умер, не
дожив месяца до сорокалетия, в самом расцвете сил
и таланта. Читатели, наверное, помнят историчес-
кие произведения Владилена Травинского — книги
«Как погибли миллионы негров» и «Черные
судьбы», его художественно-документальную по-
весть о Магеллане. Но как художник-эссеист
и философ он известен мало. Нет надобности
предварять «Азиатские сказки» подробным преди-
словием, думается, читатель сам ощутит их
прелесть, поймет современный смысл.
АЗМАГСКМГ
Владилен
ТРАВИНСКИИ
СКАЗКИ
Было темно, когда он
вполз на бархан. Бе-
лая тьма с тупыми
отблесками песчаника за-
стилала глаза. Сзади полз
Коля, тихо матерясь, труд-
но таща за собой пулемет.
— Не сопи, Штора,—
сопел он,— не разбуди
раз
под его взглядом в песках.
— Ленту! — еще
приказал Коля.
унки
голубков.
Почему он называл Аб-
дуллаха Шторой, ни он
сам, ни Абдуллах не зна
ли. И не задумывались
об этом,
было некогда.
ник Коля и боец интерна-
ционального отряда по
борьбе с басмачеством
Абдуллах-Штора, позна-
комившиеся четыре дня I
назад, четвертый день
гнались за басмачам
Иштвана-Кули, упорно а
умно уходившего Kip и
це. Лошади падали о ‘е
водья, бескормицы И
смертельного ритма «Ьгс
ни, а потому Koi, < и Аб-
дуллах второй де -* скака-
ли на одной лошади смут-
но боясь, что падегг и ина,
и не успевая бояться.
К вечеру от^яд разде-
лился, с этой с гроць их
послали l . ро м. И Они
обнаружили ш ана-Ку-
ли в семи киле -етрах Ът
границы. Низкй I грузные
барханы замыкали здесь
путь, проход для басма-
чей был один-единс'Вен-
ный: через тот сып >чий
холм, на которы лезли
Абдуллах-Штора и Коля.
Третий ускакал за отря-
дом...
Люди Иштвана-Кули от-
дыхали. Кончился длин-
ный страшный поход, где
велели убивать женщин,
пить водку и грабить. Впе-
реди была безопасность,
лишь бархан отделял от
нее, и его, как сладост-
ную закуску, оставили на
завтрашний день.
Рассвело. Иштван-Кули
приказал. Тощие кони то-
ропливо' пили из рук. И
тогда сверху ударил пуле-
мет.
Сухое небо смотрело на
них, ничуть не удивляясь
тому, что опять творилось
И Абдуллах вытащил
из-за пазухи последнюю
пулеметную ленту. Погла-
дил. Длинной сильной ру-
кой отвалил Колю от пу-
лемета.
— Я,— сказал Абдул-
лах.
— Хоп, — со!ласился
Коля.
Коля смотрел на его ко-
ричневые волосатые руки
чуть-чуть приправляя лен-
ту, и про себя, не ма-
терясь, с неожиданной
страшной медлительнос-
тью прощался.
«Прощай, Штора,— го-
ворил он про себя. —
Сейчас лента кончится.
Их штук триста, а нас толь-
ко двое. Ребята не успе-
ют. Прощай, Штора. Ты
хороший парень. Они уби-
твою жену, сволочи.
. го парня была, не-
ласковая жена,
будем уми-
б >х. Очень не
ценилось, что
. дние I рохи рассто-
я«><> . ба мачей совпали
• еиЧулей из лен-
ты 1. »- чилось, что
посп- нтя пуля ударила
— Аллах! J- закричал
Абуллах, глядя на упавше-
го.
Он бросился к нему,
расшвыривая басмачей,
как ветки, он поднял его
и заплакал.
— Брат! — говорил
он. — Мама сказала, что
ты ушел. Брат, что же ты
ушел! Брат, что же ты на-
-t_Z| тииг л! Ты заставил меня
стрелять в тебя! Ты же
I е ° киной. старший, как же ты мог!
40
Обезумевшими глаза-
ми смотрели на них бас-
мачи. Коля подошел и
снял тюбетейку.
...Когда сюда прискакал
отряд, здесь пили чай.
Коля правой нераненой
рукой вытаскивал пиалы
из тюков Иштвана-Кули.
Сам Иштван-Кули был
прикручен к тюкам.
— Раньше не могли,
мать вашу... — говорил
Коля. — У меня всего-то,
мать вашу... четыре пиалы
остались. Куда наливать-
то?
— Вот глупый,— сказа
ла женщина.
Мужчина на секунд)
дольше смотрел на ишака
и обиделся.
— Он потерял хозяи-
на,— сказал мужчина. —
Узбекский осел не може
без хозяина
Именно тогда над их
головой возник танк —
шли маневры Туркестан-
ского военного округа.
Гусеницы, его несокру-
шимые гусеницы плясали,
танк жаждал разрушения
тел.
Люди не успели поду-
мать. Ишаку думать не
требовалось. Ишак нес в
своей крови абсолютную
преданность. Он успел
встать перед танком, он
мотал крошечной голо-
вой, он плясал от возбуж-
дения, случившегося <
ним раз в жизни, чтобы
люди видели, что рядом
люди. Он не смог объ-
яснить, что люди целуют-
ся: танк остановился, раз-
давив ишака.
Сказки...
Публикация Т. ТРАВИНСКОЙ.
Рн
к
«вглядись ™
Они целовались,
у Ишак, маленький се-
рый ослик, не был
шокирован. Он сам, если
удавалось, занимался чем-
то подобным. Он постоял,
посмотрел. Он не знал,
как люди, что смотреть
на целующихся нехорошо,
но некоторая вальяж-
ность, сопричастность по-
целуям останавливала его
от того, чтобы зареветь
сразу же. Точнее — за-
петь. Он пел, когда ему
было хорошо или плохо,
а хорошо или плохо ему
было всегда, потому что
у него, как у всех иша-
ков, был непроницаемо
чистый характер. Он от-
вернулся и заревел.
Целующиеся подняли
головы.
ГОРА
И МАГОМЕТ
• Рассказывают, что про-
рок ислама Мухаммед
обещал людям совер-
шить чудо: приблизить к
себе гору. Когда это ему
не удалось, он сказал:
«Что ж! Гора не хочет
идти ко мне, значит, я
пойду к ней». Этот эпизод
вошел в фольклор из-
вестным выражением:
«Если гора не идет к Ма-
гомету (так произносили
прежде, а иные и теперь
произносят имя мусуль-
манского пророка), то Ма-
гомет идет к горе». Воз-
можно, это выражение
возникло позже, на осно-
ве анекдота о Ходже Нас-
реддине. Однажды, когда
он выдал себя за святого,
его спросили, как он мо-
жет это доказать. Нас-
реддин ответил, что ве-
лит пальме прийти к нему
и она послушается. Чудо
не получилось, и Насред-
дин сказал: «Пророки и
святые лишены высокоме-
рия. Если пальма не идет
ко мне, я иду к ней».
в это ЗЕРКАЛО.»
Размышления
у подножия Сулейман-горы
СНОВА Я В ОШЕ, где бывал не раз,— в этом теплом,
живом и, как мне кажется, лукавом городе. С незапа-
мятных времен люди селились здесь — у подножия и на
склонах четырехглавой горы. Ош, свидетельствуют ар-
хеологи,— один из древнейших наших городов, и уже
в давние времена люди поклонялись горе.
«Над Ошем возвышается гора Тахт-и-Сулейман — Трон
Соломона. На ее вершине Сверкает на солнце большой
камень, гладкий, как зеркало. Вглядись в это зеркало, ты
увидишь прошлое, еще совсем недавнее, но более
страшное, чем сказка о драконе, который приполз
с вершины противоположного Таш-Ата и проглотил все
войско Александра Македонского»,— так писал побывав-
ший здесь в начале 30-х годов Юлиус Фучик. Под
впечатлением происходящих в этих краях перемен,
которые стремительно входили в жизнь древнего города,
писатель решил, что слава Сулейман-горы окончательно
померкла, а поток паломников иссяк.
Но удивительно живучи вековые предрассудки. И вот
что увидел полвека спустя корреспондент республи-
канской газеты «Комсомолец Киргизии»:
«Час пик паломничества на Сулейман-горе. Людей все
прибавляется. Появились и незваные проповедники. Вни-
мание невольно привлекла группа людей солидного
возраста. Расположились на курпачах (подушки для
сидения. — М. П.) на самом бойком месте. Вольно чувство-
вали себя. Вокруг них толпились люди. Подходили
и молодые, и пожилые, и даже семьями. Читались
молитвы, отпускались грехи, давались советы, даже
предсказывались судьбы... За это «услужливым» старич-
кам и старушкам металлическим дождем сыпались деньги.
Щедро одаривали их подарками».
Чем же привлекает Трон Сулеймана сегодня? Попро-
буем вглядеться в зеркало Сулейманки, как ее здесь чаще
всего называют. Не разобравшись в том, что происходит
ныне вокруг этой знаменитой горы, нечего вести разго-
воры об атеистическом воспитании, о его перестройке.
Несколько ситуаций показались мне характерными. И я
пригласил для их обсуждения людей, которые по долгу
службы или, как говорится, по велению сердца зани-
маются интересующими меня проблемами.
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ
С апреля по октябрь в Оше заметно больше народу. Из
республик Средней Азии, Поволжья, с Северного Кавказа,
из Азербайджана — из всех районов, где традиционно
распространен ислам,— сюда прибывают паломники — на
самолетах, на машинах, пешком, группами, в одиночку,
семьями, как туристы. Конечно, многие просто хотят
увидеть знаменитое место. Но основную массу приез-
жающих здешние достопримечательности не волнуют. Не
знаю, когда и кто это правило установил, но любому
мусульманину известно- три паломничества к Сулейман-
горе равны посещению Мекки и дают право называться
«хаджи».
Итак, поклонение четырехглавой горе началось задолго
до нашей эры. Но настало время, когда ее чуть было не
лишили ореола святости — в Ферганскую долину пришли
арабы со своей религией — исламом (в VI11 веке), вначале
им не было дела до местных верований, и гора надолго
превратилась в место отдыха феодальной знати. Ее стали
звать Красивой или Отдельно стоящей. В конце XV века на
ее восточной вершине построил летний домик Захареддин
41
Мухаммед Бабур, потомок Тамерлана, основатель госу-
дарства Великих Моголов. Широко известна его увлека-
тельная автобиография — «Бабур-намэ», прославился он
и как поэт Но ни в одном своем творении ни разу не
упомянул наблюдательный Бабур ни о чудодейственных
свойствах горы, ни о почитании ее мусульманами
Не раз отдыхал на Красивой и визирь Сулейман из
соседнего Узгена. Он завещал похоронить себя у ее
подножия. Вот откуда ее новое имя, сохранившееся до
наших дней.
Но одно дело владыки и их визири, другое — простой
народ Местные жители почитали гору — явно вопреки
запретам ислама. В конце концов мусульманское духо-
венство решило наполнить этот «сосуд веры» иным
содержанием. Для того и связали название горы с именем
не какого-то безвестного визиря, а самого пророка
Сулеймана (Соломона), который якобы оставил на верши-
не чудодейственный след своих колен. Не правда ли,
в легенде чувствуется некоторое скрытое лукавство ее
создателей? Оно дожило и до наших дней. Иной житель
Оша скорее по традиции, чем по глубокому убеждению,
идет на поклон к Сулейману — положение жителя «свято-
го места» обязывает его «держать марку» перед лицом
многочисленных паломнике з А его собственное отноше-
ние к горе, как правило, сильно уступает чувствам
прибывших издалека.
Тем не менее на духовной жизни города паломни-
чество ощутимо сказывается, множество религиозно
настроенных гостей создают своеобразную атмосферу,
особенно благодатную для тех, кто берется быть посред-
ником между обычным верующим и «небесными силами».
Рядовой мусульманин сомневается, дойдут ли его простые
слова до Аллаха. А вот звучные молитвы шейха — другое
дело. Есть спрос, будет предложение, и десятки «посред-
ников» помогают паломникам — за определенное вознаг-
раждение, конечно.
Истинна ли вера предприимчивых завсегдатаев Сулей-
ман-горы? Большинство паломников не допускает и мысли,
что уважаемые аксакалы, которых Аллах сподобил жить
в таком святом месте у подножия Трона Сулеймана
и которые к тому же «знают Коран» — в большинстве
своем самозванцы, даже и не читавшие всего Корана.
Сомнительно, что все они верят во всемогущество Аллаха
иначе остереглись бы лгать и вести неправедную жизнь —
и то, и другое в исламе считается большим грехом. Вся
«мусульманская» история горы началась с лукавства —
с подмены одного Сулеймана другим И современные
шейхи, поддерживая славу святого места, лукавствуют по-
своему: что ж, если простаки рвутся вывернуть свои
карманы, почему бы и не помочь им в этом благом деле —
во имя Аллаха, во славу Сулеймана, и не без пользы для
себя. Такова картина в общих чертах. Что скажут о ней мои
собеседники?
Заместитель председателя облисполкома Р Г е н ц-
л е. Если бы не эта Сулейманка! Скольких бы не было
забот! В ней, в этой горе, все дело, она поддерживает
религиозные традиции.
Референт правления областной организации общества
«Знание» Д. Насиров. Мы часто выходим с лекциями,
беседами на Сулейман-гору, в парк Навои, где проводят
время паломники, и в другие оживленные места города, но
трудно воздействовать на разнородную, смешанную
аудиторию
Уполномоченный Совета по делам религий при Совете
Министров СССР по Ошской области Э. Ташматов. Да,
аудитория эта лучше слушает самозваных шейхов, и они
сумели превратить святое место в место доходное.
Заведующая отделом Ошского объединенного истори-
ко-культурного музея-заповедника Е. Дружинина.
Но ведь мы сами отдали гору в их распоряжение! У нас
есть уникальные исторические памятники: раскопки сред-
невекового города, мавзолей Асад-ибн-Бурхия, гора
связана с именем знаменитого Бабура. Справедливо Совет
Министров Киргизской ССР объявил территорию горы и ее
подножие заповедной зоной. Но объявить-то мало! А у нас
заповедная зона застроена современными зданиями,
памятники ее реставрируются очень медленно. Мы
открыли музей в естественных пещерах экспозиция его
интересная, эднако сам по себе музей, хоть и на горе,
мало влияет на настроения паломников.
Руководитель лекторской группы Ошского обкома
Компартии Киргизии Э. Бегимкулов. Хорошо еще,
что ресторан в пещерах не открыли, а ведь все уже было
готово к этому. Надо искать методы и пути влияния на
атмосферу, которая создается и поддерживается у нас из-
за этой «святой» горы. Но идти не ощупью, а хорошо
изучив и проанализировав всю обстановку.
Доцент кафедры философии Ошского пединститута
А. Т о п ч у е в. Как место паломничества Ош заслуживает
особого внимания исследователей. На мой взгляд, необхо-
дим городской научный центр, который бы серьезно
занялся социологическими исследованиями.
Э. Бегимкулов. Эффективность нашей атеисти-
ческой работы явно мала. Много ли мы можем назвать
людей, освободившихся от религиозных предрассудков
под нашим влиянием?
Доцент кафедры философии пединститута X. А р т ы-
к л в. Есть как раз противоположные примеры. Среди
самозваных шейхов на Сулейманке мне встретился
Шукур Карабаев, житель села Тюлебкен Кара-Суйского
района. Он в начале 30-х годов работал в сельсовете,
разоблачал самозваных мулл. Участник войны. Пенсионер.
Ну что его привело на гору, да еще в такой роли? Это
вопрос. Не думаю, что дело здесь только в обогащении.
Все оценивавшие общую ситуацию согласны в том, что
для идеологической работы собственных впечатлений,
интуитивного знания недостаточно. Нужна солидная науч-
ная основа: социологическая, психологическая. Собствен-
но, говорится об этом давно, но вот дела пока не видно.
ЖЕНИТЬБА И РАЗВОД ПО-МУСУЛЬМАНСКИ!
Что бы о нем сегодня ни говорили — калым су-
ществует. Нередко уже после регистрации брака и после
освящения его муллой молодая жена остается в доме
своих родителей до тех пор, пока за нее не заплатят все
сполна, как договорились семьи до свадьбы. Уклад жизни
изменился, общественность громогласно осуждает
обычай, наконец, за него предусмотрено уголовное
наказание, а он все еще остается непременным условием
создания большинства молодых семей в области.
Все так, да и не так. Калым нынче не тот. В прежние
времена девушку продавали, получая за нее баранов,
сундуки с разным добром, ковры, украшения и деньги.
Сегодня это, по сути дела, крупный денежно-вещевой
взнос обеих семей на обзаведение молодым холодиль-
ник, телевизор, стиральная машина, а бывает, и автомо-
биль. Все это как бы гарантирует на первых порах молодой
семье определенный уровень благосостояния независимо
от деловых качеств супругов.
Столь значительно изменившись по сути, калым
сохранил свое криминальное название. Он существует как
секрет полишинеля: все знают, все участвуют (большой
калым — предмет чванливой гордости обеих сторон), но
никто не признается открыто в своей причастности
Делают вид, что не знают о калыме и те, кто создает
новые обряды.
Я попросил участников нашего разговора высказать
свое мнение: нельзя ли эту видоизменившуюся традицию
приспособить к моральным и правовым нормам наших
дней? Ведь разумная родительская помощь новобрачным
вовсе не осуждается. Может быть, вручаемые открыто,
в торжественной обстановке подарки новобрачным обре-
ли бы особый смысл, да и стали бы не столь разори-
тельными для родителей? Гласность, она ведь как-то
способствует разумной сдержанности. И может быть,
настала пора ввести в этих регионах заключение брачных
контрактов? Это соответствует духу веками складывавше-
42
гося брачного обряда. Оформленный юридически, такой
договор мог бы повсеместно предотвратить иму-
щественные споры при разводах.
В чем вообще секрет удивительной живучести многих
традиций и обрядов, отчасти порожденных, а отчасти лишь
используемых и поощряемых религией? Не в том ли, что
они успешно приспосабливались к изменяющемуся об-
ществу, как бы встраивались в новые условия, сплошь
и рядом сильно уступая в содержании ради сохранения
формы и названия? И не случается ли, что, не умея увидеть
и проанализировать это изменившееся содержание, ате-
исты продолжают борьбу с названием и формой?
Если множество народа, а большинство — люди
честные, достойные члены общества, действуют настойчи-
во и постоянно вопреки запрету, то, возможно, он не
продуман? Традицию не запретишь. Это доказало время.
Если мы уверены, что она приносит обществу моральный
и материальный вред, надо ей противопоставить то, что
заменит эту традицию в духовной жизни человека, семьи.
Итак, еще характерная черта здешней религиозной
ситуации — почти стопроцентное соблюдение мусуль-
манских обрядов. Это не новость, всем все давно известно,
но вот так и продолжается. И ни лекции тут не помогут, ни
внедрение новых обрядов. То есть обряды кое-какие даже
приживаются, но они существуют сами по себе, а рели-
гиозные— сами по себе. Не «заменяют», не «вытес-
няют» — и все тут! Что же скажут по этому поводу
участники нашей беседы?
Секретарь Ошского обкома партии С. Бахапова.
Все, о чем мы сегодня говорим, еще раз свидетель-
ствует о необходимости перестройки в атеистической
работе. Ясно, что нужны новые решения, новые подходы
и в оценке ситуации, и в постановке всего дела. Нельзя
сказать, что мы не ведем работу, но очевидна ее неэффек-
тивность. И нельзя не признать: недооцениваем масштабы
распространения религиозных обрядов, их влияние на
молодежь.
Председатель областного Совета ветеранов
Б. Ешмамбетов. Разве секрет, что их соблюдают мно-
гие партийные, советские работники, хозяйственные
руководители. Много ли новобрачных миновали мечеть?
В том числе и дети упомянутых работников? А уж о похо-
ронах и говорить нечего...
Р. Г е н ц л е. Думаю, у ошского населения религиоз-
ность все же неглубокая, обряды исполняются по тради-
ции, из уважения к старшим. И, знаете, в последнее время
их соблюдение сократилось
Э. Ташматов. Я бы не стал это утверждать столь
категорически. Нередко молодые, совершив гражданский
обряд бракосочетания и посетив Вечный огонь, отправ-
ляются оттуда на Сулейман-гору, а дома их ждет мулла...
Р. Г е н ц л е. Бытует такое убеждение, что, мол,
гражданский брак непрочен. Но ведь множество приме-
ров, когда браки, заключенные по воле родителей,
в полном соответствии с шариатом, расторгаются через
несколько недель, а то и дней!
Заместитель начальника областного отдела юстиции
В. Шаповалова. Судебная практика, статистика как
раз об этом и свидетельствуют. Если молодые до брака
были едва знакомы, а то и вовсе не виделись, часто жена
убегает от мужа чуть ли не на следующий день. А уж когда
начинают делить имущество, полученные к свадьбе
подарки,— куда девается уважение к традициям и вере!
Вот тут и выплывает тот самый калым. Эти процессы
трудны. Ведь договаривались стороны при заключении
брака неофициально, а разводятся и делят имущество —
по суду. Возможно, юридически оформленный контракт
и помог бы легче вести эти дела, тем более что число
разводов не уменьшается.
X. А р т ы к о в. Да, но о чем это в наших условиях
свидетельствует? Раньше-то женщины и подумать не
смели, чтобы оставить навязанного им мужа. А теперь все
чаще пользуются своими правами. И кто может ответить:
быстрый распад таких традиционно создаваемых семей —
это беда или благо? Ведь традиция формировалась
совершенно иными условиями: экономическими, соци-
альными. Может ли сегодня нормально существовать
и укрепляться семья, созданная на основе древних
традиций, без учета современных условий. Очень сложен
вопрос о новых обрядах. Ведь сегодня ясно: те, что как-то
прижились, не заменяют традиционных, религиозных. Они
сосуществуют. Значит, не гем путем идем в создании
новых обрядов.
Э. Бегимкулов. Здесь, думаю, есть положитель-
ное. Комиссия по разработке и внедрению новых
гражданских обрядов создана совсем недавно, но в ее
активе торжественные Дни памяти, которые прошли
в Оше, Джалал-Абаде, Базар-Кургане. Разработаны реко-
мендации по торжественному вручению паспортов, ре-
гистрации брака, проведению безалкогольных свадеб
Р. Г е н ц л е. Все это так, но тем, кто этим занимается,
явно не хватает ни знаний, ни опыта. А вы посмотрите на
методическую литературу по новым обрядам! От скуки
скулы сводит, к тому же это либо теоретические рассужде-
ния, либо какой-то конкретный опыт, который и годится
только для конкретных условий. А методики как таковой
нет.
С. Бахапова. Что ж, давайте подведем итоги нашего
разговора. Правильно говорилось о необходимости изуче-
ния причин, степени религиозности населения города
и области, влияния, которое оказывают паломники. Над
всем этим еще предстоит серьезно подумать, и, видимо,
первые шаги здесь — создание кафедры научного атеиз-
ма, атеистического центра в городе и историко-культурно-
го комплекса. А пока ошские атеисты работают, что
называется, как умеют, не располагая научными рекомен-
дациями, не имея всестороннего анализа ситуации.
Хорошо, что мы сегодня много говорили о проблемах.
Перестройка начинается с недовольства собой, своей
работой, с того, что сам себе начинаешь задавать не-
удобные вопросы. И нельзя нам больше мириться с тем,
что наши коммунисты участвуют в действиях, которыми
дирижирует либо мулла, либо верующий аксакал. Но
и демонстративно противопоставлять себя землякам,
видимо, тоже не совсем правильно. Есть над чем поду-
мать!
Если коснуться принципов индивидуальной работы
с верующими и колеблющимися, то здесь не спор надо
затевать, а спокойный, доброжелательный разговор.
Выяснить, разобраться, как и почему человек пришел
к своим убеждениям — тогда и стараться его переубедить
Надо чаще подниматься на Сулейман-гору, знать в лицо
«шейхов» и незарегистрированных мулл. Среди них
далеко не все лукавые корыстолюбцы, это было бы
слишком просто, от них верующие — не так уж они наивны
и простодушны — сами давно бы отвернулись.
Будем откровенны: мы ориентируемся на заранее
подготовленные мероприятия и далеко не всегда умеем
схватить на лету аргументы в споре, владеть ситуацией,
повести верно неожиданно возникшую дискуссию. Но как
этому научиться и как этому учить? Атеистическая работа
требует творчества, а это процесс самостоятельный, стало
быть, наша задача — привлечение людей творческого
склада, способных овладеть вниманием и одного человека,
и большой аудитории. Поворот к человеку, его запросам,
духовным интересам — в них самая суть перестройки.
...Красивая. Отдельно стоящая. Гора Сулеймана.
Тахт-и-Сулейман. Бера-кух-перс. Сулейманка. Бесстрастно
приемлет четырехглавая гора имена, которыми наре-
кают ее люди. Терпелива к наивности паломников
и коварству — или лукавству? — шейхов.
Уютно примостился у ее подножия теплый, живой
и лукавый город, самой природой предрасположенный
к миролюбию и гостеприимству. Большой камень, гладкий,
как зеркало, сверкает на вершине горы и пускает веселые
зайчики на улицы Оша.
Вглядись в это зеркало, город. Разгляди себя!
43
«Мы распространим свою
революцию на весь мир,
потому что это исламская
революция. До тех пор пока
клич «Нет бога, кроме Алла-
ха» не зазвучит повсюду на
земле, борьба будет про-
должаться». Это высказыва-
ние имама Хомейни, верхов-
ного руководителя Ис-
ламской Республики Иран,
с предельной ясностью
выражает суть его концеп-
ции «экспорта исламской
революции».
В редакционной почте не-
мало писем с просьбой
раскрыть подлинную связь
между этой концепцией и
доктриной «борьбы с меж-
дународным терроризмом»,
провозглашенной адми-
нистрацией США. Неко-
торые читатели обращают
внимание на то, что осу-
ществление доктрины в
большинстве случаев не ка-
сается тех объектов, ко-
торые публично объяв-
ляются главным источником
распространения террориз-
ма, в частности Исламской
Республики Иран.
В чем здесь дело? Какова
политическая подоплека та-
кого положения? В пред-
лагаемой статье сделана
попытка ответить читателям.
НИЧТО, кроме религии,— ни экономика,
ни политика — не может быть основой для
союза и объединения наций, говорил
председатель иранского меджлиса
ходжат-оль-эслам Хашеми-Рафсанджани.
Необходимо это объединение для «все-
мирного восстания против господства
США и Советского Союза в мусульманских
государствах». В качестве устройства жиз-
ни мусульмане всего мира должны избрать
«исламскую революцию» в Иране, а сам
Иран должен стать во главе международ-
ной мусульманской борьбы против «ми-
ровых сил высокомерия».
В конце сентября 1982 года влиятельная
иранская газета «Джомхурийе эслами»
писала, что «Исламская Республика Иран
как самая мощная держава региона, как
революционная страна и как самое могу-
щественное в исламском мире государство
может сыграть решающую роль в решении
ЗА РУБЕЖОМ
ЖИВЫЕ
доктор исторических наук I
БОМБЫ
проблем мусульман». Хомейни, в свою
очередь, призывал к созданию мусуль-
манской армии, состоящей из «десятков
миллионов верующих» и имеющей ре-
зервные силы, в которые войдет 100 мил-
лионов мусульман. Эта армия, по его
словам, была бы «самой сильной в мире»
Иранские руководители не ограничились
пропагандой своих доктрин. Они разверну-
ли большую организаторскую работу.
В сентябре 1982 года президент Исламской
Республики ходжат-оль-эслам Хосейни-Ха-
менеи на встрече с послами мусуль-
манских стран, аккредитованными в Иране,
предложил созвать совещание руководи-
телей исламских государств «с целью
обмена мнениями по важнейшим пробле-
мам мусульманского мира». Поскольку
такое совещание не удалось, пришлось
ограничиться созывом в декабре того же
года Международного конгресса руково-
дителей пятничных намазов1, в котором
приняли участие более 100 представите-
лей мусульманского духовенства почти
40 стран.
Иранские руководители, судя по всему,
стремились Превратить это собрание в по-
стоянно действующий форум. Второй
международный конгресс, состоявшийся
в мае 1984 года в Тегеране, принял
декларацию, в которой, в частности, гово-
рилось: «Отдавая себе отчет в важности
роли руководителя, знатока ислама, ко-
торый хорошо понимал бы необходимость
достижения подлинного единства среди
мусульман, мы признаем, что аятолла
Хомейни, великий имам, обладает всеми
необходимыми для руководителя мусуль-
ман качествами, мы предлагаем мусуль-
манам следовать его призывам».
В начале 1985 года, по данным
английской газеты «Гардиан», в Тегеране
во время встречи более 500 религиозных
деятелей — шиитов и суннитов был создан
Высший совет мировой исламской ре
волюции, призванный объединить усилия
всех мусульманских политических группи-
ровок и организаций, руководствующихся
идеей «исламской революции». Та же
газета сообщила, что участники встречи
получили возможность ознакомиться со
специальным лагерем в северной части
иранской столицы, где под наблюдением
заместителя командующего Корпусом
стражей исламской революции — прето-
рианской гвардии иранского духо-
венства — обучалось 800 «смертников» из
различных государств района Персидского
залива, а также из Ирака и Ливана.
В других лагерях, согласно сообщениям
западной прессы, готовились целые «ар-
мии национального освобождения». По
данным, опубликованным 9 августа
1982 года в американской газете
«Ньюсдей» бывшим главным редактором
иранской газеты «Кейхан» Амиром Тахери
(занимал этот пост с 1973 по 1979 гг.;
эмигрировал во Францию), в Иране еще
в 1980 году был создан Центр экспорта
исламской революции. Спустя два года он
располагал бюджетом в 60 миллионов
долларов и координировал подготовку
около 40 тысяч мусульманских боевиков из
более 20 стран В дальнейшем их круг,
вероятно, расширился: Тегеран был бук-
вально заполнен представительствами раз-
личных «мусульманских фронтов»— от
арабских до филиппинских и таиландских.
Здесь находились штаб-квартиры почти
15 контрреволюционных афганских груп-
пировок, сепаратистского Эритрейского
фронта освобождения (Эфиопия), ли-
ванской шиитской организации «Амаль»,
иракской исламской партии «Ад-Даава»
и десятков других. В теологическом
центре в Куме обучалась молодежь из
Сенегала, Танзании, Малайзии, Туниса и
других стран.
Иранские «исламские революционные
организации» устанавливали контакты с за-
рубежными экстремистскими группиров-
ками даже в тех государствах, с которыми
Тегеран поддерживал довольно дружес-
кие отношения,— в Индии, Пакистане и
др Официальные лица Малайзии, напри-
мер постоянно жаловались на связи
«определенных группировок» Ирана с
«экстремистами, контролирующими Все-
малайзийскую исламскую партию», а так-
же на то, что Иран проводит для малайских
мусульман семинары, на которых звучат
призывы бороться за установление в Ма-
лайзии исламского режима по типу
иранского.
Особенно активную деятельность Иран
вел в богатых нефтью государствах Пер-
сидского залива, где имел возможность
широко использовать крупные иранские
колонии и довольно большие контингенты
шиитского населения. «Сегодня Иран,—
писал А. Тахери,— активно действует во
всем районе Персидского залива, ведя
пропаганду и обеспечивая подготовку,
поставляя оружие и оказывая финансовую
поддержку самым различным оппозици-
1 Общая молитва мусульман в соборной мече-
ти, которую проводит авторитетный богослов,
произносящий обычно проповеди на актуаль-
ную тему. (Прим, ре д.)
44
онным группировкам». Предпринятая в
конце 1981 года неудавшаяся попытка
переворота в Бахрейне, особенно сильно
подвергавшемся ударам иранских радио-
волн, согласно проведенному там рассле-
дованию, направлялась из Тегерана;
осенью 1983 года аналогичный заговор был
раскрыт в Катаре» Собственно, иранские
деятели и не скрывали, что экспорт
«исламской революции» в другие мусуль-
манские страны —г их первый священный
долг. Недвусмысленно звучали посто-
янные угрозы Тегерана в адрес Кувейта,
Омана и других малых государств района
Персидского залива.
В начале июля 1986 года каирская газета
«Аль-Ахали» сообщила, что в феврале
в Тегеране состоялась координационная
встреча лидеров шиитских организаций
ряда стран Ближнего Востока и района
Персидского залива. На ней обсуждались
вопросы активизации борьбы «против ти-
ранических режимов, отказывающихся
следовать по пути истинного ислама»,
В частности, было достигнуто соглашение
о создании высших исламских советов по
образцу иранского в Кувейте, Саудовской
Аравии, Бахрейне и ОАЭ, для финансиро-
вания которых Иран будто бы выделил
миллиардные суммы»
Одним из важнейших каналов экспорта
идей «исламской революции» стало тради-
ционное ежегодное паломничество му-
сульман всего мира к святым местам
в Медине и Мекке (Саудовская Аравия).
Иранские паломники (в разные годы их
было от 70 до 150 тысяч) устраивали
политические демонстрации в саудовских
городах и даже во дворе главной мечети
в Мекке. Они распространяли пропаган-
дистские материалы, призывающие му-
сульман свергнуть свои «марионеточные
правительства». В 1982 году саудовская по-
лиция арестовала 21 иранца и выслала их из
страны Но в последующие годы власти
Саудовской Аравии, опасаясь исходящих
из Ирана угроз, снова принимали иранских
паломников, хотя те и не думали оставлять
свою политико-пропагандистскую де-
ятельность
Иранское руководство сочло подходя-
щим полигоном для испытания концепции
«экспорта исламской революции» истер-
занный внутренними междоусобицами и
внешней агрессией Ливан, где власти не
контролировали даже всей территории
столицы — Бейрута. В июне 1982 года,
сразу после израильского вторжения в Ли-
ван, оно направило туда группы «добро-
вольцев» (общей численностью от 300 до
500 человек), сопровождаемых представи-
телями духовенства. Иранская печать рас-
ценила эту поездку как «прекрасную
возможность для распространения ис-
ламской революции»» Иранцы расселились
в традиционно шиитском городе Баальбе-
ке (в долине Бекаа), где заняли мечети
и общественные здания, открыли больни-
цу, поликлиники, религиозные школы
и культурные центры, в которых де-
монстрировались фильмы, прослав-
ляющие «исламскую революцию»
Первоначальная реакция местного ши-
итского населения на действия иранских
«добровольцев», как сообщали журна-
листы, была смесью любопытства и легкой
насмешки. Но с течением времени в горо-
де начали проявляться признаки религиоз-
ного рвения: пустели такие «безбожные»
места, как кафе и увеселительные заведе-
ния, зато заполнялись мечети и рели-
гиозные школы. Портреты имама Хомейни
замелькали не только на рыночной площа-
ди, переименованной в его честь, но и на
стенах домов, расположенных по скло'нам
дальних гор. Уже в мае 1983 года стало
известно, что в числе иранцев в Баальбеке
находятся 1,5 тысячи «стражей исламской
революции».
В начале 1984 года Тегеран посетил
лидер ливанских шиитских вооруженных
отрядов, принадлежащих так называемой
«партии Аллаха», созданной в Ливане по
образцу соответствующей иранской орга-
низации. Министр иностранных дел Ирана
Велаяти призвал его использовать все силы
и ресурсы для того, чтобы начать в Ливане
«исламскую революцию».
К этому времени в Ливане было уже две
тысяча иранских «добровольцев» и среди
них не только боевики —«стражи», но
и опытные пропагандисты из министерства
исламской ориентации, квалифициро-
ванные врачи, учителя и другие спе-
циалисты. Врачи оказывали бесплатную
медицинскую помощь населению. С на-
ступлением холодов иранцы — опять же
бесплатно — выдавали ливанцам топливо
для обогрева квартир. Примечательно, что
сначала помощь оказывалась всем жите-
лям, а с некоторого времени — только
«истинным мусульманам», то есть тем, кто
регулярно посещает мечеть, совершает
молитвы и участвует в мероприятиях,
организуемых здешними шиитскими де-
ятелями. Иранские учителя получили от
местных властей разрешение раз в неделю
проводить во всех школах города уроки
ислама. Пропагандисты из министерства
исламской ориентации часто совершали
с жителями близлежащих деревень сов-
местные молитвы, читали лекции, прово-
дили индивидуальные беседы, передавали
подарки от «иранских братьев».
Не была забыта и военная подготовка
местных шиитов. Расположившись в одном
из отелей и прилегающем к нему парке,
а также в бывших казармах ливанской
армии, переименованных в «гарнизон
имама Хомейни», «стражи исламской ре-
волюции» на специальном полигоне обуча-
ли владению стрелковым оружием, обра-
щению со взрывчатыми веществами, орга-
низации диверсионных актов.
Шла исламизация Баальбека на иранский
манер Причем она велась не только
методами убеждения и благотворитель-
ности. Подчас применялись и средства
насильственного «приобщения» населения
к «истинному» исламу- С ведома иранских
эмиссаров этим занималось экстре-
мистское крыло ливанского шиитского
движения «Амаль». Все больше горожанок
теперь куталось в чадру, а мужчины
отказались от галстуков и отпустили бо-
роды.
В мае 1984 года было сообщено об
эвакуации иранцев из Баальбека. Однако
нм это, ни появившееся позже еще одно
сообщение не подтвердились, хотя число
«добровольцев» из Ирана в Баальбеке
существенно сократилось. Вероятно, это
было связано с решением ливанского
правительства восстановить дипломатичес-
кие отношения с Ираном, разорванные
девять месяцев назад в знак протеста
против незаконного пребывания на терри-
тории Ливана иранских «добровольцев»
(при этом большинство иранских диплома-
тов оставалось в Ливане на территории,
контролируемой местными шиитами).
В 1985—1986 годах иранские высокопос-
тавленные деятели неоднократно наноси-
ли визиты в Ливан, причем нередко
официальные лица Ирана приезжали в
Баальбек без предварительного согласова-
ния с ливанским правительством. В январе
1985 года сюда прибыл министр по делам
Корпуса «стражей исламской революции»
Рафик-Дуст, в мае Ливан посетил руково-
дитель иранского Фонда павших аятолла
Карруби, один из наиболее приближенных
к Хомейни религиозных деятелей. Аятолла
провел переговоры с лидерами про-
иранских организаций и на обратном пути
остановился в Баальбеке. В его честь
боевики ливанской «партии Аллаха» и
члены их семей провели многотысячное
шествие с лозунгами, требовавшими лик-
видации христианского присутствия в Лива-
не и установления в стране исламского
режима по иранскому образцу. В мае же
в Ливан прибыла иранская делегация во
главе с генеральным директором отдела
стран Азии и Африки МИД Ирана М. X. Ла-
васани. В официальной бейрутской печати
было объявлено, что цель делегации —
содействовать прекращению огня между
шиитским движением «Амаль» и палестин-
цами. В Бейруте ее члены встречались
в основном с руководством «партии Алла-
ха» и провели с ее функционерами
семинары, на которых пропагандировали
идеи «исламской революции».
В марте 1986 года Лавасани вновь
посетил Бейрут и вел переговоры с
местными шиитскими лидерами. Обсужда-
лись вопросы, связанные с «необходи-
мостью сплочения мусульман и достиже-
нием мусульманского единства в Ливане
под духовным руководством борцов за
истинный ислам во главе с имамом
Хомейни». В июне в Бейруте побывал
заместитель иранского министра ино-
странных дел А М. Бешарати-Джахро-
* ми.
Имели место и ответные визиты в Иран
руководителей ливанских проиранских ор-
ганизаций. В марте 1985 года Тегеран посе-
тил лидер «партии Аллаха», принятый на
высшем уровне. Тогда же представитель
иранского посольства в Бейруте официаль-
но сообщил, что Иран предоставил «без-
возмездно 15 миллионов долларов на
развитие исламской культуры в Ливане»
В мае того же года в Тегеране побывал
председатель высшего исламского совета
шиитов Ливана, который провел перего-
воры с Хомейни.
Таковы основные направления деятель-
ности иранского руководства по претворе-
нию в жизнью концепции «экспорта ис-
45
ламской революции». Несомненно, глав-
ной ее целью было обеспечение благо-
приятных внешнеполитических условий
для создавшегося в Иране режима шиит-
ской теократии. Но какова же связь этой
концепции с выдвинутой администрацией
США доктриной «борьбы с междуна-
родным терроризмом»?
Именно в то время, когда иранские
«добровольцы» находились в Баальбеке,
террористы-смертники совершили ряд
крупных террористических актов. Боль-
шинство западных наблюдателей приписы-
вали их либо иранцам, либо ливанским
проиранским организациям. В мае 1983 го-
да представители министерства обороны
США утверждали, что располагают «кос-
венными сведениями» о причастности
иранского правительства к взрыву бомбы
в американском представительстве в Бей-
руте 18 апреля (63 жертвы). Аналогичные
акции были совершены 23 октября 1983 го-
да на американской и французской базах
в ливанской столице (298 убитых), а 11 дня-
ми позже — в здании израильского ^итаба
в Тире (39 погибших). Позже ответствен-
ность за них взяла на себя неизвестная
ранее экстремистская группировка «Аль-
Джихад аль-Ислами» («Священная ис-
ламская война»), которая, как объявила
американская разведка, состояла из иран-
цев, посланных в различные страны мира
с целью распространения «исламской ре-
волюции».
12 декабря 1983 года в 9.30 утра пикап
«Мерседес» проскочил в ворота амери-
канского посольства в Кувейте, располо-
женного неподалеку от эмирского дворца,
и взорвался В тот же самый момент
начиненная взрывчаткой автомашина взле-
тела на воздух, подъехав к посольству
Франции. В этот день в Кувейте были
осуществлены и другие террористические
акты — уничтожена часть аэропорта, по-
врежден нефтеперерабатывающий завод.
Общий итог — 7 убитых, 62 раненых. Через
несколько часов в Бейруте стало известно,
что ответственность за эти акции взяла
организация «Аль-Джихад аль-Ислами».
Иранские власти неизменно отрицали
свою причастность к террористическим
акциям в Бейруте и других местах, равно
как наличие у Ирана каких-либо связей
с организацией «Аль-Джихад аль-Ислами»
и даже всяких сведений о ней. В то же
время иранское руководство на весьма
высоком уровне публично приветствовало
каждую такую акцию, заявляя, что это
справедливое возмездие народов импе-
риализму. Это дало основание фран-
цузскому еженедельнику «Экспресс» (де-
кабрь 1983 г.) назвать террористов-
смертников «живыми бомбами Хомейни».
В январе 1984 года американские раз-
ведывательные службы сообщили что
в Иране готовятся атаки небольших само-
летов с пилотами-смертниками против
кораблей американского флота в Среди-
земном море и в Персидском заливе.
Администрация США по этому поводу
заявила, что возможны «превентивные
операции» для предотвращения подобных
действий. Иранские власти не отрицали
сути обвинения, а Хашеми-Рафсанджани
заявил, что если Соединенные Штаты
предпримут указанные «превентивные
операции», то «все американские источни-
ки сырья и интересы» могут оказаться под
угрозой. Подобные заявления воспринима-
лись как намек на то, что Иран может
применить против американских и других
иностранных кораблей «тактику ками-
кадзе». К тому же Хашеми-Рафсанджани
во время встречи со «стражами исламской
революции» с восторгом отозвался о
японских камикадзе периода второй миро-
вой войны.
В августе 1984 года в Суэцком заливе
и Красном море подорвались на* минах или
получили повреждения около полутора
десятков судов; ответственность за эту
акцию снова взяла на себя та же организа-
ция — «Аль-Джихад аль-Ислами». Она за-
явила, что установила около двухсот мин.
Тегеранское радио приветствовало и эту
акцию «революционной мусульманской
организации», назвав ее ударом по «высо-
комерным державам», включая США,
Францию и Англию. Спустя два дня после
этого красноречивого комментария аятол-
ла Хомейни выступил с необычным заявле-
нием^ которое было передано иранским
информационным агентством ИРНА: «Ког-
да в мире происходят какие-либо по-
зорные действия, говорят, что к этому
причастны и иранцы, и иранское прави-
тельство. Это пропаганда. Как мы можем
поддерживать акции, которые противоре-
чат мнению мировой общественности,
исламу и разуму?.. Минирование означает,
что пострадают невинные люди. Как при-
мирить это’с исламом? Как Иран может это
допустить?.. Что бы ни случилось, обви-
няют нас. Мы должны обратить на это
внимание... Несомненно, с радио что-то не
так. Необходимо положить этому конец.
По радио не должны необдуманно переда-
вать вещи, которые порочат Иран».
На Западе заявление Хомейни было
расценено как очередное указание на
наличие серьезных политических разно-
гласий в иранских правящих кругах. И толь-
ко. В возможность отказа Ирана от
«экспорта исламской революции» никто не
хотел верить, тем более что многие
иранские высокопоставленные деятели
продолжали обосновывать его необходи-
мость. Так, Хашеми-Рафсанджани публич-
но заявлял, что «подлинными мусульмана-
ми» могут считаться только те, кто
«направляет автомашину, полную взрыв-
чатки, на здание и взлетает в воз-
дух». В феврале 1985 года, отвечая на
вопросы выходящего в Лондоне арабского
еженедельника «Аль-Алам», он говорил:
«Мы не отрицаем тот факт, что являемся
экстремистской группировкой мирового
исламского движения... Мы считаем, что
только экстремистское движение способно
противостоять черному деспотизму
крупных мировых держав и добиться
успеха. Поэтому мы не только не отрицаем
свой экстремистский подход к глобально-
му деспотизму, но и признаем его и гор-
димся им».
16 января 1985 года лондонская «Таймс»
сообщила, что в Тегеране создана гак
называемая «независимая бригада для
ведения партизанской войны на террито-
рии противника». Основными объектами
диверсий, осуществляемых террористами-
самоубийцами, писала газета, избраны
Саудовская Аравия, Кувейт, Объеди-
ненные Арабские Эмираты, Иордания
и Франция. С этой организацией связыва-
лись имена министра исламской ориента-
ции Ирана аятоллы Мохаммада Хатеми
и руководителя группировки «Аль-Джихад
аль-Ислами» Хосейна Мусауи, иранца по
национальности. «Независимая бригада»
будто бы имела в своем составе группы по
10—12 человек, действующие в Ливане,
а всего должна была завербовать от 1,5 до
2 тысяч человек не старше 30 лет.
Западная печать была полна сообще-
ниями и о многих других террористических
акциях, совершенных якобы иранцами Их
подозревали, например, в попытках соз-
дать хаос на Олимпийских играх в Лос-
Анджелесе (1984) и даже в намерении
проникнуть в Белый дом. «Вашингтон пост»
(январь 1986 г.) со ссылкой на данные
разведки, в частности ЦРУ, сообщила
о наличии в Иране двух учебных центров,
готовящих похитителей самолетов, и около
полудюжины учебных лагерей для терро-
ристов-смертников, где есть 30 групп
террористов-женщин, прямо называющих-
ся «камикадзе ислама».
Иранское правительство фактически ни-
когда не подтверждало такого рода сведе-
ний, тем не менее империалистические
круги именно с Ираном связывали боль-
шинство террористических актов, даже
тех, которые имели место во Франции
и США: и неудавшееся покушение в Пари-
же 18 июля 1980 года на последнего
шахского премьер-министра Ш. Бахтияра,
активно выступавшего против исламского
режима в Иране; и убийство (через четыре
дня после этого) в Вашингтоне тесно
связанного с ним бывшего пресс-атташе
шахского посольства А. Табатабаи, лидера
оппозиционных исламскому режиму
иранских эмигрантов в США; и убийство
в Париже в феврале 1984 года шахского
генерала Г. А. Овейси, который в конце
1978 года был военным администратором
Тегерана, и его брата. Неизвестный чело-
век, позвонивший в редакцию одной из
лондонских газет, сообщил, что последний
террористический акт является делом рук
организации «Аль-Джихад аль-Ислами».
Неизвестный, говорящий на персидском
языке, заявил редакции иранской газеты
«Иран тайме интернэшнл» в Вашингтоне,
что ответственность за эти убийства несет
группа под названием «Иранская ре-
волюционная организация за освобожде-
ние и реформы».
Правительство Ирана, как и в других
случаях, отрицало свою причастность к
этим террористическим актам, но, как
и прежде, одобрительнр отзывалось о них.
Двойственная позиция правящих кругов
исламского Ирана в отношении обвинений
в терроризме определялась, судя по
всему, стремлением использовать концеп-
цию «экспорта исламской революции» во
внутриполитических целях — держать
массы в постоянной мобилизационной
готовности, предписываемой одним из
46
главных лозунгов имама Хомейни: «Ашу-
ра — каждый день и Кербела —
повсюду»2.
Какую же цель преследовали США и их
союзники, обвиняя Иран в большинстве
террористических и диверсионных акций,
имевших место на мусульманском Востоке
и в других районах мира? Прежде чем дать
ответ на этот вопрос, необходимо выяснить
отношение США к исламскому режиму
в Тегеране. 14 августа 1981 года диплома-
тический корреспондент телекомпании
Эй-би-си со ссылкой на свои беседы
с высокопоставленными сотрудниками Бе-
лого дома сообщил: «Может сложиться
впечатление, что при всей той напряжен-
ности в отношениях, при всех тех заботах
и неприятностях, с которыми сталкивался
Вашингтон в ведении дел с новым прави-
тельством Ирана, любые сообщения о не=
удачах Ирана и трудностях этого прави-
тельства вызывают у США злорадство.
Однако дела обстоят иначе... США счи-
тают, что любое сильное правительство
в Иране, даже если оно не по душе США,
будет отвечать интересам американской
внешней политики».
Весьма недвусмысленные разъяснения
об отношении США к исламскому режиму
дал 13 сентября 1981 года тогдашний
госсекретарь США Александр Хейг в ин-
тервью «Вашингтон пост»: «В наших инте-
ресах строить свои отношения с Ираном
с учетом исторической перспективы, а не
современных тактических соображений.
Кроме того, мы должны сделать все, что
в наших силах, стремясь добиться, чтобы
в конечном счете иранский режим соот-
ветствовал западным ценностям и запад-
ной ориентации...» «Считаете ли вы, что в
этой стране царит хаос?» — спросил гос-
секретаря корреспондент. «С каждым
днем такое предположение кажется все
более вероятным,— ответил Хейг.— Од-
нако пытаться воспользоваться таким по-
ложением, вероятно, было бы равносйльно
тому, чтобы поставить под угрозу те
долгосрочные цели, о которых я говорил».
Несмотря на свои неизменные заявления
о решимости всеми способами пресекать
«акты международного терроризма» (под
ними обычно имелись в виду национально-
демократические выступления в разви-
вающихся странах), администрация США
проявляла изрядную снисходительность
к сообщениям о совершенных якобы
иранцами террористических акциях. Пока-
зательно заявление Хейга в сенатской
комиссии по иностранным делам 17 нояб-
ря 1981 года: «Иран, некогда бывший
буфером между Советским Союзом и
Персидским заливом и способствовавший
сохранению региональной безопасности,
сейчас истерзан войной и насилием. Опас-
ность для независимости и целостности
Ирана создает угрозу для безопасности
США, по сравнению с которой бледнеет
неоправданное посягательство самого
Ирана на международный порядок».
Истинная подоплека снисходительного
отношения США к «неоправданному пося-
гательству Ирана на международный поря-
док», таким образом, заключалась в сле-
дующем: создаваемая этим «посяга-
тельством» (или точнее — разговорами
о нем) дестабилизация в таких взрыво-
опасных районах мира, как Ближний Восток
и Персидский залив, давала администрации
Рейгана благовидные предлоги для осу-
ществления ее экспансионистских, гегемо-
нистских планов в этих районах. Потому
и нисколько не, смущал правителей США
антиамериканизм исламского Ирана. В ав-
густе 1985 года еженедельник «Ньюсуик»
писал: «Всякий раз, когда иранцы соби-
раются на митинги, как и прежде, раздает-
ся клич: «Смерть Америке!» По всей
стране стены домов испещрены антиаме-
риканскими лозунгами, а пороги раскра-
шены в цвета американского флага; гостей
приглашают вытирать ноги о «звезды
и полосы»... Несмотря на иранский ан-
тиамериканизм, западные дипломаты в Те-
геране утверждают, что подрывать нынеш-
ний режим было бы не в интересах
Вашингтона».
В связи с бомбардировкой Ливии адми-
нистрация США вынуждена была признать
отсутствие у нее достаточных улик против
Ирана. В конце апреля 1986 года госсекре-
тарь США Дж. Шульц, назвав бомбарди-
ровку лишь «одним из примеров» того, как
его правительство намерено бороться с
«терроризмом», признал, что в «черный
список» Вашингтона давно занесены также
Сирия и Иран. А президент Рейган в беседе
с журналистами пояснил, что США «будут
готовы нанести удары по Сирии и Ирану,
если получат исчерпывающие доказа-
тельства их причастности к терроризму».
Сложившееся в последующем положе-
ние достаточно ясно раскрыла газета
«Вашингтон пост» (июль 1986 г.) в статье
«Заигрывание с Хомейни»: «Причастность
Сирии к антиамериканскому терроризму
наконец начинает привлекать к себе какое-
то внимание печати. Но по-прежнему
налицо странное молчание относительно
другого важного источника террора —
Ирана. Еще более странное впечатление
производит готовность двух могучих жертв
иранского терроризма — США и Фран-
ции — добиваться примирения с Хомей-
ни...».
Политику Вашингтона и Парижа в отно-
шении Ирана газета называла «новой
дипломатической игрой». В действитель-
ности «нового» здесь не так уж много: во
всех «дипломатических играх» импери-
ализм руководствуется старым стремле-
нием сохранить свои «жизненные инте-
ресы», зоной которых он считает практи-
чески весь мир. Весьма ярко это
проявилось в событиях, получивших в ми-
ровой печати название «ирангейт». Но
о них — особый разговор.
2 Ашура — день гибели внука пророка Мухам-
меда Хусейна — он почитается шиитами как
величайший мученик ислама; Кербела — мес-
то в Ираке где он был убит.
ЗА ЗДРАВИЕ
ХАЙЯМА!
У пенсионера Шо Ятиева, жителя
кишлака Кибиль в окрестностях Нуре-
ка, семеро детей, и естественно,
в доме немало семейных праздников.
(Это раньше дни рождения в здешних
краях не отмечались,— ислам отно-
сился к ним неодобрительно.) А он
ввел еще один, да еще объявил его
важнее всех других. Каждый год
18 мая в дом Ятиевых приглашаются
все желающие — здесь празднуется
день рождения Омара Хайяма. Соби-
рается немало народу Целый день
звучат прекрасные стихи Люди то
слушают, то сами читают их. Обяза-
тельные участники этого праздника —
бульдозерист Курбонали Зонтов, бай-
пазинский проходчик Мурод Азимов,
мастер с Нурекской ГЭС Саид Шари-
пов, бухгалтер Гульмамад Камо лов.
С каждым годом в этот день все
больше заполняется просторный двор
Ятиевых. Сам Шо Ятиев читает знаме-
нитые рубаи и на языке фарси-дари,
и по-русски, и по-арабски. И обяза-
тельно вот эти строки:
Из всех, которые ушли в тот дальний
путь.
Назад вернулся ли хотя бы
кто-нибудь?
Не оставляй добра на перекрестке
этом —
К нему возврата нет, об этом не
забудь.
В 50-е годы Ятиев работал в Душан-
бинском уголовном розыске. Прихо-
дилось часто дежурить у телефона
ночи_напролет. Как-то он взял потре-
панную книгу, забытую кем-то в шка-
фу,— и поразился, что на свете
существуют такие слова, где и печаль,
и мудрость, и озорство, и еще многое,
чему он не мог найти названия,
слились воедино и приводят его
в необычайное состояние. Воспи-
танный в мусульманских традициях,
Шо сразу почуял неладное в знамени-
том укоре поэта тому, кто разбил
собственное творение — кувшин:
«Или ты пьяный был, о господи?»
Хотел было отложить кощунственную
книгу, но уже был не в силах. С того
дня по-иному увидел многое, многое
понял...
Где теперь эти люди му трейшие
нашей земли?
Тайной нити в основе творенья они
не нашли.
Как они суесловили много о сущности
бога.—
Весь свой век бородами трясли —
и бесследно ушли.
В семье Ятиевых — культ Хайяма.
Дочерям передалась эта любовь отца.
47
ЛИТЕРАТУРА, ИСКУССТВО
О. РОЙТЕНБЕРГ
1Ил1ЛШ LIL..
Историк искусства Ольга Ройтенберг более десяти лет занимается трудным
поиском несправедливо забытых или малоизвестных художников 20—30-х
годов. Подготовила книгу. Среди восстановленных ею имен немало биогра-
фий тех, кто погиб на войне.
Памяти моего брата,
погибшего в мае 1942 года
под Тулой
Каждый третий из членов Союза художников на 1941 год,
тех, кто мог держать оружие, добровольцем, в ополчение
по призыву, пошел на войну и не вернулся.
Негде и некому было хранить работы, записи, дневники.
Порой только скупые строчки анкет в архивах. У тех, кто не
успел вступить в творческий союз, нет и этого.
Недели, месяцы в музейных хранилищах Поиски
художников, их близких, друзей. Невероятные встречи.
Удачи там, где их совсем не чаешь. Когда есть даже
полпроцента надежды, что где-то существует то, о чем
знаешь понаслышке, пусть хотя бы единственное произве-
дение, сделанное тем, кого ищешь,— стоит ехать и за
тридевять земель. В таких вещах мелочей нет, за этим —
жизни, судьбы людские.
Долгая память друзей не дает людям исчезнуть. По л века
минуло. А в немногословных, отрывочных воспоминаниях
удивительная рельефность. Зримо время, портреты совре-
менников, образы их творений.
Постоянство контакта между людьми, начавшегося в дни
ученичества, нити человеческой, творческой близости.
Частые встречи, тепло участия,— тогда как никогда умели
радоваться малому, хотели быть вместе.
Как помогали в моих поисках такие «очаги» единодушия
и доброты! В Москве — комната в доме на Полянке
у Перуцкого и Субботиной, на Тверской-Ямской у Зевина
и Рабкиной, в Томилино — у Платовых, на станции Влахерн-
ская у Прокошева и Агалаковой, в Загорске у Фаворских,
в Ленинграде собирались у сестер Шохор-Троцких, г
семье Т. Бруни.
«Я помню его
с карандашом в руке»
В 1976 году в Ленинграде случай привел
меня к Вере Милютиной, ближайшему
другу художника Андрея Владимировича
Яковлева.
Она рассказала:
«Я познакомилась с Андреем в 1922 году
в «Поощрении» — производственных мас-
терских бывшего Общества поощрения
художеств. Помню Демидов переулок,
дом номер шесть. Длинный, узкий двор,
мрачные ворота, мрачное здание — когда-
то здесь была Демидовская пересыльная
тюрьма. В этом не радующем глаз поме-
щении были устроены мастерские; не-
сколько художников стали преподавать
здесь рисунок, живопись и скульптуру
всем, кто хотел учиться. Внизу помещалась
литография, там стучали станки, на них
работали довольно известные уже тогда
художники Н. Альтман, Б. Цехановский.
Наши голодные ребята могли иной раз
у них что-то подработать.
Преподавали нам мастера с именами
теперь забытыми, а тогда много выставляв-
шиеся, немолодые люди, трудно справляв-
шиеся с тяготами быта. Они не имели
последовательной системы преподавания,
сначала удивлялись, потом гордились тем,
что кто-то из нас поступил в Академию
художеств.
Среди учеников А. Ф. Белого выделялся
среднего роста, сухощавый человек со
смуглой гладкой кожей, серыми глубоко
сидящими глазами, черными прямыми
волосами. Он одевался занятно, то доста-
вал где-то голубую матросскую робу, то
выворачивал наизнанку козлиный тулуп
и разгуливал в нем, покуривая белую
тоненькую трубочку.
В 1918 году он добровольцем вступил
в Красную Армию, воевал на Севере,
в Карелии, потом в Донбассе, был конту-
жен, несколько раз ранен, одна рука чуть
покалечена. В мастерской, рисуя, часто
пел — саратовские частушки, народные
песни».
«Поощрение» посещали и Мария
Димкова-Епифанова и Карин Нслиус. Вот
«их» Яковлев.
«Андрей выделялся из всех нас не-
обычным обликом. Работал со страстью.
48
Рисовал на том, что попадало под руку, на
клочке бумаги, на обоях, хоть на стене. Все
у него жило, двигалось. В живописи был
смел. Краски у него горели».
Вера Милютина:
«Когда в 1924 году «Поощрение» преоб-
разовали в Государственный художествен-
но-промышленный техникум, Яковлев не
принял «академизма». Учитесь, учитесь,
говаривал он, а я пока порисую. Из
большой программы выбирал только те
занятия, которые считал дпя себя инте-
ресными.
Вскоре перешел в Институт худо-
жественной культуры ассистентом к
П. А. Мансурову. Здесь проработал до-
вольно долго и вынес оттуда многое для
• А. Яковлев- Мальчик. Набросок.
• А. Яковлев. Две лошадки.
себя — умение работать над линейными,
фактурными композициями, любовное от-
ношение к технологии обработки холста,
доски, материала вообще.
Страстно любил рисовать лошадей.
Любил все, что сделано руками челове-
ка. Однажды на рынке с полчаса простоял
перед клеенкой с изображением оленя на
скале и говорил о наивном рисунке
с восторгом и уважением.
Вуза не окончил. Существовал на слу-
чайные заработки — оформлял массовые
спортивные праздники, устанавливал ра-
диоточки в квартирах, переводил с
английского технические статьи. Несколь-
ко лет работал на заводе «Красный
треугольник», на фабрике «Пролетарская
победа». Отказывался вступать в худо-
жественные объединения и даже в Союз
художников. И рисовал, рисовал... Гово-
рил: вижу все насквозь, всегда чувствую,
что там сзади, за спиной.
Ходил с толстой пачкой бумаги за
пазухой, когда что-то привлекало его
внимание, садился и рисовал. Бумага —
какая под руку попадалась. Дореволюци-
онные бланки из Главной палаты мер
и весов (там служили его родители),
полосы газетного срыва, и амбарная книга,
разлинованная под «кредит» и «дебет».
Покупная бумага была дорога, да и не
нравилась ему. Рисовал углем, пастелью,
столярным карандашом, даже папиросой
или спичкой. Сделает сто, двести рисунков,
оставит штуки три. Если подписал, значит,
признал, можно дарить».
Вспоминает художник Гатьяна Бруни:
«Об Андрее можно было бы написать
книгу. Это был человек фантастически
одаренный. Прекрасный музыкант, он
импровизировал в четыре руки с моим
отцом (композитором Г. Бруни. — O.P.J.
Когда я приходила домой с работы
усталая или расстроенная (Андрей бывал
у нас часто), он меня встречал предложе-
нием: «Давай всех передразнивать». И на-
чинался спектакль. Он изображал всех
жильцов квартиры, режиссеров, водопро-
водчика, толстую старую собаку, даже
обезьян из зоопарка. Шаржи его не были
оскорбительны. Доброта Андрея была еще
одним его талантом.
В творчестве был совершенно бес-
корыстен. Он не отдавал себе отчета
в масштабе своего дарования. Совершенно
не рвался к славе. К работам других был
чрезвычайно внимателен, его острый глаз
видел «изюминку» в чужих полотнах...
Помню его всегда с карандашом в руке».
В те годы Андрей Владимирович в самой
разнообразной технике исполнил громад-
ное количество рисунков: портреты, обна-
женную натуру, жанровые зарисовки,
рисовал животных. Совместно с
В. В. Милютиной создал стенную живопись
на тему «Буржуазный туризм» и «Со-
ветский туризм» для методического отде-
ла ленинградского Географического му-
зея.
В начале ЗО-х увлекся театральной
живописью.
Вера Милютина:
«Андрей расписывал декорации по мо-
им эскизам к операм «Паяцы», «Царская
невеста» и другим. Потрясало, что любую
оперу он пеп наизусть от начала до конца».
Татьяна Бруни:
«Воплощая эскиз, он вносил иной раз то,
чего там не было. В результате получалось
то, о чем мечтал художник-автор. Когда
работали над «Лестницей славы» Скриба,
Андрей меня как автора эскиза затмил
своим блестящим чувством стиля.
Его авторская работа — «Васса Желез-
нова» для самодеятельного спектакля
Дома культуры имени Гааза (Андрей,
великий насмешник, называл его клубом
Клары Газуль) была до предела приближе-
на и жизни: комната в очень строгой
цветовой гамме, серой, с легкой зеленью
у потолка и в углах. Старомодная мебель
в мягких светло-серых чехлах, белые
карнизы, фикус... Известный ле-
нинградский режиссер Н. П. Акимов
говорил, что верх мастерства художника,
когда он рисует стул так, чтобы, глядя на
этот рисунок, можно было разрыдаться...
Андрей мог так нарисовать обычный ступ».
Война прервала работу Яковлева над
спектаклем для театра имени Ленинского
комсомола. В первые дни он живет в бом-
боубежище Эрмитажа: готовит к эва-
куации экспонаты музея. В октябре
1942 года ушел на фронт. Ему выпало
снова воевать на Севере. В декабре
1944 года художник погиб.
Пропали все его работы, оставленные
в подвалах Эрмитажа. Шрапнелью уничто-
жены те, что хранились в комнате Милюти-
ной. Остальное сожгли неизвестные.
Вера Милютина:
«В двух письмах ко мне, уже с фронта,
Андрей говорил про обязанность художни-
ка в военное время работать за двоих,
призывал меня изображать то, что я виде-
ла в дни блокады. Я постаралась исполнить
это, как могла».
«Солнце красным
полукругом
выглянет за спиной у меня»
«1 ноября 1923 года. Нам задают сочине-
ния каждую субботу, а я их ненавижу. Но
мама советует записывать понемногу все,
что со мной случается интересного.
Я люблю читать, недавно прочел рассказ
Уэллса «Кристальное яйцо». В нем
рассказывается, как один старик нашел
кристальное яйцо, в котором он увидел
отражение жизни на планете Марс. Я очень
хочу, чтобы у меня было вогнутое зеркало.
Фото С. У русевског о.
• Я Безин и В. Федяевска я.
1933.
вмещающее все, что случается на свете.
Я очень хочу покататься на аэроплане или
поехать в Америку, но так как это
невозможно, то я удовольствуюсь конька-
ми и чтением интересных книг»,— записал
в дневнике Ваня Безин, двенадцатилетний
школьник из Оренбурга (туда был сослан
его дед за участие в польском восстании
1863 года).
49
Восемнадцати лет Безин приезжает
в Москву, поступает во ВХУТЕИН, где
учится у А. Д Древина, К. Н. Истомина,
П. Я. Павликова.
«Были очень трудные годы,— вспоми-
нает художник Вера Федяевская, жена
Безина,— у нас не было мастерских, не
было заработков, но Ваня ухитрялся выгля-
деть не просто красивым, но как-то по-
спортивному элегантным. Плавал кролем
и брассом, прыгал с вышки. Любил Гоголя,
Пруста... Товарищи звали его «Ваня под
сенью девушек в цвету».
Затем — полиграфический' институт.
В двадцать один, уйдя оттуда, продолжает
заниматься самостоятельно. Потом рабо-
тает в мастерской монументальной живо-
• И. Безик. Автопортрет.
писи под руководством Л. Бруни, В фа-
ворскбго. Расписывает Калининский дом
пионеров, санаторий в Кисловодске, рабо-
тает над эскизом мозаики для театра
оперетты.
«Пейзаж на Чкаловской из -кна нашего
дома,— вспоминает Федяевская,— писал
маслом, акварелью, рисовал карандашом
более ста раз».
Он сам как вогнутое зеркало, о котором
мечтал в детстве,— способен вобрать в се-
бя невероятно много. В его письмах:
«Небо удивительно нежного цвета, про-
сто жемчуг... Слушал «Фигаро», вышел
весь пропитанный мотивами... Откопал две
книги Пастернака, это зверь... Открыта
выставка Фирдоуси... Фаворский выставил
свои фрески... Пойдет американская зву-
ковая комедия «Петер»... Начал писать
маслом горы Судака, пейзажи велико-
лепные».
1940 год. Тревожные предчувствия
Письмо жене:
«Итак, я в Калинине. Дворец пионеров.
Тишина. Слышно только скрип карандаша
и потрескивание папки. Звуки города сами
по себе не очень громкие, присутствуют
только еле слышным шумом телеги, да
еще каким-то далеким гудком.
Начну по порядку. Еще по разговорам
в поезде я понял, что война началась. Но
сведения пока неясные. Здесь оказался
великолепный приемник, и в 6 часов
я слушал передачу. Воззвание Компартии
Финляндии о создании народного прави-
тельства. Здорово! Теперь с нетерпением
жду 12 часов».
Август 1941 года: «Вечер. Темно.
Звездное небо. Необыкновенно красиво.
Нужно сказать, что «Война и мир» —
бессмертное произведение.
Получилось так, что я читаю его парал-
лельно с событиями. Только тогда Наполе-
он вступил в Москву, а Гитлер ведь не
вступит. Если меня не призовут в армию до
того, как будет грозить непосредственная
опасность Москве, нужно будет поступить
как другие. Помогать защищать город».
4 сентября 1941 года: «У нас пока
спокойно. Настроение бодрое. Приезжай.
Работать будешь по маскировке, в «Пионе-
ре», еще где-нибудь в издательстве. Не
спеши особенно с медкурсами, лучше
бороться своим оружием.
Москва готовится к отпору. С утра
я читал лекцию по маскировке. Потом все
работали — кто над исторической серией,
кто писал фоны для маскировки. Я пишу
«Грюнвальдский бой» темперой».
С октября 1941 года Иван Безин живет
в Казани, работает в издательствах и жур-
налах. Он пишет другу, художнику Виктору
Вакидину:
«Витя, не писал гебе. Все надеялся
увидеть. А теперь надежды все меньше,
вот и пишу. С первого же дня приезда стал
стараться уехать обратно. Не так-то это
просто.
Мама здесь. Она со страшными трудно-
стями добралась до Казани, с тем чтобы
я проводил ее в Челябинск. Но здесь
разболелась. Жизнь моя настолько слож-
на, что я до сих пор не имел времени
заняться ее пропиской. Даже зарабатывать
деньги приходится урывками, устроившись
где-нибудь на тычке рисовать заставку ипи
писать опостылевший шрифт»
«Сегодня очень красивый солнечный
день. Почти южное чистое небо. Осве-
щенные солнцем светлые дома. Много
белого. По-крымски неровные улицы и де-
ревья с кривыми стволами. Помнишь, как
мы с тобой гуляли по Москве... Осень,
закаты... Очень завидую нашим ребятам,
которые нашли как-то свое место. А я пока
нахожусь в положении, в каком никогда не
бывал. Ни то ни се, черт знает что...
И главная сложность в том, что еще
хочется активно участвовать в окру-
жающем. А ведь это не очень-то получает-
ся».
«Пишу из дальнего района Татарии.
Рисую здесь портреты стахановцев убор-
ки».
8 октября 1942 года: «Я служу
в Красной Армии. Боец...».
10 октября 1942 года, жене: «Моя
милая, вот я уже обмундирован. Шинель
немного маловата, а темно-серая пилотка
великовата. Так что вид у меня не особенно
красивый. Пиши, не забывай, пиши почаще.
Настроение у меня бодрое. Привыкаю
к службе. Как родители! Вспоминаю о них
с нежностью. Рисуешь ли ты! Рисуй обяза-
тельно. У меня нет совсем на это времени.
Моя новая специальность интересна, а
главное, хороший, культурный начальник,
прекрасно знающий свое дело и умеющий
хорошо объяснять».
10 ноября: «Милая моя, утреннее
солнце косо заглядывает через маленькое
дверное окошко к нам в блиндаж. Топится
лечка. Варим кашу из сухого пайка.
Снаружи мороз. Холмы и овраги
покрылись инеем. Пейзаж немного напо-
минает Судак — длинные холмы возле
Алчака. Пирамидальные тополя. Все это
сейчас голое и сухое.
Очень красив Дон — стального цвета.
Изредка слышны выстрелы. То прогудят
самолеты. Сейчас тихо. Пользуюсь време-
нем, чтобы написать письмо...».
17 ноября: «Сегодня сделал два
портретных наброска. Маленькие. Отдал
их тем, кого рисовал: младшему лейтенан-
ту и старшему сержанту. Но рисуется туго.
Да и день сегодня хмурый. Мало света».
7 декабря: «Милая Верочка, давно
so
я уже не писал тебе Не было никакой
возможности. Все время в движении. Вот
уже две недели как мы идем по освобож-
денной земле... Немало трофеев на пути.
Автомашины всех систем столпились, бро-
шенные на дорогах. Лошади, оружие
и даже конфеты и консервы.
...А знвешь, как хорошо встречало нас
население, четыре месяца бывшее под
властью врага
В общем, я много повидал».
Последнее письмо, отцу:
«22 декабря: Сейчас вечер. Дежурю
в избе. Все спокойно. Я пишу. А завтра
с рассветом закину за плечо винтовку
и зашагаю вверх по снежной дороге.
Дорога будет изгибаться и медленно
взбираться на холмы. Откроются другие
лощины, снежные и покрытые бурьяном.
Солнце красным полукругом выглянет за
спиной у меня. Вот займу я свое место
в землянке и начну работать. Скоро
слышны будут выстрелы, разрывы, начнут
шлепаться мины. Рабочий день затянется
дотемна, а то далеко за полночь. На костре
из соломы подогреешь принесенный на-
парником ужин и работаешь дальше. Иной
раз бегаешь проверить связь с соседом,
разогреешься и опять в землянку...».
Лишь весной 1943 года родные Ивана
Безина получили письмо с фронта:
«Здравствуйте, гражданин великой Со-
ветской страны Безин Карл Карлович и все
ваше семейство. Примите от меня, бойца
Действующей Красной Армии, боевой
привет и хорошие пожелания в жизни
вашей.
Имея чувство долга бойца РККА, не мог
молчать дальше, когда на имя Безина
Ивана Карловича пришли открытки от
родных, и поэтому и решил вам сообщить,
хотя, может, вы уже знаете, что ваш сын
Иван Карлович стоял на своем посту
у телефона, на квартире командира полка,
до тех пор, пока сказали: уходи, а то враг
близко. Это было в первых числах января
1943 года под городом Морозовская
в Ростовской области. Мы стояли в одном
из совхозов, и вот часов в 8 или 9 утра
противник подошел к совхозу численно
превосходящими силами, со стороны, от-
куда меньше всего ожидали, был жаркий
бой на близких дистанциях, противник
превосходством своих сил принудил отой-
ти нас из совхоза, вот в это самое время
был убит ваш сын, а наш товарищ Иван
Карлович Безин. Этим же днем мы опять
заняли совхоз, уже к вечеру, было много
побито противника, наших бойцов мало
пострадало. Но наутро, продолжая свое
наступление дальше, мы к великому огор-
чению нашли убитого тов. Безина И. К. Мы
его положили в открытый окопчик во всем,
как был, и зарыли руками в землю, чтобы
его прах был в вечном покое. Вот все, что
мог вам сообщить. Я думаю, что вы, Карл
Карл эвич, не посетуете на меня за это
к вам сообщение.
Савенков Федор Ефимович».
«Я стою под
Волоколамском»
У Владимира Андреевича Фаворского
погибли в Великую Отечественную оба
сына — Никита и Ваня.
Вспоминает Алексей Свирин
«С самого раннего детства Никиту
окружала атмосфера искусства. Он видеп
отца, постоянно занятого своей творческой
работой, мать, занимающуюся живописью
и иллюстрированием детских книг. Его
бабушка со стороны отца — дочь архитек-
тора Шервуда, автора проекта здания
Исторического музея, и сама художница.
Дед со стороны матери В. Д. Дервнз
учился в Академии у Чистякова, был
прекрасным акварелистом, дружил с Се-
ровым и Врубелем».
В 12 лет Никита рассказывал о себе
в школьном сочинении «Моя биография.
Никита Фаворский, кот заморский: intuit
л*- i < (' ut uafa-u hef nt-
1"’
ле
НЛ л.
И । ь /Г ЛГА
syt. Я е/ггеХЬъ*. *- ।
lli-
Я и&рлк ***<
fX-, и
! ftU, - «
Л/Л и UX.
Ла,, 'см - ’
. глмслл. fa
' №
Ат ffo -t.u
«Я родился в Москве 10 мая 1915 года,
под Троицын день. Родители мои художни-
ки. Отец ушел в это время на войну
(Германскую). Когда мне был один год,
меня один раз напоили плохим молоком
и я заболел детской холерой, думали, что
я не выживу, но я понемногу стал поправ-
ляться. Болел я в Москве, а когда стал
поправляться, переехали в дедушкино
имение Домотканово (там в крепостное
время ткали материи). Я себя помню трех
лет. Один раз моя тетя испекла лепешки
в виде букв. Я съел букву Н...
Во время революции мы переехали
в Москву.. Весной мы переехали в Сер-
гиево, на Штатную улицу... Осенью мы
переехали в Москву опять. Мне теперь
говорят, что было трудное время. Один
раз пришел солдат и принес письмо от
папы, в котором было написано, как они
отступали из-под Камышина.
Перед рождеством к нам приехал
Михаил Владим. Шик, чтобы перевезти нас
в Сергиево. Меня посадили
и потащили по всей Москве
В Сергиеве мы поселились
подростков», где мама была
на санки
на вокзал.
в «клубе
руководи-
тельницей. Там было очень уютно, а на
шкапу стояла банка с патокой. Сторожихой
в «клубе подростков» была Елизавета
Дмитриевна, которая топила печки боль-
шими поленьями. Вскоре клуб перевели
в дом Малышевых. Он был совсем старый.
Верхний этаж подновили, и там был клуб,
внизу было много пустых комнат, и я боял-
ся туда ходить один...
Я с детства любил рисовать, обыкновен-
но я выпрашивал у бабушки лист бумаги,
51
садился за бабушкин круглый стол, ко-
торый очень интересно вертелся, вроде
тех стульев, на которые садятся, когда
играют на рояле, и начинал, очень крепко
нажимая карандаш, рисовать так, что на
бабушкином столе выдавливалось все, что
я рисовал. Рисовал я больше всего войну,
а если и рисовал не войну, то непременно
на картине изображал солдат».
М. В. Фаворская из «Записок о сыне»:
«Никиту можно было бы назвать флег-
матиком. Он все делал долго — ел долго,
и спал долго, и думал долго, и говорил
медленно, и двигался медленно. Вся жи-
вость и стремительность, отпущенная на
• В. А. Фаворский
с сыном Никитой
1928 г.
его долю, перешли в рисунок. Рассказать
о войне он не мог... но рисовал войну
с самых ранних лет превосходно... Помню,
рисовали собаку... Наглядевшись в сенях на
собаку, Никита сказал, показывая на свою
шею: здесь у нее белая шерсть распушает-
ся, а здесь — показал на свой левый бок —
темное пятно... Так же один мастеровой,
когда ему принесли чинить примус, сказал:
«Вот здесь,— и показал на свою шею,—
надо продуть...».
М. В. Фаворская пишет, что П. А. Фло-
ренский как-то сказал: «У него совершенно
особенно выражено движение Даже если
бы клочок бумаги с Никитиным рисунком
валялся на улице — я бы безошибочно
определил — это Никитины рисунки».
Художников, его ровесников, пора-
жало в нем какое-то внутреннее знание
жизни, явно выходившее за пределы его
житейского опыта. Они с любовью вспоми-
нают, каким был Никита Фаворский.
А. Ф. Билль:
«Он был очень молодым, красивым,
очень русским, русым, голубоглазым, в ва-
сильковой рубашке, очень простым и внут-
ренне сложным. В своем физическом
развитии он запаздывал, был мальчиком,
а мудростью превосходил людей, ко-
торым много лет».
Ранние впечатления глубоко врезались
в память Никиты. Он решил обратиться
к истории осады лавры и сделал несколько
набросков, судя по всему, с колокольни.
Подготовил он и гравюры для каталога
Загорского музея.
На фронт Никита ушел добровольцем,
в ополчение.
Из письма отцу:
«Беспокоюсь, не получая от вас писем,
и утешаюсь только тем, что весь взвод не
получает их последнее время. Надеюсь,
что никто из наших не пострадал от
бомбежек, мне как-то не верится, что
кого-то из наших подцепила эта штука..
Как это удивительно, что немцы уже
прилетают в Москву, какие, однако, стер-
вецы. Но за меня тебе беспокоиться
нечего. Я стою под Волоколамском. Здесь
тихо, мирно... приходится порядочно рабо-
тать. Я загорел, руки у меня огрубели...
Товарищи народ симпатичный, почти все
рабочие. Привыкаю к новым людям. Ску-
чать некогда, я все время с людьми,
природа тоже радует. Кланяюсь и целую
всех наших».
«30 августа 1941 года Милые отец
и мать, я жив, здоров, получил четыре дня
назад ваше письмо. Живу все там же,
в лесу. Сегодня я в карауле, вижу восходы
и закаты, дни и ночи. Приближение осени
заметно уже в лесу. Натащили в палатку
соломы, нам тепло и сухо. Работаю,
чувствую себя бодрым, курево есть, еда
хорошая»
Последнее письмо:
«16 сентября 1941 года. Милый папа,
будь здоров ты и все наши. Я живу
благополучно. Твои оба письма я получил,
даже и то, что с неверным адресом. Ты
спрашиваешь, удовлетворен ли я? Пожа-
луй, что да Я не знаю, что бы я делал
сейчас в Москве. Мне кажется, время
сейчас слишком суровое, чтобы делать
такое приятное и тонкое дело, как наше
искусство...».
В НАУЧНЫХ
ЛАБОРАТОРИЯХ
ЗАБЫТЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИЩИ
В древности люди использовали в пищу
около трех тысяч видов растений,
сейчас — всего лишь двадцать. В Юж-
ной Америке забыты десятки ценных
растений, которыми питались инки. По
мнению ученых, многие из них и сегод-
ня могли бы с успехом соперничать
с картофелем.
Сегодня для каждого третьего чело-
века на Земле рис — основная пища.
Международный исследовательский
институт риса (МИИР) хранит образцы
80 тысяч резновидностей его семян.
Специалисты считают, что с помощью
биотехнологических методов выведе-
ния новых сортов его урожайность
можно будет повысить на 80 процентов.
ПАМЯТЬ И ВОЗРАСТ
Психологи считают, что возрастное
ослабление памяти — своего рода за-
щитный механизм, позволяющий чело-
веку забыть то, что ему не нужно, что
его утомляет. Пожилые люди не хуже
молодых могут выполнять тесты на
запоминание, а некоторые улучшают
свою память специальными упражне-
ниями. И хотя они хуже запоминают но-
вую информацию, но ту, что основана
на сочетании с прежним опытом, 40—
30-летние усваивают не хуже молодых.
ЧУДЕСА ХИРУРГИИ
На Международном конгрессе микро-
хирургов в Мюнхене сделано сообще-
ние, что в КНР произведено 3700 опера-
ций по приживлению конечностей,
главным образом рук и пальцев.
ПЕРЕВОДИМ СТРЕЛКИ
БИОЛОГИЧЕСКИХ ЧАСОВ
Как облегчить состояние людей, рабо-
тающих в многосменном производстве
в разные смены! Можно ли смягчить
неприятные последствия дальнего
перелета на большие расстояния, когда
для пассажиров день и ночь резко
смещаются!
Биологические часы, помещенные
природой в переднюю часть мозга
позади зрительного нерва, приводят
многочисленные функции организма
в соответствие с состоянием сна и
бодрствования. Раньше считалось, что
их синхронизация достигается много-
летней привычкой вставать по утрам
и ложиться вечером. Оказывается, би-
ологические часы способны пере-
настраиваться каждый день в зависи-
мости от степени утреннего и вечерне-
го освещения.
Перенастроить биологические часы
в организме можно с помощью яркого
света. К примеру, если на предприятии
в вечернюю смену достаточно ярко
52
осветить помещение, то биологические
часы у рабочих перестроятся для по-
следующей утренней смены.
«УМНЫЕ» ОКНА
Созданные в лабораториях оконные
стекла со специальным покрытием зи-
мой не пропускают наружу инфракрас-
ное излучение в длинноволновом
участке спектра, а летом преграж-
дают ему доступ внутрь помещения.
СКОЛЬКО ЛЕТ
ЛЬДАМ АНТАРКТИДЫ!
Принято говорить, что льды здесь
вечные. Но существует предположе-
ние, что Антарктиду далеко не всегда
покрывал толстый слой льда. За по-
следние 15 миллионов лет ледяной
панцирь ее мог неоднократно таять,
потом восстанавливаться. Последний
раз такое могло случиться 2 миллиона
лет назад. Во всяком случае, иско-
паемый дельфин, которого обнаружил
в Антарктиде австралийский исследова-
тель Пат Квилти, по его мнению, жил
здесь около 4 миллионов лет назад.
А это животное может обитать в воде
более теплой, чем та, что омывает
сейчас Антарктиду.
БОЛЬШЕ СЛУШАЙТЕ
Исследованиями установлено: когда
человек говорит, кровяное давление
у него повышается, а как только он
начинает слушать собеседника, оно
снижается. Правда, у людей с устой-
чивым повышенным давлением напря-
женное состояние обычно сохраняется
на протяжении всего разговора.
БЫЛА ЛИ ЖИЗНЬ НА МАРСЕ!
Этот вопрос по-прежнему остается
предметом спора. Некоторые амери-
канские ученые предполагают, что на
дне бывших марсианских озер сохрани-
лись останки примитивных живых орга-
низмов. На эту мысль их натолкнуло
исследование покрытых льдом ан-
тарктических озер. Хотя и осторожно,
но высказывается мысль о возможном
существовании примитивных форм
жизни на Марсе и сейчас. Голард Клейн,
руководитель биологических экспери-
ментов, проводившихся с помощью
аппаратов «Викинг», считает, что есть
смысл «вернуться» на Марс, чтобы
взять несколько образцов пород в по-
чти высохших соляных озерах.
ПОЛЕЗЕН ЛИ КОФЕ!
Многие пьют кофе, чтобы взбодриться,
почувствовать прилив сил. Но немногие
знают, что кофеин ускоряет выведение
кальция из организма, а его недостаток
может быть причиной серьезных забо-
леваний. Это поправимо. Потерю каль-
ция от двух чашек кофе можно ком-
пенсировать тремя чашками молока
или кусочком сыра. О
Lei
КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ПИЩА!
Несоленой: врачи рекомендуют
свести потребление соли до одной
чайной ложки в день. Ведь от натрия
зависит уровень кровяного давления.
Нежирной: общее количество
жиров не должно превышать 30 про-
центов. Из них только 10 процентов
могут составлять насыщенные жиры как
растительного, так и животного проис-
хождения. Именно их врачи считают
причиной затвердения артерий.
Не насыщенной холесте-
рином: он откладывается на стенках
сосудов. В ежедневной пище холесте-
рина должно быть не больше, чем его
в одном яйце
Несбалансированное питание по-пре-
СНгОС 0Сл7Нз5
CHxOCOC17HS5
СНг0С ОС^Нзз
NaC€
НО
жнему принадлежит к числу опасных
факторов, способствующих развитию
сердечно-сосудистых заболеваний.
ВОЛШЕБНАЯ КАПСУЛА
Когда эти банки вскрывают, содержи-
мое их автоматически охлаждается.
Конструкцию таких жестяных банок
разработали несколько американских
фирм, положив в основу известный
физический эффект: при расширении
сжатого газа температура его пони-
жается. В банку помещают капсулу,
в которую под высоким давлением
введена двуокись углерода. Но вот
крышка открыта — капсула за полторы
минуты опорожняется, охлаждая при
этом напиток почти на 20 градусов.
ЧТО МОЖЕТ ЛАЗЕР
Ученые-медики в исследовательских
центрах США ведут эксперименты по
применению лазера для
— удаления у детей родимых пятен;
— удаления почечных камней;
— «сшивания» кожи по краям ран,
правда, пока только у мышей;
— прожигания закупоренных коро-
нарных артерий.
МОЛОДЕЙТЕ!
Ученые считают, что у людей от 30 до
70 лет ослабление функций организма
на 50 процентов происходит из-за
бездействия. Занятия физкультурой
значительно продлевают молодость.
Наблюдения за экспериментальной
группой из 200 мужчин и женщин
в возрасте от 56 до 87 лет, проведенные
в геронтологическом центре универси-
тета в Южной Калифорнии, показали:
60—70-летние стали такими же энер-
гичными и собранными, как люди,
моложе их на 20 лет
Рисунки А. Крылова.
53
РЕЛИГИОЗНЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ ГЛАЗАМИ ВЕРУЮЩЕГО
ИСПОВЕДЬ ХРИСТИАНИНА 7—
ДРУЗЬЯ И ВРАГИ
Не могу не остановиться на взаимо-
отношениях внутри общин, так много
в них наносного и неестественного.
Вот, например, два члена общины.
Они уважают друг друга, дружат,
постоянно общаются. Но вдруг об
одном из них распространился не-
лестный слух — а это бывает часто из-
за «пророчеств» и «видений» —
дружба дает трещину. Хотя явного
конфликта не было, внешне сохрани-
лось и уважение, но общение, как
правило, прекращается.
В подтверждение такого «дружес-
кого» отношения приведу выдержку
из письма, полученного мною от
одного единоверца (по понятным
причинам я не называю фамилию
автора), ревностного члена общины,
после того, как находкинские руково-
дители заочно отлучили меня, обви-
нив в хуле на Духа Святого и назвав
предателем: «Я знаю, что Господь
с вами. Пусть ставят свидетелей от
Москвы до Находки, я не верю той
клевете, что говорят о вас».
Но вот Николай Плотников, выехав-
ший из Находки в США в середине
70-х годов (точно года не помню),
прислал мне оттуда письмо сле-
дующего содержания:
«Живя в Находке и интересуясь
тобою, я видел, сколько, на мой
взгляд, неправдоподобного при-
писывалось твоей личности... Из-за
отсутствия фактов я не мог серьезно
считать тебя за эту личность, которую
видели или, вернее, хотели видеть
в тебе другие. Тем более, что, на мой
взгляд, было неизвестно, кто они сами
(христиане ли?) Мои знакомства, а за-
тем и другие контакты с некоторыми
из них только подтвердили мои сом-
нения. Оставив этот щекотливый воп-
рос открытым из-за отсутствия време-
ни и фактов, я подошел к нему
с другой стороны, а именно: как
нужно поступить в таких случаях
христианам? (Все это было еще в На-
ходке.) Взвесив все, я едва «наскреб»,
может быть, 10 процентов в пользу
тех, кто поступал и поступил с тобою
так. К тому же, хорошо зная эту
среду, в которой я, собственно, вырос,
плюс поставив себя на твое место,—
я откинул еще девять. Одним остав-
шимся процентом я называю твою
тяжбу с Ващенко и другими, по-
добными ему, в которой ты не всегда,
по-моему, способен их любить, про-
щать, благословлять.. Я хочу и хотел,
Борис, иметь с тобой настоящую
Окончание. Начало в № 4.
ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ
искреннюю дружбу, но... несмотря на
99 плюсовых процентов, благодаря
которым я смотрел и смотрю на тебя
иными глазами, все-таки существует
это маленькое «но»: «А вдруг говорят
о нем правильно?..» Вот чистосердеч-
ное мое мнение о тебе, которое я,
надеюсь, не помешает, а даже помо-
жет искренней дружбе и переписке
Плотников Николай И.
Калифорния. 18.11.1976 г.»
Я не сомневаюсь, что Плотников
писал это искренне. Но и одного
процента оказалось достаточно,
чтобы, несмотря на добрые наши
отношения, поставить мою порядоч-
ность под сомнение.
Можно лишь добавить, что, желая
разобраться в причинах моего отлуче-
ния, Плотников хотел принять участие
во встрече, назначенной Ващенко для
изобличения моего «предательства».
Однако не пришел сам ее инициатор
Тогда я предложил написать в зару-
бежные радиоредакции о деятельнос-
ти Г. Ващенко и выехавшего уже в
США его последователя Евгения Бре-
сендена. Несмотря на общее осуж-
дение этих «братьев», ни Плотников,
ни другие собравшиеся не поддержа-
ли меня, потому что и Ващенко,
и Бресенден делали, мол, то же самое
дело, которому посвятили себя Плот-
ников, Кончак и другие,— добивались
выезда за границу!
Вот еще один типичный пример
«дружбы». В течение 5—6 лет, почти
каждую субботу приходил ко мне
Василий Федорович Патрушев, с ко-
торым я живу рядом уже 12 лет
и просил что-нибудь сделать в его
доме: построгать пол, отремонтиро-
вать печь, электроплитку, остеклить
окна, привезти сено и т. д. Обращался
он ко мне' и тогда, когда я сам
достраивал свой дом, а моя семья
жила в трудных условиях. Но, искрен-
не желая помочь Василию Федорови-
чу, человеку, мало приспособленному
к обычной жизни со всеми ее забота-
ми и трудностями, я оставлял неот-
ложную работу и шел к нему наводить
в уже готовом доме «блеск». Да разве
только личным трудом помогал я Пат-
рушеву? Приобрел тонну цемента —
200—300 килограммов передал ему;
купил пиломатериал — отдавал ему,
так как ему тогда, по его словам, он
был нужнее А я снова искал для себя
цемент, доски .. И все равно был рад,
оказывая Патрушеву эти услуги. Ведь
делал-то я добро без всякой корысти,
от чистого сердца. Общая работа
сблизила нас, я знал, что он видный
проповедник, и был с ним полностью
откровенен
Но вот обо мне в общинах пошел
нелепый слух, будто я распространяю
клевету. Руководители—С. Белко,
Р. Калаш, А. Жеребилов, В. Наварич
открыто обвинили меня в этом. Хочу
пояснить, что взаимоотношения меж-
ду этими руководителями были край-
не обострены. Полагая, что они хотят
втянуть в грызню и меня, я поначалу
не придал слухам особого значения.
Рассчитывая на поддержку Патрушева
как доброго соседа, я заявил им, что
всегда был откровенен только с ним.
Все четверо так и ахнули: «С кем?
С Патрушевым? Да это же первый
сплетник!» А Наварич добавил: «Кому
ты доверяешь? Он нам все время
говорит, что ты предатель, чтобы мы
тебя остерегались».
Я был поражен: как может человек,
с которым я делился всем, что имел
которому полностью доверял, посту-
пать так бесстыдно! Желая понять, что
движет Патрушевым, я продолжал
ходить к нему и работать в его доме.
В конце концов мне представился
случай окончательно убедиться в его
непорядочности
Однажды ко мне приехали сотруд-
ники газеты «Красное знамя» и попро-
сили прокомментировать черновой
вариант статьи о Ващенко. Я отказался
и в этот же вечер рассказал об этом
Патрушеву
На следующий день, в 7 часов утра,
меня встретил разгневанный Ващенко
и, называя предателем, передал мне
содержание нашего разговора, но
уже в извращенном виде...
Через несколько лет после моего
отлучения Бурлаченко, Райлян, Нава-
рич, Ашлабанов признались: «Мы
знали, что пророки, которых ты обли-
чал, ложные. Но ты слишком громко
об этом говорил, вот мы тебя за хулу
и отлучили». Что тут еще можно
добавить? Эти авантюристы от рели-
гии превратили Дух Святой в размен-
ную монету, и подавляющее боль-
шинство верующих постоянно вынуж-
дены выбирать согласиться — аб-
сурдно; опровергнуть — отлучат.
А вдруг и правда. Дух сказал? И все
идет так, как выгодно руководителям.
54
Рядовые верующие, от которых
тщательно скрывается многое, что
происходит среди «пророков» и
пастырей, наивно считают, что тех
служителей, о которых идет речь,
ставит сам Бог. Но Бог ли? Один из
членов совета епископов Украины
рассказывал мне, как они поставляли
(рукополагали) служителей.
После продолжительного сов-
местного проживания, убедившись
в лояльном отношении друг к другу,
совет в лице этих епископов принял
решение присвоить своим друзьям
высшие духовные звания: диако-
нам — пресвитеров, пресвитерам —
епископов. Однако не все верующие
признали новых высших служителей.
В совет посыпались жалобы, требова-
ния отменить ошибочное решение.
И отменили! Разобравшись в своей
оплошности (хоть и делалось все от
имени Бога), совет объявил кое-кому
об отмене решения. Но не тут-то
было! «А вы-то кто такие? Я теперь
такой же епископ, как и вы». Увеще-
вания, что епископом он стал только
по решению совета, уже не действо-
вали. «Ну и что? Меня Бог давно на
этот пост поставил». И бродят теперь
самозваные епископы по стране в по-
исках паствы. И находят: епископ,
отвергнутый на Украине, обретает ее
на Дальнем Востоке, а дальневосточ-
ник— на Украине.
Как-то один из подобных старших
пресвитеров, Фризен, рассказывал
мне: «Мы пригласили в Челябинск
епископа из Средней Азии Славика.
Убедили его в своей лояльности, и он
рукоположил нас на служение». На
мой вопрос: как можно было принять
рукоположение от него, если оно
утверждается Богом, а верующие
в своем кругу не считают Славика
служителем Божьим,— Фризен отве-
тил примерно так: «Ну и что же!
Славика некоторые верующие счи-
тают служителем Божьим, а теперь
и нас будут считать таковыми». Неве-
роятно, но факт! К тому же общины,
представленные Фризеном и Слави-
ком, весьма враждебно относились
тогда друг к другу, а сам Славик по
состоянию своего старческого рассуд-
ка и рассуждениям мало отличался от
малолетнего.
Или вот еще интересный случай,
В 1967 году приехала в город Чу некая
Надя (так она назвалась, истинного ее
имени я не знаю до сих пор). Ей было
около 35 лет, по ее словам, она имела
дар «распознавать грехи» и с этой
высокой миссией разъезжала по об-
щинам. Быстро поняв ее, я как мог
и кого мог предупредил о необходи-
мости быть осторожным с ней.
Сообразив, что столкнулась с серь-
езными трудностями, она вынуждена
была уйти к баптистам, руководитель
которых стал всячески оправдывать ее
и утверждать, что она действительно
получила от Бога такое «повеление».
Надо признать, что подготовка Нади
была достаточно высока, она могла
своими вопросами и проповедями
поставить в тупик многих проповедни-
ков и руководителей общин, особенно
тех, кто больше верил пророчествам,
нежели здравому смыслу. И если уж
ей удалось убедить даже баптистов,
не признающих пророчеств и, как
правило, не верящих в них, то что же
говорить о пятидесятниках... Обманув
верующих и собрав среди них солид-
ную сумму денег, Надя уехала дальше
«распознавать грехи». Не исключено,
что и по сей день ездит она по стране,
околпачивая моих ничего не подозре-
вающих единоверцев.
В Евангелии от Иоанна (15:13)
сказано «Нет больше той любви, как
если кто положит душу свою за
друзей своих». И хотя далеко не все
такие, как Холодов, Патрушев Ващен-
ко, но их усилия принесли больше зла,
чем усилия многих остальных хрис-
тиан — добра.
Человек, считающий себя хрис-
тианином, должен быть постоянно
готов положить душу свою за других.
А эти «христиане» не только рады
столкнуть между собой доверчивых
верующих, чтобы усилить свое вли-
яние на них, но и готовы спекулиро-
вать на сложной международной
обстановке для достижения своих
целей. И если кто-нибудь скажет, что
люди, о которых я пишу,— христиане,
я буду утверждать, что это вкрав-
шиеся в среду христиан авантюристы
и обольстители.
КАНАДСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Зимой 1976—1977 годов и в 1983 го-
ду я ездил к родственникам в Канаду.
В СССР мне не раз доводилось
слышать о «выдающемся исцелителе
и проповеднике» Орале Робертсе.
Отсюда, из дома, я писал ему и про-
сил ответить по адресу моей сестры
в Канаде.
Когда я туда приехал, мне вручили
то, что прислал О. Робертс. Среди
прочих рекламных проспектов (на
мои вопросы — ни слова!) был бланк
с текстом: «Если вы мне пришлете ....
долларов, то я помолюсь за вас и Бог
исполнит любое ваше желание». Как,
Орал Робертс торгует молитвами?
«Да,— ответили мне,— оптом и в
розницу». Это так возмутило меня
что я тут же написал письмо ему
и другим пасторам. Увы! Ни ответа, ни
объяснений я ни от кого не получил.
Те же, кому я говорил об этом, только
посмеивались.
Потом я увидел О. Робертса по
телевидению. У него большая группа
хороших музыкантов и певцов, ко-
торым, безусловно, надо платить
уйму долларов. Одежда, декорации,
все, что они исполняют, рассчитаны
прежде всего на рекламу и, в конеч-
ном итоге, на одно — доллары!
«Шлите доллары, не скупитесь!»
2 января 1977 года, в воскресенье,
мне довелось посмотреть выступле-
ние по телевидению пятидесятника
Эрнста Анджело.
После очень хорошего пения и
очень плохой проповеди к нему
выстроилась очередь больных, же-
лающих исцелиться. Одним из первых
подошел глухой. Анджело стал трясти
больного, давить ему на уши, а затем
что есть мочи орать в оба уха,
спрашивая, слышит ли он теперь. Не
дожидаясь ответа, Анджело про-
толкнул его себе за спину и приступил
к следующему — мужчине среднего
роста, доверчиво смотревшему в гла-
з^ «целителю». Жена пояснила, что
муж ее алкоголик и что в нем посе-
лился «бес». Анджело внезапным рез-
ким ударом в подбородок сбил несча-
стного с ног и, глядя на потерявшего
сознание человека, заявил, что «бес»
из него вышел. За короткое время
было «исцелено» около десяти чело-
век, двое из них — кулаком. И все это
перед большой аудиторией, перед
телекамерой... Зрители же восприни-
мали происходящее как должное.
Своеобразны там собрания у ХВЕ.
Я побывал у пятидесятников пастора
Израильсона в городе Лесбридже,
провинция Альберта. В зале при-
сутствовало около 150 человек. Про-
исходившее походило скорее на спек-
такль, нежели на собрание верующих.
Во время пения, например, все хлопа-
ли в ладоши. Проповедь сопровожда-
лась непонятной беготней пастора
вокруг кафедры, криком и хохотом.
В беседе с одним из миссионеров этой
общины я узнал, что так проходят
богослужения и в других городах. Два
члена общины дополнили мои впечат-
ления тем, что рассказали, как Из-
раильсон «пинками выгонял беса
и кричал пои этом: «Выйди вон!».
Пророчества в этой общине тоже
своеобразны: «Сын мой, продай фер-
му и вложи деньги в такое-то пред-
приятие, будет успех». После
банкротства незадачливого «сына»,
поступившего согласно «проро-
честву»,— скандал, угрозы, разделе-
ния...
Похоже проходило собрание пяти-
десятников и в городе Табере. Только
вместо хлопания ладошами здесь
в такт топали ногами.
Хочется кратко сказать о рели-
гиозных свободах в Канаде и США.
Приведу один факт, характерный, на
мой взгляд, для общин на Западе.
Я посетил ферму — колонию мен-
нонитов пастора Якова Вурца. Коло-
ния насчитывает вместе с детьми
106 человек. Живут коммуной. Встре-
тили меня приветливо, показали хо-
зяйство, рассказали о своей жизни
и убеждениях. В течение часа пастор
отвечал на мои вопросы.
Якову Вурцу — 75 лет. Выглядит
аскетически В его доме, как и у дру-
гих членов коммуны, несколько табу-
реток, стол, небольшой сундук,
простые кровати.
55
Здесь все общее — столовая, мо-
литвенный дом, кузница, сапожная
мастерская и т. д. Все в одинаковой
одежде. Я спросил: «Если кто-либо
захочет выйти из общины (или, как
они говорят, из «ковчега»), получит ли
он причитающуюся ему часть из
общего очень большого имущества?»
Ответ был категоричен: «Ни одного
цента!».
Несколько позже мне объяснили,
что Я. Вурц — единоличный «дикта-
тор» в общине, обладатель мил-
лионных вкладов в банке. Двое его
единоверцев попытались уйти, но
вынуждены были вернуться, так как
действительно не получили ни цента.
Все эти робертсы, анджело, вурцы
и им подобные действительно по-
льзуются абсолютной свободой —
в их руках газеты, журналы, телевиде-
ние, радио. Единолично распоряжаясь
средствами «исцеленных», «облаго-
детельствованных молитвами», про-
давших им и свой труд и свои души
они удерживают верующих под своим
влиянием, расширяя и углубляя это
влияние при помощи денег,
выуженных все у тех же легковерных
братьев и сестер по вере, часто
уставших от жизни и разочарованных
в ней.
Некоторые искренние и честные
религиозные деятели пытаются изме-
нить положение, однако все их усилия
разбиваются об алчность робертсов,
вурцев и им подобных,— в их руках
власть и деньги. Для достижения
своих целей эти лжепастыри в полной
мере используют все — политику, ре-
лигию, спорт и т. д.
Президент, «христианин», «защи-
щая христианские ценности» (те
самые, которые провозгласил сын
Божий Иисус, идя на Голгофу, чтобы
спасти мир), готов ввергнуть мир
в ядерный кошмар.
Боксер, «христианин», накануне
рождества Христова выворачивает
челюсть своему противнику из
«любви к Иисусу Христу».
Кондитер, «христианин», убеждает
телезрителей, что они не смогут по-
настоящему провести праздник Рож-
дества, если не приобретут у него
(и только у него!) пудинг или торт.
Имя Божье — в устах политиков, эко-
номистов, спортсменов, проповедни-
ков, но с каким кощунством оно там
произносится и в каких ко-
щунственных целях используется!
Неужели христиане, занимающие
высокие государственные посты в
странах Запада, и в самом деле верят,
что христианские ценности можно
отнять или защитить силой оружия?
Неужели они действительно верят,
что, защищая эти ценности силой
оружия, в том числе и ядерного, они
выживут и будут стоять по правую
сторону престола славы Христовой
и услышат его слова. «Приидите,
благословенные Отца Моего, насле-
дуйте Царство... Ибо алкал Я, и вы
дали Мне есть; жаждал, и вы напоили
Меня; был странником, и вы приняли
Меня... так как вы сделали это
одному из сих братьев Моих меньших,
то сделали Мне» (Матф., 25:34—40).
Неужели они думают, что искренне
верующие не видят, что в их безот-
ветственных утверждениях больше
богохульства, чем в отрицании су-
ществования Бога у атеистов. И не-
ужели они не понимают, что в той
безнравственной религии, в которую
они превратили учение Христа, боль-
ше повода для отрицания Бога и пре-
пятствования для благовествования
Христова, чем во всей атеистической
пропаганде, вместе взятой?
Несмотря на изобилие порочащих
верующих лжепророков и лже-
пастырей среди ХВЕ нашей страны,
мне хочется привести слова одного
нотариуса-христианина в Канаде, ко-
торый в беседе со мной сказал: «Мы
знаем, что христиане в СССР спасутся,
потому что действительно веруют в
Бога. А мы не спасемся, Бог нам не
нужен, он только в наших устах».
А мой двоюродный брат, пастор
и миссионер, просил меня передать
моим соотечественникам: «Мы, хрис-
тиане, не поддерживаем усилий наше-
го правительства в гонке вооружений
и участвовать в войне не будем».
К величайшему сожалению, не
только зарубежные джинсы, джазы
и красочные этикетки пленили неко-
торых граждан нашей страны, но
также и зарубежные «христианские
ценности».
Ващенко не только хотел бы, чтобы
этот мир был уничтожен, но и готов
лично участвовать в этом. Однажды
я спросил , как его ненависть ко всем,
кто не признает его претензий, соче-
тается с христианской заповедью
любви к врагам своим и непротивле-
ния злу насилием. «Лично бы убивать
их я не стал,— ответил он,— но ко-
мандовать эскадрильей бомбарди-
ровщиков взялся бы». И сейчас, за
рубежом, он активно «борется за
права человека», тогда как верующие,
живущие в одном с ним горрде, не
желают даже общаться с ним. Ведь
борьба за права человека в понима-
нии Ващенко — это борьба против
государства, которое сочувствовало
не его домогательствам, а тем сотням
верующих, искренностью которых он
всегда злоупотреблял.
Абсурдно, но достаточно было
Ващенко, этому малограмотному че-
ловеконенавистнику, передать за гра-
ницу явную клевету о гонениях на
него, как информационные агентства
Запада подняли шум на весь мир.
И хотя никто из верующих на Западе
не признавал и не признает его
«вождем Завета», «новозаветным Мо-
исеем», за которого он себя выдает,
хотя все понимают, что главным
занятием этого человека является
одурачивание как можно большего
количества наивных верующих, для
информационных агентств Запада
он — «брат по духу», из которого
можно выудить любую антисоветскую
«утку».
Сегодня Ващенко живет в одной из
западных стран. Однако как ве-
рующий он потерял всякий авторитет.
Он политикан от веры, и пусть это
будет на совести тех, кто использует
его как поставщика клеветы.
Сколько зла причинил Василий
Патрушев единоверцам, семье, орга-
нам власти, христианскому движению
вообще, десятилетиями склоняя ве-
рующих к эмиграции! Уговаривая
верующих подписывать заявления на
выезд, различные протесты, Патру-
шев, как правило, первым не под-
писывался, чтобы не привлечь к себе
внимание властей. За чужими спинами
ему уютнее. Может, причиной тому
послужила история, когда он передал
в японское консульство свое письмо
порочащее Советскую власть, и был
осужден за антисоветскую деятель-
ность на три года? Вернувшись из
заключения, Патрушев говорил на
молитвенном собрании, что он, мол,
«страдал в узах за веру». Стремление
Патрушева представить себя стра-
дальцем за веру было столь наивно,
что даже Эдмунд Кончак не выдер-
жал: «Не за веру, а за политику! Сядь
на место!».
Помню, меня заинтересовало, как
Патрушев собирается жить на Западе.
«Мне бы только попасть туда,—
сказал он.— Там братьев по вере
много. Что стоит каждому из них дать
мне по тысяче долларов? Да этого
и мне и семье на всю жизнь хватит».
Наивность? Глупость? Безусловно. Но
еще и жажда денег, долларов!
Решаясь на эту публикацию, я
рассчитываю на здравый смысл моих
друзей и родственников, думаю, что
они смогут трезво рассудить и помочь
разобраться в сложившейся ситуации
обманутым верующим. Это с одной
стороны. А с другой — хочу, чтобы
в сегодняшнем очень сложном мире,
раздираемом многими политически-
ми, идеологическими, экономически-
ми противоречиями, толкающими че-
ловечество к краю пропасти, к ка-
тастрофе, ХВЕ и каждый христианин
вообще не только не участвовали бы
в разжигании вражды, но и косвенно
не способствовали накоплению зла на
планете.
Мне понятны мотивы правительства
моей страны, опирающегося на мате-
риалистическое мировоззрение (хотя
я и не приемлю материализм), когда
оно считает, что жизнь — одна и ее
надо защищать. Но мне непонятно,
как могут «христианские» прави-
тельства, убежденные, что земная
жизнь есть лишь подготовка к вечной
жизни на небе со Христом, до-
казывать, что ради их понимания
смысла жизни они вправе уничтожить
саму жизнь вообще!
56
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Я желал бы сам быть отлученным от
Христа за братьев моих.
Рим., 9:3.
Р большом сомнении приступал
я к своей исповеди. Как-то отнесется
к ней читатель? Да и какой он будет,
этот читатель? Те, кому она адресова-
на, в подавляющем большинстве
своем люди пожилые, малогра-
мотные. Никогда не читают они
ничего иного, кроме духовной литера-
туры, более того, мало читают вооб-
ще и питаются в основном тем, что
преподносят им лжепастыри и лже-
пророки. Надеюсь, что моя исповедь
дойдет до них через их близких,
родных, друзей.
Я благодарю редакции Москвы,
Владивостока, Находки, опубликовав-
шие мои статьи. Благодарю также за
беспристрастность и понимание того
факта, что обращены они не к неве-
рующим против верующих, а к ве-
рующим против вкравшихся в их
среду авантюристов. Это обсто-
ятельство придавало мне уверен-
ность, что «Исповедь» так же будет
понята и читателями журнала «Наука
и религия» и не будет в дальнейшем
использоваться как материал для ате-
истической пропаганды.
Я не хочу, чтобы все эти обольстите-
ли и авантюристы, вкравшиеся в среду
ХВЕ, пользуясь простотой и доверчи-
востью верующих, превратили ее
в вертеп психически больных и поли-
тиканов.
Верующие ХВЕ, идущие на поводу
у лжепастырей и лжепророков, ко-
торые кричат на весь мир, что в СССР
невозможно жить свято из-за проти-
водействия властей, что государство
душит их и преследует за религию
(если бы это действительно было так,
то они благодарили бы Бога за участь
быть гонимыми за истину Божию,—
I Пет., 4:12—16), все они не только
сами гибнут, но и губят все живое
в христианстве. Этими людьми и их
жертвами занимаются врачи, психо-
логи, а иной раз и юристы, а мы,
христиане, зная обо всем, что проис-
ходит, стоим в стороне, молчаливо
позволяя авантюристам действовать
от имени Иисуса Христа которого
исповедуем, даем повод неве-
рующим полагать, что и все мы такие.
Исходя из этих соображений, я об-
ращался в различные религиозные
организации. Все напрасно! Побывав
в Канаде и воочию увидев действия
ХВЕ — как в общинах, так и по телеви-
дению, я понял, что только оглашение
истинного положения дел в ХВЕ помо-
жет многим искренне верующим
задуматься над всем этим.
Я не сомневаюсь что ни парламен-
тарии, ни члены правительства, испо-
ведующие христианство, заболев, не
пойдут исцеляться к Анджело; не
верят они и в чудодейственность
платных «молитв» Орала Робертса. Но
деньги дают и деятельность их одоб-
ряют!
Не станут они поддерживать и тех,
кто нагло попирает законы их страны
и распространяет об их стране за
границей клевету и злобные
измышления. И, как христиане, будут
абсолютно правы. Но куда деваются
их христианские убеждения, когда
дело касается использования таких
авантюристов, как Ващенко и ему
подобные?
Эти же христиане в молитве «Отче
наш» произносят слова: «Прости нам
так, как и мы прощаем». А сами не
только не прощают, но даже готовы
уничтожить жизнь, созданную Богом
Утверждая, что они являются носите-
лями и защитниками христианских
ценностей, они, очевидно, не за-
думывались над смыслом этих слов.
Если Христос говорил своим последо-
вателям, что они — «свет мира»,
«соль земли» (Матф., 5:13—16), то
в любой интерпретации эти слова
значат, что христиане силам зла и на-
живы, организовавшим безудержную
гонку вооружений и намеревающим-
ся ввергнуть мир в ядерную катастро-
фу, должны противопоставить свою
готовность, «облекшись в броню пра-
ведности», «благо вествовать мир»
(Еф., 6:14—15).
Я знаю, что моя исповедь вызовет
ожесточенную злобу тех, чьи имена
и фамилии названы здесь. Для меня
же это будет еще одним доказа-
тельством истинности моих слов.
Я был уже трижды отлучен разными
общинами якобы за хулу на Духа
Святого, неоднократно «приговорен
к болезни, параличу, смерти». Писали,
что все пятидесятники СССР отлучили
меня (хотя это и невозможно!). Зару-
бежное радио объявило меня преда-
телем.
Знаю, что и многих искренне ве-
рующих смутит мое обращение в со-
ветские газеты и журналы. Они знают
что в принципе я прав, но те обольсти-
тели, о которых я пишу, в течение
десятилетий настолько забили им
головы всякими небесными, земными
и адовыми карами, так жестоко
расправлялись со всеми обличителя-
ми, так запугали всех, так ложью
и насилием убедили единоверцев, что
нельзя об их поступках говорить
отрицательно, что простые верующие
и впрямь поверили, будто слова
«хранящие таинство веры в чистой
совести» (I Тим., 3:9), относятся и к
этим заговорщикам и их действиям.
Да нет же! Снова повторю слова
апостола Павла: «А вкравшимся лже-
братиям... и в знаменитых чем-либо,
какими бы ни были они когда-либо,
для меня нет ничего особенного: Бог
не взирает на лице человека» (Гал.,
2:4—6).
Передо мною лежит письмо, дати-
рованное 3 мая 1984 года. Его автор
хороший человек, искренне ве-
рующий, мой лучший друг. Вот его
слова: «Борис, считаешь ли ты тот
путь, который ты избрал, соединив-
шись с могуществом власти, чтобы
разоблачить беззаконие, пра-
вильным? Что в этом есть воля
Божия?».
Отвечаю: я не знаю, есть ли воля
Божия на те действия, которые я со-
вершаю. Я не получил указания от
Бога что-либо делать в этом направле-
нии. Однако уверен, что всем тем, кто
когда-либо лгал от имени Бога, гово-
ря, что Бог их поставил (а Бог их не
ставил!), говоря, что Бог им сказал
(а Бог им не говорил!),— будет сказа-
но в день суда: «Я никогда не знал вас;
отойдите от Меня, делающие безза-
коние» (Матф., 7:23). А тех, кто их
обличал. Бог поставит «пред славою
Своею непорочными в радости»
(Иуда, 24).
В книге Иезекииля (22:25—30), где
описывается заговор пророков и свя-
щенников против Бога, Он говорит:
«Искал Я у них человека, который
поставил бы стену и стал бы предо
Мною в проломе за сию землю, чтоб
Я не погубил ее, но не нашел». Бог
этими словами выразил, что он хотел,
чтобы среди этого народа нашелся
хотя бы один, кто имел бы дерзнове-
ние стать перед Богом, защищая
собою осужденных на истребление за
беззакония, творимые пророками, ко-
торые вступили в заговор, «все за-
мазывают грязью», «предсказывают
им ложное», «губят души, чтобы
приобрести корысть».
Вот я и хочу встать за братьев по
вере, ибо Божие строение только то,
которое имеет печать сию «да отсту-
пит от неправды всякий, испове-
дующий имя Господа» (2 Тим , 2:19).
ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ
Э. ФИЛИМОНОВ,
заместитель директора
Института
научного атеизма
АОН при ЦК КПСС,
доктор философских наук
До сих пор о таком специ-
фическом явлении, как рели-
гиозный экстремизм, мы по-
лучали информацию в ос-
новном из публикаций уче-
ных, юристов и журнали-
стов. то есть людей, крити-
чески относящихся к рели-
гии в целом.
А что думают об этом са-
ми верующие? Об этом мы,
к сожалению, знаем мало.
«Исповедь» Б. Зудермана —
одно из немногих, если и не
первое свидетельство, кото-
рое дает возможность отве-
тить на этот важный вопрос.
Автор ее — не рядовой
верующий, а проповедник
пятидесятничества, одного
из направлений протестант-
ского сектантства в нашей
стране. Для этой религиоз-
ной организации, большин-
ство руководителей которой
вот уже в течение несколь-
ких десятилетий отказыва-
ются признавать советские
57
законы о религиозных куль-
тах, характерны проявления
фанатизма, социального не-
гативизма и экстремизма.
Б. Зудерман знаком с по-
ложением дел в общинах
христиан веры евангель-
ской (ХВЕ) Сибири и Даль-
него Востока, Казахстана,
Украины, Белоруссии, Мол-
давии и Прибалтики, знает
пятидесятничество изнутри
и смотрит на процессы, про-
исходящие в нем, глазами
верующего человека. Тем
ценнее его размышления и
выводы.
Религиозная вера не поме-
шала проповеднику пяти-
десятников увидеть истин-
ное лицо всякого рода
«обольстителей» верующих,
лжепастырей, лжепророков
и авантюристов, которые во
имя своих эгоистических
притязаний, поступаясь «ис-
тиной, совестью, родиной и
самой верой», готовы лить
грязь на свою страну, на
социалистическое государ-
ство.
Таковы Григорий и Петр
Ващенко, М. Холодов,
И. Плотников, Э Кончай,
Е. Бресенден, В. Патрушев
и другие. Неприглядный
политический и нравствен-
ный облик этих религиоз-
ных экстремистов, претен-
дующих на «духовное ли-
дерство» в общинах пяти-
десятников, отчетливо пред-
стает со страниц «Испове-
ди».
Красной нитью проходит
через все повествование
мысль о том, что религиоз-
ный экстремизм несовме-
стим ни с патриотизмом, ни
с нравственностью, что Он
чужд настроениям, чаяниям
и интересам рядовых верую-
щих.
Думаю: автор отлично по-
нимает, какую реакцию вы-
зовет такая публикация у
фанатиков-экстремистов и
их зарубежных покрови-
телей. Однако тревога за
судьбы верующих, слепо
доверяющих экстремистски
настроенным вожакам, оза-
боченность тем, что под при-
крытием религиозных взгля-
дов культивируется анти-
патриотизм и антисоветизм,
разжигается неприязнь к
своей Родине,— все это за-
ставляет Б Зудермана как
честного человека и патрио-
та встать выше мировоз-
зренческих расхождений с
атеистами и материалиста-
ми.
дм Немой направлялся в Мерке к мазару
м' в сопровождении муллы. Тревожно
было у него на душе: он горячо
надеялся на исцеление, но уж больно
КЗ застращал его за время неблизкого
пути разговорчивый мулла рассказа-
мио невероятных историях, происхо-
дивших в разных святых местах.
Поведал мулла и о том, как возник тот
святой мавзолей в Мерке, куда о-ни
шли
_Давным-давно в Мерке скончался
Jr один хаджи, святой человек, шесть
iXJ раз пешком ходивший в Мекку из
Каракола. После его смерти остался
скарб, весьма скромный, а халат был
р/ такой рваный и грязный, что при
дележе никто на него не польстился.
Даже нищий, которому в конце кон-
цов чуть ли не насильно всучили эту
рухлядь, как-то с досады бросил его
на землю и стал топтать, приговари-
вая: «Это не халат, а приманка для
собак! Не принесла ты мне счастья,
старая рвань!» И тут вдруг из разор-
ванной ткани со звоном посыпались
монеты, браслеты и другие золотые
побрякушки. Так, милостью святого,
нищий разбогател. По совету добрых
людей он построил над могилой
хаджи мавзолей, здесь исцелялись
паломники, ибо этот мазар стал
святым, чудодейственным.
«Молись, хорошо молись, исце-
лишься и ты,— говорил мулла. —
Уверуешь крепко — сам услышишь,
как святой молится, просит за тебя
Аллаха».
Когда подошли к мазару, смертель-
ная бледность покрывала лицо немо-
го. От страха, что надежда не сбудет-
ся, дрожали руки, ноги не слушались.
А мулла подвел его к мавзолею
и оставил у могилы одного.
Некоторое время немой слышал
Ш
X
Е
>>
с;
Редколлегия журнала «Наука и религия»
признала лучшими из опубликованных
в прошлом году следующие статьи, очер-
ки, корреспонденции, интервью и худо-
жественные произведения:
С. Агаев. Духи обретают плоть (№ 5, 7, 8).
А. Адамович. Убить убийство (№ 6).
П. Амнуэль. Взрыв (№ 8—12).
И. Баллод. Непростой случай (№ 7).
Д. Биленкин, В. Левин. «Свои» и «чужие»?
(№ 10)
И. Васюченко. Сделка (№ 11)
А. Володин. «...И будьте живы, а не
мертвы» (№ 2—3).
Вл. Гаков. НЛО: порт приписки — Земля
(№ 7—10).
Ч. Гилфорд. Небеса могут подождать
(переводчик Э. Марков) (№ 4—5).
Д. Гранин. Минувшее и грядущее (№ 4).
Т. Грекова. Два служения доктора Войно-
Ясенецкого (№ 8).
И. Григорьев. Населенный космос (№ 10).
А Дашдамиров. Практичность научного
подхода (№ 12).
А. Зеркалов Иисус из Назарета и Иешуа
Га-Ноцри (N° 9).
Ю. Кузьмина. Позор (№ 9).
только удары собственного сердца.
И вдруг до него донеслись вздохи
и стоны—они шли из могилы. Он
рванулся было к выходу — бежать!
Но не мог сдвинуться с места, ноги
отказали. Сделал еще одну отчаянную
попытку — и застонал от боли: боль-
шой кусок кирпича свалился ему
прямо на голову. «Спаси, Аллах!» —
в ужасе вскричал немой и рухнул без
сознания. А со всех сторон к нему уже
бежали люди: чудо! чудо! немой
обрел дар речи!
Группа ученых во главе с доктором
исторических наук археологом
А. Н. Бернштамом «расшифровала»
вздохи и голоса, исходящие из маза-
ра Производя раскопки, они обнару-
жили, что под мавзолеем, который
выстроил нищий на деньги хаджи,
расположен еще один, гораздо более
древний мавзолей, с глубоким полым
склепом А еще раньше здесь был
караван-сарай. Когда к святому месту
приходит большое число паломников,
«верхний» мавзолей своим давлением
на кирпичную кладку «нижнего»
вытесняет из нее кирпичи. Они па-
дают в пустоту, и шум от их падения
воспринимается на слух как глухие
стенания.
Наш немой, соответствующим об-
разом настроенный сопровождавшим
его муллой, при звуках «молитв»
и «стонов святого», доносившихся из
подземелья, пережил то, что в меди-
цине называется сильным психологи-
ческим стрессом и широко исполь-
зуется для лечения заболеваний шо-
кового характера — а именно такой
была природа его недуга.
А. ПЕЧЕРСКИЙ,
с. Мерке
Джамбулской области
Казахской ССР
В. Малышев. Тайны папского двора (№ 8).
О. Мезенцева. Упорство в истине и заблуж-
дениях (№ 9).
Д. Нухбалаев От чего зависит успех (№ 1).
А. Резников. Вифлеемская звезда — коме-
та Галлея? (№ 10).
А. Розанов. На родной земле (№ 8).
Р. Скрынников. Три низложенных патриар-
ха (№ 8).
Л. Талымов. На Красной Речке (№ 10).
В. Харазов. Ведьма (№ 3, 5).
А. Шамаро. Утрени уже не было... (№ 6).
Л. Шепетис. Неподвластное времени...
(№ 11).
ИЗ НИХ ОТМЕЧЕНЫ
ПРЕМИЯМИ:
Т. Грекова. Два служения док-
тора Войно-Ясенецкого — 200 руб.
А. Володин. «.. И будьте живы,
а не мертвы» — 150 руб.
А. Зеркалов. Иисус из Назаре-
та и Иешуа Га-Ноцри — 150 руб.
С. Агаев. Духи обретают плоть— 100 руб.
П. Амнуэль. Взрыв — 100 руб.
И. Васюченко. Сделка — 100 руб.
Д. Нухбалаев. От чего зависит
успех — 100 руб.
А. Розанов На родной земле — 100 руб.
$8
ПО СЛЕДАМ
НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ
Маленький человек между
матерью и верующей бабуш-
кой — эта семейная колли-
зия оказалась настолько
сложной, что 10-летнего Са-
шу тайком увезли, и его
пришлось разыскивать. Поче-
му это случилось? Как в
крымском поселке Армян-
ске живется молодежи? От-
веты на эти вопросы, только
на первый взгляд не связан-
ные между собой, содер-
жатся в корреспонденциях
Л. Сторожаковой «Оксана
ищет сына» и О. Кочладзе
«Вглядись в товарища», опуб-
ликованных в прошлом году
в № 11.
Редакция получила ответ
из Крас но перекопского гор-
кома Компартии Украины.
Его секретарь В. Малышев
сообщает, что публикации
Л. Сторожаковой и О. Коч-
ладзе обсуждены на заседа-
нии парткома производствен-
ного объединения «Титан»,
в коллективе городского от-
деления внутренних дел, на
заседании комиссии содейст-
вия соблюдению законода-
тельства о религиозных куль-
тах при исполкоме город-
ского Совета народных депу-
татов.
Приведенные в журнале
факты подтвердились. За
халатное отношение к своим
служебным обязанностям
участковый инспектор по де-
лам несовершеннолетних
лейтенант милиции Ю. Б. Се-
менов уволен из органов
внутренних дел, старший
лейтенант Л. Ф Жачко стро-
го предупреждена. Постав-
лен вопрос о снятии с зани-
маемой должности началь-
ника инспекции по делам не-
совершеннолетних капитана
милиции Л. И Рябовой, не
обеспечившей должного
контроля за работой сотруд-
ников инспекции.
Секретарь горисполкома
Г. И. Ващенко провел с проф-
союзным активом совеща-
ние о соблюдении законо-
дательства о религиозных
культах, партком производст-
венного объединения «Ти-
тан» наметил меры улучше-
ния атеистической работы.
Проведены два атеистических
«круглых стола». В цехах вы-
делены агитаторы-атеисты,
усилилось внимание к инди-
видуальной работе с верую-
щими. Создан молодежный
общественно-политический
клуб, укрепляется матери-
альная база для организа-
ции досуга молодежи. В план
капитального строительства
включено сооружение в Ар-
мянске Дворца культуры —
он должен войти в строй в
1990 году. При горкоме пар-
тии налажена учеба пропаган-
дистов атеизма.
ФИЛОСОФСКИЕ
ЧТЕНИЯ
i t 1ЮК1 ОВСКИП,
кандидат
философских наук
МУЗЫКА
МЮДЧАНИЬ
Основа никто
НЕ ПРИХОДИЛ»
ОДИНОКАЯ
тойй>:'"'
«новый» ГУМАНИЗМ
В ПОИСКАХ «НОВОГО» ОБЩЕНИЯ
Поиски «нового» гуманизма, стремление найти
«подлинное» общение стали на Западе своеобразным
знамением времени. «Маленький человек», столкнув-
шись с превосходящими силами социального зла,
испытывает растерянность и страх и вновь пытается
найти укрытие в мелкобуржуазном индивидуализме.
«Неоромантическое» сознание выдвигает идею «ком-
муны» — объединения «выпавших» из общества
«родственных душ», сохраняющих автономию индиви-
дуального сознания.
Вот что рассказывает о философской основе социаль-
но-утопических экспериментов «неоромантиков» амери-
канский политолог и футуролог Дж. Гленн. Они не
требуют каких-либо радикальных изменений современ-
ного западного общества. Их идеал «прекрасного»
будущего сочетает в себе близость общины (коммуны)
к природе, использование ею новейших инженерно-
технологических достижений и насаждение некой «ин-
тегральной» религиозности. Все общины представляют
собой объединения харизматического типа, созданные
волей одного человека, одержимого мистико-религиоз-
ной идеей спасения человечества от гибели и создания
«царства истины» на Земле.
Один из идеологов этого движения историк У. Ирвин
пишет, что зародившаяся в этих общинах новая жизнь
«просачивается в окружающую среду, постепенно созда-
вая экологическую нишу будущего. Сообщаясь с боль-
шим миром, эти ниши вызывают в нем экологические
всплески, становясь трамплином для прыжка в новое
время».
Каждый рабочий день в «планетарной коммуне»,
каждое событие в ее жизни начинаются с мистического
ритуала «поиска общения». Это «атьюнемация» —
настройка, установление гармонии, обретение группово-
го согласия. Сотни жителей «деревни» — мужчины,
женщины, дети, старики, представители многих этничес-
ких групп, закрыв глаза и соединив руки, сосредоточенно
прислушиваются к ритму биения «коллективного
сердца» до тех пор, пока не ощутят в себе звучание
единой ноты. «Атьюнемация» — главный организаци-
онный принцип всей жизни экспериментальной общины
«любви и общения».
Ныне на Западе существуют сотни подобных коммун.
Принципы устройства, а равно и формы участия в них
различны, но всем им присуща идея «коллективности»,
призванная стать действенной альтернативой отчужде-
нию и одиночеству. Идея эта, несмотря на провозгла-
шаемый ее пропагандистами гуманизм, по сути оказыва-
ется превращенной формой тех норм морали и об-
щественного устройства, от которых пытаются бежать
«общинники»,— эгоизм личности трансформируется в
этих экспериментах в «коллективный эгоизм» замкнутой
группы, а так называемое обретение глубинных связей
с миром с неизбежностью оборачивается потерей послед-
них живительных связей с ним и со своим внутренним Я.
Однако попытки установить «подлинное» общение не
прекращаются. Неудовлетворенная потребность порож-
дает порой самые причудливые утопии. Так, например,
современный американский философ, «гуманистический
радикал» Иван Иллич воспевает язык молчания.
В частности, он пишет: «Объективное изучение способов
передачи значений показало, что гораздо больше пере-
дается от одного человека к другому посредством
молчания, чем словами... Грамматика молчания —
искусство более сложное для изучения, чем грамматика
звуков... Человек, который показывает нам, что он
понимает ритм нашего молчания, много ближе нам, чем
тот, кто думает, что он знает, как говорить». Вот и сложен
гимн «красноречивости молчания».
Окончание. Начало в № 4.
59
Вслед за философией в поиск «нового общения»
включается искусство. Американский эстетик К. Вуд-
вард создает целую цепь далеко идущих рассуждений,
исходным пунктом которых служит известное произведе-
ние американского композитора Джона Кейджа «4 ми-
нуты 33 секунды», представляющее собой соот-
ветствующее по длительности... гробовое молчание
симфонического оркестра полного состава. Эстетика
пустоты, молчания, небытия стала предметом исследова-
ний в современной западной философии искусства.
Провозглашается идея создания искусства без формы,
которое будто позволяет установить особый уровень
общения, столь желанный для отчужденных друг от
друга людей.
ДРАМА ОДИНОЧЕСТВА
Мотивы одиночества широко распространены во всей
современной западной культуре. «Для художника драма
одиночества представляет собой эпизод трагедии, в кото-
рой мы все играем и представление которой заканчивает-
ся только с нашим уходом в вечность»,— пишет
известный французский кинорежиссер Жан Ренуар.
Искусство, прекрасно осознавая всю глубину и проти-
воречивость феномена одиночества, не стремится, как
правило, дать ему нравственную и гражданственную
оценку. Вместо этого — изощренная аналитичность, ко-
торая подчас воплощается с исключительным мас-
терством. но мастерством, отмеченным печатью
бескрылости и холода, каких бы больных и острых
проблем личности она ни касалась. Попытки подобного,
аналитического проникновения в суть одиночества пред-
принимались неоднократно. И в ряду тех, кто достиг
в этом незаурядных результатов, имя шведского киноре-
жиссера Ингмара Бергмана следует, видимо, упомянуть
одним из первых.
Его фильмы, начиная со знаменитой «Земляничной
поляны» (1957), ставшей уже классикой западного
кинематографа, и вплоть до сравнительно недавней
«Осенней сонаты» (1978), представляют собой худо-
жественную энциклопедию одиночества, некоммуника-
бельности, разорванности социальных связей, отчаяния,
утраты надежды — антижизни в ее обыденных формах
и проявлениях.
Сложными ассоциативными напластованиями,
сквозь которые проступают мотивы фрейдизма и филосо-
фии Кьеркегора, совмещением и смещением временных
границ отмечена художественная стилистика фильма
«Земляничная поляна». В центре повествования —
увенчанный академическими лаврами дряхлеющий
профессор Борг. Его внешне спокойная и лишенная
роковых изломов жизнь скрывает глубоко укоренив-
шуюся в самом естестве профессора бессознательную
неудовлетворенность окружающим миром, который «не
понял», «не захотел понять» его. Стена вежливого
и исполненного достоинства непонимания и равнодушия
окружает героя, ибо все его ближние, по сути, окружены
такими же стенами. Словно в поисках ответа на вопрос,
как это случилось, память профессора нескончаемо
возвращается к «земляничной поляне» детства и юности.
Впрочем, эти экскурсы во времени также лишены
смысла — трепетное ощущение полноты бытия,
свойственное тем годам, утрачено навсегда. Взывая
к угасающим образам той призрачной далекой реальнос-
ти, профессор Борг наталкивается на отрезвляющее
веяние реальности существующей. Между ними нет
связи. Распалась связь времен.
Огромные уличные часы без стрелок, заполняющие
весь экран в прологе фильма, подчеркивают трагичность
разбитого, расколотого на части, застывшего времени,
лишенного динамизма и развития и лишь неумолимо
угасающего в каждом индивидуальном существовании.
Над прошлым произведена операция — оно ампутирова-
но: «Вершина хирургического искусства. Ни боли, ни
кровотечения, ни трепета».
Мертвенность и невосполнимость прошлого не избав-
ляет героев Бергмана от чувства тягостной и, главное,
неискупимой вины за то, что они совершили. Причем их
«преступления» чаще всего вполне обыденны: эгоизм,
равнодушие, карьеризм... Процветающая пианистка
Шарлотта («Осенняя соната»), гастролирующая не
только по городам и странам, но поверхностно скользя-
щая и по жизни — своей и своих дочерей, лишь по
видимости беспечна в упоении артистическим успехом.
Все чаще и чаще от предчувствия не столь отдаленной
старости она переживает минуты щемящей тоски,
одиночества и вины.
Но Бергман не спешит выносить обвинительный
приговор Шарлотте. За что же судить ее? — словно
вопрошает он нас. Ведь в равной степени виновата и ее
старшая дочь Эва, хотя и в полной мере испившая чашу
материнского эгоизма, но столь же антипатичная в своей
бездуховности и нравственном садизме. Все виноваты во
всем — вот тезис, органично входящий в систему филосо-
фии одиночества Бергмана. А коли это так, то и осуждать
никого нельзя. И лишь психически и физически неполно-
ценная Хелен — младшая дочь Шарлотты и Виктор —
протестантский пастор, живущий в иллюзорном мире
благотворительности, находятся вне замкнутого круга
всеобщей вины. Что же, «блаженные» и «святые»
оказываются аутсайдерами этого мира преступлений
и коллективной вины. Как бы то ни было, но все — и те,
что находятся внутри круга, и те, что выброшены
центробежными силами на его периферию,— в одинако-
вой мере одиноки, изолированы друг от друга, отчуж-
дены.
Ингмар Бергман — признанный мастер мирового
кинематографа. Искусство шведского кинорежиссера
философично в том смысле, что оно претендует, не без
основания, на воссоздание идейных и нравственных
трагедий «несчастного сознания» личности XX века.
Однако важнейший вопрос состоит не только в воссозда-
нии этих трагедий, но и в авторском отношении к ним.
Считает ли он необходимым сопротивляться им, или
трактует их в виде вечной и неизменной данности,
требующей лишь аналитического подхода? Каким же
будет ответ Бергмана?
Скорее всего таким: «...Художник считает свою
изолированность, свою субъективность, свой индиви-
дуализм почти святыми. Так в конце концов все мы
собираемся в одном большом загоне, где стоим и блеем
о нашем одиночестве, не слушая друг друга и не
понимая, что мы душим друг друга насмерть. Индиви-
дуалисты смотрят пристально один другому в глаза и все
же отрицают существование друг друга. Мы блуждаем
по кругу, настолько ограниченному нашими
собственными заботами, что больше не можем отличить
правду от фальши, гангстерские прихоти от чистейших
идеалов». Однако не будем искать у Бергмана худо-
жественного осуждения нарисованной им неприглядной
картины. Этого осуждения просто нет.
ПОЛЕТ ЧАИКИ ПО ИМЕНИ
ДЖОНАТАН ЛИВИНГСТОН
Современное западное искусство далеко не однородно
по своим идейным умонастроениям — в нем существуют
и, более того, конфликтуют различные веяния и тенден-
ции. Открытый и воинственный антигуманизм, песси-
мизм, упадничество порождают в рамках самого бур-
жуазного искусства реакцию страстного неприятия
«заката» личности и культуры. Под этим углом зрения
немалый интерес представляет «повесть-притча» (так
определил ее жанр автор) «Чайка по имени Джонатан
Ливингстон» американского писателя Ричарда Баха
Летчик гражданской авиации, Ричард Бах провел
долгие часы в бездонном небе, из глубин которого многие
земные проблемы воспринимаются и более остро, и од-
60
повременно более обобщенно. Сама собой напрашивается
параллель с другим летчиком и писателем — Антуаном
де Сент-Экзюпери. Это сравнение, впрочем, не ограничи-
вается лишь фактами биографии...
Наполненное символикой и аллегориями, произведе-
ние Баха рассказывает о жизни стаи чаек, поселившейся
на берегу океана. Сколько таких стай видел Бах,
пролетая над атлантическим побережьем Америки! Но
чайки Ричарда Баха — существа необыкновенные. Они
умеют думать и разговаривать, а законы их стаи весьма
напоминают законы человеческого сообщества. Впрочем,
Ричарду Баху (и это составляет одну из ярких особеннос-
тей его книги) ни в чем не изменяет чувство живой
природы, и потому произведение в целом представляет
собой своеобразный симбиоз природоведческой прозы
и философской эссеистики.
Чайка по имени Джонатан Ливингстон резко отли-
чается от собратьев по стае тем, что не желает удовлетво-
риться общепринятым и общепризнанным, но постоянно
ищет пути совершенствования. Причем высшую цель
своего существования она видит в полете — свободном,
стремительном и совершенном. Между тем эти поиски не
вызывают у стаи ничего, кроме раздражения и ненавис-
ти. По законам стаи познание свободы и открытие
нового — тяжкое преступление, чреватое расшатыва-
нием основ. Подвергнув Джонатана Ливингстона «кругу
позора», совет стаи точно сформулировал обвинительный
вердикт: «Нам не дано постигнуть смысл жизни, ибо он
непостижим, нам известно только одно: мы брошены
в этот мир, чтобы есть и оставаться в живых до тех пор,
пока у нас хватает сил». Окончательный приговор
гласил- изгнание из стаи и одиночество. Но не кара
♦ЗВЕЗДЫ»,
ИЗБРАВШИЕ
ОДИНОЧЕСТВО
...В Нью-Йорке живет
пожилая женщина, ко-
торая никого не прини-
мает и никогда не ходит
в гости. Почти полвека
назад она сказала: «Я
хочу, чтобы меня остави-
ли в покое»,— и с тех пор
ревностно оберегает его.
Это Грета Гарбо,
«звезда» американского
кино 20—30-х годов,
сыгравшая в таких филь-
мах, как «Дама с каме-
лиями», «Анна Каре-
нина», «Мата Хари».
Ее 80-летие широко
освещалось в прессе, но
Гарбо осталась верна се-
бе — ни одного интервью.
...Десять лет уединен-
но живет в Париже дру-
гая «звезда» американ-
ского кинематографа и
эстрады — Марлен Дит-
рих, известная по
фильмам «Голубой ан-
гел», «Свидетель обви-
нения», «Нюрнбергский
процесс». Она отказыва-
ется от всех деловых
предложений, редко вы-
ходит на улицу, не же-
лая, чтобы ее фотографи-
ровали, категорически
отвергает любые попытки
вторгнуться в ее личную
жизнь.
...Джером Сэлинд-
жер прославился в
1951 году повестью «Над
пропастью во ржи». Его
произведения вызывали
острые дискуссии. Одна-
ко вскоре Сэлинджер об-
рек себя на добровольное
одиночество и вот уже
20 лет ничего не публи-
кует, хотя много пи
шет — только для себя.
...Завоевав шахматную
корону, более 10 лет на
зад покинул общество
Роберт Фишер. Он
живет в дешевых отелях
Пасадины (Калифорния).
Выходя лишь по ночам,
он распространяет рели-
гиозную литературу, под-
кладывая ее под «двор-
ники» на ветровых стек-
лах припаркованных ав-
томашин.
...Испанский художник
Сальвадор Дали после
смерти жены уединился
в средневековом замке
на северо-востоке Испа-
нии. Более двух лет про-
вел он в комнате с закры-
тыми ставнями, общаясь
лишь с двумя медсестра-
ми и несколькими по-
мощниками. Когда в ре-
зультате пожара худож-
ник попал в больницу,он
весил 44,5 килограмма.
Ныне Дали поправился
и живет в здании музея,
который основал в Фиге-
расе.
...Почему же некото-
рые «звезды» выбирают
уединение? Психолог
Г. Беннет считает стрес-
совые ощущения, связан-
ные с борьбой за успех,
главной причиной, поче-
му знаменитости нередко
удаляются от общества.
— Успех сопряжен со
множеством стрессовых
ситуаций, — говорит
он. — Ведь это все равно
что стоять на узком кар-
низе, с которого вас то
и дело норовят столкнуть
соперники. От вас посто-
янно ожидают, что вы
должны завоевывать все
новые вершины...
Об этом рассказал лондон-
ский журнал «Санди тайме
мэгэзин».
ПОГОВОРИ со мной...
Дефицит общения в огром-
ном современном городе,
чувство одиночества застав-
ляют токийских женщин
прибегать к своеобразному
средству: они покупают го-
ворящих кукол — не де-
тям, а себе. И спрос на этот
товар все растет.
61
страшила Джонатана Ливингстона «и не одиночество его
мучило, а то, что чайки не захотели поверить в радость
полета, не захотели открыть глаза и увидеть!»
В этом весь смысл проблемы, как ее видит Ричард
Бах. Особенно тягостное чувство одиночества возникает
тогда, когда безоглядный порыв, искреннее стремление
помочь другим и сделать их жизнь лучше наталки-
ваются на глухое презрение умудренной «здравыми
соображениями» обывательской толпы.
История чайки по имени Джонатан Ливингстон на
этом не кончается. Напротив, главные события развора-
чиваются тогда, когда в изгнании Джонатан Ливингстон
постигает высшее совершенство искусства полета. Его
окружают теперь ученики, единомышленники. Но Джо-
натан Ливингстон вовсе не собирается стать лидером.
Единственная его мечта в том, чтобы научить изгнавшую
его стаю красоте полета. И в этом также содержится
весьма важный смысл, вкладываемый Ричардом Бахом
в свое повествование.
Любое, даже самое замечательное и выдающееся
достижение, по сути, безжизненно, если оно остается
достоянием лишь того, кто его впервые добился. Либо
одиночество губит открытие истины, либо самозабвенное
служение истине и людям придает силы, способные
разорвать тенёта вынужденного одиночества. И тогда
слово правды превращается в действие. Эта вторая
альтернатива и выражает позицию автора. Не следует
переоценивать ее действенность, но столь же неверно
было бы и игнорировать ее гуманистическую направлен-
ность. Более того, вера в абстрактный гуманизм, если она
своими корнями связана с верой в демократический
идеал, неизбежно «приземляется», соприкасается с со-
циальными и политическими сторонами жизни, требует
от художника принятия отчетливо осознаваемых реше-
ний, пронизанных чувством общественной ответствен-
ности.
ЧЕЛОВЕК, КРИЧАВШИЙ:
Я СУЩЕСТВУЮ
Несколько лет назад американские газеты обошла
невеселая история. В убогой квартире на дальней
окраине Нью-Йорке водопроводчики обнаружили тело
давно умершей пожилой женщины. У нее не оказалось
ни родственников, ни друзей. При жизни она никому не
была нужна, и смерть ее никого не коснулась. Рядом
с постелью лежала объемистая тетрадь-дневник,
единственный «собеседник», которому женщина доверя-
ла свои мысли. Впрочем, содержание большинства
страниц исчерпывалось одной-единственной записью:
«Снова никто не приходил». Эти же слова оказались
и последними в не дописанной до конца тетради.
«Человек, кричавший: я существую» — так назвал
свою книгу американский писатель Джон Уильямс. Само
заглавие произведения, посвященного современной Аме-
рике, симптоматично. Крик отчаяния, беззвучно тону-
щий в равнодушном молчании «одинокой толпы»
(термин американского социолога Д. Рисмена),— лишь
безнадежная попытка «потерянного человека» обнару-
жить свое существование, до которого, по сути, никому
нет дела.
Сколь бы ни были различны внешние формы
проявления одиночества, его корни, в конечном счете,
в социально-психологическом отчуждении, ставшем
верным спутником западного общества.
Одиночество — безликая, но оттого еще более ковар-
ная болезнь, вызывающая одновременно и сострадание,
и протест.
Бесправие, нищета, голод, угнетение — открытые
враги человечества. Их проявления, как правило, оче
видны, а потому и борьба с ними принимает характер
мощных движений протеста, объединяющих людей,
ставящих перед ними общие цели, возвышающих
в человеке человеческое.
Иное дело одиночество. Чаще всего не афишируя
своего наступления на личность, оно вычленяет ее из
единого организма коллектива, создает свой, потаенный
мирок, выстраивает между личностью и внешним миром
невидимую для стороннего наблюдателя, но трудно-
преодолимую стену. Проблемы, интересы других людей
теряют для такой личности всякий смысл.
Если открытые формы угнетения в западном обществе
рождают в широких массах активный протест, растущую
сплоченность, которые несут в себе огромную силу
революционного освободительного взрыва, то одино-
чество, отчуждая человека от человека, разрушает
солидарность человеческой общности.
Разумеется, утрата взаимопонимания не бывает
полной — в противном случае общественная жизнь
вообще бы распалась как таковая. Но его «остаточные»
формы лишены возвышенных гуманистических ценнос-
тей. «Другой» человек рассматривается лишь сквозь
призму примитивной в своей основе потребности обнару-
жить в нем возможную полезность, а потому нет
и желания понять его. Человек и человечество уже
никогда не выступают в качестве цели, а всегда в ка-
честве средства.
Одиночество логически аккумулирует в себе кризис
межличностного общения и взаимопонимания.
Есть ли выход из лабиринтов и тупиков одиночества?
Да. Это борьба против бесчеловечных порядков, лицемер-
ной морали, строительство новых, подлинно коллекти-
вистских отношений, где свободное развитие каждого
будет условием свободного развития всех.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
ВОПРОСЫ НАУЧНОГО АТЕИЗМА. Вып
35. Атеизм и проблемы нравственности.
М., «Мысль», 1986, 304 с., 20 380 экз.,
1 р. 30 к.
В очередном сборнике Института науч-
ного атеизма Академии общественных
наук при ЦК КПСС рассматриваются раз-
личные аспекты соотношения религиозной
и социалистической морали, анализирует-
ся социально-психологический механизм
ее освоения трудящимися-верующими, да-
ется критика буржуазно-клерикальных
фальсификаций.
ИСЛАМ В СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИКЕ
СТРАН ВОСТОКА (КОНЕЦ 70-Х — НА-
ЧАЛО 80-Х ГОДОВ XX В.). М , «Наука»,
1986, 279 с., 10 000 экз., 1 р. 50 к.
В монографии рассматривается роль
ислама в политике афро-азиатских стран
в период мусульманского движения кон-
62
ца 70-х — начала 80-х годов. Вскрываются
исторические корни политической теории
и практики современного ислама, анализи-
руется его влияние на формирование
политического мышления.
Токарев С. А. РЕЛИГИЯ В ИСТОРИИ НА-
РОДОВ МИРА. Изд. 4-е, испр., доп. М.,
Политиздат, 1986, 576 с., 100 000 экз.,
2 р. 70 к.
В книге крупного советского ученого
анализируется богатый материал, накоп-
ленный этнографией и археологией, «свя-
щенные книги» и богословская литература
всевозможных направлений. Автор дает
общий обзор религий различных народов
и стран: от зарождения примитивных
первоначальных верований до формирова-
ния так называемых мировых религий.
Акмурадов Т. ФОРМИРОВАНИЕ НА-
УЧНО-МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКОГО МИРО-
ВОЗЗРЕНИЯ ТРУДЯЩИХСЯ. Ташкент,
«Узбекистан», 1986, 160 с., 5000 экз.,
1 р. 30 к
Бенифанд А. В. ПРАЗДНИК. Сущность,
история, современность. Красноярск, Изд-
во Краснояр. ун-та, 1986. 141 с., 2500 экз.,
1 р. 30 к.
ВАЛААМ. Фотоальбом Л., Лениздат,
1986, 125 с., 25 000 экз., 3 р
Вовк О. Л , Кокошинский О А.
ИУДАИЗМ В РЕАКЦИОННЫХ ПЛАНАХ
СИОНИЗМА. Симферополь, «Таврия»,
1986, 140 с., 4500 экз., 30 к.
ВСТАНЬ, ЧЕЛОВЕК! (из атеистического
наследия революционных народников). М.,
«Сов. Россия», 1986, 528 с., 100 000 экз.,
1 р. 10 к.
Добрускин М. Е. РЕЛИГИЯ И АТЕИЗМ
В ЕВРОПЕЙСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
СТРАНАХ. М, «Наука», 1986. 188 с.,
28 700 экз., 70 к.
Захаров А. И. КАК ПРЕОДОЛЕТЬ
СТРАХИ У ДЕТЕЙ. М , «Педагогика», 1986,
111 с., 100 000 экз., 30 к.
ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ МУСУЛЬМАНСКОГО ВОСТОКА
Много веков едет по свету
на сером ослике мудрый и
веселый человек. Его знают
всюду и везде — это Ходжа
Насреддин. Впрочем, стро-
го говоря, его нельзя назы-
вать «ходжа». Этот титул по-
лучает лишь тот, кто от на-
чала до конца совершил весь
сложный и утомительный ри-
туал большого хаджжа —
паломничества в Мекку к
главным святыням мусуль-
ман. Насреддин в Мекке-то
действительно был, возмож-
но даже целовал черный ка-
мень храма Каабы, но вот
времени на то, чтобы обой-
ти его, как положено, семь
раз и побегать вокруг зна-
менитых холмов в окрестно-
стях Мекки, у него не на-
шлось. Наверное, по своему
обыкновению, он кинулся вы-
ручать попавшего в беду про-
стака или стал плести хитро-
умные сети вокруг какого-
нибудь вельможи, омрачав-
шего жизнь простых мусуль-
ман. Про Насреддина до-
подлинно известно, что он
не покорялся «обладателям
власти», хотя этого строго
требует от правоверных Ко-
ран. Достаточно послушать,
как он разговаривал с самим
грозным и жестоким Тамер-
ланом — покорителем Сред-
ней Азии.
Где бы ни появлялся Нас-
реддин — в Багдаде, Стам-
буле, Дамаске, Бухаре, в лю-
бом восточном средневеко-
вом или современном горо-
де,— при нем сильнее и
увереннее становятся чест-
ные, справедливые, добрые
люди, а злодеи, лжецы, за-
вистники, любители жить за
чужой счет начинают чувст-
вовать тревогу. У Ходжи Нас-
реддина против них есть
верное оружие — смех, злая,
остроумная шутка. Ничто так
не обескураживает порок,
как сознание, что он угадан
и осмеян, заметил великий
русский сатирик Салтыков-
Щедрин. Замечено также,
что, будучи осмеянными,
падают, теряют свою власть
идолы: нельзя же, в самом
деле, поклоняться кумиру
который стал смешным.
Удивительно ли, что Нас-
реддину нередко приходи-
лось скрываться от сильных
мира сего, которые не люби-
ли смех и не хотели видеть
человека, который заставлял
людей смеяться над ними,—
ведь после этого они могли
оказаться и не такими уж
сильными.
Насреддин смотрел на мир
глазами ремесленников кре-
стьян, мелких торговцев,
возниц, нищих, погонщиков
мулов и верблюдов, смотрел
глазами наивных и добрых
фантазеров, мечтателей.
Словом всех тех, кто острее,
больнее ощущает несправед-
ливость, хотя, быть может,
не всегда понимает ее при-
чины. Насреддин умел по-
смеяться и над собой — ина-
че кто бы поверил в силу
его духа!
Как некогда о Гомере, спо-
рили о Насреддине города,
страны, народы: чей он, где
и когда появился, был ли
вообще на свете! Многие
считают его соотечествен-
ником, и они правы, пусть
даже у их Насреддина дру-
гое имя. Многочисленные
предания о веселых и мудрых
людях, без которых мир не
был бы ни гармоничным, ни
добрым, свидетельствуют.
СПРОСИМ у
НАСРЕДДИНА
• Памятник
Ходже Насреддину
в Бухаре —
бухарцы уверены,
что именно
в их городе
родился
знаменитый острослов.
Фото ТАСС
что они — вездесущи. Нас-
реддин легко преодолевает
границы стран и времен. И
полученные им от народа
титулы — бессмертный и бес-
подобный — сомнению не
подлежат. Как говорят на
Востоке, светлая весна его
слов и деяний никогда не
сменится унылой осенью заб-
вения'
• Тамерлан сказал Насред-
дину: «У всех халифов из
династии Аббасидов есть
• Однажды забрался Насред-
дин в чужой огород за луком.
Не успел еще торбу набить —
глядь, хозяин идет. «Откуда ты
взялся здесь!» — спросил хо-
зяин. «Ветром меня занесло сю-
да»,— невозмутимо ответил Нас-
реддин. «А кто это лук с грядки
повыдергивал! — «Да я за него
ухватился, когда меня ветром
несло».—<А почему у тебя в тор-
бе луковицы!» — «В том-го и
"айне,— сказал Насреддин.
Я как раз над этим и размыш-
лял, когда ты явилсй сюда доку-
чать мне».
Анекдоты из книги И Шаха
«Проделки бесподобного
Моллы Насреддина» (Лон-
дон, 1968) и из сборника
«Двадцать три Насреддина»
(Москва, 1978).
прозвища. Аль-Мустансир оз-
начает «опирающийся на
помощь всевышнего», аль-
Му'тасим — «ищущий защи-
ты у всевышнего», аль-Мута-
ваккиль — «верующий во
всевышнего». Если бы я был
одним из них, какое прозви-
ще ты дал бы мне!» Насред-
дин тут же ответил: «Тамер-
лан-да- сохранит-от-тебя-нас-
Аллах».
• Однажды Тамерлан при-
гласил Насреддина в баню
и спросил его: «Если бы я
был рабом, как ты думаешь,
сколько денег за меня бы
дали!» — «Пятьдесят мо-
нет»,— не моргнув глазом
ответил Насреддин. Тамерлан
был оскорблен: «Ты что, спя-
тил! Да одна моя набедрен-
ная повязка стоит этих де-
нег!» — «Ты совершенно
прав,— с улыбкой ответил
Насреддин,— но это то, что
я предлагаю за все вместе».
ф Насреддин взобрался на
минбар* и начал говорить
проповедь. «Я воздаю хвалу
творцу,— сказал он,— кото-
рый создал небо и землю
за шесть месяцев». «Мол-
ла,— возразили ему,— не
месяцев, а дней». «Я это от-
лично знаю,— не растерял-
ся Насреддин,— но полагал,
что люди не поверят».
* Возвышение в мечети, с кото-
рого читают проповеди.
63
• Был как-то Насреддин судьей в своем селении,
и однажды в дом к нему, требуя правосудия, вор-
вался какой-то — весь взъерошенный — человек. «Ог-
рабили меня,— кричит,— вот тут, прямо у самого
селения подстерегли и раздели! Не иначе как из
местных кто! Я требую, чтобы ты, здешний судья,
разыскал виновных. Они все у меня отняли — и одеж-
ду, и саблю, даже туфли отобрали!» — «Давай раз-
беремся,— сказал Насреддин. — На тебе, я вижу,
исподнее. Стало быть, исподнее они с тебя не сня-
ли!» — «Нет, не сняли». — «Что ж, я тебе так
тот, кто тебя ограбил, не из нашего селе-
ния. Здесь такие дела до конца делаются.
Так что извини, я не судья в
ф К Насреддину пришел
человек и попросил:
— Говорят, у вас есть мо-
литва, написанная по-араб-
ски, которая предохраняет
от всяких укусов. Дайте мне
ее, а то у нас на улице есть
бродячий пес, который не да-
ет никому проходу.
— О наивный! — восклик-
нул Насреддин. — Лучшая
молитва от собак написана
на конце толстой палки.
• Насреддин провозгласил
с минбара:
— Бог спросил Мусу:
«Знаешь ли ты, почему глуп-
цам я ниспослал земные
блага!» — «Нет», — отвечал
Муса, и Аллах сказал: «Для
того чтобы мудрецам было
ведомо, что земные блага
обретаются не умом и зна-
ниями».
• Насреддин был беден. До
того как он скопил деньги на
покупку осла, ему прихо-
дилось ходить пешком. Шел
он однажды по большой до-
роге, вздымая пыль, а встреч-
ные смеялись и говорили:
«Насреддин все ходит, рай-
скую жизнь ищет! Не дой-
дет. До рая далеко!»
Случилось так, что кто-то,
ехавший верхом, пожалел
скажу:
твоем деле».
уставшего путника и посадил
его на осла позади себя.
«А говорят, далеко до
рая! — сказал довольный
Насреддин — Ничего подоб-
ного! Оказывается, рай нахо-
дится всего на полтора арши-
на выше земли, на спине
осла!»
ф Насреддин отправился по-
молиться к гробницам има-
мов в Кербеле, Неджефе и
посетил Багдад.
— Что ты делал в Багда-
де! — спросил его приятель
по возвращении.
— Потел,— отвечал Нас-
реддин.
• Мимо дома Насреддина
проходила толпа — взрослые
и дети.
— Куда путь держите,
правоверные! — поинтересо-
вался он.
— В поле, молиться богу,
дождя просить.
— А зачем с собой детей
ведете!
— Как зачем! Чтобы помо-
лились. Ведь дети безгреш-
ны, и их молитвы быстрее
доходят до бога.
— О святые в простоте
своей! — воскликнул Насред-
дин. — Если бы детские мо-
литвы доходили до бога, то
в школах не осталось бы ни
одного муллы, обучающего
Корану.
ф Приехал в селение про-
поведник и с минбара в ме-
чети обрушил проклятия на
всех его жителей.
— Все вы безбожники,
лиходеи, воры, кяфиры, раз
вратники и грешники.
Всем прихожанам он по-
сулил на том свете адские
муки во веки веков.
Сидевший впереди всех
Насреддин удивился вслух:
— Неужто из нашего селе-
ния ни один не попадет в
рай!
— Я знаю тебя,— возопил
проповедник,— ты первый
пойдешь в ад за свои недо
стойные шутки.
— А вы, ваша милость!
Где вы будете после своей
достойной кончины!
— Какое может быть сом-
нение! Вместе с праведника-
ми я буду вкушать наслажде-
ние в раю.
— Ну уж лучше я пойду в
ад смешить своими шутка-
ми бедных страдальцев —
своих друзей и соседей, не-
жели изображать из себя
шута для развлечения таких,
как вы.
к Нас-
обучав-
многих
ф Однажды явился
реддину человек,
шийся метафизике у
мудрецов. Он принялся про-
странно описывать, где и у
кого он учился и что изучал.
А в заключение сказал: «На-
деюсь, и ты возьмешь меня в
ученики или, по крайней ме-
ре, откроешь мне свои мыс-
ли — ведь я, как видишь, не-
мало потратил своего време-
ни, учась у разных людей».—
«Увы, — ответил ему Насред-
дин. — Ты и впрямь многих
наставников изучил и многое
познал из их учений. А надо
бы как раз наоборот: настав-
никам тебя изучить и разным
ученым школам тебя по-
знать. Вот тогда-то что-ни-
будь стоящее и получилось
бы».
Сдано в набор 18.02.87.
Подписано к печати
25.03.87.
А 09064.
60Х90/8.
Офсетная печать.
8 усл. печ. л.
9,75 кр. отт.
12,28 уч.-изд. л.
Тираж 400 000 экз.
Зак. 0897,
Ордена Ленина
комбинат печати
издательства
«Радянська УкраТна»-
252047, Киев-47,
проспект Победы, 50.
Текст набран
с применением
отечественного
фотонаборного
комплекса «Каскад».
64
Знатоки считают одним из лучших литературных произве-
дений, рисующих повседневную жизнь средневекового
арабского мира, сборник новелл аль-Харири (1054 — 1122)
под общим названием «Макамы» («Собрания»). В 1237 го-
ду в Багдаде была выполнена рукопись этого сборника
с миниатюрами художника аль-Васити, которые являют со-
бой яркий пример арабского искусства того времени.
Рукопись хранится в Национальной библиотеке в Париже.
На нашей обложке две миниатюры из этого манускрипта.
• Морское судно. Известно, что арабы изобрели способ морской
ориентации по звездам и проложили новые пути, соединяющие
Азию, Африку, Европу.
• Собрание ученых мужей. Позади них — книжная полка, как
видим, заполненная достаточно плотно.
ЗАКЛИНАНИЕ
БИРЮЗОИ
о
Н Шахи-Зинда — «жи-
вой царь» — прозвище
Кусама ибн-Аббаса Шахи
Зинда — это и уникальный
архитектурный комплекс
на окраине Самарканда
Согласно преданию, Ку-
сам, двоюродный брат
пророка Мухаммеда, ус-
пешно проповедовал ис-
лам в землях к востоку от
«полюс мира и веры» —
Старый, страдающий бе-
лой горячкой Тимур на-
блюдал с холма, как у
конного базара воздвига-
ют соборную мечеть Би-
Шахи-Зинда. Современ- »“
ныи вид.
Парадный портал.
Амударьи. Почему «жи-
вой царь»? Легенда рас-
сказывает, что, окончив
очередную проповедь,
Кусам снял с плеч голо-
ву и, держа ее в руке, уда-
лился в пещеру где жил
Пещера затворилась. Ку
сам счел свою миссию ис-
полненной и решил закон-
чить ее памятным чудом
Там, где ~проповедник
скрылся под землю,—
высоко на склоне xori-
ма — и возник мазар Ша-
хи-Зинда
В начале XIII века кон-
ница Чингисхана вытопта-
ла Самарканд. В 1370 году
Тимур провозгласил его
«столицей мира» и начал
строить новый город, к
югу от опустевшего. Пове-
литель стремился жестко
организовать пространст-
во столицы. Он провел
крытую сводчатым потол-
кам торговую улицу, со-
единившую центральный
базар и конный, что у се-
верных Железных ворот
За воротами — на стыке
городов бывшего и стро-
ящегося — мазар Кусала
ибн-Аббаса. Тимур строил
в этом почитаемом месте
мавзолеи для женщин
своего рода, жен и люби-
мых военачальников Усы-
пальницы, молельни, при-
юты для паломников,
спускаясь по склону хол-
ма, образовали новую
улицу.
Некоторое время на
этой улице жил даже сам
би-ханым. Повинуясь ему,
архитекторы повели сво-
ды мечети гак круто в не-
бо, что она начала рассы-
паться, едва закончилось
строительство. Когда Ти-
мур умер, стала распа-
даться и его империя. В
пору междоусобиц Шахи-
Зинда оказывалась удоб-
ным наблюдательным
пунктом для военачаль-
ников, осаждавших Са-
марканд
Улицу мавзолеев до-
страивали потомки Тиму-
ра — внук Улугбек и пра-
внук Абдул-Азис (он за-
вершил Шахи-Зинду па-
радным порталом). А го-
рожане дополнили цикл
древни-х легенд о Кусаме
рассказом о смельчаке,
который спускался по при-
казу Тимура з подземное
царство к ибн-Аббасу. В
поверьях, связанных с Ша-
хи-Зиндой, нашлось место
и юмору. Один из подъ-
емов улицы представляет
собой каменную лестни-
цу. Говорят, что только тот
человек искренне добро-
детелен в супружестве, у
кого сойдется счет ступе-
ней при подъеме и спус-
ке. Лестница длинная —
немудрено, что многие
просчитывались. Шутка
рискованная, ведь по му-
сульманским законам за
прелюбодеяние грозила
смертная казнь,
Ныне Шахи-Зинда —
место не только религиоз-
ного, но и туристского па-
ломничества Удивитель-
на изразцовая симфония
этой необычной улицы.
Многоцветье отделки
мавзолеев пронизывает
бирюзовая «гема». «От-
кровением Востока» на-
звал бирюзовый тон в ар-
хитектуре К Петров-Вод-
кин— в 1921 году худож-
ник Самаркандской экспе-
диции Главмузея. При ви-
де куполов Шахи-Зинды
он воскликнул: «Да ведь
это вода! Это заклинание
бирюзой огненной пусты-
ни!» Красный цвет раска-
ленной почвы и синее, до
ультрамарина, небо со-
ставляют, как считал
художник, «географичес-
кий колорит» Средней
Азии. Примирить эти два
«цветовые полюса» мог
только ускользающий от-
тенок воды — точно най-
денная средневековыми
мастерами бирюза.
Фото В Опалина