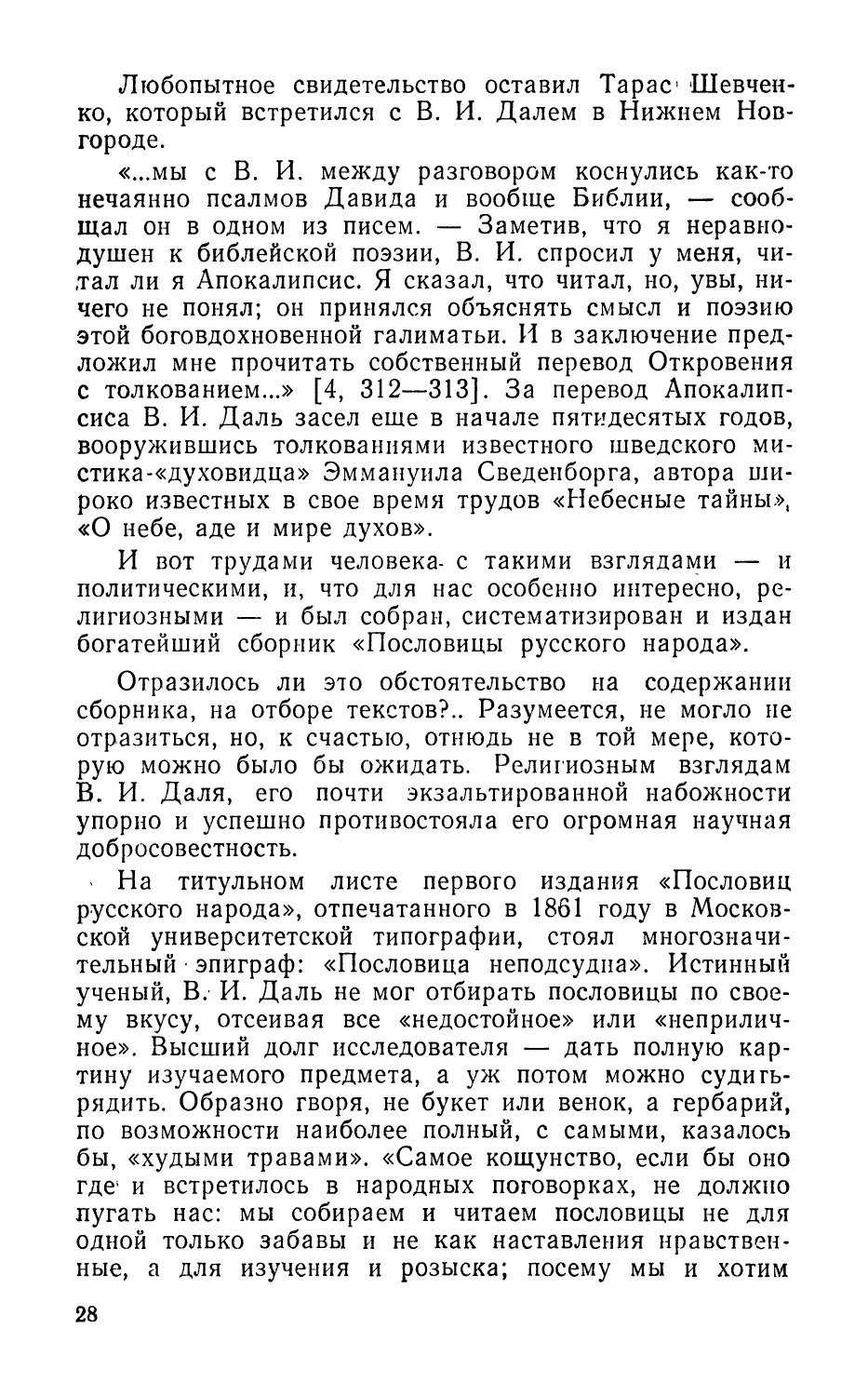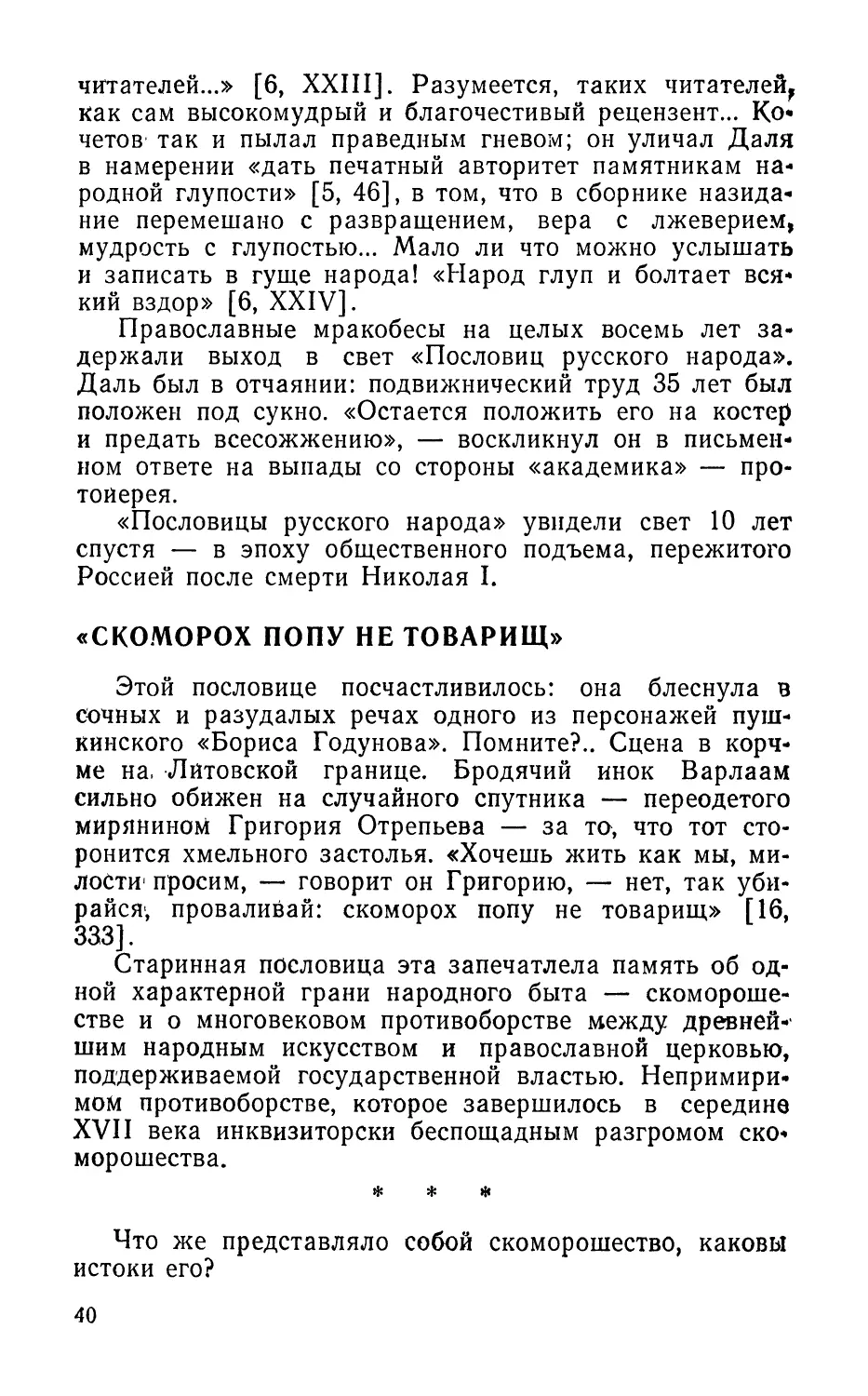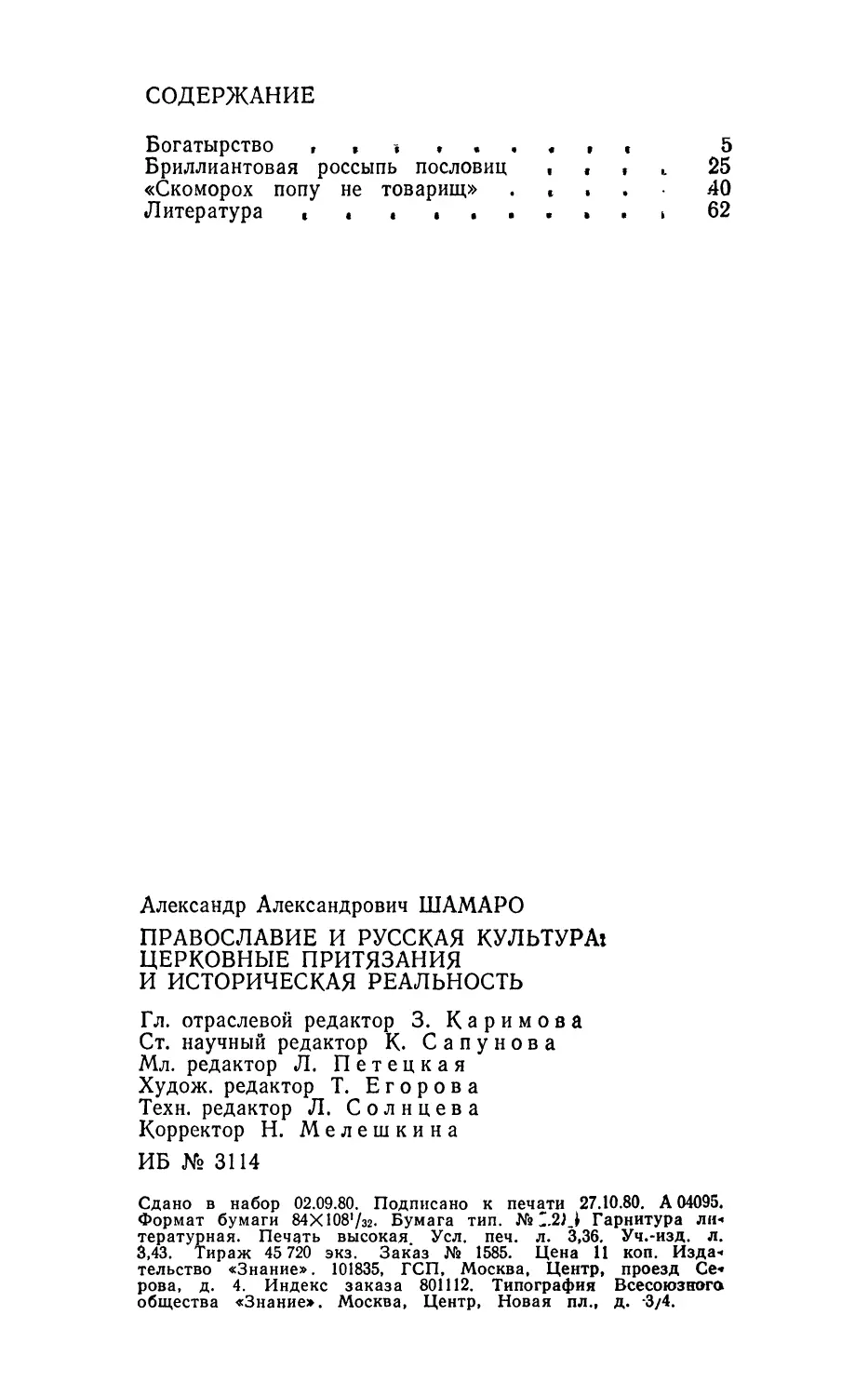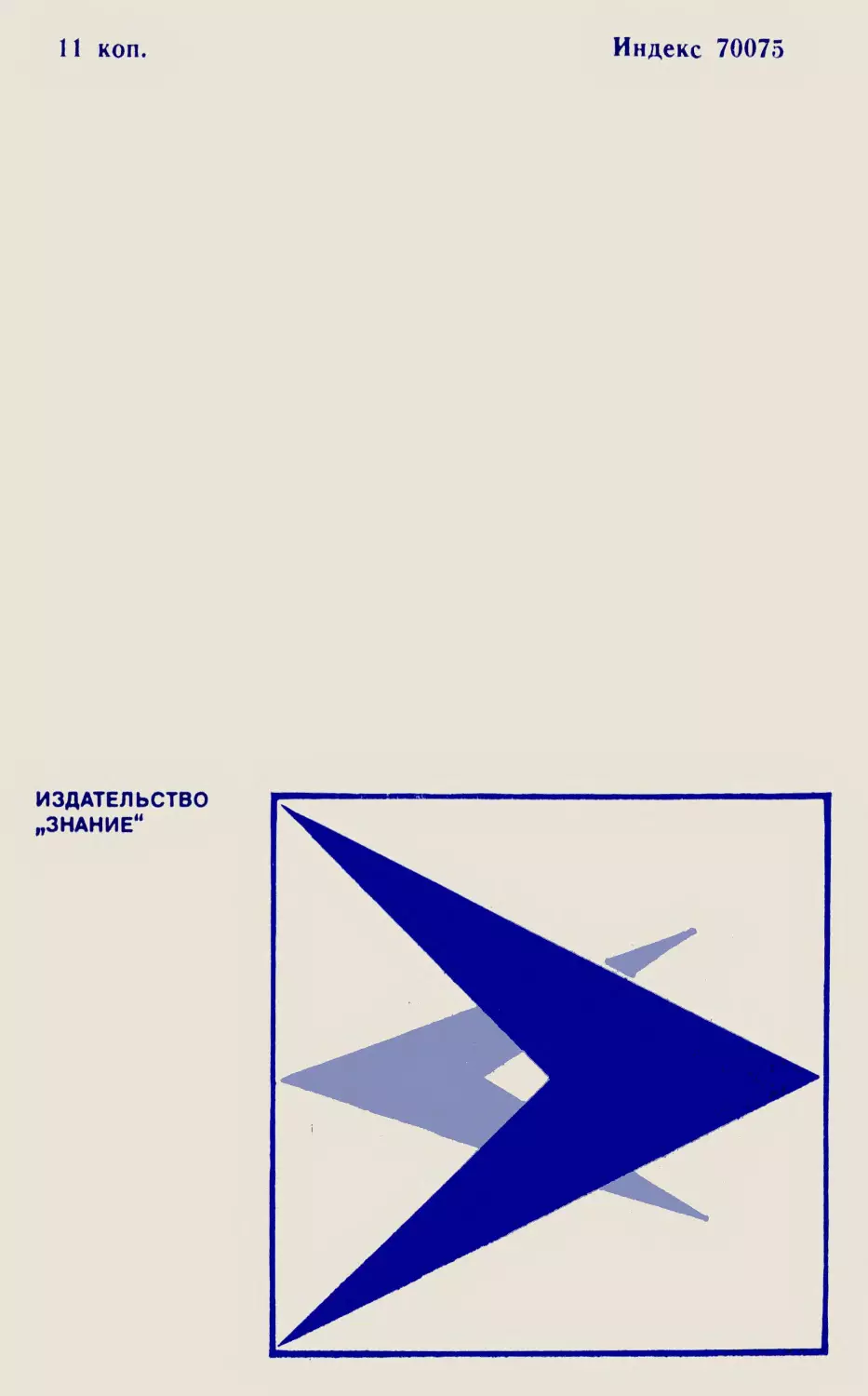Автор: Шамаро А.А.
Теги: религиоведение религия культура православная церковь научный атеизм
Год: 1980
Текст
НОВОЕ
В ЖИЗНИ,
НАУКЕ,
ТЕХНИКЕ
А. А. Шамаро
ПРАВОСЛАВИЕ
И РУССКАЯ
КУЛЬТУРА:
ЦЕРКОВНЫЕ
ПРИТЯЗАНИЯ
И
ИСТОРИЧЕСКАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ
СЕРИЯ
НАУЧНЫЙ
АТЕИЗМ
12'80
Г>^~1
НОВОЕ
0 ЖИЗНИ,
НАУКЕ,
ТЕХНИКЕ
А. А. Шамаро,
член Союза журналистов СССР
Серия
«Научный
атеизм»
№ 12, 1980 г.
Издается
ежемесячно
с 1964 г.
ПРАВОСЛАВИЕ
И РУССКАЯ
КУЛЬТУРА:
ЦЕРКОВНЫЕ
ПРИТЯЗАНИЯ И
ИСТОРИЧЕСКАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ
Издательство
«Знание»
Москва
1980
ББК86.1
Ш19
Шамаро А. А.
Ш19 Православие и русская культура:
церковные притязания и историческая реальность.-—
М.: Знание, 1980. — 64 с. — (Новое в
жизни, науке, технике. Сер. «Научный атеизм»;
№ 12).
11 коп.
Брошюра историка и публициста А А. Шамаро посвящена
показу истинных взаимоотношений православной церкви и
древнерусской культуры На материале устного поэтического
творчества (былин и пословиц) и синтетического искусства
скоморохов автор раскрывает идейную основу и пафос народ*
ной культуры в Древней Руси, ее демократизм и гуманизм,
свободомыслие и свободолюбие, открытое неприятие ею догма"
тов и заповедей христианства, церковных установлений и
проповедей, воссоздает картину многовековой вражды церкви к
устному народному поэтическому творчеству, ожесточенной
травли скоморошеского искусства.
10509
ББК86.1
2
(2) Издательство «Знание», 1980 г,
Заголовки, как известно, должны отличаться
предельной лаконичностью, и поэтому авторам приходиться
нередко начинать с их уточнения и конкретизации...
Мир русской национальной культуры, как и мир
любой иной национальной культуры, необозримо велик и
неисчислимо богат и разнообразен. В этой брошюре
пойдет речь о русской художественной культуре, о том
ее материковом и родниковом пласте, которые принято
называть древнерусской культурой, культурой Древней
Руси. Речь пойдет о художественном наследии,
созданном русским народом в течение нескольких веков,
охватывающих и эпоху Киевской Руси, и эпоху
монголо-татарского ига, и, наконец, эпоху возникновения и
формирования единого национального государства.
Древнерусская художественная культура,
древнерусское художественное искусство...
Какие ассоциации, какие воспоминания вызывают
у нас эти слова, какие образы, какие картины
возникают в нашем воображении, перед нашим мысленным
взором?
Думаю, что не ошибусь в ответе на такой вопрос:
творения зодчества и живописи — соборы и церкви,
иконы и фрески.
Вспоминаем ли мы при этом о былинах и о песнях,
о сказках и о пословицах, о скоморохах?.. Наверное, нет
или уж в лучшем случае очень редко... Разве это
правильно, разве это справедливо? Разве русское народное
устное поэтическое творчество, уходящее корнями в
минувшее значительно глубже, нежели церковное
зодчество или иконопись, не является частью древнерусской
художественной культуры? Разве искусство
исчерпывают зодчество и живопись и к нему не имеет никакого
отношения искусство поэтического слова, искусство
пения, танца, театральных представлений?.. Конечно, нет!
3
Можно сказать, что в едином русле древнерусской
художественной культуры, древнерусского
художественного искусства текут два потека. Один из них связан
с религиозным культом, говоря конкретнее, с
православным христианством, с православной церковью. Эта
связь, эта поддержка объясняются вполне понятным
стремлением церкви с помощью искусства усилить
психологическое, эмоциональное воздействие на своих
приверженцев. Разумеется, истинное значение, истинная
ценность церковного зодчества и иконописи
простирались несравненно дальше их непосредственного,
культового предназначения. Преодолевая религиозные
каноны, церковные предписания и запреты, художественный
гений народа создавал шедевры архитектуры и
живописи, исполненные жизненной правды, пронизанные
идеями и страстями эпохи, озаренные любовью к
человеку. Рублевская «Троица» и храм «Покрова на Нер-
ли» — ярчайшие тому примеры. Другой поток в силу
своей природы не нуждался в подобной поддержке
(поэтическое творчество не требовало ни строительного
камня, ни каменщиков, ни красок, ни иконописных
мастерских) и прекрасно обходился не только без церковной
поддержки, но и — что еще важнее — без церковных
предписаний и требований. Разумеется, оба этих
потока не были отгорожены друг от друга и оказывали друг
на друга определенное влияние.
Надо отметить, что поток народного устного
поэтического творчества прорвался на поверхность
общественного внимания сравнительно недавно — в основном
в 60-х годах прошлого века. В течение весьми лет, с 1855
по 1863 год, было издано сразу четыре собрания
русских сказок, в том числе и классический труд
Александра Николаевича Афанасьева «Народные русские
сказки» — около 600 текстов. В течение полутора
десятилетий, с 1860 по 1874 год, вышли в свет три сбор-
пика русских песен, в том числе и 10 выпусков «Песен,
собранных П. В. Киреевским». В это же время (1860
год) Владимир Иванович Даль подарил отечественной
культуре фундаментальный сборник «Пословицы
русского народа». И наконец, России был открыт ее эпос:
в течение 1861 —1867 годов увидели свет «Песни,
собранные П. Н. Рыбниковым» на просторах Европейского
Севера.
Со времени этого, если так можно сказать, «фоль-
4
клорного извержения» прошло уже более века, и ныне,
занимаясь изучением древнерусского искусства,
непростительно забывать об устном поэтическом творчестве
или уж По меньшей мере оставлять его в тени,
отодвигать на задний план. Такое отношение к русскому
фольклору не может не вызвать сожаления.
Но, наверное, не у всех.
Современная православная церковь открыто говорит
О своей исключительной роли и своих особых заслугах
в развитии древнерусской культуры, имея в виду лишь
тот ее поток, который в той или иной степени был
связан с ее культовыми богослужебными потребностями, и
обходя полным молчанием народное устное поэтическое
творчество. Логика церковной апологетики весьма
проста, и ее можно было бы сформулировать следующим
образом: «Что представляли бы собою древнерусское
зодчество без православных храмов и древнерусская
живопись без икон и фресок?.. Ответ совершенно ясен
и бесспорен: почти ничего не осталось бы от зодчества
и ничего от живописи. А если не соборы и церкви, если
не иконы и фрески, то в таком случае что вообще
останется от древнерусского искусства?..»
Очень многое, возразим мы православным
апологетам. Останется народное устное поэтическое творчество,
которое, кстати сказать, развивалось не только
независимо от православной церкви, но и в глубоком,
принципиальном и непримиримом мировоззренческом
конфликте с господствующей религиозной идеологией.
Останется устная народная поэзия, развитию и расцвету
которой православная церковь не только ни в коей мере не
содействовала, не помогала, но, напротив, делала все,
чтобы ее заглушить и вытравить из народного сознания,
народного духовного обихода, предавала осуждению,
осыпала благочестивыми проклятиями. Исследованию
этого колоссального духовного и эстетического
богатства — древнерусской культуры, древнерусского
искусства, точнее говоря, трех его проявлений: былинного
эпоса, пословиц и скоморошества — и посвящена эта
брошюра.
БОГАТЫРСТВО
Всего лишь сто лет назад, когда, казалось бы, для
великих географических открытий уже не осталось ме-
5
ста, была неожиданно открыта целая страна — страна
русских былин, которая простиралась на тысячу верст—
от Онежского озера на западе до Печоры на востоке.
Первооткрывателем ее можно считать тридцатилетнего
литератора Павла Николаевича Рыбникова,
высланного царским правительством в Олонецкую губернию за
«крамольные» мысли и настроения и вынужденного
тянуть лямку мелкого губернского чиновника. Выкраивая
время в разъездах со служебными поручениями, он
сумел прослушать 30 певцов-сказителей былин и записать
около 220 текстов. Издание их произвело
ошеломляющее впечатление не только на ученый мир, но и на всю
передовую русскую общественность. Поначалу трудно
было поверить в то, что былины, известные до сих пор
в основном лишь из сборника «Древних российских
стихотворений, собранных Киршею Даниловым», —
былины, которые принято было считать почти целиком
исчезнувшими из народного духовного обихода, вдруг
найдены в таком изобилии. И где? В непосредственной
близости от Петербурга!..
Несколько лет спустя, летом 1871 года, по путям
Рыбникова отправился известный славист Александр
Федорович Гильфердинг. Всего лишь за два
экспедиционных месяца у 70 певцов (он называл их
рапсодами) А. Ф. Гильфердинг записал около 320 текстов —
свыше 2 тысяч страниц рукописи (в среднем по 30—35
страниц в день). Летом следующего года, в самом
начале новой экспедиции, А. Ф. Гильфердинг заболел в
дороге брюшным тифом и скончался в Каргополе...
Потом русские ученые А. Д. Григорьев, А. В. Марков,
Н. Е. Ончуков проникли в неведомые еще края
«былинного котинента» — в Архангельский край, на берега
Белого моря, на Печору, — записав еще несколько сот
былин. И уже после Октябрьской революции, трудами
многих советских фольклористов с карты «былинного
континента» были стерты все «белые пятна».
На письменном столе передо мной лежат два
классических труда — «Песни, собранные П. Н.
Рыбниковым» [тт. 1—3. М., 1909—1910] и «Онежские былины,
записанные А. Ф. Гильфердингом летом 1871 г.»
[тт. 1—3. М.—Л., 1949—1951].
Радость и гордость — эти чувства неизменно
овладевают тобой всякий раз, когда ты обращаешься к этим
массивным томам. И в самом деле! Найден целый по-
6
этический мир, созданный твоим народом. Найдены и
записаны былины — золотая сердцевина русской устной
поэзии. Великолепный эпос, который по праву встал
вровень с прославленными во всем мире эпическими
творениями других народов.
Видимо, обаянию и славе васнецовской
«Богатырской заставы» обязаны мы явно суженным
представлением о русском былинном эпосе: имена трех этих
богатырей у всех на устах, а об остальных, пожалуй, одни
лишь специалисты-фольклористы и помнят... Нет,
русский эпос — не застава, а целая богатырская рать; и
плечом к плечу, седлом к седлу с Ильей Муромцем и
двумя его знаменитыми сотоварищами в былинах стоят
множество других богатырей... Сухман, Василий Каза-
ринов, Суровец, Саул Леванидович, Глеб Володьевич,
Василий Игнатьев, Иван Годинович, Рахта Рогнозер-
ский, витязь-малолетка Михайло Данилович... «Русская
народная поэзия кипит богатырями, — писал В. Г.
Белинский. — И эта отвага, это удальство и
молодечество... являются в таких широких размерах, в такой
несокрушимой, исполинской силе, что перед ними
невольно преклоняешься» (2, 427). И не случайно слово
«богатырство» стало своеобразным самоназванием
былинного эпоса — величественного поэтического
повествования о героической борьбе русских богатырей с
бесчисленными врагами родной земли, и прославление этой
борьбы, приуроченной сказителями ко времени
княжения Владимира Святославича, составляет душу
русского эпоса, хотя отнюдь и не исчерпывает его
тематического и сюжетного многообразия.
Десятки персонажей — и фантастических, и
реалистических, наделенных неповторимо своеобразными
чертами характера, не лишенных порою и недостатков,
живых и не безгрешных (а то и просто непутевых). Не
менее пятидесяти сюжетов, воплощенных (и нередко —
со значительными различиями) в двух с половиной
тысячах отдельных текстов, — сюжетов и героических, и
сказочных, и бытовых, и сатирических... Вот что
представляет собою русский былинный эпос!
Из глубины веков, от сказителей таинственных и
безымянных дошли до нас эти поэтические творения,
которые и ныне сверкают блеском непревосходимого
стилистического и языкового совершенства. Трудно
понять, как можно было в устной поэзии создать и веками
7
сохранять эти строки, которые сделали бы честь и
лучшим поэтам литературы письменной. Строки эти
хочется сравнить с гениальными, совершенными
мелодиями, в которых немыслимо не изменить, не заменить -ни
единой ноты... Послушайте, к примеру, как былины
описывают полчища неприятеля, с которыми неустанно
сражаются русские богатыри:
Тут собиралася сила несчетная и несметная
У того короля нечестивого:
Черну ворону в вешний день не облетать,
А серу волку в осенню ночь не обрыскати... [5, 187].
У безымянного нищего старика в одном из
олонецких сел Рыбников записал былину «Василий Игнатьев
й Батыга» — былину об осаде Киева татарскими
ордами...
И не вешняя вода облелсела,
Обступила кругом сила поганая:
Соколу кругом лететь
Будет на меженный день...* [5, 178].
Подобно богатырской кольчуге из кованых колец,
многие былины словно связаны из поразительно
точных, ярких, неожиданных поэтических сравнений,
метафор... Богатырь в разгар битвы, схватив за ноги
вражеского воина, «учал помахивать»...
Как куда побежит, тамо улица лежит,
Где повернется, тамо площадью... [5, 199].
Эти первые впечатления — радостные, волнующие —
объяснялись тем, что прежде всего, естественно, видишь
то, что найдено. Но потом, вчитываясь в короткие
комментарии, которыми фольклористы снабдили свои
собрания, изучая вступительные очерки к ним, с
чувством горечи, почти отчаяния осознаешь — как же много
потеряно! Потеряно несравненно больше, чем удалось
найти, записать, спасти от исчезновения.
Уже первые собиратели былин увидели,
почувствовали, что они открыли страну былинного эпоса, которая,
подобно легендарной Атлантиде, погружалась в пучину
забвения, что солнце былинной поэзии, совершив мно-
говековый путь по небосводу русской истории, висит
уже над западным горизонтом. «...Само собой
бросалось в глаза, — писал, например, П. Н. Рыбников в
* Облелееть — облить. Меженный день — самый
долгий день в середине лета. (Прим. авт.).
8
«Заметках собирателя», — что лучшие из певцов уже
старые люди и дряхлеют не по дням, а но часам.
Учителя их, которые, по их же рассказам, знали о
богатырстве больше и лучше их, почти все перемерли, и
та же участь каждую минуту грозит лучшим
представителям теперешнего поколения сказителей. Я понимал,
что драгоценные сказания могут не нынче-завтра
навсегда погибнуть, и торопился записывать уцелевшее»
[12—1, ЬХП—ЬХШ].
Почти на каждом шагу и П. Н. Рыбников, и А. Ф,
Гильфердинг слышали воспоминания об умерших
сказителях, знавших былин больше и помнивших и
исполнявших их лучше, чем их ученики, которых собиратели
застали в живых. Записки П. Н. Рыбникова и А. Ф„
Гильфердинга (главным образом последнего)
позволяют составить список олонецких сказителей, былины
которых можно было успеть записать в прошлом веке, но
которых ни тот, ни другой уже не застали в живых.
Список — полтора десятка имен!..
Еще в 1869 году, всего лишь за два года до
экспедиции А. Ф. Гильфердинга, фольклорист мог бы
послушать сказителя Виссариона Батова, «считавшегося
лучшим знатоком былин на Выгозере» [11—2, 697].
В 1867 году еще можно было записать былины у
старой крестьянки — матери Тимофея Антонова,
которая, по словам сына, была великая мастерица петь
былины и знала их очень много. А ее 35-летний сын смог
исполнить А. Ф. Гильфердингу только две былины,
заученные со слов покойной матери.
В 1845 году фольклористу нужно было бы в первую
очередь поспешить в деревню Мамоново на Кепозере,
чтобы послушать глубокого старика Михаилу Кропаче-
ва, который, по словам сына Ивана, «знал очень много
«старин» и превосходно их пел»... Сын мог вспомнить
только 11 былин.
За пять десятилетий до поездки А. Ф.
Гильфердинга, приблизительно в 1820 году, собиратели былин
могли спасти от исчезновения былинные сокровища,
ценность которых трудно представить. Ибо в это время еще
были живы сказители, о которых и полвека спустя
даже выдающиеся исполнители былин вспоминали с
чувством глубокого уважения и восхищения. В их числе
Илья Елустафьев из деревни Шлямкинской, основатель
целой школы в искусстве «сказывания старин». П. Н.
9
Рыбников писал о нем, что он был непревзойденным
сказителем во всем Заонежье и во всей Олонецкой
губернии, что он «мог петь про разных богатырей целые
дни» [12—1, ЬХХУШ]. Игнатий Иванович Андреев из
деревни Гарница, по мнению знаменитого сказителя Ря-
бинина, превосходил даже Елустафьева... Конон Сави-
нович Неклюдин из села Зяблые Нивы... Петр
Степанович Мещанинов, слепой калека из деревни Бережная
Дубрава на реке Онеге, знал, как вспоминали местные
жители, 70 былин, а ученик его Иван Фелонов —
только 6. Семьдесят и — шесть.
Этот список можно продолжать и продолжать...
Итак, еще в прошлом веке в наших северных краях
жила целая плеяда великолепных рапсодов, былины
которых, будь они кем-либо записаны, быть может,
подняли бы русский эпос на новую, значительно более
высокую ступень. Сравнительно недавно, в последние
дореволюционные десятилетия, безвозвратно погибло
огромное духовное богатство русского народа, которое
никто не догадался, не удосужился записать.
«Но почему обязательно нужно было приезжать в
этот край, чтобы записать былины? — возможно,
спросите вы. — Разве местные жители были все сплошь
неграмотны, как крестьяне-сказители? Жили же там и
грамотные люди!»
Конечно, жили... Уездные чиновники, волостные
писари. И надо сказать, что кое-кто из них, по просьбам и
поручениям чиновника П. Н. Рыбникова из губернского
города Петрозаводска, пытался сделать какие-то
фольклорные записи. Но была еще одна и куда более
многочисленная категория грамотных людей: Олонецкая
губерния, как и всякая иная губерния Российской
империи, имела во всех уездах, во всех, даже самых
глухих, углах православные храмы; в них служило, как
правило, по нескольку священников, которые, помимо,
богослужений и треб, вели книги рождений, венчаний
и смертей, преподавали в церковно-приходских школах,
одним словом, были вполне грамотным^ людьми,
имевшими к тому же немало свободного времени. Они
постоянно соприкасались с крестьянами своих приходов;
многие из них были к тому же местными уроженцами.
Одним словом, они просто не могли не знать о
существовании вокруг них живого народного эпоса, о
существовании выдающихся хранителей и исполнителей его.
10
И ни один из них не только не спас от исчезновения ни
одной былины, но даже не додумался и не удосужился
сообщить за пределы губернии о самом факте
широчайшего бытования былин в крае, где он жил
десятилетиями.
* * *
Закат былинного эпоса, в отличие от обычного
заката, догорал не на западе, на севере. И когда П. Н,
Рыбников и А. Ф. Гильфердинг, не жалея ни сил, ни
здоровья, разъезжали по Олонецкой губернии,
записывая былины, этот озерно-лесной край был озарен
вечерним, меркнущим светом русского былинного эпоса,
зарождение которого наука относит к X веку; можно
сказать, что они встретились с 90-летним старцем,
которому суждено было прожить еще около 10-ти лет. На
всей остальной гигантской территории Европейской
России, простиравшейся к югу от Олонецкого края,
былины практически исчезли.
Но ведь они были и там! Более того, именно оттуда,
из центральных районов России, вместе с крестьянами-
переселенцами былины занесены некогда на север. Еще
в первой половине прошлого века былины живы были
и в Поволжье, и в Черноземном крае. Есть
свидетельства в пользу того, что былины жили некогда и в среде
украинского и белорусского крестьянства, впоследствии
исчезнув полностью.
Почти тысячу лет жил в русском народе былинный
эпос — с века X до середины XX... Когда
задумываешься над этим, то не знаешь, чему больше изумляться,
чем больше восхищаться — самим ли эпосом или
фактом его многовекового существования, несмотря ни на
что и вопреки всему.
Подумайте только!.. Ведь эти века были наполнены
и переполнены бесконечными войнами, «гладами и
морами», набегами степных кочевников; в них целиком
уместилась эпоха золотоордынского ига, начавшегося
страшной «батыевой резней» по всей Руси.
Экспедиции первых собирателей былин показали,
что истинными хранителями была немногочисленная
категория людей, богато одаренных природой, — людей
с феноменальной памятью и тонким художественным
-вкусом. Сказительница Аграфена Матвеевна Крюкова,
И
пожилая крестьянка из деревеньки Нижняя Зимняя Зо-
лотица на берегу Белого моря, пропела фольклористу
А. В.. Маркову 60 «старин» — около 10 300 стихов!
«Когда она была девочкой (лет 9-ти), — писал собиратель
во вступительном очерке, — ей стоило один раз
прослушать старину, — и она уже запоминала ее на всю
жизнь; до сих пор она поет старины, которые переняла
от стариков и старух, умерших лет 30 тому назад...
Феноменальная ее память обнаружилась, между
прочим, в том, что она поправляла мелкие ошибки в своих
старинах, пропетых днем раньше: она помнила, как
спела название какого-нибудь города или реки...» [3,
27—28] •
Представим крестьянское житье-бытье на Руси в
старые времена — век XVIII, XVII, XVI... Деревеньки,
разбросанные по огромным российским просторам;
крепостные крестьяне, которые в большинстве своем всю
жизнь проживали, почти не выходя за околицу родной
деревни, если, конечно, барин не продавал их, как скот,
другому помещику или не отпускал на отхожие
промыслы. И в таких деревнях, практически отрезанных,
отгороженных наглухо от окружающего мира,
рождались вот такие же Аграфены. На что пригодился бы их
великолепный талант, если бы в их деревнях или селах
не нашлось людей, хранивших в памяти былины? На
что пригодились бы все их искусство, все богатство
хранимой в их поразительной памяти былин,, если бы в их
деревнях или селах не родился бы и не вырос хотя бы
один человек — их наследник, наделенный от природы
в той или иной мере тем же талантом?.. Сколько таких
Аграфен в минувшие века ушли из жизни, так и не
передав никому своего поэтического, былинного
богатства, унеся его в могилу?..
Страшно думать обо всем этом...
А где-то совсем рядом или не очень далеко от этих
деревень, под сводами иноческих обителей,
благоденствовали монастырские книжники. Если они и брались
за перо, то для того, чтобы сочинить очередное
«житие» — благочестивую легенду о каком-либо
«собственном» преподобном, дабы прославлением и последующей
канонизацией его озолотить собственную обитель.
В этом жанре православные монастыри сильно
преуспели. Достаточно сказать, что в распоряжение
известного историка В. О. Ключевского, принявшегося за на-
12
писание книги «Древнерусские жития святых как
исторический источник», было представлено свыше 160
«житий» в 250 редакциях (около 5 тысяч отдельных
списков)! И это только старинные рукописи из библиотеки
одного лишь Соловецкого монастыря... Того самого
монастыря, который находился в непосредственной
близости от Зимнего берега, где еще в конце XIX и начале
XX века только у одной сказительницы можно было
записать целых 60 былин.
Но своеобразная эстафета былинного эпоса не была
прервана, и во всех краях Руси былины переходили из
поколения в поколение, из века в век, пока, наконец,
уже во второй половине XIX столетия горстка
самоотверженных энтузиастов и настоящих патриотов России
не записала и не опубликовала их... Есть ли еще более
убедительное доказательство духовного богатства,
талантливости русского народа?.. Талантливости,
благодаря которой эстафета былинного эпоса, несмотря на
крепостническое рабство, не была прервана.
Талантливости, которая одарила нас огромным, культурным
сокровищем — несколькими тысячами текстов былинного
эпоса.
Но как бы ни изумлялись мы этому чуду — чуду
многовековой жизни обширнейшего эпоса
исключительно в устной его передаче, — мы, конечно, не должны
забывать о том, что это была жестокая жизненная
необходимость, обусловленная поголовной неграмотностью
русского крестьянства. Как бы мы ни изумлялись
многовековой устной народной поэзией, нам нельзя забывать
и о том, что устная передача неизбежно сопряжена
также и с серьезным ущербом для поэтического
творчества... Палимпсестами называют древние рукописи на
пергаменте, с которого были счищены тексты еще более
древние. Вот такими устными, нематериальными
палимпсестами и становились тексты древних былин, и
создание новой былины нередко сопряжено было с гибелью
(частичной или полной) былины предшествующей эпохи.
Новая былина могла быть лучше, ярче, талантливее
старой, — могла стоять с ней вровень по художественным
достоинствам, могла и намного уступать ей. Но во всех
случаях, даже тогда, когда за счет старой, заурядной
былины рождался шедевр нового сказителя, — было бы
очень интересно знать и старый текст. Как бы
обогатило это русскую культуру! Какую пищу дало бы это
13
историкам и филологам, как бы облегчило их
исследования!
И поэтому приходится еще и еще раз горько
пожалеть о том, что самые ранние записи и пересказы
былин уходят не глубже XVII века, что мы не знаем
сейчас и, наверное, никогда не узнаем вообще, как
звучали русские былины 400, 500, 600 лет назад, какими
они были в своем первозданном виде. Об этом можно
только гадать.
Мы никогда не узнаем даже, что мы потеряли;
никто не сообщит нам хотя бы имен тех гениальных
народных поэтов — слагателей былин, шедевры которых
либо погибли вместе со смертью их создателей, не
имевших достойных их по таланту учеников-преемников,
либо впоследствии были искажены сказителями, которых
Гильфердинг назвал «пачкунами»... А такие — увы! —
тоже бывали.
Мы ничего этого не узнаем, ибо былины были
записаны лишь на закате русского эпоса. А во времена
восхода и полудня, когда православная церковь
безраздельно господствовала во всех областях духовной
жизни Руси, когда она была основной хранительницей
письменности, ни одна былина не была записана,
* * *
Быть может, прочитав эти строки, кто-либо из
читателей — человек либо православно-религиозный,
либо по крайней мере питающий (в силу тех или иных
причин, убеждений или заблуждений) определенные
симпатии к русской православной церкви, усмехнется и
скажет: «Атеистам уже мало обвинений православной
церкви в том, что она сделала в прошлом; теперь они
перешли к упрекам ее за то, что она в прошлом не
сделала!..»
Нет, это не так. Подобные упреки были бы
необоснованными и наивными. Христианству надо было бы
перестать быть христианством, а православной церкви—
православной церковью, чтобы служители ее стали по-
иному относиться к устной народной поэзии, в данном
случае к русскому былинному эпосу. Устная народная
поэзия вообще и былины в частности были в глазах
служителей русской православной церкви, прежде всего
ее самых ревностных служителей, проявлением ненави-
14
стного, богопротивного язычества, совершенно
несовместимым по самой природе своей, по духу своему с
христианской верой. Христианство, по словам академика
Д. С. Лихачева, «резко отрицательно относилось к
народному творчеству, видя в нем в первую очередь те
элементы язычества, от которых народное творчество
начало уже постепенно отходить и само» [10, 150]. Не
сочувственное внимание, не живой интерес, а, наоборот,
враждебность, презрение и отвращение должны были
вызывать былинные образы и сюжеты у
последовательных ревнителей христианского благочестия. И такое
отношение к русскому фольклору православная церковь
пронесла со времен своего утверждения в Киевской
Руси до совсем уже недавних времен.
Приведу лишь один, но, как мне кажется, весьма
характерный пример. После многолетних трудов,
связанных с бесконечными разъездами и пешими
странствиями по самым отдаленным и глухим уездам Европейской
России, Петр Киреевский, один из первых собирателей
русских народных песен, сказаний и былин, решил
опубликовать частицу записанных и другими путями
собранных произведений русского народного творчества. Для
начала он отобрал 55 так называемых «духовных
стихов», то есть народных песен, связанных с
христианским культом, решив к тому же и успокоить
подозрительность цензуры (прежде всего духовной)
специальным комментарием. «Разумеется, что от этих
простодушных излияний народного чувства нельзя требовать
ни догматической точности, ни соответственности
выражения с важностью предмета... А потому и ошибки их,
ненамеренные, конечно, никого не введут в соблазн...»
[13, 698—699]. И несмотря на все это, несмотря на
друзей из числа славянофилов, он смог напечатать
народные песни лишь после долгих хлопот, в 1847 году. Что
же касается многотомного издания «Песен, собранных
П. В. Киреевским», то оно увидело свет — главным
образом все из-за тех же цензурных препон — лишь после
смерти собирателя, в 60-х — начале 70-х годов
прошлого века...
Да, мирное сосуществование Алексия — человека
божия и Ильи Муромца немыслимо. Герой былины —
борец, преисполненный чувства человеческого
достоинства. Герой «жития» — раб, раб и небесного господа,
и земного господина, — раб, преисполненный чувства
15
человеческого ничтожества... Да кто же из ревностных
христиан (к примеру, сельский священник) возьмет на
душу смертный грех записать и сохранить для потомков
эти «бесовские песни»!.. И — не слушали, и — не
запоминали, и уж, конечно, — упаси боже! — не
записывали.
Любопытный пример приводит А. Ф, Гильфердинг.
Среди 70-ти человек, с которыми встречался этот
фольклорист, оказалась одна попадья, 40-летняя «матушка»
Авдотья Георгиевская, проживавшая на Кенозерском
погосте. «Это меня крайне удивило...» — признавался
собиратель былин во вступительном очерке. В беседе
с ним кенозерская «матушка» пояснила, что былины,
которым она научилась от старика-крестьянина,
работавшего в доме ее родителей, были для нее неким
развлечением, ибо отец ее, местный священник, отличался
бескомпромиссным православным благочестием и по сей
причине строжайше запрещал дочерям петь «греховные
песни» и заставлял их разучивать одни лишь
«божественные стихи»... «Вместе с такими стихами, — писал
А. Ф. Гильфердинг, — она от скуки выучилась и
былинам, которых знала в молодости гораздо больше, чем
теперь» [11—1, 41],
* * *
Но дело, конечно, не только и даже не столько в
христианском, благочестивом и праведном, отвращении
к проявлениям язычества: это мировоззренческое
столкновение имеет под собой определенную социальную,
классовую основу.
Русские былины пронизаны духом свободолюбия,
честности, справедливости, благородства; они веками
воспитывали и поддерживали эти чувства в
крестьянской среде; они сами могли «обитать», сохраняться
только в такой духовной атмосфере. И не случайно
поэтому несметные богатства их были обнаружены там,
где сама социальная среда более чем где-либо в иных
местах России, способствовала сохранению былинного
эпоса — на севере Европейской России. Там, где народ
не знал ни татарского ига, ни крепостничества, там, где
суровая природа давала пропитание только людям
мужественным и энергичным, спаянным товарищеской
взаимопомощью.
16
«Ощущая себя свободным человеком, — писал А. Ф.
Гильфердинг, — русский крестьянин Заонежья не
терял сочувствия к идеалам свободной силы, воспеваемых
в старинных рапсодиях. Напротив того, что могло бы
остаться сродного в типе эпического богатыря человеку,
чувствовавшему себя рабом?» [11 — 1, 35].
Идеалы свободной силы, как прекрасно сказал наш
знаменитый собиратель, вели не только к открытому
бунтарству, но и к стихийному неверию, первым
проявлением, предвозвестником которого в народной среде
всегда были откроэенно-антицерковные настроения.
Стихийное народное мировоззрение, отраженное в
устном поэтическом творчестве, в былинах было
выражено, наверное, наиболее ярко и просто. Герои былин—
русские народные рыцари, крестьянские сыны; они
служат киевскому князю не из корысти, угодничества и не
из-за страха, а по доброй воле своей, защищая отчизну
от иноземных поработителей и разорителей. И
симпатии древнейших былин к князю Владимиру
Святославичу вызваны именно тем, что он умеет ценить богатырей
из крестьянской среды, оказывает им почет. Но когда
после смерти князя Владимира Русь стали жестоко
терзать княжеские междоусобицы, распахнувшие
ворота перед ордами кочевников, былинный образ князя
Владимира претерпел коренные изменения, впитав в
себя народную ненависть не только к «героям»
междоусобиц, но и позднее, после низвержения ордынского
владычества, к самодержавию.
Могла ли русская православная церковь в XVI—
XVII веках питать какие-либо симпатии к былинам,
которые на этой стадии их развития изображали в самом
неприглядном виде одного из первостатейных русских
святых (он проходит по высшей категории
«равноапостольных») — киевского князя Владимира
Святославича?.. «От пассивного протеста, — указывает советский
фольклорист П. Д. Ухов, — народ поднимается до
протеста активного. И князь Владимир русских былин
наделяется чертами современных князей и самого царя»
[5, 20]. Могла ли церковь снисходительно относиться
к народным песням, выставляющим
«равноапостольного» человеком вероломным, способным на
предательство, готовым погубить неоднократного спасителя своего,
Илью Муромца, распутником, способным отнять жену
у своего приближенного, сводником, принуждающим
1585-2
17
жену Добрыни Никитича выйти замуж за Алешу
Поповича, корыстолюбцем и трусом, оказавшимся
неспособным защитить русскую землю от вражеского нашествия
и разорения?
«Государство (речь идет о русском государстве в
изображении сказителей позднего времени. — А. Я/.),
во главе которого стоит Владимир, — пишут советские
исследователи В. Я. Пропп и Б. Н. Путилов, —
оказывается неспособным дать отпор татарам. Владимир
выступает как ставленник бояр и князей, он представляет
чуждую народу классовую власть. При получении
известия о приходе татар князь Владимир пугается, плачет,
молится. Он не помышляет об организации обороны и
готов сдать город...» «Владимир выступает теперь как
тиран, окруженный подлыми и вероломными боярами;
его легко склонить на бесчестные поступки» [6;
XXXVIII, XI].
Илья Муромец, которого перепуганный вражеским
приступом князь Владимир вынужден освободить из
заточения, говорит в одной из былин:
Я иду служить...
За землю российскую,
Да и за стольный Киев-град,
За вдов, за сирот, за бедных людей.
А для собаки-то князя Владимира
Не вышел бы я вон из погреба [4, 9].
Могла ли русская православная церковь питать
какие-либо симпатии к былинам, в которых Илья
Муромец стреляет в кресты на церквах, а нательный крест
готов отдать в залог за вино?.. К былинам, в которых
Алеша Попович из-за своего прозвища стал мишенью
для насмешек?..
Алешенька рода поповского,
Поповские глаза завидущие,
Поповские руки загребущие [5, 21].
«Прозвище Алеши — «Попович»... — отмечает П. Д.
Ухов, — привело к переосмыслению его образа: в
некоторых былинах образ Алеши, теряя черты богатыря,
становится сатирическим. Сказители из-за прозвища
Аленш придали ему черты, какими в фольклоре
изображается духовенство: жадность, скупость, ханжество» [5,
27]... Известны былины, в которых образ Алеши — все
из-за того же злополучного прозвища — становится уже
отвратительным: из-за его насмешек братья казнят род-
18
ную сестру свою, а отрубленную голову ее швыряют к
его ногам.
Могла ли русская православная церковь питать
какие-либо симпатии к народным эпическим песням вроде
былины «Василий Буслаев молиться ездил», дошедшей
до нас в сборнике Кирши Данилова? Былины, которая,
несмотря на свой, казалось бы, самый благочестивый
сюжет, воспевает удалого новгородца, бросающего
открытый вызов предрассудкам, вере в судьбу.
Говорит тут Василий Буслаевич:
«А не верую я, Васинька, ни в сон, ни в чох,
А и верую в свой червленой вяз...» [9, 116].
«Веровать в свой червленой вяз» — значит верить
в собственную силу.
...В воспоминаниях о А. П. Чехове М. Горький
рассказывает, что он однажды в Ялте прочитал Антону
Павловичу монолог Василия Буслаева из своей пьесы
об этом былинном герое, которого он, кстати говоря,
назвал «одним из величайших и, м. б., самым
значительным художественным обобщением в нашем фольклоре»
[8—30, 268]. Василий мечтает «землю разукрасить —
как девушку», «сделать изумрудом дорогим».
«Чехову понравился этот монолог, — вспоминал
М. Горький, — взволнованно покашливая, он говорил
мне и доктору А. Н. Алексину:
— Это хорошо... очень настоящее, человеческое!
Именно в этом «смысл философии всей». Человек
сделал землю обитаемой, он сделает ее и уютной для
себя. — Кивнув упрямо головой, повторил: — Сделает!»
[8—5, 432].
Нет, не могла, конечно, православная церковь
питать какие-либо симпатии к русским былинам,
бесспорно, зная об их повсеместном бытовании в крестьянской
Среде на протяжении многих веков. И будучи в течение
нескольких столетий (следует подчеркнуть это еще раз)
Монопольной или почти монопольной обладательницей
русского письменного слова (главным образом в
монастырях), не сохранила для нас ни одной крупицы
высшего духовного достояния русского народа той эпохи —
его былинного эпоса... Конечно, и в церковной среде
могли быть «белые вороны» — грамотные монахи или
священники, которые отнеслись бы к былинам со внима-
рием и интересом. Могли быть... Но их, к великому
огорчению нашему, в действительности почти не оказалось.
19
В фольклористских трудах упоминаются два
православных священника, один — с беломорских берегов и
другой — из Нижнего Новгорода, которые записали в
прошлом веке в общей сложности семь былинных текстор,
Семь из двух с половиной тысяч.
Могут возразить: но Илья Муромец окончил жизнь
свою печерским монахом и сопричислен к лику святых
русской православной церкви!
Действительно, в современном «Православном
церковном календаре» против даты 19 декабря (по
старому стилю) записано:
«Преподобного Ильи Муромца, Печерского в
Ближних пещерах (около 1188)».
Оказывается, былинный богатырь Илья Муромец
умер пещерным иноком в древнейшем киевском
монастыре?! Оказывается, церковь воздала должное
главному герою русского былинного эпоса, сопричислив его
к лику святых?!
Ровным счетом ничего не «оказывается»...
Откроем для начала столь солидную и авторитетную
церковную книгу, какой являются «Жития святых»,
составленную архиепископом Филаретом (Гумилевским).
Процитировав весьма смутный и ненадежный источник,
Филарет вынужден был сделать следующую оговорку:
«Мнение, что преподобный Илия есть одно лице с
известным богатырем Ильею Муромцем, встречается и в
других Московских памятниках; но за верность его нет
никаких ручательств» [14, 227].
«Ручательств», действительно, абсолютно «нет
никаких»... Наиболее серьезные церковные историки не
нашли ни малейших доказательств канонизации Ильи
Муромца; имя это, например, даже не упомянуто в труде
В. П. Васильева «История канонизации русских свя:
тых» (М., 1893). Церковный историк Е. Е. Голубинский
на страницах своей книги — «История канонизации
святых в русской церкви» (М., 1903), говорит об этом
персонаже из русских святцев, как о лице, «ничего не
имеющем с Владимировым богатырем того же имени».
Как же появился в святцах этот печерский
преподобный?.. В книге Е. Е. Голубинского воспроизведена
в русском переводе выписка из дневника некоего
Эриха Лассоты, побывавшего в 1594 году у Запорожцев
и посетившего Киев того времени. Лассота
рассказывал, что киевский люд чтит могилу великана и богаты-
20
ряд по прозвищу Чоботок (то есть Сапог). «Говорят,
что на него напало однажды много неприятелей в то
время, когда он надевал сапог, и так как второпях он
не мог схватить никакого другого оружия, то начал
защищаться другим сапогом, которого еще не надел, и им
одолел всех, отчего и получил такое прозвище» [7, 562].
♦..Легенда эта обнаруживает бесспорную органическую
связь с былинами и не имеет ничего общего с самим
духом христианских «подвигов».
Вот этого легендарного Чоботка церковь, по всей
вероятности, и превратила в печерского Илью Муромца,
и тот же Филарет прямо подтверждает такое
предположение: «преподобный Илья по месту рождения
Муромец... по народному преданию назывался Чоботок»
[14,227].
# # #
В течение долгих веков былинный эпос подвергался
идейному воздействию христианства, воздействию
постоянному, массированному и повсеместному,
оставившему — увы! — многочисленные следы на русских
былинах. Богатыри нередко поминают Христа и богоро-,
дицу, поминают «веру христианскую», церкви божий
и «честные монастыри». Отдельные сюжеты и
персонажи просто перешли в былины из церковных книг, из
апокрифических легенд.
С символическим разговором встречаемся мы в
былине «Исцеление Ильи Муромца» — разговором
между героем былины, который, как в параличе, «тридцать
лет сиднем сидел», и боголюбивыми паломниками —•
«каликами перехожими», исцелившими его «чарой
ключевой воды».
Говорит им Илья Муромец сын Иванович:
«Ах вы гой еси, люди старые,
Вы калики перехожие!
Я почувствовал в себе силушку великую;
Кабы было во земли кольцо,
И было бы во неби кольцо,
Захватил бы эти кольца в одну руку,
Притянул бы небо к земле
И смешал бы я земных с небесныма» [5, 55]*
Всполошились христолюбивые калики и стали
заклинать богатыря, чтобы делал он все лишь «по пока-
занью божьему». А потом — для большей надежности,
21
для успокоения совести своей — предложили Илье
выпить еще одну чару ключевой воды, дабы убавить его
силушку наполовину.
Но былинному эпосу, олицетворением которого стал
Илья Муромец, и этих сил было достаточно, чтобы с
успехом противостоять многовековому воздействию на
него православной религиозности. «Религиозных мотивов
в русском — и вообще славянском — эпосе вы найдете
очень мало, — говорил М. Горький в одном из писем. —■
Можно думать, что славянский эпос меньше засорен
влиянием церкви...» [8—27, 498—499].
Полистаем сборники русских былин...
Былина «Михайло Данилович»... На почетном пиру
у князя Владимира поднялся из-за стола старый
витязь Данило Игнатьевич...
Выставал удалый добрый молодец,
Старый Данила Игнатьевич,
Скидывал с буйной головы своей пухов колпак
И клонил голову князю Владимиру,
Сам говорит таково слово:
«Ай же ты, Владимир князь стольно-киевский.
Благослови меня во старцы постричеся
И во схимию посхимиться».
Говорит ему Владимир князь стольно-киевский;
«Ай же ты старый Данила Игнатьевич!
Не благословляю тебя в старцы постричься
И во схимию посхимиться:
Как проведают все орды неверные
И все короли нечестивые,
Что на Руси богатыри во старцы постригаются,
Станут на нас они нахалиться» [5, 187].
Былина «Василий Игнатьев и Батыга» (персонаж
этот, несмотря на свое православное отчество, имеет
реальным прообразом хана Батыя) начинается зловещей
картиной: сама богородица, явившись с Евангелием в
руках на стене, опоясавшей Киев, предрекает гибель
стольному граду:
Не душа та красна девица гуляла по стене,
А ходила та Мать Пресвята Богородица,
А плакала стена мать городовая
По той ли по вере христианския, —«
Будет над Киевом град погибелье:
Подымается Батыга сын Сергеевич..*
Насмерть перепуганный князь Владимир находит
загулявшего богатыря Василия сына Игнатьевича..,
22
И заскочил-то Василий на стенку городовую,
И натягивает Василий свой тугой лук,
И накладывает Василий калену стрелу,
И стреляет Василий ко Батыге во шатер]
И убил три головки, кои лучшенькия...
А потом, притворившись изменником-перебежчиком,
явился Василий во вражеский стан и предложил
Батыге «пособить взять главен Киев град»..,
На те речи Батыга обнадеялся,
Давал ему силы сорок тысячей.
И отъехал Василий прочь от Киева,
И прибил-пригубил всех до единого...
Не оставил Батыге на семена [5, 178—180].
Чрезвычайно примечательна эта былина —
легендарное повествование о том, как сама божья матерь
предрекла гибель Киеву, а непутевый и, прямо скажем,
далеко не безгрешный русский богатырь Василий
Игнатьев мужеством, ратным искусством и воинской
хитростью превратил это предсказание в пустой звук.
* * *
С пагубным для былин влиянием православной
религиозности первые собиратели былии сталкивались
чуть ли ни на каждом шагу в их странствиях по
просторам Олонецкой, Архангельской и других губерний.
Исполнение былин казалось грехом многим
сказителям, и фольклористы, пустив в ход все свое
красноречие, тратили массу времени на то, чтобы успокоить их,
разуверить их в этом. С этим препятствием столнулся
еще П. Н. Рыбников, который позднее вспоминал о
том, как прославленный сказитель Рябинин поначалу
отказался петь былины: «Негоже нонь сказывать
мирские песни, ноне пост...» [12—1, ЬХХУ1].
Подобное идейное противодействие приходилось
постоянно преодолевать и А. Д. Григорьеву в его работе
в селах и деревнях Архангельской губернии. Например,
в деревне Шотова гЪра еще совсем не старая
крестьянка Онисья Ермолина сбежала от фольклориста в лес,
как от дьявола-искусителя, и долго не возвращалась
оттуда. Когда же А. Д. Григорьев пришел к ней
вторично, она не пустила его за порог... «Но во мне приняли
большое участие ее соседки, — рассказывал позднее
собиратель о своих злоключениях, — ввели меня к ней в
избу, и нам соединенными усилиями, при поддержке
23
пришедшего мужа, удалось убедить ее, что я не
антихрист, и заставить спеть свою старину» [1, 505].
Но если происшествие с Онисьей Ермолиной
завершилось все-таки благополучно и тетрадь собирателя
обогатилась еще одной былиной, то в других деревнях
благочестивый страх, испытываемый крестьянами,
знавшими былины, заставлял их молчать, несмотря на все
уговоры. Так было, например, в деревне Сульца, где
крестьянин но имени Иов, любивший ходить по «святым
местам», заявил фольклористу, «что петь ему при его
паломничестве неприлично» [1, 616]. Так было в той же
Шотовой горе, где в избе крестьянина Дмитрия Вехоре-
ва, сознавшегося было в знании былин, на А. Д.
Григорьева налетела вдруг какая-то старуха. Собиратель
писал потом не без юмора: старуха «перекрестила меня
и прочла надо мной воскресную молитву... предполагая,
вероятно, что я, как идущий от дьявола антихрист,
растаю, как воск» [1, 501]. Вехорев так ни одной 'былины
не спел.
Описывая свои трехлетние странствия по
Архангельскому Северу А. Д. Григорьев не мог удержаться от
грустных воспоминаний о том, сколько былин не
допустила в его тетради православная религиозность...
«Некоторые старухи, — читаем мы, например, в самом
начале его заметок, — кроме одного какого-нибудь
духовного стиха, не хотели больше ничего петь, так как это
не идет к их положению, в котором они должны
сокрушаться о своих грехах и молиться, а не петь» [1; 10,
11].
Надо заметить, что в этом смысле старообрядчество
ничем не отличалось от официального православия, и
П. Н. Рыбников прямо говорил об этом: «К мирским
песням ревностные староверы большею частию
относятся с тем же настроением, которое вызвало в аскетах
Древней Руси такого рода запрещение: «песней
сатанинских ни пети и мирских людей не соблажняти» [12—
1, ЬХУ1].
Но губительное воздействие религиозности
проявлялось не только в этом. «Духовные стихи» нередко
просто вытесняли из памяти сказителей былины по той
простой причине, что пением этих «стихов» можно было
прокормиться на ярмарках, у церквей в дни
престольных праздников. А. Ф. Гильфердинг рассказывал,
например, о своей «встрече с пятидесятилетним крестьянин
24
ном Иваном Фепоновым, который, зная наряду с
«духовными стихами» и несколько былин, смотрит на них
«как на нечто второстепенное».
Вообще увлечение религиозной премудростью,
усиленное чтение церковных книг, споры на богословские
темы — все это неотвратимо приводило к быстрому
вытравливанию былин из памяти. А. Д. Гильфердинг
приводит не один пример в подтверждение этому. Иван
Касьянов из села Космозеро «в прежнее время знал
былин весьма много, но потом бросил их петь,
предавшись страстно чтению церковных книг...» [И—2, 536].
Иван Кропачев из деревни Мамоново «позабыл многое
из того, что прежде знал от отца, особенно с тех пор,
как научился грамоте от тетки-монастырки... и
предался чтению церковных книг» [11—3, 340].
* * *
Былинный эпос оказал огромное влияние на русскую
культуру — поэзию, живопись, музыку. Былинного Свя-
тогора встречаем мы на страницах поэмы Н. А.
Некрасова «Кому на Руси жить хорошо», и повести
Глеба Успенского «Власть земли». Несколько прекрасных
баллад посвятил А. К. Толстой Илье Муромцу и
другим богатырям. Основой для создания оперы Н. А. Рим-
ского-Корсакова «Садко» послужила былина,
записанная П. Н. Рыбниковым от олонецкого сказителя
Сорокина; и в этой опере звучит чудесная песня, слова
которой взяты из былины о Соловье Будимировиче, —
гимн красоте и величию русской земли:
Высота ли, высота поднебесная,
Глубота, глубота окиян-море;
Широко раздолье по всей земле,
Глубоки омуты Днепровские [5, 267].
Былины ожили на полотнах Сурикова и Васнецова
и уже в наше время всеми цветами радуги вспыхнули
на киноэкранах.
БРИЛЛИАНТОВАЯ РОССЫПЬ ПОСЛОВИЦ
«Тысячелетиями накапливаются и вечно живут в ело-»,
ве несметные сокровища человеческой мысли и опыта*
И, может быть, ни в одной из форм языкового тЪорче-
25
ства народа с такой силой и так многогранно не
проявляется его ум, так кристаллически не отлагается его
национальная история, общественный строй, быт,
мировоззрение, как в пословицах» [7, III].
Такими глубоко верными словами начинает Михаил
Шолохов краткое вступление к фундаментальному
сборнику «Пословицы русского народа», составленному
В. И. Далем свыше ста лет назад и переизданному в
1957 году.
Действительно, пословица представляет собой
удивительный жанр народного устного поэтического
творчества, наилучшим образом приспособленный для
существования в стихии живой речи, без опоры на письменное
слово. Шедевры этого жанра, бриллиантами
рассыпанные по страницам пословичных сборников,
воспринимаешь как мудрые книги, каким-то непостижимым
способом — без ущерба и для содержания, и для
впечатления, производимого на нас, — сжатые до размеров
одной-единственной фразы. Но какой фразы!..
Отточенная афористичность, филигранное синтаксическое
изящество, точная метафоричность, юмор и сарказм — все
эти блистательные стилистические достоинства
позволяют пословице неизгладимым оттиском оставаться в
человеческой памяти и напоминать о себе всякий раз,
когда разговоры или раздумья хотя бы отдаленно
касаются ее смысла. Мы вспоминаем ту или иную
пословицу не только потому, что хотим подкрепить ею (а
нередко и выразить ее словами) собственные мысли и
наблюдения, выводы и характеристики, но потому, что и
само произнесение пословицы — вслух или про себя —
неизменно доставляет нам истинное эстетическое
наслаждение. Можно ли удивляться в свете всего этого
поразительной «живучести» пословиц и поговорок в
народном речевом обиходе!.. «Как на крыльях, они
перелетают из века в век, от одного поколения к другому, —
пишет М. А. Шолохов в том же вступительном слове, —
и не видна та безграничная даль, куда устремляет свой
полет эта крылатая мудрость...» [7, III].
Продолжая эту аллегорию, можно сказать, что
«крылатая мудрость», подобно неисчислимой стае
перелетных птиц, пролетев сквозь несколько столетий,
опустилась на страницы сборника, составленного В. И. Далем,
дав нам возможность спокойно и пристально
рассмотреть и изучить их»
26
+ 4* Ф
Владимир Иванович Даль был человеком глубоко
противоречивым.
С одной стороны, великолепное, можно сказать,
энциклопедическое знание народного бытия со всеми его
повседневными трудами и заботами, тяготами и
страданиями, проникновенное знание дум и чаяний русского
крестьянина и мастерового — ив его исконной одежде,
и в солдатской шинели и матросской блузе. И не
только знание, но и самозабвенная любовь и искреннее
сочувствие.
А с другой — непоколебимый верноподданнический
консерватизм политических воззрений, резко
отрицательное, враждебное отношение к любым проявлениям
народного протеста, бунта, к любым попыткам
революционного преобразования российской действительности.
С одной стороны, уникальное знание народного
мировоззрения, запечатленного в десятках тысяч
пословиц и поговорок, которые он собирал и изучал всю
жизнь, — мировоззрения, пронизанного здравым
смыслом, трезвым, насмешливым отношением к религиозной
вере, церковной службе и духовенству.
А с другой — религиозность, которая с годами все
более нарастала и усиливалась, доходя до крайних
пределов. Протестант по происхождению, В. И. Даль
перешел в православие за год до смерти, осенью 1871 года*
Уже первые биографы В. И. Даля отмечали, что в
характере его было что-то мистическое (что, видимо, в
немалой степени объяснялось духовной атмосферой под
родительским кровом: отец будущего лексикографа
имел высшее теологическое образование). С особой
тщательностью собирал В. И. Даль всевозможные суеверия,
бытовавшие в среде русского крестьянства; часами мог
беседовать «на божественные темы», обличать
«заблуждения» старообрядческого раскола... Мало кто знает о
том, что из-под его пера вышло несколько богословских
сочинений. «Бытописание» — переложение Моисеева
Пятикнижия «применительно к понятиям русского
простолюдина». Вслед за Пятикнижием Даль решил таким
же образом обработать Евангелие и переписал на свой
лад 13-ю главу Евангелия от Магфея. Благочестивые
опыты эти, однако, так и не увидели света, сильно
смутив рясоносных цензоров и необычностью замысла, и
«вольностью» изложения на «мужицком» языке.
27
Любопытное свидетельство оставил Тарас
Шевченко, который встретился с В. И. Далем в Нижнем
Новгороде.
«...мы с В. И. между разговором коснулись как-то
нечаянно псалмов Давида и вообще Библии, —
сообщал он в одном из писем. — Заметив, что я
неравнодушен к библейской поэзии, В. И. спросил у меня,
читал ли я Апокалипсис. Я сказал, что читал, но, увы,
ничего не понял; он принялся объяснять смысл и поэзию
этой боговдохновенной галиматьи. И в заключение
предложил мне прочитать собственный перевод Откровения
с толкованием...» [4, 312—313]. За перевод
Апокалипсиса В. И. Даль засел еще в начале пятидесятых годов,
вооружившись толкованиями известного шведского ми-
стика-«духовидца» Эммануила Сведенборга, автора
широко известных в свое время трудов «Небесные тайны»,
«О небе, аде и мире духов».
И вот трудами человека- с такими взглядами — и
политическими, и, что для нас особенно интересно,
религиозными — и был собран, систематизирован и издан
богатейший сборник «Пословицы русского народа».
Отразилось ли это обстоятельство на содержании
сборника, на отборе текстов?.. Разумеется, не могло не
отразиться, но, к счастью, отнюдь не в той мере,
которую можно было бы ожидать. Религиозным взглядам
В. И. Даля, его почти экзальтированной набожности
упорно и успешно противостояла его огромная научная
добросовестность.
На титульном листе первого издания «Пословиц
русского народа», отпечатанного в 1861 году в
Московской университетской типографии, стоял
многозначительный • эпиграф: «Пословица неподсудна». Истинный
ученый, В. И. Даль не мог отбирать пословицы по
своему вкусу, отсеивая все «недостойное» или
«неприличное». Высший долг исследователя — дать полную
картину изучаемого предмета, а уж потом можно судигь-
рядить. Образно гворя, не букет или венок, а гербарий,
по возможности наиболее полный, с самыми, казалось
бы, «худыми травами». «Самое кощунство, если бы оно
где1 и встретилось в народных поговорках, не должно
пугать нас: мы собираем и читаем пословицы не для
одной только забавы и не как наставления
нравственные, а для изучения и розыска; посему мы и хотим
28
знать все, что есть», — подчеркивал он в «Напутном» —■
собственном предисловии к сборнику [3, 7].
«Знать все, что есть» — этому правилу он и
старался следовать в своем труде... Можно с полным на то
правом сказать — богатырском труде! Из более чем
30 тысяч пословиц, поговорок, прибауток, загадок,
примет, включенных в сборник, лишь около одной пятой
взято было из опубликованных прежде собраний, а
четыре пятых — около 24 тысяч текстов было записано
В.'И. Далем или передано ему друзьям^ и
добровольными помощниками.
«Богатством материалов, — отмечал еще «Русский
биографический словарь», — сорокасемилетний труд
Даля — «Толковый словарь» превышает все, что когда-
нибудь сделано у нас силами одного человека» [5, 46].
Со времени выхода в свет этого тома минуло уже три
четверти века, но и по сию пору оценка эта не утратила
своей справедливости: научно-литературный подвиг
В. И. Даля, создателя и «Толкового словаря», и
монументального сборника пословиц, никем «у нас» (то есть
в нашей стране) не повторен. Вполне возможно, что и
не только «у нас»...
Откроем этот литературный памятник — сгусток
многовековой народной мудрости...
Если предположить, что какие-то пословицы и
поговорки могли быть отсеяны составителем как уж
слишком «кощунственные», то уж нет сомнений в том, что
ни одна пословица, ни одно изречение, ни одна пропись
религиозного содержания человеком с такими
убеждениями, как у В. И. Даля, не были забракованы и что,
наоборот, они вынесены на почетные места, в начало
сборника и в начало того или иного тематического раздела.
Образно говоря, В. И. Даль разместил эти пословицы
и изречения в первых рядах гигантского зала на 30 с
лишним тысяч мест.
Составитель сборника, таким образом, сильно
облегчил наши исследования. По его воле пословицы
религиозного характера всплыли на поверхность тысячестра-
ничного тома...
Как же тонок этот поверхностный слой!.. Даже и не
слой, а пленка на глади необозримого и глубокого
озера... Количество изречений, наставлений, предписаний
религиозного содержания исчезающе мало. Таков первый
вывод, со всей очевидностью и непреложностью выте-
29
кающий из анализа «Пословиц русского народа»,
собранных В. И. Далем.
Второе, что тоже сразу обращает на себя
внимание, — блеклость, бесцветность этих прописей —
знаменательный факт, красноречиво свидетельствующий и
об их происхождении. Эта блеклость, эта бесцветность
контрастно видны на фоне ярких, звучных, образных
«небожественных» пословиц. Приведу несколько
примеров... «Разум — душе во спасение, богу на славу» —
это постное поучение открывает раздел «Ум —
глупость». Четыре подобных пословицы, и благочестие
исчерпано; далее идут уже совсем иные тексты: «Задним
умом дела не поправишь». Не удержался за гриву, а за
хвост не удержишься». «Борода с ворота, а ума с при-
калиток нет». «У него из голубятни все голуби
улетели»... Первая строка под рубрикой «Жизнь — смерть»:
«Жив бог, жива душа моя»... Строка 92-я: «Люди мрут,
нам дорогу трут. Передний заднему — мост на
погост»... Раздел «Народ — мир» начинается традиционно
постным поучением: «Что мир порядил, то бог
рассудил». А далее сборник говорит совсем иным языком:
«В народе, что в туче: в грозу все наружу выйдет». Не
пословица, а микроскопический литературный шедевр,
блистательное стихотворение в прозе (вернее всего лишь
в одной прозаической строчке), исполненное
глубочайшего исторического смысла!
И наконец, еще одно наблюдение, еще один вывод.
Пословицы религиозного содержания выглядят
инородным телом в сборнике, вступая в непримиримое
противоречие с основной массой пословиц.
Сборник открывает рубрика «Бог—вера»...
«Пораньше просыпайся, да за бога хватайся! — читаем мы на
одной из первых страниц. — С верой нигде не
пропадешь Без бога ни до порога. С бога начинай и
господом кончай!»
И тут же: «На бога надейся, а сам не плошай! Бог
богом, а люди людьми Плачься богу, а слезы — вода».
Да что говорить о противоречиях между
православным назиданием и жизненной мудростью русского
народа, если концы с концами не сходятся даже в кругу
пословиц религиозного содержания!.. «Глас народа —
глас божий», — такая общеизвестная, заимствованная
из церковного обихода, пропись вынесена в начало
раздела «Народ—мир». А*заканчивается раздел тоже «гла-
30
•сом народа», но уже в совершенно ином контексте*
«Глас народа Христа предал (распял)».
В. И. Даль не мог не заметить этих режущих глаз
противоречий и стремился как-то сгладить, смягчить
разительное безбожие некоторых русских пословиц,
пытаясь перетолковать их в более выгодном, с точки
зрения официальной идеологии, свете. «Если мужик
скажет, — писал он, например, в «Напутном», — «Что тому
богу молиться, который не милует»; или: «Просил
святого; пришло до слова просить клятого», — то и в этом
нет кощунства, потому что здесь богами и святыми, для
усиления понятия, названы люди, поставленные ради
святой, божеской правды, по творящие противное,
заставляя обиженного и угнетенного искать защиты
также путем неправды и подкупа» [3, 7—8]. С таким
выводом можно согласиться. Это не кощунственная
усмешка, а глубокий мировоззренческий вывод,
сделанный на основании бесчисленного множества примеров,
подтверждающих тщетность упований на милость бо-
жию и заступничество и помощь со стороны его
угодников. Ну а что касается того факта, что православная
церковь кишела, говоря словами Даля, «людьми,
поставленными ради святой, божеской правды, но
творящими противное», то и с этим мы тоже полностью
согласны, и факт этот, запечатленный бессчетным
множеством антиклерикальных пословиц и поговорок, в
значительной мере содействовал вызреванию
антирелигиозных воззрений в народном сознании.
Убийственную насмешку над духовным сословием,
презрение к попам да попадьям — вот что то и дело
встречаем мы на страницах сборника. Русские
пословицы беспощадно клеймят православное духовенство за
все пороки.
За алчность... «Без денег в церковь ходить грех.
Каковы деньги, таков и молебен. Родись, крестись, женись,
умирай — за все денежки подай! И роди — плати, и
хорони — плати! Поп ждет покойника богатого, а судья
тягуна тороватого. Судейский карман — что поповское
брюхо. Попу, что сноп, что стог — все одно (все мало).
На поповские глаза не неямишься добра».
За скупость... «Житье — хуже поповской собаки».
За невежество... «Уела попа грамотка. Городское
теля мудрее деревенского пономаря. Книга-то, книга —»
слова-то, слова! Ну-ка, пономарь, унеси ее в алтарь.
ЗГ
Умен, как поп Семен: книги продал, да карты купил».
За глупость... «Поп попа, дурак дурака и знают.
Попа да дурака — в передний угол сажают. Смелого
ищи в тюрьме, глупого в попах!» (Последняя
пословица имеет уже социальную подоплеку: из людей смелых,
благородных, умных выходят заступники народные, а
им — прямая дорога в царский острог).
Вообще поп да дьякон были, наверное, самыми
презираемыми на селе людьми, и народная молва с ними
совершенно не церемонилась. «Дивная вещь —
Девятинского попа по плеши ударить. Паки и паки — съели
попа собаки. Из попов да в дьяконы; из кобыл да в
клячи. Сидеть попу на погосте, когда не позовут в
гости. Спекли про попа, а съел кто попал».
В глазах русского крестьянина духовное сословие
было особой кастой, в которой все друг за дружку
держались и в обиду себя не давали... «Волк волком не
травится, поп попом не судится».
Пословицы деревенскими батюшками, естественно,
не ограничивались, а добирались и до духовных особ
повыше. До соборных протоиереев. «И у соборных попов
не без клопов»... До насельников «святых обителей»
вместе с их высоким начальством. «Игумен за чарку,
чернецы за ковши. В лесу и медведь архимандрит»...
И даже — до самых архипастырей! «Не зарекайся
красть: нужда лиха. Голодный, и архиерей украдет».
«Я не архиерейский зять, с меня нечего взять».
Полное равнодушие к богослужениям и обрядам и
убежденность в их никчемности... «И молебен пет,- да
пользы нет. Нужно, как мертвому кадило. Что
мертвому ладан... Голодному да заботному долга обедня.
Либо к обедне ходить, либо обрядню (то есть
хозяйство) водить. Не до обедни, коли много обредни (то есть
хлопот по хозяйству)».
Разудалые и соленые шутки да прибаутки
скоморохов, о которых еще пойдет речь в этой брошюре,
доносятся до нас со страниц сборника, составленного
В. И. Далем. «Зачал говеть, да стало брюхо болеть.
Поп в колокол, а мы за ковш. Хоть церковь и близко,
да ходить склизко; а кабак даленько, да хожу поти-
хонько. Пойдем в церковь! — Грязно. — Ну так в
шинок! — Разве уж под тыном пройти?..» Простолюдин-
острослов запросто каламбурил на «священной»
терминологии. «Праведник» и «угодник» — понятия сииэ*
32
нимичные: оба означают принадлежность к сонму
святых. А вот пословица: «Не нужны нам праведники, а
нужны угодники», то есть подхалимы, блюдолизы,
холопы.
Имена высочайших обитателей «христианского
Олимпа» — самого господа-бога, Христа, божьей матери —
мелькают в пословицах и поговорках, в которых
немыслимо обнаружить и следов набожности,
благоговейного трепета и тому подобных настроений и чувств...
«Бог создал человека и создал тальник и березняк, (для
его порки, разумеется. — А. Я/.). Сказал бы богу
правду, да черта боюсь. Нешто я у бога теленка украл, что
меня все обходят?.. Благодарю Христа, борода не
пуста; хоть три волоска, да растопырившись... Пресвятая
богородица, пошто рыба не ловится? — Либо невод худ,
либо нет ее тут».
Было бы серьезной ошибкой полагать, что
антирелигиозный пафос русских пословиц был ограничен лишь
насмешливым, презрительным отношением к
православному духовенству. Конечно, нет. Критика уходила
вглубь — в область религиозного мировоззрения, не
обходя «святая святых» его.
Под огонь попадали наиболее почитаемые
православные святые, например Симеон-столпник. «Годится
под святого Симеона-столпника», — говорили про
дурака.
Ад отнюдь не вселял праведный ужас в мужицкие
сердца, а, напротив, служил темой остроумных шуток
и присловий... «Знать, будем мы и на том свете на бар
служить: они будут в котле кипеть, а мы дрова под-
кладывать. И в аду хорошо заступничество: ину пору
хоть кочергой, вместо вил, посадят, все легче».
Пословицы бросают открытый вызов даже таким
краеугольным догматам христианства, как учение о
грехе и «таинство брака». Догмат о «первородном грехе» —
прирожденной и вечной порочности человеческой
натуры пословицы высмеивают и отбрасывают. «Во грехах,
да на ногах. Грешны, грешны, а щи лакаем. Не грешит,
кто гниет (кто в земле лежит)»... Поставлен под
сомнение церковный брак, зачастую слепой в своем выборе
и тем не менее нерасторжимый, — тот «освященный»
венчанием брак, по вине которого было столько
трагедий, столько горя, столько слез, брак, загубивший в
общей сложности жизней (главным образом женских),
33
наверное, больше, чем иная война или эпидемия...
«Крестом любви не свяжешь. Поп руки свяжет, голову
свяжет, а сердца не свяжет».
Бог — не источник добра и не щит, обороняющий
людское счастье... «Всего горя не переплачешь: даст
бог, еще много впереди»... Обратите внимание, сколько
горькой и злой иронии в этом привычном «даст бог»,
упомянутом в таком контексте!
Бог бессилен преобразить человеческий мир, сделать
злых и преступных — добрыми и честными, даже если
они верят в него и молятся ему. «Добрый вор без
молитвы не украдет. Помилуй, господи! а за поясом
кистень»... Бог бессилен очистить людскую жизнь от
кривды и бед. «Солнце сияет и на благие и злые». «Аминем
лихого не избудешь». «Деньга попа купит и бога
обманет»...
«Не годится богу молиться, годится горшки
покрывать»... Пословица эта прозвучала на всю
просвещенную Россию еще до опубликования сборника Даля — в
легендарно-знаменитом письме В. Г. Белинского к Н. В,
Гоголю.
«По-вашему, — обращался «Неистовый Виссарион»
к великому русскому писателю, погибавшему в трясине
православного мракобесия и ханжества, — русский
народ самый религиозный в мире: ложь! Основа
религиозности есть пиэтизм, благоговение, страх божий. А
русский человек произносит имя божие, почесывая себе
задницу. Он говорит об образе: годиться — молиться, а
не годиться — горшки покрывать.
Приглядитесь попристальнее, и вы увидите, что это
по натуре глубоко атеистический народ. В нем еще
много суеверия, но нет и следа религиозности...
Мистическая экзальтация не в его натуре; у него слишком
много для этого здравого смысла, ясности и
положительности в уме...» [1, 516].
Слова эти были написаны за полтора десятилетия
до выхода в свет «Пословиц русского народа», но они
могли бы быть поставлены на титульном листе этого
сборника в качестве одного из эпиграфов.
«...Неужели же в самом деле вы не знаете, —
восклицал В. Г. Белинский, — что наше духовенство
находится во всеобщем презрении у русского общества и
русского народа? Про кого русский народ рассказывает
похабную сказку? Про попа, попадью, попову дочку и
34
поповз работника. Кого русский народ называет: дурья
порода, брюхаты жеребцы? Попов... Не есть ли поп на
Руси для всех русских представитель обжорства,
скупости, низкопоклонничества, бесстыдства?..» [1, 516].
В. Г. Белинский, конечно, был знаком с
сокровищницей русских пословиц несравненно меньше, чем В. И.
Даль, но он, а не составитель сборника, дал им
совершенно верную оценку — один из примеров гениальной
проницательности.
Проницательности, которая присуща была и А. И.
Герцену... Два года спустя после того, как из-под пера
В. Г. Белинского вышло письмо к Н. В. Гоголю, он
опубликовал статью под заголовком «Россия»,
некоторые строки которой невольно воспринимаешь как
фрагмент из совершенно верного отзыва на «Пословицы
русского народа».
«Русский крестьянин суеверен, но равнодушен к
религии... Священников он презирает как тунеядцев, как
людей алчных, живущих на его счет... Множество
пословиц свидетельствует о безразличии русских к
религии...» [2, 211].
* * *
Огромный сборник разбит составителем на 175
глав — 175 смысловых, тематических рубрик. В такой
организации пословичного материала проявляется в
высшей степени примечательная, интересная и, быть
может, даже загадочная его особенность: пословицы,
возникшие в разных краях гигантской страны, в разные
времена, в различной социальной и профессиональной
среде, кажутся фразами единого текста, дополняют
одна другую, выстраиваются в логическую цепь,
последовательно развивая, со множеством нюансов, основную
мысль. Читая сборник, то и дело ловишь себя на
мысли о том, что перед тобой раскрыта Книга мудрости,
которую когда-то, давным-давно, рассыпали по фразам
на необозримых российских пространствах, а потом
подвижнически упорный литератор по фамилии Даль
предпринял попытку собрать рассыпанные фразы и хотя
бы в какой-то мере восстановить изначальный текст.
«Пословицы русского народа» — действительно,
Книга мудрости. И хотя по фразам ее сочиняли тысячи
людей, живших в течение нескольких веков на тысяче-
35
верстных просторах России, она представляет собою
афористичное и образное изложение глубокого,
многогранного, целостного мировоззрения. Оно-то и является
тем идейным основанием, которое в конечном счете
определило и критическое отношение к православной
вере и православной церкви.
Подобно венку из полевых цветов, из русских
пословиц можно сплести волнующий гимн человеку,
составить поэтический манифест гуманизма... Человек —
истинный центр и наивысшая ценность мира, а не «раб
божий», не сосуд, со дня появления своего на белом
свете наполненный иепромываемой нравственной скверной.
«Рыбам — вода, птицам — воздух, а человеку —
вся земля».
Нет, не «блаженны нищие духом»!.. Высшее
человеческое достоинство—разум, критически воспринимающий
реальности жизни, весь окружающий человека мир.
И как бы ни старались помешать разуму, в конце
концов он свое возьмет!.. «Ума городьбой не обгородишь».
Можно добавить: и городьбой вокруг приходского
храма.
Разум, выступающий беспощадным судьей
устремлений и поступков того, кто им обладает, становится
совестью... Мы соприкасаемся здесь с проблемой
острейшей злободневности и колоссальной важности в
великом споре между научным атеизмом и христианским
мировоззрением. В чем надежная гарантия
человеческой нравственности, что может быть верной защитой
от скотства и хищничества? «Если бога нет, то все
дозволено» — этот, по мнению апологетов христианства,
убийственно-неотразимый довод повторяется ими всуе,
на всех перекрестках.
Книга вековой народной мудрости дает ответ: «Сам
от себя не утаишь, сам себя и обличишь. С совестью
не разминуться. Душа не сосед, не обойдешь. Совесть
без зубов, а загрызет. Злая совесть стоит палача».
Христианство превозносит неотвратимый исход
индивидуального человеческого бытия, взирая на земное
существование как на некую промежуточную полосу,
как на проходной двор между рождением и «жизнью
вечной», и выспренно объявляя смерть истинным «днем
рождения». Да, так и сказано было в одном из «слов»
(проповедей с амвона) известного «златоуста»
современной русской православной церкви митрополита Ни-
36
колая. «Слово» это было опубликовано на страницах
«Журнала Московской патриархии» (№ 1, 1957, с. 33)
под заголовком «День рождения»... У каждого
верующего в бога человека, утверждал митрополит, три дня
рождения. Первый день рождения — день, когда
смертный появится на свет из чрева материнского. Второй
день рождения — день крещения. И наконец, третий
день рождения — день смерти. «Ведь для православного
христианина, — вещал красноречивый владыка, —
умереть — значит родиться для новой, вечной жизни. Еще
в первых веках христианства день кончины святых
мучеников назывался днем рождения...»
Можно с полным ручательством сказать, что в
тридцатитысячном собрании русских пословиц,
составленном Владимиром Далем, новейший православный бот-
слов не нашел бы ни единой строки в подкрепление
своим, по сути, чудовищным рассуждениям. Там в
изобилии совсем иные утверждения!.. «Жить весело, и
помирать не с чего. Вот жизнь: и помирать не надо.
Жизнь не надокучит. Кому жизнь надокучила? Живой
в могилу не ляжет. Живому нет могилы. Никогда
живого не считай мертвым!»
И жизнелюбие это, разумеется, отнюдь не было
жизнелюбием наивным, поверхностным, слепым и глухим
по отношению ко всей сложности человеческой жизни,
ко всем ее горестям, противоречиям... Да, жизнь
коротка, и к тому же всевозможные трагические
обстоятельства могут оборвать ее совсем рано, оставив
неосуществленными все замыслы и мечты. «Дума за горами,
а смерть за плечами. Вволю наешься, а вволю не
наживешься. Чего хочешь, того не купишь; чего не надо,
того не продашь», — загадывает загадка, имея в виду
молодость и старость. Да, жизнь далеко не всегда и
далеко не во всем складывается так, как хотелось бы.
И «черновиков» нет: каждый живет сразу «набело», и
ни одной поправки в написанное — увы! — не внесешь.
«Кабы снова на свет народиться, знал бы, как соста-
реться»... И все равно при всем при том, при всех
невзгодах и горестях жизнь — величайшее и неповторимое,
благо, и нужно отстаивать ее до конца! «Жить плохо,
да ведь и умирать не находка. Как жить не тошно, а
умирать тошней». «Горько, горько, а еще бы столько,
(пожить)». По обыкновению своему пословицы и здесь
не обошлись без насмешки по адресу святошеского ли-
37
цемерия: «В рай просятся, а смерти боятся (а сами в
ад лезут)».
Народная мудрость в отличие от христианства смер*
ти не радовалась, не приветствовала ее и не
превозносила, но смотрела на нее с поразительным духовным
мужеством и даже с юмором: «Умирать — не лапти
ковырять: лег под образа да выпучил глаза. Закрыть
глазки, да лечь на салазки».
Краеугольному христианскому догмату —► догмату
о спасительной благотворности несчастий и горя,
немощей, недугов и страданий, в которых надлежит видеть
всемилостивое внимание божие, испытания,
ниспосылаемые им своим избранникам, — народная мудрость
противопоставляет философию жизненной радости.
Жития христианских святых перенасыщены
легендами о подвижниках, ожесточенно и безжалостно
воевавших со своим здоровьем, как со смертельным и
заклятым врагом, изощренно и упорно истязавших и
разрушавших собственное тело, говоря языком
современным — собственный организм. Морили себя голодом,
истязали себя кровососущими насекомыми и
власяницей, изнуряли тело веригами, а психику —
преднамеренной бессонницей и т. д. и т. п. В книге пословиц
читаем: «Здоровье всего дороже. Здоровье дороже
богатства. Больному и мед не вкусен, а здоровый и
камень съест. Здоровому и нездоровое здорово, а
нездоровому и здоровое нездорово».
Эмоциональным добродетелям христианства —
благочестивым «скорбям да воздыханиям», «сокрушению о
грехах своих» и т. п. народное мировоззрение и
мироощущение не оставляют у себя даже закоулка... «От
радости и старики со старухами помолодели... Печаль
человека не красит. Печаль не красит, горе не цветит.
Горе только одного рака красит. Не годы старят, горе.
Горе, что годы: бороздки прокладывает. От печалей
немощи, от немощей смерть. Чем с плачем жить,
лучше с песнями умереть».
Помня о том, что В. И. Даль собирал пословицы в
последние десятилетия крепостничества, что пословицы
эти, прежде чем оказаться на рабочем столе писателя-
этнографа, в подавляющем большинстве своем, прошли
сквозь несколько веков русской истории, наполненных
всевозможными бедствиями и потрясениями («старая
пословица век не сломится»), оптимизму, жизнелюбию,
38
гуманизму русских пословиц нельзя не изумляться.
Убедительнейшее свидетельство несокрушимой и
неистощимой жизнестойкости русского народа!
Но народное жизнелюбие, стремление народа к
жизненным радостям — смертельно опасная угроза для
общественного и государственного строя, основанного на
угнетении, бесправии, нищете народа. Это
мировоззрение, этот жизненный пафос — антиподы мировоззрению
и пафосу христианства, столь полезного по этой
причине такому общественно-политическому строю. Строю,
убийственно-меткие характеристики которого встречаем
мы в сборнике «Пословицы русского народа»: «Кому
жить, а кому гнить. Кому лежа работать, кому стоя
дремать. Убогий мужик и хлеба не ест; богатый — и
мужика съест».
Но «и Мамай правды не съел. Правда светлее
солнца. Взойдет солнце и к нам на двор... Бывали были, и
бояре волком выли».
Русские пословицы в полный голос утверждают
волевое, деятельное, мужественное начало в человеке,
уверенность в собственных силах («Отвага — половина
спасения. Отвага мед пьет и кандалы рвет. Лучше
умирать в поле, чем в бабьем подоле»), в
противоположность религиозным упованиям, надеждам на милость
божью («Богу молись, а к берегу гребись. Говори:
господи, подай, а сам руками хватай»)... Пословицы
призывают к товарищеской взаимовыручке, провозглашают
идеи социальной солидарности, всесокрущающей силы
народных движений... «Дружно — не грузно, а один и
у каши загинет. Как мир вздохнет, и временщик
издохнет»... Согласитесь, что это уже звучит, как
революционная прокламация!.. Прокламация из одной
фразы и не на бумаге.
Можно ли в свете всего этого удивляться тому
факту, что сборник русских пословиц, представленный его
составителем в соответствующие инстанции, был в
штыки встречен ревнителем православия и защитником
«исконных основ» самодержавной России.
Ученый-протоиерей Кочетов, носивший звание академика, на дыбы
встал, когда ему в 1853 году поступили на отзыв
«Пословицы русского народа». «По моему убеждению, —
писал он в рецензии, — труд В. И. Даля есть: 1) труд
огромный, но 2) чуждый отбора и порядка; 3) в нем
есть места, способные оскорбить религиозные чувства
39
читателей...» [6, XXIII]. Разумеется, таких читателей^
как сам высокомудрый и благочестивый рецензент... Ко«
четов так и пылал праведным гневом; он уличал Даля
в намерении «дать печатный авторитет памятникам
народной глупости» [5, 46], в том, что в сборнике назида-
ние перемешано с развращением, вера с лжеверием,
мудрость с глупостью... Мало ли что можно услышать
и записать в гуще народа! «Народ глуп и болтает вся*
кий вздор» [6, XXIV].
Православные мракобесы на целых восемь лет
задержали выход в свет «Пословиц русского народа».
Даль был в отчаянии: подвижнический труд 35 лет был
положен под сукно. «Остается положить его на костер
и предать всесожжению», — воскликнул он в
письменном ответе на выпады со стороны «академика» —
протоиерея.
«Пословицы русского народа» увидели свет 10 лет
спустя — в эпоху общественного подъема, пережитого
Россией после смерти Николая I.
«СКОМОРОХ ПОПУ НЕ ТОВАРИЩ»
Этой пословице посчастливилось: она блеснула в
сочных и разудалых речах одного из персонажей
пушкинского «Бориса Годунова». Помните?.. Сцена в
корчме на, Литовской границе. Бродячий инок Варлаам
сильно обижен на случайного спутника — переодетого
мирянином Григория Отрепьева — за та, что тот
сторонится хмельного застолья. «Хочешь жить как мы,
милости1 просим, — говорит он Григорию, — нет, так
убирайся1, проваливай: скоморох попу не товарищ» [16,
333].
Старинная пословица эта запечатлела память об
одной характерной грани народного быта —
скоморошестве и о многовековом противоборстве между древней-1
шим народным искусством и православной церковью,
поддерживаемой государственной властью.
Непримиримом противоборстве, которое завершилось в середине
XVII века инквизиторски беспощадным разгромом ско*
морошества.
* * *
Что же представляло собой скоморошество, каковы
истоки его?
40
Происхождение слова «скоморох» до сих пор
окончательно не выявлено и не объяснено. Советский
исследователь истории искусства скоморохов А. А. Белкин,
автор наиболее полного труда, посвященного этим про*
блемам, насчитал не менее двух десятков
этимологических гипотез, упомянув о некоторых из них на
страницах своей книги [см.: 5, 25—27]. Историческими
предшественниками русских скоморохов считали и скома-
ров — воинственный кочевой народ, обитавший на при-
дунайских землях в V веке н. э., и арабских шутов-
паяцев, называемых «мисхара», и греческих
потешников, именуемых «скоммархос», и потешников
французских и итальянских, именуемых соответственно «скара-
муш» и «скарамучча». Один из дореволюционных
русских историков высказал предположение, согласно
которому слово «скоморох» напоминает об одном из
наиболее популярных среди зрителей жанров
скоморошьего искусства — комических сценах в звериных шкурах
и является искажением исконного наименования «ско-
ромох», что означало «ряженый зверем человек»
(скора — значит шкура).
Корни скоморошества уходят в доисторическую
древность, к славянским племенам V—VI веков н. э. или
даже еще глубже, к праславянским племенам,
жившим в I тысячелетии до н. э., и тянутся к участникам
языческих празднеств и ритуалов. С течением времени
ритуальный смысл все более и более отходил на второй
план, а на первый выступало искусство, несущее людям
веселые развлечения и радость.
Искусство скоморохов... Если спросить историков-
искусствоведов, изучающих все существующие ныне
разновидности сценического искусства: эстраду и цирк,
театр драматический и кукольный, кто стоит в самом
начале, то все они обернутся в одну сторону и покажут
на скомороха. Скоморошеское искусство отличает
поразительная синтетичность, органическое слияние
самых разных жанров. Его нельзя отделить и от других
проявлений народного творчества: в репертуаре
скоморохов были и былины, и песни, и сказки, и мы во
многом обязаны им тем, что бесценные сокровища эти
дошли до нас, а не затерялись во тьме минувших веков,
прежде всего самых мрачных из них — эпохи монголо-
татарского нашествия и золотоордынского владычества.
Память скоморохов оказывалась нередко надежнее кни-
41
тохранилищ в монастырях и соборах, в которых, вместе
с этими обителями и храмами сгорели неисчислимые и
бесценные творения древнерусской словесности
(достаточно вспомнить хотя бы «Тохтамышев погром»,
испепеливший Москву в августе 1382 года). «Но не
уничтожена была, — пишет А. А. Белкин, — деятельность
скоморохов, хранивших образцы и дух устного
народного творчества всех жанров» [5, 165].
Другая характерная особенность этого искусства —
артистический профессионализм, предоставлявший
одаренным людям из простонародья развивать,
реализовать свои таланты, использовать их как источник
существования. Особенность эта нашла отражение в
старинных пословицах: «Не учи плясать, я сам скоморох. Всяк
спляшет, да не как скоморох»... Последнюю пословицу,
кстати сказать, М. В. Ломоносов воспроизвел в своей
грамматике.
Артистическая профессионализация привела к
расслоению скоморохов на три основные группы —
оседлых, городских и походных. Первые были, в сущности,
любителями, жили в селах и деревнях и развлекали по
праздникам односельчан и, не в последнюю очередь,
бояр с их домочадцами и челядью. Вторые осели в
крупных, многолюдных городах, позволявших им
искусством добывать, если и не весь, то значительную часть
хлеба насущного. И наконец, третьи, походные,
бродячие скоморохи были уже профессионалами в чистом
виде, и их ватаги-артели можно было бы, наверное,
назвать концертными бригадами русского средневековья,..
Разумеется, профессиональное скоморошество отнюдь
не было тем занятием, которое позволяло наживать
«хоромы каменные». Все пожитки странствующих артистов
составляли, в сущности, музыкальные инструменты и
другой немудреный инвентарь. «Гудок да рожок — все
наше богатство. Скоморох голос на гудке настроит, а
житья своего не устроит. И скоморох в ину пору
плачет», — пословицы, зародившиеся, видимо, среди самих
скоморохов.
Трагедия скоморошества — не только в том, что
православная церковь после многовековой травли и
очернения с амвонов во второй половине XVII века
разгромила его тяжелой десницей государственной власти.
Заключается она также и в том, что проповеди и писания
благочестивых хулителей скоморошеского искусства, его
42
гонителей и погубителей являются источником основных
документальных свидетельств о нем.
«...Можно ли не учитывать, что все эти обвинения
в связях с нечистой силой, признание искусства
скоморохов бесовским, запугивание «порчей» и т. д., —
предупреждает об этом печальном и в определенном
смысле коварном обстоятельстве А. А. Белкин, — выходили,
как правило, из-под пера или из уст христианских
проповедников? Им выгодно было всячески очернить,
опорочить скоморохов, запугать народ. Борьба церкви со
скоморохами велась всевозможными методами, открыто
и замаскированно, откровенным преследованием и
скрытой пропагандой. Более половины всех источников
о скоморохах является отражением этой борьбы [5, 38].
Какими только путями ни доходили обломки
скоморошеского творчества до позднейших собирателей, до
ученых-фольклористов!.. Например, одну из песен явно
скоморошеского склада подарила нам прихоть
скучающей императрицы Анны Иоаниовны, большой
любительницы шутовства. Прослышав о том, что в одной из
деревень, принадлежащих Салтыковым, крестьяне распе*
вают шуточную песню, императрица послала письмо
Семену Андреевичу Салтыкову с повелением: «Оную
песню вели написать всю и пришли к нам немедленно,
послав в ту деревню человека, который оную бы
списать мог».
Монаршая воля, разумеется, была в точности
исполнена...
Как у нас в сельце Поливанове
Боярин, дурак, в решете пиво цедил,
А дворецкий, дурак, в сарафан пиво сливал.
«Возьми, дурак, бочку — больше пива насливаешь».
А поп-от, дурак, косарем сено косил.
«Возьми, дурак, косу — больше сена накосишь».
А пономарь, дурак, на свинье сено возил.
«Возьми, дурак, лошадь — больше сена навозишь».
А попович, дурак, шилом сено подавал.
«Возьми, дурак, вилы — больше сена подашь».
А крестьянин, дурак, косточкой пашню пахал.
«Возьми, дурак, соху — больше пашни напашешь» [12, 1Н].
Что же касается кукольных представлений, здесь
нам большую услугу оказал иностранный гость Адам
Олеарий, который не только рассказал об искусстве
скоморошьего кукольника в своем «Описании
путешествия в Московию» (совершенном в первой половине
XVII века), но и снабдил рассказ рисунком.
43
«Эти комедианты, — сообщал Олеарий, —
завязывают себе вокруг тела одеяло и расправляют его вверх
вокруг себя, изображая таким образом переносный
театр, с которым они могут бегать по улицам и на
котором в то же время могут происходить кукольные игры»
[11,54].
И действительно, на рисунке мы видим странную
фигуру, напоминающую высокий сноп, перетянутый по
середине и стоящий на ногах, обутых в сапоги. Над
верхним краем этого свертка виднеются куклы,
надетые-на ловкие пальцы артиста.
Молва о русском скоморошеском искусстве, кстати
сказать, распространилась далеко за пределы Руси без
содействия Олеария и задолго до его путешествий.
Любопытным подтверждением тому могут послужить
строки из поэмы «Неистовый Роланд» Лудовико Ариосто,
итальянского поэта-гуманиста (1474—1533),
создавшего это монументальное творение в те времена, когда на
Руси царствовал государь Василий III... В XI песне
Ариосто, повествуя о мужественном и невозмутимом
Роланде, окруженном толпой врагов, писал: «Как
медведь, попавший в плен к русскому или литовскому
фокуснику, не тревожится лаем собачонок, которыми он
пренебрегает, так и герой без страха смотрит на этот
жалкий Народ, который он мог бы опрокинуть одним
своим дуйовенпем» [1, 108]. Русский фокусник с
медведем — это, несомненно, скоморох-дрессировщик,
мастер «медвежьей потехи».
* * *
Скомррошеству присущи три наиболее существенные
особенности, в которых проявились и народный
характер, и Мировосприятие и мировоззрение народных масс.
Остановимся на каждой из этих трех важнейших
черт — трех гранях скоморошеского искусства.
Первая грань — художественная, эстетическая: в
скоморошестве, в его древности и безграничной
популярности на Руси, в его живучести проявилась вечная,
как человеческий мир, неистребимая и неутолимая
духовная потребность в искусстве. «Не хлебом единым
будет жить человек»... Если бы церковные хулители
и гонители скоморошеского искусства вдумались
поглубже в это библейское изречение, то они, быть
может, уяснили бы, почему тщетными были все их усилия
44
по искоренению скоморошества из повседневного
народного бытия. Конечно, и многие православные
богослужения обрели со временем характер зрелища,
ритуального спектакля с пением и декламацией, но этой пищей
нельзя было удовлетворить эстетические потребности
даже благочестивых и ревностных прихожан. Люди
тянулись к земному, гуманистическому, полнокровному
искусству, которое для христианского аскетизма было
совершенно неприемлемым. Один из христианских про-»
поведников разразился громами и молниями по адресу
женского танца: «О злое проклятое плясание! О лука*
выя жены многовертимое плясание! Пляшущи бо
жена — любодейница диавола, супруга адова, невеста са-
танина; вси бо любящий плясание бесчестие Иоанну
Предтече творят — со Иродьею негасимый огонь и не-
усыпаяй червь осудить...» Не то что участвовать в
«злом проклятом плясании», но даже краешком глаза
взглянуть на него — грех душегубительный!.. «Не
зрите плясания и иныя бесовских всяких игор злых
прелестных, — заклинает соотечественников своих пылкий
христианский риторист, — да не прельщены будете, зря-
ще и слушающе игор всяких бесовских; таковые суть
нарекутся сатанины любовницы» [3, 345].
Вторая грань — оптимизм, полнокровное и
несокрушимое жизнелюбие. Не случайно слово «веселый»
стало в Древней Руси синонимом слову «скоморох», и не
просто так скоморохов предки нащи величали
«веселыми людьми». В одной из песен пели:
По улицам весёлые похаживают,
Гудки да волынки с собою понашивают,
Помежду собой веселы разговаривают:
— «А где-ка веселым будет спать, ночевать?» [15, 461].
«Скоморошья пляска всегда весела», — гласит
пословица.
Это качество подчеркивали все исследователи
русского скоморошества. П. Морозов называл скоморохов
носителями народного юмора, хранителями
неисчерпаемого запаса веселых рассказов и песен, шуток и
прибауток. А. А. Белкин видит в скоморохах проводников
особого мироощущения народной праздничности.
Смех — вот их истинное божество... «Смех, как и
солнце, прогоняет тьму, отгоняет и рассеивает всякое
зло, — взволнованно и ярко говорил об этом А. Моро-»
зов, исследователь русских фольклорных сокровищ Ев-
45
ропейского Севера нашей страны, касаясь древнейших
представлений о смехе, которому придавали когда-то
ритуальное значение. — Дурные люди не смеются. Не
смеются мертвецы... Смех устраняет опасность,
разрушает чары и злые умыслы, предостерегает от беды»
[13, 218].
Можно добавить, что не смеются не только дурные
люди (они-то еще могут посмеяться — злорадно или
ехидно), не смеются не только мертвецы, но и —
христианские праведники... Можно прочитать бессчетное
множество «житий» и не встретить такого эпизода,
когда православные «святые», которые постоянно
умываются собственными слезами, рассмеялись и тем более
расхохотались. В своем исследовании А. А. Белкин
очень к месту привел любопытную выписку из
сочинений митрополита Даниила, относящуюся к первой
половине XVI века — как раз ко времени расцвета
скоморошества. Вот какими занятиями, по мнению
православного проповедника, надлежит христианину
заполнять досуг в воскресные и праздничные дни:
«Аще хощеши прохладитися, изыди на предверие
Храмины твоея и виждь: небо, солнце, луну, звезды,
облака ови высоци, овиже нижайше, и в сих прохлажай-
Ся, смотря их доброту и прослави тех Творца Христа
Бога... Или аще достало ти есть, изыди на поле сел
твоих и вижь нивы твоя, умножающа плоды ово пше-
йицею, ово ячьмень и прочая, и траву зеленеющуся, и
Цветы красныя, горы же и холми, и удолия, и езера, и
источники, и рекы и сими прохлажайся и прославляй
Бога, иже тебе ради вся сия сотворшаго» [5, 96].
Могли ли подобные наставления выдержать
соперничество с могущественным обаянием народного
празднества, с притягательной силой их бродила, их души —
Скоморошескими представлениями? Конечно, нет! И
поэтому церкви не оставалось ничего иного, как
проклинать, позорить, гнать скоморохов.
Это прекрасно понимали и об этом прямо говорили
еще дореволюционные исследователи на Руси.
«Церковь, в лице своих пастырей и проповедников, — писал,
например, историк русского театра П. Морозов, —
неустанно ратуя против всяких проявлений народного
веселья, против всего, что шло в разрез с ее
аскетическим идеалом, особенно преследовала этих
профессиональных увеселителей,,.» [14, 15].
46
И наконец, третья грань — демократический дух.
Скоморохов отличала боевая, острая и, как мы теперь
говорим, оперативная сатира. Их недаром называют
ходячей, живой газетой русского средневековья: они
собирали — и по пути и по прибытии в новый город, новое
село или посад — все новости и все слухи и быстро
обращали их в «глумы» — соленые шутки и прибаутки,
песенки, летучие сценки. Могла ли церковь терпеть
подобные «глумы», которые били без промаха не только
по властям, но и по ней самой?
Могла ли православная церковь, памятуя
евангельские заповеди и апостольские наставления («Не
судите, да не судимы будете». «Нет власти не от Бога;
существующие же власти от Бога установлены»), терпеть
подобное отношение к богоустановленным властям?
Безусловно нет!.. Ведь с прочностью этих властей
самым непосредственным образом связано было ее
благополучие, ее благоденствие...
Поп. Дьякон-дьякон!
Дьякон. Что, батюшка?
Поп. Поди принеси мне венчальную книгу.
Дьякон. А где она, батюшка?
Поп. В старом алтаре на полке. За тупиконом в опорке.
Дьякон. А помнишь ли, — в кабаке-то пропили?
Поп. Так принеси хоть заупокойную.
Дьякон. А на заупокойную-то опохмелялись!
Поп. Ну, молчи, отваляем и так. Читай акафисты [4, 15].
Сценка из фольклорной драмы «Царь
Максимилиан». Но дело не только в «глумах», подрывающих
престиж светских и духовных властей в глазах
подвластных и пасомых. Для церкви совершенно неприемлема
была сама атмосфера народных празднеств, игрищ,
родственных карнавалам в западноевропейских странах.
Это была атмосфера всеобщего праздничного
равенства, кратковременного, но радостного, веселого
избавления от своего подвластного, приниженного, зависимого
положения в обществе, в государстве. «Главным было
то, — подчеркивает А. А. Белкин, — что на игрищах
человек как бы освобождался от пут, которые
связывали его в повседневной жизни, и становился
свободным, становился самим собой, забывал и царя и бога,
а вместе с ними все то, что с таким завидным
постоянством старались внушить ему в церкви. Именно здесь
надо искать корень непримиримости русской церкви к
игрищам и скоморохам — главным фигурам на игрй-
47
щах, во многом их вдохновителям и организаторам»
[5, 97].
Христианство вступило в непримиримый конфликт
со скоморошеским искусством с первых лет своего
утверждения на Руси, начав многовековую (на первых
порах — лишь словесную, обличительную) войну с
«дьявольскими позорищами» и «бесовскими игрищами».
Участникам «богопротивных» развлечений грозило
наказание: отлучение от причастия наравне с иными
вероотступниками, заподозренными в общении с самим
сатаной.
Хроника благочестивой ненависти и преследований
протянулась через всю историю христианства на Руси...
В 1551 году митрополит Иоасаф писал царю
Ивану IV о скоморохах: «Бога ради, Государь, вели их
извести, кое бы не было в твоем царстве; се тебе,
Государю, великое спасение, аще бесовская игра их цебу-
дет» [6, 90].
Четыре года спустя начальство Троице-Сергиева
монастыря (теперешней Троице-Сергиевой лавры)
направило приговорную грамоту в свои волости. Грамота
строго наказывала, чтобы монастырские крестьяне
скоморохов в селах своих не имели и «прохожих
скоморохов» в волости не допускали, угрожая крестьянам в
случае нарушения предписания крупными штрафами:
«на сте человек взяти пени десять рублев денег». Что
касается самих скоморохов, то их надлежало, «бив да
ограбив, выбити из волости вон» [3, 343].
По распоряжению патриарха Иоасафа в 30-х годах
следующего, XVII столетия в Москве стали вырывать
музыкальные инструменты из рук скоморохов, более
того — принялись рыскать с такой же целью по домам;
пять телег, нагруженных этими инструментами,
вывезли за Москву-реку и сожгли.
Справедливости ради стоит напомнить о том, что в
преследовании скоморохов принял самое деятельное
участие и знаменитый протопоп Аввакум.
Возвратившись по протекции самого Алексея Михайловича в свой
приход, Аввакум буквально с кулаками (если не с
палкой в руках) набросился на зашедшую в эти места
небольшую скоморошью артель. «Прийдоша в село мое
48
плясовые медведи с бубнами и с домрами, —
вспоминал он позднее в «Житии» с чувством смиренной
гордости и глубокого морального удовлетворения, — и я,
грешник, по Христе ревнуя, изгнал их, и хари (маски.—
Л. Ш.) и бубны изломал на поле един у многих и
медведей двух великих отнял, — одново ушиб, и паки
ожил, а другова отпустил в поле» [9, 62].
Было бы, однако, серьезной ошибкой видеть в этой
ненависти, этой вражде, этих гонениях только
религиозное, догматическое неприятие христианской душой
«богомерзкого язычества», «сатанинских прелестей»,
«дьявольского соблазна» и т. п. Нет, главные
побудительные причины следует усматривать в ином. В конце
концов борьба со скоморошеством была лишь одним из
конкретных проявлений постоянной заботы церковных
властей о привлечении людей в храмы, о воспитании
у них большей заинтересованности, говоря языком
церковным, «ревности», в вопросах веры. Иными словами,
как точно отметил один из наших историков, ненависть
попа к скомороху объяснялась прежде всего тем
обстоятельством, что скоморох был опасным его
соперником. Еще в древнем «Поучении о казнях божиих»
подоплека эта была вывернута наружу: «Видим ведь
игрища утоптанные, с такими толпами людей на них, что
они давят друг друга... а церкви стоят пусты» [5, 57]...
Ну а если пуста церковь, то, понятное дело, пуста ее
казна, пусты карманы ее служителей.
Гонения на скоморохов были частью политики
самодержавия, направленной на поддержание престижа
государственной церкви в глазах «пасомых», укрепление,
усиление религиозности народных масс средствами
внешнего нажима и принуждения, страха перед наказанием
со стороны светских властей. Меры, предпринятые
правительством могильщика скоморохов — царя Алексея
Михайловича, отнюдь не ограничивались, конечно,
жестокими гонениями на них, а предусматривали более
широкую и весьма существенную поддержку
православной церкви. Народу было строго приказано исправно
посещать приходские храмы (в Филиппов пост — сорок
дней перед праздником Рождества Христова —
каждодневно) и столь же исправно говеть; списки тех, кто не
говел, становились списками тех, кто подлежал
суровому наказанию.
Но и эта политика имела подчиненное значение; в
49
свою очередь, она опиралась уже на фундаментальную
политику классового государства, направленную на
всемерное упрочение и защиту существующего
общественного строя. Круг замкнулся: скоморошество в
определенной степени подрывает влияние церкви, служащей
одной из главных опор государства, и государство в
союзе с церковью обрушивается с гонениями на
скоморохов.
Если выстроить параллельно две хроники —
летопись нападок церкви и государства на скоморохов и
летопись классовой борьбы, народных восстаний на
Руси, — то между ними можно установить в высшей
степени примечательные связи.
1068 год — первое упоминание о скоморохах в
исторических документах (и первое осуждение их,
запечатленное в документальных источниках)... В хронике
классовой борьбы 1068 год — год крупного и
продолжительного восстания киевских ремесленников и торговцев
против княжеской власти и феодалов.
1551 год. Так называемый «Стоглавый собор»
русской православной церкви осудил «игрища бесовские»...
В хронике классовой борьбы четырьмя годами ранее
обозначено Московское антифеодальное восстание,
вызванное резким обострением классовых противоречий;
движущей силой тех бурных и трагических событий
стали московские тяглые люди.
И наконец, 1648 год — год «антискоморошьих»
указов, нанесших скоморошеству смертельный удар... В
хронике классовой борьбы — это год одного из самых
массовых городских восстаний, вошедшего в историю как
«Соляной бунт».
Эти хронологические соответствия, конечно, не
случайны, они говорят о многом: о классовом характере
скоморошеского искусства, о глубоко закономерной
причинно-следственной связи между историческим
графиком обострения классовой борьбы и историческим
графиком усиления и ужесточения обличительных и
карательных мер, предпринимаемых государством и
церковью против скоморошества. Выявление этой чрезвьь-
чайно важной и интересной взаимосвязи — заслуга
советских исследователей. «Поп и скоморох, —
подчеркивает советский исследователь Л. С. Шептаев, —
стояли на позициях классово-диаметральных» [20, 52]. По
мнению А. Морозова, скоморохи, выражавшие в своем
50
творчестве настроения народных низов, стихийно
поднимавшихся против феодального гнета, были особенно
опасны для государственной власти в период
социальных кризисов и потрясений. «Острые на язык, вечно
голодные, бесправные и ожесточенные постоянными
преследованиями скоморохи, — пишет он, —- были всецело
на стороне тех, кто хоть как-нибудь 1зыступал против
смертельно ненавидимых ими сытых и богатых» [12,
120].
Скоморохи оборонялись, прибегая к различным
средствам самозащиты, в том числе и к попытке
«перетянуть на свою сторону» православных «святых» и
превратить их в собратьев по искусству. Такой
удивительной попыткой можно считать былину «Вавило и
скоморохи», записанную известным фольклористом А. Д.
Григорьевым в 1900 году в одном из сел на реке Пинеге
от Марии Дмитриевны Кривополеновой, знаменитой
сказительницы, которую другой выдающийся знаток
русского фольклора—Ю. М. Соколов назвал прямой
наследницей скоморошьего мастерства... Главными
действующими лицами этой «старины» (так называли
былины на Севере), кроме «честной вдовы Ненилы» и ее
сына Вавилы,. выступают очень популярные
православные святые Кузьма и Демьян (так звучали в русском
просторечии греческие имена Косма и Дамиан). Мы
встречаем их здесь в такой неожиданной роли, что есть,
наверное, необходимость сказать несколько слов о том,
как изображает их церковь.
В православных святцах пара эта встречается
трижды — наглядный пример «тиражирования» популярных
«святых». Трудно сказать, какую из этих пар следует
считать оригиналом, а какие — копиями, но и в июле,
и в октябре, и в ноябре церковь отмечает память
Космы и Дамиана, и житийные сказки мало чем
отличаются одна от другой. В каждой из них Косма и Дамиан —
врачи-«бессребренники», то есть лечащие бесплатно; в
каждой из них Косма и Дамиан используют врачебное
искусство для распространения веры Христовой среди
язычников.
Откроем теперь кривополеновскую «старину»...
У чесной вдовы да у Ненилы
А у ей было чадо Вавило.
А поехал Вавилушко на ниву
Он ведь нивушку свою орати.
51
А ко той вдовы да ко Ненилы
Пришли люди к ней веселые.
Веселые люди — не простые,
Не простые люди, скоморохи [10, 37].
Скоморохи Кузьма да Демьян... Не застав Вавилу
дома, пошли они к нему на поле. Решили они уговорить
Вавилу стать их сотоварищем, отправиться с ними
скоморошничать.
Говорило то чадо Вавило:
— Я ведь песен петь да не умею,
Я в гудок играть да не горазён.
Говорил Кузьма да со Демьяном:
«Заиграй, Вавило, во гудочик,
«А во звончатой во переладец;
А Кузьма с Демьяном припособит» *,
Заиграл Вавило во гудочик,
А во звончатой да переладец,
А Кузьма с Демьяном припособил [10, 38].
И пошли все трое по белу сиету, наказывая
искусством своим злых и нелюдимых, награждая им добрых
и приветливых. Но главной целью было — сокрушить
«Инишшое царство», «переиграть» злого волшебника —
царя Собаку..., «Инишшое царство» — царство зла и
кривды, огороженное «железным тыном», и на каждой
тычинке «по человечьей-то сидит головке».
Заиграл Вавило во гудочик
А во звончатой во переладец,
А Кузьма с Демьяном припособил:
Загорелось инишшое царьсво
И сгорело с краю и до краю.
Посадили тут Вавилушка на царьсво.
Он привез ведь тут да свою матерь [10, 41—42].
Эту необычную «старину» глубоко и верно
проанализировал советский фольклорист А. Морозов, статей
которого мы уже касались. По его мнению, «старина» о
Вавиле и «святых скоморохах» — талантливый и
смелый ответ скоморохов на гонения со стороны церкви,
главным «основанием» для которых было, как известно,
обвинение скоморохов в связях с самим сатаной и в
услужении ему. Защищаясь, скоморохи — если можно
будет употребить такой термин в данном контексте —•
смело контратаковали противника, прорвались во
враждебный лагерь, захватили и увели с собой двух
популярнейших «святых» и превратили их в собратьев по
искусству.
* Припособить — значит пособигь, поддержать своим
искусством, своим мастерством» (Прим. авт.).
52
«В противовес церковной, осудительной лег.енде, где
скоморохи выставлены как слуги дьявола, — пишет
А. Морозов, — они создали свою поэтическую легенду,
в которой в качестве скоморохов выступают святые,
странствующие по земле*.. Отражая яростное нападение
церкви, скоморохи неизбежно должны были придать
своей апологии характер благочестивой легенды. В этом,
несомненно, нуждались как их слушатели, так и они
сами. Но защищая себя и свое искусство, скоморохи
исходили не из церковных догм и канонических
представлений. Они апеллировали к тем же самым древним
народным воззрениям...» [12; 131, 132].
Надо заметить, что не случайно, конечно, выбор пал
на Коему и Дамиана. В народном сознании врачи-«бес-
сребренники» и «мученики» давно уже превратились в
покровителей кузнечного ремесла, которые
безвозмездно выковывали отличные плуги для крестьян, в
помощников земледельца, сумевших запрячь в плуг
побежденного ими крылатого змея. И вот теперь еще и
скоморохи.
Так появилась на свет былина «Вавило и
скоморохи» — это, по словам А. Морозова, замечательное
поэтическое восхваление скоморошества, поэма о
чарующей силе музыки. И хотя в ней действуют персонажи
с именами общеизвестных православных «святых»,
поэтическое творение это пронизано совершенно иным
пафосом, совершенно иным мировоззрением. «Скоморохи
борются и побеждают. Они чужды всякой мысли о
христианской кротости и всепрощении, — так
характеризует А. Морозов этот пафос и это мировоззрение. — Они
вмешиваются в жизнь, карают своих гонителей...» [12,
134].
«Старина», записанная на архангельском Севере
восемь десятилетий назад, воспринимается как дошедшее
до нас из глубины веков поэтическое отражение
вековых идеалов народа; эту чрезвычайно важную
особенность «старины» подчеркивает А. Морозов, говоря о
том, что «воцарение крестьянского сына Вавилы на
освобожденной и очищенной огнем земле, несомненно,
близко к идеалам народных движений XVII века,
начиная от Ивана Болотникова й кончая Степаном
Разиным» [12, 131].
В середине XVII века история скоморошества
вплотную подошла к роковому для него рубежу. Наступил
53
1648 год. Над российской столицей уже давно
сгущались тучи социальной грозы. Жизнь посадского люда
становилась отчаянно тяжелой и беспросветной.
Налоговая лямка невыносимо остро резала плечи посадских
тяглецов. Ко всем прочим налогам царское
правительство прибавило еще и соляную пошлину — 2 гривны
(2 рубля 40 копеек золотом) на каждый пуд
продаваемой населению соли. Народная ненависть к главным
его притеснителям — богатейшим феодалам, и
светским, и духовным, — достигла взрывоопасного накала.
Гроза разразилась в начале июня. В первый день
его многотысячная толпа «черных людей» перегородила
дорогу пышному каравану, сопровождавшему царя
Алексея Михайловича на обратном пути из Троице-Сер-
гиева монастыря. Москвичи окружили царскую карету,
и делегаты-челобитчики подали государю жалобу,
прося отстранить от власти, убрать из правительства
главных лиходеев и лихоимцев. Стража ринулась на
безоружных и настроенных пока еще достаточно мирно
людей, разогнала их, арестовала челобитчиков; их
отвели в Кремль и посадили в тюрьму. На следующий
день события приняли уже другой оборот. Вспыхнуло
восстание — первое и самое крупное из городских
восстаний в XVII веке на Руси. Народ ворвался в Кремль
и потребовал от царя, во-первых, немедленно
освободить всех, кто был арестован вчера, и, во-вторых,
выдать на расправу самых ненавистных своих
притеснителей, в их числе — боярина Плещеева. Восставшие
стали громить боярские дворы, начав с усадьбы
ближайшего царского сановника — боярина Морозова.
Перепуганный царь вынужден был на сей раз уступить.
Алексей Михайлович произнес примирительную речь, не
скупясь на лживые обещания. Челобитчики были
выпущены на волю, Плещеев попал в руки москвичей и
был убит... В городе вспыхнул катастрофический пожар,
испепеливший Петровку, Дмитровку, Тверскую,
Никитскую, Арбат и Чертолье (район современной
Кропоткинской площади).
Церковные верхи во главе с патриархом были
потрясены и напуганы, естественно, не менее, чем верхи
государственные. Для успокоения народа пошли в ход
все виды религиозного воздействия. Сам патриарх
вышел к восставшим с «чудотворным образом» в руках и
с «пастырским увещеванием» на устах; архиереи и игу-
54
мены последовали его примеру. Из Кремля двинулся
крестный ход.
Когда восстание окончательно улеглось,
самодержавие и церковь перешли в наступление, решив задавить,
задушить любые проявления народного протеста,
затоптать, загасить даже отдельные искры настроений,
опасных для их существования, для их благоденствия...
Минуло полгода после «Соляного бунта», и приказные
писцы заскрипели перьями, готовя для рассылки
воеводам во все концы государства грамоты с текстом двух
аналогичных и по духу, и по содержанию царских
указов, направленных против скоморохов. Гонцы увезли
эти грамоты в Белгород, Шую, Верхотурск, Дмитров...
Вот о чем гласила грамота, посланная дмитровскому
воеводе:
«Ведомо нам учинилось, что в Дмитрове и в иных
городех, и в уездех мирские всяких чинов люди и жены
их и дети в воскресеные и господьские дни и великих
Святых во время святого пения к церквам Божим не
ходят... и многие люди, забыв Бога и православную
христианскую веру, тем прелестником скоморохом по-
следствуют: на бесчинное их прельщение сходятца по
вечером и во всеношных позорищах на улицах и на
полях, и богомерзских их и скверных песней и всяких
бесовских игр слушают мужесково и женсково полу и до
сущих младенцов...
А где объявятца домры и сурны и гудки и гусли и
хари и всякие гудебные бесовские сосуды, и ты б те б
велел вынимать и, изломав, те бесовские игры велел
жечь.
А которые люди оттого ото всего богомерзкого дела
не отстанут и учнут впредь такова богомерзкого дела
держатца... тех велеть бить батоги; а которые люди от
такова безчиния и не отстанут, а вымут такие
богомерзкие игры вдругие, и ты б тех ослушников велел бить
батоги; а которые люди оттого не отстанут, а
объявятца в таком деле в праздничные дни и тех... велел
ссылать... в украйные городы в опалу...» [19, 147—149].
Было бы ошибкой полагать, что православная
церковь сыграла в судьбе скоморошества лишь роль
вдохновителя гонений и преследований, не участвуя в них
непосредственно. Царские указы, принятые на исходе
-1648 года, лишь узаконили и начали истребление
скоморошества; в дальнейшем церковные «воеводы» —
55
епархиальные архиереи действовали в этом
направлении по собственному почину, с усердием и рвением, не
только не уступающим, а порой и превосходящим
усердие и рвение царских воевод.
«Лета 7166 (1657) Октября в 23 день, по
благословению и по указу великого господина преосвященного
Ионы, Митрополита Ростовского и Ярославского,
память митрополичих дел приставу Матвею Лобанову,
ехатй ему в Устюжской уезд... велено на Устюге на
посаде и в Устюжском уезде учинить заказ крепкой, чтоб
Отнюдь скомрахов и медвежьих поводчиков не было,
и в гусли бив домры и в сурны и в волынку и во
всякие бесовские игры не играли, и песней сатанинских не
пели, и мирских людей не соблажняли; а буде такие
люди впредь объявятся и указу сего святителского не
послушают... тем людем и скомрахом и медвежьим повод-
чикам быть от него святителя в великом смирении и
наказании без пощады и во отлучении от церкви Божий...»
[18, 160—161].
На скоморохов была устроена облава в пределах
всего государства. Им уже некуда было податься: во все
края, во все углы страны дошли распоряжения высших
властей — не давать прохода скоморохам, гнать их,
отбирать, ломать, сжигать их музыкальные инструменты,
клеймить проклятиями с амвонов, сажать под арест,
отправлять в ссылку!
* * *
История театра в России насчитывает немногим
более трех веков: первое театральное представление было
дано в «Комедийной хоромине» при дворе царя
Алексея Михайловича в 1672 году (русский театр, выходит,
родился в один год с Петром I). И хотя театральное
помещение именовалось «хороминой», первый русский
театр не имел корней в национальной почве, а был
прямым заимствованием из западноевропейского
сценического искусства той эпохи.
Сокрушив скоморошество десницей самодержавного
государства, православная церковь засыпала и
затоптала таким образом глубинные родники русского
национального театра.
Трагичность «всероссийского скоморошьего
погрома» заключалась в том, что смертельный удар обрушил-
56
ея щ скоморохов как раз э то время, когда их
искусство* в силу ряда причин и обстоятельств переживало
глубокое качественное перерождение, поднималось на
более высокую ступень профессионального мастерства и
органически связанной с этим жанровой
специализации.
Во второй половине XVI века и первой половине
XVII века сельских скоморохов становится все меньше
и меньше: их немудреные обязанности в дни народных
праздников и игрищ начинают вполне
удовлетворительно, выполнять рядовые участники праздников, а
скоморохи по призванию, по таланту ищут для себя иного
поприща, на котором они смогли бы более полно развить
свои дарования, более надежно и существенно
зарабатывать на пропитание. Растет число городских и
походных скоморохов. «Особенно резкий сдвиг в этом
направлении дают условия второй половины XVI в., —-
подчеркивает А. А. Белкин. — Необходимость
ежедневно зарабатывать своим искусством потребовала от
скоморохов повышения мастерства, а это невозможно без
узкой специализации. Деятельность скоморохов стала
терять многосторонность» [5, 106]. Обобщающего слова
«скоморох» уже недостаточно; наряду с ним и даже
более часто, чем оно, документы упоминают «плясунов»,
«гудцов», «гусельников» и т. п. Скоморохи все более
превращаются в истинных артистов. В том числе и
драматических.
Одним словом, скоморохов накануне разгрома их
объединенными силами православной церкви и
царского правительства мы можем с полным основанием
называть народным театром, который, бесспорно, — не
случись с ним той страшной и непоправимой беды, —
был живым истоком русского национального театра,
соответствовавшего представлениям и вкусам нового
времени. Историки отечественного театра единодушны
в этом мнении.
«В древнерусских народных играх, обрядах,
празднествах, в разного рода древнерусских забавах и
увеселениях — во всей этой «лести идольской», — писал
историк русского театра А. Архангельский, — лежали
богатые зачатки безыскусственного народного театра.
Мы можем судить об этом даже по тем обломкам,
которые уцелели от всего этого до нашего времени» [2, 3]#
«Скоморошьи ватаги, — прочтем мы в книге П. Мо«
57
розова «История русского театра до половины XVIII
столетия», — были своего рода странствующими
труппами актеров, «молодцов на все руки», всегда готовых
показать себя применительно к данному случаю...
Скоморохам, без сомнения, многим обязана наша народная
комедия...» [14, 16].
Старейшим «театром» назвал «игрища народных
лицедеев-скоморохов» советский искусствовед В. Всезо-
лодский-Гернгросс [7, 21].
Разгром скоморошества, начатый в 1648 году
царскими властями по настоятельному призыву
православной церкви и, как мы видели, при самом деятельном,
непосредственном соучастии ее архиереев, иереев,
монахов, можно расценить как преступление перед
национальной культурой. Ударом топора было перерублено
живое древо древнейшего народного искусства, которое
могло бы еще расти, выбрасывать новые ветви,
приносить новые плоды, — и это не могло не обеднить
весьма существенным образом самобытное национальное
искусство во всех его проявлениях и жанрах.
Но скоморошество, конечно, не исчезло бесследно с
лица русской земли. Слишком глубоки были его
исторические корни, уходящие в глубину столетий и даже
тысячелетий, слишком велика была потребность
народных масс в извечно-привычных и любимых
развлечениях, слишком крепка была связь скоморошества с
бытом крестьянства, с годовым кругом народных
празднеств, чтобы оно не смогло пережить даже такие
беспощадные гонения. Земледельческий цикл вращался из
Года в год с астрономическим постоянством, отражаясь
в традиционных празднествах; за «святками» шла
«масленица», за «масленицей» — «семик», за «семиком» —
«Иван Купала», за «Иваном Купалой» — «обжинки»
и т. д. И скоморох, по словам А Морозова, появляется
как из-под земли. Правда, это были уже, к сожалению,
далеко не те скоморохи. Скоморошество не могло не
измельчать, не могло не поблекнуть, по тем не менее
оно не исчезло.
Скоморошество не только не исчезло,
приспособившись к новым, более трудным, рискованным условиям
существования, но и не рассталось с былым
антицерковным духом. На это обстоятельство не мог не
обратить внимания титулованный путешественник,
совершивший вояж вскоре после изгнания наполеоновской
58
армии и из Москвы, и из России. На одной из страниц
«Журнала путешествия из Москвы в Нижний 1813
года», оставленного князем Н. М. Долгоруким в
назидание потомкам, — можно прочесть запись, сделанную по
поводу народных празднеств и гуляний: «Всегда мне
странно казалось, что на подобных игрищах
представляют монаха и делают из него посмешище. Кукольной
комедии не бывает без рясы... Со временем так
приучат народ видеть чернеца деревянного... что и на
живого старца будут с теми же помышлениями
посматривать» [17, 24—25].
Поверженное более трех веков назад скоморошество
быльем не поросло, и самобытное и колоритное
искусство русских «потешников» привлекало пристальное и
сочувственное внимание русских писателей,
живописцев, литераторов-этнографов. Слово «скоморох»
появилось на обложке одного из сатирических изданий в
бурное время первой русской революции — так был назван
журнал, выходивший в 1907 году в Петербурге. Время
было тревожное, суровое, царские власти старались
заглушить каждое «крамольное» слово, и не приходится
удивляться тому, что даже в богатейших фондах
Московской исторической библиотеки сохранился всего
лишь два номера «Скомороха», который дает основание
предположить, что издатели журнала, подыскивая
название ему, не случайно вспомнили о скоморохе —
вековом противнике церкви. На страницах его была
опубликована притча «Бог и человек». Притча так коротка
и интересна, что ее стоит привести целиком (№ 2, с. 2),
Наконец, человек завопил к богу:
— Видишь ли ты все это, господи?
Отвечал господь:
— Вижу.
Й с укором, с жалобой воскликнул человек:
— И ты терпишь все это, господи?!
И спросил господь:
— Что видишь ты, человек?
И отвечал человек:
— Я вижу безумие жизни. Вижу кровь, кровь, кровь... Слы«
шу крики, вопли, стоны. Вижу темницы. Вижу торжище, на
котором продают человека... И ты терпишь Есе это, господи?
И спросил господь:
— Видишь ли ты все это, человек?
Отвечал человек:
— Вижу!..
И с укором, со скорбью воскликнул господь:
«— И -ты терпишь все это, человек?.,
69
Христианский бог — бог смирения, терпения,
всепрощения, бросающий человеку призыв избавиться от
покорности, не терпеть более зла и несчастий
тогдашней российской жизни, — это уже Отрицание
христианства, открытое, последовательное, убежденное!..
В 1888 году журнал «Исторический вестник»
опубликовал заметки некоего П. П. «Шуты и скоморохи в
древности и в новейшее время». В обширной панораме,
естественно, нашлось место и для русского
скоморошества.. «Последние остатки скоморошеских ватаг, —
сообщал автор, — дожили одиакоже до нашего времени,
в виде тех поводырей, которые ходили вдвоем и втроем
с медведями, и заставляли медведей плясать и
выделывать разные штуки... Эти последние остатки
скоморошества исчезли уже в недавнее время, лет пятнадцать
назад (иными словами, имея в виду год публикации
этих заметок, где-то в начале семидесятых годов
прошлого века. — А. Я/.,) и были выведены всюду
полицейскими мерами» [15, 467].
Автор этого историко-этнографического очерка дал
несколько обедненное, упрощенное представление о
«последних остатках» скоморошества и явно переоценил
результативность «полицейских мер» по окончательному
истреблению «последних остатков». Помимо поводырей
с медведями, по деревням и селам, по уездным
захолустьям и губернским городам ходили еще и последние
кукольники с бессмертным Петрушкой... Где-то в конце
70-х годов прошлого столетия странствующие
петрушечники ходили и по нижегородским улицам. И в
шумной толпе, всякий раз обступавшей их, часто можно
было видеть высокого, бедно одетого парнишку с
выразительным скуластым лицом. Звали его Алешей
Пешковым,., Полвека спустя Алексей Максимович Горький
вспоминал о тех днях и тех неизгладимых впечатлениях
в беседе с артистами кукольных театров, рассказывал
о том, как он бегал за бродячими кукольниками с
одной улицы Нижнего Новгорода на другую, с одного
двора на другой, стараясь не пропустить ни одного
представления, готовый смотреть «петрушечью комедь» по
нескольку раз кряду.
Искусство скоморохов, пройдя сквозь все невзгоды,
все препоны, все гонения, донесло огонек до бедных
кварталов большого поволжского города и заронило
горячую любовь и восхищение в чуткую, восприимчивую
60
душу гениально одаренного ребенка, явилось
импульсом самого пристального глубоко сочувственного
изучения Максимом Горьким национального духовного
достояния и родного народа, и других народов мира.
Итогом этих раздумий стали прекрасные, мудрые слова о
героях поэтического творчества. Легендарных,
всесветно известных героях, среди которых русский фольклор,
по мнению писателя, достойно представлен его давним
знакомым Петрушкой.
«Это — непобедимый герой народной кукольной
комедии, — говорил он в статье «О том, как я учился
писать», опубликованной в 1928 году, — он побеждает
всех и все: полицию, попов, даже чорта и смерть, сам
же остается бессмертен. В грубом и наивном образе
этом трудовой народ воплотил сам себя и свою веру в
то, что в конце концов именно он преодолеет все и всех»
[8—24, 494].
К Петрушке, этому, быть может, наиболее яркому и
характерному творению коллективного скоморошеского
гения, писатель обратился в докладе, с которым
выступил на I Всесоюзном съезде советских писателей в
августе 1934 года... Словами этими я хочу закончить главу,
посвященную русским скоморохам.
«.„Наиболее глубокие и яркие, художественно
совершенные типы героев созданы фольклором, устным
творчеством трудового народа. Совершенство таких
образов, как Геркулес, Прометей, Микула Селянинович,
Святогор, далее — доктор Фауст, Василиса Премудра'я,
иронический удачник Иван-дурак и наконец —
Петрушка, побеждающий доктора, попа, полицейского, черта
и даже смерть, — все это образы, в создании которых
гармонически сочетались рацио и интуицио, мысль и
чувство. Такое сочетание возможно лишь при
непосредственном участии создателя в творческой работе
действительности, в борьбе за обновление жизни» [8—27/
305].
* * *
«Есть две нации в каждой современной нации... Есть
две национальные культуры в каждой национальной
культуре», — писал Владимир Ильич Ленин в статье
«Критические заметки по национальному вопросу»
(Поли. собр. соч., т. 24, с. 129). Это важнейшее теоре-
61
^ическое положение ленинизма о развитии
национальной культуры в обществе, разделенном на
антагонистические классы, раскрывает истинную картину развития
русской культуры в течение длительной эпохи. В
течение нескольких веков устное поэтическое творчество и
представляло собой культуру демократическую,
прогрессивную, гуманистическую, пронизанную идеями
свободолюбия и свободомыслия.
Что же касается древнерусского искусства,
связанного с культовыми, богослужебными потребностями, то
Й в этой области, как уже было сказано во вступлении,
истинная картина очень далека от той
благостно-примитивной, почти иконописной, которую усердно рисуют
современные православные богословы, церковные
искусствоведы и их околоцерковные подпевалы. О заслугах
церкви в этой связи следует говорить с большой
осторожностью и с весьма существенными оговорками. Но
это уже проблемы особого исследования, о результатах
которого автор расскажет в другой брошюре.
ЛИТЕРАТУРА
Богатырство
1. Архангельские былины и исторические песни, собранные
А. Д. Григорьевым в 1899—1901 гг. Т. 1. М., 1904; т. 3,
Спб, 1910.
2. Б е л и н с к и й В. Г. Поли. собр. соч. В 13-ти т., т, 5, М.
1954.
3. Марков А. В. Беломорские былины. М., 1901.
4. Былины. М., 1955.
5. Былины. М., 1957.
6. Былины. В 2-х т., т. 1. М., 1958.
7. Голубинский Е. Е. История канонизации святых в
русской церкви. М., 1903.
8. Горький М. Собр. соч. В 30-ти т. М., 1949—1956.
9. Древние российские стихотворения, собранные К и р ш е ю
Даниловым. М.—Л., 1938.
Ю.Лихачев Д. С. Народное поэтическое творчество
времени расцвета древнерусского раннефеодального государства (X—«
XI вв.). — В кн.: Русское народное поэтическое творчество, т. 1,
М.-Л., 1953.
11. Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом
летом 1871 года, в 3-х т. Л., 1949—1951.
12. Песни, собранные П. Н. Рыбниковым. В 3-х т. М., 1909—•
1910.
13. Русский биографический словарь, т. «Ибак—Ключарев»,
Спб., 1897.
14. Филарет (Гумилевский), архиепископ. Жития святых,
чтимых православной церковию, т, «Декабрь». Стб., 1892.
62
Бриллиантовая россыпь пословиц
1. Белинский В. Г. Избранные философские сочинения»
В 2 х т., т. 2. М.—Л., 1948.
2. Герцен А. И. Собр. соч. В 30-ти т., т. 6. М., 1955.
3» Даль В. И. Напутное. — В кн.: Пословицы русского
народа. Сборник В Даля. М, 1957.
4. Прудоминский В. Даль. М., 1971.
5. Русский биографический словарь, т. «Дабслев—Дядьковский».
Спб., 1905.
6. Чичеров В. Сборник Владимира Даля «Пословицы
русского народа». — В кн.: Пословицы русского народа. Сборник
В. Даля. М., 1957.
7. Шолохов М. Сокровищница народной мудрости. — В кн.з
Пословицы русского народа. Сборник В. Даля. М., 1957.
«Скоморох попу не товарищ»
1. Ариосто. Неистовый Роланд. Прозаический перевод под
редакцией В. Зотова. Спб., 1892.
2. Архангельский А. Н. Театр до-Петровской Руси.
Казань, 1884.
3. Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на
природу. Т. 1. М., 1865.
4. Безбожник. 1932, № 5—6.
5. Белкин А. А. Русские скоморохи. М., 1975.
6. Беляев И. О скоморохах. — Временник Моск. об-ва
истории и древностей российских, кн. 20. М., 1854.
7. В сев о л о д с к и й-Гер н г росс В. Н. Русский театр от
истоков до середины XVIII в. М., 1957.
8. Горький М. Собр. соч. В 30-ти т. М., 1949—1956.
9. Житие протопопа Аввакума. М., 1960.
10. Кривополенова М. Д. Былины, скоморошины, сказки,
Архангельск, 1950.
11. Культура средневековой Руси. Л., 1974.
12. Морозов А. М. Д. Кривополенова и наследие
скоморохов.—В кн.: Кривополенова М. Д. Былины, скоморошины,
сказки. Архангельск, 1950.
13. Морозов А. Скоморохи на Севере. — Альманах
«Север». Архангельск, 1946.
14. Морозов П. О. История русского театра до половины
XVIII столетия. Спб., 1889.
15. П. П. Шуты и скоморохи в древности и новейшее время. —
Исторический вестник, 1888, № 5.
16. Пушкин А. С. Поли. собр. соч., В 6-ти т., т. 3. М.—Л.,
1934.
17. Смирнова Н. И. Советский театр кукол. М., 1963.
18. Финдейзен Н. Очерки по истории музыки в России
с древнейших времен до конца XVIII века. Вып. 2. М.—Л , 1928*
19. X ару зин Н. К вопросу о борьбе Московского
Правительства с народными языческими обрядами и суевериями в
половине XVII в. — Этнографическое обозрение, 1897, № 1.
20. Шептаев Л. С. Русское скоморошество в XVII веке. —
Ученые записки Уральского государственного университета. Вып. 6,
Свердловск,. 1949.
СОДЕРЖАНИЕ
Богатырство , *«»••«» « 5
Бриллиантовая россыпь пословиц • « . «. 25
«Скоморох попу не товарищ» , 40
Литература * •••.••» • I 62
Александр Александрович ШАМАРО
ПРАВОСЛАВИЕ И РУССКАЯ КУЛЬТУРА!
ЦЕРКОВНЫЕ ПРИТЯЗАНИЯ
И ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Гл. отраслевой редактор 3. Каримова
Ст. научный редактор К. Сапунова
Мл. редактор Л. Петецкая
Худож. редактор Т. Егорова
Техн. редактор Л. Солнцева
Корректор Н. Мелешкина
ИБ № 3114
Сдано в набор 02.09.80. Подписано к печати 27.10.80. А 04095.
Формат бумаги 84ХЮ87з2. Бумага тип. № ~.2^ Гарнитура ли*
тературная. Печать высокая Усл. печ. л. 3,36. Уч.-изд. л.
3,43. Тираж 45 720 экз. Заказ № 1585. Цена 11 коп. Изда-
тельство «Знание». 101835, ГСП, Москва, Центр, проезд Се*
рова, д. 4. Индекс заказа 801112. Типография Всесоюзного
общества «Знание». Москва, Центр, Новая пл., д. 3/4.
11 коп.
Индекс 70075
ИЗДАТЕЛЬСТВО
„ЗНАНИЕ"