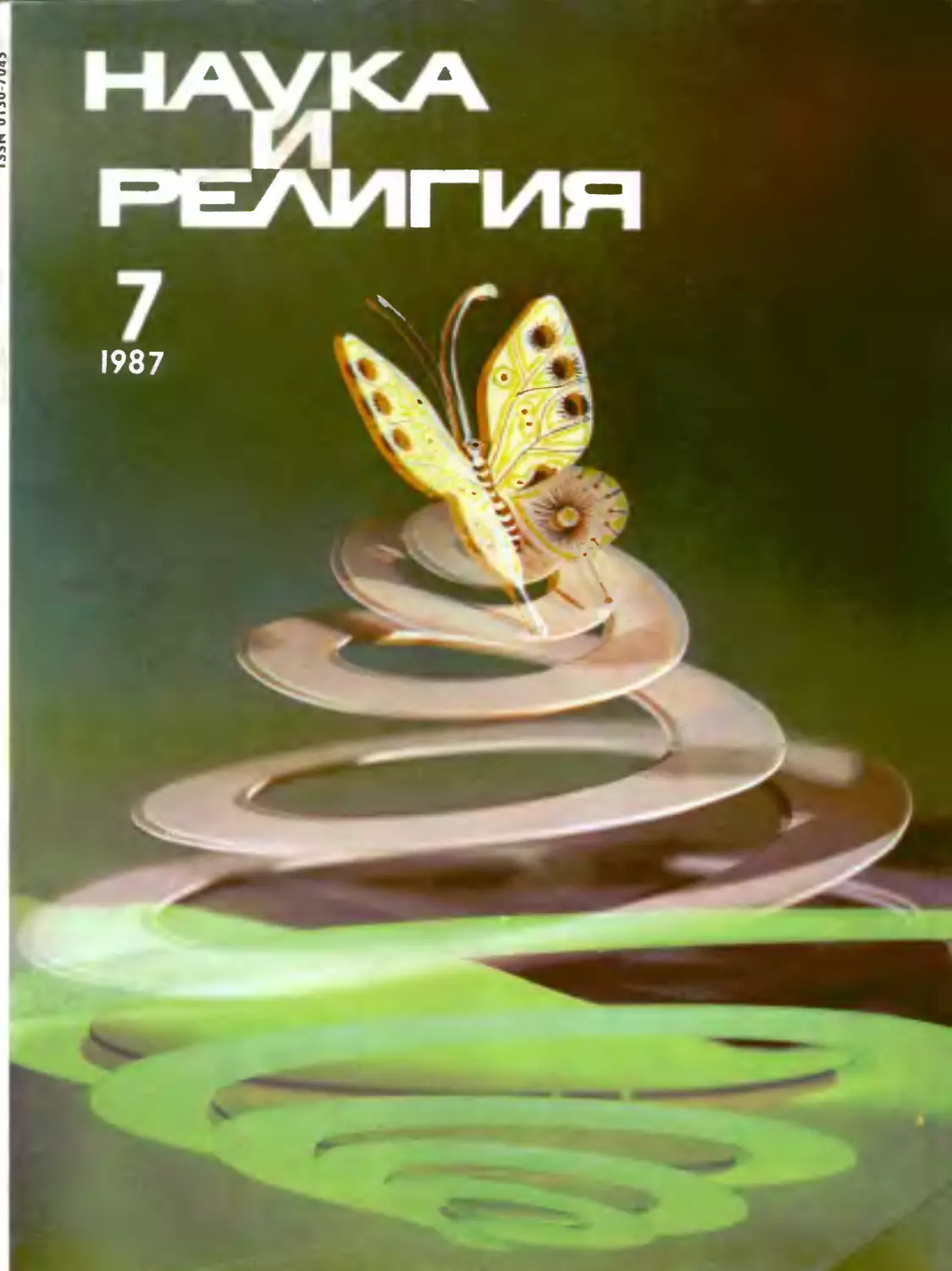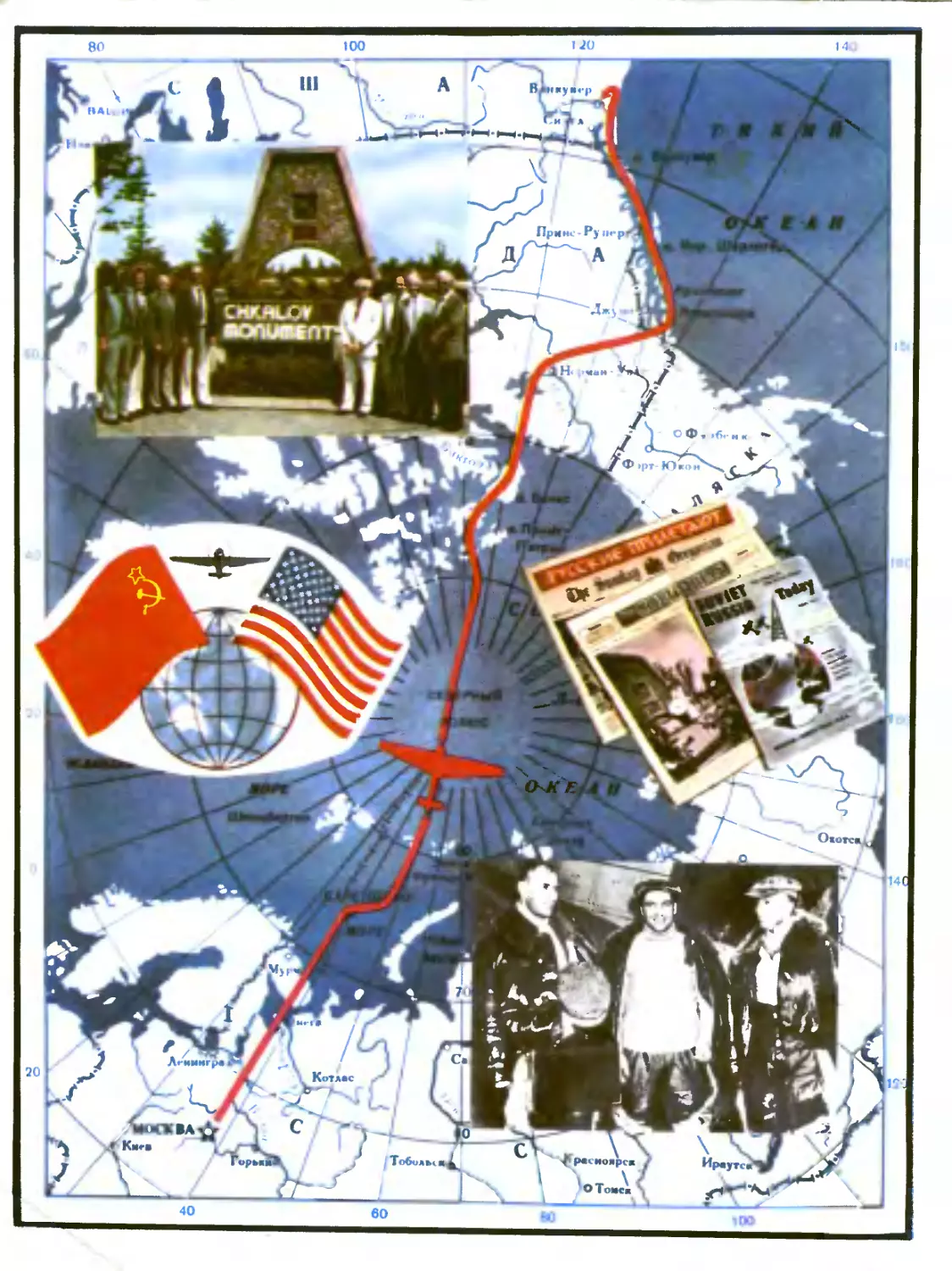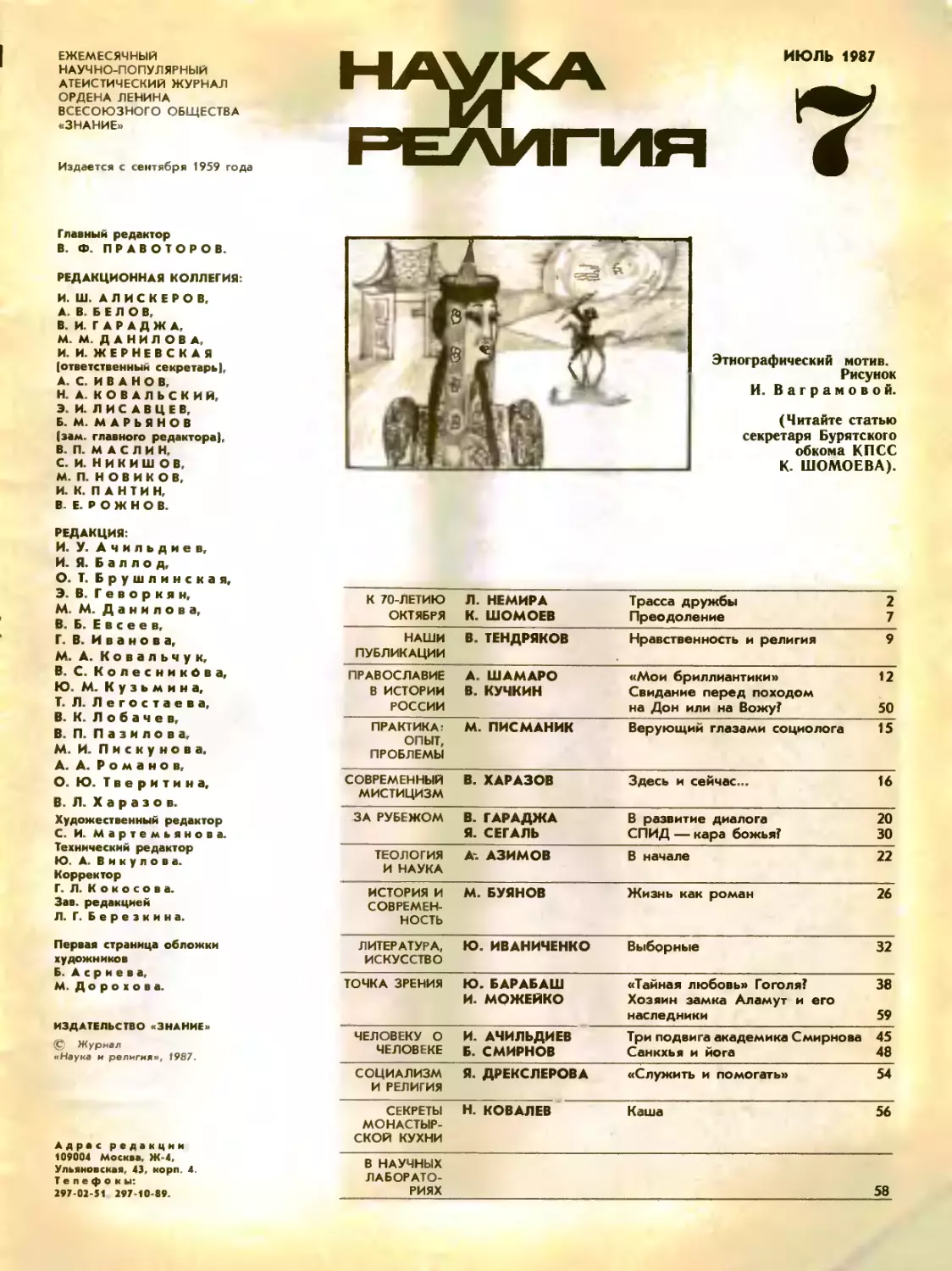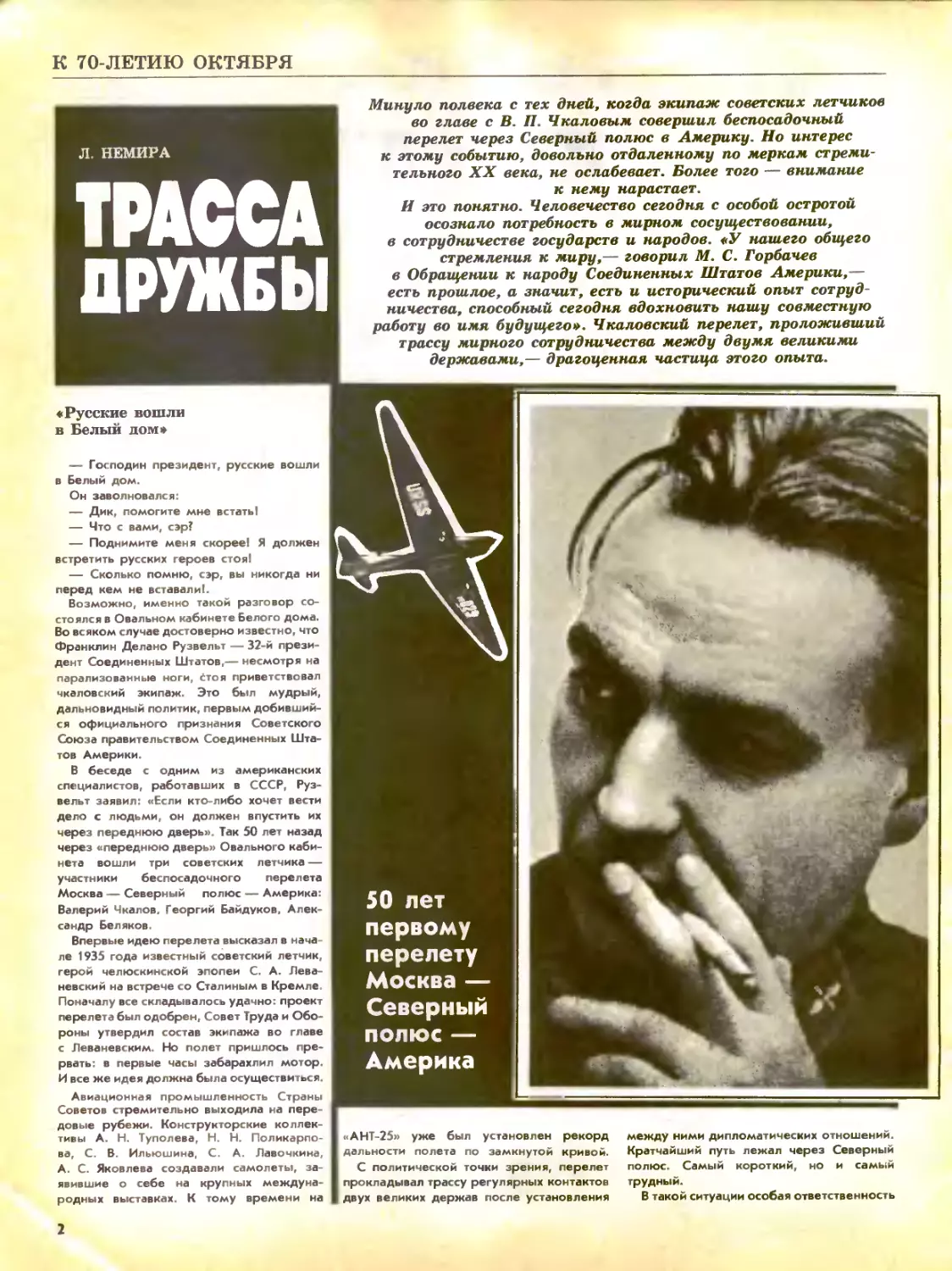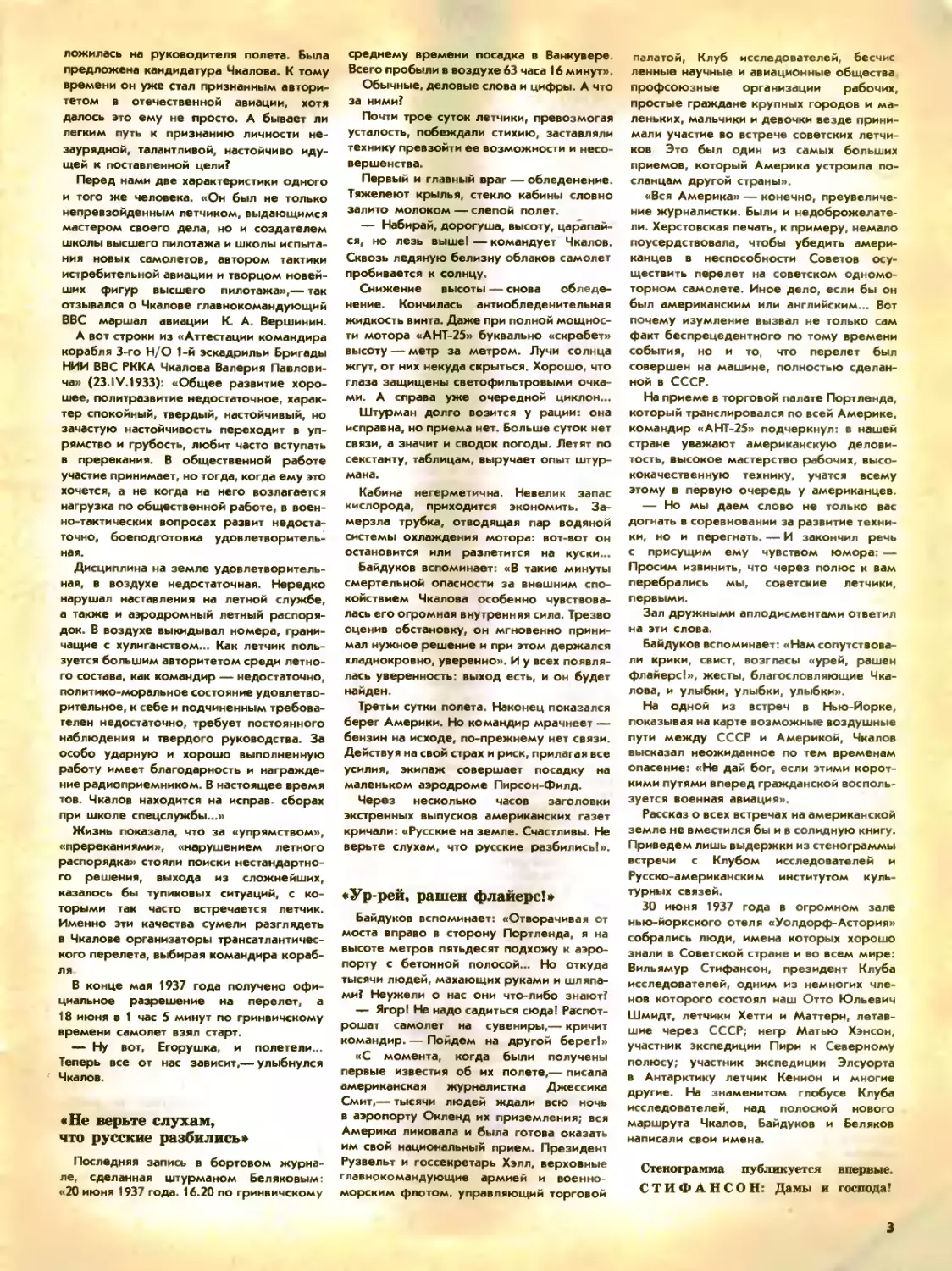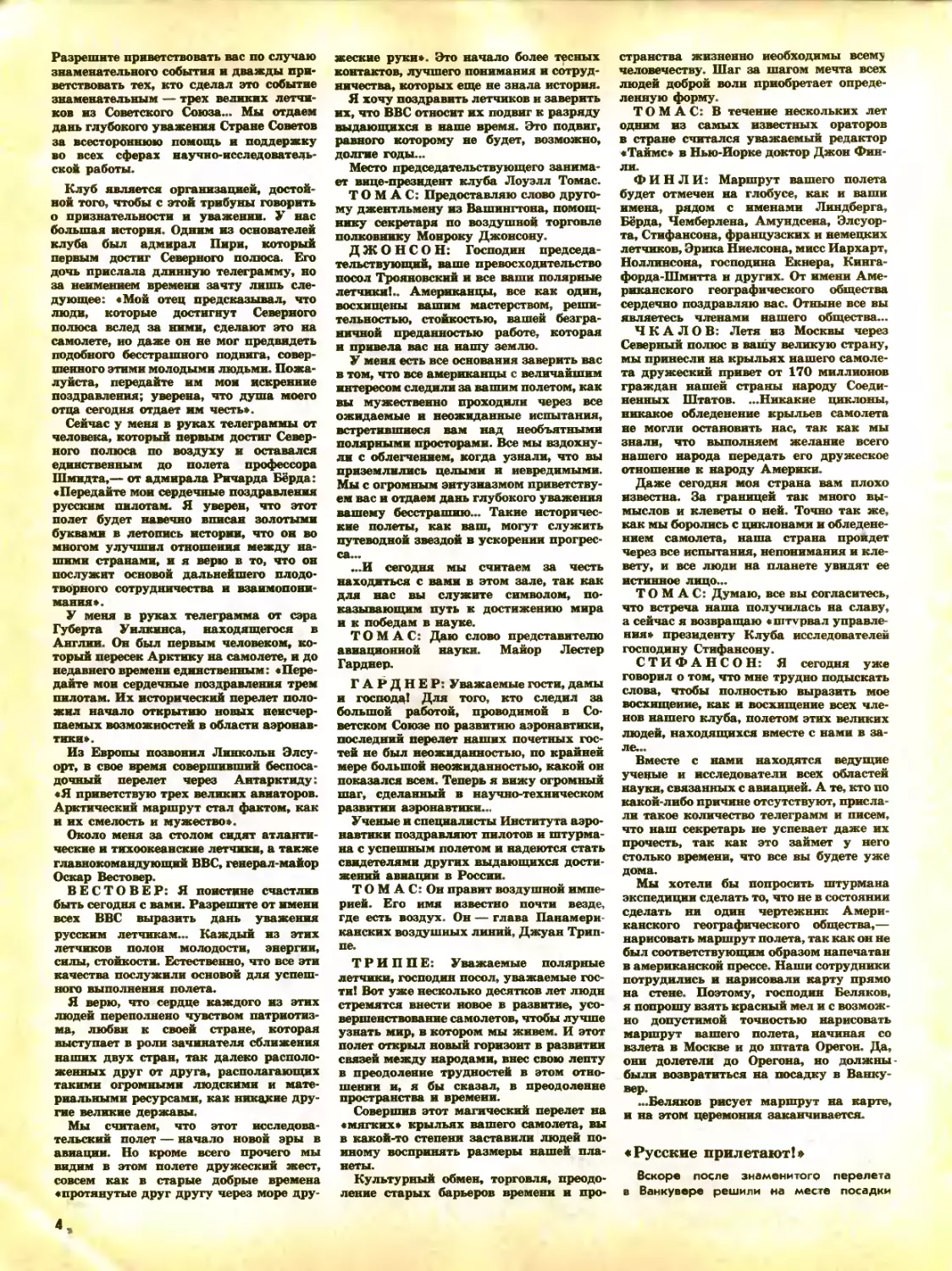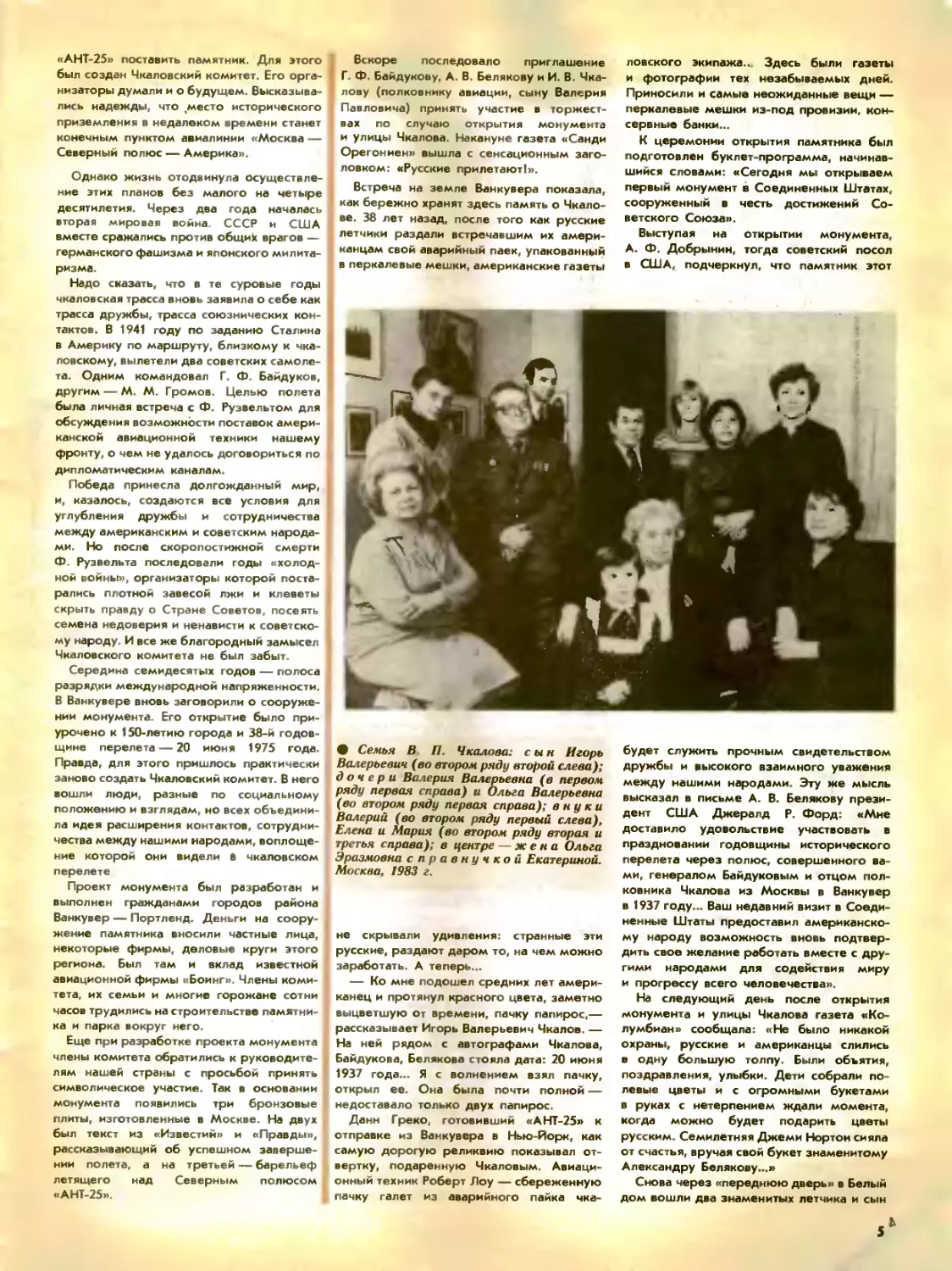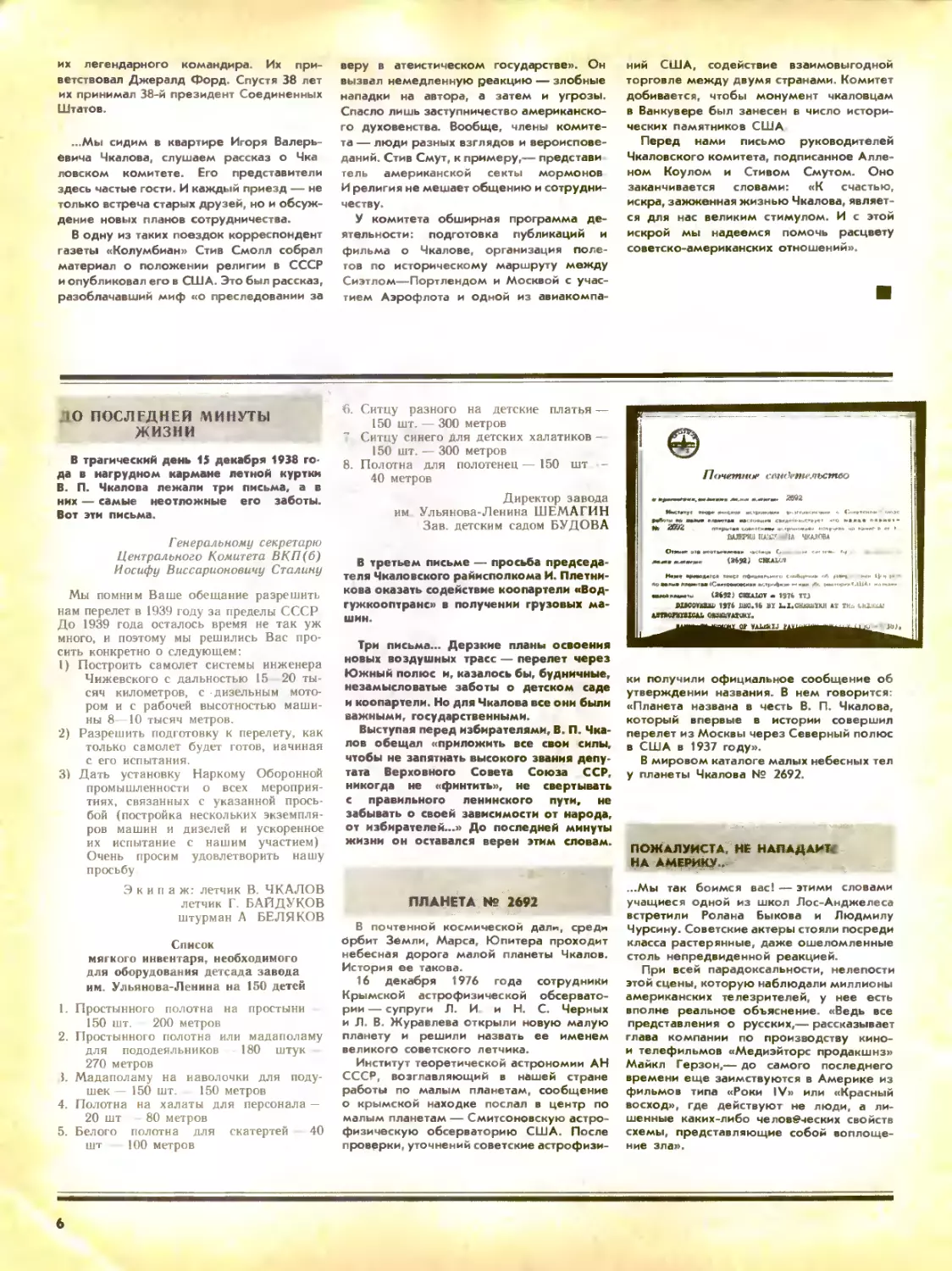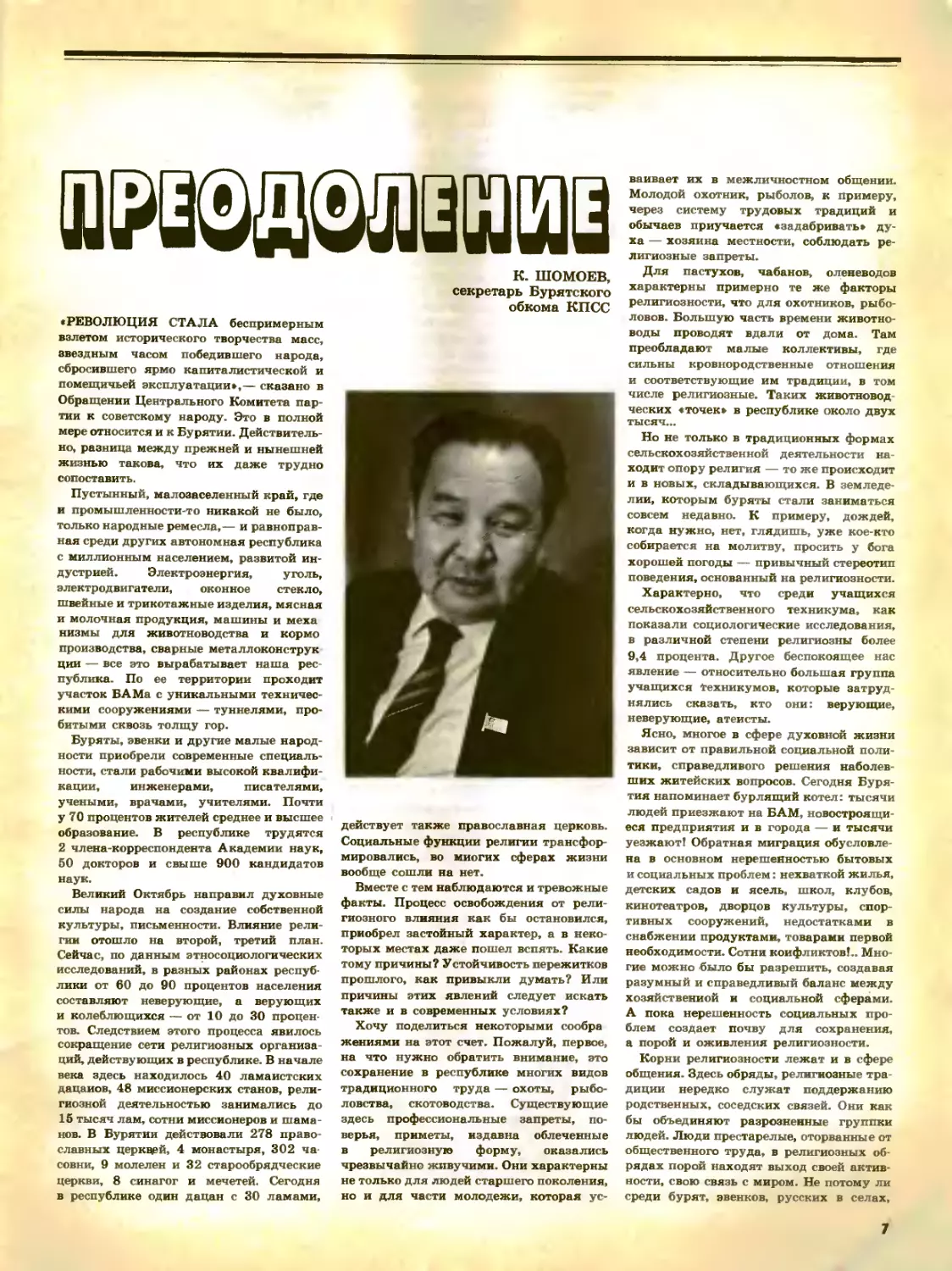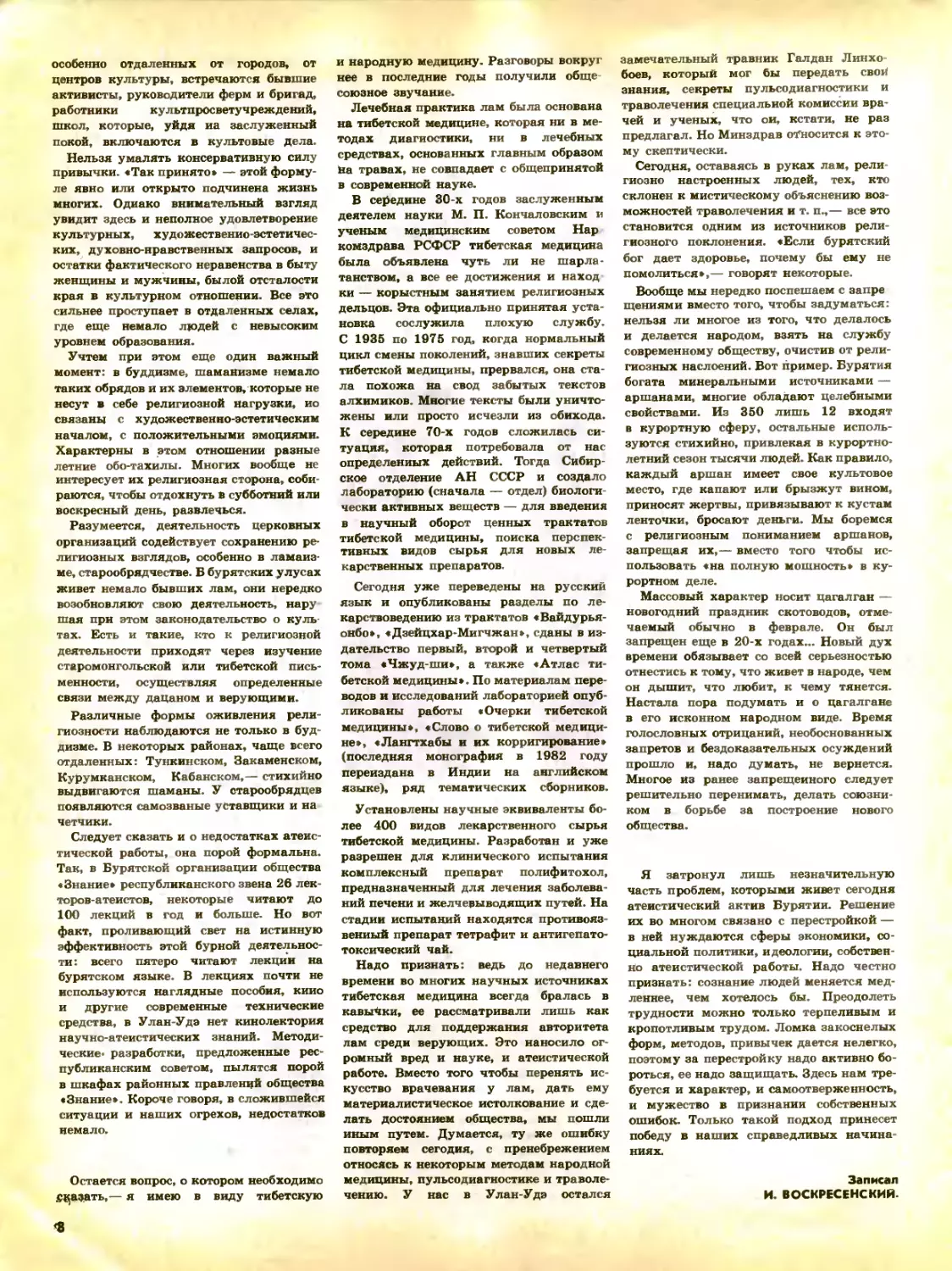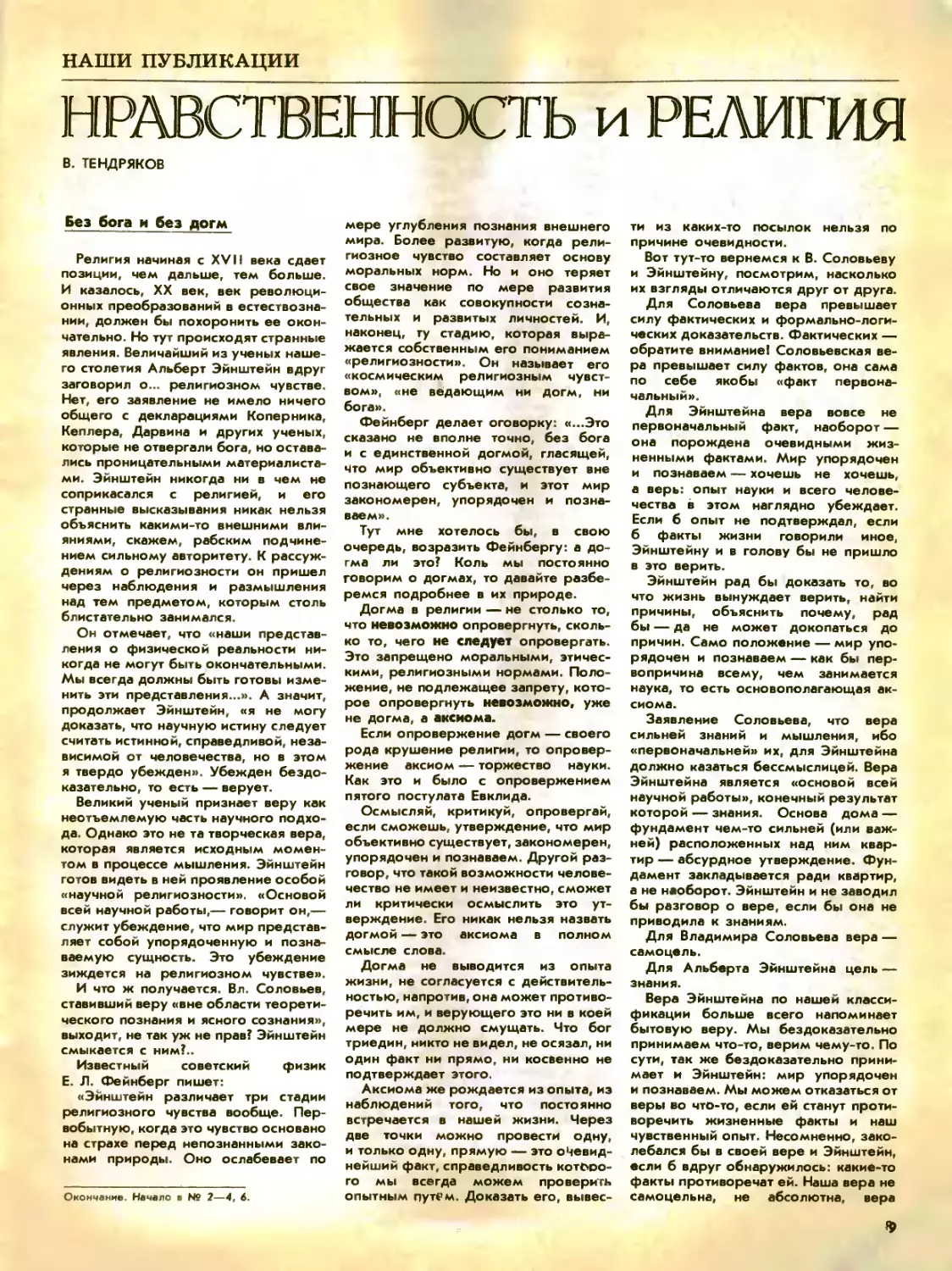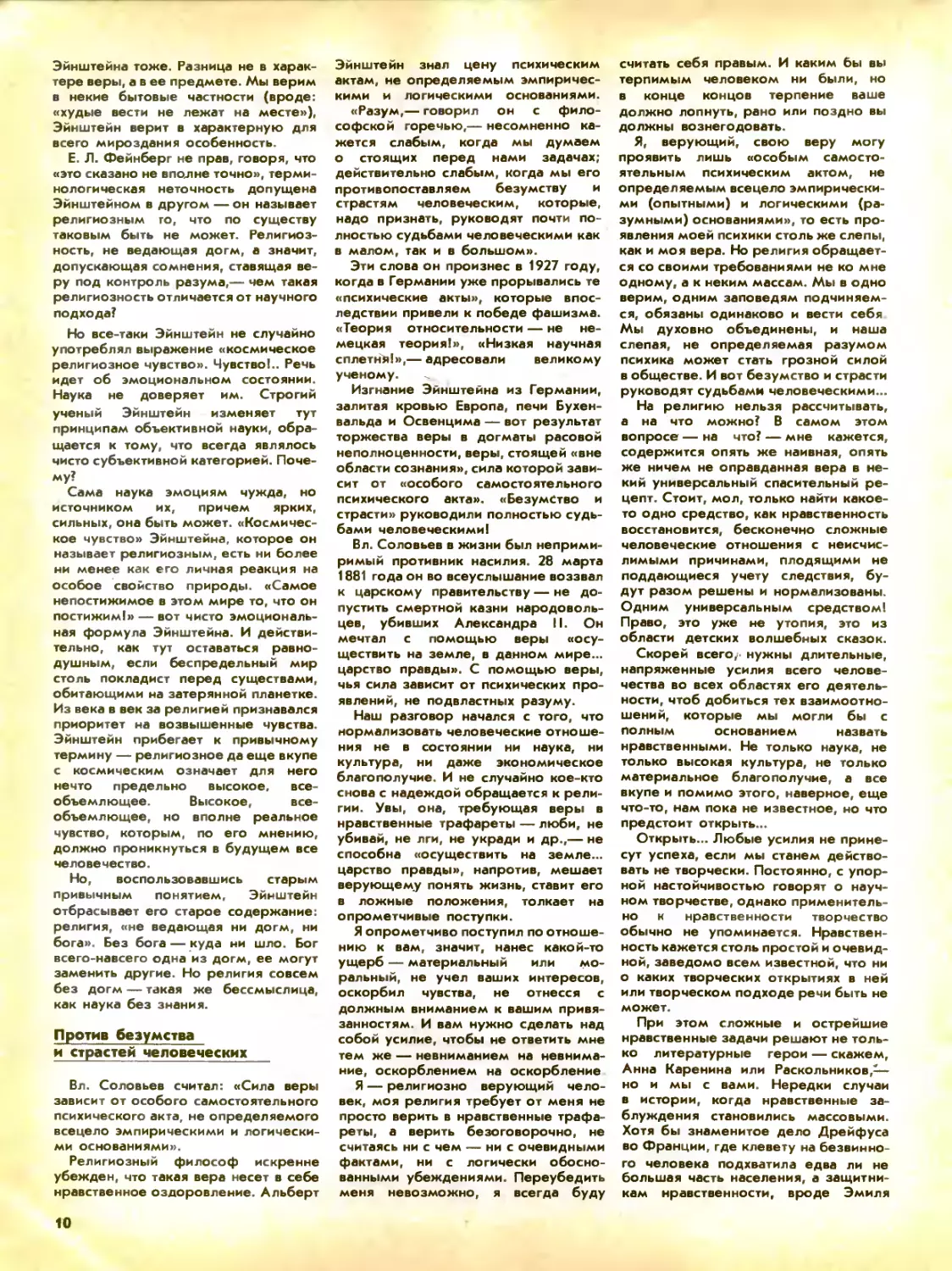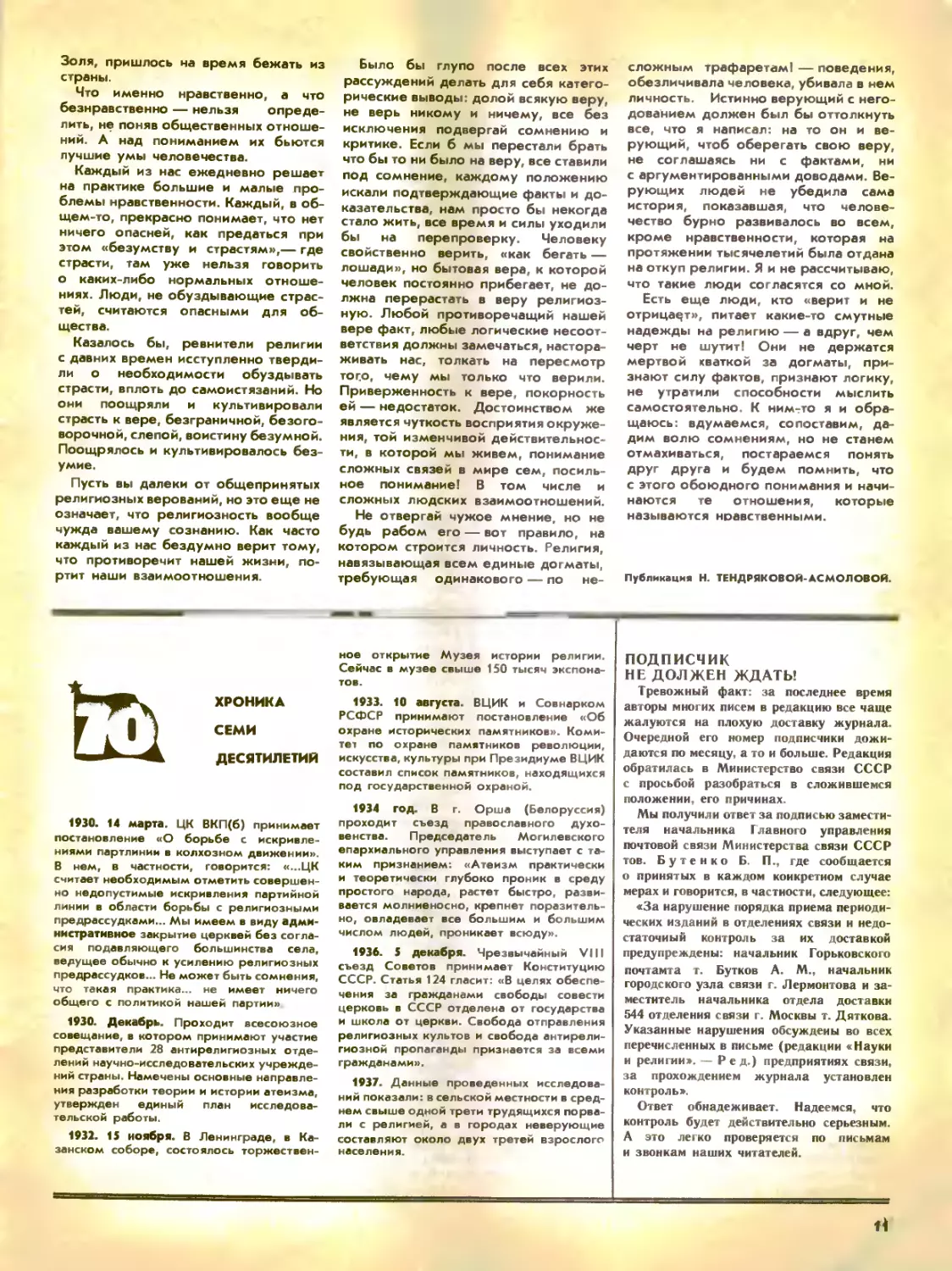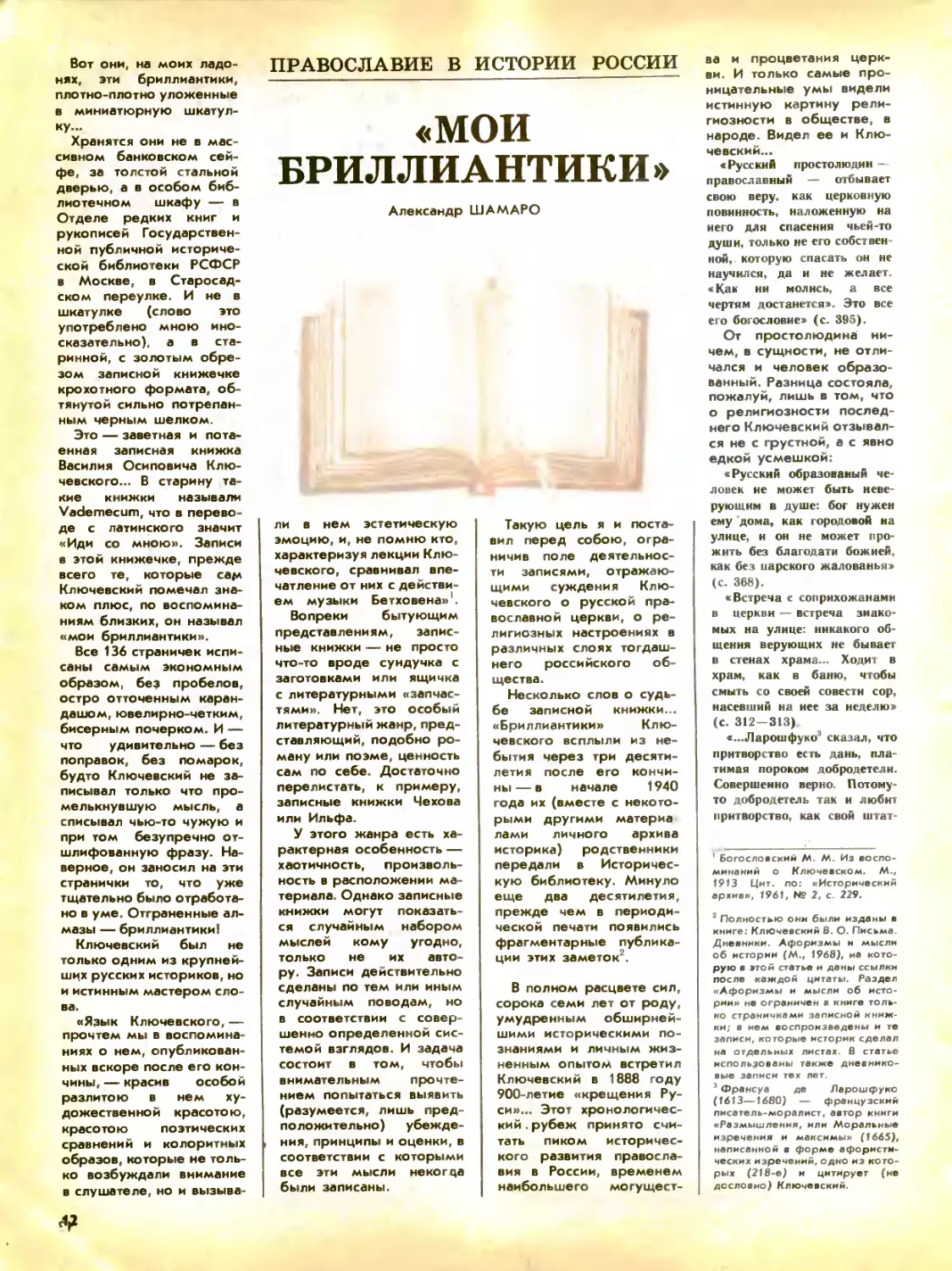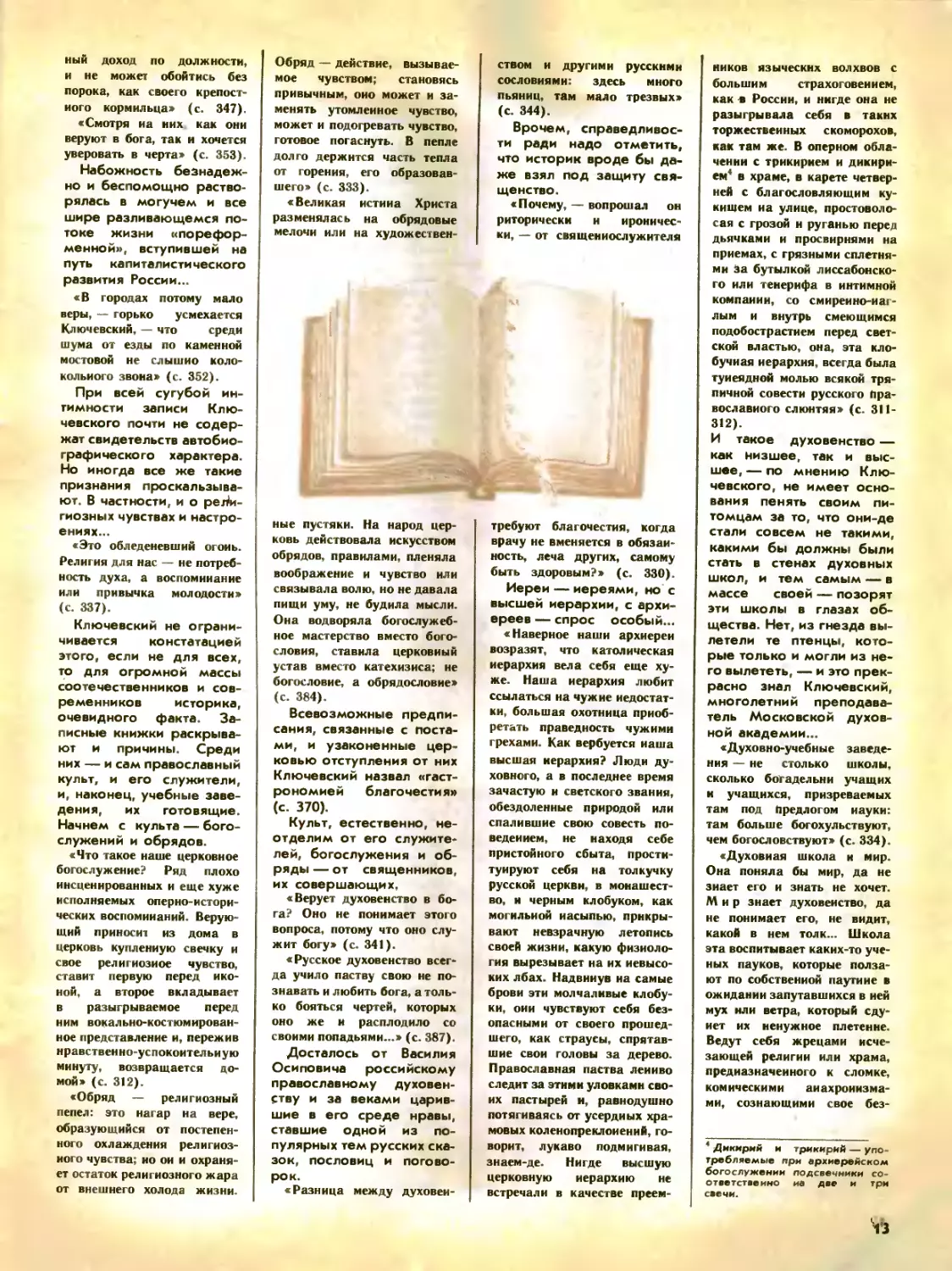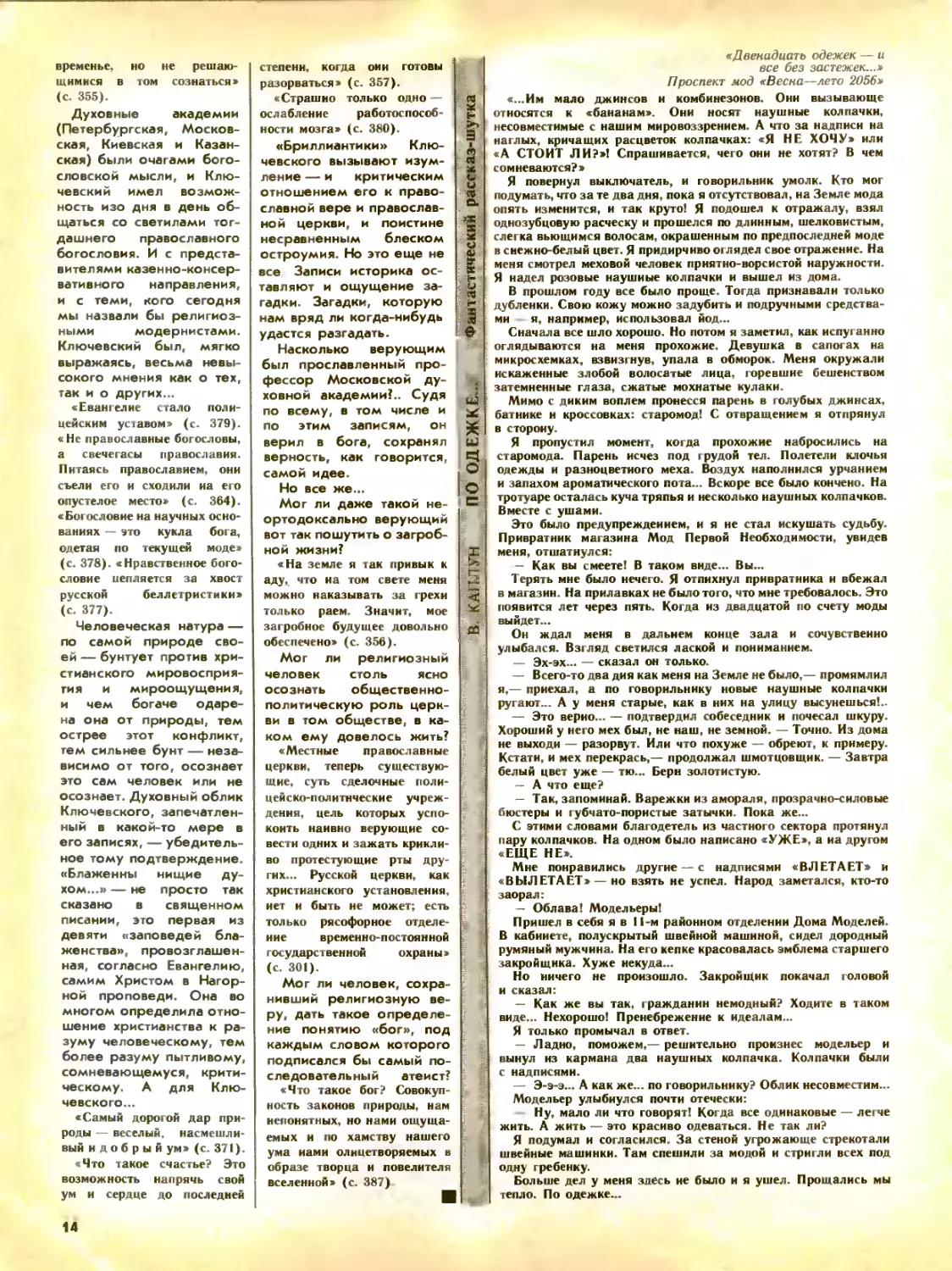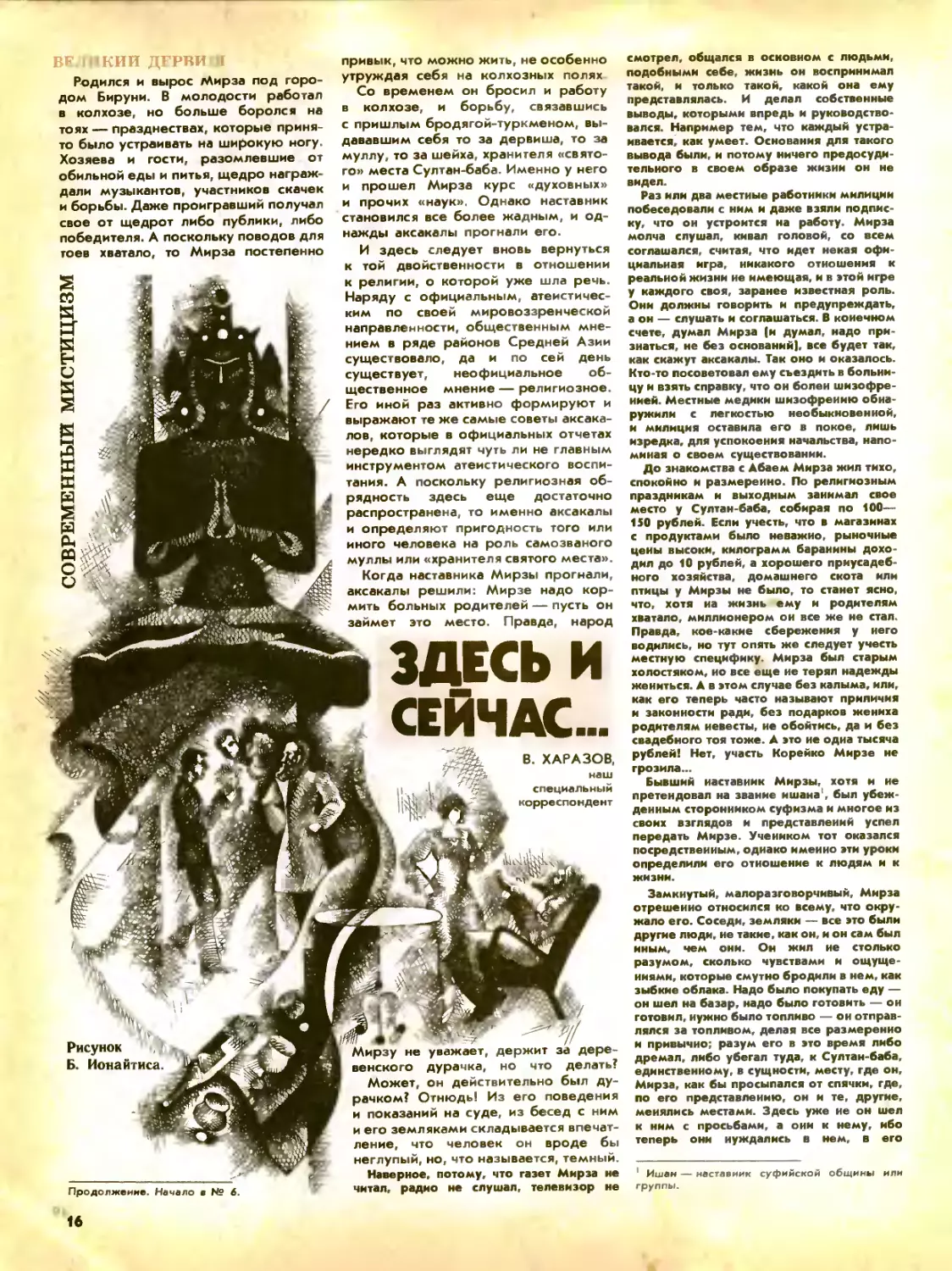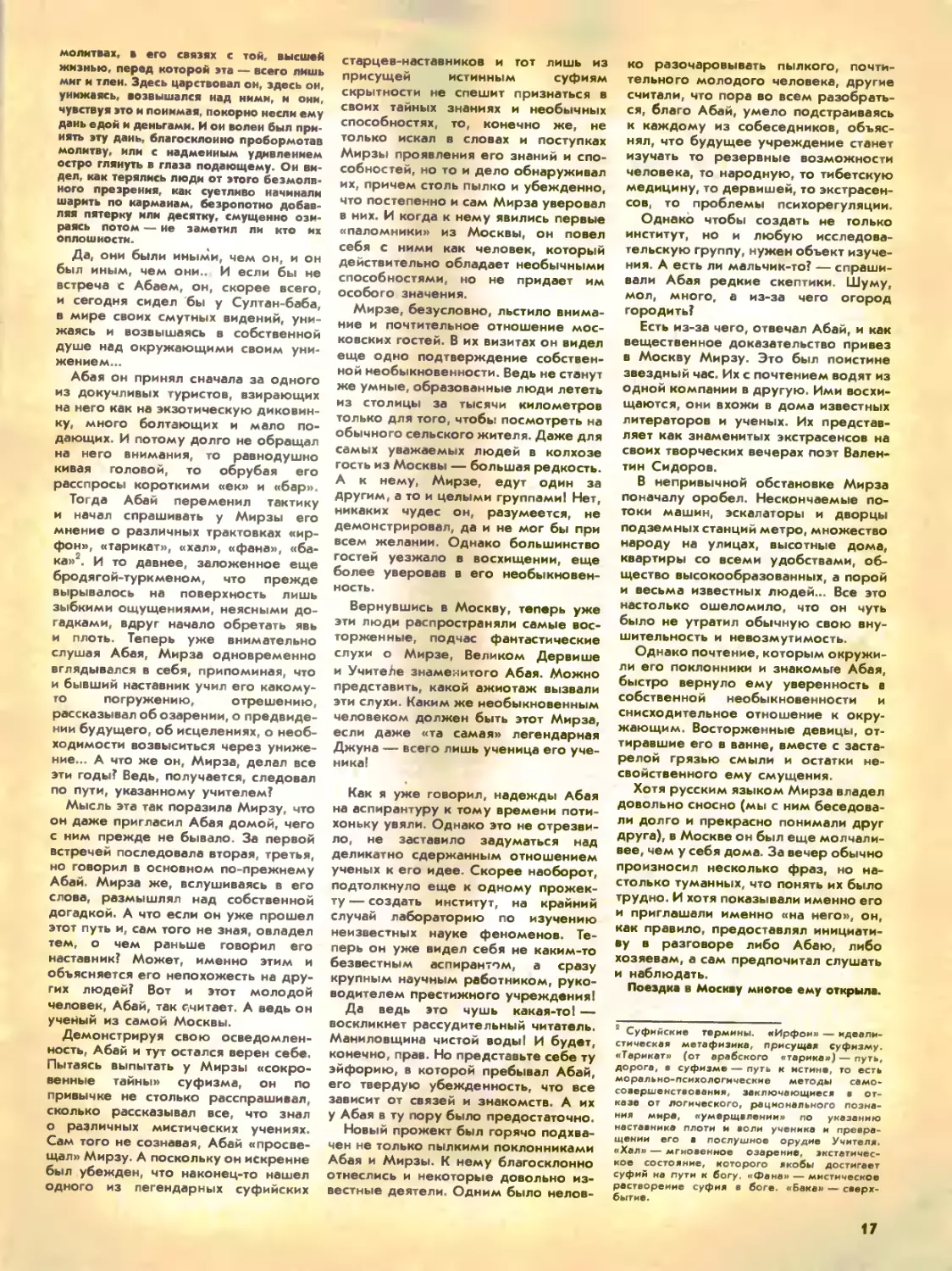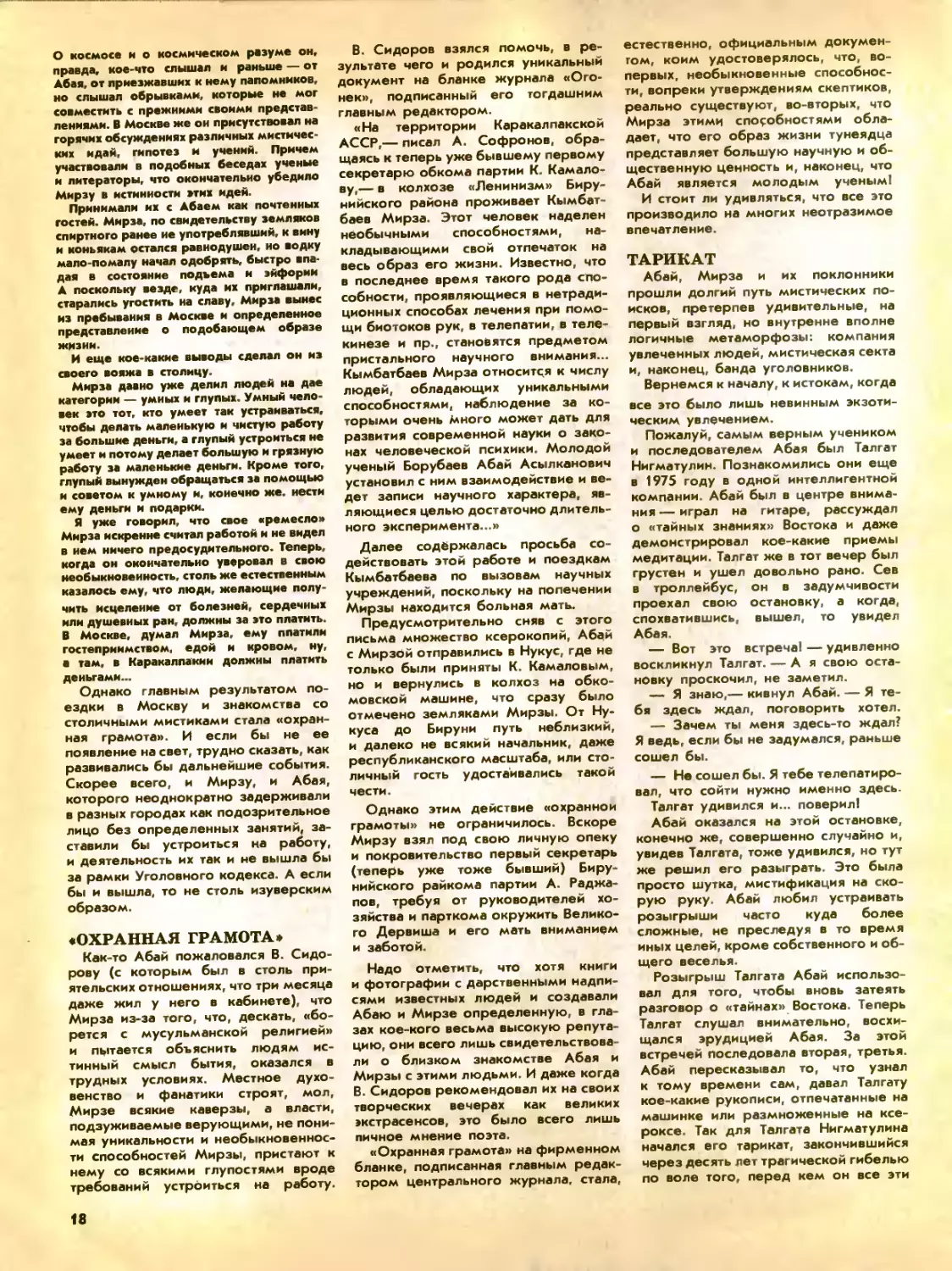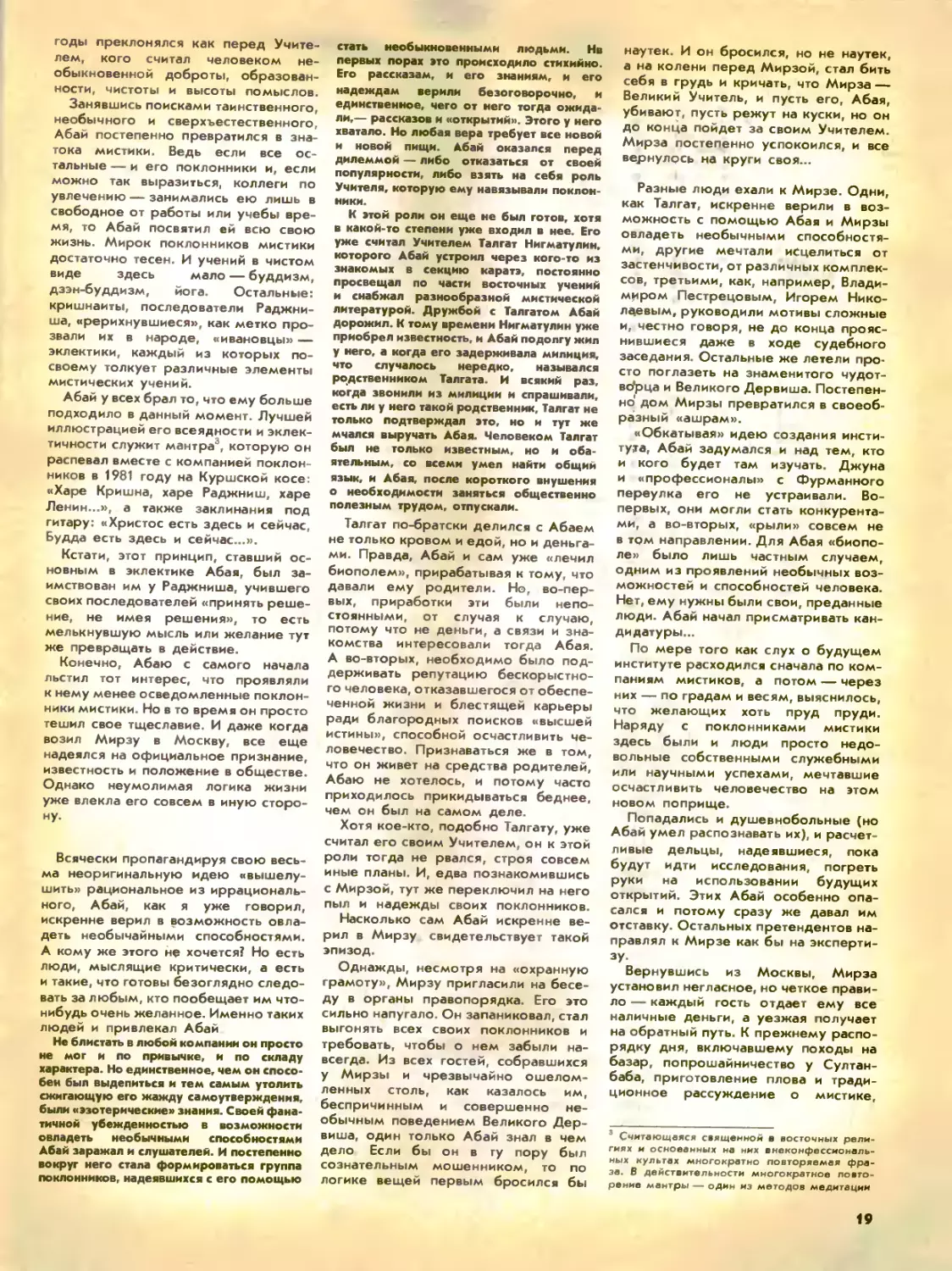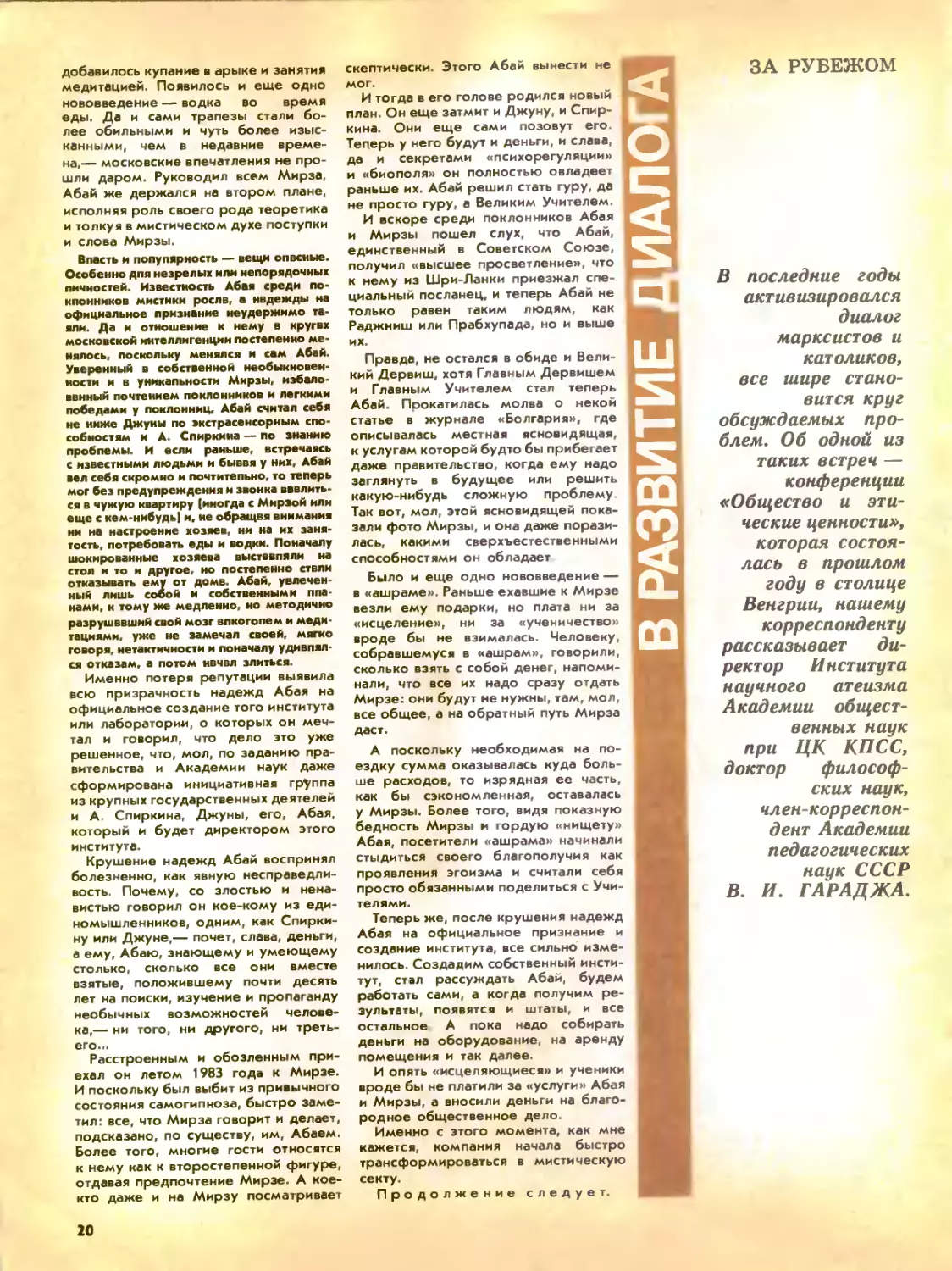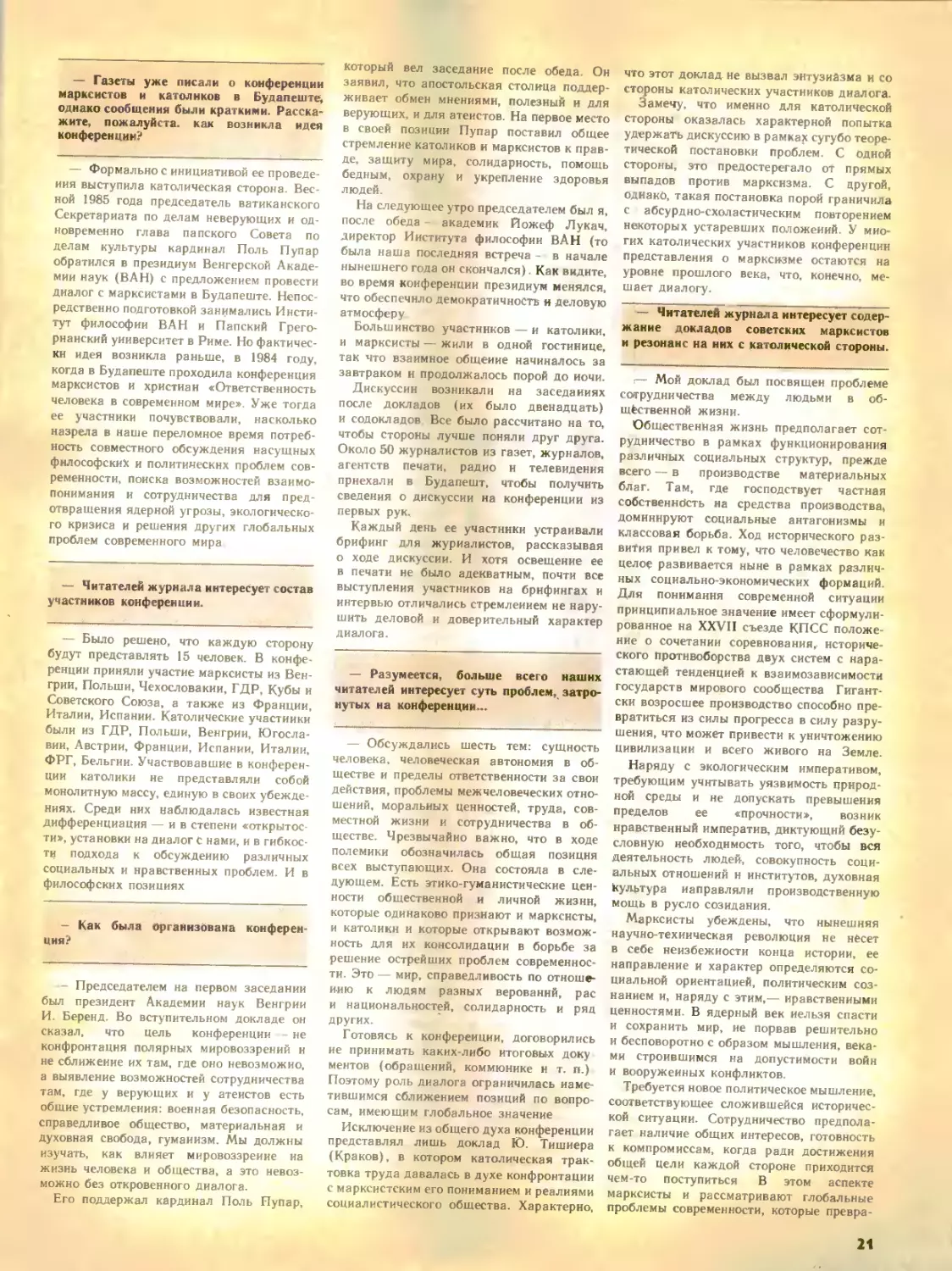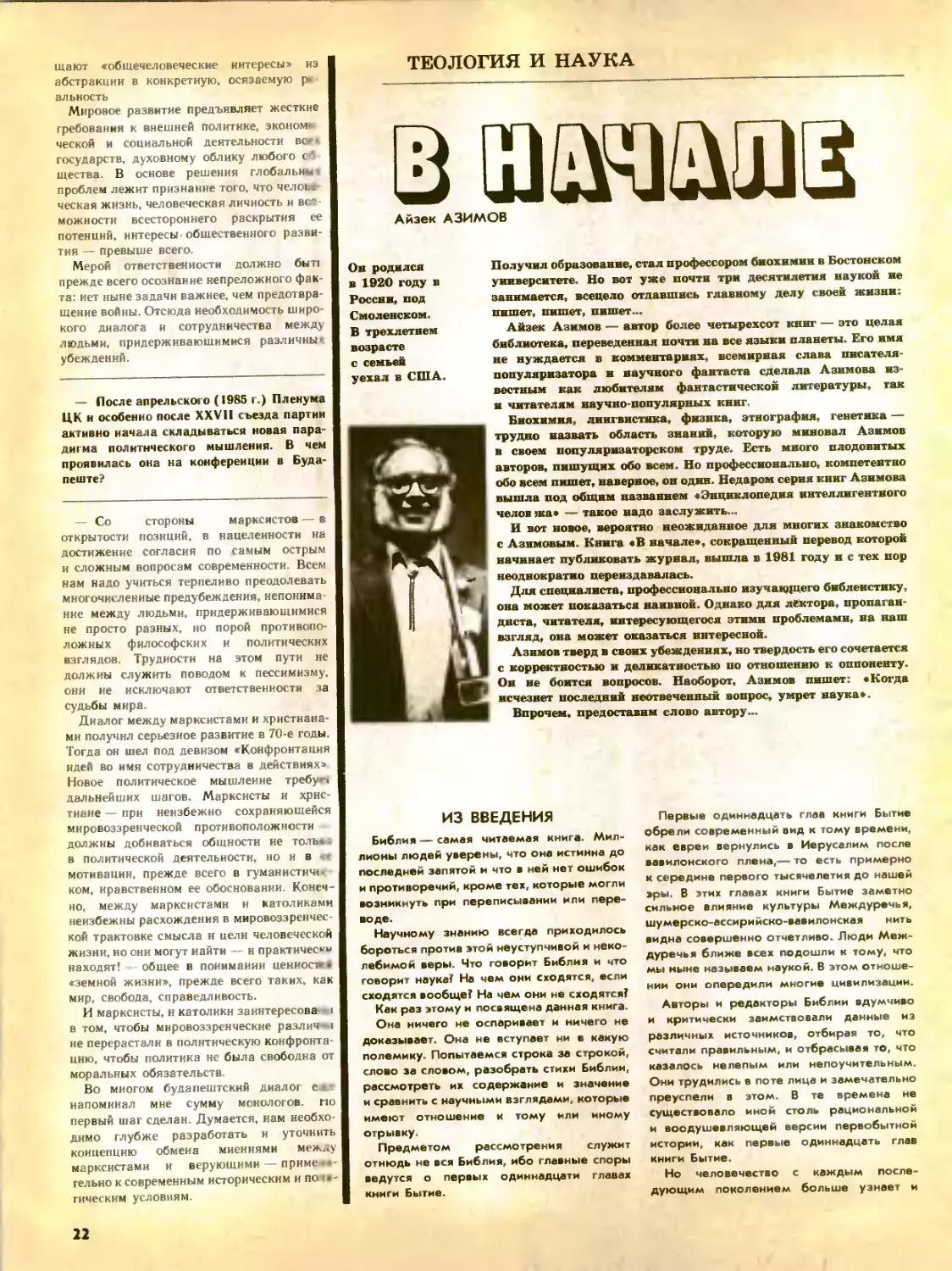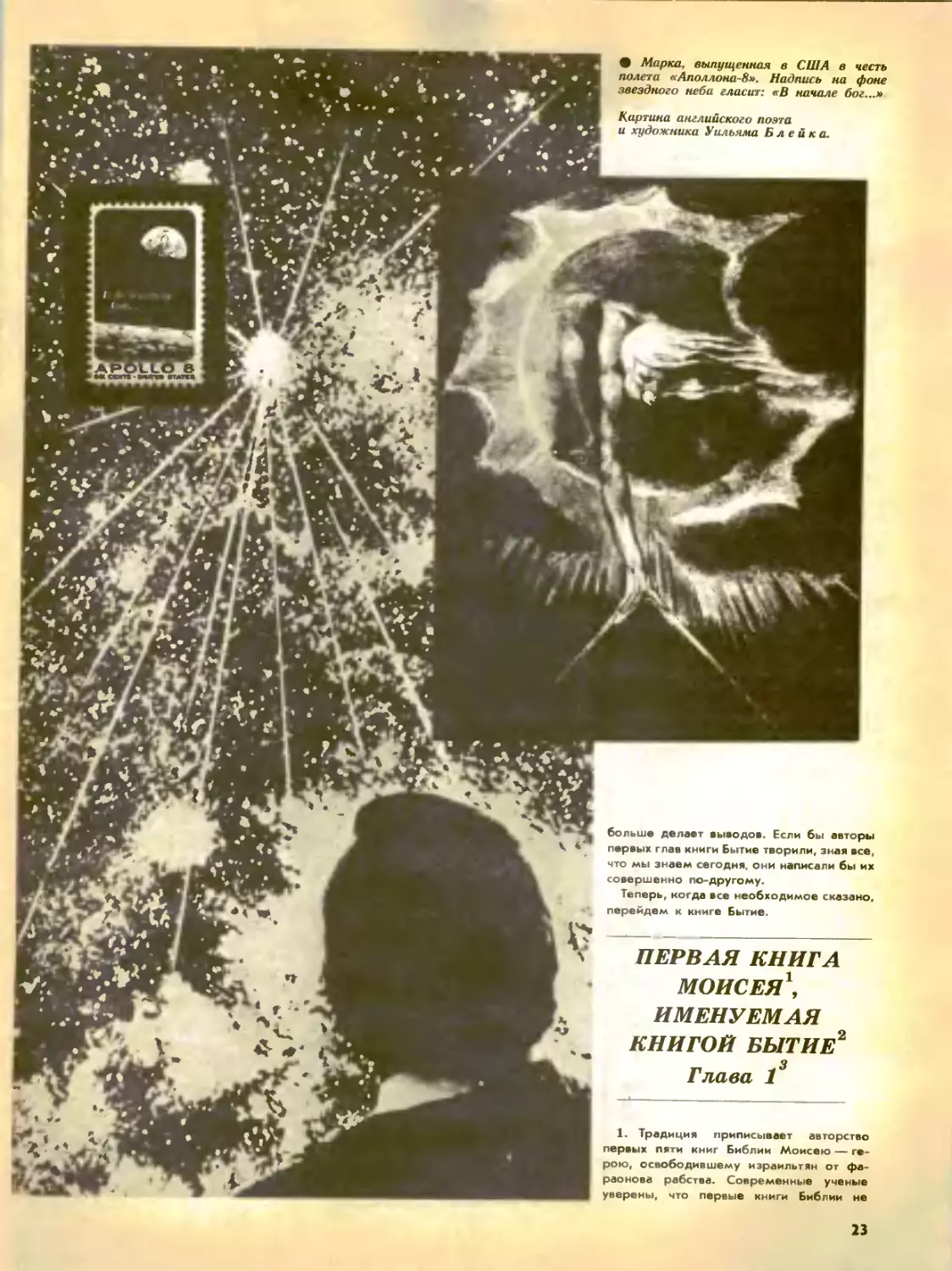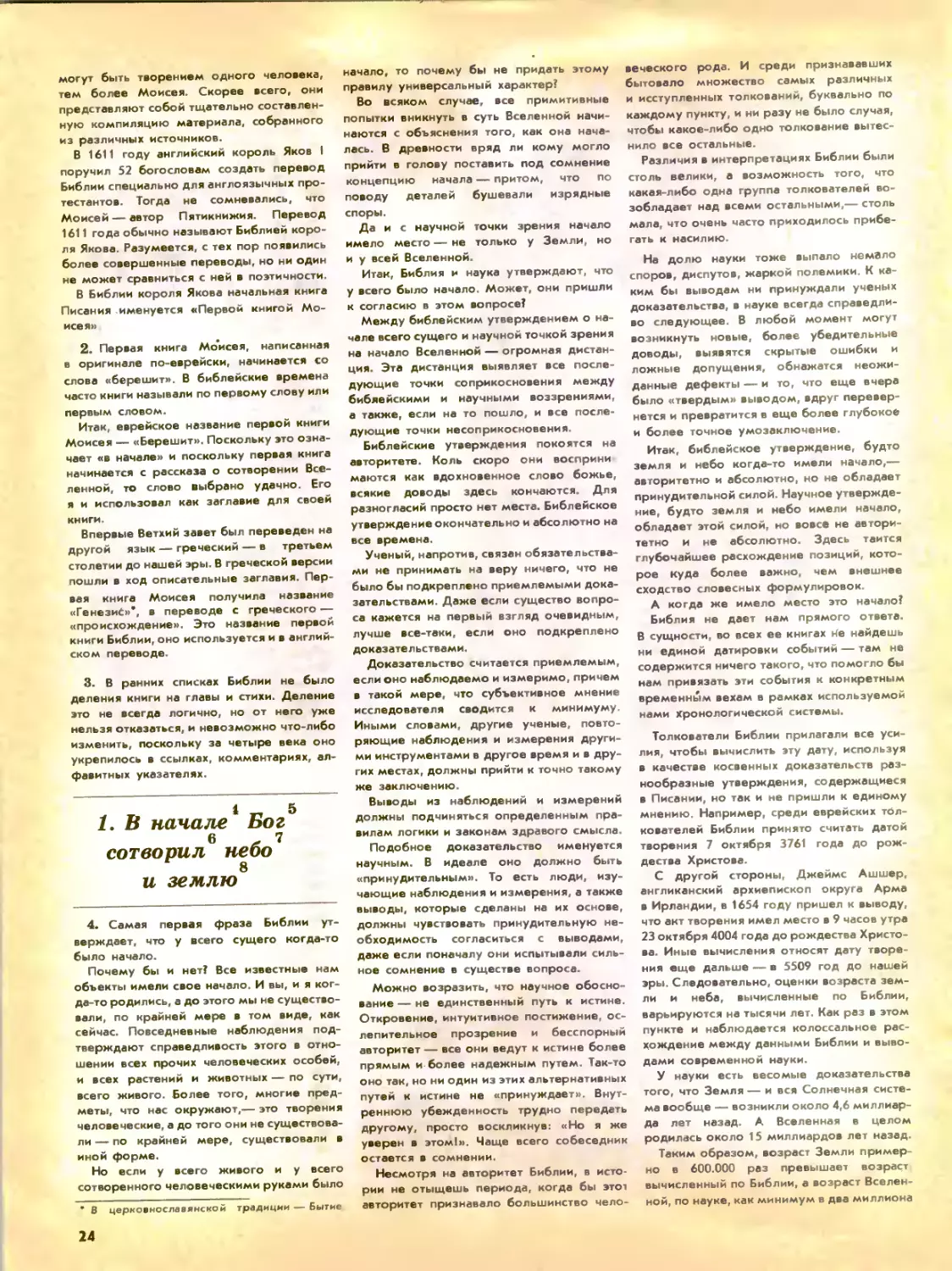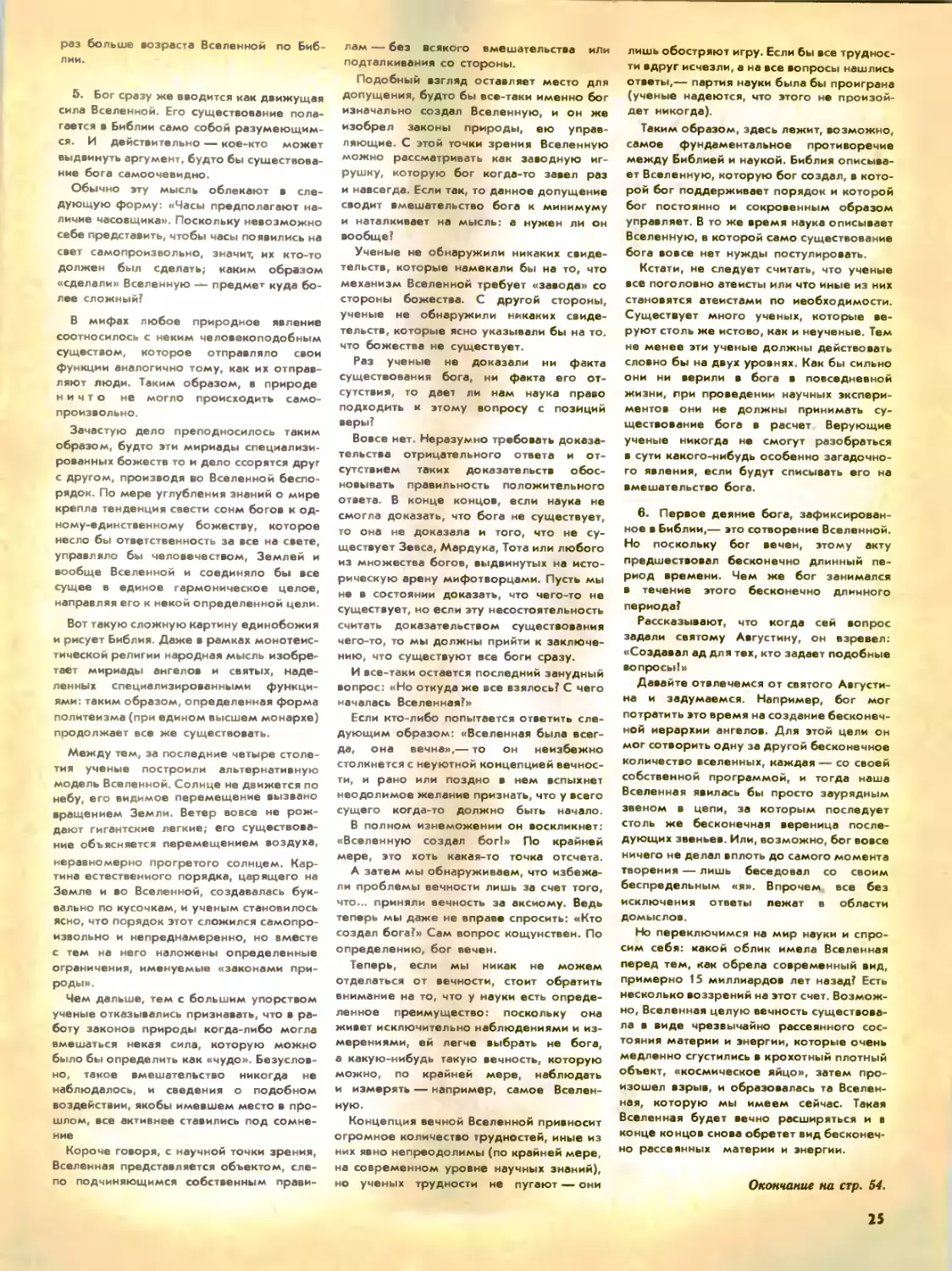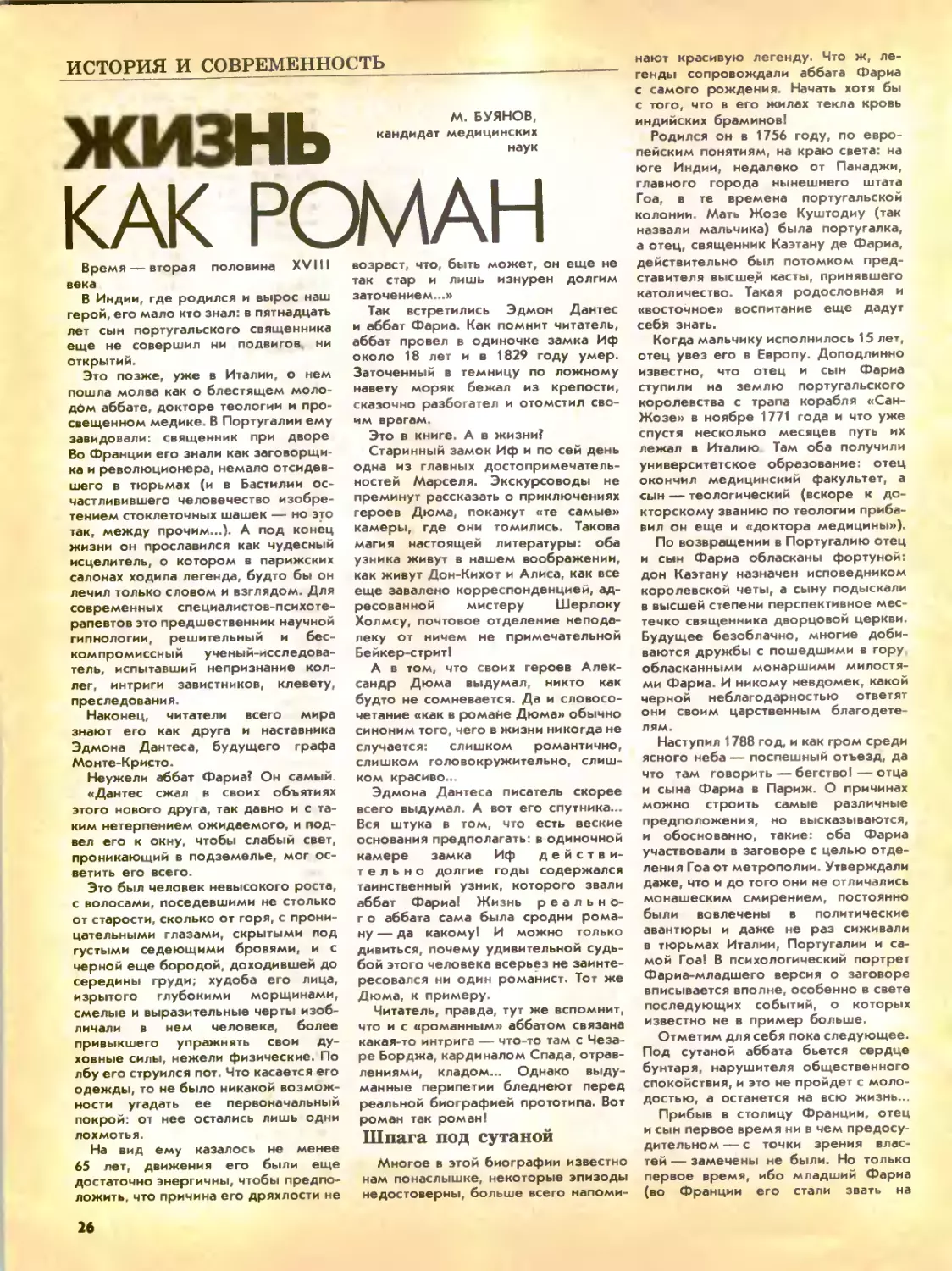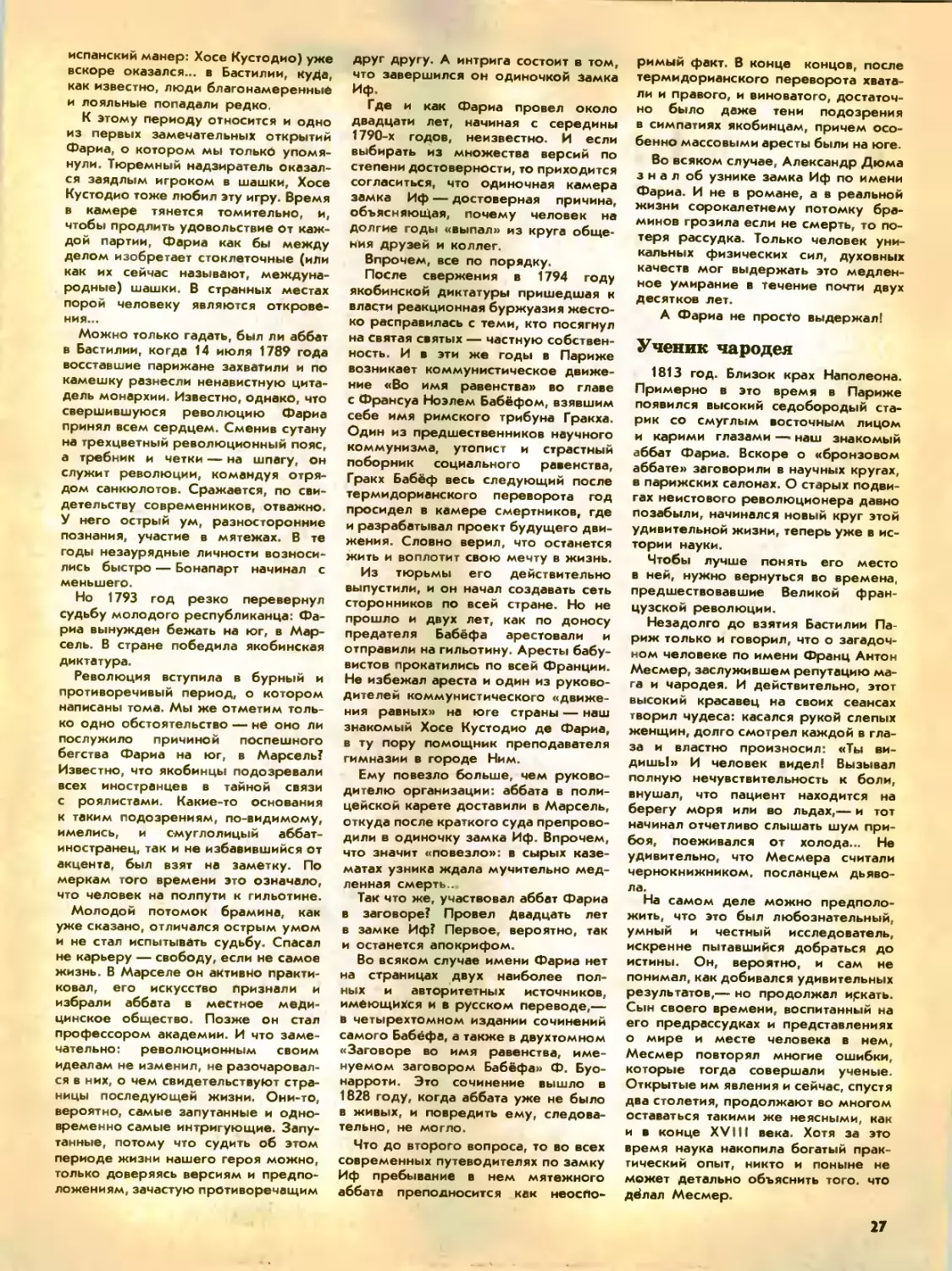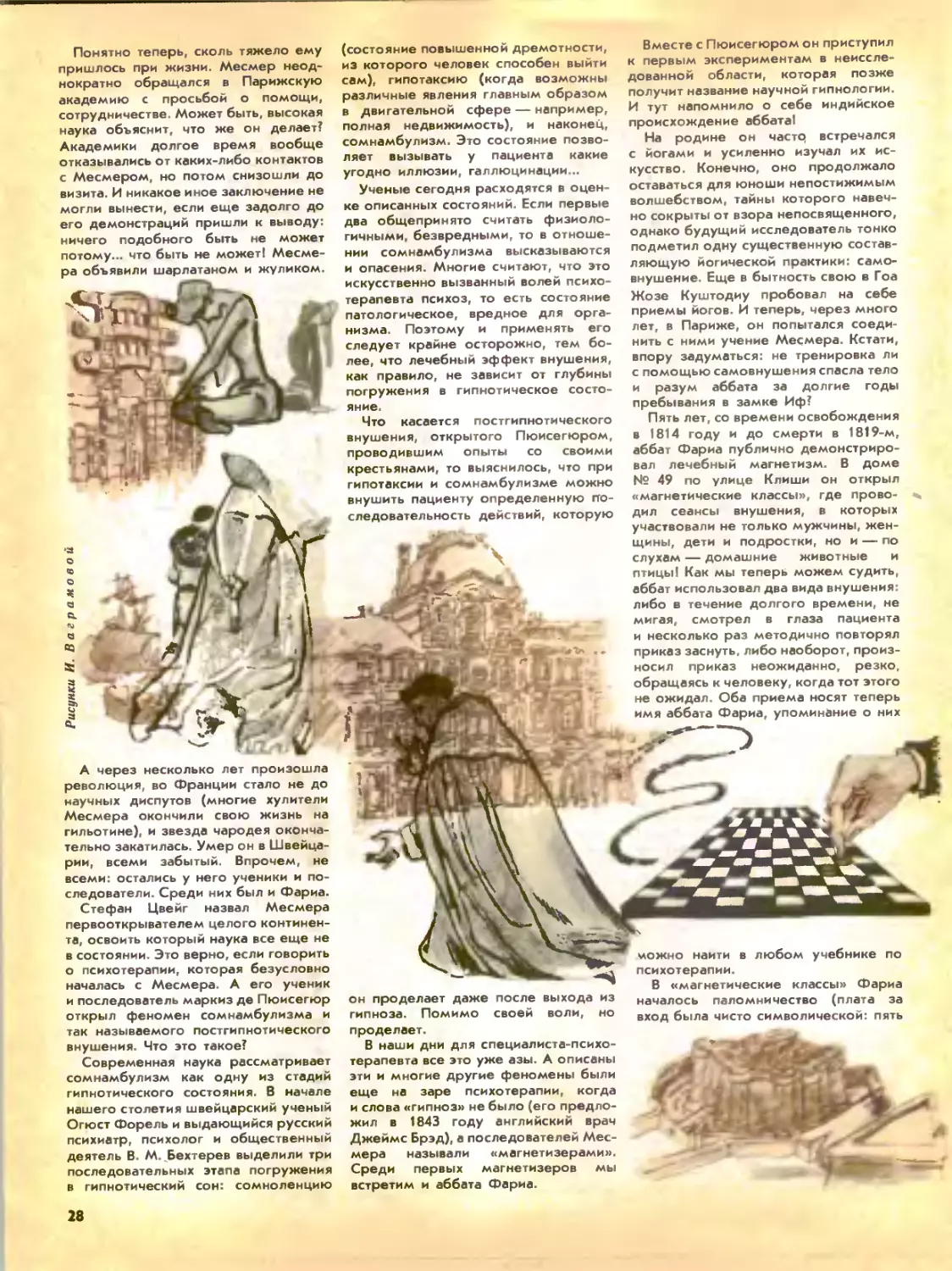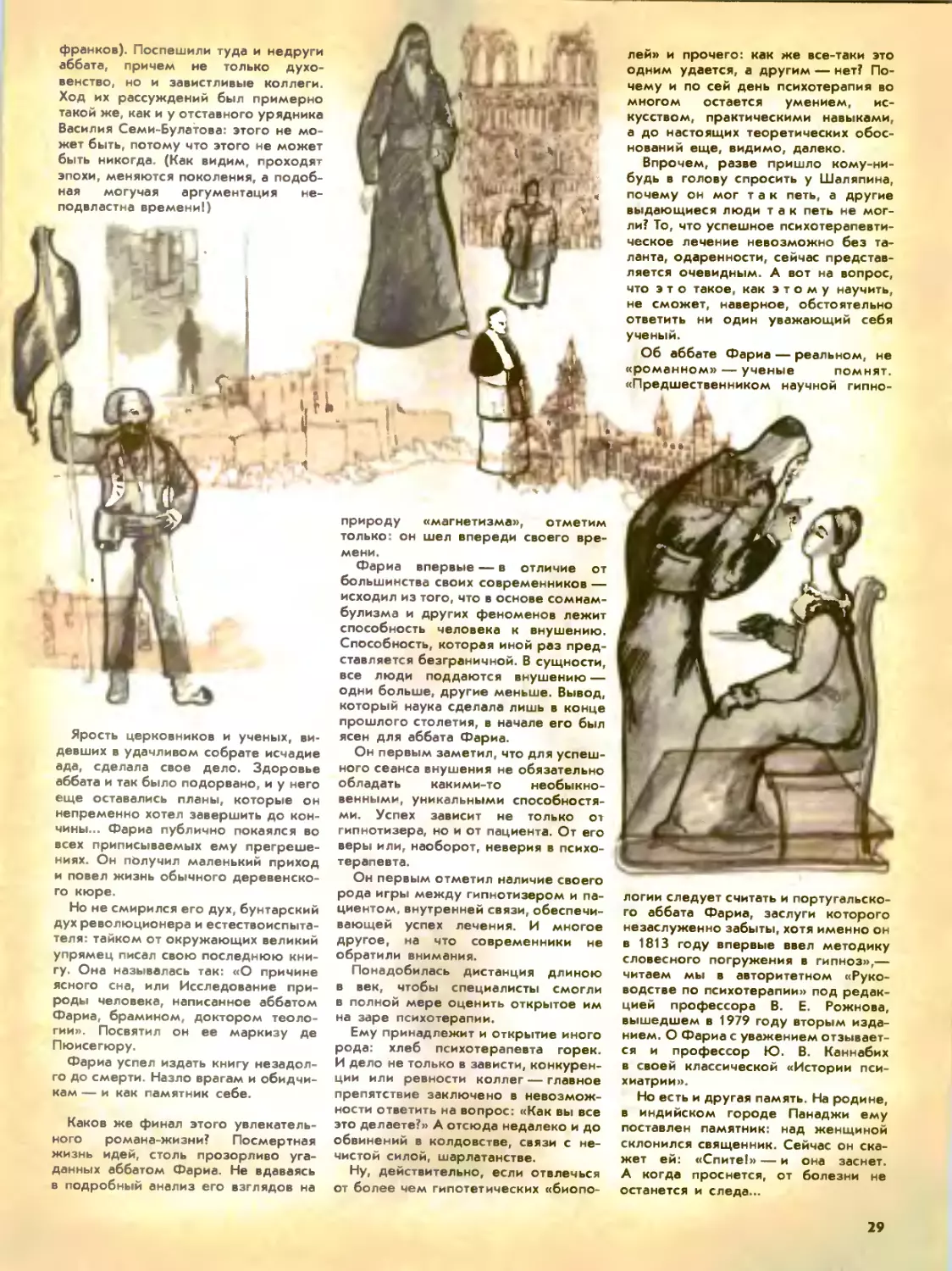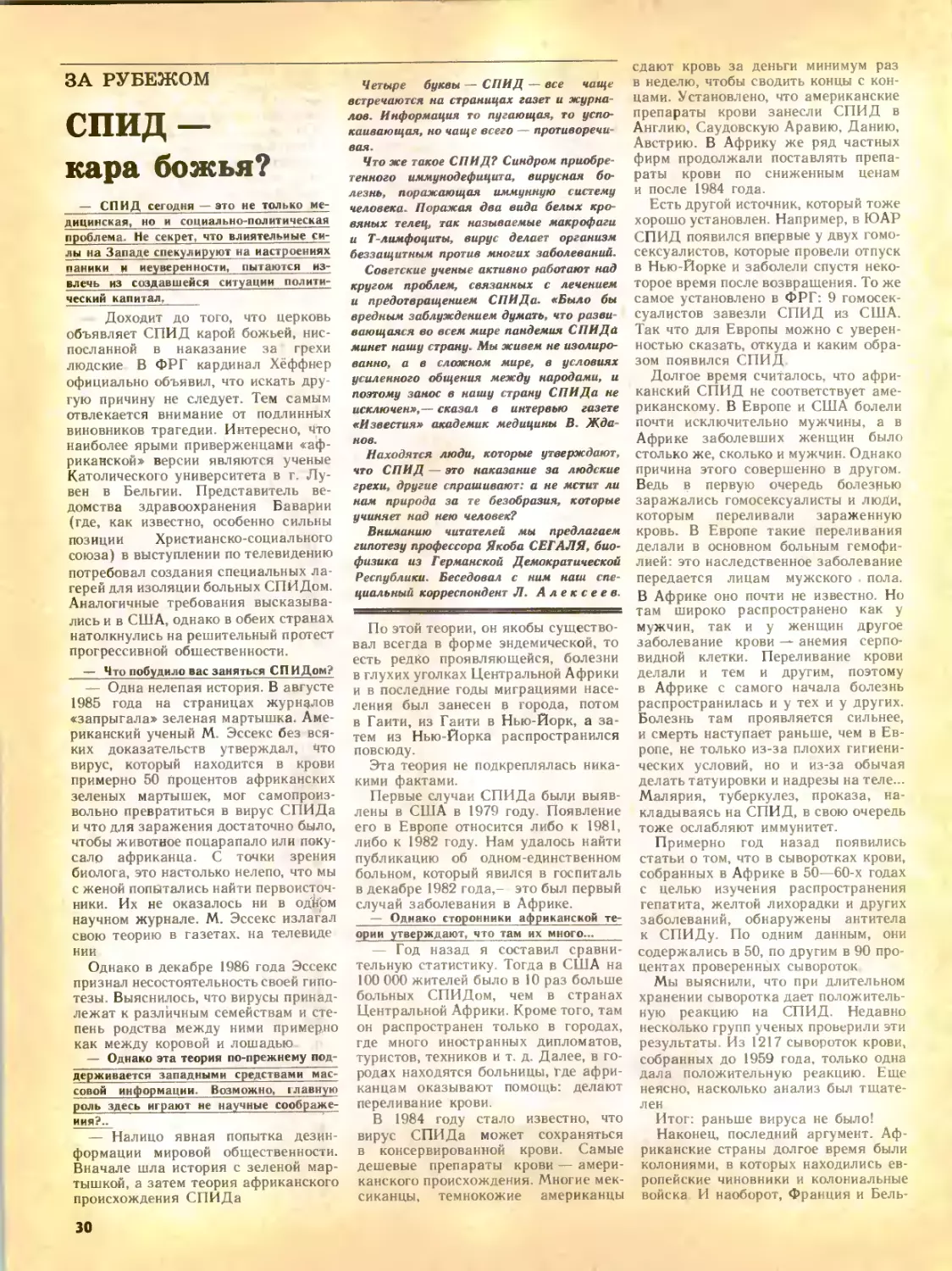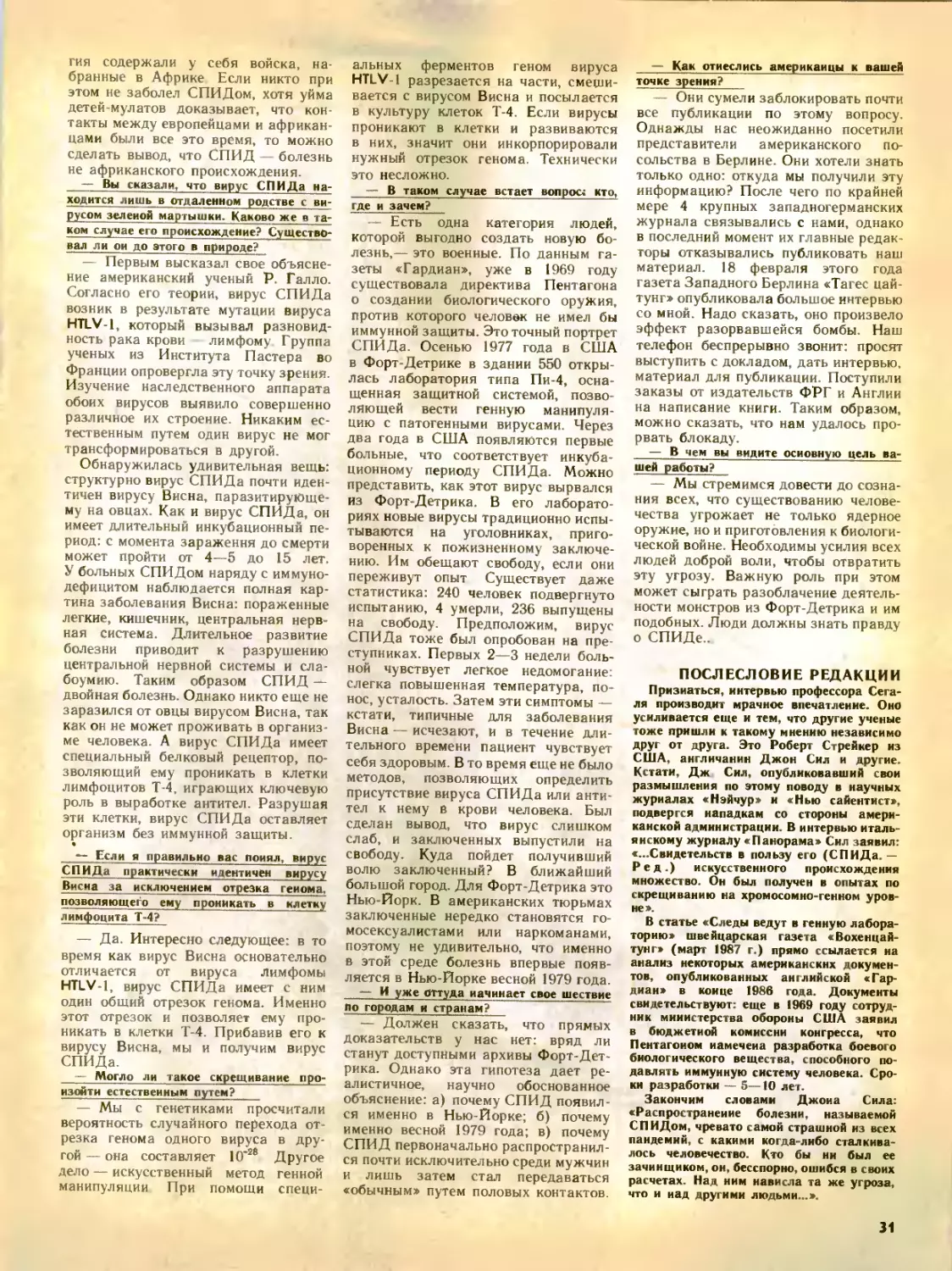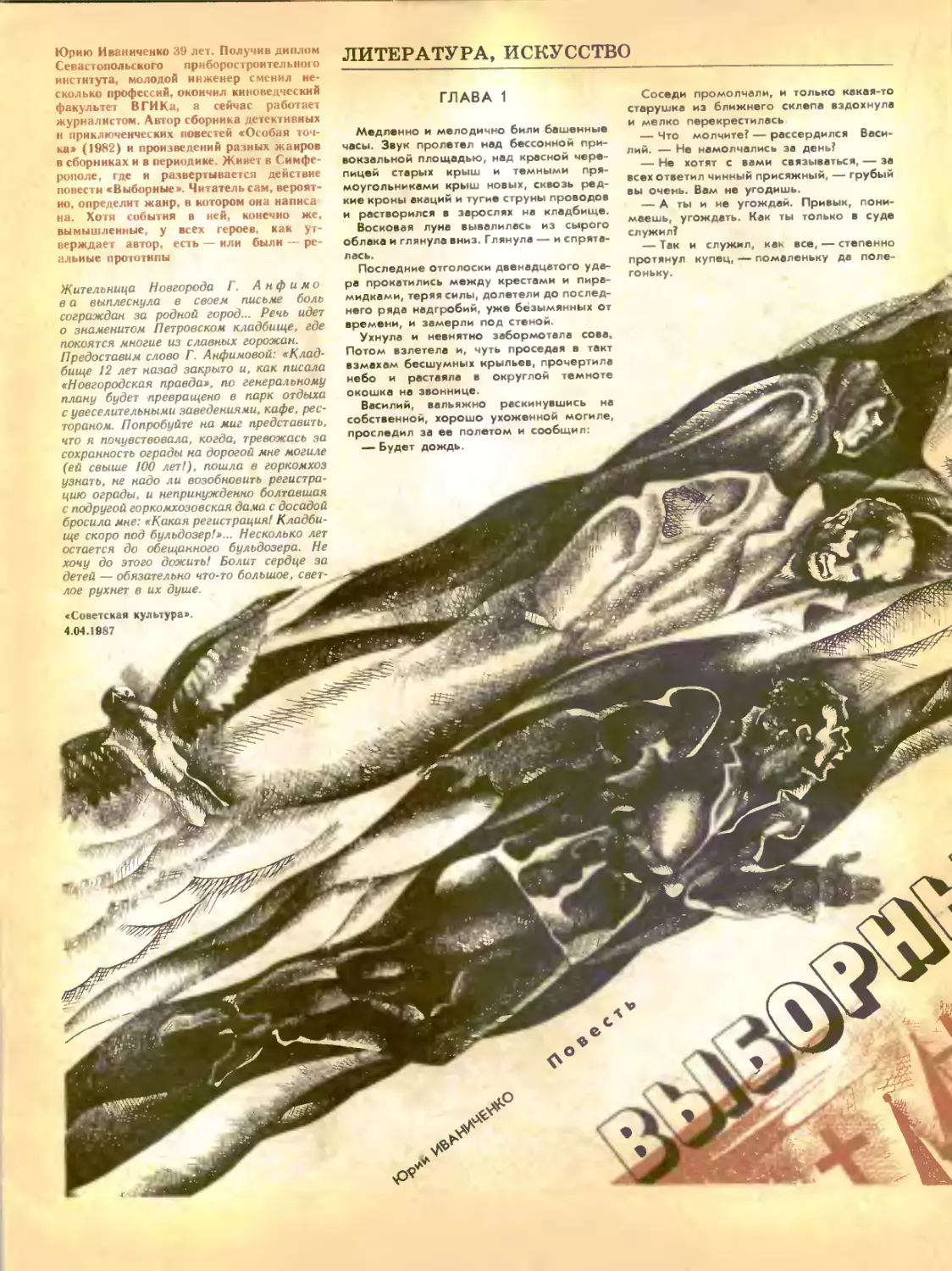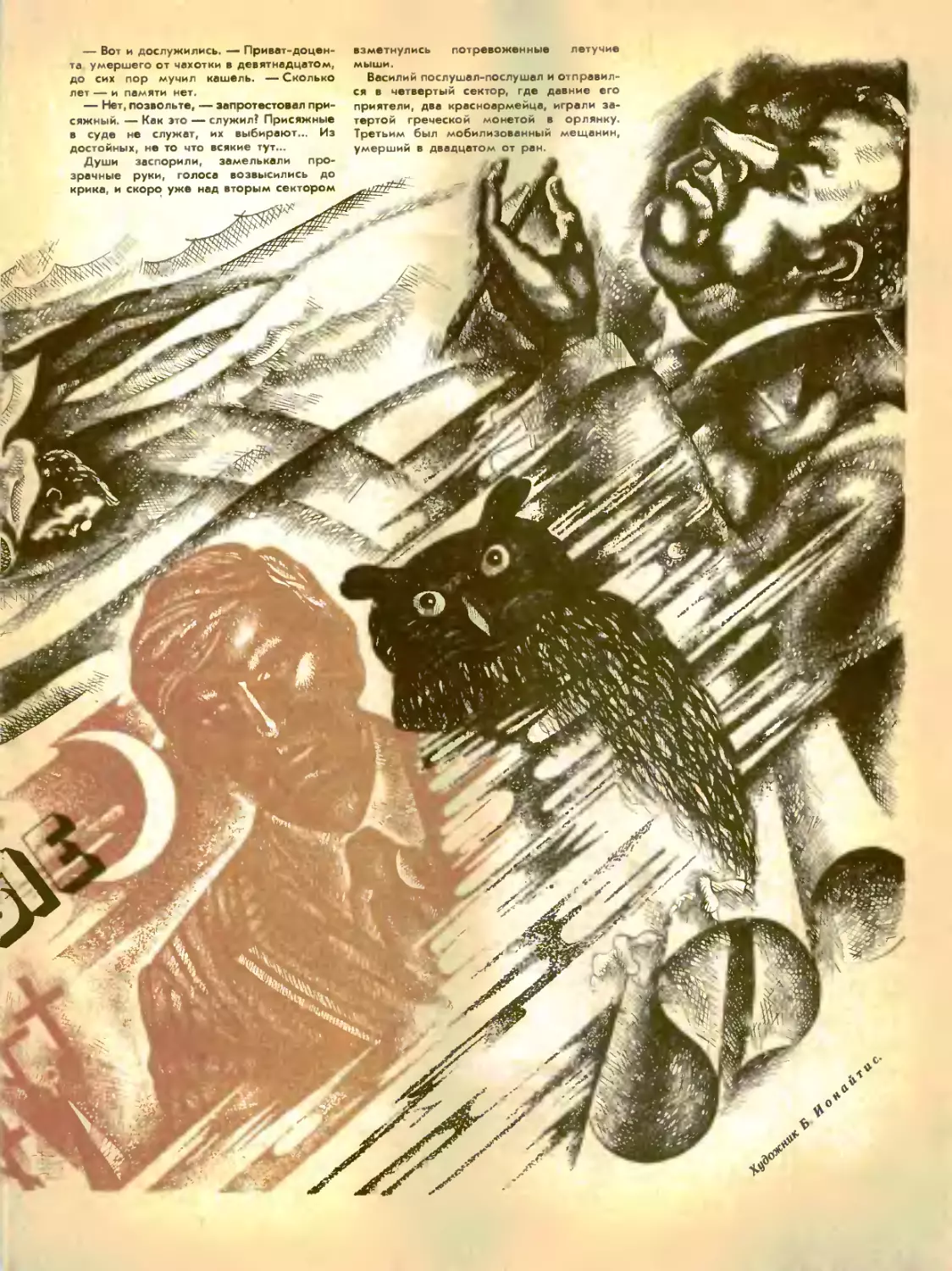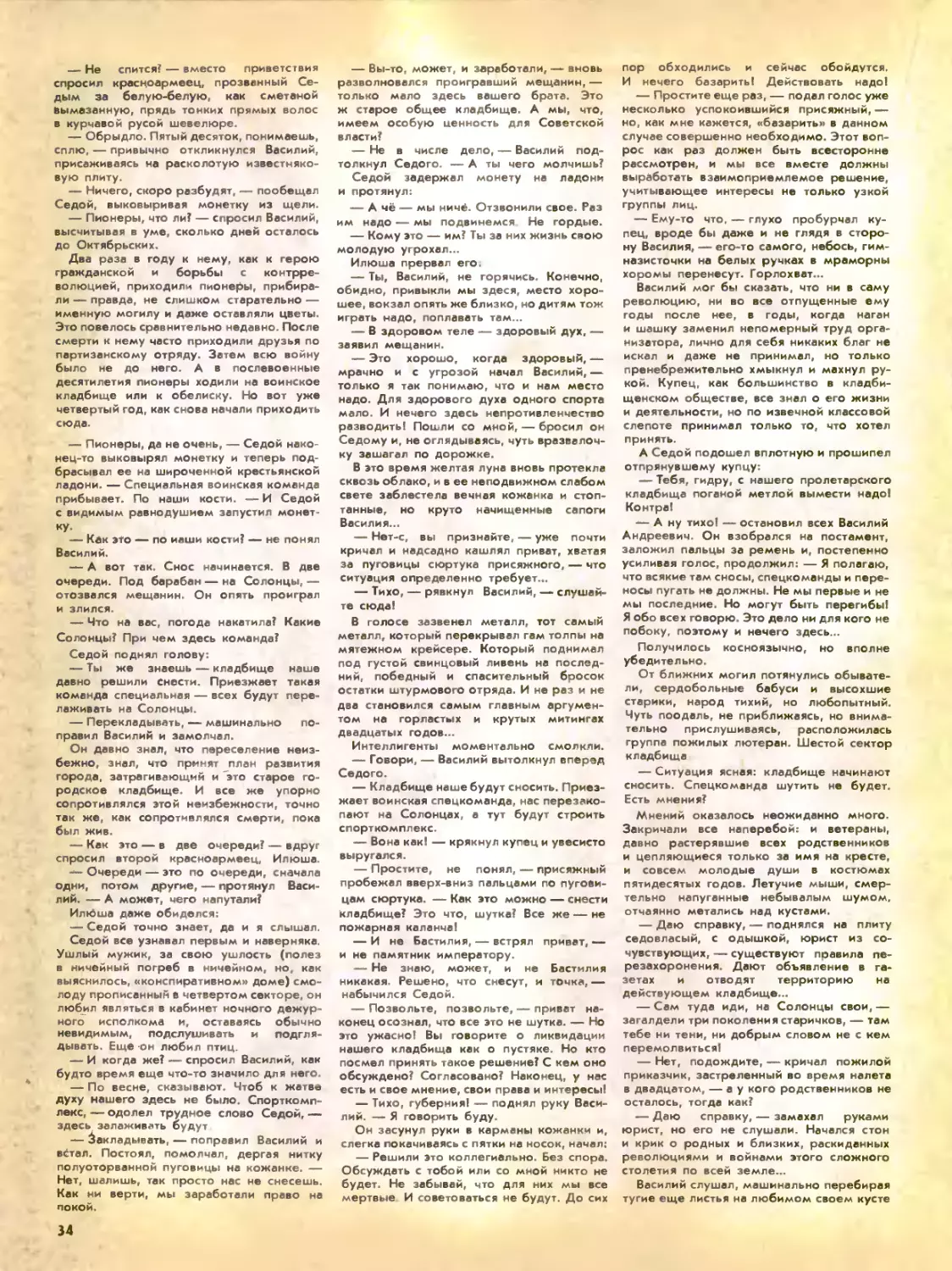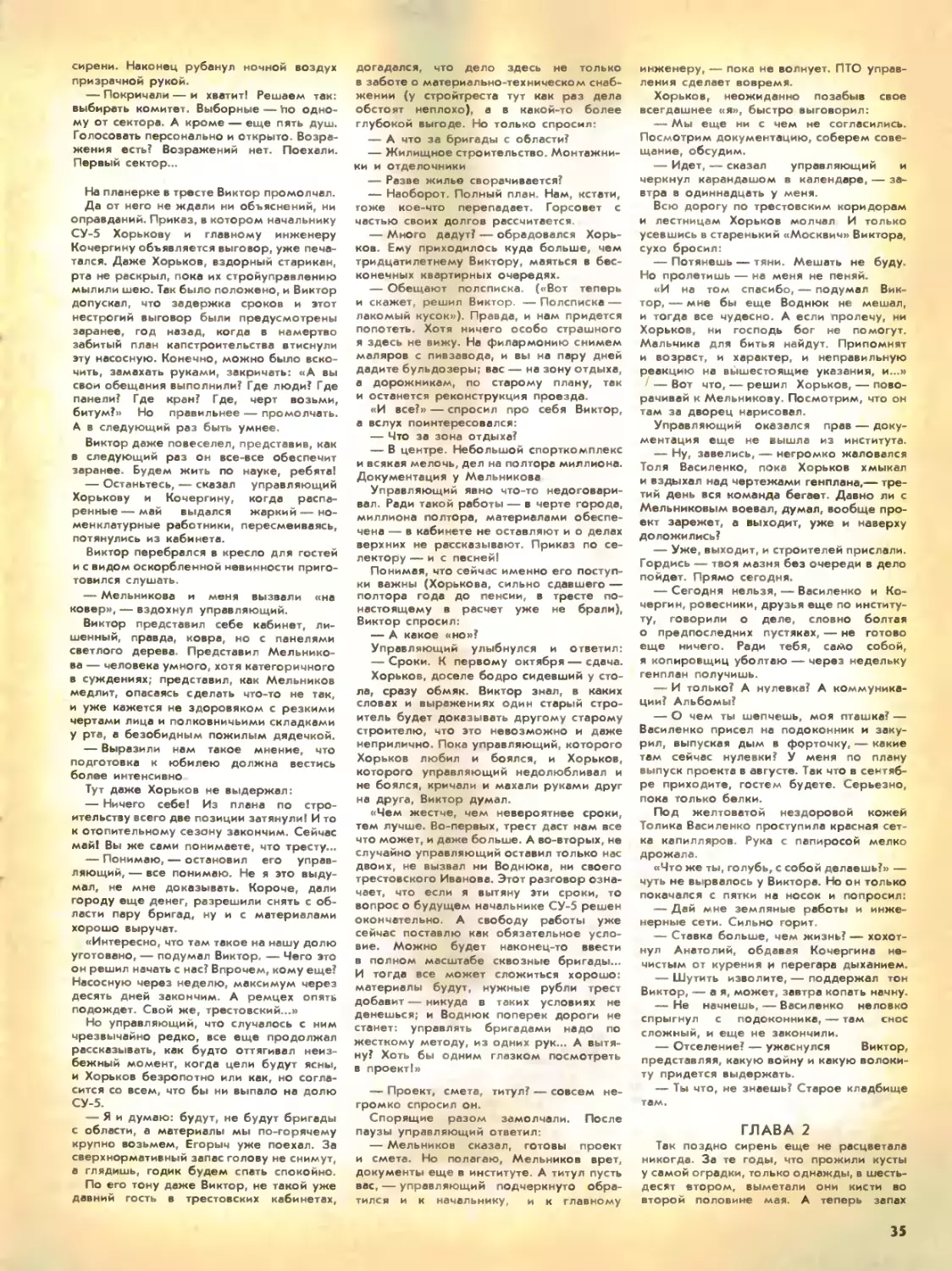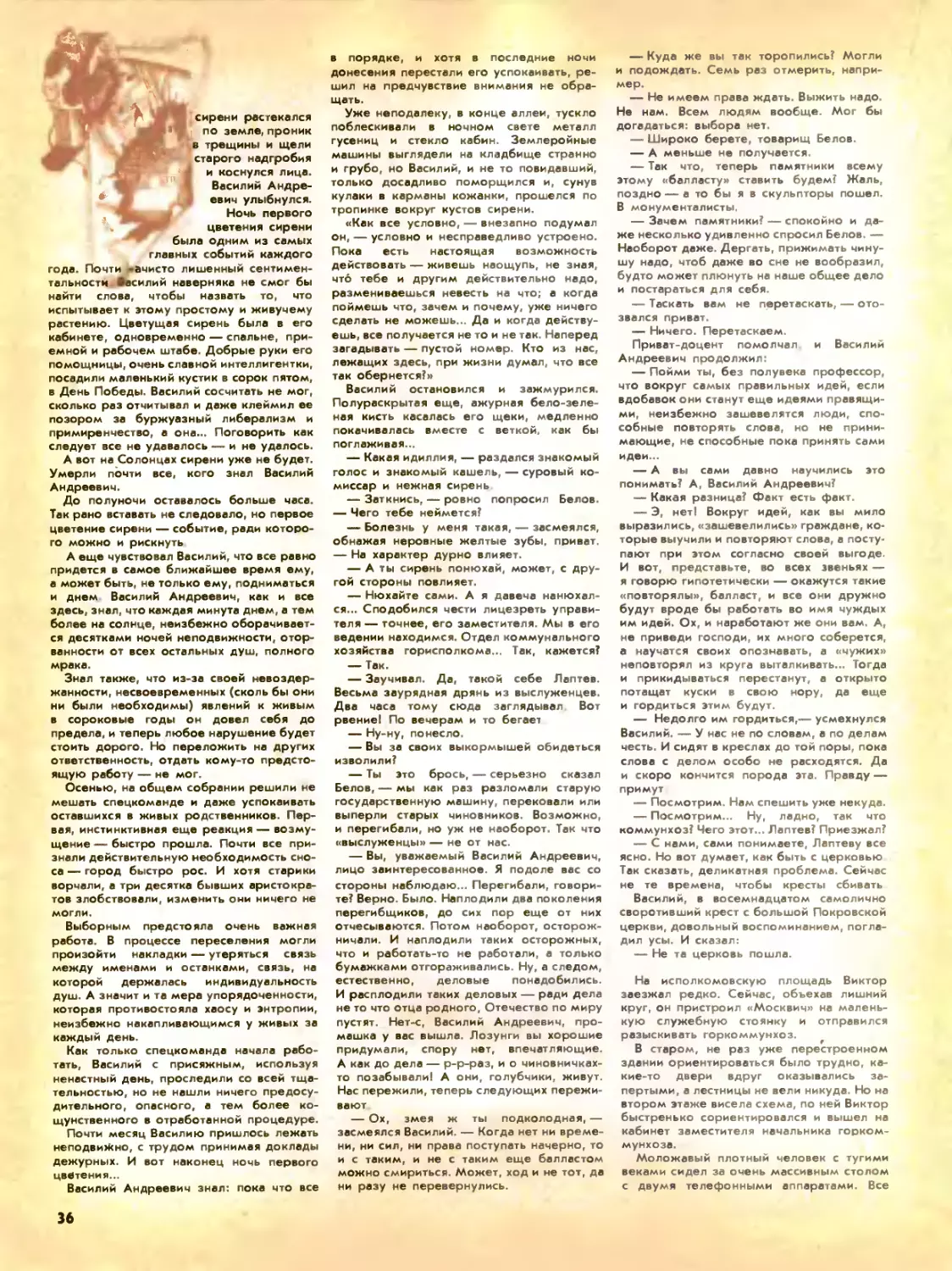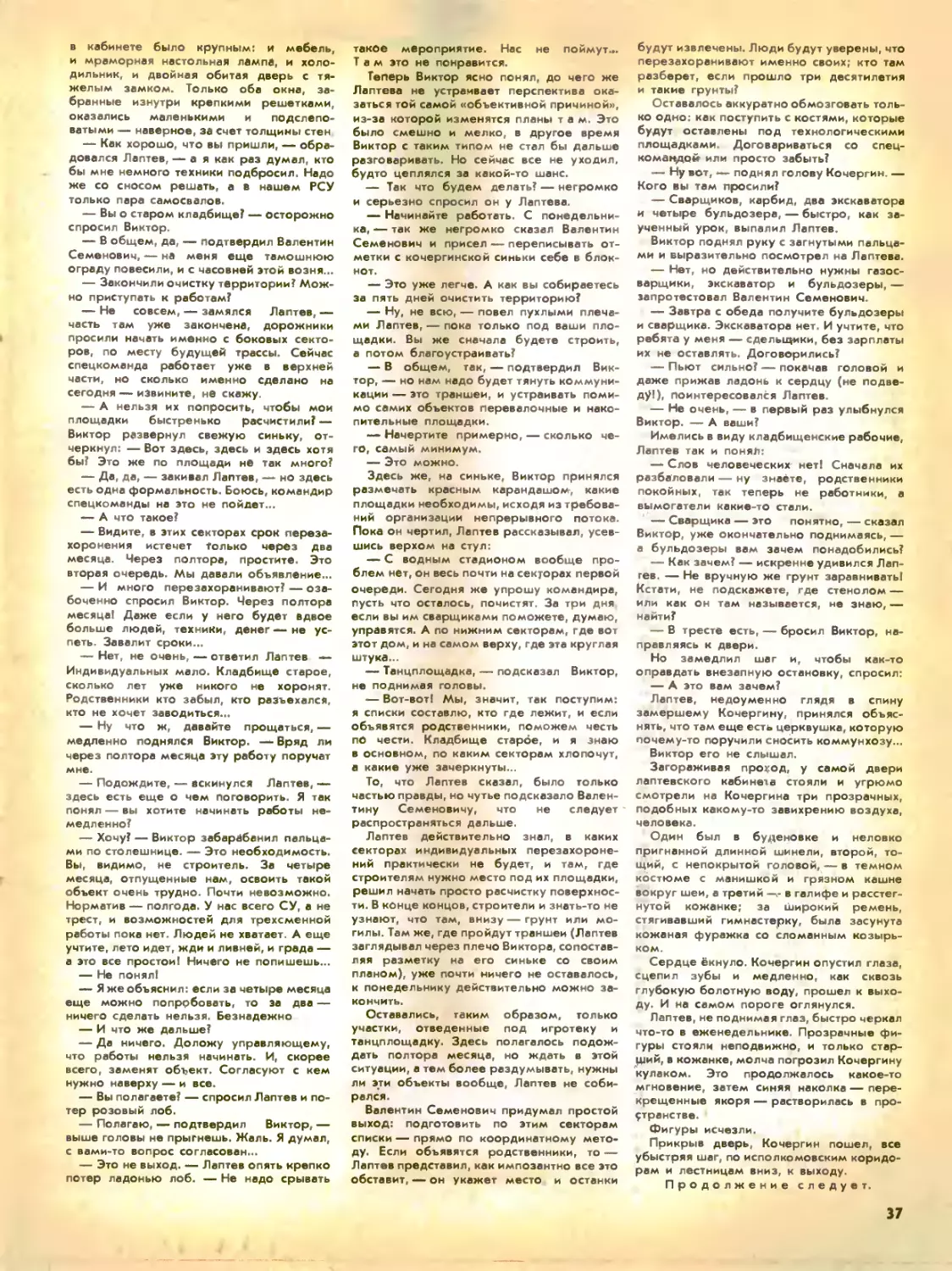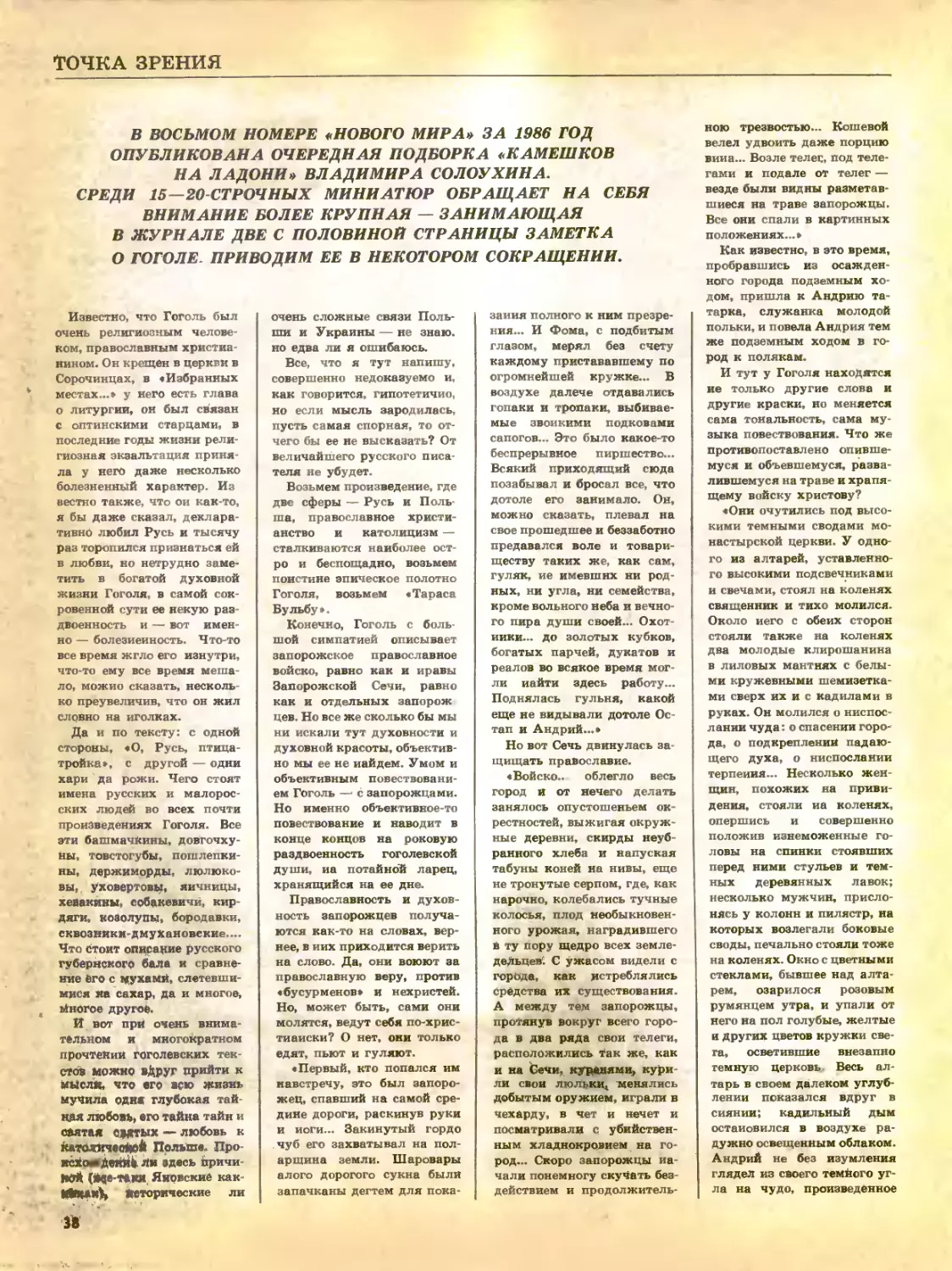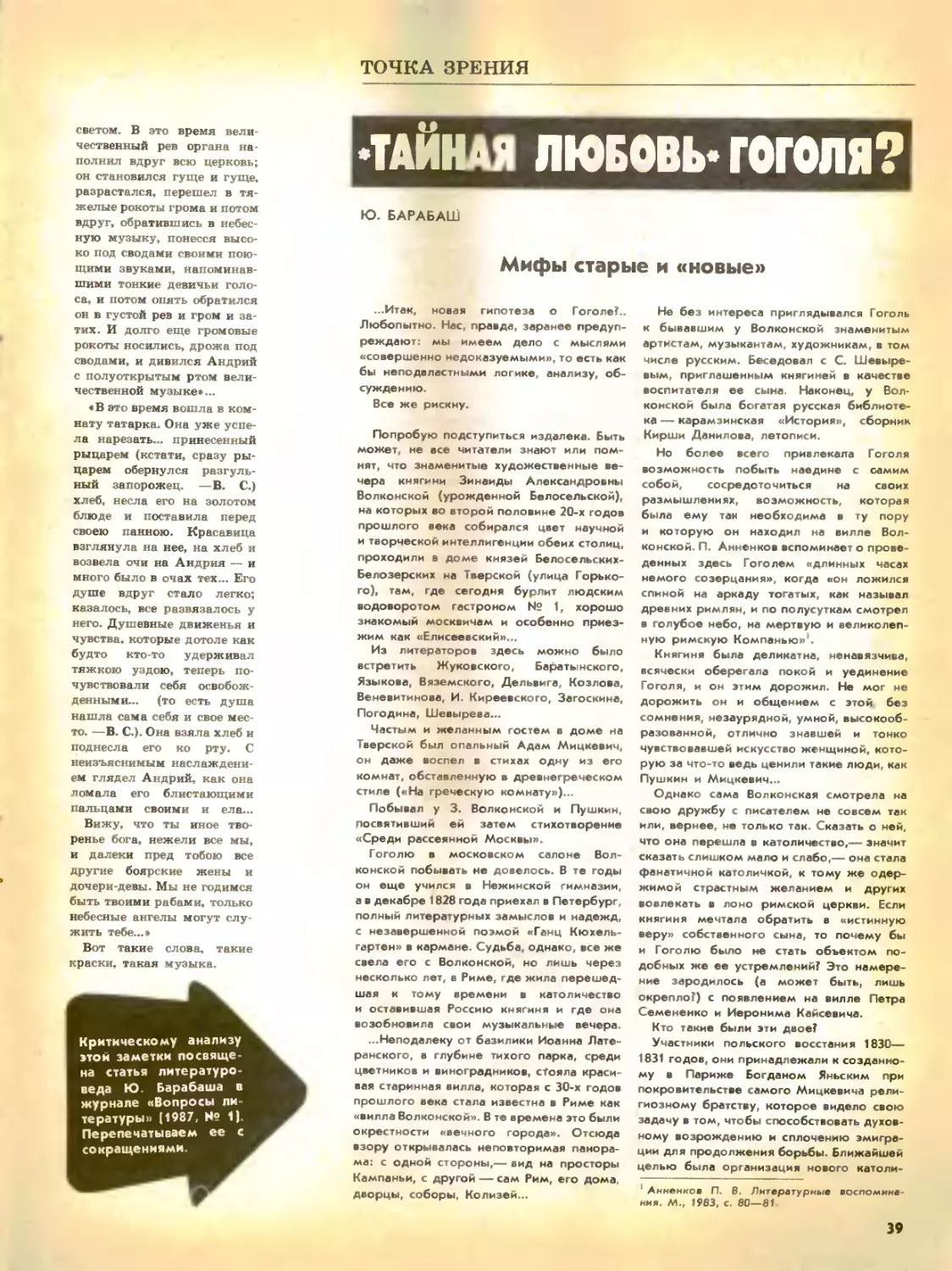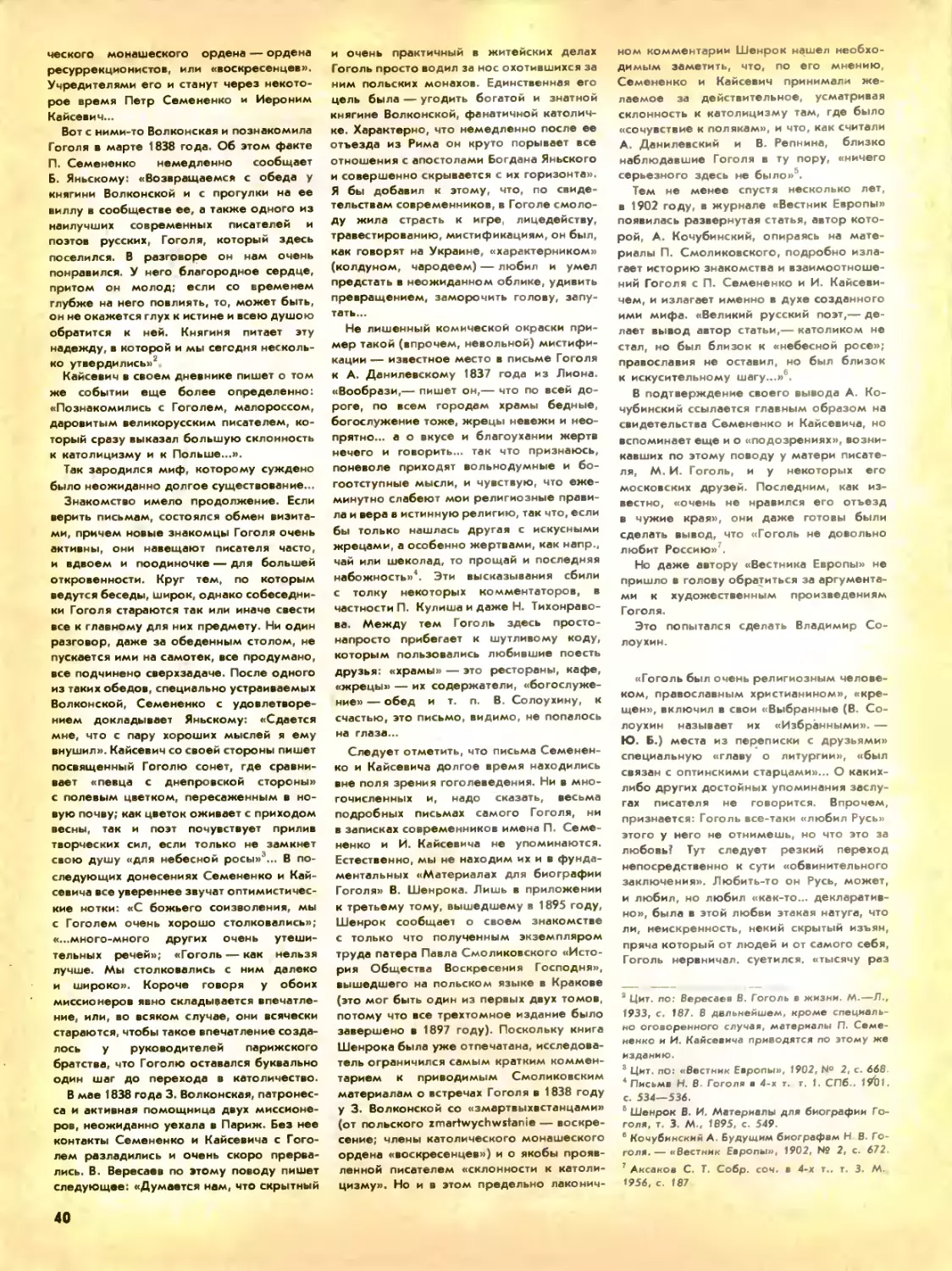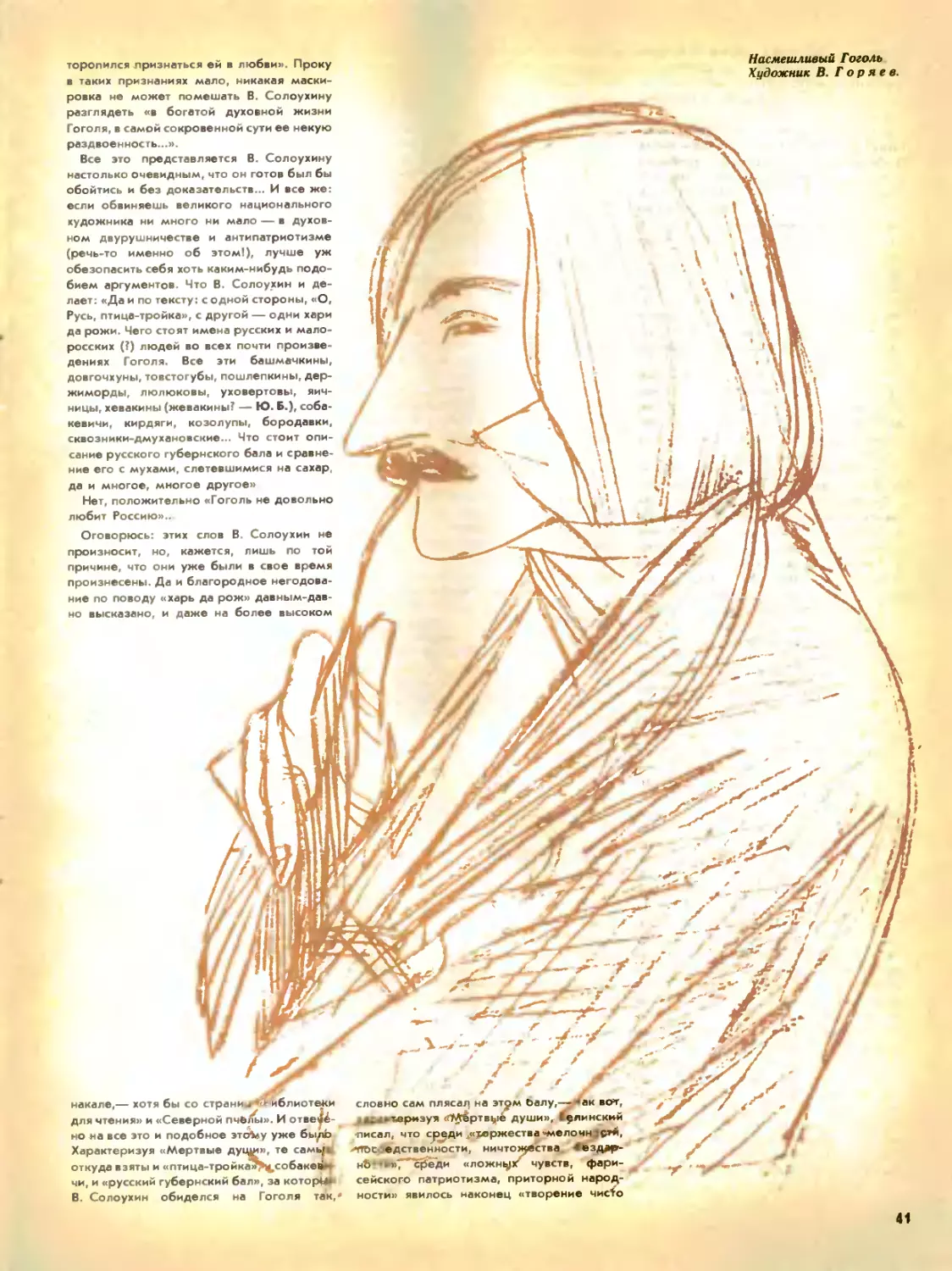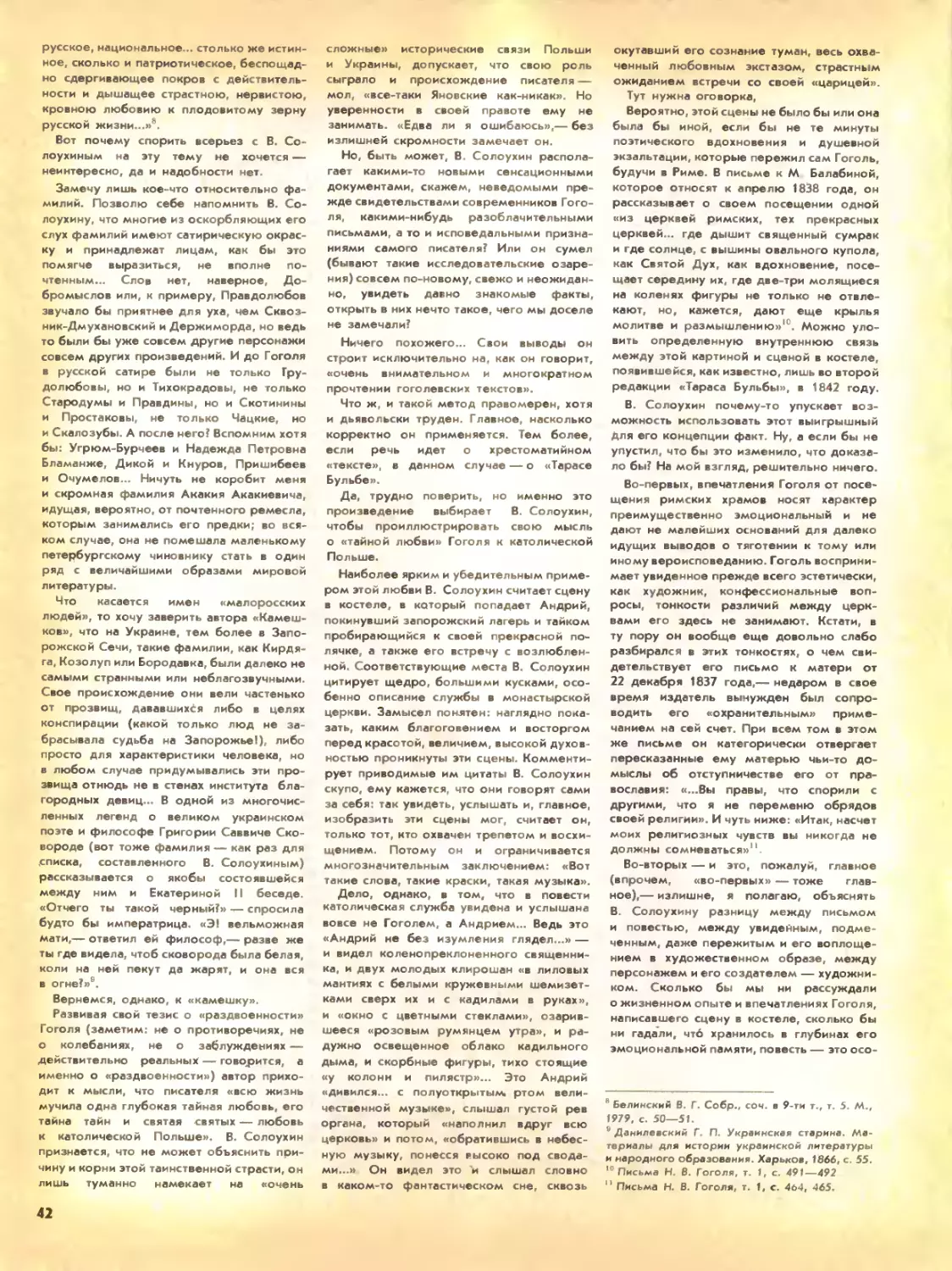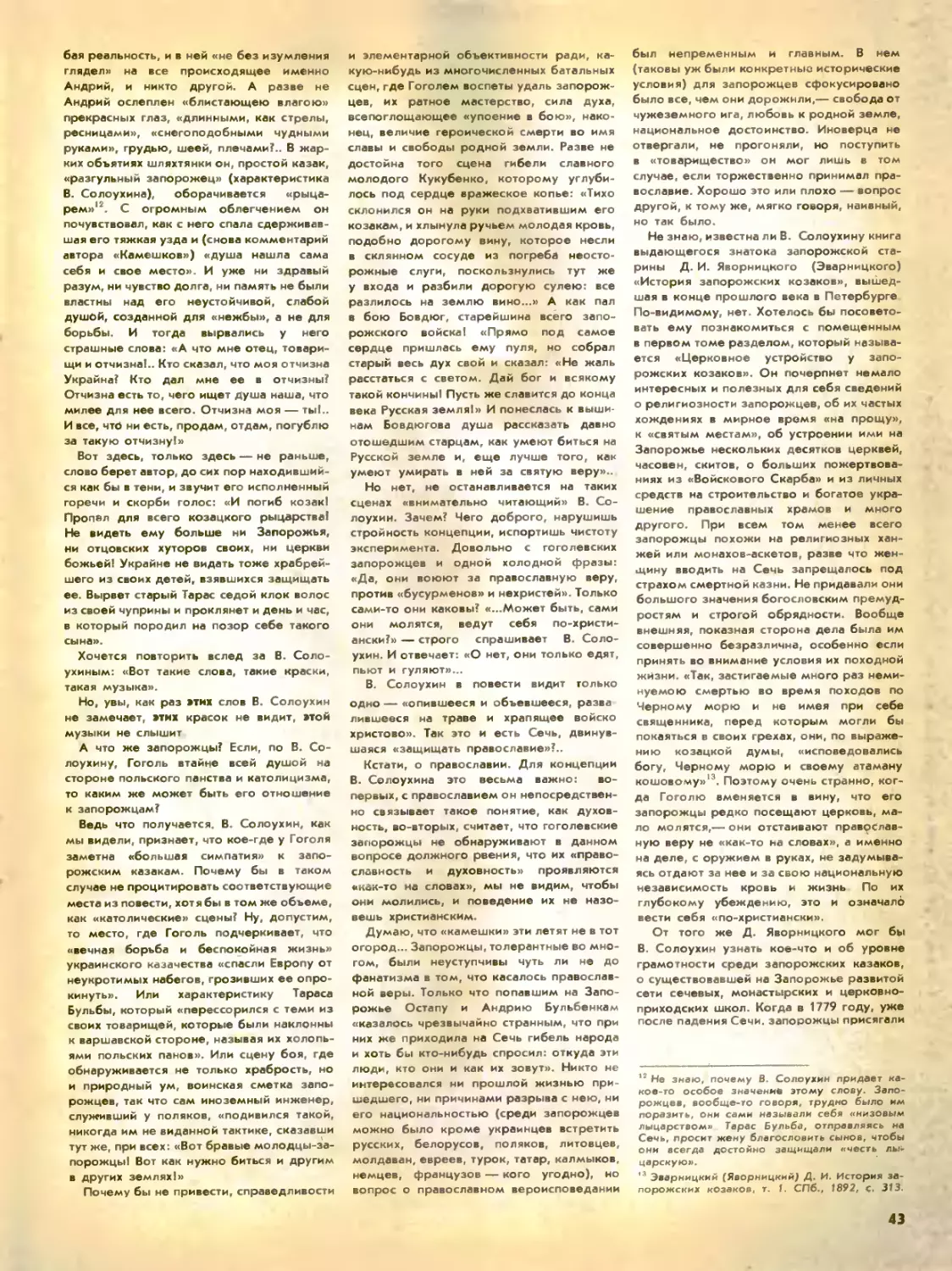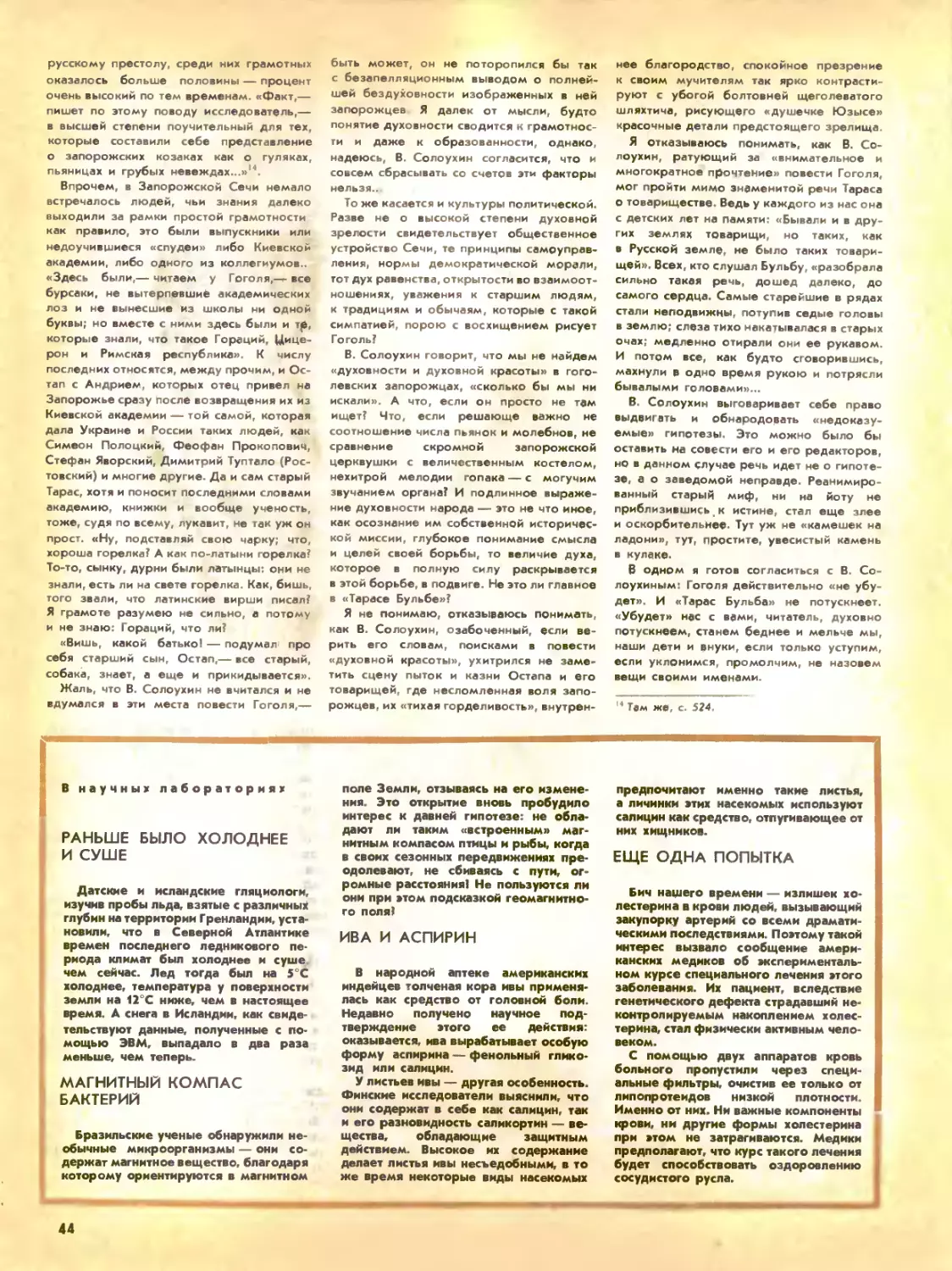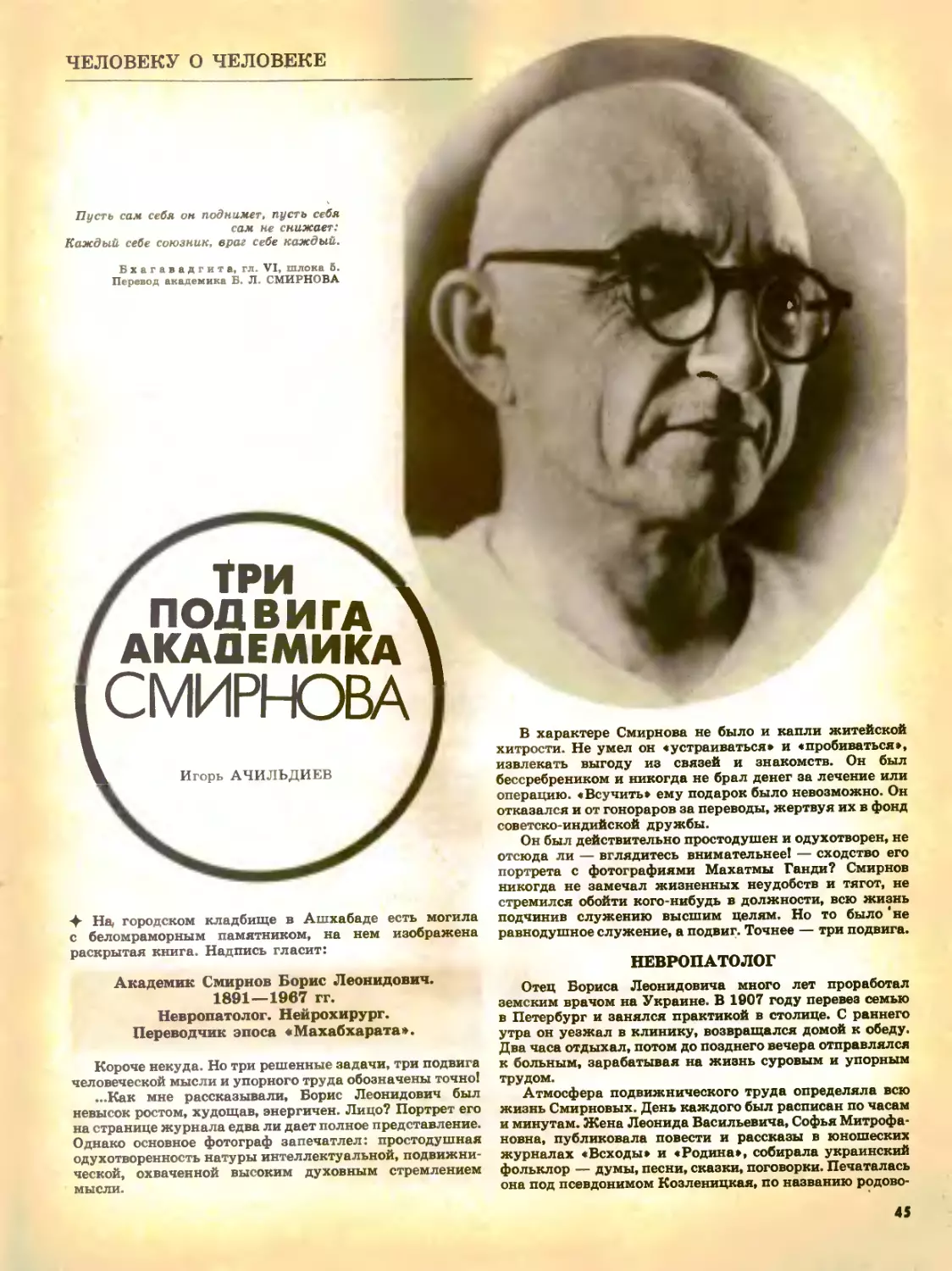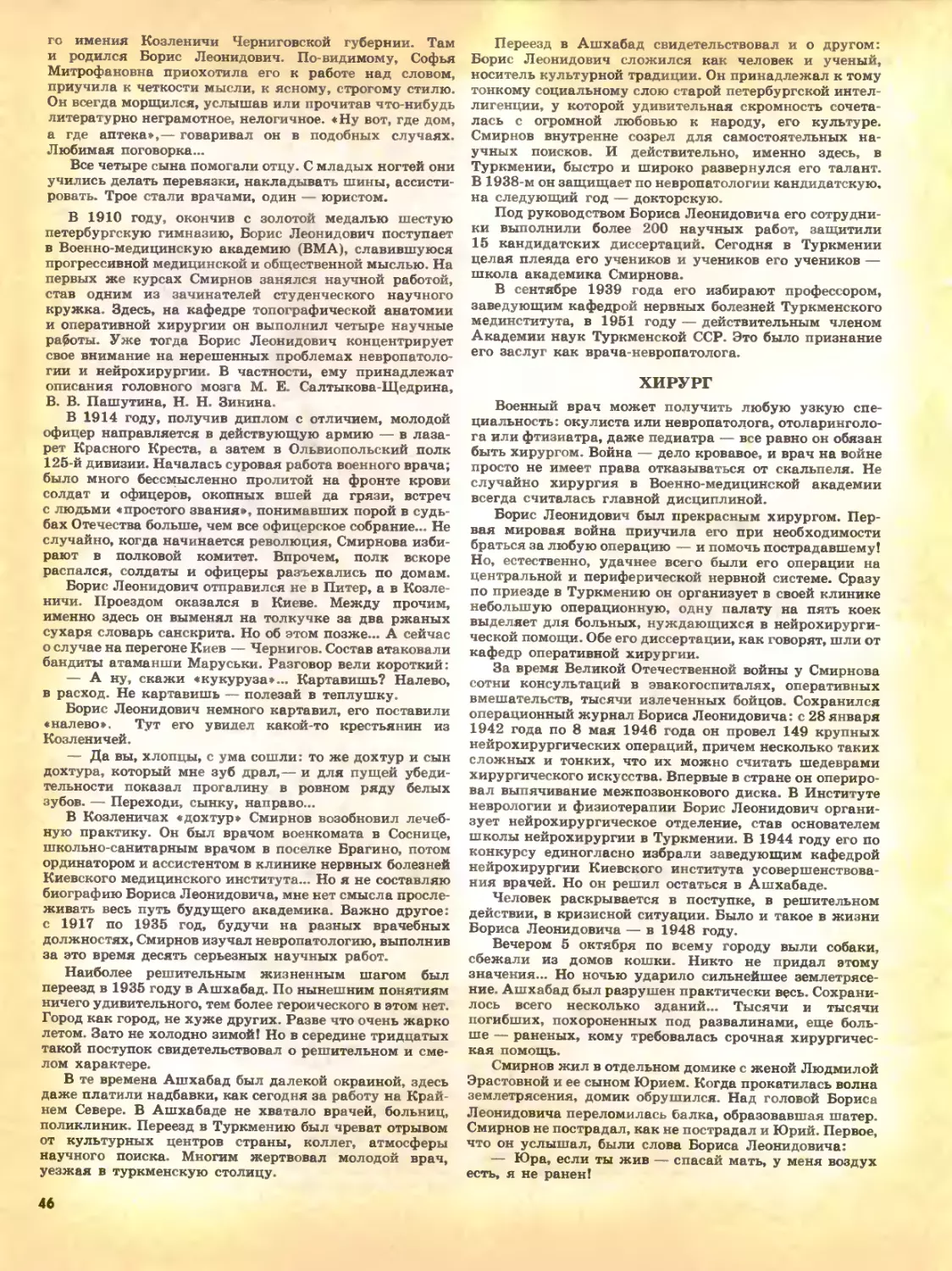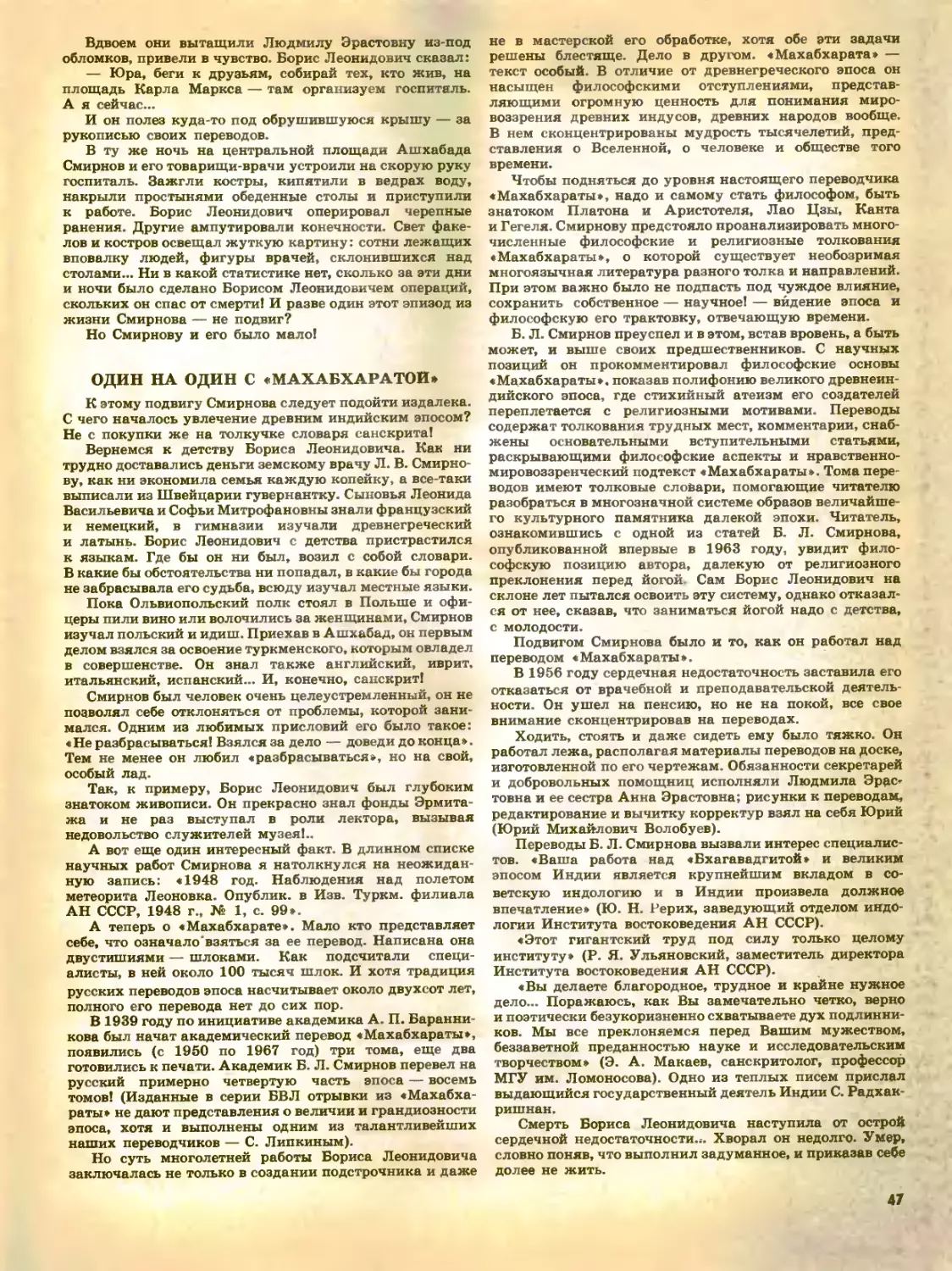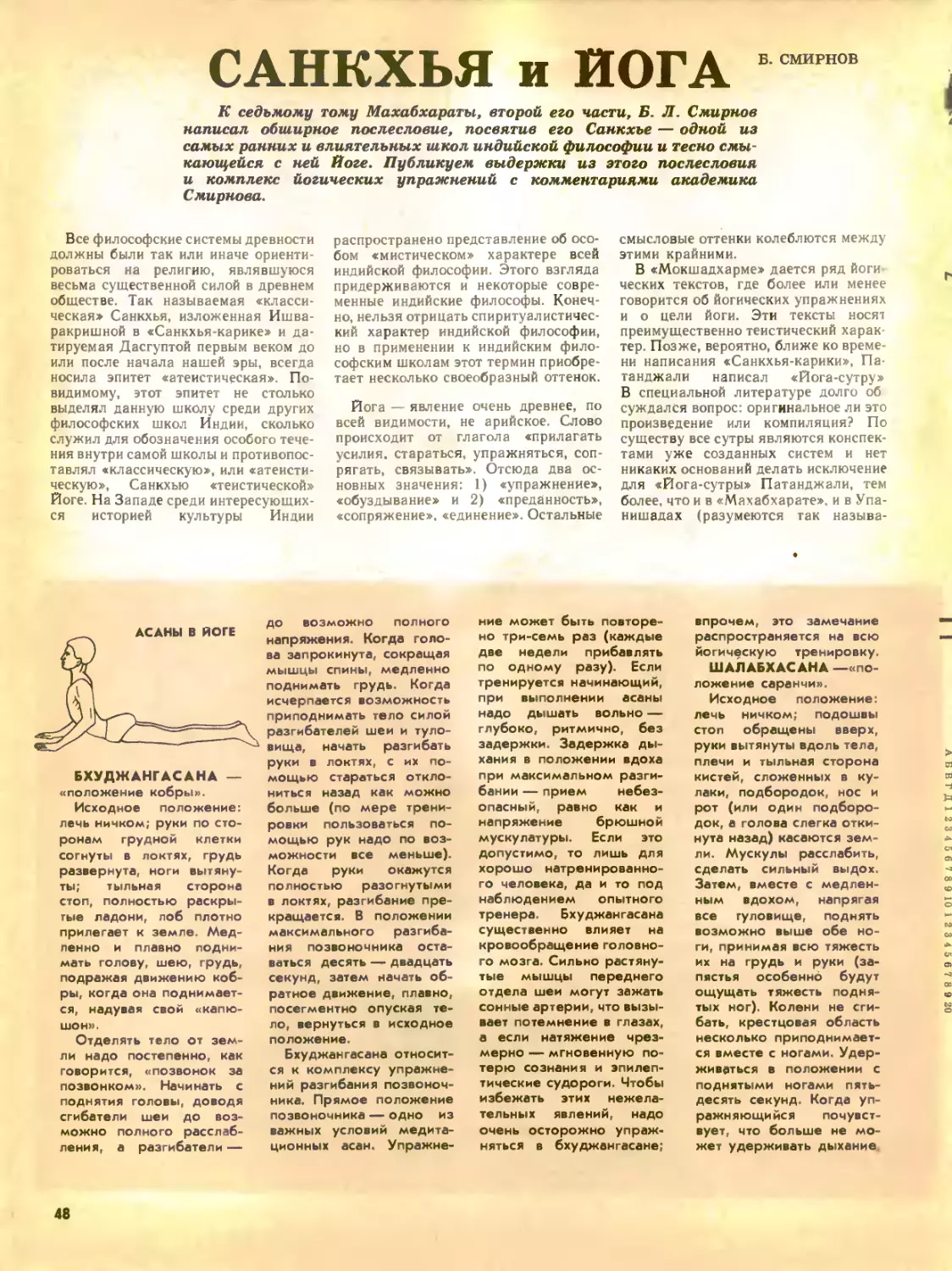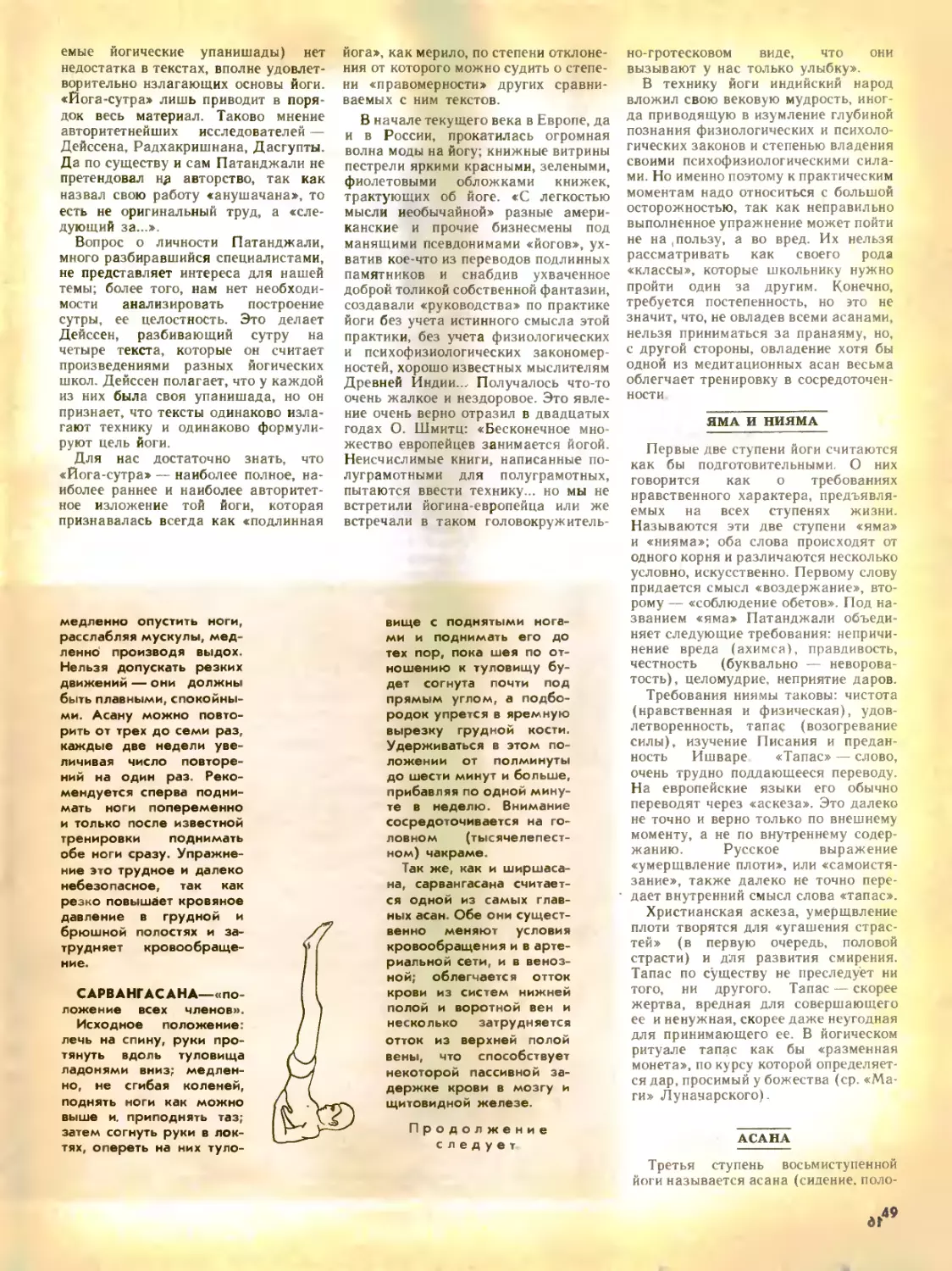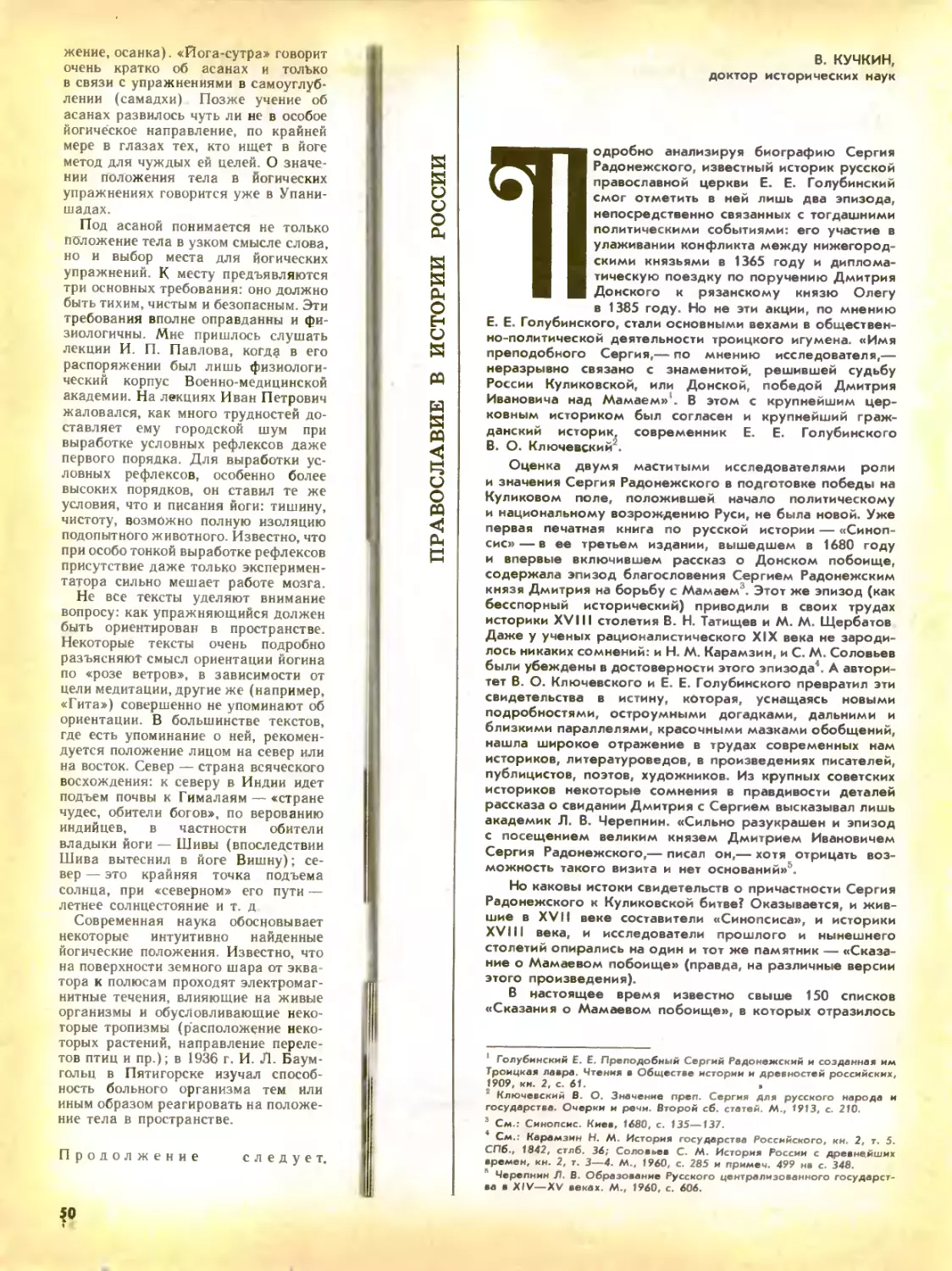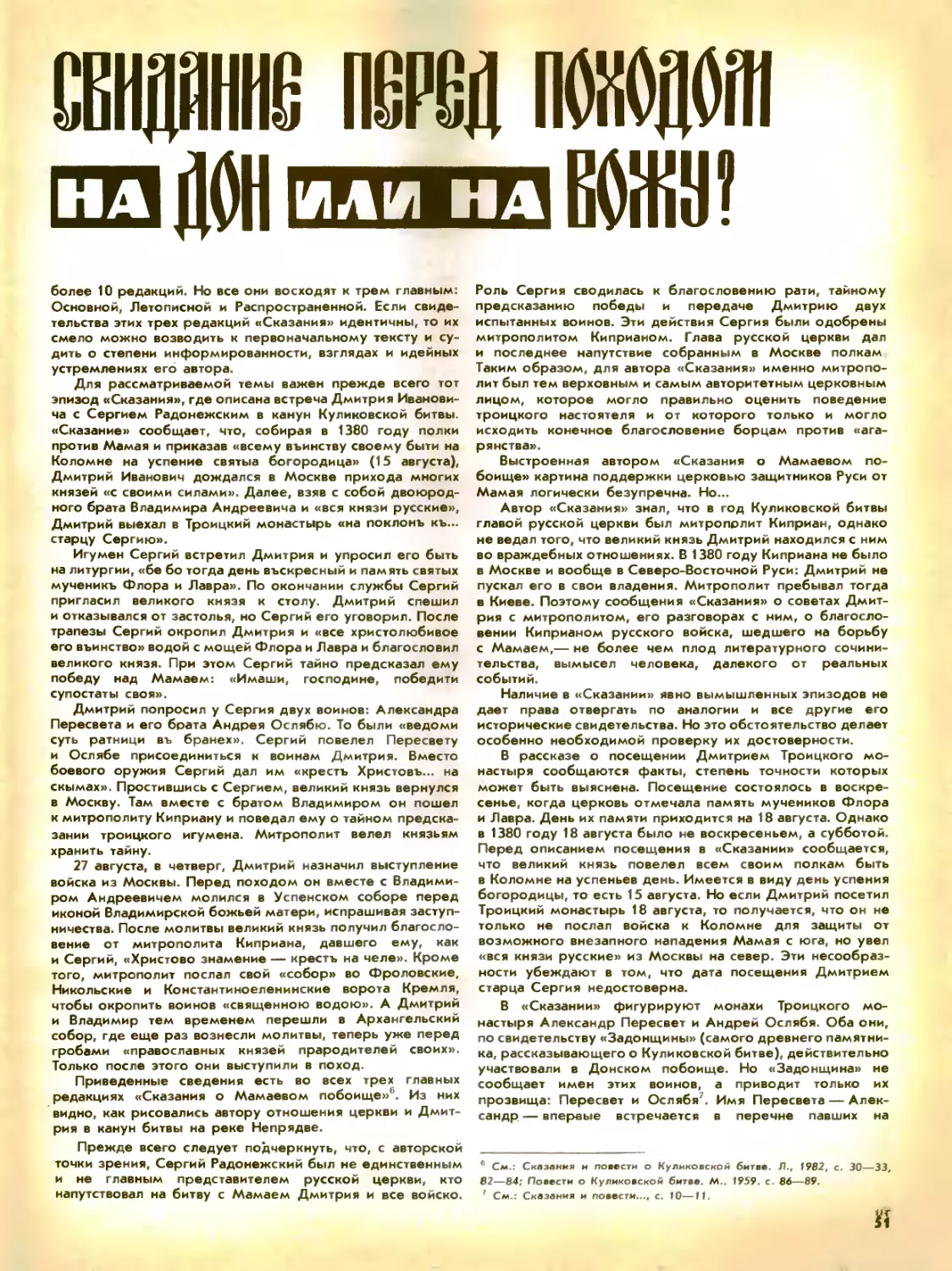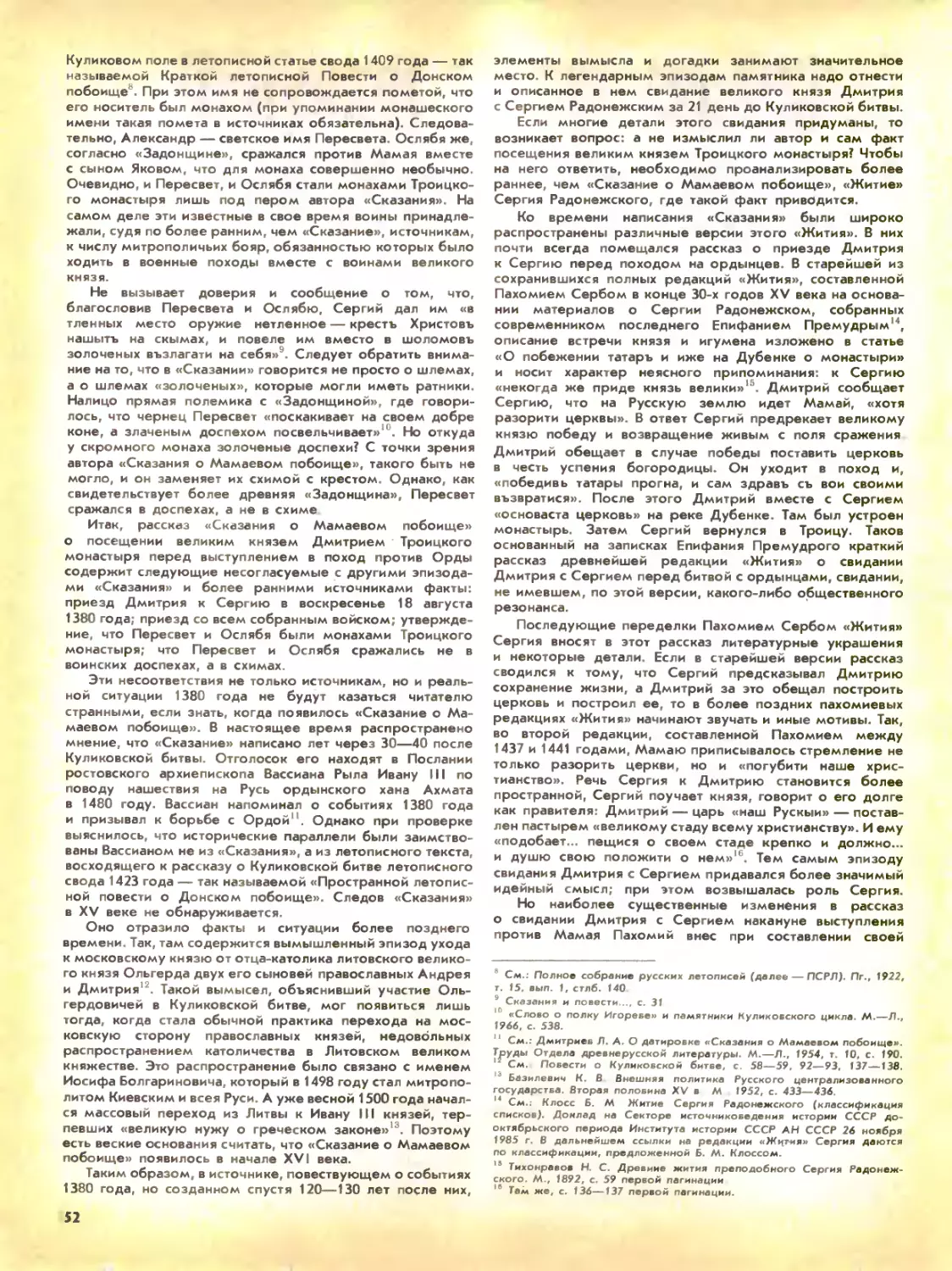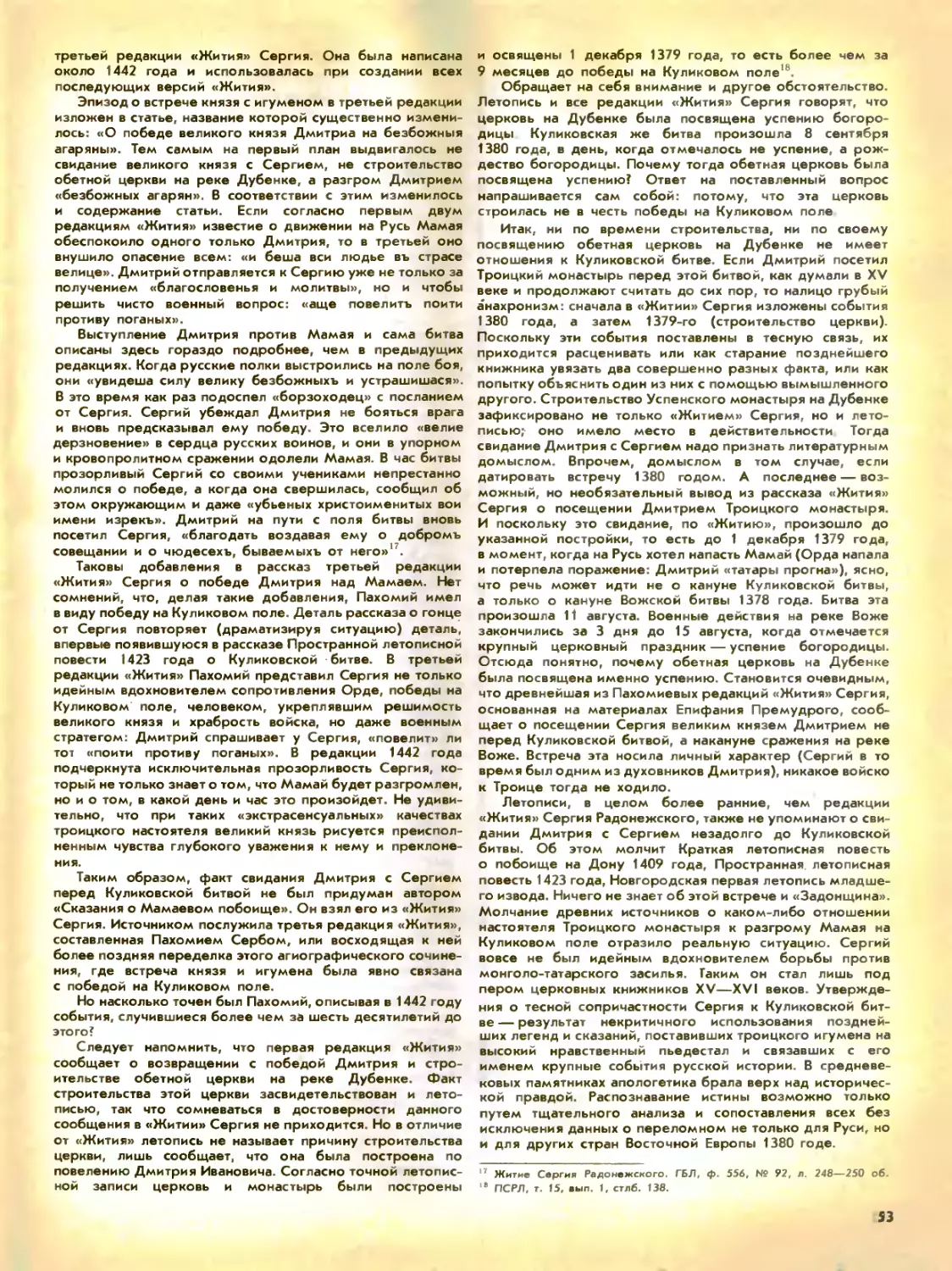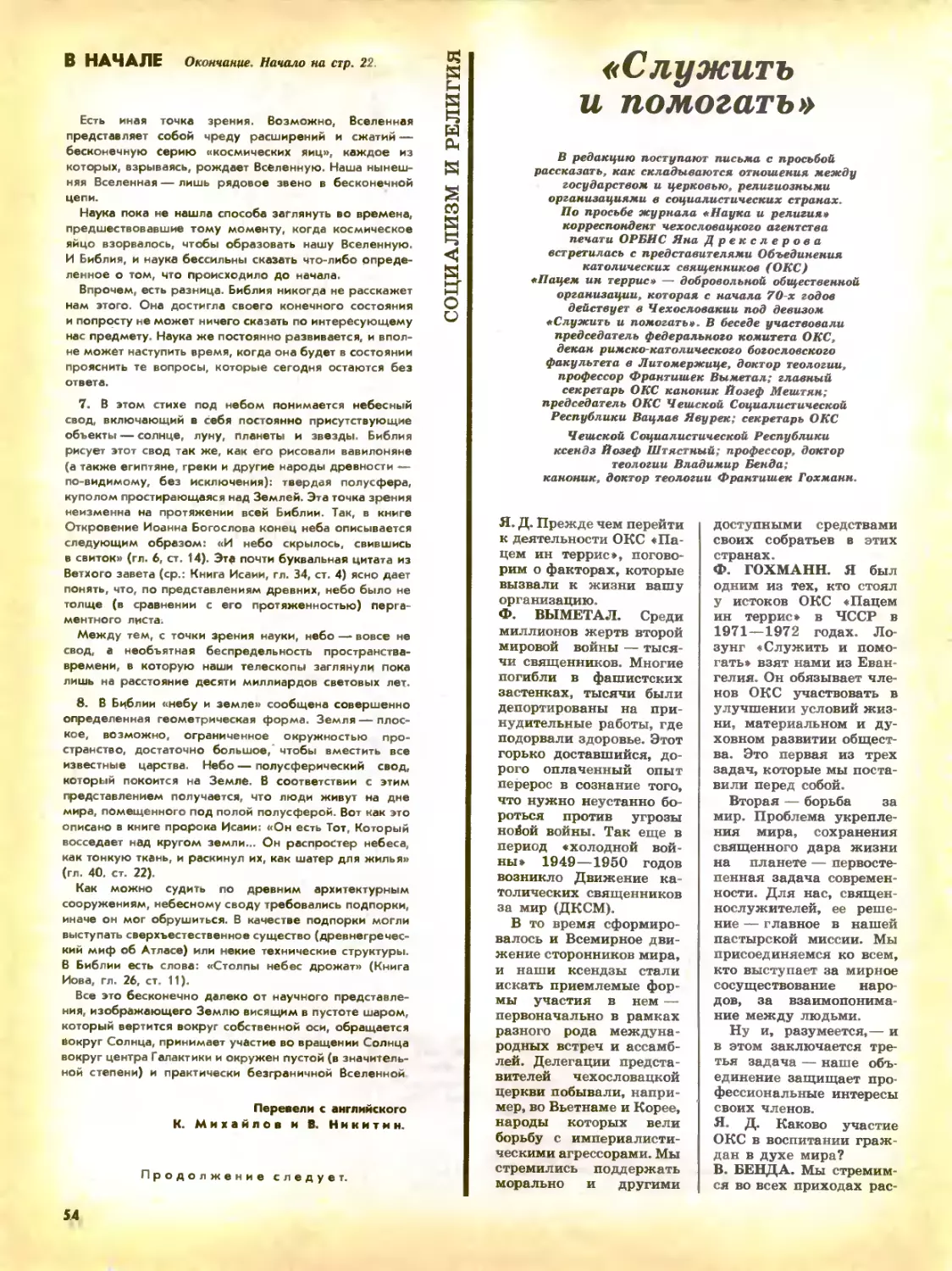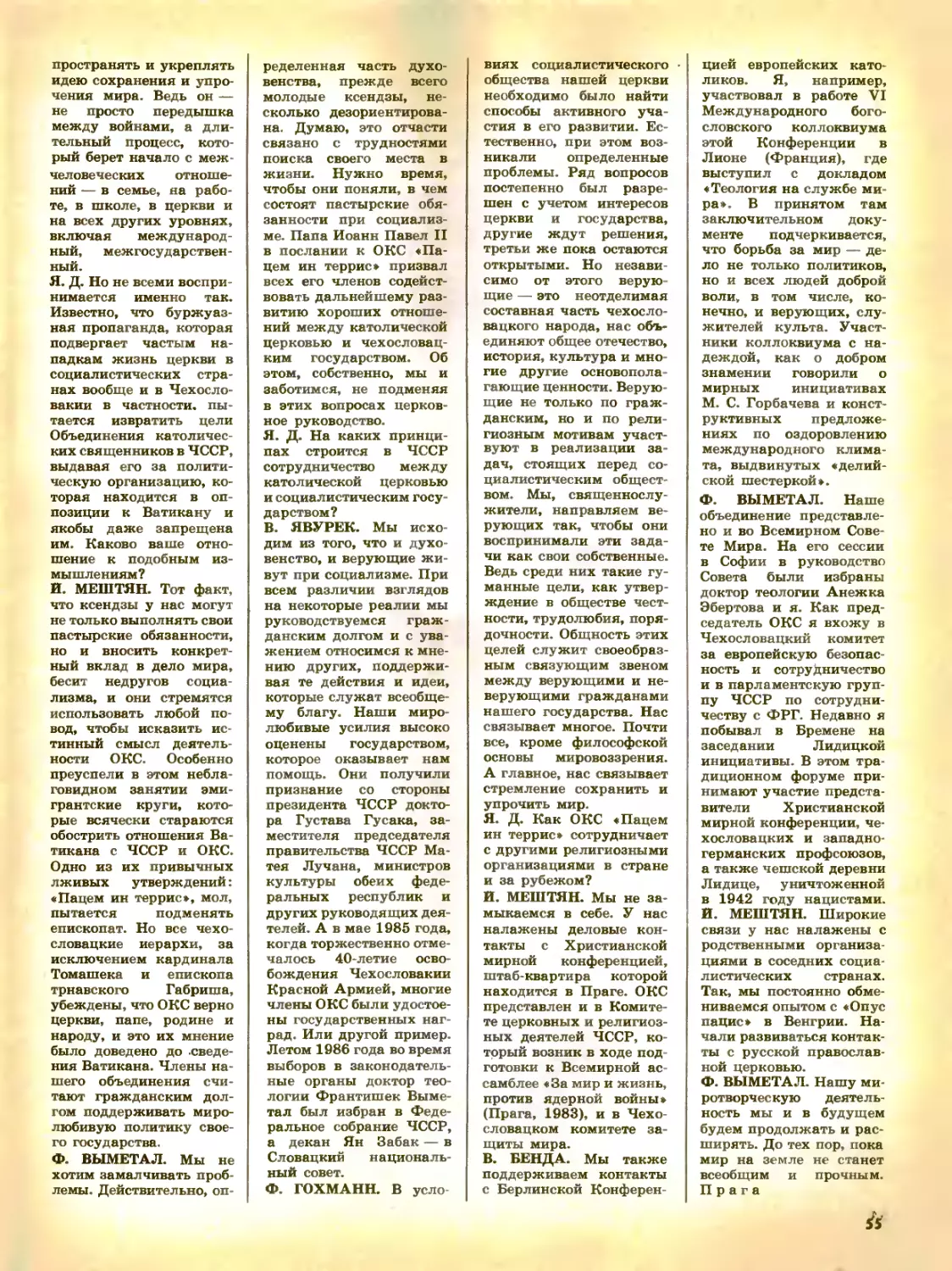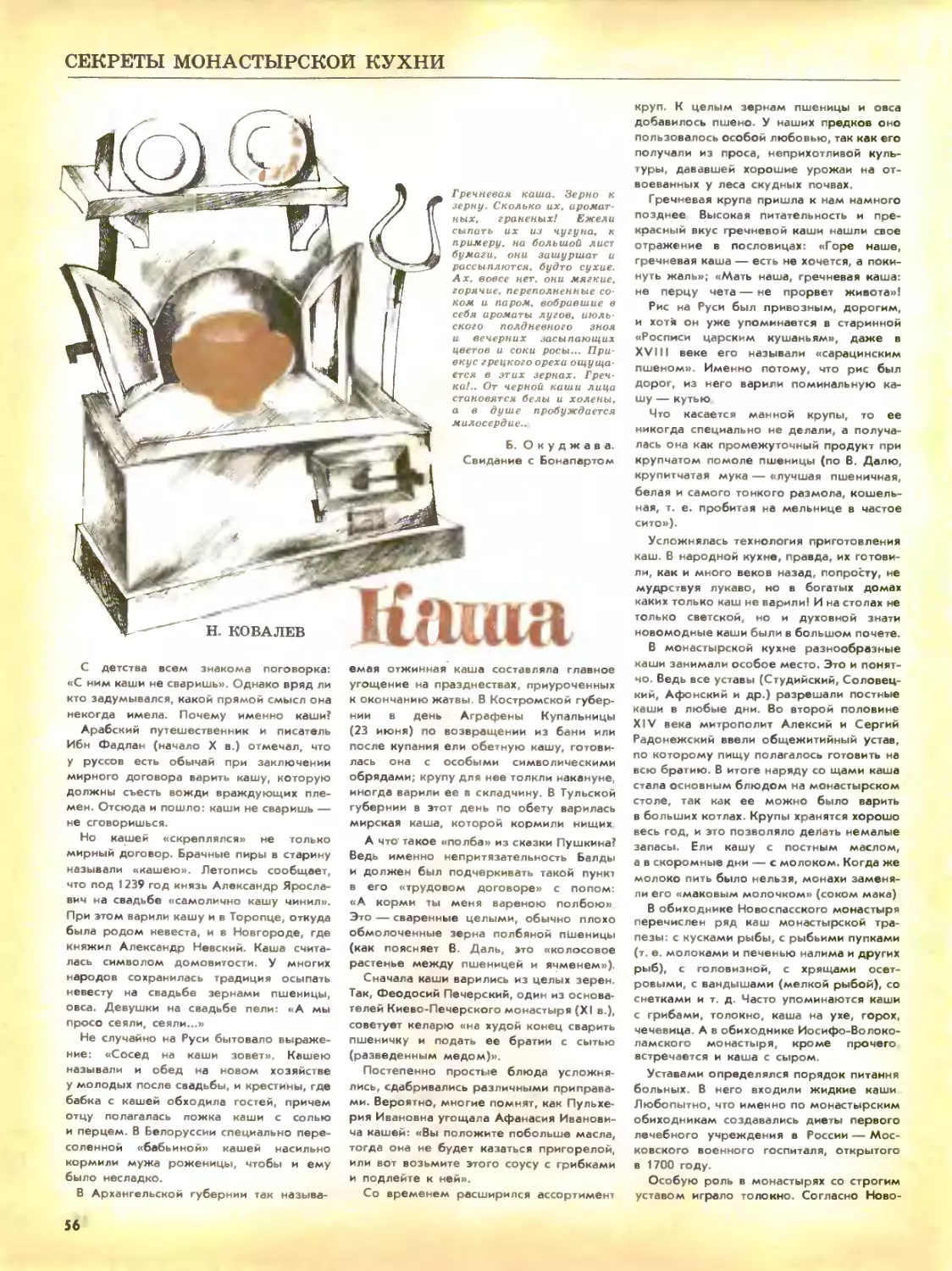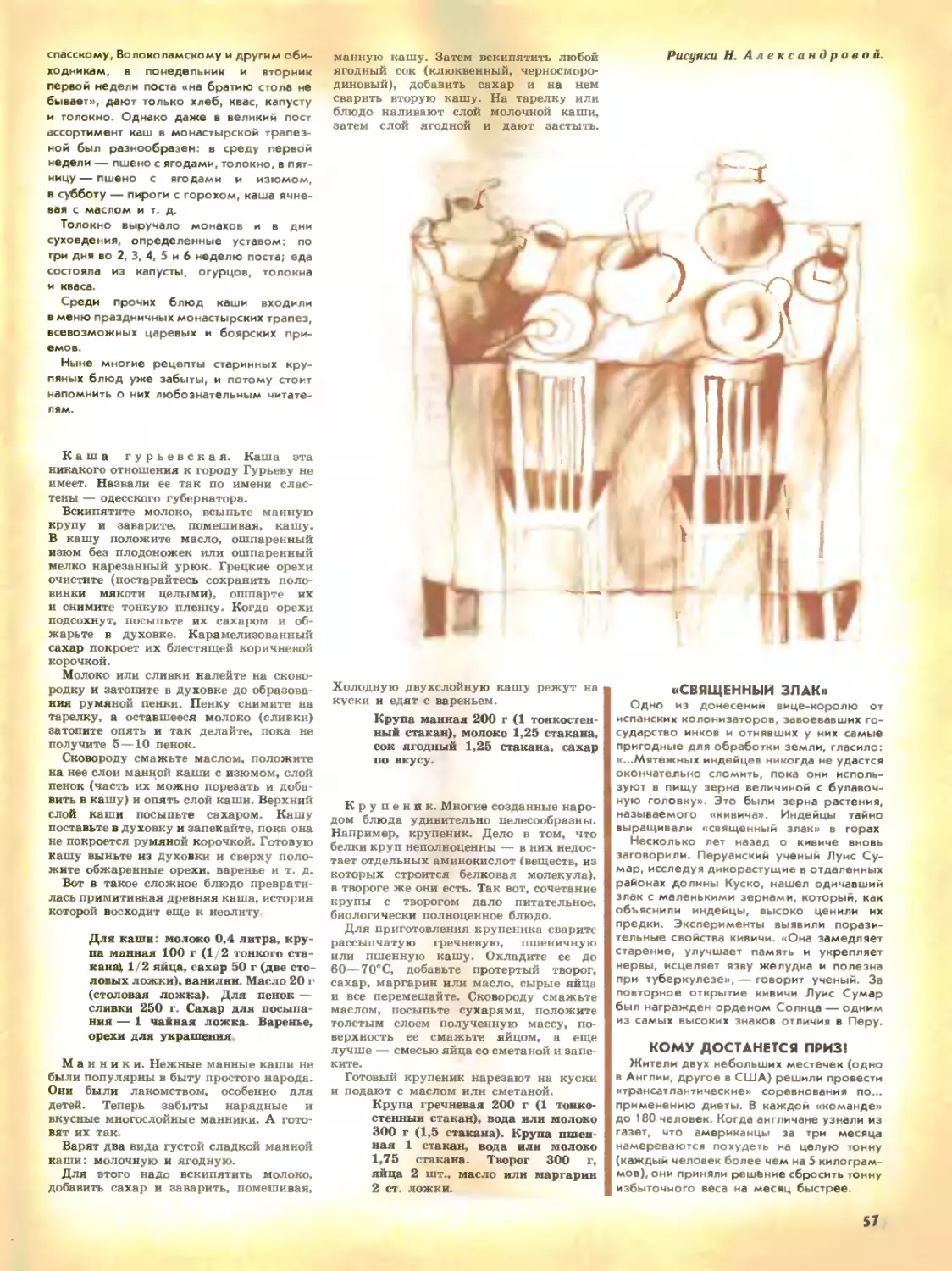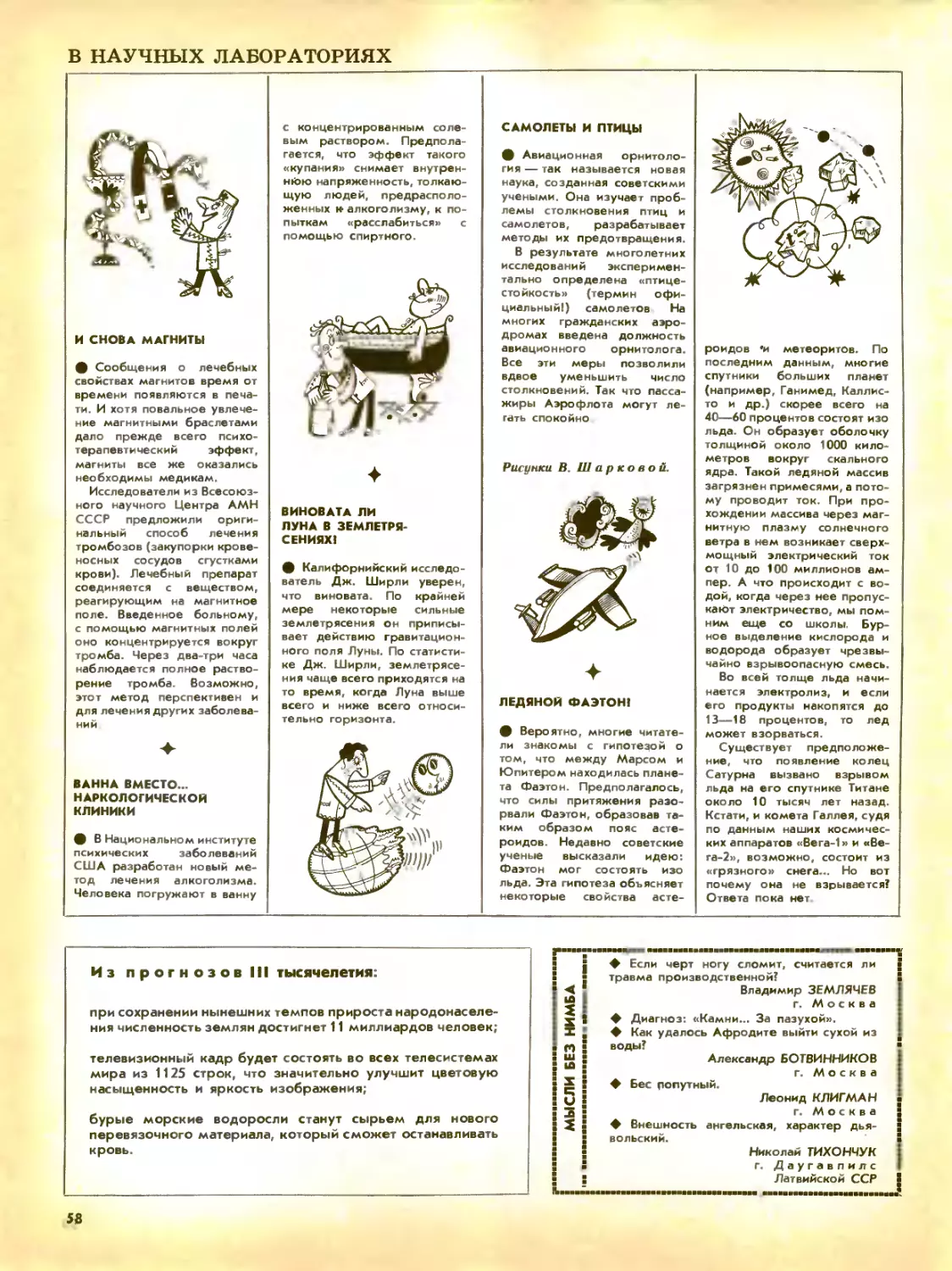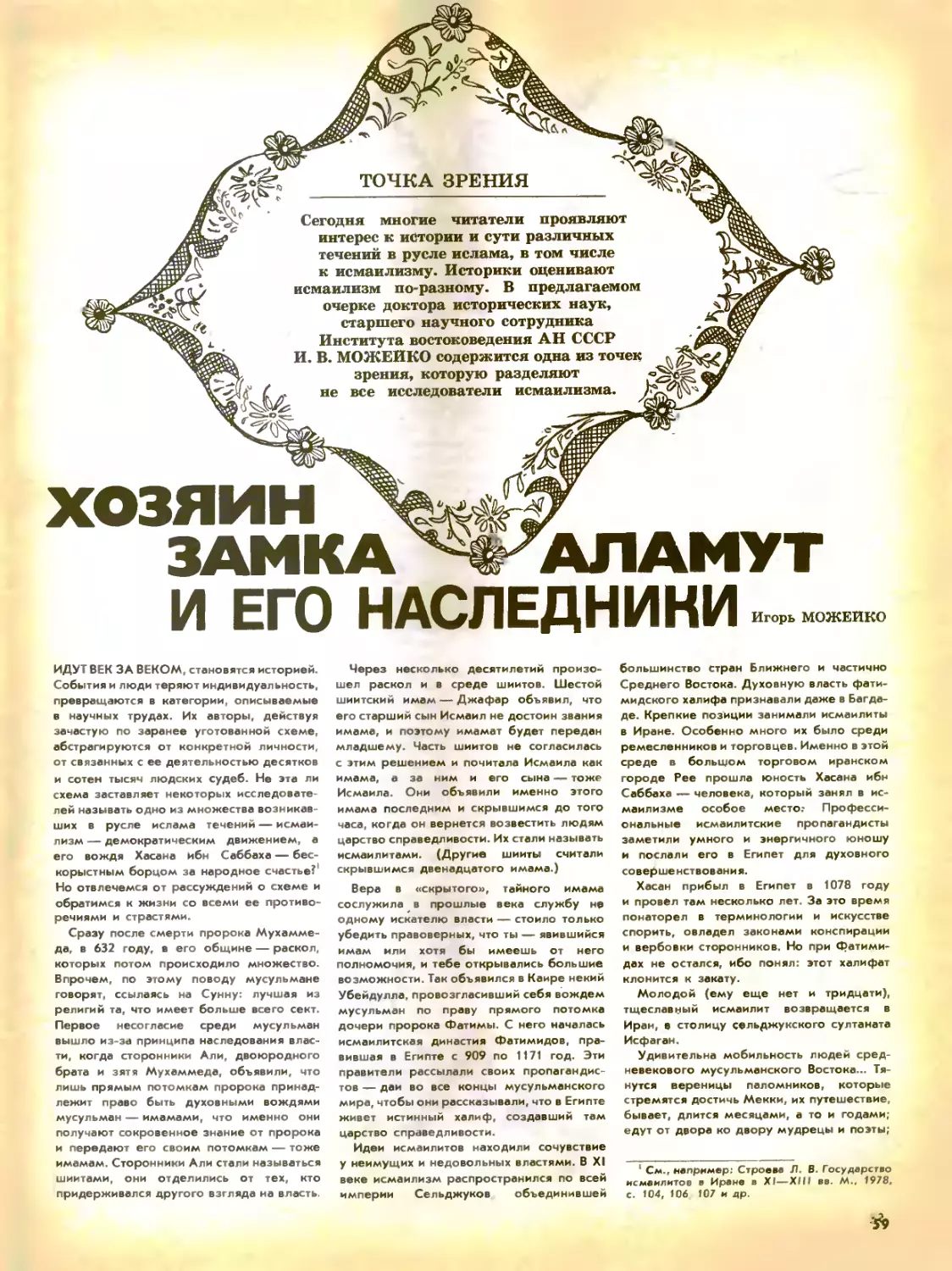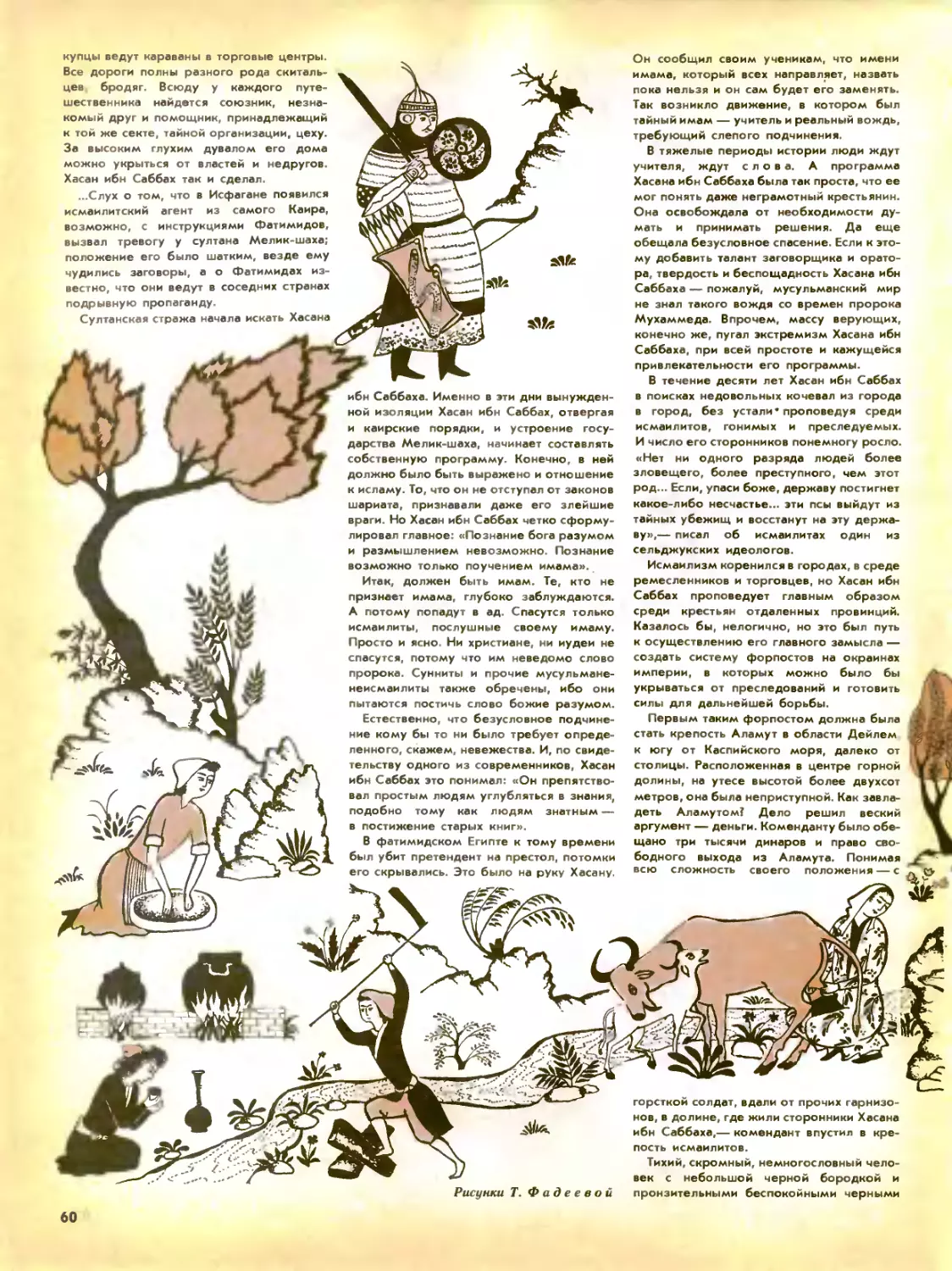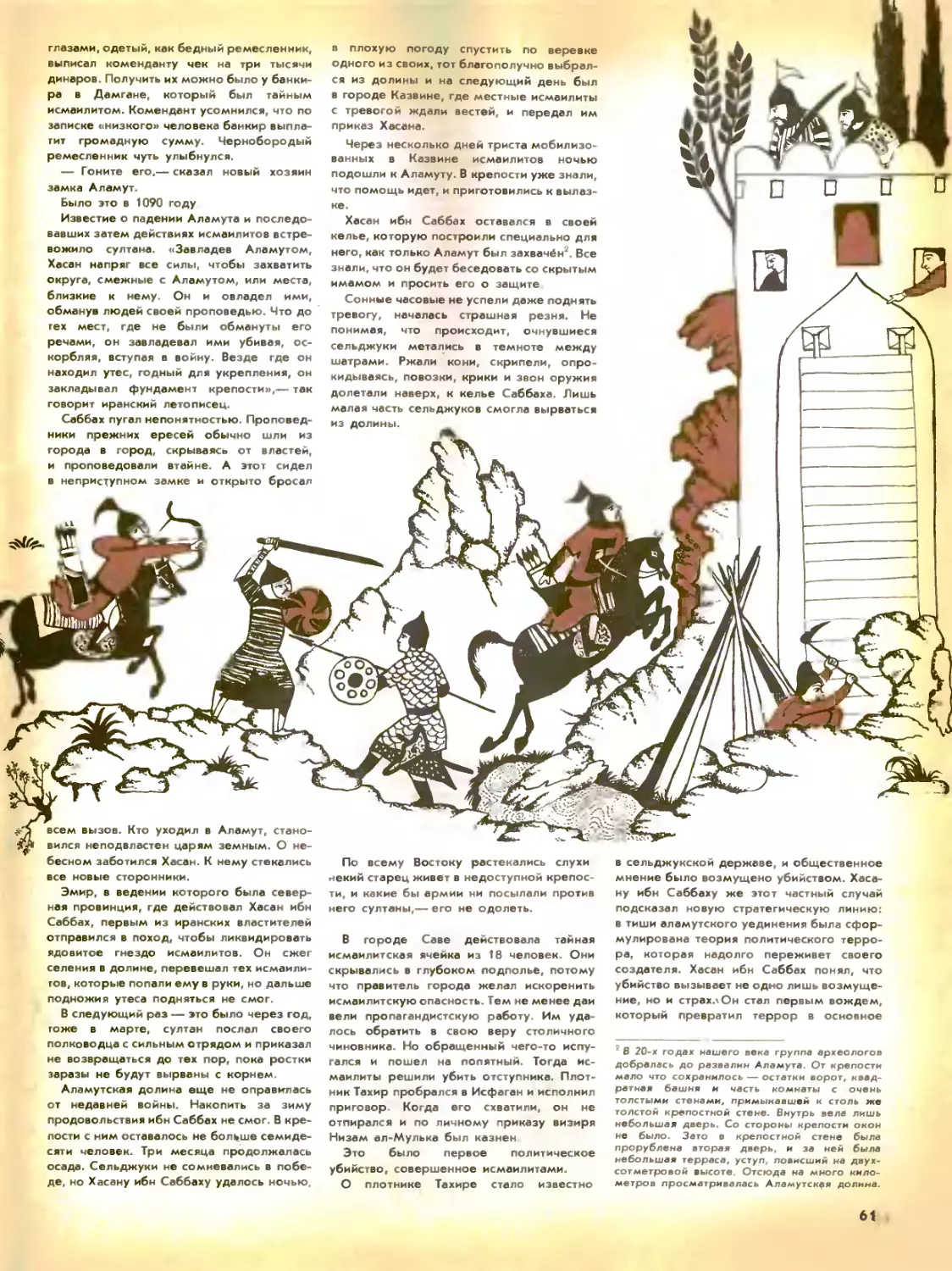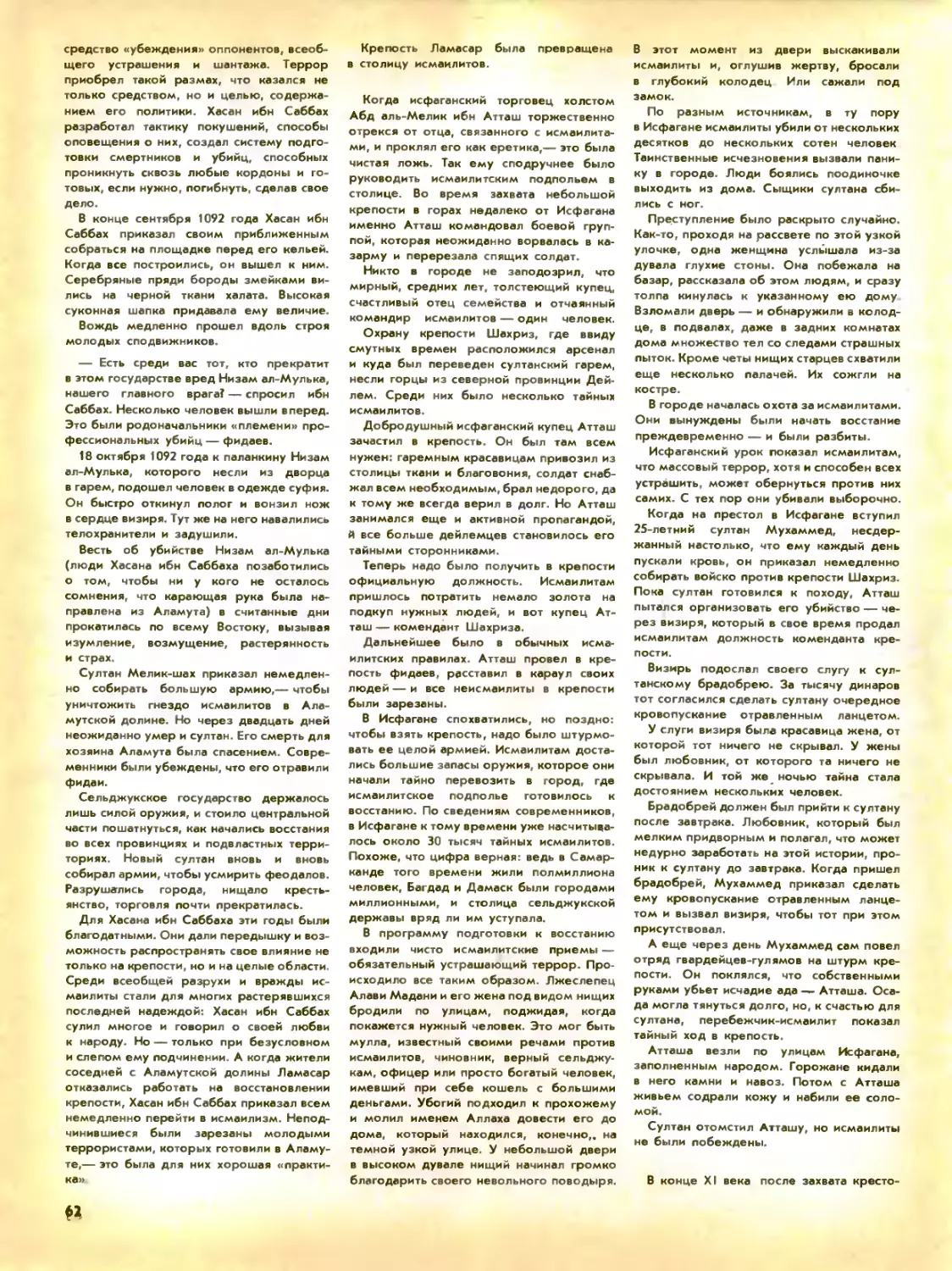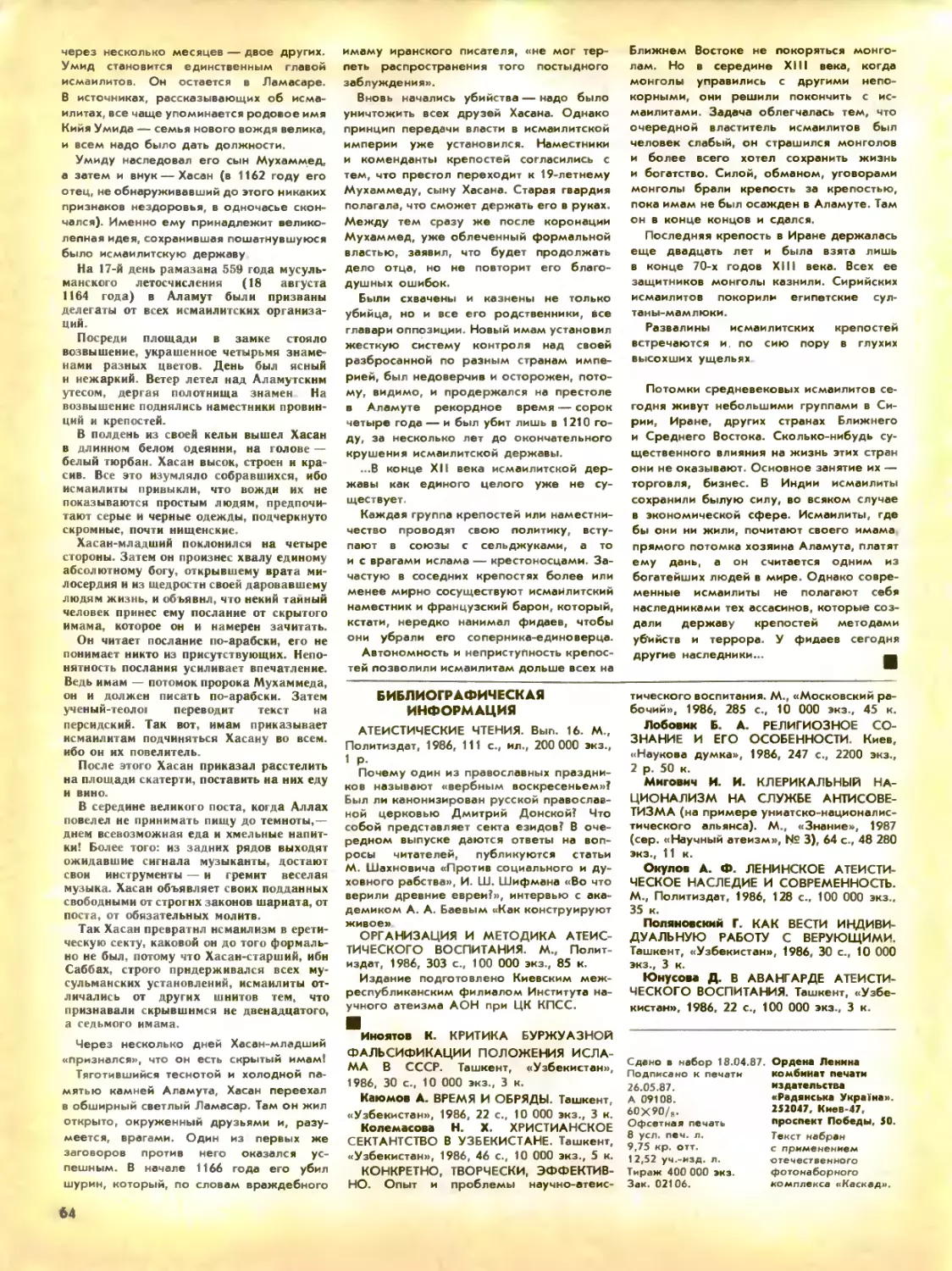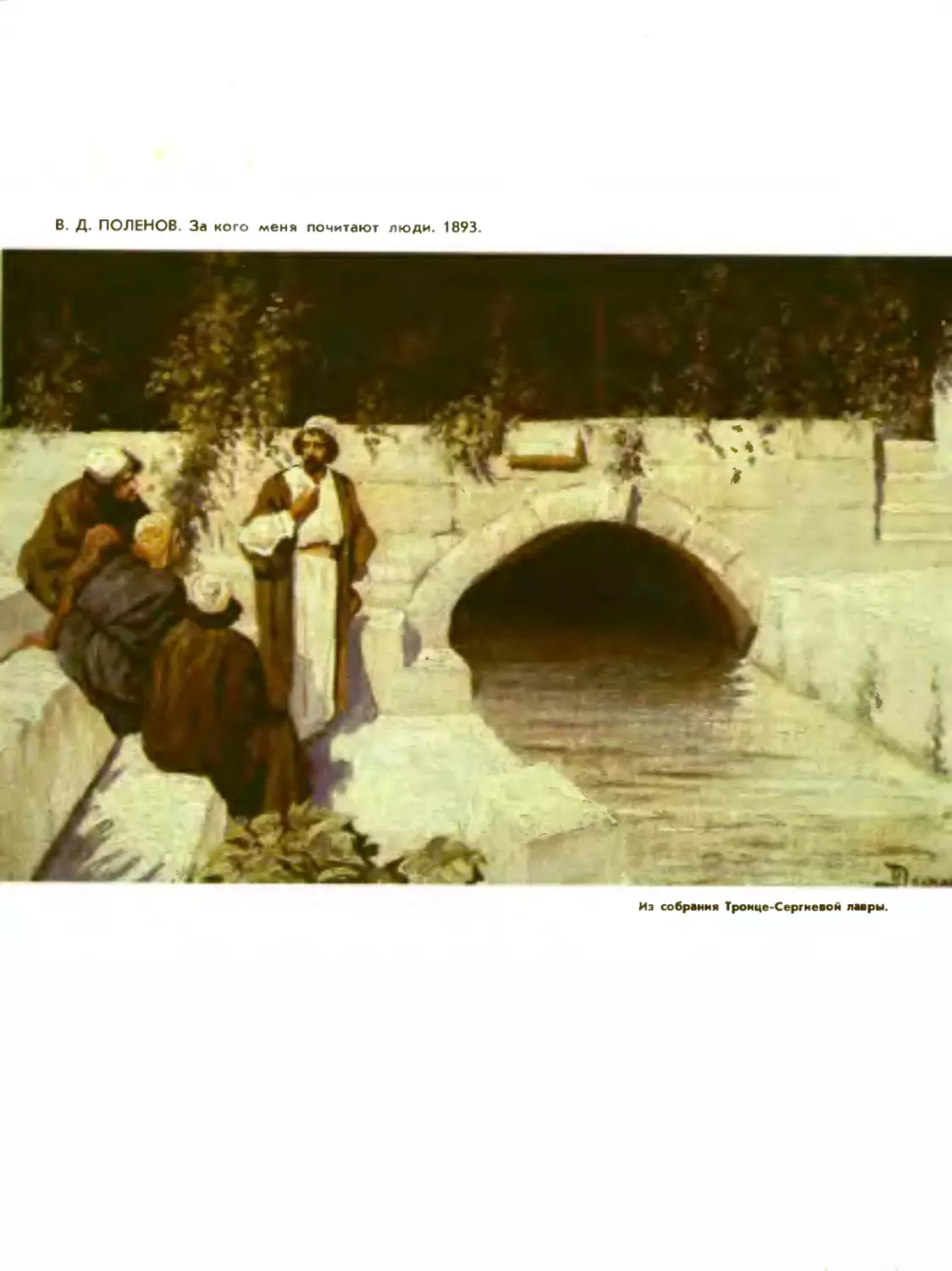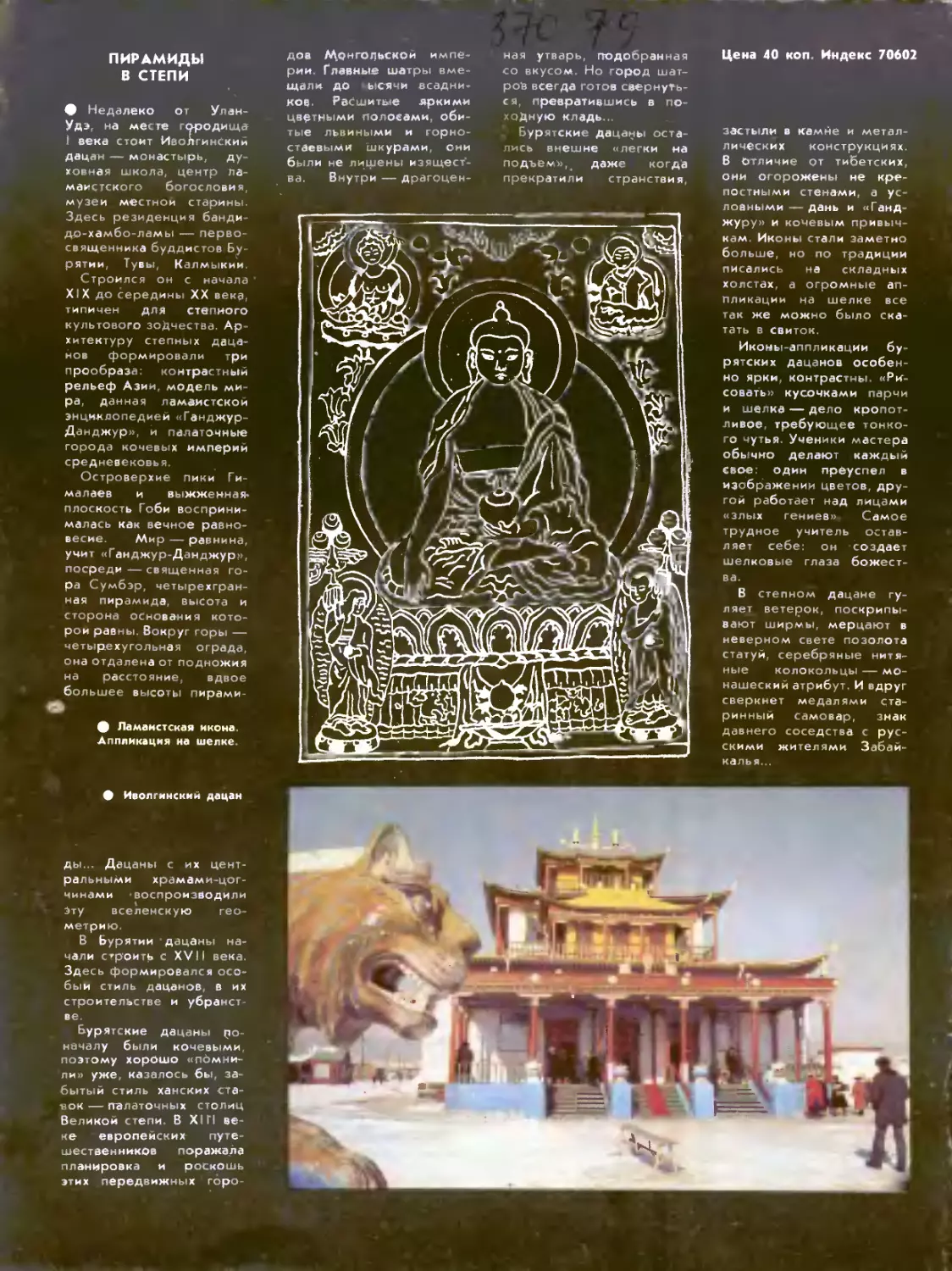Текст
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ
АТЕИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
ОРДЕНА ЛЕНИНА
ВСЕСОЮЗНОГО ОБЩЕСТВА
«ЗНАНИЕ»
ИЮЛЬ 1987
Издается с сентября 1959 года
ГИЯ
Главный редактор
В. Ф. ПРАВОТОРОВ.
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
И. Ш. А Л И С К Е Р О В,
А. В. Б Е Л О В,
В. И. Г А Р А Д Ж А,
М. М. ДАНИЛОВА,
И. И. ЖЕРНЕВСКАЯ
[ответственный секретарь!,
А. С. И В А Н О В,
Н. А. КОВАЛЬСКИЙ,
Э. И. Л И С А В Ц Е В,
Б. М. МАРЬЯНОВ
(зам. главного редактора),
В. П. М А С Л И Н,
С. И. Н И К И Ш О В,
М. П. Н О В И К О В,
И. К. П А Н Т И Н,
В. Е. Р О Ж Н О В.
РЕДАКЦИЯ:
И. У. А ч и л ь д и е в,
И. Я. Б а л л о д,
О. Т. Брушлинская,
Э. В. Геворкян,
М. М. Данилова,
В. Б. Евсеев,
Г. В. Иванова,
М. А. Ковальчук,
В. С. Колесникова,
Ю М. Кузьмина,
Т. Л Легостаева,
В. К. Лобачев,
В, П. Пазилова,
М. И. Пискунова,
А. А. Романов,
О. Ю. Тверитина,
В. Л. X а р а з о в.
Художественный редактор
С. И. Мартемьянова.
Технический редактор
Ю. А. Викулова.
Корректор
Г Л. Кокосов а.
Зав. редакцией
Л. Г. Березкина.
Первая страница обложки
художников
Б. А с р и е в а,
М. Дорохова.
Этнографический мотив.
Рисунок
И. Ваграмовой.
(Читайте статью
секретаря Бурятского
обкома КПСС
К. ШОМОЕВА).
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЗНАНИЕ»
© Журнал
«Наука и религия», 1987.
Адрес редакции
109004 Москва, Ж-4,
Ульяновская, 43, норп. 4.
Телефоны:
297-02-51 297-10-89.
К 70-ЛЕТИЮ ОКТЯБРЯ Л. НЕМИРА К. ШОМОЕВ Трасса дружбы Преодоление 2 7
НАШИ ПУБЛИКАЦИИ В. ТЕНДРЯКОВ Нравственность и религия 9
ПРАВОСЛАВИЕ В ИСТОРИИ РОССИИ А. LUAMAPO В. КУЧКИН «Мои бриллиантики» Свидание перед походом на Дон или на Вожу? 12 50
ПРАКТИКА: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ М. ПИСМАНИК Верующий глазами социолога 15
СОВРЕМЕННЫЙ МИСТИЦИЗМ В. ХАРАЗОВ Здесь и сейчас... 16
ЗА РУБЕЖОМ В. ГАРАДЖА Я. СЕГАЛЬ В развитие диалога СПИД — кара божья? 20 30
ТЕОЛОГИЯ И НАУКА А*. АЗИМОВ В начале 22
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕН- НОСТЬ М. БУЯНОВ Жизнь как роман 26
ЛИТЕРАТУРА, ИСКУССТВО Ю. ИВАНИЧЕНКО Выборные 32
ТОЧКА ЗРЕНИЯ Ю. БАРАБАШ И. МОЖЕЙКО «Тайная любовь» Гоголя? Хозяин замка Аламут и его наследники 38 59
ЧЕЛОВЕКУ О ЧЕЛОВЕКЕ И. АЧИЛЬДИЕВ Б. СМИРНОВ Три подвига академика Смирнова Санкхья и йога 45 48
СОЦИАЛИЗМ И РЕЛИГИЯ Я. ДРЕКСЛЕРОВА «Служить и помогать» 54
СЕКРЕТЫ МОНАСТЫР- СКОЙ КУХНИ Н. КОВАЛЕВ Каша 56
В НАУЧНЫХ ЛАБОРАТО- РИЯХ 58
К 70-ЛЕТИЮ ОКТЯБРЯ
Л. НЕМИРА
ТРАССА
ДРУЖБЫ
Минуло полвека с тех дней, когда экипаж советских летчиков
во главе с В. П. Чкаловым совершил беспосадочный
перелет через Северный полюс в Америку. Но интерес
к этому событию, довольно отдаленному по меркам стреми-
тельного XX века, не ослабевает. Более того — внимание
к нему нарастает.
И это понятно. Человечество сегодня с особой остротой
осознало потребность в мирном сосуществовании,
в сотрудничестве государств и народов. «У нашего общего
стремления к миру,— говорил М. С. Горбачев
в Обращении к народу Соединенных Штатов Америки,—
есть прошлое, а значит, есть и исторический опыт сотруд-
ничества, способный сегодня вдохновить нашу совместную
работу во имя будущего». Чкаловский перелет, проложивший
трассу мирного сотрудничества между двумя великими
державами,— драгоценная частица этого опыта.
«Русские вошли
в Белый дом»
— Господин президент, русские вошли
в Белый дом.
Он заволновался:
— Дик, помогите мне встать!
— Что с вами, сэр?
— Поднимите меня скорее! Я должен
встретить русских героев стоя!
— Сколько помню, сэр, вы никогда ни
перед кем не вставали!.
Возможно, именно такой разговор со-
стоялся в Овальном кабинете Белого дома.
Во всяком случае достоверно известно, что
Франклин Делано Рузвельт — 32-й прези-
дент Соединенных Штатов,— несмотря на
парализованные ноги, Стоя приветствовал
чкаловский экипаж. Это был мудрый,
дальновидный политик, первым добивший-
ся официального признания Советского
Союза правительством Соединенных Шта-
тов Америки.
В беседе с одним из американских
специалистов, работавших в СССР, Руз-
вельт заявил: «Если кто-либо хочет вести
дело с людьми, он должен впустить их
через переднюю дверь» Так 50 лет назад
через «переднюю дверь» Овального каби-
нета вошли три советских летчика —
участники беспосадочного перелета
Москва — Северный полюс — Америка:
Валерий Чкалов. Георгий Байдуков, Алек-
сандр Беляков
Впервые идею перелета высказал в нача-
ле 1935 года известный советский летчик,
герой челюскинской эпопеи С. А. Лева-
невский на встрече со Сталиным в Кремле
Поначалу все складывалось удачно: проект
перелета был одобрен. Совет Труда и Обо-
роны утвердил состав экипажа во главе
с Левачевгким. Но полет пришлось пре-
рвать: в первые часы забарахлил мотор.
И все же идея должна была осуществиться.
Авиационная промышленность Страны
Советов стремительно выходила на пере-
довые рубежи. Конструкторские коллек-
тивы А. Н. Туполева, Н. Н. Поликарпо-
ва, С. В Ильюшина, С. А. Лавочкина,
А. С. Яковлева создавали самолеты, за-
явившие о себе на крупных междуна-
родных выставках. К тому времени на
50 лет
первому
перелету
Москва —
Северный
полюс —
Америка
«АНТ-25» уже был установлен рекорд
дальности полета по замкнутой кривой.
С политической точки зрения, перелет
прокладывал трассу регулярных контактов
двух великих держав после установления
между ними дипломатических отношений.
Кратчайший путь лежал через Северный
полюс. Самый короткий, но и самый
трудный.
В такой ситуации особая ответственность
2
ложилась на руководителя полета. Была
предложена кандидатура Чкалова. К тому
времени он уже стал признанным автори-
тетом в отечественной авиации, хотя
далось это ему не просто. А бывает ли
легким путь к признанию личности не-
заурядной, талантливой, настойчиво иду-
щей к поставленной цели?
Перед нами две характеристики одного
и того же человека. «Он был не только
непревзойденным летчиком, выдающимся
мастером своего дела, но и создателем
школы высшего пилотажа и школы испыта-
ния новых самолетов, автором тактики
истребительной авиации и творцом новей-
ших фигур высшего пилотажа»,— так
отзывался о Чкалове главнокомандующий
ВВС маршал авиации К. А. Вершинин.
А вот строки из «Аттестации командира
корабля 3-го Н/О 1-й эскадрильи Бригады
НИИ ВВС РККА Чкалова Валерия Павлови-
ча» (23.IV.1933). «Общее развитие хоро-
шее, политразвитие недостаточное, харак-
тер спокойный, твердый, настойчивый, но
зачастую настойчивость переходит в уп-
рямство и грубость, любит часто вступать
в пререкания. В общественной работе
участие принимает, но тогда, когда ему это
хочется, а не когда на него возлагается
нагрузка по общественной работе, в воен-
но-тактических вопросах развит недоста-
точно, боеподготовка удовлетворитель-
ная.
Дисциплина на земле удовлетворитель-
ная, в воздухе недостаточная. Нередко
нарушал наставления на летной службе,
а также и аэродромный летный распоря-
док В воздухе выкидывал номера, грани-
чащие с хулиганством... Как летчик поль-
зуется большим авторитетом среди летно-
го состава, как командир — недостаточно,
политико-моральное состояние удовлетво-
рительное, к себе и подчиненным требова-
телен недостаточно, требует постоянного
наблюдения и твердого руководства. За
особо ударную и хорошо выполненную
работу имеет благодарность и награжде-
ние радиоприемником. В настоящее время
тов. Чкалов находится на исправ- сборах
при школе спецслужбы...»
Жизнь показала, что за «упрямством»,
«пререканиями», «нарушением летного
распорядка» стояли поиски нестандартно-
го решения, выхода из сложнейших,
казалось бы тупиковых ситуаций, с ко-
торыми так часто встречается летчик.
Именно эти качества сумели разглядеть
в Чкалове организаторы трансатлантичес-
кого перелета, выбирая командира кораб-
ля
В конце мая 1937 года получено офи-
циальное разрешение на перелет, а
18 июня в 1 час 5 минут по гринвичскому
времени самолет взял старт.
— Ну вот, Егорушка, и полетели...
Теперь все от нас зависит,— улыбнулся
Чкалов
«Не верьте слухам,
что русские разбились»
Последняя запись в бортовом журна-
ле, сделанная штурманом Беляковым:
«20 июня 1937 года. 16.20 по гринвичскому
среднему времени посадка в Ванкувере.
Всего пробыли в воздухе 63 часа 16 минут».
Обычные, деловые слова и цифры. А что
за ними!
Почти трое суток летчики, превозмогая
усталость, побеждали стихию, заставляли
технику превзойти ее возможности и несо-
вершенства.
Первый и главный враг — обледенение
Тяжелеют крылья стекло кабины словно
залито молоком — слепой полет.
— Набирай, дорогуша, высоту, царапай-
ся, но лезь выше! — командует Чкалов.
Сквозь ледяную белизну облаков самолет
пробивается к солнцу.
Снижение высоты — снова обледе-
нение. Кончилась антиобледенительная
жидкость винта. Даже при полной мощнос-
ти мотора «АНТ-25» буквально «скребет»
высоту — метр за метром. Лучи солнца
жгут, от них некуда скрыться. Хорошо, что
глаза защищены светофильтровыми очка-
ми. А справа уже очередной циклон...
Штурман долго возится у рации: она
исправна, но приема нет. Больше суток нет
связи, а значит и сводок погоды. Летят по
секстанту, таблицам, выручает опыт штур-
мана.
Кабина негерметична. Невелик запас
кислорода, приходится экономить. За-
мерзла трубка, отводящая пар водяной
системы охлаждения мотора: вот-вот он
остановится или разлетится на куски. .
Байдуков вспоминает: «В такие минуты
смертельной опасности за внешним спо-
койствием Чкалова особенно чувствова-
лась его огромная внутренняя сила. Трезво
оценив обстановку, он мгновенно прини-
мал нужное решение и при этом держался
хладнокровно, уверенно». И у всех появля-
лась уверенность: выход есть, и он будет
найден.
Третьи сутки полета. Наконец показался
берег Америки. Но командир мрачнеет —
бензин на исходе, по-прежнему нет связи.
Действуя на свой страх и риск, прилагая все
усилия, экипаж совершает посадку на
маленьком аэродроме Пирсон-Филд.
Через несколько часов заголовки
экстренных выпусков американских газет
кричали: «Русские на земле. Счастливы. Не
верьте слухам, что русские разбились!».
«Ур-рей, рашен флайерс!»
Байдуков вспоминает: «Отворачивая от
моста вправо в сторону Портленда, я на
высоте метров пятьдесят подхожу к аэро-
порту с бетонной полосой... Но откуда
тысячи людей, махающих руками и шляпа-
ми? Неужели о нас они что-либо знают?
— Ягор! Не надо садиться сюда! Распот-
рошат самолет на сувениры,— кричит
командир. — Пойдем на другой берег!»
«С момента, когда были получены
первые известия об их полете,— писала
американская журналистка Джессика
Смит,— тысячи людей ждали всю ночь
в аэропорту Окленд их приземления; вся
Америка ликовала и была готова оказать
им свой национальный прием. Президент
Рузвельт и госсекретарь Хэлл, верховные
главнокомандующие армией и военно-
морским флотом, управляющий торговой
палатой, Клуб исследователей, бесчис
ленные научные и авиационные общества
профсоюзные организации рабочих,
простые граждане крупных городов и ма
леньких, мальчики и девочки везде прини-
мали участие во встрече советских летчи-
ков Это был один из самых больших
приемов, который Америка устроила по-
сланцам другой страны».
«Вся Америка» — конечно, преувеличе-
ние журналистки. Были и недоброжелате-
ли. Херстовская печать, к примеру, немало
поусердствовала, чтобы убедить амери-
канцев в неспособности Советов осу-
ществить перелет на советском одномо-
торном самолете. Иное дело, если бы он
был американским или английским... Вот
почему изумление вызвал не только сам
факт беспрецедентного по тому времени
события, но и то, что перелет был
совершен на машине, полностью сделан-
ной в СССР.
На приеме в торговой палате Портленда,
который транслировался по всей Америке,
командир «АНТ-25» подчеркнул: в нашей
стране уважают американскую делови-
тость, высокое мастерство рабочих, высо-
кокачественную технику, учатся всему
этому в первую очередь у американцев.
— Но мы даем слово не только вас
догнать в соревновании за развитие техни-
ки, но и перегнать. — И закончил речь
с присущим ему чувством юмора: —
Просим извинить, что через полюс к вам
перебрались мы, советские летчики,
первыми.
Зал дружными аплодисментами ответил
на эти слова
Байдуков вспоминает: «Нам сопутствова-
ли крики, свист, возгласы «урей, рашен
флайерс!», жесты, благословляющие Чка-
лова, и улыбки, улыбки, улыбки».
На одной из встреч в Нью-Йорке,
показывая на карте возможные воздушные
пути между СССР и Америкой, Чкалов
высказал неожиданное по тем временам
опасение: «Не дай бог, если этими корот-
кими путями вперед гражданской восполь-
зуется военная авиация».
Рассказ о всех встречах на американской
земле не вместился бы и в солидную книгу.
Приведем лишь выдержки из стенограммы
встречи с Клубом исследователей и
Русско-американским институтом куль-
турных связей.
30 июня 1937 года в огромном зале
нью-йоркского отеля «Уолдорф-Астория»
собрались люди, имена которых хорошо
знали в Советской стране и во всем мире:
Вильямур Стифансон, президент Клуба
исследователей, одним из немногих чле-
нов которого состоял наш Отто Юльевич
Шмидт, летчики Хетти и Маттерн, летав-
шие через СССР; негр Матью Хэнсон,
участник экспедиции Пири к Северному
полюсу; участник экспедиции Элсуорта
в Антарктику летчик Кенион и многие
другие. На знаменитом глобусе Клуба
исследователей, над полоской нового
маршрута Чкалов, Байдуков и Беляков
написали свои имена.
Стенограмма публикуется впервые
СТИФАНСОН: Дамы и господа!
3
Разрешите приветствовать вас по случаю
знаменательного события и дважды при-
ветствовать тех, кто сделал это событие
знаменательным — трех великих летчи-
ков из Советского Союза... Мы отдаем
дань глубокого уважения Стране Советов
за всестороннюю помощь и поддержку
во всех сферах научно-исследователь-
ской работы.
Клуб является организацией, достой-
ной того, чтобы с этой трибуны говорить
о признательности и уважении. У нас
большая история. Одним из основателей
клуба был адмирал Пири, который
первым достиг Северного полюса. Его
дочь прислала длинную телеграмму, но
за неимением времени зачту лишь сле-
дующее: «Мой отец предсказывал, что
люди, которые достигнут Северного
полюса вслед за ними, сделают это на
самолете, ио даже он не мог предвидеть
подобного бесстрашного подвига, совер-
шенного этими молодыми людьми. Пожа-
луйста, передайте им мои искренние
поздравления; уверена, что душа моего
отца сегодня отдает им честь».
Сейчас у меня в руках телеграммы от
человека, который первым достиг Север-
ного полюса по воздуху и оставался
единственным до полета профессора
Шмидта,— от адмирала Ричарда Бёрда:
«Передайте мои сердечные поздравления
русским пилотам. Я уверен, что этот
полет будет навечно вписан золотыми
буквами в летопись истории, что он во
многом улучшил отношения между на-
шими странами, и я верю в то, что он
послужит основой дальнейшего плодо-
творного сотрудничества и взаимопони-
мания».
У меня в руках телеграмма от сэра
Губерта Уилкинса, находящегося в
Англии. Он был первым человеком, ко-
торый пересек Арктику на самолете, и до
недавнего времени единственным: «Пере-
дайте мои сердечные поздравления трем
пилотам. Их исторический перелет поло-
жил начало открытию новых неисчер-
паемых возможностей в области аэронав-
тики».
Из Европы позвонил Линкольн Элсу-
орт, в свое время совершивший беспоса-
дочный перелет через Антарктиду:
«Я приветствую трех великих авиаторов.
Арктический маршрут стал фактом, как
и их смелость и мужество».
Около меня за столом сидят атланти-
ческие и тихоокеанские летчики, а также
главнокомандующий ВВС, генерал-майор
Оскар Вестовер.
ВЕСТОВЕР: Я поистине счастлив
быть сегодня с вами. Разрешите от имени
всех ВВС выразить дань уважения
русским летчикам... Каждый из этих
летчиков полон молодости, энергии,
силы, стойкости. Естественно, что все эти
качества послужили основой для успеш-
ного выполнения полета.
Я верю, что сердце каждого из этих
людей переполнено чувством патриотиз-
ма, любви к своей стране, которая
выступает в роли зачинателя сближения
наших двух стран, так далеко располо-
женных друг от друга, располагающих
такими огромными людскими и мате-
риальными ресурсами, как никакие дру-
гие великие державы.
Мы считаем, что этот исследова-
тельский полет — начало новой эры в
авиации. Но кроме всего прочего мы
видим в этом полете дружеский жест,
совсем как в старые добрые времена
«протянутые друг другу через море дру-
жеские руки». Это начало более тесных
контактов, лучшего понимания и сотруд-
ничества, которых еще не знала история.
Я хочу поздравить летчиков и заверить
их, что ВВС относит их подвиг к разряду
выдающихся в наше время. Это подвиг,
равного которому не будет, возможно,
долгие годы...
Место председательствующего занима-
ет вице-президент клуба Лоуэлл Томас.
ТОМАС: Предоставляю слово друго-
му джентльмену из Вашингтона, помощ-
нику секретаря по воздушной торговле
полковнику Монроку Джонсону.
ДЖОНСОН: Господин председа-
тельствующий, ваше превосходительство
посол Трояновский и все ваши полярные
летчики!.. Американцы, все как один,
восхищены вашим мастерством, реши-
тельностью, стойкостью, вашей безгра-
ничной преданностью работе, которая
и привела вас на нашу землю.
У меня есть все основания заверить вас
в том, что все американцы с величайшим
интересом следили за вашим полетом, как
вы мужественно проходили через все
ожидаемые и неожиданные испытания,
встретившиеся вам над необъятными
полярными просторами. Все мы вздохну-
ли с облегчением, когда узнали, что вы
приземлились целыми и невредимыми.
Мы с огромным энтузиазмом приветству-
ем вас и отдаем дань глубокого уважения
вашему бесстрашию... Такие историчес-
кие полеты, как ваш, могут служить
путеводной звездой в ускорении прогрес-
са...
...И сегодня мы считаем за честь
находиться с вами в этом зале, так как
для нас вы служите символом, по-
казывающим путь к достижению мира
и к победам в науке.
ТОМАС: Даю слово представителю
авиационной науки. Майор Лестер
Гарднер.
ГАРДНЕР: Уважаемые гости, дамы
и господа! Для того, кто следил за
большой работой, проводимой в Со-
ветском Союзе по развитию аэронавтики,
последний перелет наших почетных гос-
тей не был неожиданностью, по крайней
мере большой неожиданностью, какой он
показался всем. Теперь я вижу огромный
шаг, сделанный в научно-техническом
развитии аэронавтики...
Ученые и специалисты Института аэро-
навтики поздравляют пилотов и штурма-
на с успешным полетом и надеются стать
свидетелями других выдающихся дости-
жений авиации в России.
Т О М А С: Он правит воздушной импе-
рией. Его имя известно почти везде,
где есть воздух. Он — глава Панамери-
канских воздушных линий, Джуан Трип-
пе.
ТРИППЕ: Уважаемые полярные
летчики, господин посол, уважаемые гос-
ти! Вот уже несколько десятков лет люди
стремятся внести новое в развитие, усо-
вершенствование самолетов, чтобы лучше
узнать мир, в котором мы живем. И этот
полет открыл новый горизонт в развитии
связей между народами, внес свою лепту
в преодоление трудностей в этом отно-
шении и, я бы сказал, в преодоление
пространства и времени.
Совершив этот магический перелет на
«мягких» крыльях вашего самолета, вы
в какой-то степени заставили людей по-
иному воспринять размеры нашей пла-
неты.
Культурный обмен, торговля, преодо-
ление старых барьеров времени и про-
странства жизненно необходимы всему
человечеству. Шаг за шагом мечта всех
людей доброй воли приобретает опреде-
ленную форму.
ТОМАС: В течение нескольких лет
одним из самых известных ораторов
в стране считался уважаемый редактор
«Таймс» в Нью-Йорке доктор Джон Фин-
ли.
ФИНЛИ: Маршрут вашего полета
будет отмечен на глобусе, как и ваши
имена, рядом с именами Линдберга,
Бёрда, Чемберлена, Амундсена, Элсуор-
та, Стифансона, французских и немецких
летчиков, Эрика Ниелсона, мисс Иархарт,
Ноллинсона, господина Екнера, Кинга-
форда-Шмитта н других. От имени Аме-
риканского географического общества
сердечно поздравляю вас. Отныне все вы
являетесь членами нашего общества...
ЧКАЛОВ: Летя из Москвы через
Северный полюс в вашу великую страну,
мы принесли на крыльях нашего самоле-
та дружеский привет от 170 миллионов
граждан нашей страны народу Соеди-
ненных Штатов. ...Никакие циклоны,
никакое обледенение крыльев самолета
не могли остановить нас, так как мы
знали, что выполняем желание всего
нашего народа передать его дружеское
отношение к народу Америки.
Даже сегодня моя страна вам плохо
известна. За границей так много вы-
мыслов и клеветы о ней. Точно так же,
как мы боролись с циклонами и обледене-
нием самолета, наша страна пройде г
через все испытания, непонимания и кле-
вету, и все люди на планете увидят ее
истинное лицо...
ТОМАС: Думаю, все вы согласитесь,
что встреча наша получилась на славу,
а сейчас я возвращаю «штурвал управле-
ния» президенту Клуба исследователей
господину Стифансону.
СТИФ А НС О Н: Я сегодня уже
говорил о том, что мне трудно подыскать
слова, чтобы полностью выразить мое
восхищение, как и восхищение всех чле-
нов нашего клуба, полетом этих великих
людей, находящихся вместе с нами в за-
ле...
Вместе с нами находятся ведущие
ученые и исследователи всех областей
науки, связанных с авиацией. А те, кто по
какой-либо причине отсутствуют, присла-
ли такое количество телеграмм и писем,
что наш секретарь не успевает даже их
прочесть, так как это займет у него
столько времени, что все вы будете уже
дома.
Мы хотели бы попросить штурмана
экспедиции сделать то, что не в состоянии
сделать ни один чертежник Амери-
канского географического общества,—
нарисовать маршрут полета, так как он не
был соответствующим образом напечатан
в американской прессе. Наши сотрудники
потрудились и нарисовали карту прямо
на стене. Поэтому, господин Беляков,
я попрошу взять красный мел и с возмож-
но допустимой точностью нарисовать
маршрут вашего полета, начиная со
взлета в Москве и до штата Орегон. Да,
они долетели до Орегона, но должны
были возвратиться на посадку в Ванку-
вер.
...Беляков рисует маршрут на карте,
и на этом церемония заканчивается.
«Русские прилетают!»
Вскоре после знаменитого перелета
в Ванкувере решили на месте посадки
4
«АНТ-25» поставить памятник. Для этого
был создан Чкаловский комитет. Его орга-
низаторы думали и о будущем. Высказыва-
лись надежды, что место исторического
приземления в недалеком времени станет
конечным пунктом авиалинии «Москва —
Северный полюс — Америка».
Однако жизнь отодвинула осуществле-
ние этих планов без малого на четыре
десятилетия. Через два года началась
вторая мировая война. СССР и США
вместе сражались против общих врагов —
германского фашизма и японского милита-
ризма.
Надо сказать, что в те суровые годы
чкаловская трасса вновь заявила о себе как
трасса дружбы, трасса союзнических кон-
тактов. В 1941 году по заданию Сталина
в Америку по маршруту, близкому к чка-
ловскому, вылетели два советских самоле-
та. Одним командовал Г. Ф Байдуков,
другим — М. М. Громов. Целью полета
была личная встреча с Ф. Рузвельтом для
обсуждения возможности поставок амери-
канской авиационной техники нашему
фронту, о чем не удалось договориться по
дипломатическим каналам.
Победа принесла долгожданный мир,
и, казалось, создаются все условия для
углубления дружбы и сотрудничества
между американским и советским народа-
ми. Но после скоропостижной смерти
Ф. Рузвельта последовали годы «холод-
ной войны», организаторы которой поста-
рались плотной завесой лжи и клеветы
скрыть правду о Стране Советов, посеять
семена недоверия и ненависти к советско-
му народу. И все же благородный замысел
Чкаловского комитета не был забыт.
Середина семидесятых годов — полоса
разрядки международной напряженности.
В Ванкувере вновь заговорили о сооруже-
нии монумента. Его открытие было при-
урочено к 150-летию города и 38-й годов-
щине перелета — 20 июня 1975 года.
Правда, для этого пришлось практически
заново создать Чкаловский комитет. В него
вошли люди, разные по социальному
положению и взглядам, но всех объедини-
ла идея расширения контактов, сотрудни-
чества между нашими народами, воплоще-
ние которой они видели в чкаловском
перелете
Проект монумента был разработан и
выполнен гражданами городов района
Ванкувер — Портленд. Деньги на соору-
жение памятника вносили частные лица,
некоторые фирмы, деловые круги этого
региона. Был там и вклад известной
авиационной фирмы «Боинг». Члены коми-
тета, их семьи и многие горожане сотни
часов трудились на строительстве памятни-
ка и парка вокруг него.
Еще при разработке проекта монумента
члены комитета обратились к руководите-
лям нашей страны с просьбой принять
символическое участие Так в основании
монумента появились три бронзовые
плиты, изготовленные в Москве. На двух
был текст из «Известий» и «Правды»,
рассказывающий об успешном заверше-
нии полета, а на третьей — барельеф
летящего над Северным полюсом
«АНТ-25».
Вскоре последовало приглашение
Г. Ф Байдукову, А. В Белякову и И. В. Чка-
лову (полковнику авиации, сыну Валерия
Павловича) принять участие в торжест-
вах по случаю открытия монумента
и улицы Чкалова. Накануне газета «Санди
Орегон иен» вышла с сенсационным заго-
ловком: «Русские прилетают!».
Встреча на земле Ванкувера показала,
как бережно хранят здесь память о Чкало-
ве. 38 лет назад, после того как русские
летчики раздали встречавшим их амери-
канцам свой аварийный паек, упакованный
в перкалевые мешки, американские газеты
• Семья В П. Чкалова: сын Игорь
Валерьевич (во втором ряду второй слева);
дочери Валерия Валерьевна (в первом
ряду первая справа) и Ольга Валерьевна
(во втором ряду первая справа); внуки
Валерий (во втором ряду первый слева),
Елена и Мария (во втором ряду вторая и
третья справа); в центре — жена Ольга
Эразмовна с правнучкой Екатериной.
Москва, 1983 г.
не скрывали удивления: странные эти
русские, раздают даром то, на чем можно
заработать. А теперь ..
— Ко мне подошел средних лет амери-
канец и протянул красного цвета, заметно
выцветшую от времени, пачку папирос,—
рассказывает Игорь Валерьевич Чкалов. —
На ней рядом с автографами Чкалова,
Байдукова, Белякова стояла дата: 20 июня
1937 года. Я с волнением взял пачку,
открыл ее. Она была почти полной —
недоставало только двух папирос.
Данн Греко, готовивший «АНТ-25» к
отправке из Ванкувера в Нью-Йорк, как
самую дорогую реликвию показывал от-
вертку, подаренную Чкаловым. Авиаци-
онный техник Роберт Лоу — сбереженную
пачку галет из аварийного пайка чка-
ловского экипажа.. Здесь были газеты
и фотографии тех незабываемых дней.
Приносили и самые неожиданные вещи —
перкалевые мешки из под провизии, кон-
сервные банки...
К церемонии открытия памятника был
подготовлен буклет-программа, начинав-
шийся словами: «Сегодня мы открываем
первый монумент в Соединенных Штатах,
сооруженный в честь достижений Со-
ветского Союза».
Выступая на открытии монумента,
А. Ф. Добрынин, тогда советский посол
в США, подчеркнул, что памятник этот
будет служить прочным свидетельством
дружбы и высокого взаимного уважения
между нашими народами Эту же мысль
высказал в письме А. В. Белякову прези-
дент США Джералд Р. Форд: «Мне
доставило удовольствие участвовать в
праздновании годовщины исторического
перелета через полюс, совершенного ва-
ми, генералом Байдуковым и отцом пол-
ковника Чкалова из Москвы в Ванкувер
в 1937 году... Ваш недавний визит в Соеди-
ненные Штаты предоставил американско-
му народу возможность вновь подтвер-
дить свое желание работать вместе с дру-
гими народами для содействия миру
и прогрессу всего человечества».
На следующий день после открытия
монумента и улицы Чкалова газета «Ко-
лу мбиан» сообщала: «Не было никакой
охраны, русские и американцы слились
в одну большую толпу. Были объятия,
поздравления, улыбки. Дети собрали по-
левые цветы и с огромными букетами
в руках с нетерпением ждали момента,
когда можно будет подарить цветы
русским. Семилетняя Джеми Нортон сияла
от счастья, вручая свой букет знаменитому
Александру Белякову., »
Снова через «переднюю дверь» в Белый
дом вошли два знаменитых летчика и сын
их легендарного командира. Их при-
ветствовал Джералд Форд. Спустя 38 лет
их принимал 38-й президент Соединенных
Штатов.
...Мы сидим в квартире Игоря Валерь-
евича Чкалова, слушаем рассказ о Чка
ловском комитете. Его представители
здесь частые гости. И каждый приезд — не
только встреча старых друзей, но и обсуж-
дение новых планов сотрудничества.
В одну из таких поездок корреспондент
газеты «Колумбией» Стив Смолл собрал
материал о положении религии в СССР
и опубликовал его в США. Это был рассказ,
разоблачавший миф «о преследовании за
веру в атеистическом государстве». Он
вызвал немедленную реакцию — злобные
нападки на автора, а затем и угрозы.
Спасло лишь заступничество американско-
го духовенства. Вообще, члены комите-
та — люди разных взглядов и вероиспове-
даний. Стив Смут, к примеру,— представи
тель американской секты мормонов
И религия не мешает общению и сотрудни-
честву.
У комитета обширная программа де-
ятельности: подготовка публикаций и
фильма о Чкалове, организация поле-
тов по историческому маршруту между
Сиэтлом—Портлендом и Москвой с учас-
тием Аэрофлота и одной из авиакомпа-
ний США, содействие взаимовыгодной
торговле между двумя странами. Комитет
добивается, чтобы монумент чкаловцам
в Ванкувере был занесен в число истори-
ческих памятников США
Перед нами письмо руководителей
Чкаловского комитета, подписанное Алле-
ном Коулом и Стивом Смутом. Оно
заканчивается словами: «К счастью,
искра, зажженная жизнью Чкалова, являет-
ся для нас великим стимулом. И с этой
искрой мы надеемся помочь расцвету
советско-американских отношений».
|О ПОСЛЕДНЕЙ МИНУТЫ
ЖИЗНИ
В трагический день 1S декабря 1938 го-
да в нагрудном кармане летной куртки
В. П. Чкалова лежали три письма, а в
них — самые неотложные его заботы.
Вот эти письма.
Генеральному секретарю
Центрального Комитета ВКП(б)
Иосифу Виссарионовичу Сталину
Мы помним Ваше обещание разрешить
нам перелет в 1939 году за пределы СССР
До 1939 года осталось время не так уж
много, и поэтому мы решились Вас про-
сить конкретно о следующем:
1) Построить самолет системы инженера
Чижевского с дальностью 15 20 ты-
сяч километров, с дизельным мото-
ром и с рабочей высотностью маши-
ны 8—10 тысяч метров.
2) Разрешить подготовку к перелету, как
только самолет будет готов, начиная
с его испытания.
3) Дать установку Наркому Оборонной
промышленности о всех мероприя-
тиях, связанных с указанной прось-
бой (постройка нескольких экземпля-
ров машин и дизелей и ускоренное
их испытание с нашим участием)
Очень просим удовлетворить нашу
просьбу
Экипаж: летчик В. ЧКАЛОВ
летчик Г. БАЙДУКОВ
штурман А БЕЛЯКОВ
Список
мягкого инвентаря, необходимого
для оборудования детсада завода
им. Ульянова-Ленина на 150 детей
1. Простынного полотна на простыни
150 шт. 200 метров
2. Простынного полотна или мадаполаму
для пододеяльников 180 штук
270 метров
1. Мадаполаму на наволочки для поду-
шек — 150 шт. 150 метров
4. Полотна на халаты для персонала —
20 шт - 80 метров
5. Белого полотна для скатертей 40
шт 100 метров
6. Ситцу разного на детские платья —
150 шт. — 300 метров
7 Ситцу синего Для детских халатиков -
150 шт. — 300 метров
8. Полотна для полотенец — 150 шт -
40 метров
Директор завода
им Ульянова-Ленина ШЕМАГИН
Зав. детским садом БУДОВА
В третьем письме — просьба председа-
теля Чкаловского райисполкома И. Плетни-
кова оказать содействие коопартели «Вод-
гужкооптранс» в получении грузовых ма-
шин.
Три письма... Дерзкие планы освоения
новых воздушных трасс — перелет через
Южный полюс и, казалось бы, будничные,
незамысловатые заботы о детском саде
и коопартели. Но для Чкалова все они были
важными, государственными.
Выступая перед избирателями, В. П. Чка-
лов обещал «приложить все свои силы
чтобы не запятнать высокого . шия депу-
тата Верховного Совета Союза ССР,
никогда не «финтить», не свертывать
с правильного ленинского пути, не
забывать о своей зависимости от народа,
от избирателей...» До последней минуты
жизни он оставался верен этим словам.
ПЛАНЕТА № 2692
В почтенной космической дали, среди
Орбит Земли, Марса, Юпитера проходит
небесная дорога малой планеты Чкалов.
История ее такова.
16 декабря 1976 года сотрудники
Крымской астрофизической обсервато-
рии — супруги Л. И и Н. С. Черных
и Л. В. Журавлева открыли новую малую
планету и решили назвать ее именем
великого советского летчика.
Институт теоретической астрономии АН
ССС°, возглавляющий в нашей стране
работы по малым планетам, сообщение
о крымской находке послал в центр по
малым планетам — Смитсоновскую астро-
физическую обсерваторию США. После
проверки, уточнений советские астрофизи-
ки получили официальное сообщение об
утверждении названия. В нем говорится:
«Планета названа в честь В. П. Чкалова,
который впервые в истории совершил
перелет из Москвы через Северный полюс
в США в 1937 году».
В мировом каталоге малых небесных тел
у планеты Чкалова № 2692.
пожалуйста, не нападаит
НА АМЕРИКУ..
...Мы так боимся вас! — этими словами
учащиеся одной из школ Лос-Анджелеса
встретили Ролана Быкова и Людмилу
Чурсину. Советские актеры стояли посреди
класса растерянные, даже ошеломленные
столь непредвиденной реакцией.
При всей парадоксальности, нелепости
этой сцены, которую наблюдали миллионы
американских телезрителей, у нее есть
вполне реальное объяснение. «Ведь все
представления о русских,— рассказывает
глава компании по производству кино-
и телефильмов «Медиэйторс продакшнз»
Майкл Герзон,— до самого последнего
времени еще заимствуются в Америке из
фильмов типа «Роки IV» или «Красный
восход», где действуют не люди, а ли-
шенные каких-либо человеческих свойств
схемы, представляющие собой воплоще-
ние зла».
6
ираааэшшв
К. 1ПОМОЕВ,
секретарь Бурятского
обкома КПСС
«РЕВОЛЮЦИЯ СТАЛА беспримерным
взлетом исторического творчества масс,
звездным часом победившего народа,
сбросившего ярмо капиталистической и
помещичьей эксплуатации»,— сказано в
Обращении Центрального Комитета пар-
тии к советскому народу. Это в полной
мере относится и к Бурятии. Действитель-
но, разница между прежней и нынешней
жизнью такова, что их даже трудно
сопоставить.
Пустынный, малозаселенный край, где
и промышленности-то никакой не было,
только народные ремесла,— и равноправ-
ная среди других автономная республика
с миллионным населением, развитой ин
дустрией. Электроэнергия, уголь,
электродвигатели, оконное стекло,
швейные и трикотажные изделия, мясная
и молочная продукция, машины и меха
низмы для животноводства и кормо
производства, сварные металлоконструк
ции — все это вырабатывает наша рес-
публика. По ее территории проходит
участок БАМа с уникальными техничес-
кими сооружениями — туннелями, про-
битыми сквозь толщу гор.
Буряты, эвенки и другие малые народ-
ности приобрели современные специаль-
ности, стали рабочими высокой квалифи-
кации, инженерами, писателями,
учеными, врачами, учителями. Почти
у 70 процентов жителей среднее и высшее
образование. В республике трудятся
2 члена-корреспондента Академии наук,
50 докторов и свыше 900 кандидатов
наук.
Великий Октябрь направил духовные
силы народа на создание собственной
культуры, письменности. Влияние рели-
гии отошло на второй, третий план.
Сейчас, по данным этносоциологических
исследований, в разных районах респуб-
лики от 60 до 90 процентов населения
составляют неверующие, а верующих
и колеблющихся — от 10 до 30 процен-
тов. Следствием этого процесса явилось
сокращение сети религиозных организа
ций, действующих в республике. В начале
века здесь находилось 40 ламаистских
дацаиов, 48 миссионерских станов, рели-
гиозной деятельностью занимались до
15 тысяч лам, сотни миссионеров и шама
нов. В Бурятии действовали 278 право-
славных церквей, 4 монастыря, 302 ча-
совни, 9 молелен и 32 старообрядческие
церкви, 8 синагог и мечетей. Сегодня
в республике один дацан с 30 ламами,
действует также православная церковь.
Социальные функции религии трансфор-
мировались, во многих сферах жизни
вообще сошли на нет.
Вместе с тем наблюдаются и тревожные
факты. Процесс освобождения от рели-
гиозного влияния как бы остановился,
приобрел застойный характер, а в неко-
торых местах даже пошел вспять. Какие
тому причины? Устойчивость пережитков
прошлого, как привыкли думать? Или
причины этих явлений следует искать
также и в современных условиях?
Хочу поделиться некоторыми сообра
жениями на этот счет. Пожалуй, первое,
на что нужно обратить внимание, это
сохранение в республике многих видов
традиционного труда — охоты, рыбо-
ловства, скотоводства. Существующие
здесь профессиональные запреты, по-
верья, приметы, издавна облеченные
в религиозную форму, оказались
чрезвычайно живучими. Они характерны
не только для людей старшего поколения,
но и для части молодежи, которая ус-
ваивает их в межличностном общении.
Молодой охотник, рыболов, к примеру,
через систему трудовых традиций и
обычаев приучается «задабривать» ду-
ха — хозяина местности, соблюдать ре-
лигиозные запреты.
Для пастухов, чабанов, оленеводов
характерны примерно те же факторы
религиозности, что для охотников, рыбо-
ловов. Большую часть времени животно-
воды проводят вдали от дома. Там
преобладают малые коллективы, где
сильны кровнородственные отношения
и соответствующие им традиции, в том
числе религиозные. Таких животновод-
ческих «точек» в республике около двух
тысяч...
Но не только в традиционных формах
сельскохозяйственной деятельности на-
ходит опору религия — то же происходит
и в новых, складывающихся. В земледе-
лии, которым буряты стали заниматься
совсем недавно. К примеру, дождей,
когда нужно, нет, глядишь, уже кое-кто
собирается на молитву, просить у бога
хорошей погоды — привычный стереотип
поведения, основанный на религиозности.
Характерно, что среди учащихся
сельскохозяйственного техникума, как
показали социологические исследования,
в различной степени религиозны более
9,4 процента. Другое беспокоящее нас
явление — относительно большая группа
учащихся Техникумов, которые затруд-
нялись сказать, кто они: верующие,
неверующие, атеисты.
Ясно, многое в сфере духовной жизни
зависит от правильной социальной поли-
тики, справедливого решения наболев-
ших житейских вопросов. Сегодня Буря-
тия напоминает бурлящий котел: тысячи
людей приезжают на БАМ, новостроящи-
еся предприятия и в города — и тысячи
уезжают! Обратная миграция обусловле-
на в основном нерешенностью бытовых
и социальных проблем: нехваткой жилья,
детских садов и ясель, школ, клубов,
кинотеатров, дворцов культуры, спор-
тивных сооружений, недостатками в
снабжении продуктами, товарами первой
необходимости. Сотни конфликтов!.. Мно-
гие можно было бы разрешить, создавая
разумный и справедливый баланс между
хозяйственной и социальной сферами.
А пока нерешенность социальных про-
блем создает почву для сохранения,
а порой и оживления религиозности.
Корни религиозности лежат и в сфере
общения. Здесь обряды, религиозные тра-
диции нередко служат поддержанию
родственных, соседских связей. Они как
бы объединяют разрозненные группки
людей. Люди престарелые, оторванные от
общественного труда, в религиозных об-
рядах порой находят выход своей актив-
ности, свою связь с миром. Не потому ли
среди бурят, эвенков, русских в селах.
7
особенно отдаленных от городов, от
центров культуры, встречаются бывшие
активисты, руководители ферм и бригад,
работники культпросветучреждений,
школ, которые, уйдя иа заслуженный
покой, включаются в культовые дела.
Нельзя умалять консервативную силу
привычки. «Так принято» — этой форму-
ле явно или открыто подчинена жизнь
многих. Одиако внимательный взгляд
увидит здесь и неполное удовлетворение
культурных, художественно-эстетичес-
ких, духовно-нравственных запросов, и
остатки фактического неравенства в быту
женщины и мужчины, былой отсталости
края в культурном отношении. Все это
сильнее проступает в отдаленных селах,
где еще немало людей с невысоким
уровнем образования.
Учтем при этом еще один важный
момент: в буддизме, шаманизме немало
таких обрядов и их элементов, которые не
несут в себе религиозной нагрузки, ио
связаны с художественно-эстетическим
началом, с положительными эмоциями.
Характерны в этом отношении разные
летние обо-тахилы. Многих вообще не
интересует их религиозная сторона, соби-
раются, чтобы отдохнуть в субботний или
воскресный день, развлечься.
Разумеется, деятельность церковных
организаций содействует сохранению ре-
лигиозных взглядов, особенно в ламаиз-
ме, старообрядчестве. В бурятских улусах
живет немало бывших лам, они нередко
возобновляют свою деятельность, нару
шая при этом законодательство о куль
тах. Есть и такие, кто к религиозной
деятельности приходят через изучение
старомонгольской или тибетской пись-
менности, осуществляя определенные
связи между дацаном и верующими.
Различные формы оживления рели-
гиозности наблюдаются не только в буд-
дизме. В некоторых районах, чаще всего
отдаленных: Тункинском, Закаменском,
Курумканском, Кабане ком,— стихийно
выдвигаются шаманы. У старообрядцев
появляются самозваные уставщики и на
четчики.
Следует сказать и о недостатках атеис-
тической работы, она порой формальна.
Так, в Бурятской организации общества
«Знание» республиканского звена 26 лек-
торов-атеистов, некоторые читают до
100 лекций в год и больше. Но вот
факт, проливающий свет на истинную
эффективность этой бурной деятельнос-
ти: всего пятеро читают лекции на
бурятском языке. В лекциях почти не
используются наглядные пособия, киио
и другие современные технические
средства, в Улан-Удэ нет кинолектория
научно-атеистических знаний. Методи-
ческие- разработки, предложенные рес-
публиканским советом, пылятся порой
в шкафах районных правлений общества
•Знание». Короче говоря, в сложившейся
ситуации и наших огрехов, недостатков
немало.
Остается вопрос, о котором необходимо
Сказать,— я имею в виду тибетскую
<8
и народную медицину. Разговоры вокруг
нее в последние годы получили обще-
союзное звучание.
Лечебная практика лам была основана
на тибетской медицине, которая ни в ме-
тодах диагностики, ни в лечебных
средствах, основанных главным образом
на травах, не совпадает с общепринятой
в современной науке.
В середине 30-х годов заслуженным
деятелем науки М. П Кончаловским и
ученым медицинским советом Нар
комздрава РСФСР тибетская медицина
была объявлена чуть ли не шарла-
танством, а все ее достижения и на ход
ки — корыстным занятием религиозных
дельцов. Эта официально принятая уста-
новка сослужила плохую службу.
С 1935 по 1975 год, когда нормальный
цикл смены поколений, знавших секреты
тибетской медицины, прервался, она ста-
ла похожа на свод забытых текстов
алхимиков. Многие тексты были уничто-
жены или просто исчезли из обихода.
К середине 70-х годов сложилась си-
туация, которая потребовала от нас
определенных действий. Тогда Сибир-
ское отделение АН СССР и создало
лабораторию (сначала — отдел) биологи
чески активных веществ — для введения
в научный оборот ценных трактатов
тибетской медицины, поиска перспек-
тивных видов сырья для новых ле-
карственных препаратов.
Сегодня уже переведены на русский
язык и опубликованы разделы по ле-
карствоведению из трактатов «Вайдурья-
онбо», «Дзейцхар-Мигчжан», сданы в из-
дательство первый, второй и четвертый
тома «Чжуд-ши», а также «Атлас ти-
бетской медицины» По материалам пере-
водов и исследований лабораторией опуб
ликованы работы «Очерки тибетской
медицины», «Слово о тибетской медици-
не», «Лангтхабы и их корригирование»
(последняя монография в 1982 году
переиздана в Индии на английском
языке), ряд тематических сборников.
Установлены научные эквиваленты бо-
лее 400 видов лекарственного сырья
тибетской медицины. Разработан и уже
разрешен для клинического испытания
комплексный препарат полифитохол,
предназначенный для лечения заболева-
ний печени и желчевыводящих путей. На
стадии испытаний находятся противояз-
венный препарат тетрафит и антигепато-
токсический чай.
Надо признать: ведь до недавнего
времени во многих научных источниках
тибетская медицина всегда бралась в
кавычки, ее рассматривали лишь как
средство для поддержания авторитета
лам среди верующих. Это наносило ог-
ромный вред и науке, и атеистической
работе. Вместо того чтобы перенять ис-
кусство врачевания у лам, дать ему
материалистическое истолкование и сде-
лать достоянием общества, мы пошли
иным путем. Думается, ту же ошибку
повторяем сегодня, с пренебрежением
относясь к некоторым методам народной
медицины, пульсодиагностике и траволе-
чению. У нас в Улан-Удэ остался
замечательный травник Галдан Линхо-
боев, который мог бы передать свой
знания, секреты пульсодиагностики и
траволечения специальной комиссии вра
чей и ученых, что ои, кстати, не раз
предлагал. Но Минздрав относится к это-
му скептически.
Сегодня, оставаясь в руках лам, рели
гиозно настроенных людей, тех, кто
склонен к мистическому объяснению воз-
можностей траволечения и т. п.,— все это
становится одним из источников рели
гиозного поклонения. «Если бурятский
бог дает здоровье, почему бы ему не
помолиться»,— говорят некоторые.
Вообще мы нередко поспешаем с заире
щениями вместо того, чтобы задуматься:
нельзя ли многое из того, что делалось
и делается народом, взять на службу
современному обществу, очистив от рели-
гиозных наслоений. Вот пример. Бурятия
богата минеральными источниками —
аршанами, многие обладают целебными
свойствами. Из 350 лишь 12 входят
в курортную сферу, остальные исполь-
зуются стихийно, привлекая в курортно-
летний сезон тысячи людей. Как правило,
каждый аршан имеет свое культовое
место, где капают или брызжут вином,
приносят жертвы, привязывают к кустам
ленточки, бросают деньги. Мы боремся
с религиозным пониманием аршанов,
запрещая их,— вместо того чтобы ис-
пользовать «на полную мощность» в ку-
рортном деле.
Массовый характер носит цагалган —
новогодний праздник скотоводов, отме-
чаемый обычно в феврале. Он был
запрещен еще в 20-х годах... Новый дух
времени обязывает со всей серьезностью
отнестись к тому, что живет в народе, чем
он дышит, что любит, к чему тянется.
Настала пора подумать и о цагалгане
в его исконном народном виде. Время
голословных отрицаний, необоснованных
запретов и бездоказательных осуждений
прошло и, надо думать, не вернется.
Многое из ранее запрещенного следует
решительно перенимать, делать союзни-
ком в борьбе за построение нового
общества.
Я затронул лишь незначительную
часть проблем, которыми живет сегодня
атеистический актив Бурятии. Решение
их во многом связано с перестройкой —
в ней нуждаются сферы экономики, со-
циальной политики, идеологии, собствен-
но атеистической работы. Надо честно
признать: сознание людей меняется мед-
леннее, чем хотелось бы. Преодолеть
трудности можно только терпеливым и
кропотливым трудом. Ломка закоснелых
форм, методов, привычек дается нелегко,
поэтому за перестройку надо активно бо-
роться, ее надо защищать. Здесь нам тре-
буется и характер, и самоотверженность,
и мужество в признании собственных
ошибок. Только такой подход принесет
победу в наших справедливых начина-
ниях.
Записал
И. ВОСКРЕСЕНСКИЙ.
НАШИ ПУБЛИКАЦИИ
НРАВСТВЕННОСТЬ и РЕЛИГИЯ
В. ТЕНДРЯКОВ
Без бога и без догм
Религия начиная с XVII века сдает
позиции, чем дальше, тем больше.
И казалось, XX век, век революци-
онных преобразований в естествозна-
нии, должен бы похоронить ее окон-
чательно. Но тут происходят странные
явления. Величайший из ученых наше-
го столетия Альберт Эйнштейн вдруг
заговорил о... религиозном чувстве.
Нет, его заявление не имело ничего
общего с декларациями Коперника,
Кеплера, Дарвина и других ученых,
которые не отвергали бога, но остава-
лись проницательными материалиста-
ми. Эйнштейн никогда ни в чем не
соприкасался с религией, и его
странные высказывания никак нельзя
объяснить какими-то внешними вли-
яниями, скажем, рабским подчине-
нием сильному авторитету. К рассуж-
дениям о религиозности он пришел
через наблюдения и размышления
над тем предметом, которым столь
блистательно занимался.
Он отмечает, что «наши представ-
ления о физической реальности ни-
когда не могут быть окончательными.
Мы всегда должны быть готовы изме-
нить эти представления...». А значит,
продолжает Эйнштейн, «я не могу
доказать, что научную истину следует
считать истинной, справедливой, неза-
висимой от человечества, но в этом
я твердо убежден». Убежден бездо-
казательно, то есть — верует.
Великий ученый признает веру как
неотъемлемую часть научного подхо-
да. Однако это не та творческая вера,
которая является исходным момен-
том в процессе мышления. Эйнштейн
готов видеть в ней проявление особой
«научной религиозности». «Основой
всей научной работы,— говорит он,—
служит убеждение, что мир представ-
ляет собой упорядоченную и позна-
ваемую сущность. Это убеждение
зиждется на религиозном чувстве».
И что ж получается. Вл. Соловьев,
ставивший веру «вне области теорети-
ческого познания и ясного сознания»,
выходит, не так уж не прав? Эйнштейн
смыкается с ним?..
Известный советский физик
Е. Л. Фейнберг пишет:
«Эйнштейн различает три стадии
религиозного чувства вообще. Пер-
вобытную, когда это чувство основано
на страхе перед непознанными зако-
нами природы. Оно ослабевает по
Окончание Начало № 2—4, 6.
мере углубления познания внешнего
мира. Более развитую, когда рели-
гиозное чувство составляет основу
моральных норм. Но и оно теряет
свое значение по мере развития
общества как совокупности созна-
тельных и развитых личностей. И,
наконец, ту стадию, которая выра-
жается собственным его пониманием
«религиозности». Он называет его
«космическим религиозным чувст-
вом», «не ведающим ни догм, ни
бога».
Фейнберг делает оговорку: «...Это
сказано не вполне точно, без бога
и с единственной догмой, гласящей,
что мир объективно существует вне
познающего субъекта, и этот мир
закономерен, упорядочен и позна-
ваем».
Тут мне хотелось бы, в свою
очередь, возразить Фейнбергу- а до-
гма ли это? Коль мы постоянно
говорим о догмах, то давайте разбе-
ремся подробнее в их природе.
Догма в религии — не столько то,
что невозможно опровергнуть, сколь-
ко то, чего не следует опровергать.
Это запрещено моральными, этичес-
кими, религиозными нормами. Поло-
жение, не подлежащее запрету, кото-
рое опровергнуть невозможно, уже
не догма, а аксиома.
Если опровержение догм — своего
рода крушение религии, то опровер-
жение аксиом — торжество науки.
Как это и было с опровержением
пятого постулата Евклида.
Осмысляй, критикуй, опровергай,
если сможешь, утверждение, что мир
объективно существует, закономерен,
упорядочен и познаваем. Другой раз-
говор, что такой возможности челове-
чество не имеет и неизвестно, сможет
ли критически осмыслить это ут-
верждение. Его никак нельзя назвать
догмой — это аксиома в полном
смысле слова.
Догма не выводится из опыта
жизни, не согласуется с действитель-
ностью, напротив, она может противо-
речить им, и верующего это ни в коей
мере не должно смущать. Что бог
триедин, никто не видел, не осязал, ни
один факт ни прямо, ни косвенно не
подтверждает этого.
Аксиома же рождается из опыта, из
наблюдений того, что постоянно
встречается в нашей жизни. Через
две точки можно провести одну,
и только одну, прямую — это очевид-
нейший факт, справедливость которо-
го мы всегда можем проверить
опытным путем. Доказать его. вывес-
ти из каких-то посылок нельзя по
причине очевидности.
Вот тут-то вернемся к В. Соловьеву
и Эйнштейну, посмотрим, насколько
их взгляды отличаются друг от друга.
Для Соловьева вера превышает
силу фактических и формально-логи-
ческих доказательств. Фактических —
обратите внимание! Соловьевская ве-
ра превышает силу фактов, она сама
по себе якобы «факт первона-
чальный».
Для Эйнштейна вера вовсе не
первоначальный факт, наоборот —
она порождена очевидными жиз-
ненными фактами. Мир упорядочен
и познаваем — хочешь не хочешь,
а верь: опыт науки и всего челове-
чества в этом наглядно убеждает.
Если б опыт не подтверждал, если
б факты жизни говорили иное,
Эйнштейну и в голову бы не пришло
в это верить.
Эйнштейн рад бы доказать то, во
что жизнь вынуждает верить, найти
причины, объяснить почему, рад
бы — да не может докопаться до
причин. Само положение — мир упо-
рядочен и познаваем — как бы пер-
вопричина всему, чем занимается
наука, то есть основополагающая ак-
сиома.
Заявление Соловьева, что вера
сильней знаний и мышления, ибо
«первоначальней» их, для Эйнштейна
должно казаться бессмыслицей. Вера
Эйнштейна является «основой всей
научной работы», конечный результат
которой — знания. Основа дома —
фундамент чем-то сильней (или важ-
ней) расположенных над ним квар-
тир — абсурдное утверждение. Фун-
дамент закладывается ради квартир,
а не наоборот. Эйнштейн и не заводил
бы разговор о вере, если бы она не
приводила к знаниям.
Для Владимира Соловьева вера —
самоцель.
Для Альберта Эйнштейна цель —
знания.
Вера Эйнштейна по нашей класси-
фикации больше всего напоминает
бытовую веру. Мы бездоказательно
принимаем что-то, верим чему-то. По
сути, так же бездоказательно прини-
мает и Эйнштейн: мир упорядочен
и познаваем. Мы можем отказаться от
веры во что-то, если ей станут проти-
воречить жизненные факты и наш
чувственный опыт. Несомненно, зако-
лебался бы в своей вере и Эйнштейн,
если б вдруг обнаружилось: какие-то
факты противоречат ей. Наша вера не
самоцельна, не абсолютна, вера
Эйнштейна тоже. Разница не в харак-
тере веры, а в ее предмете. Мы верим
в некие бытовые частности (вроде:
«худые вести не лежат на месте»),
Эйнштейн верит в характерную для
всего мироздания особенность.
Е. Л. Фейнберг не прав, говоря, что
«это сказано не вполне точно», терми-
нологическая неточность допущена
Эйнштейном в другом — он называет
религиозным го, что по существу
таковым быть не может. Религиоз-
ность, не ведающая догм, а значит,
допускающая сомнения, ставящая ве-
ру под контроль разума,— чем такая
религиозность отличается от научного
подхода?
Но все-таки Эйнштейн не случайно
употреблял выражение «космическое
религиозное чувство». Чувство!.. Речь
идет об эмоциональном состоянии.
Наука не доверяет им. Строгий
ученый Эйнштейн изменяет тут
принципам объективной науки, обра-
щается к тому, что всегда являлось
чисто субъективной категорией. Поче-
му?
Сама наука эмоциям чужда, но
источником их, причем ярких,
сильных, она быть может. «Космичес-
кое чувство» Эйнштейна, которое он
называет религиозным, есть ни более
ни менее как его личная реакция на
особое свойство природы. «Самое
непостижимое в этом мире то, что он
постижим!» — вот чисто эмоциональ-
ная формула Эйнштейна. И действи-
тельно, как тут оставаться равно-
душным, если беспредельный мир
столь покладист перед существами,
обитающими на затерянной планетке.
Из века в век за религией признавался
приоритет на возвышенные чувства.
Эйнштейн прибегает к привычному
термину — религиозное да еще вкупе
с космическим означает для него
нечто предельно высокое, все-
объемлющее. Высокое, все-
объемлющее, но вполне реальное
чувство, которым, по его мнению,
должно проникнуться в будущем все
человечество.
Но, воспользовавшись старым
привычным понятием, Эйнштейн
отбрасывает его старое содержание:
религия, «не ведающая ни догм, ни
бога». Без бога — куда ни шло. Бог
всего-навсего одна из догм, ее могут
заменить другие. Но религия совсем
без догм — такая же бессмыслица,
как наука без знания.
Против безумства
и страстей человеческих
Вл. Соловьев считал: «Сила веры
зависит от особого самостоятельного
психического акта, не определяемого
всецело эмпирическими и логически-
ми основаниями».
Религиозный философ искренне
убежден, что такая вера несет в себе
нравственное оздоровление. Альберт
Эйнштейн знал цену психическим
актам, не определяемым эмпиричес-
кими и логическими основаниями.
«Разум,— говорил он с фило-
софской горечью,— несомненно ка-
жется слабым, когда мы думаем
о стоящих перед нами задачах;
действительно слабым, когда мы его
противопоставляем безумству и
страстям человеческим, которые,
надо признать, руководят почти по-
лностью судьбами человеческими как
в малом, так и в большом».
Эти слова он произнес в 1927 году,
когда в Германии уже прорывались те
«психические акты», которые впос-
ледствии привели к победе фашизма.
«Теория относительности — не не-
мецкая теория!», «Низкая научная
сплетня!»,— адресовали великому
ученому.
Изгнание Эйнштейна из Германии,
залитая кровью Европа, печи Бухен-
вальда и Освенцима — вот результат
торжества веры в догматы расовой
неполноценности, веры, стоящей «вне
области сознания», сила которой зави-
сит от «особого самостоятельного
психического акта». «Безумство и
страсти» руководили полностью судь-
бами человеческими!
Вл. Соловьев в жизни был неприми-
римый противник насилия. 28 марта
1881 года он во всеуслышание воззвал
к царскому правительству — не до-
пустить смертной казни народоволь-
цев, убивших Александра II. Он
мечтал с помощью веры «осу-
ществить на земле, в данном мире...
царство правды». С помощью веры,
чья сила зависит от психических про-
явлений, не подвластных разуму.
Наш разговор начался с того, что
нормализовать человеческие отноше-
ния не в состоянии ни наука, ни
культура, ни даже экономическое
благополучие. И не случайно кое-кто
снова с надеждой обращается к рели-
гии. Увы, она, требующая веры в
нравственные трафареты — люби, не
убивай, не лги, не укради и др.,— не
способна «осуществить на земле...
царство правды», напротив, мешает
верующему понять жизнь, ставит его
в ложные положения, толкает на
опрометчивые поступки.
Я опрометчиво поступил по отноше-
нию к вам, значит, нанес какой-то
ущерб — материальный или мо-
ральный, не учел ваших интересов,
оскорбил чувства, не отнесся с
должным вниманием к вашим привя-
занностям. И вам нужно сделать над
собой усилие, чтобы не ответить мне
тем же — невниманием на невнима-
ние, оскорблением на оскорбление
Я — религиозно верующий чело-
век, моя религия требует от меня не
просто верить в нравственные трафа-
реты, а верить безоговорочно, не
считаясь ни с чем — ни с очевидными
фактами, ни с логически обосно-
ванными убеждениями. Переубедить
меня невозможно, я всегда буду
считать себя правым. И каким бы вы
терпимым человеком ни были, но
в конце концов терпение ваше
должно лопнуть, рано или поздно вы
должны вознегодовать.
Я, верующий, свою веру могу
проявить лишь «особым самосто-
ятельным психическим актом, не
определяемым всецело эмпирически-
ми (опытными) и логическими (ра-
зумными) основаниями», то есть про-
явления моей психики столь же слепы,
как и моя вера. Но религия обращает-
ся со своими требованиями не ко мне
одному, а к неким массам. Мы в одно
верим, одним заповедям подчиняем-
ся, обязаны одинаково и вести себ;.
Мы духовно объединены, и наша
слепая, не определяемая разумом
психика может стать грозной силой
в обществе. И вот безумство и страсти
руководят судьбами человеческими...
На религию нельзя рассчитывать,
а на что можно? В самом этом
вопросе — на что? — мне кажется,
содержится опять же наивная, опять
же ничем не оправданная вера в не-
кий универсальный спасительный ре-
цепт. Стоит, мол, только найти какое-
то одно средство, как нравственность
восстановится, бесконечно сложные
человеческие отношения с неисчис-
лимыми причинами, плодящими не
поддающиеся учету следствия, бу-
дут разом решены и нормализованы.
Одним универсальным средством!
Право, это уже не утопия, это из
области детских волшебных сказок.
Скорей всего;- нужны длительные,
напряженные усилия всего челове-
чества во всех областях его деятель-
ности, чтоб добиться тех взаимоотно-
шений, которые мы могли бы с
полным основанием назвать
нравственными. Не только наука, не
только высокая культура, не только
материальное благополучие, а все
вкупе и помимо этого, наверное, еще
что-то, нам пока не известное, но что
предстоит открыть...
Открыть... Любые усилия не прине-
сут успеха, если мы станем действо-
вать не творчески. Постоянно, с упор-
ной настойчивостью говорят о науч-
ном творчестве, однако применитель-
но к нравственности творчество
обычно не упоминается. Нравствен-
ность кажется столь простой и очевид-
ной, заведомо всем известной, что ни
о каких творческих открытиях в ней
или творческом подходе речи быть не
может.
При этом сложные и острейшие
нравственные задачи решают не толь-
ко литературные герои — скажем,
Анна Каренина или Раскольников,-—
но и мы с вами. Нередки случаи
в истории, когда нравственные за-
блуждения становились массовыми.
Хотя бы знаменитое дело Дрейфуса
во Франции, где клевету на безвинно-
го человека подхватила едва ли не
большая часть населения, а защитни-
кам нравственности, вроде Эмиля
10
Золя, пришлось на время бежать из
страны.
Что именно нравственно, а что
безнравственно — нельзя опреде-
лить, не поняв общественных отноше-
ний. А над пониманием их бьются
лучшие умы человечества.
Каждый из нас ежедневно решает
на практике большие и малые про-
блемы нравственности. Каждый, в об-
щем-то, прекрасно понимает, что нет
ничего опасней, как предаться при
этом «безумству и страстям»,— где
страсти, там уже нельзя говорить
о каких-либо нормальных отноше-
ниях. Люди, не обуздывающие страс-
тей, считаются опасными для об-
щества.
Казалось бы, ревнители религии
с давних времен исступленно тверди-
ли о необходимости обуздывать
страсти, вплоть до самоистязаний. Но
они поощряли и культивировали
страсть к вере, безграничной, безого-
ворочной, слепой, воистину безумной.
Поощрялось и культивировалось без-
умие.
Пусть вы далеки от общепринятых
религиозных верований, но это еще не
означает, что религиозность вообще
чужда вашему сознанию. Как часто
каждый из нас бездумно верит тому,
что противоречит нашей жизни, по-
ртит наши взаимоотношения.
Было бы глупо после всех этих
рассуждений делать для себя катего-
рические выводы; долой всякую веру,
не верь никому и ничему, все без
исключения подвергай сомнению и
критике. Если б мы перестали брать
что бы то ни было на веру, все ставили
под сомнение, каждому положению
искали подтверждающие факты и до-
казательства, нам просто бы некогда
стало жить, все время и силы уходили
бы на перепроверку. Человеку
свойственно верить, «как бегать —
лошади», но бытовая вера, к которой
человек постоянно прибегает, не до-
лжна перерастать в веру религиоз-
ную. Любой противоречащий нашей
вере факт, любые логические несоот-
ветствия должны замечаться, настора-
живать нас, толкать на пересмотр
того, чему мы только что верили.
Приверженность к вере, покорность
ей — недостаток. Достоинством же
является чуткость восприятия окруже-
ния, той изменчивой действительнос-
ти, в которой мы живем, понимание
сложных связей в мире сем, посиль-
ное понимание! В том числе и
сложных людских взаимоотношений.
Не отвергай чужое мнение, но не
будь рабом его — вот правило, на
котором строится личность. Религия,
навязывающая всем единые догматы,
требующая одинакового — по не-
сложным трафаретам! — поведения,
обезличивала человека, убивала в нем
личность. Истинно верующий с него-
дованием должен был бы оттолкнуть
все, что я написал: на то он и ве-
рующий, чтоб оберегать свою веру,
не соглашаясь ни с фактами, ни
с аргументированными доводами. Ве-
рующих людей не убедила сама
история, показавшая, что челове-
чество бурно развивалось во всем,
кроме нравственности, которая на
протяжении тысячелетий была отдана
на откуп религии. Я и не рассчитываю,
что такие люди согласятся со мной.
Есть еще люди, кто «верит и не
отрицает», питает какие-то смутные
надежды на религию — а вдруг, чем
черт не шутит! Они не держатся
мертвой хваткой за догматы, при-
знают силу фактов, признают логику,
не утратили способности мыслить
самостоятельно. К ним-то я и обра-
щаюсь: вдумаемся, сопоставим, да-
дим волю сомнениям, но не станем
отмахиваться, постараемся понять
друг друга и будем помнить, что
с этого обоюдного понимания и начи-
наются те отношения, которые
называются нравственными.
Публикация Н. ТЕНДРЯКОВОЙ-АСМОЛОВОЙ.
ХРОНИКА
СЕМИ
ДЕСЯТИЛЕТИИ
1930. 14 марта. ЦК ВКП(б) принимает
постановление «О борьбе с искривле-
ниями партлинии в колхозном движении».
В нем, в частности, говорится: «...ЦК
считает необходимым отметить совершен-
но недопустимые искривления партийной
линии в области борьбы с религиозными
предрассудками... Мы имеем в виду адми-
нистративное закрытие церквей без согла-
сия подавляющего большинства села,
ведущее обычно к усилению религиозных
предрассудков... Не может быть сомнения,
что такая практика... не имеет ничего
общего с политикой нашей партии»
1930. Декабрь. Проходит всесоюзное
совещание, в котором принимают участие
представители 28 антирелигиозных отде-
лений научно-исследовательских учрежде-
ний страны. Намечены основные направле-
ния разработки теории и истории атеизма,
утвержден единый план исследова-
тельской работы.
1932. 13 ноября. В Ленинграде, в Ка-
занском соборе, состоялось торжествен-
ное открытие Музея истории религии.
Сейчас в музее свыше 150 тысяч экспона-
тов.
1933. 10 августа. ВЦИК и Совнарком
РСФСР принимают постановление «Об
охране исторических памятников». Коми-
тет по охране памятников революции,
искусства, культуры при Президиуме ВЦИК
составил список памятников, находящихся
под государственной охраной.
1934 год. В г. Орша (Белоруссия)
проходит съезд православного духо-
венства. Председатель Могилевского
епархиального управления выступает с та-
ким признанием: «Атеизм практически
и теоретически глубоко проник в среду
простого народа, растет быстро, разви-
вается молниеносно, крепнет поразитель-
но, овладевает все большим и большим
числом людей, проникает всюду».
1936. 3 декабря. Чрезвычайный VIII
съезд Советов принимает Конституцию
СССР. Статья 124 гласит: «В целях обеспе-
чения за гражданами свободы совести
церковь в СССР отделена от государства
и школа от церкви. Свобода отправления
религиозных культов и свобода антирели-
гиозной пропаганды признается за всеми
гражданами».
1937. Данные проведенных исследова-
ний показали: в сельской местности в сред-
нем свыше одной трети трудящихся порва-
ли с религией, а в городах неверующие
составляют около двух третей взрослого
населения.
подписчик
НЕ ДОЛЖЕН ЖДАТЬ!
Тревожный факт: за последнее время
авторы многих писем в редакцию все чаще
жалуются на плохую доставку журнала.
Очередной его номер подписчики дожи-
даются по месяцу, а то и больше. Редакция
обратилась в Министерство связи СССР
с просьбой разобраться в сложившемся
положении, его причинах.
Мы получили ответ за подписью замести-
теля начальника Главного управления
почтовой связи Министерства связи СССР
тов. Бутенко Б. П., где сообщается
о принятых в каждом конкретном случае
мерах и говорится, в частности, следующее:
«За нарушение порядка приема периоди-
ческих изданий в отделениях связи и недо-
статочный контроль за их доставкой
предупреждены: начальник Горьковского
почтамта т. Бутков А. М., начальник
городского узла связи г. Лермонтова и за-
меститель начальника отдела доставки
544 отделения связи г. Москвы т. Дяткова
Указанные нарушения обсуждены во всех
перечисленных в письме (редакции «Науки
и религии». — Р е д.) предприятиях связи,
за прохождением журнала установлен
контроль».
Ответ обнадеживает. Надеемся, что
контроль будет действительно серьезным.
А это легко проверяется по письмам
и звонкам наших читателей.
Вот они, на моих ладо-
нях, эти бриллиантики,
плотно-плотно уложенные
в миниатюрную шкатул-
ку ..
Хоанятся они не в мас-
сивном банковском сей-
фе, за толстой стальной
дверью, а в особом биб-
лиотечном шкафу — в
Отделе редких книг и
рукописей Государствен-
ной публичной историче-
ской библиотеки РСФСР
в Москве, в Старосад-
ском переулке. И не в
шкатулке (слово это
употреблено мною ино-
сказательно), а в ста-
ринной, с золотым обре-
зом записной книжечке
крохотного формата, об-
тянутой сильно потрепан-
ным черным шелком.
Это — заветная и пота-
енная записная книжка
Василия Осиповича Клю-
чевского... В старину та-
кие книжки называли
Vademecum, что в перево-
де с латинского значит
«Иди со мною». Записи
в этой книжечке, прежде
всего те, которые сагл
Ключевский помечал зна-
ком плюс, по воспомина-
ниям близких, он называл
«мои бриллиантики».
Все 136 страничек испи-
саны самым экономным
образом, бе? пробелов,
остро отточенным каран-
дашом, ювелирно-четким,
бисерным почерком. И —
что удивительно — без
поправок, без помарок,
будто Ключевский не за-
писывал только что про-
мелькнувшую мысль, а
списывал чью-то чужую и
при том безупречно от-
шлифованную фразу. На-
верное, он заносил на эти
странички то, что уже
тщательно было отработа-
но в уме. Отграненные ал-
мазы — бриллиантики!
Ключевский был не
только одним из крупней-
ших русских историков, но
и истинным мастером сло-
ва.
«Язык Ключевского, —
прочтем мы в воспомина-
ниях о нем, опубликован-
ных вскоре после его кон-
чины, — красив особой
разлитою в нем ху-
дожественной красотою,
красотою поэтических
сравнений и колоритных
образов, которые не толь-
ко возбуждали внимание
в слушателе, но и вызыва-
ПРАВОСЛАВИЕ В ИСТОРИИ РОССИИ
«МОИ
БРИЛЛИАНТИКИ »
Александр ШАМАРО
ли в нем эстетическую
эмоцию, и, не помню кто,
характеризуя лекции Клю-
чевского, сравнивал впе-
чатление от них с действи-
ем музыки Бетховена»1.
Вопреки бытующим
представлениям, запис-
ные книжки — не просто
что-то вроде сундучка с
заготовками или ящичка
с литературными «запчас-
тями», Нет, это особый
литературный жанр, пред-
ставляющий, подобно ро-
ману или поэме, ценность
сам по себе. Достаточно
перелистать, к примеру,
записные книжки Чехова
или Ильфа.
У этого жанра есть ха-
рактерная особенность —
хаотичность, произволь-
ность в расположении ма-
териала. Однако записные
книжки могут показать-
ся случайным набором
мыслей кому угодно,
только не их авто-
ру. Записи действительно
сделаны по тем или иным
случайным поводам, но
в соответствии с совер-
шенно определенной сис-
темой взглядов. И задача
состоит в том, чтобы
внимательным прочте-
нием попытаться выявить
(разумеется, лишь пред-
положительно) убежде-
ния, принципы и оценки, в
соответствии с которыми
все эти мысли некогда
были записаны.
Такую цель я и поста-
вил перед собою, огра-
ничив поле деятельнос-
ти записями, отражаю-
щими суждения Клю-
чевского о русской пра-
вославной церкви, о ре-
лигиозных настроениях в
различных слоях тогдаш-
него российского об-
щества.
Несколько слов о судь-
бе записной книжки.
«Бриллиантики» Клю-
чевского всплыли из не-
бытия через три десяти-
летия после его кончи-
ны — в начале 1940
года их (вместе с некото-
рыми другими материа
лами личного архива
историка) родственники
передали в Историчес-
кую библиотеку. Минуло
еще два десятилетия,
прежде чем в периоди-
ческой печати появились
фрагментарные публика-
ции этих заметок2.
В полном расцвете сил,
сорока семи лет от роду,
умудренным обширней-
шими историческими по-
знаниями и личным жиз-
ненным опытом встретил
Ключевский в 1888 году
900-летие «крещения Ру-
си»... Этот хронологичес-
кий .рубеж принято счи-
тать пиком историчес-
кого развития правосла-
вия в России, временем
наибольшего могущест-
ва и процветания церк-
ви. И только самые про-
ницательные умы видели
истинную картину рели-
гиозности в обществе, в
народе. Видел ее и Клю-
чевский...
«Русский простолюдин —
православный — отбывает
свою веру, как церковную
повинность, наложенную на
него для спасения чьей-то
души, только не его собствен-
ной, которую спасать он не
научился, да и не желает.
«Как ни молись, а все
чертям достанется». Это все
его богословие» (с. 395).
От простолюдина ни-
чем, в сущности, не отли-
чался и человек образо-
ванный. Разница состояла,
пожалуй, лишь в том, что
о религиозности послед-
него Ключевский отзывал-
ся не с грустной, а с явно
едкой усмешкой;
«Русский образований че-
ловек ие может быть неве-
рующим в душе: бог нужен
ему дома, как городовой на
улице, и он не может про-
жить без благодати божией,
как без царского жалованья»
(с. 368).
«Встреча с соприхожанами
в церкви — встреча знако-
мых на улице: никакого об-
щения верующих не бывает
в стенах храма... Ходит в
храм, как в баню, чтобы
смыть со своей совести сор,
насевший на нее за неделю»
(с. 312—313)
«...Ларошфуко3 сказал, что
притворство есть дань, пла-
тимая пороком добродетели.
Совершенно верно. Потому-
то добродетель так и любит
притворство, как свой штат-
1 Богословский М. М. Из воспо-
минаний о Ключевском. М.,
1913 Цит. по: «Исторический
архив», 1961, № 2, с. 229.
2 Полностью они были изданы в
книге: Ключевский В. О. Письма.
Дневники. Афоризмы и мысли
об истории (М., 1968), иа кото-
рую в этой статье и даны ссылки
после каждой цитаты. Раздел
«Афоризмы и мысли об исто-
рии» не ограничен в книге толь-
ко страничками записной книж-
ки; в ием воспроизведены и те
записи, которые историк сделал
на отдельных листах. В статье
использованы также дневнико-
вые записи тех лет.
3 Франсуа де Ларошфуко
(1613—1680) — французский
писатель-моралист, автор книги
«Размышления, или Моральные
изречения и максимы» (1665),
написанной в форме афористи-
ческих изречений, одно из кото-
рых (218-е) и цитирует (не
дословно) Ключевский.
ный доход по должности,
и не может обойтись без
порока, как своего крепост-
ного кормильца» (с. 347)
<Смотря иа них как они
веруют в бога, так и хочется
уверовать в черта» (с. 353).
Набожность безнадеж-
но и беспомощно раство-
рялась в могучем и все
шире разливающемся по-
токе жизни «порефор-
менной», вступившей на
путь капиталистического
развития России...
«В городах потому мало
веры, — горько усмехается
Ключевский, — что среди
шума от езды по каменной
мостовой не слышно коло-
кольного звона» (с. 352).
При всей сугубой ин-
тимности записи Клю-
чевского почти не содер-
жат свидетельств автобио-
графического характера.
Но иногда все же такие
признания проскальзыва-
ют В частности, и о рели-
гиозных чувствах и настро-
ениях...
«Это обледеневший огонь.
Религия для нас — не потреб-
ность духа, а воспоминание
или привычка молодости»
(с. 337).
Ключевский не ограни-
чивается констатацией
этого, если не для всех,
то для огромной массы
соотечественников и сов-
ременников историка,
очевидного факта. За-
писные книжки раскрыва-
ют и причины. Среди
них — и сам православный
культ, и его служители,
и, наконец, учебные заве-
дения, их готовящие.
Начнем с культа — бого-
служений и обрядов.
«Что такое наше церковное
богослужение? Ряд плохо
инсценированных и еще хуже
исполняемых оперно-истори-
ческих воспоминаний. Верую-
щий приносит из дома в
церковь купленную свечку и
свое религиозное чувство,
ставит первую перед ико-
ной, а второе вкладывает
в разыгрываемое перед
ним вокально-костюмирован-
ное представление и, пережив
нравственно-успокоительную
минуту, возвращается до-
мой» (с. 312).
«Обряд — религиозный
пепел: это нагар на вере,
образующийся от постепен-
ного охлаждения религиоз-
ного чувства; ио ои и охраня -
ет остаток религиозного жара
от внешнего холода жизни.
Обряд — действие, вызывае-
мое чувством; становясь
привычным, оно может и за-
менять утомленное чувство,
может и подогревать чувство,
готовое погаснуть. В пепле
долго держится часть тепла
от горения, его образовав-
шего» (с. 333).
«Великая истина Христа
разменялась иа обрядовые
мелочи или на художествен-
ные пустяки. На народ цер-
ковь действовала искусством
обрядов, правилами, пленяла
воображение и чувство или
связывала волю, но не давала
пищи уму, не будила мысли.
Она водворяла богослужеб-
ное мастерство вместо бого-
словия, ставила церковный
устав вместо катехизиса; не
богословие, а обрядословие»
(с. 384).
Всевозможные предпи-
сания, связанные с поста-
ми, и узаконенные цер-
ковью отступления от них
Ключевский назвал «гаст-
рономией благочестия»
(с. 370).
Культ, естественно, не-
отделим от его служите-
лей, богослужения и об-
ряды — от священников,
их совершающих,
«Верует духовенство в бо-
га? Оно не понимает этого
вопроса, потому что оно слу-
жит богу» (с. 341)
«Русское духовенство всег-
да учило паству свою не по-
знавать и любить бога, а толь-
ко бояться чертей, которых
оно же и расплодило со
своими попадьями...» (с. 387).
Досталось от Василия
Осиповича российскому
православному духовен-
ству и за веками царив-
шие в его среде нравы,
ставшие одной из по-
пулярных тем русских ска-
зок, пословиц и погово-
рок.
«Разница между духовеи-
ством и другими русскими
сословиями: здесь много
пьяниц, там мало трезвых»
(с. 344).
Врочем, справедливос-
ти ради надо отметить,
что историк вроде бы да-
же взял под защиту свя-
щенство.
«Почему, — вопрошал он
риторически и ироничес
ки, — от священнослужителя
требуют благочестия, когда
врачу не вменяется в обязан-
ность, леча других, самому
быть здоровым?» (с. 330).
Иереи — иереями, но с
высшей иерархии, с архи-
ереев — спрос особый...
«Наверное наши архиереи
возразят, что католическая
иерархия вела себя еще ху-
же. Наша иерархия любит
ссылаться на чужие недостат-
ки, большая охотница приоб-
ретать праведность чужими
грехами. Как вербуется наша
высшая иерархия? Люди ду-
ховного, а в последнее время
зачастую и светского звания,
обездоленные природой или
спалившие свою совесть по-
ведением, не находя себе
пристойного сбыта, прости-
туируют себя на толкучку
русской церкви, в монашест-
во, и черным клобуком, как
могильной насыпью, прикры-
вают невзрачную летопись
своей жизни, какую физиоло-
гия вырезывает на их невысо-
ких лбах. Надвинув иа самые
брови эти молчаливые клобу-
ки. оии чувствуют себя без-
опасными от своего прошед-
шего, как страусы, спрятав-
шие свои головы за дерево.
Православная паства лениво
следит за этими уловками сво-
их пастырей и, равнодушно
потягиваясь от усердных хра-
мовых коленопреклонений, го-
ворит, лукаво подмигивая,
знаем-де. Нигде высшую
церковную иерархию не
встречали в качестве преем-
ников языческих волхвов с
большим страхоговеиием,
как в России, и нигде она не
разыгрывала себя в таких
торжественных скоморохов,
как там же. В оперном обла-
чении с трикирием и дикири-
ем4 в храме, в карете четвер-
ней с благословляющим ку-
кишем иа улице, простоволо-
сая с грозой и руганью перед
дьячками и просвирнями на
приемах, с грязными сплетня-
ми за бутылкой лиссабонско-
го или тенерифа в интимной
компании, со смиренно-наг-
лым и внутрь смеющимся
подобострастием перед свет-
ской властью, она, эта кло-
бучиая иерархия, всегда была
тунеядной молью всякой тря-
пичной совести русского Пра-
вославного слюнтяя» (с. 311-
312).
И такое духовенство —
как низшее, так и выс-
шее, — по мнению Клю-
чевского, не имеет осно-
вания пенять своим пи-
томцам за то, что они-де
стали совсем не такими,
какими бы должны были
стать в стенах духовных
школ, и тем самым — в
массе своей — позорят
эти школы в глазах об-
щества. Нет, из гнезда вы-
летели те птенцы, кото-
рые только и могли из не-
го вылететь, — и это прек-
расно знал Ключевский,
многолетний преподава-
тель Московской духов-
ной академии...
«Духовно-учебные заведе-
ния — не столько школы,
сколько богадельни учащих
и учащихся, призреваемых
там под Предлогом науки:
там больше богохульствуют,
чем богословствуют» (с. 334).
«Духовная школа и мир.
Она поняла бы мир, да не
зиает его и знать не хочет.
Мир знает духовенство, да
не понимает его, не видит,
какой в нем толк... Школа
эта воспитывает каких-то уче-
ных пауков, которые полза-
ют по собственной паутине в
ожидании запутавшихся в ией
мух или ветра, который сду-
нет их ненужное плетение.
Ведут себя жрецами исче-
зающей религии или храма,
предиазначеиного к сломке,
комическими анахронизма-
ми, сознающими свое без-
4 Дикирий и трикирий — упо-
требляемые при архиерейском
богослужении подсвечники со-
ответственно иа две и три
свечи.
Чз
временье, но не решаю-
щимися в том сознаться»
(с. 355).
Духовные академии
(Петербургская, Москов-
ская, Киевская и Казан-
ская) были очагами бого-
словской мысли, и Клю-
чевский имел возмож-
ность изо дня в день об-
щаться со светилами тог-
дашнего православного
богословия. И с предста-
вителями казенно-консер-
вативного направления,
и с теми, кого сегодня
мы назвали бы религиоз-
ными модернистами.
Ключевский был, мягко
выражаясь, весьма невы-
сокого мнения как о тех,
так и о других...
«Евангелие стало поли-
цейским уставом» (с. 379).
« Не православные богословы,
а свечегасы православия.
Питаясь православием, они
съели его и сходили иа его
опустелое место» (с. 364).
«Богословие на научных осно-
ваниях — это кукла бога,
одетая по текущей моде»
(с. 378). «Нравственное бого-
словие цепляется за хвост
русской беллетристики»
(с. 377).
Человеческая натура —
по самой природе сво-
ей — бунтует против хри-
стианского мировосприя-
тия и мироощущения,
и чем богаче одаре-
на она от природы, тем
острее этот конфликт,
тем сильнее бунт — неза-
висимо от того, осознает
это сам человек или не
осознает. Духовный облик
Ключевского, запечатлен-
ный в какой-то мере в
его записях, — убедитель-
ное тому подтверждение.
«Блаженны нищие ду-
хом...» — не просто так
сказано в священном
писании, это первая из
девяти «заповедей бла-
женства», провозглашен-
ная, согласно Евангелию,
самим Христом в Нагор-
ной проповеди. Она во
многом определила отно-
шение христианства к ра-
зуму человеческому, тем
более разуму пытливому,
сомневающемуся, крити-
ческому. А для Клю-
чевского...
«Самый дорогой дар при-
роды — веселый, насмешли-
вый и д о б р ы й ум» (с. 371).
«Что такое счастье? Это
возможность напрячь свой
ум и сердце до последней
степени, когда оии готовы
разорваться» (с. 357).
«Страшно только одно —
ослабление работоспособ-
ности мозга» (с. 380).
«Бриллиантики» Клю-
чевского вызывают изум-
ление — и критическим
отношением его к право-
славной вере и православ-
ной церкви, и поистине
несравненным блеском
остроумия. Но это еще не
все Записи историка ос-
тавляют и ощущение за-
гадки. Загадки, которую
нам вряд ли когда-нибудь
удастся разгадать.
Насколько верующим
был прославленный про-
фессор Московской ду-
ховной академии?.. Судя
по всему, в том числе и
по этим записям, он
верил в бога, сохранял
верность, как говорится,
самой идее.
Но все же...
Мог ли даже такой не-
ортодоксально верующий
вот так пошутить о загроб-
ной жизни?
«На земле я так привык к
аду,, что иа том свете меня
можно наказывать за грехи
только раем. Значит, мое
загробное будущее довольно
обеспечено» (с. 356).
Мог ли религиозный
человек столь ясно
осознать общественно-
политическую роль церк-
ви в том обществе, в ка-
ком ему довелось жить?
«Местные православные
церкви, теперь существую-
щие, суть сделочные поли-
цейско-политические учреж-
дения, цель которых успо-
коить наивно верующие со-
вести одних и зажать крикли-
во протестующие рты дру-
гих... Русской церкви, как
христианского установления,
иет и быть не может; есть
только рясофорное отделе-
ние временно-постоянной
государственной охраны»
(с. 301).
Мог ли человек, сохра-
нивший религиозную ве-
ру, дать такое определе-
ние понятию «бог», под
каждым словом которого
подписался бы самый по-
следовательный атеист?
«Что такое бог? Совокуп-
ность законов природы, нам
непонятных, но нами ощуща-
емых и по хам. гву нашего
ума нами олицетворяемых в
образе творца и повелителя
вселенной» (с. 387)
а
ст
Л
W-
и
Сц-
• Ж:
. а*
£
%
•. ’В*'
««
Г»
о
Io
£Й:
4
*
«Двенадцать одежек — и
все без застежек...»
Проспект мод «Весна—лето 2056»
«...Им мало джинсов и комбинезонов. Они вызывающе
относятся к «бананам». Они носят наушные колпачки,
несовместимые с нашим мировоззрением. А что за надписи на
наглых, кричащих расцветок колпачках: «Я НЕ ХОЧУ» или
«А СТОИТ ЛИ?»! Спрашивается, чего они не хотят? В чем
сомневаются?»
Я повернул выключатель, и говорильник умолк. Кто мог
подумать, что за те два дня, пока я отсутствовал, на Земле мода
опять изменится, и так круто! Я подошел к отражалу, взял
однозубцовую расческу и прошелся по длинным, шелковистым,
слегка вьющимся волосам, окрашенным по предпоследней моде
в снежно-белый цвет. Я придирчиво оглядел свое отражение. На
меня смотрел меховой человек приятно-ворсистой наружности.
Я надел розовые наушные колпачки и вышел из дома.
В прошлом году все было проще. Тогда признавали только
дубленки. Свою кожу можно задубить и подручными средства-
ми я, например, использовал йод...
Сначала все шло хорошо. Но потом я заметил, как испуганно
оглядываются на меня прохожие. Девушка в сапогах на
микросхемках, взвизгнув, упала в обморок. Меня окружали
искаженные злобой волосатые лица, горевшие бешенством
затемненные глаза, сжатые мохнатые кулаки.
Мимо с диким воплем пронесся парень в голубых джинсах,
батнике и кроссовках: старомод! С отвращением я отпрянул
в сторону.
Я пропустил момент, когда прохожие набросились на
старомода. Парень исчез под грудой тел. Полетели клочья
одежды и разноцветного меха. Воздух наполнился урчанием
и запахом ароматического пота... Вскоре все было кончено. На
тротуаре осталась куча тряпья и несколько наушных колпачков.
Вместе с ушами.
Это было предупреждением, и я не стал искушать судьбу.
Привратник магазина Мод Первой Необходимости, увидев
меня, отшатнулся:
— Как вы смеете! В таком виде... Вы...
Терять мне было нечего. Я отпихнул привратника и вбежал
в магазин. На прилавках не было того, что мне требовалось. Это
появится лет через пять. Когда из двадцатой по счету моды
выйдет...
Он ждал меня в дальнем конце зала и сочувственно
улыбался. Взгляд светился лаской и пониманием.
— Эх-эх... — сказал он только.
— Всего-то два дия как меня на Земле не было,— промямлил
я,— приехал, а по говорильнику новые наушные колпачки
ругают... А у меня старые, как в них на улицу высунешься!..
— Это верно... — подтвердил собеседник и почесал шкуру.
Хороший у него мех был, не наш, не земной. — Точно. Из дома
не выходи — разорвут. Или что похуже — обреют, к примеру.
Кстати, и мех перекрась,— продолжал шмотцовщик. — Завтра
белый цвет уже — тю... Берн золотистую.
— А что еще?
— Так, запоминай. Варежки из амораля, прозрачно-силовые
бюстеры и губчато-пористые затычки. Пока же...
С этими словами благодетель из частного сектора протянул
пару колпачков. На одном было написано «УЖЕ», а иа другом
«ЕЩЕ НЕ».
Мне понравились другие — с надписями «ВЛЕТАЕТ» и
«ВЫЛЕТАЕТ»— но взять не успел. Народ заметался, кто-то
заорал:
— Облава! Модельеры!
Пришел в себя я в 11-м районном отделении Дома Моделей.
В кабинете, полускрытый швейной машиной, сидел дородный
румяный мужчина. На его кепке красовалась эмблема старшего
закройщика. Хуже некуда...
Но ничего не произошло. Закройщик покачал головой
и сказал:
— Как же вы так, гражданин немодный? Ходите в таком
виде... Нехорошо! Пренебрежение к идеалам...
Я только промычал в ответ.
— Ладно, поможем,— решительно произнес модельер и
вынул из кармана два наушных колпачка. Колпачки были
с надписями.
— Э-э-э... А как же... по говорильнику? Облик несовместим...
Модельер улыбнулся почти отечески:
Ну, мало ли что говорят! Когда все одинаковые — легче
жить. А жить — это красиво одеваться. Не так ли?
Я подумал и согласился. За стеной угрожающе стрекотали
швейные машинки. Там спешили за модой и стригли всех под
одну гребенку.
Больше дел у меня здесь не было и я ушел. Прощались мы
тепло. По одежке...
14
ПРАКТИКА: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ
ВЕРУЮЩИЙ
ГЛАЗАМИ
СОЦИОЛОГА
М. ПИСМАНИК,
доктор философских наук
Бюджет
свободного
времени
Бюджет свободного времени —
своего рода зеркало духовных по-
требностей личности. Посмотрим, как
в нем отражаются установки ве-
рующего человека, его включенность
в деятельность религиозных органи-
заций.
К началу 70-х годов затраты време-
ни на удовлетворение религиозных
потребностей у баптиста составляли
500—700 часов в год, выполнение
поручений религиозной общины —
еще свыше 200 часов (2, 22—23).
Похоже, что положение с того време-
ни не изменилось. По данным
А. Д. Коваля, у 86 процентов молодых
баптистов постоянные или разовые
поручения в общине. В том числе
более половины поют в хоре, 19 про-
центов играют в оркестре, 9,3 —
проповедуют, а 1,9 процента засе-
дают в «братском совете». Кроме
того, верующие привлекаются к раз-
личным хозяйственным работам в об-
щине (ремонт, уборка, оформление
помещения и территории, уход за
аппаратурой и т. п.).
Украинские исследователи подсчи-
тали, что теперь каждый член общины
протестантского типа в течение неде-
ли расходует на посещение молитвен-
ного дома 7 и более часов (1,23).
Сверх того самостоятельное чтение
Библии занимает от 2 до 10 и даже
более часов в неделю, свыше трех
четвертей членов общины регулярно
читают религиозную литературу, а бо-
лее 54 процентов не менее двух часов
беседуют о религии с единоверцами.
По данным на начало и середину
70-х годов, предпочтительным заня-
тием в свободное время почти у трети
верующих разных конфессий было
удовлетворение культовых нужд и
чтение религиозной литературы. В то
же время исследования на Западном
Урале показали, что половина ве-
рующих никогда не посещает клубы
Продолжение. Начало в № 6
и библиотеки, 46 процентов — от слу-
чая к случаю и лишь 4 процента —
регулярно.
И все-таки... В последние годы
у верующих резко возрос интерес
к кино и театру, к чтению газет,
журналов и художественной литера-
туры, а в особенности — к теле-
и радиопередачам; даже боль-
шинство пожилых верующих (69 про-
центов) уделяют им внимание. Об
этом говорят данные Института науч-
ного атеизма по Ставрополью. Эта
тенденция отнюдь не локального ха-
рактера. В Черновицкой области
(исследование В. Е. Лешана) за по-
следние 10 лет в семьях сектантов
в два-три раза выросло число ра
диоточек и телевизоров. По данным
А. И. Демьянова за последние 15 лет
втрое возросло число верующих, чи-
тающих газеты и журналы, и в 5 раз —
смотрящих телепередачи. Несколько
увеличилось количества верующих,
участвующих в художественной само-
деятельности, хотя и теперь это лишь
4—6 процентов от их числа.
Любопытна информация, характе-
ризующая расширение интересов мо-
лодых баптистов (исследование
А. Д. Коваля). 78 процентов их
смотрят телевизор, причем 32 —
ежедневно Некоторые уклоняются от
просмотра передач, считая, что «те-
левизор — холодильник души». У
75 процентов дома есть религиозная
литература, но кроме того, молодые
верующие имеют и литературу нере-
лигиозную. 35 процентов опрошенных
посещают библиотеку.
Характерный для последних лет
факт: у 15 процентов верующих
в домах имеется атеистическая лите-
ратура. Недавним исследованием
Института научного атеизма установ-
лено, что в настоящее время в Ставро-
полье 17 процентов верующих посе-
щают атеистические мероприятия по
месту работы.
Как видим, в духовном мире совре-
менного верующего религиозные по-
требности потеснены. Однако, в свою
< чередь, они теснят другие потреб-
ности, связанные с развитием личнос-
ти.
Об этом можно судить по сле-
дующим данным. Исследования в од-
ной из областей Украины показали,
что верующие в 10 раз реже, чем
неверующие, повышают свой обще-
культурный уровень (3, 279). По
данным А. И. Демьянова, лишь треть
одобряют достижения научно-техни-
ческого и культурного прогресса,
остальные либо безразличны к нему,
либо осуждают (4, 1 53). Такая психо-
логическая установка влияет и на
отношение к образованию. Недавнее
исследование А. Д. Коваля показало,
что даже у молодых верующих (бап-
тисты в возрасте до 30 лет) стремле-
ние повысить образование в два
с половиной раза слабее, чем у их
неверующих сверстников; у баптистов
старше 30 лет такой потребности по
материалам опроса не отмечалось.
Среди верующих остается значи-
тельная группа малограмотных.
Исследованием Института научного
атеизма установлено, что в Ставро-
полье 11 процентов верующих и 18 —
колеблющихся имеют лишь началь-
ное образование (среди неверующих
таковых просто нет), а 13 процентов
верующих и 5 — колеблющихся не
имеют даже и его. По сведениям
А. И. Демьянова (4, 144), среди
верующих в центральных областях
России лишь 0,8 процента имеют
высшее или незаконченное высшее
образование, 11,5 — среднее, 21,5 —
восьмилетнее, 33,4 — начальное и
32,8 процента не имеют даже началь-
ного образования. В баптистских об-
щинах Сумской области 91,9 процента
верующих с начальным образованием
либо малограмотны (1, 9).
Разумеется, нельзя малограмот-
ность того или иного верующего
относить только за счет религиознос-
ти В немалой мере сама она объяс-
няется малограмотностью.
Примечательный штрих: за послед-
нее время в проповедях часто варьи-
руется известная идея Нового завета:
«Кто думает, что он знает что-нибудь,
тот ничего еще не знает так, как
должно знать; но кто любит бога,
тому дано знание от него» (1 коринф.,
8: 2—3) В среде верующих и поныне
распространен взгляд на расширение
знаний как необязательное для спасе-
ния души дело.
Разумеется, главное влияние на
верующего оказывает социалистичес-
кая действительность — его участие
в производственной и общественной
деятельности. Сама жизнь побуждает
его к повышению образования и ква-
лификации, к расширению культурно-
го кругозора и общения, изменяет
потребности и интересы, а все это
вместе ведет к глубоким миро-
воззренческим переменам
Продолжение следует.
ИСТОЧНИКИ
1. Бойко М. С., СтаровойтИ. С. Ате-
изм и религия в условиях НТР Киев. 1985.
2. Евглевский А. А. Критический
анализ баптистской концепции смысла
жизни. Автореферат канд. дисс. Алма-Ата,
1975.
3. Д у л у м а н Е. К., К и р ю ш к о Н. И.,
Яроцкий П. Л. Научно-техническая ре-
волюция и формирование атеистического
мировоззрения. Киев, 1980
4. Демьянов А. И. Религиозность:
тенденция и особенности проявления Во-
ронеж, 1984.
5. Степанов А. Я. На путях духовного
восхождения. Религия и атеизм в Карелии.
Петрозаводск, 1982.
15
BF I пКИИ ДГРВИ |[
Родился и вырос Мирза под горо-
дом Бируни. В молодости работал
в колхозе, но больше боролся на
тоях — празднествах, которые приня-
то было устраивать на широкую ногу.
Хозяева и гости, разомлевшие от
обильной еды и питья, щедро награж-
дали музыкантов, участников скачек
и борьбы. Даже проигравший получал
свое от щедрот либо публики, либо
победителя. А поскольку поводов для
гоев хватало, то Мирза постепенно
И здесь следует вновь вернуться
к той двойственности в отношении
наш
специальный
корреспондент
Продолжение Начало в № 6.
читал, радио не слушал, телевизор не
Рисунок
Б. Ионайтиса
привык, что можно жить, не особенно
утруждая себя на колхозных полях
Со временем он бросил и работу
в колхозе, и борьбу, связавшись
с пришлым бродягой-туркменом, вы-
дававшим себя то за дервиша, то за
муллу, то за шейха, хранителя «свято-
го» места Султан-баба. Именно у него
и прошел Мирза курс «духовных»
и прочих «наук». Однако наставник
становился все более жадным, и од
нажды аксакалы прогнали его.
к религии, о которой уже шла речь.
Наряду с официальным, атеистичес-
ким по своей мировоззренческой
направленности, общественным мне-
нием в ряде районов Средней Азии
существовало, да и по сей день
существует, неофициальное об-
щественное мнение — религиозное.
Его иной раз активно формируют и
выражают те же самые советы аксака-
лов, которые в официальных отчетах
нередко выглядят чуть ли не главным
инструментом атеистическою воспи-
тания. А поскольку религиозная об-
рядность здесь еще достаточно
распространена, то именно аксакалы
и определяют пригодность того или
иного человека на роль самозваного
муллы или «хранителя святого места».
Когда наставника Мирзы прогнали,
аксакалы решили: Мирзе надо кор-
мить больных родителей — пусть он
займет это место. Правда, народ
ЗДЕСЬ И
СЕЙЧАС...
В. ХАРАЗОВ,
дере-
венского дурачка, но что делать?
Может, он действительно был ду-
рачком? Отнюдь! Из его поведения
и показаний на суде, из бесед с ним
и его земляками складывается впечат-
ление, что человек он вроде бы
неглупый, но, что называется, темный.
Наверное, потому, что газет Мирза не
смотрел, общался в основном с людьми,
подобными себе, жизнь он воспринимал
такой, и только такой, какой она ему
представлялась. И делал собственные
выводы, которыми впредь и руководство-
вался. Например тем, что каждый устра-
ивается, как умеет. Основания для такого
вывода были, и потому ничего предосуди-
тельного в своем образе жизни он не
видел.
Раз или два местные работники милиции
побеседовали с ним и даже взяли подпис-
ку, что он устроится на работу. Мирза
молча слушал, кивал головой, со всем
соглашался, считая, что идет некая офи-
циальная игра, никакого отношения к
реальной жизни не имеющая, и в этой игре
у каждого своя, заранее известная роль.
Они должны говорить и предупреждать,
а он — слушать и соглашаться. В конечном
счете, думал Мирза (и думал, надо при-
знаться, не без оснований), все будет так,
как скажут аксакалы. Так оно и оказалось.
Кто-то посоветовал ему съездить в больни-
цу и взять справку, что он болен шизофре-
нией. Местные медики шизофрению обна-
ружили с легкостью необыкновенной,
и милиция оставила его в покое, лишь
изредка, для успокоения начальства, напо-
миная о своем существовании.
До знакомства с Абаем Мирза жил тихо,
спокойно и размеренно. По религиозным
праздникам и выходным занимал свое
место у Султан-баба, собирая по 100—
150 рублей. Если учесть, что в магазинах
с продуктами было неважно, рыночные
цены высоки, килограмм баранины дохо-
дил до 10 рублей, а хорошего приусадеб-
ного хозяйства, домашнего скота или
птицы у Мирзы не было, то станет ясно,
что, хотя иа жизнь ему и родителям
хватало, миллионером он все же не стал.
Правда, кое-какие сбережения у него
водились, но тут опять же следует учесть
местную специфику. Мирза был старым
холостяком, ио все еще не терял надежды
жениться. А в этом случае без калыма, или,
как его теперь часто называют приличия
и законности ради, без подарков жениха
родителям невесты, не обойтись, да и без
свадебного тоя тоже. А это не одна тысяча
рублей! Нет, участь Корейко Мирзе не
грозила...
Бывший наставник Мирзы, хотя и не
претендовал на звание ншаиа , был убеж-
денным сторонником суфизма и многое из
своих взглядов и представлений успел
передать Мирзе. Учеником тот оказался
посредственным, однако именно эти уроки
определили его отношение к людям и к
жизни.
Замкнутый, малоразговорчивый. Мирза
отрешенно относился ко всему, что окру-
жало его. Соседи, земляки — все это были
другие люди, не такие, как он, и он сам был
иным, чем они. Он жил не столько
разумом, сколько чувствами и ощуще-
ниями, которые смутно бродили в нем, как
зыбкие облака. Надо было покупать еду —
он шел на базар, надо было готовить — он
готовил, нужно было топливо — он отправ-
лялся за топливом, делая все размеренно
и привычно; разум его в это время либо
дремал, либо убегал туда, к Султан-баба,
единственному, в сущности, месту, где он.
Мирза, как бы просыпался от спячки, где,
по его представлению, он и те, другие,
менялись местами. Здесь уже не он шел
к ним с просьбами, а они к нему, ибо
теперь они нуждались в нем, в его
' Ишан — наставник суфийской общины или
группы.
16
молитвах, в его связях с той, высшей
жизнью, перед которой эта — всего лишь
миг и тлей. Здесь царствовал он, здесь он,
унижаясь, возвышался над ними, и они,
чувствуя это и понимая, покорно несли ему
дань едой и деньгами. И он волен был при-
нять эту дань, благосклонно пробормотав
молитву, или с надменным удивлением
остро глянуть в глаза подающему. Он ви-
дел, как терялись люди от этого безмолв-
ного презрения, как суетливо начинали
шарить по карманам, безропотно добав-
ляя пятерку или десятку, смущенно ози-
раясь потом — не заметил ли кто их
оплошности.
Да, они были иными, чем он, и он
был иным, чем они.. И если бы не
встреча с Абаем, он, скорее всего,
и сегодня сидел бы у Султан-баба,
в мире своих смутных видений, уни-
жаясь и возвышаясь в собственной
душе над окружающими своим уни-
жением...
Абая он принял сначала за одного
из докучливых туристов, взирающих
на него как на экзотическую диковин-
ку, много болтающих и мало по-
дающих. И потому долго не обращал
на него внимания, то равнодушно
кивая головой, то обрубая его
расспросы короткими «ек» и «бар».
Тогда Абай переменил тактику
и начал спрашивать у Мирзы его
мнение о различных трактовках «ир-
фон», «тарикат», «хал», «фана», «ба-
ка»1 2. И то давнее, заложенное еще
бродягой-туркменом, что прежде
вырывалось на поверхность лишь
зыбкими ощущениями, неясными до-
гадками, вдруг начало обретать явь
и плоть. Теперь уже внимательно
слушая Абая, Мирза одновременно
вглядывался в себя, припоминая, что
и бывший наставник учил его какому-
то погружению, отрешению,
рассказывал об озарении, о предвиде-
нии будущего, об исцелениях, о необ-
ходимости возвыситься через униже-
ние . А что же он, Мирза, делал все
эти годы? Ведь, получается, следовал
по пути, указанному учителем?
Мысль эта так поразила Мирзу, что
он даже пригласил Абая домой, чего
с ним прежде не бывало. За первой
встречей последовала вторая, третья,
но говорил в основном по-прежнему
Абай. Мирза же, вслушиваясь в его
слова, размышлял над собственной
догадкой. А что если он уже прошел
этот путь и, сам того не зная, овладел
тем, о чем раньше говорил его
наставник? Может, именно этим и
объясняется его непохожесть на дру-
гих людей? Вот и этот молодой
человек, Абай, так считает. А ведь он
ученый из самой Москвы.
Демонстрируя свою осведомлен-
ность, Абай и тут остался верен себе.
Пытаясь выпытать у Мирзы «сокро-
венные тайны» суфизма, он по
привычке не столько расспрашивал,
сколько рассказывал все, что знал
о различных мистических учениях.
Сам того не сознавая, Абай «просве-
щал» Мирзу. А поскольку он искренне
был убежден, что наконец-то нашел
одного из легендарных суфийских
старцев-наставников и тот лишь из
присущей истинным суфиям
скрытности не спешит признаться в
своих тайных знаниях и необычных
способностях, то, конечно же, не
только искал в словах и поступках
Мирзы проявления его знаний и спо-
собностей, но то и дело обнаруживал
их, причем столь пылко и убежденно,
что постепенно и сам Мирза уверовал
в них. И когда к нему явились первые
«паломники» из Москвы, он повел
себя с ними как человек, который
действительно обладает необычными
способностями, но не придает им
особого значения.
Мирзе, безусловно, льстило внима-
ние и почтительное отношение мос-
ковских гостей. В их визитах он видел
еще одно подтверждение собствен-
ной необыкновенности. Ведь не станут
же умные, образованные люди лететь
из столицы за тысячи километров
только для того, чтобы посмотреть на
обычного сельского жителя. Даже для
самых уважаемых людей в колхозе
гость из Москвы — большая редкость.
А к нему, Мирзе, едут один за
другим, а то и целыми группами! Нет,
никаких чудес он, разумеется, не
демонстрировал, да и не мог бы при
всем желании. Однако большинство
гостей уезжало в восхищении, еще
более уверовав в его необыкновен-
ность.
Вернувшись в Москву, теперь уже
эти люди распространяли самые вос-
торженные, подчас фантастические
слухи о Мирзе, Великом Дервише
и Учите/ie знаменитого Абая. Можно
представить, какой ажиотаж вызвали
эти слухи. Каким же необыкновенным
человеком должен быть этот Мирза,
если даже «та самая» легендарная
Джуна — всего лишь ученица его уче-
ника!
Как я уже говорил, надежды Абая
на аспирантуру к тому времени поти-
хоньку увяли. Однако это не отрезви-
ло, не заставило задуматься над
деликатно сдержанным отношением
ученых к его идее. Скорее наоборот,
подтолкнуло еще к одному прожек-
ту — создать институт, на крайний
случай лабораторию по изучению
неизвестных науке феноменов. Те-
перь он уже видел себя не каким-то
безвестным аспирантом, а сразу
крупным научным работником, руко-
водителем престижного учреждения!
Да ведь это чушь какая-то! —
воскликнет рассудительный читатель.
Маниловщина чистой воды! И будет,
конечно, прав. Но представьте себе ту
эйфорию, в которой пребывал Абай,
его твердую убежденность, что все
зависит от связей и знакомств. А их
у Абая в ту пору было предостаточно.
Новый прожект был горячо подхва-
чен не только пылкими поклонниками
Абая и Мирзы. К нему благосклонно
отнеслись и некоторые довольно из-
вестные деятели. Одним было нелов-
ко разочаровывать пылкого, почти-
тельного молодого человека, другие
считали, что пора во всем разобрать-
ся, благо Абай, умело подстраиваясь
к каждому из собеседников, объяс-
нял, что будущее учреждение станет
изучать то резервные возможности
человека, то народную, то тибетскую
медицину, то дервишей, то экстрасен-
сов, то проблемы психорегуляции
Однако чтобы создать не только
институт, но и любую исследова-
тельскую группу, нужен объект изуче-
ния. А есть ли мальчик-то? — спраши-
вали Абая редкие скептики. Шуму,
мол, много, а из-за чего огород
городить?
Есть из-за чего, отвечал Абай, и как
вещественное доказательство привез
в Москву Мирзу. Это был поистине
звездный час Их с почтением водят из
одной компании в другую. Ими восхи-
щаются, они вхожи в дома известных
литераторов и ученых. Их представ-
ляет как знаменитых экстрасенсов на
своих творческих вечерах поэт Вален-
тин Сидоров.
В непривычной обстановке Мирза
поначалу оробел. Нескончаемые по-
токи машин, эскалаторы и дворцы
подземных станций метро, множество
народу на улицах, высотные дома,
квартиры со всеми удобствами, об-
щество высокообразованных, а порой
и весьма известных людей... Все это
настолько ошеломило, что он чуть
было не утратил обычную свою вну-
шительность и невозмутимость.
Однако почтение, которым окружи-
ли его поклонники и знакомые Абая,
быстро вернуло ему уверенность в
собственной необыкновенности и
снисходительное отношение к окру-
жающим. Восторженные девицы, от-
тиравшие его в ванне, вместе с заста-
релой грязью смыли и остатки не-
свойственного ему смущения.
Хотя русским языком Мирза владел
довольно сносно (мы с ним беседова-
ли долго и прекрасно понимали друг
друга), в Москве он был еще молчали-
вее, чем у себя дома. За вечер обычно
произносил несколько фраз, но на-
столько туманных, что понять их было
трудно. И хотя показывали именно его
и приглашали именно «на него», он,
как правило, предоставлял инициати-
ву в разговоре либо Абаю, либо
хозяевам, а сам предпочитал слушать
и наблюдать.
Поездка в Москву многое ему открыла.
1 Суфийские термины. «Ирфои» — идеали-
стическая метафизика, присущая суфизму.
«Тарикат» (от арабского старика») — путь,
дорога, в суфизме — путь к истине, то есть
морально-психологические методы само-
совершенствования, заключающиеся в от-
казе от логического, рационального позна-
ния мире, «умерщвлении» по указанию
наставника плоти и воли ученика и превра-
щении его в послушное орудие Учителя.
«Хал» — мгновенное озарение, экстатичес-
кое состояние, которого якобы достигает
суфий на пути к богу. «Фана» — мистическое
растворение суфия в боге. «Бака» — сверх-
бытие.
17
О космосе и о космическом разуме он.
правда, кое-что слышал и раньше — от
Абая, от приезжавших к нему паломников,
но слышал обрывками, которые не мог
совместить с прежними своими представ-
лениями. В Москве же он присутствовал на
горячих обсуждениях различных мистичес-
ких идай, гипотез и учений. Причем
участвовали в подобных беседах ученые
и литераторы, что окончательно убедило
Мирзу в истинности »тих идей.
Принимали их с Абаем как почтенных
гостей. Мирза, по свидетельству земляков
спиртного ранее не употреблявший, к вину
и коньякам остался равнодушен, ио водку
мало-помалу начал одобрять, быстро впа-
дая в состояние подъема и эйфории
А поскольку везде, куда их приглашали,
старались угостить иа славу. Мирза вынес
из пребывания в Москве и определенное
представление подобающем образе
жизни.
И еще кое-какие выводы сделал он из
своего вояжа в столицу.
Мирза давно уже делил людей на дае
категории — умных и глупых. Умный чело-
век это тот, кто умеет так устраиваться,
чтобы делать маленькую и чистую работу
за большие деньги, а глупый устроиться не
умеет и потому делает большую и грязную
работу за маленькие деньги. Кроме того,
глупый вынужден обращаться за помощью
и советом к умному и, конечно же. нести
ему деньги и подарки.
Я уже говорил, что свое «ремесло»
Мирза искренне считал работой и не видел
в нем ничего предосудительного. Теперь,
когда он окончательно уверовал в свою
необыкновенность, столь же естественным
казалось ему, что люди, желающие полу-
чить исцеление от болезней, сердечных
или душевных ран, должны за это платить.
В Москве, думал Мирза, ему ппатили
гостеприимством, едой и кровом, ну,
а там, в Каракалпакии должны платить
деньгами...
Однако главным результатом по-
ездки в Москву и знакомства со
столичными мистиками стала «охран-
ная грамота». И если бы не ее
появление на свет, трудно сказать, как
развивались бы дальнейшие события.
Скорее всего, и Мирзу, и Абая,
которого неоднократно задерживали
в разных городах как подозрительное
лицо без определенных занятий, за-
ставили бы устроиться на работу,
и деятельность их так и не вышла бы
за рамки Уголовного кодекса. А если
бы и вышла, то не столь изуверским
образом.
•ОХРАННАЯ ГРАМОТА»
Как-то Абай пожаловался В Сидо-
рову (с которым был в столь при-
ятельских отношениях, что три месяца
даже жил у него в кабинете), что
Мирза из-за того, что, дескать, «бо-
рется с мусульманской религией»
и пытается объяснить людям ис-
тинный смысл бытия, оказался в
трудных условиях. Местное духо-
венство и фанатики строят, мол,
Мирзе всякие каверзы, а власти,
подзуживаемые верующими, не пони-
мая уникальности и необыкновеннос-
ти способностей Мирзы, пристают к
нему со всякими глупостями вроде
требований устроиться на работу.
В. Сидоров взялся помочь, в ре-
зультате чего и родился уникальный
документ на бланке журнала «Ого-
нек», подписанный его тогдашним
главным редактором.
«На территории Каракалпакской
АССР,— писал А. Софронов, обра-
щаясь к теперь уже бывшему первому
секретарю обкома партии К. Камало-
ву,— в колхозе «Ленинизм» Биру-
нийского района проживает Кымбат-
баев Мирза. Этот человек наделен
необычными способностями, на-
кладывающими свой отпечаток на
весь образ его жизни. Известно, что
в последнее время такого рода спо-
собности, проявляющиеся в нетради-
ционных способах лечения при помо-
щи биотоков рук, в телепатии, в теле-
кинезе и пр., становятся предметом
пристального научного внимания...
Кымбатбаев Мирза относится к числу
людей, обладающих уникальными
способностями, наблюдение за ко-
торыми очень Много может дать для
развития современной науки о зако-
нах человеческой психики Молодой
ученый Борубаев Абай Асылканович
установил с ним взаимодействие и ве-
дет записи научного характера, яв-
ляющиеся целью достаточно длитель-
ного эксперимента...»
Далее содержалась просьба со-
действовать этой работе и поездкам
Кымбатбаева по вызовам научных
учреждений, поскольку на попечении
Мирзы находится больная мать.
Предусмотрительно сняв с этого
письма множество ксерокопий, Абай
с Мирзой отправились в Нукус, где не
только были приняты К. Камаловым,
но и вернулись в колхоз на обко-
мовской машине, что сразу было
отмечено земляками Мирзы. От Ну-
куса до Бируни путь неблизкий,
и далеко не всякий начальник, даже
республиканского масштаба, или сто-
личный гость удостаивались такой
чести.
Однако этим действие «охранной
грамоты» не ограничилось. Вскоре
Мирзу взял под свою личную опеку
и покровительство первый секретарь
(теперь уже тоже бывший) Биру-
нийского райкома партии А. Раджа-
пов, требуя от руководителей хо-
зяйства и парткома окружить Велико-
го Дервиша и его мать вниманием
и заботой.
Надо отметить, что хотя книги
и фотографии с дарственными надпи-
сями известных людей и создавали
Абаю и Мирзе пределенную, в гла-
зах кое-кого весьма высокую репута-
цию, они всего лишь свидетельствова-
ли о близком знакомстве Абая и
Мирзы с этими людьми. И даже когда
В. Сидоров рекомендовал их на своих
творческих вечерах как великих
экстрасенсов, это было всего лишь
личное мнение поэта.
«Охранная грамота» на фирменном
бланке, подписанная главным редак-
тором центрального журнала, стала,
естественно, официальным докумен-
том, коим удостоверялось, что, во-
первых, необыкновенные способнос-
ти, вопреки утверждениям скептиков,
реально существуют, во-вторых, что
Мирза этими способностями обла-
дает, что его образ жизни тунеядца
представляет большую научную и об-
щественную ценность и, наконец, что
Абай является молодым ученым!
И стоит ли удивляться, что все это
производило на многих неотразимое
впечатление.
ТАРИКАТ
Абай, Мирза и их поклонники
прошли долгий путь мистических по-
исков, претерпев удивительные, на
первый взгляд, но внутренне вполне
логичные метаморфозы: компания
увлеченных людей, мистическая секта
и, наконец, банда уголовников.
Вернемся к началу, к истокам, когда
все это было лишь невинным экзоти-
ческим увлечением.
Пожалуй, самым верным учеником
и последователем Абая был Талгат
Нигматулин. Познакомились они еще
в 1975 году в одной интеллигентной
компании. Абай был в центре внима-
ния— играл на гитаре, рассуждал
о «тайных знаниях» Востока и даже
демонстрировал кое-какие приемы
медитации. Талгат же в тот вечер был
грустен и ушел довольно рано. Сев
в троллейбус, он в задумчивости
проехал свою остановку, а когда,
спохватившись, вышел, то увидел
Абая.
— Вот это встреча! — удивленно
воскликнул Талгат. — А я свою оста-
новку проскочил, не заметил.
— Я знаю,— кивнул Абай. — Я те-
бя здесь ждал, поговорить хотел.
— Зачем ты меня здесь-то ждал?
Я ведь, если бы не задумался, раньше
сошел бы.
— Не сошел бы. Я тебе телепатиро-
вал, что сойти нужно именно здесь.
Талгат удивился и... поверил!
Абай оказался на этой остановке,
конечно же, совершенно случайно и,
увидев Талгата, тоже удивился, но тут
же решил его разыграть. Это была
просто шутка, мистификация на ско-
рую руку Абай любил устраивать
розыгрыши часто куда более
сложные, не преследуя в то время
иных целей, кроме собственного и об-
щего веселья.
Розыгрыш Талгата Абай использо-
вал для того, чтобы вновь затеять
разговор о «тайнах» Востока. Теперь
Талгат слушал внимательно, восхи-
щался эрудицией Абая За этой
встречей последовала вторая, третья.
Абай пересказывал то, что узнал
к тому времени сам, давал Талгату
кое-какие рукописи, отпечатанные на
машинке или размноженные на ксе-
роксе. Так для Талгата Нигматулина
начался его тарикат, закончившийся
через десять лет трагической гибелью
по воле того, перед кем он все эти
18
годы преклонялся как перед Учите-
лем, кого считал человеком не-
обыкновенной доброты, образован-
ности, чистоты и высоты помыслов.
Занявшись поисками таинственного,
необычного и сверхъестественного,
Абай постепенно превратился в зна-
тока мистики. Ведь если все ос-
тальные — и его поклонники и, если
можно так выразиться, коллеги по
увлечению — занимались ею лишь в
свободное от работы или учебы вре-
мя, то Абай посвятил ей всю свою
жизнь. Мирок поклонников мистики
достаточно тесен. И учений в чистом
виде здесь мало — буддизм,
дзэн-буддизм, йога. Остальные:
кришнаиты, последователи Раджни-
ша, «рерихнувшиеся», как метко про-
звали их в народе, «ивановцы» —
эклектики, каждый из которых по-
своему толкует различные элементы
мистических учений.
Абай у всех брал то, что ему больше
подходило в данный момент. Лучшей
иллюстрацией его всеядности и эклек-
тичности служит мантра3, которую он
распевал вместе с компанией поклон-
ников в 1981 году на Куршской косе:
«Харе Кришна, харе Раджниш, харе
Ленин...», а также заклинания под
гитару: «Христос есть здесь и сейчас,
Будда есть здесь и сейчас...».
Кстати, этот принцип, ставший ос-
новным в эклектике Абая, был за-
имствован им у Раджниша, учившего
своих последователей «принять реше-
ние, не имея решения», то есть
мелькнувшую мысль или желание тут
же превращать в действие.
Конечно, Абаю с самого начала
льстил тот интерес, что проявляли
к нему менее осведомленные поклон-
ники мистики. Но в то время он просто
тешил свое тщеславие. И даже когда
возил Мирзу в Москву, все еще
надеялся на официальное признание,
известность и положение в обществе.
Однако неумолимая логика жизни
уже влекла его совсем в иную сторо-
ну.
Всячески пропагандируя свою весь-
ма неоригинальную идею «вышелу-
шить» рациональное из иррациональ-
ного, Абай, как я уже говорил,
искренне верил в возможность овла-
деть необычайными способностями.
А кому же этого не хочется? Но есть
люди, мыслящие критически, а есть
и такие, что готовы безоглядно следо-
вать за любым, кто пообещает им что-
нибудь очень желанное. Именно таких
людей и привлекал Абай
Не блистать в любой компании он просто
не мог и по привычке, и по складу
характера. Но единственное, чем он спосо-
бен был выделиться и тем самым утолить
сжигающую его жажду самоутверждения,
были «эзотерические» знания. Своей фана-
тичной убежденностью в возможности
овладеть необычными способностями
Абай заражал и слушателей. И постепенно
вокруг него стала формироваться группа
поклонников, надеявшихся с его помощью
стать необыкновенными людьми. Нв
первых порах это происходило стихийно.
Его рассказам, и его знаниям, и его
надеждам верили безоговорочно, и
единственное, чего от него тогда ожида-
ли,— рассказов и «открытий». Этого у него
хватало. Но любая вера требует все новой
и новой пищи. Абай оказался перед
дилеммой — либо отказаться от своей
популярности, либо взять на себя роль
Учителя, которую ему навязывали поклон-
ники.
К этой роли он еще не был готов, хотя
в какой-то степени уже входил в нее. Его
уже считал Учителем Талгат Нигматулин,
которого Абай устроил через кого-то из
знакомых в секцию каратэ, постоянно
просвещал по части восточных учений
и снабжал разнообразной мистической
литературой. Дружбой с Талгатом Абай
Дорожил. К тому времени Нигматулин уже
приобрел известность, и Абай подолгу жил
у него, а когда его задерживала милиция,
что случалось нередко, назывался
родственником Талгата. И всякий раз,
когда звонили из милиции и спрашивали,
есть ли у него такой родственник, Талгат не
только подтверждал это, но и тут же
мчался выручать Абая. Человеком Талгат
был не только известным, но и оба-
ятельным, со всеми умел найти общий
язык, и Абая, после короткого внушения
о необходимости заняться общественно
полезным трудом, отпускали.
Талгат по-братски делился с Абаем
не только кровом и едой, но и деньга-
ми. Правда, Абай и сам уже «лечил
биополем», прирабатывая к тому, что
давали ему родители. Но, во-пер-
вых, приработки эти были непо-
стоянными, от случая к случаю,
потому что не деньги, а связи и зна-
комства интересовали тогда Абая.
А во-вторых, необходимо было под-
держивать репутацию бескорыстно-
го человека, отказавшегося от обеспе-
ченной жизни и блестящей карьеры
ради благородных поисков «высшей
истины», способной осчастливить че-
ловечество. Признаваться же в том,
что он живет на средства родителей,
Абаю не хотелось, и потому часто
приходилось прикидываться беднее,
чем он был на самом деле.
Хотя кое-кто, подобно Талгату, уже
считал его своим Учителем, он к этой
роли тогда не рвался, строя совсем
иные планы. И, едва познакомившись
с Мирзой, тут же переключил на него
пыл и надежды своих поклонников
Насколько сам Абай искренне ве-
рил в Мирзу свидетельствует такой
эпизод.
Однажды, несмотря на «охранную
грамоту», Мирзу пригласили на бесе-
ду в органы правопорядка. Его это
сильно напугало. Он запаниковал, стал
выгонять всех своих поклонников и
требовать, чтобы о нем забыли на-
всегда. Из всех гостей, собравшихся
у Мирзы и чрезвычайно ошелом-
ленных столь, как казалось им,
беспричинным и совершенно не-
обычным поведением Великого Дер-
виша, один только Абай знал в чем
дело Если бы он в гу пору был
сознательным мошенником, то по
логике вещей первым бросился бы
наутек. И он бросился, но не наутек,
а на колени перед Мирзой, стал бить
себя в грудь и кричать, что Мирза —
Великий Учитель, и пусть его, Абая,
убивают, пусть режут на куски, но он
до конца пойдет за своим Учителем
Мирза постепенно успокоился, и все
вернулось на круги своя...
Разные люди ехали к Мирзе. Одни,
как Талгат, искренне верили в воз-
можность с помощью Абая и Мирзы
овладеть необычными способностя-
ми, другие мечтали исцелиться от
застенчивости, от различных комплек-
сов, третьими, как, например, Влади-
миром Пестрецовым, Игорем Нико-
лаевым, руководили мотивы сложные
и, честно говоря, не до конца прояс-
нившиеся даже в ходе судебного
заседания. Остальные же летели про-
сто поглазеть на знаменитого чудот-
ворца и Великого Дервиша. Постепен-
но дом Мирзы превратился в своеоб-
разный «ашрам».
«Обкатывая» идею создания инсти-
тута, Абай задумался и над тем, кто
и кого будет там изучать. Джуна
и «профессионалы» с Фурменного
переулка его не устраивали. Во-
первых, они могли стать конкурента-
ми, а во-вторых, «рыли» совсем не
в том направлении. Для Абая «биопо-
ле» было лишь частным случаем,
одним из проявлений необычных воз-
можностей и способностей человека.
Нет, ему нужны были свои, преданные
люди. Абай начал присматривать кан-
дидатуры...
По мере того как слух о будущем
институте расходился сначала по ком-
паниям мистиков, а потом — через
них — по градам и весям, выяснилось,
что желающих хоть пруд пруди.
Наряду с поклонниками мистики
здесь были и люди просто недо-
вольные собственными служебными
или научными успехами, мечтавшие
осчастливить человечество на этом
новом поприще.
Попадались и душевнобольные (но
Абай умел распознавать их), и расчет-
ливые дельцы, надеявшиеся, пока
будут идти исследования, погреть
руки на использовании будущих
открытий. Этих Абай особенно опа-
сался и потому сразу же давал им
отставку. Остальных претендентов на-
правлял к Мирзе как бы на эксперти-
зу.
Вернувшись из Москвы, Мирза
установил негласное, но четкое прави-
ло — каждый гость отдает ему все
наличные деньги, а уезжая получает
на обратный путь. К прежнему распо-
рядку дня, включавшему походы на
базар, попрошайничество у Султан-
баба, приготовление плова и тради-
ционное рассуждение о мистике,
3 Считающаяся священной в восточных рели-
гиях и основанных на них внеконфессиональ-
ных культах многократно повторяемая фра-
за. В действительности многократное повто-
рение мантры — один из методов медитации
19
добавилось купание в арыке и занятия
медитацией. Появилось и еще одно
нововведение — водка во время
еды. Да и сами трапезы стали бо-
лее обильными и чуть более изыс-
канными, чем в недавние време-
на,— московские впечатления не про-
шли даром. Руководил всем Мирза,
Абай же держался на втором плане,
исполняя роль своего рода теоретика
и толкуя в мистическом духе поступки
и слова Мирзы.
Впасть и популярность — вещи опвсные.
Особенно дпя незрелых или непорядочных
личностей. Известность Абая среди по-
клонников мистики рослв, а нвдежды на
официальное признание неудержимо та-
яли. Да и отношение к нему в кругах
московской интеллигенции постепенно ме-
нялось, поскольку менялся и сам Абай.
Уверенный в собственной необыкновен-
ности и в уникальности Мирзы, избало-
ванный почтением поклонников и легкими
победами у поклонниц, Абай считал себя
не ниже Джуны по экстрасенсорным спо-
собностям и А. Спиркина — по знанию
проблемы. И если раньше, встречаясь
с известными людьми и быввя у них, Абай
вел себя скромно и почтительно, то теперь
мог без предупреждения и звонка вввлить-
ся в чужую квартиру (иногда с Мирзой или
еще с кем-нибудь) и, не обращвя внимания
ни на настроение хозяев, ни на их заня-
тость, потребовать еды и водки. Поначалу
шокированные хозяева выстввпяли на
стол и то и другое, но постепенно ствли
отказывать гму от домв. Абай, увлечен-
ный лишь собой и собственными пла-
нами, к тому же медленно, но методично
разрушввший свой мозг впкогопем и меди-
тациями, уже не замечал своей, мягко
говоря, нетактичности и поначалу удивлял-
ся отказам, а потом нвчвл злиться.
Именно потеря репутации выявила
всю призрачность надежд Абая на
официальное создание того института
или лаборатории, о которых он меч-
тал и говорил, что дело это уже
решенное, что, мол, по заданию пра-
вительства и Академии наук даже
сформирована инициативная группа
из крупных государственных деятелей
и А. Спиркина, Джуны, его, Абая,
который и будет директором этого
института.
Крушение надежд Абай воспринял
болезненно, как явную несправедли-
вость. Почему, со злостью и нена-
вистью говорил он кое-кому из еди-
номышленников, одним, как Спирки-
ну или Джуне,— почет, слава, деньги,
а ему, Абаю, знающему и умеющему
столько, сколько все они вместе
взятые, положившему почти десять
лет на поиски, изучение и пропаганду
необычных возможностей челове-
ка,— ни того, ни другого, ни треть-
его...
Расстроенным и обозленным при-
ехал он летом 1983 года к Мирзе.
И поскольку был выбит из привычного
состояния самогипноза, быстро заме-
тил: все, что Мирза говорит и делает,
подсказано, по существу, им, Абаем.
Более того, многие гости относятся
к нему как к второстепенной фигуре,
отдавая предпочтение Мирзе. А кое-
кто даже и на Мирзу посматривает
скептически. Этого Абай вынести не
мог.
И тогда в его голове родился новый
план Он еще затмит и Джуну, и Спир-
кина. Они еще сами позовут его.
Теперь у него будут и деньги, и слава,
да и секретами «психорегуляции»
и «биополя» он полностью овладеет
раньше их. Абай решил стать гуру, да
не просто гуру, а Великим Учителем.
И вскоре среди поклонников Абая
и Мирзы пошел слух, что Абай,
единственный в Советском Союзе,
получил «высшее просветление», что
к нему из Шри-Ланки приезжал спе-
циальный посланец, и теперь Абай не
только равен таким людям, как
Раджниш или Прабхупада, но и выше
их.
Правда, не остался в обиде и Вели-
кий Дервиш, хотя Главным Дервишем
и Главным Учителем стал теперь
Абай. Поокатилась молва о некой
статье в журнале «Болгария», где
списывалась местная ясновидящая,
к услугам которой будто бы прибегает
даже правительство, когда ему надо
заглянуть в будущее или решить
какую-нибудь сложную проблему
Так вот, мол, этой ясновидящей пока-
зали фото Мирзы, и она даже порази-
лась, какими сверхъестественными
способностями он обладает
Было и еще одно нововведение —
в «ашраме». Раньше ехавшие к Мирзе
везли ему подарки, но плата ни за
«исцеление», ни за «ученичество»
вроде бы не взималась. Человеку,
собравшемуся в «ашрам», говорили,
сколько взять с собой денег, напоми-
нали, что все их надо сразу отдать
Мирзе: они будут не нужны, там, мол,
все общее, а на обратный путь Мирза
даст.
А поскольку необходимая на по-
ездку сумма оказывалась куда боль-
ше расходов, то изрядная ее часть,
как бы сэкономленная, оставалась
у Мирзы. Более того, видя показную
бедность Мирзы и гордую «нищету»
Абая, посетители «ашрама» начинали
стыдиться своего благополучия как
проявления эгоизма и считали себя
просто обязанными поделиться с Учи-
телями
Теперь же, после крушения надежд
Абая на официальное признание и
создание института, все сильно изме-
нилось. Создадим собственный инсти-
тут, стал рассуждать Абай, будем
работать сами, а когда получим ре-
зультаты, появятся и штаты, и все
остальное А пока надо собирать
деньги на оборудование, на аренду
помещения и так далее.
И опять «исцеляющиеся» и ученики
вроде бы не платили за «услуги» Абая
и Мирзы, а вносили деньги на благо-
родное общественное дело
Именно с этого момента, как мне
кажется, компания начала быстро
трансформироваться в мистическую
секту.
Продолжение следует.
ЗА РУБЕЖОМ
В последние годы
активизировался
диалог
марксистов и
католиков,
все шире стано-
вится круг
обсуждаемых про-
блем. Об одной из
таких встреч —
конференции
«Общество и эти-
ческие ценности»,
которая состоя-
лась в прошлом
году в столице
Венгрии, нашему
корреспонденту
рассказывает ди-
ректор Института
научного атеизма
Академии общест-
венных наук
при ЦК КПСС,
доктор философ-
ских наук,
член-корреспон-
дент Академии
педагогических
наук СССР
В. И. ГАРАДЖА.
2ь
— Газеты уже писали о конференции
марксистов и католиков в Будапеште,
однако сообщения были краткими. Расска-
жите, пожалуйста, как возникла идея
конференции?
— Формально с инициативой ее проведе-
ния выступила католическая сторона. Вес-
ной 1985 года председатель ватиканского
Секретариата по делам неверующих и од-
новременно глава папского Совета по
делам культуры кардинал Поль Пупар
обратился в президиум Венгерской Акаде-
мии наук (ВАН) с предложением провести
диалог с марксистами в Будапеште. Непос-
редственно подготовкой занимались Инсти-
тут философии ВАН и Папский Грего-
рнанский университет в Риме. Но фактичес-
ки идея возникла раньше, в 1984 году,
когда в Будапеште проходила конференция
марксистов и христиан «Ответственность
человека в современном мире». Уже тогда
ее участники почувствовали, насколько
назрела в наше переломное время потреб-
ность совместного обсуждения насущных
философских и политических проблем сов-
ременности, поиска возможностей взаимо-
понимания и сотрудничества для пред-
отвращения ядерной угрозы, экологическо-
го кризиса и решения других глобальных
проблем современного мира
— Читателей журнала интересует состав
участников конференции.
— Было решено, что каждую сторону
будут представлять 15 человек. В конфе-
ренции приняли участие марксисты из Вен-
грии, Польши, Чехословакии, ГДР, Кубы и
Советского Союза, а также из Франции,
Италии, Испании. Католические участники
были из ГДР, Польши, Венгрии, Югосла-
вии, Австрии, Франции, Испании, Италии,
ФРГ, Бельгии. Участвовавшие в конферен-
ции католики не представляли собой
монолитную массу, единую в своих убежде-
ниях. Среди них наблюдалась известная
дифференциация — ив степени «открытос-
ти», установки на диалог с нами, и в гибкос-
ти подхода к обсуждению различных
социальных и нравственных проблем. И в
философских позициях
- Как была организована конферен-
ция?
- Председателем на первом заседании
был президент Академии наук Венгрии
И. Веренд. Во вступительном докладе он
сказал, что цель конференции - не
конфронтация полярных мировоззрений и
не сближение их там, где оно невозможно,
а выявление возможностей сотрудничества
там, где у верующих и у атеистов есть
общие устремления: военная безопасность,
справедливое общество, материальная и
духовная свобода, гуманизм. Мы должны
изучать, как влияет мировоззреиие иа
жизнь человека и общества, а это невоз-
можно без откровенного диалога.
Его поддержал кардинал Поль Пупар,
который вел заседание после обеда. Он
заявил, что апостольская столица поддер-
живает обмен мнениями, полезный и для
верующих, и для атеистов. На первое место
в своей позиции Пупар поставил общее
стремление католиков и марксистов к прав-
де, защиту мира, солидарность, помощь
бедным, охрану и укрепление здоровья
людей.
На следующее утро председателем был я,
после обеда - академик Йожеф Лукач,
директор Института философии ВАН (то
была наша последняя встреча - в начале
нынешнего года он скончался). Как видите,
во время конференции президиум менялся,
что обеспечило демократичность я деловую
атмосферу
Большинство участников — и католики,
и марксисты — жили в одной гостинице,
так что взаимное общеиие начиналось за
завтраком н продолжалось порой до ночи.
Дискуссии возникали на заседаниях
после докладов (их было двенадцать)
и содокладов Все было рассчитано на то,
чтобы стороны лучше поняли друг друга.
Около 50 журналистов из газет, журналов,
агентств печати, радио и телевидения
приехали е Будапешт, чтобы получить
сведения о дискуссии на конференции из
первых рук.
Каждый день ее участники устраивали
брифинг для журналистов, рассказывая
о ходе дискуссии. И хотя освещение ее
в печати не было адекватным, почти все
выступления участников на брифингах и
интервью отличались стремлением не нару-
шить деловой и доверительный характер
диалога.
— Разумеется, больше всего наших
читателей интересует суть проблем, затро-
нутых на конференции...
— Обсуждались шесть тем: сущность
человека, человеческая автономия в об-
ществе и пределы ответственности за свои
действия, проблемы межчеловеческих отно-
шений, моральных ценностей, труда, сов-
местной жизни и сотрудничества в об-
ществе. Чрезвычайно важно, что в ходе
полемики обозначилась общая позиция
всех выступающих. Она состояла в сле-
дующем. Есть этико-гуманистические цен-
ности общественной и личной жизни,
которые одинаково признают и марксисты,
и католики и которые открывают возмож-
ность для их консолидации в борьбе за
решение острейших проблем современнос-
ти. Это — мир, справедливость по отноше-
нию к людям разных верований, рас
и национальностей, солидарность и ряд
других.
Готовясь к конференции, договорились
ие принимать каких-либо итоговых доку
ментов (обращений, коммюнике н т. п.)
Поэтому роль диалога ограничилась наме-
тившимся сближением позиций по вопро-
сам, имеющим глобальное значение
Исключение из общего духа конференции
представлял лишь доклад Ю. Тишиера
(Краков), в котором католическая трак-
товка труда давалась в духе конфронтации
с марксистским его пониманием и реалиями
социалистического общества. Характерно,
что этот доклад не вызвал энтузиазма и со
стороны католических участников диалога.
Замечу, что именно для католической
стороны оказалась характерной попытка
удержать дискуссию в рамкам сугубо теоре-
тической постановки проблем. С одной
стороны, это предостерегало от прямых
выпадов против марксизма. С другой,
однако, такая постановка порой граничила
с абсурдно-схоластическим повторением
некоторых устаревших положений. У мно-
гих католических участников конференции
представления о марксизме остаются на
уровне прошлого века, что, конечно, ме-
шает диалогу.
— Читателей журнала интересует содер-
жание докладов советских марксистов
и резонанс на них с католической стороны.
— Мой доклад был посвящен проблеме
сотрудничества между людьми в об-
щественной жизни.
Общественная жизнь предполагает сот-
рудничество в рамках функционирования
различных социальных структур, прежде
всего — в производстве материальных
благ. Там, где господствует частная
собственность на средства производства,
доминируют социальные антагонизмы и
классовая борьба. Ход исторического раз-
вития привел к тому, что человечество как
целое развивается ныне в рамках различ-
ных социально-экономических формаций.
Для поннмання современной ситуации
принципиальное значение имеет сформули-
рованное на XXVII съезде КПСС положе-
ние о сочетании соревнования, историче-
ского противоборства двух систем с нара-
стающей тенденцией к взаимозависимости
государств мирового сообщества Гигант-
ски возросшее производство способно пре-
вратиться из силы прогресса в силу разру-
шения, что может привести к уничтожению
цивилизации и всего живого на Земле.
Наряду с экологическим императивом,
требующим учитывать уязвимость природ-
ной среды и не допускать превышения
пределов ее «прочности», возник
нравственный императив, диктующий безу-
словную необходимость того, чтобы вся
деятельность людей, совокупность соци-
альных отношений н институтов, духовная
культура направляли производственную
мощь в русло созидания.
Марксисты убеждены, что нынешняя
научно-техническая революция не несет
в себе неизбежности конца истории, ее
направление и характер определяются со-
циальной ориентацией, политическим соз-
нанием и, наряду с этим,— иравствениыми
ценностями. В ядерный век нельзя спасти
и сохранить мир, ие порвав решительно
и бесповоротно с образом мышления, века-
ми строившимся на допустимости войн
и вооруженных конфликтов.
Требуется новое политическое мышление,
соответствующее сложившейся историчес-
кой ситуации. Сотрудничество предпола-
гает наличие общих интересов, готовность
к компромиссам, когда ради достижения
общей цели каждой стороне приходится
чем-то поступиться В этом аспекте
марксисты и рассматривают глобальные
проблемы современности, которые превра-
21
щают «общечеловеческие интересы» из
абстракции в конкретную, осязаемую р.
альность
Мировое развитие предъявляет жесткие
требования к внешней политике, эконом,
ческой и социальной деятельности вс
государств, духовному облику любого с'
щества. В основе решения глобальи
проблем лежит признание того, что челощ
ческая жизнь, человеческая личность и вс~-
можности всестороннего раскрытия ее
потенций, интересы общественного разви-
тия — превыше всего.
Мерой ответственности должно был
прежде всего осознание непреложного фак-
та: нет ныне задачи важнее, чем предотвра-
щение войны. Отсюда необходимость широ-
кого диалога и сотрудничества между
людьми, придерживающимися различны,
убеждений.
— После апрельского (1985 г.) Пленума
ЦК и особенно после XXVII съезда партии
активно начала складываться новая пара-
дигма политического мышления. В чем
проявилась она на конференции в Буда-
пеште?
— Со стороны марксистов — в
открытости позиций, в нацеленности на
достижение согласия по самым острым
и сложным вопросам современности. Всем
нам надо учиться терпеливо преодолевать
многочисленные предубеждения, непонима-
ние между людьми, придерживающимися
не просто разных, но порой противопо-
ложных философских и политических
взглядов. Трудности на этом пути не
должны служить поводом к пессимизму,
они ие исключают ответственности за
судьбы мира.
Диалог между марксистами и христиана-
ми получил серьезное развитие в 70-е годы.
Тогда он шел под девизом «Конфронтация
идей во имя сотрудничества в действиях»
Новое политическое мышление требу-,
дальнейших шагов. Марксисты и хрис-
тиане — при неизбежно сохраняющейся
мировоззренческой противоположности
должны добиваться общности не толь,
в политической деятельности, но и в
мотивации, прежде всего в гуманистиче
ком, нравственном ее обосновании. Конеч-
но, между марксистами и католиками
неизбежны расхождения в мировоззренчес-
кой трактовке смысла и цели человеческой
жизни, но они могут иайти — и практически
находят! общее в поиимаиии ценное» •
«земной жизни», прежде всего таких, как
мир, свобода, справедливость.
И марксисты, и католики заинтересова i
в том, чтобы мировоззренческие различ- i
не перерастали в политическую конфронта-
цию, чтобы политика не была свободна от
моральных обязательств.
Во многом будапештский диалог е а .
напоминал мне сумму монологов, но
первый шаг сделан. Думается, нам необхо-
димо глубже разработать и уточнить
концепцию обмена мнениями межму
марксистами и верующими — приме
гельно к современным историческим и по.i •-
гическим условиям.
ТЕОЛОГИЯ И НАУКА
а т&ш
Айзек АЗИМОВ
Он родился
в 1920 году в
России, под
Смоленском.
В трехлетием
возрасте
с семьей
уехал в США.
ИЗ ВВЕДЕНИЯ
Библия — самая читаемая книга. Мил-
лионы людей уверены, что она истинна до
последней запятой и что в ней нет ошибок
и противоречий, кроме тех, которые могли
возникнуть при переписывании или пере-
воде.
Научному знанию всегда приходилось
бороться против этой неуступчивой и неко-
лебимой веры. Что говорит Библия и что
говорит наука? На чем они сходятся, если
сходятся вообще? На чем они не сходятся?
Как раз этому и посвящена данная книга.
Она ничего не оспаривает и ничего не
доказывает. Она не вступает ни < какую
полемику. Попытаемся строка за строкой,
слово за словом, разобрать стихи Библии,
рассмотреть их содержание и значение
и сравнить с научными взглядами, которые
имеют отношение к тому или иному
отрывку.
Предметом рассмотрения служит
отнюдь не вся Библия, ибо главные споры
ведутся о первых одиннадцати главах
книги Бытие.
Получил образование, стал профессором биохимии в Бостонском
университете. Но вот уже почти три десятилетия наукой ие
занимается, всецело отдавшись главному делу своей жизни,
пишет, пишет, пишет...
Айзек Азимов — автор более четырехсот книг — это целая
библиотека, переведенная почти на все языки планеты. Его имя
не нуждается в комментариях, всемирная слава писателя-
популяризатора и научного фантаста сделала Азимова из-
вестным как любителям фантастической литературы, так
и читателям научно-популярных книг.
Биохимия, лингвистика, физика, этнография, генетика —
трудно назвать область знаний, которую миновал Азимов
в своем популяризаторском труде. Есть много плодовитых
авторов, пишущих обо всем. Но профессионально, компетентно
обо всем пишет, наверное, он один. Недаром серия книг Азимова
вышла под общим названием «Энциклопедия интеллигентного
человека» — такое надо заслужить...
И вот новое, вероятно неожиданное для многих знакомство
с Азимовым. Книга «В начале», сокращенный перевод которой
начинает публиковать журнал, вышла в 1981 году и с тех пор
неоднократно переиздавалась.
Для специалиста, профессионально изучающего бнблеистнку,
она может показаться наивной. Однако для лектора, пропаган-
диста, читателя, интересующегося этими проблемами, на наш
взгляд, она может оказаться интересной.
Азимов тверд в своих убеждениях, но твердость его сочетается
с корректностью и деликатностью по отношению к оппоненту.
Он не боится вопросов. Наоборот, Азимов пишет: «Когда
исчезнет последний неотвеченный вопрос, умрет наука».
Впрочем, предоставим слово автору...
Первые одиннадцать глав книги Бытие
обрели современный вид к тому времени,
как евреи вернулись в Иерусалим после
вавилонского плена,— то есть примерно
к середине первого тысячелетия до нашей
эры. В этих главах книги Бытие заметно
сильное влияние культуры Междуречья,
шумерско-ассирийско-вавилонская нить
видна совершенно отчетливо. Люди Меж-
дуречья ближе всех подошли к тому, что
мы ныне называем наукой. В этом отноше-
нии они опередили многие цивилизации.
Авторы и редакторы Библии вдумчиво
и критически заимствовали данные из
различных источников, отбирая то, что
считали правильным, и отбрасывая то, что
казалось нелепым или непоучительным.
Они трудились в поте лица и замечательно
преуспели в этом В те времена не
существовало иной столь рациональной
и воодушевляющей версии первобытной
истории, как первые одиннадцать глав
книги Бытие
Но человечество с каждым после-
дующим поколением больше узнает и
22
1. Традиция приписывает авторство
первых пяти книг Библии Моисею — ге-
рою, освободившему израильтян от фа-
раонова рабства. Современные ученые
уверены, что первые книги Библии не
’* / <*!
• <
• Марка, выпущенная в США в честь
полета «Аполлона-8». Надпись на фоне
звездного неба гласит: «В начале бог...»
Картина английского поэта
и художника Уильяма Блейка.
больше делает выводов. Если бы авторы
первых глав книги Бытие творили, зная все,
что мы знаем сегодня, они написали бы их
совершенно по-другому.
Теперь, когда все необходимое сказано,
перейдем к книге Бытие
ПЕРВАЯ КНИГА
МОИСЕЯ*,
ИМЕНУЕМАЯ
КНИГОЙ БЫТИЕ2
Глава I3
23
могут быть творением одного человека,
тем более Моисея. Скорее всего, они
представляют собой тщательно составлен-
ную компиляцию материала, собранного
из различных источников.
В 1611 году английский король Яков I
поручил 52 богословам создать перевод
Библии специально для англоязычных про-
тестантов. Тогда не сомневались, что
Моисей — автор Пятикнижия. Перевод
1611 года обычно называют Библией коро-
ля Якова. Разумеется, с тех пор появились
более совершенные переводы, но ни один
не может сравниться с ней в поэтичности.
В Библии короля Якова начальная книга
Писания именуется «Первой книгой Мо-
исея»
2. Первая книга Мо’исея, написанная
в оригинале по-еврейски, начинается со
слова «берешит». В библейские времена
часто книги называли по первому слову или
первым словом.
Итак, еврейское название первой книги
Моисея — «Берешит». Поскольку это озна-
чает «в начале» и поскольку первая книга
начинается с рассказа о сотворении Все-
ленной, то слово выбрано удачно. Его
я и использовал как заглавие для своей
книги.
Впервые Ветхий завет был переведен на
другой язык — греческий — в третьем
столетии до нашей эры. В греческой версии
пошли в ход описательные заглавия. Пер-
вая книга Моисея получила название
«Генезис»*, в переводе с греческого —
«происхождение». Это название первой
книги Библии, оно используется и в англий-
ском переводе.
3. В ранних списках Библии не было
деления книги на главы и стихи. Деление
это не всегда логично, но от него уже
нельзя отказаться, и невозможно что-либо
изменить, поскольку за четыре века оно
укрепилось в ссылках, комментариях, ал-
фавитных указателях.
1. В начале* Бог5
сотворил небо
8
и землю
4. Самая первая фраза Библии ут-
верждает, что у всего сущего когда-то
было начало.
Почему бы и нет? Все известные нам
объекты имели свое начало. И вы, и я ког-
да-то родились, а до этого мы не существо-
вали, по крайней мере в том виде, как
сейчас. Повседневные наблюдения под-
тверждают справедливость этого в отно-
шении всех прочих человеческих особей,
и всех растений и животных — по сути,
всего живого. Более того, многие пред-
меты, что нас окружают,— это творения
человеческие, а до того они не существова-
ли — по крайней мере, существовали в
иной форме.
Но если у всего живого и у всего
сотворенного человеческими руками было
• В церковнославянской традиции — Бытие
начало, то почему бы не придать этому
правилу универсальный характер?
Во всяком случае, все примитивные
попытки вникнуть в суть Вселенной начи-
наются с объяснения того, как она нача-
лась. В древности вряд ли кому могло
прийти в голову поставить под сомнение
концепцию начала — притом, что по
поводу деталей бушевали изрядные
споры.
Да и с научной точки зрения начало
имело место — не только у Земли, но
и у всей Вселенной
Итак, Библия и наука утверждают, что
у всего было начало. Может, они пришли
к согласию в этом вопросе?
Между библейским утверждением о на-
чале всего сущего и научной точкой зрения
на начало Вселенной — огромная дистан-
ция. Эта дистанция выявляет все после-
дующие точки соприкосновения между
библейскими и научными воззрениями,
а также, если на то пошло, и все после-
дующие точки несоприкосновения.
Библейские утверждения покоятся на
авторитете. Коль скоро они восприни
маются как вдохновенное слово божье,
всякие доводы здесь кончаются. Для
разногласий просто нет места. Библейское
утверждение окончательно и абсолютно на
все времена.
Ученый, напротив, связан обязательства-
ми не принимать на веру ничего, что не
было бы подкреплено приемлемыми дока-
зательствами. Даже если существо вопро-
са кажется на первый взгляд очевидным,
лучше все-таки, если оно подкреплено
доказательствами.
Доказательство считается приемлемым,
если оно наблюдаемо и измеримо, причем
в такой мере, что субъективное мнение
исследователя сводится к минимуму.
Иными словами, другие ученые, повто-
ряющие наблюдения и измерения други-
ми инструментами в другое время и в дру-
гих местах, должны прийти к точно такому
же заключению.
Выводы из наблюдений и измерений
должны подчиняться определенным пра-
вилам логики и законам здравого смысла.
Подобное доказательство именуется
научным. В идеале оно должно быть
«принудительным». То есть люди, изу-
чающие наблюдения и измерения, а также
выводы, которые сделаны на их основе,
должны чувствовать принудительную не-
обходимость согласиться с выводами,
даже если поначалу они испытывали силь-
ное сомнение в существе вопроса.
Можно возразить, что научное обосно-
вание — не единственный путь к истине.
Откровение, интуитивное постижение, ос-
лепительное прозрение и бесспорный
авторитет — все они ведут к истине более
прямым и более надежным путем. Так-то
оно так, но ни один из этих альтернативных
путей к истине не «принуждает». Внут-
реннюю убежденность трудно передать
другому, просто воскликнув: «Но я же
уверен в этом!». Чаще всего собеседник
остается в сомнении.
Несмотря на авторитет Библии, в исто-
рии не отыщешь периода, когда бы это1
авторитет признавало большинство чело-
веческого рода. И среди признававших
бытовало множество самых различных
и исступленных толкований, буквально по
каждому пункту, и ни разу не было случая,
чтобы какое-либо одно толкование вытес-
нило все остальные.
Различия в интерпретациях Библии были
столь велики, а возможность того, что
какая-либо одна группа толкователей во-
зобладает над всеми остальными,— столь
мала, что очень часто приходилось прибе-
гать к насилию.
На долю науки тоже выпало немало
споров, диспутов, жаркой полемики. К ка-
ким бы выводам ни принуждали ученых
доказательства, в науке всегда справедли-
во следующее. В любой момент могут
возникнуть новые, более убедительные
доводы, выявятся скрытые ошибки и
ложные допущения, обнажатся неожи-
данные дефекты — и то, что еще вчера
было «твердым» выводом, вдруг перевер-
нется и превратится в еще более глубокое
и более точное умозаключение.
Итак, библейское утверждение, будто
земля и небо когда-то имели начало,—
авторитетно и абсолютно, но не обладает
принудительной силой. Научное утвержде-
ние, будто земля и небо имели начало,
обладает этой силой, но вовсе не автори-
тетно и не абсолютно. Здесь таится
глубочайшее расхождение позиций, кото-
рое куда более важно, чем внешнее
сходство словесных формулировок.
А когда же имело место это начало?
Библия не дает нам прямого ответа.
В сущности, во всех ее книгах Не найдешь
ни единой датировки событий — там не
содержится ничего такого, что помогло бы
нам привязать эти события к конкретным
временным вехам в рамках используемой
нами хронологической системы.
Толкователи Библии прилагали все уси-
лия, чтобы вычислить эту дату, используя
в качестве косвенных доказательств раз-
нообразные утверждения, содержащиеся
в Писании, но так и не пришли к единому
мнению. Например, среди еврейских тол-
кователей Библии принято считать датой
творения 7 октября 3761 года до рож-
дества Христова.
С другой стороны, Джеймс Ашшер,
англиканский архиепископ округа Арма
в Ирландии, в 1654 году пришел к выводу,
что акт творения имел место в 9 часов утра
23 октября 4004 года до рождества Христо-
ва. Иные вычисления относят дату творе-
ния еще дальше — в 5509 год до нашей
эры. Следовательно, оценки возраста зем-
ли и неба, вычисленные по Библии,
варьируются на тысячи лет. Как раз в этом
пункте и наблюдается колоссальное рас-
хождение между данными Библии и выво-
дами современной науки.
У науки есть весомые доказательства
того, что Земля — и вся Солнечная систе-
ма вообще — возникли около 4,6 миллиар-
да лет назад. А Вселенная в целом
родилась около 15 миллиардов лет назад.
Таким образом, возраст Земли пример-
но в 600.000 раз превышает возраст
вычисленный по Библии, а возраст Вселен-
ной, по науке, как минимум в два миллиона
24
раз больше возраста Вселенной по Биб-
лии.
5. Бог сразу же вводится как движущая
сила Вселенной. Его существование пола-
гается в Библии само собой разумеющим-
ся. И действительно — кое-кто может
выдвинусь аргумент, будто бы существова-
ние бога самоочевидно.
Обычно эту мысль облекают в сле-
дующую форму: «Часы предполагают на-
личие часовщика». Поскольку невозможно
себе представить, чтобы часы появились на
свет самопроизвольно, значит, их кто-то
должен был сделать; каким образом
«сделали» Вселенную предмет куда бо-
лее сложный?
В мифах любое природное явление
соотносилось с неким человекоподобным
существом, которое отправляло свои
функции аналогично тому, как их отправ-
ляют люди. Таким образом, в природе
ничто не могло происходить само-
произвольно.
Зачастую дело преподносилось таким
образом, будто эти мириады специализи-
рованных божеств то и дело ссорятся друг
с другом, производя во Вселенной беспо-
рядок. По мере углубления знаний о мире
крепла тенденция свести сонм богов к од-
ному-единственному божеству, которое
несло бы ответственность за все на свете,
управляло бы человечеством, Землей и
вообще Вселенной и соединяло бы все
сущее в единое гармоническое целое,
направляя его к некой определенной цели.
Вот такую сложную картину единобожия
и рисует Библия. Даже в рамках монотеис-
тической религии народная мысль изобре-
тает мириады ангелов и святых, наде-
ленных специализированными функци-
ями: таким образом, определенная форма
политеизма (при едином высшем монархе)
продолжает все же существовать.
Между тем, за последние четыре столе-
тия ученые построили альтернативную
модель Вселенной. Солнце не движется по
небу, его видимое перемещение вызвано
вращением Земли. Ветер вовсе не рож-
дают гигантские легкие; его существова-
ние объясняется перемещением воздуха,
неравномерно прогретого солнцем. Кар-
тина естественного порядка, царящего на
Земле и во Вселенной, создавалась бук-
вально по кусочкам, и ученым становилось
ясно, что порядок этот сложился самопро-
извольно и непреднамеренно, но вместе
с тем на него наложены определенные
ограничения, именуемые «законами при-
роды».
Чем дальше, тем с большим упорством
ученые отказывались признавать, что в ра-
боту законов природы когда-либо могла
вмешаться некая сила, которую можно
было бы определить как «чудо». Безуслов-
но, такое вмешательство никогда не
наблюдалось, и сведения о подобном
воздействии, якобы имевшем место в про-
шлом, все активнее ставились под сомне-
ние
Короче говоря, с научной точки зрения,
Вселенная представляется объектом, сле-
по подчиняющимся собственнь м прави-
лам — без всякого вмешательства или
подталкивания со стороны.
Подобный взгляд оставляет место для
допущения, будто бы все-таки именно бог
изначально создал Вселенную, и он же
изобрел законы природы, ею управ-
ляющие. С этой точки зрения Вселенную
можно рассматривать как заводную иг-
рушку, которую бог когда-то завел раз
и навсегда. Если так, то данное допущение
сводит вмешательство бога к минимуму
и наталкивает на мысль: а нужен ли он
вообще?
Ученые не обнаружили никаких свиде.
тельств, которые намекали бы на то, что
механизм Вселенной требует «завода» со
стороны божества. С другой стороны,
ученые не обнаружили никаких свиде-
тельств, которые ясно указывали бы на то.
что божества не существует.
Раз ученые не доказали ни факта
существования бога, ни факта его от-
сутствия, то дает ли нам наука право
подходить к этому вопросу с позиций
веры?
Вовсе нет Неразумно требовать доказа-
тельства отрицательного ответа и от-
сутствием таких доказательств обос-
новывать правильность положительного
ответа. В конце концов, если наука не
смогла доказать, что бога не существует,
то она не доказала и того, что не су-
ществует Зевса, Мардука, Тота или любого
из множества богов, выдвинутых на исто-
рическую арену мифотворцами. Пусть мы
не в состоянии доказать, что чего-то не
существует, но если эту несостоятельность
считать доказательством существования
чего-то, то мы должны прийти к заключе-
нию, что существуют все боги сразу.
И все-таки остается последний занудный
вопрос: «Но откуда же все взялось? С чего
началась Вселенная?»
Если кто-либо попытается ответить сле-
дующим образом: «Вселенная была всег-
да, она вечна»,— то он неизбежно
столкнется с неуютной концепцией вечнос-
ти, и рано или поздно в нем вспыхнет
неодолимое желание признать, что у всего
сущего когда-то должно быть начало.
В полном изнеможении он воскликнет:
«Вселенную создал бог!» По крайней
мере, это хоть какая-то точка отсчета.
А затем мы обнаруживаем, что избежа-
ли проблемы вечности лишь за счет того,
что... приняли вечность за аксиому. Ведь
теперь мы даже не вправе спросить: «Кто
создал бога?» Сам вопрос кощунствен. По
определению, бог вечен.
Теперь, если мы никак не можем
отделаться от вечности, стоит обратить
внимание на то, что у науки есть опреде-
ленное преимущество: поскольку она
живет исключительно наблюдениями и из-
мерениями, ей легче выбрать не бога,
а какую-нибудь такую вечность, которую
можно, по крайней мере, наблюдать
и измерять — например, самое Вселен-
ную.
Концепция вечной Вселенной привносит
огромное количество трудностей, иные из
них явно непреодолимы (по крайней мере,
на современном уровне научных знаний),
но ученых трудности не пугают — они
лишь обостряют игру. Если бы все труднос-
ти вдруг исчезли, а на все вопросы нашлись
ответы,— партия науки была бы проиграна
(ученые надеются, что этого не произой-
дет никогда).
Таким образом, здесь лежит, возможно,
самое фундаментальное противоречие
между Библией и наукой Библия описыва-
ет Вселенную, которую бог создал, в кото-
рой бог поддерживает порядок и которой
бог постоянно и сокровенным образом
управляет. В то же время наука описывает
Вселенную, в которой само существование
бога вовсе нет нужды постулировать.
Кстати, не следует считать, что ученые
все поголовно атеисты или что иные из них
становятся атеистами по необходимости.
Существует много ученых, которые ве-
руют столь же истово, как и неученые Тем
не менее эти ученые должны действовать
словно бы на двух уровнях. Как бы сильно
они ни верили в бога в повседневной
жизни, при проведении научных экспери-
ментов они не должны принимать су-
ществование бога в расчет Верующие
ученые никогда не смогут разобраться
в сути какого-нибудь особенно загадочно-
го явления, если будут списывать его на
вмешательство бога.
6. Первое деяние бога, зафиксирован-
ное в Библии,— это сотворение Вселенной.
Но поскольку бог вечен, этому акту
предшествовал бесконечно длинный пе-
риод времени. Чем же бог занимался
в течение этого бесконечно длинного
периода?
Рассказывают, что когда сей вопрос
задали святому Августину, он взревел:
«Создавал ад для тех, кто задает подобные
вопросы!»
Давайте отвлечемся от святого Августи-
на и задумаемся. Например, бог мог
потратить это время на создание бесконеч-
ной иерархии ангелов. Для этой цели он
мог сотворить одну за другой бесконечное
количество вселенных, каждая — со своей
собственной программой, и тогда наша
Вселенная явилась бы просто заурядным
звеном в цепи, за которым последует
столь же бесконечная вереница после-
дующих звеньев. Или, возможно, бог вовсе
ничего не делал вплоть до самого момента
творения — лишь беседовал со своим
беспредельным «я». Впрочем все без
исключения ответы лежат в области
домыслов.
Но переключимся на мир науки и спро-
сим себя: какой облик имела Вселенная
перед тем, как обрела современный вид,
примерно 15 миллиардов лет назад? Есть
несколько воззрений на этот счет. Возмож-
но, Вселенная целую вечность существова-
ла в виде чрезвычайно рассеянного сос-
тояния материи и энергии, которые очень
медленно сгустились в крохотный плотный
объект, «космическое яйцо», затем про-
изошел взрыв, и образовалась та Вселен-
ная, которую мы имеем сейчас. Такая
Вселенная будет вечно расширяться и в
конце концов снова обретет вид бесконеч-
но рассеянных материи и энергии.
Окончание на стр 54.
25
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Ж Ж а М. БУЯНОВ,
кандидат
х1х!ГЮиТО
КАК РОМАН
Время — вторая половина XVIII
века
В Индии, где родился и вырос наш
герой, его мало кто знал: в пятнадцать
лет сын португальского священника
еще не совершил ни подвигов ни
открытий.
Это позже, уже в Италии, о нем
пошла молва как о блестящем моло-
дом аббате, докторе теологии и про-
свещенном медике. В Португалии ему
завидовали: священник при дворе
Во Франции его знали как заговорщи-
ка и революционера, немало отсидев-
шего в тюрьмах (и в Бастилии ос-
частливившего человечество изобре-
тением стоклеточных шашек — но это
так, между прочим...). А под конец
жизни он прославился как чудесный
исцелитель, о котором в парижских
салонах ходила легенда, будто бы он
лечил только словом и взглядом. Для
современных специалистов-психоте-
рапевтов это предшественник научной
гипнологии, решительный и бес-
компромиссный ученый-исследова-
тель, испытавший непризнание кол-
лег, интриги завистников, клевету,
преследования.
Наконец, читатели всего мира
знают его как друга и наставника
Эдмона Дантеса, будущего графа
Монте-Кристо.
Неужели аббат Фариа? Он самый.
«Дантес сжал в своих объятиях
этого нового друга, так давно и с та-
ким нетерпением ожидаемого, и под-
вел его к окну, чтобы слабый свет,
проникающий в подземелье, мог ос-
ветить его всего.
Это был человек невысокого роста,
с волосами, поседевшими не столько
от старости, сколько от горя, с прони-
цательными глазами, скрытыми под
густыми седеющими бровями, и с
черной еще бородой, доходившей до
середины груди; худоба его лица,
изрытого глубокими морщинами,
смелые и выразительные черты изоб-
личали в нем человека, более
привыкшего упражнять свои ду-
ховные силы, нежели физические. По
лбу его струился пот. Что касается его
одежды, то не было никакой возмож-
ности угадать ее первоначальный
покрой: от нее остались лишь одни
лохмотья.
На вид ему казалось не менее
65 лет, движения его были еще
достаточно энергичны, чтобы предпо-
ложить, что причина его дряхлости не
возраст, что, быть может, он еще не
так стар и лишь изнурен долгим
заточением...»
Так встретились Эдмон Дантес
и аббат Фариа Как помнит читатель,
аббат провел в одиночке замка Иф
около 18 лет и в 1829 году умер.
Заточенный в темницу по ложному
навету моряк бежал из крепости,
сказочно разбогател и отомстил сво-
им врагам.
Это в книге А в жизни?
Старинный замок Иф и по сей день
одна из главных достопримечатель-
ностей Марселя. Экскурсоводы не
преминут рассказать о приключениях
героев Дюма, покажут «те самые»
камеры, где они томились. Такова
магия настоящей литературы: оба
узника живут в нашем воображении,
как живут Дон-Кихот и Алиса, как все
еще завалено корреспонденцией, ад-
ресованной мистеру Шерлоку
Холмсу, почтовое отделение непода-
леку от ничем не примечательной
Бейкер-стрит!
А в том, что своих героев Алек-
сандр Дюма выдумал, никто как
будто не сомневается. Да и словосо-
четание «как в романе Дюма» обычно
синоним того, чего в жизни никогда не
случается: слишком романтично,
слишком головокружительно, слиш-
ком красиво.
Эдмона Дантеса писатель скорее
всего выдумал. А вот его спутника...
Вся штука в том, что есть веские
основания предполагать: в одиночной
камере замка Иф действи-
тельно долгие годы содержался
таинственный узник, которого звали
аббат Фариа! Жизнь реально-
г о аббата сама была сродни рома-
ну — да какому! И можно только
дивиться, почему удивительной судь-
бой этого человека всерьез не заинте-
ресовался ни один романист. Тот же
Дюма, к примеру.
Читатель, правда, тут же вспомнит,
что и с «романным» аббатом связана
какая-то интрига — что-то там с Чеза-
ре Борджа, кардиналом Спада, отрав-
лениями, кладом... Однако выду-
манные перипетии бледнеют перед
реальной биографией прототипа. Вот
роман так роман!
Шпага под сутаной
Многое в этой биографии известно
нам понаслышке, некоторые эпизоды
недостоверны, больше всего напоми-
нают красивую легенду. Что ж, ле-
генды сопровождали аббата Фариа
с самого рождения. Начать хотя бы
с того, что в его жилах текла кровь
индийских браминов!
Родился он в 1756 году, по евро-
пейским понятиям, на краю света: на
юге Индии, недалеко от Панаджи,
главного города нынешнего штата
Гоа, в те времена португальской
колонии. Мать Жозе Куштодиу (так
назвали мальчика) была Португалка,
а отец, священник Каэтану де Фариа,
действительно был потомком пред-
ставителя высшей касты, принявшего
католичество. Такая родословная и
«восточное» воспитание еще дадут
себя знать.
Когда мальчику исполнилось 15 ле*,
отец увез его в Европу. Доподлинно
известно, что отец и сын Фариа
ступили на землю португальского
королевства с трапа корабля «Сан-
Жозе» в ноябре 1771 года и что уже
спустя несколько месяцев путь их
лежал в Италию Там оба получили
университетское образование: отец
окончил медицинский факультет, а
сын — теологический (вскоре к до-
кторскому званию по теологии приба-
вил он еще и «доктора медицины»).
По возвращении в Португалию отец
и сын Фариа обласканы фортуной:
дон Каэтану назначен исповедником
королевской четы, а сыну подыскали
в высшей степени перспективное мес-
течко священника дворцовой церкви.
Будущее безоблачно, многие доби-
ваются дружбы с пошедшими в гору
обласканными монаршими милостя-
ми Фариа. И никому невдомек, какой
черной неблагодарностью ответят
они своим царственным благодете-
лям.
Наступил 1788 год, и как гром среди
ясного неба — поспешный отъезд, да
что там говорить — бегство! — отца
и сына Фариа в Париж. О причинах
можно строить самые различные
предположения, но высказываются,
и обоснованно, такие: оба Фариа
участвовали в заговоре с целью отде-
ления Гоа от метрополии. Утверждали
даже, что и до того они не отличались
монашеским смирением, постоянно
были вовлечены в политические
авантюры и даже не раз сиживали
в тюрьмах Италии, Португалии и са-
мой Гоа! В психологический портрет
Фариа-младшего версия о заговоре
вписывается вполне, особенно в свете
последующих событий, о которых
известно не в пример больше.
Отметим для себя пока следующее.
Под сутаной аббата бьется сердце
бунтаря, нарушителя общественного
спокойствия, и это не пройдет с моло-
достью, а останется на всю жизнь...
Прибыв в столицу Франции, отец
и сын первое время ни в чем предосу-
дительном — с точки зрения влас-
тей — замечены не были. Но только
первое время, ибо младший Фариа
(во Франции его стали звать на
26
испанский манер: Хосе Кустодио) уже
вскоре оказался... в Бастилии, Куда,
как известно, люди благонамеренные
и лояльные попадали редко
К этому периоду относится и одно
из первых замечательных открытий
Фариа, о котором мы только упомя-
нули. Тюремный надзиратель оказал-
ся заядлым игроком в шашки, Хосе
Кустодио тоже любил эту игру. Время
в камере тянется томительно, и,
чтобы продлить удовольствие от каж-
дой партии, Фариа как бы между
делом изобретает стоклеточные (или
как их сейчас называют, междуна-
родные) шашки. В странных местах
порой человеку являются открове-
ния...
Можно только гадать, был ли аббат
в Бастилии, когда 14 июля 1789 года
восставшие парижане захватили и по
камешку разнесли ненавистную цита-
дель монархии. Известно, однако, что
свершившуюся революцию Фариа
принял всем сердцем. Сменив сутану
на трехцветный революционный пояс,
а требник и четки — на шпагу, он
служит революции, командуя отря-
дом санкюлотов. Сражается, по сви-
детельству современников, отважно.
У него острый ум, разносторонние
познания, участие в мятежах. В те
годы незаурядные личности возноси-
лись быстро — Бонапарт начинал с
меньшего.
Но 1793 год резко перевернул
судьбу молодого республиканца: Фа-
риа вынужден бежать на юг, в Мар-
сель. В стране победила якобинская
диктатура.
Революция вступила в бурный и
противоречивый период, о котором
написаны тома. Мы же отметим толь-
ко одно обстоятельство — не оно ли
послужило причиной поспешного
бегства Фариа на юг, в Марсель?
Известно, что якобинцы подозревали
всех иностранцев в тайной связи
с роялистами. Какие-то основания
к таким подозрениям, по-видимому,
имелись, и смуглолицый аббат-
иностранец, так и не избавившийся от
акцента, был взят на заметку. По
меркам того времени это означало,
что человек на полпути к гильотине.
Молодой потомок брамина, как
уже сказано, отличался острым умом
и не стал испытывать судьбу. Спасал
не карьеру — свободу, если не самое
жизнь. ° Марселе он активно практи-
ковал, его искусство признали и
избрали аббата в местное меди-
цинское общество Позже он стал
профессором академии. И что заме-
чательно революционным своим
идеалам не изменил, не разочаровал-
ся в них, о чем свидетельствуют стра-
ницы последующей жизни. Они-то,
вероятно, самые запутанные и одно-
временно самые интригующие. Запу-
танные, потому что судить об этом
периоде жизни нашего героя можно,
только доверяясь версиям и предпо-
ложениям, зачастую противоречащим
друг другу. А интрига состоит в том,
что завершился он одиночкой Замка
Иф.
Где и как Фариа провел около
двадцати лет, начиная с середины
1790-х годов, неизвестно. И если
выбирать из множества версий по
степени достоверности, то приходится
согласиться, что одиночная камера
замка Иф — достоверная причина,
объясняющая, почему человек на
долгие годы «выпал» из круга обще-
ния друзей и коллег.
Впрочем, все по порядку.
После свержения в 1794 году
якобинской диктатуры пришедшая к
власти реакционная буржуазия жесто-
ко расправилась с теми, кто посягнул
на святая святых — частную собствен-
ность. И в эти же годы в Париже
возникает коммунистическое движе-
ние «Во имя равенства» во главе
с Франсуа Ноэлем Бабёфом, взявшим
себе имя римского трибуна Гракха.
Один из предшественников научного
коммунизма, утопист и страстный
поборник социального равенства,
Гракх Бабёф весь следующий после
термидорианского переворота год
просидел в камере смертников, где
и разрабатывал проект будущего дви-
жения. Словно верил, что останется
жить и воплотит свою мечту в жизнь.
Из тюрьмы его действительно
выпустили, и он начал создавать сеть
сторонников по всей стране. Но не
прошло и двух лет, как по доносу
предателя Бабёфа арестовали и
отправили на гильотину. Аресты бабу-
вистов прокатились по всей Франции.
Не избежал ареста и один из руково-
дителей коммунистического «движе-
ния равных» на юге страны — наш
знакомый Хосе Кустодио де Фариа,
в ту пору помощник преподавателя
гимназии в городе Ним
Ему повезло больше, чем руково-
дителю организации: аббата в поли-
цейской карете доставили в Марсель,
откуда после краткого суда препрово-
дили одиночку замка Иф. Впрочем,
что значит «повезло»: в сырых казе-
матах узника ждала мучительно мед-
ленная смерть..
Так что же, участвовал аббат Фариа
в заговоре? Провел Двадцать лет
в замке Иф? Первое, вероятно, так
и останется апокрифом.
Во всяком случае имени Фариа нет
на страницах двух наиболее пол-
ных и авторитетных источников,
имеющихся и в русском переводе,—
в четырехтомном издании сочинений
самого Бабёфа, а также в двухтомном
«Заговоре во имя равенства, име-
нуемом заговором Бабёфа» Ф. Буо-
нарроти. Это сочинение вышло в
1828 году, когда аббата уже не было
в живых, и повредить ему, следова-
тельно, не могло.
Что до второго вопроса, то во всех
современных путеводителях по замку
Иф пребывание в нем мятежного
аббата преподносится как неоспо-
римый факт. В конце концов, после
термидорианского переворота хвата-
ли и правого, и виноватого, достаточ-
но было даже тени подозрения
в симпатиях якобинцам, причем осо-
бенно массовыми аресты были на юге.
Во всяком случае, Александр Дюма
знал об узнике замка Иф по имени
Фариа. И не в романе, а в реальной
жизни сорокалетнему потомку бра-
минов грозила если не смерть, то по-
теря рассудка. Только человек уни-
кальных физических сил, духовных
качеств мог выдержать это медлен-
ное умирание в Течение почти двух
десятков лет.
А Фариа не просто выдержал!
Ученик чародея
1813 год. Близок крах Наполеона.
Примерно В это время в Париже
появился высокий седобородый ста-
рик со смуглым восточным лицом
и карими глазами — наш знакомый
аббат Фариа. Вскоре о «бронзовом
аббате» заговорили в научных кругах,
в парижских салонах. О старых подви-
гах неистового революционера давно
позабыли, начинался новый круг этой
удивительной жизни, теперь уже в ис-
тории науки.
Чтобы лучше понять его место
в ней, нужно вернуться во времена,
предшествовавшие Великой фран-
цузской революции.
Незадолго до взятия Бастилии Па-
риж только и говорил, что о загадоч-
ном человеке по имени Франц Антон
Месмер, заслужившем репутацию ма-
га и чародея. И действительно, этот
высокий красавец на своих сеансах
творил чудеса: касался рукой слепых
женщин, долго смотрел каждой в гла-
за и властно произносил: «Ты ви-
дишь!» И человек видел! Вызывал
полную нечувствительность к боли,
внушал, что пациент находится на
берегу моря или во льдах,— и тот
начинал отчетливо слышать шум при-
боя, поеживался от холода... Не
удивительно, что Месмера считали
чернокнижником, посланцем дьяво-
ла.
На самом деле можно предполо-
жить, что это был любознательный,
умный и честный исследователь,
искренне пытавшийся добраться до
истины. Он, вероятно, и сам не
понимал, как добивался удивительных
результатов,— но продолжал искать.
Сын своего времени, воспитанный на
его предрассудках и представлениях
о мире и месте человека в нем,
Месмер повторял многие ошибки,
которые тогда совершали ученые.
Открытые им явления и сейчас, спустя
два столетия, продолжают во многом
оставаться такими же неясными, как
и в конце XVIII века. Хотя за это
время наука накопила богатый прак-
тический опыт, никто и поныне не
может детально объяснить того, что
делал Месмер.
27
Понятно теперь, сколь тяжело ему
пришлось при жизни. Месмер неод-
нократно обращался в Парижскую
академию с просьбой о помощи,
сотрудничестве Может быть, высокая
наука объяснит, что же он делает?
Академики долгое время вообще
отказывались от каких-либо контактов
с Месмером, но потом снизошли до
визита. И никакое иное заключение не
могли вынести, если еще задолго до
его демонстраций пришли к выводу:
ничего подобного быть не может
потому... что быть не может! Месме-
ра объявили шарлатаном и жуликом.
А через несколько лет произошла
революция, во Франции стало не до
научных диспутов (многие хулители
Месмера окончили свою жизнь на
гильотине), и звезда чародея оконча-
тельно закатилась Умер он в Швейца-
рии, всеми забытый. Впрочем, не
всеми: остались у него ученики и по-
следователи Среди них был и Фариа.
Стефан Цвейг назвал Месмера
первооткрывателем целого континен-
та, освоить который наука все еще не
в состоянии. Это верно, если говорить
о психотерапии, которая безусловно
началась с Месмера А его ученик
и последователь маркиз де Пюисегюр
открыл феномен сомнамбулизма и
так называемого постгипнотического
внушения. Что это такое?
Современная наука рассматривает
сомнамбулизм как одну из стадий
гипнотического состояния. Ч начале
нашего столетия швейцарский ученый
Огюст Форель и выдающийся русский
психиатр, психолог и общественный
деятель В. М. Бехтерев выделили три
последовательных этгпа погружения
в гипнотический сон: сомноленцию
(состояние повышенной дремотности,
из которого человек способен выйти
сам), гипотаксию (когда возможны
различные явления главным образом
в двигательной сфере — например,
полная недвижимость), и наконец,
сомнамбулизм. Это состояние позво-
ляет вызывать у пациента какие
угодно иллюзии, галлюцинации...
Ученые сегодня расходятся в оцен-
ке описанных состояний. Если первые
два общепринято считать физиоло-
гичными, безвредными, то в отноше-
нии сомнамбулизма высказываются
и опасения. Многие считают, что это
искусственно вызванный волей психо-
терапевта психоз, то есть состояние
патологическое, вредное для орга-
низма Поэтому и применять его
следует крайне осторожно, тем бо-
лее, что лечебный эффект внушения,
как правило, не зависит от глубины
погружения в гипнотическое состо-
яние.
Что касается постгипнотического
внушения, открытого Пюисегюром,
проводившим опыты со своими
крестьянами, то выяснилось, что при
гипотаксии и сомнамбулизме можно
внушить пациенту определенную по-
следовательность действий, которую
он проделает даже после выхода из
гипноза. Помимо своей воли, но
проделает.
В наши дни для специалиста-психо-
терапевта все это уже азы. А описаны
эти и многие другие феномены были
еще на заре психотерапии, когда
и слова «гипноз» не было (его предло-
жил в 1843 году английский врач
Джеймс Брэд), а последователей Мес-
мера называли «магнетизерами».
Среди первых магнетизеров мы
встретим и аббата Фариа.
Вместе с Пюисегюром он приступил
к первым экспериментам в неиссле-
дованной области, которая позже
получит название научной гипнологии.
И тут напомнило о себе индийское
происхождение аббата!
На родине он чаете» встречался
с йогами и усиленно изучал их ис-
кусство. Конечно, оно продолжало
оставаться для юноши непостижимым
волшебством, тайны которого навеч-
но сокрыты от взора непосвященного,
однако будущий исследователь тонко
подметил одну существенную состав-
ляющую йогической практики: само-
внушение. Еще в бытность свою в Гоа
Жозе Куштодиу пробовал на себе
приемы йогов. И теперь, через много
лет, в Париже, он попытался соеди-
нить с ними учение Месмера. Кстати,
впору задуматься: не тренировка ли
с помощью самовнушения спасла тело
и разум аббата за долгие годы
пребывания в замке Иф?
Пять лет, со времени освобождения
в 1814 году и до смерти в 1819-м,
аббат Фариа публично демонстриро-
вал лечебный магнетизм. В доме
№ 49 по улице Клиши он открыл
«магнетические классы», где прово- ч
дил сеансы внушения, в которых
участвовали не только мужчины, жен-
щины, дети и подростки, но и — по
слухам — домашние животные и
птицы! Как мы теперь можем судить,
аббат использовал два вида внушения:
либо в течение долгого времени, не
мигая, смотрел в глаза пациента
и несколько раз методично повторял
приказ заснуть, либо наоборот, произ-
носил приказ неожиданно, резко,
обращаясь к человеку, когда тот этого
не ожидал. Оба приема носят теперь
имя аббата Фариа, упоминание о них
'ложно наити в любом учебнике по
психотерапии.
В «магнетические классы» Фариа
началось паломничество (плата за
вход была чисто символической: пять
28
франков). Поспешили туда и недруги
аббата, причем не только духо-
венство, но и завистливые коллеги.
Ход их рассуждений был примерно
такой же, как и у отставного урядника
Василия Семи-Булатова: этого не мо-
жет быть, потому что этого не может
быть никогда. (Как видим, проходят
эпохи, меняются поколения, а подоб-
ная могучая аргументация не-
подвластна времени!)
Ярость церковников и ученых, ви-
девших в удачливом собрате исчадие
ада, сделала свое дело. Здоровье
аббата и так было подорвано, и у него
еще оставались планы, которые он
непременно хотел завершить до кон-
чины... Фариа публично покаялся во
всех приписываемых ему прегреше
ниях. Он получил маленький приход
и повел жизнь обычного деревенско-
го кюре.
Но не смирился его дух, бунтарский
дух революционера и естествоиспыта
теля тайком от окружающих великий
упрямец писал свою последнюю кни-
гу. Она называлась так: «О причине
ясного сна, или Исследование при-
роды человека, написанное аббатом
Фариа, брамином, доктором теоло-
гии». Посвятил он ее маркизу де
Пюисегюру.
Фариа успел издать книгу незадол-
го до смерти. Назло врагам и обидчи-
кам — и как памятник себе.
Каков же финал btoiO увлекатель-
ного романа-жизни? Посмертная
жизнь идей, столь прозорливо уга-
данных аббатом Фариа. Не вдаваясь
в подробный анализ его взглядов на
Он первым отметил наличие своего
природу «магнетизма», отметим
только: он шел впереди своего вре-
мени.
Фариа впервые — в отличие от
большинства своих современников —
исходил из того, что в основе сомнам-
булизма и других феноменов лежит
способность человека к внушению.
Способность, которая иной раз пред-
ставляется безграничной. 3 сущности,
все люди поддаются внушению —
одни больше, другие меньше. Вывод,
который наука сделала лишь в конце
прошлого столетия, в начале его был
ясен для аббата Фариа.
Он первым заметил, что для успеш-
ного сеанса внушения не обязательно
обладать какими-то необыкно-
венными, уникальными способностя-
ми. Успех зависит не только от
гипнотизера, но и от пациента. От его
веры или, наоборот, неверия в психо-
терапевта.
рода игры между гипнотизером и па-
циентом, внутренней связи, обеспечи-
вающей успех лечения. И многое
другое, на что современники не
обратили внимания.
Понадобилась дистанция длиною
в век, чтобы специалисты смогли
в полной мере оценить открытое им
на заре психотерапии.
Ему принадлежит и открытие иного
рода: хлеб психотерапевта горек.
И дело не только в зависти, конкурен-
ции или ревности коллег — главное
препятствие заключено в невозмож-
ности ответить на вопрос: «Как вы все
это делаете?» А отсюда недалеко и до
обвинений в колдовстве, связи с не-
чистой силой, шарлатанстве.
Ну, действительно, если отвлечься
от более чем гипотетических «биопо-
лей» и прочего: как же все-таки это
одним удается, а другим — нет? По-
чему и по сей день психотерапия во
многом остается умением, ис-
кусством, практическими навыками,
а до настоящих теоретических обос-
нований еще, видимо, далеко.
Впрочем, разве пришло кому-ни-
будь в голову спросить у Шаляпина,
почему он мог так петь, а другие
выдающиеся люди так петь не мог-
ли? То, что успешное психотерапевти-
ческое лечение невозможно без та-
ланта, одаренности, сейчас представ-
ляется очевидным. А вот на вопрос,
что это такое, как этому научить,
не сможет, наверное, обстоятельно
ответить ни один уважающий себя
ученый.
Об аббате Фариа — реальном, не
«романном» — ученые помнят.
«Предшественником научной гипно-
логии следует считать и португальско-
го аббата Фариа, заслуги которого
незаслуженно забыты, хотя именно он
в 1813 году впервые ввел методику
словесного погружения в гипноз»,—
читаем мы в авторитетном «Руко-
водстве по психотерапии» под редак-
цией профессора В. Е. Рожнова,
вышедшем в 1979 году вторым изда-
нием. О Фариа с уважением отзывает-
ся и профессор Ю. В. Каннабих
в своей классической «Истории пси-
хиатрии».
Но есть и другая память. На родине,
в индийском городе Панаджи ему
поставлен памятник: над женщиной
склонился священник. Сейчас он ска-
жет ей: «Спите!» — и она заснет.
А когда проснется, от болезни не
останется и следа...
29
ЗА РУБЕЖОМ
СПИД —
кара божья?
— СПИД сегодня — это не только ме-
дицинская, но и социально-политическая
проблема. Не секрет, что влиятельные си-
лы на Западе спекулируют на настроениях
паники и неуверенности, пытаются из-
влечь из создавшейся ситуации полити-
ческий капитал,_
Доходит до того, что церковь
объявляет СПИД карой божьей, нис-
посланной в наказание за грехи
людские В ФРГ кардинал Хеффнер
официально объявил, что искать дру-
гую причину не следует. Тем самым
отвлекается внимание от подлинных
виновников трагедии. Интересно, что
наиболее ярыми приверженцами «аф-
риканской» версии являются ученые
Католического университета в г. Лу-
вен в Бельгии. Представитель ве-
домства здравоохранения Баварии
(где, как известно, особенно сильны
позиции Христианско-социального
союза) в выступлении по телевидению
потребовал создания специальных ла-
герей для изоляции больных СПИДом.
Аналогичные требования высказыва-
лись и в США, однако в обеих странах
натолкнулись на решительный протест
прогрессивной обшественности.
— Что побудило вас заняться СПИДом?
— Одна нелепая история. В августе
1985 года на страницах журналов
«запрыгала» зеленая мартышка. Аме-
риканский ученый М Эссекс без вся-
ких доказательств утверждал, что
вирус, который находится в крови
примерно 50 процентов африканских
зеленых мартышек, мог самопроиз-
вольно превратиться в вирус СПИДа
и что для заражения достаточно было,
чтобы животное поцарапало или поку-
сало африканца. С точки зрения
биолога, это настолько нелепо, что мы
с женой попытались найти первоисточ-
ники. Их не оказалось ни в одйом
научном журнале. М Эссекс излагал
свою теорию в газетах, на телевиде
НИИ
Однако в декабре 1986 года Эссекс
признал несостоятельность своей гипо-
тезы. Выяснилось, что вирусы принад-
лежат к различным семействам и сте-
пень родства между ними примерно
как между коровой и лошадью
— Однако эта теория по-прежнему под-
дёр живается западными средствами мас-
совой информации. Возможно, главную
роль здесь играют не научные соображе-
ния?..
— Налицо явная попытка дезин-
формации мировой общественности.
Вначале шла история с зеленой мар-
тышкой, а затем теория африканского
происхождения СПИДа
Четыре буквы — СПИД — все чаще
встречаются на страницах газет и журна-
лов. Информация то пугающая, то успо-
каивающая, но чаще всего — противоречи-
вая.
Что же такое СПИД? Синдром приобре-
тенного иммунодефицита, вирусная бо-
лезнь, поражающая иммунную систему
человека. Поражая два вида белых кро-
вяных телец, так называемые макрофаги
и Т -лимфоциты, вирус делает организм
беззащитным против многих шболеваний.
Советские ученые активно работают над
кругом проблем, связанных с лечением
и предотвращением СПИДа. «Было бы
вредным заблуждением думать, что разви-
вающаяся во всем мире пандемия СПИДа
минет нашу страну. Мы живем не изолиро-
ванно. а в сложном мире, в условиях
усиленного общения между народами, и
поэтому занос в нашу страну СПИДа не
исключен»,— сказал в интервью газете
«И звестия» академик медицины В. Жда-
нов.
Находятся люди, которые утверждают,
что СПИД — это наказание за людские
грехи, другие спрашивают: а не мстит ли
нам природа за те безобразия, которые
учиняет над нею человек?
Вниманию читателей мы предлагаем
гипотезу профессора Якоба СЕГАЛЯ, био-
физика из Германской Демократической
Республики. Беседовал с ним наш спе-
циальный корреспондент Л. Алексеев.
По этой теории, он якобы существо-
вал всегда в форме эндемической, то
есть редко проявляющейся, болезни
в глухих уголках Центральной Африки
и в последние годы миграциями насе-
ления был занесен в города, потом
в Гаити, из Гаити в Нью-Йорк, а за-
тем из Нью-Йорка распространился
повсюду.
Эта теория не подкреплялась ника-
кими фактами.
Первые случаи СПИДа были выяв-
лены в США в 1979 году. Появление
его в Европе относится либо к 1981,
либо к 1982 году. Нам удалось найти
публикацию об одном-единственном
больном, который явился в госпиталь
в декабре 1982 года,- это был первый
случай заболевания в Африке.
— Однако сторонники африканской те-
ории утверждают, что там их много—
— Год назад я составил сравни-
тельную статистику. Тогда в США на
100 000 жителей было в 10 раз больше
больных СПИДом, чем в странах
Центральной Африки. Кроме того, там
он распространен только в городах,
где много иностранных дипломатов,
туристов, техников и т. д. Далее, в го-
родах находятся больницы, где афри-
канцам оказывают помощь: делают
переливание крови.
В 1984 году стало известно, что
вирус СПИДа может сохраняться
в консервированной крови. Самые
дешевые препараты крови — амери-
канского происхождения. Многие мек-
сиканцы, темнокожие американцы
сдают кровь за деньги минимум раз
в неделю, чтобы сводить концы с кон-
цами. Установлено, что американские
препараты крови занесли СПИД в
Англию, Саудовскую Аравию, Данию,
Австрию. В Африку же ряд частных
фирм продолжали поставлять препа-
раты крови по сниженным ценам
и после 1984 года.
Есть другой источник, который тоже
хорошо установлен. Например, в ЮАР
СПИД появился впервые у двух гомо-
сексуалистов, которые провели отпуск
в Нью-Йорке и заболели спустя неко-
торое время после возвращения. То же
самое установлено в ФРГ: 9 гомосек-
суалистов завезли СПИД из США.
Так что для Европы можно с уверен-
ностью сказать, откуда и каким обра-
зом появился СПИД
Долгое время считалось, что афри-
канский СПИД не соответствует аме-
риканскому. В Европе и США болели
почти исключительно мужчины, а в
Африке заболевших женщин было
столько же, сколько и мужчин. Однако
причина этого совершенно в другом.
Ведь в первую очередь болезнью
заражались гомосексуалисты и люди,
которым переливали зараженную
кровь. В Европе такие переливания
делали в основном больным гемофи-
лией: это наследственное заболевание
передается лицам мужского пола.
В Африке оно почти не известно. Но
там широко распространено как у
мужчин, так и у женщин другое
заболевание крови — анемия серпо-
видной клетки. Переливание крови
делали и тем и другим, поэтому
в Африке с самого начала болезнь
распространилась и у тех и у других.
Болезнь там проявляется сильнее,
и смерть наступает раньше, чем в Ев-
ропе, не только из-за плохих гигиени-
ческих условий, но и из-за обычая
делать татуировки и надрезы на теле...
Малярия, туберкулез, проказа, на-
кладываясь на СПИД, в свою очередь
тоже ослабляют иммунитет.
Примерно год назад появились
статьи о том, что в сыворотках крови,
собранных в Африке в 50—60-х годах
с целью изучения распространения
гепатита, желтой лихорадки и других
заболеваний, обнаружены антитела
к СПИДу. По одним данным, они
содержались в 50, по другим в 90 про-
центах проверенных сывороток
Мы выяснили, что при длительном
хранении сыворотка дает положитель-
ную реакцию на СПИД. Недавно
несколько групп ученых проверили эти
результаты. Из 1217 сывороток крови,
собранных до 1959 года, только одна
дала положительную реакцию. Еще
неясно, насколько анализ был тщате-
лен
Итог: раньше вируса не было!
Наконец, последний аргумент. Аф-
риканские страны долгое время были
колониями, в которых находились ев-
ропейские чиновники и колониальные
войска И наоборот, Франция и Бель-
30
гия содержали у себя войска, на-
бранные в Африке Если никто при
этом не заболел СПИДом, хотя уйма
детей-мулатов доказывает, что кон-
такты между европейцами и африкан-
цами были все это время, то можно
сделать вывод, что СПИД — болезнь
не африканского происхождения.
— Вы сказали, что вирус СПИДа на-
ходится лишь в отдаленном родстве с ви-
русом зеленой малышки. Каково же в та-
ком случае его происхождение? Существо-
вал ли ои до этого в природе?
— Первым высказал свое объясне-
ние американский ученый Р Галло.
Согласно его теории, вирус СПИДа
возник в результате мутации вируса
HTLV-1, который вызывал разновид-
ность рака крови лимфому Группа
ученых из Института Пастера во
Франции опровергла эту точку зрения.
Изучение наследственного аппарата
обоих вирусов выявило совершенно
различное их строение. Никаким ес-
тественным путем один вирус не мог
трансформироваться в другой.
Обнаружилась удивительная вещь:
структурно вирус СПИДа почти иден-
тичен вирусу Висна, паразитирующе-
му на овцах. Как и вирус СПИДа, он
имеет длительный инкубационный пе-
риод: с момента заражения до смерти
может пройти от 4—5 до 15 лет.
У больных СПИДом наряду с иммуно-
дефицитом наблюдается полная кар-
тина заболевания Висна. пораженные
легкие, кишечник, центральная нерв-
ная система. Длительное развитие
болезни приводит к разрушению
центральной нервной системы и сла-
боумию. Таким образом СПИД —
двойная болезнь. Однако никто еще не
заразился от овцы вирусом Висна, так
как он не может проживать в организ-
ме человека. А вирус СПИДа имеет
специальный белковый рецептор, по-
зволяющий ему проникать в клетки
лимфоцитов Т-4, играющих ключевую
роль в выработке антител. Разрушая
эти клетки, вирус СПИДа оставляет
организм без иммунной защиты.
«
— Если я правильно вас понял, вирус
СПИДа практически идентичен вирусу
Висна за исключением отрезка генома,
позволяющего ему проникать в клетку
лимфоцита Т-4?
— Да. Интересно следующее: в то
время как вирус Висна основательно
отличается от вируса Лимфомы
HTLV-1, вирус СПИДа имеет с ним
один общий отрезок генома. Именно
этот отрезок и позволяет ему про-
никать в клетки Т-4. Прибавив его к
вирусу Висна, мы и получим вирус
СПИДа.
— Могло ли такое скрещивание про-
изойти естественным путем?
— Мы с генетиками просчитали
вероятность случайного перехода от-
резка генома одного вируса в дру-
гой — она составляет 10-26 Другое
дело — искусственный метод генной
манипуляции При помощи специ-
альных ферментов геном вируса
HTLV-1 разрезается на части, смеши-
вается с вирусом Висна и посылается
в культуру клеток Т-4 Если вирусы
проникают в клетки и развиваются
в них, значит они инкорпорировали
нужный отрезок генома. Технически
это несложно.
— В таком случае встает вопрос; кто,
где и зачем?
— Есть одна категория людей,
которой выгодно создать новую бо-
лезнь,— это военные. По данным га-
зеты «Гардиан», уже в 1969 году
существовала директива Пентагона
о создании биологического оружия,
против которого человек не имел бы
иммунной защиты. Это точный портрет
СПИДа. Осенью 1977 года в США
в Форт-Детрике в здании 550 откры-
лась лаборатория типа Пи-4, осна-
щенная защитной системой, позво-
ляющей вести генную манипуля-
цию с патогенными вирусами. Через
два года в США появляются первые
больные, что соответствует инкуба-
ционному периоду СПИДа. Можно
представить, как этот вирус вырвался
из Форт-Детрика. В его лаборато-
риях новые вирусы традиционно испы-
тываются на уголовниках, приго-
воренных к пожизненному заключе-
нию. Им обещают свободу, если они
переживут опыт Существует даже
статистика: 240 человек подвергнуто
испытанию, 4 умерли, 236 выпущены
на свободу. Предположим, вирус
СПИДа тоже был опробован на пре-
ступниках. Первых 2—3 недели боль-
ной чувствует легкое недомогание:
слегка повышенная температура, по-
нос, усталость. Затем эти симптомы —
кстати, типичные для заболевания
Висна — исчезают, и в течение дли-
тельного времени пациент чувствует
себя здоровым. В то время еще не было
методов, позволяющих определить
присутствие вируса СПИДа или анти-
тел к нему в крови человека. Был
сделан вывод, что вирус слишком
слаб, и заключенных выпустили на
свободу. Куда пойдет получивший
волю заключенный? В ближайший
большой город. Для Форт-Детрика это
Нью-Йорк. В американских тюрьмах
заключенные нередко становятся го-
мосексуалистами или наркоманами,
поэтому не удивительно, что именно
в этой среде болезнь впервые появ-
ляется в Нью-Йорке весной 1979 года.
— И уже оттуда начинает свое шествие
по городам и странам?
— Должен сказать, что прямых
доказательств у нас нет: вряд ли
станут доступными архивы Форт-Дет-
рика. Однако эта гипотеза дает ре-
алистичное, научно обоснованное
объяснение: а) почему СПИД появил-
ся именно в Нью-Йорке; б) почему
именно весной 1979 года; в) почему
СПИД первоначально распространил-
ся почти исключительно среди мужчин
и лишь затем стал передаваться
«обычным» путем половых контактов.
— Как отнеслись американцы к вашей
точке зрения?
— Они сумели заблокировать почти
все публикации по этому вопросу.
Однажды нас неожиданно посетили
представители американского по-
сольства в Берлине. Они хотели знать
только одно: откуда мы получили эту
информацию? После чего по крайней
мере 4 крупных западногерманских
журнала связывались с нами, однако
в последний момент их главные редак-
торы отказывались публиковать наш
материал. 18 февраля этого года
газета Западного Берлина «Тагес цай-
тунг» опубликовала большое интервью
со мной. Надо сказать, оно произвело
эффект разорвавшейся бомбы Наш
телефон беспрерывно звонит: просят
выступить с докладом, дать интервью,
материал для публикации. Поступили
заказы от издательств ФРГ и Англии
на написание книги. Таким образом,
можно сказать, что нам удалось про-
рвать блокаду.
— В чем вы видите основную цель ва-
шей работы?
— Мы стремимся довести до созна-
ния всех, что существованию челове-
чества угрожает не только ядерное
оружие, но и приготовления к биологи-
ческой войне. Необходимы усилия всех
людей доброй воли, чтобы отвратить
эту угрозу. Важную роль при этом
может сыграть разоблачение деятель-
ности монстров из Форт-Детрика и им
подобных. Люди должны знать правду
о СПИДе..
ПОСЛЕСЛОВИЕ РЕДАКЦИИ
Признаться, интервью профессора Сега-
ля производит мрачное впечатление. Оно
усиливается еще и тем. что другие ученые
тоже пришли к такому мнению независимо
друг от друга. Это Роберт Стрейкер из
США, англичанин Джон Сил и другие.
Кстати, Дж Сил, опубликовавший свои
размышления по этому поводу в научных
журналах «Нэйчур» и «Нью сайентист»,
подвергся нападкам со стороны амери-
канской администрации. В интервью италь-
янскому журналу «Панорама» Сил заявил:
«...Свидетельств в пользу его (СПИДа. —
Ред.) искусственного происхождения
множество. Он был получен в опытах по
скрещиванию на хромосомно-генном уров-
не».
В статье «Следы ведут в генную лабора-
торию» швейцарская газета «Вохенцай-
тунг» (март 1987 г.) прямо ссылается на
анализ некоторых американских докумен-
тов, опубликованных английской «Гар-
диан» в конце 1986 года. Документы
свидетельствуют еще в 1969 году сотруд-
ник министерства обороны США заявил
в бюджетной комиссии конгресса, что
Пентагоном намечена разработка боевого
биологического вещества, способного по
давлять иммунную систему человека. Сро-
ки разработки — 5—10 лет.
Закончим словами Джона Сила:
«Распространение болезни, называемой
СПИДом, чревато самой страшной из всех
пандемий, с какими когда-либо сталкива-
лось человечество. Кто бы ни был ее
зачинщиком, он, бесспорно, ошибся в своих
расчетах. Над ним нависла та же угроза,
что и иад другими людьми...».
31
Юрию И ван именно 39 лет. Получив диплом
Севастопольского приборостроительного
института, молодой инженер сменил не-
сколько профессий, окончил киноведческий
факультет ВГИКа, а сейчас работает
журналистом. Автор сборника детективных
н приключенческих повестей «Особая точ-
ка» (1982) и произведений разных жанров
в сборниках и в периодике. Живет в Симфе-
рополе, где и развертывается действие
повести «Выборные». Читатель сам, вероят-
но, определит жанр, в котором она написа
на. Хотя события в ней, конечно же,
вымышленные, у всех героев, как ут-
верждает автор, есть — или были — ре-
альные прототипы
Жительница Новгорода Г. А нф имо
в а выплеснула в своем письме боль
сограждан за родной город... Речь идет
о знаменитом Петровском кладбище, где
покоятся многие из славных горожан.
Предоставим слово Г. Анфимовой: «Клад-
бище 12 лет назад закрыто и, как писала
«Новгородская правдах, по генеральному
плану будет превращено в парк отдыха
с увеселительными заведениями, кафе, рес-
тораном. Попробуйте на миг представить,
что я почувствовала, когда, тревожась за
сохранность ограды на дорогой мне могиле
(ей свыше 100 лет/), пошла в горкомхоз
узнать, не надо ли возобновить регистра-
цию ограды, и непринужденно болтавшая
с подругой горкомхозовская дама с досадой
бросила мне: «Какая регистрация/ Кладби-
ще скоро под бульдозер!х... Несколько лет
остается до обещанного бульдозера. Не
хочу до этого дожить! Болит сердце за
детей — обязательно что-то большое, свет-
лое рухнет в их душе.
«Советская культура».
4.04.1987
ЛИТЕРАТУРА, ИСКУССТВО
ГЛАВА 1
Медленно и мелодично били башенные
часы. Звук пролетел над бессонной при-
вокзальной площадью, над красной чере-
пицей старых крыш и темными пря-
моугольниками крыш новых, сквозь ред-
кие кроны акаций и тугие струны проводов
и растворился в зарослях на кладбище.
Восковая луна вывалилась из сырого
облака и глянула вниз. Глянула — и спрята-
лась.
Последние отголоски двенадцатого уда-
ре прокатились между крестами и пира-
мидками, теряя силы, долетели до послед-
него ряда надгробий, уже безымянных от
времени, и замерли под стеной.
Ухнула и невнятно забормотала сова.
Потом взлетела и, чуть проседая в такт
взмахам бесшумных крыльев, прочертила
небо и растаяла в округлой темноте
окошка на звоннице.
Василий, вальяжно раскинувшись на
собственной, хорошо ухоженной могиле,
проследил за ее полетом и сообщил:
— Будет дождь
Соседи промолчали, и только какая-то
старушка из ближнего склепа вздохнула
и мелко перекрестилась
— Что молчите? — рассердился Васи-
лий. — Не намолчались за день?
— Не хотят с вами связываться, — за
всех ответил чинный присяжный, — грубый
вы очень. Вам не угодишь.
— А ты и не угождай. Привык, пони-
маешь, угождать. Как ты только в суде
служил?
— Так и служил, как все, — степенно
протянул купец, — помаленьку да поле-
гоньку.
— Вот и дослужились. — Приват-доцен-
та умершего от чахотки в девятнадцатом,
до сих пор мучил кашель. — Сколько
лет — и памяти нет.
— Нет, позвольте, — залоотестовал при-
сяжный. — Как это — служил? Присяжные
в суде не служат, их выбирают... Из
достойных, не то что всякие тут...
Души заспорили, замелькали про-
зрачные руки, голоса возвысились до
крика, и скоро уже над вторым сектором
взметнулись потревоженные летучие
МЫШИ.
Василий послушал-послушал и отправил-
ся в четвертый сектор, где давние его
приятели, два красноармейца, играли за-
тертой греческой монетой в орлянку.
Третьим был мобилизованный мещанин,
умерший в двадцатом от ран.
____Не спится? — вместо приветствия
спросил красноармеец, прозванный Се-
дым за белую-белую, как сметаной
вымазанную, прядь тонких прямых >олос
в курчавой русой шевелюре.
— Обрыдло. Пятый десяток, понимаешь,
сплю, — привычно откликнулся Василий,
присаживаясь на расколотую известняко-
вую плиту.
— Ничего, скоро разбудят, — пообещал
Седой, выковыривая монетку из щели.
— Пионеры, что ли? — спросил Василий,
высчитывая в уме, сколько дней осталось
до Октябрьских.
Два раза в году к нему, как к герою
гражданской и борьбы с контрре-
волюцией, приходили пионеры, прибира-
ли — правда, не слишком старательно —
именную могилу и даже оставляли цветы.
Это повелось сравнительно недавно. После
смерти к нему часто приходили друзья по
партизанскому отряду. Затем всю войну
было ме до него. А в послевоенные
десятилетия пионеры ходили на воинское
кладбище или к обелиску. Но вот уже
четвертый год, как снова начали приходить
сюда.
— Пионеры, да не очень, — Седой нако-
нец-то выковырял монетку и теперь под-
брасывал ее на широченной крестьянской
ладони. — Специальная воинская команда
прибывает. По наши кости. — И Седой
с видимым равнодушием запустил монет-
ку.
— Как это — по наши кости? — не понял
Василий.
— А вот так. Снос начинается. В две
очереди. Под барабан — на Солонцы, —
отозвался мещанин. Он опять проиграл
и злился.
— Что на вас, погода накатила? Какие
Солонцы? При чем здесь команда?
Седой поднял голову:
— Ты же знаешь — кладбище наше
давно решили снести. Приезжает такая
команда специальная — всех будут пере-
лаживать на Солонцы.
— Перекладывать, — машинально по-
правил Василий и замолчал.
Он давно знал, что переселение неиз-
бежно, знал, что принят план развития
города, затрагивающий и это старое го-
родское кладбище. И все же упорно
сопротивлялся этой неизбежности, точно
так же, как сопротивлялся смерти, пока
был жив.
— Как это — в две очереди? — вдруг
спросил второй красноармеец, И/.юша.
— Очереди — это по очереди, сначала
одни, потом другие, — протянул Васи-
лий. — А может, чего напутали?
Ил>дша даже обиделся:
— Седой точно знает, да и я слышал.
Седой все узнавал первым и наверняка.
Ушлый мужик, за свою ушлость (полез
в ничейный погреб в ничейном, но, как
выяснилось, «конспиративном» доме) смо-
лоду прописанный в четвертом секторе, он
любил являться в кабинет ночного дежур-
ного исполкома и, оставаясь обычно
невидимым, подслушивать и подгля-
дывать. Еще он любил птиц.
— И когда же? — спросил Василий, как
будто время еще что-то значило для него.
— П > весне, сказывают. Чтоб к жатве
духу нашего здесь не было. Спорткомп-
лекс, — одолел трудное слово Седой, —
здесь залаживать будут
— Закладывать, — поправил Василий и
вётал. Постоял, помолчал, дергая нитку
полуоторванной пуговицы на кожанке. —
Нет, шалишь, так просто нас не снесешь.
Как ни верти, мы заработали право на
покой.
— Вы-то, может, и заработали, — вновь
разволновался проигравший мещанин, —
только мало здесь вашего брата. Это
ж старое общее кладбище. А мы, что,
имеем особую ценность для Советской
власти?
— Не в числе дело, — Василий под-
толкнул Седого. — А ты чего молчишь?
Седой задержал монету на ладони
и протянул:
— А чё — мы ничё. Отзвонили свое. Раз
им надо — мы подвинемся Не гордые.
— Кому это — им? Ты за них жизнь свою
молодую угрохал...
Илюша прервал его
— Ты, Василий, не горячись. Конечно,
обидно, привыкли мы здеся, место хоро-
шее, вокзал опять же близко, но дитям тож
играть надо, поплавать там...
— В здоровом теле — здоровый дух, —
заявил мещанин.
— Это хорошо, когда здоровый, —
мрачно и с угрозой начал Василий, —
только я так понимаю, что и нам место
надо. Для здорового духа одного спорта
мало. И нечего здесь непротивленчество
разводить! Пошли со мной, — бросил он
Седому и, не оглядываясь, чуть вразвалоч-
ку зашагал по дорожке.
В это время желтая луна вновь протекла
сквозь облако, и в ее неподвижном слабом
свете заблестела вечная кожанка и стоп-
танные, но круто начищенные сапоги
Василия...
— Нет-с, вы признайте, — уже почти
кричал и надсадно кашлял приват, хватая
за пуговицы сюртука присяжного, — что
ситуация определенно требует...
— Тихо, — рявкнул Василий, — слушай-
те сюда!
В голосе зазвенел металл, тот самый
металл, который перекрывал гам толпы на
мятежном крейсере. Который поднимал
под густой свинцовый ливень на послед-
ний, победный и спасительный бросок
остатки штурмового отряда. И не раз и не
два становился самым главным аргумен-
том на горластых и крутых митингах
двадцатых годов...
Интеллигенты моментально смолкли.
— Говори, — Василий вытолкнул вперед
Седого.
— Кладбище наше будут сносить. Приез-
жает воинская спецкоманда, нас перезако-
пают на Солонцах, а тут будут строить
спорткомплекс.
— Вона как! — крякнул купец и увесисто
выругался.
— Простите, не понял, — присяжный
пробежал вверх-вниз пальцами по пугови-
цам сюртука. — Как это можно — снести
кладбище? Это что, шутка? Все же — не
пожарная каланча!
— И не Бастилия, — встрял приват,
и не памятник императору.
— Не знаю, может, и не Бастилия
никакая. Решено, что снесут, и точка, —
набычился Седой.
— Позвольте, позвольте, — приват на-
конец осознал, что все это не шутка. — Но
это ужасно! Вы говорите о ликвидации
нашего кладбища как о пустяке. Но кто
посмел принять такое решение? С кем оно
обсуждено? Согласовано? Наконец, у нас
есть и свое мнение, свои права и интересы!
— Тихо, губерния! — поднял руку Васи-
лий. — Я говорить буду.
Он засунул руки в карманы кожанки и,
слегка покачиваясь с пятки на носок, начал:
— Решили это коллегиально. Без спора.
Обсуждать с тобой или со мной никто не
будет. Не забывай, что для них мы все
мертвые И советоваться не будут. До сих
пор обходились и сейчас обойдутся.
И нечего базарить! Действовать надо!
— Простите еще раз, — подал голос уже
несколько успокоив иийся присяжный, —
но, как мне кажется, «базарить» в данном
случае совершенно необходимо. Этот воп-
рос как раз должен быть всесторонне
рассмотрен, и мы все вместе должны
выработать взаимоприемлемое решение,
учитывающее интересы не только узкой
группы лиц.
— Ему-то что, — глухо пробурчал ку-
пец, вроде бы даже и не глядя в сторо-
ну Василия, — его-то самого, небось, гим-
назис точки на белых ручках в мраморны
хоромы перенесут. Горлохват...
Василий мог бы сказать, что ни в саму
революцию, ни во все отпущенные ему
годы после нее, в годы, когда наган
и шашку заменил непомерный труд орга-
низатора, лично для себя никаких благ не
искал и даже не принимал, но только
пренебрежительно хмыкнул и махнул ру-
кой. Купец, как большинство в кладби-
щенском обществе, все знал о его жизни
и деятельности, но по извечной классовой
слепоте принимал только то, что хотел
принять.
А Седой подошел вплотную и прошипел
отпрянувшему купцу:
— Тебя, гидру, с нашего пролетарского
кладбища поганой метлой вымести надо!
Контра!
— А ну тихо! — остановил всех Василий
Андреевич. Он взобрался на постамент,
заложил пальцы за ремень и, постепенно
усиливая голос, продолжил: — Я полагаю,
что всякие там сносы, спецкоманды и пере-
носы пугать не должны. Не мы первые и не
мы последние. Но могут быть перегибы!
Я обо всех говорю. Это дело ни для кого не
побоку, поэтому и нечего здесь...
Получилось косноязычно, но вполне
убедительно.
От ближних могил потянулись обывате-
ли, сердобольные бабуси и высохшие
старики, народ тихий, но любопытный.
Чуть поодаль, не приближаясь, но внима-
тельно прислушиваясь, расположилась
группа пожилых лютеран. Шестой сектор
кладбища
— Ситуация ясная: кладбище начинают
сносить. Спецкоманда шутить не будет.
Есть мнения?
Мнений оказалось неожиданно много.
Закричали все наперебой: и ветераны,
давно растерявшие всех родственников
и цепляющиеся только за имя на кресте,
и совсем молодые души в костюмах
пятидесятых годов. Летучие мыши, смер-
тельно напуганные небывалым шумом,
отчаянно метались над кустами.
— Даю справку, — поднялся на плиту
седовласый, с одышкой, юрист из со-
чувствующих, — существуют поавила пе-
резахоронения. Дают объявление в га-
зетах и отводят территорию на
действующем кладбище...
— Сам туда иди, на Солонцы свои, —
загалдели три поколения старичков, — там
тебе ни тени, ни добрым словом не с кем
перемолвиться!
— Нет, подождите, — кричал пожилой
приказчик, застреленный во время налета
в двадцатом, — а у кого родственников не
осталось, тогда как?
— Даю справку, — замахал руками
юрист, но его не слушали. Начался стон
и крик о родных и близких, раскиданных
революциями и войнами этого сложного
столетия по всей земле...
Василий слушал, машинально перебирая
тугие еще листья на любимом своем кусте
34
сирени. Наконец рубанул ночной воздух
призрачной рукой.
— Покричали — и хватит! Решаем так:
выбирать комитет. Выборные — ho одно-
му от сектора. А кроме — еще пять душ.
Голосовать персонально и откроио Возра-
жения есть? Возражений нет. Поехали.
Первый сектор...
На планерке в тресте Виктор промолчал.
Да от него не ждали ни объяснений, ни
оправданий. Приказ, в котором начальнику
СУ-5 Хорькову и главному инженеру
Кочергину объявляется выговор, уже печа-
тался. Даже Хорьков, вздорный старикан,
рта не раскрыл, пока их стройуправлению
мылили шею. Так было положено, и Виктор
допускал, что задержка сроков и этот
нестрогий выговор были предусмотрены
заранее, год назад, когда в намертво
забитый план капстроительства втиснули
эту насосную. Конечно, можно было вско-
чить, замахать руками, закричать: «А вы
свои обещания выполнили? Где люди? Где
панели? Где кран? Где, черт возьми,
битум?» Но правильнее — промолчать.
А в следующий раз быть умнее
Виктор даже повеселел, представив, как
в следующий раз он все-все обеспечит
заранее. Будем жить по науке, ребята!
— Останьтесь, — сказал управляющий
Хорькову и Кочергину, когда распа-
ренные— май выдался жаркий — но-
менклатурные работники, пересмеиваясь,
потянулись из кабинета.
Виктор перебрался в кресло для гостей
и с видом оскорбленной невинности приго-
товился слушать.
— Мельникова и меня вызвали «на
ковер», — вздохнул управляющий.
Виктор представил себе кабинет, ли-
шенный, правда, ковра, но с панелями
светлого дерева. Представил Мельнико-
ва — человека умного, хотя категоричного
в суждениях,- представил, как Мельников
медлит, опасаясь сделать что-то не гак,
и уже кажется не здоровяком с резкими
чертами лица и полковничьими складками
у рта, а безобидным пожилым дядечкой.
— Выразили нам такое мнение, что
подготовка к юбилею должна вестись
более интенсивно
Тут даже Хорьков не выдержал:
— Ничего себе! Из плана по стро-
ительству всего две позиции затянули! И то
к отопительному сезону закончим Сейчас
май! Вы же сами понимаете, что тресту...
— Понимаю, — остановил ею управ-
ляющий, — все понимаю. Не я это выду-
мал, не мне доказывать. Короче, дали
городу еще денег, разрешили снять с об-
ласти пару бригад, ну и с материалами
хорошо выручат.
«Интересно, что там такое на нашу долю
уготовано, — подумал Виктор. — Чего это
он решил начать с нас? Впрочем, кому еще?
Насосную через неделю, максимум через
десять дней закончим. А ремцех опять
подождет. Свой же, трестовский...»
Но управляющий, что случалось с ним
чрезвычайно редко, все еще продолжал
рассказывать, как будто оттягивал неиз-
бежный момент, когда цели будут ясны,
и Хорьков безропотно или как, но согла-
сится со всем, что бы ни выпало на долю
СУ-5.
— Я и думаю: будут, не будут бригады
с области, а материалы мы по-горячему
крупно возьмем, Егорыч уже поехал. За
сверхнормативный запас голову не снимут,
а глядишь, годик будем спать спокойно.
По его тону даже Виктор, не такой уже
давний гость в трестовских кабинетах,
догадался, что дело здесь не только
в заботе о материально-техническом снаб-
жении (у стройтреста тут как раз дела
обстоят неплохо), а в какой-то более
глубокой выгоде. Но только спросил:
— А что за бригады с области?
— Жилищное строительство Монтажни-
ки и отделочники
— Разве жилье сворачивается?
— Наоборот. Полный план. Нам, кстати,
гоже кое-что перепадает. Горсовет с
частью своих долгов рассчитается.
— Много дадут? — обрадовался Хорь-
ков. Ему приходилось куда больше, чем
тридцатилетнему Виктору, маяться в бес-
конечных квартирных очередях.
— Обещают полсписка. («Вот теперь
и скажет, решил Виктор. —Полсписка —
лакомый кусок»). Правда, и нам придется
попотеть. Хотя ничего особо страшного
я здесь не вижу. На филармонию снимем
маляров с пивзавода, и вы на пару дней
дадите бульдозеры; вас — на зону отдыха,
а дорожникам, по старому плану, так
и останется реконструкция пооезда
«И все?» — спросил про себя Виктор,
а вслух поинтересовался:
— Что за зона отдыха?
— В центре Небольшой спорткомплекс
и всякая мелочь, дел на полтора миллиона.
Документация у Мельникова
Управляющий явно что-то недоговари-
вал. Ради такой работы — в черте города,
миллиона полтора, материалами обеспе-
чена — в кабинете не оставляют и о делах
верхних не рассказывают. Приказ по се-
лектору — ис песней!
Понимая, что сейчас именно его поступ-
ки важны (Хорькова, сильно сдавшего —
полтора года до пенсии, в тресте по-
настоящему в расчет уже не брали),
Виктор спросил:
— А какое «но»?
Управляющий улыбнулся и ответил:
— Сроки. К первому октября — сдача.
Хорьков, доселе бодро сидевший у сто-
ла, сразу обмяк. Виктор знал, в каких
словах и выражениях один старый стро-
итель будет доказывать другому старому
строителю, что это невозможно и даже
неприлично. Пока управляющий, которого
Хорьков любил и боялся, и Хорьков,
которого управляющий недолюбливал и
не боялся, кричали и махали руками друг
на друга, Виктор думал.
«Чем жестче, чем невероятнее сроки,
тем лучше. Во-первых, трест даст нам все
что может, и даже больше. А во-вторых, не
случайно управляющий оставил только нас
двоих не вызвал ни Воднюка, ни своего
трестовского Иванова. Этот разговор озна-
чает, что если я вытяну эти сроки, то
вопрос о будущем начальнике СУ-5 решен
окончательно. А свободу работы уже
сейчас поставлю как обязательное усло-
вие. Можно будет наконец-то ввести
в полном масштабе сквозные бригады...
И тогда все может сложиться хорошо:
материалы будут, нужные рубли трест
добавит — никуда в таких условиях не
денешься; и Воднюк поперек дороги не
станет: управлять бригадами надо по
жесткому методу, из одних рук... А вытя-
ну? Хоть бы одним глазком посмотреть
в проект!»
— Проект, смета, титул? — совсем не-
громко спросил он.
Сп .рящие разом замолчали. После
паузы управляющий ответил
— Мельников сказал, готовы проект
и смета. Но полагаю, Мельников врет,
документы еще в институте. А титул пусть
вас, — управляющий подчеркнуто обра-
тился и к начальнику, и к главному
инженеру, — пока не волнует. ПТО управ-
ления сделает вовремя.
Хорьков, неожиданно позабыв свое
всегдашнее «я», быстро выговорил:
— Мы еще ни с чем не согласились.
Посмотрим документацию, соберем сове-
щание, обсудим.
— Идет, — сказал управляющий и
черкнул карандашом в календаре, — за-
втра в одиннадцать у меня.
Всю дорогу по трестовским коридорам
и лестницам Хорьков молчал И только
усевшись в старенький «Москвич» Виктора,
сухо бросил:
— Потянешь — тяни. Мешать не буду.
Но пролетишь — на меня не пеняй.
«И на том спасибо, — подумал Вик-
тор,— мне бы еще Воднюк не мешал,
и тогда все чудесно. А если пролечу, ни
Хорьков, ни господь бог не помогут.
Мальчика для битья найдут. Припомнят
и возраст, и характер, и неправильную
реакцию на вышестоящие указания, и...»
' — Вот что, — решил Хорьков, — пово-
рачивай к Мельникову. Посмотрим, что он
там за дворец нарисовал.
Управляющий оказался прав — доку-
ментация еще не вышла из института.
— Ну, завелись, — негромко жаловался
Толя Василенко, пока Хорьков хмыкал
и вздыхал над чертежами генплана,— тре-
тий день вся команда бегает. Давно ли с
Мельниковым воевал, думал, вообще про-
ект зарежет, а выходит, уже и наверху
доложились?
— Уже, выходит, и строителей прислали.
Гордись — твоя мазня без очереди в дело
пойдет. Прямо сегодня.
— Сегодня нельзя, — Василенко и Ко-
чергин, ровесники, друзья еще по институ-
ту, говорили о деле, словно болтая
о предпоследних пустяках, — не готово
еще ничего. Ради тебя, само собой,
я копировщиц уболтаю — через недельку
генплан получишь.
— И только? А нулевка? А коммуника-
ции? Альбомы?
— О чем ты шепчешь, моя пташка? —
Василенко присел на подоконник и заку-
рил, выпуская дым в форточку, — какие
там сейчас нулевки? У меня по плану
выпуск проекта в августе. Так что в сентяб-
ре приходите, гостем будете. Серьезно,
пока только белки.
Под желтоватой нездоровой кожей
Толика Василенко проступила красная сет-
ка капилляров. Рука с папиросой мелко
дрожала.
«Что же ты, голубь, с собой делаешь?» —
чуть не вырвалось у Виктора. Но он только
покачался с пятки на носок и попросил:
— Дай мне земляные работы и инже-
нерные сети. Сильно горит.
— Ставка больше, чем жизнь? — хохот-
нул Анатолий, обдавая Кочергина не-
чистым от курения и перегара дыханием.
— Шутить изволите, — поддержал тон
Виктор, — а я, может, завтра копать начну.
— Не начнешь, — Василенко неловко
спрыгнул с подоконника, — там снос
сложный, и еще не закончили.
— Отселение? — ужаснулся Виктор,
представляя, какую войну и какую волоки-
ту придется выдержать.
— Ты что, не знаешь? Старое кладбище
там.
ГЛАВА 2
Так поздно сирень еще не расцветала
никогда. За те годы, что прожили кусты
у самой оградки, только однажды, в шесть-
десят втором, выметали они кисти во
второй половине мая. А теперь запах
35
сирени растекался
по земле, проник
в трещины и щели
старого надгробия
и коснулся лица.
Василий Андре-
евич улыбнулся.
Ночь первого
цветения сирени
была одним из самых
главных событий каждого
года. Почти -ачисто лишенный сентимен-
тальности Василий наверняка не смог бы
найти слова, чтобы назвать то, что
испытывает к этому простому и живучему
растению. Цветущая сирень была в его
кабинете, одновременно — спальне, при-
емной и рабочем штабе. Добрые руки его
помощницы, очень славной интеллигентки,
посадили маленький кустик в сорок пятом,
в День Победы. Василий сосчитать не мог,
сколько раз отчитывал и даже клеймил ее
позором за буржуазный либерализм и
примиренчество, а она... Поговорить как
следует все не удавалось — и не удалось.
А вот на Солонцах сирени уже не будет.
Умерли почти все, кого знал Василий
Андреевич.
До полуночи оставалось больше часа.
Так рано вставать не следовало, но первое
цветение сирени — событие, ради которо-
го можно и рискнуть
А еще чувствовал Василий, что все равно
придется в самое ближайшее время ему,
а может быть, не только ему, подниматься
и днем Василий Андреевич, как и все
здесь, знал, что каждая минута днем, а тем
более на солнце, неизбежно оборачивает-
ся десятками ночей неподвижности, О"Ор-
ванности от всех остальных душ, полного
мрака
Знал также, что из-за своей невоздер-
жанности, несвоевременных (сколь бы они
ни были необходимы) явлений к живым
в сороковые годы он довел себя до
предела, и теперь любое нарушение будет
стоить дорого. Но переложить на других
ответственность, отдать кому-то предсто-
ящую работу — не мог.
Осенью, на общем собрании решили не
мешать спецкоманде и даже успокаивать
оставшихся в живых родственников. Пер-
вая, инстинктивная еще реакция — возму-
щение — быстро прошла. Почти все при-
знали действительную необходимость сно-
са — город быстро рос. И хотя старики
ворчали, а три десятка бывших аристокра-
тов злобствовали, изменить они ничего не
могли.
Выборным предстояла очень важная
работа. В процессе переселения могли
произойти накладки — утеряться связь
между именами и останками, связь, на
которой держалась индивидуальность
душ. А значит и та мера упорядоченности,
которая противостояла хаосу и энтропии,
неизбежно накапливающимся у живых за
каждый день.
Как только спецкоманда начала рабо-
тать, Василий с присяжным, используя
ненастный день, проследили со всей тща-
тельностью, но не нашли ничего предосу-
дительного, опасного, а тем более ко-
щунственного в отработанной процедуре.
Почти месяц Василию пришлось лежать
неподвижно, с трудом принимая доклады
дежурных. И вот наконец ночь первого
цветения...
Василий Андреевич знал: пока что все
в порядке, и хотя в последние ночи
донесения перестали его успокаивать, ре-
шил на предчувствие внимания не обра-
щать.
Уже неподалеку, в конце аллеи, тускло
поблескивали в ночном свете металл
гусениц и стекло кабин. Землеройные
машины выглядели на кладбище странно
и грубо, но Василий, и не то повидавший,
только досадливо поморщился и, сунув
кулаки в карманы кожанки, прошелся по
тропинке вокруг кустов сирени.
«Как все условно, — внезапно подумал
он, — условно и несправедливо устроено.
Пока есть настоящая возможность
действовать — живешь наощупь, не зная,
что тебе и другим действительно надо,
размениваешься невесть на что; а когда
поймешь что, зачем и почему, уже ничего
сделать не можешь... Да и когда действу-
ешь, все получается не то и не так. Наперед
загадывать — пустой номер. Кто из нас,
лежащих здесь, при жизни думал, что все
так обернется?»
Василий остановился и зажмурился.
Полураскрытая еще ажурная бело-зеле-
ная кисть касалась его щеки, медленно
покачивалась вместе с веткой, как бы
поглаживая...
— Какая идиллия, — раздался знакомый
голос и знакомый кашель, — суровый ко-
миссар и нежная сирень
— Заткнись, — ровно попросил Белов.
— Чего тебе неймется?
— Болезнь у меня такая, — засмеялся,
обнажая неровные желтые зубы, приват.
— На характер дурно влияет.
— А ты сирень понюхай, может, с дру-
гой стороны повлияет.
— Нюхайте сами. А я давеча нанюхал-
ся... Сподобился чести лицезреть управи-
теля — точнее, его заместителя. Мы в его
ведении находимся. Отдел коммунального
хозяйства горисполкома... Так, кажется?
— Так.
— Заучивал. Да, такой себе Лаптев.
Весьма заурядная дрянь из выслуженцев.
Два часа тому сюда заглядывал Вот
рвение! По вечерам и то бегает
— Ну-ну, понесло.
— Вы за своих выкормышей обидеться
изволили?
— Ты это брось, — серьезно сказал
Белов, — мы как раз разломали старую
государственную машину, перековали или
выперли старых чиновников. Возможно,
и перегибали, но уж не наоборот. Так что
«выслуженцы» — не от нас.
— Вы, уважаемый Василий Андреевич,
лицо заинтересованное. Я подоле вас со
стороны наблюдаю... Перегибали, говори-
те? Верно. Было. Наплодили два поколения
перегибщиков, до сих пор еще от них
отчесываются. Потом наоборот, осторож-
ничали. И наплодили таких осторожных,
что и работать-то не работали, а только
бумажками отгораживались. Ну, а следом,
естественно, деловые понадобились.
И расплодили таких деловых — ради дела
не то что отца родного, Отечество по миру
пустят. Нет-с, Василий Андреевич, про-
машка у вас вышла. Лозунги вы хорошие
придумали, спору нет, впечатляющие.
А как до дела— р-р-раз, и о чиновничках-
то позабывали! А ни, голубчики, живут.
Нас пережили, теперь следующих пережи-
вают
— Ох, змея ж ты подколодная, —
засмеялся Василий. — Когда нет ни време-
ни, ни сил, ни права поступать начерно, то
и с таким, и не с таким еще балластом
можно смириться. Может, ход и не тот, да
ни разу не перевернулись.
— Куда же вы так торопились? Могли
и подождать. Семь раз отмерить, напри-
мер.
— Не имеем права ждать. Выжить надо.
Не нам. Всем людям вообще. Мог бы
догадаться: выбора нет.
— Широко берете, товарищ Белов.
— А меньше не получается.
— Так что, теперь памятники всему
этому «балласту» ставить будем? Жаль,
поздно — а то бы я в скульпторы пошел.
В монументалисты.
— Зачем памятники? — спокойно и да-
же несколько удивленно спросил Белов. —
Наоборот даже. Дергать, прижимать чину-
шу надо, чтоб даже во сне не вообразил,
будто может плюнуть на наше общее дело
и постараться для себя.
— Таскать вам не перетаскать, — ото-
звался приват.
— Ничего. Перетаскаем.
Приват-доцент помолчал и Василий
Андреевич продолжил:
— Пойми ты, без полувека профессор,
что вокруг самых правильных идей, если
вдобавок они станут еще идеями правящи-
ми, неизбежно зашевелятся люди, спо-
собные повторять слова, но не прини-
мающие, не способные пока принять сами
идеи .
— А вы сами давно научились это
понимать? А, Василий Андреевич?
— Какая разница? Факт есть факт.
— Э, нет! Вокруг идей, кек вы мило
выразились, «зашевелились» граждане, ко-
торые выучили и повторяют слова, а посту-
пают при этом согласно своей выгоде.
И вот, представьте, во всех звеньях —
я говорю гипотетически — окажутся такие
«повторялы», балласт, и все они дружно
будут сроде бы работать во имя чуждых
им идей. Ох, и наработают же они вам. А,
не приведи господи, их много соберется,
а научатся своих опознавать, а «чужих»
неповторял из круга выталкивать... Тогда
и прикидываться перестанут, а открыто
потащат куски в свою нору, да еще
и гордиться этим будут.
— Недолго им гордиться,— усмехнулся
Василий. — У нас не по словам, а по делам
честь. И сидят в креслах до той поры, пока
слова с делом особо не расходятся. Да
и скоро кончится порода эта. Правду —
примут
— Посмотрим Нам спешить уже некуда.
— Посмотрим... Ну, ладно, так что
коммунхоз? Чего Этот... Лаптев? Приезжал?
— С нами, сами понимаете, Лаптеву все
ясно. Но вот думает, как быть с церковью
Так сказать, деликатная проблема. Сейчас
не те времена, чтобы кресты сбивать
Василий, в восемнадцатом самолично
своротивший крест с большой Покровской
церкви, довольный воспоминанием, погла-
дил усы. И сказал:
— Не та церковь пошла.
На исполкомовскую площадь Виктор
заезжал редко. Сейчас, объехав лишний
круг, он пристроил «Москвич» на малень-
кую служебную стоянку и отправился
разыскивать горкоммунхоз.
В старом, не раз уже перестроенном
здании ориентироваться было трудно, ка-
кие-то двери вдруг оказывались за-
пертыми, а лестницы не вели никуда. Но на
втором этаже висела схема, по ней Виктор
быстренько сориентировался и вышел на
кабинет заместителя начальника горком-
мунхоза.
Моложавый плотный человек с тугими
веками сидел за очень массивным столом
с двумя телефонными аппаратами. Все
36
в кабинете было крупным: и мебель,
и мраморная настольная лампа, и холо-
дильник, и двойная обитая дверь с тя-
желым замком. Только оба окна, за-
бранные изнутри крепкими решетками,
оказались маленькими и подслепо-
ваты ми — наверное, за Счет толщины стен
— Как хорошо, что вы пришли, — обра-
довался Лаптев, — а я как раз думал, кто
бы мне немного техники подбросил. Надо
же со сносом решать, а в нашем РСУ
только пара самосвалов.
— Вы о старом кладбище? — осторожно
спросил Виктор.
— В общем, да, — подтвердил Валентин
Семенович, — на меня еще тамошнюю
ограду повесили, и с часовней этой возня...
— Закончили очистку территории? Мож-
но приступать к работам?
— Не совсем, — замялся Лаптев, —
часть там уже закончена, дорожники
просили начать именно с боковых секто-
ров, по месту будущей трассы. Сейчас
спецкоманда работает уже в верхней
части, но сколько именно сделано на
сегодня — извините, не скажу.
— А нельзя их попросить, чтобы мои
площадки быстренько расчистили? —
Виктор развернул свежую синьку, от-
черкнул: — Вот здесь, здесь и здесь хотя
бы? Это же по площади не так много?
— Да, де, — закивал Лаптев, —- но здесь
есть одна формальность. Боюсь, командир
спецкоманды на это не пойдет...
— А что такое?
— Видите, в этих секторах срок переза-
хоронения истечет Только через два
месяца. Через полтора, простите. Это
вторая очередь. Мы давали объявление...
— И много перезахоранивают? — оза-
боченно спросил Виктор. Через полтора
месяца! Даже если у него будет Вдвое
больше людей, техники, денег — не ус-
петь. Завалит сроки...
— Нет, не очень, — ответил Лаптев —
Индивидуальных мало. Кладбище старое,
сколько лет уже никого не хоронят.
Родственники кто забыл, кто разъехался,
кто не хочет заводиться...
— Ну что ж, давайте прощаться, —
медленно поднялся Виктор. — Вряд ли
через полтора месяца эту работ у поручат
мне.
— Подождите, — вскинулся Лаптев, —
здесь есть еще о чем поговорить. Я так
понял — вы хотите начинать работы не-
медленно?
— Хочу? — Виктор забарабанил пальца-
ми по столешнице. — Это необходимость
Вы, видимо, не строитель. За четыре
месяца, отпущенные нам, освоить такой
объект очень трудно. Почти невозможно.
Норматив — полгода. У нас всего СУ, а не
трест, и возможностей для трехсменной
работы пока нет. Людей не хватает А еще
учтите, лето идет, жди и ливней, и града —
а это все простои! Ничего не попишешь...
— Не понял!
— Я же объяснил: если за четыре месяца
еще можно попробовать, то за два —
ничего сделать нельзя. Безнадежно
— И что же дальше?
— Да ничего. Доложу управляющему,
что работы нельзя начинать. И, скорее
всего, заменят объект. Согласуют с кем
нужно наверху — и все.
— Вы полагаете? — спросил Лаптев и по-
тер розовый лоб.
— Полагаю, — подтвердил Виктор, —
выше головы не прыгнешь. Жаль. Я думал,
с вами-то вопрос согласован...
— Это не выход. — Лаптев опять крепко
потер ладонью лоб. — Не надо срывать
такое мероприятие. Нас не поймут.».
Там это не понравится.
Теперь Виктор ясно понял, до чего же
Лаптева не устраивает перспектива ока-
заться той самой «объективной причиной»,
из-за которой изменятся планы там. Это
было смешно и мелко, в другое время
Виктор с таким типом не стал бы дальше
разговаривать. Но сейчас все не уходил,
будто цеплялся за какой-то шанс.
— Так что будем делать? — негромко
и серьезно спросил он у Лаптева.
— Начинайте работать С понедельни-
ка, — так же негромко сказал Валентин
Семенович и присел — переписывать от-
метки с кочергинской синьки себе в блок-
нот.
— Это уже легче. А как вы собираетесь
За пять дней очистить территорию?
— Ну, не всю, — повел пухлыми плеча-
ми Лаптев, — пока только под ваши пло-
щадки. Вы же сначала будете строить,
а потом благоустраивать?
— В общем, так, — подтвердил Вик-
тор, — но нам надо будет тянуть коммуни-
кации — это траншеи, и устраивать поми-
мо самих объектов перевалочные и нако-
пительные площадки.
— Начертите примерно, — сколько че-
го, самый минимум.
— Это можно.
Здесь же, на синьке, Виктор принялся
размечать красным карандашом, какие
площадки необходимы, исходя из требова-
ний организации непрерывного потока.
Пока он чертил, Лаптев рассказывал, усев-
шись верхом на стул:
— С водным стадионом вообще про-
блем нет, он весь почти на секторах первой
очереди. Сегодня же упрошу командира,
пусть что осталось, почистят. За три дня
если вы им сварщиками поможете, думаю,
управятся А по нижним секторам, где вот
этот дом, и на самом верху, где эта круглая
штука...
— Танцплощадка, — подсказал Виктор,
не поднимая головы.
— Вот-вот! Мы, значит, так поступим:
я списки составлю, кто где лежит, и если
объявятся родственники, поможем честь
по чести. Кладбище старое, и я знаю
в ochoeihom, по каким секторам хлопочут,
а какие уже зачеркнуты...
То, что Лаптев сказал, было только
частью правды, но чутье подсказало Вален-
тину Семеновичу, что не следует
распространяться дальше.
Лаптев действительно знал, в каких
секторах индивидуальных перезахороне-
ний практически не будет, и там, где
строителям нужно место под их площадки,
решил начать просто расчистку поверхнос-
ти. В конце концов, строители и знать-то не
узнают, что там, внизу — грунт или мо-
гилы. Там же, где пройдут траншеи (Лаптев
заглядывал через плечо Виктора, сопостав-
ляя разметку на его синьке со своим
планом), уже почти ничего не оставалось,
к понедельнику действительно можно за-
кончить.
Оставались, таким образом, только
участки, отведенные под игротеку и
танцплощадку. Здесь полагалось подож-
дать полтора месяца, но ждать в этой
ситуации, а тем более раздумывать, нужны
ли эти объекты вообще, Лаптев не соби-
рался.
Валентин Семенович придумал простой
выход: подготовить по этим секторам
списки — прямо по координатному мето-
ду. Если тбъявятся родственники, то —
Лаптев представил, как импозантно все это
обставит, — он укажет место и останки
будут извлечены. Люди будут уверены, что
перезахоранивают именно своих; кто там
разберет, если прошло три десятилетия
и такие грунты?
Оставалось аккуратно обмозговать толь-
ко одно: как поступить с костями, которые
будут оставлены под технологическими
площадками. Договариваться со спец-
командой' или просто забыть?
— Ну вот, •— поднял голову Кочергин. —
Кого вы там просили?
— Сварщиков, карбид, два экскаватора
и четыре бульдозера, — быстро как за-
ученный урок, выпалил Лаптев
Виктор поднял руку с загнутыми пальца-
ми и выразительно посмотрел на Лаптева.
— Нет, но действительно нужны газос-
варщики, экскаватор и бульдозеры, —
запротестовал Валентин Семенович
— Завтра с обеда получите бульдозеры
и сварщика. Экскаватора нет. И учтите, что
ребята у меня — сдельщики, без зарплаты
их не оставлять. Договорились?
— Пьют сильно? — покачав головой и
даже прижав ладонь к сердцу (не подве-
ду!), поинтересовался Лаптев.
— Не очень, — в первый раз улыбнулся
Виктор. — А ваши?
Имелись в виду кладбищенские рабочие,
Лаптев так и понял:
— Слов человеческих нет! Сначала их
разбаловали — ну знаете, родственники
покойных, так теперь не работники, а
вымогатели какие-то стали.
— Сварщика — это понятно, — сказал
Виктор, уже окончательно поднимаясь, —
> бульдозеры вам зачем понадобились?
— Как зачем? — искренне удивился Лап-
тев. — Не вручную же грунт заравнивать!
Кстати, не подскажете, где стенолом —
или как он там называется, не знаю, —
найти?
— В тресте есть, — бросил Виктор, на-
правляясь к двери
Но замедлил шаг и, чтобы как-то
оправдать внезапную остановку, спросил:
— А это вам зачем?
Лаптев, недоуменно глядя в спину
замершему Кочергину, принялся объяс-
нять, что там еще есть церквушка, которую
почему-то поручили сносить коммунхозу...
Виктор его не слышал.
Загораживая проход, у самой двери
лаптевского кабинета стояли и угрюмо
смотрели на Кочергина три прозрачных,
подобных какому-то завихрению воздуха,
человека.
Один был в буденовке и неловко
пригнанной длинной шинели, второй, то-
щий, с непокрытой головой, — в темном
костюме с манишкой и грязном кашне
вокруг шеи, а третий —в галифе и расстег-
нутой кожанке; за широкий ремень,
стягивавший гимнастерку, была засунута
кожаная фуражка со сломанным козырь-
ком.
Сердце ёкнуло. Кочергин опустил глаза,
сцепил зубы и медленно, как сквозь
глубокую болотную воду, прошел к выхо-
ду. И на самом пороге оглянулся.
Лаптев, не поднимая глаз, быстро черкал
что-то в еженедельнике. Прозрачные фи-
гуры стояли неподвижно, и только стар-
ший, в кожанке, молча погрозил Кочергину
кулаком. Это продолжалось какое-то
мгновение, затем синяя наколка — пере-
крещенные якоря — растворилась в про-
странстве.
Фигуры исчезли.
Прикрыв дверь, Кочергин пошел, все
убыстряя шаг, по исполкомовским коридо-
рам и лестницам вниз, к выходу.
Продолжение следует.
37
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
В ВОСЬМОМ НОМЕРЕ «НОВОГО МИРА» ЗА 1986 ГОД
ОПУБЛИКОВАНА ОЧЕРЕДНАЯ ПОДБОРКА «КАМЕШКОВ
НА ЛАДОНИ» ВЛАДИМИРА СОЛОУХИНА.
СРЕДИ 15—20 СТРОЧНЫХ МИНИАТЮР ОБРАЩАЕТ НА СЕБЯ
ВНИМАНИЕ БОЛЕЕ КРУПНАЯ — ЗАНИМАЮЩАЯ
В ЖУРНАЛЕ ДВЕ С ПОЛОВИНОЙ СТРАНИЦЫ ЗАМЕТКА
О ГОГОЛЕ. ПРИВОДИМ ЕЕ В НЕКОТОРОМ СОКРАЩЕНИИ.
Известно, что Гоголь был
очень религиозным челове-
ком, православным христиа-
нином. Он крещен в церкви в
Сорочинцах, в «Избранных
местах...» у него есть глава
о литургии, он был связан
с оптинскими старцами, в
последние годы жизни рели-
гиозная экзальтация приня-
ла у него даже несколько
болезненный характер. Из
вестно также, что ои как-то,
я бы даже сказал, деклара-
тивно любил Русь и тысячу
раз торопился признаться ей
в любви, но нетрудно заме-
тить в богатой духовной
жизни Гоголя, в самой сок-
ровенной сути ее некую раз-
двоенность и — вот имен-
но — болезненность. Что-то
все время жгло его изнутри,
что-то ему все время меша-
ло, можно сказать, несколь-
ко преувеличив, что он жил
словно на иголках.
Да и по тексту: с одной
стороны, «О, Русь, птица-
тройка», с другой — одни
хари да рожи. Чего стоят
имена русских и малорос-
ских людей во всех почти
произведениях Гоголя. Все
эти башмачКины, довгочху-
ны, товстогубы, пошлепки-
ны, держиморды, люлюко-
вы, уховертовы, ЯИЧНИЦЫ,
хевакины, собакевичи, кир-
дяги, козолупы, бородавки,
сквозники-ДМуХаиовекие....
Что стоит описание русского
губернского бала и сравне-
ние его с м.ухамй, слетевши-
мися на сахар, да и многое,
а Многое другое.
И вот при очень внима-
тельном и многократном
прочтении гоголевских тек-
стов можно «Друг прийти к
мысли, что его всю жизнь
мучила одна глубокая тай
нал любовь, его тайна тайн и
святая с*дтых — любовь к
катМичеойоЛ Польше. Про-
исхов Двкйк ли адесь причи-
ной (йце-тахи Яновские как-
МЖаиХ Исторические ли
ft
очень сложные связи Поль-
ши и Украины — не знаю,
но едва ли я ошибаюсь.
Все, что я тут напишу,
совершенно недоказуемо и,
как говорится, гипотетично,
но если мысль зародилась,
пусть самая спорная, то от-
чего бы ее не высказать? От
величайшего русского писа-
теля не убудет.
Возьмем произведение, где
две сферы — Русь и Поль-
ша, православное христи-
анство и католицизм —
сталкиваются наиболее ост-
ро и беспощадно, возьмем
поистине эпическое полотно
Гоголя, возьмем «Тараса
Бульбу».
Конечно, Гоголь с боль-
шой симпатией описывает
запорожское православное
войско, равно как и иравы
Запорожской Сечи, равно
как и отдельных запорож
цев. Но все же сколько бы мы
ни искали тут духовности и
духовной красоты, объектив-
но мы ее не найдем. Умом и
объективным повествовани-
ем Гоголь — с запорожцами.
Но именно объективное-то
повествование и наводит в
конце концов на роковую
раздвоенность гоголевской
души, иа потайной ларец,
хранящийся на ее дне.
Православность и духов-
ность запорожцев получа-
ются как-то на словах, вер-
нее, в иих приходится верить
на слово. Да, они воюют за
православную веру, против
«бусурменов» и нехристей.
Но, может быть, сами они
молятся, ведут себя по-хрис-
тиаиски? О нет, они только
едят, пьют и гуляют.
«Первый, кто попался им
навстречу, это был запоро-
жец, спавший на самой сре-
дине дороги, раскинув руки
и иоги... Закинутый гордо
чуб его захватывал на пол-
аршина земли. Шаровары
алого дорогого сукна были
запачканы дегтем для пока-
зания полного к ним презре-
ния... И Фома, с подбитым
глазом, мерял без счету
каждому пристававшему по
огромнейшей кружке... В
воздухе далече отдавались
гопаки и тропаки, выбивае-
мые звонкими подковами
сапогов... Это было какое-то
беспрерывное пиршество...
Всякий приходящий сюда
позабывал и бросал все, что
дотоле его занимало. Он,
можно сказать, плевал на
свое прошедшее и беззаботно
предавался воле и товари-
ществу таких же, как сам.
гуляк, ие имевших ни род-
ных, ни угла, ни семейства,
кроме вольного неба и вечно-
го пира души своей... Охот-
ники... до золотых кубков,
богатых парчей, дукатов и
реалов во всякое время мог-
ли иайти здесь работу...
Поднялась гульня, какой
еще не видывали дотоле Ос-
тап и Андрий...»
Но вот Сечь двинулась за-
щищать православие.
«Войско.. облегло весь
город и от нечего делать
занялось опустошеньем ок-
рестностей, выжигая окруж-
ные деревни, скирды неуб
ранного хлеба и напуская
табуны коней на нивы, еще
не тронутые серпом, где, как
нарочно, колебались тучные
колосья, плод необыкновен-
ного урожая, наградившего
в ту пору щедро всех земле-
дельцев; С ужасом видели с
города, как истреблялись
средства их существования
А между тем запорожцы,
протянув вокруг всего горо-
да в два ряда свои телеги,
расположились так же, как
и на Сечи, куренями, кури
ли свои люльки, менялись
добытым оружием, играли в
чехарду, в чет и нечет и
посматривали с убийствен-
ным хладнокровием на го-
род... Скоро запорожцы на-
чали понемногу скучать без-
действием и продолжитель-
ною трезвостью... Кошевой
велел удвоить даже порцию
вииа... Возле телег, под теле-
гами и подале от телег —
везде были видны разметав-
шиеся на траве запорожцы.
Все они спали в картинных
положениях...»
Как известно, в это время,
пробравшись из осажден-
ного города подземным хо-
дом, пришла к Андрию та-
тарка, служанка молодой
польки, и повела Андрия тем
же подземным ходом в го-
род к полякам.
И тут у Гоголя находятся
ие только другие слова и
другие краски, ио меняется
сама тональность, сама му-
зыка повествования. Что же
противопоставлено опивше-
муся и объевшемуся, разва-
лившемуся на траве и храпя-
щему войску христову?
«Они очутились под высо-
кими темными сводами мо-
настырской церкви. У одно-
го из алтарей, уставленно-
го высокими подсвечниками
и свечами, стоял на коленях
священник и тихо молился.
Около него с обеих сторон
стояли также на коленях
два молодые клирошанина
в лиловых мантиях с белы-
ми кружевными шемизетка-
ми сверх их и с кадилами в
руках. Он молился о ниспос-
лании чуда: о спасении горо-
да, о подкреплении падаю-
щего духа, о ниспослании
терпения... Несколько жен-
щин, похожих на приви-
дения, стояли иа коленях,
опершись и совершенно
положив изнеможенные го-
ловы на спинки стоявших
перед ними стульев и тем-
ных деревянных лавок;
несколько мужчин, присло-
нясь у колонн и пилястр, на
которых возлегали боковые
своды, печально стояли тоже
на коленях. Окно с цветными
стеклами, бывшее над алта-
рем, озарилося розовым
румянцем утра, и упали от
него на пол голубые, желтые
и других цветов кружки све-
та, осветившие внезапно
темную церковь Весь ал-
тарь в своем далеком углуб-
лении показался вдруг в
сиянии; кадильный дым
остановился в воздухе ра-
дужно освещенным облаком.
Андрий не без изумления
глядел из своего темного уг-
ла на чудо, произведенное
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
светом. В это время вели-
чественный рев органа на-
полнил вдруг всю церковь;
он становился гуще и гуще,
разрастался, перешел в тя-
желые рокоты грома и потом
вдруг, обратившись в небес-
ную музыку, понесся высо-
ко под сводами своими пою-
щими звуками, напоминав-
шими тонкие девичьи голо-
са, и потом опять обратился
он в густой рев и гром и за-
тих. И долго еще громовые
рокоты носились, дрожа под
сводами, и дивился Андрий
с полуоткрытым ртом вели-
чественной музыке»...
«В это время вошла в ком-
нату татарка. Она уже успе-
ла нарезать... принесенный
рыцарем (кстати, сразу ры-
царем обернулся разгуль-
ный запорожец. —В. С.)
хлеб, несла его на золотом
блюде и поставила перед
своею данною. Красавица
взглянула на нее, на хлеб и
возвела очи на Андрия — и
много было в очах тех... Его
душе вдруг стало легко;
казалось, все развязалось у
него. Душевные движенья и
чувства, которые дотоле как
будто кто-то удерживал
тяжкою уздою, теперь по-
чувствовали себя освобож-
денными... (то есть душа
нашла сама себя и свое мес-
то. —В. С.). Она взяла хлеб и
поднесла его ко рту. С
неизъяснимым наслаждени-
ем глядел Андрий, как она
ломала его блистающими
пальцами своими и ела...
Вижу, что ты иное тво-
ренье бога, нежели все мы,
и далеки пред тобою все
другие боярские жены и
дочери-девы. Мы не годимся
быть твоими рабами, только
небесные ангелы могут слу-
жить тебе...»
Вот такие слова, такие
краски, такая музыка.
Критическому анализу
этой заметки посвяще
на статья литературо-
веда Ю Барабаша в
журнале «Вопросы пи
тературы» (1987, № 1)
Перепечатываем ее с
сокращениями.
•ТАЙНАЯ ЛЮБОВЬ* ГОГОЛЯ?
Ю. БАРАБАШ
Мифы старые и «новые»
...Итак, новая гипотеза о Гоголе?..
Любопытно. Нас, правда, заранее предуп-
реждают: мы имеем дело с мыслями
«совершенно недоказуемыми», то есть как
бы неподвластными логике, анализу, об-
суждению
Все же рискну.
Попробую подступиться издалека. Быть
может, не все читатели знают или пом-
нят, что знаменитые художественные ве-
чера княгини Зинаиды Александровны
Волконской (урожденной Белосельской),
на которых во второй половине 20-х годов
прошлого века собирался цвет научной
и творческой интеллигенции обеих столиц,
проходили в доме князей Белосельских-
Белозерских на Тверской (улица Горько-
го), там, где сегодня бурлит людским
водоворотом гастроном № 1, хорошо
знакомый москвичам и особенно приез-
жим как «Елисеевский»...
Из литераторов здесь можно было
встрети’ь Жуковского, Баратынского,
Языкова, Вяземского, Дельвига, Козлова,
Веневитинова, И. Киреевского, Загоскина,
Погодина, Шевырева...
Частым и желанным гостем в доме на
Тверской был опальный Адам Мицкевич,
он даже воспел в стихах одну из его
комнат, обставленную в древнегреческом
стиле («На греческую комнату»)...
Побывал у 3. Волконской и Пушкин,
посвятивший ей затем стихотворение
«Среди рассеянной Москвы».
Гоголю в московском салоне Вол-
конской побывать не довелось. В те годы
он еще учился в Нежинской гимназии,
а в декабре 1828 года приехал в Петербург,
полный литературных замыслов и надежд,
с незавершенной поэмой «Ганц Кюхепь-
гартен» в кармане. Судьба, однако, все же
свела его с Волконской, но лишь через
несколько лет, в Риме, где жила перешед-
шая к тому времени в католичество
и оставившая Россию княгиня и где она
возобновила свои музыкальные вечера
...Неподалеку от базилики Иоанна Лате-
ранского, в глубине тихого парка, среди
цветников и виноградников, стояла краси-
вая старинная вилла, которая с 30-х годов
прошлого века стала известна в Риме как
«вилла Волконской». В те времена это были
окрестности «вечного города». Отсюда
взору открывалась неповторимая панора-
ма: с одной стороны,— вид на просторы
Кампаньи, с другой — сам Рим, его дома,
дворцы, соборы, Колизей...
Не без интереса приглядывался Гоголь
к бывавшим у Волконской знаменитым
артистам, музыкантам, художникам, в том
числе русским. Беседовал с С. Шевыре-
вым, приглашенным княгиней в качестве
воспитателя ее сына. Наконец, у Вол-
конской была богатая русская библиоте-
ка — карамзинская «История», сборник
Кирши Данилова, летописи.
Но более всего привлекала Гоголя
возможность побыть наедине с самим
собой, сосредоточиться на своих
размышлениях, возможность, которая
была ему таи необходима в ту пору
и которую он находил на вилле Вол-
конской. П. Анненков вспоминает о прове-
денных здесь Гоголем «длинных часах
немого созерцания», когда «он ложился
спиной на аркаду тогатых, как называл
древних римлян, и по полусуткам смотрел
в голубое небо, на мертвую и великолеп-
ную римскую Компанью»1.
Княгиня была деликатна, ненавязчива,
всячески оберегала покой и уединение
Гоголя, и он этим дорожил. Не мог не
дорожить он и общением с этой без
сомнения, незаурядной, умной, высокооб-
разованной, отлично знавшей и тонко
чувствовавшей искусство женщиной, кото-
рую за что-то ведь ценили такие люди, как
Пушкин и Мицкевич...
Однако сама Волконская смотрела на
свою дружбу с писателем не совсем так
или, вернее, не только так. Сказать о ней,
что она перешла в католичество,— значит
сказать слишком мало и слабо,— она стала
фанатичной католичкой, к тому же >дер-
жимой страстным желанием и других
вовлекать в лоно римской церкви. Если
княгиня мечтала обратить в «истинную
веру» собственного сына, то почему бы
и Гоголю было не стать объектом по-
добных же ее устремлений? Это намере-
ние зародилось (а может быть, лишь
окрепло?) с появлением на вилле Петра
Семененко и Иеронима Кайсевича.
Кто такие были эти двое?
Участники польского восстания 1830—
1831 годов, они принадлежали к созданно-
му в Париже Богданом Яньским при
покровительстве самого Мицкевича рели-
гиозному братству, которое видело свою
задачу в том, чтобы способствовать духов-
ному возрождению и сплочению эмигра-
ции для продолжения борьбы. Ближайшей
целью была организация нового католи-
1 Анненков П. В. Литературные воспомина-
ния. М.. 1983, с. 80—81
39
ческого монашеского ордена — ордена
ресуррекционистов, или «воскресениев».
Учредителями его и станут через некото-
рое время Петр Семененко и Иероним
Кайсевич...
Вот с ними-то Волконская и познакомила
Гоголя в марте 1838 года Об этом факте
П, Семененко немедленно сообщает
Б. Яньскому: «Возвращаемся с обеда у
княгини Волконской и с прогулки на ее
виллу в сообществе ее, а также одного из
наилучших современных писателей и
поэтов русских, Гоголя, который здесь
поселился. В разговоре он нам очень
понравился. У него благородное сердце,
притом он молод; если со временем
глубже на него повлиять, то, может быть,
он не окажется глух к истине и всею душою
обратится к ней. Княгиня питает эту
надежду, в которой и мы сегодня несколь-
ко утвердились»2
Кайсевич в своем дневнике пишет о том
же событии еще более определенно:
«Познакомились с Гоголем, малороссом,
даровитым великорусским писателем, ко-
торый сразу выказал большую склонность
к католицизму и к Польше. .».
Так зародился миф, которому суждено
было неожиданно долгое существование...
Знакомство имело продолжение. Если
верить письмам, состоялся обмен визита-
ми, причем новые знакомцы Гоголя очень
активны, они навещают писателя часто,
и вдвоем и поодиночке — для большей
откровенности. Круг тем, по которым
ведутся беседы, Широк, однако собеседни-
ки Гоголя стараются так или иначе свести
все к главному для них предмету. Ни один
разговор, даже за обеденным столом, не
пускается ими на самотек, все продумано,
все подчинено сверхзадаче. После одного
из таких обедов, специально устраиваемых
Волконской, Семененко с удовлетворе-
нием докладывает Яньскому: «Сдается
мне, что с пару хороших мыслей я ему
внушил». Кайсевич со своей стороны пишет
посвященный Гоголю сонет, где сравни-
вает «певца с днепровской стороны»
с полевым цветком, пересаженным в но-
вую почву, как цветок оживает с приходом
весны, так и поэт почувствует прилив
творческих сил, если только не замкнет
свою душу «для небесной росы»3... В по-
следующих донесениях Семененко и Кай-
севича все увереннее звучат оптимистичес
кие нотки: «С божьего соизволения, мы
с Гоголем очень хорошо столковались»;
«...много-много других очень утеши-
тельных речей»; «Гоголь — как нельзя
лучше. Мы столковались с ним далеко
и широко». Короче говоря у обоих
миссионеров явно складывается впечатле-
ние, или, во всяком случае, они всячески
стараются, чтобы такое впечатление созда-
лось у руководителей парижского
братства, что Гоголю оставался буквально
один шаг до перехода в католичество.
В мае 1838 года 3. Волконская, патронес-
са и активная помощница двух миссионе-
ров, неожиданно уехала в Париж. Без нее
контакты Семененко и Кайсевича с Гого-
лем разладились и очень скоро прерва-
лись. В. Вересаев по этому поводу пишет
следующее. «Думается нам, что скрытный
и очень практичный в житейских делах
Гоголь просто водил за нос -котившихся за
ним польских монахов. Единственная его
цель была — угодить богатой и знатной
княгине Волконской, фанатичной католич-
ке. Характерно, что немедленно после ее
отъезда из Рима он круто порывает все
отношения с апостолами Богдана Яньского
и совершенно скрывается с их горизонта».
Я бы добавил к этому, что, по свиде-
тельствам современников, в Гоголе смоло-
ду жила страсть к игре лицедейству,
травестированию, мистификациям, он был,
как говорят на Украине, «характерником»
(колдуном, чародеем) — любил и умел
предстать в неожиданном облике, удивить
превращением, заморочить голову, запу-
тать...
Не лишенный комической окраски при-
мер такой (впрочем, невольной) мистифи-
кации — известное место в письме Гоголя
к А. Данилевскому 1837 года из Лиона
«Вообрази,— пишет он,— что по всей до-
роге, по всем городам храмы бедные,
богослужение тоже, жрецы невежи и нео-
прятно .. а о вкусе и благоухании жертв
нечего и говорить... так что признаюсь,
поневоле приходят вольнодумные и бо-
гоотступные мысли, и чувствую, что еже-
минутно слабеют мои религиозные прави-
ла и вера в истинную религию, так что, если
бы только нашлась другая с искусными
жрецами, а особенно жертвами, как напр.,
чай или шеколад, то прощай и последняя
набожность»’. Эти высказывания сбили
с толку некоторых комментаторов, в
частности П. Кулиша и даже Н. Тихонраво-
ва. Между тем Гоголь здесь просто-
напросто прибегает к шутливому коду,
которым пользовались любившие поесть
друзья; «храмы» — это рестораны, кафе,
«жрецы» — их содержатели, «богослуже-
ние» — обед и т. п. В. Солоухину, к
счастью, это письмо, видимо, не попалось
на глаза...
Следует отметить, что письма Семенен-
ко и Кайсевича долгое время находились
вне поля зрения гоголеведения. Ни в мно-
гочисленных и, надо сказать, весьма
подробных письмах самого Гоголя, ни
в записках современников имена П. Семе-
ненко и И. Кайсевича не упоминаются.
Естественно, мы не находим их и в фунда-
ментальных «Материалах для биографии
Гоголя» В. Шенрока. Лишь в приложении
к третьему тому, вышедшему в 1895 году,
Шенрок сообщает о своем знакомстве
с только что полученным экземпляром
труда патера Павла Смоликовского «Исто-
рия Общества Воскресения Господня»,
вышедшего на польском языке в Кракове
(это мог быть один из первых двух томов,
потому что все трехтомное издание было
завершено в 1897 году). Поскольку книга
Шенрока была уже отпечатана, исследова-
тель ограничился самым кратким коммен-
тарием к приводимым Смоликовским
материалам о встречах Гоголя в 1838 году
у 3 Волконской со «змартвыхвстанцами»
(от польского zmartwychwstanie — воскре-
сение; члены католического монашеского
ордена «воскресенцев») и о якобы прояв-
ленной писателем «склонности к католи-
цизму». Но и в этом предельно лаконич-
ном комментарии Шенрок нашел необхо-
димым заметить, что, по его мнению
Семененко и Кайсевич принимали же
лаемое за действительное, усматривая
склонность к католицизму там, где было
«сочувствие к полякам», и что, как считали
А. Данилевский и В. Репнина, близко
наблюдавшие Гоголя в ту пору, «ничего
серьезного здесь не было»5.
Тем не менее спустя несколько лет,
в 1902 году, в журнале «Вестник Европы»
появилась развернутая статья, автор кото-
рой, А. Кочубинский, опираясь на мате-
риалы П. Смоликовского, подробно изла-
гает историю знакомства и взаимоотноше-
ний Гоголя с П. Семененко и И Кайсеви-
чем, и излагает именно в духе созданного
ими мифа. «Великий русский поэт,— де-
лает вывод автор статьи,— католиком не
стал, но был близок к «небесной росе»;
православия не оставил, но был близок
к искусительному шагу...»6.
В подтверждение своего вывода А. Ко-
чубинский ссылается главным образом на
свидетельства Семененко и Кайсевича, но
вспоминает еще и о «подозрениях», возни-
кавших по этому поводу у матеои писате-
ля, М. И. Гоголь, и у некоторых его
московских друзей. Последним, как из-
вестно, «очень не нравился его отъезд
в чужие края», они даже готовы были
сделать вывод, что «Гоголь не довольно
любит Россию»7.
Но даже автору «Вестника Европы» не
пришло в голову обратиться за аргумента-
ми к художественным произведениям
Гоголя
Это попытался сделать Владимир Со-
лоухин.
«Гоголь был очень религиозным челове-
ком, православным христианином», «кре-
щен», включил в свои «Выбранные (В. Со-
лоухин называет их «Избранными». —
Ю. Б.) места из переписки с друзьями»
специальную «главу о литургии», «был
связан с оптинскими старцами»... О каких-
либо других достойных упоминания заслу-
гах писателя не говорится. Впрочем,
признается: Гоголь все-таки «любил Русь»
этого у него не отнимешь, но что это за
любовь? Тут следует резкий переход
непосредственно к сути «обвинительного
заключения». Любить-то он Русь, может,
и любил, но любил «как-то... декларатив-
но», была в этой любви этакая натуга, что
ли, неискренность, некий скрытый изъян,
пряча который от людей и от самого себя,
Гоголь нервничал, суетился, «тысячу раз
2 Цит. по: Вересаев В. Гоголь в жизни. М.—Л.,
1933, с. 187. 8 дальнейшем, кроме специаль-
но оговоренного случая, материалы Л. Семе-
ненко и И Кайсевича приводятся по этому же
изданию.
3 Цит. по: «Вестник Европы», 1902, № 2, с. 668.
4 Письме Н. В. Гоголя а 4-х г. г. 1. СПб.. 191)1,
с. 534—536.
Шенрок В. И. Материалы для биографии Го-
голя, т 3 М 1В95, с 549.
6 Кочубинский А Будущим биографам Н В. Го-
голя. — «Вестник Европы», 1902, № 2, с. 672.
Аксаков С. Т. Собр. соч. в 4-х т.. т. 3. М.
1956, с. 187
40
торопился признаться ей в любви». Проку
в таких признаниях мало, никакая маски-
ровка не может помешать В. Солоухину
Насмешливый Гоголь
Художник В. Горяев.
разглядеть «в богатой духовной жизни
Гоголя, в самой сокровенной сути ее некую
раздвоенность...».
Все это представляется В Солоухину
настолько Очевидным, что он готов был бы
обойтись и без доказательств.. И все же:
если обвиняешь великого национального
художника ни много ни мало — в духов-
ном двурушничестве и антипатриотизме
(речь-то именно об этом!), лучше уж
обезопасить себя хоть каким-нибудь подо-
бием аргументов. Что В. Солоухин и де-
лает: «Да и по тексту: с одной стороны, «О,
Русь, птица-тройка», с другой — одни хари
да рожи. Чего стоят имена русских и мало-
росских (?) людей во всех почти произве-
дениях Гоголя. Все эти башмачкины,
довгочхуны, товстогубы, пошлепкины, дер-
жиморды, люлюковы, уховертовы, яич-
ницы, хевакины (жевакины? — Ю. Б.), соба-
кевичи, кирдяги, козолупы, бородавки,
сквозники-дмухановские... Что стоит опи-
сание русского губернского бала и сравне-
ние его с мухами, слетевшимися на сахар,
да и многое, многое другое»
Нет, положительно «Гоголь не довольно
любит Россию»..
Оговорюсь: этих слов В. Солоухин не
произносит, но, кажется, лишь по той
причине, что они уже были в свое время
произнесены. Да и благородное негодова-
ние по поводу «харь да рож» давным-дав-
но высказано, и даже на более высоком
накале,— хотя бы со страни а та иблиотежи
для чтения» и «Северной пчбйь|». И отвес-
но на все это и подобное этсЛлу уже бы/>Ь
Характеризуя «Мертвые дущи», те самь|ь
откуда взяты и «птица-тройка» -м собакей-
чи, и «русский губернский бал», за которй-
В Солоухин обиделся на Гоголя так,
словно сам плясал на этум Ьалу,— ак вот,
. ъаризуя «Мёртвое души», ели некий
-писал, что с^з^ди ^«хлржества «мелочизртй,
-*ГГО&аедственности, ничтояуВства «ездар-
н8 • ►»"г среди «ложиь'х" чувств, фари-
41
русское, национальное , столько же истин-
ное, сколько и патриотическое, беспощад-
но сдергивающее покров с действитель-
ности и дышащее страстною, нервистою,
кровною любовию к плодовитому зерну
русской жизни...»8.
Вот почему спорить всерьез с В. Со-
лоухиным на эту тему не хочется —
неинтересно, да и надобности нет.
Замечу лишь кое-что относительно фа-
милий. Позволю себе напомнить В. Со-
лоухину, что многие из оскорбляющих его
слух фамилий имеют сатирическую окрас-
ку и принадлежат лицам, как бы это
помягче выразиться, не вполне по-
чтенным... Слов нет, наверное, До-
бромыслов или, к примеру, Правдолюбов
звучало бы приятнее для уха, чем Сквоз-
ник-Дмухановский и Держиморда, но ведь
то были бы уже совсем другие персонажи
совсем других произведений. И до Гоголя
в русской сатире были не только Гру-
долюбовы, но и Тихокрадовы, не только
Стародумы и Правдины, но и Скотинины
и Простаковы, не только Чацкие, но
и Скалозубы. А после него? Вспомним хотя
бы: Угрюм-Бурчеев и Надежда Петровна
Бламанже, Дикой и Кнуров, Пришибеев
и Очумелов... Ничуть не коробит меня
и скромная фамилия Акакия Акакиевича,
идущая, вероятно, от почтенного ремесла,
которым занимались его предки; во вся-
ком случае, она не помешала маленькому
петербургскому чиновнику стать в один
ряд с величайшими образами мировой
литературы.
Что касается имен «малоросских
людей», то хочу заверить автора «Камеш-
ков», что на Украине, тем более в Запо-
рожской Сечи, такие фамилии, как Кирдя-
га, Козолуп или Бородавка, были далеко не
самыми странными или неблагозвучными.
Свое происхождение они вели частенько
от прозвищ, дававшихся либо в целях
конспирации (какой только люд не за-
брасывала судьба на Запорожье!), либо
просто для характеристики человека, но
в любом случае придумывались эти про-
звища отнюдь не в стенах института бла-
городных девиц... В одной из многочис-
ленных легенд о великом украинском
поэте и философе Григории Саввиче Ско-
вороде (вот тоже фамилия — как раз для
списка, составленного В. Солоухиным)
рассказывается о якобы состоявшейся
между ним и Екатериной II беседе.
«Отчего ты такой черный?» спросила
будто бы императрица. «Э! вельможная
мати,— ответил ей философ,— разве же
ты где видела, чтоб сковорода была белая,
коли на ней пекут да жарят, и она вся
в огне?»9.
Вернемся, однако, к «камешку».
Развивая свой тезис о «раздвоенности»
Гоголя (заметим: не о противоречиях, не
о колебаниях, не о заблуждениях —
действительно реальных — говорится, а
именно о «раздвоенности») автор прихо-
дит к мысли, что писателя «всю жизнь
мучила одна глубокая тайная любовь, его
тайна тайн и святая святых — любовь
к католической Польше». В. Солоухин
признается, что не может объяснить при-
чину и корни этой таинственной страсти, он
лишь туманно намекает на «очень
сложные» исторические связи Польши
и Украины, допускает, что свою роль
сыграло и происхождение писателя —
мол, «все-таки Яновские как-никак». Но
уверенности в своей правоте ему не
занимать. «Едва ли я ошибаюсь»,— без
излишней скромности замечает он.
Но, быть может, В Солоухин распола-
гает какими-то новыми сенсационными
документами, скажем, неведомыми пре-
жде свидетельствами современников Гого-
ля, какими-нибудь разоблачительными
письмами, а то и исповедальными призна-
ниями самого писателя? Или он сумел
(бывают такие исследовательские озаре-
ния) совсем по-новому, свежо и неожидан-
но, увидеть давно знакомые факты,
открыть в них нечто такое, чего мы доселе
не замечали?
Ничего похожего... Свои выводы он
строит исключительно на, как он говорит,
«очень внимательном и многократном
прочтении гоголевских текстов».
Что ж, и такой метод правомерен, хотя
и дьявольски труден. Главное, насколько
корректно он применяется. Тем более,
если речь идет о хрестоматийном
«тексте», в данном случае — о «Тарасе
Бульбе».
Да, трудно поверить, но именно это
произведение выбирает В. Солоухин,
чтобы проиллюстрировать свою мысль
о «тайной любви» Гоголя к католической
Польше.
Наиболее ярким и убедительным приме-
ром этой любви В. Солоухин считает сцену
в костеле, в который попадает Андрий,
покинувший запорожский лагерь и тайком
пробирающийся к своей прекрасной по-
лячке, а также его встречу с возлюблен-
ной. Соответствующие места В Солоухин
цитирует щедро, большими кусками, осо-
бенно описание службы в монастырской
церкви. Замысел понятен: наглядно пока-
зать, каким благоговением и восторгом
перед красотой, величием, высокой духов-
ностью проникнуты эти сцены. Комменти-
рует приводимые им цитаты В. Солоухин
скупо, ему кажется, что они говорят сами
за себя: так увидеть, услышать и, главное,
изобразить эти сцены мог, считает он,
только тот, кто охвачен трепетом и восхи-
щением. Потому он и ограничивается
многозначительным заключением: «Вот
такие слова, такие краски, такая музыка».
Дело, однако, в том, что в повести
католическая служба увидена и услышана
вовсе не Гоголем, а Андрием... Ведь это
«Андрий не без изумления глядел...» —
и видел коленопреклоненного священни-
ка, и двух молодых клирошан «в лиловых
мантиях с белыми кружевными шемизет-
ками сверх их и с кадилами в руках»,
и «окно с цветными стеклами», озарив-
шееся «розовым румянцем утра», и ра-
дужно освещенное облако кадильного
дыма, и скорбные фигуры, тихо стоящие
«у колонн и пилястр»... Это Андрий
«дивился... с полуоткрытым ртом вели-
чественной музыке», слышал густой рев
органа, который «наполнил вдруг всю
церковь» и потом, «обратившись в небес-
ную музыку, понесся высоко под свода-
ми...» Он видел это 'и слышал словно
в каком-то фантастическом сне, сквозь
окутавший его сознание туман, весь охва-
ченный любовным экстазом, страстным
ожиданием встречи со своей «царицей».
Тут нужна оговорка,
Вероятно, этой сцены не было бы или она
была бы иной, если бы не те минуты
поэтического вдохновения и душевной
экзальтации, которые пережил сам Гоголь,
будучи в Риме. В письме к М Балабиной,
которое относят к апрелю 1838 года, он
рассказывает о своем посещении одной
«из церквей римских, тех прекрасных
церквей... где дышит священный сумрак
и где солнце, с вышины овального купола,
как Святой Дух, как вдохновение, посе-
щает середину их, где две-три молящиеся
на коленях фигуры не только не отвле-
кают, но, кажется, дают еще крылья
молитве и размышлению»10. Можно уло-
вить определенную внутреннюю связь
между этой картиной и сценой в костеле,
появившейся, как известно, лишь во второй
редакции «Тараса Бульбы», в 1842 году.
В. Солоухин почему-то упускает воз-
можность использовать этот выигрышный
Для его концепции факт. Ну, а если бы не
упустил, что бы это изменило, что доказа-
ло бы? На мой взгляд, решительно ничего.
Во-первых, впечатления Гоголя от посе-
щения римских храмов носят характер
преимущественно эмоциональный и не
дают не малейших оснований для далеко
идущих выводов о тяготении к тому или
иному вероисповеданию. Гоголь восприни-
мает увиденное прежде всего эстетически,
как художник, конфессиональные воп-
росы, тонкости различий между церк-
вами его здесь не занимают. Кстати, в
ту пору он вообще еще довольно слабо
разбирался в этих тонкостях, о чем сви-
детельствует его письмо к матери от
22 декабря 1837 года,— недаром в свое
время издатель вынужден был сопро-
водить его «охранительным» приме-
чанием на сей счет. При всем том в этом
же письме он категорически отвергает
пересказанные ему матерью чьи-то до-
мыслы об отступничестве его от пра-
вославия: «...Вы правы, что спорили с
другими, что я не переменю обрядов
своей религии». И чуть ниже: «Итак, насчет
моих религиозных чувств вы никогда не
должны сомневаться»11.
Во-вторых — и это, пожалуй, главное
(впрочем, «во-первых» — тоже глав-
ное),— излишне, я полагаю, объяснять
В. Солоухину разницу между письмом
и повестью, между увиденным, подме-
ченным, даже пережитым и его воплоще-
нием в художественном образе, между
персонажем и его создателем — художни-
ком. Сколько бы мы ни рассуждали
о жизненном опыте и впечатлениях Гоголя,
написавшего сцену в костеле, сколько бы
ни гадали, чтб хранилось в глубинах его
эмоциональной памяти, повесть — это осо-
8 Белинский В. Г. Собр., соч. в 9-ти т., т. 5. М.,
1979, с. 50—51.
9 Данилевский Г. П. Украинская старина. Ма-
териалы для истории украинской литературы
и народного образования. Харьков, 1866, с. 55.
10 Письма Н. В. Гоголя, т. 1, с. 491—492
11 Письма Н. В. Гоголя, т. 1, с. 464, 465.
42
бая реальность, и в ней «не без изумления
глядел» на все происходящее именно
Андрий, и никто другой. А разве не
Андрий ослеплен «блистающею влагою»
прекрасных глаз, «длинными, как стрелы,
ресницами», «снегоподобными чудными
руками», грудью, шеей, плечами?.. В жар-
ких объятиях шляхтянки он, простой казак,
«разгульный запорожец» (характеристика
В. Солоухина), оборачивается «рыца-
рем»12. С огромным облегчением он
почувствовал, как с него спала сдерживав-
шая его тяжкая узда и (снова комментарий
автора «Камешков») «душа нашла сама
себя и свое место»- И уже ни здравый
разум, ни чувство долга, ни память не были
властны над его неустойчивой, слабой
душой, созданной для «нежбы», а не для
борьбы. И тогда вырвались у него
страшные слова: «А что мне отец, товари-
щи и отчизна!.. Кто сказал, что моя отчизна
Украина? Кто дал мне ее в отчизны?
Отчизна есть то, чего ищет Душа наша, что
милее для нее всего. Отчизна моя — ты!..
И все, что ни есть, продам, отдам, погублю
за такую отчизну!»
Вот здесь, только здесь — не раньше,
слово берет автор, до сих пор находивший-
ся как бы в тени, и звучит его исполненный
горечи и скорби голос: «И погиб козак!
Пропал для всего козацкого рыцарства!
Не видеть ему больше ни Запорожья,
ни отцовских хуторов своих, ни церкви
божьей! Украйне не видать тоже храбрей-
шего из своих детей, взявшихся защищать
ее. Вырвет старый Тарас седой клок волос
из своей чуприны и проклянет и день и час,
в который породил на позор себе такого
сына».
Хочется повторить вслед за В Соло-
ухиным: «Вот такие слова, такие краски,
такая музыка».
Но, увы, как раз этих слов В. Солоухин
не замечает, этих красок не видит, этой
музыки не слышит
А что же запорожцы? Если, по В. Со-
лоухину, Гоголь втайне всей душой на
стороне польского панства и католицизма,
то каким же можете быть его отношение
к запорожцам?
Ведь что получается. В Солоухин, как
мы видели, признает, что кое-где у Гоголя
заметна «большая симпатия» к запо-
рожским казакам. Почему бы в таком
случае не процитировать соответствующие
места из повести, хотя бы в том же объеме,
как «католические» сцены? Ну, допустим,
то место, где Гоголь подчеркивает, что
«вечная борьба и беспокойная жизнь»
украинского казачества «спасли Европу от
неукротимых набегов, грозивших ее опро-
кинуть». Или характеристику Тараса
Бульбы, который «перессорился с теми из
своих товарищей, которые были наклонны
к варшавской стороне, называя их холопь-
ями польских панов». Или сцену боя, где
обнаруживается не только храбрость, но
и природный ум воинская сметка запо-
рожцев, так что сам иноземный инженер,
служивший у поляков, «подивился такой,
никогда им не виданной тактике, сказавши
тут же, при всех: «Вот бравые молодцы-за-
порожцы! Вот как нужно биться и другим
в других землях!»
Почему бы не привести, справедливости
и элементарной объективности ради, ка-
кую-нибудь из многочисленных батальных
сцен, где Гоголем воспеты удаль запорож-
цев, их ратное мастерство, сила духа,
всепоглощающее «упоение в бою», нако-
нец, величие героической смерти во имя
славы и свободы родной земли. Разве не
достойна того сцена гибели славного
молодого Кукубенко, которому углуби-
лось под сердце вражеское копье: «Тихо
склонился он на руки подхватившим его
козакам, и хлынула ручьем молодая кровь,
подобно дорогому вину, которое несли
в склянном сосуде из погреба неосто-
рожные слуги, поскользнулись тут же
у входа и разбили дорогую сулею: все
разлилось на землю вино...» А как пал
в бою Бовдюг, старейшина всего запо-
рожского войска! «Прямо под самое
сердце пришлась ему пуля, но собрал
старый весь дух свой и сказал: «Не жаль
расстаться с светом. Дай бог и всякому
такой кончины! Пусть же славится до конца
века Русская земля!» И понеслась к выши-
нам Бовдюгова душа рассказать давно
отошедшим старцам, как умеют биться на
Русской земле и, еще лучше того, как
умеют умирать в ней за святую веру»..
Но нет, не останавливается на таких
сценах «внимательно читающий» В. Со-
лоухин. Зачем? Чего доброго, нарушишь
стройность концепции, испортишь чистоту
эксперимента. Довольно с гоголевских
запорожцев и одной холодной фразы:
«Да, они воюют за православную веру,
против «бусурменов» и нехристей». Только
сами-то они каковы? «...Может быть, сами
они молятся, ведут себя по-христи-
ански?» — строго спрашивает В Соло-
ухин. И отвечает: «О нет, они только едят,
пьют и гуляют»...
В. Солоухин в повести видит только
одно — «опившееся и объевшееся, разва
лившееся на траве и храпящее войско
христово». Так это и есть Сечь, двинув-
шаяся «защищать православие»?..
Кстати, о православии. Для концепции
В. Солоухина это весьма важно: во-
первых, с православием он непосредствен-
но связывает такое понятие, как духов-
ность, во-вторых, считает, что гоголевские
запорожцы не обнаруживают в данном
вопросе должного рвения, что их «право-
славность и духовность» проявляются
«как-то на словах», мы не видим, чтобы
они молились, и поведение их не назо-
вешь христианским.
Думаю, что «камешки» эти летят не в тот
огород... Запорожцы, толерантные во мно-
гом, были неуступчивы чуть ли не до
фанатизма в том, что касалось православ-
ной веры. Только что попавшим на Запо-
рожье Остапу и Андрию Бульбенкам
«казалось чрезвычайно странным, что при
них же приходила на Сечь гибель народа
и хоть бы кто-нибудь спросил: откуда эти
люди, кто они и как их зовут». Никто не
интересовался ни прошлой жизнью при-
шедшего, ни причинами разрыва с нею, ни
его национальностью (среди запорожцев
можно было кроме украинцев встретить
русских, белорусов, поляков, литовцев,
молдаван, евреев, турок, татар, калмыков,
немцев, французов — кого угодно), но
вопрос о православном вероисповедании
был непременным и главным. В нем
(таковы уж были конкретные исторические
условия) для запорожцев сфокусировано
было все, чем они дорожили,— свобода от
чужеземного ига, любовь к родной земле,
национальное достоинство. Иноверца не
отвергали, не прогоняли, но поступить
в «товарищество» он мог лишь в том
случае, если торжественно принимал пра-
вославие. Хорошо это или плохо — вопрос
другой, к тому же, мягко говоря, наивный,
но так было.
Не знаю, известна ли В. Солоухину книга
выдающегося знатока запорожской ста-
рины Д. И. Яворницкого (Эварницкого)
«История запорожских Козаков», вышед-
шая в конце прошлого века в Петербурге
По-видимому, нет. Хотелось бы посовето-
вать ему познакомиться с помещенным
в первом томе разделом, который называ-
ется «Церковное устройство у запо-
рожских Козаков». Он почерпнет немало
интересных и полезных для себя сведений
о религиозности запорожцев, об их частых
хождениях в мирное время «на прощу»,
к «святым местам», об устроении ими на
Запорожье нескольких десятков церквей,
часовен, скитов, о больших пожертвова-
ниях из «Войскового Скарба» и из личных
средств на строительство и богатое укра-
шение православных храмов и много
другого. При всем том менее всего
запорожцы похожи на религиозных хан-
жей или монахов-аскетов, раз^е что жен-
щину вводить на Сечь запрещалось под
страхом смертной казни. Не придавали они
большого значения богословским премуд-
ростям и строгой обрядности. Вообще
внешняя, показная сторона дела была им
совершенно безразлична, особенно если
принять во внимание условия их походной
жизни. «Так, застигаемые много раз неми-
нуемою смертью во время походов по
Черному морю и не имея при себе
священника, перед которым могли бы
покаяться в своих грехах, они, по выраже-
нию козацкой думы, «исповедовались
богу. Черному морю и своему атаману
кошовому»13. Поэтому очень странно, ког-
да Гоголю вменяется в вину, что его
запорожцы редко посещают церковь, ма-
ло молятся,— они отстаивают православ-
ную веру не «как-то на словах», а именно
на деле, с оружием в руках, не задумыва-
ясь отдают за нее и за свою национальную
независимость кровь и жизнь По их
глубокому убеждению, это и означало
вести себя «по-христиански».
От того же Д. Яворницкого мог бы
В. Солоухин узнать кое-что и об уровне
грамотности среди запорожских казаков,
о существовавшей на Запорожье развитой
сети сечевых, монастырских и церковно-
приходских школ. Когда в 1779 году, уже
после падения Сечи, запорожцы присягали
12 Не знаю, почему В. Солоухин придает ка-
кое-то особое значение этому слову. Запо-
рожцев, вообще-то говоря, трудно было им
поразить, они сами называли себя «низовым
лыцарством» Тарас Бульба, отправляясь на
Сечь, просит жену благословить сынов, чтобы
они всегда достойно защищали «честь лы-
царскую».
13 Эварницкий (Яворницкий) Д. И. История за-
порожских козаков, т. 1. СПб., 1892, с. 313.
43
русскому престолу, среди них грамотных
оказалось больше половины — процент
очень высокий по тем временам, «факт,—
пишет по этому поводу исследователь,—
в высшей степени поучительный для тех,
которые составили себе представление
о запорожских козаках как с гуляках,
пьяницах и грубых невеждах. »14.
Впрочем, в Запорожской Сечи немало
встречалось людей, чьи знания далеко
выходили за рамки простой грамотности
как правило, это были выпускники или
недоучившиеся «спудеи» либо Киевской
академии, либо одного из коллегиумов..
«Здесь были,— читаем у Гоголя,— все
бурсаки, не вытерпевшие академических
лоз и не вынесшие из школы ни одной
буквы; но вместе с ними здесь были и р
которые знали, что такое Гораций, Цице-
рон и Римская республика». К числу
последних относятся, между прочим, и Ос-
тап с Андрием, которых отец привел на
Запорожье сразу после возвращения их из
Киевской академии — той самой, которая
дала Украине и России таких людей, как
Симеон Полоцкий, Феофан Прокопович,
Стефан Яворский, Димитрий Туптало (Рос-
товский) и многие другие. Да и сам старый
Тарас, хотя и поносит последними словами
академию, книжки и вообще ученость,
тоже, судя по всему, лукавит, не так уж он
прост. «Ну, подставляй свою чарку; что,
хороша горелка? А как по-латыни горелка?
То-то, сынку, дурни были латынцы: они не
знали, есть ли на свете горелка. Как, бишь,
того звали, что латинские вирши писал?
Я грамоте разумею не сильно, а потому
и не знаю Гораций, что ли?
«Вишь, какой батько! — подумал про
себя старший сын, Остап,— все старый,
собака, знает, а еще и прикидывается».
Жаль, что В. Солоухин не вчитался и не
вдумался в эти места повести Гоголя,—
быть может, он не поторопился бы так
с безапелляционным выводом о полней-
шей бездуховности изображенных в ней
запорожцев Я далек от мысли, будто
понятие духовности сводится к грамотнос-
ти и даже к образованности, однако,
надеюсь, В. Солоухин согласится, что и
совсем сбрасывать со счетов эти факторы
нельзя..
То же касается и культуры политической.
Разве не о высокой степени духовной
зрелости свидетельствует общественное
устройство Сечи, те принципы самоуправ-
ления, нормы демократической морали,
тот дух равенства, открытости во взаимоот-
ношениях, уважения к старшим людям,
к традициям и обычаям, которые с такой
симпатией, порою с восхищением рисует
Гоголь?
В. Солоухин говорит, что мы не найдем
«духовности и духовной красоты» в гого-
левских запорожцах, «сколько бы мы ни
искали». А что, если оч просто не там
ищет? Что, если решающе важно не
соотношение числа пьянок и молебнов, не
сравнение скромной запорожской
церквушки с величественным костелом,
нехитрой мелодии гопака — с могучим
звучанием органа? И подлинное выраже-
ние духовности народа — это не что иное,
как осознание им собственной историчес-
кой миссии, глубокое понимание смысла
и целей своей борьбы, то величие духа,
которое в полную силу раскрывается
в этой борьбе, в подвиге. Не это ли главное
в «Тарасе Бульбе»?
Я не понимаю, отказываюсь понимать,
как В. Солоухин, озабоченный, если ве-
рить его словам, поисками в повести
«духовной красоты», ухитрился не заме-
тить сцену пыток и казни Остапа и его
товарищей, где несломленная воля запо-
рожцев. их «тихая горделивость», внутрен-
нее благородство, спокойное презрение
к своим мучителям так ярко контрасти-
руют с убогой болтовней щеголеватого
шляхтича, рисующего «душечке Юзысе»
красочные детали предстоящего зрелища.
Я отказываюсь понимать, как В. Со-
лоухин, ратующий за «внимательное и
многократное прочтение» повести Гоголя,
мог пройти мимо знаменитой речи Тараса
о товариществе. Ведь у каждого из нас она
с детских лет на памяти: «Бывали и в дру-
гих землях товарищи, но таких, как
в Русской земле, не было таких товари-
щей». Всех, кто слушал Бульбу, «разобрала
сильно такая речь, дошед далеко, до
самого сердца. Самые старейшие в рядах
стали неподвижны, потупив седые головы
в землю; слеза тихо накатывалася в старых
очах; медленно отирали они ее рукавом.
И потом все, как будто сговорившись,
махнули в одно время рукою и потрясли
бывалыми головами»...
В. Солоухин выговаривает себе право
выдвигать и обнародовать «недоказу-
емые» гипотезы. Это можно было бы
оставить на совести его и его редакторов,
но в данном случае речь идет не о гипоте-
зе. а о заведомой неправде Реанимиро-
ванный старый миф, ни на йоту не
приблизившись _ к истине, стал еще злее
и оскорбительнее. Тут уж не «камешек на
ладони», тут, простите, увесистый камень
в кулаке.
В одном я готов согласиться с В Со-
лоухиным: Гоголя действительно «не убу-
дет». И «Тарас Бульба» не потускнеет.
«Убудет» нас с вами, читатель, духовно
потускнеем, станем беднее и мельче мы,
наши дети и внуки, если только уступим,
если уклонимся, промолчим, не назовем
вещи своими именами.
4 Там же, с. 524
8"
В научных лабораториях
РАНЬШЕ БЫЛО ХОЛОДНЕЕ
И СУШЕ
Датские и исландские гляциологи,
изучив пробы льда, взятые с различных
глубин на территории Гренландии, уста-
новили, что в Северной Атлантике
времен последнего ледникового пе-
риода климат был холоднее и суше
чем сейчас. Лед тогда был на S°С
холоднее, температура у поверхности
земли на 12°С ниже, чем в настоящее
время. А снега в Исландии, как свиде-
тельствуют данные, полученные с по-
мощью ЭВМ, выпадало в два раза
меньше, чем теперь.
МАГНИТНЫЙ КОМПАС
БАКТЕРИЙ
Бразильские ученые обнаружили не-
обычные микроорганизмы — они со-
держат магнитное вещество, благодаря
которому ориентируются в магнитном
поле Земли, отзываясь на его измене-
ния. Это открытие вновь пробудило
интерес к давней гипотезе: не обла-
дают ли таким «встроенным» маг-
нитным компасом птицы и рыбы, когда
в своих сезонных передвижениях пре-
одолевают, не сбиваясь с пути, ог-
ромные расстояния! Не пользуются ли
они при этом подсказкой геомагнитно-
го поля)
ИВА И АСПИРИН
В народной аптеке американских
индейцев толченая кора ивы применя-
лась как средство от головной боли.
Недавно получено научное под-
тверждение этого ее действия:
оказывается, ива вырабатывает особую
форму аспирина — фенольный глико-
зид или салицин.
У листьев ивы — другая особенность.
Финские исследователи выяснили, что
они содержат в себе как салицин, так
и его разновидность саликортин — ве-
щества, обладающие защитным
действием. Высокое их содержание
делает листья ивы несъедобными, в то
же время некоторые виды насекомых
предпочитают именно такие листья,
а личинки этих насекомых используют
салицин как средство, отпугивающее от
них хищников.
ЕЩЕ ОДНА ПОПЫТКА
Бич нашего времени — излишек хо-
лестерина в крови людей, вызывающий
закупорку артерий со всеми драмати-
ческими последствиями. Поэтому такой
интерес вызвалс сообщение амери-
канских медиков об эксперименталь-
ном курсе специального лечения этого
заболевания. Их пациент, вследствие
генетического дефекта страдавший не-
контролируемым накоплением холес-
терина, стал физически активным чело-
веком.
С помощью двух аппаратов кровь
больного пропустили через специ-
альные фильтры, очистив ее только от
липопротеидов низкой плотности.
Именно от них. Ни важные компоненты
крови, ни другие формы холестерина
при этом не затрагиваются. Медики
предполагают, что курс такого лечения
будет способствовать оздоровлению
сосудистого русла.
44
ЧЕЛОВЕКУ О ЧЕЛОВЕКЕ
Бхагавадгита, гл. VI, шлока 5.
Перевод академика Б. Л. СМИРНОВА
Пусть сам себя он поднимет, пусть себя
сам не снижает:
Каждый себе союзник, враг себе каждый.
Игорь АЧИЛЬДИЕВ
ТРИ
ПОДВИГА
АКАДЕМИКА
СМИРНОВА
+ На городском кладбище в Ашхабаде есть могила
с беломраморным памятником, на нем изображена
раскрытая книга. Надпись гласит:
Академик Смирнов Борис Леонидович.
1891—1967 гг.
Невропатолог. Нейрохирург.
Переводчик эпоса «Махабхарата».
Короче некуда. Но три решенные задачи, три подвига
человеческой мысли и упорного труда обозначены точно!
...Как мне рассказывали, Борис Леонидович был
невысок ростом, худощав, энергичен. Лицо? Портрет его
на странице журнала едва ли дает полное представление.
Однако основное фотограф запечатлел: простодушная
одухотворенность натуры интеллектуальной, подвижни-
ческой, охваченной высоким духовным стремлением
мысли.
В характере Смирнова не было и капли житейской
хитрости. Не умел он «устраиваться» и «пробиваться»,
извлекать выгоду из связей и знакомств. Он был
бессребреником и никогда не брал денег за лечение или
операцию. «Всучить» ему подарок было невозможно. Он
отказался и от гонораров за переводы, жертвуя их в фонд
советско-индийской дружбы.
Он был действительно простодушен и одухотворен, не
отсюда ли — вглядитесь внимательнее! — сходство его
портрета с фотографиями Махатмы Ганди? Смирнов
никогда не замечал жизненных неудобств и тягот, не
стремился обойти кого-нибудь в должности, всю жизнь
подчинив служению высшим целям. Но то было‘не
равнодушное служение, а подвиг. Точнее — три подвига.
НЕВРОПАТОЛОГ
Отец Бориса Леонидовича много лет проработал
земским врачом на Украине. В 1907 году перевез семью
в Петербург и занялся практикой в столице. С раннего
утра он уезжал в клинику, возвращался домой к обеду.
Два часа отдыхал, потом до позднего вечера отправлялся
к больным, зарабатывая на жизнь суровым и упорным
трудом.
Атмосфера подвижнического труда определяла всю
жизнь Смирновых. День каждого был расписан по часам
и минутам. Жена Леонида Васильевича, Софья Митрофа-
новна, публиковала повести и рассказы в юношеских
журналах «Всходы» и «Родина», собирала украинский
фольклор — думы, песни, сказки, поговорки. Печаталась
она под псевдонимом Козленицкая, по названию родово-
45
го имения Козленичи Черниговской губернии. Там
и родился Борис Леонидович. По-видимому, Софья
Митрофановна приохотила его к работе над словом,
приучила к четкости мысли, к ясному, строгому стилю.
Он всегда морщился, услышав или прочитав что-нибудь
литературно неграмотное, нелогичное. «Ну вот, где дом,
а где аптека»,— говаривал он в подобных случаях.
Любимая поговорка...
Все четыре сына помогали отцу. С младых ногтей они
учились делать перевязки, накладывать шины, ассисти-
ровать. Трое стали врачами, один — юристом.
В 1910 году, окончив с золотой медалью шестую
петербургскую гимназию, Борис Леонидович поступает
в Военно-медицинскую академию (ВМА), славившуюся
прогрессивной медицинской и общественной мыслью. На
первых же курсах Смирнов занялся научной работой,
став одним из зачинателей студенческого научного
кружка. Здесь, на кафедре топографической анатомии
и оперативной хирургии он выполнил четыре научные
работы. Уже тогда Борис Леонидович концентрирует
свое внимание на нерешенных проблемах невропатоло-
гии и нейрохирургии В частности, ему принадлежат
описания головного мозга М. Е. Салтыкова-Щедрина,
В. В. Пашутина, И. Н. Зинина.
В 1914 году, получив диплом с отличием, молодой
офицер направляется в действующую армию — в лаза-
рет Красного Креста, а затем в Ольвиопольский полк
125-й дивизии. Началась суровая работа военного врача;
было много бессмысленно пролитой на фронте крови
солдат и офицеров, окопных вшей да грязи, встреч
с людьми «простого звания», понимавших порой в судь-
бах Отечества больше, чем все офицерское собрание... Не
случайно, когда начинается революция, Смирнова изби-
рают в полковой комитет. Впрочем, полк вскоре
распался, солдаты и офицеры разъехались по домам.
Борис Леонидович отправился не в Питер, а в Козле-
ничи. Проездом оказался в Киеве. Между прочим,
именно здесь он выменял на толкучке за два ржаных
сухаря словарь санскрита. Но об этом позже... А сейчас
о случае на перегоне Киев — Чернигов. Состав атаковали
бандиты атаманши Маруськи. Разговор вели короткий:
— А ну, скажи «кукуруза»... Картавишь? Налево,
в расход. Не картавишь — полезай в теплушку.
Борис Леонидович немного картавил, его поставили
♦ налево». Тут его увидел какой-то крестьянин из
Козленичей.
— Да вы, хлопцы, с ума сошли: то же дохтур и сын
дохтура, который мне зуб драл,— и для пущей убеди-
тельности показал прогалину в ровном ряду белых
зубов. — Переходи, сынку, направо...
В Козленичах «дохтур» Смирнов возобновил лечеб-
ную практику. Он был врачом военкомата в Соснице,
школьно-санитарным врачом в поселке Брагино, потом
ординатором и ассистентом в клинике нервных болезней
Киевского медицинского института... Но я не составляю
биографию Бориса Леонидовича, мне нет смысла просле-
живать весь путь будущего академика. Важно другое:
с 1917 по 1935 год, будучи на разных врачебных
должностях, Смирнов изучал невропатологию, выполнив
за это время десять серьезных научных работ.
Наиболее решительным жизненным шагом был
переезд в 1935 году в Ашхабад. По нынешним понятиям
ничего удивительного, тем более героического в этом нет.
Город как город, не хуже других. Разве что очень жарко
летом. Зато не холодно зимой! Но в середине тридцатых
такой поступок свидетельствовал о решительном и сме-
лом характере.
В те времена Ашхабад был далекой окраиной, здесь
даже платили надбавки, как сегодня за работу на Край-
нем Севере. В Ашхабаде не хватало врачей, больниц,
поликлиник. Переезд в Туркмению был чреват отрывом
от культурных центров страны, коллег, атмосферы
научного поиска. Многим жертвовал молодой врач,
уезжая в туркменскую столицу.
Переезд в Ашхабад свидетельствовал и о другом:
Борис Леонидович сложился как человек и ученый,
носитель культурной традиции. Он принадлежал к тому
тонкому социальному слою старой петербургской интел-
лигенции, у которой удивительная скромность сочета-
лась с огромной любовью к народу, его культуре.
Смирнов внутренне созрел для самостоятельных на-
учных поисков. И действительно, именно здесь, в
Туркмении, быстро и широко развернулся его талант.
В 1938-м он защищает по невропатологии кандидатскую,
на следующий год — докторскую.
Под руководством Бориса Леонидовича его сотрудни-
ки выполнили более 200 научных работ, защитили
15 кандидатских диссертаций. Сегодня в Туркмении
целая плеяда его учеников и учеников его учеников —
школа академика Смирнова.
В сентябре 1939 года его избирают профессором,
заведующим кафедрой нервных болезней Туркменского
мединститута, в 1951 году — действительным членом
Академии наук Туркменской ССР. Это было признание
его заслуг как врача-невропатолога.
ХИРУРГ
Военный врач может получить любую узкую спе-
циальность: окулиста или невропатолога, отоларинголо-
га или фтизиатра, даже педиатра — все равно он обязан
быть хирургом. Война — дело кровавое, и врач на войне
просто не имеет права отказываться от скальпеля. Не
случайно хирургия в Военно-медицинской академии
всегда считалась главной дисциплиной.
Борис Леонидович был прекрасным хирургом. Пер-
вая мировая война приучила его при необходимости
браться за любую операцию — и помочь пострадавшему!
Но, естественно, удачнее всего были его операции на
центральной и периферической нервной системе. Сразу
по приезде в Туркмению он организует в своей клинике
небольшую операционную, одну палату на пять коек
выделяет для больных, нуждающихся в нейрохирурги-
ческой помощи. Обе его диссертации, как говорят, шли от
кафедр оперативной хирургии.
За время Великой Отечественной войны у Смирнова
сотни консультаций в эвакогоспиталях, оперативных
вмешательств, тысячи излеченных бойцов. Сохранился
операционный журнал Бориса Леонидовича: с 28 января
1942 года по 8 мая 1946 года он провел 149 крупных
нейрохирургических операций, причем несколько таких
сложных и тонких, что их можно считать шедеврами
хирургического искусства. Впервые в стране он опериро-
вал выпячивание межпозвонкового диска. В Институте
неврологии и физиотерапии Борис Леонидович органи-
зует нейрохирургическое отделение, став основателем
школы нейрохирургии в Туркмении. В 1944 году его по
конкурсу единогласно избрали заведующим кафедрой
нейрохирургии Киевского института усовершенствова-
ния врачей. Но он решил остаться в Ашхабаде.
Человек раскрывается в поступке, в решительном
действии, в кризисной ситуации Было и такое в жизни
Бориса Леонидовича — в 1948 году.
Вечером 5 октября по всему городу выли собаки,
сбежали из домов кошки. Никто не придал этому
значения... Но ночью ударило сильнейшее землетрясе-
ние. Ашхабад был разрушен практически весь. Сохрани-
лось всего несколько зданий... Тысячи и тысячи
погибших, похороненных под развалинами, еще боль-
ше — раненых, кому требовалась срочная хирургичес-
кая помощь.
Смирнов жил в отдельном домике с женой Людмилой
Эрастовной и ее сыном Юрием. Когда прокатилась волна
землетрясения, домик обрушился. Над головой Бориса
Леонидовича переломилась балка, образовавшая шатер.
Смирнов не пострадал, как не пострадал и Юрий. Первое,
что он услышал, были слова Бориса Леонидовича:
— Юра, если ты жив — спасай мать, у меня воздух
есть, я не ранен!
46
Вдвоем они вытащили Людмилу Эрастовну из-под
обломков, привели в чувство. Борис Леонидович сказал:
— Юра, беги к друзьям, собирай тех, кто жив, на
площадь Карла Маркса — там организуем госпиталь.
А я сейчас...
И он полез куда-то под обрушившуюся крышу — за
рукописью своих переводов.
В ту же ночь на центральной площади Ашхабада
Смирнов и его товарищи-врачи устроили на скорую руку
госпиталь. Зажгли костры, кипятили в ведрах воду,
накрыли простынями обеденные столы и приступили
к работе. Борис Леонидович оперировал черепные
ранения. Другие ампутировали конечности. Свет факе-
лов и костров освещал жуткую картину: сотни лежащих
вповалку людей, фигуры врачей, склонившихся над
столами... Ни в какой статистике нет, сколько за эти дни
и ночи было сделано Борисом Леонидовичем операций,
скольких он спас от смерти! И разве один этот эпизод из
жизни Смирнова — не подвиг?
Но Смирнову и его было мало!
ОДИН НА ОДИН С «МАХАБХАРАТОЙ»
К этому подвигу Смирнова следует подойти издалека.
С чего началось увлечение древним индийским эпосом?
Не с покупки же на толкучке словаря санскрита!
Вернемся к детству Бориса Леонидовича. Как ни
трудно доставались деньги земскому врачу Л. В. Смирно-
ву, как ни экономила семья каждую копейку, а все-таки
выписали из Швейцарии гувернантку. Сыновья Леонида
Васильевича и Софьи Митрофановны знали французский
и немецкий, в гимназии изучали древнегреческий
и латынь. Борис Леонидович с детства пристрастился
к языкам. Где бы он ни был, возил с собой словари.
В какие бы обстоятельства ни попадал, в какие бы города
не забрасывала его судьба, всюду изучал местные языки.
Пока Ольвиопольский полк стоял в Польше и офи-
церы пили вино или волочились за женщинами, Смирнов
изучал польский и идиш. Приехав в Ашхабад, он первым
делом взялся за освоение туркменского, которым овладел
в совершенстве. Он знал также английский, иврит,
итальянский, испанский... И, конечно, санскрит!
Смирнов был человек очень целеустремленный, он не
позволял себе отклоняться от проблемы, которой зани-
мался. Одним из любимых присловий его было такое:
«Не разбрасываться! Взялся за дело — доведи до конца».
Тем не менее он любил «разбрасываться», но на свой,
особый лад.
Так, к примеру, Борис Леонидович был глубоким
знатоком живописи. Он прекрасно знал фонды Эрмита-
жа и не раз выступал в роли лектора, вызывая
недовольство служителей музея!..
А вот еще один интересный факт. В длинном списке
научных работ Смирнова я натолкнулся на неожидан-
ную запись: «1948 год. Наблюдения над полетом
метеорита Леоновка. Опублик. в Изв. Туркм. филиала
АН СССР, 1948 г., № 1, с. 99».
А теперь о «Махабхарате*. Мало кто представляет
себе, что означало взяться за ее перевод. Написана она
двустишиями — шлоками. Как подсчитали специ-
алисты, в ней около 100 тысяч шлок. И хотя традиция
русских переводов эпоса насчитывает около двухсот лет,
полного его перевода нет до сих пор.
В 1939 году по инициативе академика А. П. Баранни-
кова был начат академический перевод «Махабхараты»,
появились (с 1950 по 1967 год) три тома, еще два
готовились к печа ги. Академик Б. Л. Смирнов перевел на
русский примерно четвертую часть эпоса — восемь
томов! (Изданные в серии БВЛ отрывки из «Махабха-
раты* не дают представления о величии и грандиозности
эпоса, хотя и выполнены одним из талантливейших
наших переводчиков — С. Липкиным).
Но суть многолетней работы Бориса Леонидовича
заключалась не только в создании подстрочника и даже
не в мастерской его обработке, хотя обе эти задачи
решены блестяще. Дело в другом. «Махабхарата» —
текст особый. В отличие от древнегреческого эпоса он
насыщен философскими отступлениями, представ-
ляющими огромную ценность для понимания миро-
воззрения древних индусов, древних народов вообще.
В нем сконцентрированы мудрость тысячелетий, пред-
ставления о Вселенной, о человеке и обществе того
времени.
Чтобы подняться до уровня настоящего переводчика
«Махабхараты», надо и самому стать философом, быть
знатоком Платона и Аристотеля, Лао Цзы, Канта
и Гегеля. Смирнову предстояло проанализировать много-
численные философские и религиозные толкования
«Махабхараты», о которой существует необозримая
многоязычная литература разного толка и направлений.
При этом важно было не подпасть под чуждое влияние,
сохранить собственное — научное! — видение эпоса и
философскую его трактовку, отвечающую времени.
Б. Л. Смирнов преуспел и в этом, встав вровень, а быть
может, и выше своих предшественников. С научных
позиций он прокомментировал философские основы
«Махабхараты*, показав полифонию великого древнеин-
дийского эпоса, где стихийный атеизм его создателей
переплетается с религиозными мотивами. Переводы
содержа г толкования трудных мест, комментарии, снаб-
жены основательными вступительными статьями,
раскрывающими философские аспекты и нравственно-
мировоззренческий подтекст «Махабхараты». Тома пере-
водов имеют толковые словари, помогающие читателю
разобраться в многозначной системе образов величайше-
го культурного памятника далекой эпохи. Читатель,
ознакомившись с одной из статей Б. Л. Смирнова,
опубликованной впервые в 1963 году, увидит фило-
софскую позицию автора, далекую от религиозного
преклонения перед йогой Сам Борис Леонидович на
склоне лет пытался освоить эту систему, однако отказал-
ся от нее, сказав, что заниматься йогой надо с детства,
с молодости.
Подвигом Смирнова было и то, как он рабо гал над
переводом «Махабхараты».
В 1956 году сердечная недостаточность заставила его
отказаться от врачебной и преподавательской деятель-
ности. Он ушел на пенсию, но не на покой, все свое
внимание сконцентрировав на переводах.
Ходить, стоять и даже сидеть ему было тяжко. Он
работал лежа, располагая материалы переводов на доске,
изготовленной по его чертежам. Обязанности секретарей
и добровольных помощниц исполняли Людмила Эрдс-
товна и ее сестра Анна Эрастовна; рисунки к переводам,
редактирование и вычитку корректур взял на себя Юрий
(Юрий Михайлович Волобуев).
Переводы Б. Л. Смирнова вызвали интерес специалис-
тов. «Ваша работа над «Бхагавадгитой» и великим
эпосом Индии является крупнейшим вкладом в со-
ветскую индологию и в Индии произвела должное
впечатление» (Ю. Н. Рерих, заведующий отделом индо-
логии Института востоковедения АН СССР).
«Этот гигантский труд под силу только целому
институту» (Р. Я. Ульяновский, заместитель директора
Института востоковедения АН СССР).
«Вы делаете благородное, трудное и крайне нужное
дело... Поражаюсь, как Вы замечательно четко, верно
и поэтически безукоризненно схватываете дух подлинни-
ков. Мы все преклоняемся перед Вашим мужеством,
беззаветной преданностью науке и исследовательским
творчеством» (Э. А Макаев, санскритолог, профессор
МГУ им. Ломоносова). Одно из теплых писем прислал
выдающийся государственный деятель Индии С. Радхак-
ришнан.
Смерть Бориса Леонидовича наступила от острой
сердечной недостаточности... Хворал он недолго. Умер,
словно поняв, что выполнил задуманное, и приказав себе
долее не жить.
47
САНКХЬЯ и ЙОГА
К седьмому тому Махабхараты, второй его части, Б. Л. Смирнов
написал обширное послесловие, посвятив его Санкхье — одной из
самых ранних и влиятельных школ индийской философии и тесно смы-
кающейся с ней Йоге. Публикуем выдержки из этого послесловия
и комплекс йогических упражнений с комментариями академика
Смирнова.
Все философские системы древности
должны были так или иначе ориенти-
роваться на религию, являвшуюся
весьма существенной силой в древнем
обществе. Так называемая «класси-
ческая» Санкхья, изложенная Ишва-
ракришной в «Санкхья-карике» и да-
тируемая Дасгуптой первым веком до
или после начала нашей эры, всегда
носила эпитет «атеистическая». По-
видимому, этот эпитет не столько
выделял данную школу среди других
философских школ Индии, сколько
служил для обозначения особого тече-
ния внутри самой школы и противопос-
тавлял «классическую», или «атеисти-
ческую», Санкхью «теистической»
Йоге. На Западе среди интересующих-
ся историей культуры Индии
распространено представление об осо-
бом «мистическом» характере всей
индийской философии. Этого взгляда
придерживаются и некоторые совре-
менные индийские философы. Конеч-
но, нельзя отрицать спиритуалистичес-
кий характер индийской философии,
но в применении к индийским фило-
софским школам этот термин приобре-
тает несколько своеобразный оттенок.
Йога — явление очень древнее, по
всей видимости, не арийское. Слово
происходит от глагола «прилагать
усилия, стараться, упражняться, соп-
рягать, связывать». Отсюда два ос-
новных значения: 1) «упражнение»,
«обуздывание» и 2) «преданность»,
«сопряжение», «единение». Остальные
смысловые оттенки колеблются между
этими крайними.
В «Мокшадхарме» дается ряд йо. и
ческих текстов, где более или менее
говорится об йогических упражнениях
и о цели йоги. Эти тексты носят
преимущественно теистический харак-
тер. Позже, вероятно, ближе ко време-
ни написания «Санкхья-карики», Па-
танджали написал «Йога-сутру»
В специальной литературе долго об
суждался вопрос: оригинальное ли это
произведение или компиляция? По
существу все сутры являются конспек-
тами уже созданных систем и нет
никаких оснований делать исключение
для «Йога-сутры» Патанджали, тем
более, что и в «Махабхарате», и в Упа-
нишадах (разумеются так называ-
БХУДЖАНГАСАНА —
«положение кобры».
Исходное положение:
лечь ничком; руки по сто-
ронам грудной клетки
согнуты в локтях, грудь
развернута, ноги вытяну-
ты; тыльная сторона
стоп, полностью раскры-
тые ладони, лоб плотно
прилегает к земле. Мед-
ленно и плавно подни-
мать голову, шею, грудь,
подражая движению коб-
ры, когда она поднимает-
ся, надувая свой «капю-
шон».
Отделять тело от зем-
ли надо постепенно, как
говорится, «позвонок за
позвонком». Начинать с
поднятия головы, доводя
сгибатели шеи до воз-
можно полного расслаб-
ления, а разгибатели —
до возможно полного
напряжения. Когда голо-
ва запрокинута, сокращая
мышцы спины, медленно
поднимать грудь. Когда
исчерпается возможность
приподнимать тело силой
разгибателей шеи и туло-
вища, начать разгибать
руки в локтях, с их по-
мощью стараться откло-
ниться назад как можно
больше (по мере трени-
ровки пользоваться по-
мощью рук надо по воз-
можности все меньше).
Когда руки окажутся
полностью разогнутыми
в локтях, разгибание пре-
кращается. В положении
максимального разгиба-
ния позвоночника оста-
ваться десять — двадцать
секунд, затем начать об-
ратное движение, плавно,
посегментно опуская те-
ло, вернуться в исходное
положение.
Бхуджангасана относит-
ся к комплексу упражне-
ний разгибания позвоноч-
ника. Прямое положение
позвоночника — одно из
важных условий медита-
ционных асан. Упражне-
ние может быть повторе-
но три-семь раз (каждые
две недели прибавлять
по одному разу). Если
тренируется начинающий,
при выполнении асаны
надо дышать вольно —
глубоко, ритмично, без
задержки. Задержка ды-
хания в положении вдоха
при максимальном разги-
бании — прием небез-
опасный, равно как и
напряжение брюшной
мускулатуры. Если это
допустимо, то лишь для
хорошо натренированно-
го человека, да и то под
наблюдением опытного
тренера. Бхуджангасана
существенно влияет на
кровообращение головно-
го мозга. Сильно растяну-
тые мышцы переднего
отдела шеи могут зажать
сонные артерии, что вызы-
вает потемнение в глазах,
а если натяжение чрез-
мерно — мгновенную по-
терю сознания и эпилеп-
тические судороги. Чтобы
избежать этих нежела-
тельных явлений, надо
очень осторожно упраж-
няться в бхуджангасане;
впрочем, это замечание
распространяется на всю
йогическую тренировку.
ШАЛАБХАСАНА —«по-
ложение саранчи».
Исходное положение:
лечь ничком; подошвы
стоп обращены вверх,
руки вытянуты вдоль тела,
плечи и тыльная сторона
кистей, сложенных в ку-
лаки, подбородок, нос и
рот (или один подборо-
док, а голова слегка отки-
нута назад) касаются зем-
ли. Мускулы расслабить,
сделать сильный выдох.
Затем, вместе с медлен-
ным вдохом, напрягая
все туловище, поднять
возможно выше обе но-
ги, принимая всю тяжесть
их на грудь и руки (за-
пястья особенно будут
ощущать тяжесть подня-
тых ног). Колени не сги-
бать, крестцовая область
несколько приподнимает-
ся вместе с ногами. Удер-
живаться в положении с
поднятыми ногами пять-
десять секунд. Когда уп-
ражняющийся почувст-
вует, что больше не мо-
жет удерживать дыхание
48
емые йогические упанишады) нет
недостатка в текстах, вполне удовлет-
ворительно излагающих основы йоги.
«Йога-сутра» лишь приводит в поря-
док весь материал. Таково мнение
авторитетнейших исследователей —
Дейссена, Радхакришнана, Дасгупты.
Да по существу и сам Патанджали не
претендовал нд авторство, так как
назвал свою работу «анушачана», то
есть не оригинальный труд, а «сле-
дующий за...».
Вопрос о личности Патанджали,
много разбиравшийся специалистами,
не представляет интереса для нашей
темы; более того, нам нет необходи-
мости анализировать построение
сутры, ее целостность. Это делает
Дейссен, разбивающий сутру на
четыре текста, которые он считает
произведениями разных йогических
школ. Дейссен полагает, что у каждой
из них была своя упанишада, но он
признает, что тексты одинаково изла-
гают технику и одинаково формули-
руют цель йоги.
Для нас достаточно знать, что
«Йога-сутра» — наиболее полное, на-
иболее раннее и наиболее авторитет-
ное изложение той йоги, которая
признавалась всегда как «подлинная
медленно опустить ноги,
расслабляя мускулы, мед-
ленно производя выдох.
Нельзя допускать резких
движений — они должны
быть плавными, спокойны-
ми. Асану можно повто-
рить от трех до семи раз,
каждые две недели уве-
личивая число повторе-
ний на один раз. Реко-
мендуется сперва подни-
мать ноги попеременно
и только после известной
тренировки поднимать
обе ноги сразу. Упражне-
ние это трудное и далеко
небезопасное, так как
резко повышает кровяное
давление в грудной и
брюшной полостях и за-
трудняет кровообраще-
ние.
САРВАНГ АСАНА—«по-
ложение всех членов».
Исходное положение:
лечь на спину, руки про-
тянуть вдоль туловища
ладонями вниз; медлен-
но, не сгибая коленей,
поднять ноги как можно
выше и. приподнять таз;
затем согнуть руки в лок-
тях, опереть на них туло-
йога», как мерило, по степени отклоне-
ния от которого можно судить о степе-
ни «правомерности» других сравни-
ваемых с ним текстов.
В начале текущего века в Европе, да
и в России, прокатилась огромная
волна моды на йогу; книжные витрины
пестрели яркими красными, зелеными,
фиолетовыми обложками книжек,
трактующих об йоге. «С легкостью
мысли необычайной» разные амери-
канские и прочие бизнесмены под
манящими псевдонимами «йогов», ух-
ватив кое-что из переводов подлинных
памятников и снабдив ухваченное
доброй толикой собственной фантазии,
создавали «руководства» по практике
йоги без учета истинного смысла этой
практики, без учета физиологических
и психофизиологических закономер-
ностей, хорошо известных мыслителям
Древней Индии.... Получалось что-то
очень жалкое и нездоровое. Это явле-
ние очень верно отразил в двадцатых
годах О. Шмитц: «Бесконечное мно-
жество европейцев занимается йогой.
Неисчислимые книги, написанные по-
луграмотными для полуграмотных,
пытаются ввести технику... но мы не
встретили йогина-европейца или же
встречали в таком головокружитель-
вище с поднятыми нога-
ми и поднимать его до
тех пор, пока шея по от-
ношению к туловищу бу-
дет согнута почти под
прямым углом, а подбо-
родок упрется в яремную
вырезку грудной кости.
Удерживаться в этом по-
ложении от полминуты
до шести минут и больше,
прибавляя по одной мину-
те в неделю. Внимание
сосредоточивается на го-
ловном (тысячелепест-
ном) чакраме.
Так же, как и ширшаса-
на, сарвангасана считает-
ся одной из самых глав-
ных асан. Обе они сущест-
венно меняют условия
кровообращения и в арте-
риальной сети, и в веноз-
ной; облегчается отток
крови из систем нижней
полой и воротной вен и
несколько затрудняется
отток из верхней полой
вены, что способствует
некоторой пассивной за-
держке крови в мозгу и
щитовидной железе.
Продолжение
следует
но-гротесковом виде, что они
вызывают у нас только улыбку».
В технику йоги индийский народ
вложил свою вековую мудрость, иног-
да приводящую в изумление глубиной
познания физиологических и психоло-
гических законов и степенью владения
своими психофизиологическими сила-
ми. Но именно поэтому к практическим
моментам надо относиться с большой
осторожностью, так как неправильно
выполненное упражнение может пойти
не на .пользу, а во вред. Их нельзя
рассматривать как своего рода
«классы», которые школьнику нужно
пройти один за другим. Конечно,
требуется постепенность, но это не
значит, что, не овладев всеми асанами,
нельзя приниматься за пранаяму, но,
с другой стороны, овладение хотя бы
одной из медитационных асан весьма
облегчает тренировку в сосредоточен-
ности
ЯМА И НИЯМА
Первые две ступени йоги считаются
как бы подготовительными. О них
говорится как о требованиях
нравственного характера, предъявля-
емых на всех ступенях жизни.
Называются эти две ступени «яма»
и «нияма»; оба слова происходят от
одного корня и различаются несколько
условно, искусственно. Первому слову
придается смысл «воздержание», вто-
рому — «соблюдение обетов». Под на-
званием «яма» Патанджали объеди-
няет следующие требования: непричи-
нение вреда (ахимса), правдивость,
честность (буквально — неворова-
тость), целомудрие, неприятие даров.
Требования ниямы таковы: чистота
(нравственная и физическая), удов-
летворенность, тапас (возогревание
силы), изучение Писания и предан-
ность Ишваре «Тапас» — слово,
очень трудно поддающееся переводу.
На европейские языки его обычно
переводят через «аскеза». Это далеко
не точно и верно только по внешнему
моменту, а не по внутреннему содер-
жанию. Русское выражение
«умерщвление плоти», или «самоистя-
зание», также далеко не точно пере-
дает внутренний смысл слова «тапас».
Христианская аскеза, умерщвление
плоти творятся для «угашения страс-
тей» (в первую очередь, половой
страсти) и для развития смирения.
Тапас по существу не преследует ни
того, ни другого. Тапас — скорее
жертва, вредная для совершающего
ее и ненужная, скорее даже неугодная
для принимающего ее. В йогическом
ритуале тапас как бы «разменная
монета», по курсу которой определяет-
ся дар, просимый у божества (ср. «Ма-
ги» Луначарского).
АСАНА
Третья ступень восьмиступенной
йоги называется асана (сидение, поло-
жение, осанка). «Йога-сутра» говорит
очень кратко об асанах и только
в связи с упражнениями в самоуглуб-
лении (самадхи) Позже учение об
асанах развилось чуть ли не в особое
йогичёское направление, по крайней
мере в глазах тех, кто ищет в йоге
метод для чуждых ей целей, О значе-
нии положения тела В йогических
упражнениях говорится уже в Упани-
шадах.
Под асаной понимается не только
положение тела в узком смысле слова,
но и выбор места для йогических
упражнений. К месту предъявляются
три основных требования: оно должно
быть тихим, чистым и безопасным. Эти
требования вполне оправданны и фи-
зиологичны. Мне пришлось слушать
лекции И. П. Павлова, когда в его
распоряжении был лишь физиологи-
ческий корпус Военно-медицинской
академии. На лекциях Иван Петрович
жаловался, как много трудностей до-
ставляет ему городской шум при
выработке условных рефлексов даже
первого порядка. Для выработки ус-
ловных рефлексов, особенно более
высоких порядков, он ставил те же
условия, что и писания йоги: тишину,
чистоту, возможно полную изоляцию
подопытного животного. Известно, что
при особо тонкой выработке рефлексов
присутствие даже только эксперимен-
татора сильно мешает работе мозга.
Не все тексты уделяют внимание
вопросу: как упражняющийся должен
быть ориентирован в пространстве.
Некоторые тексты очень подробно
разъясняют смысл ориентации йогина
по «розе ветров», в зависимости от
цели медитации, другие же (например,
«Гита») совершенно не упоминают об
ориентации. В большинстве текстов,
где есть упоминание о ней, рекомен-
дуется положение лицом на север или
на восток. Север — страна всяческого
восхождения: к северу в Индии идет
подъем почвы к Гималаям — «стране
чудес, обители богов», по верованию
индийцев, в частности обители
владыки йоги — Шивы (впоследствии
Шива вытеснил в йоге Вишну); се-
вер — это крайняя точка подъема
солнца, при «северном» его пути —
летнее солнцестояние и т. д
Современная наука обосновывает
некоторые интуитивно найденные
йогические положения. Известно, что
на поверхности земного шара от эква
тора к полюсам проходят электромаг-
нитные течения, влияющие на живые
организмы и обусловливающие неко-
торые тропизмы (расположение неко-
торых растений, направление переле-
тов птиц и пр.); в 1936 г. И. Л. Баум-
гольц в Пятигорске изучал способ-
ность больного организма тем или
иным образом реагировать на положе-
ние тела в пространстве.
Продолжение следует.
В. КУЧКИН,
доктор исторических наук
исследователя,—
решившей судьбу
победой Дмитрия
крупнейшим цер-
крупнейший граж-
Е. Голубинского
был согласен и
современник Е.
маститыми исследователями роли
одробно анализируя биографию Сергия
И Радонежского, известный историк русской
И православной церкви Е. Е. Голубинский
смог отметить в ней лишь два эпизода,
И М непосредственно связанных с тогдашними
^В политическими событиями: его участие в
^В ^В улаживании конфликта между нижегород-
И И скими князьями в 1365 году и диплома-
ми М тическую поездку по поручению Дмитрия
И Донского к рязанскому князю Олегу
в 1385 году. Но не эти акции, по мнению
Е. Е. Голубинского, стали основными вехами в обществен-
но-политической деятельности троицкого игумена. «Имя
преподобного Сергия,— по мнению
неразрывно связано с знаменитой,
России Куликовской, или Донской,
Ивановича над Мамаем»1. В этом с
ковным историком
данский историк,
В. О. Ключевский2.
Оценка двумя
и значения Сергия Радонежского в подготовке победы на
Куликовом поле, положившей начало политическому
и национальному возрождению Руси, не была новой. Уже
первая печатная книга по русской истории — «Синоп-
сис»— в ее третьем издании, вышедшем в 1680 году
и впервые включившем рассказ о Донском побоище,
содержала эпизод благословения Сергием Радонежским
князя Дмитрия на борьбу с Мамаем3 *. Этот же эпизод (как
бесспорный исторический) приводили в своих трудах
историки XVIII столетия В. Н. Татищев и М. М. Щербатов
Даже у ученых рационалистического XIX века не зароди-
лось никаких сомнений: и Н. М. Карамзин, и С. М. Соловьев
были убеждены в достоверности этого эпизода А автори-
тет В. О. Ключевского и Е. Е Голубинского превратил эти
свидетельства в истину, которая, уснащаясь новыми
подробностями, остроумными догадками, дальними и
близкими параллелями, красочными мазками обобщений,
нашла широкое отражение в трудах современных нам
историков, литературоведов,в произведениях писателей,
публицистов, поэтов, художников. Из крупных советских
историков некоторые сомнения в правдивости деталей
рассказа о свидании Дмитрия с Сергием высказывал лишь
академик Л. В. Черепнин. «Сильно разукрашен и эпизод
с посещением великим князем Дмитрием Ивановичем
Сергия Радонежского,— писал он,— хотя отрицать воз-
можность такого визита и нет оснований»5.
Но каковы истоки свидетельств о причастности Сергия
Радонежского к Куликовской битве? Оказывается, и жив-
шие в XVII веке составители «Синопсиса», и историки
XVIII века, и исследователи прошлого и нынешнего
столетий опирались на один и тот же памятник — «Сказа-
ние о Мамаевом побоище» (правда, на различные версии
этого произведения).
В настоящее время известно свыше 150 списков
«Сказания о Мамаевом побоище», в которых отразилось
1 Голубинский Е. Е. Преподобный Сергий Радонежский и созданная им
Троицкая лавра. Чтения в Обществе истории и древностей российских,
1909, кн. 2, с. 61. >
2 Ключевский В. О. Значение лреп. Сергия для русского народа и
государства. Очерки и речи. Второй сб. статей. М., <913, с. 210.
3 См.: Синопсис. Киев, 1680, с. 135—137.
См. Карамзин Н. М. История государства Российского, кн. 2, т. 5.
СПб., 1842, стлб. 36; Соловьев С. М История России с древнейших
времен, кн. 2, т. 3—4. М., 1960, с. 285 и примеч. 499 нв с. 348.
R Черепнин Л. В. Образование Русского централизованного государст-
ва в XIV—XV веках. М., 1960, с. 606.
$0
iJMBIIK ПВД IliWili'ill
IflAlfl HA
Ев!
более 10 редакций. Но все они восходят к трем главным:
Основной, Летописной и Распространенной. Если свиде-
тельства этих трех редакций «Сказания» идентичны, то их
смело можно возводить к первоначальному тексту и су-
дить о степени информированности, взглядах и идейных
устремлениях его автора.
Для рассматриваемой темы важен прежде всего тот
эпизод «Сказания», где описана встреча Дмитрия Иванови-
ча с Сергием Радонежским в канун Куликовской битвы.
«Сказание» сообщает, что, собирая в 1380 году полки
против Мамая и приказав «всему въинству своему быти на
Коломне на успение святыа богородица» (15 августа),
Дмитрий Иванович дождался в Москве прихода многих
князей «с своими силами». Далее, взяв с собой двоюрод-
ного брата Владимира Андреевича и «вся князи русские»,
Дмитрий выехал в Троицкий монастырь «на поклонъ къ...
старцу Сергию».
Игумен Сергий встретил Дмитрия и упросил его быть
на литургии, «бе бо тогда день въскресный и память святых
мученикъ Флора и Лавра». По окончании службы Сергий
пригласил великого князя к столу. Дмитрий спешил
и отказывался от застолья, но Сергий его уговорил. После
трапезы Сергий окропил Дмитрия и «все христолюбивое
его въинство» водой с мощей Флора и Лавра и благословил
великого князя. При этом Сергий тайно предсказал ему
победу над Мамаем: «Имаши, господине, победити
супостаты своя».
Дмитрий попросил у Сергия двух воинов: Александра
Пересвета и его брата Андрея Ослябю. То были «ведоми
суть ратници въ бранех». Сергий повелел Пересвету
и Ослябе присоединиться к воинам Дмитрия. Вместо
боевого оружия Сергий дал им «крестъ Христовъ... на
скымах». Простившись с Сергием, великий князь вернулся
в Москву. Там вместе с братом Владимиром он пошел
к митрополиту Киприану и поведал ему о тайном предска-
зании троицкого игумена. Митрополит велел князьям
хранить тайну.
27 августа, в четверг, Дмитрий назначил выступление
войска из Москвы. Перед походом он вместе с Владими-
ром Андреевичем молился в Успенском соборе перед
иконой Владимирской божьей матери, испрашивая заступ-
ничества. После молитвы великий князь получил благосло-
вение от митрополита Киприана, давшего ему, как
и Сергий, «Христово знамение — крестъ на челе». Кроме
того, митрополит послал свой «собор» во Фроловские,
Никольские и Константиноеленинские ворота Кремля,
чтобы окропить воинов «священною водою». А Дмитрий
и Владимир тем временем перешли в Архангельский
собор, где еще раз вознесли молитвы, теперь уже перед
гробами «православных князей прародителей своих».
Только после этого они выступили в поход.
Приведенные сведения есть во всех трех главных
редакциях «Сказания о Мамаевом побоище»6. Из них
видно, как рисовались автору отношения церкви и Дмит-
рия в канун битвы на реке Непрядве.
Прежде всего следует подчеркнуть, что, с авторской
точки зрения, Сергий Радонежский был не единственным
и не главным представителем русской церкви, кто
напутствовал на битву с Мамаем Дмитрия и все войско.
Роль Сергия сводилась к благословению рати, тайному
предсказанию победы и передаче Дмитрию двух
испытанных воинов. Эти действия Сергия были одобрены
митрополитом Киприаном. Глава русской церкви дал
и последнее напутствие собранным в Москве полкам
Таким образом, для автора «Сказания» именно митропо-
лит был тем верховным и самым авторитетным церковным
лицом, которое могло правильно оценить поведение
троицкого настоятеля и от которого только и могло
исходить конечное благословение борцам против «ага-
рянства».
Выстроенная автором «Сказания о Мамаевом по-
боище» картина поддержки церковью защитников Руси от
Мамая логически безупречна. Но...
Автор «Сказания» знал, что в год Куликовской битвы
главой русской церкви был митрополит Киприан, однако
не ведал того, что великий князь Дмитрий находился с ним
во враждебных отношениях. В 1380 году Киприана не было
в Москве и вообще в Северо-Восточной Руси: Дмитрий не
пускал его в свои владения. Митрополит пребывал тогда
в Киеве. Поэтому сообщения «Сказания» о советах Дмит-
рия с митрополитом, его разговорах с ним, о благосло-
вении Киприаном русского войска, шедшего на борьбу
с Мамаем,— не более чем плод литературного сочини-
тельства, вымысел человека, далекого от реальных
событий.
Наличие в «Сказании» явно вымышленных эпизодов не
дает права отвергать по аналогии и все другие его
исторические свидетельства. Но это обстоятельство делает
особенно необходимой проверку их достоверности.
В рассказе о посещении Дмитрием Троицкого мо-
настыря сообщаются факты, степень точности которых
может быть выяснена. Посещение состоялось в воскре-
сенье, когда церковь отмечала память мучеников Флора
и Лавра. День их памяти приходится на 18 августа. Однако
в 1380 году 18 августа было не воскресеньем, а субботой.
Перед описанием посещения в «Сказании» сообщается,
что великий князь повелел всем своим полкам быть
в Коломне на успеньев день. Имеется в виду день успения
богородицы, то есть 15 августа. Но если Дмитрий посетил
Троицкий монастырь 18 августа, то получается, что он не
только не послал войска к Коломне для защиты от
возможного внезапного нападения Мамая с юга, но увел
«вся князи русские» из Москвы на север. Эти несообраз-
ности убеждают в том, что дата посещения Дмитрием
старца Сергия недостоверна.
В «Сказании» фигурируют монахи Троицкого мо-
настыря Александр Пересвет и Андрей Ослябя. Оба они,
по свидетельству «ЗадОнщины» (самого древнего памятни-
ка, рассказывающего о Куликовской битве), действительно
участвовали в Донском побоище. Но «Задонщина» не
сообщает имен этих воинов, а приводит только их
прозвища: Пересвет и Ослябя7. Имя Пересвета — Алек-
сандр — впервые встречается в перечне павших на
® См.: Сказания и повести о Куликовской битве. Л., 1982, с. 30—33,
82—84; Повести о Куликовской битве. М.. 1959. с. 86—89.
7 См.: Сказания и повести..., с. 10—11.
&
Куликовом поле в летописной статье свода 1409 года — так
называемой Краткой летописной Повести о Донском
побоище При этом имя не сопровождается пометой, что
его носитель был монахом (при упоминании монашеского
имени такая помета в источниках обязательна). Следова-
тельно, Александр — светское имя Пересвета. Ослябя же,
согласно «Задонщине», сражался против Мамая вместе
с сыном Яковом, что для монаха совершенно необычно.
Очевидно, и Пересвет, и Ослябя стали монахами Троицко-
го монастыря лишь под пером автора «Сказания». На
самом деле эти известные в свое время воины принадле-
жали, судя по более ранним, чем «Сказание», источникам
к числу митрополичьих бояр, обязанностью которых было
ходить в военные походы вместе с воинами великого
князя.
Не вызывает доверия и сообщение о том, что,
благословив Пересвета и Ослябю, Сергий дал им «в
тленных место оружие нетленное—крестъ Христовъ
нашытъ на скымах, и повеле им вместо в шоломовъ
золоченых възлагати на себя»8 9. Следует обратить внима-
ние на то, что в «Сказании» говорится не просто о шлемах,
а о шлемах «золоченых», которые могли иметь ратники.
Налицо прямая полемика с «Задонщиной», где говори-
лось, что чернец Пересвет «поскакивает на своем добре
коне, а злаченым доспехом посвельчивает»10 11. Но откуда
у скромного монаха золоченые доспехи? С точки зрения
автора «Сказания о Мамаевом побоище», такого быть не
могло, и он заменяет их схимой с крестом Однако, как
свидетельствует более древняя «Задонщина», Пересвет
сражался в доспехах, а не в схиме
Итак, рассказ «Сказания о Мамаевом побоище»
о посещении великим князем Дмитрием Троицкого
монастыря перед выступлением в поход против Орды
содержит следующие несогласуемые с другими эпизода-
ми «Сказания» и более ранними источниками факты:
приезд Дмитрия к Сергию в воскресенье 18 августа
1380 года; приезд со всем собранным войском; утвержде-
ние, что Пересвет и Ослябя были монахами Троицкого
монастыря; что Пересвет и Ослябя сражались не в
воинских доспехах, а в схимах.
Эти несоответствия не только источникам, но и реаль-
ной ситуации 1380 года не будут казаться читателю
странными, если знать, когда появилось «Сказание о Ма-
маевом побоище». В настоящее время распространено
мнение, что «Сказание» написано лет через 30—40 после
Куликовской битвы. Отголосок его находят в Послании
ростовского архиепископа Вассиана Рыла Ивану III по
поводу нашествия на Русь ордынского хана Ахмата
в 1480 году Вассиан напоминал о событиях 1380 года
и призывал к борьбе с Ордой". Однако при проверке
выяснилось, что исторические параллели были заимство-
ваны Вассианом не из «Сказания», а из летописного текста,
восходящего к рассказу о Куликовской битве летописного
свода 1423 года — так называемой «Пространной летопис-
ной повести о Донском побоище». Следов «Сказания»
в XV веке не обнаруживается.
Оно отразило факты и ситуации более позднего
времени. Так, там содержится вымышленный эпизод ухода
к московскому князю от отца-католика литовского велико-
го князя Ольгерда двух его сыновей православных Андрея
и Дмитрия12. Такой вымысел, объяснивший участие Оль-
гердовичей в Куликовской битве, мог появиться лишь
тогда, когда стала обычной практика перехода на мос
ковскую сторону православных князей, недовольных
распространением католичества в Литовском великом
княжестве. Это распространение было связано с именем
Иосифа Болгариновича, который в 1498 году стал митропо-
литом Киевским и всея Руси. А уже весной 1500 года начал-
ся массовый переход из Литвы к Ивану III князей, тер-
певших «великую нужу о греческом законе»13. Поэтому
есть веские основания считать, что «Сказание о Мамаевом
побоище» появилось в начале XVI века.
Таким образом, в источнике, повествующем о событиях
1380 года, но созданном спустя 120—130 лет после них,
52
элементы вымысла и догадки занимают значительное
место. К легендарным эпизодам памятника надо отнести
и описанное в нем свидание великого князя Дмитрия
с Сергием Радонежским за 21 день до Куликовской битвы.
Если многие детали этого свидания придуманы, то
возникает вопрос: а не измыслил ли автор и сам факт
посещения великим князем Троицкого монастыря? Чтобы
на него ответить, необходимо проанализировать более
раннее, чем «Сказание о Мамаевом побоище», «Житие»
Сергия Радонежского, где такой факт приводится.
Ко времени написания «Сказания» были широко
распространены различные версии этого «Жития». В них
почти всегда помещался рассказ о приезде Дмитрия
к Сергию перед походом на ордынцев. В старейшей из
сохранившихся полных редакций «Жития», составленной
Пахомием Сербом в конце 30-х годов XV века на основа-
нии материалов о Сергии Радонежском, собранных
современником последнего Епифанием Премудрым14,
описание встречи князя и игумена изложено в статье
«О побежении татаръ и иже на Дубенке о монастыри»
и носит характер неясного припоминания: к Сергию
«некогда же приде князь велики»15. Дмитрий сообщает
Сергию, что на Русскую землю идет Мамай, «хотя
разорити церквы». В ответ Сергий предрекает великому
князю победу и возвращение живым с поля сражения
Дмитрий обещает в случае победы поставить церковь
в честь успения богородицы. Он уходит в поход и,
«победивь татары прогна, и сам здравъ съ вой своими
възвратися». После этого Дмитрий вместе с Сергием
«основаста церковь» на реке Дубенке. Там был устроен
монастырь. Затем Сергий вернулся в Троицу. Таков
основанный на записках Епифания Премудрого краткий
рассказ древнейшей редакции «Жития» о свидании
Дмитрия с Сергием перед битвой с ордынцами, свидании,
не имевшем, по этой версии, какого-либо общественного
резонанса.
Последующие переделки Пахомием Сербом «Жития»
Сергия вносят в этот рассказ литературные украшения
и некоторые детали. Если в старейшей версии рассказ
сводился к тому, что Сергий предсказывал Дмитрию
сохранение жизни, а Дмитрий за это обещал построить
церковь и построил ее, то в более поздних пахомиевых
редакциях «Жития» начинают звучать и иные мотивы. Так,
во второй редакции, составленной Пахомием между
1437 и 1441 годами, Мамаю приписывалось стремление не
только разорить церкви, но и «погубити наше хрис-
тианство». Речь Сергия к Дмитрию становится более
пространной, Сергий поучает князя, говорит о его долге
как правителя: Дмитрий — царь «наш Рускыи» — постав-
лен пастырем «великому стаду всему христианству». И ему
«подобает... пещися о своем стаде крепко и должно...
и душю свою положити о нем»16. Тем самым эпизоду
свидания Дмитрия с Сергием придавался более значимый
идейный смысл; при этом возвышалась роль Сергия.
Но наиболее существенные изменения в рассказ
о свидании Дмитрия с Сер'ием накануне выступления
против Мамая Пахомий внес при составлении своей
8 См.: Полное собрание русских летописей (далее — ПСРЛ). Пг., 1922,
т. 15, вып. 1, стлб. 140
9 Сказания и повести..., с. 31
10 «Слово о полку Игоревен и памятники Куликовского цикла. М.—Л.,
1966, с. 538.
11 См.: Дмитриев Л. А О датировке «Сказания о Мамаевом побоище».
Труды Отдела древнерусской литературы. М.—Л., 1954, г 10, с. 190.
1 См. Повести о Куликовской битве, с. 58—59, 92—93, 137—138.
13 Базилевич К. В Внешняя политика Русского централизованного
государства. Вторая половина XV в М 1952, с. 433—436.
14 См.: Клосс Б. М Житие Сергия Радонежского (классификация
списков). Доклад на Секторе источниковедения истории СССР до-
октябрьского периода Института истории СССР АН СССР 26 ноября
1985 г. В дальнейшем ссылки на редакции «Жития» Сергия даются
по классификации, предложенной Б. М. Клоссом.
15 Тихонравов Н. С. Древние жития преподобного Сергия Радонеж-
ского. М., 1892, с. 59 первой пагинации
|в Там же, с. 136—137 первой пагинации.
третьей редакции «Жития» Сергия. Она была написана
около 1442 года и использовалась при создании всех
последующих версий «Жития».
Эпизод о встрече князя с игуменом в третьей редакции
изложен в статье, название которой существенно измени-
лось: «О победе великого князя Дмитриа на безбожныя
агаряны». Тем самым на первый план выдвигалось не
свидание великого князя с Сергием, не строительство
обетной церкви на реке Дубенке, а разгром Дмитрием
«безбожных агарян». В соответствии с этим изменилось
и содержание статьи. Если согласно первым двум
редакциям «Жития» известие о движении на Русь Мамая
обеспокоило одного только Дмитрия, то в третьей оно
внушило опасение всем: «и беша вси людье въ страсе
велице». Дмитрий отправляется к Сергию уже не только за
получением «благословенья и молитвы», но и чтобы
решить чисто военный вопрос: «аще повелитъ поити
противу поганых».
Выступление Дмитрия против Мамая и сама битва
описаны здесь гораздо подробнее, чем в предыдущих
редакциях. Когда русские полки выстроились на поле боя,
они «увидеша силу велику безбожныхъ и устрашишася».
В это время как раз подоспел «борзоходец» с посланием
от Сергия. Сергий убеждал Дмитрия не бояться врага
и вновь предсказывал ему победу. Это вселило «велие
дерзновение» в сердца русских воинов, и они в упорном
и кровопролитном сражении одолели Мамая. В час битвы
прозорливый Сергий со своими учениками непрестанно
молился о победе, а когда она свершилась, сообщил об
этом окружающим и даже «убьеных христоименитых вой
имени изрекъ». Дмитрий на пути с поля битвы вновь
посетил Сергия, «благодать воздавая ему о добромъ
совещании и о чюдесехъ, бываемыхъ от него»17.
Таковы добавления в рассказ третьей редакции
«Жития» Сергия о победе Дмитрия над Мамаем. Нет
сомнений, что, делая такие добавления, Пахомий имел
в виду победу на Куликовом поле. Деталь рассказа о гонце
от Сергия повторяет (драматизируя ситуацию) деталь,
впервые появившуюся в рассказе Пространной летописной
повести 1423 года о Куликовской битве. В третьей
редакции «Жития» Пахомий представил Сергия не только
идейным вдохновителем сопротивления Орде, победы на
Куликовом' поле, человеком, укреплявшим решимость
великого князя и храбрость войска, но даже военным
стратегом: Дмитрий спрашивает у Сергия, «повелит» ли
тот «поити противу поганых». В редакции 1442 года
подчеркнута исключительная прозорливость Сергия, ко-
торый не только знает о том, что Мамай будет разгромлен,
но и о том, в какой день и час это произойдет. Не удиви-
тельно, что при таких «экстрасенсуальных» качествах
троицкого настоятеля великий князь рисуется преиспол-
ненным чувства глубокого уважения к нему и преклоне-
ния.
Таким образом, факт свидания Дмитрия с Сергием
перед Куликовской битвой не был придуман автором
«Сказания о Мамаевом побоище». Он взял его из «Жития»
Сергия. Источником послужила третья редакция «Жития»,
составленная Пахомием Сербом, или восходящая к ней
более поздняя переделка этого агиографического сочине-
ния, где встреча князя и игумена была явно связана
с победой на Куликовом поле.
Но насколько точен был Пахомий, описывая в 1442 году
события, случившиеся более чем за шесть десятилетий до
этого?
Следует напомнить, что первая редакция «Жития»
сообщает о возвращении с победой Дмитрия и стро-
ительстве обетной церкви на реке Дубенке. Факт
строительства этой церкви засвидетельствован и лето-
писью, так что сомневаться в достоверности данного
сообщения в «Житии» Сергия не приходится. Но в отличие
от «Жития» летопись не называет причину строительства
церкви, лишь сообщает, что она была построена по
повелению Дмитрия Ивановича. Согласно точной летопис-
ной записи церковь и монастырь были построены
и освящены 1 декабря 1379 года, то есть более чем за
9 месяцев до победы на Куликовом поле18.
Обращает на себя внимание и другое обстоятельство.
Летопись и все редакции «Жития» Сергия говорят, что
церковь на Дубенке была посвящена успению богоро-
дицы Куликовская же битва произошла 8 сентября
1380 года, в день, когда отмечалось не успение, а рож-
дество богородицы. Почему тогда обетная церковь была
посвящена успению? Ответ на поставленный вопрос
напрашивается сам собой: потому, что эта церковь
строилась не в честь победы на Куликовом поле
Итак, ни по времени строительства, ни по своему
посвящению обетная церковь на Дубенке не имеет
отношения к Куликовской битве. Если Дмитрий посетил
Троицкий монастырь перед этой битвой, как думали в XV
веке и продолжают считать до сих пор, то налицо грубый
анахронизм: сначала в «Житии» Сергия изложены события
1380 года, а затем 1379-го (строительство церкви).
Поскольку эти события поставлены в тесную связь, их
приходится расценивать или как старание позднейшего
книжника увязать два совершенно разных факта, или как
попытку объяснить один из них с помощью вымышленного
другого. Строительство Успенского монастыря на Дубенке
зафиксировано не только «Житием» Сергия, но и лето-
писью;- оно имело место в действительности Тогда
свидание Дмитрия с Сергием надо признать литературным
домыслом. Впрочем, домыслом в том случае, если
датировать встречу 1380 годом. А последнее — воз-
можный, но необязательный вывод из рассказа «Жития»
Сергия о посещении Дмитрием Троицкого монастыря.
И поскольку это свидание, по «Житию», произошло до
указанной постройки, то есть до 1 декабря 1379 года,
в момент, когда на Русь хотел напасть Мамай (Орда напала
и потерпела поражение: Дмитрий «татары прогна»), ясно,
что речь может идти не о кануне Куликовской битвы,
а только о кануне Вожской битвы 1378 года. Битва эта
произошла 11 августа. Военные действия на реке Боже
закончились за 3 дня до 15 августа, когда отмечается
крупный церковный праздник — успение богородицы.
Отсюда понятно, почему обетная церковь на Дубенке
была посвящена именно успению. Становится очевидным,
что древнейшая из Пахомиевых редакций «Жития» Сергия,
основанная на материалах Епифания Премудрого, сооб-
щает о посещении Сергия великим князем Дмитрием не
перед Куликовской битвой, а накануне сражения на реке
Воже. Встреча эта носила личный характер (Сергий в то
время был одним из духовников Дмитрия), никакое войско
к Троице тогда не ходило.
Летописи, в целом более ранние, чем редакции
«Жития» Сергия Радонежского, также не упоминают о сви-
дании Дмитрия с Сергием незадолго до Куликовской
битвы. Об этом молчит Краткая летописная повесть
о побоище на Дону 1409 года, Пространная, летописная
повесть 1423 года, Новгородская первая летопись младше-
го извода. Ничего не знает об этой встрече и «Задонщина».
Молчание древних источников о каком-либо отношении
настоятеля Троицкого монастыря к разгрому Мамая на
Куликовом поле отразило реальную ситуацию. Сергий
вовсе не был идейным вдохновителем борьбы против
монголо-татарского засилья. Таким он стал лишь под
пером церковных книжников XV—XVI веков. Утвержде-
ния о тесной сопричастности Сергия к Куликовской бит-
ве — результат некритичного использования поздней-
ших легенд и сказаний, поставивших троицкого игумена на
высокий нравственный пьедестал и связавших с его
именем крупные события русской истории. В средневе-
ковых памятниках апологетика брала верх над историчес-
кой правдой. Распознавание истины возможно только
путем тщательного анализа и сопоставления всех без
исключения данных о переломном не только для Руси, но
и для других стран Восточной Европы 1380 годе.
17 Житие Сергия Радонежского. ГБЛ, ф. 556, № 92, л. 248—250 об.
" ПСРЛ, т. 15, выл. 1, стлб. 138.
53
В НАЧАЛЕ Окончание. Начало на стр. 22.
Есть инея точка зрения. Возможно, Вселенная
представляет собой чреду расширений и сжатий —
бесконечную Серию «космических яиц», каждое из
которых, взрываясь, рождает Вселенную. Наша нынеш-
няя Вселенная — лишь рядовое звено в бесконечной
цепи.
Наука пока не нашла способа заглянуть во времена,
предшествовавшие тому моменту, когда космическое
яйцо взорвалось, чтобы образовать нашу Вселенную.
И Библия, и наука бессильны сказать что-либо опреде-
ленное о том, что происходило до начала.
Впрочем, есть разница. Библия никогда не расскажет
нам этого. Она достигла своего конечного состояния
и попросту не может ничего сказать по интересующему
нас предмету. Наука же постоянно развивается, и впол-
не может наступить время, когда она будет в состоянии
прояснить те вопросы, которые сегодня остаются без
ответа.
7. В этом стихе под небом понимается небесный
свод, включающий в себя постоянно присутствующее
объекты — солнце, луну. Планеты и звезды. Библия
рисует этот свод так же, как его рисовали вавилоняне
(а также египтяне, греки и другие народы древности —
по-видимому, без исключения): твердая полусфера,
куполом простирающаяся над Землей. Эта точка зрения
неизменна на протяжении всей Библии. Так, в книге
Откровение Иоанна Богослова конец неба описывается
следующим образом: «И небо скрылось, свившись
в свиток» (гл. 6, ст. 14). Эта почти буквальная цитата из
Ветхого завета (ср.: Книга Исаии, гл. 34, ст. 4) ясно дает
понять, что, по представлениям древних, небо было не
толще (в сравнении с его протяженностью) Перга-
ментного листа.
Между тем, с точки зрения науки, небо — вовсе не
свод, а необъятная беспредельность пространства-
времени, в которую наши телескопы заглянули пока
лишь на расстояние десяти миллиардов световых лет.
8. В Библии «небу и земле» сообщена совершенно
определенная геометрическая форма. Земля — плос-
кое, возможно, ограниченное окружностью про-
странство, достаточно большое, чтобы вместить все
известные царства. Небо — полусферический свод,
который покоится на Земле. В соответствии с этим
представлением получается, что люди живут на дне
мира, помещенного под полой полусферой. Вот как это
описано в книге пророка Исаии: «Он есть Тот, Который
восседает над кругом земли... Он распоостер небеса,
как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья»
(гл. 40, ст. 22).
Как можно судить по древним архитектурным
сооружениям, небесному своду требовались подпорки,
иначе он мог обрушиться. В качестве подпорки могли
выступать сверхъестественное существо (древнегречес-
кий миф об Атласе) или некие технические структуры.
В Библии есть слова: «Столпы небес дрожат» (Книга
Иова, гл. 26, ст. 11).
Все это бесконечно далеко от научного представле-
ния, изображающего Землю висящим в пустоте шаром,
который вертится вокруг собственной оси, обращается
вокруг Солнца, принимает участие во вращении Солнца
вокруг центра Галактики и окружен пустой (в значитель-
ной степени) и практически безграничной Вселенной
Перевели с английского
К. Михайлов и В. Никитин
Продолжение следует.
«Служить
и помогать»
В редакцию поступают письма с просьбой
рассказать, как складываются отношения между
государством и церковью, религиозными
организациями в социалистических странах.
По просьбе журнала «Наука и религия»
корреспондент чехословацкого агентства
печати ОРБИС Яна Дрекслерова
встретилась с представителями Объединения
католических священников (ОКС)
«Лацем ин террис» — добровольной общественной
организации, которая с начала 70-х годов
действует в Чехословакии под девизом
«Служить и помогать». В беседе участвовали
председатель федерального комитета ОКС,
декан римско-католического богословского
факультета в Литомержице, доктор теологии,
профессор Франтишек Выметал; главный
секретарь ОКС каноник Йозеф Мештян;
председатель ОКС Чешской Социалистической
Республики Вацлав Явурек; секретарь ОКС
Чешской Социалистической Республики
ксендз Йозеф Штястный; профессор, доктор
теологии Владимир Бенда;
каноник, доктор теологии Франтишек Гохманн.
Я. Д. Прежде чем перейти
к деятельности ОКС «Па
цем ин террис», погово-
рим о факторах, которые
вызвали к жизни вашу
организацию.
Ф. ВЫМЕТАЛ. Среди
миллионов жертв второй
мировой войны — тыся-
чи священников. Многие
погибли в фашистских
застенках, тысячи были
депортированы на при
нудительные работы, где
подорвали здоровье. Этот
горько доставшийся, до-
рого оплаченный опыт
перерос в сознание того,
что нужно неустанно бо-
роться против угрозы
нойой войны. Так еще в
период «холодной вой
ны» 1949—1950 годов
возникло Движение ка-
толических священников
за мир (ДКСМ).
В то время сформиро-
валось и Всемирное дви-
жение сторонников мира,
и наши ксендзы стали
искать приемлемые фор-
мы участия в нем —
первоначально в рамках
разного рода междуна-
родных встреч и ассамб-
лей. Делегации предста-
вителей чехословацкой
церкви побывали, напри-
мер, во Вьетнаме и Корее,
народы которых вели
борьбу с империалисти-
ческими агрессорами. Мы
стремились поддержать
морально и другими
доступными средствами
своих собратьев в этих
странах.
Ф. ГОХМАНН. Я был
одним из тех, кто стоял
у истоков ОКС «Пацем
ин террис» в ЧССР в
1971—1972 годах. Ло-
зунг «Служить и помо-
гать» взят нами из Еван-
гелия. Он обязывает чле-
нов ОКС участвовать в
улучшении условий жиз-
ни, материальном и ду-
ховном развитии общест-
ва. Это первая из трех
задач, которые мы поста-
вили перед собой.
Вторая — борьба за
мир. Проблема укрепле-
ния мира, сохранения
священного дара жизни
на планете — первосте-
пенная задача современ-
ности. Для нас, священ-
нослужителей, ее реше-
ние — главное в нашей
пастырской миссии. Мы
присоединяемся ко всем,
кто выступает за мирное
сосуществование наро-
дов, за взаимопонима-
ние между людьми.
Ну и, разумеется,— и
в этом заключается тре-
тья задача — наше объ-
единение защищает про-
фессиональные интересы
своих членов.
Я. Д. Каково участие
ОКС в воспитании граж-
дан в духе мира?
В. БЕНДА. Мы стремим-
ся во всех приходах рас-
54
пространять и укреплять
идею сохранения и упро-
чения мира. Ведь он —
не просто передышка
между войнами, а дли-
тельный процесс, кото-
рый берет начало с меж-
человеческих отноше-
ний — в семье, на рабо-
те, в школе, в церкви и
на всех других уровнях,
включая международ-
ный, межгосударствен-
ный.
Я. Д. Но не всеми воспри-
нимается именно так.
Известно, что буржуаз-
ная пропаганда, которая
подвергает частым на-
падкам жизнь церкви в
социалистических стра-
нах вообще и в Чехосло-
вакии в частности, пы-
тается извратить цели
Объединения католичес-
ких священников в ЧССР,
выдавая его за полити-
ческую организацию, ко-
торая находится в оп-
позиции к Ватикану и
якобы даже запрещена
им. Каково ваше отно-
шение к подобным из-
мышлениям?
И. МЕШТЯН. Тот факт,
что ксендзы у нас могут
не только выполнять свои
пастырские обязанности,
но и вносить конкрет-
ный вклад в дело мира,
бесит недругов социа-
лизма, и они стремятся
использовать любой по-
вод, чтобы исказить ис-
тинный смысл деятель-
ности ОКС. Особенно
преуспели в этом небла-
говидном занятии эми-
грантские круги, кото-
рые всячески стараются
обострить отношения Ва-
тикана с ЧССР и ОКС.
Одно из их привычных
лживых утверждений:
«Пацем ин террис», мол,
пытается подменять
епископат. Но все чехо-
словацкие иерархи, за
исключением кардинала
Томашека и епископа
трнавского Габриша,
убеждены, что ОКС верно
церкви, папе, родине и
народу, и это их мнение
было доведено до .сведе-
ния Ватикана. Члены на-
шего объединения счи-
тают гражданским дол-
гом поддерживать миро-
любивую политику свое-
го государства.
Ф. ВЫМЕТАЛ. Мы не
хотим замалчивать проб-
лемы. Действительно, оп-
ределенная часть духо-
венства, прежде всего
молодые ксендзы, не-
сколько дезориентирова-
на. Думаю, это отчасти
связано с трудностями
поиска своего места в
жизни. Нужно время,
чтобы они поняли, в чем
состоят пастырские обя-
занности при социализ-
ме. Папа Иоанн Павел II
в послании к ОКС «Па-
цем ин террис» призвал
всех его членов содейст-
вовать дальнейшему раз-
витию хороших отноше-
ний между католической
церковью и чехословац-
ким государством. Об
этом, собственно, мы и
заботимся, не подменяя
в этих вопросах церков-
ное руководство.
Я. Д. На каких принци-
пах строится в ЧССР
сотрудничество между
католической церковью
и социалистическим госу-
дарством?
В. ЯВУРЕК. Мы исхо-
дим из того, что и духо-
венство, и верующие жи-
вут при социализме. При
всем различии взглядов
на некоторые реалии мы
руководствуемся граж-
данским долгом и с ува-
жением относимся к мне-
нию других, поддержи-
вая те действия и идеи,
которые служат всеобще-
му благу. Наши миро-
любивые усилия высоко
оценены государством,
которое оказывает нам
помощь. Они получили
признание со стороны
президента ЧССР докто-
ра Густава Гусака, за-
местителя председателя
правительства ЧССР Ма-
тея Лучана, министров
культуры обеих феде-
ральных республик и
других руководящих дея-
телей. А в мае 1985 года,
когда торжественно отме-
чалось 40-летие осво-
бождения Чехословакии
Красной Армией, многие
члены ОКС были удостое-
ны государственных наг-
рад. Или другой пример.
Летом 1986 года во время
выборов в законодатель-
ные органы доктор тео-
логии Франтишек Выме-
тал был избран в Феде-
ральное собрание ЧССР,
а декан Ян Забак — в
Словацкий националь-
ный совет.
Ф. ГОХМАНН. В уело
виях социалистического
общества нашей церкви
необходимо было найти
способы активного уча-
стия в его развитии. Ес-
тественно, при этом воз-
никали определенные
проблемы. Ряд вопросов
постепенно был разре-
шен с учетом интересов
церкви и государства,
другие ждут решения,
третьи же пока остаются
открытыми. Но незави-
симо от этого верую-
щие — это неотделимая
составная часть чехосло-
вацкого народа, нас объ-
единяют общее отечество,
история, культура и мно-
гие другие основопола-
гающие ценности. Верую-
щие не только по граж-
данским, но и по рели-
гиозным мотивам участ-
вуют в реализации за-
дач, стоящих перед со-
циалистическим общест-
вом. Мы, священнослу-
жители, направляем ве-
рующих так, чтобы они
воспринимали эти зада-
чи как свои собственные.
Ведь среди них такие гу-
манные цели, как утвер-
ждение в обществе чест-
ности, трудолюбия, поря-
дочности. Общность этих
целей служит своеобраз-
ным связующим звеном
между верующими и не-
верующими гражданами
нашего государства. Нас
связывает многое. Почти
все, кроме философской
основы мировоззрения.
А главное, нас связывает
стремление сохранить и
упрочить мир.
Я. Д. Как ОКС «Пацем
ин террис» сотрудничает
с другими религиозными
организациями в стране
и за рубежом?
И. МЕШТЯН. Мы не за-
мыкаемся в себе. У нас
налажены деловые кон-
такты с Христианской
мирной конференцией,
штаб-квартира которой
находится в Праге. ОКС
представлен и в Комите-
те церковных и религиоз-
ных деятелей ЧССР, ко-
торый возник в ходе под-
готовки к Всемирной ас-
самблее «За мир и жизнь,
против ядерной войны»
(Прага, 1983), и в Чехо-
словацком комитете за-
щиты мира.
В. БЕНДА. Мы также
поддерживаем контакты
с Берлинской Конферен-
цией европейских като-
ликов. Я, например,
участвовал в работе VI
Международного бого-
словского коллоквиума
этой Конференции в
Лионе (Франция), где
выступил с докладом
♦ Теология на службе ми-
ра». В принятом там
заключительном доку-
менте подчеркивается,
что борьба за мир — де-
ло не только политиков,
но и всех людей доброй
воли, в том числе, ко-
нечно, и верующих, слу-
жителей культа. Участ-
ники коллоквиума с на-
деждой, как о добром
знамении говорили о
мирных инициативах
М. С. Горбачева и конст-
руктивных предложе-
ниях по оздоровлению
международного клима-
та, выдвинутых «делий-
ской шестеркой».
Ф. ВЫМЕТАЛ. Наше
объединение представле-
но и во Всемирном Сове-
те Мира. На его сессии
в Софии в руководство
Совета были избраны
доктор теологии Анежка
Эбертова и я. Как пред-
седатель ОКС я вхожу в
Чехословацкий комитет
за европейскую безопас-
ность и сотрудничество
и в парламентскую груп-
пу ЧССР по сотрудни-
честву с ФРГ. Недавно я
побывал в Бремене на
заседании Лидицкой
инициативы. В этом тра-
диционном форуме при-
нимают участие предста-
вители Христианской
мирной конференции, че-
хословацких и западно-
германских профсоюзов,
а также чешской деревни
Лидице, уничтоженной
в 1942 году нацистами.
И. МЕШТЯН. Широкие
связи у нас налажены с
родственными организа-
циями в соседних социа-
листических странах.
Так, мы постоянно обме-
ниваемся опытом с «Опус
пацис» в Венгрии. На-
чали развиваться контак-
ты с русской православ-
ной церковью.
Ф. ВЫМЕТАЛ. Нашу ми-
ротворческую деятель-
ность мы и в будущем
будем продолжать и рас-
ширять. До тех пор, пока
мир на земле не станет
всеобщим и прочным.
Прага
СЕКРЕТЫ МОНАСТЫРСКОЙ КУХНИ
Н. КОВАЛЕВ
Б. Окуджава.
Свидание с Бонапартом
С детства всем знакома поговорка:
«С ним каши не сваришь». Однако вряд ли
кто задумывался, какой прямой смысл она
некогда имела. Почему именно каши?
Арабский путешественник и писатель
Ибн Фадлан (начало X в.) отмечал, что
у руссов есть обычай при заключении
мирного договора варить кашу, которую
должны съесть вожди враждующих пле-
мен. Отсюда и пошло: каши не сваришь —
не сговоришься.
Но кашей «скреплялся» не только
мирный договор. Брачные пиры в старину
называли «кашею». Летопись сообщает,
что под 1239 год князь Александр Яросла-
вич на свадьбе «самолично кашу чинил».
При этом варили кашу и в Торопце, откуда
была родом невеста, и в Новгороде, где
княжил Александр Невский. Каша счита-
лась символом домовитости. У многих
народов сохранилась традиция осыпать
невесту на свадьбе зернами пшеницы,
овса. Девушки на свадьбе пели: «А мы
просо сеяли, сеяли...»
Не случайно на Руси бытовало выраже-
ние: «Сосед на каши зовет». Кашею
называли и обед на новом хозяйстве
у молодых после свадьбы, и крестины, где
бабка с кашей обходила гостей, причем
отцу полагалась ложка каши с солью
и перцем. В Белоруссии специально пере-
соленной «бабьиной» кашей насильно
кормили мужа роженицы, чтобы и ему
было несладко.
В Архангельской губернии так называ-
Гречневая каша. Зерно к
зерну. Сколько их, аромат-
ных, граненых! Ежели
сыпать их из чугуна, к
примеру, на большой лист
бумаги, они зашуршат и
рассыплются, будто сухие.
Ах, вовсе нет. они мягкие,
горячие, переполненные со-
ком и паром, вобравшие в
себя ароматы лугов, июль-
ского полдневного зноя
и вечерних засыпающих
цветов и соки росы... При-
вкус грецкого ореха ощуща-
ется в этих зернах. Греч-
ка!.. От черной каши лица
становятся белы и холены,
а в душе пробуждается
милосердие..
Каша
емая отжинная каша составляла главное
угощение на празднествах, приуроченных
к окончанию жатвы. В Костромской губер-
нии в день Аграфены Купальницы
(23 июня) по возвращении из бани или
после купания ели обетную кашу, готови-
лась она с особыми символическими
обрядами; крупу для нее толкли накануне
иногда варили ее в складчину. В Тульской
губернии в этот день по обету варилась
мирская каша, которой кормили нищих
А что такое «полба» из сказки Пушкина?
Ведь именно непритязательность Балды
и должен был подчеркивать такой пункт
в его «трудовом договоре» с попом:
«А корми ты меня вареною полбою»
Это — сваренные целыми, обычно плохо
обмолоченные зерна полбяной пшеницы
(как поясняет В Даль, это «колосовое
растенье между пшеницей и ячменем»).
Сначала каши варились из целых зерен.
Так, Феодосий Печерский, один из основа-
телей Киево-Печерского монастыря (XI в.),
советует келарю «на худой конец сварить
пшеничку и подать ее братии с сытью
(разведенным медом)».
Постепенно простые блюда усложня-
лись, сдабривались различными приправа-
ми. Вероятно, многие помнят, как Пульхе-
рия Ивановна угощала Афанасия Иванови-
ча кашей: «Вы положите побольше масла,
тогда она не будет казаться пригорелой,
или вот возьмите этого соусу с грибками
и подлейте к ней».
Со временем расширился ассортимент
круп. К целым зернам пшеницы и овса
добавилось пшено. У наших предков оно
пользовалось особой любовью, так как его
получали из проса, неприхотливой куль-
туры, дававшей хооошие урожаи на от-
воеванных у леса скудных почвах.
Гречневая крупа пришла к нам намного
позднее Высокая питательность и пре-
красный вкус гречневой каши нашли свое
отражение в пословицах «Горе наше,
гречневая каша — есть не хочется, а поки-
нуть жаль»; «Мать наша, гречневая каша:
не перцу чета — не прорвет живота»!
Рис на Руси был привозным, дорогим,
и хотя он уже упоминается в старинной
«Росписи царским кушаньям», даже в
XVIII веке его называли «сарацинским
пшеном» Именно потому, что рис был
дорог, из него варили поминальную ка-
шу — кутью
Что касается манной крупы, то ее
никогда специально не делали, а получа-
лась она как промежуточный продукт при
крупчатом помоле пшеницы (по В. Далю,
крупитчатая мука — «лучшая пшеничная,
белая и самого тонкого размола, котель-
ная, т. е. пробитая на мельнице в частое
сито»).
Усложнялась технология приготовления
каш. В народной кухне, правда, их готови-
ли, как и много веков назад, попросту, не
мудрствуя лукаво, но в богатых домах
каких только каш не варили! И на столах не
только светской, но и духовной знати
новомодные каши были в большом почете.
В монастырской кухне разнообразные
каши занимали особое место. Это и понят-
но. Ведь все уставы (Студийский, Соловец-
кий, Афонский и др.) разрешали постные
каши в любые дни. Во второй половине
XIV века митрополит Алексий и Сергий
Радонежский ввели общежитийный устав,
по которому пищу полагалось готовить на
всю братию. В итоге наряду со щами каша
стала основным блюдом на монастырском
столе, так как ее можно было варить
в больших котлах. Крупы хранятся хорошо
весь год, и это позволяло делать немалые
запасы. Ели кашу с постным маслом,
а в скоромные дни — с молоком. Когда же
молоко пить было нельзя, монахи заменя-
ли его «маковым молочком» (соком мака)
В обиходнике Новоспасского монастыря
перечислен ряд каш монастырской тра-
пезы: с кусками рыбы, с рыбьими пупками
(т. е. молоками и печенью налима и других
рыб), с головизной, с хрящами осет-
ровыми, с вандышами (мелкой рыбой), со
снетками и т. д. Часто упоминаются каши
с грибами, толокно, каша на ухе, горох,
чечевица А в обиходнике Иосифо-Волоко-
ламского монастыря, кроме прочего
встречается и каша с сыром.
Уставами определялся порядок питання
больных В него входили жидкие каши
Любопытно, что именно по монастырским
обиходникам создавались диеты первого
лечебного учреждения в России — Мос-
ковского военного госпиталя, открытого
в 1700 году.
Особую роль в монастырях со строгим
уставом играло толокно Согласно Ново-
56
спасскому, Волоколамскому и другим оби-
ходникам, в понедельник и вторник
первой недели поста «на братию стола не
бывает», дают только хлеб, квас, капусту
и толокно. Однако даже в великий пост
ассортимент каш в монастырской трапез-
ной был разнообразен: в среду первой
недели — пшено с ягодами, толокно, в пят-
ницу— пшено с ягодами и изюмом,
в субботу — пироги с горохом, каша ячне-
вая с маслом и т. д.
Толокно выручало монахов и в дни
сухоедения, определенные уставом по
три дня во 2, 3, 4, 5 и 6 неделю поста: еда
состояла из капусты, огурцов, толокна
и кваса.
Среди прочих блюд каши входили
в меню праздничных монастырских трапез,
всевозможных царевых и боярских при-
емов.
Ныне многие оецепты старинных кру-
пяных блюд уже забыты, и потому стоит
напомнить о них любознательным читате-
лям.
Каша гурьевская. Каша эта
никакого отношения к городу Гурьеву не
имеет. Назвали ее так по имени слас-
тены — одесского губернатора.
Вскипятите молоко, всыпьте манную
крупу и заварите, помешивая, кашу.
В кашу положите масло, ошпаренный
изюм без плодоножек или ошпаренный
мелко нарезанный урюк. Грецкие орехи
очистите (постарайтесь сохранить поло-
винки мякоти целыми), ошпарте их
и снимите тонкую пленку. Когда орехи
подсохнут, посыпьте их сахаром и об-
жарьте в духовке. Карамелизованный
сахар покроет их блестящей коричневой
корочкой.
Молоко или сливки налейте на сково-
родку и затопите в духовке до образова-
ния румяной пенки. Пенку снимите на
тарелку, а оставшееся молоко (сливки)
затопите опять и так делайте, пока не
получите 5—10 пенок.
Сковороду смажьте маслом, положите
на нее слои манной каши с изюмом, слой
пенок (часть их можно порезать и доба-
вить в кашу) и опять слой каши. Верхний
слой каши посыпьте сахаром. Кашу
поставьте в духовку и запекайте, пока она
не покроется румяной корочкой. Готовую
кашу выньте из духовки и сверху поло-
жите обжаренные орехи, варенье и т. д.
Вот в такое сложное блюдо преврати-
лась примитивная древняя каша, история
которой восходит еще к неолиту
Для каши: молоко 0,4 литра, кру-
па манная 100 г (1/2 тонкого ста-
кана! 1/2 яйца, сахар 50 г (две сто-
ловых ложки), ванилин. Масло 20 г
(столовая ложка). Для пенок —
сливки 250 г. Сахар для посыпа
ния — 1 чайная ложка- Варенье,
орехи для украшения
Манники. Нежные манные каши не
были популярны в быту простого народа.
Они были лакомством, особенно для
детей. Теперь забыты нарядные и
вкусные многослойные манники. А гото-
вят их так.
Варят два вида густой сладкой манной
каши: молочную и ягодную.
Для этого надо вскипятить молоко,
добавить сахар и заварить, помешивая,
манную кашу. Затем вскипятить любой
ягодный сок (клюквенный, черносморо-
диновый), добавить сахар и на нем
сварить вторую кашу. На тарелку или
блюдо наливают слой молочной каши,
затем слой ягодной и дают застыть.
Холодную двухслойную кашу режут на
куски и едят с вареньем.
Крупа манная 200 г (1 тонкостен-
ный стакан), молоко 1,25 стакана,
сок ягодный 1,25 стакана, сахар
по вкусу.
Крупеник. Многие созданные наро-
дом блюда удивительно целесообразны.
Например, крупеник. Дело в том, что
белки круп неполноценны — в них недос-
тает отдельных аминокислот (веществ, из
которых строится белковая молекула),
в твороге же они есть. Так вот, сочетание
крупы с творогом дало питательное,
биологически полноценное блюдо.
Для приготовления крупеника сварите
рассыпчатую гречневую, пшеничную
или пшенную кашу. Охладите ее до
60—70°С, добавьте протертый творог,
сахар, маргарин или масло, сырые яйца
и все перемешайте. Сковороду смажьте
маслом, посыпьте сухарями, положите
толстым слоем полученную массу, по-
верхность ее смажьте яйцом, а еще
лучше — смесью яйца со сметаной и запе-
ките.
Готовый крупеник нарезают на куски
и подают с маслом илн сметаной.
Крупа гречневая 200 г (1 тонко-
стенный стакан), вода или молоко
300 г (1,5 стакана). Крупа пшен-
ная 1 стакан, вода или молоко
1,75 стакана. Творог 300 г,
яйца 2 шт., масло или маргарин
2 ст. ложки.
Рисунки И. Александровой.
«СВЯЩЕННЫЙ ЗЛАК»
Одно из донесений вице-королю от
испанских колонизаторов, завоевавших го-
сударство инков и отнявших у них самые
пригодные для обработки земли, гласило.
«. Мятежных индейцев никогда не удастся
окончательно сломить, пока они исполь-
зуют в пищу зерна величиной с булавоч-
ную головку». Это были зерна растения,
называемого «кивича». Индейцы тайно
выращивали «священный злак» в горах
Несколько лет назад о кивиче вновь
заговорили. Перуанский ученый Луис Су-
мар, исследуя дикорастущие в отдаленных
районах долины Куско, нашел одичавший
злак с меленькими зернами, который, как
объяснили индейцы, высоко ценили их
предки. Эксперименты выявили порази-
тельные свойства кивичи. «Она замедляет
старение, улучшает память и укрепляет
нервы, исцеляет язву желудка и полезна
при туберкулезе», — говорит ученый. За
повторное открытие кивичи Луис Сумар
был награжден орденом Солнца — одним
из самых высоких знаков отличия в Перу.
КОМУ ДОСТАНЕТСЯ ПРИЗ!
Жители двух небольших местечек (одно
в Англии, другое в США) решили провести
«трансатлантические» соревнования по...
применению диеты. В каждой «команде»
до 180 человек. Когда англичане узнали из
газет, что американцы за три месяца
намереваются похудеть на целую тонну
(каждый человек более чем на 5 килограм-
мов), они приняли решение сбросить тонну
избыточного веса на месяц быстрее.
57
В НАУЧНЫХ ЛАБОРАТОРИЯХ
И СНОВА МАГНИТЫ
• Сообщения о лечебных
свойствах магнитов время от
времени появляются в печа-
ти. И хотя повальное увлече-
ние магнитными браслетами
дало прежде всего психо-
терапевтический эффект,
магниты все же оказались
необходимы медикам.
Исследователи из Всесоюз-
ного научного Центра АМН
СССР предложили ориги-
нальный способ лечения
тромбозов (закупорки крове-
носных сосудов сгустками
крови). Лечебный препарат
соединяется с веществом,
реагирующим на магнитное
поле. Введенное больному,
с помощью магнитных полей
оно концентрируется вокруг
тромба. Через два-три часа
наблюдается полное раство-
рение тромба. Возможно,
этот метод перспективен и
для лечения других заболева-
ний
ВАННА ВМЕСТО...
НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ
КЛИНИКИ
• В Национальном институте
психических заболеваний
США разработан новый ме-
тод лечения алкоголизма.
Человека погружают в ванну
с концентрированным соле-
вым раствором. Предпола-
гается, что эффект такого
«купания» снимает внутрен-
нюю напряженность, толкаю-
щую людей, предрасполо-
женных № алкоголизму, к по-
пыткам «расслабиться» с
помощью спиртного.
ВИНОВАТА ЛИ
ЛУНА В ЗЕМЛЕТРЯ-
СЕНИЯХ!
• Калифорнийский исследо-
ватель Дж. Ширли уверен,
что виновата. По крайней
мере некоторые сильные
землетрясения он приписы-
вает действию гравитацион-
ного поля Луны. По статисти-
ке Дж. Ширли, землетрясе-
ния чаще всего приходятся на
то время, когда Луна выше
всего и ниже всего относи-
тельно горизонта.
САМОЛЕТЫ И ПТИЦЫ
• Авиационная орнитоло-
гия — так называется новая
наука, созданная советскими
учеными. Она изучает проб-
лемы столкновения птиц и
самолетов, разрабатывает
методы их предотвращения.
В результате многолетних
исследований эксперимен-
тально определена «птице-
стойкость» (термин офи-
циальный!) самолетов На
многих гражданских аэро-
дромах введена должность
авиационного орнитолога.
Все эти меры позволили
вдвое уменьшить число
столкновений. Так что пасса-
жиры Аэрофлота могут ле-
тать спокойно
Рисунки В. Шарковой.
ЛЕДЯНОЙ ФАЭТОН!
• Вероятно, многие читате-
ли знакомы с гипотезой о
том, что между Марсом и
Юпитером находилась плане-
та Фаэтон. Предполагалось,
что силы притяжения разо-
рвали Фаэтон, образовав та-
ким образом пояс асте-
роидов. Недавно советские
ученые высказали идею:
Фаэтон мог состоять изо
льда. Эта гипотеза объясняет
некоторые свойства асте-
роидов *и метеоритов. По
последним данным, многие
спутники больших планет
(например, Ганимед, Каллис-
то и др.) скорее всего на
40—60 процентов состоят изо
льда. Он образует оболочку
толщиной около 1000 кило-
метров вокруг скального
ядра. Такой ледяной массив
загрязнен примесями, а пото-
му проводит ток. При про-
хождении массива через маг-
нитную плазму солнечного
ветра в нем возникает сверх-
мощный электрический ток
от 10 до 100 миллионов ам-
пер. А что происходит с во-
дой, когда через нее пропус-
кают электричество, мы пом-
ним еще со школы. Бур-
ное выделение кислорода и
водорода образует чрезвы-
чайно взрывоопасную смесь.
Во всей толще льда начи-
нается электролиз, и если
его продукты накопятся до
13—18 процентов, то лед
может взорваться.
Существует предположе-
ние, что появление колец
Сатурна вызвано взрывом
льда на его спутнике Титане
около 10 тысяч лет назад.
Кстати, и комета Галлея, судя
по данным наших космичес-
ких аппаратов «Вега-1» и «Ве-
га-2», возможно, состоит из
«грязного» снега... Но вот
почему она не взрывается?
Ответа пока не г
Из прогнозов III тысячелетия:
при сохранении нынешних темпов прироста народонаселе-
ния численность землян достигнет 11 миллиардов человек;
телевизионный кадр будет состоять во всех телесистемах
мира из 1125 строк, что значительно улучшит цветовую
насыщенность и яркость изображения;
бурые морские водоросли станут сырьем для нового
перевязочного материала, который сможет останавливать
кровь.
♦ Если черт ногу сломит, считается ли
травма производственной?
Владимир ЗЕМЛЯЧЕВ
г. Москва
♦ Диагноз: «Камни... За пазухой».
♦ Как удалось Афродите выйти сухой из
воды?
Александр БОТВИННИКОВ
г. Москва
♦ Бес попутный.
Леонид КЛИГМАН
г. Москва
♦ Внешность ангельская, характер дья-
вольский.
Николай ГИХОНЧУК
г. Даугавпилс
Латвийской ССР
58
ХОЗЯИН
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Сегодня многие читатели проявляют
интерес к истории и сути различных
течении в русле ислама, в том числе
к исмаилизму. Историки оценивают
исмаилизм по-разному. В предлагаемом
очерке доктора исторических наук,
старшего научного сотрудника
Института востоковедения АН СССР
И. В. МОЖЕИКО содержится одна из точек
зрения, которую разделяют
не все исследователи исмаилизма.
ЗАМКА АЛАМУТ
И ЕГО НАСЛЕДНИКИ
ИДУТ ВЕК ЗА ВЕКОМ, становятся историей.
События и люди теряют индивидуальность,
превращаются в категории, описываемые
в научных трудах. Их авторы, действуя
зачастую по заранее уготованной схеме,
абстрагируются от конкретной личности,
от связанных с ее деятельностью десятков
и сотен тысяч людских судеб. Не эта ли
схема заставляет некоторых исследовате-
лей называть одно из множества возникав-
ших в русле ислама течений — исмаи-
лизм — демократическим движением, а
его вождя Хасана ибн Саббаха — бес-
корыстным борцом за народное счастье?'
Но отвлечемся от рассуждений о схеме и
обратимся к жизни со всеми ее противо-
речиями и страстями.
Сразу после смерти пророка Мухамме-
да, в 632 году, в его общине — раскол,
которых потом происходило множество.
Впрочем, по этому поводу мусульмане
говорят, ссылаясь на Сунну: лучшая из
религий та, что имеет больше всего сект.
Первое несогласие среди мусульман
вышло из-за принципа наследования влас-
ти, когда сторонники Али, двоюродного
брата и зятя Мухаммеда, объявили, что
лишь прямым потомкам пророка принад-
лежит право быть духовными вождями
мусульман — имамами, что именно они
получают сокровенное знание от пророка
и передают его своим потомкам — тоже
имамам. Сторонники Али стали называться
шиитами, они отделились от тех, кто
придерживался другого взгляда на власть.
Через несколько десятилетий произо-
шел раскол и в среде шиитов. Шестой
шиитский имам — Джафар объявил, что
его старший сын Исмаил не достоин звания
имама, и поэтому имамат будет передан
младшему. Часть шиитов не согласилась
с этим решением и почитала Исмаила как
имама, а за ним и его сына — тоже
Исмаила. Они объявили именно этого
имама последним и скрывшимся до того
часа, когда он вернется возвестить людям
царство справедливости. Их стали называть
исмаилитами. (Другие шииты считали
скрывшимся двенадцатого имама.)
Вера в «скрытого», тайного имама
сослужила в прошлые века службу не
одному искателю власти — стоило только
убедить правоверных, что ты — явившийся
имам или хотя бы имеешь от него
полномочия, и тебе открывались большие
возможности. Так объявился в Каире некий
Убейдулла, провозгласивший себя вождем
мусульман по праву прямого потомка
дочери пророка Фатимы. С него началась
исмаилитская династия Фатимидов, пра-
вившая в Египте с 909 по 1171 год. Эти
правители рассылали своих пропагандис-
тов — дай во все концы мусульманского
мира, чтобы они рассказывали, что в Египте
живет истинный халиф, создавший там
царство справедливости.
Идеи исмаилитов находили сочувствие
у неимущих и недовольных властями. В XI
веке исмаилизм распространился по всей
империи Сельджуков объединившей
большинство Стран Ближнего и частично
Среднего Востока. Духовную власть фати-
мидского халифа признавали даже в Багда-
де. Крепкие позиции занимали исмаилиты
в Иране. Особенно много их было среди
ремесленников и торговцев. Именно в этой
среде в большом торговом иранском
городе Рее прошла юность Хасана ибн
Саббаха — человека, который занял в ис-
маилизме особое место.- Професси-
ональные исмаилитские пропагандисты
заметили умного и энергичного юношу
и послали его в Египет для духовного
совершенствования.
Хасан прибыл в Египет в 1078 году
и провел там несколько лет За это время
понаторел в терминологии и искусстве
спорить, овладел законами конспирации
и вербовки сторонников. Но при Фатими-
дах не остался, ибо понял: этот халифат
клонится к закату.
Молодой (ему еще нет и тридцати),
тщеславный исмаилит возвращается в
Иран, в столицу сельджукского султаната
Исфаган.
Удивительна мобильность людей сред-
невекового мусульманского Востока... Тя-
нутся вереницы паломников, которые
стремятся достичь Мекки, их путешествие,
бывает, длится месяцами, а то и годами,-
едут от двора ко двору мудрецы и поэты;
См . например: Строева Л В Государство
исмаилитов в Иране в XI—XIII вв. М., 1978,
с. 104, 106 107 и др.
У9
купцы ведут караваны в торговые центры.
Все дороги полны разного рода скиталь-
цев бродяг. Всюду у каждого путе-
шественника найдется союзник, незна-
комый друг и помощник, принадлежащий
к той же секте, тайной организации, цеху.
За высоким глухим дувалом его дома
можно укрыться от властей и недругов.
Хасан ибн Саббах так и сделал.
...Слух о том, что в Исфагане появился
исмаилитский агент из самого Каира,
возможно, с инструкциями фатимидов,
вызвал тревогу у султана Мелик-шаха;
положение его было шатким, везде ему
чудились заговоры, а о Фатимидах из-
вестно, что они ведут в соседних странах
подрывную пропаганду.
Султанская стража начала искать Хасана
всю сложность своего
aflfe
ибн Саббаха. Именно в эти дни вынужден-
ной изоляции Хасан ибн Саббах, отвергая
и каирские порядки, и устроение госу-
дарства Мелик-шаха, начинает составлять
собственную программу. Конечно, в ней
должно было быть выражено и отношение
к исламу. То, что он не отступал от законов
шариата, признавали даже его злейшие
враги. Но Хасан ибн Саббах четко сформу-
лировал главное: «Познание бога разумом
и размышлением невозможно. Познание
возможно только поучением имама».
Итак, должен быть имам. Те, кто не
признает имама, глубоко заблуждаются.
А потому попадут в ад. Спасутся только
исмаилиты, послушные своему имаму.
Просто и ясно. Ни христиане, ни иудеи не
спасутся, потому что им неведомо слово
пророка. Сунниты и прочие мусульмане-
неисмаилиты также обречены, ибо они
пытаются постичь слово божие разумом.
Естественно, что безусловное подчине-
ние кому бы то ни было требует опреде-
ленного, скажем, невежества. И, по свиде-
тельству одного из современников, Хасан
ибн Саббах это понимал: «Он препятство-
вал простым людям углубляться в знания,
подобно тому как людям знатным —
в постижение старых книг».
В фатимидском Египте к тому времени
был убит претендент на престол, потомки
его скрывались. Это было на руку Хасану.
Он сообщил своим ученикам, что имени
имама, который всех направляет, назвать
пока нельзя и он сам будет его заменять.
Так возникло движение, в котором был
тайный имам — учитель и реальный вождь,
требующий слепого подчинения.
В тяжелые периоды истории люди ждут
учителя, ждут слова. А программа
Хасана ибн Саббаха была так проста, что ее
мог понять даже неграмотный крестьянин.
Она освобождала от необходимости ду-
мать и принимать решения. Да еще
обещала безусловное спасение. Если к это-
му добавить талант заговорщика и орато-
ра, твердость и беспощадность Хасана ибн
Саббаха — пожалуй, мусульманский мир
не знал такого вождя со времен пророка
Мухаммеда. Впрочем, массу верующих,
конечно же, пугал экстремизм Хасана ибн
Саббаха, при всей простоте и кажущейся
привлекательности его программы.
В течение десяти лет Хасан ибн Саббах
в поисках недовольных кочевал из города
в город, без устали * проповедуя среди
исмаилитов, гонимых и преследуемых.
И число его сторонников понемногу росло.
«Нет ни одного разряда людей более
зловещего, более преступного, чем этот
род... Если, упаси боже, державу постигнет
какое-либо несчастье... эти псы выйдут из
тайных убежищ и восстанут на эту держа-
ву»,— писал об исмаилитах один из
сельджукских идеологов.
Исмаилизм коренился в городах, в среде
ремесленников и торговцев, но Хасан ибн
Саббах проповедует главным образом
среди крестьян отдаленных провинций.
Казалось бы, нелогично, но это был путь
к осуществлению его главного замысла —
создать систему форпостов на окраинах
империи, в которых можно было бы
укрываться от преследований и готовить
силы для дальнейшей борьбы.
Первым таким форпостом должна была
стать крепость Аламут в области Дейлем
к югу от Каспийского моря, далеко от
столицы. Расположенная в центре горной
долины, на утесе высотой более двухсот
метров, она была неприступной. Как завла-
деть Аламутом? Дело решил веский
аргумент — деньги. Коменданту было обе-
щано три тысячи динаров и право сво-
бодного выхода из Аламута. Понимая
положения — с
горсткой солдат, вдали от прочих гарнизо-
нов, в долине, где жили сторонники Хасана
ибн Саббаха,— комендант впустил в кре-
пость исмаилитов.
Тихий, скромный, немногословный чело-
век с небольшой черной бородкой и
Рисунки Т. Фадеевой пронзительными беспокойными черными
60
всем вызов. Кто уходил в Аламут, стано-
вился неподвластен царям земным. О не-
бесном заботился Хасан. К нему стекались
в сельджукской державе, и общественное
По всему Востоку растекались слухи
глазами, одетый, как бедный ремесленник,
выписал коменданту чек на три тысячи
динаров. Получить их можно было у банки-
ра в Дамгане, который был тайным
исмаилитом. Комендант усомнился, что по
записке «низкого» человека банкир выпла-
тит громадную сумму. Чернобородый
ремесленник чуть улыбнулся.
— Гоните его.— сказал новый хозяин
замка Аламут.
Было это в 1090 году
Известие о падении Аламута и последо-
вавших затем действиях исмаилитов встре-
вожило султана. «Завладев Аламутом,
Хасан напряг все силы, чтобы захватить
округа, смежные с Аламутом, или места
близкие к нему. Он и овладел ими,
обманув людей своей проповедью. Что до
тех мест, где не были обмануты его
речами, он завладевал ими убивая, ос-
корбляя, вступая в войну. Везде где он
находил утес, годный для укрепления, он
закладывал фундамент крепости»,— так
говорит иранский летописец.
Саббах пугал непонятностью. Проповед-
ники прежних ересей обычно шли из
города в город скрываяс» от властей,
и проповедовали втайне. А этот сидел
в неприступном замке и открыто бросал
все новые сторонники.
Эмир, в ведении которого была север-
ная провинция, где действовал Хасан ибн
Саббах, первым из иранских властителей
отправился в поход, чтобы ликвидировать
ядовитое гнездо исмаилитов. Он сжег
селения в долине, перевешал тех исмаили-
гов, которые попали ему в руки, но дальше
подножия утеса подняться не смог.
В следующий раз — это было через год.
гоже в марте, султан послал своего
полководца с сильным отрядом и приказал
не возвращаться до тех пор, пока ростки
заразы не будут вырваны с корнем.
Аламутская долина еще не оправилась
от недавней войны. Накопить за зиму
продовольствия ибн Саббах не смог. В кре-
пости с ним оставалось не больше семиде-
сяти человек. Три месяца продолжалась
осада. Сельджуки не сомневались в побе-
де, но Хасану ибн Саббаху удалось ночью,
в плохую погоду спустить по веревке
одного из своих, тот благополучно выбрал-
ся из долины и на следующий день был
в городе Казвине, где местные исмаилиты
с тревогой ждали вестей, и передал им
приказ Хасана.
Через несколько дней триста мобилизо-
ванных в Казвине исмаилитов ночью
подошли к Аламуту. В крепости уже знали,
что помощь идет, и приготовились к вылаз-
ке.
Хасан ибн Саббах оставался в своей
келье, которую построили специально для
него, как только Аламут был захвачён2. Все
знали, что он будет беседовать со скрытым
имамом и просить его о защите
Сонные часовые не успели даже поднять
тревогу, началась страшная резня. Не
понимая, что происходит, очнувшиеся
сельджуки метались в темноте между
шатрами. Ржали кони, скрипели, опро-
кидываясь, повозки, крики и звон оружия
долетали наверх, к келье Саббаха. Лишь
малая часть сельджуков смогла вырваться
из долины.
некий старец живет в недоступной крепос-
ти, и какие бы армии ни посылали против
него султаны,— его не одолеть.
В городе Саве действовала тайная
исмаилитская ячейка из 18 человек. Они
скрывались в глубоком подполье, потому
что правитель города желал искоренить
исмаилитскую опасность. Тем не менее дай
вели пропагандистскую работу. Им уда-
лось обратить в свою веру столичного
чиновника. Но обращенный чего-то испу-
гался и пошел на попятный. Тогда ис-
маилиты решили убить отступника. Плот-
ник Тахир пробрался в Исфаган и исполнил
приговор Когда его схватили, он не
отпирался и по личному приказу визиря
Низам ал-Мулька был казнен
Это было первое политическое
убийство, совершенное исмаилитами.
О плотнике Тахире стало известно
мнение было возмущено убийством. Хаса-
ну ибн Саббаху же этот частный случай
подсказал новую стратегическую линию:
в тиши аламутского уединения была сфор-
мулирована теория политического терро-
ра, которая надолго переживет своего
создателя. Хасан ибн Саббах понял, что
убийство вызывает не одно лишь возмуще-
ние, но и страх.> Он стал первым вождем,
который превратил террор в основное
2 В 20-х годах нашего века группа археологов
добралась до развалин Аламута. От крепости
мало что сохранилось — остатки ворот, квад-
ратная башня и часть комнаты с очень
толстыми стенами, примыкавшей к столь же
толстой крепостной стене. Внутрь вела лишь
небольшая дверь. Со стороны крепости окон
не было. Зато в крепостной стене была
прорублена вторая дверь, и за ней была
небольшая терраса, уступ, повисший на двух-
сотметровой высоте. Отсюда на много кило-
метров просматривалась Аламутская долина.
61
средство «убеждения» оппонентов, всеоб-
щего устрашения и шантажа. Террор
приобрел такой размах, что казался не
только средством, но и целью, содержа-
нием его политики. Хасан ибн Саббах
разработал тактику покушений, способы
оповещения о них, создал систему подго-
товки смертников и убийц, способных
проникнуть сквозь любые кордоны и го-
товых, если нужно, погибнуть, сделав свое
дело.
В конце сентября 1092 года Хасан ибн
Саббах приказал своим приближенным
собраться на площадке перед его кельей.
Когда все построились, он вышел к ним.
Серебряные пряди бороды змейками ви-
лись на черной ткани халата. Высокая
суконная шапка придавала ему величие.
Вождь медленно прошел вдоль строя
молодых сподвижников.
— Есть среди вас тот, кто прекратит
в этом государстве вред Низам ал-Мулька,
нашего главного врага? — спросил ибн
Саббах. Несколько человек вышли вперед.
Это были родоначальники «племени» про-
фессиональных убийц — фидаев.
18 октября 1092 года к паланкину Низам
ал-Мулька, которого несли из дворца
в гарем, подошел человек в одежде суфия.
Он быстро откинул полог и вонзил нож
в сердце визиря. Тут же на него навалились
телохранители и задушили.
Весть об убийстве Низам ал-Мулька
(люди Хасана ибн Саббаха позаботились
о том, чтобы ни у кого не осталось
сомнения, что карающая рука была на-
правлена из Аламута) в считанные дни
прокатилась по всему Востоку, вызывая
изумление, возмущение, растерянность
и страх.
Султан Мелик-шах приказал немедлен-
но собирать большую армию,— чтобы
уничтожить гнездо исмаилитов в Ала-
мутской долине. Но через двадцать дней
неожиданно умер и султан. Его смерть для
хозяина Аламута была спасением. Совре-
менники были убеждены, что его отравили
фидаи.
Сельджукское государство держалось
лишь силой оружия, и стоило центральной
части пошатнуться, как начались восстания
во всех провинциях и подвластных терри-
ториях. Новый султан вновь и вновь
собирал армии, чтобы усмирить феодалов.
Разрушались города, нищало кресть-
янство, торговля почти прекратилась.
Для Хасана ибн Саббаха эти годы были
благодатными. Они дали передышку и воз-
можность распространять свое влияние не
только на крепости, но и на целые области.
Среди всеобщей разрухи и вражды ис-
маилиты стали для многих растерявшихся
последней надеждой: Хасан ибн Саббах
сулил многое и говорил о своей любви
к народу. Но — только при безусловном
и слепом ему подчинении. А когда жители
соседней с Аламутской долины Ламасар
отказались работать на восстановлении
крепости, Хасан ибн Саббах приказал всем
немедленно перейти в исмаилизм. Непод-
чинившиеся были зарезаны молодыми
террористами, которых готовили в Аламу-
те,— это была для них хорошая «практи-
ка»
Крепость Ламасар была превращена
в столицу исмаилитов.
Когда исфаганский торговец холстом
Абд аль-Мелик ибн Атташ торжественно
отрекся от отца, связанного с исмаилита-
ми, и проклял его как еретика,— это была
чистая ложь. Так ему сподручнее было
руководить исмаилитским подпольем в
столице. Во время захвата небольшой
крепости в горах недалеко от Исфагана
именно Атташ командовал боевой груп-
пой, которая неожиданно ворвалась в ка-
зарму и перерезала спящих солдат.
Никто в городе не заподозрил, что
мирный, средних лет, толстеющий купец,
счастливый отец семейства и отчаянный
командир исмаилитов — один человек.
Охрану крепости Шахриз, где ввиду
смутных времен расположился арсенал
и куда был переведен султанский гарем,
несли горцы из северной провинции Дей-
лем. Среди них было несколько тайных
исмаилитов.
Добродушный исфаганский купец Атташ
зачастил в крепость. Он был там всем
нужен: гаремным красавицам привозил из
столицы ткани и благовония, солдат снаб-
жал всем необходимым, брал недорого, да
к тому же всегда верил в долг. Но Атташ
занимался еще и активной пропагандой,
й все больше дейлемцев становилось его
тайными сторонниками.
Теперь надо было получить в крепости
официальную должность. Исмаилитам
пришлось потратить немало золота на
подкуп нужных людей, и вот купец Ат-
таш — комендант Шахриза.
Дальнейшее было в обычных исма-
илитских поавилах. Атташ провел в кре-
пость фидаев, расставил в караул своих
людей — и все неисмаилиты в крепости
были зарезаны.
В Исфагане спохватились, но поздно:
чтобы взять крепость, надо было штурмо-
вать ее целой армией. Исмаилитам доста-
лись большие запасы оружия, которое они
начали тайно перевозить в город, где
исмаилитское подполье готовилось к
восстанию. По сведениям современников,
в Исфагане к тому времени уже насчитыва-
лось около 30 тысяч тайных исмаилитов.
Похоже, что цифра верная: ведь в Самар-
канде того времени жили полмиллиона
человек, Багдад и Дамаск были городами
миллионными, и столица сельджукской
державы вряд ли им уступала.
В программу подготовки к восстанию
входили чисто исмаилитские приемы —
обязательный устрашающий террор. Про-
исходило все таким образом. Лжеслепец
Алави Мадани и его жена под видом нищих
бродили по улицам, поджидая, когда
покажется нужный человек. Это мог быть
мулла, известный своими речами против
исмаилитов, чиновник, верный сельджу-
кам, офицер или просто богатый человек,
имевший при себе кошель с большими
деньгами. Убогий подходил к прохожему
и молил именем Аллаха довести его до
дома, который находился, конечно,, на
темной узкой улице. У небольшой двери
в высоком дувале нищий начинал громко
благодарить своего невольного поводыря.
В этот момент из двери выскакивали
исмаилиты и, оглушив жертву, бросали
в глубокий колодец Или сажали под
замок.
По разным источникам, в ту пору
в Исфагане исмаилиты убили от нескольких
десятков до нескольких сотен человек
Таинственные исчезновения вызвали пани-
ку в городе. Люди боялись поодиночке
выходить из дома. Сыщики султана сби-
лись с ног.
Преступление было раскрыто случайно.
Как-то, проходя на рассвете по этой узкой
улочке, одна женщина услышала из-за
дувала глухие стоны. Она побежала на
базар, рассказала об этом людям, и сразу
толпа кинулась к указанному ею дому
Взломали дверь — и обнаружили в колод-
це, в подвалах, даже в задних комнатах
дома множество тел со следами страшных
пыток. Кроме четы нищих старцев схватили
еще несколько палачей. Их сожгли на
костре.
В городе началась охота за исмаилитами.
Они вынуждены были начать восстание
преждевременно — и были разбиты.
Исфаганский урок показал исмаилитам,
что массовый террор, хотя и способен всех
устрашить, может обернуться против них
самих. С тех пор они убивали выборочно.
Когда на престол в Исфагане вступил
25-летний султан Мухаммед, несдер-
жанный настолько, что ему каждый день
пускали кровь, он приказал немедленно
собирать войско против крепости Шахриз.
Пока султан готовился к походу, Атташ
пытался организовать его убийство — че-
рез визиря, который в свое время продал
исмаилитам должность коменданта кре-
пости.
Визирь подослал своего слугу к сул-
танскому брадобрею. За тысячу динаров
тот согласился сделать султану очередное
кровопускание отравленным ланцетом.
У слуги визиря была красавица жена, от
которой тот ничего не скрывал. У жены
был любовник, от которого та ничего не
скрывала. И той же ночью тайна стала
достоянием нескольких человек.
Брадобрей должен был прийти к султану
после завтрака. Любовник, который был
мелким придворным и полагал, что может
недурно заработать на этой истории, про-
ник к султану до завтрака. Когда пришел
брадобрей, Мухаммед приказал сделать
ему кровопускание отравленным ланце-
том и вызвал визиря, чтобы тот при этом
присутствовал.
А еще через день Мухаммед сам повел
отряд гвардейцев-гулямов на штурм кре-
пости. Он поклялся, что собственными
руками убьет исчадие ада Атташе. Оса-
да могла тянуться долго, но, к счастью для
султана, перебежчик-исмаилит показал
тайный ход в крепость.
Атташе везли по улицам Исфагана,
заполненным народом Горожане кидали
в него камни и навоз. Потом с Атташе
живьем содрали кожу и набили ее соло-
мой.
Султан отомстил Атташу, но исмаилиты
не были побеждены.
конце XI века после захвата кресто-
носцами Иерусалима, к ним перешла
большая часть Сирии и Палестины. Владе-
ния сельджуков были отрезаны от моря.
В их стане царила растерянность. Хасан ибн
Саббах понял, что наступил удобный мо-
мент нанести удар Сирии.
Там у исмаилитов нашелся царственный
покровитель — султан Халеба по имени
Ридван — деспот, убийца своих братьев,
постоянно враждовавший с соседями. Ему
угрожали родственники. Когда эмиссары
Саббаха появились в Халебе и обещали
помощь, Ридван разрешил исмаилитам
жить и проповедовать в своей столице.
Хасану ибн Саббаху были нужны крепос-
ти. Ридван хотел избавиться от врагов. Если
кто-то это сделает, он согласен пожертво-
вать крепостями Исмаилиты выполняли
условия соглашения: один за другим
погибали враги Ридвана. Убийцу иногда
ловили, иногда убивали на месте преступ-
ления. Пойманные не скрывали, что они —
фидаи Хасана ибн Саббаха, и похвалялись,
что Ридван, обязанный исмаилитам
властью, заставит всех своих подданных
принять истинное учение. Но они не
заметили, что вызывают у жителей города
растущую ненависть...
В самом деле, было ли цепью Хасана ибн
Саббаха народное счастье, был ли он
выразителем интересов, стремлений и
чаяний народных масс3, как пишут неко-
торые исследователи. Иной историк, гово-
ря о массовых убийствах в Исфагане,
которые предшествовали восстанию ис-
маилитов, делает вывод «В Исфагане
исмаилиты применяли против своих клас-
совых врагов — сельджукской династии,
тюркских феодалов и персидских бюро-
кратов метод тайных убийств». Поражение
исмаилитов (они перешли к открытым
грабежам населения, что их и погубило)
расценивается как «расправа феодальных
верхов города» с демократами-исмаилита-
ми. (Можно подумать, что султан Ридван,
призвавший исмаилитов специально для
убийств и покровительствовавший им, был
врагом феодализма.) А поскольку Хасан
ибн Саббах все же убивал султанов и эми-
ров, делается вывод об антифеодальной
направленности его политики.
Да, исмаилиты вербовались из средних
городских слоев, а Хасан ибн Саббах,
преследуемый эмирами и султанами,
устроил свою, независимую «державу кре-
постей». Но, по нашему мнению, вряд ли
правомерно из этого делать вывод, что
«в исмаилитском государстве была уничто-
жена политическая власть Сельджуков,
изгнана сельджукская администрация, тра-
диционная форма правления — на-
следственная монархия — была заменена
правлением Хасана ибн Саббаха и его
сподвижников, выражавших интересы на-
родных масс — ремесленников, городской
бедноты и крестьян. Это было огромным
достижением восставшего народа»4.
Изложенные нами факты не позво-
ляют с этим согласиться. Ибо с народными
массами Хасан ибн Саббах сталкивался
лишь постольку, поскольку они должны
были кормить убийц и пропагандистов
исмаилизма. Того, кто не желал этого,
уничтожали. Никогда «народные массы» не
поднимались на стороне Хасана ибн Сабба-
ха. (И не случайно со смертью же этого
вождя исмаилитов у них, как увидим,
установилась «наследственная монархия».)
И в Халебе произошло то, что должно
было произойти: узнав, что в город
приезжает богатый персидский купец, ис-
маилиты решили его ограбить, убийство
же обратить себе на пользу, раззвонив
о нем всюду, по своему обыкновению. Но
перс был готов к нападению, и у него была
своя стража, которая смогла схватить
убийц. В Халебе поднялось возмущение,
началась резня исмаилитов. Но крепости на
территории Сирии остались в их руках.
Последние годы жизни Хасана ибн
Саббаха прошли в тяжелых оборони-
тельных боях с сельджукскими войсками.
Султан Мухаммед был неутомим в похо-
дах против «империи крепостей». Но
ис гребить «еретиков не мог — ни в горо-
дах, где продолжала действовать умело
законспирированная, хорошо организован-
ная сеть исмаилитских ячеек, ни в крепос-
тях, ибо те были выгодно расположены
и укреплены, снабжены продовольствием
и водой. Вместо павшей крепости ис-
маилиты, имевшие в своем арсенале
множество испытанных средств — подкуп,
предательства, убийства, захватывали
новые — в Иране, Сирии, Палестине.
Хасан ибн Саббах добился ряда побед:
Но даже множество маленьких побед не
ведут к одной большой. Множество кре-
постей — это не страна, пусть и называется
исмаилитским государством. Ни одно из
восстаний исмаилитов к успеху не привело
Их конспиративная организация не имела
лозунгов способных поднять народные
массы, хотя именно в обстановке распада
сельджукской державы назрела ситуация
для того, чтобы поднять восстание по
всему Ирану.
Эфемерная крепостная империя Хасана
ибн Саббаха все более замыкалась в стенах
цитаделей и углублялась во внутренние
распри.
Все 35 лет, прошедшие после завоевания
Аламута, Хасан ибн Саббах ни разу не
спустился в долину и пользовался лишь той
информацией, которую ему доставляли
приближенные. А приближенные уже на-
чали делить власть. В том числе и сыновья
Хасача ибн Саббаха полагавшие себя его
наследниками.
Началось то, что и должно было начать-
ся: методы, применявшиеся по отношению
к внешнему миру, столь же активно стали
работать внутри. Один из «верных» слуг
подстроил убийство старого соратника
Хасана ибн Саббаха, наместника Кухистана.
)ч же представил неопровержимые «до-
казательства» того, что убийством руково-
дил сын вождя — Устад. Того казнили.
Когда обман раскрылся, Хасан ибн Саббах
приказал замучить клеветника и заодно
его сыновей.
Незадолго до смерти Хасану ибн Сабба-
ху донесли, что его второй сын — Мухам-
мед хранит у себя в комнате кувшин
с вином. Был произведен обыск. Мухам-
мед клялся, что кувшин ему подложили
враги. Отец пришел в безумный гнев и,
несмотря на мольбы жены, приказал тут
же, у него на глазах, отрубить Мухаммеду
голову.
...Старцу шел восьмой десяток.
Распорядок жизни в крепости в течение
35 лет не менялся В назначенное время
хозяин открывал тяжелый засов, запирав-
ший его келью изнутри. Юноши из фидаев,
безмолвные и послушные, вносили воду
для омовения и легкую пищу. Старец
никогда не поворачивался к фидаям спи-
ной.
Позавтракав, Хасан держал совет с при-
ближенными, призывал на допросы комен-
дантов крепостей. Порой устраивал
испытания фидаям, заставляя их драться на
ножах. Они не должны были ничего
бояться и менее всего — смерти.
К «высокой участи» убийц фидаев
готовили в обширном замке Ламасар.
Подготовка каждого занимала долгие
годы. Их выбирали из самых темных
горцев, и сложная система обработки
юного существа, превращавшая его в фа-
натичного, терпеливого, послушного убий-
цу, была доведена до совершенства. Они
умели принимать обличия купцов и нищйх,
вельмож и разносчиков воды, музыкантов
солдат и муфтиев, умели выжидать меся-
цами момента, удобного для ударе
Именно из-за фидаев получили ис-
маилиты прозвище «ассасины»: так
трансформировали крестоносцы слово
«гашиш», которым смертники накурива-
лись перед тем, как отправиться на
очередное убийство. западных языках
слово осталось по сей день. Ассасин —
в английском и французском языках —
убийца, хотя, конечно, сегодня европейцы
не связывают это слово со средневековым
молодым фанатиком, который направлял-
ся в Багдад, Триполи или в другой
мусульманский город, чтобы исполнить
волю Хасана ибн Саббаха
Так, по его приказу был убит великии
иранский ученый, «отец прекрасных
свойств и качеств» Абул-Махасян, который
поднял голос против исмаилитов. На счету
фидаев и восемь государей, включая трех
халифов; шесть визирей, начиная с Низам
ал-Мулька; несколько наместников облас-
тей, градоначальников. Погибли от их руки
и два европейских государя — граф Рай-
монд Триполийский и Конрад Монфер-
ратский, последний в 1192 году.
Проклятием фидаев был кумир мусуль-
манского мира султан Салах ад-Дин,
знаменитый враг крестоносцев. Он был
разумен и осторожен, а охрана его непод-
купна. После каждого неудавшегося поку-
шения очередные исполнители закалывали
себя либо их казнили.
Хасан ибн Саббах умер в 1124 году
Умирая, он повелел исмаилитам подчи-
няться четырем людям, которых, назвал
в своем завещании. Среди них был комен-
дант Ламасара Кийя Умид.
Внешне четверка действует едино. Но
менее чем через год неожиданно умирает
один из них — главный соперник Умида
командующий войсками исмаилитов, еще
3 Строева Л. В. Государство исмаилитов в Ира-
не в XI—XIII вв., с. 106.
* Там же, с. 108.
63
через несколько месяцев — двое других.
Умид становится единственным главой
исмаилитов. Он остается в Ламасаре.
В источниках, рассказывающих об исма-
илитах, все чаще упоминается родовое имя
Кийя Умида — семья нового вождя велика,
и всем надо было дать должности.
Умиду наследовал его сын Мухаммед,
а затем и внук — Хасан (в 1162 году его
отец, не обнаруживавший до этого никаких
признаков нездоровья, в одночасье скон-
чался). Именно ему принадлежит велико-
лепная идея, сохранившая пошатнувшуюся
было исмаилитскую державу
На 17-й день рамазана 559 года мусуль-
манского летосчисления (18 августа
1164 года) в Аламут были призваны
делегаты от всех исмаилитских организа-
ций.
Посреди площади в замке стояло
возвышение, украшенное четырьмя знаме-
нами разных цветов. День был ясный
н нежаркий. Ветер летел над Аламутскнм
утесом, дергая полотнища знамен На
возвышение поднялись наместники провин-
ций и крепостей.
В полдень из своей кельи вышел Хасан
в длинном белом одеянии, на голове —
белый тюрбан. Хасан высок, строен и кра-
сив. Все это изумляло собравшихся, ибо
исмаилиты привыкли, что вожди их не
показываются простым людям, предпочи-
тают серые и черные одежды, подчеркнуто
скромные, почти нищенские.
Хасан-младший поклонился на четыре
стороны. Затем он произнес хвалу единому
абсолютному богу, открывшему врата ми-
лосердия и из щедрости своей даровавшему
людям жизнь, и объявил, что некий тайный
человек принес ему послание от скрытого
имама, которое он и намерен зачитать.
Он читает послание по-арабски, его не
понимает никто из присутствующих. Непо-
нятность послания усиливает впечатление.
Ведь имам — потомок пророка Мухаммеда,
он и должен писать по-арабски. Затем
ученый-теолог переводит текст на
персидский. Так вот, имам приказывает
исмаилитам подчиняться Хасану во всем,
ибо он их повелитель.
После этого Хасан приказал расстелить
на площади скатерти, поставить на них еду
и вино.
В середине великого поста, когда Аллах
повелел не принимать пищу до темноты,—
днем всевозможная еда и хмельные напит-
ки! Более того: из задних рядов выходят
ожидавшие сигнала музыканты, достают
свои инструменты — и гремит веселая
музыка. Хасан объявляет своих подданных
свободными от строгих законов шариата, от
поста, от обязательных молитв.
Так Хасан превратил исмаилизм в ерети-
ческую секту, каковой он до того формаль-
но не был, потому что Хасан-старший, ибн
Саббах, строго придерживался всех му-
сульманских установлений, исмаилиты от-
личались от других шнитов тем, что
признавали скрывшимся не двенадцатого,
а седьмого имама.
Через несколько дней Хасан-младший
«признался», что он есть скрытый имам!
Тяготившийся теснотой и холодной па-
мятью камней Аламута, Хасан переехал
в обширный светлый Ламасар. Там он жил
открыто, окруженный друзьями и, разу-
меется, врагами. Один из первых же
заговоров против него оказался ус-
пешным. В начале 1166 года его убил
шурин, который, по словам враждебного
имаму иранского писателя, «не мог тер-
петь распространения того постыдного
заблуждения».
Вновь начались убийства — надо было
уничтожить всех друзей Хасана. Однако
принцип передачи власти в исмаилитской
империи уже установился. Наместники
и коменданты крепостей согласились с
тем, что престол переходит к 19-летнему
Мухаммеду, сыну Хасана. Старая гвардия
полагала, что сможет держать его в руках.
Между тем сразу же после коронации
Мухаммед, уже облеченный формальной
властью, заявил, что будет продолжать
дело отца, но не повторит его благо-
душных ошибок.
Были схвачены и казнены не только
убийца, но и все его родственники, все
главари оппозиции. Новый имам установил
жесткую систему контроля над своей
разбросанной по разным странам импе-
рией, был недоверчив и осторожен, пото-
му, видимо, и продержался на престоле
в Аламуте рекордное время — сорок
четыре года — и был убит лишь в 1210 го-
ду, за несколько лет до окончательного
крушения исмаилитской державы.
...В конце XII века исмаилитской дер-
жавы как единого целого уже не су-
ществует.
Каждая группа крепостей или наместни-
чество проводят свою политику, всту-
пают в союзы с сельджуками, а то
и с врагами ислама — крестоносцами. За-
частую в соседних крепостях более или
менее мирно сосуществуют исмайлитский
наместник и французский барон, который,
кстати, нередко нанимал фидаев, чтобы
они убрали его соперника-единоверца.
Автономность и неприступность крепос-
тей позволили исмаилитам дольше всех на
БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
АТЕИСТИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ. Вып. 16. М.,
Политиздат, 1986, 111 с., ил., 200 000 экз.,
1 р.
Почему один из православных праздни-
ков называют «вербным воскресеньем»?
Был ли канонизирован русской православ-
ной церковью Дмитрий Донской? Что
собой представляет секта езидов? В оче-
редном выпуске даются ответы на воп-
росы читателей, публикуются статьи
М. Шахновича «Против социального и ду-
ховного рабства», И. Ш. Шифмана «Во что
верили древние евреи?», интервью с ака-
демиком А. А. Баевым «Как конструируют
живое»
ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА АТЕИС-
ТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ. М., Полит-
издат, 1986, 303 с., 100 000 экз., 85 к.
Издание подготовлено Киевским меж-
республиканским филиалом Института на-
учного атеизма АОН при ЦК КПСС.
Иноятов К. КРИТИКА БУРЖУАЗНОЙ
ФАЛЬСИФИКАЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ ИСЛА-
МА В СССР. Ташкент, «Узбекистан»,
1986, 30 с., 10 000 экз., 3 к.
Каюмов А. ВРЕМЯ И ОБРЯДЫ. Ташкент,
«Узбекистан», 1986, 22 с., 10 000 экз., 3 к.
Колемасова Н. X. ХРИСТИАНСКОЕ
СЕКТАНТСТВО В УЗБЕКИСТАНЕ. Ташкент,
«Узбекистан», 1986, 46 с., 10 000 экз., 5 к.
КОНКРЕТНО, ТВОРЧЕСКИ, ЭФФЕКТИВ-
НО. Опыт и проблемы научно-атеис-
Ближнем Востоке не покоряться монго-
лам. Но в середине XIII века, когда
монголы управились с другими непо-
корными, они решили покончить с ис-
маилитами. Задача облегчалась тем, что
очередной властитель исмаилитов был
человек слабый, он страшился монголов
и более всего хотел сохранить жизнь
и богатство. Силой, обманом, уговорами
монголы брали крепость за крепостью,
пока имам не был осажден в Аламуте. Там
он в конце концов и сдался.
Последняя крепость в Иране держалась
еще двадцать лет и была взята лишь
в конце 70-х годов XIII века. Всех ее
защитников монголы казнили. Сирийских
исмаилитов покорили египетские сул-
таны-мамлюки.
Развалины исмаилитских крепостей
встречаются и. по сию пору в глухих
высохших ущельях
Потомки средневековых исмаилитов се-
годня живут небольшими группами в Си-
рии, Иране, других странах Ближнего
и Среднего Востока. Сколько-нибудь су-
щественного влияния на жизнь этих стран
они не оказывают. Основное занятие их —
торговля, бизнес. В Индии исмаилиты
сохранили былую силу, во всяком случае
в экономической сфере. Исмаилиты, где
бы они ни жили, почитают своего имама
прямого потомка хозяина Аламута, платят
ему дань, а он считается одним из
богатейших людей в мире. Однако совре-
менные исмаилиты не полагают себя
наследниками тех ассасинов, которые соз-
дали державу крепостей методами
убийств и террора. У фидаев сегодня
другие наследники... _
тического воспитания. М., «Московский ра-
бочий», 1986, 285 с., 10 000 экз., 45 к.
Лобовик Б. А. РЕЛИГИОЗНОЕ СО-
ЗНАНИЕ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ. Киев,
«Наукова думка», 1986, 247 с., 2200 экз.,
2 р. 50 к.
Мигович И. И. КЛЕРИКАЛЬНЫЙ НА-
ЦИОНАЛИЗМ НА СЛУЖБЕ АНТИСОВЕ-
ТИЗМА (на примере униатско-националис-
тического альянса). М., «Знание», 1987
(сер. «Научный атеизм», № 3), 64 с., 48 280
экз., 11 к.
Окулов А. Ф. ЛЕНИНСКОЕ АТЕИСТИ-
ЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ.
М., Политиздат, 1986, 128 с., 100 000 экз.,
35 к.
Поляновский Г. КАК ВЕСТИ ИНДИВИ-
ДУАЛЬНУЮ РАБОТУ С ВЕРУЮЩИМИ.
Ташкент, «Узбекистан», 1986, 30 с., 10 000
экз., 3 к.
Юнусова Д. В АВАНГАРДЕ АТЕИСТИ-
ЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ. Ташкент, «Узбе-
кистан», 1986, 22 с., 100 000 экз., 3 к.
Сдано в набор 18.04.87. Ордена Ленина
Подписано к печати
26.05.87.
А 09108.
60Х90/8.
Офсетная печать
8 усл. печ. л.
9,75 кр. отт.
12,52 уч.-изд. л.
Тираж 400 000 экз.
Зак. 02106.
комбинат печати
издательства
«Радянська УкраТна».
252047, Киев-47,
проспект Победы, 50.
Текст набран
с применением
отечественного
фотонаборного
комплекса «Каскад».
64
В. Д. ПОЛЕНОВ. За кого меня почитают люди. 1893.
Из собрания Троице-Сергиевой лавры.
ПИРАМИДЫ
В СТЕПИ
• Недалеко от Улан-
Удэ, на мес те городища
I века стоит Иволгинский
дацан — монастырь, ду-
ховная школа, центр ла-
маистского богословия,
музеи местной старины.
Здесь резиденция банди-
до-хамбо-ламы — перво-
священника буддистов Бу-
рятии Тувы, Калмыкии
Строился он с начала
XIX до середины XX века,
типичен для степного
культового зодчества. Ар-
хитектуру степных даца-
нов формировали три
прообраза: контрастный
рельеф Азии, модель ми-
ра, данная ламаистской
энциклопедией «Ганджур-
Данджур», и палаточные
города кочевых империи
средневековья.
Островерхие пики Ги-
малаев и выжженная-
плоскость Гоби восприни-
малась как вечное равно-
весие. Мир — равнина,
учит «Ганджур-Данджур»,
посреди — священная го-
ра Сумбэр, четырехгран-
ная пирамида высота и
сторона основания кото-
рой равны.Вокруг горы —
четырехугольная ограда,
она отдалена от подножия
на расстояние, вдвое
большее высоты пирами
►
ф Ламаистская икона
Аппликация на шелке
дов Л^рнгодьскои импе-
рии Главные шатры вме-
щали до ысячи всадни-
ков Расшитые яркими
цветными полосами, оби-
тые львиными и горно-
стаевыми шкурами они
были не лишены изящест-
ва. Внутри — драгоцен-
ная утварь, подобранная
со вкусом. Но город шат-
ров всегда готов свернуть-
ся превратившись в по-
ходную кладь
Бурятские дацаны оста-
лись внешне «легки на
подъем»,, даже когда
прекратили странствия
Цена 40 коп Индекс 70602
застыли в камне и метал-
лических конструкциях.
В Отличие от тибетских,
они огорожены не кре-
постными стенами а ус-
ловными — дань и «Ганд-
журу» и кочевым привыч-
кам. Иконы стали заметно
больше, но по традиции
писались на складных
холстах, а огромные ап-
пликации на шелке все
так же можно было ска-
тать в свиток.
Иконы-аппликации бу-
рятских дацанов особен-
но ярки контрастны. «Ри-
совать» кусочками парчи
и шелка — дело кропот-
ливое, требующее тонко-
го чутья Ученики мастера
обычно делают каждый
свое, один преуспел в
изображении цветов, дру-
гой работает над лицами
«злых гениев» Самое
трудное учитель остав-
ляет себе: он создает
шелковые глаза божест-
ва.
В степном дацане гу-
ляет ветерок, поскрипы-
вают ширмы, мерцают в
неверном свете позолота
статуй, серебряные нитя-
ные колокольцы — мо-
нашеский атрибут. И вдруг
сверкнет медалями ста-
ринный сам -ар, знак
давнего соседсп а с рус-
скими жителями Забай-
калья...
* Иволгинскии дацан
ды.. Дацаны с их цент-
ральными храмами-цог-
чинами ’воспроизводили
Эту вселенскую гео-
метрию.
В Бурятии дацаны на-
чали скроить с XVII века.
Здесь формировался осо-
бый стиль дацанов, в их
строи гельс гве и убранст-
ве.
Бурятские дацаны по-
началу были кочевыми,
поэтому хорошо «пбмни-
ли» уже, казалось бы, за-
бытый стиль ханских ста-
вок — палаточных столиц
Великои степи В XIГ1 вс
ке европейских путе-
шественников поражала
планировка и ооскошь
этих передвижных горо-