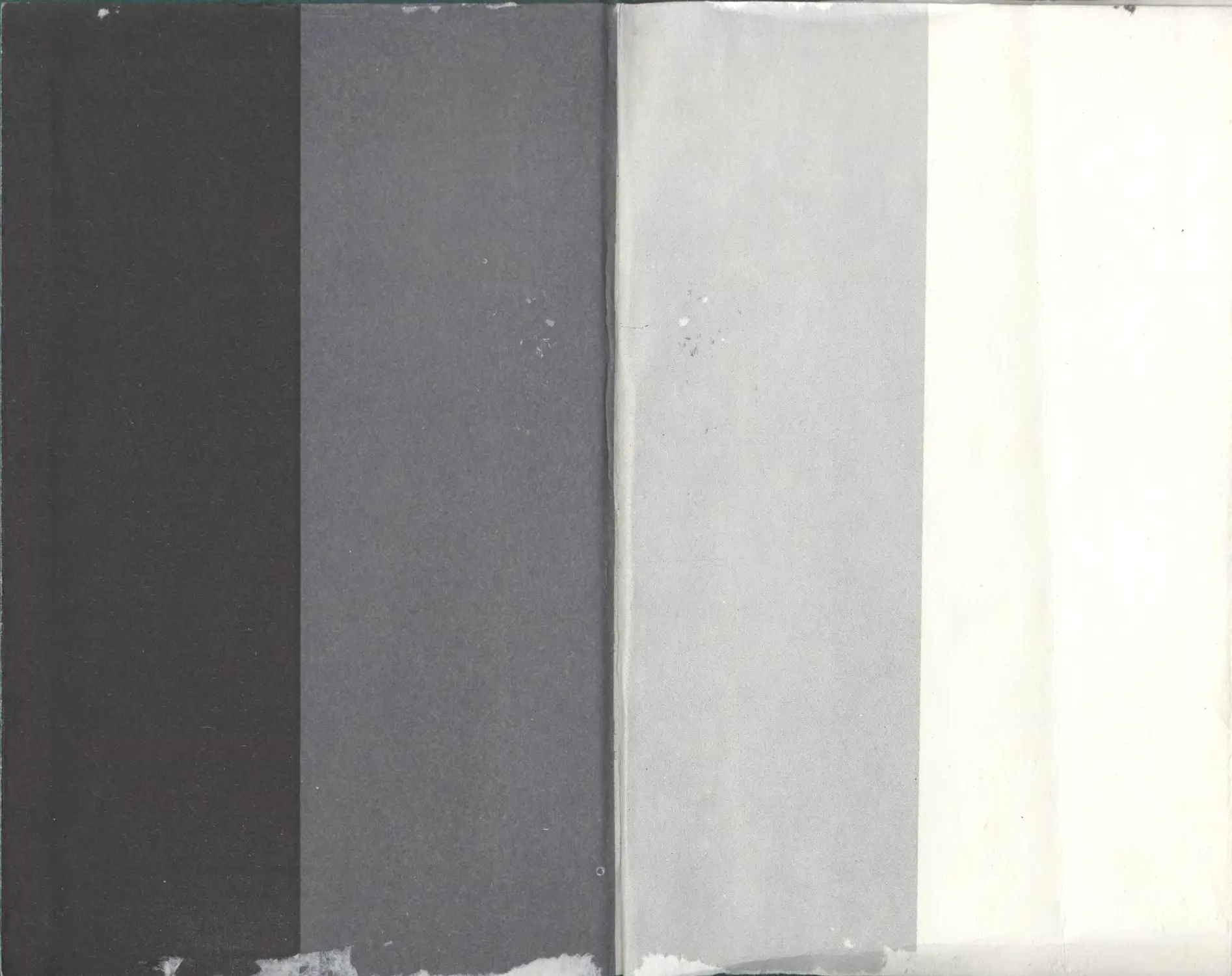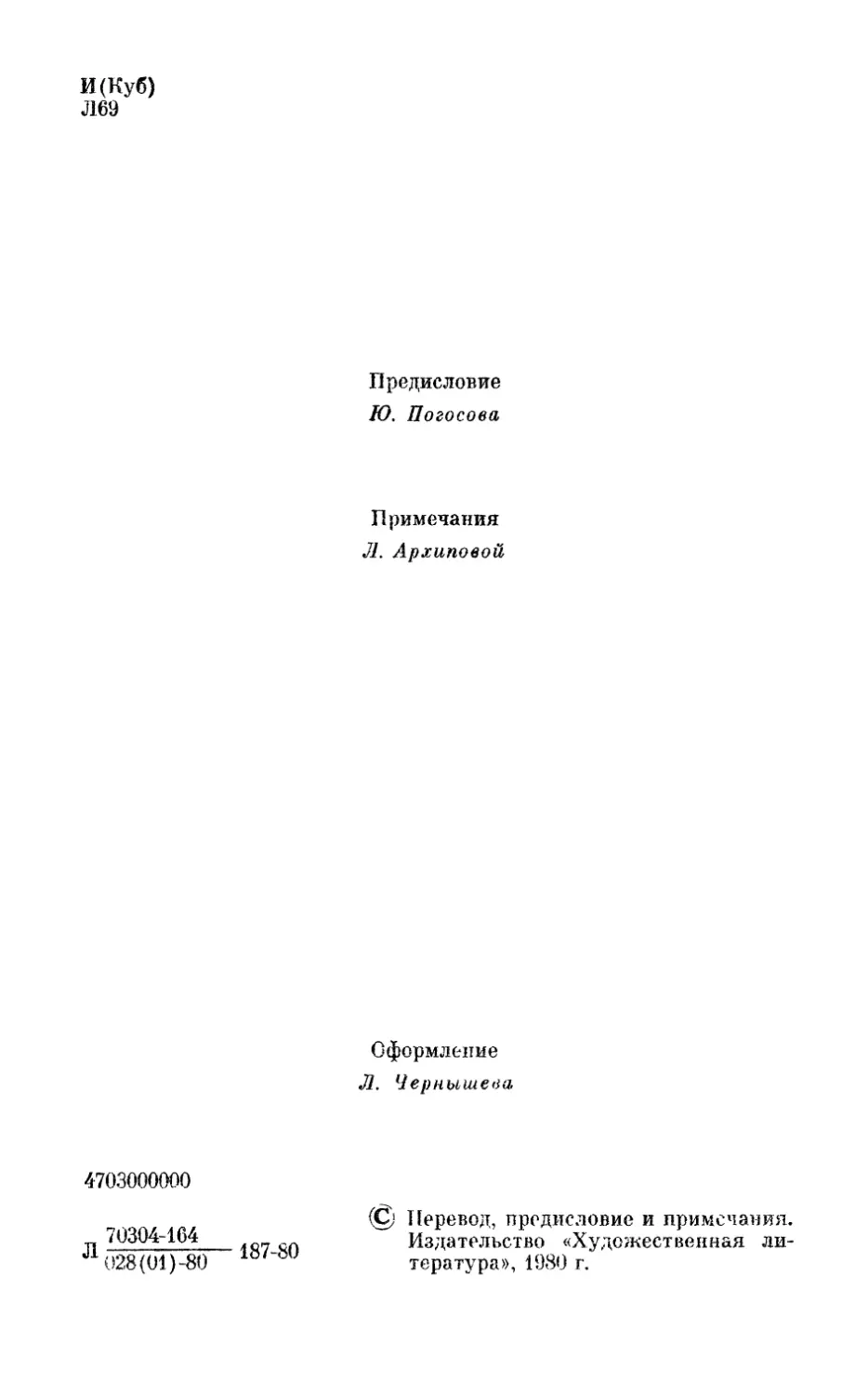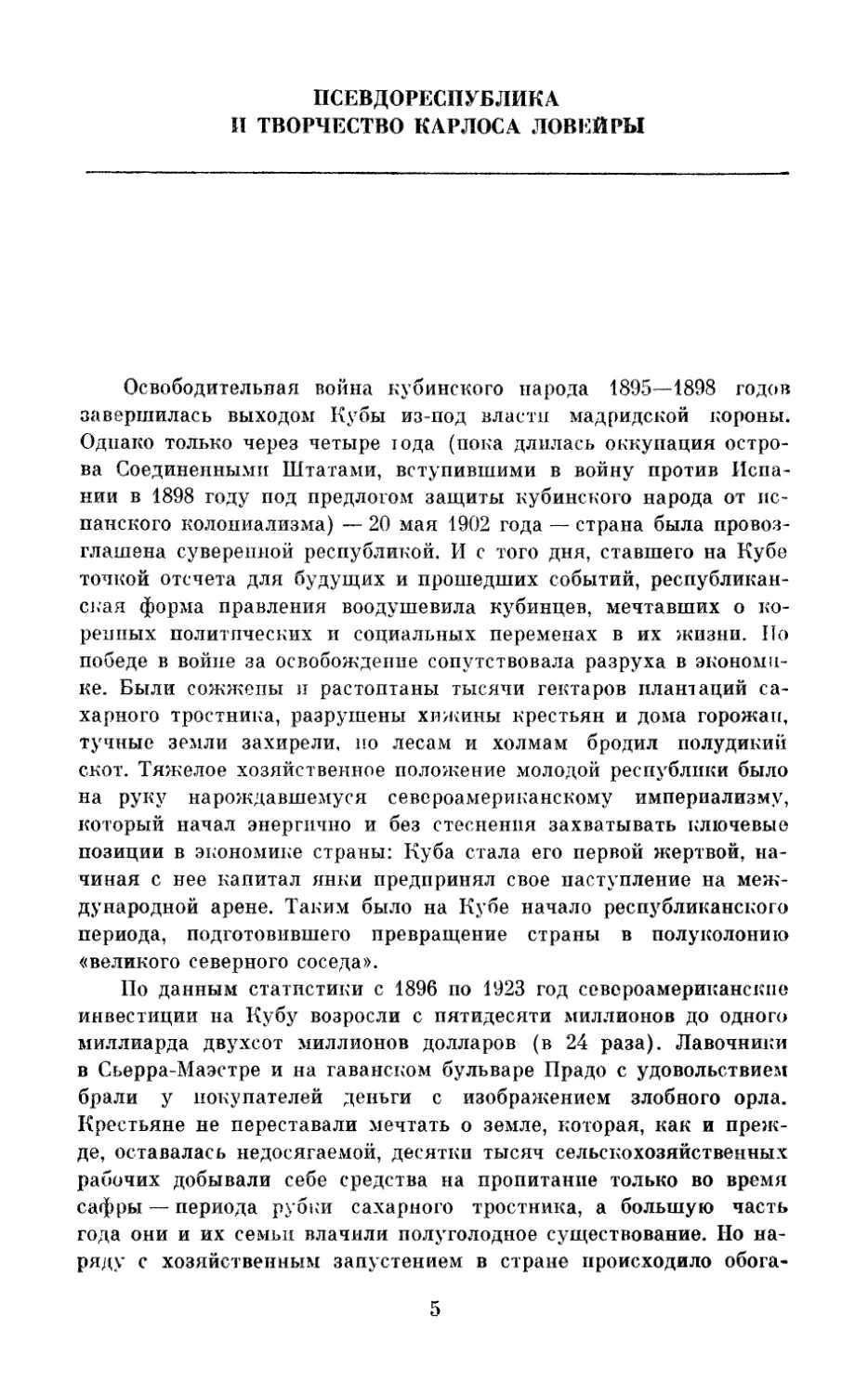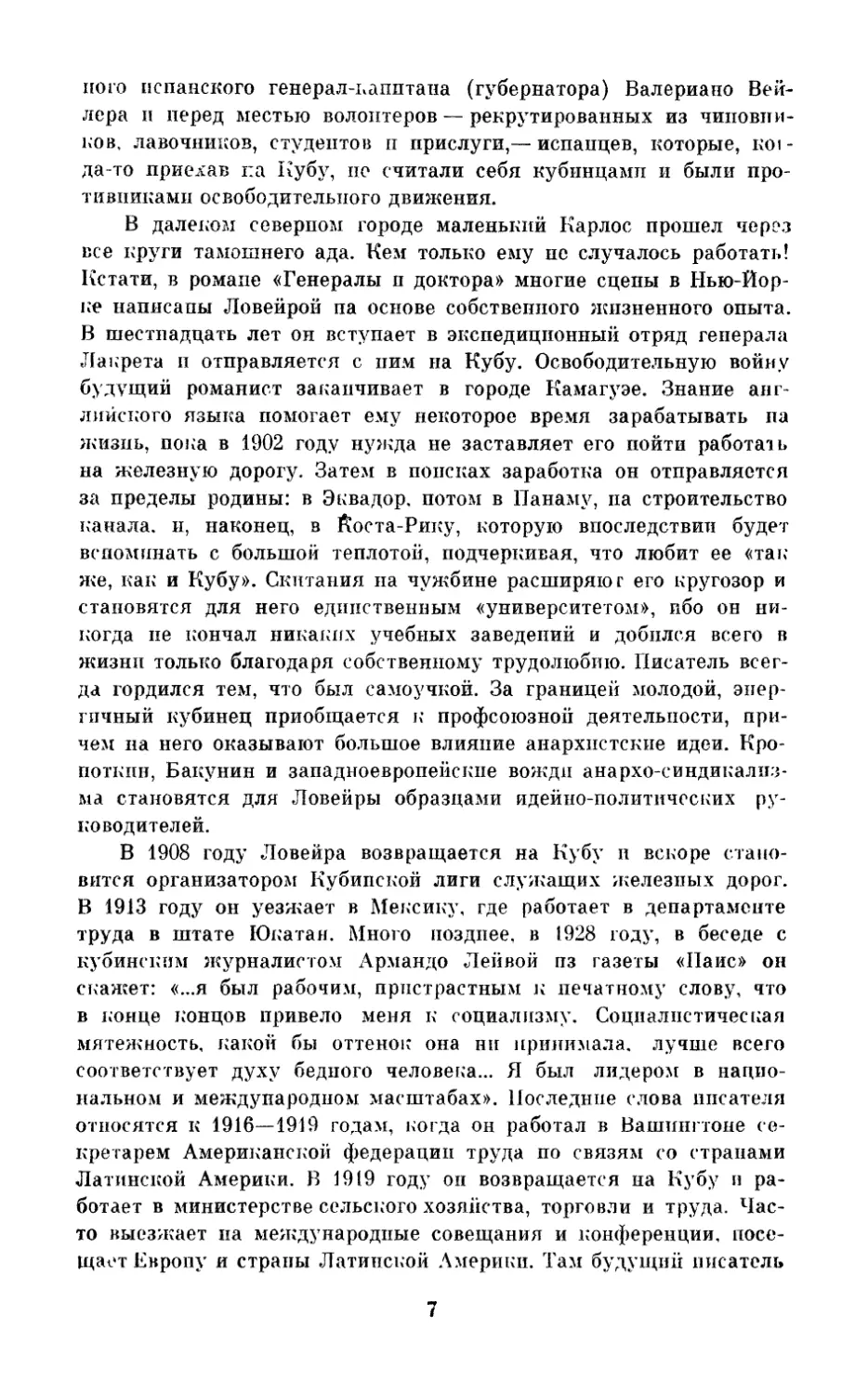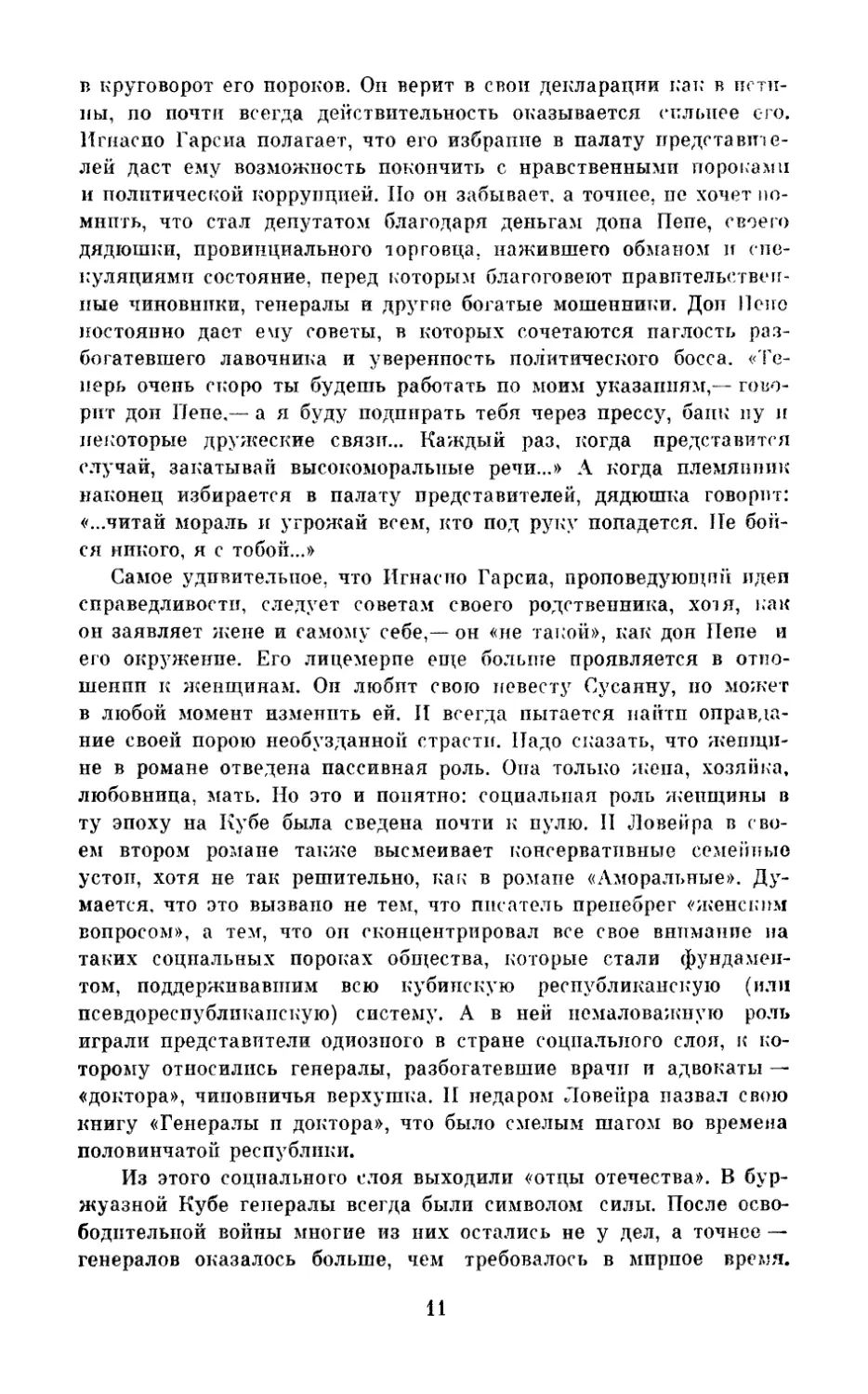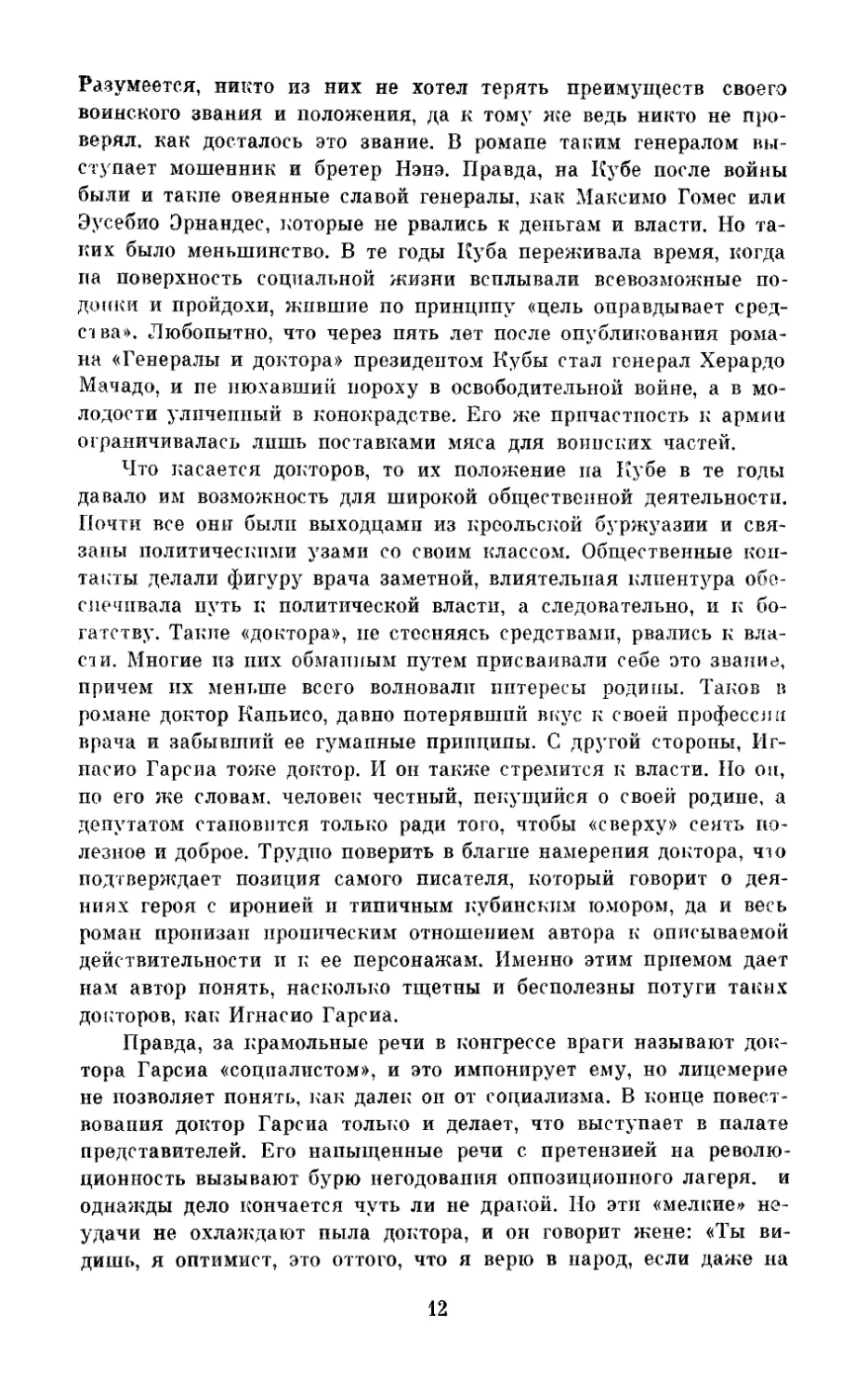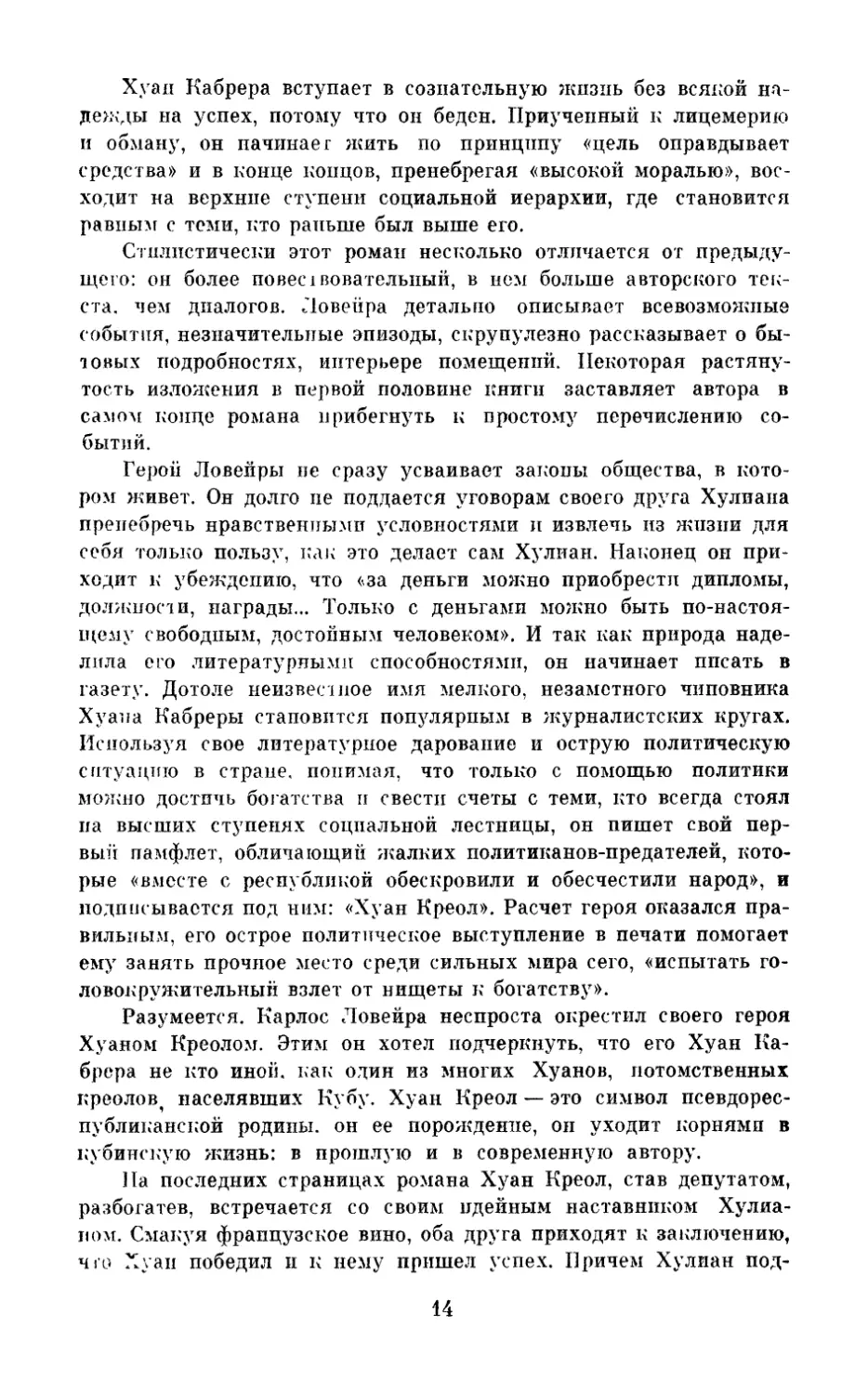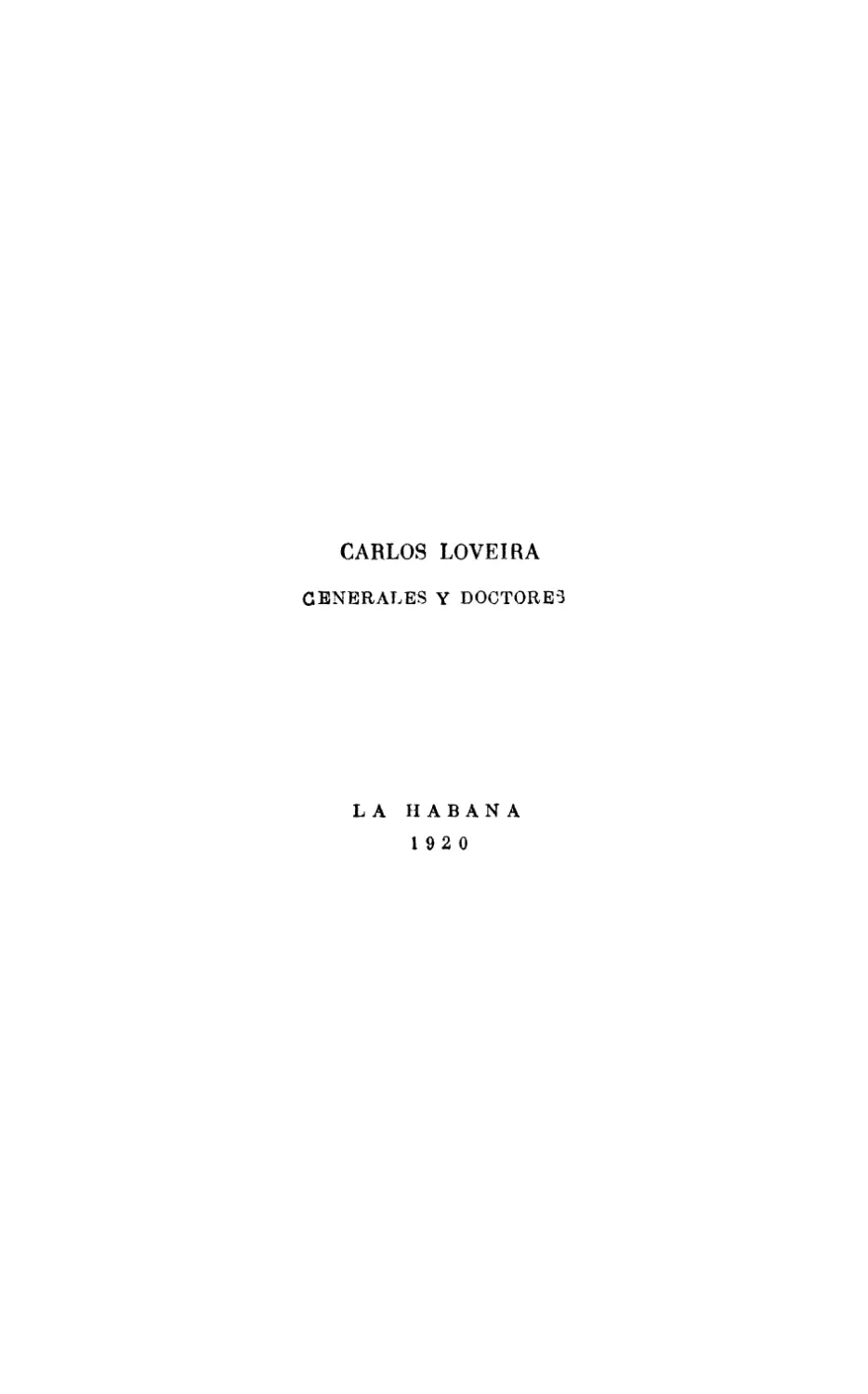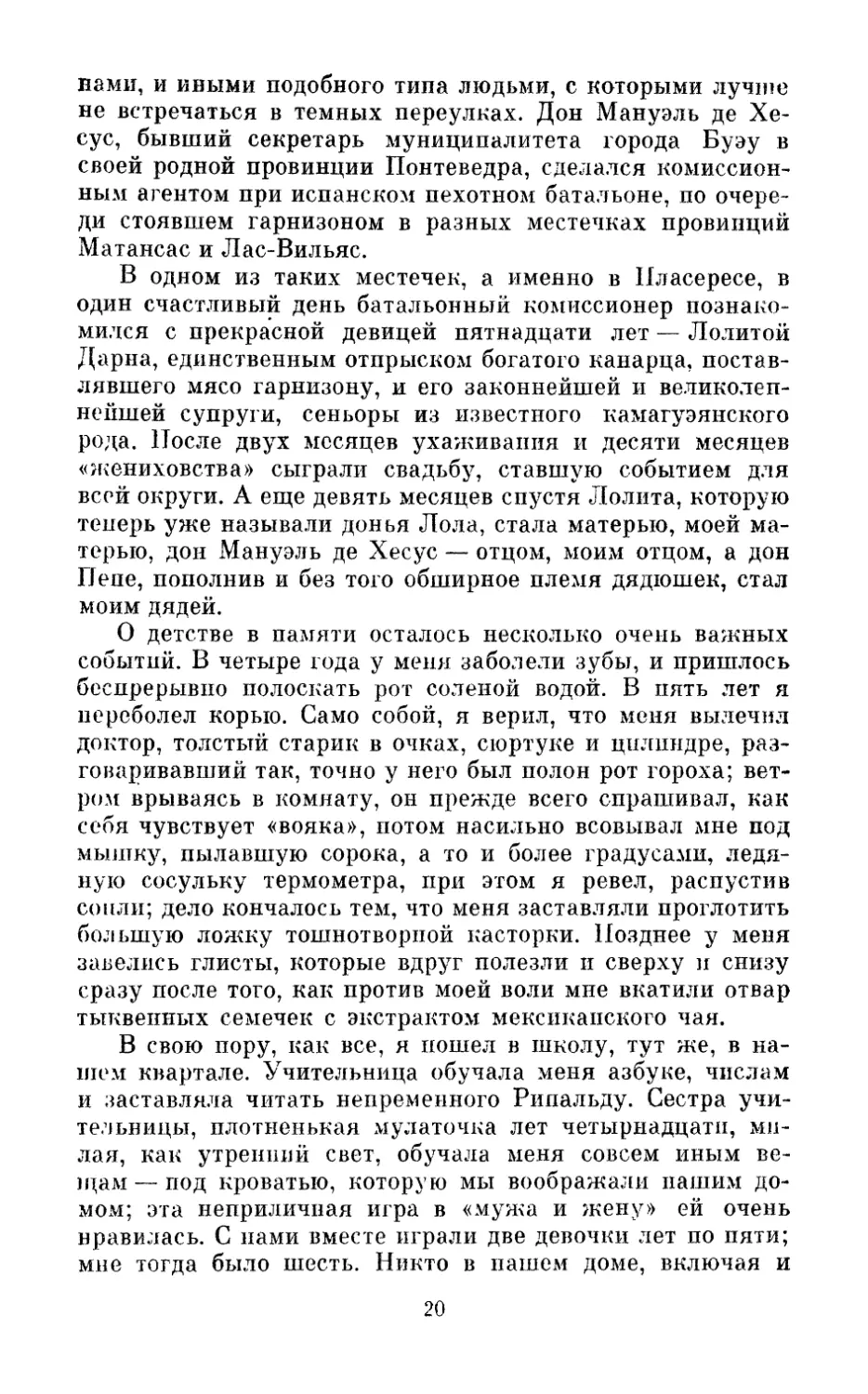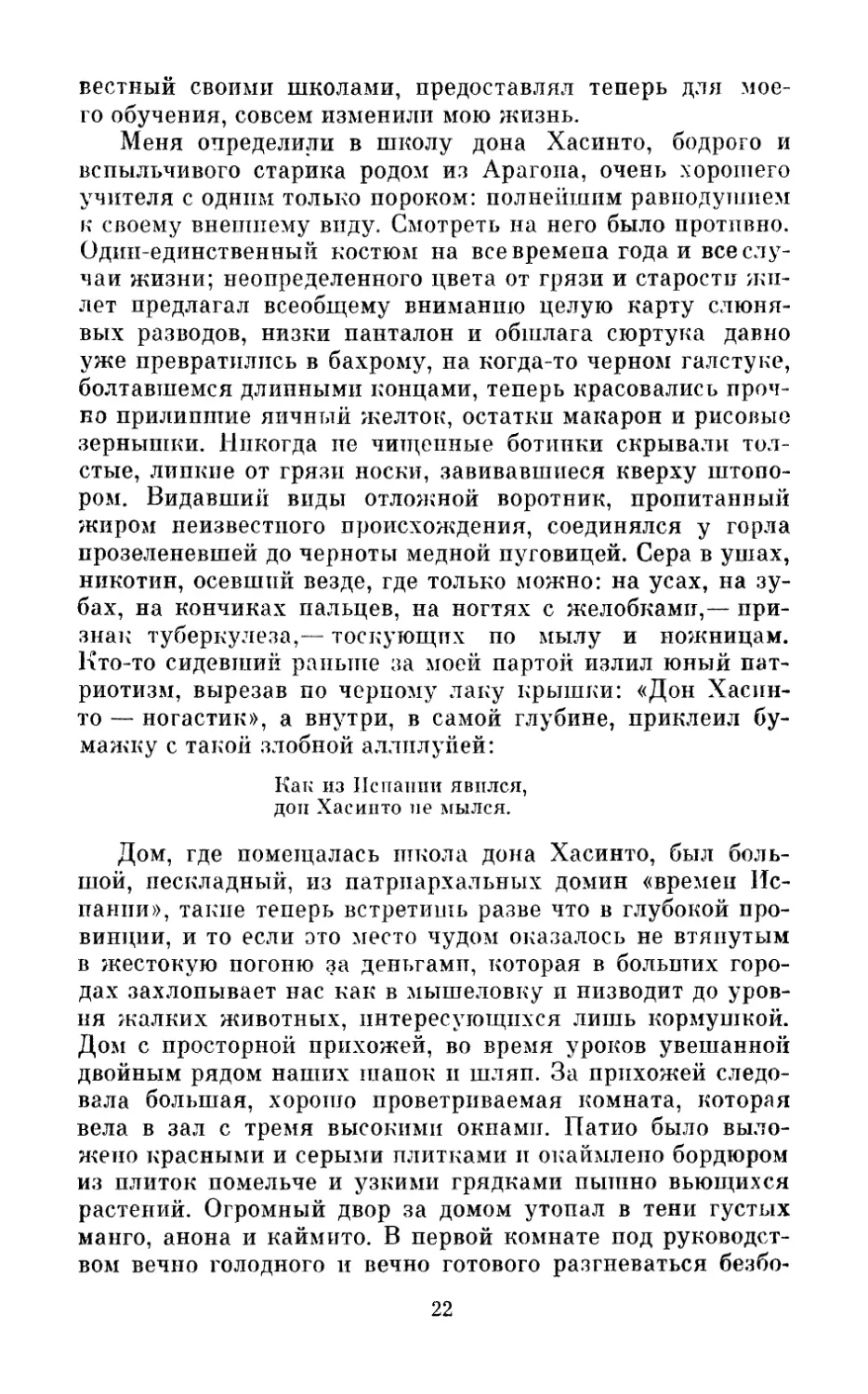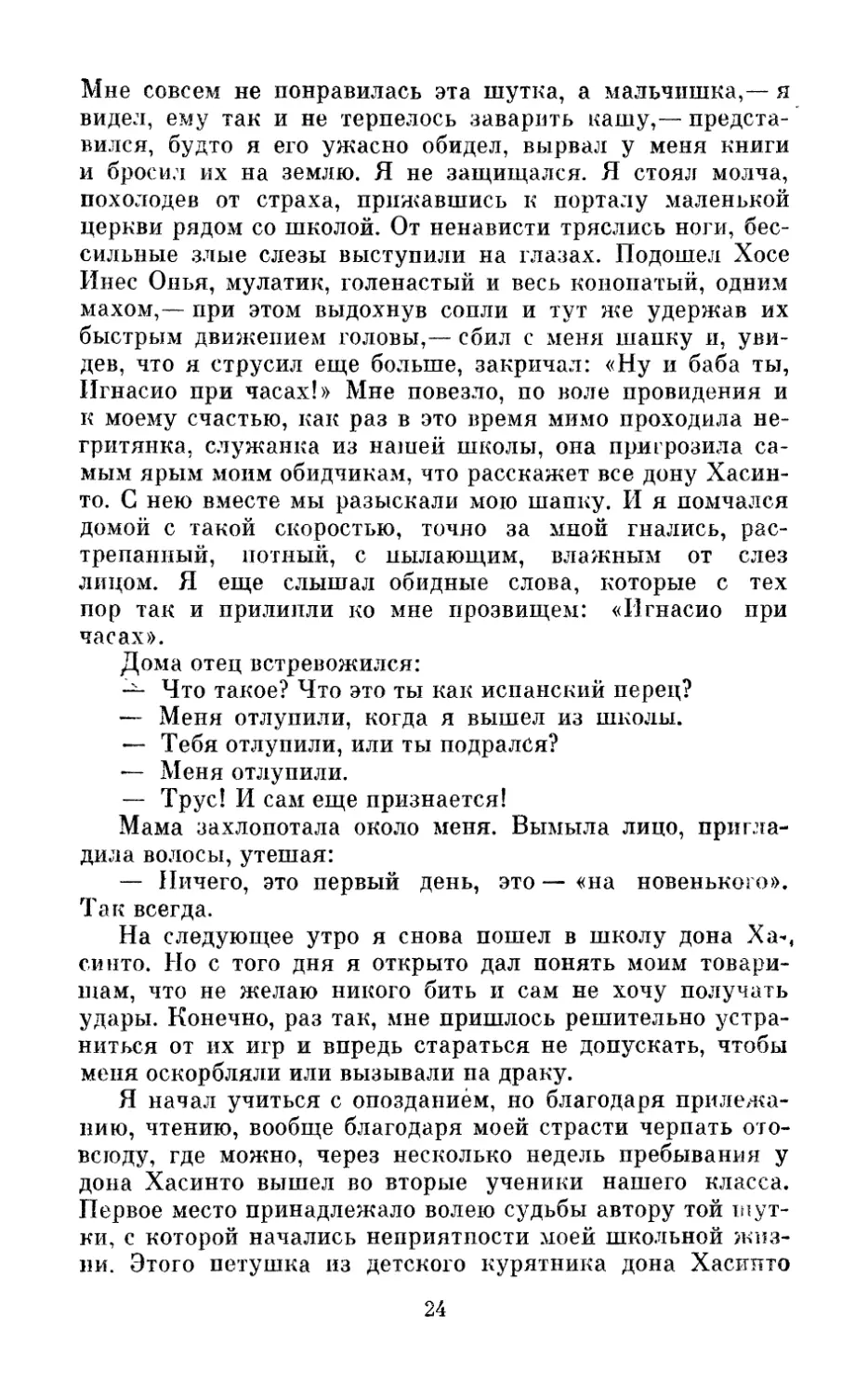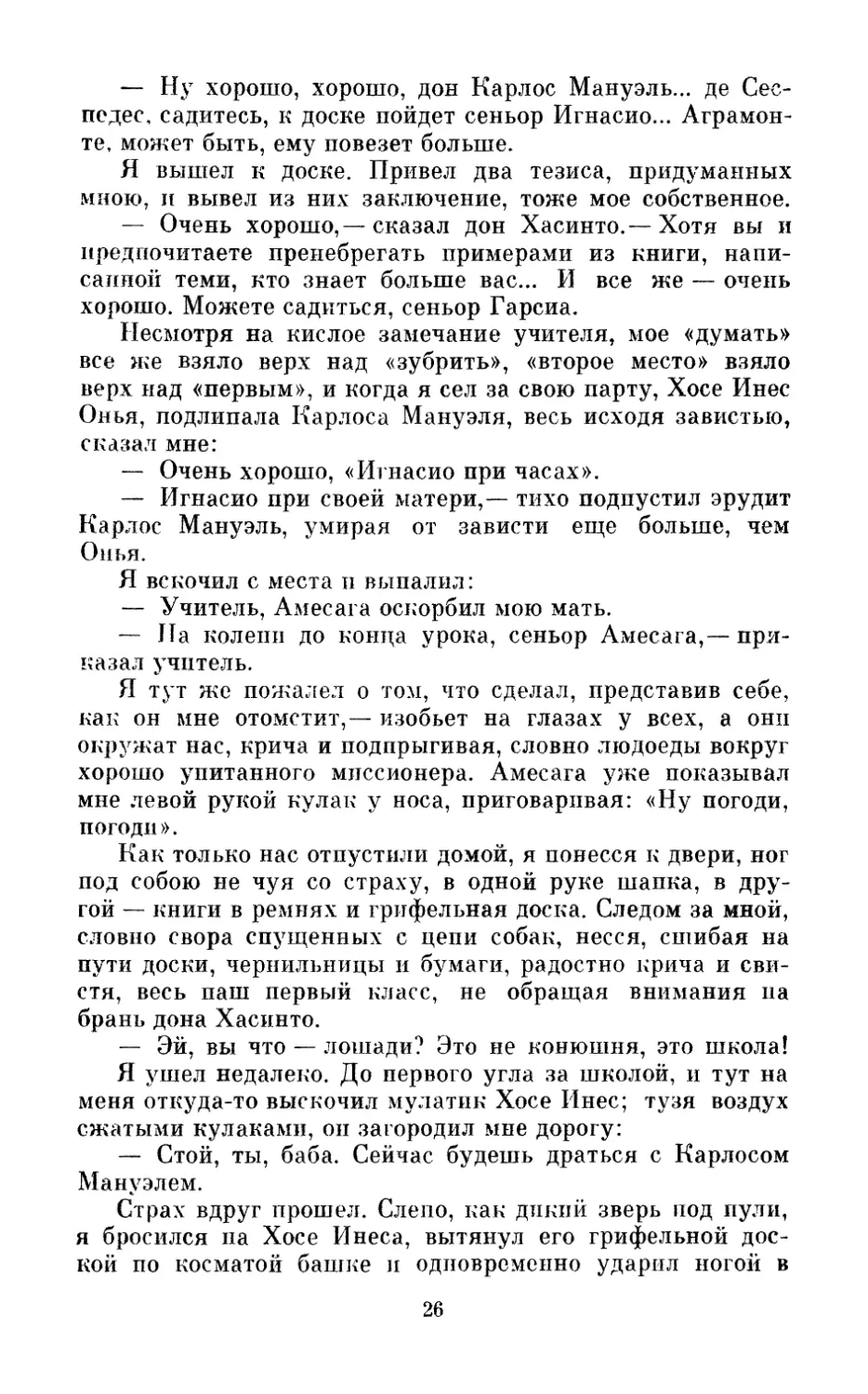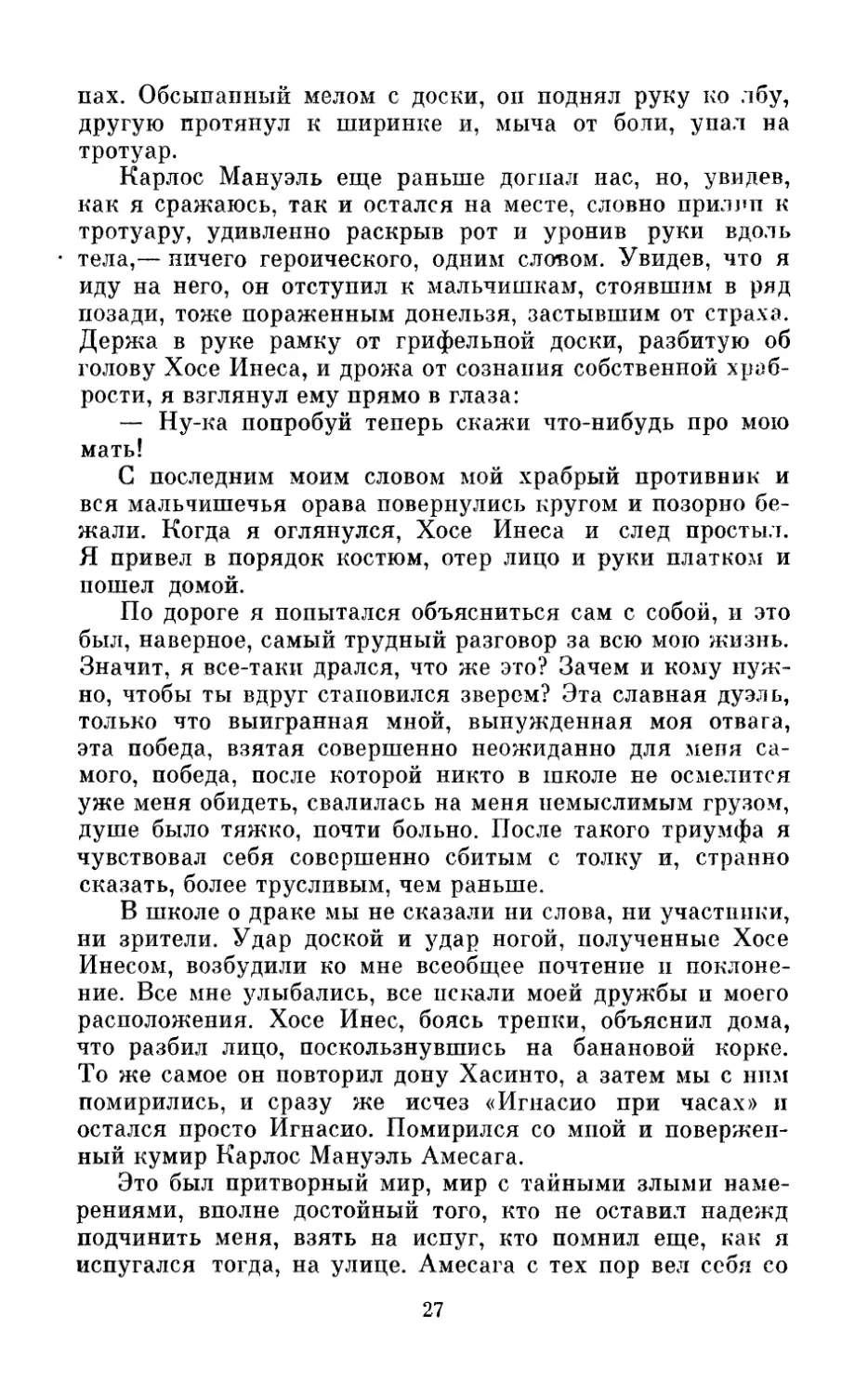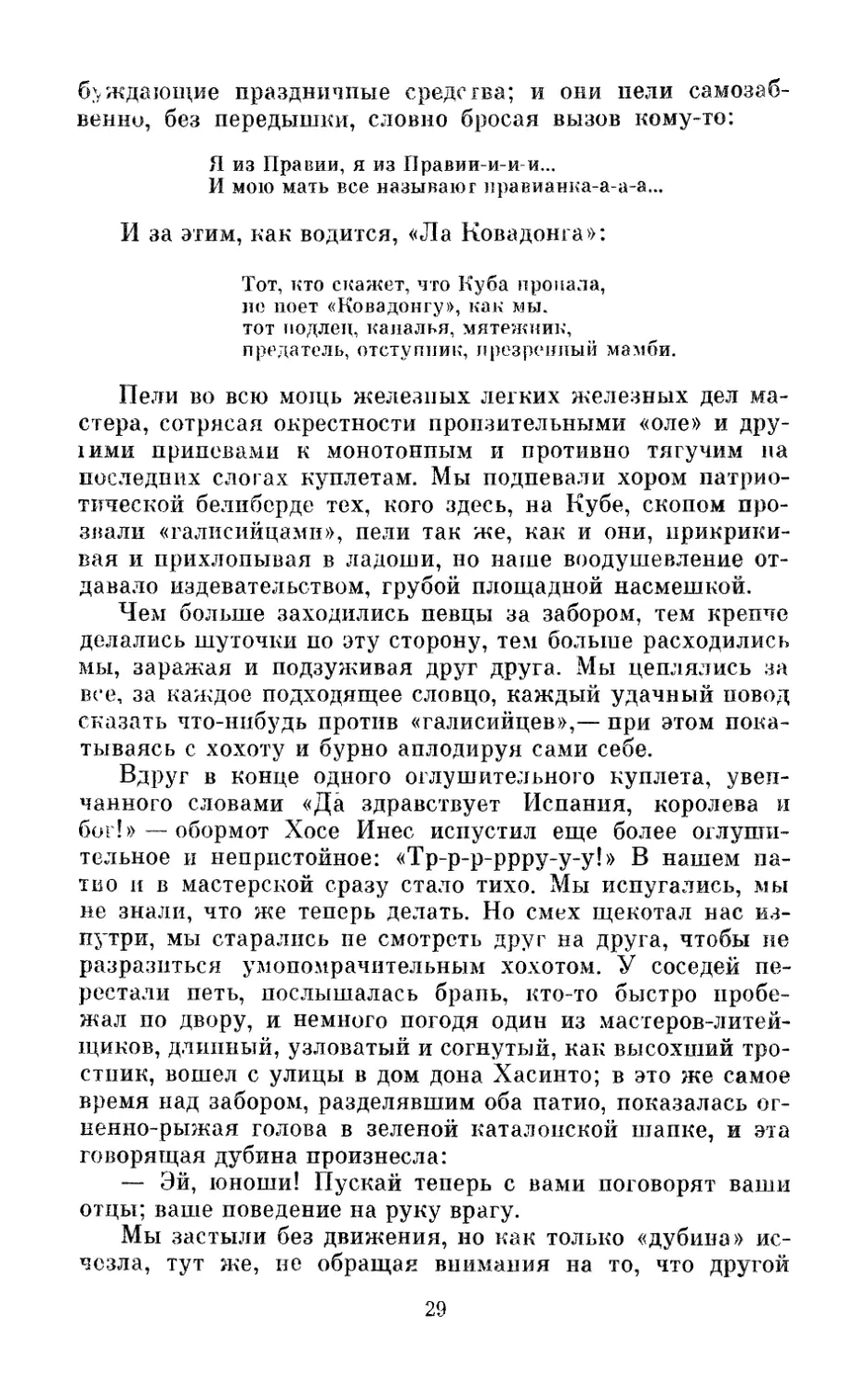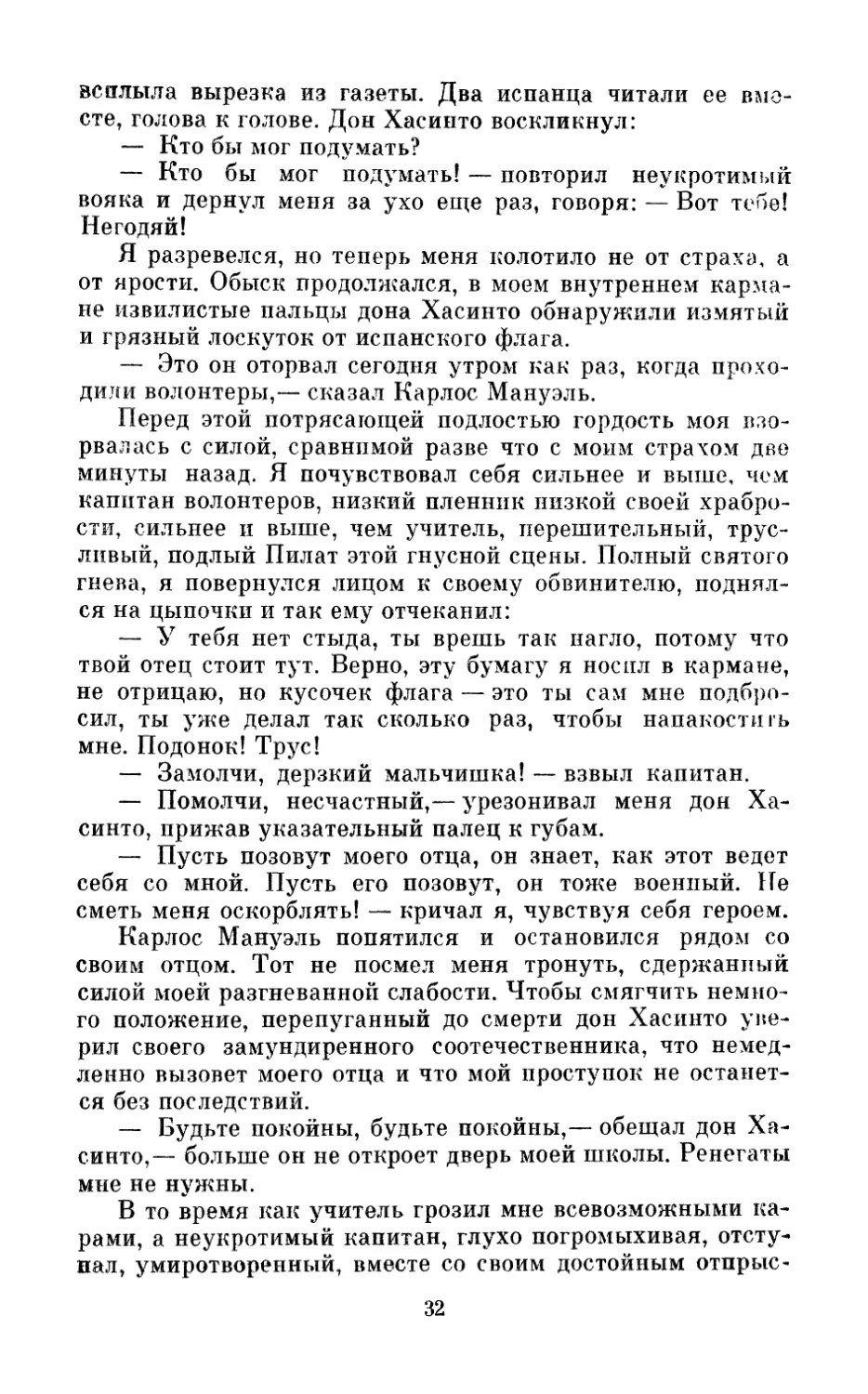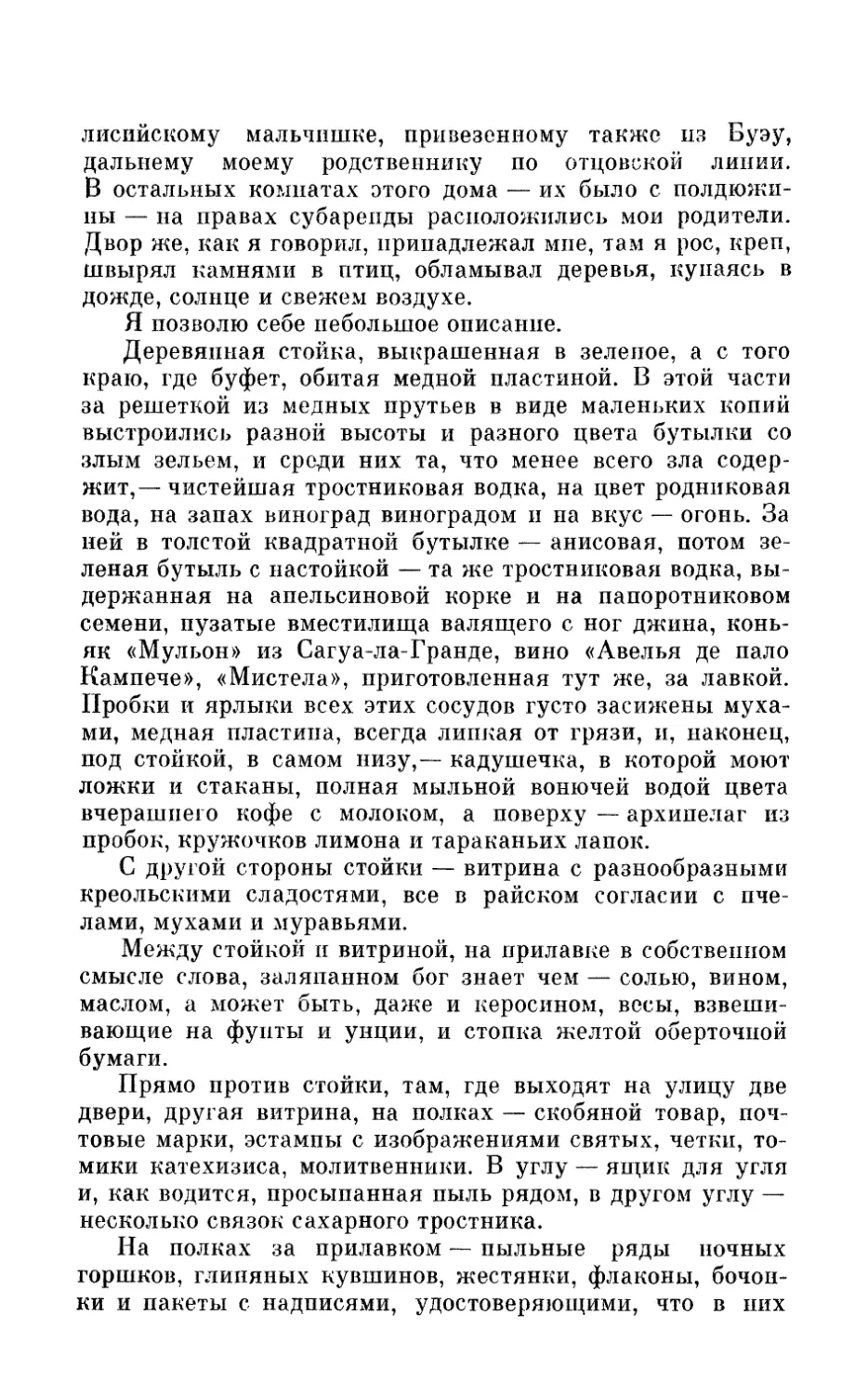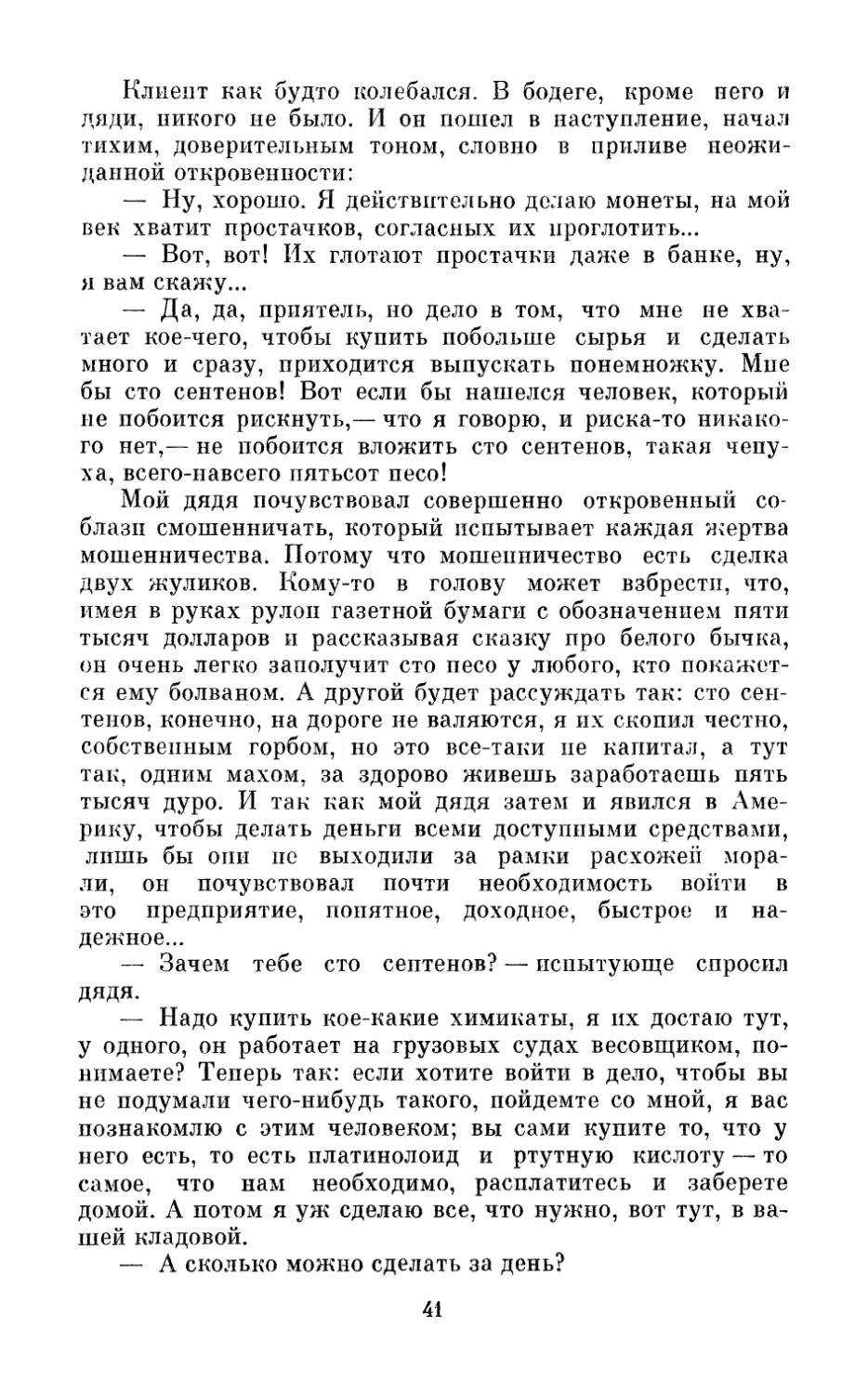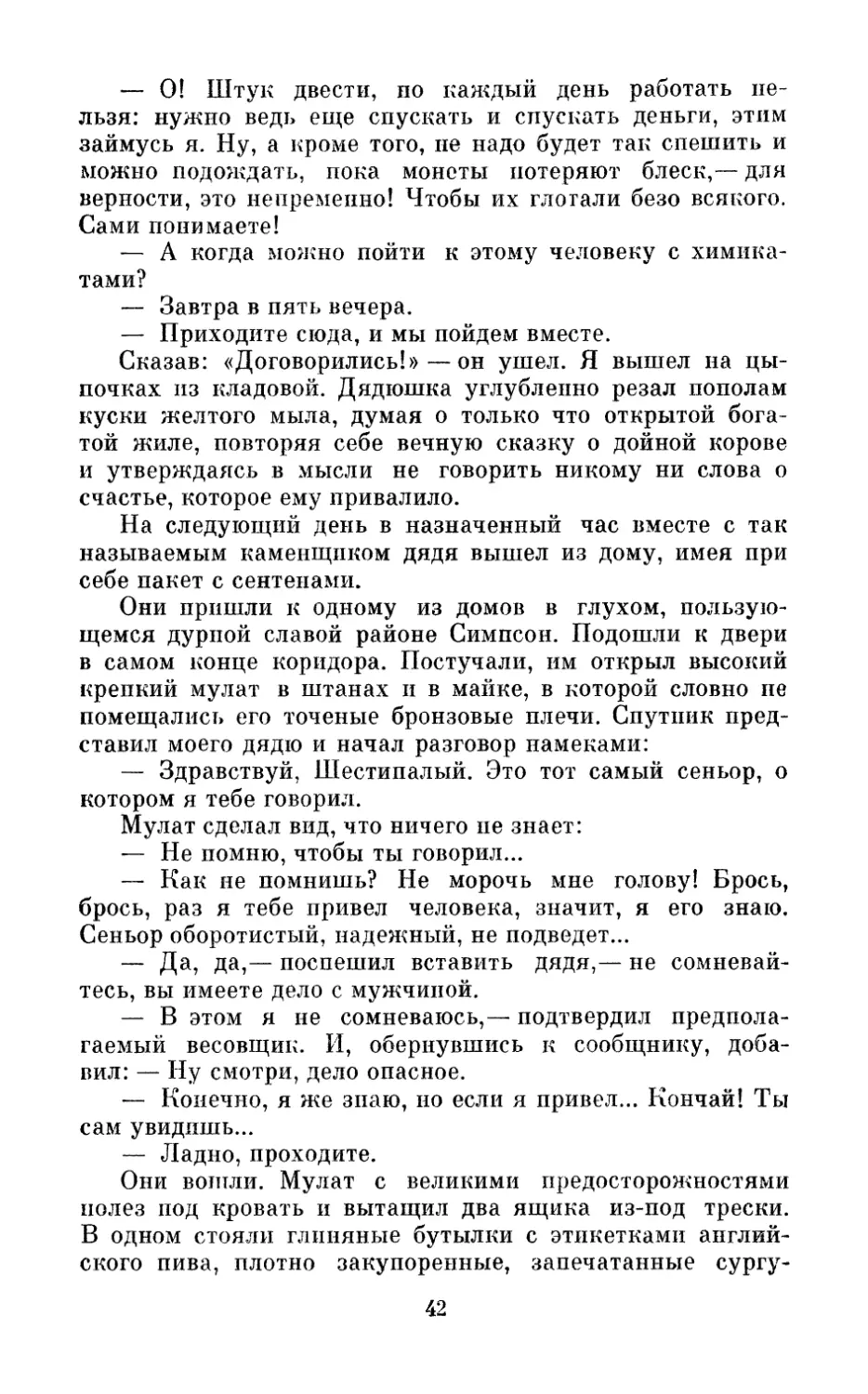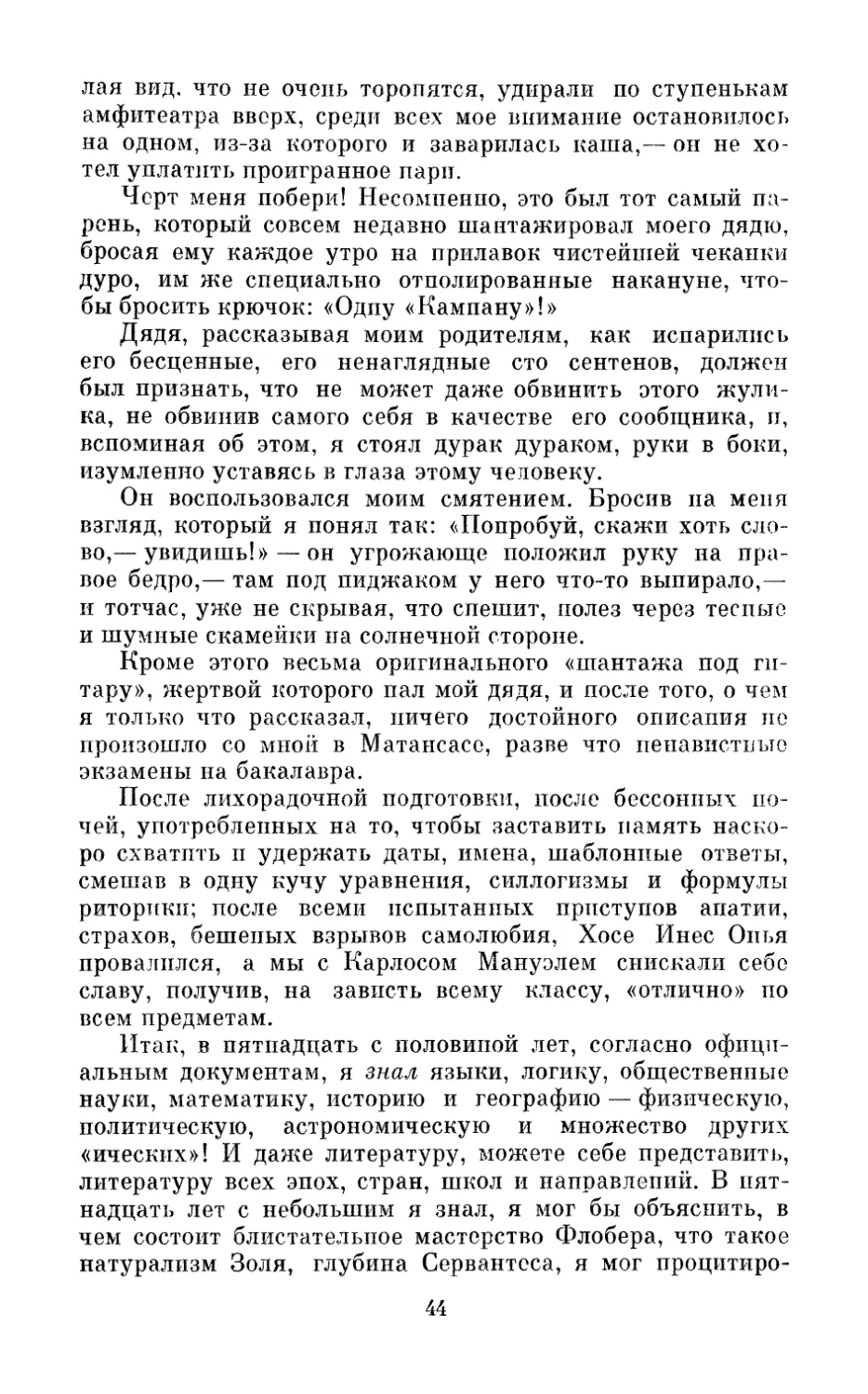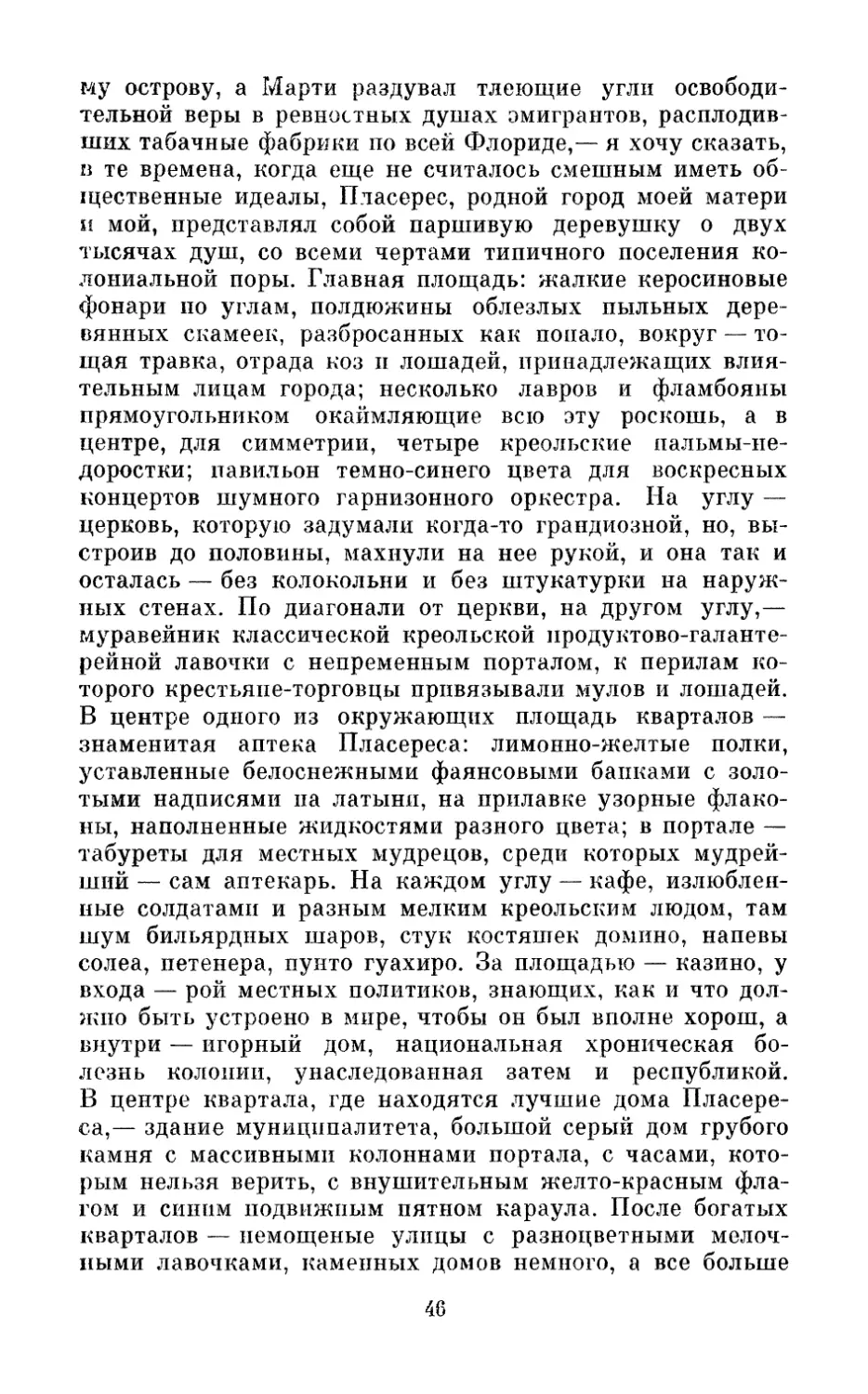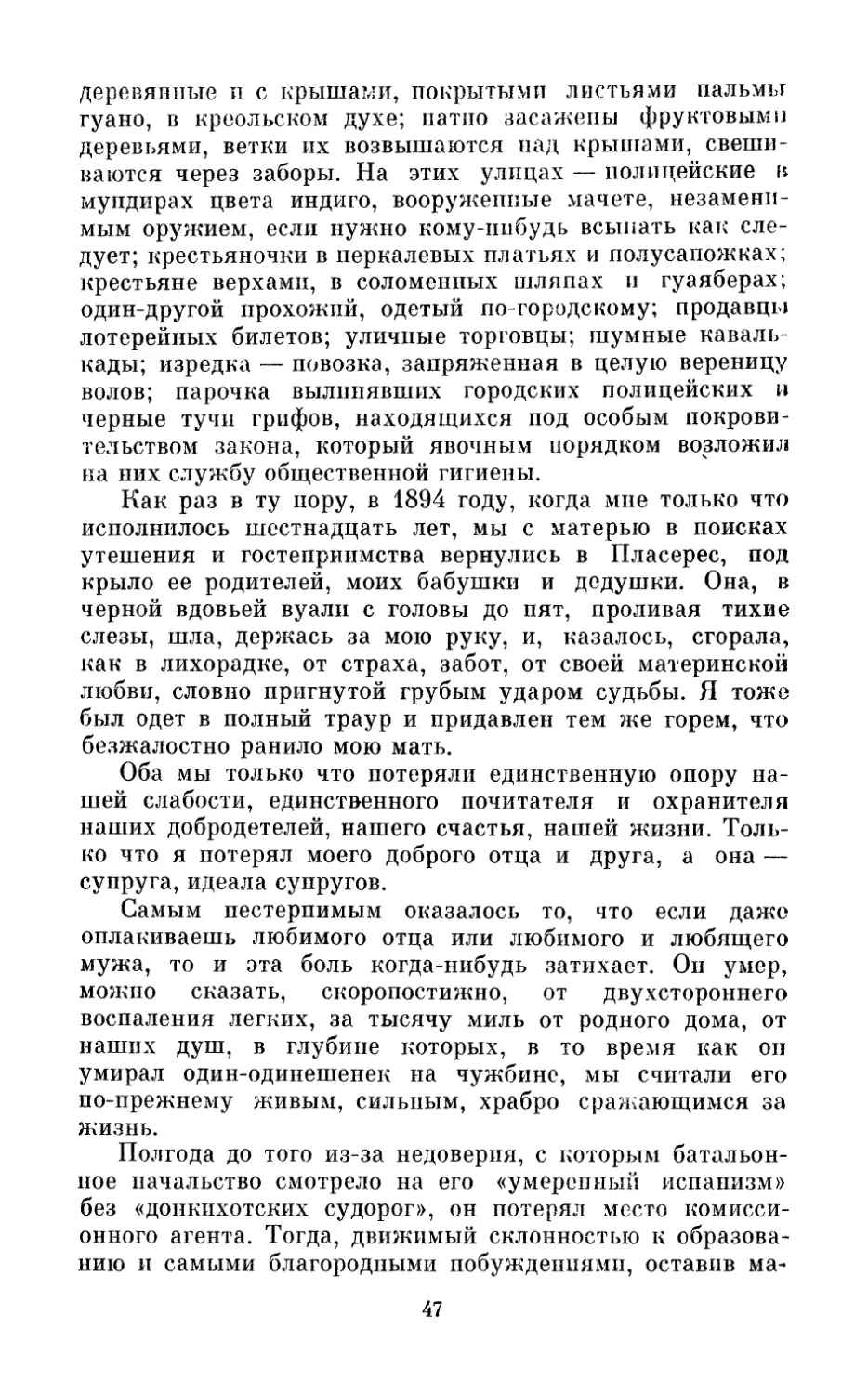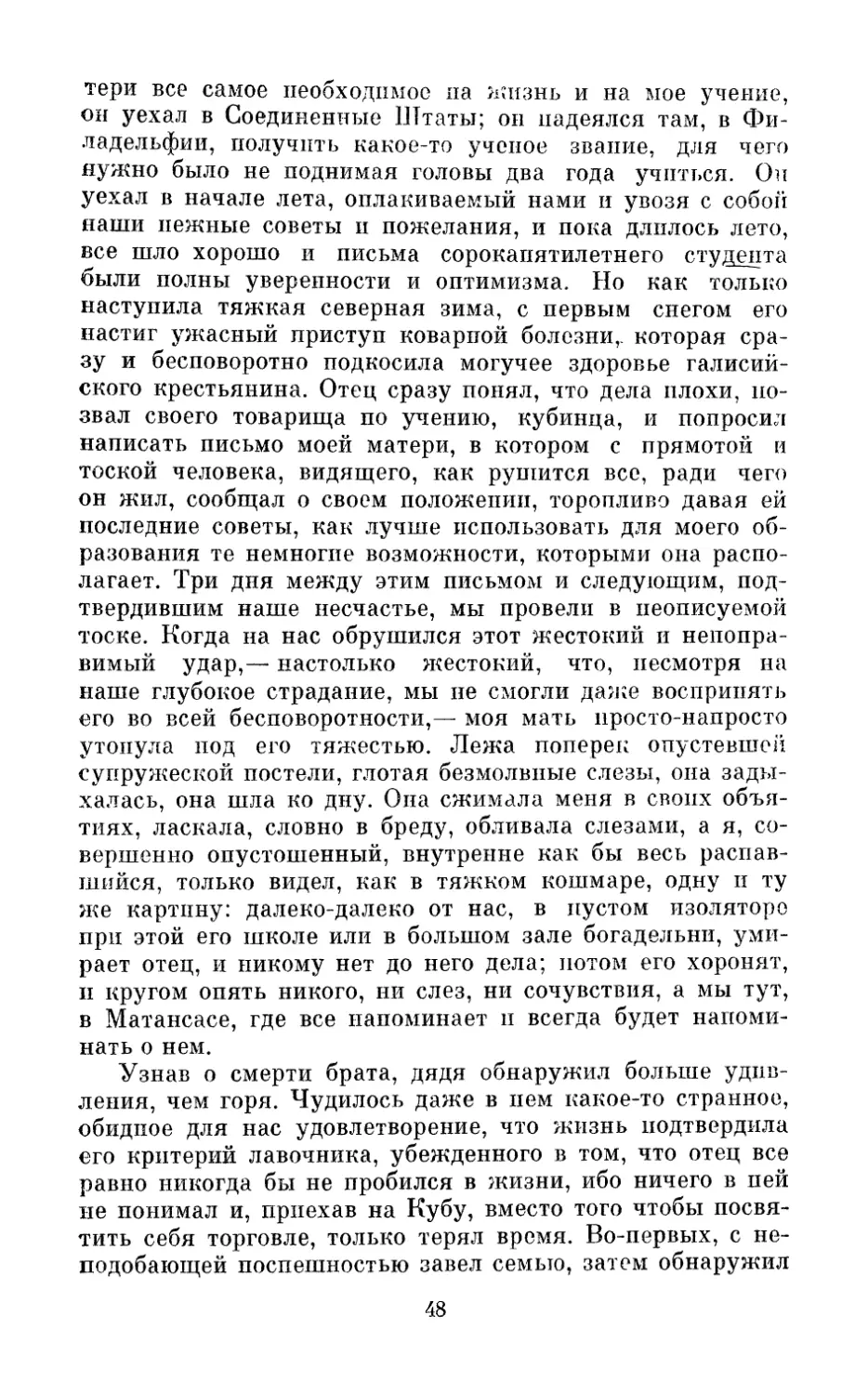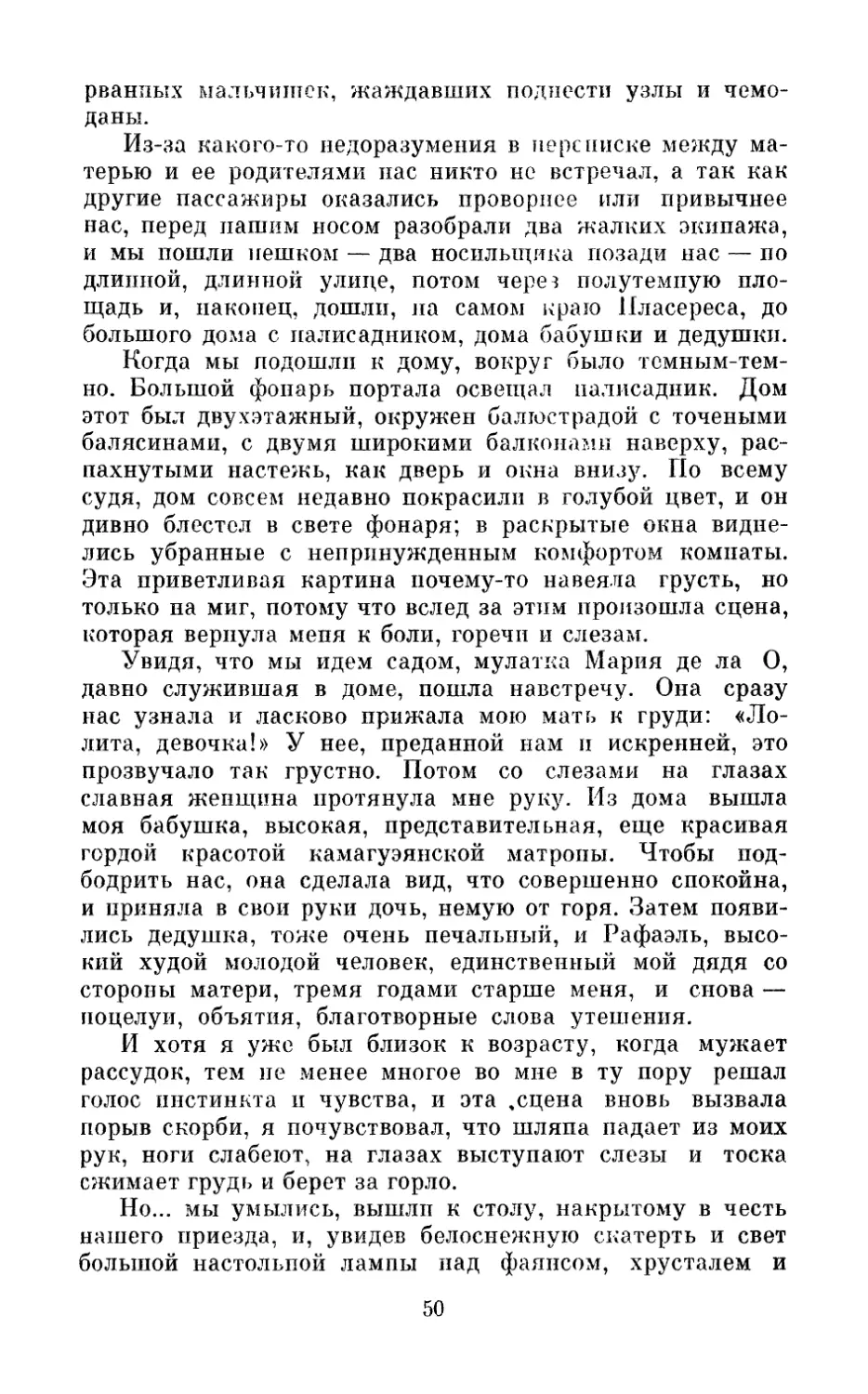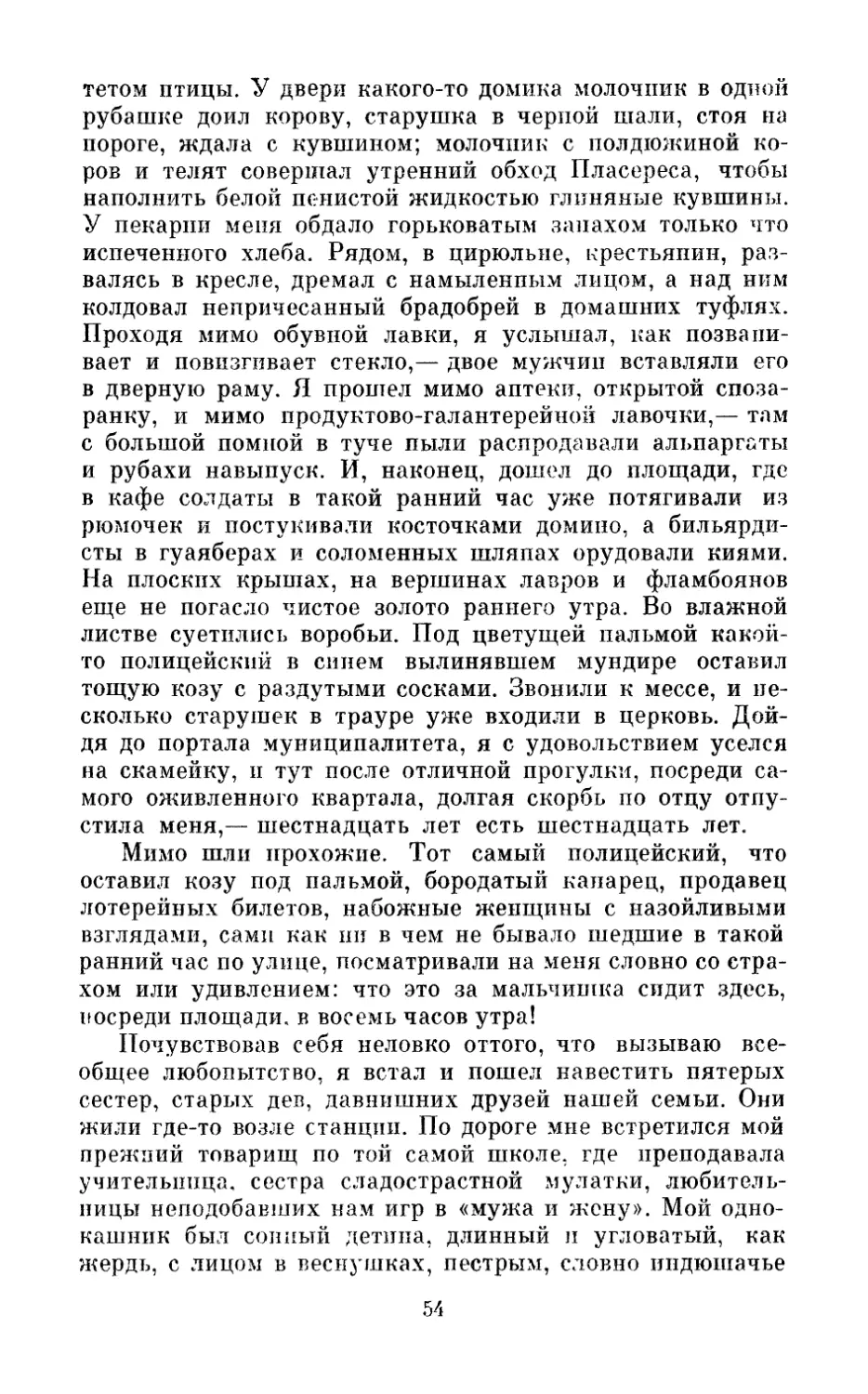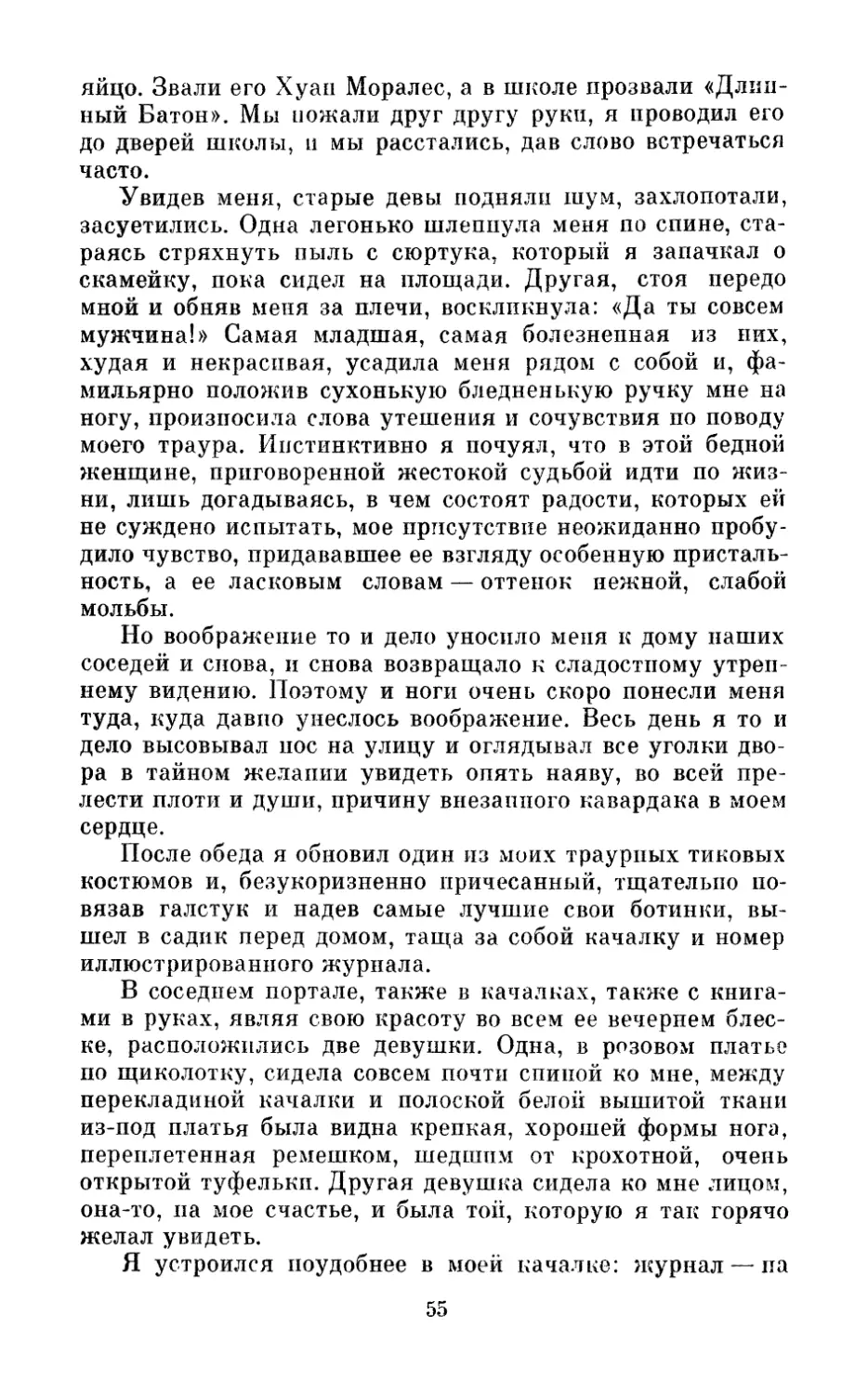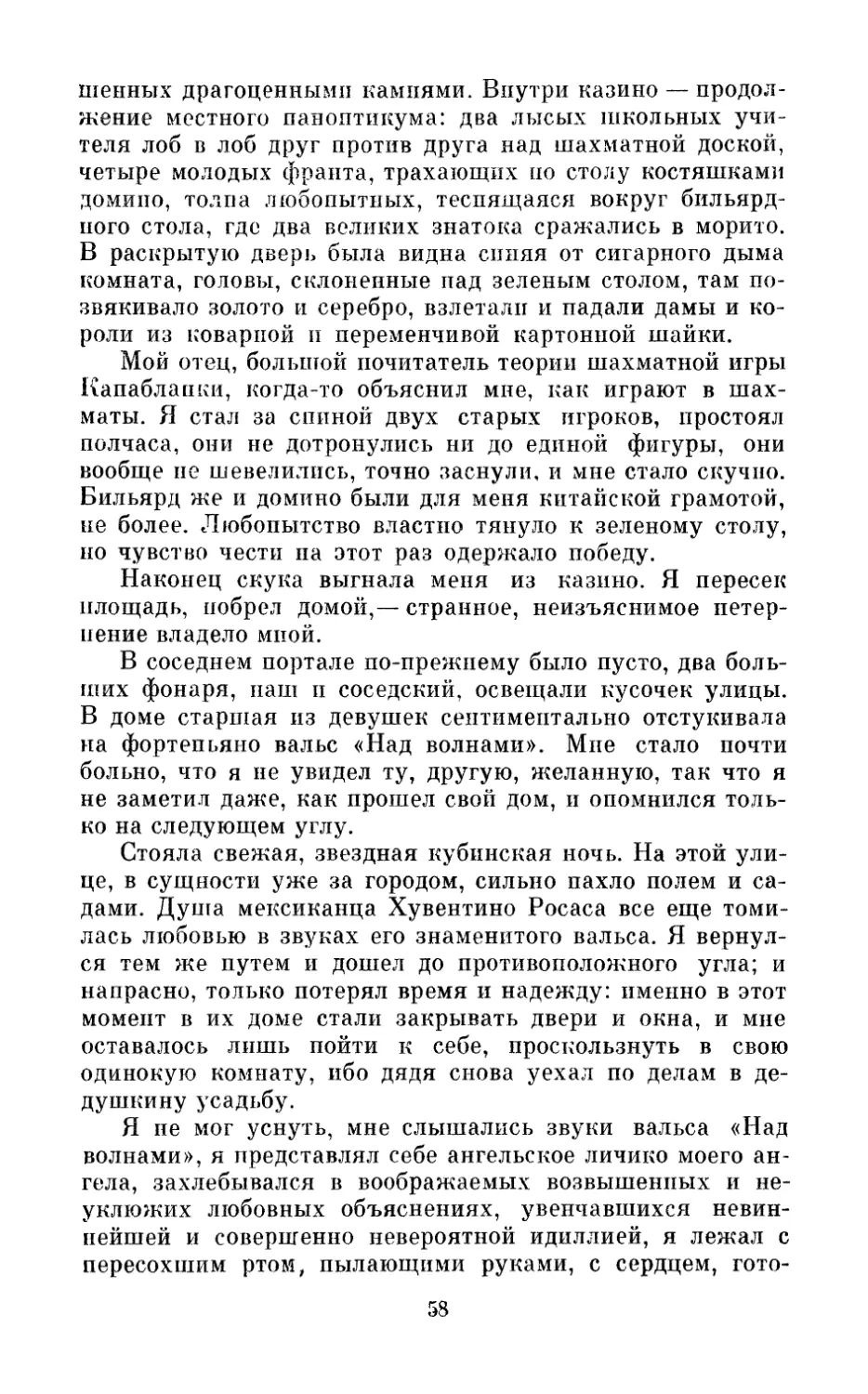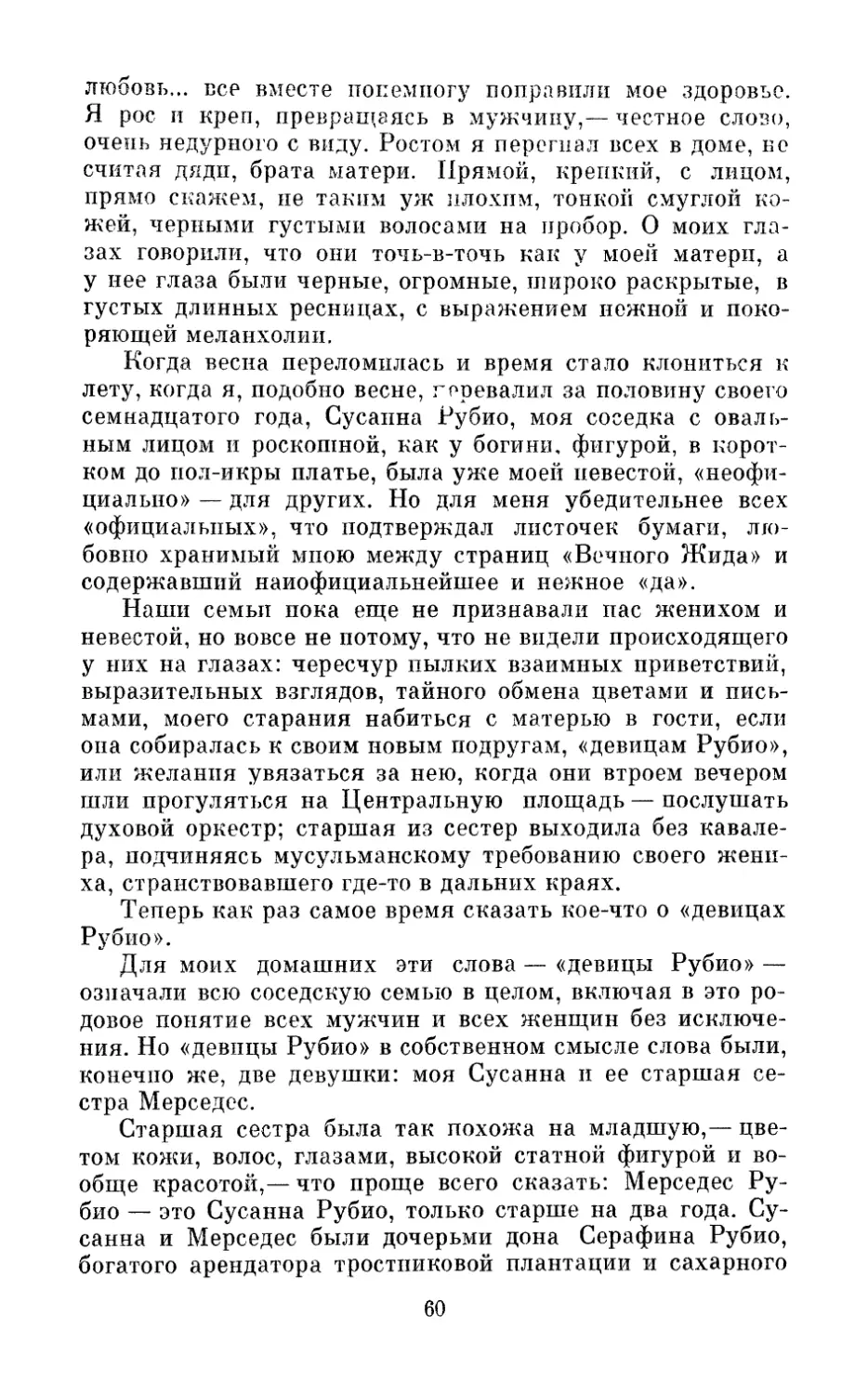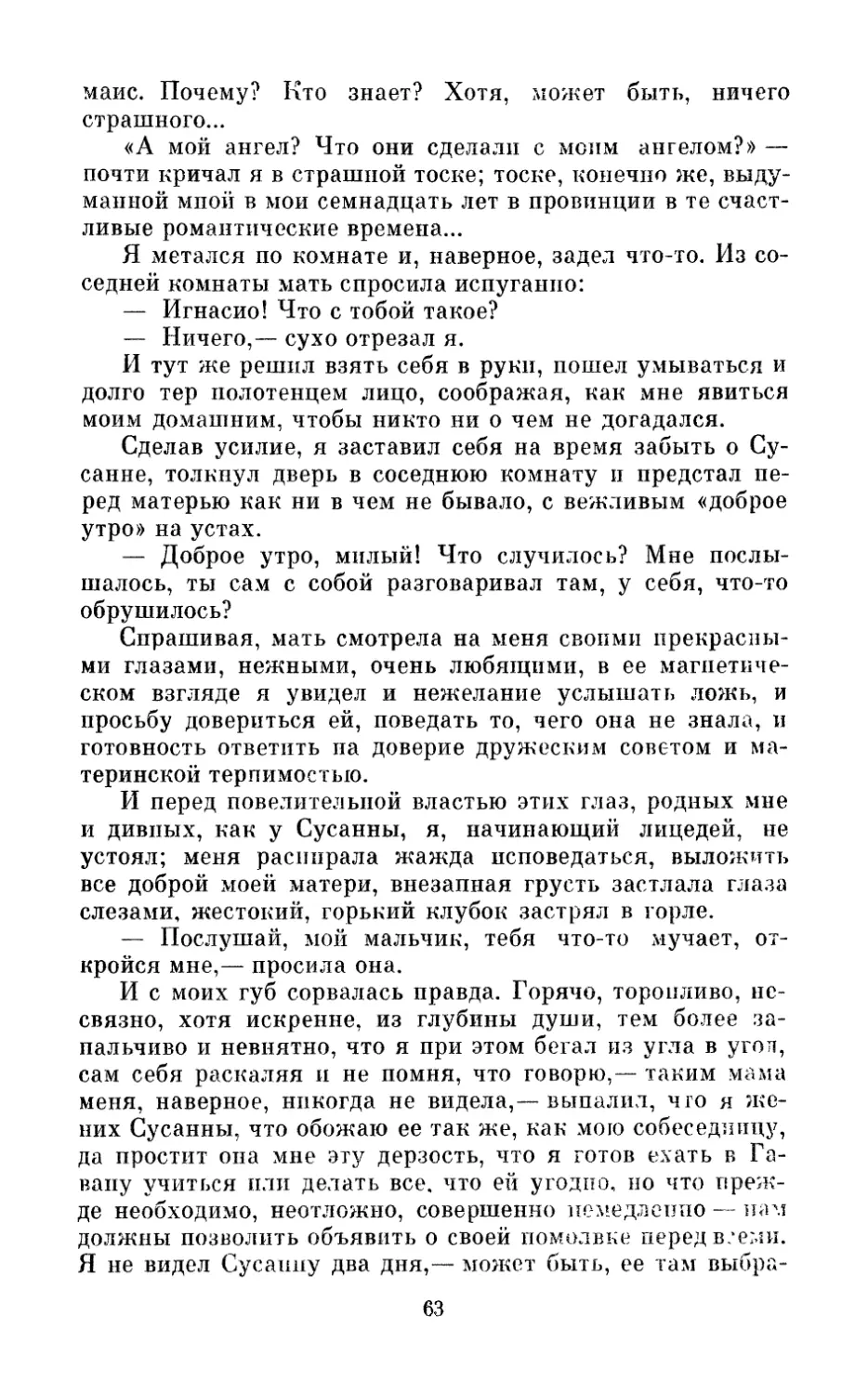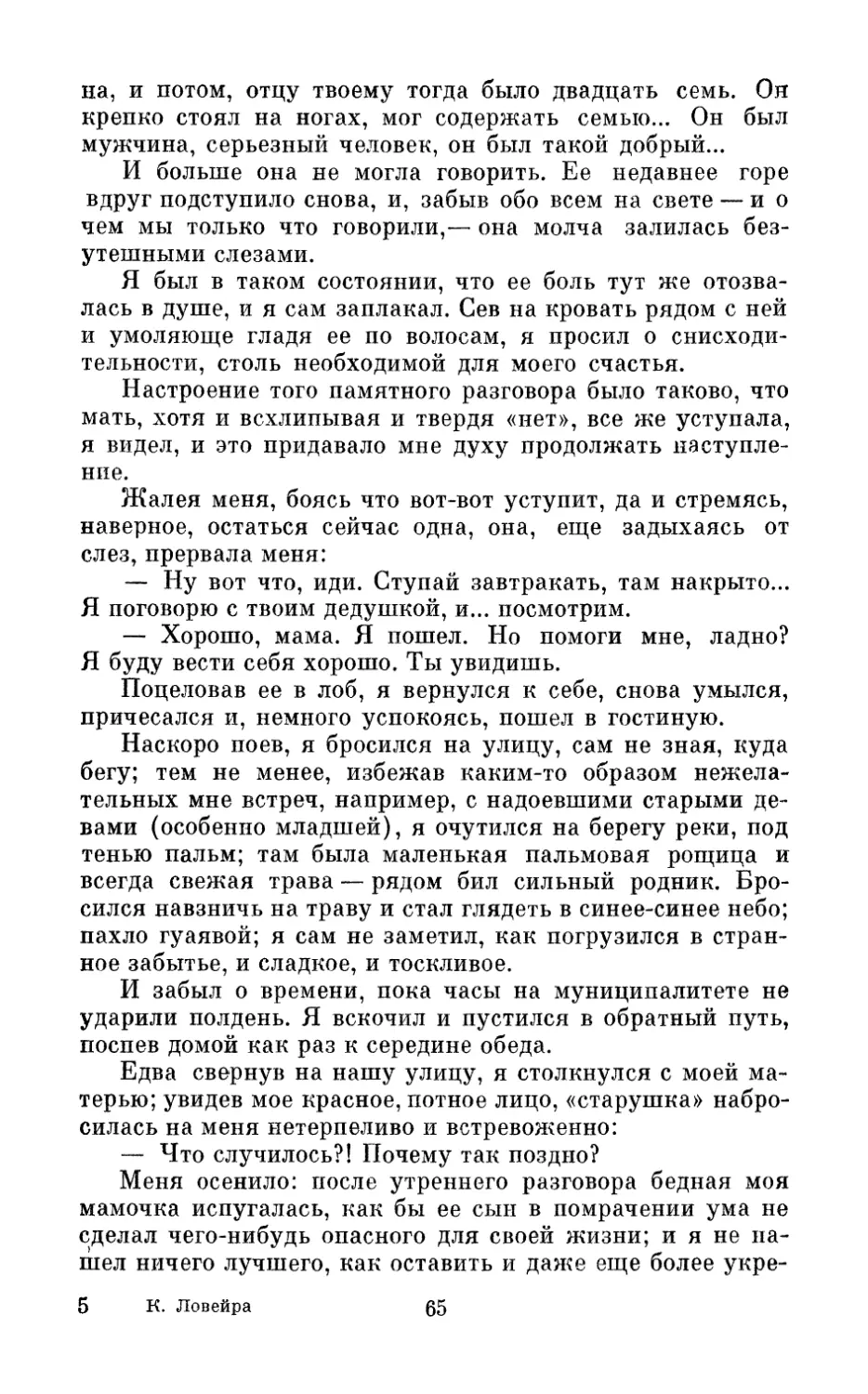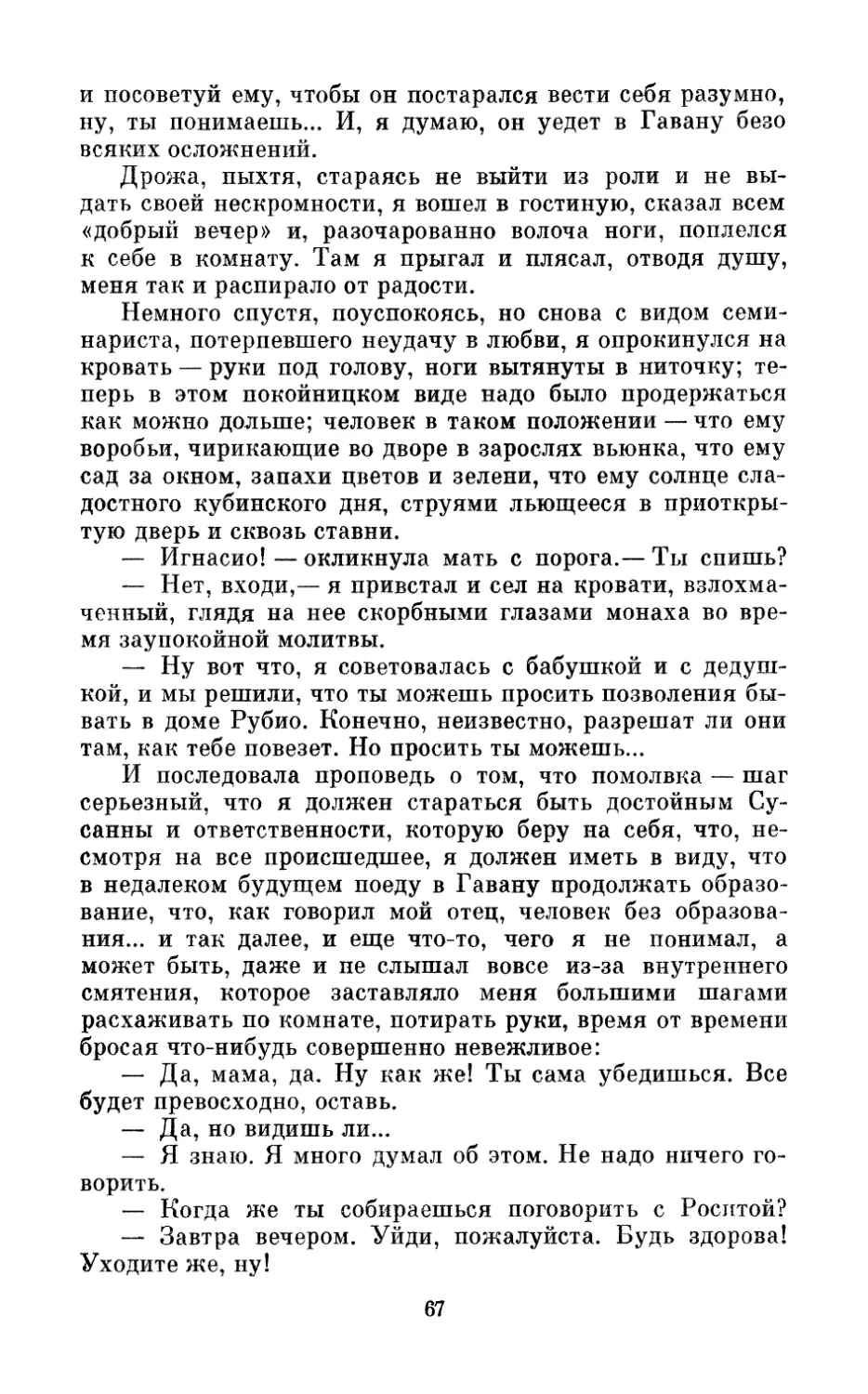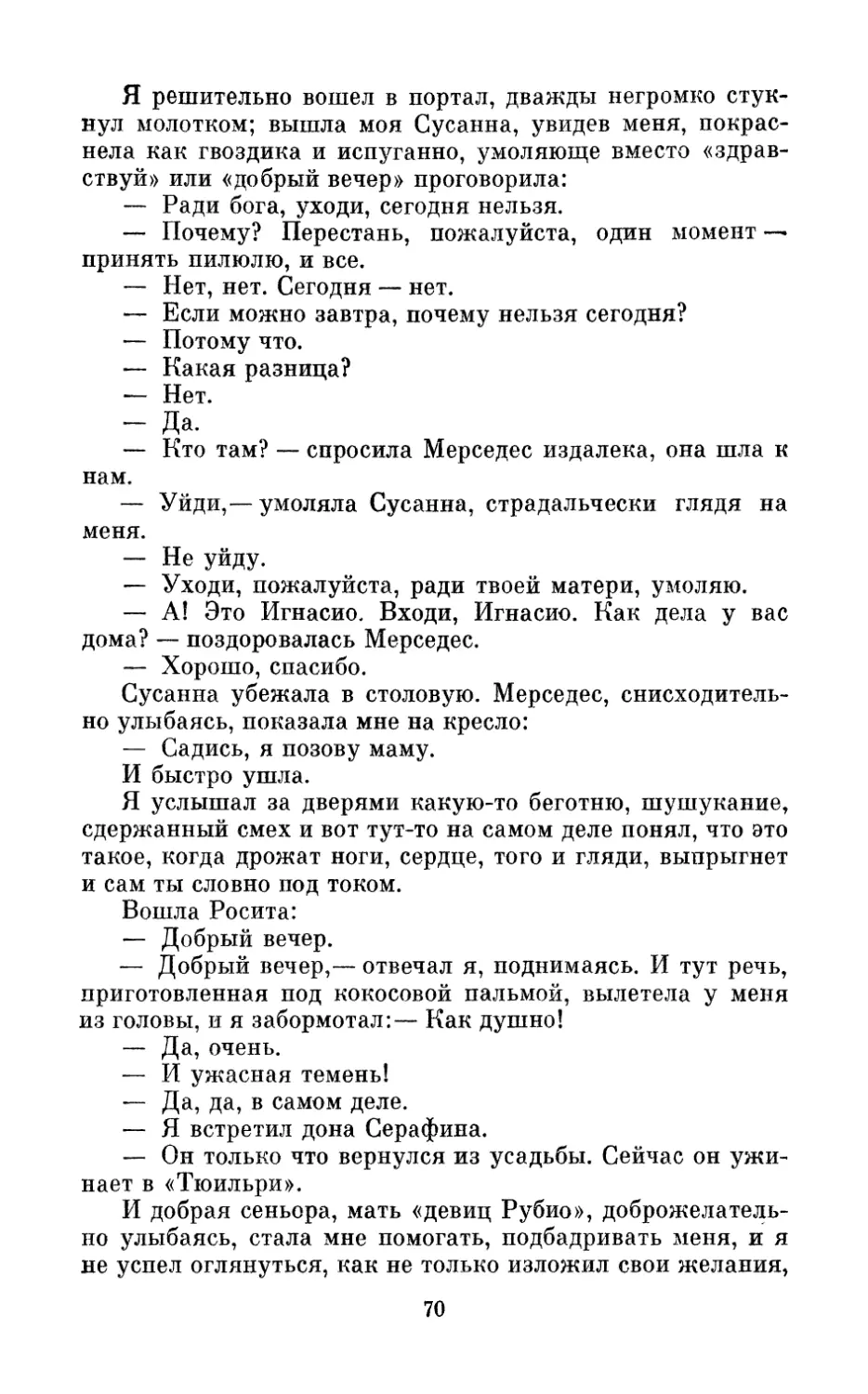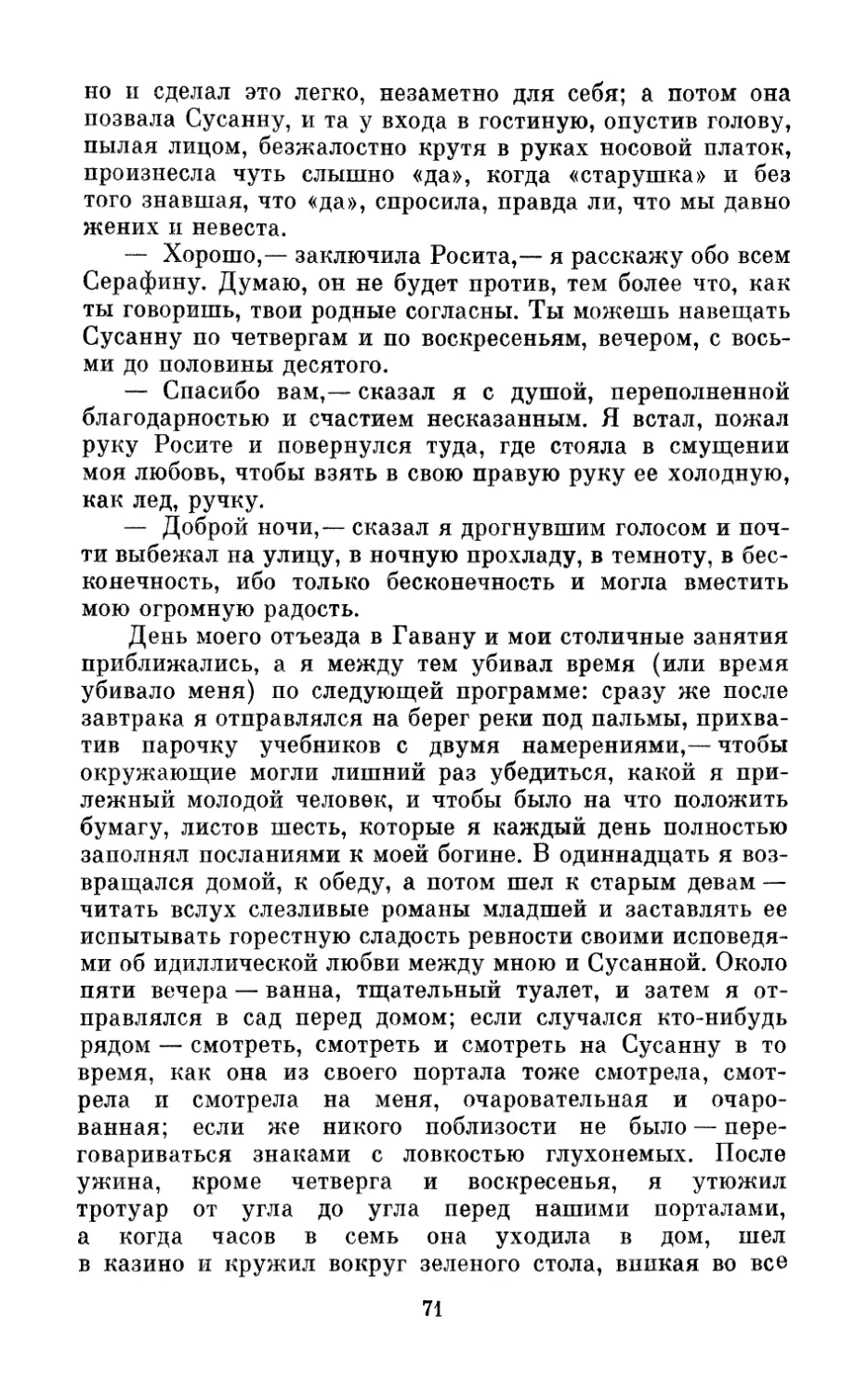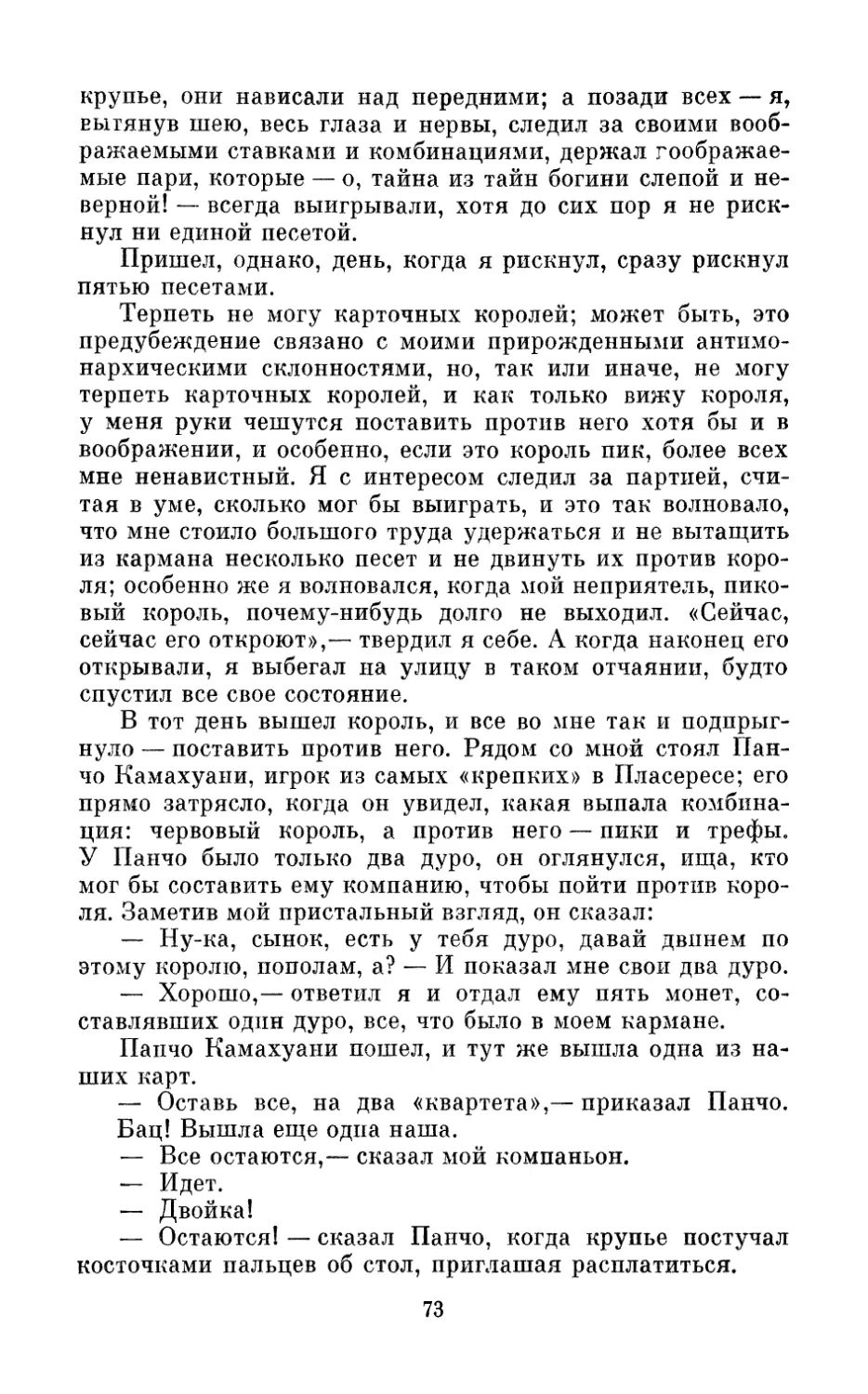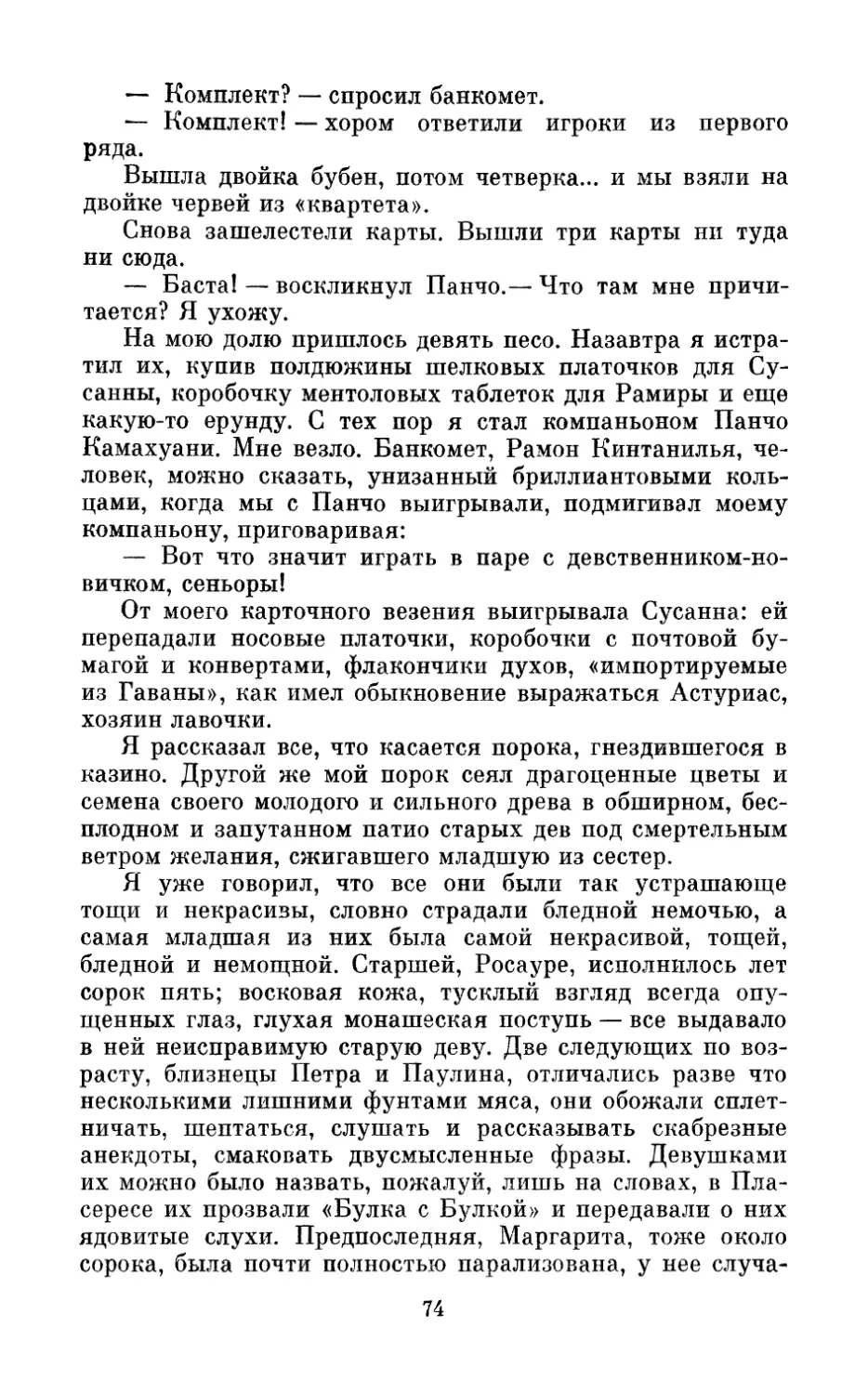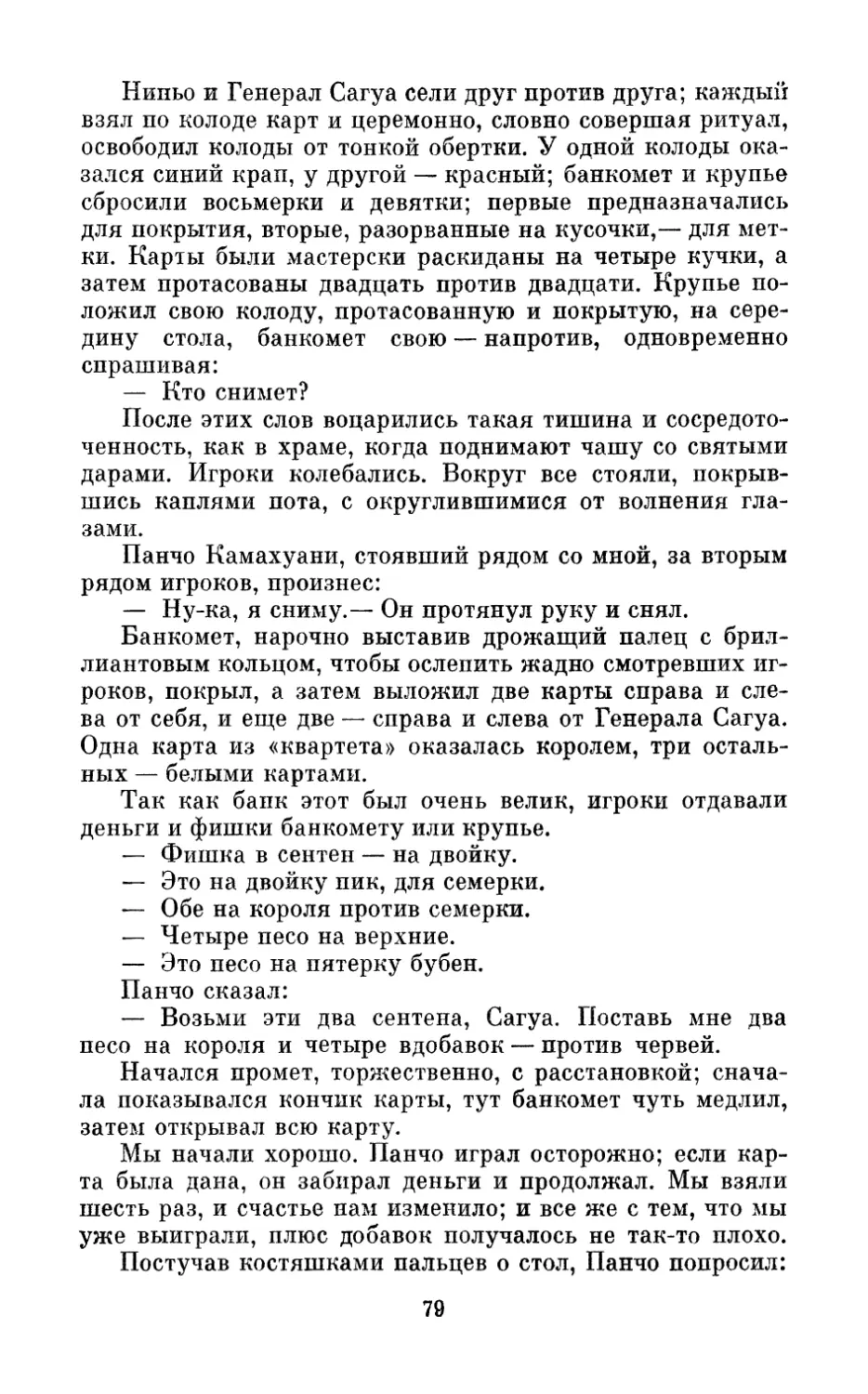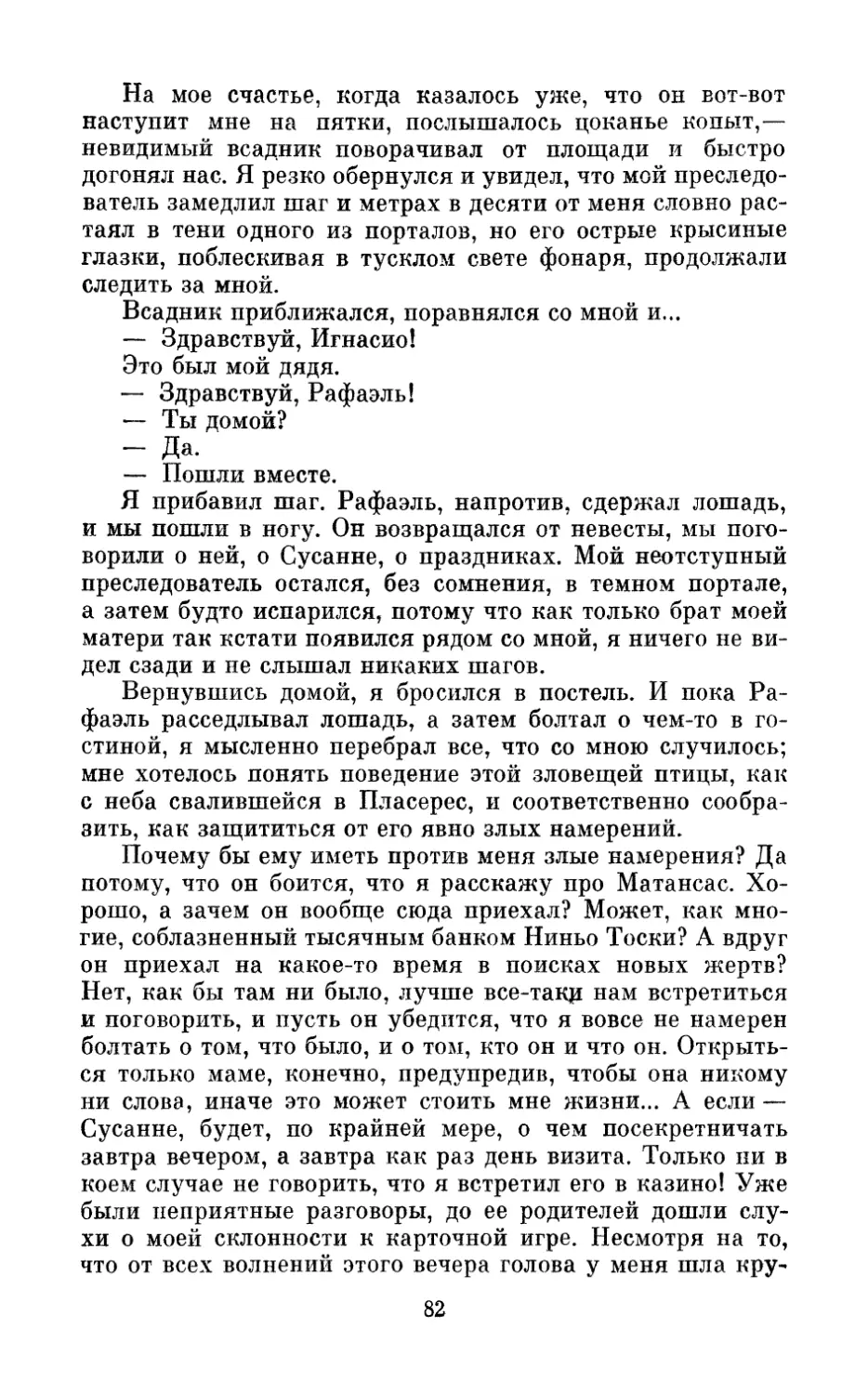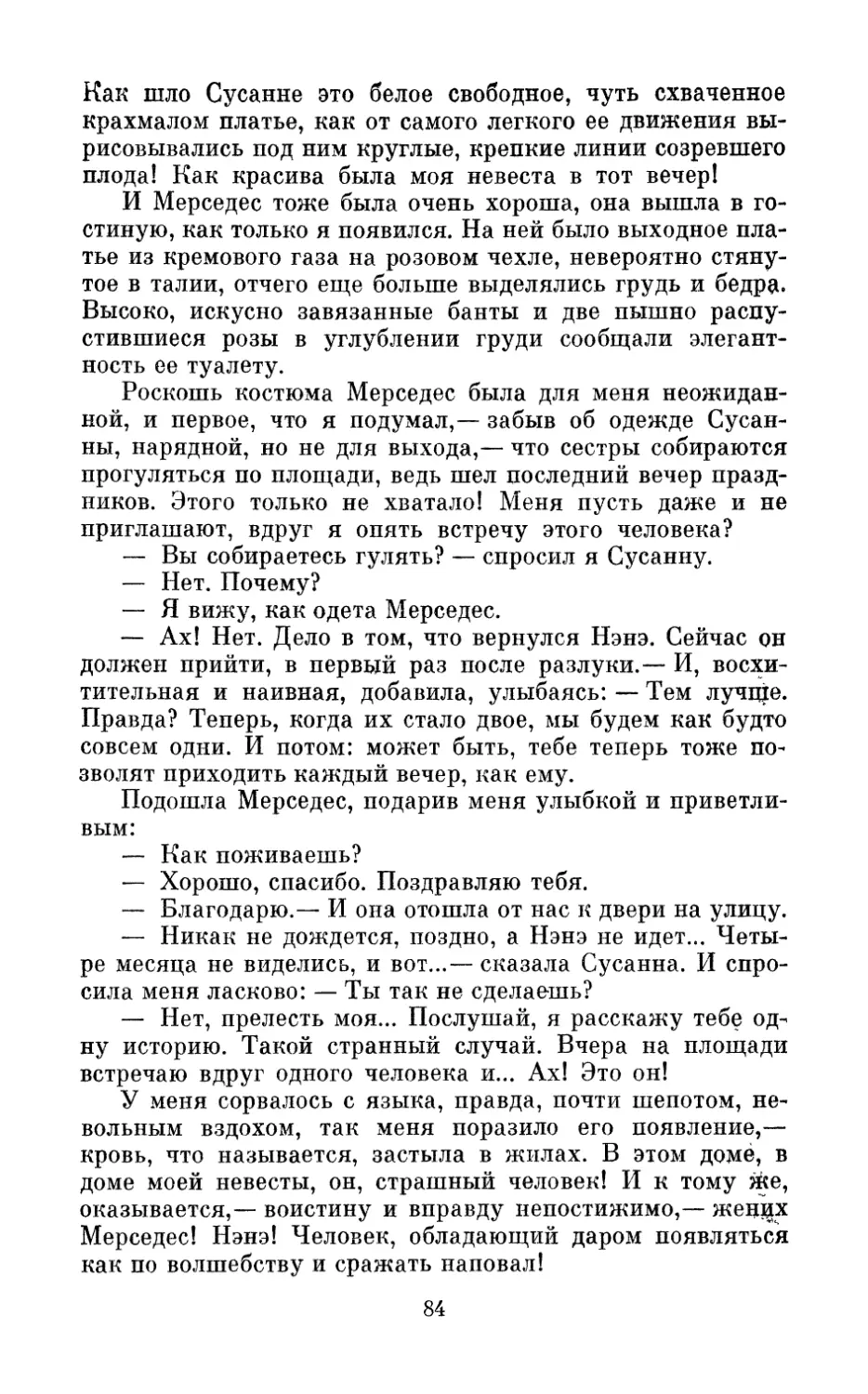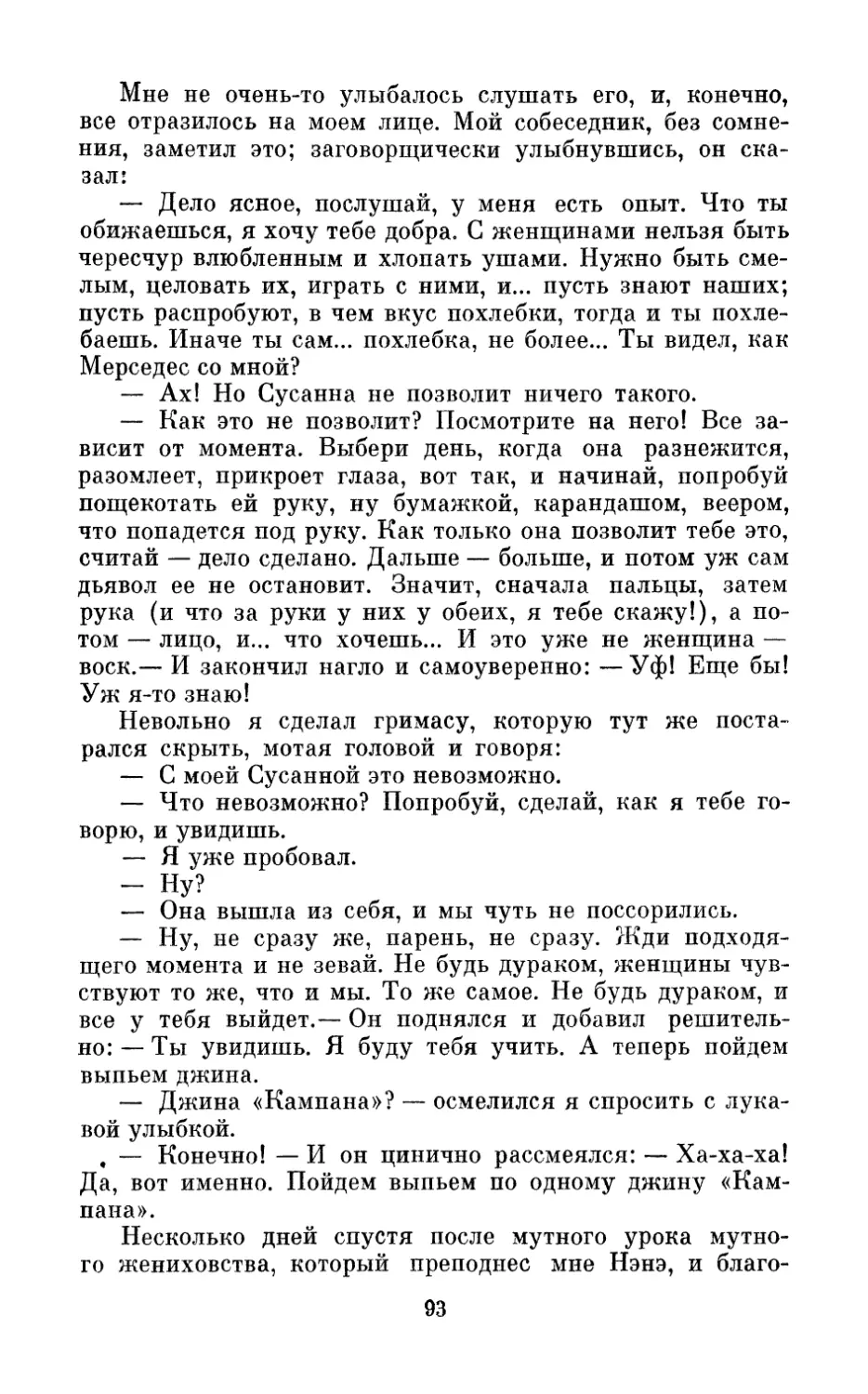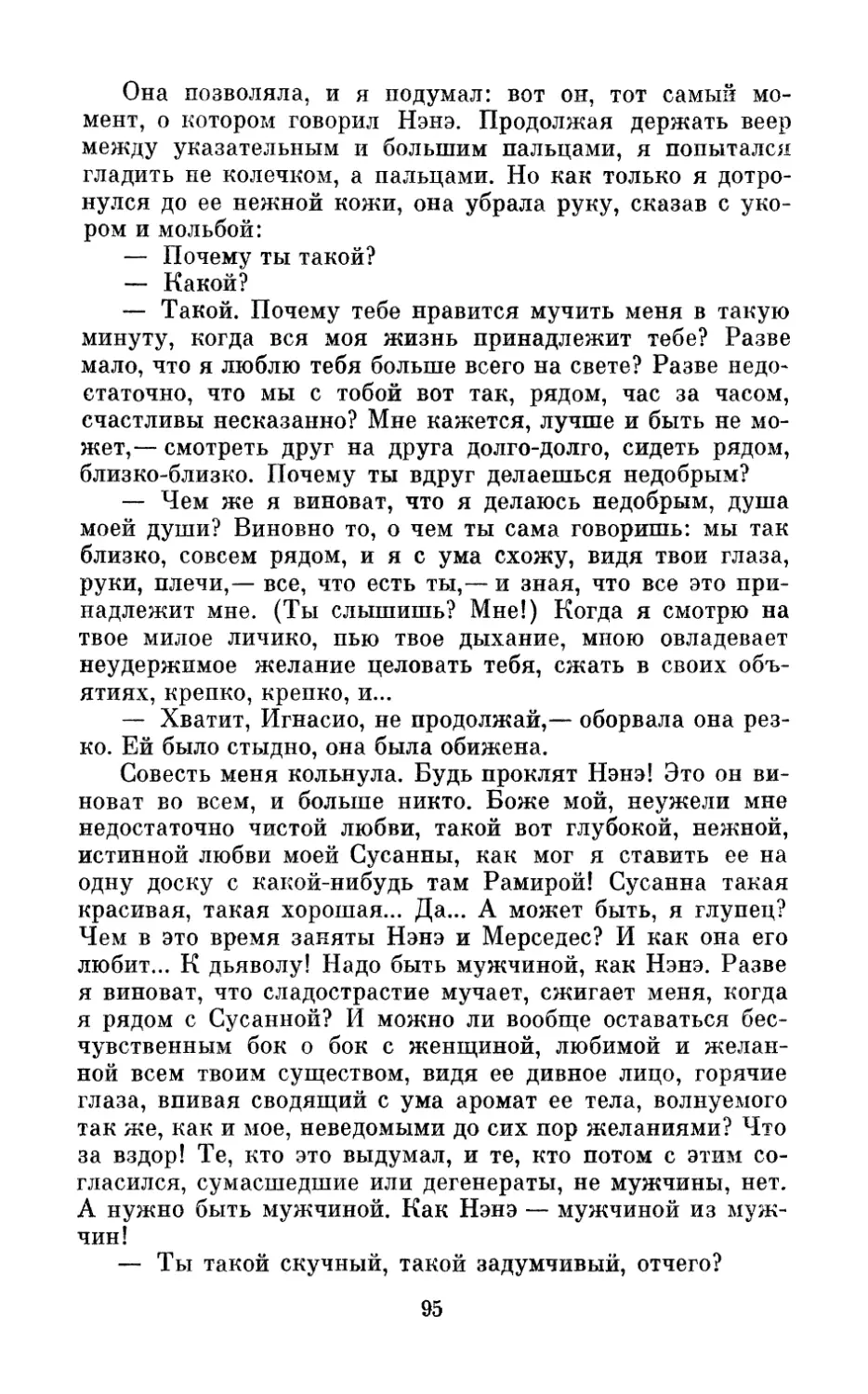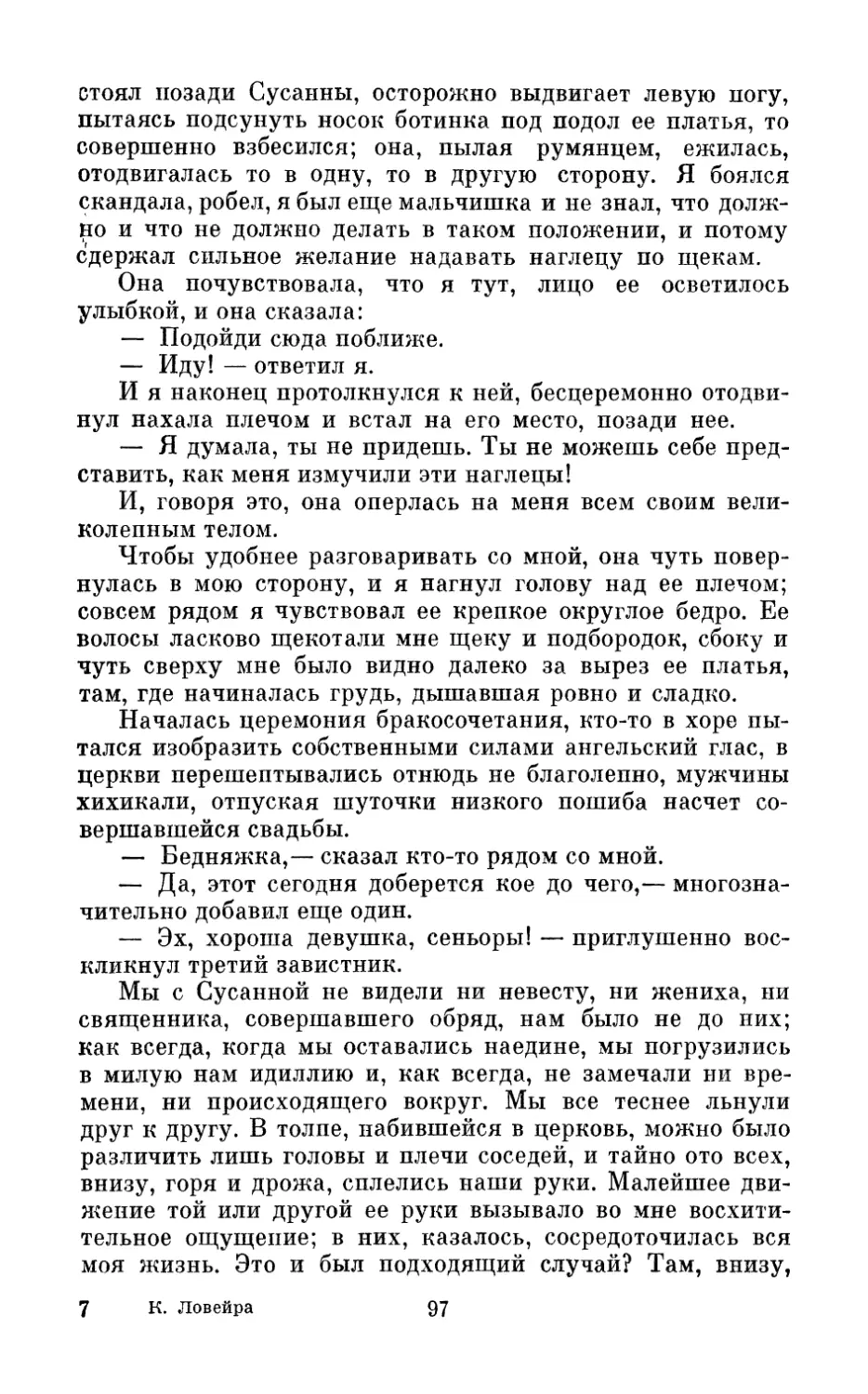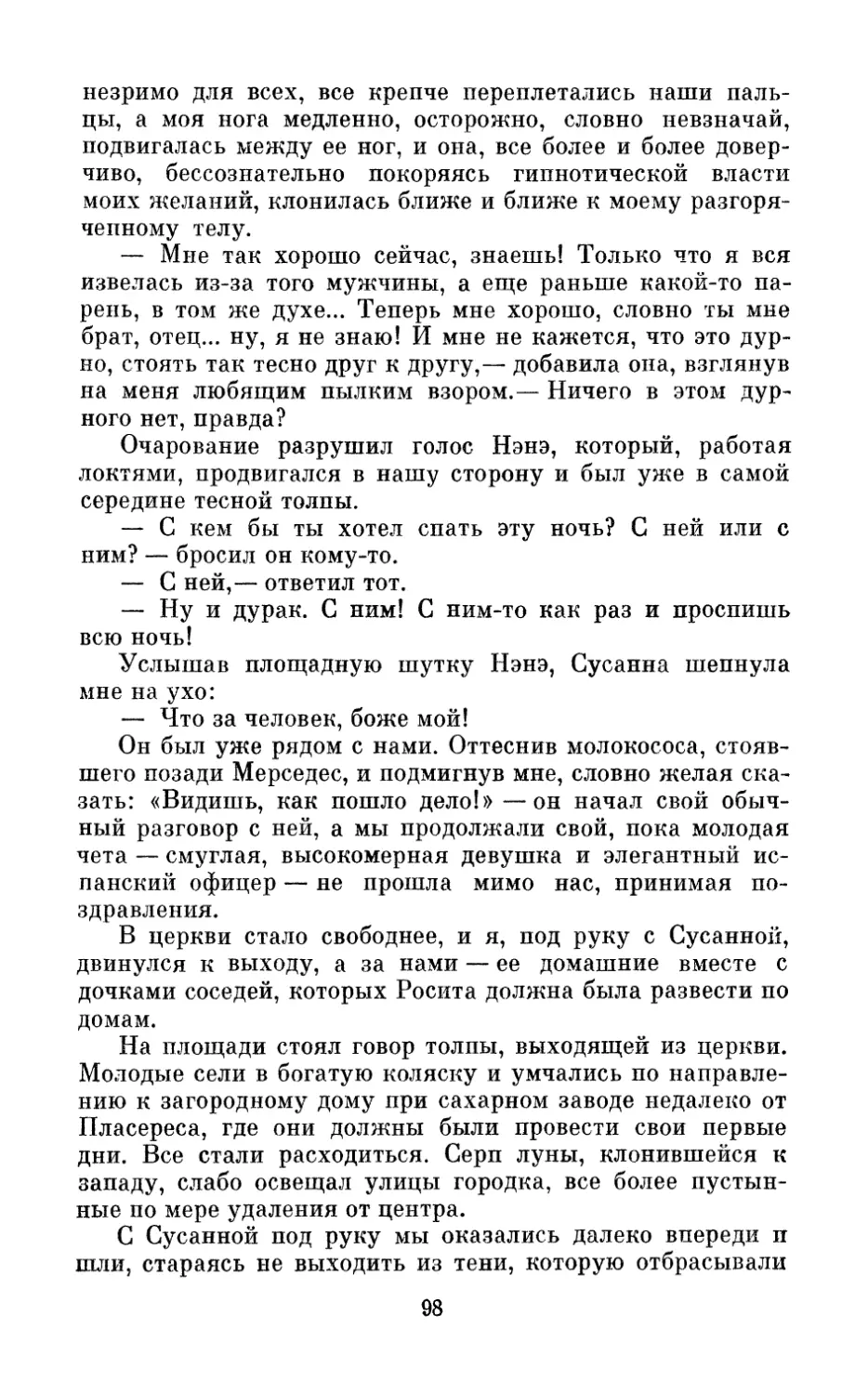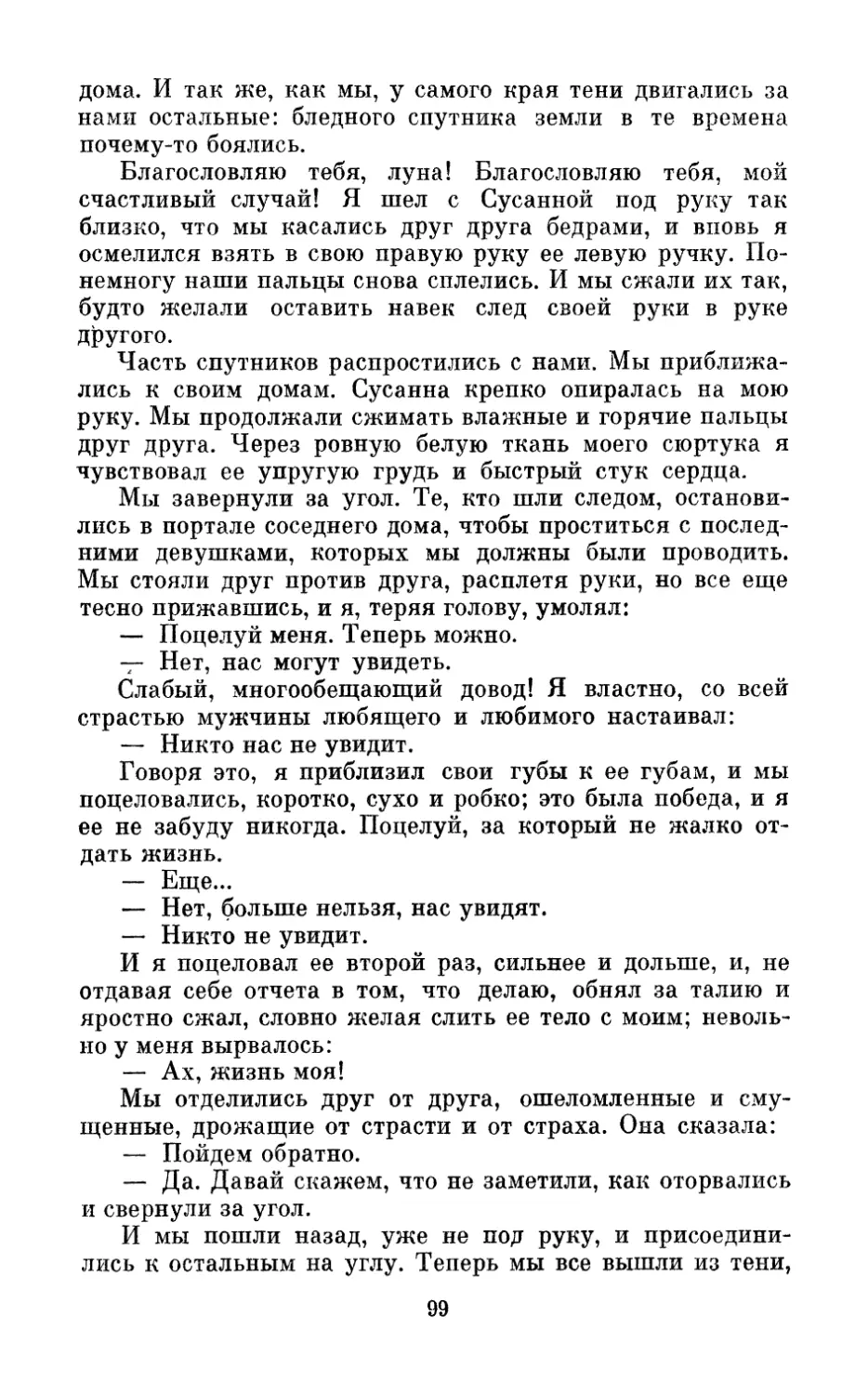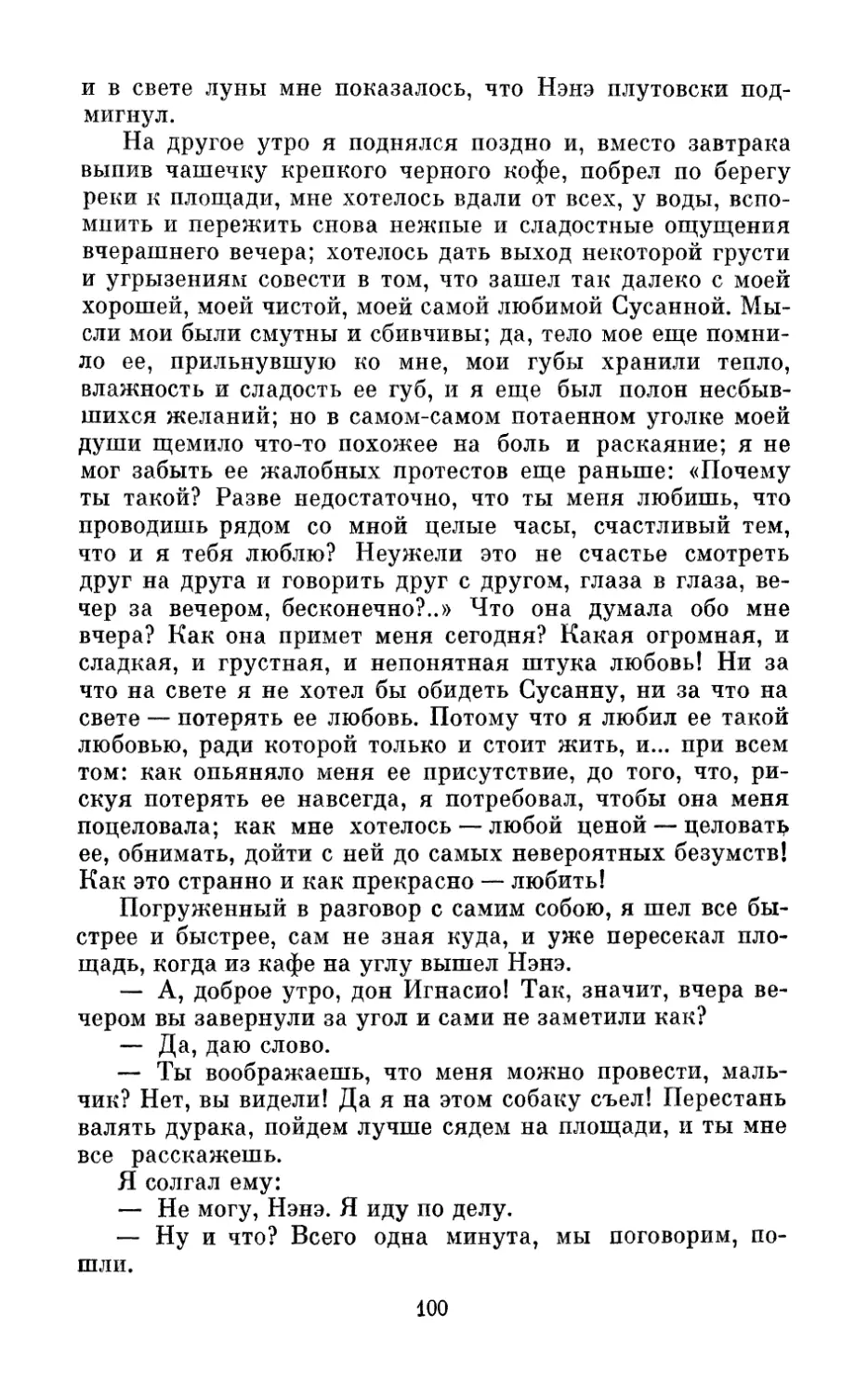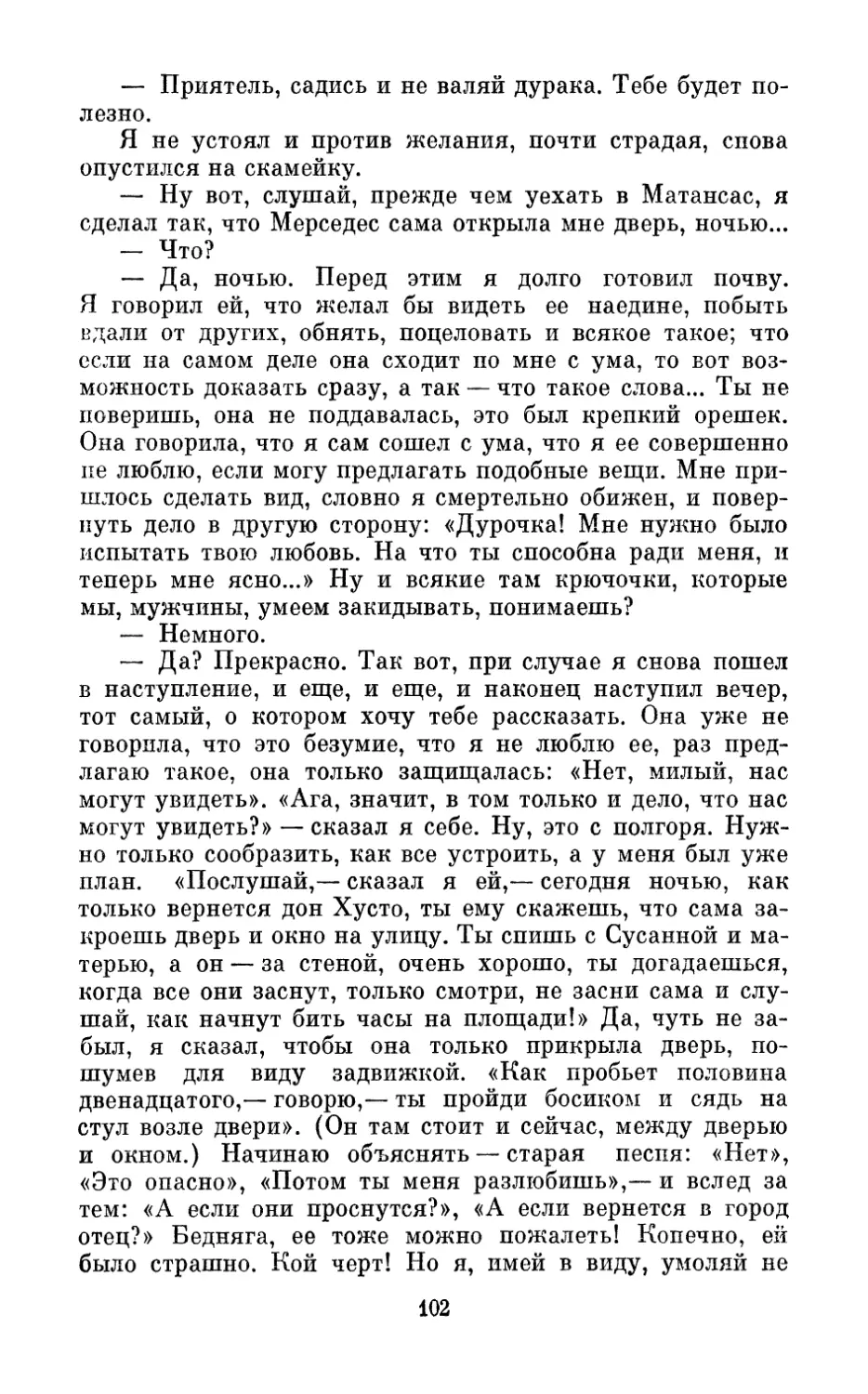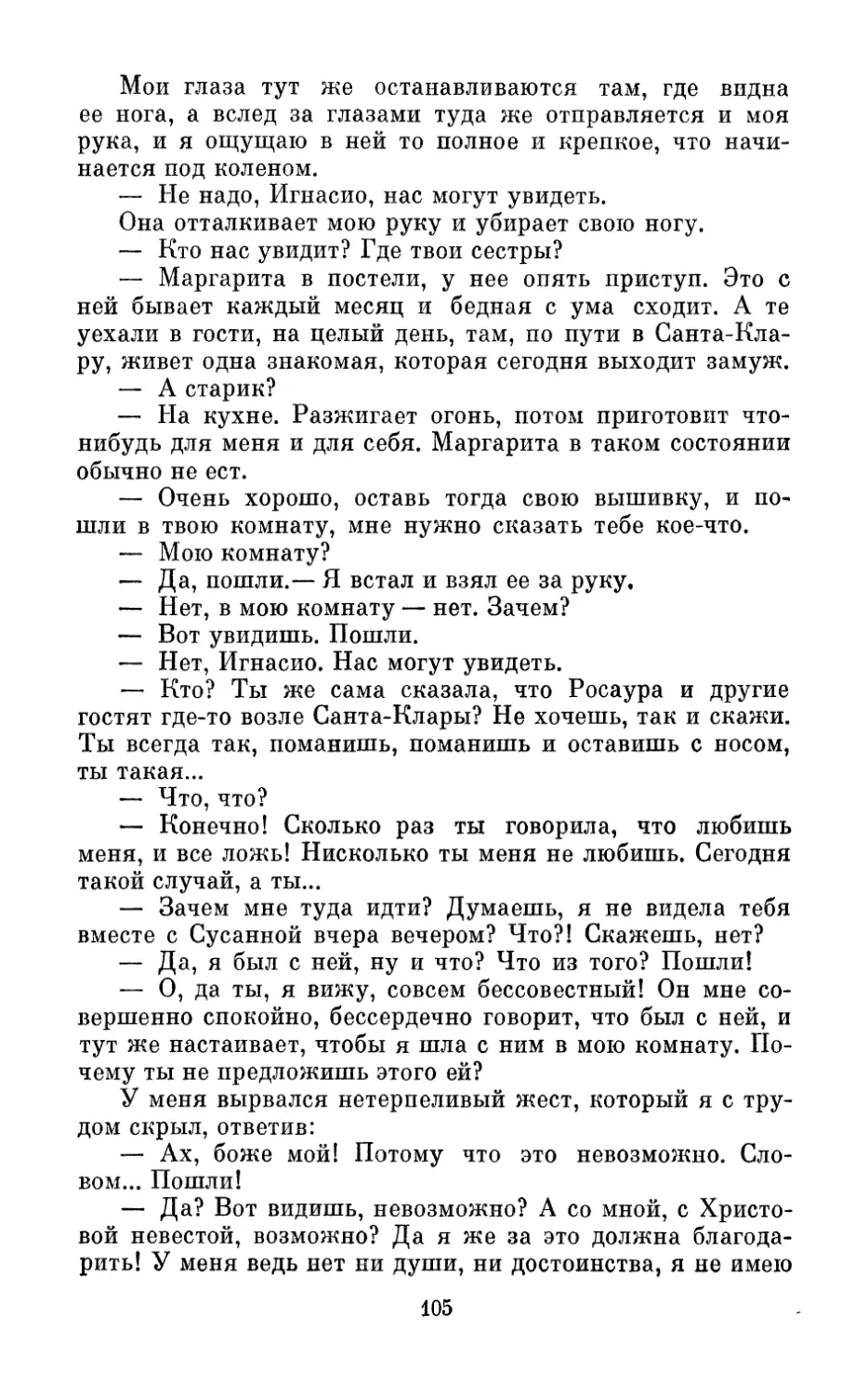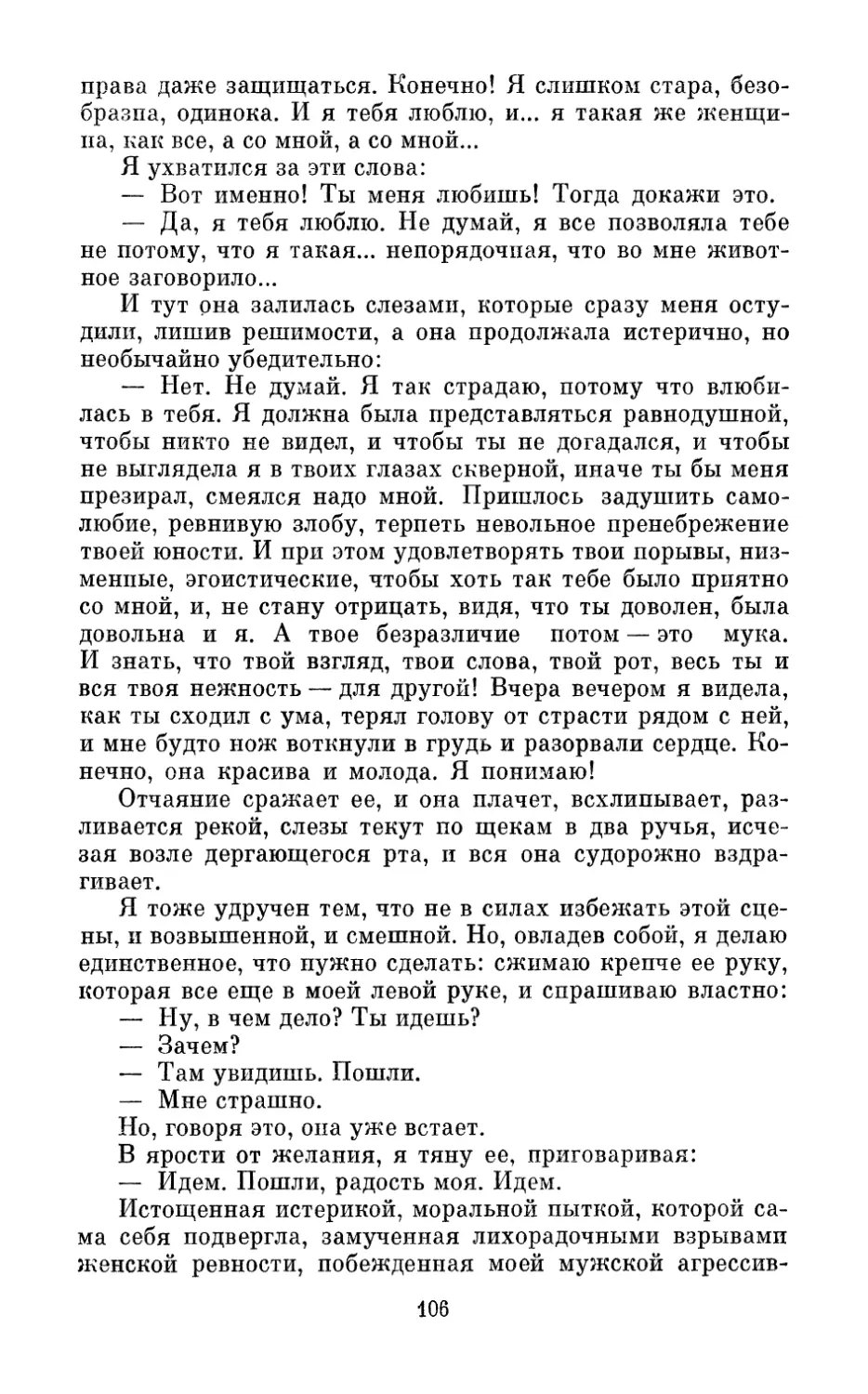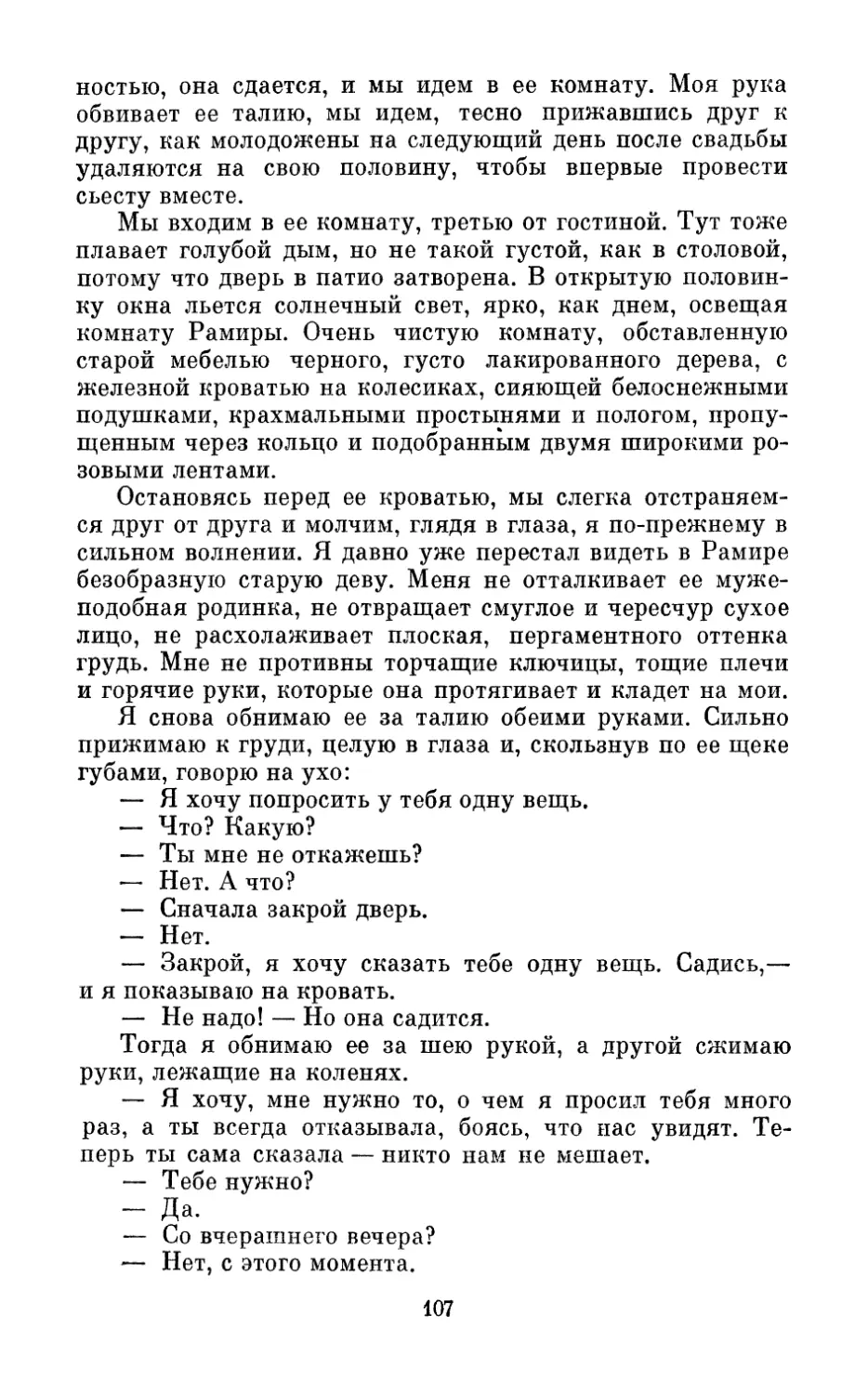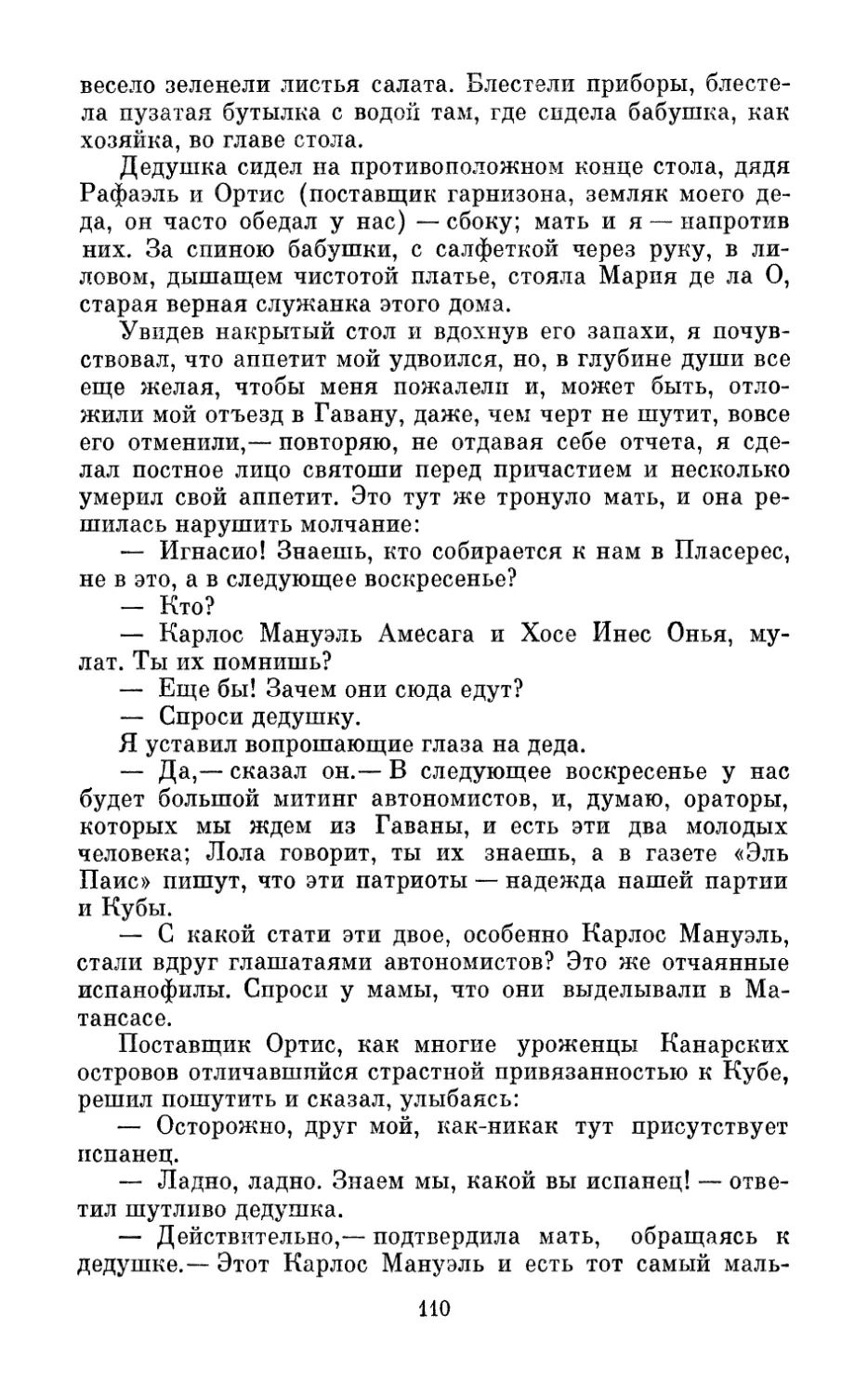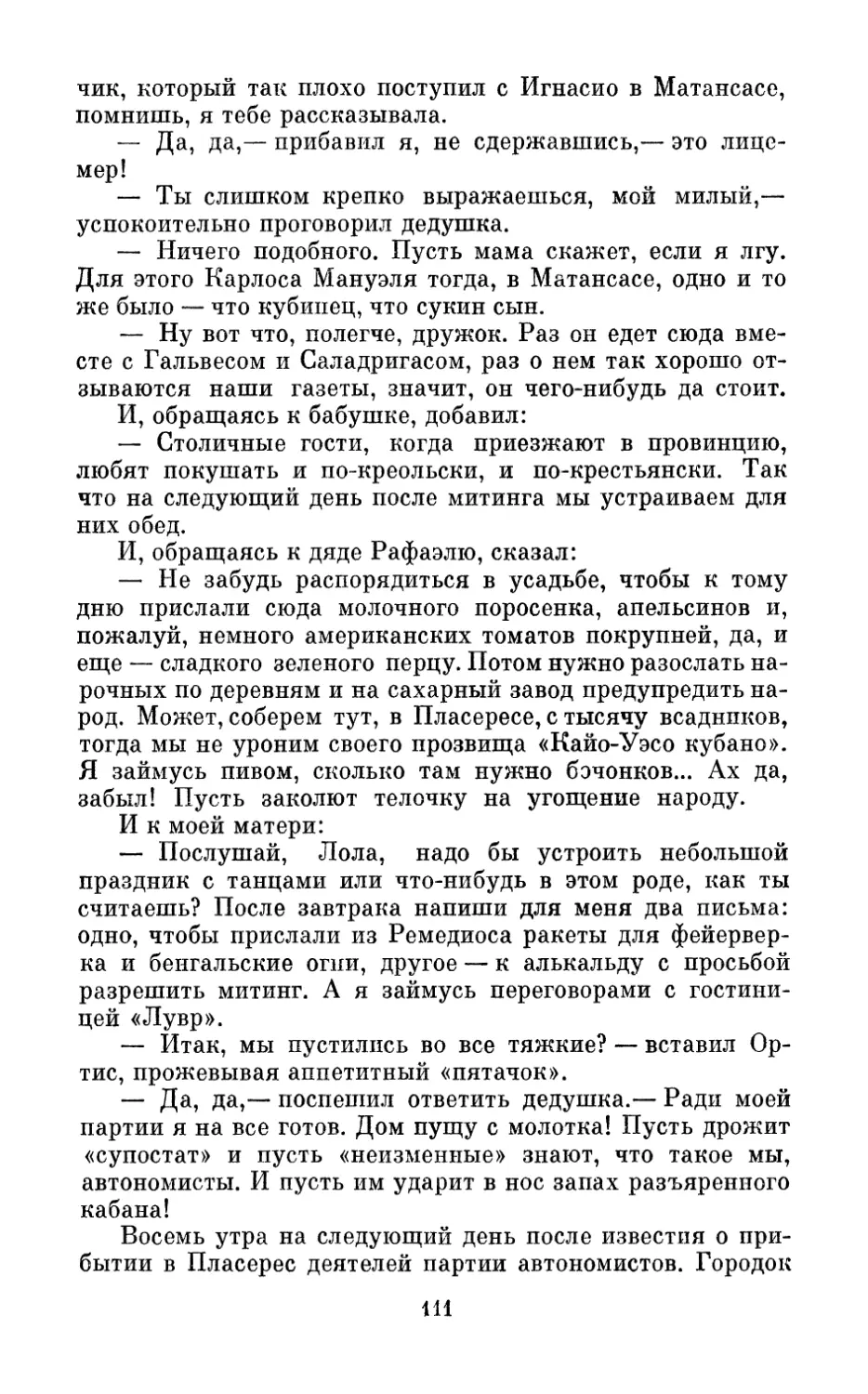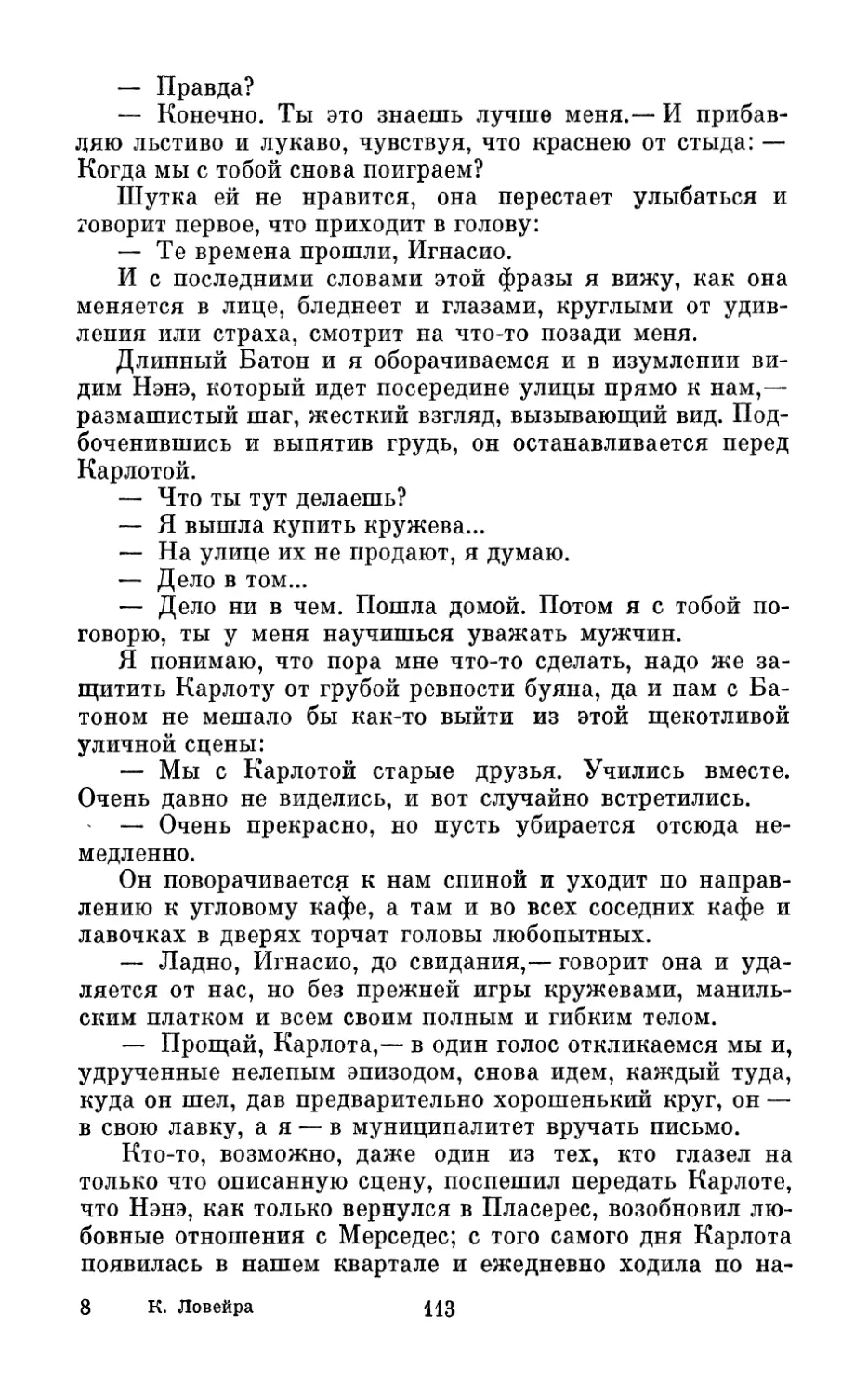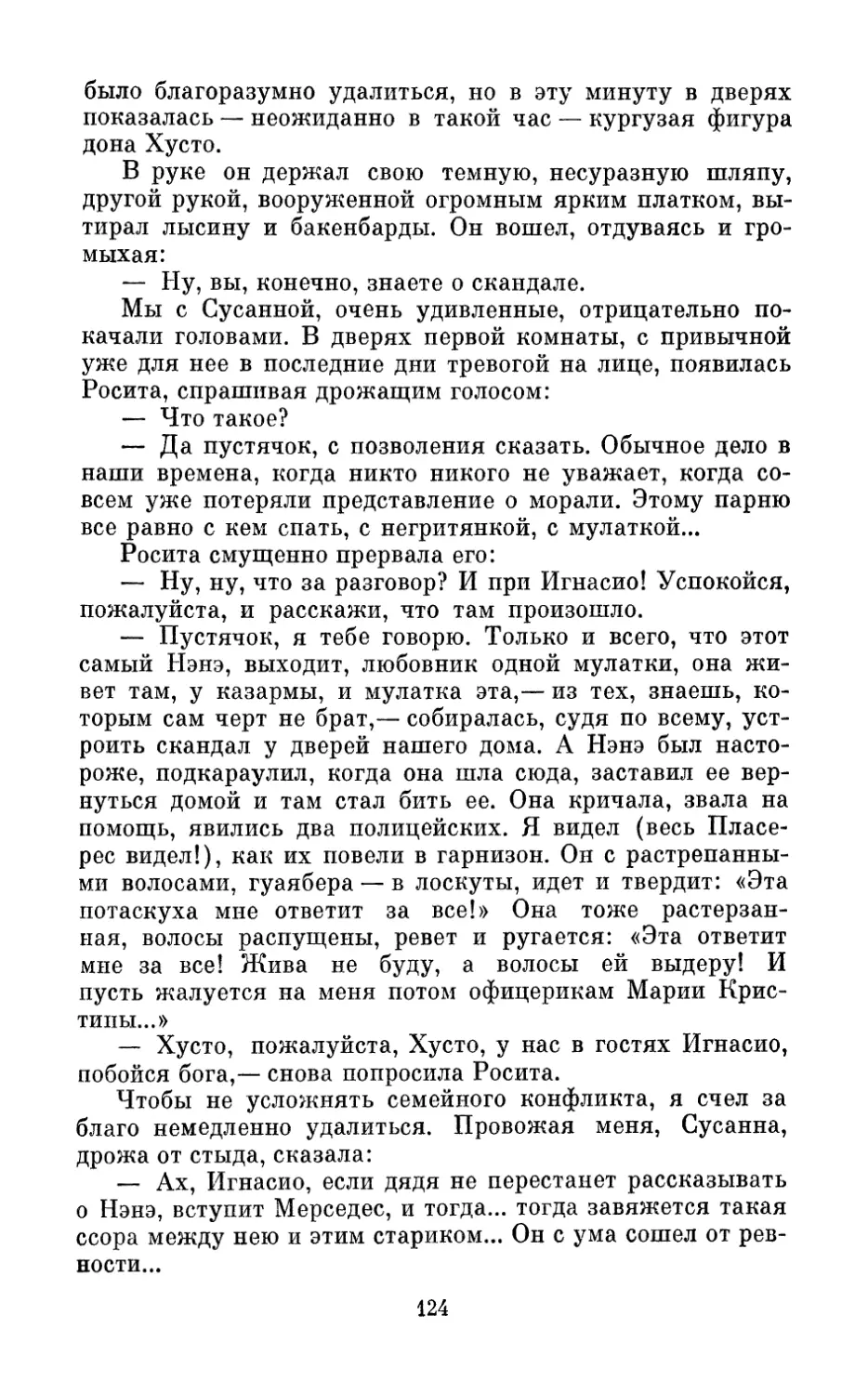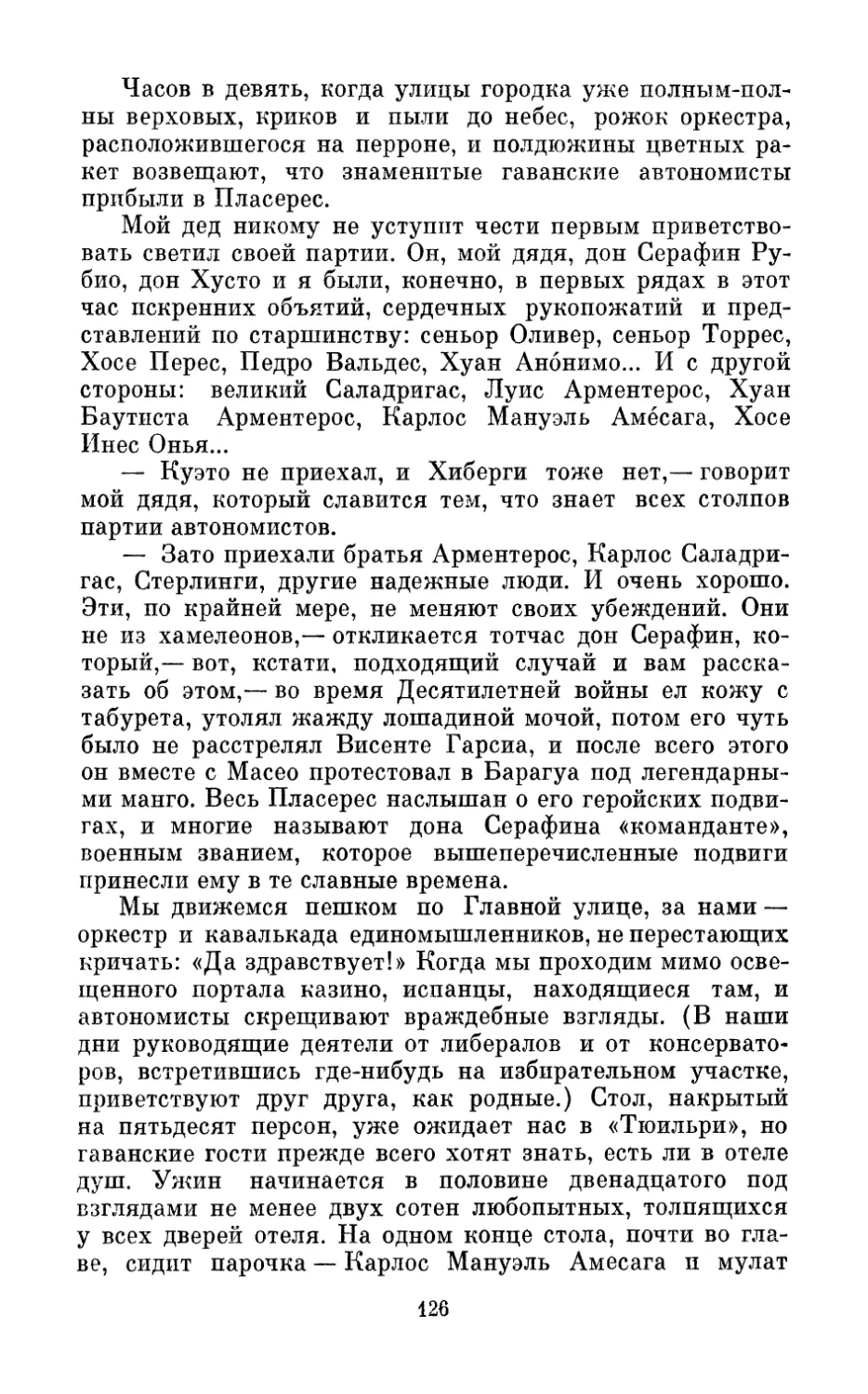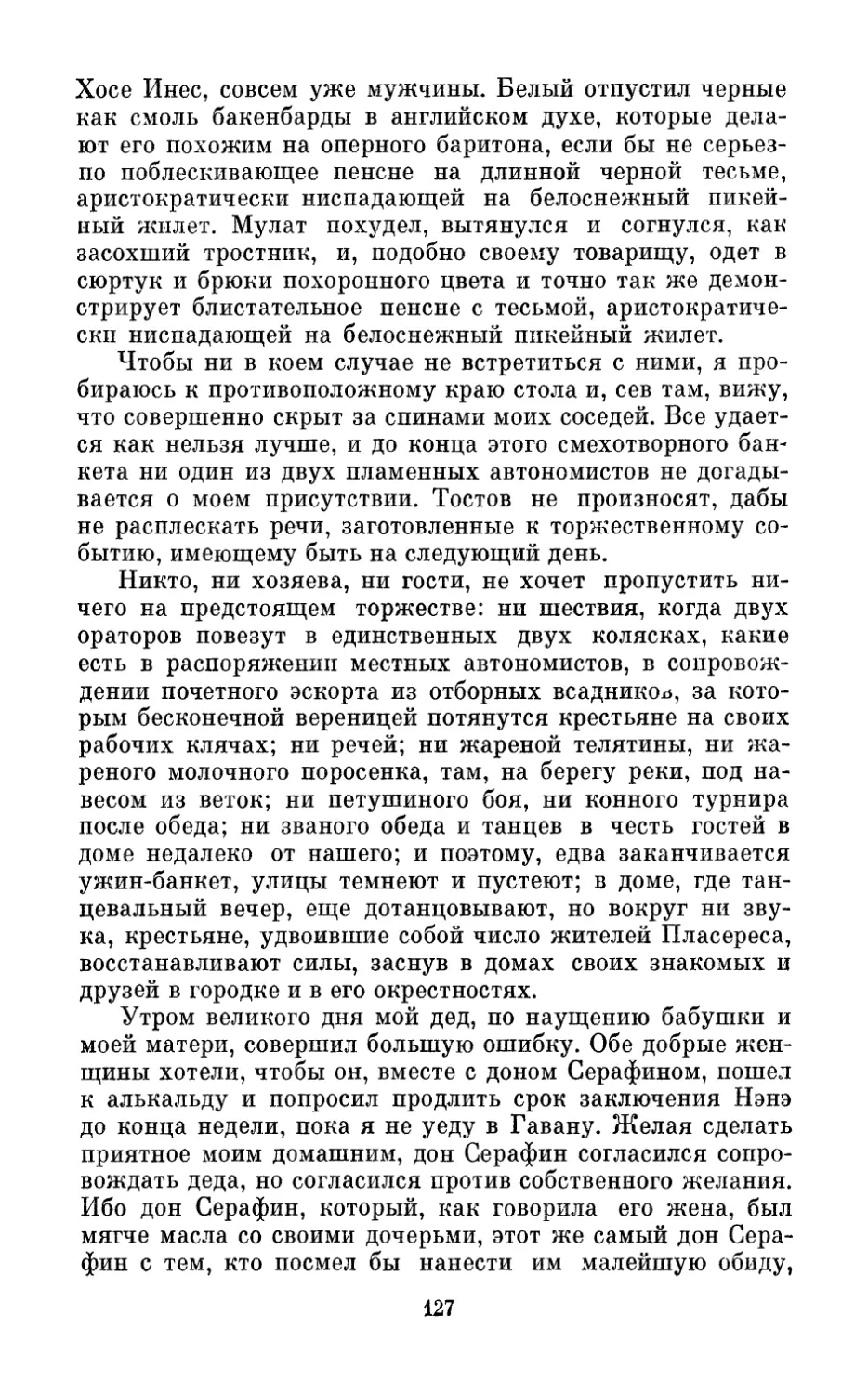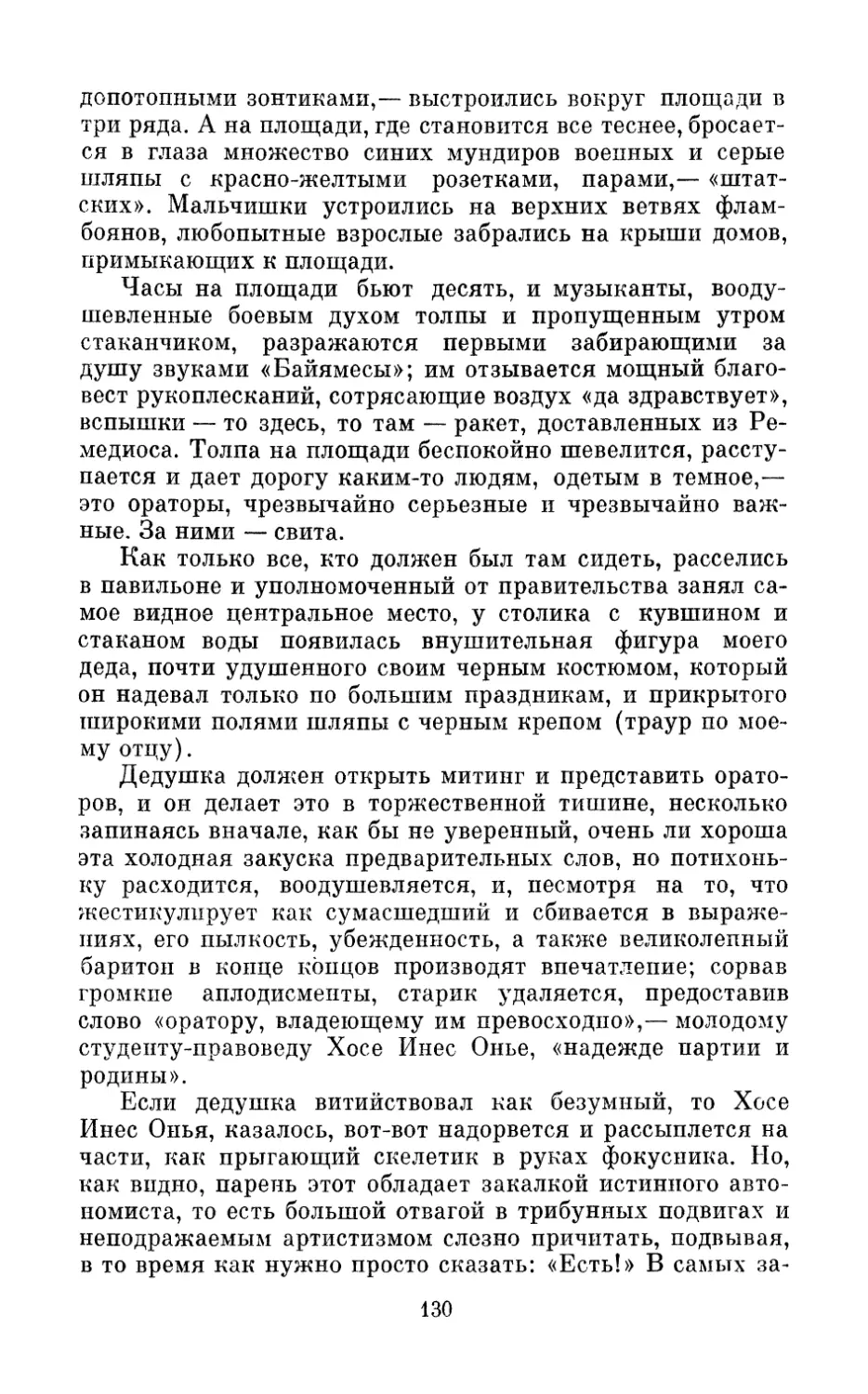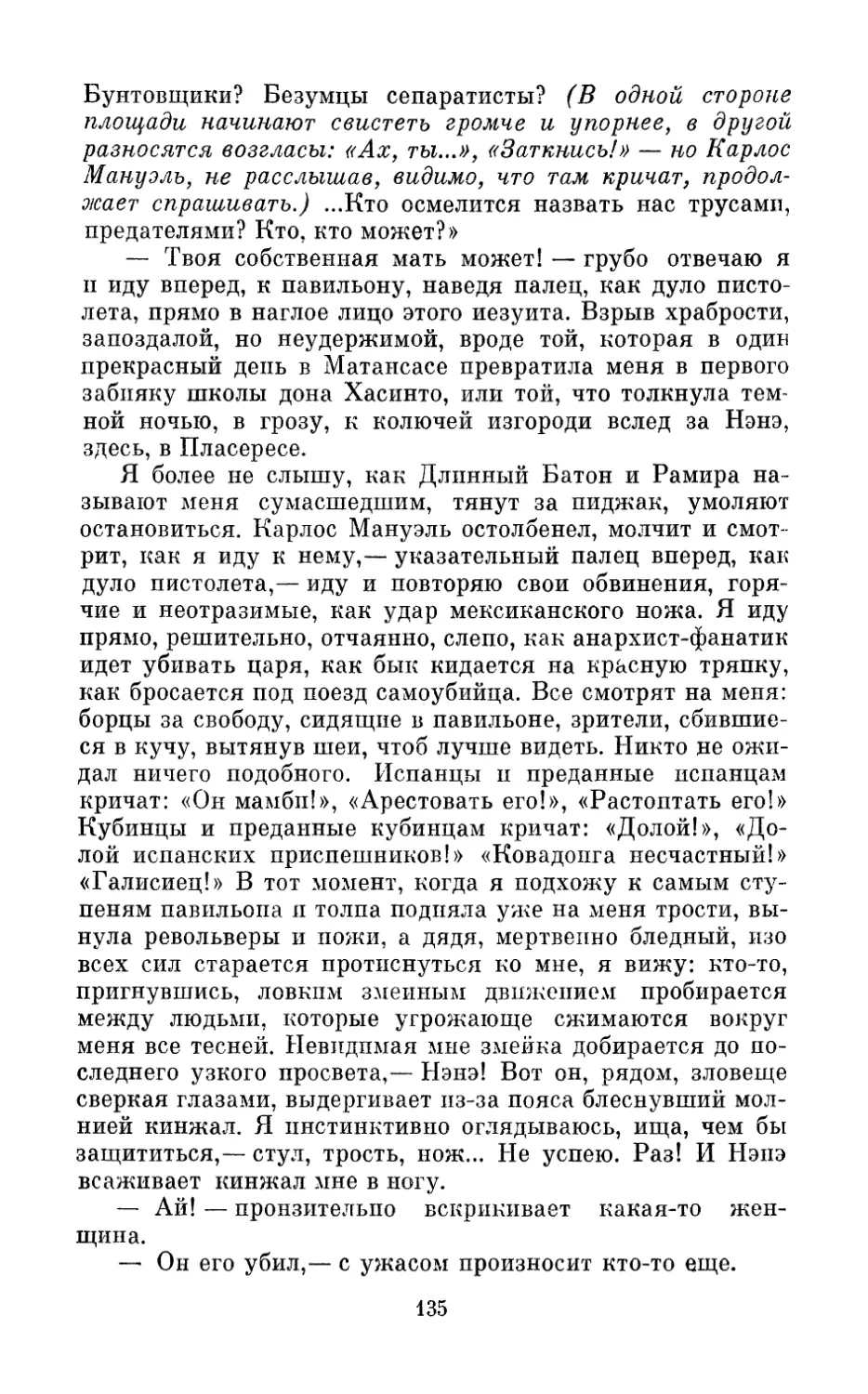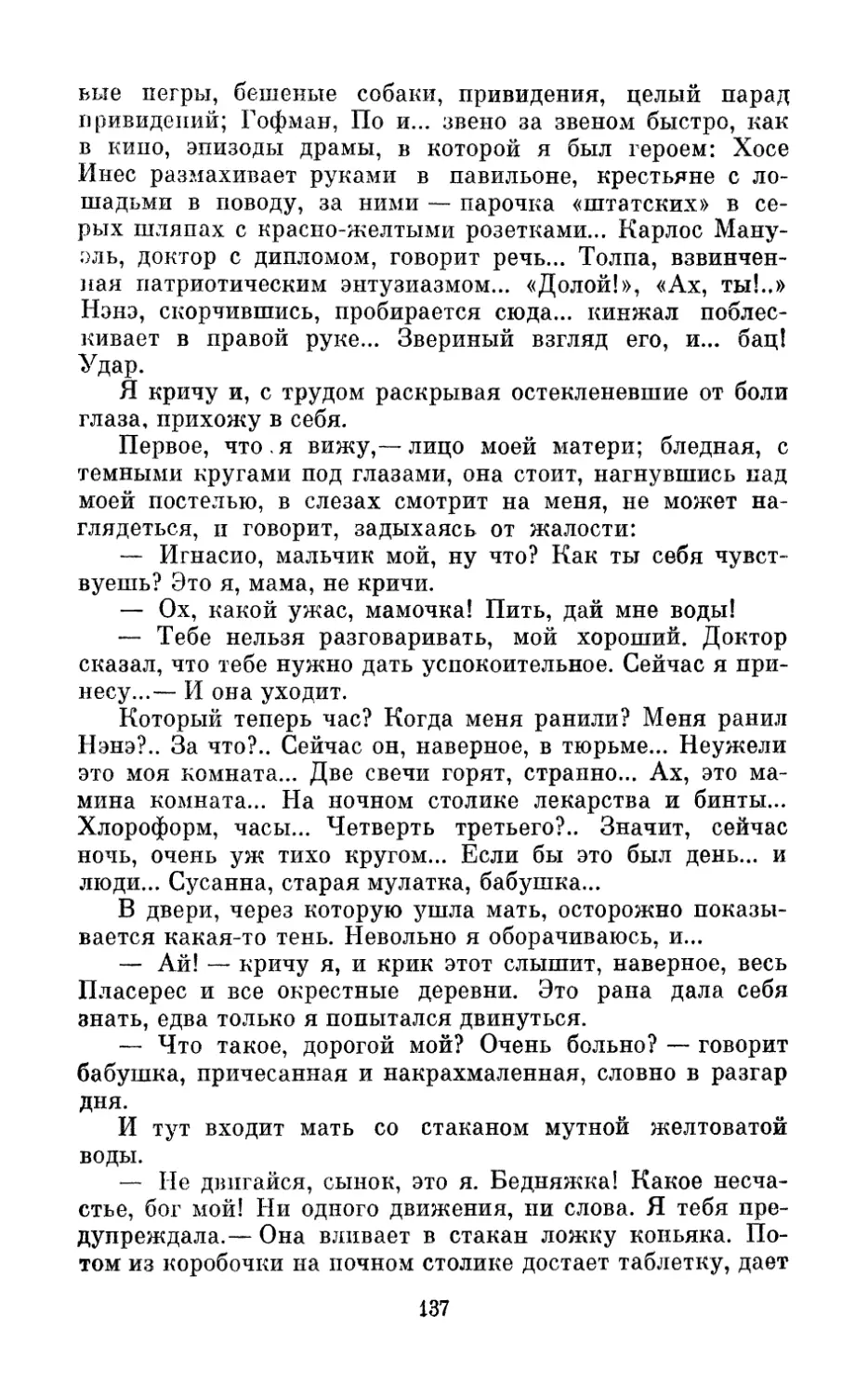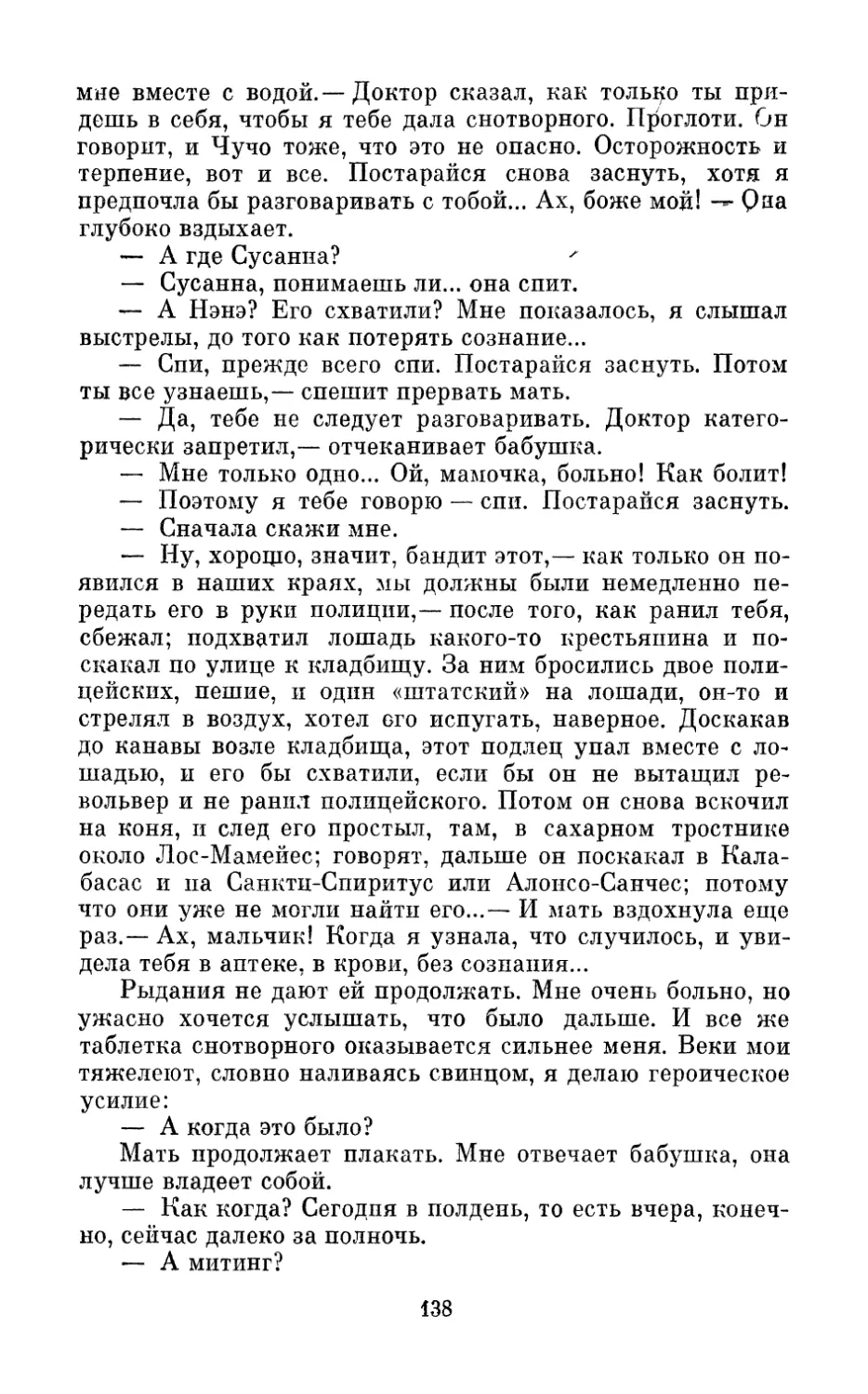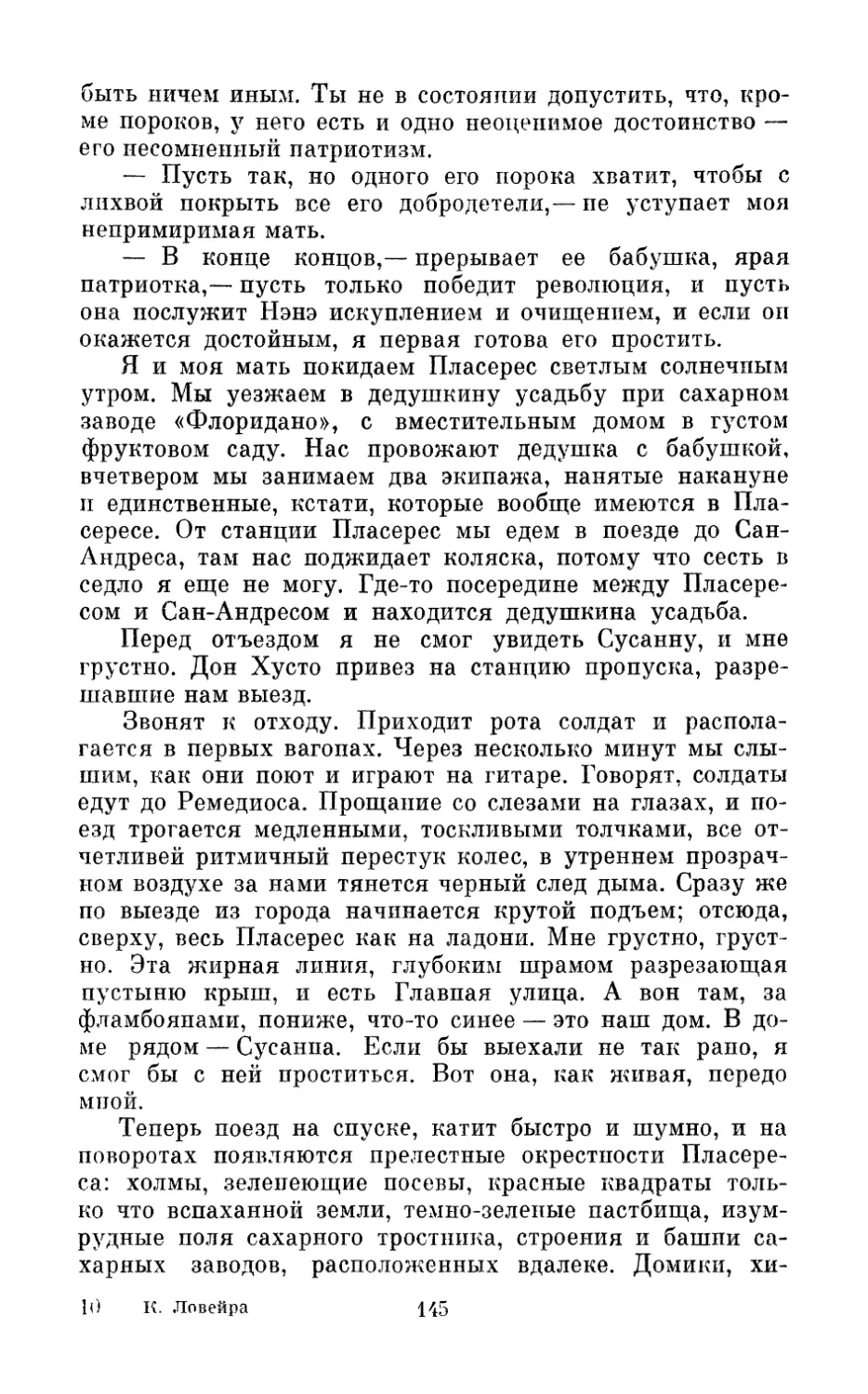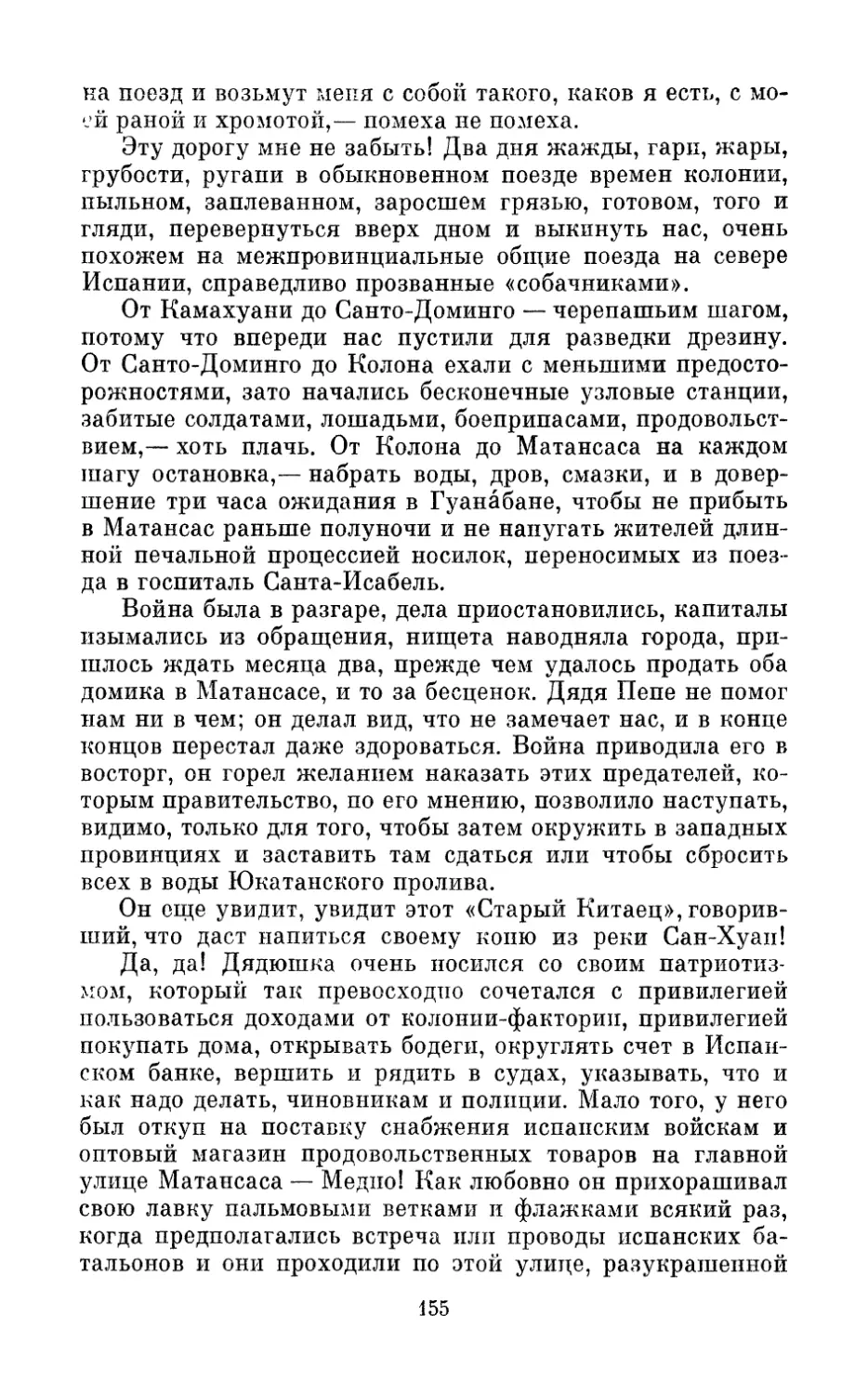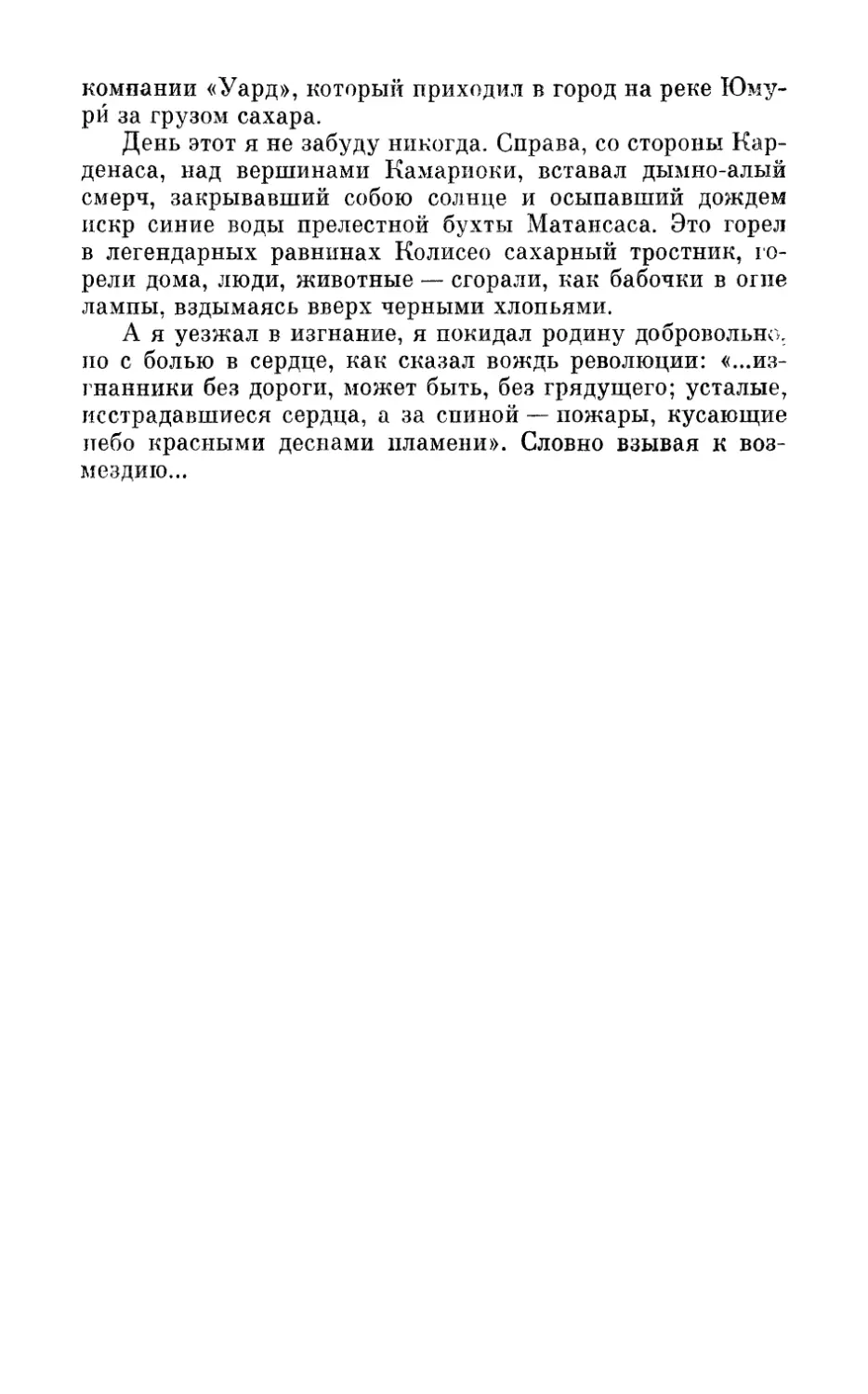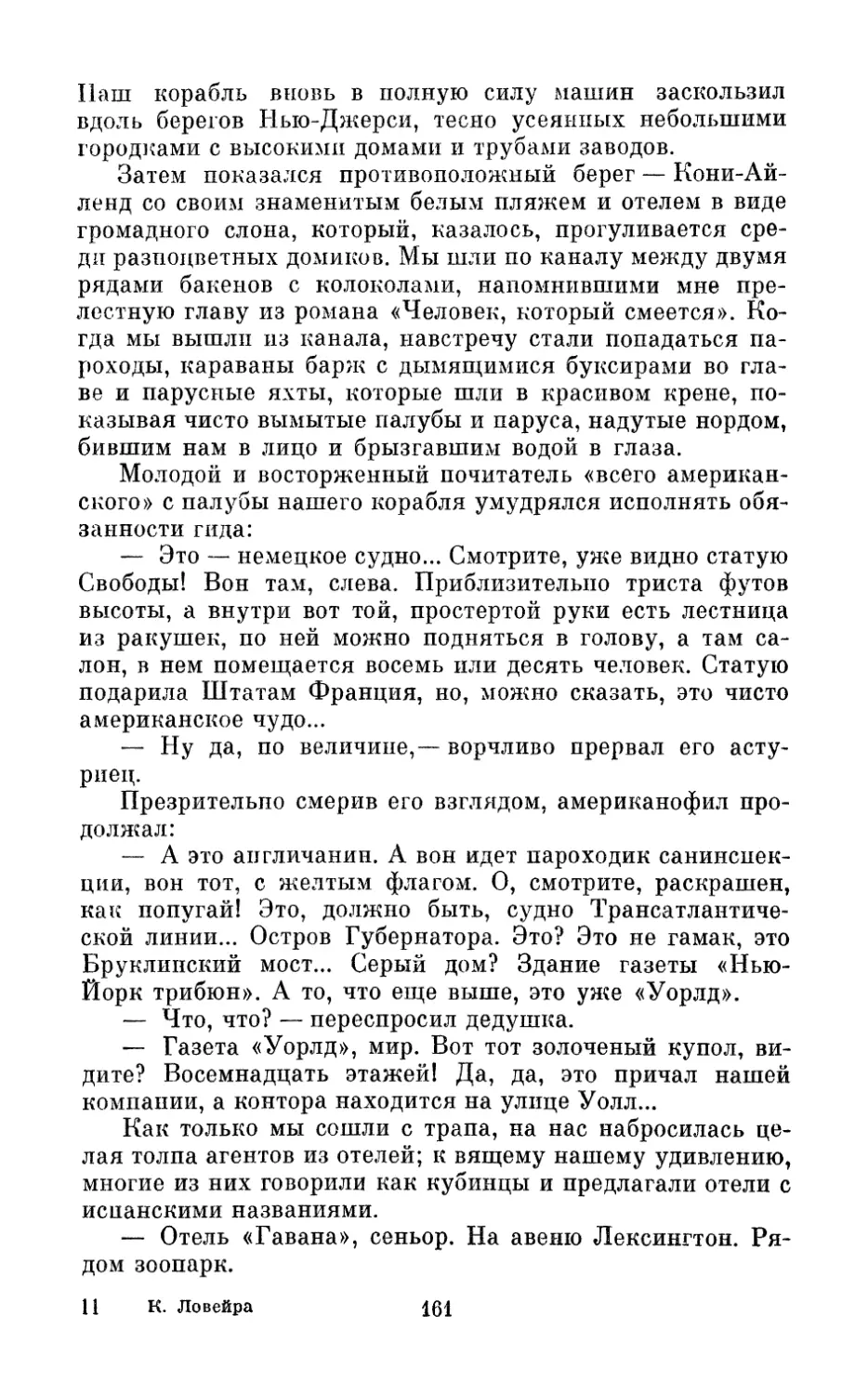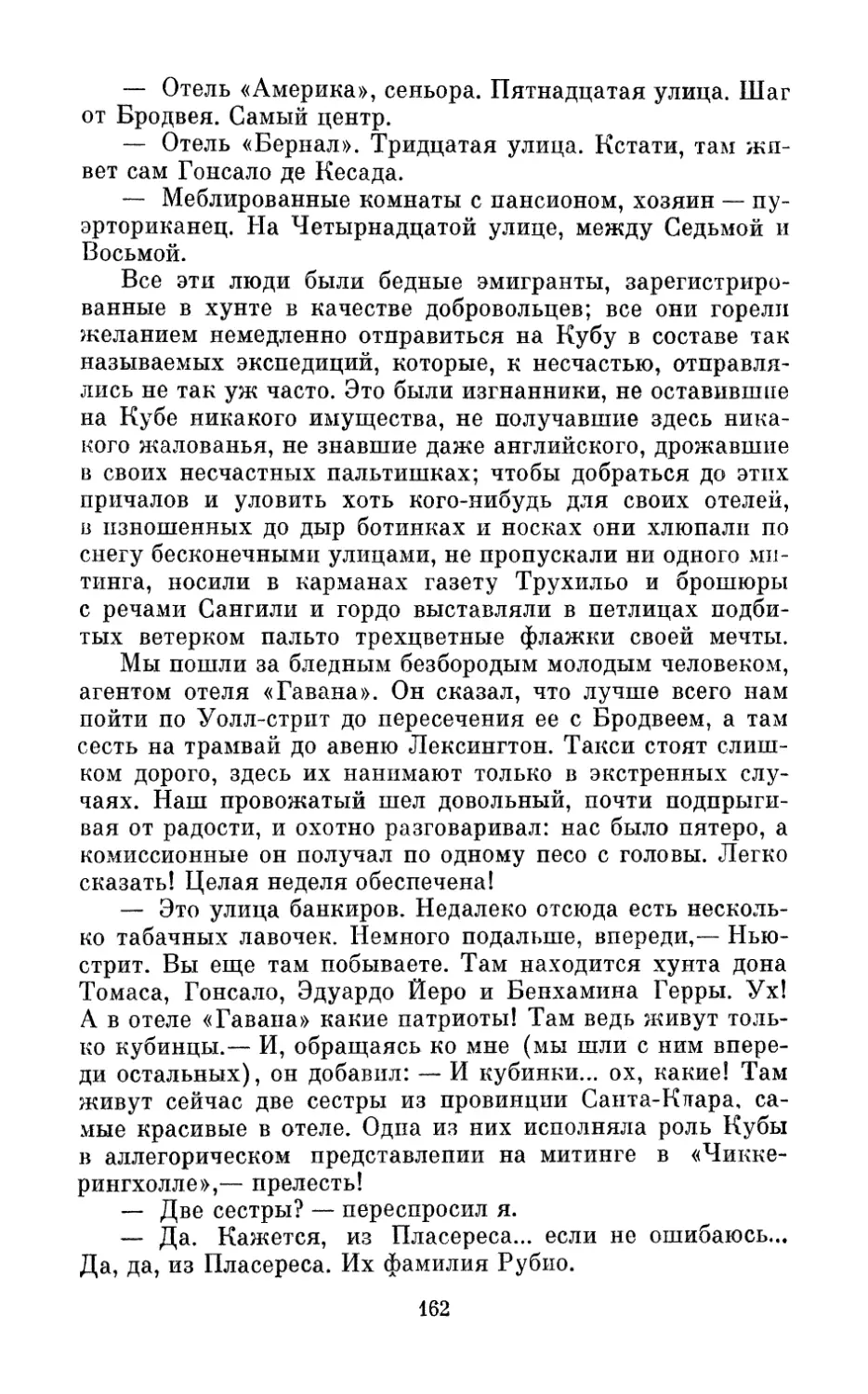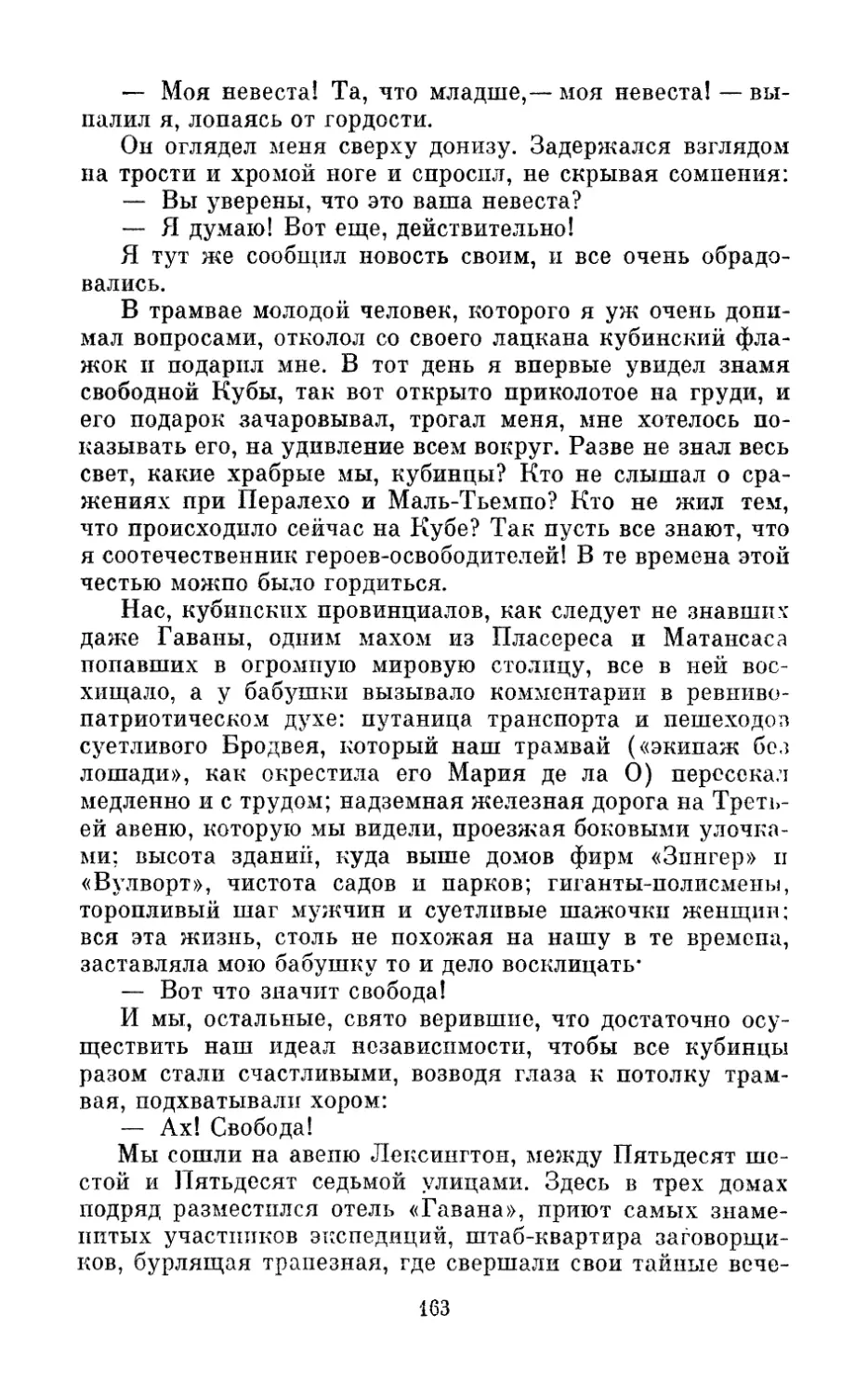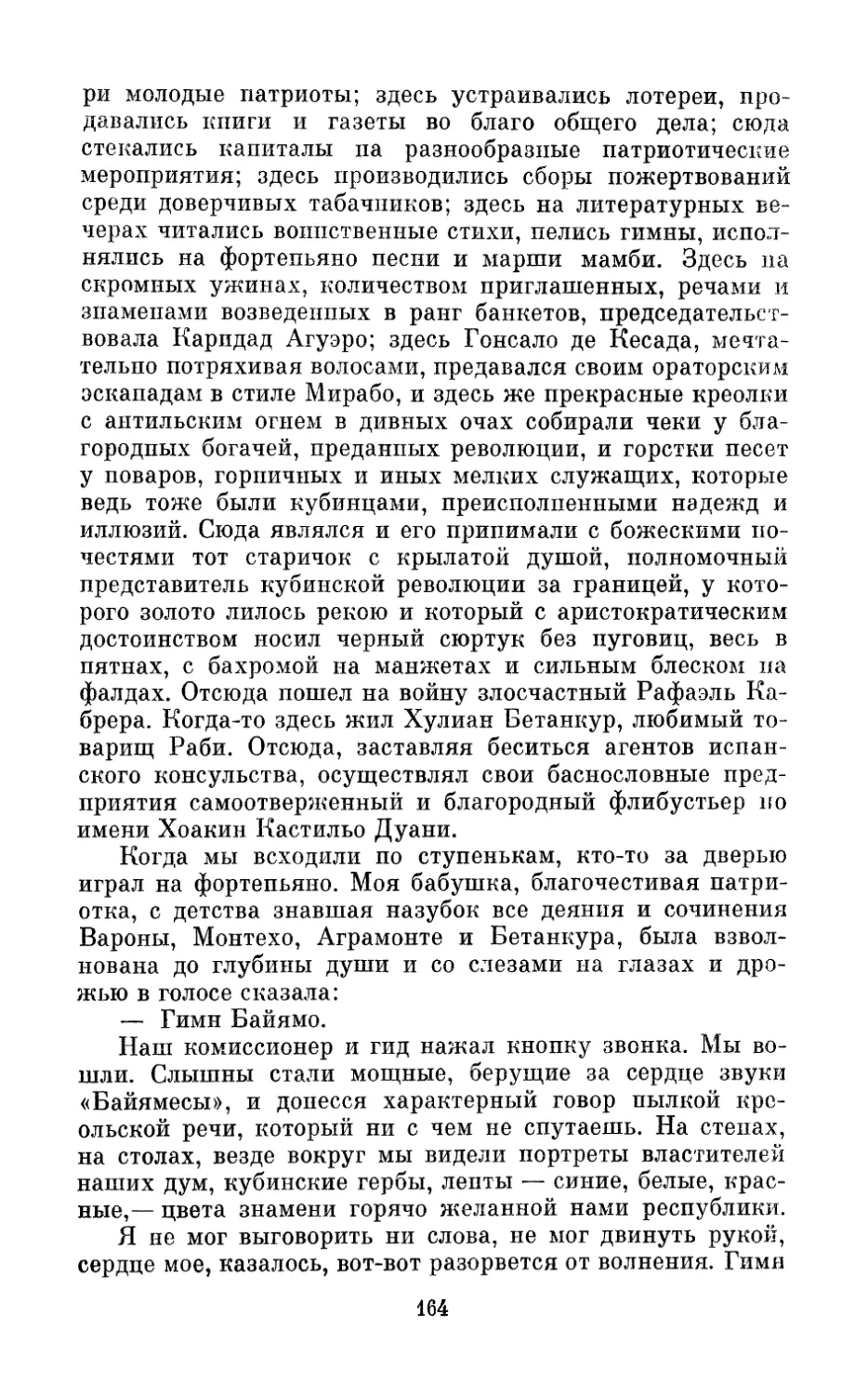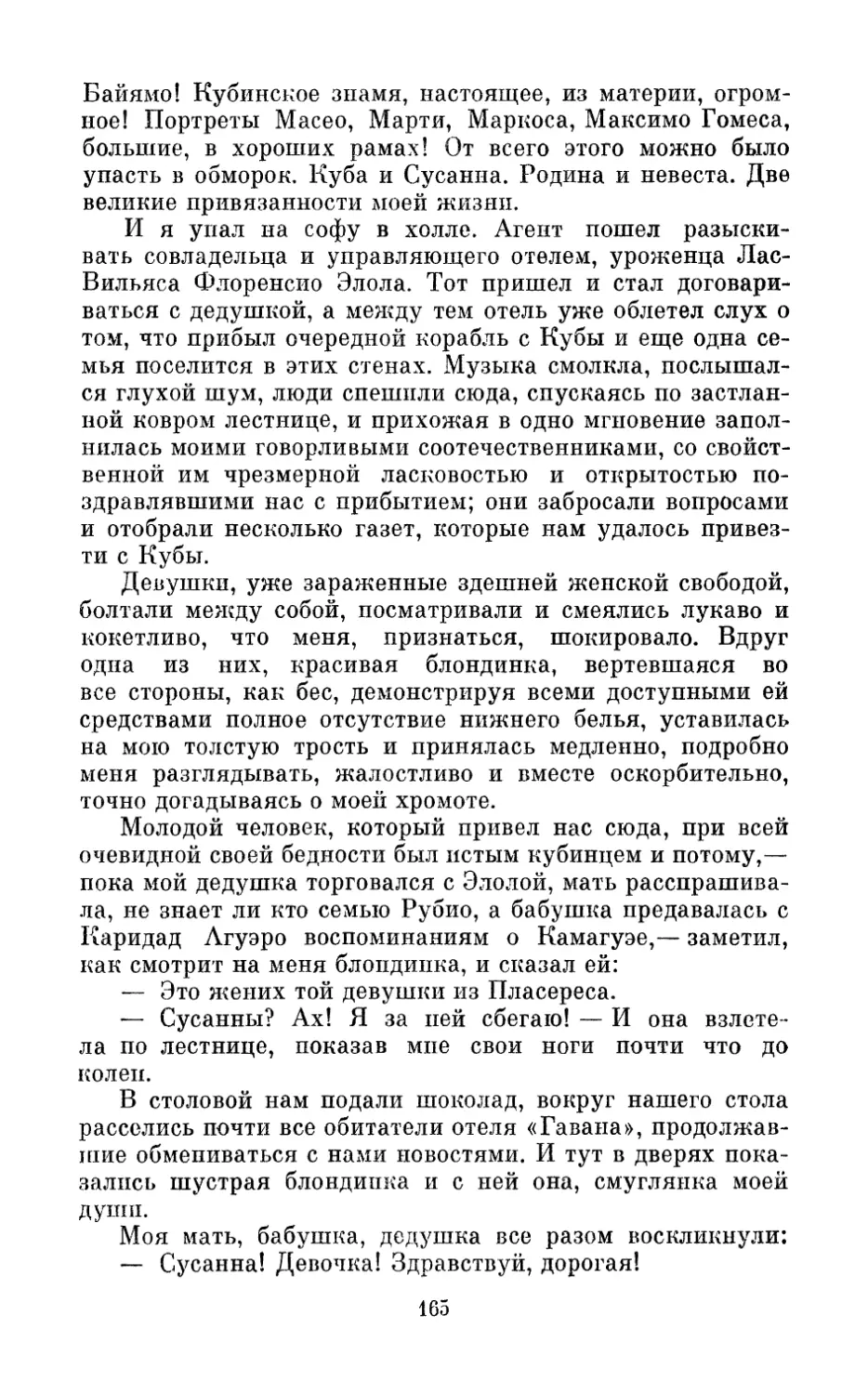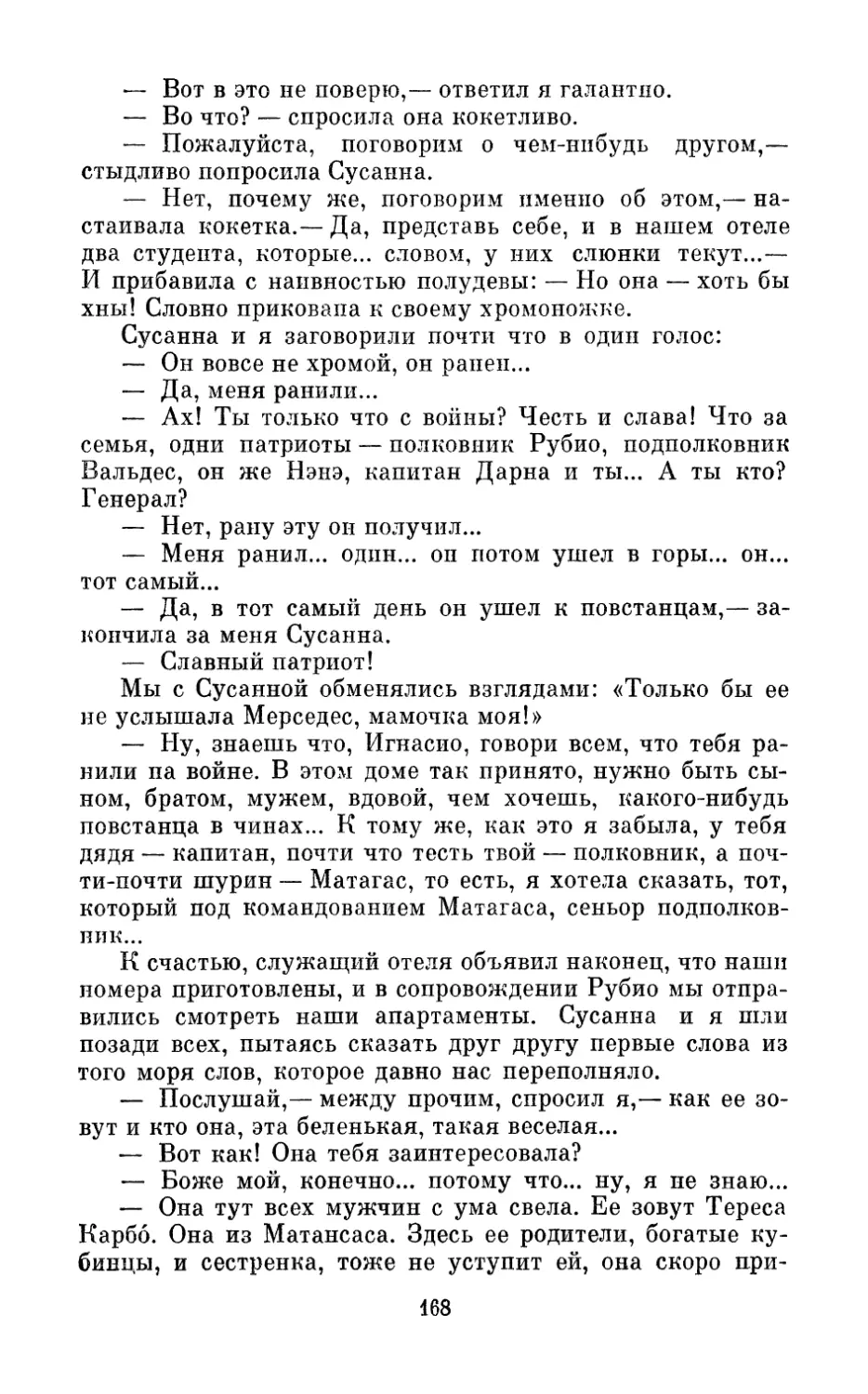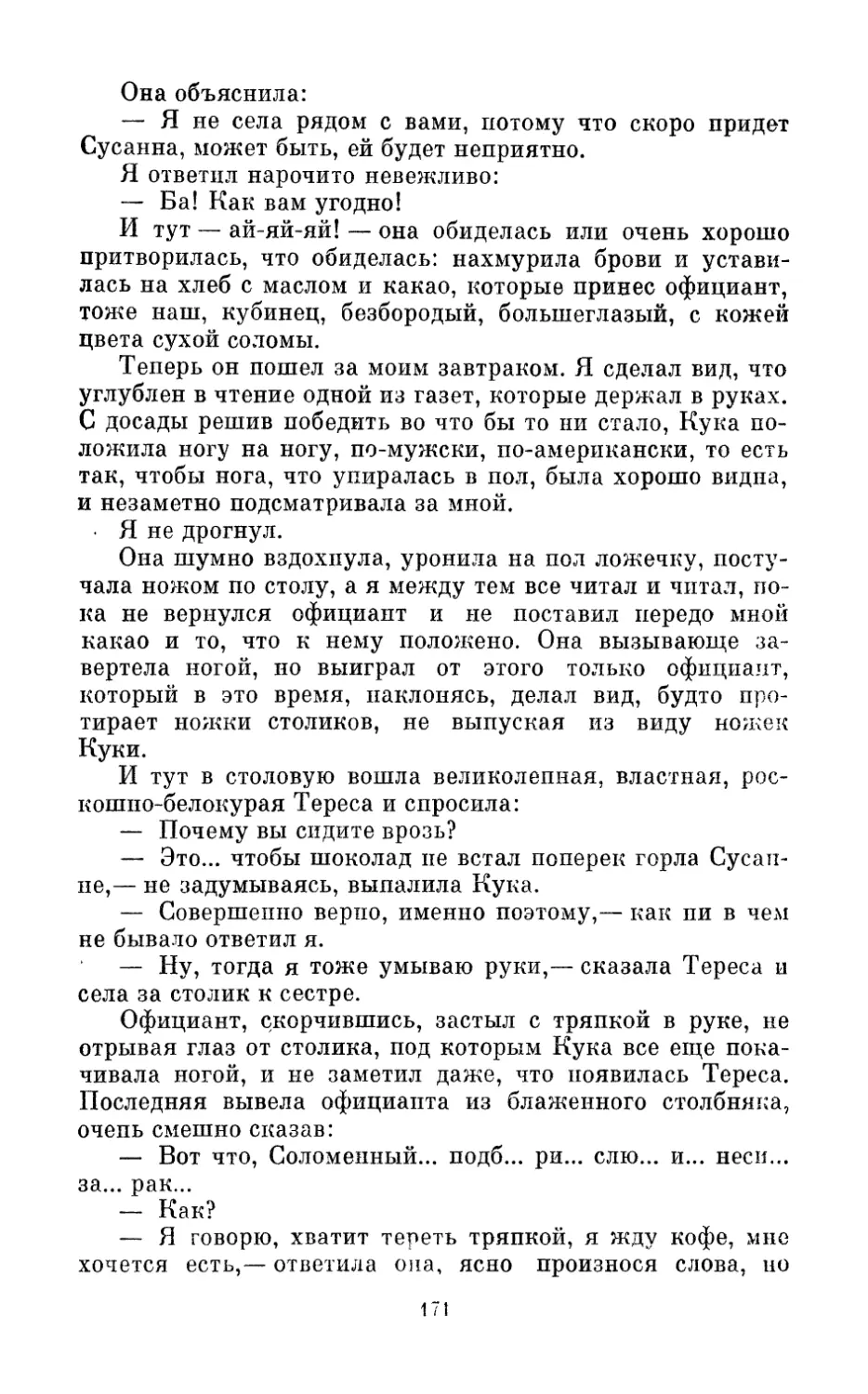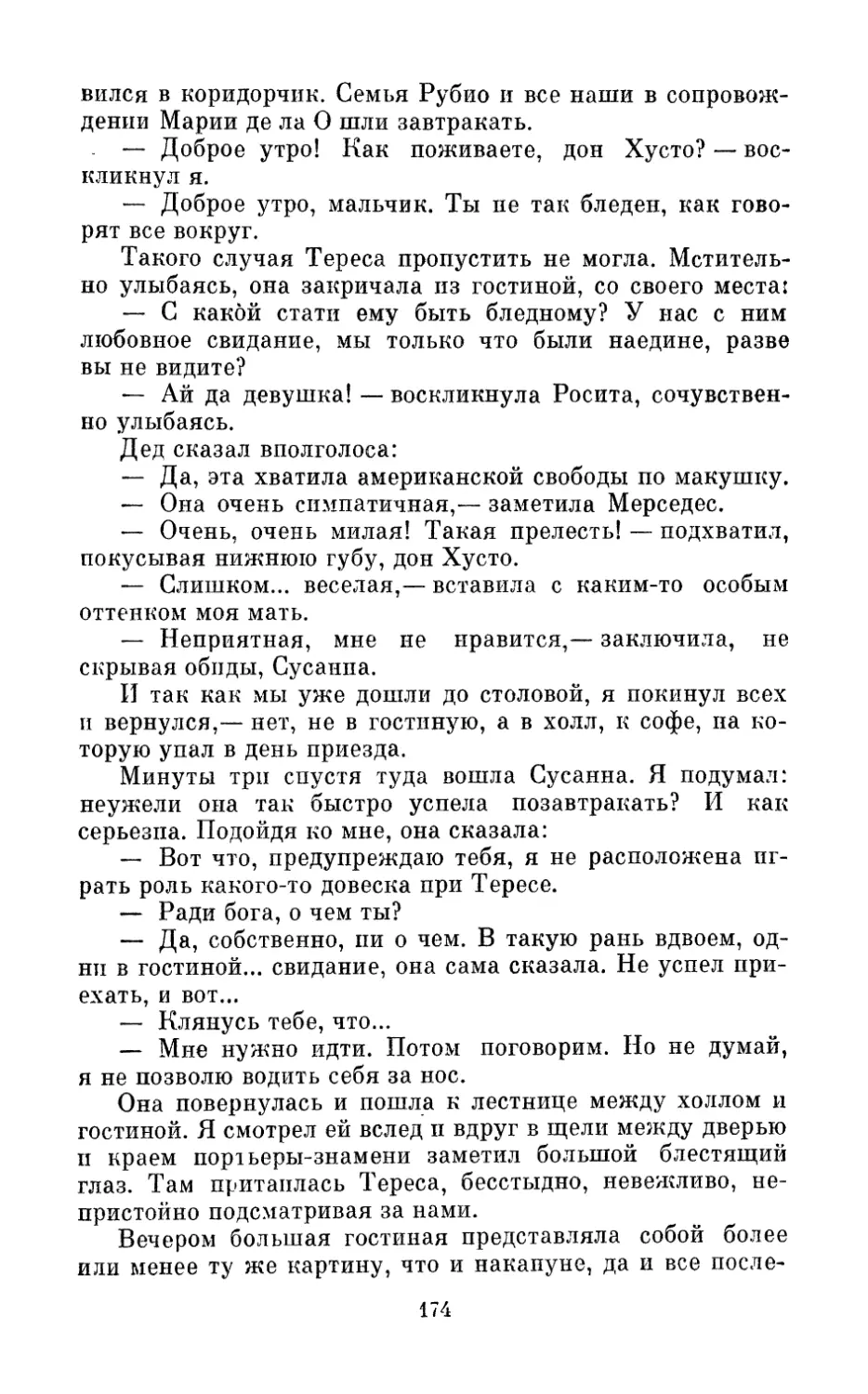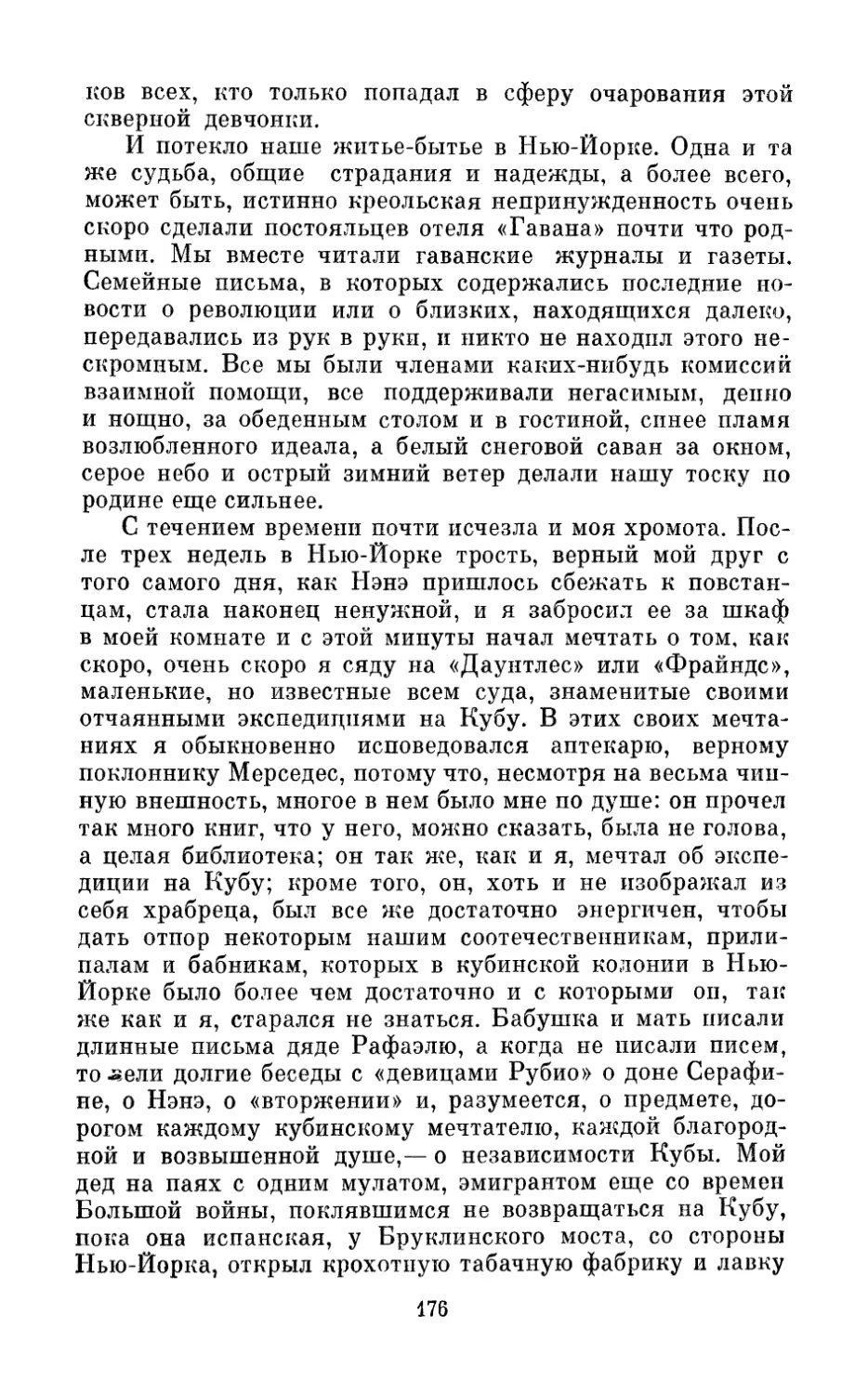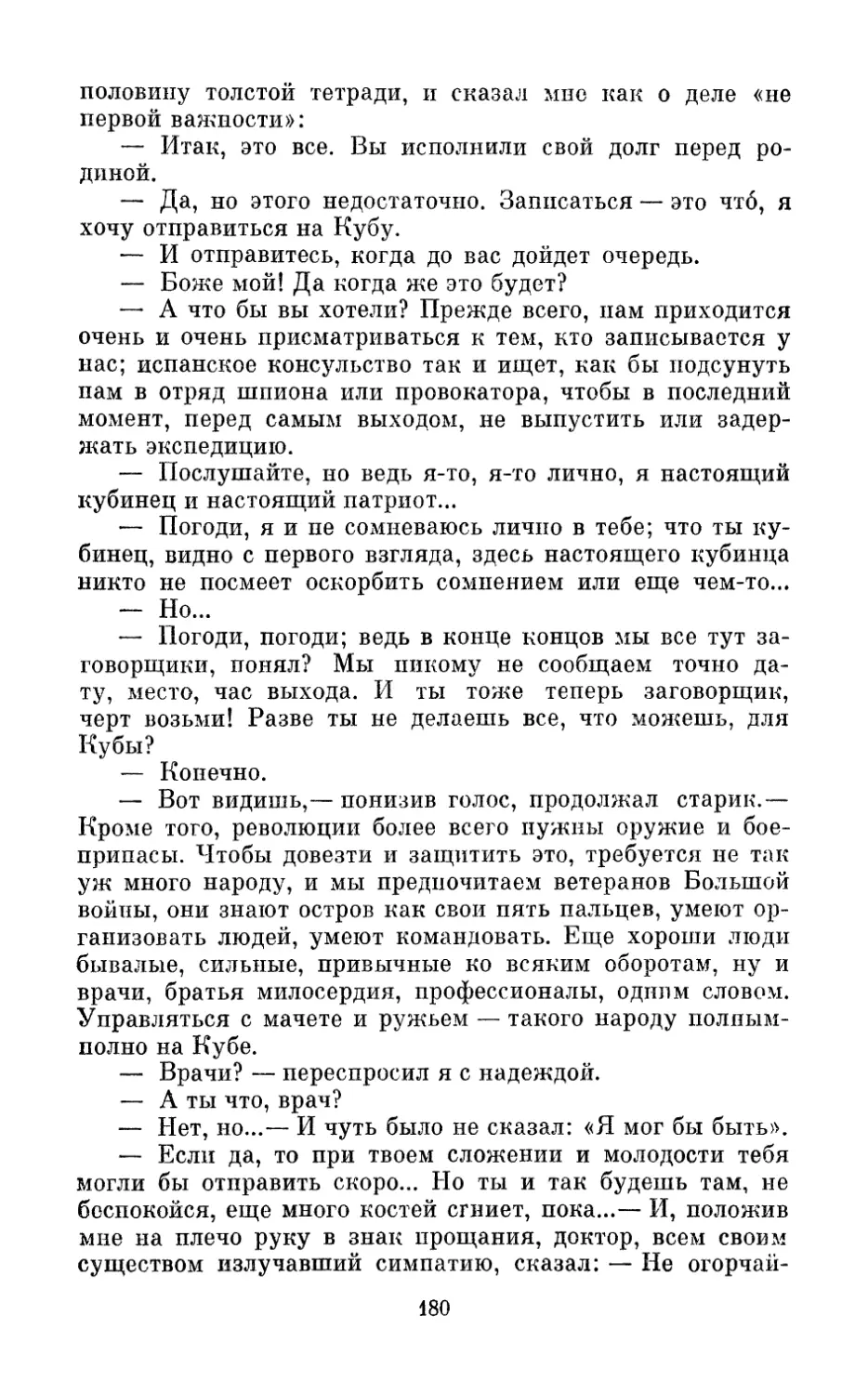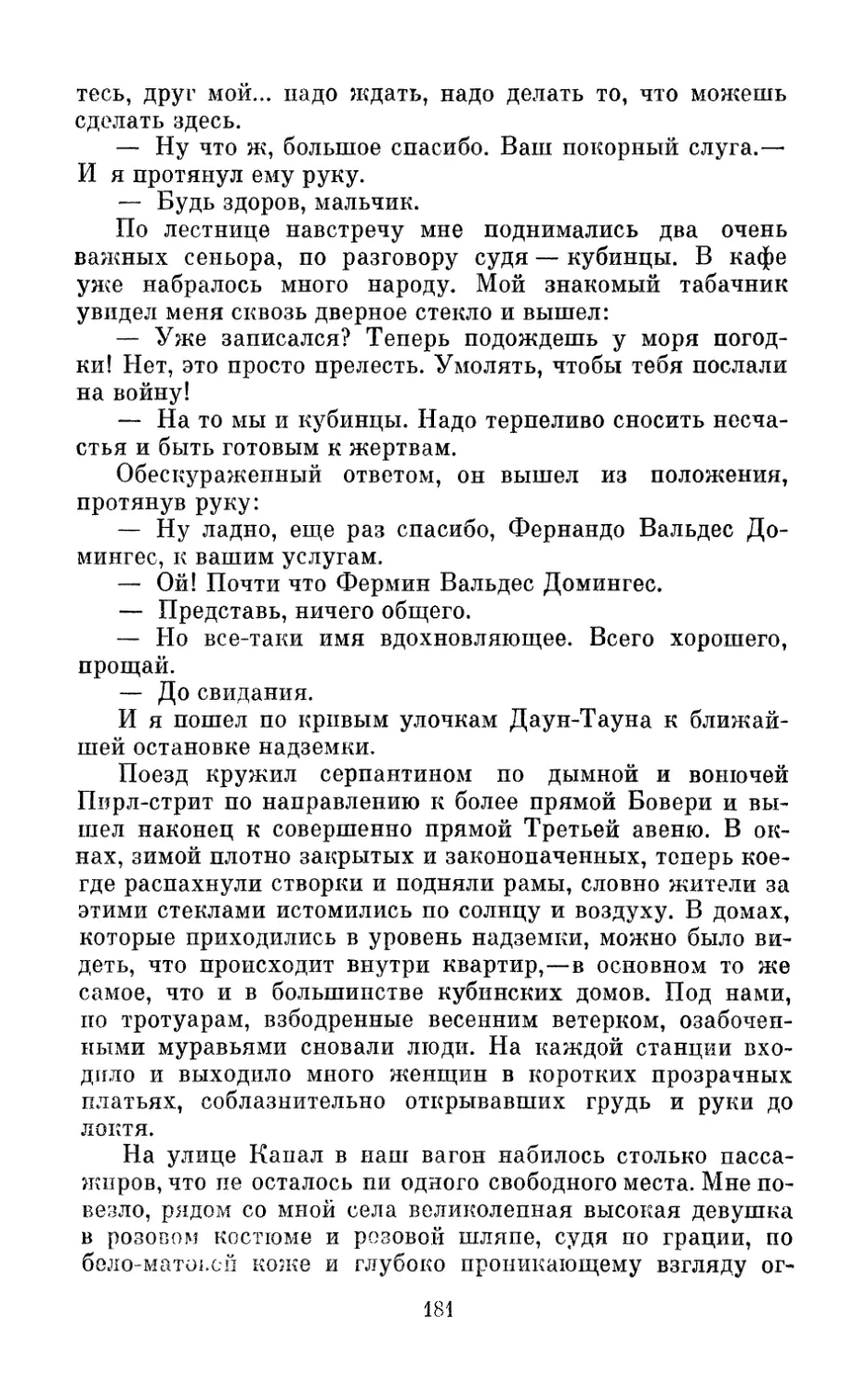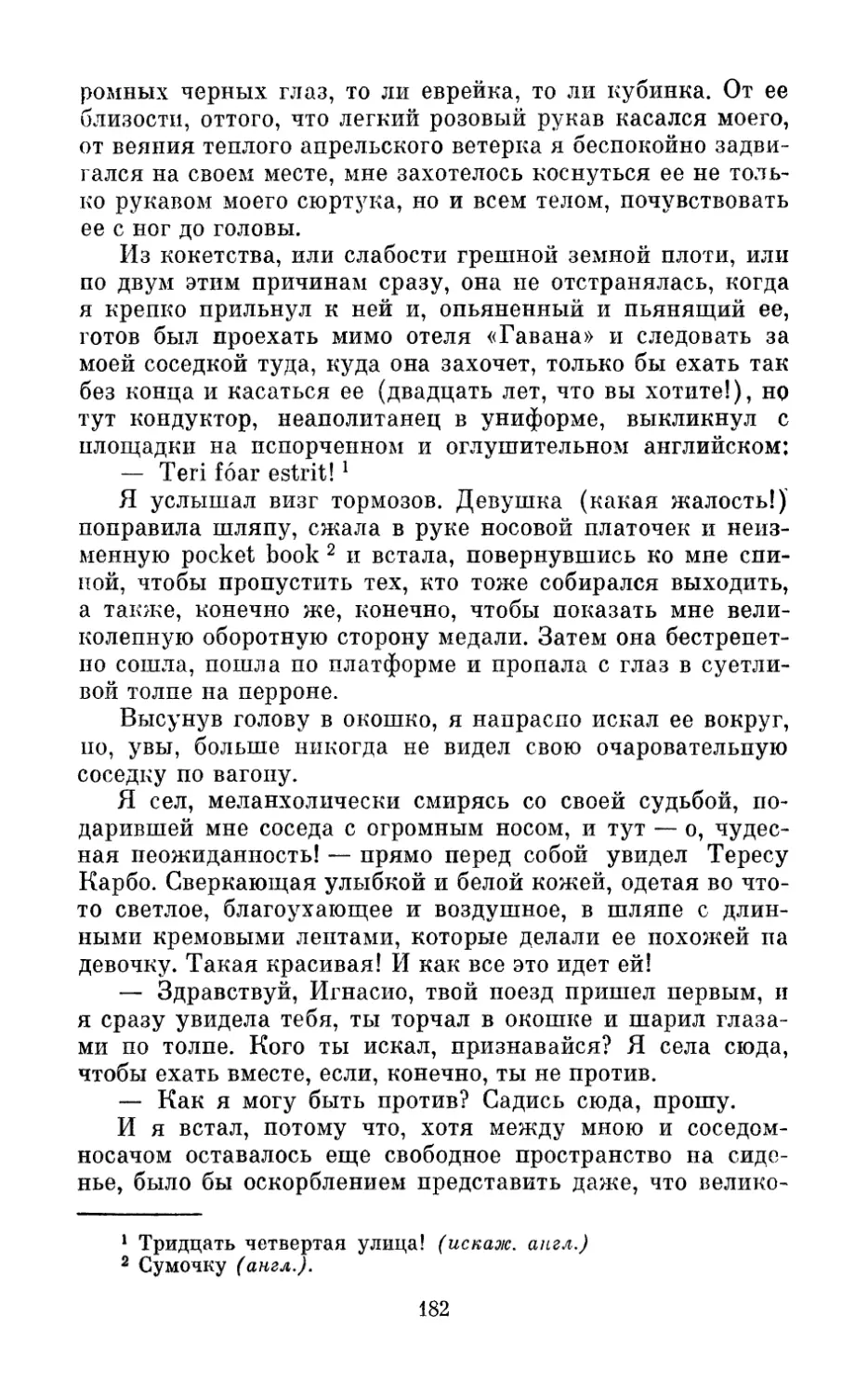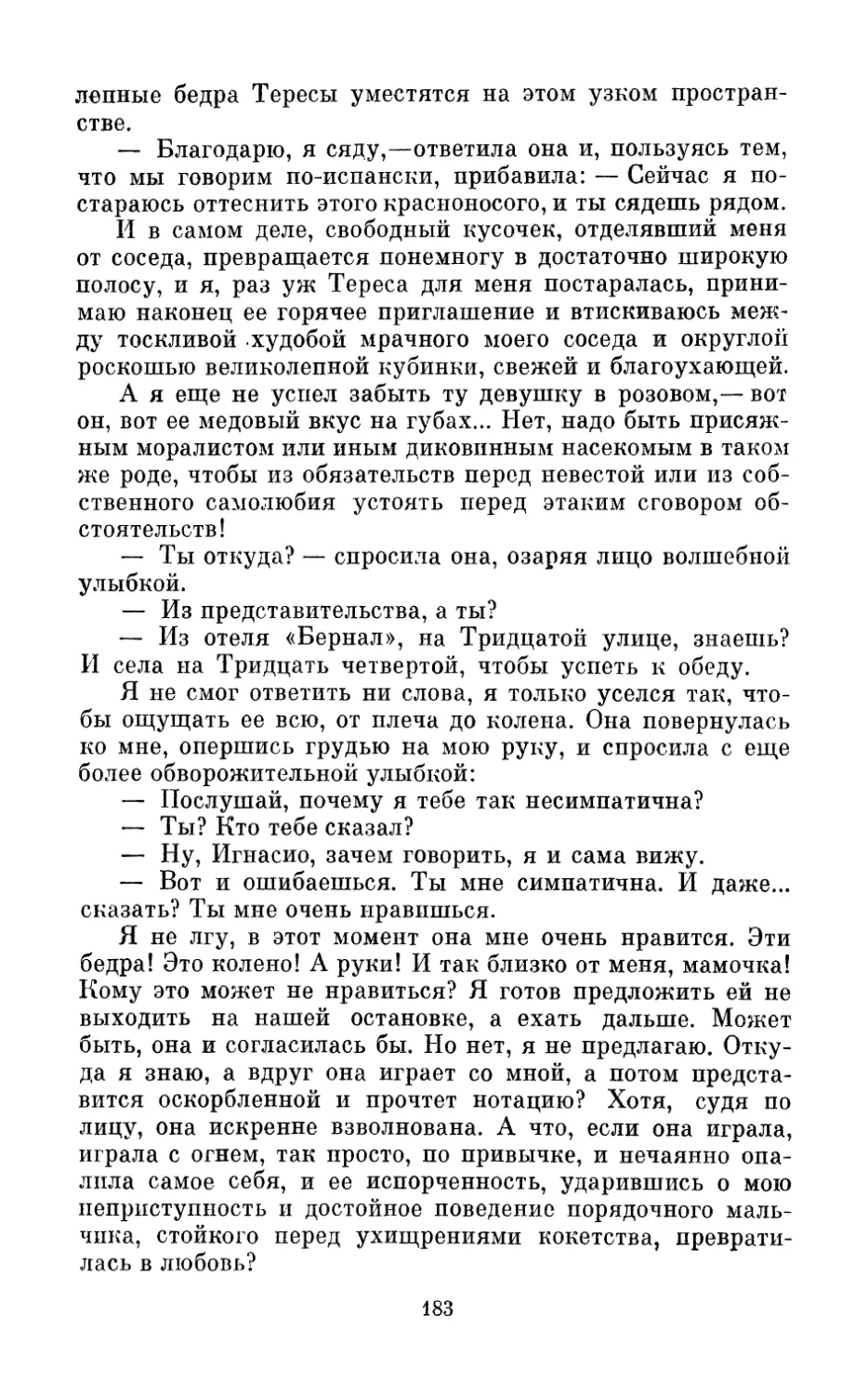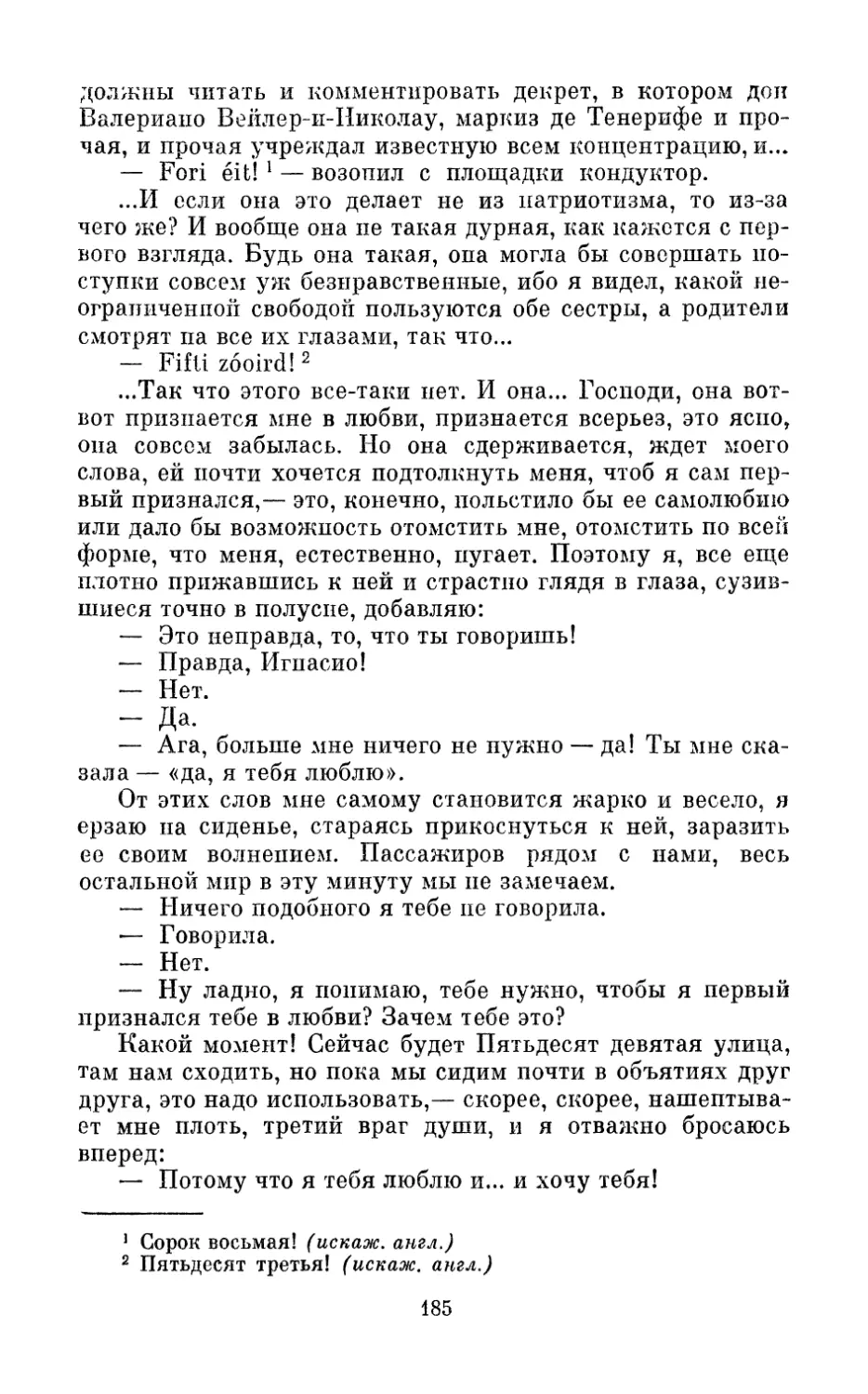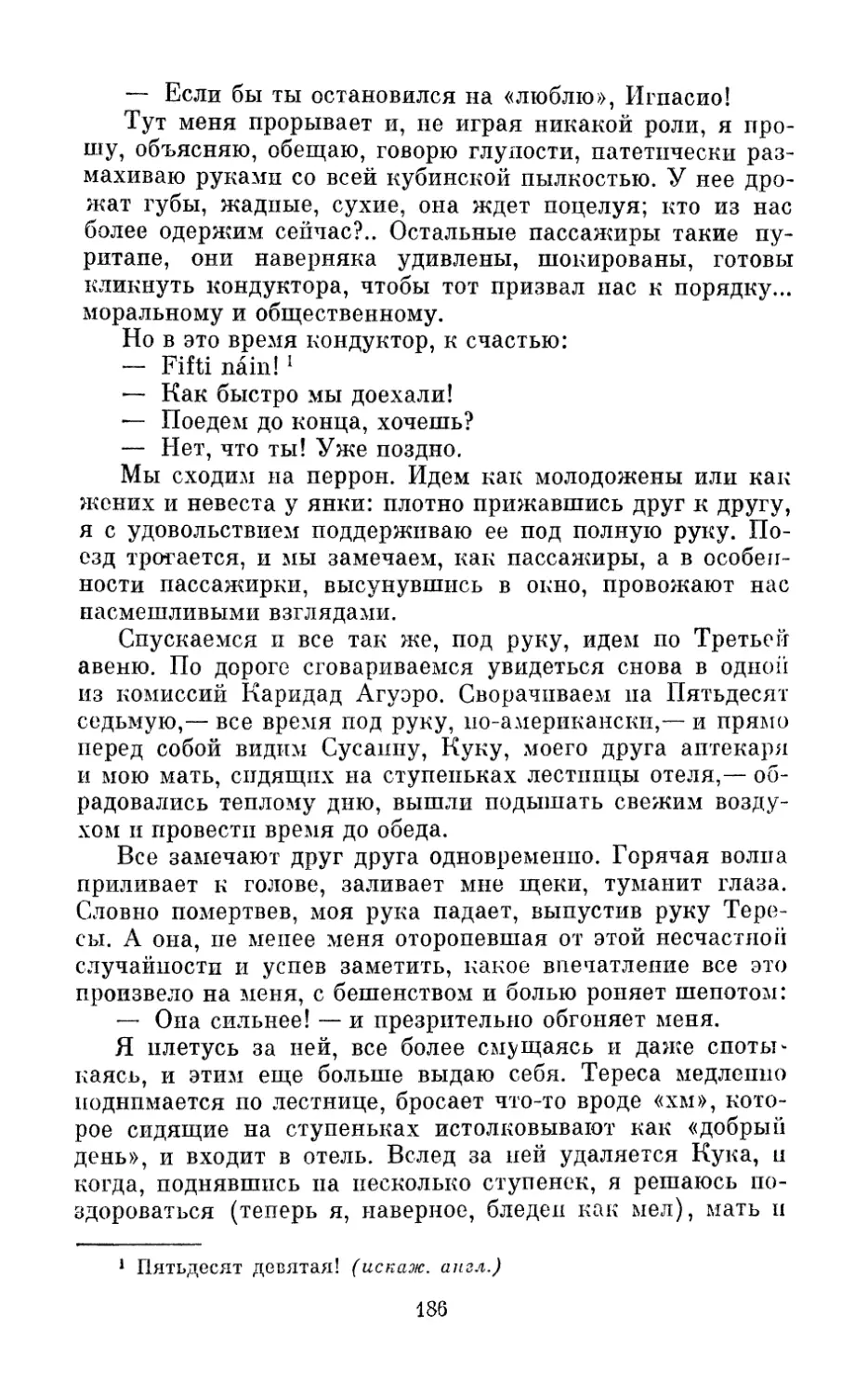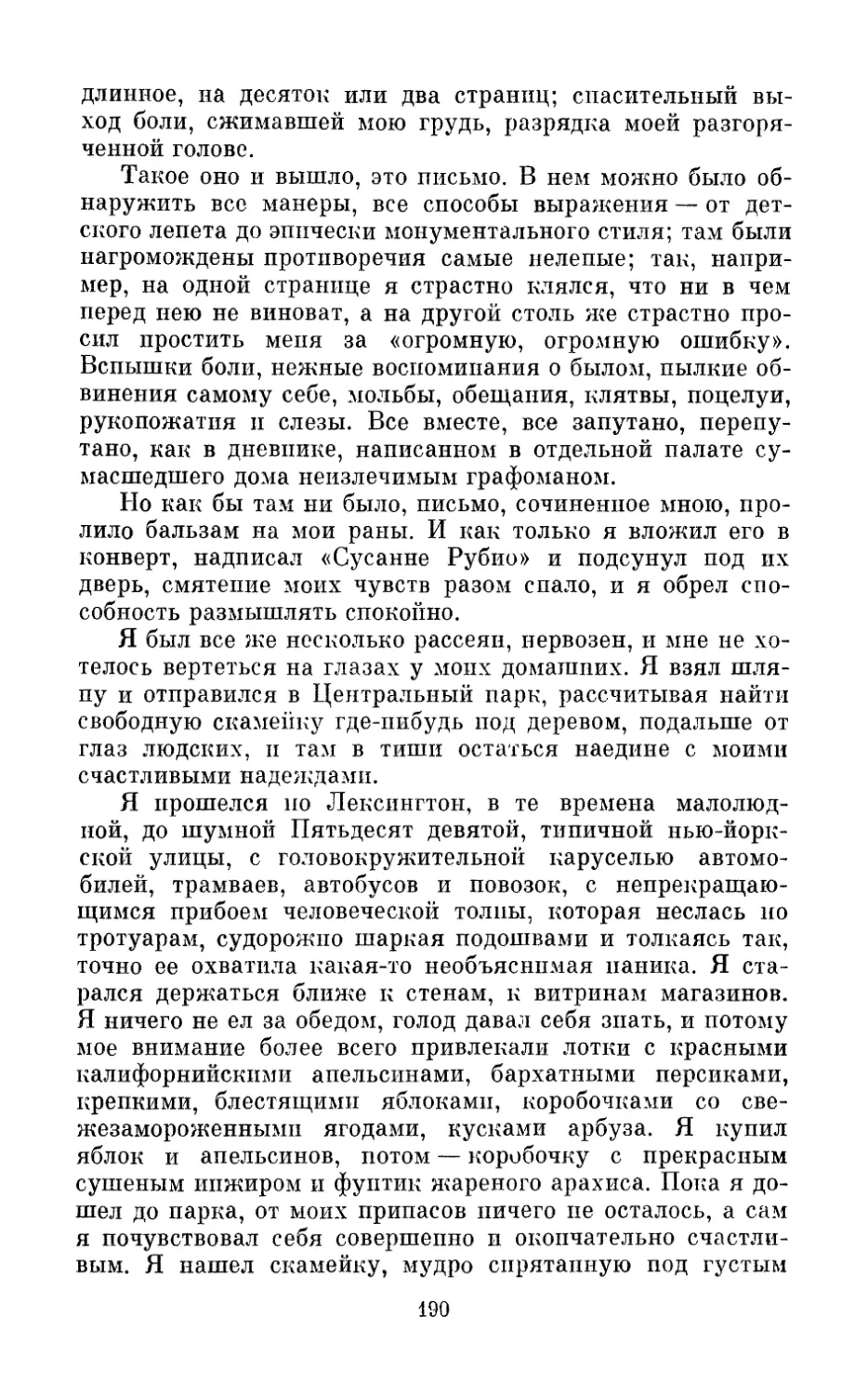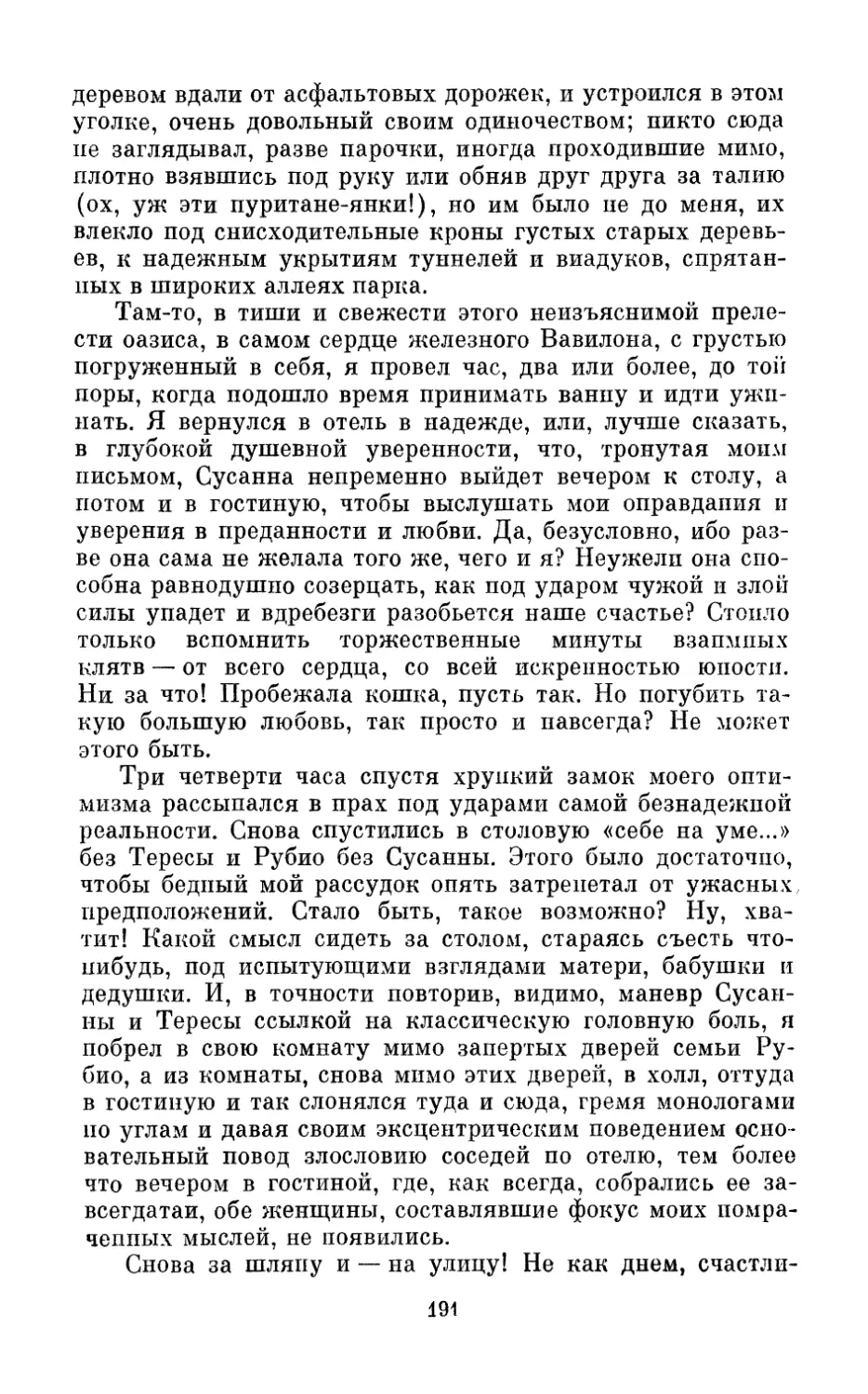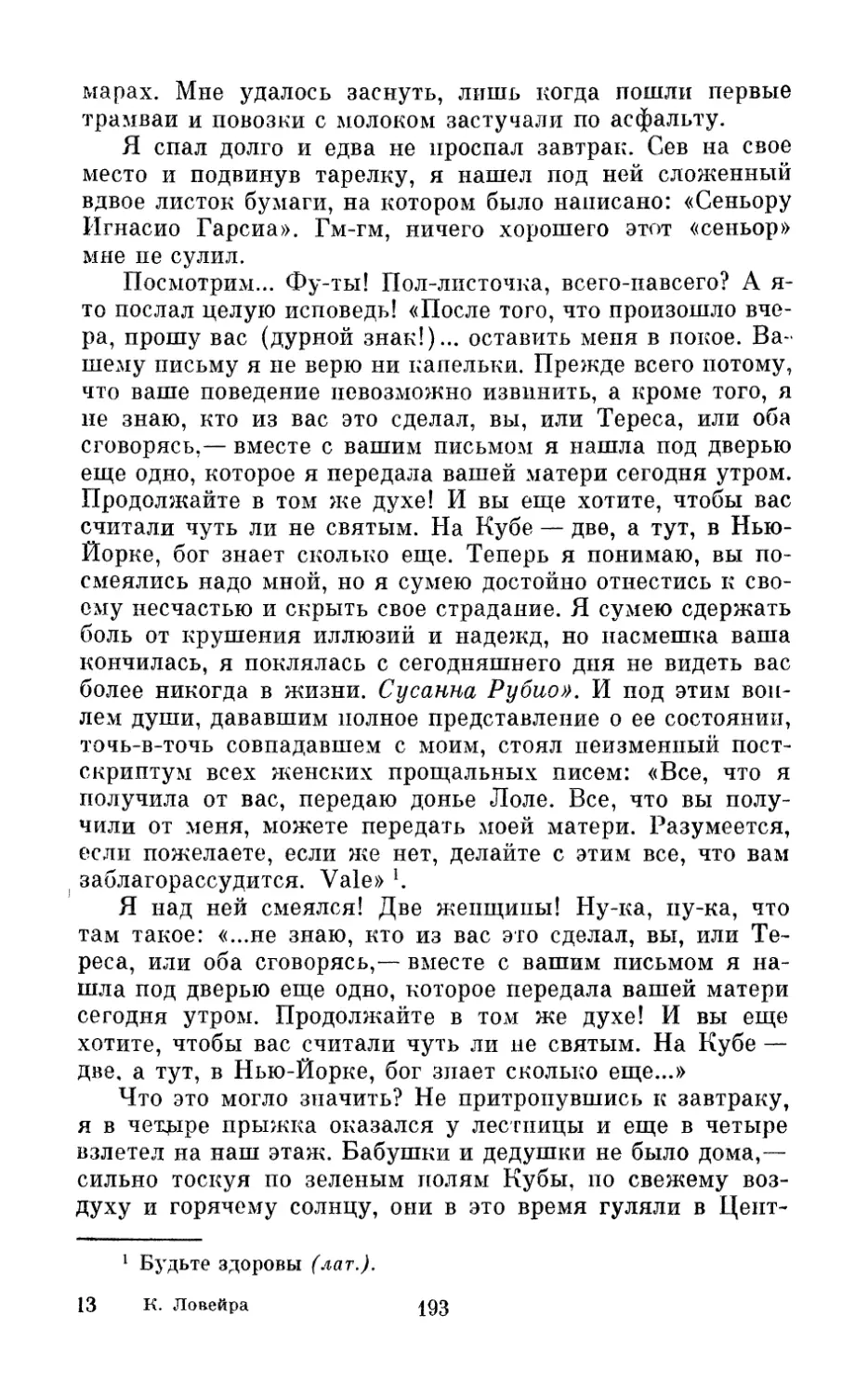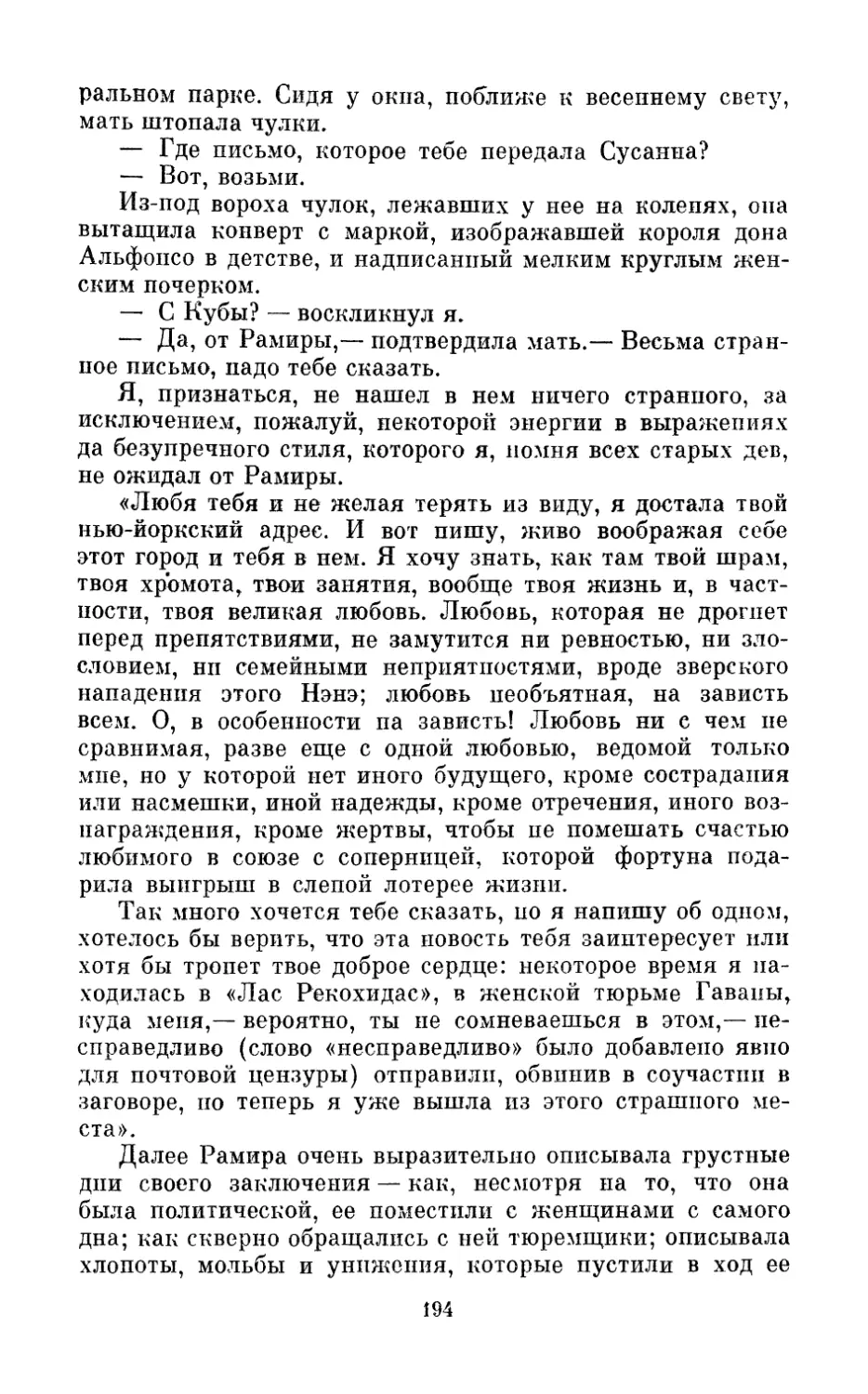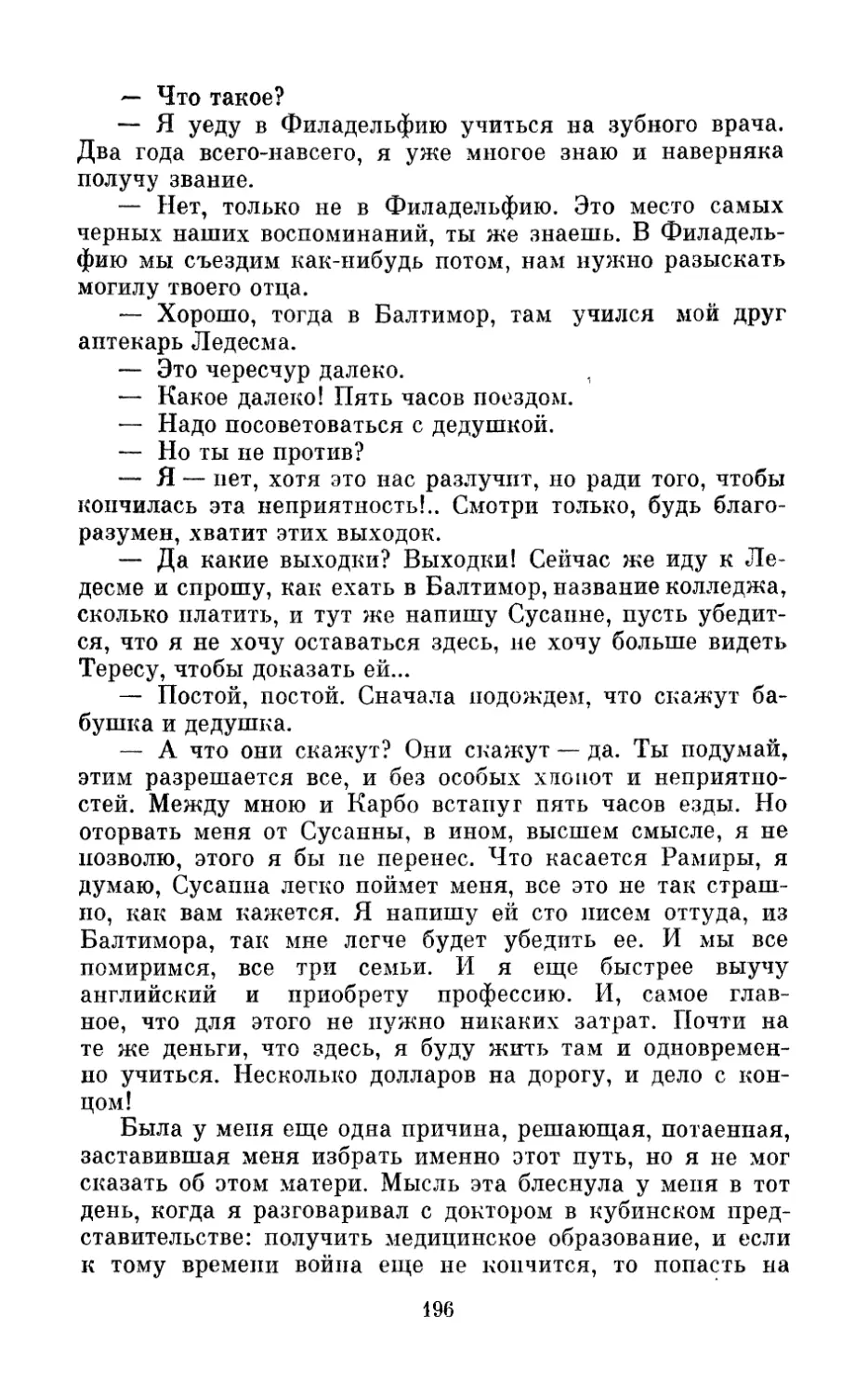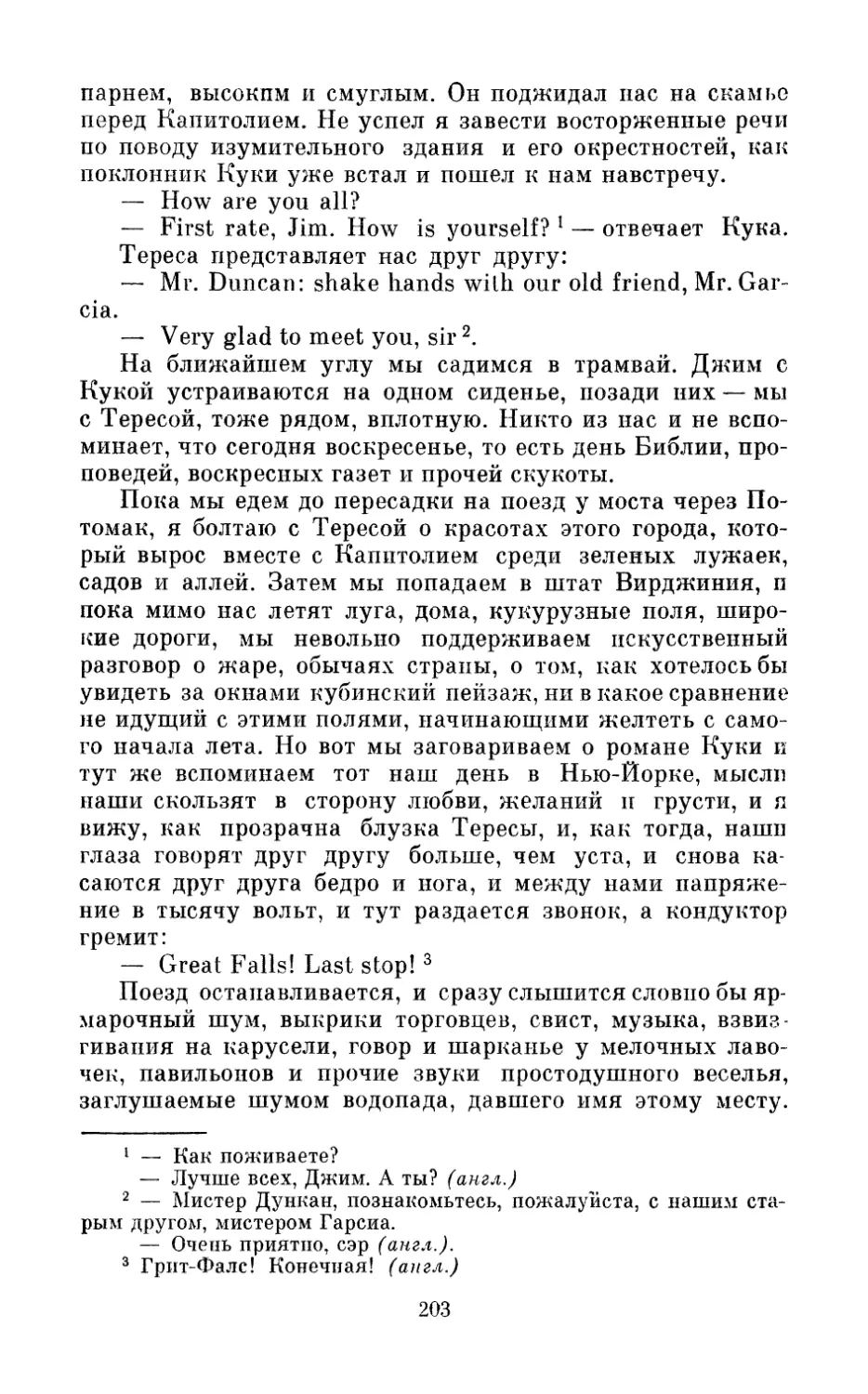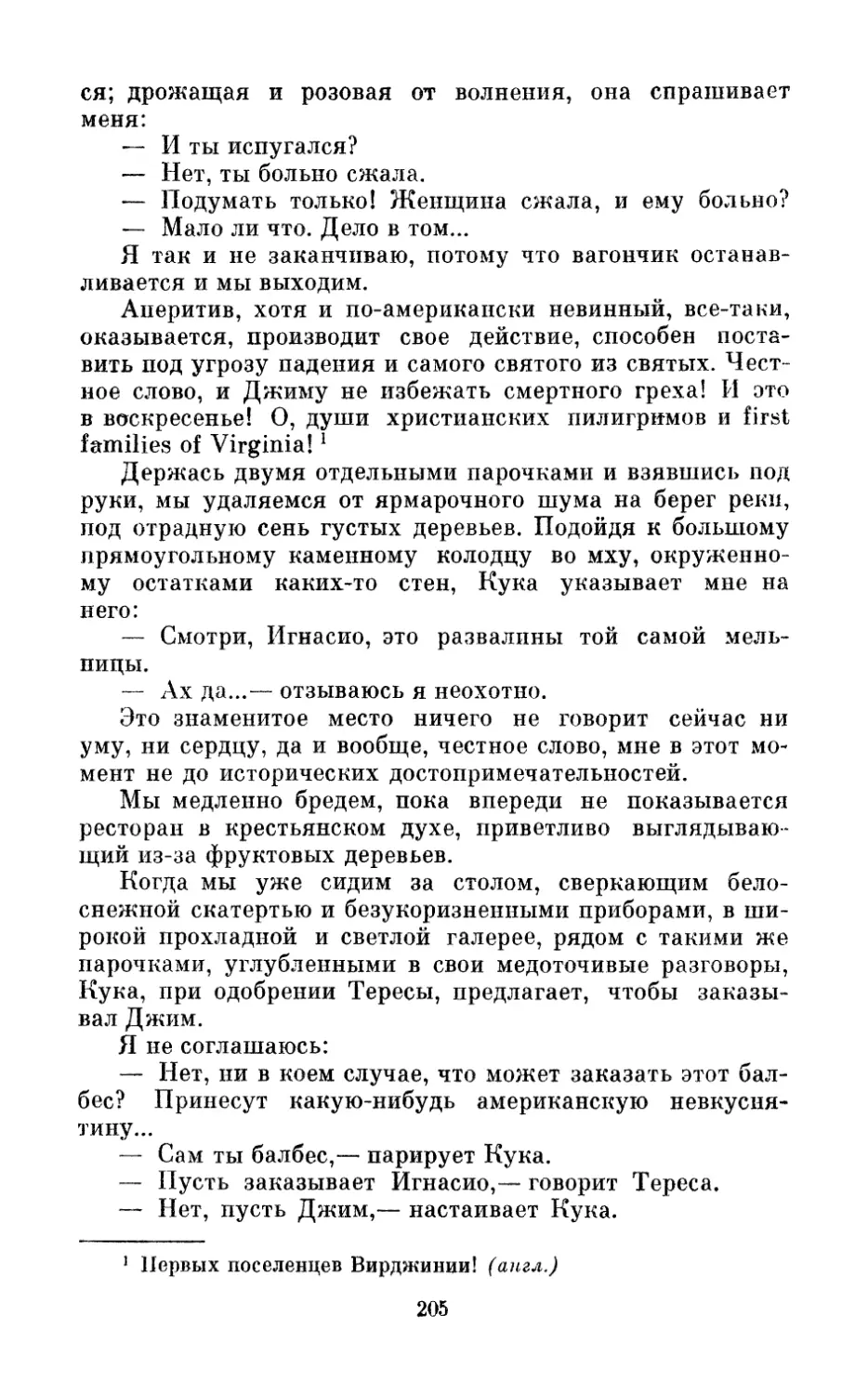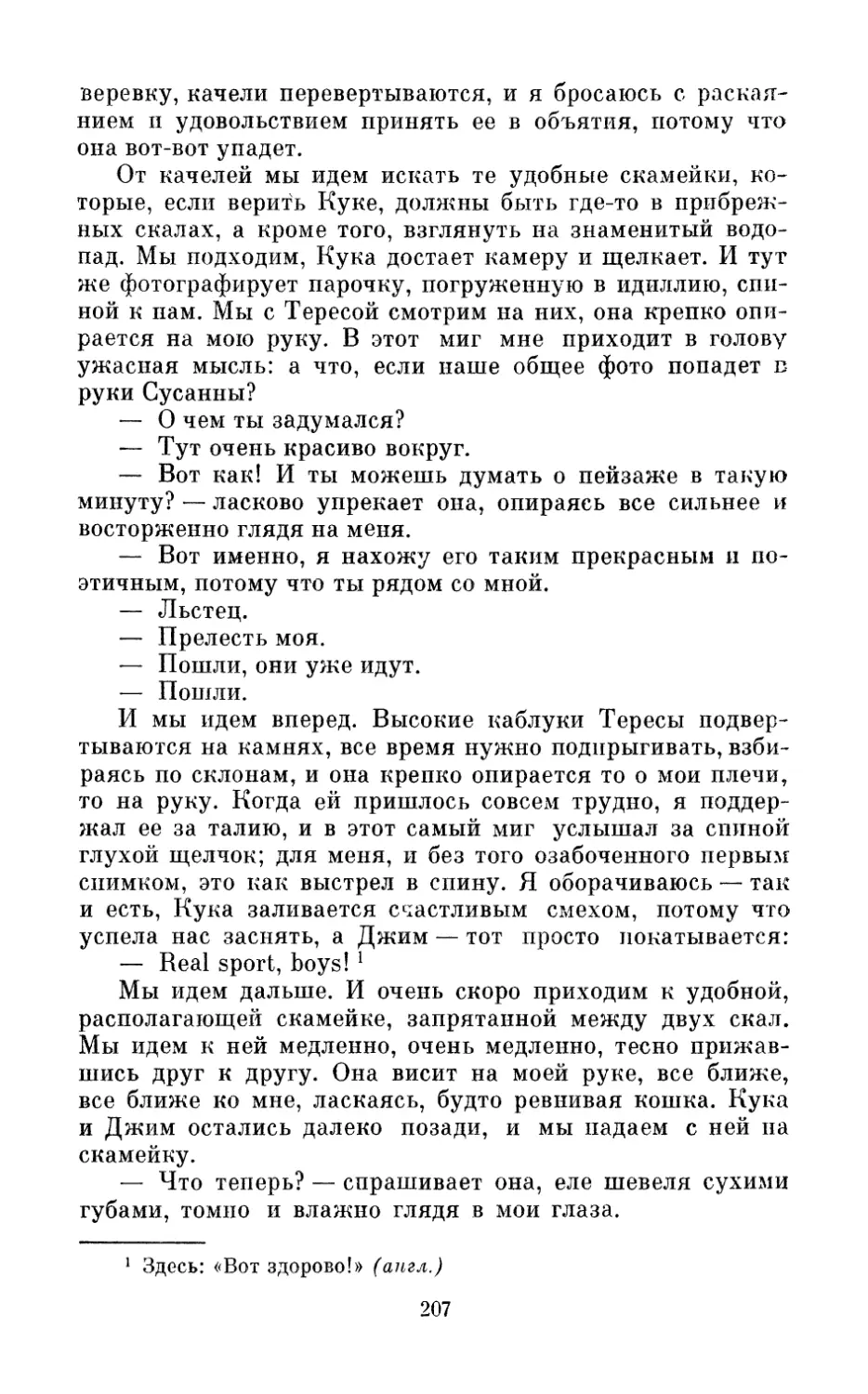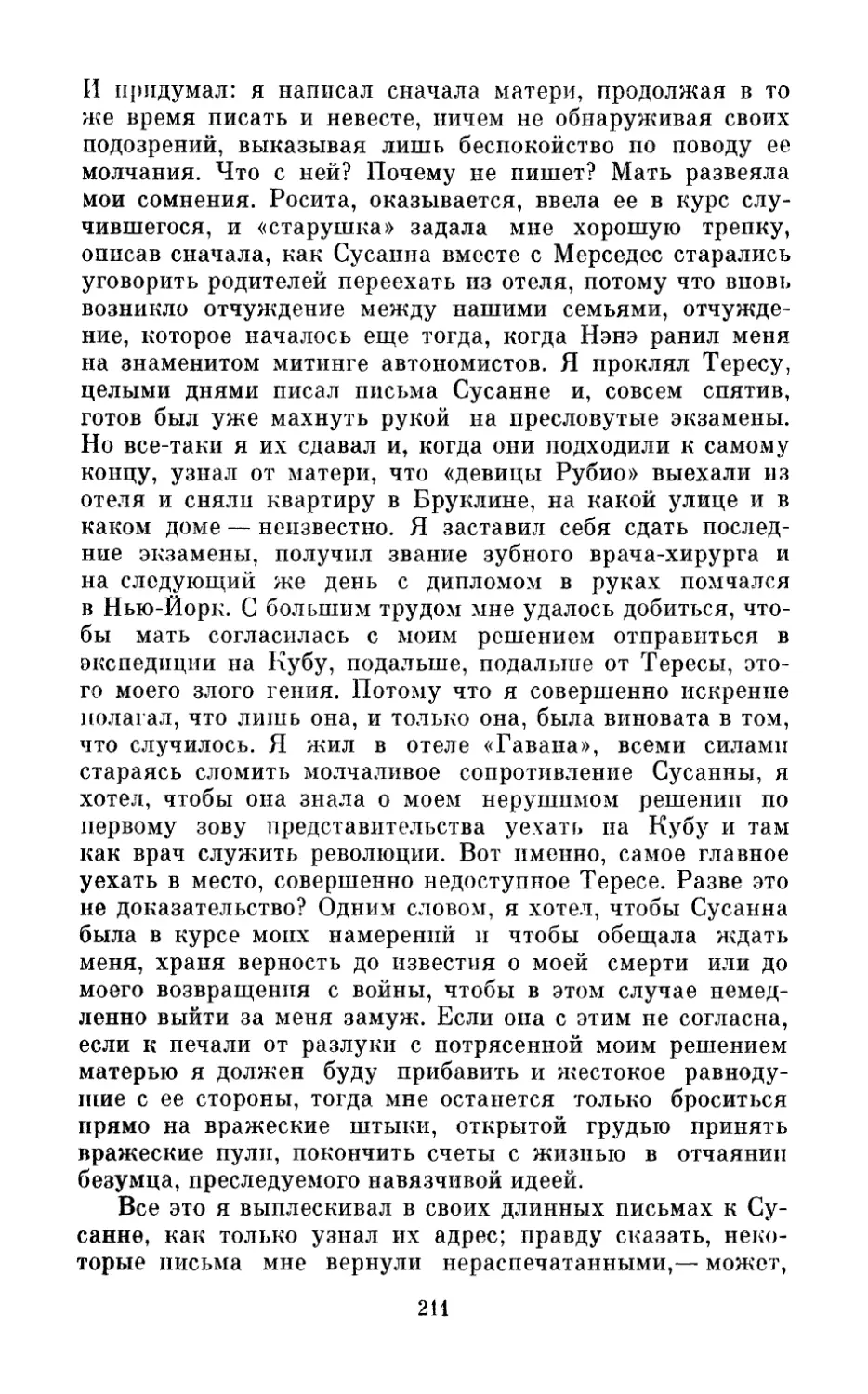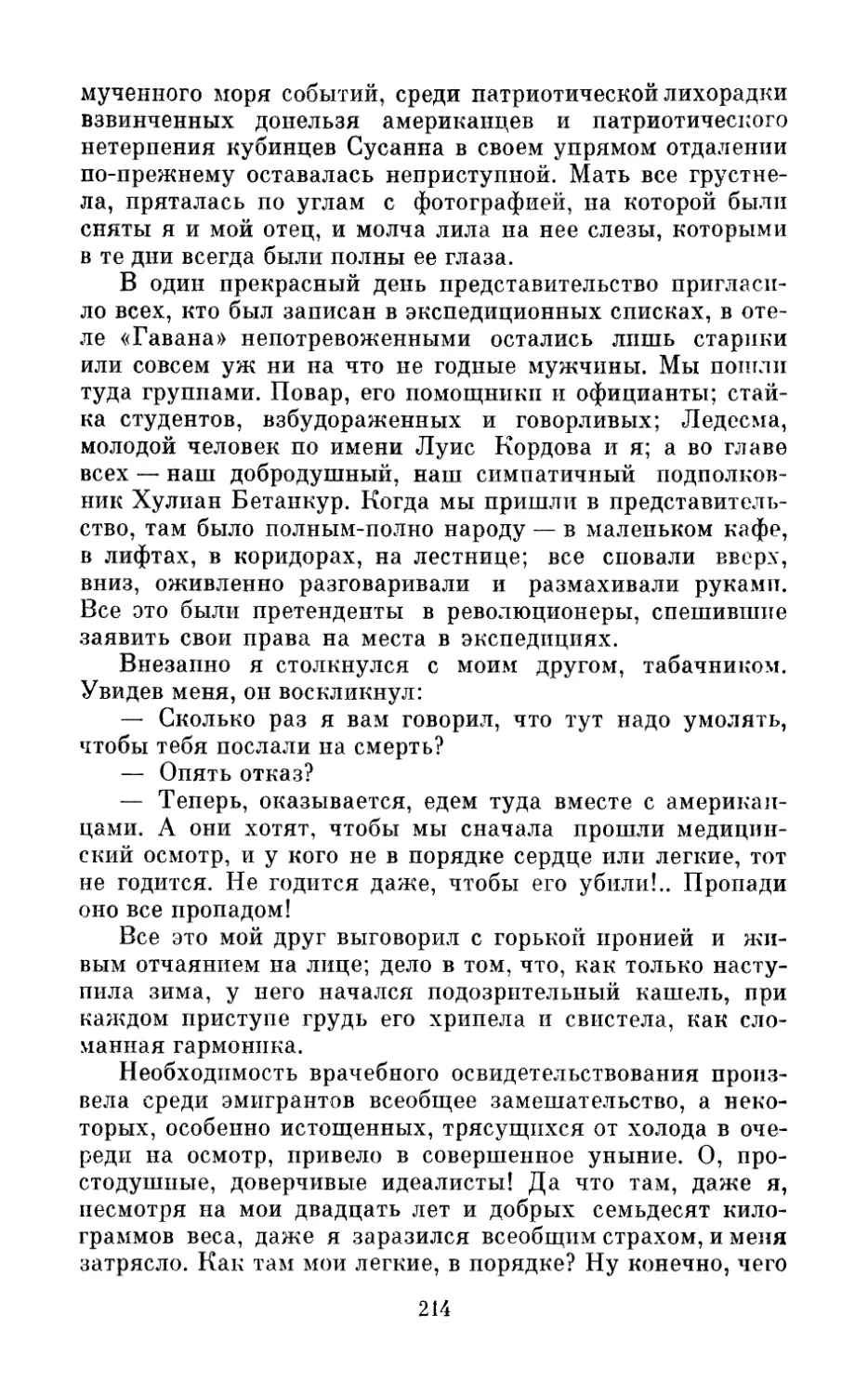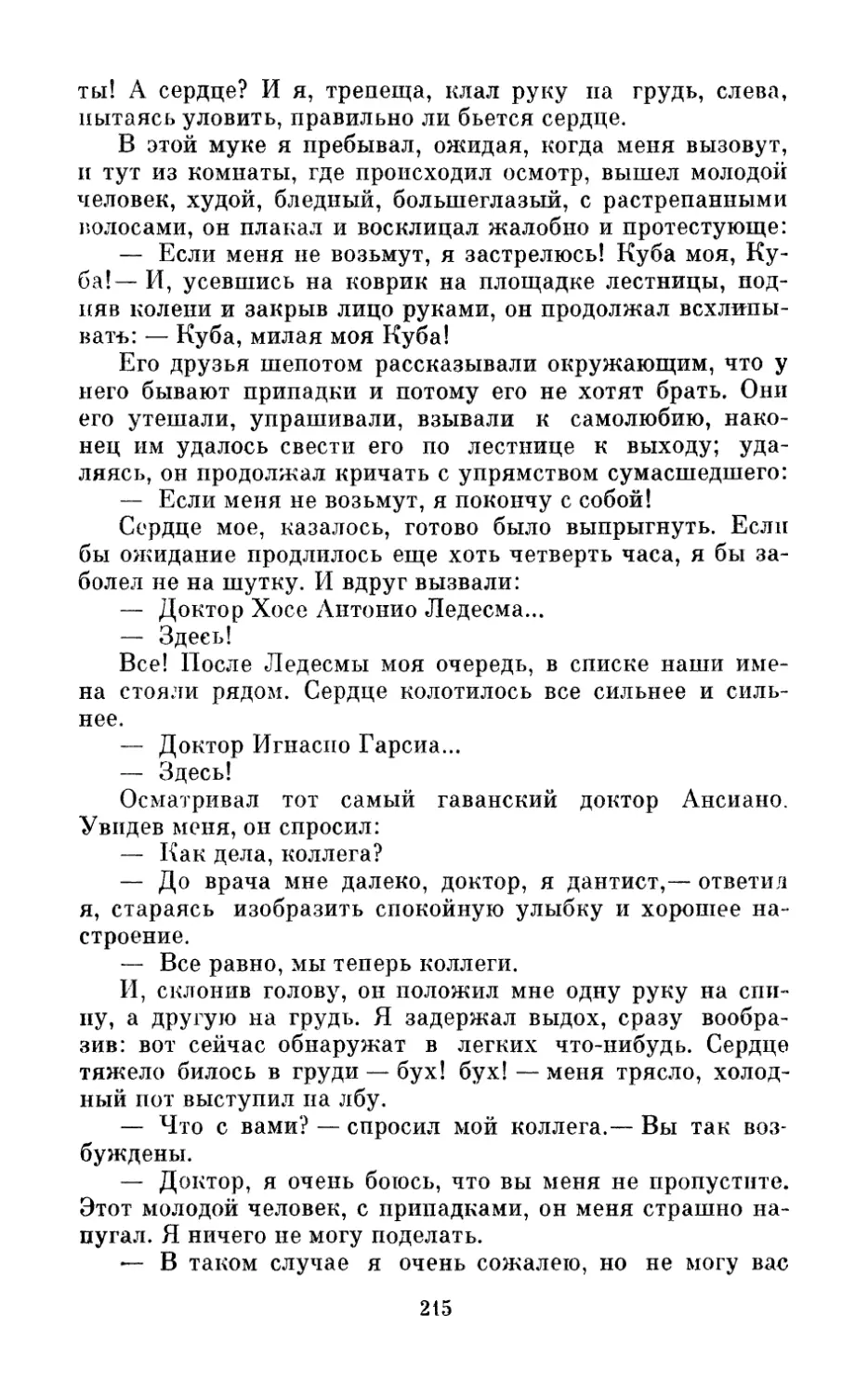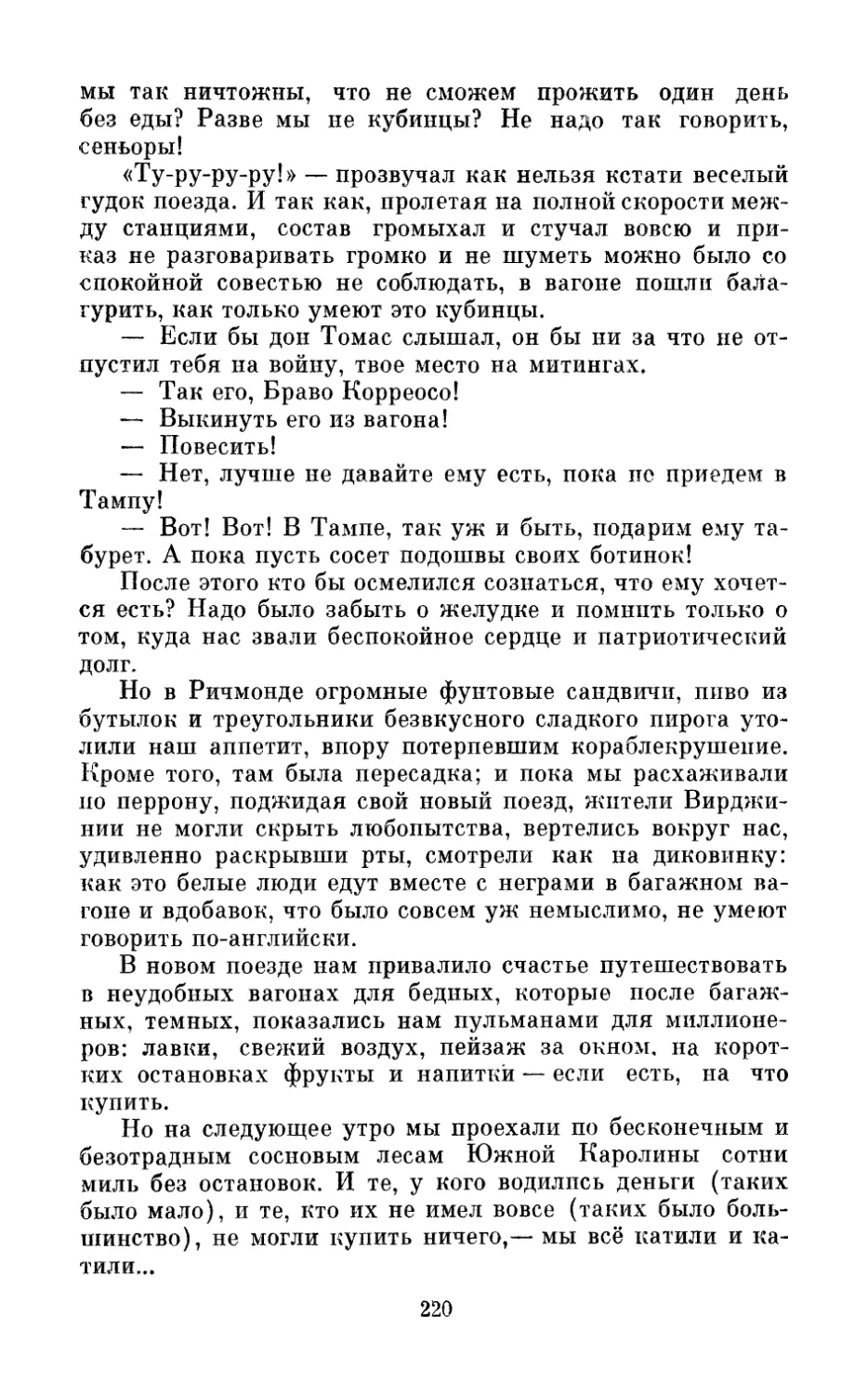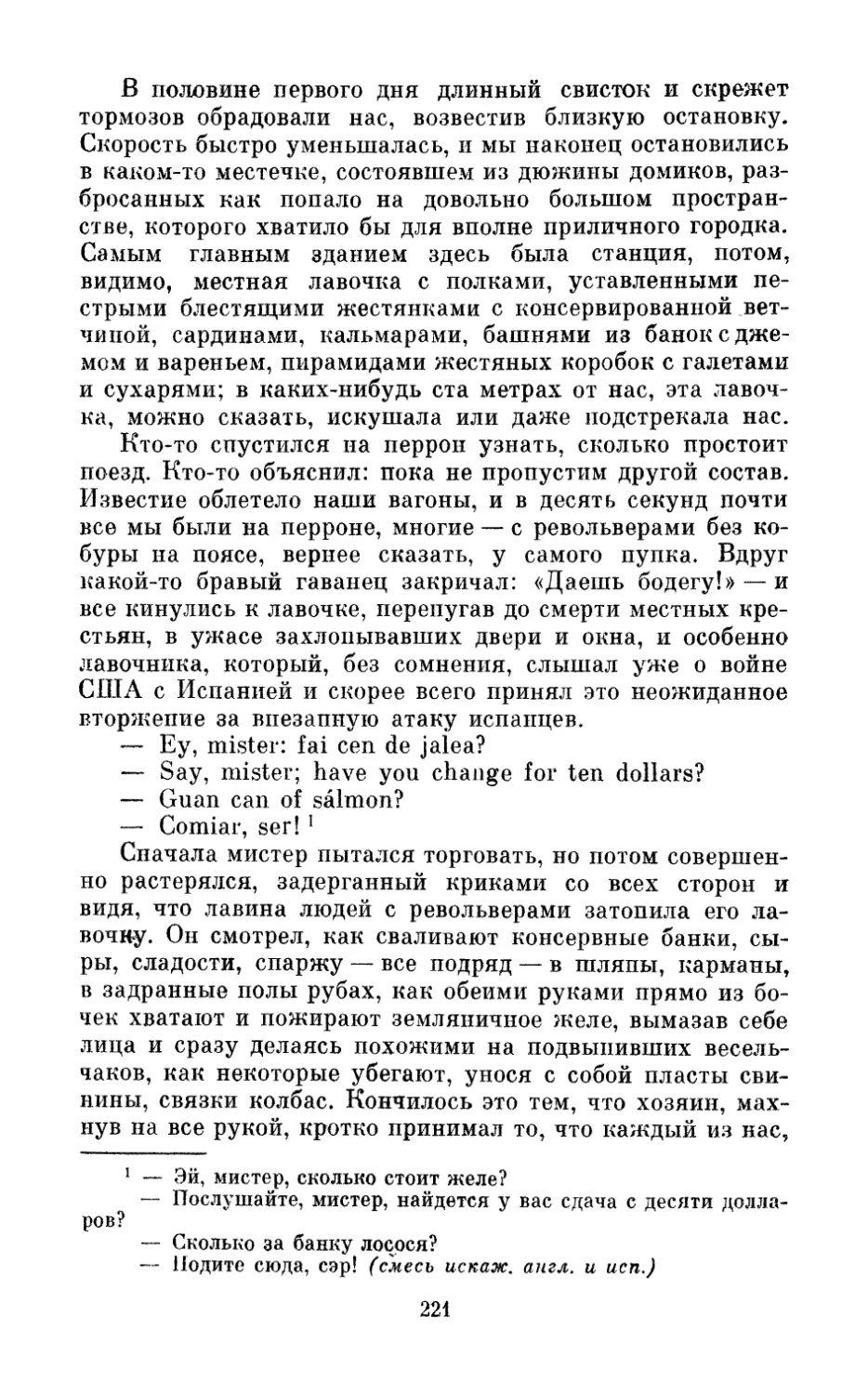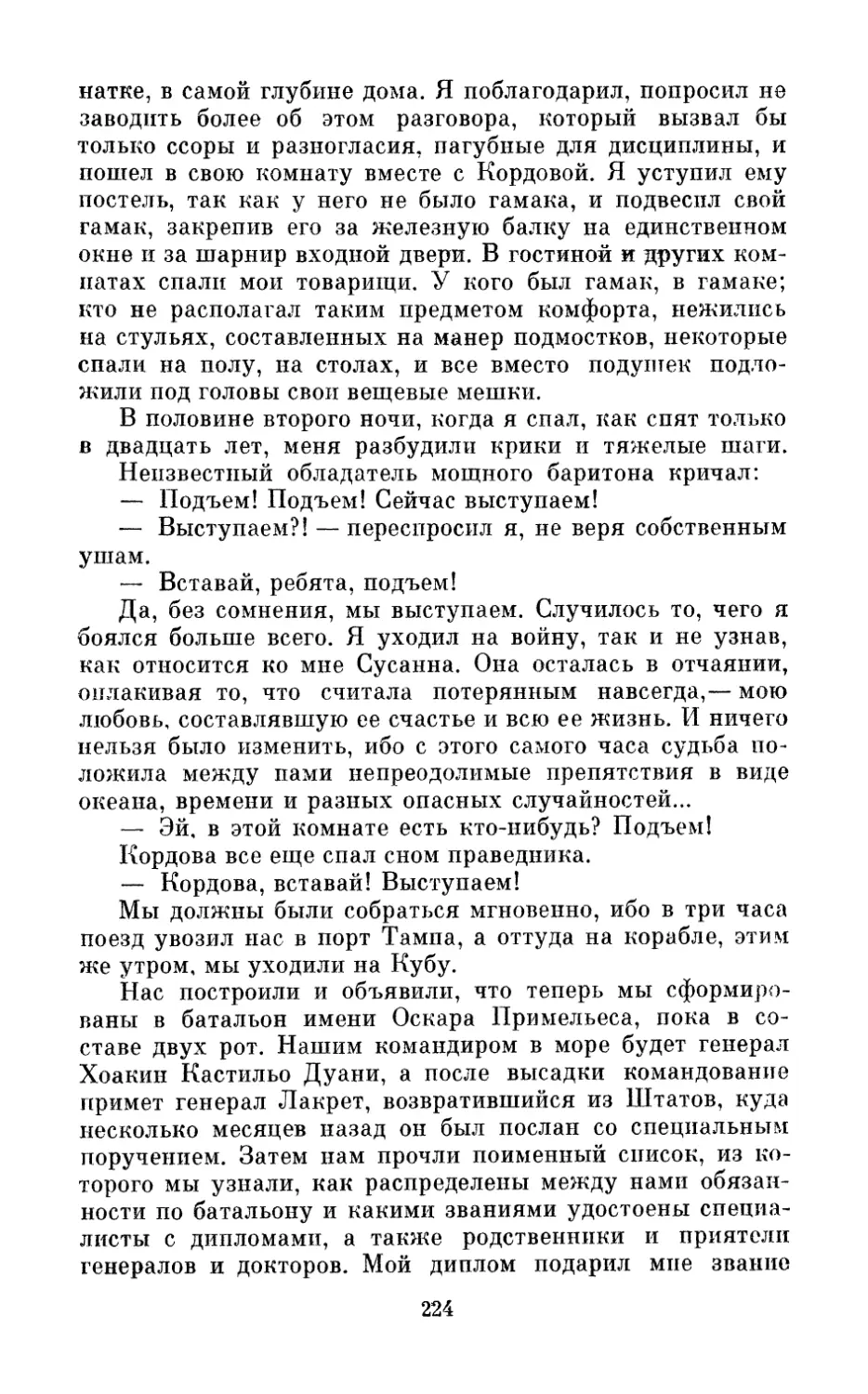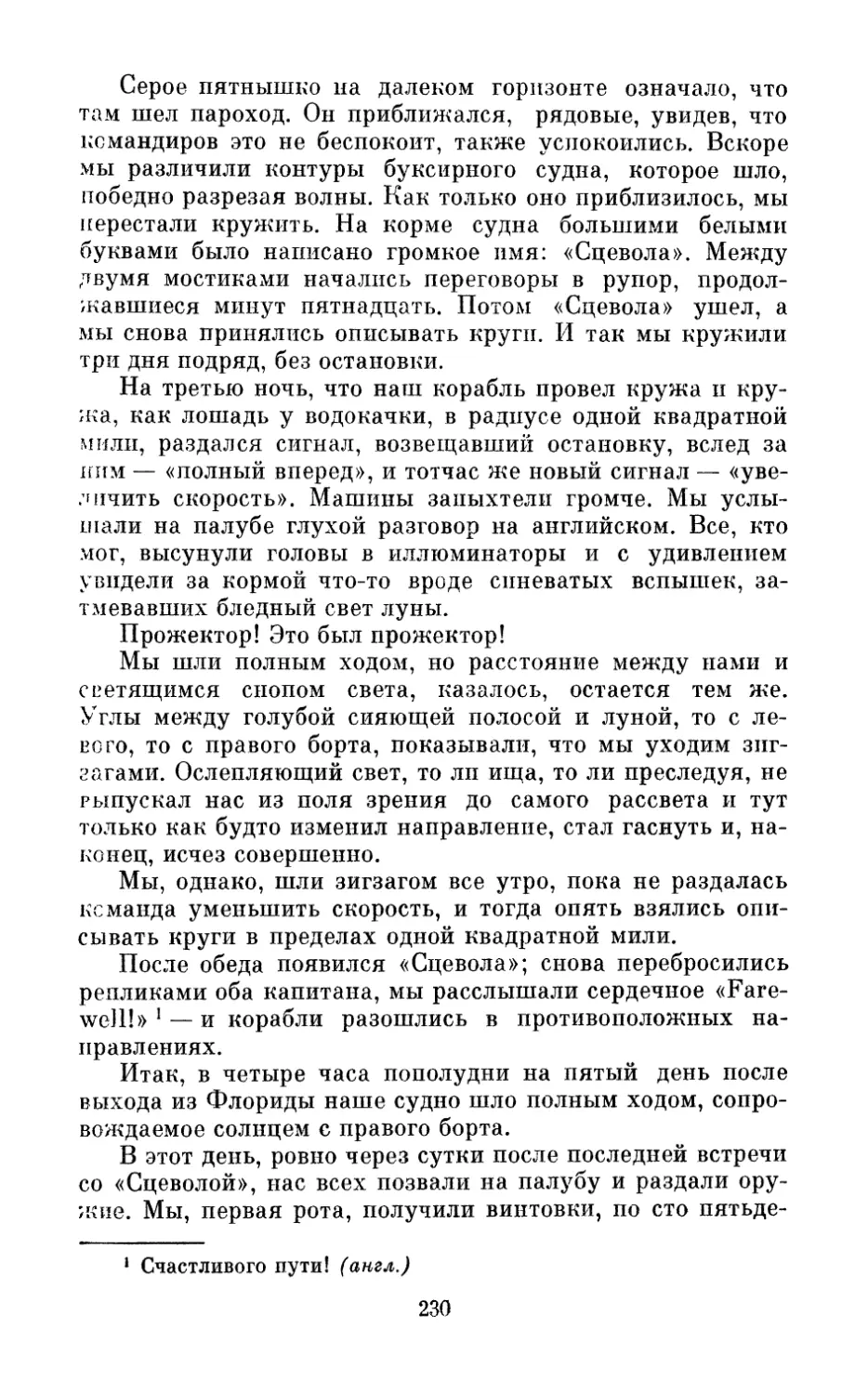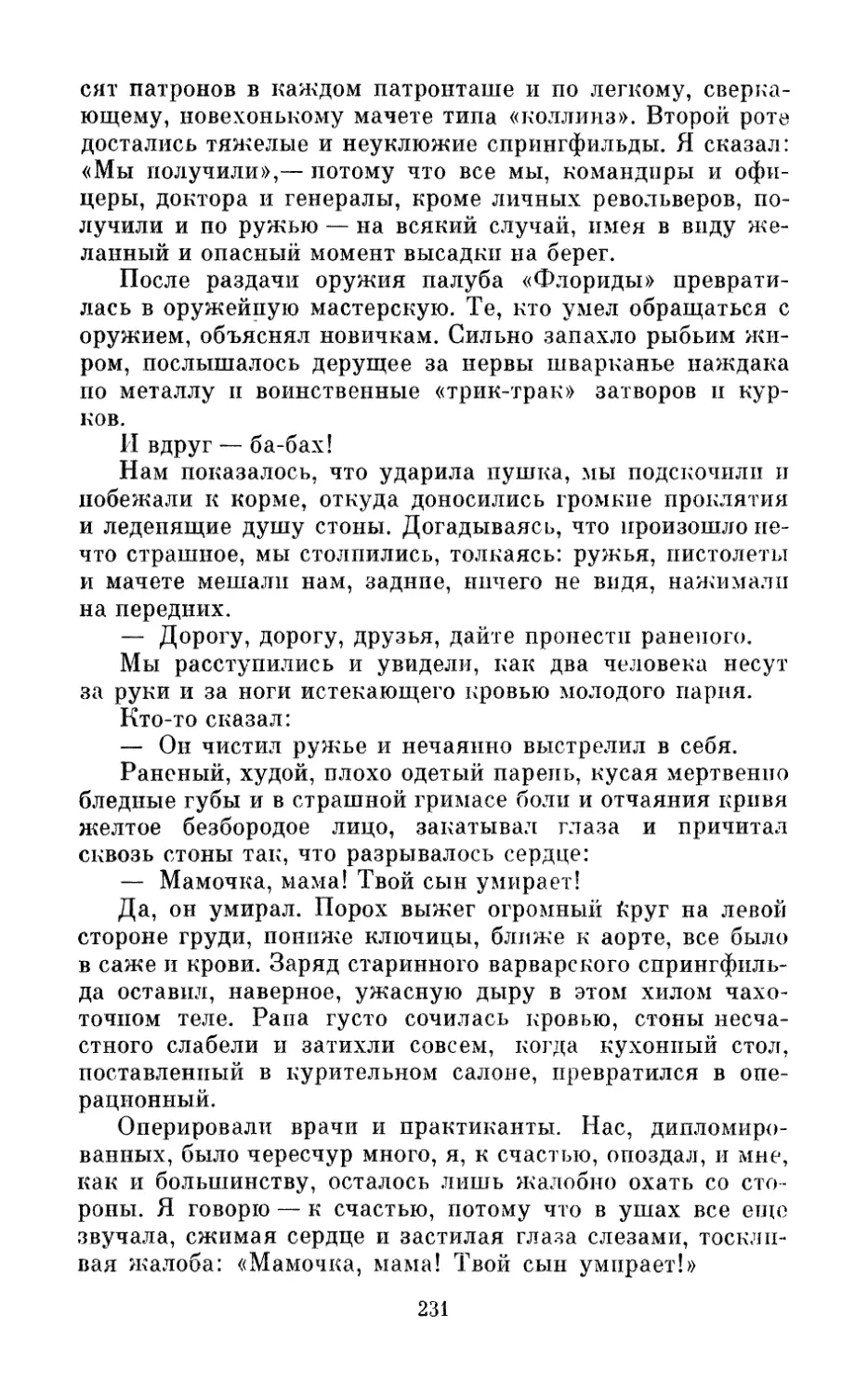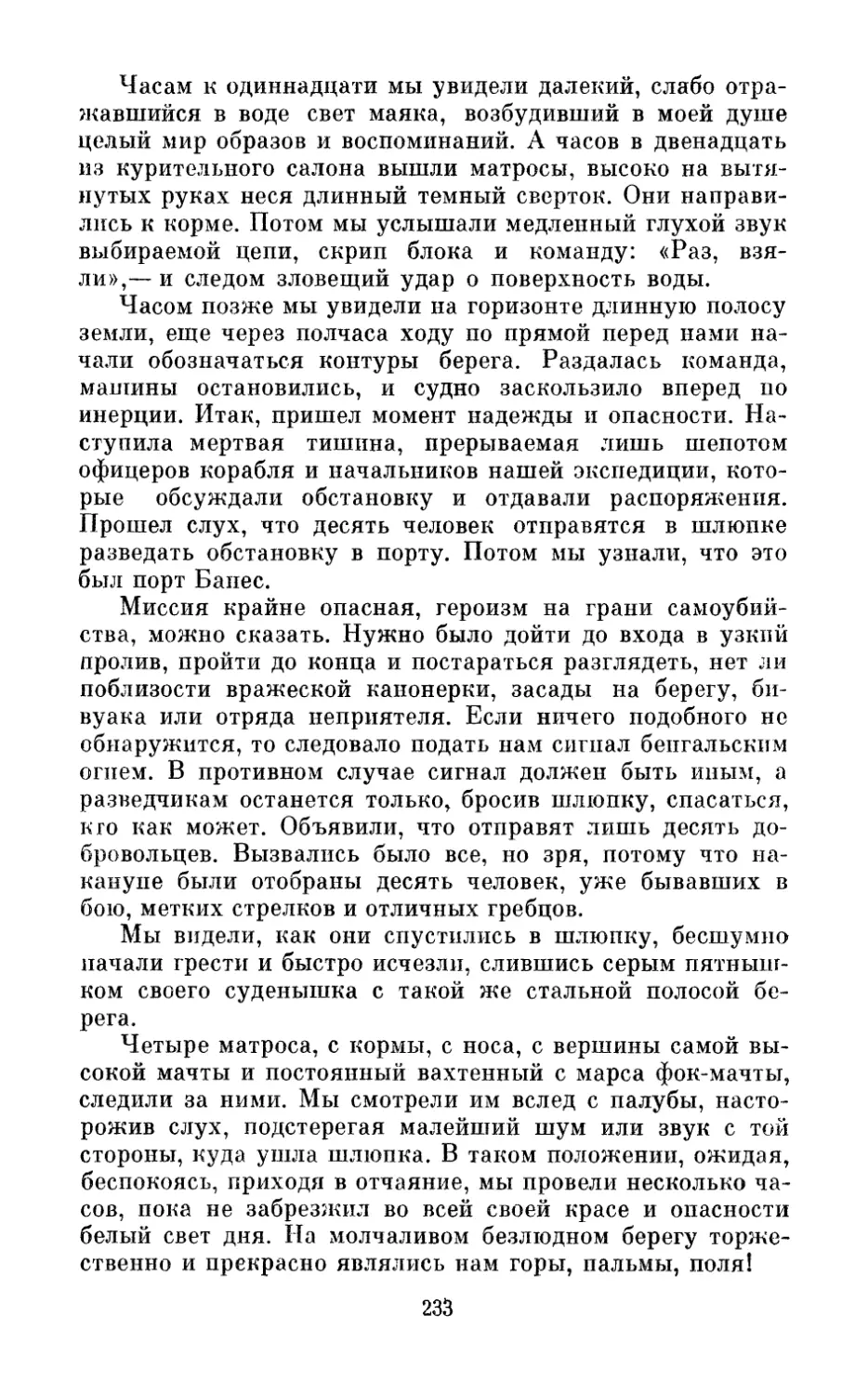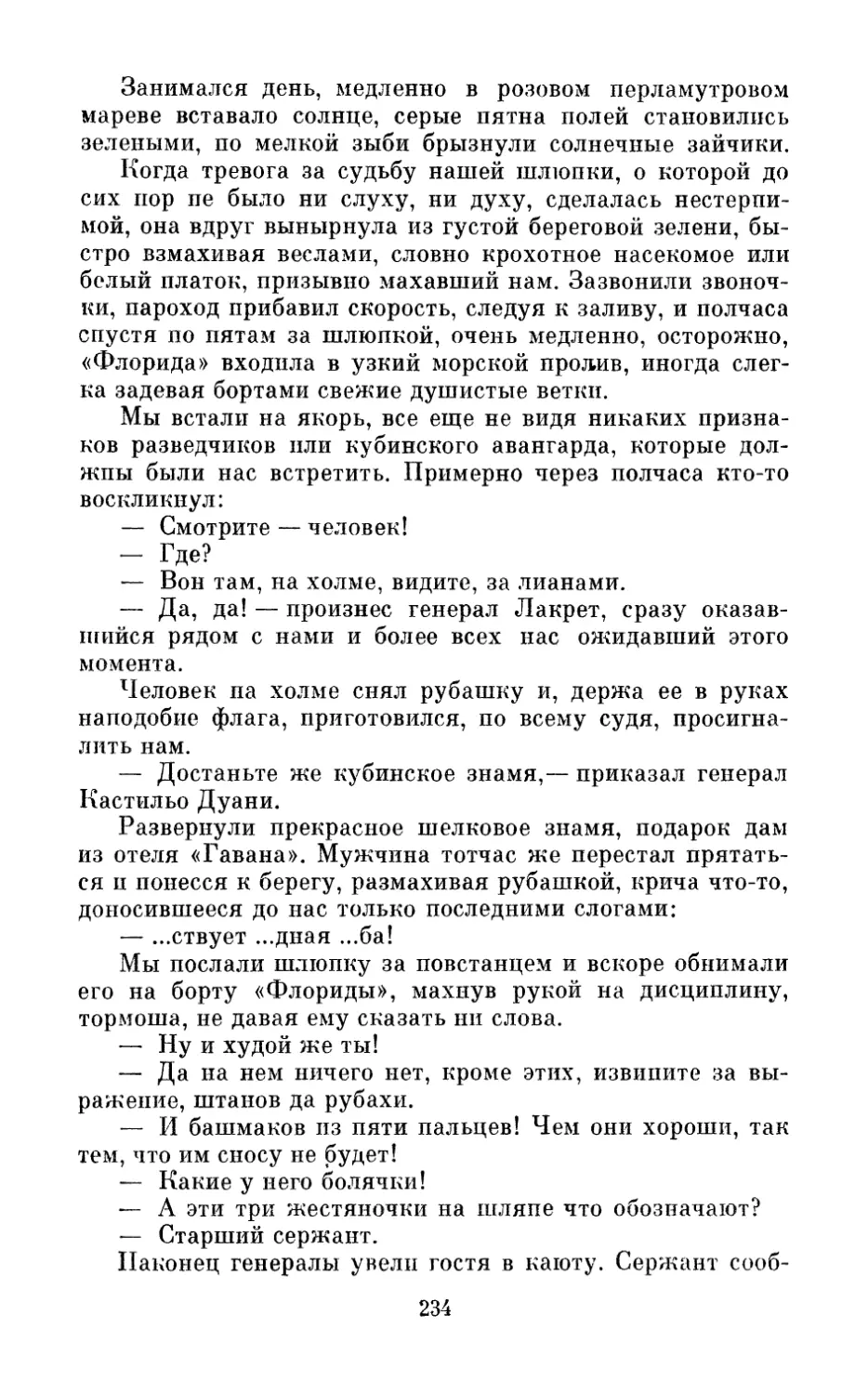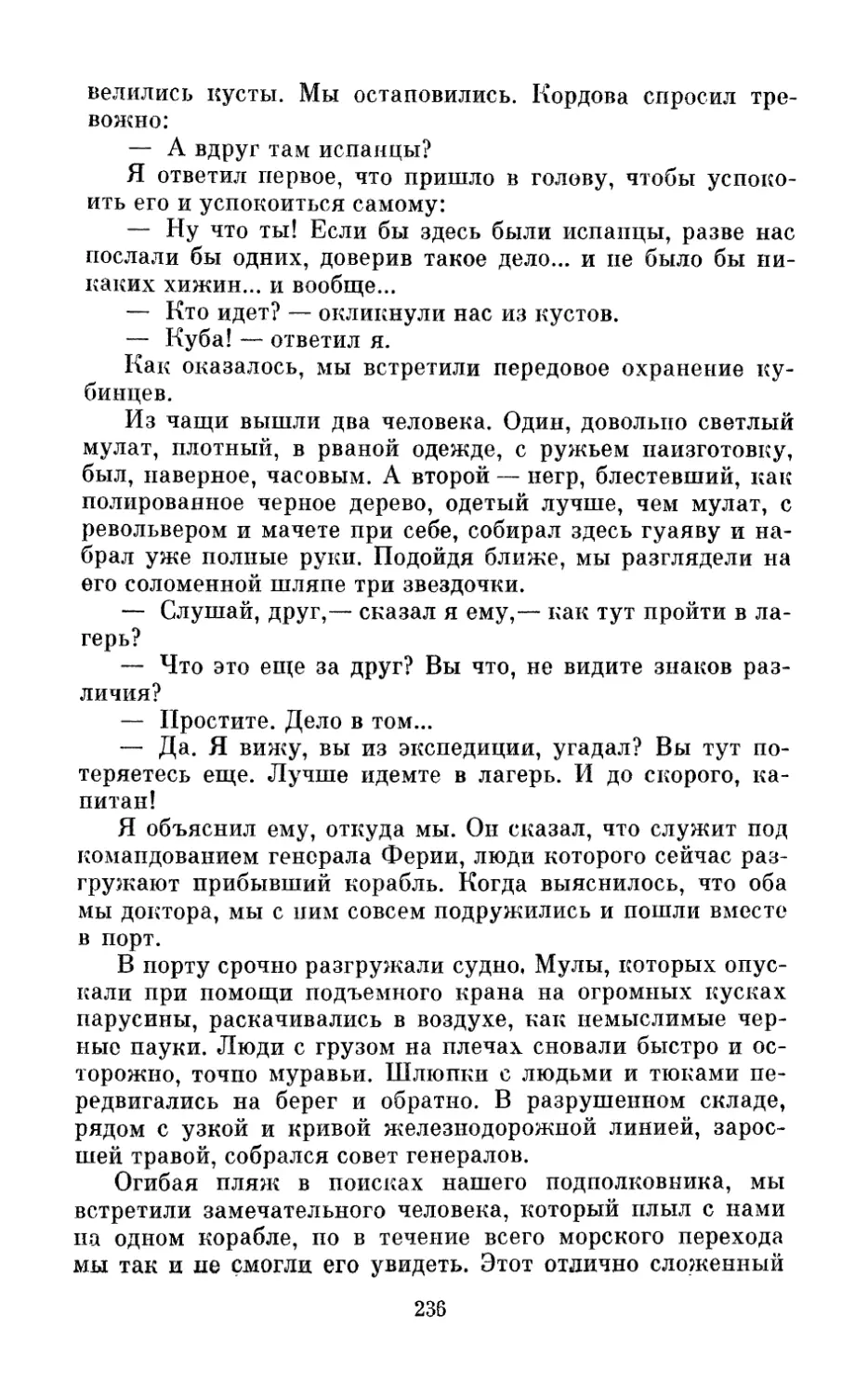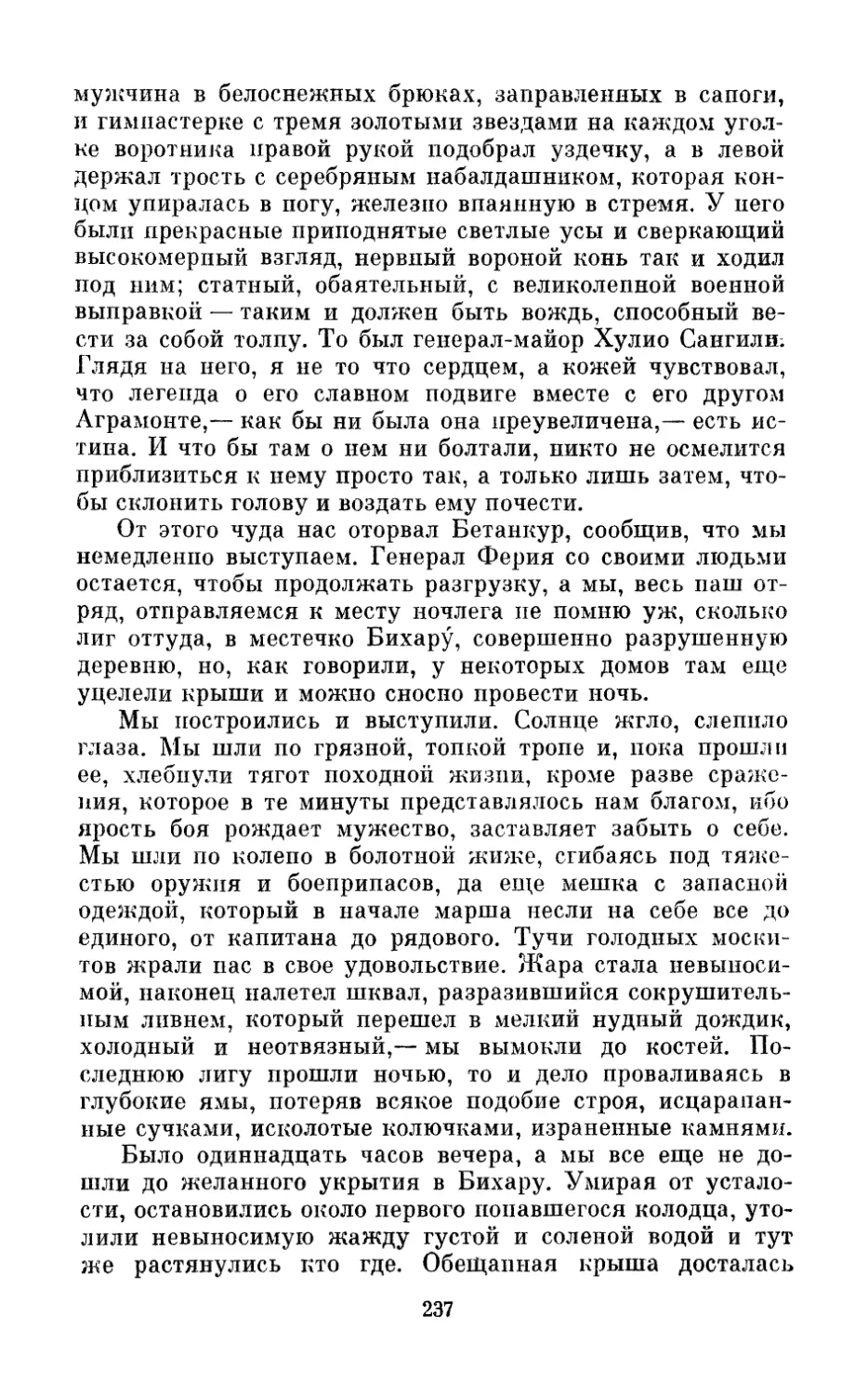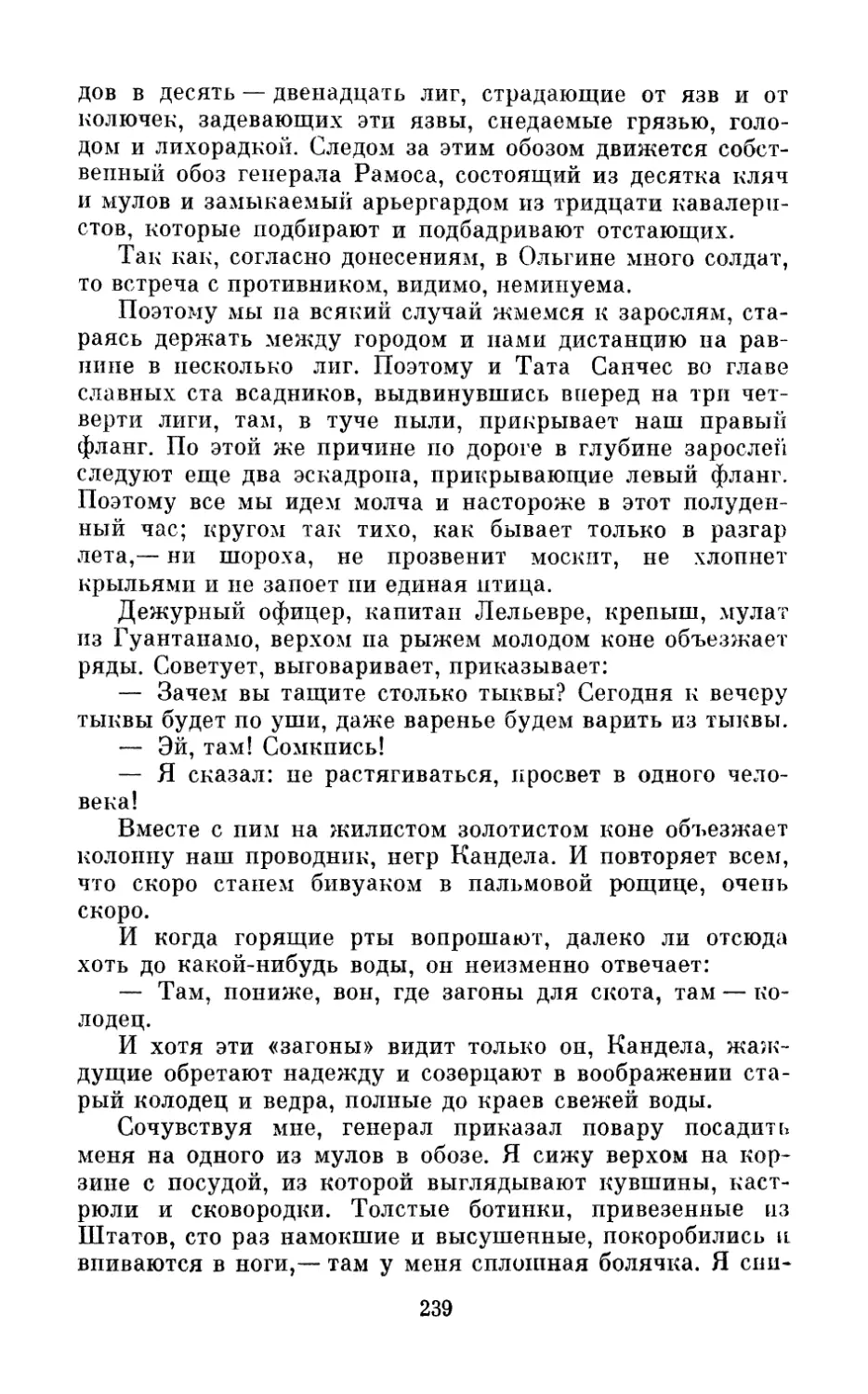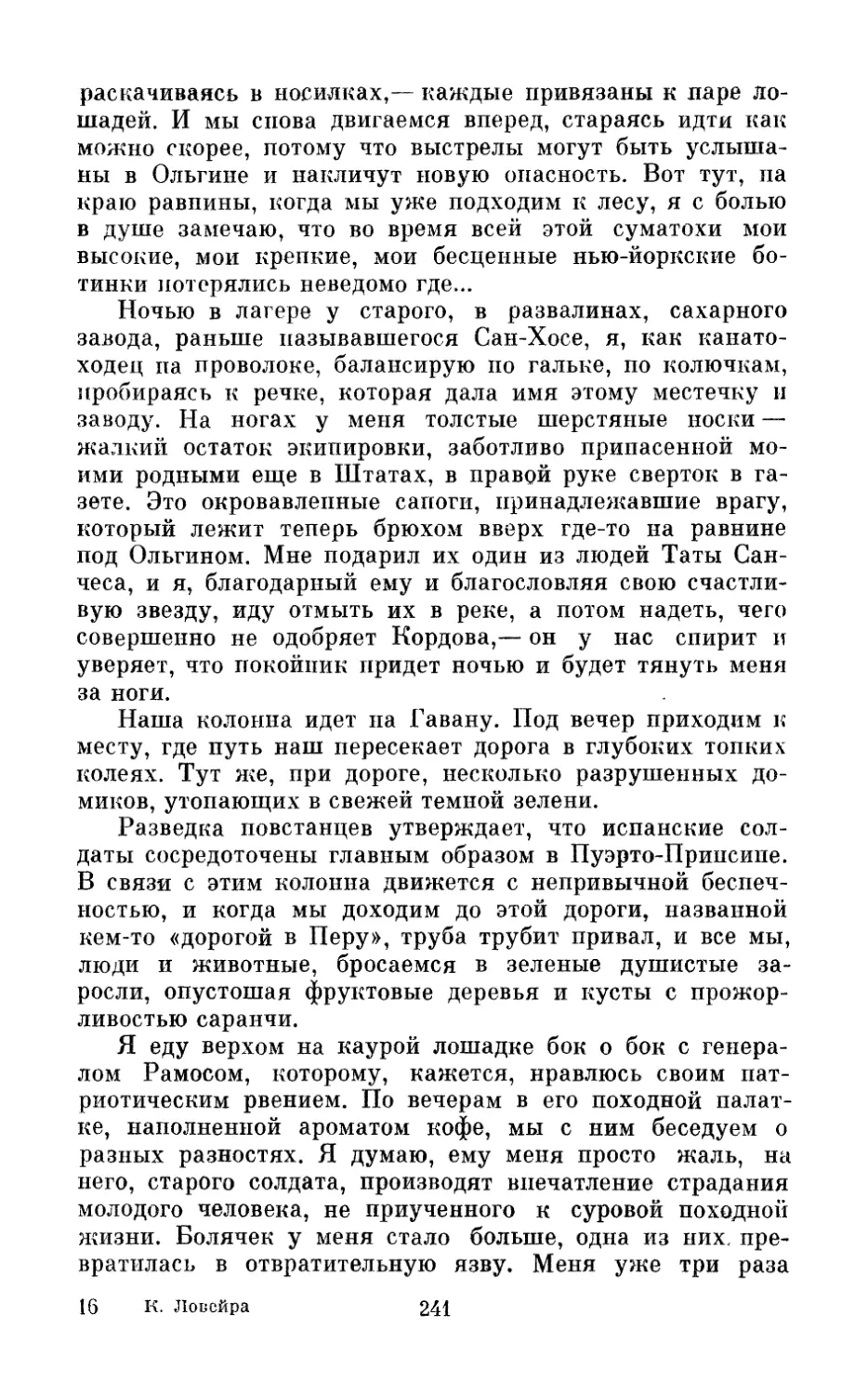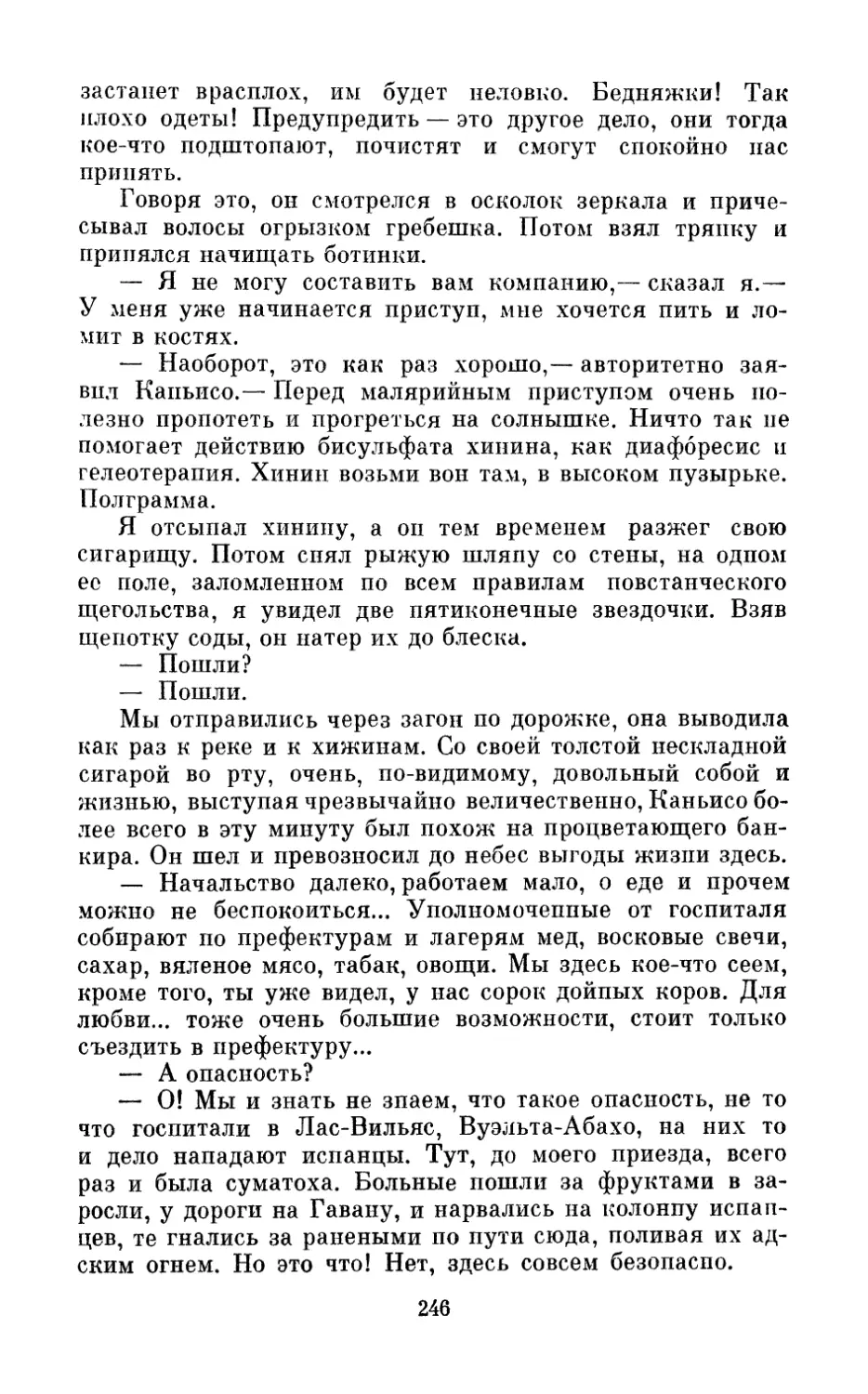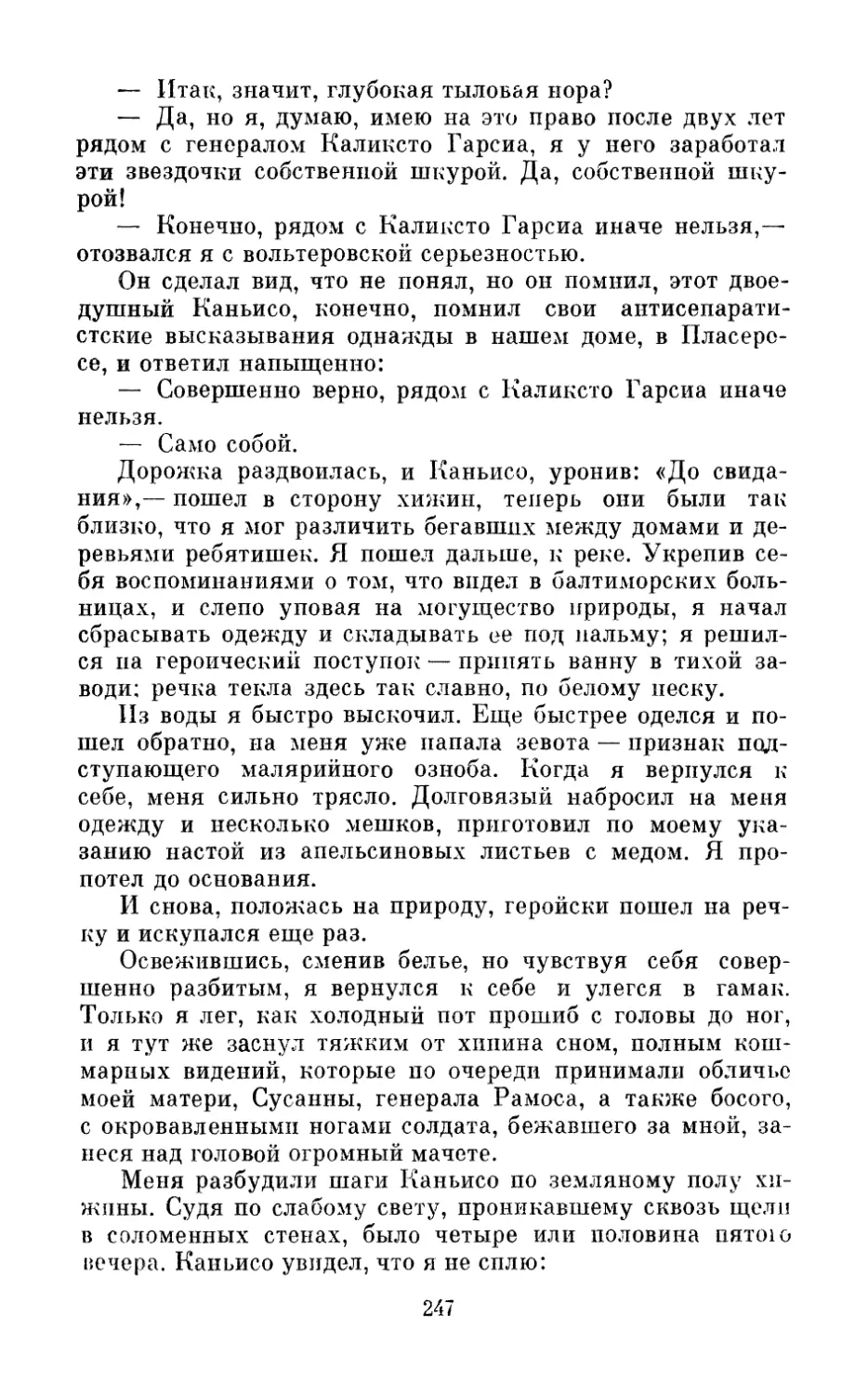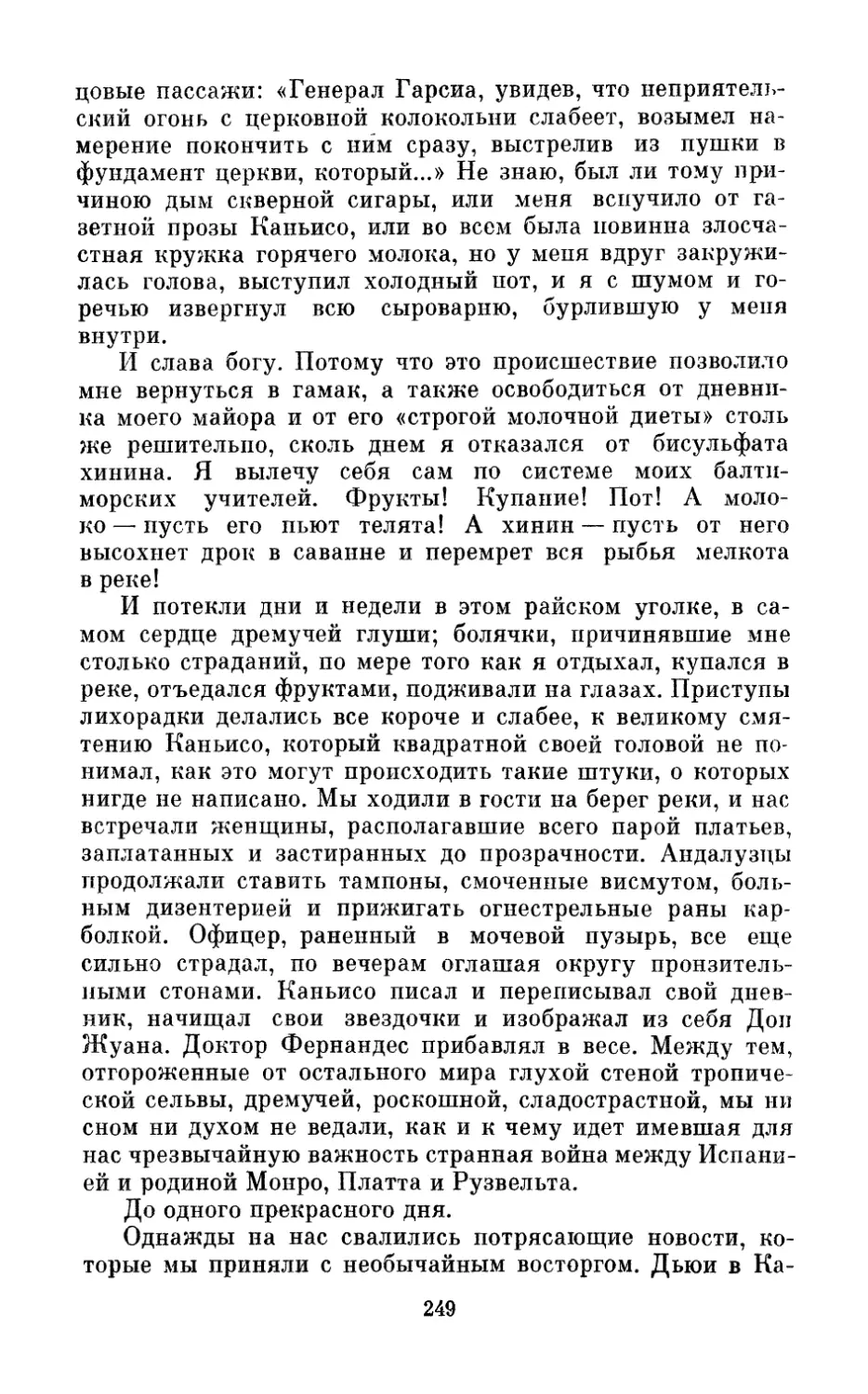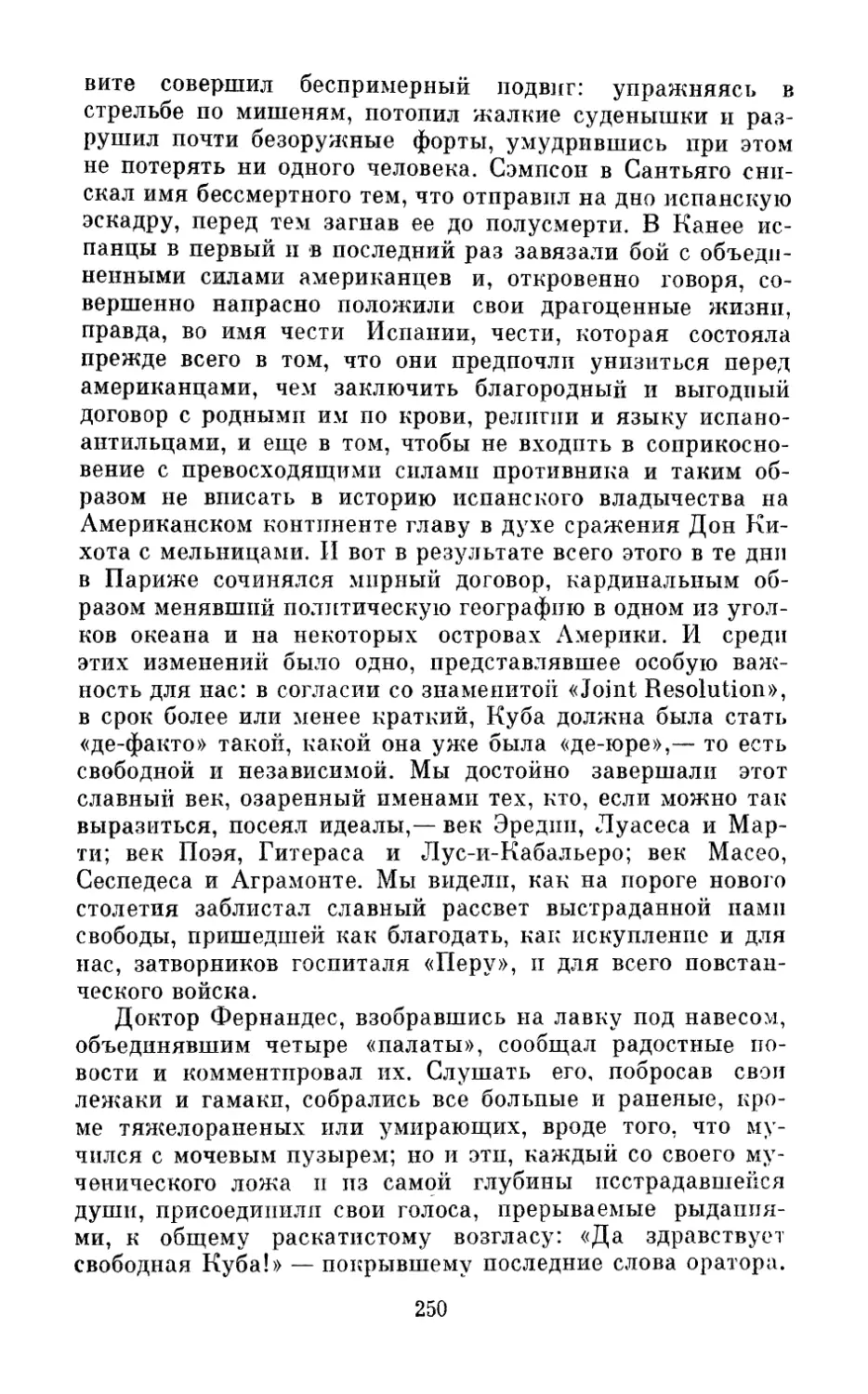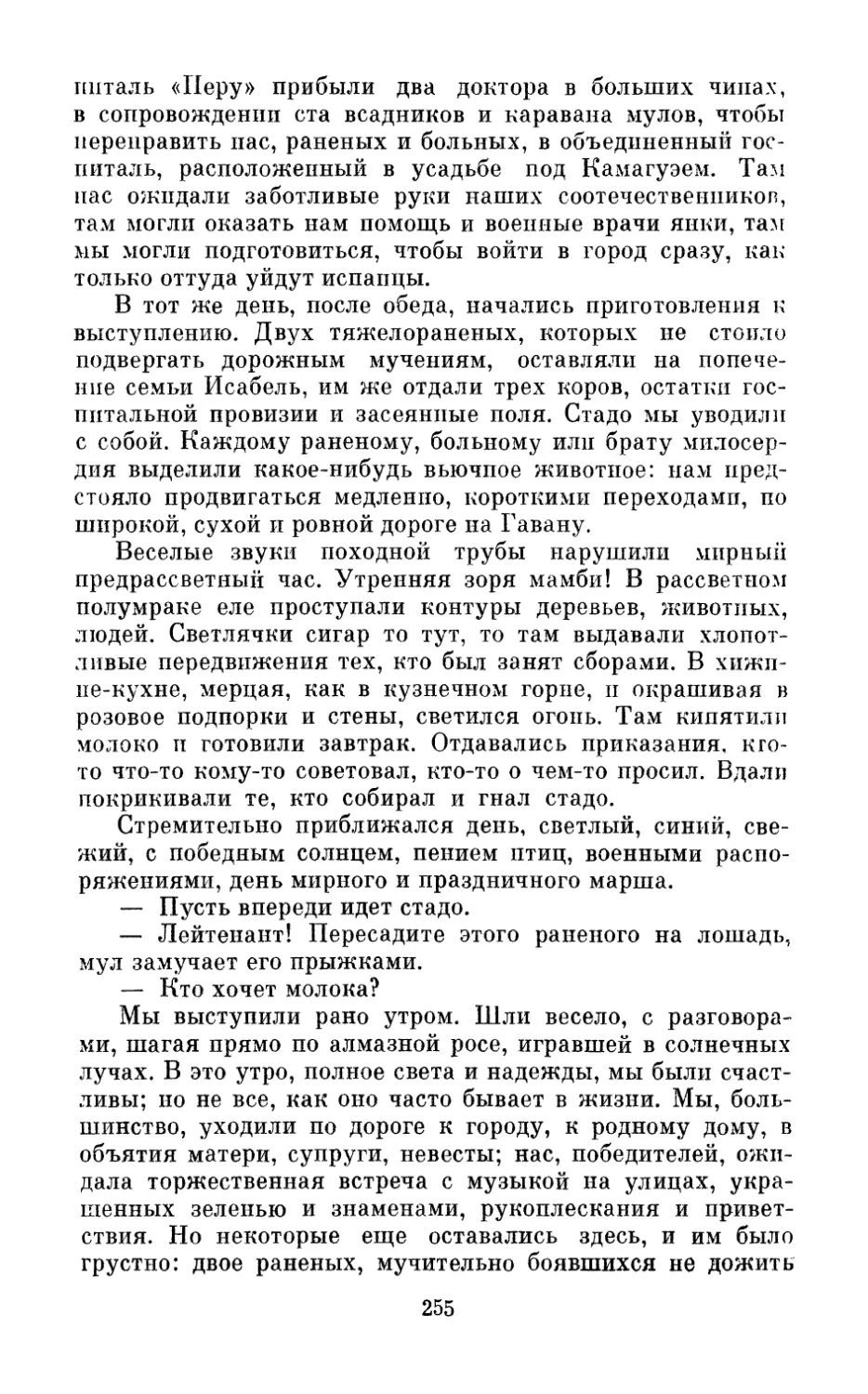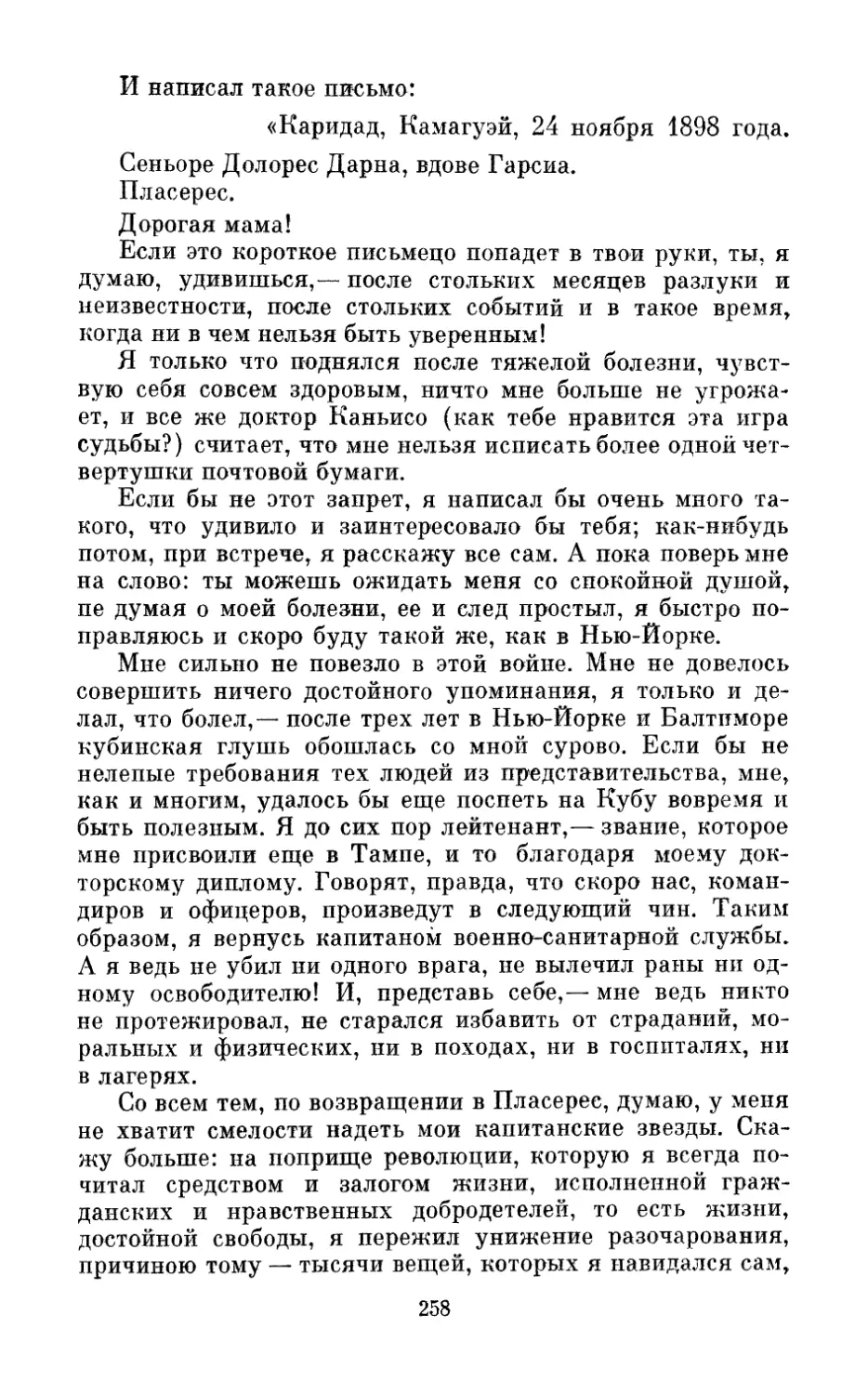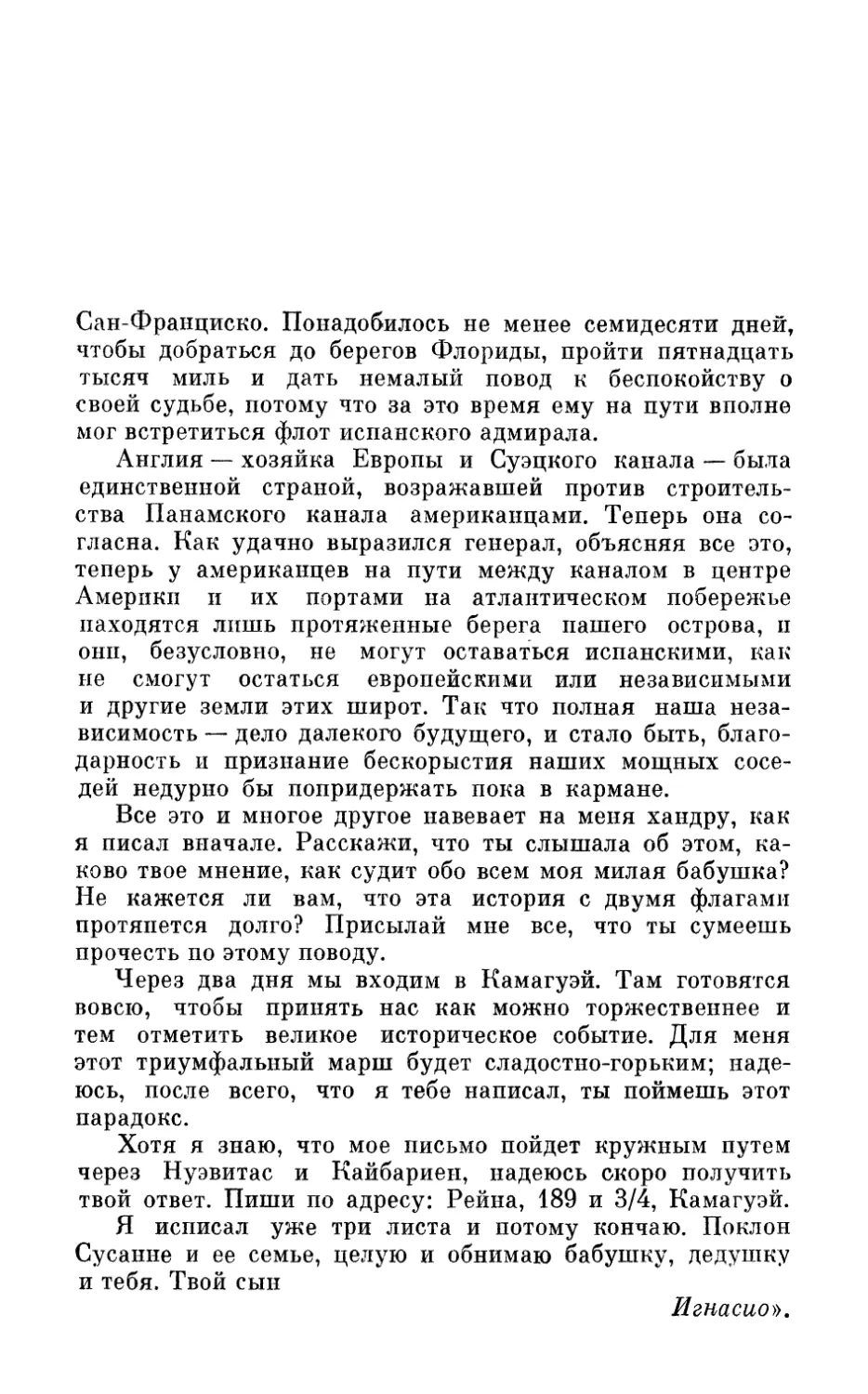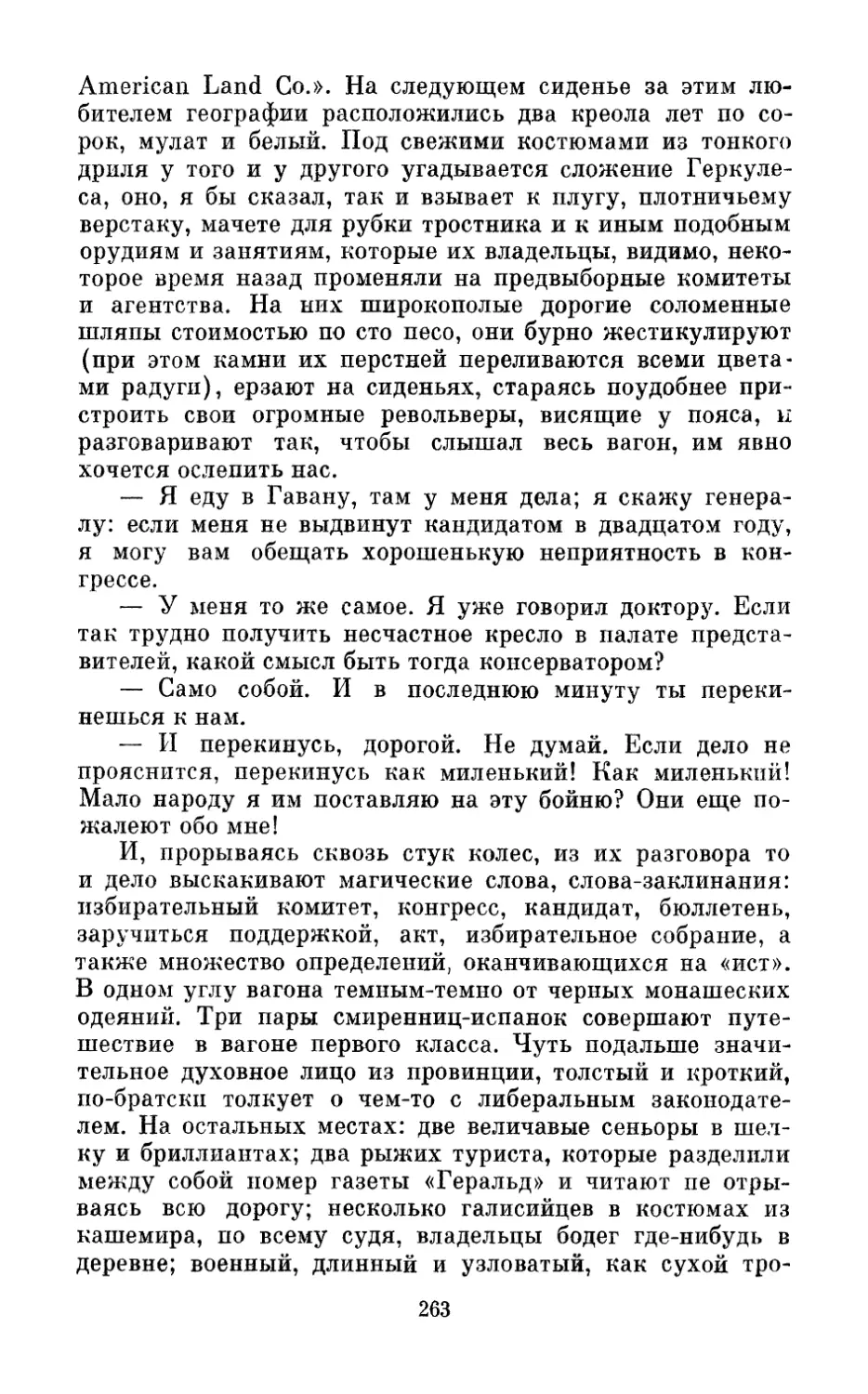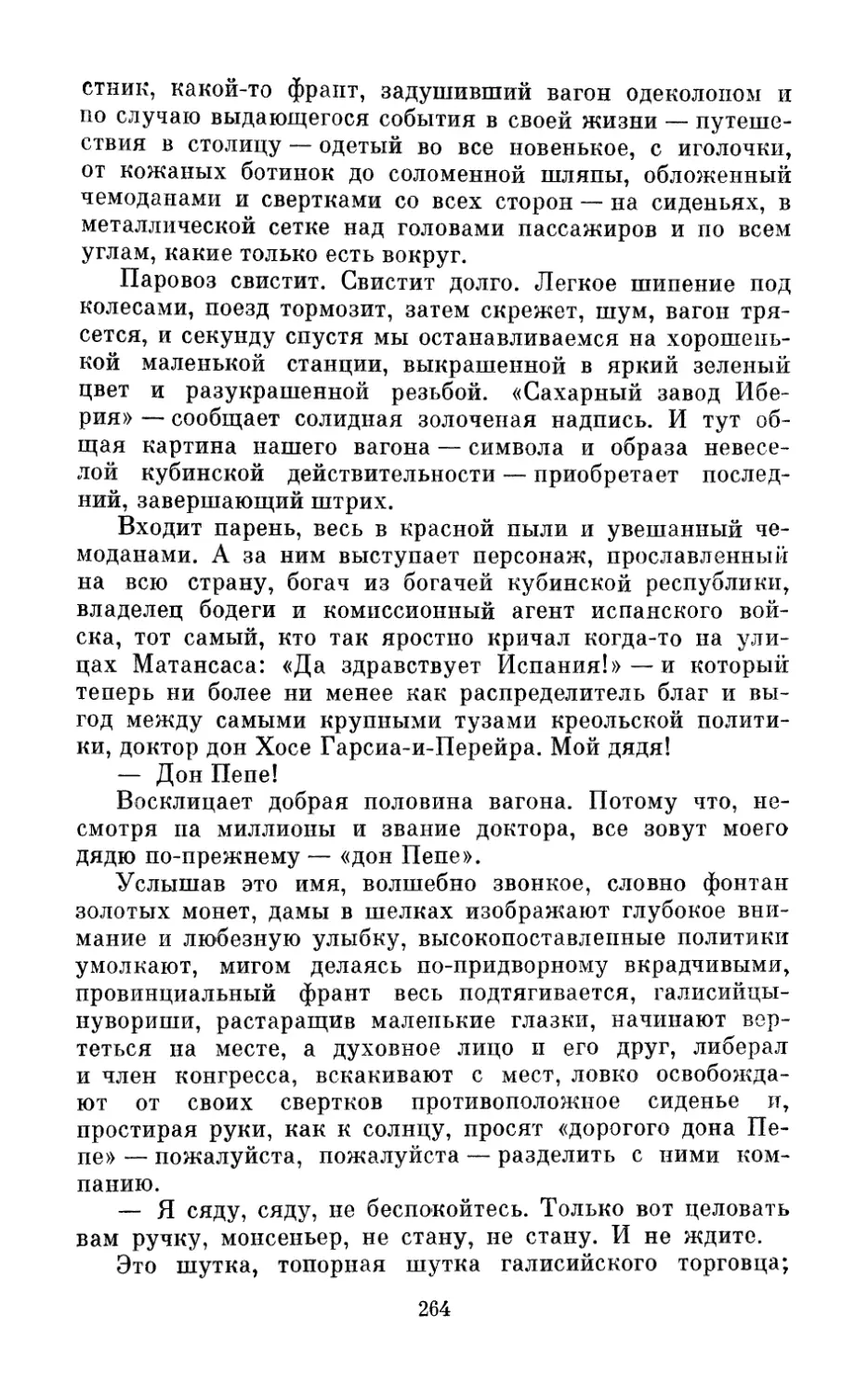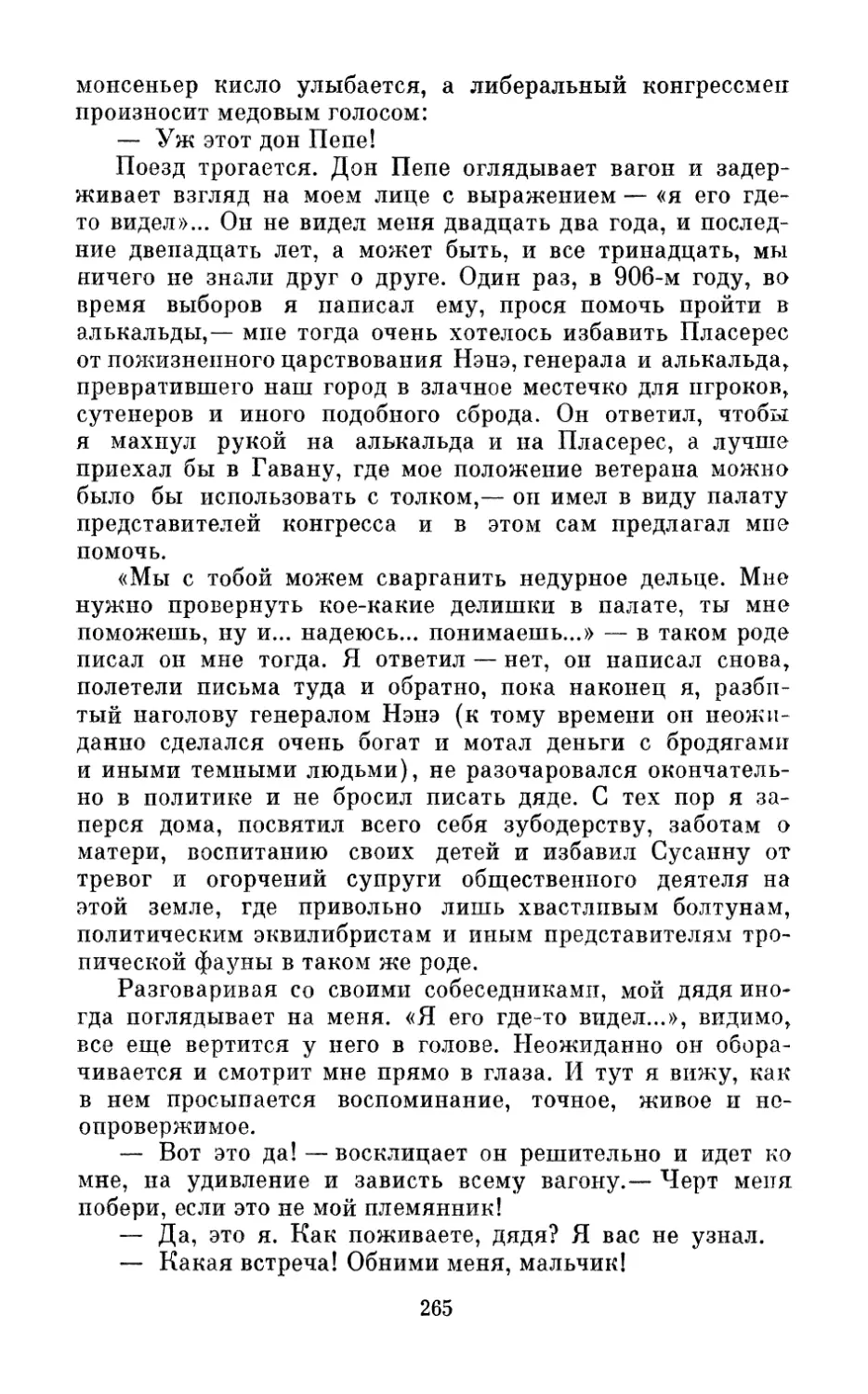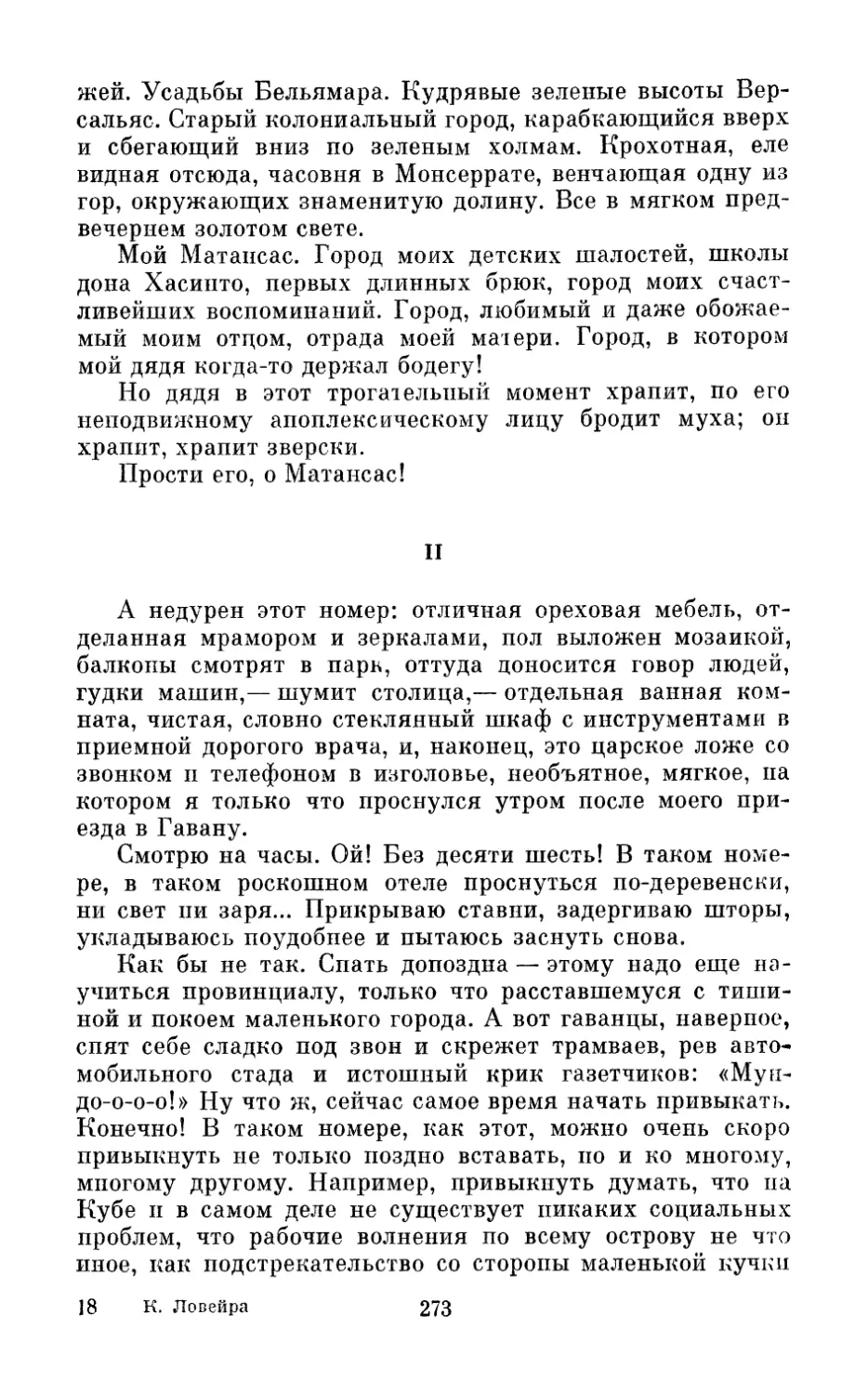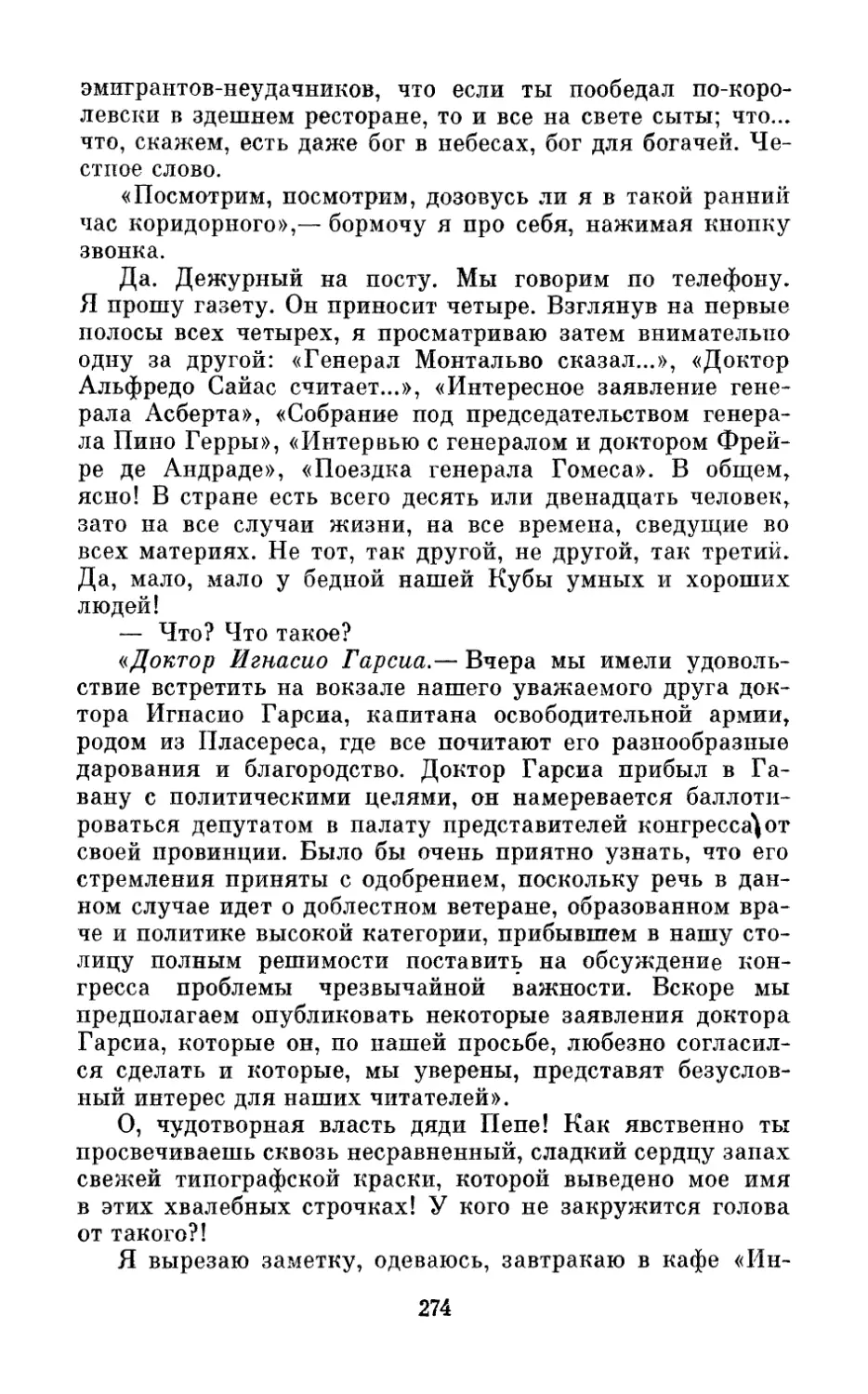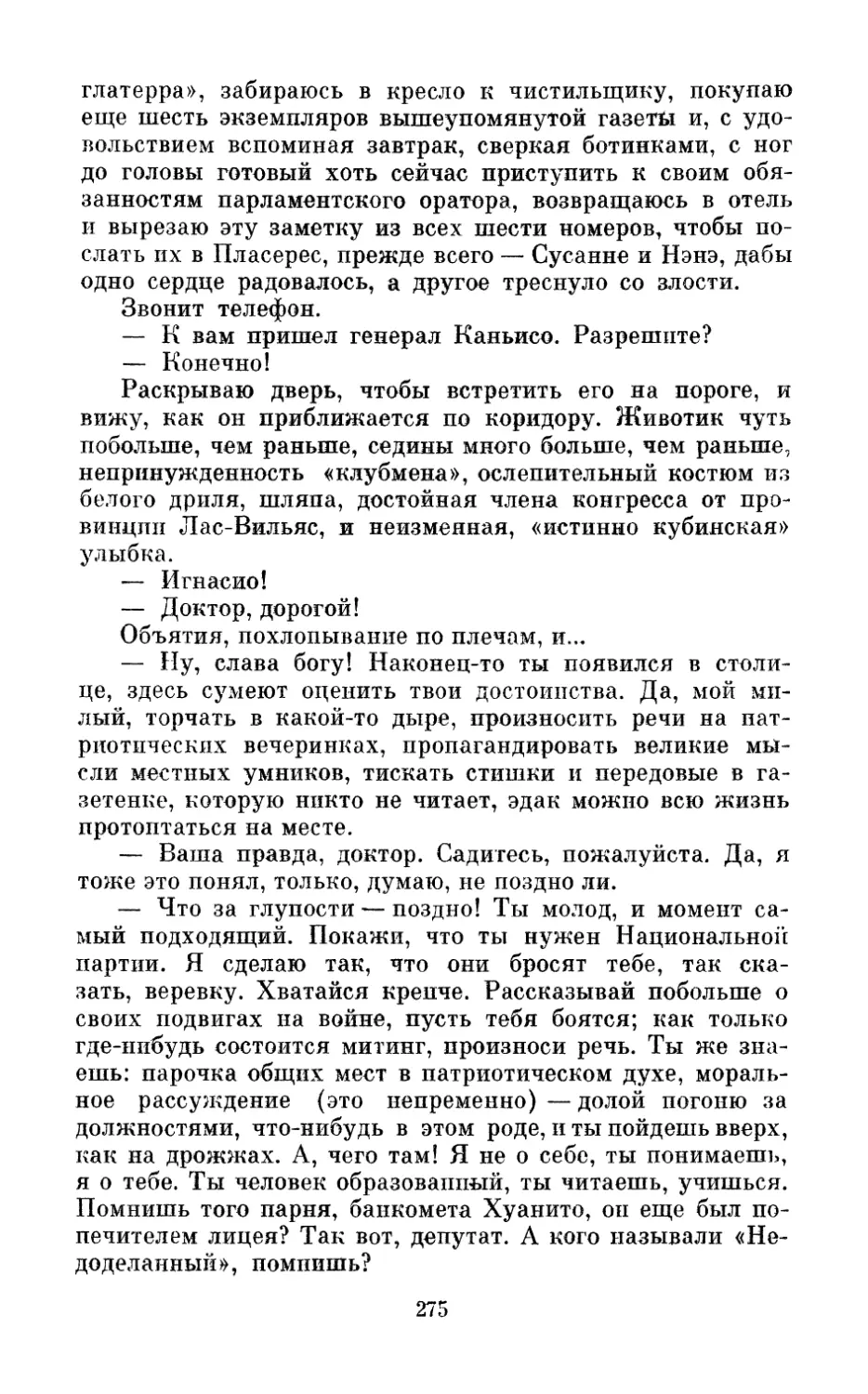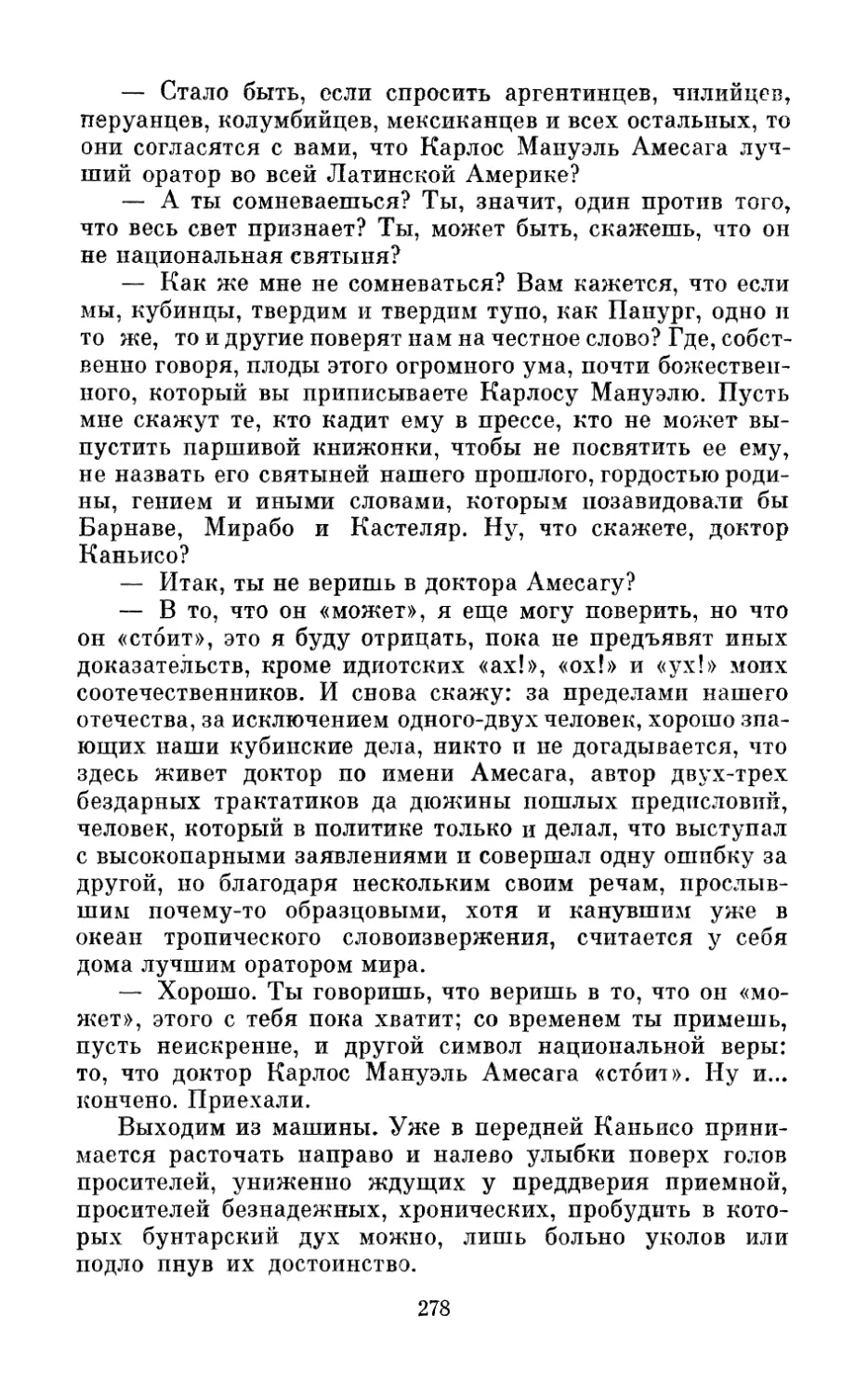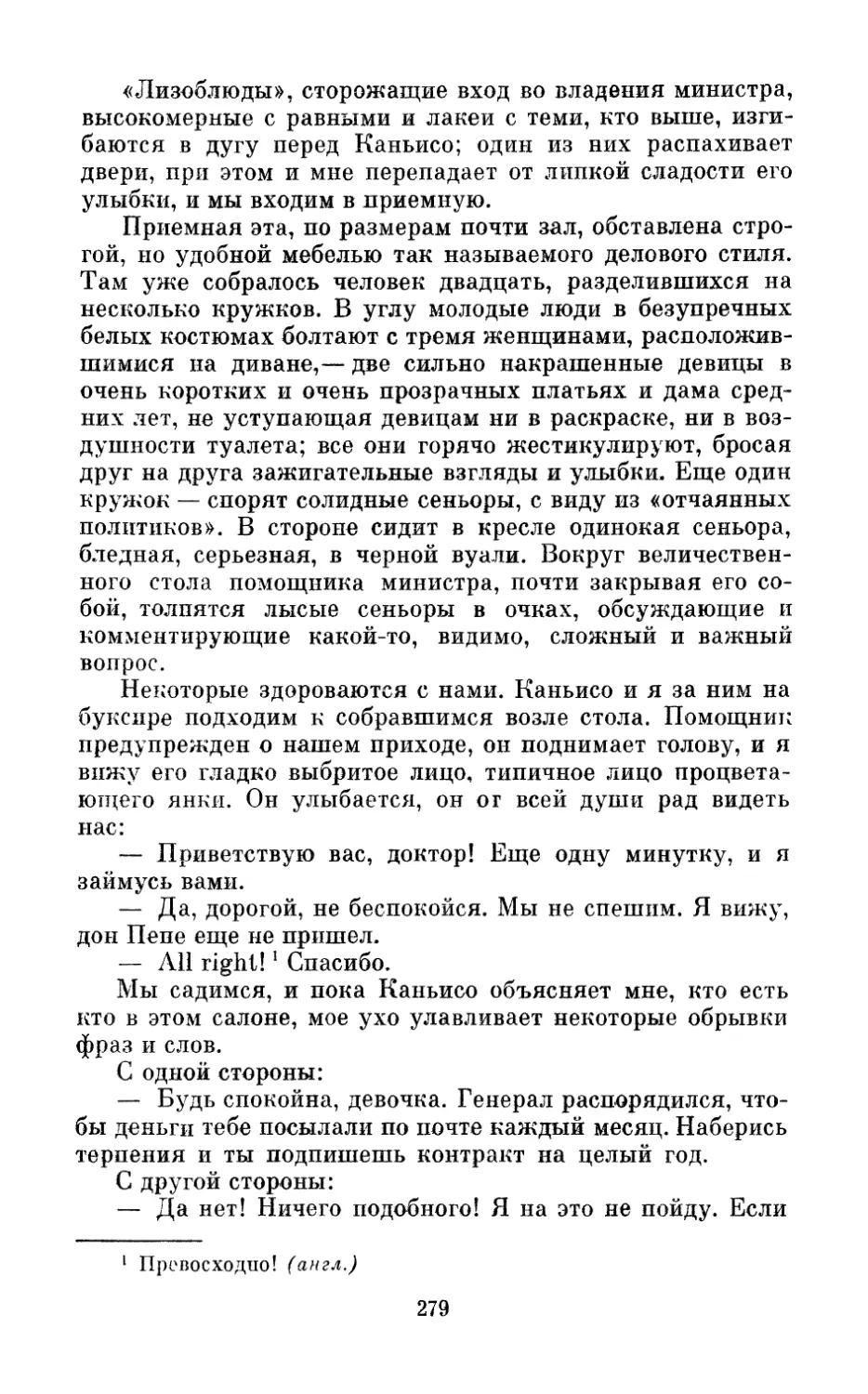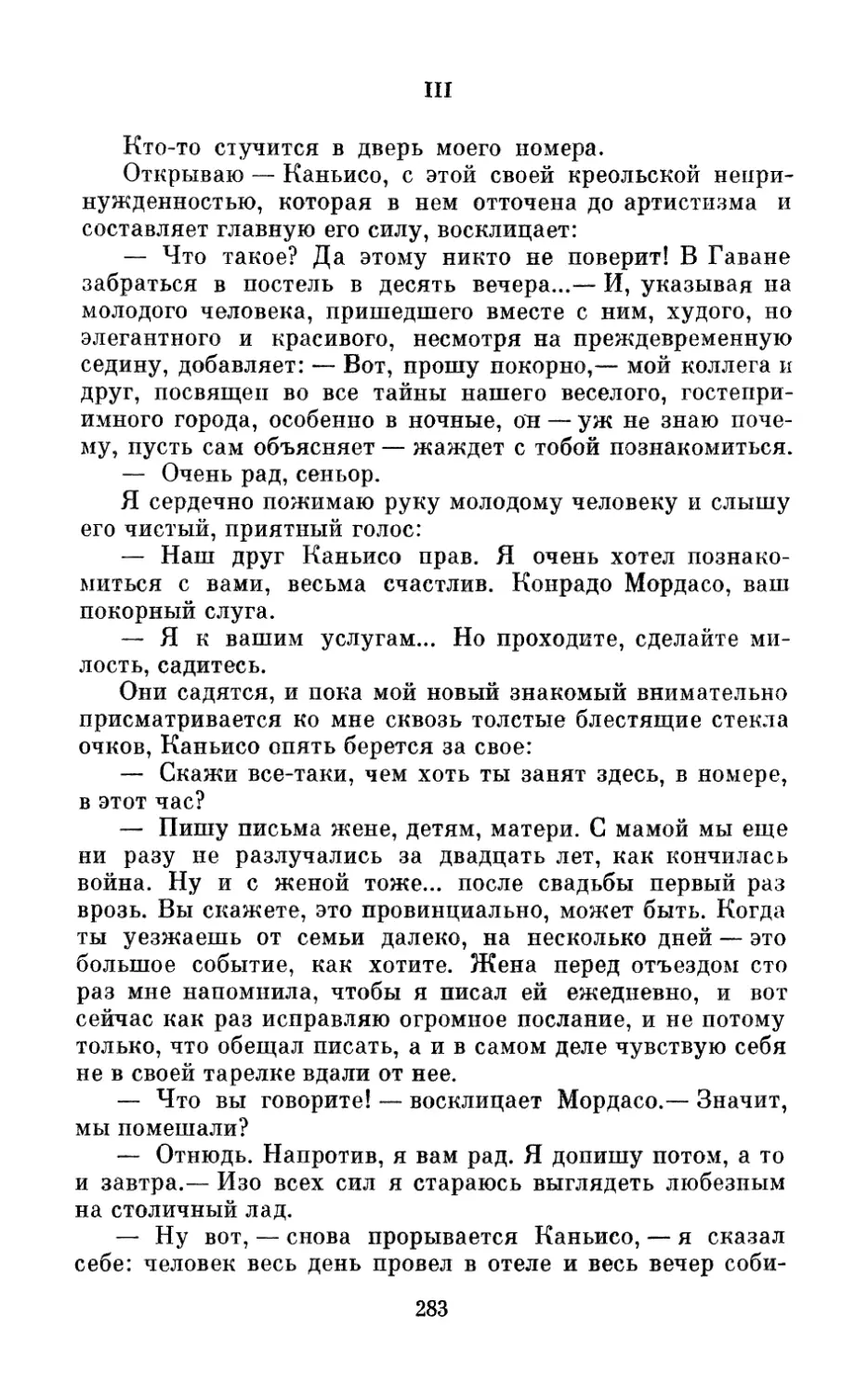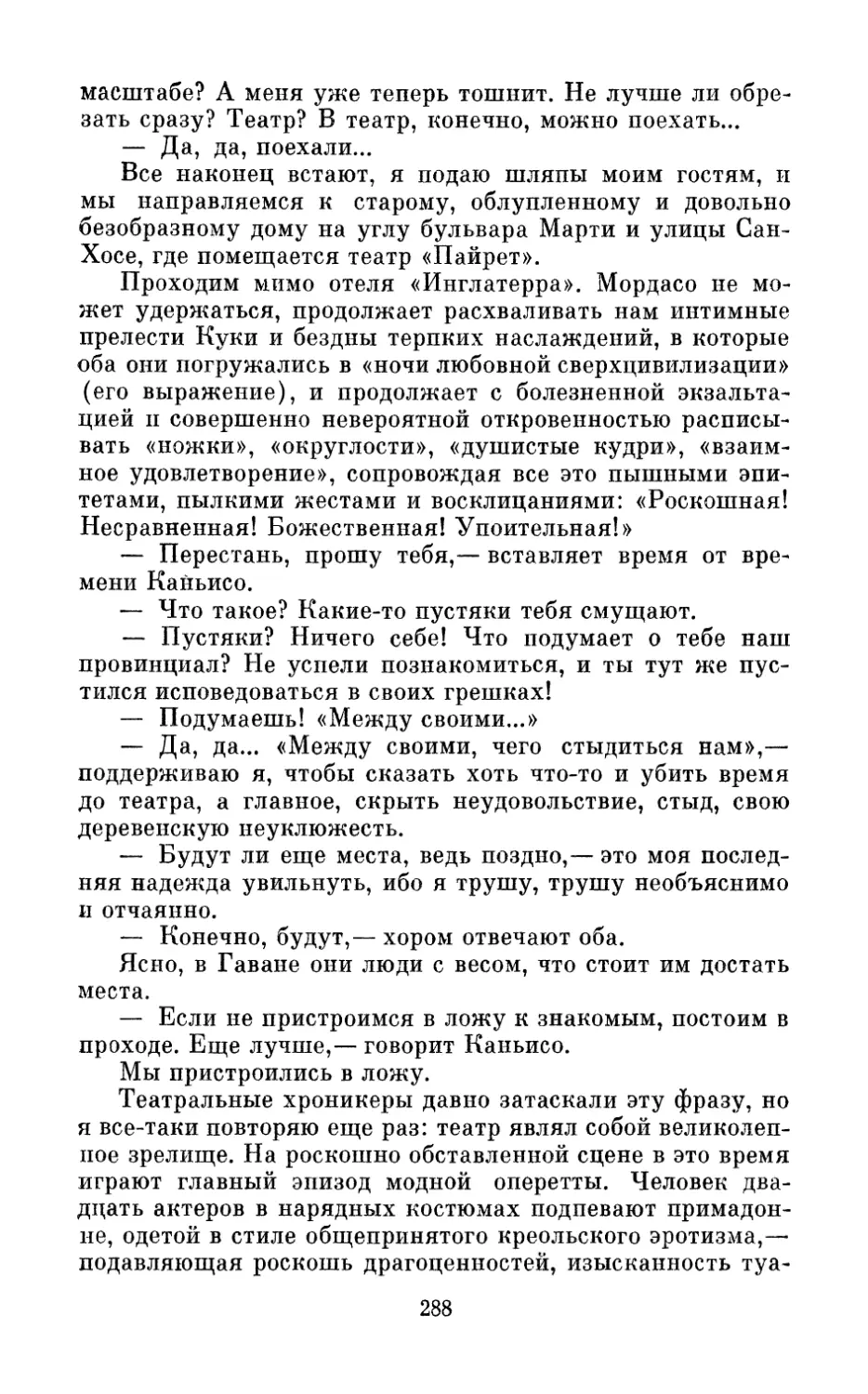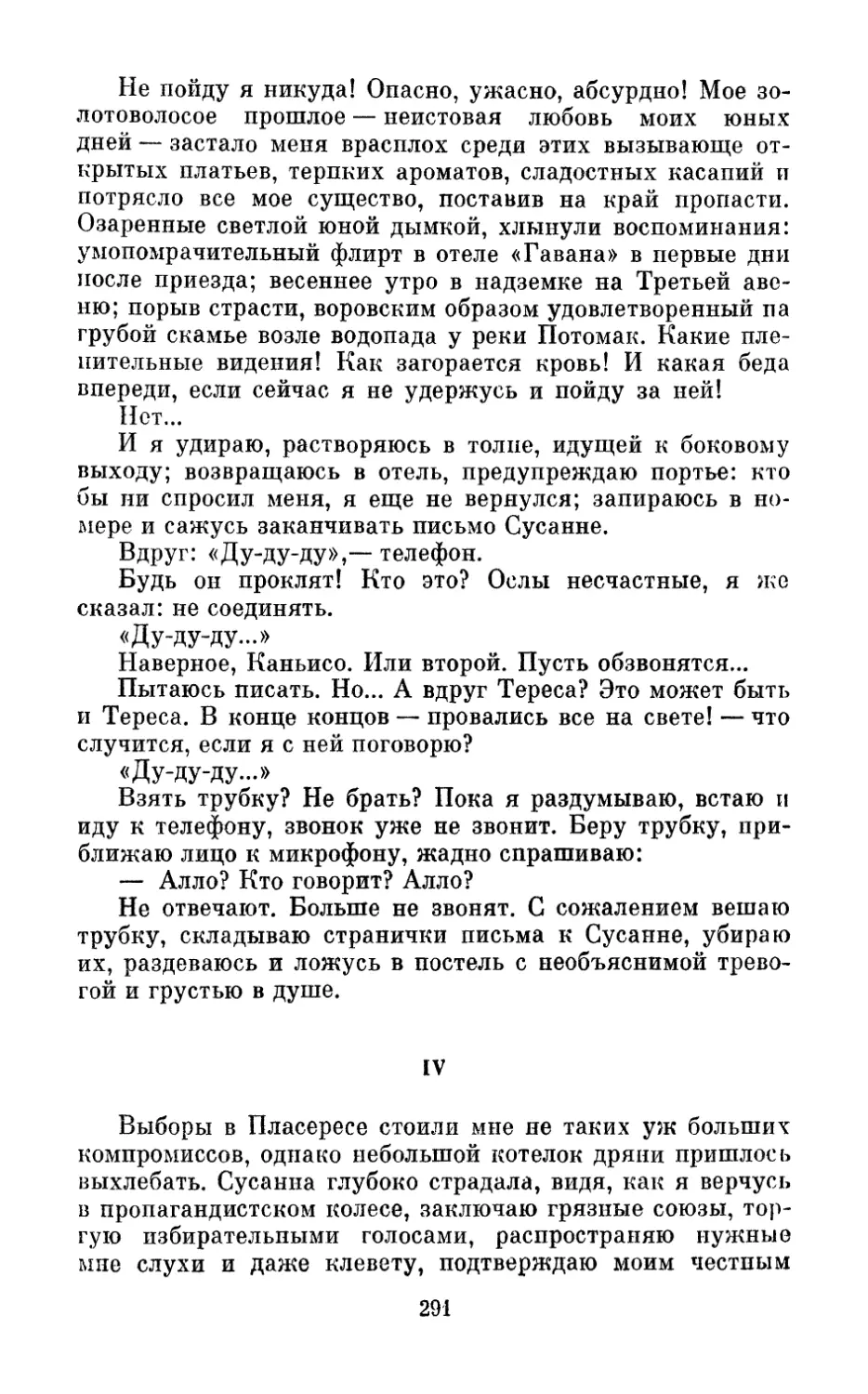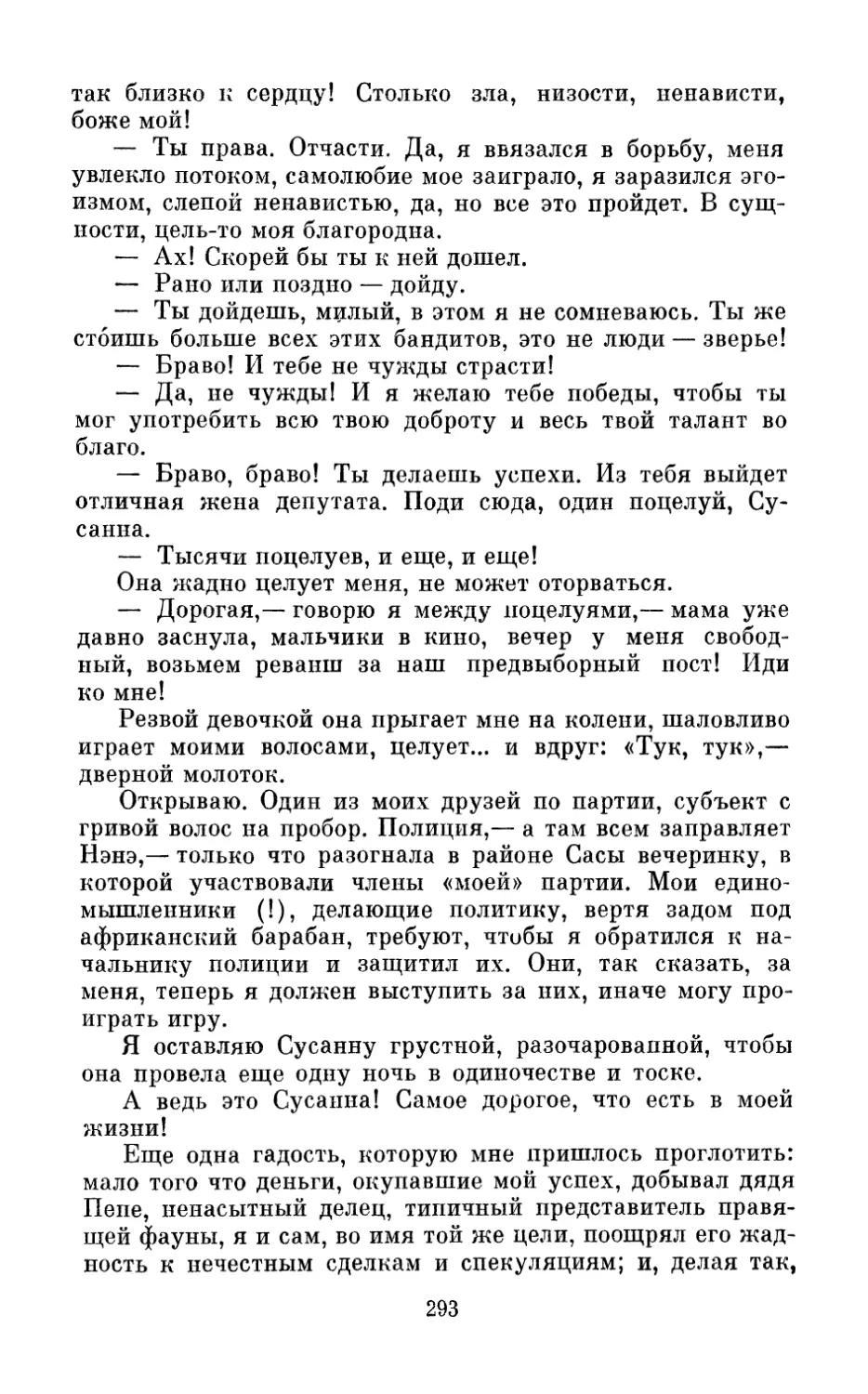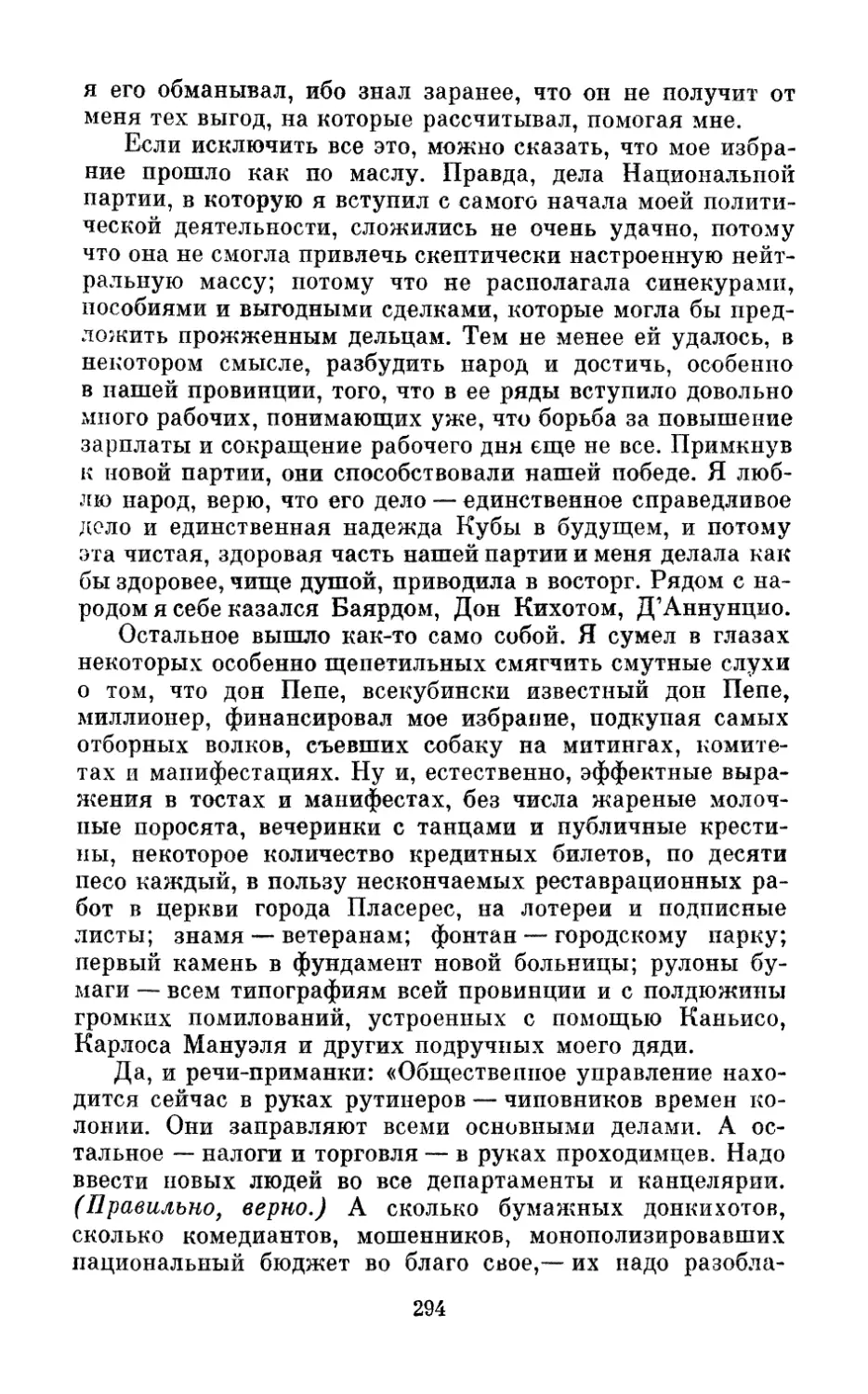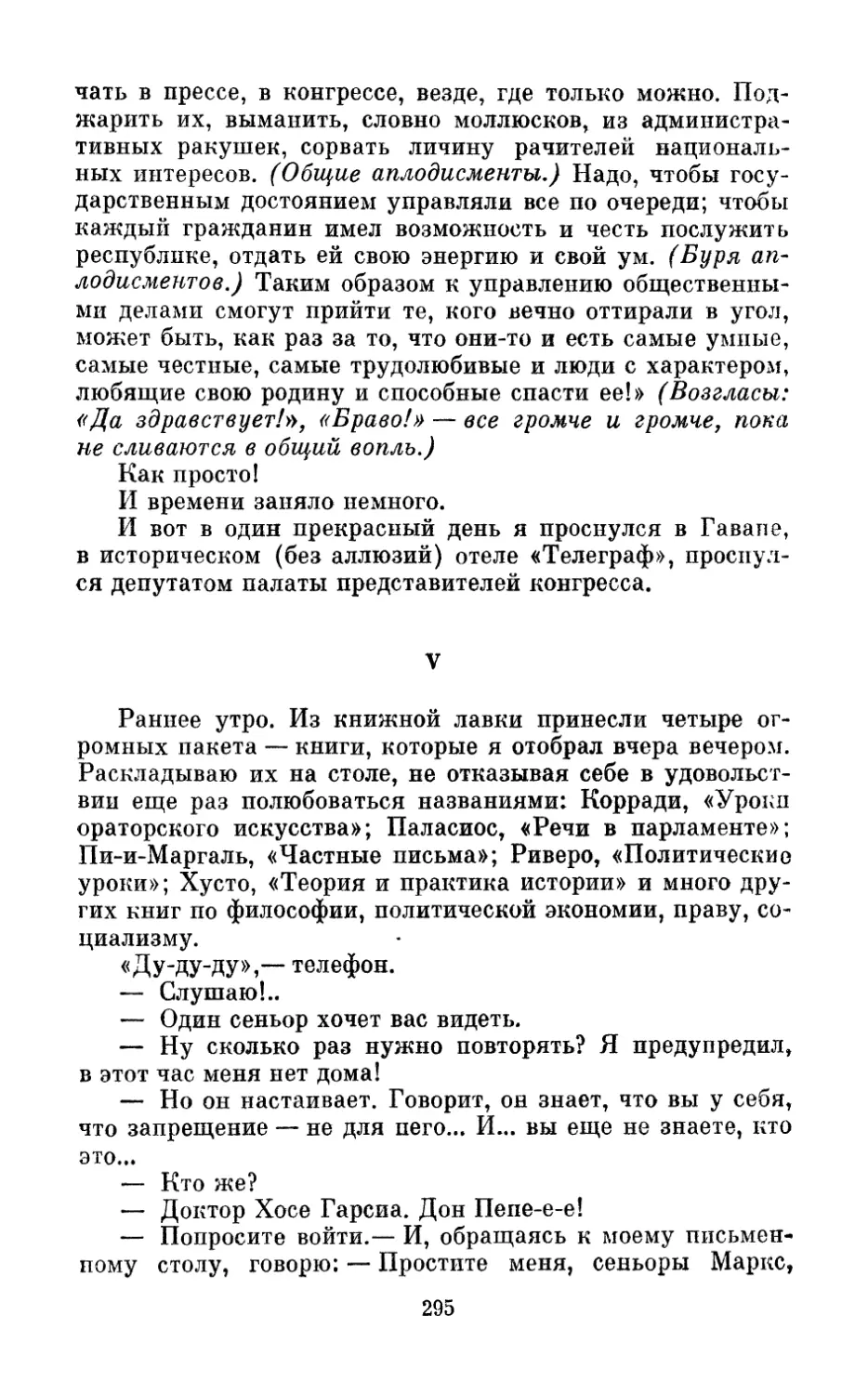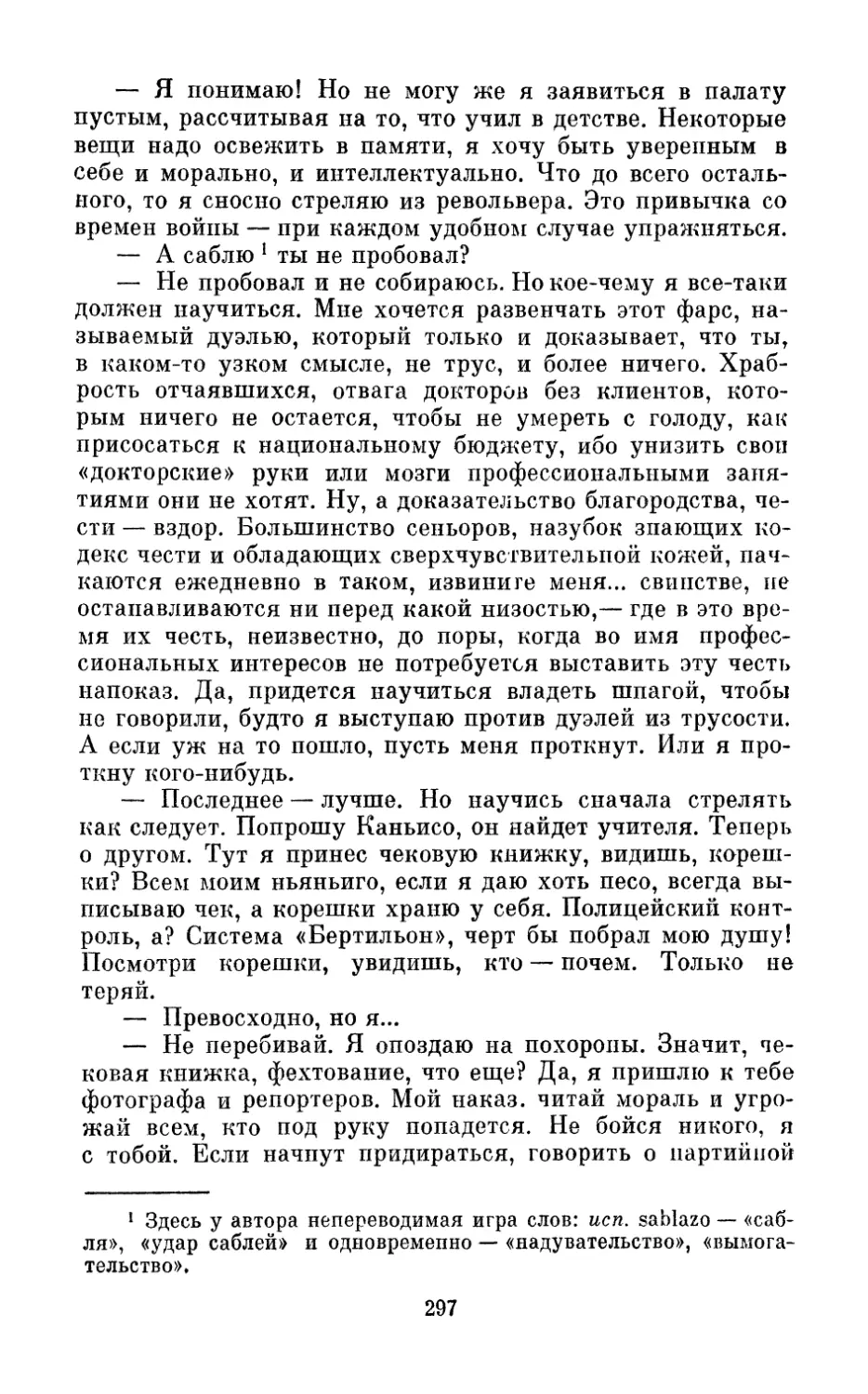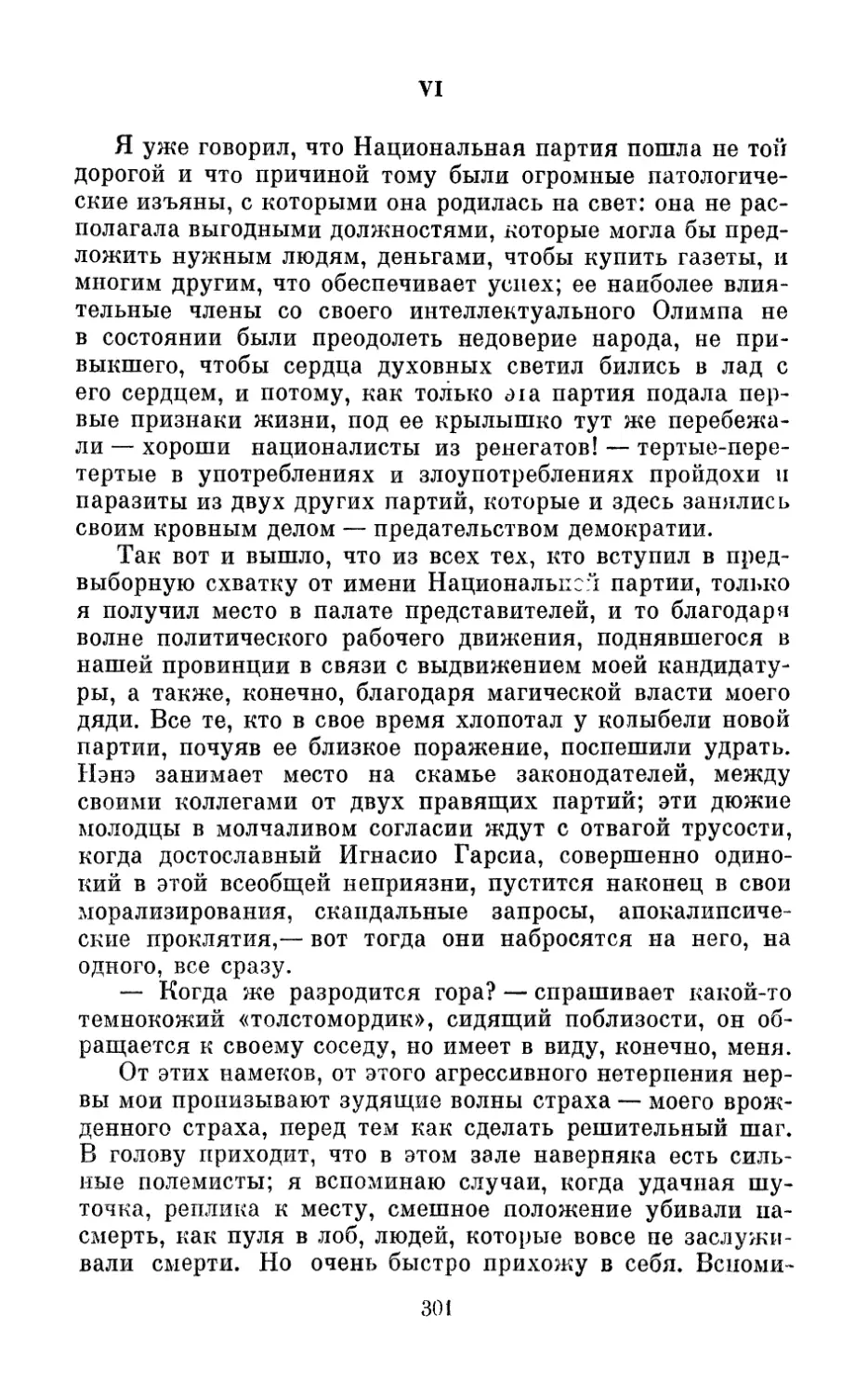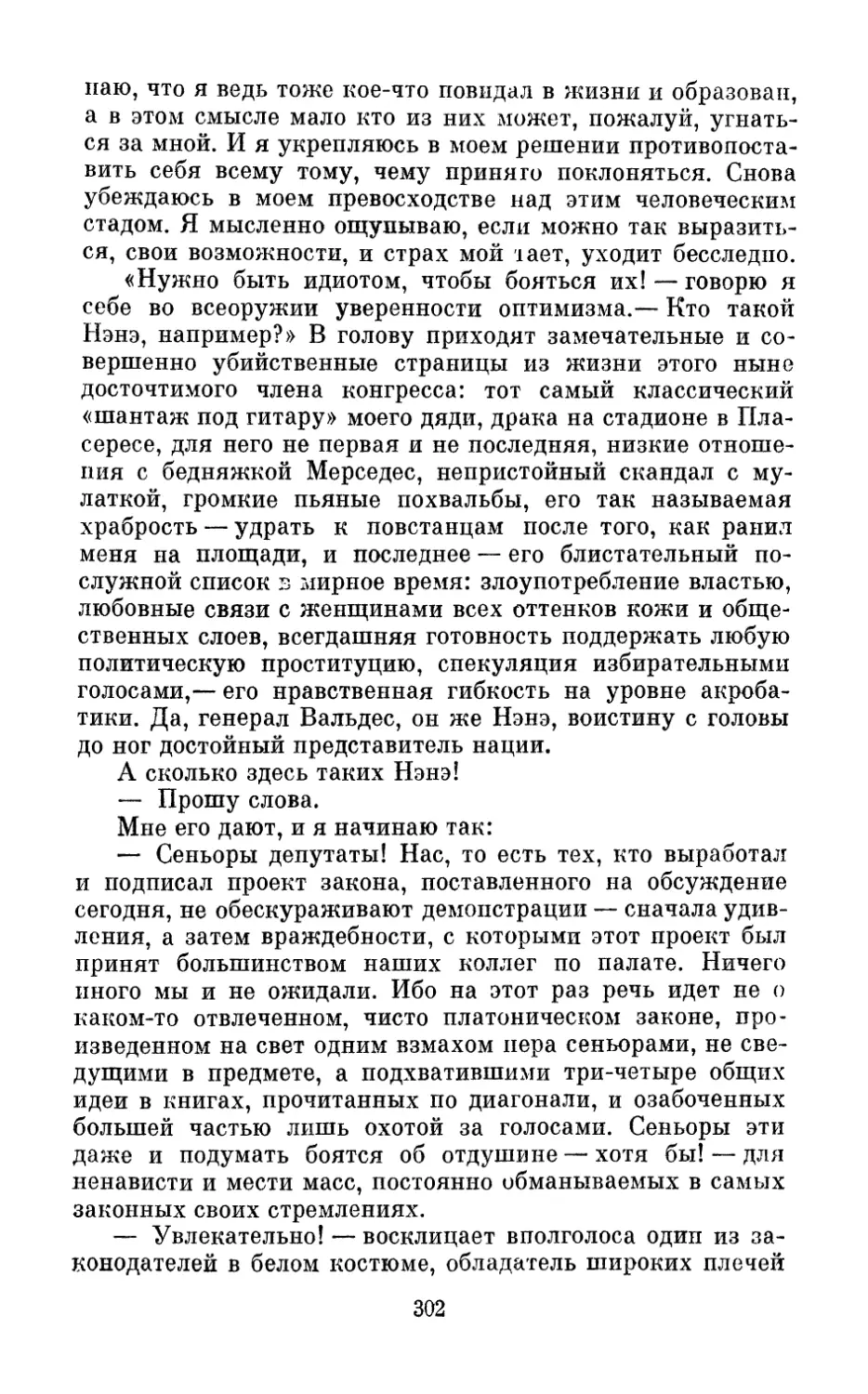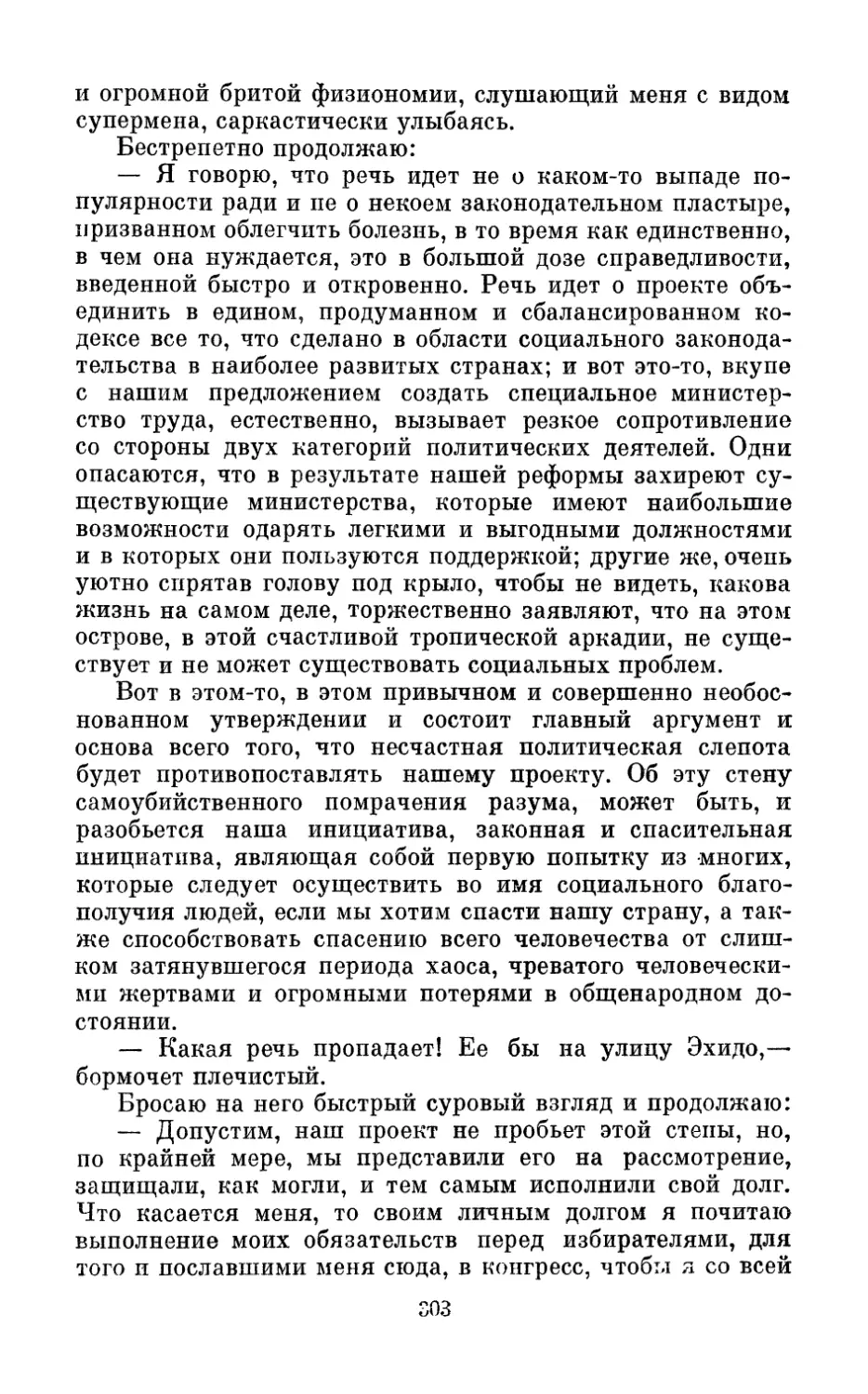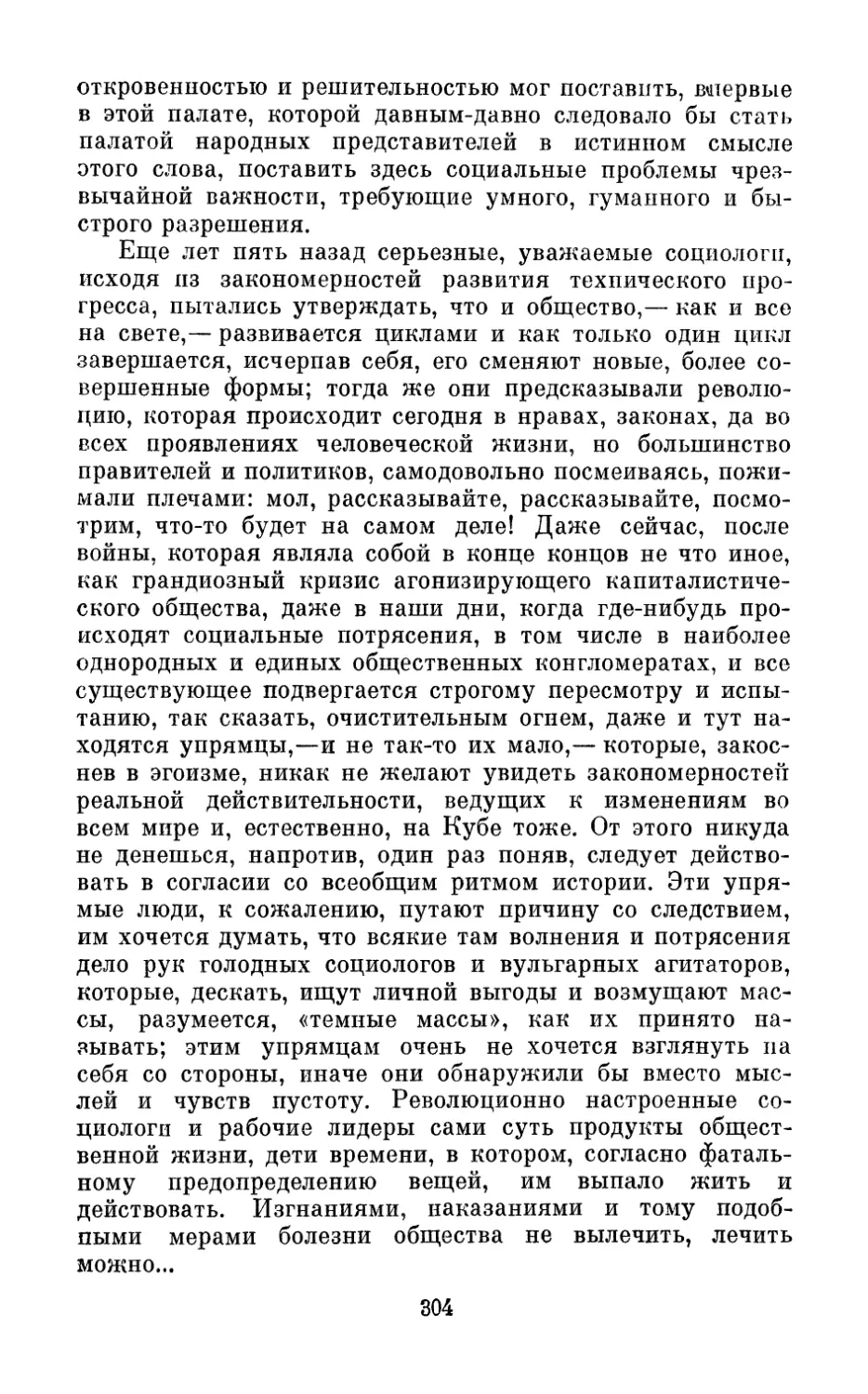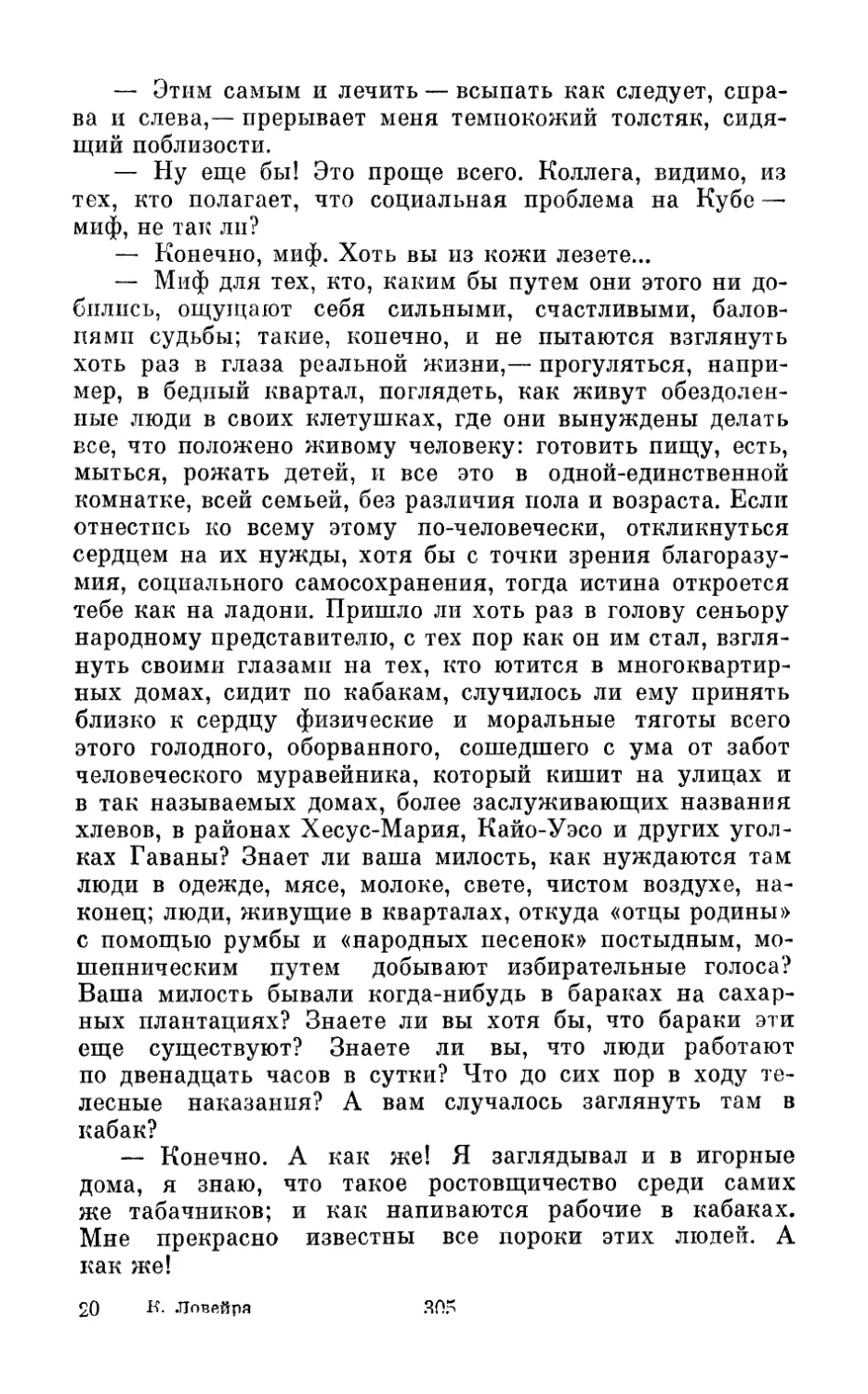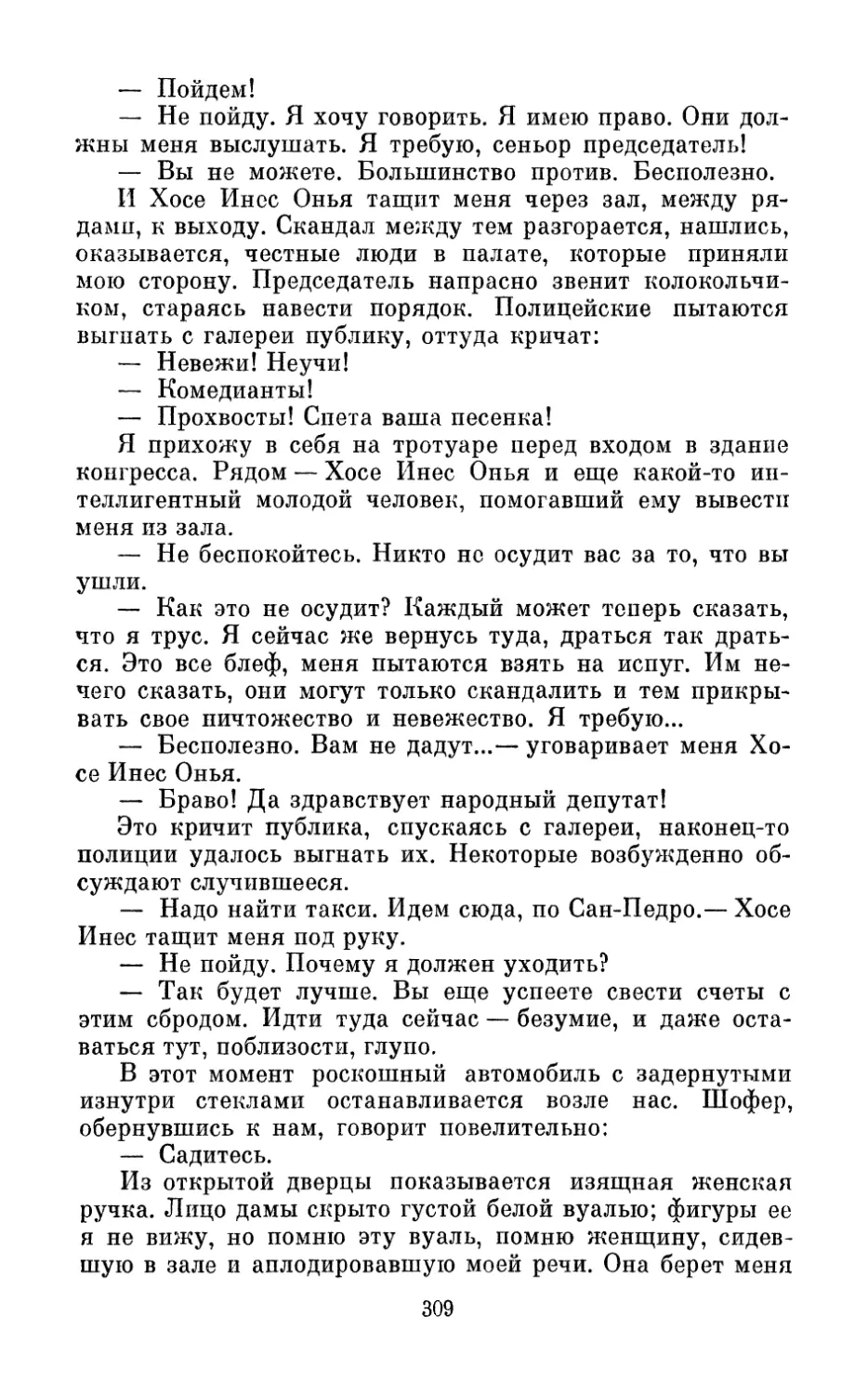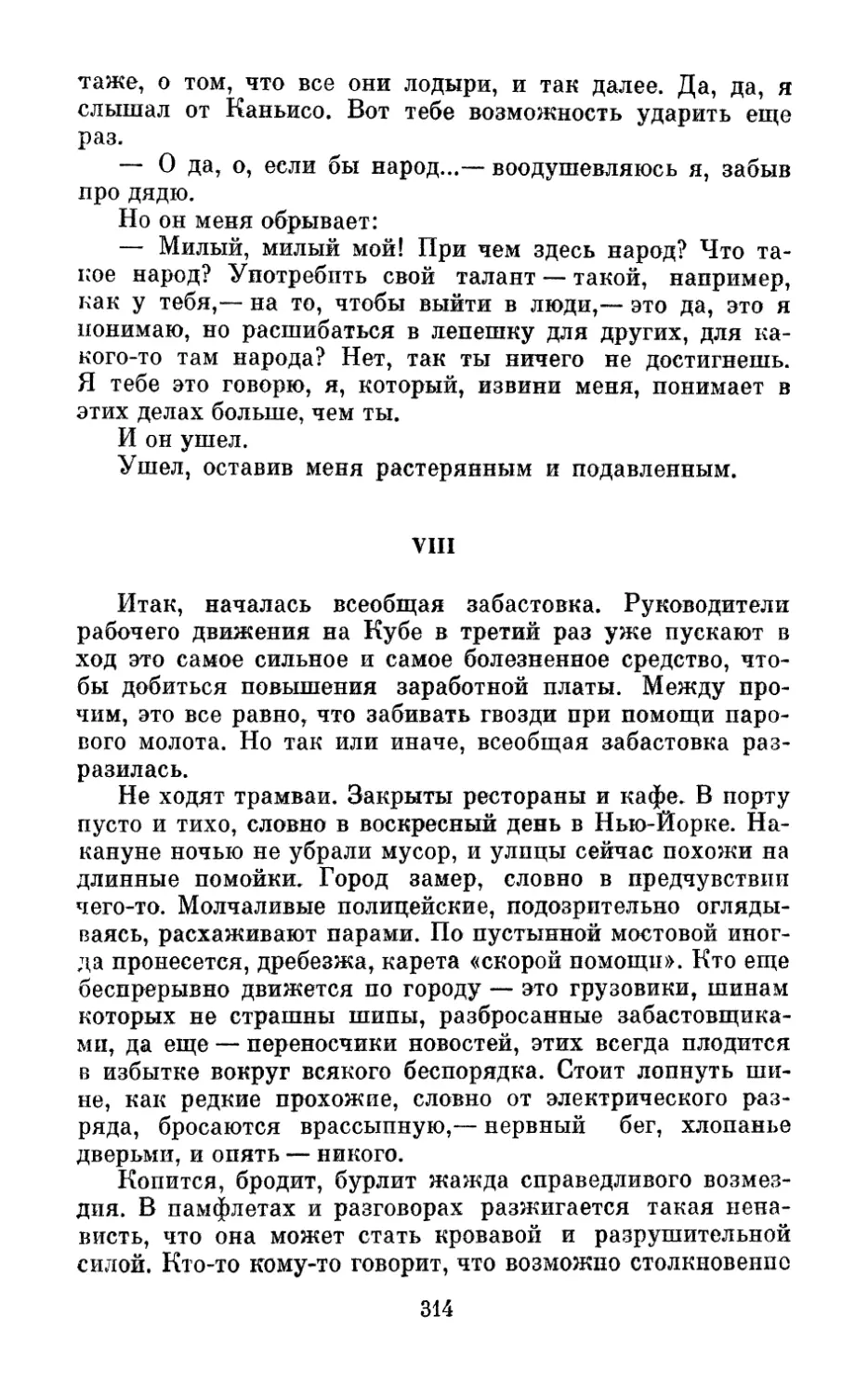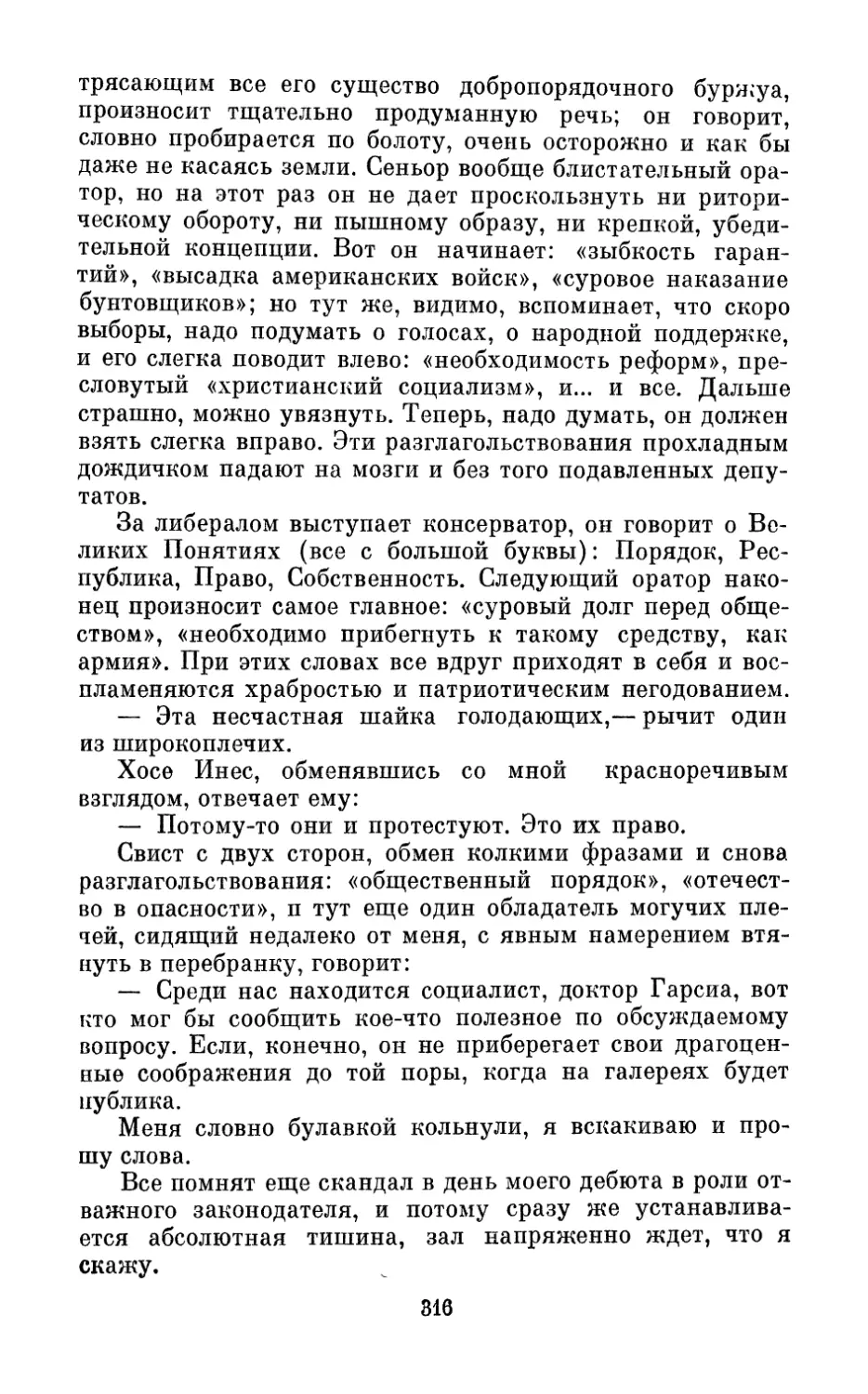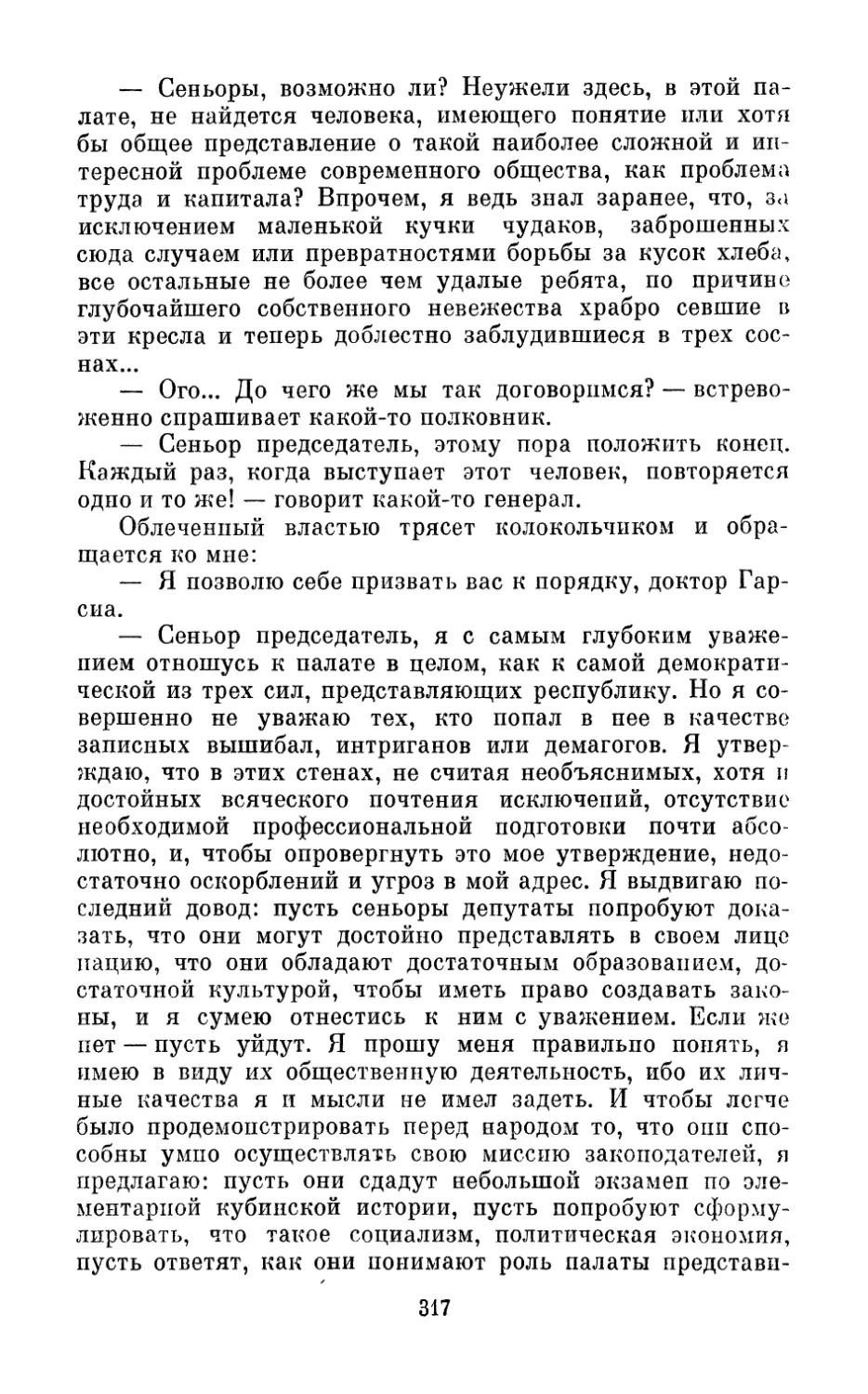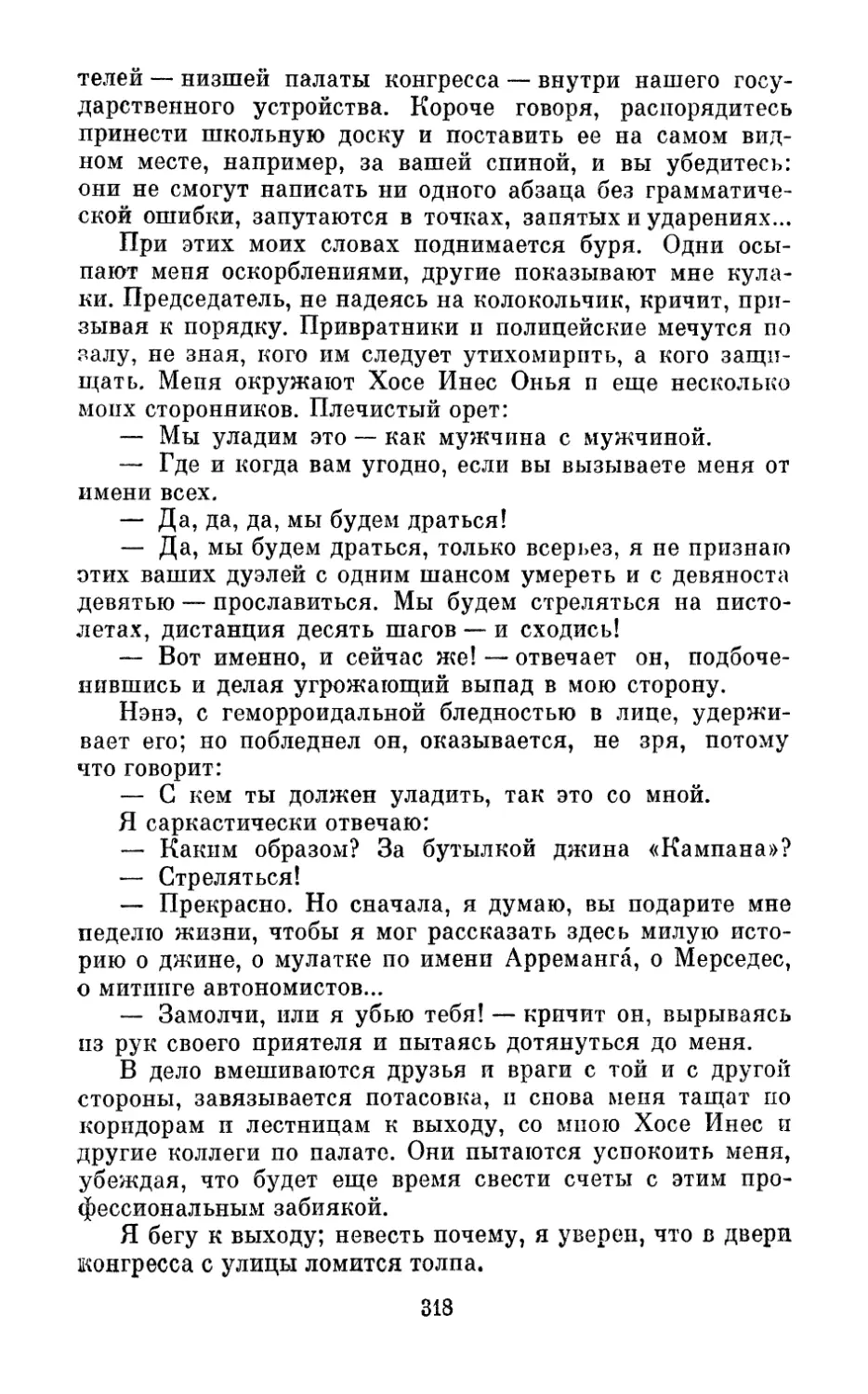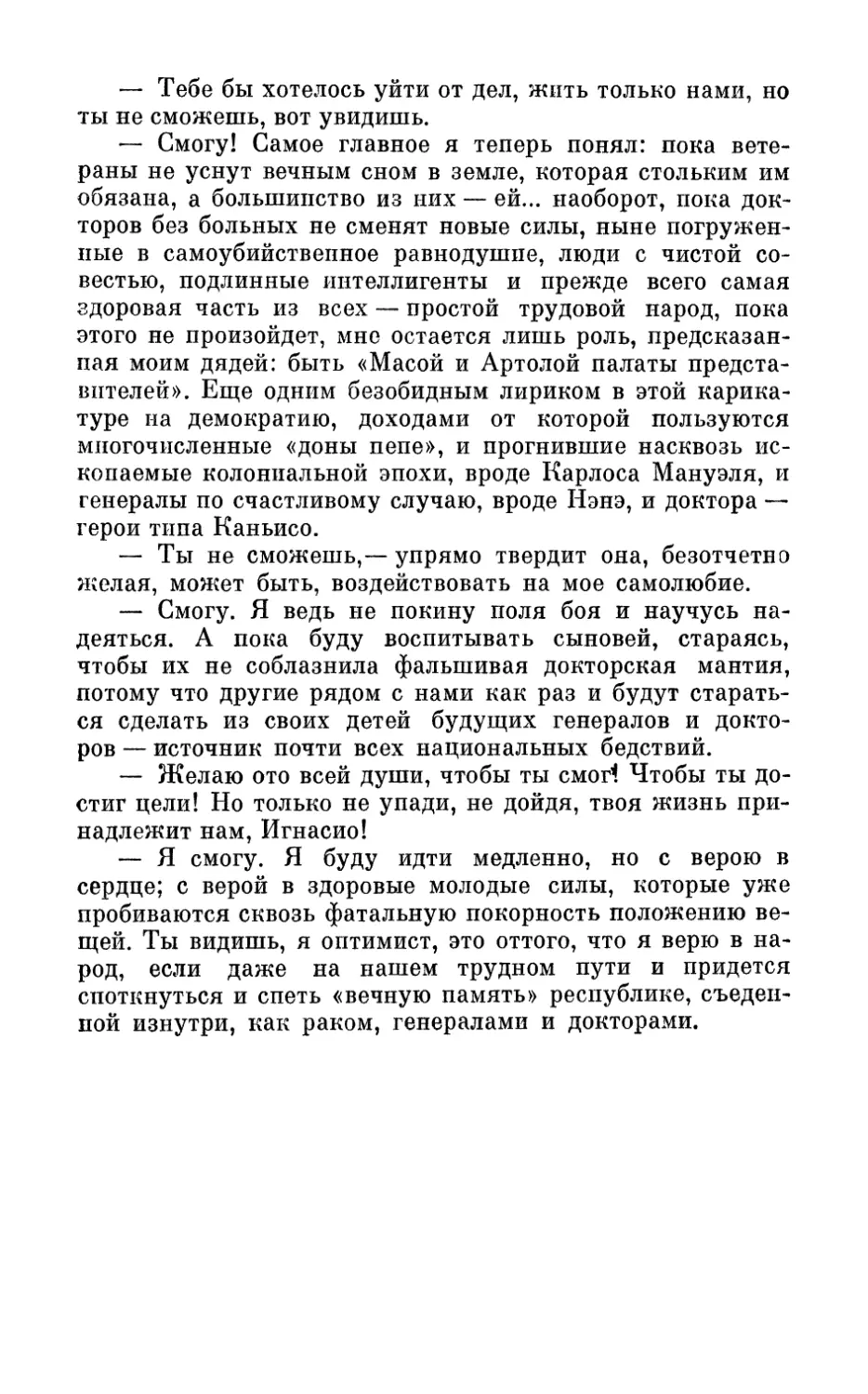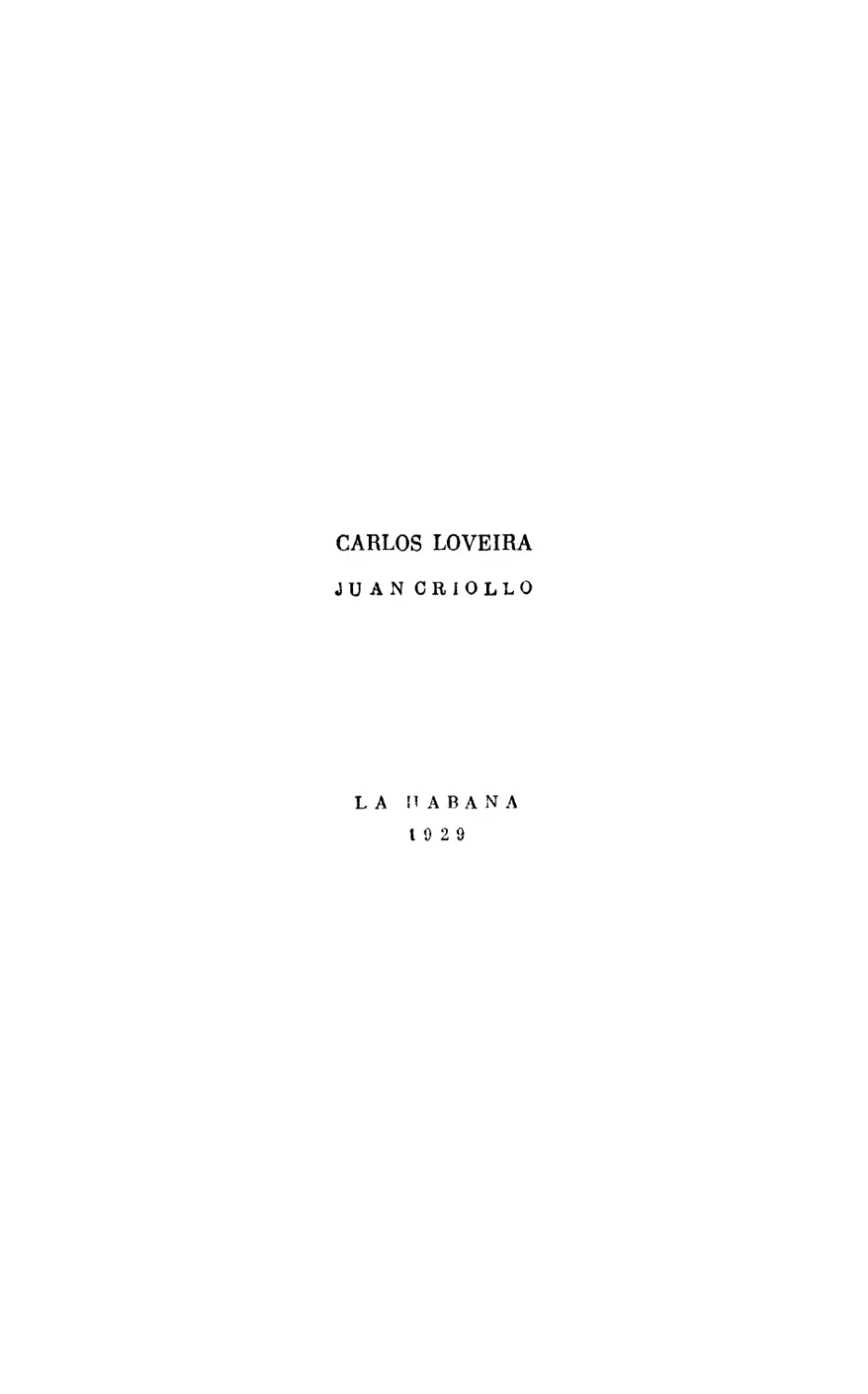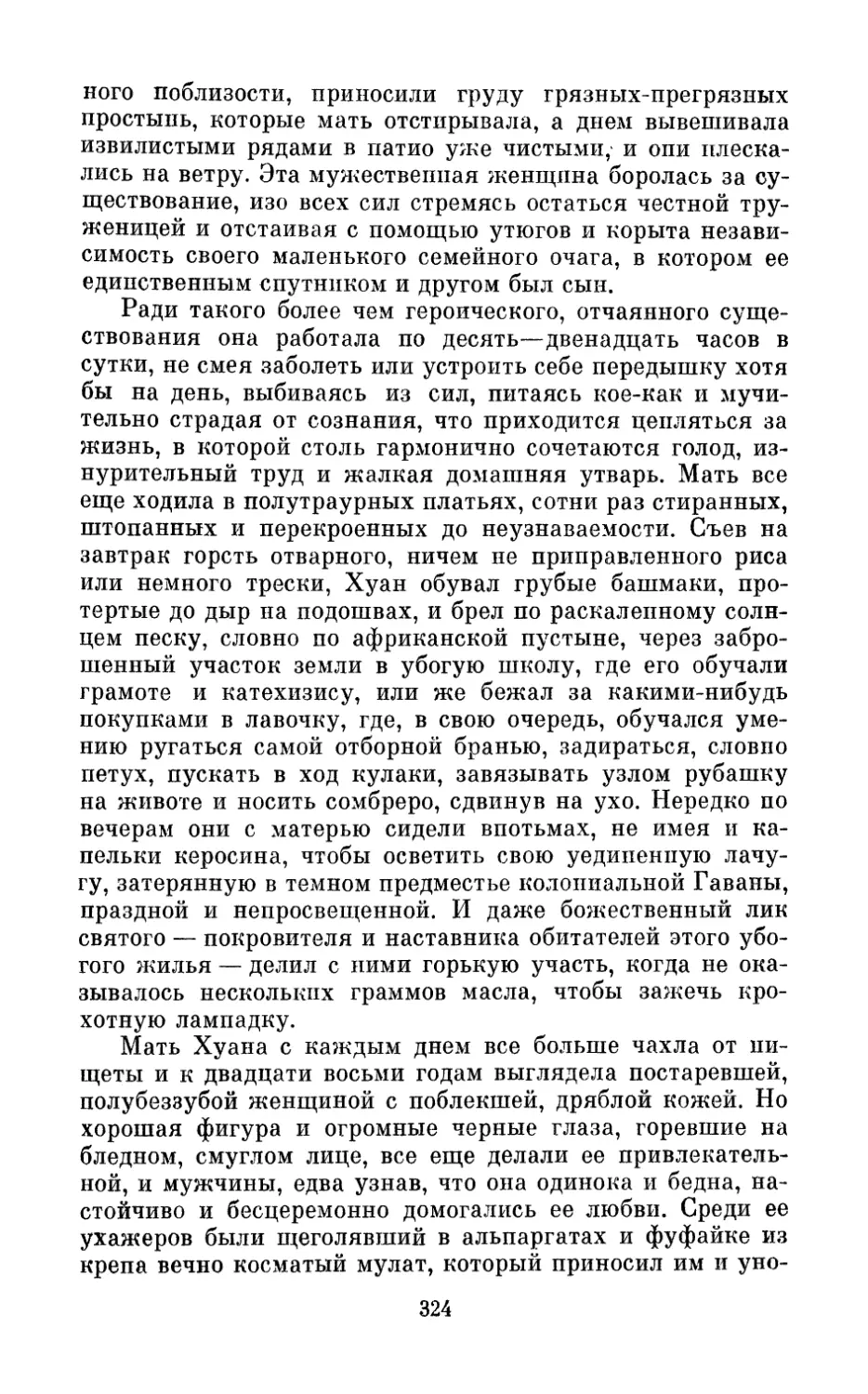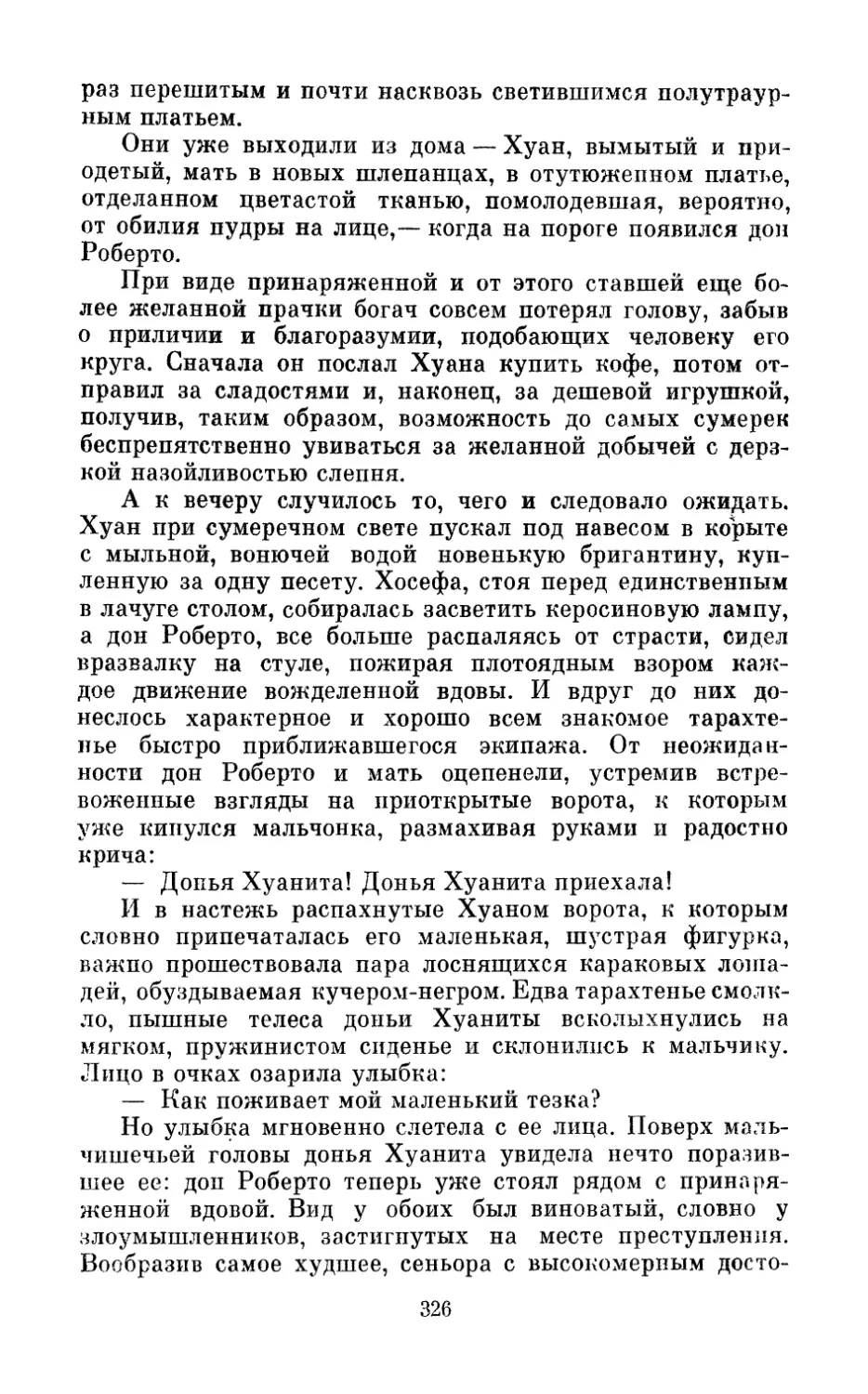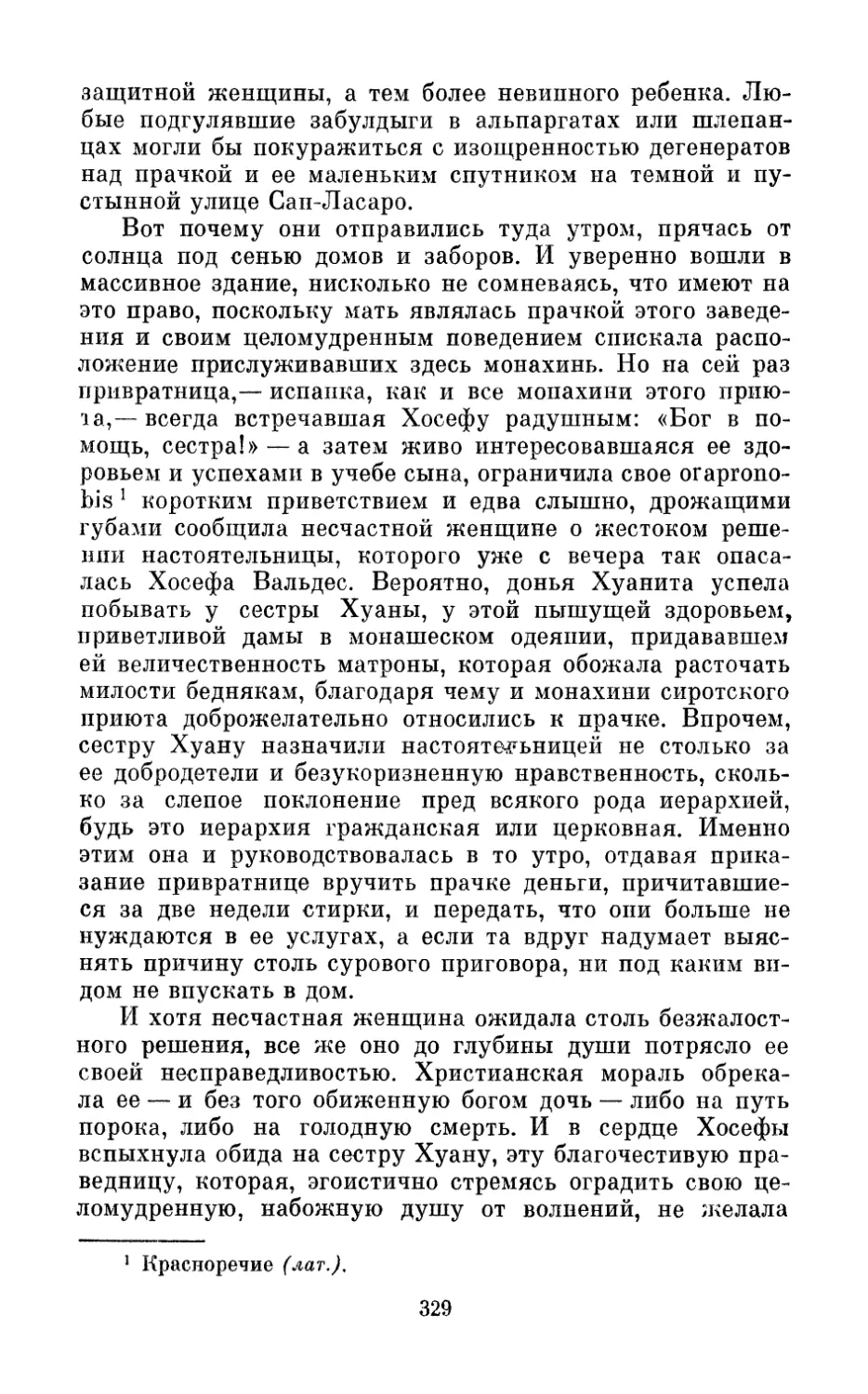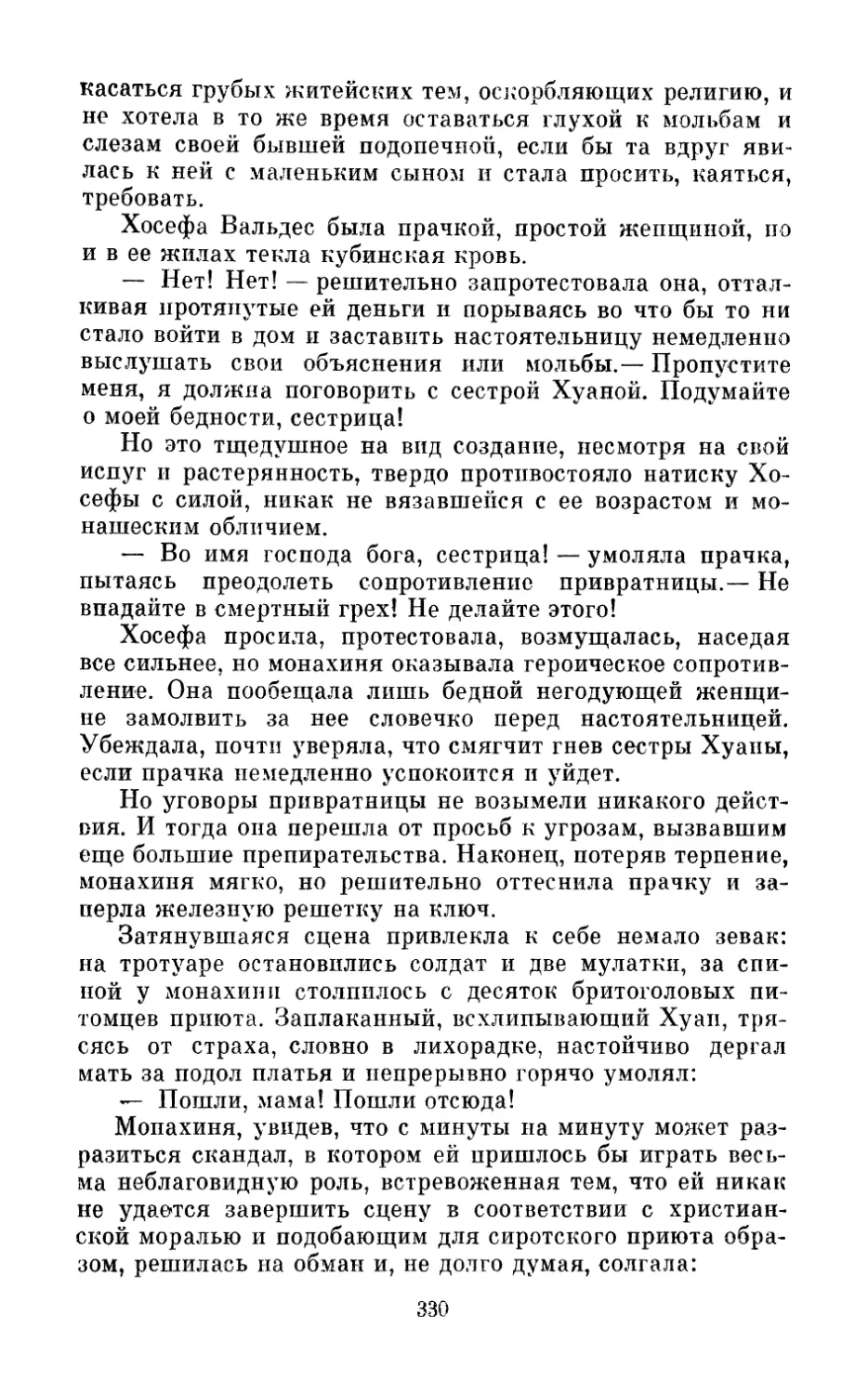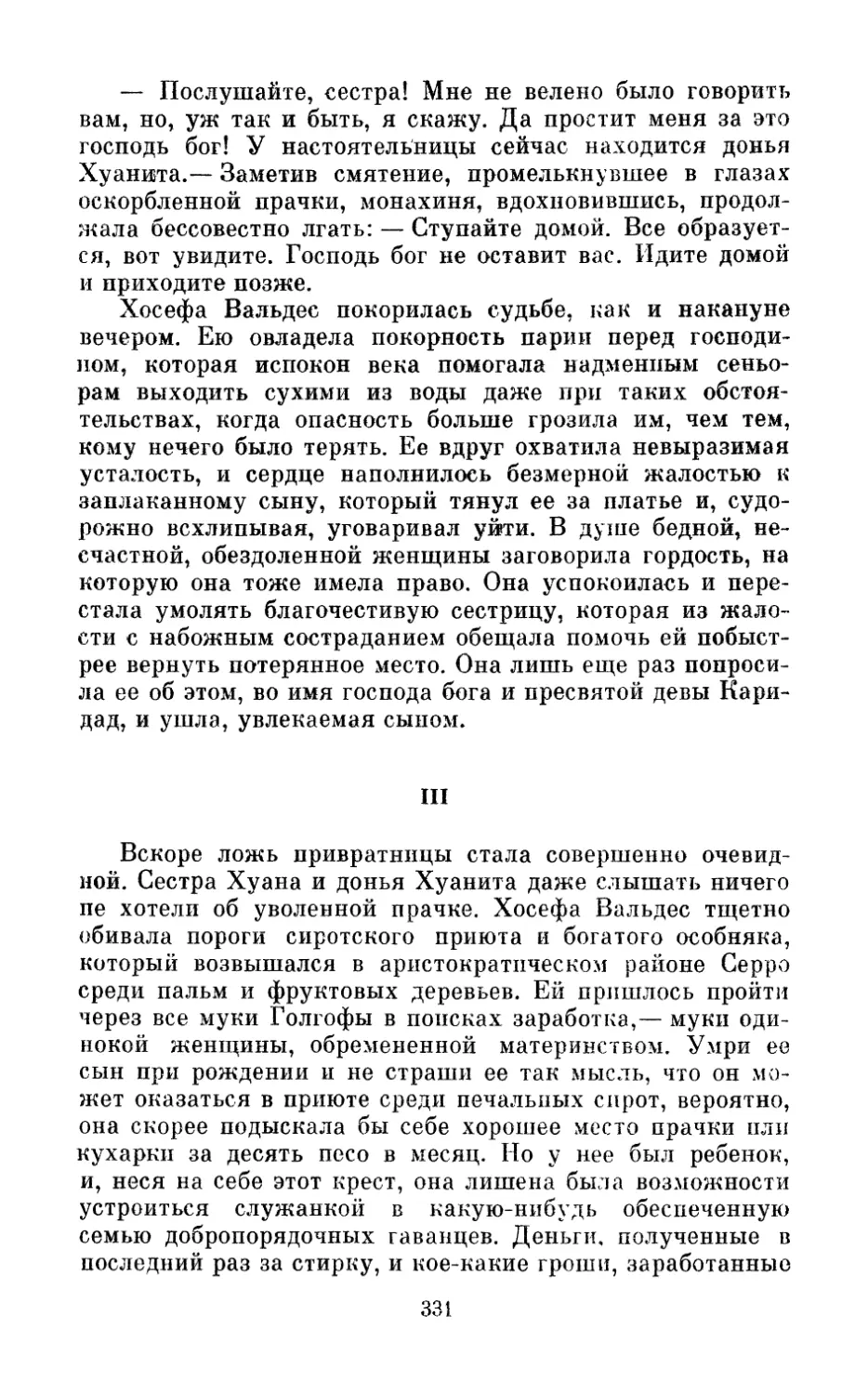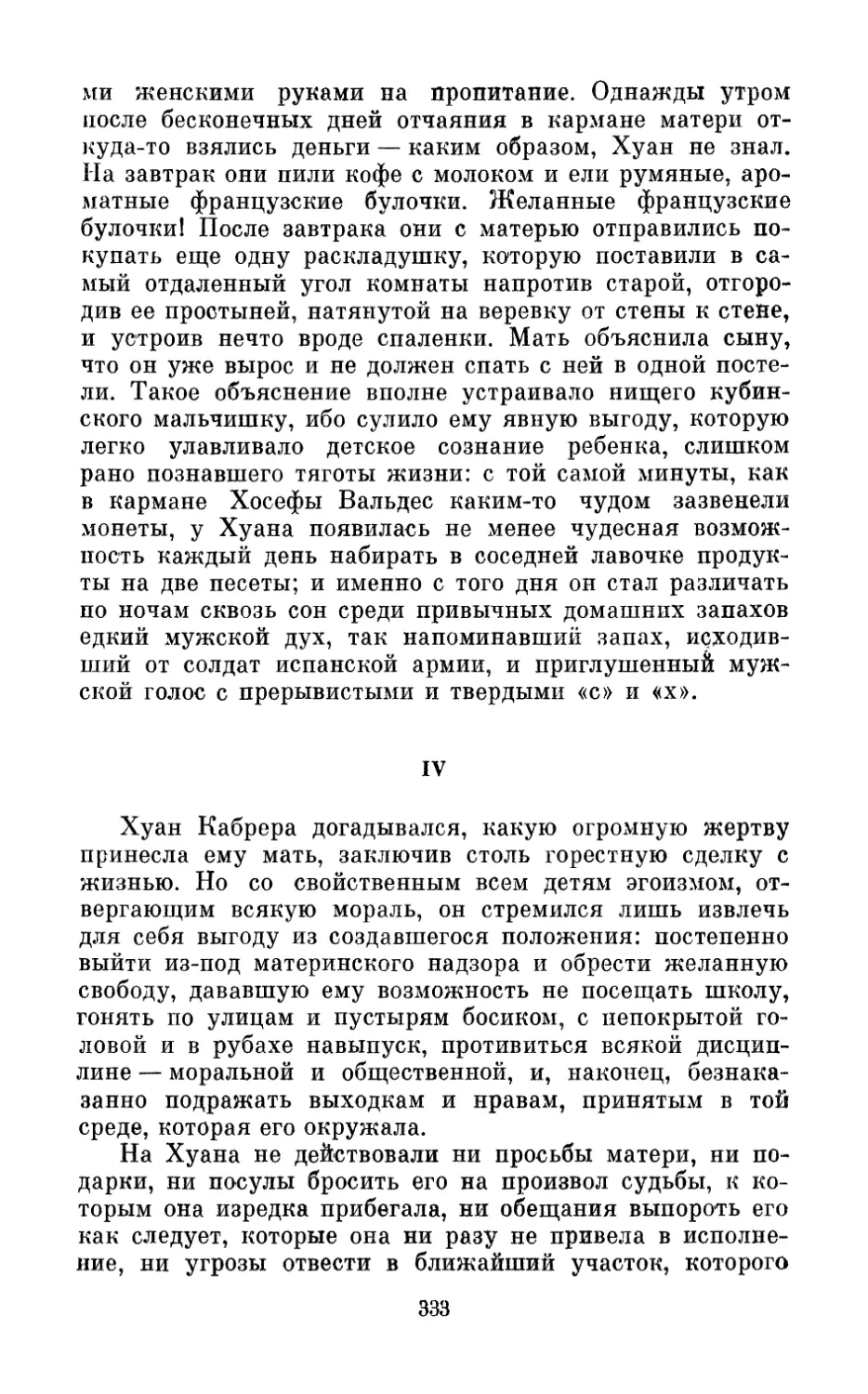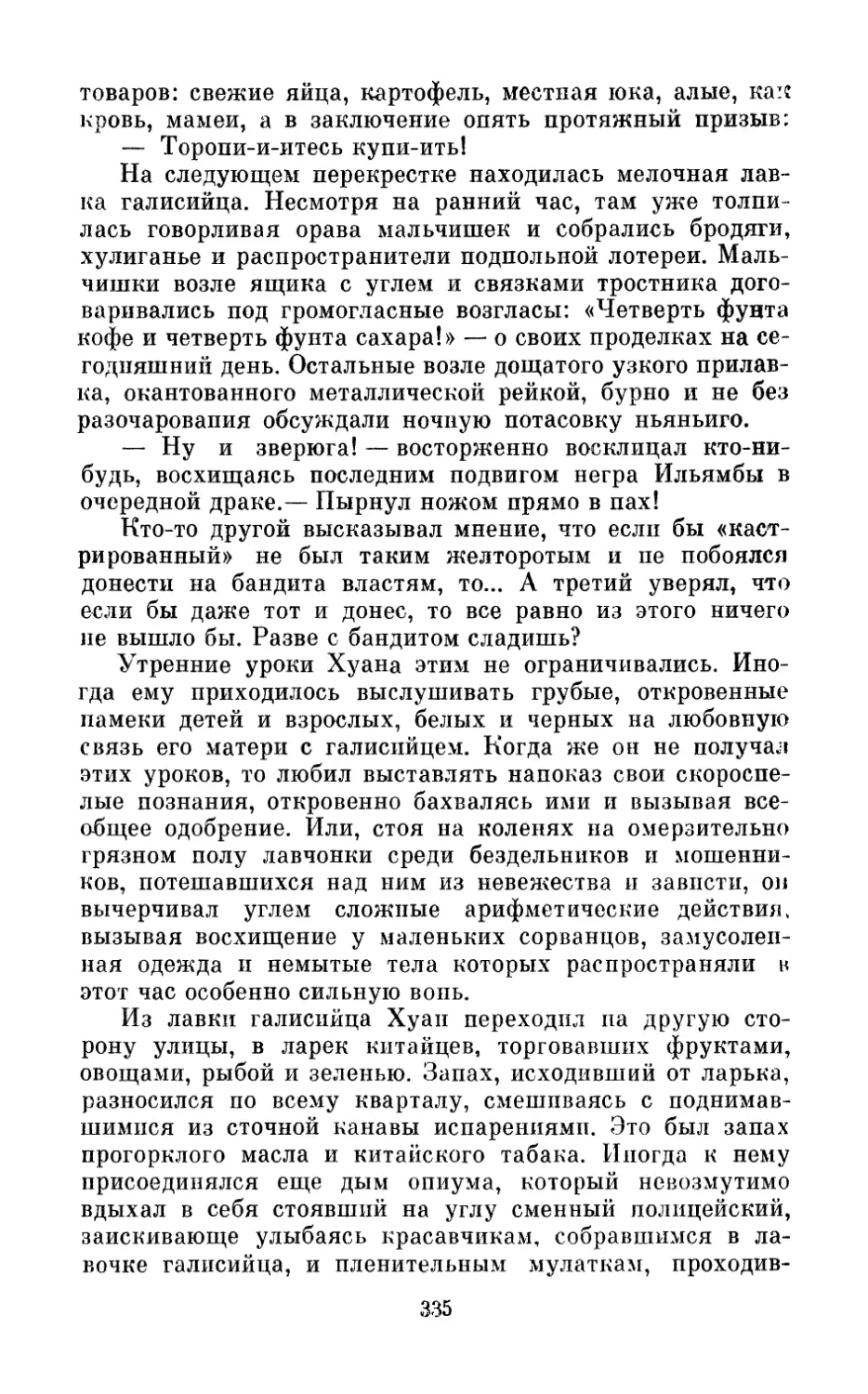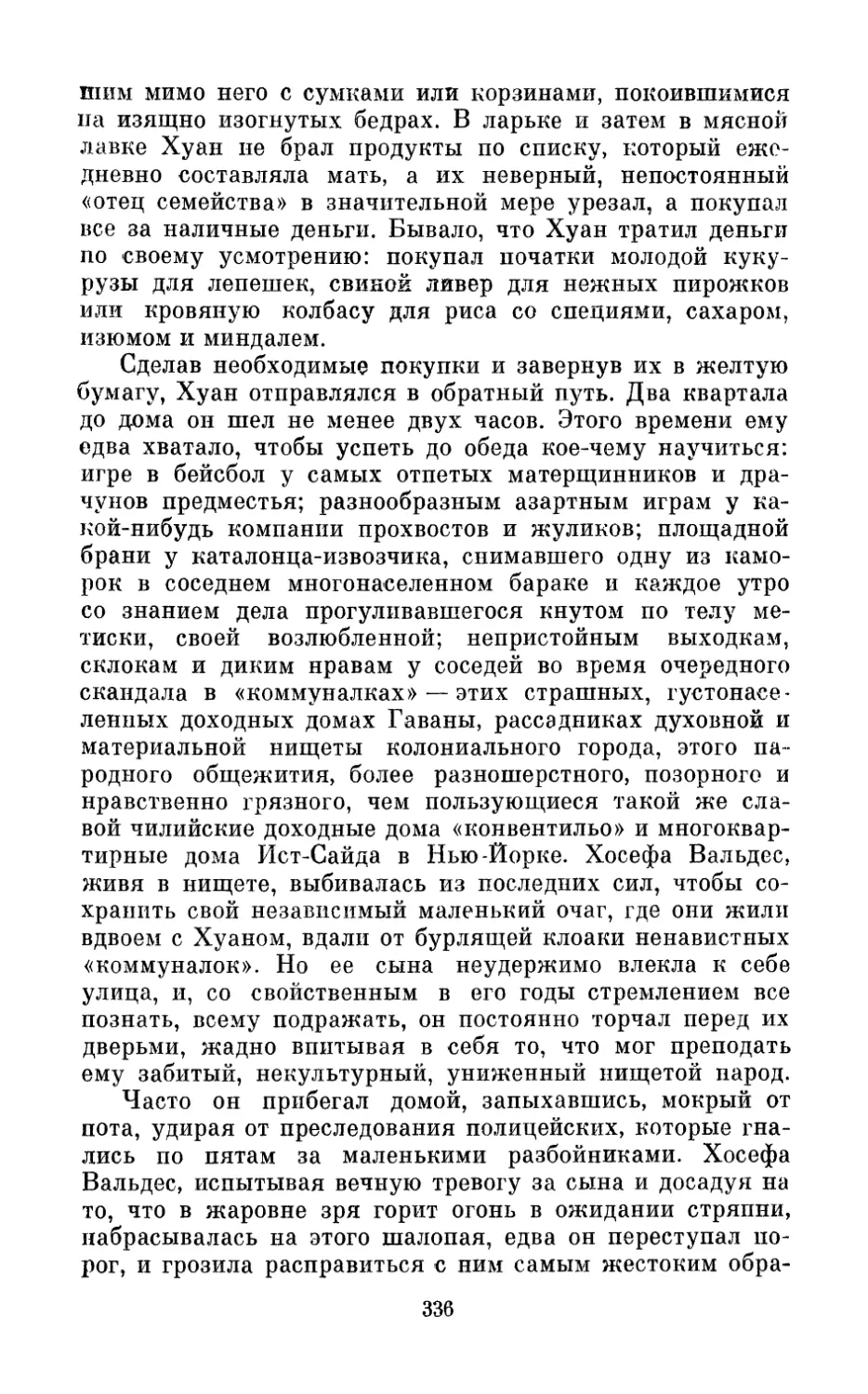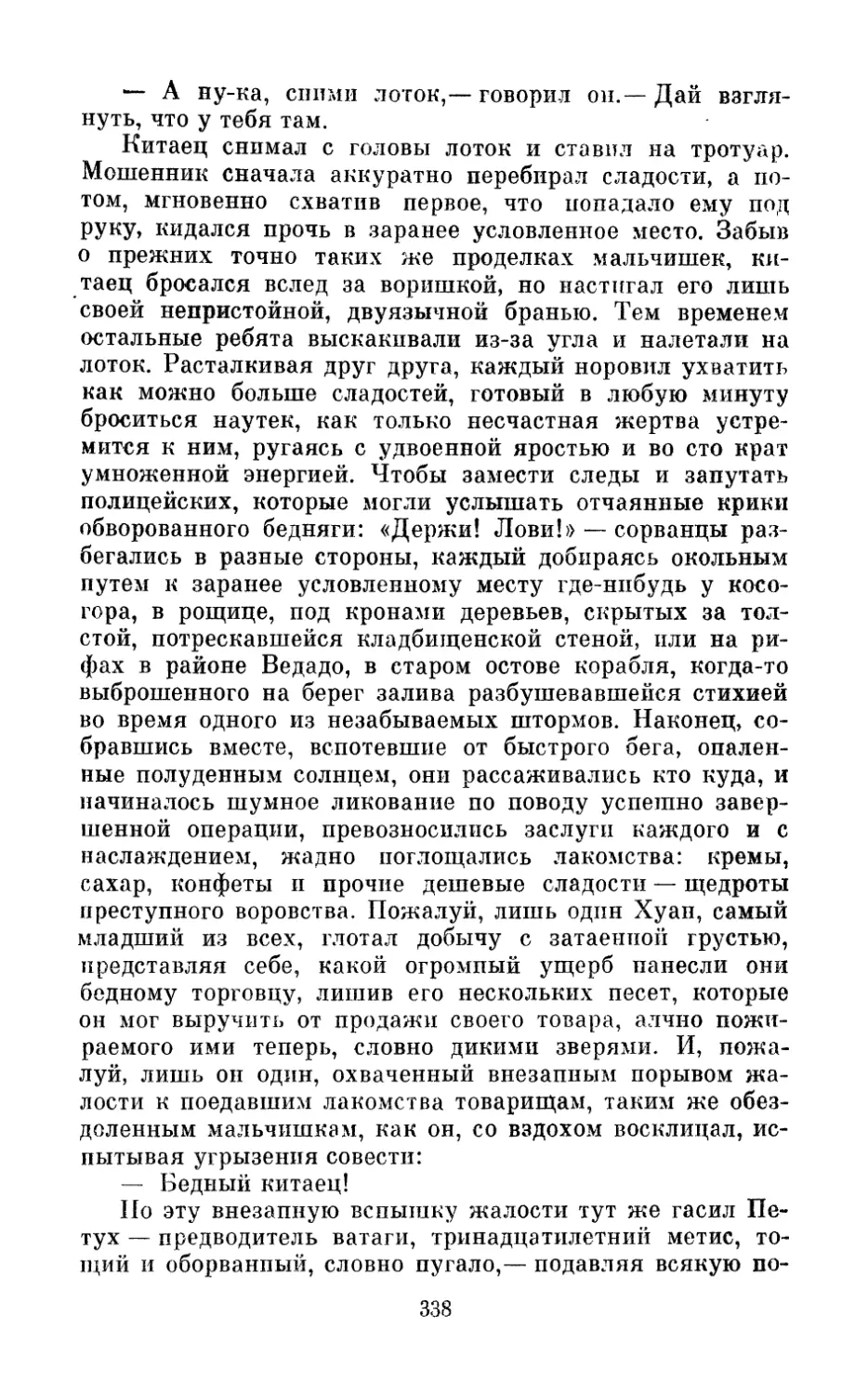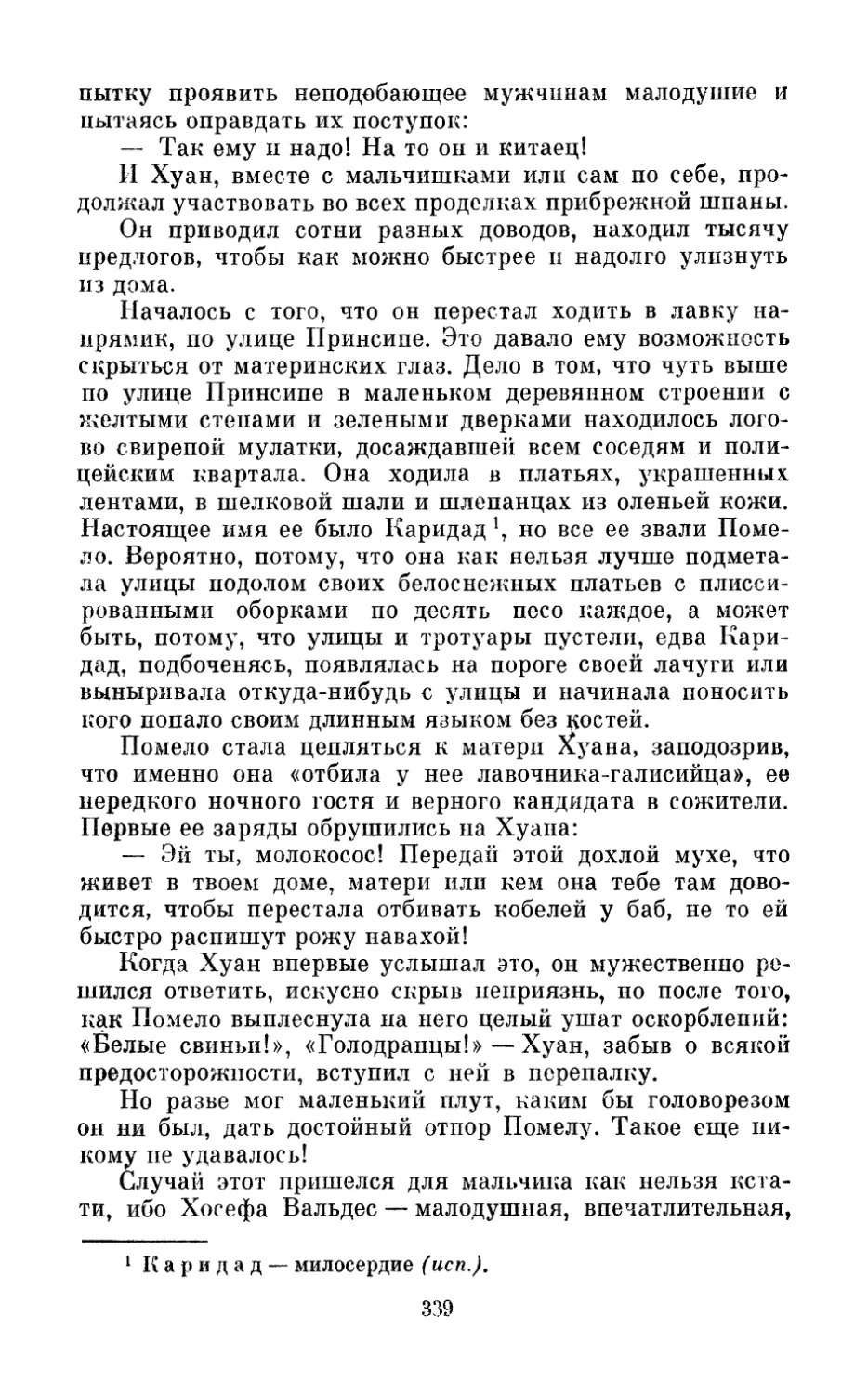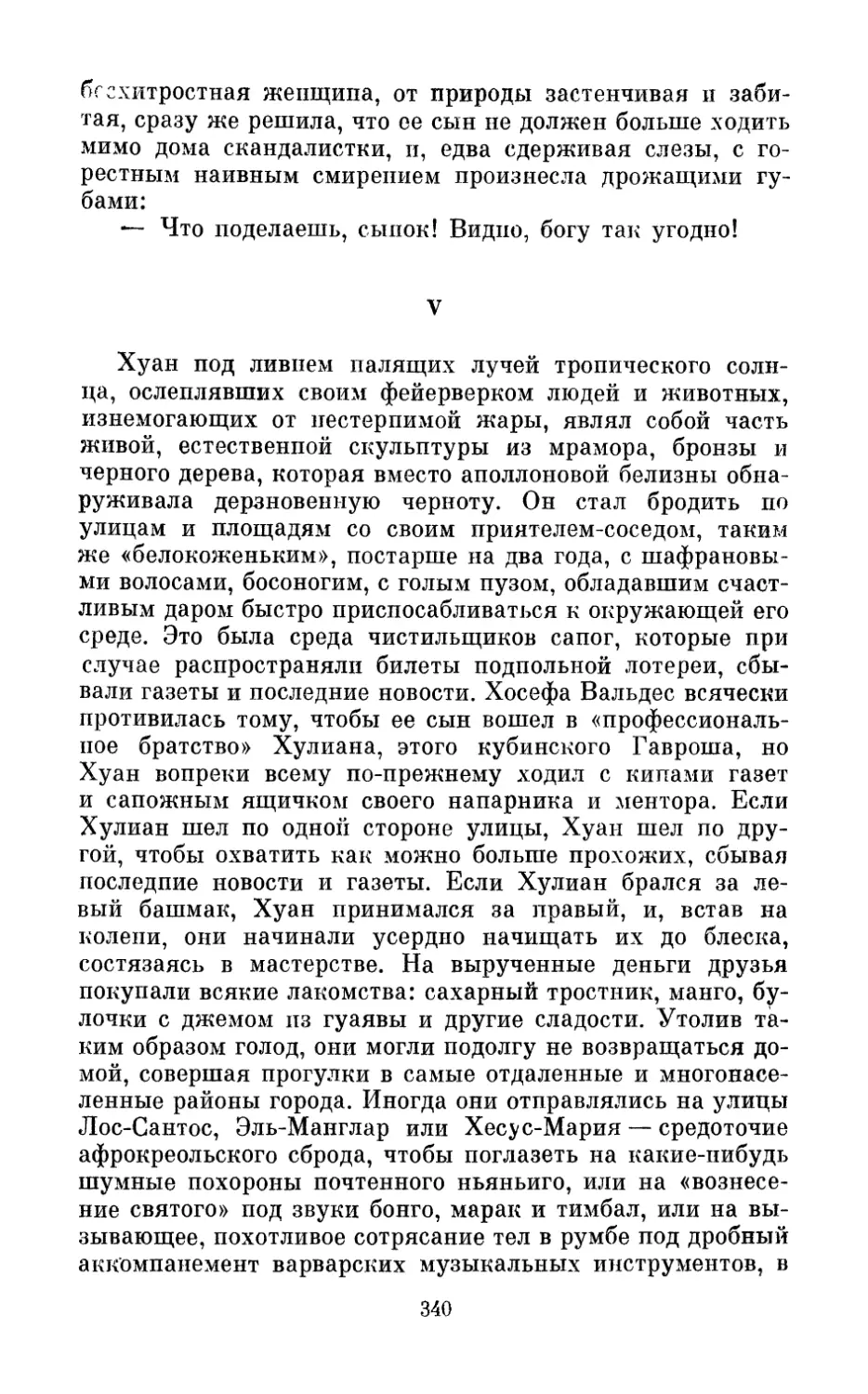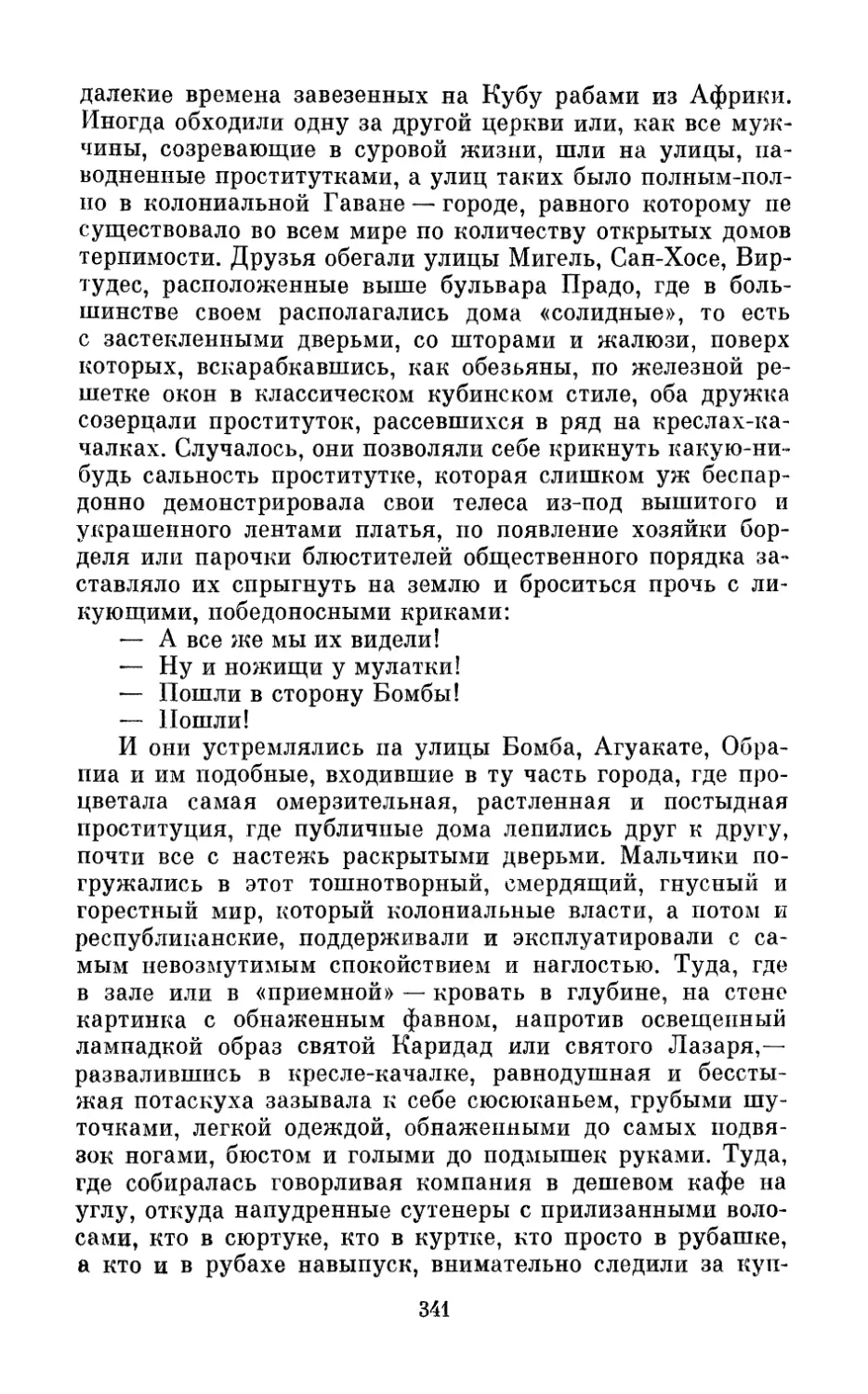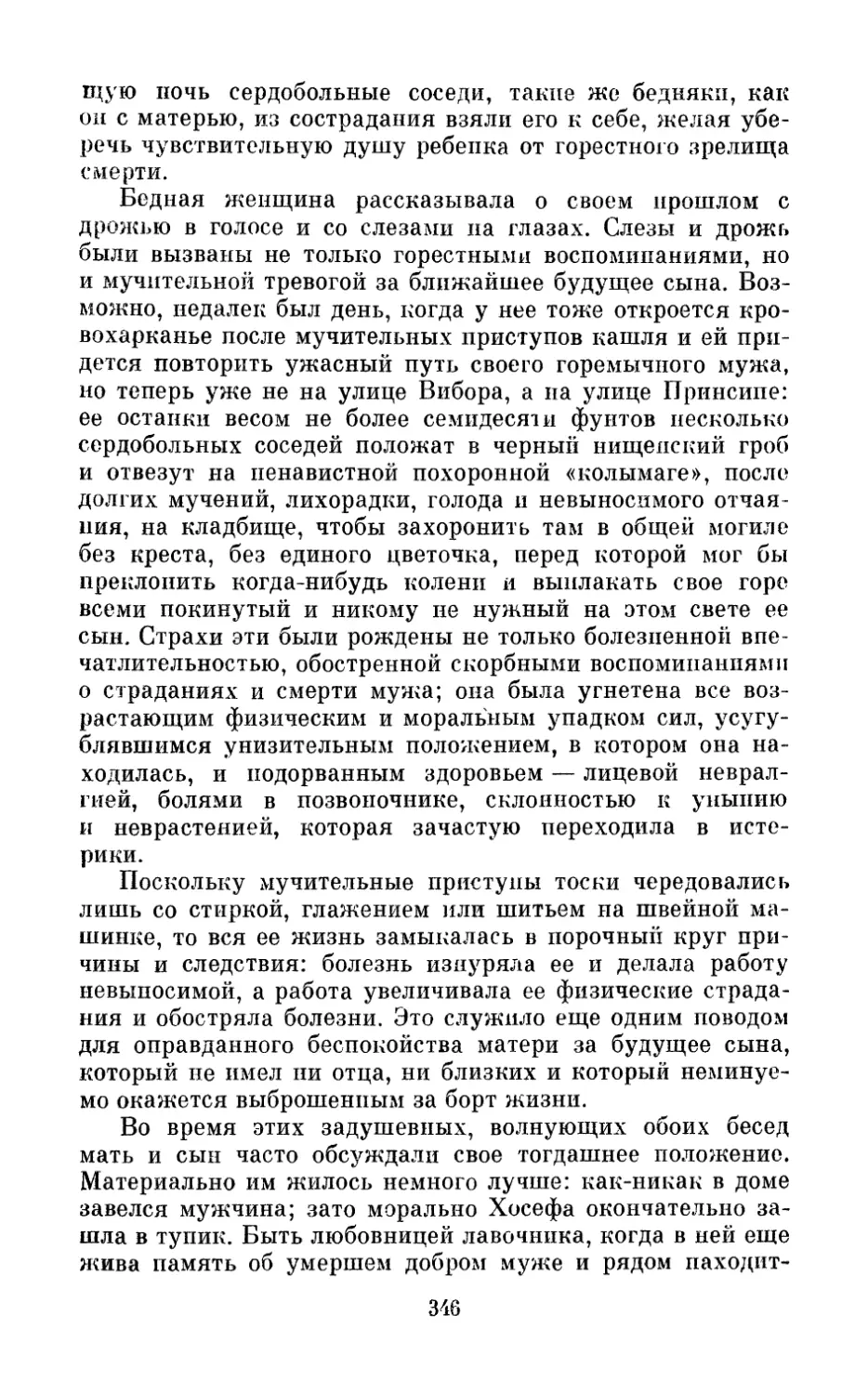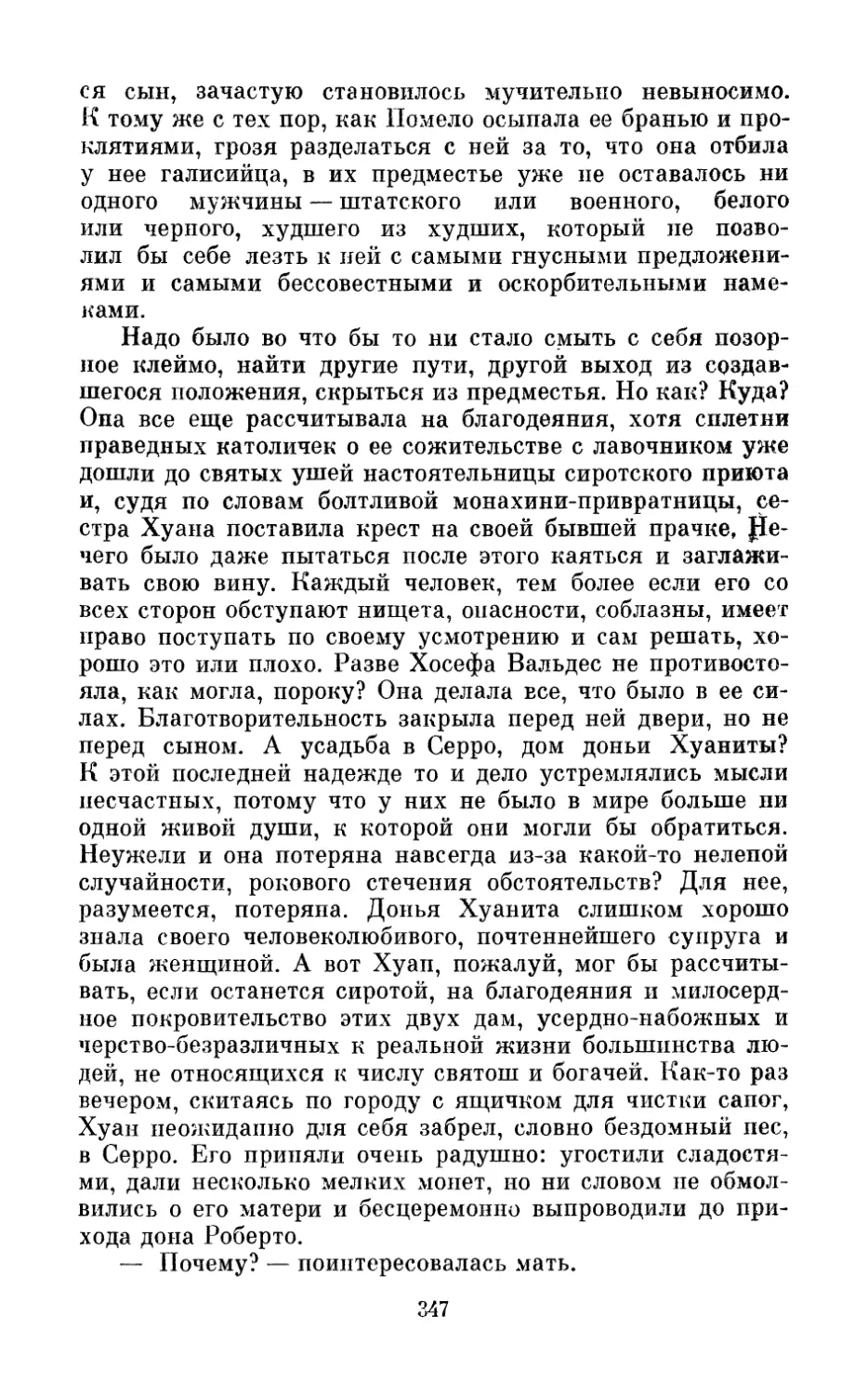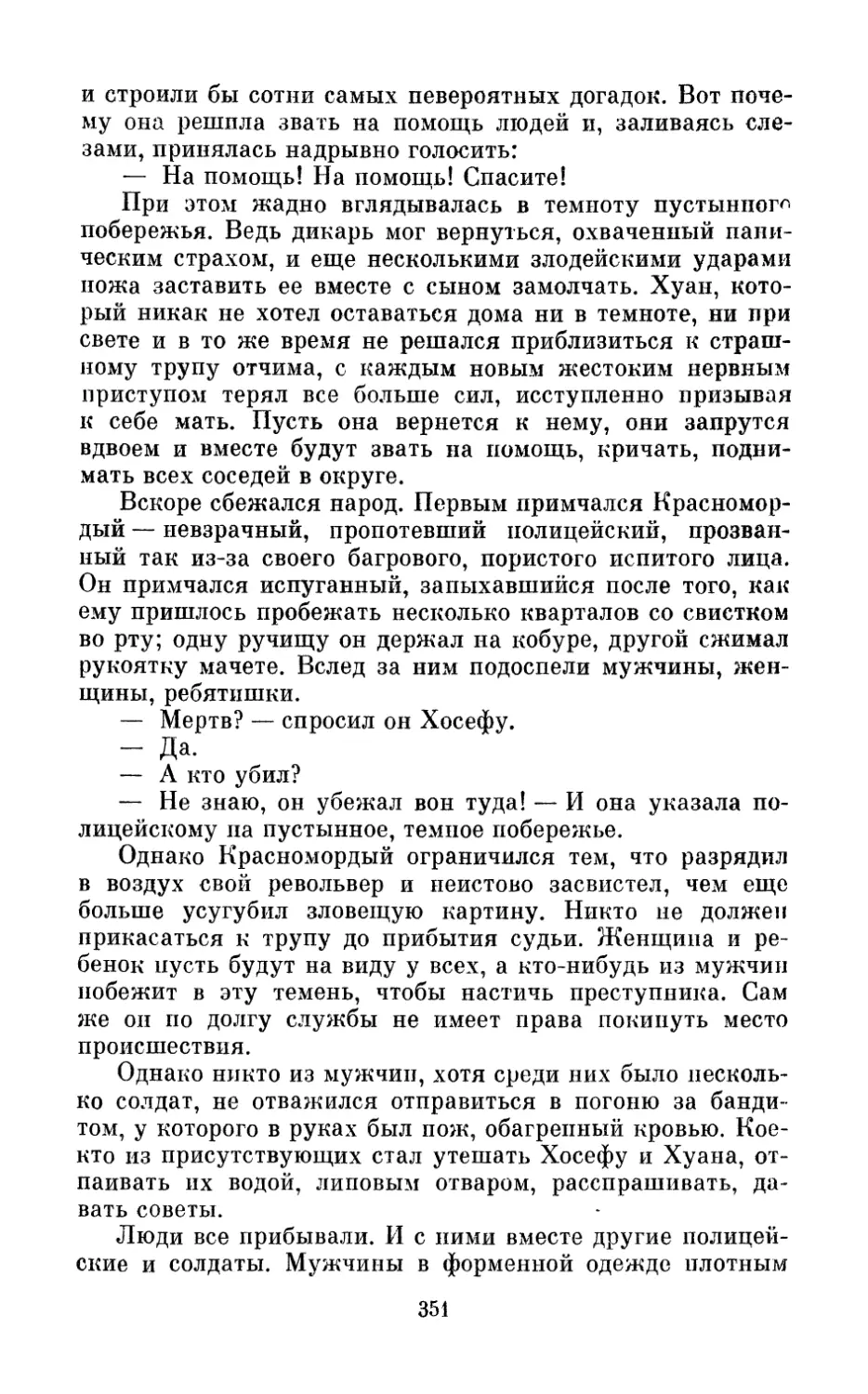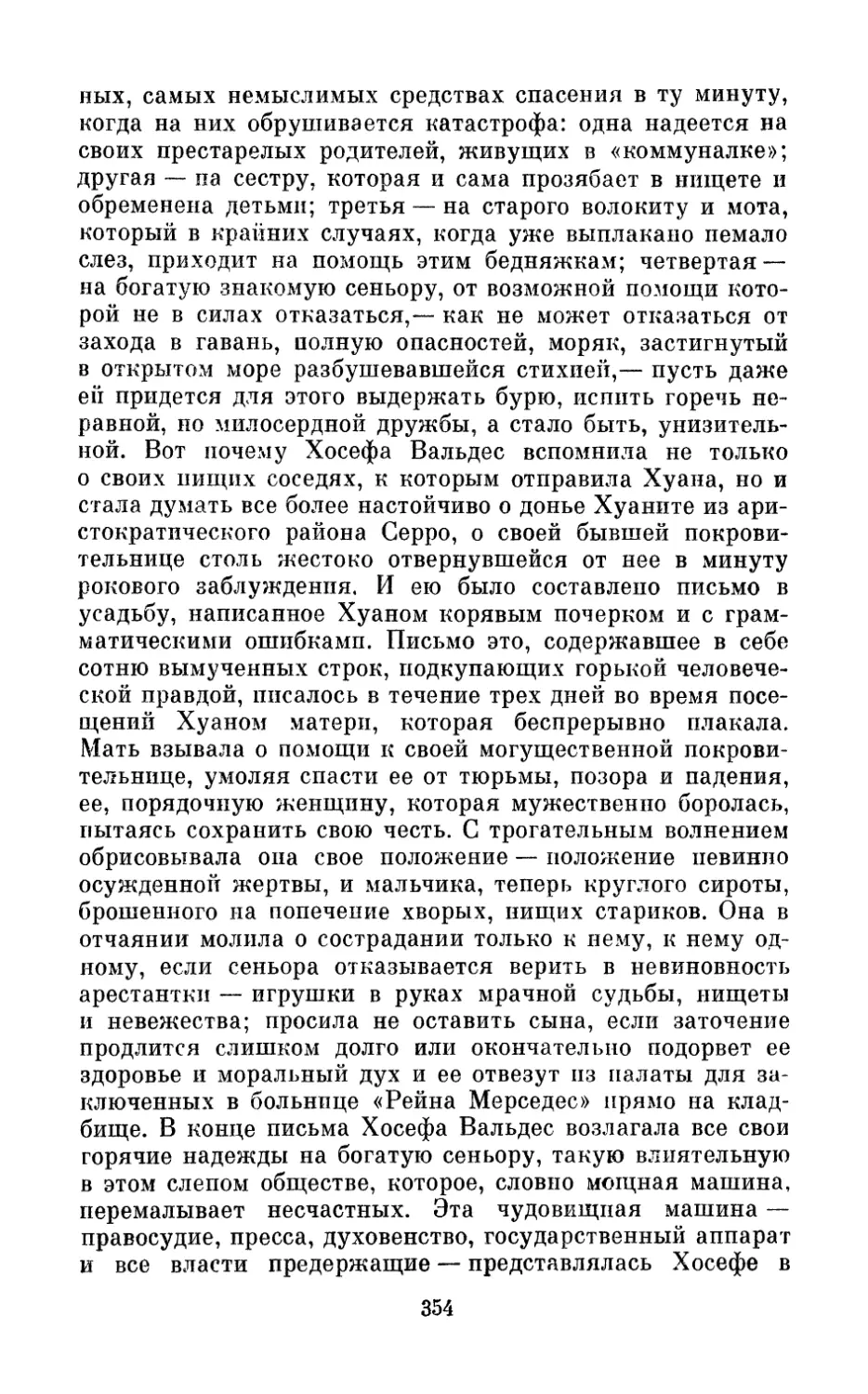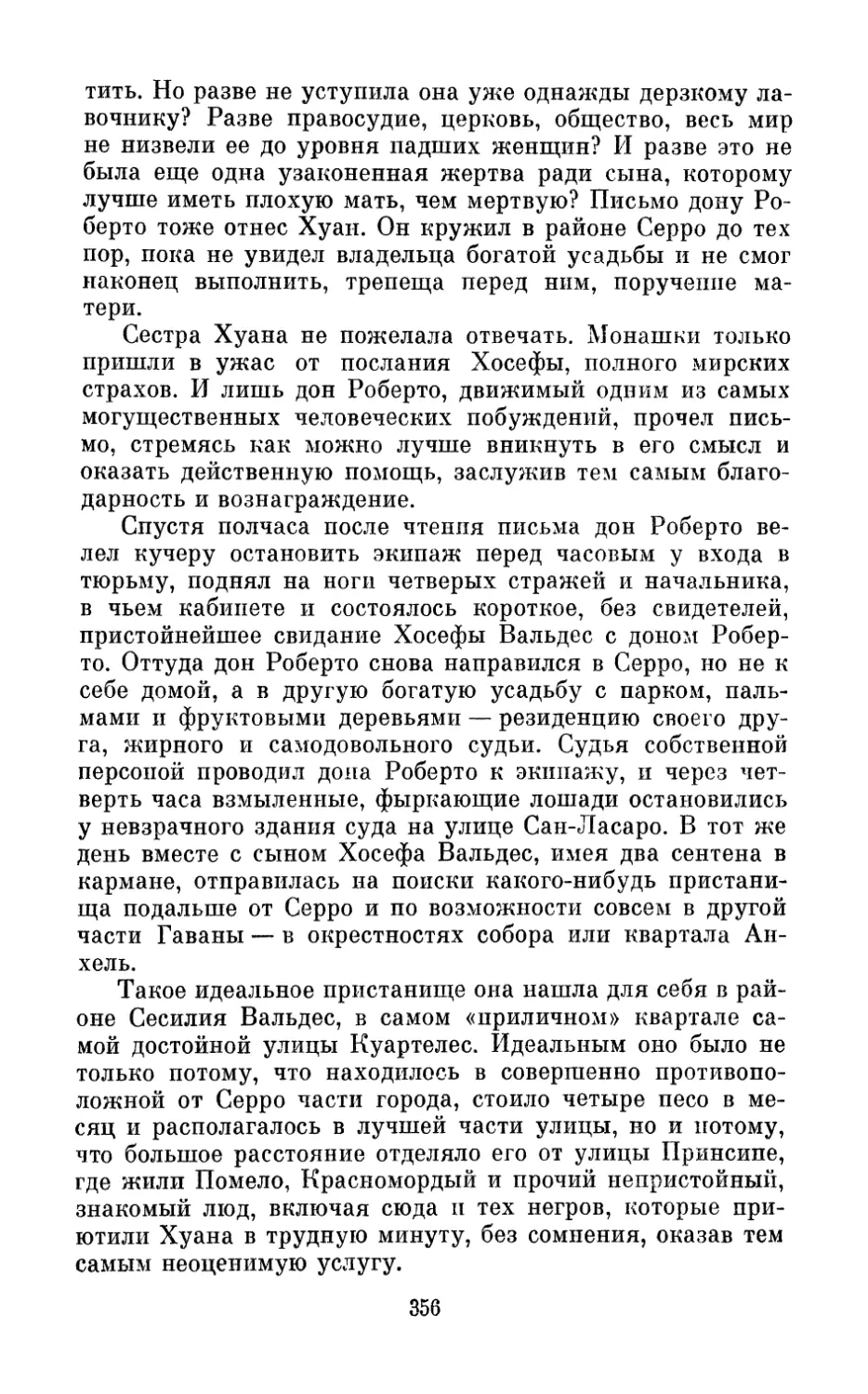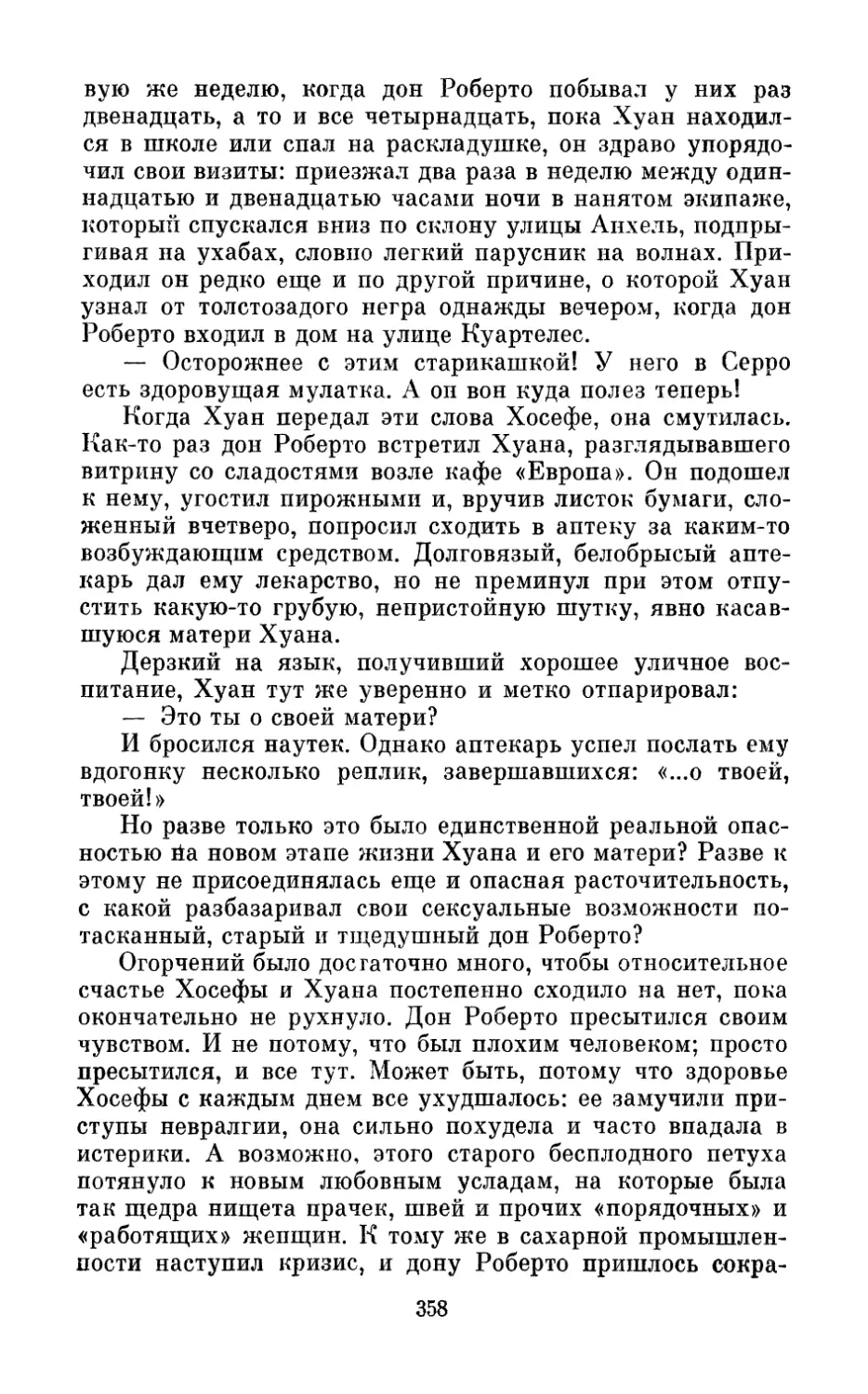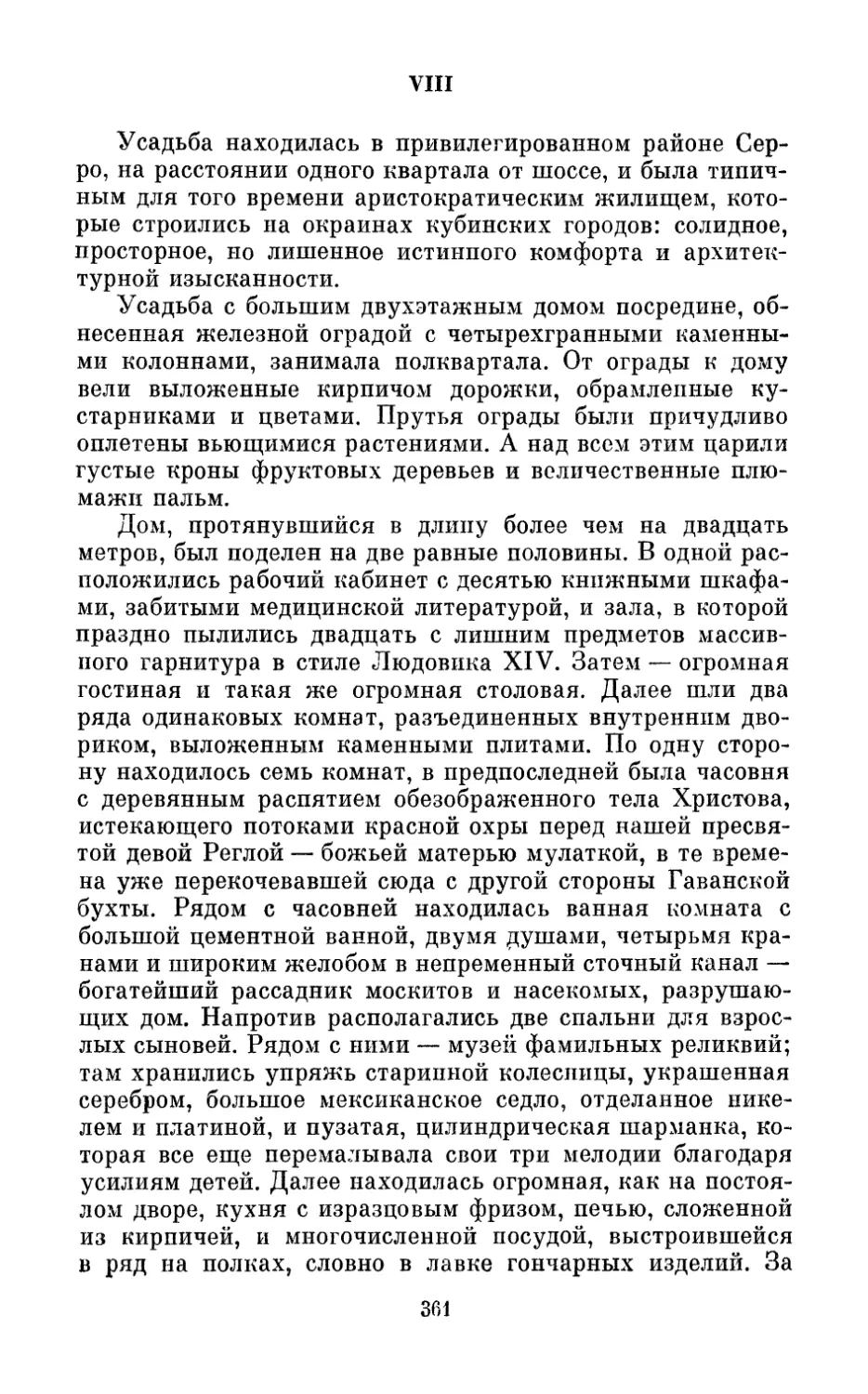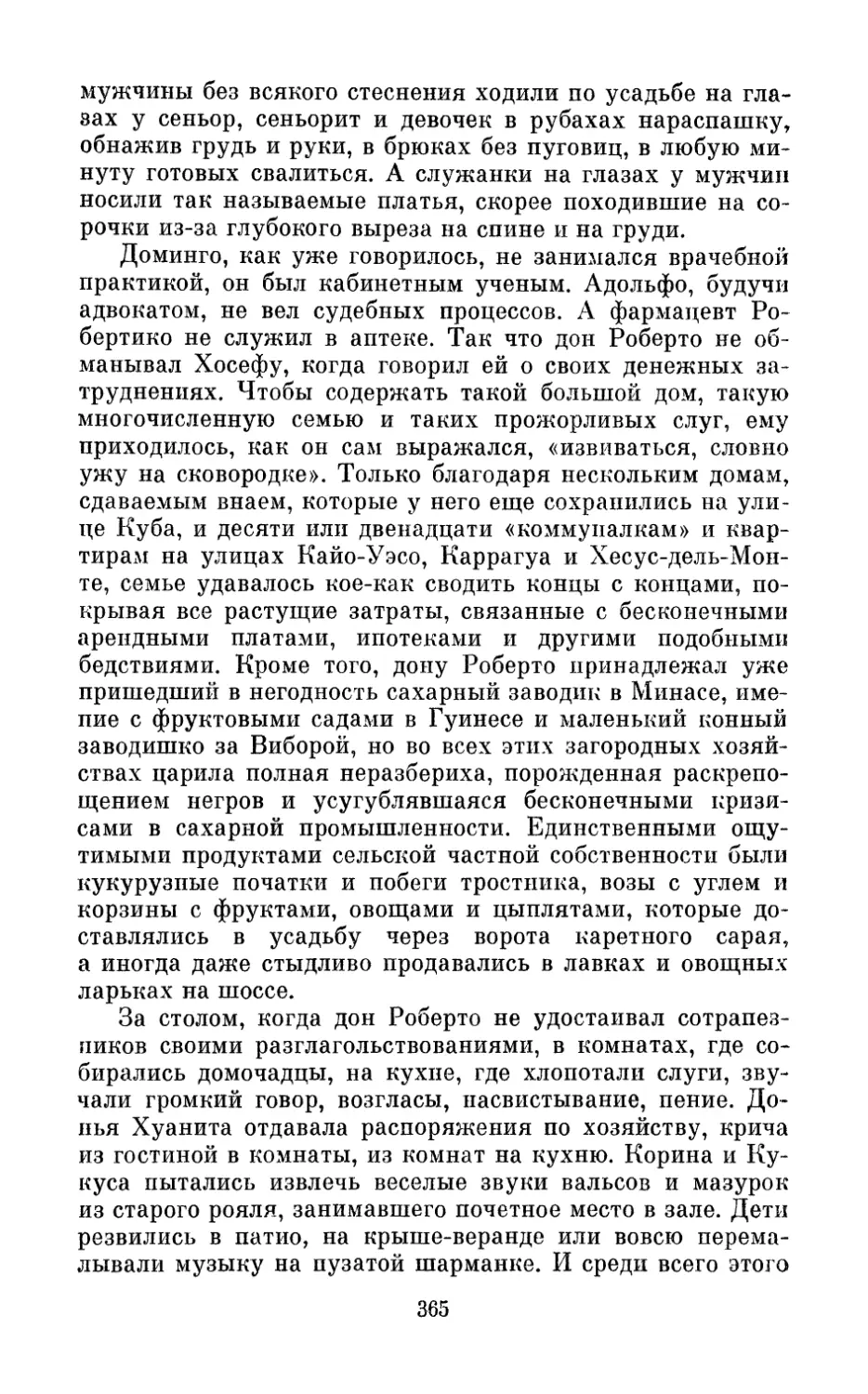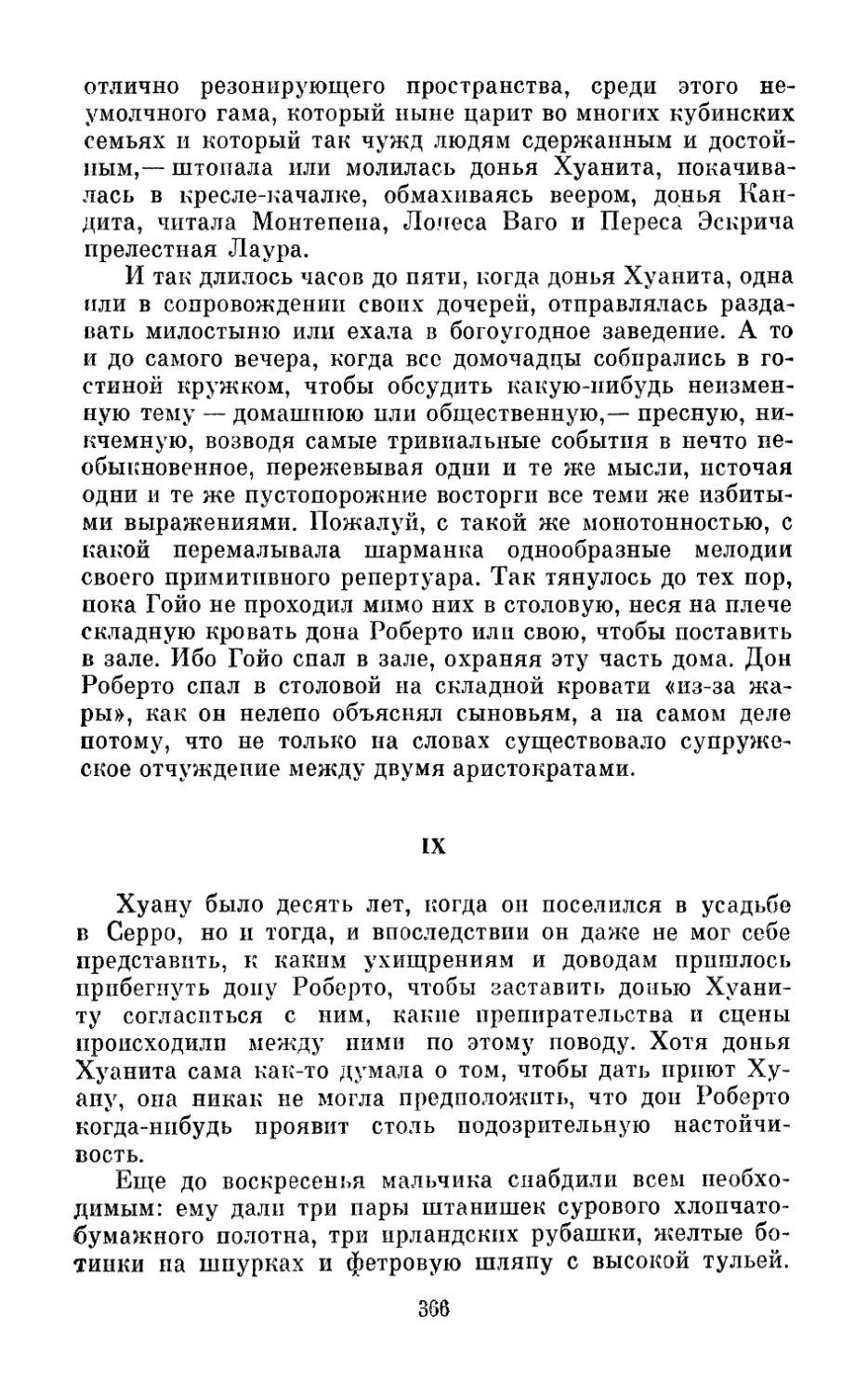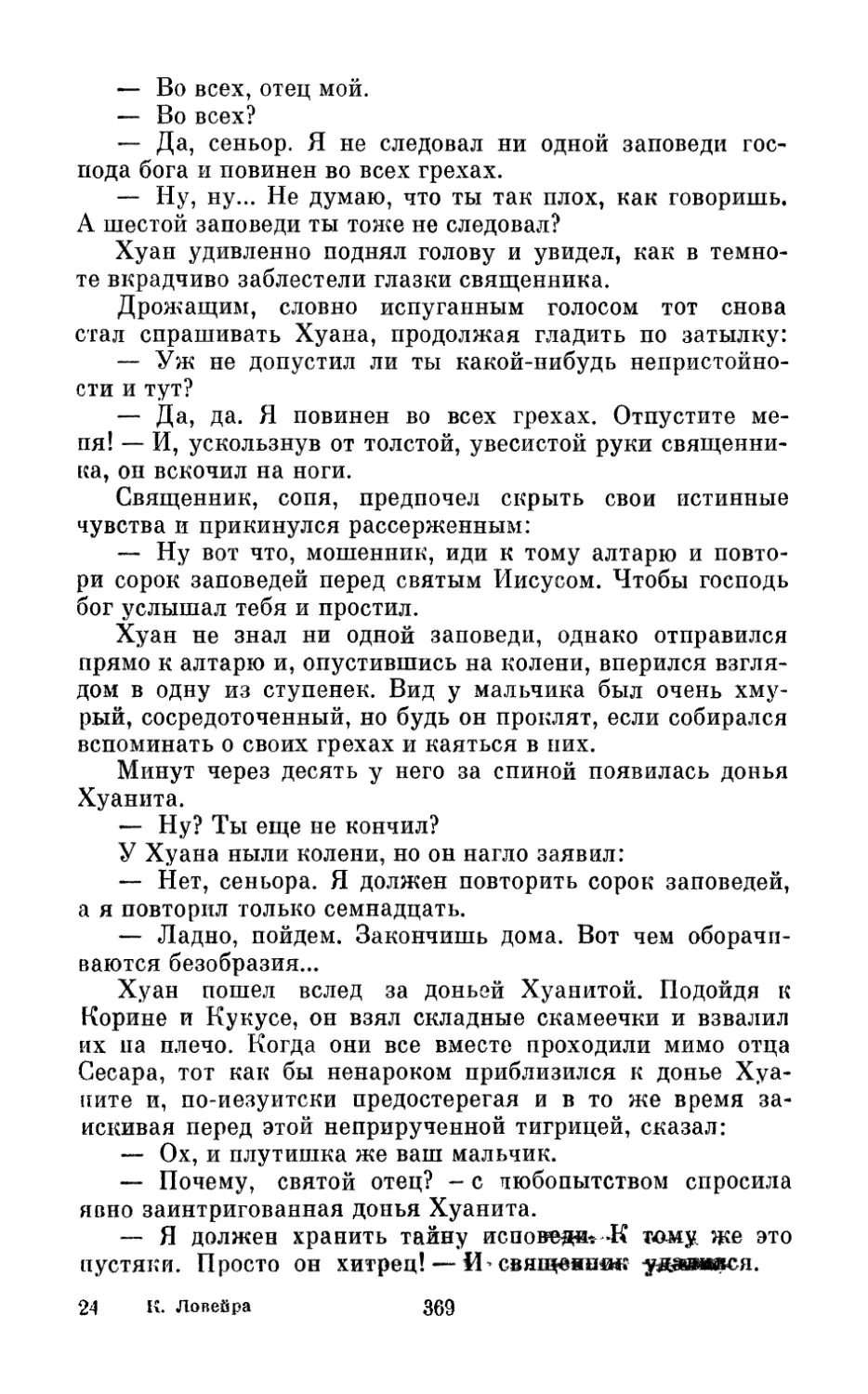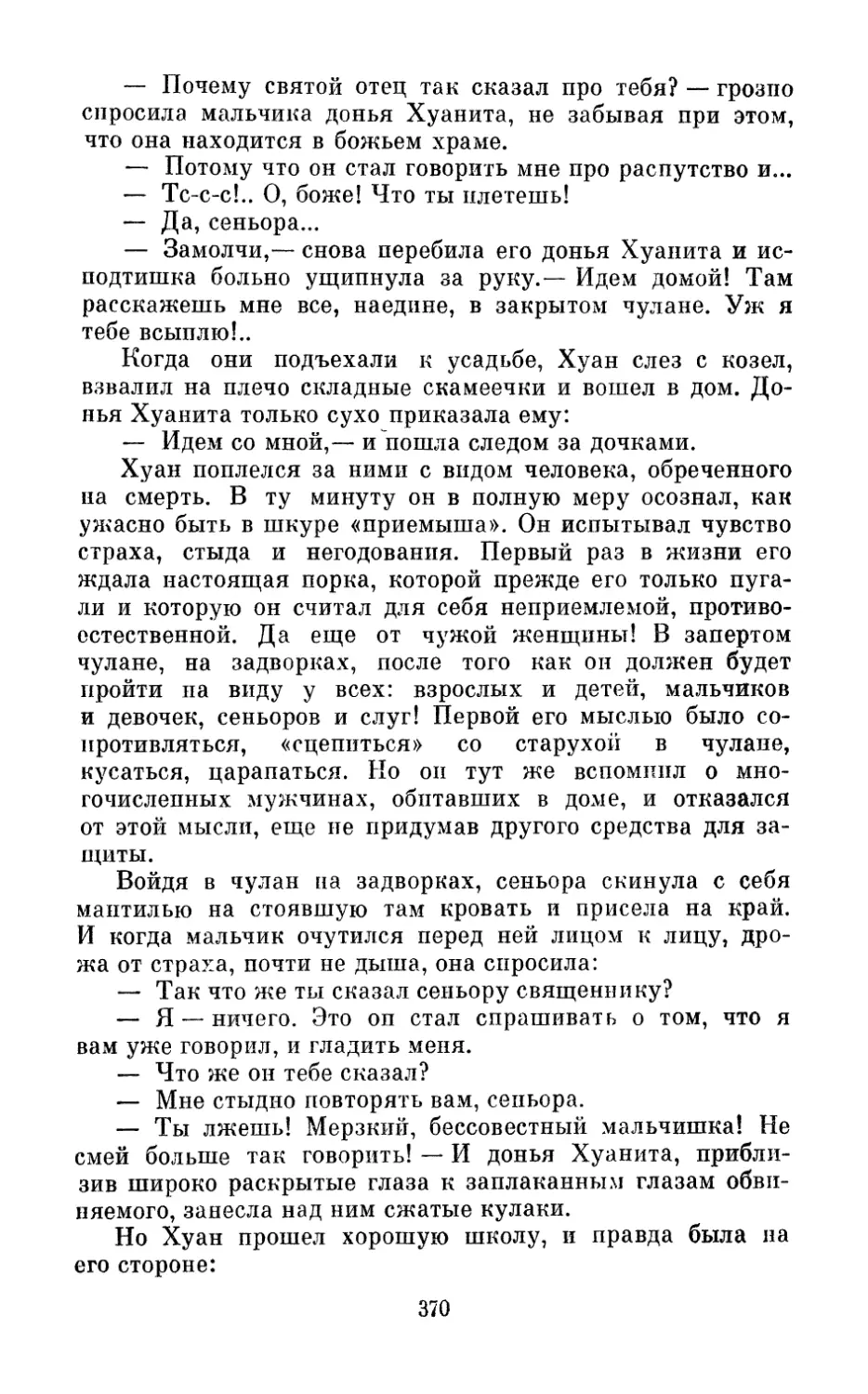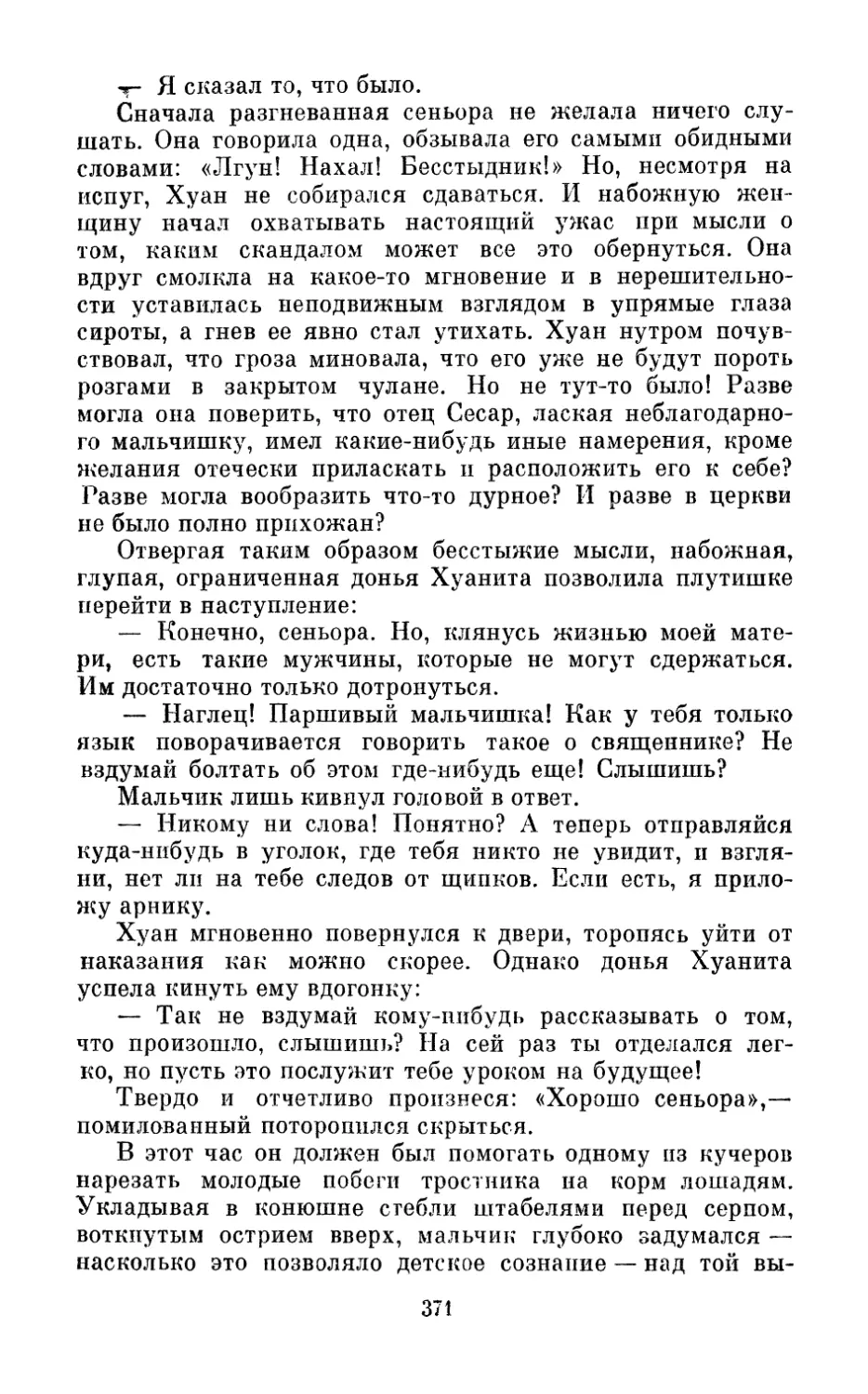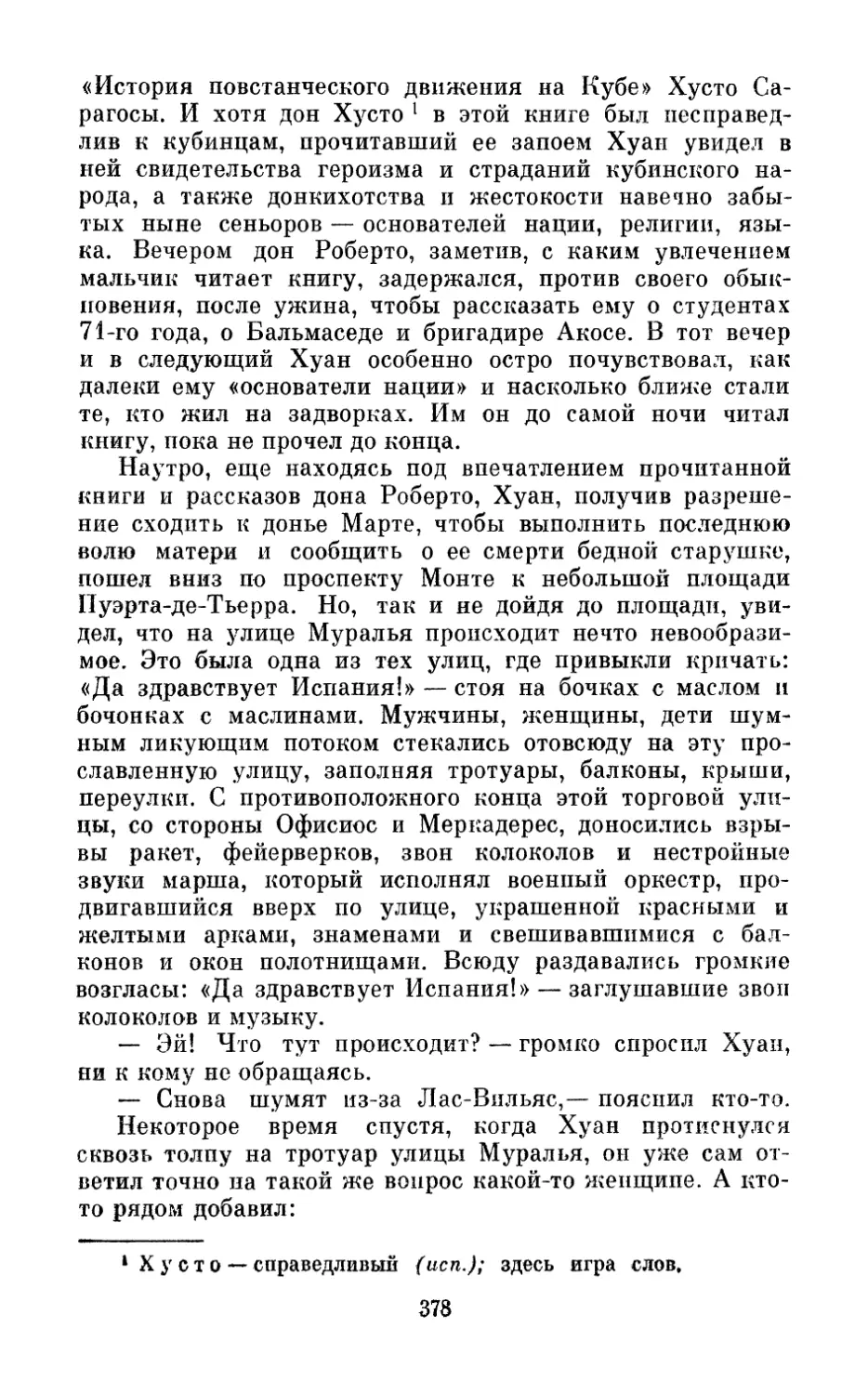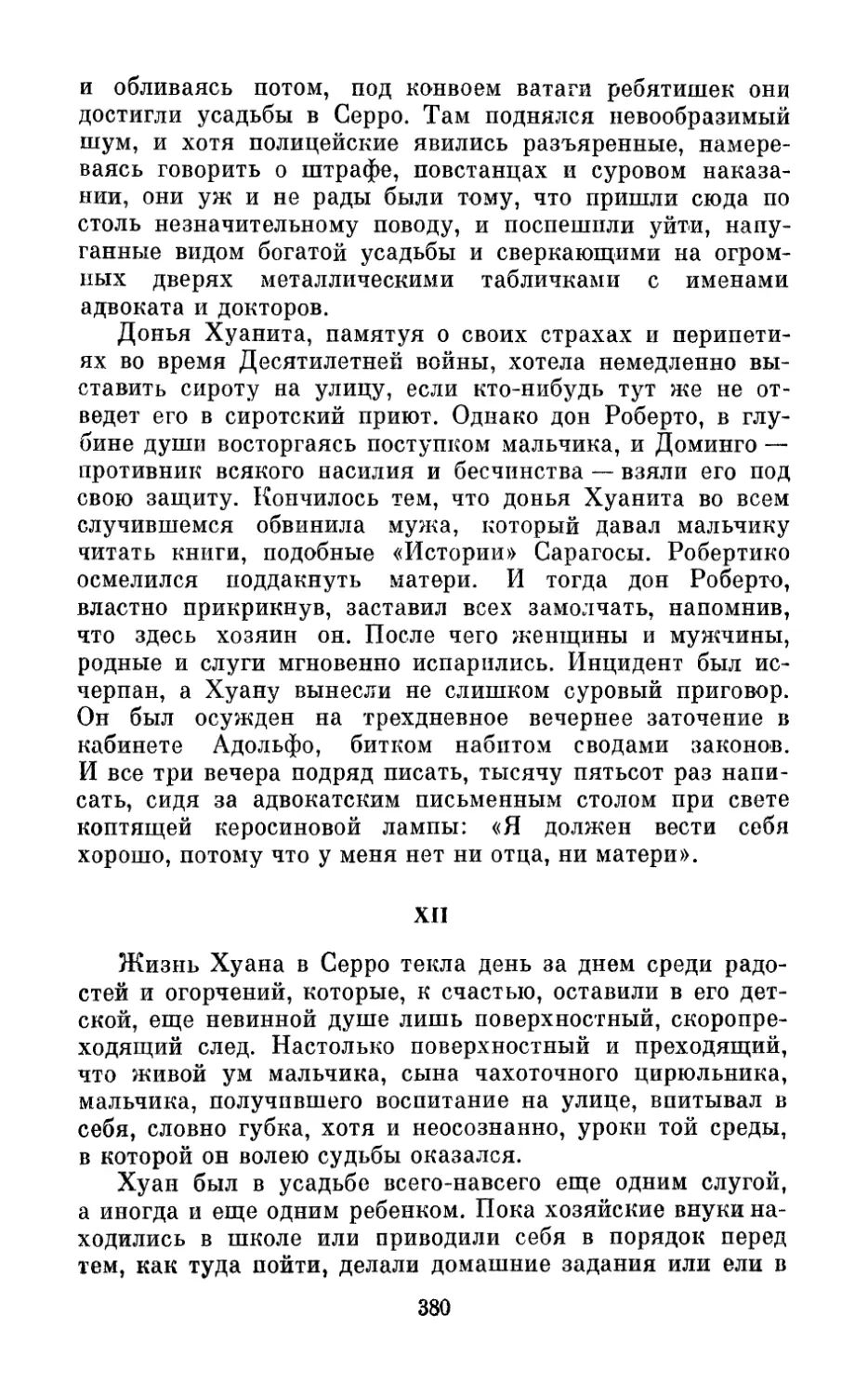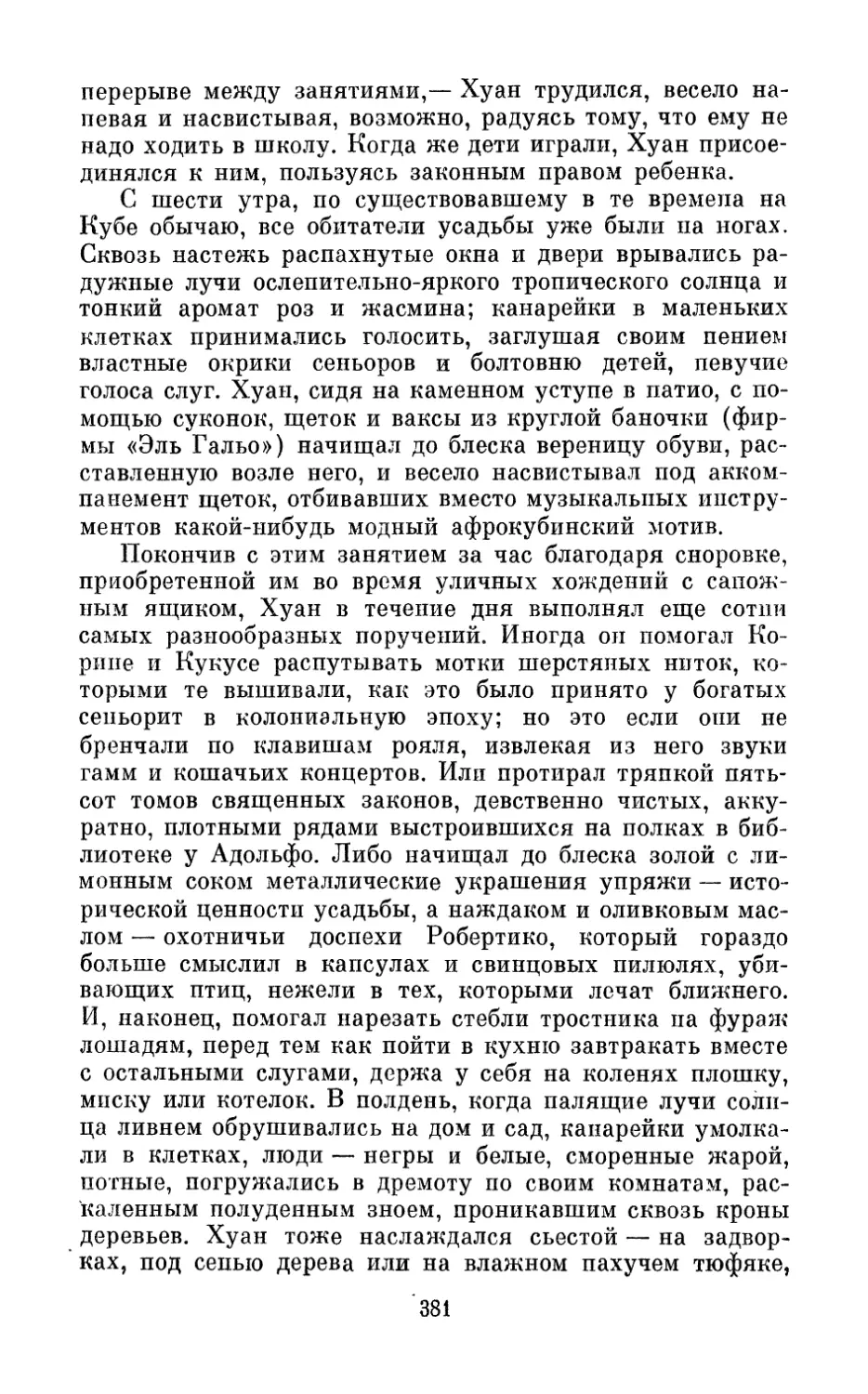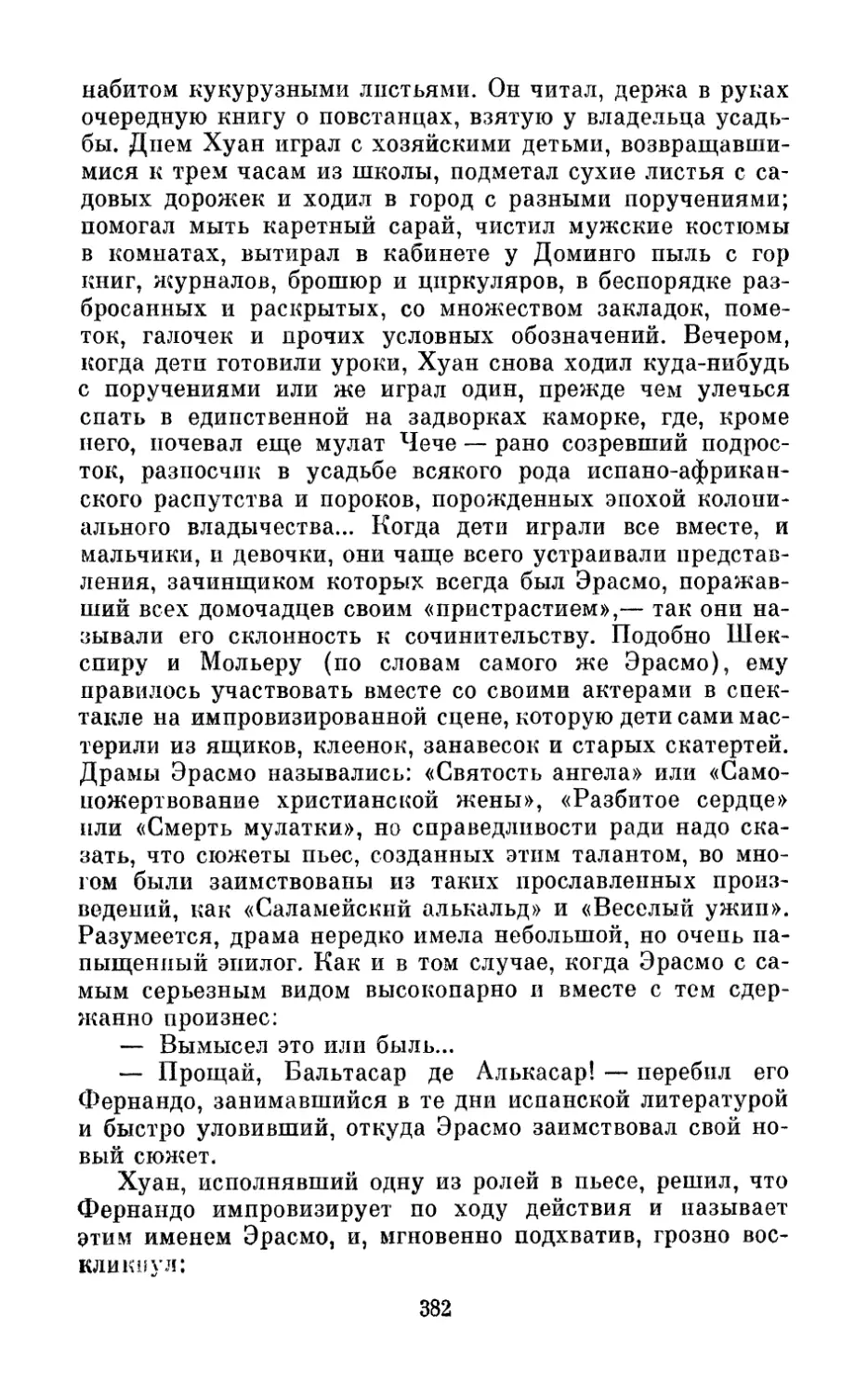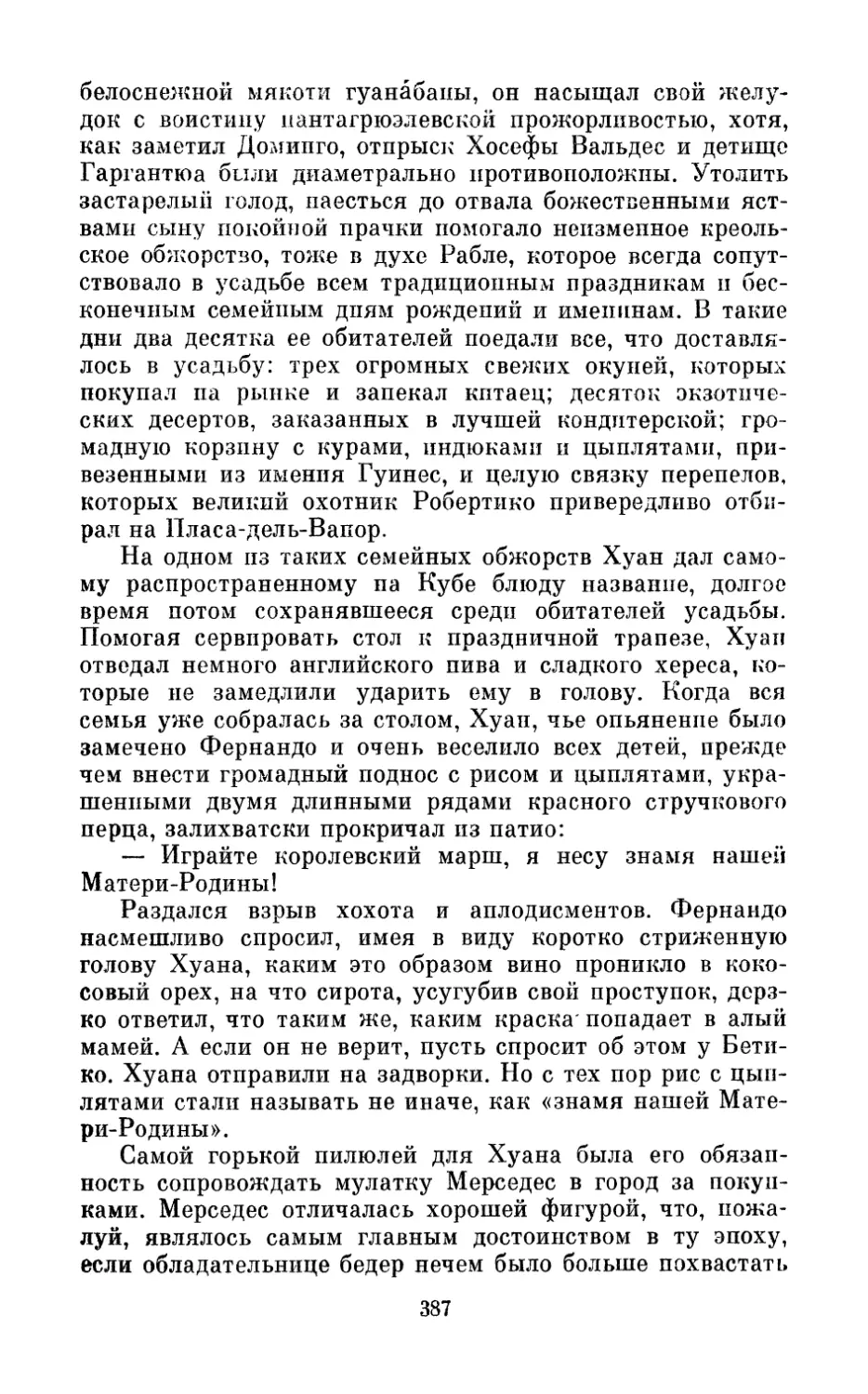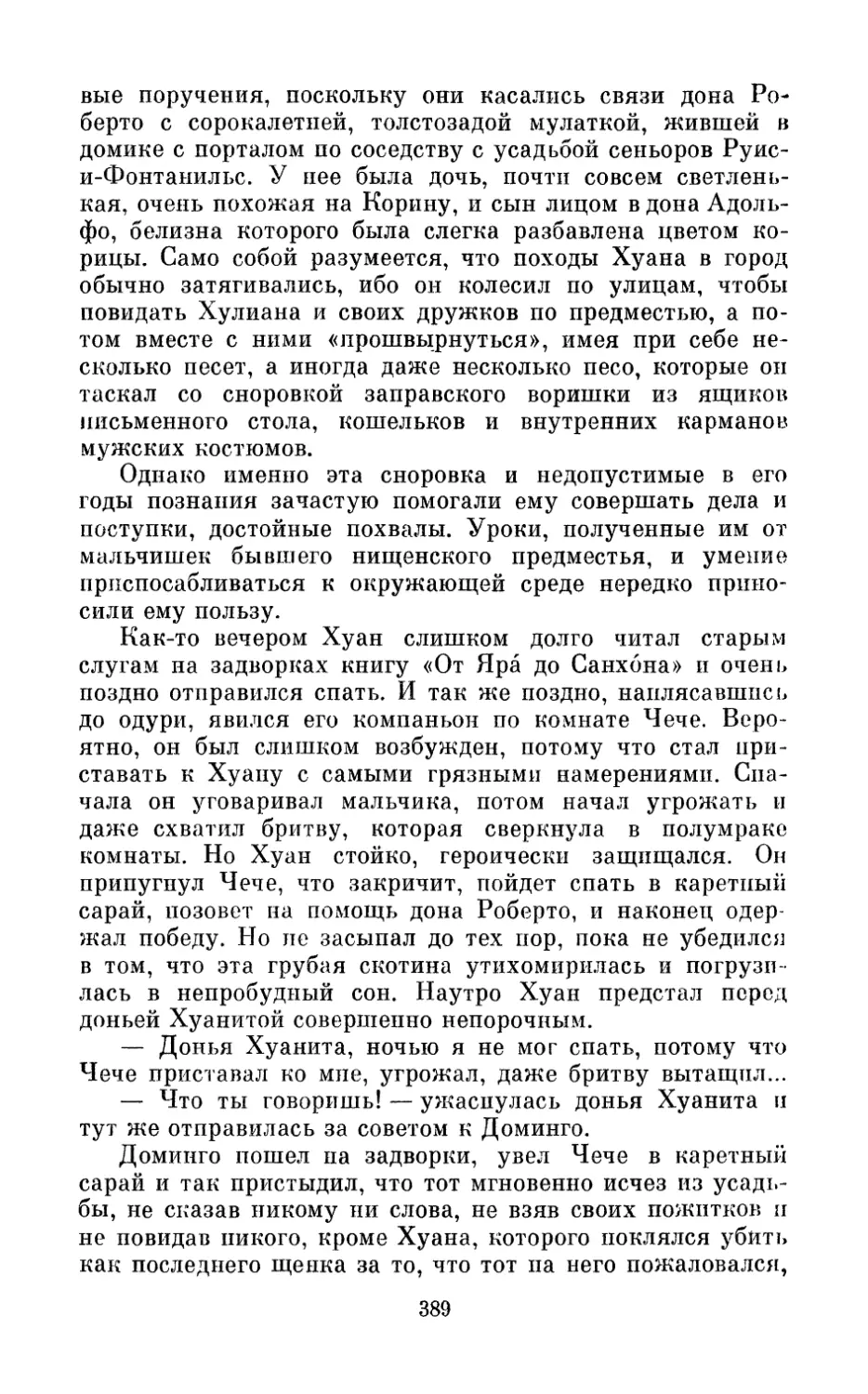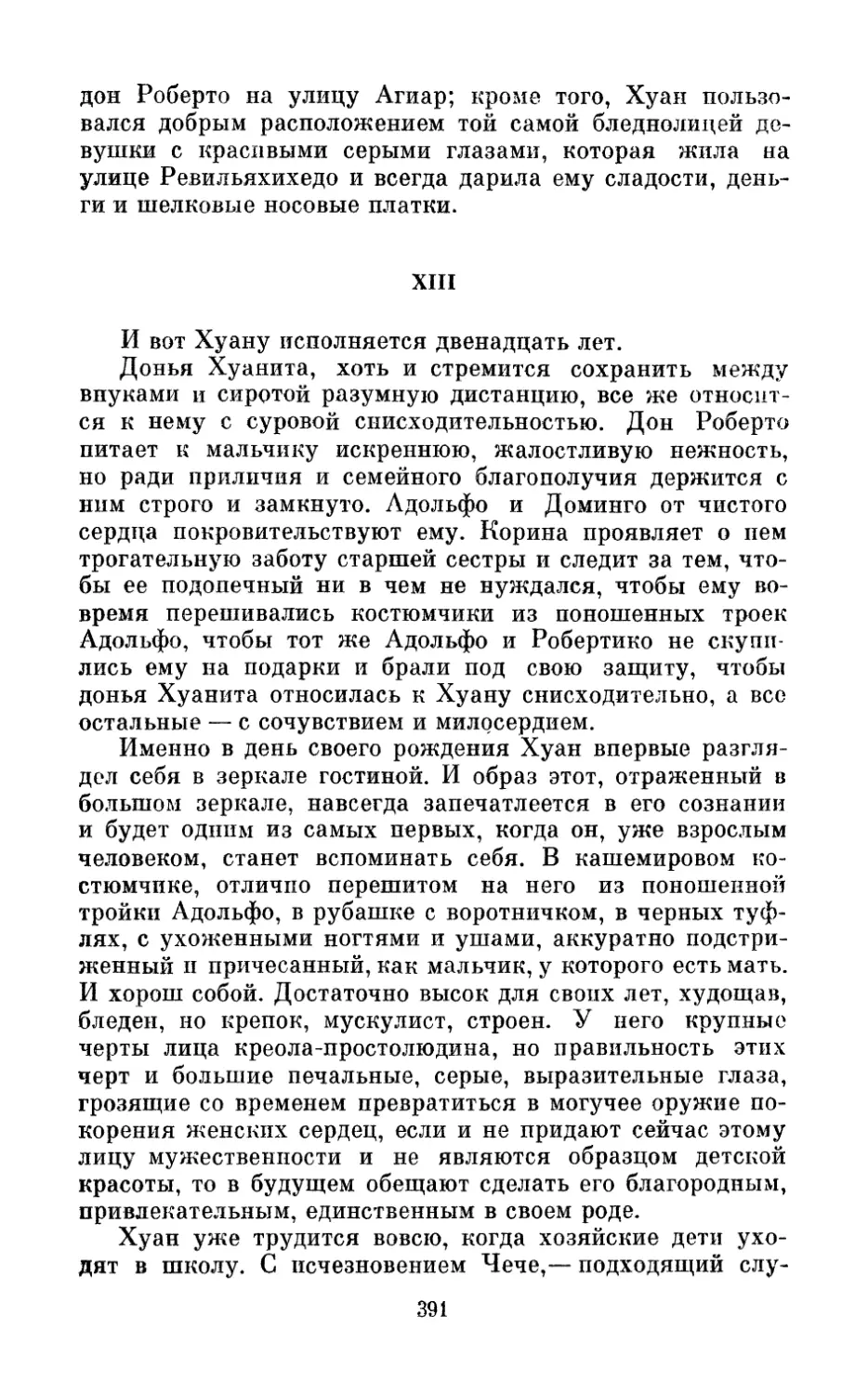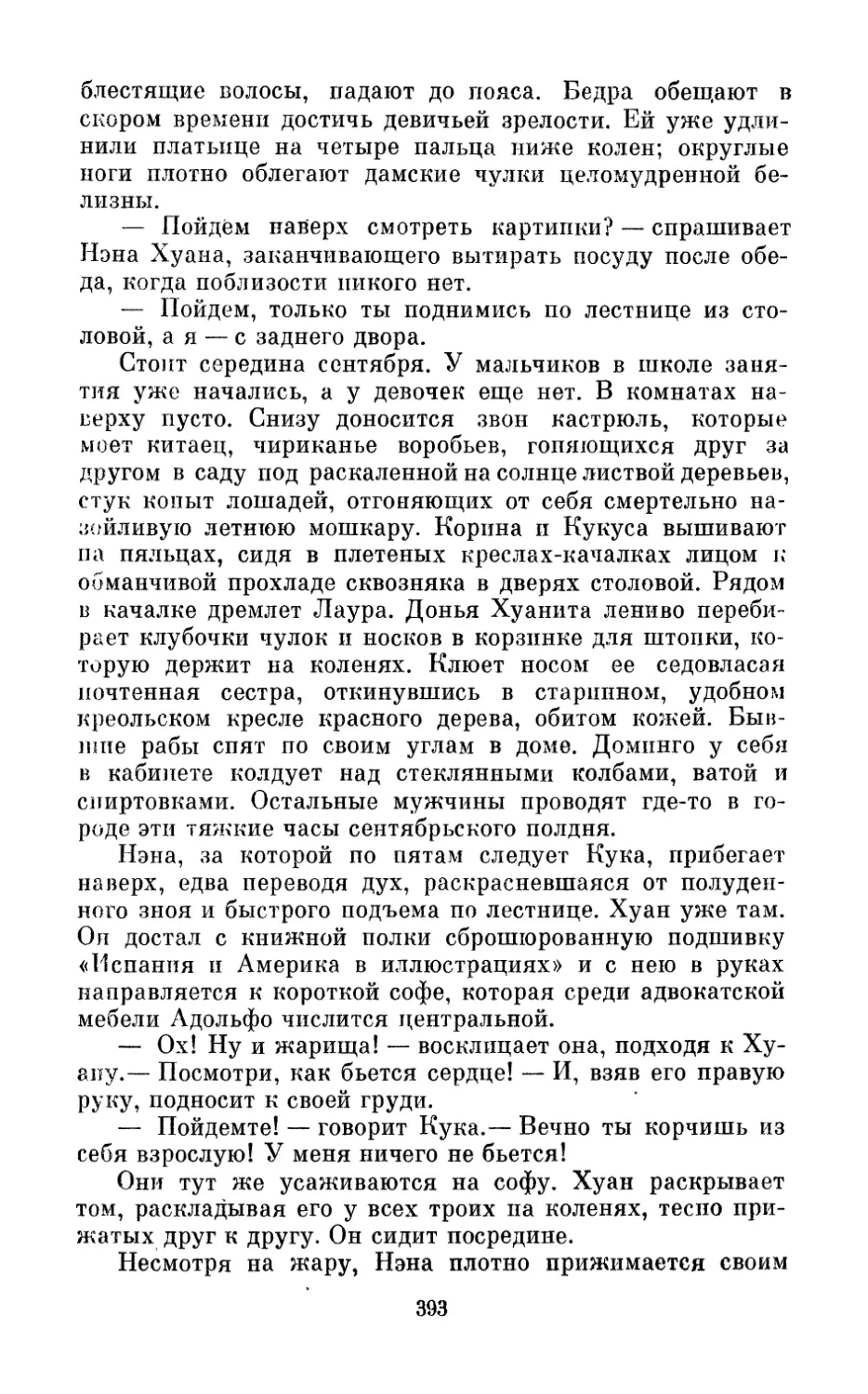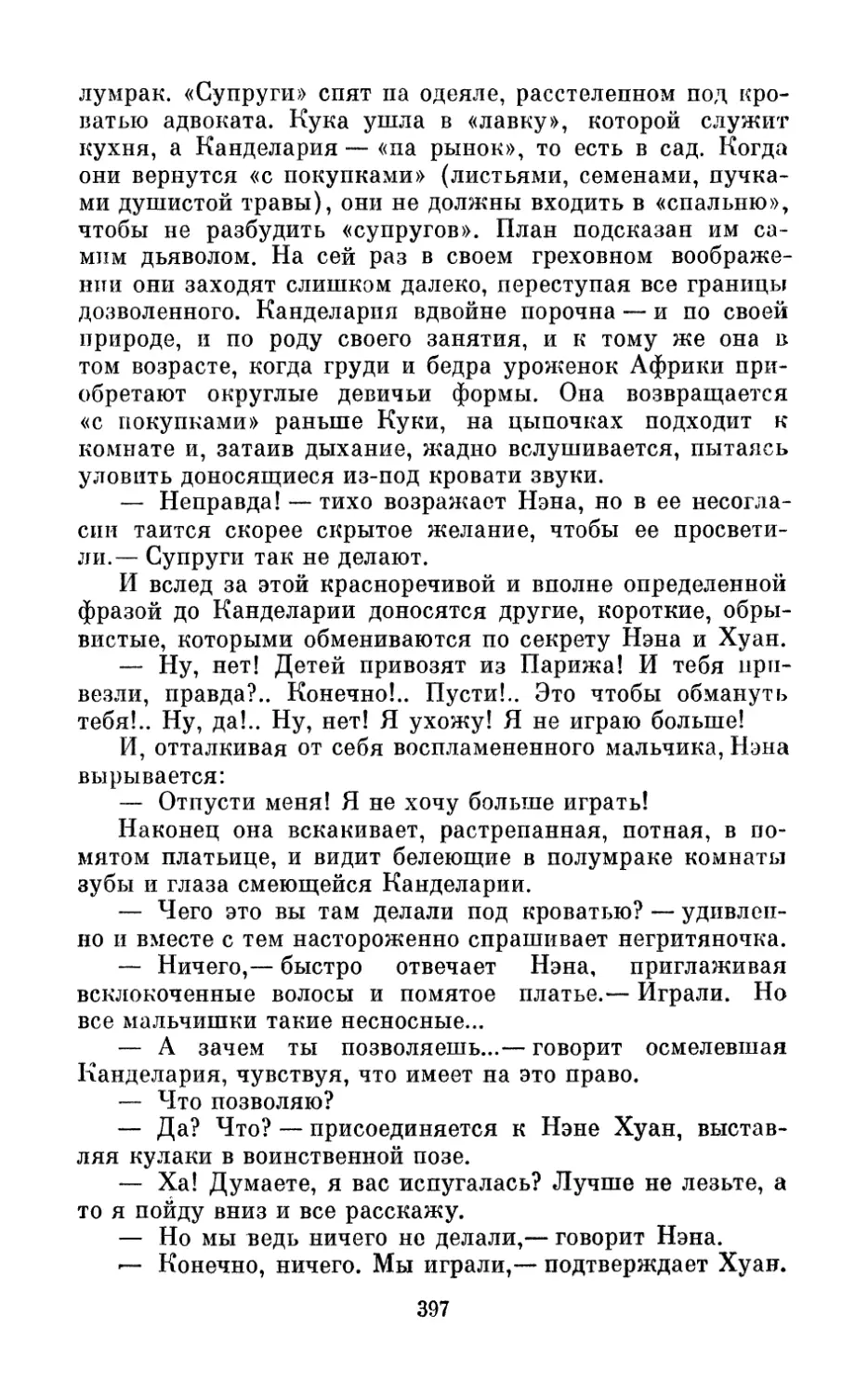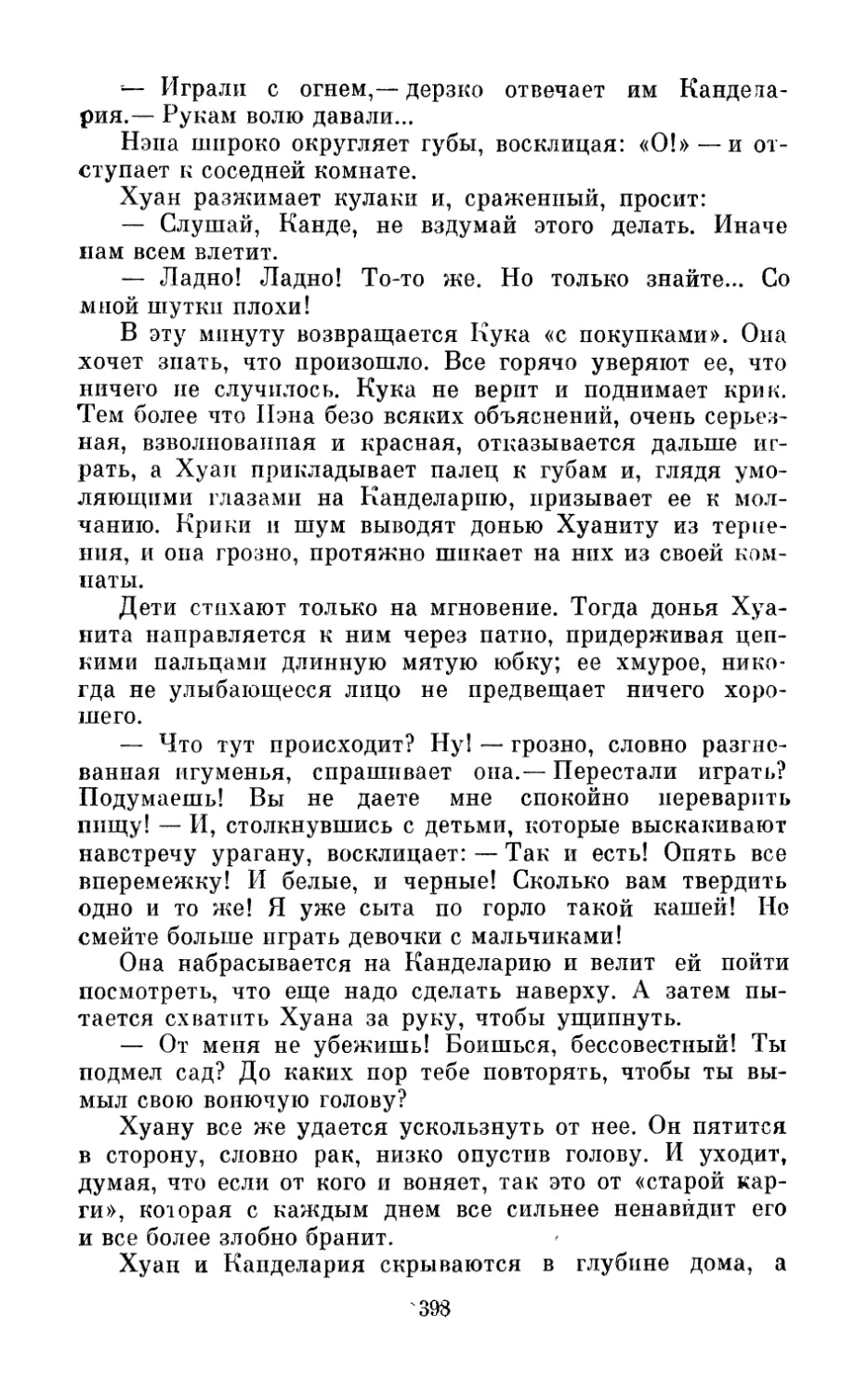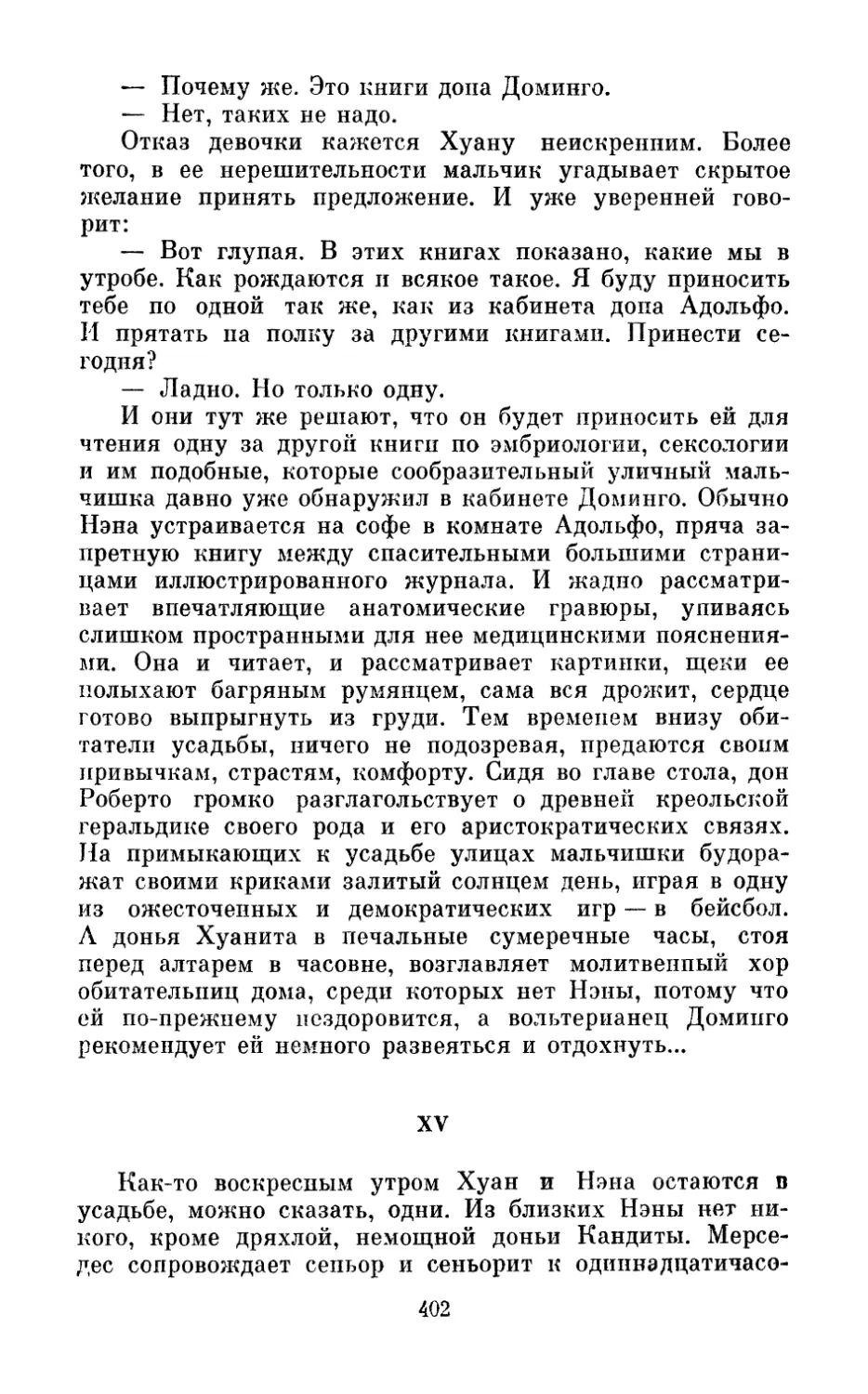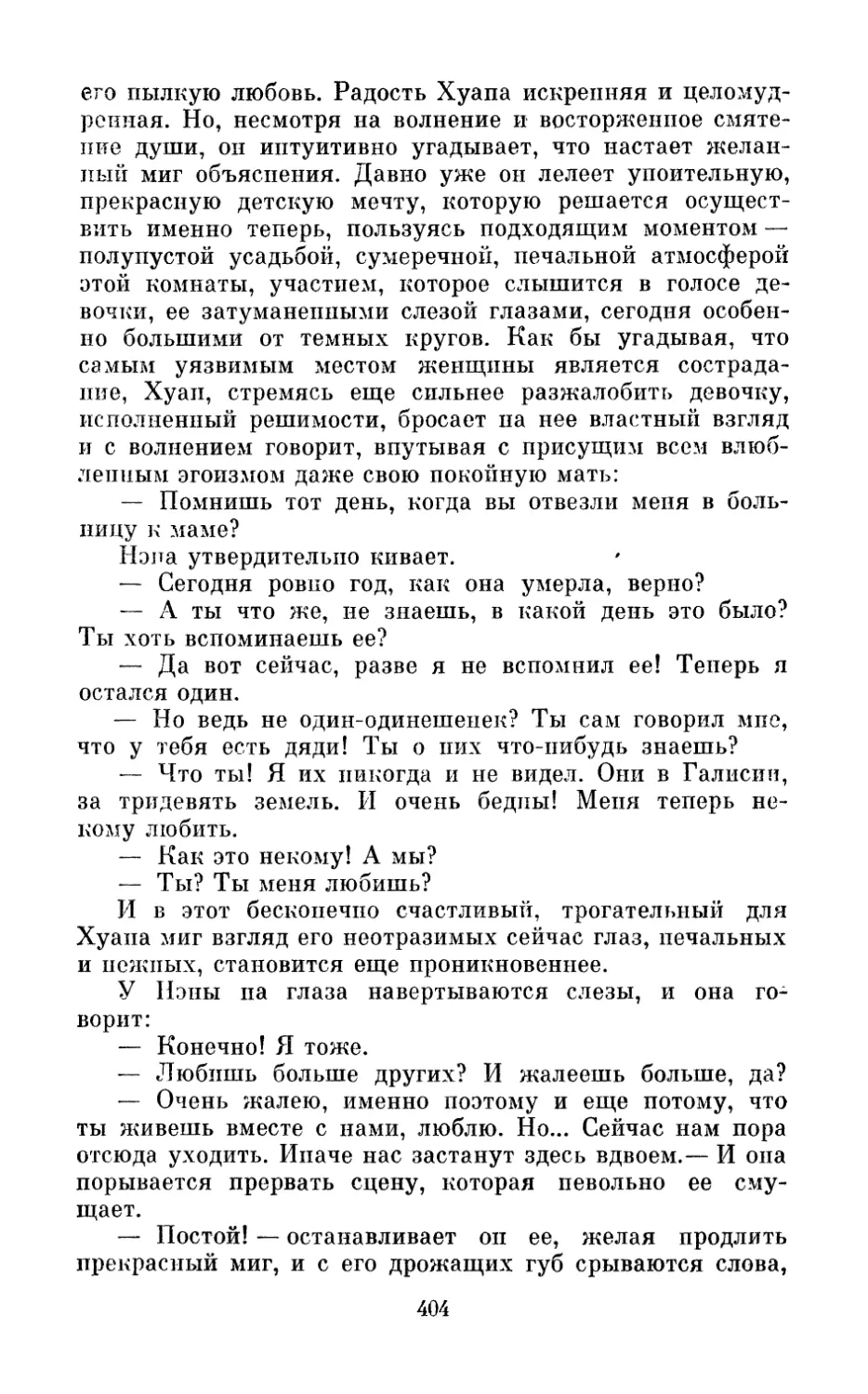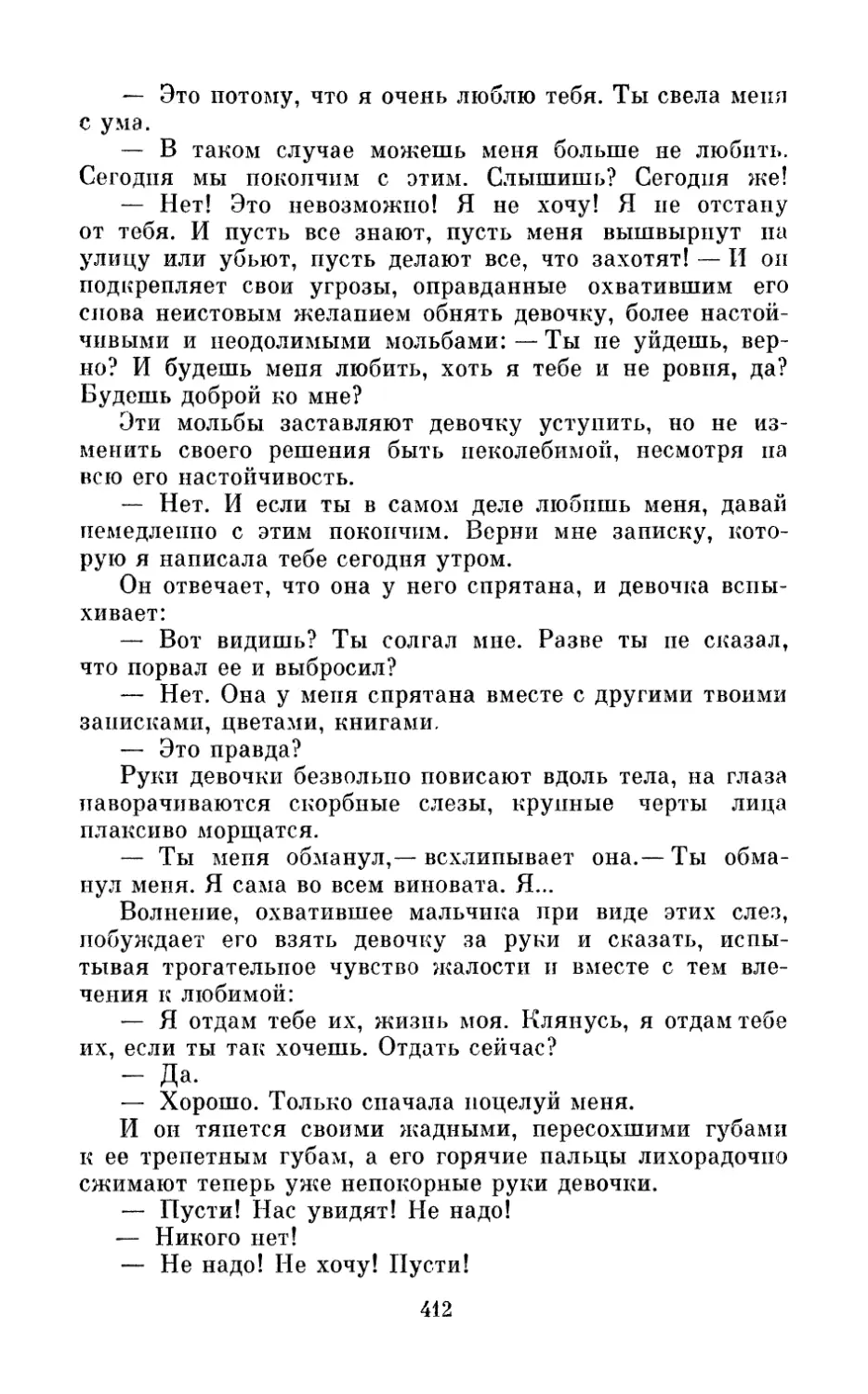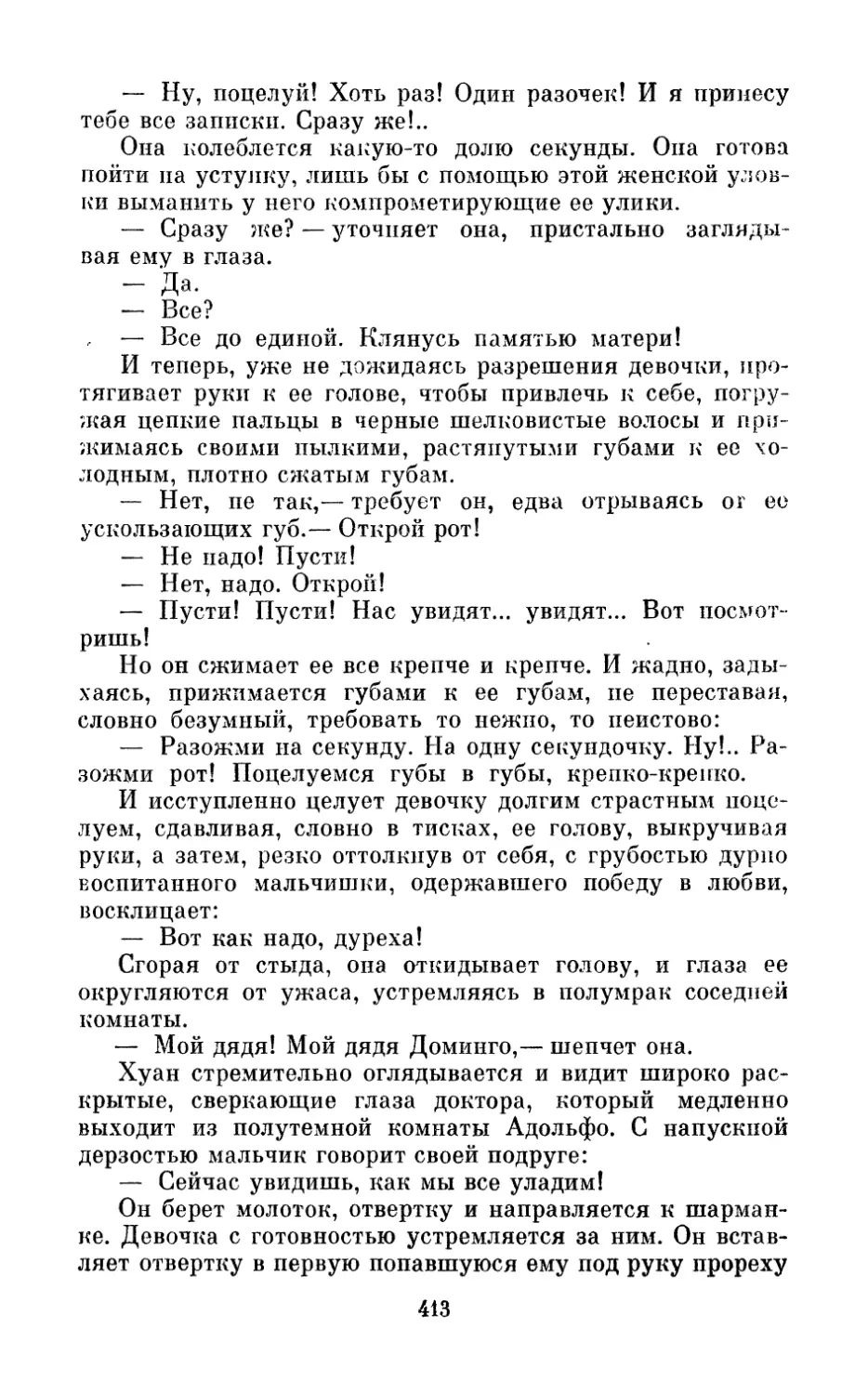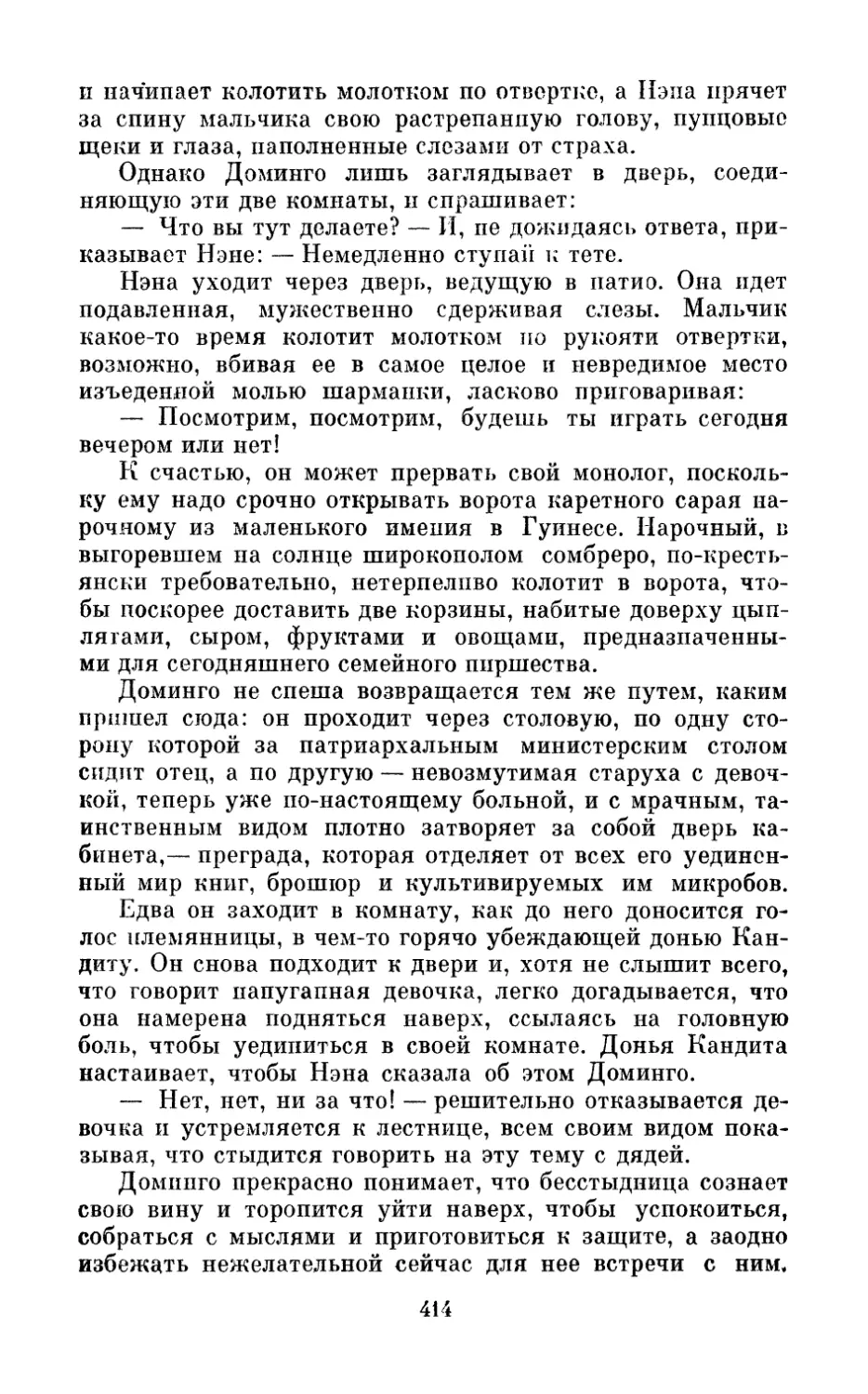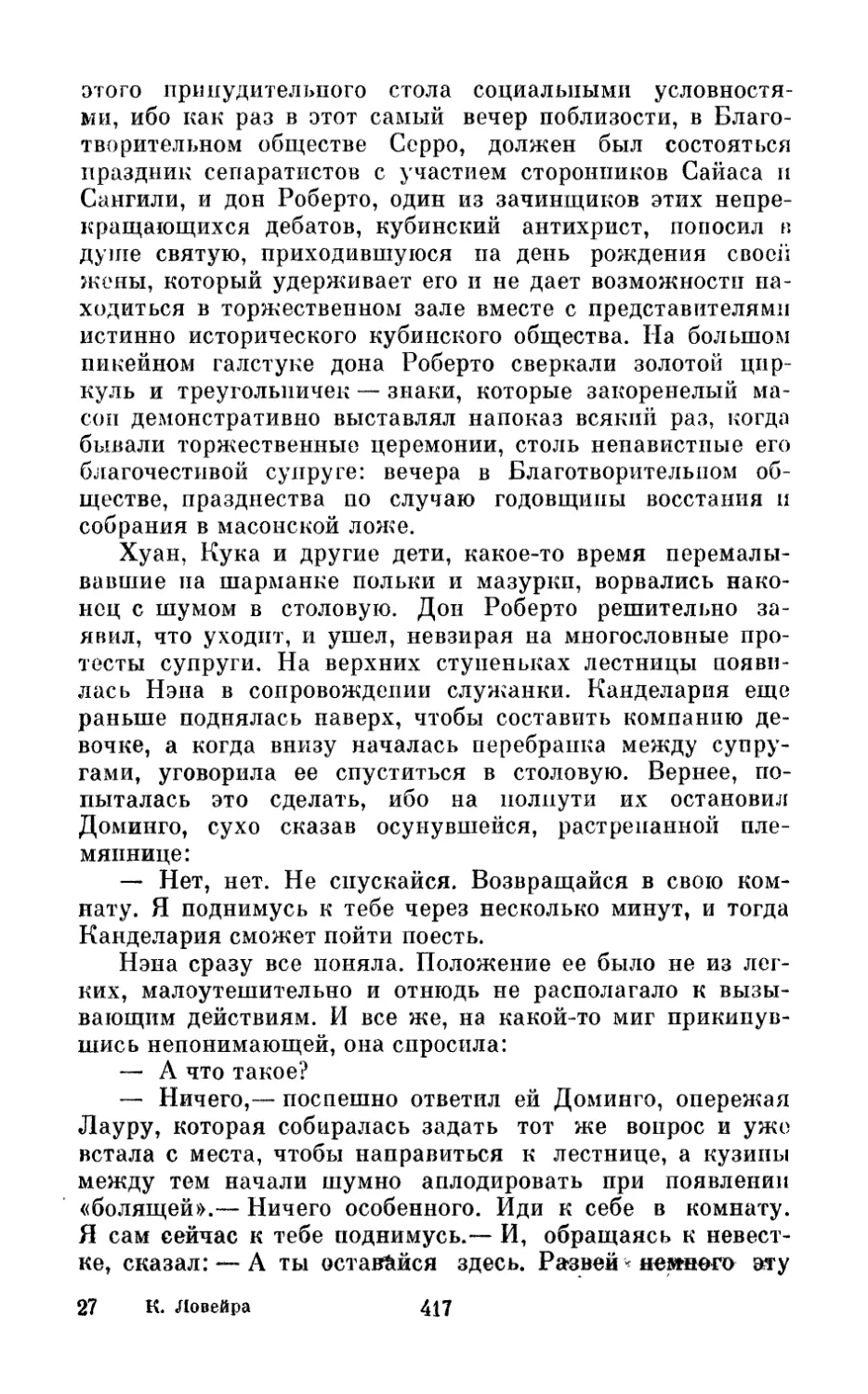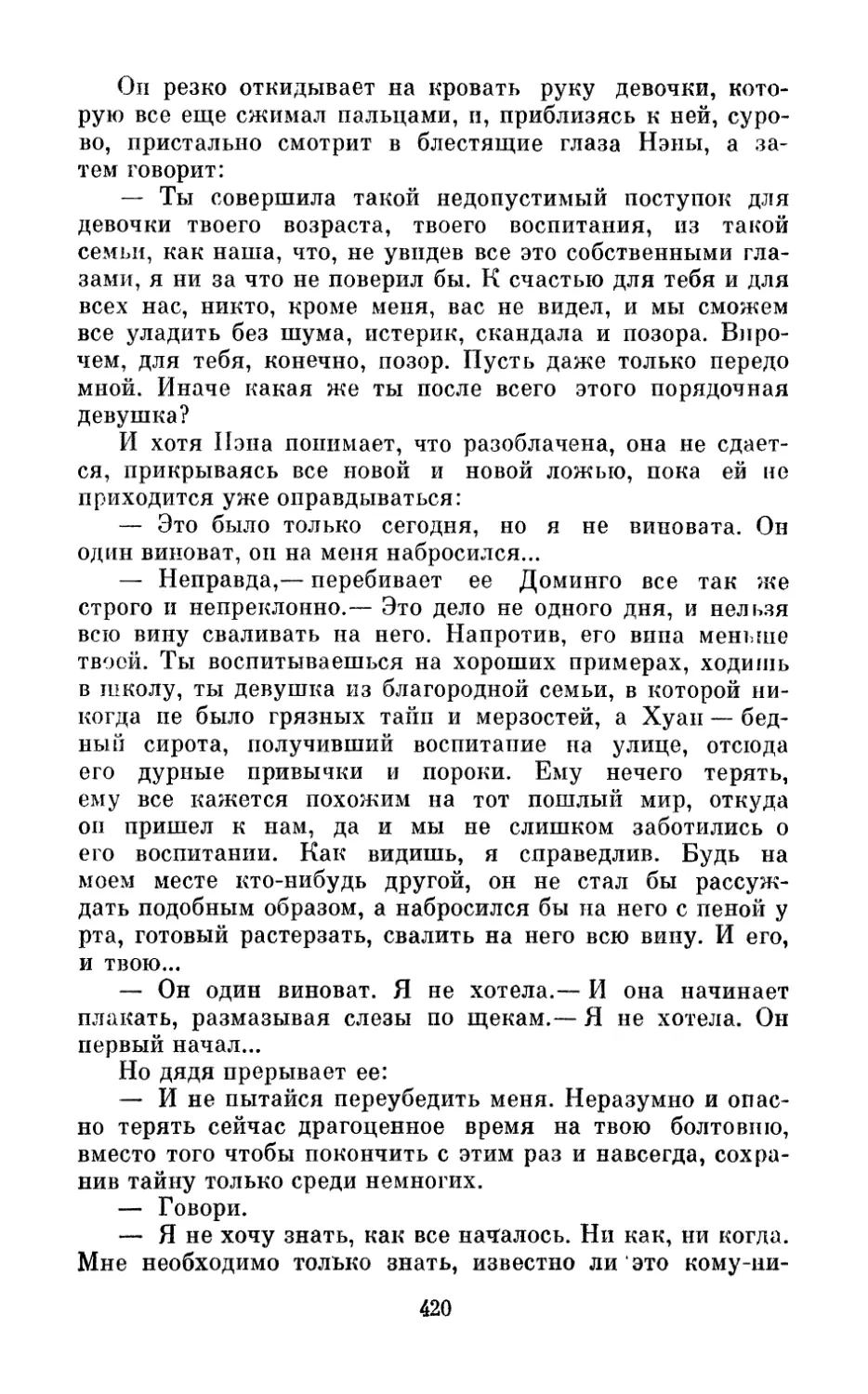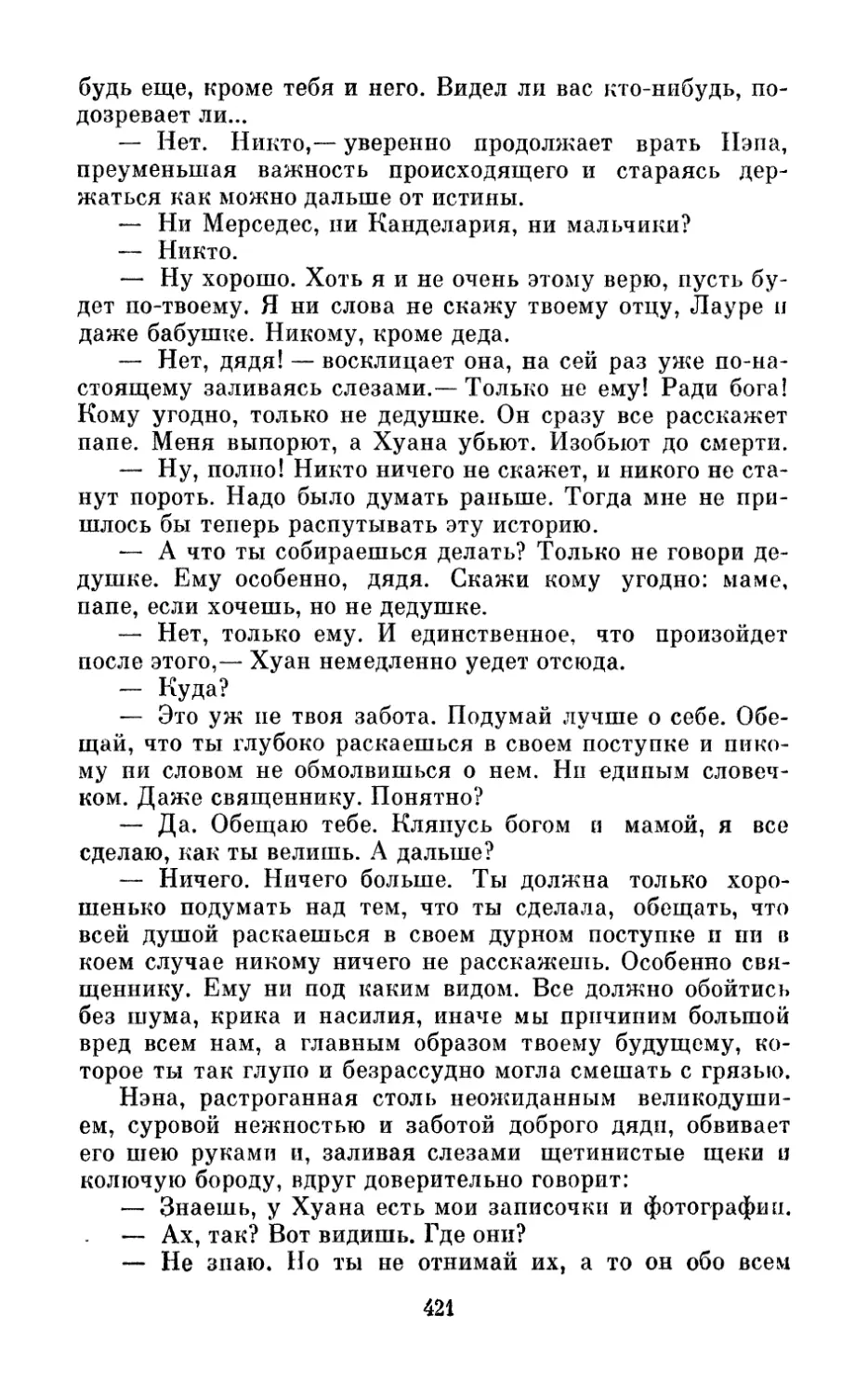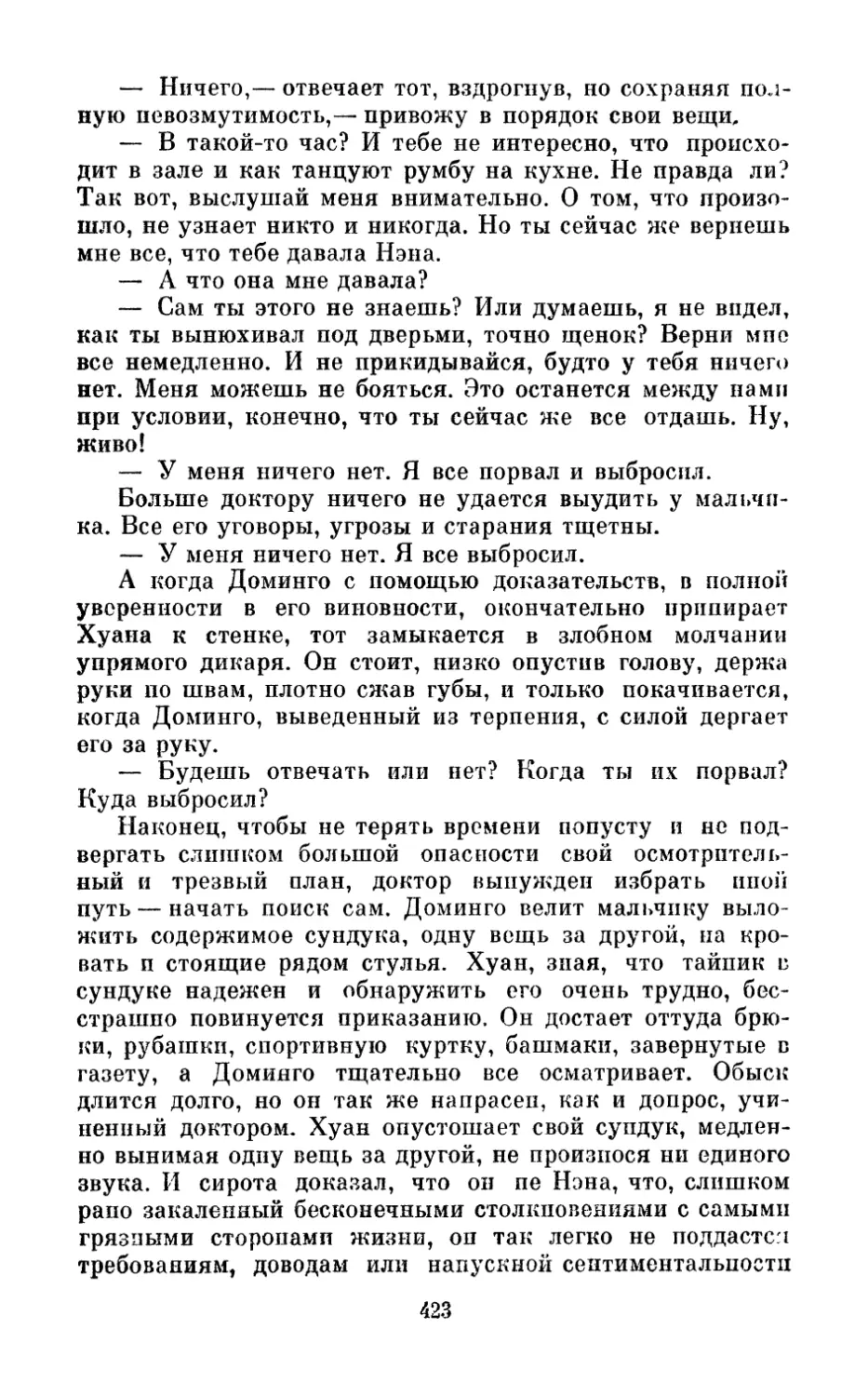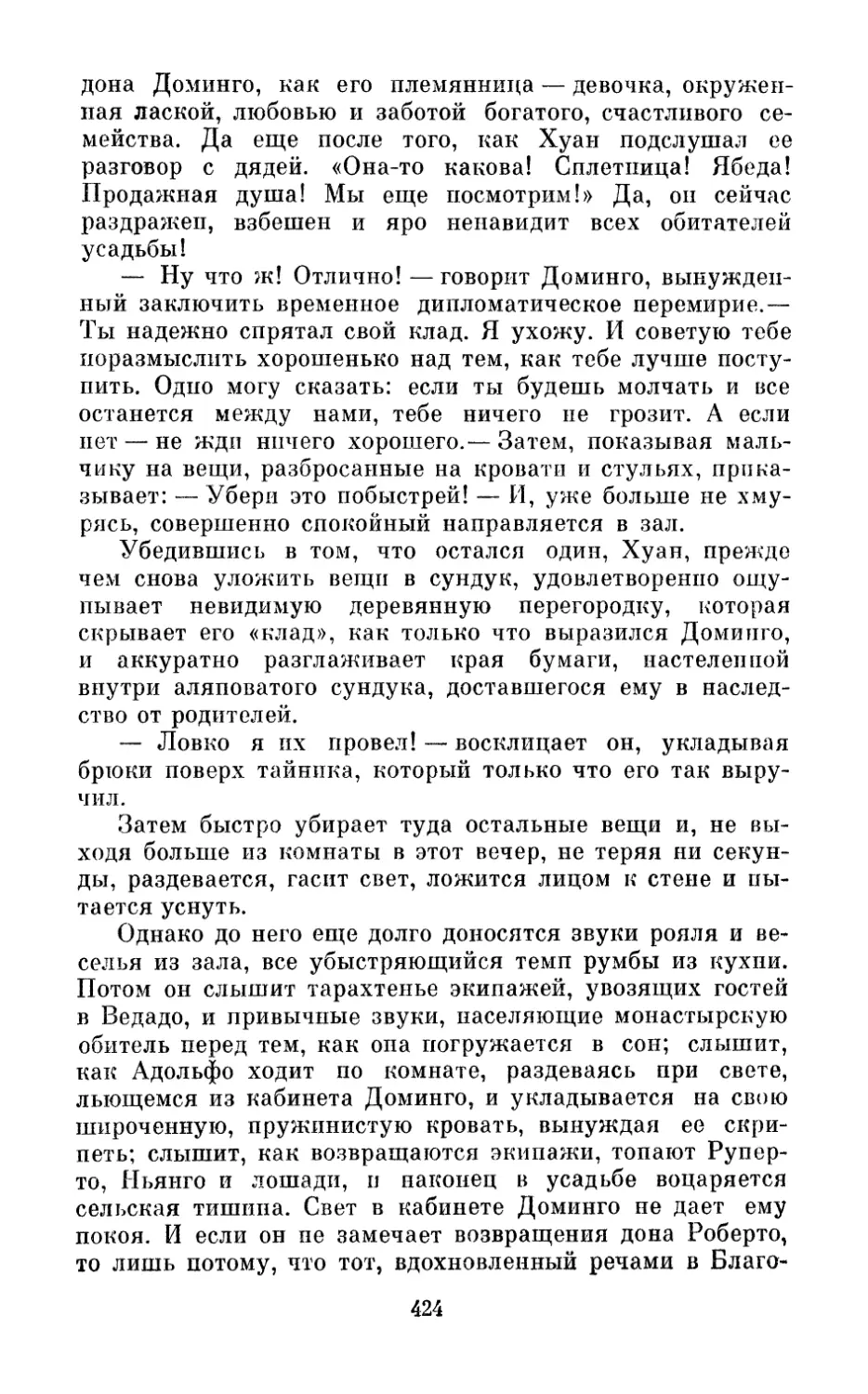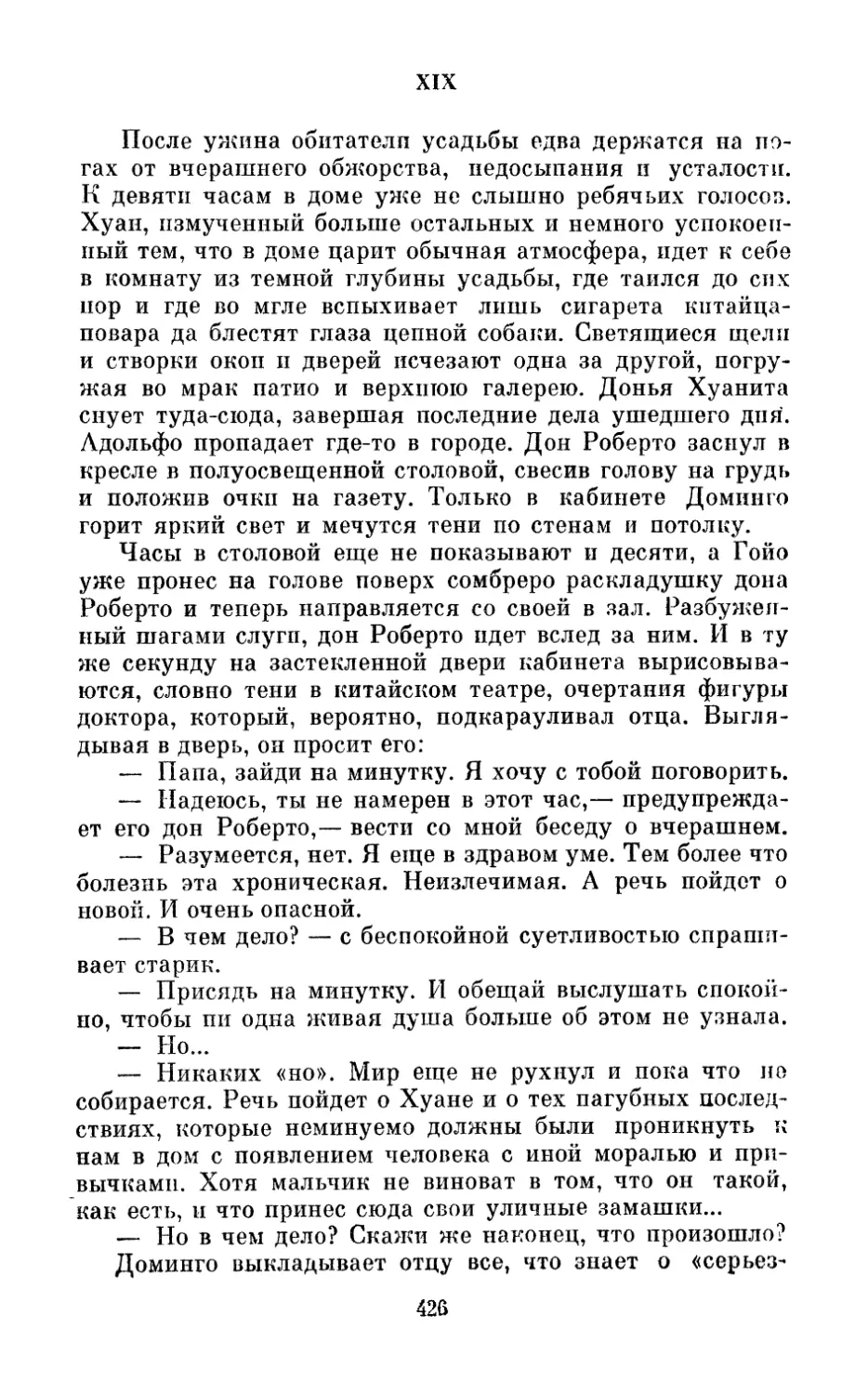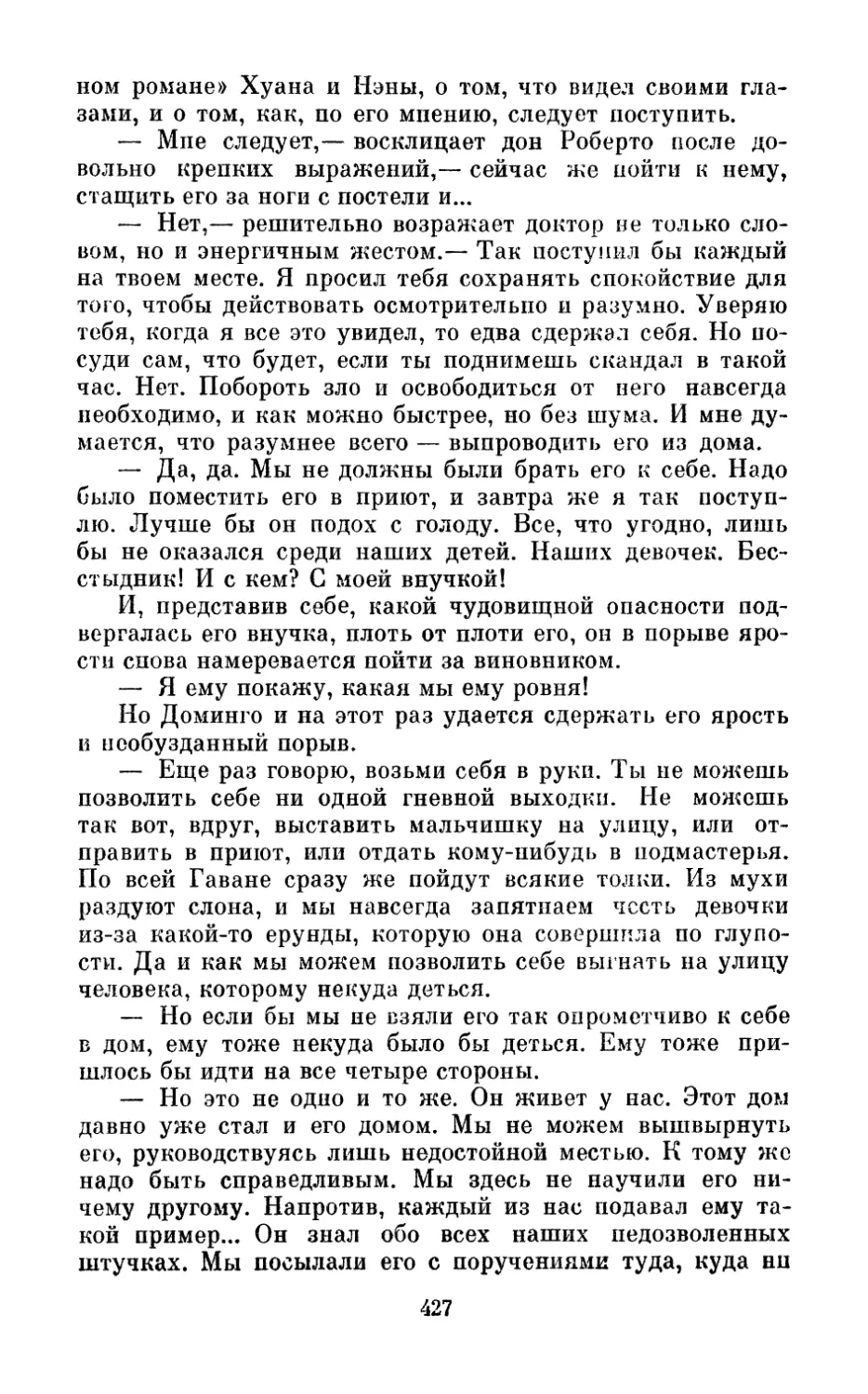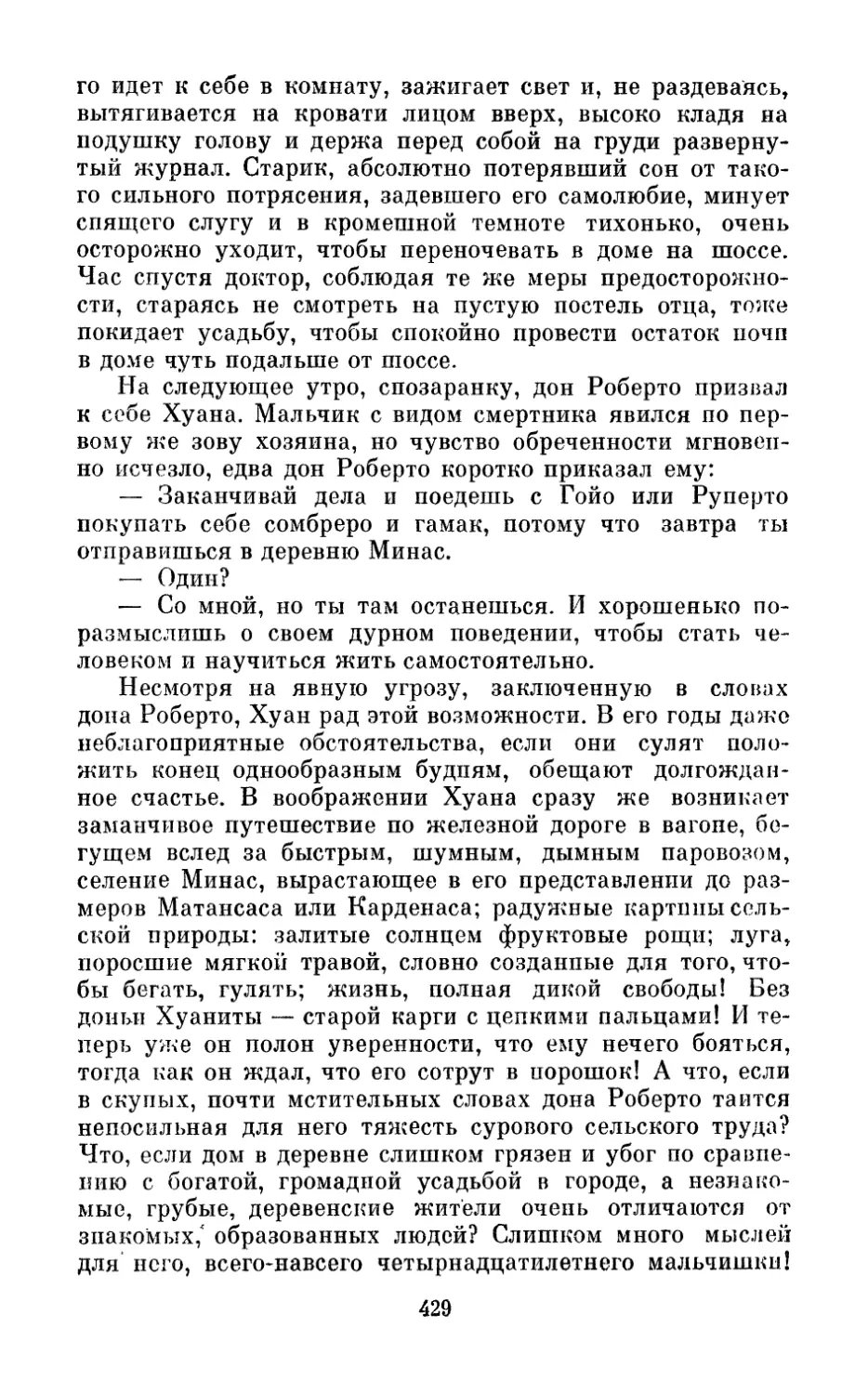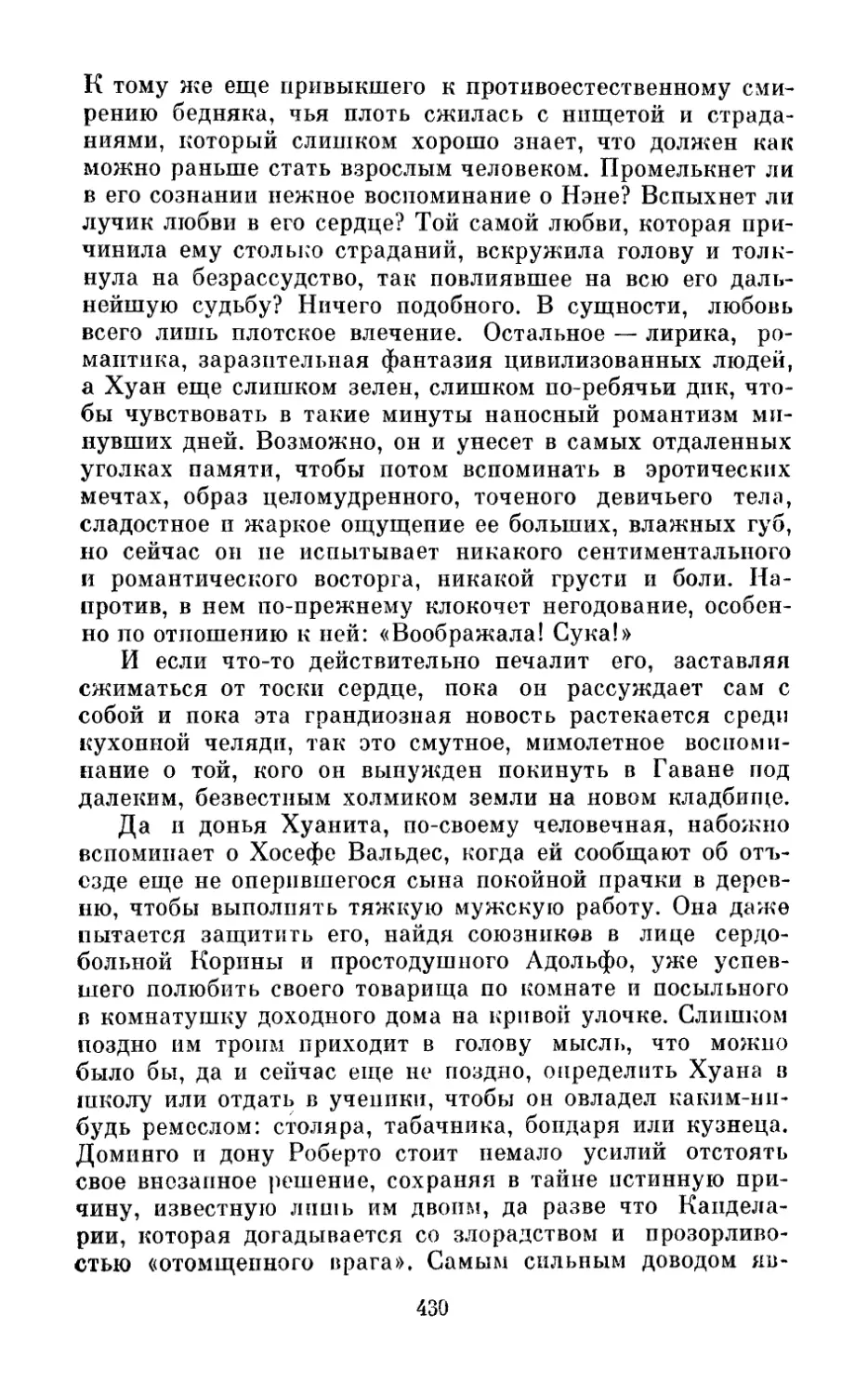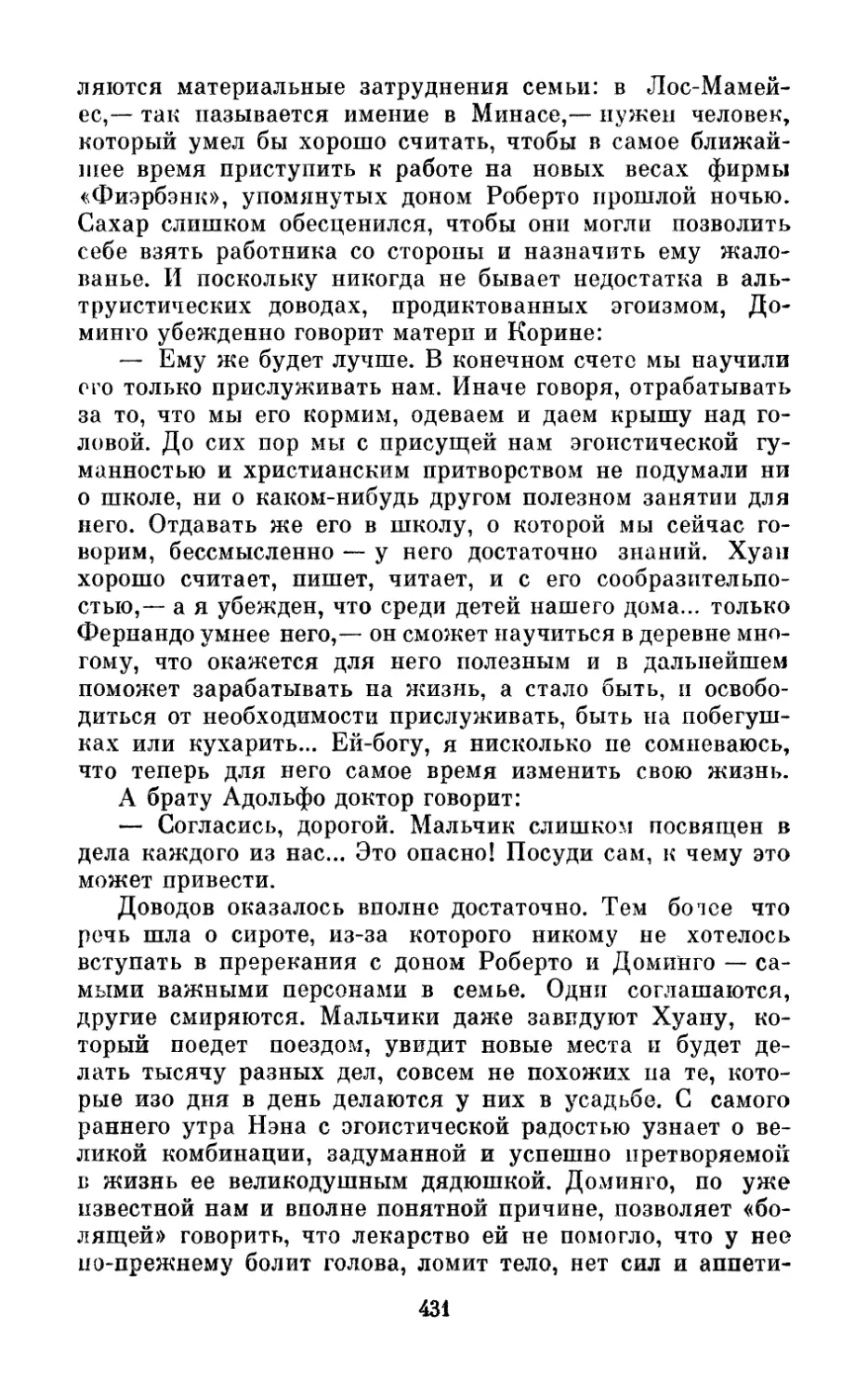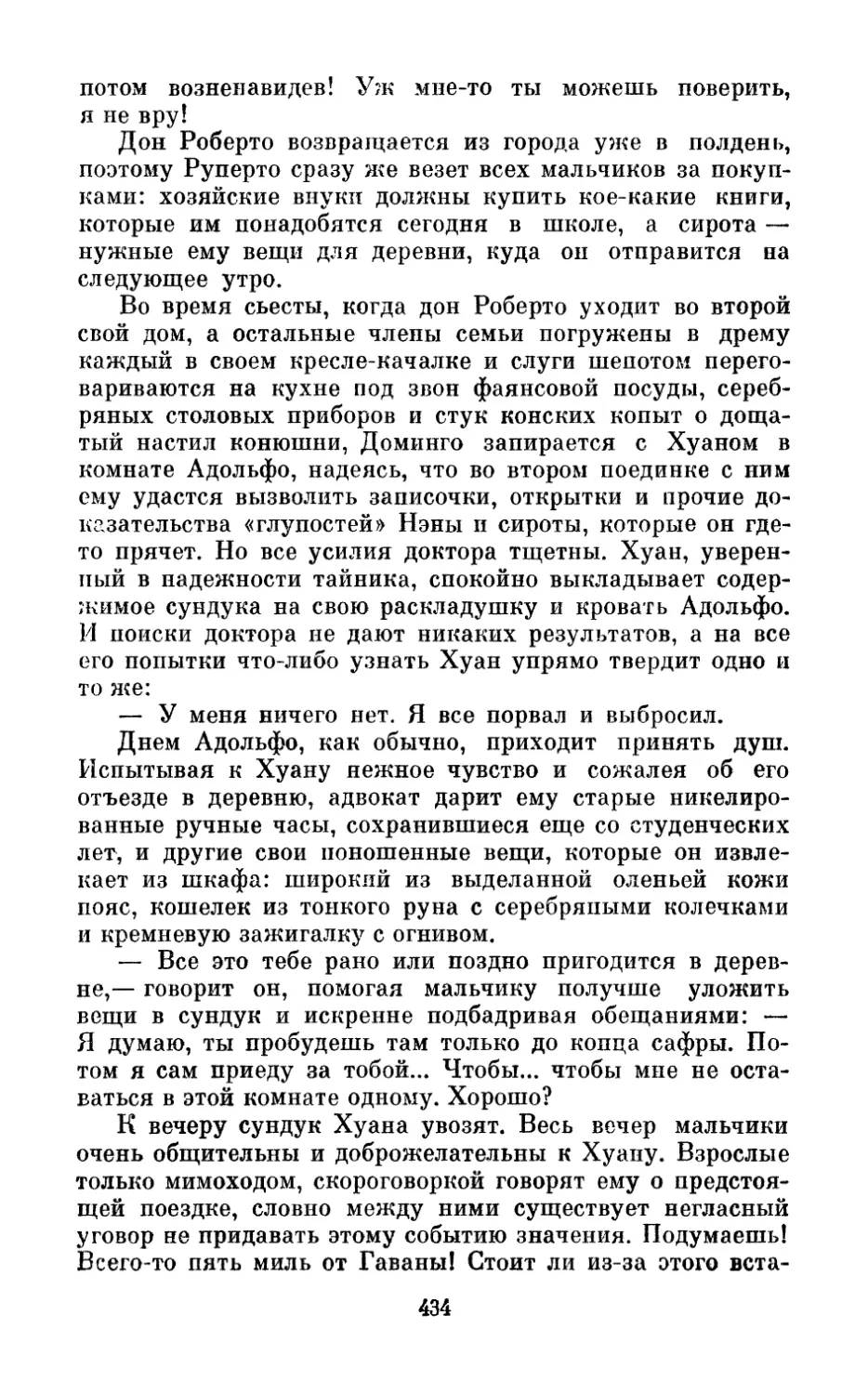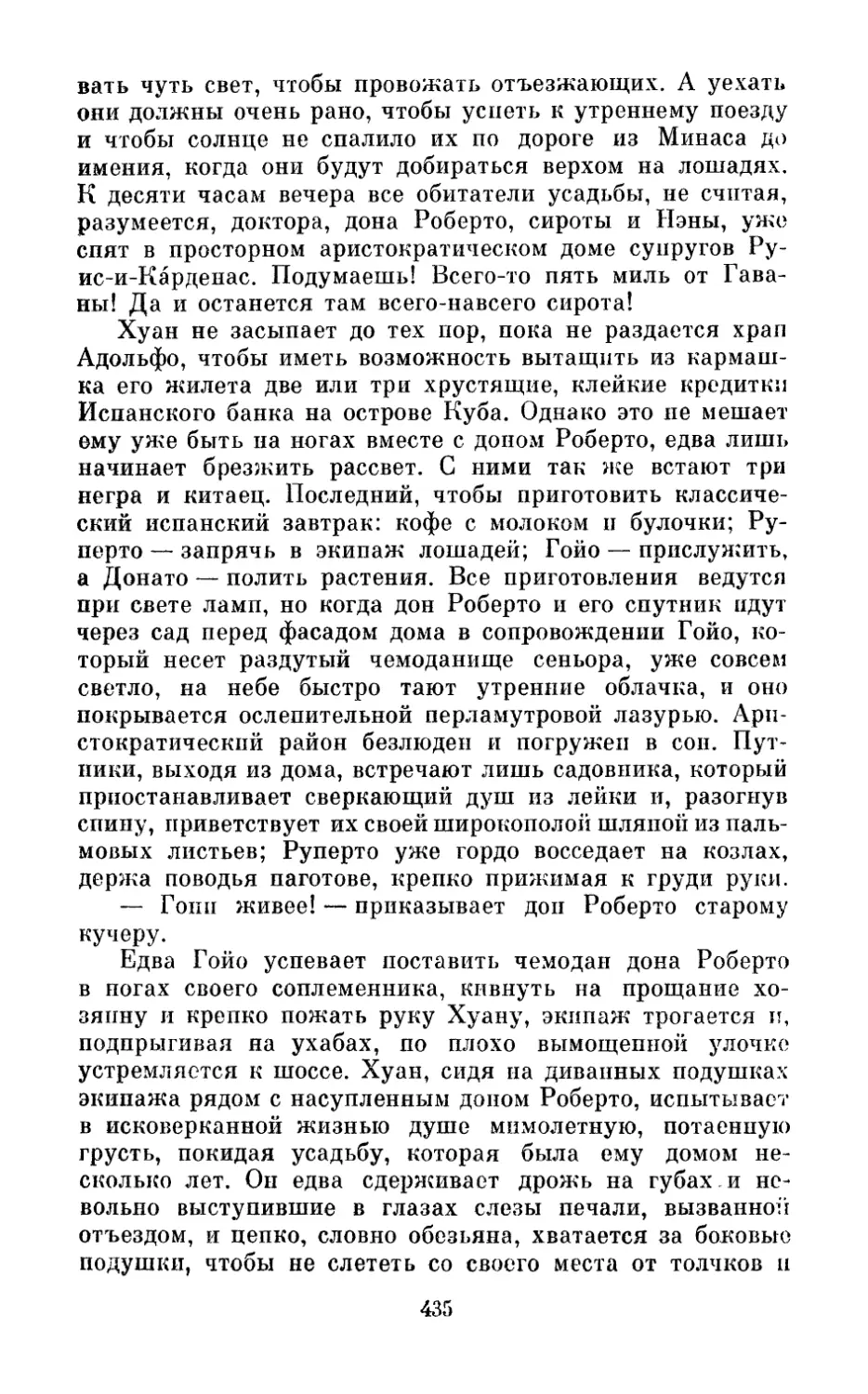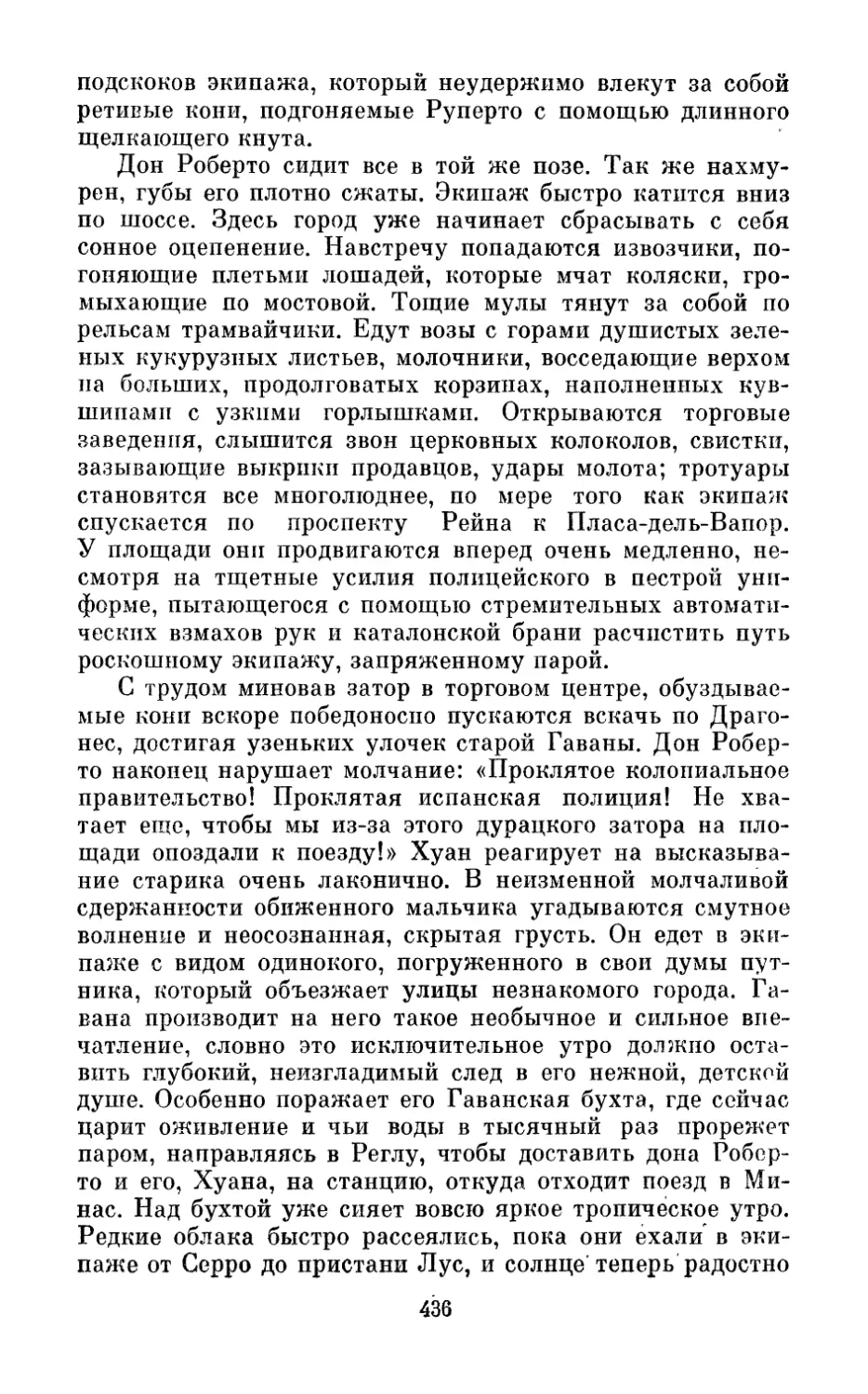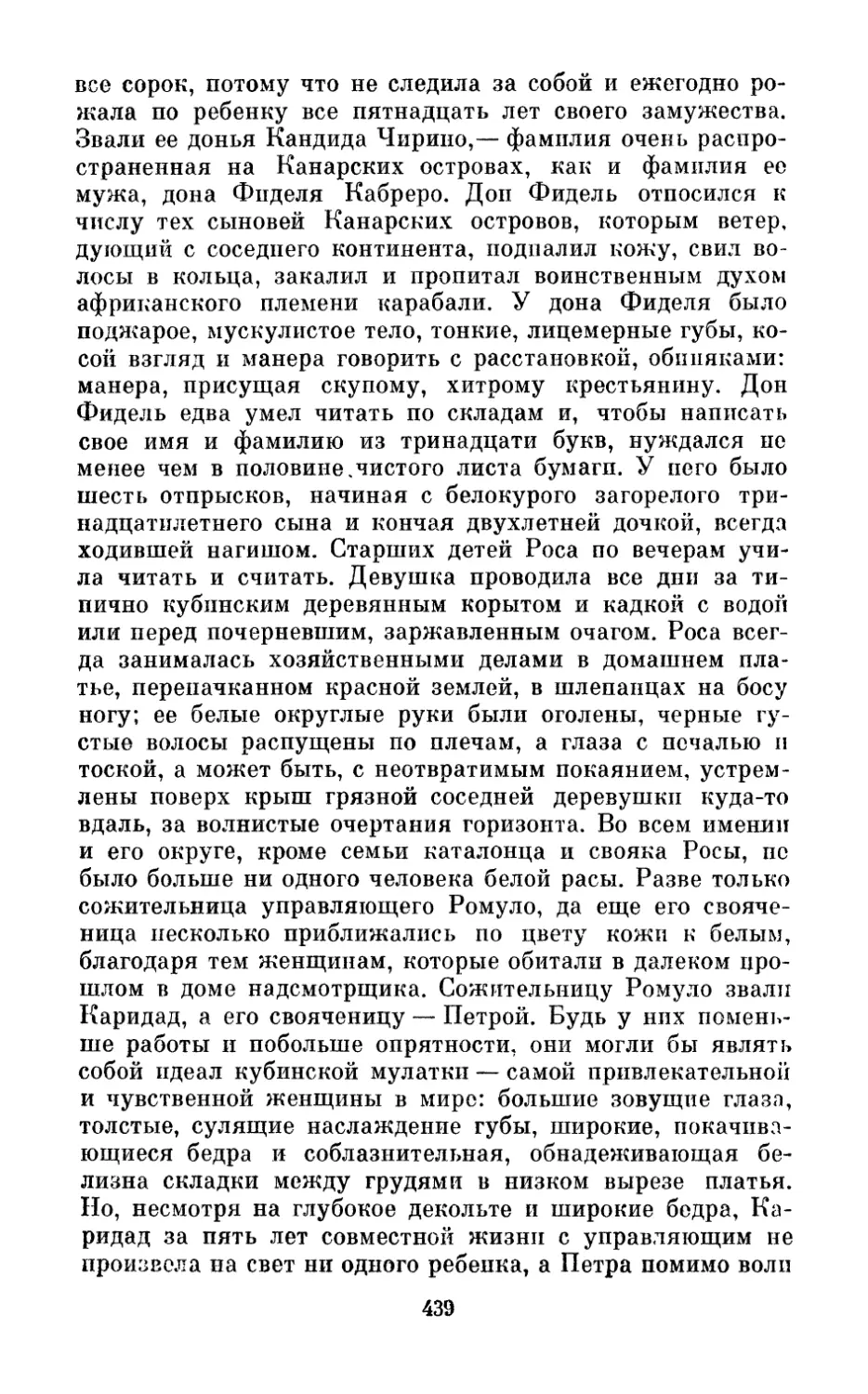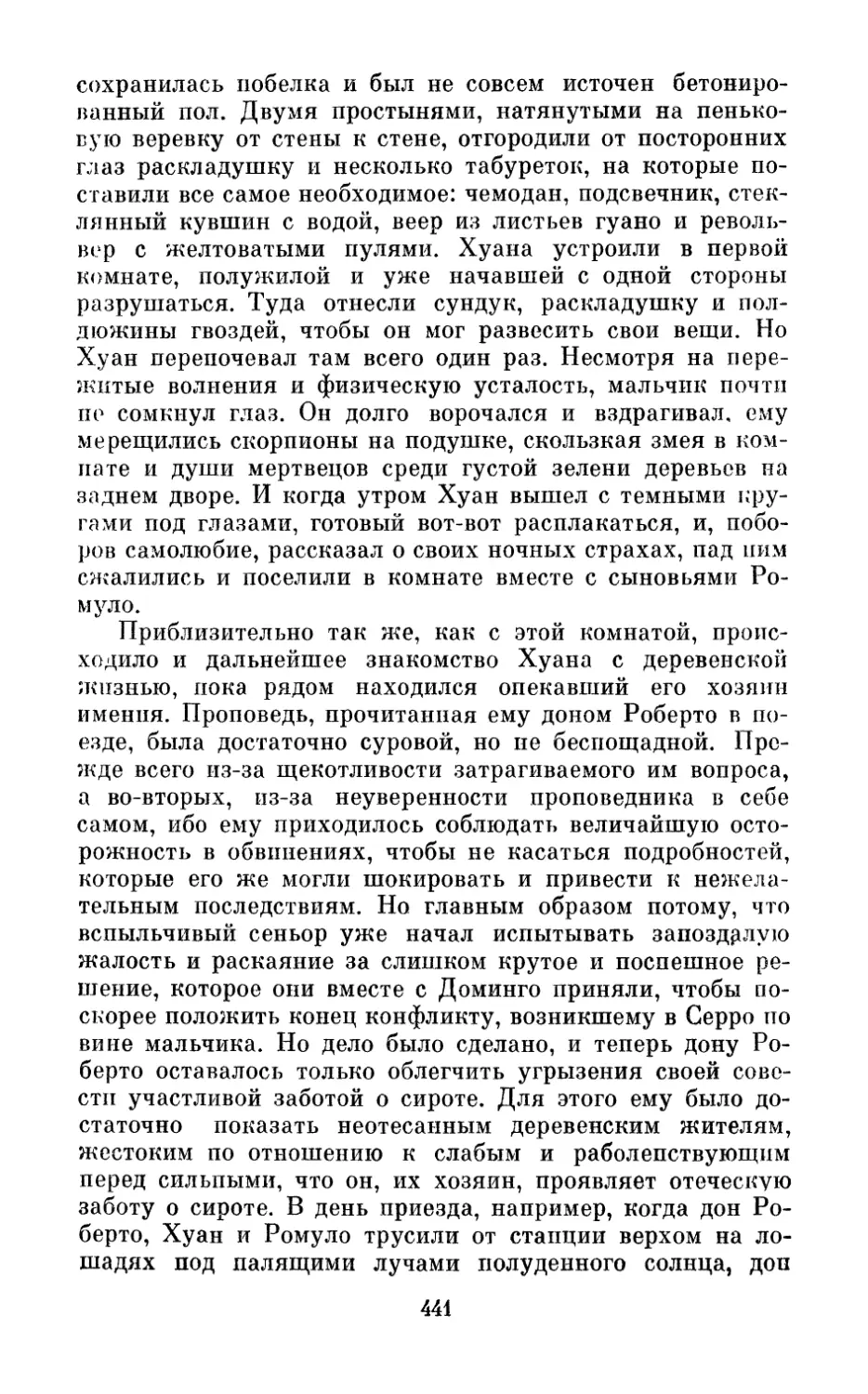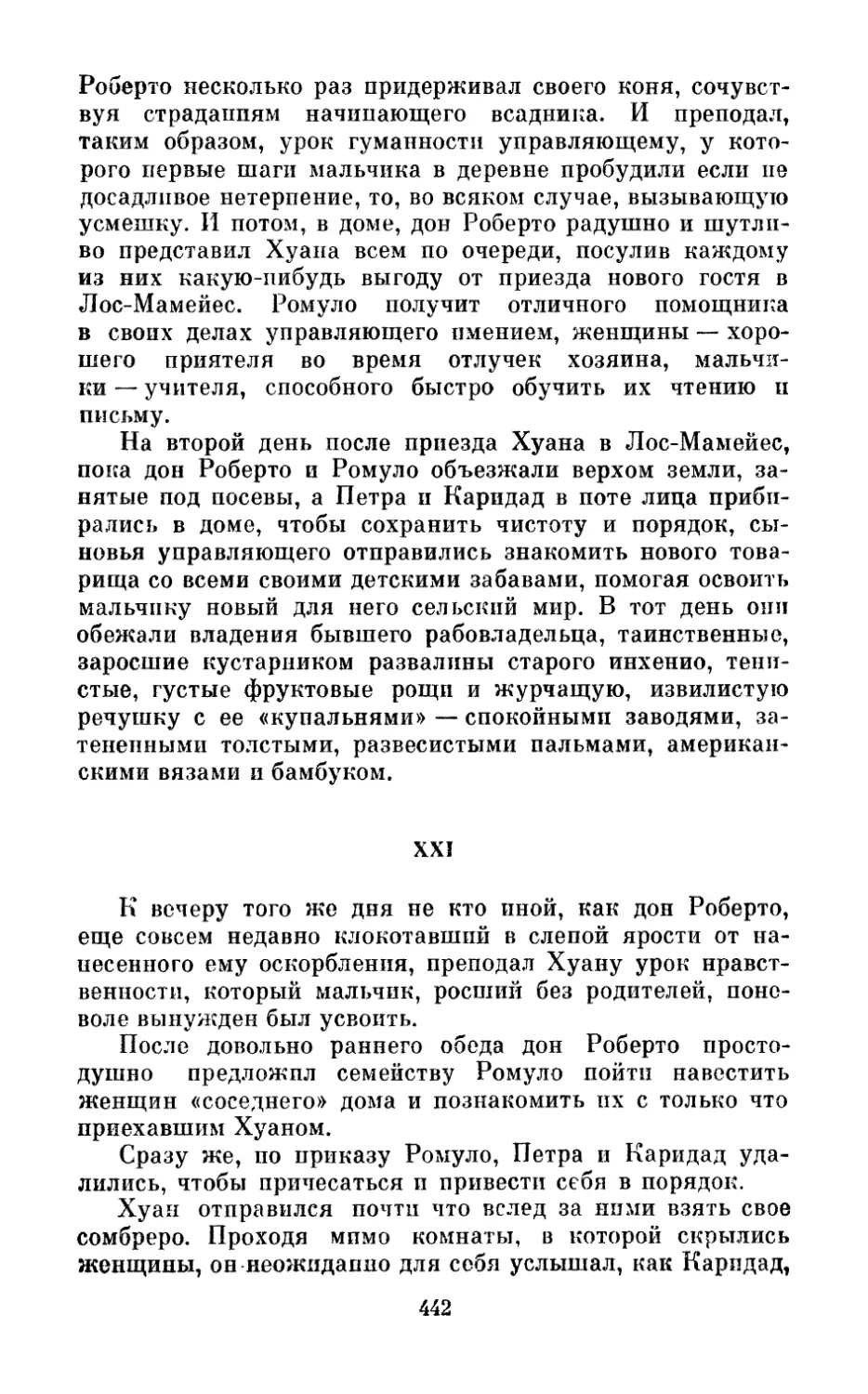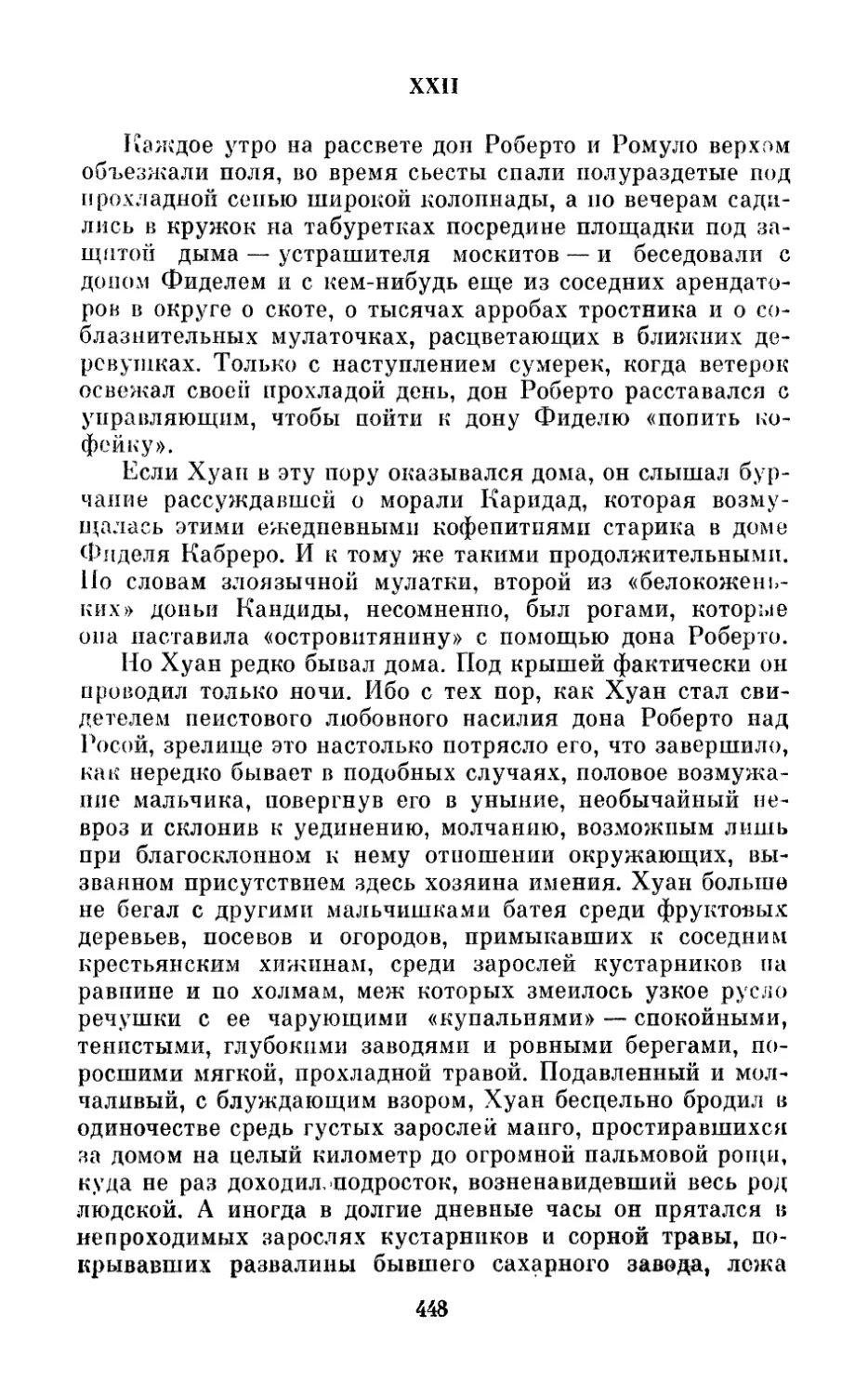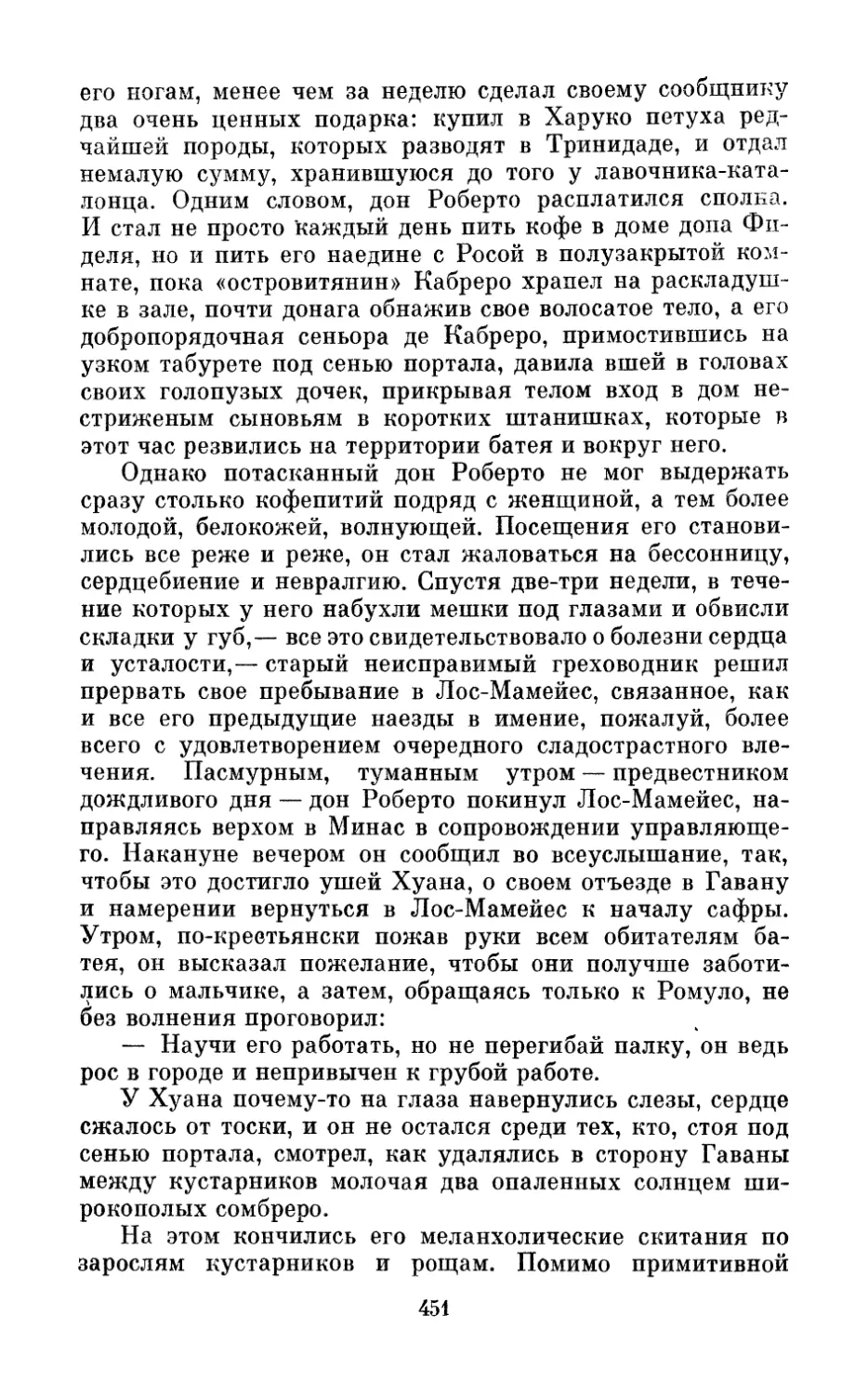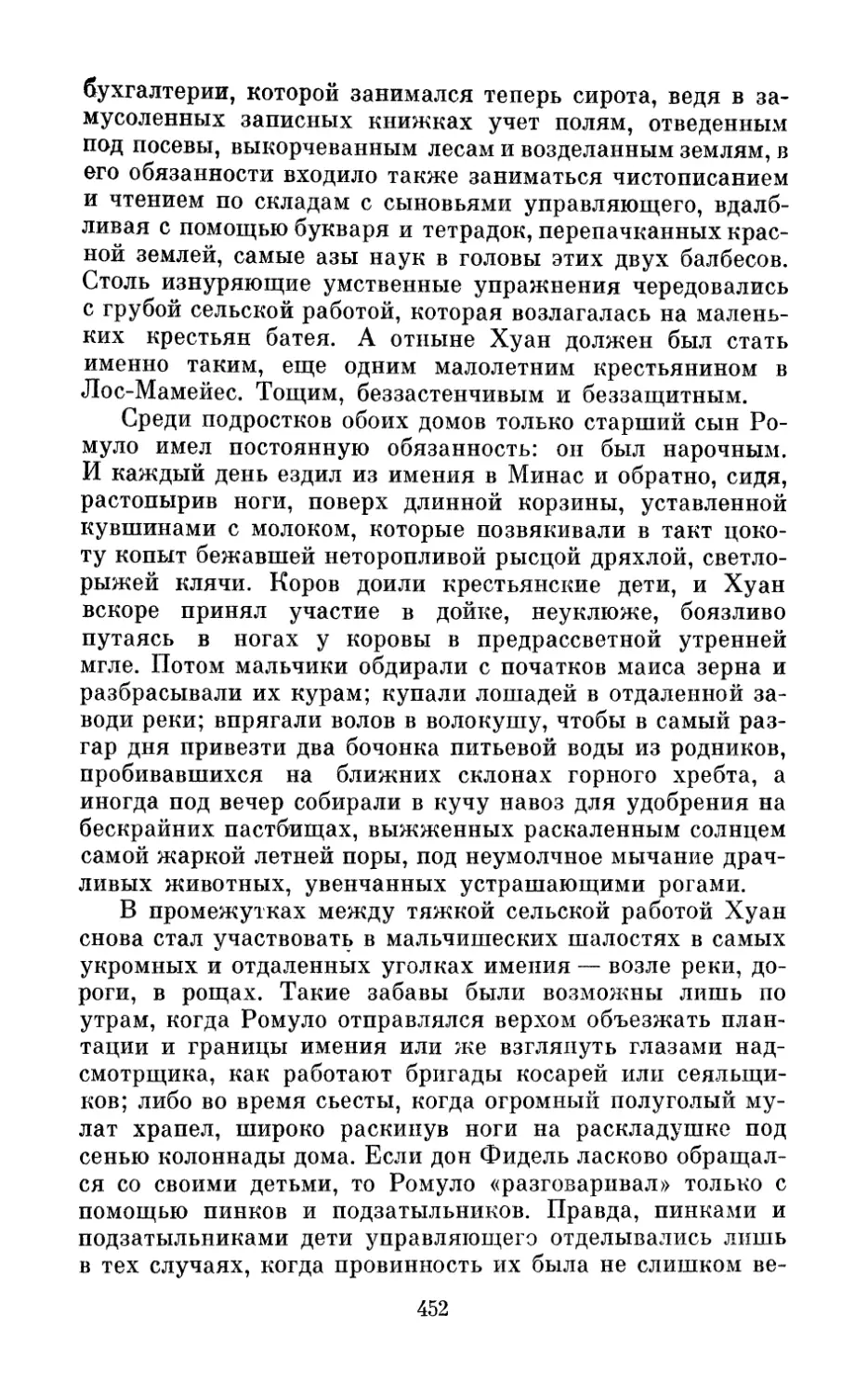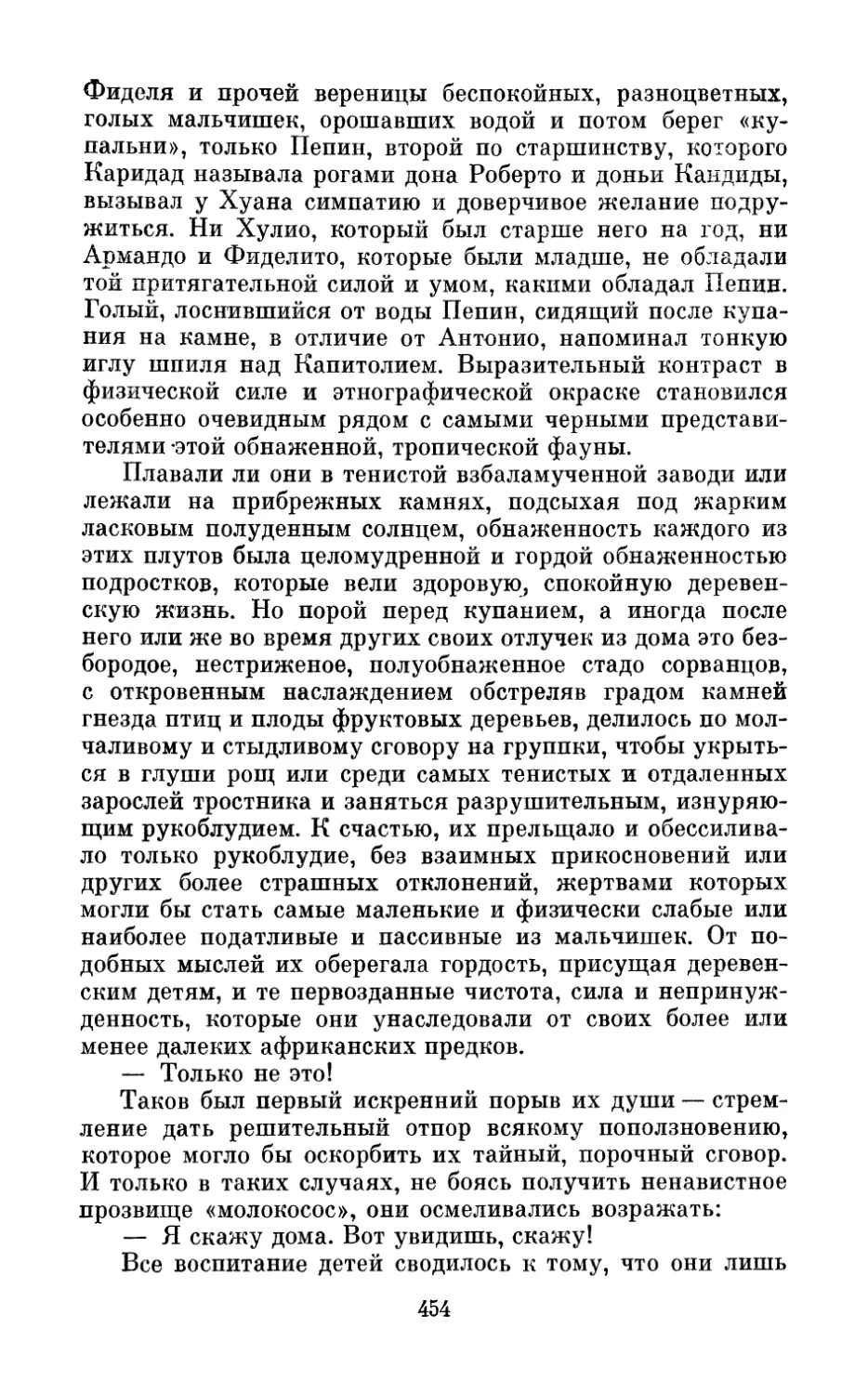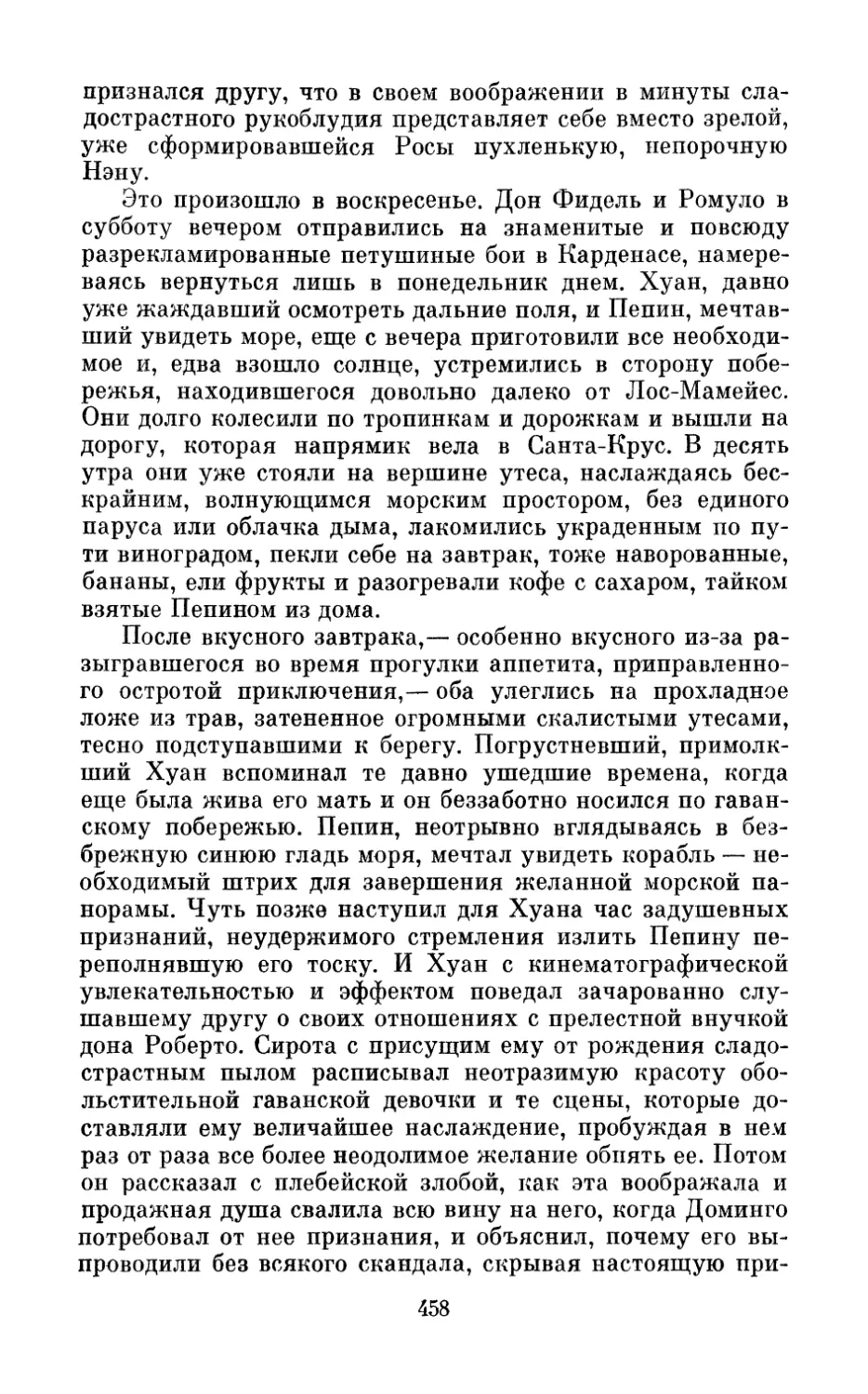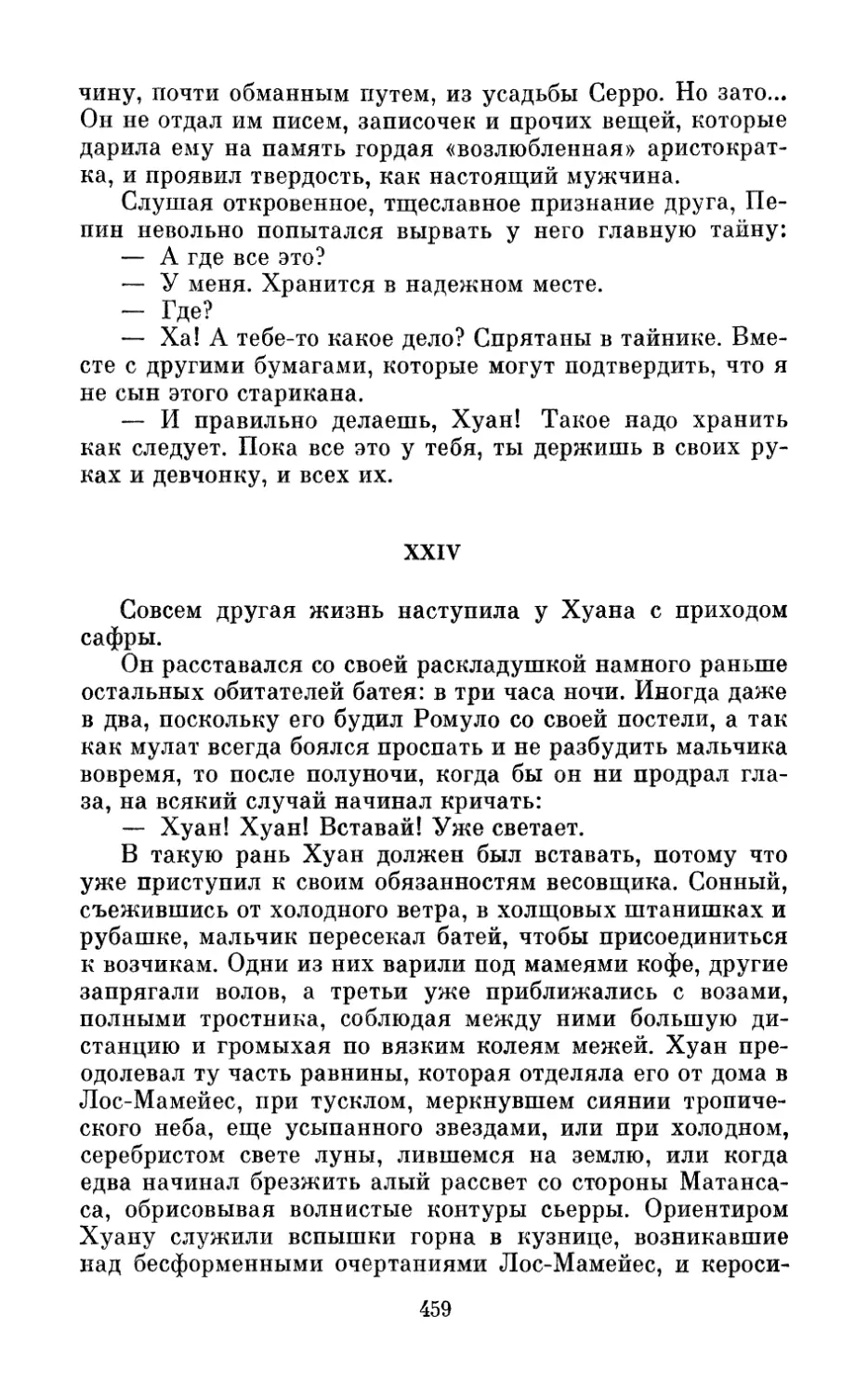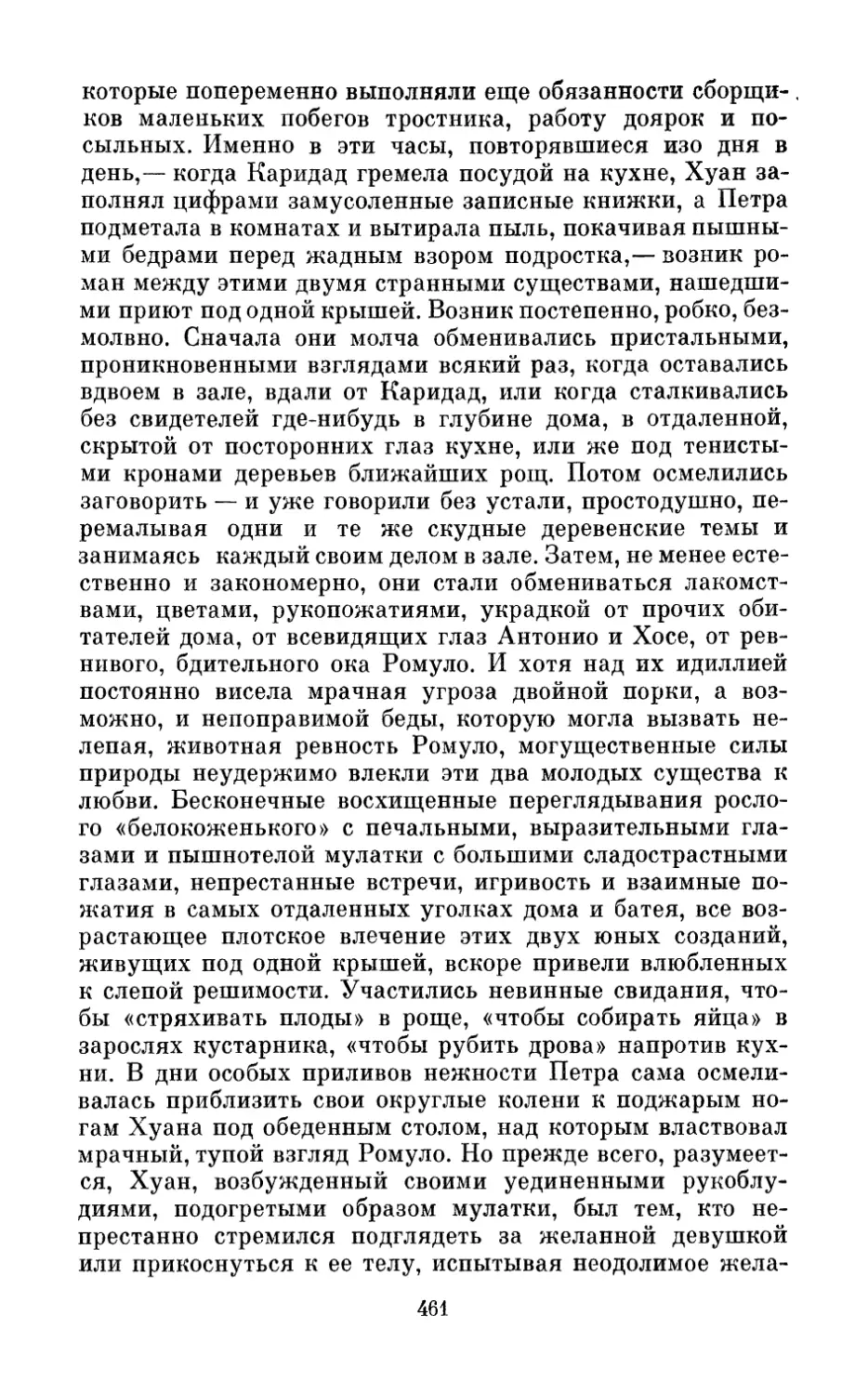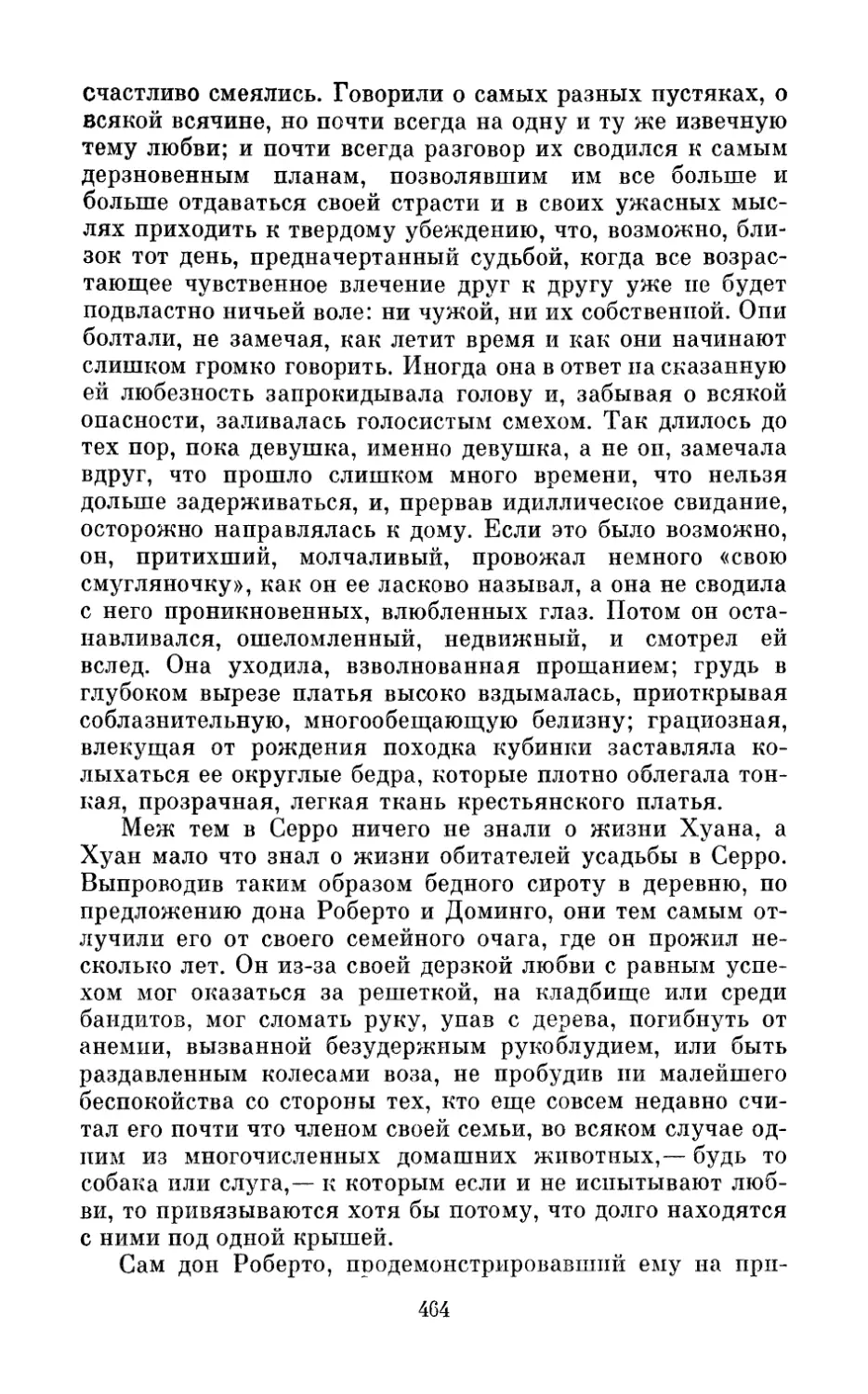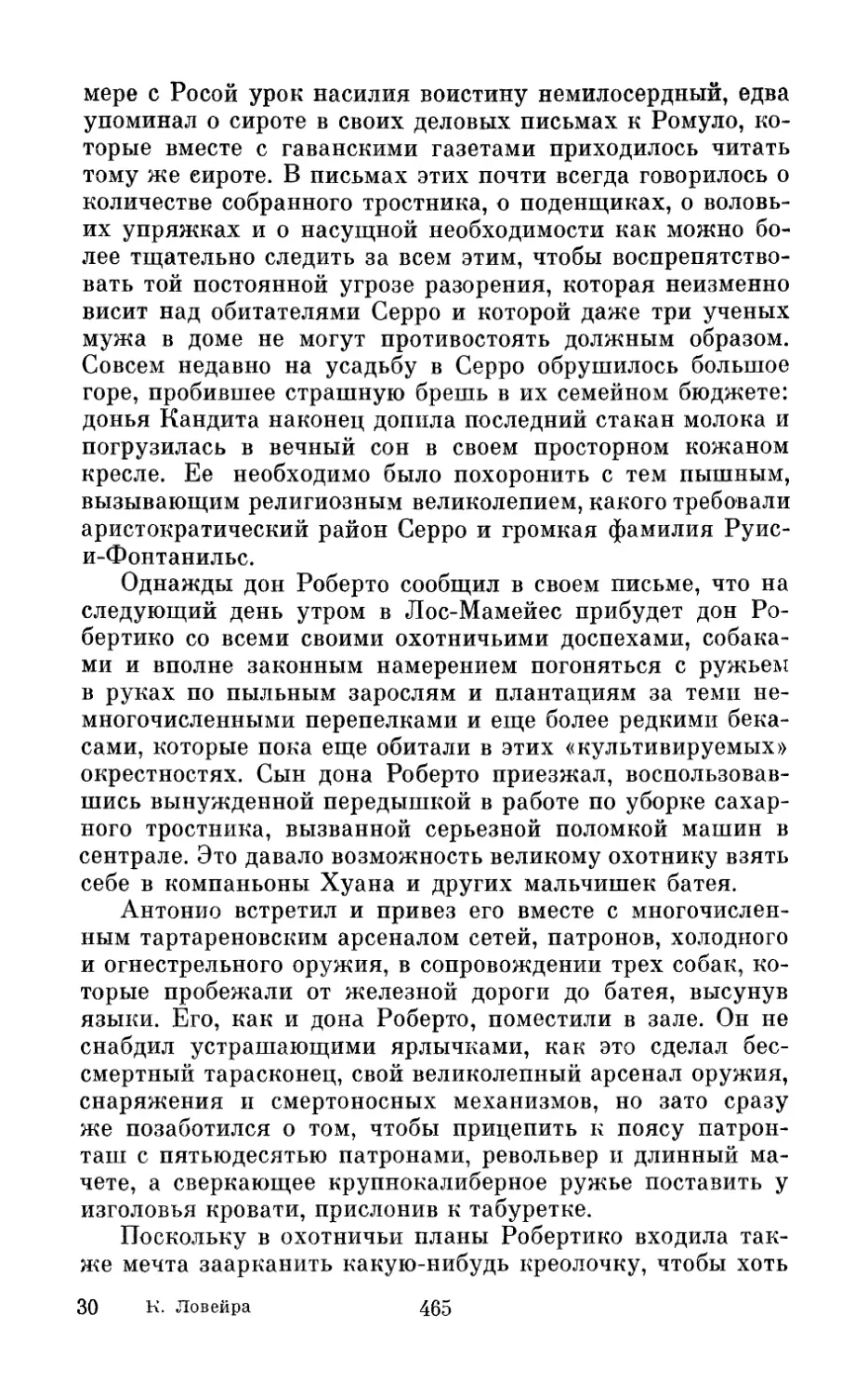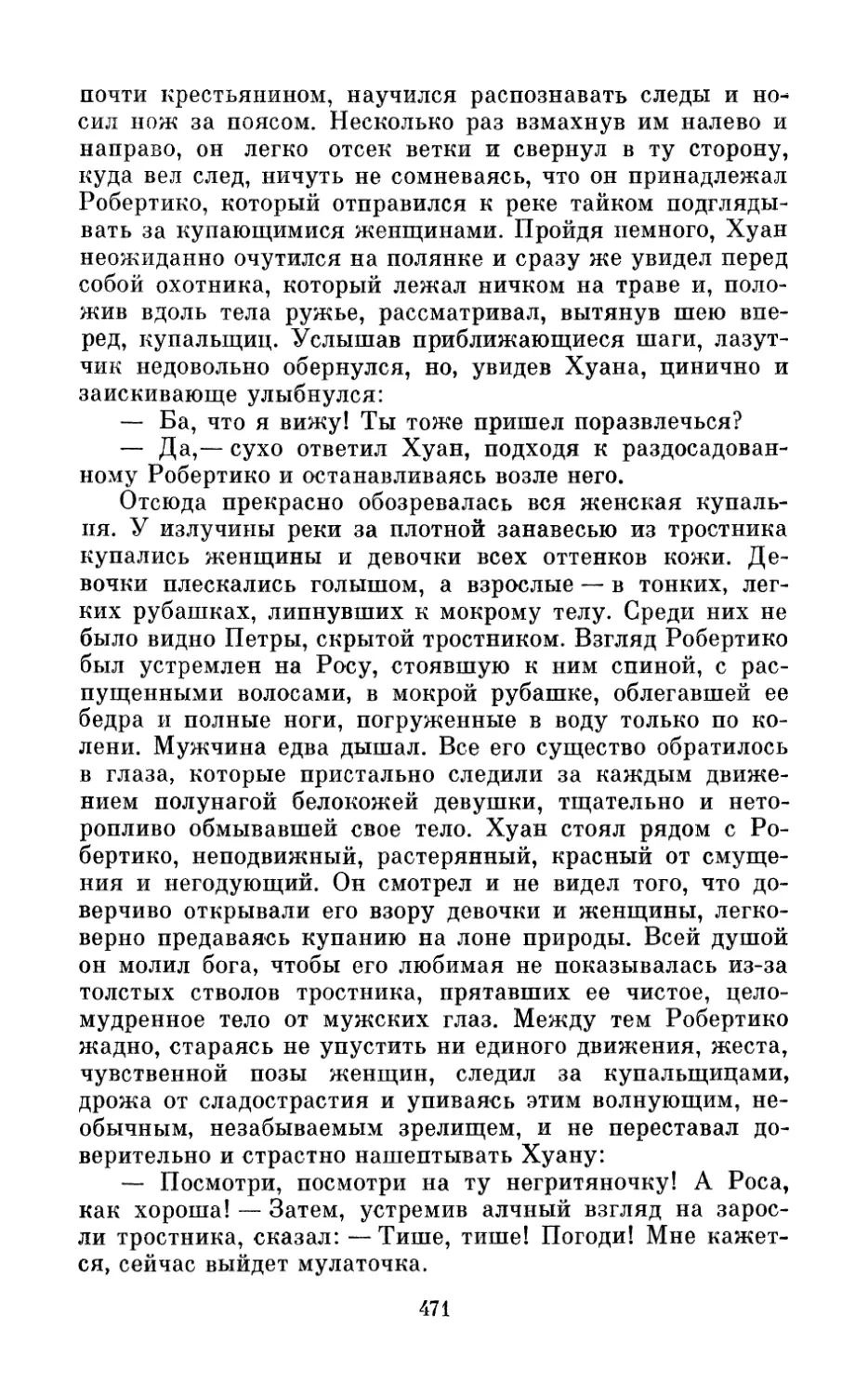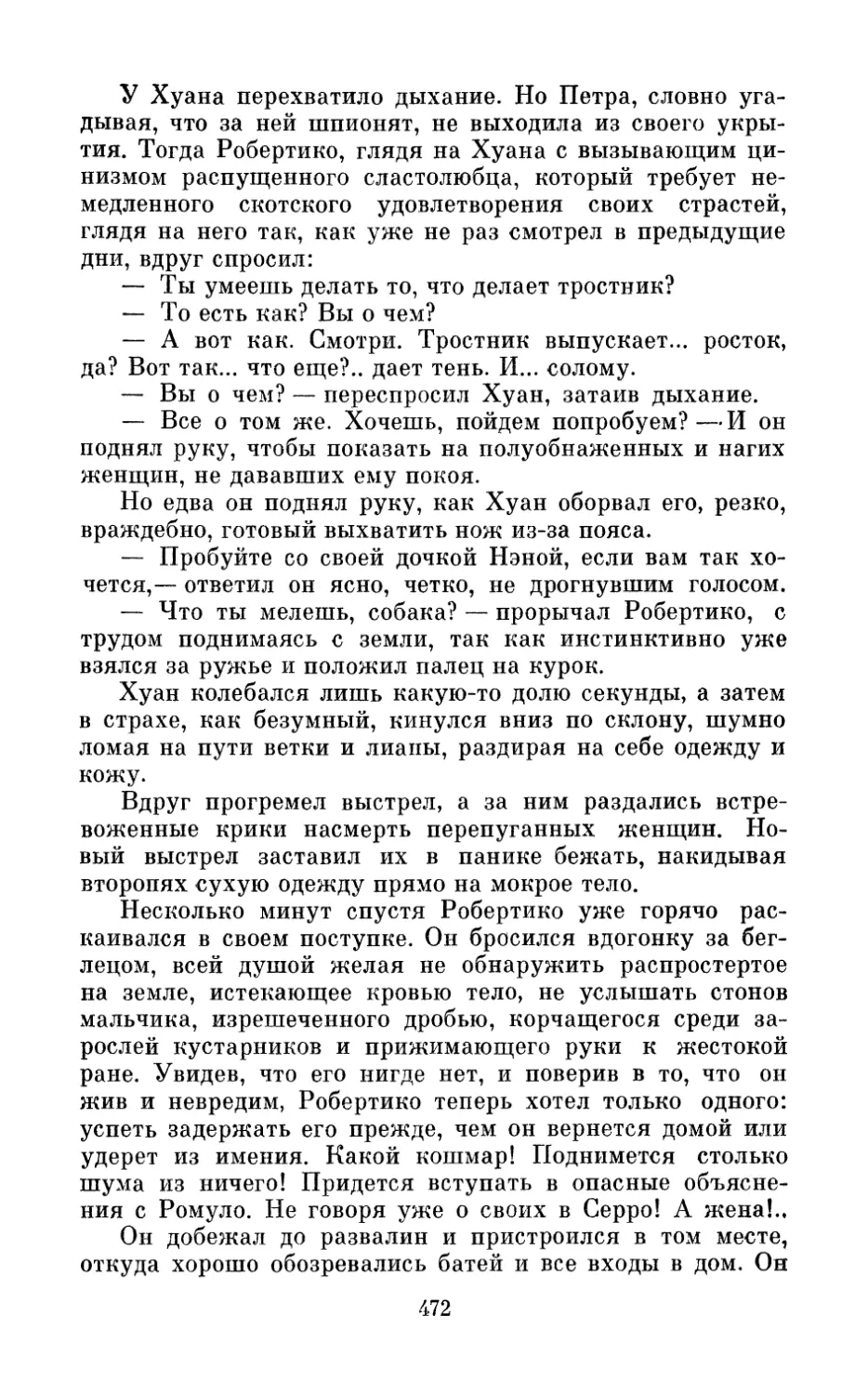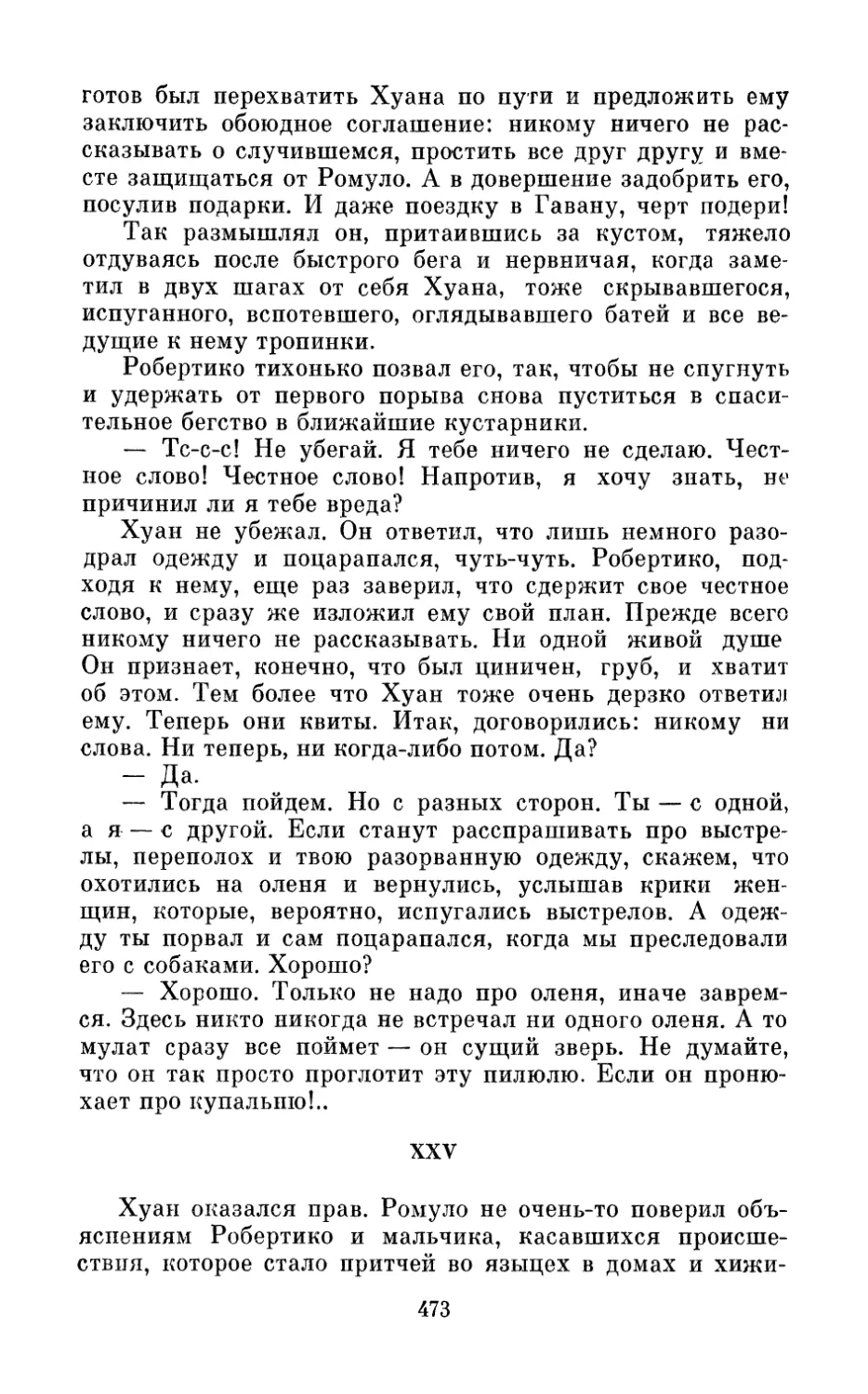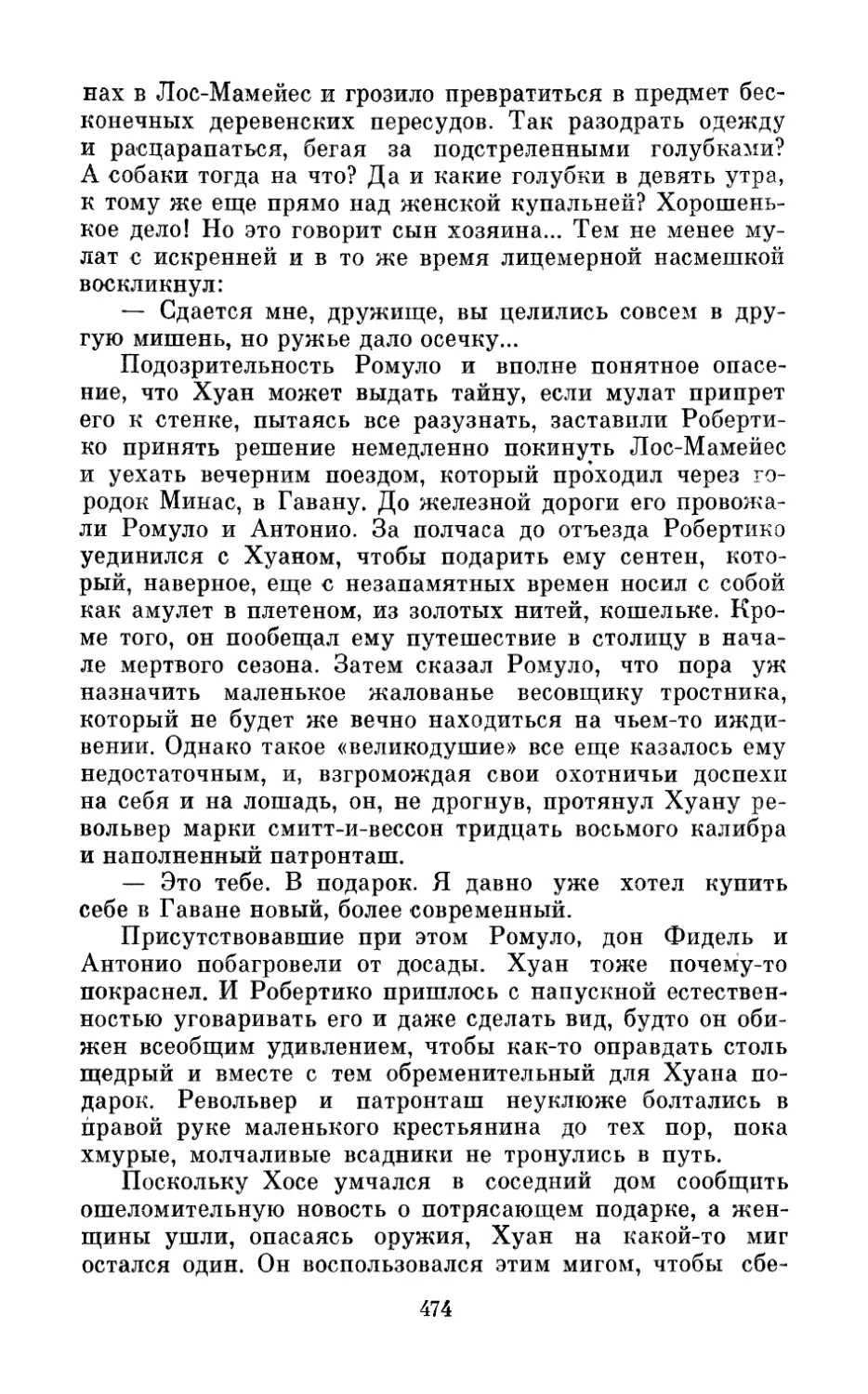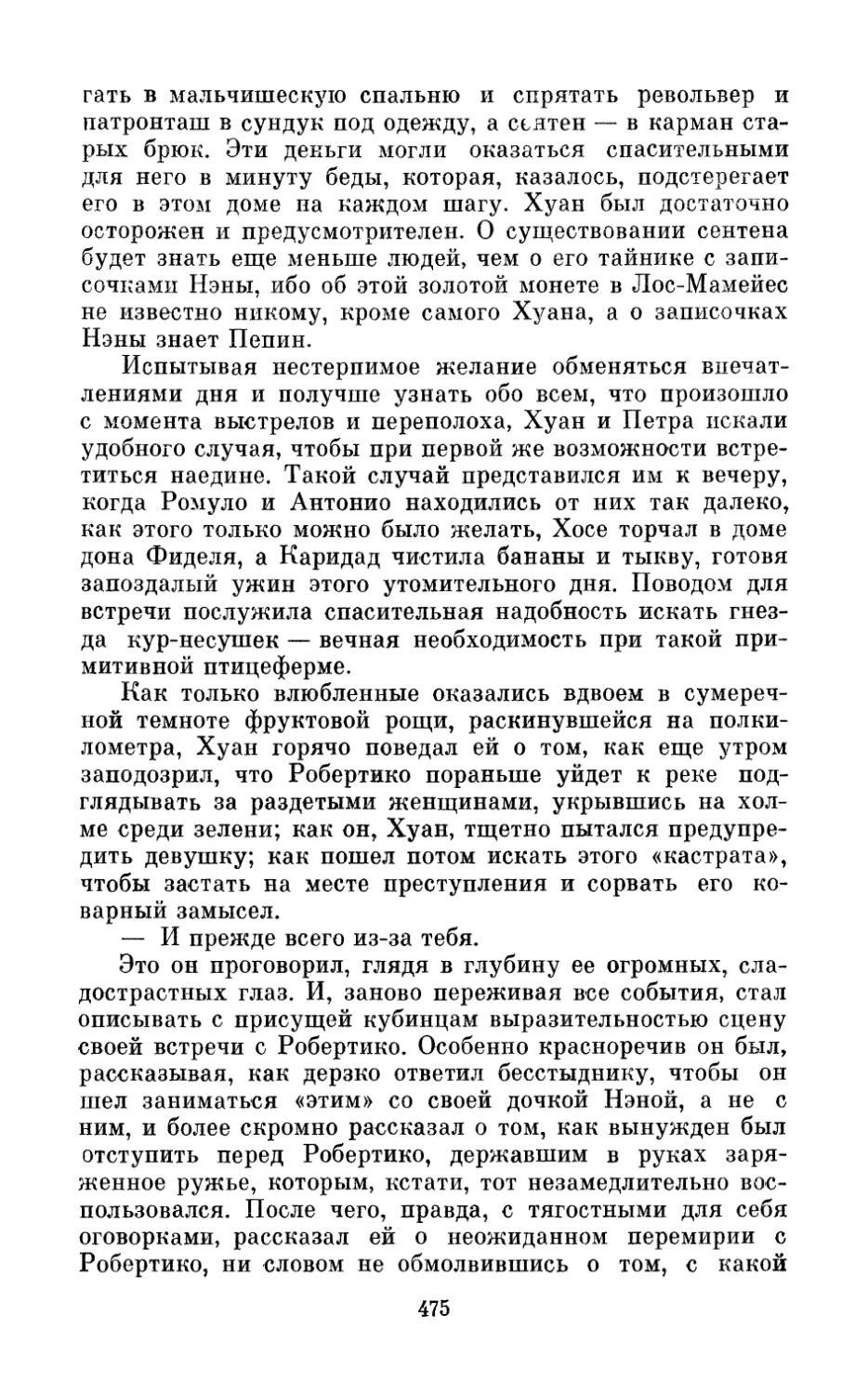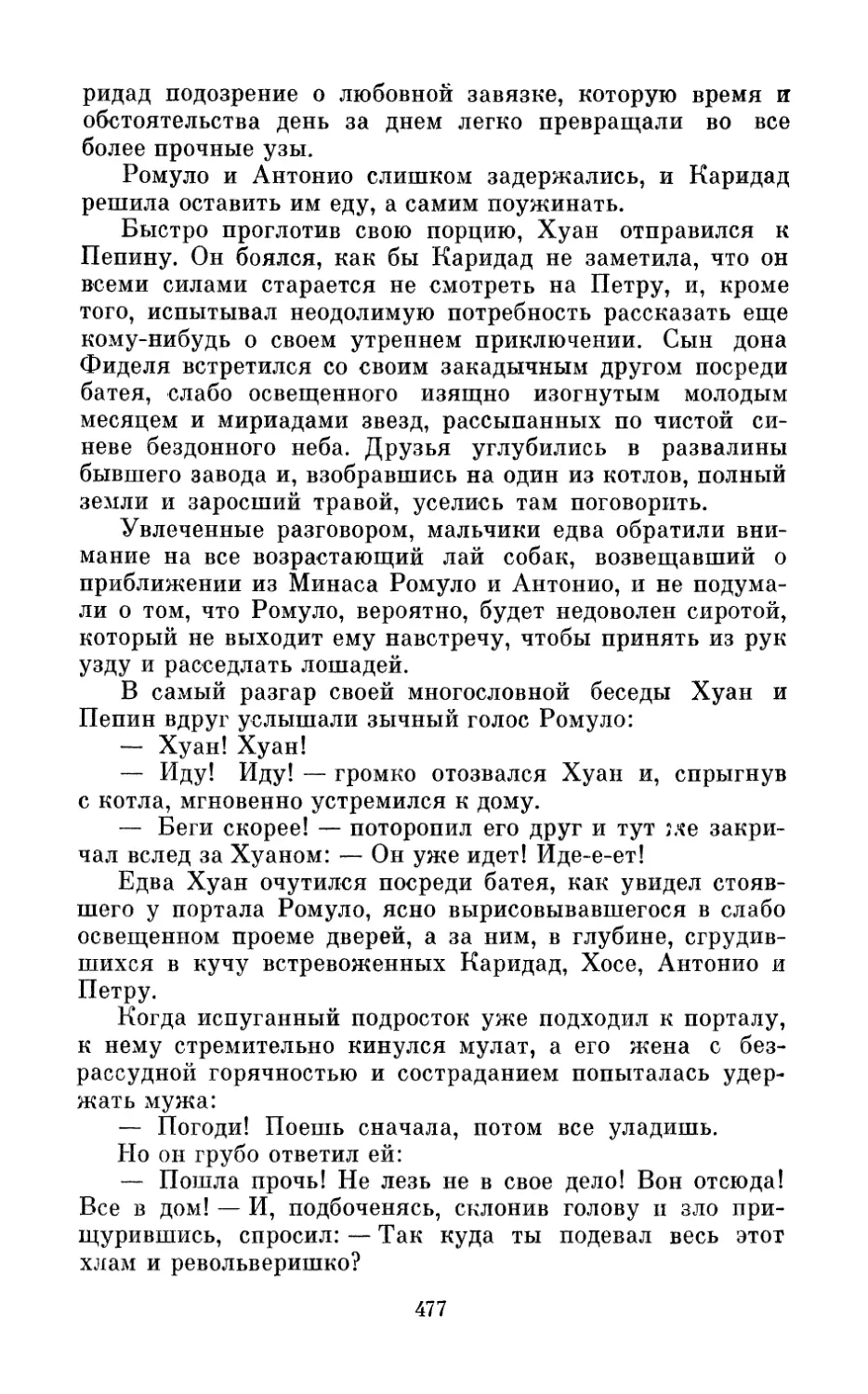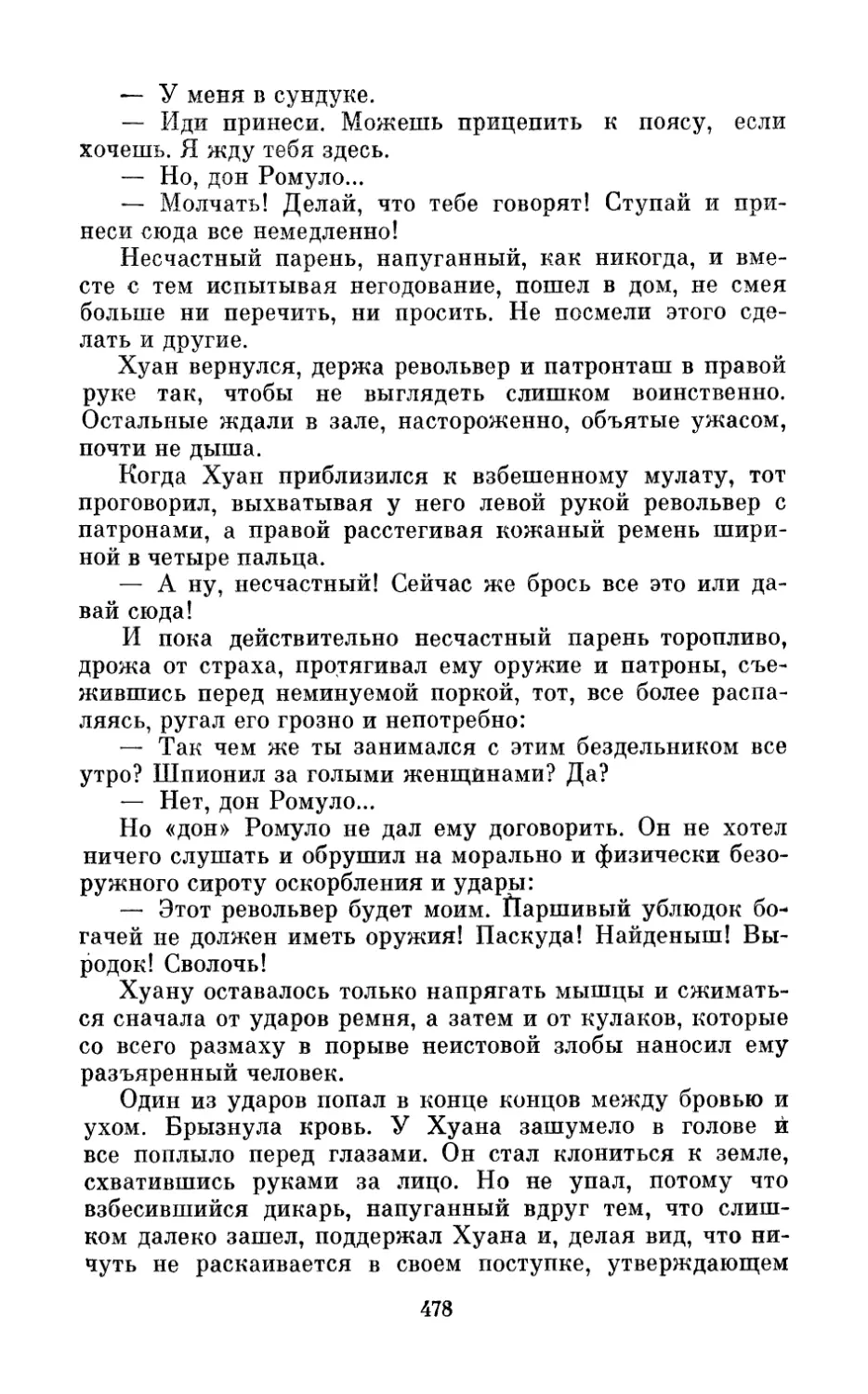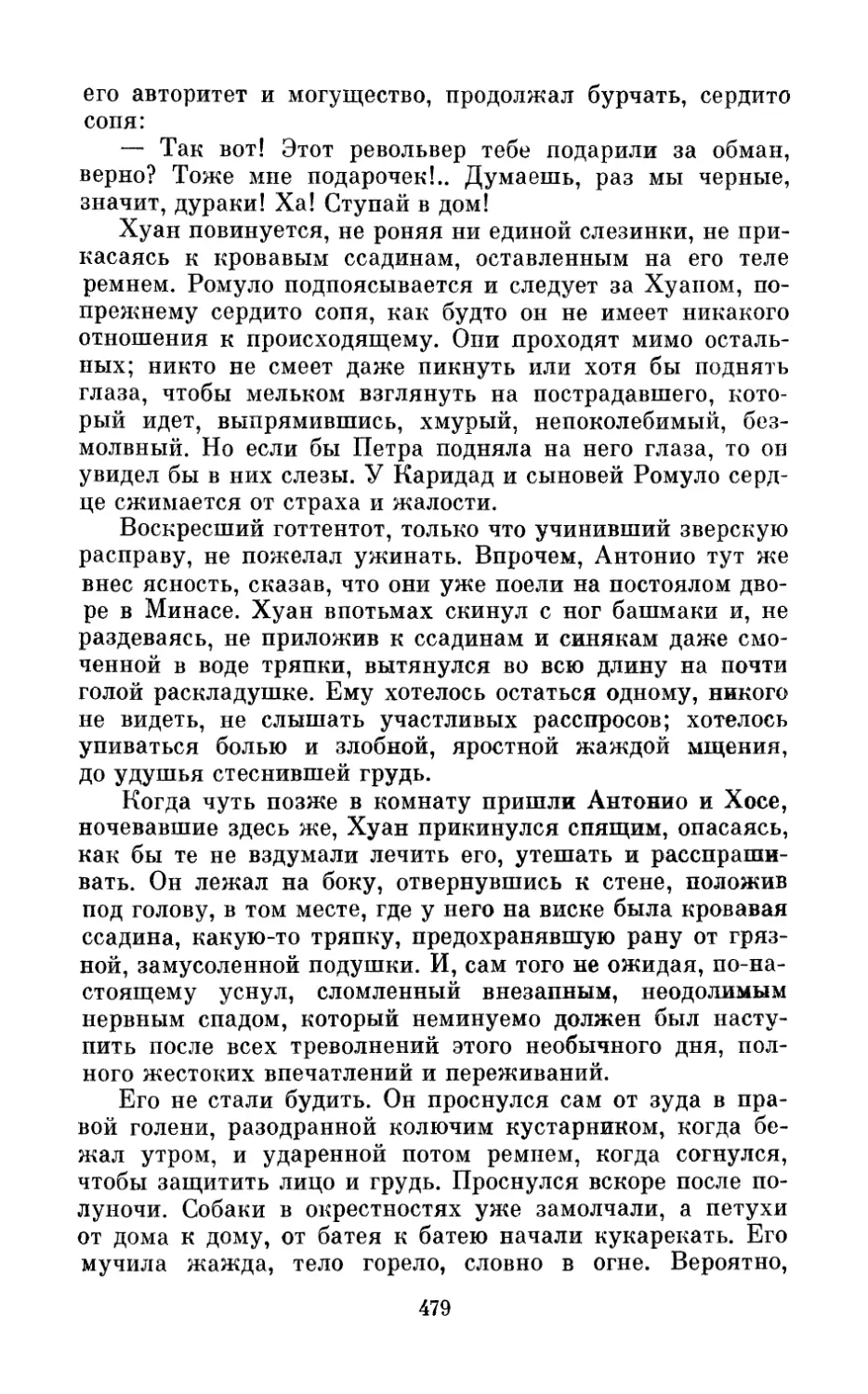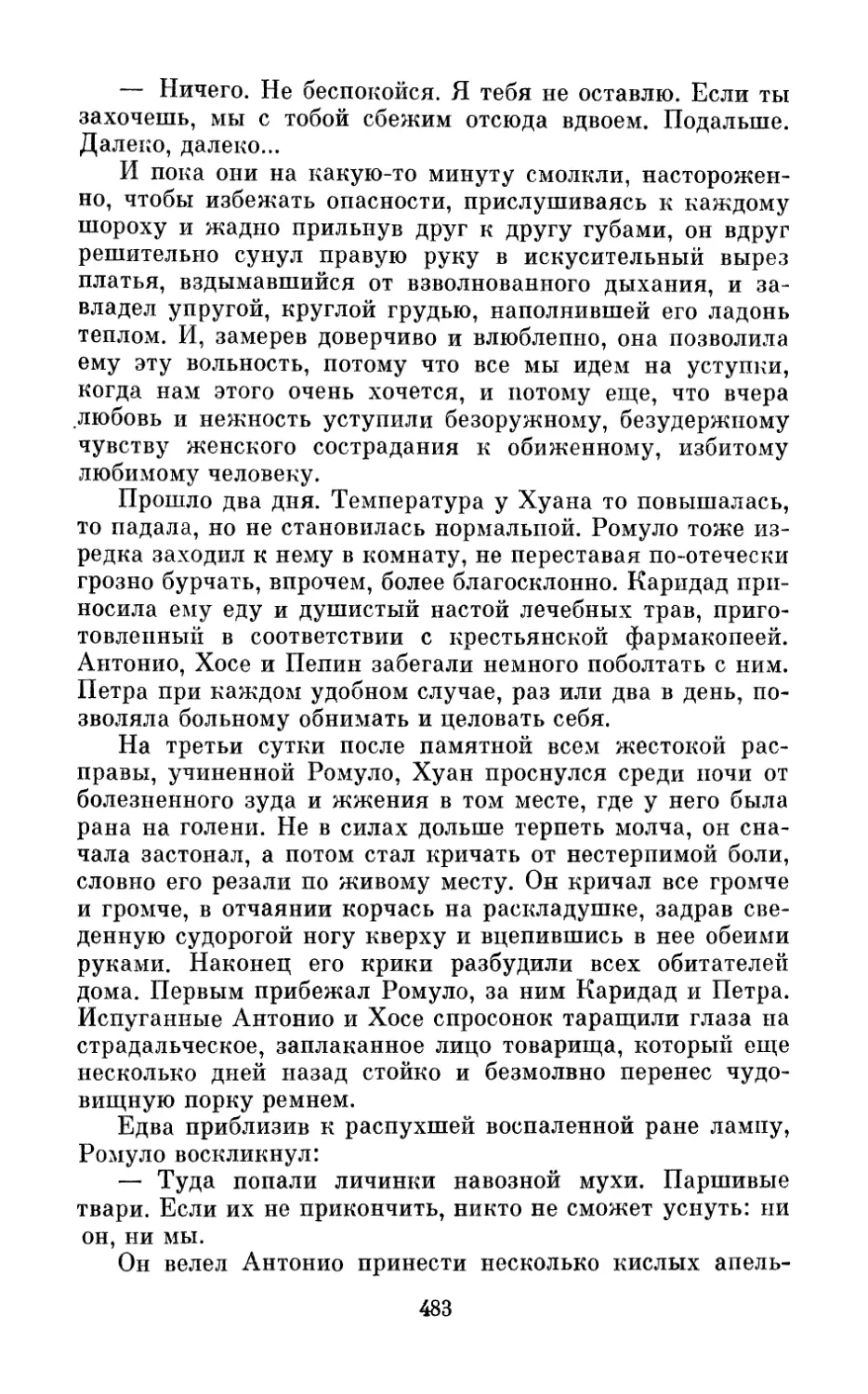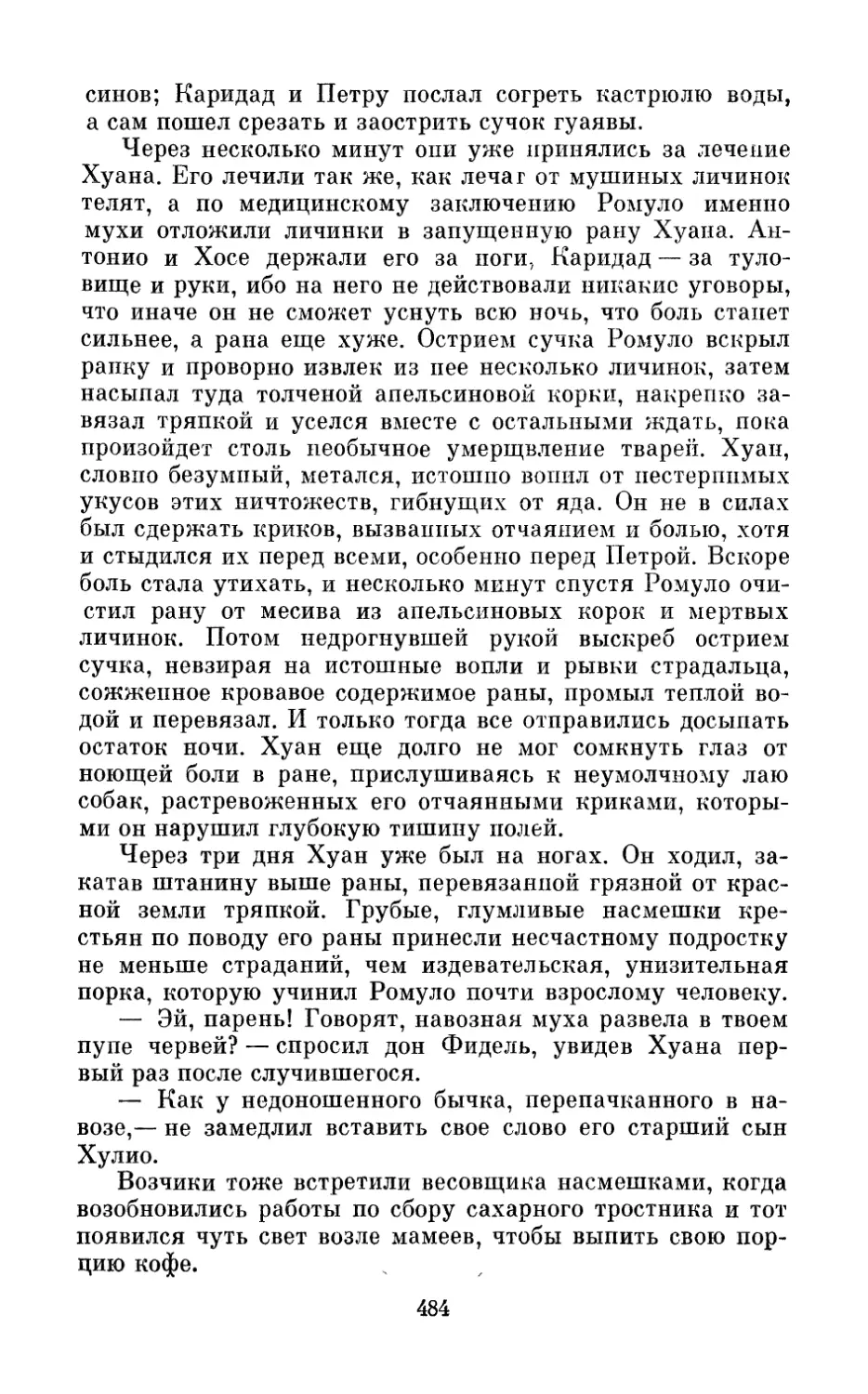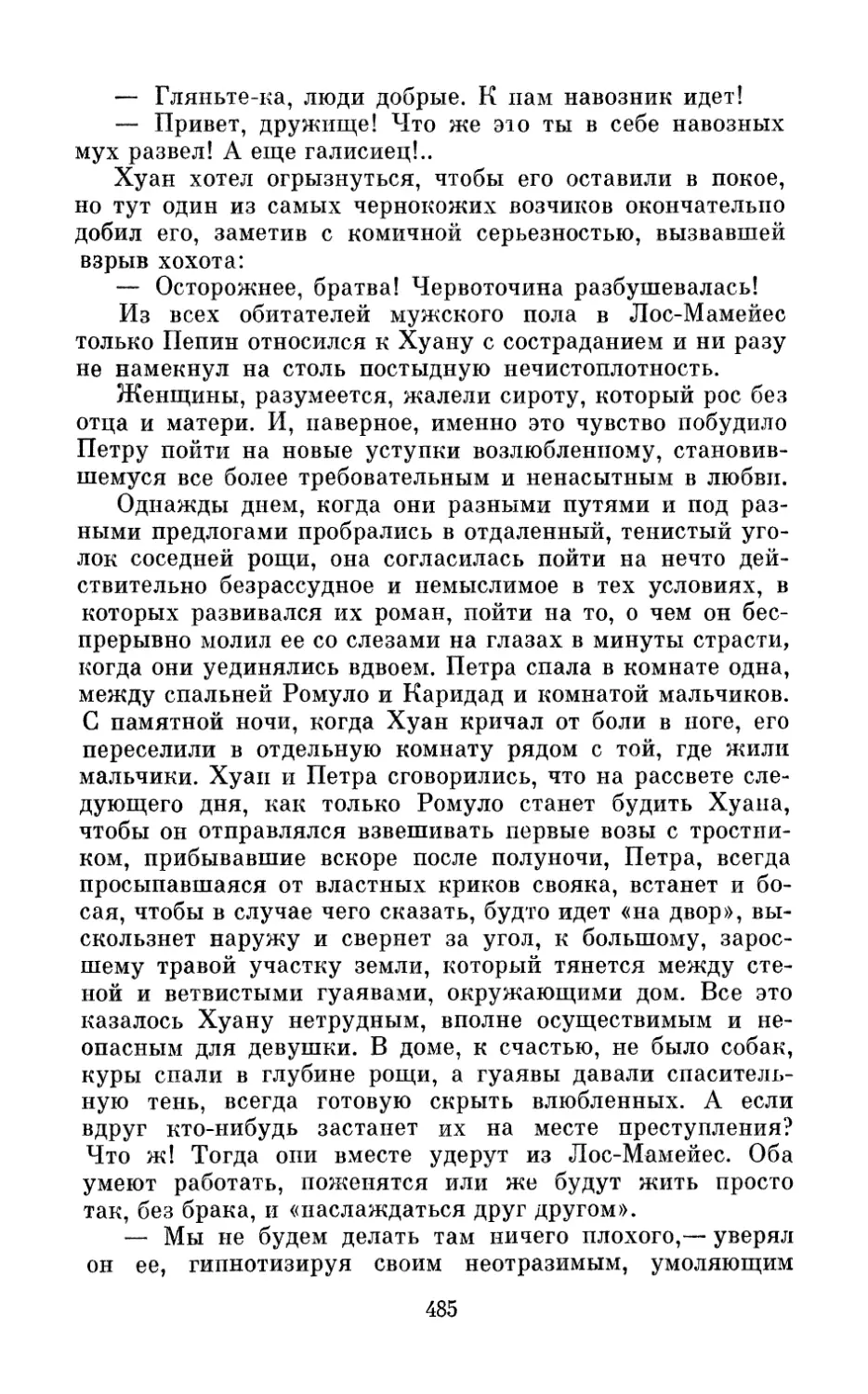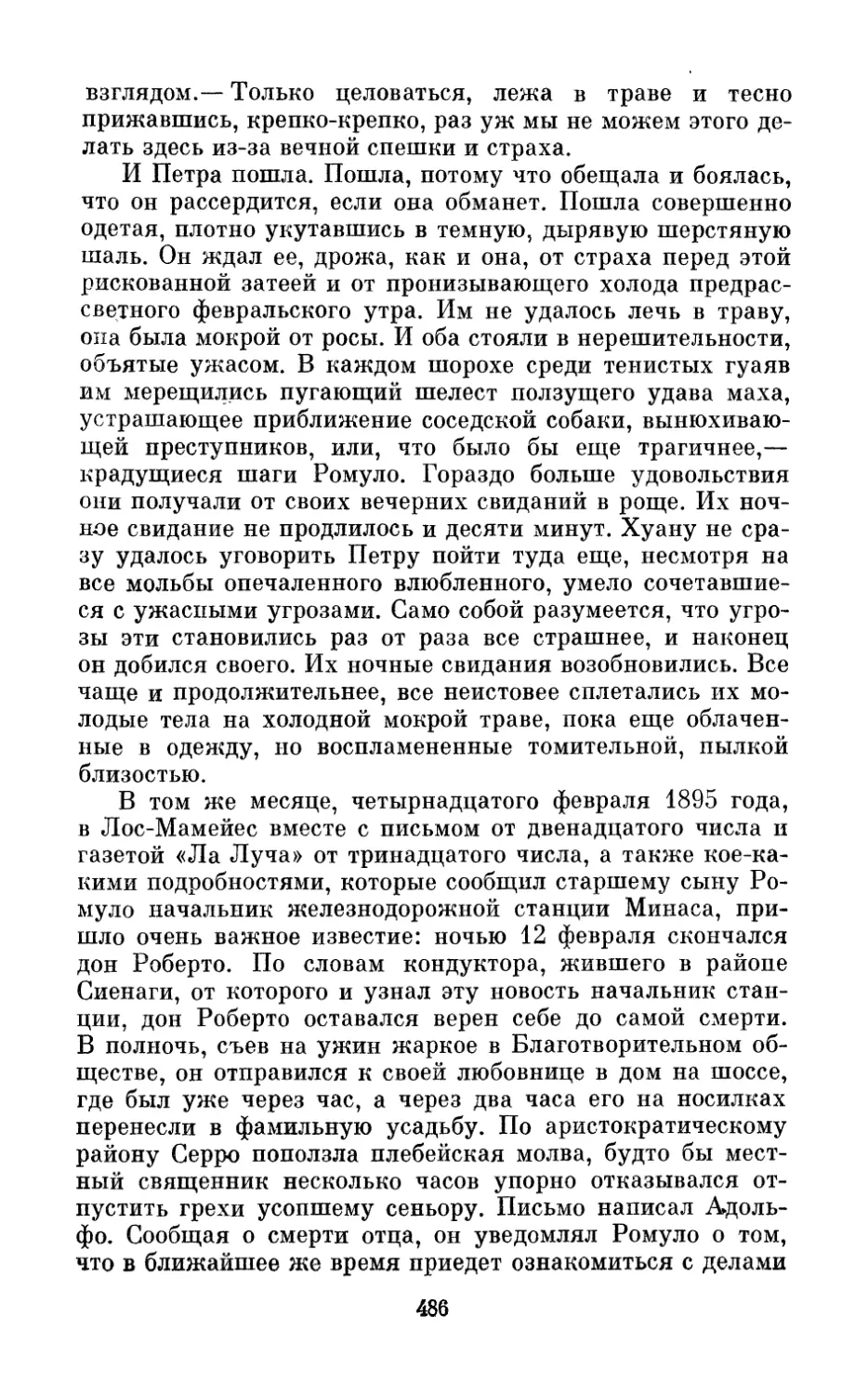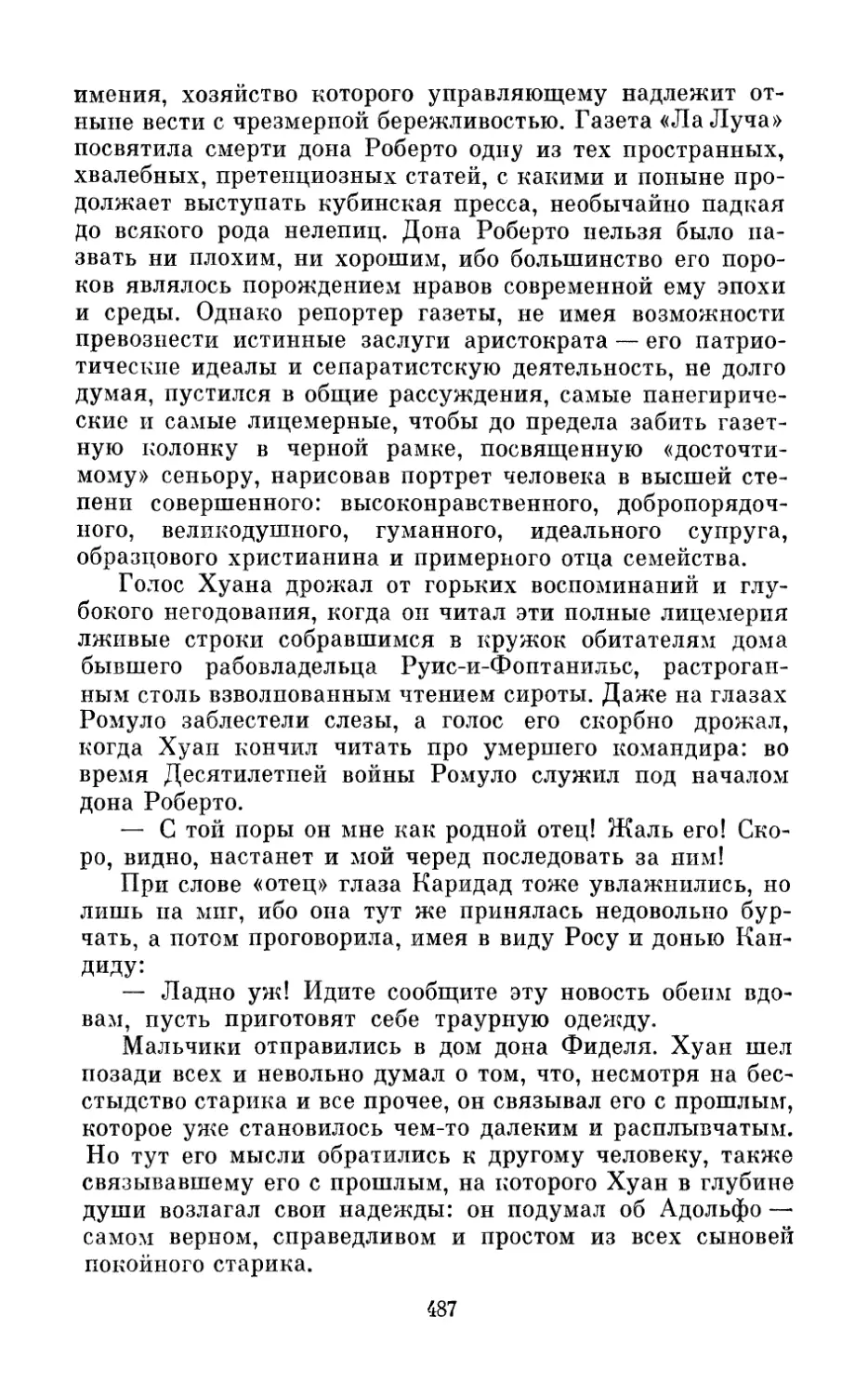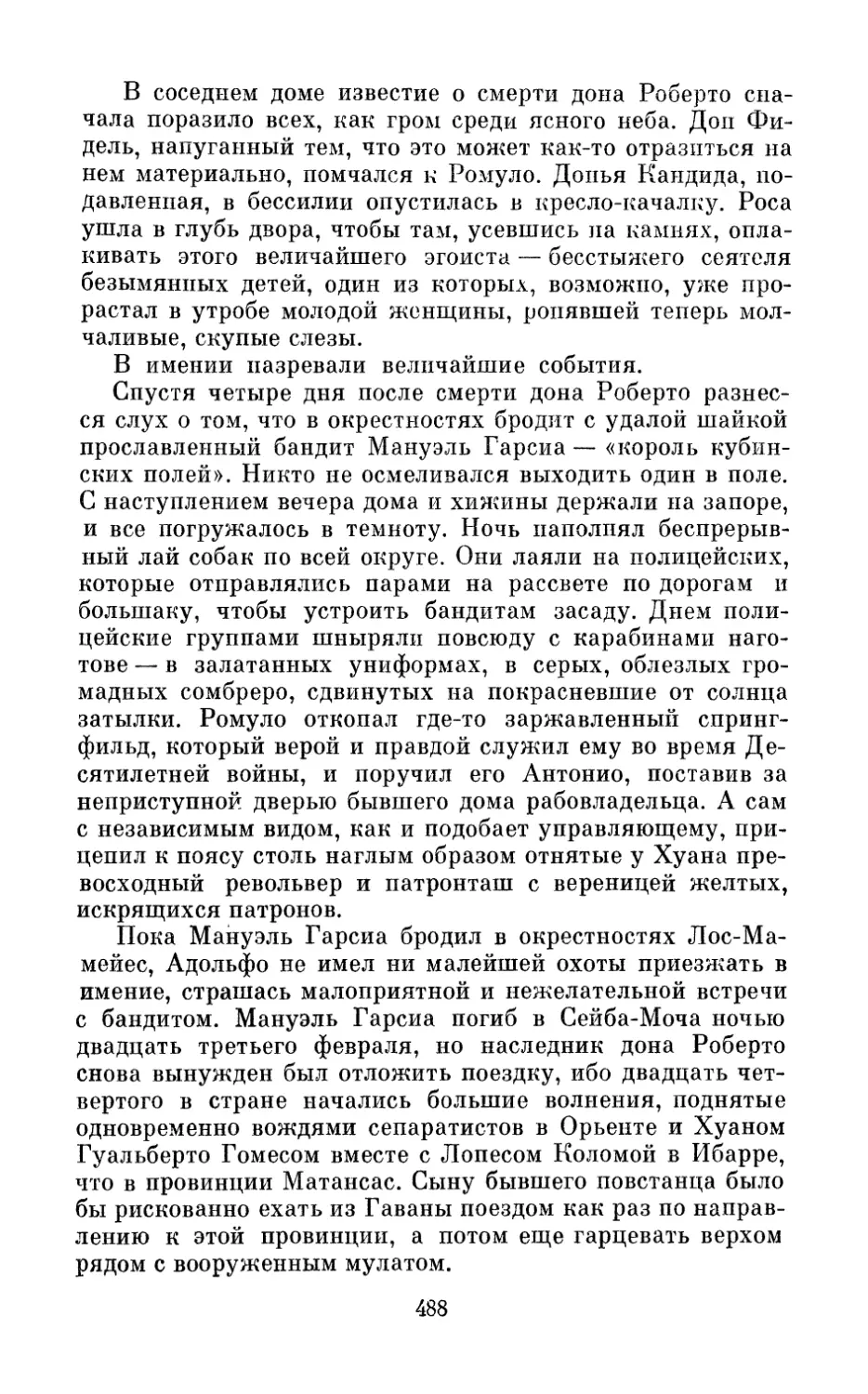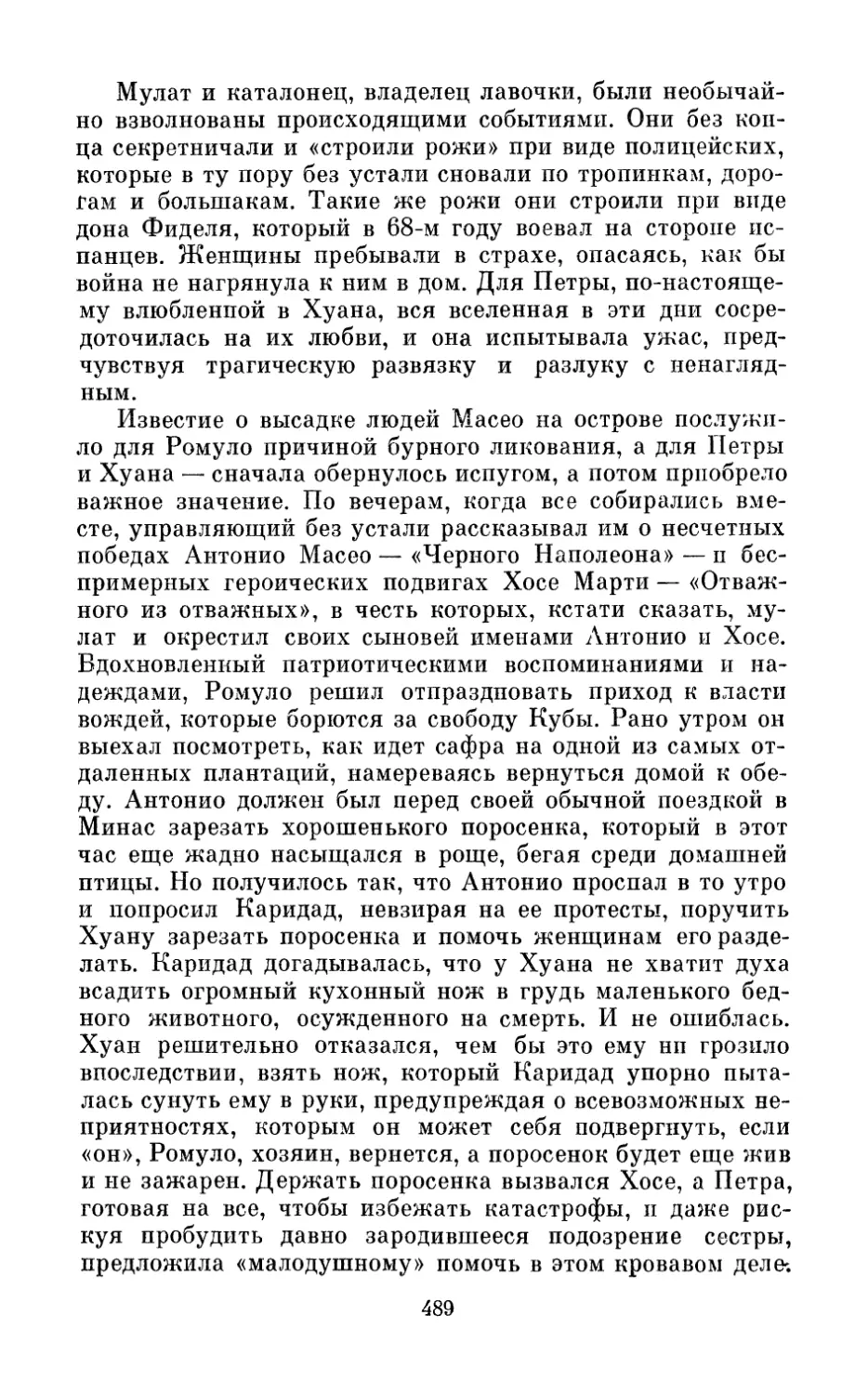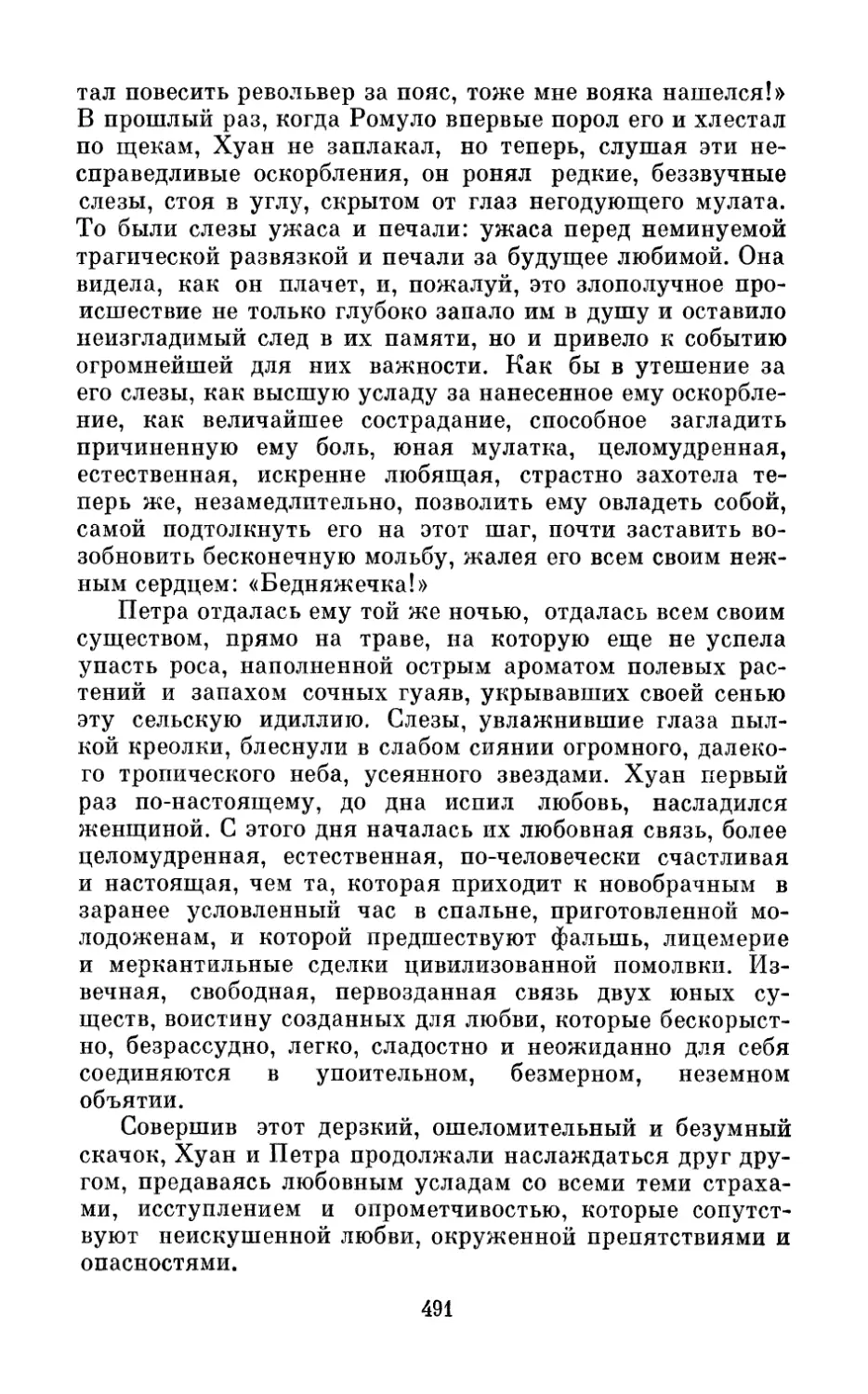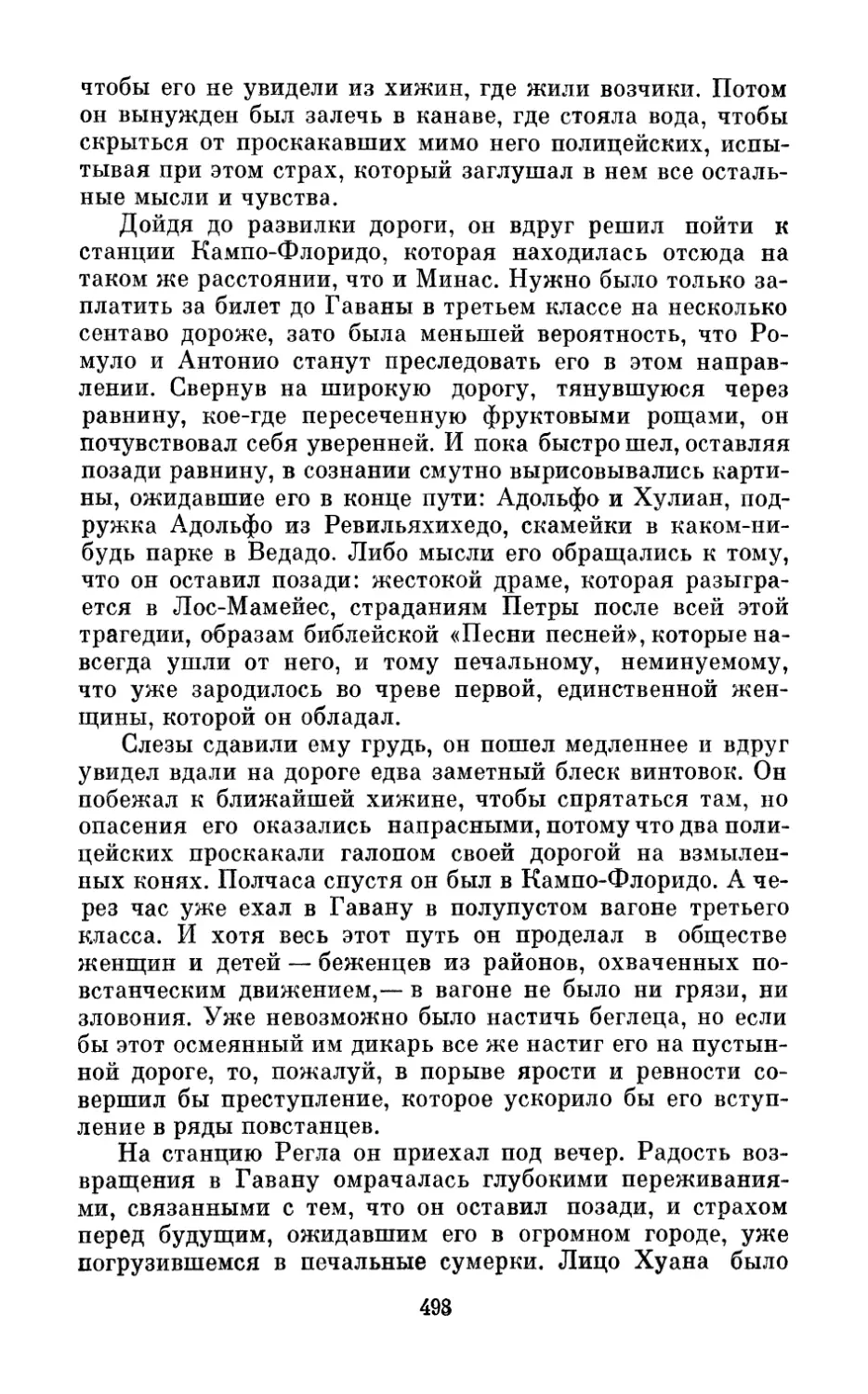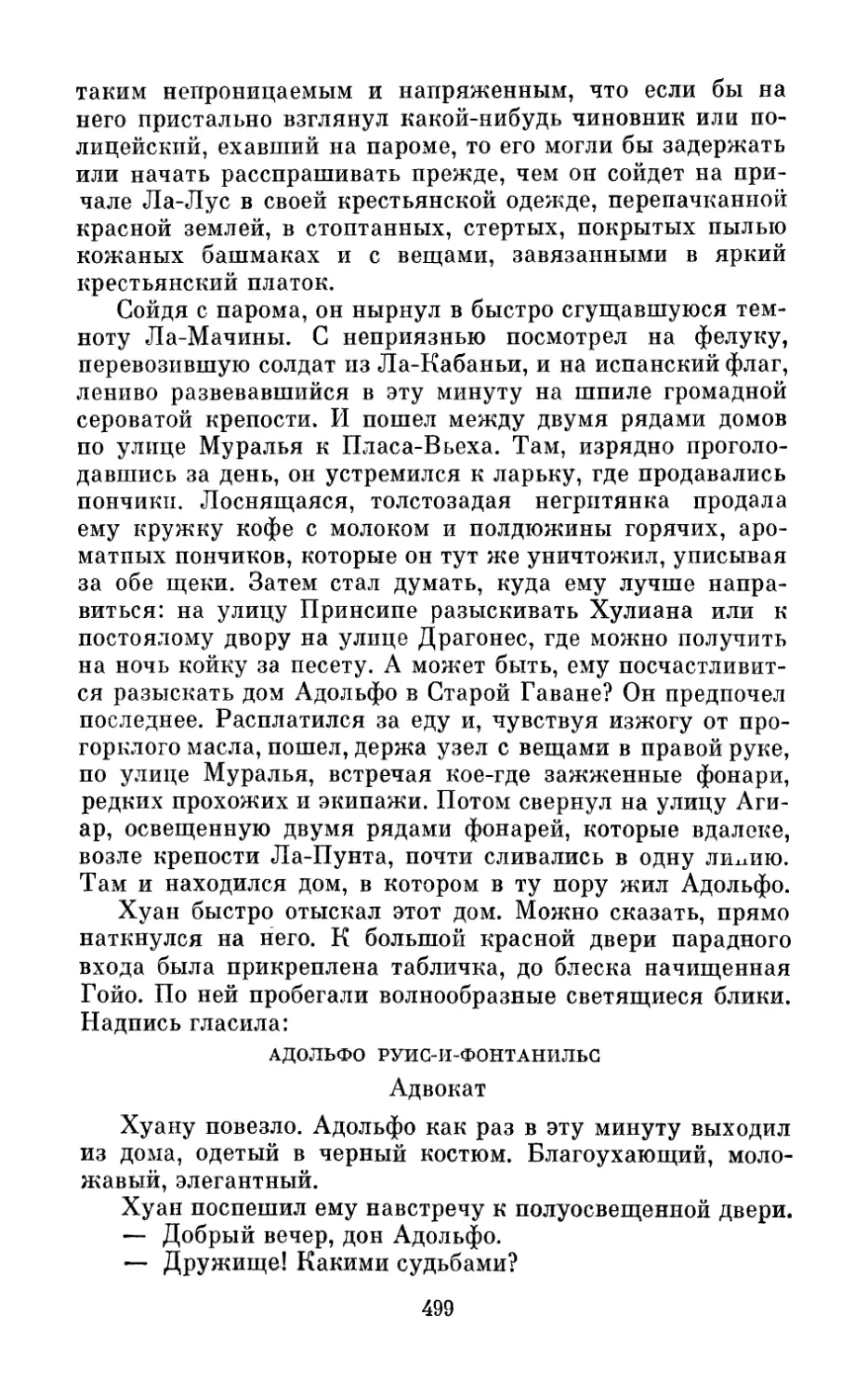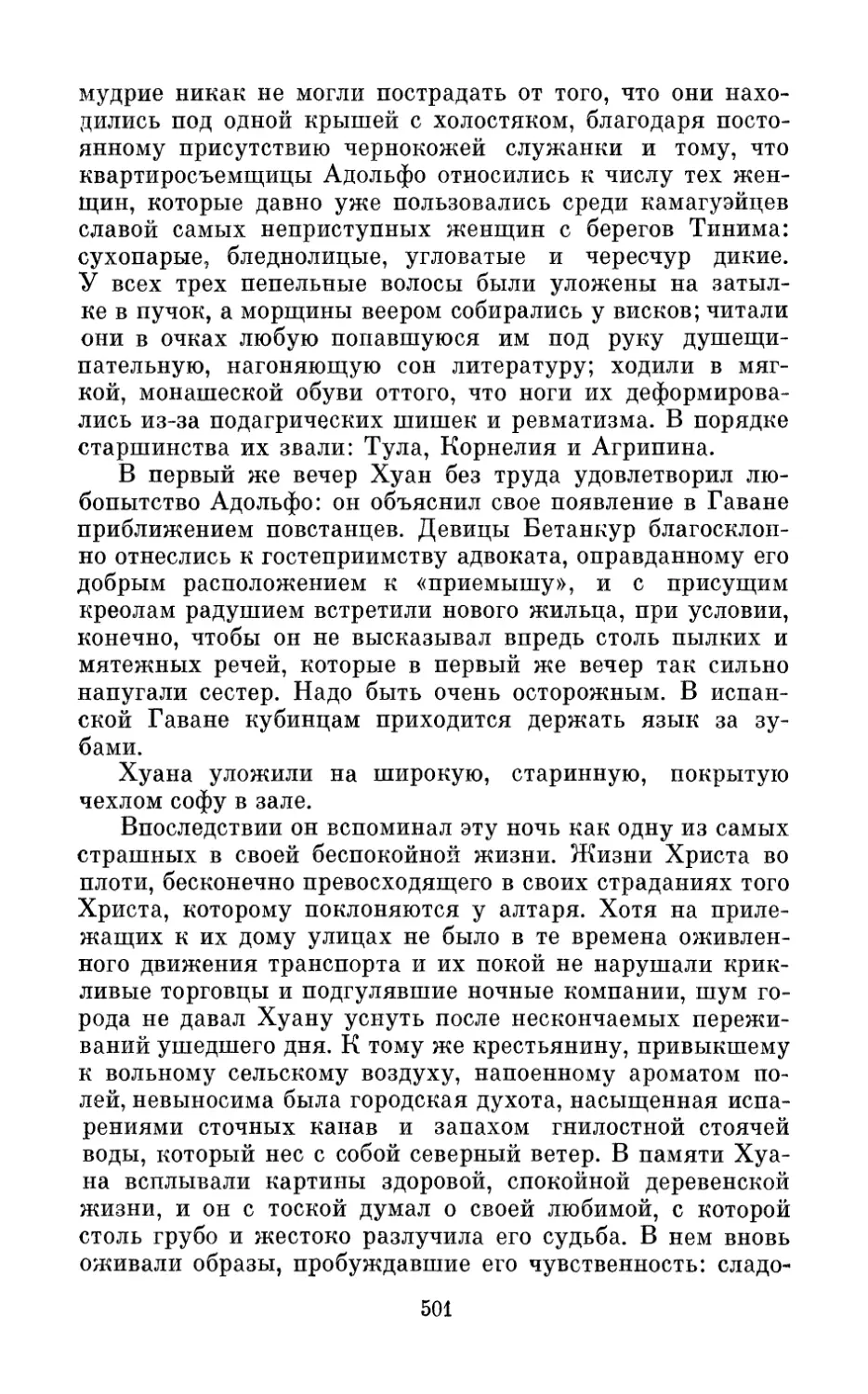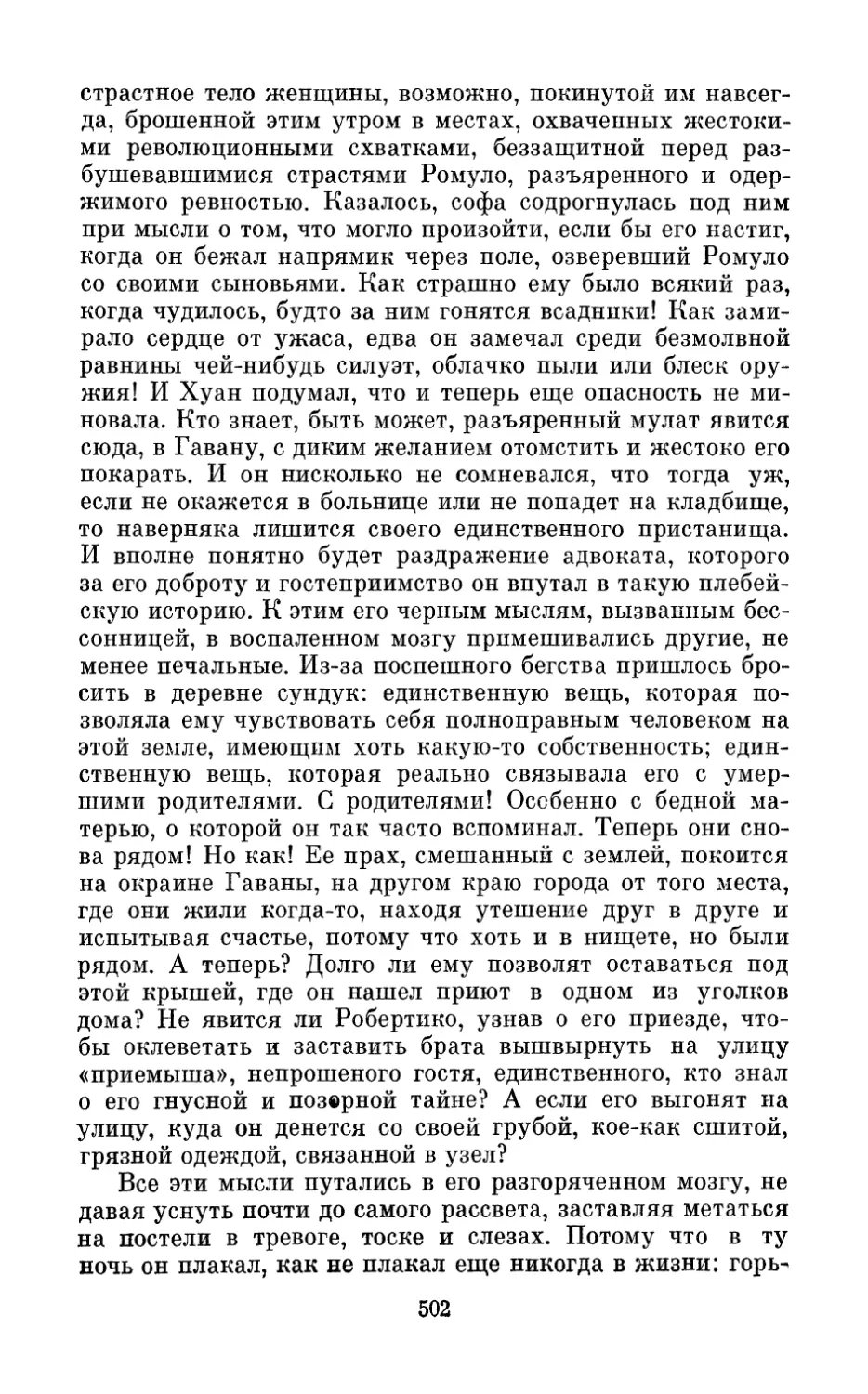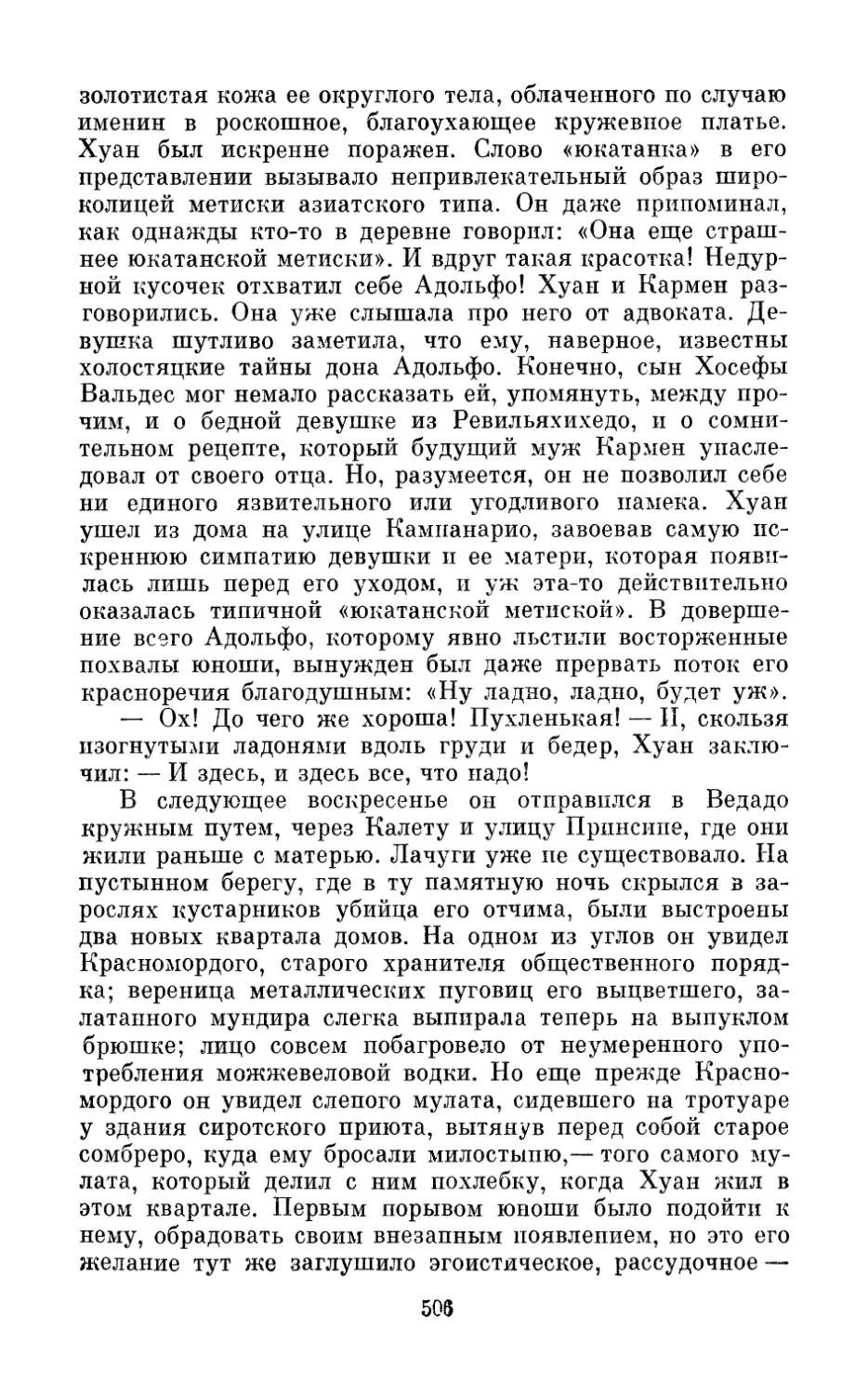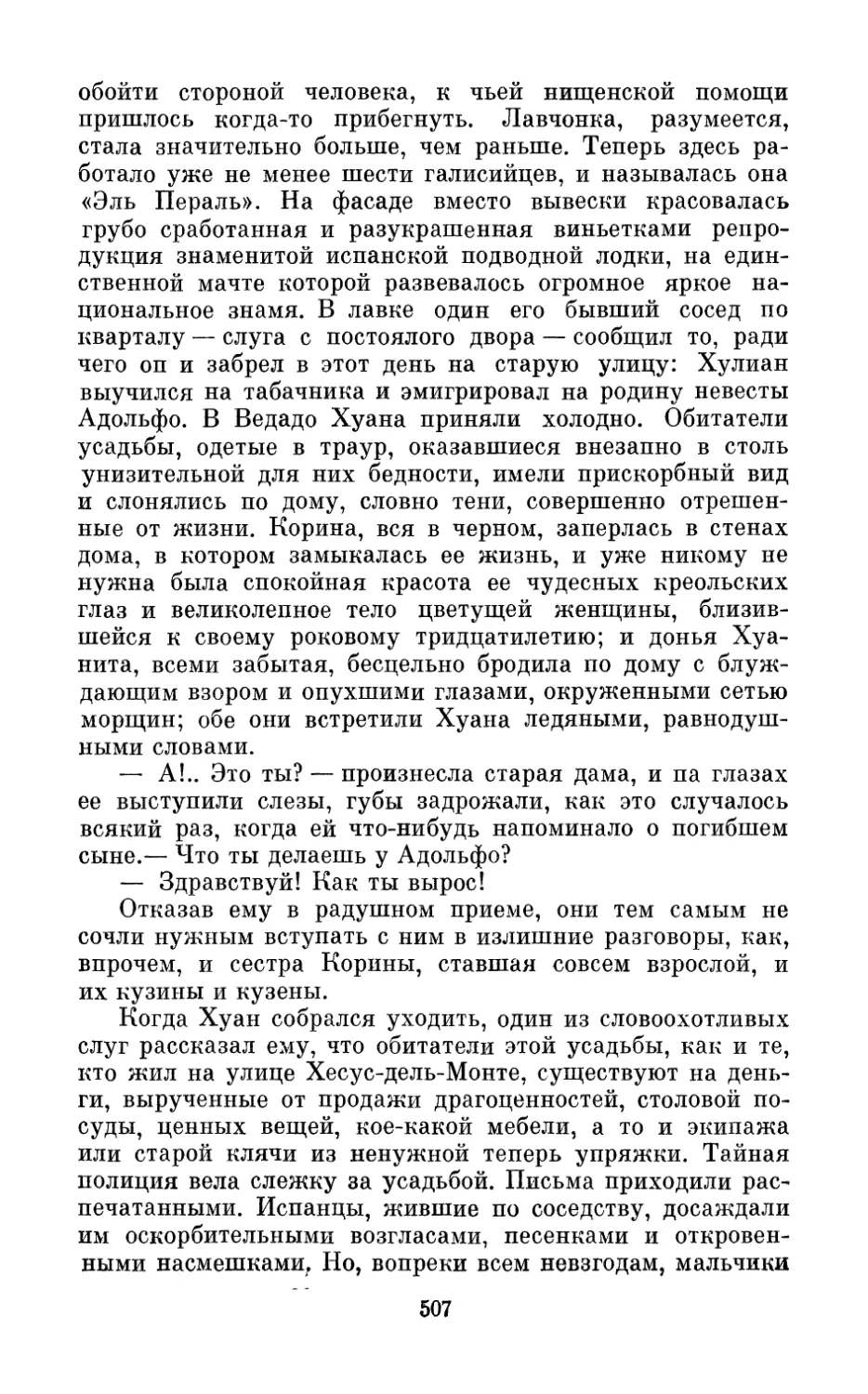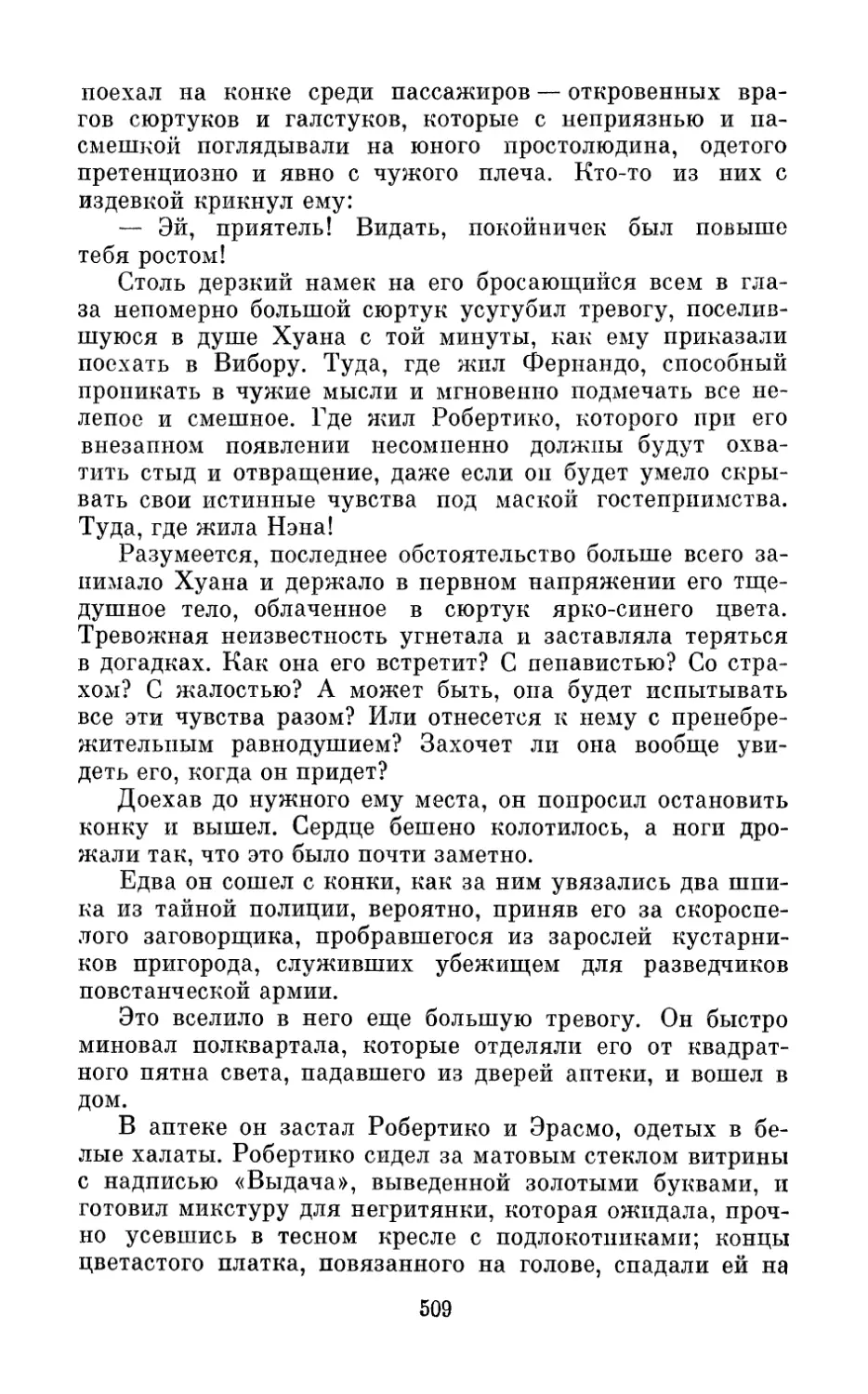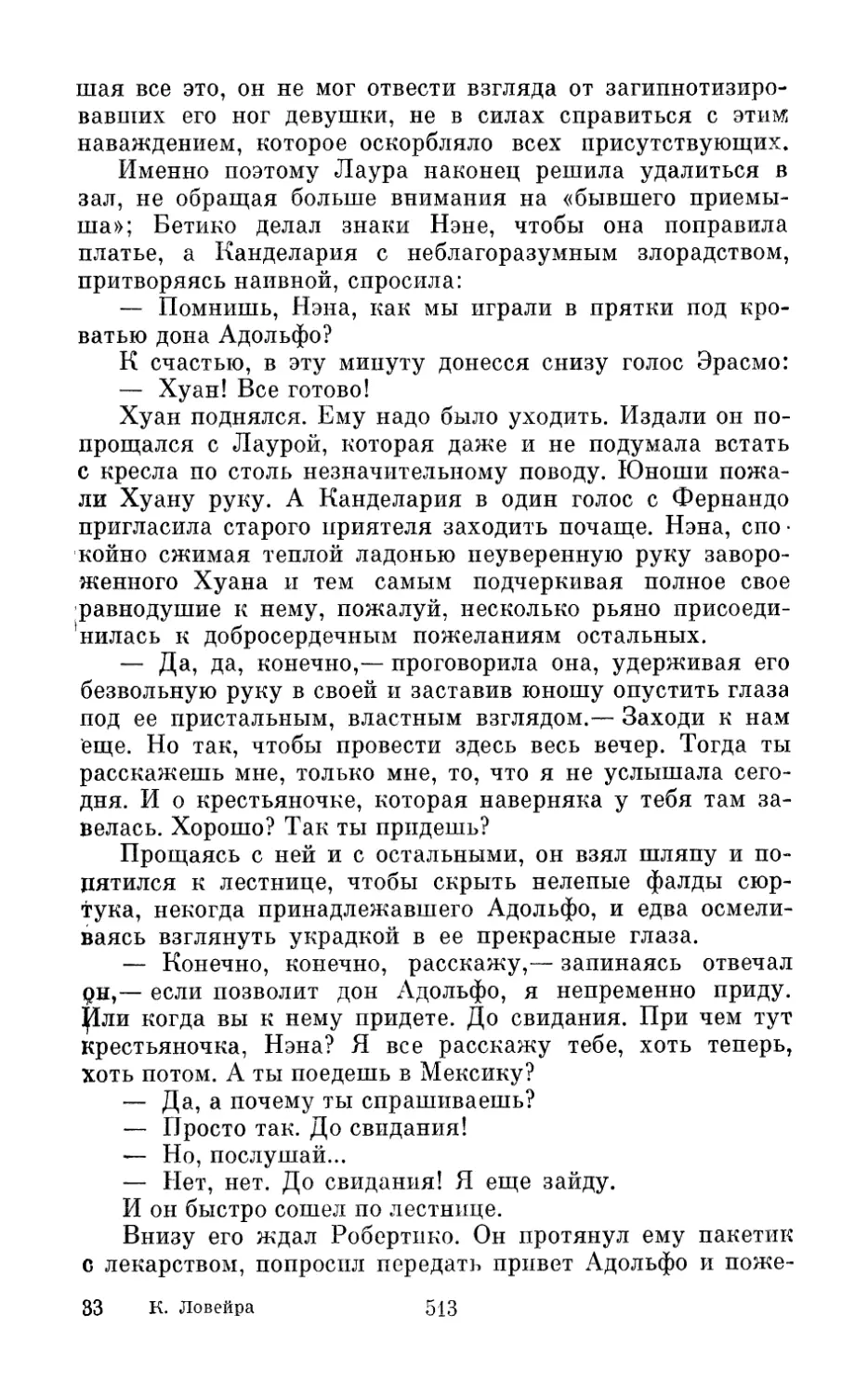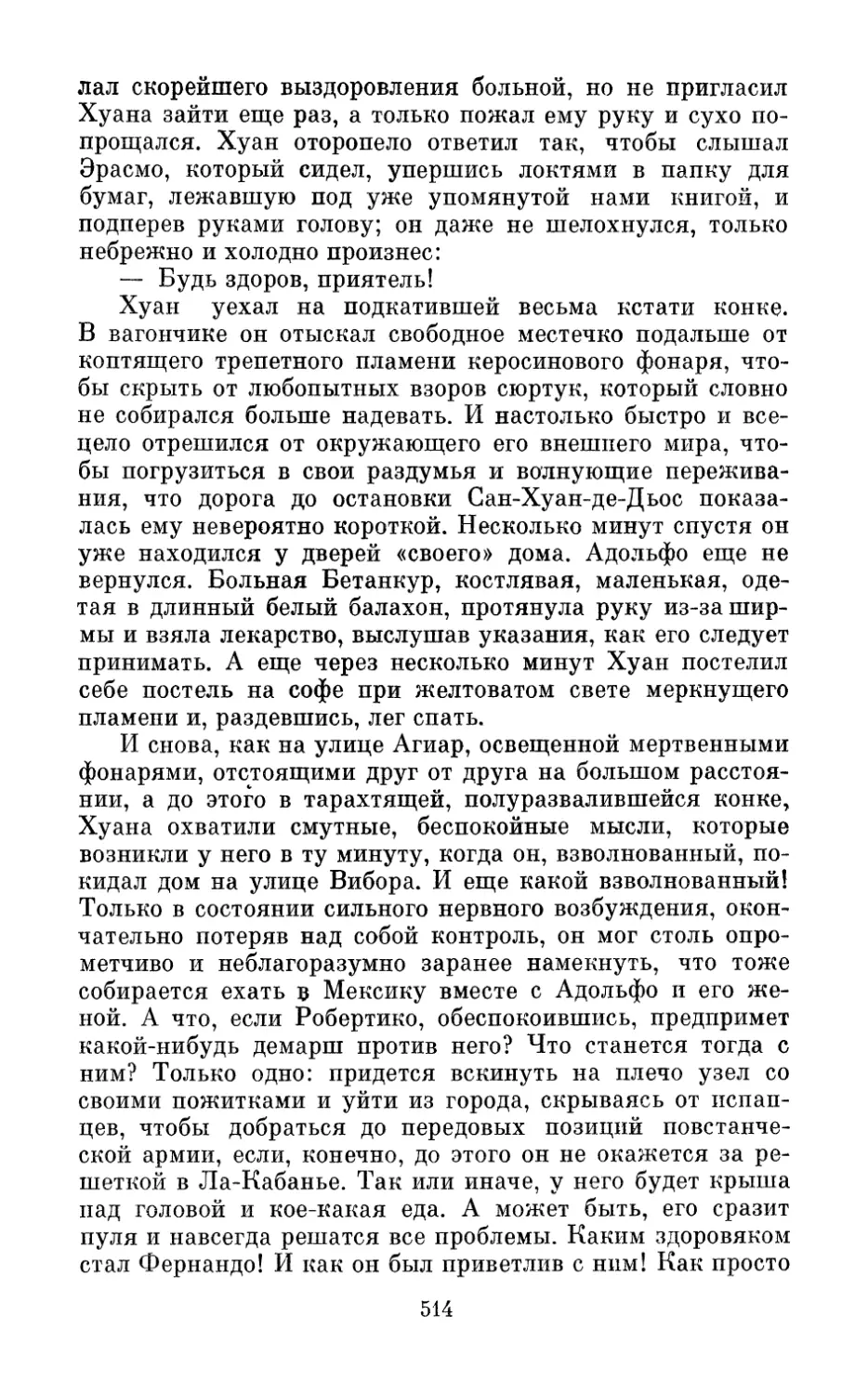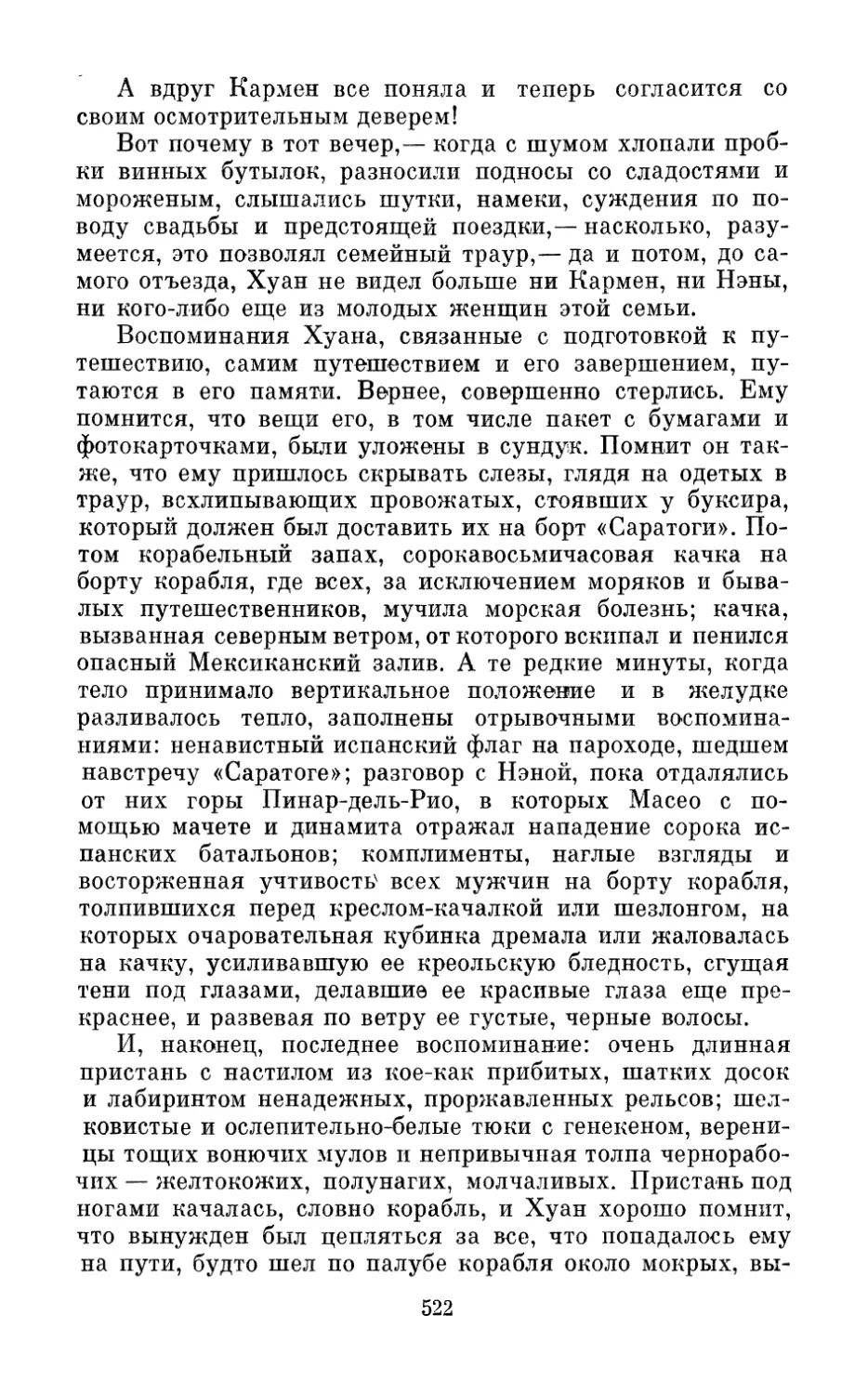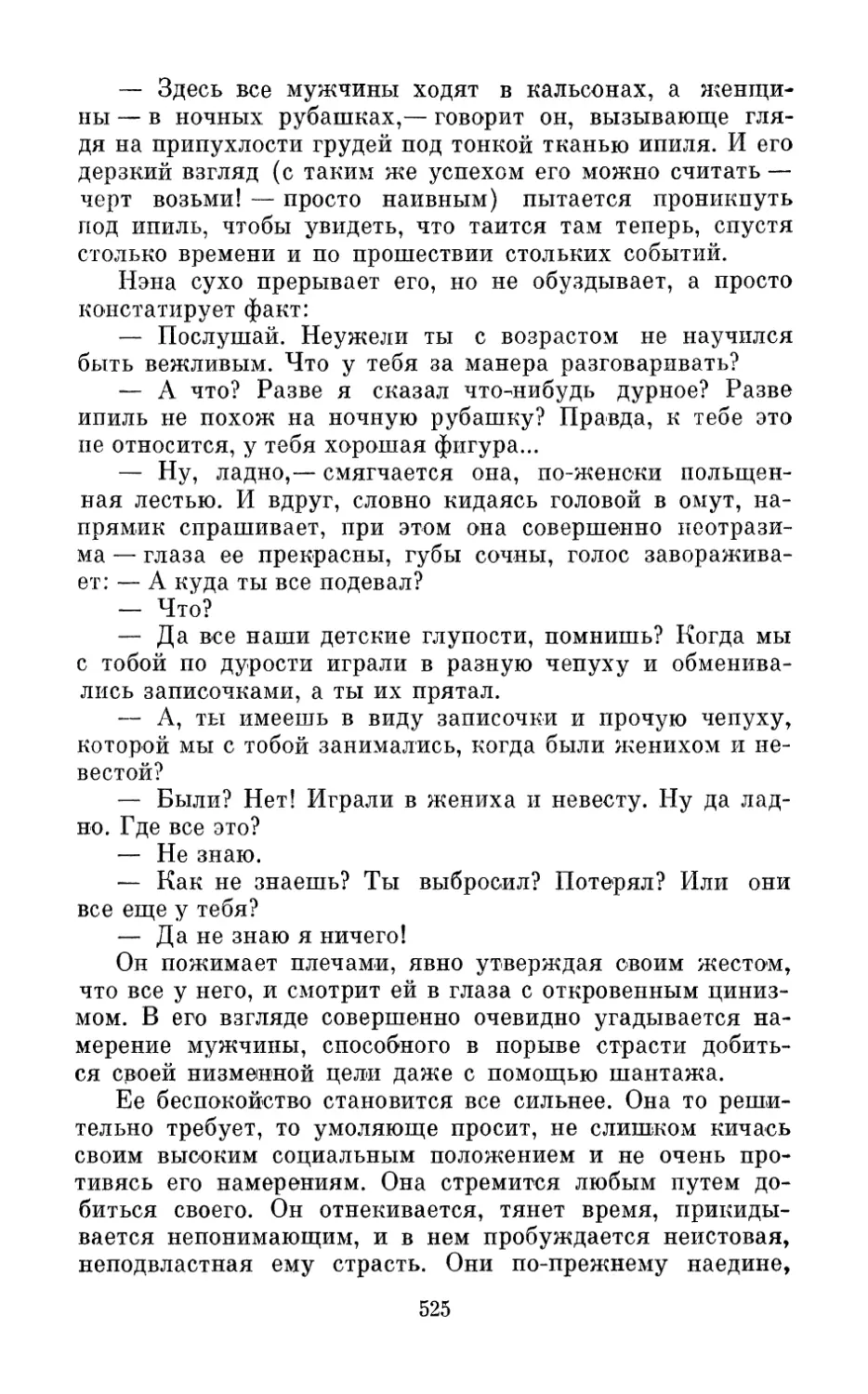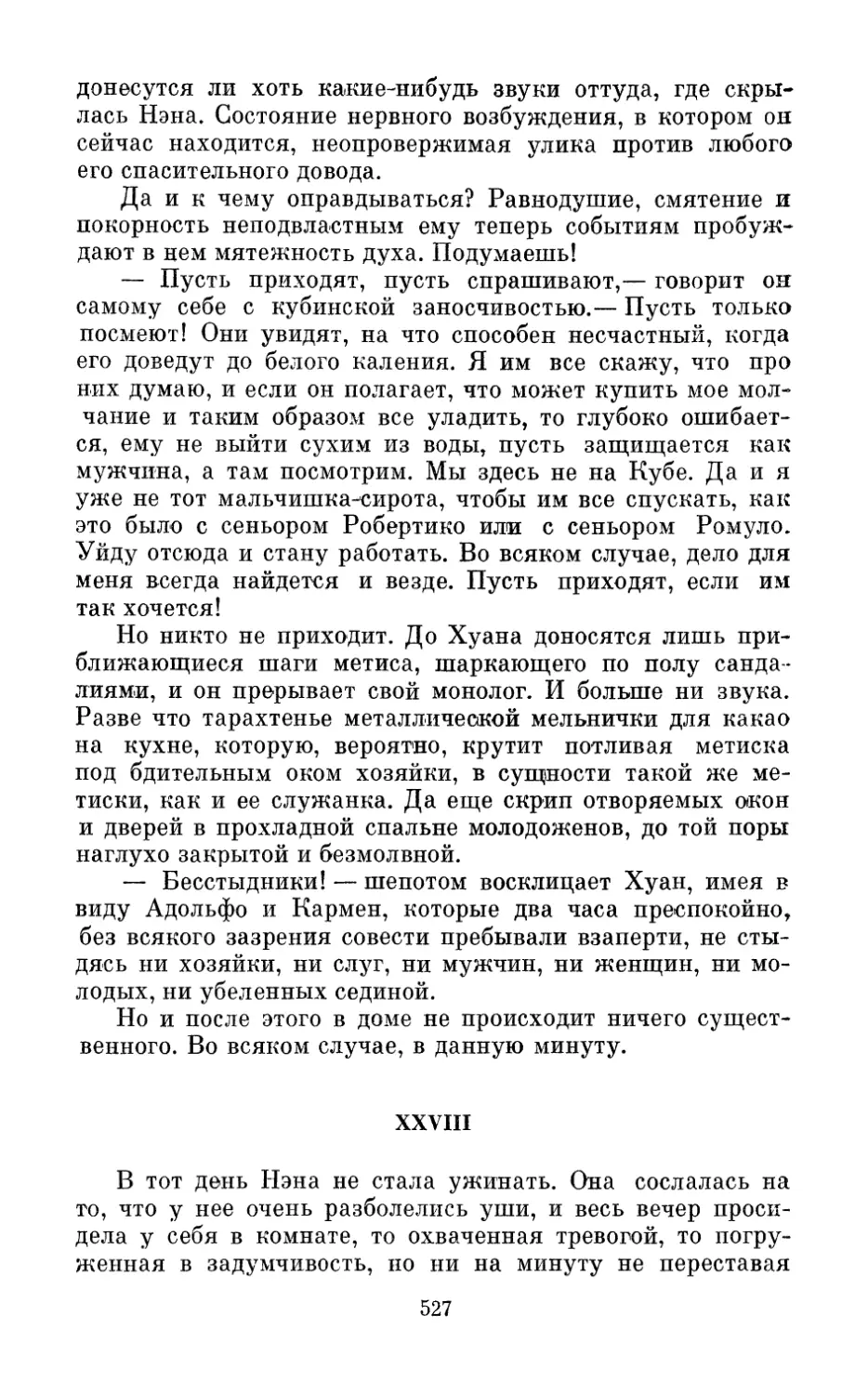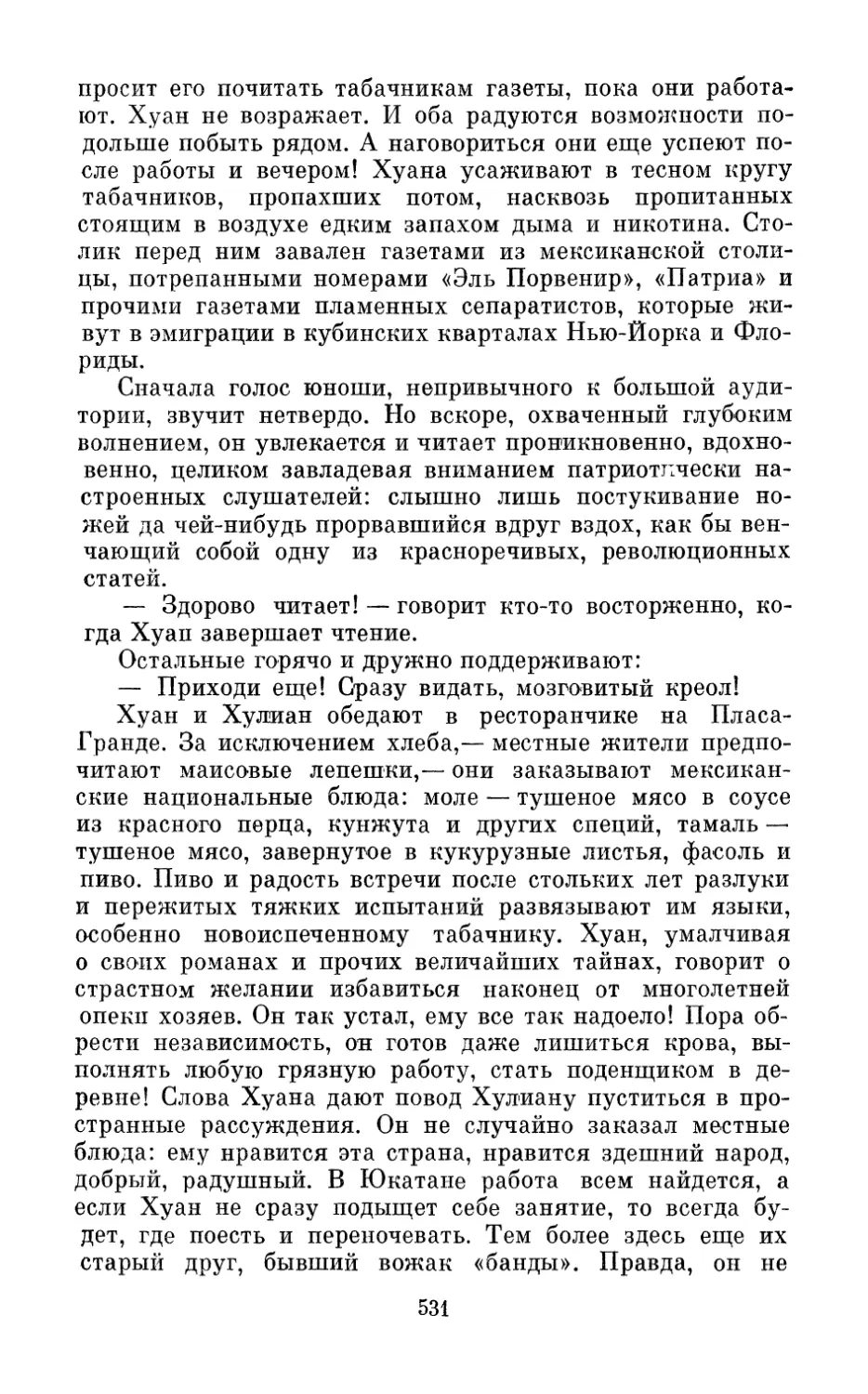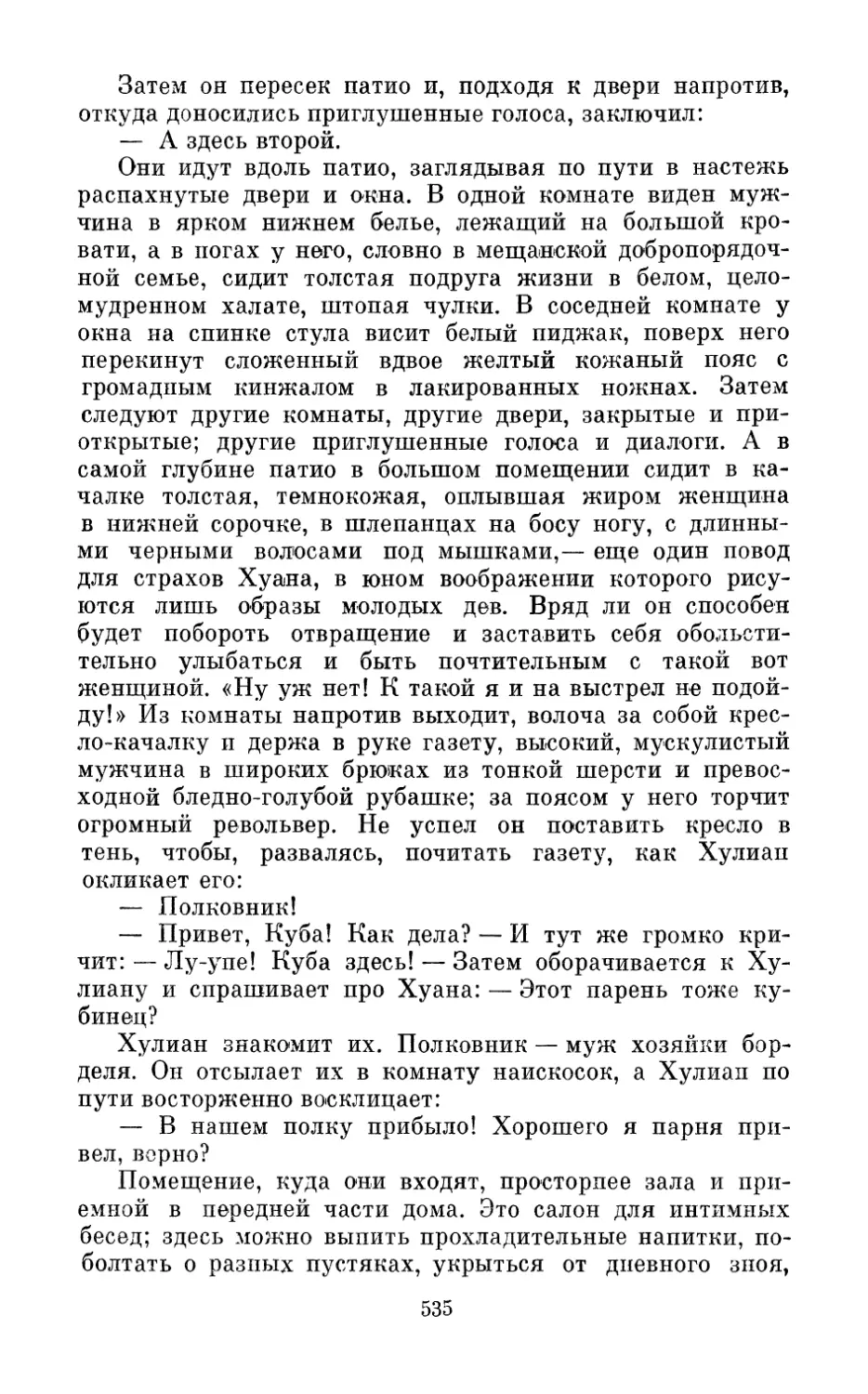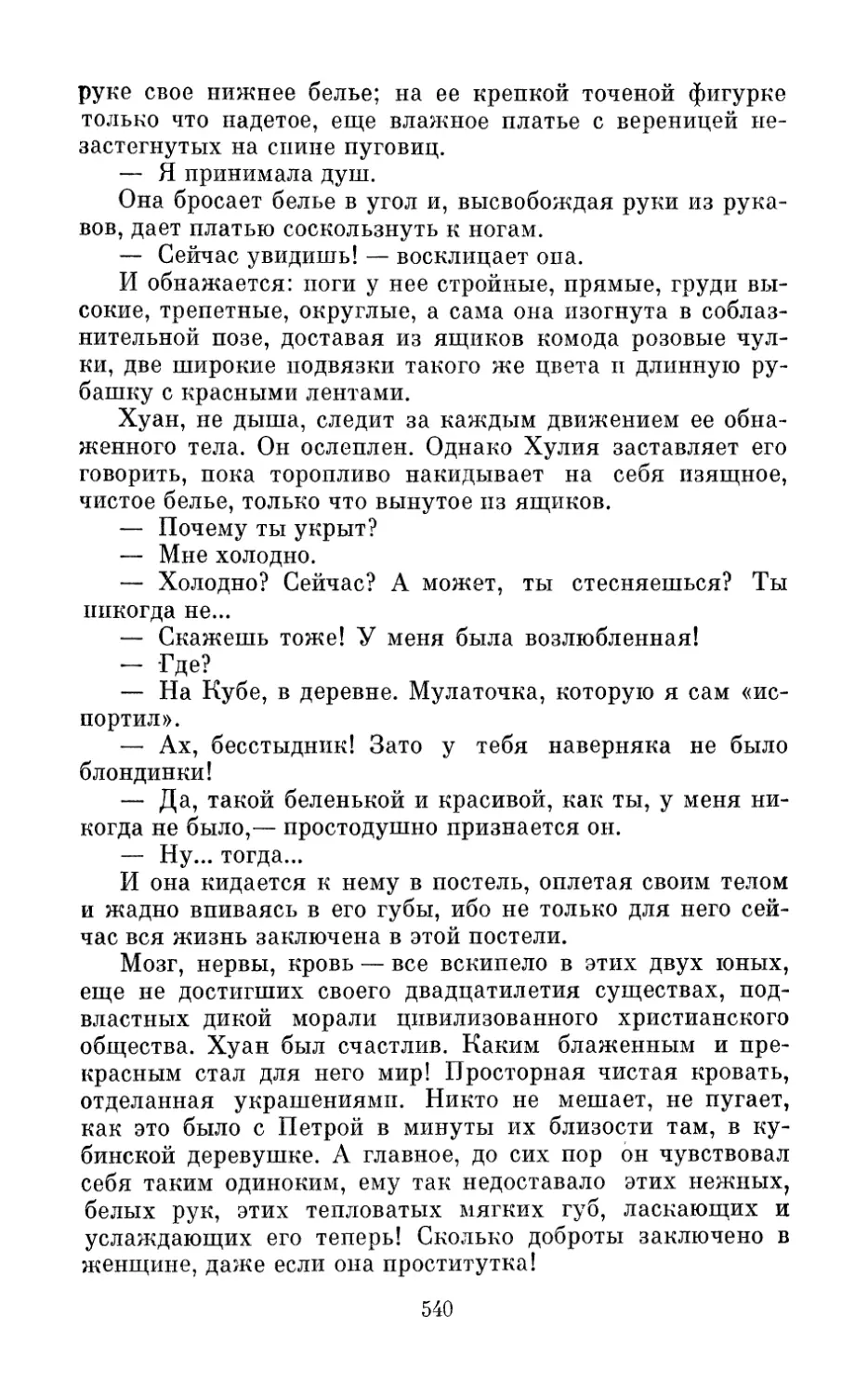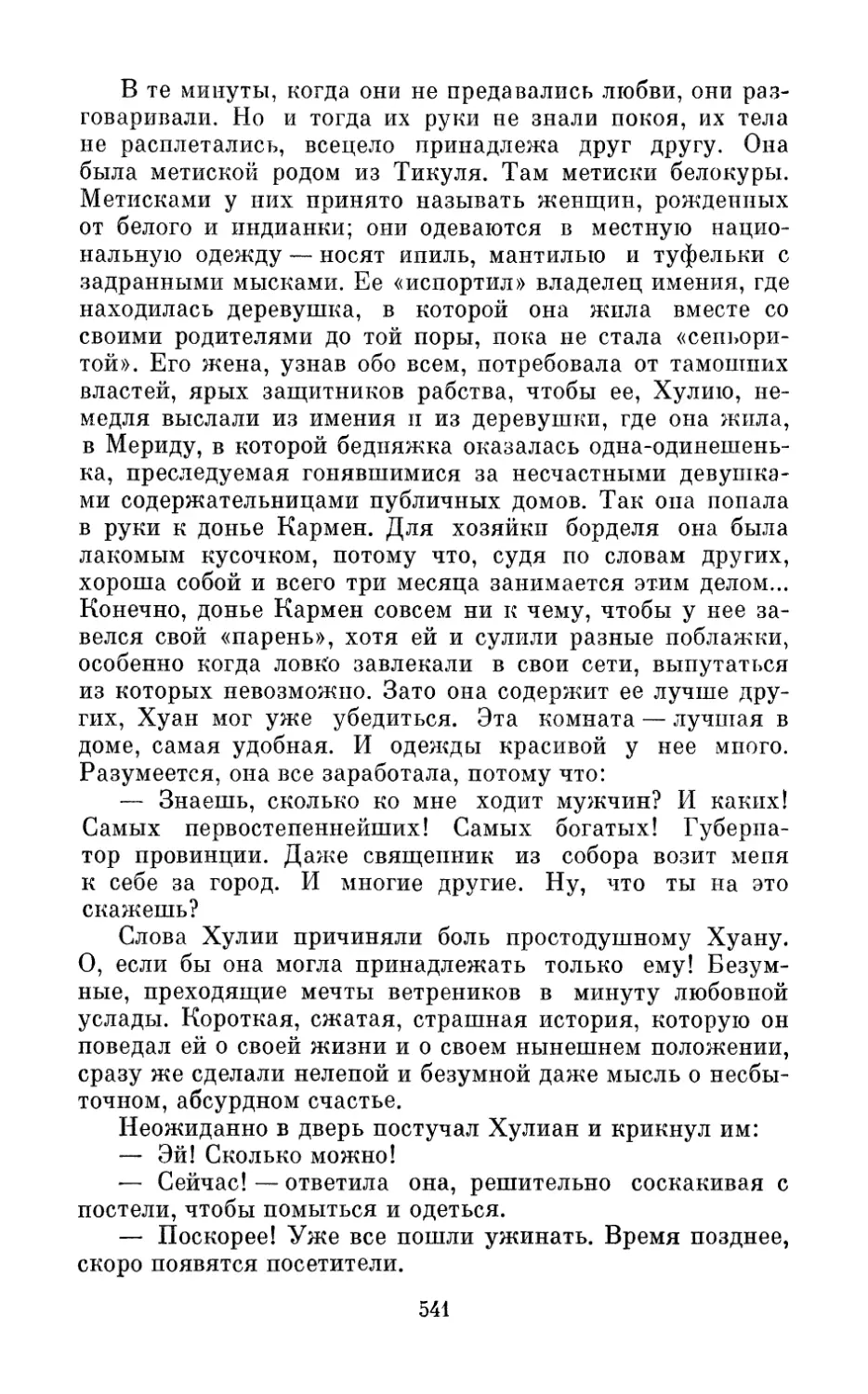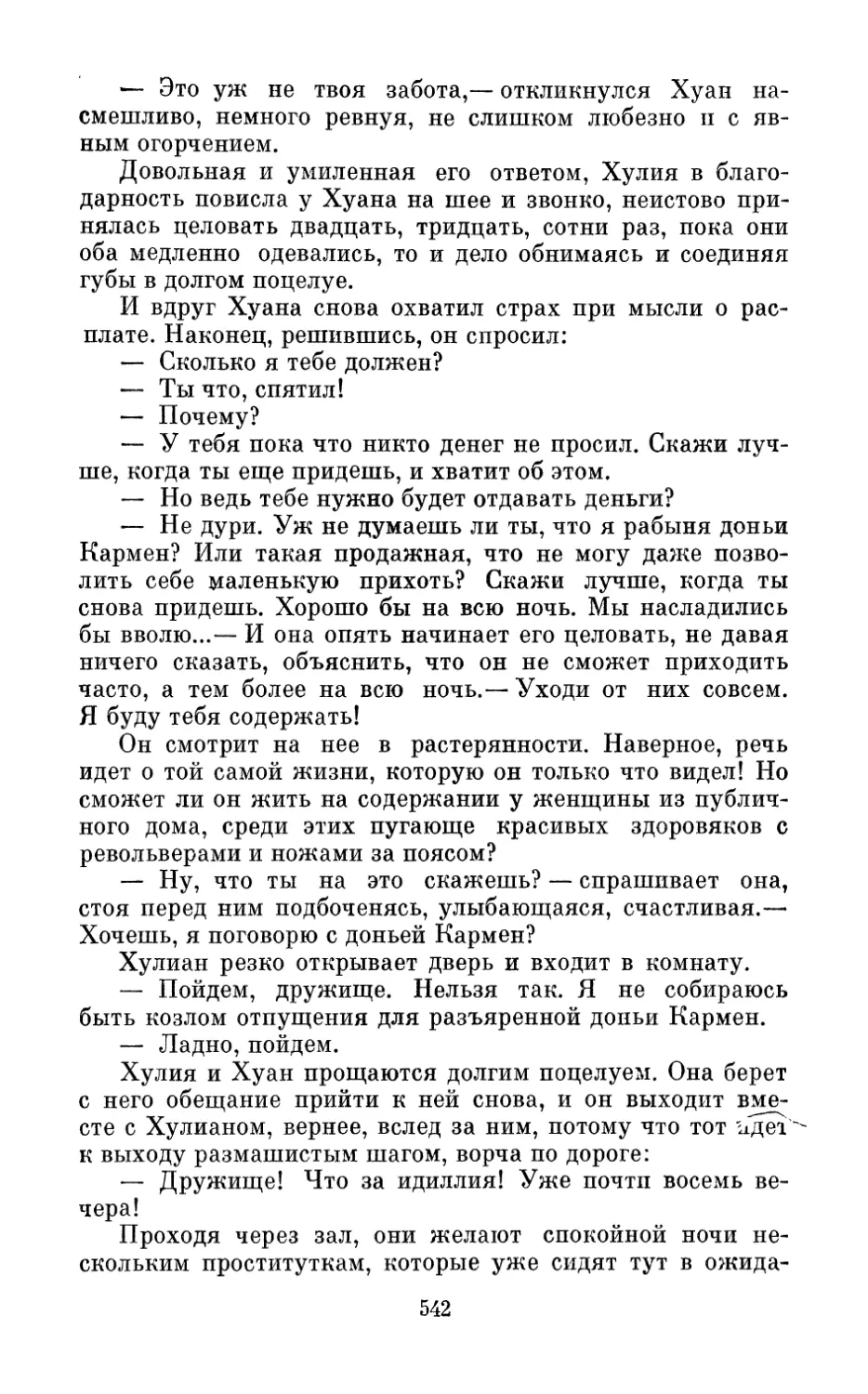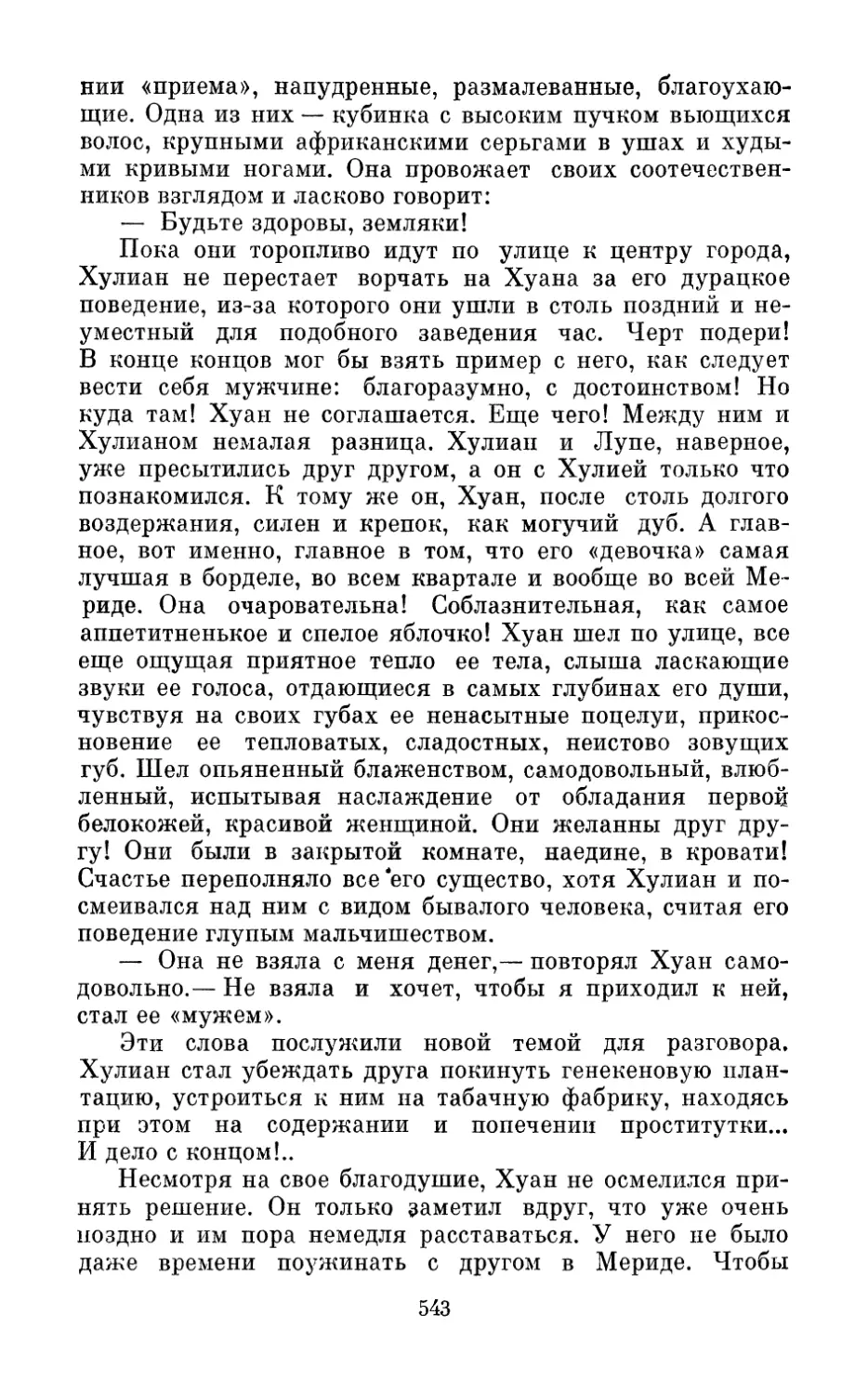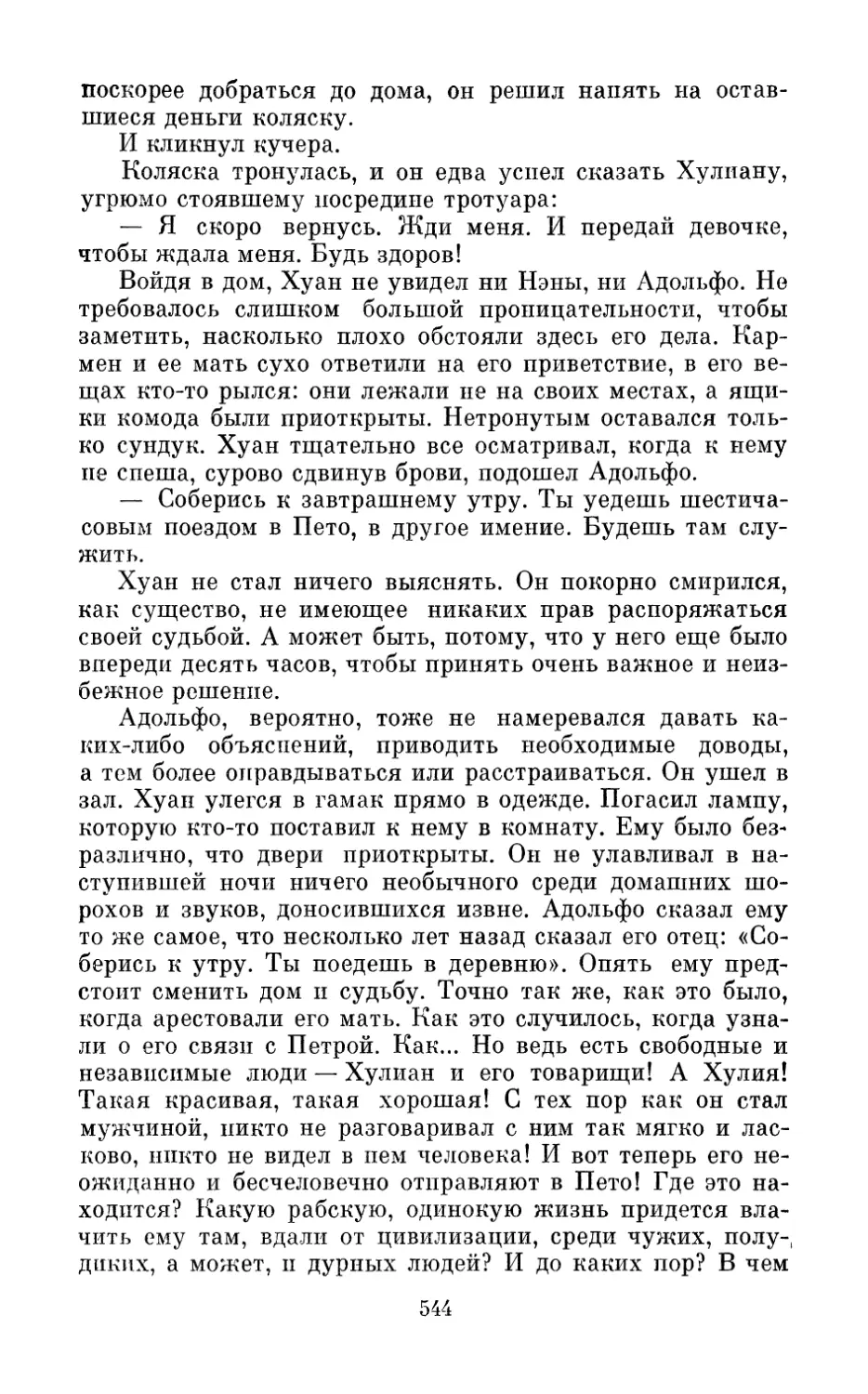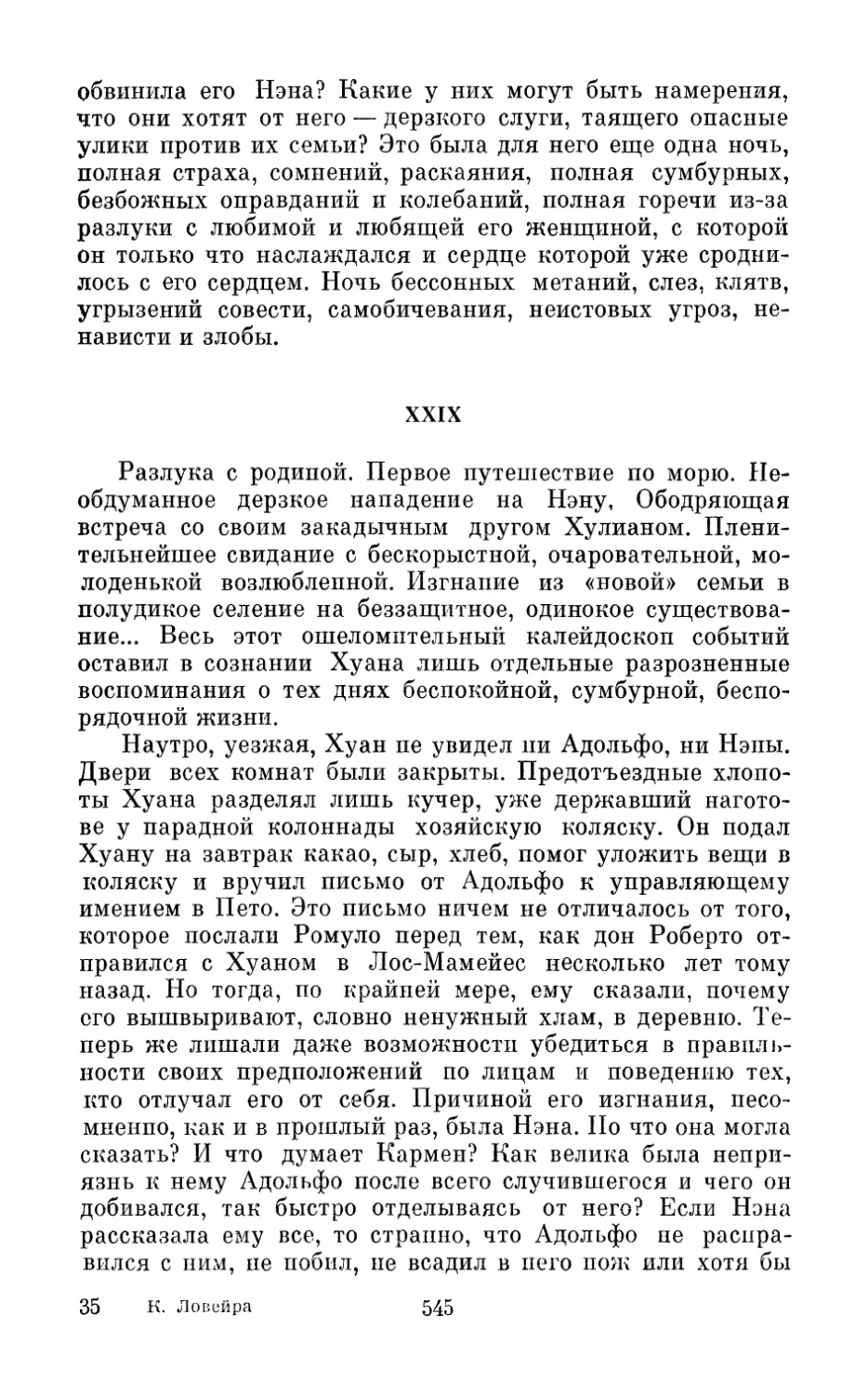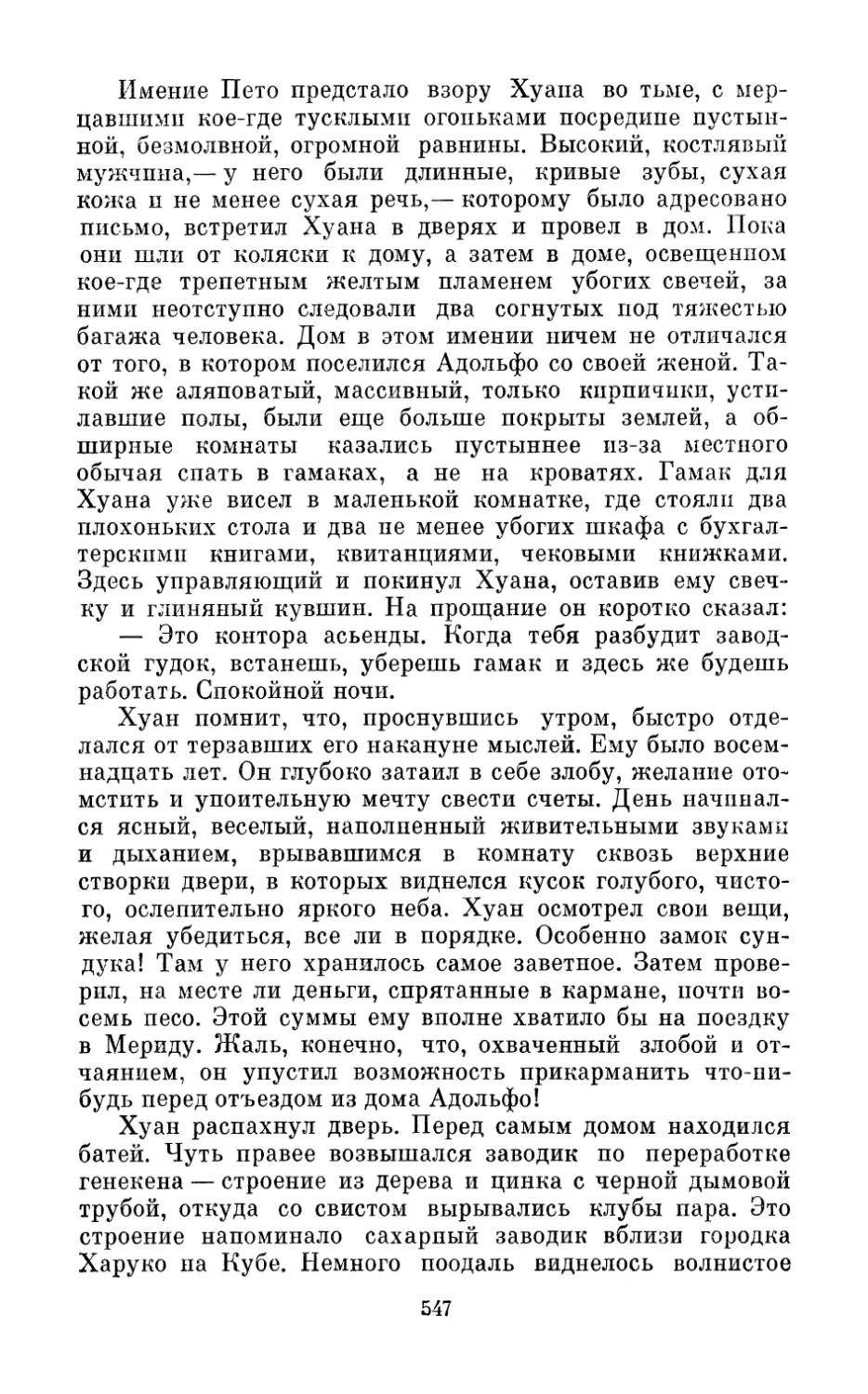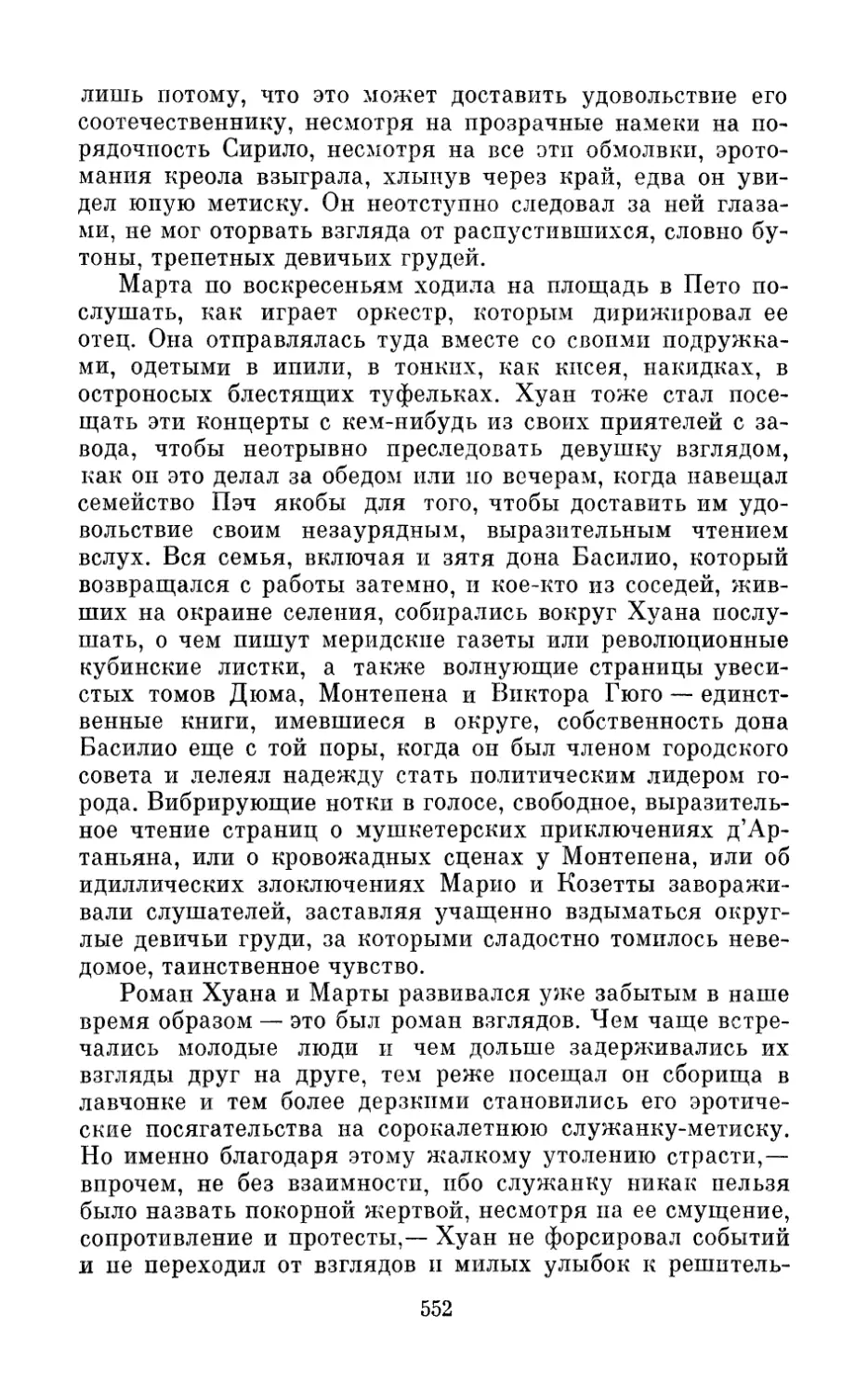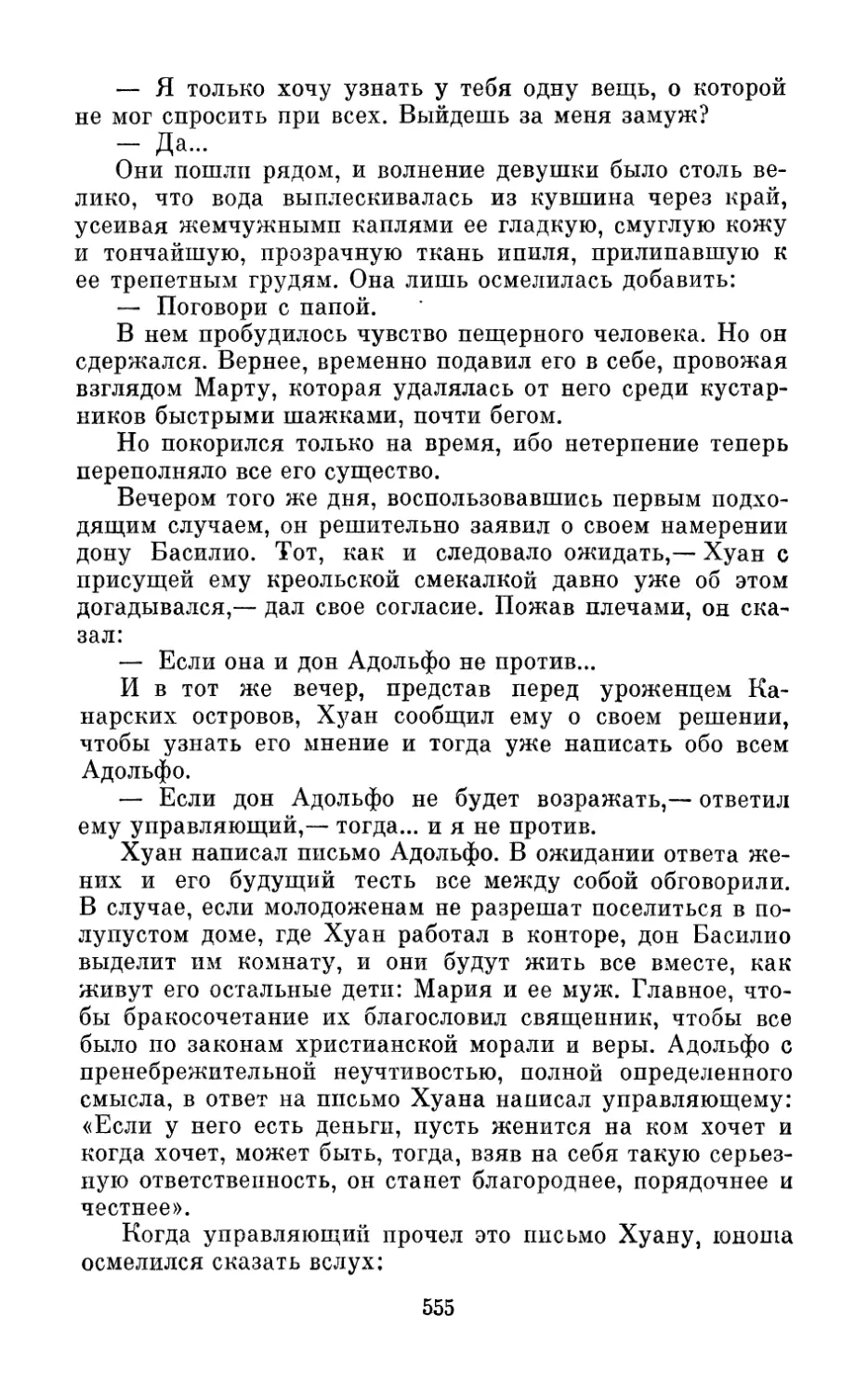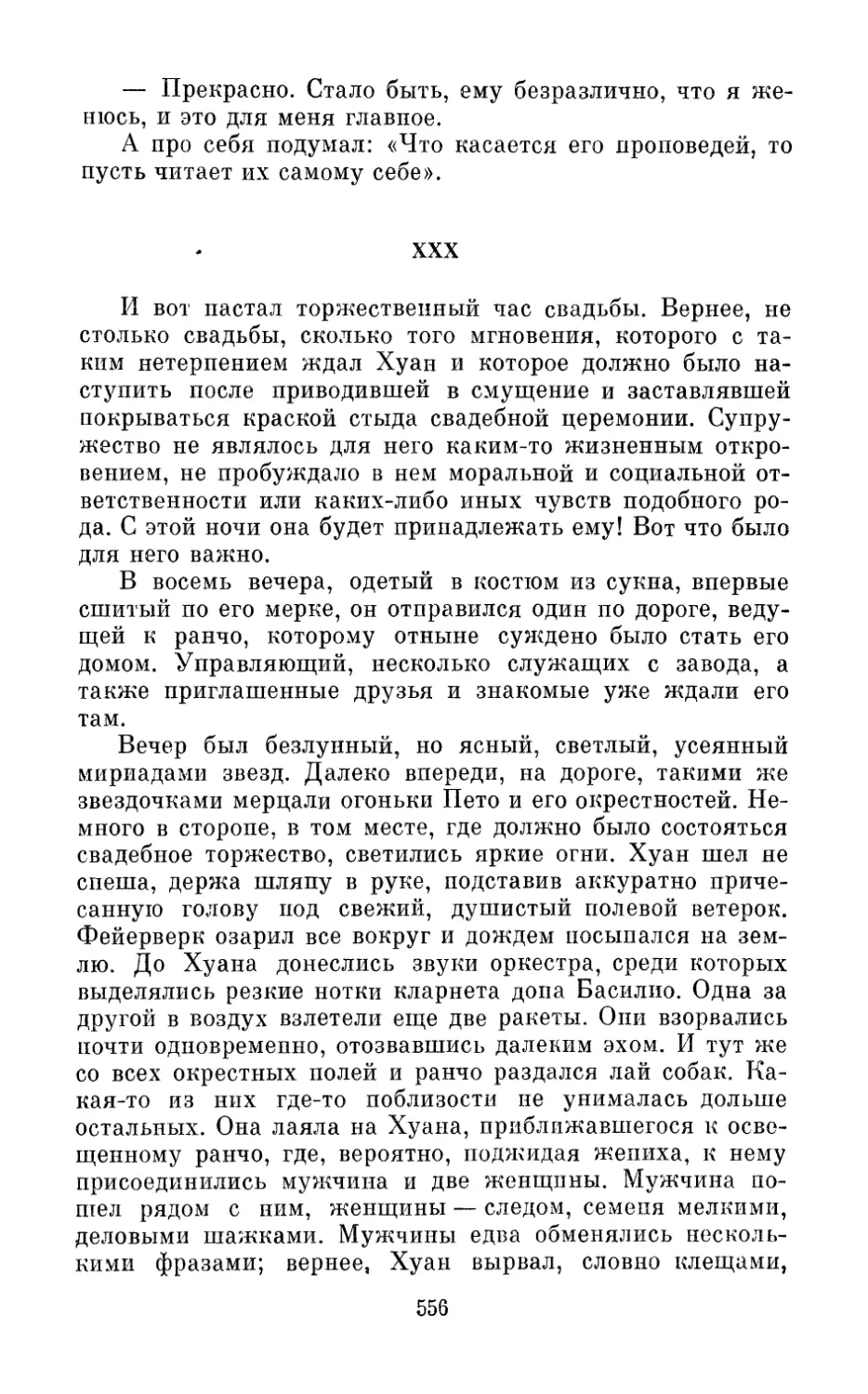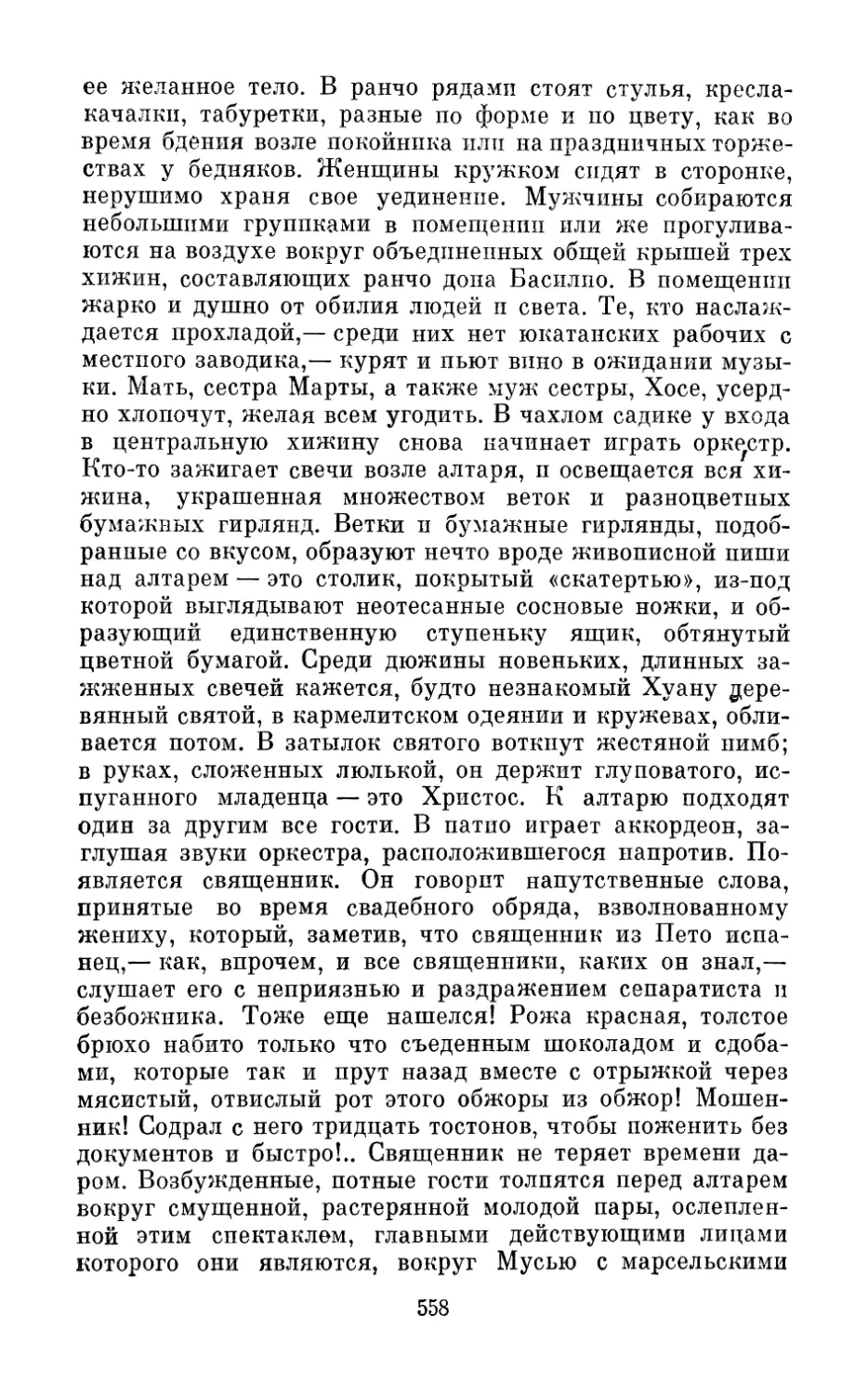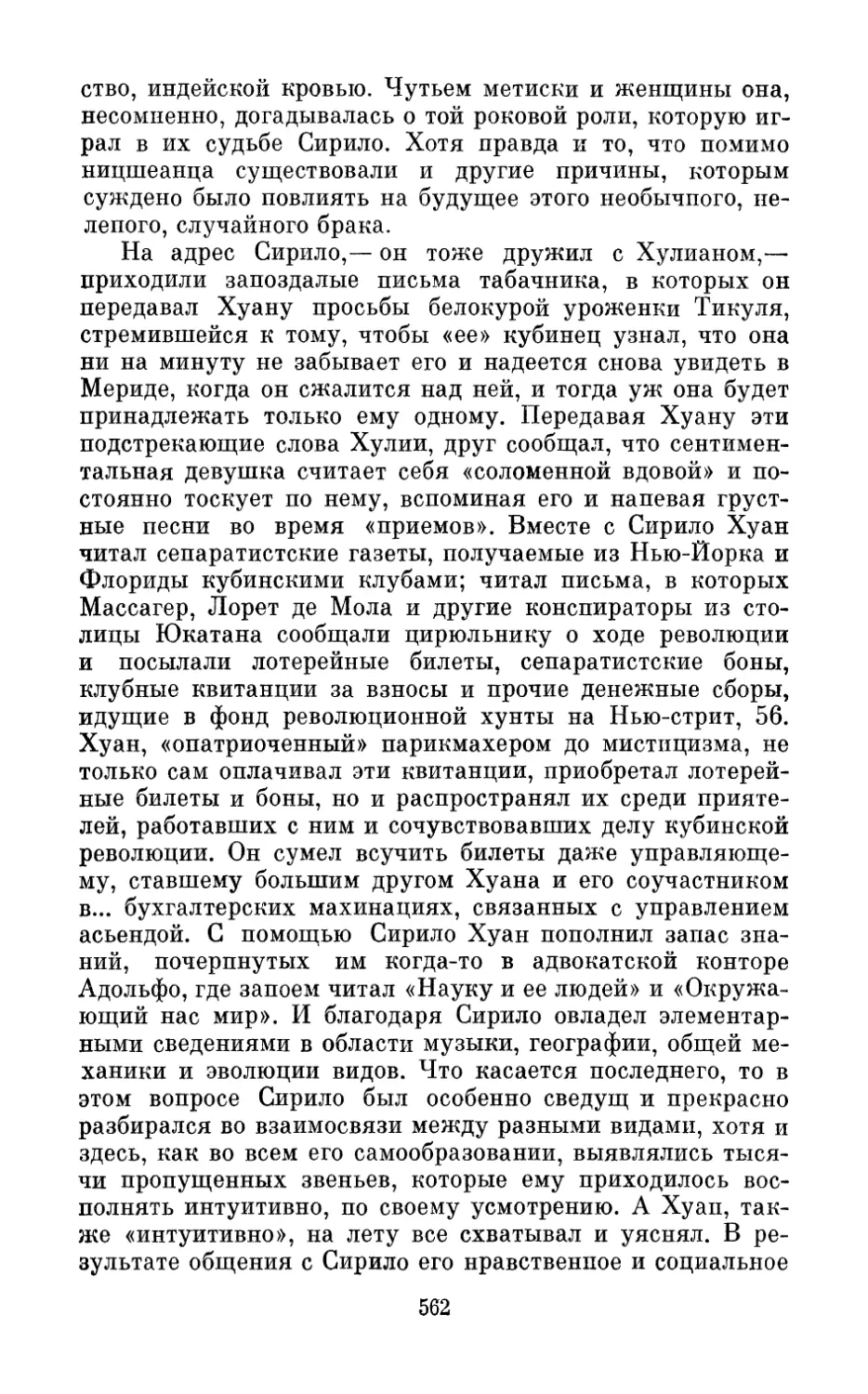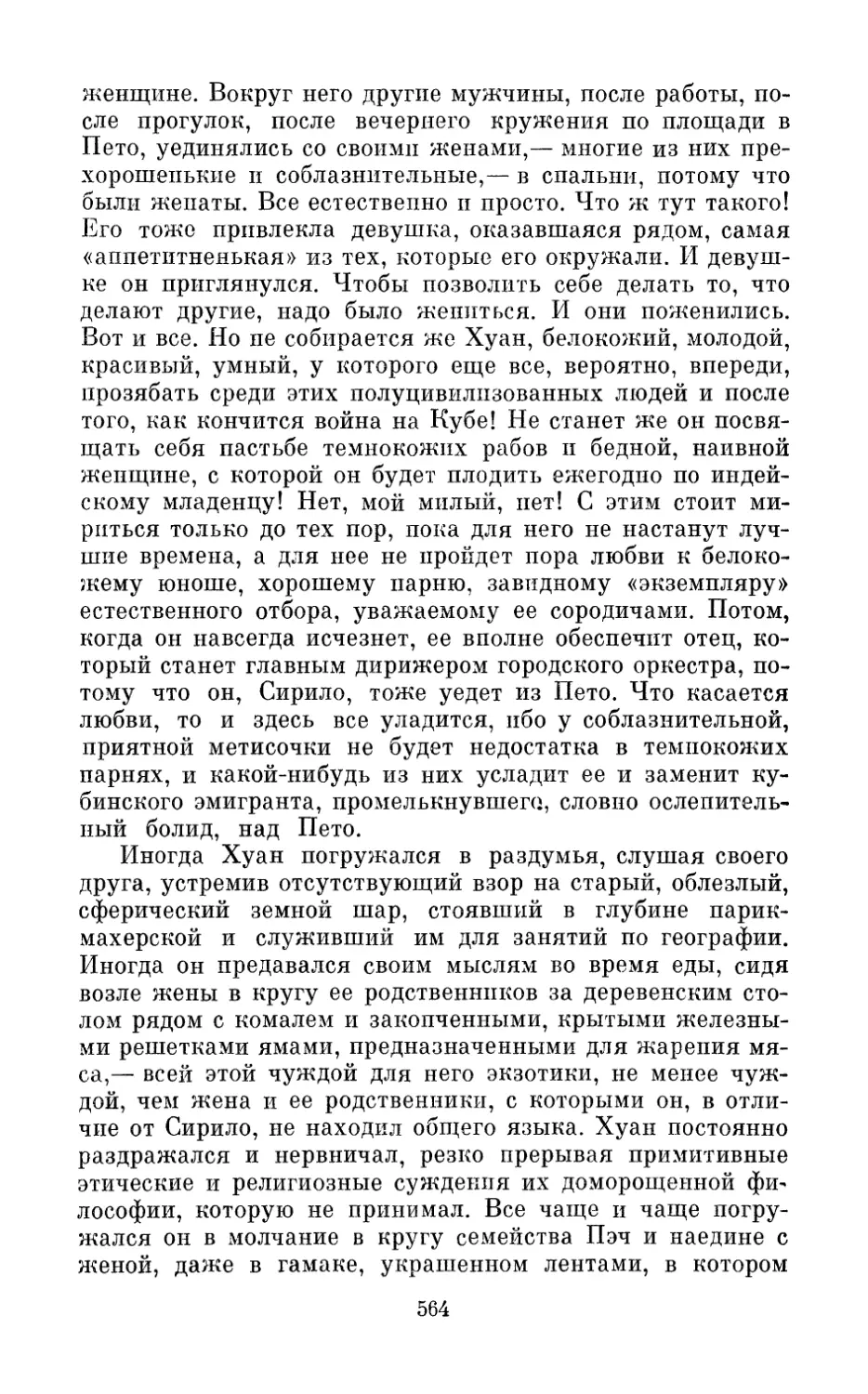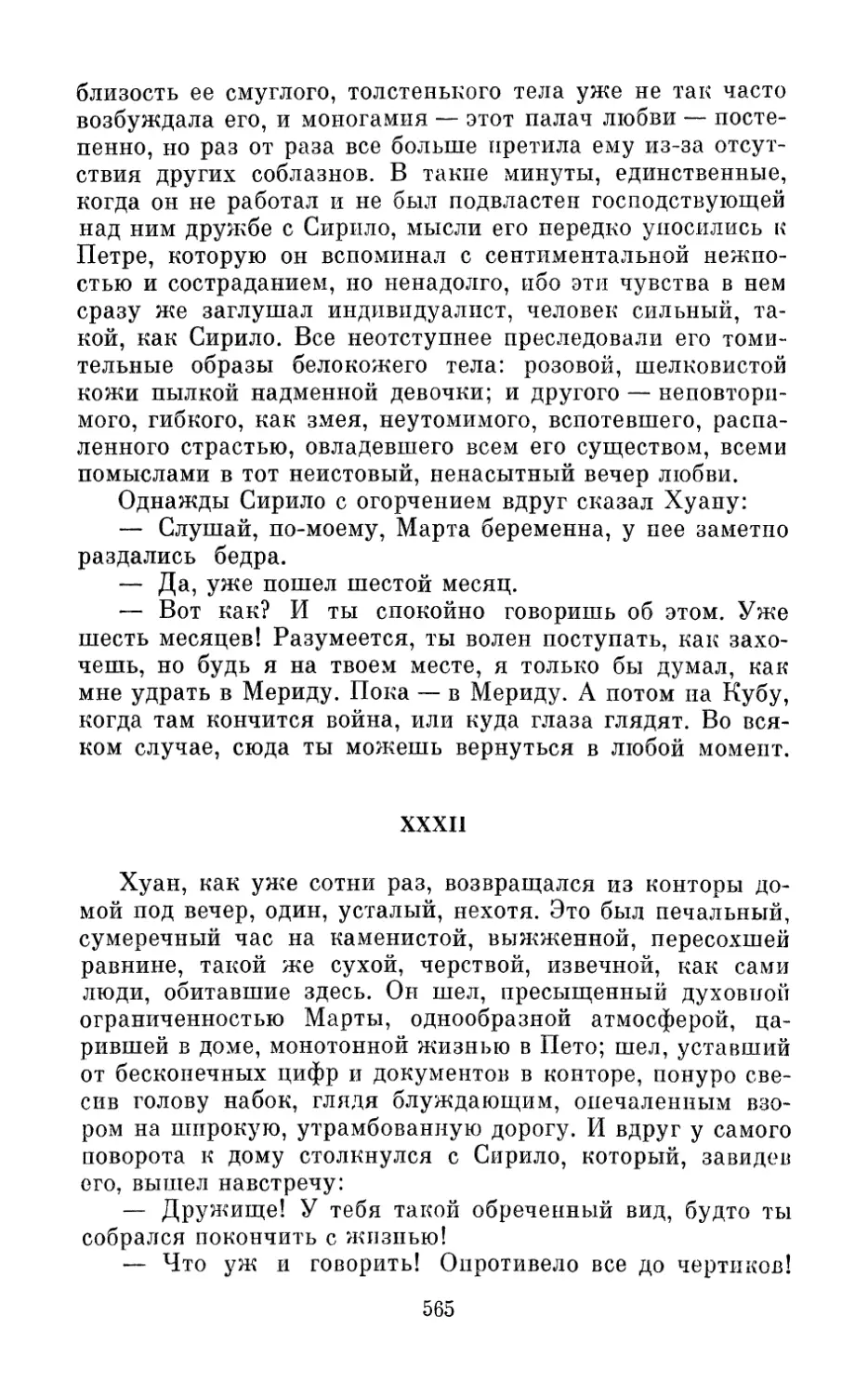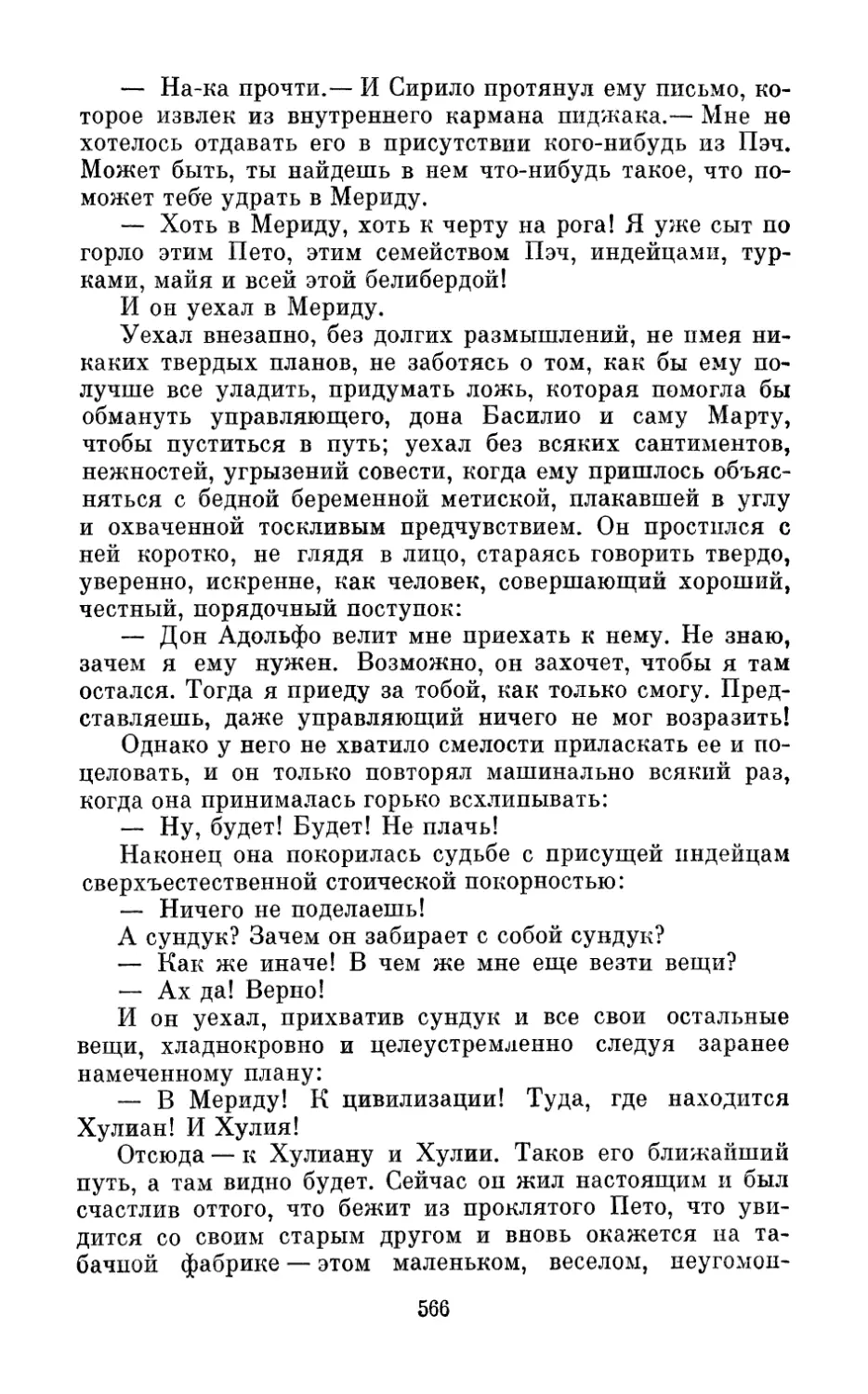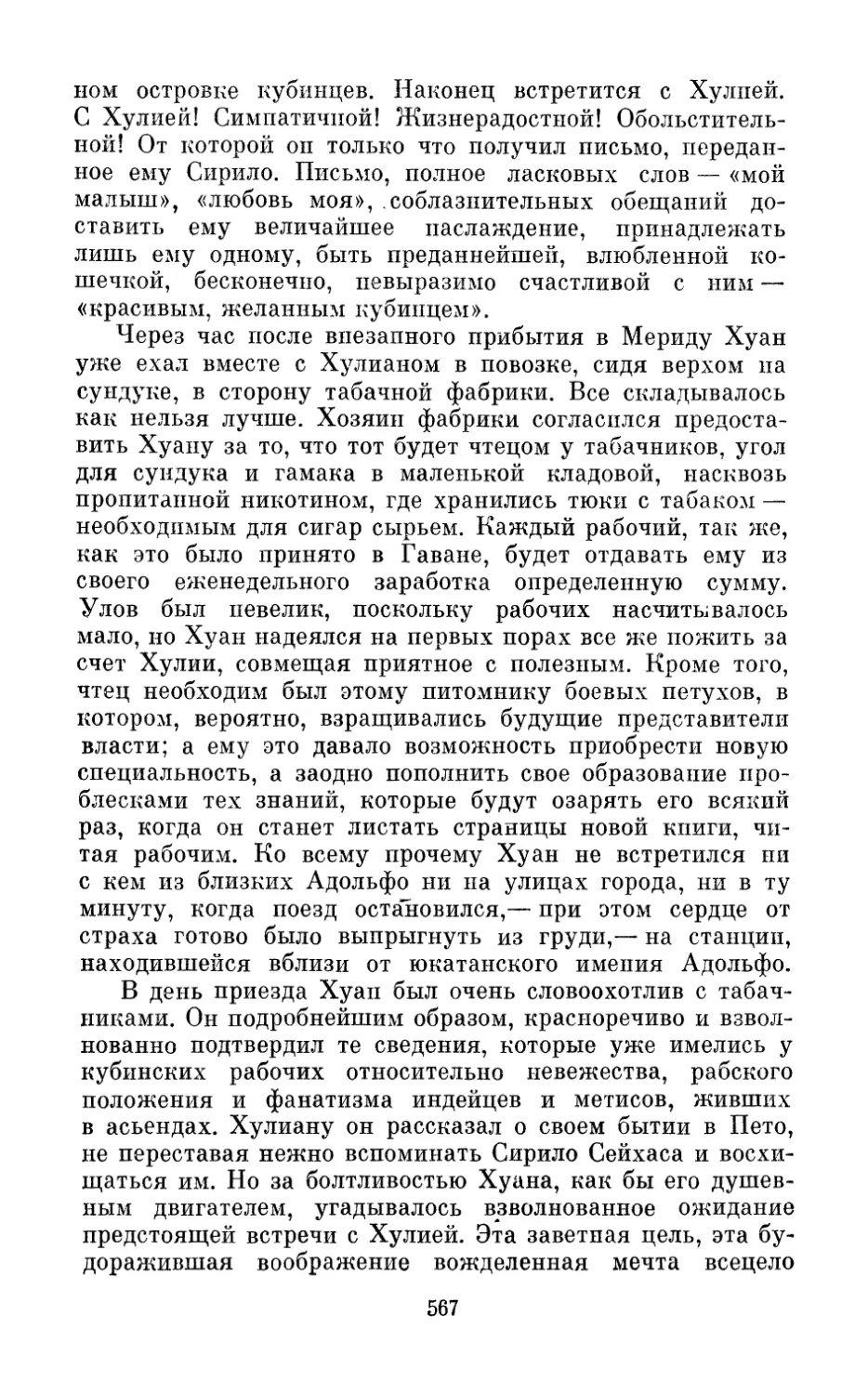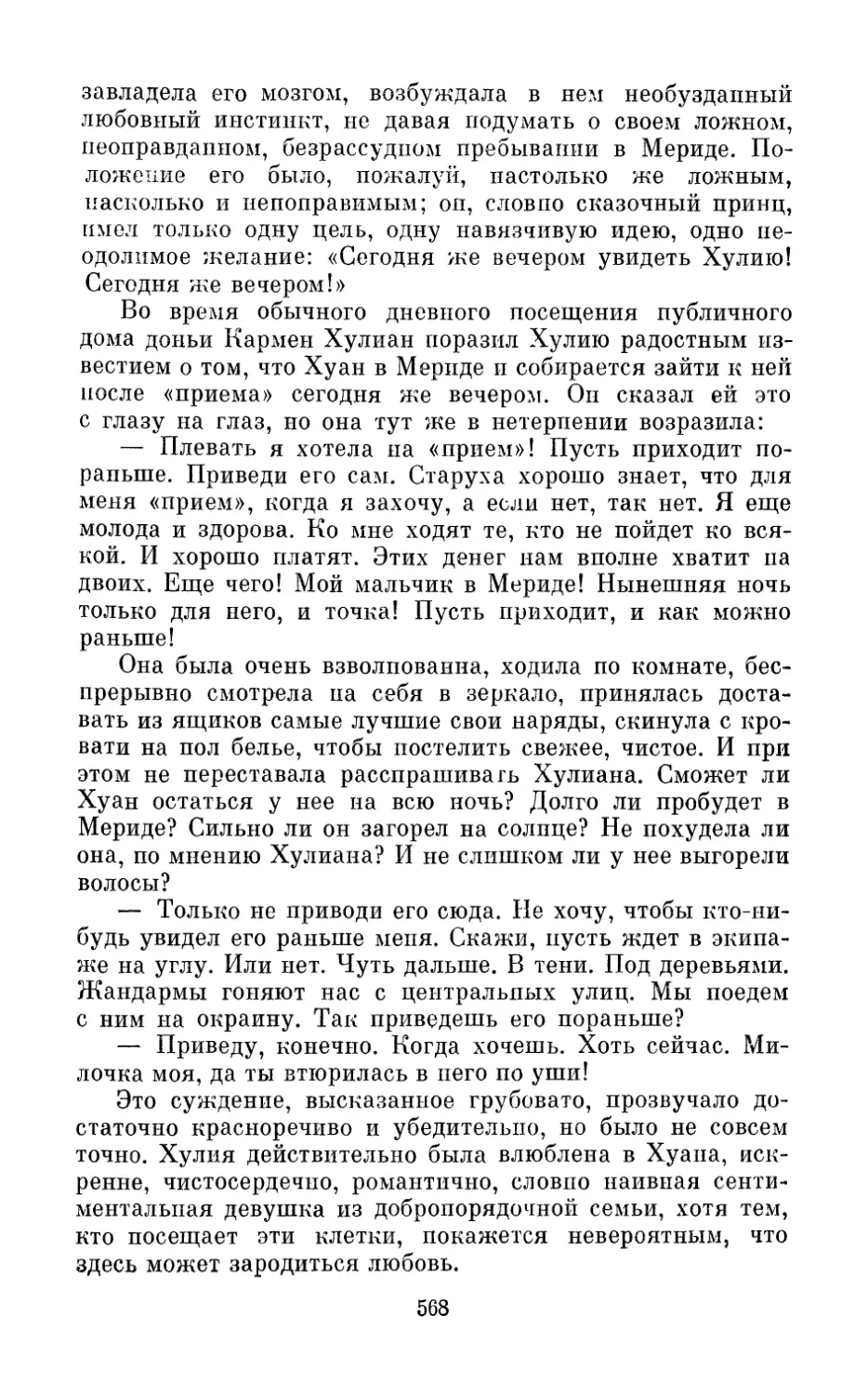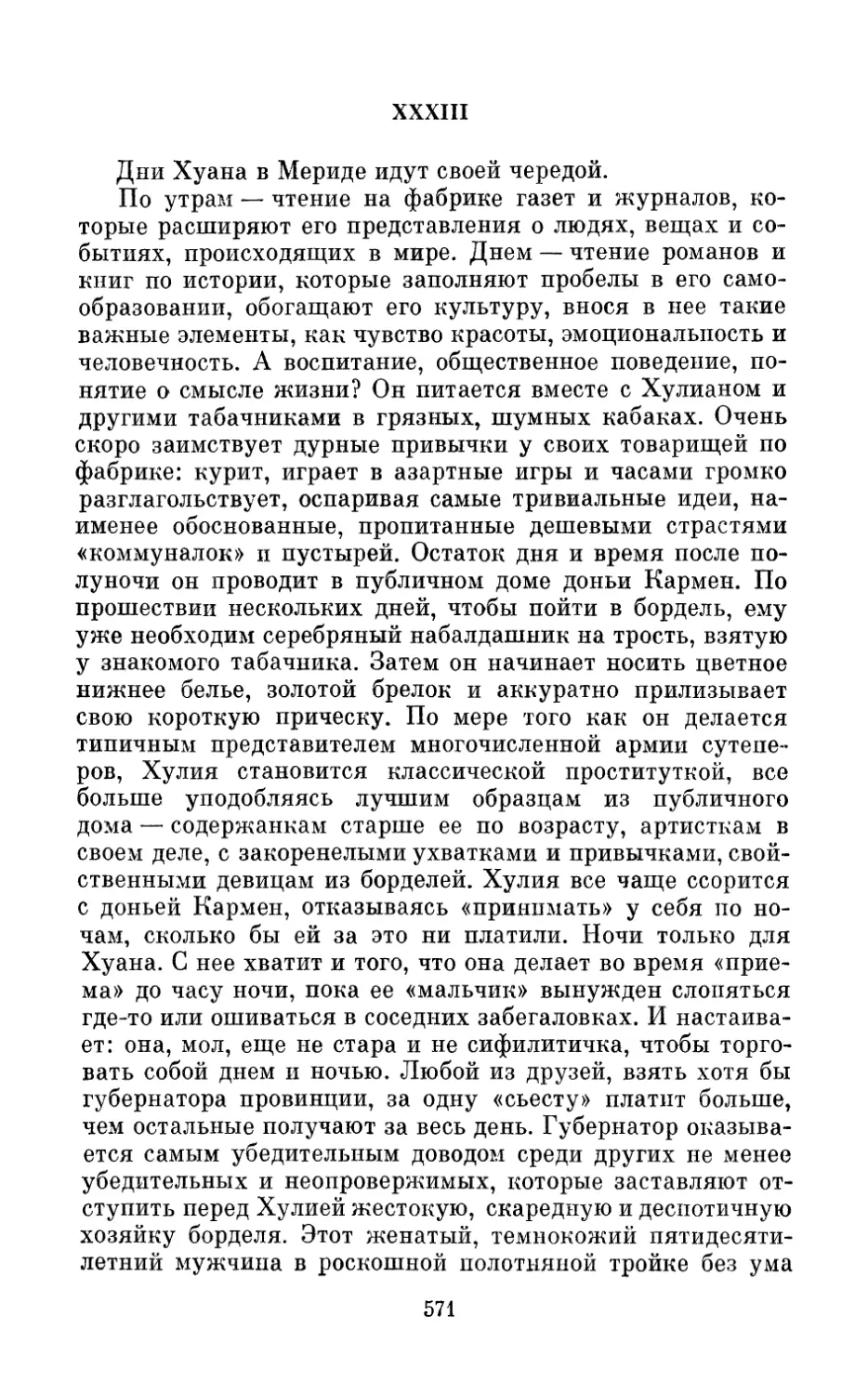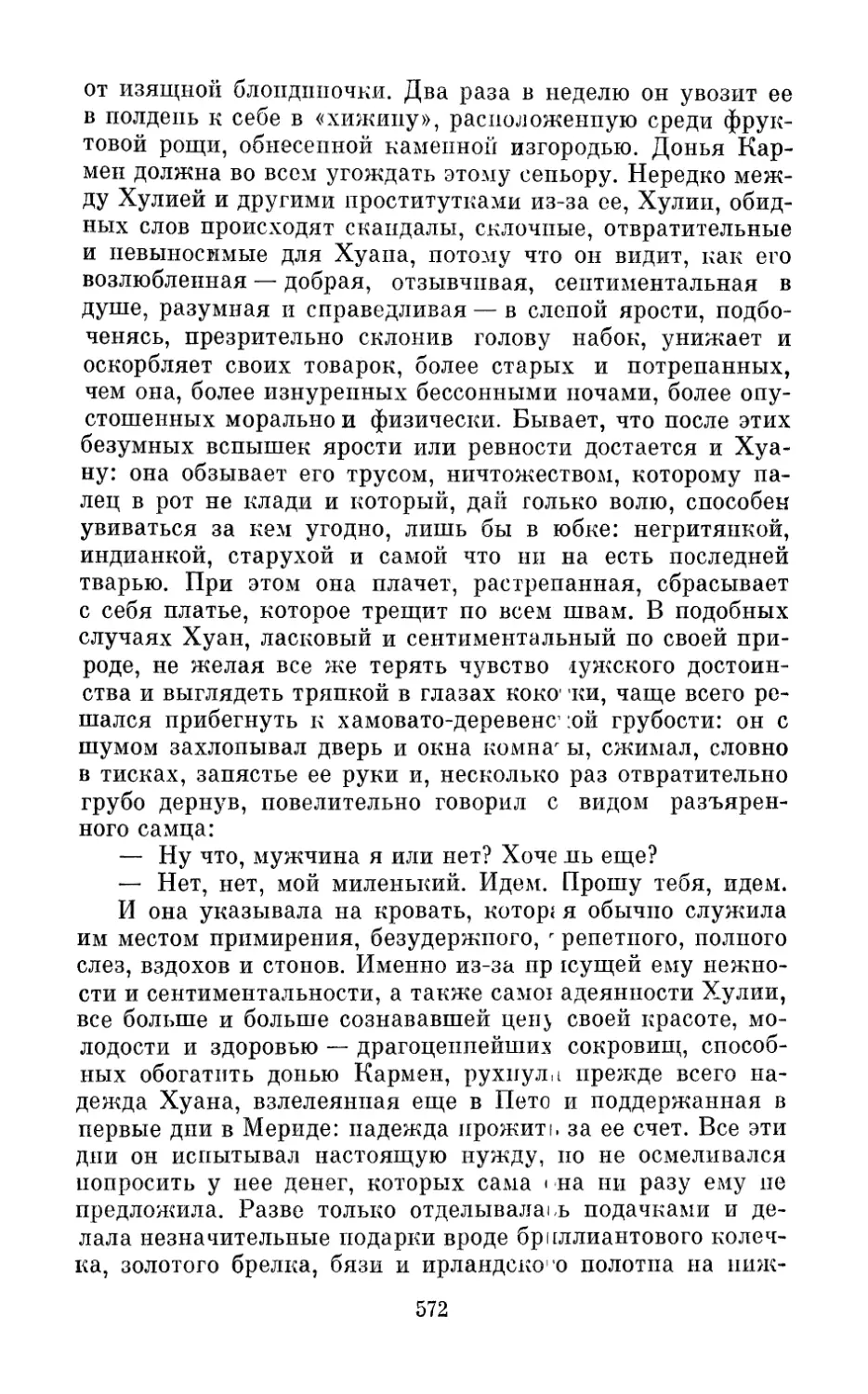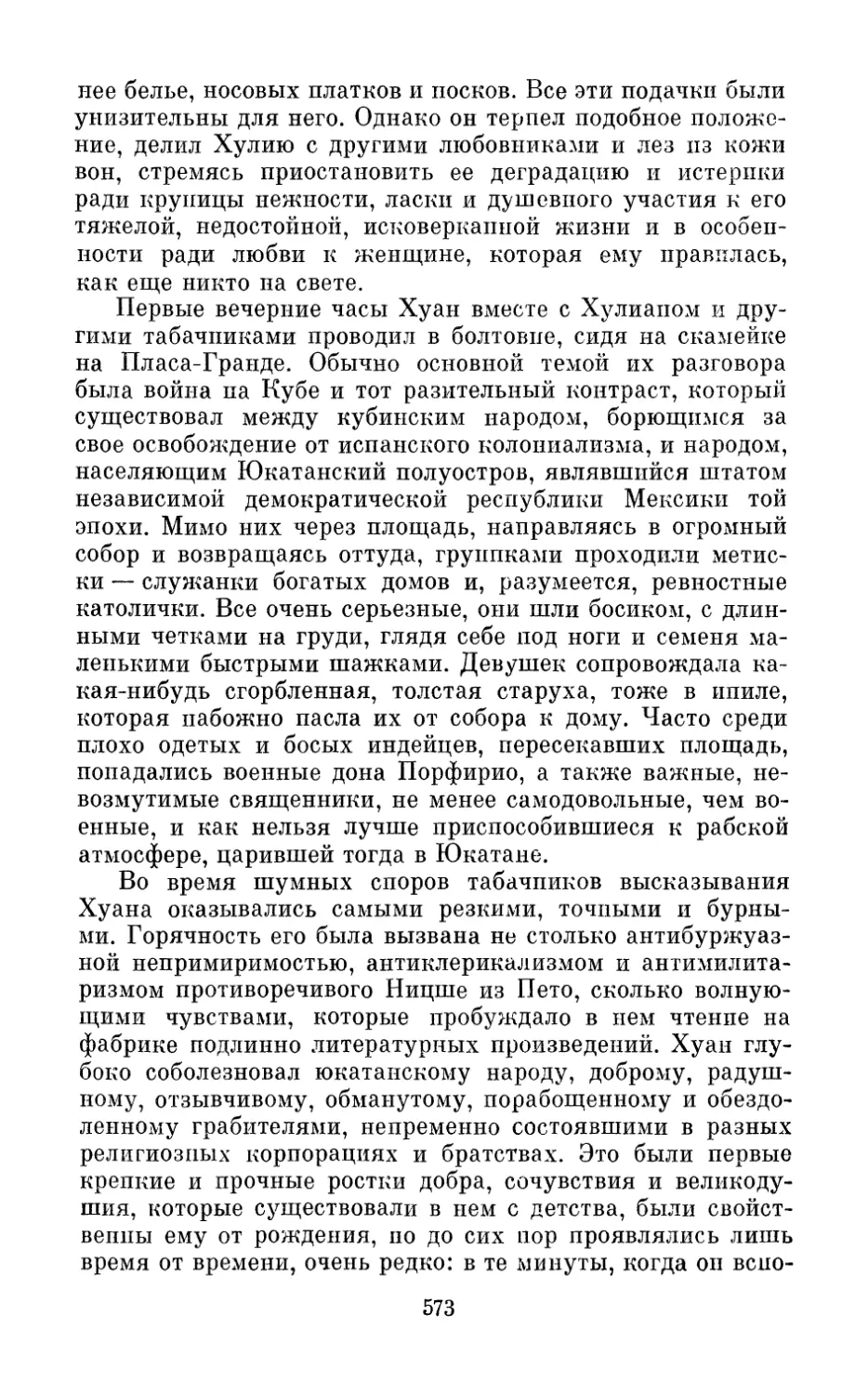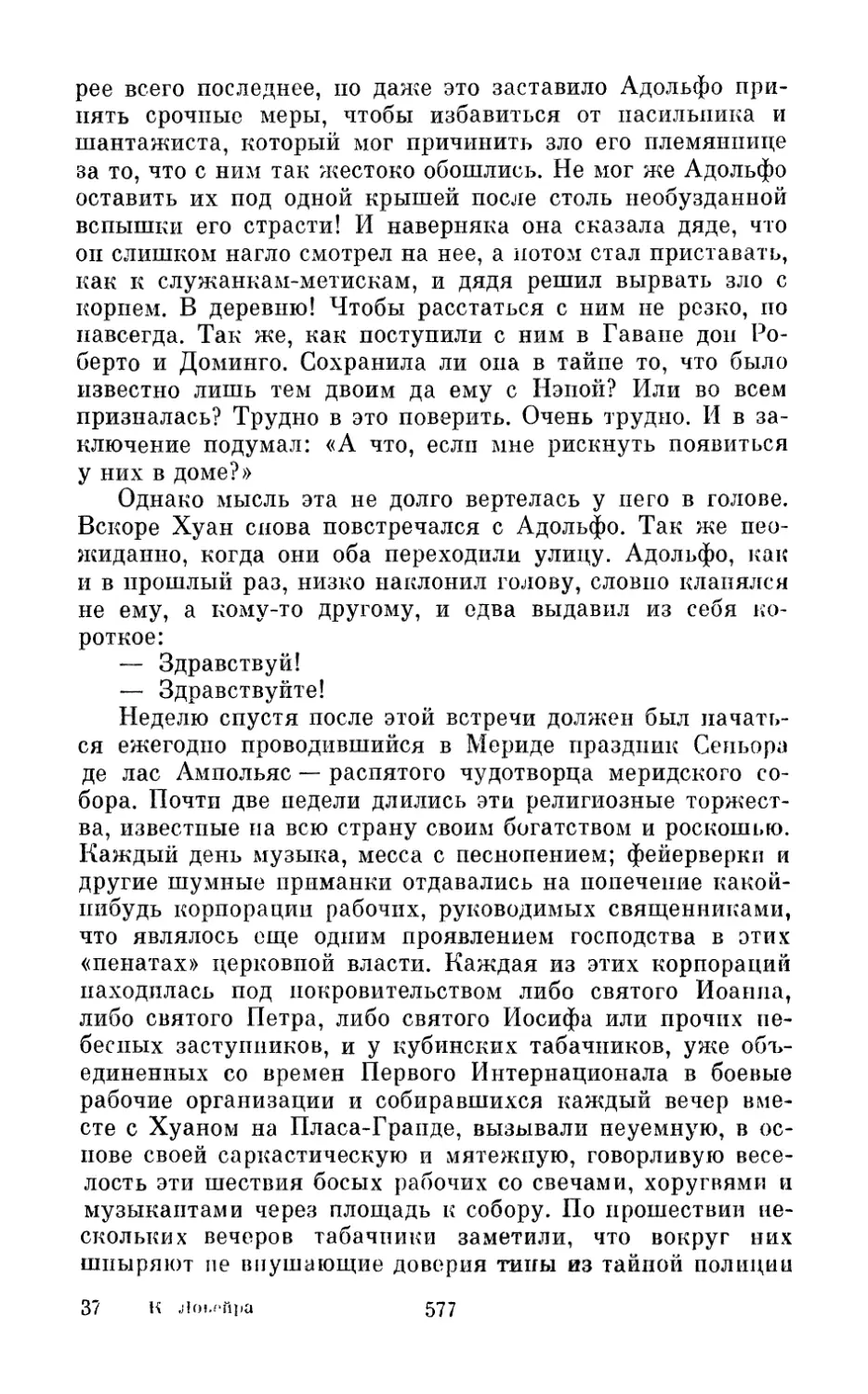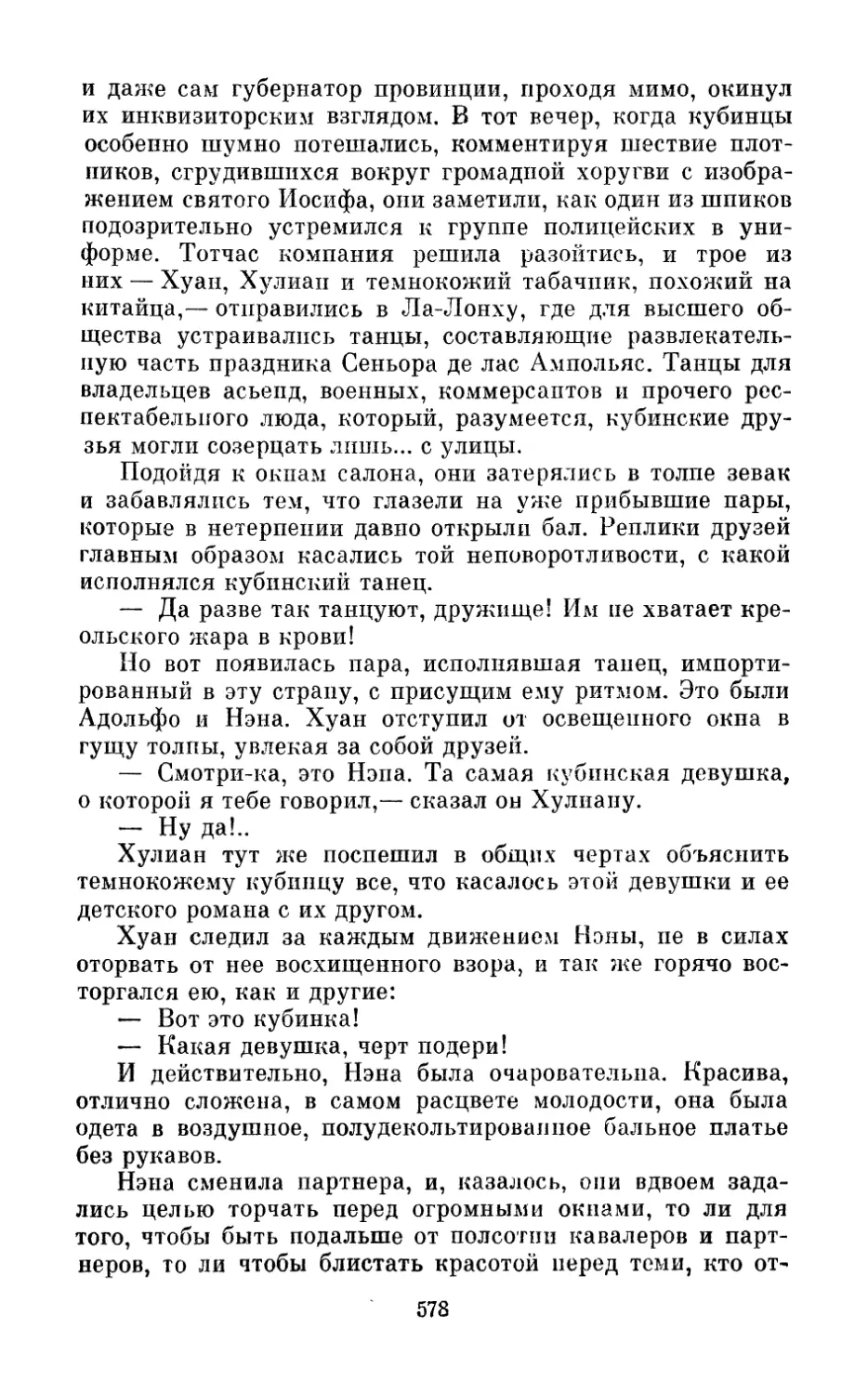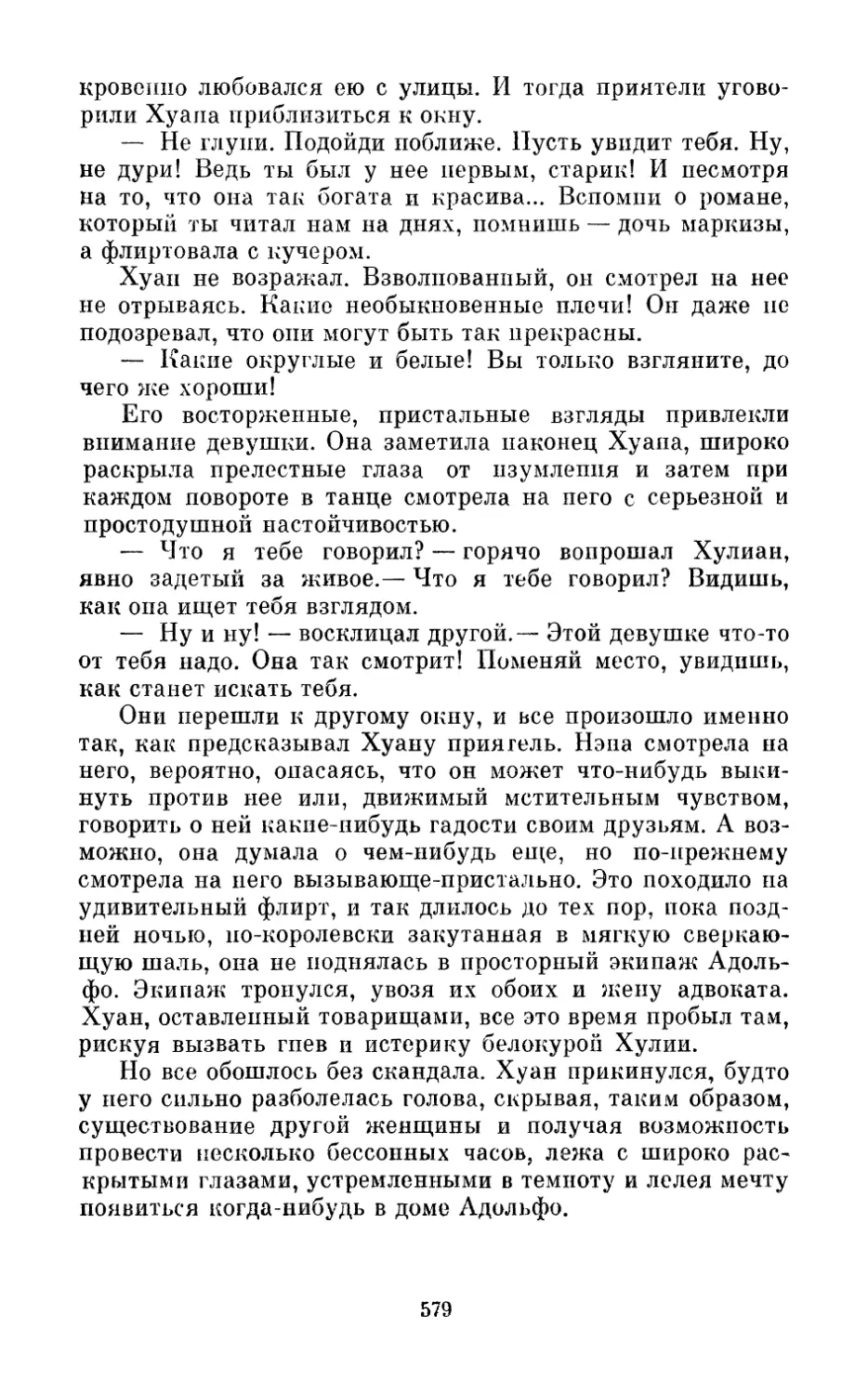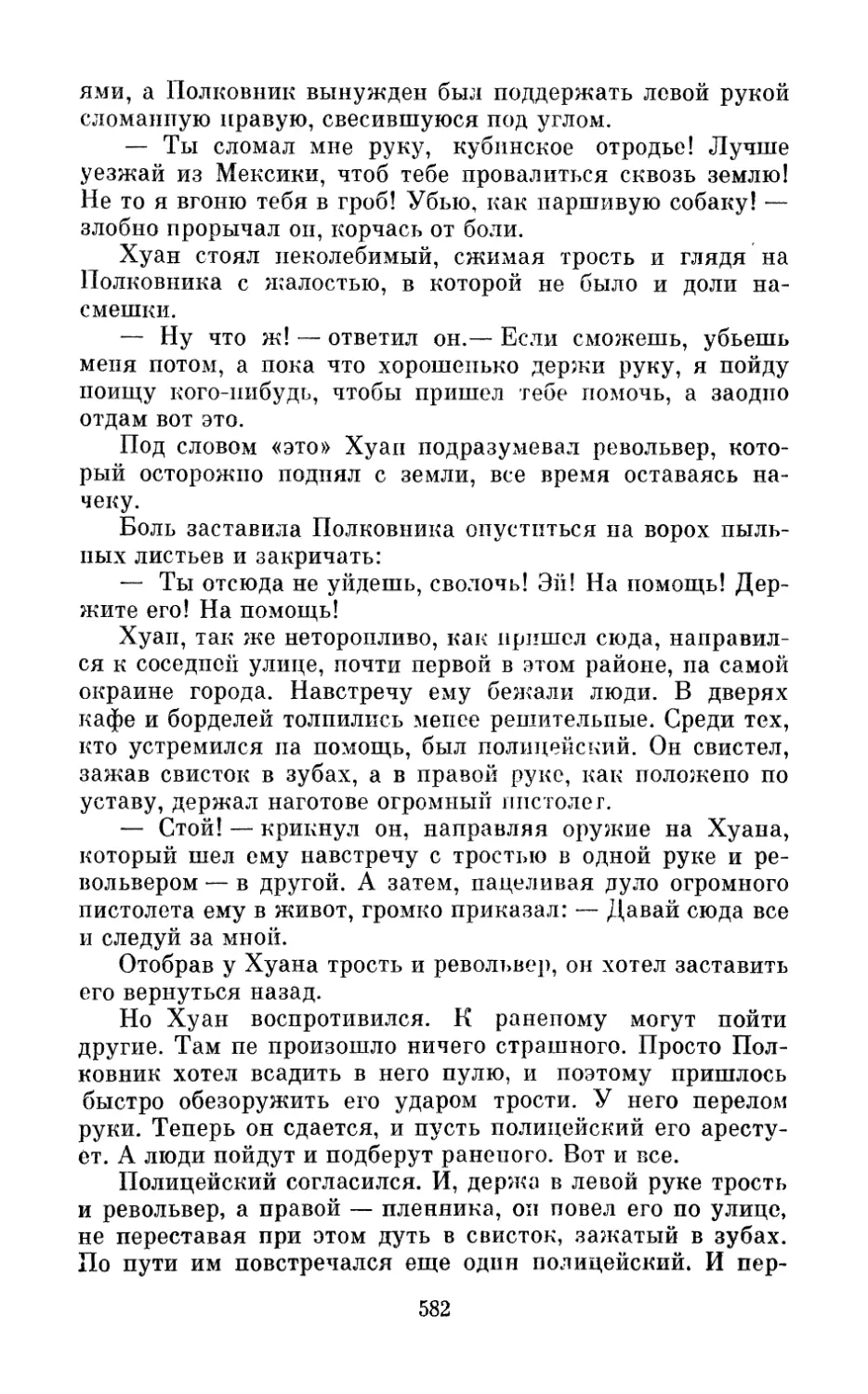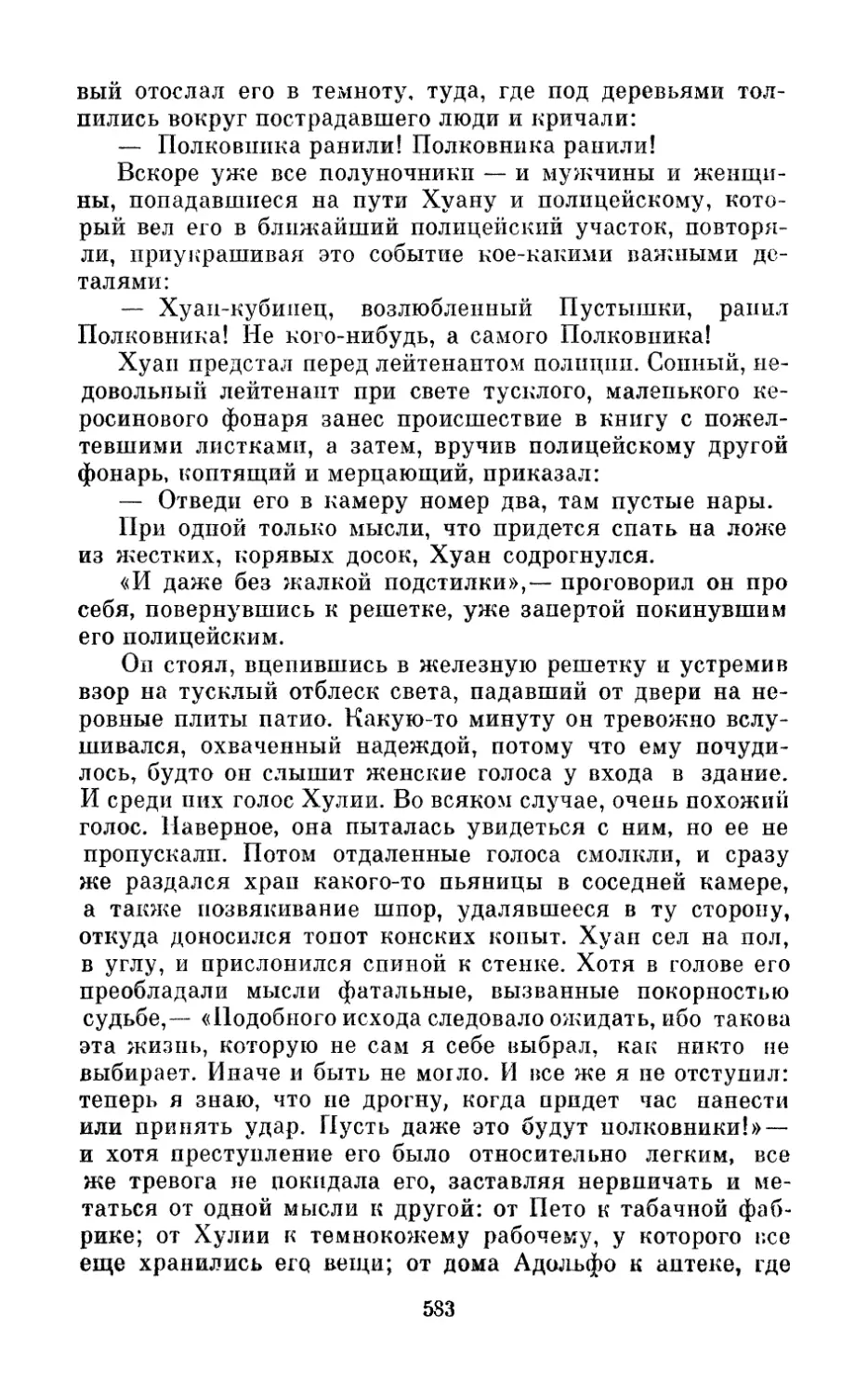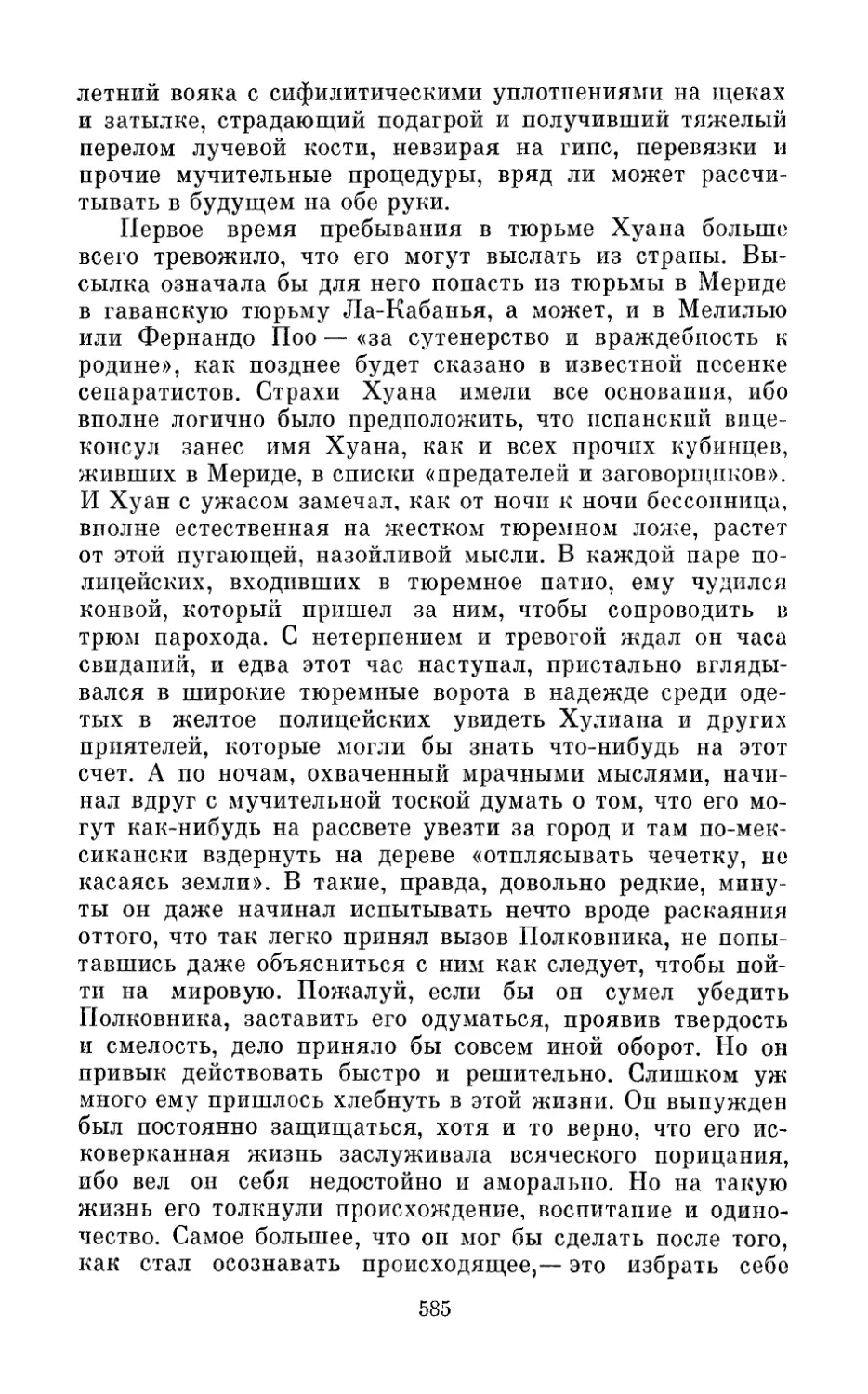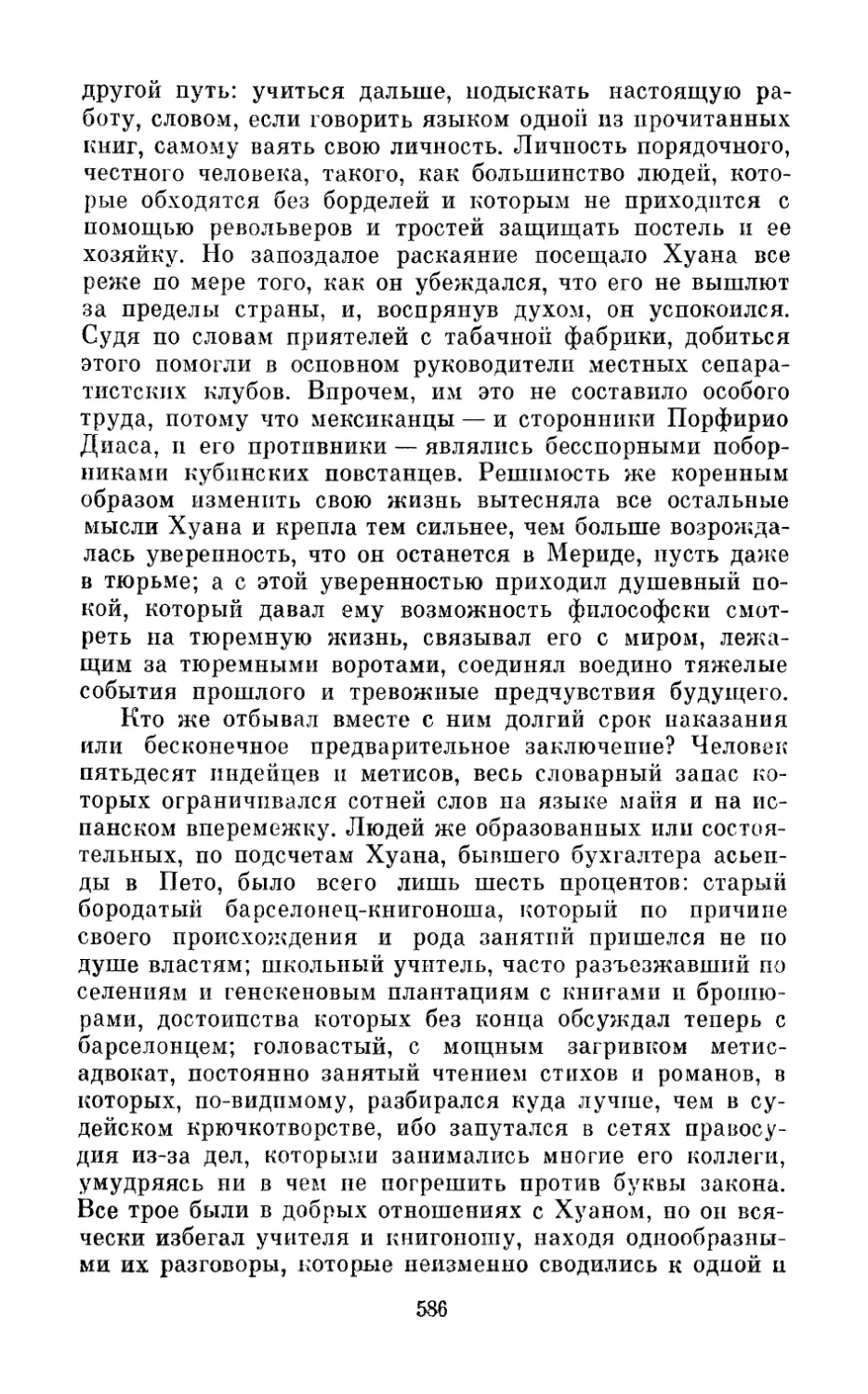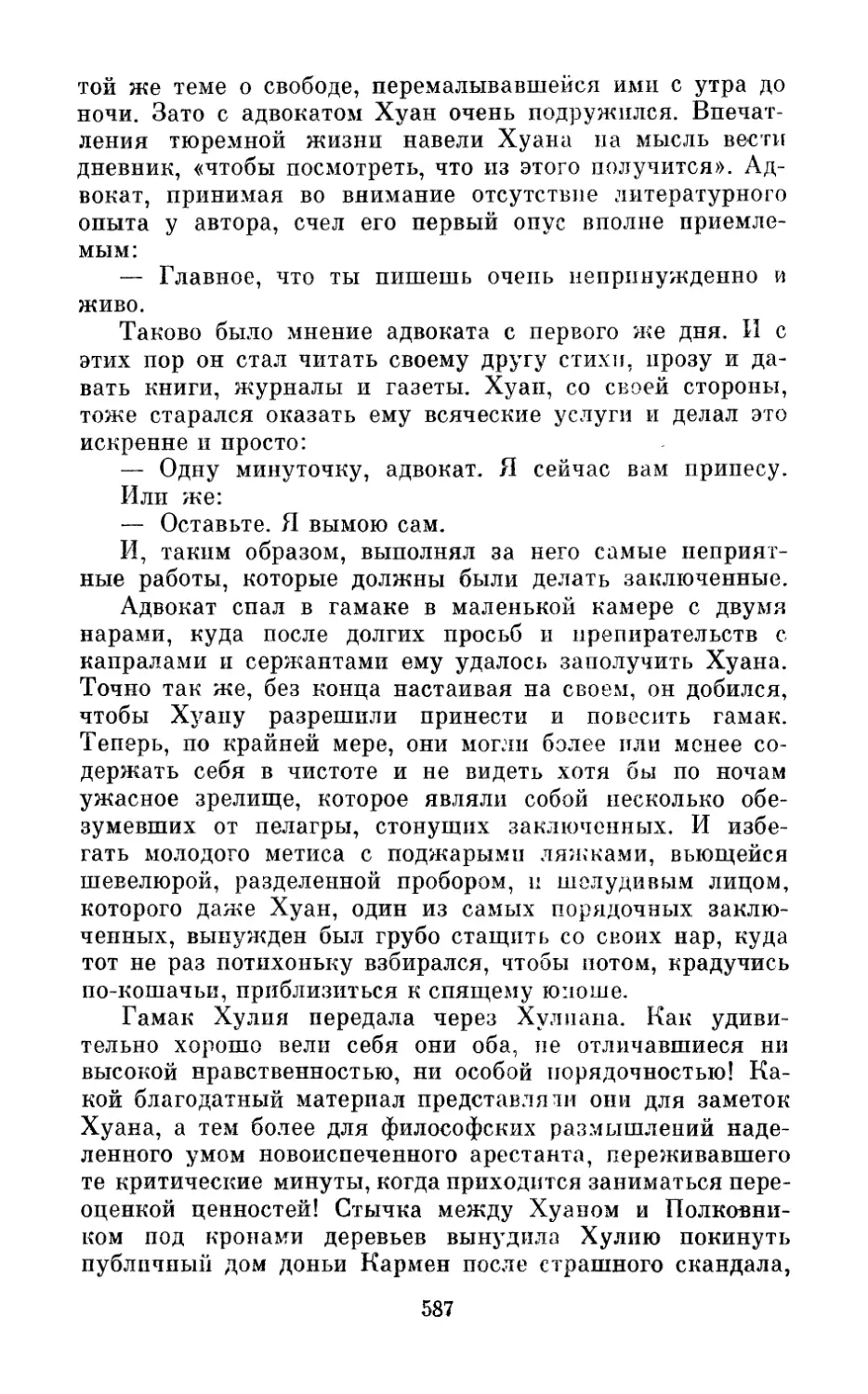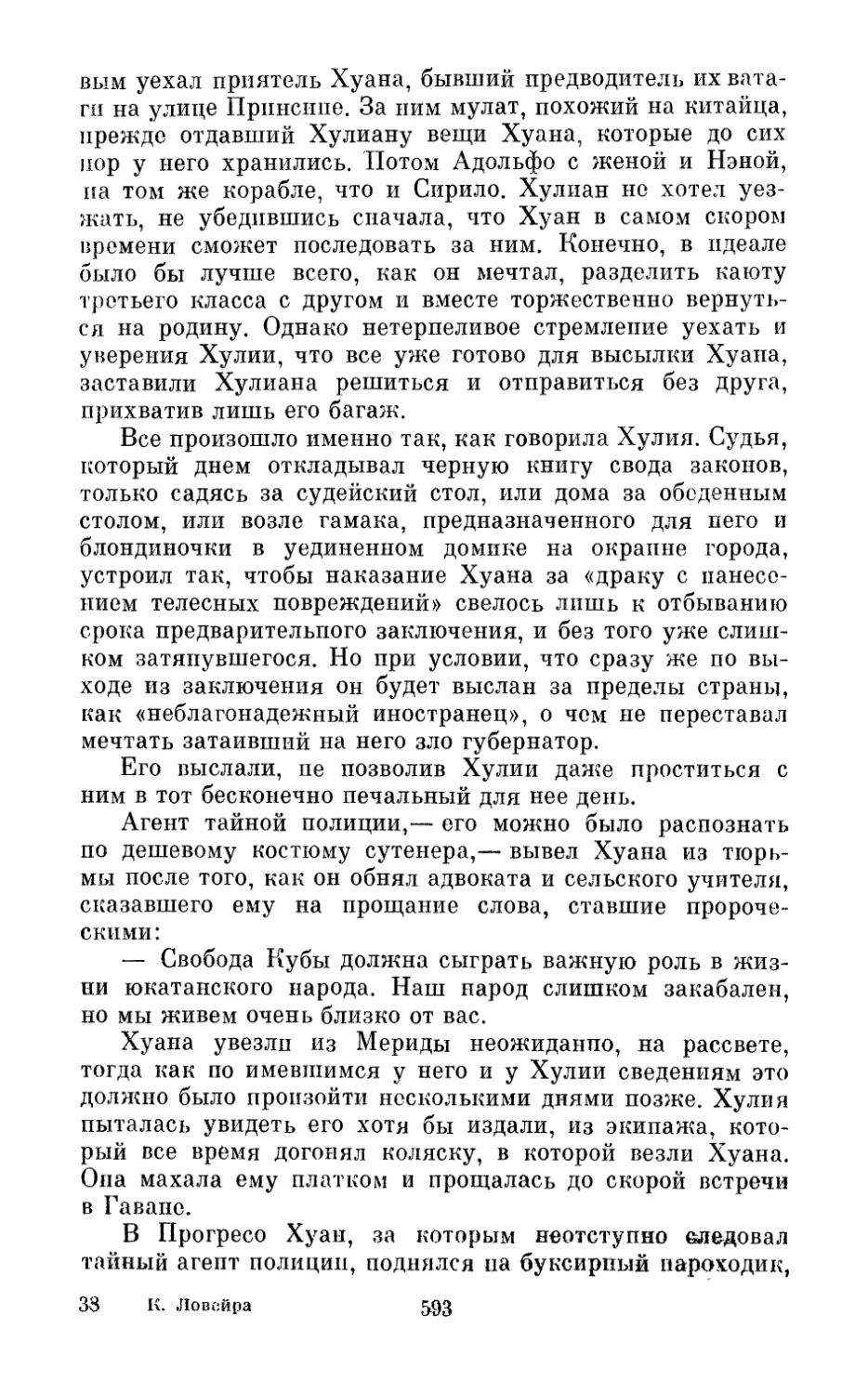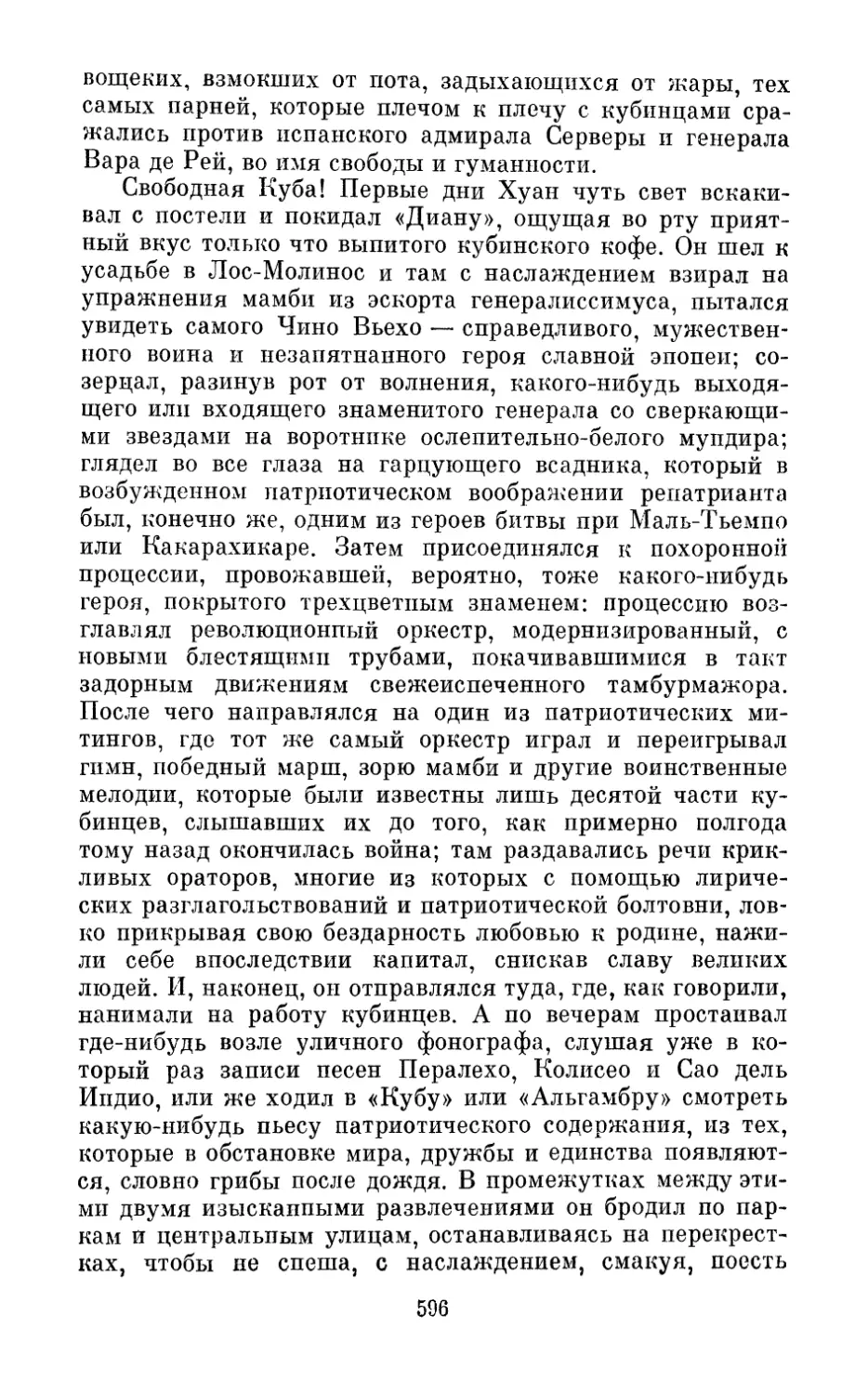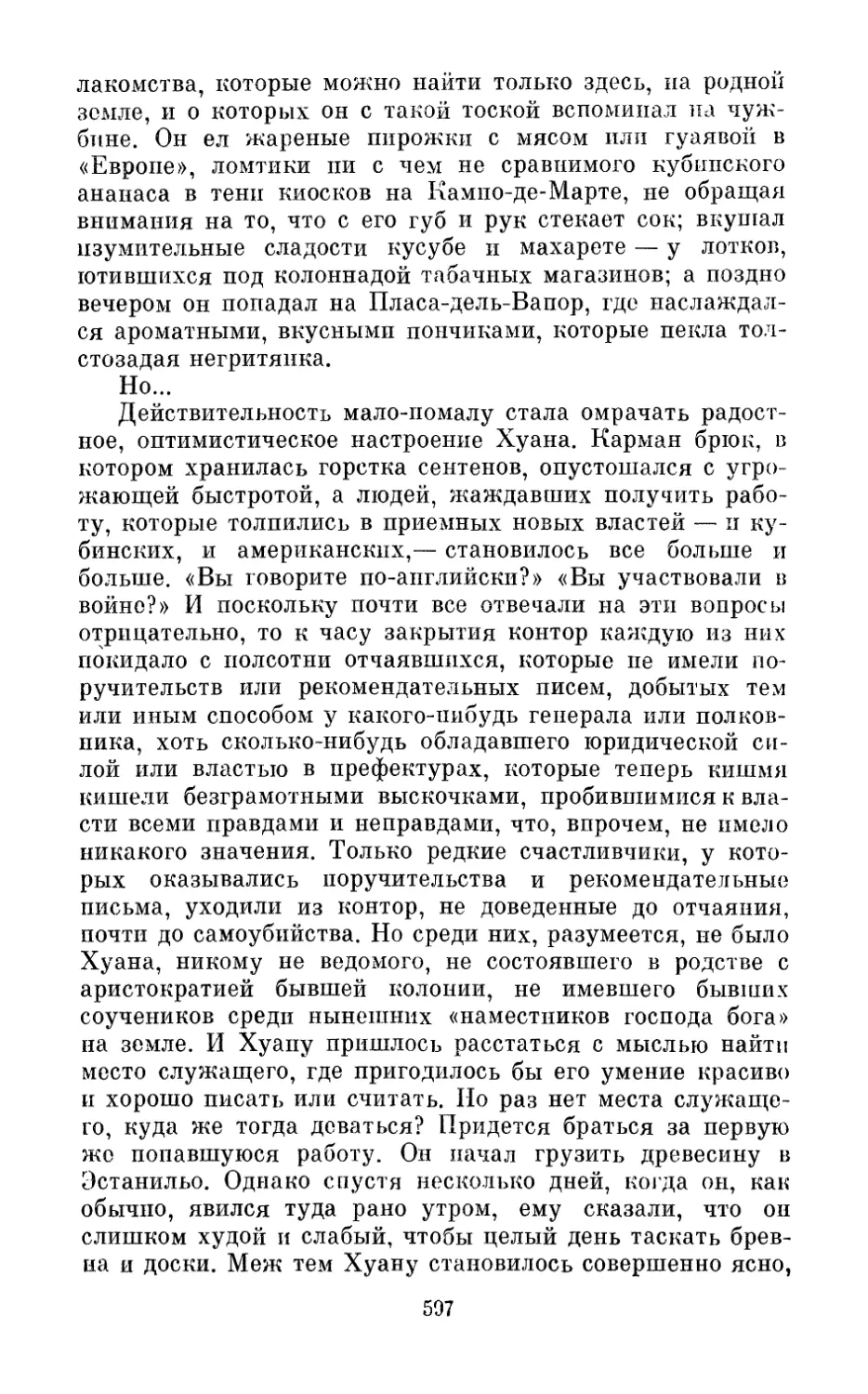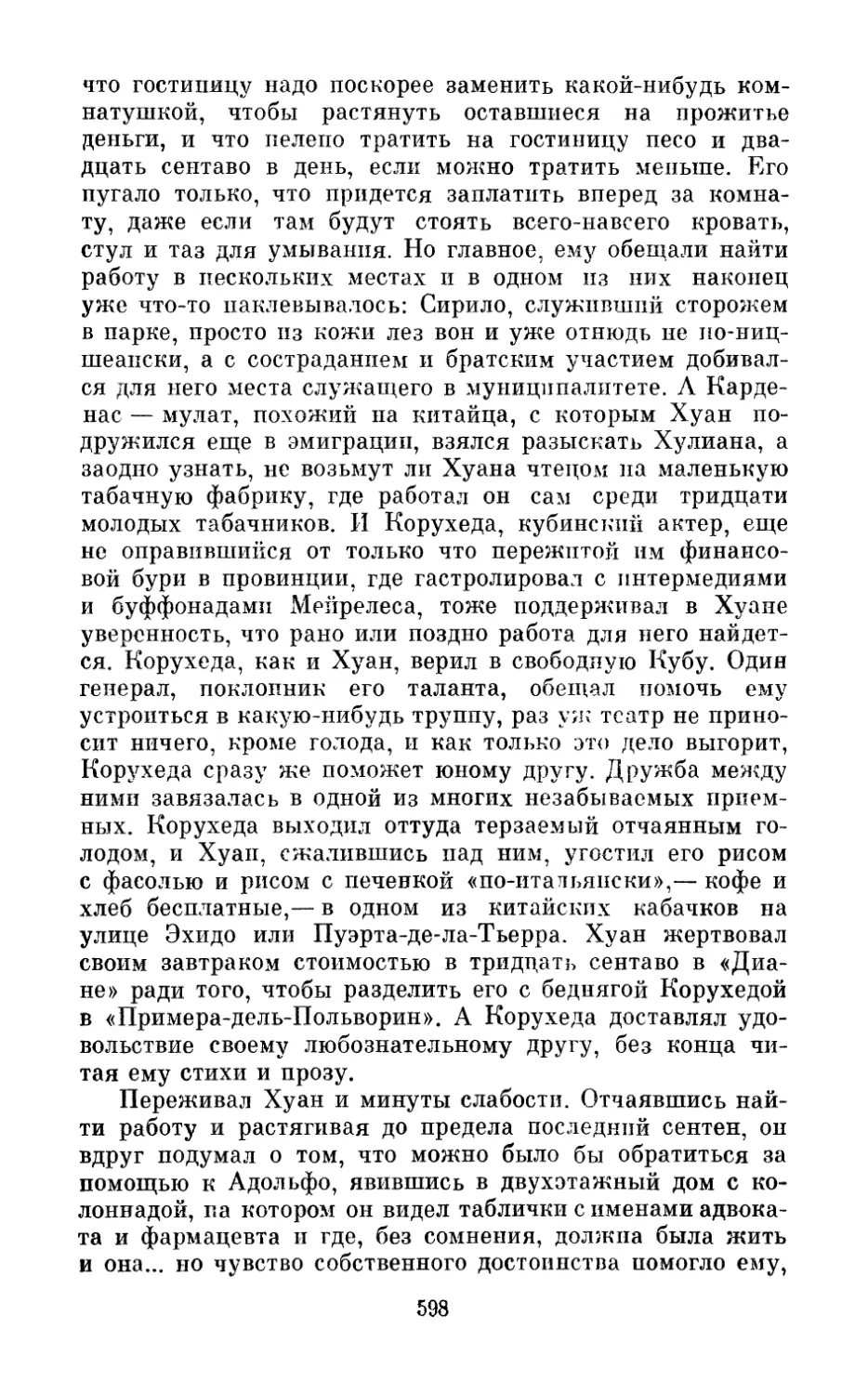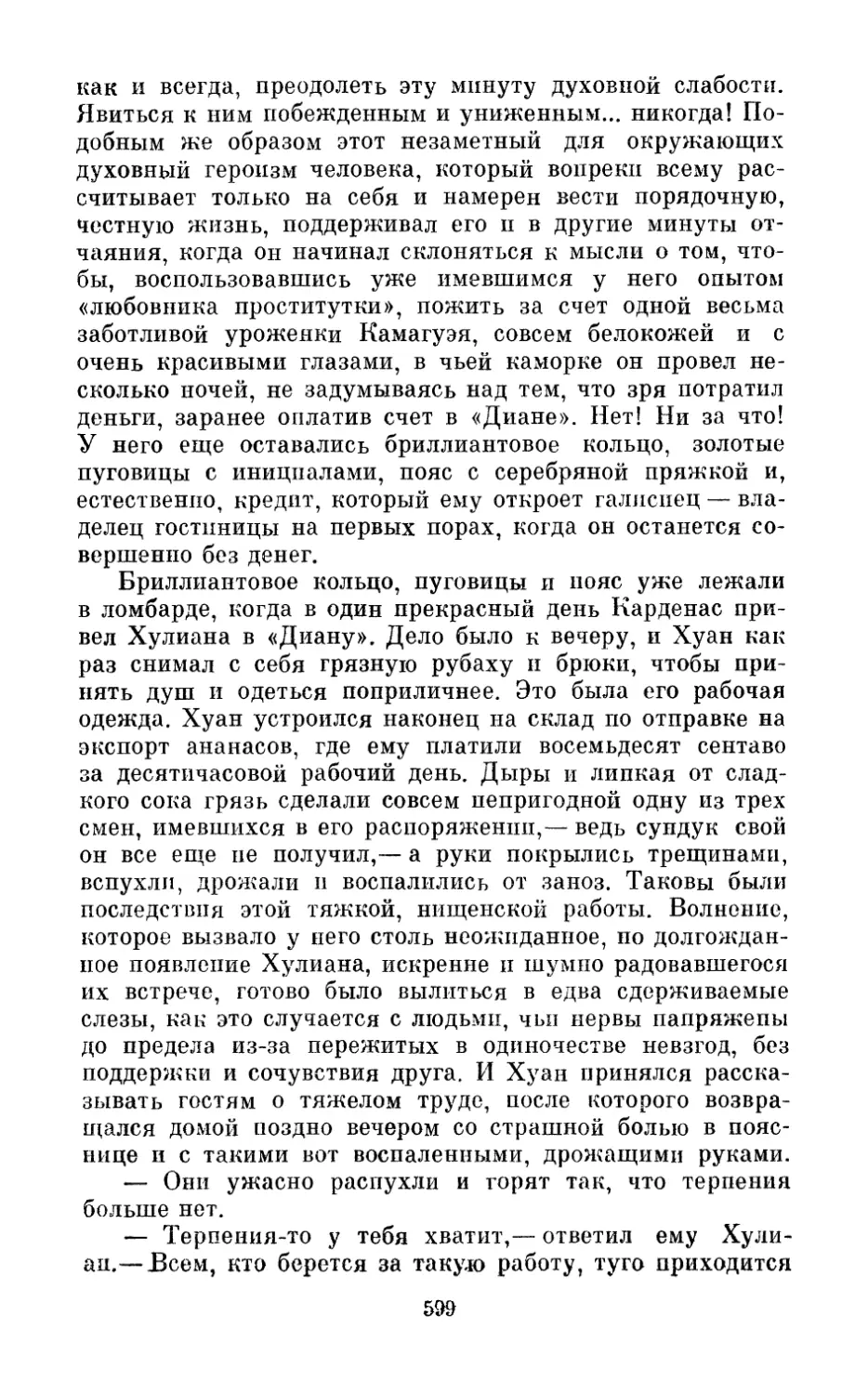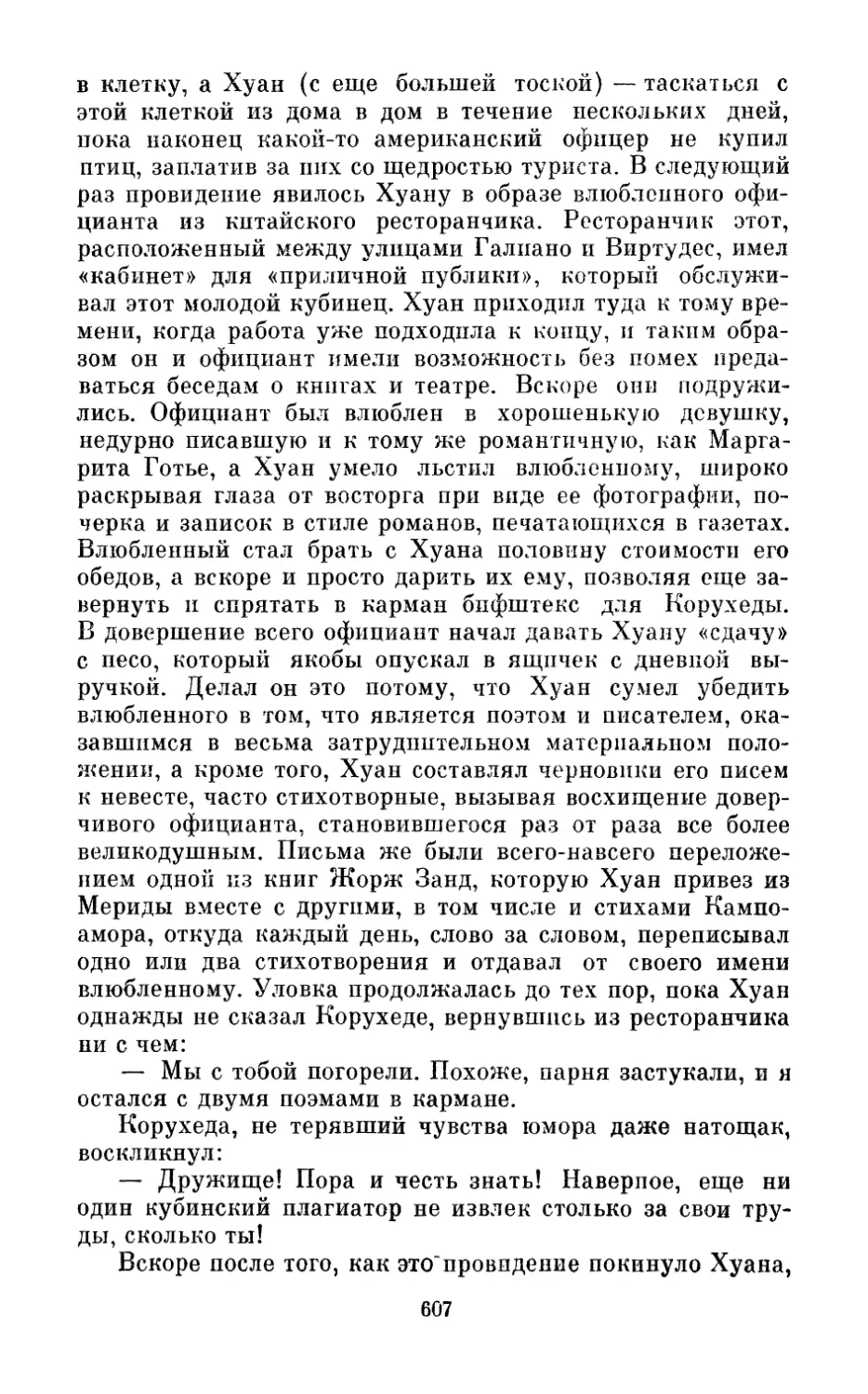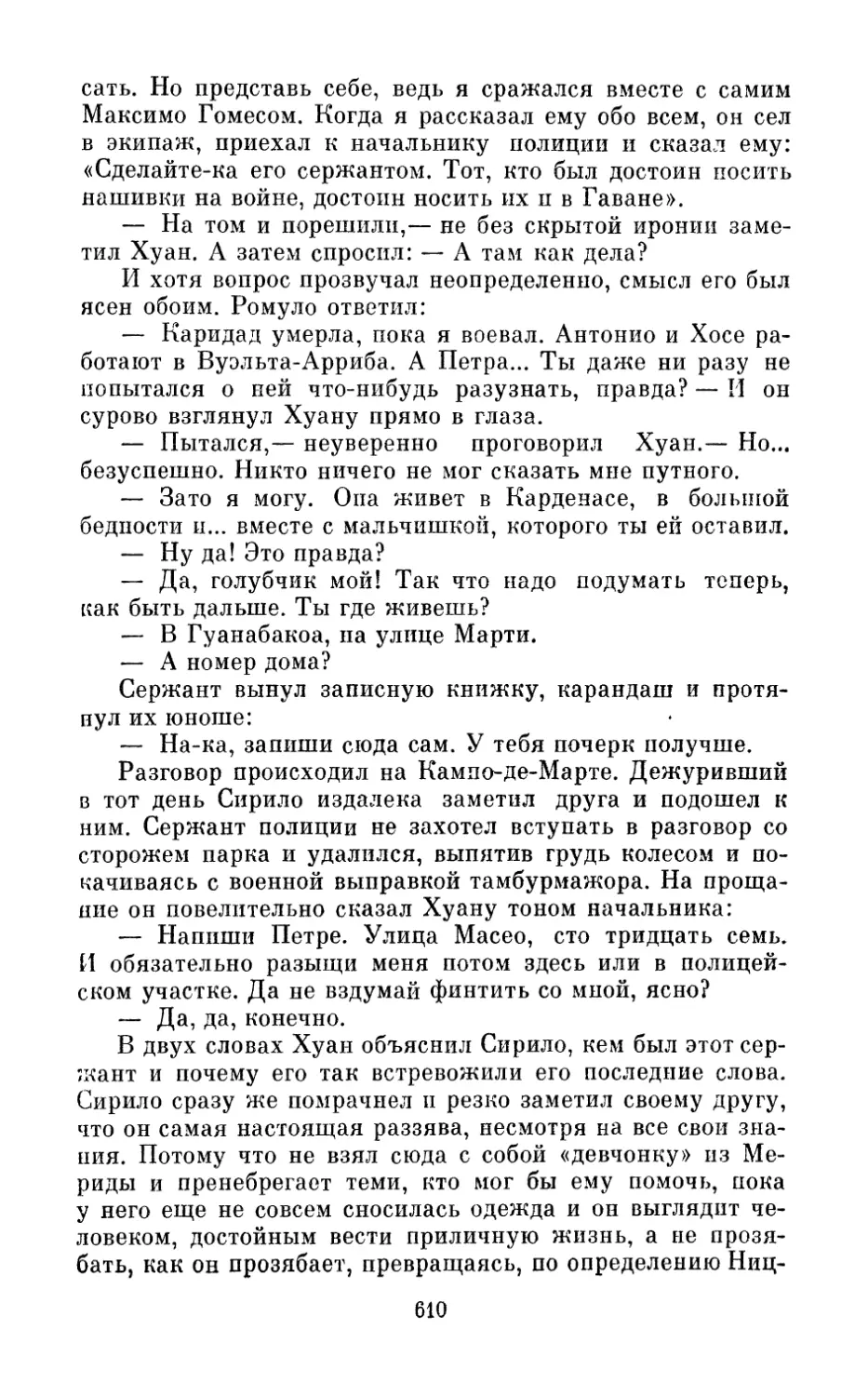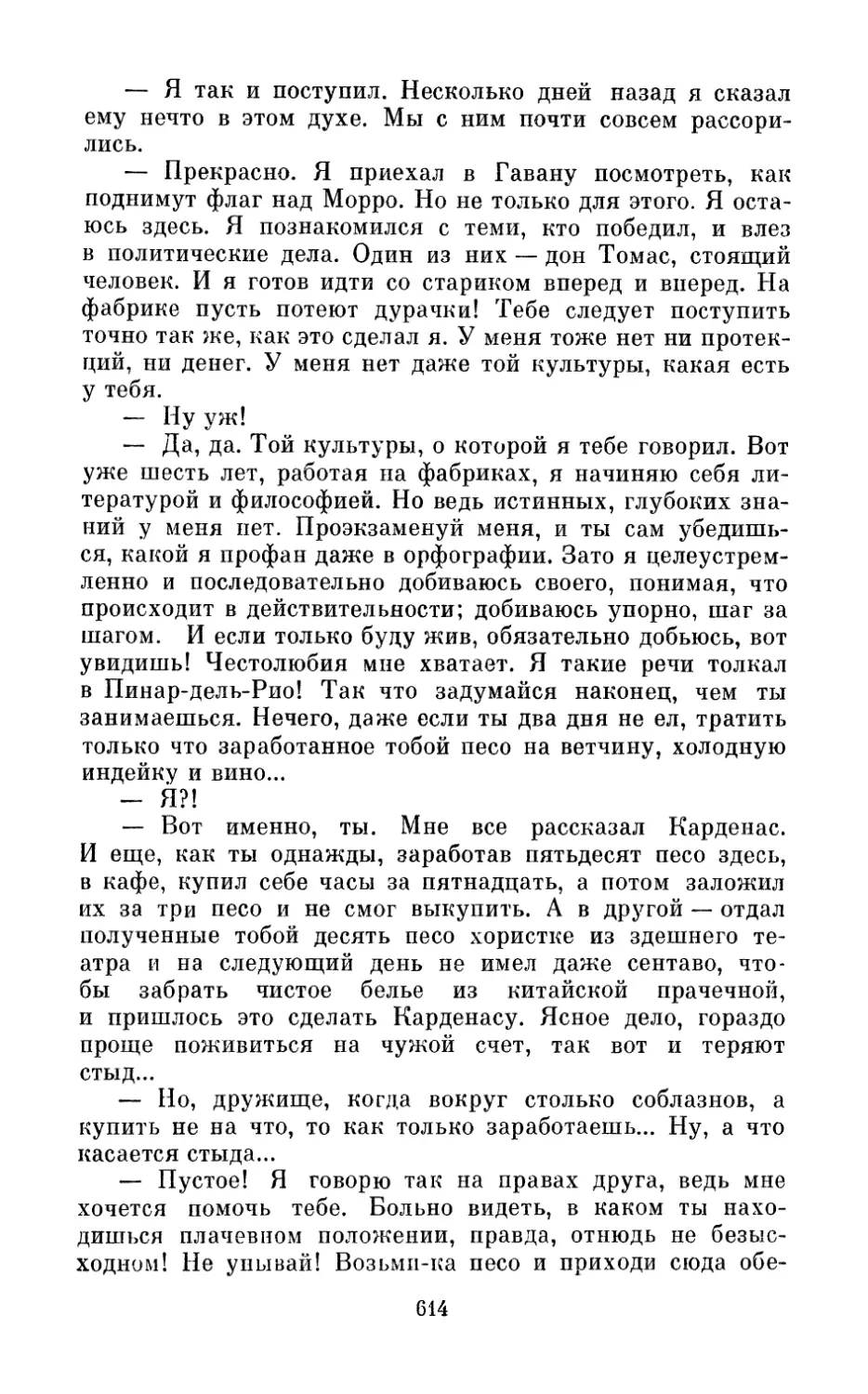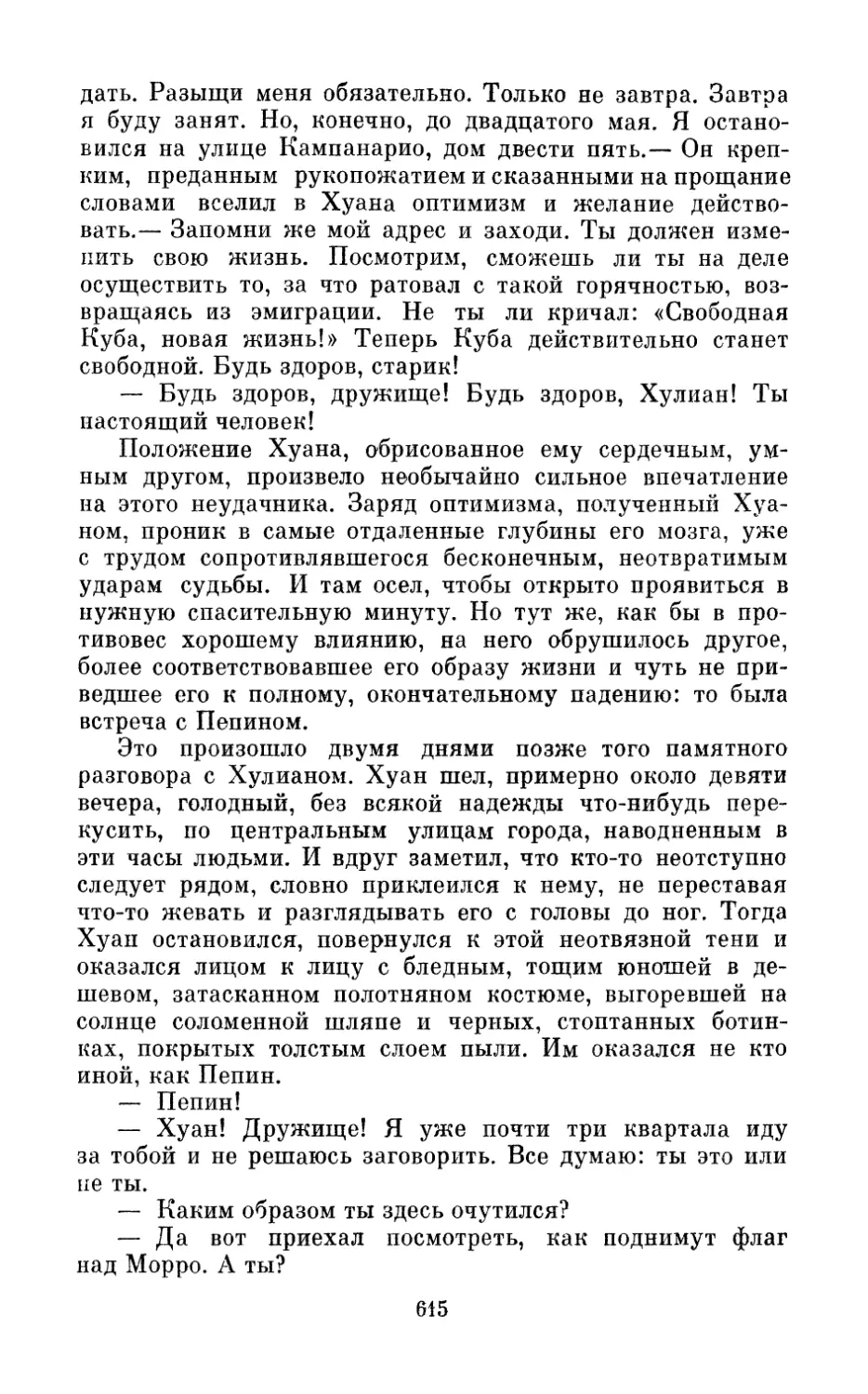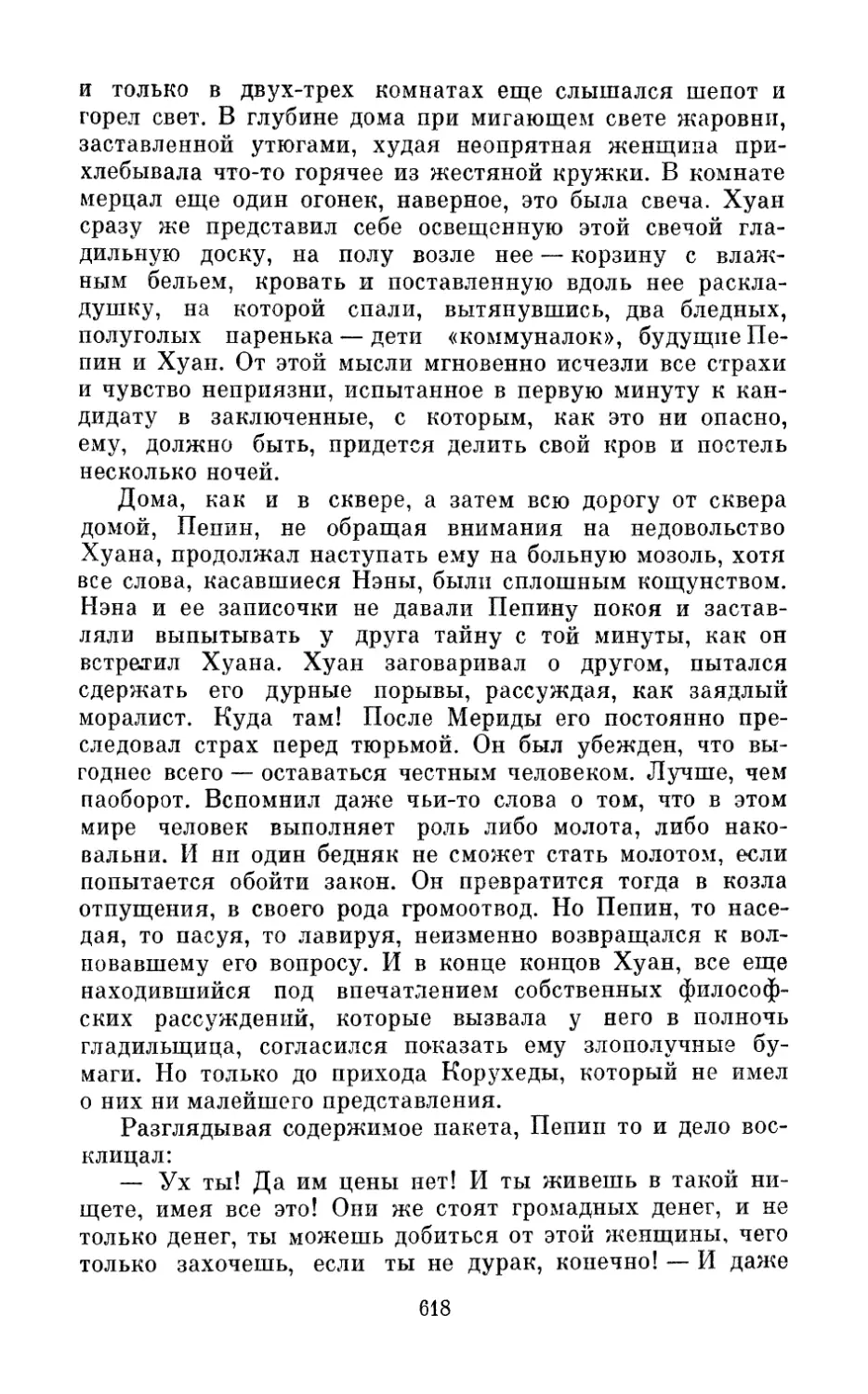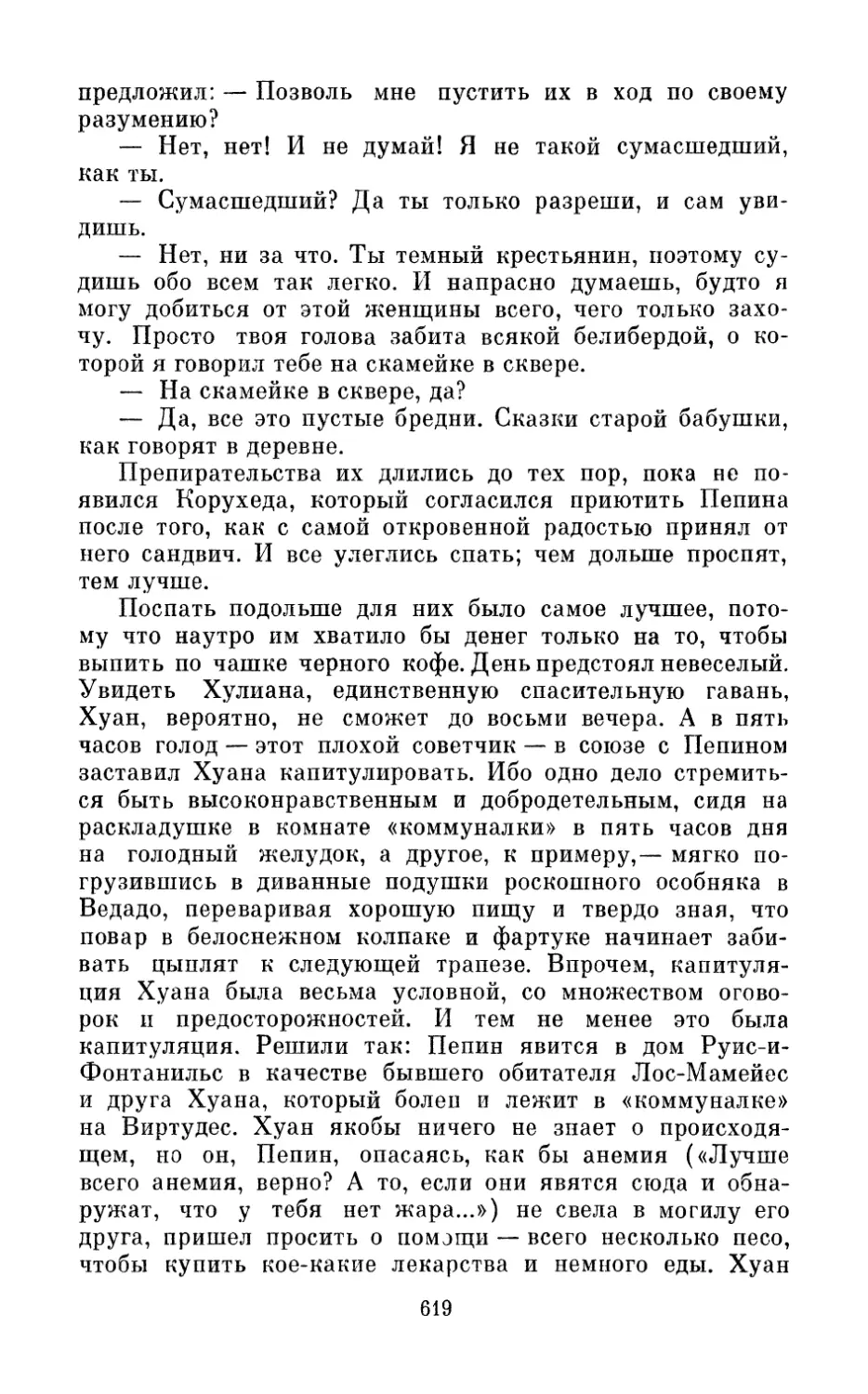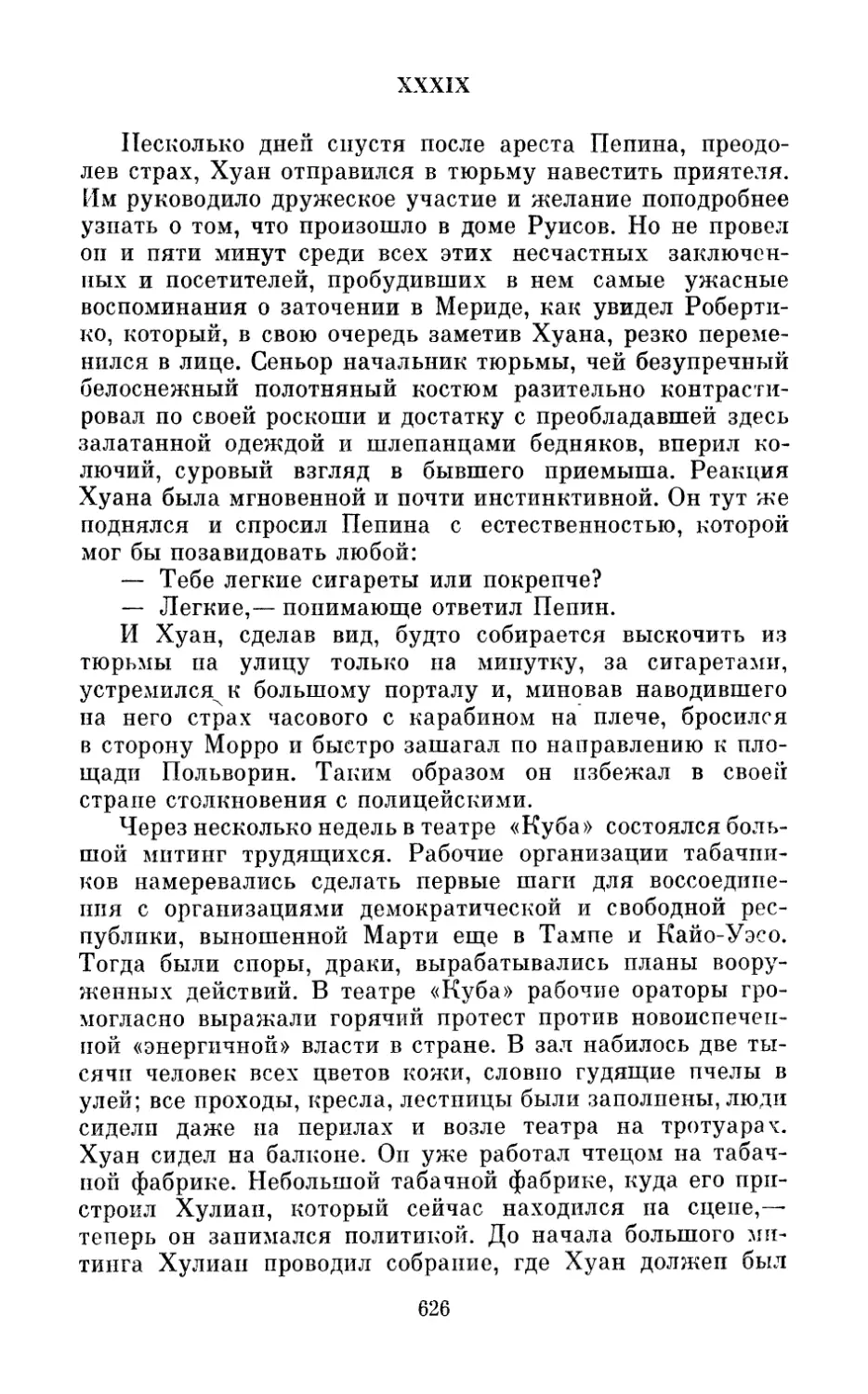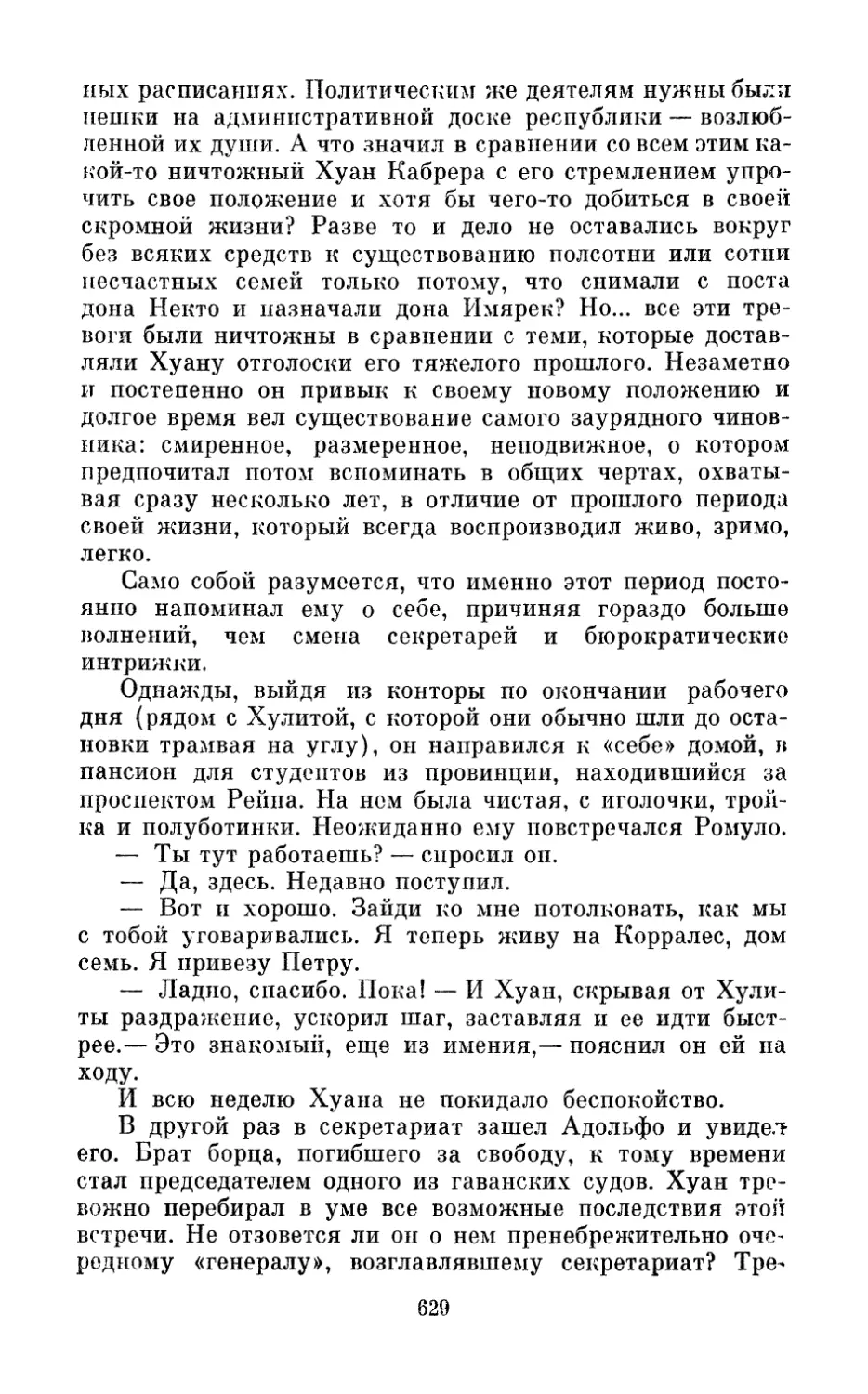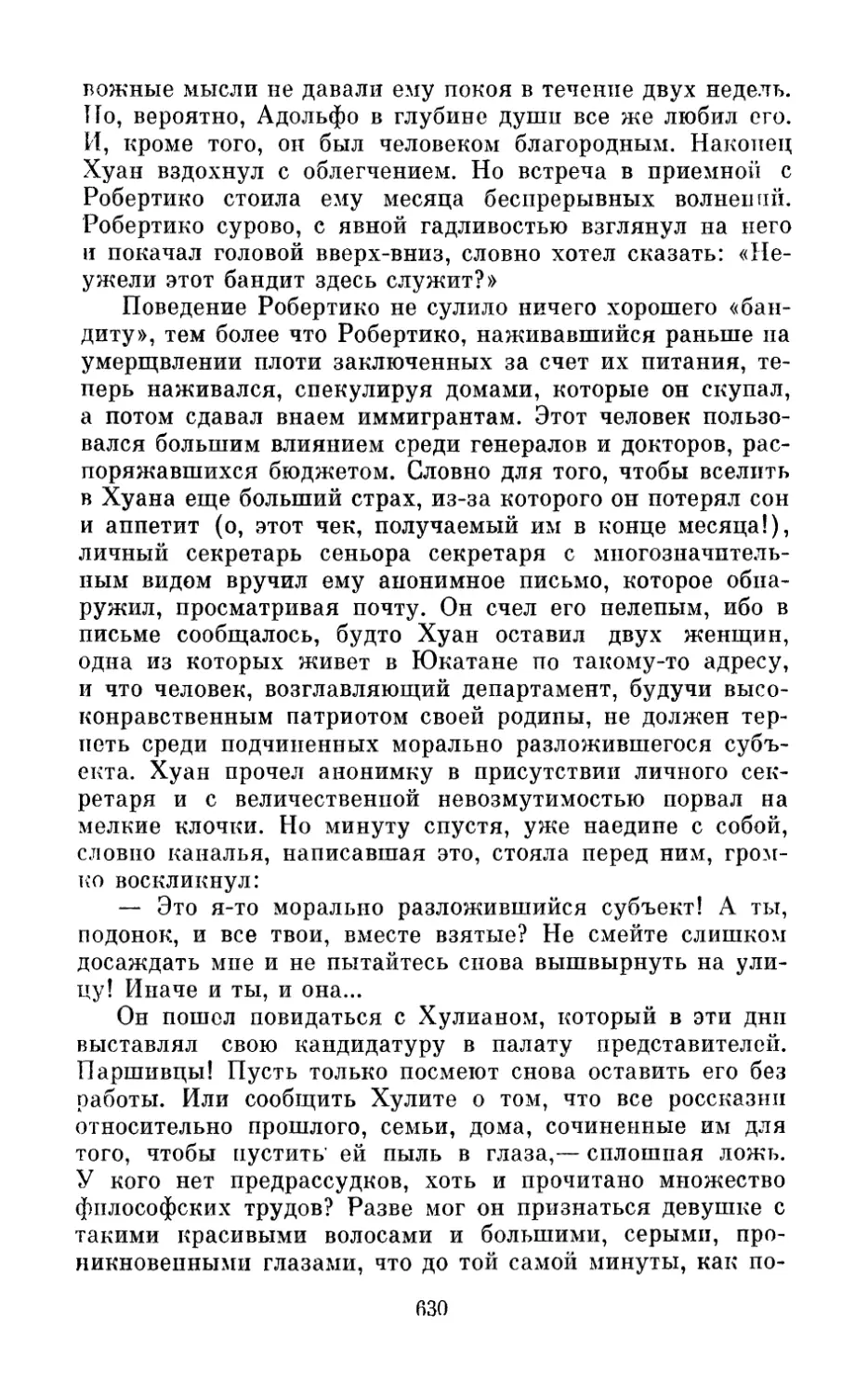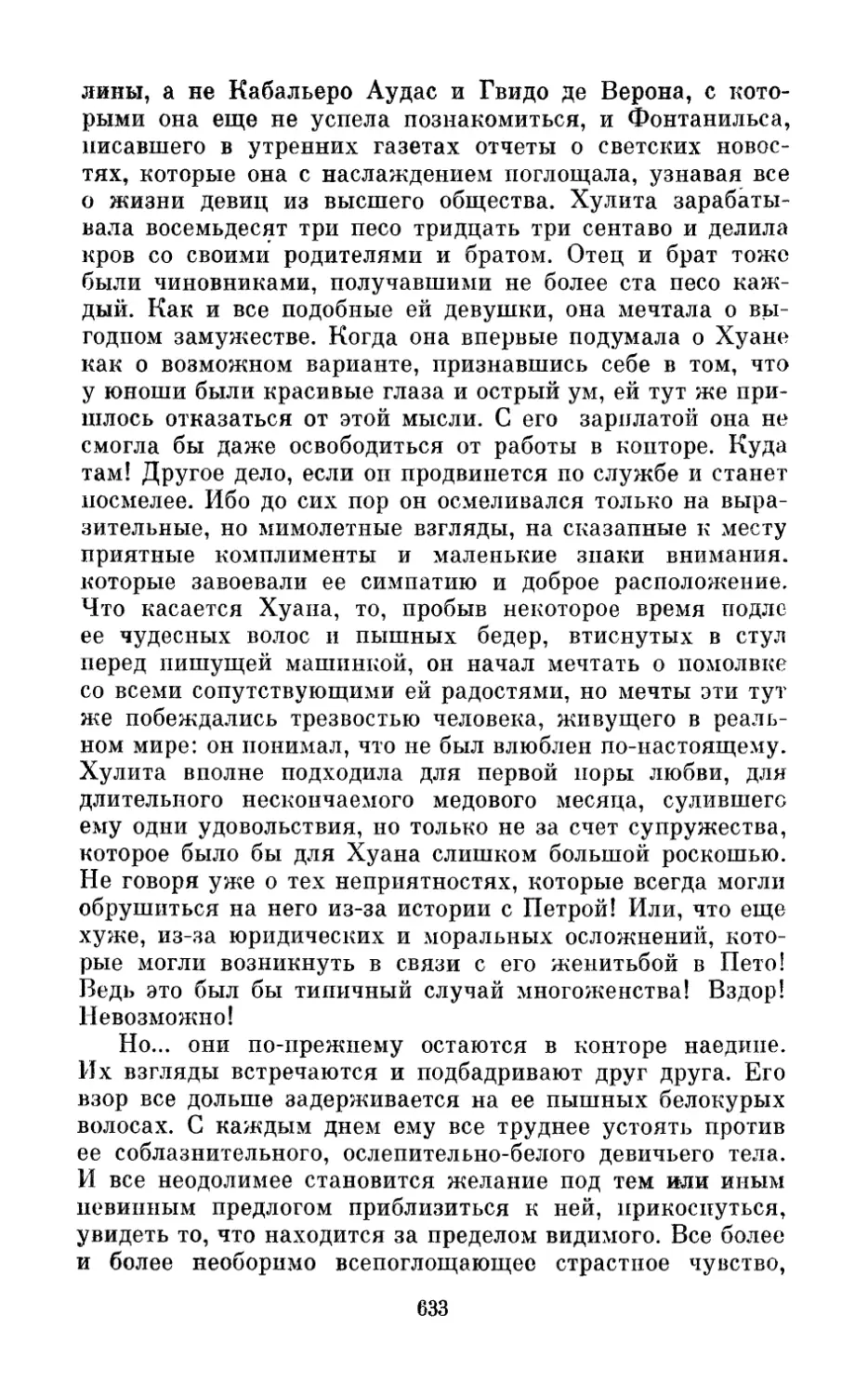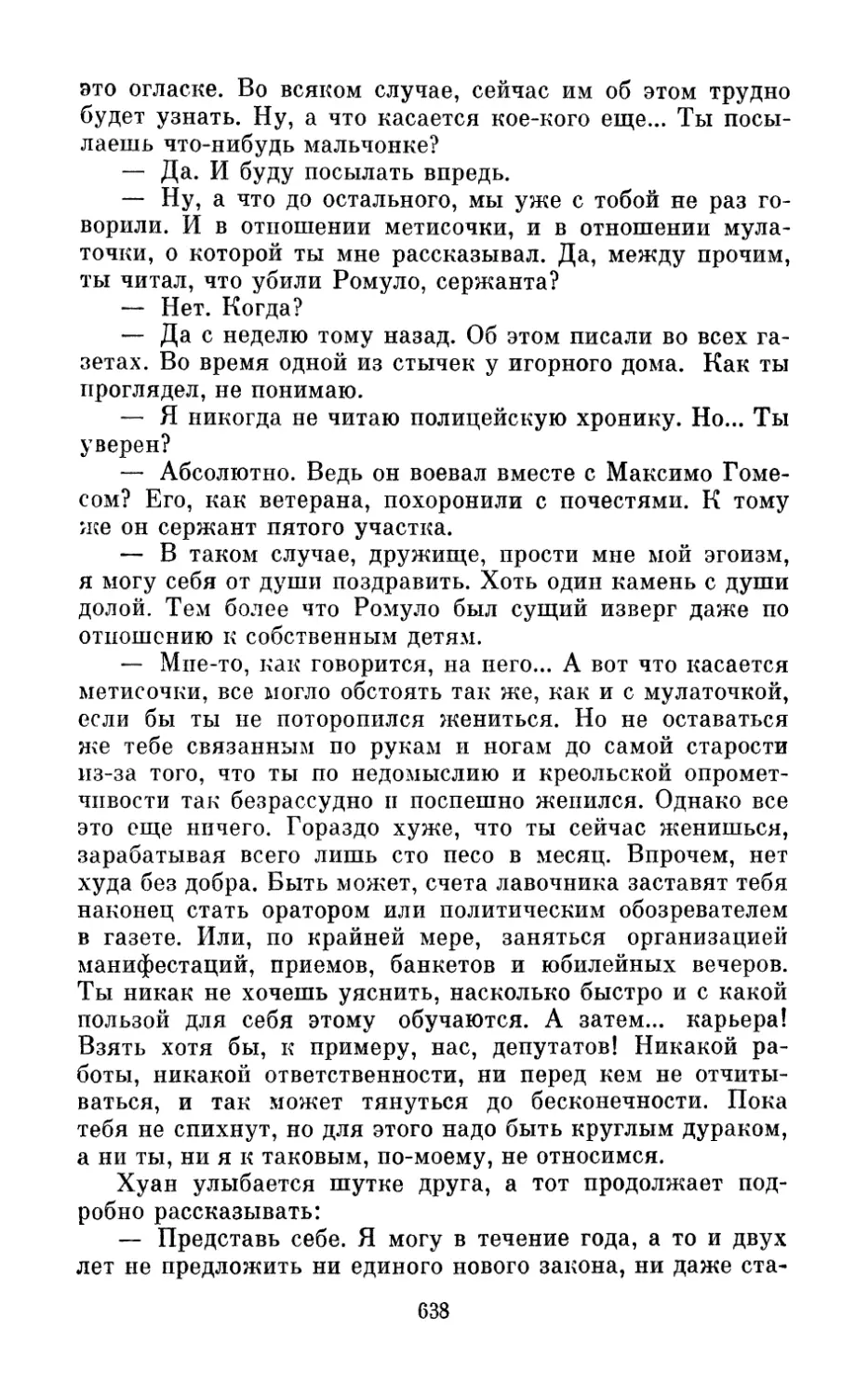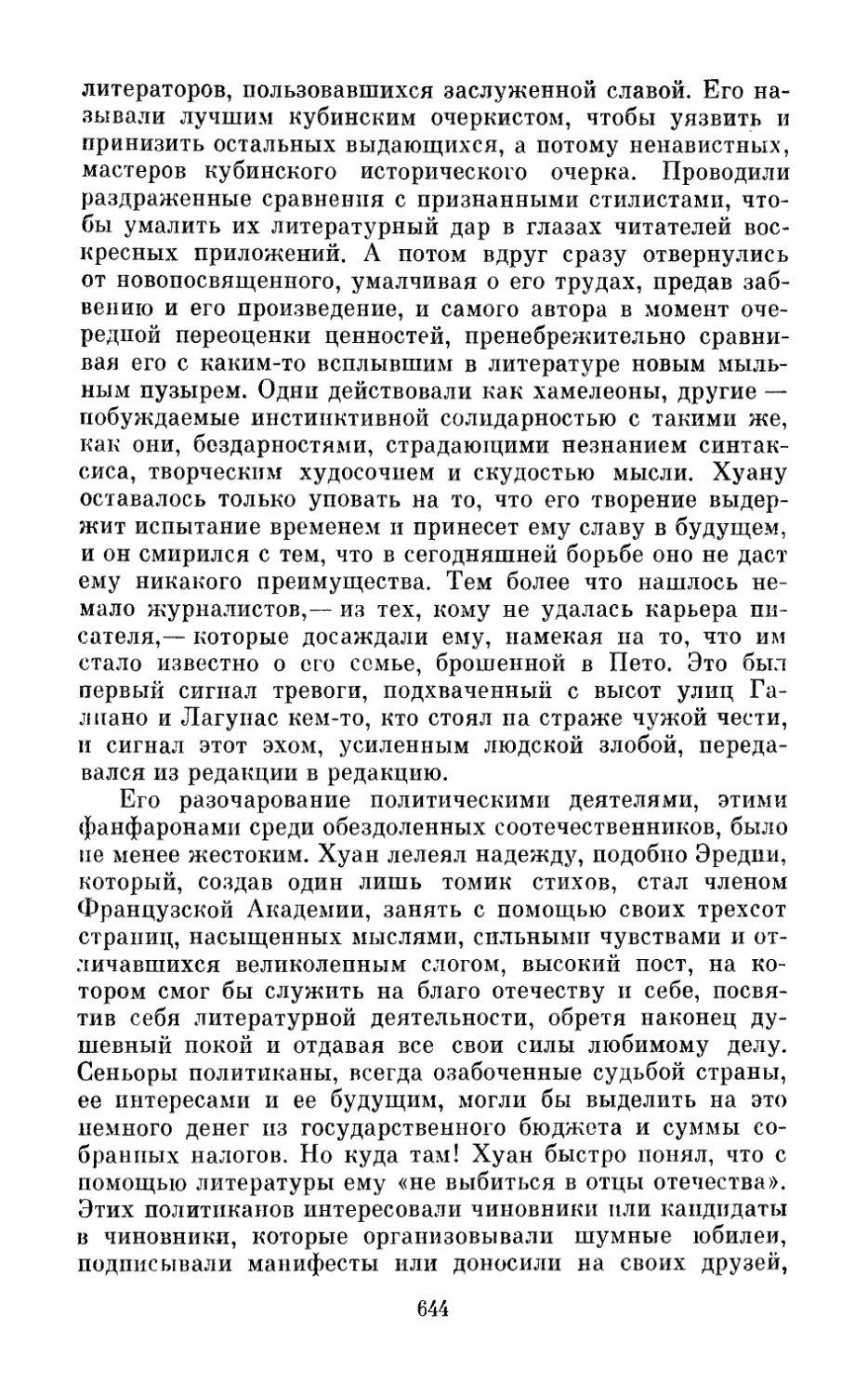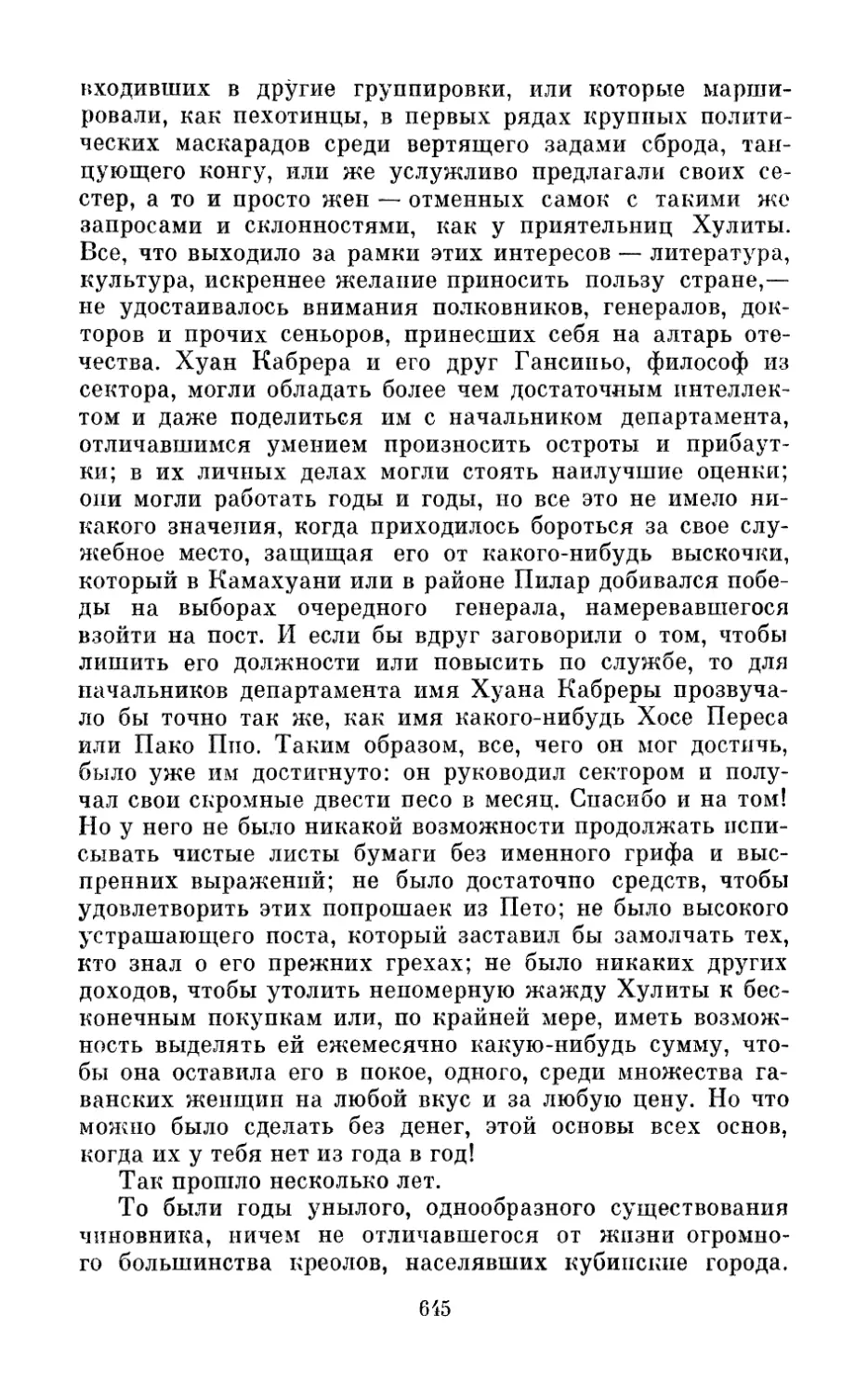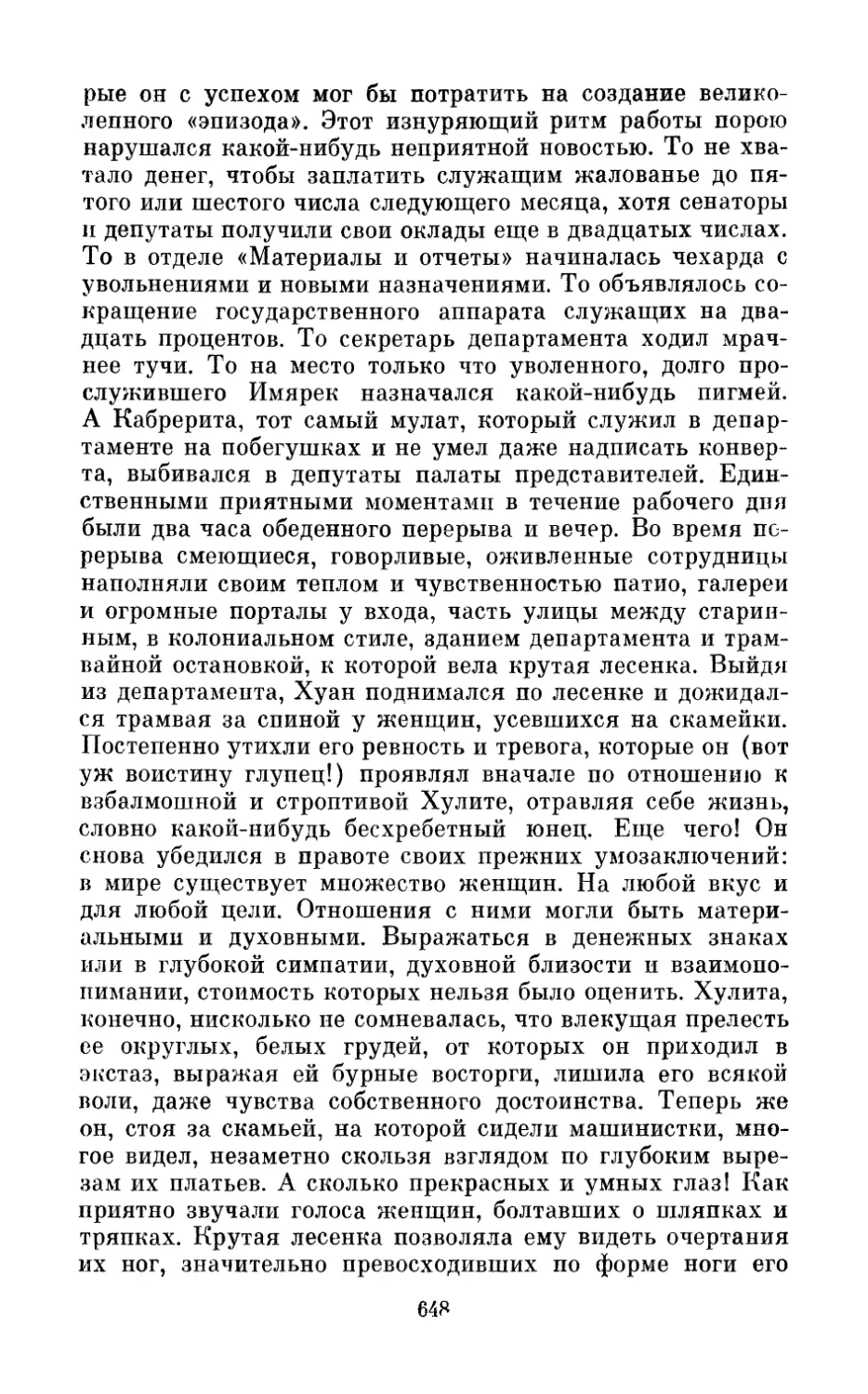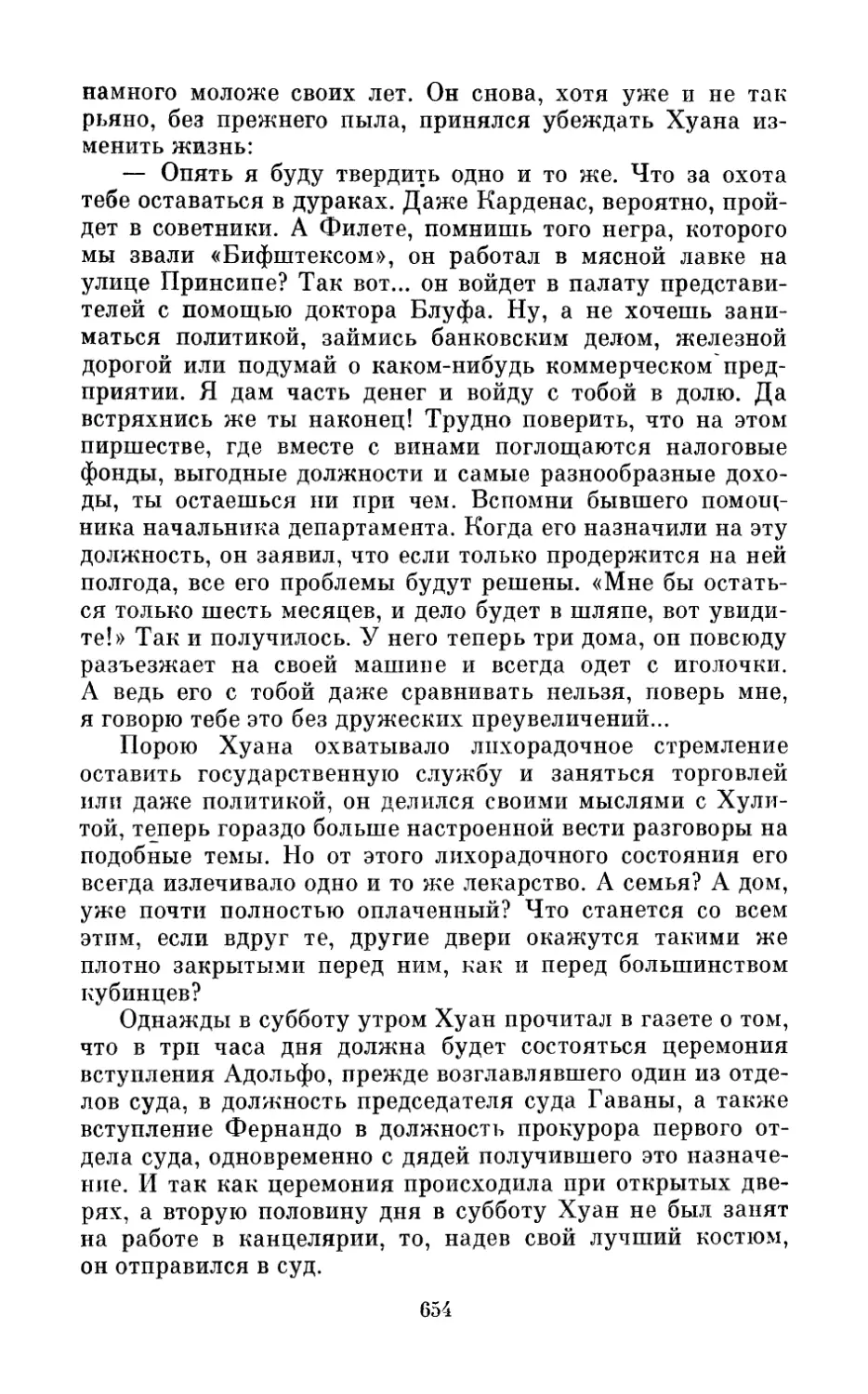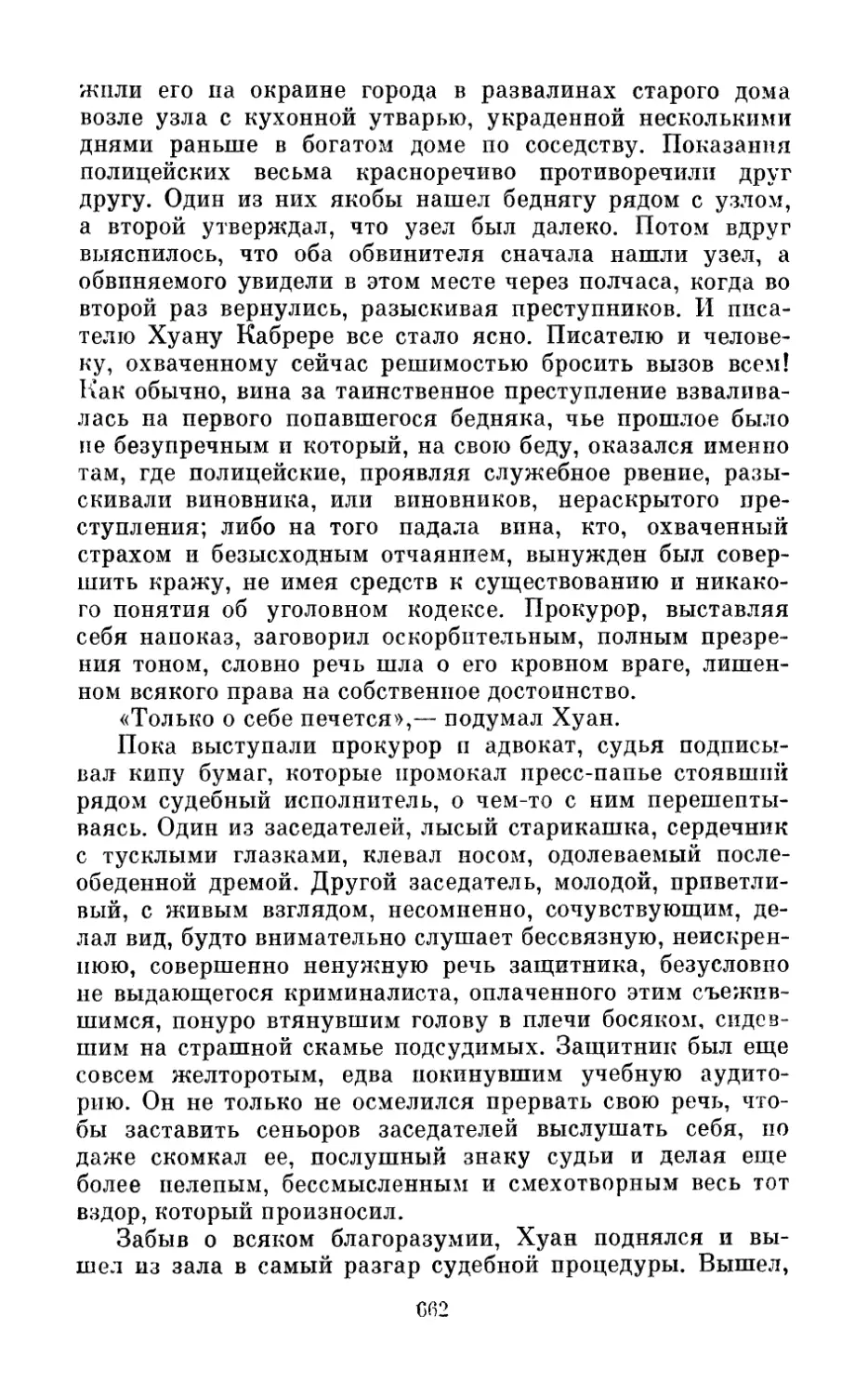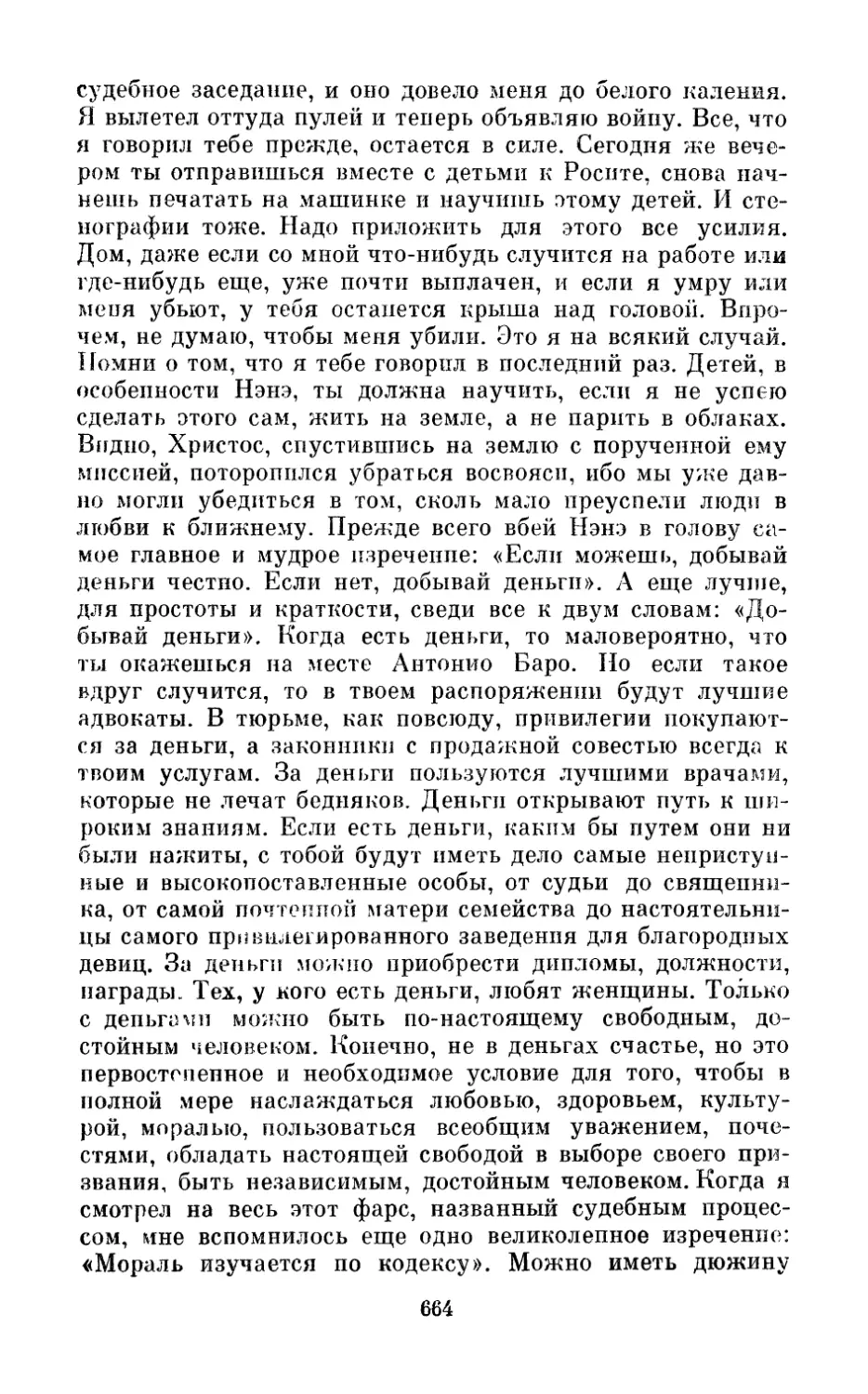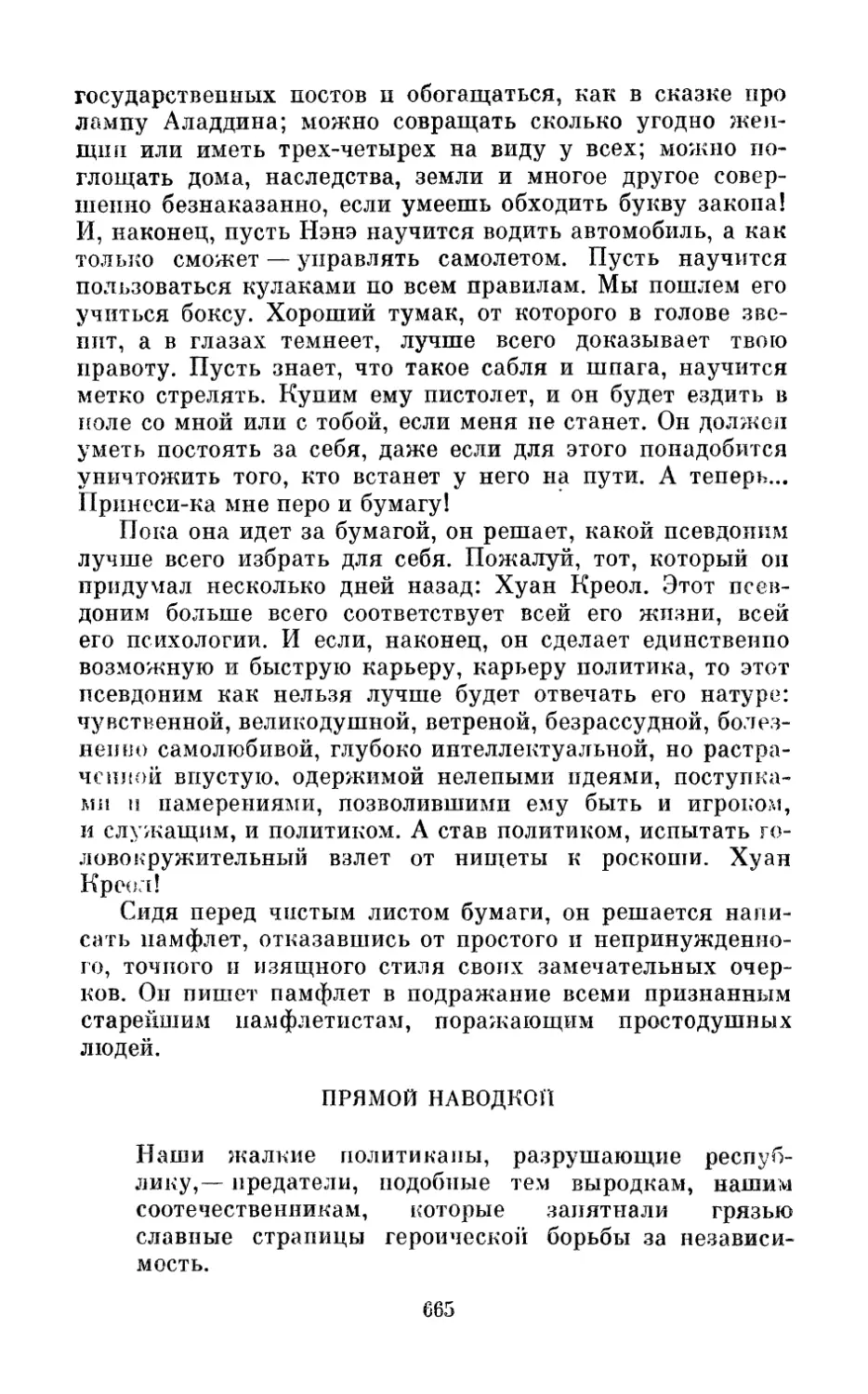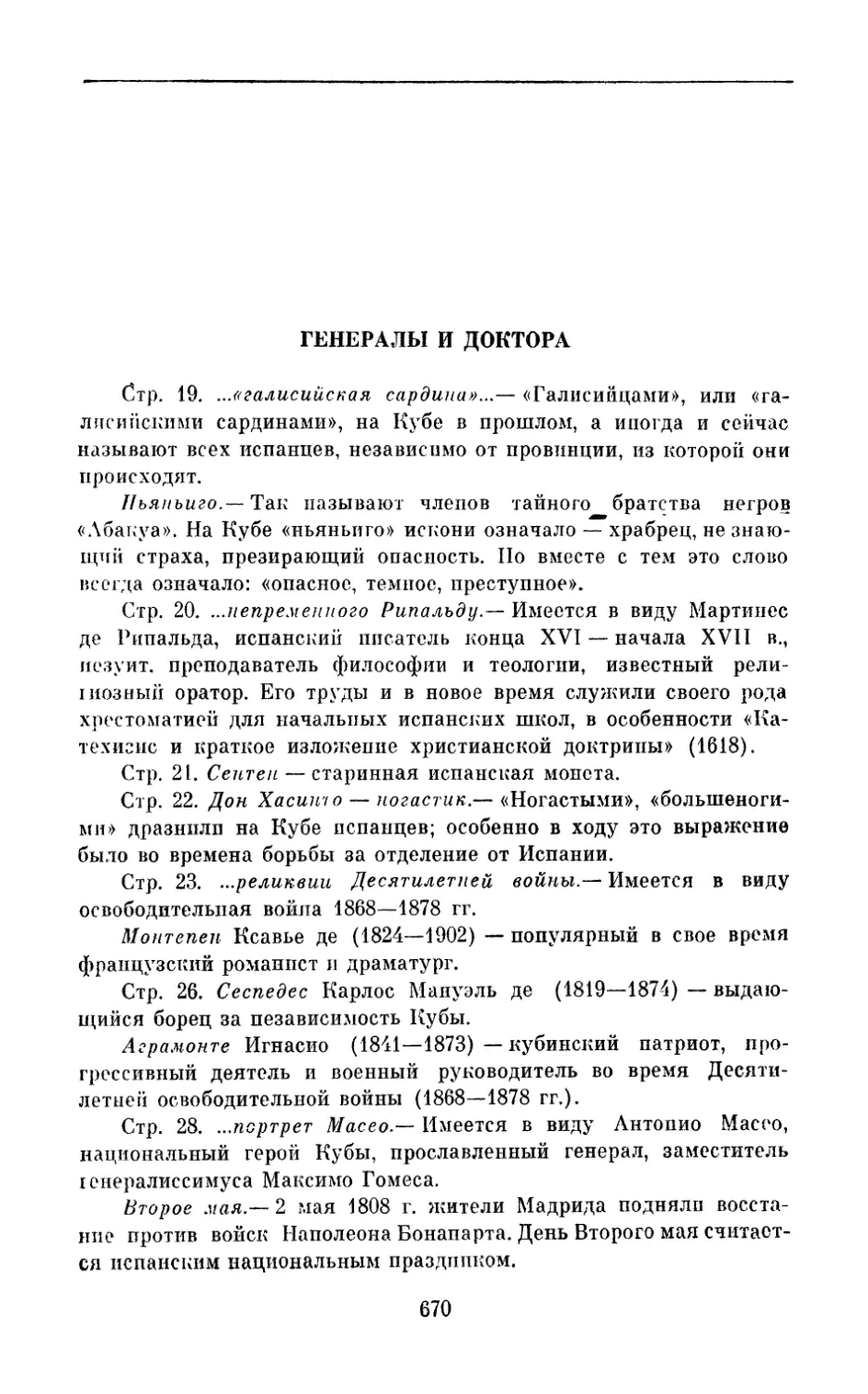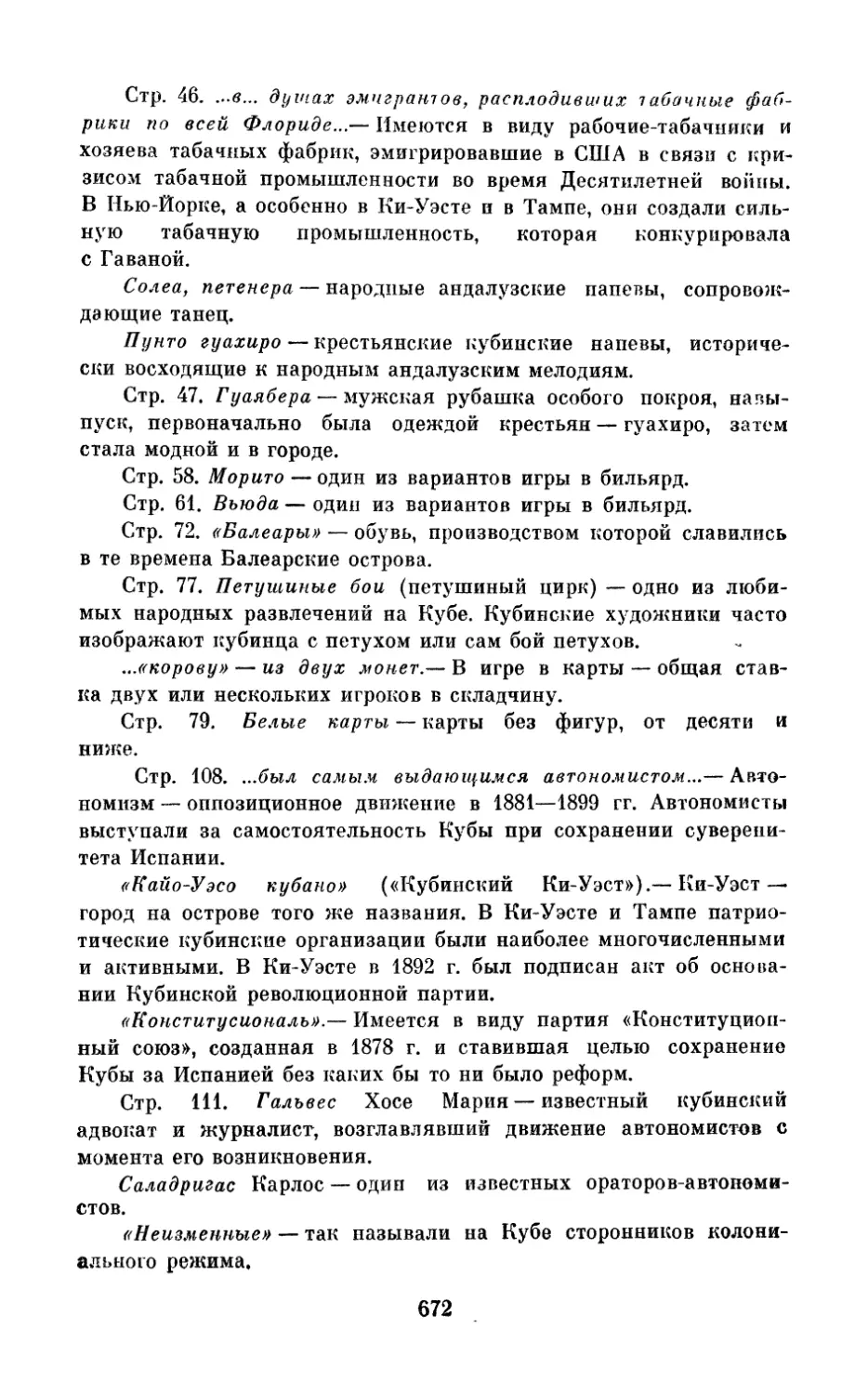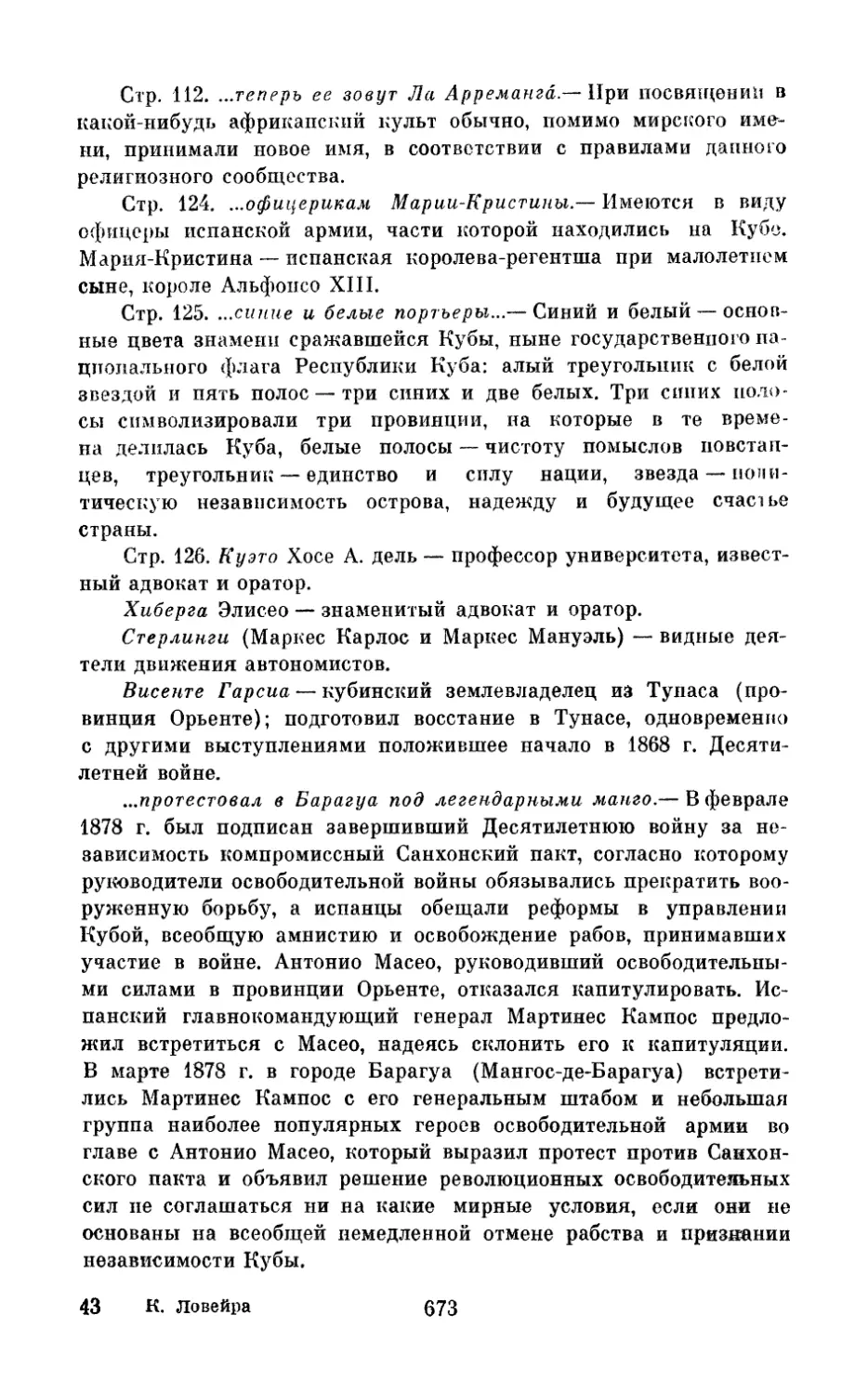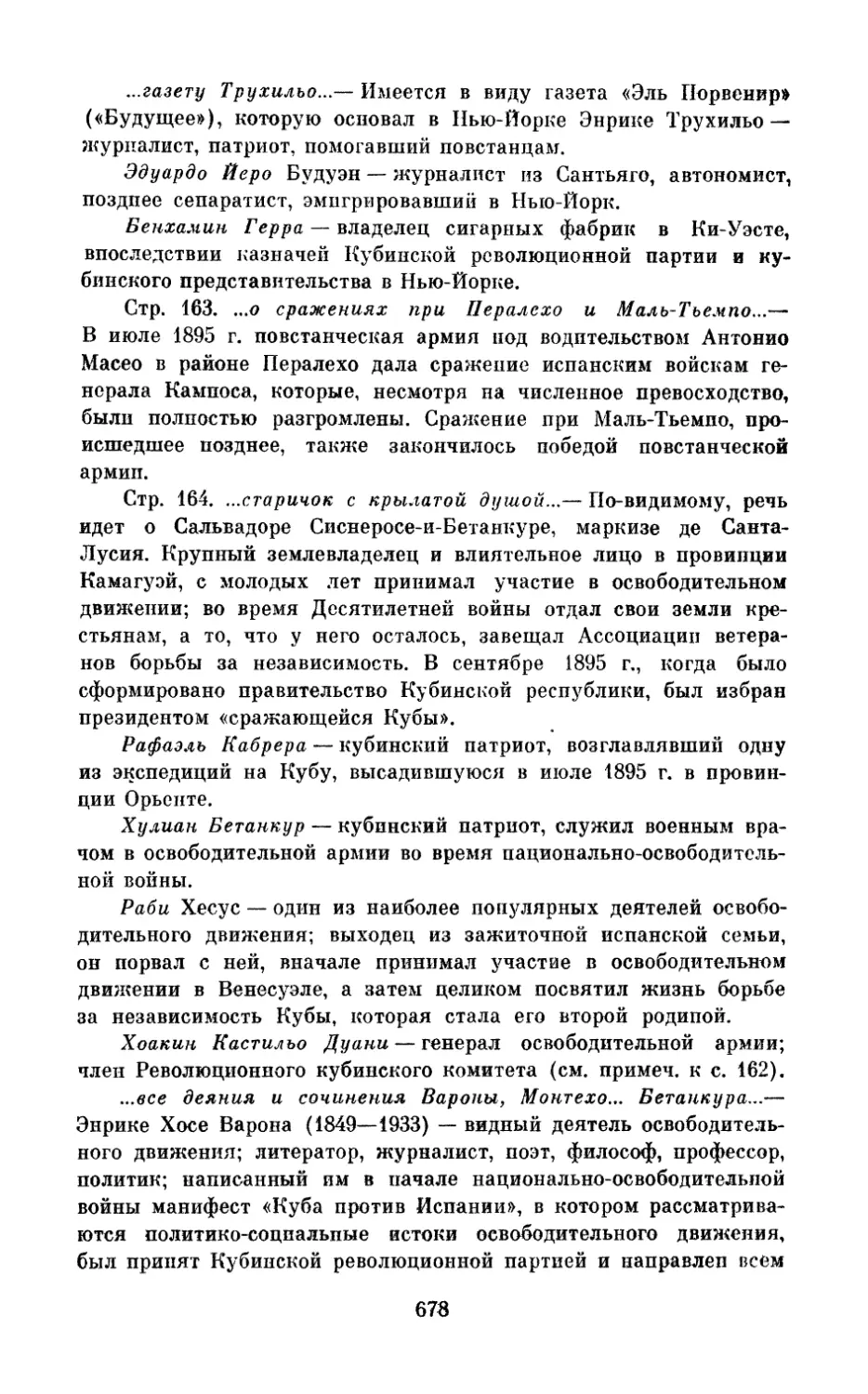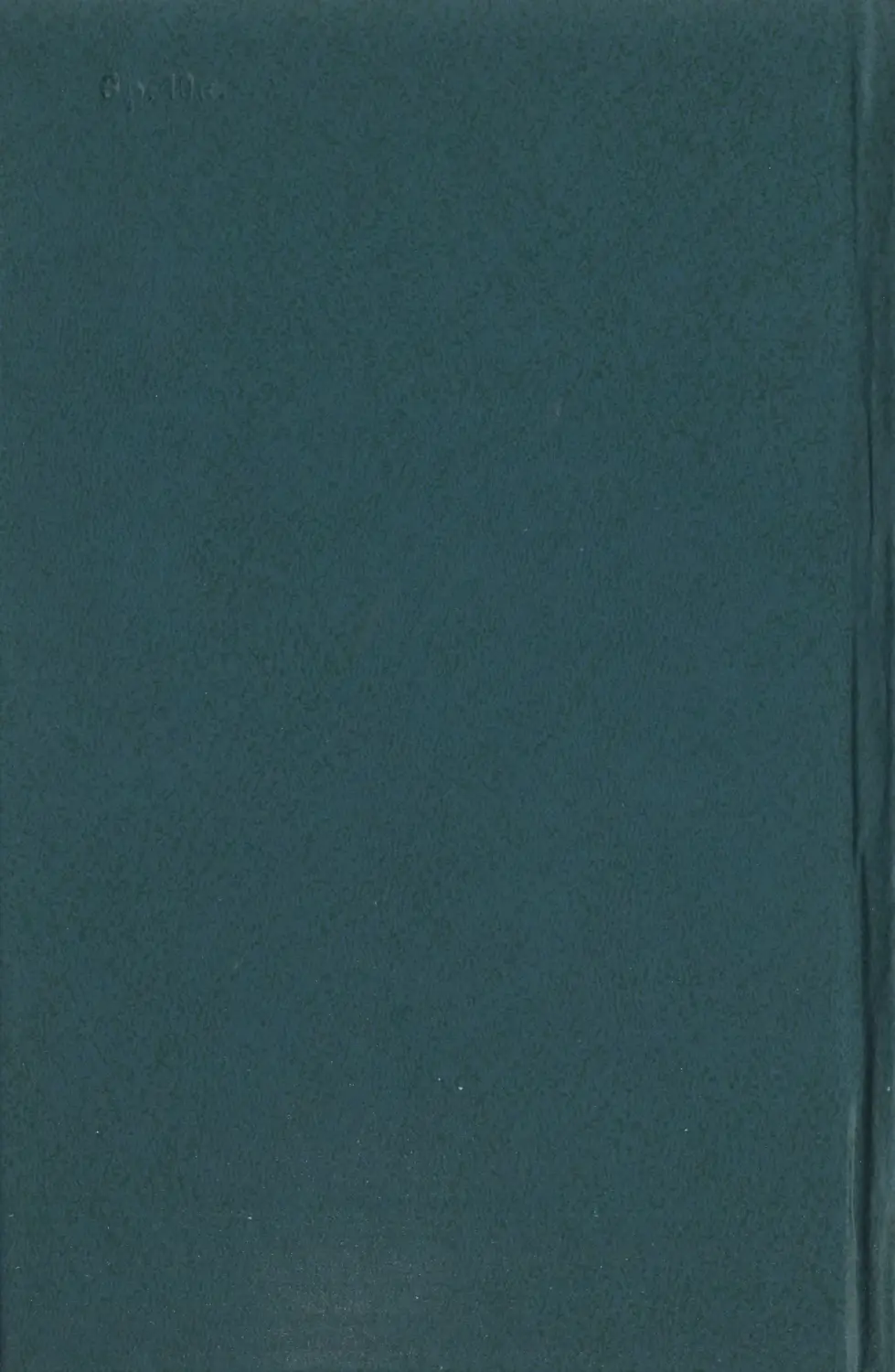Текст
БИБЛИОТЕКА КУБИНСКОЙ AHTE^ATVRfal
БИБЛИОТЕКА КУБИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Ежков В. В.
Грушко П М.
Золотавкин В. Д.
Кутейщикова В Н,
Микоян С. Л.
Пигалев В. А.
Столбов В. С.
МОСКВА «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА» 1980
КАРЛОС ЛОВЕИРЛ
ГЕНЕРАЛЫ И ДОКТОРА
XVAH КРЕОЛ
Перевод с испанского
МОСКВА «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА» 1980
И (Куб)
Л69
Предисловие
Ю. Погосова
Примечания
Л. Архиповой
Оформление
Л. Чернышева
4703000000
(Q) Перевод, предисловие и примечания.
7^304-164 jq7 ол Издательство «Художественная ли-
028(01)-80 1О'-°и тература», 1980 г.
ПСЕВДОРЕСПУБЛИКА
II ТВОРЧЕСТВО КАРЛОСА ЛОВЕЙРЫ
Освободительная война кубинского народа 1895—1898 годов
завершилась выходом Кубы из-под власти мадридской короны.
Однако только через четыре юда (пока длилась оккупация
острова Соединенными Штатами, вступившими в войну против
Испании в 1898 году под предлогом защиты кубинского народа от
испанского колониализма) — 20 мая 1902 года — страна была
провозглашена суверенной республикой. И с того дня, ставшего на Кубе
точкой отсчета для будущих и прошедших событий,
республиканская форма правления воодушевила кубинцев, мечтавших о
коренных политических и социальных переменах в их жизни. Но
победе в войне за освобождение сопутствовала разруха в
экономике. Были сожжены и растоптаны тысячи гектаров плантаций
сахарного тростника, разрушены хижины крестьян и дома горожан,
тучные земли захирели, по лесам и холмам бродил полудикий
скот. Тяжелое хозяйственное положение молодой республики было
на руку нарождавшемуся североамериканскому империализму,
который начал энергично и без стеснения захватывать ключевые
позиции в экономике страны: Куба стала его первой жертвой,
начиная с нее капитал янки предпринял свое наступление на
международной арене. Таким было на Кубе начало республиканского
периода, подготовившего превращение страны в полуколонию
«великого северного соседа».
По данным статистики с 1896 по 1923 год североамериканские
инвестиции на Кубу возросли с пятидесяти миллионов до одного
миллиарда двухсот миллионов долларов (в 24 раза). Лавочники
в Сьерра-Маэстре и на гаванском бульваре Прадо с удовольствием
брали у покупателей деньги с изображением злобного орла.
Крестьяне не переставали мечтать о земле, которая, как и
прежде, оставалась недосягаемой, десятки тысяч сельскохозяйственных
рабочих добывали себе средства на пропитание только во время
сафры — периода рубки сахарного тростника, а большую часть
года они и их семьи влачили полуголодное существование. Но
наряду с хозяйственным запустением в стране происходило обо га-
щепие определенной части буржуазии и помещиков, торговцев и
некоторых бывших участников освободительной войны, которые,
спекулируя на своих истинных или мнимых заслугах, наживали
капиталы. На экономическую арену выходили нувориши XX века,
поддерживаемые политической реакцией. Этому процессу также
способствовала коррупция, охватившая весь государственный
аппарат с самой нижней ступеньки до президента Эстрады Пальмы.
Таким образом, для кубинцев, переживших пусть даже ле весь
процесс освободительной борьбы, начавшийся в далеком 1868 году,
первые годы республики, которую много позже назовут
«половинчатой» или «псевдореспубликой», не сулили ничего
утешительного. Надежды на подлинную независимость, на осуществление
аграрной реформы п других демократических преобразований, на
рост благосостояния парода превращались в несбыточные мечты.
Уже в первое республиканское десятилетие наиболее
прогрессивные представители интеллигенции, мелкой и средней
буржуазии, не связанной с североамериканским капиталом, студенчества
и наиболее сознательные слои нарождающегося рабочего класса
понимали, что только в политической борьбе сможет Куба обрести
подлинную независимость. В стране ширился протест против ее
полуколониального положения. Он принимал разные формы,
среди которых сначала периодическая печать, а затем и
художественная литература играли немаловажную роль. Поэтому
реалистическое творчество Карлоса Ловейры с самого его первого романа
стало выражепием чаяний прогрессивных кругов кубинского
общества.
Когда 20 мая 1902 года кубинский флаг вознесся над крепостью
Эль-Морро в Гаване, Карлосу Ловейре исполнилось двадцать лет
п он уже успел столько раз испытать свою судьбу, что другому
хватило бы на целую жизнь. Родился он в 1882 году па берегу
тихой речушки Сагуа-ла-Чика, в тогдашней провинции Лас-Вильяс,
в неприметном поселке Эль-Санто, который пересекала одна-един-
ственная улица, застроенная по обеим сторонам невзрачными
домами. Отца своего он не помнил, тот умер, когда Карлосу было
три года. Затем он с матерью переехал в город Матансас, столицу
одноименной провинции, где мать нанялась стряпать в одном
богатом доме. Девятый год жизни запомнился ему навсегда:
умерла мать, и вскоре богатые сеньоры, у которых она служила,
отправились в Нью-Йорк, забрав с собой мальчика. Они были не
единственными в своем решепии оставить родину. Так поступали
в те годы многие креольские коммерсанты, землевладельцы и
интеллигенты в страхе перед преследованиями вновь назначен-
но го испанского генерал-капптана (губернатора) Валериано Вей-
лера н перед местью волонтеров — рекрутированных из
чиновников, лавочников, студентов п прислуги,—испанцев, которые, koi-
да-то приехав па Кубу, по считали себя кубинцами и были
противниками освободительного движения.
В далеком северпом городе маленький Карлос прошел чероз
все круги тамошнего ада. Кем только ему не случалось работать!
Кстати, в романе «Генералы и доктора» многие сцепы в
Нью-Йорке написаны Ловейрой па основе собственного жизненного опыта.
В шестнадцать лет он вступает в экспедиционный отряд генерала
Лакрета и отправляется с ним на Кубу. Освободительную войну
будущий романист заканчивает в городе Камагуэе. Знание
английского языка помогает ему некоторое время зарабатывать на
жизнь, пока в 1902 году нужда не заставляет его пойти работа! ь
на железную дорогу. Затем в поисках заработка он отправляется
за пределы родины: в Эквадор, потом в Панаму, па строительство
канала, и, наконец, в Йоста-Рику, которую впоследствии будет
вспоминать с большой теплотой, подчеркивая, что любит ее «так
же, как и Кубу». Скитания на чужбине расширяют его кругозор и
становятся для него единственным «университетом», ибо он
никогда не кончал никаких учебных заведений и добился всего в
жизни только благодаря собственному трудолюбию. Писатель
всегда гордился тем, что был самоучкой. За границей молодой,
энергичный кубинец приобщается к профсоюзной деятельности,
причем на него оказывают большое влияние анархистские идеи.
Кропоткин, Бакунин и западноевропейские вожди анархо-синдикалшз-
ма становятся для Ловейры образцами идейно-политических
руководителей.
В 1908 году Ловейра возвращается на Кубу и вскоре
становится организатором Кубинской лиги служащих железных дорог.
В 1913 году он уезжает в Мексику, где работает в департаменте
труда в штате Юкатан. Много позднее, в 1928 году, в беседе с
кубинским журналистом Армандо Лейвой из газеты «Пайс» он
скажет: «...я был рабочим, пристрастным к печатному слову, что
в конце концов привело меня к социализму. Социалистическая
мятежность, какой бы оттенок она ни принимала, лучше всего
соответствует духу бедного человека... Я был лидером в
национальном и международном масштабах». Последние слова писателя
относятся к 1916—1919 годам, когда он работал в Вашингтоне
секретарем Американской федерации труда по связям со странами
Латинской Америки. В 1919 году он возвращается на Кубу и
работает в министерстве сельского хозяйства, торговли и труда.
Часто выезжает па международные совещания и конференции,
посещает Европу и страны Латинской Америки. Там будущий писатель
встречается с рабочими, известными профсоюзными и
общественно-политическими деятелями, наблюдает социальные
процессы, происходящие за рубежом, и таким образом получает
возможность сравнивать экономические и политические уровни развииия
разных стран. Все это, разумеется, расширяет его знания. В 1917
году Ловейра выпускает книгу «От 26 до 35. Из опыта борьбы
рабочего класса (1908—1917)», которая стала обобщением его
профсоюзной деятельности, выпавшей на период от двадцати шести до
тридцати пяти лет его жизни. Затем в нескольких журналах
печатают его рассказы, а в 1920 году — комедию «Человек есть
человек». Позже выходит написанная им брошюра «Социализм в
Юкатане». Но, по-видимому, статьи, очерки, малые формы уже не
удовлетворяли его, и он решает обратиться к крупной
литературной форме, в которой бы смог более широко и глубоко показать
Кубу на рубеже XIX и XX веков. Ловейру волновали социальные
проблемы, раздиравшие страну. В беседе, о которой говорилось
выше, он заявил, что считал своим долгом написать роман, так
как этого требовали интересы пропаганды социалистических идей.
И вот в один прекрасный день в 1918 году в только что
образованном издательстве при журнале «Куба контемпоранеа» в Гаване
появился Карлос Ловейра с рукописью своего романа. Его
приняли доброжелательно и через несколько дней сообщили, что
роман будет опубликован в 1919 году. Так и случилось. Ловейра
назвал своего первенца «Аморальные», вложив в это негативное
слово иронический смысл. Дело в том, что в те годы на Кубе одной из
острейших социальных проблем была проблема развода. Она
дискутировалась с карибским темпераментом в кафе, на собраниях,
в общественных организациях, и, конечно, пресса посвящала ей
немало внимания. Прогрессивные круги кубинского общества
требовали отмены церковного запрета на развод. Причем борьба эта
объединилась с борьбой за эмансипацию кубинской женщины и
охватила всю страну. В своем романе Ловейра выступает
сторонником прогрессивных веяний, он критикует буржуазные порядки
и церковь, а его герои, песмотря на угрозы и преследования,
уходят из своих семей, погрязших в пороках, и бегут с родины.
Разумеется, для окружавшего их общества они «аморальны», а для
Ловейры и его единомышленников наоборот: аморально
буржуазное общество, ибо оно унижает человеческое достоинство.
Для кубинского читателя роман стал откровением. Ведь до
Ловейры никто, кроме Сирило Вильяверде и Рамона Месы,
опубликовавших свои произведения в XIX веке, не решился на такое
смелое разоблачение социальных бед Кубы. Роман получил
большой общественный резонанс не только на Кубе, но и за рубежом:
в Мадриде, Барселоне, Бостоне, Буэнос-Айресе и в Париже.
Первый роман Ловейры стал как бы пробой пера писателя в
этом жанре. Его успех был неожиданным и для самого автора.
Для прогрессивных кругов Кубы роман явился предтечей
будущей демократической литературы, способной воздействовать на
сознание кубинского общества.
Проходит чуть больше года, и в 1920 году появляется второй
роман Карлоса Ловейры — «Генералы и доктора». Новый роман
производит сенсацию. Резкая критика исевдореспубликанских
устоев и внутриполитического положения, когда прорвавшиеся к
власти нувориши и политиканы обогащались и захватывали
бразды правления, пришлась подавляющему числу читателей по душе.
Успех был такой, что даже те, кому писатель попал «не в бровь,
а в глаз», не могли ничего противопоставить ему. Имя Ловейры
стало известным.
В 1922 году публикуется его третий роман — «Слепые», а в
1924 году — «Последний урок». Эти произведения были приняты
читателями уже как должное и особой славы Ловейре не
прибавили: он уже стал настолько признанным, что в 1926 году его
избирают членом Национальной академии искусств и словесности.
В 1928 году писатель издает свой последний роман, и, как
утверждают многие кубинские критики, лучший,— «Хуан Креол».
Вскоре, в ноябре того же года, Карлос Ловейра скончался.
Романы Карлоса Ловейры «Генералы и доктора» и «Хуан
Креол» были опубликованы на Кубе с интервалом в девять лет
(1920—1929), и если с первого начинается слава писателя, то
второй стал вершиной его творчества. Эти девять лет в жизни Ловейры
совпали со временем в истории Кубы, которое выдающийся
кубинский общественный деятель и литератор, коммунист Хуан Мари-
иельо назвал «критическим десятилетием». В этот период на Кубе
происходили такие общественно-политические события, которые в
дальнейшем повлияли на весь ход революционного движения
в стране. Можно упомянуть важнейшие из них: образование в 1925
году первой марксистской партии; создание в том же году
Национальной конфедерации рабочих Кубы — единого профсоюзного
центра, объединившего более двухсот тысяч рабочих; интенсивная
деятельность в 1922—1925 годах Хулио Антонио Мельи, лидера
студенчества и одного из основателей первой марксистской
партии; открытие в 1923 году Народного университета имени Хосе
Марти, детища Х.-А. Мельи,— первой на Кубе школы
политического воспитания масс; широкий размах борьбы против
диктаторского режима президента Мачадо; выступления с прогрессивной
политической программой группы представителей интеллиген-
цяи—шкнористов»; общественно-политическая деятельность
выдающегося поэта и одного из руководителей компартии Рубена
Мартинеса Вильены; активизация прогрессивно настроенной
творческой интеллигенции.
Без сомнения, все эти события, определявшие идейный и
духовный настрой кубинского общества, оставили заметный след в
миро воззрении Карлоса Ловсйры, зараженного в молодости
анархо-синдикализмом.
Когда появился роман «Генералы и доктора», сорвавший
покровы мнимой добропорядочности с кубинского буржуазного
общества, социальные и политические противоречия в молодой
республике нарастали. Разоблачая действительность, писатель в
художественной форме показал, что на Кубе после 20 мая 1902 года
почти ничего не изменилось. Герой романа Игиасио Гарсиа с
малых лет сталкивается с несправедливостью. На всем протяжении
жизненного пути его окружают обман, ханжество, грубость, упи-
женне. Он, как и большинство кубинцев, надеялся, что после
провозглашения республики все изменится как по мановению
волшебной палочки. «Мы видели, как на пороге нового столетия,—
размышляет герой,— заблистал славный рассвет выстраданной
нами свободы, пришедшей как благодать, как искупление...»
Нгнасио человек импульсивный, горячий, однако осторожный.
Очень часто им руководит не разум, а эмоции. Герой книги
любит Кубу и, хотя его отец испанец, чувствует себя
кубинцем-креолом и воспринимает освободительную войну против метрополии
как «необходимую вопн\» (так называл ее вождь и идеолог
кубинской революции Хосс Марти). Игнасио не хочет эмигрировать
в Соединенные Штаты, его мучают угрызения совести, он думает
о войне, в которую ввергнута его родина, и стремится на поля
сражений, по вынужден подчиниться воле старших. Но дороге
на чужбину ею не покидают мысли об оставленной Кубе, образы
близких людей и родных пейзажей. По вот он приезжает в Нью-
Йорк, добирается до гостиницы, где живут кубинцы. И, о чудо:
«...везде вокруг мы видели портреты властителей наших дум,
кубинские гербы, лен гы — синие, белые, красные,—цвета знамени
горячо желанной нами республики... От всего этого можно было
упасть в обморок. Куба и Сусанна. Родина и невеста. Две великие
привязанности моей жизни».
Да, для Пгнасио было чудом увидеть в далеком чужом
городе дорогие сердцу образы родины, которые вызывали в нем
желание поскорее вернуться на Кубу п включиться в борьбу за ее
свободу. Па протяжении всего романа Игнасно борется за
справедливость, но его борьба декларативна. Он выступает против
коррумпированного общества, но, сам того не замечая, втягивается
10
в круговорот его пороков. Он верит в свои декларации как в
истины, по почти всегда действительность оказывается сильнее его.
Игнаспо Гарсиа полагает, что его избрапие в палату
представителей даст ему возможность покончить с нравственными пороками
и политической коррупцией. Но он забывает, а точнее, не хочет по-
мнпть, что стал депутатом благодаря деньгам допа Пепе, своего
дядюшки, провинциального торговца, нажившего обманом и
спекуляциями состояние, перед которым благоговеют
правительственные чиновники, генералы и другие богатые мошенники. Дон Петго
постоянно дает ему советы, в которых сочетаются наглость
разбогатевшего лавочника и уверенность политического босса.
«Теперь очень скоро ты будешь работать по моим указаниям,—
говорит дон Пепе,— а я буду подпирать тебя через прессу, банк ну и
некоторые дружеские связи... Каждый раз, когда представится
случай, закатывай высокоморальные речи...» А когда племянник
наконец избирается в палату представителей, дядюшка говорит:
«... читай мораль и угрожай всем, кто под руку попадется. Не
бойся никого, я с тобой...»
Самое удивительное, что Игнасио Гарсиа, проповедующий идеи
справедливости, следует советам своего родственника, хотя, как
он заявляет жене и самому себе,— он «не такой», как дон Пепе и
его окружение. Его лицемерие еще больше проявляется в
отношении к женщинам. Он любит свою невесту Сусанну, но может
в любой момент изменить ей. И всегда пытается найти
оправдание своей порою необузданной страсти. Надо сказать, что
женщине в романе отведена пассивная роль. Она только жена, хозяйка,
любовница, мать. Но это и понятно: социальная роль женщины в
ту эпоху на Кубе была сведена почти к нулю. II Ловейра в
своем втором романе также высмеивает консервативные семейные
устои, хотя не так решительно, как в романе «Аморальные».
Думается, что это вызвано не тем, что писатель пренебрег «женским
вопросом», а тем, что он сконцентрировал все свое внимание на
таких социальных пороках общества, которые стали
фундаментом, поддерживавшим всю кубинскую республиканскую (или
псевдореспубликапскую) систему. А в ней немаловажную роль
играли представители одиозного в стране социального слоя, к
которому относились генералы, разбогатевшие врачи и адвокаты —
«доктора», чиновничья верхушка. II недаром Ловейра назвал свою
книгу «Генералы и доктора», что было смелым шагом во времена
половинчатой республики.
Из этого социального слоя выходили «отцы отечества». В
буржуазной Кубе генералы всегда были символом силы. После
освободительной войны многие из них остались не у дел, а точнее —
генералов оказалось больше, чем требовалось в мирное время.
11
Разумеется, никто из них не хотел терять преимуществ своего
воинского звания и положения, да к тому же ведь никто не
проверял, как досталось это звание. В ромапе таким генералом
выступает мошенник и бретер Нэнэ. Правда, на Кубе после войны
были и такие овеянные славой генералы, как Максимо Гомес или
Эусебио Эрнандес, которые не рвались к деньгам и власти. Но
таких было меньшинство. В те годы Куба переживала время, когда
на поверхность социальной жизни всплывали всевозможные
подонки и пройдохи, жившие по принципу «цель оправдывает сред-
счва». Любопытно, что через пять лет после опубликования
романа «Генералы и доктора» президентом Кубы стал генерал Херардо
Мачадо, и не нюхавший пороху в освободительной войне, а в
молодости уличенный в конокрадстве. Его же причастность к армии
ограничивалась лишь поставками мяса для воинских частей.
Что касается докторов, то их положение на Кубе в те годы
давало им возможность для широкой общественной деятельности.
Почти все они были выходцами из креольской буржуазии и
связаны политическими узами со своим классом. Общественные
контакты делали фигуру врача заметной, влиятельная клиентура
обеспечивала путь к политической власти, а следовательно, и к
богатству. Такие «доктора», не стесняясь средствами, рвались к
власти. Многие из них обманным путем присваивали себе это звание,
причем их меньше всего волновали интересы родины. Таков в
романе доктор Каньисо, давно потерявший вкус к своей профессии
врача и забывший ее гуманные принципы. С другой стороны, Иг-
насио Гарсиа тоже доктор. И он также стремится к власти. Но он,
по его же словам, человек честный, пекущийся о своей родине, а
депутатом становится только ради того, чтобы «сверху» сеять
полезное и доброе. Трудно поверить в благие намерения доктора, что
подтверждает позиция самого писателя, который говорит о
деяниях героя с иронией и типичным кубинским юмором, да и весь
роман пронизан ироническим отношением автора к описываемой
действительности и к ее персонажам. Именно этим приемом дает
нам автор понять, насколько тщетны и бесполезны потуги таких
докторов, как Игнасио Гарсиа.
Правда, за крамольные речи в конгрессе враги называют
доктора Гарсиа «социалистом», и это импонирует ему, но лицемерие
не позволяет понять, как далек он от социализма. В конце
повествования доктор Гарсиа только и делает, что выступает в палате
представителей. Его напыщенные речи с претензией на
революционность вызывают бурю негодования оппозиционного лагеря, и
однажды дело кончается чуть ли не дракой. Но эти «мелкие»
неудачи не охлаждают пыла доктора, и он говорит жене: «Ты
видишь, я оптимист, это оттого, что я верю в народ, если даже на
12
нашем трудном пути и придется споткнуться и спеть «вечную
память» республике, съеденной изнутри, как раком, генералами
и докторами».
Разумеется, эти слова отражают позицию самого писателя,
его веру и надежду на будущее Кубы. И эти слова оказались
пророческими: 1 января 1959 года была спета «вечная память»
просуществовавшей пятьдесят семь лет «половинчатой» республике.
Роман «Хуап Креол» в какой-то мере хронологически
повторяет «Генералов и докторов». Он также во многом автобиографичен,
в особенности в первой части, описывающей детство забитого,
бесправного сироты Хуана, которого милости ради держит в своем
доме семья богатого, но постепенно разоряющегося дона Роберто.
Уже в детстве определился духовный облик Хуана Кабреры на всю
жизнь. Он научился обманывать, скрывать свои чувства,
лицемерить, он привык бояться всех, кто стоит выше него в социальном
отношении. Все эти черты характера в дальнейшем определили его
мировоззрение. И это дало право кубинским критикам назвать
историю жизни Хуана Кабреры «современным плутовским
романом». Они правы. По языку и стилю, а главное, по развитию дей-
счвия и содержанию роман «Хуан Креол» имеет много общего с
плутовскими романами средних веков.
В своей последней книге Карлос Ловейра как бы пропустил
панораму кубинской жизни сквозь призму видения своего
соотечественника, стоящего на одной из низших ступеней социальной
лестницы. Все, кто окружают вначале маленького, а затем юною
Хуана, всегда сильнее его, всегда повелевают им. Пока он
всяческими правдами и неправдами, будучи уже немолодым, не прорвется
«наверх», к деньгам и власти, на нем всегда будет стоять печать
вечного изгоя. Однажды в детстве в наказание за шалости Хуана
заставляют написать 1500 раз фразу: «Я должен вести себя
хорошо, потому что у меня нет ни матери, ни отца». Эту ханжескую
сентенцию оп запоминает навсегда. Детство не оставило Хуану
ни одного доброго воспоминания. Для него все прошлое окрашено
в серые и черные тона. Ему слишком рано пришлось расстаться с
детством, и в двенадцать лет он мыслит категориями взрослого
мужчины. Будучи подростком, он уже притворяется,
приспосабливается к обстановке и старается в удобный момент нанести
противнику удар из-за угла. Очень часто Хуан ведет себя как
классический плут: паясничает, издевается, мошенничает. Так
Ловейра постепенно лепит реалистический образ современного ему
плута, порожденного псевдореспубликансквми устоями Кубы начала
XX века,
13
Хуан Кабрера вступает в сознательную жизнь без всякой
надежды на успех, потому что он беден. Приученный к лицемерию
и обману, он начинает жить по принципу «цель оправдывает
средства» и в конце концов, пренебрегая «высокой моралью»,
восходит на верхние ступени социальной иерархии, где становится
равным с теми, кто раньше был выше его.
Стилистически этот роман несколько отличается от
предыдущего: он более повествовательный, в нем больше авторского
текста, чем диалогов. Ловейра детально описывает всевозможные
события, незначительные эпизоды, скрупулезно рассказывает о
бытовых подробностях, интерьере помещений. Некоторая
растянутость изложения в первой половине книги заставляет автора в
самом конце романа прибегнуть к простому перечислению
событий.
Герой Ловейры не сразу усваивает закопы общества, в
котором живет. Он долго не поддается уговорам своего друга Хулиана
пренебречь нравственными условностями и извлечь из жизни для
себя только пользу, как это делает сам Хулиан. Наконец он
приходит к убеждению, что «за деньги можно приобрести дипломы,
должности, награды... Только с деньгами можно быть
по-настоящему свободным, достойным человеком». И так как природа
наделила его литературными способностями, он начинает писать в
газету. Дотоле неизвестное имя мелкого, незаметного чиповника
Хуана Кабреры становится популярным в журналистских кругах.
Используя свое литературное дарование и острую политическую
ситуацию в стране, понимая, что только с помощью политики
можно достичь богатства и свести счеты с теми, кто всегда стоял
на высших ступенях социальной лестницы, он пишет свой
первый памфлет, обличающий жалких политиканов-предателей,
которые «вместе с республикой обескровили и обесчестили народ», и
подписывается под ним: «Хуан Креол». Расчет героя оказался
правильным, его острое политическое выступление в печати помогает
ему занять прочное место среди сильных мира сего, «испытать
головокружительный взлет от нищеты к богатству».
Разумеется. Карлос Ловейра неспроста окрестил своего героя
Хуаном Креолом. Этим он хотел подчеркнуть, что его Хуан
Кабрера не кто иной, как один из многих Хуанов, потомственных
креолов^ населявших Кубу. Хуан Креол — это символ
псевдореспубликанской родины, он ее порождение, он уходит корнями в
кубинскую жизнь: в прошлую и в современную автору.
На последних страницах романа Хуан Креол, став депутатом,
разбогатев, встречается со своим идейным наставником
Хулианом. Смакуя французское вино, оба друга приходят к заключению,
чзо Хуан победил и к нему пришел успех. Причем Хулиан под-
14
черкивает, что «иначе быть не могло. Мы ведь живем не
где-нибудь, а на Кубе, среди креолов».
Победа Хуана Креола стала возможной только потому, что
деградирующее, аморальное республиканское общество Кубы было
той благодатной почвой, на которой плодились такие хуаны
креолы. А Карлос Ловейра своим ромапом разоблачает это общество.
Правда, он не дает рецептов и советов, как покончить со злом. Но,
учитывая время, когда он жил и творил, можно утверждать, что
роман «Хуан Креол» принес огромную пользу обличепием пороков
социального строя, современником которого был писатель.
Карлос Ловейра принадлежал к первому республиканскому
поколению писателей, и его творчество представляет собой
значительный вклад в кубинскую литературу XX века. Два его
романа, вошедшие в настоящий том, показывают закат
республиканских идеалов на Кубе в первые два десятилетия нашего века и
развенчивают всеобщую коррупцию, царившую в стране. В этих
романах по сравнению с другими произведениями писателя более
ярко проявляются национальные кубинские особенности. Автора
волнуют проблемы социального неравенства, положение рабочего
класса и креольской патриотически настроенной буржуазии.
Основываясь на социальном расслоении общества, он создает
реалистические национальные типажи тогдашней Кубы, образы,
отражающие политическую и духовную деградацию, в которую была
ввергнута страна. В какой-то степени своим творчеством Ловейра
сближается с писателями костумбристами (бытописателями)
Кубы, но в его произведениях отчетливо выделяется критическое от-
ношепие к социально-политической действительности, чем он и
отличается от них. Как уже говорилось выше, критикуя, он не
предлагал путей для исправления пороков. II все же критическое
описание социально-политической действительности и подлинных
исторических событий принесло Ловейре успех. И надо отдать
ему должное за то, что он точно и с прогрессивных
патриотических позиций раскрыл содержание этих событий.
Некоторые кубинские критики сетовали на то, что
произведения Ловейры страдают определенным схематизмом, на что
прозаик отвечал, что когда писал, то его в основном волновали
диалоги и то, насколько реалистично будут отображены
действительность и исторические события, а также, что он торопился micaib,
дабы успеть ответить своими романами па требования актуальной
политической борьбы.
Основной идейный смысл его произведений — это духовное
смятение и разочарование кубинского народа в том псевдореснуб-
15
лпканском укладе, который сложился в стране после тридцати
лот освободительной борьбы и который отличался
антидемократической и антипатриотической направленностью и
политико-экономической зависимостью от Соединенных Штатов.
Творчество Карлоса Ловейры занимает в кубинской
литературе достойное место, хотя имя его долгие годы пытались предать
забвению. Революция 1959 года восстановила это имя для
современников и потомков.
Ю. Логосов
И ДОКТОРА
Перевод Л. Архиповой
2 К. Ловейра
CARLOS LOVEIRA
GBNERALES Y DOCTORE3
LA HABANA
192 0
ВРЕМЯ ГРУСТИ И СОМНЕНИЙ
В 1875 году к берегам Кубы огромными косяками шла
«галисийская сардина»; этими словечками в те времена
глубоких раздоров между креолами и полуостровитянами
первые окрестили вторых, повых аргонавтов, которые,
набившись, как сельди в бочку, в третьи классы океанских
судов, в поисках счастья пересекали огромную лужу
Атлантики, чтобы попасть на вожделенном берегу в бордель
разложившихся бюрократов и конторы беззастенчивых
торговцев, чем — по выражению самого красноречивого из
наших революционных ораторов — была Великая
Колониальная Антилья, иными словами — всегда верный остров
Куба.
В одном из таких косяков приплыли па Кубу два
брата, каждый лет двадцати пяти от роду, не больше. Один
был низенький, хамоватый, краснощекий; вечно задыхался
в пресловутой тройке из коричневого вельвета; топал по
земле черными солдатскими ботинками на шнурах;
голову прикрывал темной, грязноватой шляпой с высокой
тульей типа «ослиное брюхо» и охотно откликался на имя
Пепе Гарсиа безо всяких добавлений. Другой был высок,
сухощав и бледен, с щепетильным достоинством носил
длинный черный пиджак и черные же ботинки на
резинках, увенчивал намечающуюся лысину шляпой с
загнутыми полями цвета кофе с молоком, подписывался полным
именем Мануэль де Хесус Гарсиа-и-Перейра, выводя его
тонкими прописными буквами и заканчивая сложным
элегантным росчерком.
Оба брата не теряли времени зря. Прожив два года на
Кубе, Пепе — теперь уже «дон Пепе» —обзавелся в
городе Матансас собственной бодегой — винным погребком,
ставшим на Кубе одновременно и кабачком, и мелочной
лавкой. Кабачок находился рядом с бойней, на берегу реки,
в квартале, излюбленном ньянъиго, этими черными колду-
19
вами, и иными подобного типа людьми, с которыми лучше
не встречаться в темных переулках. Дон Мануэль де Хе-
сус, бывший секретарь муниципалитета города Буэу в
своей родной провинции Понтеведра, сделался
комиссионным агентом при испанском пехотном батальоне, по
очереди стоявшем гарнизоном в разных местечках провинций
Матансас и Лас-Вильяс.
В одном из таких местечек, а именно в Пласересе, в
один счастливый день батальонный комиссионер
познакомился с прекрасной девицей пятнадцати лет — Лолитой
Дарна, единственным отпрыском богатого канарца,
поставлявшего мясо гарнизону, и его законнейшей и
великолепнейшей супруги, сеньоры из известного камагуэянского
рода. После двух месяцев ухаживания и десяти месяцев
«жениховства» сыграли свадьбу, ставшую событием для
всей округи. А еще девять месяцев спустя Лолита, которую
теперь уже называли донья Лола, стала матерью, моей
матерью, дон Мануэль де Хесус — отцом, моим отцом, а дон
Пене, пополнив и без того обширное племя дядюшек, стал
моим дядей.
О детстве в памяти осталось несколько очень важных
событий. В четыре года у меня заболели зубы, и пришлось
беспрерывно полоскать рот соленой водой. В пять лет я
переболел корью. Само собой, я верил, что меня вылечил
доктор, толстый старик в очках, сюртуке и цилиндре,
разговаривавший так, точно у него был полон рот гороха;
ветром врываясь в комнату, он прежде всего спрашивал, как
себя чувствует «вояка», потом насильно всовывал мне под
мышку, пылавшую сорока, а то и более градусами,
ледяную сосульку термометра, при этом я ревел, распустив
сопли; дело кончалось тем, что меня заставляли проглотить
большую ложку тошнотворной касторки. Позднее у меня
завелись глисты, которые вдруг полезли и сверху и снизу
сразу после того, как против моей воли мне вкатили отвар
тыквенных семечек с экстрактом мексиканского чая.
В свою пору, как все, я пошел в школу, тут же, в
нашем квартале. Учительница обучала меня азбуке, числам
и заставляла читать непременного Рипальду. Сестра
учительницы, плотненькая мулаточка лет четырнадцати,
милая, как утренний свет, обучала меня совсем иным
вещам— под кроватью, которую мы воображали нашим
домом; эта неприличная игра в «мужа и жену» ей очень
нравилась. С нами вместе играли две девочки лет по пяти;
мне тогда было шесть. Никто в нашем доме, включая и
20
мою мать, не догадывался, конечно, об этих
дополнительных уроках. Если опасность была рядом, меня выручала
моя креольская смекалка, да и смекалка моей подруги,—
стоило кому-нибудь из взрослых появиться вблизи нашего
тайного «домика», она тут же говорила свое обычное:
«Дети, пора спать!»
Братьев и сестер у меня не было. Мы с матерью
плелись за отцовским батальоном, и втроем объездили почти
все города, местечки и деревушки двух центральных
провинций Кубы. И все десять наших бродячих лет мать не
уставала повторять с истинно креольской грацией, что мы
живем с сундуком и обезьяной за плечами, имея в виду
необходимость постоянно переезжать с места на место, то
связывая, то развязывая узлы, повинуясь очередному
приказу военного начальства моего отца. Отец же, будучи
очень хорошим отцом, отцом-испанцем сына-креола (в
будущем), не хотел оставить своего ремесла, которое
служило ему словно широкий монашеский рукав, куда
чудесным образом скатывались септен за сентеном, чтобы оттуда
перекатиться в карман, обещая счастливое исполнение
заветной отцовской мечты — устроить карьеру сына. По при
всем том окаянная бродяжья жизнь не очень-то наполняла
наш кошелек и к тому же не шла на пользу моему
образованию, ибо в бесконечных мелькающих друг за другом
школах, да и в знаменитых пансионах времен
колонии, учение мое подвигалось туго. Беглое чтение,
четыре правила арифметики, тетради, исписанные
прописями,— вот и все, что могли дать мне учителя, которые
сами-то сидели впроголодь и за проигранные судьбе карты
теперь отыгрывались па нашей разномастной ребячьей
ораве.
К счастью, отца перевели в Матансас,— мне было тогда
лет одиннадцать. Мы поселились в доме дяди Пепе;
больше всего мне нравилось там обширное патио, заросшее
огромными фруктовыми деревьями, растениями и цветами.
В патио я пропадал целыми днями, читая без системы и
надзора книгу за книгой в тени густого дерева мамон;
книги удовлетворяли мою жажду к знанию, ни в малой
степени не утоленную, естественно, захолустными школами,
о которых я уже говорил. Это дядино патио, где я делал,
что хотел,—глотал страницу за страницей, бегал, прыгал,
падал с деревьев, рвал рубахи и ботинки, что благотворно
отражалось как на моем теле, так и на моем духе,— а
также новые возможности, которые Матансас, справедливо из-
21
вестный своими школами, предоставлял теперь для
моего обучения, совсем изменили мою жизнь.
Меня определили в школу дона Хасинто, бодрого и
вспыльчивого старика родом из Арагона, очень хорошего
учителя с одним только пороком: полнейшим равнодушием
к своему внешнему виду. Смотреть на него было противно.
Один-единственный костюм на все времена года и все
случаи жизни; неопределенного цвета от грязи и старости
жилет предлагал всеобщему вниманию целую карту
слюнявых разводов, низки панталон и обшлага сюртука давно
уже превратились в бахрому, на когда-то черном галстуке,
болтавшемся длинными концами, теперь красовались
прочно прилипшие яичный желток, остатки макарон и рисовые
зернышки. Никогда не чищенные ботинки скрывали
толстые, липкие от грязи носки, завивавшиеся кверху
штопором. Видавший виды отложной воротник, пропитанный
жиром неизвестного происхождения, соединялся у горла
прозеленевшей до черноты медной пуговицей. Сера в ушах,
никотин, осевший везде, где только можно: на усах, на
зубах, на кончиках пальцев, на ногтях с желобками,—
признак туберкулеза,— тоскующих по мылу и ножницам.
Кто-то сидевпшй раньше за моей партой излил юный
патриотизм, вырезав по черному лаку крышки: «Дон
Хасинто — ногастик», а внутри, в самой глубине, приклеил
бумажку с такой злобной аллилуйей:
Как из Испании явился,
дон Хасипто не мылся.
Дом, где помещалась школа дона Хасинто, был
большой, нескладный, из патриархальных домин «времен
Испании», такие теперь встретишь разве что в глубокой
провинции, и то если это место чудом оказалось не втянутым
в жестокую погоню за деньгами, которая в больших
городах захлопывает нас как в мышеловку и низводит до
уровня жалких животных, интересующихся лишь кормушкой.
Дом с просторной прихожей, во время уроков увешанной
двойным рядом наших шапок и шляп. За прихожей
следовала большая, хорошо проветриваемая комната, которая
вела в зал с тремя высокими окнами. Патио было
выложено красными и серыми плитками и окаймлено бордюром
из плиток помельче и узкими грядками пышно вьющихся
растений. Огромный двор за домом утопал в тени густых
манго, анона и каймито. В первой комнате под
руководством вечно голодного и вечно готового разгневаться безбо-
22
родого учителя шли занятия второго класса. В зале
первый класс вел сам дон Хасинто. В следующей компате
высокая и бледная дочь дона Хасинто занималась с
приготовит [сами. Последняя комната рисовалась нам чем-то
вроде ада: то был страшный карцер, полный привидений,
змей, летучих мышей, тараканов и крыс. Помещение же
между второй комнатой и карцером занимала истощенная
семья дона Хасинто: его жена, его дочь, о которой уже шла
речь, свояченица и негритянка-служанка — в этой почтя
нищей семье прислуга за все и для всех; насколько она
могла услужить каждому, можно себе представить.
На перемене нас выпускали во двор за домом, и
начинался так называемый отдых: носиться, толкаться, орать,
щелкать друг друга по затылку. Все это было не по мне. От
самого рождения мне противно стремление доказать, что я
сильнее или хитрее своего товарища, и к тому же меня,
как многих детей испанцев, родившихся на Кубе, так и
тянуло к сепаратизму; мне нравилось сидеть где-нибудь в
уголке и читать похищенные из тайников патриотической
литературы вырезки из газет, прокламации,
революционные книги, которые свято почитались тогда кубинцами как
реликвии Десятилетней войны. За этим занятием я
проводил время ежедневно с трех до четырех дня под сенью
истинно ангельского безразличия со стороны дона Хасинто
и по соседству с литейной мастерской, вернее с ее патио,
находившимся как раз бок о бок с нашим.
Мастера-соседи — все без исключения «галисийские сардины» —
распевали целыми днями:
Я из Иравии, я из Правии-и-и-и!
И мою мать все называют правианка-а-а-а!
Если не было под рукой вырезок или брошюр,
посвященных только что минувшей войне, я нырял с головой в
неотразимо притягательные исторические романы Дюма
или в бульварные сочинения Монтепена. И все-таки,
несмотря на мою предрасположенность к чувственности,
порнографическая чушь, которая попадала в мои руки, не
смогла соблазнить меня.
Никогда не забуду мой первый день в школе — «на
новенького». Меня зовут Игнасио, к услугам любезного
читателя. Когда после уроков мы все выходили из школы,
какой-то мальчик сказал мне: «Будь готов иа всякий
случай, когда учитель поставит тебя на колени рядом с
собой, смотри, как бы тебя не задушил «перевоннато ногато».
23
Мне совсем не понравилась эта шутка, а мальчишка,— я
видел, ему так и не терпелось заварить кашу,—
представился, будто я его ужасно обидел, вырвал у меня книги
и бросил их на землю. Я не защищался. Я стоял молча,
похолодев от страха, прижавшись к порталу маленькой
церкви рядом со школой. От ненависти тряслись ноги,
бессильные злые слезы выступили на глазах. Подошел Хосе
Инее Онья, мулатик, голенастый и весь конопатый, одним
махом,— при этом выдохнув сопли и тут же удержав их
быстрым движением головы,— сбил с меня шапку и,
увидев, что я струсил еще больше, закричал: «Ну и баба ты,
Игнасио при часах!» Мне повезло, по воле провидения и
к моему счастью, как раз в это время мимо проходила не-
грр1тянка, служанка из нашей школы, она пригрозила
самым ярым моим обидчикам, что расскажет все дону Хасин-
то. С нею вместе мы разыскали мою шапку. И я помчался
домой с такой скоростью, точно за мной гнались,
растрепанный, потный, с пылающим, влажным от слез
лицом. Я еще слышал обидные слова, которые с тех
пор так и прилипли ко мне прозвищем: «Игнасио при
часах».
Дома отец встревожился:
li. ljto такое? Что это ты как испанский перец?
— Меня отлупили, когда я вышел из школы.
— Тебя отлупили, или ты подрался?
— Меня отлупили.
— Трус! И сам еще признается!
Мама захлопотала около меня. Вымыла лицо,
пригладила волосы, утешая:
— Ничего, это первый день, это — «на новенького».
Так всегда.
На следующее утро я снова пошел в школу дона Ха-,
синто. Но с того дня я открыто дал понять моим
товарищам, что не желаю никого бить и сам не хочу получать
удары. Конечно, раз так, мне пришлось решительно
устраниться от их игр и впредь стараться не допускать, чтобы
меня оскорбляли или вызывали па драку.
Я начал учиться с опозданием, но благодаря
прилежанию, чтению, вообще благодаря моей страсти черпать
отовсюду, где можно, через несколько недель пребывания у
дона Хасинто вышел во вторые ученики нашего класса.
Первое место принадлежало волею судьбы автору той
шутки, с которой начались неприятности моей школьной
жизни. Этого петушка из детского курятника дона Хасипто
24
звали Карлос Мануэль Амбсага. Он был сыном испанца,
хозяина той самой литейной мастерской по соседству с
нами. В школе он щеголял длинными пиджаками и
длинными брюками,— костюм вовсе не подобавший его
тринадцати годам, как и преувеличенная храбрость, и
придуманные любовные истории, и трескучий набор готовых
барабанных фраз, которыми он нас свысока поучал. Более всего
ему нравилось посреди разговора — не по возрасту, да и
не по уму — вдруг выпалить что-нибудь с тайной
шпилькой в адрес сепаратистов: «Одно дело свобода и
совсем другое разврат, сеньоры...», «Что нужно кубинцу?
Бойцового петуха, колоду карт, и — бери его голыми
руками».
Из-за этих его павлиньих добродетелей, из-за легкой
памяти на даты, заморские имена и изречения знаменитых
людей, из-за способности вызубривать заданное назубок,
со всеми точками и запятыми, как оно нравилось дону Ха-
синто, никто из нас не смел и думать оспорить у Карлоса
Мануэля высокое положение и честь первого ученика.
Когда, рассказывая отцу про школу, я жаловался, как это
несправедливо, что именно Карлос Мануэль считается
первым учеником, «старик» чаще всего отвечал что-нибудь в
таком роде:
— Не думай об этом, сын. Оставайся самим собой. Этот
мальчик пойдет в гору, потому что у него есть
возможности, понимаешь? И склонность к этому,— ему непременно
нужно быть эрудитом, дипломированным ученым... Это не
значит, что ты нуль, просто тебе нужно другое. Ты
учишься горячо, серьезно, стараешься думать своей головой. Вы
разные люди, каждому — свое.
«Да, он был мудрецом, этот галисиец, мой отец!» —
думал я много лет спустя, когда жизнь научила меня
понимать.
Однажды на уроке логики Карлоса Мануэля вызвали к
доске, чтобы он привел пример силлогизма, а так как
единственная логика, которой он располагал, была логика
попугая, то он и вытащил дежурный, обросший бородой
штамп: «Все люди смертны...» — и прочее, но и тут не
попал в точку. Под взглядами подмигивающих учеников и
под понукание учителя мой соперник простоял у доски
больше десяти минут, пытаясь выжать из себя хоть что-
нибудь, злился и не знал, что делать. Дон Хасинто с
добродушным патриотическим юмором положил конец этой
сцепе:
25
— Ну хорошо, хорошо, дон Карлос Мануэль... де Сес-
педес, садитесь, к доске пойдет сеньор Игнасио... Аграмон-
те, может быть, ему повезет больше.
Я вышел к доске. Привел два тезиса, придуманных
мною, и вывел из них заключение, тоже мое собственное.
— Очень хорошо,—сказал дон Хасинто.—Хотя вы и
предпочитаете пренебрегать примерами из книги,
написанной теми, кто знает больше вас... И все же — очень
хорошо. Можете садиться, сеньор Гарсиа.
Несмотря на кислое замечание учителя, мое «думать»
все же взяло верх над «зубрить», «второе место» взяло
верх над «первым», и когда я сел за свою парту, Хосе Инее
Онья, подлипала Карлоса Мануэля, весь исходя завистью,
сказал мне:
— Очень хорошо, «Игнасио при часах».
— Игнасио при своей матери,— тихо подпустил эрудит
Карлос Мануэль, умирая от зависти еще больше, чем
Онья.
Я вскочил с места и выпалил:
— Учитель, Амесага оскорбил мою мать.
— Па колени до конца урока, сеньор
Амесага,—приказал учитель.
Я тут же пожалел о том, что сделал, представив себе,
как он мне отомстит,— изобьет на глазах у всех, а они
окружат нас, крича и подпрыгивая, словно людоеды вокруг
хорошо упитанного миссионера. Амесага уже показывал
мне левой рукой кулак у носа, приговаривая: «Ну погоди,
погоди ».
Как только нас отпустили домой, я понесся к двери, ног
под собою не чуя со страху, в одной руке шапка, в
другой — книги в ремнях и грифельная доска. Следом за мной,
словно свора спущенных с цепи собак, несся, сшибая на
пути доски, чернильницы и бумаги, радостно крича и
свистя, весь паш первый класс, не обращая внимания па
брань дона Хасинто.
— Эй, вы что — лошади? Это не конюшня, это школа!
Я ушел недалеко. До первого угла за школой, и тут на
меня откуда-то выскочил мулатик Хосе Инее; тузя воздух
сжатыми кулаками, он загородил мне дорогу:
— Стой, ты, баба. Сейчас будешь драться с Карлосом
Мануэлем.
Страх вдруг прошел. Слепо, как дикий зверь под пули,
я бросился на Хосе Инеса, вытянул его грифельной
доской по косматой башке и одновременно ударил ногой в
26
пах. Обсыпанный мелом с доски, он поднял руку ко лбу,
другую протянул к ширинке и, мыча от боли, упал на
тротуар.
Карлос Мануэль еще раньше догнал нас, но, увидев,
как я сражаюсь, так и остался на месте, словно прилип к
тротуару, удивленно раскрыв рот и уронив руки вдоль
тела,— ничего героического, одним словом. Увидев, что я
иду на него, он отступил к мальчишкам, стоявшим в ряд
позади, тоже пораженным донельзя, застывшим от страха.
Держа в руке рамку от грифельной доски, разбитую об
голову Хосе Инеса, и дрожа от сознания собственной
храбрости, я взглянул ему прямо в глаза:
— Ну-ка попробуй теперь скажи что-нибудь про мою
мать!
С последним моим словом мой храбрый противник и
вся мальчишечья орава повернулись кругом и позорно
бежали. Когда я оглянулся, Хосе Инеса и след простыл.
Я привел в порядок костюм, отер лицо и руки платком и
пошел домой.
По дороге я попытался объясниться сам с собой, и это
был, наверное, самый трудный разговор за всю мою жизнь.
Значит, я все-таки дрался, что же это? Зачем и кому
нужно, чтобы ты вдруг становился зверем? Эта славная дуэль,
только что выигранная мной, вынужденная моя отвага,
эта победа, взятая совершенно неожиданно для меня
самого, победа, после которой никто в школе не осмелится
уже меня обидеть, свалилась на меня немыслимым грузом,
душе было тяжко, почти больно. После такого триумфа я
чувствовал себя совершенно сбитым с толку и, странно
сказать, более трусливым, чем раньше.
В школе о драке мы не сказали ни слова, ни участники,
ни зрители. Удар доской и удар ногой, полученные Хосе
Инесом, возбудили ко мне всеобщее почтение н
поклонение. Все мне улыбались, все искали моей дружбы и моего
расположения. Хосе Инее, боясь трепки, объяснил дома,
что разбил лицо, поскользнувшись на банановой корке.
То же самое он повторил дону Хасинто, а затем мы с ним
помирились, и сразу же исчез «Игнасио при часах» и
остался просто Игнасио. Помирился со мной и
поверженный кумир Карлос Мануэль Амесага.
Это был притворный мир, мир с тайными злыми
намерениями, вполне достойный того, кто не оставил надежд
подчинить меня, взять на испуг, кто помнил еще, как я
испугался тогда, на улице. Амесага с тех пор вел себя со
27
мною как иезуит; происходили странные вещи, и я тут же
догадывался, что это дело его рук, и при этом он мне
льстил, рассыпался бисером. То и дело в моей парте или
в моих карманах появлялись неведомо откуда
сепаратистские стихи и песни. Часто, надевая шапку, я видел
приколотым к ее подкладке портрет Масео. А однажды
вечером, когда я проходил мимо литейной мастерской, один из
мастеров, разговаривая с отцом моего врага, сказал в мою
сторону, явно с намеком, неспроста:
— А! Это тот, который хвастается, что он тезка
главарю мятежников Аграмонте?
Я рассказал обо всем отцу, но он только усугубил мое
смятение одной очень складной сентенцией, которая
более походила на философский монолог, чем на отцовский
совет, особенно если вспомнить, сколько мне тогда было
лет.
— Берегись этого мальчика. Он пойдет далеко, я тебе
уже говорил, если помнишь. Слепое следование приличиям
и дурные намерения всегда одерживают верх, такова
жизнь. Но было бы глупо, если бы ты захотел делать то же
самое. Все равно ты не сможешь. И слава богу.
Однажды праздник тела господня, или рождества, или
вознесепия, а может быть, день рождения королевы, или
Второе мая, или какой-нибудь еще из бесчисленных в те
времена праздников, религиозных или испанских (две не-
и.чменные ипостаси колониальной политики!), совпал, как
на грех, с именинами жены учителя. Накануне был
военный парад и марш волонтеров по улицам города,
убранным в желтое и красное, неизбежная и нудная «Ла Кова-
донга», бесконечные: «Да здравствует славная (и
бесславная) Испания!» В праздничное утро — снова парад
волонтеров, в церкви — служба и проповедь монаха,
вывезенного из Испании, все в сопровождении разнообразных
патриотических изъявлений.
К вечеру этого дня, вдвойне праздничного для семьи
дона Хасинто, почти все мы, его ученики, зашли
поздравить сеньору, его супругу. Нас угостили «Мистелой» —
глинтвейном, и мы, как на переменах в классные дни,
побежали во двор за домом прыгать и безумствовать. В нас
бродила «Мистела» и ни с чем не сравнимая радость быть
вместе и целый день ничего не делать. Мастера за
забором тоже веселились,—их будоражило утреннее действо с
парадом и службой, и все эти «да здравствует», и музыка,
и в духе Сида проповедь заезжего монаха, и другие воз-
28
6>ждающие праздничные средства; и они пели
самозабвенно, без передышки, словно бросая вызов кому-то:
Я из Правии, я из Правии-и-и-и...
И мою мать все называют нравианка-а-а-а...
И за этим, как водится, «Ла Ковадонга»:
Тот, кто скажет, что Куба пропала,
не поет «Ковадонгу», как мы,
тот подлец, каналья, мятежник,
предатель, отступник*, презренный мамби.
Пели во всю мощь железных легких железных дел
мастера, сотрясая окрестности пронзительными «оле» и дру-
1ими припевами к монотонпым и противно тягучим на
последних слогах куплетам. Мы подпевали хором
патриотической белиберде тех, кого здесь, на Кубе, скопом
прозвали «галисийцами», пели так же, как и они,
прикрикивая и прихлопывая в ладоши, но наше воодушевление
отдавало издевательством, грубой площадной насмешкой.
Чем больше заходились певцы за забором, тем крепче
делались шуточки по эту сторону, тем больше расходились
мы, заражая и подзуживая друг друга. Мы цеплялись за
все, за каждое подходящее словцо, каждый удачный повод
сказать что-нибудь против «галисийцев»,— при этом
покатываясь с хохоту и бурно аплодируя сами себе.
Вдруг в конце одного оглушительного куплета,
увенчанного словами «Да здравствует Испания, королева и
бог!» — обормот Хосе Инее испустил еще более
оглушительное и непристойное: «Тр-р-р-ррру-у-у!» В нашем
патио и в мастерской сразу стало тихо. Мы испугались, мы
не знали, что же теперь делать. Но смех щекотал нас
изнутри, мы старались не смотреть друг на друга, чтобы не
разразиться умопомрачительным хохотом. У соседей
перестали петь, послышалась брань, кто-то быстро
пробежал по двору, и немного погодя один из
мастеров-литейщиков, длинный, узловатый и согнутый, как высохший
тростник, вошел с улицы в дом дона Хасинто; в это же самое
время над забором, разделявшим оба патио, показалась
огненно-рыжая голова в зеленой каталонской шапке, и эта
говорящая дубина произнесла:
— Эй, юноши! Пускай теперь с вами поговорят ваши
отцы; ваше поведение на руку врагу.
Мы застыли без движения, но как только «дубина»
исчезла, тут же, не обращая внимания на то, что другой
29
мастер еще жалуется на нас учителю в дверях дома,
начали тыкать друг в друга пальцами, уличать, притворяться
возмущенными, кривляться,— так, смеха ради, и новый
взрыв был уже наготове, вот-вот... И тут явился дон Ха-
синто и проворчал угрожающе:
— Л у вот что, знайте все. Или кончайте ваши
безобразия, или ищите себе другого учителя. Змеенышей на
груди я пригревать не собираюсь.
С доном Хасинто мы обошлись точно так же, как с
каталонской шапкой. Пока он нас отчитывал, мы слушали
его безмолвно, сущие ангелы; ко едва он ушел,
повернулись к тому месту, где он только что стоял, один показал
язык, другой выпятил зад, а Хосе Инее снова пустил свое
«трр-у!..», на этот раз глухое.
И только мы снова разошлись вовсю, с той стороны
забора завели:
Я из Правии, я из Прави-и-и!..
Мне вдруг захотелось, до смерти захотелось закончить
этот куплет но-своему, и я отчаянным фальцетом моих
двенадцати лет залился:
И мать твою все называют правианка-а-а!
Чтобы не покатиться со смеху, мои товарищи зажали
рты руками, и все мы брызнули в разные
стороны,—спасайся, кто может,— забились в дом, в ближайшие
комнаты, и в тот же миг в наружную дверь дома раздались три
крепких удара дверным молотком.
— Кто-нибудь может пойти отпереть дверь? —
закричал дон Хасинто.
Я пока был не в состоянии пойти куда бы то ни было.
Меня взял страх, вечный, проклятый мой страх, которому
я сдался сразу, без сопротивления, точно это и не я
минуту назад в самозабвении отваги готов был на все.
Обмерев, дрожа, ожидая всего самого страшного, я стоял в углу
зала живым изваянием ужаса.
Когда в дверь застучали сильнее, Карлос Мануэль,— в
этот торжественный день он был удостоен чести помогать
жене учителя по хозяйству и как раз в этот момент
держал в руках огромную миску, полную риса, поверх
которого душистый ручеек коричного порошка выписывал
знаменательную дату,—пошел взглянуть, кто стучит.
Это был его отец, в форме капитана волонтеров, в
которой он щеголял все утро, стараясь пройти по самым люд-
30
пым улицам города. Он вошел, фыркая, правой рукой
нервно теребя пышные усы, левой — сжимая рукоять мачете
в великолепных ножнах, на лакированном поясе. Увидев
его, я вспомнил о студентах 71-го,— из моего тайного
архива я уже знал их историю, и меня прошиб холодный пот.
Дон Хасинто пошел навстречу этому бесстрашному
вояке, а тот, едва переступив порог, загремел:
— Черт меня побери! Я пришел узнать, кто этот
ублюдок, который только что обругал матом моих мастеров и...
Испанию!
— Что такое? Что вы говорите? — затрясся в ужасе
учитель.
— Я говорю, что один из ренегатов, которых вы тут
обучаете, чтобы они потом нас предавали, один из них
обругал матом моих работников, меня, вас и всех испанцев.
— Не может быть! Пусть скажут, кто это сделал, и он
будет наказан но заслугам.
Мальчики^ страшась и любопытствуя, окружили
капитана и учителя. Все еще дрожа, я тоже сделал шага два
вперед, чтобы смешаться со всеми, не выдать себя тем, что
стою отдельно.
Товарищи невольно посмотрели на меня; эта немая
пытка длилась секунду, не больше, но ничтожная,
предательская душонка Карлоса Мануэля почуяла, что настал
час взять реванш, уничтожить того, кто заслонил его в
классе.
— Это Игнасио Гарсиа,— сказал он. И, видя, что я
стою в самой толпе и незаметен среди других мальчиков,
добавил, указывая на меня: — Вот он, папа. Сначала он
«турурукнул» нашего мастера, потом показал язык
учителю. Он вообще против испанцев, а еще сын галисийца.
Спроси его, зачем он таскает в карманах рисунки и
стишки мятежников?
Ужасное подозрение блеснуло у меня. Мне что-то
подбросили. И даже если не подбросили, и без того в кармане
брюк лежала вырезка из «Диарио де ла Марина» — автор
заметки предавался самой разнузданной ненависти к
Кубе, и я на полях написал совершенно бесполезный
ответ: «Придет время, мы тебе припомним, гусь лапчатый!»
Я молчал, не мог произнести ни слова. Ко мне подошел
дон Хасинто. Из-за его плеча капитан Амесага дерпул
меня за ухо, сказав при этом:
— Вот тебе! Негодяй!
При обыске, который производил учитель, первой
31
всплыла вырезка из газеты. Два испанца читали ее
вместе, голова к голове. Дон Хасинто воскликнул:
— Кто бы мог подумать?
— Кто бы мог подумать! — повторил неукротимый
вояка и дернул меня за ухо еще раз, говоря: — Вот тебе!
Негодяй!
Я разревелся, но теперь меня колотило не от страха, а
от ярости. Обыск продолжался, в моем внутреннем
кармане извилистые пальцы дона Хасинто обнаружили измятый
и грязный лоскуток от испанского флага.
— Это он оторвал сегодня утром как раз, когда
проходили волонтеры,— сказал Карлос Мануэль.
Перед этой потрясающей подлостью гордость моя
взорвалась с силой, сравнимой разве что с моим страхом две
минуты назад. Я почувствовал себя сильнее и выше, чем
капитан волонтеров, низкий пленник низкой своем
храбрости, сильнее и выше, чем учитель, нерешительный,
трусливый, подлый Пилат этой гнусной сцены. Полный святого
гнева, я повернулся лицом к своему обвинителю,
поднялся на цыпочки и так ему отчеканил:
— У тебя нет стыда, ты врешь так нагло, потому что
твой отец стоит тут. Верно, эту бумагу я носил в кармане,
не отрицаю, но кусочек флага — это ты сам мне
подбросил, ты уже делал так сколько раз, чтобы напакостить
мне. Подонок! Трус!
— Замолчи, дерзкий мальчишка! — взвыл капитан.
— Помолчи, несчастный,— урезонивал меня дон
Хасинто, прижав указательный палец к губам.
— Пусть позовут моего отца, он знает, как этот ведет
себя со мной. Пусть его позовут, он тоже военный. Не
сметь меня оскорблять! — кричал я, чувствуя себя героем.
Карлос Мануэль попятился и остановился рядом со
своим отцом. Тот не посмел меня тронуть, сдержанный
силой моей разгневанной слабости. Чтобы смягчить
немного положение, перепуганный до смерти дон Хасинто
уверил своего замундиренного соотечественника, что
немедленно вызовет моего отца и что мой проступок не
останется без последствий.
— Будьте покойны, будьте покойны,— обещал дон
Хасинто,— больше он не откроет дверь моей школы. Ренегаты
мне не нужны.
В то время как учитель грозил мне всевозможными
карами, а неукротимый капитан, глухо погромыхивая,
отступал, умиротворенный, вместе со своим достойным отпрыс-
32
ком, я, сунув руки в карманы, расхаживал победителем, а
мальчики восхищенно пялили па меня глаза. Дон Хасинто
приказал мне сесть на стул; одного из учеников послали
за моим отцом, а остальные мало-помалу вернулись во
двор и снова стали носиться, прыгать, задирать друг друга.
Узнав, с чего все началось, отец сначала рассердился
на меня. Но когда ему открылась вся низость Карлоса
Мануэля, нелепые выходки капитана волонтеров, особепно
то, что меня оттаскали за ухо, и более чем жалкое
поведение учителя в этой несчастной истории, вот тут он
разгневался по-настоящему. Он был уязвлен в своей отцовской
по-испански страстной любви, и перед этим
всепоглощающим чувством побледнели любые соображения
патриотизма и личной пользы. Он обрушил на голову трусливого
старичка-учителя потрясающую речь, достойную, может
быть, Федерико Капдевилы, а тот, бессильный оправдать
и объяснить свое поведение, стараясь хоть как-то
уменьшить эффект от этого ораторского ливня, пожимал
плечами, тряс головой, издавал какие-то невнятные и
неискренние звуки.
Отец мой долго еще извергал желчь и наконец
закончил:
— Итак, после того как я вник в события,
происшедшие тут сегодня, ваше замечание, дон Хасинто, что Игна-
сио не может более посещать школу, совершенно излишне.
Я еще менее, чем вы, хотел бы оставить его здесь, рядом
с этими скотами из литейной мастерской, лишенным какой
бы то ни было защиты с вашей стороны; вы, как мне
кажется, полагаете патриотизм в идиотизме, как и эти
сеньоры, ваши соседи. Нужно понимать, что речь идет о детях,
дон Хасинто, и не таким путем должно способствовать
любви кубинцев к Испании и испанцам. И если мы с вами
будем выглядеть перед нашими собственными детьми так
глупо, ничего хорошего нас впереди не ожидает, сеньор
мой. Поверьте мне, это говорит не «полинявший», как
называют верные короне «неизменные» тех из нас, кто,
несмотря на то что приехал из Испании, умеет видеть вещи
такими, какие они есть. В этом вас заверяет испанец,
испанец, который считает, что тем более достоин быть
испанцем, если он помнит о благородстве и чести идальго,
завещанных нам нашими гербами, испанец, который и там,
на родине, сохранял ясную голову, свободную от тумана
донкихотства, не забитую «Непобедимой Испанией»,
бессмертной славой Навас-де-Толоса и Уод-Раса. И, повто-
3 К. Ловейра 33
ряю, это вам говорит испанец. Испанец, который служит
правительству, дон Хасинто! — И, обернувшись ко мне: —
Бери шляпу, и пошли.
Дон Хасинто так и остался стоять столбом посредине
комнаты, свесив рукрг, приоткрыв рот и уставясь на карту
Испании, занимавшую всю стену. За дверями слышалось
шушуканье, мои товарищи подглядывали в щели.
Уныло и послушно шел я за отцом; как только мы
вышли на улицу, он начал меня бранить и бранил всю
дорогу, иногда замолкая, чтобы перевести дыхание. Он
напомнил, что я сам сын испанца, и к тому же испанца,
который служит в армии, и должен приберечь свой
кубинский патриотизм на будущее, когда стану хоть чем-нибудь,
а пока я всего-навсего сопляк двенадцати лет и не должен
забывать об этом. Он сказал, что отдаст меня в кубинскую
школу или в знаменитый институт Матансаса. И
предупредил, что рассказывать о причинах моего ухода из
школы дона Хасинто опасно, разве только моему дяде, и
то потому лишь, что он, мой отец, давно ожидая какого-
нибудь происшествия со мной, задумывался уже о нашем
ближайшем будущем.
II
Моего дядю можно считать образцом из образцов
явления, зародившегося в самом лоне колониальной
фактории, которое выражено словом «бодегеро». Таким же
образцом из образцов бодеги времен колонии, и по сию пору
процветающей в республике в том же самом естестве, лишь
слегка усовершенствованном и приукрашенном
финтифлюшками американской гигиены, была бодега моего дяди.
Бодега, как и ее двоюродпая южноамериканская сестра
пульперия, обе — создания нечистоплотного, прижимистого
и неразборчивого в средствах испанского коммерсанта.
Бодега — житейский перекресток, проходной двор, злачное
местечко, излюбленное всяким уличным сбродом, погуби-
тельница душ, неистощимый источник темных афер с
продовольствием.
Бодега моего дяди находилась в громоздком
патриархальном домине, вроде того, в котором помещалась школа
дона Хасинто. Но само заведение и его хозяин занимали
два передних помещения: зал,—это и была собственно
бодега,— и небольшую комнату за ним, служившую
кладовой и одновременно спальней дяде и его помощнику, га-
34
ливийскому мальчишке, привезенному также из Буэу,
дальнему моему родственнику по отцовской линии.
В остальных комнатах этого дома — их было с
полдюжины — на правах субаренды расположились мои родители.
Двор же, как я говорил, принадлежал мне, там я рос, креп,
швырял камнями в птиц, обламывал деревья, купаясь в
дожде, солнце и свежем воздухе.
Я позволю себе небольшое описание.
Деревянная стойка, выкрашенная в зеленое, а с того
краю, где буфет, обитая медной пластиной. В этой части
за решеткой из медных прутьев в виде маленьких копий
выстроились разной высоты и разного цвета бутылки со
злым зельем, и среди них та, что менее всего зла
содержит,— чистейшая тростниковая водка, на цвет родниковая
вода, на запах виноград виноградом и на вкус — огонь. За
ней в толстой квадратной бутылке — анисовая, потом
зеленая бутыль с настойкой — та же тростниковая водка,
выдержанная на апельсиновой корке и на папоротниковом
семени, пузатые вместилища валящего с ног джина,
коньяк «Мульон» из Сагуа-ла-Гранде, вино «Авелья де пало
Кампече», «Мистела», приготовленная тут же, за лавкой.
Пробки и ярлыки всех этих сосудов густо засижены
мухами, медная пластина, всегда липкая от грязи, и, наконец,
под стойкой, в самом низу,— кадушечка, в которой моют
ложки и стаканы, полная мыльной вонючей водой цвета
вчерашнего кофе с молоком, а поверху — архипелаг из
пробок, кружочков лимона и тараканьих лапок.
С другой стороны стойки — витрина с разнообразными
креольскими сладостями, все в райском согласии с
пчелами, мухами и муравьями.
Между стойкой и витриной, на прилавке в собственном
смысле слова, заляпанном бог знает чем — солью, вином,
маслом, а может быть, даже и керосином, весы,
взвешивающие на фунты и унции, и стопка желтой оберточной
бумаги.
Прямо против стойки, там, где выходят на улицу две
двери, другая витрина, на полках — скобяной товар,
почтовые марки, эстампы с изображениями святых, четки,
томики катехизиса, молитвенники. В углу — ящик для угля
и, как водится, просыпанная пыль рядом, в другом углу —
несколько связок сахарного тростника.
На полках за прилавком — пыльные ряды ночных
горшков, глиняных кувшинов, жестянки, флаконы,
бочонки и пакеты с надписями, удостоверяющими, что в них
хранятся продукты и плоды, взращенные на землях
Басконии, Каталонии, Галисии и Астурии. В больших
ящиках у самого пола, в перемежку с рисом, фасолью и
молотым кофе,— вяленое мясо, треска, окаменевшие в соли
креветки и иные экзотические продукты, завезенные на
остров еще в черные времена рабства.
Полы в зале и комнате были не полы, а отвратительный
ковер из фруктовой кожуры, пустых коробок из-под сигар,
окурков, плевков и бумажек неизвестного происхождения,
а тротуар перед лавкой постоянно украшен вонючим
ручьем, бегущим от угла дома к мостовой,— след, оставляемый
некоторыми прохожими, привыкшими «по-европейски»
превращать в писсуар, а то и еще кое во что, каждый так
или иначе заметный угол, пьедестал монумента, лестницу
храма, опору моста.
В комнате за лавкой, где-то в извилистых проходах и
переходах, между свалкой вещей-залогов несостоятельных
клиентов, у подножия пирамид из кусков вяленого мяса,
бочонков с маслом, бочонков с сардинами, за стенами из
ящиков с треской, свечами и мылом, между мешками с
картофелем, связками лука и чеснока, в компании со
злопамятными клопами и неуловимыми крысами, давно
принюхавшись к сложному настою кладовой, да и к запаху
собственного тела, позабывшего, когда его мыли,— на
своих складных кроватях, подбитых ветерком, которые сроду
не видывали постельного белья, на неописуемых
человеческим языком циновках спят мой дядя и его подручный.
Жалея денег на умывальный таз, дядя со своим
земляком умываются лоб в лоб под той же тонкой струей, что
снабжает водой бодегу, шумно фыркая, отдуваясь и
вытираясь потом с двух концов одним полотенцем,
каковое попадает к прачке каждые пятнадцать дней вместе
со сменой их же белья; это все происходит раз в день,
по утрам. А раз в три месяца оба они предпринимают
генеральное мытье того, что предполагается между головой
и ногами, тратя немножко еле теплой воды,
предварительно капнув в нее спиртом. Повседневный костюм хозяина и
помощника, тот, в котором они обслуживают клиентов,
состоит из трикотажной майки, пары старых волонтерских
штанов, классических бесшумных и пахнущих
хлороформом альпаргат. Выходной же туалет моего дяди — на
случай похорон, сексуальной разрядки с неизменной
любовницей-эфиопкой или посещения магазинов — состоит из
мятой шляпы «ослиное брюхо», яркой рубашки с мягким
36
воротом, без какого бы то ни было намека на галстук, брюк
в синюю полоску, поновее pi поопрятней, сюртука из
прекрасной шерсти п широчайших ботинок на резинках. Есть
еще один роскошный туалет у того и другого: полная
форма сержанта и солдата второго волонтерского батальона
города Матансас.
Клиентура: ребятишки всех мастей, от негра из
Центральной Африки до белобрысого жителя горной Испании,
включая и желтолицых китайцев; худосочные, с
раздутыми от глистов животами, полуголые, девочки и
мальчики, вместе день-деньской шатающиеся по улицам, сея
порок и обучаясь бесстыдству, не зная, что такое учение
или работа. Собирающиеся компаниями и снующие туда и
сюда ньяньиго, испанцы и креолы, белые и черные.
Дешевые омерзительные проститутки. Горькие пьяницы.
Игроки за копеечку и за рюмочку. Мошенники, ловцы
дурачков, явно валенсианского происхождения, и среди них—
городской полицейский, кум всем местным жуликам и
буянам, в линялом мундире, с испитым лицом и с
карманом, вечно жаждущим поборов. Воплощение падения
нравов народа, самое простое средство подчинить и
оболванить его — вот что такое была образцовая во всех
отношениях бодега моего дяди.
В комнате, которую мать сделала нашей столовой, к ее
неудовольствию обедал также и ее деверь со своим
работником. К неудовольствию потому, что и тот и другой
совершенно не соответствовали атмосфере изящества и
благонравия, которую она, непримиримый враг всякого
свинства, блюла так же ревниво, как чистоту зеркал. Во
время еды она сидела как на иголках, ибо мой дядя и его
правая рука имели дурную привычку шумно схлебывать
суп с ложки и, еще того хуже, отрыгивать наш
ежедневный и неизменный испанский обед.
Истины ради следует заметить, что единственная
персона, с которой дядя вел себя как порядочный человек, был
я. Он дарил мне перышки, карандаши, чернильницы,
листы старой, скверной мятой бумаги, пустые ящики,
нужные мне для воробьиных силков, и спички,— как раз
тогда я стал покуривать тайком. В благодарность я каждый
день с утра пораньше приводил в порядок его счета;
дядин помощник в это время шел на рынок, сам же дядя в
ожидании первых утренних посетителей развешивал и
завертывал пакетики с кофе и сахаром ценою в реал.
Однажды утром, когда я, как всегда, ковырялся в жир-
37
ной, запутанной и хромой бухгалтерии моего дяди, а сам
он колдовал над весами, где фунт был равен не
одиннадцати, а тринадцати унциям, вошел парень, с виду
рабочий — кепка с большим козырьком, засученные рукава
рубахи, пиджак накинут на плечо, синие тиковые штаны
в белых пятнах раствора, известью закапаны были и его
ботинки из выворотной кожи, со шнурками в узлах.
Он бросил на прилавок серебряный дуро, новенький,
блестящий, я бы сказал — тепленький, словно только что
из-под чеканки, и дядины пальцы тут же остановили его
разбег.
— Джин «Кампана», одну рюмочку,— сказал парень.
Подав рюмку джина, дядя ударил о прилавок
новенькой с иголочки монеткой и, не видя причин отвергнуть ее,
убрал в ящик для мелочи. Сдавая сдачу мятой бумажкой
испанского банка, он вдруг ужасно серьезно, как бы
оценивая, уставился на посетителя. Как только тот ушел, дядя
сунул руку в ящик, отложил странную монету в сторону
и тут же, сдавая сдачу с сентепа, немедленно сбыл ее с
рук, на всякий случай.
На другой день, в тот же час, что и вчера, наш
предполагаемый каменщик появился снова, вытащил
блестящий, как зеркало, дуро и сказал:
— Одну «Кампану».
Несколько секунд дядя колебался. Потом, как и
накануне, заставил монетку скакать по прилавку и сделал то,
что делают в таких случаях: попробовал на зуб,
демонстративно взвесил на ладони. И кончил тем, что налил
рюмку джина, монету опять отделил от других в ящике с
выручкой, значительно подмигнул мне и застыл, изучая
подозрительного посетителя; тот смаковал джин, разглядывая
бутылки за решеткой, а выпив рюмочку, ушел как ни в чем
не бывало.
Дядя тут же взял отполированный кружочек, положил
мне в руку и воскликнул:
— Видел, как делают фальшивые деньги?
— Фу-ты! Прямо из-под молоточка! — воскликнул я, в
свою очередь.
Не теряя времени, дядя побежал с монетой к моим
родителям, и они подтвердили, что она ничем не отличается
от той, что есть у них,— чистейшего и законнейшего
дуро,— ни весом, ни крепостью, ни звуком, ни точностью
рельефа. И дядя, вернувшись в лавочку, решительно
произнес:
38
— Завтра же утром иду в банк, хватит с меня этих
волнений!
Но назавтра, в свое обычное время, тот же самый
человек в костюме каменщика вошел в бодегу, остановился
прямо против бутылок и сказал то, что говорил всегда:
— Одну «Кампану».— И еще раз бросил на прилавок
сверкающий и звонкий серебряный дуро.
Дядя невольно сделал какой-то жест,— казалось, он
хотел сказать что-то, защититься, яростно взорваться
наконец, но посетитель продолжал держаться как старый
добрый приятель, и, кроме того, дядя, хотя в глубине
души и был отчаянным скрягой, сообразил, что убыток
не велик, ему дадут пять песет в обмен на этот дуро,
который он все равно вместе с тем, другим, сегодня отнесет
в банк. Думаю даже, в нем заговорило некое злорадное
любопытство. Он сглотнул, подмигнул мне и, плутовски
улыбаясь, сдал сдачу клиенту.
Как раз в это время я зачитывался одним
приключенческим романом и со сладострастием детектива гадал, кто
он такой, этот человек.
Да, он был похож на рабочего, каменщика или
маляра, судя по одежде, заляпанной известью, глиной и
красками. Но его худоба, угловатость наводили на мысль, что
там, под его рубашкой и штанами, много костей и кожи,
но мало мускулов. Кроме того, для мастера-каменщика
он казался слишком уж молодым, но самое главное —
руки, это ясно видно даже издали, у него были руки
сеньора. И лицо... Нет, он редко бывает на улице.
Тонкий нос, а уши, тоже тонкие и такие остренькие, по-мы-
шипому торчат в разные стороны. Живые круглые
плутовские глаза и очень-очень ухоженные, еле
пробивающиеся черные усики. Таким он врезался мне в память с
первой нашей встречи, потому что потом он то и дело
будет попадаться на моем пути и даже в конце концов
сделается одной из главных фигур повествования о моей
жизни.
Когда дядя, в тот же день, вернулся из банка с
подтверждением, что оба серебряных дуро подлинные, он
встревожился еще больше, не зная, как же ему вести
себя, если снова появится этот странный человек и
выложит еще один блестящий дуро. Действительно, черт
возьми! С одной стороны, как не взять эту монету, которая, по
всей видимости, совершенно настоящая? С другой
стороны, не ловят ли его на крючок? Этот тип в самом дело
39
решил-таки проблему, как ему иметь деньги в любое
время и наверняка! В ту ночь бодегеро, снедаемый
искушением, в пахучей тьме кладовой, скорчившись на голой
походной кровати, решительно пробормотал:
— Завтра я все узнаю.
Точно в семь утра, как во все предыдущие дни, в то
время, когда хозяйский помощник был на рынке, я
плутал в лабиринте бухгалтерских книг фирмы, а дядя
отвешивал кофе и сахар какой-то темнокожей девчонке,
загадочный посетитель явился снова.
— Одну «Кампану».
С ловкостью крупье он швырнул на прилавок точне-
хонько в руки дяде еще одну из своих знаменитых
блестящих монет.
Дядя к ней даже не притронулся. Налив рюмочку
джина, он почти дружески спросил:
— Приятель, вы не обратили внимания, что никогда
не платите за джин ассигнацией или мелкой медью,
реалами или песетами? Вы всегда даете мне одну монету в
целый дуро?
— Нет, сеньор, я не обратил внимания. Сделайте
милость, дайте мне сдачу, мне пора на работу...— И он
ушел.
— Отлично,— сказал мне дядя.— Он еще раз провел
пас, по это уж последний. Завтра, как только он войдет,
оставь меня с ним наедине.
И на следующее утро:
— Одну «Кампану».
Дзинь! И дуро катится по прилавку.
На звук я поднял голову. Взглянул на этого человека
и тут же убрался в кладовую — подслушивать и
подглядывать через щель в степе, устроившись между
жестянками с ветчиной.
Дядя взял монету, положил ее перед загадочным
посетителем на металлическую поверхность стойки и сказал:
— Вот видите, вы опять даете мне дуро?
— Так выходит.
— Выходит? Со мною больше не выйдет. Или вы даете
другую монету, или я не налью вам джина.
— Это почему же?
— Как почему? Мне надоело, что вы мне каждый
день суете фальшивую монету,
— Фальшивую?
— Да.
40
Клиент как будто колебался. В бодеге, кроме него и
дяди, никого не было. И он пошел в наступление, начал
тихим, доверительным тоном, словно в приливе
неожиданной откровенности:
— Ну, хорошо. Я действительно делаю монеты, на мой
век хватит простачков, согласных их проглотить...
— Вот, вот! Их глотают простачки даже в банке, ну,
я вам скажу...
— Да, да, приятель, но дело в том, что мне не
хватает кое-чего, чтобы купить побольше сырья и сделать
много и сразу, приходится выпускать понемножку. Мне
бы сто сентенов! Вот если бы нашелся человек, который
не побоится рискнуть,— что я говорю, и риска-то никако-
го нет,— не побоится вложить сто сентенов, такая
чепуха, всего-навсего пятьсот песо!
Мой дядя почувствовал совершенно откровенный
соблазн смошенничать, который испытывает каждая жертва
мошенничества. Потому что мошенничество есть сделка
двух жуликов. Кому-то в голову может взбрести, что,
имея в руках рулон газетной бумаги с обозначением пяти
тысяч долларов и рассказывая сказку про белого бычка,
он очень легко заполучит сто песо у любого, кто
покажется ему болваном. А другой будет рассуждать так: сто
сентенов, конечно, на дороге не валяются, я их скопил честно,
собственным горбом, но это все-таки не капитал, а тут
так, одним махом, за здорово живешь заработаешь пять
тысяч дуро. И так как мой дядя затем и явился в
Америку, чтобы делать деньга всеми доступными средствами,
лишь бы они не выходили за рамки расхожей
морали, он почувствовал почти необходимость войти в
это предприятие, понятное, доходное, быстрое и
надежное...
— Зачем тебе сто септенов? — испытующе спросил
дядя.
— Надо купить кое-какие химикаты, я их достаю тут,
у одного, он работает на грузовых судах весовщиком,
понимаете? Теперь таге: если хотите войти в дело, чтобы вы
не подумали чего-нибудь такого, пойдемте со мной, я вас
познакомлю с этим человеком; вы сами купите то, что у
него есть, то есть платинолоид pi ртутную кислоту — то
самое, что нам необходимо, расплатитесь и заберете
домой. А потом я уж сделаю все, что нужно, вот тут, в
вашей кладовой.
— А сколько можно сделать за день?
41
— О! Штук двести, по каждый день работать
нельзя: нужно ведь еще спускать и спускать деньги, этим
займусь я. Ну, а кроме того, не надо будет так спешить и
можно подождать, пока монеты потеряют блеск,— для
верности, это непременно! Чтобы их глотали безо всякого.
Сами понимаете!
— А когда можно пойти к этому человеку с
химикатами?
— Завтра в пять вечера.
— Приходите сюда, и мы пойдем вместе.
Сказав: «Договорились!»—он ушел. Я вышел на
цыпочках из кладовой. Дядюшка углубленно резал пополам
куски желтого мыла, думая о только что открытой
богатой жиле, повторяя себе вечную сказку о дойной корове
и утверждаясь в мысли не говорить никому ни слова о
счастье, которое ему привалило.
На следующий день в назначенный час вместе с так
называемым каменщиком дядя вышел из дому, имея при
себе пакет с сентенами.
Они пришли к одному из домов в глухом,
пользующемся дурной славой районе Симпсон. Подошли к двери
в самом конце коридора. Постучали, им открыл высокий
крепкий мулат в штанах и в майке, в которой словно не
помещались его точеные бронзовые плечи. Спутник
представил моего дядю и начал разговор намеками:
— Здравствуй, Шестипалый. Это тот самый сеньор, о
котором я тебе говорил.
Мулат сделал вид, что ничего не знает:
— Не помню, чтобы ты говорил...
— Как не помнишь? Не морочь мне голову! Брось,
брось, раз я тебе привел человека, значит, я его знаю.
Сеньор оборотистый, надежный, не подведет...
— Да, да,— поспешил вставить дядя,— не
сомневайтесь, вы имеете дело с мужчиной.
— В этом я не сомневаюсь,— подтвердил
предполагаемый весовщик. И, обернувшись к сообщнику,
добавил: — Ну смотри, дело опасное.
— Конечно, я же знаю, но если я привел... Кончай! Ты
сам увидишь...
— Ладно, проходите.
Они вошли. Мулат с великими предосторожностями
полез под кровать и вытащил два ящика из-под трески.
В одном стояли глиняные бутылки с этикетками
английского пива, плотно закупоренные, запечатанные сургу-
42
чом и с таможенными пломбами. В другом оказалось
двадцать три килограмма олова в слитках, в больших
пакетах, обернутых ватой и фольгой, в сургучных печатях и
почтовых марках со всех сторон. Это и были, наверное,
ртутная кислота и платинолоид.
Дядя отсчитал, песо за песо, все сто сентепов. Затем
оба компаньона перетащили ящики в экипаж, на
котором приехали сюда. И в тот же вечер химикаты попали в
кладовую за лавкой и были засунуты под мешки с
провизией, подальше.
Теперь оставалось подождать до следующего дня,
когда человек в одежде каменщика явится фабриковать
монеты.
Дядя ждал. Ждал долго. Может быть, он ждет до сих
пор.
Некоторое время спустя я пошел посмотреть
соревнования по бейсболу,— надо сказать, это был один из самых
горячих и живописных матчей тех лет, накануне войны
за независимость,-— и там со мной произошло вот что.
В тот вечер, кроме бейсбола, игры культурной,
высокоморальной, мужественной и полезной для здоровья,
должна была состояться также коррида, развлечение дикое,
которое так никогда и не пустило корни в благородной и
цивилизованной душе антильца. В ложах и амфитеатрах
стадиона кишела креольская толпа обоего пола. В
варварском цирке для боя быков собрались все важные
персоны и, естественно, все полицейские Матансаса, среди
которых, тоже естественно, не было ни одного сына этой земли.
В ложах, где сидели любители бейсбола, били в
ладоши, выкрикивали что-то, спорили: одни волновались за
команду Гаваны, другие — за команду Матансаса. На
солнечной стороне амфитеатра начали заключать пари на
деньги; пари — зло, которое в конце концов извратило и
скомпрометировало эту благородную игру, пришедшую к
нам из Штатов, и отвратило от нее женщин, чье
присутствие оживляет и облагораживает любое зрелище.
Внезапно там вспыхнула ссора. Уже размахивали
тростями и ножами, в толпе, немедленно окружившей это
место, принялись жестикулировать, кричать и всячески
раздувать скандал.
Я побежал туда, куда бежали все. Мне удалось
протиснуться в самый центр. Трое мужчин с растрепанными
волосами, еще двое с расцарапанными лицами, кто-то без
шляпы, кто-то даже без рубашки. Некоторые из них, де-
43
лая вид, что не очень торопятся, удирали по ступенькам
амфитеатра вверх, среди всех мое внимание остановилось
на одном, из-за которого и заварилась каша,— он не
хотел уплатить проигранное пари.
Черт меня побери! Несомненно, это был тот самый
парень, который совсем недавно шантажировал моего дядю,
бросая ему каждое утро на прилавок чистейшей чеканки
дуро, им же специально отполированные накануне,
чтобы бросить крючок: «Одну «Кампану»!»
Дядя, рассказывая моим родителям, как испарились
его бесценные, его ненаглядные сто сентенов, должен
был признать, что не может даже обвинить этого
жулика, не обвинив самого себя в качестве его сообщника, и,
вспоминая об этом, я стоял дурак дураком, руки в боки,
изумленно уставясь в глаза этому человеку.
Он воспользовался моим смятением. Бросив на меня
взгляд, который я понял так: 4Попробуй, скажи хоть
слово,— увидишь!» — он угрожающе положил руку на
правое бедро,— там под пиджаком у него что-то выпирало,—
и тотчас, уже не скрывая, что спешит, полез через тесные
и шумные скамейки на солнечной стороне.
Кроме этого весьма оригинального «шантажа под
гитару», жертвой которого пал мой дядя, и после того, о чем
я только что рассказал, ничего достойного описания не
произошло со мной в Матаысасе, разве что ненавистные
экзамены на бакалавра.
После лихорадочной подготовки, после бессонных
ночей, употребленных на то, чтобы заставить память
наскоро схватить и удержать даты, имена, шаблонные ответы,
смешав в одну кучу уравнения, силлогизмы и формулы
риторики; после всеми испытанных приступов апатии,
страхов, бешеных взрывов самолюбия, Хосе Инее Опья
провалился, а мы с Карлосом Мануэлем снискали себе
славу, получив, на зависть всему классу, «отлично» по
всем предметам.
Итак, в пятнадцать с половиной лет, согласно
официальным документам, я знал языки, логику, общественные
науки, математику, историю и географию — физическую,
политическую, астрономическую и множество других
«ических»! И даже литературу, можете себе представить,
литературу всех эпох, стран, школ и направлений. В
пятнадцать лет с небольшим я знал, я мог бы объяснить, в
чем состоит блистательное мастерство Флобера, что такое
натурализм Золя, глубина Сервантеса, я мог процитиро-
44
вать кого угодно из бессмертных прозаиков и поэтов, мог
перечислить их знаменитые произведения, определить их
влияние на литературу родных им языков, поговорить об
их особенностях, стиле, биографиях. О, блистательная
форма Флобера, о, реализм Золя, о, философия великого
Сервантеса! Теми же, которые на самом деле более всего
мне нравились, кто лишал меня сна, отнимал время от
игр и занятий, словом, властителями моих дум были:
Моытепен, Эжен Сю, Поль де Кок и Хуан де Диос Песа.
III
Ныне, то есть семнадцать лет от провозглашения
независимости и тысяча девятьсот девятнадцать от
рождества Христова, я хочу сказать — в наше время, когда
мы, кубинцы, позже других вступившие в активную
политическую жизнь, все же успели продвинуться далеко
вперед по сравнению с другими латиноамериканскими
демократиями, местечко Пласерес, где родились моя мать
и я, насчитывает восемь тысяч жителей и по части
цивилизации не лучше pi не хуже любого небольшого городка
в глубине острова. Пласерес огибают две главные
железные дороги страны и пересекают густые пентаграммы
телеграфных проводов; моды пласерианок и известия в
местной газете «Эль Пласереньо», в общем, не отстают от
мод и известий, имеющих хождение в столице. В Пласе-
ресе есть и еще кое-что: вполне современный парк с
симметрично рассаженными деревьями, освещенный
электрическим светом, с цементированными аллеями и
маленькими газонами, подстриженными по-английски. В Пласе-
ресе улицы имеют номера и замощены по системе Мак-
Адама, есть и гостиницы, называемые, само собой, «Лувр»
и «Тюильри», а также свои общества содействия
просвещению и собственный, постоянно действующий игорный
дом; здесь можно взять напрокат автомобиль, а можно и
девочку для радости; здесь прорастают свои поэты и
свои знатоки тропической политики, свои ячейки
рабочего сопротивления и, как их нравственное следствие, не
оцененное еще по достоинству, соперничество между
министрами евангелического толка, медиумами-спиритами и
пастырями католического стада.
За год же до Байре, то есть в те дни, когда
автономисты поднимали пыль патриотического энтузиазма по все-
45
му острову, а Марти раздувал тлеющие угли
освободительной веры в ревностных душах эмигрантов,
расплодивших табачные фабрики по всей Флориде,— я хочу сказать,
п те времена, когда еще не считалось смешным иметь
общественные идеалы, Пласерес, родной город моей матери
и мой, представлял собой паршивую деревушку о двух
тысячах душ, со всеми чертами типичного поселения
колониальной поры. Главная площадь: жалкие керосиновые
фонари но углам, полдюжины облезлых пыльных
деревянных скамеек, разбросанных как попало, вокруг —
тощая травка, отрада коз и лошадей, принадлежащих
влиятельным лицам города; несколько лавров и фламбояны
прямоугольником окаймляющие всю эту роскошь, а в
центре, для симметрии, четыре креольские
пальмы-недоростки; павильон темно-синего цвета для воскресных
концертов шумного гарнизонного оркестра. На углу —
церковь, которую задумали когда-то грандиозной, но,
выстроив до половины, махнули на нее рукой, и она так и
осталась — без колокольни и без штукатурки на
наружных стенах. По диагонали от церкви, на другом углу,—
муравейник классической креольской продуктово-галанте-
рейной лавочки с непременным порталом, к перилам
которого крестьяне-торговцы привязывали мулов и лошадей.
В центре одного из окружающих площадь кварталов —
знаменитая аптека Пласереса: лимонно-желтые полки,
уставленные белоснежными фаянсовыми банками с
золотыми надписями на латыни, на прилавке узорные
флаконы, наполненные жидкостями разного цвета; в портале —
табуреты для местных мудрецов, среди которых
мудрейший — сам аптекарь. На каждом углу — кафе,
излюбленные солдатами и разным мелким креольским людом, там
шум бильярдных шаров, стук костяшек домино, напевы
солеа, петенера, пунто гуахиро. За площадью — казино, у
входа — рой местных политиков, знающих, как и что
должно быть устроено в мире, чтобы он был вполне хорош, а
внутри — игорный дом, национальная хроническая
болезнь колонии, унаследованная затем и республикой.
В центре квартала, где находятся лучшие дома
Пласереса,— здание муниципалитета, большой серый дом грубого
камня с массивными колоннами портала, с часами,
которым нельзя верить, с внушительным желто-красным
флагом и синим подвижным пятном караула. После богатых
кварталов — немощеные улицы с разноцветными
мелочными лавочками, каменных домов немного, а все больше
48
деревянные и с крышами, покрытыми листьями пальмы
гуано, в креольском духе; патио засажены фруктовыми
деревьями, ветки их возвышаются над крышами,
свешиваются через заборы. На этих улицах — полицейские н
мундирах цвета индиго, вооруженные мачете,
незаменимым оружием, если нужно кому-нибудь всыпать как
следует; крестьяночки в перкалевых платьях и полусапожках;
крестьяне верхами, в соломенных шляпах и гуаяберах;
один-другой прохожий, одетый по-городскому; продавцы
лотерейных билетов; уличные торговцы; шумные
кавалькады; изредка — повозка, запряженная в целую вереницу
волов; парочка вылинявших городских полицейских и
черные тучи грифов, находящихся под особым
покровительством закона, который явочным порядком возложил
на них службу общественной гигиены.
Как раз в ту пору, в 1894 году, когда мне только что
исполнилось шестнадцать лет, мы с матерью в поисках
утешения и гостеприимства вернулись в Пласерес, под
крыло ее родителей, моих бабушки и дедушки. Она, в
черной вдовьей вуали с головы до пят, проливая тихие
слезы, шла, держась за мою руку, и, казалось, сгорала,
как в лихорадке, от страха, забот, от своей материнской
любви, словно пригнутой грубым ударом судьбы. Я тоже
был одет в полный траур и придавлен тем же горем, что
безжалостно ранило мою мать.
Оба мы только что потеряли единственную опору
нашей слабости, единственного почитателя и охранителя
наших добродетелей, нашего счастья, нашей жизни.
Только что я потерял моего доброго отца и друга, а она —
супруга, идеала супругов.
Самым нестерпимым оказалось то, что если даже
оплакиваешь любимого отца или любимого и любящего
мужа, то и эта боль когда-нибудь затихает. Он умер,
можно сказать, скоропостижно, от двухстороннего
воспаления легких, за тысячу миль от родного дома, от
наших душ, в глубине которых, в то время как он
умирал один-одинешенек на чужбине, мы считали его
по-прежнему живым, сильным, храбро сражающимся за
жизнь.
Полгода до того из-за недоверия, с которым
батальонное начальство смотрело на его «умеренный испапизм»
без «донкихотских судорог», он потерял место
комиссионного агента. Тогда, движимый склонностью к
образованию и самыми благородными побуждениями, оставив ма-
47
тери все самое необходимое па жизнь и на мое учение,
он уехал в Соединенные Штаты; он надеялся там, в
Филадельфии, получить какое-то ученое звание, для чего
нужно было не поднимая головы два года учиться. Он
уехал в начале лета, оплакиваемый нами и увозя с собой
наши нежные советы и пожелания, и пока длилось лето,
все шло хорошо и письма сорокапятилетнего студента
были полны уверенности и оптимизма. Но как только
наступила тяжкая северная зима, с первым снегом его
настиг ужасный приступ коварной болезни,, которая
сразу и бесповоротно подкосила могучее здоровье
галисийского крестьянина. Отец сразу понял, что дела плохи,
позвал своего товарища по учению, кубинца, и попросил
написать письмо моей матери, в котором с прямотой и
тоской человека, видящего, как рушится все, ради чего
он жил, сообщал о своем положении, торопливо давая ей
последние советы, как лучше использовать для моего
образования те немногие возможности, которыми она
располагает. Три дня между этим письмом pi следующим,
подтвердившим наше несчастье, мы провели в неописуемой
тоске. Когда на нас обрушился этот жестокий и
непоправимый удар,— настолько жестокий, что, несмотря на
наше глубокое страдание, мы не смогли даже воспринять
его во всей бесповоротности,— моя мать просто-напросто
утонула под его тяжестью. Лежа поперек опустевшей
супружеской постели, глотая безмолвные слезы, она
задыхалась, она шла ко дну. Она сжимала меня в своих
объятиях, ласкала, словно в бреду, обливала слезами, а я,
совершенно опустошенный, внутренне как бы весь
распавшийся, только видел, как в тяжком кошмаре, одну и ту
же картину: далеко-далеко от нас, в пустом изоляторе
при этой его школе или в большом зале богадельни,
умирает отец, и никому нет до него дела; потом его хоронят,
и кругом опять никого, ни слез, ни сочувствия, а мы тут,
в Матансасе, где все напоминает и всегда будет
напоминать о нем.
Узнав о смерти брата, дядя обнаружил больше
удивления, чем горя. Чудилось даже в нем какое-то странное,
обидное для нас удовлетворение, что жизнь подтвердила
его критерий лавочника, убежденного в том, что отец все
равно никогда бы не пробился в жизни, ибо ничего в ней
не понимал и, приехав на Кубу, вместо того чтобы
посвятить себя торговле, только терял время. Во-первых, с
неподобающей поспешностью завел семью, затем обнаружил
48
свои нелепые политические фантазии, которые
заставляли его извинять и даже смотреть благосклонно на
сепаратизм кубинцев, и, наконец,— глупее не придумаешь,—
уехал на Север делать карьеру. Зачем? Нет, ей-богу!
Тысячу раз он ему говорил. Какая еще карьера, торгуй себе
на пользу, на испанский лад, испанскими товарами, па
земле, которая, слава богу, еще осталась у Испании в
Америке! Вот, например, он сам. Совсем немного роскоши в
одежде, чуть-чуть в еде и никакой — в постели.
Развлечения? Чем не развлечение сама торговля, а если нужно
женщину, пожалуйста,— негритянка или мулатка, за
небольшую цену, на все согласная и совершенно
непривередливая в любви. И в награду, кроме его золотой жилы —
бодеги, еще с полдюжины доходных домиков и
кругленькая сумма там, на улице Рио, в филиале Испанского
банка острова Куба.
В этой атмосфере полнейшей бесчувственности,
непонимания, эгоизма вдовство моей матери сделалось вскоре
вдвойне невыносимым, а мое сиротство во много раз
ранимее и безутешнее. Поэтому мать надумала искать
утешения в доме своих родителей, в любви, благородстве,
гостеприимстве «другого дома», единственного, который
мог дать нам достойное убежище. И вот в 1894 году
серым дождливым зимним вечером мы вернулись в наш
родной город, в Пласерес, моя мать в черной вуали и я в
трауре, оба с глазами, полными слез, и с грустью па
душе.
Этот Пласерес, о котором я хранил самые веселые
воспоминания раннего детства: сияющие утра, набеги на
заросли гуаявы на окраинах городка, буйные мальчишеские
игры, прогулки по берегам нашей реки и многое другое,
что осталось в памяти и рисуется теперь таким
безмятежным, как бы улыбающимся; Пласерес, воспоминание о
котором жило и крепло с течением лет,— в первую
минуту после приезда показался мне совсем не тем. Я сразу
почувствовал в нем неприязнь места, дающего тебе
убежище, как чужому. Я почувствовал это еще издали, когда
поезд только приближался к станции, к перрону, где
мертвым светом, словно нехотя, мерцали два керосиновых
фонаря. И еще больше — когда поезд остановился pi мы,
несколько пассажиров, сошли на перрон и увидели два
старых пропыленных экипажа, синюю фигуру
полицейского, почтовый рыдван, двух обшарпанных получателей
нескольких связок гаванских газет и шумную ватагу обо-
4 К. Ловейра 49
рванных мальчишек, жаждавших поднести узлы и
чемоданы.
Из-за какого-то недоразумения в переписке между
матерью и ее родителями нас никто не встречал, а так как
другие пассажиры оказались проворнее или привычнее
нас, перед нашим носом разобрали два жалких экипажа,
и мы пошли пешком — два носильщика позади нас — по
длинной, длинной улице, потом через полутемную
площадь и, наконец, дошли, на самом краю Пласереса, до
большого дома с палисадником, дома бабушки и дедушки.
Когда мы подошли к дому, вокруг было
темным-темно. Большой фонарь портала освещал палисадник. Дом
этот был двухэтажный, окружен балюстрадой с точеными
балясинами, с двумя широкими балконами наверху,
распахнутыми настежь, как дверь и окна внизу. По всему
судя, дом совсем недавно покрасили в голубой цвет, и он
дивно блестел в свете фонаря; в раскрытые окна
виднелись убранные с непринужденным комфортом комнаты.
Эта приветливая картина почему-то навеяла грусть, но
только на миг, потому что вслед за этим произошла сцена,
которая вернула меня к боли, горечи и слезам.
Увидя, что мы идем садом, мулатка Мария де ла О,
давно служившая в доме, пошла навстречу. Она сразу
нас узнала и ласково прижала мою мать к груди:
«Лолита, девочка!» У нее, преданной нам и искренней, это
прозвучало так грустно. Потом со слезами на глазах
славная женщина протянула мне руку. Из дома вышла
моя бабушка, высокая, представительная, еще красивая
гордой красотой камагуэянской матроны. Чтобы
подбодрить нас, она сделала вид, что совершенно спокойна,
и приняла в свои руки дочь, немую от горя. Затем
появились дедушка, тоже очень печальный, и Рафаэль,
высокий худой молодой человек, единственный мой дядя со
стороны матери, тремя годами старше меня, и снова —
поцелуи, объятия, благотворные слова утешения.
И хотя я уже был близок к возрасту, когда мужает
рассудок, тем не менее многое во мне в ту пору решал
голос инстинкта и чувства, и эта ,сцена вновь вызвала
порыв скорби, я почувствовал, что шляпа падает из моих
рук, ноги слабеют, на глазах выступают слезы и тоска
сжимает грудь и берет за горло.
Но... мы умылись, вышли к столу, накрытому в честь
нашего приезда, и, увидев белоснежную скатерть и свет
большой настольной лампы над фаянсом, хрусталем и
50
приборами, увидев душистый дымящийся суп, желтый
рис с ветчиной, классическую жареную рыбу и горку
золотистых поджаренных «пятачков» банана, я
почувствовал вдруг неукротимый аппетит — аппетит, естественный
для того, кто провел день натощак и в волнениях, и я
начал есть, открыто, жадно, по-мальчишески.
После ужина, так же неудержимо, как только что
хотел есть, я захотел спать. Служанка отвела меня в
комнату дяди Рафаэля, показала приготовленную для мепя
постель; не успела она выйти, как я начал раздеваться.
Улегшись, я почувствовал неизъяснимую отраду от того,
что остался наконец сам с собой, что вот-вот усну и сон
сотрет, как губкой, все тяжкое, мучившее меня. Засыпая,
я слышал, как в соседнем доме играют на фортепьяно,
смеются, разговаривают, как часы за стеной бьют девять,
и вслед за тем, из ближайшей казармы, звуки военного
рожка, барабанную дробь, словно замирающий гром,
слабее, слабее, и я заснул.
Меня разбудил далекий стук колес,— какой-то поезд
огибал Пласерес, было часов шесть утра. Погода со
вчерашнего дня переменилась, в дверные щели и сквозь
жалюзи пробивался яркий свет тропического утра, а вместе
со светом, выгоняя ночные запахи спальни,— аромат
цветущих лиан; и вместе со светом и ароматами сада —
шум дома, пробуждающегося навстречу хлопотам дня;
передвигали мебель, выбивали пыль, звенели фаянсом и
стеклом, варили кофе, во дворе кололи дрова, в
курятнике кудахтали куры, кричали петухи, и повсюду, со всех
сторон, заливались воробьи, прямо закатывались от
радости. В лад с домом просыпался и городок;
пересчитывая камни мостовой, громыхала неуклюжая повозка;
вдали, репетируя, перекликались военные рожки. В это
веселое утро я вспомнил отца, подумал о матери, о нашем
с ней положении, но грусть моя куда-то улетучилась,
восхитительное утро вокруг меня дышало молодостью и
счастьем, и я не мог противиться ему.
Я сел на кровати. Дядя давным-давно ушел,
поднявшись неслышно для меня, наверное, чем свет; таков был
обычай, тогда вставали рано все, и молодые и старые, в
деревнях и в городах, в те прошедшие счастливые
времена, когда меньше гнались за цивилизацией и больше жили
естественной жизнью.
Одевшись, я открыл окно и высунулся в сад. Небо
было высоким, синим, прозрачным; солнце золотило в
51
саду листья апельсиновых деревьев, высокие кусты
горного жасмина, крутые завитки диких лиан и крышу
соседнего дома, с которой еще падали капли. Цветочные
грядки у стены, клумбы, горшки с цветами влажно
дымились. На земле и на мостовой блестели лужи после
вчерашнего дождя.
Соседский сад был, в сущности, продолжениехМ нашего,
только отделялся от него темно-зеленым забором. Там, у
соседей, кудахтали куры, пищали цыплята, суетясь
вокруг кого-то, невидимого мне, бросавшего им зерна маиса,
целые и дробленые. Но вот, взмахнув крыльями, крылатая
толпа отступила, и я увидел ту, что сыпала зерно.
Это была девушка, крепкая и отлично сложенная, л
платье, доходившем до середины икр. Она стояла ко мне
спиной, светлое платье восхитительно облегало ее
точеную фигуру, открывая взору ноги и белые круглые руки.
Все это великолепие венчала шапка пышных
темно-каштановых волос, заплетенных в две длинные косы. Левой
рукой она прижимала к бедру миску, полную маиса, а
правой золотым дождем разбрасывала зерна.
О, если бы она обернулась! Если бы увидеть
оборотную сторону этой медали, в которой я заранее
предполагал совершенство из совершенств, чудо гармонии!
И — тайное ли мое желание или случайность тому
причиной — девушка вдруг обернулась, словно ища что-
то или услышав, как ее издали позвали. Она увидела
меня, и некоторое время мы смотрели друг на друга, не
шевелясь, она как бы молча спрашивая себя — кто он
такой, этот новый сосед, а я — словно завороженный ее
черными глазами, которые с неведомой мне доселе
волшебной властью смотрели на меня, не скрывая любопытства.
Вдруг она заторопилась уйти, а я остался,
испуганный, и теперь не мог бы даже сказать, красива она или
пет, хотя смотрел на нее долго; и в то же время я очень
хорошо помнил ее глаза, так, словно они еще были передо
мной или даже внутри меня, огромные черные глаза, в
нежном удивлении смотревшие на меня несколько
мгновений.
Наконец я оделся, то и дело помимо воли подходя к
окну, из которого по-прежнему был виден двор, где, как
на сцене, явилось мне это дивное видение; но судьба на
этот раз не захотела откликнуться на мое желание.
Неясный разговор за стеной, в котором я уловил свое
имя и узнал голос матери, заставил меня подойти к две-
52
рям в соседнюю комнату и приложить ухо к неплотно
прикрытым створкам. Мать разговаривала с бабушкой,
они обсуждали проблему необычайной важности: «Что
делать с Игнасио? Искать ему службу? Обучить какому-
нибудь ремеслу? Л может быть, послать его в Гавану
продолжать образование?»
Затаив дыхание и навострив уши, я выслушал все до
конца и узнал, что они еще будут думать и соображать, а
пока предоставят мне полную свободу, не станут трогать
меня, пусть развеется немного горе после смерти отца.
Главным аргументом в пользу моего отдыха и свободы
было мое физическое развитие — я рос слишком быстро,
а мой вес не достигал и пятидесяти килограммов, кроме
того, я слишком бледен и у меня запали глаза.
После неизменного кофе с молоком бабушка
неожиданно разрешила мне пройтись по улицам.
— Поди, поди, посмотри Пласерес, может быть, ты
найдешь тут и кое-что новое,— ласково посоветовала
она.— И непременно загляни к Росауре; там очень хотят
тебя видеть. Бедняжки они!
Медленным шагом, глазея по сторонам и в
особенности на фасад соседнего дома, я шел по саду, в этот час
победно сиявшему утренними красками, светом и
ароматом. Солнце заливало золотом сад, улицу, ближайшие
поля, небо — высокое, синее, блестящее, с белым
облачком па горизонте.
Проходя но тротуару мимо соседнего портала, я мет-
пул взгляд внутрь дома,— так, на всякий случай,— по
вместо девушки в белом увидел прекрасно убранную
гостиную и мулатку в белом переднике на
темно-коричневом платье, огромной метелкой из перьев она смахивала
пыль с мебели.
Ничего не подарил и второй мой взгляд, брошенный
назад, когда я уже заворачивал за угол, у фруктовой
лавочки, от которой несло опиумом, дымом от шкварок и
больито — круглых маленьких пончиков.
Улица, на которую я свернул потом, была Торговой
улицей, главной улицей городка, одной из тех, что
прилегали к Центральной площади, куда я как раз и шел. На
теневой стороне еще капало с навесов. Посреди мостовой
вчерашний дождь намыл горы песку, грязи, костей,
бумажек, камешков, фруктовой кожуры, пробок от бутылок и
прочего, что удалось собрать по пути на тех улицах, о
которых заботились лишь уполномоченные муниципали-
53
тетом птицы. У двери какого-то домика молочник в одной
рубашке доил корову, старушка в черной шали, стоя на
пороге, ждала с кувшином; молочник с полдюжиной
коров и телят совершал утренний обход Пласереса, чтобы
наполнить белой пенистой жидкостью глиняные кувшины.
У пекарни меня обдало горьковатым запахом только что
испеченного хлеба. Рядом, в цирюльне, крестьянин,
развалясь в кресле, дремал с намыленным лицом, а над ним
колдовал непричесанный брадобрей в домашних туфлях.
Проходя мимо обувной лавки, я услышал, как
позванивает и повизгивает стекло,— двое мужчин вставляли его
в дверную раму. Я прошел мимо аптеки, открытой
спозаранку, и мимо продуктово-галантерейной лавочки,— там
с большой помпой в туче пыли распродавали альпаргаты
и рубахи навыпуск. И, наконец, дошел до площади, где
в кафе солдаты в такой ранний час уже потягивали из
рюмочек и постукивали косточками домино, а
бильярдисты в гуаяберах и соломенных шляпах орудовали киями.
На плоских крышах, на вершинах лавров и фламбоянов
еще не погасло чистое золото раннего утра. Во влажной
листве суетились воробьи. Под цветущей пальмой какой-
то полицейский в синем вылинявшем мундире оставил
тощую козу с раздутыми сосками. Звонили к мессе, и
несколько старушек в трауре уже входили в церковь.
Дойдя до портала муниципалитета, я с удовольствием уселся
на скамейку, и тут после отличной прогулки, посреди
самого оживленного квартала, долгая скорбь по отцу
отпустила меня,— шестнадцать лет есть шестнадцать лет.
Мимо шли прохожие. Тот самый полицейский, что
оставил козу под пальмой, бородатый канарец, продавец
лотерейных билетов, набожные женщины с назойливыми
взглядами, сами как пи в чем не бывало шедшие в такой
ранний час по улице, посматривали на меня словно со
страхом или удивлением: что это за мальчишка сидит здесь,
посреди площади, в восемь часов утра!
Почувствовав себя неловко оттого, что вызываю
всеобщее любопытство, я встал и пошел навестить пятерых
сестер, старых дев, давнишних друзей нашей семьи. Они
жили где-то возле станции. По дороге мне встретился мой
прежний товарищ по той самой школе, где преподавала
учительница, сестра сладострастной мулатки,
любительницы неподобавших нам игр в «мужа и жену». Мой
однокашник был сонный детина, длинный и угловатый, как
жердь, с лицом в веснушках, пестрым, словно индюшачье
54
яйцо. Звали его Хуан Моралес, а в школе прозвали
«Длинный Батон». Мы пожали друг другу руки, я проводил его
до дверей школы, и мы расстались, дав слово встречаться
часто.
Увидев меня, старые девы подняли шум, захлопотали,
засуетились. Одна легонько шлепнула меня по спине,
стараясь стряхнуть пыль с сюртука, который я запачкал о
скамейку, пока сидел на площади. Другая, стоя передо
мной и обняв меня за плечи, воскликнула: «Да ты совсем
мужчина!» Самая младшая, самая болезненная из них,
худая и некрасивая, усадила меня рядом с собой и,
фамильярно положив сухонькую бледненькую ручку мне на
ногу, произносила слова утешения и сочувствия по поводу
моего траура. Инстинктивно я почуял, что в этой бедной
женщине, приговоренной жестокой судьбой идти по
жизни, лишь догадываясь, в чем состоят радости, которых ей
не суждено испытать, мое присутствие неожиданно
пробудило чувство, придававшее ее взгляду особенную
пристальность, а ее ласковым словам — оттенок нежной, слабой
мольбы.
Но воображение то и дело уносило меня к дому наших
соседей и снова, и снова возвращало к сладостному
утреннему видению. Поэтому и ноги очень скоро понесли меня
туда, куда давно унеслось воображение. Весь день я то и
дело высовывал нос на улицу и оглядывал все уголки
двора в тайном желании увидеть опять наяву, во всей
прелести плоти и души, причину внезапного кавардака в моем
сердце.
После обеда я обновил один из моих траурных тиковых
костюмов и, безукоризненно причесанный, тщательно
повязав галстук и надев самые лучшие свои ботинки,
вышел в садик перед домом, таща за собой качалку и номер
иллюстрированного журнала.
В соседнем портале, также в качалках, также с
книгами в руках, являя свою красоту во всем ее вечернем
блеске, расположились две девушки. Одна, в розовом платье
по щиколотку, сидела совсем почти спиной ко мне, между
перекладиной качалки и полоской белой вышитой ткани
из-под платья была видна крепкая, хорошей формы нога,
переплетенная ремешком, шедшим от крохотной, очень
открытой туфельки. Другая девушка сидела ко мне лицом,
она-то, на мое счастье, и была той, которую я так горячо
желал увидеть.
Я устроился поудобнее в моей качалке: журнал — на
левой йоге, перекинутой через правую; голова подперта
левой рукой, которая упирается локтем в ногу; правой
рукой я небрежно листаю страницы,— ни дать ни взять
начинающий долгогривый поэт, позирующий перед
фотографом. Я сидел и обалдевал мало-помалу от незнакомого,
неведомого до сих пор сладчайшего наслаждения на свете:
трепетно созерцать совершенства юной особы,— а она ими,
несомненно, обладала,— первой на свете особы, которая
«нравилась», и, почти не сознавая, пытаться завязать с
ней самый глупый и самый восхитительный в моей
жизни «флирт».
В тот вечер она показалась мне прекрасной,
очаровательной, божественной, то есть тем, что в восхищенном и
поэтическом воображении соответствует понятиям «дева»,
«богиня», «ангел». В те времена я еще не умел оценить
по-пастоящему женскую красоту, да это было бы мне и ни
к чему тогда, в дни юной моей влюбленности; в первый раз
влюбляешься ведь не почему-нибудь, а просто так, без
причины, возвышенно и нечаянно, и предмет нашей
первой любви так нам мил и так желанен, что почти всегда
вопреки недостаткам, если они есть, говоришь: ангел,
богиня, совершенство — воплощение красоты.
Но прошло несколько дней, и я, со свойственной мне
восприимчивостью к прекрасному, мог бы довольно точно
описать ее внешность, уже понимая, что красота ее была
более чем «приемлемой» и более даже чем «достойной
уважения»,—это была красота типично креольская,
великолепная и победительная. Как и мне, прекрасной
незнакомке сравнялось, видимо, лет шестнадцать, и формы ее были
«по-тропически» развиты, в полном соответствии с ростом,
скорее высоким, чем низким. Пышная грудь. Тонкая
талия. Круглые бедра, которые угадывались сквозь платье
и выдавали античные линии и пропорции. Точеные руки,—•
я видел их почти обнаженными в то утро нашей
счастливой встречи,— радовали глаз светло-золотистым оттенком
и rapMOHHqecKH сочетались с крепкими, словно налитыми,
в туго обтянутых белых чулках ногами, видными
наполовину из-под короткого платья; они словно вырастали из
черных маленьких и хрупких туфелек, непременных для
антильской девушки.
В тот вечер в сумерках ее волосы казались совсем
темными и падали на спину, будто крылья большой черной
птицы. В их раме прелестно светилось ее лицо
смугло-розового, как на полотнах Мурильо, оттенка, лицо, служив-
56
шее достойным фоном и обрамлением другим ее невинным
совершенствам. И самому соблазнительному из них —
большим черным глазам (с утра я носил их в душе),
которые под топкими арками бровей из-под длинных ресниц
глядели, точно звали.
Наверное, с полчаса, пока не сгустились сумерки и в
том и в другом доме не зажглись огни, продолжалась эта
памятная мне сцена. За это время я успел прочесть ровно
половину рассказа в духе «Тартарепа из Тараскона», не
разобрав в нем ни слова, только ради того, чтобы девушка,
подняв глаза, не поймала меня на том, что я, не
отрываясь, рассматриваю ее с головы до ног.
Она поднимала глаза часто, как бы ожидая чего-то, и
один раз задержала на мне взгляд чуть дольше: иод взором
этих несравненных глаз я впал в нежное, сладостное и
даже как бы знобящее ощущение полной отдачи, отказа
от себя, мистического восторга, не осознанного еще
глубокого счастья.
Когда я встал, чтобы пойти наконец в столовую, куда
меня давно звали, моя богиня взглянула еще раз, и тут
уж на самом деле можно было сказать, что я унес с собой
не только ее огромные глаза, но и весь ее пленительный
облик.
За ужином я сделал нечто совершенно классическое:
опрокинул бокал с водой на скатерть, а в кофе вместо
сахара положил соли. Но так как вид у меня при этом был
по-прежнему скорбный, все молчаливо и единодушно
решили, что память об отце угнетает меня, мать глотала
слезы, и ужин закончился очень грустно, хотя дядя и
старался заразить всех отличным расположением духа в
связи с тем, что ему удалось только что выгодно продать
большую партию скота.
Поужинав, я вышел на улицу. Рядом в портале никого
не было, скорее всего соседи тоже сидели за столом, но это
здравое соображение не помешало мне, дойдя до угла,
снова оглянуться на их дом. Я шел по главной улице, еле
освещенной светом витрин и несколькими фонарями,—
горожане побогаче непременно вывешивали фонари на
порталах своих домов. Подошел к казино. Как всегда, в
портале собралось пестрое общество радетелей о
всемирном благе: два надутых офицера гражданской гвардии,
галисиец в шляпе — старый друг нашей семьи, и два
толстых землевладельца средней руки, каждый с громоздкой
цепью от часов, в кольцах с бриллиантами и очках, укра-
57
шейных драгоценными камнями. Внутри казино —
продолжение местного паноптикума: два лысых школьных
учителя лоб в лоб друг против друга над шахматной доской,
четыре молодых франта, трахающих но столу костяшками
домино, толпа любопытных, теснящаяся вокруг
бильярдного стола, где два великих знатока сражались в морито.
В раскрытую дверь была видна синяя от сигарного дыма
комната, головы, склоненные над зеленым столом, там
позвякивало золото и серебро, взлетали и падали дамы и
короли из коварной и переменчивой картонной шайки.
Мой отец, большой почитатель теории шахматной игры
Капабланки, когда-то объяснил мне, как играют в
шахматы. Я стал за спиной двух старых игроков, простоял
полчаса, они не дотронулись ни до единой фигуры, они
вообще не шевелились, точно заснули, и мне стало скучно.
Бильярд же и домино были для меня китайской грамотой,
не более. Любопытство властно тянуло к зеленому столу,
но чувство чести на этот раз одержало победу.
Наконец скука выгнала меня из казино. Я пересек
площадь, побрел домой,— странное, неизъяснимое
нетерпение владело мной.
В соседнем портале по-прежнему было пусто, два
больших фонаря, наш и соседский, освещали кусочек улицы.
В доме старшая из девушек сентиментально отстукивала
на фортепьяно вальс «Над волнами». Мне стало почти
больно, что я не увидел ту, другую, желанную, так что я
не заметил даже, как прошел свой дом, и опомнился
только на следующем углу.
Стояла свежая, звездная кубинская ночь. На этой
улице, в сущности уже за городом, сильно пахло полем и
садами. Душа мексиканца Хувентино Росаса все еще
томилась любовью в звуках его знаменитого вальса. Я
вернулся тем же путем и дошел до противоположного угла; и
напрасно, только потерял время и надежду: именно в этот
момент в их доме стали закрывать двери и окна, и мне
оставалось лишь пойти к себе, проскользнуть в свою
одинокую комнату, ибо дядя снова уехал по делам в
дедушкину усадьбу.
Я не мог уснуть, мне слышались звуки вальса «Над
волнами», я представлял себе ангельское личико моего
ангела, захлебывался в воображаемых возвышенных и
неуклюжих любовных объяснениях, увенчавшихся
невиннейшей и совершенно невероятной идиллией, я лежал с
пересохшим ртом, пылающими руками, с сердцем, гото-
58
вым лопнуть, и слышал каждый самый ничтожный звук,
нарушавший сонную тишину городка: вечернюю зорю в
пехотной казарме, лай собак, беспрерывную перекличку
петухов на десять километров вокруг, звуки гуахиры,
которую, безбожно фальшивя, выводил под гитару какой-то
влюбленный полуночник, далекий гром барабана лукумй
в бараке ближайшего сахарного завода.
Я старательно зажмуривался, вертелся в постели и
вдруг заснул как убитый, и спал крепким, мальчишеским
сном.
Тем не менее ровно в шесть утра я уже расхаживал
по комнате, предварительно распахнув окно и поджидая,
когда снова увижу повелительницу соседских кур и моего
сердца.
В это утро она со своими курами остановилась как раз
против окон моей комнаты, и с ее «цып-цып», звучавшим
для меня слаще вальса «Над волнами», начался куриный
завтрак. Одета она была точь-в-точь как и накануне
утром, в платье чуть короче, чем вечером, с совершенно
обнаженными руками. Я не высовывался, а спрятался у окна
и принялся подглядывать в щель, мне хотелось, чтобы
она хватилась и стала искать меня взглядом.
Некоторое время она была занята маисом, потом несколько раз
взглянула на мое окно, полуприкрытые створки
которого, казалось, не давали ей покоя. Огромная радость
потрясла меня, сердце едва не разорвалось, я был счастлив,
как никто на свете. Она искала, искала меня своими
огромными, своими черными, своими прекрасными глазами!
Лишь увидев, что она уходит, я высунулся наружу — и
покраснел, и она тоже покраснела и, чуть склонив голову,
чуть улыбнувшись, еле заметно пошевелила губами, что
можно было бы понять, как робкое: «Добрый день».
«Добрый день»,— смущенным и красноречивым эхом
полетело ей в ответ.
Таким же образом, как первые сутки, пробежали и
первые дни моей второй жизни в Пласересе: успешно
подвигавшийся флирт с соседкой; визиты к старым девам,—
младшая все так же угощала меня кофе, печеньем,
поджаренными бананами и другими лакомствами, которые она
пыталась подсластить скорбными взглядами и томными
вздохами; чтение толстых романов и просто полнейшее
ничегонеделание, глазение разинувши рот часами на игру
в казино или, лежа навзничь в траве на берегу реки, на
облака. Благословенная лень, вкусная еда, чистая первая
59
любовь,., все вместе понемногу поправили мое здоровье.
Я рос и креп, превращаясь в мужчину,— честное слово,
очень недурного с виду. Ростом я перегнал всех в доме, не
считая дяди, брата матери. Прямой, крепкий, с лицом,
прямо скажем, не таким уж плохим, тонкой смуглой
кожей, черными густыми волосами на пробор. О моих
глазах говорили, что они точь-в-точь как у моей матери, а
у нее глаза были черные, огромные, широко раскрытые, в
густых длинных ресницах, с выраженртем нежной pi
покоряющей меланхолии.
Когда весна переломилась и время стало клониться к
лету, когда я, подобно весне, горевалил за половину своего
семнадцатого года, Сусанна Рубио, моя соседка с
овальным лицом и роскошной, как у богини, фигурой, в
коротком до пол-икры платье, была уже моей невестой,
«неофициально» — для других. Но для меня убедительнее всех
«официальных», что подтверждал листочек бумаги,
любовно хранимый мною между страниц «Вечного Жида» и
содержавший наиофициальнейшее и нежное «да».
Наши семьи пока еще не признавали нас женихом и
невестой, но вовсе не потому, что не видели происходящего
у них на глазах: чересчур пылких взаимных приветствий,
выразительных взглядов, тайного обмена цветами и
письмами, моего старания набиться с матерью в гости, если
она собиралась к своим новым подругам, «девицам Рубио»,
или желания увязаться за нею, когда они втроем вечером
шли прогуляться на Центральную площадь — послушать
духовой оркестр; старшая из сестер выходила без
кавалера, подчиняясь мусульманскому требованию своего
жениха, странствовавшего где-то в дальних краях.
Теперь как раз самое время сказать кое-что о «девицах
Рубио».
Для моих домашних эти слова — «девицы Рубио» —
означали всю соседскую семью в целом, включая в это
родовое понятие всех мужчин и всех женщин без
исключения. Но «девицы Рубио» в собственном смысле слова были,
конечно же, две девушки: моя Сусанна и ее старшая
сестра Мерседес.
Старшая сестра была так похожа на младшую,—
цветом кожи, волос, глазами, высокой статной фигурой и
вообще красотой,— что проще всего сказать: Мерседес
Рубио — это Сусанна Рубио, только старше на два года.
Сусанна и Мерседес были дочерьми дона Серафина Рубио,
богатого арендатора тростниковой плантации и сахарного
60
загода «Лас Сарсас», недалеко от Пласереса, большую
часть времени он проводил там и, подобно его
сорокалетней супруге Росите, был как воск послушен капризам и
суждениям Мерседес. Л она блистательно умела
пользоваться и преимуществами своего первородства, и
привилегиями гаванского воспитания, и уроками, извлеченными
из книг и романов, печатавшихся в газетах, запас которых
у нее не иссякал. Сверх того, она отличалась правом
живым и своевольным, несколько не в лад с расхожей
моралью тех времен. Вследствие всего этого, и главным
образом по причине ее гаванского воспитания, все в доме
ходили перед ней по струнке. Сусанна, характера скорее
тихого, скромного, выросшая к тому же в захолустье,
охотно подчинялась неугомонной и властной сестре, которая,
между прочим, была для нее и ловкой портнихой, и
парикмахером, и поверенной ее тайн, и отличной подругой в
прогулках по городу или по магазинам. В доме «девиц
Рубио» жил также дядя, дон Хусто, брат их отца,
немолодой, низенький, полный, с бакенбардами, один из
старейших чиновников муниципалитета. Домой дон Хусто
приходил только спать. А когда не спал, то сидел,
зарывшись в свои гербовые бумаги, или обедал в гостинице, или
проводил время в кафе, мастерски играя в бильярд — вьто-
ду или морнто, и столь же мастерски посасывая свою
сигару, или пребывал в доме одной красивой мулатки, которая
занимала квартиру с дверью на улицу в подозрительной
близости от казармы.
Чтобы понять, чем жили и чем дышали «девицы
Рубио», не нужно было быть великим наблюдателем,
достаточно было два-три раза заглянуть к ним в дом, и тут
же бросалось в глаза то, о чем трещали все языки в
округе (и Мерседес сама давала к тому повод),— есть на свете
человек, у ног которого вся ее строптивость обращалась
в ничто. «Нэнэ» — так звали его; это было прозвище того
самого отсутствующего жениха, который с самодурством,
свойственным претендентам такого типа, не позволял
Мерседес прогуливаться по вечерам на площади,
танцевать на балах и даже просто так ходить по городу. Само
это имя—«Нэнэ» (деточка), заставлявшее воображать
пройдоху и одновременно задиру, прилипчивого и
заносчивого парня, не сходило в губ Мерседес, стоило ей лишь
открыть рот. «Когда вернется Нэнэ», «Я получила письмо
от Нэнэ», «Нэнэ не нравится слишком открытое
декольте...» Нэнэ, Нэнэ, Нэнэ...
61
Прошел месяц, как мы с Сусанной стали считать себя
женихом и невестой, но ничего не менялось, кроме
разговоров на людях о предметах самых общих, кроме писем,
написанных тайком и переданных с великим страхом и
немыслимыми предосторожностями, да и то не сразу, а
промучившись несколько дней — отдавать или нет. Целый
месяц провели мы таким образом и были счастливы
несказанно, хотя иногда начинали и тяготиться такими
отношениями; так, когда мне исполнилось семнадцать лет, она
вместе с белым платочком, на котором чернилами
нацарапала милые свои инициалы, передала мне письмецо,
в котором сетовала, что лишена возможности в этот
день находиться рядом со мной, крепко сжимая мою
Этот платочек я прикрепил к нижней рубашке, против
сердца, и так ходил два или три дня,— да, такими мы
были в те времена, провинциальные молодые люди,—
углубленно решая проблему: нам с Сусанной необходимо,
совершенно безотлагательно, встречаться, как положено
настоящим жениху и невесте, не скрываясь более,
встречаться так, как — мы полагали — Мерседес и Нэнэ. Но кто
такой был я в моем возрасте и в моем звании бакалавра
наук и искусств, чтобы просить у дона Серафина и у доньи
Росы разрешения посещать их дом? И что скажут о моих
поползновениях мать, бабушка и дедушка? А если
«старики» и в том и в другом доме рассердятся, узнав о
нашем романе? А вдруг они обо всем проведали, именно
поэтому еще раз вспомнили о моей карьере и сговорились
услать меня в Гавану продолжать образование?
Одержимый этими вопросами, я не знал, что подумать,
и тут случилось так, что я не видел Сусанну целый день.
Целый день! В ту ночь я не мог заснуть. Мой дядя и
сосед по комнате еще не вернулся из усадьбы, и потому в
пять утра я уже стоял у окна и поджидал Сусанну,
молчаливо молясь ей, как святой, называя ее мысленно моим
счастьем, моей любовью, моей жизнью, взывая к ней с ее
маисом, курами и нежным: «Доброе утро».
Я ждал целый час и отчаялся. И вдруг, когда дом уже
пробуждался, шумел и хлопал дверями, когда птицы,
заливаясь вовсю, хором славили утро, я услышал наконец
«цып-цып», сердце мое перевернулось и ринулось на зов
другого, родного мне сердца...
И... Нет, не может быть! Господи, да что же это?! То
была не Сусанна, а Мерседес. Она стояла и сыпала курам
62
маис. Почему? Кто знает? Хотя, может быть, ничего
страшного...
«А мой ангел? Что они сделали с моим ангелом?» —
почти кричал я в страшной тоске; тоске, конечно же,
выдуманной мной в мои семнадцать лет в провинции в те
счастливые романтические времена...
Я метался по комнате и, наверное, задел что-то. Из
соседней комнаты мать спросила испуганно:
— Игнасио! Что с тобой такое?
— Ничего,— сухо отрезал я.
И тут же решил взять себя в руки, пошел умываться и
долго тер полотенцем лицо, соображая, как мне явиться
моим домашним, чтобы никто ни о чем не догадался.
Сделав усилие, я заставил себя на время забыть о
Сусанне, толкнул дверь в соседнюю комнату и предстал
перед матерью как ни в чем не бывало, с вежливым «доброе
утро» на устах.
— Доброе утро, милый! Что случилось? Мне
послышалось, ты сам с собой разговаривал там, у себя, что-то
обрушилось?
Спрашивая, мать смотрела на меня своими
прекрасными глазами, нежными, очень любящими, в ее
магнетическом взгляде я увидел и нежелание услышать ложь, и
просьбу довериться ей, поведать то, чего она не знала, и
готовность ответить па доверие дружеским советом и
материнской терпимостью.
И перед повелительной властью этих глаз, родных мне
и дивных, как у Сусанны, я, начинающий лицедей, не
устоял; меня распирала жажда исповедаться, выложить
все доброй моей матери, внезапная грусть застлала глаза
слезами, жестокий, горький клубок застрял в горле.
— Послушай, мой мальчик, тебя что-то мучает,
откройся мне,— просила она.
И с моих губ сорвалась правда. Горячо, торопливо,
несвязно, хотя искренне, из глубины души, тем более
запальчиво и невнятно, что я при этом бегал из угла в угон,
сам себя раскаляя и не помня, что говорю,— таким мама
меня, наверное, никогда не видела,—выпалил, чго я
жених Сусанны, что обожаю ее так же, как мою собеседницу,
да простит она мне эту дерзость, что я готов ехать в
Гавану учиться или делать все, что ей угодно, но что
прежде необходимо, неотложно, совершенно немедленно — нам
должны позволить объявить о своей помолвке перед в:еми.
Я не видел Сусанну два дня,— может быть, ее там выбра-
63
[шли и запретили быть моей невестой. Я же пе знаю!
Может быть, ей приказали, чтобы она меня не любила!
Как будто это можно взять и приказать!
— Попроси для меня разрешения посещать их дом или
позволь, я сам попрошу, но пойми, это не может
продолжаться, как есть. Ты видишь, что со мной, я болен, схожу
с ума, две ночи не смыкал глаз! Невыносимо!
Моя мать, и умиляясь, и улыбаясь этой буре в стакане
воды — для нее, а для меня — отчаянному,
сокрушающему жизнь конфликту, невозмутимо отвечала:
— Ну хорошо, успокойся, сядь. Все не так страшно,
как тебе представляется. Мы и сами обо всем
догадывались... да и там тоже...
— И что? Что они? Они ее наказали? — прервал я
нетерпеливо.
— Подожди, милый, подожди. Дай мне сказать.
Она перевела дух и начала перечислять мне
всевозможные препятствия. То, что я считал таким серьезным и
необычайным, оказывалось в ее глазах всего-навсего
безумством мальчишки, совершенно, между прочим, без средств,
без занятия, которому только еще предстоит ехать в
Гавану продолжать образование. О какой любви может идти
речь? Как могут отнестись родители Сусанны к такой
партии для своей дочери? А если бы был жив отец, что бы он
сказал?
—- Мой отец? Он сказал бы — да. Он очень любил
меня.
— Он поступил бы с тобой еще тверже, чем я.
— Ничего подобного! И я бы ему повторил то, что
повторю сейчас тебе: я не в силах учиться, служить, не
в силах ничего.— И трагически закончил: — Да, не в
силах ничего, и жить тоже не в силах!
— Ну, ну... Никто не собирается тебя убивать, и ты
не умрешь... Не надо так... Это ребячество. Ты же сам
говоришь, что Сусанна тебя любит? И она подождет, пока
ты сможешь стать действительно ее женихом, взять на
себя ответственность... Нет, это ребячество.
Несмотря на обращение к памяти моего отца, а может
быть, благодаря этому, моя мать начала понемногу,
незаметно для себя уступать.
Я нажал:
— Ну, пусть вздор, пусть ребячество. Нельзя и все
такое... А как же ты вышла замуж в пятнадцать лет?
— Ах, боже мой! Я — совсем другое дело, я женщи-
64
на, и потом, отцу твоему тогда было двадцать семь. Он
крепко стоял на ногах, мог содержать семью... Он был
мужчина, серьезный человек, он был такой добрый...
И больше она не могла говорить. Ее недавнее горе
вдруг подступило снова, и, забыв обо всем на свете — и о
чем мы только что говорили,— она молча залилась
безутешными слезами.
Я был в таком состоянии, что ее боль тут же
отозвалась в душе, и я сам заплакал. Сев на кровать рядом с ней
и умоляюще гладя ее по волосам, я просил о
снисходительности, столь необходимой для моего счастья.
Настроение того памятного разговора было таково, что
мать, хотя и всхлипывая и твердя «нет», все же уступала,
я видел, и это придавало мне духу продолжать
наступление.
Жалея меня, боясь что вот-вот уступит, да и стремясь,
наверное, остаться сейчас одна, она, еще задыхаясь от
слез, прервала меня:
— Ну вот что, иди. Ступай завтракать, там накрыто...
Я поговорю с твоим дедушкой, и... посмотрим.
— Хорошо, мама. Я пошел. Но помоги мне, ладно?
Я буду вести себя хорошо. Ты увидишь.
Поцеловав ее в лоб, я вернулся к себе, снова умылся,
причесался и, немного успокоясь, пошел в гостиную.
Наскоро поев, я бросился на улицу, сам не зная, куда
бегу; тем не менее, избежав каким-то образом
нежелательных мне встреч, например, с надоевшими старыми
девами (особенно младшей), я очутился на берегу реки, под
тенью пальм; там была маленькая пальмовая рощица и
всегда свежая трава — рядом бил сильный родник.
Бросился навзничь на траву и стал глядеть в синее-синее небо;
пахло гуаявой; я сам не заметил, как погрузился в
странное забытье, и сладкое, и тоскливое.
И забыл о времени, пока часы на муниципалитете не
ударили полдень. Я вскочил и пустился в обратный путь,
поспев домой как раз к середине обеда.
Едва свернув на нашу улицу, я столкнулся с моей
матерью; увидев мое красное, потное лицо, «старушка»
набросилась на меня нетерпеливо и встревоженно:
— Что случилось?! Почему так поздно?
Меня осенило: после утреннего разговора бедная моя
мамочка испугалась, как бы ее сын в помрачении ума не
сделал чего-нибудь опасного для своей жизни; и я не
нашел ничего лучшего, как оставить и даже еще более укре-
5 К. Ловейра 65
пить ее в зтом убеждении, придав моим словам и поступи
кам оттенок некой тайны, что не могло, конечно, не
встревожить ее.
— Я пошел к реке и сидел под пальмами, где глубокий
омут.— («Омут утопленников», как его называют, и она
это знала.) —Там тихо и прохладно, наверное, после
бессонной ночи я заснул, и, когда проснулся, было уже
двенадцать,
— Зачем ты туда пошел, скажи?
Я продолжал с притворным равнодушием, за которым
будто бы скрывалось нечто весьма значительное:
— Да так! Ни за чем. Я туда хожу иногда. Там
хорошо читать.
— Читать? Но ты же не взял книги!
— Да, не взял, но... Вообще... это все равно.
И, отвечая в этом же стиле романтического
самоубийцы, я проследовал к столу.
После обеда, сказав, что иду в гости к старым девам,
я тут же повернул к реке — нарочно, я знал, что за мной
будут следить,— великий стратегический ход! Все вышло
как нельзя лучше; возвратясь домой и уловив за
дверями невнятный разговор, я бессовестно задержался у
порога и услышал последние реплики мудрого семейного
совета:
— Ничего с ним не произойдет, глупенькая. Вот
поедет в Гавану, и все забудет. Ты что, не помнишь, как сама
была молодой? Нет, нет, девочка, он не заболеет, и не
бросится в реку, и вообще ничего такого с ним не
случится...
Это говорил мой дед, и он добродушно добавил,
чувствуя, наверное, что не убедил ее:
— Ну, хорошо, если семья Сусанны не против, можно
просить разрешения посещать их дом, но предупредив
заранее, что потом он все равно уедет в Гавану.
— Вот это самое лучшее,— сказала моя мать,
вздохнув так, словно сбросила тяжесть с души.
— Да, да. Это лучше всего,— решительно подтвердила
бабушка,
— Прекрасно,— заключил дед,— как только он
придет, мы ему это скажем. А потом вы с Лолой сходите
переговорить с Роситой, чтобы они дали согласие.— И,
обращаясь к моему дяде: — А ты, Рафаэль, ты ближе к нему
по возрасту, как-нибудь наедине у вас в комнате, вечером,
когда будете ложиться спать, выбери подходящий момент
и посоветуй ему, чтобы он постарался вести себя разумно,
ну, ты понимаешь... И, я думаю, он уедет в Гавану безо
всяких осложнений.
Дрожа, пыхтя, стараясь не выйти из роли и не
выдать своей нескромности, я вошел в гостиную, сказал всем
«добрый вечер» и, разочарованно волоча ноги, поплелся
к себе в комнату. Там я прыгал и плясал, отводя душу,
меня так и распирало от радости.
Немного спустя, поуспокоясь, но снова с видом
семинариста, потерпевшего неудачу в любви, я опрокинулся на
кровать — руки под голову, ноги вытянуты в ниточку;
теперь в этом покойницком виде надо было продержаться
как можно дольше; человек в таком положении — что ему
воробьи, чирикающие во дворе в зарослях вьюнка, что ему
сад за окном, запахи цветов и зелени, что ему солнце
сладостного кубинского дня, струями льющееся в
приоткрытую дверь и сквозь ставни.
— Игнасио! — окликнула мать с порога.— Ты спишь?
— Нет, входи,— я привстал и сел на кровати,
взлохмаченный, глядя на нее скорбными глазами монаха во
время заупокойной молитвы.
— Ну вот что, я советовалась с бабушкой и с
дедушкой, и мы решили, что ты можешь просить позволения
бывать в доме Рубио. Конечно, неизвестно, разрешат ли они
там, как тебе повезет. Но просить ты можешь...
И последовала проповедь о том, что помолвка — шаг
серьезный, что я должен стараться быть достойным
Сусанны и ответственности, которую беру на себя, что,
несмотря на все происшедшее, я должен иметь в виду, что
в недалеком будущем поеду в Гавану продолжать
образование, что, как говорил мой отец, человек без
образования... и так далее, и еще что-то, чего я не понимал, а
может быть, даже и не слышал вовсе из-за внутреннего
смятения, которое заставляло меня большими шагами
расхаживать по комнате, потирать руки, время от времени
бросая что-нибудь совершенно невежливое:
— Да, мама, да. Ну как же! Ты сама убедишься. Все
будет превосходно, оставь.
— Да, но видишь ли...
— Я знаю. Я много думал об этом. Не надо ничего
говорить.
— Когда же ты собираешься поговорить с Роситой?
— Завтра вечером. Уйди, пожалуйста. Будь здорова!
Уходите же, ну!
67
Отделавшись таким непристойным образом от доброй
моей матери, я сразу же направился к дядиному
огромному шкафу. Хладнокровно стянул у него пахнущие
духами лист бумаги и конверт небесно-голубого цвета,—
специально для женихов и невест, у него их там было много,
я видел,— и написал письмо Сусанне, мужественно, с
росчерками, сообщая, что завтра вечером приду к ее матери
просить позволения посещать их дом, и давая ей кучу
всяческих распоряжений и инструкций в непререкаемом тоне
диктаторского указа.
И с той же слепой решимостью сделал следующее:
вложил письмо в книгу, а книгу, с ловкостью аптекаря или
влюбленного «без права посещения», обернул газетой.
Вышел из дома, вошел в соседний портал и бестрепетно, хотя
и очень деликатно, как персона в высшей степени
воспитанная, стукнул дверным молотком, и когда вышла
служанка-мулатка, вручил ей пакет, присовокупив
лаконичный и не вызывающий возражений приказ:
— Передайте это Сусанне.
И убрался восвояси; прошел сад, гостиную, столовую,
все передние комнаты и дошел наконец до своей. Я вышел
из нее только к ужину, сразу же после еды удрав на
улицу, чтобы «ничего не знать» о предварительном свидании
моих домашних с соседями. В десять вечера я снова был
дома, в своей комнате, и на сон грядущий услышал
ожидаемую душеспасительную проповедь дяди Рафаэля. Я не
дослушал до конца, издавая в ответ какие-то сонные
звуки, еле-еле выдержав дядин бубнеж и собственную
смертельную усталость после стольких треволнений.
Я проспал завтрак соседских кур, проспал бы и свой
собственный, если бы мама не разбудила меня. Как пай-
мальчик, покорный во всем своим родителям, я вышел из
спальни, таща под мышкой два толстых и противных
учебника; выпил кофе и отправился на берег реки, под
кокосовые пальмы. Но не растянулся на траве, как вчера, а,
бросив книги под дерево на толстые, выступавшие из-под
земли корпи и призвав на помощь тень Демосфена,
принялся сочинять речь, с которой обращусь к матери
Сусанны в тот торжественный момент, когда стану просить у
нее «права визита».
В пять пополудни на следующий день, демонстрируя
свою лучшую темную тройку, тонкие лакированные
ботинки из телячьей кожи, мягкую шляпу, красивый темно-
лиловый галстук под накрахмаленным, белее снега, ворот-
ничком, я отправился в самую лучшую парикмахерскую
Пласереса, и там, где уже в те времена знали, что такое
машинка для стрижки и одеколон, меня причесали и
сделали вид, что побрили совершенно гладкое, без признаков
какой бы то ни было растительности лицо.
После обеда не спеша, словно иду просто так, без цели
и заботы, я вышел в садик перед домом, освещенный двумя
фонарями, нашим и соседским. Рядом в портале никого не
было, но в гостиной их дома тоскующая душа Мерседес
пыталась выжать из фортепьяно хабанеру «Тот, кого нет»,
по-креольски нежную и очень популярную в то время.
Тайком обернувшись, не следит ли кто за мною из
нашего дома, и не увидев ни за окнами, ни за дверными
решетками, ни за балконными жалюзи ничего похожего на
человеческую фигуру, я ринулся к дому «девиц Рубио» с
притворным героизмом того, кому предстоит проглотить
ложку касторки. Да, вообразите, потому что, несмотря на
решимость, меня совершенно некстати одолел страх, и я не
мог с ним сладить.
Едва шагнув за порог, я услышал стук копыт быстро
приближавшейся лошади, и я тут же узнал всадника.
Я вспомнил, что отец Сусанны всегда одевался в белый
тик. Мне очень хотелось, чтобы это действительно был дон
Серафин, я замедлил шаг и в самом деле столкнулся с ним
на углу, освещенном нашими двумя фонарями.
На этом углу я и застрял, раздираемый
противоположными желаниями,— это была изнурительная борьба
между Игнасио трусливым и Игнасио влюбленным.
Первый говорил: «Ну, видишь, ты же не виноват, если бы не
«старик», ты давно был бы у них». Другой возражал: «Ну
и что? Можно поговорить с ним. Ведь все равно он узнает.
А потом, «старушка», конечно, договорилась с Роситой,
и если бы там были против, вряд ли бы она отпустила тебя
к соседям».
Последнее рассуждение возобладало, и я решил все-
таки зажмуриться, но проглотить касторку. Вперед! Черт
возьми совсем! Съедят они меня, что ли? И так вот,
понукая себя, словно трусливый полуночник, которому во что
бы то ни стало надо пересечь темное безлюдное место,
я отлип наконец от угла и пошел к дому «девиц Рубио».
Я был совсем у цели, когда снова увидел дона Серафина,—
он вышел из дома, ловко, по-крестьянски, прыгнул в седло
(лошадь свою он привязал у двери) и поскакал в том
направлении, откуда я только что пришел.
69
Я решительно вошел в портал, дважды негромко
стукнул молотком; вышла моя Сусанна, увидев меня,
покраснела как гвоздика и испуганно, умоляюще вместо
«здравствуй» или «добрый вечер» проговорила:
— Ради бога, уходи, сегодня нельзя.
— Почему? Перестань, пожалуйста, один момент —
принять пилюлю, и все.
— Нет, нет. Сегодня — нет.
— Если можно завтра, почему нельзя сегодня?
— Потому что.
— Какая разница?
— Нет.
— Да.
— Кто там? — спросила Мерседес издалека, она шла к
нам.
— Уйди,— умоляла Сусанна, страдальчески глядя на
меня.
— Не уйду.
— Уходи, пожалуйста, ради твоей матери, умоляю.
— А! Это Игнасио, Входи, Игнасио. Как дела у вас
дома? — поздоровалась Мерседес.
— Хорошо, спасибо.
Сусанна убежала в столовую. Мерседес,
снисходительно улыбаясь, показала мне на кресло:
— Садись, я позову маму.
И быстро ушла.
Я услышал за дверями какую-то беготню, шушукание,
сдержанный смех и вот тут-то на самом деле понял, что это
такое, когда дрожат ноги, сердце, того и гляди, выпрыгнет
и сам ты словно под током.
Вошла Росита:
— Добрый вечер.
— Добрый вечер,— отвечал я, поднимаясь. И тут речь,
приготовленная под кокосовой пальмой, вылетела у меня
из головы, и я забормотал:— Как душно!
— Да, очень.
— И ужасная темень!
— Да, да, в самом деле.
— Я встретил дона Серафина.
— Он только что вернулся из усадьбы. Сейчас он
ужинает в «Тюильри».
И добрая сеньора, мать «девиц Рубио»,
доброжелательно улыбаясь, стала мне помогать, подбадривать меня, и я
не успел оглянуться, как не только изложил свои желания,
70
но и сделал это легко, незаметно для себя; а потом она
позвала Сусанну, и та у входа в гостиную, опустив голову,
пылая лицом, безжалостно крутя в руках носовой платок,
произнесла чуть слышно «да», когда «старушка» и без
того знавшая, что «да», спросила, правда ли, что мы давно
жених и невеста.
— Хорошо,— заключила Росита,— я расскажу обо всем
Серафину. Думаю, он не будет против, тем более что, как
ты говоришь, твои родные согласны. Ты можешь навещать
Сусанну по четвергам и по воскресеньям, вечером, с
восьми до половины десятого.
— Спасибо вам,— сказал я с душой, переполненной
благодарностью и счастием несказанным. Я встал, пожал
руку Росите и повернулся туда, где стояла в смущении
моя любовь, чтобы взять в свою правую руку ее холодную,
как лед, ручку.
— Доброй ночи,— сказал я дрогнувшим голосом и
почти выбежал на улицу, в ночную прохладу, в темноту, в
бесконечность, ибо только бесконечность и могла вместить
мою огромную радость.
День моего отъезда в Гавану и мои столичные занятия
приближались, а я между тем убивал время (или время
убивало меня) по следующей программе: сразу же после
завтрака я отправлялся на берег реки под пальмы,
прихватив парочку учебников с двумя намерениями,— чтобы
окружающие могли лишний раз убедиться, какой я
прилежный молодой человек, и чтобы было на что положить
бумагу, листов шесть, которые я каждый день полностью
заполнял посланиями к моей богине. В одиннадцать я
возвращался домой, к обеду, а потом шел к старым девам —
читать вслух слезливые романы младшей и заставлять ее
испытывать горестную сладость ревности своими
исповедями об идиллической любви между мною и Сусанной. Около
пяти вечера — ванна, тщательный туалет, и затем я
отправлялся в сад перед домом; если случался кто-нибудь
рядом — смотреть, смотреть и смотреть на Сусанну в то
время, как она из своего портала тоже смотрела,
смотрела и смотрела на меня, очаровательная и
очарованная; если же никого поблизости не было —
переговариваться знаками с ловкостью глухонемых. После
ужина, кроме четверга и воскресенья, я утюжил
тротуар от угла до угла перед нашими порталами,
а когда часов в семь она уходила в дом, шел
в казино и кружил вокруг зеленого стола, вникая во все
71
комбинации азартной креольской игры, притягивавшей
меня неотразимо.
Вечера же по четвергам и воскресеньям заслуживают
отдельного описания. К этому времени траур кончился, и я
мог одеваться во все белое. У меня было два костюма из
тончайшего белого тика, один из них я берег специально
для этих визитов, и он всегда блестел, как зеркало.
Облачившись в заветную тройку,— на голове тончайшая
шляпа, унаследованная от отца, на ногах сверкающие, низко
вырезанные туфли орехового цвета, настоящие «балеары»,
в петлице, как раз против сердца, роза, словно
кровоточащая рана на безукоризненной белизне костюма,— я шел
в парикмахерскую, и там меня причесывали, душили и
пудрили рисовой пудрой.
А после ужина... Туда, где рай, где слава, единственно
истинная, единственно бесспорная на том и на этом свете,
везде.
Несколько раз за нами «приглядывала» Мерседес,—
всегда в самом начале вечера,— расположившись в кресле
напротив нас и погрузившись в очередной роман или
письмо от Нэнэ, иногда она играла на фортепьяно, сидя спиной
к нам, но безо всякого для нас удовольствия. Потом «на
караул» вставала Росита, вооруженная «Дочерью
кардинала», пока не сморит дремота; книга соскальзывала на
колени, голова откидывалась на спинку кресла, глаза
прикрыты,— так дремлет кошка на кухонном пороге.
Таким образом, за исключением небольшой горькой
тучки на безоблачном горизонте нашего счастья — мысли
о неизбежном отъезде в Гавану, нашего взаимного
чувства было вполне достаточно, чтобы наслаждаться всей
глубиной любви, нетронутой пока темной рукой страсти...
Между тем, несмотря па идиллическую любовь, пред
алтарем которой сердце мое таяло, как свеча перед
святыней, два тайных порока уже коснулись моей души:
карточная игра и гнусная склонность к двуличию в любви.
Каждый вечер, если это был не четверг и не воскресенье,
после того как Сусанна скрывалась в доме, кладя конец
моему «дежурству», и до десяти,— час, когда я должен уже
быть дома,— я, как муха на сахар, летел к желанному
зеленому столу. Вокруг него двумя рядами теснились игроки;
впереди на добротных креольских табуретах сидели игроки
по крупной, так называемые «крепкие орешки»; второй
ряд составляла мелюзга, «копеечники»,— чтобы удобнее
сдавать и забирать свои куши, следить за банкометом и
72
крупье, они нависали над передними; а позади всех — я,
Еытянув шею, весь глаза и нервы, следил за своими
воображаемыми ставками и комбинациями, держал гоображае-
мые пари, которые — о, тайна из тайн богини слепой и
неверной! — всегда выигрывали, хотя до сих пор я не
рискнул ни единой песетой.
Пришел, однако, день, когда я рискнул, сразу рискнул
пятью песетами.
Терпеть не могу карточных королей; может быть, это
предубеждение связано с моими прирожденными
антимонархическими склонностями, но, так или иначе, не могу
терпеть карточных королей, и как только вижу короля,
у меня руки чешутся поставить против него хотя бы и в
воображении, и особенно, если это король пик, более всех
мне ненавистный. Я с интересом следил за партией,
считая в уме, сколько мог бы выиграть, и это так волновало,
что мне стоило большого труда удержаться и не вытащить
из кармана несколько песет и не двинуть их против
короля; особенно же я волновался, когда мой неприятель,
пиковый король, почему-нибудь долго не выходил. «Сейчас,
сейчас его откроют»,— твердил я себе. А когда наконец его
открывали, я выбегал на улицу в таком отчаянии, будто
спустил все свое состояние.
В тот день вышел король, и все во мне так и
подпрыгнуло — поставить против него. Рядом со мной стоял Пан-
чо Камахуани, игрок из самых «крепких» в Пласересе; его
прямо затрясло, когда он увидел, какая выпала
комбинация: червовый король, а против него — пики и трефы.
У Панчо было только два дуро, он оглянулся, ища, кто
мог бы составить ему компанию, чтобы пойти против
короля. Заметив мой пристальный взгляд, он сказал:
— Ну-ка, сынок, есть у тебя дуро, давай двинем по
этому королю, пополам, а? — И показал мне свои два дуро.
— Хорошо,— ответил я и отдал ему пять монет,
составлявших один дуро, все, что было в моем кармане.
Папчо Камахуаыи пошел, и тут же вышла одна из
наших карт.
— Оставь все, на два «квартета»,—приказал Панчо.
Бац! Вышла еще одна наша.
— Все остаются,— сказал мой компаньон.
— Идет.
— Двойка!
— Остаются! — сказал Панчо, когда крупье постучал
косточками пальцев об стол, приглашая расплатиться.
73
— Комплект? — спросил банкомет.
~~ Комплект! — хором ответили игроки из первого
ряда.
Вышла двойка бубен, потом четверка... и мы взяли на
двойке червей из «квартета».
Снова зашелестели карты. Вышли три карты ни туда
ни сюда.
— Баста! — воскликнул Панчо.— Что там мне
причитается? Я ухожу.
На мою долю пришлось девять песо. Назавтра я
истратил их, купив полдюжины шелковых платочков для
Сусанны, коробочку ментоловых таблеток для Рамиры и еще
какую-то ерунду. С тех пор я стал компаньоном Панчо
Камахуани. Мне везло. Банкомет, Рамон Кинтанилья,
человек, можно сказать, унизанный бриллиантовыми
кольцами, когда мы с Панчо выигрывали, подмигивал моему
компаньону, приговаривая:
— Вот что значит играть в паре с
девственником-новичком, сеньоры!
От моего карточного везения выигрывала Сусанна: ей
перепадали носовые платочки, коробочки с почтовой
бумагой и конвертами, флакончики духов, «импортируемые
из Гаваны», как имел обыкновение выражаться Астуриас,
хозяин лавочки.
Я рассказал все, что касается порока, гнездившегося в
казино. Другой же мой порок сеял драгоценные цветы и
семена своего молодого и сильного древа в обширном,
бесплодном и запутанном патио старых дев под смертельным
ветром желания, сжигавшего младшую из сестер.
Я уже говорил, что все они были так устрашающе
тощи и некрасивы, словно страдали бледной немочью, а
самая младшая из них была самой некрасивой, тощей,
бледной и немощной. Старшей, Росауре, исполнилось лет
сорок пять; восковая кожа, тусклый взгляд всегда
опущенных глаз, глухая монашеская поступь — все выдавало
в ней неисправимую старую деву. Две следующих по
возрасту, близнецы Петра и Паулина, отличались разве что
несколькими лишними фунтами мяса, они обожали
сплетничать, шептаться, слушать и рассказывать скабрезные
анекдоты, смаковать двусмысленные фразы. Девушками
их можно было назвать, пожалуй, лишь на словах, в Пла-
сересе их прозвали «Булка с Булкой» и передавали о них
ядовитые слухи. Предпоследняя, Маргарита, тоже около
сорока, была почти полностью парализована, у нее случа-
74
лись какие-то непонятные приступы и время от времени
страшно щемило под ложечкой. Младшей, Рамире, шел
тридцать пятый год. Смуглая кожа пергаментного оттенка,
так называемый римский нос, на подбородке черная
родинка с волосиками; когда она смеялась, открывались желтые
зубы и один совсем черный наверху, как раз посередине;
платья с ее угловатых плеч свисали, как с гвоздя, она
носила длинные рукава,— поневоле, чтобы скрыть волосатые
и узловатые руки, напоминавшие о питекантропе. Кто бы
захотел обнять такую!
И вот — ее сестры умерли бы от зависти — в постели,
если не смотреть на ее лицо, руки, а видеть только ноги,
от бедра, вы подумали бы, что перед вами статуя:
великолепные гордые ноги, всегда затянутые в черные тонкие
чулки — единственный предмет роскоши в туалете всех
пяти сестер. В этих черных чулках, на белом фоне кружев и
мелких складочек ее нижних накрахмаленных юбок, ноги
эти были очень хороши; потому-то, может быть, ей и
нравились черные чулки, они позволяли оценить ее
сокровище, ее единственную приманку, так как, несмотря на
многолетние и многократные разочарования, она все еще
мечтала найти человека, который, привлеченный единственно
красотой ее ног, «предложит руку».
Да, великолепные ноги. Начинаясь у сухощавых
крохотных ступней, всегда обутых в туфельки с низким
вырезом, они были очень тонкие в щиколотках, и швы чулок
являли взору две безупречные линии, прелестно
огибавшие икры и, прильнув под коленями, уходившие вверх,
венчая картину, по контрасту со щиколотками, полным,
торжественным аккордом. Созерцая эти ноги еще до того,
как мне было позволено увидеть остальное, я воображал
себе нечто белое, округлое и плотное, подобное тяжелым,
беленным известью колоннам в портале муниципалитета
нашего городка. Дивные, великолепные ноги!
Бедняжке Рамире вначале, может быть, показалось, что
я и есть тот самый, который «предложит руку»,
сраженный ее неотразимыми ножками; она забыла о двадцати
годах, разделявших нас, о том, что у меня к тому ,же были
мать, бабушка и дедушка, которые ни за что на свете не
допустили бы такую нежелательную инъекцию в самый
мозг нашего генеалогического канарско-испано-тропиче-
ского древа. Правда, кроме ножек, она могла еще
рассчитывать на старинную дружбу, связывавшую два наших
семейства, на то, что сестры видели меня ползунком, дер-
75
жали на коленях и даже, когда я был сопливым
мальчишкой, купали. Поэтому я мог пропадать в их доме целыми
днями, моих это не тревожило; все привыкли, что Рамира
приглаживает мне прическу, вытаскивает занозы, обрезает
ногти, читает со мной среди пышных фруктовых деревьев
в патио за домом и при этом как бы невзначай показывает
мне свои сочные икры. Не волновало это и ее сестер, —
вообще, я думаю, единственный мужчина, которого они
видели в своей жизни, был старый негр, кожа да кости, в
прошлом — раб в их доме, давно пришедшем в упадок;
теперь на его обязанности лежало ходить за покупками и
подниматься среди ночи, когда парализованной сестре
чудилось, будто зашумело во дворе или кто-то ломится в
дверь.
Рядом со мной Рамира испытывала желания не менее
греховные, чем те, которые вызывали во мне ее ноги;
сначала, еще надеясь, что я «предложу руку», она
сдерживалась, не выходя за рамки разных невинных пустяков —
причесать, вытащить занозу и тому подобное. Услышав
же от меня признание о помолвке с Сусанной, немедленно
разгневалась и романтически опечалилась; гневалась и
печалилась несколько дней, а затем открыла клапаны огню,
сжигавшему ее изнутри.
Однажды ей пришло в голову промыть мыльной водой
выпуклые узоры лампы, украшавшей гостиную. Она
взобралась на стремянку, которую попросила меня
поддержать, и распустила юбку почти над самой моей головой;
иногда, как бы стараясь достать повыше что-то там в
лампе, она расставляла ноги и в большое зеркало на стене с
удовольствием наблюдала, как я брожу взглядом в
глубинах ее платья, впервые блаженно открывая для себя
тайное тайных женщины.
То же самое повторилось в патио, когда я лежал под
деревом. Далее мы перешли к знобящему удовольствию
щекотки; я водил соломинкой по ее ногам, которые она,
лежа, выставляла на солнце, а она, в свою очередь,
щекотала мне лицо или руки.
Один раз вечером, когда белье, развешенное на
веревке, скрывало нас от взглядов ее домашних, она дала мне
почитать порнографическую книжку с рисунками,
которую выудила из шкафа у «Булок»; и пока я листал книгу,
она, застыдившись, спрятала голову в мои брюки,
висевшие на той же веревке: я принес их, чтобы Рамира вывела
пятна.
76
IV
В тот день в Пласересе начинались издавна
отличавшиеся особенной пышностью праздники в честь Иоанна
Евангелиста, святого покровителя нашего города. В
первый день — молебен святой деве и благовест во все
колокола, вечером — большая игра и бал-маскарад в казино, на
следующий день — обедня с хором, проповедь испанского
монаха, военный парад, военная музыка, школьники
стройными рядами и, кроме всего прочего, петушиные бои.
С самого утра городок заполонили крестьяне верхами; они
то собирались в кружки,— поэты и певцы в гуаяберах,—
то носились по улицам, устраивая скачки, паля в воздух
из револьверов (в подобных случаях это разрешалось) и
вздымая тучи пыли бешеным галопом явно валенсианско-
го происхождения.
Об этих праздниках в Пласересе по всей провинции
начинали говорить уже за месяц, не потому, впрочем, что они
были так уж значительны, а скорее потому, что в казино
по этому поводу обычно закладывался банк «общественной
благодати» в пользу бесчисленных благотворительных
деяний церкви; на самом деле речь шла о «благодати» при
помощи доброй толики дуро во имя душ судьи, алькальда
и начальника вылинявших служак из муниципалитета.
Ниньо Тоска, знаменитый банкомет из Сьенфуэгоса,
должен был держать банк в тысячу сентенов; из южного
городка Сагуа и других мест ожидался еще кое-кто из
«крепких орешков». Мы с Панчо Камахуани для такого случая
приготовили общую ставку — или, как говорят игроки,
«корову» — из двух монет.
Ниньо Тоска и некоторые из «орешков» прибыли
дневным поездом. Известие облетело городок с такой скоростью
и произвело такое впечатление, словно речь шла о событии
из ряда вон выходящем, словно прибыл епископ
собственной персоной или, по крайней мере, цвет
ораторов-автономистов. В восемь вечера все было готово к началу игры;
в дверях казино известный провинциальный игрок
продавал фишки, помеченные банкометом,—перламутровые
кружочки достоинством в унцию и кружочки из слоновой
кости — в сентен. Тому, кто не мог предъявить фишку хотя
бы в сентен, не разрешалось входить в казино,— не хотели
скопления мелочных игроков и зевак. Приобретя две
костяных фишки, мы с Панчо вошли в танцевальный зал и
примкнули к другим игрокам, прибывшим для участия в дол-
77
гсжданной и достославной игре сегодняшнего и
завтрашнего вечера. Какой игрок мог бы пропустить такую игру!
Банк в тысячу сентенов! Ниньо Тоска мечет, Генерал Са-
гуа крупье! С ума сойти! Не каждый день такое случается,
как сказал каталонец, владелец бильярдной.
Несколько позднее нас в казино гордо вошел Ниньо
Тоска, с шикарным тяжелым чемоданом в правой руке,
вместе с капитаном полиции, своим другом, а также
Генерал Сагуа, тоже с туго набитым чемоданом, и за ним целый
хвост игроков и любителей зрелищ и скандалов. По залу
пробежал восхищенный шумок, как бывает, когда в какой-
нибудь клуб, кипящий гражданскими страстями, в день
большого митинга войдет популярный политический
лидер.
Я подошел ближе к банкомету, чтобы рассмотреть его
получше. Он был совсем молод, высок, бледен, худ, с
красивыми черными набриолиненными усиками, в элегантном
белоснежном костюме из лучшего тика, в элегантной
шляпе, по жилету — золотая цепь с монетой вместо
брелка, на тонком золотом кольце бриллиант в добрую
горошину, сверкавший и переливавшийся, как дождевая
капля.
Несколько улыбок, обмен рукопожатиями с местными
«орешками», готовыми лопнуть от гордости, что они
друзья банкомета, и он направился в комнату, где его ждал
стол под зеленым сукном в окружении двух рядов
табуретов. Следом за банкометом просочились и мы, игроки.
Маленький столик в углу сгибался под тяжестью сигар и
ликеров. Четыре больших керосиновых лампы на угловых
консолях полуденным солнцем экватора освещали
почтенное собрание. Я дрожал от волнения и удовольствия,
словно в первый раз тайком пробрался на торжественное
собрание или знаменитые своей пышностью ритуальные
празднества ньяньиго.
Величественно и серьезно банкомет и его крупье
приблизились к столу, поставили чемоданы, вынули то, что там
находилось, и еще более серьезно начали готовить все
необходимое для банка. В самом центре стола они положили
две колоды дорогих карт, рядом — пять белых пакетов с
монетами, как пять свечек, на каждом сияло
ослепительное «530», затем башенки из перламутровых, костяных и
бумажных фишек и рядом — приоткрытый мешочек, из
которого на зеленое сукно тут же вывалились дуро и
песеты.
78
Нипьо и Генерал Сагуа сели друг против друга; каждый
взял по колоде карт и церемонно, словно совершая ритуал,
освободил колоды от тонкой обертки. У одной колоды
оказался синий крап, у другой — красный; банкомет и крупье
сбросили восьмерки и девятки; первые предназначались
для покрытия, вторые, разорванные на кусочки,— для
метки. Карты были мастерски раскиданы на четыре кучки, а
затем протасованы двадцать против двадцати. Крупье
положил свою колоду, протасованную и покрытую, на
середину стола, банкомет свою — напротив, одновременно
спрашивая:
— Кто снимет?
После этих слов воцарились такая тишина и
сосредоточенность, как в храме, когда поднимают чашу со святыми
дарами. Игроки колебались. Вокруг все стояли,
покрывшись каплями пота, с округлившимися от волнения
глазами.
Панчо Камахуани, стоявший рядом со мной, за вторым
рядом игроков, произнес:
— Ну-ка, я сниму.— Он протянул руку и снял.
Банкомет, нарочно выставив дрожащий палец с
бриллиантовым кольцом, чтобы ослепить жадно смотревших
игроков, покрыл, а затем выложил две карты справа и
слева от себя, и еще две — справа и слева от Генерала Сагуа.
Одна карта из «квартета» оказалась королем, три
остальных — белыми картами.
Так как банк этот был очень велик, игроки отдавали
деньги и фишки банкомету или крупье.
— Фишка в сентен — на двойку.
— Это на двойку пик, для семерки.
— Обе на короля против семерки.
— Четыре песо на верхние.
— Это песо на пятерку бубен.
Панчо сказал:
— Возьми эти два сентена, Сагуа. Поставь мне два
песо на короля и четыре вдобавок — против червей.
Начался промет, торжественно, с расстановкой;
сначала показывался кончик карты, тут банкомет чуть медлил,
затем открывал всю карту.
Мы начали хорошо. Панчо играл осторожно; если
карта была дана, он забирал деньги и продолжал. Мы взяли
шесть раз, и счастье нам изменило; и все же с тем, что мы
уже выиграли, плюс добавок получалось не так-то плохо.
Постучав костяшками пальцев о стол, Панчо попросил:
79
— Поставь еще раз два песо на короля и шесть — на
трефы против иик.
Если бы сейчас вышел пиковый король, мы бы
остались с пустым карманом.
— Как ты считаешь? — спросил меня компаньон.
— Согласен, король пик не может выйти,— отвечал я с
величайшим апломбом.
Снова сдали карты. Если показывалась
неблагоприятная масть, голова моя шла кругом, пробивал озноб и
прошибало холодным потом.
— Идут пики! Король пик!
Внезапно окаменев и даже как-то поглупев, я поднял
глаза на окружающих, полагая, что они, так же как и я,
поражены сверх меры этим неслыханным, нелепым
происшествием, почти катастрофой. Но судьба, оказывается,
приготовила мне еще один сюрприз, почище короля пик. Или
это галлюцинация?..
Напротив, скрестив руки на груди и пожирая меня
донельзя удивленным взглядом маленьких черных глазок,
стоял тот самый субъект, который шантажировал моего
дядю в Матансасе. Это был он, ну конечно! Он самый!
Убедившись, что не ошибается, он, судя по взгляду,
перешел от удивления к неприязни. А я, в свою очередь,—
к некоторому сомнению, осложненному внезапным
страхом, которого я не мог скрыть. В его глазах я читал: «Ага,
ты, стало быть, здесь? Отлично, теперь ты у меня
увидишь!» В моих же он мог без труда прочесть: «Откуда
взялась эта птичка? И что же мне теперь делать?»
Я пропустил последние повороты игры. Панчо Кама-
хуани говорил что-то насчет оставшихся у нас трех дуро,
которые следует поставить в последнем ходе против
короля. Я ответил наугад— «да». Под жгучим взглядом моего
знакомого незнакомца мне захотелось, сам не знаю почему,
немедленно скрыться, убежать. Я вышел из комнаты,
спиною ощущая следующую за мной по пятам тень,
задержался в портале, сел в единственное незанятое кресло и
тут же обернулся. Человек, ненавистный и страшный,
взглянув на меня исподлобья, прошел поодаль, пересек
улицу и уселся в садике, прямехонько перед казино, на
скамейке под фламбояном, явно выжидая, к<згда я сделаю
хоть шаг на улицу, чтобы напасть на меня.
Я решил не двигаться с места, пока мой страж не
покинет своего поста. Там, в парке, беспрерывно, как рабочая
лошадь на привязи вокруг водокачки, кружила воскресная
80
толпа: красотки Пласереса, армейские офицеры, щеголи в
пиджаках и в гуаяберах, солдаты и мальчишки. Ветер
доносил звуки оркестра, игравшего в центральном
павильоне. Преобладали пронзительные фиоритуры рожка и
оглушительные удары литавр, оживлявшие расхлюстанныя
дансон, больше похожий на румбу. Слышны были
шарканье и говор праздничной толпы возле лотков, где
продавали пончики и пирожки с начинкой.
Сыграли один дансон, начали другой. В казино входили
и выходили игроки. Мимо, по улице, проносились шумные
кавалькады разошедшихся ради праздника крестьян.
Куранты на часах муниципалитета пробили девять, и тут же
военный рожок заиграл вечернюю зорю, и оркестр в
павильоне принялся за очередной номер своей неизменной
воскресной программы... Пробило половина десятого, а мой
проклятый что-то замысливший недоброжелатель все еще
сидел на скамейке в парке с упрямством и коварством кота,
караулящего добычу. Я подумал, что по его милости зря
потерял сентен, и взбесился; негодование мое росло,
постепенно оборачиваясь против этого окаянного
соглядатая, пока не разразилось внезапным приступом
храбрости, как со мною всегда бывает, когда я твердо знаю, что
право на моей стороне.
«Ну, вперед»,— сказал я себе тоном человека,
принявшего героическое решение, и поднялся с кресла.
Тотчас вскочил, как на пружине, и этот человек.
Увидев, что я направился к дому, он пошел за мной, стараясь
держаться на расстоянии. Как только мы отойдем подальше
от ярко освещенной площади, он на меня накинется, это
ясно. Что ему нужно? Этого я не знал, но видно было, что
его взволновала встреча со мной, даже игру бросил и весь
вечер подстерегал меня на той скамье, под фламбояном.
Хорошо, теперь я готов ко всему. Пусть он подойдет, и
пусть наконец все прояснится... А если у него с собой нож
или что-нибудь в этом роде? Как в тот день, на стадионе,
когда играли в пелоту, в Матансасе? Ладно, допустим, у
него в кармане нож. Ну и что? Какая ему корысть всадить
этот нож в меня и вообще чего ради ему на меня нападать?
Так я подумал и зашагал быстрее. Конечно, со страху,
я же был совершенно безоружен. Шаги позади слышались
все ближе, и я почувствовал себя как человек, ожидающий
выстрела в спину или удара ножом между лопаток. Из-за
этого я шел почти боком, чтобы хоть вполглаза
поглядывать за моим врагом.
6 К. Ловейра 81
На мое счастье, когда казалось уже, что он вот-вот
наступит мне на пятки, послышалось цоканье копыт,—
невидимый всадник поворачивал от площади и быстро
догонял нас. Я резко обернулся и увидел, что мой
преследователь замедлил шаг и метрах в десяти от меня словно
растаял в тени одного из порталов, но его острые крысиные
глазки, поблескивая в тусклом свете фонаря, продолжали
следить за мной.
Всадник приближался, поравнялся со мной и...
— Здравствуй, Игнасио!
Это был мой дядя.
— Здравствуй, Рафаэль!
— Ты домой?
— Да.
— Пошли вместе.
Я прибавил шаг. Рафаэль, напротив, сдержал лошадь,
и мы пошли в ногу. Он возвращался от невесты, мы
поговорили о ней, о Сусанне, о праздниках. Мой неотступный
преследователь остался, без сомнения, в темном портале,
а затем будто испарился, потому что как только брат моей
матери так кстати появился рядом со мной, я ничего не
видел сзади и не слышал никаких шагов.
Вернувшись домой, я бросился в постель. И пока
Рафаэль расседлывал лошадь, а затем болтал о чем-то в
гостиной, я мысленно перебрал все, что со мною случилось;
мне хотелось понять поведение этой зловещей птицы, как
с неба свалившейся в Пласерес, и соответственно
сообразить, как защититься от его явно злых намерений.
Почему бы ему иметь против меня злые намерения? Да
потому, что он боится, что я расскажу про Матансас.
Хорошо, а зачем он вообще сюда приехал? Может, как
многие, соблазненный тысячным банком Ниньо Тоски? А вдруг
он приехал на какое-то время в поисках новых жертв?
Нет, как бы там ни было, лучше все-таки нам встретиться
и поговорить, и пусть он убедится, что я вовсе не намерен
болтать о том, что было, и о том, кто он и что он.
Открыться только маме, конечно, предупредив, чтобы она никому
ни слова, иначе это может стоить мне жизни... А если —
Сусанне, будет, по крайней мере, о чем посекретничать
завтра вечером, а завтра как раз день визита. Только ни в
коем случае не говорить, что я встретил его в казино! Уже
были неприятные разговоры, до ее родителей дошли
слухи о моей склонности к карточной игре. Несмотря на то,
что от всех волнений этого вечера голова у меня шла кру-
82
гом и, кажется, не осталось ни одного живого нерва, я стал
быстро засыпать, и перед тем, как заснуть совсем, принял
решение: если этот тип примчался в Пласерес только
затем, чтобы участвовать в «благотворительном банке» и,
стало быть, скоро уберется восвояси, лучше всего мне весь
завтрашний день не выходить на улицу. А чтобы не
расспрашивали, в чем дело, вот предлог, вот спасение —
страшная головная боль. После ванны она, конечно, у меня
пройдет, и можно будет пойти к Сусанне, но уж и речи не
может быть ни о парикмахере, ни о чем таком, для чего
надо выходить из дому до восьми вечера, а ровно в восемь
я, тщательно причесанный, благоухающий с ног до
головы... иду к моей невесте и рассказываю ей необычайную,
потрясающую историю о том, как я столкнулся с героем
моей прошедшей ночи, и... и я заснул тяжелым, глубоким
сном.
Наутро я проснулся с сильнейшей головной болью,
мучившей меня до той самой минуты, когда пришло время
принять ванну; после ванны я оделся, как всегда в день
«дозволенных визитов», и, поужинав приблизительно без
четверти восемь, преодолел последнее препятствие в виде
тротуара, отделявшее меня от дома «девиц Рубио», и занял
наконец кресло, ожидавшее, когда я приду, рядом с
другим, в котором вот уже полчаса ожидала того же Сусанна,
конечно, очаровательная в тот вечер; словно после того,
как мне разрешили открыто посещать их дом, она стала
более взрослой,— белоснежное, в кружевах платье без
пояса, скрывавшее ножки до щиколоток, зато с низким
декольте и открытыми руками. Темные густые волосы самым
обольстительным образом были собраны на затылке и
перевиты голубой лентой. Букетик фиалок дрожал на
высокой груди, заставляя угадывать там, в глубине, двух
голубок, нежившихся в ревнивых объятиях корсета. Черные
глаза ее горели огоньком ожидания наступающего, почти
наступившего часа свидания. Прелестная улыбка
навстречу мне, открывавшая ряд правильных белых и блестящих
зубов, казалось, просила долгого и крепкого поцелуя. Да,
наша любовь шла вперед, совершая свой естественный
путь. Да, да, из моего общения с Рамирой я знал уже, что
такое приступы страсти, я умел не только оценить красоту
того, что открывалось взору, но и проникать взглядом и
воображением сквозь платье, видеть скрытые совершенства
моей невесты, особенно если Мерседес поворачивалась к
нам спиной или Росита засыпала с книгой на коленях.
83
Как шло Сусанне это белое свободное, чуть схваченное
крахмалом платье, как от самого легкого ее движения
вырисовывались под ним круглые, крепкие линии созревшего
плода! Как красива была моя невеста в тот вечер!
И Мерседес тоже была очень хороша, она вышла в
гостиную, как только я появился. На ней было выходное
платье из кремового газа на розовом чехле, невероятно
стянутое в талии, отчего еще больше выделялись грудь и бедра.
Высоко, искусно завязанные банты и две пышно
распустившиеся розы в углублении груди сообщали
элегантность ее туалету.
Роскошь костюма Мерседес была для меня
неожиданной, и первое, что я подумал,— забыв об одежде
Сусанны, нарядной, но не для выхода,— что сестры собираются
прогуляться по площади, ведь шел последний вечер
праздников. Этого только не хватало! Меня пусть даже и не
приглашают, вдруг я опять встречу этого человека?
— Вы собираетесь гулять? — спросил я Сусанну.
— Нет. Почему?
— Я вижу, как одета Мерседес.
— Ах! Нет. Дело в том, что вернулся Нэнэ. Сейчас он
должен прийти, в первый раз после разлуки.— И,
восхитительная и наивная, добавила, улыбаясь: — Тем лучще.
Правда? Теперь, когда их стало двое, мы будем как будто
совсем одни. И потом: может быть, тебе теперь тоже
позволят приходить каждый вечер, как ему.
Подошла Мерседес, подарив меня улыбкой и
приветливым:
— Как поживаешь?
— Хорошо, спасибо. Поздравляю тебя.
— Благодарю.— И она отошла от нас к двери на улицу.
— Никак не дождется, поздно, а Нэнэ не идет...
Четыре месяца не виделись, и вот...— сказала Сусанна. И
спросила меня ласково: — Ты так не сделаешь?
— Нет, прелесть моя... Послушай, я расскажу тебе од-*
ну историю. Такой странный случай. Вчера на площади
встречаю вдруг одного человека и... Ах! Это он!
У меня сорвалось с языка, правда, почти шепотом,
невольным вздохом, так меня поразило его появление,—
кровь, что называется, застыла в жилах. В этом доме, в
доме моей невесты, он, страшный человек! И к тому же,
оказывается,— воистину и вправду непостижимо,— жещх
Мерседес! Нэнэ! Человек, обладающий даром появляться
как по волшебству и сражать наповал!
84
Пока он меня не видел, стоя в дверях, с жаром, ото всей
души пожимая изящные белые ручки Мерседес Рубио.
Моей — не нынче-завтра — сестры! Невероятно!
Настолько невероятно, что, не будь я парализован
изумлением, мог бы воскликнуть: «Как, это и есть тот самый
Нэнэ!»
Но я этого не сделал, и слава богу. Сусанна и так
встревожилась, увидев, как я переменился в лице; видимо,
я побледнел, потерял дар речи, в полном смысле слова —
обалдел; нужно было взять себя в руки, заговорить о чем-
нибудь безразличном, постороннем, особенно когда он
войдет и тоже, наверное, испугается, увидев меня. Хорошо,
что я его раньше увидел и успею оправиться от первого
впечатления.
— Господи, что с тобой? Ты его знаешь? Почему ты
вдруг так? — приставала Сусанна.
Я уже понял, что отрицать глупо.
— Да, я знаю, кто он. Кстати, моя история как раз о
нем. Но, друг мой, если он войдет, я не смогу рассказать
тебе.
— Конечно, я думаю, он войдет... А ты потихоньку,
как мы всегда разговариваем, я услышу...
— Нет. История эта такого рода, что... скверная
история, одним словом... а он жених твоей сестры.
— Вот поэтому ты и должен мне рассказать. Видишь
ли, у нас в доме, за исключением Мерседес, все против
него. Его терпят потому, что она от него без ума.
— Только поэтому?
— Да. Мерседес вертит родителями, как хочет, их
ослепляет любовь, она для них все на свете.
— Действительно, она для них все на свете, раз так...
Но при всем том, мне кажется, человек этот...
— Ужасный, ужасный, невозможный. Гуляка, игрок,
скандалист, грубиян, вообще, все, что хочешь.
— И груб к тому же?
— Ох! К каждому слову какая-нибудь...
непристойность... А когда выйдет из себя, это уже не человек, а бык.
Того гляди, бросится, клянусь.
И так как я молчал, вдвойне встревоженный, слушая
эти громовые раскаты, она продолжала перечислять
«достоинства» Нэнэ.
— И видишь, как он одевается, этот... площадной шик,
знаешь... гуаябера, широкие брюки, соломепная шляпа
набекрень и длинные волосы, и вообще... терпеть его не могу!
85
Мама говорит, что никак не может понять, как это
Мерседес, такая тонкая, такая воспитанная, такая... красивая
(она же красивая, правда?), может любить этого человека,
настолько ниже нее. А дядя Хусто говорит, что так и
должно быть,— таковы все мы, женщины: куриные мозги,
влюбляемся в первого встречного, наговори он нам
всякой приятной чепухи, особенно если он красив, смотрит
щеголем, героем и покорителем женщин; что не она
первая, не она последняя — красивая, воспитанная и
умная — влюбляется в такого пустого, грубого и пошлого
парня, каков Нэнэ... Ты ведь не думаешь так, правда?
Мне захотелось подразнить ее:
— Думаю, дон Хусто прав.
— Ничего подобного, ты ведь совсем другой, а я...
тебя очень люблю... ты сам видишь.
— Очень?
— Очень, очень.
— Я люблю тебя больше.
— Да, как же. Это ты так говоришь.
Мгновенно у меня вылетел из головы Нэнэ и все, что
было угрожающего в его появлении, весь мир; я уже
плыл по восхитительным и сладким волнам любовного
разговора.
Но экстаз наш длился недолго. Вошли Мерседес и
Нэнэ. Увидев меня, он остановился, руки — как плети,
и побледнел, не сумев скрыть внезапного замешательства.
И его «добрый вечер» прозвучало слабо и как-то
машинально.
— Добрый вечер,— ответили хором Сусанна и я.
Мы встали с кресел, и она, точно против воли
повинуясь неприятному долгу, прибавила:
— Ну как поживаешь?
— Хорошо. А ты?
Так как «добрый вечер» я произнес голосом ясным и
твердым и весь мой вид излучал спокойствие и полнейшее
понимание, Нэнэ быстро пришел в себя и, словно желая
подчеркнуть, что он мужчина и останется им в любых
обстоятельствах, словно желая ради своих далеко идущих
целей подавить мою волю наглостью, пронзил меня
быстрым взглядом маленьких, острых глазок, в эту минуту
напряженно, воинственно округлившихся.
Я выдержал его взгляд с деланным безразличием
бывалого человека, которого не удивишь и не испугаешь.
Мерседес представила нас:
86
— Игнасио, познакомься с Феликсом Вальдесоы, моим
женихом.— И, обращаясь к нему, завершила
церемонию: — Игнасио Гарсиа, жених Сусанны.
Обронив «очень приятно» и прочее, мы пожали друг
другу руки, причем он сжал мою крепко, словно стараясь
доказать, что он сильнее, а я смотрел ему в лицо смело,
улыбаясь, как будто говоря: «А мне не больно, не очень
старайся».
Они уселись в качалки, стоявшие с небольшим
промежутком в ряд с нашими. И мы, две парочки, погрузились
каждая в свой разговор шепотом; слава богу, на этот раз
за нами никто не приглядывал, потому что Росита не за-
хотела выйти в гостиную, и Сусанна рассказала мне
почему:
— Для мамы сегодняшний день был чистое мучение.
Она очень расстроилась, узнав, что прибыл ее злейший
враг, как она называет Нэнэ. И потому, хотя она всегда
следит за тем, чтобы соблюдались приличия, сегодня не
выйдет «приглядывать» за нами, чтобы только не
здороваться с этим; она хочет показать ему, что недовольна его
приездом. И вообще... не знаю... мне не нравится, как они
сидят... совсем сдвинули кресла... и это вот, что они
позволяют себе... это и есть любовь? Ведь правда, что нет? Из-
за этого самого мама его терпеть не может. Вот тебя она
очень хвалит, ставит в пример, как прекрасного молодого
человека; мне кажется, она тебя уже любит, как родного
сына.
— Так оно и есть.
— Да, почти. Ты можешь стать ее сыном. А он
просто какое-то несчастье для всей семьи. У нас одни
неприятности, как только он стал женихом, с первого дня этой
проклятой помолвки; потому что, понимаешь... Во многих
приличных домах его не принимают, мы потеряли хорошие
знакомства. А Мерседес хоть бы что, она сходит с ума,
тает... Тебе смешно? А меня бесит!
— Мне смешно, что я вижу тебя такой — серьезной,
сердитой. Фрр!..
И мы снова погрузились в идиллию. Но у наших
соседей не все как будто было ладно. Я чувствовал, что Нэнэ
насторожил ухо в нашу сторону, боялся, наверное, как бы
я не рассказал Сусанне о его «шантаже под гитару»; он
беспокойно ерзал на месте, то и дело жадно оглядываясь
на меня, словно стараясь поймать слова, которые
подтвердили бы то, чего он недаром боялся.
87
Понемногу, однако, и они увлеклись разговором,
повернули свои качалки друг к другу, а спинка той, в которой
сидел Нэнэ, почти полностью скрывала от нас обоих, но
все же мы не могли не заметить, что лица их совсем
близко, что теперь они почти касаются друг друга губами, не
могли не слышать глухого, нетерпеливого шепота Нэнэ.
И тут неожиданно для себя я почувствовал властную
потребность попросить Сусанну кое о чем.
— Ты говоришь, что любишь меня больше всего на
свете? Докажи это!
— Смотря...
— А!.. Вот как? С условием... «смотря»...
— Хорошо, без «смотря». Ты не можешь попросить ни
о чем дурном.
— Нет, ничего дурного в этом нет... Мне ужасно
хочется поцеловать тебя. Разреши мне один поцелуй.
— Поцелуй? — переспросила она, не на шутку
удивленная, переменившись в лице, словно услышав бог знает
какое ругательство, словно я грубо дотронулся до ее столь
страстно желанной мною высоко приподнятой,
взволнованно дышащей груди.
— Да, один поцелуй,— настаивал я очертя голову,
прикидываясь наивным дурачком, вымаливающим самую
невинную вещь в мире.
Глубоко вздохнув, она проговорила:
— Боже мой, вот не ожидала! — И добавила
решительно и гневно: — Никогда больше не смей говорить мне об
этом! Что ты себе вообразил?
Никто не учил меня, как поступают в таких случаях, я
сам, не раздумывая, догадался применить известный от
веку стратегический ход:
— Дурочка! — И я улыбнулся ей улыбкой сильного
мужчины, снисходящего к ее женской слабости.— Я ведь
говорил тебе, что ты мне очень нравишься, когда
сердишься?
— Да, да, ты полагаешь, что уладил дело.
— Ничуть, дорогая! Я это сделал, чтобы услышать,
что ты скажешь. Думаешь, если бы ты была из этих,
доступных девушек... я бы мог любить тебя, как я люблю?
Послушай! Это мне больше всего в тебе и нравится: что ты
такая хорошая и такая чистая. Я заранее знал, что ты
скажешь*— нет; и я знал еще, что ты не будешь долго
сердиться. Я не ошибся?
Она повеселела немножко, но не уступала, в глубине
88
души несмотря ни на что продолжая негодовать, и в
милых нашим двум сердцам нежных препирательствах и
уступках пролетело время. Когда я случайно взглянул на
*тсы, было без четверти десять. Я вскочил с места и,
сделав шаг, оказался лицом ко второй парочке. Их качалки
тут же отлетели одна от другой; Мерседес, с
разгоревшимся лицом и блестящими глазами, прикрывала руками
грудь, чтобы скрыть совершенно расстегнутую блузку.
Нэнэ скрестил ноги и провел платком по потному лбу.
Подчеркнуто прямо глядя ему в глаза, я улыбнулся,
раскланялся, взял из рук Сусанны свою шляпу и, выйдя на
улицу, облегченно хлебнул свежего воздуха, с
распахнутым сердцем, пьяный от неведомого мне чувства,
сотрясавшего все мое существо и заставлявшего воображать самые
невероятные, сводящие с ума картины. Например:
Сусанна, в прозрачной розовой рубашке, в черных чулках с
подвязками, тоже розовыми, широкими, с пышными
розетками, распустив темные, шелковистые, ласковые свои
волосы, сидит у меня на коленях, ее белые руки обвили мою
шею, а губы прильнули к моим в откровенном, влажном,
бесконечном поцелуе...
«Не будь так поздно, можно было бы завернуть к Ра-
мире»,— подумал я, покидая дом «девиц Рубио».
Я пошел домой; помедлив у входной двери, отворил ее
и направился в свою комнату, несколько успокоившись,
потому что помимо волнений, сотрясавших мою
юношескую плоть, меня начало лихорадить от таких мыслей:
«Значит, это и есть пресловутый Нэнэ? Значит, он живет
в Пласересе? Теперь держись, такие, как он, на все
способны! Как он целовал Мерседес, да и не только целовал,
там, посреди гостиной, при полном свете и при людях!
А вообще-то... ну и что? В конце концов ему можно
позавидовать. По правде говоря, я и сам не из тех, кто любит
покорно, болезненно, я не из женихов, заморенных до
идиотизма условностями, тем, что принято и что не
принято. И — что тут говорить — чего бы я не отдал, чтобы
вести себя с Сусанной так же, как Нэнэ с Мерседес!
Целовать ее, пробираться рукой под платьем к плечу, за вырез,
к белому, матовому, крепкому, круглому... Чего ради
подвергать себя такой муке: сидеть рядом, вечер за вечером,
возле женщины, столь желанной мной и, очень
возможно, желающей меня, юной, прекрасной, сильно любимой, и
во что бы то ни стало сдерживать повелительные
требования любви, пожирая ее лихорадочно блестящими глаза-
89
ми,— ведь все равно, владея его в своем воображении... Во
имя чего? Во имя... морали. Но, боже мой, вот Нэнэ дела
нет до морали, и как же ему хорошо. И Мерседес, ей ведь
тоже очень нравится переступать эту мораль. Да, но... с
Нэнэ! Действительно, прав дон Хусто. Вульгарный тип, ни
читать, ни говорить путем не умеет, и притом обращается
с Мерседес свысока, будто это он, любя ее, оказывает ей
честь. Да, а может быть, не так уж и прав дон Хусто.
Потому что женщина — это... женщина, а тело... один из
злейших врагов души. Не слишком ли много философии для
молодого человека из глуши, хоть он и бакалавр! А, нечего об
этом думать. Гораздо важнее вот что: останется Нэнэ в
Пласересе или нет? Если останется, как мы с ним дальше
будем? С другой стороны, может быть, не так уж и плохо,
если он останется,— кто знает, глядишь, и мы с Сусанной
заразились бы...»
После половины ночи без сна и целого дня
мудрствований я уверил себя, что Нэнэ мог иметь тайные,
враждебные намерения, и, чтобы убедиться в этом или, по
крайней мере, больше не сомневаться, решил на
следующий же вечер после нашей встречи в доме «девиц Рубио»
пойти прогуляться по площади в надежде встретиться с
этим человеком. Я хотел поговорить с ним откровенно,
дать понять, что ему нечего бояться меня. Что мне дела
нет до того, что произошло между ним и дядей Пене, и
тем более до того, что он теперь жених Мерседес. Чтобы
он перестал следить за мной, смотреть на меня с
подозрением и угрозой. В конце концов что он мне?
Поужинав, я направился к площади, решив во что бы
то ни стало увидеть его. Придя в себя после праздников,
городок стал таким, каким был всегда: по вечерам на
окраинах — тихо и темно, в центре — слабо освещенная
площадь, кафе и дома, шум бильярдных шаров и костяшек
домино, в портале аптеки все тот же кружок радетелей за
мировое устройство, у входа в казино — компания
известных всем сплетников.
Я вошел туда. Было еще рано. Бильярдисты и
искусники зеленого стола только начинали подходить. Пока
лицом к табло в черную и белую клетку восседала
парочка старичков, ветеранов казино, открывших уже игру
хитроумным ходом из четырех коней. Я вернулся в портал
и, приумножив группу шептунов, сел в кресло поджидать
моего Нэнэ; я был уверен, что перед тем, как пойти к
невесте, он обязательно завернет сюда.
90
Через несколько минут я узнал его в человеке в
белом костюме и в соломенной шляпе, шедшем через парк
по направлению к казино. Как только он попал в полосу
света от фонаря, я убедился, что это и есть злейший враг
Роситы, и вышел, чтобы поздороваться и начать разговор.
Увидев меня, он остановился под фламбояном. Я шел
ему навстречу, сильно билось сердце, ноги мои
заплетались, скорее всего я был похож сейчас на начинающего
пьяницу, который изо всех сил старается идти по прямой.
Пересилив себя, я произнес спокойно и насколько мог
дружелюбно:
— Добрый вечер, Нэнэ,— и пошел дальше.
Он сухо окликнул:
— Послушайте!
Его обращение на «вы» в ту минуту прозвучало
неприятно и даже страшно. Я остановился. Нэнэ сел на
скамью под фонарем и, указывая на противоположный край,
прибавил:
— Садитесь.
Он сидел, уставясь на грязную пустую банку из-под
сардин у наших ног, и, видимо, соображал, что сказать»
И противно, свински некорректно цыкал языком в зубах.
Освободившись наконец от того, что у него там застряло,
он заявил:
— Этот зуб действует мне на нервы.
— Нет хуже зубной боли, правда?
— Хоть на стенку бросайся!
Говоря это, он снял свою крохотную шляпу с узкими
полями, вынул из-за подкладки спички, а из-за пояса
хорошенький, искусно сделанный ножичек, и свет фонаря
зловеще заиграл на его лезвии. Сунул спичку между
досок скамейки и отточил ее в зубочистку, почти без
усилий, потому что лезвие ножа было острым, как бритва.
Я тайком оглядывал площадь вокруг. На соседней
скамейке два солдата и полицейский горячо обсуждали что-то.
Это несколько укрепило мой дух, дав совладать с собой, ибо
нервы мои расходились и меня так и окатывало страхом; я
изо всех сил старался, чтобы зубы не щелкали, как
кастаньеты; мужество мое съежилось до того, что я не знал
даже, куда оно делось.
Но я несколько приободрился, увидев, что нож
вернулся в ножны, а его владелец, прочистив зуб и сплюнув в
сторону, спросил грубо:
— Вы меня знаете, да?
91
Я не упустил случая пошутить подобающим образом и
ответил, улыбаясь:
— Конечно. Меня вам представили вчера вечером, вы
разве не помните?
— Нет, нет. Вы знали меня еще раньше?
— А, да... вы имеете в виду Матансас?
— Это я и имею в виду. Чтобы разъяснить вам, что в
Матансасе вы меня знали. Но теперь вы меня знаете
лишь со вчерашнего вечера, знаете как жениха Мерседес и
как человека, в Пласересе всеми уважаемого, и... без
историй. Вы меня слышали?
— А как же.
— И вы меня поняли?
— Ну как же.
— Послушайте! Это ваше «как же, как же», вы его
бросьте, вы что, смеетесь надо мной? — выпалил он и
вскочил на ноги, готовый к драке.
Чтобы успокоить его, я остался сидеть и поспешил
ответить:
— Нет, что вы. Я никогда не смеюсь над настоящими
мужчинами.
— Вот именно, я и есть настоящий мужчина.
— Это видно. Кто же сомневается? И, кроме того, мне-
то лично все равно, что вы сделали... И какое мне дело,
что вы теперь жених Мерседес?.. Напротив... В конце
концов каждый хозяин сам себе, и никто не имеет права
соваться и указывать ему, что хорошо и что плохо. Я не
сплетник. По мне, выкручивайся каждый как хочешь.
— Вот так-то. Я вижу, ты парень что надо.
Мужчины — это мужчины, а не бабы, и когда нужно провернуть
какое-нибудь дельце, ты его проворачиваешь, а там будь
что будет. Правильно я говорю?
— Безусловно.
— Очень рад, что ты не ищешь со мной ссоры и хочешь
стать мне другом. Потому что если я кому враг, то...
одним словом, меня от горла не оторвешь... Но уж если я
кому друг, то я надежнее самого надежного, я за своих
шкуру не пожалею. Я скажу Мерседес, чтобы она
уговорила старуху, пусть тебе позволят посещать Сусанну
каждый вечер, хочешь?
— Прекрасно, если только возможно...
— Ясно, возможно... я тебе объясню кое-что, чтобы ты
мне не мешал... ну и чтобы тебе было не скучно с
девчонкой.
92
Мне не очень-то улыбалось слушать его, и, конечно,
все отразилось на моем лице. Мой собеседник, без
сомнения, заметил это; заговорщически улыбнувшись, он
сказал:
— Дело ясное, послушай, у меня есть опыт. Что ты
обижаешься, я хочу тебе добра. С женщинами нельзя быть
чересчур влюбленным и хлопать ушами. Нужно быть
смелым, целовать их, играть с ними, и... пусть знают наших;
пусть распробуют, в чем вкус похлебки, тогда и ты
похлебаешь. Иначе ты сам... похлебка, не более... Ты видел, как
Мерседес со мной?
—- Ах! Но Сусанна не позволит ничего такого.
— Как это не позволит? Посмотрите на него! Все
зависит от момента. Выбери день, когда она разнежится,
разомлеет, прикроет глаза, вот так, и начинай, попробуй
пощекотать ей руку, ну бумажкой, карандашом, веером,
что попадется под руку. Как только она позволит тебе это,
считай — дело сделано. Дальше — больше, и потом уж сам
дьявол ее не остановит. Значит, сначала пальцы, затем
рука (и что за руки у них у обеих, я тебе скажу!), а
потом — лицо, и... что хочешь... И это уже не женщина —
воск.— И закончил нагло и самоуверенно: —Уф! Еще бы!
Уж я-то знаю!
Невольно я сделал гримасу, которую тут же
постарался скрыть, мотая головой и говоря:
— С моей Сусанной это невозможно*
— Что невозможно? Попробуй, сделай, как я тебе
говорю, и увидишь.
— Я уже пробовал.
~ Ну?
— Она вышла из себя, и мы чуть не поссорились.
— Ну, не сразу же, парень, не сразу. Жди
подходящего момента и не зевай. Не будь дураком, женщины
чувствуют то же, что и мы. То же самое. Не будь дураком, и
все у тебя выйдет,— Он поднялся и добавил
решительно: — Ты увидишь. Я буду тебя учить. А теперь пойдем
выпьем джина.
— Джина «Кампана»? — осмелился я спросить с
лукавой улыбкой.
, — Конечно! — И он цинично рассмеялся: — Ха-ха-ха!
Да, вот именно. Пойдем выпьем по одному джину «Кам-
паиа».
Несколько дней спустя после мутного урока
мутного жениховства, который преподнес мне Нэнэ, и благо-
93
даря объединенной и настойчивой осаде обеих сестер
Росита разрешила мне посещать Сусанну каждый
вечер.
В один из моих визитов, теперь ежедневных, я
попытался применить к Сусанне тот самый от веку известный
план любовного соблазна, в романтическом стиле того
времени, когда начинали, невинно лаская руку, а кончали
самым потрясающим образом. Я попробовал, потому что
момент был именно подходящий, чтобы вспомнить уроки
проклятого Нэнэ, потому что меня подталкивало то
сладострастное чувство, которое я испытывал каждый раз
перед тем, как уйти от Сусанны, и которое в тот вечер
сделалось совеем нестерпимым.
Был душный вечер. В гостиной в белом платье с
лиловыми цветами Росита, устроившись в кресле лицом к
свету и к распахнутому окну, чтобы легче дышалось, читала
какую-то толстую книгу. В двух качалках возле
фортепьяно, полностью отделившись от всех, ворковали
Мерседес и Нэнэ; она, в свободной блузе, откинувшись назад и
потупив глаза, словно в забытьи, отрицательно
покачивала головой, как будто отказывая в чем-то Нэнэ; он,
наклонившись над креслом, почти скрыв ее от наших
глаз, возбужденно настаивал, я слышал неясные
повелительные восклицания. Сусанна и я сидели, как всегда, в
своих качалках, тоже очень близко друг от друга, в той
же стороне гостиной, что и они. Она была одета в одно из
своих белоснежных, изящных длинных платьев с
кружевами, с широкими по локоть рукавами и большим декольте,
из-за которого соблазнительно выглядывал вышитый край
сорочки с продернутой тоненькой розовой ленточкой. Она
причесалась в тот вечер так, как мне больше всего
нравилось,— в одну косу, подобрав ее петлей и подвязав на
затылке широким розовым бантом.
Мы говорили очень тихо, словно зачарованные своей
нежностью, и не могли наговориться и наглядеться,—
дрожащие, пересохшие губы, разрывающиеся от желания
сердца.
Смотря ей в глаза, я подобрал с ее колен маленький
веер, мой подарок, который она, страдая от духоты,— о,
моя прелесть,— взяла в гостиную. И начал ласково водить
веерным колечком по ее руке, лежавшей на подлокотнике,
от кисти до локтя, и мы продолжали наш разговор,
неустанно спрягая глаголы «любить» и «желать», не отводя
взгляда друг от друга.
94
Она позволяла, и я подумал: вот он, тот самый
момент, о котором говорил Нэнэ. Продолжая держать веер
между указательным и большим пальцами, я попытался
гладить не колечком, а пальцами. Но как только я
дотронулся до ее нежной кожи, она убрала руку, сказав с
укором и мольбой:
— Почему ты такой?
— Какой?
— Такой. Почему тебе нравится мучить меня в такую
минуту, когда вся моя жизнь принадлежит тебе? Разве
мало, что я люблю тебя больше всего на свете? Разве
недостаточно, что мы с тобой вот так, рядом, час за часом,
счастливы несказанно? Мне кажется, лучше и быть не
может,— смотреть друг на друга долго-долго, сидеть рядом,
близко-близко. Почему ты вдруг делаешься недобрым?
— Чем же я виноват, что я делаюсь недобрым, душа
моей души? Виновно то, о чем ты сама говоришь: мы так
близко, совсем рядом, и я с ума схожу, видя твои глаза,
руки, плечи,— все, что есть ты,— и зная, что все это
принадлежит мне. (Ты слышишь? Мне!) Когда я смотрю на
твое милое личико, пью твое дыхание, мною овладевает
неудержимое желание целовать тебя, сжать в своих
объятиях, крепко, крепко, и...
— Хватит, Игнасио, не продолжай,— оборвала она
резко. Ей было стыдно, она была обижена.
Совесть меня кольнула. Будь проклят Нэнэ! Это он
виноват во всем, и больше никто. Боже мой, неужели мне
недостаточно чистой любви, такой вот глубокой, нежной,
истинной любви моей Сусанны, как мог я ставить ее на
одну доску с какой-нибудь там Рамирой! Сусанна такая
красивая, такая хорошая... Да... А может быть, я глупец?
Чем в это время заняты Нэнэ и Мерседес? И как она его
любит... К дьяволу! Надо быть мужчиной, как Нэнэ. Разве
я виноват, что сладострастие мучает, сжигает меня, когда
я рядом с Сусанной? И можно ли вообще оставаться
бесчувственным бок о бок с женщиной, любимой и
желанной всем твоим существом, видя ее дивное лицо, горячие
глаза, впивая сводящий с ума аромат ее тела, волнуемого
так же, как и мое, неведомыми до сих пор желаниями? Что
за вздор! Те, кто это выдумал, и те, кто потом с этим
согласился, сумасшедшие или дегенераты, не мужчины, нет.
А нужно быть мужчиной. Как Нэнэ — мужчиной из
мужчин!
— Ты такой скучный, такой задумчивый, отчего?
95
— Оттого, что ты недобрая,— с подчеркнуто скорбным
самоотречением произнес я.
Быстро и неуступчиво она ответила:
— Это ты недобрый.
Она постепенно успокаивалась, и я понял, что если
она сопротивляется, то оттого только, что не наступил еще
тот самый подходящий случай, который должен принести
мне победу, и начал потихоньку гнуть ту же опасную
линию, жалобно протестуя и в то же время не упуская
возможности обосновать философски свои страдания.
— Нет, недобрая ты. Разве я виноват, что так в тебя
влюблен, так безумно люблю? И ты меня любишь, разве
от одного этого не потеряешь голову? Не станешь желать
счастья, невыразимого счастья сжать тебя в своих
объятиях? Ну что же мне делать, скажи? Может быть, лучше
нам не сидеть так близко? Может быть, мне не приходить
больше в этот дом?
На этот раз протестовала она. Но я, уверив себя, что
мой час еще не пробил, опять свернул разговор на
платонические темы.
И так...
И так до дня свадьбы одной девушки из богатой
местной семьи.
Свадебная церемония была назначена на десять часов
вечера. Присутствовать должен был весь цвет Пласереса.
Росита, по доброму провинциальному обычаю, вместе со
своими домашними собиралась прихватить в церковь
дочерей некоторых соседей. Мне разрешили не возвращаться
домой до полуночи. От Мерседес я знал также, что и Нэнэ
не пропустит такого события.
В тот вечер, выйдя из дома «девиц Рубио» в обычный
свой час, в половине десятого, я, чтобы убить время,
заглянул в казино, поставил несколько реалов, выиграл
немного и, увлеченный игрой, вспомнил о десяти часах,
когда пробило половина одиннадцатого.
Я кинулся в церковь, и когда вошел, там яблоку негде
было упасть, добрая половина Пласереса стояла вплотную
друг к другу, на радость и удовольствие мужчинам,
любителям поприжиматься. Привстав на цыпочки, я во все
глаза выглядывал сестер Рубио и, заметив их, силой
протиснулся к Сусанне.
Два местных щеголя стояли позади нее и Мерседес, с
видимым удовольствием позволяя толпе толкать себя.
Я возревновал ужасно, а когда увидел, что тот, кто
96
стоял позади Сусанны, осторожно выдвигает левую ногу,
пытаясь подсунуть носок ботинка под подол ее платья, то
совершенно взбесился; она, пылая румянцем, ежилась,
отодвигалась то в одну, то в другую сторону. Я боялся
скандала, робел, я был еще мальчишка и не знал, что
должно и что не должно делать в таком положении, и потому
сдержал сильное желание надавать наглецу по щекам.
Она почувствовала, что я тут, лицо ее осветилось
улыбкой, и она сказала:
— Подойди сюда поближе.
— Иду! — ответил я.
И я наконец протолкнулся к ней, бесцеремонно
отодвинул нахала плечом и встал на его место, позади нее.
— Я думала, ты не придешь. Ты не можешь себе
представить, как меня измучили эти наглецы!
И, говоря это, она оперлась на меня всем своим
великолепным телом.
Чтобы удобнее разговаривать со мной, она чуть
повернулась в мою сторону, и я нагнул голову над ее плечом;
совсем рядом я чувствовал ее крепкое округлое бедро. Ее
волосы ласково щекотали мне щеку и подбородок, сбоку и
чуть сверху мне было видно далеко за вырез ее платья,
там, где начиналась грудь, дышавшая ровно и сладко.
Началась церемония бракосочетания, кто-то в хоре
пытался изобразить собственными силами ангельский глас, в
церкви перешептывались отнюдь не благолепно, мужчины
хихикали, отпуская шуточки низкого пошиба насчет
совершавшейся свадьбы.
— Бедняжка,— сказал кто-то рядом со мной.
— Да, этот сегодня доберется кое до чего,—
многозначительно добавил еще один.
— Эх, хороша девушка, сеньоры! — приглушенно
воскликнул третий завистник.
Мы с Сусанной не видели ни невесту, ни жениха, ни
священника, совершавшего обряд, нам было не до них;
как всегда, когда мы оставались наедине, мы погрузились
в милую нам идиллию и, как всегда, не замечали ни
времени, ни происходящего вокруг. Мы все теснее льнули
друг к другу. В толпе, набившейся в церковь, можно было
различить лишь головы и плечи соседей, и тайно ото всех,
внизу, горя и дрожа, сплелись наши руки. Малейшее
движение той или другой ее руки вызывало во мне
восхитительное ощущение; в них, казалось, сосредоточилась вся
моя жизнь. Это и был подходящий случай? Там, внизу,
7 К. Ловейра 97
незримо для всех, все крепче переплетались наши
пальцы, а моя нога медленно, осторожно, словно невзначай,
подвигалась между ее ног, и она, все более и более
доверчиво, бессознательно покоряясь гипнотической власти
моих желаний, клонилась ближе и ближе к моему
разгоряченному телу.
— Мне так хорошо сейчас, знаешь! Только что я вся
извелась из-за того мужчины, а еще раньше какой-то
парень, в том же духе... Теперь мне хорошо, словно ты мне
брат, отец... ну, я не знаю! И мне не кажется, что это
дурно, стоять так тесно друг к другу,— добавила она, взглянув
на меня любящим пылким взором.— Ничего в этом
дурного нет, правда?
Очарование разрушил голос Нэнэ, который, работая
локтями, продвигался в нашу сторону и был уже в самой
середине тесной толпы.
— С кем бы ты хотел спать эту ночь? С ней или с
ним? — бросил он кому-то.
— С ней,— ответил тот.
— Ну и дурак. С ним! С ним-то как раз и проспишь
всю ночь!
Услышав площадную шутку Нэнэ, Сусанна шепнула
мне на ухо:
— Что за человек, боже мой!
Он был уже рядом с нами. Оттеснив молокососа,
стоявшего позади Мерседес, и подмигнув мне, словно желая
сказать: «Видишь, как пошло дело!» —он начал свой
обычный разговор с ней, а мы продолжали свой, пока молодая
чета — смуглая, высокомерная девушка и элегантный
испанский офицер — не прошла мимо нас, принимая
поздравления.
В церкви стало свободнее, и я, под руку с Сусанной,
двинулся к выходу, а за нами — ее домашние вместе с
дочками соседей, которых Росита должна была развести по
домам.
На площади стоял говор толпы, выходящей из церкви.
Молодые сели в богатую коляску и умчались по
направлению к загородному дому при сахарном заводе недалеко от
Пласереса, где они должны были провести свои первые
дни. Все стали расходиться. Серп луны, клонившейся к
западу, слабо освещал улицы городка, все более
пустынные по мере удаления от центра.
С Сусанной под руку мы оказались далеко впереди п
шли, стараясь не выходить из тени, которую отбрасывали
дома. И так же, как мы, у самого края тени двигались за
нами остальные: бледного спутника земли в те времена
почему-то боялись.
Благословляю тебя, луна! Благословляю тебя, мой
счастливый случай! Я шел с Сусанной под руку так
близко, что мы касались друг друга бедрами, и вновь я
осмелился взять в свою правую руку ее левую ручку.
Понемногу наши пальцы снова сплелись. И мы сжали их так,
будто желали оставить навек след своей руки в руке
другого.
Часть спутников распростились с нами. Мы
приближались к своим домам. Сусанна крепко опиралась на мою
руку. Мы продолжали сжимать влажные и горячие пальцы
друг друга. Через ровную белую ткань моего сюртука я
чувствовал ее упругую грудь и быстрый стук сердца.
Мы завернули за угол. Те, кто шли следом,
остановились в портале соседнего дома, чтобы проститься с
последними девушками, которых мы должны были проводить.
Мы стояли друг против друга, расплетя руки, но все еще
тесно прижавшись, и я, теряя голову, умолял:
— Поцелуй меня. Теперь можно.
-г Нет, нас могут увидеть.
Слабый, многообещающий довод! Я властно, со всей
страстью мужчины любящего и любимого настаивал:
— Никто нас не увидит.
Говоря это, я приблизил свои губы к ее губам, и мы
поцеловались, коротко, сухо и робко; это была победа, и я
ее не забуду никогда. Поцелуй, за который не жалко
отдать жизнь.
— Еще...
— Нет, больше нельзя, нас увидят.
— Никто не увидит.
И я поцеловал ее второй раз, сильнее и дольше, и, не
отдавая себе отчета в том, что делаю, обнял за талию и
яростно сжал, словно желая слить ее тело с моим;
невольно у меня вырвалось:
— Ах, жизнь моя!
Мы отделились друг от друга, ошеломленные и
смущенные, дрожащие от страсти и от страха. Она сказала:
— Пойдем обратно.
— Да. Давай скажем, что не заметили, как оторвались
и свернули за угол.
И мы пошли назад, уже не под руку, и
присоединились к остальным на углу. Теперь мы все вышли из тени,
99
и в свете луны мне показалось, что Нэнэ плутовски
подмигнул.
На другое утро я поднялся поздно и, вместо завтрака
выпив чашечку крепкого черного кофе, побрел по берегу
реки к площади, мне хотелось вдали от всех, у воды,
вспомнить и пережить снова нежные и сладостные ощущения
вчерашнего вечера; хотелось дать выход некоторой грусти
и угрызениям совести в том, что зашел так далеко с моей
хорошей, моей чистой, моей самой любимой Сусанной.
Мысли мои были смутны и сбивчивы; да, тело мое еще
помнило ее, прильнувшую ко мне, мои губы хранили тепло,
влажность и сладость ее губ, и я еще был полон
несбывшихся желаний; но в самом-самом потаенном уголке моей
души щемило что-то похожее па боль и раскаяние; я не
мог забыть ее жалобных протестов еще раньше: «Почему
ты такой? Разве недостаточно, что ты меня любишь, что
проводишь рядом со мной целые часы, счастливый тем,
что и я тебя люблю? Неужели это не счастье смотреть
друг на друга и говорить друг с другом, глаза в глаза,
вечер за вечером, бесконечно?..» Что она думала обо мне
вчера? Как она примет меня сегодня? Какая огромная, и
сладкая, и грустная, и непонятная штука любовь! Ни за
что на свете я не хотел бы обидеть Сусанну, ни за что на
свете — потерять ее любовь. Потому что я любил ее такой
любовью, ради которой только и стоит жить, и... при всем
том: как опьяняло меня ее присутствие, до того, что,
рискуя потерять ее навсегда, я потребовал, чтобы она меня
поцеловала; как мне хотелось — любой ценой — целовать
ее, обнимать, дойти с ней до самых невероятных безумств!
Как это странно и как прекрасно — любить!
Погруженный в разговор с самим собою, я шел все
быстрее и быстрее, сам не зная куда, и уже пересекал
площадь, когда из кафе на углу вышел Нэнэ.
— А, доброе утро, дон Игнасио! Так, значит, вчера
вечером вы завернули за угол и сами не заметили как?
— Да, даю слово.
— Ты воображаешь, что меня можно провести,
мальчик? Нет, вы видели! Да я на этом собаку съел! Перестань
валять дурака, пойдем лучше сядем на площади, и ты мне
все расскажешь.
Я солгал ему:
— Не могу, Нэнэ. Я иду по делу.
— Ну и что? Всего одна минута, мы поговорим,
пошли.
100
Не сумев отказаться, я пошел с ним.
Как только мы сели на первую попавшуюся скамью,
Нэнэ взял быка за рога:
— Ну, расскажи-ка мне.
— Да не о чем рассказывать. Честное слово.
— Послушай, приятель, если вчера вечером ты
пропустил момент, значит, ты дурачок. Так тебе никогда
ничего не перепадет, и женщинам будет с тобой скучно.
— Нет, нет, я тебе говорю, с Сусанной так нельзя, и,
кроме того.... я этого не люблю. Я ее очень уважаю, я па-
мерен жениться и... не стану мутить воду там, где
собираюсь пить.
— Фу-ты ну-ты! И ты туда же с этой ерундой,—
мутить воду, не мутить воду! Ты что — старик? Или
сбрендил? — И нагло добавил, видимо, желая показать себя
донжуаном и продувной бестией: — Слушай, когда я начал с
Мерседес, она тоже не хотела и сердилась на меня, и мы,
бывало, по многу дней не разговаривали, я даже в дом не
ходил. Но потихоньку я морочил и морочил ей голову, а
сам ждал подходящего случая, я уже тебе говорил, один
раз (как сейчас помню, голова у нее была повязана
платком) она обошлась со мной очень ласково, позволила
взять руку. Я ее поцеловал. И в тот же самый вечер я
расстегнул пуговицу на блузке, и... и дальше, дальше...
своим путем, как положено. Меня учить не надо! Уф! Все
они одинаковы. В Матансасе у меня осталась одна
малютка, и она... то же самое, то же самое, что Марседес. Сохнет
по мне!
Он улыбнулся самодовольно, подвинулся ко мне,
торжествующе уронил руку мне на ногу и, словно желая
заставить меня переменить выражение лица, с каким я
выслушал его мерзости, сказал еще более интимно:
— Это не все. Сейчас я расскажу тебе самое главное.
Резким движением я поднялся и возразил:
— Нет. Когда-нибудь потом. Я тороплюсь.
— Перестань, сядь на минуту! — приказал он.
— Не могу,— настаивал я, желая немедленно уйти от
него, чтобы не участвовать в этой низости. Это выглядело
так, будто я сам оплевывал собственную любовь, будто
предавал Сусанну. И потом я боялся: вдруг кто-нибудь из
знакомых пройдет мимо, увидит, что я секретничаю с этим
посреди площади, в девять утра, что можно было
подумать? Его тут знали все! Нет.— Я не могу,— повторил я.
Но он не отвязывался:
101
— Приятель, садись и не валяй дурака. Тебе будет
полезно.
Я не устоял и против желания, почти страдая, снова
опустился на скамейку.
— Ну вот, слушай, прежде чем уехать в Матансас, я
сделал так, что Мерседес сама открыла мне дверь, ночью...
— Что?
— Да, ночью. Перед этим я долго готовил почву.
Я говорил ей, что желал бы видеть ее наедине, побыть
едали от других, обнять, поцеловать и всякое такое; что
если на самом деле она сходит по мне с ума, то вот
возможность доказать сразу, а так — что такое слова... Ты не
поверишь, она не поддавалась, это был крепкий орешек.
Она говорила, что я сам сошел с ума, что я ее совершенно
не люблю, если могу предлагать подобные вещи. Мне
пришлось сделать вид, словно я смертельно обижен, и
повернуть дело в другую сторону: «Дурочка! Мне нужно было
испытать твою любовь. На что ты способна ради меня, и
теперь мне ясно...» Ну и всякие там крючочки, которые
мы, мужчины, умеем закидывать, понимаешь?
— Немного.
— Да? Прекрасно. Так вот, при случае я снова пошел
в наступление, и еще, и еще, и наконец наступил вечер,
тот самый, о котором хочу тебе рассказать. Она уже не
говорила, что это безумие, что я не люблю ее, раз
предлагаю такое, она только защищалась: «Нет, милый, нас
могут увидеть». «Ага, значит, в том только и дело, что нас
могут увидеть?» — сказал я себе. Ну, это с полгоря.
Нужно только сообразить, как все устроить, а у меня был уже
план. «Послушай,— сказал я ей,— сегодня ночью, как
только вернется дон Хусто, ты ему скажешь, что сама
закроешь дверь и окно на улицу. Ты спишь с Сусанной и
матерью, а он — за стеной, очень хорошо, ты догадаешься,
когда все они заснут, только смотри, не засни сама и
слушай, как начнут бить часы на площади!» Да, чуть не
забыл, я сказал, чтобы она только прикрыла дверь,
пошумев для виду задвижкой. «Как пробьет половина
двенадцатого,— говорю,— ты пройди босиком и сядь на
стул возле двери». (Он там стоит и сейчас, между дверью
и окном.) Начинаю объяснять — старая песня: «Нет»,
«Это опасно», «Потом ты меня разлюбишь»,— и вслед за
тем: «А если они проснутся?», «А если вернется в город
отец?» Бедняга, ее тоже можно пожалеть! Конечно, ей
было страшно. Кой черт! Но я, имей в виду, умоляй не
102
умоляй, смотрю в глаза, рука знает свое дело, не дать ей
опомниться! И «да», и «нет», и поцелуи, и обещания вести
себя пай-мальчиком, и вот... (Все это пара пустяков, надо
понимать женщин, и дело с концом!) Ты не поверишь!
Она меня там и ждала. Черт бы меня побрал совсем!
В половине первого, когда она увидела мою тень в дверях,
сама протянула мне руку. В одной ночной рубашке,
закутанная в простыню... Конец сказки тебе не нужно
рассказывать, а?
Я хотел оборвать его:
— Все, я ухожу.
— Да погоди. Слушай, что было потом. Мы там сидели
часа два, забыв про все на свете, а потом стул как
сдвинется со страшным грохотом, черт бы его драл. Мы
вскочили, перепугались, не дышим, уши на макушке, а вдруг
Сусанна или Росита проснутся? Слышим, Росита
ворочается и кашляет. Мерседес была что твой мертвец. Я
оставил ее и пулей выскочил оттуда. Я был уверен, что в
доме всё знают, и дня три не показывался у них, пока
Мерседес не прислала записочку, что все сошло гладко.
Он подбоченился, откинулся назад и сквозь смех
спросил:
— Ха-ха! Ну, что скажешь? — И добавил с
апломбом: — На днях, я думаю, мы повторим то, что было.
Я стоял, не зная, на что решиться, словно
захлебнувшись его цинизмом и подлостью, изо всех сил стараясь
сдержать желание вместо ответа влепить негодяю
презрительную и звонкую пощечину, несмотря на то, что явно
был слабее его физически.
Я уже не чувствовал страха перед этим человеком, и
если бы не то, что произошло между мною и Сусанной
накануне вечером в церкви, то есть если бы я был уверен,
что имею право громко вмешаться в эту историю, я бы
забыл о кинжале Нэнэ, который он всегда носил за поясом,
о его силе, безусловно превосходящей мою, и произошло
бы то самое, о чем говорю: хорошая пощечина и скандал
на весь свет.
Сухо и решительно я заявил:
— Я пошел.
— Куда?
— По одному делу, туда, к реке.
— Я дойду с тобой до кафе на углу.
Мы пошли. На углу он оставил меня.
— Прощай!
103
— Прощай!
Будь проклят мой темперамент! Будь проклято мое
сорвавшееся с цепи воображение! Странное противоречие:
имеете с неудовольствием, с отвращением от низости Нэнэ,
раскрывавшего интимные подробности, оскорбительные
для Мерседес — сестры Сусанны! — своими бесстыдными
описаниями он разбудил во мне сладострастие, которое и
без того накатывало на меня с прошлой ночи; эта сцена,
так точно и живо описанная, стояла у меня перед глазами:
тело Мерседес, такое похожее, равное в совершенстве телу
Сусанны, нагое, теплое, дрожащее от страсти и страха, у
него на коленях. Какие видения! Какие соблазны
овладевали мною во время этого проклятого рассказа! Я уже не
мог идти к реке, только к Рамире, громоотводу моих
темных минут, ангелу-хранителю моей крепнущей не по дням,
а по часам мужественности, мужественности в семнадцать
лет.
Рамира сидела в столовой, сшитой к гостиной, и
вышивала на пяльцах. Я вошел неслышно. В раскрытую дверь
комнаты рядом с гостиной я увидел в постели, лицом к
стенке, женщину, по грудь прикрытую белоснежной
простыней, волосы разбросаны на высоко взбитой подушке.
Мпе послышался слабый, протяжный стон. Из кухонной
двери тянуло голубоватым дымком от зеленых веток,
дымом был полон внутренний дворик, дым пробивался и в
столовую.
Мое приближение Рамира угадала издали и,
обернувшись, приветствовала меня нежной улыбкой:
— Здравствуй, Игнасио!
— Добрый день, Рамира.
— Ого! Вот чудо-то!
~ Чудо?
— Конечно, ты совсем не показываешься у нас. Я
понимаю. Тебе и так хорошо при твоих новых
победах!
Я никогда не скрывал от Рамиры моей любви к
Сусанне и потому с чистой совестью ответил:
— Победы как победы!
Она приподняла колено, чтобы поддержать пяльцы.
Из-под юбки мне видна ее нога. Вторая нога, отставленная
назад, теряется где-то около перекладины качалки между
вышитой каймой ее нижней юбки и подолом... Чулки, как
всегда, черные, тонкие, туфельки тоже черные, низко
вырезанные.
104
Мои глаза тут же останавливаются там, где видна
ее нога, а вслед за глазами туда же отправляется и моя
рука, и я ощущаю в ней то полное и крепкое, что
начинается под коленом.
— Не надо, Игиасио, нас могут увидеть.
Она отталкивает мою руку и убирает свою ногу,
— Кто нас увидит? Где твои сестры?
— Маргарита в постели, у нее опять приступ. Это с
ней бывает каждый месяц и бедная с ума сходит. А те
уехали в гости, на целый день, там, по пути в Санта-Кла-
ру, живет одна знакомая, которая сегодня выходит замуж.
— А старик?
— На кухне. Разжигает огонь, потом приготовит что-
нибудь для меня и для себя. Маргарита в таком состоянии
обычно не ест.
— Очень хорошо, оставь тогда свою вышивку, и
пошли в твою комнату, мне нужно сказать тебе кое-что.
— Мою комнату?
— Да, пошли.— Я встал и взял ее за руку,
— Нет, в мою комнату — нет. Зачем?
— Вот увидишь. Пошли.
— Нет, Игнасио. Нас могут увидеть.
— Кто? Ты же сама сказала, что Росаура и другие
гостят где-то возле Санта-Клары? Не хочешь, так и скажи.
Ты всегда так, поманишь, поманишь и оставишь с носом,
ты такая...
— Что, что?
— Конечно! Сколько раз ты говорила, что любишь
меня, и все ложь! Нисколько ты меня не любишь. Сегодня
такой случай, а ты...
— Зачем мне туда идти? Думаешь, я не видела тебя
вместе с Сусанной вчера вечером? Что?! Скажешь, нет?
— Да, я был с ней, ну и что? Что из того? Пошли!
— О, да ты, я вижу, совсем бессовестный! Он мне
совершенно спокойно, бессердечно говорит, что был с ней, и
тут же настаивает, чтобы я шла с ним в мою комнату.
Почему ты не предложишь этого ей?
У меня вырвался нетерпеливый жест, который я с
трудом скрыл, ответив:
— Ах, боже мой! Потому что это невозможно.
Словом... Пошли!
— Да? Вот видишь, невозможно? А со мной, с
Христовой невестой, возможно? Да я же за это должна
благодарить! У меня ведь нет ни души, ни достоинства, я не имею
105
права даже защищаться. Конечно! Я слишком стара,
безобразна, одинока. И я тебя люблю, и... я такая же
женщина, как все, а со мной, а со мной...
Я ухватился за эти слова:
— Вот именно! Ты меня любишь! Тогда докажи это.
— Да, я тебя люблю. Не думай, я все позволяла тебе
не потому, что я такая... непорядочная, что во мне
животное заговорило...
И тут она залилась слезами, которые сразу меня
остудили, лишив решимости, а она продолжала истерично, но
необычайно убедительно:
— Нет. Не думай. Я так страдаю, потому что
влюбилась в тебя. Я должна была представляться равнодушной,
чтобы никто не видел, и чтобы ты не догадался, и чтобы
не выглядела я в твоих глазах скверной, иначе ты бы меня
презирал, смеялся надо мной. Пришлось задушить
самолюбие, ревнивую злобу, терпеть невольное пренебрежение
твоей юности. И при этом удовлетворять твои порывы,
низменные, эгоистические, чтобы хоть так тебе было приятно
со мной, и, не стану отрицать, видя, что ты доволен, была
довольна и я. А твое безразличие потом — это мука.
И знать, что твой взгляд, твои слова, твой рот, весь ты и
вся твоя нежность — для другой! Вчера вечером я видела,
как ты сходил с ума, терял голову от страсти рядом с ней,
и мне будто нож воткнули в грудь и разорвали сердце.
Конечно, она красива и молода. Я понимаю!
Отчаяние сражает ее, и она плачет, всхлипывает,
разливается рекой, слезы текут по щекам в два ручья,
исчезая возле дергающегося рта, и вся она судорожно
вздрагивает.
Я тоже удручен тем, что не в силах избежать этой
сцены, и возвышенной, и смешной. Но, овладев собой, я делаю
единственное, что нужно сделать: сжимаю крепче ее руку,
которая все еще в моей левой руке, и спрашиваю властно:
— Ну, в чем дело? Ты идешь?
— Зачем?
— Там увидишь. Пошли.
— Мне страшно.
Но, говоря это, она уже встает.
В ярости от желания, я тяну ее, приговаривая:
— Идем. Пошли, радость моя. Идем.
Истощенная истерикой, моральной пыткой, которой
сама себя подвергла, замученная лихорадочными взрывами
женской ревности, побежденная моей мужской агрессив-
106
ностыо, она сдается, и мы идем в ее комнату. Моя рука
обвивает ее талию, мы идем, тесно прижавшись друг к
другу, как молодожены на следующий день после свадьбы
удаляются на свою половину, чтобы впервые провести
сьесту вместе.
Мы входим в ее комнату, третью от гостиной. Тут тоже
плавает голубой дым, но не такой густой, как в столовой,
потому что дверь в патио затворена. В открытую
половинку окна льется солнечный свет, ярко, как днем, освещая
комнату Рамиры. Очень чистую комнату, обставленную
старой мебелью черного, густо лакированного дерева, с
железной кроватью на колесиках, сияющей белоснежными
подушками, крахмальными простынями и пологом,
пропущенным через кольцо и подобранным двумя широкими
розовыми лентами.
Остановясь перед ее кроватью, мы слегка
отстраняемся друг от друга и молчим, глядя в глаза, я по-прежнему в
сильном волнении. Я давно уже перестал видеть в Рамире
безобразную старую деву. Меня не отталкивает ее
мужеподобная родинка, не отвращает смуглое и чересчур сухое
лицо, не расхолаживает плоская, пергаментного оттенка
грудь. Мне не противны торчащие ключицы, тощие плечи
и горячие руки, которые она протягивает и кладет на мои.
Я снова обнимаю ее за талию обеими руками. Сильно
прижимаю к груди, целую в глаза и, скользнув по ее щеке
губами, говорю на ухо:
— Я хочу попросить у тебя одну вещь.
— Что? Какую?
— Ты мне не откажешь?
— Нет. А что?
— Сначала закрой дверь.
— Нет.
— Закрой, я хочу сказать тебе одну вещь. Садись,—
и я показываю на кровать.
— Не надо! — Но она садится.
Тогда я обнимаю ее за шею рукой, а другой сжимаю
руки, лежащие на коленях.
— Я хочу, мне нужно то, о чем я просил тебя много
раз, а ты всегда отказывала, боясь, что нас увидят.
Теперь ты сама сказала — никто нам не мешает.
— Тебе нужно?
~ Да.
— Со вчерашнего вечера?
— Нет, с этого момента.
107
— Что-нибудь другое, пожалуйста. Это — нет.
— Да! Это будет прекрасно.
— Нет, нет.
— Да! — И я толкаю ее на кровать. Бросаюсь на нее.
Мы боремся, она защищается. И вдруг говорит:
— Нет, милый, нет. Я безобразна. И потом, ты же
думаешь сейчас о Сусанне, ты пожалеешь об этом.
Услыхав имя Сусанны, я сразу лишаюсь сил. Что-то
вроде угрызения совести и отчасти отвращения
сдерживает меня на мгновение.
И слава богу. Потому что в этот самый момент старик-
негр просовывает голову в дверь и с наивной улыбкой
произносит слова, которые, я полагаю, для ушей Рамиры
должпы были звучать убийственным сарказмом:
— Рамира, детка, придется сделать отбивную, эта
старая животина совсем засохла, не укусишь.
Мой дед, богатый канарец, поставлявший мясо
гарнизону Пласереса (кстати сказать, звали его дон Руперто),
был самым выдающимся автономистом из всех
автономистов нашего города.
Сам же Пласерес представлял собою центр автономиз-
ма с видами на сепаратизм столь отчаянный, что то и дело
поднимал на ноги полицию, завивал в крутые стружки
бесконечные телеграфные ленты во всех канцеляриях и
навлекал на себя громоподобные раскаты угроз и
проклятий на страницах «Диарио де ла Марина».
Пласересу очень пристало прозвище «Кайо-Уэсо ку-
бано», как окрестили его приверженцы «Конститусио-
наль»; прозвище это повторяли все жители Пласереса, ибо
оно равно устраивало и крайних, и умеренных.
Дон Руперто Дарна, мой дед, был представителем
автономистов в муниципалитете Пласереса и, кроме того,
депутатом от провинции Санта-Клара.
Я все это объясняю, чтобы было понятно то, о чем
расскажу ниже.
В то утро, выйдя от «старых дев», я поспешил
вернуться домой, чтобы поспеть к обеду, которого желудок мой,
после возни с Рамирой, требовал немедленно, тем более
что завтрак был чересчур по-креольски легок.
Мать и бабушка сидели в гостиной. Первая читала га-
108
зету из города Матансас «Ла Аурора де Юмурй», а вторая
штопала чулки.
Увидев меня, бабушка сказала:
— Послушай, Игнасио, мы с твоей матерью
поговорили и решили, что уже в феврале тебе пора будет
отправляться в Гавану, приступать к занятиям. На этих днях
Руперто как раз посылает туда Рафаэля, ты можешь ехать
с ним. Он старше тебя, мы ему растолкуем, что и как,
дадим денег, и он все для тебя устроит. Ну, что
скажешь?
Я мог бы сказать, что дом наш обвалился на меня.
Живейшим образом представил я себя и Сусанну, наши
с ней лица в тот момент, когда я ей сообщаю об этом.
Надвигалось то, чего мы так боялись, что должно было
заставить нас сильно страдать. Я, наверное, изменился в
лице, потому что мать, угадав мои мысли, сказала:
— Тебя это так ошеломило? Вот видишь. Вот что
значит связать себя глубоким чувством. Я тебе говорила еще
тогда, в самом начале.
Вместе со вздохом у меня вырвалось:
— Что делать!
— Как? Ты не хочешь ехать? — строго спросила
бабушка.
— Раз я должен, я поеду.
— Превосходно. Мой руки и иди к столу, там уже
накрывают к обеду,— вставила мать, желая как-нибудь
развеять мою печаль от неприятной новости.
Я вышел из гостиной и поплелся к своему
умывальнику по узкому коридору, в который выходили двери всех
комнат. Навстречу шла старая служанка Мария де ла
О, неся в каждой руке по полному блюду, на одном —
куски жареной свинины в окружении румяных
«пятачков» жареного банана, на другом — рис, белый рис по-
креольски, нетронутый приправами, зернышко к
зернышку.
Несмотря на горе, истинное глубокое горе,
переполнявшее меня в тот момент, я жадно втянул носом аромат
жареного мяса и прибавил шагу; быстро вымыл руки,
пригладил волосы и вошел в столовую.
Все сидели по своим местам. Стол был сервирован, как
всегда, просто, но ласкал взор свежим блеском скатерти
и салфеток, завернутых конвертом, с маленьким хлебцем
внутри. В тарелках золотился и вкусно пах хлебный суп.
В центре стола, между блюдами со свининой и с рисом,
109
весело зеленели листья салата. Блестели приборы,
блестела пузатая бутылка с водой там, где сидела бабушка, как
хозяйка, во главе стола.
Дедушка сидел на противоположном конце стола, дядя
Рафаэль и Ортис (поставщик гарнизона, земляк моего
деда, он часто обедал у нас) — сбоку; мать и я — напротив
них. За спиною бабушки, с салфеткой через руку, в
лиловом, дышащем чистотой платье, стояла Мария де ла О,
старая верная служанка этого дома.
Увидев накрытый стол и вдохнув его запахи, я
почувствовал, что аппетит мой удвоился, но, в глубине души все
еще желая, чтобы меня пожалели и, может быть,
отложили мой отъезд в Гавану, даже, чем черт не шутит, вовсе
его отменили,— повторяю, не отдавая себе отчета, я
сделал постное лицо святоши перед причастием и несколько
умерил свой аппетит. Это тут же тронуло мать, и она
решилась нарушить молчание:
— Игнасио! Знаешь, кто собирается к нам в Пласерес,
не в это, а в следующее воскресенье?
— Кто?
— Карлос Мануэль Амесага и Хосе Инее Онья,
мулат. Ты их помнишь?
— Еще бы! Зачем они сюда едут?
— Спроси дедушку.
Я уставил вопрошающие глаза на деда.
— Да,— сказал он.— В следующее воскресенье у нас
будет большой митинг автономистов, и, думаю, ораторы,
которых мы ждем из Гаваны, и есть эти два молодых
человека; Лола говорит, ты их знаешь, а в газете «Эль
Пайс» пишут, что эти патриоты — надежда нашей партии
и Кубы.
— С какой стати эти двое, особенно Карлос Мануэль,
стали вдруг глашатаями автономистов? Это же отчаянные
испанофилы. Спроси у мамы, что они выделывали в Ма-
тансасе.
Поставщик Ортис, как многие уроженцы Канарских
островов отличавшийся страстной привязанностью к Кубе,
решил пошутить и сказал, улыбаясь:
— Осторожно, друг мой, как-никак тут присутствует
испанец.
— Ладно, ладно. Знаем мы, какой вы испанец! —
ответил шутливо дедушка.
— Действительно,— подтвердила мать, обращаясь к
дедушке.— Этот Карлос Мануэль и есть тот самый маль-
110
чик, который так плохо поступил с Игнасио в Матансасе,
помнишь, я тебе рассказывала.
— Да, да,— прибавил я, не сдержавшись,— это
лицемер!
— Ты слишком крепко выражаешься, мой милый,—
успокоительно проговорил дедушка.
— Ничего подобного. Пусть мама скажет, если я лгу.
Для этого Карлоса Мануэля тогда, в Матансасе, одно и то
же было — что кубинец, что сукин сын.
— Ну вот что, полегче, дружок. Раз он едет сюда
вместе с Гальвесом и Саладригасом, раз о нем так хорошо
отзываются наши газеты, значит, он чего-нибудь да стоит.
И, обращаясь к бабушке, добавил:
— Столичные гости, когда приезжают в провинцию,
любят покушать и по-креольски, и по-крестьянски. Так
что на следующий день после митинга мы устраиваем для
них обед.
И, обращаясь к дяде Рафаэлю, сказал:
— Не забудь распорядиться в усадьбе, чтобы к тому
дню прислали сюда молочного поросенка, апельсинов и,
пожалуй, немного американских томатов покрупней, да, и
еще — сладкого зеленого перцу. Потом нужно разослать
нарочных по деревням и на сахарный завод предупредить
народ. Может, соберем тут, в Пласересе, с тысячу всадников,
тогда мы не уроним своего прозвища «Кайо-Уэсо кубано».
Я займусь пивом, сколько там нужно бочонков... Ах да,
забыл! Пусть заколют телочку на угощение народу.
И к моей матери:
— Послушай, Лола, надо бы устроить небольшой
праздник с танцами или что-нибудь в этом роде, как ты
считаешь? После завтрака напиши для меня два письма:
одно, чтобы прислали из Ремедиоса ракеты для
фейерверка и бенгальские огни, другое — к алькальду с просьбой
разрешить митинг. А я займусь переговорами с
гостиницей «Лувр».
— Итак, мы пустились во все тяжкие? — вставил Ор-
тис, прожевывая аппетитный «пятачок».
— Да, да,— поспешил ответить дедушка.— Ради моей
партии я на все готов. Дом пущу с молотка! Пусть дрожит
«супостат» и пусть «неизменные» знают, что такое мы,
автономисты. И пусть им ударит в нос запах разъяренного
кабана!
Восемь утра на следующий день после известия о
прибытии в Пласерес деятелей партии автономистов. Городок
Ш
весь в суете и в хлопотах, расшибается в лепешку,
большего, по чести, от местечка такого размера, как Пласерес,
в те времена и требовать нечего.
По Главной улице я и Длинный Батон идем в центр,
он — в лавочку, где временно служит, а я — в
муниципалитет, к алькальду, с письмом, в котором содержится
просьба о разрешении предстоящего митинга.
В нескольких метрах впереди нас из какой-то лавочки
выходит п идет в том же направлении, что и мы,
мулатка — отлично вылепленная фигура, в пене кружев
белоснежного дорогого платья, сладостно шевеля пышными
бедрами и играя всем телом на ходу, с чисто креольской
грацией выставляя напоказ шелковый вышитый манильский
платок кремового цвета, переступая в крохотных черных,
низко вырезанных лакированных туфельках мелким
грациозным шажком женщины, всю жизнь прожившей в
Мадриде.
Длинный Батон, покусывая нижнюю губу, говорит:
— Как похорошела эта мулатка!
— Кто это?
— Не знаешь? Она училась вместе с нами, сестра
учительницы, помнишь, любила играть в «мужа и жену», в
«кума и куму» со всеми нашими мальчишками?
— Правда? Так это Карлота?
— Да. Но теперь ее возут Ла Арреманга. Она
любовница дона Хусто, дяди твоей невесты, то есть он ее
содержит, а настоящий ее любовник Нэнэ.
Она продолжает свой путь под обстрелом площадных
шуточек, летящих в ее сторону и из лавок, и из кафе, и
из уст каждого прохожего, будь он испанец или креол.
— Аи, мулатка, я согласен платить, а?
— Какая баба, гроздь бананов, мать моя!
— Аве Мария! Корма так и ходит, сеньоры!
Не доходя полквартала до площади, Длинный Батон и
я, ускорив шаг, догоняем прекрасную мулатку, и,
поравнявшись с ней, мой спутник говорит:
— Как поживаешь, Карлота?
Услышав знакомый голос, она оборачивается,
останавливается и, открывая в улыбке великолепные зубы,
отвечает:
— Спасибо, а ты? — Но тут же узнает меня и
подходит к нам, от души протягивая руку: — Игнасио,
здравствуй! Боже, как ты вырос!
*— А ты какая красавица!
112
— Правда?
— Конечно. Ты это знаешь лучше меня.— И прибав-
дяю льстиво и лукаво, чувствуя, что краснею от стыда: —
Когда мы с тобой снова поиграем?
Шутка ей не нравится, она перестает улыбаться и
говорит первое, что приходит в голову:
— Те времена прошли, Игнасио.
И с последними словами этой фразы я вижу, как она
меняется в лице, бледнеет и глазами, круглыми от
удивления или страха, смотрит на что-то позади меня.
Длинный Батон и я оборачиваемся и в изумлении
видим Нэнэ, который идет посередине улицы прямо к нам,—
размашистый шаг, жесткий взгляд, вызывающий вид.
Подбоченившись и выпятив грудь, он останавливается перед
Карлотой.
— Что ты тут делаешь?
— Я вышла купить кружева...
— На улице их не продают, я думаю.
— Дело в том...
— Дело ни в чем. Пошла домой. Потом я с тобой
поговорю, ты у меня научишься уважать мужчин.
Я понимаю, что пора мне что-то сделать, надо же
защитить Карлоту от грубой ревности буяна, да и нам с
Батоном не мешало бы как-то выйти из этой щекотливой
уличной сцены:
— Мы с Карлотой старые друзья. Учились вместе.
Очень давно не виделись, и вот случайно встретились.
— Очень прекрасно, но пусть убирается отсюда
немедленно.
Он поворачивается к нам спиной и уходит по
направлению к угловому кафе, а там и во всех соседних кафе и
лавочках в дверях торчат головы любопытных.
— Ладно, Игнасио, до свидания,— говорит она и
удаляется от нас, но без прежней игры кружевами, маниль-
ским платком и всем своим полным и гибким телом.
— Прощай, Карлота,— в один голос откликаемся мы и,
удрученные нелепым эпизодом, снова идем, каждый туда,
куда он шел, дав предварительно хорошенький круг, он —
в свою лавку, а я — в муниципалитет вручать письмо.
Кто-то, возможно, даже один из тех, кто глазел на
только что описанную сцену, поспешил передать Карлоте,
что Нэнэ, как только вернулся в Пласерес, возобновил
любовные отношения с Мерседес; с того самого дня Карлота
появилась в нашем квартале и ежедневно ходила по на-
8 К. Ловейра ИЗ
шей улице, кружила у наших домов. На ней уже не было
пи черных лакированных туфелек с глубоким вырезом, ни
манильского платка, в который она была такая мастерица
завертываться, она уже не раскачивала так победительно
своими пышными бедрами крепкотелой Венеры; теперь,
перетянув талию черной шалью с бахромой, она шаркала
по тротуару шлепанцами, размахивала руками, словно
рыночная торговка, и бросала испытующие и вызывающие
взгляды на окна «девиц Рубио». Несомненно, она была
ранена, рапена в самое сердце, креольская мулатка, смесь
двух рабских кровей: крови африканки, которой на
вершине христианской цивилизации выпало стать жертвой
мерзостей в духе истинно античного рабства, и крови
испанки, плода той же цивилизации, рабыни своего
мужчины до гнусности, до позора в часы любви, и отчаянной,
трагичной, так теряющей разум, что и гнев тирана ее
жизни ей нипочем в часы животной ревности.
Когда Карлота прошла у самого дома «девиц Рубио»
два раза, там сразу догадались, что кто-то из них является
причиной ее ревности. Каждый раз, едва завидев Карлоту,
одна из девиц звала остальных, и, затворив двери и окна,
опустив планки жалюзи на одном из окон, они,
собравшись все вместе, смотрели в щелочки и комментировали.
— Да, да, конечно, это имеет отношение к нам, она все
время смотрит сюда. Безусловно,— говорила Росита.
— Очередной роман дяди Хусто,— настаивала
Мерседес.
— А может быть, Нэнэ? — более утверждала, чем
спрашивала Сусанна.
— При чем тут Нэнэ?
— При чем? Да... при том. Он уж такой!
— Какой?
Карлота в это время, проходя мимо дома, рассуждала
вслух сама с собой:
— Этого гуся я вытащу отсюда. Вытащу! Пусть знает,
я своего не отдам! А этой я волосы выдеру и личико
разукрашу. Нечего красть чужих мужчин. Так и будет!
Боясь скандала, три женщины дрожали от страха и
стыда. Но, помолчав некоторое время, снова пускались в
догадки.
Мать. Нет, дон Хусто здесь ни при чем.
Мерседес. Воля твоя, мулатка эта, как нам
описывали, точь-в-точь та самая, которая, говорят, живет возле
казармы и к которой ходит дядя.
114
Сусанна. Верно, так говорят, но не из-за него же
она тут расхаживает? С чего бы такая ревность?
Мерседес. Ты что, видела ее с Нэнэ?
Сусанна. Я ничего не видела. Но подумай сама,
из-за кого может так бесноваться этот дьявол в образе
женщины?
Мать. Ты права, права. Конечно, из-за Нэнэ. Это мы
во всем виноваты, я и дон Серафин. То есть, я хочу
сказать, это он во всем виноват. Он думает, самое главное,
чем должен заниматься отец семейства, это вертеть
делами, чтобы дом был полная чаша, и копить деньги. Это
размазня, а не мужчина. И это кубинец. Никакого характера,
боже мой!
Мерседес (беря тоном выше, чем мать). Да, я
понимаю, чего все хотят, хотят, чтобы Нэнэ во что бы то ни
стало был любовником этой мулатки. Говорите уж прямо:
гони жениха, оставайся в старых девах, будь
приживалкой, служанкой, монашкой и еще чем-нибудь похуже.
И, свернувшись клубочком в кресле у окна, она,
содрогаясь, залилась слезами.
Удар попал в цель. Мать тут же пошла на попятный:
— Вот что, девочка... Ну чего же ты плачешь... Кто
тебя обидел? Кто хочет, чтобы ты была служанкой,
монашкой и еще кем там? И потом, кто вообще знает, из-за чего
или для чего эта женщина ходит у нас под окнами? В
конце концов я не суну руку в огонь ни за Хусто, ни за кого
бы то ни было.
По мере того, как Росита отступала, Мерседес
наступала.
— Тогда почему же ты так не думала раньше? Зачем
меня хотят унизить, зачем мучают меня? — говорила она,
задыхаясь, срывающимся от рыданий голосом.
И так как мулатка еще два или три раза прошла
мимо, не переставая выкрикивать оскорбления и угрозы,
бросая ненавидящие взгляды и грозя дому кулаком, весь день
после полудня «девицы Рубио» бегали то к окну, то от
окна, сгорая от любопытства и страха, высказывая самые
немыслимые предположения, обвиняя друг друга,
рыдая; к обеду никто не притронулся, все словно с ума
сошли, воображая, что вот разразится неотвратимый
скандал.
Все это рассказала мне вечером Сусанна, не преминув
отметить, что даже в самый разгар взаимных обвинений
и уличений никому из трех женщин и в голову не
115
пришло, что мужчиной, которого так ревновала мулатка,
мог быть я.
На всякий случай я поспешил сообщить Сусанне, что
мулатка, если верить описаниям, была возлюбленной Нэнэ,
но тут же сообразил посоветовать ей не говорить об этом
ни одной живой душе; кроме того, я сообразил еще кое-
что, более важное,— ни словом, ни намеком не дать ей
понять, что я сам знаком с Карлотой.
Как-то, когда мы с Сусанной сидели в гостиной одни,—
потому что страх и расстройство от всего происшедшего
разогнали остальных по своим комнатам,— вошел Нэнэ.
Он улыбался и был разговорчив:
— Добрый день, счастливчики.
— Здравствуй,— ответил я неприветливо.
— Здравствуй,— очень серьезно повторила за мной
Сусанна.
— Когда вы вместе, так сказать, в преддверии рая, вы
уж и разговаривать не желаете.
— Хе-хе,— оскалился я по-собачьи.
— Да, конечно,— отозвалась Сусанна, чтобы хоть что-
то ответить.
— Ладно, ладно. Не буду мешать. Я пошел на свое
место.— И, говоря это, он подошел к двум креслам,
которые ожидали его и Мерседес, и сел.
И тотчас вошла Мерседес. Сусанна не преувеличивала:
бросалось в глаза, что сестра ее сильно не в духе. Не
поздоровавшись ни с кем, она молча уселась в качалку.
Нэнэ, вероятно, ничего еще не знал, потому что,
увидев, как серьезна Мерседес, воскликнул насмешливо:
— Вот это да! И ты тоже?
— Что я?
— И ты в трауре? В доме кто-нибудь умер?
В нескольких словах она рассказала ему, что случилось,
и между ними разгорелся тихий, но ожесточенный спор.
Мы с Сусанной, не сговариваясь, замолчали и, затаив
дыхание, навострили уши, стараясь выудить хоть что-нибудь
из этого бурного разговора, тон которого с каждым словом
повышался.
— ...Pi все наши считают, что пропащая эта ходит тут
из-за тебя.
— Ну да. Еще бы! Я знаю, меня здесь не любят; все
только и ждут, когда мы разойдемся. Они тебя прочат за
галисийца, за скотину какую-нибудь, и чем паршивее, тем
лучше.
116
— Ну, этого не будет, я этого не позволю.
— Не позволишь? Чего ж ты дуешься? Ты такая же,
как они! Где моя шляпа, я ухожу.
— Я не для того говорю, я...
Но Нэнэ закусил удила. Вся его хамская сущность
вышла наружу. Кроме того, ему нужно было зацепиться за
что-нибудь, чтобы поскорее уйти, найти Карлоту, взять за
горло, вытряхнуть из нее имя завистника, заварившего эту
кашу, а потом растоптать. И он прервал Мерседес:
— Да? Ты не для того, а твоя козья морда — для чего?
А изводить человека — для чего? Можно подумать, только
я один и хожу в этот дом... Я пошел... к дьяволу!
И, сказав это, он резко поднялся и направился к стулу,
где лежала его шляпа.
— Послушай, не уходи, не надо так, Нэнэ...— только и
осмелилась выговорить Мерседес.
Не обращая внимания на ее мольбу, он схватил
шляпу, заломил самым наглым образом, как он это умел, и,
проходя через гостиную к выходу, угрожающе проворчал:
— Сегодня же вечером я выясню все, и кое-кто узнает,
что значит иметь дело со мной.
Мерседес убежала в свою комнату, изо всех сил
стараясь сдержать слезы, пока не закроет за собой дверь.
Мы с Сусанной снова остались одни. Росита все еще не
появлялась. Было слышно, как Мерседес рыдает,
проклинает, пинает мебель, хлопает дверьми. Служанка-мулатка
время от времени с любопытством выглядывала из-за
дверей столовой. Боясь нового взрыва истерики Мерседес,
Сусанна не произносила ни слова. Пожалуй, посторонний
человек был здесь некстати, и я поспешил проститься с
Сусанной в половине девятого, не позволив ей проводить
меня до порога. Росита находила неприличным, чтобы
жених и невеста расточали друг другу нежности на виду у
всей улицы.
Выйдя из ярко освещенного портала, я носом к носу
столкнулся с Нэнэ, который, казалось, выскочил из кустов
на противоположной стороне улицы, прямо из темноты;
в самом деле, стояла кромешная тьма, по всему судя,
собирался дождь.
Нэнэ тяжело дышал, словно только что вырвался из
драки или бежал издалека,— белые брюки испачканы,
манжета гуаяберы разорвана, кулаки в крови. Он сказал:
— Вот что, Игнасио, нам надо поговорить.
— Ладно, поговорим.
117
— Только не здесь. Завернем за угол, дойдем до кустов,
там поговорим.
И он показал куда-то, довольно далеко от последнего
дома на противоположной стороне, там ничего не было
видно, лишь непроглядная ночная тьма.
В решающие моменты жизни, о чем бы ни шла речь, я
веду себя одинаково; в этот раз, например, я гораздо
больше боялся унизиться перед этим скандалистом и, если слух
разойдется, явиться смешным в глазах всего Пласереса,
чем вот так, безоружным, пойти в темное безлюдное место
и драться с человеком жестоким, способным на подлость и,
само собой, при ноже.
Я был спокоен и готов беспрекословно идти туда, куда
указывала рука Нэнэ. Эта-то неожиданная для меня
самого, хотя и вполне искренняя ясность духа позволила мне
ответить:
— Я пойду, куда ты скажешь, но у меня нет оружия,
оставь и ты свое где-нибудь.
— Зачем? Я не собираюсь с тобой драться. Мне нужно
поговорить, и только.
— Если только поговорить, то почему бы не
сделать этого тут или где угодно, там, где светло, и на
людях?
— Ну, хватит, так или иначе, пошли.
— А твой кинжал? С тобой?
— Да, но я тебе дам другой. Идем.
— Ладно.
Мы пошли, он впереди, я за ним.
Дошли до угла, тут падал свет из окон лавочки, в
которой продавали овощи и фрукты. Нэнэ вошел туда.
Я остановился в дверях в тот момент, когда он говорил кп-
гайцу, стоявшему за прилавком:
— Слушай, «ходя», дай мне на время нож.
— Не можно.
— Это почему?
— Нет.
— А я тебе говорю, ты дашь мне нож,— настаивал
Нэнэ, вытаращив глаза.
Похоже было, он измеряет взглядом высоту прилавка и
расстояние, отделяющее его от китайца.
Тот сказал что-то на своем языке, и в тот же миг из-за
двери за его спиной показались еще два его
соотечественника.
Увидав их, Нэнэ воскликнул:
118
— Значат, не дашь нож, гнида ты поганая, жулик! Ну,
так возьми мой. Побереги его.
Он ловко вытащил из-за пояса кинжал и бросил его на
прилавок. Затем вышел, заметив мне:
— Пошли. Если бы не разговор, я бы им показал, мне
что один китаец, что три китайца — все едино.
Я пошел за ним по направлению к колючей изгороди
вокруг старого фруктового сада, эта изгородь и сад
последнее, что можно увидеть с балконов нашего дома. Мы
шли молча в страшной темноте, изредка озаряемой
молниями, и в тишине, нарушаемой лишь жужжанием
насекомых да раскатами грома, раздававшимися с каждым
разом сильнее и чаще. Порывами налетал ветер, пахло
мокрой землей. Собирался дождь.
Но Нэнэ из упрямства, или бог его знает отчего, дойдя
до ограды, пошел дальше, таща меня за собой, как на
буксире, по камням сквозь кустарник.
Угрожающе залаял какой-то пес. Нэнэ остановился на
мгновение и тут же двинулся дальше. Куда он меня вел?
В какую ловушку заманивал? Или он просто чудак,
страдающий манией величия? Я остановился и решительно
заявил:
— Слушай, Нэнэ, куда мы идем? Думаю, для
разговора или чего там тебе хочется мы отшагали достаточно.
— Ты, я вижу, строишь из себя храбреца?
— Я ничего не строю. Просто сейчас хлынет дождь.
Можем мы поговорить здесь, кто нас тут увидит и
услышит?
Ослепительная вспышка молнии дала мне увидеть Нэнэ
в момент колебания, он стоял, опустив руки, и смотрел в
землю. Загремел гром; я уже не боялся моего спутника, но
мне очень не хотелось драться, я понимал, что все это —
дурацкая ошибка, преувеличенная до огромпых размеров
агрессивностью и недоверчивостью Нэнэ, и прямо сказал
ему:
— Слушай, приятель. Из-за какой-то ошибки, твоей
бешеной ревности и непомерного самолюбия оба мы сейчас
играем смешную роль...
— Как это смешную роль?
— Ну как же, мы с тобой прошли с полмили от
городка, вот-вот промокнем до нитки. Оба мы безоружны, место
глухое, почему не поговорить наконец? Скажи, чего ты от
меня хочешь, и дело с концом.
— Опять начинается?
119
— Да нет! Но я могу ожидать всего, ты так со мной
обошелся, без малейшего к тому повода, подумай! Я не
удивлюсь, если ты меня сейчас убьешь.
— Так. Хватит разговоров. Кто сказал Карлоте, что я
жених Мерседес?
— Откуда я знаю!
— Не ты?
— Я — нет!
— А кто?
— Я сказал уже, что понятия не имею и меня это не
интересует,— повторил я твердо и, мне казалось,
достаточно убедительно.
— Я тебя привел сюда, чтобы ты знал, что я
настоящий мужчина, и если ты хочешь чего-нибудь от Карлоты,
говори сейчас же, и мы ее разыграем в тумаки, или в
выстрелы, или в кулаки, или как угодно.
— Мне ничего не надо ни от Карлоты, ни от кого бы то
ни было. Просто у тебя дурной характер и больное
воображение, первое, что пришло в голову, для тебя — так оно и
есть. Будто в Пласересе нет вокруг глаз, чтобы все сразу
стало всем известно.— И так как начал накрапывать
крупный, как горох, дождь, добавил: — Если с тебя
достаточно, пошли обратно, а то вымокнем до нитки.
— Пошли, но смотри...
— Фу! Снова? Ты еще не убедился? Да? Тогда... не
стоит мокнуть.
— Хорошо, пойдем. Мокнуть мне ни к чему, я и так
весь взмок. Только что я всыпал как следует этой
колдунье. И еще бы с удовольствием добавил. Ей и той
сволочи, которая... Потому что я не желаю больше скандалов в
доме моей невесты... И пусть меня возьмут за это,
наплевать... И раз такое дело, пойду к китайцам и заберу мой
нож.
Так говорил Нэнэ, пока мы с ним шли, продираясь
сквозь кустарник к лавочке китайцев на углу.
Капли дождя падали все чаще, мы прибавили шагу и
шли в полной темноте, ориентируясь только в тот краткий
миг, когда блеснет молния, спотыкались, путались в
каких-то кустах, бежали, как два дурака,— смешной эпилог
нашего возвышенного конфликта!
— Закрылись китаезы. Держу пари, нагнал я на них
страху и вот остался без оружия,— сказал он уже на углу
улицы и, отстав от меня наконец, помчался под
проливным дождем во весь дух к центру Пласереса.
120
Увидев меня, мать не могла поверить, что можно так
разволноваться п так страшно промокнуть по пути от
дома «девиц Рубио» до нашего.
Чтобы дон Хусто не увидел следов побоев и не
догадался о трепке, которую задал Нэнэ, Карлота улеглась в
постель, жалуясь на всевозможные болезни: головную
боль, колики в боку, усталость, удушье. Положение ее, без
сомнения, было тяжким. Как ни сильно она увлекалась
Нэнэ, ей все же очень не хотелось терять своего старичка,
который довольствовался столь малым, не тянул за душу и
вдобавок так блестяще умел держать в руках свору
чернильных душ из муниципалитета.
Всех этих здравых рассуждений, вкупе с угрозами
Нэнэ, хватило, чтобы удержать ее дома в течение трех
дней; на четвертый, надев свой боевой наряд — шлепанцы,
шаль и яркое платье, в шесть часов вечера она снова
ринулась на улицу, к дому «девиц Рубио».
Сусанна и Мерседес в это время сидели, по
обыкновению, в качалках в портале, являя взорам прохожих свои
вечерние туалеты. А в нашем саду, также по обыкновению,
сидели мать, бабушка и я, читавший им вслух звучные
стихи из журнала.
Вдруг на ближайшем углу появилась отчаянная
Карлота и, вызывающе жестикулируя и громко щелкая
шлепанцами, направилась прямо к нам. Обе сестры удивились
и испугались. Я смолк. Появление женщины такого
пошиба на нашей тихой улице было настолько ошеломляющим,
что бабушка и мать оцепенели в изумлении и даже не
заметили, что я перестал читать.
Дойдя до нашего сада, она увидела меня и
остановилась — бледная, прекрасные глаза презрительно
прищурены, широкие эфиопские ноздри трепещут. Она сказала:
— Здравствуй. Значит, ты тут живешь?
— Да.
Мать и бабушка пришли в ужас. Мерседес и Сусанна,
пораженные, смотрели на нас. Я сразу сообразил, как
успокоить всех:
— Мама, с этой девушкой мы вместе учились в
школе. Ты разве не помнишь? Сестра нашей учительницы.
— Конечно, я думаю, донья Лола помнит,—
искательно проговорила Карлота.
— Нет, не помню,— сухо ответила мать.
Вдруг мулатка изменилась в лице, еще больше
побледнела, тревожно раздув ноздри, как олень, почуявший хищ-
121
ника; она пристально смотрела в сторону китайской
лавочки на углу.
Из двери лавки высовывалась нога в белой брючине и
часть чьей-то головы без шляпы; скрываясь за дверью,
человек высматривал что-то на улице. Несомненно, это был
Нэнэ; видимо, он заметил, как Карлота направилась к
дому «девиц Рубио», и пошел за ней, а потом дал круг,
чтобы незаметно ее выследить.
— Ну ладно, до свидания,— сказала Карлота и пошла
в ту сторону, откуда пришла.
— До свидания,— ответили хором мать, бабушка и я.
Пока мы разговаривали, соседки ускользнули из
своего портала. Мулатка исчезла за ближайшим поворотом,
и одновременно с ней исчезли из виду и белые брюки.
Чтобы удовлетворить требовательное любопытство
матери и бабушки, желавших знать, как и почему
Карлота оказалась на нашей улице, я должен был
рассказать обо всем, что случилось,— с самого
первого ее появления вплоть до трагикомедии той ночи с
ливнем.
Я сказал, ливень той ночи? О, ливень той ночи был
ничто по сравнению с ливнем, разразившимся вслед за моим
сообщением: запоздалый страх двух женщин, проповедь
бабушки и обвинительная речь матери. Хорошо, хоть дед
не был посвящен ни во что, иначе домашний ливень
превратился бы в октябрьский циклон.
Чтобы покончить со всем этим, моя мать объявила:
— На той неделе, сразу же после митинга, ты
отправишься в Гавану. Учиться. Хватит глупостей.
В половине восьмого, как всегда, я подошел к дому
«девиц Рубио» и увидел, что дверь на улицу вопреки
обыкновению заперта. Взволнованный, почти готовый уйти, я
легонько постучал костяшками пальцев. Открыла
мулатка; пропустив меня в комнату и едва ответив на мое
«добрый вечер», она умчалась в глубь дома.
Еще одна странность — Сусанна меня не ждала,
гостиная была пуста. Окончательно испугавшись и оробев, я
нерешительно повесил шляпу на вешалку между дверьми и
сел в «свое» кресло.
Прошло три или четыре минуты, показавшиеся мне
отчаянно длинными, и наконец я вздохнул свободно,
услышав шаги Сусанны, она шла из столовой.
— Добрый вечер.
— Здравствуй.
122
Ее рот, обожаемое мною гнездо поцелуев, гневно
кривился и более походил на выпяченные губы разъяренной
африканки. Я выдержал негодующий взгляд больших
черных глаз, я жаждал дать объяснения, успокоить ее душу,
зажечь чистое лицо моей невесты улыбкой мира и любви.
Садясь рядом со мной, она мрачно сказала:
— Так, значит, ты никогда не был знаком с этой
мулаткой? Да?
Я начал объясняться, и Сусанна, не сводя с меня глаз,
не прервала ни разу: так же как я жаждал убедить, она
жаждала быть убежденной. Да, я действительно знал
Карлоту когда-то, мы вместе учились, но когда я вернулся
в Пласерес, я ее даже не узнал.
— Ты же видела, она поздоровалась не только со
мной, но и с мамой тоже? — спросил я, полагая, что
недоразумение исчерпано.
— Может быть, но чего-то ей здесь надо.
— Конечно, надо, я разве тебе не говорил, что она
возлюбленная Нэнэ?
На мое счастье, Мерседес не слышала последних слов.
Она вошла сразу же после них, нарядно одетая, затянутая
в корсет, улыбаясь, с большим букетом распустившихся
фиалок на пышной круглой груди.
Поздоровалась, села за фортепьяно. Начала играть
какой-то танец. Бросила на середине. Подошла к двери и
постояла там некоторое время. Вернулась к инструменту,
взяла ноты, перелистала. Бросила, пошла в столовую
взглянуть на часы. Было половина девятого, а Нэнэ все
еще не показывался. Она вернулась к двери, потом зашла
в свою комнату. Принесла оттуда книгу, прочитала
страницы три из середины и оставила ее на кресле. Снова
посмотрела на часы. Без десяти девять. Выглянула
последний раз на улицу и с кислым выражением ушла во
внутренние комнаты.
Между тем мы с Сусанной продолжали беседовать. Мы
обсуждали последние события: во-первых, историю с
мулаткой, а потом — отчаяние Мерседес оттого, что Нэнэ не
появился в этот вечер.
Мы услышали, как где-то в глубине дома Мерседес
отводит душу, пиная мебель. Сусанна сказала:
— Сейчас она ляжет спать, но сначала разорвет пояс
и скомкает платье.
Понимая, что Мерседес, судя по всвхму, наконец
улеглась, а Росита не намерена появиться сегодня, я собрался
123
было благоразумно удалиться, но в эту минуту в дверях
показалась — неожиданно в такой час — кургузая фигура
дона Хусто.
В руке он держал свою темную, несуразную шляпу,
другой рукой, вооруженной огромным ярким платком,
вытирал лысину и бакенбарды. Он вошел, отдуваясь и
громыхая:
— Ну, вы, конечно, знаете о скандале.
Мы с Сусанной, очень удивленные, отрицательно
покачали головами. В дверях первой комнаты, с привычной
уже для нее в последние дни тревогой на лице, появилась
Росита, спрашивая дрожащим голосом:
— Что такое?
— Да пустячок, с позволения сказать. Обычное дело в
наши времена, когда никто никого не уважает, когда
совсем уже потеряли представление о морали. Этому парню
все равно с кем спать, с негритянкой, с мулаткой...
Росита смущенно прервала его:
— Ну, ну, что за разговор? И при Игнасио! Успокойся,
пожалуйста, и расскажи, что там произошло.
— Пустячок, я тебе говорю. Только и всего, что этот
самый Нэнэ, выходит, любовник одной мулатки, она
живет там, у казармы, и мулатка эта,— из тех, знаешь,
которым сам черт не брат,— собиралась, судя по всему,
устроить скандал у дверей нашего дома. А Нэнэ был
настороже, подкараулил, когда она шла сюда, заставил ее
вернуться домой и там стал бить ее. Она кричала, звала на
помощь, явились два полицейских. Я видел (весь Пласе-
рес видел!), как их повели в гарнизон. Он с
растрепанными волосами, гуаябера — в лоскуты, идет и твердит: «Эта
потаскуха мне ответит за все!» Она тоже
растерзанная, волосы распущены, ревет и ругается: «Эта ответит
мне за все! Жива не буду, а волосы ей выдеру! И
пусть жалуется на меня потом офицерикам Марии
Кристины...»
— Хусто, пожалуйста, Хусто, у нас в гостях Игнасио,
побойся бога,— снова попросила Росита.
Чтобы не усложнять семейного конфликта, я счел за
благо немедленно удалиться. Провожая меня, Сусанна,
дрожа от стыда, сказала:
— Ах, Игнасио, если дядя не перестанет рассказывать
о Нэнэ, вступит Мерседес, и тогда... тогда завяжется такая
ссора между нею и этим стариком... Он с ума сошел от
ревности...
124
Выходя, я услышал шум в комнатах за гостиной —
Мерседес поднималась с постели.
— Какой позор! Что скажут люди! Боже, какой
скандал! — восклицала в отчаянии Росита.
Последнее, что я слышал, был голос дона Хусто,
пылавшего святым негодованием оскорбленного поборника
морали:
— Нет, каков негодяй! Втянуть семью в такой
скандал! Все вокруг слышали, как ругалась эта грязная
черная девка. И что за свинство! С черномазой! Фу!..
VI
Пассажирский поезд, который должен был прибыть в
шесть сорок и привезти в Пласерес столичных гостей,
опаздывал на два часа. Так телеграфировал дедушке Са-
ладригас; глава местных автономистов получил
телеграмму поздним вечером, когда представители горожан в
сюртуках и крестьяне верхами, томясь нетерпением, уже
ожидали на станции.
Главная улица от вокзала до городской площади
сияет, как в большой праздник. В домах полный свет, все
двери настежь, на окнах синие и белые портьеры, и меж
ними, словно живые букеты,— девушки, по-воскресному
принаряженные и оживленные. На углах улиц арки из
пальмовых веток, разукрашенные бумажными
фонариками и цветными флажками. Между самыми большими
домами протянуты гирлянды из шаров и китайских
фонариков. Тротуары и порталы заняты негритянками и
китайцами — продавцами сластей, всевозможного жарева и
прохладительных напитков. Откуда-то из центра города
доносятся звуки танцевальной музыки в исполнении
лучшего в Пласересе духового оркестра и креольские
напевы под гитару. Шумно и весело, как в праздники.
Солдаты беспечно перемешались в толпе с уроженцами
страны,— не разберешь, где испанец, а где креол,— но
офицеры, взявшись под руки, обходят толпу стороной, косятся
и старательно хранят на усатых лицах выражение святой
патриотической непримиримости. Но, как бы там ни было,
«Кайо-Уэсо кубано» останется на высоте своей славы,
осенившей его этим именем. Останется тем, что он есть,—
отважным мятежником, всегда готовым бесстрашно
изъявить свои бунтарские чувства.
125
Часов в девять, когда улицы городка уже полным-пол-
ны верховых, криков и пыли до небес, рожок оркестра,
расположившегося на перроне, и полдюжины цветных
ракет возвещают, что знаменитые гаванские автономисты
прибыли в Пласерес.
Мой дед никому не уступит чести первым
приветствовать светил своей партии. Он, мой дядя, дон Серафин Ру-
био, дон Хусто и я были, конечно, в первых рядах в этот
час искренних объятий, сердечных рукопожатий и
представлений по старшинству: сеньор Оливер, сеньор Торрес,
Хосе Перес, Педро Вальдес, Хуан Анонимо... И с другой
стороны: великий Саладригас, Луис Арментерос, Хуан
Баутиста Арментерос, Карлос Мануэль Амёсага, Хосе
Инее Онья...
— Куэто не приехал, и Хиберги тоже нет,— говорит
мой дядя, который славится тем, что знает всех столпов
партии автономистов.
— Зато приехали братья Арментерос, Карлос
Саладригас, Стерлинги, другие надежные люди. И очень хорошо.
Эти, по крайней мере, не меняют своих убеждений. Они
не из хамелеонов,— откликается тотчас дон Серафин,
который,— вот, кстати, подходящий случай и вам
рассказать об этом,— во время Десятилетней войны ел кожу с
табурета, утолял жажду лошадиной мочой, потом его чуть
было не расстрелял Висенте Гарсиа, и после всего этого
он вместе с Масео протестовал в Барагуа под
легендарными манго. Весь Пласерес наслышан о его геройских
подвигах, и многие называют дона Серафина «команданте»,
военным званием, которое вышеперечисленные подвиги
принесли ему в те славные времена.
Мы движемся пешком по Главной улице, за нами —
оркестр и кавалькада единомышленников, не перестающих
кричать: «Да здравствует!» Когда мы проходим мимо
освещенного портала казино, испанцы, находящиеся там, и
автономисты скрещивают враждебные взгляды. (В наши
дни руководящие деятели от либералов и от
консерваторов, встретившись где-нибудь на избирательном участке,
приветствуют друг друга, как родные.) Стол, накрытый
на пятьдесят персон, уже ожидает нас в «Тюильри», но
гаванские гости прежде всего хотят знать, есть ли в отеле
душ. Ужин начинается в половине двенадцатого под
взглядами не менее двух сотен любопытных, толпящихся
у всех дверей отеля. На одном конце стола, почти во
главе, сидит парочка — Карлос Мануэль Амесага и мулат
126
Хосе Инее, совсем уже мужчины. Белый отпустил черные
как смоль бакенбарды в английском духе, которые
делают его похожим на оперного баритона, если бы не серъез-
по поблескивающее пенсне на длинной черной тесьме,
аристократически ниспадающей на белоснежный
пикейный жилет. Мулат похудел, вытянулся и согнулся, как
засохший тростник, и, подобно своему товарищу, одет в
сюртук и брюки похоронного цвета и точно так же
демонстрирует блистательное пенсне с тесьмой,
аристократически ниспадающей на белоснежный пикейный жилет.
Чтобы ни в коем случае не встретиться с ними, я
пробираюсь к противоположному краю стола и, сев там, вижу,
что совершенно скрыт за спинами моих соседей. Все
удается как нельзя лучше, и до конца этого смехотворного
банкета ни один из двух пламенных автономистов не
догадывается о моем присутствии. Тостов не произносят, дабы
не расплескать речи, заготовленные к торжественному
событию, имеющему быть на следующий день.
Никто, ни хозяева, ни гости, не хочет пропустить
ничего на предстоящем торжестве: ни шествия, когда двух
ораторов повезут в единственных двух колясках, какие
есть в распоряжении местных автономистов, в
сопровождении почетного эскорта из отборных всадников, за
которым бесконечной вереницей потянутся крестьяне на своих
рабочих клячах; ни речей; ни жареной телятины, ни
жареного молочного поросенка, там, на берегу реки, под
навесом из веток; ни петушиного боя, ни конного турнира
после обеда; ни званого обеда и танцев в честь гостей в
доме недалеко от нашего; и поэтому, едва заканчивается
ужин-банкет, улицы темнеют и пустеют; в доме, где
танцевальный вечер, еще дотанцовывают, но вокруг ни
звука, крестьяне, удвоившие собой число жителей Пласереса,
восстанавливают силы, заснув в домах своих знакомых и
друзей в городке и в его окрестностях.
Утром великого дня мой дед, по наущению бабушки и
моей матери, совершил большую ошибку. Обе добрые
женщины хотели, чтобы он, вместе с доном Серафином, пошел
к алькальду и попросил продлить срок заключения Нэнэ
до конца недели, пока я не уеду в Гавану. Желая сделать
приятное моим домашним, дон Серафин согласился
сопровождать деда, но согласился против собственного желания.
Ибо дон Серафин, который, как говорила его жена, был
мягче масла со своими дочерьми, этот же самый дон
Серафин с тем, кто посмел бы нанести им малейшую обиду,
127
равно как и с тем, кто захотел бы уронить его славу
мятежного команданте, был сущим тигром; и вот теперь этот
«тигр» горел желанием встретиться на улице с Нэнэ и
свести с ним счеты за его выходки и скандалы.
Не успели заикнуться, в чем состоит дело, как он
сказал:
— Не беспокойтесь, у него не будет времени
причинить вред Игнасио. Скорее я сам вцеплюсь ему в волосы.
Я нарочно остался в городе на эти дни, он от меня не
уйдет.
Но, как я сказал, уступив настойчивым просьбам моей
семьи, он вместе с дедушкой все-таки отправился к
алькальду Пласереса дону Эрмохенесу Фейхоо.
Дон Эрмохенес, кроме того что был алькальдом, был
еще и галисийцем, владельцем бодеги и капитаном
волонтеров, а сверх того — ярым врагом Нэнэ, а сверх того и
этого — самым воинствующим сепаратистом Пласереса,
лезшим на ножи, как только заходил спор по поводу
спасения Сангили, встречи в Лас-Гуасимас, вступления в Оль-
гйи или Санхонского пакта. Но еще более ярым врагом
дона Эрмохенеса был сам команданте. И потому, когда два
парламентария явились к алькальду,— дом его стоял на
Главной улице, за углом нашего дома,— он притворился,
что не принимает дела всерьез:
— Что вы, дон Серафин, что вы... Ну, пожалуйста...
Ведь Нэнэ, если услышит аплодисменты, музыку,
фейерверки и всю эту бунтарскую шумиху и не примет в ней
участия, он, бедный, взбесится! А? Пожалуйста, дон
Серафин...
И этого вот шутовского тона отец Сусанны и мой дед
так и не смогли сбить с Фейхоо и вынуждены были уйти,
почти сбежать, оставшись в полной неопределенности
относительно намерений алькальда по поводу арестованного.
Я поджидал их на ближайшем углу. Они рассказали о
непристойном поведении Фейхоо. И все же они считали,
что вряд ли он выпустит Нэнэ из заключения раньше
середины недели; но во всяком случае, присовокупили они,
я должен держать ухо востро. И мы втроем поспешили на
площадь.
Половина десятого. Митинг, как объявлено, должен
начаться в десять. Центр городка вновь празднично кипит.
Небо синее-синее, день ясный, веселый, не по-февральски
жаркий. В лавках и кафе креолы и солдаты толпятся
вокруг сочинителей и исполнителей народных песен, напере-
128
бой играющих на гитарах и мандолинах, с криками «да
здравствует» и «оле», повсюду хлопают пробки от
английского пива. Во многих домах вывесили из окон белые и
синие полотнища. На улицах появились новые арки и
прибавилось торговцев. «Петушиный цирк», за квартал от
площади, весело разукрашен разноцветными флажками,
вымпелами и пальмовыми ветками. Улицы, ближайшие к
площади, кишмя кишат пешими и верховыми. Музыкальный
павильон превратили в трибуну, внутри поставили стулья,
украсили драпировками, пальмовыми ветками и
штандартами, на которых можно прочесть: «Братство», «Общество
цветных», «Гармония — общество любителей музыки»,
«Автономисты из «Гуаракабуа» и многое другое. Перед
самым павильоном, с той стороны, которая обращена к
муниципалитету, стоит столик, на нем — кувшин и стакан с
водой, и в этой же стороне почти вплотную к павильону
отгорожено несколько рядов стульев, по всей вероятности
для прекрасного пола,— некоторые уже заняты
цветными зонтиками и яркими шалями. У входа в «Тюиль-
ри» военный духовой оркестр играет хабанеру, от
которой ноги у молодых людей сами просятся в пляс.
Крестьяне на лошадях носятся вокруг площади, вздымая
пыль и сотрясая воздух пронзительными «да здравствует»
в честь партии автономистов, дона Саладригаса, реформ и
вообще всех храбрых кубинцев. И надо всем этим,
самонадеянно и величаво, реет красно-желтое знамя над
муниципалитетом.
Около «Тюильрп» нам навстречу попадается Длинный
Батон, и я радуюсь, что могу отделаться от дедушки и дона
Серафина и забыть о возможной встрече с Карлосом
Мануэлем и компанией.
Вместе с Батоном мы переходим улицу и идем по
площади, ища глазами хоть немного тени, куда мы могли бы
забраться и простоять митинг в прохладе.
— Смотри, там, где сидят «Булка с Булкой», есть
два пустых стула!
— Да, но это места для женщин!
— Какая разница? Столько женщин и не придет. Нет
же другого места в тени. Пошли скорей, вот уж
нанюхаемся духов, пудры и чего хочешь.
Старые девы — они втроем, потому что Росаура и та,
что больна, остались дома,— очень нам рады. Кричат
продавцы лотерейных билетов и китайцы, торгующие
пирожными. Крестьяне верхом,— многие прикрылись от солнца
9 К Лоиейра 129
допотопными зонтиками,— выстроились вокруг площади в
три ряда. А на площади, где становится все теснее,
бросается в глаза множество синих мундиров военных и серые
шляпы с красно-желтыми розетками, парами,—
«штатских». Мальчишки устроились на верхних ветвях флам-
боянов, любопытные взрослые забрались на крыши домов,
примыкающих к площади.
Часы на площади бьют десять, и музыканты,
воодушевленные боевым духом толпы и пропущенным утром
стаканчиком, разражаются первыми забирающими за
душу звуками «Байямесы»; им отзывается мощный
благовест рукоплесканий, сотрясающие воздух «да здравствует»,
вспышки — то здесь, то там — ракет, доставленных из Ре-
медиоса. Толпа на площади беспокойно шевелится,
расступается и дает дорогу каким-то людям, одетым в темное,—
это ораторы, чрезвычайно серьезные и чрезвычайно
важные. За ними — свита.
Как только все, кто должен был там сидеть, расселись
в павильоне и уполномоченный от правительства занял
самое видное центральное место, у столика с кувшином и
стаканом воды появилась внушительная фигура моего
деда, почти удушенного своим черным костюмом, который
он надевал только по большим праздникам, и прикрытого
широкими полями шляпы с черным крепом (траур по
моему отцу).
Дедушка должен открыть митинг и представить
ораторов, и он делает это в торжественной тишине, несколько
запинаясь вначале, как бы не уверенный, очень ли хороша
эта холодная закуска предварительных слов, но
потихоньку расходится, воодушевляется, и, несмотря на то, что
жестикулирует как сумасшедший и сбивается в
выражениях, его пылкость, убежденность, а также великолепный
баритон в конце концов производят впечатление; сорвав
громкие аплодисменты, старик удаляется, предоставив
слово «оратору, владеющему им превосходно»,— молодому
студенту-правоведу Хосе Инее Онье, «надежде партии и
родины».
Если дедушка витийствовал как безумный, то Хосе
Инее Онья, казалось, вот-вот надорвется и рассыплется на
части, как прыгающий скелетик в руках фокусника. Но,
как видно, парень этот обладает закалкой истинного
автономиста, то есть большой отвагой в трибунных подвигах и
неподражаемым артистизмом слезно причитать, подвывая,
в то время как нужно просто сказать: «Есть!» В самых за-
130
бористых местах речи, в местах высокого «гражданского >
смысла, толпа вспыхивает энтузиазмом, одни аплодируют
и кричат отчаянными голосами, другие набожно возводят
очи горе и восклицают ото всей души: «Чистый соловей!»,
«Золотой колокольчик!», «Как говорит, и не запнется!»
Пока Хосе Инее Онья заходится длинными, гладкими и
округлыми периодами, уполномоченный от правительства
ерзает на стуле, словно его снизу подкалывают булавками.
Но Хосе Инее не только неистовый оратор, но и
автономист крепкой закалки; в минуту, когда у него сел голос,
перед тем как глотнуть из стакана, он замечает, что
воинственный дух публики уже накален, что уполномоченный
от правительства и местные власти в достаточной степени
воспылали святым патриотическим негодованием. И тогда
он меняет направление удара. На свет появляются Хосе
Марти и иже с ним, «призывающие к восстанию,
призывающие, чтобы кто-то жертвовал своими жизнями и
своими интересами, в то время как они сами гнусно
укрываются в чужих краях», продажные главари новейшей выделки.
Ропот недовольства в публике. Уполномоченный от
правительства благодушествует на своем почтенном стуле;
улыбаясь, он с наслаждением обрезает перочинным
ножичком кончик сигары. Обвинения против Марти, против
«Кайо-Уэсо кубано», против тех «безответственных, кто,
живя на этой земле, слепо повторяет то, что ему напоют в
уши презренные лжеконспираторы».
Это чересчур для «Кайо-Уэсо кубано». На площади
несколько голосов кричат «долой». В одном месте
поднимается шум. Публика пытается протолкнуться туда. В том же
направлении устремляются полицейские. В павильоне
встают. Уполномоченный, приподнявшись над своим
уважаемым стулом, выпячивает грудь и старается
рассмотреть, что там случилось; вертит головой по сторонам,
поглаживая свои начальственные усы и поглядывая на
публику, как отец строптивых чад, который вынужден
сдерживаться, чтобы не пустить в ход свой авторитет.
Некоторые женщины на площади кричат, другие плачут, а
многие угрожают кому-то, что они «им покажут».
Минутой позже шесть крестьян с лошадьми в поводу
под надзором нескольких «шляп» с розетками удаляются
от площади к участку. Все успокаиваются.
Уполномоченный опускается на стул. Публика снова плотно окружает
павильон. Хосе Инее, побледневший, надо полагать, со
страху, наспех закругляет свою речь несколькими успокои-
131
тельными словами и в конце концов провозглашает «да
эдравствует» в честь испанской Кубы.
«Да здравствует»? Да, сеньор! Выстрел, второй... Это
уже не фейерверк, это из револьвера. Снова в толпе кто-то
куда-то бежит. Непонятно, откуда прозвучали выстрелы.
Снова кричат женщины, свистят мальчишки, размахивают
руками мужчины... Уполномоченный от правительства,
воздвигнувшись перед столиком для ораторов, просит:
— Шшш! Тихо! Спокойно!.. К порядку!
Скандал понемногу стихает, и можно услышать, что
говорит уполномоченный:
— Если вы будете нарушать порядок или снова
начнется стрельба, неважно где, я распущу митинг... Я его
распущу! И... я все сказал!
И на площади снова водворяется не очень надежный
мир. Но этого все же достаточно, чтобы продолжался
митинг и чтобы мой дед в стихающих раскатах гражданской
бури — протестов, шиканья, шепота — мог торжественно
объявить следующего оратора:
— Предоставляю слово тому, кто мастерски им
владеет, будущему доктору медицины, еще одной надежде
родины и партии, Карлосу Мануэлю Амесаге.
Хлоп, хлоп, хлоп... аплодисменты по всей площади.
И Карлос Мануэль Амесага, который внушительной
своей фигурой, солидной походкой и истинно
академическим видом уже теперь ни дать ни взять доктор,
приближается к столику с графином и начинает речь.
Очень, очень обдуманное вступление. Повелительный
тон, легкость изложения,— любой недоброжелатель
должен был бы признать, что это не на скорую руку слеплено.
Округлые периоды, начинающиеся низким трубным
звуком, который артистически взвивается вверх, чтобы в
конце самой главной фразы увенчаться высокой, в стиле Ка-
рузо, тенористой трелыо, что производит огромное
впечатление. И еще лучше — цитаты на взволнованном,
прерывистом дыхании: «Потому что, как говорил наш пла-
мепиый основатель «Литературных листов», самое худшее
преступление, которое только можно совершить в Америке,
это кричать: «Да здравствует Испания верхом на бруске
сливочного масла или на бочонке с оливками...»
«Браво!», «Так его, креол!», «Ловко сказано!» И
глухие взрывы аплодисментов. Даже я прихожу в восторг. Не
знаю, чем восхищаться больше,— пышностью ораторских
приемов или пылкостью и отвагой, когда-то совершенно
132
несвойственной моему бывшему однокашнику. Бог весть
почему мне вдруг приходит на память тот день, когда я
заставил бежать по улице, там, в Матансасе, совершенно
потерявшегося от страха этого храброго Карлоса Мануэля.
Как он бежал!
Однако внимание, внимание, родник красноречия
забил снова. Послушаем. Теперь Карлос Мануэль вцепился
во флибустьеров эмиграции — в Марти, в тех, кто в Тампе,
в тех, кто в Кайо-Уэсо. Осторожно, ибо на трибуне он
совершенно неотразим! Я хочу сказать: если та же тема в
устах Хосе Инеса вызвала такой скандал, то... Великий
автономист. Бесстрашный. А может быть, он бережет про
себя то, что мог бы сказать, не желая портить
впечатления в глазах братьев Арментерос, Саладригаса и других
партийных светил, которые в восторге от его речи и
нашептывают ему на ухо поощрительные: «Хорошо», «Очень
хорошо», «Браво».
Фонтан все фонтанирует. Надо послушать: «Мы,
автономисты, честно и мужественно выполняем свой долг;
верные девизу «порядок и свобода», мы не устаем обличать
заговорщиков, которые там, за рубежом, роют Кубе
могилу, подталкивая нас на путь слез и крови. Скажем в
полный голос, так, чтобы нас услышали благородные умы и
сердца, преданные родине: они, претендующие на роль
спасителей, что они могут предложить нам? Ужасы
гражданской войны, вооруженную борьбу между сынами одной
и той же страны, страшную борьбу, а потом в
перспективе — в перспективе, сеньоры! —- наше окончательное
разорение и неизбежное отступление на пути
цивилизации».
Хлоп, хлоп, хлоп. «Браво!..» Уполномоченный от
правительства и тот воодушевился и не жалеет ладоней.
Но аплодисменты гаснут, и в разных местах, оттуда,
где стоят верхами крестьяне, прорывается несколько
энергичных «долой».
— Долой! — кричу и я во всю мочь и встаю с места,
как раз напротив павильона, раненный в самое заветное
моей души великой несправедливостью, а может быть, и
великой подлостью.
Так как это первый крик, раздавшийся совсем рядом с
трибуной, люди в павильоне встают и ищут глазами, кто
бы это мог быть. Мои соседи смотрят на меня смущенно.
Карлос Мануэль умолкает и упирается в меня взглядом,
в котором тщится выразить христианское смирение и одно-
133
временно отеческое снисхождение. Я смотрю ему прямо в
глаза и киваю головой, словно говорю: «Да, да! Долой!
Притвора!»
Уполномоченный от правительства поднимает лицо над
головами взволнованных сеньоров в павильоне и озирает
площадь испытующим и испепеляющим взглядом. Рами-
ра, испуганная, задыхаясь, тянет меня за сюртук, бубня:
— Ах, Игнасио! Ради бога! Не надо, сядь, успокойся.
За ней ее сестры и Длинный Батон хором:
— Сядь. Не сходи с ума.
— Возьми себя в руки. Сядь.
Женщины, сидящие рядом, отодвигаются подальше.
Какая-то крестьянка возмущенно вскрикивает:
— Замолчите, сеньор! Дайте людям послушать.
Атмосфера вокруг накаляется и от немилосердно
палящего солнца, и от разошедшихся политических страстей.
Все ждут, что будет дальше, и тут, прежде чем дедушка
и дон Серафин догадываются, что всю эту кашу заварил я,
ко мне подходит Испанский Перец, полицейский с
опухшим и красным от джина лицом:
— Или вы успокоитесь, или я вас отведу в участок.
И снова все хором:
— Сядь.
— Не глупи.
— Успокойся.
— Это невежливо. Сядь.
И я сажусь.
И все смолкают и успокаиваются, и снова журчит поток
красноречия: «Но этого не будет! Бунт, который
разжигают обманутые, соблазненные притворным мистицизмом
этого авантюриста без роду, без племени, этого бродяги,
этого бездарного литератора, бегающего теперь по
табачным фабрикам Флориды, взывая к самым низменным
чувствам невежественных слоев нашего общества, бунт этот,
с весьма сомнительной надеждой на победу, принес бы нам
лишь расовые конфликты и бедствия, которые
вышвырнули бы нас из рядов цивилизованных народов; самая
мысль о бунте, повторяю, сеньоры, может вызвать
энтузиазм только у людей невежественных, развращенных,
спекулирующих на разорении и крови народов. (Если я
сейчас не закричу, то лопну.) Партия автономистов
воплощает в себе чаяния большинства. (Свист.) В чем могут нас
обвинить? Кто может отказать нам в чистых намерениях,
в желании спасти страну, пожертвовать собою ради нее?
134
Бунтовщики? Безумцы сепаратисты? (В одной стороне
площади начинают свистеть громче и упорнее, в другой
разносятся возгласы: «Ах, ты...», «Заткнись!» — но Карлос
Мануэль, не расслышав, видимо, что там кричат, продол-
дюает спрашивать.) ...Кто осмелится назвать нас трусами,
предателями? Кто. кто может?»
— Твоя собственная мать может! — грубо отвечаю я
и иду вперед, к павильону, наведя палец, как дуло
пистолета, прямо в наглое лицо этого иезуита. Взрыв храбрости,
запоздалой, но неудержимой, вроде той, которая в один
прекрасный день в Матансасе превратила меня в первого
забияку школы дона Хасинто, или той, что толкнула
темной ночью, в грозу, к колючей изгороди вслед за Нэнэ,
здесь, в Пласересе.
Я более не слышу, как Длинный Батон и Рамира
называют меня сумасшедшим, тянут за пиджак, умоляют
остановиться. Карлос Мануэль остолбенел, молчит и
смотрит, как я иду к нему,— указательный палец вперед, как
дуло пистолета,— иду и повторяю свои обвинения,
горячие и неотразимые, как удар мексиканского ножа. Я иду
прямо, решительно, отчаянно, слепо, как анархист-фанатик
идет убивать царя, как бык кидается на красную тряпку,
как бросается под поезд самоубийца. Все смотрят на меня:
борцы за свободу, сидящие в павильоне, зрители,
сбившиеся в кучу, вытянув шеи, чтоб лучше видеть. Никто не
ожидал ничего подобного. Испанцы и преданные испанцам
кричат: «Он мамби!», «Арестовать его!», «Растоптать его!»
Кубинцы и преданные кубинцам кричат: «Долой!»,
«Долой испанских приспешников!» «Ковадоига несчастный!»
«Галисиец!» В тот момент, когда я подхожу к самым
ступеням павильона и толпа подняла уже на меня трости,
вынула револьверы и ножи, а дядя, мертвенно бледный, изо
всех сил старается протиснуться ко мне, я вижу: кто-то,
пригнувшись, ловким змеиным движением пробирается
между людьми, которые угрожающе сжимаются вокруг
меня все тесней. Невидимая мне змейка добирается до
последнего узкого просвета,— Нэнэ! Вот он, рядом, зловеще
сверкая глазами, выдергивает из-за пояса блеснувший
молнией кинжал. Я инстинктивно оглядываюсь, ища, чем бы
защититься,— стул, трость, нож... Не успею. Раз! И Нэиэ
всаживает кинжал мне в ногу.
— Аи! — пронзительно вскрикивает какая-то
женщина.
— Он его убил,— с ужасом произносит кто-то еще.
135
Кинжал вошел в правую ногу с внутренней стороны,
несколькими миллиметрами ниже промежности. Удар так
силен, что я падаю. Нэнэ перепрыгивает через меня.
«С этим теленком покончено»,— роняет он и бежит
дальше, все еще с окровавленным кинжалом в правой руке.
Толпа, перепуганная насмерть, расступается перед ним.
Хорошо, что Длинный Батон, Рамира, ее сестры тут же
окружают меня, иначе меня затоптала и добила бы публика,
охваченная необъяснимой паникой и бегущая за Нэнэ.
— Лови его!
— Вот он!
— Бандит! Убийца! — в отчаянии кричит Рамира.
Топот лошадей, женщины и дети кричат, плачут,
испуганно причитают. Выстрел, другой, третий, очередь,
дальше, еще дальше.
— Врача! Где же врач?
— В аптеку! К Чучо!
Это говорят те, кто стоит надо мной. Я их не вижу,
перед моими глазами серое облако, пронизанное
стеклянными нитями. Боль и холод в раненой ноге. Что-то липкое и
теплое течет там. Крики возле меня становятся еще
громче. Теперь я вижу огненные спирали, они
поднимаются, сплетаются, блещут. В ушах жужжит. Мозг, мне
кажется, закипает под черепной коробкой и сейчас выльется
наружу. Площадь подо мной качается, голова идет кругом.
Хочу крикнуть: «Мама! Сусанна!» — и не могу, потому что
язык стал тяжелым, мертвым и не помещается во рту...
Кто-то меня щупает, кто-то хочет меня поднять, кто-то
говорит:
— Не поднимайте. Нельзя трогать, пока не пришел
судья.
— Судья судьей, а нам надо перенести его в аптеку.
— Зачем, не понимаю? Я тебе говорю! Кинжал в пах,
от этого не поправишься.
Стараюсь достать до паха — туда ли я ранен? — и не
могу. Разливается в жалобах Рамира; гневно рычит дед;
клянется, проклинает и угрожает дон Серафин; я узнаю
их голоса, но словно во сне, и... нет, больше я ничего не
слышу. В ушах стучит: тук, тук, тук... Смертельный
холод поднимается по ногам и рукам, душа холодеет...
Жизнь уходит... Если бы закричать, стало бы легче! Мама!
Мамочка! Сусанна!
Кошмары: грифы, драконы, василиски, единороги; все
чудовища басен и геральдики; огненные языки, белоголо-
136
вые негры, бешеные собаки, привидения, целый парад
привидений; Гофман, По и... звено за звеном быстро, как
в кино, эпизоды драмы, в которой я был героем: Хосе
Инее размахивает руками в павильоне, крестьяне с
лошадьми в поводу, за ними — парочка «штатских» в
серых шляпах с красно-желтыми розетками... Карлос
Мануэль, доктор с дипломом, говорит речь... Толпа,
взвинченная патриотическим энтузиазмом... «Долой!», «Ах, ты!.,»
Нэнэ, скорчившись, пробирается сюда... кинжал
поблескивает в правой руке... Звериный взгляд его, и... бац!
Удар.
Я кричу и, с трудом раскрывая остекленевшие от боли
глаза, прихожу в себя.
Первое, что.я вижу,—лицо моей матери; бледная, с
темными кругами под глазами, она стоит, нагнувшись над
моей постелью, в слезах смотрит на меня, не может
наглядеться, п говорит, задыхаясь от жалости:
— Игнасио, мальчик мой, ну что? Как ты себя
чувствуешь? Это я, мама, не кричи.
— Ох, какой ужас, мамочка! Пить, дай мне воды!
— Тебе нельзя разговаривать, мой хороший. Доктор
сказал, что тебе нужно дать успокоительное. Сейчас я
принесу...— И она уходит.
Который теперь час? Когда меня ранили? Меня ранил
Нэнэ?.. За что?.. Сейчас он, наверное, в тюрьме... Неужели
это моя комната... Две свечи горят, странно... Ах, это
мамина комната... На ночном столике лекарства и бинты...
Хлороформ, часы... Четверть третьего?.. Значит, сейчас
ночь, очень уж тихо кругом... Если бы это был день... и
люди... Сусанна, старая мулатка, бабушка...
В двери, через которую ушла мать, осторожно
показывается какая-то тень. Невольно я оборачиваюсь, и...
— Аи! — кричу я, и крик этот слышит, наверное, весь
Пласерес и все окрестные деревни. Это рана дала себя
знать, едва только я попытался двинуться.
— Что такое, дорогой мой? Очень больно? — говорит
бабушка, причесанная и накрахмаленная, словно в разгар
Дня.
И тут входит мать со стаканом мутной желтоватой
воды.
— Не двигайся, сынок, это я. Бедняжка! Какое
несчастье, бог мой! Ни одного движения, ни слова. Я тебя
предупреждала.— Она вливает в стакан ложку коньяка.
Потом из коробочки на ночном столике достает таблетку, дает
137
мне вместе с водой.—Доктор сказал, как только ты
прядешь в себя, чтобы я тебе дала снотворного. Проглоти. Он
говорит, и Чучо тоже, что это не опасно. Осторожность и
терпение, вот и все. Постарайся снова заснуть, хотя я
предпочла бы разговаривать с тобой... Ах, боже мой! -=- Qaa
глубоко вздыхает.
— А где Сусанна? '
— Сусанна, понимаешь ли... она спит.
— А Нэнэ? Его схватили? Мне показалось, я слышал
выстрелы, до того как потерять сознание...
— Спи, прежде всего спи. Постарайся заснуть. Потом
ты все узнаешь,— спешит прервать мать.
— Да, тебе не следует разговаривать. Доктор
категорически запретил,— отчеканивает бабушка.
— Мне только одно... Ой, мамочка, больно! Как болит!
— Поэтому я тебе говорю — спи. Постарайся заснуть.
— Сначала скажи мне.
— Ну, хорощо, значит, бандит этот,— как только он
появился в наших краях, мы должны были немедленно
передать его в руки полиции,— после того, как ранил тебя,
сбежал; подхватил лошадь какого-то крестьянина и
поскакал по улице к кладбищу. За ним бросились двое
полицейских, пешие, и один «штатский» на лошади, он-то и
стрелял в воздух, хотел его испугать, наверное. Доскакав
до канавы возле кладбища, этот подлец упал вместе с
лошадью, и его бы схватили, если бы он не вытащил
револьвер и не ранил полицейского. Потом он снова вскочил
на коня, и след его простыл, там, в сахарном тростнике
около Лос-Мамейес; говорят, дальше он поскакал в Кала-
басас и па Санкти-Спиритус или Алонсо-Санчес; потому
что они уже не могли найти его...— И мать вздохнула еще
раз.— Ах, мальчик! Когда я узнала, что случилось, и
увидела тебя в аптеке, в крови, без сознания...
Рыдания не дают ей продолжать. Мне очень больно, но
ужасно хочется услышать, что было дальше. И все же
таблетка снотворного оказывается сильнее меня. Веки мои
тяжелеют, словно наливаясь свинцом, я делаю героическое
усилие:
— А когда это было?
Мать продолжает плакать. Мне отвечает бабушка, она
лучше владеет собой.
— Как когда? Сегодня в полдень, то есть вчера,
конечно, сейчас далеко за полночь.
— А митинг?
138
Я спрашиваю по инерции, глаза мои закрываются.
Слышу, как мать повторяет предписания врача: не
двигаться и не разговаривать.
Уже с прикрытыми веками чувствую, как в комнате
появляются новые тени. Слышу шушукание, хождение на
цыпочках... пение петуха, совсем близко... чьи-то губы
сострадательно касаются моего лба, две крупных тяжелых
капли падают мне на щеку... и я проваливаюсь в тяжелое
забытье.
Открываю глаза. Комната все еще плотно закрыта,
закупорена до единой щели, потому что медики, с той же
авторитетностью, с какой они защищают сегодня то, что
завтра отвергнут, в те времена утверждали, что при любой
болезни, а тем более в тяжелом случае, самое главное не дать
дунуть воздуху, коварному и убийственно вредному для
больного. Две свечи, только что зажженные перед
образом пресвятой девы дель Кобре, безуспешно борются с
солнечным светом, проникающим сквозь щели дверей и окон,
выходящих во двор. Чирикают воробьи; за стеной, в зале,
шаркает щетка; в кузнице поблизости бьет молот; пробует
голос рожок в кавалерийской казарме. Кто-то бесшумно,
по-монашески, ходит по комнате; огромная быстрая тень
мелькает по стенам, и я скашиваю глаза в ту сторону. Это
Сусанна. Моя мать, очень бледная в свете свечей, спит в
качалке. Сусанна прибирает на ночном столике,
переставляет на мраморе коробочки, флаконы, часы,— обе стрелки
стоят на девяти,— приводит в порядок корпию, бинты и
вату.
Ужасно хочется дотронуться до нее, сказать что-нп-
будь, привлечь ее внимание, но никак не могу очнуться
Совсем, шумит в ушах, сухо и неприятно во рту, у меня
температура.
Неожиданно она поворачивается в мою сторону, я едва
успеваю закрыть глаза. Она подходит, по-сестрински
нежно поправляет постель, расправив и отвернув простыню па
моей груди. Она делает все это ловко, не дотрагиваясь до
тела, как опытная сиделка. Сердце мое тянется к ней, и я
открываю глаза.
Она пугается.
— Ты проснулся, мой мальчик? Как ты себя
чувствуешь?
От волнения, от слабости,— я ведь потерял много
крови,— не могу ответить и снова закрываю глаза,
увлажненные слезами.
139
— Да, да, лучше, чтобы ты спал. У тебя такой жар!
И, взяв мою правую руку, бессильпо лежащую поверх
простыни, целует ее, по-матерински окропив слезами и
шепча почти набожно:
— Мальчик мой! Жизнь моя!
И я слышу, как она отходит. Снова открываю глаза —
она тихо идет, прижимая платок к лицу, садится в
качалку напротив моей матери, спиной ко мне.
Я смотрю на обеих. Святые женщины! Мать и невеста,
в порыве великой и чистой любви сказавшие мне:
«Мальчик мой!»
После долгих бессонных ночей; после надоевшего
мясного бульона; после бесконечных болезненных процедур;
после строгого затворничества в комнате, пахнущей
чуланом; после всех страданий и бессонницы, когда от моей
матери не осталось и тени той прекрасной женщины, какой
она была прежде; после того, как записные моралисты
Пласереса вдоволь насплетничались, узнав, что Сусанна
несколько раз заходила в мою комнату,— словом, спустя
сорок пять дней после подлого нападения я впервые
выхожу из спальни и, опираясь на трость, иду в гостиную, где
меня поджидает просторная качалка с подушками и перед
пей — табурет.
За моей спиной, готовая поддержать в любой момент,
идет моя мать. Впереди торжественно движется
бабушка, убирая с дороги любой предмет, который хоть чуть-чуть
может затруднить мне шаг. Рядом с моей качалкой стоит
Мария де ла О, руки в боки, и празднично улыбается всеми
своими ослепительными зубами. В другой качалке,
поближе к полуоткрытому окну, сидит дедушка — в очках, очень
прямо держа спину, он читает «Ла Унион», на коленях у
него лежит «Ла Марина». Увидав меня, он восклицает:
— А, здравствуйте, здравствуйте, молодой человек!
Учитесь ходить?
— Уже, уже,— говорит бабушка.
— Благодарение богу и пресвятой деве! — восклицает
старая мулатка.
— Врачи говорят, хромать не будет, но я все-таки
боюсь! — вздыхает моя мать.
— Ну вот еще, с какой стати! Пусть подойдет, и сядет,
и узнает, что происходит на свете; дела обстоят так, что,
я думаю, хромой или не хромой, а придется ему удирать в
Штаты... Потому что дела обстоят так, что «дрожит
супостат». Ну, поди сюда.
140
— Сейчас, сейчас, только спачала взгляну на себя,—
отвечаю я и подхожу к зеркалу в первой комнате.—Фу,
какая гадость! Что твой мертвец! — вырывается у меня,
когда я вижу свою фигуру с ног до головы: тощий,
сгорбленный оттого, что больно шагать, в каком-то белом
балахоне поверх белья, лицо как воск, длинная черная
борода, волосы на голове — пальмочкой.
— Сусанна испугается,— говорю я.
— Ничего подобного! Бедняжка вела себя превосходно
все это время,— отвечает моя мать.
Я ее ласково прерываю:
— Ну что ж, если она испугается и разлюбит, у меня
есть еще одна невеста.
— Еще одна?
— Еще одна. Ты!
Впервые за сорок пять дней вижу, как она улыбается.
— Хорошо, хорошо. Иди, иди, и не будь подлизой.
Как только я вхожу в гостиную, отворяется дверь с
улицы. Это Сусанна, она несет газеты для деда; по правде
говоря, газеты — лишь предлог, чтобы прийти к нам в это
утро моего первого выхода из спальни, это как-никак —
событие. Увидев, что я опираюсь на палку, она улыбается:
— Раз, два, три, не хромай, смотри!
— Ох, не надо!
— Господи, на кого он похож!
Вскоре после Сусанны приходит Росита. Я сажусь в
свою качалку,—хорошо, что сюда положили подушки.
Вокруг меня располагается все общество. Протягивая мне
газету и указывая на заметку под заголовком «Нарушение
порядка», дедушка говорит:
- — Прочти это.
Я скольжу глазами по заголовку и подзаголовку, но
больше прислушиваюсь к разговору.
Дедушка (обращаясь п Росите). Ну, что вы скажете
на это?
Росита. Посмотрите лучше, что пишут в газете,
которую Сусанна принесла. Теперь, кажется, Масо и эти
люди из Байре уже не требуют реформ как принципа,
теперь они за отделение.
Дедушка. Да, это я уже видел в «Ла Унион». А что
слышно из Матансаса?
Мать. В тамошней газете, которую мне прислали,
пишут, что все, кто в Ибарре, и заговорщики в Гаване
схвачены, все в тюрьме; Сангили, Хуан Гуальберто Гомес, Коло-
141
ма... А этого и его невесту — их, кажется, привезут в Ма-
тансас...
Сусанна. А то, что тебе рассказывали, мама?
Росит а. Ах да! Говорят, Нэнэ бродит где-то около
Тагуаско, он и его отряд.
Дедушка. Ну, ясно, у него и тут была целая банда,
вы же знаете...
Бабушка (торопливо). Да, да. Все это верно, но
нельзя отрицать, что возле Ремедиоса и Санкти-Спиритус
уже появились отряды инсургентов! И в Сантьяго-де-Куба,
и в Пуэрто-Принсипе. Теперь ого-го!
Дедушка. Ого-го!
Росит а. Что же вы думаете делать, сеньор Дарна?
Дедушка. Если это не кончится, придется уехать в
Мексику, или на Север, или куда-нибудь еще, всей семьей.
Бабушка. Если это не кончится! Конечно, не
кончится! Теперь дело пошло всерьез, теперь они ответят...
Мы им припомним «Вирхиниуса», бедного Барону,
студентов, все их преступления.
Я. О да! Теперь они заплатят за see!
Мать. И, судя по всему, скоро появятся братья Масео
и старик Гомес.
Дедушка. Там увидим. (И обращаясь к Росите.)
А дон Серафин?
Росита. Серафин, понимаете ли, в усадьбе.
Прячется...
Стук! Стук! Стучат в дверь. Мы изумлены, а служанка
идет открывать.
«Добрый день» в два голоса. Это оба моих доктора
зашли к нам без приглашения, по-креольски. Впереди доктор
Каиьисо, кубинец тридцати пяти лет, высокий, с
брюшком, фетровая шляпа и черные напомаженные усы;
любитель декламировать на семейных вечерах и возглавлять
богатые похороны; он большой мастер ввернуть свою
«маккароническую>> латынь не только в рецепты, но
и в разговоры; кроме того, он автономист до мозга костей
и мой лекарь номер один. За ним доктор Понс, испанец
пятидесяти лет, фигура Дон Кихота, белая тройка,
соломенная шляпа, эспаньолка и усы с проседью; всеми
признанный атеист Пласереса, с больными он беседует о
височных костях и кишечнике, его позиция в кубинской
политике ближе всего к взглядам Пи-и-Маргаля. Когда я был
в тяжелом состоянии, Каньисо пригласил его на
консилиум. Каньисо спрашивает:
142
— Ага, заговор?
— Да, сговариваемся, как убить вас, если мальчик
останется хромым,— подхватывает шутку дедушка.
— Как это хромым, слышите, Понс?
— Все может быть,— философски отвечает Понс.
— Полноте, глупости. Как только он в первый раз
побреется и пострижется — марш за город! В усадьбу!
Свежие цыплята, яйца из-под кур, парное молоко...
— Э-э! Куда это вас понесло! — саркастигчески
прерывает Понс—Чего ради? Можно подумать, что мы живем
в Мадриде или Гаване! Живем на окраине, вокруг
деревья... Какую вам еще деревню? Яйца, цыплята и молоко?
Пожалуйста, все к вашим услугам.
— Да, да. Но, дорогой коллега, в городах, знаете, пусть
самых маленьких, смертоносные испарения,
болезнетворные микробы, они могут служить причиной неврозов,
понимаете ли, обилие эмоций...
— Я думаю, хватит, мой дорогой Каиьисо. Так мы
запугаем почтенное семейство. Побеседуем о чем-нибудь
другом. Что говорят о повстанцах?
— Повстанцы? Говорят, что они с ума сошли. Им
теперь покажут свободную Кубу. Ослы, и только! Надо же
смотреть правде в глаза, без Испании, без знамени, которое
развевалось, как сказал... этот... как его... словом, которое
развевалось над империей, где никогда не заходило
солнце, без автономии — что может быть? Закуска для негров!
Гаити или Санто-Доминго! Любой сакатека метит чуть ли
не в президенты, а янки только и ждут с раскрытыми
жабрами, как бы повторить свой мексиканский подвиг.
II он долго разглагольствовал в том же духе, не
обращая внимания на враждебное молчание всех нас и
иронические выпады Понса, пока тот, понимавший, как всем
нам неловко, не прервал его декламации:
— Превосходно! Все согласны! Но что же все-таки вы
посоветуете больному?
— Я уже говорил: как только он будет в состоянии,
пусть пострижется, побреется, начинает есть понемногу, а
потом — в деревню, в поля! Если семья со мной не
согласна,— тут он поднялся и взял шляпу,— пусть делают, что
хотят.
— Стало быть, мы с вами сходимся в мыслях, я ведь
тоже кое-что понимаю в медицине,— сказал Понс,
поднявшись и берясь за шляпу.
Мать заметила:
143
— Это не так уж дорого, да и не очень хлопотно, так
что я, пожалуй, поеду вместе с ним.
— Совершенно верное решение, сеньора,— улыбнулся
Понс—Таким образом он сократит себе путь, потому что,
когда он встанет на ноги окончательно, он немедленно
отправится еще кое-куда... во всяком случае, я бы лично
поступил так, если бы был кубинцем.
— Как, доктор Понс, и вы туда же! — воскликнули мы
хором.
Каньисо, в шляпе, подошедший уже к двери,
обернулся:
— Можно подумать, Понс, что вы и на самом деле так
считаете...
— Конечно, считаю, а то как же...— ответил, не меняя
тона, Понс.
— Ясно, ясно, Понс... До свидания.
— Всего хорошего, доктор Понс! Всего хорошего,
доктор Каньисо! До свидания! Прощайте!
После ухода докторов некоторое время мы строили
догадки и предположения относительно «отчаянной
попытки»,—так называли тогда революцию некоторые
газеты «неизменных». Тут, кстати, вспомнили и дядю
Рафаэля, уехавшего в усадьбу; после «исторического
митинга» он разорвал с автономистами и обратил свои
надежды на эту самую «попытку». Говорили и о Мерседес.
Она теперь защищает Нэнэ-бандита с тем же пылом, с
каким защищала Нэнэ-игрока, сутенера и мошенника. Резоны
ее остаются теми же: подобно Мусолино, Иполито или
Мануэлю Гарсиа, он сделался «бандитом», спасаясь от
преследований правосудия, а правосудие преследует его за
то, что он защищает свою честь и свою жизнь. Случай с
мулаткой? Случай с Игнасио? Тут, может быть, кроется
что-то, чего мы не знаем... В невиновность Игнасио она не
очень-то верит... И, кроме того, Нэнэ в порыве
патриотизма мог ошибиться... Потому что,— и в этом ему никто не
посмеет отказать,— он более кубинец, чем некоторые
другие.
Все это рассказывает Росита, и мой дед говорит:
— Стало быть, судя по всему, он командует
повстанческим отрядом?
— И во имя этого он и сделал то, что он сделал? —
придирчиво спрашивает моя мать.
— Я ставлю себя на твое место, Лолита, Я понимаю,
для тебя Нэнэ ненавистный навсегда человек и не может
144
быть ничем иным. Ты не в состоянии допустить, что,
кроме пороков, у него есть и одно неоценимое достоинство —
его несомненный патриотизм.
— Пусть так, но одного его порока хватит, чтобы с
лихвой покрыть все его добродетели,— не уступает моя
непримиримая мать.
— В конце концов,— прерывает ее бабушка, ярая
патриотка,— пусть только победит революция, и пусть
она послужит Нэнэ искуплением и очищением, и если он
окажется достойным, я первая готова его простить.
Я и моя мать покидаем Пласерес светлым солнечным
утром. Мы уезжаем в дедушкину усадьбу при сахарном
заводе «Флоридано», с вместительным домом в густом
фруктовом саду. Нас провожают дедушка с бабушкой,
вчетвером мы занимаем два экипажа, нанятые накануне
п единственные, кстати, которые вообще имеются в Пла-
сересе. От станции Пласерес мы едем в поезде до Сан-
Андреса, там нас поджидает коляска, потому что сесть в
седло я еще не могу. Где-то посередине между Пласере-
сом и Сан-Андресом и находится дедушкина усадьба.
Перед отъездом я не смог увидеть Сусанну, и мне
грустно. Дон Хусто привез на станцию пропуска,
разрешавшие нам выезд.
Звонят к отходу. Приходит рота солдат и
располагается в первых вагопах. Через несколько минут мы
слышим, как они поют и играют на гитаре. Говорят, солдаты
едут до Ремедиоса. Прощание со слезами на глазах, и
поезд трогается медленными, тоскливыми толчками, все
отчетливей ритмичный перестук колес, в утреннем
прозрачном воздухе за нами тянется черный след дыма. Сразу же
по выезде из города начинается крутой подъем; отсюда,
сверху, весь Пласерес как на ладони. Мне грустно,
грустно. Эта жирная линия, глубоким шрамом разрезающая
пустыню крыш, и есть Главная улица. А вон там, за
фламбоянами, пониже, что-то синее — это наш дом. В
доме рядом — Сусанна. Если бы выехали не так рано, я
смог бы с ней проститься. Вот она, как живая, передо
мной.
Теперь поезд на спуске, катит быстро и шумно, и на
поворотах появляются прелестные окрестности Пласере-
са: холмы, зеленеющие посевы, красные квадраты
только что вспаханной земли, темно-зеленые пастбища,
изумрудные поля сахарного тростника, строения и башни
сахарных заводов, расположенных вдалеке. Домики, хи-
10 К. Ловейра 145
жины и пальмы — пальмы у самой железной дороги и по
извилистым берегам маленькой речки, стройно, гордо, по
одной возвышающиеся над равниной и над фруктовыми
садами усадеб, теряющиеся на синем горизонте уходящих
вдаль бесконечных полей.
В Сан-Андресе ночью шел дождь,— с травы капает,
кругом лужи, над вершинами холмов тают последние
белые тучки. Наша коляска с трудом движется в липкой
красной грязи, утопая в глубоких колеях. Поля оделись
по-весеннему, пахнет весной. На половине пути нас
встречает дядя Рафаэль верхом на прыткой золотистой
креольской лошадке. Нас ожидает чистый, только что
выбеленный дом, а в доме накрытый стол — ранние апельсины
и манго, горячий куриный бульон, свежие яйца, полная
запасов кладовая и загон с отменно ухоженными,
упитанными и плодовитыми креольскими дойными коровами.
Бегут дни; я с удовольствием пью парное молоко из
глиняных кувшинов, ем свежие яйца, уплетаю свиные
шкварки, запиваю все это легким вином, которое каждое
рождество получает с Канарских островов мой дед; рана
моя день ото дня заживает, хромота понемногу исчезает,
а революция тем временем разгорается, словно костер на
святой неделе.
В отличие от меня, бедная моя мать никак не может
поправиться. Прежде всего, она не очень верит, что я
избавлюсь от хромоты. А кроме того, по вечерам я читаю
вслух — с выражением и ослепляя слушателей своей
эрудицией — старые революционные статьи и тем еще более
воспламеняю патриотизм Рафаэля, который совершенно
открыто заявляет, что уйдет с повстанцами, как только в
наших краях появится первый же отряд; и мы с ним в
один голос твердим, что «Отчаянная» на этот раз будет
не только «попыткой», но и кое-чем посерьезнее:
решительным усилием, в котором должны объединиться все
кубинцы, у которых еще осталась совесть. Вот это
последнее в особенности и не дает маме поправиться.
Каждый день из усадьбы в Пласерес по поручению
дяди отправляется человек, он везет молоко на продажу
и для домашнего употребления, иногда цыплят, яйца,
свинину. Его обыскивают два раза — при въезде в Пласерес
и при выезде, но Рафаэль, наш хитроумный Рафаэль,
придумал сделать двойное дно у молочных бидонов, и с тех
пор мы получаем из Пласереса кое-что любопытное: часть
моих старых вырезок, прокламаций и брошюр времен
146
Десятилетней войны, последние гаванские газеты и
газеты из Матансаса, письма от бабушки,— в них больше
новостей, чем в «Ла Марина»,— для моей матери и
записочки мелким узким почерком от Сусанны — для меня.
О чем говорится в записочках Сусанны, я оставляю
воображению любезного читателя, бабушкины же письма
со спокойной душою, думаю, можно отчасти переписать,
потому что они-то как раз и подхватывают нить моего
рассказа.
Из письма, помеченного 29 марта 1895 года.
«Думаю, Сусанна уже написала Игнасио, а он
рассказал тебе: в субботу у них случилась неприятность, самая
большая, наверное, после последней истории с Нэнэ,—
кстати, он теперь «команданте Фелипе Вальдес», так
пишут в газетах. Так вот, похоже, что дон Хусто совсем
рассорился с Мерседес, она,— ты ведь ее знаешь,—
выложила ему все, что думает: мол, понятно, он, дон Хусто,
сходит с ума от ревности, потому что Нэнэ моложе и
красивее его и отнял у него мулатку; оттого-то он, дон Хусто,
и негодовал в тот вечер и возмущался безнравственностью
Нэнэ и с тех пор затаил на него злобу. Каков характер,—
нет, это не девушка, это дьявол! Ничего общего с
сестрой! Та такая кроткая, такая ласковая, такая
воспитанная!
Так вот, значит, все кончилось тем, что дон Хусто
ушел из дому, и отгадай, что дальше? Теперь живет у
этой самой Арреманги или как ее?
Но самое худшее то, что дон Серафин перевел все свое
имущество на имя дона Хусто и поручил ему, чтобы тот
берег семью, а в случае чего немедленно отправил бы
всех за границу. Я думаю, он опасается конфискации.
Ходят слухи, что сам он где-то около Хибаро, а там
рассчитывает присоединиться к большому отряду. Но
вообрази, каково теперь им, бедняжечкам, и что им делать?
Так-то вот обстоят у нас дела. Придет и наш черед.
Наступил час испытаний, и если будет нужно, то примем
муки, и умоемся слезами, и вырвем сердце из собственной
груди. Богу угодно, чтобы было так, и надо
смириться-перед его волей. Да, да, твои страхи не напрасны: Рафаэль,
конечно, уйдет от нас, да и Игнасио, там хромой или не
хромой... это уж так. Надо принять это нам, женщинам,
надо сделать все, что мы можем, для Кубы; зато у тех,
кто останется в живых, и у детей тех, кто падет, будет
родина.
147
Потом я напишу тебе, что решит твой отец. Как там
мой внук, поправляется ли? Целую его, моего сына и
тебя».
Из письма от 5 апреля 1895 года:
«Помнишь, я тебе говорила о смирении в этот час
испытаний? Как ты мне и писала вчера утром, Рафаэль
появился у нас в полдень, и ясно, что он все уже
подготовил, а мне, чтобы не волновать, объяснил очень
подробно и толково, зачем он в Пласересе; сам же вечером
поехал «прокатиться на пони» и более не вернулся. Как
он тут появился, так и исчез, тихо и незаметно. Но что
он ушел, это истинно так, потому что слуга «девиц Ру-
био» видел его на той же дороге, по какой отправился к
повстанцам и дон Серафин. А вместе с ним исчез и
Длинный Батон, друг Игнасио. Ты не можешь себе
представить, какое у меня настроение! Пресвятая дева дель
Кобре, защити и верни мне его! Верни мне его, когда Куба
будет свободной!
Сегодня у меня была Росита. Сколько несчастий
свалилось на них! Сначала этот Нэнэ; потом муж
присоединился к повстанцам; затем дон Хусто взял и переехал в
дом своей любовницы; а теперь еще дона Хусто посадили
в тюрьму как заговорщика. Его мулатке стало известно,
что Нэнэ бродит где-то возле Фоменто, и ей загорелось
повидаться с ним и отнести ему кое-чего. Она
отправилась по дороге Гуаракабайя, там наткнулась на стражу,
ее задержали, обыскали, нашли одежду, белье, сверток с
хинином и йодоформом. Думаю, запах йода и выдал ее.
Задержали возчиков и привезли ее связанную. Когда
пошли с обыском к ней домой, там нашли дона Хусто, и его
тоже без лишних слов отвели в участок. Росита полагает,
что с ним ничего не сделают и что в конце концов его
выпустят, но, милая моя, в наши времена преследований
и злоупотреблений никому и ничему нельзя верить. Надо
терпеть молча, другого выхода нет. Посмотрим, что с
ними будет дальше, с бедняжками. Ты подумай, я тебе
уже говорила, ведь все имущество записано на дона
Хусто...»
В другом письме, помеченном 9 апреля 1895 года,
бабушка писала матери:
«Мне многое нужно тебе рассказать. Начну с доброй
вести — дона Хусто выпустили. Ну и хватил же он
страху и теперь хочет во что бы то ни стало исполнить
распоряжение дона Серафина перед уходом, то есть перевез-
148
ти семью на Север. Росита, правда, говорит, что вряд ли
есть в этом смысл, потому что до сих пор во всей
провинции не слышно ни о каком отряде. Дон Серафин, Чучо,
Рафаэль, Длинный Батон и другие скрываются где-то в
районе Кабайгуана, ожидая, что будут делать Тельо Сан-
чес, Хосе Мигель Гомес, Панчо Каррильо и другие люди
68-го года. Говорят, какие-то Мачадо бродят возле
усадьбы Манаханабо, под Санта-Кларой; а я думаю, все это
одна фантазия, не больше; говорят, такие уж они люди,
всем недовольны и то и дело задираются с испанцами.
Судя по газетам (я им не очень верю), получается,
что повстанцы водятся только в Сантьяго-де-Куба.
Впрочем, не знаю. Во всяком случае, думаю, в горах много
людей, одни организуются, другие просто прячутся до
поры до времени, поджидая пополнения и удобного
случая, чтобы выступить. Естественно, всю правду газеты
скрывают, чтобы не придавать большого значения
движению.
Относительно того, о чем ты спрашиваешь, скажу, что
думаю,— тебе лучше оставаться там, пока ты в полной
безопасности. Твой отец собирается ехать в Карденас или Ма-
тансас, выждем, говорит он, и если восставшие возьмут
силу, тогда вы с Игнасио присоединитесь к нам, и все
вместе мы уедем в Нью-Йорк. Моя воля — я бы не уезжала
никуда. Ты ведь знаешь, как я боюсь корабля и моря, как
люблю Кубу, как больно будет мне оставить тут, в такой
опасности, Рафаэля. По мне, так лучше бежать в горы и
там ухаживать за ранеными кубинцами и разделить
судьбу с моим сыном и другими, как это было во времена
Большой войны, когда мы, женщины, тоже шли на поле битвы.
Но он говорит, что не может предавать свою партию,
а оставшись на Кубе, он все равно что предаст и должен
будет терпеть упреки и даже преследования; лучше уехать
на Север. Мне он говорит, что там, в изгнании, мы сможем
сделать для Кубы больше. Я не очень согласна, по что
поделаешь? На все воля божия.
Я возмущена до глубины души тем, что читаю в
газетах каждый день. Автономисты, исключая тех, кто
действительно исполнил свой долг кубинца, просто мерзавцы.
Хорошо, они были автономистами до Ибарры и до Масо,
прекрасно; но теперь, когда вся страна поднялась, когда
настоящие вожди вернулись на родину пли вышли из
подполья, в это время оставаться на стороне испанцев — это
уже трусость, эгоизм, это предательство и черт знает что!
149
Тысяча дьяволов! Прости меня, господи, но когда читаешь
о стольких оскорблениях и провокациях, тут закипишь.
Почитай манифест автономистов от шестого числа этого
месяца, подписанный Ангуло, Куэто, Карлосом Мануэлем
Амесагой и другими,— какая гнусность! Шлю тебе его
вместе с некоторыми комментариями «Ла Марина». Ты
увидишь, сколько наглости: «...Преступное и предательское
поведение вульгарных агитаторов... Необходимо
расследовать и как можно скорее предавать суду, чтобы не
оставлять безнаказанными тех, кто подстрекал к недостойной
попытке». Прочти внимательно, если достанет силы,
окончание манифеста. Отчеркиваю это место карандашом. Нет,
лучше я перепишу тебе сама, чтобы еще больше
вознегодовать. Мне это прямо необходимо: «Либеральная партия
еще в 1878 году, в год своего создания, имела возможность
убедиться, как исполняются обещания этих
«революционеров», и она не склонит своего знамени, не уступит поля
боя тем, кто хотел бы заставить пас сбиться с пути
мирного прогресса, тем, кто собирается разорить нашу землю,
омрачить наше будущее страшными видениями нищеты,
анархии и варварства».
Лучше бы они натянули солдатский мундир да взялись
бы за оружие. Но как бы не так! Это же трусы. Они только
и умеют кричать на весь белый свет и заманивать людей
на митинги, но когда нужно дело делать, тут они начинают
хныкать и жаловаться. Когда-нибудь они за все
расплатятся. Наступит день, когда им придется убираться в их
любимую Испанию.
Я так разошлась, что совсем забыла сообщить тебе, что
говорит твой отец, ты спрашивала его совета, так вот его
мнение: раз ты уезжаешь вместе с нами, домики в Матан-
сасе следует продать.
Целую моего дорогого внука и тебя».
В одном из последних писем бабушка сообщала:
«Один добрый друг передал нам это письмо от
Рафаэля, я тебе его посылаю. Как видишь, он встретил там
много знакомых, а командиром у них дон Серафин. Рафаэль
очень забавно рассказывает, как там, у них в отряде, он,
к своему удивлению, обнаружил и Каньисо, лечившего Иг-
насио, и он оказался среди повстанцев. Кубинцы застали
его в какой-то усадьбе и заставили примкнуть к ним в
качестве врача. Рафаэль говорит, что этот человек сущая
змея и что дон Серафин должен за ним посматривать, как
бы он не сбежал к испанцам. Я бы не стала доверять тако-
150
му человеку. Послушай! Вдруг он перебежит и
выдаст всех? А вдруг он навредит раненым? А, как ты
думаешь?»
Таким образом, из газет, присылаемых бабушкой, а
также из ее писем мы теперь знали, что наша
«Отчаянная», она же — «Нарушение порядка», как называла
революцию сварливая «Ла Марина», была в самом разгаре.
Хороши пророки оказались автономисты, когда писали:
«Страна не поддерживает это движение, скорее наоборот:
отвергает с негодованием патриотизма и с энергией
инстинкта самосохранения!» Слезы радости и боли
выступили на наших глазах, когда мы узнали о высадке братьев
Масео; радости — потому что появление двух великих
мулатов возвещало победу и славу; боли — причиненной
героической гибелью самоотверженного, неустрашимого
Кромбета. А потом мы прыгали от счастья, узнав о
высадке Максимо Гомеса, этого старого льва, неутомимого и
неукротимого в высоком патриотическом стремлении. И мы
узнали о Марти, о его легендарной смерти, настигшей
героя в то время, как он на белом боевом коне стрелял из
револьвера во врага, воодушевленного своим численным
превосходством и возможностью взять такого пленника;
незабываемая сцена 19 мая в Дос-Риосе, сцена, достойная
Гомера и ставшая бессмертной благодаря смерти героя,
смерти, которая потрясла не только землю, окропленную
благородной кровью Освободителя, но и всю Америку
латинского корня, от Эль-Пасо, родины Идальго, до Пунта-
Аренас, земли, освобожденной Сан-Мартином.
Флор Кромбет и Хосе Марти! Доминго Мухика и Сера-
фин Сан чес, Нестор Арангурен и Адольфо дель Кастильо,
Хуан Бруно Сайас и Антонио Масео и многие, многие
другие, свято веровавшие в свое знамя и в свою родину,
принявшие муки во имя ее! В то время надежд и героизма
ваша смерть была благодатью. Только оттого, что паше
прошлое — это вы, мы, кубинцы сегодняшнего дня, еще
сохранившие идеалы, веруем в будущее. Чтобы быть
достойными вас, благородные и чистые люди нынешней Кубы
борются, веря в светлое завтра республики. Только
благодаря вам и ради вас кубинец, после четверти века
изгнания вернувшись на родину, благоговейно поклоняясь в
душе оставшимся в живых героям 95-го года и увидев то,
что его здесь встретило,— бесстыдное попрание на алтарях
похоти всего самого святого,— не бежит сломя голову на
том же корабле, на каком прибыл, обратно, стараясь, что-
151
бы его не стошнило от этого грязного пира, который
справляют генералы и доктора. Если бы вы дожили до
сегодняшних дней, что сталось бы с вашею славой? Я говорю не о
славе официальной, не о славе передовых статей,— кто
нынче верит в такую? Что сталось бы с вашею славой,
которую народ хранит в сердце своем? Народ, обманутый и
униженный, который мог бы теперь начертать на своем
гербе Дантово: «Оставь надежду...» Неужели вы потащили
бы ваши лавры и честно свершенную роль освободителей
на оргию обогащения и удовлетворения самых низких
желаний, как многие, многие другие? Мне не хочется этому
верить. Я вижу иное, и это мне утешительней, хотя
бесконечно грустно,— я вижу вас «романтиками»,
«неприспособленными» «донкихотами», «блаженными» в духе Варо-
ны, или Сангили, или Эстрады Пальмы, от евангелической
простоты Сентрал-Валлей вернувшегося в пещеру к
полипам и угрям, которых вырастили Вейлер и Вуд и
которые при республике начали наливаться и жиреть, в то
время, как табачники Марти, крестьяне Маль-Тьемпо и
концентрации деградировали в бедности,
несправедливости и упижеиии.
У меня хватало причин быть задумчивым днем и не
спать по ночам: письма Сусанны извещали о скором
отъезде в Нью-Йорк, где она, судя по словам моей бабушки,
надеялась увидеться со мной. Ее письма становились все
длиннее, все ласковей, она просила, она умоляла, чтобы я
умерил свой патриотический пыл и отказался от мысли
идти к повстанцам (я писал ей об этом), недостаточно
разве, что туда отправились дон Серафии и Рафаэль, тем
более что обе семьи решили уехать. Я должен подумать о
своей матери и о ней. И потом, если уж я не решаюсь
съездить в Пласерес повидаться с ней, потому что еще не
зажила рана и меня легко могут схватить, то как же я
собираюсь сражаться в рядах повстанцев. Какой от меня
толк? Обуза, и только. Получив очередное письмо, я
рвался в Пласерес. Разве возможно, чтобы Сусанна уехала в
чужие края и мы не увиделись с ней на прощание, не
соединили крепко руки, не подарили друг другу в конце
концов тайного поцелуя, в котором смешались бы наши слезы
и от которого стало бы еще горше?
Обуза для революции! То же самое говорила и моя
мать. Я со своей раной, которая до сих пор гноится и
заставляет прихрамывать, опираясь на трость, вместо того
152
чтобы стать подмогой, стану обузой для патриотов. Это
был последний, высший и решающий ее аргумент после
того, как я, один за другим, разбил все ее доводы: о том,
что я не имею права бросать ее одинокой беззащитной
вдовой, что Рафаэль, уйдя с повстанцами, уже спас честь
семьи, что это был бы удар для Сусанны (даже так!), что
мои восемнадцать лет — слишком нежный возраст, чтобы
идти на войну, претерпевать долгие переходы пешком и
верхом на некормленых и плохо объезженных лошадях,
терпеть голод, холод и все те лишения, которых требует
жизнь в повстанческом отряде.
«Славные аргументы!» — бывало, восклицал я во
время наших постоянных споров по вечерам, после того как
прочитывались газеты или спартанские письма от бабушки
(истового глашатая Каридад Агуэро), а также мои
вырезки из пожелтевших газет времен Большой войны. Да,
славные аргументы, ничего не скажешь! Разве сама
бабушка не была горда тем, что ее сын Рафаэль ушел к
повстанцам, разве не была душой на его стороне? Все мы
должны вложить в общее дело, что можем, мужчины —
свое мужество, свою кровь и даже жизнь, если захочет
судьба, женщины — свою печаль, свою самоотверженность
и свои слезы невест, сестер и матерей.
Мне не стыдно признаться, что под влиянием моих
старых бумаг, а также памфлетов и донкихотских выпадов
«неизменной» прессы, распираемой патриотическими
идеями и чувствами, по вечерам за обеденным столом при
свете керосиновой лампы я принимался необыкновенно
пышно и проникновенно разглагольствовать. За столом, кроме
моей матери, сидели обычно три молодых негра из нашей
усадьбы; эти слушали меня с восторгом, раскрывши рты,
готовые при первом же удобном случае примкнуть к
повстанцам.
— Какое мне дело до того, что честь семьи уже спасает
дядя Рафаэль? -— говорил я.—Рафаэль это Рафаэль, а я
Игнасио Гарсиа, и единственно, что мне важно, так это мое
собственное сознание, мои собственные идеалы, моя
родина в конце концов! Мне мало лет, что ж, но статью, силой
и мужеством я не уступлю взрослому мужчине. Все
кубинские патриоты, и хорошие — как дон Серафин и
Рафаэль, и плохие — как Нэнэ и Арреманга, ушли на поле
чести. Даже Рамира, старый друг нашей семьи, и та
заключена в «Лас Рекохидас», в Гаване, за то что
распространяла прокламации, которые сам Сайас посылал ей из столи-
153
цы! Женщина! Неужели я не в состоянии делать хотя бы
то, что под силу женщине?
Наивные слушатели, захваченные моей благородной
речью, зачарованные моей искренностью и горячностью,
кивали головами, соглашаясь; тут-то с уст моей матери и
срывался убийственный довод о помехе, и тут же три
наших добрых друга, которые впоследствии пополнили ряды
армий вторжения под командованием Баыдераса, Гомеса
или Масео, опять кивали головами, соглашаясь. Я же, не в
силах более бороться с действительностью, смирялся и шел
спать, проклиная Нэнэ, сердясь на тупую аудиторию, на
судьбу и даже на свою мать!
И снова летели дни. Революционная лавина заливала
уже центральные районы страны. Разгром испанских
войск при Пералехо в Орьенте и одновременно высадка
Серафина Санчеса, Роллофа и Майа Родригеса в
провинции Лас-Вильяс. В это же самое время успешные бои
против испанцев в горах Орьенте под руководством Хосе
Масео и других. Великий боевой марш армии Лнтонио Масео,
которая, развивая свой успех, триумфально шла на запад,
восторженно встречаемая кубинскими патриотами, охотно
вступавшими в ее ряды. Позади осталась испанская
линия укреплений от Хукаро до Морона. Мартинес Кампос
потерпел поражение. Бабушка и дедушка ожидали нас с
матерью в Матансасе, торопя поскорее соединиться с ними
и уехать наконец во Флориду или в Нью-Йорк. Рубио
давно жили в дымном городе над Гудзоном: мать,
полумертвая от страха за жизнь дона Серафина и от других
событий, которые потрясли семью, и обе девушки, тревожась
за отца, за женихов, страдая от разлуки с ними. О, какие
грустные письма писала Сусанна накануне отъезда! Как
это страшно — покидать родину! Сколько боли и вместе с
тем сколько радости,— в какую пору жизни живешь
полнее, чем в двадцать лет, в пору первой, чистой, глубокой
любви!
Победоносная армия Антонио Масео шла за нами по
пятам, мы убегали почти что в ее авангарде; отправились
в Матансас на поезде, переполненном подобранными в Ка-
махуани больными и ранеными. Мы с матерью тоже сели
там; она в трауре, в слезах, точно такая же, как когда-то
в день приезда в Пласерес; я -~ жадно глазея по сторонам,
цепляясь взглядом за каждый куст, каждую тростниковую
плантацию в надежде, что вот-вот оттуда появятся
припадающие к земле тени — повстанцы, они отважно нападут
154
ка поезд и возьмут меня с сооой такого, каков я есть, с
моей раной и хромотой,— помеха не помеха.
Эту дорогу мне не забыть! Два дня жажды, гари, жары,
грубости, ругани в обыкновенном поезде времен колонии,
пыльном, заплеванном, заросшем грязью, готовом, того и
гляди, перевернуться вверх дном и выкинуть нас, очень
похожем на межпровинциальные общие поезда на севере
Испании, справедливо прозванные «собачниками».
От Камахуани до Санто-Доминго — черепашьим шагом,
потому что впереди нас пустили для разведки дрезину.
От Санто-Доминго до Колона ехали с меньшими
предосторожностями, зато начались бесконечные узловые станции,
забитые солдатами, лошадьми, боеприпасами,
продовольствием,— хоть плачь. От Колона до Матансаса на каждом
шагу остановка,— набрать воды, дров, смазки, и в
довершение три часа ожидания в Гуанабане, чтобы не прибыть
в Матансас раньше полуночи и не напугать жителей
длинной печальной процессией носилок, переносимых из
поезда в госпиталь Санта-Исабель.
Война была в разгаре, дела приостановились, капиталы
изымались из обращения, нищета наводняла города,
пришлось ждать месяца два, прежде чем удалось продать оба
домика в Матансасе, и то за бесценок. Дядя Пене не помог
нам ни в чем; он делал вид, что не замечает нас, и в конце
концов перестал даже здороваться. Война приводила его в
восторг, он горел желанием наказать этих предателей,
которым правительство, по его мнению, позволило наступать,
видимо, только для того, чтобы затем окружить в западных
провинциях и заставить там сдаться или чтобы сбросить
всех в воды Юкатанского пролива.
Он еще увидит, увидит этот «Старый Китаец»,
говоривший, что даст напиться своему коню из реки Сан-Хуан!
Да, да! Дядюшка очень носился со своим
патриотизмом, который так превосходно сочетался с привилегией
пользоваться доходами от колонии-фактории, привилегией
покупать дома, открывать бодеги, округлять счет в
Испанском банке, вершить и рядить в судах, указывать, что и
как надо делать, чиновникам и полиции. Мало того, у него
был откуп на поставку снабжения испанским войскам и
оптовый магазин продовольственных товаров на главной
улице Матансаса — Me дно! Как любовно он прихорашивал
свою лавку пальмовыми ветками и флажками всякий раз,
когда предполагались встреча или проводы испанских
батальонов и они проходили по этой улице, разукрашенной
155
дветными полотнищами и штандартами двух
национальных цветов Испании — красного и желтого.
— Да здравствует великая Испания! — надрывался до
хрипоты дядя Пене в один голос с такими же, как он, пат-
риотахми — мясниками и всякого рода торговцами, когда в
огнях фейерверка, под рукоплескания, возгласы «да
здравствует!» и пронзительную бравую музыку шли по улице
только что прибывшие солдатики — «галисийские
сардинки» -— в своих пропотевших мундирчиках, сгибаясь под
тяжестью амуниции, шли покорно и тоскливо, как быки на
бойню, волоча ноги в вонючих альпаргатах и принимая на
ходу жалкие подачки-окурки или коробочки дешевых
сигар от этих пепе гарсиа с улицы Медио.
Бедные, бедные новобранцы! Ошарашенные по затылку
дубиной судьбы, они прибыли на охоту за этим страшным
букой, этим негром Масео, сами не зная, почему и для чего.
Так приказала королева, того требовал патриотический
долг, как писали в газетах и говорили в речах, а в чем он
состоит, они и понятия не имели. Бедные, бедные
«сардинки»! Только затем и прибыли, чтобы бесславно лечь где-
нибудь на поле боя или, отстав по дороге, наизнанку
вывернуться от рвоты, сойти с ума от жажды и отчаяния под
немилосердным кубинским солнцем и в конце концов
достаться на обед стервятнику или быть погребенным в
братской могиле в немилой земле, на чужом кладбище, за
тысячу лиг от своих! И все это во благо монополии
жульнической бюрократии, во благо жадных, бездушных торговцев,
во благо гнусной политики Каыоваса и ему подобных, во
благо колониального режима, где всех,— от последнего
карабинера до капитан-генерала,-— всех до единого можно
было купить, только по разной цене.
Вонючее болото, изрыгнувшее республику лотереи и
«хай алая», республику контрабанды в самом прямом
смысле этого слова.
Пока мы устраивали свои дела в Матансасе, до нас
дошли некоторые подробности о сражении при Маль-Тьемпо.
А еще через несколько дней мы узнали, что Хосе Инее
Онья отрекся наконец от автономистов и примкнул к
патриотам (об этом рассказали его родственники из Матан-
саса), а Карлос Мануэль Амесага поступил в Гаванский
университет, получает стипендию генерала Кальехи и
часто бывает во дворце на Пласа-де-Армас. Несмотря на то,
что рана моя все еще в швах сочилась гноем, мы вышли
из Матаисаса в Нью-Йорк на борту «Саратоги», корабля
156
компании «Уард», который приходил в город на реке Юму-
рй за грузом сахара.
День этот я не забуду никогда. Справа, со стороны Кар-
денаса, над вершинами Камариоки, вставал дымно-алый
смерч, закрывавший собою солнце и осыпавший дождем
искр синие воды прелестной бухты Матансаса. Это горел
в легендарных равнинах Колисео сахарный тростник,
горели дома, люди, животные — сгорали, как бабочки в огне
лампы, вздымаясь вверх черными хлопьями.
А я уезжал в изгнание, я покидал родину добровольно,
но с болью в сердце, как сказал вождь революции:
«...изгнанники без дороги, может быть, без грядущего; усталые,
исстрадавшиеся сердца, а за спиной — пожары, кусающие
небо красными деснами пламени». Словно взывая к
возмездию...
ВРЕМЯ НАДЕЖД И ГЕРОИЗМА
I
Мы уже подходили к мысу Хаттерас, но пока еще не так
много пассажиров заплатили дань морю: наша верная
Мария де ла О, не покидавшая каюты, едва мы повернулись
кормой к городу, моя мать, часто составлявшая ей
компанию, и молодая пара, совершавшая свадебное путешествие.
Для двух молодоженов морская болезнь была постыдной
профанацией их юных иллюзий: целыми днями они
полулежали распростертые на стульях, рядышком, бледные,
растрепанные, с провалившимися глазами, в смятых
костюмах, распустив шнуры на ботинках, то и дело
наклоняясь к плевательнице, давно уже полной и издававшей
запах свернувшегося молока.
Остальных пассажиров,— большей частью кубинцев,—
как только они укрылись под звездным флагом, властно
развевавшимся на флагштоке, и увидели себя в
безопасности, охватила долго сдерживаемая жажда порассуждать
вслух, непринужденно обсудить все «за» и все «против»,
все причины и обстоятельства, опасность, а также
возможность победы освободительной революции. В обществе,
которое составилось в курительном салоне, персоной номер
один был мой дед, а в кружках на палубе соло вела моя
бабушка.
Ио, видимо, невозможно кому бы то ни было оставить
позади воды Мексиканского залива — последнее теплое
прикосновение тропиков — без памятного прощания, как
оно водится в этих местах; у самого мыса Хаттерас,
страшного для слабых пассажиров, «Саратога», по образному и
простонародному выражению моего деда, принялась
скакать, как мексиканская кобыла, швыряя нас, кандидатов
во флибустьеры и будущих героев освободительной борьбы,
бессильными и бесполезными на койки в каютах, на стулья
на палубе, на хромые кресла в салонах. Бабушка винила
во всем чашку какао, выпитую в то утро. Дедушка, утвер-
158
ждавший, что он-то привык к морю, потому что тридцать
в ять лет тому назад приехал на Кубу с Канарских
островов, прятался по темным углам, видимо, разменивая там
свое предполагаемое морское достоинство. Мария де ла О
трупом лежала на полу в каюте; на диване рядом с ней,
безжизненно свесив голову над презренным тазиком,
распростерлась моя мать. В соседней каюте молодожены
бесстыдно и шумно пачкали свой медовый месяц неудержимой
рвотой. Растянувшись на складном стуле, я испытал все
муки, сквозь которые, должно быть, проходит тот, кто
готовится отойти в лучший мир,— жажду, пот, забытье.
На следующий день природа, или судьба,— как будет
угодно читателю,— захотела, чтобы наша просыпающаяся
тоска по родине сделалась совершенной мукой, и опустила
на нас густейший туман. «Саратога» еле-еле двигалась,
вахтенные со всех мачт выкрикивали извечные и
машинальные «all is well» *, хрипло завывала сирена, ей отвечал
целый концерт свистков, глухих и пронзительных, близких
и дальних,— голосила добрая сотня судов, застигнутых
густым туманом при входе в огромный порт*
В полдень, после тягучего утра по четыре мили ходу в
час, робко выглянуло солнце цвета соломы, бессильно
скользившее по серой, мокрой, ледяной стене тумапа.
Мы, пассажиры, столпились на палубе, ближе к носу,
облокотясь на мокрые перила, дрожа от пронизывающего
холода и крапавшего дождем тумана, и жадно глядели
вокруг и вверх; туман понемногу редел, в густой мгле
проступали стоявшие поблизости корабли, еще неясно,
огромными темно-серыми пятнами на фоне цвета
расплавленного свинца.
«Саратога» прибавила ходу. У нас в каюте пробило
двенадцать. Услышав бой часов, бабушка подняла глаза к
солнцу, стоявшему в зените, но все еще безучастному к
нам, и воскликнула:
— Господи! И это солнце? Если бы это было
кубинское солнце, от тумана уже не осталось бы и помину!
— Да, этого нам pi не хватает, солнца Кубы,— сказал
дедушка,— и еще чашечки креольского кофе погорячее.
Этот их утренний «кофи» — водичка на огуречной травке,
холодный как лед, с двумя ложками сырого молока, и хлеб
вроде губки! После вчерашней качки, знаете ли,.. Хоть
кому вытянет желудок в ниточку!
1 Все в порядке (англ.).
159
— А что вы скажете об этой липучке вместо риса? -
подхватил пассажир в коричневом пальто с пелериной,
кашне в серую и черную клетку и в орехового цвета ботинках
на резинках.
— А я, сказать по правде,— по-креольски
непринужденно ввернул красивый и элегантный молодой человек
высокого роста, сложенный, как атлет,— не нахожу ничего
дурного в американцах. Не знаю, быть может, во мне
говорит благодарность за их бескорыстные чувства к нам,
но мне нравится все американское, и...
Но красивому молодому человеку так и не удалось
перейти к восторженной гиперболе, которой он нам угрожал,
потому что мой дед, по праву старшего, иронически
прервал его:
— Друг мой, у корысти лицо всегда бескорыстное.
— Отлично сказано,— подкрепил саркастически
владелец коричневого пальто с пелериной и ботинок на
резинках.— Янки смотрят на эту революцию распустив
слюни... Еще бы: «Америка для американцев... с Севера».
«Ага, сейчас начнется»,— подумал я, угадав по
презрительному астурийскому выговору, кто был этот человек.
И в самом деле началось.
— Превосходно,— тут же откликнулась бабушка.—
Вы хотите сказать, что американцы зарятся на наш остров?
Ну и пусть берут! Лишь бы не испанцы!
Да, началось! Численное превосходство, пылкость
кубинской речи, потребность выплеснуть наконец слишком
долго сдерживаемую ненависть составляли наше
безусловное преимущество. Что касается меня, я чувствовал себя
прямо-таки людоедом. Астуриец храбро защищался,
крича еще пуще нашего:
— Посмотрим, посмотрим на этих храбрецов, когда
высадится Вейлер!
Подняв трость, я пошел вперед, на врага, по тут
палуба покачнулась, и, без поддержки, я со страшным шумом
грохнулся о палубу. На счастье, вмешался один из членов
команды:
— Shut up! Shut up!l
И мы все успокоились и замолчали.
И слава богу, мы и так чуть не проглядели
великолепный пейзаж при входе в порт. День наконец прояснел.
Солнце светило вовсю, но не жгло, а золотило воды вокруг.
1 Тише! Тише! (англ.)
160
Паш корабль вновь в полную силу машин заскользил
вдоль берегов Нью-Джерси, тесно усеянных небольшими
городками с высокими домами и трубами заводов.
Затем показался противоположный берег —
Кони-Айленд со своим знаменитым белым пляжем и отелем в виде
громадного слона, который, казалось, прогуливается
среди разноцветных домиков. Мы шли по каналу между двумя
рядами бакенов с колоколами, напомнившими мне
прелестную главу из романа «Человек, который смеется».
Когда мы вышли из канала, навстречу стали попадаться
пароходы, караваны барж с дымящимися буксирами во
главе и парусные яхты, которые шли в красивом крене,
показывая чисто вымытые палубы и паруса, надутые нордом,
бившим нам в лицо и брызгавшим водой в глаза.
Молодой и восторженный почитатель «всего
американского» с палубы нашего корабля умудрялся исполнять
обязанности гида:
— Это — немецкое судно... Смотрите, уже видно статую
Свободы! Вон там, слева. Приблизительно триста футов
высоты, а внутри вот той, простертой руки есть лестница
из ракушек, по ней можно подняться в голову, а там
салон, в нем помещается восемь или десять человек. Статую
подарила Штатам Франция, но, можно сказать, это чисто
американское чудо...
— Ну да, по величине,— ворчливо прервал его асту-
риец.
Презрительно смерив его взглядом, американофил
продолжал:
— А это англичанин. А вон идет пароходик
санинспекции, вон тот, с желтым флагом. О, смотрите, раскрашен,
как попугай! Это, должно быть, судно
Трансатлантической линии... Остров Губернатора. Это? Это не гамак, это
Бруклинский мост... Серый дом? Здание газеты «Нью-
Йорк трибюн». А то, что еще выше, это уже «Уорлд».
— Что, что? — переспросил дедушка.
— Газета «Уорлд», мир. Вот тот золоченый купол,
видите? Восемнадцать этажей! Да, да, это причал нашей
компании, а контора находится на улице Уолл...
Как только мы сошли с трапа, на нас набросилась
целая толпа агентов из отелей; к вящему нашему удивлению,
многие из них говорили как кубинцы и предлагали отели с
испанскими названиями.
— Отель «Гавана», сеньор. На авеню Лексингтон.
Рядом зоопарк.
11 К. Ловейра 161
— Отель «Америка», сеньора. Пятнадцатая улица. Шаг
от Бродвея. Самый центр.
— Отель «Бернал». Тридцатая улица. Кстати, там
живет сам Гонсало де Кесада.
— Меблированные комнаты с пансионом, хозяин —
пуэрториканец. На Четырнадцатой улице, между Седьмой и
Восьмой.
Все эти люди были бедные эмигранты,
зарегистрированные в хунте в качестве добровольцев; все они горели
желанием немедленно отправиться на Кубу в составе так
называемых экспедиций, которые, к несчастью,
отправлялись не так уж часто. Это были изгнанники, не оставившие
на Кубе никакого имущества, не получавшие здесь
никакого жалованья, не знавшие даже английского, дрожавшие
в своих несчастных пальтишках; чтобы добраться до этих
причалов и уловить хоть кого-нибудь для своих отелей,
в изношенных до дыр ботинках и носках они хлюпали по
снегу бесконечными улицами, не пропускали ни одного
митинга, носили в карманах газету Трухильо и брошюры
с речами Сангили и гордо выставляли в петлицах
подбитых ветерком пальто трехцветные флажки своей мечты.
Мы пошли за бледным безбородым молодым человеком,
агентом отеля «Гавана». Он сказал, что лучше всего нам
пойти по Уолл-стрит до пересечения ее с Бродвеем, а там
сесть на трамвай до авеню Лексингтон. Такси стоят
слишком дорого, здесь их нанимают только в экстренных
случаях. Наш провожатый шел довольный, почти
подпрыгивая от радости, и охотно разговаривал: нас было пятеро, а
комиссионные он получал по одному песо с головы. Легко
сказать! Целая неделя обеспечена!
— Это улица банкиров. Недалеко отсюда есть
несколько табачных лавочек. Немного подальше, впереди,— Нью-
стрит. Вы еще там побываете. Там находится хунта дона
Томаса, Гонсало, Эдуардо Йеро и Бенхамина Герры. Ух!
А в отеле «Гавана» какие патриоты! Там ведь живут
только кубинцы.— И, обращаясь ко мне (мы шли с ним
впереди остальных), он добавил: — И кубинки... ох, какие! Там
живут сейчас две сестры из провинции Санта-Кттара,
самые красивые в отеле. Одна из них исполняла роль Кубы
в аллегорическом представлении на митинге в «Чикке-
рингхолле»,— прелесть!
— Две сестры? — переспросил я.
— Да. Кажется, из Пласереса... если не ошибаюсь.,.
Да, да, из Пласереса. Их фамилия Рубио.
162
— Моя невеста! Та, что младше,— моя невеста! —
выпалил я, лопаясь от гордости.
Он оглядел меня сверху донизу. Задержался взглядом
на трости и хромой ноге и спросил, не скрывая сомнения:
— Вы уверены, что это ваша невеста?
— Я думаю! Вот еще, действительно!
Я тут же сообщил новость своим, и все очень
обрадовались.
В трамвае молодой человек, которого я уж очень
донимал вопросами, отколол со своего лацкана кубинский
флажок и подарил мне. В тот день я впервые увидел знамя
свободной Кубы, так вот открыто приколотое на груди, и
его подарок зачаровывал, трогал меня, мне хотелось
показывать его, на удивление всем вокруг. Разве не знал весь
свет, какие храбрые мы, кубинцы? Кто не слышал о
сражениях при Пералехо и Маль-Тьемпо? Кто не жил тем,
что происходило сейчас на Кубе? Так пусть все знают, что
я соотечественник героев-освободителей! В те времена этой
честью можпо было гордиться.
Нас, кубинских провинциалов, как следует не знавших
даже Гаваны, одним махом из Пласереса и Матансаса
попавших в огромную мировую столицу, все в ней
восхищало, а у бабушки вызывало комментарии в ревниво-
патриотическом духе: путаница транспорта и пешеходов
суетливого Бродвея, который наш трамвай («экипаж бел
лошади», как окрестила его Мария де ла О) пересекал
медленно и с трудом; надземная железная дорога на
Третьей авеню, которую мы видели, проезжая боковыми
улочками; высота зданий, куда выше домов фирм «Зингер» п
«Вулворт», чистота садов и парков; гиганты-полисмены,
торопливый шаг мужчин и суетливые шажочки женщин;
вся эта жизнь, столь не похожая на нашу в те времена,
заставляла мою бабушку то и дело восклицать*
— Вот что значит свобода!
И мы, остальные, свято верившие, что достаточно
осуществить наш идеал независимости, чтобы все кубинцы
разом стали счастливыми, возводя глаза к потолку
трамвая, подхватывали хором:
— Ах! Свобода!
Мы сошли на авеню Лексингтон, между Пятьдесят
шестой и Пятьдесят седьмой улицами. Здесь в трех домах
подряд разместился отель «Гавана», приют самых
знаменитых участников экспедиций, штаб-квартира
заговорщиков, бурлящая трапезная, где свершали свои тайные вече-
163
ри молодые патриоты; здесь устраивались лотереи,
продавались книги и газеты во благо общего дела; сюда
стекались капиталы на разнообразные патриотические
мероприятия; здесь производились сборы пожертвований
среди доверчивых табачников; здесь на литературных
вечерах читались воинственные стихи, пелись гимны,
исполнялись на фортепьяно песни и марши мамби. Здесь па
скромных ужинах, количеством приглашенных, речами и
знаменами возведенных в ранг банкетов,
председательствовала Каридад Агуэро; здесь Гонсало де Кесада,
мечтательно потряхивая волосами, предавался своим ораторским
эскападам в стиле Мирабо, и здесь же прекрасные креолки
с антильским огнем в дивных очах собирали чеки у
благородных богачей, преданных революции, и горстки песет
у поваров, горничных и иных мелких служащих, которые
ведь тоже были кубинцами, преисполненными надежд и
иллюзий. Сюда являлся и его принимали с божескими
почестями тот старичок с крылатой душой, полномочный
представитель кубинской революции за границей, у
которого золото лилось рекою и который с аристократическим
достоинством носил черный сюртук без пуговиц, весь в
пятнах, с бахромой на манжетах и сильным блеском на
фалдах. Отсюда пошел на войну злосчастный Рафаэль Ка-
брера. Когда-то здесь жил Хулиан Бетанкур, любимый
товарищ Раби. Отсюда, заставляя беситься агентов
испанского консульства, осуществлял свои баснословные
предприятия самоотверженный и благородный флибустьер но
именр! Хоакин Кастяльо Дуани.
Когда мы всходили по ступенькам, кто-то за дверью
играл на фортепьяно. Моя бабушка, благочестивая
патриотка, с детства знавшая назубок все деяния и сочинения
Вароны, Монтехо, Аграмонте и Бетанкура, была
взволнована до глубины души и со слезами на глазах и
дрожью в голосе сказала:
— Гимн Байямо.
Наш комиссионер и гид нажал кнопку звонка. Мы
вошли. Слышны стали мощные, берущие за сердце звуки
«Байямесы», и донесся характерный говор пылкой
креольской речи, который ни с чем не спутаешь. На степах,
на столах, везде вокруг мы видели портреты властителей
наших дум, кубинские гербы, ленты — синие, белые,
красные,— цвета знамени горячо желанной нами республики.
Я не мог выговорить ни слова, не мог двинуть рукой,
сердце мое, казалось, вот-вот разорвется от волнения. Гимн
164
Байямо! Кубинское знамя, настоящее, из материи,
огромное! Портреты Масео, Марти, Маркоса, Максимо Гомеса,
большие, в хороших рамах! От всего этого можно было
упасть в обморок. Куба и Сусанна. Родина и невеста. Две
великие привязанности моей жизни.
И я упал на софу в холле. Агент пошел
разыскивать совладельца и управляющего отелем, уроженца Лас-
Вильяса Флоренсио Элола. Тот пришел и стал
договариваться с дедушкой, а между тем отель уже облетел слух о
том, что прибыл очередной корабль с Кубы и еще одна
семья поселится в этих стенах. Музыка смолкла,
послышался глухой шум, люди спешили сюда, спускаясь по
застланной ковром лестнице, и прихожая в одно мгновение
заполнилась моими говорливыми соотечественниками, со
свойственной им чрезмерной ласковостью и открытостью
поздравлявшими нас с прибытием; они забросали вопросами
и отобрали несколько газет, которые нам удалось
привезти с Кубы.
Девушки, уже зараженные здешней женской свободой,
болтали между собой, посматривали и смеялись лукаво и
кокетливо, что меня, признаться, шокировало. Вдруг
одна из них, красивая блондинка, вертевшаяся во
все стороны, как бес, демонстрируя всеми доступными ей
средствами полное отсутствие нижнего белья, уставилась
на мою толстую трость и принялась медленно, подробно
меня разглядывать, жалостливо и вместе оскорбительно,
точно догадываясь о моей хромоте.
Молодой человек, который привел нас сюда, при всей
очевидной своей бедности был истым кубинцем и потому,—
пока мой дедушка торговался с Элолой, мать
расспрашивала, не знает ли кто семью Рубио, а бабушка предавалась с
Каридад Лгуэро воспоминаниям о Камагуэе,— заметил,
как смотрит на меня блондинка, и сказал ей:
— Это жених той девушки из Пласереса.
— Сусанны? Ах! Я за пей сбегаю! — И она
взлетела по лестнице, показав мне свои ноги почти что до
колеи.
В столовой нам подали шоколад, вокруг нашего стола
расселись почти все обитатели отеля «Гавана»,
продолжавшие обмениваться с нами новостями. И тут в дверях
показались шустрая блондинка и с ней она, смуглянка моей
души.
Моя мать, бабушка, дедушка все разом воскликнули:
— Сусанна! Девочка! Здравствуй, дорогая!
165
И даже Мария де ла О, страшно смущенная тем, что
ее усадили за стол со всеми вместе, и та раньше меня
успела поцеловать и обнять мою невесту.
Пришел и мой черед, но оба мы, пылая румянцем,
глубоко растроганные, не могли двинуться с места, вымолвить
хоть слово, и тут наша светловолосая благодетельница, не
в силах, казалось, снести эту нежную сцену, авторитетно
заявила:
— Вот что, молодые люди. Тут вам не Куба.
Обнимитесь и поцелуйтесь.
— Да, да! Пусть обнимутся и поцелуются! Ха, ха, по-
американски! — загалдели все, исключая разве мою мать
и бабушку с дедушкой, которые все же не возражали
против американского обычая, раз все вокруг хотели этого.
Но мы с Сусанной так были смущены, что не могли
даже взглянуть друг на друга.
Тогда блондинка дерзко взяла за руки нас обоих и
повела за собой:
— Ах, ну да! Как же! Сейчас вы пойдете в гостиную
и там, наедине, поцелуйтесь и обнимитесь. Только один
раз, понятно? — приговаривала она, ведя нас, как на
буксире.
Она оставила нас посередине большой гостиной,
совершенно сбитых с толку. И там мы стояли, молча обняв друг
друга, пока наша предприимчивая благожелательница,
созерцавшая идиллию из коридорчика, где висело большое
зеркало, не вернула нас к действительности
насмешливым:
— Эй, эй, деточки! Хватит. Тут зеркало, а я ведь тоже
не каменная.
Мы вышли в коридорчик и столкнулись с Роситой и
Мерседес, которые как раз спускались, чтобы
поздороваться с нами.
— Ну как, Игнасио? Как дела? А где же ваши? —
тепло, по-матерински спросила Росита.
— Спасибо. А как у вас? Все наши в столовой.
Мерседес, шедшая за ней, сказала холодно:
— Здравствуй, Игнасио, как поживаешь?
— Хорошо. Понемногу поправляюсь,— ответил я в том
же неприветливом тоне.
Мы все пошли в столовую. После шумного приветствия
разговор возобновился.
— Ну, что расскажете о доне Хусто? Где он сейчас? —
участливо спросила моя мать.
166
— Хусто,— отвечала Росита,— что ж... как все
эмигранты, работает. Здесь, если не знаешь английского, не
помогут ни титулы, ни красивый почерк, ни хорошее
воспитание. Так что тут вы встретите адвокатов,
вытирающих тарелки, и врачей, моющих пузырьки в аптеках, а дон
Хусто пристроился чтецом на табачной фабрике, там, в
этом самом «Дан Тан».,.
— Даун-Таун, мама,— поправила Мерседес,
устыдившись за мать.
— Ну да, я не умею по-английски, короче говоря, в
«нижнем городе». При всем том, жаловаться нельзя.
Хорошо еще, что попалось это. Невозможно только тратить,
нужно и зарабатывать.
— Мы с Сусанной шьем для некоторых знакомых,—
прибавила Мерседес.
И снова посыпались вопросы и новости с той и с
другой стороны. Мы узнали, что Нэнэ принимал участие в
сражении возле Сьенфуэгоса под командованием Матагаса и
был произведен в подполковники; что дон Серафин, в
звании полковника, сражался где-то у города Тринидад; что
рядом с ним, в чине капитана и в должности адъютанта,
был и Рафаэль, что Каньисо перешел через линию
укреплений Хукаро — Морон в поисках убежища там, в горах
Нахаса, где он служил врачом в госпитале; что автономист
Хосе Инее Онья с группой повстанцев держал в страхе
испанцев у самых ворот Гаваны; что ходят слухи, будто
Масео уже вступает в знаменитое Вуэльта-Абахо и что,
несмотря па повстапческий пожар, пылающий по всем
шести провинциям Кубы, Карлос Мануэль Амесага
продолжает по утрам пропускать свою рюмочку во дворце на
Пласа-де-Армас, а также говорить в кулуарах и
утверждать в прессе, что страна не принимает переворота,
потому что он всего-навсего результат махинаций каких-то
авантюристов из самых низших слоев общества.
Сусанна, белокурая девушка и я отделились от всех.
Прислушиваясь к общему разговору, мы обсуждали свои
собственные дела.
— Надо сказать, тебе везет,— говорила мне новая
знакомая, улыбаясь так весело и открыто, словно мы с ней
знали друг друга сто лет.— Невеста тебя обожает, а сама
она такая милая и очень-очень красивая. С ней хоть па
улице не показывайся, эти простофили американцы так и
пожирают ее глазами, а уж на тех, кто рядом с ней, и
глядеть не хотят.
167
— Вот в это не поверю,— ответил я галантно.
— Во что? — спросила она кокетливо.
— Пожалуйста, поговорим о чем-нибудь другом,—
стыдливо попросила Сусанна.
— Нет, почему же, поговорим именно об этом,—
настаивала кокетка.— Да, представь себе, и в нашем отеле
два студента, которые... словом, у них слюнки текут...—
И прибавила с наивностью полудевы: — Но она — хоть бы
хны! Словно прикована к своему хромоножке.
Сусанна и я заговорили почти что в один голос:
— Он вовсе не хромой, он ранен...
— Да, меня ранили...
— Ах! Ты только что с войны? Честь и слава! Что за
семья, одни патриоты — полковник Рубио, подполковник
Вальдес, он же Нэнэ, капитан Дарна и ты... А ты кто?
Генерал?
— Нет, рану эту он получил...
— Меня ранил... один... он потом ушел в горы... он...
тот самый...
— Да, в тот самый день он ушел к повстанцам,—
закончила за меня Сусанна.
— Славный патриот!
Мы с Сусанной обменялись взглядами: «Только бы ее
не услышала Мерседес, мамочка моя!»
— Ну, знаешь что, Игнасио, говори всем, что тебя
ранили па войне. В этом доме так принято, нужно быть
сыном, братом, мужем, вдовой, чем хочешь, какого-нибудь
повстанца в чинах... К тому же, как это я забыла, у тебя
дядя — капитан, почти что тесть твой — полковник, а
почти-почти шурин — Матагас, то есть, я хотела сказать, тот,
который под командованием Матагаса, сеньор
подполковник...
К счастью, служащий отеля объявил наконец, что наши
номера приготовлены, и в сопровождении Рубио мы
отправились смотреть наши апартаменты. Сусанна и я шли
позади всех, пытаясь сказать друг другу первые слова из
того моря слов, которое давно нас переполняло.
— Послушай,— между прочим, спросил я,— как ее
зовут и кто она, эта беленькая, такая веселая...
— Вот как! Она тебя заинтересовала?
— Боже мой, конечно... потому что... ну, я не знаю...
— Она тут всех мужчин с ума свела. Ее зовут Тереса
Карбо. Она из Матансаса. Здесь ее родители, богатые
кубинцы, и сестренка, тоже не уступит ей, она скоро при-
468
дет из школы. Они не считают себя ни кубинцами, ни
испанцами; с Кубы уехали так, на всякий случай. Твердят
всем и каждому, что они ни за кого, а сами по себе, что
им все равно, кто победит. И это здесь, где кругом столько
сочувствующих повстанцам, сам посуди, что это за люди.
Их тут называют «себе на уме с походцем». На днях
родители Карбо вошли в гостиную под руку, а дочь
генерала Кабреры, она как раз сидела за фортепьяно, сыграла
им королевский марш.
— Хорошо сказано—«себе на уме с походцем»!
— Да, но я тебе скажу, птичка томегин и то умнее,
чем обе сестрички вместе взятые.
Наконец мы увидели наши апартаменты. Маленькая
гостиная, как принято — с печью, и две спальни. Все
оклеено обоями, устлано коврами, все застеклено и все
наглухо закупорено! Я умылся, начитался по уши
революционных газет, вознаградил себя за корабельную еду
превосходным обедом по-креольски, всласть насиделся с
Сусанной в большой гостиной... до одиннадцати ночи.
Наши комнаты находились на третьем этаже, а на
втором, точно под нами, жила семья Карбо.
На следующий день после нашего приезда между
семью и половиной восьмого я спускался по лестнице к
завтраку, вооруженный старыми номерами газеты «Эль
Порвенир», которые собирался прочесть в большой
гостиной. Только я прошел второй этаж, как дверь из номера
Карбо отворилась, и я услышал голос Тересы:
— Игнасио!
Я поднял и повернул голову, и в свете газовой лампы,
освещавшей как раз этот кусочек лестницы, увидел ее,
непричесанную, в старой блузе без рукавов и в юбках,
колоколом раскрытых над самой моей головой, и внутри
этого колокола прелестный язык — две ножки сдвинутые
вместе, в черных чулках, ножки, достойные кисти Рубенса,
которые я оттуда, где стоял, рассмотрел до белоснежных
оборок панталон.
— Что?
— Поди сюда, я представлю тебе мою сестру.
Я поднялся по лестнице, бесстыдно заглядывая ей под
юбки. Это было вожделение, овладевавшее мною всегда,
когда я имел дело с беспардонными кокетками, которым
прежде всего хочется сделать тебя игрушкой своих
капризов и с которыми я сам становлюсь беспардонным. Она
не двинулась с места, пока я не подошел к ней вплотную,
169
и тогда лишь отступила к полуоткрытым дверям их
апартаментов.
И в это самое время показалась ее сестра. Обеими
руками поправляя локоны на затылке, она облизывала
пудру с краешков губ. Лет шестнадцати, года на два младше
Тересы, потемнее волосами, с пышными антильскими
формами, на ее тонком овальном лице с белой матовой кожей
великолепно выделялись огромные черные жгучие глаза.
Она собиралась в школу и была в коричневом костюмчике
и в черном бархатном берете, украшенном пушистым
помпоном. Все это я ухватил с первого же взгляда и с моим
умением быстро составить собственное мнение подумал:
«Картинка!»
— Кука, представляю тебе моего друга Игнасио Гар-
сиа; кстати, он жених Сусанниты,— сказала Тереса и тут
же прибавила, обращаясь ко мне: — Моя сестра
Каталина, зови ее Кука, как все мы.
Приоткрылся рот, розовая влажная раковина,
хранившая две нитки отборного жемчуга, и мне подарили
прелестную улыбку:
— Очень приятно!
Маленькая ручка, нежная и теплая, пожала мне
правую руку. Я сжал ее изо всей силы, я хотел, чтобы она
почувствовала мое восхищение. Да, в дерзости я
потягаюсь с кем угодно!
— Ты шел завтракать? — спросила старшая.
— Да, а потом почитать в гостиной.
— Прекрасно! Я тоже собираюсь пойти в гостиную
после завтрака, немножко пошить,— сказала Тереса.—
Спускайтесь вместе, если хотите, я пойду причешусь,
приведу себя в порядок, а потом приду к вам.
И она повернулась к нам спиной, совсем почти нагой,
так как блуза не была застегнута, а ночная рубашка с
очень глубоким вырезом поддерживалась на плечах
двумя бретелями из вышитых прошивок.
Я хотел было «по-американски» взять Куку под
соблазнительную полную руку и так сойти с ней вниз, но она,
угадав мое намерение, ловко ускользнула и быстро
сбежала по лестнице, словно желая этим показать, что моя
попытка ее испугала, что к таким вещам они с сестрой не
привыкли. Я спустился и вошел вслед за ней в пустую
столовую. Она позвонила несколько раз в колокольчик,
вызывая официанта, и, вопреки моему ожиданию, села
отдельно, совсем не за тот столик, который занял я.
170
Она объяснила:
— Я не села рядом с вами, потому что скоро придет
Сусанна, может быть, ей будет неприятно.
Я ответил нарочито невежливо:
— Ба! Как вам угодно!
И тут — ай-яй-яй! — она обиделась или очень хорошо
притворилась, что обиделась: нахмурила брови и
уставилась на хлеб с маслом и какао, которые принес официант,
тоже наш, кубинец, безбородый, большеглазый, с кожей
цвета сухой соломы.
Теперь он пошел за моим завтраком. Я сделал вид, что
углублен в чтение одной из газет, которые держал в руках.
С досады решив победить во что бы то ни стало, Кука
положила ногу на ногу, по-мужски, по-американски, то есть
так, чтобы нога, что упиралась в пол, была хорошо видна,
и незаметно подсматривала за мной.
• Я не дрогнул.
Она шумно вздохнула, уронила на пол ложечку,
постучала ножом по столу, а я между тем все читал и читал,
пока не вернулся официант и не поставил передо мной
какао и то, что к нему положено. Она вызывающе
завертела ногой, но выиграл от этого только официант,
который в это время, наклонясь, делал вид, будто
протирает ножки столиков, не выпуская из виду ножек
Куки.
И тут в столовую вошла великолепная, властная,
роскошно-белокурая Тереса и спросила:
— Почему вы сидите врозь?
— Это... чтобы шоколад не встал поперек горла
Сусанне,— не задумываясь, выпалила Кука.
— Совершенно верно, именно поэтому,— как ни в чем
не бывало ответил я.
— Ну, тогда я тоже умываю руки,— сказала Тереса ы
села за столик к сестре.
Официант, скорчившись, застыл с тряпкой в руке, не
отрывая глаз от столика, под которым Кука все еще
покачивала ногой, и не заметил даже, что появилась Тереса.
Последняя вывела официанта из блаженного столбняка,
очень смешно сказав:
— Вот что, Соломенный... подб... ри... слю... и... неси...
за... рак...
— Как?
— Я говорю, хватит тереть тряпкой, я жду кофе, мне
хочется есть,— ответила она, ясно произнося слова, но
17»
несколько изменив то, что сказала сквозь зубы, и то, что
Кука слышала от слова до слова, я —* наполовину, а
остальное угадал: «Вот что, Соломенный, подбери слюни и
принеси мне завтрак».
Мне стоило усилий не расхохотаться и продолжать
читать свою газету. Официант ушел. Сестры начали
шептаться, и вдруг обе стали очень серьезными. Вскоре к ним
присоединились еще двое «себе на уме с походцем»,
«старики» Карбо, плотные, розовые и надутые.
Выпив свой шоколад, не обронив ни слова, я пошел в
гостиную. В этот ранний час там было так же пусто, как
в столовой. Я уселся в угол около окна и углубился в
чтение.
Очень скоро туда же пришла Тереса. Села на стул
возле другого окна, напротив меня*, и развернула свой
сверток с шитьем. Так же, как и Куке, ей хотелось сломить мое
сопротивление сильного мужчины, недоступного
соблазнам женского кокетства. Для начала она развернула и
совершенно невозмутимо расправила прямо перед моими
глазами белоснежные панталоны, все в кружевах, потом
прикинула их на себя поверх платья, потом стала
продевать в оборки узенькую розовую ленту.
Но я словно потерял дар речи.
Покончив с ленточкой, она скрестила ноги и, просунув
под юбку руки, сняла с себя там, внутри, розовую
подвязку, широкую, с огромной розеткой, и принялась как будто
снимать мерку для новых подвязок, которые принесла с
собой в свертке.
Я наслаждался отражением этого зрелища в стеклах
моего окна, оставаясь углубленным в свое занятие и
неподвижным, как статуя Свободы.
Вслед за тем она вынула ночную рубашку с
широкими кружевными прошивками, которая взбудоражила бы
воображение самого стойкого святого; но я оставался
неприступным, как Дарданеллы, и она, с отчаяния,
решила прибегнуть к самому сильному средству, то есть
заговорить.
Вытащив новый предмет, дамскую сорочку из
кремового трикотажа, она спросила:
— Скажите, пожалуйста, Игнасио, вы бы женились на
женщине, которая носит вот такое?
И показала мне сорочку, растянув ее по плечам; теперь
я заметил, что в верхней части сорочки есть нечто вроде
мешочков для груди,
172
— Нет, к такой сорочке нужны еще и трикотажные
панталоны, я думаю... Женщина в панталонах? Фи!
— И эти тебе не нравятся? — И она показала
панталоны, в которые только что продела розовые ленты.
Я уставился на них, словно в первый раз увидел, и
ответил ей в тон, очень дерзко, даже нагло:
— Ах, эти? Ну конечно, еще бы! Особенно если есть
что в них поместить.
— В таком случае, смотри, то есть я хотела сказать,
смотрите: Сусанна...— И она сделала вид, что эти слова
вырвались у нее случайно, что она не смеет продолжать,
и все-таки закончила с лукавой улыбкой: — Сусанна,
когда выйдет замуж, будет носить именно такие, если,
конечно, вы захотите жить в этой стране.
— Нет, мы не захотим жить в этой стране... А это что
такое? Кошельки? —- И я грубо ткнул пальцем в мешочки
на сорочке.
Вот теперь она смутилась и начала отступать,
стараясь отплатить мне:
— Как не стыдно! Что это вам взбрело в голову? Вы
говорите такие вещи, что... вы просто не умеете себя
вести... Вам нужно оставить свои провинциальные
привычки, теперь вы живете в цивилизованной стране...
— Не волнуйтесь за меня, Тереса, со мной все в
порядке. Только не считайте меня дурачком, если не
хотите...
Я был уже готов выложить ей все, что думаю о ее
поведении, от имени моего оскорбленного достоинства,
которое часто толкало меня из крайности в крайность, что
вообще было очень в моем характере,— вдруг стать
прямо противоположным самому себе. Человек мирный, враг
раздоров и стычек, я, оказывается, способен сорвать
важный митинг; я тысячу раз буду праздновать труса перед
Нэнэ и вдруг очертя голову пойду за ним темной ночью
бог знает куда; робкий жених, который после четырех
месяцев разлуки не в состоянии при людях пожать руку
своей невесте, я могу превратиться в безжалостного
насмешника по отношению к Тересе, этому невинному
созданию, которое даст сто очков вперед героине ярмарочного
романа или самого отчаянного приключения в Лонг-Бранч.
Но в эту минуту на лестнице послышались шаги и голос
Сусанны, говорившей:
— Конечно, как раз время позавтракать.
Я оставил кипящую гневом Тересу в гостиной и отпра-
173
вился в коридорчик. Семья Рубио и все наши в
сопровождении Марии де ла О шли завтракать.
— Доброе утро! Как поживаете, дон Хусто? —
воскликнул я.
— Доброе утро, мальчик. Ты не так бледен, как
говорят все вокруг.
Такого случая Тереса пропустить не могла.
Мстительно улыбаясь, она закричала из гостиной, со своего места:
— С какой стати ему быть бледному? У нас с ним
любовное свидание, мы только что были наедине, разве
вы не видите?
— Аи да девушка! — воскликнула Росита,
сочувственно улыбаясь.
Дед сказал вполголоса:
— Да, эта хватила американской свободы по макушку.
— Она очень симпатршная,— заметила Мерседес.
— Очень, очень милая! Такая прелесть! — подхватил,
покусывая нижнюю губу, дон Хусто.
— Слишком... веселая,— вставила с каким-то особым
оттенком моя мать.
— Неприятная, мне не нравится,— заключила, не
скрывая обиды, Сусанна.
И так как мы уже дошли до столовой, я покинул всех
и вернулся,— нет, не в гостиную, а в холл, к софе, на
которую упал в день приезда.
Минуты три спустя туда вошла Сусанна. Я подумал:
неужели она так быстро успела позавтракать? И как
серьезна. Подойдя ко мне, она сказала:
— Вот что, предупреждаю тебя, я не расположена
играть роль какого-то довеска при Тересе.
— Ради бога, о чем ты?
— Да, собственно, пи о чем. В такую рань вдвоем,
одни в гостиной... свидание, она сама сказала. Не успел
приехать, и вот...
— Клянусь тебе, что...
— Мне нужно идти. Потом поговорим. Но не думай,
я не позволю водить себя за нос.
Она повернулась и пошла к лестнице между холлом и
гостиной. Я смотрел ей вслед и вдруг в щели между дверью
и краем портьеры-знамени заметил большой блестящий
глаз. Там притаилась Тереса, бесстыдно, невежливо,
непристойно подсматривая за нами.
Вечером большая гостиная представляла собой более
или менее ту же картину, что и накануне, да и все после-
174
дующие вечера тоже, полагаю: мягкая софа и мягкие
стулья, столь модные в холодных странах, приняли в свои
объятья пятерых молодых людей и с ними — Хересу и
Куку, в экстравагантных блузках, в донельзя коротеньких
юбчонках, нога на ногу, «а-ля янки», со своими
«невинными» выходками н «беспечностью» обращения,
свойственными врожденным кокеткам. Как раз напротив этой
арены флирта происходила сцена совсем иного рода,—
молодая красивая сеньора играла на фортепьяно для
пышноволосого, напудренного юноши, который перевертывал
ей ноты, в то время как неподалеку косой
пятидесятилетний муж сеньоры, устроившись под лампой над
шахматной доской, старался дать мат молодому аптекарю в
строгом черном сюртуке, бешено влюбленному в Мерседес;
теперь он, чтобы не смешиваться с обществом на диване
и стульях, изо всех сил сражался со старым шахматистом,
а на самом деле, как всегда, из вечера в вечер, в этом
своем черном корректном сюртуке, ладно обнимавшем его
фигуру, преданно, но тщетно поджидал, не спустится ли в
гостиную моя «свояченица». Тщетно, потому что
Мерседес из врожденной гордости и из тоски по своему
подполковнику оставалась ему верной; по этой причине, а также
потому, что ее отец подвергался опасностям войны, она
никогда не появлялась в гостиной, не участвовала ни в
каких светских собраниях, не ходила ни на какие
празднества, да и вообще перестала обращать на себя внимание,
махнула рукой на свою красоту. Мать Тересы и Куки
беседовала с хозяйкой отеля и с другими женщинами, у
которых ни сыновья, ни мужья не сражались в отрядах
повстанцев и потому они спокойно болтали, слушали
фортепьяно, присматривали за дочками, своими и чужими.
Две пятнадцатилетние сеньориты зубрили по Оллендорфу
(«Нет ли у вас рубашки моего отца?» — «Нет, зато у меня
есть седло для осла его сына»), и еще в одном уголке,
у окна, склонясь друг к другу плакучими ивами, сидели
мы с Сусанной, но совсем, совсем не так, как на Кубе.
Теперь три-четыре раза на неделе мы с ней то ссорились, то
мирились, и причиной всегда были козни Тересы, которая
с каждым днем делалась все более кокетливой и
капризной со мной; капризы эти были из тех, которые, если
повторяются часто, грозят обернуться своего рода любовьюг
что было бы, впрочем, естественным результатом
презрительной неуязвимости, свойственной моему характеру,
стойкому к ухищрениям кокетства, превращавшего в дура-
175
ков всех, кто только попадал в сферу очарования этой
скверной девчонки.
И потекло наше житье-бытье в Нью-Йорке. Одна и та
же судьба, общие страдания и надежды, а более всего,
может быть, истинно креольская непринужденность очень
скоро сделали постояльцев отеля «Гавана» почти что
родными. Мы вместе читали гаванские журналы и газеты.
Семейные письма, в которых содержались последние
новости о революции или о близких, находящихся далеко,
передавались из рук в руки, и никто не находил этого
нескромным. Все мы были членами каких-нибудь комиссий
взаимной помощи, все поддерживали негасимым, дешю
и нощно, за обеденным столом и в гостиной, синее пламя
возлюбленного идеала, а белый снеговой саван за окном,
серое небо и острый зимний ветер делали нашу тоску по
родине еще сильнее.
С течением времени почти исчезла и моя хромота.
После трех недель в Нью-Йорке трость, верный мой друг с
того самого дня, как Нэнэ пришлось сбежать к
повстанцам, стала наконец ненужной, и я забросил ее за шкаф
в моей комнате и с этой минуты начал мечтать о том, как
скоро, очень скоро я сяду на «Даунтлес» или «Фрайндс»,
маленькие, но известные всем суда, знаменитые своими
отчаянными экспедициями на Кубу. В этих своих
мечтаниях я обыкновенно исповедовался аптекарю, верному
поклоннику Мерседес, потому что, несмотря на весьма
чинную внешность, многое в нем было мне по душе: он прочел
так много книг, что у него, можно сказать, была не голова,
а целая библиотека; он так же, как и я, мечтал об
экспедиции на Кубу; кроме того, он, хоть и не изображал из
себя храбреца, был все же достаточно энергичен, чтобы
дать отпор некоторым нашим соотечественникам,
прилипалам и бабникам, которых в кубинской колонии в Нью-
Йорке было более чем достаточно и с которыми он, так
же как и я, старался не знаться. Бабушка и мать писали
длинные письма дяде Рафаэлю, а когда не писали писем,
то-зели долгие беседы с «девицами Рубио» о доне Серафи-
не, о Нэнэ, о «вторжении» и, разумеется, о предмете,
дорогом каждому кубинскому мечтателю, каждой
благородной и возвышенной душе,— о независимости Кубы. Мой
дед на паях с одним мулатом, эмигрантом еще со времен
Большой войны, поклявшимся не возвращаться на Кубу,
пока она испанская, у Бруклинского моста, со стороны
Нью-Йорка, открыл крохотную табачную фабрику и лавку
176
при ней. Я жадно учил английский, он давался мне
удивительно легко. Если не шел снег и некоторое подобие
солнца хоть как-то воодушевляло, мы — Сусанна, моя мать и
я —уходили из отеля, вечно душного, пахнущего угарным
газом, потому что допотопные печи топились каменным
углем, и шли в Центральный парк,— он был рядом,—
чтобы посмотреть на зверей в зоосаде и чтобы мне и моей
обожаемой кубинке, вдвоем, под ласковым крылышком моей
матери, наслаждаться идиллией в духе Вергилия,
II
К концу апреля от моей раны остался надежный шрам,
а от хромоты — лишь воспоминания, сам же я сильно
окреп, прибавил в весе и выглядел куда лучше, чем до
сих пор.
Само собой, я решил, что мне пора отправиться на Ныо-
стрит, 56, чтобы обеспечить себе место в одном из
экспедиционных отрядов. В одно прекрасное утро,— синее,
солнечное, душистое в садах и зеленое всех оттенков в
парках; в одно прекрасное весеннее утро, утро той
несравненной веспы, которая бывает только в странах, где четыре
времени года являют себя во всей неповторимой прелести;
в одно прекрасное утро, прекрасное, между прочим, и
потому, что, слава богу, не нужно было, выходя па улицу,
навертывать на себя сто фунтов шерсти, меха и резины;
в одно утро,— прекрасное, скажем, как в Пласересе,— я
пошел записываться во флибустьеры... Чтобы скрыть от
домашних мои истинные намерения, мне пришлось
изобрести предлог, и я не нашел ничего лучшего, чем сказать
моей матери, что иду прогуляться по Центральному парку,
который был расположен рядом с отелем и в эти дни, само
собой, цвел вовсю, по-весепнему.
Меня очень волновала мысль, что тот серьезный шаг,
который я должен был вот-вот предпринять, даст мне
право пожать руку дону Томасу, идолу всей революционно
настроенной эмиграции, я был совершенно уверен, что
именно с ним и с его великими сподвижниками мне предстоит
договариваться относительно моего дела. И был сильно
разочарован, когда мои соотечественники, которых я обрел
в маленьком кафе при входе в многоквартирный дом
номер 56, сказали, что записаться в экспедицию дело
совершенно пустяковое, нужно только договориться со старич-
12 К. Логойра 177
ком доктором, который именно тем и занимается, что
записывает добровольцев.
— Вы здесь недавно, а? — спросил мой собеседник,
обнищавший табачник без работы, с лимонио-желтым
личиком, только что принявший мое приглашение выпить кофе
с молоком, или, лучше сказать, молоко с кофе, потому
что в этом заведении кофе подавали по-креольски и к
каждой чашке — с полдюжины маленьких булочек.
— Да, недавно.
— И вы, конечно, из деревни?
— Из деревни? Нет, я из Матансаса,— солгал я, не
решившись назвать Пласерес.
— Это все равно, из Матансаса, из деревни, сами
понимаете... Я хочу сказать, вы не из Гаваны, вы не знаете,
что такое большой город, большие люди, большие дела...
большие...
Больше он не смог припомнить ничего большого.
Я смотрел на него, и мне было отчего-то неловко, стыдно,
но он, не подозревая об этом, продолжал в том же духе:
— Мы, бедные маленькие люди, и в глаза не видим
ни допа Томаса, ни Йеро, ни дона Бепхамина, разве что
на митингах (произношение ослепительное!) или когда
они сюда входят и выходят в приемные часы. У них,
знаете, голова забита, они занимаются только важными делами,
с генералами, банкирами, с американскими тузами, а эту
ерунду-то, записаться на войну, для этого тут один
старичок, доктор из Гаваны.
— Вы, стало быть, находите, что это ерунда?
— Конечно, ерунда. Там, у повстанцев, народу более
чем достаточно; что им нужно, так это ружья и
боеприпасы к ним. А люди, ну... чтобы доставить, разгрузить все
и защитить в случае чего. Сорок — пятьдесят человек на
каждую экспедицию, куда больше? А записана уже,
кажется, целая тысяча, вы сами подумайте! — И, бросив на
меня взгляд, чтобы увидеть, как я переварил это
известие, он продолжал по-тропически болтливо, и было
видно, что никогда не кончит: — И, кроме того, им подавай
тех, кто посильнее, кто может бежать и нести на себе с
полдюжины ружей, а откуда у эмигранта сила, скажи? Ну,
может быть, у кого карман потолще... А так мы все и по-
английски не знаем, и богатых родственников у нас нет,
одним словом, суди сам: вот теперь тепло, а в чем я хожу —
в этом зимнем костюме, больше похожем на шерстяное
одеяло, как мышь мокрый; взгляни, какие на мне башма-
178
ки, а ел я сегодня потому, что ты меня угостил, ну и,
может быть, перепадет кое-что часа в два, когда тут появятся
кубинцы... Устроиться в отель или в ночлежный дом к
кубинцам очень трудно. Двадцать желающих па одно
место вытирать тарелки, по три песо в неделю, а какие
требования, какие пинки от хозяев, и все они говорят о
народе, о родине, о демократии, а из нас, бедняков, своих же
кубинцев, норовят вытянуть последнее. Вот я и сижу тут
безвылазно, пристаю к генералам и ко всем, кто
отправляется на Кубу, пусть и меня возьмут с собой...
посмотрим, может, если будет свобода, что-нибудь изменится.
Марти раз сказал, у меня из головы не выходит, помнишь?
— Ну, знаешь... он столько сказал, что, честное слово...
— Он сказал: пока хоть одна-единственная
несправедливость осталась на свете, революция не закончена...—
И настроился было продолжать и уже начал: — Потому я
и говорю, что нужно всем нам двинуть па Кубу,— что им
стоит снарядить один большой корабль, чтобы поместились
все. Вот тогда действительно, может быть, мы и покончим
с привилегиями и злоупотреблениями, и...
Тут один из тех, с кем я разговаривал раньше,— он сп-
дел за соседним столиком и читал газету из Кайо-Уэсо
«Яра»,— сказал мне:
— Молодой человек, смотрите, вон идет тот, который
вам нужен.
Я обернулся и увидел пожилого мужчину, чисто
выбритого, очень прямого и изящного, поднимавшегося по
ступенькам с юношеской легкостью и быстротой.
Я встал. Поблагодарил человека, читавшего газету,
пожал руку моему собеседнику, вложив в нее свой последний
дуро, и сказал ему на прощанье:
— Возьмите на сегодняшний обед, кто знает, может
быть, мы еще вместе отправимся на Кубу.
И, не обращая внимания на изъявления благодарности,
бросился вслед за стариком на второй этаж, где отдельно
от остальных служб и представительства находилась
канцелярия дел «совершенно пустяковых».
Там никого не оказалось, и симпатичный доктор тут же
пригласил меня войти. После допроса с пристрастием, хотя
любезного, непринужденного и даже веселого, допроса,
который имел целью выяснить, откуда я родом, кто мой отец,
где находится моя семья, где живу я сам и еще, и еще
в том же духе, он спросил мое полное имя, записал его в
хвост длиыного-предлшшого списка, занимавшего добрую
179
половину толстой тетради, и сказал мне как о деле «не
первой важности»:
— Итак, это все. Вы исполнили свой долг перед
родиной.
— Да, но этого недостаточно. Записаться — это чтб, я
хочу отправиться на Кубу.
— И отправитесь, когда до вас дойдет очередь.
— Боже мой! Да когда же это будет?
— А что бы вы хотели? Прежде всего, нам приходится
очень и очень присматриваться к тем, кто записывается у
нас; испанское консульство так и ищет, как бы подсунуть
пам в отряд шпиона или провокатора, чтобы в последний
момент, перед самым выходом, не выпустить или
задержать экспедицию.
— Послушайте, но ведь я-то, я-то лично, я настоящий
кубинец и настоящий патриот...
■— Погоди, я и не сомневаюсь лично в тебе; что ты
кубинец, видно с первого взгляда, здесь настоящего кубинца
никто не посмеет оскорбить сомнением или еще чем-то...
— Но...
— Погоди, погоди; ведь в конце концов мы все тут
заговорщики, понял? Мы никому не сообщаем точно
дату, место, час выхода. И ты тоже теперь заговорщик,
черт возьми! Разве ты не делаешь все, что можешь, для
Кубы?
— Конечно.
— Вот видишь,— понизив голос, продолжал старик.—
Кроме того, революции более всего нужны оружие и
боеприпасы. Чтобы довезти и защитить это, требуется не так
уж много народу, и мы предпочитаем ветеранов Большой
войны, они знают остров как свои пять пальцев, умеют
организовать людей, умеют командовать. Еще хороши люди
бывалые, сильные, привычные ко всяким оборотам, ну и
врачи, братья милосердия, профессионалы, одним словом.
Управляться с мачете и ружьем — такого народу полным-
полно на Кубе.
— Врачи? — переспросил я с надеждой.
— А ты что, врач?
— Нет, но...— И чуть было не сказал: «Я мог бы быть».
— Если да, то при твоем сложении и молодости тебя
могли бы отправить скоро... Но ты и так будешь там, не
беспокойся, еще много костей сгниет, пока...— И, положив
мне на плечо руку в знак прощания, доктор, всем своим
существом излучавший симпатию, сказал: — Не огорчай-
180
тесь, друг мой... надо ждать, надо делать тот что можешь
сделать здесь.
— Ну что ж, большое спасибо. Ваш покорный слуга.—
И я протянул ему руку.
— Будь здоров, мальчик.
По лестнице навстречу мне поднимались два очень
важных сеньора, по разговору судя — кубинцы. В кафе
уже набралось много народу. Мой знакомый табачник
увидел меня сквозь дверное стекло и вышел:
— Уже записался? Теперь подождешь у моря
погодки! Нет, это просто прелесть. Умолять, чтобы тебя послали
на войну!
— На то мы и кубинцы. Надо терпеливо сносить
несчастья и быть готовым к жертвам.
Обескураженный ответом, он вышел из положения,
протянув руку:
— Ну ладно, еще раз спасибо, Фернандо Вальдес До-
мингес, к вашим услугам.
— Ой! Почти что Фермин Вальдес Домингес.
— Представь, ничего общего.
— Но все-таки имя вдохновляющее. Всего хорошего,
прощай.
— До свидания.
И я пошел по кривым улочкам Даун-Тауна к
ближайшей остановке надземки.
Поезд кружил серпантином по дымной и вонючей
Пирл-стрит по направлению к более прямой Бовери и
вышел наконец к совершенно прямой Третьей авеню. В
окнах, зимой плотно закрытых и законопаченных, теперь кое-
где распахнули створки и подняли рамы, словно жители за
этими стеклами истомились по солнцу и воздуху. В домах,
которые приходились в уровень надземки, можно было
видеть, что происходит внутри квартир,—в основном то же
самое, что и в большинстве кубинских домов. Под нами,
по тротуарам, взбодренные весенним ветерком,
озабоченными муравьями сновали люди. На каждой станции
входило и выходило много женщин в коротких прозрачных
платьях, соблазнительно открывавших грудь и руки до
локтя.
На улице Канал в наш вагон набилось столько
пассажиров, что не осталось пи одного свободного места. Мне
повезло, рядом со мной села великолепная высокая девушка
в розовом костюме и розовой шляпе, судя по грации, по
бело-матоьсй коже и глубоко проникающему взгляду ог-
181
ромных черных глаз, то ли еврейка, то ли кубинка. От ее
близости, оттого, что легкий розовый рукав касался моего,
от веяния теплого апрельского ветерка я беспокойно
задвигался на своем месте, мне захотелось коснуться ее не
только рукавом моего сюртука, но и всем телом, почувствовать
ее с ног до головы.
Из кокетства, или слабости грешной земной плоти, или
по двум этим причинам сразу, она не отстранялась, когда
я крепко прильнул к ней и, опьяненный и пьянящий ее,
готов был проехать мимо отеля «Гавана» и следовать за
моей соседкой туда, куда она захочет, только бы ехать так
без конца и касаться ее (двадцать лет, что вы хотите!), но
тут кондуктор, неаполитанец в униформе, выкликнул с
площадки на испорченном и оглушительном английском:
— Teri foar estrit!l
Я услышал визг тормозов. Девушка (какая жалость!)
поправила шляпу, сжала в руке носовой платочек и
неизменную pocket book 2 и встала, повернувшись ко мне спи-
пой, чтобы пропустить тех, кто тоже собирался выходить,
а также, конечно же, конечно, чтобы показать мне
великолепную оборотную сторону медали. Затем она
бестрепетно сошла, пошла по платформе и пропала с глаз в
суетливой толпе на перроне.
Высунув голову в окошко, я напрасно искал ее вокруг,
но, увы, больше никогда не видел свою очаровательпую
соседку по вагону.
Я сел, меланхолически смирясь со своей судьбой,
подарившей мне соседа с огромным носом, и тут — о,
чудесная неожиданность! — прямо перед собой увидел Тересу
Карбо. Сверкающая улыбкой и белой кожей, одетая во что-
то светлое, благоухающее и воздушное, в шляпе с
длинными кремовыми лентами, которые делали ее похожей на
девочку. Такая красивая! И как все это идет ей!
— Здравствуй, Игнасио, твой поезд пришел первым, и
я сразу увидела тебя, ты торчал в окошке и шарил
глазами по толпе. Кого ты искал, признавайся? Я села сюда,
чтобы ехать вместе, если, конечно, ты не против.
— Как я могу быть против? Садись сюда, прошу.
И я встал, потому что, хотя между мною и соседом-
носачом оставалось еще свободное пространство на
сиденье, было бы оскорблением представить даже, что велико-
1 Тридцать четвертая улица! (искаж. англ.)
2 Сумочку (англ.).
182
лепные бедра Тересы уместятся на этом узком
пространстве,
— Благодарю, я сяду,—ответила она и, пользуясь тем,
что мы говорим по-испански, прибавила: — Сейчас я
постараюсь оттеснить этого красноносого, и ты сядешь рядом.
И в самом деле, свободный кусочек, отделявший меня
от соседа, превращается понемногу в достаточно широкую
полосу, и я, раз уж Тереса для меня постаралась,
принимаю наконец ее горячее приглашение и втискиваюсь
между тоскливой худобой мрачного моего соседа и округлой
роскошью великолепной кубинки, свежей и благоухающей.
А я еще не успел забыть ту девушку в розовом,— вот
он, вот ее медовый вкус на губах... Нет, надо быть
присяжным моралистом или иным диковинным насекомым в таком
же роде, чтобы из обязательств перед невестой или из
собственного самолюбия устоять перед этаким сговором
обстоятельств!
— Ты откуда? — спросила она, озаряя лицо волшебной
улыбкой.
— Из представительства, а ты?
— Из отеля «Бернал», на Тридцатой улице, знаешь?
И села на Тридцать четвертой, чтобы успеть к обеду.
Я не смог ответить ни слова, я только уселся так,
чтобы ощущать ее всю, от плеча до колена. Она повернулась
ко мне, опершись грудью на мою руку, и спросила с еще
более обворожительной улыбкой:
— Послушай, почему я тебе так несимпатична?
— Ты? Кто тебе сказал?
— Ну, Игнасио, зачем говорить, я и сама вижу.
— Вот и ошибаешься. Ты мне симпатична. И даже...
сказать? Ты мне очень нравишься.
Я не лгу, в этот момент она мне очень нравится. Эти
бедра! Это колено! А руки! И так близко от меня, мамочка!
Кому это может не нравиться? Я готов предложить ей не
выходить на нашей остановке, а ехать дальше. Может
быть, она и согласилась бы. Но нет, я не предлагаю.
Откуда я знаю, а вдруг она играет со мной, а потом
представится оскорбленной и прочтет нотацию? Хотя, судя по
лицу, она искренне взволнована. А что, если она играла,
играла с огнем, так просто, по привычке, и нечаянно
опалила самое себя, и ее испорченность, ударившись о мою
неприступность и достойное поведение порядочного маль-
чпка, стойкого перед ухищрениями кокетства,
превратилась в любовь?
183
— Fori sequen! Chcnche for di gran central dipo!l —
вдруг заголосил на своем жутком английском кондуктор.
Снова скрип тормозов, и поезд резко останавливается,
а я падаю на свою спутницу. Встают все, кто выходит, и
Тереса наконец со вздохом прерывает молчание, почти
интимно произносит:
— И ты еще будешь отрицать, что чувствуешь ко мне
отвращение!
— Конечно, буду, потому что это неправда!
— Да, но ты хоть бы из вежливости сказал что-нибудь.
Можно подумать, ты онемел.
Я дерзко смотрю ей в глаза, от этого волнуюсь еще
больше и говорю нежно:
— А ты, неблагодарная? Обвиняешь меня, а сама всю
дорогу словно статуя!
— Я?
— Ты.
И мы оба, как загипнотизированные, смотрим в
глаза друг другу, сидим так близко, и нам все равно, что в
вагоне стало просторнее и не из-за чего тесниться. Мы
разговариваем шепотом, почти касаемся губами, как жених
с невестой наедине, и весь вагон смотрит на нас,
развлекаясь, кроме разве тех, кто прилип к своим дурацким
газетам или болтливым журналам.
Я плохо рассказываю, на самом деле мы ведь не
разговаривали. Говорила она, а я слушал и... теснее льнул к
ней. Может быть, она мне не так уж нравилась, из-за того,
что в ее семье были равнодушны к революции. Но это
больше относилось к родителям, у них были свои интересы па
Кубе, и из страха перед репрессиями со стороны испанцев
они заботились, чтобы выказывать хотя бы видимость
нейтралитета. Она же и ее сестра Кука совсем другое
дело, хотя иногда шутки ради, просто чтобы послушать,
что ответят, девушки пускали антипатриотические
шпильки в обитателей отеля «Гавана». Но разве она не
кубинка? Разве не родина ей милее всего? И вот
доказательство: сейчас она возвращается из отеля «Бернал» от своей
подруги Говин, они хотели попросить у Каридад Агуэро,
чтобы она поручила им продавать лотерейные билеты,
которые помогли бы оправдать расходы на митинг в Корые-
ги-холл в честь успехов «кампании вторжения». Там
1 Сорок вторая! Пересадка на Центральную станцию! (искаж.
англ.)
184
должны читать и комментировать декрет, в котором дон
Валериано Вейлер-и-Николау, маркиз де Тенерифе и
прочая, и прочая учреждал известную всем концентрацию, и...
— Fori eit! l — возопил с площадки кондуктор.
...И если она это делает не из патриотизма, то из-за
чего же? И вообще она не такая дурная, как кажется с
первого взгляда. Будь она такая, она могла бы совершать
поступки совсем уж безнравственные, ибо я видел, какой
неограниченной свободой пользуются обе сестры, а родители
смотрят па все их глазами, так что...
— Fifli zooird!2
...Так что этого все-таки нет. И она... Господи, она вот-
вот признается мне в любви, признается всерьез, это ясно,
она совсем забылась. Но она сдерживается, ждет моего
слова, ей почти хочется подтолкнуть меня, чтоб я сам
первый признался,— это, конечно, польстило бы ее самолюбию
или дало бы возможность отомстить мне, отомстить по всей
форме, что меня, естественно, пугает. Поэтому я, все еще
плотно прижавшись к ней и страстно глядя в глаза,
сузившиеся точно в полусне, добавляю:
— Это неправда, то, что ты говоришь!
— Правда, Игпасио!
— Нет.
— Да.
— Ага, больше .мне ничего не нужно — да! Ты мне
сказала — «да, я тебя люблю».
От этих слов мне самому становится жарко и весело, я
ерзаю на сиденье, стараясь прикоснуться к ней, заразить
ее своим волнением. Пассажиров рядом с нами, весь
остальной мир в эту минуту мы не замечаем.
— Ничего подобного я тебе не говорила.
— Говорила.
— Нет.
— Ну ладно, я понимаю, тебе нужно, чтобы я первый
признался тебе в любви? Зачем тебе это?
Какой момент! Сейчас будет Пятьдесят девятая улица,
там нам сходить, но пока мы сидим почти в объятиях друг
друга, это надо использовать,— скорее, скорее,
нашептывает мне плоть, третий враг души, и я отважно бросаюсь
вперед:
— Потому что я тебя люблю и... и хочу тебя!
1 Сорок восьмая! (искаж. англ.)
2 Пятьдесят третья! (искаж. англ.)
185
— Если бы ты остановился на «люблю», Игпасио!
Тут меня прорывает и, не играя никакой роли, я
прошу, объясняю, обещаю, говорю глупости, патетически
размахиваю руками со всей кубинской пылкостью. У нее
дрожат губы, жадные, сухие, она ждет поцелуя; кто из нас
более одержим сейчас?.. Остальные пассажиры такие пу-
ритапе, они наверняка удивлены, шокированы, готовы
кликнуть кондуктора, чтобы тот призвал нас к порядку...
моральному и общественному.
Но в это время кондуктор, к счастью:
— Fifti nain! 1
— Как быстро мы доехали!
— Поедем до конца, хочешь?
— Нет, что ты! Уже поздно.
Мы сходИхМ на перрон. Идем как молодожены или как
жених и невеста у янки: плотно прижавшись друг к другу,
я с удовольствием поддерживаю ее под полную руку.
Поезд трогается, и мы замечаем, как пассажиры, а в
особенности пассажирки, высунувшись в окно, провожают нас
насмешливыми взглядами.
Спускаемся и все так же, под руку, идем по Третьей
авеню. По дороге сговариваемся увидеться снова в одной
из комиссий Каридад Агуэро. Сворачиваем на Пятьдесят
седьмую,— все время под руку, по-американски,— и прямо
перед собой видим Сусанну, Куку, моего друга аптекаря
и мою мать, сидящих на ступеньках лестницы отеля,—
обрадовались теплому дню, вышли подышать свежим
воздухом и провести время до обеда.
Все замечают друг друга одновременно. Горячая волна
приливает к голове, заливает мне щеки, туманит глаза.
Словно помертвев, моя рука падает, выпустив руку Тере-
сы. А она, не менее меня оторопевшая от этой несчастной
случайности и успев заметить, какое впечатление все это
произвело на меня, с бешенством и болью роняет шепотом:
— Она сильнее! — и презрительно обгоняет меня.
Я плетусь за ней, все более смущаясь и даже
спотыкаясь, и этим еще больше выдаю себя. Тереса медленно
поднимается по лестнице, бросает что-то вроде «хм»,
которое сидящие на ступеньках истолковывают как «добрый
день», и входит в отель. Вслед за ней удаляется Кука, и
когда, поднявшись па несколько ступенек, я решаюсь
поздороваться (теперь я, наверное, бледен как мел), мать и
1 Пятьдесят девятая! (искам, англ.)
186
аптекарь отвечают доброжелательно, а Сусанна, едва
раскрыв рот, повторяет не менее красноречивое «хм».
— Я думала, ты пошел в парк,— с сомнением говорит
мать.
— Я и пошел в парк, а потом решил прогуляться
пешком по Пятой авеню вниз, до Четырнадцатой.
Мой друг аптекарь примирительно и добродушно
поддерживает меня:
— Ну понятно. А в надземке ты столкнулся с Терееой,
она, наверное, села на Тридцать четвертой. Она говорила
что-то про отель «Бернал».
— Ну да, так и было,— бормочу я, потому что обе
женщины ждут моего объяснения.— Я торопился к обеду, сел
в поезд и столкнулся с Тересой, она была в том же вагоне,
и... и...
— Оба столкнулись и вместе вернулись,— заканчивает
аптекарь не очень-то благоприятным для меня каламбуром.
Мать заставляет себя улыбнуться. Все мы зачем-то
уставились па Сусанну, которая, угадав, что все ждут, как
она будет реагировать, очень достойно, корректно
поднимается со ступеньки и, толкнув дверь, исчезает в холле,
так и не сказав ни слова.
— Ну, этот узелок вам не распутать несколько дней,—
замечает мне аптекарь.
— Причин у нее более чем достаточно, не только для
«узелка», как вы выражаетесь, а чтобы никогда больше не
захотеть видеть... этого...
— А что такое? Что случилось, собственно говоря?
Человек едет в поезде, потом туда же входит девушка,
кубинка, знакомая, соседка по отелю, и нет свободных мест, и,
естественно, он уступает свое место, и они начинают
разговаривать, и потом, как это принято здесь, он провожает ее
до отеля. Вот и все. Что же в этом плохого?
— Дорогой, как только вы дошли до угла, тебе
следовало отпустить ее руку!
— Почему? Мама, ты и Сусанна никак не хотите
понять, что мы не в кубинской деревне. Да, я вел ее под
руку, что тут особенного?
— Ничего, разумеется. Для тебя... а уж для Тересы...
тем более ничего особенного.
— Да, эта девушка, о! Это бог знает, что такое,—
подпускает нарочно, чтобы подлить масла в огонь, мой друг
аптекарь.
— Совершенно с вами ее ласна,— тут же подхватывает
187
моя мать,— по он уже не маленький и должен думать сам.
Двадцать лет, не ребенок, и если он что-нибудь делает, то,
значит, ему этого хочется. Словом, пусть объясняется
теперь с Сусанной, и не откладывая. Потому что если так
оставить, то так и останется.
К счастью, в это время в отеле звонит звонок к обеду,
к счастью, потому что мать все больше возмущается, а я
все больше обижаюсь, или воображаю, что обижен, или
просто-напросто хочу быть обиженным, и аптекарь,
добрый мой миротворец, выпаливает насмешливо:
— Ах, обед! Благословенное слово!
Мать говорит мне:
— Ну, довольно, пойдем мыть руки и к столу.
И мы втроем входим в отель. Мать, на очень сильном
взводе, впереди. За ней мой друг, насвистывая: «Мне
нравятся все девчонки, мне нравятся все...», и я —
замыкающим. Отводя душу, я ворчу себе под нос:
— Сколько шуму из ничего! Совершенно случайно они
уселись на пороге, и вот... Правильно, я жених, иу и что
из этого следует? Чтобы я был идиотом, святым,
неизвестно кем? Надо соблюдать приличия, это я понимаю, я их
и соблюдаю. Я не хожу гулять по вечерам, не волочусь за
девушками в отеле, а если так получилось, так ведь... это
самое... вот именно, случайность! И потом, человеку
двадцать лет... (В это время мать уже вошла в комнаты, я
плетусь сзади и обращаюсь к аптекарю.) Разве у него не
может быть своих желаний? Разве ему не нужно нечто...
еще, не только невеста, и если он встречает... там... Что
же, он должен упустить, а?
— Конечно, не должен. И мы не упустим! Потому что...
Нам нравятся все девчонки,
нам нравятся все...
— Вот именно! Но...
— Погоди, погоди. Но...
Но эта блондинка
тебе нравится больше,
но эта блондинка...
Да, эта блондинка! Пойми, кто может! Еще полчаса
назад, рядом с ней, вспыхивая от прикосновений к ее
прекрасному телу, от ее неотразимого взгляда, тогда — да, я
желал ее и не мог думать ни о ком и ни о чем другом, но
сейчас, вне ее магнетического влияния, когда я уже
прекрасно соображаю, что хорошо и что плохо, что и к кому
188
я чувствую, на меня внезапно нахлынула враждебность
к ней и желание немедленно, сейчас же вернуться к моей
любви и всеми доступными мне средствами —
возражениями, объяснениями, мольбами — подтвердить Сусанне мои
чувства и тем самым обрести ее вновь, как того требовало
мое по-прежнему влюбленное двадцатилетнее сердце.
Скорее, скорее в столовую, найти ее, взглянуть в глаза,
пусть она увидит, как мне грустно, как тяжко без нее,
и при первом же ободряющем знаке с ее стороны умолять
об объяснении, сразу же после обеда, в общей гостиной.
Как бы не так! В столовой восседали «себе па уме с по-
ходцем» без Тересы и «девицы Рубио» без Сусанны.
Может быть, они еще появятся? Я начал есть суп, но ни та,
ни другая не появлялись и не появлялись, то есть, я хочу
сказать,— не появлялась и не появлялась она, та, которую
я так страстно желал увидеть. В горле у меня застревало,
точно я не суп ел, а жевал ямс. Я все еще надеялся, ждал,
не притрагивался к яичнице-глазунье. И так как мое
умственное отупение, нервность и явное нетерпение
возрастали по мере того, как уменьшались шансы увидеть Су-
саину, то я наконец попросил разрешения подняться из-за
стола и уйти к себе.
Я ходил по своей комнате из угла в угол, руки за
спину, голову опустив на грудь, и мысли, одна другой
безумнее, проносились у меня в уме. Я вспоминал первую
встречу с Сусанной, восхитительные дни в Пласересе. Повторял
себе, что не могу жить без ее любви. Я страдал, умирал от
отчаяния и боли. Я горько упрекал себя, гневался на свою
проклятую слабость; как я мог увлечься Тересой до такой
степени, так позабыть все на свете, что легкомысленно
завернул за угол и направился прямо к нашему отелю под
руку с этой испорченной девчонкой, с этой бездушной
кокеткой, превращающей мужчин в игрушки, да просто в
идиотов! Да, идиотов вроде меня. Самое лучшее мне пойти
сейчас и убить ее. Или выброситься в окошко с третьего
этажа па асфальт, чтобы вылетели мозги.
Совершенно обалдев, я ходил из угла в угол, когда
раздались шаги наших,— они возвращались из столовой.
Я должен был собрать всю силу воли, чтобы унять муки
своего сердца и безумства своего разума и скрыть
терзавшую меня тоску.
Они вошли. Я отвечал односложно на вопросы матери
о причинах внезапной потери аппетита и столь же
внезапного уединения и сел писать письмо Сусанне — горячее,
189
длинное, на десяток или два страниц; спасительный
выход боли, сжимавшей мою грудь, разрядка моей
разгоряченной голове.
Такое оно и вышло, это письмо. В нем можно было
обнаружить все манеры, все способы выражения — от
детского лепета до эпически монументального стиля; там были
нагромождены противоречия самые нелепые; так,
например, на одной странице я страстно клялся, что ни в чем
перед нею не виноват, а на другой столь же страстно
просил простить меня за «огромную, огромную ошибку».
Вспышки боли, нежные воспоминания о былом, пылкие
обвинения самому себе, мольбы, обещания, клятвы, поцелуи,
рукопожатия и слезы. Все вместе, все запутано,
перепутано, как в дневнике, написанном в отдельной палате
сумасшедшего дома неизлечимым графоманом.
Но как бы там ни было, письмо, сочиненное мною,
пролило бальзам на мои раны. И как только я вложил его в
конверт, надписал «Сусанне Рубио» и подсунул под их
дверь, смятение моих чувств разом спало, и я обрел
способность размышлять спокойно.
Я был все же несколько рассеян, нервозен, и мне не
хотелось вертеться на глазах у моих домашних. Я взял
шляпу и отправился в Центральный парк, рассчитывая найти
свободную скамейку где-нибудь под деревом, подальше от
глаз людских, и там в тиши остаться наедине с моими
счастливыми надеждами.
Я прошелся но Лексингтон, в те времена
малолюдной, до шумной Пятьдесят девятой, типичной
нью-йоркской улицы, с головокружительной каруселью
автомобилей, трамваев, автобусов и повозок, с
непрекращающимся прибоем человеческой толпы, которая неслась по
тротуарам, судорожно шаркая подошвами и толкаясь так,
точно ее охватила какая-то необъяснимая паника. Я
старался держаться ближе к стенам, к витринам магазинов.
Я ничего не ел за обедом, голод давал себя знать, и потому
мое внимание более всего привлекали лотки с красными
калифорнийскими апельсинами, бархатными персиками,
крепкими, блестящими яблоками, коробочками со
свежезамороженными ягодами, кусками арбуза. Я купил
яблок и апельсинов, потом — коробочку с прекрасным
сушеным инжиром и фунтик жареного арахиса. Пока я
дошел до парка, от моих припасов ничего не осталось, а сам
я почувствовал себя совершенно и окончательно
счастливым. Я нашел скамейку, мудро спрятанную под густым
190
деревом вдали от асфальтовых дорожек, и устроился в этом
уголке, очень довольный своим одиночеством; никто сюда
не заглядывал, разве парочки, иногда проходившие мимо,
плотно взявшись под руку или обняв друг друга за талию
(ох, уж эти пуритане-янки!), но им было не до меня, их
влекло под снисходительные кроны густых старых
деревьев, к надежным укрытиям туннелей и виадуков,
спрятанных в широких аллеях парка.
Там-то, в тиши и свежести этого неизъяснимой
прелести оазиса, в самом сердце железного Вавилона, с грустью
погруженный в себя, я провел час, два или более, до тон
поры, когда подошло время принимать ванну и идти
ужинать. Я вернулся в отель в надежде, или, лучше сказать,
в глубокой душевной уверенности, что, тронутая моим
письмом, Сусанна непременно выйдет вечером к столу, а
потом и в гостиную, чтобы выслушать мои оправдания и
уверения в преданности и любви. Да, безусловно, ибо
разве она сама не желала того же, чего и я? Неужели она
способна равнодушно созерцать, как под ударом чужой и злой
силы упадет и вдребезги разобьется наше счастье? Стоило
только вспомнить торжественные минуты взаимных
клятв — от всего сердца, со всей искренностью юности.
Ни за что! Пробежала кошка, пусть так. Но погубить
такую большую любовь, так просто и навсегда? Не может
этого быть.
Три четверти часа спустя хрупкий замок моего
оптимизма рассыпался в прах под ударами самой безнадежной
реальности. Снова спустились в столовую «себе на уме...»
без Тересы и Рубио без Сусанны. Этого было достаточно,
чтобы бедный мой рассудок опять затрепетал от ужасных,
предположений. Стало быть, такое возможно? Ну,
хватит! Какой смысл сидеть за столом, стараясь съесть что-
нибудь, под испытующими взглядами матери, бабушки и
дедушки. И, в точности повторив, видимо, маневр
Сусанны и Тересы ссылкой на классическую головную боль, я
побрел в свою комнату мимо запертых дверей семьи
Рубио, а из комнаты, снова мимо этих дверей, в холл, оттуда
в гостиную и так слонялся туда и сюда, гремя монологами
но углам и давая своим эксцентрическим поведением
основательный повод злословию соседей по отелю, тем более
что вечером в гостиной, где, как всегда, собрались ее
завсегдатаи, обе женщины, составлявшие фокус моих помра-
чеппых мыслей, не появились.
Снова за шляпу и — на улицу! Не как днем, счастли-
191
вый и самонадеянный, а мрачный, мятущийся, почти в
слезах. Я повторял себе тысячу раз, что не в силах отказаться
от заветной моей мечты, что внезапный разрыв моих
отношений с Сусанной немыслим. Невозможно, чтобы
кончилась любовь, в которой мы оба тысячу раз дрожащими
голосами, из глубины души клялись, клялись, что она будет
вечной. Да не может этого быть! Нет, нет и еще раз нет!
И благо бы обычная ссора, впереди у которой примирение,
но окончательный разрыв, конец всем нашим чувствам и
идеалам, так вот просто, так легко? Пусть лучше умру
я сам.
Я шел наудачу, куда глаза глядя г, и ходил долго.
Сначала попал на Вторую улицу, грязную, вонючую,
громыхающую самым разнообразным транспортом. Потом
очутился в Гарлеме, районе негров, итальянцев и евреев,
простирающемся от Третьей авеню до Ист-Ривер и от
Восемьдесят такой-то, такой-то и такой-то улицы до Сто тридцать
такой-то, такой-то и такой-то. Время летело, я его не
замечал. Здесь жили труженики, здесь вставали рано, и
в этот час было тихо, пустынно и почти темно. Мои шаги
по тротуару отдавались гулким эхом в извилинах огромных
tenements1, этих вавилонских убежищ, этих клоповников,
где ютится всякий сброд. Огромпый призрак, оказавшийся
полицейским, возник в одном из парадных, перепугав меня
до смерти и разбудив звериный инсшнкт самосохранения.
Внезапно словно молния озарила мои поступки, и я понял:
со стороны в моем теперешнем состоянии я могу
показаться пьяницей или безумцем,—глупо и опасно, хватит. Кроме
того, как на эту мою прогулку посмотрела бы Сусанна и те,
кто держит ее сторону? Что они могли подумать обо мне?
С какими намерениями, если не с самыми низкими, мог я
бродить в таком месте в такую памятную для меня ночь?
На Сто двадцать пятой улице я сел в поезд надземки,
когда стрелки станционных часов сошлись на двенадцати.
Поезд был пуст и почти не задерживался на остановках.
В половине первого я вошел в свою комнату. Дедушка и
бабушка спали, мама сидела с книгой в руках. Она
сказала, что давно ждет меня, и только; тон ее, ласковый,
успокаивающий, выдавал понимание и сочувствие.
Успокоенная моим возвращением, она вскоре ушла спать, оставив
меня наедине с моим ложем, ложем мучительным, на
котором я полночи провел не сомкнув глаз, а полночи в копь
1 Многоквартирных домов (англ.),
192
марах. Мне удалось заснуть, лишь когда пошли первые
трамваи и повозки с молоком застучали по асфальту.
Я спал долго и едва не проспал завтрак. Сев на свое
место и подвинув тарелку, я нашел под ней сложенный
вдвое листок бумаги, на котором было написано: «Сеньору
Игнасио Гарсиа». Гм-гм, ничего хорошего этот «сеньор»
мне не сулил.
Посмотрим... Фу-ты! Пол-листочка, всего-навсего? А я-
то послал целую исповедь! «После того, что произошло
вчера, прошу вас (дурной знак!)... оставить меня в покое.
Вашему письму я не верю ни капельки. Прежде всего потому,
что ваше поведение невозможно извинить, а кроме того, я
не знаю, кто из вас это сделал, вы, или Тереса, или оба
сговорясь,— вместе с вашим письмом я нашла под дверью
еще одно, которое я передала вашей матери сегодня утром.
Продолжайте в том же духе! И вы еще хотите, чтобы вас
считали чуть ли не святым. На Кубе — две, а тут, в Нью-
Йорке, бог знает сколько еще. Теперь я понимаю, вы
посмеялись надо мной, но я сумею достойно отнестись к
своему несчастью и скрыть свое страдание. Я сумею сдержать
боль от крушения иллюзий и надежд, но насмешка ваша
кончилась, я поклялась с сегодняшнего дня не видеть вас
более никогда в жизни. Сусанна Рубио». И под этим
воплем души, дававшим полное представление о ее состоянии,
точь-в-точь совпадавшем с моим, стоял неизменный
постскриптум всех женских прощальных писем: «Все, что я
получила от вас, передаю донье Лоле. Все, что вы
получили от меня, можете передать моей матери. Разумеется,
если пожелаете, если же нет, делайте с этим все, что вам
заблагорассудится. Vale» l.
Я над ней смеялся! Две женщины! Ну-ка, пу-ка, что
там такое: «...не знаю, кто из вас это сделал, вы, или
Тереса, или оба сговорясь,— вместе с вашим письмом я
нашла под дверью еще одно, которое передала вашей матери
сегодня утром. Продолжайте в том же духе! И вы еще
хотите, чтобы вас считали чуть ли не святым. На Кубе —
две, а тут, в Нью-Йорке, бог знает сколько еще...»
Что это могло значить? Не притронувшись к завтраку,
я в четыре прыжка оказался у лестницы и еще в четыре
взлетел на наш этаж. Бабушки и дедушки не было дома,—
сильно тоскуя по зеленым полям Кубы, по свежему
воздуху и горячему солнцу, они в это время гуляли в Цент-
1 Будьте здоровы (лат.).
13 к. Ловейра 193
ральном парке. Сидя у окна, поближе к весеннему свету,
мать штопала чулки,
— Где письмо, которое тебе передала Сусанна?
— Вот, возьми.
Из-под вороха чулок, лежавших у нее на коленях, она
вытащила конверт с маркой, изображавшей короля дона
Альфонсо в детстве, и надписанный мелким круглым
женским почерком.
— С Кубы? — воскликнул я.
— Да, от Рамиры,— подтвердила мать.— Весьма стран-
пое письмо, надо тебе сказать.
Я, признаться, не нашел в нем ничего странного, за
исключением, пожалуй, некоторой энергии в выражениях
да безупречного стиля, которого я, помня всех старых дев,
не ожидал от Рамиры.
«Любя тебя и не желая терять из виду, я достала твой
нью-йоркский адрес. И вот пишу, живо воображая себе
этот город и тебя в нем. Я хочу знать, как там твой шрам,
твоя хромота, твои занятия, вообще твоя жизнь и, в
частности, твоя великая любовь. Любовь, которая не дрогнет
перед препятствиями, не замутится ни ревностью, ни
злословием, ни семейными неприятностями, вроде зверского
нападения этого Нэнэ; любовь необъятная, на зависть
всем. О, в особенности па зависть! Любовь ни е чем не
сравнимая, разве еще с одной любовью, ведомой только
мне, но у которой нет иного будущего, кроме сострадания
или насмешки, иной надежды, кроме отречения, иного
вознаграждения, кроме жертвы, чтобы не помешать счастью
любимого в союзе с соперницей, которой фортуна
подарила выигрыш в слепой лотерее жизни.
Так много хочется тебе сказать, но я напишу об одном,
хотелось бы верить, что эта новость тебя заинтересует или
хотя бы тронет твое доброе сердце: некоторое время я
находилась в «Лас Рекохидае», в женской тюрьме Гавапы>
куда меня,— вероятно, ты не сомневаешься в этом,—
несправедливо (слово «несправедливо» было добавлено явно
для почтовой цензуры) отправили, обвинив в соучастии в
заговоре, но теперь я уже вышла из этого страшного
места».
Далее Рамира очень выразительно описывала грустные
дни своего заключения — как, несмотря на то, что она
была политической, ее поместили с женщинами с самого
дна; как скверно обращались с ней тюремщики; описывала
хлопоты, мольбы и унижения, которые пустили в ход ее
194
сестры, чтобы вызволить ее оттуда; рассказывала о
тяжком состоянии здоровья после этого жестокого испытания.
Затем, как водится, шли приветы от всей семьи, а после
подписи неизбежный постскриптум: «Напиши мне хоть
несколько строк. Мне никогда не забыть той ужасной
минуты, когда ты после предательского удара этого бандита,
весь в крови, упал мне на руки. Ты ведь знаешь, я
смирилась со своей судьбой и не способна пи в малейшей степени
омрачить твое счастье. Vale».
— Тут на конверте совершенно ясно написан мой
адрес. Кто мог взять письмо, распечатать и подсунуть иод
дверь к «девицам Рубио»?
— Откуда я могу знать? Если не Сусанна, то, без
сомнения, эта сумасшедшая девчонка.
— Какая девчонка?
— Какая же еще? Тереса.
— Предположим. Что же плохого в этом письме?
— Я, как ты заметил, и не говорила, что в нем есть
что-то плохое. Кому это показалось, так Сусанне.
— Почему?
— Да ни по чему. Письмо от возлюбленной, как еще
можно его понимать? Ничего особенного, случайность,
такой же пустяк, как прийти к отелю под руку с кокеткой.
— Ты никак не хочешь понять, что я уже не ребенок,
пришитый к юбке своей матери! Пойми, пойми,
пожалуйста, мне двадцать лет, я мужчина и не собираюсь
разыгрывать дурака или святого, как того хотелось бы Сусанне.
И бывают ситуации, когда человек не может ставить себя
в смешное положение. Вот именно, в смешное положение!
Разговор становился несколько щекотливым, и мать с
присущим ей тактом сделала вид, что не понимает, о чем
идет речь:
— Ну, хорошо, в конце концов это ваше дело, твое и
Сусанны. Но, как хочешь, твое поведение компрометирует
нас, ты должен это помнить. Семья Карбо со вчерашнего
утра с нами не кланяется. Рубио словно аршин
проглотили. Тереса прячется. Сусанна не показывает носа.
Дальше так нельзя, тем более в этом отеле, где все так и
смотрят друг за другом, каждый ищет чужие ошибки, чтобы
можно было оправдать свои грешки. В хорошенькую
историю ты нас втянул! А что еще будет?! Так продолжаться
не может, повторяю тебе, слышишь? Это слишком!
— Я понимаю. Тогда сделаем вот что. Только
немедленно.
— Что такое?
— Я уеду в Филадельфию учиться на зубного врача.
Два года всего-навсего, я уже многое знаю и наверняка
получу звание.
— Нет, только не в Филадельфию. Это место самых
черных наших воспоминаний, ты же знаешь. В
Филадельфию мы съездим как-нибудь потом, нам нужно разыскать
могилу твоего отца.
— Хорошо, тогда в Балтимор, там учился мой друг
аптекарь Ледесма.
— Это чересчур далеко.
— Какое далеко! Пять часов поездом.
— Надо посоветоваться с дедушкой.
— Но ты не против?
— Я — пет, хотя это нас разлучит, но ради того, чтобы
кончилась эта неприятность!.. Смотри только, будь
благоразумен, хватит этих выходок.
— Да какие выходки? Выходки! Сейчас же иду к Де-
десме и спрошу, как ехать в Балтимор, название колледжа,
сколько платить, и тут же напишу Сусанне, пусть
убедится, что я не хочу оставаться здесь, не хочу больше видеть
Тересу, чтобы доказать ей...
— Постой, постой. Сначала подождем, что скажут
бабушка и дедушка.
— А что они скажут? Они скажут — да. Ты подумай,
этим разрешается все, и без особых хлопот и
неприятностей. Между мною и Карбо встанут пять часов езды. Но
оторвать меня от Сусанны, в ином, высшем смысле, я не
позволю, этого я бы не перенес. Что касается Рамиры, я
думаю, Сусанна легко поймет меня, все это не так
страшно, как вам кажется. Я напишу ей сто писем оттуда, из
Балтимора, так мне легче будет убедить ее. И мы все
помиримся, все три семьи. И я еще быстрее выучу
английский и приобрету профессию. И, самое
главное, что для этого не нужно никаких затрат. Почти на
те же деньги, что здесь, я буду жить там и
одновременно учиться. Несколько долларов на дорогу, и дело с
концом!
Была у меня еще одна причина, решающая, потаенная,
заставившая меня избрать именно этот путь, но я не мог
сказать об этом матери. Мысль эта блеснула у меня в тот
день, когда я разговаривал с доктором в кубинском
представительстве: получить медицинское образование, и если
к тому времени война еще не кончится, то попасть на
196
Кубу, не ожидая очереди в бесконечном списке бедных,
никому не известных кубинцев, непревзойденных в своем
пламенном патриотизме.
III
В Балтиморе, святом старом городе ста храмов, я
находился в курсе всех дел моей семьи, жившей, как и семья
Рубио, все там же, в отеле «Гавана», патриотическом
кубинском гнезде, рядом с родными, друзьями и
знакомыми — сторонниками революции.
Мне писали Сусанна, моя мать, Ледесма и (о, до чего
сложна жизнь!) Рамира и Тереса.
Мой отъезд из «столицы империи» стал
доказательством моей верности и моих добрых намерений. Сусанна не
ответила на три первых письма, а затем все пошло по-
прежнему, как в лучшие дни нашей любви. И паши
письма, в которых мы поверяли друг другу самые
незначительные события своей жизни,-— на одном листке бумаги,
и еще на одном, и еще,— письма, в которых мы неустанно
спрягали во всех временах извечный классический глагол,
летели туда и обратно, неделя за неделей, месяц за
месяцем.
Мать обычно писала о наших друзьях или знакомых,
которые находились на Кубе, одни — сражаясь с
испанцами в повстанческих отрядах, другие — потягивая вино
с испанцами же на Пласа-де-Армас и наслаждаясь оттуда
звуками «Барабана гренадеров», зловещего марша,
непременно сопровождавшего патриотов, которых вели на
вечное заточение в тюрьму «Лос Лаурелес». Другой ее
заботой было собирать и отправлять на мой адрес
революционные газеты, брошюры и журналы, попадавшие к ней в
руки, а также описывать все митинги, в которых тысячи
кубинцев нью-йоркской колония, воодушевленные
ораторским водопадом Браво Корреосо, трибунной логикой Бе-
танкура Мапдулея, лаконичным, назидательным слогом
Бароны, неистовыми извержениями Кесады, отточенной
декламацией венесуэльской звезды Суметы и
блистательными финалами великого Сангили,— вывертывали
наизнанку свои карманы, ссыпая все, что там было, на
благотворительные подносы, забывая подчас в своем
мистическом бреду оставить хотя бы пять центов на трамвай.
Ледесма, упрямо решивший силою своего неизменного
обожания во что бы то ни стало сокрушить сопротивление
197
Мерседес, Ледесма, верный нашей дружбе, писал мне два-
три раза в месяц, сообщая о том, чем дышит отель
«Гавана», и пересказывая анекдоты, волновавшие умы
моралистов этого кубинского ковчега.
Рамира, не получив ответа на свое первое письмо,
написала еще одно, которому повезло больше: из рук
почтальона оно попало прямо в руки моей матери, избегнув
печальной участи быть перлюстрированным какой-нибудь
из двух ревнивиц — смуглянкой или блондинкой. Мать
переслала его мне, сопроводив советом немедленно ответить
Рамире, попросив не писать больше и таким образом
разорвать с ней. По правде сказать, я этого не сделал,— из
жалости, боясь взрыва отчаяния с ее стороны, которое
могло привести бог знает к чему, и еще не помню уже из
каких соображений. Я дал ей свой адрес: Maryland School
of Medicine and Dentistry l, чтобы она писала мне прямо
в Балтимор, решив со временем охладить ее пыл все
большей и большей холодностью, нерегулярностью и
краткостью своих ответов. Она не поняла, или сделала вид, что
не поняла, и продолжала марать страницу за страницей,
то наполняя их смирением перед своей старостью и
безобразием, то вдруг, забыв про смирение, выстреливала в
меня длинными параграфами, полными ласки и смешных
ужимок стареющей ревнивой женщиныг соблазнительных
воспоминаний, взрывов зверского сладострастия и — самое
страшное — скрытых угроз, перед которыми я дрожал, как
еретик перед костром. Помню, раз она прислала в письме
вырезку из какого-то американского журнала, бог весть
как попавшего в Пласерес,— рекламу женских чулок. Там
была изображена женская ножка, чудо из чудес. На
полях, карандашом, Рамира приписала: «Ты помнишь? Они
ждут тебя. Попробуй пренебречь, увидишь, чем это коп-
чится!» Все это были шуточки, но шуточки весьма
многозначительные.
После моего отъезда Тереса, пользуясь своим влиянием
в семье, добилась, чтобы родители сняли квартиру на Сто
шестнадцатой улице и переехали из отеля. Но так же,
как из отеля, она продолжала писать мне каждую неделю,
то чрезвычайно серьезно, то открыто, дружески, почти по-
братски, то вдруг вновь пуская в ход «невинные»
ухищрения флирта, обольстительного и двусмысленного, в кото-
1 Медицинская и стоматологическая школа штата Мэриленд
(англ.).
198
ром она была непревзойденной искусницей, а то полные
страстных вспышек, слепых, неистовых, свойственных
таким женщинам, как она, уязвленных безразличием или
презрением мужчины, задевшего их воображение.
Движимый не очень-то достойным чувством — мелким
самолюбием, заставляющим мужчину вести любовную игру со
всеми женщинами, которые дали повод или сами
предложили себя, вести эту игру, лишь бы его не сочли
дураком,— вспоминая также о чувственной прелести Тересы,
которая, несмотря на расстояние между нами, время,
неприятности и несомненную угрозу моему счастью,
сохраняла еще власть надо мной, потому что желание,
возбужденное во время совместной поездки в надземке, оставшись
неудовлетворенным, еще трепетало во всем моем
существе,— движимый всем этим и многими другими
неясными мне самому противоречивыми ощущениями, я
отвечал Тересе то кратко и холодно, то горячо и пространно.
Так и запутывался клубок: незаметно, опасно и
неизбежно.
При всем том в течение двух лет, что я провел в
Балтиморе, я был в курсе всех славных событий 1896 и 1897
годов. Великое преступление концентрации и его полнейшая
бессмысленность, подобная бесполезным усилиям двухсот-
пятидесятитысячной армии, двинутой против
освободительного движения. Не оправдавшие своего назначения
линии укреплений, перепоясавшие остров в стратегически
наиболее важных местах. Благополучные высадки все
новых и новых экспедиций на берегах свободной Кубы.
Воодушевление кубинцев-эмигрантов на Ямайке, на
Бермудских островах или Нассау всякий раз, когда туда
прибывали парусные суденышки с отважными флибустьерами,
такими, как Ролофф, Лакрет, Хулиан Бетанкур и другие.
Скандальный побег Эванхелины Коссио из тюрьмы «Лас
Рекохидас» в Гаване — в объятиях какого-то репортера.
Взятие патриотами Лас-Тунаса. События в провинции Пи-
нар-дель-Рио, когда Масео хорошо посмеялся пад Арола-
сом и его линией траншей, фортов и заграждений, которые
опоясали остров от Мариеля до Маханы, и над сорока
батальонами, гнавшимися за ними через горы, долины н
пальмовые рощи западной части острова, узкой и
обособленной. Гибель героя ста боев в роковой схватке,
подарившей незаслуженную славу солдату Сирухеде. И ломимо
гибели Бессмертного, не менее славно и трогательно павшие
Серафин Санчес и Хосе Масео, Хуан Бруно Сайас и Нестор
199
Арангурен, Кастильо, Леонсио Видаль, Касальяс и сотни,
сотни других; возвышенные мистики великого и
благородного идеала, который так и не воплотился в конце концов,
да и никогда, видимо, не воплотится во всей своей полноте
и величии.
Каждое громкое известие, ободряющее или печальное,
подвигало меня прилежно учиться, чтобы как можно
скорее получить звание дантиста, которое сразу же сделало
бы меня членом столь вожделенной мною экспедиции под
командованием Эмилио Нуньеса или Хоакина Кастильо
Дуани.
Из писем и из трех коротких визитов в Нью-Йорк
(о, прогулка по Кони-Айленд, Лонг-Бранч и Форт-Джордж
в обществе Сусанны, Роситы и моей матери) я многое
узнал о знакомых и близких — на войне и в отеле
«Гавана»: дон Серафин воевал уже в чине бригадного генерала
в воинских соединениях Паичо Каррильо, оставаясь тем же
доном Серафином, независимо от повышений, больших и
малых; Рафаэль находился в ставке «Ла Реформа» под
началом у генералиссимуса; Длинный Батон служил
офицером в охране революционного правительства в районе Чин-
черос в провинции Камагуэй; Каиьисо, верный своему
правилу избегать опасных для жизни мест и выбирать те, где
удобнее, перебрался поближе к Сантьяго-де-Куба и
именовался теперь подполковником медицинской службы при
генеральном штабе Каликсто Гарсиа; Нэпэ,
участвовавший в «кампании вторжения», за отвагу при Руби и Канде-
ларии теперь произведен в бригадные генералы; Карлос
Мануэль Амесага продолжал каждое утро с балконов
дворца на Пласа-де-Армас слушать марш «Барабан гренадеров»,
доносившийся, жутко и пронзительно, с противоположного
берега бухты, с высот Кабаньи; тут, в Нью-Йорке,
Мерседес продолжала хранить верность Нэнэ; тщетно аптекарь
и другие ее поклонники ухаживали за ней, она ждала
своего генерала; дед мой неплохо зарабатывал своей табачной
лавочкой. И, наконец, Тереса, хотя на нее и теперь
находило иногда безудержное настроение, которое, как всегда,
будоражило мужскую половину кубинской колонии, все
же с тех пор, как я покинул Нью-Йорк, сильно
изменилась; судя по некоторым невольным словам ее близких, по
признаниям ее знакомых и друзей, а также по совершенно
очевидному ее нажиму на родителей, под влиянием
которого они решились переехать куда-то поближе к
Балтимору, в Вильмингтон или даже в федеральную столицу
200
штата, все вокруг уверились, что неугомонная и
прелестная блондинка влюбилась в меня по уши.
Асфальт широчайшей авеню Пенсильвания блестит под
горячим еще осенним солнцем. Воскресенье, день,
посвященный Библии и газетам, на улицах и в присутственных
зданиях — монастырская тишина, обычно не свойственная
Вашингтону, который но этому затишью и
доминиканскому безлюдью сейчас можно сравнить с набожным
Балтимором. Утром я посетил дом Линкольна, институт Смит-
сона, прошелся по берегу реки Потомак и. обошел вокруг
Белого дома с тайной надеждой увидеть хотя бы краешек
орлиного профиля досточтимого Уильяма Мак-Кинли.
Потом позавтракал за тридцать пять центов (в 1897 году в
Штатах это был отличный завтрак) и теперь шел к
Капитолию, и вот он уже виден — огромное белое чудо
архитектуры в самом начале широкого проспекта.
На углу, где одетые по-воскресному прохожие
пересаживаются с трамвая на трамвай, я вдруг сталкиваюсь с
Тересой и Кукой, они в соломенных шляпках с розовыми
лентами и в легких осенних костюмах. У Куки через плечо
на длинном ремне небольшая фотокамера. Из писем Те-
ресы я знал, что они живут теперь в Вашингтоне, и все
же я остолбенел, они тоже, и обе, густо покраснев и
протягивая мне руки, наконец восклицают:
— Игиасио!
— Ты в Вашингтоне?
— Конечно, как видите. Уже месяц, как я взял себе за
правило по воскресеньям уезжать из Балтимора
куда-нибудь недалеко, часа за два пути, и чтобы не очень дорого
стоило. Сегодня очередь Вашингтона. Красивый город,
правда?
— Прекрасный,— подтверждает Кука.
— Куда ты идешь? — спрашивает Тереса.
— Посмотреть Капитолий.
— Как хорошо! — радуется Тереса.— И мы туда же,
Куку там ждет поклонник, американец, очень
симпатичный, а потом мы с ним отправимся на водопады, это в двух
часах отсюда,— чудесные, по ту сторону реки, в... как
его? — спрашивает она Куку.
— Грит-Фалс.
— Да, да, Грит-Фалс, это уже в штате Вирджиния.
Там развалины дома и мельницы Георга Вашингтона.
— Ах, как там хорошо, Игнасио! — говорит Кука.—
Что-то вроде Кони-Айленд, только поменьше, чертово ко-
201
лесо, качели, карусели, рестораны и даже укромные
уголки, ах! (При этом она собирает в щепотку кончики
пальцев и целует их.) Прелесть что за уголки!
И так как я самым идиотским образом молчу,
обескураженный той невинной легкостью, с которой обе сестры
произносят все, что приходит им в голову, Тереса со
смехом человека, которому море по колено, выводит меня из
столбняка восклицанием:
— Что делать, Игнасио? Мы живем в Штатах,
по-американски. Поедем с нами?
— Нет,— отвечаю я неискренне, потому что
предложение соблазнительное.
— Если из-за денег, не беспокойся,— добавляет она
смело,— у нас есть, мы тебе дадим.
— Нет, нет, с какой стати! На это я не согласен,—
говорю я не без сожаления о своем вынужденном лицемерии,
потому что на самом деле мне до смерти хочется поехать
с ними в Грит-Фалс и даже на край света, но того, что
лежит у меня в кармане, не хватит, чтобы покрыть расходы
на подобное приключение.
И пока я размышляю об этом, а Кука продолжает
уговаривать, Тереса открывает сумочку, вынимает из нее
комок ассигнаций и неожиданно засовывает их мне в
верхний карман сюртука.
— Нет, Тереса, нет, ни в коем случае.
— Да, Игнасио, да. Что тут особенного?
По-американски!
— Нет.
— Да не упрямься, прошу тебя,— настаивает Тереса
и смотрит мне в глаза, как юная нежная мать, не умеющая
быть жестокой со своим ребенком.— Точнее, я тебе
приказываю. Все равно мы собирались все потратить. Ну,
считай, мы тебе одолжили, вернешь по почте, если хочешь.
Мы же знаем, тебе это свалилось как снег на голову.
Перестань, возвратишь, и дело с концом.
— Вот так,— говорит Кука, улыбаясь.—
По-американски. Не будь слишком... из Пласереса.
— Хорошо, в долг — согласен.
Я беру под руку Тересу, изящную, благоуханную и
вызывающую, и мы втроем идем по проспекту к Капитолию,
в прелестных садах которого Кука и ее поклонник
назначили свидание.
Этот молодой человек,— по словам сестер, сын
депутата конгресса от Аризоны,— оказался отлично сложенным
202
парнем, высоким и СхМуглым. Он поджидал нас на скамье
перед Капитолием. Не успел я завести восторженные речи
по поводу изумительного здания и его окрестностей, как
поклонник Куки уже встал и пошел к нам навстречу.
— How are you all?
— First rate, Jim. How is yourself? l — отвечает Кука.
Tepeca представляет нас друг другу:
— Mr. Duncan: shake hands wilh our old friend, Mr.
Garcia.
— Very glad to meet you, sir2.
На ближайшем углу мы садимся в трамвай. Джим с
Кукой устраиваются на одном сиденье, позади них — мы
с Тересой, тоже рядом, вплотную. Никто из нас и не
вспоминает, что сегодня воскресенье, то есть день Библии,
проповедей, воскресных газет и прочей скукоты.
Пока мы едем до пересадки на поезд у моста через
Потомак, я болтаю с Тересой о красотах этого города,
который вырос вместе с Капитолием среди зеленых лужаек,
садов и аллей. Затем мы попадаем в штат Вирджиния, п
пока мимо нас летят луга, дома, кукурузные поля,
широкие дороги, мы невольно поддерживаем искусственный
разговор о жаре, обычаях страны, о том, как хотелось бы
увидеть за окнами кубинский пейзаж, ни в какое сравнение
не идущий с этими полями, начинающими желтеть с
самого начала лета. Но вот мы заговариваем о романе Куки и
тут же вспоминаем тот наш день в Нью-Йорке, мысли
наши скользят в сторону любви, желаний и грусти, и я
вижу, как прозрачна блузка Тересы, и, как тогда, нашп
глаза говорят друг другу больше, чем уста, и снова
касаются друг друга бедро и нога, и между нами
напряжение в тысячу вольт, и тут раздается звонок, а кондуктор
гремит:
— Great Falls! Last stop!3
Поезд останавливается, и сразу слышится словно бы
ярмарочный шум, выкрики торговцев, свист, музыка,
взвизгивания на карусели, говор и шарканье у мелочных
лавочек, павильонов и прочие звуки простодушного веселья,
заглушаемые шумом водопада, давшего имя этому месту.
1 — Как поживаете?
— Лучше всех, Джим. А ты? (англ.)
2 — Мистер Дункан, познакомьтесь, пожалуйста, с нашим
старым другом, мистером Гарсиа.
— Очень приятно, сэр (англ.).
3 Грит-Фалс! Конечная! (англ.)
203
Водопад, а также знаменитая мельница, усадьба и
старая роща рядом, принадлежавшие когда-то человеку, что
ие сказал ни слова лжи, и были главным поводом устроить
здесь место отдыха и развлечений.
Спустившись с перрона крошечной станции,
покрашенной в синюю и белую полоску и густо заросшей вьюнком,
вянущим уже в предчувствии зимы, попадаешь в некое
подобие Кони-Айленд, как п говорила мне Кука,
расписывая красоты этого места. Вблизи показались три
павильончика с тиром, где можно пострелять из ружей и винтовок.
Дальше — расписные карусели, одни — приводимые в
движение человеком, другие — какими-то дымящимися
машинами, громыхающими не меньше оркестрионов, которые
крутятся вместе с экипажами и лошадками. «Пиф... паф...
пуф...» — раздается в театре кукол, где марионетки и
негры, обсыпанные мукой, страшными гримасами
подогревают расовые предрассудки своих братьев, белых христиан.
Подальше — гремящие, захватывающие дух так
называемые «русские горки», киоск предсказательницы будущего
из Египта, уроженки Нью-Йорка с улицы Бовери, японские
базары с их хитроумными лотереями, где можно выиграть
чайный сервиз, шкатулку с двойным дном, тряпочную или
фарфоровую куклу. Оглушительный визг ребятишек,
крутящихся на карусели, еще громче визжат истеричные
мисс, скатывающиеся вниз на «русских горках»;
продавцы вопят, расхваливая товары, пронзительно кричат
клоуны; истошно завывают фотографы; звучат рожки и
тамбурины. Адский шум, который, если погрузиться в
него, заглушает даже грохот водопада.
Как истые американцы, с мальчишеским азартом мы
обходрш все домики, все лавочки и все павильончики.
Участвуем в японской лотерее. Фотографируемся, все четверо,
тесной группой, на роге огромного месяца в окружении
звездочек. Садимся на ярко раскрашенную, всю в
зеркальцах, карусель. Кука и Джим забираются на лошадку,
он — сзади, крепко прижавшись к ее плечам. Не долго
думая, делаем то же самое и мы с Тересой, только более
пышные формы моей подруги совершенно оттесняют
меня к деревянному хвостику. Потом «русские горки»; на
первом же крутом спуске она отчаянно вскрикивает и,
ища опоры, впивается своей правой рукой, словно
когтями, мне в пах, слева, заставив испытать боль вроде той,
что бывает, если неловко сядешь верхом.
— Аи! — кричу я в один голос с ней, а она уже смеет-
204
ся; дрожащая и розовая от волнения, она спрашивает
меня:
— И ты испугался?
— Нет, ты больно сжала.
— Подумать только! Женщина сжала, и ему больно?
— Мало ли что. Дело в том...
Я так и не заканчиваю, потому что вагончик
останавливается и мы выходим.
Аперитив, хотя и по-американски невинный, все-таки,
оказывается, производит свое действие, способен
поставить под угрозу падения и самого святого из святых.
Честное слово, и Джиму не избежать смертного греха! И это
в воскресенье! О, души христианских пилигримов и first
families of Virginia!}
Держась двумя отдельными парочками и взявшись под
руки, мы удаляемся от ярмарочного шума на берег реки,
под отрадную сень густых деревьев. Подойдя к большому
прямоугольному каменному колодцу во мху,
окруженному остатками каких-то стен, Кука указывает мне на
него:
— Смотри, Игнасио, это развалины той самой
мельницы.
— Ах да...— отзываюсь я неохотно.
Это знаменитое место ничего не говорит сейчас ни
уму, ни сердцу, да и вообще, честное слово, мне в этот
момент не до исторических достопримечательностей.
Мы медленно бредем, пока впереди не показывается
ресторан в крестьянском духе, приветливо
выглядывающий из-за фруктовых деревьев.
Когда мы уже сидим за столом, сверкающим
белоснежной скатертью и безукоризненными приборами, в
широкой прохладной и светлой галерее, рядом с такими же
парочками, углубленными в свои медоточивые разговоры,
Кука, при одобрении Тересы, предлагает, чтобы
заказывал Джим.
Я не соглашаюсь:
— Нет, ни в коем случае, что может заказать этот
балбес? Принесут какую-нибудь американскую
невкуснятину...
— Сам ты балбес,— парирует Кука.
— Пусть заказывает Игнасио,— говорит Тереса.
— Нет, пусть Джим,— настаивает Кука.
1 Первых поселенцев Вирджинии! (англ.)
205
— Ладно, пусть для тебя закажет Джим, а для меня —
Игнасио.
— Shut up! Shut up! Talk English! l — прерывает
Джим, взывая к вежливости.
— You are right,— поддерживаю я Джима.
— Go ahead, Jim. Is up to you to write out the order2,—
говорит ему Кука.
За спиной Куки ослепительной улыбкой до ушей сияет
негр-официант, поражая контрастом своего черного
естества с белоснежной одеждой и фартуком. В позе большого
знатока людей он снисходительно ожидает конца
дискуссии.
Хлопотами Джима и повара мы получаем обед: суп из
свежего цыпленка (в Штатах эта оговорка имеет смысл)
а-ля Вашингтон, крокеты а-ля Вашингтон с неизбежным
картофельным пюре, несколько не умещающихся на
тарелке smalls steaks3 а-ля Грит-Фалс, кресс-салат а-ля
Вирджиния, белое вино «Потомак» и кофе
по-американски, то есть не кофе, а все равно что настойка на
огуречной травке. Все это мы поедаем молча, жадно,
по-юношески и по-крестьянски.
И сразу же после обеда уже в сумерках, снова под
руку, мы идем к качелям, мудро и подстрекательски
подвешенным в полутьме густой аллеи. Тереса и Кука
выбирают себе качели и усаживаются, вытянув ноги, напрягая
их покрепче, чтобы мы, Джим и я, могли раскачивать,
упираясь ладонями в подошвы маленьких туфелек. И хотя
обе старательно подобрали юбки под колени, все-таки,
когда они летят сверху, прямо на нас, ветер раздувает
одежду, и нам врщны даже кружева их панталон. От
этого мы с Джимом раскачиваем все отчаяннее,
самозабвеннее, так что голова идет кругом.
— Stop, stop, Jim 4,— кричит Кука.
— Хватит, Игнасио, ради всего святого,— умоляет
Тереса.
Американец — что с него взять — уступает. А я
продолжаю, яростно, не помня себя, пока Тереса,
ошеломленная, можно сказать, почти без чувств, не отпускает одну
1 — Нет, нет! Говорите только по-английски! (англ.)
2 — Вы правы.
— Давай, давай, Джим, решайте вы вместе, что заказывать
(англ.).
3 Маленьких сандвичей (англ.).
4 — Хватит, хватит, Джим! (англ.)
206
веревку, качели перевертываются, и я бросаюсь с
раскаянием и удовольствием принять ее в объятия, потому что
она вот-вот упадет.
От качелей мы идем искать те удобные скамейки,
которые, если верить Куке, должны быть где-то в
прибрежных скалах, а кроме того, взглянуть на знаменитый
водопад. Мы подходим, Кука достает камеру и щелкает. И тут
же фотографирует парочку, погруженную в идиллию,
спиной к нам. Мы с Тересой смотрим на них, она крепко
опирается на мою руку. В этот миг мне приходит в голову
ужасная мысль: а что, если наше общее фото попадет в
руки Сусанны?
— О чем ты задумался?
— Тут очень красиво вокруг.
— Вот как! И ты можешь думать о пейзаже в такую
минуту? — ласково упрекает она, опираясь все сильнее и
восторженно глядя на меня.
— Вот именно, я нахожу его таким прекрасным п
поэтичным, потому что ты рядом со мной.
— Льстец.
— Прелесть моя.
— Пошли, они уже идут.
— Пошли.
И мы идем вперед. Высокие каблуки Тересы
подвертываются на камнях, все время нужно подпрыгивать,
взбираясь по склонам, и она крепко опирается то о мои плечи,
то на руку. Когда ей пришлось совсвхм трудно, я
поддержал ее за талию, и в этот самый миг услышал за спиной
глухой щелчок; для меня, и без того озабоченного первым
снимком, это как выстрел в спину. Я оборачиваюсь — так
и есть, Кука заливается счастливым смехом, потому что
успела нас заснять, а Джим — тот просто покатывается:
— Real sport, boys! l
Мы идем дальше. И очень скоро приходим к удобной,
располагающей скамейке, запрятанной между двух скал.
Мы идем к ней медленно, очень медленно, тесно прижав-
шись друг к другу. Она висит на моей руке, все ближе,
все ближе ко мне, ласкаясь, будто ревнивая кошка. Кука
и Джим остались далеко позади, и мы падаем с ней на
скамейку.
— Что теперь? — спрашивает она, еле шевеля сухими
губами, томно и влажно глядя в мои глаза.
1 Здесь: «Вот здорово!» (англ.)
207
— Все, что захочешь, жизнь моя. Тебе мало того, что
мы с тобой вместе, наедине?
— Я твоя жизнь?
— А я, разве не твоя?
— Как хочешь.
— Тереса!
— Игнасио!
Очень по-американски в десять часов вечера мы, оба
джентльмена, прощаемся с нашими дамами на
ближайшем к их дому углу. Когда они отходят шагов на
десять —• двенадцать, Кука оборачивается и, смеясь,
говорит мне:
— Слушай, когда снимки будут готовы, я вам, то есть
тебе, пошлю один. Ха-ха-ха!
И обе убегают, словно напроказившие школьницы.
Они удаляются от нас, такие же чистые и милые,
такие же безгрешные, как и в полдень, когда выходили из
дому. Л как же их глаза, п руки, и губы, и их все-все?!
IV
День 16 февраля 1898 года в Нью-Йорке выдался
ужасный: оттепель, яростный ветер, режущий лицо,
прохватывающий сквозь пальто, костюм и плотное шерстяное
белье. Трамваи шли наглухо закрытые, залитые водой, с
заплаканными окнами, сквозь которые ничего не было
видно. Кучера экипажей и возницы повозок закутались по
самые глаза, битюги в упряжках, шумно выдыхая пар из
ноздрей, осторожно переступали копытами, боясь
поскользнуться. Прохожие бежали по тротуарам, кланяясь
ветру, крепко запахнувшись в теплые пальто, сунув руки
в карманы, нахлобучив шапки и шляпы по самые уши и
хлюпая по мокрому снегу калошами.
Несмотря на противную погоду, у входов в конторы и
газетных витрин собиралась кучками публика. Все
волновались, задавали друг другу вопросы и нарасхват
раскупали у оборванных газетчиков листки экстренных
выпусков с огромными тревожными шапками, нетерпеливо
вычитывая в них новые и новые подробности неожиданного
и поразительного известия: взрыва в Гаванской бухте
броненосца «Мейн».
208
В отеле «Гавана» это потрясающее известив
восприняли как головокружительную сенсацию, ибо обитатели
его, как я уже говорил, были все детьми самого большого
острова в тропиках. Отель кипел — от погребов и кухни до
общей гостиной и верхних этажей. И здесь люди
собирались группами, одни строили фантастические
предположения, громко спорили и говорили все разом, не слушая
друг друга, другие, владевшие двумя языками,
переводили вслух заметки из газет. Звонили в представительство.
Входили и выходили беспрерывно.
Среди молодых обитателей отеля возникали диалоги в
таком духе:
— Ну, теперь испанцы узнают, почем фунт лиха.
— Ну да, испанцы. Американцы, вот кто узнает!
Представь себе, завтра является эскадра с «Пелайо» во главе
и берет Нью-Йорк.
— Да! Ха-ха-ха! А также эти корыта из «Трансатлан-
тики», с эскортом,— «Ярость», «Ужас» и... «Кошмар»,
выгружают во Флориде сто тысяч альпаргат под
командованием какого-нибудь писаного красавца и... на Вашингтон!
— Ой, вот жуть-то!
— Что же теперь будет делать доктор Амесага?
— Маркиз Амесага? Натурально, героически станет
на защиту расы и религии... из Мадрида; плечом к плечу
с журналистами на страницах газет и с трибуны «Атенео».
Потому что ему — ужиться с этим «афрокубинским
сбродом»?! Что вы, что вы!
Люди серьезные разговаривали так:
— При огромном возмущении, которое вызвали в этой
стране ужасы концентрации, а теперь еще и это
варварство,— нет, войны не миновать, уверяю вас...
— Это, положим, верно, только не мешало бы нам,
кубинцам, спросить у самих себя: выгодно ли нам, чтобы в
войну вмешались американцы? Признают ли они наше
право на независимость?
— Конечно, признают. Ведь есть уговор, что в
будущем только им принадлежит право строить канал в
Панаме!
— Ну и что?
— А то, что политика устрашения Латинской
Америки не может быть их политикой. Кроме того,
правительство должно считаться с настроениями своего народа, а
американцы любят свободу и весьма сочувствуют делу
освобождения Кубы.
14 К. Ловейра 209
— Ба, ба! Чушь какая! Народ здесь, как и везде,
делает то, что угодно правительству. Сегодня при Мак-
Кинли, вчера при Вашингтоне, Медисоне и Джефферсо-
не, а завтра — при любом другом президенте. Народ!..
Читатель может спросить, какое же впечатление
произвело сообщение о потоплении крейсера «Мейн» на меня
самого, на Игнасио Гарсиа? Для этого сначала я должен
рассказать, что произошло со мной, начиная с той
веселой прогулки по Грит-Фалс, в компании с двумя
сестричками, с этими полудевами, с этими хорошенькими черто-
вочками.
Кука, которой нестерпимо было думать, что у ее
сестры есть счастливая соперница, легко возбудила ревность
слепо, одержимо, безумно влюбленной Тересы. И обе
додумались до дьявольской мысли послать Сусанне нашу
фотографию на лунном роге и тот моментальный снимок,
который Кука сделала в памятный вечер на берегу
Потомака, где мы с Тересой карабкаемся по камням и я держу
ее за талию. Можно себе представить эффект,
произведенный этой недоброй шуткой на Сусанну, любившую меня
со всей глубиной и пылкостью креолки из кубинской
провинции. Первое, что она подумала, когда наконец смогла
думать: бесполезно, недостойно и просто низко было бы
после всего этого написать мне хоть одну строчку, а
также дать понять окружающим, что случилось. Потому что
какие же еще доказательства ее непоправимого несчастья
нужно иметь, кроме этих двух фотографий? Да, только
так: ни одной строчки. С еще большим основанием, чем в
прошлый раз, она должна была сдержать слезы, уйти в
свое горе, но покончить во что бы то ни стало с этой
непрерывной насмешкой. Все это произошло как раз в те дни,
когда мы, преподаватели и ученики нашего
рассадника премудрости в Балтиморе, готовились к экзаменам на
звание врача, то есть в самое ответственное и опасное для
моего будущего время. Я пережил, если бы мне
подобало так выражаться, муки любви и терзания совести
горшие, чем в Нью-Йорке в первый мой разрыв с Сусанной.
Сначала я подумал, что она заболела, по эта мысль тут же
улетучилась, как снежинка на пальто перед огнем. Меня
осенило. Без сомнения, тут замешаны Кука и Тереса.
И скорее всего эти проклятые фотографии! Я сел писать
письмо Сусанне и никак не мог начать, не зная, к какому
объяснению или выдумке прибегнуть, чтобы оправдать
себя в том, что не имело и не могло иметь оправдания.
210
И придумал: я написал сначала матери, продолжая в то
же время писать и невесте, ничем не обнаруживая своих
подозрений, выказывая лишь беспокойство по поводу ее
молчания. Что с ней? Почему не пишет? Мать развеяла
мои сомнения. Росита, оказывается, ввела ее в курс
случившегося, и «старушка» задала мне хорошую трепку,
описав сначала, как Сусанна вместе с Мерседес старались
уговорить родителей переехать из отеля, потому что вновь
возникло отчуждение между нашими семьями,
отчуждение, которое началось еще тогда, когда Нэнэ ранил меня
на знаменитом митинге автономистов. Я проклял Тересу,
целыми днями писал письма Сусанне и, совсем спятив,
готов был уже махнуть рукой на пресловутые экзамены.
Но все-таки я их сдавал и, когда они подходили к самому
концу, узнал от матери, что «девицы Рубио» выехали из
отеля и сняли квартиру в Бруклине, на какой улице и в
каком доме — неизвестно. Я заставил себя сдать
последние экзамены, получил звание зубного врача-хирурга и
на следующий же день с дипломом в руках помчался
в Нью-Йорк. С большим трудом мне удалось добиться,
чтобы мать согласилась с моим решением отправиться в
экспедиции на Кубу, подальше, подальше от Тересы,
этого моего злого гения. Потому что я совершенно искренне
полагал, что лишь она, и только она, была виновата в том,
что случилось. Я жил в отеле «Гавана», всеми силами
стараясь сломить молчаливое сопротивление Сусанны, я
хотел, чтобы она знала о моем нерушимом решении по
первому зову представительства уехать на Кубу и там
как врач служить революции. Вот именно, самое главное
уехать в место, совершенно недоступное Тересе. Разве это
не доказательство? Одним словом, я хотел, чтобы Сусанна
была в курсе моих намерений и чтобы обещала ждать
меня, храня верность до известия о моей смерти или до
моего возвращения с войны, чтобы в этом случае
немедленно выйти за меня замуж. Если она с этим не согласна,
если к печали от разлуки с потрясенной моим решением
матерью я должен буду прибавить и жестокое
равнодушие с ее стороны, тогда мне останется только броситься
прямо на вражеские штыки, открытой грудью принять
вражеские пули, покончить счеты с жизнью в отчаянии
безумца, преследуемого навязчивой идеей.
Все это я выплескивал в своих длинных письмах к
Сусанне, как только узнал их адрес; правду сказать,
некоторые письма мне вернули нераспечатанными,— может,
211
отпаренными над кипящим бульоном, а потом
заклеенными снова,— а те, которые не были возвращены, так и
остались без ответа, хотя бы самого холодного и краткого.
В точности то же самое я делал с письмами Тересы, а в
одном, которое незаметно открыл, вычитал страшную
угрозу: «Можешь возвращать мне письма, не читая,
можешь делать все, что угодно, все равно ты не сможешь
меня забыть. Не сможешь. Это невозможно после того
дивного дня и потому еще, что я могу доказать, что стою
больше, чем твоя пресная провинциалочка, и еще потому,
что... скоро мы возвращаемся в Нью-Йорк, и тогда ты
увидишь! Будь готов!» В то же время в представительстве
дела шли по-прежнему, по-прежнему человек должен был
умолять, чтобы его, ради бога, послали наконец на бойню,
как выразился впавший в отчаяние табачник, мой старый
знакомый на Нью-стрит, 56.
В таких-то треволнениях я находился, когда
произошла упомянутая выше катастрофа, плод случайности или
злого умысла,— пусть допытывается Варгас,—
катастрофа, которая сыграла решающую роль в нашей тяжбе с
Испанией. Что будет с Кубой, если разразится война между
«родиной нашей родины» и Соединенными Штатами? По
этому поводу мнения расходились, но в том, что война,
кажется, неизбежна,— на этом сошлись все.
На войну! Слава богу, теперь-то я попаду на войну!
И несмотря на то, что взрыв на «Мейне» погубил не менее
двухсот пятидесяти душ, неуместная радость так и
переливалась во всем моем существе.
Вечером 16 февраля я пошел в представительство
вместе с Хулианом Бетаикуром. Этот мой соотечественник
приехал в Нью-Йорк из генерального штаба,
находившегося в Рабй, лечиться от тяжелой болезни, нажитой в
болотах, и теперь, оправившись, ожидал своей очереди вновь
отправиться на Кубу. В последние месяцы моей жизни в
отеле «Гавана» я успел с ним подружиться,— ему
нравилось мое неудержимое стремление воевать за свободу
Кубы. Узнав его поближе, я сразу прилепился к нему
душой, так что не мог прожить без него и минуты.
— Дорогой мой подполковник,— говорил я ему,— вы
не уедете на Кубу без меня. Если даже для этого мне
придется сторожить денно и нощно у ваших дверей и ходить
за вами по пятам, как шпик испанского консульства.
— Да, да! Ха-ха! В один прекрасный день я удеру и
оставлю вас с носом.
212
На что я тоже отвечал в шутку:
—А я скажу тогда Бехарано, что вы удрали. (Веха*
рано был испанским консулом в Нью-Йорке.)
В день известия о «Мейне» он сказал, как только
увидел меня:
— Итак, вы успели на последний поезд. Теперь
забудьте про меня и про Бехарано.
— А мне все равно, доктор, куда вы, туда и я. Вот
сейчас вы собираетесь в представительство, и я за вами, как
ниточка за иголочкой.
И мы пошли вместе, как я уже говорил. Но не
услышали там ничего нового. Мнения в представительстве
более или менее совпадали с мнениями обитателей отеля
«Гавана», разве что были озарены авторитетом лиц,
посвященных в государственные тайны. Просидев целый час
с доном Томасом и Эдуардо Йеро, Бетанкур, выйдя от
них, сказал:
— Идемте обратно, и будем надеяться, что события не
заставят себя долго ждать и начнется такое, что мы с
вами только рты пораскрываем.
Так и было; с каждым часом среди американцев росло
волнение, волнение, которое возбуждалось официальными
возбудителями, заинтересованными в гегемонии
Соединенных Штатов в Колумбовом мире, возбуждалось теми, кто
не прочь был прибрать к рукам остров между двух
Америк. Сильные патриотические вспышки в народе
разжигали во имя пуританского благочестия преемники того, кто
был «первым в байках, первым в политике, первым в
войне, первым в дни мира и первым в сердцах своих сограж
дан».
Вскоре в Гавану выехала из Штатов комиссия, которая
должна была расследовать причины взрыва на «Мейне».
К счастью, консул Ли, находясь в колониальной столице,
действовал благоприятно для нас. В те дни как раз
только что появился кинематограф, и фильмы, посвященные
концентрации и показывающие крестьян — живых
скелетов, почти нагих, умирающих от голода на площадях и
улицах, вызывали жалостливый шепот публики,
переполнявшей залы: «Oh Lord! Shame! Poor things!» l В конце
концов появилась объединенная резолюция, объявлявшая
войну Испании и провозглашавшая нас — о, радость! —
свободными и независимыми. И среди всего этого взбала-
1 О, боже! Позор! Бедняги! (англ.)
213
мученного моря событий, среди патриотической лихорадки
взвинченных донельзя американцев и патриотического
нетерпения кубинцев Сусанна в своем упрямом отдалении
по-прежнему оставалась неприступной. Мать все
грустнела, пряталась по углам с фотографией, на которой были
сняты я и мой отец, и молча лила на нее слезы, которыми
в те дни всегда были полны ее глаза.
В один прекрасный день представительство
пригласило всех, кто был записан в экспедиционных croicKax, в
отеле «Гавана» непотревоженными остались лишь старики
или совсем уж ни на что не годные мужчины. Мы пошли
туда группами. Повар, его помощники и официанты;
стайка студентов, взбудораженных и говорливых; Ледесма,
молодой человек по имени Луис Кордова и я; а во главе
всех — наш добродушный, наш симпатичный
подполковник Хулиан Бетанкур. Когда мы пришли в
представительство, там было полным-полно народу — в маленьком кафе,
в лифтах, в коридорах, на лестнице; все сновали вверх,
вниз, оживленно разговаривали и размахивали руками.
Все это были претенденты в революционеры, спешившие
заявить свои права на места в экспедициях.
Внезапно я столкнулся с моим другом, табачником.
Увидев меня, он воскликнул:
— Сколько раз я вам говорил, что тут надо умолять,
чтобы тебя послали на смерть?
— Опять отказ?
— Теперь, оказывается, едем туда вместе с
американцами. А они хотят, чтобы мы сначала прошли
медицинский осмотр, и у кого не в порядке сердце или легкие, тот
не годится. Не годится даже, чтобы его убили!.. Пропади
оно все пропадом!
Все это мой друг выговорил с горькой иронией и
живым отчаянием на лице; дело в том, что, как только
наступила зима, у него начался подозрительный кашель, при
каждом приступе грудь его хрипела и свистела, как
сломанная гармоника.
Необходимость врачебного освидетельствования
произвела среди эмигрантов всеобщее замешательство, а
некоторых, особенно истощенных, трясущихся от холода в
очереди на осмотр, привело в совершенное уныние. О,
простодушные, доверчивые идеалисты! Да что там, даже я,
несмотря на мои двадцать лет и добрых семьдесят
килограммов веса, даже я заразился всеобщим страхом, и меня
затрясло. Как там мои легкие, в порядке? Ну конечно, чего
214
ты! А сердце? И я, трепеща, клал руку на грудь, слева,
пытаясь уловить, правильно ли бьется сердце.
В этой муке я пребывал, ожидая, когда меня вызовут,
и тут из комнаты, где происходил осмотр, вышел молодой
человек, худой, бледный, большеглазый, с растрепанными
полосами, он плакал и восклицал жалобно и протестующе:
— Если меня не возьмут, я застрелюсь! Куба моя,
Куба!— И, усевшись на коврик на площадке лестницы,
подняв колени и закрыв лицо руками, он продолжал всхлшш-
ватъ: — Куба, милая моя Куба!
Его друзья шепотом рассказывали окружающим, что у
него бывают припадки и потому его не хотят брать. Они
его утешали, упрашивали, взывали к самолюбию,
наконец им удалось свести его по лестнице к выходу;
удаляясь, он продолжал кричать с упрямством сумасшедшего:
— Если меня не возьмут, я покончу с собой!
Сердце мое, казалось, готово было выпрыгнуть. Если
бы ожидание продлилось еще хоть четверть часа, я бы
заболел не на шутку. И вдруг вызвали:
— Доктор Хосе Лнтонио Ледесма...
— Здесь!
Все! После Ледесмы моя очередь, в списке наши
имена стояли рядом. Сердце колотилось все сильнее и
сильнее.
— Доктор Игнасио Гарсиа...
— Здесь!
Осматривал тот самый гаванский доктор Ансиано.
Увидев меня, он спросил:
— Как дела, коллега?
— До врача мне далеко, доктор, я дантист,— ответил
я, стараясь изобразить спокойную улыбку и хорошее
настроение.
— Все равно, мы теперь коллеги.
И, склонив голову, он положил мне одну руку на
спину, а другую на грудь. Я задержал выдох, сразу
вообразив: вот сейчас обнаружат в легких что-нибудь. Сердце
тяжело билось в груди — бух! бух! — меня трясло,
холодный пот выступил на лбу.
— Что с вами? — спросил мой коллега.— Вы так
возбуждены.
— Доктор, я очень боюсь, что вы меня не пропустите.
Этот молодой человек, с припадками, он меня страшно
напугал. Я ничего не могу поделать.
— В таком случае я очень сожалею, но не могу вас
215
осматривать. Посидите вот здесь,-— он показал на стул,—
постарайтесь успокоиться. Ну и ну! Такой сильный
парень! — И, обернувшись к тому, кто вызывал, попросил: —
Следующий!
Вошел следующий, за ним еще один, и еще. Коллега
как будто забыл про меня. Но я понимал, что всех они все
равно не возьмут, и решил прорваться:
— Доктор, а я-то?
— Хорошо, подите сюда, посмотрим, как вы сейчас...
Куда там! Я нимало не успокоился, нервы так же
ходили ходуном. Ансиано сказал:
— Вы все в том же состоянии, и, по правде говоря, я
не могу вас пропустить... понимаете, долг врача...
— Но, доктор, что же это такое! Зачем вам меня
выслушивать? Посмотрите на меня, и все. Вы же видите, я
сильный мужчина.
— Хороша сила! Дрожит как в лихорадке.
Посмотрим, посмотрим...— Он задумался и кончил, добродушно
улыбаясь: — Хорошо, пусть будет так, сынок, и когда
выстрелишь в первый раз, вспомни обо мне.
Я вышел. Ледесма ждал меня.
— Все в порядке?
— Все в порядке.
— Подождем Бетанкура.
Бетанкур стоял в коридоре, тихо разговаривая с
каким-то бледным шатеном лет сорока, с бородкой
клинышком и смешным орлиным носом.
Мы с Ледесмой подошли ближе и услышали, как
человек с бородкой и орлиным носом говорил Бетанкуру:
— Хорошо, подполковник, в пять ровно вы должны
быть на станции возле Тридцать четвертой улицы. Вы
меня понимаете? Так что поторапливайтесь. Понимаете?
Там будет генерал Альфонсо, который все должен
устроить. Понимаете? Ну, прощайте, доктор.
— До свидания, генерал.
Они пожали друг другу руки, как штатские,
по-креольски, и генерал пошел вниз по лестнице, а подполковник
подошел к нам.
— Сейчас без четверти два, ровно в пять мы должпы
быть на станции возле Тридцать четвертой улицы. Пошли
скорее!
Когда я обрушил это известие на голову матери, когда
она узнала, что сегодня ровно в пять я ухожу на войну,
она инстинктивно попыталась оттянуть мой отъезд:
216
— Сегодня же вечером? Мальчик мой! В пять? Этого
быть не может. Невозможно! Ты не успеешь собраться!
Невозможно! Не может быть!
— Что там собирать? Эта неподъемная куча вещей,
которую ты мне приготовила и которую я выброшу при
первом же переходе на двадцать пять километров, ты сама
это знаешь, давно уже, тысячу раз готова и лежит рядом
с чемоданом. Уложи то, что войдет, а я пока сяду писать
письмо.
Пришли бабушка и дедушка, тоже растревоженные
неожиданностью, и стали помогать матери укладывать мол
вещи. Мать суетилась, приговаривая машинально: «Этогс
не может быть», «Мы не успеем», «Невозможно».
Бабушка и дедушка со слезами на глазах и с дрожащими губами,
боясь, что она разрыдается, чтобы отвлечь, говорили,
говорили, не умолкая. Все трое работали изо всех сил, делая
то, что и не нужно. Прежде чем положить белье в
чемодан, они разглаживали его руками; долго начищали новые
крепкие ботинки; тянули за пуговицы, пробуя, хорошо ли
пришиты; скатывали вместе носки; укладывали нитки,
пуговицы и с полдюжины иголок в старую бумажную
коробочку и снова без конца говорили, стараясь подбодрить
друг друга.
— Невозможно. Не может быть,— твердила моя мать.
— Возможно, доченька, очень возможно. Как же он
может остаться? Мы же это знали давно. Это должно было
случиться,— утешала ее бабушка.
— Нужно быть спартанцами,— увещевал дедушка.
— При чем тут спартанцы? — взорвалась бабушка.—
Нужно быть кубинцами.
Под этот грустный похоронный говор, сам волнуясь не
меньше и спотыкаясь на каждой мысли, дрожащей рукой
я писал письмо Сусанне:
«Невеста моей души!
Сегодня, ровно в пять вечера, я ухожу на войну, где,
как ты понимаешь, меня не будет сопровождать Тереса
Карбо, а только воспоминания о моей матери, о тебе и о
моей бабушке и дедушке. К тяжести прощания с матерью
прибавляется еще та мука, что нет тебя рядом со мной в
эту минуту; что я не могу поцеловать тебя крепко-крепко,
смешать воедино горечь наших горячих и чистых слез и
тем, может быть, возродить нашу любовь, безмерную,
несравненную любовь, которую я теперь покидаю, чтобы
217
подвергнуть свою жизнь опасностям войны, ото всей души
желая, чтобы любовь эта снова вернулась к нам такой же,
какой была.
Пойми, каково у меня на душе. Чтобы пройти это
тягчайшее испытание, мне нужна твоя любовь и твоя
нежность, и потому прошу тебя, пиши мне, хотя бы по две
строчки, они прольют бальзам на раны моего сердца,
которое обожает тебя, которое не может так долго жить без
твоей любви, которое глубоко раскаивается во всем
дурном, что содеяно, и умоляет о прощении.
Мне известно, что мы отправляемся во Флориду, но в
какое место и надолго ли, не знаю. Если мы там
задержимся хоть на некоторое время, я напишу тебе, сообщу
адрес, и ты мне ответишь, не правда ли, моя хорошая?
Поклоны Росите, Мерседес, дону Хусто, а тебе —
крепкое рукопожатие. Остаюсь, ожидая своего смертного
приговора, „
твои И гласи о».
Я вложил письмо в конверт, заклеил, надписал адрес и
положил во внутренний карман пиджака, чтобы потом, на
ходу, опустить в почтовый ящик. Затем я принял участие
в сборах вместе с родными, которые продолжали свои
грустные комментарии и давали невинные святые советы.
— В карманах гимнастерки лежат платки.
— В гетры я сунула бритву и кисточку для бритья.
— Аптечка с йодом, хинином, хлороформом и бинтами
завернута в вату, в коробочке, в плаще.
— А револьвер, куда ты его положишь?
— Он при мне.
— А если полиция отнимет?
— Вот еще! Я же кубинец и иду на войну!
— Не отходи от Бетанкура.
— Будь благоразумен.
— Пиши всякий раз, как сможешь.
— Они тебе сказали, что положили в чемодан портрет
твоей любимой невесты? — спросил дедушка.
— Моя любовь — это моя мать,— ответил я.
— И Сусанна,— не преминула добавить мать,
выражая этим свое глубокое желание.
— И Куба,— вставила бабушка.
— Черт побери! Сколько предметов любви! Как же
они поделят его между собой? А по мне, любовь к
родине — самая жестокая, самая деспотичная, всего лишь
иллюзия, почти абсурд...
218
Это сказал мой дед, а он знал, что говорит, он много
прочел и повидал на своем веку и был философом.
И вот настал час прощания.
Прощание, которое и теперь, двадцать лет спустя,
запечатлено в моей памяти с несравненной яркостью,
подробностями и точностью. Тоскливое прощание, без
рыданий, причитаний, без каких бы то ни было
мелодраматических взрывов. Короткие фразы, приглушенные болью,
долгие и крепкие объятия. Немое страдание, такое, которое в
предсмертный час разрывает душу, а в жизни делает нас
героями.
С чемоданом в одной руке, шляпой — в другой я
вышел из комнаты. Упрямые бунтарские слезы стояли у
меня в глазах, мать тоже плакала, давая последние советы
простой и набожной души:
— Не потеряй образок Каридад дель Кобре...
От Нью-Йорка до Ричмонда, столицы штата
Вирджиния, мы доехали за двадцать часов. Нас было сто двадцать
человек, запертых в трех багажных вагонах, к которых
за все это время не подошла ни одна живая душа, чтобы
спросить, не нужно ли нам чего-нибудь еще, кроме бачка
с водой и с кружкой на цепочке и ватерклозета в углу,
рядом с входной дверью.
Что мы ели? То, что сунули некоторым из нас родные
в последнюю минуту,— несколько крутых яиц, сандвич с
ветчиной, горсть конфет и другие сладости; все это мы по-
братски разделили между всеми, съели и остались
полуголодными. Очень скоро желудки наши снова предъявили
свои права, и кто-то пытался было возроптать, но ропот
был заглушён чьим-то незнакомым голосом:
— Сеньоры! Если мы сейчас не в силах потерпеть, то
что будет с нами у повстанцев, когда придется, скажем,
три дня не есть?
К этому укоряющему голосу тут же присоединился
другой, ораторский:
— Превосходно сказано. Мы едем не на гулянье. Нам
предстоит трудиться и терпеть лишения. Во время
Большой войны люди по десять дней питались крошкой тыквы
да сухими косточками мамона, а потом сдирали и варил pi
кожу с табуретов в какой-нибудь префектуре. Неужели
219
мы так ничтожны, что не сможем прожить один день
без еды? Разве мы не кубинцы? Не надо так говорить,
сеньоры!
«Ту-ру-ру-ру!» — прозвучал как нельзя кстати веселый
гудок поезда. И так как, пролетая на полной скорости
между станциями, состав громыхал и стучал вовсю и
приказ не разговаривать громко и не шуметь можно было со
спокойной совестью не соблюдать, в вагоне пошли
балагурить, как только умеют это кубинцы.
— Если бы дон Томас слышал, он бы ни за что не
отпустил тебя на войну, твое место на митингах,
— Так его, Браво Корреосо!
— Выкинуть его из вагона!
— Повесить!
— Нет, лучше не давайте ему есть, пока не приедем в
Тампу!
— Вот! Вот! В Тампе, так уж и быть, подарим ему
табурет. А пока пусть сосет подошвы своих ботинок!
После этого кто бы осмелился сознаться, что ему
хочется есть? Надо было забыть о желудке и помнить только о
том, куда нас звали беспокойное сердце и патриотический
долг.
Но в Ричмонде огромные фунтовые сандвичи, пиво из
бутылок и треугольники безвкусного сладкого пирога
утолили наш аппетит, впору потерпевшим кораблекрушение.
Кроме того, там была пересадка; и пока мы расхаживали
по перрону, поджидая свой новый поезд, жители
Вирджинии не могли скрыть любопытства, вертелись вокруг нас,
удивленно раскрывши рты, смотрели как на диковинку:
как это белые люди едут вместе с неграми в багажном
вагоне и вдобавок, что было совсем уж немыслимо, не умеют
говорить по-английски.
В новом поезде нам привалило счастье путешествовать
в неудобных вагонах для бедных, которые после
багажных, темных, показались нам пульманами для
миллионеров: лавки, свежий воздух, пейзаж за окном, на
коротких остановках фрукты и напитки — если есть, на что
купить.
Но на следующее утро мы проехали по бесконечным и
безотрадным сосновым лесам Южной Каролины сотни
миль без остановок. И те, у кого водились деньги (таких
было мало), и те, кто их не имел вовсе (таких было
большинство), не могли купить ничего,— мы всё катили и
катили...
220
В половине первого дня длинный свисток и скрежет
тормозов обрадовали нас, возвестив близкую остановку.
Скорость быстро уменьшалась, и мы наконец остановились
в каком-то местечке, состоявшем из дюжины домиков,
разбросанных как попало на довольно большом
пространстве, которого хватило бы для вполне приличного городка.
Самым главным зданием здесь была станция, потом,
видимо, местная лавочка с полками, уставленными
пестрыми блестящими жестянками с консервированной
ветчиной, сардинами, кальмарами, башнями из банок с
джемом и вареньем, пирамидами жестяных коробок с галетами
и сухарями; в каких-нибудь ста метрах от нас, эта
лавочка, можно сказать, искушала или даже подстрекала нас.
Кто-то спустился на перрон узнать, сколько простоит
поезд. Кто-то объяснил: пока не пропустим другой состав.
Известие облетело наши вагоны, и в десять секунд почти
все мы были на перроне, многие — с револьверами без
кобуры на поясе, вернее сказать, у самого пупка. Вдруг
какой-то бравый гаванец закричал: «Даешь бодегу!» — и
все кинулись к лавочке, перепугав до смерти местных
крестьян, в ужасе захлопывавших двери и окна, и особенно
лавочника, который, без сомнения, слышал уже о войне
США с Испанией и скорее всего принял это неожиданное
вторжение за внезапную атаку испанцев.
— Еу, mister: fai cen de jalea?
— Say, mister; have you change for ten dollars?
— Guan can of salmon?
— Comiar, ser! ]
Сначала мистер пытался торговать, но потом
совершенно растерялся, задерганный криками со всех сторон и
видя, что лавина людей с револьверами затопила его
лавочку. Он смотрел, как сваливают консервные банки,
сыры, сладости, спаржу — все подряд — в шляпы, карманы,
в задранные полы рубах, как обеими руками прямо из
бочек хватают и пожирают земляничное желе, вымазав себе
лица и сразу делаясь похожими на подвыпивших
весельчаков, как некоторые убегают, унося с собой пласты
свинины, связки колбас. Кончилось это тем, что хозяин,
махнув на все рукой, кротко принимал то, что каждый из нас,
1 — Эй, мистер, сколько стоит желе?
— Послушайте, мистер, найдется у вас сдача с десяти
долларов?
— Сколько за банку лосося?
— Подите сюда, сэр! (смесь искаж. англ. и исп.)
224
сам оценив взятый товар, оставлял ему на прилавке; а он
только спрашивал оторопело:
— What is the matter? What is the matter? l
— Случилось, приятель, что ты тоже должен
пожертвовать что-нибудь на войну.
— Тебе, наверное, и во сне не снилась такая торговля.
— А как это называется?
— Местечко это? «Тресни-ты-пополам», вот как!
— Да, парень. Занесло нас к черту на рога...
Так мы болтали, ели, запасались продуктами, давили
орехи каблуками и более всего смахивали сейчас на скап-
далистов-игроков, не поделивших ставки во время
петушиного боя. И вдруг раздался гудок паровоза.
— Поезд уходит!
— Бежим, Хуан!
— С меня семь долларов? Бежим, а то останемся...
— Gur bai, mister 2.
Луис Кордова и я вскочили в поезд последними, и то
со страху, что останемся на съедение хозяину лавочки и
его соседям, сильно смахивавшим на ковбоев,— ведь, как
известно, ковбои, сорвавшиеся с цепи и без намордников,
погибель смертная; поезд мы догнали, когда он уже
разогнался вовсю, и вскочили на подножку так резво, что
железнодорожники позавидовали бы. Но так как мы были
последними и начальник боялся, что мы отстанем, он
именно на нас выместил ярость, припасенную для всех, и в
наказание приказал нам ехать до Тампы на площадке
последнего вагона и следить, чтобы не разбегались на
остановках наши товарищи.
К семи часам вечера, когда паровоз издал веселый и
длинный свисток, потому что в темноте перед нами уже
плясали огни двуязычного города, на нас с Кордовой
успела осесть добрая тонна пыли и копоти,— набиться в
башмаки, в карманы, в уши, в глаза, под ногти и в рот.
В Тампе нас встречало совсем немного народу —
следовало соблюдать известную осторожность в наших
передвижениях. Отдельными группами нас отвезли в Вест-
Тамп, в «Сеспедес-холл», огромный деревянный дом в два
этажа, с четырьмя массивными башнями, придававшими
ему вид бильярдного стола ножками вверх. Он должен
был послужить пристанищем для бедных членов экспеди-
1 Что случилось? Что случилось? (англ.)
2 Прощайте, мистер (искаж. англ.).
222
ции, а нас, докторов и генералов, предполагалось
расквартировать в домах наших богатых соотечественников.
Пока же всех членов экспедиции без исключения
ожидал большой стол в виде буквы «Т» и пышный пир (как
видите, я уже выражаюсь языком флибустьера).
Суп-лапша, бифштекс с картофелем, белый рис, салат, вода со
льдом, черный кофе и по коробке сигар каждому.
— Интересно, сколько времени мы здесь пробудем?
— Кто его знает!
— Хорошо, сколько бы ни пробыли, но я не уйду
отсюда ни в какие привилегированные дома. Я остаюсь со
своими товарищами.
— А я — нет,— ответила одна дубина в очках, делая
вид, что говорит от имени всех,—в таких делах нет
товарищей. Командир есть командир.
— Ах, так вы, значит, командир.
— Нет, пока нет, но буду, так же, как и вы. На то мы
и специалисты. Я хочу сказать, что я, по крайней мере, не
считаю себя плебеем.
— Ну и ладно, а я остаюсь. В таких вещах, между
прочим, плебеи как раз благороднее других; ими движет
искреннее чувство, а что движет некоторыми
«особенными», это вопрос.
— На кого вы намекаете?
— Ни на кого.
Я повернулся и ушел с Луисом Кордовой, знакомым
табачником и другими. Через несколько минут к нам
присоединилась группа патриотов из Тампы. Я спросил одного
из них, где находится телеграф. Он вызвался проводить
меня, и очень скоро я уже составлял такие две
телеграммы:
«Долорес Дарна. 686 авеню Лексингтон, Нью-Йорк.
Прибыл в Тампу благополучно, пиши по адресу 40 Мейн-
стрит Вест-Тамп, Фла. Игнасио».
«Сусанне Рубио. 558 Секонд-стрит, Бруклин, Нью-
Йорк. Будь хорошей напиши мне 40 Мейн-стрит Вест-
Тамп, Флаг Игнасио».
Вернувшись в «Сесиедес-холл», я застал там
нескольких моих товарищей, которые вместе с Вальдесом Домин-
гесом, табачником, пришли пожать мне руку,— они уже
знали о моем высказывании в обществе «порядочных
людей», это событие обсуждалось по всему дому. Мои
доброжелатели, по словам Вальдеса Домингеса, устроили
мне постель из двух деревянных скамей в отдельной ком-
223
натке, в самой глубине дома. Я поблагодарил, попросил не
заводить более об этом разговора, который вызвал бы
только ссоры и разногласия, пагубные для дисциплины, и
пошел в свою комнату вместе с Кордовой. Я уступил ему
постель, так как у него не было гамака, и подвесил свой
гамак, закрепив его за железную балку на единственном
окне и за шарнир входной двери. В гостиной и других
комнатах спали мои товарищи. У кого был гамак, в гамаке;
кто не располагал таким предметом комфорта, нежились
на стульях, составленных на манер подмостков, некоторые
спали на полу, на столах, и все вместо подушек
подложили под головы свои вещевые мешки.
В половине второго ночи, когда я спал, как спят только
в двадцать лет, меня разбудили крики и тяжелые шаги.
Неизвестный обладатель мощного баритона кричал:
— Подъем! Подъем! Сейчас выступаем!
— Выступаем?! — переспросил я, не веря собственным
ушам.
— Вставай, ребята, подъем!
Да, без сомнения, мы выступаем. Случилось то, чего я
боялся больше всего. Я уходил на войну, так и не узнав,
как относится ко мне Сусанна. Она осталась в отчаянии,
оплакивая то, что считала потерянным навсегда,— мою
любовь, составлявшую ее счастье и всю ее жизнь. И ничего
нельзя было изменить, ибо с этого самого часа судьба
положила между нами непреодолимые препятствия в виде
океана, времени и разных опасных случайностей...
— Эй, в этой комнате есть кто-нибудь? Подъем!
Кордова все еще спал сном праведника.
— Кордова, вставай! Выступаем!
Мы должны были собраться мгновенно, ибо в три часа
поезд увозил нас в порт Тампа, а оттуда на корабле, этим
же утром, мы уходили на Кубу.
Нас построили и объявили, что теперь мы
сформированы в батальон имени Оскара Примельеса, пока в
составе двух рот. Нашим командиром в море будет генерал
Хоакин Кастильо Дуани, а после высадки командование
примет генерал Лакрет, возвратившийся из Штатов, куда
несколько месяцев назад он был послан со специальным
поручением. Затем нам прочли поименный список, из
которого мы узнали, как распределены между нами
обязанности по батальону и какими званиями удостоены
специалисты с дипломами, а также родственники и приятели
генералов и докторов. Мой диплом подарил мне звание
224
лейтенанта воеино-санитариой службы. Луис Кордова был
назначен сержантом отряда санитаров, в котором значился
просто как солдат табачник Вальдес Домингес.
Ровно без четверти три мы услышали, как подходит
наш поезд, по-английски пунктуально и очень, очень тихо,
насколько позволяли ему горы мусора и песка,
преграждавшие путь; без свистков, без колокола, не пыхтя и
даже не дымя, вкрадчиво и бесшумно, как и подобает
флибустьеру, прибыл наш состав и остановился у самого
«Сеспедес-холл» на улице Мейн.
Быстро, по-военному поднявшись в вагоны, мы
устроились как могли и сделали героическое усилие стать
непохожими на кубинцев, то есть перестать разговаривать.
Утром, примерно в десять часов, нас провожали в
плавание несколько мужчин и женщин. Корабль, который
должен был доставить нас на Кубу, до сих пор шлепает по
этим морям, он называется «Флорида». Груз составляли
десять тысяч ружей спрингфильд, длинных и тяжелых,
словно мушкеты, а в придачу к ружьям превосходные
нули, способные размозжить кости слону,— двести тысяч
отборных зарядов; две маленькие пушки; несколько
ящиков с динамитом; мулы, мачете, лекарства и прочее, и
прочее, и прочее... и члены экспедиции, приблизительно
двести человек.
Мелочь, достойная упоминания: на молу один из «гав-
рошей», продававший журнал «Куба», расспросив моих
товарищей, подошел ко мне и вручил коробочку,
пришедшую по почте на мое имя в адрес журнала, этого
революционного глашатая; внутри лежала шелковая кокарда
мамби, на обороте которой серебряными нитками было
вышито: «Для Игнасио. На память от Тересы».
Первые часы, проведенные нами на борту корабля,
протекали в блаженном спокойствии, точно мы совершали
увеселительную прогулку или путешествовали по
торговым делам. Пока мы шли достаточно далеко от кубинских
берегов и за пределом досягаемости для испанских
кораблей, мы могли чувствовать себя героями сколько душе
угодно, уверенные в своей неуязвимости не меньше, чем
несколькими неделями позднее Дыои и его люди,
разгромившие жалкое подобие вражеской эскадры в Кавите.
Одно только обстоятельство сильно отравляло наше
благодушие, заставляя вздрагивать от страха: часовой с оружием
в руках, который прохаживался на носу возле ящиков с
устрашающей красной надписью — «Динамит»,
15 К. Ловейра 225
Корабль «Флорида» шел курсом на запад, спокойно
дымя п разрезая невозмутимую, почти озерную гладь,
отражавшую чистую синеву неба, вблизи берегов Флориды,
обещавших совсем скоро встречу с любимой Кубой, с
такими же изумрудными полями, тронутыми то тут, то там
белым пятнышком домика, великолепными мазками
бамбуковых зарослей, кокосовых и банановых рощ.
В тот день, представляясь друг другу или просто
несколько раз столкнувшись лицом к лицу, перезнакомились
все, кто только был на борту: генерал Мануэль Альфонсо,
генерал Хулио Сангили, курьер Карвахаль. Хулио Сангн-
ли, деливший каюту с генералом Лакретом, не выходил на
палубу из-за насморка.
Еда в тот день в основном была такая же, как и в
течение всего пути. От майора и выше — горячий обед в
кают-компании за одним столом с командиром и
офицерами корабля. Нам,— от армейского капитана и ниже, на
четверых выдавали следующее: банку с засахаренной
фасолью, еще одну — с сосисками или ветчиной «из мяса
дьявола», банку маринованных помидор, банку
сгущенного молока и пакет с hard tack \ пресными и жесткими,
как подошвы, по форме напоминавшими содовые галеты.
Последние послужили нам вместо тарелок и ложек, за
неимением таковых.
Той ночью наше судно шло со всеми огнями; в салоне
первого класса пели под аккомпанемент фортепьяно
модные песенки тех лет: «Бобы», «Непутевую мулатку» и
крестьянские куплеты в таком вот патриотическом духе:
Кто выдумал, что каштаны
вкусны, а бананы сухи?
Уж, верно, то сын шлюхн,
который родился в Испании.
На следующий день часа в два корабль оказался
вблизи маяка, за которым в шести-семи милях виднелась
деревушка. Все, кто стоял на мостике,— капитан, генерал
Кастильо Дуани и старший офицер,— тут же нацелили
свои бинокли. Перед нами был героический и
легендарный остров Ки-Уэст. Мы кружили часа два, пока увидели
невооруженным глазом белую шлюпку, прыгавшую по
волнам носом к нам. Когда она подошла ближе, мы
различили позади нее еще две лодки поменьше.
Американские власти? Экспедиция из Ки-Узста? Это должны были
Галетами (англ.).
220
знать наши командиры,— не затем же мы пришли сюда,
чтобы крутиться каруселью, на радость смотрителям маяка.
Понемногу мы и сами все поняли. На первой шлюпке
светлые и темные пятна на глазах у нас превратились в
военных, одетых в белую форму, и штатских в темных
костюмах, которые затем оказались чиновниками из
таможни и революционерами с громкими именами, а среди них
и наш упорный, наш пылкий, наш безупречный Эстеван
Борреро Эчеваррия. А в других шлюпках разноцветные
пятна превратились в женские платья и шляпы веселых,
говорливых, обаятельных кубинок. Сеньоры из первой
шлюпки привезли для нас инструкции и известия о
последних битвах на полях сражений п тут же удалились
для переговоров с командирами. А девушки прибыли,
просто чтобы приветствовать нас, озарить, так сказать, наше
героическое предприятие; правда, строгая революционная
дисциплина не допускала их присутствия на корабле, и
они оставались в шлюпках, борт о борт с нашим судном.
Они привезли гостипцы: банки с консервированной гуая-
вой, с джемом, коробочки с сандвичами, консервы, свежие
фрукты, газеты, кокарды мамби, носовые платки, цветы.
Столпившись у борта," мы принимали подарки, поднимая
их на шпагатах и тросах, обменивались приветствиями,
улыбками, радостными восклицаниями. Веселый ручек
искристого кубинского говора заиграл своими
неожиданными поворотами, острыми словечками, всем тем, что
называется креольским юмором. И — это стоит отметить —
во всем этом обмене чувств и мыслей как-то сама собой
отошла в сторону, стала ненужной галаптная
фразеология, неизбежная и привычная при беседе кубинцев с
кубинками. Мы разговаривали кратко, искренне, сердечно,
расставаясь так, словно все были старые добрые друзья,
братья и сестры, сыновья и матери.
Спустились те, кто вел переговоры на капитанском
мостике. Знакомые на прощание обнимались и пожимали
друг другу руки. Кто-то в салопе заиграл на пианино гимн
Байямо, и иод впечатлением общего энтузиазма и
мистического восторга один гражданин из Ки-Уэста, взобравшись
на палубе на стул и сорвав с головы соломенную шляпу,
громко закричал: «Да здравствует свободная Куба!» Его
восклицание во весь голос подхватили женщины и
мужчины, янки и кубинцы, те, кто оставался, и те, кто уходил.
Несколько минут спустя корабль пошел прежним
курсом, оставляя за собой широкий веер бурливой воды и
227
пены, в изгибах которого постепенно исчезали три
шлюпки. Прощаясь с нами, все размахивали шляпами,
платками, трехцветными флажками.
Был прелестный предвечерию! час, ясный и не
жаркий, возможный лишь в тропиках. Высокое небо цвета
индиго, гладкий, спокойный океан, будто из сапфира.
Золото в блеске вод, золото на металлических частях дверей
и перил, золотые искры на полированном настиле палубы,
золотая пыль там, за кормой, где размывалось и
дробилось в глубине отражение золотого диска, виновника всего
этого золотого неистовства.
Солнце, заходящее у нас за спиной, по наблюдениям
самых внимательных членов экспедиции, подтверждало,
что пущенный командирами слух, будто мы бесстрашно
высадимся с рассветом на пляжах близ Карденаса, был
ложным. Предосторожность, исходившая из убеждения,
что рядовые члены экспедиции не должны знать высших
намерений командования.
В сумерках вместо опостылевшего сухого пайка нам
выдали то, что подарили девушки из Ки-Уэста. Когда
солнце у нас за кормой садилось, истекая всеми оттенками
спектра, началась подготовка к ночи, из чего мы
заключили, что приближается опасность. Матросы на корме pi на
носу при помощи троса, цепей и винтов укрепляли две
блестящие горные пушки. Еще трое затягивали палубу серой
парусиной. Офицеры отдали строгое распоряжение после
наступления темноты не курить, не зажигать света,
громко не разговаривать. Вахтенный на верхнем марсе фок-
мачты всматривался в море.
В каюте Бетанкура, где помещались также доктор
Вега Ламар, Кордова и я, мы, как истые кубинцы,
презрев приказ о маскировке, сидели при лампе, правда,
прикрученной, обернутой в газету и засунутой под
койку.
Мы с Кордовой высказывали разные предположения,
желая, чтобы Бетанкур развеял наши сомнения:
— Как же мы будем высаживаться утром, если до сих
пор нам не раздали оружие?
— Да ну, неправда!
— Конечно, неправда! Нам надо в Карденас, а мы
идем на восток!
На что Бетанкур отвечал одними и теми же словами:
— Терпение, друзья, терпение!
Мы кончили тем, что улеглись и замолчали; слыша-
228
лось только тяжелое дыхание машин да монотонное «all
is well» марсового.
Часов в одиннадцать ночи меня разбудил какой-то
странный свет, проникавший в иллюминатор. Я
приподнялся, высунул голову наружу — там было холодно, пахло
селитрой — и увидел за кормой серпик луны, выходивший
из-за края тучки у самого горизонта. Мы по-прежнему
шли на восток.
Я снова заснул.
Три дня спустя,— к этому времени, надо сказать, все
члены экспедиции досконально изучили значение звонков,
при помощи которых капитанский мостик объяснялся с
машинным отделением,— мы поняли, что отдано
приказание остановиться.
Немедленно на палубе оказалась вся команда. Желая
узнать, что произошло, мы толпились то у одного борта, то
у другого, задавая риторические вопросы. И тут
заметили, что капитан разговаривает с марсовым. Прислушались
и ухватили вот что:
— Where is she?
— At port side *,— ответил матрос, смотревший в
подзорную трубу.
— Where about?
— Right there, sir2.—Он указывал пальцем на какую-
то невидимую нам точку на горизонте.
— All right! I see her3,— ответил капитан, наводивший
свою подзорную трубу туда, куда указывал матрос.
Судно снова, так же как перед Ки-Уэстом, принялось
описывать круги. Мы продолжали задавать напрасные
вопросы и комментировать впустую.
— Наверное, это испанский корабль.
— Тогда мы бы удирали, а не кружились на одном
месте.
— Может быть, это экспедиция генерала Эмилио
Нуньеса, которая идет на соединение с нами.
— Вот так сунут носом в пекло, и погибнем, не
побывав даже в бою.
— Пусть нам раздадут оружие! — расхрабрился кто-то.
— Дым! Смотрите, дым! — завопил другой.
1 — Где она?
— С левого борта (англ,).
2 — А теперь?
— Вот тут, справа, сэр (англ.).
3 — Отлично! Теперь я лижу (англ.).
229
Серое пятнышко на далеком горизонте означало, что
там шел пароход. Он приближался, рядовые, увидев, что
командиров это не беспокоит, также успокоились. Вскоре
мы различили контуры буксирного судна, которое шло,
победно разрезая волны. Как только оно приблизилось, мы
перестали кружить. На корме судна большими белыми
буквами было написано громкое имя: «Сцевола». Между
двумя мостиками начались переговоры в рупор,
продолжавшиеся минут пятнадцать. Потом «Сцевола» ушел, а
мы снова принялись описывать круги. И так мы кружили
три дня подряд, без остановки.
На третью ночь, что наш корабль провел кружа и
кружа, как лошадь у водокачки, в радиусе одной квадратной
мили, раздался сигнал, возвещавший остановку, вслед за
ним — «полный вперед», и тотчас же новый сигнал —
«увеличить скорость». Машины запыхтели громче. Мы
услышали на палубе глухой разговор на английском. Все, кто
мог, высунули головы в иллюминаторы и с удивлением
увидели за кормой что-то вроде синеватых вспышек,
затмевавших бледный свет луны.
Прожектор! Это был прожектор!
Мы шли полным ходом, но расстояние между нами и
светящимся снопом света, казалось, остается тем же.
Углы между голубой сияющей полосой и луной, то с ле-
бого, то с правого борта, показывали, что мы уходим зиг-
гагами. Ослепляющий свет, то ли ища, то ли преследуя, не
рыпускал нас из поля зрения до самого рассвета и тут
только как будто изменил направление, стал гаснуть и,
наконец, исчез совершенно.
Мы, однако, шли зигзагом все утро, пока не раздалась
команда уменьшить скорость, и тогда опять взялись
описывать круги в пределах одной квадратной мили.
После обеда появился «Сцевола»; снова перебросились
репликами оба капитана, мы расслышали сердечное
«Farewell!» * — и корабли разошлись в противоположных
направлениях.
Итак, в четыре часа пополудни на пятый день после
выхода из Флориды наше судно шло полным ходом,
сопровождаемое солнцем с правого борта.
В этот день, ровно через сутки после последней встречи
со «Сцеволой», нас всех позвали на палубу и раздали
оружие. Мы, первая рота, получили винтовки, по сто пятьде-
1 Счастливого пути! (англ.)
230
сят патронов в каждом патронташе и по легкому,
сверкающему , новехонькому мачете типа «коллинз». Второй роте
достались тяжелые и неуклюжие спрингфильды. Я сказал:
«Мы получили»,— потому что все мы, командиры и
офицеры, доктора и генералы, кроме личных револьверов,
получили и по ружью — на всякий случай, имея в виду
желанный и опасный момент высадки на берег.
После раздачи оружия палуба «Флориды»
превратилась в оружейную мастерскую. Те, кто умел обращаться с
оружием, объяснял новичкам. Сильно запахло рыбьим
жиром, послышалось дерущее за нервы шварканье наждака
по металлу и воинственные «трик-трак» затворов п
курков.
И вдруг — ба-бах!
Нам показалось, что ударила пушка, мы подскочили и
побежали к корме, откуда доносились громкие проклятия
и леденящие душу стоны. Догадываясь, что произошло
нечто страшное, мы столпились, толкаясь: ружья, пистолеты
и мачете мешали нам, задние, ничего не видя, нажимали
на передних.
— Дорогу, дорогу, друзья, дайте пронести раненого.
Мы расступились и увидели, как два человека несут
за руки и за ноги истекающего кровью молодого пария.
Кто-то сказал:
—- Он чистил ружье и нечаянно выстрелил в себя.
Раненый, худой, плохо одетый парень, кусая мертвенно
бледные губы и в страшной гримасе боли и отчаяния кривя
желтое безбородое лицо, закатывал глаза и причитал
сквозь стоны так, что разрывалось сердце:
— Мамочка, мама! Твой сын умирает!
Да, он умирал. Порох выжег огромный &руг на левой
стороне груди, пониже ключицы, ближе к аорте, все было
в саже и крови. Заряд старинного варварского спрингфиль-
да оставил, наверное, ужасную дыру в этом хилом
чахоточном теле. Рапа густо сочилась кровью, стоны
несчастного слабели и затихли совсем, когда кухонный стол,
поставленный в курительном салоне, превратился в
операционный.
Оперировали врачи и практиканты. Нас,
дипломированных, было чересчур много, я, к счастью, опоздал, и мне,
как и большинству, осталось лишь жалобно охать со
стороны. Я говорю — к счастью, потому что в ушах все еще
звучала, сжимая сердце и застршая глаза слезами,
тоскливая жалоба: «Мамочка, мама! Твой сын умирает!»
231
Мы спрашивали друг друга, кто он такой этот молодой
человек? Никто не знал. На корабле у него не было ни
родственников, ни друзей, ни знакомых. Ну что ж, сверят
со списком и вычеркнут его имя из второй роты, как будет
вычеркнут тот, кто его носил, из загадочной книги жизни.
Я стою на палубе у правого борта и смотрю, как
заходит солнце, источник света и жизни. Предсмертный крик
бедняги не затихает у меня в ушах. И вместе с последним
дыханием нашей первой потери умирает и цвет наших
иллюзий: песнь славы, идеалов и надежд, которую
безымянный мученик, агонизирующий в эту минуту на
кухонном столе в курительном салоне, собирался пропеть
Кубе — своей самой большой любви.
И невольно я вспоминаю о матери и о Сусанне.
Так вот что такое война! Курительный салон
расположен над кают-компанией. Там сейчас противно пахнет
дезинфекцией и лежит ледяное, бескровное, обернутое в
простыню тело несчастного нашего товарища. А прямо под
ним, в кают-компании, за одним столом с офицерами
корабля, как всегда, обедают и разговаривают те, кто уже
хорошо знает, что такое война,— полковники и генералы,
с сердцами, огрубевшими в боях, те, для кого тот, что
лежит наверху, не более чем потеря, ничтожный минус,
один из многих, к тому же не представляющий особой
ценности для будущей битвы. У людей на палубе,
напротив, нет аппетита. Банки с томатами, сосисками и бобами
отправились за борт, на погибель рыбам. Люди
собираются в кружки, переговариваются тихими голосами и,
словно сговорившись, не спят в эту ночь прощания и
высадки.
Так вот что такое война! Часов в десять стало
известно, что тело покойного будет сброшено в море.
Предположим, его зарыли бы в землю, какая разница? Земля или
вода, не все ли равно тому, кто умер? Нашим командирам,
естественно, и в голову не пришло сделать так, чтобы наш
товарищ мог обрести вечный покой в родной земле, за
которую он отдал жизнь; обрести место, куда мамочка его
души могла бы прийти преклонить колена и утолить
молитвою свою печаль. Подобные сантименты были
совершенно не к месту и не ко времени, когда предстояла
высадка на берег и разгрузка судна. И кто мог поручиться,
что нам не придется сразу же, защищая ценный груз,
вступить в бой, после которого останутся новые и
немалые потери?
232
Часам к одиннадцати мы увидели далекий, слабо
отражавшийся в воде свет маяка, возбудивший в моей душе
целый мир образов и воспоминаний. А часов в двенадцать
из курительного салона вышли матросы, высоко на
вытянутых руках неся длинный темный сверток. Они
направились к корме. Потом мы услышали медленный глухой звук
выбираемой цепи, скрип блока и команду: «Раз,
взяли»,—и следом зловещий удар о поверхность воды.
Часом позже мы увидели на горизонте длинную полосу
земли, еще через полчаса ходу по прямой перед нами
начали обозначаться контуры берега. Раздалась команда,
машины остановились, и судно заскользило вперед по
инерции. Итак, пришел момент надежды и опасности.
Наступила мертвая тишина, прерываемая лишь шепотом
офицеров корабля и начальников нашей экспедиции,
которые обсуждали обстановку и отдавали распоряжения.
Прошел слух, что десять человек отправятся в шлюпке
разведать обстановку в порту. Потом мы узнали, что это
был порт Банес.
Миссия крайне опасная, героизм на грани
самоубийства, можно сказать. Нужно было дойти до входа в узкий
пролив, пройти до конца и постараться разглядеть, нет ли
поблизости вражеской канонерки, засады на берегу,
бивуака или отряда неприятеля. Если ничего подобного не
обнаружится, то следовало подать нам сигнал бенгальским
огнем. В противном случае сигнал должен быть иным, а
разведчикам останется только, бросив шлюпку, спасаться,
к го как может. Объявили, что отправят лишь десять
добровольцев. Вызвались было все, но зря, потому что
накануне были отобраны десять человек, уже бывавших в
бою, метких стрелков и отличных гребцов.
Мы видели, как они спустились в шлюпку, бесшумно
начали грести и быстро исчезли, слившись серым
пятнышком своего суденышка с такой же стальной полосой
берега.
Четыре матроса, с кормы, с носа, с вершины самой
высокой мачты и постоянный вахтенный с марса фок-мачты,
следили за ними. Мы смотрели им вслед с палубы,
насторожив слух, подстерегая малейший шум или звук с той
стороны, куда ушла шлюпка. В таком положении, ожидая,
беспокоясь, приходя в отчаяние, мы провели несколько
часов, пока не забрезжил во всей своей красе и опасности
белый свет дня. На молчаливом безлюдном берегу
торжественно и прекрасно являлись нам горы, пальмы, поля!
233
Занимался день, медленно в розовом перламутровом
мареве вставало солнце, серые пятна полей становились
зелеными, по мелкой зыби брызнули солнечные зайчики.
Когда тревога за судьбу нашей шлюпки, о которой до
сих пор пе было ни слуху, ни духу, сделалась
нестерпимой, она вдруг вынырнула из густой береговой зелени,
быстро взмахивая веслами, словно крохотное насекомое или
белый платок, призывно махавший нам. Зазвонили
звоночки, пароход прибавил скорость, следуя к заливу, и полчаса
спустя по пятам за шлюпкой, очень медленно, осторожно,
«Флорида» входила в узкий морской пролив, иногда
слегка задевая бортами свежие душистые ветки.
Мы встали на якорь, все еще не видя никаких
признаков разведчиков или кубинского авангарда, которые
должны были нас встретить. Примерно через полчаса кто-то
воскликнул:
— Смотрите—человек!
— Где?
— Вон там, на холме, видите, за лианами.
— Да, да! — произнес генерал Лакрет, сразу
оказавшийся рядом с нами и более всех нас ожидавший этого
момента.
Человек па холме снял рубашку и, держа ее в руках
наподобие флага, приготовился, по всему судя,
просигналить нам.
— Достаньте же кубинское знамя,— приказал генерал
Кастильо Дуани.
Развернули прекрасное шелковое знамя, подарок дам
из отеля «Гавана». Мужчина тотчас же перестал
прятаться п понесся к берегу, размахивая рубашкой, крича что-то,
доносившееся до нас только последними слогами:
— ...ствует ...дная ...ба!
Мы послали шлюпку за повстанцем и вскоре обнимали
его на борту «Флориды», махнув рукой на дисциплину,
тормоша, не давая ему сказать ни слова.
— Ну и худой же ты!
— Да на нем ничего нет, кроме этих, извините за
выражение, штанов да рубахи.
— И башмаков из пяти пальцев! Чем они хороши, так
тем, что им сносу не будет!
— Какие у него болячки!
— А эти три жестяночки на шляпе что обозначают?
— Старший сержант.
Наконец генералы увели гостя в каюту. Сержант сооб-
234
щил, что позавчера тут видели канонерку с солдатами, что
генерал Ферия должен прибыть встретить экспедицию.
Дожди? Ух! Сильные.
Когда он все рассказал, его угостили яичницей из двух
яиц, ветчиной, тремя вареными картошками, кофе, хлебом
с маслом. Ел он с таким аппетитом, что страшно было
смотреть. А мы стояли вокруг и пялились па него, как
деревенские мальчишки па циркового слона. Когда он наелся,
мы надарили ему всяких пустяков; он рассматривал их с
восторгом и прятал в мешок, висевший у него на руке.
— Возьмите спички.
— Вот, посмотрите, мои башмаки, поношенные.
— Хотите сигару?
— Дать вам носки?
— Нет, сеньор экспедиционер, лучше подарите старую
рубашку или другое что-нибудь, что не жалко.
Подошел подполковник Бетапкур и сказал мне,
указывая на сержанта:
— Вы отправитесь с ним. Возьмите с собой Кордову.
Сержант покажет вам несколько хижип, где лежат
больные, вы им раздадите хинин и йодоформ.— И добавил,
обращаясь к сержанту: — В путь, сержант, и возвращайтесь
оба к полудню, непременно!
Мы прошли три или четыре лиги по болоту, отбиваясь
от несметного полчища москитов. В нищенских ранчо, под
пронзительными взглядами полуголых тощих ребятишек
и осторожное женское шушуканье за дырявыми
соломенными стенами, раздали лекарства больным, а потом
закусили копченым мясом хутии и жареным бониато.
Примерно к часу дня сержант вывел нас на топкую тропинку,
ответвление такой же ненадежной троны, и сказал:
— Так и идите. Не бойтесь, тут не заблудишься.
Как выйдете на поляну, возьмите вправо и попадете в
лагерь.
Нам повезло, потому что обычно эти тропинки, где,
по словам крестьян, не заблудишься, всегда оказываются
лабиринтом. «Идите и держитесь этой тропки, не
сворачивая!» Но едва вы прошли пол-лиги,—нате вам! —
оказывается, что тропок не одна, а две. Еще пол-лиги, и —
совсем уж хорошо — тропка упирается в развилку. Направо
или налево? Так что по этим тропкам, где «не
заблудишься», вы сами не знаете, куда в конце концов попадете.
Но...
Мы вышли на поляну. По ту сторону, напротив нас, ше-
235
велились кусты. Мы остановились. Кордова спросил
тревожно:
— А вдруг там испанцы?
Я ответил первое, что пришло в голову, чтобы
успокоить его и успокоиться самому:
— Ну что ты! Если бы здесь были испанцы, разве нас
послали бы одних, доверив такое дело... и не было бы
никаких хижин... и вообще...
— Кто идет? — окликнули нас из кустов.
— Куба! — ответил я.
Как оказалось, мы встретили передовое охранение
кубинцев.
Из чащи вышли два человека. Один, довольно светлый
мулат, плотный, в рваной одежде, с ружьем наизготовку,
был, наверное, часовым. А второй — негр, блестевший, как
полированное черное дерево, одетый лучше, чем мулат, с
револьвером и мачете при себе, собирал здесь гуаяву и
набрал уже полные руки. Подойдя ближе, мы разглядели на
его соломенной шляпе три звездочки.
— Слушай, друг,— сказал я ему,— как тут пройти в
лагерь?
— Что это еще за друг? Вы что, не видите знаков
различия?
— Простите. Дело в том...
— Да. Я вижу, вы из экспедиции, угадал? Вы тут
потеряетесь еще. Лучше идемте в лагерь. И до скорого,
капитан!
Я объяснил ему, откуда мы. Он сказал, что служит под
командованием генерала Ферии, люди которого сейчас
разгружают прибывший корабль. Когда выяснилось, что оба
мы доктора, мы с ним совсем подружились и пошли вместе
в порт.
В порту срочно разгружали судно, Мулы, которых
опускали при помощи подъемного крана на огромных кусках
парусины, раскачивались в воздухе, как немыслимые
черные пауки. Люди с грузом на плечах сновали быстро и
осторожно, точно муравьи. Шлюпки с людьми и тюками
передвигались на берег и обратно. В разрушенном складе,
рядом с узкой и кривой железнодорожной линией,
заросшей травой, собрался совет генералов.
Огибая пляж в поисках нашего подполковника, мы
встретили замечательного человека, который плыл с нами
на одном корабле, по в течение всего морского перехода
мы так и не смогли его увидеть. Этот отлично сложенный
236
мужчина в белоснежных брюках, заправленных в сапоги,
и гимнастерке с тремя золотыми звездами на каждом
уголке воротника правой рукой подобрал уздечку, а в левой
держал трость с серебряным набалдашником, которая
концом упиралась в ногу, железно впаянную в стремя. У него
были прекрасные приподнятые светлые усы и сверкающий
высокомерный взгляд, нервный вороной конь так и ходил
под ним; статный, обаятельный, с великолепной военной
выправкой — таким и должен быть вождь, способный
вести за собой толпу. То был генерал-майор Хулио Сангили.
Глядя на него, я не то что сердцем, а кожей чувствовал,
что легенда о его славном подвиге вместе с его другом
Аграмонте,— как бы ни была она преувеличена,— есть
истина. И что бы там о нем ни болтали, никто не осмелится
приблизиться к нему просто так, а только лишь затем,
чтобы склонить голову и воздать ему почести.
От этого чуда нас оторвал Бетанкур, сообщив, что мы
немедленно выступаем. Генерал Ферия со своими людьми
остается, чтобы продолжать разгрузку, а мы, весь наш
отряд, отправляемся к месту ночлега не помню уж, сколько
лиг оттуда, в местечко Бихару, совершенно разрушенную
деревню, но, как говорили, у некоторых домов там еще
уцелели крыши и можно сносно провести ночь.
Мы построились и выступили. Солнце жгло, слепило
глаза. Мы шли по грязной, топкой тропе и, пока прошли
ее, хлебнули тягот походной жизни, кроме разве
сражения, которое в те минуты представлялось нам благом, ибо
ярость боя рождает мужество, заставляет забыть о себе.
Мы шли по колено в болотной жиже, сгибаясь под
тяжестью оружия и боеприпасов, да еще мешка с запасной
одеждой, который в начале марша несли на себе все до
единого, от капитана до рядового. Тучи голодных
москитов жрали нас в свое удовольствие. Жара стала
невыносимой, наконец налетел шквал, разразившийся
сокрушительным ливнем, который перешел в мелкий нудный дождик,
холодный и неотвязный,— мы вымокли до костей.
Последнюю лигу прошли ночью, то и дело проваливаясь в
глубокие ямы, потеряв всякое подобие строя,
исцарапанные сучками, исколотые колючками, израненные камнями.
Было одиннадцать часов вечера, а мы все еще не
дошли до желанного укрытия в Бихару. Умирая от
усталости, остановились около первого попавшегося колодца,
утолили невыносимую жажду густой и соленой водой и тут
те растянулись кто где. Обещанная крыша досталась
237
отнюдь не тем, кто шел в авангарде, и мы заснули прямо
на мокрой траве, лицом в серое, угрожающее новыми
дождями небо.
И в тот момент, когда, не вспомнив даже о своем
гамаке, я улегся на какой-то гнилой дощечке и мгновенно
стал засыпать, откровенно могу сказать, мне пришлось
припомнить все, что я читал когда-либо о героизме и о
патриотизме, чтобы взбодриться и заставить себя на
следующий день идти вперед. Ибо в тот момент более всего меня
беспокоила такая малодушная мысль: «А что, если в час,
подобный этому, появятся испанцы?»
VI
В полдень колонна повстанцев огибает край саванны
в окрестностях Ольгина. Под прямыми лучами солнца,
которое жжет огнем и, если верить крестьянам, идущим в
наших рядах, обещает скорый дождь, лопается земля, и
без того прокаленная засухой; пыльные заросли в стороне
от дороги потрескивают от жары; грязное тряпье, еле
прикрывающее тела патриотов, обжигает кожу; нестерпимо
блестят на солнце ружья и битком набитые патронташи;
люди идут, обливаясь потом, с полураскрытыми,
пересохшими ртами, мулы и лошади — распахнув толстые
влажные губы, роняя пену.
Колонну составляют тысяча двести человек,
сопровождающих бесценный груз — оружие, только что снятое в
порту Банес с судна «Three Friends» \— оружие, которое
теперь необходимо со всеми возможными
предосторожностями препроводить до Лос-Чинчерос, что возле
старинного города Пуэрто-Принсипе, где находится резиденция
революционного правительства.
В авангарде колонны — сто всадников «Таты» Сапчеса,
на четверть лиги позади них — пехота генерала Рамоса.
Затем штаб со своим эскортом и следом за ним —
прикрытие, в составе которого верхом на мулах, еле живых от
поклажи, двигаемся и мы, та часть экспедиции, которую не
смогли доконать бесконечные дороги и переходы через
голодающие префектуры. Мы молоды, но большей частью
городские люди, совершенно не приспособленные ко всей
этой военной суете, обезноженные к тому же после перехо-
«Трн друга» (англ).
238
дов в десять — двенадцать лиг, страдающие от язв и от
колючек, задевающих эти язвы, снедаемые грязью,
голодом и лихорадкой. Следом за этим обозом движется
собственный обоз генерала Рамоса, состоящий из десятка кляч
и мулов и замыкаемый арьергардом из тридцати
кавалеристов, которые подбирают и подбадривают отстающих.
Так как, согласно донесениям, в Ольгине много солдат,
то встреча с противником, видимо, неминуема.
Поэтому мы на всякий случай жмемся к зарослям,
стараясь держать между городом и нами дистанцию на
равнине в несколько лиг. Поэтому и Тата Санчес во главе
славных ста всадников, выдвинувшись вперед на три
четверти лиги, там, в туче пыли, прикрывает наш правый
фланг. По этой же причине по дороге в глубине зарослей
следуют еще два эскадрона, прикрывающие левый фланг.
Поэтому все мы идем молча и настороже в этот
полуденный час; кругом так тихо, как бывает только в разгар
лета,— ни шороха, не прозвенит москит, не хлопнет
крыльями и не запоет пи единая птица.
Дежурный офицер, капитан Лельевре, крепыш, мулат
из Гуантанамо, верхом па рыжем молодом коне объезжает
ряды. Советует, выговаривает, приказывает:
— Зачем вы тащите столько тыквы? Сегодня к вечеру
тыквы будет по уши, даже варенье будем варить из тыквы.
— Эй, там! Сомкнись!
— Я сказал: пе растягиваться, просвет в одного
человека!
Вместе с пим на жилистом золотистом коне объезжает
колонну наш проводник, негр Кандела. И повторяет всем,
что скоро станем бивуаком в пальмовой рощице, очень
скоро.
И когда горящие рты вопрошают, далеко ли отсюда
хоть до какой-нибудь воды, он неизменно отвечает:
— Там, пониже, вон, где загоны для скота, там —
колодец.
И хотя эти «загоны» видит только он, Кандела,
жаждущие обретают надежду и созерцают в воображении
старый колодец и ведра, полные до краев свежей воды.
Сочувствуя мне, генерал приказал повару посадить
меня на одного из мулов в обозе. Я сижу верхом на
корзине с посудой, из которой выглядывают кувшины,
кастрюли и сковородки. Толстые ботинки, привезенные из
Штатов, сто раз намокшие и высушенные, покоробились и
впиваются в ноги,— там у меня сплошная болячка. Я спи*
239
маю ботинки, связываю шнурками и вешаю на щ>рзину,
кроме того, за спиной, на хребте у мула укреплено крестом
мое ружье, а в руках я держу веревку, привязанную за
шею упрямого животного вместо поводьев.
Из санчопансовского блаженства меня внезапно
выводят очереди из маузеров и ружей, выстрелы доносятся
оттуда, где идет Тата со своими всадниками, их совсем не
видно в туче дыма и пыли. А чуть дальше еще одно серое
облако, оно быстро приближается к колонне авангарда.
В этот момент мимо наших рядов пролетает еле видное
в пыли какое-то красноватое пятно,— это скачет во весь
опор дежурный офицер, радостно крича:
— Вражеский обоз! Мы их захватили!
Еще один всадник, прорезав ряды нашего обоза,
исчезает в чаще. Это адъютант, скачущий с известием о том,
что случилось, на левый фланг, предупредить, чтобы там
не перегруппировывались эскадроны.
Перестрелка приближается, потому что захваченные
врасплох солдаты вражеского обоза, стреляя на ходу,
рассыпаются по окрестностям. Их преследует и окружает
яростный Тата, стараясь прижать к своим невидимым в
пыли всадникам. Пехотинцы опускаются на колени и
приготавливаются к стрельбе. Мой мул, поставив уши
топориком, крутится на месте, отдувается, становится на дыбы,
не обращая внимания на веревку, которую я, испугавщмеь,
тяну изо всех сил под проклятия и брань повара.
Бах! Глухой залп в авангарде. Враги, попавшие
между двух огней, бросаются врассыпную по равнине, кто
куда. Человек десять — двенадцать в панике бегут туда,
где укрылась наша пехота.
Бах! Стреляют пехотинцы. Мул пугается и несется
прямо в заросли, не разбирая дороги. Низкие ветви
деревьев, того гляди, снесут мне голову, лианы, запутав,
удушат, одежда моя трещит, горшки и плошки в корзине
звенят адской музыкой...
Наконец перестрелка смолкает, и принимаются за
свою страшную миссию мачете: приканчивать раненых
пленных — неумолимое правило по отношению к
кубинцам, которые сражаются на стороне испанской короны.
Но вот ограблены трупы, подобрано все годное оружие
и кавалерийское снаряжение. Один из славных всадников
Таты, уложенный в корзину на спине мула, едет к своей
могиле, которую мы, его боевые товарищи, выроем вскоре
неподалеку от нашего скромного лагеря; раненые стонут,
240
раскачиваясь в носилках,— каждые привязаны к паре
лошадей. И мы снова двигаемся вперед, стараясь идти как
можно скорее, потому что выстрелы могут быть
услышаны в Ольгине и накличут новую опасность. Вот тут, на
краю равнины, когда мы уже подходим к лесу, я с болью
в душе замечаю, что во время всей этой суматохи мои
высокие, мои крепкие, мои бесценные нью-йоркские
ботинки потерялись неведомо где...
Ночью в лагере у старого, в развалинах, сахарного
завода, раньше называвшегося Сан-Хосе, я, как
канатоходец па проволоке, балансирую по гальке, по колючкам,
пробираясь к речке, которая дала имя этому местечку и
заводу. На ногах у меня толстые шерстяные носки —
жалкий остаток экипировки, заботливо припасенной
моими родными еще в Штатах, в правой руке сверток в
газете. Это окровавленные сапоги, принадлежавшие врагу,
который лежит теперь брюхом вверх где-то на равнине
под Ольгином. Мне подарил их один из людей Таты Сан-
чеса, и я, благодарный ему и благословляя свою
счастливую звезду, иду отмыть их в реке, а потом надеть, чего
совершенно не одобряет Кордова,— он у нас спирит и
уверяет, что покойник придет ночью и будет тянуть меня
за ноги.
Наша колонна идет на Гавану. Под вечер приходим к
месту, где путь наш пересекает дорога в глубоких топких
колеях. Тут же, при дороге, несколько разрушенных
домиков, утопающих в свежей темной зелени.
Разведка повстанцев утверждает, что испанские
солдаты сосредоточены главным образом в Пуэрто-Принсипе.
В связи с этим колонна движется с непривычной
беспечностью, и когда мы доходим до этой дороги, названной
кем-то «дорогой в Перу», труба трубит привал, и все мы,
люди и животные, бросаемся в зеленые душистые
заросли, опустошая фруктовые деревья и кусты с
прожорливостью саранчи.
Я еду верхом на каурой лошадке бок о бок с
генералом Рамосом, которому, кажется, нравлюсь своим
патриотическим рвением. По вечерам в его походной
палатке, наполненной ароматом кофе, мы с ним беседуем о
разных разностях. Я думаю, ему меня просто жаль, на
него, старого солдата, производят впечатление страдания
молодого человека, не приученного к суровой походной
жизни. Болячек у меня стало больше, одна из них,
превратилась в отвратительную язву. Меня уже три раза
16 К. Лоосйра 241
жестоко трепала лихорадка, и генерал,— это было после
нашей атаки па фруктовые заросли,— заговорил о том,
чтобы я, взяв от пего письмо, отделился от колонны и
отправился по «дороге в Перу» в госпиталь, который тоже
называется «Перу», по имени бывшей усадьбы, в которой
он расположен.
Мне не хочется расставаться со старым генералом, не
хочется, едва ступив на кубинскую землю, уползать, как
змея, в совершенно безопасные места. Но что делать? Для
колонны я всего лишь обуза — весь в болячках, которые
за все цепляются, с бесконечными приступами лихорадки,
превращающими меня в труп, и всегда днем, во время
переходов по безлюдной, раскаленной саванне. Какая
жажда, какой озноб, какой жар, какой противный липкий
пот! А кроме того, хоть и отеческим тоном, но это
приказ.
— Итак, сейчас как раз время. До «Перу» две лиги.
Ступайте. Вот вам письмо к майору Артуро Фернандесу.
Постарайтесь выйти пораньше, чтобы дойти еще засветло.
Я добрался туда, когда совсем стемнело, потому что
две лиги, о которых толковал генерал, были как раз из
тех, что, по крестьянскому выражению, отмерены самим
дьяволом. Кто подсказал правильную дорогу, так это наш
проводник:
— Идите по этой тропинке, не заблудитесь. Как
только она кончится, увидите поляну. Идите по колее.
Пройдете еще одну дорожку, поуже, и на следующей полянке
найдете госпиталь. В доме с навесом и живет майор, ему
от меня передайте привет.
Все так и вышло.
Как только я ступил на вторую поляну, мне навстречу
замигали огоньки невидимых еще хижин. Лошадь чуя, что
близок конец тяжкого пути, припустила прямо на огоньки;
впереди уже показались какие-то хижины. Залаял
сторожевой пес, можно было разглядеть людей. Я решительно
направился к ярко освещенному навесу и увидел
человека с густой бородой, сидевшего на скамье, он попыхивал
огромной, небрежно скрученной сигарой.
— Доктор Каньисо!..
— Игнасио! Да это ты? Давно ли в этой глуши?
— Уже две недели. Я высадился в Банесе с генералом
Лакретом, уже прошел более ста лиг, и вот видите —
весь в язвах и с лихорадкой! Генерал Рамос приказал,
чтобы я отправился сюда, в знаменитый госпиталь «Пе-
242
ру», с письмом для доктора Фернандеса. А тут, кто бы
мог подумать,— доктор Каньисо!
— Да, представь себе, здесь, в «Перу». Сначала я
состоял при штабе генерала Каликсто Гарсиа и там
получил звание майора. Тут очень неплохо, знаешь, другого
такого места, пожалуй, не найдешь. Я даже собираюсь
жениться на одной девушке из Пуэрто-Принсипе, она
живет здесь. Гражданским браком, разумеется. Ну
ладно, прежде всего — садись. Долговязый! — закричал он.
— Слушаю, сеньор! — откликнулись из соседней
хижины.
И тут же появился парень, черный, как ночь, тощий и
длинный, как тростник. Каыьисо сказал ему:
— Расседлай эту лошадь и пусти ее на выгон.—
И продолжал разговор со мной: — Ты можешь повесить
гамак в моей комнате. Майор сейчас спит. Отдашь ему
письмо завтра. Здесь тебе будет хорошо, снимем
лихорадку, залечим болячки. У нас вдоволь хинина, а против
болячек — порошок жженого кедра, мигом у тебя все
подсохнет.
— Поживем — увидим.
— И увидишь, будь уверен. Ну хорошо, расскажи о
себе. Как старая рана? Где сейчас твои домашние?
Мы забрались в свои гамаки часов в одиннадцать, а до
того вдоволь наговорились о Пласересе, обменялись
мнениями о вероятном завершении революции, многое
рассказали друг другу: я — о людях, которые там, в
эмиграции, готовили революцию, он — о трудностях кочевой
жизни, полной риска, страданий и жертв.
В этом затерянном в спасительной глуши госпитале
пренебрегали правилами обычной солдатской жизни и не
играли утренней зори. Поэтому, когда доктор Каньисо
потряс мой гамак, говоря: «Вставай! Шесть часов!» —
на дворе совсем рассвело. Солнце золотило вершины
деревьев, окружавших деревню на берегу и госпиталь, на
листьях дрока блестела роса, птицы щебетали вовсю,
жить в такое утро казалось невыразимо приятным,
хотелось сделать что-нибудь собственными руками: подмести,
подоить корову, нарвать с дерева манго. Нет, доить нам с
Каньисо не пришлось, но зато удалось посмотреть, как
доят стадо коров, принадлежащих госпиталю,— все сорок
коров, чтобы не разбежались, были связаны одной
веревкой, пропущенной через рога,— и выпить кружку-дру-
гую теплого и пенистого парного молока.
213
По дороге мы встретили майора, доктора Лртуро
Фернандеса, высокого роста, очень веселого и симпатичного.
Я передал ему рекомендательное письмо. Мы крепко, по-
крестьянски, пожали друг другу руки и втроем пошли на
скотный двор; издали уже видна была его плетеная
ограда, доносилось мычание коров и телят.
В те времена медики не признавали фруктовой диеты,
так же как сейчас они не признают некоторых других
вещей, чтобы признать их завтра; хотя отвергать
что-нибудь сегодня только для того, чтобы все равно принять
это потом, как раз говорит не столько о предмете, сколько
об их собственных качествах; так вот, бананы
считались тогда совершенно бесполезными, манго —
ядовитыми, а ананасный сок единодушно был признан
смертельным для больного. Поэтому, согласно предписанию
великого Каньисо начиная с первого же завтрака я
должен был сидеть на молоке и не дотрагиваться до
фруктов.
После завтрака мы с Каньисо пошли осматривать
госпитальные «палаты». Это были четыре хижины, длинные
и узкие, словно домики для сушки табака, соединенные
наподобие креста одним широким навесом, под которым
больные и выздоравливающие собирались поговорить,
размяться, подышать воздухом. В каждой «палате» висело
два ряда рваных и грязных гамаков и стояли лежаки с
сеткой из гибких прутьев, пышно именуемые кроватями.
В одной из хижин лежало человек десять, раненных в
последнем бою возле имения Саратога, в другой находились
главным образом больные дизентерией и малярией, еще в
одной — больные с тяжелыми переломами, хроники и
старики. В последней «палате» больных не было, там жили
братья милосердия, ухаживавшие за ранеными
офицерами и больными, и прочий медицинский персонал. Рядом
с «палатами» была расположена вечно дымящаяся кухня,
заставленная старыми жестяными банками, корзинами и
сосудами, выдолбленными из тыквы. Мы с Каньисо жили
в хижине-аптечке, где, к счастью, хранилось не так уж
много лекарств; земляной пол там был усыпан корой от
деревьев и какими-то семенами, из-под земли выступали
мощные корни. Хижина попросторней и почище, с
крышей понадежнее, находившаяся в стороне от стонов и
дурных запахов госпиталя, была резиденцией самого
доктора Фернандеса и двух практикантов-андалузцев,
перебежчиков из испанской армии, носивших теперь на выли-
244
нявших гимнастерках знаки различия, принятые у
повстанцев,— оба были младшими сержантами.
У края леса, с восточной стороны равнины, там, где
петляющая линия пальм и тростника обозначала течение
маленькой речки, стояло несколько хижин,— приют
семей, которые предпочли такого рода повстанчество, с его
скудостью, изношенной до дыр одеждой, жильем из
пальмовых веток и опасностями, жизни в городе, унижениям
перед грубым и жестоким врагом. Где-то там жила и
невеста Капьисо. Там же стирали бинты для раненых и
белье для командиров, и все это, вывешенное рядами па
ветерок и утреннее солнышко, отрадно белело между
серыми пятнами хижин.
Мы с Каньисо все осмотрели, поздоровались за руку
с ранеными на Саратоге, пожелали им скорее
поправиться, попробовали «капчанчары» — снадобье для пациентов,
которые не могли пить молоко, и, в сто первый раз
убедившись в несравненной стойкости освободителей, ушли
к себе в хижину. По дороге нам встретились практикан-
ты-андалузцы, они несли в «палаты» большие кувшины с
дезинфецирующей водой и горы только что выстиранных
бинтов. И так как моя одежда, несмотря на двадцать дней
тяжелых испытаний, по сравнению с костюмом Каньисо
выглядела почти роскошно, перебежчики, наверное,
приняли меня за какую-то важную персону, судя по их
вежливым улыбкам и подчеркнуто любезному, хором:
«Добрый день».
Вернувшись в хижину-аптечку, Каньисо прежде всего
занялся назначениями для больных. Потом выдал
лекарства на день тем двум андалузским красавчикам,
которые, видимо, выполняли львиную долю работы в этом
безнадзорном царстве.
— Сорок пилюль хинина. Это — камфарное масло для
втираний старику. Постарайтесь экономить соду, ее мало.
А это висмут для дизентерийных. Возьмите экстракт
ромашки, сколько нужно.
Он пошарил в дорожных сумках, висевших па стене,
вынул трут с камешком, неуклюжую бесцветную сигару,
пачку четвертушек мятой бумаги, на верхней из них
крупными черными буквами было отчетливо выведено:
«Полевой дневник доктора Переса Каньисо».
— Пойдем прогуляемся по берегу реки,— предложил
он.— Сегодня я не зову тебя туда, где живут женщины,
их надо предупредить, заранее. Незнакомый мужчина
245
застанет врасплох, им будет неловко. Бедняжки! Так
плохо одеты! Предупредить — это другое дело, они тогда
кое-что подштопают, почистят и смогут спокойно нас
принять.
Говоря это, он смотрелся в осколок зеркала и
причесывал волосы огрызком гребешка. Потом взял тряпку и
принялся начищать ботинки.
— Я не могу составить вам компанию,— сказал я.—-
У меня уже начинается приступ, мне хочется пить и
ломит в костях.
— Наоборот, это как раз хорошо,— авторитетно
заявил Капьисо.— Перед малярийным приступом очень
полезно пропотеть и прогреться на солнышке. Ничто так не
помогает действию бисульфата хинина, как диафоресис и
гелеотерапия. Хинин возьми вон там, в высоком пузырьке.
Полграмма.
Я отсыпал хинину, а он тем временем разжег свою
сигарищу. Потом снял рыжую шляпу со стены, на одном
ее поле, заломленном по всем правилам повстанческого
щегольства, я увидел две пятиконечные звездочки. Взяв
щепотку соды, он натер их до блеска.
— Пошли?
— Пошли.
Мы отправились через загон по дорожке, она выводила
как раз к реке и к хижинам. Со своей толстой нескладной
сигарой во рту, очень, по-видимому, довольный собой и
жизнью, выступая чрезвычайно величественно, Каньисо
более всего в эту минуту был похож на процветающего
банкира. Он шел и превозносил до небес выгоды жизни здесь.
— Начальство далеко, работаем мало, о еде и прочем
можно не беспокоиться... Уполномоченные от госпиталя
собирают по префектурам и лагерям мед, восковые свечи,
сахар, вяленое мясо, табак, овощи. Мы здесь кое-что сеем,
кроме того, ты уже видел, у нас сорок дойпых коров. Для
любви... тоже очень большие возможности, стоит только
съездить в префектуру...
— А опасность?
— О! Мы и знать не зпаем, что такое опасность, не то
что госпитали в Лас-Вильяс, Вуэльта-Абахо, на них то
и дело нападают испанцы. Тут, до моего приезда, всего
раз и была суматоха. Больные пошли за фруктами в
заросли, у дороги на Гавану, и нарвались на колонпу
испанцев, те гнались за ранеными по пути сюда, поливая их
адским огнем. Но это что! Нет, здесь совсем безопаспо.
246
— Итак, значит, глубокая тыловая нора?
— Да, но я, думаю, имею на это право после двух лет
рядом с генералом Каликсто Гарсиа, я у него заработал
эти звездочки собственной шкурой. Да, собственной
шкурой!
— Конечно, рядом с Каликсто Гарсиа иначе нельзя,—■
отозвался я с вольтеровской серьезностью.
Он сделал вид, что не понял, но он помнил, этот
двоедушный Каньисо, конечно, помнил свои
антисепаратистские высказывания однажды в нашем доме, в Пласере-
сет и ответил напыщенно:
— Совершенно верно, рядом с Каликсто Гарсиа иначе
нельзя.
— Само собой.
Дорожка раздвоилась, и Каньисо, уронив: «До
свидания»,— пошел в сторону хижин, теперь они были так
близко, что я мог различить бегавших между домами и
деревьями ребятишек. Я пошел дальше, к реке. Укрепив
себя воспоминаниями о том, что видел в балтиморских
больницах, и слепо уповая на могущество природы, я начал
сбрасывать одежду и складывать ее под пальму; я
решился на героический поступок — принять ванну в тихой
заводи; речка текла здесь так славно, по белому песку.
Из воды я быстро выскочил. Еще быстрее оделся и
пошел обратно, на меня уже напала зевота — признак пол-
ступающего малярийного озноба. Когда я вернулся к
себе, меня сильно трясло. Долговязый набросил на меня
одежду и несколько мешков, приготовил по моему
указанию настой из апельсиновых листьев с медом. Я
пропотел до основания.
И снова, положась на природу, геройски пошел на
речку и искупался еще раз.
Освежившись, сменив белье, но чувствуя себя
совершенно разбитым, я вернулся к себе и улегся в гамак.
Только я лег, как холодный пот прошиб с головы до ног,
и я тут же заснул тяжким от хинина сном, полным
кошмарных видений, которые по очереди принимали обличье
моей матери, Сусанны, генерала Рамоса, а также босого,
с окровавленными ногами солдата, бежавшего за мной,
занеся над головой огромный мачете.
Меня разбудили шаги Каньисо по земляному полу
хижины. Судя по слабому свету, проникавшему сквозь щели
в соломенных стенах, было четыре или половина пятою
нечера. Каньисо увидел, что я не сплю:
247
— Ну как? У тебя был
— Да, и какой!
— Ты не принял еще хинина?
— Нет, и не собираюсь. Меня замучили кошмары.
Я буду лечиться купанием и травами.
— Надеюсь, вы этого не сделаете. Это же варварство!
— Да нет, это я так, разумеется, буду выполнять
ваши предписания,— заверил я его, в глубине души
оставив неизменным свое решение: пилюли, которые мне
будут давать, сеять в землю и топить в реке.
— Завтра приступа не должно быть, я могу
представить тебя здешним барышням. Сегодня я там обедал. Ты
не встанешь?
— Нет, мне что-то плохо
— Ладно, лежи.
И, пошарив в сумках, снова вытащил одну из своих
устрашающих желтых сигар и ушел под навес.
Впервые со дня высадки я лег в постель; это было так
непохоже на продымленный лагерь после долгого
перехода, когда мною мгновенно овладевал тяжкий, как смерть,
сон; в первый раз после «Флориды» я лежал в блаженном
спокойствии, располагающем к воспоминаниям и
философским рассуждениям; я думал о матери, о невесте, об
эмиграции, о жизни в госпитале «Перу» и в конце концов
тихо стал засыпать, и в этой отрадной дремоте грустил,
вздыхал, в чем-то сомневался, куда-то рвался, мечтал о
героических подвигах.
В сумерках Каньисо, который все это время,
вдохновляясь дымом нескладной сигары, заполнял свой
дневник,— оттачивал усыпляющую, высокопарную и
претендующую на соперничество с Сесарем Канту прозу,—
пришел позвать меня под павес, разделить с ним этот
сумеречный час, час грусти и откровенности.
— Вставай, пошли со мной. Я сказал Долговязому, он
принесет тебе кувшин горячего молока.
—- Сейчас.
И я пошел. Выпил молока. Страшно пропотел.
Каньисо заставил меня выслушать несколько параграфов из
своего дневника. По чести говоря, меня отвлекало какое-
то урчание в желудке,— без сомнения, молоко пришлось
не очень-то по вкусу моей лихорадке. Отвлекали и
жалобные стоны раненого с задетым пулей мочевым пузырем.
Каньисо не удостаивал внимания эти стоны, а они не
давали мне оценить по достоинству такие, например, образ-
248
новые пассажи: «Генерал Гарсиа, уврщев, что
неприятельский огонь с церковной колокольни слабеет, возымел
намерение покончить с ним сразу, выстрелив из пушки в
фундамент церкви, который...» Не знаю, был ли тому
причиною дым скверной сигары, или меня вспучило от
газетной прозы Каньисо, или во всем была повинна
злосчастная кружка горячего молока, но у мепя вдруг
закружилась голова, выступил холодный пот, и я с шумом и
горечью извергнул всю сыроварню, бурлившую у меня
внутри.
И слава богу. Потому что это происшествие позволило
мне вернуться в гамак, а также освободиться от
дневника моего майора и от его «строгой молочной диеты» столь
же решительно, сколь днем я отказался от бисульфата
хинина. Я вылечу себя сам по системе моих
балтиморских учителей. Фрукты! Купание! Пот! А
молоко — пусть его пьют телята! А хинин — пусть от него
высохнет дрок в саванне и перемрет вся рыбья мелкота
в реке!
И потекли дни и недели в этом райском уголке, в
самом сердце дремучей глуши; болячки, причинявшие мне
столько страданий, по мере того как я отдыхал, купался в
реке, отъедался фруктами, подживали на глазах. Приступы
лихорадки делались все короче и слабее, к великому
смятению Каньисо, который квадратной своей головой не
понимал, как это могут происходить такие штуки, о которых
нигде не написано. Мы ходили в гости на берег реки, и нас
встречали женщины, располагавшие всего парой платьев,
заплатанных и застиранных до прозрачности. Андалузцы
продолжали ставрхть тампоны, смоченные висмутом,
больным дизентерией и прижигать огнестрельные раны
карболкой. Офицер, раненный в мочевой пузырь, все еще
сильно страдал, по вечерам оглашая округу
пронзительными стонами. Каньисо писал и переписывал свой
дневник, начищал свои звездочки и изображал из себя Дон
Жуана. Доктор Фернандес прибавлял в весе. Между тем,
отгороженные от остального мира глухой стеной
тропической сельвы, дремучей, роскошной, сладострастной, мы ни
сном ни духом не ведали, как и к чему идет имевшая для
нас чрезвычайную важность странная война между
Испанией и родиной Монро, Платта и Рузвельта.
До одного прекрасного дня.
Однажды на нас свалились потрясающие новости,
которые мы приняли с необычайным восторгом. Дьюи в Ка-
249
вите совершил беспримерный подвиг: упражняясь в
стрельбе по мишеням, потопил жалкие суденышки и
разрушил почти безоружные форты, умудрившись при этом
не потерять ни одного человека. Сэмпсон в Сантьяго
снискал имя бессмертного тем, что отправил на дно испанскую
эскадру, перед тем загнав ее до полусмерти. В Каыее
испанцы в первый и в последний раз завязали бой с
объединенными силами американцев и, откровенно говоря,
совершенно напрасно положили свои драгоценные жизни,
правда, во имя чести Испании, чести, которая состояла
прежде всего в том, что они предпочли унизиться перед
американцами, чем заключить благородный и выгодный
договор с родными им по крови, религии и языку испано-
антильцами, и еще в том, чтобы не входить в
соприкосновение с превосходящими силами противника и таким
образом не вписать в историю испанского владычества на
Американском континенте главу в духе сражения Дон
Кихота с мельницами. И вот в результате всего этого в те дни
в Париже сочинялся мирный договор, кардинальным
образом менявший политическую географию в одном из
уголков океана и на некоторых островах Америки. И среди
этих изменений было одно, представлявшее особую
важность для нас: в согласии со знаменитой «Joint Resolution»,
в срок более или менее краткий, Куба должна была стать
«де-факто» такой, какой она уже была «де-юре»,— то есть
свободной и независимой. Мы достойно завершали этот
славный век, озаренный именами тех, кто, если можно так
выразиться, посеял идеалы,— век Эредии, Луасеса и Map-
ти; век Поэя, Гитераса и Лус-и-Кабальеро; век Масео,
Сеспедеса и Аграмонте. Мы видели, как на пороге нового
столетия заблистал славный рассвет выстраданной нами
свободы, пришедшей как благодать, как искупление и для
нас, затворников госпиталя «Перу», и для всего
повстанческого войска.
Доктор Фернандес, взобравшись на лавку под навесом,
объединявшим четыре «палаты», сообщал радостные
новости и комментировал их. Слушать его, побросав свои
лежаки и гамаки, собрались все больные и раненые,
кроме тяжелораненых или умирающих, вроде того, что
мучился с мочевым пузырем; но и эти, каждый со своего
мученического ложа и из самой глубины исстрадавшейся
души, присоединили свои голоса, прерываемые
рыданиями, к общему раскатистому возгласу: «Да здравствует
свободная Куба!» — покрывшему последние слова оратора.
250
В тот день у нас был большой праздник.
Уполномоченные, которые привезли эти счастливые известия, вместе с
ними привез ли и кое-что из еды — остатки груза с
испанского корабля, захваченного янки, когда он пытался
прорваться к острову. О, вкусная еда — большое событие в
повстанческой жизни! Теперь у нас были кофе, свинина,
рис и две большие бутыли с ромом и еще — соль!
— Одна бутыль пойдет больным, другую отдадим туда,
на берег реки,— объявил Каньисо с разрешения
Фернандеса.
Фернандес добавил:
— Повар, слушайте меня! Приготовьте свинину с
рисом и сварите в соленой воде все бониато, сколько их
осталось на кухне, все раздайте тем, кто не на диете. Ах да!
И кофе покрепче!
В «палатах» радостно зажужжали. Все размечтались
о том, как они вернутся домой, к нормальной
цивилизованной жизни, к теплу и любви домашнего очага, в свой
город или деревпю. И, что весьма примечательно, более
всего говорили о еде.
— Я как приду домой,— разливался безбородый
бледный парень родом из Яябо, хорошо известный в хижинах
на берегу,— тут же скажу старухе: «Мамочка, тащи на
стол маис, только с анисом!»
— А по мне,— отозвался весь в шрамах негр, живший
в Гаване рядом с Пласа-дель-Вапор,— лучше всего — это
полбулки со сливочным маслом и кре-е-е-пенький-прекрс-
пепький кофе с молоком...
— А меня там, в Сантьяго,— уверял огромный негр,
раненный в последнем бою,— меня там ждет знаете что?
Большое блюдо черной фасоли.
— Что касается меня, сеньоры,— высказался рыжий
раненый из Версальяса, вконец измотанный дизентерией,—
единственно чего я хочу, это обнять еще раз мать и
сестренок. Бедненькие мои! Вот я, такой, каков есть, желтый,
страшный, скелет скелетом, а как они обрадуются, когда
увидят меня!
В эти минуты мало кто из них вспомнил об идеалах и
о тех, кто погиб под пулями, или в госпиталях под
ножами хирургов, или в раздирающих душу рвах Сан-Северино
или Кабаньи; мало кто подумал о скорби и о слезах
женщин, мучениц пятидесяти лет голода, сражений,
преследований и расстрелов, почти никто, голову даю на
отсечение, почти никто не в состоянии был отринуть все личное
251
и задуматься о будущем родины, о ее свободе, оплаченной
такой дорогой ценой.
Под хлопанье в ладоши и шлепанье по скамейкам и по
стенкам начались танцы и куплеты. Неизвестно откуда
явился дышащий на ладан аккордеон. Два ящика,
служившие столами в аптеке, превратились в барабаны. Ром,
чересчур крепкий для ослабевших желудков, волнами
ударял в голову, раздувая мистическое воодушевление, и без
того подогретое внезапно воскресшей верой в жизнь.
И, забирая за самую глубину, за древнее древних души
этого человеческого роя, неотразимый и неистовый
барабан ударил румбу.
Вскоре пришли двое мужчин с берега узнать, по
какому поводу веселье и шум. Мы обрадовали их хорошими
новостями, дали кофе и рому и вместе с ними, всем миром,
под председательством майора Фернандеса обсудили, как
лучше отпраздновать освобождение Кубы там, па берегу,
в женском обществе. И решили: ввиду того что
невероятная «экономия», к счастью, подходит к концу, было бы
недурно зажарить на решетке из гуаябы двух единственных
молочных поросят, общую собственность деревни, и вместе
с рисом, кофе, овощами и медом, которые даст госпиталь,
приготовить славный ужин, достойный такого
исторического события, закончив его песнями и креольской чечеткой.
— Ну конечно! Ну конечно! — согласились
представители деревни.— Мы сейчас же сообщим женщинам,
заколем поросят и приготовим все, что нужно. Война
кончилась, по такому-то случаю, еще бы!
После собрания, возвращаясь вместе со мной в нашу
хижину, Каньисо сказал:
— Ну, теперь, когда можно ходить по дорогам, не
оглядываясь, я женюсь, чего еще ждать? Сегодня вечером
скажу Исабель и ее родителям, и завтра после обеда мы
едем в префектуру. Нельзя терять время, дорогой! И ром
пока есть, а, как ты думаешь?
Я промолчал. Мне вдруг стало больно за Исабель,
Исабель в заплатанных и застиранных до прозрачности
платьях, Исабель с большими глазами камагуэянки и
болезненной бледностью от долгой голодной жизни в
повстанческом лагере,— голубка, в своей провинциальной простоте
роковым образом затянутая в ловушку префектуры
жадными змеиными глазками доктора Каньисо.
Пир начался, как только спустились сумерки.
По-цыгански бедные обитатели прибрежных хижин, конечно, не
252
могли набрать достаточно приборов, чтобы накрыть стол
для всех гостей, не оказалось ни одного стула, тарелок не
насчитали и пяти, ложек — штук шесть, нашлось всего
две чашки, с надписями, на одной — «Не забывай меня»,
на другой — «Домитила»; и потому поросенка, жареные
бананы и бониато подали запросто, то есть командирам и
старикам —на тарелках и с приборами (кому хватило),
остальные же обошлись кусочками пальмовой коры, а
вместо вилок и салфеток — своими собственными пятью
пальцами.
Женщин оказалось шесть, из них только одну, молодую
и незамужнюю, без особой натяжки можно было назвать
красивой — Исабель. Ее старание находиться подальше от
жениха можно, пожалуй, только противопоставить
полнейшей беспечности другой женщины, открывшей грудь,
чтобы из этих висячих, пористых и желтых мешков мог
совершенно бесполезно сосать голопузый двухлетний
малыш. Это был самый маленький из ее выводка, еще шесть
ребятишек стояли рядом, держась за юбку. Около
остальных женщин — две из них были беременны — вертелись
семеро мальчишек. Было и четырнадцать девочек,
старшие — в коротеньких, рваных, но очень чистых,
изношенных до кисеи платьицах, а остальные — в первозданной
райской наготе. Для детей этот праздник был воистину
великим событием. Уходил «солдат», бука, худший враг,
а поэтому, стало быть, можно вволю полакомиться
жареным поросенком, рисом и даже кофе.
Если бы с давних пор не затрепали так эту фразу, я
бы сказал, что во время нашего ужина и после него
царила самая искренняя сердечность. Каждый гость, взрослый
или ребенок, воздал должное паре фунтов
«классического» молочного поросенка (и как хорош он был, о
взыскательные гастрономы, не ведающие, что такое молочный
поросенок, испеченный на ветках гуаявы и поданный с
соусом из чеснока и кислых апельсинов!), в том числе и
автор этих строк: я, так долго сидевший на диете, перед
этой нежной, поджаренной, немыслимо вкусной массой,
перед блестящей, душистой золотой шкуркой почувствовал
властный зов тысяч своих предков — пожирателей мяса,
и — будь что будет — отхватил три фунта сочной
пасхальной жертвы.
Вода в нашей маленькой речке была чистой, свежей,
мягкой, но праздник — это праздник, а рядом стояла
бутыль с виноградной водкой, и пока вокруг гремели че-
253
четки, мазурки и куплеты, я опрокинул в себя две или
три выдолбленных тыквочки, заменявшие нам стаканы.
Куплеты были главным образом патриотического
содержания, в них пелось о «большеногих испанцах» и
«одинокой звезде», но пели еще и любовные — в них речь
шла о «нежной страсти», «верном сердце», о
воспоминаниях и неблагодарности. Помннтся, именно когда
исполнялись любовные куплеты, я почувствовал
настоятельную необходимость незаметно исчезнуть, дабы
освободиться от поросенка и водки, взбунтовавшихся в моем
бедном, истощенном диетой желудке. В зарослях дрока,
под толстоствольной пальмой, высоко вознесшейся в синее
ночное небо, я вывернулся наизнанку.
Скорее всего это было отравление жирной свининой и
дрянным вином. В голове у меня помутилось, ноги
подогнулись, я рухнул под пальму возле кустов и впал в
забытье, полное кошмаров.
Закричав со страху, я открыл глаза и приподнялся, с
трепещущим сердцем, сухим, пылающим, как у
тифозного, ртом. Уже вставало солнце. Оно блестело над темной
линией ближних гор, возвещая новый день. Ночная роса
насквозь промочила мою одежду. В госпитале и в деревне
пели петухи, и оттуда, и отсюда еще доносились глухие
монотонные звуки румбы.
Мне вдруг стало скучно, тяжко на сердце, что-то
мучило меня — то ли угрызения совести, то ли разочарованье,
невозможно было понять, но я не захотел присоединиться
к тем, кто продолжал праздновать, а пошел к себе, в
аптечку. Там выпил большой кувшин воды и завалился в
гамак, когда было уже совсем светло. Но раскаты румбы,
выбиваемой на ящиках, не стихали, что, по-видимому,
нимало не беспокоило наших командиров, которые и сами
еще бродили по деревне, приканчивая остатки рома и
допивая последние каплп черного кофе.
На другой день я несколько воспрял после урона,
нанесенного молочным поросенком, утопленным в водке.
Каньисо очень серьезно уговаривал плачущую Исабель,
чтобы она оставалась при своих родителях, а потом, как
только жизнь снова пойдет своим чередом, он приедет за
пей и заберет с собой. От ранепого с пробитым мочевым
пузырем не осталось ничего, кроме холмика па берегу
реки. Обитатели береговых хижин, покинув свое
временное жилище, начали расходиться по мирным дорогам,
к своим исконным домашним очагам. В это время в гос-
254
питаль «Перу» прибыли два доктора в больших чинах,
в сопровождении ста всадников и каравана мулов, чтобы
переправить нас, раненых и больных, в объединенный
госпиталь, расположенный в усадьбе под Камагуэем. Там
нас ожидали заботливые руки наших соотечественпикол,
там могли оказать нам помощь и военные врачи янки, там
мы могли подготовиться, чтобы войти в город сразу, как
только оттуда уйдут испанцы.
В тот же день, после обеда, начались приготовления к
выступлению. Двух тяжелораненых, которых не стоило
подвергать дорожным мучениям, оставляли на
попечение семьи Исабель, им же отдали трех коров, остатки
госпитальной провизии и засеянные поля. Стадо мы уводили
с собой. Каждому раненому, больному или брату
милосердия выделили какое-нибудь вьючпое животное: нам
предстояло продвигаться медленно, короткими переходами, по
широкой, сухой и ровной дороге на Гавану.
Веселые звуки походной трубы нарушили мирный
предрассветный час. Утренняя зоря мамби! В рассветном
полумраке еле проступали контуры деревьев, животных,
людей. Светлячки сигар то тут, то там выдавали
хлопотливые передвижения тех, кто был занят сборами. В хижп-
не-кухне, мерцая, как в кузнечном горне, п окрашивая в
розовое подпорки и стены, светился огонь. Там кипятили
молоко и готовили завтрак. Отдавались приказания, к го-
то что-то кому-то советовал, кто-то о чем-то просил. Вдали
покрикивали те, кто собирал и гнал стадо.
Стремительно приближался день, светлый, синий,
свежий, с победным солнцем, пением птиц, военными
распоряжениями, день мирного и праздничного марша.
— Пусть впереди идет стадо.
— Лейтенант! Пересадите этого раненого на лошадь,
мул замучает его прыжками.
— Кто хочет молока?
Мы выступили рано утром. Шли весело, с
разговорами, шагая прямо по алмазной росе, игравшей в солнечных
лучах. В это утро, полное света и надежды, мы были
счастливы; но не все, как оно часто бывает в жизни. Мы,
большинство, уходили по дороге к городу, к родному дому, в
объятия матери, супруги, невесты; нас, победителей,
ожидала торжественная встреча с музыкой на улицах,
украшенных зеленью и знаменами, рукоплескания и
приветствия. Но некоторые еще оставались здесь, и им было
грустно: двое раненых, мучительно боявшихся не дожить
255
до часа, когда «одинокая звезда» взойдет над
городскими зданиями, и Исабель, жертва префектуры, с ее
простой душой и глазами камагуэянки, полными слез в это
утро, золотое и славное для нас, счастливчиков и
эгоистов.
В усадьбе, где мы остановились, было три просторных
старых дома с порталами в окружении столетних
разросшихся деревьев. Перед самыми окнами пролегала
широкая песчаная дорога в глубоких разъезженных колеях,
видимо, бойкий путь в мирные времена.
Это было очень близко к городу,— мы отчетливо
слышали звуки испанских военных рожков, свистки
паровозов старой железной дороги Камагуэй — Нуэвитас и
перезвон двадцати колоколен провинциальной столицы.
Первыми войдя в усадьбу, мы заняли лучший дом. Мне
досталась комната вместе с одним молодым человеком,
таким же, как я, маляриком, по горло напичканным хиной
и молоком, и очень похоже было, что ему уже не
видать древнего своего Камагуэя. Это немного портило
мне настроение, убавляя радость от милой уединенной
комнаты, полной воздуха, с окном на гранатовое дерево
в цвету, протягивавшее сквозь решетку душистые густые
ветки.
Судьба моего соседа, видимо, приговоренного к
смерти, не давала мне покоя. Моей собственной болезнью в то
время была глубокая анемия, выражавшаяся в бледности,
худобе и крайней слабости, не позволявшей насладиться
живописными окрестностями, вдоволь погулять по
цветущим тенистым дорожкам этой заброшенной
патриархальной резиденции, но более всего я страдал от потери
памяти, тревожившей меня главным образом по ночам, доводя
почти до помешательства.
Вдруг ни с того ни с сего я терял представление о
времени и о месте, меня начинали одолевать ощущения
невероятные и угнетающие. Кто я? Где я? Почему я ничего
не знаю о своих родителях, не помню о детстве, о том, что
было со мною в последние годы?
Когда это начиналось, я зажигал свет, вставал, гулял
по пустым гостиным, по заброшенному саду. Каньисо и
Фернандес успокаивали меня, обещали избавить от «этих
глупостей», стараясь, чтобы я не догадался, насколько
серьезно мое состояние.
Однажды ночью, когда я, измаявшись
галлюцинациями и еле сдерживаясь, чтобы не закричать, зажег свет,
256
собираясь одеться и выйти на улицу, я увидел, что мой
сосед испускает дух,— тело его дергалось, глаза закатились,
на губах — пена, лоб блестел от пота, сведенные в
судороге руки жутко скребли грубый холст простыни.
— Аи! На помощь! — закричал я.
И с этим пронзительным криком, нарушившим ночную
тишину и оповестившим округу о приходе «костлявой», я
потерял сознание. Больше я никогда в жизни не видел
своего товарища по комнате с окном на цветущий гранат. Не
помню, сколько времени я был в полном смысле безумным,
где находился, что делал и что думал, за исключением
двух припадков, которые, сам не знаю почему, я не мог
забыть долгое время и после того, как выздоровел. Один
раз, помню, я кричал, что доктор Каньисо хочет меня
отравить так же, как еще раньше он отравил там, в
госпитале «Перу», одну бедную девушку, я просил доктора
Фернандеса представить меня Максимо Гомесу, который
находился в эти дни ни более ни менее, как в Ягуахае,
чтобы там в его присутствии я мог публично обвинить
своего отравителя. В другой раз мне взбрело, что смуглая
черноглазая девушка, вместе с подругами приходившая
навещать больных и раненых и дарившая нам книги,
сладости, бумагу для писем, вино для подкрепления сил,—
Сусанна, моя невеста, хотя и делает вид, что не узнает
меня.
— А, предательница, изменница!
И я бросился за ней с огромными ножницами,
украденными мною из аптечки, я их хранил под подушкой для
защиты от Каньисо, если тот вздумал бы подступиться ко
мне со своим ядом.
Бедная девушка убежала, крича от ужаса, а меня,
отчаянно сопротивлявшегося, насилу обезоружили и
заперли в палате.
Но прошло время, и по мере того, как я креп
физически и розовел, нечувствительно и бесследно проходил и
мой недуг.
И однажды в прохладный ноябрьский день, накануне
нашего триумфального вступления в героический город,
одна из милых наших посетительниц, приезжавших к нам,
кстати, в превосходных колясках, пообещала мне
заглянуть на почту, и я решился наконец написать матери,
которая, как я думал, находилась тогда в Пласересе, и
вымолил у моих докторов разрешение сделать это (до сих
пор мне не позволяли даже дотронуться до пера).
17 К. Ловейра 257
И написал такое письмо:
«Каридад, Камагуэй, 24 ноября 1898 года.
Сеньоре Долорес Дарна, вдове Гарсиа.
Пласерес.
Дорогая мама!
Если это короткое письмецо попадет в твои руки, ты, я
думаю, удивишься,— после стольких месяцев разлуки и
неизвестности, после стольких событий и в такое время,
когда ни в чем нельзя быть уверенным!
Я только что поднялся после тяжелой болезни,
чувствую себя совсем здоровым, ничто мне больше не
угрожает, и все же доктор Каньисо (как тебе нравится эта игра
судьбы?) считает, что мне нельзя исписать более одной
четвертушки почтовой бумаги.
Если бы не этот запрет, я написал бы очень много
такого, что удивило и заинтересовало бы тебя; как-нибудь
потом, при встрече, я расскажу все сам. А пока поверь мне
на слово: ты можешь ожидать меня со спокойной душой,
пе думая о моей болезни, ее и след простыл, я быстро
поправляюсь и скоро буду такой же, как в Нью-Йорке.
Мне сильно не повезло в этой войне. Мне не довелось
совершить ничего достойного упоминания, я только и
делал, что болел,— после трех лет в Нью-Йорке и Балтиморе
кубинская глушь обошлась со мной сурово. Если бы не
нелепые требования тех людей из представительства, мне,
как и многим, удалось бы еще поспеть на Кубу вовремя и
быть полезным. Я до сих пор лейтенант,— звание, которое
мне присвоили еще в Тампе, и то благодаря моему
докторскому диплому. Говорят, правда, что скоро нас,
командиров и офицеров, произведут в следующий чин. Таким
образом, я вернусь капитаном военно-санитарной службы.
А я ведь не убил ни одного врага, не вылечил раны ни
одному освободителю! И, представь себе,— мне ведь никто
не протежировал, не старался избавить от страданий,
моральных и физических, ни в походах, ни в госпиталях, ни
в лагерях.
Со всем тем, по возвращении в Пласерее, думаю, у меня
не хватит смелости надеть мои капитанские звезды.
Скажу больше: на поприще революции, которую я всегда
почитал средством и залогом жизни, исполненной
гражданских и нравственных добродетелей, то есть жизни,
достойной свободы, я пережил унижение разочарования,
причиною тому — тысячи вещей, которых я навидался сам,
258
и тысячи других, о которых мне рассказывали. Мне
кажется теперь, что далеко не все освободители — люди закваски
славных и благородных ветеранов Большой войны,
которые призывали к революции и разожгли ее в полном
сознании своей ответственности, которые понимали ее как
воплощение продуманных и выстраданных идей. Но они и
не из того теста, из какого вылеплены люди из народа,
простые, храбрые и добрые, которые пошли в ряды
повстанцев, не зная, что такое эгоизм, неся в своих чистых
душах лишь святой огонь патриотического мистицизма,
разожженный проповедями сознательных идеалистов.
Среди нас слишком много людей мыслей и стремлений
низких. Возьмем Каньисо. Сколько раз мы слышали, как
он говорил, что республика была бы еще одним Гаити,
закуской для негров и бог знает чем. Первая волна
«кампании вторжения» застала его в какой-то усадьбе, повлекла
за собой, и вот теперь он мамби-перемамби. А сам только
и делает, что наводит блеск на свои звезды, описывает
свои баснословные подвиги в толстом-претолстом полевом
дневнике и произносит зажигательные речи в духе
спартанцев, идущих на смерть. Последнее звание, которое он
получит,— подполковник, и, думаю, с еще меньшим правом,
чем я — капитана. Ибо я, чтобы попасть к повстанцам,
хотя бы пожертвовал чем-то, оставив безопасное и
недоступное испанцам место, он же, подобно некоторым
другим, сделался освободителем поневоле. Доктора,
прибывшие на Кубу вместе со мной, в нашей или в других
экспедициях, после пяти месяцев пребывания в мирной глуши
теперь пи с того ни с сего станут полковниками и генера-
ралами. Другие, начавшие борьбу с большим апломбом, тут
же заразились эгоизмом некоторых развращенных
кругов и увильнули, засели в деревнях и префектурах, хотя
и там могли бы очень хорошо видеть, как трудятся их
более честные и скромные соотечественники...
Но я слишком увлекся тем, что меня в эти дни
волнует, вышел за положенные мне границы и до сих пор не
обмолвился о деле, интересующем меня более всего. Ты
поняла, о чем я?
Да, о Сусанне. Твое будущее, твой покой и мое
собственное будущее — рядом с тобой и рядом с ней, вот что
для меня теперь важнее всего, когда я честно исполнил
свой долг кубинца. Твоя любовь и ее любовь — вот почти
единственное, во что я теперь верую. Клянусь, это так,
хотя мой пессимизм, вероятно, покажется тебе неуместным
259
в эти радостные для Кубы дни и тем более непонятным в
мои годы. Напиши мне, где Сусанна, когда ты видела ее
в последний раз, о чем вы говорили или хотя бы, что ты
слышала о ней.
Я пишу тебе так откровенно о Сусанне, потому что
я знаю ее, знаю, что в этом смысле она истинная креолка,
ее не могут изменить никакие обстоятельства. Я занят
тем, что строю планы на будущее, когда уволюсь из
армии и вернусь в Пласерес. Во-первых, открою
стоматологический кабинет, «по-американски», в каком-нибудь
хорошеньком домике, рядом с площадью. Затем, женюсь и
попрошу тебя быть ангелом-хранителем твоих двух детей.
Ты не против?
Расскажи, как дела в наших краях, прежде всего, как
поживают бабушка и дедушка, как там дядя, дон Сера-
фин, Нэнэ, Длинный Батон, а также, конечно, сеньор
доктор дон Карлос Мануэль Амесага. Этот, я думаю, уже
собирает пожитки и покупает билет до Испании.
Вчера (о, боже, я кончаю уже второй листок!) я
случайно услышал очень интересный разговор двух
генералов и еще более укрепился во мнении, что сеньоры
автономисты не заслуживают высоких титулов «светочей»,
великих государственных деятелей, равно как и других
громких эпитетов, которыми их не устают щедро
награждать до сих пор.
«Куба, так или иначе, не могла бы долго оставаться
испанской колонией при автономном правительстве или
без него». Это утверждал один из них, человек умный,
сведущий, повидавший свет и владеющий словом к тому
же; и говорил он это, чтобы развеять слепую веру в янки,
чрезмерную благодарность по отношению к ним своего
собеседника и товарища, из тех «сентименталистов», о
которых я писал выше. Говорил и рисовал па земле
концом мачете карту Северной и Центральной Америки,
приводя в подтверждение следующие доводы:
«Панамский канал должен быть открыт
Соединенными Штатами. Их бере?а омывают два великих океана, а
порты на Тихоокеанском и Атлантическом побережьях
разделены огромным континентом; положение невыгодное,
как ни взгляни, а особенно с точки зрения военной».
И вот пример. Один из крупных американских
броненосцев, кажется, «Орегон», получил приказ направиться в
Атлантику для соединения с эскадрой, которой предстояло
вступить в бой с Серверой; в это время он находился в
260
Сан-Франциско. Понадобилось не менее семидесяти дней,
чтобы добраться до берегов Флориды, пройти пятнадцать
тысяч миль и дать немалый повод к беспокойству о
своей судьбе, потому что за это время ему на пути вполне
мог встретиться флот испанского адмирала.
Англия — хозяйка Европы и Суэцкого канала — была
единственной страной, возражавшей против
строительства Панамского канала американцами. Теперь она
согласна. Как удачно выразился генерал, объясняя все это,
теперь у американцев на пути между каналом в центре
Америки и их портами на атлантическом побережье
находятся лишь протяженные берега нашего острова, и
они, безусловно, не могут оставаться испанскими, как
не смогут остаться европейскими или независимыми
и другие земли этих широт. Так что полная наша
независимость — дело далекого будущего, и стало быть,
благодарность и признание бескорыстия наших мощных
соседей недурно бы попридержать пока в кармане.
Все это и многое другое навевает на меня хандру, как
я писал вначале. Расскажи, что ты слышала об этом,
каково твое мнение, как судит обо всем моя милая бабушка?
Не кажется ли вам, что эта история с двумя флагами
протянется долго? Присылай мне все, что ты сумеешь
прочесть по этому поводу.
Через два дня мы входим в Камагуэй. Там готовятся
вовсю, чтобы принять нас как можно торжественнее и
тем отметить великое историческое событие. Для меня
этот триумфальный марш будет сладостно-горьким;
надеюсь, после всего, что я тебе написал, ты поймешь этот
парадокс.
Хотя я знаю, что мое письмо пойдет кружным путем
через Нуэвитас и Кайбариеы, надеюсь скоро получить
твой ответ. Пиши по адресу: Рейна, 189 и 3/4, Камагуэй.
Я исписал уже три листа и потому кончаю. Поклон
Сусанне и ее семье, целую и обнимаю бабушку, дедушку
и тебя. Твой сын
Игнасио».
ВРЕМЯ НЕУВЕРЕННОСТИ И РАЗБРОДА
Поезд, шумя и дымя, несется по равнине, взрывая
гудком глубокую тишину тростниковых плантаций —
безбрежного зеленого моря, под огненным водопадом летнего
солнца переливающегося всеми оттенками золота. В
вагоне душно, в окна летит гарь, пыль, удушливый запах
кузницы. Солнечный свет слепит глаза, за окном все то же,
все то же — несколько пальм, серое пятнышко хижины,
далекие башни сахарного завода над вершинами
деревьев; я только что одолел целый том Педро Мата и сейчас
клюю носом как раз на самой середине передовой статьи
в газете «Эль Мундо» *, и вот, чтобы не задремать совсем,
принимаюсь рассматривать соседей по вагону и вскоре,
благодаря врожденной наблюдательности, а также
проклятой привычке философствовать по любому поводу,
обнаруживаю, что вагон, в котором я еду, обыкновенный
вагон первого класса экспресса Камагуэй — Гавана,
являет собой не что иное, как весьма многозначительный
символ.
Напротив меня сидит американец, большой,
краснолицый, в костюме хаки, в серой техасской шляпе и в
башмаках из желтой кожи, с крагами. Он читает толстый,
растрепанный журнал, битком набитый приключениями
для детей среднего возраста и пустенькими рассказами.
И кроме других выходок, которые этот гигант не
осмелился бы позволить себе в пульмановском вагоне у себя
дома,— вроде этого хаки и краг,— он еще вдобавок,
посасывая огромную сигару, задрал ноги на
противоположное сиденье и завалил его целой горой карт и планов,
надписанных по-английски: «The Cuban Land Co., The
Tropical Land Co., The West Indies Land Co., The Pan-
1 Написано в дни, когда наши высокие покровители воевали с
Гогенцоллернами. (Примеч. автора.)
262
American Land Co.». На следующем сиденье за этим
любителем географии расположились два креола лет по
сорок, мулат и белый. Под свежими костюмами из тонкого
дриля у того и у другого угадывается сложение
Геркулеса, оно, я бы сказал, так и взывает к плугу, плотничьему
верстаку, мачете для рубки тростника и к иным подобным
орудиям и занятиям, которые их владельцы, видимо,
некоторое время назад променяли на предвыборные комитеты
и агентства. На них широкополые дорогие соломенные
шляпы стоимостью по сто песо, они бурно жестикулируют
(при этом камни их перстней переливаются всеми
цветами радуги), ерзают на сиденьях, стараясь поудобнее
пристроить свои огромные револьверы, висящие у пояса, и
разговаривают так, чтобы слышал весь вагон, им явно
хочется ослепить нас.
— Я еду в Гавану, там у меня дела; я скажу
генералу: если меня не выдвинут кандидатом в двадцатом году,
я могу вам обещать хорошенькую неприятность в
конгрессе.
— У меня то же самое. Я уже говорил доктору. Если
так трудно получить несчастное кресло в палате
представителей, какой смысл быть тогда консерватором?
— Само собой. И в последнюю минуту ты
перекинешься к нам.
— И перекинусь, дорогой. Не думай. Если дело не
прояснится, перекинусь как миленький! Как миленький!
Мало народу я им поставляю на эту бойню? Они еще
пожалеют обо мне!
И, прорываясь сквозь стук колес, из их разговора то
и дело выскакивают магические слова, слова-заклинания:
избирательный комитет, конгресс, кандидат, бюллетень,
заручиться поддержкой, акт, избирательное собрание, а
также множество определений, оканчивающихся на «ист».
В одном углу вагона темным-темно от черных монашеских
одеяний. Три пары смиренниц-испанок совершают
путешествие в вагоне первого класса. Чуть подальше
значительное духовное лицо из провинции, толстый и кроткий,
по-братскп толкует о чем-то с либеральным
законодателем. На остальных местах: две величавые сеньоры в
шелку и бриллиантах; два рыжих туриста, которые разделили
между собой номер газеты «Геральд» и читают пе
отрываясь всю дорогу; несколько галисийцев в костюмах из
кашемира, по всему судя, владельцы бодег где-нибудь в
деревне; военный, длинный и узловатый, как сухой тро-
263
стник, какой-то франт, задушивший вагон одеколоном и
по случаю выдающегося события в своей жизни —
путешествия в столицу — одетый во все новенькое, с иголочки,
от кожаных ботинок до соломенной шляпы, обложенный
чемоданами и свертками со всех сторон — на сиденьях, в
металлической сетке над головами пассажиров и по всем
углам, какие только есть вокруг.
Паровоз свистит. Свистит долго. Легкое шипение под
колесами, поезд тормозит, затем скрежет, шум, вагон
трясется, и секунду спустя мы останавливаемся на
хорошенькой маленькой станции, выкрашенной в яркий зеленый
цвет и разукрашенной резьбой. «Сахарный завод
Иберия» — сообщает солидная золоченая надпись. И тут
общая картина нашего вагона — символа и образа
невеселой кубинской действительности — приобретает
последний, завершающий штрих.
Входит парень, весь в красной пыли и увешанный
чемоданами. А за ним выступает персонаж, прославленный
на всю страну, богач из богачей кубинской республики,
владелец бодеги и комиссионный агент испанского
войска, тот самый, кто так яростно кричал когда-то на
улицах Матансаса: «Да здравствует Испания!»—и который
теперь ни более ни менее как распределитель благ и
выгод между самыми крупными тузами креольской
политики, доктор дон Хосе Гарсиа-и-Перейра. Мой дядя!
— Дон Пепе!
Восклицает добрая половина вагона. Потому что,
несмотря па миллионы и звание доктора, все зовут моего
дядю по-прежнему — «дон Пепе».
Услышав это имя, волшебно звонкое, словно фонтан
золотых монет, дамы в шелках изображают глубокое
внимание и любезную улыбку, высокопоставленные политики
умолкают, мигом делаясь по-придворному вкрадчивыми,
провинциальный франт весь подтягивается, галисийцы-
нувориши, растаращив маленькие глазки, начинают
вертеться на месте, а духовное лицо и его друг, либерал
и член конгресса, вскакивают с мест, ловко
освобождают от своих свертков противоположное сиденье и,
простирая руки, как к солнцу, просят «дорогого дона
Пепе» — пожалуйста, пожалуйста — разделить с ними
компанию.
— Я сяду, сяду, не беспокойтесь. Только вот целовать
вам ручку, монсеньер, не стану, не стану. И не ждите.
Это шутка, топорная шутка галисийского торговца;
264
монсеньер кисло улыбается, а либеральный конгрессмен
произносит медовым голосом:
— Уж этот дон Пепе!
Поезд трогается. Дон Пепе оглядывает вагон и
задерживает взгляд на моем лице с выражением — «я его где-
то видел»... Он не видел меня двадцать два года, и
последние двенадцать лет, а может быть, и все тринадцать, мы
ничего не знали друг о друге. Один раз, в 906-м году, во
время выборов я написал ему, прося помочь пройти в
алькальды,— мне тогда очень хотелось избавить Пласерес
от пожизненного царствования Нэнэ, генерала и алькальда,
превратившего наш город в злачное местечко для игроков,
сутенеров и иного подобного сброда. Он ответил, чтобы
я махнул рукой на алькальда и на Пласерес, а лучше
приехал бы в Гавану, где мое положение ветерана можно
было бы использовать с толком,— он имел в виду палату
представителей конгресса и в этом сам предлагал мне
помочь.
«Мы с тобой можем сварганить недурное дельце. Мне
нужно провернуть кое-какие делишки в палате, ты мне
поможешь, ну и... надеюсь... понимаешь...» — в таком роде
писал он мне тогда. Я ответил — нет, он написал снова,
полетели письма туда и обратно, пока наконец я,
разбитый наголову генералом Нэнэ (к тому времени он
неожиданно сделался очень богат и мотал деньги с бродягами
и иными темными людьми), не разочаровался
окончательно в политике и не бросил писать дяде. С тех пор я
заперся дома, посвятил всего себя зубодерству, заботам о
матери, воспитанию своих детей и избавил Сусанну от
тревог и огорчений супруги общественного деятеля на
этой земле, где привольно лишь хвастливым болтунам,
политическим эквилибристам и иным представителям
тропической фауны в таком же роде.
Разговаривая со своими собеседниками, мой дядя
иногда поглядывает на меня. «Я его где-то видел...», видимо,
все еще вертится у него в голове. Неожиданно он
оборачивается и смотрит мне прямо в глаза. И тут я вижу, как
в нем просыпается воспоминание, точное, живое и
неопровержимое.
— Вот это да! — восклицает он решительно и идет ко
мне, на удивление и зависть всему вагону.— Черт меня
побери, если это не мой племянник!
— Да, это я. Как поживаете, дядя? Я вас не узнал.
— Какая встреча! Обними меня, мальчик!
265
Я поднимаюсь Обнимаю его без особенного желания
и жара. Он садится рядом, и мы начинаем разговаривать
вполголоса.
— Ну, как там Лола?
— Вместе с нами, в моем доме. Она хорошо
сохранилась.
— Старики, наверное, умерли, а?
— Да. Дедушка подхватил в Штатах воспаление
легких, совсем ослаб и умер вскоре после возвращения на
Кубу. Бабушка, та протянула до второй оккупации. Смерть
деда, разочарования после революции доконали ее. Она
ведь была такая патриотка, глупенькая. Бедняжка!
— А этот, как его, этот хват Нэнэ? Вот человек, черт
бы побрал мою душу!
— Да там, в Пласересе. Все еще алькальд. Без него
у нас шагу не ступишь. Он сдает землю в аренду, у него
лучший табак и лучшие табачники, дома, стада, все... все,
что хотите. Он попечитель лицея, он влиятельное лицо в
партии, он президент общества ветеранов, он — все на
свете. Все.
— Нет, ей-богу, такие мне нравятся. И этот бандит
еще хотел подложить мне свинью!
— Хотел?
— Ну, не хотел, а подложил, ладно. Я на него не
сержусь, черт бы побрал мою душу, потому что он молодец.
А потом, знаешь, молодость, нужда... Ну, а твоя жена?
Как она? Ты доволен?
— Этого не объяснишь, дядя. Чтобы понять, нужно
самому быть женатым, а вы ведь в этом отношении
крепкий орешек. Вы меня не поймете, если я скажу, что моя
жена — ангел.
— Да. В этом я ничего не смыслю и не желаю
смыслить. Я им не верю, женщинам! Потому что... эти,
которых я знал до сих пор!.. Но я, конечно, рад, что у тебя
жена ангел. Постой! Там, в Матансасе, когда я спросил о
Нэнэ, вы мне говорили, у него было что-то с сестрой твоей
жены? Он женился на ней?
— Как бы не так, этот негодяй (прошу прощения, вы
его горячий поклонник) разве способен жениться? Для
него это было бы слишком тонко.
— Ну, ну, разве я говорил, что я его поклонник?
Просто... как сказать... он производит впечатление, он собою
что-то представляет, таким, как он, многое можно
простить.
266
— Ему много чего следует прощать. До войны —
шантажист, уличный забияка, сутенер, игрок. После войны,
когда он сражался за родину, он мог бы очиститься от
всяческой скверны, но он так и не понял, в чем величие
настоящей жизни, достойной вечной славы, а пустился в
обогащение, единственно из желания потакать низменным
своим страстям, и не постеснялся примкнуть к самой
распущенной части общества.
— Э, я думаю, ты преувеличиваешь. Нэнэ пошел на
войну добровольцем, дорогой. Он ветеран.
— Вот именно. Вместо того чтобы сделаться
благороднее, он пал еще ниже. Воспользовался тем, что он
ветеран, для того чтобы погрязнуть в худших пороках колонии.
И это помимо всего прочего. А так — он осел, и больше
ничего.
— Тогда как же он достиг всего?
— Силою своего эгоизма и по глупости людской. Когда
он вернулся с войны, ему все забыли, простили и сочли
чуть ли не богом. А уж оп сам тем более в это уверовал.
К его ногам положили все. И он, не моргнув глазом, все
припял. Прежде всего — женщины, от них ему отбоя
не было, он имел возможность выбирать! Это в том же
самом Пласересе, где каждая собака знала о довоенных
похождениях и грязных поступках генерала Нэнэ.
— Ну да, и он женился.
— Женился. На дочери богатого торговца табаком. Он
взял ее не за красоту, которой, собственно, и не было, и
еще менее за ее нравственные достоинства, это его вообще
не интересует, а за блеск ее денег. Бедная моя свояченица
с горя,—она имела несчастье безумно любить его,—чуть
не умерла от чахотки. Ее отправили в Штаты, в
санаторий, семья наскребла последние деньги. Вернулась она
совсем больной,— отец к этому времени умер,— и, чтобы не
остаться в старых девах, вышла замуж за крупье,
обыкновенного, не очень грамотного человека, и с тех пор — по
ребенку в год, и кончено. Со временем и дочь торговца
табаком, наверное, пожалела, что перебежала дорогу моей
свояченице, потому что Нэнэ открыто живет с мулаткой,
это его давнишняя любовница, из-за нее-то, между
прочим, Нэнэ меня и ранил, а потом сбежал... «добровольцем»
на войну, и вот теперь он герой! А уж скандалы с этой
мулаткой закатывают!..
— Дорогой мой! Вот это дар слова! И ты еще не
хочешь посвятить себя политике, да тебе немедленно нужно
267
в столицу, ты там всех за пояс заткнешь,— нет, ей-
богу!
— Что ж, спасибо этому дару, ему я, видимо, и обязан
тем, что вы меня выслушали и даже соизволили
поинтересоваться нашей семьей.
— Не надо, племянник. Не надо так. Не обижай меня.
Я всегда помнил о вас. Нет, ей-богу! Потому что, как ни
кинь, какие у меня родные, кроме вас? Конечно, дела,
суматоха, кручусь как проклятый, со стороны кажется,
что я человек сухой, равнодушный. Но это неправда. И я
всегда расспрашиваю о вас, если встречу знакомых. Не
обижай меня.
От этого беспримерного цинизма я, кажется, сейчас
заору что-нибудь непристойное, у меня горят щеки, в
глазах темнеет,— нет. нужно сдержаться и вместо грубости
пустить в ход иропиго.
— Что вы, что вы! Кто же может сказать, что вы
забыли о нас?
Он не понимает иронии, напротив, торопится
подтвердить свой интерес к нашей семье:
— Л с Нэнэ ты больше не сталкивался, после того как
вернулся?
— Ну что вы! Еще как. Один раз его табачники
бастовали, кстати, я ими руководил и защищал рабочих до
тех пор, пока они не победили окончательно.
— Да. Помню, я читал что-то такое. Помню, помню.
Ну, а тебя какая муха укусила, чего ради ты связался с
рабочими? Объясни мне. На что они тебе сдались?
Я пытаюсь сдержаться, но с таким отъявленным
циником, как мой дядя, такому легко воспламеняющемуся
человеку, как я, не устоять перед искушением произнести
речь, мои предохранительные клапаны отказывают, и я
начинаю, взволнованно и возвышенно:
— Меня интересуют рабочие проблемы, потому что в
том, за что борется рабочий класс, есть большая доля
истины, это наши братья, такие же кубинцы, и я помню,
какие жертвы они принесли во имя революции.
— Чем же им так плохо, кубинским рабочим?
— Как чем? Разве не позор для всех нас, что в стране,
завоевавшей свободу на заре нового века в результате
революции, вдохновленной идеалами национального
освобождения, рабочий до сих пор не обладает правами,
которые считаются привычными даже... даже в Испании?
— Ну, это уж чересчур, племянник.
268
— Какое там чересчур! У нас общество делится на два
категории. Судите сами. Одни — это люди, которые на
самом деле работают, не защищенные элементарными
законами, принятыми во всех странах — и даже в Испании.
Другие — люди, соблазненные триумфами политических
выскочек. Это они, кривляясь на предвыборных
маскарадах, охотятся за местом или синекурой и в конце концов
умножают собой орду иждивенцев, живущих за счет
национального бюджета.
Дядя качает головой, не одобряя моих выпадов, и как
будто собирается перебить, но я не позволяю ему:
— И еще, дядя, если у меня до сих пор сохранилась
вера в будущее, так это благодаря нашему народу. Тем, кто
трудится, тем, кто, несмотря на свои пороки и ошибки,—
плоды того самого социального зла, существование
которого отрицают некоторые любители спорить с
очевидностью,— все же способен на альтруизм, на героические
порывы, кто искренен, чист душой — это все то, чего так не
хватает господам из нашего так называемого высшего
общества. Да, сеньор.
— Продолжай, продолжай, племянник, этим можно
зарабатывать на хлеб.
— Как бы не так! Но что же делать? У каждого своя
судьба. Одни дерутся из-за пирога во что бы то ни сталог
хотя бы ценой унижения. Другим, вроде меня,
непременно подавай ветряные мельницы, чтобы можно было
разбить о них голову. Вы меня знаете с детства, к тому
же вы теперь доктор, может быть, слыхали, что такое
детерминизм. «Гений и... фигура». Проще говоря, если вам
на роду написано, чтобы вас переехал какой-нибудь...
«форд», то он вас и переедет.
— Ха-ха! Это ты здорово. Нет, правда, здорово.
Знаешь, кто ты? Ты умный дурак, черт бы побрал мою душу.
Это все книги, книги, которые ты пожирал под деревом
там, у бодеги. Помнишь?
— Еще бы.
— Вот книги и свели тебя с ума. Племянничек, ты не
тем занимаешься, я тебе говорю. Я прочел, конечно, не
столько (хотя, видит бог, пришлось попотеть, когда надо
было заполучить «доктора», будь он неладен!), и вот я
перед тобой. Вряд ли меня переедет «форд». Скорее уж
собственная машина. Ай-яй-яй! А я-то увидел тебя и
обрадовался: наконец-то племянник взялся за ум и едет в
Гавану извлечь кое-что из своей учености и из своего ве-
269
тераяства. И хотел помочь, по-родственному! Потому что,
я — ты слышишь? — я кое-что могу, а? Ты понял?
— Кто же на Кубе этого не знает?
— Ты сам видишь. Этому епископу, вон там, известно,
что я не верю ни в бога, ни в черта и скорее лопну, чем
ломаную песету пожертвую на святые дела. И все-таки
я ему подпустил ядовитую шуточку, и он проглотил; и тот
вон, доктор, либерал, его приятель, тоже глотает за милую
душу, когда я в разговоре вверну ему: «бродяга», «ньяньи-
го» и прочее безобразие. Да я еще норовлю откалывать
эти штучки в его приемной,— так это, по-простому, чего,
мол, с меня взять. Черт бы побрал мою душу! Ну что ж, а
они, думаешь, меня любят? Они меня ненавидят и
завидуют, вот что! А этот галисиец, жулик паршивый... уф!
«Уф!»—он шумно отрыгнул еще раз, распространив
вокруг кислый запах недавно выпитого вина. От
непривычного умственного напряжения, совпавшего с
перевариванием пищи, кровь прилила ему к голове. Он снимает
галстук, прячет в карман пиджака, расстегивает у горла
темно-зеленую пуговицу рубашки, потеет, устраивается
поудобнее и продолжает:
— Аи, племянник, племянник! Нет, я думал, ты едешь
в Гавану, чтобы потолкаться локтями, извлечь выгоду из
своих возможностей. А ты? Ай-яй-яй! Ты ничего не
понимаешь в жизни.
— Понимаю, понимаю, не расстраивайтесь, дядя.
В Гаване я собираюсь встретиться с моим другом, членом
Национальной партии, посмотрим, может быть, эти люди
видят, что творится вокруг, может быть, хоть они отдают
себе отчет, что в наши дни одними добрыми намерениями
нельзя создать политическую программу, что необходимо
прямо и открыто ставить социальные проблемы. Если это
так, я пойду с ними.
— Ну и ну! Племянник, это мне подходит, мне там как
раз нужна рука. Ты ведь знаешь, у меня контракты,
концессии, еще кое-что, и мне позарез необходима поддержка
в верхах, понял? И хотя говорят, от этих лириков толку
не будет, зацепиться не мешает. На всякий случай,
понял? Лучше не придумаешь!
Я вдруг вспоминаю иезуитов: цель оправдывает
средства. Пусть мой дядя мне поможет, а когда я добьюсь
своего, посмотрим.
— Почему бы нет? — отвечаю я излюбленным на Кубе
выражением.— Политика, если она хочет быть жизнеспо-
270
собной и плодотворной, должна опираться на здоровые
силы страны, в данном случае вы и есть одна из этих сил,
да еще поздоровее и посильнее остальных.
— Племянник, дорогой!
— Пустяки, дядя, пустяки! Вы помогаете мне, я
помогаю вам, и квит! Не думайте, однако, что я вдруг, в
одно мгновение отказался от своих убеждений. Я сделал
уступку только в том, что касается жизнеспособных сил.
А в остальном я есть и всегда буду непримиримым врагом
докторов и...
— Здравствуйте! А ты кто такой?
— Я? Я тоже доктор. Но я доктор, который лечит.
Пора покончить с докторами, которые в жизни не
вылечили ни одного больного, с юристами, тоже докторами,
которые не выиграли ни единого судебного дела,—- и тем не
менее за счет своего титула, вкупе с генералами,
присвоили себе все. У нас в стране, если ты не генерал Такой-то,
так ты должен быть доктор Растакой-то, а еще лучше и то
и другое, и генерал, и доктор дон Кто-Нибудь-Еще. У нас
говорили и говорят, что надо работать, что главное на
Кубе — сельское хозяйство, и все равно все хотят, чтобы их
дети были «докторами». И получается, что эти «доктора»
монополизировали науку и всю интеллектуальную жизнь,
считают себя суперменами, во все вмешиваются и все под
себя подминают, а нам остается только смотреть со
стороны, как генералы без войска и доктора без больных
дерутся между собой за кусок пирога; иногда с
энтузиазмом «истинных революционеров».
— Да, да,— кивает дядя, совсем замороченный моей
речью.
— Ну да! И докторов этих расплодилось столько, что
бюджета на них не хватает! Нет, дядя, к черту генералов
и докторов, и да здравствуют здоровые силы страны! От
них, по крайней мере, можно чего-нибудь ожидать. И мы
с вами еще поработаем, да? А как вы считаете?
— Я считаю,— говорит дядя, часто моргая, чтобы не
заснуть,— я считаю, что тебе следует приберечь свои
ораторские выкрутасы до той поры, когда ты войдешь в
палату, там они тебе пригодятся, будь уверен. Это раз, а
потом я дам тебе некоторые мои наметочки (потому что
ты ведь будешь действовать согласно моим инструкциям,
ты сам понимаешь), и со всем этим ты еще заткнешь их
всех за пояс!
— Надеюсь,— продолжаю я цинично.
271
— Так, стало быть, по рукам, племянник. Впредь пе
говори, что у меня каменное сердце. Теперь очень скоро
ты будешь работать по моим указаниям, а я буду
подпирать тебя через прессу, банк ну и некоторые дружеские
связи. А сейчас я подремлю, так, небольшая сьеста на
полчасика. Потом я дам тебе мою визитную карточку в этот,
как его? Ага, отель «Телеграф». Там ты устроишься.
Сегодня вечером я отвезу тебя на своей машине, она придет
за мной на вокзал. Для аппетита перед ужином выпей
чего-нибудь в баре отеля «Пласа». Это важно для
престижа, понял? И еще надо раза два-три в день чистить
ботинки у входа в «Инглатерру». Каждый раз, когда
представится случай, закатывай высокоморальные речи, вроде
той, которой ты меня только что угостил, а я уж тебя
пошлю для training 1 (правильно я произношу, а?) к Каньи-
со, и все будет в порядке.
— Каньисо? Какой это Каньисо?
— Тоже доктор. Доктор и генерал. Ах! Еще один
матерый зверь. Загляденье! Сам увидишь. Вхож во все
места. В порядочное общество, к масонам, к попам, к
спиритам, к рабочим лидерам. О! Он великий социалист,
хотя рабочих и близко не нюхал и сам живет на бульваре
Прадо. У него свои слабости: обожает девочек, совсем
девочек, из-за этого то и дело скандалы. Но он, Каньисо,
генерал и доктор одновременно. Его не сковырнешь.
Уф! — И дядя рыгает три раза подряд.— Он мне
рассказал, как из майоров стал генералом — в мирное время.
После революции ему присвоили звание подполковника. Со
временем эта приставочка «под» куда-то исчезла и
остался просто полковник. А тут нагрянул август, он скрылся
на какое-то время у родников в Сагуа и... вышел
генералом. И молодец, черт бы побрал мою душу!
Дядя закрывает глаза. Засыпает. А я размышляю над
тем, как Каньисо сделался генералом. Так же, как доктор,
который не вылечил ни одного больного, этот не произвел
ни единого выстрела. Мне вспоминается госпиталь
«Перу» и...
И больше ничего, потому что в этот момент поезд
проходит по долинам Гуанабаны со скоростью сто
километров в час, и справа, как чудо из «Тысячи и одной ночи»,
возникает несравненный пейзаж несравненного Матанса-
са. Гладкие синие воды залива охвачены подковой пля-
Трепировки (англ.).
272
жей. Усадьбы Бельямара. Кудрявые зеленые высоты Вер-
сальяс. Старый колониальный город, карабкающийся вверх
и сбегающий вниз по зеленым холмам. Крохотная, еле
видная отсюда, часовня в Монсеррате, венчающая одну из
гор, окружающих знаменитую долину. Все в мягком
предвечернем золотом свете.
Мой Матансас. Город моих детских шалостей, школы
дона Хасиито, первых длинных брюк, город моих
счастливейших воспоминаний. Город, любимый и даже
обожаемый моим отцом, отрада моей матери. Город, в котором
мой дядя когда-то держал бодегу!
Но дядя в этот трогательный момент храпит, по его
неподвижному апоплексическому лицу бродит муха; он
храпит, храпит зверски.
Прости его, о Матаисас!
II
А недурен этот номер: отличная ореховая мебель,
отделанная мрамором и зеркалами, пол выложен мозаикой,
балконы смотрят в парк, оттуда доносится говор людей,
гудки машин,— шумит столица,— отдельная ванная
комната, чистая, словно стеклянный шкаф с инструментами в
приемной дорогого врача, и, наконец, это царское ложе со
звонком и телефоном в изголовье, необъятное, мягкое, па
котором я только что проснулся утром после моего
приезда в Гавану.
Смотрю на часы. Ой! Без десяти шесть! В таком
номере, в таком роскошном отеле проснуться по-деревенски,
ни свет ни заря... Прикрываю ставни, задергиваю шторы,
укладываюсь поудобнее и пытаюсь заснуть снова.
Как бы не так. Спать допоздна — этому надо еще
научиться провинциалу, только что расставшемуся с
тишиной и покоем маленького города. А вот гаванцы, наверное,
спят себе сладко под звон и скрежет трамваев, рев
автомобильного стада и истошный крик газетчиков: «Му*ь
до-о-о-о!» Ну что ж, сейчас самое время начать привыкать.
Конечно! В таком номере, как этот, можно очень скоро
привыкнуть не только поздно вставать, но и ко многому,
многому другому. Например, привыкнуть думать, что па
Кубе и в самом деле не существует никаких социальных
проблем, что рабочие волнения по всему острову не что
иное, как подстрекательство со стороны маленькой кучки
18 К. Ловейра 273
эмигрантов-неудачников, что если ты пообедал
по-королевски в здешнем ресторане, то и все на свете сыты; что..,
что, скажем, есть даже бог в небесах, бог для богачей.
Честное слово.
«Посмотрим, посмотрим, дозовусь ли я в такой ранний
час коридорного»,— бормочу я про себя, нажимая кнопку
звонка.
Да. Дежурный на посту. Мы говорим по телефону.
Я прошу газету. Он приносит четыре. Взглянув на первые
полосы всех четырех, я просматриваю затем внимательно
одну за другой: «Генерал Монтальво сказал...», «Доктор
Альфредо Сайас считает...», «Интересное заявление
генерала Асберта», «Собрание под председательством
генерала Пино Герры», «Интервью с генералом и доктором Фрей-
ре де Андраде», «Поездка генерала Гомеса». В общем,
ясно! В стране есть всего десять или двенадцать человек,
зато на все случаи жизни, на все времена, сведущие во
всех материях. Не тот, так другой, не другой, так третий.
Да, мало, мало у бедной нашей Кубы умных и хороших
людей!
— Что? Что такое?
«Доктор Игнасио Гарсиа.— Вчера мы имели
удовольствие встретить на вокзале нашего уважаемого друга
доктора Игнасио Гарсиа, капитана освободительной армии,
родом из Пласереса, где все почитают его разнообразные
дарования и благородство. Доктор Гарсиа прибыл в
Гавану с политическими целями, он намеревается
баллотироваться депутатом в палату представителей конгресса^от
своей провинции. Было бы очень приятно узнать, что его
стремления приняты с одобрением, поскольку речь в
данном случае идет о доблестном ветеране, образованном
враче и политике высокой категории, прибывшем в нашу
столицу полным решимости поставить на обсуждение
конгресса проблемы чрезвычайной важности. Вскоре мы
предполагаем опубликовать некоторые заявления доктора
Гарсиа, которые он, по нашей просьбе, любезно
согласился сделать и которые, мы уверены, представят
безусловный интерес для наших читателей».
О, чудотворная власть дяди Пепе! Как явственно ты
просвечиваешь сквозь несравненный, сладкий сердцу запах
свежей типографской краски, которой выведено мое имя
в этих хвалебных строчках! У кого не закружится голова
от такого?!
Я вырезаю заметку, одеваюсь, завтракаю в кафе «Ин-
274
глатерра», забираюсь в кресло к чистильщику, покупаю
еще шесть экземпляров вышеупомянутой газета и, с
удовольствием вспоминая завтрак, сверкая ботинками, с ног
до головы готовый хоть сейчас приступить к своим
обязанностям парламентского оратора, возвращаюсь в отель
и вырезаю эту заметку из всех шести номеров, чтобы
послать их в Пласерес, прежде всего — Сусанне и Нэнэ, дабы
одно сердце радовалось, а другое треснуло со злости.
Звонит телефон.
— К вам пришел генерал Каньисо. Разрешите?
— Конечно!
Раскрываю дверь, чтобы встретить его на пороге, и
вижу, как он приближается по коридору. Животик чуть
побольше, чем раньше, седины много больше, чем раньше,
непринужденность «кяубмена», ослепительный костюм из
белого дриля, шляпа, достойная члена конгресса от
провинции Лас-Вильяс, ж неизменная, «истинно кубинская»
улыбка.
— Игнасио!
— Доктор, дорогой!
Объятия, похлопывание по плечам, и...
— Ну, слава богу! Наконец-то ты появился в
столице, здесь сумеют оценить твои достоинства. Да, мой
милый, торчать в какой-то дыре, произносить речи на
патриотических вечеринках, пропагандировать великие мьь
сли местных умников, тискать стишки и передовые в
газетенке, которую никто не читает, эдак можно всю жизнь
протоптаться на месте.
— Ваша правда, доктор. Садитесь, пожалуйста. Да, я
тоже это понял, только, думаю, не поздно ли.
— Что за глупости — поздно! Ты молод, и момент
самый подходящий. Покажи, что ты нужен Национальной
партии. Я сделаю так, что они бросят тебе, так
сказать, веревку. Хватайся крепче. Рассказывай побольше о
своих подвигах на войне, пусть тебя боятся; как только
где-нибудь состоится митинг, произноси речь. Ты же
знаешь: парочка общих мест в патриотическом духе,
моральное рассуждение {это непременно) — долой погоню за
должностями, что-нибудь в этом роде, и ты пойдешь вверх,
как на дрожжах. А, чего там! Я не о себе, ты понимаешь,
я о тебе. Ты человек образованный, ты читаешь, учишься.
Помнишь того парня, банкомета Хуанито, он еще был
попечителем лицея? Так вот, депутат. А кого называли
«Недоделанный», помнишь?
275
— Да.
— И он депутат. Поэтому, когда я прочел в газете о
твоем приезде, я тут же пришел сюда.
Проклятый мой характер. Меня так и подмывает
коварно спросить Каньисо, не дядя ли прислал его ко мне,
но, вовремя сдержавшись, я говорю только:
— А я думал, вы узнали от дяди.
— От дяди? Не видал твоего дядю. Я узнал от дона
Пепе, то есть сначала прочел заметку, а потом дон Пепе
рассказал, что встретил тебя в поезде и вы с ним
серьезно беседовали.
Каньисо изо всех сил старается загладить свою ложь.
А я понял, что проговорился или, как выразился бы
злоязычный дон Пепе, «ляпнул», открыв наше родство, о
чем он сам предпочел умолчать, но такому, как Каньисо,
меня не сбить, и я быстро поправляюсь:
— Ах да! Я ехал в поезде и говорил с доном Пепе, но
так как в этом же поезде ехал мой дядя, то...
Капьисо, конечно же, не помнит ни о каком моем
родственнике, далеком или близком, но выказывает
большой интерес к неведомому дяде:
— Вот как! Ты приехал с дядей? Тем лучше! Где же
он?
— Он вышел. Да, сеньор, вышел. Думаю, он целый
день проведет в Ведадо. Да.
— Ладно, нам пора идти. Дон Пепе сказал, чтобы
сегодня я отвез тебя в министерство к десяти утра. Туда еще
рано, но мы с тобой заглянем в кое-какие газеты, зайдем
к моему адвокату на Прадо, у меня к нему дело. Я тебя
со всеми познакомлю.
— Пошли.
У подъезда Каньисо поджидает новенький сверкающий
«шандлер» с шофером и адъютантом в белой форме.
Металлическая пластинка удостоверяет, что этот автомобиль
обслуживает правительственное лицо.
Сначала мы едем на бульвар Хосе Марти к одному из
самых знаменитых наших политических деятелей из так
называемых разносторонних людей, уделяющих два часа в
день своей адвокатской конторе, два — газете, которую
издает, два — публичным выступлениям, два — палате
представителей, два — акционерному обществу, два — делам
своего сахарного завода и ни одного часа образованию или
xotVi бы чтению книг и журналов. Затем мы отправляемся
на улицу Сан-Рафаэль, в магазин «Эль Энканто», где Каньи-
276
со поджидает некая девица, которой «до смерти хотелось бы
кунье манто». Возле магазина, несмотря на ранний час,
в ряд с другими роскошными автомобилями стоит немало
машин с таким же, как у нас, правительственным знаком
и с такими же шоферами в белоснежной униформе, с
сияющим на кепи гербом республики. Затем мы заходим в
редакции нескольких газет, где, как и везде, Каньисо
расточает улыбки, рукопожатия, широкие поклоны со шляпой
в руке,— полный джентльменский набор истинно
креольской непринужденности и чисто тропического лукавства.
До министерства мы должны заехать по делам
Каньисо во дворец «Капитанес Хепералес». По пути нас
догоняет автомобиль, сдержанной торжественностью и
величавостью впору экипажу епископа. В самодовольном лице
в очках и с полуседой бородой, эффектно светящейся на
фоне дорогой обивки автомобиля, я узнаю Карлоса
Мануэля Амесагу. Я вижу синее пятно мундира с
адъютантскими шнурами, и мне вдруг представляется совсем иная
картина: Карлос Мануэль Амесага в последние дни своей
карьеры автономиста в экипаже времен колонии,
запряженном парой, едет от генерала Бланко в сопровождении
адъютанта, в синем мундире и с такой же, как у -него
сейчас, придворной улыбкой на устах, в самой складке
которых, кажется, запечатлена глубокая мудрость.
В то время, как я любуюсь воображаемой картиной,
герой освободительной армии Каньисо подстерегает
придворную улыбку своего коллеги. Встречаются взгляды, за
ними следуют два поклона и значительное, и вместе
интимное с обеих сторон: «Добрый день».
Лопаясь от гордости, Каньисо спрашивает:
— Знаешь, кто это такой?
— А как же? Историческая личность, а кроме того, мы
с ним школьные товарищи и... враги.
— Да?
— Вы разве не помните, что было причиной
нападения Нэнэ на том митинге?
— Ах да! В самом деле. Однако... Ну ладно! С тех пор
утекло много воды, надеюсь, теперь вы друзья.
Во-первых, потому что этот человек «может»,— молодчина! —
и, во-вторых, потому что он «стоит». Это великий
государственный ум, знаменитый писатель и к тому же
лучший оратор во всей Латинской Америке?
— На Кубе — бесспорно.
— И на Кубе, и везде.
277
— Стало быть, если спросить аргентинцев, чилийцев,
перуанцев, колумбийцев, мексиканцев и всех остальных, то
они согласятся с вами, что Карлос Мануэль Амесага
лучший оратор во всей Латинской Америке?
— А ты сомневаешься? Ты, значит, один против того,
что весь свет признает? Ты, может быть, скажешь, что он
не национальная святыня?
— Как же мне не сомневаться? Вам кажется, что если
мы, кубинцы, твердим и твердим тупо, как Панург, одно и
то же, то и другие поверят нам на честное слово? Где,
собственно говоря, плоды этого огромного ума, почти
божественного, который вы приписываете Карлосу Мануэлю. Пусть
мне скажут те, кто кадит ему в прессе, кто не может
выпустить паршивой книжонки, чтобы не посвятить ее ему,
не назвать его святыней нашего прошлого, гордостью
родины, гением и иными словами, которым позавидовали бы
Барнаве, Мирабо и Кастеляр. Ну, что скажете, доктор
Каньисо?
— Итак, ты не веришь в доктора Амесагу?
— В то, что он «может», я еще могу поверить, но что
он «стоит», это я буду отрицать, пока не предъявят иных
доказательств, кроме идиотских «ах!», «ох!» и «ух!» моих
соотечественников. И снова скажу: за пределами нашего
отечества, за исключением одного-двух человек, хорошо
знающих наши кубинские дела, никто и не догадывается, что
здесь живет доктор по имени Амесага, автор двух-трех
бездарных трактатиков да дюжины пошлых предисловий,
человек, который в политике только и делал, что выступал
с высокопарными заявлениями и совершал одну ошибку за
другой, но благодаря нескольким своим речам,
прослывшим почему-то образцовыми, хотя и канувшим уже в
океан тропического словоизвержения, считается у себя
дома лучшим оратором мира.
— Хорошо. Ты говоришь, что веришь в то, что он
«может», этого с тебя пока хватит; со временем ты примешь,
пусть неискренне, и другой символ национальной веры:
то, что доктор Карлос Мануэль Амесага «стоит». Ну и...
кончено. Приехали.
Выходим из машины. Уже в передней Каньисо
принимается расточать направо и налево улыбки поверх голов
просителей, униженно ждущих у преддверия приемной,
просителей безнадежных, хронических, пробудить в
которых бунтарский дух можно, лишь больно уколов или
подло пнув их достоинство.
278
«Лизоблюды», сторожащие вход во владения министра,
высокомерные с равными и лакеи с теми, кто выше,
изгибаются в дугу перед Каньисо; один из них распахивает
двери, при этом и мне перепадает от липкой сладости его
улыбки, и мы входим в приемную.
Приемная эта, по размерам почти зал, обставлена
строгой, но удобной мебелью так называемого делового стиля.
Там уже собралось человек двадцать, разделившихся на
несколько кружков. В углу молодые люди в безупречных
белых костюмах болтают с тремя женщинами,
расположившимися на диване,— две сильно накрашенные девицы в
очень коротких и очень прозрачных платьях и дама
средних лет, не уступающая девицам ни в раскраске, ни в
воздушности туалета; все они горячо жестикулируют, бросая
друг на друга зажигательные взгляды и улыбки» Еще один
кружок — спорят солидные сеньоры, с виду из «отчаянных
политиков». В стороне сидит в кресле одинокая сеньора,
бледная, серьезная, в черной вуали. Вокруг
величественного стола помощника министра, почти закрывая его
собой, толпятся лысые сеньоры в очках, обсуждающие и
комментирующие какой-то, видимо, сложный и важный
вопрос.
Некоторые здороваются с нами. Каньисо и я за ним на
буксире подходим к собравшимся возле стола. Помощник
предупрежден о нашем приходе, он поднимает голову, и я
вижу его гладко выбритое лицо, типичное лицо
процветающего янки. Он улыбается, он о г всей души рад видеть
нас:
— Приветствую вас, доктор! Еще одну минутку, и я
займусь вами.
— Да, дорогой, не беспокойся. Мы не спешим. Я вижу,
дон Пене еще не пришел.
— All right!l Спасибо.
Мы садимся, и пока Каньисо объясняет мне, кто есть
кто в этом салоне, мое ухо улавливает некоторые обрывки
фраз pi слов.
С одной стороны:
— Будь спокойна, девочка. Генерал распорядился,
чтобы деньги тебе посылали по почте каждый месяц. Наберись
терпения и ты подпишешь контракт на целый год.
С другой стороны:
— Да нет! Ничего подобного! Я на это не пойду. Если
Прсвосходио! (англ.)
279
они выставляют кандидатуру этого доктора Кретина, я
отказываюсь безо всяких. Еще чего не хватало. Через мой
труп!
Возле стола:
— Ну, мой дорогой, тут уж ничего не поделаешь,—
гнать вон испанцев и прихлопнуть этого кубинца, который
мутит воду своими социалистическими речами.
Вдруг все разговоры замирают. В дверях
показывается мой дядя. Он в шерстяном костюме, без жилета, в
рубашке с отложным воротником, без галстука, на ногах два
корабля, не чищенные сто лет. Шуточки, рукопожатияг
даже помощник министра выходит из-за стола, чтобы
встретить и похлопать по плечу хозяина сахарного завода
«Иберия», и под руку с ним возвращается.
— Генерал,— говорит Каньисо, обращаясь к нему,—
рекомендую вашему вниманию этого молодого человекаг
доктора Игнасио Гарсиа, нашего товарища по оружию.
Ветеран революции, и... я думаю, вы слышали о нем... дон
Пепе...
— Да, как же. Не только потому, что дон Пепе мне
звонил, а вообще я где-то о вас слышал, да, слышал, как
же. Вы из... Вуэльтаса?
— Из Пласереса, генерал,— говорю я.
— Совершенно верно. Из Пласереса. Я так и думал.—
И после паузы, во время которой он, видимо, вспоминает,
где это — Пласерес, продолжает: — Да, да, прекрасно. Ну,
а что же мы дадим Нэнэ?
— Я думаю, вам виднее,— отвечаю я,— откровенно
говоря, я до сих пор не задумывался над тем, что Нэнэ
надо что-то дать. Мне, собственно, нечего ему
предложить.
— Дорогой, я имею в виду место. Надо оставить ему
что-нибудь стоящее, с Нэнэ не следует ссориться. Это
человек надежный, борец, и... за ним тянутся...
— Да, это мне известно. Он тянет... тянет...
— Что вы говорите?
— Я говорю, он тянет... тянет за собой половину
провинции по меньшей мере.
— Вот видите. Тем более я бы хотел, то есть мы бы
хотели, чтобы вы были нашим депутатом от Пласереса.
Прежде всего потому, что об этом просил наш добрый
друг дон Пепе, ну а затем потому, что вы обладаете
достоинствами, которые... все мы признаем. Но что же мы
тогда дадим Нэнэ?
280
— Послушайте. Какое мне дело до Нэнэ? И вообще,
какое отношение имеет Нэнэ к новой партии? — И опять
донкихотство ударяет мне в голову: — По всему судя,
Нэнэ будет фигурировать и в новой партии, значит, там
пойдет та же самая старая канитель?
— Вот что, милый доктор, — умиротворяющим
голосом отвечает генерал, — прежде всего я должен вас
предупредить, что нам с вами не подобает слишком много
рассуждать о новой партии. Эти люди сейчас идут вверх,
у меня с ними дела, но в правительстве у меня тоже дела.
Более того, я сам и есть правительство, друг мой. То есть я
его член. А кроме того, что самое главное: политика —
это... политика. И всегда будет так. И если мы имеем
счастье или несчастье любить родину и болеть за ее
интересы, мы должны участвовать в политических партиях,
какие бы они ни были. Я, например, сегодня, как вчера, как
и впредь... вот итальянцы говорят... «Все отдам за Кубу...»
И потому... надо предложить баллотироваться Нэнэ.
Необходимо, неизбежно, и я надеюсь, что вы...
— Будьте уверены, генерал, — говорю я, решившись не
уступать этим людям ни в наглости, ни в чем другом, раз
только так можно тут побеждать,— будьте уверены, что
я ото всей души в прессе, с трибуны, в любом месте и
любым способом буду бороться против всех этих безобразий,
главная задача моей жизни — победить Нэнэ во что бы то
ни стало, если меня не оставит своей помощью...
— Да, да, дон Пепе, — прерывает генерал. И тоном
хозяина положения: — Потихоньку, полегоньку, дружок.
Не надо волноваться. Раз речь идет о доне Пепе, можете
считать, все в порядке. Для него мы сделаем все, что
угодно. Это наш лучший друг. И мы к его услугам, всегда и с
большим удовольствием...— И возведя очи в потолок,
словно ища там ответа: — Что бы такое, что бы такое изыскать
для Нэнэ... Может быть, ему...
На помощь приходит Каньисо:
— Послушайте, дон Пепе. И ты тоже,— он
оборачивается к генералу.— Нэнэ надо предложить что-нибудь
повыше. Если алькальдом в Сагуа? Я думаю, это его
удовлетворит.
— Да, вот и я говорю,— соглашается генерал.—
Посмотрим, посмотрим. Во всяком случае,— и он прямо
обращается к дяде,— с вами, дон Пепе, мы поладим.
— Надеюсь, надеюсь! Но и то сказать, мальчик этого
стоит, черт бы побрал мою душу. Славный петушок для док-
281
тора Переса де Портике, ей-богу... Ты ему будешь как раз
в масть. Честное слово. А какие речи он произносит против
докторов-политиков. Насмерть, черт бы побрал мою душу.
— Да, но самое интересное — он ведь тоже доктор, —
замечает генерал.
— Вот именно! — выпаливает Каньисо.
— Он говорит, что он-то доктор... на самом деле, он
лечит, да. В этом что-то есть. А они, говорит», как ты
говоришь?
— Не помню.
— А я помню. Как это ты сказал вчера?.. Врачи, не
вылечившие ни одного больного, дантисты, не умеющие
вырвать зуб, адвокаты без клиентов.
Каньисо краснеет и, чтобы скрыть смущение, повторяет:
— Уж этот дон Пене!
А дон Пепе, подойдя к помощнику министра
вплотную, почти касаясь его своим животом, товарищески
откровенно, или, лучше сказать — совсем запанибрата, говорит:
— Послушайте. Я вам расскажу одну историю, с
разрешения моего друга Каньисо. А чего там, мы все здесь
свои люди, черт бы побрал мою душу. Ну вот, приглашает
он меня как-то отобедать у одних наших общих знакомых,
земляков, у них магазин на улице Колон, и вот, он не даст
мне соврать, Панчон, старший из братьев, открывая
бутылку, почти отхватил себе палец, мы с Каньисо испугались,
выскочили на улицу и орем во все горло, как дураки:
«Доктора! Скорее, пусть позовут доктора!» Так и было, черт бы
побрал мою душу.
— Да, да! Оба доктора хоть куда! — поддакивает
генерал, стараясь уже отделаться от нас.
— Ах, дон Пепе! Ох, дон Пепе! Ха-ха-ха! — заливается
Каньисо, готовясь удрать.
— Ну ладно, прощай, и приглашаю ко мне на охоту. В
усадьбе сейчас есть на что поохотиться, черт бы побрал
мою душу.
— Прощайте,— раскланивается помощник министра.
И обращаясь ко мне: — До свидания, молодой человек, мы
подумаем о вас. Почему бы нет? Для дона Пепе все, что
угодно.
— До свидания.
Дядя приказывает шоферу:
— В Национальный банк!
А Каньисо:
— Во дворец!
282
Ill
Кто-то стучится в дверь моего номера.
Открываю — Каньисо, с этой своей креольской
непринужденностью, которая в нем отточена до артистизма и
составляет главную его силу, восклицает:
— Что такое? Да этому никто не поверит! В Гаване
забраться в постель в десять вечера...— И, указывая на
молодого человека, пришедшего вместе с ним, худого, но
элегантного и красивого, несмотря на преждевременную
седину, добавляет: — Вот, прошу покорно,— мой коллега и
друг, посвящен во все тайны нашего веселого,
гостеприимного города, особенно в ночные, он — уж не знаю
почему, пусть сам объясняет — жаждет с тобой познакомиться.
— Очень рад, сеньор.
Я сердечно пожимаю руку молодому человеку и слышу
его чистый, приятный голос:
— Наш друг Каньисо прав. Я очень хотел
познакомиться с вами, весьма счастлив. Конрадо Мордасо, ваш
покорный слуга.
— Я к вашим услугам... Но проходите, сделайте
милость, садитесь.
Они садятся, и пока мой новый знакомый внимательно
присматривается ко мне сквозь толстые блестящие стекла
очков, Каньисо опять берется за свое:
— Скажи все-таки, чем хоть ты занят здесь, в номере,
в этот час?
— Пишу письма жене, детям, матери. С мамой мы еще
ни разу не разлучались за двадцать лет, как кончилась
война. Ну и с женой тоже... после свадьбы первый раз
врозь. Вы скажете, это провинциально, может быть. Когда
ты уезжаешь от семьи далеко, на несколько дней — это
большое событие, как хотите. Жена перед отъездом сто
раз мне напомнила, чтобы я писал ей ежедневно, и вот
сейчас как раз исправляю огромное послание, и не потому
только, что обещал писать, айв самом деле чувствую себя
не в своей тарелке вдали от нее.
— Что вы говорите! — восклицает Мордасо.— Значит,
мы помешали?
— Отнюдь. Напротив, я вам рад. Я допишу потом, а то
и завтра.— Изо всех сил я стараюсь выглядеть любезным
на столичный лад.
— Ну вот, — снова прорывается Каньисо, — я сказал
себе: человек весь день провел в отеле и весь вечер соби-
283
рается там сидеть, вдруг ему захочется погулять, одному
скучно, я и привел этого молодого человека, он знает
Гавану вдоль и поперек, может показать такие местечки —
пальчики оближешь.
— Как же весь день, доктор! Из приемной в приемную,
из редакции в редакцию, от адвоката к адвокату, вы меня
не отпускали до четырех!
— Ну хорошо, а с четырех до десяти? Приехал в
Гавану и пять или шесть часов напролет торчит в комнате,
просто так, без дела, как это можно вынести?
— Я выношу. Это вы не могли бы вынести, господа
MHoroi ранные люди.
— Ах, как мне жаль жен этих многогранных людей! —
многозначительно вздыхает доктор Мордасо.
— Вы слышали, доктор Каньпсо? Говорит ваш
коллега, свидетель обвинения, так сказать: «Ах, как мне жаль
жен этих многогранных людей!»
— Ну, этот апостол чужих жен сам хорош. Одним
словом, мы тебя сейчас везем в театр, а письмо супруге
допишешь потом.
— В театр? В десять вечера?
— Да. А что? Ты собираешься смотреть
представление? Нет, речь идет о другом, Мордасо хочет тебе кое-что
показать. Ты счастливчик, однако! Какой сюрприз тебя
ожидает... Одна женщина, — и какая женщина, если бы ты
знал, лучшей у нас в Гаване не найдешь, — так вот она,
вообрази, хочет тебя видеть, напомнить о прошлом и...
дать тебе почувствовать наконец, что ты в столице,
дорогой мой!
— Как? — спрашиваю я, ничего не понимая.
— Так, как я тебе сказал. Советую поехать с нами в
«Пайрет», если хочешь вернуться в Пласерес в хорошем
настроении. Так-то вот, сеньор.
— Я, ей-богу, не знаю; похоже, что вы надо мною
смеетесь; хотите взять на пушку простака-провинциала, я
угадал?
— Смеемся? Пусть он сам расскажет.— И обращаясь к
Мордасо: — Объясни, пожалуйста, этой деревенщине, в чем
его счастье. Но в двух словах, мы и так опаздываем.
Заботливо поддернув брюки на коленях, Мордасо
кладет ногу на ногу, показывая мне отличные шелковые
носки сиреневого оттенка и прекрасные сверкающие ботинки
топкой кожи, и доверительно спрашивает:
— Вы помните Тересу Карбо?
284
— Да, — отвечаю я сухо и с виду невозмутимо, а
сердце мое тревожно вздрагивает и начинает стучать быстрее,
— Ты ее помнишь, и очень, даю слово, — по-креольски
переходя на «ты», авторитетно заявляет Мордасо.
— Да, да.
— Так вот, а я любовник ее сестры Куки, помнишь, а?
— Еще бы!
— Очень хорошо. Иу, я просто называю ее своей
любовницей, — щепетильность побоку! — мы же тут в своем
кругу...
— Пустяки, — вступает Каньисо, — все равно вся
Гавана это знает. Думаю, знает и ее муж, ты у нее не первый
и не последний! — И глядя в мою сторону: — Этой
женщине нравятся красивые молодые люди из журналистов,
писателей, она не отказывает никому, кто вздумает за ней
поволочиться и предложить ей кое-что рискованное, хм-хм..,
— Слушай, придержи немножко, ты у меня отбиваешь
хлеб.
— Да, да. Давай, но только о деле! — приказывает
Каньисо.
На меня нападает вдруг не то страх, не то стыд, какая-
то провинциальная оторопь. Молодой человек, такой
красивый, элегантный, наклоняется в мою сторону.
— А Тереса, какой женщиной она стала, если бы ты
только знал! Какая фигура! О, вся Гавана от нее в
восторге! Тебе известно, что она вышла замуж?
— Да, поэтому я очень удивлен тем, что вы
рассказываете. Я о ней и не вспоминал никогда.
— Хорошо, слушай дальше.
— Да, да, теперь слушай его и не перебивай. Эти Кар-
бо засели у него в печенках. Если он заговорил о Тересе,
а особенно о ее сестричке, его не остановишь. От Куки он
совершенно сбрендил.
— Да. И есть от чего. Мы с ней близки недавно, и
скажу вам, что ей я обязан самыми восхитительными
минутами в моей жизни.
— Поздравляю. Но ты опять не о том, — нетерпеливо
говорит Каньисо.
— Не о том? В самом деле. Итак, Тереса. Она покорила
всех более или менее значительных мужчин в Гаване:
политиков, спортсменов, капиталистов, молодых, старых,
и...—что вы думаете, друг мой?..— все остались с носом.
Никто из них не может похвастаться, что она одарила его
хоть улыбкой. Это не женщина, это утес Гибралтарский, ее
285
не сдвинешь и силой не возьмешь. Но (забавно, что в
каждом деле непременно есть свое «но»!), но... самое
интересное, что эта непреклонная добродетель ничем не
объяснима. Муженек ее не поднимает головы от покера, его знают
во всех клубах Гаваны, его не вытащишь с бегов и из «хай
алая». Он купается по уши в золоте, перелетая, так
сказать, с цветочка на цветочек, блеф — вот его ремесло.
Можешь себе представить, что за веселая жизнь у нее, но
(вот оно, то самое «но»!) у нее есть одно утешение —
воспоминание о тебе.
— Обо мне?
— Да. О тебе, тебе. Не веришь — спроси Куку.
— Не понимаю.
— Что тут понимать? Там, в Штатах, вы разве не
были женихом и невестой, возлюбленными, кем хочешь, до
того как ты женился? Кука рассказала мне целый роман,
как вы любили друг друга, как Тереса только и мечтала
выйти за тебя. И что она всегда интересовалась твоей
жизнью. Ну, знаешь, она рассказывала такое, что... да ты
и сейчас не сходишь у нее с языка. «Игнасио Гарсиа
сказал... Вот я помню, Игнасио Гарсиа...» Теперь ты не
удивишься, что я подпрыгнул, когда сегодня этот мне говорит,
будто в газетах напечатано о прибытии в Гавану Игнасио
Гарсиа и что вы с ним старые друзья.
— Да, — снова оживляется Каньисо, — он взвился от
радости, и видишь, заставил все-таки захватить его.
Я совсем перестаю что-нибудь понимать, а Мордасо
подхватывает:
— Конечно, я горел желанием познакомиться. И не
только для себя. Я рассказал Куке, и она очень
обрадовалась. Ах, это опасная женщина! Очень любит сестру и в то
же время как будто на нее сердится или завидует, может
быть, из-за того, что та ни разу не унизилась до легкой
связи, ну и... пойми женщин. Она отдала бы правую руку
на отсечение, только бы узнать про Тересу что-нибудь в
этом роде. О да!
— Могу сказать, эта маленькая Кука — просто чудо, —
тоном знатока роняет Каньисо.
Я соглашаюсь:
— Чудо, чудо. Вообще — черт возьми! — и вы оба
тоже,., очень мне нравитесь, а я, я... одичал, надо созпаться...
— Ты прав, — снова воодушевляется Мордасо, имея в
виду замечание Каньисо, — прелестная, очаровательная, а
какова в любви! Она подарила мне, я уже говорил, див-
286
ные, дивные ночи. Не далее как вчера, например, муж
уехал...
— Пощади, ради бога, — взывает Каньисо.— Я тебя
знаю, ты так вкусно описываешь, — кончится тем, что мы
и в театр не попадем, и меня хватится моя жена.
— Да, ради бога, Мордасо, — повторяю я, лишь бы не
молчать, как дурак.
— Нет, нет, — говорит Мордасо, — лучше я расскажу.
Тогда он наверняка поедет с нами в «Пайрет». Да, друг
мой, Тереса не женщина, а королева, повторяю и буду
повторять. Лицо — только на картгшках такие бывают, а
сложена!.. Боже!.. Вы сами увидите. И она и Кука — одна
фигура. Я видел мою любовь нагой, я могу себе
представить, что такое ее сестра. Какая щиколотка, какие колени,
послушайте! Стройные, гордые ноги — другого слова нет!
А бедра! Я уже не говорю о животе, вы видели древние
статуи?.. Кожа белая, шелковая, а под рукой — крепко,
плотно и, знаете, пушок, мягкий, золотистый,
представляете себе золотистый бархат? Ну ладно. Вчера к вечеру
посылаю ей две огромные охапки роз (заказывал в Ведадо),
и в половине двенадцатого я у нее; спальня утопает в
розах, на туалетном столике — розы, в умывальнике — розы,
постель усыпана розами. Сама она в шелковой прозрачной
рубашке, на груди вышивка (ах, другой такой груди на
свете нет!). Благоухает от затылка до кончиков ногтей
(пальчики — хорошенькие, один к одному). Я сам пудрил
ее... с ума сойти, умереть... Я не так стар, мне всего
тридцать два года, но все равно сначала нужно войти во вкус,
и я начал целовать ее от ноготков на ногах, вверх... О, эти
две мраморные колонны, сеньоры! И я пропал, пропал.
Какой восторг, какой букет ароматов, сеньоры! Сандаловая
пудра и духи из...
— Сделай милость, замолчи! Я тебе говорил, он не
рассказывает, а картины пишет.
— Дай мне закончить, дорогой.
— Нет, ни в коем случае. Хватит, хватит, тебе только
дай закончить, ты снова начнешь и снова станешь
заканчивать, и так без конца. Довольно! Пошли! — И, взглянув
на часы, Каньисо восклицает: — Половина одиннадцатого!
Вперед!
Где я? Куда я попал? Скорее всего в Вавилон. Хватит
у меня отваги проглотить всю эту мерзость, чтобы пройти
в палату или куда-нибудь еще во имя того, чтобы там
начать сражаться с этим свинством, только в национальном
287
масштабе? А меня уже теперь тошнит. Не лучше ли
обрезать сразу? Театр? В театр, конечно, можно поехать...
— Да, да, поехали...
Все наконец встают, я подаю шляпы моим гостям, и
мы направляемся к старому, облупленному и довольно
безобразному дому на углу бульвара Марти и улицы Сан-
Хосе, где помещается театр «Пайрет».
Проходим мимо отеля «Инглатерра». Мордасо не
может удержаться, продолжает расхваливать нам интимные
прелести Куки и бездны терпких наслаждений, в которые
оба они погружались в «ночи любовной сверхцивилизации»
(его выражение), и продолжает с болезненной
экзальтацией и совершенно невероятной откровенностью
расписывать «ножки», «округлости», «душистые кудри»,
«взаимное удовлетворение», сопровождая все это пышными
эпитетами, пылкими жестами и восклицаниями: «Роскошная!
Несравненная! Божественная! Упоительная!»
— Перестань, прошу тебя,— вставляет время от
времени Каньисо.
— Что такое? Какие-то пустяки тебя смущают.
— Пустяки? Ничего себе! Что подумает о тебе наш
провинциал? Не успели познакомиться, и ты тут же
пустился исповедоваться в своих грешках!
— Подумаешь! «Между своими...»
— Да, да... «Между своими, чего стыдиться нам»,—
поддерживаю я, чтобы сказать хоть что-то и убить время
до театра, а главное, скрыть неудовольствие, стыд, свою
деревенскую неуклюжесть.
— Будут ли еще места, ведь поздно,— это моя
последняя надежда увильнуть, ибо я трушу, трушу необъяснимо
и отчаянно.
— Конечно, будут,— хором отвечают оба.
Ясно, в Гаване они люди с весом, что стоит им достать
места.
— Если не пристроимся в ложу к знакомым, постоим в
проходе. Еще лучше,— говорит Каньисо.
Мы пристроились в ложу.
Театральные хроникеры давно затаскали эту фразу, но
я все-таки повторяю еще раз: театр являл собой
великолепное зрелище. На роскошно обставленной сцене в это время
играют главный эпизод модной оперетты. Человек
двадцать актеров в нарядных костюмах подпевают
примадонне, одетой в стиле общепринятого креольского эротизма,—
подавляющая роскошь драгоценностей, изысканность туа-
288
лета и огромная доза бесстыдства, отчасти возмещающие
неуверенность и резкость ее трелей. И в полном
соответствии с блеском на сцене — кресла и ложи, толпа,
сверкающая золотом, шелком, бриллиантами, белоснежными
мужскими тройками, перламутром и блестками
трепещущих вееров.
Каньисо рассыпается в поклонах и улыбках, болтает
с нами о пустяках и принимает равнодушные позы — на
публику. Мордасо вполголоса называет мне имена и
положение в свете тех, кто сидит в ложах: девицы Труфадо и
Ерро, генерал Адорнадо, доктор Хосе Хоакин Альвес
Пачеко... Называет и бормочет время от времени: «Где же
опа? Не вижу. Неужели не пришла?» И я, заразившись
его азартом, с нетерпением жду, когда он ее найдет, и сам
ищу, переводя взгляд с ложи на ложу, женщину
необычайной красоты, в которой воплотилось бы воспоминание
о Тересе моих далеких и счастливых двадцати лет.
— Вот она! — восклицает Мордасо, почти тыча
пальцем в ложу на той стороне, но довольно далеко от нашей.—
Они здесь, эта великолепная пара несравненных женщин.
Видите?
— Да,— говорю я.
— Да. Конечно, это они,— подтверждает Каньисо. —
Обе в кружевах. До чего хороши!..
— Ты узнал, которая Тереса? — спрашивает Мордасо.
— Та, что выше ростом,— отвечаю я с волнением, слов-
по желая убедить самого себя, что глаза меня не
обманывают, вопреки расстоянию, отделяющему мою ложу от ее,
и вопреки годам, отделяющим Тересу, царившую в отеле
«Гавана», от Тересы — первой дамы гаванских салонов
Это именно она, незабываемая полулюбовь моих юных
дней.
Звучат последние устрашающие звуки оркестра, взрыв
аплодисментов, и занавес падает. В антракте Мордасо
уводит нас в фойе, с тем чтобы незаметно подойти поближе
к ложе Тересы и попытаться увидеть ее сквозь задние
портьеры.
Очень скоро в облаке приветствий и шуточек,
расточаемых во все стороны моими спутниками, мы оказываемся
у ложи Тересы, и напрасно: низкая дверь заперта, а
портьеры задернуты.
Возвращаемся в свою ложу, и до конца представления
все трое не сводим глаз с Тересы и ее прелестной
спутницы, и опять зря. Обе женщины поглощены только тем, что
19 К. Ловейра 289
происходит на сцене. И продолжаются рулады бесстыдной
певицы, взвизгивания тенора, подвывания хора, дурацкие
конвульсии долгогривого дирижера, шушукание зрителем
и зрительниц, и Мордасо шепчет:
— Нет. Бесполезно. Она ни на кого не смотрит.
Оттого-то все и добиваются ее расположения. Но ей хоть бы
что, не слышит, не видит. Ничего не поделаешь.
Неприступная, стальная. Разбейся в лепешку, она и ухом не
поведет. Одна надежда на... некоего Игнасио Гарсиа, может
быть, он поможет всем нам...
Когда падает занавес и публика начинает продвигаться
к дверям, Мордасо говорит:
— Пошли к подъезду, там ей от нас никуда не деться.
Теперь они, конечно, поедут ужинать в «Телеграф» или к
«Лиону», мы тотчас за ними — и займем столик рядом.
Плывем к выходу на волнах духов вместе с
колыхающейся соблазнительной женской толпой — кружева, газ,
низкие декольте.
У самого порога почти лицом к лицу сталкиваемся с
ними. Обе в белых кружевных платьях на голубых
чехлах, отлично вылепленные бюсты, нежные руки
просвечивают сквозь кружева. Да, красивы, элегантны, царственны,
мужчины провожают их взглядом. И более всего
привлекает к себе внимание светлая Тереса, Я застываю,
подавленный, как бедный влюбленный перед прекрасной дамой
знатного рода, обожаемой тайно и безнадежно, и тут она
останавливает на мне огромные удивленные глаза,
бледнеет и чуть ли не спотыкается.
Мордасо, пользуясь тем, что мы оказались в толпе,
украдкой щиплет меня пониже спины и говорит:
— Аве Мария, мальчик!
Каиьисо подбадривает меня:
— Вперед, за ней!
За ней? Ни за что! Опасно, ужасно, абсурдно! Сжаться
в комочек, удрать, потеряться в толпе; пусть мои доктора
думают, что хотят. А потом... потом замести следы, переме-
пить отель и первым же поездом в Пласерес, в надежные
руки Сусанны, под крылышко к моим мальчикам. Уехать,
пи с кем не прощаясь.
Великолепный бюст Тересы уже еле видеп в тесной
толпе, сестры спускаются по лестнице. Мордасо и Каньисо,
работая плечами, проталкиваются среди декольте и матт-
шек, настойчиво зовут меня: «Ну, что же ты. Иди.
Быстрей. Вот сюда. Они уходят!»
290
Не пойду я никуда! Опасно, ужасно, абсурдно! Мое
золотоволосое прошлое — неистовая любовь моих юных
дней — застало меня врасплох среди этих вызывающе
открытых платьев, терпких ароматов, сладостных касаний и
потрясло все мое существо, поставив на край пропасти.
Озаренные светлой юной дымкой, хлынули воспоминания:
умопомрачительный флирт в отеле «Гавана» в первые дни
после приезда; весеннее утро в надземке на Третьей
авеню; порыв страсти, воровским образом удовлетворенный па
грубой скамье возле водопада у реки Потомак. Какие
пленительные видения! Как загорается кровь! И какая беда
впереди, если сейчас я не удержусь и пойду за ней!
Нот...
И я удираю, растворяюсь в толпе, идущей к боковому
выходу; возвращаюсь в отель, предупреждаю портье: кто
бы ни спросил меня, я еще не вернулся; запираюсь в
номере и сажусь заканчивать письмо Сусанне.
Вдруг: «Ду-ду-ду»,—телефон.
Будь он проклят! Кто это? Ослы несчастные, я же
сказал: не соединять.
«Ду-ду-ду...»
Наверное, Каньисо. Или второй. Пусть обзвонятся...
Пытаюсь писать. Но... А вдруг Тереса? Это может быть
и Тереса. В конце концов — провались все на свете! — что
случится, если я с ней поговорю?
«Ду-ду-ду...»
Взять трубку? Не брать? Пока я раздумываю, встаю и
иду к телефону, звонок уже не звонит. Беру трубку,
приближаю лицо к микрофону, жадно спрашиваю:
— Алло? Кто говорит? Алло?
Не отвечают. Больше не звонят. С сожалением вешаю
трубку, складываю странички письма к Сусанне, убираю
их, раздеваюсь и ложусь в постель с необъяснимой
тревогой и грустью в душе.
IV
Выборы в Пласересе стоили мне не таких уж больших
компромиссов, однако небольшой котелок дряни пришлось
выхлебать. Сусанна глубоко страдала, видя, как я верчусь
в пропагандистском колесе, заключаю грязные союзы,
торгую избирательными голосами, распространяю нужные
мне слухи и даже клевету, подтверждаю моим честным
291
словом ложь и фальшивые сделки, веду серьезные
переговоры с разным сбродом, позволяю обманывать себя
мошенникам, шулерам, ораторам всех мастей и тому подобным
социальным паразитам,— и все это с неизменной улыбкой
на устах. Сусанне казалось гнусным, что ее муж, чистый,
хороший человек, недоступный политической проказе,
исполняет роль шута в этом предвыборном маскараде. Но
всего больнее ей было то, в чем она призналась однажды
ночью, в одну из редких теперь ночей, когда мы, как в
былые времена, разговаривали и целовались украдкой от
матери и от детей:
— У тебя больше пет времеш1 для семьи, для
мальчиков и для меня. Эта проклятая политика забирает тебя
целиком, с головы до ног. Митинш, собрания, поездки
туда-сюда, в Санта-Клару. Сколько ненависти, сколько
претензий, угроз со всех сторон, как все это опасно в
конце концов, а самое главное — ты не спишь, не ешь,
худеешь, желтеешь с каждым днем.
— Милая, вот уже сколько раз ты повторяешь: «Твоя
проклятая политика»,—и это более всего меня огорчает.
Ты сама ведь знаешь, что мне лично глубоко противно то,
что здесь называют политикой.
— Тебе противно, и все же ты великолепно с пей
уживаешься, а иногда даже приходишь в восторг.
— Мною движут идеалы.
— А может быть, злоба или страсть, а ты путаешь их
с идеалами? Ну какие идеалы, в самом деле, что
благородного может быть там, где крутится Нэнэ и вся эта
грязная банда так называемых политиков?
— Покончить со всем этим — вот в чем благородство.
В этом и заключается идеал. Найти человека (или группу
людей), способного изменить все на Кубе, уничтожить
ненавистную плутократию, паразитов на теле нации,
которые все пожирают и опошляют. Это единственное, что
мною движет, это да еще будущее моих сыновей и —
догадайся! — желание увидеть тебя женой депутата, тебе бы
это очень пристало!
— Что до меня, я бы с удовольствием осталась женой
зубного врача, только чтобы он всегда был рядом со мной,
спокойный, с ясной душой, а то, что происходит сейчас,
мне... Мне стыдно, право, видеть, как ты завяз в этой каше:
«я — тебе, ты — мне», как терпишь оскорбления и угрозы,
водишь знакомство с подлецами и низкими людьми. Не
понимаю, как ты это перевариваешь и почему принимаешь
292
так близко к сердцу! Столько зла, низости, ненависти,
боже мой!
— Ты права. Отчасти. Да, я ввязался в борьбу, меня
увлекло потоком, самолюбие мое заиграло, я заразился
эгоизмом, слепой ненавистью, да, но все это пройдет. В
сущности, цель-то моя благородна.
— Ах! Скорей бы ты к ней дошел.
— Рано или поздно — дойду.
— Ты дойдешь, милый, в этом я не сомневаюсь. Ты же
стоишь больше всех этих бандитов, это не люди — зверье!
— Браво! И тебе не чужды страсти!
— Да, не чужды! И я желаю тебе победы, чтобы ты
мог употребить всю твою доброту и весь твой талант во
благо.
— Браво, браво! Ты делаешь успехи. Из тебя выйдет
отличная жена депутата. Поди сюда, один поцелуй,
Сусанна.
— Тысячи поцелуев, и еще, и еще!
Она жадно целует меня, не может оторваться.
— Дорогая,— говорю я между поцелуями,— мама уже
давно заснула, мальчики в кино, вечер у меня
свободный, возьмем реванш за наш предвыборный пост! Иди
ко мне!
Резвой девочкой она прыгает мне на колени, шаловливо
играет моими волосами, целует... и вдруг: «Тук, тук»,—
дверной молоток.
Открываю. Один из моих друзей по партии, субъект с
гривой волос на пробор. Полиция,— а там всем заправляет
Нэнэ,— только что разогнала в районе Сасы вечеринку, в
которой участвовали члены «моей» партии. Мои
единомышленники (!), делающие политику, вертя задом под
африканский барабан, требуют, чтобы я обратился к
начальнику полиции и защитил их. Они, так сказать, за
меня, теперь я должен выступить за них, иначе могу
проиграть игру.
Я оставляю Сусанну грустной, разочарованной, чтобы
она провела еще одну ночь в одиночестве и тоске.
А ведь это Сусанна! Самое дорогое, что есть в моей
жизни!
Еще одна гадость, которую мне пришлось проглотить:
мало того что деньги, окупавшие мой успех, добывал дядя
Пепе, ненасытный делец, типичный представитель
правящей фауны, я и сам, во имя той же цели, поощрял его
жадность к нечестным сделкам и спекуляциям; и, делая так,
293
я его обманывал, ибо знал заранее, что он не получит от
меня тех выгод, на которые рассчитывал, помогая мне.
Если исключить все это, можно сказать, что мое
избрание прошло как по маслу. Правда, дела Национальной
партии, в которую я вступил с самого начала моей
политической деятельности, сложились не очень удачно, потому
что она не смогла привлечь скептически настроенную
нейтральную массу; потому что не располагала синекурами,
пособиями и выгодными сделками, которые могла бы
предложить прожженным дельцам. Тем не менее ей удалось, в
некотором смысле, разбудить народ и достичь, особенно
в нашей провинции, того, что в ее ряды вступило довольно
много рабочих, понимающих уже, что борьба за повышение
зарплаты и сокращение рабочего дня еще не все. Примкнув
к новой партии, они способствовали нашей победе. Я
люблю народ, верю, что его дело — единственное справедливое
дело и единственная надежда Кубы в будущем, и потому
эта чистая, здоровая часть нашей партии и меня делала как
бы здоровее, чище душой, приводила в восторг. Рядом с
народом я себе казался Баярдом, Дон Кихотом, Д'Аннунцио.
Остальное вышло как-то само собой. Я сумел в глазах
некоторых особенно щепетильных смягчить смутные слухи
о том, что дон Пепе, всекубински известный дон Пепе,
миллионер, финансировал мое избрание, подкупая самых
отборных волков, съевших собаку на митингах,
комитетах и манифестациях. Ну и, естественно, эффектные
выражения в тостах и манифестах, без числа жареные
молочные поросята, вечеринки с танцами и публичные
крестины, некоторое количество кредитных билетов, по десяти
песо каждый, в пользу нескончаемых реставрационных
работ в церкви города Пласерес, на лотереи и подписные
листы; знамя — ветеранам; фонтан — городскому парку;
первый камень в фундамент новой больницы; рулоны
бумаги — всем типографиям всей провинции и с полдюжины
громких помилований, устроенных с помощью Каньисо,
Карлоса Мануэля и других подручных моего дяди.
Да, и речи-приманки: «Общественное управление
находится сейчас в руках рутинеров — чиновников времен
колонии. Они заправляют всеми основными делами. А
остальное — налоги и торговля — в руках проходимцев. Надо
ввести новых людей во все департаменты и канцелярии.
(Правильно, верно.) А сколько бумажных донкихотов,
сколько комедиантов, мошенников, монополизировавших
национальный бюджет во благо свое,— их надо разобла-
294
чать в прессе, в конгрессе, везде, где только можно.
Поджарить их, выманить, словно моллюсков, из
административных ракушек, сорвать личину рачителей
национальных интересов. (Общие аплодисменты.) Надо, чтобы
государственным достоянием управляли все по очереди; чтобы
каждый гражданин имел возможность и честь послужить
республике, отдать ей свою энергию и свой ум. (Буря an-
лодисмеитов.) Таким образом к управлению
общественными делами смогут прийти те, кого вечно оттирали в угол,
может быть, как раз за то, что они-то и есть самые умные,
самые честные, самые трудолюбивые и люди с характером,
любящие свою родину и способные спасти ее!» (Возгласы:
«Да здравствует!», «Браво!» — все громче и громче, пока
не сливаются в общий вопль.)
Как просто!
И времени заняло немного.
И вот в один прекрасный день я проснулся в Гаване,
в историческом (без аллюзий) отеле «Телеграф»,
проснулся депутатом палаты представителей конгресса.
Раннее утро. Из книжной лавки принесли четыре
огромных пакета — книги, которые я отобрал вчера вечером.
Раскладываю их на столе, не отказывая себе в
удовольствии еще раз полюбоваться названиями: Корради, «Уроки
ораторского искусства»; Паласиос, «Речи в парламенте»;
Пи-и-Маргаль, «Частные письма»; Риверо, «Политические
уроки»; Хусто, «Теория и практика истории» и много
других книг по философии, политической экономии, праву,
социализму.
«Ду-ду-ду»,— телефон.
— Слушаю!..
— Один сеньор хочет вас видеть.
— Ну сколько раз нужно повторять? Я предупредил,
в этот час меня нет дома!
— Но он настаивает. Говорит, он знает, что вы у себя,
что запрещение — не для пего... И... вы еще не знаете, кто
это...
— Кто же?
— Доктор Хосе Гарсиа. Дон Пепе-е-е!
— Попросите войти.— И, обращаясь к моему
письменному столу, говорю: — Простите меня, сеньоры Маркс,
295
Хусто, Джордж, Коста, Ле Дантек. Дон Пепе — великий
человек, необыкновенный, всемогущий, дон Пепе — это
символ. Пусть он войдет!
— Привет, ньяньиго!
— Здравствуйте, дядя. Слишком много чести, я не
ньяньиго, я только учусь, я многого не умею.
— Ладно, перестань. Я знаю тебе цену. Я давно
говорил, ты заткнешь за пояс всех этих ослов. Ну-ка, что ты
делаешь, как готовишься?
— Вот, взгляните. Читая эти книги, я вспоминаю, чему
учился в школе, иногда встречаю в них кое-что, что
прочел в провинции за эти двадцать лет, но главное,
открываю новое, много нового и полезного... Садитесь, что же
вы стоите.
— Нет, нет, мне некогда, я зашел на минутку, только
взглянуть на тебя. Видишь, задыхаюсь в этом черном
костюме. Похороны. Жена одного земляка. Да. Я только па
минутку. Взглянуть, как ты готовишься. И вижу, что
правильно сделал. Зачем столько читать, племянник? Того,
что ты знаешь, тебе хватит сверх головы. Еще
перепугаешь насмерть весь этот «цирк». Черт бы побрал мою
душу! Уф! Человек что-то знает, читает книги, вот страх-то!
— Нет, дядя, нет. Ни то, ни другое. В палате есть
образованные люди...
— Мало, очень мало.
— Согласен. По пальцам пересчитать.
— И обочтешься...
— Совершенно верно. Но, дядя, я не хочу обманывать
своих избирателей, им про меня столько наговорили, они
ждут многого.
— Должен тебе сказать, ты... оказывается, чудак, ты
или пойдешь вверх, как дым, или увязнешь по задницу
в луже, куда тебя посадят завистники из конгресса. Это
же звери. Черт бы побрал мою душу! Потому что, мой
дорогой племянник, здесь во время избирательной
кампании принято хвататься за револьвер и изображать
страшного дядю, чтобы ошарашить публику на митингах и
собраниях, понял? А в промежутке между окончанием
кампании и тем моментом, когда ты сядешь в палате,— бери
в руки шпагу, чтобы придать благородный вид всему
этому парламентскому мордобою,— для публики па галерее,
понял? Но учиться?! Копаться в экономике,
государственном имуществе, ораторских штучках? Это все лирика,
ложка мимо рта. Как ты не понимаешь?
296
— Я понимаю! Но не могу же я заявиться в палату
пустым, рассчитывая на то, что учил в детстве. Некоторые
вещи надо освежить в памяти, я хочу быть уверенным в
себе и морально, и интеллектуально. Что до всего
остального, то я сносно стреляю из револьвера. Это привычка со
времен войны — при каждом удобном случае упражняться.
— А саблю 1 ты не пробовал?
— Не пробовал и не собираюсь. Но кое-чему я все-таки
должен научиться. Мне хочется развенчать этот фарс,
называемый дуэлью, который только и доказывает, что ты,
в каком-то узком смысле, не трус, и более ничего.
Храбрость отчаявшихся, отвага докторов без клиентов,
которым ничего не остается, чтобы не умереть с голоду, как
присосаться к национальному бюджету, ибо унизить свои
«докторские» руки или мозги профессиональными
занятиями они не хотят. Ну, а доказательство благородства,
чести — вздор. Большинство сеньоров, назубок знающих
кодекс чести и обладающих сверхчувствительной кожей,
пачкаются ежедневно в таком, извините меня... свинстве, пе
останавливаются ни перед какой низостью,— где в это
время их честь, неизвестно, до поры, когда во имя
профессиональных интересов не потребуется выставить эту честь
напоказ. Да, придется научиться владеть шпагой, чтобы
не говорили, будто я выступаю против дуэлей из трусости.
А если уж на то пошло, пусть меня проткнут. Или я
проткну кого-нибудь.
— Последнее — лучше. Но научись сначала стрелять
как следует. Попрошу Каньисо, он найдет учителя. Теперь
о другом. Тут я принес чековую книжку, видишь,
корешки? Всем моим ньяньиго, если я даю хоть песо, всегда
выписываю чек, а корешки храню у себя. Полицейский
контроль, а? Система «Бертильон», черт бы побрал мою душу!
Посмотри корешки, увидишь, кто — почем. Только не
теряй.
— Превосходно, но я...
— Не перебивай. Я опоздаю на похороны. Значит,
чековая книжка, фехтование, что еще? Да, я пришлю к тебе
фотографа и репортеров. Мой наказ, читай мораль и
угрожай всем, кто под руку попадется. Не бойся никого, я
с тобой. Если начнут придираться, говорить о партийной
1 Здесь у автора непереводимая игра слов: исп. sablazo —
«сабля», «удар саблей» и одновременно — «надувательство»,
«вымогательство».
297
дисциплине,— ты, мол, должен полегче, пообещают тебе
одно, другое,— держись неподкупно.— Он задохнулся н
показал жестом, чтобы я его не перебивал, а затем
продолжал: — Послушай, послушай, пригодится. Не давай себя
купить. Ты служишь родине, понял? Ты готов сразиться,
если что. Это все для репортеров. Теперь — как только
обоснуешься в палате, обнародуй там кое-какие прошения,
убедительные факты, какие-нибудь громкие обвинения по
поводу скандальных дел,— скандал, скандал, говори
больше о чем-нибудь скандальном, пусть и враги, и друзья
втянутся в эти скандалы, это послужит тебе пьедесталом,
И слушайся во всем дядю.
— Да, дядя! Конечно! (Какое разочарование тебя
ожидает!)
— Прощай, дорогой. Приходи в гости. Я покажу тебе
кое-какие бумаги. Мы должны держаться вместе. Прощай.
— Прощайте.
— Хосе Инее Онья!
— Игнасио, дружище, как ты хорошо выглядишь!
— Ну что ж, теперь мы с тобой коллеги. Ты прошел от
консерваторов провинции Орьенте?
— Да, вот он я во всей красе: генерал Онья, мулат
Онья, депутат от консерваторов! Ничего не оставалось, как
удариться в политику. Ты знаешь, я ведь всегда был
весьма дюжинным.
— Из редкой дюжины.
— Спасибо, скажем, из редкой дюжины тех генералов,
что после войны не запачкали высокого звания
освободителей. Я стал работать. Но мне не везло. Только начал
поднимать голову — августовское восстание, и все пошло
прахом. Я выдержал, начал все сначала. Силы еще были,
препятствия меня не пугали. И снова чуть пошел вверх,— ты
можешь себе представить? Февраль. Что ты хочешь, я уже
немолод, семья, дети, ну, и пришлось мне принять
предложение этих деятелей... и вот я здесь.
— И прекрасно! Я очень рад.
— И я, представь. Я о тебе все знаю. Знаю, что ты
увлекся социологией и потому, наверное, до такой степени
влез в рабочие дела. Я тоже хочу сделать кое-что, хочу
способствовать по мере сил социальному благополучию,
прогрессу. В конце концов что может испугать таких, как мы
с тобой, мы ведь стали революционерами во имя идеалов.
298
Я не хочу, чтобы мое избрание стало всего-навсего
синекурой, я хочу работать. Ты мне набросаешь свои
соображения, правда? Помоги мне подготовить некоторые законы.
Например, мне кажется, законом следует прекратить
злоупотребления в распределении мест, нужно постараться
преодолеть феодальные пережитки на сахарных
плантациях, затем — улучшить санитарное состояние жилищ...
— Да, да, я помогу, с удовольствием. Мне повезло, что
я встретил тебя и что ты горишь такими желаниями.
— Что ты, напротив, это мне повезло.
— Ладно, повезло обоим. Но, я думаю, любой закон
или хотя бы нововведение сами по себе, взятые отдельно,
особенного значения не имеют. Все, что мы будем делать,
должно отвечать требованиям эпохи, требованиям
социальной справедливости.
— Ага.
— Да, прежде всего справедливость. Бесполезно
умножать число частных «рабочих законов», толку от них пи-
какого, все равно, действуют они или заснули мертвым
сном еще в проектах в архивах многочисленных комиссий.
Думаю, ты согласишься подписать вместе со мной
предварительный проект, который я подготавливаю, создав для
этой цели (ты заметил, я все больше перехожу на
газетные выражения?) совместную комиссию интеллектуалов
и рабочих, так сказать, теория плюс практика, понимаешь?
Комиссия должна выработать единый «рабочий кодекс», в
котором сольются и гармонически согласуются все
существующие законы о труде, а кодекс, в свою очередь, будет
подчинен общему законодательству, насколько возможно.
Вот это, по-моему, важно, размениваться же на
частности неплодотворно, да и опасно, кстати. Кодекс этот затем
надо опубликовать, и хорошо бы создать специальную
канцелярию для организации всей этой работы. Все
остальное глупость, самоубийство. Просиживать штаны над
второстепенными законами, вносить частные поправки в
действующие законы, писать и переписывать проекты,
которые еще следует одобрить,— все это никому не нужно,
рабочим — тем более. Как ты считаешь?
— Да, да! Всей душой с тобой согласен!
— Очень хорошо, тогда за работу!
— За работу! Ты заразил меня своим энтузиазмом.
А ты все тот же, что был в школе. Независимый, по уши
в книгах, талантливый, настоящий талант.
— Ну, брось, пожалуйста.
299
— Нет, это правда. Ты меня воодушевил. Освободил от
страха... сцены, что ли. Ты ведь никогда не боялся?
— Я тебе скажу: вначале боялся. Но потом стал
посещать заседания, так просто, из любопытства — посмотреть,
послушать, перенять некоторые их приемы, и страх
прошел. Уважение вызывают у меня очень немногие,
человек пятнадцать — двадцать, люди интеллигентные,
сведущие, но мне их не то жаль, не то у меня к ним какая-то
брезгливость, им приходится иметь дело с такой... такой
наглостью, да прямо сказать — дрянью. А остальных я не
боюсь. Наоборот, у меня руки чешутся укротить их, ибо,
за исключением тех, о которых я говорил, это все походит
на зоопарк, честное слово: обезьяньи черепа, оскал —
находка для Ломброзо, плечи профессиональных вышибал.
И все вреду! не можешь отделаться от мысли, что вот этого
ты видел, как он танцевал румбу, другого — в роли крупье,
а того, в углу, все знают как агента секретной службы,—
разве это противники! И тогда я почувствовал себя
смелым п абсолютно уверенным.
— Игнасио, а помнишь школу дона Хасинто?
— Конечно, помню...
И мы заговорили о детстве, о беспечных годах в школе
дона Хасинто, о том, как я расшвырял мальчишек в
памятный день ссоры после уроков. Говорили о юности, о
революции, о жертвах, надеждах, о пылком нашем
патриотизме тех романтических времен. Все пошли разными
дорогами, но судьба, словно желая посмеяться, судила так, что
самые большие эгоисты, самые бесплодные, самые убогие
духом, никогда не обнаруживавшие стремления к идеалам или
благородным поступкам, теперь ворочают делами в
торговле, управляют общественным мнением, вообще —
процветают. Их имена, равно как и их дела, исполненные тупости,
везде, на каждом углу — в банках и клубах, в прессе и
академиях, в литературно-научных обществах. Мы вдоволь
поиздевались над министрами с пышной шевелюрой, над
героями — национальными святынями, великолепными и
пустыми, как поплавки, над критиками и журналистами,
расплодившимися сверх меры, как сорная трава, над этими
дружными братьями в обществе взаимных похвал; мы
горько усмехнулись над всей этой жизнью, проболевшей
ошибками, несправедливостью и еле прикрытым зверством,
жизнью, которой лишь очень немногие наслаждаются,
большинство проклинают, а некоторые продажные льстецы
наблюдают со стороны, аплодируя всеобщему социальному фарсу.
300
VI
Я уже говорил, что Национальная партия пошла не той
дорогой и что причиной тому были огромные
патологические изъяны, с которыми она родилась на свет: она не
располагала выгодными должностями, которые могла бы
предложить нужным людям, деньгами, чтобы купить газеты, и
многим другим, что обеспечивает успех; ее наиболее
влиятельные члены со своего интеллектуального Олимпа не
в состоянии были преодолеть недоверие народа, не
привыкшего, чтобы сердца духовных светил бились в лад с
его сердцем, и потому, как только о га партия подала
первые признаки жизни, под ее крылышко тут же
перебежали — хороши националисты из ренегатов! — тертые-пере-
тертые в употреблениях и злоупотреблениях пройдохи и
паразиты из двух других партий, которые и здесь занялись
своим кровным делом — предательством демократии.
Так вот и вышло, что из всех тех, кто вступил в
предвыборную схватку от имени Националы:с:1 партии, только
я получил место в палате представителей, и то благодаря
волне политического рабочего движения, поднявшегося в
нашей провинции в связи с выдвижением моей
кандидатуры, а также, конечно, благодаря магической власти моего
дяди. Все те, кто в свое время хлопотал у колыбели новой
партии, почуяв ее близкое поражение, поспешили удрать.
Нэнэ занимает место на скамье законодателей, между
своими коллегами от двух правящих партий; эти дюжие
молодцы в молчаливом согласии ждут с отвагой трусости,
когда достославный Игнасио Гарсиа, совершенно
одинокий в этой всеобщей неприязни, пустится наконец в свои
морализирования, скандальные запросы,
апокалипсические проклятия,— вот тогда они набросятся на него, на
одного, все сразу.
— Когда же разродится гора? — спрашивает какой-то
темнокожий «толстомордик», сидящий поблизости, он
обращается к своему соседу, но имеет в виду, конечно, меня.
От этих намеков, от этого агрессивного нетерпения
нервы мои пронизывают зудящие волны страха — моего
врожденного страха, перед тем как сделать решительный шаг.
В голову приходит, что в этом зале наверняка есть
сильные полемисты; я вспоминаю случаи, когда удачная
шуточка, реплика к месту, смешное положение убивали
насмерть, как пуля в лоб, людей, которые вовсе пе
заслуживали смерти. Но очень быстро прихожу в себя. Всноми-
301
паю, что я ведь тоже кое-что повидал в жизни и образован,
а в этом смысле мало кто из них может, пожалуй,
угнаться за мной. И я укрепляюсь в моем решении
противопоставить себя всему тому, чему принято поклоняться. Снова
убеждаюсь в моем превосходстве над этим человеческим
стадом. Я мысленно ощупываю, если можно так
выразиться, свои возможности, и страх мой 1ает, уходит бесследно.
«Нужно быть идиотом, чтобы бояться их! — говорю я
себе во всеоружии уверенности оптимизма.— Кто такой
Нэнэ, например?» В голову приходят замечательные и
совершенно убийственные страницы из жизни этого ныне
досточтимого члена конгресса: тот самый классический
«шантаж под гитару» моего дяди, драка на стадионе в Пла-
сересе, для него не первая и не последняя, низкие
отношения с бедняжкой Мерседес, непристойный скандал с
мулаткой, громкие пьяные похвальбы, его так называемая
храбрость — удрать к повстанцам после того, как ранил
меня на площади, и последнее — его блистательный
послужной список в мирное время: злоупотребление властью,
любовные связи с женщинами всех оттенков кожи и
общественных слоев, всегдашняя готовность поддержать любую
политическую проституцию, спекуляция избирательными
голосами,— его нравственная гибкость на уровне
акробатики. Да, генерал Вальдес, он же Нэнэ, воистину с головы
до ног достойный представитель нации.
А сколько здесь таких Нэнэ!
— Прошу слова.
Мне его дают, и я начинаю так:
— Сеньоры депутаты! Нас, то есть тех, кто выработал
и подписал проект закона, поставленного на обсуждение
сегодня, не обескураживают демонстрации — сначала
удивления, а затем враждебности, с которыми этот проект был
принят большинством наших коллег по палате. Ничего
иного мы и не ожидали. Ибо на этот раз речь идет не о
каком-то отвлеченном, чисто платоническом законе,
произведенном на свет одним взмахом пера сеньорами, не
сведущими в предмете, а подхвативппши три-четыре общих
идеи в книгах, прочитанных по диагонали, и озабоченных
большей частью лишь охотой за голосами. Сеньоры эти
даже и подумать боятся об отдушине — хотя бы! — для
ненависти и мести масс, постоянно обманываемых в самых
законных своих стремлениях.
— Увлекательно! — восклицает вполголоса одип из
законодателей в белом костюме, обладатель широких плечей
302
и огромной бритой физиономии, слушающий меня с видом
супермена, саркастически улыбаясь.
Бестрепетно продолжаю:
— Я говорю, что речь идет не о каком-то выпаде
популярности ради и не о некоем законодательном пластыре,
призванном облегчить болезнь, в то время как единственно,
в чем она нуждается, это в большой дозе справедливости,
введенной быстро и откровенно. Речь идет о проекте
объединить в едином, продуманном и сбалансированном
кодексе все то, что сделано в области социального
законодательства в наиболее развитых странах; и вот это-то, вкупе
с нашим предложением создать специальное
министерство труда, естественно, вызывает резкое сопротивление
со стороны двух категорий политических деятелей. Одни
опасаются, что в результате нашей реформы захиреют
существующие министерства, которые имеют наибольшие
возможности одарять легкими и выгодными должностями
и в которых они пользуются поддержкой; другие же, очень
уютно спрятав голову под крыло, чтобы не видеть, какова
жизнь на самом деле, торжественно заявляют, что на этом
острове, в этой счастливой тропической аркадии, не
существует и не может существовать социальных проблем.
Вот в этом-то, в этом привычном и совершенно
необоснованном утверждении и состоит главный аргумент и
основа всего того, что несчастная политическая слепота
будет противопоставлять нашему проекту. Об эту стену
самоубийственного помрачения разума, может быть, и
разобьется наша инициатива, законная и спасительная
инициатива, являющая собой первую попытку из многих,
которые следует осуществить во имя социального
благополучия людей, если мы хотим спасти нашу страну, а
также способствовать спасению всего человечества от
слишком затянувшегося периода хаоса, чреватого
человеческими жертвами и огромными потерями в общенародном
достоянии.
— Какая речь пропадает! Ее бы на улицу Эхидо,—
бормочет плечистый.
Бросаю на него быстрый суровый взгляд и продолжаю:
— Допустим, наш проект не пробьет этой стены, но,
по крайней мере, мы представили его на рассмотрение,
защищали, как могли, и тем самым исполнили свой долг.
Что касается меня, то своим личным долгом я почитаю
выполнение моих обязательств перед избирателями, для
того и пославшими меня сюда, в конгресс, чтобтл я со всей
303
откровенностью и решительностью мог поставить, впервые
в этой палате, которой давным-давно следовало бы стать
палатой народных представителей в истинном смысле
этого слова, поставить здесь социальные проблемы
чрезвычайной важности, требующие умного, гуманного и
быстрого разрешения.
Еще лет пять назад серьезные, уважаемые социологи,
исходя из закономерностей развития технического
прогресса, пытались утверждать, что и общество,— как и все
на свете,— развивается циклами и как только один цикл
завершается, исчерпав себя, его сменяют новые, более
совершенные формы; тогда же они предсказывали
революцию, которая происходит сегодня в нравах, законах, да во
всех проявлениях человеческой жизни, но большинство
правителей и политиков, самодовольно посмеиваясь,
пожимали плечами: мол, рассказывайте, рассказывайте,
посмотрим, что-то будет на самом деле! Даже сейчас, после
войны, которая являла собой в конце концов не что иное,
как грандиозный кризис агонизирующего
капиталистического общества, даже в наши дни, когда где-нибудь
происходят социальные потрясения, в том числе в наиболее
однородных и единых общественных конгломератах, и все
существующее подвергается строгому пересмотру и
испытанию, так сказать, очистительным огнем, даже и тут
находятся упрямцы,—и не так-то их мало,— которые,
закоснев в эгоизме, никак не желают увидеть закономерностей
реальной действительности, ведущих к изменениям во
всем мире и, естественно, на Кубе тоже. От этого никуда
не денешься, напротив, один раз поняв, следует
действовать в согласии со всеобщим ритмом истории. Эти
упрямые люди, к сожалению, путают причину со следствием,
им хочется думать, что всякие там волнения и потрясения
дело рук голодных социологов и вульгарных агитаторов,
которые, дескать, ищут личной выгоды и возмущают
массы, разумеется, «темные массы», как их принято
называть; этим упрямцам очень не хочется взглянуть на
себя со стороны, иначе они обнаружили бы вместо
мыслей и чувств пустоту. Революционно настроенные
социологи и рабочие лидеры сами суть продукты
общественной жизни, дети времени, в котором, согласно
фатальному предопределению вещей, им выпало жить и
действовать. Изгнаниями, наказаниями и тому
подобными мерами болезни общества не вылечить, лечить
можно...
304
— Этим самым и лечить — всыпать как следует,
справа и слева,— прерывает меня темнокожий толстяк,
сидящий поблизости.
— Ну еще бы! Это проще всего. Коллега, видимо, из
тех, кто полагает, что социальная проблема на Кубе —
миф, не так ли?
— Конечно, миф. Хоть вы из кожи лезете...
— Миф для тех, кто, каким бы путем они этого ни
добились, ощущают себя сильргыми, счастливыми,
баловнями судьбы; такие, конечно, и не пытаются взглянуть
хоть раз в глаза реальной жизни,— прогуляться,
например, в бедный квартал, поглядеть, как живут
обездоленные люди в своих клетушках, где они вынуждены делать
все, что положено живому человеку: готовить пищу, есть,
мыться, рожать детей, и все это в одной-единственной
комнатке, всей семьей, без различия пола и возраста. Если
отнестись ко всему этому по-человечески, откликнуться
сердцем на их нужды, хотя бы с точки зрения
благоразумия, социального самосохранения, тогда истина откроется
тебе как на ладони. Пришло ли хоть раз в голову сеньору
народному представителю, с тех пор как он им стал,
взглянуть своими глазами на тех, кто ютится в
многоквартирных домах, сидит по кабакам, случилось ли ему принять
близко к сердцу физические и моральные тяготы всего
этого голодного, оборванного, сошедшего с ума от забот
человеческого муравейника, который кишит на улицах и
в так называемых домах, более заслуживающих названия
хлевов, в районах Хесус-Мария, Кайо-Уэсо и других
уголках Гаваны? Знает ли ваша милость, как нуждаются там
люди в одежде, мясе, молоке, свете, чистом воздухе,
наконец; люди, живущие в кварталах, откуда «отцы родины»
с помощью румбы и «народных песенок» постыдным, мо-
шепническим путем добывают избирательные голоса?
Ваша милость бывали когда-нибудь в бараках на
сахарных плантациях? Знаете ли вы хотя бы, что бараки эти
еще существуют? Знаете ли вы, что люди работают
по двенадцать часов в сутки? Что до сих пор в ходу
телесные наказания? А вам случалось заглянуть там в
кабак?
— Конечно. А как же! Я заглядывал и в игорные
дома, я знаю, что такое ростовщичество среди самих
же табачников; и как напиваются рабочие в кабаках.
Мне прекрасно известны все пороки этих людей. А
как же!
20 К. Ллввйря ЗОЯ
— Превосходно. Я рад. Тогда, значит, вы не станете
отрицать, что все это проблема воспитания, сиречь — про-
блема социальная, не так ли?
— Отлично. Очень хорошо,— не может сдержать
своего удовольствия генерал Онья.
Раздаются жидкие хлопки, и видны одобрительные
жесты людей сведущих, имеющих собственное мнение.
Ободривпгась этими отрадными выражениями согласия
и укрепившись духом, я продолжаю:
— Да, социальная проблема в целом существует.
Бесполезно отрицать это, тем более бесполезно в крайних
случаях прибегать к примитивному, давно отжившему
методу «Кнута и твердой руки», который рекомендует сеньор
депутат, перебивший меня, ибо именно эта проблема
вызывает такое страстное желание, такую жажду
справедливости наиболее многочисленного класса нашего
общества, что правительству остается только взглянуть ей
прямо в глаза и постараться найти достойное решение. Для
этого нужны меры открытые и смелые, и для начала,
например, очень кстати было бы принять закон, который мы
предлагаем, что означало бы, в сущности, только признать
уже давно признанпое более дальновидными, крепкими и
умными правительствами, а именно — все возрастающий
напор рабочего движения.
В наши дни просто глупо, да и в высшей степени
невежественно, прибегать к полумерам, к законам и реформам,
не решающим главной проблемы; так же, как глупо и
невежественно пытаться пускать в ход общие места,
компромиссы. Кто им поверит в наше время, время великого
перелома, которое разрушает ценности прошлого? Продолжать
надеяться на возрождение религиозного сентиментализма,
как это делают некоторые недальновидные умы,— только
понапрасну терять время и энергию. Наша страна еще
одно тому доказательство. Вы думаете, на Кубе верят в
бога? Как бы не так! Здесь ходят в церковь и
поддерживают религиозный культ более всего в обеспеченных
семьях, потому что это признак хорошего тона, потому что
принято посылать своих сыновей в духовные, а дочерей
в монастырские школы, потому что богатый модный храм
нужен им для пышных свадеб, крестин и похорон. Кто еще
верует? Какая-нибудь старушка, в силу атавизма и
темноты своей думающая, что лист святой пальмы отводит
молнию, а кровь белого ребенка излечивает рак или сле-
иоту. Но масса, огромная масса средних и бедных слоев
306
народа глубоко скептична. С каждым годом все меньше
простых людей выходят замуж и женятся церковным
браком, все меньше крестят детей. Пройдите из дома в дом,
пройдите целый квартал, редко где вы увидите святой
образ. Никто уже не согласен на весьма сомнительное
воздаяние в небесах, его хотят здесь, на земле, и при жизни.
Верующих в спасительную силу пресвятой девы дель
Кобре становится все меньше, они теперь пополняют собой
армию тех, кто верует в справедливость.
И то, что происходит с религией, происходит и с
демократией. Народ не верит в нее больше. И прекрасно,
потому что то, что до сих пор было демократией, всего лишь
иллюзия, карикатура на демократию; прекрасно, потому
что такой демократии куда как мало, чтобы обеспечить
хотя бы относительное счастье для всех людей на земле.
В странах, прослывших образцами демократии, богатый
продолжает смеяться над законами, а до стола бедняка
доходят лишь жалкие крохи. Вместо народа правят богачи
и те, кто тянется в богачи, и они, естественно, не станут
подпиливать сук, на котором сидят или на который
собираются взобраться.
— Бред какой-то,— цедит сквозь зубы, кажется, тот,
широкоплечий.
Но на меня нашло вдохновение, и я продолжаю:
— Хорошенькая демократия! И рядом с ней
непременно — родина, в том смысле, как ее понимают те, кто
вспоминают о ней, только когда хотят поживиться за ее
счет или когда грянет гром народного возмущения!
Сеньоры депутаты, может быть, не отдают себе отчета, каким
сарказмом звучат призывы генералов и докторов от
политики к патриотизму в случаях наиболее непримиримых
забастовок,— призывы людей, которые сами не
постесняются сто раз поставить родину на грань катастрофы
своими манипуляциями с избирательными голосами, своим
узаконенным терроризмом, своей опасной политической
игрой — и все под предлогом восстановления права и
справедливости, когда на самом-то деле речь идет лишь об
отчаяпной защите интересов своих партий, о борьбе за
сохранение своих тепленьких местечек, синекур и выгодных
постов. Какое право имеют апеллировать к
патриотическим чувствам рабочих эти министры, эти конгрессмены,
эти политики, «триумфы» которых оплачены столькими
часами горя и отчаяния большей части населения страны,
ли в малейшей степени не заинтересованной в выкрутасах
307
и интригах какой-то горстки людей, только тем и
озабоченных, чтобы поставить себе на службу интересы
республики. И эти-то «ветераны» во время забастовок еще
смеют заявлять, что не могут допустить, чтобы что-то
угрожало республике, которую они создали собственными
руками! Пусть говорят и пусть пребывают в уверенности,
что их слова кто-то принимает всерьез! Они, которые
задались целью разделить страну на две части, которые
путем давления против наизаконнейшей демократической
власти провалили одно из самых демократических
завоеваний эпохи — закон о всеобщей воинской повинности.
И, сделав это, поставили под смертельную угрозу и
предали позору в нотах к «американцам» ту самую
республику, о которой они так теперь пекутся. И все из-за того
только, что некоторые сеньоры,— может быть, как раз
наиболее достойные, хотя и наиболее скромные,— на фоне
всеобщего равнодушия посмели что-то сказать, чего-то
пожелать, к чему-то стремиться...
— До каких же пор мы будем это терпеть? —
оскорбленно протестует полковник х\дорнадо, толстяк,
перебежавший в лагерь освободителей в последнюю минуту.
— Предатель! — бросает мне генерал от
юриспруденции дон Эскондидо де Нахаса.
— Пусть мычит, лопнет когда-нибудь! — рычит
какой-то широкоплечий «вышибала».
— Да пусть мне дадут говорить! — надрываюсь я из
последних сил, пытаясь подчинить зал, который в этот
момент бушует, кричит, протестует, вопреки бессильному
треньканью председательского колокольчика, взаимно
обличает, свистит, топает ногами на галерее.— Я требую
возможности говорить, это мое право, сеньор председатель,
я требую порядка, я требую...
— Смирительная рубашка, вот что вам требуется! —
кричит еще один из той же компании «широкоплечих»,
готовый вот-вот броситься на меня.
Мне вспоминается школа дона Хасинто, тот день, когда
я расшвырял всех забияк нашего класса вместе с их
вожаком Карлосом Мануэлем, и, как тогда, я вдруг обретаю
решимость и готовность,— нет, не к защите, а к
нападению, пусть только этот приставала подойдет ко мне на
расстояние пощечины.
Но в этот момент Хосе Инее Онья с револьвером,
торчащим из-за пояса, встает между мною и им. Он
протягивает ко мне руки и говорит:
308
— Пойдем!
— Не пойду. Я хочу говорить. Я имею право. Они
должны меня выслушать. Я требую, сеньор председатель!
— Вы не можете. Большинство против. Бесполезно.
И Хосе Инее Онья тащит меня через зал, между
рядами, к выходу. Скандал между тем разгорается, нашлись,
оказывается, честные люди в палате, которые приняли
мою сторону. Председатель напрасно звенит
колокольчиком, стараясь навести порядок. Полицейские пытаются
выгнать с галереи публику, оттуда кричат:
— Невежи! Неучи!
— Комедианты!
— Прохвосты! Спета ваша песенка!
Я прихожу в себя на тротуаре перед входом в здание
конгресса. Рядом — Хосе Инее Онья и еще какой-то
интеллигентный молодой человек, помогавший ему вывести
меня из зала.
— Не беспокойтесь. Никто не осудит вас за то, что вы
ушли.
— Как это не осудит? Каждый может теперь сказать,
что я трус. Я сейчас же вернусь туда, драться так
драться. Это все блеф, меня пытаются взять на испуг. Им
нечего сказать, они могут только скандалить и тем
прикрывать свое ничтожество и невежество. Я требую...
— Бесполезно. Вам не дадут...— уговаривает меня
Хосе Инее Онья.
— Браво! Да здравствует народный депутат!
Это кричит публика, спускаясь с галереи, наконец-то
полиции удалось выгнать их. Некоторые возбужденно
обсуждают случившееся.
— Надо найти такси. Идем сюда, по Сан-Педро.— Хосе
Инее тащит меня под руку.
— Не пойду. Почему я должен уходить?
— Так будет лучше. Вы еще успеете свести счеты с
этим сбродом. Идти туда сейчас — безумие, и даже
оставаться тут, поблизости, глупо.
В этот момент роскошный автомобиль с задернутыми
изнутри стеклами останавливается возле нас. Шофер,
обернувшись к нам, говорит повелительно:
— Садитесь.
Из открытой дверцы показывается изящная женская
ручка. Лицо дамы скрыто густой белой вуалью; фигуры ее
я не вижу, но помню эту вуаль, помню женщину,
сидевшую в зале и аплодировавшую моей речи. Она берет меня
309
за кисть правой руки и с силой втягивает в машину,
говоря:
— Входи, побыстрей, садись.
— Да, да, садитесь, пожалуйста,— поддерживает ее
молодой человек, спасавший меня вместе с Хосе Инесом.
— Уезжай поскорей. Ничего не бойся. Ты победил.
Теперь ты знаменитый человек,— настаивает и Хосе Инее—
Ты произвел впечатление. Палата — твоя, завтра ты сам
убедишься. Послушай-ка!
В самом деле, уже сидя в машине, я слышу
взволнованные восклицания публики и аплодисменты. Мы
уносимся, набирая скорость, к улице Муралья.
И тогда...
— Кто вы? — спрашиваю я, удивленный до крайности,
разглядывая автомобиль и мою загадочную спутницу.
— У тебя столько женщин, что трудно догадаться?
— Напротив, совсем напротив. И я не понимаю,..
— Я — случай, счастье, судьба... (Чей это голос,
неужели...) Тебе ничего не говорит мой голос?
Сквозь сумбур чувств и мыслей, вызванных этой
невероятной ситуацией, пробивается несомненное и четкое
воспоминание, и я вдруг впадаю в наставительный и
враждебный тон, от которого мне самому не по себе, но который
зато помогает мне овладеть положением и, по крайней
мере, не быть смешным:
— Твой голос — да, целый мир видений и мыслей
таких, что сойти с ума. Но ты вовсе не то, чем хочешь
казаться и что выразила на этом нелепом, книжном,
придуманном языке. На самом деле ты — возвращаю тебе твои
романтические нелепости — зло, порок, проклятый цветок
Гаваны, этой столицы потерявших разум
сладострастников. Вот что такое ты. Ничем другим ты и быть не
можешь. Ты Тереса Карбо. Ну что ж, теперь ты, может быть,
снимешь свою таинственную вуаль? — говорю я очень зло.
И она, в ответ, мелодраматически:
— Можешь ранить меня, ранить еще больше своим
равнодушием, сарказмом. Ты только что с трибуны, ты
полон ненависти и способен взорвать весь свет п все
человечество, тебе сейчас все ненавистны и отвратительны.
Поэтому ты издеваешься надо мной. Да, я начала с шутки,
мне хотелось, не знаю, может быть, рассмешить тебя,
смягчить немножко этот эпизод с твоим похищением, как в
романе; ты был так гневен, вне себя. Но, боже мой, как
все странно, сколько отвращения ко мне... Я вовсе не та-
310
кое зло и тем более не цветок всех пороков Гаваны, как
ты выражаешься.
— Тогда к чему эта глупая шутка?
— Я только одного человека в жизни любила — тебя, и
у меня свои счеты с судьбой за то, что я тебя потеряла.
Воспоминание о тебе единственный упрек моей
добродетели замужней женщины. Я всегда старалась узнать, что с
тобою, как ты живешь. Прочла в газете, что ты
выступаешь сегодня с речью в палате, и пришла послушать. А тут,
так неожиданно, эта потасовка, жизнь твоя была под
угрозой, и мой долг, моя репутация, мое будущее, все мои
соображения были забыты, я знала только, что люблю
тебя и должна спасти,— видишь, какие героические
намерения, а впрочем, суди как хочешь. Я подъехала на своей
машине и посадила тебя силой, чтобы спасти...
Она говорит все это, а я вижу, не могу не видеть, ее
глаза, еще более прекрасные от волненияг ее лицо — с
портретов Мурильо, ее шею и в вырезе платья грудь белее
мрамора, ее пленительное тело, такое знакомое мне, моим
рукам, моим губам. Я резко подаюсь вперед, чтобы
открыть дверцу и бежать, бежать...
Она неожиданно с силой перехватывает мою руку и
цепляется за нее так, что мне делается больно. В эту
минуту мы выезжаем с улицы Муралья на Эгидо, и на
маленькой площади нас догоняет еще один автомобиль.
В нем — мой широкоплечий противник и полковник Адор-
надо, оба впиваются взглядом в нашу машину, словно
угадывая, что там находится предмет их ненависти,— они
похожи на охотников, безжалостно и открыто преследующих
дичь.
Инстинктивно откидываюсь на сиденье и спрашиваю:
— Куда мы едем? Что ты предлагаешь?
— Потом. Пусть проедут эти. Я тебе скажу. Погоди
немного. Сделай это для меня. Ты же видишь, что со мной.
Шофер, конечно, решил, что я сошла с ума, я никогда не
вела себя так, только ради тебя, хоть ты и считаешь меня
самым порочным цветком Гаваны, воплощением пороков
общества, говоря твоими словами.
— Так оно и есть, не обманывай себя. Какая любовь
между нами? Абсурд. Удовлетворение низких желаний.
Разврат, не более чем разврат. А моя жена, ведь я
ее люблю?! А мои сыновья? А я сам — суровый
проповедник морали? И во имя чего? Нет. Невозможно.
Преступно.
311
Я опять бестрепетно протягиваю правую руку к дверце,
а левой отстраняющим жестом дотрагиваюсь до ее
полуобнаженной груди и произношу героические слова:
— Прочь, женщина.
Она хочет броситься к моим ногам, пустив в ход
неотразимое женское оружие — слезы. Но я отталкиваю ее,
твердя:
— Не надо, Тереса. Разве несчастье утолишь
сладострастием? Я не гожусь для этого. Не надо. Это не
любовь. Это порок, безумие, это в тебе говорят привычки
твоего круга.
И выскакиваю из машины на улице Пасахе, где в
сутолоке никто не обращает на меня внимания.
И вот я сижу в бильярдной, я, Игнасио Гарсиа,
депутат палаты представителей, в этот вечер самый
знаменитый человек в Гаване. Мысли мои очень далеки от этих
шаров и от тех, кто изощряет ум, пытаясь соединить их
тем или иным образом на зеленом сукне стола. Сижу tf
радуюсь: «Я — герой. Сенсационный дебют в конгрессе —
ничто. Я герой потому, что сумел выскользнуть из рук
этой дивной, великолепной, несравненной женщины,
горящей тем же желанием, что и я».
Великий день. День победы по всем фронтам.
VII
— Племянник, дорогой! Здорово! Так и надо.
— Как? Вы уже знаете?
— Вся Гавана знает, вся Куба. Ты не читал газет? Что
я тебе говорил? Теперь не упускать момента. Посмотрим^
нельзя ли на этом заработать. Я хочу предложить тебе
одно выгодное дельце.
— Но, дядя! Я — и дельце? Все-таки, думаю...
— Здравствуйте! Начинается?!
— Не в том дело. Я думаю, что сейчас это было бы
неуместно. После вчерашней речи, сцены в палате,
сегодня...
— Ну-у... Ты, я вижу, начинаешь принимать всерьез
свою роль моралиста? Тебя пробуют, тебя заводят, как
ьолчок, черт бы побрал мою душу! Тебя дразнят, понял?
А ты и в самом деле подумал, что своей вчерашней речью
и своим бесстрашием облагодетельствовал страну, убедил
и вдохновил народ? Брось, брось! Единственная персона,
получившая кое-что ото всего этого, ты сам, если, конечно,
312
сумеешь использовать момент. Теперь главное —
поддерживать в них страх и уважение к себе,— речами, дуэлями,
как угодно; только не очень искушай судьбу, слышишь?
Потому что я уже сказал: с тобой играют, ты только
подыгрываешь. Враги твои постараются тебя на чем-нибудь
поймать, чтобы запачкать в глазах публики: будут
придираться к твоей политической деятельности, копаться в
твоей частной жизни, в твоем происхождении. В газетах
тебя назовут лириком, липовым моралистом. Вторым Ма~
сой, черт бы побрал мою душу. Артолой палаты
представителей. Ну, это среди политиков. В народе же будут
говорить, что ты отчаянный парень, храбрец, что ты
показал этим бандитам из палаты. Но больше — ничего,
ничегошеньки. Все останется, как было, разве что к тебе
пристанет это прозвище — «Масартола палаты
представителей».
— Пусть так, дядя. Но эти дела п все такое — сейчас
совершенно неуместны. Это значило бы открыть карты и
закрыть за собою двери конгресса. Вообразите, я сейчас
сижу и жду с минуты на минуту, когда вчерашние
сеньоры из тех, знаете, о которых с прелестным бесстыдством
выразился Бонафу, что они шагу не ступят без кодекса
чести под мышкой, как проститутки без слова
«добродетель» на устах, придут вызывать меня на дуэль от имени
этих фанфаронов.
— А, так ты еще не знаешь? Все кончилось вчера же.
Сначала говорили о дуэли. Что, мол, если ты не
согласишься поступить, как подобает джентльмену...
— От наживы.
— Хотя бы. Так вот, тебя заставят замолчать любым
способом. Они уже догадались, что гораздо умнее и лучше
для всех не обращать на тебя внимания, не придавать
значения твоим словам. «Нечего набивать цену этому
полоумному»,— так сказал один из самых мозговитых. И все
согласились: «Да, да, сеньоры, было бы глупо с нашей
стороны раздувать скандал, ему только этого и нужно, это
для него пьедестал, на который он поднимается».
— Вот видите. В любом случае то, чего вы хотите,
преждевременно.
— Мм... да. Пожалуй, ты прав. Ты можешь
пригодиться на кое-что иное. Да, да, слушай меня: забастовка
табачников, я думаю, сегодня же, в два часа, выльется во
всеобщую, и с завтрашнего дня в палате только и будут
делать, что твердить о подстрекательстве темпых сил, шан-
313
таже, о том, что все они лодыри, и так далее. Да, да, я
слышал от Каньисо. Вот тебе возможность ударить еще
раз.
— О да, о, если бы народ...—- воодушевляюсь я, забыв
про дядю.
Но он меня обрывает:
— Милый, милый мой! При чем здесь народ? Что
такое народ? Употребить свой талант — такой, например,
как у тебя,— на то, чтобы выйти в люди,— это да, это я
понимаю, но расшибаться в лепешку для других, для
какого-то там народа? Нет, так ты ничего не достигнешь.
Я тебе это говорю, я, который, извини меня, понимает в
этих делах больше, чем ты.
И он ушел.
Ушел, оставив меня растерянным и подавленным.
VIII
Итак, началась всеобщая забастовка. Руководители
рабочего движения на Кубе в третий раз уже пускают в
ход это самое сильное и самое болезненное средство,
чтобы добиться повышения заработной платы. Между
прочим, это все равно, что забивать гвозди при помощи
парового молота. Но так или иначе, всеобщая забастовка
разразилась.
Не ходят трамваи. Закрыты рестораны и кафе. В порту
пусто и тихо, словно в воскресный день в Нью-Йорке.
Накануне ночью не убрали мусор, и улицы сейчас похожи на
длинные помойки. Город замер, словно в предчувствии
чего-то. Молчаливые полицейские, подозрительно
оглядываясь, расхаживают парами. По пустынной мостовой
иногда пронесется, дребезжа, карета «скорой помощи». Кто еще
беспрерывно движется по городу — это грузовики, шинам
которых не страшны шипы, разбросанные
забастовщиками, да еще — переносчики новостей, этих всегда плодится
в избытке вокруг всякого беспорядка. Стоит лопнуть
шине, как редкие прохожие, словно от электрического
разряда, бросаются врассыпную,— нервный бег, хлопанье
дверьми, и опять — никого.
Копится, бродит, бурлит жажда справедливого
возмездия. В памфлетах и разговорах разжигается такая
ненависть, что она может стать кровавой и разрушительной
силой. Кто-то кому-то говорит, что возможно столкновение
314
между населением и полицией; еще кто-то предрекает, что
не нынче-завтра на бульварах на каждом дереве будет
висеть по буржую. Из самых верных источников сообщают,
что эскадры янки уже развернулись носом к берегам
Кубы, на помощь бессильной республике.
Я лично не испытываю ни грусти, ни чрезмерного
волнения. Вчерашняя подавленность, оставшаяся после
прихода дяди, сменилась бодростью,— во всей этой ситуации
я вижу доказательство энергии, силы народа. Меня живо
интересует сегодняшнее заседание палаты: какую
законодательную припарку — наспех и тщетно — приготовили
здесь, чтобы как-нибудь сдержать вспыхнувшее волнение
масс. Как бы кстати пришелся к этим обстоятельствам
бурный свиет с галерей для публики!
А что,— черт побери! — все может быть. Иду в палату
пешком, и поблизости от здания конгресса мне попадаются
группки каких-то людей, которые, видимо, не доверяя моей
буржуазной внешности, замолкают, как только я
подхожу. Быть может, принимают меня за политического
деятеля, ищущего народных симпатий, а может быть, и за
секретного агента.
В дверях я сталкиваюсь с тем самым симпатичным
юношей, который усаживал меня в машину два дня назад.
— Сегодня у нас закрытое заседание,— сообщает он.
— Как это может быть?
— Вот увидите. Нет, в самом деле, заседание будет
закрытое, ходят слухи, будто забастовщики хотят устроить
скандал с галерей, и решено публику не пускать. И более
того, есть приказ запереть двери, если увидят, что к
конгрессу приближаются подозрительные люди.
Чтобы нагнать страху, я говорю:
— А если они высадят двери?
— Вы думаете?
— Не исключено. Народ возмущен. Все очень
серьезно. Но, друг мой, когда-нибудь должно же это произойти?
В коридорах сокрушенные лица; комментируются
события, строятся устрашающие предположения. Свалится
стул, кто-то кашлянет слишком сильно, шумно зевнет
какой-нибудь политический туз — сеньоры депутаты
вскакивают как ужаленные.
В такой вот обстановке подозрительности и тревоги
открывается заседание палаты. Оратор от либералов {!),
балансируя между высшими предвыборными интересами
своей партии и страхом перед всеобщей забастовкой, со-
315
трясающим все его существо добропорядочного буржуа,
произносит тщательно продуманную речь; он говорит,
словно пробирается по болоту, очень осторожно и как бы
даже не касаясь земли. Сеньор вообще блистательный
оратор, но на этот раз он не дает проскользнуть ни
риторическому обороту, ни пышному образу, ни крепкой,
убедительной концепции. Вот он начинает: «зыбкость
гарантий», «высадка американских войск», «суровое наказание
бунтовщиков»; но тут же, видимо, вспоминает, что скоро
выборы, надо подумать о голосах, о народной поддержке,
и его слегка поводит влево: «необходимость реформ»,
пресловутый «христианский социализм», и... и все. Дальше
страшно, можно увязнуть. Теперь, надо думать, он должен
взять слегка вправо. Эти разглагольствования прохладным
дождичком падают на мозги и без того подавленных
депутатов.
За либералом выступает консерватор, он говорит о
Великих Понятиях (все с большой буквы): Порядок,
Республика, Право, Собственность. Следующий оратор
наконец произносит самое главное: «суровый долг перед
обществом», «необходимо прибегнуть к такому средству, как
армия». При этих словах все вдруг приходят в себя и
воспламеняются храбростью и патриотическим негодованием.
— Эта несчастная шайка голодающих,— рычит один
из широкоплечих.
Хосе Инее, обменявшись со мной красноречивым
взглядом, отвечает ему:
— Потому-то они и протестуют. Это их право.
Свист с двух сторон, обмен колкими фразами и снова
разглагольствования: «общественный порядок»,
«отечество в опасности», п тут еще один обладатель могучих пле-
чей, сидящий недалеко от меня, с явным намерением
втянуть в перебранку, говорит:
— Среди нас находится социалист, доктор Гарсиа, вот
кто мог бы сообщить кое-что полезное по обсуждаемому
вопросу. Если, конечно, он не приберегает свои
драгоценные соображения до той поры, когда на галереях будет
публика.
Меня словно булавкой кольнули, я вскакиваю и
прошу слова.
Все помнят еще скандал в день моего дебюта в роли
отважного законодателя, и потому сразу же
устанавливается абсолютная тишина, зал напряженно ждет, что я
скажу.
316
— Сеньоры, возможно ли? Неужели здесь, в этой
палате, не найдется человека, имеющего понятие или хотя
бы общее представление о такой наиболее сложной и
интересной проблеме современного общества, как проблема
труда и капитала? Впрочем, я ведь знал заранее, что, за
исключением маленькой кучки чудаков, заброшенных
сюда случаем или превратностями борьбы за кусок хлеба,
все остальные не более чем удалые ребята, по причине
глубочайшего собственного невежества храбро севшие в
эти кресла и теперь доблестно заблудившиеся в трех
соснах...
— Ого... До чего же мы так договоримся? — встрево-
женно спрашивает какой-то полковник.
— Сеньор председатель, этому пора положить конец.
Каждый раз, когда выступает этот человек, повторяется
одно и то же! — говорит какой-то генерал.
Облеченный властью трясет колокольчиком и
обращается ко мне:
— Я позволю себе призвать вас к порядку, доктор Гар-
сиа.
— Сеньор председатель, я с самым глубоким
уважением отношусь к палате в целом, как к самой
демократической из трех сил, представляющих республику. Но я
совершенно не уважаю тех, кто попал в нее в качестве
записных вышибал, интриганов или демагогов. Я
утверждаю, что в этих стенах, не считая необъяснимых, хотя и
достойных всяческого почтения исключений, отсутствие
необходимой профессиональной подготовки почти
абсолютно, и, чтобы опровергнуть это мое утверждение,
недостаточно оскорблений и угроз в мой адрес. Я выдвигаю
последний довод: пусть сеньоры депутаты попробуют
доказать, что они могут достойно представлять в своем лице
нацию, что они обладают достаточным образованием,
достаточной культурой, чтобы иметь право создавать
законы, и я сумею отнестись к ним с уважением. Если же
нет — пусть уйдут. Я прошу меня правильно понять, я
имею в виду их общественную деятельность, ибо их
личные качества я и мысли не имел задеть. И чтобы легче
было продемонстрировать перед народом то, что опп
способны умно осуществлять свою миссию законодателей, я
предлагаю: пусть они сдадут небольшой экзамеп по
элементарной кубинской истории, пусть попробуют
сформулировать, что такое социализм, политическая экономия,
пусть ответят, как они понимают роль палаты представн-
317
телей — низшей палаты конгресса — внутри нашего
государственного устройства. Короче говоря, распорядитесь
принести школьную доску и поставить ее на самом
видном месте, например, за вашей спиной, и вы убедитесь:
они не смогут написать ни одного абзаца без
грамматической ошибки, запутаются в точках, запятых и ударениях...
При этих моих словах поднимается буря. Одни
осыпают меня оскорблениями, другие показывают мне
кулаки. Председатель, не надеясь на колокольчик, кричит,
призывая к порядку. Привратники и полицейские мечутся по
валу, не зная, кого им следует утихомирить, а кого
защищать. Меня окружают Хосе Инее Онья п еще несколько
моих сторонников. Плечистый орет:
— Мы уладим это — как мужчина с мужчиной.
— Где и когда вам угодно, если вы вызываете меня от
имени всех.
— Да, да, да, мы будем драться!
— Да, мы будем драться, только всерьез, я не признаю
этих ваших дуэлей с одним шансом умереть и с девяноста
девятью — прославиться. Мы будем стреляться на
пистолетах, дистанция десять шагов — и сходись!
— Вот именно, и сейчас же!—отвечает он,
подбоченившись и делая угрожающий выпад в мою сторону.
Нэнэ, с геморроидальной бледностью в лице,
удерживает его; но побледнел он, оказывается, не зря, потому
что говорит:
— С кем ты должен уладить, так это со мной.
Я саркастически отвечаю:
— Каким образом? За бутылкой джина «Кампана»?
— Стреляться!
— Прекрасно. Но сначала, я думаю, вы подарите мне
педелю жизни, чтобы я мог рассказать здесь милую
историю о джине, о мулатке по имени Арреманга, о Мерседес,
о митинге автономистов...
— Замолчи, или я убью тебя! — кричит он, вырываясь
из рук своего приятеля и пытаясь дотянуться до меня.
В дело вмешиваются друзья и враги с той и с другой
стороны, завязывается потасовка, и снова меня тащат по
коридорам и лестницам к выходу, со много Хосе Инее и
другие коллеги по палате. Они пытаются успокоить меня,
убеждая, что будет еще время свести счеты с этим
профессиональным забиякой.
Я бегу к выходу; невесть почему, я уверен, что в двери
конгресса с улицы ломится толпа.
318
Привратники расступаются передо мной, отпирают
дверь. И... о, разочарование! Кругом темно. В узком
переулке, еле освещенном старым фонарем,— никого.
Искренне удивленный, я спрашиваю того, кто открыл
мне дверь:
— А люди, тут же было много народу, когда мы
входили?..
— Не знаю, доктор. Я слышал, они говорили, будто,
мол, поздно уже. Ночь на дворе...
IX
— Ты права, Сусанна. Мне есть чем заняться, кроме
как сражаться с ветряными мельницами и крошить
злодеев и трусов. У меня есть дети и жена — такая, как ты,
и огромное желание, чтобы она была счастлива.
— И все-таки, видишь, как было с дуэлью.
— Как?
— Ты скрыл от меня.
— Милая моя, дуэли-то не было. Эти люди, так
называемая честь которых состоит в том, чтобы наносить
удары шпагой и подставлять себя под шпагу, хотя и до и
после дуэли они готовы осквернить все честное и все
благородное, -г- эти люди увидели, что вокруг странной дуэли —
«против правил»,— которую предложил я, поднялся
большой шум, и сами же постарались замять дело, чтобы не
попасть в смешное положение и не скомпрометировать
окончательно любимые ими дуэли-понарошку. Что ты от
них хочешь? С этой нашей креольской
непринужденностью все обернулось в конце концов шантажом с целью
очернить противника, и только!
— Я не пойму одного: как ты, принципиальный
противник дуэлей, при твоей любви к детям, забыв меня, мать,
всех, всех, собирался драться на самом деле.
— Логика ремесла, дорогая; но отныне я посвящаю
себя тебе, как было раньше, до того как я стал важной
персоной; это ведь тоже жизнь, ты права. Боже мой! Ты
п я, мы с тобой и семнадцать лет спустя после свадьбы
остаемся теми же влюбленными из Пласереса! И в этом
мы не похожи на других. Чудаки? Ну и пусть. Мы уж
если полюбим, то один раз и навсегда, почти что с
детских лет, как это принято в добрых обычаях кубинской
старины.
319
— Тебе бы хотелось уйти от дел, жить только нами, но
ты не сможешь, вот увидишь.
•— Смогу! Самое главное я теперь понял: пока
ветераны не уснут вечным сном в земле, которая стольким им
обязана, а большинство из них — ей... наоборот, пока
докторов без больных не сменят новые силы, ныне
погруженные в самоубийственное равнодушие, люди с чистой
совестью, подлинные интеллигенты и прежде всего самая
здоровая часть из всех — простой трудовой народ, пока
этого не произойдет, мне остается лишь роль,
предсказанная моим дядей: быть «Масой и Артолой палаты
представителей». Еще одним безобидным лириком в этой
карикатуре на демократию, доходами от которой пользуются
многочисленные «доны пепе», и прогнившие насквозь
ископаемые колониальной эпохи, вроде Карлоса Мануэля, и
генералы по счастливому случаю, вроде Иэнэ, и доктора —
герои типа Каньисо.
— Ты не сможешь,—упрямо твердит она, безотчетно
желая, может быть, воздействовать на мое самолюбие.
— Смогу. Я ведь не покину поля боя и научусь
надеяться. А пока буду воспитывать сыновей, стараясь,
чтобы их не соблазнила фальшивая докторская мантия,
потому что другие рядом с нами как раз и будут
стараться сделать из своих детей будущих генералов и
докторов — источник почти всех национальных бедствий.
— Желаю ото всей души, чтобы ты смог1 Чтобы ты
достиг цели! Но только не упади, не дойдя, твоя жизнь
принадлежит нам, Игнасио!
— Я смогу. Я буду идти медленно, но с верою в
сердце; с верой в здоровые молодые силы, которые уже
пробиваются сквозь фатальную покорность положению
вещей. Ты видишь, я оптимист, это оттого, что я верю в
народ, если даже на нашем трудном пути и придется
споткнуться и спеть «вечную память» республике,
съеденной изнутри, как раком, генералами и докторами.
XVAH КРЕОЛ
Перевод Скипы Вафа
2i К. Ловейра
CARLOS LOVEIRA
JUAN CRIOLLO
LA IT А В A N A
10 2 9
Первые воспоминания о своей удивительной жизни, с
ясными, цельными образами, он хранит с шестилетнего
возраста, вот уже сорок лет.
Жил он с матерью в деревянной лачуге, крытой
железом, тогда еще на самой окраине Гаваны. Улица Принси-
не, изобиловавшая лужами, свалками и нищенскими
строениями, наподобие их жилища, тянулась прямой линией
к побережью, в те времена выглядевшему сиротливо —
без набережной, причудливых зданий и увеселительных
заведений. Их жалкая обитель состояла из тесной
комнатушки, продолжавшейся навесом над земляным полом, и
малюсеньким патио, огороженным почерневшими
досками. Комнатушка служила одновременно и гостиной, и
столовой, и спальней; в ней стояли убогие, выцветшие стулья,
полуотесанный сосновый стол и самая обычная
раскладушка, покрытая простыней наподобие савана. Хуан чаще
всего играл под навесом, глядя, как сыплются искры из
жаровни, заставленной утюгами или огромным тазом,
увенчанным паром. Но больше всего ему нравилось
пускать в корыте с водой сделанные им из щепочек
кораблики с бумажными парусами, напоминавшие ему суда,
белевшие на синей глади залива.
Играл он один: у него не было ни двоюродных сестер
и братьев, ни бабушки, ни дедушки, ни маленьких друзей.
О своей родне и о себе он знал лишь со слов матери.
Звали его Хуаном, и был он единственным сыном испанца
Мануэля Кабреры, цирюльника, умершего три года назад.
Где-то в далекой испанской деревушке — на родине
отца — остались его престарелые дядюшки, а здесь, в одном
из селений провинции Камагуэй, где родилась мать, жили
темнокожие тетушки-прачки.
Это тяжкое ремесло выпало и на долю матери Хуана
Кабреры. Каждое утро из сиротского приюта, расположен-
323
ного поблизости, приносили груду грязных-прегрязных
простынь, которые мать отстирывала, а днем вывешивала
извилистыми рядами в патио уже чистыми, и они
плескались на ветру. Эта мужественная женщина боролась за
существование, изо всех сил стремясь остаться честной
труженицей и отстаивая с помощью утюгов и корыта
независимость своего маленького семейного очага, в котором ее
единственным спутником и другом был сын.
Ради такого более чем героического, отчаянного
существования она работала по десять—двенадцать часов в
сутки, не смея заболеть или устроить себе передышку хотя
бы на день, выбиваясь из сил, питаясь кое-как и
мучительно страдая от сознания, что приходится цепляться за
жизнь, в которой столь гармонично сочетаются голод,
изнурительный труд и жалкая домашняя утварь. Мать все
еще ходила в полутраурных платьях, сотни раз стиранных,
штопанных и перекроенных до неузнаваемости. Съев на
завтрак горсть отварного, ничем не приправленного риса
или немного трески, Хуан обувал грубые башмаки,
протертые до дыр на подошвах, и брел по раскаленному
солнцем песку, словно по африканской пустыне, через
заброшенный участок земли в убогую школу, где его обучали
грамоте и катехизису, или же бежал за какими-нибудь
покупками в лавочку, где, в свою очередь, обучался
умению ругаться самой отборной бранью, задираться, словно
петух, пускать в ход кулаки, завязывать узлом рубашку
на животе и носить сомбреро, сдвинув на ухо. Нередко по
вечерам они с матерью сидели впотьмах, не имея и
капельки керосина, чтобы осветить свою уединенную
лачугу, затерянную в темном предместье колониальной Гаваны,
праздной и непросвещенной. И даже божественный лик
святого — покровителя и наставника обитателей этого
убогого жилья — делил с ними горькую участь, когда не
оказывалось нескольких граммов масла, чтобы зажечь
крохотную лампадку.
Мать Хуана с каждым днем все больше чахла от
нищеты и к двадцати восьми годам выглядела постаревшей,
полубеззубой женщиной с поблекшей, дряблой кожей. Но
хорошая фигура и огромные черные глаза, горевшие на
бледном, смуглом лице, все еще делали ее
привлекательной, и мужчины, едва узнав, что она одинока и бедна,
настойчиво и бесцеремонно домогались ее любви. Среди ее
ухажеров были щеголявший в альпаргатах и фуфайке из
крепа вечно косматый мулат, который приносил им и уно-
324
сил тюки с бельем; владелец мелочной лавки, отпускавший
в кредит, если долг не превышал двух песет,—- с короткой
шеей, в берете, огромный детина, от которого разило, по
ее мнению, не меньше, чем от солдат, проходивших мимо
лачуги в сторону воинской части на улице Санта-Клара;
а кроме того, знатный гаванский филантроп — доктор Ро-
берто Руис-и-Фонтанильс, низенький, тщедушный
субъект, которого все звали просто дон Роберто, масон
неизвестно какой степени и председатель совета мужского
благотворительного общества; ему прачка была
обязана своей работой, и впоследствии он предстанет в вое
поминаниях Хуана Кабреры знатным аристократом
из числа тех многочисленных кубинцев, родословное
древо которых уходит своими корнями к рабам или
эмигрантам.
Дон Роберто приходил к ним от двух до трех часов
дня. Он давал немного денег на кофе, дарил сироте
грошовую монету или оказывал какую-либо другую
пустяковую «милость», обходившуюся ему не слишком дорого и
дававшую право волочиться за вдовой. Будучи человеком
осмотрительным, он уходил всегда засветло, ибо с
наступлением сумерек его жена, донья Хуана де Карденас, или
донья Хуанита, как величали свою «благодетельницу»
бедняки,— пятидесятилетняя толстуха в очках,—
имела обыкновение несколько раз в неделю подъезжать в
экипаже, запряженном парой лошадей, к их лачуге
и своей аристократической рукой, унизанной
бриллиантами, небрежно опускать в худую руку прачки
самую ничтожную купюру, распространенную в ту пору на
Кубе.
В один из тех бесчисленных дней, когда нищета
особенно сильно допекла их, заставив мать Хуана Кабреры
прийти в отчаяние, она извлекла со дна старого сундука,
всегда стоявшего под раскладушкой, золоченые
карманные часы — последнюю память о муже — и, судорожно
схватив малыша за руку, отправилась в ближайший
ломбард, чтобы заложить свое неприхотливое сокровище.
Иначе она не могла поступить, ибо в то утро в доме не
оказалось даже зернышка кофе на завтрак, а кроме того,
после обеда она собиралась пойти к настоятельнице
сиротского приюта за деньгами, причитавшимися ей за две
недели стирки, но для этого ей необходимо было купить
себе хотя бы шлепанцы за песо и кусок цветастой ткани,
чтобы попытаться свершить еще одно чудо со своим сто
325
раз перешитым и почти насквозь светившимся
полутраурным платьем.
Они уже выходили из дома — Хуан, вымытый и
приодетый, мать в новых шлепанцах, в отутюженном платье,
отделанном цветастой тканью, помолодевшая, вероятно,
от обилия пудры на лице,— когда на пороге появился дон
Роберто.
При виде принаряженной и от этого ставшей еще
более желанной прачки богач совсем потерял голову, забыв
о приличии и благоразумии, подобающих человеку его
круга. Сначала он послал Хуана купить кофе, потом
отправил за сладостями и, наконец, за дешевой игрушкой,
получив, таким образом, возможность до самых сумерек
беспрепятственно увиваться за желанной добычей с
дерзкой назойливостью слепня.
А к вечеру случилось то, чего и следовало ожидать.
Хуан при сумеречном свете пускал под навесом в корыте
с мыльной, вонючей водой новенькую бригантину,
купленную за одну песету. Хосефа, стоя перед единственным
в лачуге столом, собиралась засветить керосиновую лампу,
а дон Роберто, все больше распаляясь от страсти, сидел
вразвалку на стуле, пожирая плотоядным взором
каждое движение вожделенной вдовы. И вдруг до них
донеслось характерное и хорошо всем знакомое
тарахтенье быстро приближавшегося экипажа. От
неожиданности дон Роберто и мать оцепенели, устремив
встревоженные взгляды на приоткрытые ворота, к которым
уже кинулся мальчонка, размахивая руками и радостно
крича:
— Донья Хуанита! Донья Хуанита приехала!
И в настежь распахнутые Хуаном ворота, к которым
словно припечаталась его маленькая, шустрая фигурка,
важно прошествовала пара лоснящихся караковых
лошадей, обуздываемая кучером-негром. Едва тарахтенье
смолкло, пышные телеса доньи Хуаниты всколыхнулись на
мягком, пружинистом сиденье и склонились к мальчику.
Лицо в очках озарила улыбка:
— Как поживает мой маленький тезка?
Но улыбка мгновенно слетела с ее лица. Поверх
мальчишечьей головы донья Хуанита увидела нечто
поразившее ее: дон Роберто теперь уже стоял рядом с
принаряженной вдовой. Вид у обоих был виноватый, словно у
злоумышленников, застигнутых на месте преступления.
Вообразив самое худшее, сеньора с высокомерным досто-
326
инством вышла из экипажа, отстранила от себя Хуана к,
не замечая хозяйки дома, приблизилась к мужу. Глядя
на него в упор сверкающими от негодования глазами, ohj
спросила дрожащим от ярости голосом, обращаясь только
к нему и ни к кому другому:
— Почему ты здесь?
Дон Роберто растерялся и ответил первое, что пришло
ему в голову:
— Я зашел сюда дать немного денег этой бедной
сеньоре.
— Сеньоре!..— прошипела донья Хуанита, раздувая
ноздри в отнюдь не величавой усмешке.
Прачка хотела успокоить донью Хуаниту, рассеять
подозрения ослепленной яростью сеньоры. Да и сам дон
Роберто стремился поскорее все объяснить и уладить,
сдерживая потоки ярости, хлеставшие из уст разъяренной
супруги. Вытянув вперед правую руку, он тщетно
пытался унять ее:
— Да погоди ты! Помолчи минутку! Выслушай меня
спокойно!
Но донья Хуанита ничего не желала слушать. Ни
спокойно, ни как-нибудь иначе. Она корила себя, только себя
одну за свое упорное стремление помогать подобным
женщинам, хотя отлично знала, что у ее мужа особый нюх на
таких...
— Надо думать, ты теперь припомнишь, сколько у
тебя их вместе с этой, не так ли? — злобно прорычала она,
скорчив презрительную гримасу.
Хуан запомнил эту фразу слово в слово на всю жизнь,
как и другую, не менее обидную для матери, сказанную
доньей Хуанитой, когда она уже направлялась к своему
роскошному экипажу:
— Бог отплатит тебе за все, милая!..
Бесполезно было пытаться что-то объяснять. Донья
Хуанита поднялась в коляску, вокруг которой уже успели
собраться такие же маленькие оборвыши, как Хуап, и
экипаж тронулся с места так стремительно, что дон
Роберто едва успел вскочить на подножку и рухнуть на
сиденье рядом с супругой, теперь уже плакавшей от стыда
и злобы. Торопливо и взволнованно он повторял:
— Да погоди же, говорю тебе! Выслушай меня.
Видишь ли...
Мать Хуана затворила двери. Оскорбленная до
глубины души, она в слезах опустилась на первый попавшийся
327
стул. И, захлебываясь рыданиями, неразумно стала
изливать свою обиду сыну, призывая в свидетели этой
отвратительной сцены своего единственного маленького друга,
который стоял теперь подле нее с дрожащими губами, со
слезами на глазах и сжавшимся от жалости сердечком.
Ведь он сам все видел. Она ни в чем не виновата.
Каждый может позволить себе жестоко обидеть ее и оскорбить,
потому что она бедна и беззащитна. Но самое страшное,
что теперь ее наверняка лишат заработка. Монахиням из
приюта не нужна прачка со стороны и если до сих пор ей
давали стирать простыни, то только из жалости, по
рекомендации доньи Хуаниты — богатой покровительницы
этого сиротского приюта. Снова они никому не нужны!
Одни-одинешеньки на всем белом свете. «Без никого и без
ничего». Уж лучше бы им умереть обоим. Ах, не будь его!..
Бедняжка горько разрыдалась, охваченная
безысходной тоской, прижимая к груди головку сына и ероша ему
волосы. И мальчик, прильнув к страдалице, плакал вместе
с ней.
Но горе ребенка не было достаточно осознанным. Он
не понимал истинного значения слов и поступков доньи
Хуаниты; не мог проникнуть в глубины человеческой
низости, заключенной в этой горестной сцене, хотя кое-что
из нее увязывалось в сознании шестилетнего ребенка с
теми непристойными выражениями и циничными
намеками,— постоянными спутниками нищеты,— которые он
черпал на улице, в мелочной лавке и в убогой школе
предместья.
II
Мать Хуана Кабреры звали Хосефа Вальдес. Она не
отважилась на ночь глядя пойти за получкой к сестре
Хуане, настоятельнице сиротского приюта. Хосефа
побоялась оставить дом на попечение дешевого висячего замка
и дежурных полицейских — этих голодных, немощных
стражей колониальных времен. К тому же нестарой
женщине небезопасно было появляться в столь поздний час
в сопровождении лишь шестилетнего мальчика на улицах
и пустырях предместья, наводненных в те времена
гаванскими ньяньиго. Любая компания из захудалого кафе или
лавчонки могла бы обрушить на вдову и сына поток
скабрезных шуточек и комплиментов, не щадящих слуха без-
328
защитной женщины, а тем более невинного ребенка.
Любые подгулявшие забулдыги в альпаргатах или
шлепанцах могли бы покуражиться с изощренностью дегенератов
над прачкой и ее маленьким спутником на темной и
пустынной улице Сан-Ласаро.
Вот почему они отправились туда утром, прячась от
солнца под сенью домов и заборов. И уверенно вошли в
массивное здание, нисколько не сомневаясь, что имеют на
это право, поскольку мать являлась прачкой этого
заведения и своим целомудренным поведением снискала
расположение прислуживавших здесь монахинь. Но на сей раз
привратница,— испанка, как и все монахини этого прию-
ia,— всегда встречавшая Хосефу радушным: «Бог в
помощь, сестра!» —а затем живо интересовавшаяся ее
здоровьем и успехами в учебе сына, ограничила свое огаргопо-
bis 1 коротким приветствием и едва слышно, дрожащими
губами сообщила несчастной женщине о жестоком
решении настоятельницы, которого уже с вечера так
опасалась Хосефа Вальдес. Вероятно, донья Хуанита успела
побывать у сестры Хуаны, у этой пышущей здоровьем,
приветливой дамы в монашеском одеянии, придававшем
ей величественность матроны, которая обожала расточать
милости беднякам, благодаря чему и монахини сиротского
приюта доброжелательно относились к прачке. Впрочем,
сестру Хуану назначили настоятельницей не столько за
ее добродетели и безукоризненную нравственность,
сколько за слепое поклонение пред всякого рода иерархией,
будь это иерархия гражданская или церковная. Именно
этим она и руководствовалась в то утро, отдавая
приказание привратнице вручить прачке деньги,
причитавшиеся за две недели стирки, и передать, что они больше не
нуждаются в ее услугах, а если та вдруг надумает
выяснять причину столь сурового приговора, ни под каким
видом не впускать в дом.
И хотя несчастная женщина ожидала столь
безжалостного решения, все же оно до глубины души потрясло ее
своей несправедливостью. Христианская мораль
обрекала ее — и без того обиженную богом дочь — либо на путь
порока, либо на голодную смерть. И в сердце Хосефы
вспыхнула обида на сестру Хуану, эту благочестивую
праведницу, которая, эгоистично стремясь оградить свою
целомудренную, набожную душу от волнений, не желала
Красноречие (лат.),
329
касаться грубых житейских тем, оскорбляющих религию, и
не хотела в то же время оставаться глухой к мольбам и
слезам своей бывшей подопечной, если бы та вдруг
явилась к ней с маленьким сыном и стала просить, каяться,
требовать.
Хосефа Вальдес была прачкой, простой женщиной, по
и в ее жилах текла кубинская кровь.
— Нет! Нет! — решительно запротестовала она,
отталкивая протянутые ей деньги и порываясь во что бы то ни
стало войти в дом и заставить настоятельницу немедленно
выслушать свои объяснения или мольбы.— Пропустите
меня, я должна поговорить с сестрой Хуаной. Подумайте
о моей бедности, сестрица!
Но это тщедушное на вид создание, несмотря на свой
испуг и растерянность, твердо противостояло натиску Хо-
сефы с силой, никак не вязавшейся с ее возрастом и
монашеским обличием.
—- Во имя господа бога, сестрица! — умоляла прачка,
пытаясь преодолеть сопротивление привратницы.— Не
впадайте в смертный грех! Не делайте этого!
Хосефа просила, протестовала, возмущалась, наседая
все сильнее, но монахиня оказывала героическое
сопротивление. Она пообещала лишь бедной негодующей
женщине замолвить за нее словечко перед настоятельницей.
Убеждала, почти уверяла, что смягчит гнев сестры Хуаны,
если прачка немедленно успокоится и уйдет.
Но уговоры привратницы не возымели никакого
действия. И тогда она перешла от просьб к угрозам, вызвавшим
еще большие препирательства. Наконец, потеряв терпение,
монахиня мягко, но решительно оттеснила прачку и
заперла железную решетку на ключ.
Затянувшаяся сцена привлекла к себе немало зевак:
на тротуаре остановились солдат и две мулатки, за
спиной у монахини столпилось с десяток бритоголовых
питомцев приюта. Заплаканный, всхлипывающий Хуан,
трясясь от страха, словно в лихорадке, настойчиво дергал
мать за подол платья и непрерывно горячо умолял:
— Пошли, мама! Пошли отсюда!
Монахиня, увидев, что с минуты на минуту может
разразиться скандал, в котором ей пришлось бы играть
весьма неблаговидную роль, встревоженная тем, что ей никак
не удается завершить сцену в соответствии с
христианской моралью и подобающим для сиротского приюта
образом, решилась на обман и, не долго думая, солгала:
330
— Послушайте, сестра! Мне не велено было говорить
вам, но, уж так и быть, я скажу. Да простит меня за это
господь бог! У настоятельницы сейчас находится донья
Хуанкета.— Заметив смятение, промелькнувшее в глазах
оскорбленной прачки, монахиня, вдохновившись,
продолжала бессовестно лгать: — Ступайте домой. Все
образуется, вот увидите. Господь бог не оставит вас. Идите домой
и приходите позже.
Хосефа Вальдес покорилась судьбе, как и накануне
вечером. Ею овладела покорность парии перед
господином, которая испокон века помогала надменным
сеньорам выходить сухими из воды даже при таких
обстоятельствах, когда опасность больше грозила им, чем тем,
кому нечего было терять. Ее вдруг охватила невыразимая
усталость, и сердце наполнилось безмерной жалостью к
заплаканному сыну, который тянул ее за платье и,
судорожно всхлипывая, уговаривал уйти. В душе бедной,
несчастной, обездоленной женщины заговорила гордость, на
которую она тоже имела право. Она успокоилась и
перестала умолять благочестивую сестрицу, которая из
жалости с набожным состраданием обещала помочь ей
побыстрее вернуть потерянное место. Она лишь еще раз
попросила ее об этом, во имя господа бога и пресвятой девы Каря-
дад, и ушла, увлекаемая сыном.
III
Вскоре ложь привратницы стала совершенно
очевидной. Сестра Хуана и донья Хуанита даже слышать ничего
пе хотели об уволенной прачке. Хосефа Вальдес тщетно
обивала пороги сиротского приюта и богатого особняка,
который возвышался в аристократическом районе Серро
среди пальм и фруктовых деревьев. Ей пришлось пройти
через все муки Голгофы в поисках заработка,— муки
одинокой женщины, обремененной материнством. Умри ее
сын при рождении и не страши ее так мысль, что он
может оказаться в приюте среди печальных сирот, вероятно,
она скорее подыскала бы себе хорошее место прачки или
кухарки за десять песо в месяц. Но у нее был ребенок,
и, неся на себе этот крест, она лишена была возможности
устроиться служанкой в какую-нибудь обеспеченную
семью добропорядочных гаванцев. Деньги, полученные в
последний раз за стирку, и кое-какие гроши, заработанные
331
от случая к случаю, быстро таяли. С каждым днем
приходилось цепляться все отчаяннее за любую спасительную
поддержку, лишь бы избежать крайней нищеты. На
завтрак они ели картофель, сваренный в слегка подсоленной
воде, либо горсть отварного риса, либо болтушку из
кукурузной муки, либо какую-нибудь другую неприхотливую
пищу, привычную еще со времен мрачного рабства, пищу,
которая не столько насыщает, сколько набивает брюхо.
На ужин пили кофе с хлебом, если кто-нибудь из
сердобольных соседей, не таких нищих, как вдова с сыном, не
угощал их похлебкой, ничем не отличавшейся от той,
какую варили их далекие предки, или если с ними не
делились объедками с господского стола, которые приносила
домой, в соседнюю «коммуналку» чернокожая кухарка
для своего сожителя — слепого, придурковатого мулата.
Хуан не в силах был отвести голодных глаз от сваленных
в жестяную банку из-под масла сказочных яств и жадно
выковыривал оттуда оливки, обрезки ветчины, кусочки
жаркого. Были у Хуана с матерью покровительницы и
среди монахинь расположенной поблизости больницы «Рейна
Мерседес», в ту пору еще не достроенной, а также среди
монахинь лепрозория на улице Сап-Ласаро,
находившегося от них еще ближе, чем больница. Когда голод
слишком допекал их, они с матерью брали там остатки
больничного бульона. Иногда Хуан с ватагой таких же
босяков, как он, бегал в воинскую часть на улочку Санта-
Клара, чтобы выклянчить у солдат хлеба и кое-что из
пайка. Или же они совершали набеги на усадьбу «Медина»
и там камнями и палками сбивали плоды с фруктовых
деревьев. Хуан все больше времени проводил на улице,
отбиваясь от дома. В школу он ходить перестал: не было
обуви, мыла, чтобы постирать его одежду, и твердости духа
у матери, чтобы при их нищете заставить сына учиться.
Авторитет матери ослабевал по мере того, как таяли ее
моральные и физические силы, росла нищета и все
настойчивее и напористее становились назойливые ухаживания
лавочника, не дававшего им в кредит даже таких
необходимых продуктов, как кофе и сахар. И тогда мать
Хуана Кабреры опустилась на дно порока. Ее постигла самая
страшная из всех кар, какие только обрушивались на нее
после смерти мужа, когда она осталась одна с малолетним
сыном на руках, без родных и близких, неграмотная,
изнуренная работой и голодом, без всяких средств к
существованию, вынужденная зарабатывать своими слабы-
332
ми женскими руками на пропитание. Однажды утром
после бесконечных дней отчаяния в кармане матери
откуда-то взялись деньги — каким образом, Хуан не знал.
На завтрак они пили кофе с молоком и ели румяные,
ароматные французские булочки. Желанные французские
булочки! После завтрака они с матерью отправились
покупать еще одну раскладушку, которую поставили в
самый отдаленный угол комнаты напротив старой,
отгородив ее простыней, натянутой на веревку от стены к стене,
и устроив нечто вроде спаленки. Мать объяснила сыну,
что он уже вырос и не должен спать с ней в одной
постели. Такое объяснение вполне устраивало нищего
кубинского мальчишку, ибо сулило ему явную выгоду, которую
легко улавливало детское сознание ребенка, слишком
рано познавшего тяготы жизни: с той самой минуты, как
в кармане Хосефы Вальдес каким-то чудом зазвенели
монеты, у Хуана появилась не менее чудесная
возможность каждый день набирать в соседней лавочке
продукты на две песеты; и именно с того дня он стал различать
по ночам сквозь сон среди привычных домашних запахов
едкий мужской дух, так напоминавший запах,
исходивший от солдат испанской армии, и приглушенный
мужской голос с прерывистыми и твердыми «с» и «х».
IV
Хуан Кабрера догадывался, какую огромную жертву
принесла ему мать, заключив столь горестную сделку с
жизнью. Но со свойственным всем детям эгоизмом,
отвергающим всякую мораль, он стремился лишь извлечь
для себя выгоду из создавшегося положения: постепенно
выйти из-под материнского надзора и обрести желанную
свободу, дававшую ему возможность не посещать школу,
гонять по улицам и пустырям босиком, с непокрытой
головой и в рубахе навыпуск, противиться всякой
дисциплине — моральной и общественной, и, наконец,
безнаказанно подражать выходкам и нравам, принятым в той
среде, которая его окружала.
На Хуана не действовали ни просьбы матери, ни
подарки, ни посулы бросить его на произвол судьбы, к
которым она изредка прибегала, ни обещания выпороть его
как следует, которые она ни разу не привела в
исполнение, ни угрозы отвести в ближайший участок, которого
333
она страшилась больше, нежели ее непутевый сын. По
вульгарному выражению матери, он «снюхался со всякой
швалью». Каждое утро, едва продрав со сна глаза, с
липкими от только что выпитого кофе губами, он убегал на
улицу, чтобы вести более насыщенную впечатлениями
жизнь, более отчетливо и зримо откладывать в своей
памяти картины быта креолов, среди которых протекало в
колониальной Гаване его привольное детство,
беспорядочное, безнадзорное детство уличного мальчишки.
Они с матерью вставали чуть свет, едва тропическое
солнце пробивалось сквозь щели в лачугу, сияя на ясном
небе, отражавшемся до самого горизонта в лазурной
глади залнва, и когда первые трамваи с грохотом
устремлялись в Чорреру, скрежеща по рельсам, погребенным на
перекрестках под грязью.
Хуан убегал на улицу спозаранку под предлогом, что
надо взять в лавочке продуктов, которые ежедневно на
две песеты выдавал ему «отчим»-галисиец, и купить кое-
что за наличные деньги в мясной лавчонке и овощном
ларьке. Он шел вверх по безлюдной улице, заваленной
помоями, которые разве что ветру суждено будет когда-
нибудь развеять, через соседний пустырь, еще влажный
от росы, поблескивавшей на островках травы, усыпанной
порожними бутылками, консервными банками,
обрывками бумаг, огрызками фруктов и гниющими отбросами.
На первом же перекрестке Хуан наталкивался на
толпившихся вокруг молочника мулаток и негритянок в
больших пестрых шалях, накинутых на голову. Молочник
неторопливо наливал пенящуюся жидкость из большого
жестяного бидона, стоявшего в корзине среди других
таких же, в маленькие кувшины женщин, будораживших
едким запахом своих тел прозрачный утренний воздух.
Чуть дальше Хуану попадались уличный зеленщик,
возвышавшийся на кляче перед горой влажной, пахучей
зелени, и разносчик свежевыпеченного хлеба с плетеной
корзиной, от которой исходил тепловато-кислый аромат
теста, и торговец овощами и приправами — громадный
негр в шлепанцах и рубахе навыпуск, которому помогал
толкать тележку с товаром его сын — босоногий парнишка-
мулат. В тишину дремлющего квартала вместе с терпким
запахом садов врывались призывные крики:
— Э-эй!.. Продаю-ю фру-укты, о-о-ово-щи, припра-
авы!.. Торопи-и-птесь купи-ить!
Сначала следовал длинный, словно литания, перечень
334
товаров: свежие яйца, картофель, местная юка, алые, кат?
кровь, мамеи, а в заключение опять протяжный призыв:
— Торопи-и-итесь купи-ить!
На следующем перекрестке находилась мелочная
лавка галисийца. Несмотря на ранний час, там уже
толпилась говорливая орава мальчишек и собрались бродяги,
хулиганье и распространители подпольной лотереи.
Мальчишки возле ящика с углем и связками тростника
договаривались под громогласные возгласы: «Четверть фунта
кофе и четверть фунта сахара!» — о своих проделках на
сегодняшний день. Остальные возле дощатого узкого
прилавка, окантованного металлической рейкой, бурно и не без
разочарования обсуждали ночную потасовку ньяньиго.
— Ну и зверюга! — восторженно восклицал
кто-нибудь, восхищаясь последним подвигом негра Ильямбы в
очередной драке.— Пырнул ножом прямо в пах!
Кто-то другой высказывал мнение, что если бы
«кастрированный» не был таким желторотым и не побоялся
донести на бандита властям, то... А третий уверял, что
если бы даже тот и донес, то все равно из этого ничего
не вышло бы. Разве с бандитом сладишь?
Утренние уроки Хуана этим не ограничивались.
Иногда ему приходилось выслушивать грубые, откровенные
намеки детей и взрослых, белых и черных на любовную
связь его матери с галисийцем. Когда же он не получал
этих уроков, то любил выставлять напоказ свои
скороспелые познания, откровенно бахвалясь ими и вызывая
всеобщее одобрение. Или, стоя на коленях на омерзительно
грязном полу лавчонки среди бездельников и
мошенников, потешавшихся над ним из невежества и зависти, он
вычерчивал углем сложные арифметические действияv
вызывая восхищение у маленьких сорванцов,
замусоленная одежда и немытые тела которых распространяли в
этот час особенно сильную вонь.
Из лавки галисийца Хуан переходил на другую
сторону улицы, в ларек китайцев, торговавших фруктами,
овощами, рыбой и зеленью. Запах, исходивший от ларька,
разносился по всему кварталу, смешиваясь с
поднимавшимися из сточной канавы испаренияхми. Это был запах
прогорклого масла и китайского табака. Иногда к нему
присоединялся еще дым опиума, который невозмутимо
вдыхал в себя стоявший на углу сменный полицейский,
заискивающе улыбаясь красавчикам, собравшимся в
лавочке галисийца, и пленительным мулаткам, проходив-
335
шим мимо него с сумками или корзинами, покоившимися
на изящно изогнутых бедрах. В ларьке и затем в мясной
лавке Хуан не брал продукты по списку, который
ежедневно составляла мать, а их неверный, непостоянный
«отец семейства» в значительной мере урезал, а покупал
все за наличные деньги. Бывало, что Хуан тратил деньги
по своему усмотрению: покупал початки молодой
кукурузы для лепешек, свиной ливер для нежных пирожков
или кровяную колбасу для риса со специями, сахаром,
изюмом и миндалем.
Сделав необходимые покупки и завернув их в желтую
бумагу, Хуан отправлялся в обратный путь. Два квартала
до дома он шел не менее двух часов. Этого времени ему
едва хватало, чтобы успеть до обеда кое-чему научиться:
игре в бейсбол у самых отпетых матерщинников и
драчунов предместья; разнообразным азартным играм у
какой-нибудь компании прохвостов и жуликов; площадной
брани у каталонца-извозчика, снимавшего одну из
каморок в соседнем многонаселенном бараке и каждое утро
со знанием дела прогуливавшегося кнутом по телу
метиски, своей возлюбленной; непристойным выходкам,
склокам и диким нравам у соседей во время очередного
скандала в «коммуналках» — этих страшных,
густонаселенных доходных домах Гаваны, рассадниках духовной и
материальной нищеты колониального города, этого па-
родного общежития, более разношерстного, позорного и
нравственно грязного, чем пользующиеся такой же
славой чилийские доходные дома «конвентильо» и
многоквартирные дома Ист-Сайда в Нью-Йорке. Хосефа Вальдес,
живя в нищете, выбивалась из последних сил, чтобы
сохранить свой независимый маленький очаг, где они жили
вдвоем с Хуаном, вдали от бурлящей клоаки ненавистных
«коммуналок». Но ее сына неудержимо влекла к себе
улица, и, со свойственным в его годы стремлением все
познать, всему подражать, он постоянно торчал перед их
дверьми, жадно впитывая в себя то, что мог преподать
ему забитый, некультурный, униженный нищетой народ.
Часто он прибегал домой, запыхавшись, мокрый от
пота, удирая от преследования полицейских, которые
гнались по пятам за маленькими разбойниками. Хосефа
Вальдес, испытывая вечную тревогу за сына и досадуя на
то, что в жаровне зря горит огонь в ожидании стряпни,
набрасывалась на этого шалопая, едва он переступал
порог, и грозила расправиться с ним самым жестоким обра-
336
зом. Однако пыл ее мгновенно остывал, ругань сменялась
обычным ворчанием, а шлепанцы, которыми она
собиралась его отстегать, никогда не попадались под руку.
Через минуту или через час после обеда Хуан под
каким-нибудь предлогом, или без него, вновь ускользал
из дома, чтобы гонять по улицам под палящими лучами
ослепительного солнца с такими же сорванцами, как он,—
полуголыми мальчишками предместья. Ватага
безнадзорных проказников откровенно или исподтишка чинила
всякого рода пакости, направленные главным образом
против грифов, экипажей и китайцев. Это племя разбойников
не испытывало никакого уважения к узаконенной силе
грифов — санитарной полиции колониальной Гаваны.
Стоило им увидеть птиц, машущих крыльями над
разлагавшимся на солнце трупом собаки или же сидящих на
свалке гниющих отбросов где-нибудь на пустыре, как они
ополчались на них: тихонько подкрадывались, прячась за
оградами и кустарниками, а потом из-за угла или из-за
дерева обстреливали камнями. Случалось, камень, упав на
землю, рикошетом попадал в уличный фонарь, который
разлетался вдребезги, или в проезжавший мимо экипаж.
Тогда мальчишки с громким гиканьем разбегались
врассыпную. Когда же в их предместье вдруг заезжала
запыленная колымага, вся шайка наперегонки мчалась за ней,
чтобы потихоньку, давясь смехом, вскочить на заднюю
ось, уцепившись за край повозки. Обычно сильный
толчок на ухабе опрокидывал озорников, если, конечно,
кучер не успевал до того огреть кого-нибудь метким ударом
кнута. О приближении китайца — торговца сладостями —
мальчишки узнавали по особому, неповторимому
постукиванию деревянных подставок о край лотка, который азиат
носил на голове поверх грязного, замусоленного валика.
Такого же замусоленного, как лоток, выкрашенный
охрой, как руки китайца, сам китаец и сладости, которые он
продавал.
— Китаец! Китаец! — кричал предводитель ребячьей
шайки, и мальчишки устремлялись за своим вожаком
навстречу врагу.
Ребята действовали слаженно, по заранее
разработанному и хорошо известному им стратегическому плану.
Они добегали до перекрестка, где должен был пройти
китаец, и, притаившись за углом, дожидались его. Как
только тот приближался, вожак с независимым видом, пе
спеша выходил из укрытия, держа руку в кармане.
22 К. ловейра 337
— А ну-ка, сними лоток,— говорил он.— Дай
взглянуть, что у тебя там.
Китаец снимал с головы лоток и ставил на тротуар.
Мошенник сначала аккуратно перебирал сладости, а
потом, мгновенно схватив первое, что попадало ему под
руку, кидался прочь в заранее условленное место. Забыв
о прежних точно таких же проделках мальчишек,
китаец бросался вслед за воришкой, но настигал его лишь
своей непристойной, двуязычной бранью. Тем временем
остальные ребята выскакивали из-за угла и налетали на
лоток. Расталкивая друг друга, каждый норовил ухватить
как можно больше сладостей, готовый в любую минуту
броситься наутек, как только несчастная жертва
устремится к ним, ругаясь с удвоенной яростью и во сто крат
умноженной энергией. Чтобы замести следы и запутать
полицейских, которые могли услышать отчаянные крики
обворованного бедняги: «Держи! Лови!» — сорванцы
разбегались в разные стороны, каждый добираясь окольным
путем к заранее условленному месту где-нибудь у
косогора, в рощице, под кронами деревьев, скрытых за
толстой, потрескавшейся кладбищенской стеной, или на
рифах в районе Ведадо, в старом остове корабля, когда-то
выброшенного на берег залива разбушевавшейся стихией
во время одного из незабываемых штормов. Наконец,
собравшись вместе, вспотевшие от быстрого бега,
опаленные полуденным солнцем, они рассаживались кто куда, и
начиналось шумное ликование по поводу успешно
завершенной операции, превозносились заслуги каждого и с
наслаждением, жадно поглощались лакомства: кремы,
сахар, конфеты и прочие дешевые сладости — щедроты
преступного воровства. Пожалуй, лишь один Хуан, самый
младший из всех, глотал добычу с затаенной грустью,
представляя себе, какой огромпый ущерб нанесли они
бедному торговцу, лишив его нескольких песет, которые
он мог выручить от продажи своего товара, алчно
пожираемого ими теперь, словно дикими зверями. И,
пожалуй, лишь он один, охваченный внезапным порывом
жалости к поедавшим лакомства товарищам, таким же
обездоленным мальчишкам, как он, со вздохом восклицал,
испытывая угрызения совести:
— Бедный китаец!
По эту внезапную вспышку жалости тут же гасил
Петух — предводитель ватаги, тринадцатилетний метис,
тощий и оборванпый, словно пугало,— подавляя всякую по-
338
пытку проявить неподобающее мужчинам малодушие и
пытаясь оправдать их поступок:
— Так ему п надо! На то он и китаец!
Ы Хуан, вместе с мальчишками или сам по себе,
продолжал участвовать во всех проделках прибрежной шпаны.
Он приводил сотни разных доводов, находил тысячу
предлогов, чтобы как можно быстрее и надолго улизнуть
из дома.
Началось с того, что он перестал ходить в лавку
напрямик, по улице Принсипе. Это давало ему возможность
скрыться от материнских глаз. Дело в том, что чуть выше
по улице Принсипе в маленьком деревянном строении с
желтыми стенами и зелеными дверками находилось
логово свирепой мулатки, досаждавшей всем соседям и
полицейским квартала. Она ходила в платьях, украшенных
лентами, в шелковой шали и шлепанцах из оленьей кожи.
Настоящее имя ее было Каридад \ но все ее звали
Помело. Вероятно, потому, что она как нельзя лучше
подметала улицы подолом своих белоснежных платьев с
плиссированными оборками по десять песо каждое, а может
быть, потому, что улицы и тротуары пустели, едва
Каридад, подбоченясь, появлялась на пороге своей лачуги или
выныривала откуда-нибудь с улицы и начинала поносить
кого попало своим длинным языком без костей.
Помело стала цепляться к матери Хуана, заподозрив,
что именно она «отбила у нее лавочника-галисийца», ее
нередкого ночного гостя и верного кандидата в сожители.
Первые ее заряды обрушились на Хуана:
— Эй ты, молокосос! Передай этой дохлой мухе, что
живет в твоем доме, матери или кем она тебе там
доводится, чтобы перестала отбивать кобелей у баб, не то ей
быстро распишут рожу навахой!
Когда Хуан впервые услышал это, он мужественно
решился ответить, искусно скрыв неприязнь, но после того,
как Помело выплеснула на него целый ушат оскорблений:
«Белые свиньи!», «Голодранцы!»—Хуан, забыв о всякой
предосторожности, вступил с ней в перепалку.
Но разве мог маленький плут, каким бы головорезом
он ни был, дать достойный отпор Помелу. Такое еще
никому не удавалось!
Случай этот пришелся для мальчика как нельзя
кстати, ибо Хосефа Вальдес — малодушная, впечатлительная,
Каридад — милосердие (исп.).
339
бесхитростная женщина, от природы застенчивая и
забитая, сразу же решила, что ее сын не должен больше ходить
мимо дома скандалистки, и, едва сдерживая слезы, с
горестным наивным смирением произнесла дрожащими
губами:
—- Что поделаешь, сынок! Видно, богу так угодно!
Хуан под ливнем палящих лучей тропического
солнца, ослеплявших своим фейерверком людей и животных,
изнемогающих от нестерпимой жары, являл собой часть
живой, естественной скульптуры из мрамора, бронзы и
черного дерева, которая вместо аполлоновой белизны
обнаруживала дерзновенную черноту. Он стал бродить по
улицам и площадям со своим приятелем-соседом, таким
же «белокоженьким», постарше на два года, с
шафрановыми волосами, босоногим, с голым пузом, обладавшим
счастливым даром быстро приспосабливаться к окружающей его
среде. Это была среда чистильщиков сапог, которые при
случае распространяли билеты подпольной лотереи,
сбывали газеты и последние новости. Хосефа Вальдес всячески
противилась тому, чтобы ее сын вошел в
«профессиональное братство» Хулиана, этого кубинского Гавроша, но
Хуан вопреки всему по-прежнему ходил с кипами газет
и сапожным ящичком своего напарника и ментора. Если
Хулиан шел по одной стороне улицы, Хуан шел по
другой, чтобы охватить как можно больше прохожих, сбывая
последпие новости и газеты. Если Хулиан брался за
левый башмак, Хуан принимался за правый, и, встав на
колени, они начинали усердно начищать их до блеска,
состязаясь в мастерстве. На вырученные деньги друзья
покупали всякие лакомства: сахарный тростник, манго,
булочки с джемом из гуаявы и другие сладости. Утолив
таким образом голод, они могли подолгу не возвращаться
домой, совершая прогулки в самые отдаленные и
многонаселенные районы города. Иногда они отправлялись на улицы
Лос-Сантос, Эль-Манглар или Хесус-Мария — средоточие
афрокреольского сброда, чтобы поглазеть на какие-нибудь
шумные похороны почтенного ньяньиго, или на
«вознесение святого» под звуки бонго, марак и тимбал, или на
вызывающее, похотливое сотрясание тел в румбе под дробный
аккомпанемент варварских музыкальных инструментов, в
340
далекие времена завезенных на Кубу рабами из Африки.
Иногда обходили одну за другой церкви или, как все
мужчины, созревающие в суровой жизни, шли на улицы,
наводненные проститутками, а улиц таких было
полным-полно в колониальной Гаване — городе, равного которому не
существовало во всем мире по количеству открытых домов
терпимости. Друзья обегали улицы Мигель, Сан-Хосе, Вир-
тудес, расположенные выше бульвара Прадо, где в
большинстве своем располагались дома «солидные», то есть
с застекленными дверьми, со шторами и жалюзи, поверх
которых, вскарабкавшись, как обезьяны, по железной
решетке окон в классическом кубинском стиле, оба дружка
созерцали проституток, рассевшихся в ряд на
креслах-качалках. Случалось, они позволяли себе крикнуть
какую-нибудь сальность проститутке, которая слишком уж
беспардонно демонстрировала свои телеса из-под вышитого и
украшенного лентами платья, но появление хозяйки
борделя или парочки блюстителей общественного порядка
заставляло их спрыгнуть на землю и броситься прочь с
ликующими, победоносными криками:
— А все же мы их видели!
— Ну и ножищи у мулатки!
— Пошли в сторону Бомбы!
•— Пошли!
И они устремлялись па улицы Бомба, Агуакате, Обра-
пиа и им подобные, входившие в ту часть города, где
процветала самая омерзительная, растленная и постыдная
проституция, где публичные дома лепились друг к другу,
почти все с настежь раскрытыми дверьми. Мальчики
погружались в этот тошнотворный, смердящий, гнусный и
горестный мир, который колониальные власти, а потом и
республиканские, поддерживали и эксплуатировали с
самым невозмутимым спокойствием и наглостью. Туда, где
в зале или в «приемной» — кровать в глубине, на стене
картинка с обнаженным фавном, напротив освещенный
лампадкой образ святой Каридад или святого Лазаря,—
развалившись в кресле-качалке, равнодушная и
бесстыжая потаскуха зазывала к себе сюсюканьем, грубыми
шуточками, легкой одеждой, обнаженными до самых
подвязок ногами, бюстом и голыми до подмышек руками. Туда,
где собиралась говорливая компания в дешевом кафе на
углу, откуда напудренные сутенеры с прилизанными
волосами, кто в сюртуке, кто в куртке, кто просто в рубашке,
а кто и в рубахе навыпуск, внимательно следили за куп-
341
лей-продажей своего товара среди сутолоки, стука
костяшек домино и приглушенного нозвякивания дешевых
побрякушек. Туда, где вдруг вспыхивали драки на какой-
нибудь из этих оживленных, распутных улиц между
гомосексуалистами, живущими в многонаселенных домах
казарменного типа и в приземистых, обшарпанных,
запыленных домишках, тянувшихся вдоль развалин крепостной
стены по проспекту Монсерат от улицы Драгонес к Обра-
пиа. Туда, где раздавались похабные шутки прохожих,
выкрики проституток, люто ненавидевших мужчинг
которые «промышляли», где слышались оскорбительные
нападки посредников, готовых блеснуть своим героизмом перед
этими дегенератами. Хуан и Хулиан впитывали все это в
себя с наслаждением и слишком рано пробудившимся в
них цинизмом безнадзорных кубинских шалопаев в
коротких штанишках, которые привыкли похваляться в своей
среде безнравственностью и распущенностью. Они
упивались омерзительными сценами этого растленного мира до
тех пор, пока не появлялись «постоянный» надзиратель,
взимавший с каждого дома терпимости по унции, или на-
рочка полицейских, ежемесячно удерживавших с
содержательниц борделей налог в полсентена, чтобы таким образом
привести в порядок «общественную нравственность» на
улице. Спустя полчаса потные, запыхавшиеся от быстрого
бега, а иногда пристроившись пассажирами на задке
крестьянского фаэтона — этого пережитка прошлого,—
направлявшегося в Марианао или в Сан-Педро, Хуан и
Хулиан добирались до своего предмесаья, где уже загорались
тусклые газовые фонари. Примолкшие, подавленные,
испытывая минутный страх и угрызения совести, оба
лихорадочно придумывали какое-нибудь неправдоподобное
оправдание своему позднему возвращению, чтобы хоть как-
то смягчить гнев матерей, исполненных решимости
учинить самую жестокую расправу, которая потом, как уже
известно, завершалась обычным ворчанием и тщетным
поиском шлепанца, никогда не попадавшегося под руку.
VI
С наступлением сумерек у Хуана начиналась совсем
другая жизнь. Едва улицы и пустыри предместья
погружались в темноту ночи, населенной призраками ньяньиго,
проститутками и прочим преступным сбродом колониаль-
342
ной Гаваны, к мальчику, свободному от влияния улицы, спо-
ва возвращалось детство, и он, как говорится, «прилипал
к подолу матери», изливавшей в эти печальные часы свою
тоску сыну — единственному существу, способному понять
ее и слушавшему то с серьезностью, не свойственной
детям, то с жалостливым состраданием.
Их задушевные беседы велись при свете новой
керосиновой лампы с высокой горелкой и большим, прозрачным
стеклянным колпаком. Лампа отбрасывала в темноту ночи
яркий, дрожащий желтый конус света — на каменистую,
поросшую травой улицу, куда обычно они выносили два
стула. В ясные ночи свет лампы сливался с лунным
сиянием, в котором таяли тусклые огни уличных фонарей,
огни кораблей, видневшихся на безбрежной глади залива,
и огоньки проезжающих вдоль берега экипажей,
мерцавших, словно рассеянные светлячки. В такие лунные вечера,
особенно в душные, Хуан с матерью засиживались до тех
пор, пока звон церковных колоколов не призывал к
вечерней молитве. А в темные, даже в самую жару, нельзя было
оставаться на улице дольше половины восьмого или
восьми, иначе они могли подвергнуться брани и гнусным
оскорблениям со стороны тех, кто проходил мимо с
навахой или мачете за поясом.
Именно во время этих задушевных бесед с матерью
Хуан узнал много интересных подробностей о жизни
своего отца па Кубе: о том, как бедняг пришлось упорным,
но малопродуктивным трудом зарабатывать себе на
жизнь; о болезни, которая постепенно подтачивала его
силы; о годах юности, когда, слишком рано лишенный
родительской поддержки, он вынужден был самостоятельно
добывать себе кусок хлеба. Мануэлю Кабрере еще не
исполнилось и двадцати лет, когда он приехал на Кубу.
Неожиданно оказавшись среди новобранцев очередного
призыва в батальоне, отправлявшегося па Кубу, он из убогой
деревенской цирюльни в окрестностях Ла-Коруньи попал
на просторы Камагуэя, где ряды испанского войска
редели не столько от мачете сепаратистов, сколько от
дизентерии и малярии.
Глядя на выцветшую фотографию безбородого
солдатика, сделанную в Пуэрто-Принсипе через несколько
месяцев после прибытия туда батальона, фотографию, которую
мать бережно хранила в потасканном семейном сундуке
среди всяких старых документов, не трудно было понять,
каким образом тропическая малярия с такой чудовищной
343
быстротой могла измучить и обескровить только что
прибывшего на Кубу молоденького испанца. На фотографии,
которую Хуан часто разглядывал при свете керосиновой
лампы, его отец был похож на угловатый деревянный
автомат, гротескно украшенный мешковатым холщовым
обмундированием, увесистым полным патронташем,
огромным мачете, воткнутым острием в землю, и непомерно
большой шляпой, сложенной впереди углом, которая
словно плясала на маленькой голове. И эта жалкая карикатура
воина немедленно подверглась нападению тропической
малярии, которая трясла марионетку в убогой холщовой
форме, заставляя обливаться потом каждые три дня в
жутких условиях испано-кубинской войны, картины которой
навсегда запечатлелись в памяти матери Хуана со слов ее
несчастного мужа: вот он на носилках санитарного обоза,
двигавшегося под огненными лучами солнца по
бескрайним саванам Камагуэя, без единого оазиса хотя бы с
несколькими деревьями и живительным ручейком с чистой,
прохладной водой; а вот он в провинциальном госпитале
с толстыми стенами и двумя рядами кроватей среди таких
же горемык, заброшенных за тридевять земель от своей
страны и до слез тоскующих по дому и родным краям.
Несколько дней он находился без сознания, между жизнью и
смертью, и наконец, словно чудо, наступил переломный
кризис и после медленного выздоровления, строгой диеты
и режима прекратились бесконечные приступы
лихорадки. Но только приступы лихорадки, потому что болезнь
так истощила, обескровила и согнула солдата, что
командование не могло оставить его на военной службе,
но и не рискнуло отправить в тяжелый и опасный путь
домой.
Единственно, что они могли сделать для бывшего
деревенского цирюльника,— это позволить самому
зарабатывать себе на жизнь: стричь и брить тех, кто — как он сам
потом рассказывал — не боялся его худобы, смертельной
бледности и проклятого, надрывного, явно выраженного
чахоточного кашля, приобретенного после болезни, кашля,
который имел обыкновение некстати обостряться именно в
тот момент, когда он с профессиональным мастерством
причесывал и стриг. Он боролся за свое существование,
сначала работая в чужих парикмахерских, а вскоре и
в своих, наспех оборудованных им и открытых в тех
городах, селах, деревнях, куда он попадал, гонимый
превратностями судьбы и подорванным здоровьем. Из-за сильного
344
и продолжительного обострения болезни он лишился
парикмахерской, которая была им создана и пользовалась
хорошей репутацией в Пуэрто-Принсипе. Оправившись
после болезни, он открыл в Минасе свою первую,
по-настоящему оборудованную парикмахерскую, с зеркалами,
креслами и литографиями на стенах. Этот городок был
родиной матери Хуана. Там-то и познакомился с ней
Мануэль Кабрера. Там он и женился на ней после шести
месяцев жениховства, проведенных между утюгами и швейной
машинкой, коротая вечера в обществе ее трех незамужних
сестер, засидевшихся в девицах. Через год, полный
сурового, нечеловеческого труда и немилосердной экономии, им
удалось наконец осуществить заветную мечту этого
мужественного, работящего человека: сесть в поезд, который
шел через Минас в Нуэвитас, а оттуда на старом
пароходике добраться до Гаваны, чтобы поселиться в этой
креольской Мекке, имея двадцать сентенов в кармане и лелея
надежду открыть в Гаване собственную
парикмахерскую — предел мечтаний каждого цирюльника и будущую
золотую жилу Мануэля Кабреры и его жены. Однако
чрезмерные лишения и непосильный труд в Минасе
окончательно подорвали здоровье отца. Вскоре после рождения
Хуана у отца однажды пошла горлом кровь, залившая пол
в центральной гаванской парикмахерской, где он тогда
служил. Его уволили оттуда. Пока он искал новое место, они
истратили почти все свои сбережения. Спова началась
жестокая борьба за существование, но болезнь с ее
кровохарканьем, постоянным ознобом и предательским лающим
кашлем изгоняла его отовсюду. Хосефа, желая помочь ему,
взялась за шитье чехлов для магазина на улице Муралья,
но ей платили всего по два реала за дюжину;
попробовала подработать стиркой, но результат оказался таким же.
Из маленького домика на улице Вивес, за который они
платили восемь песо в месяц, им пришлось перебраться в
комнатушку «коммуналки» на улицу Хесус-Мария за
шесть песо, а оттуда с горем пополам — в крошечную
каморку нищенского предместья на улицу Вибора... Там
бедняга и скончался, захлебнувшись кровью, не успев даже
поцеловать Хуана, которого горячо любил, словно хотел
за короткое время, пока находился рядом, излить на сына
вою свою нежность и отеческую заботу, которых ему будет
так недоставать потом, в долгие годы сиротства и
беспомощности. Хуан ничего этого не помнил, потому что был
слишком мал и потому что на весь тот день и на следую-
345
щую ночь сердобольные соседи, такие же бедняки, как
он с матерью, из сострадания взяли его к себе, желая
уберечь чувствительную душу ребенка от горестного зрелища
смерти.
Бедная женщина рассказывала о своем прошлом с
дрожью в голосе и со слезами на глазах. Слезы и дрожь
были вызваны не только горестными воспоминаниями, но
и мучительной тревогой за ближайшее будущее сына.
Возможно, недалек был день, когда у нее тоже откроется
кровохарканье после мучительных приступов кашля и ей
придется повторить ужасный путь своего горемычного мужа,
но теперь уже не на улице Вибора, а на улице Принсипе:
ее останки весом не более семидесяти фунтов несколько
сердобольных соседей положат в черный нищенский гроб
и отвезут на ненавистной похоронной «колымаге», после
долгих мучений, лихорадки, голода и невыносимого
отчаяния, на кладбище, чтобы захоронить там в общей могиле
без креста, без единого цветочка, перед которой мог бы
преклонить когда-нибудь колени и выплакать свое горе
всеми покинутый и никому не нужный на этом свете ее
сын. Страхи эти были рождены не только болезненной
впечатлительностью, обостренной скорбными воспоминаниями
о страданиях и смерти мужа; она была угнетена все
возрастающим физическим и моральным упадком сил,
усугублявшимся унизительным положением, в котором она
находилась, и подорванным здоровьем — лицевой
невралгией, болями в позвоночнике, склонностью к унынию
и неврастенией, которая зачастую переходила в
истерики.
Поскольку мучительные приступы тоски чередовались
лишь со стиркой, глажением или шитьем на швейной
машинке, то вся ее жизнь замыкалась в порочный круг
причины и следствия: болезнь изнуряла ее и делала работу
невыносимой, а работа увеличивала ее физические
страдания и обостряла болезни. Это служило еще одним поводом
для оправданного беспокойства матери за будущее сына,
который не имел ни отца, ни близких и который
неминуемо окажется выброшенным за борт жизни.
Во время этих задушевных, волнующих обоих бесед
мать и сын часто обсуждали свое тогдашнее положение.
Материально им жилось немного лучше: как-никак в доме
завелся мужчина; зато морально Хосефа окончательно
зашла в тупик. Быть любовницей лавочника, когда в ней еще
жива память об умершем добром муже и рядом паходит-
346
ся сын, зачастую становилось мучительно невыносимо.
К тому же с тех пор, как Помело осыпала ее бранью и
проклятиями, грозя разделаться с ней за то, что она отбила
у нее галисийца, в их предместье уже не оставалось ни
одного мужчины — штатского или военного, белого
или черного, худшего из худших, который не
позволил бы себе лезть к ней с самыми гнусными
предложениями и самыми бессовестными и оскорбительными
намеками.
Надо было во что бы то ни стало смыть с себя
позорное клеймо, найти другие пути, другой выход из
создавшегося положения, скрыться из предместья. Но как? Куда?
Она все еще рассчитывала на благодеяния, хотя сплетни
праведных католичек о ее сожительстве с лавочником уже
дошли до святых ушей настоятельницы сиротского приюта
и, судя по словам болтливой монахини-привратницы,
сестра Хуана поставила крест на своей бывшей прачке, ffe-
чего было даже пытаться после этого каяться и
заглаживать свою вину. Каждый человек, тем более если его со
всех сторон обступают нищета, опасности, соблазны, имеет
право поступать по своему усмотрению и сам решать,
хорошо это или плохо. Разве Хосефа Вальдес не
противостояла, как могла, пороку? Она делала все, что было в ее
силах. Благотворительность закрыла перед ней двери, но не
перед сыном. А усадьба в Серро, дом доньи Хуаниты?
К этой последней надежде то и дело устремлялись мысли
несчастных, потому что у них не было в мире больше ни
одной живой души, к которой они могли бы обратиться.
Неужели и она потеряна навсегда из-за какой-то нелепой
случайности, рокового стечения обстоятельств? Для нее,
разумеется, потеряна. Донья Хуанита слишком хорошо
знала своего человеколюбивого, почтеннейшего супруга и
была женщиной. А вот Хуан, пожалуй, мог бы
рассчитывать, если останется сиротой, на благодеяния и
милосердное покровительство этих двух дам, усердно-набожных и
черство-безразличных к реальной жизни большинства
людей, не относящихся к числу святош и богачей. Как-то раз
вечером, скитаясь по городу с ящичком для чистки сапог,
Хуан неожиданно для себя забрел, словно бездомный пес,
в Серро. Его приняли очень радушно: угостили
сладостями, дали несколько мелких монет, но ни словом не
обмолвились о его матери и бесцеремонно выпроводили до
прихода дона Роберто.
— Почему? — поинтересовалась мать.
347
— Наверное, из-за того случая,— проговорил Хуан,
инстинктивно уклоняясь от прямого ответа и пожимая
плечами, как поступал всякий раз, когда хотел избежать
постыдных и прискорбно-горьких для себя и для матери
объяснений.
Так Хосефа узнала, с какого бока ей следует
подступиться к донье Хуаните.
На этом разговор их закончился, потому что настал тот
самый вечерний час — восемь или четверть девятого,—
когда, по известной уже нам причине, мать и сын
запирались в своей лачуге на все запоры и, не переставая
дрожать от страха, дожидались прихода галисийца,
вооруженного хлыстом, пропитанного потом и едкими запахами
после целого дня, проведенного в лавке. Причиной страхов
обычно служил какой-нибудь пьяный солдафон, который
выныривал из темноты пустырей, расположенных
напротив, и, слишком уж усердно выделывая ногами кренделя
и спотыкаясь на ходу, почти напрямик устремлялся к
освещенной дверце их лачуги. Если не появлялся этот
солдафон, то приходил огромный, волосатый, темнокожий
бродяга в нищенских отрепьях, который подозрительно
скитался в этих местах по ночам, скрываясь в прибрежных
кустарниках. И хорошо еще, если этому не предшествовали
грубые, сдавленные крикн, хлопанье дверьми, вопли
женщин и детей и весь прочий пугающий шум, который всегда
сопутствует ссорам между завсегдатаями игорных домов,
ревнивыми драчунами, проститутками из «коммуналок»,
фанфаронами и полицейскими. В таких случаях мать и
сын, примолкшие и вздрагивающие, трусливо забивались
в угол своего убогого жилища или же, съежившись от
страха, заперев двери на два засова, обращали
настойчивые, отчаянные мольбы к ангелу-хранителю этого
нищенского жилья: к божественному лику святого, всегда
освещенному, но всегда одинаково безразличному, смехотворно
равнодушному и безучастному. Разве только лампадка,
горевшая перед ним, служила ориентиром в ночной темноте
предместья тем, кто приходил сюда утолить свои
низменные страсти: лавочнику, чтобы ворочаться, храпеть и
получать животное наслаждение за перегородкой из простыни;
мулатке с ее ужасной ворожбой, чтобы сунуть под дверь
оскорбительную, устрашающую анонимку или поставить
перед той же самой дверью какое-нибудь колдовское
зелье — дохлого петуха на тарелке и проклинающую,
мстительную молитву; или какому-нибудь полуночнику, одер-
348
жимому скотским желанием и грязными, необузданными
намерениями, который ломился в лачугу, явно
пренебрегая тем, что там находится мужчина, и грубо, нетерпеливо,
угрожающе требовал: «Открой! Открой дверь! Я принес
тебе деньги!»
VII
Стояла октябрьская ураганная ночь. Тяжкая ночь со
вспышками молний, клейкой жарой и огромными,
низкими, рваными тучами, которые стремительно неслись,
беспрерывно застилая собой круглую, сверкающую луну.
Хосефа ждала «мужа», запершись с сыном в лачуге,
освещенной лишь тусклым трепетным огоньком лампадки,
стоявшей перед божественным ликом святого. Рокот залива
и свист ветра заглушали все городские звуки, и только
откуда-то издалека доносилась монотонная,
непрекращающаяся барабанная дробь румбы.
Внезапно сквозь наступившую вдруг относительную
тишину Хосефа и Хуан совершенно отчетливо услышали
неторопливые, приглушенные шаги: кто-то крадучись
приближался к их тонкой дощатой стене.
Напрягая слух, едва дыша, объятые непреодолимым
ужасом, эти два одиноких и беззащитных существа
уловили, как тот самый человек, который столь таинственным
образом приближался к лачуге, опустился, почти касаясь
спиной степы, па траву, росшую вокруг их уединенного
жилища, и притаился в темноте, сдерживая возбужденное
дыхание. Не ждет ли их еще одно несчастье за тонкой,
ненадежной стеной? Л может быть, перед их лачугой с
минуты па минуту разыграется кровавая сцена: свершится
ограбление с ножом в руках, или месть какого-нибудь
бандита, или еще какое-то варварское злодеяние из тех,
которые так часто случались тогда в драчливых кварталах
Гаваны?
Уже при задутой лампадке, держась за руки и трясясь
от страха, Хуан и его мать пытались хоть что-то
разглядеть сквозь щели в стене, испуганно, шепотом задавали
друг другу вопросы и строили самые отчаянные
предположения, порожденные испугом, как вдруг на улице снова
раздались шаги, на этот раз отчетливые, торопливые,
уверенные шаги человека, который шел, слегка наклонившись
вперед, преодолевая сопротивление ветра. Это были зпа-
349
комые шаги. Шаги ожидаемого «мужа», не очень
любимого, но который кормил их, обеспечивал крышу над
головой и сам спал под этой крышей каждую ночь.
Чувство обыкновенного человеческого сострадания
заставило женщину метнуться за спичками, а затем к двери,
чтобы криком предупредить о возможной смертельной
опасности, открыть вход в спасительное убежище,
разорвать вспышкой света мрак, таивший в себе преступный
замысел.
Но опа не успела.
— Стой, галисиец! — крикнул человек, поднимаясь из
темноты.
И Хуан с матерью услышали, как он одним прыжком,
словно тигр, набросился на подходившую жертву.
Жуткий, нечеловеческий вопль разорвал ночь, словно
метким ударом ножа в самое сердце зарезали борова.
Глухо, тяжело рухнуло тело на землю. Это была минута
тяжкого, трагического напряжения для матери с сыном. И сразу
же послышался громкий, неистовый топот, быстро
удалявшийся к безлюдному, темному, рокочущему побережью.
Охваченная тоскливым предчувсавием, отрывая от себя
сына, который в паническом ужасе цеплялся за нее,
горько плакал и умолял не оставлять его одного дома, Хосефа
Вальдес зажгла наконец непослушными руками лампу,
отперла дверь и выскочила на улицу.
— О боже! Это он!
Она не стала громко звать его, не кинулась тормошить,
ощупывать, чтобы найти смертельную рану. Ее сдерживал
и страх перед законом, и ужас, охвативший ее при виде
этого кровавого зрелища, и пробуждавшееся в ней
потаенное чувство стыда. Да и к чему? Этот человек был уже
мертв; тело его остыло, на груди зияла большая кровавая
рана, а приоткрытые, остекленевшие глаза отражали
холодный, желтоватый блеск луны.
Порыв ветра задул керосиновую лампу, и Хуан,
очутившись в темноте, истошно закричал. Несчастная женщина,
несмотря на дрожь, которая сотрясала все ее тело, едва
заставила себя вернуться в дом, чтобы снова засветить
лампу и быстро хорошенько все обдумать. Она не могла
укрыться в лачуге и оставить там, на улице, лежать
распростертое тело «своего» покойника — это было бы
неразумно после того, как закричал сын, а сама опа вышла
к месту преступления с зажженной лампой. Она должна
была выйти, иначе они дрожали бы от страха в неведении
350
и строили бы сотни самых невероятных догадок. Вот
почему она решила звать на помощь людей и, заливаясь
слезами, принялась надрывно голосить:
— На помощь! На помощь! Спасите!
При этом жадно вглядывалась в темноту пустынного
побережья. Ведь дикарь мог вернуться, охваченный
паническим страхом, и еще несколькими злодейскими ударами
ножа заставить ее вместе с сыном замолчать. Хуан,
который никак не хотел оставаться дома ни в темноте, ни при
свете и в то же время не решался приблизиться к
страшному трупу отчима, с каждым новым жестоким нервным
приступом терял все больше сил, исступленно призывая
к себе мать. Пусть она вернется к нему, они запрутся
вдвоем и вместе будут звать на помощь, кричать,
поднимать всех соседей в округе.
Вскоре сбежался народ. Первым примчался
Красномордый — невзрачный, пропотевший полицейский,
прозванный так из-за своего багрового, пористого испитого лица.
Он примчался испуганный, запыхавшийся после того, как
ему пришлось пробежать несколько кварталов со свистком
во рту; одну ручищу он держал на кобуре, другой сжимал
рукоятку мачете. Вслед за ним подоспели мужчины,
женщины, ребятишки.
— Мертв? — спросил он Хосефу.
— Да.
— А кто убил?
— Не знаю, он убежал вон туда! — И она указала
полицейскому на пустынное, темное побережье.
Однако Красномордый ограничился тем, что разрядил
в воздух свой револьвер и неистово засвистел, чем еще
больше усугубил зловещую картину. Никто не должен
прикасаться к трупу до прибытия судьи. Женщина и
ребенок пусть будут на виду у всех, а кто-нибудь из мужчин
побежит в эту темень, чтобы настичь преступника. Сам
же он по долгу службы не имеет права покинуть место
происшествия.
Однако никто из мужчин, хотя среди них было
несколько солдат, не отважился отправиться в погоню за
бандитом, у которого в руках был нож, обагренный кровью. Кое-
кто из присутствующих стал утешать Хосефу и Хуана,
отпаивать их водой, липовым отваром, расспрашивать,
давать советы.
Люди все прибывали. И с ними вместе другие
полицейские и солдаты. Мужчины в форменной одежде плотным
351
кольцом обступили убитого, которого освещал теперь
тусклый ручной фонарь.
Еще два или три старых коптящих фонаря разрывали
темноту в кругу толпы зевак. Стойко сопротивляясь
сильным порывам ветра, люди тихонько обсуждали
происшествие, строили всевозможные предположения, злословили.
То же самое происходило в лачуге при трепетном свете
керосиновой лампы, под равнодушным взглядом
божественного лика святого, возле которого сидела Хосефа,
уткнувшись лицом в ладони, рядом с Хуаном,
вцепившимся в подол ее платья и все так же горько
всхлипывавшим.
После бесконечно долго тянувшегося ожидания явился
наконец блюститель порядка. Еще два часа судья и врач
пыжились в своих экзотических темных сюртуках. В
лачуге секретарь суда царапал на обрывке вонючей бумаги
показания Хосефы Вальдес. Санитарная повозка увезла
тело убитого, а Красномордый по указанию судьи, к
явному огорчению соседей и зевак, несмотря на отчаянные
мольбы матери и сыпа, выпроводил несчастных из дома,
повесил наружный замок на дверь и повел их в
ближайшую тюрьму. Поскольку галисиец был мертв, а
преступник скрылся, то правосудие считало своим долгом хоть
так показать, что оно не зря существует.
Было проведено вскрытие трупа, подробно опрошены
сорок свидетелей, но ничего не прояснилось. Преступника
не нашли и даже не установили его имени. Правда, в ходе
следствия возникла мысль, что убийство было совершено
с целью ограбления, поскольку единственный карман брюк
у убитого оказался вывернутым наизнанку и в нем не
нашлось кошелька, который тот всегда носил при себе. Ио
правда также и то, что «тщательное, скрупулезное
расследование» бросало самые тяжкие подозрения на Хосефу
Вальдес: она находилась в тайном сожительстве с
лавочником; Помело, люто ненавидевшая ее, в своих показаниях
обозвала мать «тихой бестией»; преступление совершилось
возле ее дома, а главное — она первая стала звать на
помощь. Суд счел себя вправе арестовать Хосефу Вальдес,
тем более что никогда не требуется никаких доказательств
вины, когда речь идет о человеке дурного поведения.
Женщина, опустившаяся до уровня Помела и ей подобных, не
может быть невинно осужденной. А так как закон
запрещал заключать в тюрьму малолетних, Хуана оторвали от
матери и отвели к тем самым соседям — негритянке-кухар-
352
ке и ее слепому, придурковатому мулату,— о которых
подумала Хосефа Вальдес в ту минуту, когда ей сказали о
неукоснительном требовании закона. Выполнять это
требование было неприятно и судье, и судебному надзирателю,
и даже Красномордому, которому поручили привести в
исполнение приказ: отобрать у матери сына и проводить в
каморку бедняков, согласившихся его приютить. Что еще
им оставалось делать? Разве закон предписывал
«заботиться» о детях, женах и старых родителях тех, кого сажали
за решетку, даже если обрекали их на неминуемый голод,
нищету, одиночество?
Расстроенный, напуганный, убитый горем Хуан, видя,
что единственное любящее его существо, единственная его
защитница оказалась в тюрьме, стремился всеми силами,
на какие только способен ребенок в его годы, вести себя
благоразумно, как маленький мужчина, о чем не раз
тщетно просила его мать, когда они жили вдвоем в своей убогой
лачуге, когда она была на свободе и нежно оберегала
своего беспомощного сына. Хуан с того самого момента, когда
рано утром навещал арестованную мать, и до тех пор, когда
поздно вечером сворачивался клубком на раскладушке у
негритянки, приютившей его, стремился творить только
добро: подметал в своей опустевшей лачуге; выполнял все
поручения матери, а играя на улице, не спускал глаз с
висящего на двери замка; служил поводырем сожителю
своей покровительницы во время его каждодневных походов
за подаянием по нищему предместью; отправлялся «на
подножный корм» с Хулианом — верным товарищем по
уличным скитаниям.
Хуан сразу же использовал все свое умение
беспризорника добывать деньги для того, чтобы носить их «своей
арестантке», как это было принято между добрыми
соседями, если кто-то из родных или друзей попадал в
тюрьму. Мальчик относил ей все те ничтожные реалы, которые
не успевал проиграть своим приятелям в кости или
другие азартные игры.
Что может быть хуже проклятой жизни, лишенной
всякого человеческого участия, слов утешения в бесконечные
часы одиночества и нищеты? Что может быть печальнее и
горестнее, чем надежда женщины, нуждающейся в
сочувствии ближнего, когда у нее нет собственного заработка
или заработка «своего» мужчины (отца, брата, мужа,
любовника) либо когда он умирает, попадает в тюрьму или
бросает ее? Такие несчастные мечтают о самых неверояi-
23 К. Ловейра 353
ных, самых немыслимых средствах спасения в ту минуту,
когда на них обрушивается катастрофа: одна надеется на
своих престарелых родителей, живущих в «коммуналке»;
другая — па сестру, которая и сама прозябает в нищете и
обременена детьми; третья —на старого волокиту и мота,
который в крайних случаях, когда уже выплакано немало
слез, приходит на помощь этим бедняжкам; четвертая —
на богатую знакомую сеньору, от возможной помощи
которой не в силах отказаться,— как не может отказаться от
захода в гавань, полную опасностей, моряк, застигнутый
в открытом море разбушевавшейся стихией,— пусть даже
ей придется для этого выдержать бурю, испить горечь
неравной, по милосердной дружбы, а стало быть,
унизительной. Вот почему Хосефа Вальдес вспомнила не только
о своих нищих соседях, к которым отправила Хуана, но и
стала думать все более настойчиво о донье Хуаните из
аристократического района Серро, о своей бывшей
покровительнице столь жестоко отвернувшейся от нее в минуту
рокового заблуждения. И ею было составлено письмо в
усадьбу, написанное Хуаном корявым почерком и с
грамматическими ошибками. Письмо это, содержавшее в себе
сотню вымученных строк, подкупающих горькой
человеческой правдой, писалось в течение трех дней во время
посещений Хуаном матери, которая беспрерывно плакала.
Мать взывала о помощи к своей могущественной
покровительнице, умоляя спасти ее от тюрьмы, позора и падения,
ее, порядочную женщину, которая мужественно боролась,
пытаясь сохранить свою честь. С трогательным волнением
обрисовывала она свое положение — положение невинно
осужденной жертвы, и мальчика, теперь круглого сироты,
брошенного на попечение хворых, нищих стариков. Она в
отчаянии молила о сострадании только к нему, к нему
одному, если сеньора отказывается верить в невиновность
арестантки — игрушки в руках мрачной судьбы, нищеты
и невежества; просила не оставить сына, если заточение
продлится слишком долго или окончательно подорвет ее
здоровье и моральный дух и ее отвезут из палаты для
заключенных в больнице «Рейна Мерседес» прямо на
кладбище. В конце письма Хосефа Вальдес возлагала все свои
горячие надежды на богатую сеньору, такую влиятельную
в этом слепом обществе, которое, словно мощная машина,
перемалывает несчастных. Эта чудовищная машина —
правосудие, пресса, духовенство, государственный аппарат
и все власти предержащие — представлялась Хосефе в
354
виде недосягаемого для нее сонмища предметов и людей,
возглавляемых генерал-капитаном и таких же, как он,
ослепительно-сверкающих, всесильных и неприступных.
Письмо отнес Хуан. Его мгновенно окружили обитатели
усадьбы. Приход мальчика явился большим событием для
новоиспеченных «друзей» Хуана, которые уже прочли в
газетах несколько дней тому назад сообщение об убийстве
и об аресте Хосефы и успели все это обсудить. Они
заставили мальчика разговориться, проявив громадный интерес
к его рассказу и всем своим поведением вселяя в него
надежду получить с них неплохой урожай лакомств и монет.
И вполне удовлетворили свое любопытство. Их удивило,
что мальчик рассказывал об этих ужасных для него
событиях... «с таким спокойствием!», что у него под ногтями
черным-черно, на зубах налет, уши немыты, а волосы
всклокочены. Но благотворительность доньи Хуаннты
ограничивалась лишь пожертвованиями в церкви, в приютах
и у двери какой-нибудь лачуги с высоты своего экипажа,
запряженного парой лошадей, либо на пышных
благотворительных балах среди шелков и бриллиантов, а отнюдь
не заключалась в том, чтобы прощать и вызволять из беды
тех, кто «по своей прихоти» вступил в любовное
сожительство, стал на путь порока, проституции. Поэтому в ответ
на письмо Хосефы она только велела передать на словах
следующее:
— Скажи, что я не намерена ей отвечать и пусть не
пишет мне больше. Надо было раньше думать. Что же
касается тебя, то, если хочешь сам и она тебе разрешит,
можешь, когда тебе что-нибудь понадобится, приходить сюда
или даже остаться у нас жить.
Как ни обидны и горьки были эти слова для Хосефы,
она приняла их с радостью. Потому что оскорбление,
нанесенное ей доньей Хуанитой, лишний раз убеждало ее в
верности предположений относительно сына. Разумеется,
пока еще оставалась хоть какая-то надежда на
освобождение, она предпочитала для Хуана убогое, ненадежное
пристанище великодушных негров, нежели прочный и
устойчивый приют надменных сеньоров. А что, если она еще
долго пробудет в заточении или ее освобождением станет
могила?
Хосефа Вальдес пробовала уцепиться за любую
помощь: недоступную — сестры Хуаны, иллюзорную —
монахинь из больницы и обжигающую, спасительную — дона
Роберто. Дону Роберто, конечно, придется за это отпла-
355
тить. Но разве не уступила она уже однажды дерзкому
лавочнику? Разве правосудие, церковь, общество, весь мир
не низвели ее до уровня падших женщин? И разве это не
была еще одна узаконенная жертва ради сына, которому
лучше иметь плохую мать, чем мертвую? Письмо дону Ро-
берто тоже отнес Хуан. Он кружил в районе Серро до тех
пор, пока не увидел владельца богатой усадьбы и не смог
наконец выполнить, трепеща перед ним, поручение
матери.
Сестра Хуана не пожелала отвечать. Монашки только
пришли в ужас от послания Хосефы, полного мирских
страхов. И лишь дон Роберто, движимый одним из самых
могущественных человеческих побуждений, прочел
письмо, стремясь как можно лучше вникнуть в его смысл и
оказать действенную помощь, заслужив тем самым
благодарность и вознаграждение.
Спустя полчаса после чтения письма дон Роберто
велел кучеру остановить экипаж перед часовым у входа в
тюрьму, поднял на ноги четверых стражей и начальника,
в чьем кабинете и состоялось короткое, без свидетелей,
пристойнейшее свидание Хосефы Вальдес с доном
Роберто. Оттуда дон Роберто снова направился в Серро, но не к
себе домой, а в другую богатую усадьбу с парком,
пальмами и фруктовыми деревьями — резиденцию своего
друга, жирного и самодовольного судьи. Судья собственной
персоной проводил дона Роберто к экипажу, и через
четверть часа взмыленные, фыркающие лошади остановились
у невзрачного здания суда на улице Сан-Ласаро. В тот же
день вместе с сыном Хосефа Вальдес, имея два сентена в
кармане, отправилась на поиски какого-нибудь
пристанища подальше от Серро и по возможности совсем в другой
части Гаваны — в окрестностях собора или квартала Ан-
хель.
Такое идеальное пристанище она нашла для себя в
районе Сесилия Вальдес, в самом «приличном» квартале
самой достойной улицы Куартелес. Идеальным оно было не
только потому, что находилось в совершенно
противоположной от Серро части города, стоило четыре песо в
месяц и располагалось в лучшей части улицы, но и потому,
что большое расстояние отделяло его от улицы Принсипе,
где жили Помело, Красномордый и прочий непристойный,
знакомый люд, включая сюда и тех негров, которые
приютили Хуана в трудную минуту, без сомнения, оказав тем
самым неоценимую услугу.
356
Несмотря на то, что здоровье Хосефы было уже
окончательно подорвано только что пережитыми страхами и
перенесенным ею жестоким и несправедливо затянувшимся
предварительным заключением, Хосефа и ее сын провели в
комнатушке на улице Куартелес самую лучшую пору своей
жизни. Из бывшего скарба они перенесли к себе в новое
жилище только старый семейный сундук, обитый
гвоздями, ту раскладушку, которая не сотрясалась от сопения и
храпа галисийца, яркую, изящную керосиновую лампу,
излучавшую много света и особенно пригодившуюся в
обшарпанном, грязном, почерневшем new home1, и
обязательный эстамп с изображением божественного лика
святого — покровителя нравственности и судьбы этой семьи.
Все остальное они продали. На вырученные деньги и часть
уже упомянутых нами двух сентенов Хосефа приобрела в
ломбарде на «своей» улице (хотя Панглосс и утверждает,
будто в Гаване у нас пет социальных проблем, все же на
каждой улице имеется по ломбарду) железную кровать с
резными украшениями и блестящими завитушками,
несколько протертых венских стульев, литографическую
копию картины «Магдалена» прославленного итальянского
художника Гвидо Рени и копию одной из многочисленных
святых дев Мурильо. Теперь каждый день они ели на
завтрак и на обед тушеное мясо с неизменным отварным рисом
на гарнир. Хуан решил стать благоразумным и, стремясь
загладить вину перед матерью, снова начал посещать
школу на улице Компостела, которой руководил с помощью
подзатыльников и розог сеньор дон Адриан — типичный
учитель колониального периода: пропахший никотином
астматик с грязными ногтями, в похоронного цвета
замусоленной тройке, всегда сонный и трясущийся от голода и
постоянного употребления спиртного.
Частое недомогание Хосефы и «благоразумие Хуана»
послужили оправданием тому, что у них появилась даже
своя служанка: подобранная в соседней «коммуналке»
дряхлая развалина по имени Марта, высохшая,
сгорбленная старушонка с остекленевшими, слезящимися глазами,
которая все делала не потому, что у нее еще была
физическая сила, а благодаря душевному побуждению и
подвижности своего ссохшегося тела.
К счастью, «благодетель» не очень досаждал им своей
«дружбой». Удовлетворив чувственное любопытство в пер-*
Новом доме (англ.),
357
вую же неделю, когда дон Роберто побывал у них раз
двенадцать, а то и все четырнадцать, пока Хуан
находился в школе или спал на раскладушке, он здраво
упорядочил свои визиты: приезжал два раза в неделю между
одиннадцатью и двенадцатью часами ночи в нанятом экипаже,
который спускался вниз по склону улицы Анхель,
подпрыгивая на ухабах, словно легкий парусник на волнах.
Приходил он редко еще и по другой причине, о которой Хуан
узнал от толстозадого негра однажды вечером, когда дон
Роберто входил в дом на улице Куартелес.
— Осторожнее с этим старикашкой! У него в Серро
есть здоровущая мулатка. А он вон куда полез теперь!
Когда Хуан передал эти слова Хосефе, она смутилась.
Как-то раз дон Роберто встретил Хуана, разглядывавшего
витрину со сладостями возле кафе «Европа». Он подошел
к нему, угостил пирожными и, вручив листок бумаги,
сложенный вчетверо, попросил сходить в аптеку за каким-то
возбуждающим средством. Долговязый, белобрысый
аптекарь дал ему лекарство, но не преминул при этом
отпустить какую-то грубую, непристойную шутку, явно
касавшуюся матери Хуана.
Дерзкий на язык, получивший хорошее уличное
воспитание, Хуан тут же уверенно и метко отпарировал:
— Это ты о своей матери?
И бросился наутек. Однако аптекарь успел послать ему
вдогонку несколько реплик, завершавшихся: «...о твоей,
твоей!»
Но разве только это было единственной реальной
опасностью йа новом этапе жизни Хуана и его матери? Разве к
этому не присоединялась еще и опасная расточительность,
с какой разбазаривал свои сексуальные возможности
потасканный, старый и тщедушный дон Роберто?
Огорчений было достаточно много, чтобы относительное
счастье Хосефы и Хуана постепенно сходило на нет, пока
окончательно не рухнуло. Дон Роберто пресытился своим
чувством. И не потому, что был плохим человеком; просто
пресытился, и все тут. Может быть, потому что здоровье
Хосефы с каждым днем все ухудшалось: ее замучили
приступы невралгии, она сильно похудела и часто впадала в
истерики. А возможно, этого старого бесплодного петуха
потянуло к новым любовным усладам, на которые была
так щедра нищета прачек, швей и прочих «порядочных» и
«работящих» женщин. К тому же в сахарной
промышленности наступил кризис, и дону Роберто пришлось сокра-
358
тить и без того большие расходы; его торговые дела шли
из рук вон плохо, и хотя он не забросил окончательно
своих подопечных па улице Куартелес, тщетны были все его
попытки обеспечить их самым необходимым и продолжать
давать без опоздания то, что порой становилось
хроническим дефицитом.
Хосефа Вальдес снова оказалась замкнутой в порочном
круге, вечно сопровождающем бедняков: работа
усугубляла ее болезнь, а болезнь превращала в смертельные муки
работу. Матери Хуана пришлось повторить все мытарства
прошлого, пройти через все испытания, которым подвергся
в свое время ее несчастный муж. Опять наступила
горестная пора хождений по ломбардам: сегодня туда
относилась необходимая домашняя утварь, завтра — одежда, без
которой немыслимо обойтись. Хуан ходил в школу, съев на
завтрак лишь немного отварного риса, политого для запаха
и вкуса ложкой растопленного масла; мать целыми днями
шила чехлы на раскладушки, по полпесо за шесть штук,
или гуаяберы из легкой ткани, со множеством складочек,
петель и пуговиц, по три песеты за полдюжины, или
расхожие брюки но двенадцать реалов за дюжину.
В таком невыносимом положении, становившемся день
ото дня все хуже и хуже, они прожили шесть, восемь,
десять месяцев. Но надо отдать должное Хуану: за это
время он научился чистописанию, прошел курс арифметики
в пределах тех знаний, которые мог преподать ему дон
Адриан, и овладел искусством беглого чтения. Одним
словом, заложил фундамент тех знаний, без которых не
может обойтись ни один грамотный человек. Конечно,
нельзя забывать и о сведениях, которые он почерпнул от
«толстозадого» негра и от аптекаря, у которого брал лекарство;
или во время своих ночных бдений, когда прислушивался
к тому, что происходило за занавеской, отделявшей его от
Хосефы; или же во время дневных посещений церкви
св. Аихеля, когда вместе с Хулианом и другими
мальчишками -— этими фарисеями в коротеньких штанишках —
счищал с пола застывшие восковые капли, а затем
растапливал их вместе с огарками и обрезками свечей в большой
серебряной посудине, специально стоявшей для этой цели
в ризнице, чтобы потом украдкой с наслаждением
приклеивать сандалии из воска к оголенным стопам пресвятых дев
или с помощью все того же клейкого материала задирать
кверху кармелитское одеяние на какой-нибудь из святых
статуй.
359
Как-то раз вечером, когда дон Роберто находился в
доме на улице Куартелес, Хосефа, которую уже несколько
дней лихорадило и мучили сильные боли, вдруг потеряла
сознание, упала на пол, сведенная жестокой судорогой, и
покрылась смертельной бледностью. Дон Роберто, Марта
и перепуганный Хуан, которого разбудили, перенесли
бесчувственное тело на кровать. Словно ученик, застигнутый
на месте преступления, или муж, пойманный с поличным
во время очередного скандала в борделе, дон Роберто
очень встревожился, но поторопился под благовидным
предлогом покинуть дом, впрочем, не оставаясь при этом
безучастным. Он сказал, что пойдет за доктором, однако
последний пришел один. Узнав на другой день от врача,
что больная находится в очень тяжелом состоянии, дон
Роберто не появлялся до середины следующей недели, пока
не подготовил все необходимое для того, чтобы поместить
Хосефу в особую палату больницы «Рейна Мерседес».
В больницу Хосефа поехала в экипаже, провожала ее
Марта, которой суждено было потом ждать на улице Куартелес
возвращения квартиросъемщицы, а уж в случае ее смертч
владелец дома выставит на улицу сморщенную,
сгорбленную старушку со слезящимися, угрюмыми глазами. """""
В тот же самый день Хуан отправился в богатую
усадьбу в Серро, где дон Роберто также подготовил почву для
того, чтобы мальчика взяли туда «приемышем». Хуан ехал
от улицы Куартелес до шоссе в Серро, из одной части
города в другую, в повозке, сидя верхом на старом, обитом
гвоздями сундуке, унаследованном от отца. И хотя поездка
эта была довольно продолжительной,— о таком
путешествии нищий мальчишка может лишь мечтать! — и в
кармане у него лежало не более трех-четырех песет, которые
мать ему сунула перед тем, как за нею захлопнулись
двери больницы, и ехал он в богатый дом, с парком, садом,
экипажами и сытной едой, Хуан был очень печален,
серьезен и едва сдерживал слезы, готовые вот-вот хлынуть из
его глаз,— ведь он ехал без матери и инстинктивно
чувствовал, что его ждет впереди ужасная жизнь. Почти ничего
не осталось у него в этом мире, что связывало бы его с
заботой и любовью родных или хотя бы кого-нибудь из
близких.
Разве что этот сундук, на котором он сидел,
подпрыгивая, пока ехал по огромному, равнодушному городу,
занятому своими делами, да еще, может, господь бог...
3G0
VIII
Усадьба находилась в привилегированном районе Сер-
ро, на расстоянии одного квартала от шоссе, и была
типичным для того времени аристократическим жилищем,
которые строились на окраинах кубинских городов: солидное,
просторное, но лишенное истинного комфорта и
архитектурной изысканности.
Усадьба с большим двухэтажным домом посредине,
обнесенная железной оградой с четырехгранными
каменными колоннами, занимала полквартала. От ограды к дому
вели выложенные кирпичом дорожки, обрамленные
кустарниками и цветами. Прутья ограды были причудливо
оплетены вьющимися растениями. А над всем этим царили
густые кроны фруктовых деревьев и величественные
плюмажи пальм.
Дом, протянувшийся в длину более чем на двадцать
метров, был поделен на две равные половины. В одной
расположились рабочий кабинет с десятью книжными
шкафами, забитыми медицинской литературой, и зала, в которой
праздно пылились двадцать с лишним предметов
массивного гарнитура в стиле Людовика XIV. Затем — огромная
гостиная и такая же огромная столовая. Далее шли два
ряда одинаковых комнат, разъединенных внутренним
двориком, выложенным каменными плитами. По одну
сторону находилось семь комнат, в предпоследней была часовня
с деревянным распятием обезображенного тела Христова,
истекающего потоками красной охры перед нашей
пресвятой девой Реглой — божьей матерью мулаткой, в те
времена уже перекочевавшей сюда с другой стороны Гаванской
бухты. Рядом с часовней находилась ванная комната с
большой цементной ванной, двумя душами, четырьмя
кранами и широким желобом в непременный сточный канал —
богатейший рассадник москитов и насекомых,
разрушающих дом. Напротив располагались две спальни для
взрослых сыновей. Рядом с ними — музей фамильных реликвий;
там хранились упряжь старинной колесницы, украшенная
серебром, большое мексиканское седло, отделанное
никелем и платиной, и пузатая, цилиндрическая шарманка,
которая все еще перемалывала свои три мелодии благодаря
усилиям детей. Далее находилась огромная, как на
постоялом дворе, кухня с изразцовым фризом, печью, сложенной
из кирпичей, и многочисленной посудой, выстроившейся
в ряд на полках, словно в лавке гончарных изделий. За
361
ней уборная с деревянной «трибуной» и водоотводом в
помойную яму, сообщавшимся под землей со сточным
каналом, где плодились москиты, и с колодцем на заднем
дворе. В центре патио возвышался массивный, из красного
кирпича, круглый фонтан с разноцветными украшениями
и квадратным вазоном посередине, с темными пятнами
тины и болотными растениями, между которыми изо дня
в день сочились струйки прозрачной, журчащей воды. На
заднем дворе, начинавшемся сразу же за изгородью из
зеленых реек, находились кладовая, конюшня, комнаты слуг,
чулан, где хранилась сбруя и прочая мелкая утварь,
каретный сарай с широкими воротами и обязательная будка
со сторожевым псом. В середине этого двора стоял колодец
с большой закраиной из неотесанного камня. С левой его
стороны был сток в помойную яму, а с правой — кран с
чистой водой, отведенный челяди для умывания. Над
семью комнатами нижнего этажа располагались столько же
комнат на втором этаже, все остальное пространство
занимала асотеа — плоская крыша, служившая верандой, с
низкой оградой каменной кладки и полом, выложенным
четырьмя плитами толстого стекла. Из столовой наверх вела
широкая винтовая лестница. Все это дополняли
ослепительная белизна стен, зелень масляной краски на
застекленных дверях и рамах окон, прикрытых белоснежными
жалюзи, а в патио — клетки из тонких стеблей тростника,
в которых беспокойно мелькали пятнышки канареек.
Дом был громадным, потому что по креольскому
обычаю «мальчики» и после женитьбы по-прежнему жили в
доме. Этот старинный обычай дополнялся еще одним,
уходившим корнями в далекие времена рабства: скоплением
многочисленной прислуги обоего пола, видевшей свое
счастье в счастье своих сеньоров. За огромным столом
красного дерева, занимавшим почти всю обширную столовую,
собирались утром и вечером четырнадцать человек.
Почетное место во главе стола принадлежало дону Роберто.
Кроме присущей ему истинно кубинской слабости к дамским
шелковым и перкалевым юбкам, халатам и платьям, он
обладал и другими характерными чертами. Например,
помимо того что он кичился своими непомерно маленькими
ногами, любил носить изящные панамы и тонкие носки из
лучшей пряжи, он имел также привычку громко
разговаривать, сильно размахивая руками. Споря с кем-нибудь,
он не давал бедняге вставить ни слова и всегда предрекач
то, что ему могут сказать. Вот почему едва дон Роберто
362
лачинал разглагольствовать за столом, приводя доводы с
легкостью священника, проповедующего с амвона,
парируя с превосходством шахматиста, играющего в одиночку,
все остальные хранили молчание. Не исключая и троих его
взрослых сыновей, достопочтенных ученых мужей. Донья
Хуанита, всегда сидевшая перед большой стопкой
глубоких тарелок, увенчанных серебряным половником —
фамильной реликвией, тоже не вступала за столом в
разговор с доном Роберто. Впрочем, она не разговаривала с
мужем не только за столом. Причиной тому были его страсть
к юбкам, а кроме того, его участие в Десятилетней войне,
когда он лез из кожи вон, чтобы установить республику,
враждебную церкви, и его приверженность масонской
ложе, уже готовившей новую заваруху. Поэтому донья
Хуанита каждую неделю исповедовалась. Их тремя
сыновьями были: Доминго — врач, Адольфо — адвокат и Ро-
бертико — фармацевт. Тот самый кабинет с десятью
книжными шкафами и медицинской литературой принадлежал
Доминго; там он часами сидел взаперти, читая одну из
своих многочисленных книг, или изучая под микроскопом
разновидности студенистых микробов, или правя
корректуру издаваемого им журнала «Пастер»; он никого не
принимал и не занимался практикой. Того, что он
зарабатывал, ему вполне хватало, чтобы одеваться прилично. Он
избегал каких бы то ни было вечеринок, и домашних, и в
гостях; не имел никаких пороков и в университет пошел
по призванию, в отличие от Адольфо, который поступил
туда, чтобы получить ученое звание. Робертико не
случайно называли уменьшительным именем: этим пожизненным
штампом креольское острословие награждает всякую
посредственность. Он был женат на Лауре Хустис,
происходившей из сверхаристократической гаванской семьи,
высокой блондинке, имевшей пристрастие к бальным платьям
и вечерним туалетам. Супружеская чета занимала верхний
этаж и была весьма плодовитой. К завтраку и обеду Лаура
а Робертико спускались вниз вместе с тремя своими
сыновьями и двумя дочерьми. Младшего их сына звали
Фернандо. В одиннадцать лет мальчик весил сто фунтов, но не
производил впечатления толстяка, был мускулист, хорошо
сложен, с большими серыми глазами и властным,
проницательным взглядом. Не слишком утруждая себя в занятиях,
он получал в школе лучшие отметки; не отличаясь
пристрастием к улице, он все же, выходя из школы, был в
первых рядах драчунов и умело пользовался кулаками. Две-
363
надцатилетний Эрасмо был худ, бледен, сосредоточен и
всегда ходил, слегка склонив голову набок. Он обладал
отличной зрительной памятью, говорил раздумчиво и
нравоучительно. Старшего, тринадцатилетнего Бетико, хорошо
охарактеризовал Фернандо, окрестив его «Пустомелей».
Девочек звали Куса и Кука. Кука была восьмилетней смуг-
ляночкой, худенькой, плоской, подвижной и с голосом,
как у мальчишки. Рослой не по годам, темно-русой Кусе,
всеобщей любимице, которую все ласково называли Нэна,
было девять лет. Она относилась к тому типу креольских
девочек, которые уже в таком возрасте наводят на дурные
мысли своими пухлыми, влажными губами, огромными
жгуче-черными глазами и присущим им от рождения
женским кокетством. Нэна носила платьица с глубоким
вырезом и юбочки с кружевами. Место за столом рядом с доном
Роберто занимала старшая его дочь, восемнадцатилетняя
Корина. Тонкое, бледное, одухотворенное лицо девушки, с
темно-карими бархатистыми глазами, обрамленными
густыми ресницами, свидетельствовало о живости ее натуры,
которая не могла раскрыться в этой обособленной усадьбе,
где не было кузенов, постоянно царило уныние и вся жизнь
семьи сводилась к мессам, молитвам и проповедям. Возле
Корины сидела ее младшая сестра, пятнадцатилетняя Ку-
куса, лишь совсем недавно получившая право называться
сеньоритой и подававшая большие надежды своим
хорошим воспитанием и характером. Рядом с доньей Хуанитой
за громадным столом занимала место донья Кандита,
сестра хозяйки дома, седая сморщенная старуха,
кругленькая, как шарик, у которой не было иных желаний, чем
прожить годик-два-три, придерживаясь молочной диеты и
съедая несколько яиц всмятку.
На кухне, держа на коленях миску, плошку или
кастрюлю, ели восемь слуг. Трое из них прислуживали
сеньорам: Гойо — здоровенный мулат весом фунтов в двести;
Мерседес — мулатка с очень хорошей фигурой, лет
двадцати — тридцати, и Канделария — служанка,
прислуживавшая семье Робертико. Руперто и Ньянго — два крепких,
потливых негра — работали кучерами. Перико —
долговязый, узловатый, желтый, точно трубка опия, китаец — был
поваром, а Чече — подросток с оливковой кожей,
музыкант, балагур, лучший исполнитель румбы в усадьбе,
знаток народных прибауток — его помощником. И, наконец,
садовник Донато — морщинистый, черный, словно
вакса,— не иначе как современник генерала Такона. Слуги-
364
мужчины без всякого стеснения ходили по усадьбе на
глазах у сеньор, сеньорит и девочек в рубахах нараспашку,
обнажив грудь и руки, в брюках без пуговиц, в любую
минуту готовых свалиться. А служанки на глазах у мужчин
носили так называемые платья, скорее походившие на
сорочки из-за глубокого выреза на снине и на груди.
Доминго, как уже говорилось, не занимался врачебной
практикой, он был кабинетным ученым. Адольфо, будучи
адвокатом, не вел судебных процессов. А фармацевт Ро-
бертико не служил в аптеке. Так что дон Роберто не
обманывал Хосефу, когда говорил ей о своих денежных
затруднениях. Чтобы содержать такой большой дом, такую
многочисленную семью и таких прожорливых слуг, ему
приходилось, как он сам выражался, «извиваться, словно
ужу на сковородке». Только благодаря нескольким домам,
сдаваемым внаем, которые у него еще сохранились на
улице Куба, и десяти или двенадцати «коммуналкам» и
квартирам на улицах Кайо-Уэсо, Каррагуа и Хесус-дель-Мон-
те, семье удавалось кое-как сводить концы с концами,
покрывая все растущие затраты, связанные с бесконечными
арендными платами, ипотеками и другими подобными
бедствиями. Кроме того, дону Роберто принадлежал уже
пришедший в негодность сахарный заводик в Минасе, име-
пие с фруктовыми садами в Гуинесе и маленький конный
заводишко за Виборой, но во всех этих загородных
хозяйствах царила полная неразбериха, порожденная
раскрепощением негров и усугублявшаяся бесконечными
кризисами в сахарной промышленности. Единственными
ощутимыми продуктами сельской частной собственности были
кукурузные початки и побеги тростника, возы с углем и
корзины с фруктами, овощами и цыплятами, которые
доставлялись в усадьбу через ворота каретного сарая,
а иногда даже стыдливо продавались в лавках и овощных
ларьках на шоссе.
За столом, когда дон Роберто не удостаивал сотрапез-
пиков своими разглагольствованиями, в комнатах, где
собирались домочадцы, на кухне, где хлопотали слуги,
звучали громкий говор, возгласы, насвистывание, пение.
Донья Хуанита отдавала распоряжения по хозяйству, крича
из гостиной в комнаты, из комнат на кухню. Корина и Ку-
куса пытались извлечь веселые звуки вальсов и мазурок
из старого рояля, занимавшего почетное место в зале. Дети
резвились в патио, на крыше-веранде или вовсю
перемалывали музыку на пузатой шарманке. И среди всего этого
365
отлично резонирующего пространства, среди этого
неумолчного гама, который ныне царит во многих кубинских
семьях и который так чужд людям сдержанным и
достойным,— штопала или молилась донья Хуанита,
покачивалась в кресле-качалке, обмахиваясь веером, донья Кан-
дита, читала Моытепена, Лояеса Ваго и Переса Эскрича
прелестная Лаура.
И так длилось часов до пяти, когда донья Хуанита, одна
или в сопровождении своих дочерей, отправлялась
раздавать милостыню или ехала в богоугодное заведение. А то
и до самого вечера, когда все домочадцы собирались в
гостиной кружком, чтобы обсудить какую-нибудь
неизменную тему — домашнюю или общественную,— пресную,
никчемную, возводя самые тривиальные события в нечто
необыкновенное, пережевывая одни и те же мысли, источая
одни и те же пустопорожние восторги все теми же
избитыми выражениями. Пожалуй, с такой же монотонностью, с
какой перемалывала шарманка однообразные мелодии
своего примитивного репертуара. Так тянулось до тех пор,
пока Гойо не проходил мимо них в столовую, неся на плече
складную кровать дона Роберто или свою, чтобы поставить
в зале. Ибо Гойо спал в зале, охраняя эту часть дома. Дон
Роберто спал в столовой на складной кровати «из-за
жары», как он нелепо объяснял сыновьям, а на самом деле
потому, что не только на словах существовало
супружеское отчуждение между двумя аристократами.
IX
Хуану было десять лет, когда он поселился в усадьбе
в Серро, но и тогда, и впоследствии он даже не мог себе
представить, к каким ухищрениям и доводам пришлось
прибегнуть дону Роберто, чтобы заставить донью Хуани-
ту согласиться с ним, какие препирательства и сцены
происходили между ними по этому поводу. Хотя донья
Хуанита сама как-то думала о том, чтобы дать приют
Хуану, она никак не могла предположить, что дои Роберто
когда-нибудь проявит столь подозрительную
настойчивость.
Еще до воскресенья мальчика снабдили всем
необходимым: ему дали три пары штанишек сурового
хлопчатобумажного полотна, три ирландских рубашки, желтые
ботинки на шнурках и фетровую шляпу с высокой тульей.
366
Кроме того, ему остригли ногти на руках под самый
корень и обкорнали волосы на голове. Это последнее
обстоятельство огорчило и расстроило его больше, нежели
разлука с матерью. Не желая подвергать такой мучительной
пытке свое самолюбие, он даже подумывал, не удрать
ли ему из усадьбы и не отправиться ли снова
бродяжничать в свое бывшее предместье возле кладбища Эспадо.
Хотя это и означало, что ему придется вернуться
на убогую раскладушку и есть похлебку
негритянки-кухарки.
— Я буду совсем как новобранец, сеньора,— говорил
он донье Хуаните со слезами на глазах.
— Ничего подобного. Так стригутся не только
новобранцы.
— Нет, сеньора, только новобранцы, больше никто.
У них головы, как кокосовый орех. Меня засмеют, начнут
обзывать.
— А ты не обращай внимания на насмешки и прозврь
ща всякого сброда. Кроме новобранцев, так стригут тех,
кто не умеет как следует ухаживать за своей прической
и содержать голову в чистоте.
В этом отношении донья Хуанита была совершенно
права, хотя у нее были и другие соображения. Чем же
тогда он будет отличаться от ее внуков, если станет ходить
с «шевелюрой»? Донья Хуанита дала ему реал, и в одной
из парикмахерских за какие-нибудь десять минут его
превратили в бедного сиротку.
Все это происходило до воскресенья, потому что
отныне Хуану надлежало сопровождать донью Хуаниту и ее
дочерей к воскресной мессе в церковь на улице Мерсед в
десять утра,— место и час, отведенные для самых богатых
католиков Гаваны,— а для этого, разумеется, он должен
был выглядеть соответствующим образом: подстрижен,
чист и опрятно одет. Хотя и брала его донья Хуанита
с собой лишь для того, чтобы он относил из экипажа в
церковь и из церкви в экипаж складные кожаные
скамеечки, на которые должны были садиться Корина и Ку-
куса.
В церкви донья Хуанита велела мальчику встать
возле одной из колонн так, чтобы он мог видеть и повторять
за ней все ее ужимки и поклоны во время мессы. На
Хуана не произвели никакого впечатления ни пышность
мессы с ее песнопениями, ни изобилие богатых, роскошно
одетых прихожан. Он привык к подобным зрелищам еще
367
с тех пор, когда вместе с Хулианом созывал звоном
колоколов в церкви св. Анхеля богомольцев к мессе или
задирал кверху кармелитские одеяния на святых статуях с
помощью размягченного, клейкого воска. Его не
охватывал мистический экстаз. Но он добросовестно повторял
за доньей Хуанитой все ее набожные гримасы с мрачным
видом ощерившейся собачонки, стоя возле колонны со
шляпой в руках, оголив подстриженный под кокосовый
орех череп, и не мог простить ей этой обиды. И уж с
самыми греховными намерениями смотрел, углубленный в
свои мысли, на сумочку, оставленную какой-то
богомолкой на скамеечке после окончания мессы, но тут вдруг
увидел, что девушки знаками подзывают его к себе, а
донья Хуанита, о чем-то перешептываясь со священником
в сутане, направляется к соседней исповедальне. Он не
успел подойти к Корине и Кукусе, потому что его оклик-
пула донья Хуанита.
«Тьфу! Знаю, зачем я им понадобился,— злобно
пробурчал себе под нос мальчик.—- Но только им больше не
удастся одурачить меня своей религией».
И действительно, священник вошел в исповедальню,
скрытую в полутемном углу бокового придела, а донья
Хуанита сказала Хуану:
— Ступай исповедуйся отцу Сесару и постарайся не
задерживаться. Когда закончишь, найдешь нас. Мы тоже
пойдем исповедоваться.
Хуан встал на колени перед исповедальней. Отец Се-
сар открыл створки окошечка и, просунув в отверстие
толстую, увесистую руку, сначала дважды потрепал его
отечески по щекам, а затем принялся гладить по
коротко остриженному затылку, спрашивая при этом заученно
и неискренне, как его зовут, сколько ему лет и так далее.
У отца Сесара были змеиные глазки, твердый испанский
акцепт, изо рта дурно пахло непереваренной пищей, а от
рукава, касавшегося шеи Хуана, исходил тошнотворный
запах европейского пота. С первой же минуты испанский
акцепт, поглаживания по затылку, вонь заставили
невоспитанного мальчишку, к тому же еще пребывавшего в
плохом расположении духа, с раздражением подумать:
«Паршивый, грязный боров!» — вкладывая в эти слова их
истинный смысл и готовясь дать отпор.
— Ну, а теперь признавайся, в каких грехах ты
повинен? — спросил исповедник, воображая, что произносит
это медоточиво, а на самом деле прошипев.
368
— Во всех, отец мой.
— Во всех?
— Да, сеньор. Я не следовал ни одной заповеди
господа бога и повинен во всех грехах.
— Ну, ну... Не думаю, что ты так плох, как говоришь.
А шестой заповеди ты тоже не следовал?
Хуан удивленно поднял голову и увидел, как в
темноте вкрадчиво заблестели глазки священника.
Дрожащим, словно испуганным голосом тот снова
стал спрашивать Хуана, продолжая гладить по затылку:
— Уж не допустил ли ты какой-нибудь
непристойности и тут?
— Да, да. Я повинен во всех грехах. Отпустите
меня! — И, ускользнув от толстой, увесистой руки священни-
еш, он вскочил на ноги.
Священник, сопя, предпочел скрыть свои истинные
чувства и прикинулся рассерженным:
— Ну вот что, мошенник, иди к тому алтарю и
повтори сорок заповедей перед святым Иисусом. Чтобы господь
бог услышал тебя и простил.
Хуан не знал ни одной заповеди, однако отправился
прямо к алтарю и, опустившись на колени, вперился
взглядом в одну из ступенек. Вид у мальчика был очень
хмурый, сосредоточенный, но будь он проклят, если собирался
вспоминать о своих грехах и каяться в них.
Минут через десять у него за спиной появилась донья
Хуанита.
— Ну? Ты еще не кончил?
У Хуана ныли колени, но он нагло заявил:
— Нет, сеньора. Я должен повторить сорок заповедей,
а я повторил только семнадцать.
— Ладно, пойдем. Закончишь дома. Вот чем
оборачиваются безобразия...
Хуан пошел вслед за доньей Хуанитой. Подойдя к
Корине и Кукусе, он взял складные скамеечки и взвалил
их на плечо. Когда они все вместе проходили мимо отца
Сесара, тот как бы ненароком приблизился к донье Хуа-
[хите и, по-иезуитски предостерегая и в то же время
заискивая перед этой неприрученной тигрицей, сказал:
— Ох, и плутишка же ваш мальчик.
— Почему, святой отец? - с любопытством спросила
явно заинтригованная донья Хуанита.
— Я должен хранить тайну исповеда* -К доод же это
пустяки. Просто он хитрец! — М-свящеташ?
24 К. Ловейра 369
— Почему святой отец так сказал про тебя? — грозно
спросила мальчика донья Хуанита, не забывая при этом,
что она находится в божьем храме.
— Потому что он стал говорить мне про распутство и...
— Тс-с-с!.. О, боже! Что ты плетешь!
— Да, сеньора...
— Замолчи,— снова перебила его донья Хуанита и
исподтишка больно ущипнула за руку.— Идем домой! Там
расскажешь мне все, наедине, в закрытом чулане. Уж я
тебе всыплю!..
Когда они подъехали к усадьбе, Хуан слез с козел,
взвалил на плечо складные скамеечки и вошел в дом.
Донья Хуанита только сухо приказала ему:
— Идем со мной,— и пошла следом за дочками.
Хуан поплелся за ними с видом человека, обреченного
на смерть. В ту минуту он в полную меру осознал, как
ужасно быть в шкуре «приемыша». Он испытывал чувство
страха, стыда и негодования. Первый раз в жизни его
ждала настоящая порка, которой прежде его только
пугали и которую он считал для себя неприемлемой,
противоестественной. Да еще от чужой женщины! В запертом
чулане, на задворках, после того как он должен будет
пройти на виду у всех: взрослых и детей, мальчиков
и девочек, сеньоров и слуг! Первой его мыслью было
сопротивляться, «сцепиться» со старухой в чулане,
кусаться, царапаться. Но он тут же вспомнил о
многочисленных мужчинах, обитавших в доме, и отказался
от этой мысли, еще не придумав другого средства для
защиты.
Войдя в чулан на задворках, сеньора скинула с себя
мантилью на стоявшую там кровать и присела на край.
И когда мальчик очутился перед ней лицом к лицу,
дрожа от страха, почти не дыша, она спросила:
— Так что же ты сказал сеньору священнику?
— Я — ничего. Это оп стал спрашивать о том, что я
вам уже говорил, и гладить меня.
— Что же он тебе сказал?
— Мне стыдно повторять вам, сеньора.
— Ты лжешь! Мерзкий, бессовестный мальчишка! Не
смей больше так говорить! — И донья Хуанита,
приблизив широко раскрытые глаза к заплаканным глазам
обвиняемого, занесла над ним сжатые кулаки.
Но Хуан прошел хорошую школу, и правда была на
его стороне:
370
т- Я сказал то, что было.
Сначала разгневанная сеньора не желала ничего
слушать. Она говорила одна, обзывала его самыми обидными
словами: «Лгун! Нахал! Бесстыдник!» Но? несмотря на
испуг, Хуан не собирался сдаваться. И набожную
женщину начал охватывать настоящий ужас при мысли о
том, каким скандалом может все это обернуться. Она
вдруг смолкла на какое-то мгновение и в
нерешительности уставилась неподвижным взглядом в упрямые глаза
сироты, а гнев ее явно стал утихать. Хуан нутром
почувствовал, что гроза миновала, что его уже не будут пороть
розгами в закрытом чулане. Но не тут-то было! Разве
могла она поверить, что отец Сесар, лаская
неблагодарного мальчишку, имел какие-нибудь иные намерения, кроме
желания отечески приласкать и расположить его к себе?
Разве могла вообразить что-то дурное? И разве в церкви
не было полно прихожан?
Отвергая таким образом бесстыжие мысли, набожная,
глупая, ограниченная донья Хуанита позволила плутишке
перейти в наступление:
— Конечно, сеньора. Но, клянусь жизнью моей
матери, есть такие мужчины, которые не могут сдержаться.
Им достаточно только дотронуться.
— Наглец! Паршивый мальчишка! Как у тебя только
язык поворачивается говорить такое о священнике? Не
вздумай болтать об этом где-нибудь еще! Слышишь?
Мальчик лишь кивнул головой в ответ.
— Никому ни слова! Понятно? А теперь отправляйся
куда-нибудь в уголок, где тебя никто не увидит, и
взгляни, нет ли на тебе следов от щипков. Если есть, я
приложу арнику.
Хуан мгновенно повернулся к двери, торопясь уйти от
наказания как можно скорее. Однако донья Хуанита
успела кинуть ему вдогонку:
— Так не вздумай кому-нибудь рассказывать о том,
что произошло, слышишь? На сей раз ты отделался
легко, но пусть это послужит тебе уроком на будущее!
Твердо и отчетливо произнеся: «Хорошо сеньора»,-—
помилованный поторопился скрыться.
В этот час он должен был помогать одному из кучеров
нарезать молодые побеги тростника на корм лошадям.
Укладывая в конюшне стебли штабелями перед серпом,
воткнутым острием вверх, мальчик глубоко задумался —
насколько это позволяло детское сознание — над той вы-
371
годой, которую он только что извлек из масоно-религи-
озных разногласий, существовавших в «высших органах»
управления усадьбой.
В воскресные дни двери больницы были открыты для
посетителей. И Хуан сразу же после завтрака собрался
навестить мать. Корина, Кукуса и их племянницы,
намеревавшиеся провести воскресенье недалеко от крепости
Чорера в усадьбе у тетушек и кузин по материнской
линии, прихватили с собой мальчика, чтобы по дороге
завезти в больницу. Его посадили на козлы рядом с Ру-
перто, доверенным кучером, которому поручили доставить
девочек в усадьбу и обратно.
Монахини в больнице встретили мальчика приветливо.
Самая старшая сестра, толстая, некрасивая пожилая
женщина, вышла Хуану навстречу, изобразив на лице
некое подобие улыбки. Она дала ему приложиться губами
к кресту, висевшему у нее на груди, и, позвякивая
связкой ключей на огромном кольце и крупными зернами
четок, отвела в палату «Б», где на кровати с номером
семь едва вырисовывалась под простыней угасавшая Хо-
сефа Вальдес, укрытая до самого подбородка. Она спала,
слегка приоткрыв рот и склонив голову набок, к подушке.
Старшая сестра указала Хуану на стул у изголовья
кровати и тихонько сказала:
— Садись сюда и подожди, может быть, она проснется.
Хуан сел возле матери. Он был взволнован, и
волнение это оставило неизгладимый след в его душе. Перед
ним неслышно едва дышало единственное родное
существо, оставшееся в этом мире: его мать, истощенная до
предела, бледная, морщинистая, окончательно сломленная,
имевшая самый плачевный вид. Хуан испуганно
отвернулся, и его взору открылась скорбная картина
больничной палаты: длинная, тесная комната с двумя рядами
высоких, узких кроватей. Покрытые простынями кровати
были недвижны и безмолвны, словно на них покоились
мертвецы, чьи восковые или черные, как уголь, лица
страшными пятнами выделялись на белизне подушек. Он
был единственным посетителем. В глубине комнаты
монахиня из кружки поила по капельке тощую, как скелет,
негритянку, откинувшуюся на спинку постели. В суме-
372
речной глубине палаты, почти совсем закрытой от
дневного света, едва тлели две лампады, словно охраняющие
кровоточащее распятие часовые. В воздухе стоял
неприятный, раздражающий запах ладана, смешанный с
испарениями йода и карболки. Хуан в страхе устремил взгляд
на единственное в комнате чуть-чуть приоткрытое окно,
сквозь которое сочился солнечный свет и виднелась
зеленая листва деревьев, и почувствовал неодолимое желание
выпрыгнуть через это отверстие в сад, а оттуда — на
прилегавшую к нему улицу.
Но поскольку эта мысль, вызванная детским эгоизмом
и малодушием, была абсурдна, он решил легонько
прикоснуться к исхудалым ногам матери и тихонько позвать:
— Мама!
— Что, сыночек? Иди сюда.
Вынув из-под простыни руку, она притянула к себе
руку Хуана своими горячими, костлявыми пальцами и
стала гладить ее, не выпуская все время, пока он
находился рядом. Свидание должно быть коротким. Так
сказала обслуживавшая эту палату монахиня, которая уже
кончила поить тощую негритянку.
— Седьмой номер, вы же знаете. В палате для
тяжелобольных продолжительное посещение запрещено. И врач
вам говорил, что это вредно, и для вас, и для вашего сына.
— Ах, сестрица. Уж лучше бы моему сыну умереть! —
И Хосефа заплакала.
— Вот видите! Видите,— укорила ее монахиня.—
Я ведь предупреждала вас. Немедленно успокойтесь, не
то я уведу мальчика.
Разумеется, она успокоилась. Они тихонько
разговаривали. Хуан рассказал матери, как сытно едят в
усадьбе, как много там прислуги, как он ходил к утренней
мессе в церковь на улице Мерсед, как исповедовался в грехах,
а потом молился за ее здоровье. Запах карболки
усилился, и одна из больных натужно закашляла. Мать держала
себя в руках. Она расспрашивала сына, как ему живется
в усадьбе, похвалила его одежду и тут, видимо, по
ассоциации вспомнив что-то, пала духом и воскликнула:
— Пора бы им уже купить тебе траурные рубашки!
На этот раз она разрыдалась безутешно.
И опять более продолжительное увещевание
монахини заставило наконец больную под номером семь
сдержать рыдания. Однако, сломленная духом и
непрекращающимися болями, мать сама решила прервать сви-
373
дание с сыном. Она велела Хуану, не откладывая, зайти
к донье Марте и передать ей, чтобы та «загнала» мебель
за любую цену, какую ей дадут, взяла бы вырученные
деньги себе и подыскала другое место. Хуан счел своим
долгом возразить:
— Почему все деньги должны достаться донье Марте?
— Потому что у тебя есть сейчас все необходимое.
А бедняжке, наверное, негде даже будет приклонить
голову.— И она снова чуть не заплакала.
Хуан согласился с ней, лишь бы поскорее настало
время прощаться. Мать обняла исхудалой рукой
ускользавшего мальчика.
— Ну иди,— произнесла она, доставая другой рукой
из-под подушки маленький ключик.— Вот тебе ключ от
тайника в сундуке: у него двойное дно. Найдешь
маленькую замочную скважину иод подкладкой в одном из углов
па дне. И спрячь ключик как следует. На всякий случай.
Там в тайнике лежит фотография твоего отца, кое-какие
паши с ним вещи, письма и документы. Кто зпает, может
быть, тебе уже завтра придется доказывать, что у тебя
были отец... и мать...— И она поцеловала сына,
прикоснувшись к нему сведенным судорогой и мокрым от слез
лицом.
Хуан почувствовал, что вот-вот расплачется, и ему
нестерпимо захотелось прервать эту слишком тяжелую п
жестокую для него сцену.
Это сделала за него монахиня. Хуан поспешил выйти
из палаты, чтобы мать не тратила оставшихся сил на>
может быть, последнее прощание.
Монахиня вывела расстроенного мальчика на галерею.
Старшая сестра проводила его в патио и оставила там
под живописным сливовым деревом, позволив набрать
полную шляпу желтых и душистых плодов. А монахиня-
привратница сунула мальчику в руки целую пригоршню
образков и сказала:
— Молись нашей пресвятой деве каждый вечер,
чтобы твоя мать выздоровела.
XI
В следующее воскресенье донья Хуанита не захотела
брать с собой Хуана в церковь. Дон Роберто отозвал
мальчика в сторонку и спросил, почему его супруга так
374
внезапно переменила свои намерения. Хуан прикинулся,
что удивлен не меньше дона Роберто. И тогда сеньор, то
ли назло жене, то ли ему действительно это было
необходимо, приказал мальчику:
— Сходи на проспект Карлоса Третьего, там в
двухэтажном здании на углу улицы Перейра увидишь
широкую лестницу. Поднимись на второй этаж и передай
тому, кто там будет, что ты пришел за документами,
которые у меня там хранятся.
В те дни масонские ложи очень преследовались.
Правительству стало известно, что они превратились в
активные центры скрытых сепаратистов, и все известные ложи
было приказано немедленно закрыть. Дон Роберто
посылал Хуана в одну из таких масонских лож, которая
находилась по вышеуказанному адресу.
Это было гораздо интереснее, чем церковь.
Театральность масонского «храма» поразила Хуана и доставила
ему большое удовольствие. Он разглядывал все и
ощупывал руками, пока несколько рабочих отдирали ступеньки,
троны, позолоченные и кричащие украшения. Вскоре
Хуан присоединился к трем подмастерьям и другим
мальчишкам, которые с любопытством разглядывали все
вокруг и зубоскалили:
— Ух ты! Сколько мачете!
— Мачете? Дурак! Это шпаги! Теперь понятно,
почему говорят, будто галисийцы боятся масонов.
Потом они пришли в изумление, увидев солнце, луну
и звезды, «взошедшими» все сразу, вместе.
— Эй, ребята! Идите сюда! Скорее! Вы только
посмотрите! — крикнул вдруг один из них.
Длинный, узкий коридор, со всех сторон обтянутый
черной тканью, вел в маленькое помещение, тоже
обтянутое черным.
Сквозь зарешеченные створки дверей туда
просачивался слабый свет. Посредине на трех стульях возвышался
черный гроб, окруженный таким же количеством
канделябров. На стенах в глубине ниш виднелись наводившие
ужас изречения и черепа. Но сорванцы не кинулись прочь
со всех ног от страха, их сдерживали чувство
собственного достоинства, неодолимое любопытство и искушение
сотворить нечто невероятное. И они сотворили. Один из
этих шалопаев улегся в гроб, двое других составили ему
компанию, притаившись по углам, а остальные иобежали
искать какого-нибудь простофилю. Вскоре такой попался.
375
Это был худенький, беленький мальчик лет десяти. В
гробу лежал Хуан. Те, кто привел мальчика, по дороге
рассказывали ему о чудесах, которые они видели наверху, а
под конец заговорили о мертвецах и привидениях. Едва
его ввели в комнату и он стал различать очертания гроба,
оттуда послышался замогильный голос Хуана:
— Ска-а-жи-и-и кто-о-о ты-ы!
И он выпрыгнул из гроба, простерев руки к
вошедшему мальчику. Тот бросился назад по коридору, Хуаи за
ним. Обезумев от ужаса, мальчишка добежал до того
места, где трудились рабочие, и упал на пол в жестоком
нервном припадке. Рабочие кинулись на помощь бедняге,
а сорванцы пустились наутек по проспекту и
примыкавшим к нему улицам.
Хуан явился в усадьбу вспотевший, запыхавшийся и...
без документов! Он даже и не спрашивал ни у кого про
них. А дону Роберто наврал. Мол, не доверили, не
захотели дать, он им не знаком. Паршивый галисиец
привратник!..
Бумаги были слишком важные, чтобы дон Роберто
отнесся к этому спокойно. Слывя повстанцем еще со времен
своего участия в Десятилетней войне, он мог бы жестоко
поплатиться, попади хоть один из этих документов в руки
врагу. В бумагах встречались между кабалистическими
строками имена Панчо Каррильо, Эмилио Нуньеса,
масонская ложа в Нью-Йорке, инициалы, шифрованные
числа и треугольнички из черных точек. К тому же он
не мог допустить и мысли о том, чтобы лишиться большой
групповой фотографии, на которой был заснят вместе с
другими важными сеньорами, блиставшими своими
знаками отличия, медалями, орденами и прочими регалиями.
Но поскольку экипаж отбыл вместе с доньей Хуани-
той в ее ложу, дон Роберто нанял извозчика и отправился
за документами собственной персоной.
Не прошло и получаса, как он уже входил в гостиную,
держа под мышкой огромный рулон бумаги, а в правой
руке — большой, толстый лист картона. Хуан, все время
наблюдавший с заднего двора за парадным входом в дом,
при виде дона Роберто сразу же понял, что на этот раз
ему не миновать чулана на задворках и порки. Однако
ничего подобного не произошло. Навстречу дону Роберто
вышли Доминго, Адольфо и Лаура с детьми. Они о чем-то
тихо совещались, украдкой поглядывая в сторону Хуана, и
были явно озабочены и расстроены,
376
Спустя несколько минут дон Роберто подозвал Хуана
и сказал:
— Ты хорошо знаешь, что виноват, и я тоже знаю.
Тебя следовало бы выпороть. Но я прощаю, потому что
твоя мать в очень плохом состоянии, тебе даже нельзя
будет сегодня навестить ее.
Хуана сразу же окружили притихшие, опечаленные
дети. Каждый что-нибудь предлагал ему: конфеты, мяч,
рогатку, о которой он давно мечтал. Позже, когда
вернулась донья Хуанита, взрослые опять собрались вместе и
о чем-то таинственно зашептались, а потом донья
Хуанита увела Хуана в часовню, чтобы он помолился за мааь.
Пока он, стоя на коленях, делал вид, что молится, донья
Хуанита достала из старого шкафа поношенную
траурную одежду. Затем велела ему принести одну из его
сменных рубашек и принялась по ней кроить новую, из
черного материала.
И так как Хуан все еще ничего не понимал, донья
Хуанита, предусмотрительно прибегнув к эвфемизмам,
велела ему подойти и со вздохом, без всяких объяснений
произнесла:
— Ты должен благодарить судьбу!.. Благодарить нас...
Что стало бы с тобой, если бы не мы!.. Будь послушен и
веди себя достойно, раз уж тебе выпало счастье попасть
к нам в дом, а не в сиротский приют..,
— Разве мама умерла?
— Да... Но, к счастью, у тебя есть мы.
Хуан ушел на задворки. И весь день прятался по
углам. Иногда он плакал, охваченный настоящей тоской,
иногда из чувства долга. Он был еще слишком мал, чтобы
по-настоящему осознать свое горе.
В это воскресное утро вместо того, чтобы навестить
умирающую мать, он беззаботно играл со смертью, а днем
смерть отняла у него мать, оставив совершенно одиноким,
без единого родного существа. Уже потом, когда время и
жизненный опыт, приобретенный в молодости и зрелости,
сгладит впечатления детства, он будет одним из многих
несчастных, кто никогда не сможет начать свой рассказ
словами: «Однажды моя мать...», или: «Помню, как-то раз
мой отец...» Воистину безгранично несчастье тех, кто с
ранних лет был лишен домашнего крова, родителей, детства!
Сердобольный дон Роберто, желая развеять
беспредельную печаль мальчика, дал ему почитать одну из
немногих своих книг, имевшихся под рукой. Это оказалась
377
«История повстанческого движения на Кубе» Хусто
Сарагосы. И хотя дон Хусто 1 в этой книге был
несправедлив к кубинцам, прочитавший ее запоем Хуан увидел в
ней свидетельства героизма и страданий кубинского
народа, а также донкихотства и жестокости навечно
забытых ныне сеньоров — основателей нации, религии,
языка. Вечером дон Роберто, заметив, с каким увлечением
мальчик читает книгу, задержался, против своего
обыкновения, после ужина, чтобы рассказать ему о студентах
71-го года, о Бальмаседе и бригадире Акосе. В тот вечер
и в следующий Хуан особенно остро почувствовал, как
далеки ему «основатели нации» и насколько ближе стали
те, кто жил на задворках. Им он до самой ночи читал
книгу, пока не прочел до конца.
Наутро, еще находясь под впечатлением прочитанной
книги и рассказов дона Роберто, Хуан, получив
разрешение сходить к донье Марте, чтобы выполнить последнюю
волю матери и сообщить о ее смерти бедной старушке,
пошел вниз по проспекту Монте к небольшой площади
Пуэрта-де-Тьерра. Но, так и не дойдя до площади,
увидел, что на улице Муралья происходит нечто
невообразимое. Это была одна из тех улиц, где привыкли кричать:
«Да здравствует Испания!» — стоя на бочках с маслом и
бочонках с маслинами. Мужчины, женщины, дети
шумным ликующим потоком стекались отовсюду на эту
прославленную улицу, заполняя тротуары, балконы, крыши,
переулки. С противоположного конца этой торговой
улицы, со стороны Офисиос и Меркадерес, доносились
взрывы ракет, фейерверков, звон колоколов и нестройные
звуки марша, который исполнял военный оркестр,
продвигавшийся вверх по улице, украшенной красными и
желтыми арками, знаменами и свешивавшимися с
балконов и окон полотнищами. Всюду раздавались громкие
возгласы: «Да здравствует Испания!» — заглушавшие звон
колоколов и музыку.
— Эй! Что тут происходит? — громко спросил Хуан,
ни к кому не обращаясь.
— Снова шумят из-за Лас-Вильяс,— пояснил кто-то.
Некоторое время спустя, когда Хуан протиснулся
сквозь толпу на тротуар улицы Муралья, он уже сам
ответил точно на такой же вопрос какой-то женщине. А кто-
то рядом добавил:
1 X у с т о — справедливый (исп.); здесь игра слов.
373
— Опять эти твердолобые, что и всегда: Каррильо,
Эмилио Нуньес и Серафин Санчес.
Упоминания этих имен оказалось достаточно, чтобы в
душе Хуана всколыхнулось патриотическое чувство,
которое переполняло его весь вчерашний день. Шныряя в
толпе, он, не в силах дольше сдерживаться, стал плевать
на знамена и полотнища, срывать с них бахрому и кисти,
которые засовывал за пазуху, возможно, намереваясь
найти им потом какое-нибудь применение в усадьбе.
Приближался грохочущий оркестр, а за ним четыре
ряда штыков. Улица содрогалась от неуемного восторга
торгашей. Взрывались ракеты, петарды. Какой-то верзила
в новеньких черно-белых альпаргатах и приплюснутом
берете неистово орал рядом с Хуаном:
— Да здравствует Испания! За ее возрождение!
— Долой ее! Сволочь! — визгливым голосочком
крикнул ему Хуан.
И по-ребячьи пустился наутек вверх по мощеной
улице, освобожденной от толпы полицейскими, в сторону
спасительной, многолюдной площади Пуэрта-де-Тьерра.
Но мальчишеская выходка оказалась не такой уж
безобидной, чтобы он мог удрать безнаказанно. Один из
полицейских поймал его и зажал, словно в тиски. Над
мальчиком мгновенно занеслось несколько десятков
здоровенных кулаков, готовых обрушиться ему на голову.
— Мамби! Мулат! Недоносок! Сукин сын! —
раздавались со всех сторон негодующие крики.
Самый что ни на есть оголтелый схватил Хуана за
рубашку. Вспомнив рассказы дона Роберто о восставших
студентах, мальчик в ужасе метнулся в сторону, желая
вырваться из рук дикаря, способного его растерзать. На
землю вывалилась красная и желтая бахрома от знамен.
И сразу же на Хуана посыпался чудовищный град
тумаков и пинков. Завязалась драка между невозмутимыми
полицейскими и ослепленными яростью защитниками
национальной чести, и...
К счастью, подоспели первые ряды батальона,
пробившие брешь в людской толпе, и полицейские
воспользовались своим численным превосходством. Несколько
наиболее отважных горожанок тоже вступились за грешника,
отвлекая на себя внимание его преследователей криками:
— Насильники! Связались с мальчишкой!
Сжав Хуану руку, словно кандалами, полицейские
повели его домой. Через двадцать минут, тяжело отдуваясь
379
и обливаясь потом, под конвоем ватаги ребятишек они
достигли усадьбы в Серро. Там поднялся невообразимый
шум, и хотя полицейские явились разъяренные,
намереваясь говорить о штрафе, повстанцах и суровом
наказании, они уж и не рады были тому, что пришли сюда по
столь незначительному поводу, и поспешили уйти,
напуганные видом богатой усадьбы и сверкающими на
огромных дверях металлическими табличками с именами
адвоката и докторов.
Донья Хуанита, памятуя о своих страхах и
перипетиях во время Десятилетней войны, хотела немедленно
выставить сироту на улицу, если кто-нибудь тут же не
отведет его в сиротский приют. Однако дон Роберто, в
глубине души восторгаясь поступком мальчика, и Доминго —
противник всякого насилия и бесчинства — взяли его под
свою защиту. Кончилось тем, что донья Хуанита во всем
случившемся обвинила мужа, который давал мальчику
читать книги, подобные «Истории» Сарагосы. Робертико
осмелился поддакнуть матери. И тогда дон Роберто,
властно прикрикнув, заставил всех замолчать, напомнив,
что здесь хозяин он. После чего женщины и мужчины,
родные и слуги мгновенно испарились. Инцидент был
исчерпан, а Хуану вынесли не слишком суровый приговор.
Он был осужден на трехдневное вечернее заточение в
кабинете Адольфо, битком набитом сводами законов.
И все три вечера подряд писать, тысячу пятьсот раз
написать, сидя за адвокатским письменным столом при свете
коптящей керосиновой лампы: «Я должен вести себя
хорошо, потому что у меня нет ни отца, ни матери».
XII
Жизнь Хуана в Серро текла день за днем среди
радостей и огорчений, которые, к счастью, оставили в его
детской, еще невинной душе лишь поверхностный,
скоропреходящий след. Настолько поверхностный и преходящий,
что живой ум мальчика, сына чахоточного цирюльника,
мальчика, получившего воспитание на улице, впитывал в
себя, словно губка, хотя и неосознанно, уроки той среды,
в которой он волею судьбы оказался.
Хуан был в усадьбе всего-навсего еще одним слугой,
а иногда и еще одним ребенком. Пока хозяйские внуки
находились в школе или приводили себя в порядок перед
тем, как туда пойти, делали домашние задания или ели в
перерыве между занятиями,— Хуан трудился, весело
напевая и насвистывая, возможно, радуясь тому, что ему не
надо ходить в школу. Когда же дети играли, Хуан
присоединялся к ним, пользуясь законным правом ребенка.
С шести утра, по существовавшему в те времена на
Кубе обычаю, все обитатели усадьбы уже были на ногах.
Сквозь настежь распахнутые окна и двери врывались
радужные лучи ослепительно-яркого тропического солнца и
тонкий аромат роз и жасмина; канарейки в маленьких
клетках принимались голосить, заглушая своим пением
властные окрики сеньоров и болтовню детей, певучие
голоса слуг. Хуан, сидя на каменном уступе в патио, с
помощью суконок, щеток и ваксы из круглой баночки
(фирмы «Эль Гальо») начищал до блеска вереницу обуви,
расставленную возле него, и весело насвистывал под
аккомпанемент щеток, отбивавших вместо музыкальных
инструментов какой-нибудь модный афрокубинский мотив.
Покончив с этим занятием за час благодаря сноровке,
приобретенной им во время уличных хождений с
сапожным ящиком, Хуан в течение дня выполнял еще сотни
самых разнообразных поручений. Иногда он помогал
Корине и Кукусе распутывать мотки шерстяных ниток,
которыми те вышивали, как это было принято у богатых
сеньорит в колониальную эпоху; но это если они не
бренчали по клавишам рояля, извлекая из него звуки
гамм и кошачьих концертов. Или протирал тряпкой
пятьсот томов священных законов, девственно чистых,
аккуратно, плотными рядами выстроившихся на полках в
библиотеке у Адольфо. Либо начищал до блеска золой с
лимонным соком металлические украшения упряжи —
исторической ценности усадьбы, а наждаком и оливковым
маслом — охотничьи доспехи Робертико, который гораздо
больше смыслил в капсулах и свинцовых пилюлях,
убивающих птиц, нежели в тех, которыми лечат ближнего.
И, наконец, помогал нарезать стебли тростника па фураж
лошадям, перед тем как пойти в кухню завтракать вместе
с остальными слугами, держа у себя на коленях плошку,
миску или котелок. В полдень, когда палящие лучи
солнца ливнем обрушивались на дом и сад, канарейки
умолкали в клетках, люди — негры и белые, сморенные жарой,
потные, погружались в дремоту по своим комнатам,
раскаленным полуденным зноем, проникавшим сквозь кроны
деревьев. Хуан тоже наслаждался сьестой — на
задворках, под сепыо дерева или на влажном пахучем тюфяке,
набитом кукурузными листьями. Он читал, держа в руках
очередную книгу о повстанцах, взятую у владельца
усадьбы. Днем Хуан играл с хозяйскими детьми,
возвращавшимися к трем часам из школы, подметал сухие листья с
садовых дорожек и ходил в город с разными поручениями;
помогал мыть каретный сарай, чистил мужские костюмы
в комнатах, вытирал в кабинете у Доминго пыль с гор
книг, журналов, брошюр и циркуляров, в беспорядке
разбросанных и раскрытых, со множеством закладок,
пометок, галочек и прочих условных обозначений. Вечером,
когда дети готовили уроки, Хуан снова ходил куда-нибудь
с поручениями или же играл один, прежде чем улечься
спать в единственной на задворках каморке, где, кроме
него, ночевал еще мулат Чече — рано созревший
подросток, разносчик в усадьбе всякого рода
испано-африканского распутства и пороков, порожденных эпохой
колониального владычества... Когда дети играли все вместе, и
мальчики, и девочки, они чаще всего устраивали
представления, зачинщиком которых всегда был Эрасмо,
поражавший всех домочадцев своим «пристрастием»,— так они
называли его склонность к сочинительству. Подобно
Шекспиру и Мольеру (по словам самого же Эрасмо), ему
нравилось участвовать вместе со своими актерами в
спектакле на импровизированной сцене, которую дети сами
мастерили из ящиков, клеенок, занавесок и старых скатертей.
Драмы Эрасмо назывались: «Святость ангела» или
«Самопожертвование христианской жены», «Разбитое сердце»
или «Смерть мулатки», но справедливости ради надо
сказать, что сюжеты пьес, созданных этим талантом, во
многом были заимствованы из таких прославленных
произведений, как «Саламейский алькальд» и «Веселый ужин».
Разумеется, драма нередко имела небольшой, но очень
напыщенный эпилог. Как и в том случае, когда Эрасмо с
самым серьезным видом высокопарно и вместе с тем
сдержанно произнес:
— Вььмысел это или быль...
— Прощай, Бальтасар де Алькасар! — перебил его
Фернандо, занимавшийся в те дни испанской литературой
и быстро уловивший, откуда Эрасмо заимствовал свой
новый сюжет.
Хуан, исполнявший одну из ролей в пьесе, решил, что
Фернандо импровизирует по ходу действия и называет
этим именем Эрасмо, и, мгновенно подхватив, грозно
воскликнул:
382
— Не уходи, дон Бальтасар! Если ты уйдешь...
Но Эрасмо не дал ему договорить, подумав, что Хуан
тоже над ним насмехается.
— Заткнись, слышишь! Я тебе не ровня! Тоже мне
нашелся!
Хуан оторопел. Нэна и Кука, не желая, чтобы
представление прерывалось, попытались примирить
мальчиков. Но Фернандо «подлил масла в огонь», подзадорив
брата:
— Почему не ровня? Разве он тебе не дядя?
— Какой он мне дядя! Сукин он сын, вот кто! —
вскипел от злости Эрасмо, выпрямляясь во весь рост.
Для Хуана это непонятное оскорбление его матери
означало объявление войны. И так как до сих пор во
время игр с детьми никто из них пи разу его не унизил и он
чувствовал себя таким же ребенком, как и они, то у него
невольно вырвался привычный ответ:
— Сам ты сукин сын!
Он сжал кулаки и, подняв их на уровень груди,
приготовился к бою, как делал всякий раз во время стычек с
мальчишками на улицах Принсипе и Лома-дель-Анхель.
Эрасмо тоже привел кулаки в боевую готовность, но
Фернандо бросился между братом и Хуаном, воскликнув:
— Пусти, я с ним расправлюсь.
Эрасмо не захотел уступить брату, и они оба ринулись
в наступление. Девочки с визгом кинулись за матерью,
чтобы она пришла посмотреть, как Хуан избивает
Фернандо и Эрасмо в комнате с фамильными реликвиями. За
ними не спеша, сохраняя чувство собственного
достоинства, как и подобает мужчине, следовал Бетико Пустомеля,
который, в отличие от сестер, невозмутимо проговорил:
— Послушай, мама, уйми ты этих индюков.
Корина и Кукуса, сопровождаемые визгом девочек,
помчались в комнату, где происходила драка, а вслед за
детьми во всю прыть своих старческих ног быстро
засеменила донья Хуанита. Одной рукой она придерживала очки,
подпрыгивавшие на носу, а другой — подол длинной юбки,
мешавшей непривычной скачке. В патио они наткнулись
на отступавшего Эрасхмо.
— Ах, вот как! — крикнула его мать.— Дело уже до
палок дошло!
Тут подоспела допья Хуапита, и палки, занесенные в
воздух, мгновенно застыли в руках мальчиков, возле
которых, не решаясь вмешаться в драку, верещали Корина и
383
Кукуса. Те самые палки, которые только что служили
актерам шпагами во время представления пьес,
заимствованных Эрасмо у Кальдерона. Фернандо удалось отбить
все атаки противника и даже нанести ему два удара в
левое плечо. Хуан плакал от боли и обиды, ослепленный
гневом, неотомщенный.
— Бандит! — в порыве ярости мелодраматично
воскликнула донья Хуанита.— Бесстыдник! Палкой вздумал
драться!
Хуан, уверенный в своей правоте, решительно
возражал:
— Он обозвал мою мать! Он обозвал мою мать!
Разъяренная донья Хуанита вонзила растопыренные
пальцы в дрожащее тело сироты, и он закричал от боли.
Пока Хуан кричал от жестоких щипков, остальные
участники баталии с шумом разлетелись по комнатам.
Горячо жестикулируя, свидетели драки объяснили, что
Фернандо сказал Эрасмо, будто Хуан его дядя. Эрасмо
разозлился и обозвал мать Хуана. Тот ответил ему тем
же. Они подрались. Но по-настоящему пострадал один
лишь Хуан, которому нанесли несколько ударов в плечо.
Плача от обиды, мальчик уверял, что не виноват, и,
обнажив костлявую ключицу, показал два фиолетовых
подтека на плече. Жалостливая Корина увела Хуана за руку,
чтобы приложить к ссадинам арнику. В патио сбежались
все обитатели усадьбы. Даже донья Кандита,
встревоженная шумом, высунула в окно дрожащую, седую голову с
отвислыми щеками.
— Это еще что? — прикрикнула на слуг донья
Хуанита.— Кто-нибудь умер? Живо за работу! А этим
проказникам я сейчас задам! И зарубите себе на носу, у моих
внуков нет других дядей, кроме моих сыновей! И если
этот паршивец не будет знать своего места в моем доме,
я вышвырну его вон!., В приют или на улицу!
Выпустив столь грозный заряд, донья Хуанита
поспешила удалиться в комнаты вслед за внуками.
В усадьбе тогда не оказалось ни дона Роберто, ни Ро-
бертико, ни домашнего адвоката. Лаура, как только
услышала шум, отбросила в сторону книжку и помчалась вниз
«посмотреть, выгнали ли этого мерзавца, чуть не
убившего моего сына, или он все еще здесь, в усадьбе». Ее
возмущение разделяла донья Хуанита, но доктор вступился
за мальчика, насмешливо сказав, что ничего особенного не
произошло и нечего делать из мухи слона, потому что
384
никто никого «не убил» в этой разыгравшейся драме.
Корина тоже встала на защиту сироты, гипнотизируя всех
умоляющим взглядом своих печальных глаз, опушенных
густыми ресницами. Да и Фернандо, справедливости ради,
взял под защиту Хуана, оказавшись столь же
великодушным к противнику, сколь и отважным в бою с ним.
Гроза уже почти миновала, когда в усадьбу вернулся
дон Роберто. Лишь гордость за внука, проявившего такую
храбрость, и стремление быть объективным заставили его
присоединиться к тем, кто ратовал за Хуана. Между
доном Роберто и доньей Хуанитой произошла очередная
ссора, которая не зашла слишком далеко только из уважения
к сыну-доктору и ради спокойствия мальчиков. Однако
потом дон Роберто несколько дней не обедал дома, говоря,
что у него слишком много дел в городе... А донья Хуанита
не выходила к столу, ссылаясь на нездоровье...
Постепенно и взрослые, и дети пришли к единодушному выводу,
что причиной раздора между супругами был не кто иной,
как сирота. Что касается самого Хуана, то в его душе
вдруг зародилось сомнение, которое долгое время не
давало ему покоя,— уж не доводится ли он в самом деле дядей
хозяйским внукам? Неужели его мать?.. Нет, не может
быть! Он достаточно хорошо умел считать. И сердце
мальчика преисполнилось ненавистью к хозяйке дома.
— Паршивая сова! Обо всех-то она думает плохо! —
злобно пробурчал он.
Отсутствие дона Роберто за столом привело к тому, что
члены семьи, собиравшиеся все вместе только здесь,
принялись бурно дискутировать. Адольфо, приступивший к
чтению Кардэ и, несомненно, уже подпавший под его
влияние, полемизировал с Доминго, апеллировавшим в своих
аргументах к данным микроскопа и собственным
переводам Дарвина, Спенсера и Ламарка; Эрасмо, словно попка-
дурак, повторял чьи-то высказывания, а Лаура, Корина и
Кукуса грозились уйти из-за стола, чтобы не впасть в
смертельную скуку. В другой раз Робертико завел разговор о
том, что было бы неплохо устроить на верхнем этаже
фехтовальный зал, объяснив прежде Бетико, что такое
фехтовальное искусство. Предложение его нашло горячий
отклик у Фернандо и набожный ужас у Корины и Кукусы,
которых поддержала Лаура Хустис, пользуясь доводами
против дуэлей, почерпнутыми ею из книги Хуана де Диос
Песо, которая недавно проникла в страну и попала ей в
руки. А однажды Адольфо начал настаивать на том, чтобы
25 К. Ловейра 385
Корина н Кукуса пошли на бал Благотворительного
общества Серро. Черт подери! Они ведь не монашки! За
столом поднялся невообразимый шум. Сами девушки
воспротивились этому, отказавшись от бесплатной защиты
своего брата-адвоката, и узрели в его предложении робкую
попытку взять под защиту неприличные современные
танцы, в которых мужчина и женщина обнимаются,
прижимаются друг к другу и расходятся, как в
полуафриканских танцах, в похотливых дансонах ямбуя и в
африканизированных хабанерах,— не то что в галантных, изящных,
как в Версале, бальных танцах. Робертико нарисовал
печальную картину, какую являли собой братья или
«старики», сопровождающие сестер или дочерей на балы, а
потом возвращающиеся на рассвете во главе своего стада с
покрасневшими, отекшими веками от бессонной ночи, во
время которой блюли невинность девочек,
почувствовавших зов плоти... Этому слишком бурному спору положил
конец Доминго, высказав неопровержимый довод:
— Осмотрительность, которую мы еще сохрапяем в
некоторых кубинских семьях по отношению к женщинам,
особенно к тем, кого собираемся ввести в свой дом, есть
зло во спасение, помогающее нам уберечь, пожалуй,
единственное, что у нас еще сохранилось,— наш сехмейный
очаг. Иначе разве мы могли бы жить в этой стране,
полной авантюристов и дегенератов! Я не моралист. И
убежден, что молодежь дотжна иметь другие развлечения,
помимо хождения к мессе в церковь и прогулок в экипаже
по бульвару Прадо, но это вовсе не означает, что наши
женщины имеют право переступить тот барьер, который
отделяет их от улицы.
Столь красноречивый, истинно кубинский довод
положил конец рискованному диспуту. Девушки не пошли
на бал в Благотворительное общество. А Хуан не
только еще сильнее полюбил доктора, но и стал поклонником
его ораторского искусства.
Первое время пребывания в усадьбе Хуан из всех
своих шести органов чувств больше всего услаждал чувство
вкуса. Во время каникул, когда хозяйским детям не надо
было ходить в школу, в полдень часто ставили в саду, под
развесистыми, душистыми кронами фруктовых деревьев,
стол с прохладительными напитками и сладостями: чам-
полой, лимонадом или мороженым. Стоя вокруг
серебряного бочонка, в котором плавали на поверхности ломтики
лимона и кусочки льда, или огромной шербетницы, полной
386
белоснежной мякоти гуанабаны, он насыщал свой
желудок с воистину цантагрюэлевской прожорливостью, хотя,
как заметил Домипго, отпрыск Хосефы Вальдес и детище
Гаргантюа били диаметрально противоположны. Утолить
застарелый голод, наесться до отвала божественными
яствами сыну покойной прачки помогало неизменное
креольское обжорство, тоже в духе Рабле, которое всегда
сопутствовало в усадьбе всем традиционным праздникам и
бесконечным семейным дням рождений и именинам. В такие
дни два десятка ее обитателей поедали все, что
доставлялось в усадьбу: трех огромных свежих окуней, которых
покупал на рынке и запекал кптаец; десяток
экзотических десертов, заказанных в лучшей кондитерской;
громадную корзину с курами, индюками и цыплятами,
привезенными из имения Гуинес, и целую связку перепелов,
которых великий охотник Робертико привередливо
отбирал на Пласа-дель-Вапор.
На одном из таких семейных обжорств Хуан дал
самому распространенному па Кубе блюду название, долгое
время потом сохранявшееся среди обитателей усадьбы.
Помогая сервировать стол к праздничной трапезе, Хуан
отведал немного английского пива и сладкого хереса,
которые не замедлили ударить ему в голову. Когда вся
семья уже собралась за столом, Хуан, чье опьянение было
замечено Фернандо и очень веселило всех детей, прежде
чем внести громадный поднос с рисом и цыплятами,
украшенными двумя длинными рядами красного стручкового
перца, залихватски прокричал из патио:
— Играйте королевский марш, я несу знамя нашей
Матери-Родины!
Раздался взрыв хохота и аплодисментов. Фернандо
насмешливо спросил, имея в виду коротко стриженную
голову Хуана, каким это образом вино проникло в
кокосовый орех, на что сирота, усугубив свой проступок,
дерзко ответил, что таким же, каким краска попадает в алый
мамей. А если он не верит, пусть спросит об этом у Бети-
ко. Хуана отправили на задворки. Но с тех пор рис с
цыплятами стали называть не иначе, как «знамя нашей
Матери-Родины».
Самой горькой пилюлей для Хуана была его
обязанность сопровождать мулатку Мерседес в город за
покупками. Мерседес отличалась хорошей фигурой, что,
пожалуй, являлось самым главным достоинством в ту эпоху,
если обладательнице бедер нечем было больше похвастать
387
перед людьми. Она носила турнюр и туго затянутый,
высокий корсет под платьями, достававшимися ей в
наследство от Корины и Кукусы, которые она перешивала на
себя. Своей походкой, свежестью и невольной
чувственностью лица она привлекала к себе внимание всякого
рода импортированных донжуанов дурного тона,
встречавшихся им на пути, которые обстреливали ее беглым
огнем комплиментов, подчас невыносимых для шагавшего
рядом с ней Хуана.
— Черт возьми, что за корма!— восторгался какой-то
кучер, лаская взором фавна ее бедра.
— Береги ее хорошенько для меня, малыш! —
говорил цирюльник в галстуке бабочкой и в стоптанных
шлепанцах.
А прощелыга в замусолеппой фуфайке и
экзотических штиблетах мог выскочить из-за стойки и, преградив
путь мулатке, сказать несколько слов, вполне отвечавших
его внешнему виду:
— Ах, моя негритяночка! Клянусь матерью, ты
стоишь золотого луидора!
Нередко Хуана посылали в город и с разными
поручениями, многие из которых оказались для него весьма
поучительными. Доктор отправлял его за деньгами по
счетам, а заодно просил заглянуть к сестре служанки
Мерседес, такой же приятной, как и она. Сестра Мерседес тоже
жила в Серро, на шоссе, в крайних домишках. Иногда
поручения к ней давались «на паях»: от Доминго и от
Робертико. Спустя годы Хуан понял, что эту девицу,
вероятно, изгнали из усадьбы после того, как она послужила
дома, в профилактических целях, утолению необузданной
страсти «мальчиков»,— обычай весьма распространенный
во времена рабства. А придя к такому выводу, уже не
сомневался в том, что Доминго и Робертико по-прежнему
пользовались услугами любовницы, так как это вполне
соответствовало стилю эпохи и несравненно в большей
степени дозволялось тогдашней моралью и религией,
нежели нынешпей, ибо это было выгодно, удобно и
гигиенично. Адольфо нередко посылал Хуана в центр Гаваны по
каким-нибудь своим делам, с тем чтобы мальчик
обязательно заглянул на улицу Ревильяхихедо, где жила в
одной из комнатушек доходного дома некая Хосефа,
худенькая, белокожая, бледнолицая девушка с огромными
серыми, ласковыми глазами. И, наконец, сам дон Роберто
тоже давал Хуану довольно затруднительные и щекотли-
388
вые поручения, поскольку они касались связи дона Ро-
берто с сорокалетней, толстозадой мулаткой, жившей в
домике с порталом по соседству с усадьбой сеньоров Руис-
и-Фонтанильс. У нее была дочь, почти совсем
светленькая, очень похожая на Корину, и сын лицом в дона Адоль-
фо, белизна которого была слегка разбавлена цветом
корицы. Само собой разумеется, что походы Хуана в город
обычно затягивались, ибо он колесил по улицам, чтобы
повидать Хулиана и своих дружков по предместью, а
потом вместе с ними «прошвырнуться», имея при себе
несколько песет, а иногда даже несколько песо, которые он
таскал со сноровкой заправского воришки из ящиков
письменного стола, кошельков pi внутренних карманов
мужских костюмов.
Однако именно эта сноровка и недопустимые в его
годы познания зачастую помогали ему совершать дела и
поступки, достойные похвалы. Уроки, полученные им от
мальчишек бывшего нищенского предместья, и умение
приспосабливаться к окружающей среде нередко
приносили ему пользу.
Как-то вечером Хуан слишком долго читал старым
слугам на задворках книгу «От Яра до Санхона» и очень
поздно отправился спать. И так же поздно, наплясавшись
до одури, явился его компаньон по комнате Чече.
Вероятно, он был слишком возбужден, потому что стал
приставать к Хуану с самыми грязными намерениями.
Сначала он уговаривал мальчика, потом начал угрожать и
даже схватил бритву, которая сверкнула в полумраке
комнаты. Но Хуан стойко, героически защищался. Он
припугнул Чече, что закричит, пойдет спать в каретный
сарай, позовет на помощь дона Роберто, и наконец
одержал победу. Но не засыпал до тех пор, пока не убедился
в том, что эта грубая скотина утихомирилась и
погрузилась в непробудный сон. Наутро Хуан предстал перед
доньей Хуанитой совершенно непорочным.
— Донья Хуанита, ночью я не мог спать, потому что
Чече приставал ко мне, угрожал, даже бритву вытащил...
— Что ты говоришь! — ужаснулась донья Хуанита и
тут же отправилась за советом к Доминго.
Доминго пошел на задворки, увел Чече в каретный
сарай и так пристыдил, что тот мгновенно исчез из
усадьбы, не сказав никому ни слова, не взяв своих пожитков и
не повидав никого, кроме Хуана, которого поклялся убить
как последнего щенка за то, что тот па него пожаловался,
389
и припугнул тем, что является членом самой
могущественной в Серро подпольной секты ньяньиго.
Угроза Чече была не более чем обычная болтовня или
мера предосторожности, а пока что Хуан отметил про
себя свою первую большую победу — победу мальчика,
которому, по-видимому, не придется в будущем, когда он
станет мужчиной, жить среди ангелов.
Обнаружив исчезновение Чече, обитатели усадьбы
снова собрались на маленький семейный совет, после чего
Хуана переселили в комнату Адольфо, по соседству со
столовом.
Однажды ночью в комнате Адольфо и Хуана состоялся
«спиритический сеанс». Это произошло почти на рассвете,
когда сон особенно крепок. Адвокат проснулся от ярких
фосфоресцирующих вспышек, которые, словно сонмище
болидов, прочерчивали темный потолок в комнате.
— Хуан! Хуан! — громко позвал Адольфо.
Спросонок Хуан тоже подумал, что имеет дело с
непокорными духами мертвецов. И в страхе закричал:
— Дон Адольфо, скорее! Ради бога! Зажгите свет!
Это они!
Но тут же сообразил и успокоил адвоката,
испытывавшего смешанное чувство детского ужаса и удовлетворения
ослепленного прозелита, сказав:
— Это мои светлячки!
Так оно и было. Накануне вечером мальчик поймал
трех светлячков и сунул их вместе с кусочками
тростниковых стеблей под перевернутый стакан, слегка
приподняв его край над мраморной подставкой подсвечника.
Пленникам удалось выбраться на волю из этого
импровизированного светильника.
Адвокат зажег лампу. Хуан поймал беглецов и
водворил их под стакан, но на сей раз так, чтобы они уже не
смогли вырваться. Между мужчиной и мальчиком был
заключен молчаливый уговор сохранить в тайне и
«решительно ничего и решительно никому не рассказывать» об этом
невероятном и смешном «спиритическом сеансе»,
который произошел в комнате сироты и сеньора, получившего
ученое звание адвоката в Гаванском университете.
Все эти маленькие происшествия еще больше
сблизили Адольфо и Хуана, который нашел в сеньоре
человеческое, дружеское участие, знал обо всех его тайнах вне
дома и, между прочим, ходил в отдаленные аптеки за
тем самым лекарством, за которым когда-то посылал его
390
дон Роберто на улицу Агиар; кроме того, Хуан
пользовался добрым расположением той самой бледнолицей
девушки с красивыми серыми глазами, которая жила на
улице Ревильяхихедо и всегда дарила ему сладости,
деньги и шелковые носовые платки.
XIII
И вот Хуану исполняется двенадцать лет.
Донья Хуанита, хоть и стремится сохранить между
внуками и сиротой разумную дистанцию, все же
относится к нему с суровой снисходительностью. Дон Роберто
питает к мальчику искреннюю, жалостливую нежность,
но ради приличия и семейного благополучия держится с
ним строго и замкнуто. Лдольфо и Доминго от чистого
сердца покровительствуют ему. Корина проявляет о нем
трогательную заботу старшей сестры и следит за тем,
чтобы ее подопечный ни в чем не нуждался, чтобы ему
вовремя перешивались костюмчики из поношенных троек
Адольфо, чтобы тот же Адольфо и Робертико не
скупились ему на подарки и брали под свою защиту, чтобы
донья Хуанита относилась к Хуану снисходительно, а все
остальные — с сочувствием и милосердием.
Именно в день своего рождения Хуан впервые
разглядел себя в зеркале гостиной. И образ этот, отраженный в
большом зеркале, навсегда запечатлеется в его сознании
и будет одним из самых первых, когда он, уже взрослым
человеком, станет вспоминать себя. В кашемировом
костюмчике, отлично перешитом на него из поношенной
тройки Адольфо, в рубашке с воротничком, в черных
туфлях, с ухоженными ногтями и ушами, аккуратно
подстриженный и причесанный, как мальчик, у которого есть мать.
И хорош собой. Достаточно высок для своих лет, худощав,
бледен, но крепок, мускулист, строен. У него крупные
черты лица креола-простолюдина, но правильность этих
черт и большие печальные, серые, выразительные глаза,
грозящие со временем превратиться в могучее оружие
покорения женских сердец, если и не придают сейчас этому
лицу мужественности и не являются образцом детской
красоты, то в будущем обещают сделать его благородным,
привлекательным, единственным в своем роде.
Хуан уже трудится вовсю, когда хозяйские дети
уходят в школу. С исчезновением Чече,— подходящий слу-
391
чай, чтобы сократить расходы в усадьбе на одно
жалованье и один рот,— работы у Хуана становится больше.
И по количеству, и по сложности. Теперь он не только
чистит целую армию обуви, убирает сухие листья с садовых
дорожек и бегает в город с разными поручениями, колеся
по улицам и заглядывая по пути к безропотным,
недорогим, не доставляющим никаких хлопот «подружкам»
мужчин, живущих в доме, но и вытирает после каждой
трапезы посуду, серебряные приборы, стаканы и рюмки,
подметает патио, задний двор и примыкающие к нему
помещения и, ползая на коленях, надраивает до блеска
мылом, щетками и губкой кафельные полы в комнатах,
гостиной п столовой. Впрочем, у Хуана остается достаточно
времени и на чтение, которое его все больше
захватывает, и на учение, когда подворачивается такая
возможность. Он изучает деятельность сепаратистов по книгам,
брошюрам и старым пожелтевшим газетным вырезкам —
всем этим его снабжает дон Роберто. Рассматривает в
микроскоп, не уставая поражаться, те бесконечно малые
диковины, над которыми экспериментирует Доминго.
Украдкой знакомится с сексологией по заманчивым
гравюрам, которые он обнаружил в одном из томов среди книг
па полках у того же Доминго. Упражняется в
преподанной ему когда-то замызганным доном Адрианом
арифметике, помогая донье Хуаните подсчитывать расходы на
продукты и прачку. Читает, забившись куда-нибудь в
угол комнат или сада, подальше от глаз Адольфо, тайком
взятые у него бульварные романы.
Украдкой подглядывает женские прелести под
пышной юбкой своей покровительницы Корины, пока держит
стремянку, на которой та стоит, промывая мыльной
водой люстру в зале. И, уж конечно, у него находится время
поиграть с мальчиками в волчки, мяч или бумажного
змея в саду или на асотее, когда те возвращаются из
школы! Когда мальчики в школе, а девочки дома, он играет с
Нэной и Кукой в комнате фамильных реликвий или в
пустых помещениях верхнего этажа — в куклы, в «поварят»
и прочие игры, пожалуй, слишком фривольные для него
и для Нэны.
Чересчур уж фривольные.
Нэне одиннадцать лет. Взгляд ее становится все более
пристальным, пастойчивым и блестящим. Вырез платья
более приподнятым от наливающихся упругих бутонов ее
грудей. Две косы, на которые разделены густые, черные,
392
блестящие волосы, падают до пояса. Бедра обещают в
скором времени достичь девичьей зрелости. Ей уже
удлинили платьице на четыре пальца ниже колен; округлые
ноги плотно облегают дамские чулки целомудренной
белизны.
— Пойдём наверх смотреть картинки? — спрашивает
Нэна Хуана, заканчивающего вытирать посуду после
обеда, когда поблизости никого нет.
— Пойдем, только ты поднимись по лестнице из
столовой, а я — с заднего двора.
Стоит середина сентября. У мальчиков в школе
занятия уже начались, а у девочек еще нет. В комнатах
наверху пусто. Снизу доносится звон кастрюль, которые
моет китаец, чириканье воробьев, гоняющихся друг за
другом в саду под раскаленной на солнце листвой деревьев,
стук копыт лошадей, отгоняющих от себя смертельно
назойливую летнюю мошкару. Корина и Кукуса вышивают
па пяльцах, сидя в плетеных креслах-качалках лицом к
обманчивой прохладе сквозняка в дверях столовой. Рядом
в качалке дремлет Лаура. Донья Хуанита лениво
перебирает клубочки чулок и носков в корзинке для штопки,
которую держит на коленях. Клюет носом ее седовласая
почтенная сестра, откинувшись в старинном, удобном
креольском кресле красного дерева, обитом кожей.
Бывшие рабы спят по своим углам в доме. Доминго у себя
в кабинете колдует над стеклянными колбами, ватой и
спиртовками. Остальные мужчины проводят где-то в
городе эти тяжкие часы сентябрьского полдня.
Нэна, за которой по пятам следует Кука, прибегает
наверх, едва переводя дух, раскрасневшаяся от
полуденного зноя и быстрого подъема по лестнице. Хуан уже там.
Он достал с книжной полки сброшюрованную подшивку
«Испания и Америка в иллюстрациях» и с нею в руках
направляется к короткой софе, которая среди адвокатской
мебели Адольфо числится центральной.
— Ох! Ну и жарища! — восклицает она, подходя к
Хуану.— Посмотри, как бьется сердце! — И, взяв его правую
руку, подносит к своей груди.
— Пойдемте! — говорит Кука.— Вечно ты корчишь из
себя взрослую! У меня ничего не бьется!
Они тут же усаживаются на софу. Хуан раскрывает
том, раскладывая его у всех троих на коленях, тесно
прижатых друг к другу. Он сидит посредине.
Несмотря на жару, Нэна плотно прижимается своим
393
полным бедром к костлявому Хуану и кладет руку на
колени мальчика. II в сотый раз они начинают втроем
читать и просматривать страницы иллюстрированного
журнала с описанием путешествий, приключений и новых
открытий.
Куку по-детски интересуют обычаи дикарей,
путешествия по верховью Амазонки, экспедиции на санях,
обреченные на замерзание и гибель, какое-нибудь дьявольское
восхождение альпинистов или охота на диких зверей в
тропической сельве. У Нэны горячий интерес вызывают
пояснения, которыми сирота сопровождает отдельные
гравюры и пассажи, давно уже выученные им почти наизусть:
о скудости одежды готтентотов, об удивительных
супружеских нравах племени зулусов, о судьбе маленьких
изнеженных английских принцесс, похищенных и увезенных
в Турцию, о странных домашних и профессиональных
занятиях гейт в Токио. Наконец Куке все это надоедает,
и она уходит в поисках мальчишеских забав. Она будит
негритянку, прислуживающую обитателям верхнего
этажа, и вовлекает ее в одну из своих шумных игр с
беготней и прыжками; или, вооружась ружьями,
патронташами, сетями и прочим охотничьим снаряжением отца,
изображает охоту па зверей, бегая по асотее под ярким
солнцем; или же принимается кричать сверху в патио:
— Гойо! Взгляни, что там за дымище валит из
крайней комнаты! Мерседес! Если ты не прогонишь
воробышков с солнца, они станут плешивыми!
Тем временем Нэна с довольной, сдержанной улыбкой
показывает Хуану на обвислые мешочки грудей почти
совсем нагой дикарки, или заливается краской стыда при
виде рекламы, набранной крупным типографским
шрифтом, превозносящей заслуги какого-нибудь
недвусмысленного возбуждающего средства, или после бесконечно
долгого шебуршания рукой под книгой на коленях мальчика
спокойно кладет ее на желанное место.
Бывший уличный мальчишка не противится столь
простодушным действиям девочки, как и все дети в этом
возрасте, поощряя их скорее из склонности к дурному,
нежели испытывая настоящую физиологическую
потребность. Их тяга, вернее вкус к такого рода вещам, очень
похожа на стремление выкурить первую в своей жизни
сигарету, выпить первую рюмку вина или завести первый
школьный роман. Однако он уже в том возрасте, когда
близится пора зрелости, и поэтому в нем пробуждается
304
чувство мужского достоинства и возмущения столь
дерзкими действиями девчонки. Отбросив книгу на другой
край софы, он решительно протестует:
— Слушай! Перестань сейчас же! Не смей больше!
— Что перестать? — спрашивает она и встает е софы,
неторопливо переводя взгляд с книги на сверкающие
негодованием глаза мальчика. И тут же становится
серьезной и высокомерной, готовая отбить любую атаку: — Ты о
чем?
•— Сама знаешь о чем.
— Не понимаю, Хуан, о чем ты говоришь! А может
быть, хочешь, чтобы тебя спросили об зтом внизу?
— Меня-то чего спрашивать? — тут же пасует он
перед девочкой, пытаясь уловить, к чему она клонит.— Что
я тебе сделал? Я только играл с тобой, дура!
— Ах, вот как! В таком случае я больше не желаю с
тобой играть! Ты гадкий, противный мальчишка! Бес-
.стыдник!
— Но почему? — тут же встает на свою защиту Хуан.
— Потому что ты должен знать свое место и не
забывать, что мы с тобой не ровня. Нахал! Нахлебник!
И, испепеляя его взглядом, она, воспитанная в духе
времени, поворачивается к нему спиной, полная
презрения и негодования, и идет к лестнице, ведущей в
столовую, вызывающе покачивая бедрами и заставляя
подрагивать полные, упругие ноги, обтянутые чулками
целомудренной белизны.
Они не встречаются и не разговаривают два дня.
У Нэны вид хмурый, у Хуана — серьезный. Па самом
же деле их терзают страх и раскаяние. Она
удовлетворила свое любопытство, проделав первый опыт на
единственном мальчике, имевшемся в ее распоряжении, и теперь
испытывает смятение и беспокойство, хотя отлично
понимает, что ей ничего не грозит, поскольку Хуан будет
хранить тайну из опасения быть разоблаченным. Он рисует в
своем воображении самые ужасные кары, которые могут
на него обрушиться, если только раскроется, что таят в
себе на самом деле иллюстрации журнала. Прежде всего
он попадет в цепкие руки доньр! Хуаниты — старой
святоши, которая приводит его в трепет всякий раз, когда
подзывает надменным жестом разгневанной надсмотрщицы.
Затем его ждет длинный хлыст или ремень с пряжками в
чулане на задворках. А может быть, за него возьмется
отец Нэны, чтобы по-мужски разделаться с этим уличным
395
^ пинками спустит с лестницы, как щенка, и
потребует, чтобы его немедленно вышвырнули вон из дома
вместе с сундуком или отправили в ближайший
полицейский участок, втиснув с крепко связанными руками в
экипаж. О! Только бы ему все сошло! Он больше никогда но
сделает ничего подобного. «Клянусь памятью моей
мамы!»
Но все это детские страхи и наивные клятвы. Жизнь
берет свое. По мере того как вероятность быть
разоблаченной становится все меньше, Нэной вновь овладевает
любопытство, разожженное последним удачным опытог.1.
Да и Хуану, более податливому, опасность не кажется
такой уж страшной, когда он видит горящие глаза Нэны, ее
влажные, пухлые губы и оранжевые чулки, задирающие
кружева юбки, которая открывает взору мальчика
упругие, полные ноги пышущей здоровьем девочки, бегущей
перед ним вверх по лестнице.
Потому что они уже снова играют вдвоем или втроем,
с Кукой. Играя, они бегают, падают, устраивают кучу-
малу, сталкиваются в дверях, прижимаются друг к другу
в тесных проходах. Все просто, естественно, по-детски,
как и положено воспитанной святошами девочке, которая
каждое воскресенье ходит к утренней мессе. Как это и
предполагают себе ангельские души обитательниц
усадьбы.
Дети играют в саду на глазах старого садовника До-
нато в «поварят». Или в комнате фамильных реликвий —
в куклы, нередко подменяемой опасной игрой в
«супругов». Хуан и Нэна стараются все устроить так, чтобы в
обязанности Куки входило исполнять разные поручения,
и отсылают ее в самые отдаленные уголки дома,
погруженного в сьесту, пустынного без крикливых голосов
мальчишек, сникшего под градом раскаленных лучей
тропического солнца.
Часто к ним присоединяется негритяночка Кандела-
рия — служанка верхнего этажа. Если она отказывается
ходить с Кукой «за покупками», быть «кухаркой» или
«служанкой» в игре, как и в жизни, им остается только
играть в прятки, с беготней, скрытыми прикосновениями,
толкотней.
И вот как-то раз они играли в супругов. Дверь,
соединяющая комнату фамильных реликвий с комнатой Адоль-
фо и Хуана, открыта. Таким образом, их «домик» состоит
из гостиной и спальни. Он полузакрыт и погружен в по-
396
лумрак. «Супруги» спят на одеяле, расстелепном под
кроватью адвоката. Кука ушла в «лавку», которой служит
кухня, а Канделария — «па рынок», то есть в сад. Когда
они вернутся «с покупками» (листьями, семенами,
пучками душистой травы), они не должны входить в «спальню»,
чтобы не разбудить «супругов». План подсказан им
самим дьяволом. На сей раз в своем греховном
воображении они заходят слишком далеко, переступая все границы
дозволенного. Канделария вдвойне порочна — и по своей
природе, и по роду своего занятия, и к тому же она п
том возрасте, когда груди и бедра уроженок Африки
приобретают округлые девичьи формы. Она возвращается
«с покупками» раньше Куки, на цыпочках подходит к
комнате и, затаив дыхание, жадно вслушивается, пытаясь
уловить доносящиеся из-под кровати звуки.
— Неправда! — тихо возражает Нэна, но в ее
несогласии таится скорее скрытое желание, чтобы ее
просветили.— Супруги так не делают.
И вслед за этой красноречивой и вполне определенной
фразой до Канделарии доносятся другие, короткие,
обрывистые, которыми обмениваются по секрету Нэна и Хуан.
— Ну, нет! Детей привозят из Парижа! И тебя
привезли, правда?.. Конечно!.. Пусти!.. Это чтобы обмануть
тебя!.. Ну, да!.. Ну, нет! Я ухожу! Я не играю больше!
И, отталкивая от себя воспламененного мальчика, Нэна
вырывается:
— Отпусти меня! Я не хочу больше играть!
Наконец она вскакивает, растрепанная, потная, в
помятом платьице, и видит белеющие в полумраке комнаты
зубы и глаза смеющейся Канделарии.
— Чего это вы там делали под кроватью? —
удивленно и вместе с тем настороженно спрашивает негритяночка.
— Ничего,— быстро отвечает Нэна, приглаживая
всклокоченные волосы и помятое платье.— Играли. Но
все мальчишки такие несносные...
— А зачем ты позволяешь...— говорит осмелевшая
Канделария, чувствуя, что имеет на это право.
— Что позволяю?
— Да? Что? — присоединяется к Нэне Хуан,
выставляя кулаки в воинственной позе.
— Ха! Думаете, я вас испугалась? Лучше не лезьте, а
то я пойду вниз и все расскажу.
— Но мы ведь ничего не делали,— говорит Нэна.
— Конечно, ничего. Мы играли,—- подтверждает Хуан.
397
— Играли с огнем,— дерзко отвечает им Кандеяа-
рия.— Рукам волю давали...
Нэпа широко округляет губы, восклицая: «О!» —и
отступает к соседней комнате.
Хуан разжимает кулаки и, сраженный, просит:
— Слушай, Канде, не вздумай этого делать. Иначе
нам всем влетит.
— Ладно! Ладно! То-то же. Но только знайте... Со
мной шутки плохи!
В эту минуту возвращается Кука «с покупками». Она
хочет знать, что произошло. Все горячо уверяют ее, что
ничего не случилось. Кука не верит и поднимает крик.
Тем более что Нэна безо всяких объяснений, очень
серьезная, взволнованная и красная, отказывается дальше
играть, а Хуан прикладывает палец к губам и, глядя
умоляющими глазами на Канделарию, призывает ее к
молчанию. Крики и шум выводят донью Хуаниту из
терпения, и она грозно, протяжно шикает на них из своей
комнаты.
Дети стихают только на мгновение. Тогда донья Хуа-
нита направляется к ним через патио, придерживая
цепкими пальцами длинную мятую юбку; ее хмурое,
никогда не улыбающееся лицо не предвещает ничего
хорошего.
— Что тут происходит? Ну! — грозно, словно
разгневанная игуменья, спрашивает она.— Перестали играть?
Подумаешь! Вы не даете мне спокойно переварить
пищу! — И, столкнувшись с детьми, которые выскакивают
навстречу урагану, восклицает: — Так и есть! Опять все
вперемежку! И белые, и черные! Сколько вам твердить
одно и то же! Я уже сыта по горло такой кашей! Не
смейте больше играть девочки с мальчиками!
Она набрасывается на Канделарию и велит ей пойти
посмотреть, что еще надо сделать наверху. А затем
пытается схватить Хуана за руку, чтобы ущипнуть.
— От меня не убежишь! Боишься, бессовестный! Ты
подмел сад? До каких пор тебе повторять, чтобы ты
вымыл свою вонючую голову?
Хуану все же удается ускользнуть от нее. Он пятится
в сторону, словно рак, низко опустив голову. И уходит,
думая, что если от кого и воняет, так это от «старой
карги», коюрая с каждым днем все сильнее ненавидит его
и все более злобно бранит.
Хуан и Канделария скрываются в глубине дома, а
393
донья Хуанита возвращается к себе в комнату, ведя пе-
,ред собой внучек: Нэну в столовую — помогать Корине ш
Кукусе щипать корпию для сиротского приюта, а
озорную Куку — учить историю или вышивать.
Лаура ни во что не вмешивается. Она сидит в
столовой, удобно развалясь в кресле-качалке, и читает Монте-
иена, горя единственным желанием — узнать, оживет ли в
конце концов герцогиня.
Для слуг на задворках это всего-навсего еще один
гвалт.
— Что там за перепалка? — спрашивает равнодушно
Гойо.
А Мерседес равнодушно отвечает ему коротко и ясно:
— Как что? Донья Хуанита. Какая-нибудь ерунда.
Канделария хранит тайну бережно, с
удовлетворением, словно ценное, всегда имеющееся под рукой оружие,
которое в любую минуту можно пустить в ход.
Следующий день воскресный. Лаура, Корина, Кукуса
и Канделария отправляются к девятичасовой мессе. Донья
Хуанита, обе ее внучки и Хуан — к одшшадцатичасовой.
На широком заднем сиденье размещается сеньора с
девочками, напротив них садится Хуан, касаясь коленями
ног Нэны. Но как он ни старается плотнее прижаться к
ипм при каждом толчке на ухабах, как ни ищет без
конца глазами ее взгляда, девочка прикидывается
равнодушной, непонимающей. Напрасны все его попытки
проникнуть в мысли Нэпы. Сквозь сумерки церкви, заполненной
прихожанами, роскошью, запахом ладана, песнопением,
ни один взор не устремляется на поникшего мальчика,
который жадно вглядывается в девочку, сидя па скамейке,,
предназначенной для простолюдинов. На обратном пути
Нэпа нарочно садится так, чтобы Хуан оказался напротив
Куки. И днем среди детей, предающихся воскресному
отдыху, и когда все собираются в саду вокруг шербетницы с
кремом из ананаса, и среди слуг, торопливо снующих по
усадьбе, чтобы поскорее покончить с делами и по-празд-
иичному одеться, Хуану не удается перекинуться с Нэ-
ной ни единым словом, которое утешило бы его, а может,
и дало бы надежду на новые сладостные уединения с
пей и, несмотря ни на что, принесли бы ему столько же
наслаждения, сколько принесли в последний раз.
Ибо в душе Хуана прорастают робкие, смутные ростки
первого чувства — предвестника любви. Но он очень рано
соприкоснулся с жизнью, слишком много знает о ней,
399
чтобы столь сильное чувство прорастало в нем без
определенных желаний. Возможно, желаний в какой-то мере
рассудочных, имеющих конкретную цель, но они всецело
завладевают им, повергают в смятение и влекут к новым
пленительным, волнующим любовным преамбулам.
К концу солнечного, радужного дня девочки вместе
со своей матерью, Кориной и Кукусой едут в экипаже на
прогулку по бульвару Прадо и парку «Индия».
В понедельник утром обитатели верхнего этажа
спозаранку снуют по дому, но Нэпа и Кука спускаются вниз
только тогда, когда приходит пора садиться в экипаж,
который ждет их у входа в усадьбу, чтобы в
сопровождении Канделарии отправиться в школу, прихватив с собой
пяльцы для вышивания, а также изданные в Бильбао
«Священную историю» и «Историю Испании».
Проходят дни, недели, месяц, другой. В Хуане
по-прежнему растет пламенное, всепоглощающее, раболепное
чувство к Нэне. Он неотступно преследует ее взглядом,
ревниво ходит за ней по пятам, находя для этого сотни
разных предлогов, принимает участие во всех играх, в
которые играет она, стремясь предугадать каждое ее
желание, выполнить любую ее прихоть, всегда прийти на
помощь, ублажить ее и склонить к уединению.
Но Нэпа остается равнодушна, непонятлива,
бездейственна,— как в день своего раскаяния. Ею не движет
никакое тайное желание. Она не испытывает сейчас
никаких чувств, которые побудили бы ее обратить внимание
на поверженного мальчика, говорить с ним, бывать в его
обществе. Более того, ею владеют и побуждают к
каменному презрению страх и скрытая досада на то, что она
снизошла до «приемыша» в своих безрассудных и опасных
действиях.
XIV
Неожиданно, но не сразу, у Нэны возвращается
привязанность к Хуану. И по мере того, как эта привязанность
растет, в душе мальчика нежным бутоном распускается
любовь; его полувозмужалое тельце трепещет от
обновленной близости этой пленительной, пышущей здоровьехМ
девочки-женщины, от прикосновения ее упругого,
смуглого тела, от звука ее бархатистого, полного девичьего
очарования голоса, от взгляда ее больших ласковых глаз,
400
выражающих наивное сострадание. Но усилия, которые
предпринимает Хуан, стремясь скрыть свои мысли и
чувства, чтобы не отпугнуть Нэпу слишком поспешным и
резким возвратом к их прошлым тайным влечениям, совсем
не похожи на усилия влюбленного мальчика,
охваченного плотским любопытством. Этот знаток жизни в
коротеньких штанишках действует теперь, как самый
искушенный в любви тридцатипятилетний мужчина. Вначале
он млеет от немого восторга, проявляет робкую
галантность, ищет повода для частых встреч, ревнует по
пустякам. Затем к нему снова возвращается, но уже более
осторожная и осмотрительная, детская беззаботность, таящая
в себе постоянное стремление прикоснуться к телу
девочки, найти любой повод, чтобы погладить дрожащими
пальцами ее густые, черные волосы или дотронуться до
тонкой ткани коротенькой юбочки, облегающей округлые
девичьи бедра. Такое побуждение возникает в нем всякий
раз, когда будничные домашние заботы остальных
обитателей усадьбы или их беспечность позволяют им
уединиться. Чаще всего такая возможность представляется в
те дни, когда Кука идет в школу одна, потому что у Нэны
уже бывают мигрени, темные круги иод глазами,
сопливость и недомогание. Обычно в таких случаях они
встречаются в полдень, когда мальчики еще в школе, а
мужчины заняты своими видимыми или невидимыми делами.
Хуан показывает девочке одну за другой книги Поть
де Кока с иллюстрациями, наводящими на
определенные мысли. Он достает эти тома с полок во время их
тайных свиданий. Настолько непродолжительных и
рискованных, что Нэпа едва успевает перелистать страницы
книги, прижимая ее к своей груди, а Хуан стоит за спи-
пой, прижимаясь к ней. Если выпадает удобная минута,
Нэна забирает книгу с собой, чтобы почитать наедине.
Она успевает прочесть довольно много, украдкой,
испытывая наслаждение оттого, что проникает в запретную
тайну. Иногда, правда, очень редко, она обсуждает
прочитанное с Хуаном, зато часто делает карандашом
опрометчивые пометки на полях книги в тех местах, которые
ей кажутся наиболее значительными и волнующими.
Вскоре Хуан решается предложить ей и кое-что
поострее.
— Хочешь, я дам тебе посмотреть книги с очень
хорошими рисунками?
— Какую-нибудь гадость?
26 К. Ловейра 401
— Почему же. Это книги дона Доминго.
— Нет, таких не надо.
Отказ девочки кажется Хуану неискренним. Более
того, в ее нерешительности мальчик угадывает скрытое
желание принять предложение. И уже уверенней
говорит:
— Вот глупая. В этих книгах показано, какие мы в
утробе. Как рождаются и всякое такое. Я буду приносить
тебе по одной так же, как из кабинета дона Адольфо.
И прятать па полку за другими книгами. Принести
сегодня?
— Ладно. Но только одну.
И они тут же решают, что он будет приносить ей для
чтения одну за другой книги по эмбриологии, сексологии
и им подобные, которые сообразительный уличный
мальчишка давно уже обнаружил в кабинете Доминго. Обычно
Нэна устраивается на софе в комнате Адольфо, пряча
запретную книгу между спасительными большими
страницами иллюстрированного журнала. И жадно
рассматривает впечатляющие анатомические гравюры, упиваясь
слишком пространными для нее медицинскими
пояснениями. Она и читает, и рассматривает картинки, щеки ее
полыхают багряным румянцем, сама вся дрожит, сердце
готово выпрыгнуть из груди. Тем временем внизу
обитатели усадьбы, ничего не подозревая, предаются своим
привычкам, страстям, комфорту. Сидя во главе стола, дон
Роберто громко разглагольствует о древней креольской
геральдике своего рода и его аристократических связях.
На примыкающих к усадьбе улицах мальчишки
будоражат своими криками залитый солнцем день, играя в одну
из ожесточенных и демократических игр — в бейсбол.
А донья Хуанита в печальные сумеречные часы, стоя
перед алтарем в часовне, возглавляет молитвенный хор
обитательниц дома, среди которых нет Нэны, потому что
ей по-прежнему нездоровится, а вольтерианец Доминго
рекомендует ей немного развеяться и отдохнуть...
XV
Как-то воскресным утром Хуан и Нэна остаются в
усадьбе, можно сказать, одни. Из близких Нэны нет
никого, кроме дряхлой, немощной доньи Кандиты.
Мерседес сопровождает сеньор и сеньорит к одиннадцатичасо-
402
вой мессе. Доминго отправляется на утреннее заседание
Экономического общества друзей страны. Адольфо и Ро-
бертико дефилируют по улице Обиспо вперемежку с
испанскими офицерами, которые отпускают комплименты
гаванкам, группками выходящим из церквей после
каждой очередной мессы. Дон Роберто с ретивостью
повстанца выделывает вольты вверх-вниз по Прадо на коне в
великолепной креольской упряжи. Слуги,— мужчины
внизу, а Канделария наверху,— как обычно по воскресеньям,
прибирают, моют, чистят, подметают, выбивают пыль,
появляясь то тут, то там, занятые своими мыслями и делами.
Хуан тоже остался дома, чтобы присматривать за входом
в зал и за воротами в каретный сарай, чтобы бегать с
разными поручениями па улицу или в самые отдаленные
уголки обширной усадьбы. И чтобы каждые десять минут
встречаться с Нэной наверху или в полутемной комнате,
смежной с кабинетом Адольфо.
Донья Кандита и Нэна составляют друг другу
компанию. На донью Кандиту возложена крайне деликатная
миссия: умело и очень осторожно поговорить с девочкой
о наступлении в ее организме переломного периода,
предвестником которого явились испытанные Нэной накануне
днем боли чуть выше ее округлых, смуглых бедер,
которые словно магнитом притягивают взор сироты. Но
именно этим обстоятельством пользуется девочка, чтобы в
любую минуту отлучиться от доньн Каидиты под предлогом,
что ей надо пойти в самую отдаленную часть дома.
Одна из встреч Хуана с Нэной происходит в той самой
комнате, которая сообщается с кабинетом Адольфо. Утр^
как обычно после дождливой ночи, наступило холодное,
сырое, облачное, хмурое. Дверь и окно, выходящие в
патио, полузакрыты, а верхняя форточка настежь
распахнута в сад. Ветви индийского жасмина заслоняют своей
неподвижной зеленью проем, отчего комната погружена
в печальный полумрак. Девочка пришла сюда из самой
отдаленной комнаты усадьбы, мальчик — из зала. Они
пришли сюда, не сговариваясь, словно два
железнодорожных поезда, идущих навстречу друг другу с такой
пунктуальностью, что столкновение их неизбежно. Как
обычно в таких случаях, оба говорят о разных пустяках,
болтают о всякой всячине, испытывая в душе наслаждение
оттого, что они рядом, наедине. Нэна ио-женски
упивается тем, что ее красота вызывает у мальчика проявление
такого неуемного восхищения, которое делает очевидпым
403
его пылкую любовь. Радость Хуапа искренняя и
целомудренная. Но, несмотря на волнение и восторженное
смятение души, он интуитивно угадывает, что настает
желанный миг объяснения. Давно уже он лелеет упоительную,
прекрасную детскую мечту, которую решается
осуществить именно теперь, пользуясь подходящим моментом —
полупустой усадьбой, сумеречной, печальной атмосферой
этой комнаты, участием, которое слышится в голосе
девочки, ее затуманенными слезой глазами, сегодня
особенно большими от темных кругов. Как бы угадывая, что
самым уязвимым местом женщины является
сострадание, Хуан, стремясь еще сильнее разжалобить девочку,
исполненный решимости, бросает на нее властный взгляд
и с волнением говорит, впутывая с присупщм всем
влюбленным эгоизмом даже свою покойную мать:
— Помнишь тот день, когда вы отвезли меня в
больницу к маме?
Нэпа утвердительно кивает.
— Сегодня ровно год, как она умерла, верно?
— А ты что же, не знаешь, в какой день это было?
Ты хоть вспоминаешь ее?
— Да вот сейчас, разве я не вспомнил ее! Теперь я
остался один.
— Но ведь не один-одинешеиек? Ты сам говорил мне,
что у тебя есть дяди! Ты о них что-нибудь знаешь?
— Что ты! Я их никогда и не видел. Они в Галисии,
за тридевять земель. И очень бедны! Меня теперь
некому любить.
— Как это некому! А мы?
— Ты? Ты меня любишь?
И в этот бесконечно счастливый, трогательный для
Хуана миг взгляд его неотразимых сейчас глаз, печальных
и нежных, становится еще проникновеннее.
У Нэны па глаза навертываются слезы, и она
говорит:
— Конечно! Я тоже.
— Любишь больше других? И жалеешь больше, да?
— Очень жалею, именно поэтому и еще потому, что
ты живешь вместе с нами, люблю. Но... Сейчас нам пора
отсюда уходить. Иначе нас застанут здесь вдвоем.— И она
порывается прервать сцену, которая невольно ее
смущает.
— Постой! — останавливает он ее, желая продлить
прекрасный миг, и с его дрожащих губ срываются слова,
404
которые он так долго вынашивал: — Не уходи. Подожди
минутку. Давай будем с тобой женихом и невестой?
— Как это? Ты и я — жених и невеста! Зачем?
— Просто так.
— Ты с ума сошел? Разве ты и я можем быть
женихом и невестой?
— А что тут такого.
— Но зачем?
— Это приятно. Все будет, как теперь. Мы будем по-
прежнему встречаться, разговаривать, когда удастся,
будем писать друг другу...
Нэна колеблется. Жалость к нему побеждает. Он
настаивает с упорством влюбленного:
— Ну, Нэна! Ладно? Давай!
— Нет, нет! Если irro-нибудь узнает...
— Что ты?! Что ты?! Кто узнает? Мы будем очень
осторожны. Ну?
Она снова колеблется, позволяя себя уговорить. К
чувству жалости примешивается желание провести еще один
запретный опыт.
— Ну согласись, Нэна! Хорошо?
— Но только не переписываться. Так нас могут
поймать, и тогда... Тебя вышвырнут на улицу, а меня убьют.
— Да что ты! Что ты! Самые малюсенькие записочки.
Коротепькие-прекоротенькие.
— Ну хорошо, хорошо. А теперь идем отсюда.
— Так ты согласна? Да? Теперь мы жених и
невеста?
— Да, да. Согласна. Пойдем отсюда скорее. Я в
столовую, а ты — в глубь дома. Я пойду первая.
XVI
Запретная «помолвка» между Нэной и Хуаном
счастливо развивается, осторожно и незаметно петляя среди
двух десятков человеческих душ, будоражащих покой
огромного дома. Остальные дети шумно резвятся в саду и
на примыкающих к усадьбе улицах или на соседних
пустырях, разгуливают по асотее, держа за спиной
полузакрытый учебник, воздев очи к небу и шевеля губами,
занятые абсурдной зубрежкой. Лаура читает объемистые
романы, бредит о роскоши, с каждым днем все менее
достижимой, или вспоминает о своих давно забытых дво-
405
рянских грамотах — то ли астурийских, то ли галисийских.
Доминго выращивает и истребляет микробов. Адольфо и
Робертико критикуют испанскую Гавану или же
подпольным образом содействуют улучшению расы. Корина и
Кукуса по-прежнему являют собой лучшие образцы
сеньорит своей эпохи и своей среды: вышивают, молятся,
бренчат на рояле и посещают невинные вечеринки в усадьбе
тетушки, расположенной в Ведадо. Донья Каидита
доживает остаток своих дней в кресле-качалке, в кровати с
металлической сеткой, на мягком пружинистом сиденье
экипажа, уповая на молочную диету. Донья Хуанита, как
обычно, ездит к мессе, посещает богоугодные заведения,
раздает милостыню беднякам па улице, а дома, если не
разносит кого-нибудь, то гоняет вверх-вниз вспотевших и
неутомимых слуг, на которых господь бог взвалил самую
прозаическую и тяжкую работу. Только Фернандо иногда
с удивлением вдруг замечает восторженный взгляд
Хуана, устремленный на округлые колени Нэны, или видит,
как они торопливо встречаются в каком-нибудь тесном
уголке, пожалуй, слишком случайно и слишком уж
близко. И тогда он, уже имея ясное представление о
человеческом достоинстве, считает своим долгом сделать сестре
замечание:
— Нэпа, прикрой немного ноги, ты ведь не балерина.
Или:
— Слушай! Пора бы тебе остепениться, не маленькая,
Хуан взрослый парень, приемыш... не пристало тебе
играть и бегать с ним.
Время проходит. Нэпа по-прежнему так же активно,
как и Хуан, обменивается с ним записочками, цветочками,
трогательными открытками и проникновенными, словно
на картинах Мурильо, взглядами. Они снова
возвращаются к своим «невинным», нечаянным прикосновениям друг
к другу. И все же поступками девочки руководит лишь
холодное любопытство, рассудочное стремление
насладиться запретным, греховным плодом.
Хуан же, напротив, витает в облаках от счастья,
откуда его едва-едва спускают на землю, к реальной
проклятой богом жизни оскорбительное высокомерие
хозяйских внуков, которые в играх и в самых обыденных спорах
с ним вдруг могут напомнить ему о том, что он существо
низшее, а также пощечины и щипки благочестивой
доньи Хуаниты, которыми она награждает его всякий раз,
когда застает без дела, погруженным в сладкие грезы. Его
406
не развлекают и не манят больше былые увлечения: пи
рассуждения и чаяния повстанца дона Роберто, которого
в усадьбе всегда слушал с интересом только Доминго,
почитающий родину и превозносящий ее героических сынов
не меньше отца; ни пожелтевшие, источенные молью
бумаги сепаратистов, к которым старик нередко допускал
молодежь, ни свидания и беготня с дружком Хулианом,
к которому он сворачивал всякий раз, когда с поручением
посылал его дон Роберто в «другой дом» или же
«мальчики» отправляли по своим делам, с тем чтобы он по
дороге заглянул к сестре служанки Мерседес или к тезке
Хосефы Вальдес — высокой, бледнолицей девушке с
красивыми глазами, живущей на кривой улочке Ревильяхи-
хедо. И надо сказать, к счастью. Иначе пробудившееся в
Хуане первое чувство, заставляющее бурлить кровь в его
жилах, и галереи женских образов, населяющих его сны,
неминуемо привели бы подростка вместе со старым
приятелем по уличным скитаниям к изнуряющему
рукоблудию или к грубому, порочному распутству разноликой
человеческой свалки кварталов Фофос, Бомба и Эхидо.
Теперь же, прикованный к своему ослепительному идолу,
мальчик пятнает свою чистоту лишь одним тяжким
грехом: неодолимым влечением к целомудренному телу Нэны,
которое ему позволяют видеть изящные декольтированные
платьица девочки, отделанные белоснежными кружевами,
а также невольно вызванное этим влечением постоянное
желание подглядеть и другие молодые женские тела,
скрытые от его взора. Одержимый этим неистовым
желанием, Хуан ищет любой повод, чтобы устремить дерзкий,
жадный взор на мускулистые икры Куки, на красивые,
кубинской белизны ноги Корины и Кукусы, на
аристократические плечи Лауры, на высокие девичьи груди
мулатки Мерседес, на широкие бедра негритянки Капдела-
рии. Однажды он получил от этой скороспелой
негритяночки по рукам за то, что, встретив ее вечером на
винтовой лестнице, неожиданно попытался обнять за талию
и прижать к себе. В другой раз у него вырвались
непристойные слова, сказанные им Мерседес по поводу ее
затянутой в корсет фигуры, когда он хотел погладить ее. А как-
то вечером Робертико с удивлением обнаружил его на
темной галерее верхнего этажа перед застекленной дверью,
за которой полунагая Лаура любовалась в зеркало своим
еще не увядшим телом. А еще раз днем, делая вид, что
убирает висящую на солнце клетку с канарейкой, он за-
407
глянул в верхнюю фортку большой освещенной ванной
комнаты в ту минуту, когда Корина после купания
накидывала на свое прекрасное девичье тело сорочку
безупречной белизны. Но все эти горячие порывы остаются
безнаказанными либо из-за неуверенности в том, что грех
так уж велик, как это считает Робертико, либо из страха,
как это происходит с Мерседес, которая опасается, как бы
ее не обвинили в том, что она сама толкает мальчика на
грех, либо потому, что поступок его проходит
незамеченным, как это случилось с Кориной.
Нэна уничтожает все улики своего преступления. Он
клянется, что поступает так же, а на самом деле прячет
в сундук, в тайник, который открыла ему перед смертью
мать, все, что дарит ему девочка: цветы, открытки,
картинки и записочки. К своим тайным и священным
сокровищам он присоединяет два тома Поль де Кока с ее
пометками и фотографию Нэны, запечатленной в белой
вуали во время конфирмации; на фотографии написанное
ее рукой посвящение: «Моему Хуану».
XVII
Как-то утром «жених и невеста» снова встречаются в
комнате фамильных реликвий. Ровно двадцать восемь дней
назад именно в этой комнате, когда у Нэны было такое
же сентиментальное настроение, между ними начался этот
невинный роман. Сегодня, как и тогда, все способствует
их свиданию. И воскресное утро, и день рождения доньи
Хуаниты. Благочестивая сеньора и прочие обитательницы
усадьбы отправились в двух экипажах к последней мессе
в церковь на улице Мерсед. Дома остались только донья
Каидита, Нэна и Канделария. Канделария в комнатах
второго этажа, а слуги внизу трудятся в поте лица, чтобы
поскорее покончить с тяжкими домашними обязанностями
воскресного утра. Донья Кандита, как и двадцать восемь
дней назад, заботливо опекает Нэпу. Но на этот раз
темные круги под глазами девочки еще чернее, взгляд
нежнее и ярче, что вполне соответствует ее южному
темпераменту и пылкой натуре; а месса для богатых сеньоров в
церкви на улице Мерсед продолжается дольше обычной.
Мальчиков еще с утра Руперто отвез в имение,
расположенное в Веда до, где они сражаются э бейсбол с кузенами
и их товарищами. Из мужчин в усадьбе остались только
двое — дои Роберто и доктор. Дон Роберто, сгибаясь за
старинным министерским столом в столовой, спиной к
свету, льющемуся из патио, делает вырезки из небольшой
газеты, издаваемой в Тампе, и торопливо пишет, словно
боится, что кто-нибудь придет и помешает ему запечатать
письма и газетные вырезки в отдельные конверты и
написать на каждом из них адрес. Все его письма обращены
к лицам высокого военного звания: «генерал»,
«полковник», «подполковник». И направляются в крупные
испано-американские города, неизменно подчеркнутые жирной
чертой: Мехико, Каракас, Санто-Доминго, Сан-Хосе. Как
назло, дон Роберто сегодня очень любезен с Хуаном.
Всякий раз, когда мальчик проходит мимо дона Роберто, этот
боязливый конспиратор подзывает его, чтобы спросить,
в котором часу кончается последняя месса в церкви, когда
должна вернуться сеньора, не собиралась ли она оттуда
пойти еще куда-нибудь. Домииго сидит у себя в
кабинете, удобно развалясь в кресле-качалке, держа в руках
книгу и ножичек для бумаги, положа ноги па заваленный
кипами газет столик перед креслом. Он сидит лицом к
окну, распахнутому навстречу свету, воздуху и садовой
усладе. Свидание Нэны и Хуана сегодня происходит по
пасмурным утром после дождливой ночи, а весенним,
радужным, расточающим солнечное сияние на пригородную
усадьбу, утопающую в зелени, благоухающую,
насыщенную кислородом. О свидании Хуан и Нэпа условились,
торопливо обменявшись в укромном уголке наскоро
написанными карандашом записочками. Хуан должен
принести ящик с серебряными столовыми приборами,
которые ему предстоит почистить к именинному столу, в уже
известную нам комнату, где вместе со старинной упряжью
отделанной тем же серебром, хранится в коробочке
испанский порошок для того, чтобы начищать до блеска с
помощью тряпочек и щеточек этот драгоценный металл.
Нэпа будет прохаживаться мимо этой комнаты и, улучив
подходящую минуту, войдет туда. В комнате, как и в
прошлый раз, двери и окна, выходящие в патио,
полузакрыты, а форточка в сад настежь распахнута и проем
ее заполняет густая, сочная зелень индийского жасмина.
Тем не менее комната залита ослепительно ярким светом
и насыщена пьянящим ароматом, проникающим сюда
сквозь листву цветущего жасмина. И как бы в
довершение всего счастливому свиданию способствуют голосистые
канарейки, которые заливаются без всякого почтения к
409
важному занятию дона Роберто, и чирикающие вовсю
воробьи, которые беспрерывно носятся от клетки к клетке,
чтобы украсть зерна из кормушек пернатых пленников.
Как только Нэпа заходит в комнату, Хуан
показывает ей напильник, молоток и отвертку, принесенные ют
вместе с приборами, чтобы сделать вид, будто они чинят
шарманку, если вдруг кто-нибудь застанет их тут вместе.
Девочка одобряет эту мысль и спрашивает:
— Гойо не заметил, как я передавала тебе записку?
— Не мог,
— Ты порвал ее?
— Порвал и выбросил.
После этой невозмутимой лжи Хуана начинается
пристрастный допрос: слова, произносимые с дрожью в
голосе, прерывистые фразы, пунцовый румянец па щеках.
В нем все сильнее разгорается желание прижаться к ней.
Во взоре, во всех его движениях угадывается неодолимое
стремление обпять ее. Но она совсем не опасается и и >
страшится его. Она хорошо понимает, что их невинны л
флирт уже достиг дозволенных и недозволенных
пределов. И если она еще не прервала его из страха и
ненужного риска, то лишь потому, что в поведении мальчика
для нее открывается нечто новое, любопытное,
привлекающее своей греховностью. И эта греховность будоражит
кровь, волнует, заставляет удерживать возле себя
влюбленного, соблазнять его, все больше поощрять к
дальнейшим действиям.
— Почему ты прилизываешь волосы водой, а не
вымоешь голову как следует? Тебя это портит. Ты похож
на мокрого мышонка!
Говорит она насмешливо, недовольно и, пользуясь этим
предлогом, проводит нежными пальцами по его влажным,
напомаженным прядям коротких волос, почти касаясь
своим уже оформившимся девичьим телом трепещущего тела
мальчика. Зачарованный, он отвечает ей едва слышно, но
от самого чистого сердца:
— Ты очень красивая! Как роза! — И пытается
схватить ее за руки.
Но она отстраняет его, уклоняясь, и грозно,
предостерегающе говорит:
— Стой спокойно, а не то я уйду.
— Почему?
— Потому что я уже предупреждала тебя, чтобы ты
ко мне не притрагивался.
410
— А почему ты меня трогаешь? Наверное, для того,
чтобы обозвать мышонком. Ты и впрямь играешь со мной,
словно кошка с мышкой. Ну конечно! Ведь я приемыш,
слуга!..
— Ах, так! В таком случае прощай! — И она делает
вид, будто собирается уходить.
— Нет, пет! Не уходи! — просит он, умоляюще глядя
на девочку.— Вот увидишь, я больше не дотронусь до
тебя. Клянусь памятью моей матери!
Но близость девочки одурманивает Хуана. Его пьянят
благоухание индийского жасмина и хмельной запах
вспотевшего тела девочки, просвечивающего сквозь ленты
белого платьица. И, воспламененный, он снова испытывает
неодолимое желание погладить девочку по волосам,
обнять ее.
— Не надо! Пусти!
— Нет, надо!
Они истово перешептываются, до боли
сопротивляются друг другу, пока наконец Хуан, в порыве восторга
становясь дерзким и настойчивым до слез, не овладевает
ее рукой и, силой удерживая в своей, не пачинает
целовать лихорадочными жадными губами.
Девочке удается вырваться. Она убегает в патио,
взволнованная, задыхающаяся, испуганная, силясь скрыть свои
чувства на случай, если вдруг кто-нибудь попадется ей
па пути. Убегая, она клянется:
— Все кончено! Теперь уже навсегда!
Совсем потеряв голову, Хуан не смиряется с решением
девочки, тем более в такую минуту. И бежит по галерее
вдоль комнат, чтобы преградить ей путь.
Он настигает Нэпу. Их никто не видит.
Остановившись перед пей, он, исполненный решимости, говорит:
— Вернись, или я обниму и поцелую тебя прямо здесь.
Нэпа понимает, что этот порыв не смогут удержать
никакие ее уловки. Она вскружила ему голову и теперь
пожинает свои плоды.
— Ты с ума сошел!
■— Ничуть. Идем быстрей. Чинить шарманку.
Смелость мальчика заставляет ее покориться, и она
следует за ним, бормоча на ходу:
— Ну смотри, если нас увидят. А нас обязательно
увидят, потому что ты грубиян и нахал.
Но он отвечает ей только тогда, когда они снова
входят в комнату:
411
— Это потому, что я очень люблю тебя. Ты свела меня
с ума.
— В таком случае можешь меня больше не любить.
Сегодня мы покончим с этим. Слышишь? Сегодня же!
— Нет! Это невозможно! Я не хочу! Я не отстану
от тебя. И пусть все знают, пусть меня вышвырнут на
улицу или убьют, пусть делают все, что захотят! — И он
подкрепляет свои угрозы, оправданные охватившим его
снова неистовым желанием обнять девочку, более
настойчивыми и неодолимыми мольбами:—Ты не уйдешь,
верно? И будешь меня любить, хоть я тебе и не ровня, да?
Будешь доброй ко мне?
Эти мольбы заставляют девочку уступить, но не
изменить своего решения быть неколебимой, несмотря па
всю его настойчивость.
— Нет. И если ты в самом деле любишь меня, давай
немедленно с этим покончим. Верни мне записку,
которую я написала тебе сегодня утром.
Он отвечает, что она у него спрятана, и девочка
вспыхивает:
— Вот видишь? Ты солгал мне. Разве ты не сказал,
что порвал ее и выбросил?
— Нет. Она у меня спрятана вместе с другими твоими
записками, цветами, книгами,
— Это правда?
Руки девочки безвольно повисают вдоль тела, на глаза
наворачиваются скорбные слезы, крупные черты лица
плаксиво морщатся.
— Ты меня обманул,—всхлипывает она.—Ты
обманул меня. Я сама во всем виновата. Я...
Волнение, охватившее мальчика при виде этих слез,
побуждает его взять девочку за руки и сказать,
испытывая трогательное чувство жалости и вместе с тем
влечения к любимой:
— Я отдам тебе их, жизнь моя. Клянусь, я отдам тебе
их, если ты так хочешь. Отдать сейчас?
— Да.
— Хорошо. Только сначала поцелуй меня.
И он тянется своими жадными, пересохшими губами
к ее трепетным губам, а его горячие пальцы лихорадочно
сжимают теперь уже непокорные руки девочки.
— Пусти! Нас увидят! Не надо!
— Никого нет!
— Не надо! Не хочу! Пусти!
412
— Ну, поцелуй! Хоть раз! Один разочек! И я принесу
тебе все записки. Сразу же!..
Она колеблется какую-то долю секунды. Она готова
пойти на уступку, лишь бы с помощью этой женской
уловки выманить у него компрометирующие ее улики.
— Сразу же? — уточняет она, пристально
заглядывая ему в глаза.
— Да.
— Все?
, — Все до единой. Клянусь памятью матери!
И теперь, уже не дожидаясь разрешения девочки,
протягивает руки к ее голове, чтобы привлечь к себе,
погружая цепкие пальцы в черные шелковистые волосы и
прижимаясь своими пылкими, растянутыми губами к ее
холодным, плотно сжатым губам.
— Нет, не так,— требует он, едва отрываясь or ее
ускользающих губ.— Открой рот!
— Не надо! Пусти!
— Нет, надо. Открой!
— Пусти! Пусти! Нас увидят... увидят... Вот
посмотришь!
Но он сжимает ее все крепче и крепче. И жадно,
задыхаясь, прижимается губами к ее губам, не переставая,
словно безумный, требовать то нежно, то неистово:
— Разожми на секунду. На одну секундочку. Ну!..
Разожми рот! Поцелуемся губы в губы, крепко-крепко.
И исступленно целует девочку долгим страстным
поцелуем, сдавливая, словно в тисках, ее голову, выкручивая
руки, а затем, резко оттолкнув от себя, с грубостью дурно
воспитанного мальчишки, одержавшего победу в любви,
восклицает:
— Вот как надо, дуреха!
Сгорая от стыда, она откидывает голову, и глаза ее
округляются от ужаса, устремляясь в полумрак соседней
комнаты.
— Мой дядя! Мой дядя Доминго,— шепчет она.
Хуан стремительно оглядывается и видит широко
раскрытые, сверкающие глаза доктора, который медленно
выходит из полутемной комнаты Адольфо. С напускной
дерзостью мальчик говорит своей подруге:
— Сейчас увидишь, как мы все уладим!
Он берет молоток, отвертку и направляется к
шарманке. Девочка с готовностью устремляется за ним. Он
вставляет отвертку в первую попавшуюся ему под руку прореху
413
и иачипает колотить молотком по отвертке, а Нэна прячет
за спину мальчика свою растрепанную голову, пунцовые
щеки и глаза, наполненные слезами от страха.
Однако Доминго лишь заглядывает в дверь,
соединяющую эти две комнаты, и спрашивает:
— Что вы тут делаете? — II, пе дожидаясь ответа,
приказывает Нэне: — Немедленно ступай к тете.
Нэна уходит через дверь, ведущую в патио. Она идет
подавленная, мужественно сдерживая слезы. Мальчик
какое-то время колотит молотком по рукояти отвертки,
возможно, вбивая ее в самое целое и невредимое место
изъеденной молью шарманки, ласково приговаривая:
— Посмотрим, посмотрим, будешь ты играть сегодня
вечером или нет!
К счастью, он может прервать свой монолог,
поскольку ему надо срочно открывать ворота каретного сарая
нарочному из маленького имения в Гуинесе. Нарочный, в
выгоревшем на солнце широкополом сомбреро,
по-крестьянски требовательно, нетерпеливо колотит в ворота,
чтобы поскорее доставить две корзины, набитые доверху
цыплятами, сыром, фруктами и овощами,
предназначенными для сегодняшнего семейного пиршества.
Доминго не спеша возвращается тем же путем, каким
пришел сюда: он проходит через столовую, по одну
сторону которой за патриархальным министерским столом
сидит отец, а по другую — невозмутимая старуха с
девочкой, теперь уже по-настоящему больной, и с мрачным,
таинственным видом плотно затворяет за собой дверь
кабинета,— преграда, которая отделяет от всех его
уединенный мир книг, брошюр и культивируемых им микробов.
Едва он заходит в комнату, как до него доносится
голос племянницы, в чем-то горячо убеждающей донью Кан-
диту. Он снова подходит к двери и, хотя не слышит всего,
что говорит папугапная девочка, легко догадывается, что
она намерена подняться наверх, ссылаясь на головную
боль, чтобы уединиться в своей комнате. Донья Кандита
настаивает, чтобы Нэна сказала об этом Доминго.
— Нет, нет, ни за что! — решительно отказывается
девочка и устремляется к лестнице, всем своим видом
показывая, что стыдится говорить на эту тему с дядей.
Доминго прекрасно понимает, что бесстыдница сознает
свою вину и торопится уйти наверх, чтобы успокоиться,
собраться с мыслями и приготовиться к защите, а заодно
избежать нежелательной сейчас для нее встречи с ним,
414
Он тоже хочет избежать этой встречи, успокоиться,
хорошенько все обдумать и решить, как ему лучше всего
поступить в такой ситуации.
Хуан усердно помогает на задворках слугам, занятым
работой, в ожидании, что события покажут сами,
обрушится ли на него гроза за столь тяжкий проступок или
обойдет стороной благодаря великодушию доктора.
Мальчик напуган сейчас как никогда, его мучает искреннее,
глубокое раскаяние. В своих мыслях он настолько
эгоистичен, что даже не вспоминает о сладостной сцене,
состоявшейся только что в комнате фамильпых реликвий, а
тем более о девочке, попавшей по его милости в такое
горестное положение. Воспоминание это неприятно,
мучительно для него, ибо походит на преступление, а
положение девочки кажется ему не таким уж страшным и
имеющим тысячу разных оправданий. А вот что будет с ним?
Нэпа, лежа на постели, одетая и обутая, испытывает
не столько беспокойство и страх перед дядей, сколько
ужас при мысли о том, что у Хуана где-то хранятся
доказательства ее огромной вины. Она лежит неподвижно,
комочком, измышляя способ, как бы ей сегодня же
увидеться с Хуаном, пусть даже с риском для себя, чтобы
заставить его вернуть эти компрометирующие ее улики. Она
не так встревожена тем, что ждет ее сейчас, как тем, что
может произойти, если разгневанные родные найдут
ворох записочек или если мальчик, испуганный, припертый
к стене, выброшенный па улицу, возмущенный
оскорблениями и побоями, сам выставит их на всеобщее обозрение.
Так проходит утро. В двенадцать часов возвращаются
из церкви женщины. Перед матерью и Кукусой Нэпа
ловко притворяется больной, остальные не собираются
подниматься наверх, вполне удовлетворенные объяснениями
Доминго:
— Обычное в таких случаях недомогание.
В полдень из усадьбы в Ведадо в двух переполненных
экипажах приехали потные, разрумянившиеся,
говорливые мальчишки, всем своим видом и болтовней
свидетельствуя, что только что закончилось великое сражение в
бейсбол; приехала и семья замужней сестры доньи Хуани-
ты: две ее старшие дочери — белокурая, высокая, полная
Монона, достигшая славного двадцатилетия, и
пятнадцатилетняя Росаура, своим телосложением не уступающая
блеску старшей сестры; две младшие девочки, смугляноч-
ки в коротеньких платьицах, Лус Марина и Кармела, и
415
два мальчика — худой мускулистый Лало в матросском
.костюмчике и светловолосый Куко с пышной шевелюрой,
в просторной блузе.
Дети гурьбой помчались в комнату Нэны, чтобы
попытаться быстро исцелить ее уговорами, соблазнами и
шалостями, но их попытка не увенчалась успехом.
Настало время обеда. Забренчали шарманка и рояль.
Па столе появились фрукты и три шербетницы,
наполненные до краев, которые непрерывно передвигали с места на
место, открывали и закрывали развеселившиеся дети.
Хуан успевал повсюду: работал, насыщался и веселился,
все больше надеясь, что гроза его минует. Доминго тоже
участвовал во всех развлечениях именинного торжества
матери, улыбающийся, беззаботный, как и все остальные.
За таким времяпрепровождением дождались
праздничного обеда, вернее, если говорить не по-креольски,
праздничного ужина. Торжества, подобные этому, отличались в
усадьбе Серро настоящим обжорством, но лишены были
той непринужденности и радостной атмосферы, которая
обычно царит в семейных очагах с прочным фундаментом
и крепко слаженными стенами. Приглашенных бывало
очень мало, исключительно члены семьи. Одни
группировались вокруг всегда замкнутой, хмурой матери, а для
многих уже и бабушки. Другие веля оживленную беседу,
вдохновляемую гордым хозяином дома. Когда подавали сидр и
пиво, все делились на небольшие группки, родственные
по духу, и начинались дебаты между ярыми
приверженцами политики, эгоцентристами и доморощенными
философами, обладающими неистощимыми запасами
креольских острот: двусмысленных, недвусмысленных и
разящих как выстрелы.
В тот вечер семейная трапеза, естественно, началась с
недомолвок и оговорок взрослых, собравшихся за столом.
Нэпа по строгому предписанию Доминго сидела взаперти
у себя в комнате. Доминго, чьи суждения были
чужеродны и непохожи на пустозвонство его сотрапезников, хоть
и развлекал их довольно часто легкими анекдотами в
вольтеровском духе и своими
великодушно-поучительными чудачествами, по-прежнему выглядел непроницаемым
и задумчивым, опасаясь, как бы кто-нибудь из
присутствующих не заметил, что мысли его обращены к комнате
наверху, где находилась поблекшая одинокая роза, одна
из лучших в фамильном цветнике. Дон Роберто, можно
сказать, тоже сидел, словно пришпиленный к скатерти
416
этого принудительного стола социальными
условностями, ибо как раз в этот самый вечер поблизости, в
Благотворительном обществе Серро, должен был состояться
праздник сепаратистов с участием сторонников Сайаса и
Сангили, и дон Роберто, один из зачинщиков этих
непрекращающихся дебатов, кубинский антихрист, поносил и
душе святую, приходившуюся на день рождения своей
жены, который удерживает его и не дает возможности
находиться в торжественном зале вместе с представителями
истинно исторического кубинского общества. На большом
пикейном галстуке дона Роберто сверкали золотой
циркуль и треугольничек — знаки, которые закоренелый
масон демонстративно выставлял напоказ всякий раз, когда
бывали торжественные церемонии, столь ненавистные его
благочестивой супруге: вечера в Благотворительном
обществе, празднества по случаю годовщины восстания и
собрания в масонской ложе.
Хуан, Кука и другие дети, какое-то время
перемалывавшие на шарманке польки и мазурки, ворвались
наконец с шумом в столовую. Дон Роберто решительно
заявил, что уходит, и ушел, невзирая на многословные
протесты супруги. На верхних ступеньках лестницы
появилась Нэпа в сопровождении служанки. Канделария еще
раньше поднялась наверх, чтобы составить компанию
девочке, а когда внизу началась перебранка между
супругами, уговорила ее спуститься в столовую. Вернее,
попыталась это сделать, ибо на полпути их остановил
Доминго, сухо сказав осунувшейся, растрепанной
племяннице:
— Нет, нет. Не спускайся. Возвращайся в свою
комнату. Я поднимусь к тебе через несколько минут, и тогда
Канделария сможет пойти поесть.
Нэна сразу все поняла. Положение ее было не из
легких, малоутешительно и отнюдь не располагало к
вызывающим действиям. И все же, на какой-то миг
прикинувшись непонимающей, она спросила:
— А что такое?
— Ничего,— поспешно ответил ей Доминго, опережая
Лауру, которая собиралась задать тот же вопрос и уже
встала с места, чтобы направиться к лестнице, а кузины
между тем начали шумно аплодировать при появлении
«болящей».— Ничего особенного. Иди к себе в комнату.
Я сам сейчас к тебе поднимусь.— И, обращаясь к
невестке, сказал: — А ты оставайся здесь. Развей * яетшхъ эзгу
27 К. Довейра 417
скучную атмосферу. Черт подери! Не портить же
настроение нашим родственникам. Идёмте все в зал. Зажгите
свет! Давайте музыку! Пусть Монона сыграет на рояле
что-нибудь веселенькое.
Все с радостью приняли это предложение. Особенно
Лаура. И, так как дочь уже поднималась наверх, спросила
ее, лишь бы не остаться безучастной:
— Как ты себя чувствуешь?
— Так же. У меня очень болит голова и все тело.
— Ну, хорошо, я приду к тебе вслед за Доминго.
Ничего страшного. Я хоть немного послушаю музыку,
вырвусь из этого монастырского заточения. Ух! Господи ты
боже мой!
Через минуту все уже были в зале, даже донья Канди-
та. Зал ярко сиял огнями, Монона, водрузив свои
обширные телеса на вращающийся стульчик, с которого
свешивались ее пышные бедра, весело забренчала на рояле
веселую песенку, очень модную в те времена, которую
хором подхватили в самых заразительных пассажах
Корина, Кукуса и почти вся молодежь. Затем пышнотелая
блондинка заиграла душещипательный, томный танец, а
кузины и кузены принялись неуклюже п весело
танцевать.
XVIII
Канделария отправляется наконец вниз отведать
цыпленка, ипдюшку, жареного поросенка и полдюжины
разных десертов, потому что Доминго поднялся наверх и,
войдя в комнату Нэны, коротко приказал чернокожей
горничной:
— Ступай есть!
А сам прибавляет свет в лампе й садится рядом с
кроватью племянницы, как и подобает доктору. Нэна слегка
приподнимается, поправляет на себе платье и кладет
голову на ладонь, упираясь локтем в подушки. В этом ее
заранее продумапном жесте угадывается горячее
стремление узнать, что видел дядя утром из соседней комнаты,
и вместе с тем страстная мольба, обращенная к богу,
чтобы ему удалось увидеть как можно меньше, и
неколебимое решение отрицать, отрицать и отрицать какую бы то
ни было причастность к преступлению, о котором, без
сомнения, он сейчас с пей заговорит,
418
— Ну-ка, посмотрим, какой у тебя пульс.
Быстрым движением он сжимает пальцами холодное,
дрожащее запястье девочки и, так же быстро забывая о
Своих намерениях и о своих докторских обязанностях,
Ьристуиает к допросу на правах судьи.
— Так, значит, у тебя болит голова и все тело? —
резко спрашивает он.
— Ой! Ужасно!
— Ну что ж! Весь день я притворялся, что ничего не
случилось. Но это для других. Ты хорошо знаешь, что мне
все известно.
— Ты о чем, дядя? Что у меня ничего не болит? —
зондирует почву девочка, прикидываясь удивленной,
совершенно невозмутимой и ни в чем не повинной.
— Вот именно,— торопливо отвечает ей Доминго, но
давая опомниться.—- Не может быть, чтобы поцелуи и
объятия были настолько сильными...
— Какие поцелуи, какие объятия? — снова
спрашивает она с деланным, вызывающим, наивнейшим
изумлением, уже окончательно садясь на постели.
— Какие? Хуана, разумеется, новоиспеченного Дои
Жуана в нашем доме.
Девочка натянуто улыбается дрожащими губами,
надеясь с помощью этой вымученной улыбки попробовать
еще раз выкрутиться, принимая страшное расследование
за шутку. Но Доминго спешит показать ей, что хорошо
подготовлен ко всем ее уловкам, ничем не рискует и на
него не действуют ни ее притворство, ни удивление, вн
отрицание всего.
— Не смейся. Это так же бесполезно, как и твои
попытки разубедить меня в том, что я видел вас вдвоем,
слишком хорошо видел этим утром, когда вы там
украдкой целовались и занимались бог весть чем...
— Я-а-а?! — восклицает девочка, превосходно
разыгрывая изумление.
— Да, ты. И не перебивай меня. Чем скорее мы
покончим с этим, тем будет лучше для тебя.
— Но, дядя? Этим утром? Неужели ты веришь...
— Я верю тому, что видел своими глазами.
— Клянусь тебе!..
— Бесполезно! Бесполезно, я все очень хорошо видел.
И уже сказал, самое лучшее для тебя теперь выслушать
меня спокойно, ее теряя времени. Пока сюда не
поднялась твоя мама али кто-нибудь еще. Так вот.
419
Он резко откидывает на кровать руку девочки,
которую все еще сжимал пальцами, и, приблизясь к ней,
сурово, пристально смотрит в блестящие глаза Нэны, а
затем говорит:
— Ты совершила такой недопустимый поступок для
девочки твоего возраста, твоего воспитания, из такой
семьи, как наша, что, не увидев все это собственными
глазами, я ни за что не поверил бы. К счастью для тебя и для
всех нас, никто, кроме меня, вас не видел, и мы сможем
все уладить без шума, истерик, скандала и позора.
Впрочем, для тебя, конечно, позор. Пусть даже только передо
мной. Иначе какая же ты после всего этого порядочная
девушка?
И хотя Нэпа понимает, что разоблачена, она не
сдается, прикрываясь все новой и новой ложью, пока ей не
приходится уже оправдываться:
— Это было только сегодня, но я не виновата. Он
один виноват, он на меня набросился...
— Неправда,— перебивает ее Доминго все так же
строго и непреклонно.— Это дело не одного дня, и нельзя
всю вину сваливать на него. Напротив, его вина меньше
твоей. Ты воспитываешься на хороших примерах, ходишь
в школу, ты девушка из благородной семьи, в которой
никогда не было грязных тайн и мерзостей, а Хуан —
бедный сирота, получивший воспитание на улице, отсюда
его дурные привычки и пороки. Ему нечего терять,
ему все кажется похожим на тот пошлый мир, откуда
он пришел к нам, да и мы не слишком заботились о
его воспитании. Как видишь, я справедлив. Будь на
моем месте кто-нибудь другой, он не стал бы
рассуждать подобным образом, а набросился бы на него с пеной у
рта, готовый растерзать, свалить на него всю вину. И его,
и твою...
— Он один виноват. Я не хотела.— И она начинает
плакать, размазывая слезы по щекам.— Я не хотела. Он
первый начал...
Но дядя прерывает ее:
— И не пытайся переубедить меня. Неразумно и
опасно терять сейчас драгоценное время на твою болтовню,
вместо того чтобы покончить с этим раз и навсегда,
сохранив тайну только среди немногих.
— Говори.
— Я не хочу знать, как все началось. Ни как, ни когда.
Мне необходимо только знать, известно ли это кому-ии-
420
будь еще, кроме тебя и него. Видел ля вас кто-нибудь,
подозревает ли...
— Нет. Никто,— уверенно продолжает врать Нэпа,
преуменьшая важность происходящего и стараясь
держаться как можно дальше от истины.
— Ни Мерседес, ни Канделария, ни мальчики?
— Никто.
— Ну хорошо. Хоть я и не очень этому верю, пусть
будет по-твоему. Я ни слова не скажу твоему отцу, Лауре и
даже бабушке. Никому, кроме деда.
— Нет, дядя! — восклицает она, на сей раз уже
по-настоящему заливаясь слезами.—Только не ему! Ради бога!
Кому угодно, только не дедушке. Он сразу все расскажет
папе. Меня выпорют, а Хуана убьют. Изобьют до смерти.
— Ну, полно! Никто ничего не скажет, и никого не
станут пороть. Надо было думать раньше. Тогда мне не
пришлось бы теперь распутывать эту историю.
— А что ты собираешься делать? Только не говори
дедушке. Ему особенно, дядя. Скажи кому угодно: маме,
папе, если хочешь, но не дедушке.
— Нет, только ему. И единственное, что произойдет
после этого,— Хуан немедленно уедет отсюда.
— Куда?
— Это уж не твоя забота. Подумай лучше о себе.
Обещай, что ты глубоко раскаешься в своем поступке и
никому ни словом не обмолвишься о нем. Ни единым
словечком. Даже священнику. Понятно?
— Да. Обещаю тебе. Клянусь богом и мамой, я все
сделаю, как ты велишь. А дальше?
— Ничего. Ничего больше. Ты должна только
хорошенько подумать над тем, что ты сделала, обещать, что
всей душой раскаешься в своем дурном поступке и ни в
коем случае никому ничего не расскажешь. Особенно
священнику. Ему ни под каким видом. Все должно обойтись
без шума, крика и насилия, иначе мы причиним большой
вред всем нам, а главным образом твоему будущему,
которое ты так глупо и безрассудно могла смешать с грязью.
Нэна, растроганная столь неожиданным
великодушием, суровой нежностью и заботой доброго дяди, обвивает
его шею руками и, заливая слезами щетинистые щеки о
колючую бороду, вдруг доверительно говорит:
— Знаешь, у Хуана есть мои записочки и фотографии.
— Ах, так? Вот видишь. Где они?
— Не знаю. Но ты не отнимай их, а то он обо всем
421
догадается. Не проси у пего. Оставь, ладно? Я сама заберу.
Оставишь?
И она горячо целует его в шею, натыкаясь губами на
колючую бороду, в щеки, в виски.
— Нет, тебе нельзя,— отвечает он, отстраняя ее.—
И ни в коем случае не встречайся с ним наедине. Боже
тебя упаси! Иначе все погибло! Доверься мне. Как и все
остальное, я сам это улажу. Теперь ложись в постель,
II не вставай. Если придет мама или кто-нибудь еще,
объясни свое возбужденное состояние болезнью. А лучше
постарайся скорее успокоиться. И не плачь. Все будет
хорошо. А наперед запомни: надо сначала думать, а потом —
делать. Ты уже не маленькая. Я сейчас пришлю тебе
пузырек с успокоительными каплями в подслащенной воде.
Выпьешь несколько ложек и сделаешь вид, что тебе
становится лучше. Все образуется. Оставайся тут, а я пойду.
До завтрашнего утра!
Они целуются в губы, как влюбленные.
И пока он не спеша идет к двери, выходящей на
галерею, вытирая платком мокрое от ее слез лицо, она
умоляюще просит:
— Будь осторожен с дедушкой, ладно?
— Да, я буду осторожен со всеми. Мы сохраним это с
тобой в тайне.
В ту самую минуту, когда он переступает порог ком-
паты, чья-то едва уловимая в ночном полумраке тень
бесшумно устремляется ио галерее к винтовой лестнице.
Доктор наклоняется над перилами, пытаясь разглядеть,
кто же спускается вниз. Он отчетливо слышит лай цепной
собаки па того, кто пересекает погруженный в темпоту
задний двор, и сразу же различает в полуосвещенном
патио Хуана, который, войдя в комнату, где обитает вместе
с Адольфо, зажигает там лампу.
Тогда Доминго быстро спускается по широкой
лестнице в столовую. В зале по-прежнему слышатся
оживленные звуки рояля, смех и аплодисмепты. В гостиной и
столовой никого нет. А в глубине на задворках кто-то, зажав
между ног ящик и опорожнив не менее двух бутылок
вина, отбивает ритм великолепной румбы. Доминго
проходит через свой кабинет прямо в комнату Адольфо и
Хуана.
— Что ты прячешь? — спрашивает оп, поражая впе-
запностью своего появления сироту, который
сосредоточенно укладывает вещи в сундук.
422
— Ничего,— отвечает тот, вздрогнув, но сохраняя
полную невозмутимость,— привожу в порядок свои вещи.
— В такой-то час? И тебе не интересно, что
происходит в зале и как танцуют румбу на кухне. Не правда ли?
Так вот, выслушай меня внимательно. О том, что
произошло, не узнает никто и никогда. Но ты сейчас же вернешь
мне все, что тебе давала Нэпа.
— А что она мне давала?
— Сам ты этого не знаешь? Или думаешь, я не видел,
как ты вынюхивал под дверьми, точно щенок? Верни мне
все немедленно. И не прикидывайся, будто у тебя ничего
нет. Меня можешь не бояться. Это останется между нами
при условии, конечно, что ты сейчас же все отдашь. Ну,
живо!
— У меня ничего нет. Я все порвал и выбросил.
Больше доктору ничего не удается выудить у мальчп-
ка. Все его уговоры, угрозы и старания тщетны.
— У меня ничего нет. Я все выбросил.
А когда Доминго с помощью доказательств, в полной
уверенности в его виновности, окончательно припирает
Хуана к стенке, тот замыкается в злобном молчании
упрямого дикаря. Он стоит, низко опустив голову, держа
руки по швам, плотно сжав губы, и только покачивается,
когда Доминго, выведенный из терпения, с силой дергает
его за руку.
— Будешь отвечать или нет? Когда ты их порвал?
Куда выбросил?
Наконец, чтобы не терять времени попусту и не
подвергать слишком большой опасности свой
осмотрительный и трезвый план, доктор вынужден избрать иной
путь — начать поиск сам. Доминго велит мальчику
выложить содержимое сундука, одну вещь за другой, на
кровать и стоящие рядом стулья. Хуан, зная, что тайник с
сундуке надежен и обнаружить его очень трудно,
бесстрашно повинуется приказанию. Он достает оттуда
брюки, рубашки, спортивную куртку, башмаки, завернутые в
газету, а Доминго тщательно все осматривает. Обыск
длится долго, но он так же напрасен, как и допрос,
учиненный доктором. Хуан опустошает свой сундук,
медленно вынимая одну вещь за другой, не произнося ни единого
звука. И сирота доказал, что он пе Нэна, что, слишком
рано закаленный бесконечными столкновениями с самыми
грязными сторонами жизни, оп так легко не поддаете:!
требованиям, доводам или напускной сентиментальности
423
дона Доминго, как его племянница — девочка,
окруженная лаской, любовью и заботой богатого, счастливого
семейства. Да еще после того, как Хуан подслушал ее
разговор с дядей. «Она-то какова! Сплетница! Ябеда!
Продажная душа! Мы еще посмотрим!» Да, он сейчас
раздражен, взбешен и яро ненавидит всех обитателей
усадьбы!
— Ну что ж! Отлично! —говорит Доминго,
вынужденный заключить временное дипломатическое перемирие.—
Ты надежно спрятал свой клад. Я ухожу. И советую тебе
поразмыслить хорошенько над тем, как тебе лучше
поступить. Одно могу сказать: если ты будешь молчать и все
останется между нами, тебе ничего не грозит. А если
нет — не жди ничего хорошего.— Затем, показывая
мальчику на вещи, разбросанные на кровати и стульях,
приказывает: — Убери это побыстрей! — И, уже больше не
хмурясь, совершенно спокойный направляется в зал.
Убедившись в том, что остался один, Хуан, прежде
чем снова уложить вещи в сундук, удовлетворенно
ощупывает невидимую деревянную перегородку, которая
скрывает его «клад», как только что выразился Домииго,
и аккуратно разглаживает края бумаги, настеленной
внутри аляповатого сундука, доставшегося ему в
наследство от родителей.
— Ловко я их провел! — восклицает он, укладывая
брюки поверх тайника, который только что его так
выручил.
Затем быстро убирает туда остальные вещи и, не
выходя больше из комнаты в этот вечер, не теряя ни
секунды, раздевается, гасит свет, ложится лицом к стене и
пытается уснуть.
Однако до него еще долго доносятся звуки рояля и
веселья из зала, все убыстряющийся темп румбы из кухни.
Потом он слышит тарахтенье экипажей, увозящих гостей
в Ведадо, и привычные звуки, населяющие монастырскую
обитель перед тем, как она погружается в сон; слышит,
как Адольфо ходит по комнате, раздеваясь при свете,
льющемся из кабинета Доминго, и укладывается на свою
широченную, пружинистую кровать, вынуждая ее
скрипеть; слышит, как возвращаются экипажи, топают Рупер-
то, Ньянго и лошади, и наконец в усадьбе воцаряется
сельская тишина. Свет в кабинете Доминго не дает ему
покоя. И если он не замечает возвращения дона Роберто,
то лишь потому, что тот, вдохновленный речами в Благо-
424
творительном обществе, не захотел ложиться спать на
своей одинокой складной кровати в зале.
Только под утро удается наконец Хуану побороть
первую в своей жизни бессонницу. А сейчас уже немного
успокоенное дыхание сливается с жалобными стонами
перенасытившегося Адольфо, мешающими мальчику заснуть, и
Хуан испытывает страх, не поддающий его ни на минуту
с тех пор, как к нему в комнату зашел Доминго. Этот
страх мучает мальчика и приводит в отчаяние весь
следующий день, в течение которого ему не удается
увидеться с Нэной; он лишь дважды сталкивается с хмурым
доктором, и ничто не нарушает необычайного спокойствия,
царящего в усадьбе, пророческого и пугающего. Страх этот
походит на тот, какой он испытывал в продолжение
нескольких дней после того, как украл у Адольфо септен.
Стоило ему тогда увидеть, что два человека разговаривают
между собой, и уже казалось, будто они говорят о нем, а
если вдруг кто-нибудь неожиданно шел ему навстречу, в
патио, в саду или в комнатах, он ждал, что на него вот-
вот обрушится гроза. Правда, теперь он не испытывает
такого раскаяния и мучительного малодушия, как тогда.
В эти минуты он готов добровольно, с упорством
великомученика смиренно и стойко вынести любые испытания,
какие бы ни уготовила ему его собачья доля. Будь что
будет! Не убьют же его! А раз так, что бы с ним ни
сделали, жизни хватит на всех. И на все!
Чувство протеста в его душе растет час от часу все
больше. И, наконец, днем, встретив Канделарию в
укромном уголке заднего двора, он, не в силах долее
сдерживать своего раздражения, а может быть, и тщеславного
стремления похвастать, шепотом говорит служанке:
— Слушай, вчера дон Доминго застукал нас, меня и
Нэпу, как ты однажды, помнишь?
— Да ну? Где?
— В той же комнате.
— И ничего не сказал?
— Не!
— Лучше бы ты помалкивал об этом. Не то тебе так
всыпят, костей не соберешь!
Хуан пожимает плечами и, отходя, говорит с
напускной бравадой:
— Подумаешь!
Однако за весь вечер он уже не проронил ни слова о
том, что над ним нависла беда.
425
XIX
После ужина обитатели усадьбы едва держатся на по-
гах от вчерашнего обжорства, недосыпания и усталости.
К девяти часам в доме уже не слышно ребячьих голосов.
Хуан, измученный больше остальных и немного
успокоенный тем, что в доме царит обычная атмосфера, идет к себе
в комнату из темной глубины усадьбы, где таился до сих
нор и где во мгле вспыхивает лишь сигарета китайца-
повара да блестят глаза цепной собаки. Светящиеся щели
и створки окоп и дверей исчезают одна за другой,
погружая во мрак патио и верхнюю галерею. Донья Хуанита
снует туда-сюда, завершая последние дела ушедшего дня.
Лдольфо пропадает где-то в городе. Дон Роберто заснул в
кресле в полуосвещенной столовой, свесив голову на грудь
и положив очки на газету. Только в кабинете Домин го
горит яркий свет и мечутся тени по стенам и потолку.
Часы в столовой еще не показывают и десяти, а Гойо
уже пронес на голове поверх сомбреро раскладушку дона
Роберто и теперь направляется со своей в зал.
Разбуженный шагами слуги, дон Роберто идет вслед за ним. И в ту
же секунду на застекленной двери кабинета
вырисовываются, словно тени в китайском театре, очертания фигуры
доктора, который, вероятно, подкарауливал отца.
Выглядывая в дверь, он просит его:
— Папа, зайди на минутку. Я хочу с тобой поговорить.
— Надеюсь, ты не намерен в этот час,—
предупреждает его дон Роберто,— вести со мной беседу о вчерашнем.
— Разумеется, нет. Я еще в здравом уме. Тем более что
болезнь эта хроническая. Неизлечимая. А речь пойдет о
новой. И очень опасной.
— В чем дело? — с беспокойной суетливостью
спрашивает старик.
— Присядь на минутку. И обещай выслушать
спокойно, чтобы пи одна живая душа больше об этом не узнала.
— Но...
— Никаких «но». Мир еще не рухнул и пока что не
собирается. Речь пойдет о Хуане и о тех пагубных
последствиях, которые неминуемо должны были проникнуть к
нам в дом с появлением человека с иной моралью и
привычками. Хотя мальчик не виноват в том, что он такой,
как есть, н что принес сюда свои уличные замашки...
— Но в чем дело? Скажи же наконец, что произошло?
Доминго выкладывает отцу все, что знает о «серьез-
426
ном романе» Хуана и Нэны, о том, что видел своими
глазами, и о том, как, по его мнению, следует поступить.
— Мне следует,— восклицает дон Роберто после
довольно крепких выражений,— сейчас же пойти к нему,
стащить его за ноги с постели и...
— Нет,— решительно возражает доктор ве только
словом, но и энергичным жестом.— Так поступил бы каждый
на твоем месте. Я просил тебя сохранять спокойствие для
того, чтобы действовать осмотрительно и разумно. Уверяю
тебя, когда я все это увидел, то едва сдержал себя. Но
посуди сам, что будет, если ты поднимешь скандал в такой
час. Нет. Побороть зло и освободиться от него навсегда
необходимо, и как можно быстрее, но без шума. И мне
думается, что разумнее всего — выпроводить его из дома.
— Да, да. Мы не должны были брать его к себе. Надо
было поместить его в приют, и завтра же я так
поступлю. Лучше бы он подох с голоду. Все, что угодно, лишь
бы не оказался среди наших детей. Наших девочек.
Бесстыдник! И с кем? С моей внучкой!
И, представив себе, какой чудовищной опасности
подвергалась его внучка, плоть от плоти его, он в порыве
ярости снова намеревается пойти за виновником.
— Я ему покажу, какая мы ему ровня!
Но Доминго и на этот раз удается сдержать его ярость
и необузданный порыв.
— Еще раз говорю, возьми себя в руки. Ты не можешь
позволить себе ни одной гневной выходки. Не можешь
так вот, вдруг, выставить мальчишку на улицу, или
отправить в приют, или отдать кому-нибудь в подмастерья.
По всей Гаване сразу же пойдут всякие толки. Из мухи
раздуют слона, и мы навсегда запятнаем честь девочки
из-за какой-то ерунды, которую она совершила по
глупости. Да и как мы можем позволить себе выгнать на улицу
человека, которому некуда деться.
— Но если бы мы не взяли его так опрометчиво к себе
в дом, ему тоже некуда было бы деться. Ему тоже
пришлось бы идти на все четыре стороны.
— Но это не одно и то же. Он живет у нас. Этот дом
давно уже стал и его домом. Мы не можем вышвырнуть
его, руководствуясь лишь недостойной местью. К тому же
надо быть справедливым. Мы здесь не научили его
ничему другому. Напротив, каждый из нас подавал ему
такой пример... Он знал обо всех наших недозволенных
штучках. Мы посылали его с поручениями туда, куда нн
427
за что не послали бы ни одного из своих мальчиков. Нет.
Своих мы отправляем в школу. А он был нам слугой.
Знаешь, что пришло мне в голову? Не устроить ли нам его
в школу на полный пансион? Я оплачу половину.
— Нет, нет. С ним надо окончательно расстаться. Ты
прав, говоря о будущем девочки, и поэтому надо как
можно скорее от него отделаться. Его следует немедленно
изолировать. Куда-нибудь подальше, на долгий срок.
Желательно — навсегда. Пропади он пропадом после всего
этого! Разрази его гром!
— Ну что ж, тогда есть другой выход.
И Доминго, еще раз призывая отца говорить потише,
выкладывает свое очередное предложение. Отправить
Хуана в имение Минас. Предупредить телеграммой мулата
Ромуло — их управляющего; быстро собрать мальчика в
дорогу, снабдив гамаком, хорошим сомбреро, кожаными
башмаками, необходимым запасом рубашек и брюк, и,
соблюдая все меры предосторожности, отправить поездом в
деревню. А отъезд его объяснить материальными
затруднениями семьи, что вполне соответствует истине, и
желанием иметь в Мпнасе своего надежного, грамотного
человека, который вник бы в дела сафры и стал бы к
следующей уборке сахарного тростника весовщиком. Там
мальчик приучится к самостоятельности и таким образом
освободится от чужой опеки. Одним словом, станет
человеком...
— Ну что ж,— соглашается дон Роберто, вполне
убежденный доводами своего трезвомыслящего, осторожного и
мудрейшего сына.— Так и скажем твоей матери.
Послезавтра я сам отвезу его в Минас. Мне все равно надо
взглянуть, как идет сев и как устанавливают новые весы
фирмы «Фиэрбэнк», о которых я тебе говорил несколько
дней назад. В поезде я сделаю ему соответствующее
внушение и припугну, чтобы он держал язык за зубами.
Потом... Потом я гарантирую тебе, что он уже никогда в
жизни не увидит Нэны и ничего не будет о ней знать.
Итак, можешь считать, что дело сделано. Будь уверен, я
уиезу эту каналью. Теперь уж я не так глуп, как раньше.
Задним умом мы все крепки!..
Отец и сын выходят в едва освещенную столовую,
погруженную в полную тишину. Дон Роберто направляется
к своей раскладушке, холодно белеющей в углу зала,
напротив другой, на которой уже покоится укрытая
простыней могучая темная фигура преданнейшего «слуги. Домин-
428
го идет к себе в комнату, зажигает свет и, не раздеваясь,
вытягивается на кровати лицом вверх, высоко кладя на
подушку голову и держа перед собой на груди
развернутый журнал. Старик, абсолютно потерявший сон от
такого сильного потрясения, задевшего его самолюбие, минует
спящего слугу и в кромешной темноте тихонько, очень
осторожно уходит, чтобы переночевать в доме на шоссе.
Час спустя доктор, соблюдая те же меры
предосторожности, стараясь не смотреть на пустую постель отца, тоже
покидает усадьбу, чтобы спокойно провести остаток ночи
в доме чуть подальше от шоссе.
На следующее утро, спозаранку, дон Роберто призвал
к себе Хуана. Мальчик с видом смертника явился по
первому же зову хозяина, но чувство обреченности
мгновенно исчезло, едва дон Роберто коротко приказал ему:
— Заканчивай дела и поедешь с Гойо или Руперто
покупать себе сомбреро и гамак, потому что завтра ты
отправишься в деревню Минас.
— Один?
— Со мной, но ты там останешься. И хорошенько
поразмыслишь о своем дурном поведении, чтобы стать
человеком и научиться жить самостоятельно.
Несмотря на явную угрозу, заключенную в словах
дона Роберто, Хуан рад этой возможности. В его годы даже
неблагоприятные обстоятельства, если они сулят
положить конец однообразным будням, обещают
долгожданное счастье. В воображении Хуана сразу же возникает
заманчивое путешествие по железной дороге в вагоне,
бегущем вслед за быстрым, шумным, дымным паровозом,
селение Минас, вырастающее в его представлении до
размеров Матансаса или Карденаса; радужные картины
сельской природы: залитые солнцем фруктовые рощи; луга,
поросшие мягкой травой, словно созданные для того,
чтобы бегать, гулять; жизнь, полная дикой свободы! Без
доньи Хуаниты — старой карги с цепкими пальцами! И
теперь уже он полон уверенности, что ему нечего бояться,
тогда как он ждал, что его сотрут в порошок! А что, если
в скупых, почти мстительных словах дона Роберто таится
непосильная для него тяжесть сурового сельского труда?
Что, если дом в деревне слишком грязен и убог по
сравнению с богатой, громадной усадьбой в городе, а
незнакомые, грубые, деревенские жители очень отличаются от
знакомых,' образованных людей? Слишком много мыслей
для него, всего-навсего четырнадцатилетнего мальчишки!
429
К тому же еще привыкшего к противоестественному
смирению бедняка, чья плоть сжилась с нищетой и
страданиями, который слишком хорошо знает, что должен как
можно раньше стать взрослым человеком. Промелькнет ли
в его сознании нежное воспоминание о Нэпе? Вспыхнет ли
лучик любви в его сердце? Той самой любви, которая
причинила ему столько страданий, вскружила голову и
толкнула на безрассудство, так повлиявшее на всю его
дальнейшую судьбу? Ничего подобного. В сущности, любовь
всего лишь плотское влечение. Остальное — лирика,
романтика, заразительная фантазия цивилизованных людей,
а Хуан еще слишком зелен, слишком по-ребячьи дик,
чтобы чувствовать в такие минуты наносный романтизм
минувших дней. Возможно, он и унесет в самых отдаленных
уголках памяти, чтобы потом вспоминать в эротических
мечтах, образ целомудренного, точеного девичьего тела,
сладостное и жаркое ощущение ее больших, влажных губ,
но сейчас он не испытывает никакого сентиментального
и романтического восторга, никакой грусти и боли.
Напротив, в нем по-прежнему клокочет негодование,
особенно по отношению к ней: «Воображала! Сука!»
И если что-то действительно печалит его, заставляя
сжиматься от тоски сердце, пока он рассуждает сам с
собой и пока эта грандиозная новость растекается среди
кухонной челяди, так это смутное, мимолетное
воспоминание о той, кого он вынужден покинуть в Гаване под
далеким, безвестным холмиком земли на новом кладбище.
Да и донья Хуанита, по-своему человечная, набожно
вспоминает о Хосефе Вальдес, когда ей сообщают об
отъезде еще не оперившегося сына покойной прачки в
деревню, чтобы выполнять тяжкую мужскую работу. Она даже
пытается защитить его, найдя союзников в лице
сердобольной Корины и простодушного Адольфо, уже
успевшего полюбить своего товарища по комнате и посыльного
я комнатушку доходного дома на кривой улочке. Слишком
поздно им троим приходит в голову мысль, что можно
было бы, да и сейчас еще не поздно, определить Хуана в
школу или отдать в ученики, чтобы он овладел
каким-нибудь ремеслом: столяра, табачника, бондаря или кузнеца.
Доминго и дону Роберто стоит немало усилий отстоять
свое внезапное решение, сохраняя в тайне истинную
причину, известную лишь им двоим, да разве что Капдела-
рии, которая догадывается со злорадством и
прозорливостью «отомщенного врага». Самым сильным доводом яв-
430
ляются материальные затруднения семьи: в Лос-Мамей-
ес,— так называется имение в Минасе,— нужен человек,
который умел бы хорошо считать, чтобы в самое
ближайшее время приступить к работе на новых весах фирмы
«Фиэрбэнк», упомянутых доном Роберто прошлой ночью.
Сахар слишком обесценился, чтобы они могли позволить
себе взять работника со стороны и назначить ему
жалованье. И поскольку никогда не бывает недостатка в
альтруистических доводах, продиктованных эгоизмом, До-
минго убежденно говорит матери и Корине:
— Ему же будет лучше. В конечном счете мы научили
его только прислуживать нам. Иначе говоря, отрабатывать
за то, что мы его кормим, одеваем и даем крышу над
головой. До сих пор мы с присущей нам эгоистической
гуманностью и христианским притворством не подумали ни
о школе, ни о каком-нибудь другом полезном занятии для
него. Отдавать же его в школу, о которой мы сейчас
говорим, бессмысленно — у него достаточно знаний. Хуан
хорошо считает, пишет, читает, и с его сообразительпо-
стыо,— а я убежден, что среди детей нашего дома... только
Фернандо умнее него,— он сможет научиться в деревне
многому, что окажется для него полезным и в дальнейшем
поможет зарабатывать на жизнь, а стало быть, и
освободиться от необходимости прислуживать, быть на
побегушках или кухарить... Ей-богу, я нисколько не сомневаюсь,
что теперь для него самое время изменить свою жизнь.
А брату Адольфо доктор говорит:
— Согласись, дорогой. Мальчик слишком посвящен в
дела каждого из нас... Это опасно! Посуди сам, к чему это
может привести.
Доводов оказалось вполне достаточно. Тем бот ее что
речь шла о сироте, из-за которого никому не хотелось
вступать в пререкания с доном Роберто и Доминго —
самыми важными персонами в семье. Одни соглашаются,
другие смиряются. Мальчики даже завидуют Хуану,
который поедет поездом, увидит новые места и будет
делать тысячу разных дел, совсем не похожих на те,
которые изо дня в день делаются у них в усадьбе. С самого
раннего утра Нэна с эгоистической радостью узнает о
великой комбинации, задуманной и успешно претворяемой
в жизнь ее великодушным дядюшкой. Доминго, по уже
известной нам и вполне понятной причине, позволяет
«болящей» говорить, что лекарство ей не помогло, что у нее
по-прежнему болит голова, ломит тело, нет сил и аппети-
431
та, мешают свет и люди... до следующего дня. «Болящая»
искренне кается в своем поступке и молит небеса, чтобы
они вняли ее просьбам, помогли выйти из
затруднительного положения, в которое она попала. Она исступленно,
словно в бреду, умоляет всевышнего сделать так, как
задумал ее чудесный дядюшка. Да! Пусть этот гадкий
мальчишка уедет! Уедет куда-нибудь подальше! Иначе разве
сможет она сойти вниз и встретиться с ним на глазах у
Доминго? И потом — это опасно! Очень опасно, потому
что дерзкий мальчишка в любой момент способен в
порыве негодования или возмущения все обнародовать.
— О, боже! Пусть он уедет завтра же! Пресвятая дева
Мария! Клянусь жизнью матери, если все обойдется, я
буду хорошая. Очень хорошая!
Когда ее никто не видит, она даже смотрит, как
Магдалена с картины Гвидо Рени, на литографию пресвятой
девы в ярко-синей накидке, равнодушно взирающей с
одной из стен комнаты в потолок, и возносит ей сотни «Аве
Марий», только чтобы исполнилось ее желание и Хуан
уехал из усадьбы, не задерживаясь ни на минуту.
— Пусть он уедет! — безотчетно взывает она к ней.—
Пусть уедет поскорее, Каридад дель Кобре!
Утро выпало суматошное для всех обитателей усадьбы.
Доминго, как обычно, провел прием больных бедняков,
то и дело наведываясь к себе в комнату, в патио и в
самые отдаленные уголки дома, чтобы предотвратить
встречу племянницы с сиротой, а также возможную
бестактность со стороны последнего в разговорах со слугами. Дон
Роберто спозаранку разъезжает по городу. Он заехал и
банк, к своему нотариусу и в магазин импортного
машинного оборудования; отправил телеграмму мулату Рому-
ло — управляющему имением Лос-Мамейес, уведомляя
его о своем прибытии; и выполнил перед отъездом еще
множество самых разных, крайне необходимых дел. Но
сначала ему пришлось по дороге завезти внуков в школу
и немало понервничать, поминутно поглядывая на часы,
из-за того что дети слишком долго завтракали, не
торопясь выйти из-за стола. Черт подери! Ему надо еще
столько успеть сделать, чтобы иметь возможность погрузиться
завтра утром в поезд! Хуан раскопал среди груды
позеленевшей упряжи в комнате тутанхамоновских фамильных
реликвий помятый, пыльный восьмидесятилетний чемодан
дона Роберто. Протер его салфеткой, чтобы придать
достойный вид, и отнес Корине. В ее обязанности входит со-
432
бирать отца в дорогу и укладывать в эту старую рухлядь
самые необходимые вещи: рубашки, нижнее белье,
свернутые клубочком носки, два костюма из грубой
хлопчатобумажной ткани, гетры и простроченные кожаные
ботинки, завернутые в газету, пакетик с нитками, арникой,
железистыми квасцами и запиской, написанной ею
карандашом крупным шрифтом: «Если тебе не понадобятся эти
лекарства, оставь их Хуану». Пока Хуан подавал все это
Корине, он успел положить себе в карман брюк шелковый
платочек, который украдкой стащил из шкафа Корины, а
за пазуху сунул полфунта шоколада, незаметно изъятого
из старого комода доньи Хуаниты. Спрятав шелковый
платочек и плитку шоколада в тайник своего сундука, он
несколько раз прошелся по залитому солнцем патио и
вдоль комнат, где сновали люди, в надежде узнать, что
говорят но поводу его внезапного отъезда и перемены в
жизни. Он старается обойти стороной донью Каидиту,
которая способна прожужжать все уши своими советами,
основанными на ничтожном жизненном опыте; прилагает
все усилия к тому, чтобы избежать встречи с Доминго,
который все еще норовит выудить у него открытки и
записочки Нэны, и соображает, как бы не наткнуться на
донью Хуаниту, которая с очень деловым видом ходит
сейчас из зала на кухню и с нижнего этажа на верхний.
Донья Хуанита упорно старается доказать Канделарии,
Мерседес, Гойо и китайцу, что у них остается достаточно
времени, чтобы делать еще и ту работу, которую до сих
пор выполнял Хуан. Точно так же, как она доказывала
это после исчезновения Чече, когда стало меньше на
одного работника.
— Тем более что сахар теперь совсем упал в цене.
Пока сеньора повторяет этот свой неопровержимый
довод, означающий на Кубе необходимость трудиться еще
больше... тем, кто работает, Мерседес успевает
мимоходом подбодрить сироту. Пусть он не робеет. Ничего
плохого с ним не случится. Напротив, с деревенскими
жителями ему будет проще, чем с этими «разорившимися
зазнайками».
Китаец с теми же намерениями говорит Хуану:
— Будешь жить в деревне. Заработаешь денег,
найдешь себе мулаточку...
А Канделария восклицает:
— Знаешь! Уж лучше уехать в эти лачуги! Было бы
хуже, если бы они тебя оставили здесь, побив цлдоьми, а
2Ь К. Ловейра 433
потом возненавидев! Уш мне-то ты можешь поверить,
я не вру!
Дон Роберто возвращается из города уже в полдень,
поэтому Руперто сразу же везет всех мальчиков за
покупками: хозяйские внуки должны купить кое-какие книги,
которые им понадобятся сегодня в школе, а сирота —
нужные ему вещи для деревни, куда он отправится на
следующее утро.
Во время сьесты, когда дон Роберто уходит во второй
свой дом, а остальные члепы семьи погружены в дрему
каждый в своем кресле-качалке и слуги шепотом
переговариваются на кухне под звон фаянсовой посуды,
серебряных столовых приборов и стук конских копыт о
дощатый настил конюшни, Доминго запирается с Хуаном в
комнате Адольфо, надеясь, что во втором поединке с ним
ему удастся вызволить записочки, открытки и прочие
доказательства «глупостей» Нэны п сироты, которые он где-
то прячет. Но все усилия доктора тщетны. Хуан,
уверенный в надежности тайника, спокойно выкладывает
содержимое сундука на свою раскладушку и кровать Адольфо.
И поиски доктора не дают никаких результатов, а на все
его попытки что-либо узнать Хуан упрямо твердит одно и
то же:
— У меня ничего нет. Я все порвал и выбросил.
Днем Адольфо, как обычно, приходит принять душ.
Испытывая к Хуану нежное чувство и сожалея об его
отъезде в деревню, адвокат дарит ему старые
никелированные ручные часы, сохранившиеся еще со студенческих
лет, и другие свои поношенные вещи, которые он
извлекает из шкафа: широкий из выделанной оленьей кожи
пояс, кошелек из тонкого руна с серебряными колечками
и кремневую зажигалку с огнивом.
— Все это тебе рано или поздно пригодится в
деревне,— говорит он, помогая мальчику получше уложить
вещи в сундук и искренне подбадривая обещаниями: —
Я думаю, ты пробудешь там только до конца сафры.
Потом я сам приеду за тобой... Чтобы... чтобы мне не
оставаться в этой комнате одному. Хорошо?
К вечеру сундук Хуана увозят. Весь вечер мальчики
очень общительны и доброжелательны к Хуану. Взрослые
только мимоходом, скороговоркой говорят ему о
предстоящей поездке, словно между ними существует негласный
уговор не придавать этому событию значения. Подумаешь!
Всего-то пять миль от Гаваны! Стоит ли из-за этого вста-
434
вать чуть свет, чтобы провожать отъезжающих. А уехать
они должны очень рано, чтобы успеть к утреннему поезду
и чтобы солнце не спалило их по дороге из Минаса до
имения, когда они будут добираться верхом на лошадях.
К десяти часам вечера все обитатели усадьбы, не считая,
разумеется, доктора, дона Роберто, сироты и Нэны, уже
спят в просторном аристократическом доме супругов Ру-
ис-и-Карденас. Подумаешь! Всего-то пять миль от
Гаваны! Да и останется там всего-навсего сирота!
Хуан не засыпает до тех пор, пока не раздается храп
Адольфо, чтобы иметь возможность вытащить из
кармашка его жилета две или три хрустящие, клейкие кредитки
Испанского банка на острове Куба. Однако это не мешает
ему уже быть на ногах вместе с доном Роберто, едва лишь
начинает брезжить рассвет. С ними так же встают три
негра и китаец. Последний, чтобы приготовить
классический испанский завтрак: кофе с молоком и булочки; Ру-
перто — запрячь в экипаж лошадей; Гойо — прислужить,
а Донато — полить растения. Все приготовления ведутся
при свете ламп, но когда дон Роберто и его спутник идут
через сад перед фасадом дома в сопровождении Гойо,
который несет раздутый чемоданище сеньора, уже совсем
светло, на небе быстро тают утренние облачка, и оно
покрывается ослепительной перламутровой лазурью.
Аристократический район безлюден и погружен в сон.
Путники, выходя из дома, встречают лишь садовника, который
приостанавливает сверкающий душ из лейки и, разогнув
спину, приветствует их своей широкополой шляпой из
пальмовых листьев; Руперто уже гордо восседает на козлах,
держа поводья наготове, крепко прижимая к груди руки.
— Гони живее! — приказывает дон Роберто старому
кучеру.
Едва Гойо успевает поставить чемодан дона Роберто
в ногах своего соплеменника, кивнуть на прощание
хозяину и крепко пожать руку Хуану, экипаж трогается и,
подпрыгивая на ухабах, по плохо вымощепной улочке
устремляется к шоссе. Хуан, сидя на диванных подушках
экипажа рядом с насупленным доном Роберто, испытывает
в исковерканной жизнью душе мимолетную, потаенную
грусть, покидая усадьбу, которая была ему домом
несколько лет. Он едва сдерживает дрожь на губах.и
невольно выступившие в глазах слезы печали, вызванной
отъездом, и цепко, словно обезьяна, хватается за боковые
подушки, чтобы не слететь со своего места от толчков н
435
подскоков экипажа, который неудержимо влекут за собой
ретивые кони, подгоняемые Руперто с помощью длинного
щелкающего кнута.
Дон Роберто сидит все в той же позе. Так же
нахмурен, губы его плотно сжаты. Экипаж быстро катится вниз
по шоссе. Здесь город уже начинает сбрасывать с себя
сонное оцепенение. Навстречу попадаются извозчики,
погоняющие плетьми лошадей, которые мчат коляски,
громыхающие по мостовой. Тощие мулы тянут за собой по
рельсам трамвайчики. Едут возы с горами душистых
зеленых кукурузных листьев, молочники, восседающие верхом
на больших, продолговатых корзинах, наполненных
кувшинами с узкими горлышками. Открываются торговые
заведения, слышится звон церковных колоколов, свистки,
зазывающие выкрики продавцов, удары молота; тротуары
становятся все многолюднее, по мере того как экипаж
спускается по проспекту Рейна к Пласа-дель-Вапор.
У площади они продвигаются вперед очень медленно,
несмотря на тщетные усилия полицейского в пестрой
униформе, пытающегося с помощью стремительных
автоматических взмахов рук и каталонской брани расчистить путь
роскошному экипажу, запряженному парой.
С трудом миновав затор в торговом центре,
обуздываемые кони вскоре победоносно пускаются вскачь по Драго-
нес, достигая узеньких улочек старой Гаваны. Дон
Роберто наконец нарушает молчание: «Проклятое колониальное
правительство! Проклятая испанская полиция! Не
хватает еще, чтобы мы из-за этого дурацкого затора на
площади опоздали к поезду!» Хуан реагирует на
высказывание старика очень лаконично. В неизменной молчаливой
сдержанности обиженного мальчика угадываются смутное
волнение и неосознанная, скрытая грусть. Он едет в
экипаже с видом одинокого, погруженного в свои думы
путника, который объезжает улицы незнакомого города.
Гавана производит на него такое необычное и сильное
впечатление, словно это исключительное утро должно
оставить глубокий, неизгладимый след в его нежной, детской
душе. Особенно поражает его Гаванская бухта, где сейчас
царит оживление и чьи воды в тысячный раз прорежет
паром, направляясь в Реглу, чтобы доставить дона
Роберто и его, Хуана, на станцию, откуда отходит поезд в Ми-
нас. Над бухтой уже сияет вовсю яркое тропическое утро.
Редкие облака быстро рассеялись, пока они ехали в
экипаже от Серро до пристани Л ус, и солнце теперь радостно
436
блестит, источая ослепительный свет на высокие
крепостные стены Ла-Кабапьи. Великолепие естественной
панорамы, залитой живительным солнечным сиянием, до
глубины души потрясает всеми покинутого мальчика:
мачты, увенчанные знаменами; фелуки, бороздящие
сверкающую поверхность моря среди стремительных взмахов
весел; дымящий пароходик с тяжелым лихтером на хвосте;
белые, трепетные парусники, рассеянные по широкой
глади бухты за крепостью Морро; а здесь, напротив, над
клубами пара и облаками дыма индустриального района Рег-
ла,— свежая, чистая зелень полей, окруженных пальмами.
Дрожит корабельный винт, пущенный в ход. Паром
медленно и тихо отчаливает от пристани. Хуан, стоя возле
перил этого черепашьего судна между суровым,
замкнутым доном Роберто и раздутым, обшарпанным,
потрескавшимся чемоданом, отрывает взгляд от водного
пространства, которое со все возрастающей быстротой
увеличивается, отделяя паром от пристани, а Хуана — от Гаваны.
И устремляет затуманенный слезами взор к стремительно
удаляющимся от него зданиям, к самой окраине столицы.
И в его сердце вновь вспыхивает яркое воспоминание о
матери, которую он покидает там, под безвестным
холмиком земли.
XX
Бывшее ияхенио Лос-Мамейес находилось на равнине
у подножия волнистой сьерры. Со стороны Минаса
попадаешь в имение через ворота в плетеной изгороди. Сквозь
обширное море трав и сахарного тростника виден батей с
белым пятнышком полуразвалившейся башни, хорошо
вырисовывающейся на зеленом фоне пальм и фруктовых
деревьев и выступающей впереди неровного полотна
горбатых хребтов. Когда кто-нибудь въезжал в имение и
приближался к батею, перед ним неожиданно возникали,
словно рифы среди моря зелени, темные, покрытые
пальмовыми листьями крыши крестьянских хижин. Эти крыши
из листьев гуано теснились друг возле друга группами
вокруг небольших участков возделанной земли, словно
мозаика всех оттенков зеленого: пыльной банановой
рощицы, соломенной полосы маиса, прозрачной листвы бониато
и маланги. Вблизи старая башня выглядела серой,
щербатой, как и квадратное строение прессовальни и полураз-
437
рушенные толстые стены бывшего завода, заросшие
бурьяном и буйными неуемными кустарниками. Меж них
чернели два громадных зубчатых колеса и три примитивных
металлических котла, напоминавших огромные чаны для
хранения меда или цветочные вазоны с могучими, пышно
разросшимися кубинскими лианами. Напротив этих
развалин, отделенные довольно обширным пространством,
когда-то заполненным, словно улей, роем трудолюбивых
рабов и непрерывным потоком возов с тростником, все еще
возвышались побеленные, незаросшие старинный жилой
дом и еще одно нескладное здание, служившее в былые
времена пристанищем надсмотрщику бывшего
рабовладельца Руис-п-Фонтанильса. Очертания этих строений
выделялись на фоне темной листвы американских вязов и
величественных пальм, смутно видневшихся у дальних
границ имения. Там, под сенью американских вязов,
королевских пальм и бамбука, змеилась лентой горпая река, а
рядом, между берегом и краем тростниковых плантаций,
тянулась железнодорожная ветка, по которой вывоаился
тростник из Лос-Мамейес и смежных с ним имений. В том
месте, где находилась железнодорожная стрелка
Лос-Мамейес и только что установленные весы фирмы «Фиэр-
бэнк», группировалось еще несколько крестьянских хижин,
прилепившихся к склону горного хребта. Между этой
крохотной деревушкой и батеем на расстоянии полукилометра
среди равнины, заросшей испанским дроком, кроме бело-
красного диска железнодорожной стрелки и белоснежной
будки, где находились весы, возвышалась единственная,
расположенная поблизости фруктовая роща из
двенадцати вековых громадных мамеев, которые в давпие времена
дали название этой местности.
В Лос-Мамейес и в деревушке по другую сторону реки
было только две семьи белокожих. Одна из них — семья
сухопарого каталонца, который имел жену, тоже
каталонку, и небольшую собственную лавочку в уединенной
хижине напротив железнодорожных стрелок. Другая —
арендатора дона Роберто на этой плантации,
«островитянина» с примесью креольской крови, давшего много
нежных «побегов». Жил он в бывшем доме надсмотрщика и
давал приют, не слишком ласковый и великодушный,
неприхотливому одинокому цветку, униженному
неприкрытым эгоизмом нищенских семей, Росе —
двадцатипятилетней горемычной сироте и двоюродной сестре «сеньоры»
дома. «Сеньоре» было лет тридцать, но выглядела она на
433
все сорок, потому что не следила за собой и ежегодно
рожала по ребенку все пятнадцать лет своего замужества.
Звали ее донья Кандида Чирино,— фамилия очень
распространенная на Канарских островах, как и фамилия ее
мужа, дона Фиделя Кабреро. Дои Фидель относился к
числу тех сыновей Канарских островов, которым ветер,
дующий с соседнего континента, подпалил кожу, свил
волосы в кольца, закалил и пропитал воинственным духом
африканского племени карабали. У дона Фиделя было
поджарое, мускулистое тело, тонкие, лицемерные губы,
косой взгляд и манера говорить с расстановкой, обиняками:
манера, присущая скупому, хитрому крестьянину. Дон
Фидель едва умел читать по складам и, чтобы написать
свое имя и фамилию из тринадцати букв, нуждался не
менее чем в половине .чистого листа бумаги. У пего было
шесть отпрысков, начиная с белокурого загорелого
тринадцатилетнего сына и кончая двухлетней дочкой, всегда
ходившей нагишом. Старших детей Роса по вечерам
учила читать и считать. Девушка проводила все дни за
типично кубинским деревянным корытом и кадкой с водой
или перед почерневшим, заржавленным очагом. Роса
всегда занималась хозяйственными делами в домашнем
платье, перепачканном красной землей, в шлепанцах на босу
ногу; ее белые округлые руки были оголены, черные
густые волосы распущены по плечам, а глаза с печалью и
тоской, а может быть, с неотвратимым покаянием,
устремлены поверх крыш грязной соседней деревушки куда-то
вдаль, за волнистые очертания горизонта. Во всем имении
и его округе, кроме семьи каталонца и свояка Росы, по
было больше ни одного человека белой расы. Разве только
сожительница управляющего Ромуло, да еще его
свояченица несколько приближались по цвету кожи к белым,
благодаря тем женщинам, которые обитали в далеком
прошлом в доме надсмотрщика. Сожительницу Ромуло звали
Каридад, а его свояченицу — Петрой. Будь у них
поменьше работы и побольше опрятности, они могли бы являть
собой идеал кубинской мулатки — самой привлекательной
и чувственной женщины в мире: большие зовущие глаза,
толстые, сулящие наслаждение губы, широкие,
покачивающиеся бедра и соблазнительная, обнадеживающая
белизна складки между грудями в низком вырезе платья.
Но, несмотря на глубокое декольте и широкие бедра,
Каридад за пять лет совместной жизни с управляющим не
произвела на свет ни одного ребенка, а Петра помимо воли
439
оставалась девушкой. У Ромуло уже начала появляться
седина — запоздалая седина мулата. Когда Ромуло после
смерти своей жены сошелся с Каридад, он привел с собой
двух осиротевших сыновей, восьми и девяти лет, почти
таких же белокожих, как и дети дона Фиделя. Эта
«подчерненная» семья обитала в бывшем доме плантатора,
занимая несколько комнат по фасаду, еще не начавших
разрушаться. Здание имело классический портал с массивными
облупившимися колоннами. Годную для жилья часть
составляли зал и четыре больших комнаты, в одних пол
был из красного кирпича, а в других — бетонированный.
Широкие галереи окружали патио с колодцем и уже
непригодным для употребления водоемом. Задний двор был
громадный — с густо заросшим островком кизиловых
деревьев, граната, сапоте, мамона и различных сортов манго.
Меблировка в обоих домах была схожей: обилие кресел-
качалок, стульев и крестьянских столов. Особую роскошь
этого дома составляли широкая супружеская кровать на
железном каркасе, покрытом лаком, с медными
завитушками и экзотическим пейзажем, вырезанным у изголовья
по меди и отделанным перламутром, а также табуретки,
обитые кожей, охрипшие часы и два-три зеркала с
расплывшимися пятнами ртути. Украшения в домах были в
стиле доньи Кандиды, каталонцев и прочих обитателей
соседних хижин: своеобразные литографии, вырезанные
из старых журналов, и несколько нелепых образов —
явление святой Каридад дель Кобре или покрытого язвами
святого Лазаря; полочки и маленькие алтари, заваленные
дарами, идолами, амулетами,— смесь религии, ньяньигиз-
ма и колдовства. Особенно изобиловали подобными
предметами хижины, населенные цветными, невежественными
людьми, которые вели в этих «королевских» постройках
сибонеев такую же печальную, неприглядную, нищенскую
жизнь, как и их далекие предки: полуголые подростки,
нагие ребятишки, жалкая цыганская домашняя утварь,
дикое смешение полов, людей и домашних животных,
грязных и зловонных.
В бывшем доме надсмотрщика никто не умел читать,
и, кроме примитивных книг Росы, реклам и уже
упомянутых картинок из журналов, которые получал и хранил в
своей лавчонке каталонец, нельзя было найти ни одной
печатной буковки в двух милях вокруг.
На сей раз дона Роберто, как и обычно, когда он
приезжал в имение, поместили в зале большого дома, где еще
440
сохранилась побелка и был не совсем источен
бетонированный пол. Двумя простынями, натянутыми на
пеньковую веревку от стены к стене, отгородили от посторонних
глаз раскладушку и несколько табуреток, на которые
поставили все самое необходимое: чемодан, подсвечник,
стеклянный кувшин с водой, веер из листьев гуано и
револьвер с желтоватыми пулями. Хуана устроили в первой
комнате, полужилой и уже начавшей с одной стороны
разрушаться. Туда отнесли сундук, раскладушку и
полдюжины гвоздей, чтобы он мог развесить свои вещи. Но
Хуан переночевал там всего один раз. Несмотря на
пережитые волнения и физическую усталость, мальчик почти
по сомкнул глаз. Он долго ворочался и вздрагивал, ему
мерещились скорпионы на подушке, скользкая змея в
комнате и души мертвецов среди густой зелени деревьев на
заднем дворе. И когда утром Хуан вышел с темными
кругами под глазами, готовый вот-вот расплакаться, и,
поборов самолюбие, рассказал о своих ночных страхах, пад ним
сжалились и поселили в комнате вместе с сыновьями
Ромуло.
Приблизительно так же, как с этой комнатой,
происходило и дальнейшее знакомство Хуана с деревенской
жизнью, пока рядом находился опекавший его хозяин
имения. Проповедь, прочитанная ему доном Роберто в
поезде, была достаточно суровой, но не беспощадной.
Прежде всего из-за щекотливости затрагиваемого им вопроса,
а во-вторых, из-за неуверенности проповедника в себе
самом, ибо ему приходилось соблюдать величайшую
осторожность в обвинениях, чтобы не касаться подробностей,
которые его же могли шокировать и привести к
нежелательным последствиям. Но главным образом потому, что
вспыльчивый сеньор уже начал испытывать запоздалую
жалость и раскаяние за слишком крутое и поспешное
решение, которое они вместе с Доминго приняли, чтобы
поскорее положить конец конфликту, возникшему в Серро по
вине мальчика. Но дело было сделано, и теперь дону
Роберто оставалось только облегчить угрызения своей
совести участливой заботой о сироте. Для этого ему было
достаточно показать неотесанным деревенским жителям,
жестоким по отношению к слабым и раболепствующим
перед сильпыми, что он, их хозяин, проявляет отеческую
заботу о сироте. В день приезда, например, когда дон
Роберто, Хуан и Ромуло трусили от станции верхом на
лошадях под палящими лучами полуденного солнца, дон
441
Роберто несколько раз придерживал своего коня,
сочувствуя страданиям начинающего всадника. И преподал,
таким образом, урок гуманности управляющему, у
которого первые шаги мальчика в деревне пробудили если не
досадливое нетерпение, то, во всяком случае, вызывающую
усмешку. И потом, в доме, дон Роберто радушно и
шутливо представил Хуана всем по очереди, посулив каждому
из них какую-нибудь выгоду от приезда нового гостя в
Лос-Мамейес. Ромуло получит отличного помощника
в своих делах управляющего имением, женщины —
хорошего приятеля во время отлучек хозяина,
мальчики — учителя, способного быстро обучить их чтению и
письму.
На второй день после приезда Хуана в Лос-Мамейес,
пока дон Роберто и Ромуло объезжали верхом земли,
занятые под посевы, а Петра и Каридад в поте лица
прибирались в доме, чтобы сохранить чистоту и порядок,
сыновья управляющего отправились знакомить нового
товарища со всеми своими детскими забавами, помогая освоить
мальчику новый для него сельский мир. В тот день они
обежали владения бывшего рабовладельца, таинственные,
заросшие кустарником развалины старого инхенио,
тенистые, густые фруктовые рощи и журчащую, извилистую
речушку с ее «купальнями» — спокойными заводями,
затененными толстыми, развесистыми пальмами,
американскими вязами и бамбуком.
XXI
К вечеру того же дня не кто иной, как дон Роберто,
еще совсем недавно клокотавший в слепой ярости от
нанесенного ему оскорбления, преподал Хуану урок
нравственности, который мальчик, росший без родителей,
поневоле вынужден был усвоить.
После довольно раннего обеда дон Роберто
простодушно предложил семейству Ромуло пойти навестить
женщин «соседнего» дома и познакомить их с только что
приехавшим Хуаном.
Сразу же, но приказу Ромуло, Петра и Каридад
удалились, чтобы причесаться и привести себя в порядок.
Хуан отправился почти что вслед за ними взять свое
сомбреро. Проходя мимо комнаты, в которой скрылись
женщины, он неожиданно для себя услышал, как Каридад,
442
не в силах сдержать возмущения, бранила дона Роберто, и
притаился в темноте.
— Бесстыжий старик! — шипела взбешенная
мулатка.— Если он хочет заниматься шашнями с этой белой
замарашкой, незачем нас тащить с собой. Почему мы
должны во всем ему потакать? Конечно, раз ему нельзя
перечить, значит, надо все покорно сносить!
Хуан сразу же догадался о том, что привлекает в
«соседнем» доме дона Роберто. Он слишком хорошо его знал.
Откровенного негодования Каридад для него уже было
достаточно. Но... кто же она? Неужели жена
«островитянина»? Черт подери! Нет, не может быть. Тогда бы все
обстояло не так просто, как кажется на первый взгляд,
если верить словам старшей мулатки. Не такие, видно, они
люди, да и старик вряд ли пойдет на подобное
бесстыдство.
Хуан все еще терялся в догадках, не в силах
оправиться от удивления, пока они шли к дому, где жил дон
Фидель. Дон Роберто впереди, Ромуло с сыновьями
посредине, а обе женщины, по крестьянскому обычаю, позади
всех. На доне Роберто был отутюженный костюм грубой
хлопчатобумажной ткани, а на воротнике рубашки
сверкал масонский угольник.
— Добрый вечер! — прокричал важно хозяин
имения.
Послышался неизбежный в таких случаях лай собак, в
зале вспыхнул свет, и тут же на пороге появилась
полуосвещенная фигура уроженца Канарских островов.
— Добрый вам вечер, дон Роберто и вся честная
компания! Заходите к нам! — громко произнес он.
В зале, кроме хозяина дома и его растерянной,
немногословной жены, находились младшие члены семьи,
которые, несмотря на то, что их всячески удерживали и
пытались обуздать, лезли к гостям.
Не успел Хуан, слишком рано научившийся судить о
женщинах, подумать, что дон Роберто, вероятно,
намеревался отведать самое неудобоваримое блюдо, как тот
спросил про Росу. Взгляды всех присутствующих мгновенно
устремились на хозяина имения.
— Она в доме,— равнодушно ответила донья
Кандида, кивнув в сторону соседней кохмиаты, в которой мерцал
тусклый свет масляной лампы, и подставив впалые щеки
для будничных, неискренних поцелуев двум мулаткам.
И тут же, указав на свободные кресла-качалки и табу-
443
ретки, пригласила в унисон с мужем, который поддержал
ее с удвоенным рвением:
— Присаживайтесь, присаживайтесь.
Заговорили о только что приехавшем Хуане, но
разговор этот длился совсем недолго, ибо сразу был прерван
доном Роберто:
— Так придет сюда Роса или нет?
Пришлось несколько раз позвать ее, прежде чем она
наконец явилась. Но не в шлепанцах на босу ногу, в ;т-
мызганпом платье с рукавами по локоть, в котором
обычно стирала, а в кожаных, темных туфлях, в плохо
натянутых белых чулках за песету; собранные на затылке
черные волосы были перехвачены ярко-синей лентой, а
съежившуюся, но приятную фигуру облегало плохо
скроенное платье из розового голландского полотна с алыми
цветочками. Опустив глаза долу, она едва слышно
поздоровалась, улыбнувшись вымученной улыбкой гостям, а,
почти не разгибая правой руки, вяло протянула ее
навстречу жаркому, крепкому пожатию дона Роберто, а
затем подставила вспыхнувшие от стыда щеки неискренним
поцелуям соседок. После чего уселась между ними,
ссутулившись, почти спиной к сеньору, пожаловавшему к ним
в гости, делая вид, что принимает участие в общем
разговоре, время от времени вставляя отрывочные «да»,
«нет», «кто знает» и привычное восклицание,
выражавшее набожное изумление:
— Господи! Пресвятая дева!
Невзирая на неотесанность, дикое смущение и нелепый
деревенский наряд, девушка казалась дону Роберто
прелестной и соблазнительной. Пока беседа между соседями
текла по своему обычному руслу, полному недомолвок и
скрытых намеков, отравленных дружеским ядом, старик
не сводил глаз с Росы и, чтобы втянуть ее в общий
разговор, сыпал шуточки и остроты, на какие только был
способен. Каридад, не желая дольше сдерживать свое
негодование, кидала недвусмысленные камешки в их огород
и подмигивала. Донья Кандида нервничала, пытаясь
подавить в себе стыд и обмануть совесть. С толстых,
фиолетовых губ Ромуло — этого афрокреольского сатира — не
сходила завистливая, похотливая, откровенно хамская
ухмылочка. Дон Фидель прикидывался непонятливым с
наглостью все хорошо понимающего сводника, лишенного
какой бы то ни было морали и привыкшего
раболепствовать. Дети носились по галерее, а Петра и Хуан, словно по
444
молчаливому обоюдному уговору, не шевелясь, наблюдали
за этой отвратительной сценой.
Вдруг дон Роберто, неожиданно даже для себя, в
порыве той безотчетной смелости, которая охватывает
похотливого мужчину, когда рядом с ним находится желанная
женщина, дерзко проговорил:
— А ну-ка, Роса, пойдем приготовим немного кофе.
Тот, что я выпил после обеда, был так безвкусен, что я не
утолил своей жажды.— Он встал со стула и властно
добавил: — Ну, пойдем! Я тебя провожу!
Все были поражены, шумно заскрипели
кресла-качалки и табуретки. Но кто мог признаться дону Роберто в том,
что им все понятно? Кто посмел бы помешать хозяину
имения выпить кофе, который должна приготовить Роса?
Девушка покорно поднялась и робко шепнула Петре:
— Пойдем со мной.
— Нет,— решительно отрезала Каридад,— Петра не
может пойти.
Она не удосужилась объяснить почему, но никто не
посмел ее об этом спросить.
Донья Кандида хотела позвать кого-нибудь из своих
детей, однако дон Роберто, как всегда простодушно и
вместе с тем повелительно, добиваясь своей цели, сказал
Хуану:
— Ну-ка, Хуан! Идем с нами. Раз уж она такая
молодая и пугливая, что боится мертвецов.
Они удалились втроем. Дон Роберто велел Хуану идти
вперед с излучавшей тусклый, трепетный свет масляной
лампой, которую Роса оставила в соседней комнате. Хуан
пришел на кухню намного раньше их, отставших в
темноте больших, полупустых комнат для настойчивых, жарких
нашептываний и приставаний истомленного ожиданием
дона Роберто, значение которых хорошо улавливал сирота.
Он переживал сейчас еще один спектакль, еще одну
грубую сцену. Девушка, волновавшая дона Роберто, едва
лишь стали наливаться ее груди, а возможно, когда она
была еще девочкой, мужественно противостояла,
насколько она могла себе это позволить по отношению к хозяину
имения, его скотским намерениям всякий раз, когда он
приезжал в Лос-Мамейес, и, несмотря на угодливую
пассивность «островитянина» и его жены, отвергала
домогательства этого бездушного преследователя обездоленных
девушек. Хуан, слишком рано усвоивший основной
лейтмотив креольской жизни, сразу же догадался, что Роса яв-
445
лялась одной из главных причин частых и затяжных
посещений стариком имения и что до сих пор ему пришлось
довольствоваться лишь тем, что он украдкой грубо хватал
ее и тискал, как это делал сейчас, или, пользуясь
вынужденным смирением беззащитной девушки, делал то, что
она «позволяла» ему и свидетелем чего Хуану пришлось
стать через несколько минут. Хотя среди пепла в очаге
еще тлели угли и их можно было раздуть и развести огонь,
чтобы приготовить пресловутый кофе, дон Роберто
отправил Хуана в зал попросить спичек у хозяев дома. Когда
мальчик вернулся, он услышал, как Роса, задыхаясь,
шепотом умоляла:
— Он уже идет! Отпустите меня, он уже идет сюда!
И увидел потного, красного, озверевшего дона Роберто,
который, приперев рукой и коленом сопротивляющуюся
девушку в угол, целовал ее в шею, заплаканные глаза,
дрожащие губы, везде, куда мог дотянуться, а другой рукой
зажимал, словно клешнями, ее округлую грудь.
Появление Хуана положило конец этой бурной сцене,
и пока Роса, склонясь над плитой спиной к нему и к дону
Роберто, осушала над огнем слезы, старик, тяжело
отдуваясь и сверкая горящими глазами, пытался загладить
свою вину перед девушкой и вместе с тем, заискивая
перед ними обоими, цинично говорил, обращаясь к Хуану,
словно речь шла о самом естественном и целомудренном
на свете:
— Эй, Хуан! Как тебе нравится эта девчонка? Не
правда ли, каждому захочется дать волю рукам и забыть о
приличии? Но ведь ты умеешь держать язык за зубами... И
хорошо все понимаешь. Верно? Ты же мужчина, черт
подери!
Хуан, хоть и был «мужчиной», едва смог издать
несколько нечленораздельных звуков, вспыхнув от досады
и негодования, и отошел в сторону. Невольное
воспоминание о матери пробудило в его душе наивный протест и
горечь, заставив метнуться к выходу. Но дон Роберто
остановил его:
— Нет, нет. Не уходи, ты поможешь отнести кофе.
Вскоре аромат вкусного напитка заполнил собой
атмосферу безнравственной сцены, теперь уже безмолвной и
затуманенной дымом; огонь, полыхавший в плите,
отбрасывал дрожащие блики на грубую, закопченную утварь в
просторной деревенской кухне, Дон Роберто первым па-
правился в зал; за ним последовал Хуан, держа в руках
44G
лампу и жестяной кувшин, до краев наполненный
крепким, душистым кофе, и Роса с большим гладким блюдом
наподобие подноса, уставленным чашками разной
величины, разукрашенными яркими, аляповатыми рисунками па
любовные темы.
В зале едва поддерживался разговор, когда они
вернулись. Кофе и присутствие дона Роберто, которому надо
было потакать и потворствовать, вскоре развязали всем
языки. Снова началась беседа, искрившаяся меткими
намеками на чужую нравственность, потом заговорили на
извечную деревенскую тему о бандитах, блуждающих
душах мертвецов и старинных повериях. Наконец, дети,
уставшие от беготни по галерее, стали клевать носами,
одни сидя на табуретках, а другие пристроившись на
коленях у матери, и донья Кандида, уже не сдерживая
зевоту — эту устрашителышцу гостей,— без всяких церемоний,
игнорируя какие бы то пи было приличия, спросила у допа
Роберто, который час.
Пора расходиться. Уже поздно. Очень поздно. Почти
девять. Мальчиков растолкали, разбудили громкими
голосами. Мужчины обменялись теперь уже совсем вялыми
рукопожатиями, женщины — нескрываемо притворными
поцелуями, сопровождаемыми откровенной зевотой и
сказанными на прощание льстивыми комплиментами в адрес
нового гостя в Лос-Мамейес, словно штопором
вырванными из уст «островитян», согбенных, оцепеневших,
по-скотски потягивавшихся, когда они провожали гостей до
выхода.
Несколько секунд спустя обитатели дома бывшего
рабовладельца уже пересекали батей, погруженный в прохладу
и безмолвие, заполненный ароматами и покоившийся под
высоким тропическим небом, усеянным звездами. Какое-то
время слышался лай собак со стороны только что
покинутого ими дома. Им долго вторили собаки соседних
крестьянских хижии, где не было видно ни одного огонька. Лай
смолк, когда голоса полуночников затерялись в глубине
большого, старинного дома. И в ночной тишине,
воцарившейся над равниной и ближними холмами, раздавались
лишь бесконечное насвистывание ночных птиц да
неумолчный стрекот насекомых. И под эту музыку несколько
минут спустя, несмотря на все волнения и печали, Хуан по-
детски погрузился в сои после незабываемого для пего
второго сельского вечера.
447
XXII
Каждое утро на рассвете дои Роберто и Ромуло верхом
объезжали поля, во время сьесты спали полураздетые под
прохладной сенью широкой колоннады, а но вечерам
садились в кружок на табуретках посредине площадки под
защитой дыма — устрашителя москитов — и беседовали с
доном Фиделем и с кем-нибудь еще из соседних
арендаторов в округе о скоте, о тысячах арробах тростника и о
соблазнительных мулаточках, расцветающих в ближних
деревушках. Только с наступлением сумерек, когда ветерок
освежал своей прохладой день, дон Роберто расставался с
управляющим, чтобы пойти к дону Фиделю «попить
кофейку».
Если Хуан в эту пору оказывался дома, он слышал
бурчание рассуждавшей о морали Каридад, которая
возмущалась этими ежедневными кофепитиями старика в доме
Фиделя Кабреро. И к тому же такими продолжительными.
Но словам злоязычной мулатки, второй из «белокожей ь-
ких» доньи Кандиды, несомненно, был рогами, которые
она наставила «островитянину» с помощью дона Роберто.
Но Хуан редко бывал дома. Под крышей фактически он
проводил только ночи. Ибо с тех пор, как Хуан стал
свидетелем неистового любовного насилия дона Роберто над
Росой, зрелище это настолько потрясло его, что завершило,
как нередко бывает в подобных случаях, половое
возмужание мальчика, повергнув его в уныние, необычайный
невроз и склонив к уединению, молчанию, возможным лишь
при благосклонном к нему отношении окружающих,
вызванном присутствием здесь хозяина имения. Хуан больше
не бегал с другими мальчишками батея среди фруктовых
деревьев, посевов и огородов, примыкавших к соседним
крестьянским хижинам, среди зарослей кустарников па
равнине и по холмам, меж которых змеилось узкое русло
речушки с ее чарующими «купальнями» — спокойными,
тенистыми, глубокими заводями и ровными берегами,
поросшими мягкой, прохладной травой. Подавленный и
молчаливый, с блуждающим взором, Хуан бесцельно бродил в
одиночестве средь густых зарослей манго, простиравшихся
за домом на целый километр до огромной пальмовой рощи,
куда не раз доходил, подросток, возненавидевший весь род
людской, А иногда в долгие дневные часы он прятался в
непроходимых зарослях кустарников и сорной травы,
покрывавших развалины бывшего сахарного завода, лежа
448
там на какой-нибудь поляночке, свободной от спутанных
стеблей и веток. В манговых ли зарослях, среди пальм или
среди заросших сорняками развалин, впавший в меланхо-
лию Хуан ложился на траву или листву, ковром
устилавшую землю, и смотрел на плывущие в небе облака,
наблюдал за воркующими птицами, или гоняющимися друг за
другом насекомыми, или же за проходившими, словно на
параде, муравьиными войсками с маленькими вымпелами
из листочков и лепестков. Наконец, устав от бесконечного
созерцания и от воспоминаний, чередой проходивших
перед ним, обессиленный физиологическим переломом,
происходившим в его организме, опьяненный благоуханием
летней тропической растительности, он погружался в сон.
И спал до тех пор, пока первая капля дождя, или косой
луч солнца, не защищенный густой листвой, или громкое
воркование голубей в сумеречные часы не пробуждали его
и не заставляли поторопиться домой. Иногда он
прибегал прямо к обеду, когда вокруг почерневшего
деревенского кухонного стола, возглавляемого доном Роберто,
уже сидело все семейство мулата и дымилась ароматная
пища.
Как-то днем, когда Хуан подошел к одной из своих
затененных и незаросших полянок, до него донесся женский
умоляющий голос, прерываемый мужским — властным и
хриплым. Женщина просила, решительно защищаясь:
— Нет, нет, пожалейте меня!
Хуан, охваченный нестерпимым любопытством, очень
осторожно, почти не дыша, приблизился к полянке. И
сразу увидел сквозь ветви и стебли растений на соседней
полянке, почти у самого дома дона Фиделя, среди листвы
маленьких фиговых деревьев на пышном ложе из трав
Росу и дона Роберто. Он насильно притягивал ее к себе на
колени, а она противилась ему, как могла, и говорила:
— Не могу. Не могу,— и при этом мужественно
защищалась, отбиваясь от него руками.
Но старик обнимал ее, целовал, и молодая женщина,
побежденная ненасытными руками и губами распаленного
страстью мужчины, обессилевала, становилась все
податливее, покорнее и, наконец, уступила.
Тощая, волосатая рука, сжимавшая, словно
щупальцами, в вырезе платья груди и шею, и другая — темная,
дрожащая, шарившая под белоснежными нижними юбками,
одетыми одна поверх другой, вдруг взметнулись к
пуговицам кофточки, крючкам нижнего белья, плотно облегав-
29 К. Ловейра 449
шего ее упругое тело, и принялись безрассудно,
лихорадочно расстегивать их.
Черноволосая голова Росы, будто в беспамятстве,
запрокинулась. Дон Роберто подмял под себя девушку. И их
сплетенные тела погрузились в объятия уютного
травяного ложа.
Перед глазами Хуана все поплыло, по телу пробежала
страшная, но удивительно сладостная дрожь, и он впал в
чудесное забытье, рухнув на землю без чувств. Словно
умер от упоительного наслаждения...
Несколько минут спустя, когда Хуан пришел в себя,
Роса уже скрылась в глубине соседнего большого дома, а
дон Роберто, разглаживая помятую одежду, отряхивая ее
от сухих листьев и очищая от пятен зелени, торопился
уйти в другом направлении, как видно, к тому дому, где
обитал ныне.
Туда же отправился и Хуан, но с противоположной
стороны.
Так, когда ему было немногим больше четырнадцати
лет, завершилось его возмужание, и в тот самый день,
когда это произошло, он впервые воочию увидел истинное,
полное наслаждение мужчины женщиной, единственную,
ни с чем не сравнимую сущность любви.
XXIII
Хуан и в следующие дни ходил на ту полянку,
свободную от кустарника и сорняков. Иногда он едва успевал к
ужину, пребывая, словно малокровный, в полудреме всю
сьесту до самых сумерек или же разглядывая
воображаемые существа и предметы в сгущавшихся облаках,
розовеющих при свете заходящего солнца. Но он ни разу
больше не видел там Росу и дона Роберто, предающихся
любви на прохладном ложе из трав и листьев, среди лиан и
ветвей.
Вероятно, они уже не нуждались в столь
романтическом, сколь и неудобном месте для свиданий. Все эти дни
дон Фидель всячески потворствовал дону Роберто. Хозяин
Лос-Мамейес заключил выгодную для себя и для своего
арендатора сделку с владельцами сахарного завода в
Росарио, на котором перемалывался тростник обоих
компаньонов. Кроме того, дон Роберто, способный растопить даже
камень, когда желанный «плод» уже готов был упасть к
450
его ногам, менее чем за неделю сделал своему сообщнику
два очень ценных подарка: купил в Харуко петуха
редчайшей породы, которых разводят в Тринидаде, и отдал
немалую сумму, хранившуюся до того у
лавочника-каталонца. Одним словом, дон Роберто расплатился сполна.
И стал не просто каждый день пить кофе в доме дона
Фиделя, но и пить его наедине с Росой в полузакрытой
комнате, пока «островитянин» Кабреро храпел на
раскладушке в зале, почти донага обнажив свое волосатое тело, а его
добропорядочная сеньора де Кабреро, примостившись на
узком табурете под сенью портала, давила вшей в головах
своих голопузых дочек, прикрывая телом вход в дом
нестриженым сыновьям в коротких штанишках, которые в
этот час резвились на территории батея и вокруг него.
Однако потасканный дон Роберто не мог выдержать
сразу столько кофепитий подряд с женщиной, а тем более
молодой, белокожей, волнующей. Посещения его
становились все реже и реже, он стал жаловаться на бессонницу,
сердцебиение и невралгию. Спустя две-три недели, в
течение которых у него набухли мешки под глазами и обвисли
складки у губ,— все это свидетельствовало о болезни сердца
и усталости,— старый неисправимый греховодник решил
прервать свое пребывание в Лос-Мамейес, связанное, как
и все его предыдущие наезды в имение, пожалуй, более
всего с удовлетворением очередного сладострастного
влечения. Пасмурным, туманным утром — предвестником
дождливого дня — дон Роберто покинул Лос-Мамейес,
направляясь верхом в Минас в сопровождении
управляющего. Накануне вечером он сообщил во всеуслышание, так,
чтобы это достигло ушей Хуана, о своем отъезде в Гавану
и намерении вернуться в Лос-Мамейес к началу сафры.
Утром, по-креетьянски пожав руки всем обитателям
батея, он высказал пожелание, чтобы они получше
заботились о мальчике, а затем, обращаясь только к Ромуло, не
без волнения проговорил:
— Научи его работать, но не перегибай палку, он ведь
рос в городе и непривычен к грубой работе.
У Хуана почему-то на глаза навернулись слезы, сердце
сжалось от тоски, и он не остался среди тех, кто, стоя под
сенью портала, смотрел, как удалялись в сторону Гаваны
между кустарников молочая два опаленных солнцем
широкополых сомбреро.
На этом кончились его меланхолические скитания по
зарослям кустарников и рощам. Помимо примитивной
451
бухгалтерии, которой занимался теперь сирота, ведя в
замусоленных записных книжках учет полям, отведенным
под посевы, выкорчеванным лесам и возделанным землям, в
его обязанности входило также заниматься чистописанием
и чтением по складам с сыновьями управляющего,
вдалбливая с помощью букваря и тетрадок, перепачканных
красной землей, самые азы наук в головы этих двух балбесов.
Столь изнуряющие умственные упражнения чередовались
с грубой сельской работой, которая возлагалась на
маленьких крестьян батея. А отныне Хуан должен был стать
именно таким, еще одним малолетним крестьянином в
Лос-Мамейес. Тощим, беззастенчивым и беззащитным.
Среди подростков обоих домов только старший сын Ро-
муло имел постоянную обязанность: он был нарочным.
И каждый день ездил из имения в Минас и обратно, сидя,
растопырив ноги, поверх длинной корзины, уставленной
кувшинами с молоком, которые позвякивали в такт
цокоту копыт бежавшей неторопливой рысцой дряхлой, светло-
рыжей клячи. Коров доили крестьянские дети, и Хуан
вскоре принял участие в дойке, неуклюже, боязливо
путаясь в ногах у коровы в предрассветной утренней
мгле. Потом мальчики обдирали с початков маиса зерна и
разбрасывали их курам; купали лошадей в отдаленной
заводи реки; впрягали волов в волокушу, чтобы в самый
разгар дня привезти два бочонка питьевой воды из родников,
пробивавшихся на ближних склонах горного хребта, а
иногда под вечер собирали в кучу навоз для удобрения на
бескрайних пастбищах, выжженных раскаленным солнцем
самой жаркой летней поры, под неумолчное мычание
драчливых животных, увенчанных устрашающими рогами.
В промежутках между тяжкой сельской работой Хуан
снова стал участвовать в мальчишеских шалостях в самых
укромных и отдаленных уголках имения — возле реки,
дороги, в рощах. Такие забавы были возможны лишь по
утрам, когда Ромуло отправлялся верхом объезжать
плантации и границы имения или же взглянуть глазами
надсмотрщика, как работают бригады косарей или
сеяльщиков; либо во время сьесты, когда огромный полуголый
мулат храпел, широко раскинув ноги на раскладушке под
сенью колоннады дома. Если дон Фидель ласково
обращался со своими детьми, то Ромуло «разговаривал» только с
помощью пинков и подзатыльников. Правда, пинками и
подзатыльниками дети управляющего отделывались лишь
в тех случаях, когда провинность их была не слишком ве-
452
лика или они не попадали под горячую руку вершителя
правосудия. Иначе виновников ждало более суровое
наказание: их связывали по рукам и ногам, клали лицом вниз
и пороли сложенной вчетверо пеньковой плетью. Хуан
отлично сознавал свою беспомощность и беззащитность pi
долгое время всеми правдами и неправдами ускользал от
порки, готовой обрушиться на него в любой момент,
отделываясь лишь оплеухами и угрозами. Но страх перед
поркой, о которой с таким ужасом рассказывали ему сыновья
мулата, не покидал Хуана ни на минуту. Ибо рано или
поздно должен был наступить и его черед, поскольку
«прокурор» мог по ошибке наказать одного вместо другого или,
просто-напросто устав ждать, захотел бы наставить на
путь истинный «белокоженького», учинив над ним
варварскую расправу. Разумеется, Хуан, как и сыновья Ромуло,
не испытывал ни малейшего уважения, а тем более
нежности к человеку, который с легкостью раздавал налево и
направо оплеухи, срывая свою злобу, и обрушивал ремень
на беззащитных детей, которые оказывались у него под
рукой. Они боялись его. И страх этот передавался
женщинам, заставляя их покрывать и терпеливо сносить проказы
мальчиков, которым постоянно грозила порка. Не меньшей
была вероятность, что жестокие удары, как это уже не раз
случалось, обрушившись сначала на тощие тела детей,
посыплются потом на пышные телеса мачехи, неистово
бросавшейся на их защиту.
Но, невзирая на все свои страхи, мальчики, выросшие
дикарями, продолжали искушать судьбу и делали то, что
им было категорически запрещено: купались голыми
целой ватагой по несколько часов кряду в полуденное
время в самой глубокой, широкой и залитой солнцем заводи.
Ватага эта состояла из мальчишек батея и шести
парнишек всех оттенков корицы и угля, живших в соседних
хижинах бывших рабов. Из сыновей Ромуло интереснее
всего Хуану было с Антонио. Он уже достиг полной
зрелости, которой любил похваляться перед младшими с
истинно афрокреольским сладострастием и которая давала ему
право командовать ими, пользуясь абсолютной
диктаторской властью мужчины. Изогнув мокрое тело, блестевшее
в огненных лучах полуденного солнца, погрузив ноги в
искрившуюся зеркальную гладь заводи, он являл собой
живое воплощение Дискобола — мускулистого и
непобедимого. Хосе, младше своего брата всего на год, выглядел
ребенком рядом с этим гигантом. Из «белокоженьких» дона
453
Фиделя и прочей вереницы беспокойных, разноцветных,
голых мальчишек, орошавших водой и потом берег
«купальни», только Пепин, второй по старшинству, которого
Каридад называла рогами дона Роберто и доньи Кандиды,
вызывал у Хуана симпатию и доверчивое желание
подружиться. Ни Хулио, который был старше него на год, ни
Армандо и Фиделито, которые были младше, не обладали
той притягательной силой и умом, какими обладал Пепин.
Голый, лоснившийся от воды Пепин, сидящий после
купания на камне, в отличие от Антонио, напоминал тонкую
иглу шпиля над Капитолием. Выразительный контраст в
физической силе и этнографической окраске становился
особенно очевидным рядом с самыми черными
представителями *этой обнаженной, тропической фауны.
Плавали ли они в тенистой взбаламученной заводи или
лежали на прибрежных камнях, подсыхая под жарким
ласковым полуденным солнцем, обнаженность каждого из
этих плутов была целомудренной и гордой обнаженностью
подростков, которые вели здоровую, спокойную
деревенскую жизнь. Но порой перед купанием, а иногда после
него или же во время других своих отлучек из дома это
безбородое, нестриженое, полуобнаженное стадо сорванцов,
с откровенным наслаждением обстреляв градом камней
гнезда птиц и плоды фруктовых деревьев, делилось до
молчаливому и стыдливому сговору на группки, чтобы
укрыться в глуши рощ или среди самых тенистых и отдаленных
зарослей тростника и заняться разрушительным,
изнуряющим рукоблудием. К счастью, их прельщало и
обессиливало только рукоблудие, без взаимных прикосновений или
других более страшных отклонений, жертвами которых
могли бы стать самые маленькие и физически слабые или
наиболее податливые и пассивные из мальчишек. От
подобных мыслей их оберегала гордость, присущая
деревенским детям, и те первозданные чистота, сила и
непринужденность, которые они унаследовали от своих более или
менее далеких африканских предков.
— Только не это!
Таков был первый искренний порыв их души —
стремление дать решительный отпор всякому поползновению,
которое могло бы оскорбить их тайный, порочный сговор.
И только в таких случаях, не боясь получить ненавистное
прозвище «молокосос», они осмеливались возражать:
— Я скажу дома. Вот увидишь, скажу!
Все воспитание детей сводилось к тому, что они лишь
454
страшились разоблачения и наказания. Но никто не мешал
им являться к столу после своих гадких занятий в грязной
одежде, есть немытыми руками, утирать рот ладонью и
пить по очереди из одного глиняного кувшина, точно так
же, как они могли безнаказанно уединяться в поле
небольшими группками, разными по возрасту и цвету кожи,
потому что никого не беспокоили преждевременные
безрассудные начинания, которым могли подвергнуться самые
податливые из мальчиков, и волнующее унизительное
влечение, к которому тяготели подростки, выполнявшие днем
грубую сельскую работу и отдыхавшие только по ночам
в грязи и скученности, пагубной для их здоровья.
Разумеется, столь необузданной свободе они предавались лишь
в том случае, если не нарушали покоя сьесты, не вызывали
раздражения Ромуло, когда тот возвращался после
утреннего объезда имения, и не причиняли хотя бы самого
ничтожного материального ущерба собственности этого
домашнего тирана: то есть не умудрялись утопить волокушу
в омуте, стереть до крови кожу скотине, на которой ездили
в селение, разбить чашку или глиняную плошку во время
мытья посуды. Потому что за такие проступки им
действительно приходилось дрожать от страха перед угрозой
получить оплеуху или же подвергнуться самому жестокому
наказанию, которым им постоянно грозили с издевкой в
голосе:
— Я вижу, этот черномазый ждет не дождется порки.
Или ж"е вместо «черномазый» вставлялся какой-нибудь
другой оскорбительный эпитет.
Помимо речки, куда мальчишки бегали купаться всей
оравой, Хуан любил совершать прогулки по полям и
рощам вдвоем с худеньким, белокурым Пепином, с которым
очень подружился. Иногда за ними увязывались
кривоногие, голопузые, курчавые, но не очень черные негритята
из соседних хижин. Однако Пепин и Хуан предпочитали
совершать дальние, прсэдолжительные прогулки одни, а
часто даже независимо ют дальности и продолжительности
прогулки уходили вдвоем. Когда они бывали вместе,
сироту меньше всего тянуло к его порочным наклонностям.
Искренняя взаимная симпатия и настоящая дружба в
полном смысле этого слова объединяли двух «белокожень-
ких», беззащитных, впечатлительных и умных. Хуан,
«сиротка», как часто называли его некоторые, только в сердце
этого доброго, мягкого и великодушного мальчика,
которого «тоже» считали сыном старого развратника дона Ро-
455
берто, нашел душевный отклик, И весь запас своей
нежности,-евоих теплых, задушевных чувств обратил на него,
ибо ему некого было больше любить во всем белом свете.
Пепин делился с Хуаном своими ребячьими сомнениями,
тайнами, вопросами и надеждами. Сирота поверял Пепину
свои горести, самые сокровенные воспоминания,
затаенные обиды и переживания, которые ему довелось рано
испытать. Когда они оставались вдвоем, время летело быстро
и незаметно. Один говорил, другой с восторгом слушал.
Чаще всего слушал Пепин. Особенно подолгу болтали
неразлучные друзья, если им случалось проводить вместе
целый день. Такое бывало, когда Ромуло и дон Фидель
отправлялись на петушиные бои в Харуко, в Матансас или
в самую что ни на есть «Ваиу». В такие дни они не только
вели задушевные беседы и засыпали друг друга вопросами,
но и пользовались случаем, чтобы совершить какое-нибудь
пустяковое мошенничество, на которые был великий
мастак Пепин, или какое-нибудь мелкое воровство со
сноровкой Хуана, имевшего по этой части немалый опыт.
Иногда они с утра до вечера пропадали где-нибудь, рискуя
остаться без ужина, подвергнуться нападению со стороны
разъяренного, только что обворованного крестьянина или
гарцующего на коне ретивого голицейского, жаждущего
чисто кубинской деятельности.
Как-то раз Пепин, проходя с Хуаном через деревушку
по другую сторону реки, продал полицейскому два купона
старого лотерейного билета, а на вырученные деньги они
купили себе сардины, гуаяву, сыр и галеты в лавчонке
каталонца. Потом улеглись ничком на траву в тени вязов, и
сын доньи Кандиды рассказал своему товарищу, как уже
раз продал тому же самому полицейскому старые
лотерейные билеты и как на прошлой святой неделе отдал за две
песеты обыкновенный речной камень колдуну-негру,
сказав ему, будто бы это украденный из дома амулет.
— А что тут такого, верно? — спросил Пепин Хуана,
который внимательно слушал приятеля, не спуская с него
глаз.— Мой отец все время ловчит! Когда он относит счета
управляющему, то вписывает в записную книжку людей,
которые вовсе и не работают. Поживешь, сам увидишь,
как он это делает. Он и тебя скоро обучит.
— Да я уже заметил. Он ворует и на молоке, и на
выручке от продажи других продуктов.
— Ну вот, сам видишь. Все кругом воруют.
В другой раз Пепин сказал Хуану, вызвав бурный про-
456
тест со стороны последнего, что обитатели обоих домов
считают сироту незаконнорожденным сыном дона Роберто.
А заодно открыл ему еще одну тайну, которую услышал
от дона Фиделя и Кандиды: Ромуло влюблен в свою
свояченицу. Потому он вечно и ошивается возле нее, заставляя
то выдавливать себе прыщи, то копаться в густых волосах
и причесывать их, а иногда сажает перед собой в седло и
разъезжает на лошади по батею, «как придурочный».
Однажды днем обе мулатки мылись в тенистой излучине
реки, которую здесь называют «женской купальней». Пепин
потихоньку пробрался сквозь гущу кустарников и сорной
травы в надежде что-нибудь подсмотреть и вдруг увидел
Ромуло, который, заслышав чужие шаги, поторопился
удрать, опасаясь, как бы его не обнаружили. Кого он хотел
увидеть голой? Ясное дело, не жену, с которой спит
каждую ночь.
— Вот так-то! — заключил Пепин с серьезным видом.—
Будет тут когда-нибудь заварушка!
Хуан, в свою очередь, сообщил другу, что в Лос-Мамей-
ес все считают его, Пепина, сыном не дона Фиделя, а дона
Роберто. В отличие от Хуана, Пепин не возражал. А
напротив, простодушно согласился, заметив, что все находят
в нем сходство с доном Роберто, который относится к нему
с особой нежностью и великодушием и выказывает это,
когда никого нет рядом.
— Стало быть, твоя мать?..— начал Хуан, но Пепин не
дал ему договорить и спокойно произнес:
— Что ж тут такого? Раз ей в мужья попался такой
дурак.
Тогда Хуан с присущими кубинцам образностью и
неуемным восторженным смакованием, встреченными
Пепином с жадным любопытством, описал сцену, которая
произошла между Росой и доном Роберто на полянке среди
зарослей кустарников и лиан и невольным свидетелем
которой он стал. Вот это было зрелище! Какие позы! Какое
пьянящее чувство, какое безумное, ослабляющее
наслаждение стал он испытывать с тех пор во время своих
уединенных, неистовых рукоблудий, представляя себе
чудесные сцены любви! Хуан объяснил Пепину, почему он
испытывает такое наслаждение. Пепин сам скоро узнает,
когда «дозреет»! Пока ему этого не понять. Хуан знает по
собственному опыту. И вот в один прекрасный день Хуан
открыл Пепину свою самую сокровенную тайну, которой
больше всего гордился и которая не давала ему покоя. Он
457
признался другу, что в своем воображении в минуты
сладострастного рукоблудия представляет себе вместо зрелой,
уже сформировавшейся Росы пухленькую, непорочную
Нэну.
Это произошло в воскресенье. Дон Фидель и Ромуло в
субботу вечером отправились на знаменитые и повсюду
разрекламированные петушиные бои в Карденасе,
намереваясь вернуться лишь в понедельник днем. Хуан, давно
уже жаждавший осмотреть дальние поля, и Пепин,
мечтавший увидеть море, еще с вечера приготовили все
необходимое и, едва взошло солнце, устремились в сторону
побережья, находившегося довольно далеко от Лос-Мамейес.
Они долго колесили по тропинкам и дорожкам и вышли на
дорогу, которая напрямик вела в Санта-Крус. В десять
утра они уже стояли на вершине утеса, наслаждаясь
бескрайним, волнующимся морским простором, без единого
паруса или облачка дыма, лакомились украденным по
пути виноградом, пекли себе на завтрак, тоже наворованные,
бананы, ели фрукты и разогревали кофе с сахаром, тайком
взятые Пепином из дома.
После вкусного завтрака,— особенно вкусного из-за
разыгравшегося во время прогулки аппетита,
приправленного остротой приключения,— оба улеглись на прохладное
ложе из трав, затененное огромными скалистыми утесами,
тесно подступавшими к берегу. Погрустневший,
примолкший Хуан вспоминал те давно ушедшие времена, когда
еще была жива его мать и он беззаботно носился по
гаванскому побережью. Пепин, неотрывно вглядываясь в
безбрежную синюю гладь моря, мечтал увидеть корабль —
необходимый штрих для завершения желанной морской
панорамы. Чуть позже наступил для Хуана час задушевных
признаний, неудержимого стремления излить Пепину
переполнявшую его тоску. И Хуан с кинематографической
увлекательностью и эффектом поведал зачарованно
слушавшему другу о своих отношениях с прелестной внучкой
дона Роберто. Сирота с присущим ему от рождения
сладострастным пылом расписывал неотразимую красоту
обольстительной гаванской девочки и те сцены, которые
доставляли ему величайшее наслаждение, пробуждая в нем
раз от раза все более неодолимое желание обнять ее. Потом
он рассказал с плебейской злобой, как эта воображала и
продажная душа свалила всю вину на него, когда Доминго
потребовал от нее признания, и объяснил, почему его
выпроводили без всякого скандала, скрывая настоящую при-
458
чину, почти обманным путем, из усадьбы Серро. Но зато...
Он не отдал им писем, записочек и прочих вещей, которые
дарила ему на память гордая «возлюбленная»
аристократка, и проявил твердость, как настоящий мужчина.
Слушая откровенное, тщеславное признание друга,
Пепин невольно попытался вырвать у него главную тайну:
— А где все это?
— У меня. Хранится в надежном месте.
— Где?
— Ха! А тебе-то какое дело? Спрятаны в тайнике.
Вместе с другими бумагами, которые могут подтвердить, что я
не сын этого старикана.
— И правильно делаешь, Хуан! Такое надо хранить
как следует. Пока все это у тебя, ты держишь в своих
руках и девчонку, и всех их.
XXIV
Совсем другая жизнь наступила у Хуана с приходом
сафры.
Он расставался со своей раскладушкой намного раньше
остальных обитателей батея: в три часа ночи. Иногда даже
в два, поскольку его будил Ромуло со своей постели, а так
как мулат всегда боялся проспать и не разбудить мальчика
вовремя, то после полуночи, когда бы он ни продрал
глаза, на всякий случай начинал кричать:
— Хуан! Хуан! Вставай! Уже светает.
В такую рань Хуан должен был вставать, потому что
уже приступил к своим обязанностям весовщика. Сонный,
съежившись от холодного ветра, в холщовых штанишках и
рубашке, мальчик пересекал батей, чтобы присоединиться
к возчикам. Одни из них варили под мамеями кофе, другие
запрягали волов, а третьи уже приближались с возами,
полными тростника, соблюдая между ними большую
дистанцию и громыхая по вязким колеям межей. Хуан
преодолевал ту часть равнины, которая отделяла его от дома в
Лос-Мамейес, при тусклом, меркнувшем сиянии
тропического неба, еще усыпанного звездами, или при холодном,
серебристом свете луны, лившемся на землю, или когда
едва начинал брезжить алый рассвет со стороны Матанса-
са, обрисовывая волнистые контуры сьерры. Ориентиром
Хуану служили вспышки горна в кузнице, возникавшие
над бесформенными очертаниями Лос-Мамейес, и кероси-
459
новые фонари, освещавшие место, где собирались возчики.
Хуан выпивал свою порцию кофе и съедал несколько
безвкусных, жестких галет, а потом ехал к весам на первом из
груженых возов. Почти всегда он кутался в старую
домотканую блузу или дырявую куртку, которую давал ему
возчик-негр, жалевший продрогшего гаванского мальчишку.
И почти всякий раз, подпрыгивая от толчков на ухабах,
Хуан невольно со злобным раздражением вспоминал
недобрым словом владельцев усадьбы в Серро, которые в этот
час спали в тепле, а его так безжалостно вышвырнули из
города в деревню, где ему приходилось вести такую
суровую и тяжкую жизнь. Освещая фонарем лицо каждого
возчика, он взвешивал воз, груженный тростником. При этом
ему приходилось все время быть начеку, чтобы не
упустить тот момент, когда на платформе весов окажутся
только два вола и один воз. Стоило ему на секунду зазеваться,
и на весы уже ступали другие волы или другой возчик.
После того как Хуан взвешивал полный воз, тростник
сбрасывали в стоявший рядом пустой вагон, и снова ему
приходилось, соблюдая осторожность, взвешивать пустую
тару и только тогда, произведя вычисление, занести
разницу в счета. За малейшую оплошность на Хуана
обрушивались брань и подзатыльники Ромуло, который свято
следил за тем, чтобы никто ничего не крал, а все, что
кралось, перепадало бы только ему. С восходом солнца
Ромуло уже присоединялся к Хуану, внимательно наблюдая
за тем, чтобы он ошибался в каждой «разнице» в пользу
«дома», а в видимых расчетах в пользу дона Фиделя, с
которым управляющий потом делился. Приблизительно
около шести утра через Лос-Мамейес проходил порожняк и
отцеплял возле весов еще один или два пустых вагона.
В восемь утра Хуан уже возвращался домой, взвесив все
«свои» утренние возы. Он выпивал большую чашку кофе с
молоком, иногда заедая несколькими холодными
лепешками из маниоки или кукурузной муки, оставшимися с
вечера. И сразу же садился переписывать набело результаты
подсчетов после взвешивания тростника. Эта операция
занимала у него еще часа два. В это время дома никого не
было, кроме Каридад и Петры, хлопотавших по хозяйству.
У мужчин и мальчиков обоих домов во время сафры было
множество разных дел вне дома: Ромуло и дон Фидель
сразу же от весов ехали смотреть, как идет рубка тростника;
Антонио выполнял свои обязанности нарочного; Хосе
водил скотину на водопой вместе с сыновьями дона Фиделя,
460
которые попеременно выполняли еще обязанности сборщи-,
ков маленьких побегов тростника, работу доярок и
посыльных. Именно в эти часы, повторявшиеся изо дня в
день,— когда Каридад гремела посудой на кухне, Хуан
заполнял цифрами замусоленные записные книжки, а Петра
подметала в комнатах и вытирала пыль, покачивая
пышными бедрами перед жадным взором подростка,— возник
роман между этими двумя странными существами,
нашедшими приют под одной крышей. Возник постепенно, робко,
безмолвно. Сначала они молча обменивались пристальными,
проникновенными взглядами всякий раз, когда оставались
вдвоем в зале, вдали от Каридад, или когда сталкивались
без свидетелей где-нибудь в глубине дома, в отдаленной,
скрытой от посторонних глаз кухне, или же под
тенистыми кронами деревьев ближайших рощ. Потом осмелились
заговорить — и уже говорили без устали, простодушно,
перемалывая одни и те же скудные деревенские темы и
занимаясь каждый своим делом в зале. Затем, не менее
естественно и закономерно, они стали обмениваться
лакомствами, цветами, рукопожатиями, украдкой от прочих
обитателей дома, от всевидящих глаз Антонио и Хосе, от
ревнивого, бдительного ока Ромуло. И хотя над их идиллией
постоянно висела мрачная угроза двойной порки, а
возможно, и непоправимой беды, которую могла вызвать
нелепая, животная ревность Ромуло, могущественные силы
природы неудержимо влекли эти два молодых существа к
любви. Бесконечные восхищенные переглядывания
рослого «белокоженького» с печальными, выразительными
глазами и пышнотелой мулатки с большими сладострастными
глазами, непрестанные встречи, игривость и взаимные
пожатия в самых отдаленных уголках дома и батея, все
возрастающее плотское влечение этих двух юных созданий,
живущих под одной крышей, вскоре привели влюбленных
к слепой решимости. Участились невинные свидания,
чтобы «стряхивать плоды» в роще, «чтобы собирать яйца» в
зарослях кустарника, «чтобы рубить дрова» напротив
кухни. В дни особых приливов нежности Петра сама
осмеливалась приблизить свои округлые колени к поджарым
ногам Хуана под обеденным столом, над которым властвовал
мрачный, тупой взгляд Ромуло. Но прежде всего,
разумеется, Хуан, возбужденный своими уединенными
рукоблудиями, подогретыми образом мулатки, был тем, кто
непрестанно стремился подглядеть за желанной девушкой
или прикоснуться к ее телу, испытывая неодолимое жела-
461
ние вкусить истинно любовное наслаждение. Когда после
еды он ложился на раскладушку, чтобы отдохнуть во время
сьесты,— ему это разрешалось, поскольку он вставал еще
до рассвета,— Хуан требовательным жестом влюбленного
подзывал девушку и рывком притягивал к себе, невзирая
на ее угрожающий шепот и естественное сопротивление.
А в сумерки, когда они встречались в зарослях
кустарника, где гнездились куры-несушки, или в тенистой,
безлюдной роще перед тем, как ему надо было идти
взвешивать вечерний груз, он брал ее за талию, испытывая
неодолимое желание прижать к себе, поцеловать, повалить на
землю. Но и дома, и в зарослях кустарника, и в роще
сцены эти обрывались тем, что она ускользала от него,
задыхающаяся, испуганная, а он преследовал ее бесстрашно,
безудержно, иногда даже дерзко. Нередко в полдень или
вечером он пробирался на цыпочках, чтобы не
столкнуться с другими обитателями батея, к единственной бане или
к комнате Петры в надежде увидеть ее голой или в ночной
сорочке перед сном. Только сумеречные часы, когда Хуан
возвращался, взвесив собранный за день тростник, он
проводил вне дома, вдали от Петры, не следя жадным взором
за каждым ее движением, не преследуя ее по пятам, не
находясь подле нее минуту за минутой. Потому что именно
в эти часы Ромуло чаще всего разрешал себе невинную
непозволительную вольность по отношению к'
соблазнительной девушке: ласковые пожатия, заботливые
причесывания, отеческие шлепки, вызывая невольное возмущение
смекалистого влюбленного парня. Да еще потому, что
именно в эти часы Хуан имел возможность провести
время наедине с Пепином, чтобы поверять друг другу свои
тайны, рассказывать о своих проделках, наблюдениях и
открытиях.
Однако среди тайн, которые Хуан поверял своему
другу, не было той, которая касалась его отношений с Петрой.
В этом смысле он проявлял такую же стойкость и
осмотрительность, как и во всем, что касалось писем и
записочек Нэны до той поры, пока в порыве откровения он не
поведал ему об этом, взволнованный величественным
зрелищем моря. Его отношения с Петрой таили в себе такую
опасность и неминуемую беду, что и без того скрытный
Хуан окончательно замкнулся, отвергая любую попытку
вызвать его на откровенный разговор во время их
задушевных бесед. А надо сказать, у дерзкого влюбленного
было немало оснований потешить свое мальчишеское тще-
462
славие. Его мулаточка,— это было признано в Лос-Мамей-
ее и во всей округе,— считалась самой привлекательной,
самым лакомым кусочком. «Лучше всех!» —как
восторженно говорили мальчишки двенадцати лет и старше,
бродившие по полям от Унидоса до самого побережья и от
сьерры до Кохимара. К тому же она была не просто
маленькой, наивной влюбленной девочкой, смотревшей на
него восхищенным взглядом святой, не только мулаткой,
словно созданной для любовных утех и терявшей голову
от близости молодого мужчины, а по-настоящему, глубоко
любящей девушкой, презиравшей опасность, которой из-за
него подвергалась, и искренне, простодушно вселявшей в
него уверенность в минуты их тихого, безоблачного,
счастливого уединения, насмехаясь над страхом и даже
откровенно презирая его. А такие минуты уединения и покоя
у них были, пусть даже преходящие, пусть даже до того
неминуемого дня, когда над ними разразится буря, если
станет вдруг известно об их романе. Иногда во время сьес-
ты, пока Ромуло спал, а Хосе и Антонио пропадали на
реке, Петра и Хуан, с разных сторон, под разными
предлогами ускользали из дома, чтобы встретиться где-нибудь на
краю рощи. А иногда Петра, сделав вид, что идет за
тростником, или снять развешенное в патио белье, или за
букетом полевых цветов, отправлялась навстречу Хуану,
возвращавшемуся с работы. Бывало, смелость Хуана
доходила до того, что сразу же после ужина он говорил:
— Пойду загляну к дону Фиделю.
А по дороге прятался в развалинах инхенио и там
дожидался девушку, которая вскоре после его ухода тоже
восклицала:
— Пойду схожу к донье Кандиде!
И, как только скрывалась в темноте, решительно и
вместе с тем боязливо сворачивала к проему в зарослях
сорняка, где не менее отважно и все же дрожа ждал ее Хуан,
чтобы им провести наедине несколько минут.
Днем ли, под ветвями фруктовых деревьев, стоя
спиной к огромному круглому солнцу, воспламеняющему
горизонт в той стороне, где находится Гавана; в сумерки ли,
когда небосклон уже бледнеет, наполняясь
перламутровыми тонами и всеми оттенками розового, или на какой-то
миг вечером, на лужайке, поросшей травой, среди густых
кустарников, под небом, украшенным звездами,—
влюбленные болтали наедине, скрытые от посторонних глаз.
Иногда они разговаривали серьезно, а иногда весело и
463
счастливо смеялись. Говорили о самых разных пустяках, о
всякой всячине, но почти всегда на одну и ту же извечную
тему любви; и почти всегда разговор их сводился к самым
дерзновенным планам, позволявшим им все больше и
больше отдаваться своей страсти и в своих ужасных
мыслях приходить к твердому убеждению, что, возможно,
близок тот день, предначертанный судьбой, когда все
возрастающее чувственное влечение друг к другу уже не будет
подвластно ничьей воле: ни чужой, ни их собственной. Они
болтали, не замечая, как летит время и как они начинают
слишком громко говорить. Иногда она в ответ на сказанную
ей любезность запрокидывала голову и, забывая о всякой
опасности, заливалась голосистым смехом. Так длилось до
тех пор, пока девушка, именно девушка, а не он, замечала
вдруг, что прошло слишком много времени, что нельзя
дольше задерживаться, и, прервав идиллическое свидание,
осторожно направлялась к дому. Если это было возможно,
он, притихший, молчаливый, провожал немного «свою
смугляночку», как он ее ласково называл, а она не сводила
с него проникновенных, влюбленных глаз. Потом он
останавливался, ошеломленный, недвижный, и смотрел ей
вслед. Она уходила, взволнованная прощанием; грудь в
глубоком вырезе платья высоко вздымалась, приоткрывая
соблазнительную, многообещающую белизну; грациозная,
влекущая от рождения походка кубинки заставляла
колыхаться ее округлые бедра, которые плотно облегала
тонкая, прозрачная, легкая ткань крестьянского платья.
Меж тем в Серро ничего не знали о жизни Хуана, а
Хуан мало что знал о жизни обитателей усадьбы в Серро.
Выпроводив таким образом бедного сироту в деревню, по
предложению дона Роберто и Доминго, они тем самым
отлучили его от своего семейного очага, где он прожил
несколько лет. Он из-за своей дерзкой любви с равным
успехом мог оказаться за решеткой, на кладбище или среди
бандитов, мог сломать руку, упав с дерева, погибнуть от
анемии, вызванной безудержным рукоблудием, или быть
раздавленным колесами воза, не пробудив пи малейшего
беспокойства со стороны тех, кто еще совсем недавно
считал его почти что членом своей семьи, во всяком случае
одним из многочисленных домашних животных,— будь то
собака или слуга,— к которым если и не испытывают
любви, то привязываются хотя бы потому, что долго находятся
с ними под одной крышей.
Сам дон Роберто, продемонстрировавший ему на при-
464
мере с Росой урок насилия воистину немилосердный, едва
упоминал о сироте в своих деловых письмах к Ромуло,
которые вместе с гаванскими газетами приходилось читать
тому же сироте. В письмах этих почти всегда говорилось о
количестве собранного тростника, о поденщиках, о
воловьих упряжках и о насущной необходимости как можно
более тщательно следить за всем этим, чтобы
воспрепятствовать той постоянной угрозе разорения, которая неизменно
висит над обитателями Серро и которой даже три ученых
мужа в доме не могут противостоять должным образом.
Совсем недавно на усадьбу в Серро обрушилось большое
горе, пробившее страшную брешь в их семейном бюджете:
донья Кандита наконец допила последний стакан молока и
погрузилась в вечный сон в своем просторном кожаном
кресле. Ее необходимо было похоронить с тем пышным,
вызывающим религиозным великолепием, какого требовали
аристократический район Серро и громкая фамилия Руис-
и-Фонтанильс.
Однажды дон Роберто сообщил в своем письме, что на
следующий день утром в Лос-Мамейес прибудет дон Ро-
бертико со всеми своими охотничьими доспехами,
собаками и вполне законным намерением погоняться с ружьем
в руках по пыльным зарослям и плантациям за теми
немногочисленными перепелками и еще более редкими
бекасами, которые пока еще обитали в этих «культивируемых»
окрестностях. Сын дона Роберто приезжал,
воспользовавшись вынужденной передышкой в работе по уборке
сахарного тростника, вызванной серьезной поломкой машин в
сентрале. Это давало возможность великому охотнику взять
себе в компаньоны Хуана и других мальчишек батея.
Антонио встретил и привез его вместе с
многочисленным тартареновским арсеналом сетей, патронов, холодного
и огнестрельного оружия, в сопровождении трех собак,
которые пробежали от железной дороги до батея, высунув
языки. Его, как и дона Роберто, поместили в зале. Он не
снабдил устрашающими ярлычками, как это сделал
бессмертный тарасконец, свой великолепный арсенал оружия,
снаряжения и смертоносных механизмов, но зато сразу
же позаботился о том, чтобы прицепить к поясу
патронташ с пятьюдесятью патронами, револьвер и длинный
мачете, а сверкающее крупнокалиберное ружье поставить у
изголовья кровати, прислонив к табуретке.
Поскольку в охотничьи планы Робертико входила
также мечта заарканить какую-нибудь креолочку, чтобы хоть
30 К. Ловейра 465
как-то восполнить супружеское однообразие и
остывающую уже любовь к мулатке, которой он лакомился на паях
с братом в Гаване, то при виде Петры у него потекли
слюнки. Настолько, что он с бестактностью эротомана не
замедлил во всем признаться Хуану, пользуясь тем, что он
не его сын:
— Ну, парень, вот это девчонка! Как спелый плод са-
поте,— в каком месте ни сожмешь, сок так и брызжет!
Влюбленному подростку неприятны были его слова, а
тем более восторг, таивший в себе вполне определенный
смысл. Но Робертико не заметил этого, а если бы и
заметил, то его нисколько не заинтересовали бы переживания
Хуана. В доме, где выполнялась любая прихоть хозяйского
сына, всем было наплевать на то, что думает и делает
весовщик тростника.
За завтраком Робертико утолил голод цыпленком,
который уже стал редкостным блюдом в усадьбе Серро. И
досыта нагляделся на Петру, желая привлечь внимание
девушки настойчивым взглядом, а заодно плотоядно представить,
что скрывает поношенная, стиранная-перестиранная
одежда, плотно облегавшая ее фигуру. Сразу же после завтрака
он собирался облачиться в тяжелые охотничьи доспехи,
чтобы пойти с Хуаном пострелять голубей. Немало слов
пришлось потратить Ромуло, объясняя Робертико что-то
очень важное, но, несомненно, уже им забытое из того,
что было много раз читано в охотничьих справочниках: в
зимнюю пору в этот час солнце тропиков сжигает даже
камни, и если не дует ветер...
Поэтому Робертико и Хуан в сопровождении собак
пошли к подножию сьерры во второй половине дня, чтобы
выследить птиц, которые будут улетать с полей и
тростниковых плантаций на ночлег в горы. Хуан испытывал
двойное недовольство неожиданным вторжением гаванца. Во-
первых, потому что видел в нем нового, нестерпимого
соперника в любви, а во-вторых, потому что тот, заставляя
его принимать участие во всех своих охотничьих
глупостях, разрушал надежды сироты использовать по своему
усмотрению благословенную передышку в работе, которая
наступила из-за поломки машин в сентрале. Прощайте,
желанный сон по утрам, запланированные прогулки с
Пепином, игра в бейсбол с ребятами батея, купанье по
четыре часа в заманчивой «мальчишеской купальне», румбь?
под аккомпанемент бонго и марак возле хижин в соседней
деревушке! Прощайте, волнующие, сладостные, плени-
466
тельнейшие свидания в укромных уголках с ненаглядной,
чарующей возлюбленной!
Когда они подошли к краю ближайшей тростниковой
плантации у подножия горного хребта, Робертико
заговорил о Петре. Они погрузились в густую тень, которую
отбрасывал высокий тростник, защищая их от солнца,
клонившегося к закату. Охотник стоял, опершись на
заряженное ружье, Хуан держал собак за ошейники.
— До чего же хороша эта мулаточка! — начал
Робертико. И так как Хуан ничего не ответил, великодушно
улыбаясь, добавил: — Верно ведь? Очень хороша!
Хуан по-крестьянски упрямо хранил молчание, хотя
понимал, что неблагоразумно с его стороны быть таким
хмурым и неразговорчивым. Робертико нарушил тишину
полей, дважды выстрелив по голубям, которые в страхе
метнулись в горы, отделавшись только испугом.
— Мы слишком близко подошли к тростнику, мне
трудно целиться. Я вижу дичь, когда она уже очень высоко.
На эту тему Хуан готов был поговорить и даже
поспорить с охотником, уверяя его, что далеко отходить от
тростника тоже нельзя, иначе они будут хорошо видны птицам.
Не прочь он был побеседовать и, пожалуй, стал чересчур
словоохотливым, когда Робертико, снова почувствовав
потребность удовлетворить свое похотливое любопытство,
принялся расспрашивать его о девушках, живших в
соседних деревушках.
— Есть здесь девушки с хорошей фигурой, но не
очень черные?
— Сколько угодно! Хотя бы в доме Мадана, где
танцуют румбу. Там живут две негритяночки — пальчики
оближешь!
— Очень темные?
— Да нет, не очень. Зато хорошенькие. И аппетит-
ненькие!
— Нет, негритянок не надо.
— Они совсем не черные, только чуть-чуть темнее
тех, которые у вас там, в Гаване. А в доме напротив
каталонца есть две крестьяночки,
хорошенькие-прехорошенькие. Одна из них невеста полицейского из Харуко,
но и она и ее сестра из тех, кто во время танцев и игр в
фанты охотно танцуют со всеми подряд. Но...
— Тс-с-с! — призвал его к молчанию Робертико,
прикладывая палец к губам и вскидывая ружье на плечо.
Прозвучало еще два выстрела впустую. Хуан возоб-
467
новил разговор. Особенно он расхваливал Росу: она
совсем беленькая, и собой хороша, и без родителей. Но...
— Говорят, дон Роберто ее хахаль.
— Старик? Папа? Ну и ну! — произнес Робертико так,
будто эта новость нисколько его не удивила.— Странно,
что он, такой плотоядный, и не привязался к мулаточке.
— Потому что между ними стоит Ромуло.
— Ты думаешь — Ромуло?..
— Я... не знаю. Только ведь она еще сеньорита и к
тому же его свояченица.
Снова разговор прерывается, и снова звучат ружейные
выстрелы. На этот раз облачко пуха легким дождем
сыплется на деревенскую зелень, и псы бегут не зря. Самый
большой из них приносит охотнику крохотную голубку,
зверски раненную в грудь. Сквозь рану виднеются
раздробленные внутренности несчастной жертвы. И сердце
Хуана сжимается от жалости. Он снова замыкается,
испытывая еще большую неприязнь, почти ненависть к
этому непрошеному гостю.
Робертико пытается продолжить задушевную беседу о
женщинах, но Хуан едва отвечает ему, побуждая
охотника оглушать окрестности ружейными выстрелами и,
наконец, повернуть к дому. За ним, на еще более дальнем
расстоянии, чем собаки, идет Хуан. Робертико
по-прежнему растрачивает пули попусту, а сирота несет мертвую
голубку, мрачно и злобно глядя в спину отца Нэны. В
глубине души Хуан мечтает, чтобы пуля угодила в грудь
этого распутника и раздробила ему внутренности так же,
как этой несчастной, уже холодеющей птичке, которую
мальчик бережно и печально несет на вытянутой ладони.
Когда они вернулись домой и Робертико спросили о
результатах пальбы, которая слышна была здесь весь
вечер, охотник всю вину свалил на слишком близкое
расстояние между тростниковой плантацией и горой и на
голубей, не желавших стаями лететь в горы на ночлег.
После чего охотник принялся уничтожать дичь — но со
скотного двора. Он съел цыпленка. И опять пожирал
Петру сладострастным взглядом, становившимся для
Хуана нестерпимым.
Много дней подряд ходили на охоту Робертико и Хуан.
Иногда к ним присоединялся один из сыновей Ромуло.
Вот тогда-то охотник не заводил разговоров о женщинах,
хотя и наедине с Хуаном он тоже не находил должногр
отклика на свое откровенное бесстыдство. Чувство любов-
468
ного соперничества росло в мальчике по мере того, как
в мужчине возрастало желание удовлетворить свою
похоть. И пока один, теряя надежду заарканить
кого-нибудь в нищенских хижинах деревушки, чувствовал, как
его все сильнее и сильнее тянет к соблазнительной
мулаточке, другой испытывал все увеличивающееся
стремление поскорее расправиться с тем, кто покушался на
самые его искренние и вполне закономерные любовные
мечтания. Когда-нибудь этот Робертико выдаст себя,
откроются его грязные намерения, и не кто иной, как сам
Ромуло, все поймет. «Вот тогда посмотрим, как они
будут стреляться или драться на мачете!» Всякий раз, когда
Хуан видел Робертико с ружьем в руках, в его душе все
более неистово вспыхивало желание, чтобы ружье это
нечаянно выстрелило в ненавистного соперника и тот
вынужден был бы с продырявленной грудью уехать в
Гавану. Точно так же, как не раз Хуан мечтал, сидя рядом
с Ромуло на возу с тростником, чтобы проклятый мулат
свалился под огромные колеса и был расплющен.
Как-то днем в перерывах между пальбой Робертико
опять заговорил на свою излюбленную тему. При этом
губы его пересохли, в глазах светилось сластолюбие,
выражение лица было преисполнено цинизма.
— А ты, Хуан, когда-нибудь видел ее голой? —
спросил он.
— Нет,— поторопился сухо ответить Хуан.
Но Робертико не поверил ему:
— Ну уж! Расскажи кому-нибудь еще. Почему ты не
хочешь мне признаться? Стыдишься? Подумаешь! Что
тут особенного! А где тут купаются женщины?
Робертико, чтобы не смущать мальчика, говорил с ним,
не глядя на него, поэтому он не мог заметить, как тот
скосил глаза на ружье, лежавшее на земле у их ног, и как
тут же перевел взгляд на широкую, безлюдную дорогу,
уходившую в бесконечную даль в сторону Матансаса, и
что взгляд этот был беспокойным и жутким. И еще раз
спросил:
— Женщины в реке купаются?
Хуан уступил:
— Да. Женщины купаются в своей заводи. Но только,
когда там достаточно воды и она не мутная. Чаще всего
там купаются негритяночки Мадан.
— Что поделаешь! — воскликнул Робертико.— За
неимением пшеничного хлеба сойдут и маыиоковые лепеш-
469
ки! Да и в конце концов цветные женщины доступнее и
за ними не надо долго волочиться. Потому-то мы к ним
и привыкли... А в котором часу они туда ходят?
— Перед завтраком.
— Каждый день?
— Да.
Растущая агрессивная замкнутость подростка и
рисовавшиеся мысленному взору Робертико картины, которые
он надеялся увидеть завтра же утром, так как собирался
пойти подглядеть за женщинами сквозь прибрежные
кустарники, прервали в тот раз их разговор и охоту.
Продолжение этого разговора состоялось на следующее
утро. Ясное, солцечное утро, без малейшего дуновения
ветерка, невыносимо жаркое. Хуан вызвал Петру на
свидание в рощу, сделав вид, что идет собирать куриные
яйца, а на самом деле желая предупредить девушку,
чтобы она ни в коем случае не ходила этим утром купаться
на речку. Разумеется, они и прежде не раз встречались
и злобно поносили назойливого гостя, с приездом
которого еще больше усложнились отношения между
влюбленными и сгустились грозные тучи, готовые обрушить на
них беду. Петре не удалось прийти на свидание, потому
что по дому слонялись без дела Хосе и настроенный на
самый нежный лад Ромуло. Робертико ушел из дома по
направлению к реке очень рано, прихватив с собой ружье,
впервые за все время один. Приблизительно в девять утра
туда же через батей направились уже упомянутые выше
негритянки из дома бывшего раба Мадана вместе с двумя
худенькими, почти голыми девочками. Одна из
негритянок, проходя мимо дома Ромуло, крикнула:
— Каридад! Петра! Вы идете купаться?
— Да! Сию минуту!
И, взяв под мышку узелок с бельем, Каридад и Петра
пошли вслед за остальными женщинами.
Немного погодя Хуан, освободившись от Ромуло, кото-
рьщ заставил его писать письмо дону Роберто, быстро
углубился в развалины и заросли кустарника,
направляясь, с каждым шагом все осторожнее и бесшумнее, к
излучине реки, где находилась женская купальня,
отгороженная, словно стеной, высоким холмом, покрытым
густой зеленью. Как только Хуан нырнул в чащу и стал
карабкаться вверх по камням, он сразу же обнаружил не
очень четкие следы ботинок на низких каблуках и
несколько свежесломанных веточек. Хуан, ставший уже
470
почти крестьянином, научился распознавать следы и но^
сил нож за поясом. Несколько раз взмахнув им налево и
направо, он легко отсек ветки и свернул в ту сторону,
куда вел след, ничуть не сомневаясь, что он принадлежал
Робертико, который отправился к реке тайком
подглядывать за купающимися женщинами. Пройдя немного, Хуан
неожиданно очутился на полянке и сразу же увидел перед
собой охотника, который лежал ничком на траве и,
положив вдоль тела ружье, рассматривал, вытянув шею
вперед, купальщиц. Услышав приближающиеся шаги,
лазутчик недовольно обернулся, но, увидев Хуана, цинично и
заискивающе улыбнулся:
— Ба, что я вижу! Ты тоже пришел поразвлечься?
— Да,— сухо ответил Хуан, подходя к
раздосадованному Робертико и останавливаясь возле него.
Отсюда прекрасно обозревалась вся женская
купальня. У излучины реки за плотной занавесью из тростника
купались женщины и девочки всех оттенков кожи.
Девочки плескались голышом, а взрослые — в тонких,
легких рубашках, липнувших к мокрому телу. Среди них не
было видно Петры, скрытой тростником. Взгляд Робертико
был устремлен на Росу, стоявшую к ним спиной, с
распущенными волосами, в мокрой рубашке, облегавшей ее
бедра и полные ноги, погруженные в воду только по
колени. Мужчина едва дышал. Все его существо обратилось
в глаза, которые пристально следили за каждым
движением полунагой белокожей девушки, тщательно и
неторопливо обмывавшей свое тело. Хуан стоял рядом с
Робертико, неподвижный, растерянный, красный от
смущения и негодующий. Он смотрел и не видел того, что
доверчиво открывали его взору девочки и женщины,
легковерно предаваясь купанию на лоне природы. Всей душой
он молил бога, чтобы его любимая не показывалась из-за
толстых стволов тростника, прятавших ее чистое,
целомудренное тело от мужских глаз. Между тем Робертико
жадно, стараясь не упустить ни единого движения, жеста,
чувственной позы женщин, следил за купальщицами,
дрожа от сладострастия и упиваясь этим волнующим,
необычным, незабываемым зрелищем, и не переставал
доверительно и страстно нашептывать Хуану:
— Посмотри, посмотри на ту негритяночку! А Роса,
как хороша! — Затем, устремив алчный взгляд на
заросли тростника, сказал: — Тише, тише! Погоди! Мне
кажется, сейчас выйдет мулаточка.
471
У Хуана перехватило дыхание. Но Петра, словно
угадывая, что за ней шпионят, не выходила из своего
укрытия. Тогда Робертико, глядя на Хуана с вызывающим
цинизмом распущенного сластолюбца, который требует
немедленного скотского удовлетворения своих страстей,
глядя на него так, как уже не раз смотрел в предыдущие
дни, вдруг спросил:
— Ты умеешь делать то, что делает тростник?
— То есть как? Вы о чем?
— А вот как. Смотри. Тростник выпускает... росток,
да? Вот так... что еще?., дает тень. И... солому.
— Вы о чем? — переспросил Хуан, затаив дыхание.
— Все о том же. Хочешь, пойдем попробуем?—И он
поднял руку, чтобы показать на полуобнаженных и нагих
женщин, не дававших ему покоя.
Но едва он поднял руку, как Хуан оборвал его, резко,
враждебно, готовый выхватить нож из-за пояса.
— Пробуйте со своей дочкой Нэной, если вам так
хочется,— ответил он ясно, четко, не дрогнувшим голосом.
— Что ты мелешь, собака? — прорычал Робертико, с
трудом поднимаясь с земли, так как инстинктивно уже
взялся за ружье и положил палец на курок.
Хуан колебался лишь какую-то долю секунды, а затем
в страхе, как безумный, кинулся вниз по склону, шумно
ломая на пути ветки и лианы, раздирая на себе одежду и
кожу.
Вдруг прогремел выстрел, а за ним раздались
встревоженные крики насмерть перепуганных женщин.
Новый выстрел заставил их в панике бежать, накидывая
второпях сухую одежду прямо на мокрое тело.
Несколько минут спустя Робертико уже горячо
раскаивался в своем поступке. Он бросился вдогонку за
беглецом, всей душой желая не обнаружить распростертое
на земле, истекающее кровью тело, не услышать стонов
мальчика, изрешеченного дробью, корчащегося среди
зарослей кустарников и прижимающего руки к жестокой
ране. Увидев, что его нигде нет, и поверив в то, что он
жив и невредим, Робертико теперь хотел только одного:
успеть задержать его прежде, чем он вернется домой или
удерет из имения. Какой кошмар! Поднимется столько
шума из ничего! Придется вступать в опасные
объяснения с Ромуло. Не говоря уже о своих в Серро! А жена!..
Он добежал до развалин и пристроился в том месте,
откуда хорошо обозревались батей и все входы в дом. Он
472
готов был перехватить Хуана по пути и предложить ему
заключить обоюдное соглашение: никому ничего не
рассказывать о случившемся, простить все друг другу и
вместе защищаться от Ромуло. А в довершение задобрить его,
посулив подарки. И даже поездку в Гавану, черт подери!
Так размышлял он, притаившись за кустом, тяжело
отдуваясь после быстрого бега и нервничая, когда
заметил в двух шагах от себя Хуана, тоже скрывавшегося,
испуганного, вспотевшего, оглядывавшего батей и все
ведущие к нему тропинки.
Робертико тихонько позвал его, так, чтобы не спугнуть
и удержать от первого порыва снова пуститься в
спасительное бегство в ближайшие кустарники.
— Тс-с-с! Не убегай. Я тебе ничего не сделаю.
Честное слово! Честное слово! Напротив, я хочу знать, ве
причинил ли я тебе вреда?
Хуан не убежал. Он ответил, что лишь немного
разодрал одежду и поцарапался, чуть-чуть. Робертико,
подходя к нему, еще раз заверил, что сдержит свое честное
слово, и сразу же изложил ему свой план. Прежде всего
никому ничего не рассказывать. Ни одной живой душе
Он признает, конечно, что был циничен, груб, и хватит
об этом. Тем более что Хуан тоже очень дерзко ответил
ему. Теперь они квиты. Итак, договорились: никому ни
слова. Ни теперь, ни когда-либо потом. Да?
— Да.
— Тогда пойдем. Но с разных сторон. Ты — с одной,
а я — с другой. Если станут расспрашивать про
выстрелы, переполох и твою разорванную одежду, скажем, что
охотились на оленя и вернулись, услышав крики
женщин, которые, вероятно, испугались выстрелов. А
одежду ты порвал и сам поцарапался, когда мы преследовали
его с собаками. Хорошо?
— Хорошо. Только не надо про оленя, иначе
завремся. Здесь никто никогда не встречал ни одного оленя. А то
мулат сразу все поймет — он сущий зверь. Не думайте,
что он так просто проглотит эту пилюлю. Если он
пронюхает про купальню!.
XXV
Хуан оказался прав. Ромуло не очень-то поверил
объяснениям Робертико и мальчика, касавшихся
происшествия, которое стало притчей во языцех в домах и хижи-
473
нах в Лос-Мамейес и грозило превратиться в предмет
бесконечных деревенских пересудов. Так разодрать одежду
и расцарапаться, бегая за подстреленными голубками?
А собаки тогда на что? Да и какие голубки в девять утра,
к тому же еще прямо над женской купальней?
Хорошенькое дело! Но это говорит сын хозяина... Тем не менее
мулат с искренней и в то же время лицемерной насмешкой
воскликнул:
— Сдается мне, дружище, вы целились совсем в
другую мишень, но ружье дало осечку...
Подозрительность Ромуло и вполне понятное
опасение, что Хуан может выдать тайну, если мулат припрет
его к стенке, пытаясь все разузнать, заставили Роберти-
ко принять решение немедленно покинуть Лос-Мамейес
и уехать вечерним поездом, который проходил через
городок Минас, в Гавану. До железной дороги его
провожали Ромуло и Антонио. За полчаса до отъезда Робертико
уединился с Хуаном, чтобы подарить ему сентен,
который, наверное, еще с незапамятных времен носил с собой
как амулет в плетеном, из золотых нитей, кошельке.
Кроме того, он пообещал ему путешествие в столицу в
начале мертвого сезона. Затем сказал Ромуло, что пора уж
назначить маленькое жалованье весовщику тростника,
который не будет же вечно находиться на чьем-то
иждивении. Однако такое «великодушие» все еще казалось ему
недостаточным, и, взгромождая свои охотничьи доспехи
на себя и на лошадь, он, не дрогнув, протянул Хуану
револьвер марки смитт-и-вессон тридцать восьмого калибра
и наполненный патронташ.
— Это тебе. В подарок. Я давно уже хотел купить
себе в Гаване новый, более современный.
Присутствовавшие при этом Ромуло, дон Фидель и
Антонио побагровели от досады. Хуан тоже почему-то
покраснел. И Робертико пришлось с напускной
естественностью уговаривать его и даже сделать вид, будто он
обижен всеобщим удивлением, чтобы как-то оправдать столь
щедрый и вместе с тем обременительный для Хуана
подарок. Револьвер и патронташ неуклюже болтались в
правой руке маленького крестьянина до тех пор, пока
хмурые, молчаливые всадники не тронулись в путь.
Поскольку Хосе умчался в соседний дом сообщить
ошеломительную новость о потрясающем подарке, а
женщины ушли, опасаясь оружия, Хуан на какой-то миг
остался один. Он воспользовался этим мигом, чтобы сбе-
474
гать в мальчишескую спальню и спрятать револьвер и
патронташ в сундук под одежду, а сслтен — в карман
старых брюк. Эти деньги могли оказаться спасительными
для него в минуту беды, которая, казалось, подстерегает
его в этом доме на каждом шагу. Хуан был достаточно
осторожен и предусмотрителен. О существовании сентена
будет знать еще меньше людей, чем о его тайнике с
записочками Нэны, ибо об этой золотой монете в Лос-Мамейес
не известно никому, кроме самого Хуана, а о записочках
Нзны знает Пепин.
Испытывая нестерпимое желание обменяться
впечатлениями дня и получше узнать обо всем, что произошло
с момента выстрелов и переполоха, Хуан и Петра искали
удобного случая, чтобы при первой же возможности
встретиться наедине. Такой случай представился им к вечеру,
когда Ромуло и Антонио находились от них так далеко,
как этого только можно было желать, Хосе торчал в доме
дона Фиделя, а Каридад чистила бананы и тыкву, готовя
запоздалый ужин этого утомительного дня. Поводом для
встречи послужила спасительная надобность искать
гнезда кур-несушек — вечная необходимость при такой
примитивной птицеферме.
Как только влюбленные оказались вдвоем в
сумеречной темноте фруктовой рощи, раскинувшейся на
полкилометра, Хуан горячо поведал ей о том, как еще утром
заподозрил, что Робертико пораньше уйдет к реке
подглядывать за раздетыми женщинами, укрывшись на
холме среди зелени; как он, Хуан, тщетно пытался
предупредить девушку; как пошел потом искать этого «кастрата»,
чтобы застать на месте преступления и сорвать его
коварный замысел.
— И прежде всего из-за тебя.
Это он проговорил, глядя в глубину ее огромных,
сладострастных глаз. И, заново переживая все события, стал
описывать с присущей кубинцам выразительностью сцену
своей встречи с Робертико. Особенно красноречив он был,
рассказывая, как дерзко ответил бесстыднику, чтобы он
шел заниматься «этим» со своей дочкой Нэной, а не с
ним, и более скромно рассказал о том, как вынужден был
отступить перед Робертико, державшим в руках
заряженное ружье, которым, кстати, тот незамедлительно
воспользовался. После чего, правда, с тягостными для себя
оговорками, рассказал ей о неожиданном перемирии с
Робертико, ни словом не обмолвившись о том, с какой
475
готовностью принял он предложение сохранить в секрете
это происшествие. Что касается револьвера, то Хуан
объяснил поступок Робертико желанием сделать ему
подарок как бывшему другу и обитателю усадьбы в Серро.
О сентене он и вовсе не упомянул по известным уже нам
соображениям, точно так же, как держал в тайне свои
отношения с Нэной, опасаясь вызвать запоздалую
ревность и подозрения любимой девушки.
В смятении выслушала Петра взволнованный рассказ
Хуана. Но, несмотря на то, что речь шла о серьезных и
важных вещах и рассказчик был встревожен, ничто не
мешало ему помнить о своем постоянном стремлении
прикоснуться к возлюбленной. Не успел он закончить свою
интереснейшую историю, как руки его, еще дрожавшие
от пережитого им физического напряжения, потянулись
к холодным, нервным рукам девушки. Впервые она
протянула их ему, не сопротивляясь, не отнимая, доверчиво.
Они стояли лицом к лицу, на расстоянии протянутых рук,
объединенные могущественной притягательной силой
пристальных, проникновенных, горящих глаз. Стояли
молча. Наконец, не выпуская ее покорных, трепетных
рук, он осмелился обнять ее за талию и, прильнув к ее
созревшей, высоко вздымавшейся страстной груди,
приник жадными, сладострастными губами к ее нежному
приоткрытому рту. Испытывая восторженную любовь к
герою столь необычного происшествия, она отдалась
своим еще робким, влажным, девичьим ртом первому в
своей жизни настоящему, бесконечно долгому поцелую.
Они шли к дому, крепко обнявшись, мешая друг
другу при ходьбе. На кухне уже поблескивал в плите огонь,
сквозь двери и окна по фасаду сочился желтоватый свет
керосиновой лампы. Он шел, опьяненный, ошеломленный
и ослепленный первым проявлением своего чувства на
пути к настоящей любви; она, по-матерински
встревоженная, ласково гладила его руки и грудь в тех местах, где
виднелись царапины и ссадины, оставленные колючками
во время его отчаянного бегства утром. Они
возвращались, нисколько не заботясь о том, что им надо
придумать какую-нибудь ложь, дабы оправдать необоснованное
опоздание. Недомолвки, изворотливость и сбивчивость их
объяснений, затаенный испуг и беспокойство,
слышавшиеся в их голосах, взволнованность, отражавшаяся на
их лицах после незабываемого свидания,— все это,
пожалуй, впервые, зародило в черствой и недальновидной Ка-
476
ридад подозрение о любовной завязке, которую время и
обстоятельства день за днем легко превращали во все
более прочные узы.
Ромуло и Антонио слишком задержались, и Каридад
решила оставить им еду, а самим поужинать.
Быстро проглотив свою порцию, Хуан отправился к
Пепину. Он боялся, как бы Каридад не заметила, что он
всеми силами старается не смотреть на Петру, и, кроме
того, испытывал неодолимую потребность рассказать еще
кому-нибудь о своем утреннем приключении. Сын дона
Фиделя встретился со своим закадычным другом посреди
батея, слабо освещенного изящно изогнутым молодым
месяцем и мириадами звезд, рассыпанных по чистой
синеве бездонного неба. Друзья углубились в развалины
бывшего завода и, взобравшись на один из котлов, полный
земли и заросший травой, уселись там поговорить.
Увлеченные разговором, мальчики едва обратили
внимание на все возрастающий лай собак, возвещавший о
приближении из Минаса Ромуло и Антонио, и не
подумали о том, что Ромуло, вероятно, будет недоволен сиротой,
который не выходит ему навстречу, чтобы принять из рук
узду и расседлать лошадей.
В самый разгар своей многословной беседы Хуан и
Пепин вдруг услышали зычный голос Ромуло:
— Хуан! Хуан!
— Иду! Иду! — громко отозвался Хуан и, спрыгнув
с котла, мгновенно устремился к дому.
— Беги скорее! — поторопил его друг и тут чле
закричал вслед за Хуаном: — Он уже идет! Иде-е-ет!
Едва Хуан очутился посреди батея, как увидел
стоявшего у портала Ромуло, ясно вырисовывавшегося в слабо
освещенном проеме дверей, а за ним, в глубине,
сгрудившихся в кучу встревоженных Каридад, Хосе, Антонио я
Петру.
Когда испуганный подросток уже подходил к порталу,
к нему стремительно кинулся мулат, а его жена с
безрассудной горячностью и состраданием попыталась
удержать мужа:
— Погоди! Поешь сначала, потом все уладишь.
Но он грубо ответил ей:
— Пошла прочь! Не лезь не в свое дело! Вон отсюда!
Все в дом! — И, подбоченясь, склонив голову и зло
прищурившись, спросил: — Так куда ты подевал весь этот
хлам и револьверишко?
477
— У меня в сундуке.
— Иди принеси. Можешь прицепить к поясу, если
хочешь. Я жду тебя здесь.
— Но, дон Ромуло...
— Молчать! Делай, что тебе говорят! Ступай и
принеси сюда все немедленно!
Несчастный парень, напуганный, как никогда, и
вместе с тем испытывая негодование, пошел в дом, не смея
больше ни перечить, ни просить. Не посмели этого
сделать и другие.
Хуан вернулся, держа револьвер и патронташ в правой
руке так, чтобы не выглядеть слишком воинственно.
Остальные ждали в зале, настороженно, объятые ужасом,
почти не дыша.
Когда Хуан приблизился к взбешенному мулату, тот
проговорил, выхватывая у него левой рукой револьвер с
патронами, а правой расстегивая кожаный ремень
шириной в четыре пальца.
— А ну, несчастный! Сейчас же брось все это или
давай сюда!
И пока действительно несчастный парень торопливо,
дрожа от страха, протягивал ему оружие и патроны,
съежившись перед неминуемой поркой, тот, все более
распаляясь, ругал его грозно и непотребно:
— Так чем же ты занимался с этим бездельником все
утро? Шпионил за голыми женщинами? Да?
— Нет, дон Ромуло...
Но «дон» Ромуло не дал ему договорить. Он не хотел
ничего слушать и обрушил на морально и физически
безоружного сироту оскорбления и удары:
— Этот револьвер будет моим. Паршивый ублюдок
богачей не должен иметь оружия! Паскуда! Найденыш!
Выродок! Сволочь!
Хуану оставалось только напрягать мышцы и
сжиматься сначала от ударов ремня, а затем и от кулаков, которые
со всего размаху в порыве неистовой злобы наносил ему
разъяренный человек.
Один из ударов попал в конце концов между бровью и
ухом. Брызнула кровь. У Хуана зашумело в голове и
все поплыло перед глазами. Он стал клониться к земле,
схватившись руками за лицо. Но не упал, потому что
взбесившийся дикарь, напуганный вдруг тем, что
слишком далеко зашел, поддержал Хуана и, делая вид, что
ничуть не раскаивается в своем поступке, утверждающем
478
его авторитет и могущество, продолжал бурчать, сердито
сопя:
— Так вот! Этот револьвер тебе подарили за обман,
верно? Тоже мне подарочек!.. Думаешь, раз мы черные,
значит, дураки! Ха! Ступай в дом!
Хуан повинуется, не роняя ни единой слезинки, не
прикасаясь к кровавым ссадинам, оставленным на его теле
ремнем. Ромуло подпоясывается и следует за Хуапом, по-
прежнему сердито сопя, как будто он не имеет никакого
отношения к происходящему. Они проходят мимо
остальных; никто не смеет даже пикнуть или хотя бы поднять
глаза, чтобы мельком взглянуть на пострадавшего,
который идет, выпрямившись, хмурый, непоколебимый,
безмолвный. Но если бы Петра подняла на него глаза, то он
увидел бы в них слезы. У Каридад и сыновей Ромуло
сердце сжимается от страха и жалости.
Воскресший готтентот, только что учинивший зверскую
расправу, не пожелал ужинать. Впрочем, Антонио тут же
внес ясность, сказав, что они уже поели на постоялом
дворе в Минасе. Хуан впотьмах скинул с ног башмаки и, не
раздеваясь, не приложив к ссадинам и синякам даже
смоченной в воде тряпки, вытянулся во всю длину на почти
голой раскладушке. Ему хотелось остаться одному, никого
не видеть, не слышать участливых расспросов; хотелось
упиваться болью и злобной, яростной жаждой мщения,
До УДУшья стеснившей грудь.
Когда чуть позже в комнату пришли Антонио и Хосе,
ночевавшие здесь же, Хуан прикинулся спящим, опасаясь,
как бы те не вздумали лечить его, утешать и
расспрашивать. Он лежал на боку, отвернувшись к стене, положив
под голову, в том месте, где у него на виске была кровавая
ссадина, какую-то тряпку, предохранявшую рану от
грязной, замусоленной подушки. И, сам того не ожидая,
по-настоящему уснул, сломленный внезапным, неодолимым
нервным спадом, который неминуемо должен был
наступить после всех треволнений этого необычного дня,
полного жестоких впечатлений и переживаний.
Его не стали будить. Он проснулся сам от зуда в
правой голени, разодранной колючим кустарником, когда
бежал утром, и ударенной потом ремнем, когда согнулся,
чтобы защитить лицо и грудь. Проснулся вскоре после
полуночи. Собаки в окрестностях уже замолчали, а петухи
от дома к дому, от батея к батею начали кукарекать. Его
мучила жажда, тело горело, словно в огне. Вероятно,
479
у него был жар. Какое-то время он не решался встать,
чтобы босиком в темноте пойти напиться. Вдруг мулат
проснется, и ему опять что-нибудь взбредет в голову? Наконец
он преодолел страх и самоубийственное смирение, которые
сызмальства приучили его покорно сносить все
превратности судьбы, а нередко и подвергать опасности свою жизнь.
Был бы жар у Антонио или Хосе, тогда другое дело! Но
ведь жар у него, у сироты. Разве они подумали хотя бы
взглянуть, нет ли у него на теле серьезных ран или
ссадин, разве попытались хоть одним участливым
словечком сгладить несправедливость оскорблений и побоев,
нанесенных жестокой рукой? Погруженный в прискорбные
размышления, дрожа от страха и озноба, он пошел в
столовую и жадно осушил половину кувшина воды. И все тем
же грустным мыслям предавался потом, лежа на
раскладушке, неподвижный, безмолвный и уже окончательно
потерявший сон. Рядом слышалось мерное дыхание его
товарищей по комнате, а из глубины дома доносился храп
бессовестного самодура. В своей ненависти, — желание
отомстить за унизительную порку не давало ему покоя и
заставляло в бессилии ворочаться на постели,— он забыл
даже о Петре, которая, возможно, в этот час тоже не
спала, охваченная жалостью, тоской и тревожными мыслями.
Да, этот бесстыжий мулат самый настоящий самодур, коли
он пришел в такую ярость, заподозрив, что видели голой
его свояченицу, а не жену. А главное, его бессовестное
возмущение просто было проявлением неприкрытого
эгоизма — желанием самым наглым образом присвоить себе
чужой револьвер и патронташ. Еще бы! Ведь ограбленный
не мог пожаловаться на вора, написать об этом Робертико,
впрочем, такой же сволочи, как и мулат. Жаль, что он,
Хуан, бессильный сирота, еще слишком слаб, чтобы с
достоинством постоять за себя, сразиться со всеми лицом
к лицу, смело, в свое удовольствие, даже с наслаждением!
Растревоженный мыслями о пережитой несправедливости,
не дававшей ему покоя, Хуан Кабрера, пожалуй, впервые
в жизни с такой ожесточенной злобой подумал о том, что
его судьба никак не связана ни с чьей судьбой; что он нуль
в этом человеческом обществе pi его существование, жизнь,
назначение на земле глубоко безразличны всем: и
знакомым, и незнакомым. Он слабый и бедный, поэтому его
могут избить лишь за то, что он дерзнул подсматривать из-
за кустов за голыми женщинами. Подобные вещи могли
безнаказанно позволить себе только люди, обладающие
480
властью, такие, как Ромуло или эта скотина Робертико,
сын богачей, который даже счел для себя возможным
предложить ему, Хуану, пойти на гнусность и позор,
распалившись при виде нагих женщин. А его, сироту, вышвырнули
из усадьбы лишь за то, что он дерзнул завязать куда более
естественные и чистые отношения с Нэной, которая,
кстати сказать, сама подбивала на это и всячески
содействовала ему, Хуану, воспитанному на улице и в лавочках.
А этот самый Доминго, всегда такой добренький, не он ли
в минуту гнева, вернее, в минуту уязвленной фамильной
гордыни, предложил отправить его, словно исчадие зла,
пусть маленькое, но все же исчадие зла, в имение Лос-
Мамейес, в дикую, безнравственную кабалу к зверю,
облаченному в платье! А старая ханжа донья Хуаыита, всегда
готовая обрушить удары на голову чужого ребенка! Ну
ничего! Настанет когда-нибудь и его черед! Он подумал о
монете, спрятанной в сундуке. Вспомнил, что знает все
закоулки в Гаване и в любой момент может скрыться. При
воспоминании о Гаване в его сознании всплыли нищенское
предместье и образ Хулиана, его давнишнего друга. И тут
же промелькнула злорадная мысль о тайничке в сундуке,
в котором он, словно скупец, хранил, не без дурных
намерений, свое сокровище: письма Нэны. Именно тогда он
принял в глубине души первое и вполне осознанное,
определенное, твердое решение быть готовым использовать
любой подходящий случай, чтобы сбежать из Лос-Мамейес;
а пока затаить злобу против ненавистного мулата и отныне
защищаться любым оружием, любыми средствами, всегда
держать камень за пазухой, а зло на уме, чем бы ему это
ни грозило.
Ромуло зажег свет, чтобы встать. И Хуан, снова
испытывая жажду, пошел в столовую влить в пересохшую от
жара глотку оставшуюся в кувшине воду.
— Куда ты собрался ни свет ни заря? — спросил его
мулат, выходя навстречу.— У тебя и сегодня что-то па
уме?
— У меня жар.
— Жар? — все еще недовольно, но уже явно смягчаясь
пробурчал Ромуло.— Жар! Не жар у тебя, а одно
бесстыдство! Иди ложись, а утром, когда проснешься, смой с себя
и счисть все эти грязные струпья! Хватит притворяться!
«Бесстыдством» Ромуло называл синяки, ссадины и
царапины, которыми было покрыто все тело Хуана. Хуан
смирился. Новая порция воды несколько охладила жар,
31 К. Лоиейра 481
и мальчик, сильно пропотев, погрузился в глубокий сон,
словно под наркозом.
Проснулся Хуан оттого, что Каридад приложила к его
лбу ладонь, ^тобы посмотреть, нет ли у него
температуры. В другой руке она держала чашку дымящегося кофе
с молоком.
— Хуан! Что с тобой? — спросила она.
— У меня был жар, но, кажется, прошел.
Каридад велела ему оставаться на раскладушке,
сказав, что у него еще есть температура, и заставила выпить
кофе с молоком. Она сообщила ему, что Ромуло уехал
верхом на лошади, Антонио отправился в Минас, а Хосе в
соседнем доме, наверное, точит лясы про вчерашнее.
Вместе с приходом Каридад явилось сладостное
воспоминание о Петре. Он слышал, как она прибирает в зале,
пока за окном победоносно восходило ослепительное
утреннее солнце, а с полей и рощ даже сквозь затворенную
дверь проникал в комнату пряный аромат диких цветов и
резкий — тропических растений. Хуан представил себе
опечаленную, расстроенную, очень напуганную девушку и
искренне, от всего сердца огорчился, пожалев, что забыл
о той, кого по-настоящему любил, кто был единственным
родным человеком на свете. Он чувствовал, как все его
существо вновь охватывает упоение и безмерный восторг,
которые столь чудесным образом расцвели в нем, когда их
губы слились в первом поцелуе, крепком, жадном,
бесконечном. Нетерпеливое желание увидеть ее, неистовое
стремление поцеловать, прижаться к ней, нашептывать
страстные слова любви, верности, неколебимая решимость
сделать своей — все это пришло на смену грозным ночным
мыслям и вялой сонливости, которой он только что
предавался.
На самом деле, комната не была затворена наглухо.
Дверь, выходившая в патио, была приоткрыта. Мимо этой
двери не раз проходила и останавливалась, когда было
возможно, Петра. Хуан властными жестами подзывал
девушку, но она взмахом руки давала ему понять, чтобы он
подождал.
Ему не пришлось долго ждать. Едва Каридад
отлучилась из дома, углубившись в рощу, Петра вошла в комнату,
чтобы второпях расспросить пострадавшего, как он себя
чувствует и не надо ли ему чего-нибудь, а он с такой же
поспешностью приподнялся на локтях, притянул ее к себе
и, целуя, сказал:
482
— Ничего. Не беспокойся. Я тебя не оставлю. Если ты
захочешь, мы с тобой сбежим отсюда вдвоем. Подальше.
Далеко, далеко...
И пока они на какую-то минуту смолкли,
настороженно, чтобы избежать опасности, прислушиваясь к каждому
шороху и жадно прильнув друг к другу губами, он вдруг
решительно сунул правую руку в искусительный вырез
платья, вздымавшийся от взволнованного дыхания, и
завладел упругой, круглой грудью, наполнившей его ладонь
теплом. И, замерев доверчиво и влюблепыо, она позволила
ему эту вольность, потому что все мы идем на уступки,
когда нам этого очень хочется, и потому еще, что вчера
любовь и нежность уступили безоружному, безудержному
чувству женского сострадания к обиженному, избитому
любимому человеку.
Прошло два дня. Температура у Хуана то повышалась,
то падала, но не становилась нормальной. Ромуло тоже
изредка заходил к нему в комнату, не переставая по-отечески
грозно бурчать, впрочем, более благосклонно. Каридад
приносила ему еду и душистый настой лечебных трав,
приготовленный в соответствии с крестьянской фармакопеей.
Антонио, Хосе и Пепин забегали немного поболтать с ним.
Петра при каждом удобном случае, раз или два в день,
позволяла больному обнимать и целовать себя.
На третьи сутки после памятной всем жестокой
расправы, учиненной Ромуло, Хуан проснулся среди ночи от
болезненного зуда и жжения в том месте, где у него была
рана на голени. Не в силах дольше терпеть молча, он
сначала застонал, а потом стал кричать от нестерпимой боли,
словно его резали по живому месту. Он кричал все громче
и громче, в отчаянии корчась на раскладушке, задрав
сведенную судорогой ногу кверху и вцепившись в нее обеими
руками. Наконец его крики разбудили всех обитателей
дома. Первым прибежал Ромуло, за ним Каридад и Петра.
Испуганные Антонио и Хосе спросонок таращили глаза на
страдальческое, заплаканное лицо товарища, который еще
несколько дней назад стойко и безмолвно перенес
чудовищную порку ремнем.
Едва приблизив к распухшей воспаленной ране лампу,
Ромуло воскликнул:
— Туда попали личинки навозной мухи. Паршивые
твари. Если их не прикончить, никто не сможет уснуть: ни
он, ни мы.
Он велел Антонио принести несколько кислых апель-
483
синов; Каридад и Петру послал согреть кастрюлю воды,
а сам пошел срезать и заострить сучок гуаявы.
Через несколько минут они уже принялись за лечение
Хуана. Его лечили так же, как леча г от мушиных личинок
телят, а по медицинскому заключению Ромуло именно
мухи отложили личинки в запущенную рану Хуана. Аи-
тонио и Хосе держали его за ноги, Каридад — за
туловище и руки, ибо на него не действовали никакие уговоры,
что иначе он не сможет уснуть всю ночь, что боль станет
сильнее, а рана еще хуже. Острием сучка Ромуло вскрыл
ранку и проворно извлек из нее несколько личинок, затем
насыпал туда толченой апельсиновой корки, накрепко
завязал тряпкой и уселся вместе с остальными ждать, пока
произойдет столь необычное умерщвление тварей. Хуан,
словно безумный, метался, истошно вопил от нестерпимых
укусов этих ничтожеств, гибнущих от яда. Он не в силах
был сдержать криков, вызванных отчаянием и болью, хотя
и стыдился их перед всеми, особенно перед Петрой. Вскоре
боль стала утихать, и несколько минут спустя Ромуло
очистил рану от месива из апельсиновых корок и мертвых
личинок. Потом недрогнувшей рукой выскреб острием
сучка, невзирая на истошные вопли и рывки страдальца,
сожженное кровавое содержимое раны, промыл теплой
водой и перевязал. И только тогда все отправились досыпать
остаток ночи. Хуан еще долго не мог сомкнуть глаз от
ноющей боли в ране, прислушиваясь к неумолчному лаю
собак, растревоженных его отчаянными криками,
которыми он нарушил глубокую тишину полей.
Через три дня Хуан уже был на ногах. Он ходил,
закатав штанину выше раны, перевязанной грязной от
красной земли тряпкой. Грубые, глумливые насмешки
крестьян по поводу его раны принесли несчастному подростку
не меньше страданий, чем издевательская, унизительная
порка, которую учинил Ромуло почти взрослому человеку.
— Эй, парень! Говорят, навозная муха развела в твоем
пупе червей? — спросил дон Фидель, увидев Хуана
первый раз после случившегося.
— Как у недоношенного бычка, перепачканного в
навозе,— не замедлил вставить свое слово его старший сын
Хулио.
Возчики тоже встретили весовщика насмешками, когда
возобновились работы по сбору сахарного тростника и тот
появился чуть свет возле мамеев, чтобы выпить свою
порцию кофе.
— Гляньте-ка, люди добрые. К нам навозник идет!
— Привет, дружище! Что же эю ты в себе навозных
мух развел! А еще галисиец!..
Хуан хотел огрызнуться, чтобы его оставили в покое,
но тут один из самых чернокожих возчиков окончательно
добил его, заметив с комичной серьезностью, вызвавшей
взрыв хохота:
— Осторожнее, братва! Червоточина разбушевалась!
Из всех обитателей мужского пола в Лос-Мамейес
только Пепин относился к Хуану с состраданием и ни разу
не намекнул на столь постыдную нечистоплотность.
Женщины, разумеется, жалели сироту, который рос без
отца и матери. И, наверное, именно это чувство побудило
Петру пойти на новые уступки возлюбленному,
становившемуся все более требовательным и ненасытным в любви.
Однажды днем, когда они разными путями и под
разными предлогами пробрались в отдаленный, тенистый
уголок соседней рощи, она согласилась пойти на нечто
действительно безрассудное и немыслимое в тех условиях, в
которых развивался их роман, пойти на то, о чем он
беспрерывно молил ее со слезами на глазах в минуты страсти,
когда они уединялись вдвоем. Петра спала в комнате одна,
между спальней Ромуло и Каридад и комнатой мальчиков.
С памятной ночи, когда Хуан кричал от боли в ноге, его
переселили в отдельную комнату рядом с той, где жили
мальчики. Хуан и Петра сговорились, что на рассвете
следующего дня, как только Ромуло станет будить Хуана,
чтобы он отправлялся взвешивать первые возы с
тростником, прибывавшие вскоре после полуночи, Петра, всегда
просыпавшаяся от властных криков свояка, встанет и
босая, чтобы в случае чего сказать, будто идет «на двор»,
выскользнет наружу и свернет за угол, к большому,
заросшему травой участку земли, который тянется между
стеной и ветвистыми гуаявами, окружающими дом. Все это
казалось Хуану нетрудным, вполне осуществимым и
неопасным для девушки. В доме, к счастью, не было собак,
куры спали в глубине рощи, а гуаявы давали
спасительную тень, всегда готовую скрыть влюбленных. А если
вдруг кто-нибудь застанет их на месте преступления?
Что ж! Тогда они вместе удерут из Лос-Мамейес. Оба
умеют работать, поженятся или же будут жить просто
так, без брака, и «наслаждаться друг другом».
— Мы не будем делать там ничего плохого,— уверял
он ее, гипнотизируя своим неотразимым, умоляющим
485
взглядом.— Только целоваться, лежа в траве и тесно
прижавшись, крепко-крепко, раз уж мы не можем этого
делать здесь из-за вечной спешки и страха.
И Петра пошла. Пошла, потому что обещала и боялась,
что он рассердится, если она обманет. Пошла совершенно
одетая, плотно укутавшись в темную, дырявую шерстяную
шаль. Он ждал ее, дрожа, как и она, от страха перед этой
рискованной затеей и от пронизывающего холода
предрассветного февральского утра. Им не удалось лечь в траву,
она была мокрой от росы. И оба стояли в нерешительности,
объятые ужасом. В каждом шорохе среди тенистых гуаяв
им мерещились пугающий шелест ползущего удава маха,
устрашающее приближение соседской собаки,
вынюхивающей преступников, или, что было бы еще трагичнее,—
крадущиеся шаги Ромуло. Гораздо больше удовольствия
они получали от своих вечерних свиданий в роще. Их
ночное свидание не продлилось и десяти минут. Хуану не
сразу удалось уговорить Петру пойти туда еще, несмотря на
все мольбы опечаленного влюбленного, умело
сочетавшиеся с ужасными угрозами. Само собой разумеется, что
угрозы эти становились раз от раза все страшнее, и наконец
он добился своего. Их ночные свидания возобновились. Все
чаще и продолжительнее, все неистовее сплетались их
молодые тела на холодной мокрой траве, пока еще
облаченные в одежду, но воспламененные томительной, пылкой
близостью.
В том же месяце, четырнадцатого февраля 1895 года,
в Лос-Мамейес вместе с письмом от двенадцатого числа и
газетой «Ла Луча» от тринадцатого числа, а также
кое-какими подробностями, которые сообщил старшему сыну
Ромуло начальник железнодорожной станции Минаса,
пришло очень важное известие: ночью 12 февраля скончался
дон Роберто. По словам кондуктора, жившего в районе
Сиенаги, от которого и узнал эту новость начальник
станции, дон Роберто оставался верен себе до самой смерти.
В полночь, съев на ужин жаркое в Благотворительном
обществе, он отправился к своей любовнице в дом на шоссе,
где был уже через час, а через два часа его на носилках
перенесли в фамильную усадьбу. По аристократическому
району Серро поползла плебейская молва, будто бы
местный священник несколько часов упорно отказывался
отпустить грехи усопшему сеньору. Письмо написал Адоль-
фо. Сообщая о смерти отца, он уведомлял Ромуло о том,
что в ближайшее же время приедет ознакомиться с делами
имения, хозяйство которого управляющему надлежит
отныне вести с чрезмерной бережливостью. Газета «Ла Луча»
посвятила смерти дона Роберто одну из тех пространных,
хвалебных, претенциозных статей, с какими и поныне
продолжает выступать кубинская пресса, необычайно падкая
до всякого рода нелепиц. Дона Роберто нельзя было
назвать ни плохим, ни хорошим, ибо большинство его
пороков являлось порождением нравов современной ему эпохи
и среды. Однако репортер газеты, не имея возможности
превознести истинные заслуги аристократа — его
патриотические идеалы и сепаратистскую деятельность, не долго
думая, пустился в общие рассуждения, самые
панегирические и самые лицемерные, чтобы до предела забить
газетную колонку в черной рамке, посвященную
«досточтимому» сеньору, нарисовав портрет человека в высшей
степени совершенного: высоконравственного,
добропорядочного, великодушного, гуманного, идеального супруга,
образцового христианина и примерного отца семейства.
Голос Хуана дрожал от горьких воспоминаний и
глубокого негодования, когда он читал эти полные лицемерия
лживые строки собравшимся в кружок обитателям дома
бывшего рабовладельца Руис-и-Фоптанильс,
растроганным столь взволнованным чтением сироты. Даже на глазах
Ромуло заблестели слезы, а голос его скорбно дрожал,
когда Хуан кончил читать про умершего командира: во
время Десятилетней войны Ромуло служил под началом
дона Роберто.
— С той поры он мне как родной отец! Жаль его!
Скоро, видно, настанет и мой черед последовать за ним!
При слове «отец» глаза Каридад тоже увлажнились, но
лишь па миг, ибо она тут же принялась недовольно
бурчать, а потом проговорила, имея в виду Росу и доныо
Кандиду:
— Ладно уж! Идите сообщите эту новость обеим
вдовам, пусть приготовят себе траурную одежду.
Мальчики отправились в дом дона Фиделя. Хуан шел
позади всех и невольно думал о том, что, несмотря на
бесстыдство старика и все прочее, он связывал его с прошлым,
которое уже становилось чем-то далеким и расплывчатым.
Но тут его мысли обратились к другому человеку, также
связывавшему его с прошлым, на которого Хуан в глубине
души возлагал свои надежды: он подумал об Адольфо —■
самом верном, справедливом и простом из всех сыновей
покойного старика.
487
В соседнем доме известие о смерти дона Роберто
сначала поразило всех, как гром среди ясного неба. Дои
Фидель, напуганный тем, что это может как-то отразиться на
нем материально, помчался к Ромуло. Донья Кандида,
подавленная, в бессилии опустилась в кресло-качалку. Роса
ушла в глубь двора, чтобы там, усевшись на камнях,
оплакивать этого величайшего эгоиста — бесстыжего сеятеля
безымянных детей, один из которых, возможно, уже
прорастал в утробе молодой женщины, ронявшей теперь
молчаливые, скупые слезы.
В имении назревали величайшие события.
Спустя четыре дня после смерти дона Роберто
разнесся слух о том, что в окрестностях бродит с удалой шайкой
прославленный бандит Мануэль Гарсиа — «король
кубинских полей». Никто не осмеливался выходить один в поле.
С наступлением вечера дома и хижины держали на запоре,
и все погружалось в темноту. Ночь наполнял
беспрерывный лай собак по всей округе. Они лаяли на полицейских,
которые отправлялись парами на рассвете по дорогам и
большаку, чтобы устроить бандитам засаду. Днем
полицейские группами шныряли повсюду с карабинами
наготове — в залатанных униформах, в серых, облезлых
громадных сомбреро, сдвинутых на покрасневшие от солнца
затылки. Ромуло откопал где-то заржавленный спринг-
фильд, который верой и правдой служил ему во время
Десятилетней войны, и поручил его Антонио, поставив за
неприступной дверью бывшего дома рабовладельца. А сам
с независимым видом, как и подобает управляющему,
прицепил к поясу столь наглым образом отнятые у Хуана
превосходный револьвер и патронташ с вереницей желтых,
искрящихся патронов.
Пока Мануэль Гарсиа бродил в окрестностях Лос-Ма-
мейес, Адольфо не имел ни малейшей охоты приезжать в
имение, страшась малоприятной и нежелательной встречи
с бандитом. Мануэль Гарсиа погиб в Сейба-Моча ночью
двадцать третьего февраля, но наследник дона Роберто
снова вынужден был отложить поездку, ибо двадцать
четвертого в стране начались большие волнения, поднятые
одновременно вождями сепаратистов в Орьенте и Хуаном
Гуальберто Гомесом вместе с Лопесом Коломой в Ибарре,
что в провинции Матансас. Сыну бывшего повстанца было
бы рискованно ехать из Гаваны поездом как раз по
направлению к этой провинции, а потом еще гарцевать верхом
рядом с вооруженным мулатом.
488
Мулат и каталонец, владелец лавочки, были
необычайно взволнованы происходящими событиями. Они без
конца секретничали и «строили рожи» при виде полицейских,
которые в ту пору без устали сновали по тропинкам,
дорогам и большакам. Такие же рожи они строили при виде
дона Фиделя, который в 68-м году воевал на стороне
испанцев. Женщины пребывали в страхе, опасаясь, как бы
война не нагрянула к ним в дом. Для Петры,
по-настоящему влюбленной в Хуана, вся вселенная в эти дни
сосредоточилась на их любви, и она испытывала ужас,
предчувствуя трагическую развязку и разлуку с
ненаглядным.
Известие о высадке людей Масео на острове
послужило для Ромуло причиной бурного ликования, а для Петры
и Хуана — сначала обернулось испугом, а потом приобрело
важное значение. По вечерам, когда все собирались
вместе, управляющий без устали рассказывал им о несчетных
победах Аытонио Масео — «Черного Наполеона» — п
беспримерных героических подвигах Хосе Марти —
«Отважного из отважных», в честь которых, кстати сказать,
мулат и окрестил своих сыновей именами Лнтонио и Хосе.
Вдохновленный патриотическими воспоминаниями и
надеждами, Ромуло решил отпраздповать приход к власти
вождей, которые борются за свободу Кубы. Рано утром он
выехал посмотреть, как идет сафра на одной из самых
отдаленных плантаций, намереваясь вернуться домой к
обеду. Антонио должен был перед своей обычной поездкой в
Минас зарезать хорошенького поросенка, который в этот
час еще жадно насыщался в роще, бегая среди домашней
птицы. Но получилось так, что Антонио проспал в то утро
и попросил Каридад, невзирая на ее протесты, поручить
Хуану зарезать поросенка и помочь женщинам его
разделать. Каридад догадывалась, что у Хуана не хватит духа
всадить огромный кухонный нож в грудь маленького
бедного животного, осужденного на смерть. И не ошиблась.
Хуан решительно отказался, чем бы это ему ни грозило
впоследствии, взять нож, который Каридад упорно
пыталась сунуть ему в руки, предупреждая о всевозможных
неприятностях, которым он может себя подвергнуть, если
«он», Ромуло, хозяин, вернется, а поросенок будет еще жив
и не зажарен. Держать поросенка вызвался Хосе, а Петра,
готовая на все, чтобы избежать катастрофы, п даже
рискуя пробудить давно зародившееся подозрение сестры,
предложила «малодушному» помочь в этом кровавом деле-.
489
— Пойдем, — сказала она ему.— Не сможем убить
одним ударом, всадим в него нож двадцать раз.
Но Хуан уперся на своем. Нет, он ни за что не всадит
нож в поросенка. Для этого он еще не стал настоящим
крестьянином, да и вряд ли когда-нибудь станет. Лучше
он сходит за доном Фиделем или за кем-нибудь из
знакомых негров в соседнюю деревушку. А если придет Ромуло
и... ему опять что-нибудь взбредет в голову? Что ж, пусть,
но на сей раз, да и в дальнейшем, он не позволит себя
бить. Напротив, он намеревается защищаться, а там будь
что будет. В случае чего он сбежит и, таким образом,
снова начнет настоящую жизнь: открытую, смелую, не
терпящую никакого насилия над собой и несправедливости.
Он будет поступать так, как поступил когда-то с Чече или
с тем священником, который хотел злоупотребить своей
властью. Наконец, как поступил с самим сыном дона Ро-
берто, черт подери! Пока Хуан предавался
размышлениям, а негр несколько запоздало разделывал поросенка,
вернулся Ромуло.
Узнав в чем дело, мулат, грозно ворча и выкрикивая
оскорбления, отправился в глубь дома, не иначе как за
плетью. Хуан, стоя посреди зала, отмерял широко
раскрытыми глазами расстояние до дороги, ведущей в Минас, и
более короткую дистанцию, отделявшую его от спринг-
фильда, который Ромуло некоторое время назад зарядил
и поставил за дверьми. То был не инстинктивный,
нерешительный взгляд, каким еще совсем недавно он смотрел на
сверкающее ружье Робертико. Сейчас он глядел на
винтовку вполне осознанно, с фатальной решимостью
беспризорника, которому никогда не заказана дорога в тюрьму,
больницу или изгнание. Но на сей раз гроза обошла
стороной дом, в котором кипели жестокие страсти. То ли
Ромуло не попались под руку ремень, плеть или палка, то ли он
не захотел искать их, решив, что провинность не так уж
велика, чтобы из-за нее портить свое патриотическое
настроение и счастливую домашнюю атмосферу, и без того
уже омраченную горячими мольбами, слезами и
причитаниями Петры и Каридад, а также негра, которые всячески
содействовали тому, чтобы происшествие это не зашло
дальше угроз. Зато Хуану пришлось в течение четверти часа
выслушивать невыносимые для него, но крайне
необходимые для разрядки гневной спеси тирана безжалостные,
унизительные для мужского самолюбия прозвища:
«Тряпка!», «Сосунок!», «Сеньор грамотей!», «Трус!», «А еще меч-
490
тал повесить револьвер за пояс, тоже мне вояка нашелся!»
В прошлый раз, когда Ромуло впервые порол его и хлестал
по щекам, Хуан не заплакал, но теперь, слушая эти
несправедливые оскорбления, он ронял редкие, беззвучные
слезы, стоя в углу, скрытом от глаз негодующего мулата.
То были слезы ужаса и печали: ужаса перед неминуемой
трагической развязкой и печали за будущее любимой. Она
видела, как он плачет, и, пожалуй, это злополучное
происшествие не только глубоко запало им в душу и оставило
неизгладимый след в их памяти, но и привело к событию
огромнейшей для них важности. Как бы в утешение за
его слезы, как высшую усладу за нанесенное ему
оскорбление, как величайшее сострадание, способное загладить
причиненную ему боль, юная мулатка, целомудренная,
естественная, искренне любящая, страстно захотела
теперь же, незамедлительно, позволить ему овладеть собой,
самой подтолкнуть его на этот шаг, почти заставить
возобновить бесконечную мольбу, жалея его всем своим
нежным сердцем: «Бедняжечка!»
Петра отдалась ему той же ночью, отдалась всем своим
существом, прямо на траве, на которую еще не успела
упасть роса, наполненной острым ароматом полевых
растений и запахом сочных гуаяв, укрывавших своей сенью
эту сельскую идиллию. Слезы, увлажнившие глаза
пылкой креолки, блеснули в слабом сиянии огромного,
далекого тропического неба, усеянного звездами. Хуан первый
раз по-настоящему, до дна испил любовь, насладился
женщиной. С этого дня началась их любовная связь, более
целомудренная, естественная, по-человечески счастливая
и настоящая, чем та, которая приходит к новобрачным в
заранее условленный час в спальне, приготовленной
молодоженам, и которой предшествуют фальшь, лицемерие
и меркантильные сделки цивилизованной помолвки.
Извечная, свободная, первозданная связь двух юных
существ, воистину созданных для любви, которые
бескорыстно, безрассудно, легко, сладостно и неожиданно для себя
соединяются в упоительном, безмерном, неземном
объятии.
Совершив этот дерзкий, ошеломительный и безумный
скачок, Хуан и Петра продолжали наслаждаться друг
другом, предаваясь любовным усладам со всеми теми
страхами, исступлением и опрометчивостью, которые
сопутствуют неискушенной любви, окруженной препятствиями и
опасностями.
491
Меж тем сафра подходила к концу; из Гаваны
приходили необычные новости. Письма Адольфо
свидетельствовали о постепенном распаде аристократической семьи после
смерти ее главы; газеты сообщали о новых революционных
усилиях, предпринятых небольшой горсткой кубинцев.
Потерпели поражение Лопес Колома и Хуан Гуальбер-
то Гомес. Быстро собирались ветераны из различных
городов и из эмиграции. С их помощью в деревнях и
селениях проходила мобилизация — где принудительно, где
добровольно. Первым погиб кубинец Кромбет, затем
испанец Босч. Настал день, когда революция потеряла
Марти, и другой день, когда на глазах Мартинеса Кампоса
пал в сражении генерал Сантосильдес. Имя Сантосильдеса
осталось в истории рядом с первыми важными победами.
Хосе Марти обессмертил своим именем тот уголок
кубинской земли, где был убит в первом сражении, выигранном
испанцами. После Дос-Риос и Пералехо последует
множество сражений и военных операций,
свидетельствующих о мощном размахе решительной схватки. Обитателей
Лос-Мамейес будут вдохновлять и отпечатаются в их
памяти — среди собственных страстей, страхов, общих и
чуждых друг другу надежд — исторические имена и
события: Байямо, Лас-Тунас, Максимо Гомес, Гоулет, Суарес
Вальдес, Хобито, Николас Феррер, Масо, Кинтин Банде-
рае, Хименес Сандоваль, Агуас-Кларас, Рамон-де-лас-Ягу-
ас, Сао-дель-Индио и «кампания вторжения».
Доминго, самый достойный из сыновей непоколебимого
сепаратиста, выехал из Гаваны навстречу повстанцам. Его
отъезд был большой неожиданностью для всех, даже для
доньи Хуаниты, еще не успевшей снять с себя траура,
который, возможно, и мог бы послужить ему моральным
правом отказаться от своего патриотического долга, если
бы он не рассчитывал оставить ее на попечение двух
братьев, — их, без сомнения, не привлекали леса, где
сражались повстанцы. И так как этот добрый человек
отправился в леса отнюдь не для того, чтобы получать чины,
пользуясь привилегиями рода, или отсиживаться в какой-
нибудь хижине, госпитале или префектуре, чтобы, как
некоторые, наживаться, обеспечивая свое будущее, а встал
на путь революции в силу своих убеждений и без
колебаний пошел воевать против испанцев плечом к плечу с
неграми и простыми крестьянами, то он вскоре и погиб в
одном из прославленных сражений в провинции Лас-Вильяс,
погиб за то, чтобы приумножить численность повстанцев
492
и ускорить вторжение в страну революционной армии.
Умер Доминго, гаванский врач, «прирожденный» член
Экономического общества друзей страны; погиб на
вздыбленном коне, лицом к лицу с врагом, сжимая дымящийся
револьвер в правой руке — руке кабинетного ученого, с
победоносным кличем отважного воина, обреченного на
смерть, на смерть мученика. Как погибли Адольфо де Кас-
тильо, Хуан Бруно Сайас и многие другие, которые не
берегли себя ради того, чтобы занять пост министра,
сенатора или президента республики.
Смерть Доминго ускорила распад семьи. Донья Хуани-
та, — лицо ее приобрело еще более ярко выраженную
одутловатость сердечницы, а в глазах застыло коровье
смирение,— окончательно ударилась в мистику и не
пропускала ни одной проповеди, даже «кубиноподобных»
проповедей врагов своего погибшего сына. Вместе с вечно
заплаканными, напуганными незамужними дочерьми она
нашла прибежище в усадьбе своей сестры в районе Веда-
до. Усадьбу в аристократическом районе Серро пришлось
сдать внаем. Робертико вместе со своей милейшей Лаурой
и детьми переселился на окраину города, в один из домов,
оставшихся им в наследство от дона Роберто на тогда еще
нищенской улочке Вибора. Дом был ярко-зеленый, с
галереями и огромными балконами в колониальном стиле.
Главный портал вел в скромную, наспех оборудованную,
обшарпанную аптеку, с помощью которой Робертико
намеревался теперь зарабатывать на жизнь, вспомнив
наконец о своем почти забытом звании аптекаря, а его
супруга смиренно штопала чулки и носки, укалывая иглой
аристократические пальчики при свете, сочившемся сквозь
запыленные жалюзи балконов. Адольфо занял нижний
этаж единственного дома, доставшегося им по наследству
в Старой Гаване, где обосновался со своим кабинетным
скарбом, открыв адвокатскую контору, «в ожидании
лучших времен». Этот распад кубинской семьи, вызванный
ожесточенной гражданской войной, привел к тому, что
бывшие рабы, не умевшие самостоятельно
приспосабливаться к жизни в этом мире или же просто привязанные
к своим хозяевам, тоже разделились, чтобы и дальше жить
под защитой отпрысков когда-то могущественного рода.
Мерседес перебралась вместе с доньей Хуанитой и
«барышнями» в Ведадо. Канделария взвалила на себя всю
черную работу верхнего этажа «Чудесницы», как
называлась аптека, по-видимому, за то, что она существовала чу*
493
дом. Гойо переехал с Адольфо, чтобы вытирать пыль с
плотных рядов книг и с мебели, стоявшей без
употребления в конторе. Чино, Ромуальдо и садовник Ньянго
отправились, вероятно, искать свою погибель на какой-нибудь
другой тяжкой работе.
С приближением частей революционной армии жизнь
в Лос-Мамейес становилась невыносимой. Относительное
затишье, установившееся в западных районах страны
после поражения Хуана Гуальберто Гомеса и Лопеса Коломы,
сменилось глухой тревогой, быстро проникшей в дома и
на дороги. Повсюду сновали, поднимая густые облака
красноватой пыли, полицейские и отряды линейной
пехоты. Каждый день по железной дороге из Унидоса
приходили один-два эшелона, битком набитые людьми в
военной форме, которые намеревались сдержать лавину
повстанцев, прорвавшую стойкий заслон в Сигуанеа, Мал-
Тьемпо и Колисео. От продажи сахарного тростника нельзя
было выручить ни одного сентаво. Мелкие продуктовые
товары также не имели спроса в населенных пунктах.
Молочники не могли добраться до Гаваны, чтобы получить
деньги со своих покупателей. Голод и нищета заползли в
деревни и города. Все мужчины участвовали в
происходивших на Кубе событиях согласно своим идеалам и
склонностям, эгоистично забывая о детях и женах. Дон Фидель
записался в испанский партизанский отряд, который
организовывался в Харуко. Ромуло, чтобы не попасть в руки
испанцев, решил присоединиться к Масео за день до того,
как передовые части повстанцев отрежут дорогу.
Невыносимость положения Хуана осложнялась еще тем, что, при
всем своем патриотическом настрое, он не в состоянии был
подавить в себе страх, который внушало ему слово
«война». Война казалась ему чем-то чудовищным, несущим
неминуемую гибель. Сразу же. В первом же бою. Он
должен был погибнуть если не от удара мачете или ужасной
пули, то от одного лишь ужаса, очутившись под градом
снарядов, среди грозных приказов и воплей сражения,
крепко вцепившись в гриву коня, обезумевшего от
страха, или же во время необузданной скачки в одном ряду с
другими повстанцами навстречу шеренге грохочущих
винтовок и сверкающих штыков. Хуан все чаще смотрел на
большак, ведущий в Минас, откуда шла железная дорога
в Гавану, нежели на горизонт в сторону Матансаса,
предвещавший бедствия и смерть. Он обращал свой взор к
Гаване, мучительно страдая оттого, что его разлука с Петрой
494
казалась уже неминуемой. Если жители Лос-Мамейес не
проснутся однажды под градом желтого свинца или среди
языков пламени, пожирающего сахарные плантации, то их
разбудят крики Антонио, Хосе, Ромуло или Каридад,
узнавших о его безрассудной и далеко зашедшей любви с
Петрой. И, пожалуй, для них это будет не меньшей
трагедией, чем было бы пожарище на плантациях имения или
превращение батея в арену битвы между солдатами и
мамби. Особенно для Каридад, которая уже несколько
недель потихоньку ворчала на Петру, так как за последние
три месяца ни разу не видела, чтобы та стеснительно
уединялась, как положено девушке во время месячного цикла,
чтобы у нее появлялись темные круги под глазами или она
повязывала платок на голову. Каридад уже не только
подозревала, но была почти уверена, что у ее сестры еще
шесть месяцев не будет темных кругов под глазами и она
не повяжет платком голову. И если до сих пор ничего не
говорила вслух, то лишь потому, что страшилась
неминуемой беды и оттягивала ее час за часом. О, пресвятая
дева Каридад дель Кобре! Мир рушится под ногами. Хуан
же был готов ко всему. Когда пришло потрясшее всех
известие о гибели Доминго, Хуан сразу подумал: «Теперь
не осталось в живых никого, кто бы знал о моей истории
с Нэной». И он решил собрать вещи для того, чтобы в
любой момент иметь возможность скрыться из имения,
прихватив с собой только самое ценное, то, что еще может
пригодиться в будущем: подаренную ему Адольфо фаху —
широкий пояс из тех, который называют «сумой», благодаря
его вместительности, предмет большой роскоши для
рабочего люда,— куда положил неразмененную до сих пор
золотую монету, старые, сложенные вчетверо документы,
оставленные ему матерью, и пакетик с записочками и
письмами Нэны. Пояс он надел под рубаху, а за пазухой
вынес свою лучшую одежду и все это спрятал в хижине
того самого негра, который несколько месяцев назад
выручил его, прикончив поросенка. Негр жил в своей
лачуге один, рядом с батеем, у самой дороги, ведущей в Минас.
Хуан не переставал думать о Гаване как о конечном пути
бегства, к которому его наверняка рано или поздно
вынудят Ромуло или война. Когда он думал о городе, его
мысли невольно обращались к Адольфо и к Хулиану, к
нищенским, прибрежным кварталам «драчунов» и к
пустырям, где он, вероятно, сумеет найти себе начлег... При этом
он искренне страдал, думая о предстоящей разлуке с Пет-
495
рой, которая в последнее время очень нервничала,
пребывала в постоянной тревоге и начинала вдруг ни с того ни
с сего плакать, даже не скрывая слез. Но Хуан понимал,
что разлука неизбежна и ему надо морально собраться с
духом. Хуан готов был к любому испытанию.
И, надо сказать, вовремя.
Однажды утром, когда дома никого не было, кроме
Петры, Каридад и его самого, он и Петра разговаривали в
зале, сетуя на свою несчастливую судьбу. Особенно
горевала Петра, которая, предчувствуя великую беду, люто
ненавидела и винила во всем двоих: Ромуло и Масео. Хуан
искренне и нежно уверял, что навсегда сохранит ей
верность, что будет ее ждать и бороться до победы за их
любовь. Прошло уже несколько недель, как они вместе
пришли к выводу, что Хуану лучше уехать в Гавану, чем
дожидаться здесь трагической расправы над ним Ромуло или
разлуки с ней из-за того, что ему придется вступить в ряды
приближающихся повстанцев, идущих на штурм столицы,
окруженной окопами, проволочными заграждениями и
укреплениями. Каридад неслышно сновала из столовой на
кухню и обратно, надеясь подслушать что-нибудь из их
разговора и таким образом узнать наконец правду и
сделать свои выводы.
Ромуло вместе с Антонио и Хосе, будущими
повстанцами, находились у каталонца в помещении за лавкой, где
были и сыновья последнего. Настал час, когда надо было
дать наставления и поручить младшим охрану и заботу о
женщинах в случае, если вдруг неожиданно на одной из
дорог, ведущих к батею, появятся передовые части
повстанцев. Совещание это происходило при закрытых
дверях, которые охраняла жена каталонца Перика, а юноши,
сознавая всю серьезность возлагаемой на них миссии,
всецело прониклись мятежным духом и серьезно внимали
каждому слову старших.
Каридад удалось наконец подслушать, как Петра с
досадой говорила, имея в виду ее, что если бы не сестра, то
она сама сбежала бы со своим милым в Гавану
по-цыгански, с котомкой за плечами, чтобы там вести с ним
привольную, пусть нищенскую жизнь, даже без крыши над
головой. Но...
— Если бы не эта размазня!..
Столь эгоистичные, даже жестокие по отношению к ней
слова заставили Каридад принять решение. Этот ее порыв
был вызван тем нервным напряжением, в котором она на-
496
ходилась с некоторых пор, и желанием немедля отомстить
Петре за ее только что высказанное пренебрежение к ней.
Каридад сделала вид, будто уходит из дома, удаляясь
напрямик, чтобы ее хорошо было видно, в заросли за
строениями. А затем быстро свернула в сторону и со всех ног
кинулась бежать назад, ломая по пути сучья и стебли
кустарников, пока не достигла полуразвалившихся толстых
стен в глубине дома. Там она разулась и, держа туфли в
руках, босиком, торопливо устремилась во внутренние
комнаты, жадно заглядывая во все двери.
Каридад застигла их на месте преступления, в самой
эротической позе на раскладушке во второй комнате.
При виде Каридад влюбленные с ужасом отпрянули
друг от друга. Шпионка, а возможно, и доносчица, стояла
в дверях, подбоченясь; ее побагровевшее лицо выражало
кошачье довольство, в голосе, прерывавшемся тяжелым
дыханием, зазвучала недвусмысленная угроза:
— Так вот почему ты называешь меня размазней!
Верно?
И она направилась в кухню, проклиная сестру и грозя
рассказать все Ромуло, как только тот вернется, а там...
будь что будет. За ней побежала Петра, умоляя сестру
ничего не рассказывать ему и предрекая страшную трагедию,
если она это сделает. Девушка горько плакала,
заламывала руки и в отчаянии рвала на себе вьющиеся волосы.
— Во имя покойной мамы, сестра! Клянусь тебе, он
сию же минуту уедет отсюда! Ромуло убьет нас всех!
Хуан, несмотря на смятенность чувств и тысячи самых
разных чудовищных мыслей, воспользовавшись тем, что
его оставили одного, не теряя ни минуты, спокойным,
твердым, решительным шагом пересек батей, направляясь к
уединенной хижине, в которой хранились его вещи,
связанные в узел. В хижине никого не было. Он вошел туда,
взял узел и, перекинув его через плечо, поспешил в Минас.
На ходу он инстинктивно прощупывал фаху сквозь
одежду, пока не убедился, что все на месте, и беспрерывно
оглядывался назад, желая удостовериться в том, что никто не
преследует и что в той стороне, где находился батей, не
происходит ничего из ряда вон выходящего.
Один раз ему пришлось укрыться среди больших сосен,
росших по краям дороги, прячась от знакомого
крестьянина, который трусил на своей кляче в сторону деревушки
возле Лос-Мамейес. В другой раз он вынужден был
сделать большой крюк, огибая высокую банановую рощу,
32 К. ловейра 497
чтобы его не увидели из хижин, где жили возчики. Потом
он вынужден был залечь в канаве, где стояла вода, чтобы
скрыться от проскакавших мимо него полицейских,
испытывая при этом страх, который заглушал в нем все
остальные мысли и чувства.
Дойдя до развилки дороги, он вдруг решил пойти к
станции Кампо-Флоридо, которая находилась отсюда на
таком же расстоянии, что и Минас. Нужно было только
заплатить за билет до Гаваны в третьем классе на несколько
сентаво дороже, зато была меньшей вероятность, что Ро-
муло и Антонио станут преследовать его в этом
направлении. Свернув на широкую дорогу, тянувшуюся через
равнину, кое-где пересеченную фруктовыми рощами, он
почувствовал себя уверенней. И пока быстро шел, оставляя
позади равнину, в сознании смутно вырисовывались
картины, ожидавшие его в конце пути: Адольфо и Хулиан,
подружка Адольфо из Ревильяхихедо, скамейки в
каком-нибудь парке в Ведадо. Либо мысли его обращались к тому,
что он оставил позади: жестокой драме, которая
разыграется в Лос-Мамейес, страданиям Петры после всей этой
трагедии, образам библейской «Песни песней», которые
навсегда ушли от него, и тому печальному, неминуемому,
что уже зародилось во чреве первой, единственной
женщины, которой он обладал.
Слезы сдавили ему грудь, он пошел медленнее и вдруг
увидел вдали на дороге едва заметный блеск винтовок. Он
побежал к ближайшей хижине, чтобы спрятаться там, но
опасения его оказались напрасными, потому что два
полицейских проскакали галопом своей дорогой на
взмыленных конях. Полчаса спустя он был в Кампо-Флоридо. А
через час уже ехал в Гавану в полупустом вагоне третьего
класса. И хотя весь этот путь он проделал в обществе
женщин и детей — беженцев из районов, охваченных
повстанческим движением,— в вагоне не было ни грязи, ни
зловония. Уже невозможно было настичь беглеца, но если
бы этот осмеянный им дикарь все же настиг его на
пустынной дороге, то, пожалуй, в порыве ярости и ревности
совершил бы преступление, которое ускорило бы его
вступление в ряды повстанцев.
На станцию Регла он приехал под вечер. Радость
возвращения в Гавану омрачалась глубокими
переживаниями, связанными с тем, что он оставил позади, и страхом
перед будущим, ожидавшим его в огромном городе, уже
погрузившемся в печальные сумерки. Лицо Хуана было
таким непроницаемым и напряженным, что если бы на
него пристально взглянул какой-нибудь чиновник или
полицейский, ехавший на пароме, то его могли бы задержать
или начать расспрашивать прежде, чем он сойдет на
причале Ла-Лус в своей крестьянской одежде, перепачканной
красной землей, в стоптанных, стертых, покрытых пылью
кожаных башмаках и с вещами, завязанными в яркий
крестьянский платок.
Сойдя с парома, он нырнул в быстро сгущавшуюся
темноту Ла-Мачины. С неприязнью посмотрел на фелуку,
перевозившую солдат из Ла-Кабаньи, и на испанский флаг,
лениво развевавшийся в эту минуту на шпиле громадной
сероватой крепости. И пошел между двумя рядами домов
по улице Муралья к Пласа-Вьеха. Там, изрядно
проголодавшись за день, он устремился к ларьку, где продавались
пончики. Лоснящаяся, толстозадая негритянка продала
ему кружку кофе с молоком и полдюжины горячих,
ароматных пончиков, которые он тут же уничтожил, уписывая
за обе щеки. Затем стал думать, куда ему лучше
направиться: на улицу Принсипе разыскивать Хулиана или к
постоялому двору на улице Драгонес, где можно получить
на ночь койку за песету. А может быть, ему
посчастливится разыскать дом Адольфо в Старой Гаване? Он предпочел
последнее. Расплатился за еду и, чувствуя изжогу от
прогорклого масла, пошел, держа узел с вещами в правой руке,
по улице Муралья, встречая кое-где зажженные фонари,
редких прохожих и экипажи. Потом свернул на улицу Аги-
ар, освещенную двумя рядами фонарей, которые вдалеке,
возле крепости Ла-Пунта, почти сливались в одну лиххию.
Там и находился дом, в котором в ту пору жил Адольфо.
Хуан быстро отыскал этот дом. Можно сказать, прямо
наткнулся на него. К большой красной двери парадного
входа была прикреплена табличка, до блеска начищенная
Гойо. По ней пробегали волнообразные светящиеся блики.
Надпись гласила:
АДОЛЬФО РУИС-И-ФОНТАНИЛЬС
Адвокат
Хуану повезло. Адольфо как раз в эту минуту выходил
из дома, одетый в черный костюм. Благоухающий,
моложавый, элегантный.
Хуан поспешил ему навстречу к полуосвещенной двери.
— Добрый вечер, дон Адольфо.
— Дружища! Какими судьбами?
499
— Да вот возвращаюсь в Гавану.
— Возвращаешься!.. По-моему, ты уже возвратился.
Ты в Гаване. Что? Удрал от опасности?
— Да, сеньор.
— Слушай! Я иду на свидание к своей невесте,
понимаешь? Заходи в дом и скажи Гойо, чтобы он тебя
накормил. И приготовил место для ночлега. Но не ложись
спать, пока я не вернусь, расскажешь мне все по
порядку.— И, уже выходя на улицу, машинально, не
собираясь дожидаться ответа, спросил: — Как там дела? Как
Ромуло? Все нормально? Да?
— Да, сеньор.
— Ну ладно, иди в дом. Позови Гойо. И не выходи на
улицу в таком виде. Если станешь разгуливать в этой
одежде по городу, тебя отправят в тюрьму Ла-Кабанья
составить компанию Хулио Сангили.
И он исчез в темноте.
Приняв к сведению все, что сказал ему Адольфо, Хуан
вошел в дом, чтобы найти Гойо, старого слугу сеньоров.
Вошел и вдруг оробел, охваченный смятением и тревогой.
XXVI
Дом на улице Агиар, как и усадьба в Серро, был
выдержан в безупречном старинном стиле. Прихожая с
квадратной дверью, украшенной рядами гвоздей с массивными
шляпками. Зал с тремя широкими окнами. Гостиная,
кабинет и громадная комната. Затем патио, как в монастыре.
Большие, как в ресторане, кухня, столовая и комнаты,
рассчитанные на пять-шесть слуг.
Разумеется, в доме на улице Агиар жили не только
Адольфо и его старый слуга Гойо. Как и во многих
домах Гаваны в суровые времена борьбы за независимость,
здесь жили две семьи. Вторую семью составляли три
старые девы Бетаыкур родом из Камагуэя, которых
неотступно сопровождала преданная и терпеливая пожилая
негритянка. Все они занимали большой зал и комнаты,
арендованные у Адольфо. В распоряжении последнего были
прихожая, гостиная, кабинет и часть комнат в глубине
дома. Ванной, столовой, кладовой и кухней пользовались
все вместе. Из комнат в зал девицы Бетанкур ходили
через кабинет, который служил Адольфо по ночам
спальней. Доброе имя сестер Бетанкур, а тем более их цело-
500
мудрие никак не могли пострадать от того, что они
находились под одной крышей с холостяком, благодаря
постоянному присутствию чернокожей служанки и тому, что
квартиросъемщицы Адольфо относились к числу тех
женщин, которые давно уже пользовались среди камагуэйцев
славой самых неприступных женщин с берегов Тинима:
сухопарые, бледнолицые, угловатые и чересчур дикие.
У всех трех пепельные волосы были уложены на
затылке в пучок, а морщины веером собирались у висков; читали
они в очках любую попавшуюся им под руку
душещипательную, нагоняющую сон литературу; ходили в
мягкой, монашеской обуви оттого, что ноги их
деформировались из-за подагрических шишек и ревматизма. В порядке
старшинства их звали: Тула, Корнелия и Агрипина.
В первый же вечер Хуан без труда удовлетворил
любопытство Адольфо: он объяснил свое появление в Гаване
приближением повстанцев. Девицы Бетанкур
благосклонно отнеслись к гостеприимству адвоката, оправданному его
добрым расположением к «приемышу», и с присущим
креолам радушием встретили нового жильца, при условии,
конечно, чтобы он не высказывал впредь столь пылких и
мятежных речей, которые в первый же вечер так сильно
напугали сестер. Надо быть очень осторожным. В
испанской Гаване кубинцам приходится держать язык за
зубами.
Хуана уложили на широкую, старинную, покрытую
чехлом софу в зале.
Впоследствии он вспоминал эту ночь как одну из самых
страшных в своей беспокойной жизни. Жизни Христа во
плоти, бесконечно превосходящего в своих страданиях того
Христа, которому поклоняются у алтаря. Хотя на
прилежащих к их дому улицах не было в те времена
оживленного движения транспорта и их покой не нарушали
крикливые торговцы и подгулявшие ночные компании, шум
города не давал Хуану уснуть после нескончаемых
переживаний ушедшего дня. К тому же крестьянину, привыкшему
к вольному сельскому воздуху, напоенному ароматом
полей, невыносима была городская духота, насыщенная
испарениями сточных канав и запахом гнилостной стоячей
воды, который нес с собой северный ветер. В памяти
Хуана всплывали картины здоровой, спокойной деревенской
жизни, и он с тоской думал о своей любимой, с которой
столь грубо и жестоко разлучила его судьба. В нем вновь
оживали образы, пробуждавшие его чувственность: сладо-
501
страстное тело женщины, возможно, покинутой им
навсегда, брошенной этим утром в местах, охваченных
жестокими революционными схватками, беззащитной перед
разбушевавшимися страстями Ромуло, разъяренного и
одержимого ревностью. Казалось, софа содрогнулась под ним
при мысли о том, что могло произойти, если бы его настиг,
когда он бежал напрямик через поле, озверевший Ромуло
со своими сыновьями. Как страшно ему было всякий раз,
когда чудилось, будто за ним гонятся всадники! Как
замирало сердце от ужаса, едва он замечал среди безмолвной
равнины чей-нибудь силуэт, облачко пыли или блеск
оружия! И Хуан подумал, что и теперь еще опасность не
миновала. Кто знает, быть может, разъяренный мулат явится
сюда, в Гавану, с диким желанием отомстить и жестоко его
покарать. И он нисколько не сомневался, что тогда уж,
если не окажется в больнице или не попадет на кладбище,
то наверняка лишится своего единственного пристанища.
И вполне понятно будет раздражение адвоката, которого
за его доброту и гостеприимство он впутал в такую
плебейскую историю. К этим его черным мыслям, вызванным
бессонницей, в воспаленном мозгу примешивались другие, не
менее печальные. Из-за поспешного бегства пришлось
бросить в деревне сундук: единственную вещь, которая
позволяла ему чувствовать себя полноправным человеком на
этой земле, имеющим хоть какую-то собственность;
единственную вещь, которая реально связывала его с
умершими родителями. С родителями! Особенно с бедной
матерью, о которой он так часто вспоминал. Теперь они
снова рядом! Но как! Ее прах, смешанный с землей, покоится
на окраине Гаваны, на другом краю города от того места,
где они жили когда-то, находя утешение друг в друге и
испытывая счастье, потому что хоть и в нищете, но были
рядом. А теперь? Долго ли ему позволят оставаться под
этой крышей, где он нашел приют в одном из уголков
дома? Не явится ли Робертико, узнав о его приезде,
чтобы оклеветать и заставить брата вышвырнуть на улицу
«приемыша», непрошеного гостя, единственного, кто знал
о его гнусной и позорной тайне? А если его выгонят на
улицу, куда он денется со своей грубой, кое-как сшитой,
грязной одеждой, связанной в узел?
Все эти мысли путались в его разгоряченном мозгу, не
давая уснуть почти до самого рассвета, заставляя метаться
на постели в тревоге, тоске и слезах. Потому что в ту
ночь он плакал, как не плакал еще никогда в жизни: горь-
502
ко, безутешно, не в силах избавиться от болезненного,
душераздирающего кома, сжавшего ему горло и грудь, и
чувствуя, как горит его лицо, залитое слезами и потом.
В минуту нервного спада он забылся тяжелым сном,
полным чудовищных кошмаров. Утром, со щеткой в руке,
уже покончив со своими многочисленными делами, его
разбудил Гойо, ласково потрепав:
— Эй! Друг! Ты, я вижу, быстро становишься
гаванцем! Кофе стынет.
Веселость старого приятеля, прохлада радостного,
солнечного утра, искренность и сердечность, с какой его
приняли в доме,— все это вызвало счастливое ощущение
покоя и вселило оптимизм в измученную душу
семнадцатилетнего юноши, за свою жизнь уже успевшего многое
пережить.
С кинематографической четкостью всплывала потом в
памяти Хуана сцена, когда он, оставшись один, дрожа от
волнения, снимал с себя фаху, чтобы запрятать ее вместе
со старыми пожелтевшими бумагами, доставшимися ему в
наследство от матери, пятнадцатью или двадцатью
песетами, сохранившимися от щедрого подарка Робертико, и
письмами, записочками, открытками Нэны. Он засунул
все это, а также выцветшую фотографию Петры в комод
красного дерева, изготовленный еще в незапамятные
времена в Камагуэе, который старые девы выделили ему в
пользование взамен утраченного им сундука и который он
и Гойо поставили в сыром, полутемном углу в глубине
дома. В ту минуту, когда Хуан убирал в комод свои вещи,
в его душе вдруг шевельнулась надежда, заставившая его
вздрогнуть. Кто знает, может быть, этим двум девушкам,
с которыми он впервые изведал волнение плоти, не
суждено будет исчезнуть навсегда из его жизни, став для него
лишь прошлым. Тем более, что обстоятельства
складываются так, что в недалеком будущем их пути вполне
могут вновь скреститься на этой запутанной дороге
человеческих судеб.
Всю первую неделю жизни в доме на улице Агиар в
подсознании юноши постоянно чередовались чувство
страха и жизнерадостности, грусти и довольства, протеста
против судьбы и покорности ее воле. Он по-прежнему
испытывал бесконечную печаль и мучительную тоску от
разлуки с любимой, по-мальчишески намеревался отомстить
когда-нибудь Ромуло, горел патриотическим желанием
пробраться в пригород, чтобы присоединиться к повстан-
503
цам, и вместе с тем в нем пробуждалось новое,
эгоистическое стремление никогда не расставаться с Адольфо, жить
подле него, учиться и учиться, приложив все старания к
тому, чтобы стать мало-мальски образованным человеком.
Из двух поношенных троек Адольфо, вычищенных
бензином, хороший портной перешил на Хуана пару сюртуков
и брюк. Правда, сюртуки оказались чересчур
длиннополыми и широкими, тем не менее «служащий» адвокатской
конторы выглядел теперь вполне прилично. К тому же
девицы Бетанкур, желая угодить хозяину дома, которому
задолжали за жилье, взялись переделать по мере
возможности легкие гуаяберы Хуана на рубашки, чтобы их можно
было носить под сюртуком, а ему самому придать более
или менее благопристойный вид, подобающий столичному
жителю, затратив немало усилий на то, чтобы он содержал
в чистоте уши, волосы и ногти.
По утрам Хуан подметал и приводил в порядок
контору, находившуюся в гостиной. Потом расставлял и
протирал до блеска книги в кожаных переплетах с золоченым
тиснением, плотными рядами стоявшие на полках. Или
отправлялся в город с каким-нибудь «пристойным»
поручением. Или упражнялся в чистописании. Или читал два
объемистых тома, черпая оттуда, благодаря своей
природной смекалке, без всякой предварительной подготовки
желанные знания. Именно из этих книг, названия которых
ему хорошо запомнились: «Окружающий нас мир» и
«Наука и ее люди»—впитал он сведения, сохранившиеся на
всю жизнь и заложившие прочную основу более глубокого
и разностороннего образования.
Адольфо часто навещал в Ведадо убитых горем мать
и сестер. Просматривал гербовые бумаги в доме своей
невесты, недавно унаследовавшей довольно солидное
состояние. Или, устроившись поудобнее в кресле за
письменным столом, перечитывал все выходившие в Гаване газеты,
жадно поглощая те статьи и заметки, которые были связа-
пы с небывалым размахом освободительного движения.
Или, сидя за тем же письменным столом, «ожидал
клиентов», листая том свода законов.
Судя по словам Гойо, из этого «ожидания» у адвоката
выгорело пока что только одно выгодное дельце: его
собственное сватовство. Невеста, уроженка Юкатана,
единственная дочь лердиста, вынужденного эмигрировать
из Мексики, как только генерал Диас провозгласил себя
пожизненным президентом республики, недавно унаследо-
504
вала вместе со своей матерью — дородной, щеголеватой
метиской — несколько плантаций генекена, которые отец
оставил им по другую сторону залива, и полдюжины
домов, приобретенных им в Гаване во время эмиграции.
В ответ на короткое объявление, написанное в духе
семейства Фонтанильс, которое Адольфо опубликовал в
различных газетах, когда приступил к «работе», и не менее
безвкусные визитные карточки, которые он тогда же
разослал по почте, откликнулись мать и дочь, простодушно
доверившие ему вести свои дела, связанные с рентой,
исками и закладом недвижимого имущества. Наш гаванец,
отличавшийся наметанным глазом и обладавший пустым
карманом, начал без промедления неутомимо ухаживать
за богатой наследницей из Мериды. Приготовления к
свадьбе шли уже полным ходом, обещая адвокату все
необходимые блага: нежную, очаровательную, страстную
двадцатилетнюю смуглянку и спасительную для тощего
наследства, оставленного доном Роберто, дозу
мексиканского золота самой высокой пробы. К тому же этот брак
был целебным бальзамом, способным зарубцевать
душевную рану, вызванную потерей брата, павшего на поле
битвы от испанской пули; а также мог послужить
благовидным предлогом для того, чтобы уехать с Кубы вместе
с женой-иностранкой, имея прочную материальную базу и
избавляясь таким образом от ставших совершенно
невыносимыми провокаций, слежки, ненависти и бесконечных
стычек с испанцами.
Будущую супругу Адольфо звали Кармен Хуарес-и-
Пэч. Хуан впервые увидел ее в день пресвятой девы дель
Кармен, когда, вырядившись в один из перешитых на
него сюртуков, отнес ей сверток в белой бумаге,
перевязанный красной лентой, в котором находился футляр с парой
старинных золотых серег с бриллиантами. Подарок был
шикарным, но если говорить откровенно, Адольфо не
очень-то выбирал его. Эти старинные серьги достались ему
за несколько дней до именин невесты, когда одна из девиц
Бетанкур предложила дрожащим от волнения голосом, со
сле.зами на глазах эту дорогую ее сердцу драгоценность в
уплату долга за жилье. Кармен, девушка начитанная,
наделенная светлым умом и развитая не по годам, как все
метиски, нашла подарок очаровательным. Хуану, уже
вполне возмужавшему, девушка показалась симпатичной.
Особую прелесть этой двадцатилетней уроженке тропиков
придавали индейские очертания скул и бровей и нежно*
505
золотистая кожа ее округлого тела, облаченного по случаю
именин в роскошное, благоухающее кружевное платье.
Хуан был искренне поражен. Слово «юкатанка» в его
представлении вызывало непривлекательный образ
широколицей метиски азиатского типа. Он даже припоминал,
как однажды кто-то в деревне говорил: «Она еще
страшнее юкатанской метиски». И вдруг такая красотка!
Недурной кусочек отхватил себе Адольфо! Хуан и Кармен
разговорились. Она уже слышала про него от адвоката.
Девушка шутливо заметила, что ему, наверное, известны
холостяцкие тайны дона Адольфо. Конечно, сын Хосефы
Вальдес мог немало рассказать ей, упомянуть, между
прочим, и о бедной девушке из Ревильяхихедо, и о
сомнительном рецепте, который будущий муж Кармен
унаследовал от своего отца. Но, разумеется, он не позволил себе
ни единого язвительного или угодливого намека. Хуан
ушел из дома на улице Камнанарио, завоевав самую
искреннюю симпатию девушки и ее матери, которая
появилась лишь перед его уходом, и уж эта-то действительно
оказалась типичной «юкатанской метиской». В
довершение всего Адольфо, которому явно льстили восторженные
похвалы юноши, вынужден был даже прервать поток его
красноречия благодушным: «Ну ладно, ладно, будет уж».
— Ох! До чего же хороша! Пухленькая! — И, скользя
изогнутыми ладонями вдоль груди и бедер, Хуан
заключил: — И здесь, и здесь все, что надо!
В следующее воскресенье он отправился в Ведадо
кружным путем, через Калету и улицу Прпнсипе, где они
жили раньше с матерью. Лачуги уже не существовало. На
пустынном берегу, где в ту памятную ночь скрылся в
зарослях кустарников убийца его отчима, были выстроены
два новых квартала домов. На одном из углов он увидел
Красномордого, старого хранителя общественного
порядка; вереница металлических пуговиц его выцветшего,
залатанного мундира слегка выпирала теперь на выпуклом
брюшке; лицо совсем побагровело от неумеренного
употребления можжевеловой водки. Но еще прежде
Красномордого он увидел слепого мулата, сидевшего на тротуаре
у здания сиротского приюта, вытянув перед собой старое
сомбреро, куда ему бросали милостыню,— того самого
мулата, который делил с ним похлебку, когда Хуан жил в
этом квартале. Первым порывом юноши было подойти к
нему, обрадовать своим внезапным иоявлепием, но это его
желание тут же заглушило эгоистическое, рассудочное —
505
обойти стороной человека, к чьей нищенской помощи
пришлось когда-то прибегнуть. Лавчонка, разумеется,
стала значительно больше, чем раньше. Теперь здесь
работало уже не менее шести галисийцев, и называлась она
«Эль Пераль». На фасаде вместо вывески красовалась
грубо сработанная и разукрашенная виньетками
репродукция знаменитой испанской подводной лодки, на
единственной мачте которой развевалось огромное яркое
национальное знамя. В лавке один его бывший сосед по
кварталу — слуга с постоялого двора — сообщил то, ради
чего оп и забрел в этот день на старую улицу: Хулиан
выучился на табачника и эмигрировал на родину невесты
Адольфо. В Ведадо Хуана приняли холодно. Обитатели
усадьбы, одетые в траур, оказавшиеся внезапно в столь
унизительной для них бедности, имели прискорбный вид
и слонялись по дому, словно тени, совершенно
отрешенные от жизни. Корина, вся в черном, заперлась в стенах
дома, в котором замыкалась ее жизнь, и уже никому не
нужна была спокойная красота ее чудесных креольских
глаз и великолепное тело цветущей женщины,
близившейся к своему роковому тридцатилетию; и донья Хуа-
нита, всеми забытая, бесцельно бродила по дому с
блуждающим взором и опухшими глазами, окруженными сетью
морщин; обе они встретили Хуана ледяными,
равнодушными словами.
— А!.. Это ты? — произнесла старая дама, и па глазах
ее выступили слезы, губы задрожали, как это случалось
всякий раз, когда ей что-нибудь напоминало о погибшем
сыне.— Что ты делаешь у Адольфо?
— Здравствуй! Как ты вырос!
Отказав ему в радушном приеме, они тем самым не
сочли нужным вступать с ним в излишние разговоры, как,
впрочем, и сестра Корины, ставшая совсем взрослой, и
их кузины и кузены.
Когда Хуан собрался уходить, один из словоохотливых
слуг рассказал ему, что обитатели этой усадьбы, как и те,
кто жил на улице Хесус-дель-Монте, существуют на
деньги, вырученные от продажи драгоценностей, столовой
посуды, ценных вещей, кое-какой мебели, а то и экипажа
или старой клячи из ненужной теперь упряжки. Тайная
полиция вела слежку за усадьбой. Письма приходили
распечатанными. Испанцы, жившие по соседству, досаждали
им оскорбительными возгласами, песенками и
откровенными насмешками, Но, вопреки всем невзгодам, мальчики
507
продолжали учиться. Л Нэна поедет в Юкатан вместе
с Адольфо, когда тот женится.
По дороге домой, на улицу Агиар, Хуан искренне
сожалел о горькой участи этой богатой семьи, которой, как
и многим ей подобным, приходилось испытывать лишения
и невзгоды, расставаться с самыми памятными для себя
вещами, чтобы выжить в эти бурные, трагические для
революции дни. «Приемыш» не таил на них зла. В его душе
восторжествовали уважение и патриотическая
солидарность, а кроме того, его очень занимала новость, которую
сообщил словоохотливый слуга, о том, что Нэна поедет
вместе с Адольфо и Кармен в Юкатан. Там же,
по-видимому, находился и Хулиан. К счастью, все складывалось
так, что он, сын Хосефы Вальдес, должен будет
оказаться среди них. Кармен относилась к нему все с большей
симпатией и трогательно, искренне заботилась о нем
вместе с Адольфо, который в эти дни был настроен очень
благодушно. Они решили не бросать юношу после своей
женитьбы на произвол судьбы в «волонтерской» Гаване.
— У меня будет сын чуть помладше меня самой,—
часто повторяла она, улыбаясь, в присутствии Хуана,
подтверждая свое намерение взять его с собой в Мериду и
усыновить.— Мы сделаем из него человека!
Нэна и он поедут вместе! Снова они будут жить под
одной крышей! А где-то рядом Хулиан, самый близкий
его друг, оказавший на него такое сильное и роковое
влияние! Как все сложится? Как она будет вести себя с
ним? Может быть, отнесется враждебно, чтобы сдержать
слишком дерзкие порывы, связанные с прошлым,
известным лишь им двоим? А может быть, наоборот, она с
присущим ей врожденным кокетством попытается обольстить
его? Какой соблазнительной она, должно быть, стала
теперь, в расцвете своей девичьей красоты!
Ему не долго пришлось ограничиваться одним лишь
воображением.
Пришел день, когда он отправился в дом,
находившийся в районе Вибора. Его послал туда вечером Адольфо за
лекарством для старшей из сестер Бетанкур, вручив
бесплатный рецепт, поскольку нищету всегда легче
переносить сообща. Хуан постарался придать себе элегантный
вид, настолько, разумеется, насколько это позволял
лучший из перешитых на него сюртуков из ярко-синего
шевиота, ткань которого еще сохраняла свой первозданный
цвет, но сюртук был слишком длинным и широким. Хуап
508
поехал на конке среди пассажиров — откровенных
врагов сюртуков и галстуков, которые с неприязнью и
насмешкой поглядывали на юного простолюдина, одетого
претенциозно и явно с чужого плеча. Кто-то из них с
издевкой крикнул ему:
— Эй, приятель! Видать, покойничек был повыше
тебя ростом!
Столь дерзкий намек на его бросающийся всем в
глаза непомерно большой сюртук усугубил тревогу,
поселившуюся в душе Хуана с той минуты, как ему приказали
поехать в Вибору. Туда, где жил Фернандо, способный
проникать в чужие мысли и мгновенно подмечать все
нелепое и смешное. Где жил Робертико, которого при его
внезапном появлении несомненно должны будут
охватить стыд и отвращение, даже если он будет умело
скрывать свои истинные чувства под маской гостеприимства.
Туда, где жила Нэпа!
Разумеется, последнее обстоятельство больше всего
занимало Хуана и держало в нервном напряжении его
тщедушное тело, облаченное в сюртук ярко-синего цвета.
Тревожная неизвестность угнетала и заставляла теряться
в догадках. Как она его встретит? С пепавистью? Со
страхом? С жалостью? А может быть, она будет испытывать
все эти чувства разом? Или отнесется к нему с
пренебрежительным равнодушием? Захочет ли она вообще
увидеть его, когда он придет?
Доехав до нужного ему места, он попросил остановить
конку и вышел. Сердце бешено колотилось, а ноги
дрожали так, что это было почти заметно.
Едва он сошел с конки, как за ним увязались два
шпика из тайной полиции, вероятно, приняв его за
скороспелого заговорщика, пробравшегося из зарослей
кустарников пригорода, служивших убежищем для разведчиков
повстанческой армии.
Это вселило в него еще большую тревогу. Он быстро
миновал полквартала, которые отделяли его от
квадратного пятна света, падавшего из дверей аптеки, и вошел в
дом.
В аптеке он застал Робертико и Эрасмо, одетых в
белые халаты. Робертико сидел за матовым стеклом витрины
с надписью «Выдача», выведенной золотыми буквами, и
готовил микстуру для негритянки, которая ожидала,
прочно усевшись в тесном кресле с подлокотниками; концы
цветастого платка, повязанного на голове, спадали ей на
509
глаза, словно уши усталой ослицы. Эрасмо в эту минуту
выходил из помещения за аптекой, склонив голову к
плечу,— верный признак того, что его мозговая анемия стала
хронической,— держа в правой руке большую тяжелую
книгу.
Эрасмо первым заметил Хуана.
От неожиданности он вскинул голову, однако ничем не
выдал своего удивления. Какое значение имело для него
такое ничтожество, как Хуан! Даже если он вдруг
появился среди тех, с кем несколько лет подряд прожил под
одной крышей.
— Смотри, кто пришел,— холодно и равнодушно
сказал Эрасмо отцу.
Аптекарь высунул голову, достигнув буквы «В» в
слове «Выдача», и, прекрасно владея собой, воскликнул:
— Привет!
Затем, приглашая подойти поближе, поинтересовался,
что он делает в Гаване и что привело его в аптеку.
Хуан подошел. С трудом скрывая тревогу, Робертико
узнал, каким образом несколько дней назад сирота
очутился в доме Адольфо и зачем предстал теперь с
бесплатным рецептом перед окулярами аптекаря. Эрасмо по-
прежнему сохранял олимпийское спокойствие. Робертико
и Хуан еще довольпо долго говорили между собой
нетвердыми голосами, не в силах совладать со своими мыслями
и чувствами. Однако каждый из них пытался это скрыть:
Робертико усиленно размешивал лопаточкой на
фарфоровой подставке дурно пахнущую мазь, а Хуан скользил
потерянным взглядом по треснутым, белого фаянса баночкам,
которые украшали аптекарские полки с выцветшей
позолотой латинских надписей. Время от времени взгляд его
жадно устремлялся к верхним ступенькам выкрашенной
красной охрой лестницы, ведущей из аптеки в жилые
помещения на втором этаже. Особенно после того, как он
сбивчиво рассказал отцу и сыну все, что можно было им
рассказать. Лекарство по рецепту, который принес Хуан,
уже было почти готово, негритянка давно ушла, получив
свое, а отец и сын не выражали ни малейшей охоты
пригласить его наверх, чтобы повидаться с остальными
членами семьи. Желание Хуана подняться вспыхивало с
новой силой, когда он слышал доносившиеся до него от двери
на лестничной площадке быстрые мужские шаги, словно
вот-вот должны были появиться Бетико или Фернандо,
или когда на верхнем этаже раздавался стук тонких жен-
510
ских каблучков, напоминая ему о близости прекрасного
создания, чей образ он хранил в памяти.
Неожиданно на лестнице послышались стремительные
мужские шаги. Это был Фернандо. Как говорится, в
здоровом теле здоровый дух! Он встретил старого приятеля,
когда-то в детстве делившего с ними кров, с шумным
радушием. Громко оповестил всех, кто находился наверху, о
приходе Хуана и, не поинтересовавшись мнением отца,
повел Хуана вверх по лестнице, живо расспрашивая:
— Когда ты приехал в Гавану? Ты знаешь, что умер
мой дед? А к нашим ты уже заходил? Удалось тебе
увидеть повстанцев?
Сгорая от нетерпения, его встретили Бетико и Канде-
лария. Лестница вела в гостиную. Его усадили на ветхую,
почти негодную софу. Бетико уселся рядом с гостем, а
Канделария встала напротив, уперев руки в бока.
Фернандо отправился за женщинами. Первой пришла Лаура.
Она поздоровалась с Хуаном, как ей и надлежало:
надменно и сдержанно. И даже не присела, всем своим видом
показывая, что не намерена тут долго оставаться.
Посыпавшиеся на неожиданного гостя вопросы заставили его
повторить в общих чертах то, что он уже рассказывал
внизу. Упоминание о Доминго вызвало слезы на глазах
Лауры, и, растрогавшись, она снизошла до того, чтобы
присесть и послушать рассказы о войне, которые Хуан
выдумывал, стремясь привлечь к себе внимание и
выиграть время в надежде, что наконец появится Нэна.
Кука, о которой спросил Хуан, чтобы сбить всех с толку,
уже легла спать. Бетико, замерев с учебником в руках,
слушал, как Хуан описывал Масео сидящим верхом на
коне, с обнаженным мачете в руке, и Кинтина Бандераса с
металлическими кольцами в ушах и в ноздрях.
Неожиданно из дверей соседней комнаты послышался
голос, заставивший Хуана вздрогнуть. Вошла владычица
и повелительница всех обитателей этого дома. Выражение
ее огромных, широко открытых глаз, обрамленных
густыми ресницами, гармонично сочеталось с искренней
улыбкой красивого, невинного рта.
— Здравствуй, Хуан! Как поживаешь? Ты давно в
Гаване? — Она произнесла это, подходя к нему и протягивая
руку для пожатия, просто и сердечно, как этого не сделал
до нее никто.— Как дела?
Хуан растерялся и ответил на ее дружеское пожатие
вяло и робко.
511
Не стоило заново пересказывать всю историю.
Реальность была куда более волнующей, ослепляющей, чем он
мог себе это представить. Ведь он встретил такое приятное
расположение со стороны девушки, чей образ, связанный
с воспоминаниями и надеждами, не раз рисовался в его
разгоряченном воображении. Какой неудержимый, явный
испуг вызвало у него ее присутствие! Как завораживал ее
мелодичный голос и блеск прекраснейших глаз! Как она
была красива! Как всемогуща!
По бедности не хватало траурной одежды, и дома все
вынуждены были ходить в том, что носили еще до того,
как на их семью обрушился двойной траур. В этот вечер
тонкое, узкое, длинное платье розового цвета плотно
облегало ее хорошо очерченные выпуклые груди, бедра и
ноги, и, присев на стул, она выставила на всеобщее
обозрение столь вожделенные когда-то щиколотки. Они,
словно магнитом, притягивали к себе взгляд Хуана. Так же,
как ее глаза, губы, белая шея в глубоком вырезе платья
и вся она, являвшая собой воплощение гармонии юной
девичьей красоты!
Поразительную красоту девушки уже не замечали
члены ее семьи. Они привышш к ней. Зато она, как никто
другой сознавая свою красоту, пользовалась ею, чтобы
ослепить, обезоружить и таким образом получить
возможность разговаривать с ним спокойно, сердечно, не
заливаясь краской стыда и даже не допуская мысли о робости,
вызванной существованием тайны, известной только им
двоим. Она заговорила с ним просто, даже ласково, как
подобает девушке, которая знает себе цену и снисходит до
существа низшего, не пятная при этом свою честь и не
подвергая себя никакой опасности. Так поступают
обычно сообразительные девицы, чье прошлое хорошо всем
известно, но, когда им намекают на него, они ведут себя
настолько естественно и невозмутимо, что сбивают с толку
даже самых проницательных. Точно так же, как только
что говорил и вел себя Робертико.
Ослепление было столь велико, что несмотря на
дружеское участие Нэны, с интересом внимавшей необычным
историям Хуана, он вскоре совсем потерялся и смолк,
слушая, что рассказывали ему о семье, об успехах
Фернандо — теперь уже студента университета, о том, как
похорошела Кука, о смерти дона Роберто,— при этом
глаза Лауры вновь увлажнились,— и, между прочим, о том,
как выросла — чтобы не сказать большего — Нэпа. Слу-
512
шая все это, он не мог отвести взгляда от
загипнотизировавших его ног девушки, не в силах справиться с этим;
наваждением, которое оскорбляло всех присутствующих.
Именно поэтому Лаура наконец решила удалиться в
зал, не обращая больше внимания на «бывшего
приемыша»; Бетико делал знаки Нэне, чтобы она поправила
платье, а Канделария с неблагоразумным злорадством,
притворяясь наивной, спросила:
— Помнишь, Нэна, как мы играли в прятки под
кроватью дона Адольфо?
К счастью, в эту минуту донесся снизу голос Эрасмо:
— Хуан! Все готово!
Хуан поднялся. Ему надо было уходить. Издали он
попрощался с Лаурой, которая даже и не подумала встать
с кресла по столь незначительному поводу. Юноши
пожали Хуану руку. А Канделария в один голос с Фернандо
пригласила старого приятеля заходить почаще. Нэна,
спокойно сжимая теплой ладонью неуверенную руку
завороженного Хуана и тем самым подчеркивая полное свое
равнодушие к нему, пожалуй, несколько рьяно
присоединилась к добросердечным пожеланиям остальных.
— Да, да, конечно,— проговорила она, удерживая его
безвольную руку в своей и заставив юношу опустить глаза
под ее пристальным, властным взглядом.— Заходи к нам
еще. Но так, чтобы провести здесь весь вечер. Тогда ты
расскажешь мне, только мне, то, что я не услышала
сегодня. И о крестьяночке, которая наверняка у тебя там
завелась. Хорошо? Так ты придешь?
Прощаясь с ней и с остальными, он взял шляпу и
попятился к лестнице, чтобы скрыть нелепые фалды
сюртука, некогда принадлежавшего Адольфо, и едва
осмеливаясь взглянуть украдкой в ее прекрасные глаза.
— Конечно, конечно, расскажу,— запинаясь отвечал
qh,— если позволит дон Адольфо, я непременно приду.
Щли когда вы к нему придете. До свидания. При чем тут
крестьяночка, Нэна? Я все расскажу тебе, хоть теперь,
хоть потом. А ты поедешь в Мексику?
— Да, а почему ты спрашиваешь?
— Просто так. До свидания!
— Но, послушай...
— Нет, нет. До свидания! Я еще зайду.
И он быстро сошел по лестнице.
Внизу его ждал Робертико. Он протянул ему пакетик
с лекарством, попросил передать привет Адольфо и поже-
33 К. Ловейра 513
лал скорейшего выздоровления больной, но не пригласил
Хуана зайти еще раз, а только пожал ему руку и сухо
попрощался. Хуан оторопело ответил так, чтобы слышал
Эрасмо, который сидел, упершись локтями в папку для
бумаг, лежавшую под уже упомянутой нами книгой, и
подперев руками голову; он даже не шелохнулся, только
небрежно и холодно произнес:
— Будь здоров, приятель!
Хуан уехал на подкатившей весьма кстати конке.
В вагончике он отыскал свободное местечко подальше от
коптящего трепетного пламени керосинового фонаря,
чтобы скрыть от любопытных взоров сюртук, который словно
не собирался больше надевать. И настолько быстро и
всецело отрешился от окружающего его внешнего мира,
чтобы погрузиться в свои раздумья и волнующие
переживания, что дорога до остановки Сан-Хуан-де-Дьос
показалась ему невероятно короткой. Несколько минут спустя он
уже находился у дверей «своего» дома. Адольфо еще не
вернулся. Больная Бетанкур, костлявая, маленькая,
одетая в длинный белый балахон, протянула руку из-за
ширмы и взяла лекарство, выслушав указания, как его следует
принимать. А еще через несколько минут Хуан постелил
себе постель на софе при желтоватом свете меркнущего
пламени и, раздевшись, лег спать.
И снова, как на улице Агиар, освещенной мертвенными
фонарями, отстоящими друг от друга на большом
расстоянии, а до этого в тарахтящей, полуразвалившейся конке,
Хуана охватили смутные, беспокойные мысли, которые
возникли у него в ту минуту, когда он, взволнованный,
покидал дом на улице Вибора. И еще какой взволнованный!
Только в состоянии сильного нервного возбуждения,
окончательно потеряв над собой контроль, он мог столь
опрометчиво и неблагоразумно заранее намекнуть, что тоже
собирается ехать в Мексику вместе с Адольфо и его
женой. А что, если Робертико, обеспокоившись, предпримет
какой-нибудь демарш против него? Что станется тогда с
ним? Только одно: придется вскинуть на плечо узел со
своими пожитками и уйти из города, скрываясь от
испанцев, чтобы добраться до передовых позиций
повстанческой армии, если, конечно, до этого он не окажется за
решеткой в Ла-Кабанье. Так или иначе, у него будет крыша
над головой и кое-какая еда. А может быть, его сразит
пуля и навсегда решатся все проблемы. Каким здоровяком
стал Фернандо! И как он был приветлив с ним! Как просто
514
вел себя Бетико! И как презрительны и надменны были
Лаура, всезнайка Эрасмо и этот лицемер — отец
семейства! Ну уж нет! Больше он туда не ходок! Ни за что! Его
дружок Пепин, хоть и умен, а оказался неправ. Что толку
с того, что бесправные, беззащитные знают пороки
сильных мира сего? Этим можно было бы воспользоваться,
только имея равные права и обладая одинаковыми
возможностями. Взять хоть, к примеру, Нэну. Какие были у
нее намерения, да и думала ли она о нем? Вряд ли. Скорее
всего нет. Единственно в чем он был твердо уверен, так
это в том, что она чувствовала себя недосягаемой и
неуязвимой. Достаточно было ее увидеть, чтобы сразу
понять, насколько она всемогуща! Такой он видел ее и
теперь: божественно красивой, величественной,
недоступной, словно королева для юного влюбленного пажа. Ее
образ затмил в его воспламененном воображении все
мысли. Ему вспоминался ее мелодичный голос, он почти
видел, как звуки срываются с ее влажных, алых, нежных
губ, обнажая белоснежные зубы. Он почти ощущал всем
своим существом ее крепкие, округлые груди, словно две
половинки созревшего грейпфрута, плотно обтянутые
тонкой бледно-розовой тканью, и соблазнительную
щиколотку, выглядывавшую из-под приподнятого платья,
вызывая сладострастное видение подвязок, кружев и
прекрасного нежного тела. Желание возобладало над всеми
остальными чувствами. В висках Хуана стучало. В горле
пересохло. Пальцы и губы жаждали тепла и ласки
женского тела. И образ красавицы-мулатки, до сих пор
рисовавшийся ему в такие минуты, навсегда затмило
становившееся все более неотступным видение белоснежного,
округлого тела.
Хуан не мог заснуть и ворочался на софе.
В дом вошел Адольфо, зажег свет, его шаги
послышались в прихожей, затем в кабинете.
Спустя несколько минут, со вздохом произнеся: «Кто
знает!» — Хуан, чьи нервы и мозг вдруг расслабились,
погрузился в глубокий юношеский сон.
На следующее утро, очень рано, к дону Адольфо
явился Робертико. Корнелия и Агрипина Бетанкур,
подавленные болезнью Тулы, молча слонялись из комнаты в
комнату. Негр и негритянка сновали по кухне. Адольфо, сидя
за письменным столом, составлял список расходов, с
которым Хуан должен был немедленно отправиться за
покупками к свадьбе. Деньги Адольфо только что получил
515
от владельца ломбарда, астурийца, которому продал по
дешевке едва ли не последнюю свою мебель. Хуан,
опершись локтями о министерский стол, поглощал страницу за
страницей книги «Наука и ее люди». На него, на Хуана,
прежде всего и наткнулся Робертико.
— Здравствуй! — сухо поздоровался он с юношей.
И прошел мимо, даже не взглянув на него.
Брат встретил его, шумно проявляя свое удивление:
— Какими судьбами! Ты здесь и в такой час!
Усадив его напротив себя, Адольфо, извинившись,
попросил подождать несколько минут, пока давал поручения
Хуану:
— Отнеси книги на улицу Обиспо и не торгуйся
особенно. Бери, сколько дадут. Потом загляни на Теньенте-
Рей и скажи, что я от экипажей отказываюсь. Все будет
проходить в тесном семейном кругу, в связи с трауром,
что весьма кстати. Оттуда с денежной распиской вернись
к Марио. Если он даст тебе денег, заплати Кабрисасу за
манишки, манжеты и воротнички. Купи все, что указано
в этом списке, и забери футляр с гребнем у Барбольи.
Гребень возьми в последнюю очередь и сразу же отнеси
Кармен. Запомни хорошенько: у нее не бери никаких
чаевых. Ни под каким видом. Понятно?
Хуан внимательно все выслушал, хотя и был очень
взволнован и даже испуган столь неожиданным ранним
визитом Робертико. Когда он уже направлялся мимо них,
держа шляпу в руке, к выходу, то совершенно отчетливо
услышал, как аптекарь, стараясь говорить приглушенно,
таинственно и скрытно, убеждал брата в том, что это
«неразумно», «ненужно», что об этом стоит хорошенько
подумать, прежде чем окончательно решить. Хуан отлично
понимал, о чем идет речь. Он догадался об этом, как только
увидел Робертико. И решил прибегнуть к состраданию и
материнскому участию Кармен, по опыту зная, что это
единственный для него выход.
Когда Хуан около десяти утра появился в доме
невесты Адольфо, она только что приняла ванну, подвергнув
себя одной из тех кропотливых процедур мытья головы,
которые были приняты в XIX веке. На ней был
роскошный, белоснежный пеньюар с кружевами, вероятно,
нетерпеливо изъятый из приданого. Безупречную белизну
пеньюара и смугло-розовый цвет лица, засиявшего при
виде посланца жениха, еще больше подчеркивала копна
черных, блестящих, густых волос, спадавших на плечи и
516
спину. Она воплощала собой образ новобрачной в
супружеской спальне, о которой мечтали влюбленные все в том
же XIX веке.
Протягивая ей шкатулку с гребнем, о котором
говорил Адольфо, обернутую в белую бумагу и перевязанную
красной лентой, Хуан искренне воскликнул вместо
приветствия:
— Как жаль, что дон Адольфо не сам принес вам этот
подарок!
Он произнес это без всякого притворства и вдруг
покраснел от волнения, от запоздалой робости, почти от
страха. Она, понимая, что он имел в виду, тоже
покраснела, но от удовольствия н смущения, и наконец
спросила, по-женски поощряя его:
— Почему же?
— А потому, что...— Он пожал плечами и коварно
улыбнулся.
— Потому, что я очень красива?
— Еще как! — быстро и уверенно ответил он.
— А дону Адольфо я, наверное, не кажусь такой
красивой, правда?
Он принялся горячо убеждать ее в обратном, и она,
удовлетворенная лестью,— всегда обольстительной и
неоценимой для женщины,— стала развязывать ленту,
позвав при этом мать, чтобы та пришла посмотреть вместе
с ней подарок Адольфо^,
Это был элегантный, сделанный с большим вкусом
гребень для волос из черепаховой кости с серебром,
который наверняка стоил половины денег, вырученных от
продажи мебели и библиотеки в последние дни. И пока
девушка по-детски восторгалась подарком, Хуан вдруг
совершенно некстати сказал:
— Я тоже очень рад вашему браку. Только,
пожалуйста, не передумайте и не оставляйте меня в Гаване.
— Почему вдруг мы должны передумать?
— Да нет. Я просто так...
— Ну что ты! Ты поедешь с нами в любом случае.
— В любом, в любом?
— Конечно. Не оставим же мы тебя здесь, чтоб ты
попал в руки этого Вейлера, которого так боятся все
гаванцы?
— Правда?
— Даю тебе слово.
За время своей жизни в предместье Гаваны и в деревне
517
Хуан уже не раз имел возможность убедиться, чего
стоило слово, данное женщиной, но в том, как это сказала
счастливая, а поэтому великодушная девушка, было нечто
такое, что вселило в юношу уверенность.
Вскоре он уже вернулся в дом на улице Агиар,
настроенный весьма оптимистично, невзирая на свою
утреннюю тревогу. Адольфо он принес от невесты сотню
словесных горячих изъявлений благодарности и запечатанную
записочку, а себе оставил песо, который ему насильно
сунули в нагрудный карман сюртука.
Адольфо он застал в конторе и сказал, что все
выполнил согласно его приказаниям. Когда же он, намереваясь
польстить жениху, начал выражать восторг по поводу
красоты его невесты, одетой в то утро в просторный,
дорогой пеньюар, Адольфо прервал поток его красноречия
несколькими фразами, сказанными довольно сурово:
— Послушай. Я должен кое-что сказать тебе по
секрету, надеясь на твое благоразумие и скрытность, в
которых я уже не раз мог убедиться. Робертико приходил
сюда для того, чтобы уговорить меня оставить тебя здесь
и не брать с собой в Мексику.
— Почему?
— Да так, глупости. Якобы тебе известны наши
семейные тайны, особенно наши, мужские; и еще потому,
что едет Нэпа.
— А Нэна-то при чем? Она же едет с вами, с семьей,
а я...
— Конечно! — перебил его Адольфо, желая
прекратить этот нелепый разговор, вызванный глупостью
брата, и досадуя на себя за то, что затеял столь
неблагоразумную беседу с «приемышем».— Но ведь он ее отец,
понимаешь, и в первый раз расстается с дочерью, ему
кажется... чепуха какая-то... вот он и не знает, что ему
придумать. Во всяком случае я ему ничего твердо не обещал, и
ты поедешь с нами. Не ходи к ним больше, а если он или
его сыновья станут тебя расспрашивать, говори, что сам
еще не знаешь, но думаешь, что не поедешь. Понятно?
И по-прежнему старайся расположить к себе Кармен и
ее мать.
— Да, она только что просила, чтобы я «не пошел па
попятную», как говорится, даже пугала меня Вейлером.
Клянусь матерью!
— Тс-с! Забудь это имя. И будь очень осторожен до
самого отъезда.
518
После чего они вместе просмотрели поручения и счета.
Чтение, общение с образованными людьми,
требования, к которым его обязывали сюртук и галстук, не только
развивали вкус Хуана, делали более культурными его
манеры и речь, но и постоянно оттачивали его природный
ум. Вот почему страх и отвращение, вызванные
поведением аптекаря, заставили Хуана сделать свой первый
философский вывод: «До чего же мир бесстыж!»
Слова эти вырвались у Хуана почти вслух, когда он
шел через патио в глубь дома, предаваясь своим
саркастическим размышлениям: «Ему, видите ли, что-то
кажется! Кажется, потому что он отец! Можно подумать, что
отцы в их семействе всегда заботились о детях... и о
матерях своих детей! А вот их семейные секреты, это верно,
это он, конечно, прав. Что да, то да! В этом-то собака и
зарыта! Ясно, что он хочет отделаться от меня, готов
даже вышвырнуть на улицу, оставить без крыши над
головой, думает, я могу есть нищенскую похлебку из общего
котла п спать на скамейке в парках. Разрази его гром!
Ладно уж. Я проглочу эту пилюлю... но запомню ему».
Эти мрачные мысли не покидали его все время, пока
шли суматошные приготовления к свадьбе Адольфо.
Робертико не преминул навестить свою будущую
невестку, чтобы походя коснуться в разговоре вопроса о
поездке Хуана, однако не осмелился заговорить с ней на
эту тему, видя доброжелательное отношение Кармен к
сироте. Мало того, Адольфо, преисполненный любви к
невесте и желания во всем ей угождать в эти последние
перед свадьбой дни, сам отправился к Робертико, чтобы
удержать его от того, что считал нелепой выходкой.
Учитывая семейный траур, военное время, страх перед
Вейлером, почти полное безденежье жениха pi подготовку
к немедленному отъезду из страны, решено было, что
медовый месяц начнется с недельного пребывания
новобрачных в доме Кармен. Дом на улице Агиар оставляли
на попечение Гойо; слуга будет существовать на деньги,
которые девицы Бетанкур станут платить за квартиру, и
на то, что он сможет выручить, сдав внаем после отъезда
Адольфо, пусть даже испанцам, комнаты по фасаду дома.
Нэна в день отъезда должна была вместе со своими
родителями приехать прямо на пристань. Накануне того дня,
которому суждено было стать поворотным в жизни Кармен
и Адольфо, Хуан неотлучно находился в доме юкатанок,
поспевая повсюду, усердный, серьезный, внимательный,
519
услужливый, стремясь завоевать расположение своим
уважением, содействием их счастью и восторженным
отношением к ее приданому. Какой пеньюар! Какое элегантное
платье! Сколько прекрасных вещей! А постель какая!
Уже перед самой свадьбой, проходя через спальню
будущих супругов, Хуан увидел разложенные на широком
ложе белоснежные, украшенные розовыми лентами
принадлежности женского туалета новобрачной. Он
остановился полюбоваться ими. Чувственное воображение
юноши возбудили розовые подвязки, ширина которых
говорила о многом. Вспомнив о возбуждающем средстве,
рецепт на которое Адольфо унаследовал от отца и к
которому в последние дни прибегал несколько раз, Хуан
вполголоса дерзко воскликнул: «Ну и подвязки! Вот уж повезло
этому импотенту!» В эту минуту в комнату вошла
Кармен, застав его на месте преступления, по он, ничуть не
растерявшись, немного изменил фразу и совсем некстати
сказал:
— Какие подвязки!
Девушка залилась краской стыда, она пришла в явное
замешательство. Была ли это наивность или наглость? Но
Хуан сразу же понял, что совершил бестактность, и
пожалел об этом. «Ну и скотина же я!» — подумал он, когда
Кармен сурово и безжалостно приказала ему выйти из
комнаты. Эгоизм, присущий Хуану и служивший ему
надежным компасом, подсказывал единственно верный путь:
заботиться о всеобщем благополучии, чего бы это ему ни
стоило, и в первую очередь — о благополучии Адольфо.
Приняв это решение, он, к счастью, уже не отступал от
него до последней минуты выпавшего на его долю
испытания.
Поздно вечером Хуан вернулся в дом на улице Агиар.
Он приехал в экипаже, привезя с собой старенький сундук,
в который должен был уложить свои пожитки, чтобы
через два дня, то есть па другой день после свадьбы,
вернуться с ним в дом Кармеп.
Бракосочетание состоялось дома, в зале, перед очень
-скромным небольшим алтарем, который мало походил на
католический: серебряное распятие менее чем в полметра
высотой, золотистый свет восковых свечей, несколько
старых белых салфеток, уже превратившихся в кружево, и
два букета цветов, взятых у соседей. Свадебная церемония
происходила в узком семейном кругу, среди родных,
живущих в усадьбе в Ведадо и в районе Вибора, всех слуг и
520
троих соотечественников невесты, в числе которых был
священник, покинувший родину во время очередного
гонения на духовенство. Кармен вышла из комнаты, где на
нее надели фату и флёрдоранж, ослепительно красивая:
белизна ее наряда особенно выделялась на фоне
окружавших ее траурных платьев, а счастливое, улыбающееся
лицо контрастировало с печальными, заплаканными
лицами женщин. Влюбленная, скромная, умная девушка была
рада тому, что на ее свадьбе нет посторонних людей,
глазеющих на все с наглыми улыбочками и всегда придающих
этому интимному событию, выставленному на всеобщее
обозрение, что-то безнравственное, даже неприличное.
Да... Кармен была прекрасна. Самой прекрасной и для
Хуана, который не отрывал от нее глаз, хотя мог в эту
минуту любоваться и Нэной. Волосы Нэны были тщательно
уложены в пучок, а сама она облачена в глубокий траур,
скрывавший все ее прелести,— полуобнаженность,
делавшая ее столь неотразимой, считалась в те времена
грешной вне стен домашнего очага. Кармен же, светившаяся
любовью, на пороге полного счастья выглядела
великолепно и чарующе в своем свадебном, полудекольтированном
платье. Это впечатление усиливалось еще и оттого, что
перед жадным взором Хуана стояли, скрытые под белым,
мягким шелком, пенистые кружева с розовыми лентами и
широкие подвязки, которые он видел накануне разложеа-
пыми на кровати. Он не в силах был оторвать
плотоядного взора от ее девичьего лица, от вздымавшейся в
волнении высокой белой груди, видневшейся в вырезе платья,
пока священник изрекал обычные фразы свадебного
обряда.
Неожиданно невеста подняла глаза, чтобы взглянуть на
растроганных, участливых гостей, и встретилась с
восторженным взглядом Хуана. И вся вспыхнула. Хуан в ту же
секунду потупил взор и отвернулся, тем самым сделав
очевидным свое преступление, и, раздосадованный,
инстинктивно покинул зал, воспользовавшись всеобщим
замешательством по окончании свадебной церемонии.
Некоторое время спустя ему еще раз пришлось
отвести глаза, когда в глубине анфилады комнат он увидел,
как Нэна подтягивала чулок. И надо сказать, эта
поразительная нога в черном чулке, выделявшаяся на фоне
белых, пышных нижних юбок, навсегда запечатлелась в его
памяти, готовая в любую минуту ожить. Но тогда его
терзали сомнения и неодолимый страх.
521
А вдруг Кармен все поняла и теперь согласится со
своим осмотрительным деверем!
Вот почему в тот вечер,— когда с шумом хлопали
пробки винных бутылок, разносили подносы со сладостями и
мороженым, слышались шутки, намеки, суждения по
поводу свадьбы и предстоящей поездки,— насколько,
разумеется, это позволял семейный траур,— да и потом, до
самого отъезда, Хуан не видел больше ни Кармен, ни Нэны,
ни кого-либо еще из молодых женщин этой семьи.
Воспоминания Хуана, связанные с подготовкой к
путешествию, самим путешествием и его завершением,
путаются в его памяти. Вернее, совершенно стерлись. Ему
помнится, что вещи его, в том числе пакет с бумагами и
фотокарточками, были уложены в сундук. Помнит он
также, что ему пришлось скрывать слезы, глядя на одетых в
траур, всхлипывающих провожатых, стоявших у буксира,
который должен был доставить их на борт «Саратоги».
Потом корабельный запах, сорокавосьмичасовая качка на
борту корабля, где всех, за исключением моряков и
бывалых путешественников, мучила морская болезнь; качка,
вызванная северным ветром, от которого вскипал и пенился
опасный Мексиканский залив. А те редкие минуты, когда
тело принимало вертикальное положение и в желудке
разливалось тепло, заполнены отрывочными
воспоминаниями: ненавистный испанский флаг на пароходе, шедшем
навстречу «Саратоге»; разговор с Нэной, пока отдалялись
от них горы Пинар-дель-Рио, в которых Масео с
помощью мачете и динамита отражал нападение сорока
испанских батальонов; комплименты, наглые взгляды и
восторженная учтивостьх всех мужчин на борту корабля,
толпившихся перед креслом-качалкой или шезлонгом, на
которых очаровательная кубинка дремала или жаловалась
на качку, усиливавшую ее креольскую бледность, сгущая
тени под глазами, делавшие ее красивые глаза еще
прекраснее, и развевая по ветру ее густые, черные волосы.
И, наконец, последнее воспоминание: очень длинная
пристань с настилом из кое-как прибитых, шатких досок
и лабиринтом ненадежных, проржавленных рельсов;
шелковистые и ослепительно-белые тюки с геыекеном,
вереницы тощих вонючих мулов и непривычная толпа
чернорабочих — желтокожих, полунагих, молчаливых. Пристань под
ногами качалась, словно корабль, и Хуан хорошо помнит,
что вынужден был цепляться за все, что попадалось ему
на пути, будто шел по палубе корабля около мокрых, вы-
522
зывавших головокружение поручней или средт^ коек
пассажиров второго класса, где стоял невыносимый запах
пенькового каната, свинцовых белил, матросской
похлебки, тошнотворно-кислой блевотины — одним словом,
запах корабля.
XXVII
Собственность Адольфо в Юкатане, доставшаяся ему
после женитьбы, состояла из шести домов в Мериде и двух
крупных асьенд с плантациями генекена. В одной из них
стоял патриархальный жилой дом, ничем не
отличавшийся от домов в кубинских имениях той эпохи: одноэтажный,
с высокими потолками на деревянных балках,
массивными, белеными стенами, обшарпанными полами из стертых,
пыльных кирпичей во всех помещениях, мощеным
патио с закраиной водоема посредине и высокой кладкой
темно-зеленой изгороди в глубине, над которой
виднелись чахлые банановые деревья и смутно различалась
вдали каменистая равнина, утыканная, словно зелеными
штыками, генекеном. Дом находился в двух километрах
от Мериды. Такое расположение было идеальным: в
стороне от экипажей, чавкающих по грязным, топким дорогам,
вдали от сплетен, посторонних глаз и скученности
большого города и в то же время достаточно близко от него,
чтобы всегда иметь под рукой самые насущные услуги
цивилизации: врача, театр, прессу, губернатора. Вот в этом-
то доме, заблаговременно приведя его в порядок и завезя
туда необходимые запасы провизии, а также щетки для
мытья полов, и поселились вновь прибывшие. Для Нэны
эта асьенда являлась настоящей ссылкой, однако
несколько смягченной очень важными для нее и для всех
остальных обстоятельствами: в Гаване она была стеснена
трауром, печальной атмосферой войны, трудным
материальным положением семьи и обособленной жизнью на
улице Вибора. Кроме того, как и подобает преданной
кубинке, ей следовало смиренно разделять тяготы
освободительной войны. К тому же это изгнание облегчало
положение ее родителей, братьев и сестры. В юкатанском же
доме она не испытывала ни в чем недостатка и постоянно
чувствовала заботу и любовь Кармен и ее матери. И,
наконец, не успели они прибыть в Юкатан, как к ним в асьен-
ду пожаловала молодежь из Мериды и среди них не
523
менее дюжины женихов, слетевшихся, словно стая саранчи
на созревшее кукурузное поле, поглазеть на прекрасную
гаванку, появившуюся в окрестностях уединенного,
ведущего монотонный образ жизни города Юкатанского
полуострова. Эта заразительная эпидемия не обошла стороной
и юношей новой родни, не замедливших явиться в Про-
гресо, чтобы встретить приехавших с Кубы путников.
Молодые, здоровые, опаленные солнцем, некоторые даже
огрубевшие в своих выжженных каменистых асьендах, они
чувствовали себя не в своей тарелке в присутствии
столичной сеньориты, которая по невольному признанию
одного из них, «ослепляла своей красотой». Впрочем, это
не мешало им пялиться на девушку, с любопытством
взиравшую широко раскрытыми глазами на ту экзотическую
перемену, которая произошла с людьми и тем, что ее
теперь окружало, всего за какие-то двое суток пути, и не
перестававшую молча, искренне удивляться этим переменам.
После волнений, связанных с приездом хозяев этой
сельской обители, юкатанская резиденция вновь обретает
обычный монастырский покой.
День близится к закату. Легкий ветерок колышет
листву банановых деревьев, выглядывающих из-за забора, и
рассеивает в комнатах старинного дома жаркое дыхание
солнечного пекла генекеновых полей. Под предлогом
заслуженного после дороги отдыха молодожены, не столько
от усталости, сколько от желания уединиться, обновляют
огромный, слегка выгнутый гамак из белой ткани,
украшенный голубыми лентами, который висит во всю ширь
в супружеской спальне. Мать Кармен, желая восполнить
свою пятнадцатилетнюю тоску изгнания, «пасет»
домашнюю прислугу. Нэна и Хуан, немного возбужденные и
растерянные слишком разительной переменой обстановки,
устремляются к широкому порталу. И, встретившись здесь
наедине, заводят беседу, полную недомолвок, лицемерных
оговорок, преамбулой к которой служат своеобразная
одежда и быт юкатанских индейцев. Желая позабавиться
и подладиться к местным обычаям, Нэна одета в штиль —
просторное, длинное платье из тончайшей ткани, которое
носят мексиканские женщины. Ипиль едва обрисовывает
контуры ее грудей и бедер, вводя Хуана в искушение.
Пусть даже только в словесное. И он заговаривает об этой
непривычной для них экзотической одежде, слишком
просторной, скрывающей подлинные линии фигуры, особенно
когда они действительно хороши, как, например, у Нэны.
524
— Здесь все мужчины ходят в кальсонах, а
женщины — в ночных рубашках,— говорит он, вызывающе
глядя на припухлости грудей под тонкой тканью ипиля. И его
дерзкий взгляд (с таким же успехом его можно считать —
черт возьми! — просто наивным) пытается проникнуть
под ипиль, чтобы увидеть, что таится там теперь, спустя
столько времени и по прошествии стольких событий.
Нэна сухо прерывает его, но не обуздывает, а просто
констатирует факт:
— Послушай. Неужели ты с возрастом не научился
быть вежливым. Что у тебя за манера разговаривать?
— А что? Разве я сказал что-нибудь дурное? Разве
ипиль не похож на ночную рубашку? Правда, к тебе это
не относится, у тебя хорошая фигура...
— Ну, ладно,-— смягчается она, по-женски
польщенная лестью. И вдруг, словно кидаясь головой в омут,
напрямик спрашивает, при этом она совершенно
неотразима — глаза ее прекрасны, губы сочны, голос
завораживает: — А куда ты все подевал?
— Что?
— Да все наши детские глупости, помнишь? Когда мы
с тобой по дурости играли в разную чепуху и
обменивались записочками, а ты их прятал.
— А, ты имеешь в виду записочки и прочую чепуху,
которой мы с тобой занимались, когда были женихом и
невестой?
— Были? Нет! Играли в жениха и невесту. Ну да
ладно. Где все это?
— Не знаю.
— Как не знаешь? Ты выбросил? Потерял? Или они
все еще у тебя?
— Да не знаю я ничего!
Он пожимает плечами, явно утверждая своим жестом,
что все у него, и смотрит ей в глаза с откровенным
цинизмом. В его взгляде совершенно очевидно угадывается
намерение мужчины, способного в порыве страсти
добиться своей низменной цели даже с помощью шантажа.
Ее беспокойство становится все сильнее. Она то
решительно требует, то умоляюще просит, не слишком кичась
своим высоким социальным положением и не очень
противясь его намерениям. Она стремится любым путем
добиться своего. Он отнекивается, тянет время,
прикидывается непонимающим, и в нем пробуждается неистовая,
неподвластная ему страсть. Они по-прежнему наедине,
525
вдали от прочих обитателей усадьбы. Тропическая земля
после заката солнца быстро наполняется сумеречными
тенями. И вдруг, окончательно теряя самообладание, этот
ветреник предлагает:
— Ну ладно. Пойдем ко мне в комнату.
— У тебя там все лежит, да?
— Да.
— Ты дашь мне их порвать?
— Да.
Взволнованная донельзя в эту решающую минуту,
за которой настанут для нее долгожданный покой,
уверенность и определенность, она устремляется по галерее,
которая тянется вдоль монастырского патио, к комнате
Хуана.
К комнате, где находятся его вещи: небольшой сундук,
две стопки книг, документы и всякая всячина, а также
гамак, протянутый от стены к стене. Хуан следует за
девушкой, не в силах оторвать глаз от волнующих легких
контуров ее бедер под тонкой тканью ипиля.
Настойчивыми, умоляющими знаками он просит ее уединиться и,
воспламеняясь все сильнее и теряя над собой контроль,
начинает плотно прикрывать все двери, выходящие в патио.
— Нет, нет,— решительно и тревожно шепотом
протестует она.— Зачем ты это делаешь?
— Чтобы нас никто не увидел.
— Давай скорее, нас и так никто не видит.
— Но могут увидеть.
— А я говорю, нет. И давай быстрее с этим кончать.
Ну? Где они у тебя?
— Здесь, в комнате. Сейчас покажу. Но раз уж нас
никто не видит, сначала поцелуй меня.— Сделав ей это
безрассудное предложение, Хуан приближается к
девушке, нежно простирая изогнутые ладони к ее щекам и
вытягивая губы для поцелуя.
— Ах ты, наглец! — восклицает она с затаенным, но
искренним и глубоким отвращением. Закрыв руками
вспыхнувшее от стыда лицо, возмущенная, со слезами на
глазах, она бежит по галерее прочь от Хуана, не
переставая бормотать: — Наглец! Наглец!
— Послушай! — кричит он ей вдогонку.— Вот они,
возьми!..
Но все бесполезно.
Нэна исчезает в ближайших комнатах. Хуан стоит
посредине своей, уже погруженной в темноту, и ждет, не
526
донесутся ли хоть какие-нибудь звуки оттуда, где
скрылась Нэна. Состояние нервного возбуждения, в котором он
сейчас находится, неопровержимая улика против любого
его спасительного довода.
Да и к чему оправдываться? Равнодушие, смятение и
покорность неподвластным ему теперь событиям
пробуждают в нем мятежность духа. Подумаешь!
— Пусть приходят, пусть спрашивают,— говорит он
самому себе с кубинской заносчивостью.— Пусть только
посмеют! Они увидят, на что способен несчастный, когда
его доведут до белого каления. Я им все скажу, что про
них думаю, и если он полагает, что может купить мое
молчание и таким образом все уладить, то глубоко
ошибается, ему не выйти сухим из воды, пусть защищается как
мужчина, а там посмотрим. Мы здесь не на Кубе. Да и я
уже не тот мальчишка-сирота, чтобы им все спускать, как
это было с сеньором Робертико или с сеньором Ромуло.
Уйду отсюда и стану работать. Во всяком случае, дело для
меня всегда найдется и везде. Пусть приходят, если им
так хочется!
Но никто не приходит. До Хуана доносятся лишь
приближающиеся шаги метиса, шаркающего по полу
сандалиями, и он прерывает свой монолог. И больше ни звука.
Разве что тарахтенье металличеокой мельнички для какао
на кухне, которую, вероятно, крутит потливая метиска
под бдительным оком хозяйки, в сущности такой же
метиски, как и ее служанка. Да еще скрип отворяемых ожон
и дверей в прохладной спальне молодоженов, до той поры
наглухо закрытой и безмолвной.
— Бесстыдники! — шепотом восклицает Хуан, имея в
виду Адольфо и Кармен, которые два часа преспокойно,
без всякого зазрения совести пребывали взаперти, не
стыдясь ни хозяйки, ни слуг, ни мужчин, ни женщин, ни
молодых, ни убеленных сединой.
Но и после этого в доме не происходит ничего
существенного. Во всяком случае, в данную минуту.
XXVIII
В тот день Нэна не стала ужинать. Она сослалась на
то, что у нее очень разболелись уши, и весь вечер
просидела у себя в комнате, то охваченная тревогой, то
погруженная в задумчивость, но ни на минуту не переставая
527
лить слезы, пока остальные обитатели дома ужинали в
столовой, а потом коротали вечер в сумеречной прохладе
галереи, изобилующей деревенской мошкарой.
Первый юкатанский ужин Хуан ел за столом один, в
жаркой, плохо освещенной кухне. Две служанки, держа
на коленях плошки с фасолью, приправленной свиным
салом, и горки маисовых лепешек, сидели в сторонке,
диковатые и смущенные; присутствие молодого
чужестранца усугубляло воспитанную в них неприязнь к мужскому
полу. В душе Хуана роились сомнения, надежда и
хвастливое самодовольство, вызванные дерзким, только что
пережитым сладострастным нападением на Нэну. Однако
креольская ветреность, страстность и легкомыслие тут же
заставляют его обратить свой взор на метисок, которые
употребляют маисовые лепешки и как хлеб и как ложку
и пьют по очереди из одного и того же глиняного
кувшина, мусоля его края лоснящимися от жирной фасоли
губами. Эти две смуглые, толстенькие метисочки, еще ни
разу не взглянувшие на него, манят Хуана,
растревоженного недавним свиданием с Нэной. Чтобы заглянуть за
пазуху девушкам, сидящим почти что на корточках, он
часто поднимается из-за стола и идет то за ложкой, то за
пшеничным хлебом, который ест вместо неприемлемых
для него маисовых лепешек. Он тщетно пытается
заговорить с ними и провожает неотступным,
многозначительным взглядом, когда девушки проходят мимо него и их
упругие груди колышутся под просторным белым ипилем,
о котором он только что говорил Нэне, будто О'Н
напоминает целомудренную, длинную ночную рубашку.
Эти девушки — служанки; они постоянно находятся в
доме. Вечером несут шлепанцы, опахала, чтобы отгонять
назойливую мошкару, воду в холодных, запотевших
глиняных кувшинах. Утром подметают, вытирают пыль, моют
кирпичные полы в комнатах. Все замечают, каким
горящим, жадным взором накануне вечером и сегодня утром
Хуан следит за каждым движением этих двух
привлекательных метисок с кожей оливкового цвета. И еще
прежде, чем Нэпа вышла из своей комнаты, прежде, чем Хуан
по ее поведению и поступкам мог бы определить ее
намерения, Адольфо, напуганный вдруг тем, что поместил в
доме среди стольких женщин молодого парня, Адольфо,
прекрасно все понимающий, гуманный, сознающий, какой
неприятный разговор предстоит ему с молодой женой,
зовет Хуана и, вручив ему на расходы десять тостонов, пред-
528
лагает на весь день отправиться в Мериду, чтобы
познакомиться с городом.
Хуан идет в Мериду пешком, наступая на пятки
собственной непомерно длинной тени, потому что солнце
только-только взошло и лишь едва согревает утренний
воздух. Он идет озабоченный, негодующий, кающийся,
пристыженный, растерянный и обеспокоенный своим
вчерашним поступком и последствиями, которые, вероятно,
его ждут. И вместе с тем радуется тому, что сможет
наконец разыскать Хулиана, и, быть может, решится на то,
о чем до сих пор не осмеливался думать, но что
становилось уже насущной необходимостью.
Не успевает он осмотреть и половины прямой
центральной улицы, по которой устремился в глубь города, не
успевает еще достичь громадного, каменного, старинного
собора с бойницами, как у древних крепостей,—
квадратные башни собора видны даже из имения,— как
внимание его привлекает старое побеленное здание, откуда
сквозь низкую дверь и зарешеченное громадное окно
доносится ни с чем не сравнимая оживленная кубинская
речь.
Он останавливается у окна и заглядывает внутрь.
Человек двенадцать — белые, метисы, черные, обливаясь
потом, сидят тесным полукругом, низко склонившись
каждый за своим столом, и скручивают сигары. На стенах
висят литографии и дешевые карандашные зарисовки —
портреты, карикатуры, гербы, знамена, кубинские
пейзажи. Подумать только! Портреты Масео, Марти, Чино
Вьехо. Гербы и знамена — трехцветные, с маленькой
звездочкой особняком. Одно знамя большое, матерчатое —
настоящее знамя, которое впервые видит Хуан Кабрера.
Он внимательно вглядывается в лица мужчин. Те, в
свою очередь, кто снисходительно, а кто самонадеянно,
искоса посматривают на прохожего, который с таким
любопытством и упоением взирает на эти предметы —
свидетельства мятежной Кубы. И вдруг один из них
обращает к нему удивленное, обрадованное, полное искренней
любви лицо и взволнованно восклицает:
— Хуан!
— Хулиан!
И оба, ко всеобщему изумлению, устремляются с
разных сторон к двери.
— Откуда ты взялся? — спрашивает Хулиан.
— Ба! Вот это встреча, черт подери!
34 К. Ловейра 529
И хотя друзья встречаются на чужбине, вдали от
родины, они не обнимаются,— настоящий кубинец не
изливает своих чувств открыто,— а лишь обмениваются
крепким рукопожатием. Оба находят друг друга
повзрослевшими, возмужавшими. Хулиан действительно выглядит
совсем зрелым мужчиной, на его рабочем столе лежат
полукругом сигары, уже сделанные им за это утро.
Хулиан представляет своего друга табачникам без
церемоний, искренне, запросто. И вдруг знакомство
прерывает — чего только не бывает в жизни! — громкий возглас
одного из мужчин — черноватого, высокого, с
остриженной угловатой головой, несколько минут пристально
вглядывавшегося в Хуана.
— Послушай! Не тот ли ты Хуан, который играл с
нами на улицах Принсипе и Кайо-Уэсо?
Хуан сразу же узнает в нем грозного предводителя их
уличной ватаги, которую много лет тому назад называли
бандой с улицы Принсипе.
— Тот самый! Мы вместе воровали сладости у
китайцев. Правильно?
И они тоже обмениваются крепким рукопожатием.
Как только Хуан кончил рассказывать старым друзьям,
с кем и каким образом он попал в Юкатан, табачники
сразу же стали расспрашивать его о ненавистном Вейлере,
6 ненавистнейших волонтерах, о предателях кубинской
автономии, о так называемых «партизанах», которые пьют
можжевеловую водку в кафе «Европа» и в небольших
второразрядных кафе на Пласа-де-Армас. Вопросы и
комментарии, открыто высказываемые табачниками,
поражают Хуана, только что прибывшего из кубинской столицы,
где царит испанский террор. Воодушевившись, он
забывает о цели своего прибытия в Мериду. KaiK приятно
послушать и не таясь поговорить об Эстраде Пальме и Калик-
сто Гарсиа, о генералиссимусе и повстанческой армии, о
сражениях, в которых мачете всегда одерживает победу
над ненавистным штыком! Как необычно видеть живое,
искреннее проявление патриотизма этого темнокожего,
полуобнаженного табачника — сына пустырей и
«коммуналок», бывшей грозы китайцев, полицейских, лавочников
в гаванском предместье, где находилась улица Принсипе!
Когда Хуан собирается уходить, утро уже в полном
разгаре. Хулиан предлагает ему остаться, а потом вместе
пообедать и немного осмотреть город. Хуан соглашается
при условии, что сам расплатится за обед. Тогда Хулиан
530
просит его почитать табачникам газеты, пока они
работают. Хуан не возражает. И оба радуются возможности
подольше побыть рядом. А наговориться они еще успеют
после работы и вечером! Хуана усаживают в тесном кругу
табачников, пропахших потом, насквозь пропитанных
стоящим в воздухе едким запахом дыма и никотина.
Столик перед ним завален газетами из мексиканской
столицы, потрепанными номерами «Эль Порвенир», «Патриа» и
прочими газетами пламенных сепаратистов, которые
живут в эмиграции в кубинских кварталах Нью-Йорка и
Флориды.
Сначала голос юноши, непривычного к большой
аудитории, звучит нетвердо. Но вскоре, охваченный глубоким
волнением, он увлекается и читает проникновенно,
вдохновенно, целиком завладевая вниманием патриотически
настроенных слушателей: слышно лишь постукивание
ножей да чей-нибудь прорвавшийся вдруг вздох, как бы
венчающий собой одну из красноречивых, революционных
статей.
— Здорово читает! — говорит кто-то восторженно,
когда Хуан завершает чтение.
Остальные горячо и дружно поддерживают:
— Приходи еще! Сразу видать, мозговитый креол!
Хуан и Хулиан обедают в ресторанчике на Пласа-
Граыде. За исключением хлеба,— местные жители
предпочитают маисовые лепешки,— они заказывают
мексиканские национальные блюда: моле — тушеное мясо в соусе
из красного перца, кунжута и других специй, тамаль —
тушеное мясо, завернутое в кукурузные листья, фасоль и
пиво. Пиво и радость встречи после стольких лет разлуки
и пережитых тяжких испытаний развязывают им языки,
особенно новоиспеченному табачнику. Хуан, умалчивая
о своих романах и прочих величайших тайнах, говорит о
страстном желании избавиться наконец от многолетней
опеки хозяев. Он так устал, ему все так надоело! Пора
обрести независимость, он готов даже лишиться крова,
выполнять любую грязную работу, стать поденщиком в
деревне! Слова Хуана дают повод Хулиану пуститься в
пространные рассуждения. Он не случайно заказал местные
блюда: ему нравится эта страна, нравится здешний народ,
добрый, радушный. В Юкатане работа всем найдется, а
если Хуан не сразу подыщет себе занятие, то всегда
будет, где поесть и переночевать. Тем более здесь еще их
старый друг, бывший вожак «банды». Правда, он не
531
табачник, а лишь подручный: выдирает ость из табачных
листьев, смачивает их и прибирает в мастерской, но ему
не так уж плохо живется в Юкатане с тех пор, как он
приехал сюда на пароходе зайцем. Он всадил нож в
лавочника-испанца, которого угораздило проснуться именно в ту
минуту, когда парень орудовал ключами и отмычками в
помещении за лавкой, расположенной на окраине города.
Но только никому ни слова, просит Хулиан, потому что
ему доверили эту тайну по старой дружбе, как члену их
бывшей компании в том предместье, где находилась улица
Принсипе. Да и как можно его винить! Ведь у бедняги нет
ни образования, ни профессии! Верно? Анархистские
газеты, которые они читают на табачной фабрике, очень
хорошо объясняют все это. К тому же убитый был
галисийцем, а этот парень — настоящий кубинец, патриот, Хуан
сам убедится в этом. И, наконец, он, Хулиан, не фискал
и не намерен доносить на него. Каждый защищает себя,
как может, как умеет. Не так ли?
Разумеется, та<к. Хуан и не собирается возражать или
возмущаться. Он тоже считает, что лучше быть свободной
птицей, чем жить в клетке, и поддерживает
разговорившегося друга:
— Конечно. Тем более что никому до нас не было
и нет никакого дела. Взять хотя бы тех, кто меня
подобрал...
— Тогда и думать нечего,— говорит другу Хулиан,
много повидавший в жизни, оптимист и мексиканофил.
Раз хозяева так опротивели Хуану, пусть уходит от них.
Крыша над головой и еда всегда найдутся. На первых
порах может работать у них на табачной фабрике — читать
газеты рабочим. А если ему это не по душе, подыщет себе
что-нибудь еще. В Мериде никто не умирает с голоду. Как
и в любом другом уголке Мексики. Взять хотя бы, к
примеру, его, Хулиана. И он откровенно, без всякой утайки,
правда, немного самонадеянно, выкладывает другу:
— До обеда я успеваю заработать двадцать
мексиканских реалов. Этих денег мне вполне хватает, потому что
у меня есть возлюбленная из местных в самом лучшем
здешнем борделе, и — порядок. Сейчас, после обеда, мы
вернемся на фабрику, я закончу свою дневную норму, &
потом сходим туда. Посмотрим, может, и тебе
приглянется какая-нибудь девчонка. Кубинец остается кубинцем!..
Война за независимость на Кубе вызывает к нам
истинную симпатию, старина! А как же иначе! У тебя денег,
532
наверное, немного? По-моему, ты здорово этим озабочен,
правда? Но все равно пойдешь со мной...
— Еще бы! С удовольствием!
Из ресторанчика они возвратились на фабрику,
посасывая огромные сигары. Хуан закурил впервые. Он
опьянел с непривычки и от сигары, и от хмельного пива.
Хулиану не пришлось долго уговаривать друга вернуться
с ним на фабрику и подождать, пока он закончит свою
дневную норму, чтобы потом вместе пойти побродить по
городу часов до пяти — время, когда кончается «прием»
в борделе и туда могут заходить сердечные дружки
содержанок. Появление Хуана на фабрике вновь заставило
табачников разговориться. И тогда Хуан услышал от одного
из них — заядлого оратора-анархиста — мнение о Мексике
тех дней, совершенно противоположное тому, какое
высказывал Хулиан. Мексика, по словам этого рабочего,
была страной реакционной и олигархической, которой
самовластно правил диктатор Порфирио Диас.
— Конечно, работа тут всегда найдется, да только
искать ее надо с оглядкой, исподволь, чтобы, не дай бог,
не обнаружили несчастного безработного... Иначе его тут
же схватят и упрячут за решетку или же отправят на
принудительные работы! Так что, парень, здесь следует
держать ухо востро... Мотай все на ус да помалкивай!
Слова эти глубоко запали в душу Хуана не столько
потому, что прозвучали весьма красноречиво, сколько
благодаря бурной поддержке большинства
присутствовавших. И Хуан погрузился в раздумье. Пожалуй, не
следовало вести себя так глупо, как вчера вечером.
Разумеется, свобода и независимость манили его. Но
стоило ли ему так уж обольщаться ими? Созрел ли он для
того, чтобы вот так открыто, свободно, без поддержки
ринуться в пучину сложной жизни?
Вскоре Хулиан вывел его из задумчивости. Он уже
сдал работу и в подсобном помещении фабрики помылся
и причесался.
— Эй, дружище! — позвал Хулиан.— Пойдем
пройдемся до пяти, а там... сам знаешь куда...
В бордель они явились вскоре после пяти. Перед
зданием, в тени, у самого тротуара стояли две коляски с
кожаным верхом; в глубине каждой из них дремал кучер;
поджарые клячи пускали слюни и фыркали; старый,
потрескавшийся лак колясок был заляпан пятнами
высохшей глины и грязи. Судя по всему, «прием» в борделе еще
533
не кончился, и Хулиан сказал другу, что им придется
подождать, пока они не узнают, не занята ли еще его
возлюбленная, иначе они могут попасть в дурацкое
положение.
Ждать им пришлось недолго. Распахнулась большая
парадная темно-зеленая дверь с массивной ручкой весом
не менее трех фунтов, и на пороге появился знакомый
Хулиану сутенер в ослепительно-белом полотняном
костюме, с цепочкой для часов, с сигарой во рту, с тростью
в руке и огромной пряжкой на широком поясе. На вопрос
Хулиана он ответил, что Лупе «свободна», что она у себя
в комнате, и, посторонившись, пропустил их в дом.
И вновь прибывшие вошли.
В зале и в приемной не было ни души. С первого
взгляда Хуан увидел, что публичный дом ничем не отличается
от тех, которые ему не раз доводилось рассматривать в
окно в Гаване. В большом зале полукругом стояли кресла-
качалки для демонстрации «товара» и висело на стенах
бесчисленное множество вызывающих литографий с
изображением обнаженных женщин, которые из-за
чрезмерной натуралистичности не пробуждали никаких чувств.
В приемной теснилось неимоверное количество
громоздкой столовой мебели. Комнаты, каждая с дверью и
окном, тянулись по обеим сторонам мощенного плитами
патио, в этот час затененного и продуваемого легким
ветерком. В глубине дом выглядел так же, как и
большинство жилых домов.
Хуан шел за другом на расстоянии трех-четырех
шагов, красный от смущения, растерянный и обеспокоенный
тем, что своим поведением может выдать
неосведомленность в мужских делах подобного рода и обнаружить
охватившее его непреодолимее малодушие, робость и
страх. Тем не менее он не вернулся назад, в безлюдный
зал, и не удрал оттуда через приоткрытые парадные
двери на улицу, а продолжал поневоле следовать за
Хулианом, который уверенно, непринужденно, с видом своего
человека шагал в глубь дома. Но вскоре сомнения и страхи
Хуана сменились сладострастным желанием и
любопытством непросвещенного.
В патио раздавалось заунывное пение женщины; ей
тихонько вторил мужской голос в закрытой комнате —
первой из тех, которые тянулись вдоль патио. Проходя
мимо, Хулиан сказал:
— Тут один из тех, кого дожидается коляска у входа.
534
Затем он пересек патио и, подходя к двери напротив,
откуда доносились приглушенные голоса, заключил:
— А здесь второй.
Они идут вдоль патио, заглядывая по пути в настежь
распахнутые двери и О'Кна. В одной комнате виден
мужчина в ярком нижнем белье, лежащий на большой
кровати, а в ногах у него, словно в мещанской
добропорядочной семье, сидит толстая подруга жизни в белом,
целомудренном халате, штопая чулки. В соседней комнате у
окна на спинке стула висит белый пиджак, поверх него
перекинут сложенный вдвое желтый кожаный пояс с
громадным кинжалом в лакированных ножнах. Затем
следуют другие комнаты, другие двери, закрытые и
приоткрытые; другие приглушенные голоса и диалоги. А в
самой глубине патио в большом помещении сидит в
качалке толстая, темнокожая, оплывшая жиром женщина
в нижней сорочке, в шлепанцах на босу ногу, с
длинными черными волосами под мышками,— еще один повод
для страхов Хуана, в юном воображении которого
рисуются лишь образы молодых дев. Вряд ли он способен
будет побороть отвращение и заставить себя
обольстительно улыбаться и быть почтительным с такой вот
женщиной. «Ну уж нет! К такой я и на выстрел не
подойду!» Из комнаты напротив выходит, волоча за собой
кресло-качалку и держа в руке газету, высокий, мускулистый
мужчина в широких бркжах из тонкой шерсти и
превосходной бледно-голубой рубашке; за поясом у него торчит
огромный револьвер. Не успел он поставить кресло в
тень, чтобы, развалясь, почитать газету, как Хулиап
окликает его:
— Полковник!
— Привет, Куба! Как дела? — И тут же громко
кричит: — Лу-упе! Куба здесь! — Затем оборачивается к
Хулиану и спрашивает про Хуана: — Этот парень тоже
кубинец?
Хулиан знакомит их. Полковник — муж хозяйки
борделя. Он отсылает их в комнату наискосок, а Хулиап по
пути восторженно восклицает:
— В нашем полку прибыло! Хорошего я парня
привел, верно?
Помещение, куда они входят, просторнее зала и
приемной в передней части дома. Это салон для интимных
бесед; здесь можно выпить прохладительные напитки,
поболтать о разных пустяках, укрыться от дневного зноя,
535
оставаясь полуодетой, чего содержанки не могут себе
позволить в зале.
Кроме женщины, заплывшей жиром, здесь Лупе. Она
идет навстречу «своему» мужчине сдержанно, раболепно,
боясь нарваться на пренебрежительный отказ в поцелуе
или нежном объятии. Лупе приземиста, у нее красивые
каштановые волосы и молодое, пышненькое, чувственное
тело светлокожей мулатки. Здороваясь с
соотечественником своего возлюбленного, она пленительно улыбается
Хуану очаровательным ртом, и в глазах его загорается
непозволительная дерзость. Украдкой он успевает взглянуть
и на остальных женщин, находящихся здесь. Одна из них
сидит в кресле-качалке, широко расставив ноги*, и
довольно хмуро смотрит на Хуана. Это хозяйка публичного
дома. Хуана знакомят с ней. И пока Хулиан и Лупе
обмениваются язвительными улыбочками и насмешливыми,
многозначительными взглядами, он продолжает стоять,
все больше и больше смущаясь, незаметно поглядывая на
содержательницу борделя, когда та не смотрит на него.
Она сидит в белье и нижней юбке, из-под лифа выпирают
две огромные, оливкового цвета груди, словно пористые,
грязные подушки; над верхней ее губой и на подбородке
довольно густая растительность, совсем как у престарелой
монахини — привратницы сиротского приюта в Гаване;
икры ног — точно пожки бильярдного стола; ожерелья и
серьги, как у турчанки на картине, висевшей в доме у Ка-
ридад в Лос-Мамейес. Рядом с хозяйкой стоит еще одна
женщина. Она с сибаритской медлительностью пьет
холодный напиток, поднося к губам запотевнгай сосуд с
бисеринками капель и звенящими в нем льдинками.
Темно-русая, худощавая, в халате из белоснежных
кружев и муслина. Халат обтягивает ее стройную, но
костлявую фигуру, оставляя неприкрытыми жилистые,
волосатые ноги в шлепанцах. Поверх кувшина, поднесенного
ко рту, она смотрит на Хуана профессиональным,
зовущим взглядом. Хуан отводит глаза в сторону, делая
вид, что разглядывает комнату. Внутри у него все
холодеет, сжимается. Молодая женщина, замечая
смущение юноши, еще настойчивее проявляет свою
нежность:
— Послушай! Хочешь холодной воды? — И
протягивает ему кувшин.
— Нет, спасибо!
— Как хочешь. Может, пойдешь со мной? — И она
536
склоня голову, нагло щурится, всем своим видом
приглашая его.
— Нет,— отвечает он холодно и решительно, как
подобает мужчине.— Мне некуда спешить.
— Отстань от него,— вмешивается Хулиан, который
сидит в кресле-качалке с Лупе на коленях.— Не
приставай.
— А что, он пришел сюда только поболтать? —
спрашивает задетая за живое женщина.
Хуан что-то лепечет в свое оправдание, красный как
рак. Его насмешливо, но решительно берут под свою
защиту Хулиан и Лупе. Хозяйка тоже вмешивается в
разговор, предлагая грубовато-иронично и в то же время
заинтересованно:
— Будет вам, но раз уж он здесь, пусть попробует.
Только не с этой, к ней сейчас придет «свой» муж, не
хватает нам еще перебранки.
— Вот именно, недостает еще мне быть ему нянькой,—
недовольно бурчит женщина.— К тому же сейчас не
приемные часы.
— Оставьте его в покое,— решительно говорит
Хулиан.— Он пришел сюда со мной.
— Ну и что с того! — снова вмешивается хозяйка.—
Сейчас увидим! Хулия! Хулия! Пустышка! Иди сюда! —
И тихонько заключает: — У этой пет пока возлюбленного.
Пытаясь перекричать звонкий, ноющий голос,
по-прежнему напевающий песенку, откуда-то из комнат
доносится приятный, нежный голосок:
— Иду, донья Кармен! Иду!
Лупе подзывает Хуана и, чтобы успокоить его,
начинает расспрашивать о жизни и о делах юноши. Их
разговор очень разумно и тактично поддерживает Хулиан. Они
усаживают его рядом с собой. Уходит из салона
темно-русая женщина, шаркая шлепанцами по полу и небрежно
покачивая бедрами. Донья Кармен, смежая веки в
полудреме, поручает любовникам представить Хуана, когда
придет Пустышка. В разговор вмешивается толстуха в
рубашке, у которой из-под мышек торчат «усы». И вдруг
сквозь отдаленное посвистывание скучающего сутенера и
бесконечную заунывную песенку все ближе и ближе
слышится постукиванье дамских каблучков.
В наступившей выжидательной тишине в комнату
входит миниатюрная блондинка, почти девочка, с большими,
опушенными густыми ресницами глазами; на ней бледно-
537
голубое и довольно романтическое, несмотря на грубый
покрои, платье. Черты ее лица никак нельзя назвать
красивыми: цветом кожи и скулами она слегка напоминает
метиску, но общее впечатление неотразимое и чарующее.
Особую прелесть придают ей нежные, живые глаза,
словно притягивающие Хуана. Именно такую девушку
рисовало ему его юное воображение. Он в восторге. Остальные,
как, впрочем, и она сама, сразу же замечают это:
— Что, нравится?
— Да,— только и отваживается произнести он, все
больше и больше желая отделаться от своей робости.
— Ну, чего же ты дичишься! — дружно подстрекают
его насмешники.— Ведь блондиночка тебе и в самом деле
приглянулась!
— Мне он тоже нравится! Настоящий красавчик! —
говорит она, пристально глядя на него прищуренными
глазами.
И, увлекая его в сторону, она позволяет ему усадить
себя на колени, еще неуверенные, дрожащие от волнения,
которым охвачены его тело и мозг.
Тяжесть и тепло женского тела распаляют его. Сердце
готово выпрыгнуть из груди. Взгляд затуманивается от ее
воркующего голоса и ласк, приправленных то короткими,
то продолжительными, сводящими с ума поцелуями, и он
начинает неистово обнимать ее, жадно целовать, шарить
руками по ногам, гладя шелковистую поверхность чулок,
подвязки, короткую сорочку. Она шутливо подмигивает,
остальные тоже, все наслаждаются этим бурным
проявлением чувств новичка, но он ничего не замечает, он ничего
не хочет замечать. Он весь во власти чувства, которое
пробуждает в нем эта молодая, красивая, волнующая
женщина, сидящая у него на коленях. Первая после потери
Петры, первая белокожая женщина.
— Погоди немного,— говорит она, искренне
взволнованная, раскрасневшаяся, вероятно, испытывающая к
нему нечто вроде материнской нежности, которую питают
все публичные женщины к еще не оперившимся юнцам; а
может быть, растроганная тем, что стала вдруг ему
желанной. И встает, не выпуская его рук из своих, затем,
кивнув в сторону хозяйки борделя, которая похрапывает
в углу, говорит:—Тише, не разбудить бы ее. Идем со
мной. Ко мне в комнату.
Только теперь Хуан замечает, что в помещении, кроме
них и спящей допьи Кармен, никого нет. И дает теплым,
538
влажным рукам молодой женщины увлечь себя в патио,
где в кресле-качалке, сопя, с приоткрытым ртом, спит
Полковник. Больше в патио нет ни души. В комнатах
царит тишина. С улицы доносится звон колокольчика
мороженщика, на крыше со скрипом вращается металлический
флюгер.
Они проходят через патио почти на цыпочках: Хуан
покорно следует за ней. Наконец она распахивает перед
ним двери одной из комнат, хорошо обставленной, со
множеством фотографий, картин и эстампов на стенах.
— Входи, моя радость,— шепчет она ему.— Входи и
раздевайся. Я сейчас вернусь.
Хуан послушно входит в комнату, закрывает за собой
дверь и на какое-то время застывает в нерешительности
посреди комнаты, вновь охваченный страхом. Куда она
ушла? Хватит ли ему оставшихся денег, чтобы
расплатиться с такой изящной женщиной в таком дорогом
борделе? Сможет ли он побороть вызванные его
смехотворной неискушенностью робость и беспокойство, которые не
смогли заглушить даже сладостные объятия с Хулией?
Он вдруг замечает, что по-прежнему стоит как дурак
посреди комнаты, занятый неуместным теперь созерцанием
слишком уж роскошной для него меблировки и убранства.
Особенно поразила его кровать. Чудесная кровать!
Просторная, с подушками, обвязанными кружевами и
украшенными розовыми лентами, с белоснежными,
отутюженными, накрахмаленными простынями. Ну что ж! Он
начинает быстро раздеваться. И снова ему становится не по
себе. Нижнее белье пропотело на нем за день, к тому же
это белье бедняка. Но если в практических делах дома
терпимости он еще профан, то по части мошенничества —
мастак еще со времен своих проделок в Гаване. Такой
одеждой только отпугнешь от себя! И он ныряет под
простыню прямо в майке и трусах. И хотя в закрытой
комнате нестерпимо жарко, ему холодно. Он почти дрожит от
неукротимых сомнений и страха. Он лежит под
простыней, в висках стучит так, что наволочка на подушке
шевелится. В доме не слышно ничьих голосов. Только на крыше
по-прежнему скрипит жестяной флюгер. Мороженщик
где-то совсем рядом с парадной дверью изо всех сил
звенит колокольчиком, привлекая покупателей. Гремит гром,
угрожая ливнем, который с самого утра предвещает
удушливая жара.
Вскоре в комнату вбегает Хулия. Она несет на согнутой
539
руке свое нижнее белье; на ее крепкой точеной фигурке
только что надетое, еще влажное платье с вереницей ые-
застегнутых на спине пуговиц.
— Я принимала душ.
Она бросает белье в угол и, высвобождая руки из
рукавов, дает платью соскользнуть к ногам.
— Сейчас увидишь! — восклицает она.
И обнажается: ноги у нее стройные, прямые, груди
высокие, трепетные, округлые, а сама она изогнута в
соблазнительной позе, доставая из ящиков комода розовые
чулки, две широкие подвязки такого же цвета и длинную
рубашку с красными лентами.
Хуан, не дыша, следит за каждым движением ее
обнаженного тела. Он ослеплен. Однако Хулия заставляет его
говорить, пока торопливо накидывает на себя изящное,
чистое белье, только что вынутое из ящиков.
— Почему ты укрыт?
— Мне холодно.
— Холодно? Сейчас? А может, ты стесняешься? Ты
никогда не...
— Скажешь тоже! У меня была возлюбленная!
— Где?
— На Кубе, в деревне. Мулаточка, которую я сам
«испортил».
— Ах, бесстыдник! Зато у тебя наверняка не было
блондинки!
— Да, такой беленькой и красивой, как ты, у меня
никогда не было,— простодушно признается он.
— Ну... тогда...
И она кидается к нему в постель, оплетая своим телом
и жадно впиваясь в его губы, ибо не только для него
сейчас вся жизнь заключена в этой постели.
Мозг, нервы, кровь — все вскипело в этих двух юных,
еще не достигших своего двадцатилетия существах,
подвластных дикой морали цивилизованного христианского
общества. Хуан был счастлив. Каким блаженным и
прекрасным стал для него мир! Просторная чистая кровать,
отделанная украшениями. Никто не мешает, не пугает,
как это было с Петрой в минуты их близости там, в
кубинской деревушке. А главное, до сих пор он чувствовал
себя таким одиноким, ему так недоставало этих нежных,
белых рук, этих тепловатых мягких губ, ласкающих и
услаждающих его теперь! Сколько доброты заключено в
женщине, даже если она проститутка!
540
В те минуты, когда они не предавались любви, они
разговаривали. Но и тогда их руки не знали покоя, их тела
не расплетались, всецело принадлежа друг другу. Она
была метиской родом из Тикуля. Там метиски белокуры.
Метисками у них принято называть женщин, рожденных
от белого и индианки; они одеваются в местную
национальную одежду — носят ипиль, мантилью и туфелькгт с
задранными мысками. Ее «испортил» владелец имения, где
находилась деревушка, в которой она жила вместе со
своими родителями до той поры, пока не стала
«сеньоритой». Его жена, узнав обо всем, потребовала от тамошних
властей, ярых защитников рабства, чтобы ее, Хулию,
немедля выслали из имения п из деревушки, где она жила,
в Мериду, в которой бедняжка оказалась одна-одинешень-
ка, преследуемая гонявшимися за несчастными
девушками содержательницами публичных домов. Так она попала
в руки к донье Кармен. Для хозяйки борделя она была
лакомым кусочком, потому что, судя по словам других,
хороша собой и всего три месяца занимается этим делом...
Конечно, донье Кармен совсем ни к чему, чтобы у нее
завелся свой «парень», хотя ей и сулили разные поблажки,
особенно когда ловко завлекали в свои сети, выпутаться
из которых невозможно. Зато она содержит ее лучше
других, Хуан мог уже убедиться. Эта комната — лучшая в
доме, самая удобная. И одежды красивой у нее много.
Разумеется, она все заработала, потому что:
— Знаешь, сколько ко мне ходит мужчин? И каких!
Самых первостепеннейших! Самых богатых!
Губернатор провинции. Даже священник из собора возит меня
к себе за город. И многие другие. Ну, что ты на это
скажешь?
Слова Хулии причиняли боль простодушному Хуану.
О, если бы она могла принадлежать только ему!
Безумные, преходящие мечты ветреников в минуту любовной
услады. Короткая, сжатая, страшная история, которую он
поведал ей о своей жизни и о своем нынешнем положении,
сразу же сделали нелепой и безумной даже мысль о
несбыточном, абсурдном счастье.
Неожиданно в дверь постучал Хулиан и крикнул им:
— Эй! Сколько можно!
— Сейчас! — ответила она, решительно соскакивая с
постели, чтобы помыться и одеться.
— Поскорее! Уже все пошли ужинать. Время позднее,
скоро появятся посетители.
541
— Это уж не твоя забота,— откликнулся Хуан
насмешливо, немного ревнуя, не слишком любезно и с
явным огорчением.
Довольная и умиленная его ответом, Хулия в
благодарность повисла у Хуана на шее и звонко, неистово
принялась целовать двадцать, тридцать, сотни раз, пока они
оба медленно одевались, то и дело обнимаясь и соединяя
губы в долгом поцелуе.
И вдруг Хуана снова охватил страх при мысли о
расплате. Наконец, решившись, он спросил:
— Сколько я тебе должен?
— Ты что, спятил!
— Почему?
— У тебя пока что никто денег не просил. Скажи
лучше, когда ты еще придешь, и хватит об этом.
— Но ведь тебе нужно будет отдавать деньги?
— Не дури. Уж не думаешь ли ты, что я рабыня доньи
Кармен? Или такая продажная, что не могу даже
позволить себе маленькую прихоть? Скажи лучше, когда ты
снова придешь. Хорошо бы на всю ночь. Мы насладились
бы вволю...— И она опять начинает его целовать, не давая
ничего сказать, объяснить, что он не сможет приходить
часто, а тем более на всю ночь.— Уходи от них совсем.
Я буду тебя содержать!
Он смотрит на нее в растерянности. Наверное, речь
идет о той самой жизни, которую он только что видел! Но
сможет ли он жить на содержании у женщины из
публичного дома, среди этих пугающе красивых здоровяков с
револьверами и ножами за поясом?
— Ну, что ты на это скажешь? — спрашивает она,
стоя перед ним подбоченясь, улыбающаяся, счастливая.—
Хочешь, я поговорю с доньей Кармен?
Хулиан резко открывает дверь и входит в комнату.
— Пойдем, дружище. Нельзя так. Я не собираюсь
быть козлом отпущения для разъяренной доньи Кармен.
— Ладно, пойдем.
Хулия и Хуан прощаются долгим поцелуем. Она берет
с него обещание прийти к ней снова, и он выходит
вместе с Хулианом, вернее, вслед за ним, потому что тот здет>
к выходу размашистым шагом, ворча по дороге:
— Дружище! Что за идиллия! Уже почти восемь
вечера!
Проходя через зал, они желают спокойной ночи
нескольким проституткам, которые уже сидят тут в ожида-
542
нии «приема», напудренные, размалеванные,
благоухающие. Одна из них — кубинка с высоким пучком вьющихся
волос, крупными африканскими серьгами в ушах и
худыми кривыми ногами. Она провожает своих
соотечественников взглядом и ласково говорит:
— Будьте здоровы, земляки!
Пока они торопливо идут по улице к центру города,
Хулиан не перестает ворчать на Хуана за его дурацкое
поведение, из-за которого они ушли в столь поздний и
неуместный для подобного заведения час. Черт подери!
В конце концов мог бы взять пример с него, как следует
вести себя мужчине: благоразумно, с достоинством! Но
куда там! Хуан не соглашается. Еще чего! Между ним pi
Хулианом немалая разница. Хулиан и Лупе, наверное,
уже пресытились друг другом, а он с Хулией только что
познакомился. К тому же он, Хуан, после столь долгого
воздержания, силен и крепок, как могучий дуб. А
главное, вот именно, главное в том, что его «девочка» самая
лучшая в борделе, во всем квартале и вообще во всей Ме-
риде. Она очаровательна! Соблазнительная, как самое
аппетитненькое и спелое яблочко! Хуан шел по улице, все
еще ощущая приятное тепло ее тела, слыша ласкающие
звуки ее голоса, отдающиеся в самых глубинах его души,
чувствуя на своих губах ее ненасытные поцелуи,
прикосновение ее тепловатых, сладостных, неистово зовущих
губ. Шел опьяненный блаженством, самодовольный,
влюбленный, испытывая наслаждение от обладания первой
белокожей, красивой женщиной. Они желанны друг
другу! Они были в закрытой комнате, наедине, в кровати!
Счастье переполняло все 'его существо, хотя Хулиан и
посмеивался над ним с видом бывалого человека, считая его
поведение глупым мальчишеством.
— Она не взяла с меня денег,— повторял Хуан
самодовольно.— Не взяла и хочет, чтобы я приходил к ней,
стал ее «мужем».
Эти слова послужили новой темой для разговора,
Хулиан стал убеждать друга покинуть генекеновую
плантацию, устроиться к ним на табачную фабрику, находясь
при этом на содержании и попечении проститутки...
И дело с концом!..
Несмотря на свое благодушие, Хуан не осмелился
принять решение. Он только заметил вдруг, что уже очень
поздно и им пора немедля расставаться. У него не было
даже времени поужинать с другом в Мериде. Чтобы
543
поскорее добраться до дома, он решил напять на
оставшиеся деньги коляску.
И кликнул кучера.
Коляска тронулась, и он едва успел сказать Хулиану,
угрюмо стоявшему посредине тротуара:
— Я скоро вернусь. Жди меня. И передай девочке,
чтобы ждала меня. Будь здоров!
Войдя в дом, Хуан не увидел ни Нэны, ни Адольфо. Не
требовалось слишком большой проницательности, чтобы
заметить, насколько плохо обстояли здесь его дела.
Кармен и ее мать сухо ответили на его приветствие, в его
вещах кто-то рылся: они лежали не на своих местах, а
ящики комода были приоткрыты. Нетронутым оставался
только сундук. Хуан тщательно все осматривал, когда к нему
не спеша, сурово сдвинув брови, подошел Адольфо.
— Соберись к завтрашнему утру. Ты уедешь
шестичасовым поездом в Пето, в другое имение. Будешь там
служить.
Хуан не стал ничего выяснять. Он покорно смирился,
как существо, не имеющее никаких прав распоряжаться
своей судьбой. А может быть, потому, что у него еще было
впереди десять часов, чтобы принять очень важное и
неизбежное решение.
Адольфо, вероятно, тоже не намеревался давать
каких-либо объяснений, приводить необходимые доводы,
а тем более оправдываться или расстраиваться. Он ушел в
зал. Хуан улегся в гамак прямо в одежде. Погасил лампу,
которую кто-то поставил к нему в комнату. Ему было
безразлично, что двери приоткрыты. Он не улавливал в
наступившей ночи ничего необычного среди домашних
шорохов и звуков, доносившихся извне. Адольфо сказал ему
то же самое, что несколько лет назад сказал его отец:
«Соберись к утру. Ты поедешь в деревню». Опять ему
предстоит сменить дом и судьбу. Точно так же, как это было,
когда арестовали его мать. Как это случилось, когда
узнали о его связи с Петрой. Как... Но ведь есть свободные и
независимые люди — Хулиан и его товарищи! А Хулия!
Такая красивая, такая хорошая! С тех пор как он стал
мужчиной, никто не разговаривал с ним так мягко и
ласково, никто не видел в нем человека! И вот теперь его
неожиданно и бесчеловечно отправляют в Пето! Где это
находится? Какую рабскую, одинокую жизнь придется
влачить ему там, вдали от цивилизации, среди чужих, полу-,
диких, а может, п дурных людей? И до каких пор? В чем
544
обвинила его Нэна? Какие у них могут быть намерения,
что они хотят от него — дерзкого слуги, таящего опасные
улики против их семьи? Это была для него еще одна ночь,
полная страха, сомнений, раскаяния, полная сумбурных,
безбожных оправданий и колебаний, полная горечи из-за
разлуки с любимой и любящей его женщиной, с которой
он только что наслаждался и сердце которой уже
сроднилось с его сердцем. Ночь бессонных метаний, слез, клятв,
угрызений совести, самобичевания, неистовых угроз,
ненависти и злобы.
XXIX
Разлука с родиной. Первое путешествие по морю.
Необдуманное дерзкое нападение на Нэну, Ободряющая
встреча со своим закадычным другом Хулианом.
Пленительнейшее свидание с бескорыстной, очаровательной,
молоденькой возлюбленной. Изгнание из «новой» семьи в
полудикое селение на беззащитное, одинокое
существование... Весь этот ошеломительный калейдоскоп событий
оставил в сознании Хуана лишь отдельные разрозненные
воспоминания о тех днях беспокойной, сумбурной,
беспорядочной жизни.
Наутро, уезжая, Хуан не увидел ни Адольфо, ни Нэны.
Двери всех комнат были закрыты. Предотъездные
хлопоты Хуана разделял лишь кучер, уже державший
наготове у парадной колоннады хозяйскую коляску. Он подал
Хуану на завтрак какао, сыр, хлеб, помог уложить вещи в
коляску и вручил письмо от Адольфо к управляющему
имением в Пето. Это письмо ничем не отличалось от того,
которое послали Ромуло перед тем, как дон Роберто
отправился с Хуаном в Лос-Мамейес несколько лет тому
назад. Но тогда, по крайней мере, ему сказали, почему
его вышвыривают, словно ненужный хлам, в деревню.
Теперь же лишали даже возможности убедиться в
правильности своих предположений по лицам и поведению тех,
кто отлучал его от себя. Причиной его изгнания,
несомненно, как и в прошлый раз, была Нэна. По что она могла
сказать? И что думает Кармен? Как велика была
неприязнь к нему Адольфо после всего случившегося и чего он
добивался, так быстро отделываясь от него? Если Нэпа
рассказала ему все, то странно, что Адольфо не
расправился с ним, не побил, не всадил в него нож или хотя бы
35 К. Ловийра 545
не выставил за порог вместе с пожитками. Но так или
иначе: бросить его одного, еще как следует не
оперившегося, на произвол судьбы, в незнакомой стране? А
скандал? Ведь какой скандал могли учинить эти «наглецы»,
«насильники»? И хотя надо признать, что в глубине
непокорной, возмущенной души Хуан не мог отрицать, что
виновен, все же он клокотал от негодования и закусил
удила.
Первым порывом Хуана было порвать письмо на сотню
мелких кусочков и заставить отвезти свои пожитки на
табачную фабрику к кубинцам. Послать все к чертовой
матери!.. По крайней мере, так будет положен конец тому, что
связывало его с Нэной, и... поставить на всем этом точку.
Это побуждение не покидало его, пока он ехал на
железнодорожный полустанок в запыленной, скрипучей
коляске, сидя спиной к хмурому, непроницаемому метису-
сфинксу, метису-роботу. Не покинуло оно его и тогда, когда
он очутился в закопченном, обшарпанном вагоне третьего
класса с двумя рядами узких, тянувшихся вдоль всего
вагона деревянных скамей, заполненных темнокожими и
краснокожими индейцами с непривычными чертами лица
и чуждым говором. Это побуждение не покинуло его и тогда,
когда поезд тронулся и, аккуратно вскрыв конверт с
письмом к управляющему, он прочел несколько сдержанных,
холодных, скупых строк о том, что его «посылают» работать
в контору асьенды. Оно вспыхивало в нем всякий раз,
вызывая нестерпимое желание сойти на каком-нибудь
полустанке и вернуться обратно, когда он видел, как этот
полуразвалившийся, трясущийся поезд отмеряет все новые
и новые километры, увозя его от дома, где он еще находил
хоть какие-то крохи человеческого участия и тепла; и
когда взор его обращался к убегавшему вдаль зеленому от
генекена горизонту, туда, где оставались прелестная
любовница и Хулиан — единственные верные друзья, где
находилась все более и более далекая Куба. Это побуждение
становилось все сильнее и сильнее, пока он ехал мимо
печальных, выжженных солнцем, пыльных селений с
кварталами, обнесенными каменными изгородями, с
улицами, на которых стояло не более трех домов и где
изредка виднелись медлительные, таинственные жители цвета
опаленной земли. И уже совсем нестерпимым и
неодолимым оно стало ночью — все девять часов отчаянной тоски
после того, как другая коляска, еще более пыльная и
скрипучая, доставила его в Пето.
546
Имение Пето предстало взору Хуапа во тьме, с
мерцавшими кое-где тусклыми огоньками посредине
пустынной, безмолвной, огромной равнины. Высокий, костлявый
мужчина,— у него были длинные, кривые зубы, сухая
кожа и не менее сухая речь,— которому было адресовано
письмо, встретил Хуана в дверях и провел в дом. Пока
они шли от коляски к дому, а затем в доме, освещенном
кое-где трепетным желтым пламенем убогих свечей, за
ними неотступно следовали два согнутых под тяжестью
багажа человека. Дом в этом имении ничем не отличался
от того, в котором поселился Адольфо со своей женой.
Такой же аляповатый, массивный, только кирпичики,
устилавшие полы, были еще больше покрыты землей, а
обширные комнаты казались пустыннее из-за местного
обычая спать в гамаках, а не на кроватях. Гамак для
Хуана уже висел в маленькой комнатке, где стояли два
плохоньких стола и два не менее убогих шкафа с
бухгалтерскими книгами, квитанциями, чековыми книжками.
Здесь управляющий и покинул Хуана, оставив ему
свечку и глиняный кувшин. На прощание он коротко сказал:
— Это контора асьенды. Когда тебя разбудит
заводской гудок, встанешь, уберешь гамак и здесь же будешь
работать. Спокойной ночи.
Хуан помнит, что, проснувшись утром, быстро
отделался от терзавших его накануне мыслей. Ему было
восемнадцать лет. Он глубоко затаил в себе злобу, желание
отомстить и упоительную мечту свести счеты. День
начинался ясный, веселый, наполненный живительными звуками
и дыханием, врывавшимся в комнату сквозь верхние
створки двери, в которых виднелся кусок голубого,
чистого, ослепительно яркого неба. Хуан осмотрел свои вещи,
желая убедиться, все ли в порядке. Особенно замок
сундука! Там у него хранилось самое заветное. Затем
проверил, на месте ли деньги, спрятанные в кармане, почти
восемь песо. Этой суммы ему вполне хватило бы на поездку
в Мериду. Жаль, конечно, что, охваченный злобой и
отчаянием, он упустил возможность прикарманить
что-нибудь перед отъездом из дома Адольфо!
Хуан распахнул дверь. Перед самым домом находился
батей. Чуть правее возвышался заводик по переработке
генекена — строение из дерева и цинка с черной дымовой
трубой, откуда со свистом вырывались клубы пара. Это
строение напоминало сахарный заводик вблизи городка
Харуко на Кубе. Немного поодаль виднелось волнистое
547
пятно сушильни для волокна, затем несколько вагонеток,
до краев наполненных зелеными стеблями, и несколько
пустых, которые тянули за собой по рельсам примитивной
железной дороги тощие, дряблые мулы. По ту сторону
батея раскинулась деревушка с далеко отстающими друг
от друга хижинами — смесь камня и дерева, цинка и
соломы на фоне банановых и других высоких плодовых
деревьев, но довольно редких, пыльных и опаленных
солнцем. А за ними, до самого горизонта,— море зеленого ге-
некена. Чуть левее, напрямик от портала жилого дома,
вдали виднелась еще одна высокая труба и деревушка, за
которой проходила железная дорога. И где-то в той же
стороне находилась Мерида. Хуану были видны люди,
занятые своим делом, то собиравшиеся группками, то
расходившиеся. В основном это были полунагие индейцы. Но
среди работавших на заводе были и белокожие, одетые в
костюмы; они с любопытством рассматривали Хуана.
И между ними Хуан увидел женщин, правда, индианок и
метисок, но все же женщин в белых ипилях,
обрисовывавших их высокие груди. Здесь обитали женщины!
Управляющий объяснил Хуану круг его обязанностей.
Ему надлежало вести учет проделанной работы и
записывать число вагонеток с железной дороги, а кроме того —
приход и расход каждого работающего индейца в двух
бухгалтерских книгах: «Главной» и «Малой». Но в эти
книги Хуан не должен был ничего заносить без ведома
управляющего. Особенно в «Главную». Потому что пока
индеец не расплатится со своими долгами, он не может
покинуть асьенду, хотя и считается свободным
гражданином демократической республики. По существовавшим
тогда в стране законам индеец не имел никакой свободы
до тех пор, пока за ним числились долги. Так зачем же
допускать, чтобы индеец расплатился со своими долгами!
Ведь ценность имения возрастала в зависимости от
количества живших в нем индейцев, точно так же, как
ценность скотоводческой фермы — от поголовья скота.
«Главная книга» торжественно хранилась на верхней полке
одного из шкафов под священным типографским оттиском
великолепнейшего, всеми почитаемого Сеньора де лас Ам-
польяс — Христа из кафедрального собора Мериды. Хуан
уже видел подобную копию в юкатанском доме Адольфо и
еще не раз увидит впоследствии во всех ранчо, где живут
индейцы и метисы, покровителем которых являлся этот
Христос, а именно Сеньор де лас Ампольяс.
548
Хуан едва прикоснулся к еде из-за обилия перца в
мясе, свиного сала — в фасоли и неудобоваримых
маисовых лепешек, которые здесь употребляли вместо хлеба.
К тому же он неуютно чувствовал себя в обществе
сурового сотрапезника, пытавшегося быть любезным со своим
новым помощником; этот хмурый уроженец Канарских
островов, страдавший несварением желудка, постепенно
умерщвлял себя маисом, перцем и свиным салом, так как
был обречен к концу десятилетнего пребывания в
Америке на вечное поселение в этом ничтожном имении,
вдали от города, с метиской-любовницей в Пето и еще
одной — служанкой в доме, которая прибирала, варила и
стирала.
И в первый и в последующие дни Хуан лакомился
после еды консервированными сардинами и галетами в
лавочке, где подружился с продавцом, местным жителем.
Вечером Хуан оказался в центре внимания собравшихся в
этой же лавчонке рабочих завода и за глотком рома в
табачном дыму рассказал им о Гаване, о сепаратистском
движении, а когда они услышали, как он вслух читает
продавцу меридскую газету, то все подошли послушать.
Никто в имении не читал лучше Хуана. Он становился
личностью. Впервые Хуан почувствовал себя
полноправным человеком, кое-что смыслившим в жизни, достаточно
разбиравшимся в «борьбе за существование», имевшим
друзей, которые его уважали и любили; одним словом,
стал таким, как все. Ему рассказали об одном кубинце,
музыканте, жившем в Пето, в двух километрах от имения,
и столовавшемся у другого музыканта — метиса, дом
которого стоял на полпути между Пето и заводом. И
посоветовали присоединиться к ним, раз уж ему так не по вкусу
пришлись маисовые лепешки, перец и фасоль, которыми
его потчевал хмурый управляющий, страдающий
запорами.
Как-то утром служанка, толстая, смуглокожая
метиска, стоя на коленях, оттирала водой, мылом и щеткой
кирпичный пол в комнате но соседству с конторой Хуана.
Управляющего не было дома. Некоторое время Хуан
неотрывно следил, как она неутомимо вращала своими
полными бедрами во время работы, и в нем пробуждалось
эротическое желание. Он встал, подошел к ней и стал
уговаривать пойти с ним к пей в комнату. Отказ ее был не
слишком категоричен, и, вдохновленный ее
снисходительностью, а может быть, и рабской покорностью метиски, ои
549
схватил ее за кисти рук и с силой распаленного самца и
неотразимой, завораживающей мольбой в голосе увлек в
самую отдаленную часть дома. Там он сломил ее
сопротивление и неистово насладился, не обращая внимания на
ее протесты, которые вскоре и вовсе затихли.
А на другое утро Хуан заявил управляющему, что
хотел бы столоваться у музыканта вместе с кубинцем,
затерявшимся в этих краях. Он, Хуан, никак не может
привыкнуть к тому, что здесь каждый день, утром и вечером,
едят маисовые лепешки и фасоль. «Как же тогда быть?» —
возразил он уроженцу Канарских островов, когда тот
решительно отказал ему в этой просьбе. И вступил с ним в
спор, говоря, что будет сам, из своего заработка, платить
за еду. Однако тот не соглашался, и тогда Хуан
предложил написать Адольфо и спросить у него, наконец, на
каких правах он здесь живет и в чем должен подчиняться
управляющему. «Дон Адольфо уже писал мне,— отвечал
ему на это управляющий,— что вас теперь почти ничего не
связывает и ты здесь на таких же правах, как и остальные
служащие: за свой счет». Ну, раз так, заявил Хуан, то он
может есть, где захочет и с кем хочет. Оба вошли в раж,
но тут к ним в дом вошел лейтенант федеральной армии.
И они сразу же смолкли, ибо явился вершитель
человеческих судеб на десять легуа вокруг! Хуан сразу же
припомнил и «Главную книгу», и то, что слышал на табачной
фабрике в Мериде о политической тирании,
господствовавшей в стране, и о том, что здесь надо держать ухо востро
и помалкивать. Особенно это касалось тех, кто не имел
собственных плантаций, не обладал саном священника или
расшитым золотом и серебром мундиром, внушающим
почтение лейтенантам и более низким чинам в униформе.
Именно это обстоятельство не раз сдерживало Хуана,
когда он,— охваченный тоской по уроженке Тикуля,
казавшейся теперь, на расстоянии, божественно красивой в
частых сладостных сновидениях, совсем непохожей на
окружавших его метисок и индианок,— испытывал
необузданное, мятежное стремление бежать; или когда он,
захлебываясь от ненависти к управляющему — этому скопидому,
можно сказать, рабовладельцу, дрожал от нестерпимого
желания удрать, скрыться отсюда навсегда, особенно в те
вечера, когда эта сволочь не пускала его посидеть в
лавчонке, где у него появилось немало добрых друзей.
Все же Хуану удалось получить согласие
управляющего столоваться у музыканта. Этот выходец с Канарских
550
островов как оудто начал питать к нему некоторую
симпатию, хотя всячески скрывал свои чувства. Хуан потратил
немало сил на то, чтобы добиться его разрешения, которое
не только позволило бы изменить пищу, но и давало бы
возможность пройтись одному по дороге и бывать в доме,
где обитали молодые женщины. А они там были.
Музыканта звали доном Басилио. Он играл на
кларнете. Дон Басилио объяснил Хуану, что у него не постоялый
двор. И если у них дома столуется Сирило, кубинец, то
лишь потому, что они в дружеских отношениях, а кроме
того,— н это немаловажно,— он дирижер оркестра в Пето.
Сейчас Сирило в Мериде. Он поехал туда подобрать новые
музыкальные пьесы для их оркестра, а может быть, это
только предлог, потому что он скрывает свое
намерение отправиться с военной экспедицией на Кубу. Он
вернется через несколько недель, если, конечно, вернется. Все
они ждали его с большим нетерпением и уповали на то,
что ему не удастся попасть в повстанческую армию.
Сирило был человеком очень добрым, образованным и
порядочным. Слово «порядочный» дон Басилио
подчеркнул особо, буравя при этом юношу пристальным
взглядом своих индейских глаз. Жаль только, что он
неверующий!
У дона Басилио была жена родом из Веракруса —
создательница вкусных обедов, и две дочери. Одна была
незамужней, а другая всегда таскала с собой завернутого в
шаль плаксивого маленького метиса, покоившегося,
словно в люльке, на ее вздутом, как барабан, животе,
задиравшем ипиль кверху на полпяди. Она была замужем. Ведь
только замужество могло позволить дочерям дона Басилио
производить на свет новые побеги. Сам дон Басилио Пэч,
некогда член городского совета Пето, был вторым
дирижером оркестра города Пето и председателем католического
Братства святой Сесилии в Пето. Хуан сразу же
по-кубински подумал, что этот метис — хитрая бестия.
Незамужнюю дочь дона Басилио звали Мартой. Она была еще
совсем юной, миниатюрной, коренастой, скуластенькой,
смуглой, цвета слегка разбавленной корицы, и всегда
ходила, опустив вниз глаза, которые имели монголовидную
форму, так же как и ее скулы. Но если она вдруг
поднимала глаза, то они оказывались громадными и
блестящими. А ее округлые, упругие груди и легкие изгибы бедер
под тонкой тканью ипиля вводили в искушение. Несмотря
на оговорки дона Басилио, что он берет Хуана столоваться
551
лишь потому, что это может доставить удовольствие его
соотечественнику, несмотря на прозрачные намеки на по-
рядочиость Сирило, несмотря на все эти обмолвки,
эротомания креола взыграла, хлынув через край, едва он
увидел юную метиску. Он неотступно следовал за ней
глазами, не мог оторвать взгляда от распустившихся, словно
бутоны, трепетных девичьих грудей.
Марта по воскресеньям ходила на площадь в Пето
послушать, как играет оркестр, которым дирижировал ее
отец. Она отправлялась туда вместе со своими
подружками, одетыми в ипили, в тонких, как кисея, накидках, в
остроносых блестящих туфельках. Хуан тоже стал
посещать эти концерты с кем-нибудь из своих приятелей с
завода, чтобы неотрывно преследовать девушку взглядом,
как он это делал за обедом или но вечерам, когда навещал
семейство Пэч якобы для того, чтобы доставить им
удовольствие своим незаурядным, выразительным чтением
вслух. Вся семья, включая и зятя дона Басилио, который
возвращался с работы затемно, и кое-кто из соседей,
живших на окраине селения, собирались вокруг Хуана
послушать, о чем пишут меридские газеты или революционные
кубинские листки, а также волнующие страницы
увесистых томов Дюма, Монтепена и Виктора Гюго —
единственные книги, имевшиеся в округе, собственность дона
Басилио еще с той поры, когда он был членом городского
совета и лелеял надежду стать политическим лидером
города. Вибрирующие нотки в голосе, свободное,
выразительное чтение страниц о мушкетерских приключениях д'Ар-
таньяна, или о кровожадных сценах у Монтепена, или об
идиллических злоключениях Марио и Козетты
завораживали слушателей, заставляя учащенно вздыматься
округлые девичьи груди, за которыми сладостно томилось
неведомое, таинственное чувство.
Роман Хуана и Марты развивался уже забытым в наше
время образом — это был роман взглядов. Чем чаще
встречались молодые люди и чем дольше задерживались их
взгляды друг на друге, тем реже посещал он сборища в
лавчонке и тем более дерзкими становились его
эротические посягательства на сорокалетнюю служанку-метиску.
Но именно благодаря этому жалкому утолению страсти,—
впрочем, не без взаимности, ибо служанку никак нельзя
было назвать покорной жертвой, несмотря на ее смущение,
сопротивление и протесты,— Хуан не форсировал событий
и не переходил от взглядов и милых улыбок к решитель-
552
ным действиям, которые могли оы запятнать целомудрен-
ную чистоту ипиля в семействе Пэч.
Однажды утром управляющий едва не застал на месте
преступления Хуана и толстую метиску в самый разгар
удовлетворения их страсти, и с тех пор пришлось
ограничить эти пылкие, ставшие почти невозможными
эротические сеансы, к которым Хуан прибегал всякий раз, когда
возвращался воспламененный от Марты. И все сместилось.
Он не мог уже часто пользоваться услугами метиски, а
стало быть, и находиться подолгу возле привлекательной
девушки. Сладострастное наваждение, вызванное
чарующими воспоминаниями о белокурой Хулии и
воображаемыми прелестями Марты, не давало ему покоя ни во сне,
ни наяву, повергая в смятение, неотступно преследуя
днем и ночью. Или бежать в Мериду, или соединиться с
Мартой. Эта навязчивая идея свербила его мозг и сводила
с ума. А что, если ему жениться? Что может быть проще!
При посредстве дона Адольфо и управляющего заиметь
жену и наслаждаться ею законно, в любое время, в свое
удовольствие, ни от кого не таясь, каждую ночь! Что,
собственно, ему мешает? У него уже есть кое-какие
сбережения. Почему бы не потратить их? А что ему станет
дешевле? И девушка какая! Метиска? Несведущая? Подумаешь!
Он не из Пето и даже не из Юкатана, да и война на Кубе
не будет длиться вечно. Какие могут быть возражения?
Больше ему ничего не приходило в голову. Да и не могло
прийти.
Однажды вечером на свет появился второй внук дона
Басилио. Хуан услужливо провел в их доме несколько
часов. В общей сутолоке Хуан несколько раз встретился с
Мартой наедине в полуосвещенных уголках. Марта
улыбнулась ему, как еще никогда не улыбалась до спх пор. Во
время одной из этих встреч Хуан неожиданно завладел ее
рукой и поцеловал. И уже больше в этот вечер не видел ее.
После ее откровенно влюбленной улыбки и его легкого
прикосновения губами к девичьей руке Хуан готов был
преодолеть любые преграды, воздвигнутые перед ним
добропорядочной осмотрительностью дона Басилио и теми
общественными законами, которым следовало по своему
разумению семейство Пэч. Он действительно был готов на
все. Волнующее, сдержанное ухаживание, минуты,
проведенные рядом с Мартой, ее трепетные, упругие груди,
невольно выпиравшие в вырезе платья, когда она,
торопливо нагибаясь, что-то делала в тот хлопотный вечер, бес-
553
сонная ночь, которую он провел после этого вечера,
сделали еще более неотступной и навязчивой идею
«съесть», как он образно выражался про себя,
целомудренную метиску. Он не мог допустить и мысли, что
она достанется кому-то другому. Итак, решено — он
женится.
Дом в имении был просторным и имел некоторые
удобства. Он строился с таким расчетом, чтобы при желании в
нем могла отдохнуть летом целая семья. Одним из удобств
был большой водоем с водонапорной башней, с помощью
которой подавалась питьевая вода прямо из громадного
колодца в комнаты, где были поставлены краны. Такой же
кран находился среди банановых и других фруктовых
деревьев, которые раскинулись на огромном пространстве,
образуя ничем не огороженный двор. Этот кран возле
прогнивших стропил и подпорок у водохранилища с его
невообразимо скрипучей башней был как бы источником
для селения. Со всех сторон фруктовой рощи к этому
источнику стекались извилистые тропинки, протоптанные
женщинами, стариками и детьми, которым в засушливые
месяцы года разрешалось к концу дня приходить сюда,
под развесистые кроны деревьев, чтобы наполнить
питьевой водой сосуды. Женщины обычно ходили порознь —
религиозная разобщенность в этой стране очень
поддерживалась. А девушки — стайками. Они ставили на землю,
покрытую лужами, свои сосуды: жестяные байки,
ведра, кувшины. Иногда, держа кувшины на голове,
опустив руки, девушки выглядели невинными,
целомудренными фигурками старинных скульптур. В одной
стороне стояли сосуды, а в другой — разговаривающие,
смеющиеся девушки, которые перемалывали одни и те
же извечные местные темы: сплетни, новости, огорчения,
романы.
Мария, сестра Марты, до самых родов ходила за водой
сама. Теперь ее заменила Марта. Хуан это узнал и
поджидал девушку неподалеку от ее дома, в том месте, где
она должна была, возвращаясь, пройти одна. Он не
преградил ей путь, опасаясь, как бы она в страхе не
метнулась от него прочь со всех ног, а приблизился к ней не
спеша:
— Послушай...
— Что? — испуганно спросила она, поднимая руки к
кувшину, который несла на голове, на случай, если ей
вдруг придется бежать.— Чего тебе?
554
— Я только хочу узнать у тебя одну вещь, о которой
не мог спросить при всех. Выйдешь за меня замуж?
— Да...
Они пошли рядом, и волнение девушки было столь
велико, что вода выплескивалась из кувшина через край,
усеивая жемчужными каплями ее гладкую, смуглую кожу
и тончайшую, прозрачную ткань ипиля, прилипавшую к
ее трепетным грудям. Она лишь осмелилась добавить:
— Поговори с папой.
В нем пробудилось чувство пещерного человека. Но он
сдержался. Вернее, временно подавил его в себе, провожая
взглядом Марту, которая удалялась от него среди
кустарников быстрыми шажками, почти бегом.
Но покорился только на время, ибо нетерпение теперь
переполняло все его существо.
Вечером того же дня, воспользовавшись первым
подходящим случаем, он решительно заявил о своем намерении
дону Басилио. Тот, как и следовало ожидать,— Хуан с
присущей ему креольской смекалкой давно уже об этом
догадывался,— дал свое согласие. Пожав плечами, он
сказал:
— Если она и дон Адольфо не против...
И в тот же вечер, представ перед уроженцем
Канарских островов, Хуан сообщил ему о своем решении,
чтобы узнать его мнение и тогда уже написать обо всем
Адольфо.
— Если дон Адольфо не будет возражать,— ответил
ему управляющий,— тогда... и я не против.
Хуан написал письмо Адольфо. В ожидании ответа
жених и его будущий тесть все между собой обговорили.
В случае, если молодоженам не разрешат поселиться в
полупустом доме, где Хуан работал в конторе, дон Басилио
выделит им комнату, и они будут жить все вместе, как
живут его остальные дети: Мария и ее муж. Главное,
чтобы бракосочетание их благословил священник, чтобы все
было по законам христианской морали и веры. Адольфо с
пренебрежительной неучтивостью, полной определенного
смысла, в ответ на письмо Хуана написал управляющему:
«Если у него есть деньги, пусть женится на ком хочет и
когда хочет, может быть, тогда, взяв на себя такую
серьезную ответственность, он станет благороднее, порядочнее и
честнее».
Когда управляющий прочел это письмо Хуану, юноша
осмелился сказать вслух:
555
— Прекрасно. Стало быть, ему безразлично, что я
женюсь, и это для меня главное.
А про себя подумал: «Что касается его проповедей, то
пусть читает их самому себе».
XXX
И вот настал торжественный час свадьбы. Вернее, не
столько свадьбы, сколько того мгновения, которого с
таким нетерпением ждал Хуан и которое должно было
наступить после приводившей в смущение и заставлявшей
покрываться краской стыда свадебной церемонии.
Супружество не являлось для него каким-то жизненным
откровением, не пробуждало в нем моральной и социальной
ответственности или каких-либо иных чувств подобного
рода. С этой ночи она будет принадлежать ему! Вот что было
для него важно.
В восемь вечера, одетый в костюм из сукна, впервые
сшитый по его мерке, он отправился один по дороге,
ведущей к ранчо, которому отныне суждено было стать его
домом. Управляющий, несколько служащих с завода, а
также приглашенные друзья и знакомые уже ждали его
там.
Вечер был безлунный, но ясный, светлый, усеянный
мириадами звезд. Далеко впереди, на дороге, такими же
звездочками мерцали огоньки Пето и его окрестностей.
Немного в стороне, в том месте, где должно было состояться
свадебное торжество, светились яркие огни. Хуан шел не
спеша, держа шляпу в руке, подставив аккуратно
причесанную голову под свежий, душистый полевой ветерок.
Фейерверк озарил все вокруг и дождем посыпался на
землю. До Хуана донеслись звуки оркестра, среди которых
выделялись резкие нотки кларнета допа Басилио. Одна за
другой в воздух взлетели еще две ракеты. Они взорвались
почти одновременно, отозвавшись далеким эхом. И тут же
со всех окрестных полей и ранчо раздался лай собак.
Какая-то из них где-то поблизости не унималась дольше
остальных. Она лаяла на Хуана, приближавшегося к
освещенному ранчо, где, вероятно, поджидая жениха, к нему
присоединились мужчина и две женщины. Мужчина
пошел рядом с ним, женщины — следОхМ, семеня мелкими,
деловыми шажками. Мужчины едва обменялись
несколькими фразами; вернее, Хуан вырвал, словно клещами,
556
пару скупых слов у своего спутника. Чем ближе
подходили они к праздничному созвездию огней, тем больше и
ярче оно становилось.
Едва Хуан переступил порог ярко освещенного дома,
как сразу же двое его приятелей, не юкатанцев,
воскликнули:
— Хуан! Хуан! Жених пришел! — и заспешили ему
навстречу.
Музыканты, уже успевшие не раз приложиться к
бутыли с ромом, как, впрочем, и приятели, которые
встретили Хуана радостными возгласами, при появлении жениха
заиграли польку. Одна за другой взрываются последние
три ракеты из той полдюжины, которую заказал в Мериде
посаженый отец Хуана. Их тут же представляют друг
другу. Это толстый, седовласый, усатый француз в очках,
по прозвищу «Мусью» — владелец самого крупного в Пето
универсального магазина.
С той минуты, как Хуан становится вместе с Мартой
гвоздем праздничной церемонии, центром всеобщего
внимания, взглядов, намеков, толков, шуток, принятых в
таких случаях, он уже не замечает и не удерживает в
памяти ничего, кроме разрозненных, смутных образов и
картин. Очень взволнованный, он подходит к невесте
поздороваться. Она стоит среди своих двоюродных сестер и
подруг, сливающихся в одно белое пятно нарядных ипилей с
цветной бахромой и яркой вышивкой крестом;
национальный характер их одежды еще больше подчеркивают
крупные золотистые, сверкающие четки и искрящиеся блестки
на типично мексиканских туфельках с задранными кверху
носами. Марта совсем не такая, какой ее знает Хуан. На
ней грубые, плохо натянутые хлопчатобумажные чулки;
короткая, дешевая свадебная фата с тремя убогими
стебельками картонного флёрдоранжа; белое, аляповато
сшитое платье на корсете — этой инквизиторской пытке
латами, а щеки пунцовые от сознания собственной
смехотворности и румян, наведенных алой краской, соскобленной с
картонки для булавок. Фальшь и жалкая наивность
лишают ее той целомудренной прелести и девичьей
естественности, которые притягивали к себе Хуана, распаляя его
все сильнее. Но Хуан представляет ее себе такой, какой
хочет поскорее увидеть: смуглолицей, непосредственной и
веселой, в просторном, прозрачном ипиле и такой же
просторной нижней юбке поверх точеных, полненьких ножек
с гладкой, нежной кожицей, такой же смуглой, как и все
557
ее желанное тело. В ранчо рядами стоят стулья, кресла-
качалки, табуретки, разные по форме и по цвету, как во
время бдения возле покойника или на праздничных
торжествах у бедняков. Женщины кружком сидят в сторонке,
нерушимо храня свое уединение. Мужчины собираются
небольшими группками в помещении или же
прогуливаются на воздухе вокруг объединенных общей крышей трех
хижин, составляющих ранчо дона Басилпо. В помещении
жарко и душно от обилия людей и света. Те, кто
наслаждается прохладой,— среди них нет юкатанских рабочих с
местного заводика,— курят и пьют вино в ожидании
музыки. Мать, сестра Марты, а также муж сестры, Хосе,
усердно хлопочут, желая всем угодить. В чахлом садике у входа
в центральную хижину снова начинает играть оркестр.
Кто-то зажигает свечи возле алтаря, и освещается вся
хижина, украшенная множеством веток и разноцветных
бумажных гирлянд. Ветки и бумажные гирлянды,
подобранные со вкусом, образуют нечто вроде живописной пиши
над алтарем — это столик, покрытый «скатертью», из-под
которой выглядывают неотесанные сосновые ножки, и
образующий единственную ступеньку ящик, обтянутый
цветной бумагой. Среди дюжины новеньких, длинных
зажженных свечей кажется, будто незнакомый Хуану
деревянный святой, в кармелитском одеянии и кружевах,
обливается потом. В затылок святого воткнут жестяной нимб;
в руках, сложенных люлькой, он держит глуповатого,
испуганного младенца — это Христос. К алтарю подходят
один за другим все гости. В патио играет аккордеон,
заглушая звуки оркестра, расположившегося напротив.
Появляется священник. Он говорит напутственные слова,
принятые во время свадебного обряда, взволнованному
жениху, который, заметив, что священник из Пето
испанец,— как, впрочем, и все священники, каких он знал,—
слушает его с неприязнью и раздражением сепаратиста и
безбожника. Тоже еще нашелся! Рожа красная, толстое
брюхо набито только что съеденным шоколадом и
сдобами, которые так и прут назад вместе с отрыжкой через
мясистый, отвислый рот этого обжоры из обжор!
Мошенник! Содрал с него тридцать тостонов, чтобы поженить без
документов и быстро!.. Священник не теряет времени
даром. Возбужденные, потные гости толпятся перед алтарем
вокруг смущенной, растерянной молодой пары,
ослепленной этим спектаклем, главными действующими лицами
которого они являются, вокруг Мусью с марсельскими
558
ус^ми, вокруг осмотрительнейшей особы в шелках,
необъятные телеса которой грозят прорваться наружу, и
круглого, как шар, одетого во все черное священника. Едва
священник кончает бормотать литанию и проделывать
какие-то сверхъестественные, магические движения
руками, в которых держит кольца, гости снова расходятся,
отпуская шуточки в адрес молодоженов. Кто-то говорит
Хуану, чтобы он взял Марту под руку и посидел с ней
немного среди гостей. Пожалуйста! И после этого наконец,
после малопонятных, машинально выслушанных слов,
после поучений и намеков, все образуется легко и просто.
Настолько просто, что сам дон Басилио, глазки которого
еще больше сузились от выпитого рома, подходит к Хуану,
и Марте, чтобы сказать дрожащим, свистящим шепотом:
— Идите походите по дороге, пока разойдутся гости.
Проходя мимо маленькой хижины, предназначенной
для молодоженов, Хуан увидел огромный «семейный»
гамак из розовой ткани, украшенный розовыми лентами,
совсем такой же, какой он видел в спальне Адольфо и
Кармен, и тихонько сказал своей жене:
— Посмотри-ка.
И, обвив девушку рукой за талию, склонив к ней
голову в поисках первого из миллионов поцелуев, о которых
мечтал, он увлек ее на безмолвную, пустынную дорогу.
А позади, в ранчо, раздавалась неистовая чечетка,
которую в людской сутолоке отбивали деревянными
подошвами необычных праздничных сандалий мужчины, а
каблучками туфелек с задранными носами, украшенных
блестками,— метиски, едва переводившие дух и быстро
перебиравшие ногами, безвольно опустив руки вдоль тела.
Здесь же, на дороге, царило настоящее, человеческое,
неподдельное счастье, игнорирующее все, что находится
за его пределами, как и там, в ранчо, где в людской
сутолоке дробно отстукивали каблуки и барабаны, жалобно
стонал кларнет дона Басилио и пили. «Мистелу» и
«Гаванское».
XXXI
Сирило Сейхас, дирижер городского оркестра, в
возрасте тридцати с лишним лет, был не только музыкантом, но
и парикмахером. Низкорослый, костлявый, с длинной
шеей, он казался как бы раздвоенным сверху и снизу. Это
559
последнее впечатление создавалось благодаря густой
копне рыжих волос, разделенной большим пробором пополам,
и паре туфель, тесно льнувших друг к другу каблуками и
враждебно воротивших носы в разные стороны. Туфли с
глубоким вырезом обычно едва держались у него на ногах,
так как каблуки и задники всегда были стоптаны. Что
касается внутреннего содержания Сирило Сейхаса, то,
можно сказать, он являлся жертвой печатной продукции
издательства «Маучи», которую с юности без всякого
разбора и системы поглощал с ненасытной жадностью вместе
с другим чтивом, попадавшимся ему под руку. Все это
привело к тому, что в голове у Сирило образовалась
достойная всяческого сожаления мешанина из Штирнера и
Кропоткина, Толстого и Ницше, Бакунина и Маркса,
Спенсера и Реклю, Дарвина и Фламмариона, Золя и
Виктора Гюго. Но и из этой мешанины родилась культура
хотя и хаотичная, но намного превосходящая то, что знали
его друзья и приятели, что было известно в среде,
окружавшей этого незадачливого цирюльника и
посредственного музыканта; культура достаточно высокая, чтобы
зачастую служить помехой в жизни. Разумеется, Спенсера
он понимал наполовину, Ницше меньше чем наполовину, а
Штирнера и вовсе не понимал, однако это нисколько не
мешало ему, как, впрочем, и его физическое и
профессиональное несовершенство, считать себя сверхчеловеком.
Особенно в суждениях и философских воззрениях. В
сущности же, Сирило был человеком добрым, отзывчивым, и
первым его побуждением всегда оказывалось стремление
утвердить добро, отрицая зло. Вот почему, давая волю
своим вдохновенным чувствам, он совершенно забывал о
ницшеанстве: ненавидел священников — этих превосходных,
лицемерных индивидуалистов, негодовал по поводу
рабского положения индейцев в Юкатане и приходил в
отчаяние от того, что не смог выехать из Мексики с
военной экспедицией, чтрбы сражаться за свободу своей
отчизны.
Сирило нашел в лице Хуана кубинца, враждебного
Испании; умного, молодого соотечественника, сбитого с пути
ненавистным христианским обществом; великолепного,
выразительного чтеца, обладавшего достаточно широким
кругозором, который необходимо было лишь пополнить
«томами Маучи», приобретенными за пять песет;
единственного способного понять его ученика на сто плантаций
вокруг и единственного верного друга, на котором он мог
560
сконцентрировать все свои трогательные чувства Диогена,
лишенного соратников п летописцев.
Мимолетная дружба с Сирило сыграла в жизни Хуана
Кабреры важную роль, заставив задуматься над
детерминизмом, который правил миром, и населяющими его
марионетками, насмехаясь над моралью и верой.
Клиентура цирюльника состояла из немногочисленной
и очень избранной публики: человек двадцать, живших в
Пето и говоривших не только на языке майя, но и
по-испански. За исключением священника. В крохотной
парикмахерской с единственным креслом и неисчислимым
множеством патриотических украшений и портретов (герб и
знамя свободной Кубы, фотогравюры европейских
философов и американских освободителей, апостольские бороды
Кропоткина и маркиза Санта-Люсии) цирюльник
«приводил в порядок» политического лидера города, француза —
посаженого отца Хуана на свадьбе, турка — владельца
лучшего магазина одежды, еще одного турка — владельца
лучшей пекарни, аптекаря из единственной аптеки,
каталонца — хозяина постоялого двора и сторонника
кубинских сепаратистов, двух врачей, трех лиценциатов и с
полдюжины управляющих окрестных асьенд. Здесь же, в
парикмахерской, Сирило в свободное от клиентов время
разучивал ноты, заставляя надрываться свой корнет. Здесь
же вешал на ночь свой одинокий гамак. И здесь же
проводили они с Хуаном сумеречные часы будничных и почти
всех воскресных и праздничных дней в бесконечных
беседах. Время от времени они ходили в хижину, затерянную
среди пыльных деревьев на окраине Пето, где «на случай»
у Сирило имелась «сеньора», а у той сестра, к которой
Хуан постепенно привязывался. И в хижине этих метисок,
и в парикмахерской, и в конторе асьенды, куда Сирило
частенько наведывался к другу в рабочие часы, или же
дома у Хуана они просматривали книги, газеты,
разговаривали, спорили. Дружба их час от часу крепла,
становилась все более искренней, взаимооткровенной и настолько
поглотила Хуана, что он и думать забыл о материальных
выгодах, которые мог бы извлечь, работая служащим на
плантации; он не испытывал, как прежде, чувственного
влечения к жене и не оказывал ей должного внимания,
которого вправе была ожидать от него скромная, юная
женщина, горячо любящая своего красивого, обожаемого
мужа. Марта возненавидела Сирило с затаенной,
молчаливой злобой, разожженной в ней, как и любое другое чув-
36 К. Ловейра 561
ство, индейской кровью. Чутьем метиски и женщины она,
несомненно, догадывалась о той роковой роли, которую
играл в их судьбе Сирило. Хотя правда и то, что помимо
ницшеанца существовали и другие причины, которым
суждено было повлиять на будущее этого необычного,
нелепого, случайного брака.
На адрес Сирило,— он тоже дружил с Хулианом,—
приходили запоздалые письма табачника, в которых он
передавал Хуану просьбы белокурой уроженки Тикуля,
стремившейся к тому, чтобы «ее» кубинец узнал, что она
ни на минуту не забывает его и надеется снова увидеть в
Мериде, когда он сжалится над ней, и тогда уж она будет
принадлежать только ему одному. Передавая Хуану эти
подстрекающие слова Хулии, друг сообщал, что
сентиментальная девушка считает себя «соломенной вдовой» и
постоянно тоскует по нему, вспоминая его и напевая
грустные песни во время «приемов». Вместе с Сирило Хуан
читал сепаратистские газеты, получаемые из Нью-Йорка и
Флориды кубинскими клубами; читал письма, в которых
Массагер, Лорет де Мола и другие конспираторы из
столицы Юкатана сообщали цирюльнику о ходе революции
и посылали лотерейные билеты, сепаратистские боны,
клубные квитанции за взносы и прочие денежные сборы,
идущие в фонд революционной хунты на Нью-стрит, 56.
Хуан, «опатриоченный» парикмахером до мистицизма, не
только сам оплачивал эти квитанции, приобретал
лотерейные билеты и боны, но и распространял их среди
приятелей, работавших с ним и сочувствовавших делу кубинской
революции. Он сумел всучить билеты даже
управляющему, ставшему большим другом Хуана и его соучастником
в... бухгалтерских махинациях, связанных с управлением
асьендой. С помощью Сирило Хуан пополнил запас
знаний, почерпнутых им когда-то в адвокатской конторе
Адольфо, где запоем читал «Науку и ее людей» и
«Окружающий нас мир». И благодаря Сирило овладел
элементарными сведениями в области музыки, географии, общей
механики и эволюции видов. Что касается последнего, то в
этом вопросе Сирило был особенно сведущ и прекрасно
разбирался во взаимосвязи между разными видами, хотя и
здесь, как во всем его самообразовании, выявлялись
тысячи пропущенных звеньев, которые ему приходилось
восполнять интуитивно, по своему усмотрению. А Хуан,
также «интуитивно», на лету все схватывал и уяснял. В
результате общения с Сирило его нравственное и социальное
562
бунтарство, до сих пор неосознанное, приобретало
осмысленный размах и силу. Теперь он уже отчетливо
представлял себе, каково его положение в жизни, и стремился к
тому, чтобы прожить ее как можно лучше.
Именно на этом стремлении строилась дружба Хуана
и Сирило, базировалось менторское, умозрительное
красноречие противоречивого Заратустры. По мнению Сирило,
чтобы прожить жизнь как можно лучше, следовало
игнорировать понятия добра и зла. Не порывать окончательно
связей, держаться, пока это в его силах, за семью, которая
привезла его в Юкатан. Сохранив в тайне то, что касалось
писем и записок Нэны, Хуан поведал другу все: о Нэпе, об
Адольфо и прочих членах семьи, начиная с того момента,
как дон Роберто стал негласно его отчимом,— а кое-кто
считал даже, что он больше, чем отчим,— до похотливого
предложения отца Нэны на берегу реки в Лос-Мамейес,
умалчивая при этом, как он и Нэна когда-то прижимались
в укромных уголках усадьбы.
Сирило советовал крепить и крепить эту лицемерную,
выгодную связь. И приблизительно так же поступить в
отношении девицы из Мериды, отбросив всякую
щепетильность и глупые церемонии. Подумаешь! Что с того, если
он ляжет в постель с женщиной, которая ежедневно
ложится еще с десятью мужчинами? Почему отказываться?
Она самая обыкновенная шлюха... и ничего больше. Одна
из множества ей подобных. Разве плохо иметь деньги и
получать удовольствие за то, что расхаживаешь с
револьвером за поясом и «подыхаешь со скуки» по вечерам? Так
что... не мешает об этом поразмыслить. В любом случае
Хуану не следует умалять своих достоинств. К счастью, у
него их немало, и он вполне может посвятить себя
профессиональному донжуанству. Эта профессия ничуть не
хуже любой другой. Взять хотя бы, к примеру, этого
самого Адольфо, о котором рассказывал Хуан. Разве он не
приобрел богатство с помощью всего лишь любезных слов и
брачной охранной грамоты? Ему же, Сирило, отощавшему
от бесконечного дутья в корнет, с сединой в шевелюре, с
настоящим архипелагом мозолей и подагрических шишек
на ногах, теперь уже не приходится мечтать о том, чтобы
увлечь какую-нибудь уроженку Тикуля. Куда там!.. Что
же касается супружества Хуана с Мартой, то оно может
закабалить его... Ох, уж эти правоверные! Не надо быть
слишком проницательным, чтобы понять, почему он
женился. Юноша по законному праву молодости нуждался в
563
женщине. Вокруг него другие мужчины, после работы,
после прогулок, после вечернего кружения по площади в
Пето, уединялись со своими женами,— многие из них
прехорошенькие и соблазнительные,—в спальни, потому что
были женаты. Все естественно и просто. Что ж тут такого!
Его тоже привлекла девушка, оказавшаяся рядом, самая
«аппетитнеяькая» из тех, которые его окружали. И
девушке он приглянулся. Чтобы позволить себе делать то, что
делают другие, надо было жениться. И они поженились.
Вот и все. Но не собирается же Хуан, белокожий, молодой,
красивый, умный, у которого еще все, вероятно, впереди,
прозябать среди этих полуцивилизованных людей и после
того, как кончится война на Кубе! Не станет же он
посвящать себя пастьбе темнокожих рабов и бедной, наивной
женщине, с которой он будет плодить ежегодно по
индейскому младенцу! Нет, мой милый, пет! С этим стоит
мириться только до тех пор, пока для него не настанут
лучшие времена, а для нее не пройдет пора любви к
белокожему юноше, хорошему парню, завидному «экземпляру»
естественного отбора, уважаемому ее сородичами. Потом,
когда он навсегда исчезнет, ее вполне обеспечит отец,
который станет главным дирижером городского оркестра,
потому что он, Сирило, тоже уедет из Пето. Что касается
любви, то и здесь все уладится, ибо у соблазнительной,
приятной метисочки не будет недостатка в темнокожих
парнях, и какой-нибудь из них усладит ее и заменит
кубинского эмигранта, промелькнувшего, словно
ослепительный болид, над Пето.
Иногда Хуан погружался в раздумья, слушая своего
друга, устремив отсутствующий взор на старый, облезлый,
сферический земной шар, стоявший в глубине
парикмахерской и служивший им для занятий по географии.
Иногда он предавался своим мыслям во время еды, сидя
возле жены в кругу ее родственников за деревенским
столом рядом с комалем и закопченными, крытыми
железными решетками ямами, предназначенными для жарения
мяса,— всей этой чуждой для него экзотики, не менее
чуждой, чем жена и ее родственники, с которыми он, в
отличие от Сирило, не находил общего языка. Хуан постоянно
раздражался и нервничал, резко прерывая примитивные
этические и религиозные суждения их доморощенной
философии, которую не принимал. Все чаще и чаще
погружался он в молчание в кругу семейства Пэч и наедине с
женой, даже в гамаке, украшенном лентахми, в котором
564
близость ее смуглого, толстенького тела уже не так часто
возбуждала его, и моногамия — этот палач любви —
постепенно, но раз от раза все больше претила ему из-за
отсутствия других соблазнов. В такие минуты, единственные,
когда он не работал и не был подвластен господствующей
над ним дружбе с Сирило, мысли его нередко уносились к
Петре, которую он вспоминал с сентиментальной
нежностью и состраданием, но ненадолго, нбо эти чувства в нем
сразу же заглушал индивидуалист, человек сильный,
такой, как Сирило. Все неотступнее преследовали его
томительные образы белокожего тела: розовой, шелковистой
кожи пылкой надменной девочки; и другого —
неповторимого, гибкого, как змея, неутомимого, вспотевшего,
распаленного страстью, овладевшего всем его существом, всеми
помыслами в тот неистовый, ненасытный вечер любви.
Однажды Сирило с огорчением вдруг сказал Хуану:
— Слушай, по-моему, Марта беременна, у нее заметно
раздались бедра.
— Да, уже пошел шестой месяц.
— Вот как? И ты спокойно говоришь об этом. Уже
шесть месяцев! Разумеется, ты волен поступать, как
захочешь, но будь я на твоем месте, я только бы думал, как
мне удрать в Мериду. Пока — в Мериду. А потом на Кубу,
когда там кончится война, или куда глаза глядят. Во
всяком случае, сюда ты можешь вернуться в любой момент.
XXXII
Хуан, как уже сотни раз, возвращался из конторы
домой под вечер, один, усталый, нехотя. Это был печальный,
сумеречный час на каменистой, выжженной, пересохшей
равнине, такой же сухой, черствой, извечной, как сами
люди, обитавшие здесь. Он шел, пресыщенный духовной
ограниченностью Марты, однообразной атмосферой,
царившей в доме, монотонной жизнью в Пето; шел, уставший
от бесконечных цифр и документов в конторе, понуро
свесив голову набок, глядя блуждающим, опечаленным
взором на широкую, утрамбованную дорогу. И вдруг у самого
поворота к дому столкнулся с Сирило, который, завидев
его, вышел навстречу:
— Дружище! У тебя такой обреченный вид, будто ты
собрался покончить с жизнью!
— Что уж и говорить! Опротивело все до чертиков!
565
— На-ка прочти.— И Сирило протянул ему письмо,
которое извлек из внутреннего кармана пиджака.— Мне не
хотелось отдавать его в присутствии кого-нибудь из Пэч.
Может быть, ты найдешь в нем что-нибудь такое, что
поможет тебе удрать в Мериду.
— Хоть в Мериду, хоть к черту на рога! Я уже сыт по
горло этим Пето, этим семейством Пэч, индейцами,
турками, майя и всей этой белибердой!
И он уехал в Мериду.
Уехал внезапно, без долгих размышлений, не имея
никаких твердых планов, не заботясь о том, как бы ему
получше все уладить, придумать ложь, которая помогла бы
обмануть управляющего, дона Басилио и саму Марту,
чтобы пуститься в путь; уехал без всяких сантиментов,
нежностей, угрызений совести, когда ему пришлось
объясняться с бедной беременной метиской, плакавшей в углу
и охваченной тоскливым предчувствием. Он простился с
ней коротко, не глядя в лицо, стараясь говорить твердо,
уверенно, искренне, как человек, совершающий хороший,
честный, порядочный поступок:
— Дон Адольфо велит мне приехать к нему. Не знаю,
зачем я ему нужен. Возможно, он захочет, чтобы я там
остался. Тогда я приеду за тобой, как только смогу.
Представляешь, даже управляющий ничего не мог возразить!
Однако у него не хватило смелости приласкать ее и
поцеловать, и он только повторял машинально всякий раз,
когда она принималась горько всхлипывать:
— Ну, будет! Будет! Не плачь!
Наконец она покорилась судьбе с присущей индейцам
сверхъестественной стоической покорностью:
— Ничего не поделаешь!
А сундук? Зачем он забирает с собой сундук?
— Как же иначе! В чем же мне еще везти вещи?
— Ах да! Верно!
И он уехал, прихватив сундук и все свои остальные
вещи, хладнокровно и целеустремленно следуя заранее
намеченному плану:
— В Мериду! К цивилизации! Туда, где находится
Хулиан! И Хулия!
Отсюда — к Хулиану и Хулии. Таков его ближайший
путь, а там видно будет. Сейчас он жил настоящим и был
счастлив оттого, что бежит из проклятого Пето, что
увидится со своим старым другом и вновь окажется на
табачной фабрике — этом маленьком, веселом, неугомон-
566
ном островке кубинцев. Наконец встретится с Хулпей.
С Хулпей! Симпатичной! Жизнерадостной!
Обольстительной! От которой он только что получил письмо,
переданное ему Сирило. Письмо, полное ласковых слов — «мой
малыш», «любовь моя», соблазнительных обещаний
доставить ему величайшее наслаждение, принадлежать
лишь ему одному, быть преданнейшей, влюбленной
кошечкой, бесконечно, невыразимо счастливой с ним —
«красивым, желанным кубинцем».
Через час после внезапного прибытия в Мериду Хуан
уже ехал вместе с Хулианом в повозке, сидя верхом на
сундуке, в сторону табачной фабрики. Все складывалось
как нельзя лучше. Хозяин фабрики согласился
предоставить Хуану за то, что тот будет чтецом у табачников, угол
для сундука и гамака в маленькой кладовой, насквозь
пропитанной никотином, где хранились тюки с табаком —■
необходимым для сигар сырьем. Каждый рабочий, так же,
как это было принято в Гаване, будет отдавать ему из
своего еженедельного заработка определенную сумму.
Улов был невелик, поскольку рабочих насчитывалось
мало, но Хуан надеялся на первых порах все же пожить за
счет Хулии, совмещая приятное с полезным. Кроме того,
чтец необходим был этому питомнику боевых петухов, в
котором, вероятно, взращивались будущие представители
власти; а ему это давало возможность приобрести новую
специальность, а заодно пополнить свое образование
проблесками тех знаний, которые будут озарять его всякий
раз, когда он станет листать страницы новой книги,
читая рабочим. Ко всему прочему Хуан не встретился ни
с кем из близких Адольфо ни на улицах города, ни в ту
минуту, когда поезд остановился,— при этом сердце от
страха готово было выпрыгнуть из груди,— на станции,
находившейся вблизи от юкатанского имения Адольфо.
В день приезда Хуан был очень словоохотлив с
табачниками. Он подробнейшим образом, красноречиво и
взволнованно подтвердил те сведения, которые уже имелись у
кубинских рабочих относительно невежества, рабского
положения и фанатизма индейцев и метисов, живших
в асьендах. Хулиану он рассказал о своем бытии в Пето,
не переставая нежно вспоминать Сярило Сейхаса и
восхищаться им. Но за болтливостью Хуана, как бы его
душевным двигателем, угадывалось взволнованное ожидание
предстоящей встречи с Хулией. Эта заветная цель, эта
будоражившая воображение вожделенная мечта всецело
567
завладела его мозгом, возбуждала в нем необузданный
любовный инстинкт, не давая подумать о своем ложном,
неоправданном, безрассудном пребывании в Мериде.
Положение его было, пожалуй, настолько же ложным,
насколько и непоправимым; он, словно сказочный принц,
имел только одну цель, одну навязчивую идею, одно
неодолимое желание: «Сегодня же вечером увидеть Хулию!
Сегодня же вечером!»
Во время обычного дневного посещения публичного
дома доньи Кармен Хулиан поразил Хулию радостным
известием о том, что Хуан в Мериде и собирается зайти к ней
после «приема» сегодня же вечером. Он сказал ей это
с глазу на глаз, но она тут же в нетерпении возразила:
— Плевать я хотела на «прием»! Пусть приходит
пораньше. Приведи его сам. Старуха хорошо знает, что для
меня «прием», когда я захочу, а если нет, так нет. Я еще
молода и здорова. Ко мне ходят те, кто не пойдет ко
всякой. И хорошо платят. Этих денег нам вполне хватит па
двоих. Еще чего! Мой мальчик в Мериде! Нынешняя ночь
только для него, и точка! Пусть приходит, и как можно
раньше!
Она была очень взволнованна, ходила по комнате,
беспрерывно смотрела на себя в зеркало, принялась
доставать из ящиков самые лучшие свои наряды, скинула с
кровати на пол белье, чтобы постелить свежее, чистое. И при
этом не переставала расспрашивать Хулиана. Сможет ли
Хуан остаться у нее на всю ночь? Долго ли пробудет в
Мериде? Сильно ли он загорел на солпце? Не похудела ли
она, по мнению Хулиана? И не слишком ли у нее выгорели
волосы?
— Только не приводи его сюда. Не хочу, чтобы
кто-нибудь увидел его раньше меня. Скажи, пусть ждет в
экипаже на углу. Или нет. Чуть дальше. В тени. Под деревьями.
Жандармы гоняют нас с центральных улиц. Мы поедем
с ним на окраину. Так приведешь его пораньше?
— Приведу, конечно. Когда хочешь. Хоть сейчас.
Милочка моя, да ты втюрилась в него по уши!
Это суждение, высказанное грубовато, прозвучало
достаточно красноречиво и убедительно, но было не совсем
точно. Хулия действительно была влюблена в Хуана,
искренне, чистосердечно, романтично, словно наивная
сентиментальная девушка из добропорядочной семьи, хотя тем,
кто посещает эти клетки, покажется невероятным, что
здесь может зародиться любовь.
568
И вот эта молодая женщина с манерами из
провинциального борделя, с лексикой и интонацией под стать этим
манерам, женщина, которая переспала уже с сотней
разных мужчин и которой предстояло еще продаться тысяче
других, встретила Хуана и ласкала его, целовала и
наслаждалась любовью час, два, три, словно только что вышла
замуж и совершала в карете первое свадебное
путешествие, безрассудная, неистовая влюбленная, к услугам
которой не было ни спальни, ни садов Тюильри или
Елисейских полей; слепая, глухая, мертвая ко всему, что
находилось за пределами возлюбленного, которого она обнимала.
Хуан не менее неистово целовал ее, гак же горячо сжимал
в своих объятиях ее потное, желанное тело. Кучер, немало
повидавший на своем веку, хотя и был удивлен, все же
рассудил вполне по-креольски и повел себя так, словно ему
хорошо были известны обычаи Елисейских полей и он
сотни раз возил обезумевших влюбленных к гостеприимным
оградам садов Тюильри. Сначала украдкой в экипаже, а
потом на скамейках аллеи, до которой довез их кучер,
чтобы оставить наедине, они переживали волнующие часы
накануне той страстной, безумной, неповторимой ночи,
которая навсегда останется в памяти кубинца, лишенного
домашнего очага и не имевшего определенной цели в
жизни, и в памяти безвременно увядающего нежного,
чувствительного цветка, рожденного в Тикуле.
В час ночи, закусив в ближайшей булочной пирожкахми
и шоколадом, они отперли дверь публичного дома доньи
Кармен ключом Хулии и вошли. Оттуда, после
нескончаемых прощальных поцелуев и объятий, Хуан ушел и девять
утра, бледный как полотно, сонный, с темными кругами
под глазами; все кости его ныли, в пустой голове звенело,
и ему казалось, что земля уходит кз-под ног. Вышел
удовлетворенный и немного опечаленный.
Оставляя за собой один за другим длинные кварталы
Мериды, он думал о своем положении, вспомнил вдруг
имение в Пето, «свой» дом, залитый в эти часы
ослепительным солнцем, полный жизни, трудовой. Что скажут о нем
в семействе Пэч, когда узнают, что его никто не вызывал
в Мериду? Предпримут ли что-нибудь против него
управляющий и дон Басилио? А вдруг Марта наложит на себя
руки? Как поступит дон Адольфо, узнав обо всем? И,
наконец, если все обойдется, какова его дальнейшая цель,
какой путь он для себя изберет? Неужели будет по-преж-
пему жить бобылем? Однако он ответил на все вопросы
569
так, словно отвечал кому-то другому. Креол имеет
обыкновение жить настоящим днем. «Пойду куплю пару
лакированных туфель для танцев в воскресенье, даже если в
понедельник мне придется топать в них по известке».
«Надо купить коляску для карнавала, пусть даже потом я
ее продам по дешевке».
«Эта женщина будет принадлежать мне, я даже готов
жениться на ней». Таков был Хуан и рассуждал именно
так: «Мне надоело Пето, осточертела пузатая жена; уеду
в Мериду к Хулии, которая очень нравится мне и которая
влюблена в меня, уеду немедля, сегодня же вечером...» И с
этой мыслью, завладевшей его мозгом, ставшей его
путеводной звездой, конечной целью, он уехал в Мериду,
прихватив вещи и смягчая этот посхупок слабой, хрупкой
ложью,— словно парашютом безрассудный прыжок в
пустоту. Разумеется, у него было больше оснований, чем у
других кубинцев, быть таким. В его душе никто не
взращивал иных моральных принципов. Он никогда не имел
родных, которые научили бы его серьезно и тщательно
взвешивать все свои поступки. Ну, а если дон Басилио или
даже Марта напишут ему тревожное, презрительное или
угрожающее письмо, когда узнают о его лжи? Тогда он
ответит им, что это не ложь, а правда, что речь идет о тайной
услуге дону Адольфо, которую тот не хотел разглашать.
Если же из Пето письма не придут, он сам вскоре напишет
туда. Что, если он встретит дона Адольфо в Мериде или
адвокат сам станет разыскивать его? Что ж! Он ответит
ему первое, что взбредет на ум, или откровенно
признается, что хочет делать ту работу, которая ему больше по
душе, а все, что касается его личных дел и морали,— это
его частное дело. И точка! Не думает ли он вернуться к
Марте? Возможно... Когда-нибудь потом. Когда она
разрешится от бремени, перестанет хвастать перед жителями
Пето своим новорожденным младенцем и не будет запн-
раться с ним каждую ночь в отдельной комнате, качать
крохотный, вонючий гамак с пискуном. А пока что он
будет с самыми добрыми намерениями копить деньги. При
тех-то сокровищах, которые хранятся в шкафу у Хулии!
Этим утром он уже имел возможность рассмотреть их, и
она даже уговорила его надеть на мизинец и принять от
нее в подарок золотое колечко с маленьким
бриллиантиком. Все его мысли теперь были обращены к Хулии, все
его желания сводились к одному: «С заходом солнца
к Хулии...»
570
XXXIII
Дни Хуана в Мериде идут своей чередой.
По утрам — чтение на фабрике газет и журналов,
которые расширяют его представления о людях, вещах и
событиях, происходящих в мире. Днем — чтение романов и
книг по истории, которые заполняют пробелы в его
самообразовании, обогащают его культуру, внося в нее такие
важные элементы, как чувство красоты, эмоциональность и
человечность. А воспитание, общественное поведение,
понятие о смысле жизни? Он питается вместе с Хулианом и
другими табачниками в грязных, шумных кабаках. Очень
скоро заимствует дурные привычки у своих товарищей по
фабрике: курит, играет в азартные игры и часами громко
разглагольствует, оспаривая самые тривиальные идеи,
наименее обоснованные, пропитанные дешевыми страстями
«коммуналок» и пустырей. Остаток дня и время после
полуночи он проводит в публичном доме доньи Кармен. По
прошествии нескольких дней, чтобы пойти в бордель, ему
уже необходим серебряный набалдашник на трость, взятую
у знакомого табачника. Затем он начинает носить цветное
нижнее белье, золотой брелок и аккуратно прилизывает
свою короткую прическу. По мере того как он делается
типичным представителем многочисленной армии
сутенеров, Хулия становится классической проституткой, все
больше уподобляясь лучшим образцам из публичного
дома — содержанкам старше ее по возрасту, артисткам в
своем деле, с закоренелыми ухватками и привычками,
свойственными девицам из борделей. Хулия все чаще ссорится
с доньей Кармен, отказываясь «принимать» у себя по
ночам, сколько бы ей за это ни платили. Ночи только для
Хуана. С нее хватит и того, что она делает во время
«приема» до часу ночи, пока ее «мальчик» вынужден слоняться
где-то или сшиваться в соседних забегаловках. И
настаивает: она, мол, еще не стара и не сифилитичка, чтобы
торговать собой днем и ночью. Любой из друзей, взять хотя бы
губернатора провинции, за одну «сьесту» платит больше,
чем остальные получают за весь день. Губернатор
оказывается самым убедительным доводом среди других не менее
убедительных и неопровержимых, которые заставляют
отступить перед Хулией жестокую, скаредную и деспотичную
хозяйку борделя. Этот женатый, темнокожий
пятидесятилетний мужчина в роскошной полотняной тройке без ума
571
от изящной блопднночки. Два раза в неделю он увозит ее
в полдень к себе в «хижину», расположенную среди
фруктовой рощи, обнесенной каменной изгородью. Донья
Кармен должна во всем угождать этому сеньору. Нередко
между Хулией и другими проститутками из-за ее, Хулии,
обидных слов происходят скандалы, склочные, отвратительные
и невыносимые для Хуапа, потому что он видит, как его
возлюбленная — добрая, отзывчивая, сентиментальная в
душе, разумная и справедливая — в слепой ярости, подбо-
ченясь, презрительно склонив голову набок, унижает и
оскорбляет своих товарок, более старых и потрепанных,
чем она, более изнуренных бессонными ночами, более
опустошенных морально и физически. Бывает, что после этих
безумных вспышек ярости или ревности достается и
Хуану: она обзывает его трусом, ничтожеством, которому
палец в рот не клади и который, дай только волю, способен
увиваться за кем угодно, лишь бы в юбке: негритянкой,
индианкой, старухой и самой что ни на есть последней
тварью. При этом она плачет, растрепанная, сбрасывает
с себя платье, которое трещит по всем швам. В подобных
случаях Хуан, ласковый и сентиментальный по своей
природе, не желая все же терять чувство мужского
достоинства и выглядеть тряпкой в глазах коког ки, чаще всего
решался прибегнуть к хамовато-деревенс1 :ой грубости: он с
шумом захлопывал дверь и окна комнаг ы, сжимал, словно
в тисках, запястье ее руки и, несколько раз отвратительно
грубо дернув, повелительно говорил с видом
разъяренного самца:
— Ну что, мужчина я или нет? Хоче ль еще?
— Нет, нет, мой миленький. Идем. Прошу тебя, идем.
И она указывала на кровать, котор* я обычно служила
им местом примирения, безудержного, г репетного, полного
слез, вздохов и стонов. Именно из-за пр гсущей ему
нежности и сентиментальности, а также само! адеянпости Хулии,
все больше и больше сознававшей цещ своей красоте,
молодости и здоровью — драгоценнейших сокровищ,
способных обогатить донью Кармен, рухнула прежде всего
надежда Хуана, взлелеянная еще в Пето и поддержанная в
первые дни в Мериде: надежда прожит i, за ее счет. Все эти
дни он испытывал настоящую нужду, по не осмеливался
попросить у нее денег, которых сама < на ни разу ему не
предложила. Разве только отделывалась подачками и
делала незначительные подарки вроде бриллиантового
колечка, золотого брелка, бязи и ирландского полотна на ниж-
572
нее белье, носовых платков и носков. Все эти подачки были
унизительны для него. Однако он терпел подобное
положение, делил Хулию с другими любовниками и лез из кожи
вон, стремясь приостановить ее деградацию и истерики
ради крупицы нежности, ласки и душевного участия к его
тяжелой, недостойной, исковерканной жизни и в
особенности ради любви к женщине, которая ему нравилась,
как еще никто на свете.
Первые вечерние часы Хуан Вхместе с Хулианом и
другими табачниками проводил в болтовне, сидя на скамейке
на Пласа-Гранде. Обычно основной темой их разговора
была война на Кубе и тот разительный контраст, который
существовал между кубинским народом, борющимся за
свое освобождение от испанского колониализма, и народом,
населяющим Юкатанский полуостров, являвшийся штатом
независимой демократической республики Мексики той
эпохи. Мимо них через площадь, направляясь в огромный
собор и возвращаясь оттуда, группками проходили
метиски — служанки богатых домов и, разумеется, ревностные
католички. Все очень серьезные, они шли босиком, с
длинными четками на груди, глядя себе под ноги и семеня
маленькими быстрыми шажками. Девушек сопровождала
какая-нибудь сгорбленная, толстая старуха, тоже в штиле,
которая набожно пасла их от собора к дому. Часто среди
плохо одетых и босых индейцев, пересекавших площадь,
попадались военные дона Порфирио, а также важные,
невозмутимые священники, не менее самодовольные, чем
военные, и как нельзя лучше приспособившиеся к рабской
атмосфере, царившей тогда в Юкатане.
Во время шумных споров табачников высказывания
Хуана оказывались самыми резкими, точными и
бурными. Горячность его была вызвана не столько
антибуржуазной непримиримостью, антиклерикализмом и
антимилитаризмом противоречивого Ницше из Пето, сколько
волнующими чувствами, которые пробуждало в нем чтение на
фабрике подлинно литературных произведений. Хуан
глубоко соболезновал юкатанскому народу, доброму,
радушному, отзывчивому, обманутому, порабощенному и
обездоленному грабителями, непременно состоявшими в разных
религиозных корпорациях и братствах. Это были первые
крепкие и прочные ростки добра, сочувствия и
великодушия, которые существовали в нем с детства, были
свойственны ему от рождения, по до сих пор проявлялись лишь
время от времени, очень редко: в те минуты, когда он всио-
573
минал о своей матери; когда в Лос-Мамейес был связан
чистой, братской дружбой с Пепином; когда жалел Петру;
когда утвердилась его привязанность к Хулиану и Сирило,
а главное — в его трогательном, участливом отношении к
Хулии, женщине легкого поведения. Иногда во время
чтения какой-нибудь сентиментальной, романтической
истории о неверности вертопраха, покипувшего любившую его
женщину, глаза Хуана вдруг увлажнялись, голос
срывался от волнения, что производило неизгладимое впечатление
на слушателей. Волнение его было вызвано воспоминанием
о Марте. Подобное же чувство он испытывал всегда, когда
писал ей письма, мучаясь угрызениями совести от своей
лжи, воскрешая в памяти горькие минуты прощания и
свое жестокое бегство, которое, раз задумав, он
осуществил, и представляя себе тяжкие страдания Марты,
которая должна была родить вдали от обожаемого мужа, столь
необходимого ей сейчас и незаменимого. Рука его
дрожала, когда он писал, изо всех сил стремясь, чтобы письмо
выглядело как можно нежнее, участливее, правдивее и
неопровержимее. Прежде всего он сообщал ей, что если
Адольфо и будет отрицать, что вызывал его в Мериду, все
же это так, но это скрывается, потому что речь идет о
большой тайне... Его отъезд был связан с попыткой
отправиться сражаться за родину, но он не посмел ей в этом
признаться. Экспедиция на Кубу сорвалась, и теперь он
работает и копит деньги, чтобы забрать ее поскорее к себе,
«как можно скорее», раз уж так получилось, что он не
может снова вернуться в имение, иначе бы... Разумеется, все
его переживания возникали от случая к случаю. Не
возвращаться же ему в самом деле? Не ехать же обратно по
этим каменистым, бесплодным равнинам, чтобы снова жить
в семье метисов, до предела ограниченных и
некультурных, вдали от цивилизации, от порта — прямого пути в
Гавану. Ехать, чтобы посвятить себя тому, от чего он с таким
жестоким эгоизмом отказался? И он по-прежнему
сочинял ей письма, доказывая невозможное, прикидываясь
верным, глубоко переживающим разлуку и давая
клятвенные обещания загладить свой поступок в самом скором
времени. В самом скором — с момента написания каждого
очередного письма.
Однажды днем Хуан очутился на железнодорожной
станции, куда совсем недавно доставил его поезд из Пето,
как раз в ту минуту, когда вереницы экипажей,
нагруженные путниками и багажом, разъезжались по улицам, под-
574
прыгивая на ухабах слякотной дороги, словно шлюпки,
устремившиеся в открытое, бурное море. Почему-то вдруг
ему пришло в голову, что в одном из этих экипажей могли
бы ехать Марта, или дон Басилио, или оба вместе.
Предположение оказалось прозорливым. Правда, не в экипаже, а
пешком перед ним шел по улице грузный метис в
широкополой шляпе, держа под мышкой длинный, прямой,
черный футляр; через руку у него был перекинут пиджак.
Этот футляр под мышкой мог быть и кларнетом, ибо метис
очень смахивал на дона Басилио. Испуганный Хуан
благоразумно решил свернуть на другую улочку, мимо которой
проходил, чтобы из-за угла удостовериться в верности
своего предположения. Какая невероятная удача, какой
счастливый случай, что именно в этот час, в этот день он
очутился здесь! Метис действительно оказался доном
Басилио. Завидев приближавшийся экипаж, немного
запоздавший к поезду, Хуан вскочил в него и приказал
кучеру:
— Сворачивай назад. Живо! К Сантьяго.
По дороге, пока он ехал, у него не было достаточно
времени, чтобы как следует обдумать сложившееся
положение. Одно он знал твердо: необходимо немедля скрыться с
фабрики и не показываться на улицах до полуночи — той
самой минуты, когда он может спрятаться у Хулии. Зато
у него хватило времени взять себя в руки и явиться более
или менее спокойным. В этот час кое-кто еще работал на
фабрике и среди них Хулиан.
— Друзья,— обратился к ним Хуан, едва экипаж
подвез его к зданию фабрики.— Только что я видел своего
тестя, прибывшего из Пето. Он идет сюда. Что мне
делать?
— На, возьми,— не раздумывая, сказал темнокожий
рабочий, похожий на китайца, товарищ Хуана и его друзей,
протягивая ему ключ, быстро извлеченный из кармана
брюк.— Спрячься у меня в комнате. Ложись в гамак и
читай. Скоро я приду, принесу твой гамак, и мы что-нибудь
перекусим.
Остальные одобрили этот план. Все считали
естественным, что Хуан скрывается от своего тестя, точно так же,
как они единодушно одобрили бегство Хуана из Пето. Не
потому, что девушка была метиской. Нет! Ни в коем
случае! Каждый из них в той или иной мере был социалистом,
сторонником равенства. Но зачем такому молодому, такому
стоящему парню так рано жениться!,. Да еще в Пето!..
575
Кучер ждал. Хуан прыгнул в коляску и велел ехать в
сторону Санта-Апы, где па одной из прилежащих улиц
находилась комнатушка его приятеля.
Там он прожил целую неделю, Чтобы сохранить в
тайне свое убежище, Хуан ни словом не обмолвился о нем
Хулии и запретил Хулиану говорить ей об этом. С той же
дружеской готовностью, с какой один из табачников
предложил ему разделить с ним кров и еду, остальные рабочие
продолжали выплачивать ему из своего жалованья,
несмотря на то, что он им не читал. А когда дон Басилио явился
на фабрику разузнать, где находится беглец, все стали
уверять его, что Хуан уехал в Веракрус в надежде
отправиться оттуда воевать на Кубу.
Дон Басилио не слишком поверил этим словам. Он
сказал, что пробудет в Мериде еще несколько дней, потом
уедет в Пето, но вскоре снова вернется в столицу штата.
На неделе Хуан получил от Марты письмо, адресованное
на фабрику, как обычно, «на случай, если он вдруг
вернулся в Мериду». В этой фразе, как и во всем ее письме,
скрывалась горькая ирония, вернее, грозный сарказм
упрямых индейцев: дон Басилио приезжал за «реалами»,
потому что Хуан теперь отец мальчика, самого красивого на
свете, и должен помнить о своем долге супруга,
«обвенчанного церковью». И еще отец хотел узнать, не попал ли
Хуан «в беду», и в случае чего «искать правосудия». На
днях он снова поедет в Мериду, где вынужден был
оставить свой кларнет, который в прошлый раз не смогли
починить из-за отсутствия нужных деталей. Дон Басилио
зайдет на фабрику узнать, не вернулся ли Хуан туда или
«не поселился ли он где-нибудь еще».
Через несколько дней после этого письма, впервые со
дня возвращения в Мериду, Хуан увидел Адольфо. Они
шли навстречу друг другу по противоположным сторонам
улицы и неминуемо должны были сойтись на перекрестке.
Заметив вдруг юношу, Адольфо ускорил шаг и свернул
за угол в проулок, качая головой, точно бумажный змей.
Хуан нисколько не удивился его поступку: у Адольфо,
видимо, не было ни малейшего желания встречаться со своим
бывшим подопечным. Все, что было раньше, умерло и
погребено. Хуан огорчился, потому что Адольфо прежде
хорошо относился к нему, да и у Хуана еще сохранилось
теплое чувство к своему старому товарищу по комнате. Хуан
шел дальше, размышляя на ходу. Что могла сказать Нэпа
в тот вечер Адольфо? Всю правду или только часть? Ско-
576
рее всего последнее, по даже это заставило Адольфо
принять срочные меры, чтобы избавиться от насильника и
шантажиста, который мог причинить зло его племяннице
за то, что с ним так жестоко обошлись. Не мог же Адольфо
оставить их под одной крышей после столь необузданной
вспышки его страсти! И наверняка она сказала дяде, что
он слишком нагло смотрел на нее, а потом стал приставать,
как к служанкам-метискам, и дядя решил вырвать зло с
корнем. В деревню! Чтобы расстаться с ним не резко, по
навсегда. Так же, как поступили с ним в Гаване дои Ро-
берто и Доминго. Сохранила ли она в тайне то, что было
известно лишь тем двоим да ему с Нэпой? Или во всем
призналась? Трудно в это поверить. Очень трудно. И в
заключение подумал: «А что, если мне рискнуть появиться
у них в доме?»
Однако мысль эта не долго вертелась у него в голове.
Вскоре Хуан снова повстречался с Адольфо. Так же
неожиданно, когда они оба переходили улицу. Адольфо, как
и в прошлый раз, низко наклонил голову, словно кланялся
не ему, а кому-то другому, и едва выдавил из себя
короткое:
— Здравствуй!
— Здравствуйте!
Неделю спустя после этой встречи должен был
начаться ежегодно проводившийся в Мериде праздник Сеньора
де лас Ампольяс — распятого чудотворца меридского
собора. Почти две недели длились эти религиозные
торжества, известные на всю страну своим богатством и роскошью.
Каждый день музыка, месса с песнопением; фейерверки и
другие шумные приманки отдавались на попечение какой-
нибудь корпорации рабочих, руководимых священниками,
что являлось еще одним проявлением господства в этих
«пенатах» церковной власти. Каждая из этих корпораций
находилась под покровительством либо святого Иоанна,
либо святого Петра, либо святого Иосифа или прочих
небесных заступников, и у кубинских табачников, уже
объединенных со времен Первого Интернационала в боевые
рабочие организации и собиравшихся каждый вечер
вместе с Хуаном на Пласа-Грапде, вызывали неуемную, в
основе своей саркастическую и мятежную, говорливую
веселость эти шествия босых рабочих со свечами, хоругвями и
музыкантами через площадь к собору. По прошествии
нескольких вечеров табачники заметили, что вокруг них
шныряют пе внушающие доверия тины из тайной полиции
3? к .номера 577
и даже сам губернатор провинции, проходя мимо, окинул
их инквизиторским взглядом. В тот вечер, когда кубинцы
особенно шумно потешались, комментируя шествие
плотников, сгрудившихся вокруг громадной хоругви с
изображением святого Иосифа, они заметили, как один из шпиков
подозрительно устремился к группе полицейских в
униформе. Тотчас компания решила разойтись, и трое из
них — Хуан, Хулиан и темнокожий табачник, похожий на
китайца,— отправились в Ла-Лонху, где для высшего
общества устраивались танцы, составляющие
развлекательную часть праздника Сеньора де лас Ампольяс. Танцы для
владельцев асьепд, военных, коммерсантов и прочего
респектабельного люда, который, разумеется, кубинские
друзья могли созерцать лишь... с улицы.
Подойдя к окнам салона, они затерялись в толпе зевак
и забавлялись тем, что глазели на уже прибывшие пары,
которые в нетерпении давно открыли бал. Реплики друзей
главным образом касались той неповоротливости, с какой
исполнялся кубинский танец.
— Да разве так танцуют, дружище! Им не хватает
креольского жара в крови!
Но вот появилась пара, исполнявшая танец,
импортированный в эту страну, с присущим ему ритмом. Это были
Адольфо и Нэна. Хуан отступил от освещенного окна в
гущу толпы, увлекая за собой друзей.
— Смотри-ка, это Нэпа. Та самая кубинская девушка,
о которой я тебе говорил,— сказал он Хулиану.
— Ну да!..
Хулиан тут же поспешил в общих чертах объяснить
темнокожему кубинцу все, что касалось этой девушки и ее
детского романа с их другом.
Хуан следил за каждым движением Нэны, не в силах
оторвать от нее восхищенного взора, и так же горячо
восторгался ею, как и другие:
— Вот это кубинка!
— Какая девушка, черт подери!
И действительно, Нэна была очаровательна. Красива,
отлично сложена, в самом расцвете молодости, она была
одета в воздушное, полудекольтироваппое бальное платье
без рукавов.
Нэна сменила партнера, и, казалось, они вдвоем
задались целью торчать перед огромными окнами, то ли для
того, чтобы быть подальше от полсотни кавалеров и
партнеров, то ли чтобы блистать красотой перед теми, кто от-
578
кровешю любовался ею с улицы. И тогда приятели
уговорили Хуана приблизиться к окну.
— Не глупи. Подойди поближе. Пусть увидит тебя. Ну,
не дури! Ведь ты был у нее первым, старик! И несмотря
на то, что она так богата и красива... Вспомни о романе,
который ты читал нам на днях, помнишь — дочь маркизы,
а флиртовала с кучером.
Хуан не возражал. Взволнованный, он смотрел на нее
не отрываясь. Какие необыкновенные плечи! Он даже не
подозревал, что они могут быть так прекрасны.
— Какие округлые и белые! Вы только взгляните, до
чего же хороши!
Его восторженные, пристальные взгляды привлекли
внимание девушки. Она заметила наконец Хуана, широко
раскрыла прелестные глаза от изумления и затем при
каждом повороте в танце смотрела на него с серьезной и
простодушной настойчивостью.
— Что я тебе говорил? — горячо вопрошал Хулиан,
явно задетый за живое.— Что я тебе говорил? Видишь,
как она ищет тебя взглядом.
— Ну и ну! — восклицал другой.— Этой девушке что-то
от тебя надо. Она так смотрит! Поменяй место, увидишь,
как станет искать тебя.
Они перешли к другому окну, и все произошло именно
так, как предсказывал Хуану приятель. Нэпа смотрела на
него, вероятно, опасаясь, что он может что-нибудь
выкинуть против нее или, движимый мстительным чувством,
говорить о ней какие-нибудь гадости своим друзьям. А
возможно, она думала о чем-нибудь еще, но по-нрежнему
смотрела на него вызывающе-пристально. Это походило на
удивительный флирт, и так длилось до тех пор, пока
поздней ночью, ио-королевски закутанная в мягкую
сверкающую шаль, она не поднялась в просторный экипаж
Адольфо. Экипаж тронулся, увозя их обоих и жену адвоката.
Хуан, оставленный товарищами, все это время пробыл там,
рискуя вызвать гнев и истерику белокурой Хулии.
Но все обошлось без скандала. Хуан прикинулся, будто
у него сильно разболелась голова, скрывая, таким образом,
существование другой женщины и получая возможность
провести несколько бессонных часов, лежа с широко
раскрытыми глазами, устремленными в темноту и лелея мечту
появиться когда-нибудь в доме Адольфо.
579
XXXIV
Поздний приход Хуана в ту ночь в публичный дом
доньи Кармен послужил еще одним поводом для очередной
ссоры, которые постоянно происходили между Хулией и
хозяйкой борделя с тех пор, как кубинец стал
возлюбленным строптивой белокурой девицы; ссоры, без сомнения,
преднамеренной и неминуемой, которая повлекла за собой
серьезные неприятности.
В следующую ночь Хуан не спеша шел к борделю. До
конца «приема» оставался почти целый час, и он коротал
время, останавливаясь перед кафе и бильярдными залами,
как вдруг нос к носу столкнулся с любовником хозяйки
публичного дома. Полковник преградил ему путь и сухо
проговорил:
— Привет! — И тут же назначил свидание: — Жди
меня в двенадцать часов в тени под деревьями,— А затем
быстро удалился, играя кобурой под роскошным
новеньким пиджаком из белого полотна, а Хуан в ответ уже сам
себе проговорил:
— Ого! Что-то заваривается!
Хуан шел, размышляя и стараясь предвосхитить
события. Револьвера у него пет — полиция разрешает носить
его лишь самым влиятельным сутенерам. А Полковник не
только первостепенный, но и самый грозный. Зато у него,
Хуана, есть трость с серебряным набалдашником и, кроме
того, целый ряд философских наблюдений относительно
Полковника; наблюдений человека, намного
превосходящего ту среду, которая его окружает. Полковник, как
почти все дряхлеющие красавцы, «слишком много берет на
себя». В молодости он действительно мог быть грозой и
слыть меж людей мужественных смельчаком, которому
ничего не стоит «вогнать в гроб человека»,— выражение
вполне оправданное, но и не менее избитое. Однако
справедливости ради следует заметить, что за последние
восемь — десять лет у него не возникала необходимость
всадить кому-нибудь пулю в лоб или затеять с кем-нибудь
драку, пуская в ход кулаки. Одно его имя внушало
почтительное уважение, чаще всего взаимное, профессиональным
красавцам в этой части города; по принципу — собака
собаку не съест. Но Хуан не раз, наблюдая за ними украдкой,
замечал грустные признаки его увядания. Полковник уже
не снимал очки; когда оставался в нижнем белье, видны
были дряблые мускулы и живот с толстыми, оплывшими
580
жиром складками; а как-то раз он несколько дней
просидел, вытянув на стуле закутанную в шерстяную тряпку
ногу.
«Сегодня же ночью, сейчас же,— говорил себе Хуан,
направляясь к тенистым кронам деревьев, возвышавшихся
неподалеку от борделя,— увидим, способен ли еще этот
человек дать отпор, потому что настало время постоять за
себя, не дать сесть себе на голову. Я не позволю, чтобы
у меня отняли женщину и все, что она так великодушно
мне дарует. Я должен пойти, и я пойду. Наверное, он тоже
так рассуждает. Ну что ж... чему быть, того не
миновать».
Хуан все сильнее и сильнее сжимал в руке трость, как
бы повинуясь яростным вспышкам лихорадочно
работавшей мысли: при первом же агрессивном движении
Полковника он изо всех сил ударит его тростью по правой руке,
чтобы выбить револьвер и обезоружить, а если
понадобится, то... за одним ударом последует другой.
Иных мыслей не было в необузданной голове этого
человека, привыкшего думать и действовать по законам
своей жизни и той среды, которая его окружала.
Размышляя таким образом, он подошел к тенистым,
уединенным деревьям — месту их встречи.
Не прошло и пятнадцати секунд, как Полковник,
словно дожидавшийся его где-то в укрытии, показался на
соседней, плохо освещенной улочке и, быстро миновав ее,
подошел к нему.
— Слушай,— начал он.— Мы с Кармен уже сыты по
горло твоими шашнями с Пустышкой. Чтобы твоей ноги
больше не было в доме. И берегись, если я узнаю, что ты
пожаловался ей на меня и передал, что я велел тебе
выметаться.
Говоря это, он сжал кулаки, приведя их в боевую
готовность.
— А почему? — спросил Хуан, в свою очередь сжимая
набалдашник трости.— Что, собственно, произошло?
— Я — Полковник. И еще никогда никому из мужчин
не давал никаких объяснений.— И он угрожающе
схватился за кобуру, желая опередить удар тростью.
Но Хуан безотчетно привел в исполнение то, что было
им задумано, нанеся страшный удар палкой по запястью
правой руки Полковника, заставив его выпустить из
пальцев наполовину вынутый из кобуры револьвер. Револьвер
упал па ворох сухих листьев, собранных в кучу под деревь-
581
ями, а Полковник вынужден был поддержать левой рукой
сломанную правую, свесившуюся под углом.
— Ты сломал мне руку, кубинское отродье! Лучше
уезжай из Мексики, чтоб тебе провалиться сквозь землю!
Не то я вгоню тебя в гроб! Убью, как паршивую собаку! —
злобно прорычал он, корчась от боли.
Хуан стоял неколебимый, сжимая трость и глядя на
Полковника с жалостью, в которой не было и доли
насмешки.
— Ну что ж! — ответил он.— Если сможешь, убьешь
меня потом, а пока что хорошенько держи руку, я пойду
поищу кого-нибудь, чтобы пришел тебе помочь, а заодно
отдам вот это.
Под словом «это» Хуан подразумевал револьвер,
который осторожно поднял с земли, все время оставаясь
начеку.
Боль заставила Полковника опуститься на ворох пыль-
пых листьев и закричать:
— Ты отсюда не уйдешь, сволочь! Эй! На помощь!
Держите его! На помощь!
Хуан, так же неторопливо, как пришел сюда,
направился к соседней улице, почти первой в этом районе, па самой
окраине города. Навстречу ему бежали люди. В дверях
кафе и борделей толпились менее решительные. Среди тех,
кто устремился на помощь, был полицейский. Он свистел,
зажав свисток в зубах, а в правой руке, как положено по
уставу, держал наготове огромный пистолет.
— Стой! — крикнул он, направляя оружие на Хуана,
который шел ему навстречу с тростью в одной руке и
револьвером — в другой. А затем, нацеливая дуло огромного
пистолета ему в живот, громко приказал: — Давай сюда все
и следуй за мной.
Отобрав у Хуана трость и револьвер, он хотел заставить
его вернуться назад.
Но Хуан воспротивился. К раненому могут пойти
другие. Там пе произошло ничего страшного. Просто
Полковник хотел всадить в него пулю, и поэтому пришлось
быстро обезоружить его ударом трости. У него перелом
руки. Теперь он сдается, и пусть полицейский его
арестует. А люди пойдут и подберут раненого. Вот и все.
Полицейский согласился. И, держа в левой руке трость
и револьвер, а правой — пленника, он повел его по улице,
не переставая при этом дуть в свисток, зажатый в зубах.
По пути им повстречался еще один полицейский. И пер-
582
вый отослал его в темноту, туда, где под деревьями
толпились вокруг пострадавшего люди и кричали:
— Полковника ранили! Полковника ранили!
Вскоре уже все полуночники — и мужчины и
женщины, попадавшиеся на пути Хуану и полицейскому,
который вел его в ближайший полицейский участок,
повторяли, приукрашивая это событие кое-какими важными
деталями:
— Хуаи-кубииец, возлюбленный Пустышки, ранил
Полковника! Не кого-нибудь, а самого Полковника!
Хуан предстал перед лейтенантом полиции. Сонный,
недовольный лейтенант при свете тусклого, маленького
керосинового фонаря занес происшествие в книгу с
пожелтевшими листками, а затем, вручив полицейскому другой
фонарь, коптящий и мерцающий, приказал:
— Отведи его в камеру номер два, там пустые нары.
При одной только мысли, что придется спать на ложе
из жестких, корявых досок, Хуан содрогнулся.
«И даже без жалкой подстилки»,— проговорил он про
себя, повернувшись к решетке, уже запертой покинувшим
его полицейским.
Он стоял, вцепившись в железную решетку и устремив
взор на тусклый отблеск света, падавший от двери на
неровные плиты патио. Какую-то минуту он тревожно
вслушивался, охваченный надеждой, потому что ему
почудилось, будто он слышит женские голоса у входа в здание.
И среди них голое Хулии. Во всяком случае, очень похожий
голос. Наверное, она пыталась увидеться с ним, но ее не
пропускали. Потом отдаленные голоса смолкли, и сразу
же раздался храп какого-то пьяницы в соседней камере,
а также нозвякивание шпор, удалявшееся в ту сторону,
откуда доносился топот конских копыт. Хуан сел на пол,
в углу, и прислонился спиной к стенке. Хотя в голове его
преобладали мысли фатальные, вызванные покорностью
судьбе,— «Подобного исхода следовало ожидать, ибо такова
эта жизнь, которую не сам я себе выбрал, как никто не
выбирает. Иначе и быть не могло. И все же я не отступил:
теперь я знаю, что не дрогну, когда придет час нанести
или принять удар. Пусть даже это будут полковники!» —
и хотя преступление его было относительно легким, все
же тревога не покидала его, заставляя нервничать и
метаться от одной мысли к другой: от Пето к табачной
фабрике; от Хулии к темнокожему рабочему, у которого псе
еще хранились его вещи; от дома Адолъфо к аптеке, где
583
сейчас, наверное, оказывают помощь Полковнику; от
Нэны к Хулии. Однако, несмотря на вынужденные
раздумья, мозг должен был отступить перед естественным
нервным спадом, который последовал после пережитых
им сильных потрясений. Хуан поудобнее прислонился
головой к стене, закрыл глаза и погрузился в сон. Так он
провел первую ночь за решеткой.
XXXV
С той минуты, как Хуан оказался в неволе, его
предварительное заключение затянулось до бесконечности.
А закон? Конечно, законом это запрещалось: следовало
либо судить, либо выпустить на свободу. Но тогдашние
мексиканские власти были властями «всемогущими», а
таковые обычно не придают большого значения законам,
хотя, само собой разумеется, они не сходят у них с уст
и с кончика пера. Шпики, кружившие возле Хуана и его
друзей, когда они собирались каждый вечер на Пласа-
Гранде и злословили о священниках и правительстве, уже
успели составить на них неблагоприятное досье, и их
имена стояли в полицейских списках среди
неблагонадежных иностранцев, на которых следовало бы устроить
облаву. К тому же губернатор провинции, всемогущий Скар-
пиа, всегда носивший белые полотняные костюмы,
негодовал от того, что ему, несмотря на свой высокий пост и
прочие достоинства, приходилось щедро платить
белокурой питомице доньи Кармен, тогда как кубинец получал
все благодаря своей молодости и силе. Однако Хуан,
явный и очевидный сутенер, имел не явное и не очевидное,
но очень важное смягчающее для себя обстоятельство: он
не брал у возлюбленной денег наличными, а лишь
удовлетворял насущные потребности молодой плоти. Тем не
менее, поскольку речь шла о «неблагонадежном», то ни
губернатор, ни прочие вершители правосудия не желали
вникать в подобные тонкости. Судья и сам губернатор
так заявили об этом двум друзьям Хуана, единственным,
кого волновала судьба бедного молодого иностранца.
Кроме того, судья выдвинул еще один нелепый аргумент,
который табачники сочли просто абсурдным. По словам
судьи, процесс над Хуаном никоим образом не мог
состояться до тех пор, пока Полковник окончательно не
поправится. А ведь было совершенно ясно, что пятидесяти-
584
летний вояка с сифилитическими уплотнениями на щеках
и затылке, страдающий подагрой и получивший тяжелый
перелом лучевой кости, невзирая на гипс, перевязки и
прочие мучительные процедуры, вряд ли может
рассчитывать в будущем на обе руки.
Первое время пребывания в тюрьме Хуана больше
всего тревожило, что его могут выслать из страны.
Высылка означала бы для него попасть из тюрьмы в Мериде
в гаванскую тюрьму Ла-Кабанья, а может, и в Мелилью
или Фернандо Поо — «за сутенерство и враждебность к
родине», как позднее будет сказано в известной песенке
сепаратистов. Страхи Хуана имели все основания, ибо
вполне логично было предположить, что испанский вице-
консул занес имя Хуана, как и всех прочих кубинцев,
живших в Мериде, в списки «предателей и заговорщиков».
И Хуан с ужасом замечал, как от ночи к ночи бессонница,
вполне естественная на жестком тюремном ложе, растет
от этой пугающей, назойливой мысли. В каждой паре
полицейских, входивших в тюремное патио, ему чудился
конвой, который пришел за ним, чтобы сопроводить в
трюм парохода. С нетерпением и тревогой ждал он часа
свиданий, и едва этот час наступал, пристально
вглядывался в широкие тюремные ворота в надежде среди
одетых в желтое полицейских увидеть Хулиана и других
приятелей, которые могли бы знать что-нибудь на этот
счет. А по ночам, охваченный мрачными мыслями,
начинал вдруг с мучительной тоской думать о том, что его
могут как-нибудь на рассвете увезти за город и там
по-мексикански вздернуть на дереве «отплясывать чечетку, не
касаясь земли». В такие, правда, довольно редкие,
минуты он даже начинал испытывать нечто вроде раскаяния
оттого, что так легко принял вызов Полковника, не
попытавшись даже объясниться с ним как следует, чтобы
пойти на мировую. Пожалуй, если бы он сумел убедить
Полковника, заставить его одуматься, проявив твердость
и смелость, дело приняло бы совсем иной оборот. Но он
привык действовать быстро и решительно. Слишком уж
много ему пришлось хлебнуть в этой жизни. Он вынужден
был постоянно защищаться, хотя и то верно, что его
исковерканная жизнь заслуживала всяческого порицания,
ибо вел он себя недостойно и аморально. Но на такую
жизнь его толкнули происхождение, воспитание и
одиночество. Самое большее, что он мог бы сделать после того,
как стал осознавать происходящее,— это избрать себе
585
другой путь: учиться дальше, подыскать настоящую
работу, словом, если говорить языком одной из прочитанных
книг, самому ваять свою личность. Личность порядочного,
честного человека, такого, как большинство людей,
которые обходятся без борделей и которым не приходится с
помощью револьверов и тростей защищать постель и ее
хозяйку. Но запоздалое раскаяние посещало Хуана все
реже по мере того, как он убеждался, что его не вышлют
за пределы страны, и, воспрянув духом, он успокоился.
Судя по словам приятелей с табачной фабрики, добиться
этого помогли в осповном руководители местных
сепаратистских клубов. Впрочем, им это не составило особого
труда, потому что мексиканцы — и сторонники Порфирио
Диаса, и его противники — являлись бесспорными
поборниками кубинских повстанцев. Решимость же коренным
образом изменить свою жизнь вытесняла все остальные
мысли Хуана и крепла тем сильнее, чем больше
возрождалась уверенность, что он останется в Мериде, пусть даже
в тюрьме; а с этой уверенностью приходил душевный
покой, который давал ему возможность философски
смотреть на тюремную жизнь, связывал его с миром,
лежащим за тюремными воротами, соединял воедино тяжелые
события прошлого и тревожные предчувствия будущего.
Кто же отбывал вместе с ним долгий срок наказания
или бесконечное предварительное заключение? Человек
пятьдесят индейцев и метисов, весь словарный запас
которых ограничивался сотней слов на языке майя и на
испанском вперемежку. Людей же образованных или
состоятельных, по подсчетам Хуана, бывшего бухгалтера асьен-
ды в Пето, было всего лишь шесть процентов: старый
бородатый барселонец-книгоноша, который по причине
своего происхождения и рода занятий пришелся не по
душе властям; школьный учитель, часто разъезжавший по
селениям и генекеновым плантациям с книгами и
брошюрами, достоинства которых без конца обсуждал теперь с
барселонцем; головастый, с мощным загривком метис-
адвокат, постоянно занятый чтением стихов и романов, в
которых, по-видпмому, разбирался куда лучше, чем в
судейском крючкотворстве, ибо запутался в сетях
правосудия из-за дел, которыми занимались многие его коллеги,
умудряясь ни в чем не погрешить против буквы закона.
Все трое были в добрых отношениях с Хуаном, но он
всячески избегал учителя и книгоношу, находя
однообразными их разговоры, которые неизменно сводились к одной и
586
той же теме о свободе, перемалывавшейся ими с утра до
ночи. Зато с адвокатом Хуан очень подружился.
Впечатления тюремной жизни навели Хуана на мысль вести
дневник, «чтобы посмотреть, что из этого получится».
Адвокат, принимая во внимание отсутствие литературного
опыта у автора, счел его первый опус вполне
приемлемым:
— Главное, что ты пишешь очень непринужденно и
живо.
Таково было мнение адвоката с первого же дня. II с
этих пор он стал читать своему другу стихи, прозу и
давать книги, журналы и газеты. Хуан, со своей стороны,
тоже старался оказать ему всяческие услуги и делал это
искренне и просто:
— Одну минуточку, адвокат. Я сейчас вам принесу.
Или же:
— Оставьте. Я вымою сам.
И, таким образом, выполнял за него самые
неприятные работы, которые должны были делать заключенные.
Адвокат спал в гамаке в маленькой камере с двумя
нарами, куда после долгих просьб и препирательств с
капралами и сержантами ему удалось заполучить Хуана.
Точно так же, без конца настаивая на своем, он добился,
чтобы Хуану разрешили принести и повесить гамак.
Теперь, по крайней мере, они могли более или менее
содержать себя в чистоте и не видеть хотя бы по ночам
ужасное зрелище, которое являли собой несколько
обезумевших от пелагры, стонущих заключенных. И
избегать молодого метиса с поджарыми ляжками, вьющейся
шевелюрой, разделенной пробором, и шелудивым лицом,
которого даже Хуан, один из самых порядочных
заключенных, вынужден был грубо стащить со своих нар, куда
тот не раз потихоньку взбирался, чтобы йотом, крадучись
по-кошачьи, приблизиться к спящему юноше.
Гамак Хулия передала через Хулиана. Как
удивительно хорошо вели себя они оба, не отличавшиеся ни
высокой нравственностью, ни особой порядочностью!
Какой благодатный материал представляли они для заметок
Хуана, а тем более для философских размышлений
наделенного умом новоиспеченного арестанта, переживавшего
те критические минуты, когда приходится заниматься
переоценкой ценностей! Стычка между Хуаном и
Полковником под кронами деревьев вынудила Хулию покинуть
публичный дом доньи Кармен после страшного скандала,
587
который учинила ей старая содержательница борделя.
Хулия лишилась всех своих нарядов, вещей и
сбережений. В юкатанских борделях действовала тогда известная
система незакрывающихся счетов, противозаконно
обязывавшая проститутку принадлежать определенному
публичному дому, если за ней числилось хотя бы одно
сентаво. Как нам уже известно, эта же система перекочевала
и в управление юкатанскими плантациями. В
соответствии с этой системой Хулии пришлось уйти от допьи
Кармен ни с чем и в новом борделе зарабатывать как можно
больше и еще больше экономить, чтобы возместить
потери, которые повлекла за собой катастрофа. И все же у
Хулии нашлись деньги и на гамак, и на то, чтобы
оплатить стирку белья заключенного, и на еду, которую ему
носили с находившегося рядом с тюрьмой постоялого
двора, и на то, чтобы у Хуана водились деньги, которые
никогда не бывают лишними для тюремщиков в униформе
и без нее. Несмотря на свою твердую решимость
исправиться, Хуан — что еще оставалось ему в его
положении? — принимал деньги от своей возлюбленной, которая
зарабатывала их, торгуя собой. Посредником между
Хуаном и Хулией, передававшим поручения, счета и записки
от одного к другому, был Хулиан. Посещать Хуана в
тюрьме Хулии запретил губернатор. Скарпиа таил злобу па
Хулию за то, что та отказалась принимать его после того,
как он столь жестоко обошелся с кубинцем. Злость этого
человека была тверда и нерушима. Она-то и послужила
еще одним поводом для ежедневных мытарств
преданнейшей из женщин. В конце концов Хулия решила пустить в
ход все свое лукавство и кокетство, чтобы сблизиться с
судьей — толстым, краснолицым, кривоногим
старикашкой, который если не находился в здании суда, то
шествовал через Пласа-Гранде к собору или из собора с черным
молитвенником в правой руке. Хулия рассчитывала
обольстить и умилостивить старикашку и с его помощью как
можно скорее высвободить Хуана из заточения, чтобы
потом, как только он окажется на свободе и все будет
готово для побега, уехать вместе с Хуаном из Юкатана.
Хулиан, мулат, похожий на китайца, и старый приятель
Хуана по проделкам на улице Принсипе не пропускали
ни одного посещения заключенных, чтобы повидать Хуа-
иа; они приносили попавшему в беду другу газеты
повстанцев, сообщали интересные новости о ходе войны на
Кубе, в которую после взрыва на «Мейне» в Гаванской
588
бухте уже вступили Соединенные Штаты; друзья
снабжали куревом Хуана и его приятеля по камере и
постоянно докладывали о состоянии здоровья Полковника, рука
которого, судя по слухам, все еще была похожа на
трефового туза: искривленная, опухшая, испещренная
наростами определенного происхождения. Однако это не мешало
ему по-прежнему бахвалиться, как однажды услышали
кубинцы:
— Я не позволю этому гаванскому отродью уехать на
его свободную или американскую Кубу, пока не
расквитаюсь с ним за это.— И он показывал на руку, уже почти
год забинтованную и обложенную двумя фунтами ваты.—
Он у меня еще получит! Я из него дух выпущу!
Начиная с событий, связанных с «Мейном» и «Joint
Resolution», волнения Хуана не прекращались. Он
получил участливое, нежное письмо от Марты, печальной мети-
сочки, вдовы при живом муже. Она сожалела о его
участи и уверяла, что все его беды оттого, что он покинул
«свой» очаг ради увеселений с «дурными» женщинами;
она прощала его — «на все воля божья!» — и умоляла во
имя их сыночка вернуться в Пето, как только его выпустят
из тюрьмы, чтобы работать и жить подле своих близких.
К письму была приложена потемневшая фотокарточка,
на обороте которой рукой матери было написано от сына:
«Моему хорошенькому папочке». Малыш, очень
толстенький и пухленький, лежал в подушках, и его узенькие
глазенки едва виднелись из-за толстых щек. Письмо и
фотокарточка нисколько не растрогали Хуана, ни как отца,
ни как мужа, но они глубоко взволновали его, как
человека не лишенного добрых чувств. Читая письмо, он
проглотил горький ком, застрявший у него в горле, и на глазах
его выступили скупые слезы. Как это все ужасно!
Бедные! И разорвал па мелкие кусочки письмо и
фотокарточку. Целый день он избегал всех, в том числе и адвоката.
Сто раз называл себя канальей. Но при этом, хоть он и
решил начать новую жизнь, не мог допустить и мысли о
том, чтобы вернуться когда-нибудь в Пето. Это причипяло
ему боль, если угодно, даже покрывало позором, но иначе
поступить он был не в силах. Ничто, никакое самое
могучее человеческое чувство не могло побудить его поехать
туда, кроме сострадания. Но одного сострадания было
слишком мало, чтобы похоронить себя заживо,
поселившись вместе с Мартой в заброшенном, полудиком селе-
иии, которого едва коснулась цивилизация. Поехать туда
589
значило бы лишь на короткое время облегчить боль
зарубцовывающейся раны, чтобы потом растравить ее еще
сильнее и уже сделать неизлечимой. Да и разве Куба не
стала почти свободной! Разве Хулия — эта «дурная»
женщина, как назвала ее Марта, а на самом деле преданная,
благородная, неустанно заботящаяся о нем, не делает все
для того, чтобы добиться его освобождения? И разве
будоражит его сны чей-нибудь образ еще, кроме Нэныу
целомудренной, безупречно красивой?
Вскоре после письма Марты приехал Сирило. Своим
приездом этот сверхчеловек убивал сразу двух зайцев:
оказывался ближе к родине, над которой уже вставала
заря свободы, и мог посещать своего бывшего ученика,
чтобы поднять в нем моральный дух, избавив от
«сентиментальных недугов» в отношении Пето, где все шло
своим чередом, фатальным и естественным, «по ту сторону
добра и зла», как и предопределено человечеству волей
божьей, судя по словам Маэстро.
Явился в Мериду и дон Басилио, но не для того, чтобы
побывать в тюрьме. Сирило видел его у входа в
церквушку святого Иисуса, таинственно совещавшегося о чем-то с
преподобным отцом Пересом, высоким, грузным
священником-испанцем, который даже в августе ходил но
раскаленным, словно пустыня Сахара, улицам и площадям Ме-
риды в черной, длиннополой, душной одежде. Наш Зара-
тустра ие ошибся, предположив, что дон Басилио
разыскивает Хуана, но, вероятно, святой отец убедил его,
что уж лучше пусть будет еще одна незамужняя метиска
с ребенком, нежели в глубь католического южного
полуострова проникнет революционер, безбожник, который
вечно читает книги и за словом в карман не лезет. Даже
по тем жестам «оскорбленного благочестия», с какими
преподобный отец закончил свой монолог, обращенный к
горемычному метису, можно было догадаться, что он
сказал про кубинца:
— Пусть его высылают! Пусть применят к пему
статью тридцать третью!
До тайных кругов сепаратистской эмиграции дошло
известие о тех чрезвычайно важных последствиях,
которые вызвала «стрельба по мишеням», произведенная
американцами в Сантьяго и Кавите. В сводках эти события
назывались «морским сражением», но Хуан Кабрера
окрестил их «стрельбой по мишеням», точно так же, как
Луис Бонафу в это же самое время назвал их «морским
590
бегством». Но какое же это сражение, если десять
кораблей были против одного, а этот один стоял так далеко, что
его снаряды не могли достичь цели? Кубинцев в Мориде,
как и повсюду, охватило безумное ликование, и радость
эту разделяли юкатанцы, понимавшие, какое важное
историческое и моральное значение имели столь
знаменательные события. В сепаратистском клубе был
организован торжественный вечер. В Мериду мгновенно съехались
эмигранты из Прогресо, из самых отдаленных уголков
Юкатана и из соседних штатов Кампече и Табаско.
Звучали неистощимые речи кубинских ораторов и лучших
ораторов Мериды. Исполнили все, что только можно:
«Байямесу», «Гимн повстанцев», «Диану мамби» и,
наконец, в промежутке между мексиканским гимном и
гимном «Байямо», была представлена живая картина, в
которой среди девушек из Мериды и дочерей
Антильских островов выделялась необычайной красоты
кубинка с огромными бархатистыми глазами и точеной
фигурой. Она была облачена в костюм цвета знамени
свободной Кубы, а ее дивные черные волосы венчала
фригийская шапочка с белой, сверкающей, одинокой
звездочкой.
Этой кубинкой была Нэпа. Хуан, взволнованный,
выслушал восторженный рассказ Хулиана. Он сразу же
узнал ее, как только она вошла в зал, переполненный
вдохновленными, горящими энтузиазмом людьми. Ее
сопровождал Адольфо, которого, как и Нэпу, он помпил с тех
пор, как видел их на балу в Ла-Лонхе. Сначала он,
Хулиан, даже не поверил своим глазам. Прежде он никогда не
встречал Адольфо ни на каких сборищах сепаратистов...
Расталкивая локтями толпу, Хулиану удалось пробиться
сквозь людские дебри и, пользуясь всеобщей
патриотической и демократической атмосферой праздника,
заговорить с адвокатом. Ведь в свободной стране все кубинцы
должны быть равны.
— Доктор, вы знаете, где находится Хуан Кабрера?
— Я что-то читал об этом. Он, кажется, в тюрьме, не
так ли?
— Да, он в тюрьме. Не повезло ему, верно? Кубинец
до мозга костей и не может быть сейчас здесь, с нами.
— И уехать вместе с нами не сможет. А я полагаю^
что теперь ни один кубинец не захочет остаться за
пределами Кубы. Но... од сам виноват. Слишком уж он
легкомыслен.
591
— А почему бы вам не помочь ему, пользуясь своими
связями, тогда бы он тоже мог уехать с нами?! Бедняга!
Чем он виноват? Бездомный сирота.
— Так-то оно так. Но ведь я не обязан помогать ему,
он не имеет ко мне никакого отношения. Мои родители
приютили его... только и всего.
Больше Хулиану ничего не удалось добиться от
Адольфо, даже в такую возвышенную минуту, когда душа
должна быть открыта для самых великодушных порывов,
а сердце переполнено самыми высокими и чистыми
чувствами. Дои Адольфо отошел от Хулиана, хмурый,
раздосадованный тем, что кто-то осмелился помешать ему
насладиться сполна этим столь необычным торжеством.
И оба тут же затерялись в бурной, ликующей толпе,
которая заполняла зал, украшенный огнями, гирляндами и
знаменами.
— Поверь, дружище,— многозначительно закончил
Хулиан свой рассказ,— она тоже меня узнала и смотрела,
смотрела, словно завораживала своей красотой, и даже
заставила... покраснеть. Клянусь! Вообрази, она и
так прекрасна, а в этом костюме просто изумительна.
Богиня!
Хуан, улыбаясь, взволнованный до слез, вынужден
был прервать друга:
— Ты нарочно мне все это рассказываешь? Посуди
сам, каково мне сидеть тут, за решеткой, когда Куба вот-
вот станет свободной и вы все тоже... а я...
Две слезинки скатились по щекам заключенного.
И Хулиан, не менее расстроенный, поспешил его
взбодрить:
— Перестань, увидят, что ты плачешь. Не дури. Что с
того, что ты не смог присутствовать на празднике.
Главное, у нас теперь есть своя родина, и рано или поздно мы
уедем туда, и ты, и я, и все, все. Выше голову! Надо,
чтобы видели нашу радость, а не слезы.
— А я и радуюсь. Но... почему-то от радости мне
хочется плакать.
— Большие радости всегда вызывают слезы. А
теперь,— и он с удовлетворением потер руки,— давай
подумаем, как бы нам всем уехать.— И они тут же принялись
строить планы.
Задуманные ими планы стали постепенно
осуществляться. После подписания Парижского мирного договора
началось массовое возвращение кубинцев на родину. Пер-
592
вым уехал приятель Хуана, бывший предводитель их
ватаги на улице Принсипе. За ним мулат, похожий на китайца,
прежде отдавший Хулиану вещи Хуана, которые до сих
пор у него хранились. Потом Адольфо с женой и Нэной,
па том же корабле, что и Сирило. Хулиан не хотел
уезжать, не убедившись сначала, что Хуан в самом скором
времени сможет последовать за ним. Конечно, в идеале
было бы лучше всего, как он мечтал, разделить каюту
третьего класса с другом и вместе торжественно
вернуться на родину. Однако нетерпеливое стремление уехать и
уверения Хулии, что все уже готово для высылки Хуана,
заставили Хулиана решиться и отправиться без друга,
прихватив лишь его багаж.
Все произошло именно так, как говорила Хулия. Судья,
который днем откладывал черную книгу свода законов,
только садясь за судейский стол, или дома за обеденным
столом, или возле гамака, предназначенного для него и
блондиночки в уединенном домике на окраине города,
устроил так, чтобы наказание Хуана за «драку с
нанесением телесных повреждений» свелось лишь к отбыванию
срока предварительного заключения, и без того уже
слишком затянувшегося. Но при условии, что сразу же по
выходе из заключения он будет выслан за пределы страны,
как «неблагонадежный иностранец», о чем не переставал
мечтать затаивший на него зло губернатор.
Его выслали, не позволив Хулии даже проститься с
ним в тот бесконечно печальный для нее день.
Агент тайной полиции,— его можно было распознать
по дешевому костюму сутенера,— вывел Хуана из
тюрьмы после того, как он обнял адвоката и сельского учителя,
сказавшего ему на прощание слова, ставшие
пророческими:
— Свобода Кубы должна сыграть важную роль в
жизни юкатанского народа. Наш народ слишком закабален,
но мы живем очень близко от вас.
Хуана увезлп из Мериды неожиданно, на рассвете,
тогда как по имевшимся у него и у Хулии сведениям это
должно было произойти несколькими днями позже. Хулия
пыталась увидеть его хотя бы издали, из экипажа,
который все время догонял коляску, в которой везли Хуана.
Она махала ему платком и прощалась до скорой встречи
в Гаване.
В Прогресо Хуан, за которым неотступно следовал
тайный агент полиции, поднялся на буксирный пароходик,
33 К. Ловсйра 593
где уже толпились важные пассажиры, все первого класса
и все незнакомые. Увидев его с маленьким узелком в руке
в сопровождении охранника, они расступились, образовав
вокруг безжалостную пустоту. Потом, на корабле, все
стали равны, вернее, все оказались свободными гражданами.
Однако кто-то занимал каюты, салоны и палубы,
чистые и комфортабельные, а он, Хуан, ехал в третьем
классе, где порой ты значишь меньше, чем багаж или собака
богача.
Полчаса спустя Хуан увидел через круглое,
залепленное солью отверстие у самой ватерлинии, как таяло
далеко позади светлое пятпышко Прогресо с тоненьким, как
прутик, маяком посредине; как менялись очертания
низкого синеватого берега с громадными буграми
вездесущего камня и повсюду разбросанными плантациями генеке-
на, за которые судорожно цеплялся трудолюбивый и
усердный, благородный и дружественный, радушный
народ.
На мгновенье Хуан мысленно перенесся в отдаленный
уголок, затерянный где-то там, за две сотни километров,
среди этих расплывчатых полей, куда, вероятно, он уже
никогда в жизни не попадет. И сердце его сжалось. Там
оставалось зло, причиненное им; там оставалось горе,
которому теперь уже не поможешь. Там, за всей этой
огромной береговой линией, погружавшейся в океан, оставалась
земля, которую он, несмотря ни на чго, искренне любил.
Но, вырвавшись из мелководья, окружавшего
Юкатанский полуостров, машины застучали сильнее, как сердце
одинокого пассажира третьего класса. Корабль быстро
разрезал волны залива, устремляясь к маячившим
впереди контурам крепости Ла-Пунта и незабываемых Кадеты
и Калетоиа; и воображение Хуана Кабреры, покинув края,
с каждой минутой уходившие все дальше и исчезавшие за
кормой, перенеслось к белым асотеам, красным
черепичным крышам и каменным башням родпого города,
наполнив его возвышенной, несказанной радостью. В своих
простодушных мечтах этот наивный патриот, которому едва
минуло двадцать лет, охваченный трогательным
политическим оптимизмом эмигранта-сепаратиста, только что
обретший право голоса, надеялся увидеть с моря над
крепостью Эль-Морро одно-единственное развевающееся
на ветру победоносное знамя свободной родины.
594
XXXVI
Хуан высадился с корабля на берег без всяких
осложнений. Таможеннику оказалось достаточным окинуть
беглым взглядом с головы до ног приезжего и его нехитрый
багаж, который состоял не столько из одежды, сколько из
книг. Тут же, на пристани, Хуана подхватил агент
гостиницы «Диапа», одной из тех, где за еду платили по реалу,
а за ночлег полиесо; гостиницы эти растянулись почти на
целый квартал по улице Драгонес между Агилой и Амк-
стад. Хуан сел в экипаж и всю дорогу до «Дианы»
упивался, разглядывая людей и все, что попадалось ему на
пути. Свободная Куба! Новая жизнь! Он имел при себе
сорок сентеыов, бриллиантовое колечко и прочие
небольшие подарки Хули и, которые в случае чего можно было
бы пустить в оборот или заложить. Само собой
разумеется, радость возвращения на только что освобожденную
родину переполняла все его существо, вселяла
безудержный, хлеставший через край оптимизм. Неужели он, имея
эти небольшие денежные ресурсы, здоровье, молодость и
желание работать, подкрепленное только что отбытым
сроком предварительного тюремного заключения, не
найдет себе скромной работы, чтобы вести достойный образ
жизни? Кто знает, может быть, он даже время от времени
сможет посылать кое-что в Пето? Но сейчас прежде всего
надо разыскать Хулиана и забрать у него вещи,
посоветоваться и прикинуть вместе с ним, куда бы ему лучше
устроиться па работу. Затем попытаться найти Гойо, Кая-
деларию или кого-нибудь из сыновей Робертико и узнать
от них что-нибудь о Ромуло, Петре и Нэпе. Потом уж
отправить письмо Хулии, чтобы сообщить о своем
благополучном прибытии на Кубу, и постараться под любым
предлогом оттянуть, лучше всего до бесконечности, ее
приезд сюда. Новая жизнь! Наконец-то можно дать волю
своей необузданной молодой плоти, разгоряченной долгим
воздержанием и обостренным патриотическим чувством,
отыграться на дивных кубинках, образы которых
рисовались его воображению. От души насладиться атмосферой,
царящей в Гаване, где уже нет испанских солдат, где
ненавистные волонтеры окончательно возвращены к своим
прилавкам и стойкам; насладиться гаванскими улицами,
проспектами, зданиями, разукрашенными кубинскими
знаменами. Повсюду в Гавапе виднелись группы
американских парней в военных формах — светловолосых, розо-
595
вощеких, взмокших от пота, задыхающихся от жары, тех
самых парней, которые плечом к плечу с кубинцами
сражались против испанского адмирала Серверы и генерала
Вара де Рей, во имя свободы и гуманности.
Свободная Куба! Первые дни Хуан чуть свет
вскакивал с постели и покидал «Диану», ощущая во рту
приятный вкус только что выпитого кубинского кофе. Он шел к
усадьбе в Лос-Молинос и там с наслаждением взирал на
упражнения мамби из эскорта генералиссимуса, пытался
увидеть самого Чино Вьехо — справедливого,
мужественного воина и незапятнанного героя славной эпопеи;
созерцал, разинув рот от волнения, какого-нибудь
выходящего или входящего знаменитого генерала со
сверкающими звездами на воротнике ослепительно-белого мундира;
глядел во все глаза на гарцующего всадника, который в
возбужденном патриотическом воображении репатрианта
был, конечно же, одним из героев битвы при Маль-Тьемпо
или Какарахикаре. Затем присоединялся к похоронной
процессии, провожавшей, вероятно, тоже какого-нибудь
героя, покрытого трехцветным знаменем: процессию
возглавлял революционный оркестр, модернизированный, с
новыми блестящими трубами, покачивавшимися в такт
задорным движениям свежеиспеченного тамбурмажора.
После чего направлялся на один из патриотических
митингов, где тот же самый оркестр играл и переигрывал
гимн, победный марш, зорю мамби и другие воинственные
мелодии, которые были известны лишь десятой части
кубинцев, слышавших их до того, как примерно полгода
тому назад окончилась война; там раздавались речи
крикливых ораторов, многие из которых с помощью
лирических разглагольствований и патриотической болтовни,
ловко прикрывая свою бездарность любовью к родине,
нажили себе впоследствии капитал, снискав славу великих
людей. И, наконец, ои отправлялся туда, где, как говорили,
нанимали на работу кубинцев. А по вечерам простаивал
где-нибудь возле уличного фонографа, слушая уже в
который раз записи песен Пералехо, Колисео и Сао дель
Ипдио, или же ходил в «Кубу» или «Альгамбру» смотреть
какую-нибудь пьесу патриотического содержания, из тех,
которые в обстановке мира, дружбы и единства
появляются, словно грибы после дождя. В промежутках между
этими двумя изысканными развлечениями он бродил по
паркам й центральным улицам, останавливаясь на
перекрестках, чтобы не спеша, с наслаждением, смакуя, поесть
596
лакомства, которые можно найти только здесь, на родной
земле, и о которых он с такой тоской вспоминал на
чужбине. Он ел жареные пирожки с мясом или гуаявой в
«Европе», ломтики пи с чем не сравнимого кубинского
ананаса в тени киосков на Кампо-де-Марте, не обращая
внимания на то, что с его губ и рук стекает сок; вкушал
изумительные сладости кусубе и махарете — у лотков,
ютившихся под колоннадой табачных магазинов; а поздно
вечером он попадал на Пласа-дель-Вапор, где
наслаждался ароматными, вкусными пончиками, которые пекла
толстозадая негритянка.
Но...
Действительность мало-помалу стала омрачать
радостное, оптимистическое настроение Хуана. Карман брюк, в
котором хранилась горстка сентеиов, опустошался с
угрожающей быстротой, а людей, жаждавших получить
работу, которые толпились в приемных новых властей — и
кубинских, и американских,— становилось все больше и
больше. «Вы говорите по-английски?» «Вы участвовали в
войне?» И поскольку почти все отвечали на эти вопросы
отрицательно, то к часу закрытия контор каждую из них
покидало с полсотни отчаявшихся, которые не имели
поручительств или рекомендательных писем, добытых тем
или иным способом у какого-нибудь генерала или
полковника, хоть сколько-нибудь обладавшего юридической
силой или властью в префектурах, которые теперь кишмя
кишели безграмотными выскочками, пробившимися к
власти всеми правдами и неправдами, что, впрочем, не имело
никакого значения. Только редкие счастливчики, у
которых оказывались поручительства и рекомендательные
письма, уходили из контор, не доведенные до отчаяния,
почти до самоубийства. Но среди них, разумеется, не было
Хуана, никому не ведомого, не состоявшего в родстве с
аристократией бывшей колонии, не имевшего бывших
соучеников среди нынешних «наместников господа бога»
на земле. И Хуану пришлось расстаться с мыслью найти
место служащего, где пригодилось бы его умение красиво
и хорошо писать или считать. Ио раз нет места
служащего, куда же тогда деваться? Придется браться за первую
же попавшуюся работу. Он начал грузить древесину в
Эстанильо. Однако спустя несколько дней, когда он, как
обычно, явился туда рано утром, ему сказали, что он
слишком худой и слабый, чтобы целый день таскать
бревна и доски. Меж тем Хуану становилось совершенно ясно,
597
что гостиницу надо поскорее заменить какой-нибудь
комнатушкой, чтобы растянуть оставшиеся на прожитье
деньги, и что нелепо тратить на гостиницу песо и
двадцать сентаво в день, если можно тратить меньше. Его
пугало только, что придется заплатить вперед за
комнату, даже если там будут стоять всего-навсего кровать,
стул и таз для умывания. Но главное, ему обещали найти
работу в нескольких местах и в одном из них наконец
уже что-то наклевывалось: Сирило, служивший сторожем
в парке, просто из кожи лез вон и уже отнюдь не
по-ницшеански, а с состраданием и братским участием
добивался для него места служащего в муниципалитете. Л Карде-
нас — мулат, похожий на китайца, с которым Хуан
подружился еще в эмиграции, взялся разыскать Хулиана, а
заодно узнать, не возьмут ли Хуана чтецом на маленькую
табачную фабрику, где работал он сам среди тридцати
молодых табачников. И Корухеда, кубинский актер, еще
не оправившийся от только что пережитой им
финансовой бури в провинции, где гастролировал с интермедиями
и буффонадами Мейрелеса, тоже поддерживал в Хуане
уверенность, что рано или поздно работа для него
найдется. Корухеда, как и Хуан, верил в свободную Кубу. Один
генерал, поклонник его таланта, обещал помочь ему
устроиться в какую-нибудь труппу, раз уж театр не
приносит ничего, кроме голода, и как только это дело выгорит,
Корухеда сразу же поможет юному другу. Дружба между
ними завязалась в одной из многих незабываемых
приемных. Корухеда выходил оттуда терзаемый отчаянным
голодом, и Хуан, сжалившись над ним, угостил его рисом
с фасолью и рисом с печенкой «по-итальянски»,— кофе и
хлеб бесплатные,— в одном из китайских кабачков на
улице Эхидо или Пуэрта-де-ла-Тьерра. Хуан жертвовал
своим завтраком стоимостью в тридцать сентаво в
«Диане» ради того, чтобы разделить его с беднягой Корухедой
в «Примера-дель-Польворин». А Корухеда доставлял
удовольствие своему любознательному другу, без конца
читая ему стихи и прозу.
Переживал Хуан и минуты слабости. Отчаявшись
найти работу и растягивая до предела последний сентен, он
вдруг подумал о том, что можно было бы обратиться за
помощью к Адольфо, явившись в двухэтажный дом с
колоннадой, па котором он видел таблички с именами
адвоката и фармацевта и где, без сомнения, должна была жить
и она... но чувство собственного достоинства помогло ему,
598
как и всегда, преодолеть эту минуту духовной слабости.
Явиться к ним побежденным и униженным... никогда!
Подобным же образом этот незаметный для окружающих
духовный героизм человека, который вопреки всему
рассчитывает только на себя и намерен вести порядочную,
честную жизнь, поддерживал его п в другие минуты
отчаяния, когда он начинал склоняться к мысли о том,
чтобы, воспользовавшись уже имевшимся у него опытом
«любовника проститутки», пожить за счет одной весьма
заботливой уроженки Камагуэя, совсем белокожей и с
очень красивыми глазами, в чьей каморке он провел
несколько ночей, не задумываясь над тем, что зря потратил
деньги, заранее оплатив счет в «Диане». Нет! Ни за что!
У него еще оставались бриллиантовое кольцо, золотые
пуговицы с инициалами, пояс с серебряной пряжкой и,
естественно, кредит, который ему откроет галисиец —
владелец гостиницы на первых порах, когда он останется
совершенно без денег.
Бриллиантовое кольцо, пуговицы и пояс уже лежали
в ломбарде, когда в один прекрасный день Карденас
привел Хулиана в «Диану». Дело было к вечеру, и Хуан как
раз снимал с себя грязную рубаху и брюки, чтобы
принять душ и одеться поприличнее. Это была его рабочая
одежда. Хуан устроился наконец на склад по отправке на
экспорт ананасов, где ему платили восемьдесят сентаво
за десятичасовой рабочий день. Дыры и липкая от
сладкого сока грязь сделали совсем непригодной одну из трех
смен, имевшихся в его распоряжении,— ведь сундук свой
он все еще не получил,— а руки покрылись трещинами,
вспухли, дрожали и воспалились от заноз. Таковы были
последствия этой тяжкой, нищенской работы. Волнение,
которое вызвало у него столь неожиданное, по
долгожданное появление Хулиана, искренне и шумно радовавшегося
их встрече, готово было вылиться в едва сдерживаемые
слезы, как это случается с людьми, чьи нервы напряжены
до предела из-за пережитых в одиночестве невзгод, без
поддержки и сочувствия друга. И Хуан принялся
рассказывать гостям о тяжелом труде, после которого
возвращался домой поздно вечером со страшной болью в
пояснице и с такими вот воспаленными, дрожащими руками.
— Они ужасно распухли и горят так, что терпения
больше нет.
— Терпения-то у тебя хватит,— ответил ему
Хулиан.— Беем, кто берется за такую работу, туго приходится
599
на первых порах, пока они не привыкнут. Гораздо хуже
другое. Как ты собираешься, зарабатывая восемь реалов,
платить за гостиницу десять, а то и все двенадцать? Тебе
необходимо подыскать себе комнату или пристроиться к
кому-нибудь из приятелей, как это сделал Карденас. Он
зарабатывает не больше песо или песо и двадцать сентаво
на табачной фабрике, поэтому вынужден жить в
«коммуналке» в одной комнате со своей сестрой и ее мужем.
Хуан объяснил, что до сих пор оставался в гостинице,
потому что боялся больших затрат, которые потребуются,
чтобы заплатить за комнату вперед и приобрести самые
необходимые вещи, без которых ему там не обойтись.
Л главное — он все еще надеялся, что вот-вот
осуществится наконец одно из данных ему обещаний и он получит
место служащего. Разве может быть иначе? В свободной
Кубе?
— Куба еще не свободна,— заметил Карденас.
— А если она даже и будет свободной, то для нас
ничего не изменится, раз мы не принимали участия в
войне, не имеем погибших родственников и не из богатой
семьи,— сказал Хулиан с уверенностью просвещенного
табачника и красноречивым волнением социалиста, более
или менее откровенного перед лицом социальной
несправедливости, с которой столкнулся здесь, в комнатке
гостиницы и за ее пределами.— Взять хотя бы, к примеру,
небезызвестного тебе дона Адольфо, твоего друга. Ты
знаешь, что его назначили следователем?
— Да-а?
— Именно, следователем, а его братца... Кажется, его
зовут Роберто Руис?
— Да.
— Так вот, теперь он начальник тюрьмы. Они
раструбили повсюду, что приходятся братьями подполковнику
Доминго Руису, павшему в сражении. Перевезли его
останки в Гавану, устроили пышные похороны и
опустили в могилу рядом с отцом, не забыв при этом вспомнить
о том, что старик принимал участие в Десятилетней
войне. Судя по всему этому да еще по тому, что эти борцы за
свободу и республику принадлежат к круппой
колониальной аристократии, которая по-прежнему будет
существовать на твоей свободной Кубе... можно себе представить,
какие порядочки нас ждут.
Хотя сообщения Хулиана были интересны и Хуан был
рад вновь оказаться среди друзей, сомнения и затруднн-
600
тельное положение, в котором он находился, вынуждали
его почти не реагировать на их критические
разглагольствования. Он хотел получить у Хулиана свои вещи и
узнать, не может ли тот найти место служащего, чтеца,
подсобного рабочего, уборщика или любое другое занятие
на табачной фабрике, а главное, не сумеет ли он, если
это только возможно, сегодня же вечером вызволить его
из «Дианы». На Карденаса в этом смысле нельзя было
рассчитывать. Он не мог забрать его к себе в комнату,
где, кроме него, жила еще сестра с мужем.
Но и Хулиан оказался не в силах помочь ему. Утром
он уезжал в Пинар-дель-Рио агентом небольшой табачной
фабрики — работа легкая и хорошо оплачиваемая. Он
очень сожалел: ему не хотелось покидать друга в столь
бедственном положении. Но что оставалось делать? Он,
конечно, выяснит, не найдется ли для Хуана какого-либо
занятия в Вуэльта-Абахо, и сразу же вышлет ему деньги
на дорогу. А пока что, почему бы не написать Хулии,
чтобы она приехала? Или не обратиться к Адольфо и его
брату? Да и Карденас ведь ищет ему место чтеца. И Си-
рило тоже...
А в результате все оставалось без изменений.
Хулиан, совершенно очевидно, говорил все это искренне, с
дружеским участием и откровенным состраданием к
другу, который находился в столь тяжелом положении. Но
Хуан и сам уже не раз обо всем этом думал, и подобные
советы ему были не нужны.
Продолжая разговаривать, Хуан переоделся во все
чистое и был готов отправиться ужинать. Друзья его тоже
еще не ужинали. Хулиан пригласил всех в кабачок на
Пласа-дель-Вапор. По такому случаю не грех было взять
кое-что из тех денег, которые были у него отложены на
поездку. А из кошелька извлечь несколько монет и
заботливо сунуть их Хуану в брючный кармашек для
часов, где топорщилось несколько песет, а может быть,
мелочь.
— Возьми-ка эти два песо и не падай духом. Сундук
я тебе пошлю за свой счет на той же повозке, на которой
отправлю завтра свои вещи в Вильянуэву.
Бутылка «Кларета» придала великолепие ужину,
разгорячила кровь и оживила беседу. Сначала за столом,
потом па скамейке в парке Кампо-де-Марте они перебирали
волновавшие их темы: вспоминали Мериду, драку Хуана
с Полковником, поговорили о янки, об Учредительной
601
ассамблее, на которой должна была пересматриваться
конституция, о новоиспеченных патриотах. Они беседовали со
спокойствием и оптимизмом миллионеров, у которых все
проблемы уже давно решены. Когда они расставались,
положение Хуана не казалось Хулиану и Карденасу таким
уж безысходным, они об этом и думать перестали.
— До завтра.
— До завтра.
Хуан немедля вернулся в гостиницу и уплатил
галисийцу те два песо, которые дал ему Хулиан, и песеты,
заработанные им самим в этот день. Таким образом ему еще
раз удалось погасить свою задолженность хозяину
«Дианы». Хуан из кожи лез вон, желая быть с ним как можно
любезнее и обходительнее. И всегда старался угодить и
отвечать благодарностью за доброту дона Имярек. Но
владельцу захудалой гостиницы быть добрым — значило
лишиться всего. На следующий день, увидев, как вносят
сундук Хуана, он сказал ему:
— Слушай, я уже предупреждал тебя. Лучше будет,
если ты подыщешь себе комнату. Здесь оставаться тебе не
по карману.
И не стал выслушивать объяснений Хуана о том, что он
вот-вот найдет работу и тогда все уладится.
— Нет и нет,— упрямо повторил хозяин, закрыв глаза
и отрицательно качая головой.— Не могу. Уж эту ночь
переночуй здесь, но завтра устраивайся как знаешь.
Когда Хуан направлялся к расположенной неподалеку
от «Дианы» железнодорожной станции Вильянуэва,
чтобы попрощаться с другом и сообщить ему, что
галисиец, увидев сундук и получив с него три песо — весь
наличный капитал, выставляет его на улицу, он повстречался
с Корухедой. Корухеда давно обещал, что если ему
удастся снять комнату раньше Хуана (предел мечтаний обоих,
которому рано или поздно суждено было осуществиться),
то возьме! его себе в компаньоны, намереваясь таким
образом отплатить своему «товарищу по несчастью» за то
добро, которое сделал ехму Хуан, когда делил с ним еду в
«Примера-дель-Польворин» и прочих кабачках. Он
нашел такую комнату в одном из доходных домов на улице
Виртудес. И заплатил за нее вперед, подработав немного
деньжат в театре «Куба», где исполнял второстепенную
роль. Он уже отнес в комнату свои пожитки, благополучно
доставленные из деревни возле Лас-Вильяс одним
приятелем. Все его вещи состояли из походной раскладуш-
602
ки, купленной у американского солдата, двух клеток —
одна с парочкой канареек, а другая с двумя индийскими
попугайчиками,— кое-каких театральных костюмов, либретто
и занавесей. Занавеси эти в ожидании лучших времен Хуан
мог вполне использовать для себя вместо постели.
Главное, что у приятелей теперь была крыша над головой.
— Одно плохо,— сказал Корухеда.— Зачем тебе
понадобилось перевозить свой сундук в гостиницу?
— Ерунда. Я его заберу.
— Заберешь? Ты хоть и умен, но ни черта не
смыслишь в житейских делах. Галисиец не упустит случая
поживиться, раз уж он видел твой сундук, вот увидишь...
— Ну что ты! Он не посмеет оставить его себе. На
личные вещи нельзя наложить арест или удержать их за
неуплату долга.
— С теми, кто гол, как сокол, все можно. Не будь
наивным. Но мы тоже не дураки. Голь на выдумки хитра. Не
зря же я был одним из лучших комиков и загребал кучу
денег. И притом каждый сезон! Ну, да ладно. Примирись
с тем, что с сундуком тебе придется расстаться. Тут уж
ничего не поделаешь. Но забери, по крайней мере, все, что
сможешь. Хозяин, хоть и сказал, что выставит тебя
сегодня, еще потерпит денька три-четыре. Эти испанцы, пе-
смотря ни на что, не такой уж дурной народ. Надень на
себя, одну поверх другой, всю одежду, распихай вещи но
карманам, а остальное заверни в бумажные пакеты, как
будто бы несешь их прачке... и сматывайся.
Он вручил ему ключ. Другой оставил себе. И сказал
адрес: Виртудес, 48, комната 17. Управляющему пусть
скажет, что тоже будет там жить. До двух-трех часов ночи
может располагаться на его раскладушке, потому что он,
как всякий уважающий себя актер, полуночник и раньше
не ложится.
Новости, услышанные Хулианом от приунывшего
друга, заставили его снова пошарить по карманам и дать
Хуану еще одно песо, сказав при этом несколько слов в
утешение с самым искренним сочувствием. Со станции
Хуан отправился к Сирило, который работал в ранние
утренние часы. Он не мог взять к себе Хуана потому, что сам
жил в помещении для сторожей парка, но всегда
приглашал его позавтракать и даже обещал ему, когда будет
совсем туго, разрешить спать на одной из скамеек Кампо-де-
Марте под открытым небом, где, по крайней мере, никто
не станет будить его каждую минуту, ударяя дубинкой по
603
подметкам, вернее, по тому, что когда-то было
подметками.
Хуан позавтракал с Сирило. И стал блуждать по
городу, одетый в две рубашки, двое брюк и три или
четыре пары носков, оставшихся у него еще с тех
благодатных времен, когда он был бордельным франтом. Он
пес с собой тщательно просмотренные и аккуратно
завернутые в газету те самые пресловутые письма и
записочки.
— Письма этой с...— сказал он с яростным отчаянием,
затягивая пакет бечевкой.
Три ночи спустя он сидел на раскладушке в доме
номер 48 по улице Виртудес, держа на коленях тот самый
пакет; рядом горела свеча. У него еще было время
выспаться утром, пусть даже на жестких, узловатых
театральных занавесях, которые Корухеда заранее с отеческой
заботой постелил ему в углу на полу. Хуану хотелось еще
раз посмотреть все бумаги и теперь уже спокойно,
хладнокровно, без детских фантазий решить, представляют ли они
какую-нибудь ценность в данную минуту.
Безусловно. Письма и записочки свидетельствовали о
сладострастных желаниях, которые переполняли девочку
в те минуты, когда она писала эти строки. В них
говорилось, каким «несносным» он был в тот или иной день,
приставая к ней со своими поцелуями и «притрагиваниями»
там, «под кроватью», и грозила порвать с ним «всякие
отношения». Надпись на ее фотокарточке не оставляла
никаких сомнений. Пометки на обоих томах Поль де Кока, —
дерзкие слова, галочки и крестики,— без сомнения, были
сделаны тем же карандашом и тем же почерком, что и
письма с записками. Неопровержимое доказательство! Он
снова не спеша, тщательно упаковал все. Сунул на дно
ящичка, в котором у Корухеды хранились три пли четыре
книги, поверх свертка разложил часть своей одежды,
которая туда поместилась, и прикрыл все книгами. Затем
улегся на занавесях и задул свечу. Долгое время он не мог
уснуть и смотрел широко раскрытыми глазами в темноту,
оставаясь глух к ночным шумам дома на улице
Виртудес, 48, этого приюта для ста беспутных детей господних.
Его мозг «буравили» неотступные мысли, связанные с Нэ-
ной, с ее записками и большим домом с колоннадой между
улицами Галиано и Лагуиас.
Когда пришел Корухеда, он притворился спящим. Не
спал он и тогда, когда по Виртудес загромыхали первые
604
повозки, развозившие хлеб и молоко. А когда сон наконец
стал его одолевать, пришлось подняться, потому что
засвистели канарейки и попугайчики и, словно им этого было
мало, устроили ему душ из шелухи от зернышек и воды,
выплескивавшейся из поилок, в которых птички
непрерывно купались, словно одержимые.
XXXVII
День за днем, слагавшиеся в бесконечную череду
месяцев, птицы Корухеды будили Хуана спозаранок,
устраивая душ из шелухи и грязной воды. Ужасен был тернистый
путь этого великомученика, облаченного в пиджак, туфли
и носки и вынужденного жить и пробивать себе дорогу в
современном городе, без денег, без покровительства
сильных мира сего, для которых он ничего не значил и от
которого они ничего не могли получить. Оскорбительным
было бесконечное, безнадежное ожидание в приемных
перед застекленными дверьми, которые сотни раз
распахивались, пропуская политических и денежных тузов иди их
сдержанных, лицемерных личных секретарей, но пи разу
не раскрылись, чтобы пропустить хотя бы одного из
полсотни зевающих со скуки или от голода «подателей»
обыденных, неискренних рекомендательных писем или
ходатайств. Он в любой день мог потерять нищенскую работу
и уже не найти другой в течение месяца; сегодня он
оставался без обеда, а завтра без ужина; бедность превращала
убогую одежду в жалкие отрепья, унизительные для его
самолюбия, способные лишь вызвать презрение ближнего,
отпугнуть тех, кто мог бы дать работу. Этих бесконечных
часов противоестественной, неправдоподобной жизни,
когда мозг скудеет от нищеты, желудок — от голода, а
личность — от непрерывных унижений, было такое
множество, что позднее они вспоминались ему каким-то
длинным, кошмарным сном анемичного больного или
выздоравливающего.
Едва Хуан научился очищать и упаковывать ананасы,
как его уволили с работы из чисто экономических
соображений. Потом он грузил бревна и доски на дровяном
складе, расположенном неподалеку от кладбища. Поначалу его
плечи опухали и болели с непривычки, а ноги по той же
самой причине и от постоянного недоедания дрожали и
подгибались под тяжестью древесины,
605
— Несчастные дети бедных матерей! Столько
бороться! Столько бессонных ночей, проведенных в отчаянной
тоске, в слезах у постели больного, раненого или
голодного ребенка!..
Это горькое восклицание вырвалось у Хуана однажды
вечером, когда он, измученный усталостью и тоской,
устремив взгляд в глубь поросшего бурьяном кладбища,
спускался вниз по склону вдоль усеянного крестами и еще не
обнесенного оградой участка земли. Когда он сел в
трамвай, направляясь на Виртудес, 48, кое-кто из пассажиров
сочувственно посматривал на юношу, ехавшего от
кладбища с влажными от слез глазами, ссутулившегося, в
жалкой, пропитанной потом и смолой одежде поденщика.
Постепенно Хуан привык. У него хватало денег на хлеб
насущный, на то, чтобы частично заменить изношенную
одежду, приобрести раскладушку и платить на паях с
Корухедой за комнату. Дружба между Корухедой и Хуаном
крепла все больше. В ожидании никак не приходившего
контракта из Пуэрто-Рико или же все еще надеясь
пробиться в переполненную труппу «Альгамбры», Корухеда
делил с Хуаном скудную еду: кофе с молоком, сандвичи с
джемом из гуаявы на завтрак и рис с фасолью на обед,
в час дня, или на ужин, в восемь вечера; иногда они
тратили по три реала на каждого, чтобы «обкорнать волосы»,
и несколько песет, чтобы отдать в стирку самые
необходимые вещи. Дважды Хуан устраивался на работу с
помощью Корухеды. При содействии своих приятелей из
труппы комедиантов он на время оперного сезона устроил
Хуана статистом —- полпесо за вечер. Потом ему удалось
пристроить Хуана официантом в артистическое кафе прп
театре «Куба». Но и там Хуан долю не продержался — ему
недоставало необходимого для такого рода занятий
подобострастия; он останавливался поговорить с актерами,
журналистами и прочим людом, имевшим отношение к
печатному слову, и был для хозяина чересчур высокомерен, ибо
далеко пе всякую пилюлю готов был проглотить, а
главное — ему не хватало хитрости пропускать мимо ушей
всякую чепуху, которую городил тот с апломбом, восседая на
почетном месте во главе стола. Однажды Корухеде и Хуану
пришлось продать индийских попугайчиков, чтобы
погасить трехмесячную задолженность за жилье, иначе
управляющий домом 48 по улице Виртудес грозился выставить
их за дверь. Корухеда скрепя сердце вынужден был
расстаться со своими неразлучными друзьями, заключенными
606
в клетку, а Хуан (с еще большей тоской) — таскаться с
этой клеткой из дома в дом в течение нескольких дней,
пока наконец какой-то американский офицер не купил
птиц, заплатив за них со щедростью туриста. В следующий
раз провидение явилось Хуану в образе влюбленного
официанта из китайского ресторанчика. Ресторанчик этот,
расположенный между улицами Галиано и Виртудес, имел
«кабинет» для «приличной публики», который
обслуживал этот молодой кубинец. Хуан приходил туда к тому
времени, когда работа уже подходила к концу, и таким
образом он и официант имели возможность без помех
предаваться беседам о книгах и театре. Вскоре они
подружились. Официант был влюблен в хорошенькую девушку,
недурно писавшую и к тому же романтичную, как
Маргарита Готье, а Хуан умело льстил влюбленному, широко
раскрывая глаза от восторга при виде ее фотографии,
почерка и записок в стиле романов, печатающихся в газетах.
Влюбленный стал брать с Хуана половину стоимости его
обедов, а вскоре и просто дарить их ему, позволяя еще
завернуть и спрятать в карман бифштекс для Корухеды.
В довершение всего официант начал давать Хуану «сдачу»
с песо, который якобы опускал в ящичек с дневной
выручкой. Делал он это потому, что Хуан сумел убедить
влюбленного в том, что является поэтом и писателем,
оказавшимся в весьма затруднительном материальном
положении, а кроме того, Хуан составлял черновики его писем
к невесте, часто стихотворные, вызывая восхищение
доверчивого официанта, становившегося раз от раза все более
великодушным. Письма же были всего-навсего
переложением одной из книг Жорж Занд, которую Хуан привез из
Мериды вместе с другими, в том числе и стихами Кампо-
амора, откуда каждый день, слово за словом, переписывал
одно или два стихотворения и отдавал от своего имени
влюбленному. Уловка продолжалась до тех пор, пока Хуан
однажды не сказал Корухеде, вернувшись из ресторанчика
ни с чем:
— Мы с тобой погорели. Похоже, парня застукали, и я
остался с двумя поэмами в кармане.
Корухеда, не терявший чувства юмора даже натощак,
воскликнул:
— Дружище! Пора и честь знать! Наверное, еще ни
один кубинский плагиатор не извлек столько за свои
труды, сколько ты!
Вскоре после того, как это"провидение покинуло Хуана,
607
ему показалось, что явилось другое. Как-то вечером он
спускался по улице Галиано к морю и вдруг лицом к лицу
столкнулся с Канделарией:
— Хуан! Как же ты вырос!
— А ты, до чего же стала симпатичной!
Глаза Хуана округлились от восторга и заблестели; он
весь светился радостью. Да и как было не радоваться ему
«негритяночке», его давней подружке из усадьбы в Серро!
Она была для него заманчива вдвойне. Прежде всего из
чисто человеческих побуждений: Канделария являлась для
молодого босяка посланницей судьбы, ибо то был час, когда
кухарки, закончив работу, возвращались по домам, и она
несла что-то завернутое в салфетку под черной шалью,
под которой в то же время соблазнительно вырисовывались
туго затянутые в корсет талия и бедра, влекущие к себе
в полумраке этой уединенной колоннады Галиано. Первая
мысль, пришедшая Хуану в голову, была предельно
грубой: «Хороша бестия, вот бы ею полакомиться!»
Но Канделария сразу же пресекла какую-либо
возможность дерзких попыток с его стороны, обращаясь с ним на
правах бывшей приятельницы с дружеской
фамильярностью, как будто бы ее собеседник все еще оставался тем
несчастным, обездоленным маленьким сиротой, которого
приютили в усадьбе в Серро. Она заставила Хуана
отказаться от сутенерских замашек, к которым он чуть было
не прибегнул, еще п потому, что, судя по ее словам,
работала кухаркой в доме Адольфо и Робертико, откуда сейчас
п возвращалась.
— Голубчик! Видел бы ты, какой красоткой стала
Нэпа! Помнишь, как вы там, под кроватью?..
И она принялась торопливо рассказывать обо всех.
У Куки тоже есть жених, с которым она «без всякого
стыда лижется». Робертико с тех пор, как стал начальником
тюрьмы, «денег зарабатывает тьму-тьмущую»! У доньи
Лауры, наконец, «куча нарядов»! Донья Хуанита совсем
«высохла и еле волочит ноги», и приходится поторопиться
со свадьбой Куки, а то как бы траур по старухе не
помешал браку: ведь жених Куки тоже адвокат, приятель
Адольфо. Фернандо, Эрасмо и Бетико учатся в
университете. Фернандо уже без пяти минут адвокат. Он учится
лучше всех. Несколько дней назад он дрался на саблях с
каким-то студентом, и тот сейчас лежит в постели почти
при смерти.
— А красивый?
— Увидишь и не узнаешь.
Потом она стала рассказывать про Лос-Мамейес.
Теперь имение приносило громадные доходы.
— А Ромуло? — спросил Хуап.— Помнишь ею?
Управляющий имением?
— Помню! Он здесь теперь, стал полицейским. Как-
нибудь встретишь его. А почему бы тебе не зайти к ним?
— Они хоть раз вспомнили обо мне?
— Конечно. Нэна спрашивала, не встречала ли я тебя
в Гаване. Но больше о тебе говорить не стала. Похоже,
она просто хотела узнать, вернулся ли ты на Кубу.
Под конец Канделария рассказала ему, что не все время
жила подле своих хозяев. Когда блокада усилилась, ей
пришлось их покинуть и самой устроиться, как смогла.
С той поры она отделилась от них и снимает комнату.
Сейчас она живет в доме по улице Виртудес, чуть дальше
48-го. Хуан не прочь был бы проводить ее до дома и
отведать содержимое свертка вместе с... Интересно, кто он? Но
Хуан не стал ни о чем расспрашивать ее и не признался
в том, что голоден. Он лишь еще раз выразил свое
восхищение «негритяночкой», робко заметив: «Ты и впрямь
стала очень красивая»,— на что получил разрешение
видеться с ней иногда на том же месте и в тот же час.
После встречи с Канделарией множество беспокойных
мыслей роилось в голове у Хуана, но только две из них
были вполне определенными: то, что Нэну тревожило,
вернулся ли он в Гавану, и что Ромуло служил полицейским
в столице, то есть по своему социальному положению стоял
на много ступеней выше него, Хуана Кабреры.
С той минуты он начал вглядываться в каждого
темнокожего полицейского. И как-то утром наткнулся на
Ромуло. Благодаря тому, что Корухеде накануне выпала
небольшая удача, Хуан был опрятно одет, и полицейский
встретил его не слишком холодно. Судя по словам Канде-
ларии, бывший управляющий имением служил
полицейским, но на нем сверкали нашивки сержанта, и Хуан
выразил свое удивление:
— Как, вы сержант?
— Да. А что тут такого? Разве ты не знаешь, что я
воевал?
-— Да, конечно. Я удивился, потому что мне говорили,
будто вы простой полицейский.
— Так знай, я сержант. Правда, сначала мне не хотели
давать этот чин, потому что я почти не умею читать и пи-
39 К. Ловейра 609
сать. Но представь себе, ведь я сражался вместе с самим
Максимо Гомесом. Когда я рассказал ему обо всем, он сел
в экипаж, приехал к начальнику полиции и сказал ему:
«Сделайте-ка его сержантом. Тот, кто был достоин носить
нашивки на войне, достоин носить их и в Гаване».
— На том и порешили,— не без скрытой иронии
заметил Хуан. А затем спросил: — А там как дела?
И хотя вопрос прозвучал неопределенно, смысл его был
ясен обоим. Ромуло ответил:
— Каридад умерла, пока я воевал. Антонио и Хосе
работают в Вуэльта-Арриба. А Петра... Ты даже ни разу не
попытался о пей что-нибудь разузнать, правда? — И он
сурово взглянул Хуану прямо в глаза.
— Пытался,— неуверенно проговорил Хуан.— Но...
безуспешно. Никто ничего не мог сказать мне путного.
— Зато я могу. Она живет в Карденасе, в большой
бедности п... вместе с мальчишкой, которого ты ей оставил.
— Ну да! Это правда?
— Да, голубчик мой! Так что надо подумать теперь,
как быть дальше. Ты где живешь?
— В Гуанабакоа, на улице Марти.
— А номер дома?
Сержант вынул записную книжку, карандаш и
протянул их юноше:
— На-ка, запиши сюда сам. У тебя почерк получше.
Разговор происходил на Кампо-де-Марте. Дежуривший
в тот день Сирило издалека заметил друга и подошел к
ним. Сержант полиции не захотел вступать в разговор со
сторожем парка и удалился, выпятив грудь колесом и
покачиваясь с военной выправкой тамбурмажора. На
прощание он повелительно сказал Хуану тоном начальника:
— Напиши Петре. Улица Масео, сто тридцать семь.
И обязательно разыщи меня потом здесь или в
полицейском участке. Да не вздумай финтить со мной, ясно?
— Да, да, конечно.
В двух словах Хуан объяснил Сирило, кем был этот
сержант и почему его так встревожили его последние слова.
Сирило сразу же помрачнел и резко заметил своему другу,
что он самая настоящая раззява, несмотря на все свои
знания. Потому что не взял сюда с собой «девчонку» из Ме-
риды и пренебрегает теми, кто мог бы ему помочь, пока
у него еще не совсем сносилась одежда и он выглядит
человеком, достойным вести приличную жизнь, а не
прозябать, как он прозябает, превращаясь, по определению Ниц-
610
ше, в социальный нуль. Он уже не раз бранил Хуана,
приводя те же самые доводы, с которых начал разговор и
сегодня утром:
— Поэтому-то тебе и приходится бояться этого
деревенщину в военной форме. Так с тобой было всегда и так
будет. Потому что ты — индюк. Ибо только болван может
позволить себе рассуждать о нравственности, когда у него
нет ни песет, ни мощных покровителей.
— Да, но я стремился достичь своей цели иным путем.
И по-прежнему стремлюсь. Я много читал с тех пор, как
мы с тобой жили в Пето, и пришел совсем к другому
выводу. Я убежден, что самый правильный путь — прямой.
— Ну что ж, следуй своим прямым путем. Но пока
что...
— Это верно. Пока из этого ничего не вышло. И все же
я приобрел кое-какой опыт. Я и в Мериде понял, и теперь
тем более знаю, каково жить без работы. Но рано или
поздно я добьюсь своего.
— И в этих-то обносках... В одном могу тебя твердо
заверить. Существует огромная разница между тем,
появишься ли ты с иголочки одетым, при галстуке, в
хорошей обуви, даже если все будут знать, что это добыто
нечестным путем (разумеется, «нечестным» с их точки зрения,
ибо, на мой взгляд, в этом мире все пути хороши), или
будешь иметь вид честного безработного или
добропорядочного работящего трудяги. Тогда увидишь! Даже самый
ничтожный служащий захудалой конторки будет смотреть на
тебя свысока и не впустит, а если ты слегка
замешкаешься, вытолкает тебя взашей. Клянусь матерью, вытолкает!
Не веришь? Да посмотри хоть на этого, на твоего сержанта!
Ему ведь ничего не стоит упечь тебя в тюрьму, надавав
пинков и оскорбив, а потом приписать первое, что ему
взбредет в голову. Ха-ха!
Последние слова друга заставили Хуана
содрогнуться. Ему не хотелось продолжать разговор. Сирило
поучал его тоном победителя, сытого, ежемесячно
получающего зарплату. И, раздраженные, они закончили
беседу.
— Ну что ж,— сказал Хуан.— Ты, несомненно, очень
много знаешь. Но и я кое-что знаю. Увидим, кто из нас
окажется прав. Будь здоров! И посмотрим, поможет ли
тебе ницшеанство расстаться с твоей должностью сторожа
в парке; уж если говорить всерьез о сущности
сверхчеловека...
611
— Что ж, будь здоров, благородный рыцарь
«коммуналки» на улице Виртудес. Будем надеяться, что они
учтут твое благородство!
— Будь здоров, приятель!
И они обменялись кислыми улыбками, полными
глубокой иронии. Один из них пошел в глубь парка, колотя по
садовой ограде дубинкой; другой — устремился вверх по
улице Др'агонес в сторону, противоположную той, куда
направился полицейский, «подопечный» самого Максиме Го-
меса; при этом истощенный мозг Хуана вдруг
лихорадочно заработал.
XXXVIII
Приближалась первая годовщина 20 мая. Вся Гавана
бурлила от переполнявшего город патриотического
воодушевления. То было время, когда в высшей степени
проявилась любовь к родине почти всех кубинцев, горевших
тогда неистовым желанием способствовать укреплению и
процветанию образцовой республики. «Почти всех»,
потому что среди кубинцев нашлось и немало таких, в чьих
душах не было иных чувств, кроме досады и раздражения;
немало было и борцов за свободу, которые уже успели
возомнить себя кубинцами высшей категории и
намеревались использовать политику, чтобы стать сутенерахми
своей родины. А Гавана бурлила от переполнявшего город
патриотического воодушевления. Гаванцы ставили арки
у въездов на все главные улицы столицы. В город
привозили горы зеленых пальмовых листьев, которыми
украшали флаги, фонарики и гирлянды из цветной бумаги.
Повсюду виднелись новенькие, сверкающие лаком,
запряженные самыми великолепными конями экипажи, которые
к вечеру беспрерывно и шумно струились вверх и вниз по
Прадо, словно заранее готовясь к тому, чтобы вместе с
безмерным, неудержимым, бурным людским потоком хлынуть
сюда в час, когда над крепостью Эль-Морро взовьется од-
нозвездный флаг.
На железнодорожные станции Регла и Вильянуэва
прибывали поезда, переполненные пассажирами первого и
третьего класса: мужчинами и женщинами, старыми и
молодыми.
В одном из этих поездов приехал в Гавану Хулиан.
В другом Пепин Кабреро, тот самый «белокоженький»,
612
который был неразлучным другом, братом по духу и
поверенным Хуана в незабываемые дни в Лос-Мамейес.
Хулиан и Хуан встретились в кафе театра «Куба».
Хуан и Корухеда обычно подолгу просиживали там в
надежде, что кто-нибудь из завсегдатаев кафе,— чаще всего
это были актеры-комики,— угостит их хотя бы чашкой
кофе, а если уж очень повезет, то и сандвичем. О том, что
Хуан здесь бывает, Хулиану сообщил мулат Карденас.
Хулиан, застав друга в одиночестве, долго, очень
задушевно и искренне с ним разговаривал.
— То, что происходит с тобой, происходит и с нашим
народом, с кубинцами, и это меня беспокоит. Прежде всего,
конечно, меня беспокоят твои дела, но также меня
волнует будущее, которое мы строим теперь для всех нас.
— Что ты имеешь в виду?
— Как что? Ты ведь умный парень. Одного из тысячи
не найдешь, чтобы он знал столько, сколько знаешь ты.
И человек ты хороший. Не ухмыляйся, сейчас не время
для дурацких шуток. Хотя... будь осторожен, ты уже
портишься, как сказали бы в Юкатане!..
— У меня нет связей, протекций, специальности...
— Не в этом дело, дружище! Тебе не хватает
последовательности и организованности в своих действиях.
Нельзя читать до бесконечности и распыляться на
пустяки. Специальность приобретается. Разве этот твой
приятель-комик не мог устроить тебя на работу в театр, газету
или еще куда-нибудь? С тобой происходит именно то, что
я говорю. Ты все еще изображаешь из себя скучающего
скептика; твоя голова забита стоицизмом и прочей
тягомотиной, которой напичкал тебя этот проповедующий
ницшеанство Сирило из Пето.
— Ничего подобного. Все это уже давно отошло для
меня в прошлое.
— И очень хорошо. Я еще могу понять, когда
придерживаются этих ницшеанских идей на практике, но можно
об этом не болтать. Пусть ты не веришь в нравственные
нормы, в мораль. Пусть ты ни во что не веришь. Но можно
помалкивать, даже утверждать обратное pi поступать
соответствующим образом. В таком случае я — ницшеанец
больше, чем кто-либо другой. Так поступают все, кто
торжествует сейчас свою победу, кто в глубине души согласен
с Ницше. Говори, что веришь во все, а сам следуй своим
путем, пробивайся к цели любой ценой. А Сирило пусть
остается сторожем в парке.
G13
— Я так и поступил. Несколько дней назад я сказал
ему нечто в этом духе. Мы с ним почти совсем
рассорились.
— Прекрасно. Я приехал в Гавану посмотреть, как
поднимут флаг над Морро. Но не только для этого. Я
остаюсь здесь. Я познакомился с теми, кто победил, и влез
в политические дела. Один из ник — дон Томас, стоящий
человек. И я готов идти со стариком вперед и вперед. На
фабрике пусть потеют дурачки! Тебе следует поступить
точно так же, как это сделал я. У меня тоже нет ни
протекций, ни денег. У меня нет даже той культуры, какая есть
у тебя.
— Ну уж!
— Да, да. Той культуры, о которой я тебе говорил. Вот
уже шесть лет, работая на фабриках, я начиняю себя
литературой и философией. Но ведь истинных, глубоких
знаний у меня пет. Проэкзаменуй меня, и ты сам
убедишься, какой я профан даже в орфографии. Зато я
целеустремленно и последовательно добиваюсь своего, понимая, что
происходит в действительности; добиваюсь упорно, шаг за
шагом. И если только буду жив, обязательно добьюсь, вот
увидишь! Честолюбия мне хватает. Я такие речи толкал
в Пинар-дель-Рио! Так что задумайся наконец, чем ты
занимаешься. Нечего, даже если ты два дня не ел, тратить
только что заработанное тобой песо на ветчину, холодную
индейку и вино...
— Я?!
— Вот именно, ты. Мне все рассказал Карденас.
И еще, как ты однажды, заработав пятьдесят песо здесь,
в кафе, купил себе часы за пятнадцать, а потом заложил
их за три песо и не смог выкупить. А в другой — отдал
полученные тобой десять песо хористке из здешнего
театра и на следующий день не имел даже сентаво,
чтобы забрать чистое белье из китайской прачечной,
и пришлось это сделать Карденасу. Ясное дело, гораздо
проще поживиться на чужой счет, так вот и теряют
стыд...
— Но, дружище, когда вокруг столько соблазнов, а
купить не на что, то как только заработаешь... Ну, а что
касается стыда...
— Пустое! Я говорю так на правах друга, ведь мне
хочется помочь тебе. Больно видеть, в каком ты
находишься плачевном положении, правда, отнюдь не
безысходном! Не унывай! Возьми-ка песо и приходи сюда обе-
614
дать. Разыщи меня обязательно. Только не завтра. Завтра
я буду занят. Но, конечно, до двадцатого мая. Я
остановился на улице Кампанарио, дом двести пять.— Он
крепким, преданным рукопожатием и сказанными на прощание
словами вселил в Хуана оптимизм и желание
действовать.— Запомни же мой адрес и заходи. Ты должен
изменить свою жизнь. Посмотрим, сможешь ли ты на деле
осуществить то, за что ратовал с такой горячностью,
возвращаясь из эмиграции. Не ты ли кричал: «Свободная
Куба, новая жизнь!» Теперь Куба действительно станет
свободной. Будь здоров, старик!
— Будь здоров, дружище! Будь здоров, Хулиан! Ты
настоящий человек!
Положение Хуана, обрисованное ему сердечным,
умным другом, произвело необычайно сильное впечатление
на этого неудачника. Заряд оптимизма, полученный
Хуаном, проник в самые отдаленные глубины его мозга, уже
с трудом сопротивлявшегося бесконечным, неотвратимым
ударам судьбы. И там осел, чтобы открыто проявиться в
нужную спасительную минуту. Но тут же, как бы в
противовес хорошему влиянию, на него обрушилось другое,
более соответствовавшее его образу жизни и чуть не
приведшее его к полному, окончательному падению: то была
встреча с Пепином.
Это произошло двумя днями позже того памятного
разговора с Хулианом. Хуан шел, примерно около девяти
вечера, голодный, без всякой надежды что-нибудь
перекусить, по центральным улицам города, наводненным в
эти часы людьми. И вдруг заметил, что кто-то неотступно
следует рядом, словно приклеился к нему, не переставая
что-то жевать и разглядывать его с головы до ног. Тогда
Хуан остановился, повернулся к этой неотвязной тени и
оказался лицом к лицу с бледным, тощим юношей в
дешевом, затасканном полотняном костюме, выгоревшей на
солнце соломенной шляпе и черных, стоптанных
ботинках, покрытых толстым слоем пыли. Им оказался не кто
иной, как Пепин.
— Пепин!
— Хуан! Дружище! Я уже почти три квартала иду
за тобой и не решаюсь заговорить. Все думаю: ты это или
не ты.
— Каким образом ты здесь очутился?
— Да вот приехал посмотреть, как поднимут флаг
над Морро. А ты?
615
— Я здесь живу. Вернее... прозябаю, приятель!
— Стало быть, ты вроде меня. Сандвич, который я
дожевываю,— вся моя еда.
— Ну... мне и этого не перепало. Ничего, постепенно
привыкаешь. Давай вернемся немного назад, посидим в
сквере и поговорим.
Они повернули назад, но до сквера не дошли. У
Пепина еще оставалось шестьдесят сентаво от четырех песо,
с которыми он, охваченный патриотическим
воодушевлением, приехал из Матансаса в столицу, желая
насладиться тем долгожданным, возвышенным мгновением, о
котором не переставали думать и говорить все кубинцы:
подъемом флага над Морро. На оставшиеся шестьдесят
сентаво Пепин собирался переночевать на постоялом
дворе, на улице Эхидо, и как следует позавтракать на
следующее утро. Но богу было угодно распорядиться
иначе. Хуан предложил Пепину потратить эти деньги на
сандвичи, а взамен устроить его на своей раскладушке в
комнате номер 17 дома 48 по улице Виртудес. Там у них
будет время вволю наговориться, а 20-го числа они
встанут пораньше и в восемь утра уже будут в Пунте, чтобы
занять лучшее местечко. Пепин согласился. Он купит
еще один сандвич и, кроме того, по стаканчику холодного
пива. Идет? В результате они решили купить три
сандвича па три реала. Один из них для Корухеды, о котором
Хуан коротко рассказал Пепину.
Они вернулись в сквер и заняли вдвоем самую
уединенную скамейку. Сандвичи и пиво разгорячили кровь и
сделали более оживленной и задушевной беседу друзей,
которым многое хотелось рассказать друг другу после
долгой разлуки. Пепин говорил о Гаване, куда приехал
впервые; о своей жизни в Матансасе, где работал
санитаром в больнице. Туда он устроился сразу же по выходе
из тюрьмы, в которой уже дважды побывал,
«засыпавшись на двух делах» в деревне.
— Каких «делах»? — испуганно спросил Хуан,
который уж и не рад был, что пригласил Пепина домой и
вообще сидел с ним в сквере.— Краже?
— Да нет. Мы с одним полковником собирались
провернуть два выгодных дельца: он согнал целый табун
лошадей между Санта-Кларой и Матансасом, и мы
дважды пытались перегнать их в Гавану, по оба раза все
сорвалось. Мое счастье, что тот тип был полковником! Там,
где сходило ему, сходило и мне Иначе бы!..
616
Потом разговор перешел к Лос-Мамейес. Он стал
рассказывать о своем семействе и о семействе Ромуло. Его
отца после войны повстанцы зарубили за то, что о<н
сражался на стороне испанцев. Мать лишилась рассудка и
теперь находится в Масорре. Сестры жили то в Матанса-
се, то в Карденасе и Колоне, потому что они «пошли по
рукам». Росу он сам пристроил прачкой в больницу в
Матансасе. Она уже совсем конченая! Бедняжка! А о
Петре Хуан что-нибудь знает?
— Да, знаю, что она живет в Карденасе, с мальчиком.
Послушай! Расскажи-ка мне, что же все-таки произошло
в тот день, когда я сбежал из имения?
— Дружище! В тот день он чуть было не прибил ее.
Исполосовал всю ремнем. Особенно брюхо. Это его
взбесило больше всего. Кровь так и хлынула фонтаном, и
мулатке пришлось ходить со вздутым, как барабан, животом
не меньше месяца. А потом он выставил ее всем на
посмешище. У нас была кобылка Ромуло, над которой мы
с Хосе измывались. На третий день он застукал нас за
этим занятием, схватил и избил камнями. Целую педелю
на мне живого места не было от острых камней, которыми
он забросал меня. И я должен был дома сказать, что сам
упал, иначе мой старик сцепился бы с ним. Я чуть живой
остался. Еще бы чуточку...
— А теперь, между прочим, эта скотина здесь,
сержант полиции,— заметил Хуан.
И принялся рассказывать о себе: о Мериде, о Хулии,
о тюрьме, о Нэпе. Все, что касалось Нэны, особенно
интересовало Пепина, снова и снова возвращавшегося к этой
теме всякий раз, когда имя девушки в той или иной связи
упоминалось в беседе. Он с каким-то необычайным
сладострастием выпытывал у друга все, что было связано с
девушкой, чей волнительный, прекрасный образ воссоздал
Хуан в тот чудесный, незабываемый день задушевных
признаний на берегу моря. Этот интерес распалялся в нем
еще больше оттого, что у Хуана, влачившего жалкое,
голодное существование, по-прежнему хранился пакетик
с письмами и записочками сеньориты из «высшего
гаванского общества», свидетельствовавшими о ее романе с
Хуаном, об их свиданиях и прочих греховных намерениях.
Ровно в полночь они направились по улице Нептуно
к дому номер 48 на Виртудес, заглянув по пути в театр
«Куба». Корухеды там не оказалось. Они вошли в
многонаселенный дом, когда этот человеческий улей уже затих
617
и только в двух-трех комнатах еще слышался шепот и
горел свет. В глубине дома при мигающем свете жаровни,
заставленной утюгами, худая неопрятная женщина
прихлебывала что-то горячее из жестяной кружки. В комнате
мерцал еще один огонек, наверное, это была свеча. Хуан
сразу же представил себе освещенную этой свечой
гладильную доску, на полу возле нее — корзину с
влажным бельем, кровать и поставленную вдоль нее
раскладушку, на которой спали, вытянувшись, два бледных,
полуголых паренька — дети «коммуналок», будущие
Пепин и Хуан. От этой мысли мгновенно исчезли все страхи
и чувство неприязни, испытанное в первую минуту к
кандидату в заключенные, с которым, как это ни опасно,
ему, должно быть, придется делить свой кров и постель
несколько ночей.
Дома, как и в сквере, а затем всю дорогу от сквера
домой, Пепин, не обращая внимания на недовольство
Хуана, продолжал наступать ему на больную мозоль, хотя
все слова, касавшиеся Нэны, были сплошным кощунством.
Нэна и ее записочки не давали Пепину покоя и
заставляли выпытывать у друга тайну с той минуты, как он
встретил Хуана. Хуан заговаривал о другом, пытался
сдержать его дурные порывы, рассуждая, как заядлый
моралист. Куда там! После Мериды его постоянно
преследовал страх перед тюрьмой. Он был убежден, что
выгоднее всего — оставаться честным человеком. Лучше, чем
паоборот. Вспомнил даже чьи-то слова о том, что в этом
мире человек выполняет роль либо молота, либо
наковальни. И ни один бедняк не сможет стать молотом, если
попытается обойти закон. Он превратится тогда в козла
отпущения, в своего рода громоотвод. Но Пепин, то
наседая, то пасуя, то лавируя, неизменно возвращался к
волновавшему его вопросу. И в конце концов Хуан, все еще
находившийся под впечатлением собственных
философских рассуждений, которые вызвала у него в полночь
гладильщица, согласился показать ему злополучные
бумаги. Но только до прихода Корухеды, который не имел
о них ни малейшего представления.
Разглядывая содержимое пакета, Пепип то и дело
восклицал:
— Ух ты! Да им цены нет! И ты живешь в такой
нищете, имея все это! Они же стоят громадных денег, и не
только денег, ты можешь добиться от этой женщины, чего
только захочешь, если ты не дурак, конечно! — И даже
618
предложил: — Позволь мне пустить их в ход по своему
разумению?
— Нет, нет! И не думай! Я не такой сумасшедший,
как ты.
— Сумасшедший? Да ты только разреши, и сам
увидишь.
— Нет, ни за что. Ты темный крестьянин, поэтому
судишь обо всем так легко. И напрасно думаешь, будто я
могу добиться от этой женщины всего, чего только
захочу. Просто твоя голова забита всякой белибердой, о
которой я говорил тебе на скамейке в сквере.
— На скамейке в сквере, да?
— Да, все это пустые бредни. Сказки старой бабушки,
как говорят в деревне.
Препирательства их длились до тех пор, пока не
появился Корухеда, который согласился приютить Пепина
после того, как с самой откровенной радостью принял от
него сандвич. И все улеглись спать; чем дольше проспят,
тем лучше.
Поспать подольше для них было самое лучшее,
потому что наутро им хватило бы денег только на то, чтобы
выпить по чашке черного кофе. День предстоял невеселый.
Увидеть Хулиана, единственную спасительную гавань,
Хуан, вероятно, не сможет до восьми вечера. А в пять
часов голод — этот плохой советчик — в союзе с Пепином
заставил Хуана капитулировать. Ибо одно дело
стремиться быть высоконравственным и добродетельным, сидя на
раскладушке в комнате «коммуналки» в пять часов дня
на голодный желудок, а другое, к примеру,— мягко
погрузившись в диванные подушки роскошного особняка в
Ведадо, переваривая хорошую пищу и твердо зная, что
повар в белоснежном колпаке и фартуке начинает
забивать цыплят к следующей трапезе. Впрочем,
капитуляция Хуана была весьма условной, со множеством
оговорок и предосторожностей. И тем не менее это была
капитуляция. Решили так: Пепин явится в дом Руис-и-
Фонтанильс в качестве бывшего обитателя Лос-Мамейес
и друга Хуана, который болей и лежит в «коммуналке»
на Виртудес. Хуан якобы ничего не знает о
происходящем, но он, Пепин, опасаясь, как бы анемия («Лучше
всего анемия, верно? А то, если они явятся сюда и
обнаружат, что у тебя нет жара...») не свела в могилу его
друга, пришел просить о помощи — всего несколько песо,
чтобы купить кое-какие лекарства и немного еды. Хуан
619
последует за гонцом и, не доходя одного квартала до угла
Галиано и Лагунас, будет его дожидаться, укрывшись
за колоннами и наблюдая происходящее со стороны. Если
он заметит, что посланник выходит из дома с кем-нибудь
и направляется к Виртудес, «больной» помчится со всех
ног в комнату номер 17, ляжет на раскладушку, скинув
с себя по мере возможности всю одежду, и прикинется
умирающим. Уж два-то песо мы из них вытянем.
Наверняка вытянем! А через полчаса съедим по тарелке
горячего супа на брата, а на второе — мясо с овощами и
рисом. К тому же — что тоже немаловажно — Хуан будет
знать, как ему вести себя с этой публикой впредь.
— Ну, пошли?
— Ладно, пойдем.
До Галиано они шли вместе. Потом Хуан замедлил
шаг, а Пепин ускорил. От угла улицы Анимас, по которой
вечно шатаются бездельники, Хуан, прикидываясь
равнодушным, что было не так уж легко в его ситуации, в
глубине квартала увидел, как его отчаянный друг,
исполненный решимости, вошел в большую парадную дверь
шоколадного цвета, украшенную вереницами блестящих
гвоздиков. С каждой проходившей минутой ему все
труднее и труднее было прикидываться равнодушным. Хуан
бродил взад-вперед по тротуару, почти не отрывая
взгляда от гипнотизировавшей его двери; казалось, он видел
ее, даже когда поворачивался спиной. Пепин не
появлялся так долго, что нетерпение Хуана сменилось
откровенным беспокойством и раскаянием. Он уже жалел, что
пошел на поводу у Пепина, вспомнил о своем низком
социальном положении и подумал, что может, по его же
собственному выражению, стать козлом отпущения, чем-
то вроде громоотвода. Потом ему вдруг пришла в голову
мысль, что Пепин, одержимый дьявольским порывом,
начнет по недоумию своему шантажировать; вспомнит обо
всем, что не давало ему покоя с момента их разговора на
скамье в сквере, а может быть, даже предъявит какую-
нибудь из записок, незаметно взятую им по его, Хуана,
недосмотру. Его сковал ужас при мысли об уголовном
прошлом Пепина. Он подумал даже о том, что и его могут
арестовать, если узнают, что он прикидывался больным,
будучи совершенно здоровым. Хуан решил рассориться с
Пепином, даже если тот принесет эти два несчастных
песо. К черту! Он но возьмет оттуда ни одного сентаво!
Хуан хотел уже было вернуться домой, проверить, в по-
G20
рядке ли содержимое пакета, и забрать его с собой, чтобы
перепрятать в более надежное место, как вдруг в дверях
дома Руисов появршась взволнованная негритянка,
опускавшая закатанные рукава платья до самых запястий и
выискивавшая кого-то жадным взором на улице.
Это была Канделария.
Хуан, совсем напуганный, увидел, как она устремилась
к улице Сан-Ласаро, а затем вернулась с полицейским к
дому своих хозяев.
Они вошли внутрь. Потянулись бесконечные,
томительные минуты ожидания. Хуан опять стоял на углу
улицы Анимас, а возле дома Руисов напротив двери
полукругом начали собираться любопытные. Наконец толпа
зевак расступилась и прошел полицейский, крепко держа
за руку Пепина, с которым он направился в сторону Сан-
Ласаро.
Хуан в панике бросился к театру «Куба». Найти Ко-
рухеду! Нет! Корухеда не должен ничего знать! Домой,
на Виртудес! Нет, тоже нельзя. Они наверняка очень
скоро придут туда искать его. Лучше всего пойти на
бульвар Прадо, посидеть там где-нибудь на скамейке,
хорошенько все обдумать и решить, как действовать дальше.
А главное, успокоиться. Наверное, возбуждение и
слишком учащенное дыхание могут обернуться уликой против
него.
Но, не дойдя до Прадо, Хуан вдруг решил немедленно
вернуться на Виртудес, на секунду заскочить в свою
комнату, забрать пакет и унести оттуда в любое место.
Быстрым шагом он добрался до дома, в несколько
прыжков взбежал по лестнице в свою комнату и торопливо
схватил пакет. Он оказался нетронутым, таким, каким
они оставили его накануне ночью. Завернув пакет и
перевязав его, Хуан покинул дом и отправился в театр
«Куба». Там он отдал пакет одному из своих старых
приятелей, с которым прежде работал в кафе, и попросил:
— Послушай, друг, припрячь-ка мои документы в
какое-нибудь надежное местечко.
Тревога его была столь велика, что вскоре он пожалел
о содеянном. Да и не стоило настораживать приятеля
чрезмерными наставлениями. Однако Хуан не посмел
вернуться обратно. И снова зашагал к Прадо. Он уже не
испытывал голода. Вот так обернулась ему пара тарелок
горячрго супа и м&£0 с рисом! Что же натворил там этот
WiOiv* И что теперь ему самому делать вечером? Пои-
621
ти в полицейский участок, попытаться что-нибудь
разузнать,— глупо. Но вот в его сознании стали
вырисовываться две или три вполне определенных и ясных мысли:
остаться здесь, на бульваре, посидеть где-нибудь одному
на скамейке; затеряться в потоке пешеходов и экипажей,
которые заполонили собой мостовую и тротуары;
укрыться в страхе, голодному и одинокому, среди
привратников, слуг и рабочих, которые воздвигали арки, украшали
балконы к приближавшемуся славному, торжественному
дню. Ах да! Надо еще подкараулить Канделарию, когда
она будет в обычное время возвращаться к себе домой.
Потом найти Хулиана на улице Кампанарио и отдать ему
пакет. Именно ему и никому другому! Попросить у него
несколько реалов и позавтракать... в десять часов вечера.
Если Хулиан даст немного денег, а Канделарию повидать
не удастся, придется истратить несколько монет на газету
«Ла Ультима ора», которая выходит в полночь, и
посмотреть, нет ли каких-либо сообщений в рубриках
«Последние происшествия» или «Из зала суда». Что же все-таки
могло произойти?
Он встретился с Канделарией, которая подробно
рассказала обо всем, по-прежнему клокоча от негодования и
возмущения:
— Какие же вы скоты! Надо же было такое устроить!
— Погоди, погоди! Я ничего не устраивал. Я даже не
знаю, что произошло. И специально поджидаю тебя здесь,
чтобы ты мне все рассказала.
Однако Канделария не поверила в то, что Хуан ничего
не знал о действиях Пепина и о его намерениях. Почти
не замедляя шага, чтобы ее не заметили из дома Руис-и-
Фонтаиильс, она шла и рассказывала Хуану то, что
видела и слышала. Она знала далеко не все, но и ее
сведений оказалось вполне достаточно, чтобы судить о
происшедшем. Войдя в дом, Пепин попросил у Куки, вышедшей
ему навстречу, два песо. Пока Кука ходила к донье Лауре
сообщить о приходе и просьбе «попрошайки», вокруг
Пепина собрались Бетико, Эрасмо и Нэпа; они стали
засыпать его вопросами: «Верно ли, чэго ты жил в имении?»,
«Как тебя зовут?», «Где живет сейчас Хуан?» На какое-
то время Нэна осталась одна с Пепином, и этот болван
сказал, что если она «соберет ему» пять сентенов по
секрету от всех, то Хуан вышлет ей «нечто такое», что у
пего хранится еще «со времен жизни в Серро». Мало
того! Этот мерзавец заявил ей, что действует по его, Хуа-
622
на, поручению. Нэна убежала в глубь дома, и там
поднялся невообразимый шум и переполох, а потом позвали
ее, Канделарию, и велели сходить за полицейским.
Окаянного беднягу обвинили в том, что он явился в дом
якобы попросить два песо, а на самом деле хотел их
ограбить, и его застали как раз в тот момент, когда он открыл
бюро, стоявшее в гостиной, и доставал из ящиков
содержимое. Об истинной причине его прихода даже и не
заикнулись! Еще бы! Такие важные персоны! Парень,
конечно, оправдывался, как мог, но тут вышел Фернандо,
который уже чувствует на своих плечах адвокатскую
мантию, и положил конец препирательствам: «Нечего,
нечего! Пусть его уведут. Мы его обвиняем в краже, и
делу конец. Уведите его, полицейский».
— Так что будь поосторожнее со своими бумагами.
Не дай бог, если у тебя их найдут!
Хуан хотел было снова объяснить, что не имеет
никакого отношения к случившемуся, но в эту минуту та
самая дверь, через которую вывели Пепина в его
поношенном костюме и выгоревшей на солнце соломенной шляпе,
распахнулась, и на пороге появился высокий молодой
человек в белоснежной тройке. Он направился к одному
из роскошных экипажей, стоявших на противоположной
стороне улицы.
— Это Фернандо,— воскликнула Канделария.— Я
пошла!
Она поторопилась скрыться за бесконечной вереницей
тянувшихся вдоль широкого тротуара колонн, за одной из
которых притаился Хуан, чтобы незаметно наблюдать за
Фернандо.
Экипаж проехал мимо, увлекаемый статным, ретивым,
взнузданным конем; горделивый кучер, прижимая к груди
высоко поднятые вожжи, казалось, священнодействовал;
Фернандо, небрежно откинувшись на подушки, положив
рядом с собой шляпу, сидел, закинув ногу на ногу, с
царственной изящностью. И Хуан наконец поплелся
пешком своей дорогой. В голове его роилось множество
всяких догадок и предположений. На каждом шагу он
глубоко вздыхал, поминутно восклицая:
— Что за проклятая жизнь!
Хуан зашел в театр «Куба». Забрал пакет. И с этой
минуты страх, но покидавший его с пяти часов вечера,
становился все сильнее и сильнее, пока он носил пакет
при себе. К тому моменту, когда он должен был встре-
623
титься с Хулианом, его уже трясло так, что зуб на зуб не
попадал.
Тем не менее при встрече с Хулиапом ему удалось
овладеть собой. Хулиан дал одно песо и сообщил
приятную новость: он нашел ему место чтеца на табачной
фабрике, которая должна будет открыться в первый же
понедельник после 20 мая. Взамен полученного песо и
приятной новости Хуан отдал другу пакет, объяснив, что в нем
содержится. Хулиан хорошо знал всю историю с
письмами и записочками и, хотя ничего не подозревал о том, что
в данную минуту скрывал от него Хуан, многозначительно
сказал, беря у него сверток:
— Ну что ж! У меня они будут в большей
сохранности, а ты — в большей безопасности.
Когда человек завтракает в девять вечера, все его
существо должно быть поглощено этим занятием. Но
положение Хуана, слишком напряженное, слишком
драматичное, заставило его проглотить еду с жадностью, но без
надлежащего удовольствия и безудержной радости.
Наконец-то он ел! И ел обильно. В его лихорадочно
работавшем мозгу рождались безумные, страшные мысли, от
которых начинала бить дрожь и бешено колотиться сердце.
Права была Капделария. Какая же скотина этот Пепин!
Поступить так опрометчиво, не понимать, что
находишься в Гаване, так оплошать, так влипнуть! Не хватало еще
из-за этого деревенщины, этого осла, лишиться работы,
которую нашел для него Хулиан... Ведь он, Хуан, с
каждым днем все больше жаждал, просто мечтал
ухватиться за какую-нибудь работу, постоянную, надежную,
чтобы не расставаться с ней даже «под страхом
смерти». Быть всегда сытым, хорошо одетым, выбраться
из «коммуналки», навсегда распроститься с жизнью
Пепинов, не ждать непрестанно, что тебя могут упечь за
решетку!
Он купил газету «Ла Ультима ора». В рубрике
«Последние происшествия» под заголовком «Попытка
ограбления» было напечатано сообщение полиции о том, что
произошло на улице Галиано и Лагунас. Заголовок
заставил Хуана отпустить несколько крепких словечек,
относившихся к предполагаемым жертвам «попытки
ограбления»; но вся его ярость тут же обернулась против
Пепина, когда он прочел, что этот тип выдал за «свой
адрес»: Виртудес, 48. Что, если Корухеда ненароком
прочтет это?! Л вдруг Адольфо, судья, и Роберто, начальник
624
тюрьмы, затеют против него, Хуана, «законное дело»,
чтобы навсегда убрать его с пути!
От обилия пищи, упадка сил и внутренней
подавленности после сильного нервного напряжения, вызванного
бесконечными волнепиями и переживаниями этого дня,
у Хуана стали слипаться глаза, когда он около один па
дцати вечера, сидя в кресле, дожидался Корухеду в театре
«Куба».
Когда Хуан входил в дом номер 48 на улице Виртудес,
ему снова бросилась в глаза прачка, которую они видели с
Пепином прошлой ночью, в этот же самый час. Она,
вероятно, гладила, доделывая свою ежедневную работу.
Женщина вошла в комнату, сняла с жаровни утюг и
поплевала на него, проверяя, достаточно ли он накалился.
Потом он увидел ее вытянутую, напряженно двигавшуюся
тень на стене, едва освещенную трепетным огоньком
свечи и отблесками углей в жаровне. Хуан опять
представил себе двух спящих ребятишек, распростертых на почти
не застланной раскладушке, их мать, полуживую от
усталости и вечного недоедания, которая заканчивала свой
двенадцати- или четырнадцатичасовой рабочий день,
В голове его промелькнули мимолетные, но вполне
связные воспоминания и картины: домик, где они жили
вместе с матерью на улице Приясипе, когда она стирала
белье для сиротского приюта; слова Пепина, сказанные
им однажды в оправдание одной из своих проделок: «Все
воруют!»; вид приятеля в жалкой, поношенной одежонке,
когда его вывел из дома на Галиано полицейский, крепко
держа за руку; и Фернандо («Между прочим, племянник
Пепина, господа моралисты!») в великолепном
белоснежном костюме, пышущего здоровьем, элегантно
восседающего в роскошном экипаже в ожидании предстоящей
приятной вечерней прогулки по бульвару Прадо и
набережной Малекон.
Когда Хуан входил в свою комнату номер 17, он
решил, что завтра пойдет в каталажку повидать друга. Он
простил ему все при мысли о том, что Пепин был таким
же сыном дона Роберто, как и отец Фернандо:
«Существо, которому выпал горький жребий быть зачатым в Лос-
Мамейес, а не в Серро». А главное, потому что перед ним
вновь возник образ прачки и особенно ее детей.
«Будущих Пепина и Хуана»,-— как он подумал вчера ночью.
«Будущих заключенных. Будущих висельников»,—
как он подумал теперь.
40 К. Лооейра 023
XXXIX
Несколько дней спустя после ареста Пепина,
преодолев страх, Хуан отправился в тюрьму навестить приятеля.
Им руководило дружеское участие и желание поподробнее
узнать о том, что произошло в доме Руисов. Но не провел
он и пяти минут среди всех этих несчастных
заключенных и посетителей, пробудивших в нем самые ужасные
воспоминания о заточении в Мериде, как увидел Роберти-
ко, который, в свою очередь заметив Хуана, резко
переменился в лице. Сеньор начальник тюрьмы, чей безупречный
белоснежный полотняный костюм разительно
контрастировал по своей роскоши и достатку с преобладавшей здесь
залатанной одеждой и шлепанцами бедняков, вперил
колючий, суровый взгляд в бывшего приемыша. Реакция
Хуана была мгновенной pi почти инстинктивной. Он тут же
поднялся и спросил Пепина с естественностью, которой
мог бы позавидовать любой:
— Тебе легкие сигареты или покрепче?
— Легкие,— понимающе ответил Пепин.
И Хуан, сделав вид, будто собирается выскочить из
тюрьмы па улицу только на минутку, за сигаретами,
устремился^ к большому порталу и, миновав наводившего
на него страх часового с карабином на плече, бросился
в сторону Морро и быстро зашагал по направлению к
площади Польворин. Таким образом он избежал в своей
стране столкновения с полицейскими.
Через несколько недель в театре «Куба» состоялся
большой митинг трудящихся. Рабочие организации
табачников намеревались сделать первые шаги для
воссоединения с организациями демократической и свободной
республики, выношенной Марти еще в Тампе и Кайо-Уэсо.
Тогда были споры, драки, вырабатывались планы
вооруженных действий. В театре «Куба» рабочие ораторы
громогласно выражали горячий протест против
новоиспеченной «энергичной» власти в стране. В зал набилось две
тысячи человек всех цветов кожи, словно гудящие пчелы в
улей; все проходы, кресла, лестницы были заполнены, люди
сидели даже на перилах и возле театра на тротуарах.
Хуан сидел на балконе. Он уже работал чтецом на
табачной фабрике. Небольшой табачной фабрике, куда его
пристроил Хулиан, который сейчас находился на сцене,—
теперь он занимался политиком. До начала большого
митинга Хулиан проводил собрание, где Хуан должен был
626
выступать среди других ораторов. Но из-за забастовки
табачников он остался без денег. Ему не хватило даже на
то, чтобы забрать свою одежду из прачечной, а то, во что
он был одет, никак не приличествовало оратору. На нем
был грязный, мятый костюм из грубого полотна,
пропитанный потом, с лоснящимися карманами, манжетами и
воротником. Бледное лицо Хуана выглядело
меланхолическим, а большие выразительные и печальные глаза
необычно блестели. Какой-то приземистый тип с
одутловатой, старообразной, желтоватой физиономией и склизкими,
как у жабы, глазками пристально смотрел на него с
нелепым видом влюбленной матроны. Хуан не сразу понял,
в чем дело, и тоже смотрел на него в упор. Тот,
естественно, вдохновившись, принялся протискиваться к нему
наискосок, прокладывая себе путь сквозь толпу и шаг за
шагом приближаясь. Он делал вид, будто продвигается,
подвластный внутренним импульсам, вызванным в нем
вдохновенными, резкими речами ораторов, которые
воспламеняли всю аудиторию. Когда Хуан догадался, в чем
дело, толстяк уже был рядом. Хуан окинул незнакомца
удивленным, вопрошающим взглядом, а тот как ни в чем
не бывало сунул правую руку в карман и позвенел
серебром и золотом, а затем стал вдруг проделывать пальцами
омерзительно постыдные движения. Хуан подумал о
прачечной, о митинге, об «отдельном кабинете» в
ресторанчике на углу улиц Галиапо и Виртудес... Но в нем
возобладало стремление к духовной чистоте, подкрепляемое
теперь тем, что у него была постоянная работа на
табачной фабрике, и тем, что в скором будущем он, весьма
вероятно, сможет получить место государственного
служащего (ведь он вместе с Хулианом занимался теперь
политикой, а у Хулиана все шло как по маслу); чувство
собственного достоинства заставило его резко измениться в
лице, и, чтобы отвязаться от этого бессовестного типа, ои
строго воскликнул:
— Позвольте пройти! Послушайте, приятель, что вам,
собственно, угодно?
Хуан покинул театр «Куба», ршея при себе всего
несколько мелких монет. Время ужина уже давно миновало,
и в голове у него снова возникли проклятые
анархистские мысли: «Хотел бы я посмотреть, как бы повели себя
они, окажись на месте злоумышленников и бездомных...
Например, начальник тюрьмы».
И вот настал долгожданный день, когда Хуан Каб-
627
рера был зачислен в штат государственных служащих. Он
сразу же покончил с речами и политическими собраниями,
к явному неудовольствию Хулиана, который многословно
выразил ему по этому поводу сожаление, руководствуясь
не столько собственными интересами, сколько интересами
Хуана. Но Хуана не привлекала политика, в которой надо
было все начинать с самых азов, заниматься интригами и
ради получения хорошей должности произносить
заигрывающие речи, претившие ему донельзя. Хуан хотел вести
степенный образ жизни: занять прочное место в штат-
пых расписаниях и ежемесячно получать вожделенные
шестьдесят песо. Шестьдесят песо дадут ему возможность
быть сытым и хорошо одетым; спасут от постоянной
угрозы попасть за решетку и от необходимости жить в
«коммуналке» на Виртудес; позволят иметь чистые простыни
и подушки вроде тех, которые он впервые увидел у Хулии,
успокоят его совесть, возвысят стремления к любви,
откроют путь к достойной жизни, о которой он столько
мечтал. Настоящей жизни! Наконец-то! О да! Теперь он
сможет работать, учиться и вести порядочный образ жизни!
Как только сбылись его мечты, он почувствовал себя
счастливым. Он расположился в небольшой конторе
канцелярии личного секретаря многоуважаемого сеньора
секретаря Имярек, и сидел за еще вполне пригодным бюро
с папкой для текущих дел и пресс-папье, рядом с
молоденькой темно-русой машинисткой, волосы которой
вились крупными кольцами, словно стружка красного
дерева. («Какие у вас красивые волосы, Хулита!» — говорил
он ей.) И, с восхищением глядя на входивших и
выходивших генералов и полковников, день ото дня все больше
упивался сознанием того, что со звонком, возвещающим
окончание рабочего дня, сумма па чеке, который он
должен будет получить в последних числах месяца,
увеличивается на два песо. Приятные эмоции, естественно,
чередовались с неприятными: смена секретарей и интриги во
время предвыборной кампании, особенно претившие
Хуану, который сразу же почувствовал к политике неприязнь.
Политические деятели, безнаказанно вершившие судьбами
государственных служащих, не очень-то жаловали чипов-
пиков, которые не входили ни в одну из «партий» и не
являлись сторонниками кого-либо из лидеров,
находившихся в зените славы. Эти чиновники, как и Хуан, имели
достаточные способности и добрые намерения, но не
могли продвинуться по службе. Или хотя бы остаться в штат-
628
ных расписаниях. Политическим же деятелям нужны были
пешки на административной доске республики — возлюб-
ленной их души. А что значил в сравнении со всем этим
какой-то ничтожный Хуан Кабрера с его стремлением
упрочить свое положение и хотя бы чего-то добиться в своей
скромной жизни? Разве то и дело не оставались вокруг
без всяких средств к существованию полсотни или сотни
несчастных семей только потому, что снимали с поста
дона Некто и назначали дона Имярек? Но... все эти
тревоги были ничтожны в сравнении с теми, которые
доставляли Хуану отголоски его тяжелого прошлого. Незаметно
и постепенно он привык к своему новому положению и
долгое время вел существование самого заурядного
чиновника: смиренное, размеренное, неподвижное, о котором
предпочитал потом вспоминать в общих чертах,
охватывая сразу несколько лет, в отличие от прошлого периода
своей жизни, который всегда воспроизводил живо, зримо,
легко.
Само собой разумеется, что именно этот период
постоянно напоминал ему о себе, причиняя гораздо больше
волнений, чем смена секретарей и бюрократические
интрижки.
Однажды, выйдя из конторы по окончании рабочего
дня (рядом с Хулитой, с которой они обычно шли до
остановки трамвая на углу), он направился к «себе» домой, в
пансион для студентов из провинции, находившийся за
проспектом Рейна. На ном была чистая, с иголочки,
тройка и полуботинки. Неожиданно ему повстречался Ромуло.
— Ты тут работаешь? — спросил он.
— Да, здесь. Недавно поступил.
— Вот и хорошо. Зайди ко мне потолковать, как мы
с тобой уговаривались. Я теперь живу на Корралес, дом
семь. Я привезу Петру.
— Ладно, спасибо. Пока! -— И Хуан, скрывая от Хули-
ты раздражение, ускорил шаг, заставляя и ее идти
быстрее.— Это знакомый, еще из имения,— пояснил он ей на
ходу.
И всю неделю Хуана не покидало беспокойство.
В другой раз в секретариат зашел Адольфо и увидел-
его. Брат борца, погибшего за свободу, к тому времени
стал председателем одного из гаванских судов. Хуан
тревожно перебирал в уме все возможные последствия этой
встречи. Не отзовется ли он о нем пренебрежительно
очередному «генералу», возглавлявшему секретариат? Тре-
629
вожные мысли не давали ему покоя в течение двух недель.
По, вероятно, Адольфо в глубине души все же любил его.
И, кроме того, он был человеком благородным. Наконец
Хуан вздохнул с облегчением. Но встреча в приемной с
Робертико стоила ему месяца беспрерывных волнений.
Робертико сурово, с явной гадливостью взглянул на него
и покачал головой вверх-вниз, словно хотел сказать:
«Неужели этот бандит здесь служит?»
Поведение Робертико не сулило ничего хорошего
«бандиту», тем более что Робертико, наживавшийся раньше на
умерщвлении плоти заключенных за счет их питания,
теперь наживался, спекулируя домами, которые он скупал,
а потом сдавал внаем иммигрантам. Этот человек
пользовался большим влиянием среди генералов и докторов,
распоряжавшихся бюджетом. Словно для того, чтобы вселить
в Хуана еще больший страх, из-за которого он потерял сон
и аппетит (о, этот чек, получаемый им в конце месяца!),
личный секретарь сеньора секретаря с
многозначительным видом вручил ему анонимное письмо, которое
обнаружил, просматривая почту. Он счел его нелепым, ибо в
письме сообщалось, будто Хуан оставил двух женщин,
одна из которых живет в Юкатане по такому-то адресу,
и что человек, возглавляющий департамент, будучи
высоконравственным патриотом своей родины, не должен
терпеть среди подчиненных морально разложившегося
субъекта. Хуан прочел анонимку в присутствии личного
секретаря и с величественной невозмутимостью порвал на
мелкие клочки. Но минуту спустя, уже наедине с собой,
словно каналья, написавшая это, стояла перед ним,
громко воскликнул:
— Это я-то морально разложившийся субъект! А ты,
подонок, и все твои, вместе взятые? Не смейте слишком
досаждать мне и не пытайтесь снова вышвырнуть на
улицу! Иначе и ты, и она...
Он пошел повидаться с Хулианом, который в эти дни
выставлял свою кандидатуру в палату представителей.
Паршивцы! Пусть только посмеют снова оставить его без
работы. Или сообщить Хулите о том, что все россказни
относительно прошлого, семьи, дома, сочиненные им для
того, чтобы пустить ей пыль в глаза,— сплошная ложь.
У кого нет предрассудков, хоть и прочитано множество
философских трудов? Разве мог он признаться девушке с
такими красивыми волосами и большими, серыми,
проникновенными глазами, что до той самой минуты, как по-
630
явился в секретариате, был всего-навсего несчастным
сиротой, приемышем? Сирота! Лучшее подтверждение тому,
что библейский миф о распятии Христа не чудотворен,
и состоит в том, что его распяли, вместо того чтобы
лишить в детстве родителей. Просто дурак этот Ирод!
Погруженный в столь мрачные рассуждения, Хуан
предстал перед Хулианом, который не преминул
воспользоваться случаем, чтобы еще раз доказать другу,
насколько он всегда был прав:
— Разве я не твердил тебе много раз одно и то же.
Чтобы чувствовать под ногами твердую почву, тебе
следует заняться политикой. Говорят, в Испании бедняку,
чтобы выбиться в люди, остается либо сцена, либо арена
для боя быков. Ну а на Кубе — это путь в политику. У тебя,
чтобы стать оратором, есть все данные — и голос, и
убеждения. При желании ты можешь написать газетную
статью лучше, чем многие профессионалы. Смешно,
дружище, прозябать служащим за какие-то шестьдесят жалких
песо... Ты — один из тех странных казусов, когда человек,
обладая немалыми знаниями, живет в бедности только
потому, что ему не хватает боевого духа. Взять, к примеру,
хотя бы Робертико. Не станешь же ты отрицать, что он
намного превзошел тебя. Ему ничего не стоит втоптать
тебя в грязь. А между тем, достаточно тебе приложить
немного усилий, и ты смог бы ему сказать: «Мы с тобой
па равных, приятель».
Боевого духа, который вселил в него Хулиан, хватило
Хуану лишь до тех пор, пока друг его не стал депутатом
в палате представителей и не добился для него прибавки
в сорок песо. Хуан, заткнув за пояс револьвер сорок
пятого калибра, ораторствовал, редактировал манифесты и
старался изо всех сил на избирательном участке,
находившемся неподалеку от бойни. Пользуясь своим
влиянием, Хулиан добился, чтобы в одной из газет поместили
фотографию и статью служащего, получавшего теперь сто
песо в месяц. И тут же к нему явился Ромуло, сообщил,
что Петра живет у него на улице Корралес, номер 7, и
пригласил навестить ее. Возможно, Хуану следовало бы пойти
туда, чтобы умаслить подопечного Максимо Гомеса, а
заодно посмотреть, как выглядела теперь мулатка и
достаточно ли она покладиста, чтобы помочь ему разрешить
основную проблему креола, которая из-за склонности
Хуапа к идеализму вызывала большие затруднения, когда
речь шла о «любви по прейскуранту». Однако он тут жо
G31
решительно отказался от этой мысли, не желая
обременять себя сентиментальными узами с Петрой, а тем более
с «другим существом», не говоря уже о том, чтобы
связывать себя хоть в какой-то мере с этим варваром Ромуло.
Всему свое время! Быть может, в конце концов...
Одновременно с прибавкой жалованья Хуану вменили
в обязанность просматривать столичные и
провинциальные газеты и отмечать красным карандашом все, что
касалось их секретариата, его начальника и проводимой им
политики. В коротких заметках на полях Хуан
продемонстрировал верное чутье и цепкий взгляд, и ему поручили
редактировать материалы, исходившие из секретариата,
которые отдавались потом репортерам, готовившим
публикации в газетах о работе департамента. Вскоре в
служебных отчетах Хуана подметили те же литературные
достоинства, которые увидел юкатапский адвокат, его
товарищ по заключению, когда читал дневники своего
друга: легкость и непринужденность. Репортеры очень
подружились с «заместителем личного секретаря», как
окрестил его однажды один из них — Домингес, накрепко
припечатав к нему это прозвище. Журпалисты часто
собирались всей компанией в конторе, в приятном обществе
молоденькой женщины с хорошенькой головкой,
красивыми глазами и свежим, веселым личиком. Однажды утром,
заскочив в контору, Домингес застал Хуана, диктовавшего
что-то Хулите, низко склонясь над пишущей машинкой.
— Гм! Я вижу, из этого кое-что выйдет,— заметил
журналист, ехидно ухмыляясь.
— Что? — одновременно спросили оба, стремясь
сохранить невозмутимость.
— Может быть, журналист.
— Да будет тебе!
— Может быть, и два!
И тут Хуан и Хулита вынуждены были улыбнуться,
покраснев от смущения.
Это было первым более или менее открытым
проявлением того, что уже не раз приходило в голову обоим.
Хуан хорошо изучил девушку. Ее глаза, белокурая, как
с медальона, головка, свежее девичье личико и плавная
линия изогнутых бедер делали ее привлекательной,
несмотря на крупный нос, рот и скулы, почти полное
отсутствие бюста и довольно худые ноги. Ее интеллектуальные
запросы сводились к бесконечной болтовне с другими
машинистками о вуалетках и горжетках, чтению Каро-
632
лины, а не Кабальеро Аудас и Гвидо де Верона, с
которыми она еще не успела познакомиться, и Фонтанильса,
писавшего в утренних газетах отчеты о светских
новостях, которые она с наслаждением поглощала, узнавая все
о жизни девиц из высшего общества. Хулита
зарабатывала восемьдесят три песо тридцать три сентаво и делила
кров со своими родителями и братом. Отец и брат тоже
были чиновниками, получавшими не более ста песо
каждый. Как и все подобные ей девушки, она мечтала о
выгодном замужестве. Когда она впервые подумала о Хуане
как о возможном варианте, признавшись себе в том, что
у юноши были красивые глаза и острый ум, ей тут же
пришлось отказаться от этой мысли. С его зарплатой она не
смогла бы даже освободиться от работы в конторе. Куда
там! Другое дело, если он продвинется по службе и станет
посмелее. Ибо до сих пор он осмеливался только на
выразительные, но мимолетные взгляды, на сказапные к месту
приятные комплименты и маленькие знаки внимания,
которые завоевали ее симпатию и доброе расположение.
Что касается Хуана, то, пробыв некоторое время подле
ее чудесных волос и пышных бедер, втиснутых в стул
перед пишущей машинкой, он начал мечтать о помолвке
со всеми сопутствующими ей радостями, но мечты эти тут
же побеждались трезвостью человека, живущего в
реальном мире: он понимал, что не был влюблен по-настоящему.
Хулита вполне подходила для первой норы любви, для
длительного нескончаемого медового месяца, сулившего
ему одни удовольствия, но только не за счет супружества,
которое было бы для Хуана слишком большой роскошью.
Не говоря уже о тех неприятностях, которые всегда могли
обрушиться на него из-за истории с Петрой! Или, что еще
хуже, из-за юридических и моральных осложнений,
которые могли возникнуть в связи с его женитьбой в Пето!
Ведь это был бы типичный случай многоженства! Вздор!
Невозможно!
Но... они по-прежнему остаются в конторе наедине.
Их взгляды встречаются и подбадривают друг друга. Его
взор все дольше задерживается на ее пышных белокурых
волосах. С каждым днем ему все труднее устоять против
ее соблазнительного, ослепительно-белого девичьего тела.
И все неодолимее становится желание под тем или иным
невинным предлогом приблизиться к ней, прикоснуться,
увидеть то, что находится за пределом видимого. Все более
и более необоримо всепоглощающее страстное чувство,
633
охватившее юношу. Он живет, словно в бреду, в каком-то
наваждении, в том состоянии, когда про человека говорят,
что он «влюблен по уши». Любое сумасбродство кажется
возможным. В таком состоянии даже брак не
представляется безумием. Подумаешь, нравственные и
юридические препятствия! Не оставаться же ему теперь
холостяком по гроб жизни! Да и какую практическую выгоду
принесет бедняжке из Пето то, что он будет жить
холостяком всю жизнь? Думать же о своем собственном долге
по меньшей мере глупо. Почему, в самом деле, он должен
отчитываться перед обществом? Что касается
преследований со стороны закона, то эта опасность была
совершенно нереальной. Если заключить гражданский брак...
Наверняка, о его свадьбе не будут сообщать в отделе
светской хроники крупных газет. (Бедная Хулита!) И,
наконец, чтобы Адольфо и Робертико, знавшие о его прежней
жизни, не смогли использовать против него этот
противозаконный гражданский акт и свести с ним счеты, Хуан
утвердился в своем решении стать журналистом. Он уже
успел заметить, что журналисты пользовались всеобщим
уважением, ибо представляли собой реальную опасность
для окружающих. Любая заметка в газете, оплаченная
или нет, за подписью Хуана Кабреры, несомненно,
заставит призадуматься обитателей дома на улице Лагунас.
Только что вышедший из тюрьмы Пепин зашел к
приятелю попросить денег на билет до Матансаса, и Хуан
поторопился дать их ему из сострадания и стремления
отделаться от опасного очевидца своего прошлого и
расчистить себе путь для осуществления поглотивших его
замыслов. Вскоре после этого с помощью одного из знакомых
журналистов и влиятельной рекомендации Хулиана ему
удалось опубликовать в газетном подвале написанный в
тюрьме Мериды дневник, которому он придал форму
вымышленного рассказа. Таким образом, его имя
ежедневно появлялось на страницах газеты, набранное крупным
типографским шрифтом, не говоря уже о том, что он
получил триста песо за печатный труд.
У Хуана уже появился небольшой счет в банке
(открытый по настоятельному совету великого знатока жизни
Хулиана), несмотря на то, что он время от времени
посылал пятнадцать или двадцать песо в Пето. Из трехсот
песо, полученных в газете, он положил на свой счет в
банке только двести шестьдесят, ибо на этот раз отослал
в Пето не двадцать, а сорок песо.
634
Ему еще не раз пришлось поволноваться из-за семьи,
брошенной им в Пето, и из-за Ромуло. Сержант полиции
явился к нему как-то днем в контору, чтобы отвести к
Петре, которая уже переехала в Гавану. Хуану с трудом
удалось уговорить его, да так, чтобы Хулита ничего не
заподозрила, отложить визит на один из ближайших дней.
Что касается семейства Пэч, то, увидев, что получаемая
сумма возросла, они начали требовать еще больше денег
и писать неграмотные письма, угрожая ему самым
недвусмысленным образом. Но Хуан по-прежнему пребывал в
бредовом состоянии. Помолвка состоялась без принятого в
подобных случаях оглашения из-за того, что его любовное
увлечение сохранялось в тайне и слишком уж
затянулось, как, впрочем, и ее девичество. Черт подери! Хуан
был человеком с будущим. Не каждый день попадается
здоровый молодой человек с красивыми глазами,
приятным голосом, опрятный, талантливый и обладающий
многими другими достоинствами, которые она сразу же
подметила в нем. Ей следовало бы ежедневно
благодарить судьбу за то, что такой человек оказался
рядом и постепенно, все больше и больше теряя
голову, влюбился и отважился наконец па решительный
шаг.
Хуан попросил разрешения бывать в доме Хулии Ро-
хас-и-Мартинес.
Этим двум не таким уж юным созданиям хватило
достаточно благоразумия, чтобы в конторе не слишком
афишировать свои отношения и вести себя сдержанно и
осмотрительно. Но, по крайней мере, раза четыре в день ее
пышные бедра, покоившиеся на стульчике перед
пишущей машинкой, прижимались к возлюбленпому, а по
вечерам несколько часов подряд они сидели, крепко
обнявшись, впитывая взволнованное, страстное дыхание друг
друга, обмениваясь жадными взглядами и, украдкой от
посторонних глаз, ласками и поцелуями. Однако то, что
в юности могло длиться до бесконечности, теперь толкало
Хуана раз от раза все сильнее к «решительному
поступку», который уже стал для него идеей фикс.
Как-то утром в отделе светской хроники одной из
самых крупных газет было помещено подробное сообщение
о свадьбе Нэпы с Полито Кастельон-и-Баро, известным
спортсменом, сыном не менее известного коммерсанта
дона Николаса Кастельона. Полито величался
первостепеннейшим, непревзойдеинейшим чемпионом по теннису
635
как в одиночной, так и в парной игре и награждался
прочими необычайными эпитетами, до которых так падки в
подобных случаях репортеры светской хроники. Мать
Полито принадлежала к одному из самых старинных
гаванских аристократических родов. Во второй раз
упоминая дона Николаса, репортер называл его богатым
владельцем крупных сахарных заводов «Росита» и «Апхе-
лпта». А также сообщал, уже в сотый раз с тех пор, как
стал хроникером, что семье Кастельон принадлежит
великолепная вилла в Ведадо, в живописной часовне которой,
окруженной роскошным садом, состоялась свадебная
церемония. Оттуда молодожены отправились потом на
сверкающем «роллс-ройсе», подаренном им отцом жениха, в
свой собственный прекрасный особняк в том же районе
Ведадо.
Даже Хулита никогда не читала с таким волнением и
такой невероятной тщательностью ни одну из
подобных хроник, с каким прочел в то утро это сообщение
Хуан.
— С сыном самого Кастельона! — воскликнул он.—•
Умеют же эти люди устраиваться! Ну что ж, счастья
им!
Он прочел список свадебных подарков, среди которых
упоминались четырнадцать чайных сервизов, шестнадцать
подносов для визитных карточек, восемьдесят пять
цветочных ваз и десять дюжин носовых платков. Было в
заметке и щекотливое упоминание о подаренной кем-то паре
подвязок для невесты — искреннее признание репортера,
восторженно называвшего Нэну «одной из самых
красивых женщин Гаваны». Овальная фотография, хоть и была
напечатана на газетной бумаге, все же позволяла увидеть
ослепительную красоту юной сеньоры Руис де Кастельои,
и это повергло Хуана в смущение и волнение гораздо
больше, чем вызвали в нем сведения о процветании этой
знатной креольской семьи. Ибо одно дело философские
рассуждения, а другое — чувства. Единственная женщина,
которая постоянно жила в его сознании, вероятно оттого,
что пробужденное ею когда-то желание так и не было
удовлетворено, была Нэпа. Упоминание о подвязках для
невесты воскресило в нем образ ее прелестных ног,
который он хранил в своей памяти вот уже более пятнадцати
лет. Прошлой ночью Полито Кастельон насладился этими
гюгами, красоту которых еще больше подчеркнули шелк
ц кружева в прекрасной постели, теплой и благоухающей.
636
И те самые глаза, которые сияли, словно звезды, на
овальной газетной фотографии, наверное, загорелись желанием,
искушением, чувственностью и любопытством, впервые
после того, как она узнала с ним, с Хуаном, что значит
прикосновение к волосам, ощутила на своих губах его
горячее дыхание, почувствовала властную жажду поцелуя
и ласк... Свадьба Нэны, пробудившая в нем ревность,
отчаяние и особенно сладострастие, послужила
окончательным толчком для Хуана, находившегося в
нерешительности, ибо невеста его не осмеливалась зайти слишком
далеко в их отношениях до заключения гражданского брака.
И Хуан Кабрера приступил к осуществлению своих
матримониальных планов.
На свои сбережения, хранившиеся в банке, он
приобрел в рассрочку домик в районе Вибора, совсем рядом с
трамвайной остановкой. Хулита и он собирались
поселиться там вместе с ее родителями и братом, чтобы легче
было справиться с расходами. И таким образом, те деньги,
которые тратились бы на аренду квартиры, можно было
бы пустить в уплату ссуды за дом. Свадьбу они
собирались отпраздновать в узком кругу. Хулите придется
распроститься не только с надеждой увидеть свое имя в
отделе хроники, но и с мечтой о свадебной церемонии, ибо
никак нельзя было назвать церемонией холодную,
серьезную и строгую процедуру гражданского брака,
сводившуюся к регистрации паспортов. Разумеется, Хулита
больше не будет работать. Это было весьма по-кубински.
Как, впрочем, чисто кубинской была и сама причина,
побудившая Хуана несколько дней с наслаждением и
неутомимо действовать в предвкушении обладания желанной
женщиной.
В самый разгар своих приятных приготовлений Хуан
повстречал — и очень кстати — Хулиана. Так или иначе,
он собирался повидать друга, чтобы рассказать о
предстоящей свадьбе и попросить его быть свидетелем.
— Только, пожалуйста, не говори об этом никому ни
слова, тем более моим сослуживцам из секретариата. Мне
таких трудов стоило уговорить Хулиту ничего не сообщать
своим подругам. Представляешь, чего мне это стоило!
Добиться, чтобы женщина умолчала о самом главном
событии в своей жизни. Но мне это удалось — под благовидным
предлогом. И неплохо. Как тебе кажется?
— Все это, конечно, рискованно, но не слишком. Не
думаю, чтобы Руисы... И правильно, что ты не предаешь
637
это огласке. Во всяком случае, сейчас им об этом трудно
будет узнать. Ну, а что касается кое-кого еще... Ты
посылаешь что-нибудь мальчонке?
— Да. И буду посылать впредь.
— Ну, а что до остального, мы уже с тобой не раз
говорили. И в отношении метисочки, и в отношении
мулаточки, о которой ты мне рассказывал. Да, между прочим,
ты читал, что убили Ромуло, сержанта?
— Нет. Когда?
— Да с неделю тому назад. Об этом писали во всех
газетах. Во время одной из стычек у игорного дома. Как ты
проглядел, не понимаю.
— Я никогда не читаю полицейскую хронику. Но... Ты
уверен?
— Абсолютно. Ведь он воевал вместе с Максимо Гоме-
сом? Его, как ветерана, похоронили с почестями. К тому
же он сержант пятого участка.
— В таком случае, дружище, прости мне мой эгоизм,
я могу себя от души поздравить. Хоть один камень с души
долой. Тем более что Ромуло был сущий изверг даже по
отношению к собственным детям.
— Мпе-то, как говорится, на него... А вот что касается
метисочки, все могло обстоять так же, как и с мулаточкой,
если бы ты не поторопился жениться. Но не оставаться
же тебе связанным по рукам и ногам до самой старости
из-за того, что ты по недомыслию и креольской
опрометчивости так безрассудно и поспешно женился. Однако все
это еще ничего. Гораздо хуже, что ты сейчас женишься,
зарабатывая всего лишь сто песо в месяц. Впрочем, нет
худа без добра. Быть может, счета лавочника заставят тебя
наконец стать оратором или политическим обозревателем
в газете. Или, по крайней мере, заняться организацией
манифестаций, приемов, банкетов и юбилейных вечеров.
Ты никак не хочешь уяснить, насколько быстро и с какой
пользой для себя этому обучаются. А затем... карьера!
Взять хотя бы, к примеру, нас, депутатов! Никакой
работы, никакой ответственности, ни перед кем не
отчитываться, и так может тянуться до бесконечности. Пока
тебя не спихнут, но для этого надо быть круглым дураком,
а ни ты, ни я к таковым, по-моему, не относимся.
Хуан улыбается шутке друга, а тот продолжает
подробно рассказывать:
— Представь себе. Я могу в течение года, а то и двух
лет не предложить ни единого нового закона, ни даже ста-
638
тьи закона; могу не посещать заседаний, могу не
голосовать. Да что там! Могу не произнести ни звука. Как это
делает большинство из тех, кого мы знаем. И что же?
В конце месяца — чек, или чеки, для семьи, для друзей,
для политических сторонников. Каникулы на страстную
неделю, на рождество. Парламентские каникулы между
одним сроком и другим. Парламентская
неприкосновенность. Кому придет в голову обратить внимание на то,
что тридцать или сорок принятых нами законов стоили
два или три миллиона песо? Все улетучивается, как дым.
И эти миллионы, и влияние, которым мы пользуемся, и
наше право на неприкосновенность ограждают нас от
вмешательства прессы. Посуди сам. Разве есть в мире что-
нибудь более приятное, чем должность сенатора или
депутата? А ты, чудак, корпишь по семь часов в день в
конторе. Надрываешься!
— И еще как!
— К тому же вечно трясешься перед этими
хищниками. Ах да! Кстати. Я читал, что Нэна вышла замуж.
Заметка про нее немало меня позабавила. «Ее голову
венчал венок из флёрдоранжа — символ чистоты!» Уж ты
прости меня, но, увидев такое, я решил открыть пакет с
записками. Прочитал все и... испытал удовлетворение оттого,
что не имел никаких иллюзий в отношении этой жизни.
Ну и мир, дружище! Волчье логово!
— Ты слишком все преувеличиваешь. Будь здесь Эра-
смо, один из братьев Нэны, он бы сказал, что Nil novi sub
sole *, то есть, что все это прописная истина, ибо еще
древние говорили, что Homo hominis lupus2. Так будешь моим
свидетелем на свадьбе или нет?
— Конечно, дружище. Я вижу, тебе не терпится!.. Ты
меня почти не слушаешь. Разумеется, буду. Но прежде
отдам тебе пакет, чтобы ты разорвал. А хочешь — я
сам порву. Или сожгу. Теперь-то он тебе не
понадобится.
— Нет, нет,— поспешил ответить Хуан, возможно,
подвластный какому-то внутреннему побуждению, ибо чужая
душа —всегда потемки.—Какой смысл спешить с этим.
Пакет маленький, много места не занимает. Пусть
полежит. Сохрани его для меня.
1 Ничто не ново под солнцем (лат.).
2 Человек человеку волк (лат.).
639
XL
Итак, Хуан вторично вступил в брак. И в третий раз
вкусил сладость первичного обладания женщиной. Уже
будучи зрелым мужчиной. Имевшим опыт в любви. Без
сомнения, он был счастлив, доволен, занят хлопотами, но при
этом не испытывал романтической приподнятости и не
придавал событию особенного значения. Это чувствовалось
и по довольно скромному списку приглашенных, и по
первому тосту с шампанским, за которое заплатил Хулиан, и
по свадебному обеду, на который подали трех цыплят и
бисквитный торт с многозначительной надписью; и по
большому бургету из символических нераспустившихся роз,
п даже по рубашке — громадной жертве с его стороны —
из тонкого розового шелка, отделанной кружевами,
лентами и окропленной духами «Коти».
Но вскоре все переменилось, и, как говорится, он
очутился у жены под каблуком. Хулита оказалась будто
созданной для него. Она всецело завладела им, подчинила
своему пагубному влиянию, как сказал бы Заратустра.
II Хуан весь отдался во власть любви, которая
складывалась из дней, недель, годов. Страсть к Хулите не
ослабевала, он был одержим ревностью и не разрешал ей
устроиться куда-нибудь на работу. Это было плохо но двум
причинам: ее увлечение светской хроникой не ослабевало, как
не ослабевал безумный интерес к праздникам,
драгоценностям, нарядам, шалям и roof gardens *,— разумеется,
чужим,— а от бесконечных разговоров с приятельницами,
ничем от нее не отличавшимися, казалось, вот-вот оборвутся
телефонные провода. Кроме того, их материальное
положение все меньше и меньше соответствовало тому
далекому от реальности миру, который создала Хулита в своем
воображении, и тому идеалу семейного счастья, к
которому всей душой стремился уставший искатель
приключений.
Исполнительного, работящего, умного Хуана,
ставшего служащим высшей категории, вскоре назначили
руководителем сектора. Но появление вначале сына — Нэнэ, а
потом дочери — Нэны, уплата ежемесячных взносов за дом,
устрашающий рост цен, бесконечные расходы на шелковые
чулки, туфельки самой разной моды, шляпки на зиму,
лето, весну и осень, на день и на вечер — все это привело
1 Зимним садам (англ.).
640
к тому, что их материальное положение сильно
пошатнулось. Постоянные жалобы на нехватку денег отравляли
Хуану жизнь: «В этом месяце мне нечем заплатить
лавочнику», «Мне уже не продают в кредит полотенца»,
«Сборщик платы за свет три раза приносил счет, мне стыдно
показываться ему на глаза», «Три года, как я замужем, а
все еще ношу эту проклятую шаль, от такой даже прачка
откажется».
«Ora pro nobis» *,— мысленно повторял Хуан и
продолжал работать, бороться, надеяться и верить
(неисправимый, наивный оптимист!), что, продвигаясь вверх по
бюрократической лестнице, он сможет благодаря своим
способностям занять место в одной из газет.
Наконец сложившаяся дома обстановка заставила
Хуана вырваться из-под жениного каблука. Черт подери! Он
тоже имеет право на собственную жизнь и собственное «я».
Достаточно он выбивался из сил и делал все, что она
хотела. Раз уж он единственный вол, который тащит на себе
весь этот воз, то вправе пожать плоды трудов своих.
И Хуан стал по-другому проводить вечера и свободные
дни. i Прежде он всегда торчал дома, тщетно пытаясь
приучить Хулиту понимать и любить то, что он ей читал. Что
касается умозрительных построений относительно
окружающего мира и жизни вообще, то в этом смысле
единственной отдушиной для Хуана были редкие прогулки с
Хулианом в его машине или их беседы, когда они вместе
обедали, а также короткие встречи где-нибудь на улице, в
трамвае или в конторе с Сирило, Корухедой, Карденасом
пли же с кем-нибудь еще из приятелей по службе, такими
же чиновниками, как и он, особенно с неким Гансиньо,
малодушным, плохо одетым стариком, глубоко мыслящим,
искренним философом, который работал под его началом в
секторе и которого он ласково окрестил «Диогеном в
пиджаке».
Дома Хуана просто недолюбливали: его никто не
понимал. Шурин никогда не мог и трех минут послушать
стихи, которые он читал им вслух. А в ответ на
рассуждения Хуана относительно явлений природы, вопросов
международной политики, равпо как и о прочих высоких
материях, брат Хулиты отвечал обычно какой-нибудь
спасительной шуточкой, прикрывавшей его полное невежество,
Точно так же поступал и один из руководителей секрета-
1 Время за нас (лат.).
41 к. ловсйра 64!
риата, который от любых серьезных дискуссий увиливал
с помощью красного словца. Однажды Хуан услышал, как
шурин втихомолку называет его «дохтором». Теща любила
его по-своему, но не могла простить ему, что он не
восклицает «Иисусе!», когда кто-нибудь чихает, и тем более не
прощала, что он отказался крестить детей и не ходил на
воскресные мессы в церковь под руку с Хулитой,
разодетой, словно на бал. Тесть откровенно презирал его. Столько
знать и быть таким «босяком»! Тем паче что с появлением
Хуана в их семье старик лишился репутации самого
эрудированного человека в своем доме, которой пользовался
прежде за то, что являлся государственным служащим еще
во времена испанской колонии и имел красивый почерк.
Не раз ставил его Хуан в неловкое положение, уличая в
серости. И родитель Хулиты ненавидел его за это. Только
по ночам Хуан на несколько часов забывался в покое и
радости, когда, охваченный страстью, он не желал видеть
в Хулите ничего, кроме того, что она была идеальной,
чувственной, искренней самкой: здоровой, чистой, крепкой,
просто созданной для любовных утех. Любил он и время,
которое проводил с детьми, хотя, честно говоря, на первых
порах они не доставляли ему особого удовольствия. Во
всяком случае, он еще не осознавал своей привязанности к
ним. Теперь же все стало иначе. Он играл с ними, ходил
гулять, по очереди укачивал на коленях, в то время как их
мать с газетой в руках выискивала знакомые имена в
заметках хроникера Фонтанильса или, собравшись с
приятельницами под окном, выслушивала россказни соседок о
необычайной роскоши и благосостоянии доньи Имярек,
которую содержал богатый старик, сохранявший свое
инкогнито.
Он снова стал жадно читать. Начал посещать
всевозможные собрания, отдавая этому время, уходившее прежде
на удовлетворение тщеславия женщины, которая,
пользуясь тем, что она ему желанна, заставляла во всем себе
подчиняться, и это, без сомнения, приносило ему большой
вред. Возвращение к книгам, к интеллектуальному
общению вновь пробудили в нем проклятую склонность к
философствованию. Тем более что он взялся за описание
некоторых эпизодов борьбы за независимость в стиле
«Национальных эпизодов» Гальдоса. Как всякий незаурядный
талант, он горел желанием высказать все, что накопилось
у него в душе, но при этом испытывал отвращение и стыд
при соприкосновении с ненавистной ему действительно-
642
стью, которая царила в стране, такой дорогой ценой
освободившейся от иноземного владычества.
Выход первой книги эпизодов — рассказы о некоторых
генералах, под началом которых Хуан служил в
секретариате,— стал триумфом Хуана. Триумфом литературным.
Национальные и зарубежные критики восторженно
отзывались о книге. Но для близких Хуана — членов семьи и
сослуживцев — успех Хуана мало что значил. Подумаешь!
Писатель! Ведь от этого в жизни Хуана ничего не
изменилось. Он по-прежнему делал свое дело. Ему даже не
прибавили зарплату. Но сам Хуан возлагал большие надежды
на свой успех и строил на этот счет невероятные иллюзии.
Его собратья по перу, самые талантливые, самые верные,
ценили его литературное мастерство, его искренность и
отвращение ко всякого рода шумихе, интригам, фальши.
Хуан надеялся, что разрешатся материальные трудности —
причина всех его домашних неурядиц, а вместе с тем и
проблемы Хулиты, сходившей с ума от жажды роскоши и
флиртов. Вот тогда он сможет писать, писать и писать.
В Хулите он разочаровывался постепенно, ибо
постепенным был процесс изменений, происходивший во
взглядах и склонностях женщины, перекатившей за опасный
тридцатилетний возраст. Опасный, поскольку ее духовный
мир был слишком беден. Зато разочарование Хуана в
собратьях по перу произошло резко и необратимо, оставив
неизгладимую горечь в его душе. Литераторы являют
собой скверный биологический вид. Большинство его особей
страдают опасным недугом: это склочники, лицемеры,
завистливые неудачники, те, кто специализируется на
выспренних восхвалениях, и множество других, о
существовании которых Хуан прежде и не подозревал. Эти
образчики испытывают лютую ненависть к таланту. Талантливый
человек способен распознать их сущность, он
оценивает и классифицирует их, и если не отвечает на
заслуженную похвалу — похвалой лицемерной, если не уступает
легко, а мужественно противостоит тем, кто язвительно и
болезненно встречает чужой успех, то моментально
вспыхивает война, глухая, извращенная, жестокая и
беспощадная. Хуан был талантлив. Он оказался гораздо
талантливее, чем это показалось вначале недоброжелателям из
гаванских литературных кругов. Сперва ему пели
дифирамбы, расточая похвалы из арсенала восприимчивой критики
и сбивая с толку необоснованными утверждениями,
стремясь таким образом утолить свою злобу против других
643
литераторов, пользовавшихся заслуженной славой. Его
называли лучшим кубинским очеркистом, чтобы уязвить и
принизить остальных выдающихся, а потому ненавистных,
мастеров кубинского исторического очерка. Проводили
раздраженные сравнения с признанными стилистами,
чтобы умалить их литературный дар в глазах читателей
воскресных приложений. А потом вдруг сразу отвернулись
от новопосвященного, умалчивая о его трудах, предав
забвению и его произведение, и самого автора в момент
очередной переоценки ценностей, пренебрежительно
сравнивая его с каким-то всплывшим в литературе новым
мыльным пузырем. Одни действовали как хамелеоны, другие —
побуждаемые инстинктивной солидарностью с такими же,
как они, бездарностями, страдающими незнанием
синтаксиса, творческим худосочием и скудостью мысли. Хуану
оставалось только уповать на то, что его творение
выдержит испытание временем и принесет ему славу в будущем,
и он смирился с тем, что в сегодняшней борьбе оно не даст
ему никакого преимущества. Тем более что нашлось
немало журналистов,— из тех, кому не удалась карьера
писателя,— которые досаждали ему, намекая на то, что им
стало известно о его семье, брошенной в Пето. Это был
первый сигнал тревоги, подхваченный с высот улиц Га-
лиано и Лагунас кем-то, кто стоял на страже чужой чести,
и сигнал этот эхом, усиленным людской злобой,
передавался из редакции в редакцию.
Его разочарование политическими деятелями, этими
фанфаронами среди обездоленных соотечественников, было
не менее жестоким. Хуан лелеял надежду, подобно Эредии,
который, создав один лишь томик стихов, стал членом
Французской Академии, занять с помощью своих трехсот
страниц, насыщенных мыслями, сильными чувствами и
отличавшихся великолепным слогом, высокий пост, на
котором смог бы служить на благо отечеству и себе,
посвятив себя литературной деятельности, обретя наконец
душевный покой и отдавая все свои силы любимому делу.
Сеньоры политиканы, всегда озабоченные судьбой страны,
ее интересами и ее будущим, могли бы выделить на это
немного денег из государственного бюджета и суммы
собранных налогов. Но куда там! Хуан быстро понял, что с
помощью литературы ему «не выбиться в отцы отечества».
Этих политиканов интересовали чиновники пли кандидаты
в чиновники, которые организовывали шумные юбилеи,
подписывали манифесты или доносили на своих друзей,
644
входивших в другие группировки, или которые
маршировали, как пехотинцы, в первых рядах крупных
политических маскарадов среди вертящего задами сброда,
танцующего конгу, или же услужливо предлагали своих
сестер, а то и просто жен — отменных самок с такими же
запросами и склонностями, как у приятельниц Хулиты.
Все, что выходило за рамки этих интересов — литература,
культура, искреннее желание приносить пользу стране,—
не удостаивалось внимания полковников, генералов,
докторов и прочих сеньоров, принесших себя на алтарь
отечества. Хуан Кабрера и его друг Гансиньо, философ из
сектора, могли обладать более чем достаточным
интеллектом и даже поделиться им с начальником департамента,
отличавшимся умением произносить остроты и
прибаутки; в их личных делах могли стоять наилучшие оценки;
они могли работать годы и годы, но все это не имело
никакого значения, когда приходилось бороться за свое
служебное место, защищая его от какого-нибудь выскочки,
который в Камахуани или в районе Пилар добивался
победы на выборах очередного генерала, намеревавшегося
взойти на пост. И если бы вдруг заговорили о том, чтобы
лишить его должности или повысить по службе, то для
начальников департамента имя Хуана Кабреры
прозвучало бы точно так же, как имя какого-нибудь Хосе Переса
или Пако Пио. Таким образом, все, чего он мог достичь,
было уже им достигнуто: он руководил сектором и
получал свои скромные двести песо в месяц. Спасибо и на том!
Но у него не было никакой возможности продолжать
исписывать чистые листы бумаги без именного грифа и
выспренних выражений; не было достаточно средств, чтобы
удовлетворить этих попрошаек из Пето; не было высокого
устрашающего поста, который заставил бы замолчать тех,
кто знал о его прежних грехах; не было никаких других
доходов, чтобы утолить непомерную жажду Хулиты к
бесконечным покупкам или, по крайней мере, иметь
возможность выделять ей ежемесячно какую-нибудь сумму,
чтобы она оставила его в покое, одного, среди множества
гаванских женщин на любой вкус и за любую цену. Но что
можно было сделать без денег, этой основы всех основ,
когда их у тебя нет из года в год!
Так прошло несколько лет.
То были годы унылого, однообразного существования
чиновника, ничем не отличавшегося от жизни
огромного большинства креолов, населявших кубинские города.
645
Жизни будничной, без треволнений, особых происшествий
и каких-либо событий, которые оставили бы после себя
след в памяти или в записях такого незаурядного человека,
каким был дотоле Хуан Кабрера.
Каждое утро стремительно проходящего дня, в
половине седьмого по звонку будильника, словно монахиня
по зову колокола или солдат по звуку горна, изо дня в
день, из года в год Хуан поднимался с постели,
проваливаясь в том месте, где садился, и задевая бедром Хулиту,
которой уже все надоело, кроме сна, опускал руку к полу
и принимался шарить в поисках первой попавшейся
туфли.
И с этой самой минуты все его действия в течение дня
неизменно подчинялись однообразному, механическому,
раз и навсегда заведенному порядку. Он будил детей рано
утром, чтобы они не опоздали в школу. Потом
отправлялся искать какой-нибудь кусок старой простыни или
нижней юбки, чтобы воспользоваться им вместо полотенца;
затем узнавал, не найдется ли хлеба или молока к
утреннему кофе — у тещи, этой пожизненной служанки всех
остальных, навечно осужденной прикрывать неряшливость
своей дочери. На ближайшем углу садился в трамвай,
всегда в одно и то же время вот уже тысячи раз. Через
четыре квартала выходил, пересаживался на другой
трамвай, который появлялся точно через две минуты. По дороге
сверял время по одним и тем же часам: без четверти
восемь, без десяти, без пяти, ровно восемь, пять минут
девятого, десять минут... Спускался, отсчитывая двадцать
ступенек, вниз по лестнице, так как остановка трамвая
находилась на возвышении. Затем поднимался по лестнице
вместе с другими сослуживцами в канцелярию. Отмечался
третьим, ибо до него успевали прийти робкий Гансиньо и
шеф отдела, у которого не было иных забот, кроме того,
чтобы рьяно выполнять свои служебные обязанности,
заискивать перед вышестоящим начальством, упиваться тем,
что его величают «шефом», и ждать, когда его однажды
отправят на пенсию, назначив ежемесячную вожделенную
сумму и присвоив почетное звание бывшего шефа такого-
то отдела. К его явному неудовольствию, Хуан Кабрера и
Гансиньо всегда вступали в нескончаемые разговоры. Как-
то раз они вошли, спасаясь от проливного дождя и потоков
воды, стекавших с крыш и разливавшихся ручьями по
тротуарам и мостовой. Гансиньо, в своем потрепанном,
выцветшем пиджачишке из легкой ткани, промок до нитки.
— Ты только взгляни, что сотворил со мной этот
голубчик дождь,— завел он разговор, обращаясь к Хуану, не
менее склонному к пустому философствованию, чем он
сам. И потекла беседа.
А если уж появлялся Бетанкур, убежденный
вегетарианец и вполне подходящая мишень для шуток, Гансиньо,
найдя подходящий повод, не без ехидства замечал Хуану:
— Не веришь, спроси у Бетанкура. Бетанкур!
Послушай! Не правда ли, вода — панацея от всех болезней,
может все излечить, как в сказке.
Хуан смеялся шутке, довольный, ибо она содержала
в себе явный подвох. Бетанкур садился на своего любимого
конька и пускался в пространные рассуждения. Гансиньо
продолжал утверждать, что тот отстал от жизни лет на
тридцать. Он, Гансиньо, пережил эту лихорадку еще
тридцать лет назад и теперь слышать ничего не желает о
вегетарианстве. А тем более питаться этой ерундой. Дешевле
оплатить похороны, чем все эти травы. Шеф начинал
сверкать очками из-за бюро, раз, другой, третий, и спор
утихал, превращаясь в тихую беседу между Хуаном и
Гансиньо, пока они торопливо готовили для уже входивших
машинисток черновики, начинавшиеся так: «По приказу
уважаемого сеньора начальника департамента...» В
болтовне Хуана и Гансипьо слышались имена Ницше, Христа,
президента республики, Росендо, мистера Вильсона,
Тагора, Жореса и Капабланки, звучали такие кабалистические
и непонятные для сослуживцев фразы, как «биологический
детерминизм», «духоборство», «интермуниципализация»,
или многозначительные, возмущенные восклицания вроде:
— Ох, уж эти лизоблюды!
Так обычно завязывался их разговор о беззакониях,
о вопиющих несправедливых действиях политических
деятелей страны; разговор, который ко второй половине дня
уже накалялся до предела, был проникнут горечью,
язвительностью, раздражением двух недовольных и
разочарованных сотрудников департамента.
За исключением этих словопрений, ничто не нарушало
однообразного течения дня. Сто раз повторялось: «По
приказу уважаемого сеньора...» Затем Гансиньо открывал
журнал учета, чтобы занести туда сотни записей, каждая
из которых начиналась деепричастием: «уведомляя»,
«ходатайствуя», «рекомендуя» и т. д., и т. п. А Хуан
приступал к редактированию дюжины запутанных и
обременительных докладов, поглощавших все его способности, кото-
647
рые он с успехом мог бы потратить на создание
великолепного «эпизода». Этот изнуряющий ритм работы порою
нарушался какой-нибудь неприятной новостью. То не
хватало денег, чтобы заплатить служащим жалованье до
пятого или шестого числа следующего месяца, хотя сенаторы
и депутаты получили свои оклады еще в двадцатых числах.
То в отделе «Материалы и отчеты» начиналась чехарда с
увольнениями и новыми назначениями. То объявлялось
сокращение государственного аппарата служащих на
двадцать процентов. То секретарь департамента ходил
мрачнее тучи. То на место только что уволенного, долго
прослужившего Имярек назначался какой-нибудь пигмей.
А Кабрерита, тот самый мулат, который служил в
департаменте на побегушках и не умел даже надписать
конверта, выбивался в депутаты палаты представителей.
Единственными приятными моментами в течение рабочего дня
были два часа обеденного перерыва и вечер. Во время
перерыва смеющиеся, говорливые, оживленные сотрудницы
наполняли своим теплом и чувственностью патио, галереи
и огромные порталы у входа, часть улицы между
старинным, в колониальном стиле, зданием департамента и
трамвайной остановкой, к которой вела крутая лесенка. Выйдя
из департамента, Хуан поднимался по лесенке и
дожидался трамвая за спиной у женщин, усевшихся на скамейки.
Постепенно утихли его ревность и тревога, которые он (вот
уж воистину глупец!) проявлял вначале по отношению к
взбалмошной и строптивой Хулите, отравляя себе жизнь,
словно какой-нибудь бесхребетный юнец. Еще чего! Он
снова убедился в правоте своих прежних умозаключений:
в мире существует множество женщин. На любой вкус и
для любой цели. Отношения с ними могли быть
материальными и духовными. Выражаться в денежных знаках
или в глубокой симпатии, духовной близости и
взаимопонимании, стоимость которых нельзя было оценить. Хулита,
конечно, нисколько не сомневалась, что влекущая прелесть
ее округлых, белых грудей, от которых он приходил в
экстаз, выражая ей бурные восторги, лишила его всякой
воли, даже чувства собственного достоинства. Теперь же
он, стоя за скамьей, на которой сидели машинистки,
многое видел, незаметно скользя взглядом по глубоким
вырезам их платьев. А сколько прекрасных и умных глаз! Как
приятно звучали голоса женщин, болтавших о шляпках и
тряпках. Крутая лесенка позволяла ему видеть очертания
их ног, значительно превосходивших по форме ноги его
648
жены. Все эти наблюдения позволили ему стать намного
спокойнее в вечерние часы. Раньше он портил нервы и
жене, и себе, расспрашивая с отвратительной
дотошностью, почти напрямик, где, с кем и как проводила она
день, невольно все усложняя и напоминая человека,
лишенного такта, благородства, самолюбия. Теперь же, перед
тем как лечь спать, он либо помогал детям готовить
домашние уроки, либо отправлялся на какое-нибудь
собрание, либо витал в облаках, наслаждаясь чтением, попав в
ловко расставленную любимыми авторами западню, и его
нисколько не заботило, чем занята Хулита. Философская
беззаботность! Если она не позволяет себе ничего
дурного — прекрасно! Он мог только радоваться этому. Жена
вполне устраивала его и своей внешностью, и как
женщина. Она отвечала всем интимным потребностям
чувственного креола. Если же она себе что-то позволяла, но так,
чтобы он не знал, тс, как говорится, не пойманный — не
вор... Но если она когда-нибудь, по своей оплошности,
уверенная в собственной безнаказанности, даст ему уличить
себя в неверности, более или менее очевидной,
бросающейся в глаза, что ж, тем хуже для нее! Домик уже почти
оплачен, они имеют маленькую ренту, и он мог быть
спокоен в отношении детей. А жалованье, которое он
получал,— для него одного это был бы целый капитал! Он
будет наслаждаться этим капиталом, своей свободой, своим
ни с чем не сравнимым положением независимого
мужчины!
«Так что, Хулита, все зависит только от тебя. Я стану
прежним, если твое поведение в дальнейшем подтвердит,
что я заблуждался в своих подозрениях или в пылу
ревности слишком все преувеличивал. Снова буду доверчивым,
влюбленным, без каких-либо подозрений, таким, каким
был всегда. А если нет... пеняй на себя! Каждый
будет жить сам по себе, в соответствии с теми высокими или
низкими моральными принципами, которыми он
обладает!»
И, мысленно умиротворив себя столь утешительными
доводами, он погружался в дурман, опьяненный
полюбившимися писателями, произведения которых ему горячо и
вполне обоснованно рекомендовали прочесть. Это были ЛГ>
Дантек, Инхеньерос, Франс, Кейрош, Бартрииа, Гейне.
Либо принимался перечитывать древних классиков,
которые теперь, когда у него за плечами уже был большой
жизненный опыт, настраивали его на присущий ему от
649
рождения философский лад. Именно из его уверенности в
том, что не существует господа бога, бессмертной души,
добра, зла или чего-либо разумного, закономерного,
доступного пониманию в этой жизни, именно из всей этой
интеллектуальной отравы в сочетании с ядом окружающей
его действительности и рождались злобные, дьявольские
разговоры с Гансиньо, Хулианом, а порой и с самим собой,
разговоры, полные возмущения и протеста, когда он
сравнивал свое прошлое и настоящее с прошлым и
настоящим тех счастливчиков, которым выпал в жизни удачный
жребий.
— Ты заблуждаешься, Гансиньо. Этот мир, словно
футбольный мяч, облепленный муравьями, который неведомый
игрок запустил с ужасающей силой, заставив вращаться в
космическом пространстве, а вместе с ним и муравьев,
которые несутся, сами не зная откуда и куда, отчего и
зачем. Что, впрочем, нисколько не мешает этим ничтожным
существам, облепившим поверхность, убивать друг друга,
чтобы упрямо цепляться за нее, лелея глупые надежды.
— Нет, Хуан, я нисколько не заблуждаюсь. Я давно
уже постиг эту истину. Но как бы давно я ее ни постиг,
для меня уже все потеряно. Я, как и остальные муравьи,
цепляюсь за мяч, потому что необходимо жить. Но для
тебя еще не все потеряно. Меня только удивляет, как
удивляет всех, кто тебя знает, что ты, постоянно цитирующий
Ницше и Лё Дантека, не можешь добиться славы из-за
каких-то повседневных забот. Ни все эти домашние
заботы, о которых ты мне как старику доверительно
рассказываешь, ни стыдливость, которую ты испытываешь перед
обществом, которому на тебя совершенно наплевать, не
должны удерживать тебя от стремления вырваться
вперед и делать то, что делают все. Кто лучше тебя, писателя,
уже сделавшего первые шаги на поприще ораторского
искусства, так много знающего, что этих знаний хватило бы
на сотню политических деятелей, смог бы, если
захотел, повести за собой наш свободный народ? Свободный,
но не безрассудный... А если ты мне не веришь, то
посмотри на...
И тут, засучив рукава, оба начинали заниматься
препарированием креольской жизни. Хуан весь свой талант,
культуру и трудоспособность до изнеможения отдавал
работе в департаменте, день за днем расточая время и силы,
которые с успехом мог бы посвятить благородному
призванию, на свое собственное благо и па благо общества, в ко-
650
тором жил. А вместо этого целый ряд безликих
верхоглядов, смельчаков, иначе говоря, просто ловких проныр, с
кольтом за поясом, шрамами от ножевых ран или просто
сифилиса, не делали ничего полезного для народа, столь
щедро платившего им, и самым бессовестным образом
припеваючи жили в довольстве и роскоши за счет народа. За
примерами не надо было далеко ходить. Хуан жил как раз
напротив сенатора и рядом с депутатом палаты
представителей. За одну неделю Хуан затрачивал гораздо больше
усилий и приносил куда больше пользы стране, чем оба
эти деятеля за год. Сенатор был из числа тех людей,
которых Хуан относил к разряду совершенно неспособных
отредактировать какой-либо закон, главу закона или хотя
бы внести в него поправку в две строки, потому что им не
дано было от природы построить фразу в десять —
двенадцать слов или хотя бы постараться вникнуть в суть
какого-нибудь самого примитивного и ясно изложенного дела.
Что касается депутата, то он был человеком одаренным, но
какому-нибудь несведущему иностранцу показалось бы,
что палата представителей всегда заседает в полночь и что
депутаты должны постоянно разъезжать по стране в
качестве налоговых инспекторов, конвоиров поездов и тому
подобное. Дело в том, что этот депутат неизменно выходил
из дома днем с чемоданом в руке, а по вечерам уходил,
разодетый в пух и прах, щеголем, с неотразимой розой
в петлице безупречного костюма «супер-экстра». Оклад
шестьсот песо и тысяча с лишним за представительство в
палате продолжали аккуратно поступать на его счет,
покуда, важничая и упиваясь своим положением, он
растрачивал время и силы с одной, а то и с несколькими
«девочками», находившимися в его личном пользовании. А какие
великолепные дома стояли напротив и по соседству с
домом Хуана! Двухэтажные, освещенные сотней
электрических лампочек; учительница музыки давала уроки
фортепьяно двум девочкам, всегда одетым в шелка; массивное
бюро красного дерева, набитое акциями, счетами, чеками;
фисгармония в придачу к пианино; два гаража, каждый
на две машины, и четверо дурно воспитанных шоферов.
В доме же Хуана люди вытирались тряпками от старых
простынь и нижних юбок, прибегали ко всяческим
уловкам, лишь бы не горело одновременно больше двух
электрических лампочек; дети ходили в муниципальную школу
в дырявых ботинках, Нэнэ порой без головного убора, а
Иэна — в штопанной-перештопанной юбке. Зимой старые
651
пальто заменяли им одеяла. Летом они пользовались
холодильником лавочника, жившего на углу, и всякий раз, когда
семья садилась за стол, Нэнэ приносил оттуда графин
с остуженной водой. Да и самого дома они постоянно могли
лршшться, потому что взносы за амортизацию не платились
по три, четыре месяца. А какие чудеса из риса с треской
или креветок, запеченных в тесте, какие похлебки из
костей, картофеля и вермишели умудрялась творить в
последние десять дней каждого месяца мать «аристократки»
Хулиты!
Но не только сенаторы и депутаты наслаждались
жизнью. К числу счастливчиков относился и Монтес, шеф
их отдела. А ведь когда он пришел в департамент, то даже
понятия не имел, с какого боку подступиться к делам!
Зато великолепно умел собирать депьги на подарки
юбилярам, устраивать банкеты и приемы, точно учитывая при
этом, из кого можно извлечь выгоду, а из кого нет! Равно,
как и Баррерита, который пять лет проработал в
департаменте, получая двести пятьдесят песо, постоянные
командировочные и специально предназначенные для него
комиссионные вознаграждения, но так и не научился
правильно писать название своей административной
должности. Баррерита специализировался на составлении
почетных грамот и надписей на памятных вывесках. Когда,
например, для посыльных и мелких служащих открыли
отдельный санузел, Баррерита не замедлил вывесить
бронзовую табличку, гласившую: «Санузел и т. п. Основано при
президенте республики генерале Имярек и начальнике
департамента «X, У, Z» докторе таком-то». Было немало и
других отвратительных субъектов — специалистов по
международным встречам. Они отличались такими
«неожиданными и многообразными» познаниями, что с равным
успехом могли заседать на конференциях и по вопросам
неомальтузианства, и по вопросам авиации. Их было человек
десять — двенадцать. Когда созывался какой-нибудь
очередной международный форум, достаточно было бросить в
шляпу десять или двенадцать записочек с их именами, а
затем вытащить оттуда две или три — и состав кубинской
делегации уже был готов. Ну и, конечно, пресловутые
республиканские династии... Те самые шесть человек —
писатели, ораторы и дипломаты, случайно выдвинувшиеся из
нового поколения, которые неустанно твердили о том,
сколько они сделали на благо отечества, забывая при этом,
во сколько ежегодно обходятся родине их услуги. Или
652
семья Руис-и-Фоптанильс, сумевшая, подобно
многим другим, воспользоваться памятью погибших героев.
Как же хорошо им живется здесь, на этой самой родине,
за которую проливали кровь... другие! Каким всемогущим
стал, например, Робертико! О его умопомрачительной
башковитости можно было судить еще в Лос-Мамейес, когда
он охотился за мулаточками, уже будучи женатым и имея
взрослую дочь. Он, словно акула, поглощал выгодные
должности и потоки расхищаемых государственных средств, о
чем свидетельствовала громадная двухэтажная аптека на
улице Галиано, которую он сумел открыть, не имея других
доходов, кроме окладов, получаемых на трех
государственных службах, захваченных с проворством и хищностью
термита. И как же приходилось Хуану осторожничать с
ним и его родней, опасаясь, как бы они не повергли его в
нищету еще большую, чем та, в которой он жил, или, чего
доброго, не упрятали за решетку, обвинив в
безнравственности!..
Между тем Хуана мучили мысли о том, сможет ли Нэпа
продолжать учебу, чтобы получить звание бакалавра, или
же — увы! — придется готовить его к должности
конторского служащего, которую он когда-нибудь займет.
Л Нэпа станет машинисткой, как и ее мать. Все эти мысли
угнетали не только отца, но и мать, которая вместе с
приближением пугающих сорока лет стала больше
задумываться о будущем своих детей, лучше разбираться в жизни,
понимать, что необходимо иметь надежную крышу над
головой, хлеб насущный и одежду. Разумеется, и он, в свою
очередь, состарился. То ему понадобилось поставить
мостик вместо собственных почерневших и развалившихся
зубов. То приобрести очки, и средство от поседения, и
сердечные капли. Это были первые признаки распада, которые
не могли укрыться от него, человека начитанного, здраво
смотревшего на жизнь.
«Однажды побегут за адреналином или кислородной
подушкой для меня, а потом и за ящиком, обтянутым
черной тканью, обитым блестящими гвоздями. Уже недалек
тот депь. Остались какие-то считанные годы. Даже будучи
оптимистом, нельзя рассчитывать больше, чем лет на
четырнадцать или шестнадцать. Дожить до шестидесяти —
немногим удается».
Охваченный столь безрадостными мыслями, Хуан как-
то встретил Хулиана. Представительный, энергичный,
хорошо одетый, довольный своей жизнью, Хулиан выглядел
653
намного моложе своих лет. Он снова, хотя уже и не так
рьяно, без прежнего пыла, принялся убеждать Хуана
изменить жизнь:
— Опять я буду твердить одно и то же. Что за охота
тебе оставаться в дураках. Даже Карденас, вероятно,
пройдет в советники. А Филете, помнишь того негра, которого
мы звали «Бифштексом», он работал в мясной лавке на
улице Принсипе? Так вот... он войдет в палату
представителей с помощью доктора Блуфа. Ну, а не хочешь
заниматься политикой, займись банковским делом, железной
дорогой или подумай о каком-нибудь коммерческом
предприятии. Я дам часть денег и войду с тобой в долю. Да
встряхнись же ты наконец! Трудно поверить, что на этом
пиршестве, где вместе с винами поглощаются налоговые
фонды, выгодные должности и самые разнообразные
доходы, ты остаешься ни при чем. Вспомни бывшего
помощника начальника департамента. Когда его назначили на эту
должность, он заявил, что если только продержится на ней
полгода, все его проблемы будут решены. «Мне бы
остаться только шесть месяцев, и дело будет в шляпе, вот
увидите!» Так и получилось. У него теперь три дома, он повсюду
разъезжает на своей машине и всегда одет с иголочки.
А ведь его с тобой даже сравнивать нельзя, поверь мне,
я говорю тебе это без дружеских преувеличений...
Порою Хуана охватывало лихорадочное стремление
оставить государственную службу и заняться торговлей
или даже политикой, он делился своими мыслями с Хули-
той, теперь гораздо больше настроенной вести разговоры на
подобные темы. Но от этого лихорадочного состояния его
всегда излечивало одно и то же лекарство. А семья? А дом,
уже почти полностью оплаченный? Что станется со всем
этим, если вдруг те, другие двери окажутся такими же
плотно закрытыми перед ним, как и перед большинством
кубинцев?
Однажды в субботу утром Хуан прочитал в газете о том,
что в три часа дня должна будет состояться церемония
вступления Адольфо, прежде возглавлявшего один из
отделов суда, в должность председателя суда Гаваны, а также
вступление Фернандо в должность прокурора первого
отдела суда, одновременно с дядей получившего это
назначение. И так как церемония происходила при открытых
дверях, а вторую половину дня в субботу Хуан не был занят
на работе в канцелярии, то, надев свой лучший костюм,
он отправился в суд.
654
«Зал судебных заседаний», как гласила табличка,
прибитая на дверях, был до отказа набит разодетыми в шелка
и белоснежное полотно адвокатами, профессорами,
военными, офицерами полиции и важными
священнослужителями в фиолетовых сутанах. Все места были заняты, возле
стола, предназначенного для церемонии, стояло несколько
дам, так что публика, не облаченная в «тройки» или белую
военную форму, столпилась в дверях и в глубине
проходов. Хуану удалось протиснуться вперед. Благодаря своему
высокому росту он быстро увидел тех, ради кого пришел,
да и они вскоре, один за другим, заметили в толпе
любопытствующих «низов» сурового, гордого, внимательно
изучающего их Хуана. Помимо новоиспеченного сеньора
председателя суда и не менее свежевыпеченного
прокурора, на церемонии присутствовали: Бетико, глупое
выражение лица которого не могли скрыть даже его модные усики;
Эрасмо — кандидат в начальники департамента народного
просвещения, «голова которого клонилась набок под
тяжестью наполнявших ее сокровищ»; Робертико с тремя
огромными ослепительными бриллиантами и наглым
взглядом, исполненным падишахского самодовольства и
чванливого бахвальства, не менее вызывающим, чем
драгоценности, которыми заколот его галстук. И Нэна! Нэна с мужем.
Одним из тех подозрительных, ни с чем не сравнимых
типичных блондинов, на которых так щедра запутанная
креольская раса,— красноватое, щербатое лицо и шея,
начинающая лысеть голова рядом с царственно красивой женой.
Воистину неотразимой! Немного располневшая, изящно
одетая, слегка подкрашенная, с обнаженными,
по-прежнему прекрасными, шеей и руками, Нэна находилась в самом
расцвете своей ослепительной, влекущей красоты. На
какое-то мгновение Хуан задержал свой взгляд на Фернандо,
который дружески, участливо, с явной симпатией
приветствовал его. Затем глаза Хуана встретились с глазами
сеньора председателя суда, посмотревшего на него то ли сурово,
то ли беспокойно, то ли презрительно. И снова Хуан
устремил свой взор на Робертико, который не спускал с
«приемыша» напряженного, враждебного, саркастического
взгляда. А затем надолго, так, что это граничило с
дерзостью, Хуан вперился в Нэну, которая, едва заметив Хуана,
уже не оборачивалась в его сторону, заботясь лишь о том,
чтобы не обнаружить своей тревоги и казаться
невозмутимой,
655
Наконец Адольфо начал речь по случаю своего нового
назначения. Она запестрела такими наиважнейшими
понятиями, которые Эса де Кейрош писал всегда с заглавной
буквы: Закон, Мораль, Право. Теперь уже не только взгляд
Хуана был дерзок. Дерзкой стала его язвительная,
уничижающая улыбка скучающего скептика, который внутренне
посмеивается над «всей этой напыщенной болтовней».
Адольфо догадался. Еще лучше понял это Робертико, на
которого уже обратили внимание некоторые его соперники
из-за нервозности и гримас, с какими он, казалось, просил
брата о чем-то из ряда вон выходящем, не терпящем
отлагательства. И тогда Адольфо перешел к уверенному,
открытому и довольно резкому обличению злодеев, которые
живут в этом мире, насмехаясь над законом, моралью и
нравом, сеют несчастья в семейных очагах и распутство в
обществе, меж тем как правосудие не находит нужной
поддержки и столь необходимого ему всеобщего содействия
для того, чтобы, обнажив меч, охранять добро от
грозящего ему зла. Улыбка Хуана вылилась в оскорбительный
саркастический смешок. Внезапно в нем пробудилось желание
бросить им вызов, возвыситься над всем этим
пустопорожним торжеством, пропустить всех этих людей сквозь
призму роившихся в его голове мятежных мыслей. Мораль! Как
согласовать мораль Робертико с тем, что он собирался
сотворить с ним в Лос-Мамейес! О какой морали дона Ро~
берто, этого основателя династии, можно было говорить,
если он увивался за каждой юбкой! Закон! Закон, который
жалует изворотливому фармацевту громадную аптеку па
Галиано взамен крошечной «Чудесницы» в районе Вибора!
Справедливость! Какая же это справедливость, если
Фернандо, пышущий здоровьем, красивый, наделенный
блестящим умом, только что возвысился здесь еще на одну
ступень по пути к вершине своего триумфа, оснащаясь
победоносным оружием, тогда как где-то в Матансасе
скитается другой сын той же крови, Пепин, худой, бледный,
невежественный, кандидат в камеру-одиночку, мишеиь
для ударов, на которую обрушивается социальная вражда!
И Хуан откровенно засмеялся, вызывающе прищелкнув
языком. Тогда Робертико, уже не сдерживая себя больше,
резко перебил оратора:
— Минуточку! Минуточку! Ну-ка, полицейский,
расчистите этот проход.
Все обернулись в ту сторону. Некоторые привстали со
своих мест. Но полицейскому, спешившему привести в
656
исполнение приказ того, кто позволил себе перебить речь
самого председателя, пользуясь тем, что он его брат, так и
не удалось пройти к проходу. Да и в этом не было нужды!
Граждане низшего разряда сами отступили к широким
галереям ветхого квадратного здания, в сторону стертых
ступеней огромной мраморной лестницы. Хуан оказался среди
них. Для Хуана это было ударом в самое сердце. Все его
существо преисполнилось возмущением, протестом,
негодованием против подобной социальной несправедливости. Он
еще не знал, во что выльется этот его порыв, сумеет ли он
упорядочить свои мысли и обуздать свои чувства, чтобы
хорошенько все обдумать.
Но он весь находился во власти этого порыва.
Вероятно, он пребывал накануне того взрыва, который
рано или поздно совершает переворот в душе каждою
истинного кубинца, угнетенного какой-то мыслью, фактом
или ситуацией, постоянно гложущими его нервы и мозг.
XLI
В тот день, возвращаясь домой, Хуан принял твердое
решение. Отныне он посвятит себя политике либо
журналистике или же тому и другому вместе, а может быгь,
найдет иную живую сферу деятельности, которая откроет
перед ним широкие горизонты. При этом его не пугало, что,
возможно, придется поставить на карту самою жизнь. Не
все ли равно: умереть беззащитным босяком лет через
четырнадцать — шестнадцать или же теперь, таким же
босяком, но пытаясь найти выход из создавшегося положения.
«Уважаемая публика,— сказал, стоя на эшафоте, герой
одного рассказа за несколько минут до того, как его
должны были казнить.— Уважаемая публика, лет через
пятьдесят все мы там будем». Так не все ли равно, когда там
оказаться. Но он не желал больше мириться со своим
ничтожным существованием, влачить убогую нищенскую
жизнь и, несмотря на свое литературное дарование,
относиться к числу тех второразрядных людей, которых
какой-то Робертико может выставить с публичного
торжественного акта лишь за то, что было проявлено некоторое
недовольство. Ему, Хуану, надо только найти подходящий
случай и хорошенько воспользоваться им. Или же, чтобы
неисчерпаемый источник жизни и горьких истин — этот
дипамит протеста против всего видимого и невидимого во
42 К. Ловейра 657
вселенной — нанес бы ему еще один жестокий,
сокрушительный удар вроде того, который обрушился на него в
зале суда.
Именно в зале суда, потому что туда он и отправился.
Однажды утром Хуан прочел в газете, что в зале
гаванского суда в тот же день должен состояться судебный
процесс по делу об убийстве по политическим мотивам,
связанным с предвыборной кампанией, над Антонио Баро, для
которого прокурор, доктор Фернандо Фонтанильс-и-Хустис,
требовал смертной казни. Хуан был немало удивлен. Из-за
отвращения к судебной хронике, ежедневно печатавшейся
в газетах, он находился в полном неведении относительно
того, что Антонио Баро убил человека. Антонио Баро, судя
по имени, возрасту и фотографии, опубликованной в
газете, был не кем иным, как старшим сыном Ромуло, который
в порыве отцовских чувств окрестил его именем великого
Масео. И Хуан сразу же решил, что пойдет в суд. Ему это
необходимо было для того, чтобы еще сильнее разжечь в
себе чувство протеста, давно уже полыхавшее в нем. По
той же самой причине он уже с утра стал обсуждать это
дело с Гансиньо, а затем во время обеда -— с Хулитой,
которая, как и Гансиньо, знала почти все подробности жизни
Хуана, за исключением лишь тех, которые из чувства
стыдливости и неодолимого желания сохранить к себе
уважение он предпочел не оглашать. Таким образом, он мог
вместе с ними углубиться в философские рассуждения
относительно тех обстоятельств, которые сделали Фернандо
прокурором, а Антонио обвиняемым, желчно комментируя
при этом столь несхожую, несправедливую и совершенно
случайно выпавшую на долю каждого судьбу, судьбу тех,
кого он знал еще с детства: Эрасмо и Фернандо — с одной
стороны, Пепина, Антонио, чернокожего главаря их
ребячьей шайки с улицы Принсипе, Хулиана и его самого,
Хуана,— с другой. Особенно разительна была судьба
Пепина и его кровного племянника Фернандо; этот контраст
уже оставил однажды тяжелый след в душе Хуана,
когда произошел тот инцидент на углу Галиано и Лагунас.
Один из них был рожден законной супругой владельца
усадьбы в Серро, дамой из высшего общества, а
другой — зачат во чреве крестьянки в зарослях бурьяна. В
порыве вдохновения Хуан процитировал полные
истинного, глубокого смысла слова известного кубинского
писателя:
— Жизнь — есть бесконечная череда событий.
658
И тут же не менее вдохновенно изрек несколько
собственных умозаключений, которые заставили Гансиньо
открыть рот от изумления и которые, быть может, послужат
когда-нибудь Хуану эпиграфом к книге его воспоминаний,
Жизнь — это слепой случай. С момента нашего
зачатия, когда мы не вольны выбирать, быть нам плохими или
хорошими, до эшафота или пьедестала, куда наконец пас
могут однажды водрузить.
Благородная семья, счастливое детство и несколько лет
учебы в университете могут обеспечить кресло прокурора,
а распутство, лавчонка и детство в хижинах возле
сахарных заводов на плантациях сахарного тростника легко
могут привести на скамью подсудимых.
Лишь философия индивидуалиста присуща природе
человека и окружающему его миру, но проповедовать ее так
же глупо, как и неудобоваримо пользоваться ею,
прикрываясь альтруизмом.
К подследственному необходимо подходить не с
антропологической, ломброзианской точки зрения, которая
только вводит в заблуждение, а с социологической.
Фернандо появился на свет здоровым, красивым,
умным, в благополучной, спокойной, обеспеченной семье
безупречного происхождения. Станут ли сеньоры
журналисты ломброзианского толка доискиваться, были ли
патологические недостатки у подследственного, в результате
какой любовной связи явился он на свет, в каком
нравственном климате рос, на каких примерах воспитывался Ан-
тонио Баро? Имел ли он книги, учителей, знал ли
родительскую нежность, мог ли найти нравственные образцы и
помощь в борьбе за существование? Умел ли он читать и
писать, сеньоры ломброзианцы?
Охваченный столь гневными мыслями, почти на пустой
желудок, Хуан явился в зал суда.
Он пришел в час дня. Карманы его были так же пусты,
как и желудок. Это была еще одна причина для
раздражения, будоражившая его нервы и мозг. Он сравнивал уже
не Фернандо с Пепином, не судьбы детей бедняков и детей
богачей, вместе с которыми вырос. Он думал о себе. О себе
самом, едва не повторившем судьбу Пепина пли Антоиио
Баро. Бедняк отец, умерший от туберкулеза, жалкая
лачуга, в которой жили овдовевшая прачка и он, Хуан.
Воспитание, полученное им в «коммуналке» и лавчонке.
Вынужденное нравственное падение матери, беспомощным
свидетелем которого ему пришлось стать. Несправедливость и
659
унижения, которые он должен был сносить в усадьбе в
аристократическом районе Серро. Любовные делишки
Адольфо, Робертико и главы семейства дона Роберто Руис,
в которые слишком рано начали его посвящать. Ох, уж
этот дон Роберто, масон неизвестно какой степени,
патриот и основатель династии на Галпано и Лагупас! Дои
Роберто, который покинул мать Хуана, когда она
лишилась сознания, а потом поместил в больницу, где она и
умерла в одиночестве, мучительно страдая оттого, что
оставляет своего сына в этом хищном мире! В воспаленном
мозгу Хуана проносились и другие эпизоды из его жизни.
Светлокожая Роса из Лос-Мамейес. Робертико, искавший
любовных утех с крестьянками-мулатками, негритянками,
перепачканными красноватой землей, и беззащитными
мальчиками, «приемышами», такими же, как он, Хуан.
Жестокий Ромуло, у которого не нашлось ни для сироты,
ни даже для собственного сына, которому теперь грозила
виселица, иных ласк, иных утешений, чем непристойная
брань, яростные подзатыльники, шшки и оскорбительная
порка. Дурные примеры, которые он получал от
постоянного общения с драчунами и задирами миогоиаселеиных
домов и плантаций, с невежественными крестьянами,
которые всегда носили на поясе нож или мачете. И все это
в возрасте, когда мозг впитывает в себя все, словно губка,
когда пробуждаются примитивные инстинкты и
безотчетные порывы, свойственные подростку, предоставленному
самому себе в пору возмужания. Потом тюрьма в Мериде.
И холодный дом на Виртудес. А до этого одиночество и
беззащитность в конторке служащего феодальной асьенды
в Пето. Пусть только скажут ему о безволии, дурных
наклонностях и ломброзианстве! Разве сможет ему
кто-нибудь доказать, что все, происходящее за дверьми с
табличкой «Зал судебных заседаний», не было осознанным или
неосознанным фарсом для тех, кто в нем принимает
участие или кто верит в него! Где же еще, как не здесь, такое
стечение обвиняемых, их свидетелей и доброжелателей,
среди которых оказался и он, Хуан. Все они толпились у
дверей зала в ожидании начала суда. В основном это были
крестьяне, рабочие и мелкие служащие, женщины в
накинутых на плечи шалях или одетые в искусственный,
дешевый, легкий шелк. Трудно было увидеть среди них
человека холеного, с интеллектуальной внешностью,
хорошо одетого. Эти редко попадались в сети правосудия.
Легкая жизнь, культура, образование надежно ограждают
660
от тюрем и виселиц. На каждого находившегося здесь
обеспеченного, образованного человека приходилась сотня
невежественных бедняков. Такая же пропорция была и
среди осужденных на смертную казнь. Судебные
надзиратели и исполнители относились к беднякам с
высокомерным превосходством, презрением, а порой и злобно.
Изредка в толпе простолюдинов, одетых в дешевые костюмы
из полотна и парусины, мелькала черная мантия
защитника или обвинителя.
«Какие позорные тайны, нравственные и плотские,
должно быть, скрываются под этими неприступными
черными балахонами!» — подумал Хуан.
Л когда мимо него прошел высокопоставленный
государственный чиновник, весьма набожный католик,
явившийся посмотреть, как его подчиненные обвиняли,
судили, распределяли между собой... ответственность по делу
в обвинении Антонио Баро, в голове у Хуана пронеслось:
«Скольких сирот обездолит он в своей конторе! Сколько
нищих наследников обворует! Сколько раз удовлетворит
свою ненасытную похоть, пользуясь нищетой или горем
беззащитных женщин!»
Хуан занял место в людском потоке, хлынувшем в один
из залов суда, чтобы присутствовать на первом
дневном заседании; когда начнется процесс над Антонио
и его приведут в наручниках, он подойдет к нему и
скажет несколько взволнованных слов в утешение.
Бедняга!
II Хуан уселся среди любопытных на одной из
длинных скамей, предназначенных для публики. Глаза его
были затуманены слезами. Донесшийся в зал прощальный
гудок отходившего парохода заглушил слова председателя
суда. Сердце Хуана бешено забилось. В тот день ему
пришлось принять двойную дозу сердечных капель. Он
совершенно не владел собой. И вполне мог привлечь внимание
судебных надзирателей или сеньоров заседателей своим
вызывающим поведением или какой-нибудь дерзкой,
помимо воли вырвавшейся репликой.
Обвиняемый — жалкий, бледный, ничтожный, плохо
одетый, тщедушный человек — всем своим видом
выражал покорность судьбе. И Хуана вдруг охватил ужас:
«Да ведь это же я. Таким я был, когда жил в
«коммуналке» на улице Виртудес».
В качестве обвинителей при отсутствии всяких
свидетелей выступали два сельских полицейских. Они обнару-
661
жили его на окраине города в развалинах старого дома
возле узла с кухонной утварью, украденной несколькими
днями раньше в богатом доме по соседству. Показания
полицейских весьма красноречиво противоречили друг
другу. Один из них якобы нашел беднягу рядом с узлом,
а второй утверждал, что узел был далеко. Потом вдруг
выяснилось, что оба обвинителя сначала нашли узел, а
обвиняемого увидели в этом месте через полчаса, когда во
второй раз вернулись, разыскивая преступников. И
писателю Хуану Кабрере все стало ясно. Писателю и
человеку, охваченному сейчас решимостью бросить вызов всем!
Как обычно, вина за таинственное преступление
взваливалась на первого попавшегося бедняка, чье прошлое было
не безупречным и который, на свою беду, оказался именно
там, где полицейские, проявляя служебное рвение,
разыскивали виновника, или виновников, нераскрытого
преступления; либо на того падала вина, кто, охваченный
страхом и безысходным отчаянием, вынужден был
совершить кражу, не имея средств к существованию и
никакого понятия об уголовном кодексе. Прокурор, выставляя
себя напоказ, заговорил оскорбительным, полным
презрения тоном, словно речь шла о его кровном враге,
лишенном всякого права на собственное достоинство.
«Только о себе печется»,— подумал Хуан.
Пока выступали прокурор и адвокат, судья
подписывал кипу бумаг, которые промокал пресс-папье стоявший
рядом судебный исполнитель, о чем-то с ним
перешептываясь. Один из заседателей, лысый старикашка, сердечник
с тусклыми глазками, клевал носом, одолеваемый
послеобеденной дремой. Другой заседатель, молодой,
приветливый, с живым взглядом, несомненно, сочувствующим,
делал вид, будто внимательно слушает бессвязную,
неискреннюю, совершенно ненужную речь защитника, безусловно
не выдающегося криминалиста, оплаченного этим
съежившимся, понуро втянувшим голову в плечи босяком,
сидевшим на страшной скамье подсудимых. Защитник был еще
совсем желторотым, едва покинувшим учебную
аудиторию. Он не только не осмелился прервать свою речь,
чтобы заставить сеньоров заседателей выслушать себя, но
даже скомкал ее, послушный знаку судьи и делая еще
более нелепым, бессмысленным и смехотворным весь тот
вздор, который произносил.
Забыв о всяком благоразумии, Хуан поднялся и
вышел из зала в самый разгар судебной процедуры. Вышел,
€62
так и оставив Антонно без поддержки и участия. Хуан
словно спасался бегством от какой-то неминуемой беды.
Так оно и было на самом деле. Он бежал от готовых
сорваться с его уст, направленных против властей бичующих
слов, которые он не смог бы сдержат f> при появлении Лп-
тонио Баро, этого опасного преступника, находившегося
под стражей суровых и неумолимых в таких случаях
полицейских. Подобный выпад с его стороны привел бы к
преждевременной гибели всех планов, задуманных им
в тот памятный день, когда состоялась церемония
вступления Адольфо в должность гаванского суды!, планов,
которые коренным образом изменят его жизнь. По прежде надо
было выработать метод борьбы, принять необходимые
меры предосторожности, чтобы обезопасить себя от всегда
возможной атаки со стороны Робертико, Адольфо или того
же Фернандо — этих законников, обладавших большим
влиянием в гаванском суде. Бежать отсюда! А уж какие в
суде царили порядки, он только что имел возможность
убедиться!
— Наглецы! Комедианты! Скоты! Но мы еще будем
на равных! Жнзпь поможет приспособиться к этой
среде.
Когда он возвращался домой, мысли в его голове
бурлили, словно вода в паровом котле под высоким
давлением. По дороге он купил дневную газету и прочел
сообщение о том, что военный американский корабль
«Миннесота» прибывает для поддержания угроз американского
правительства дулами своих орудий. Возмущенные чувства
патриота, перемежаясь с думами, не дававшими ему
покоя, навели Хуана на мысль воспользоваться тяжелой
ситуацией, взволновавшей всю страну, для того чтобы
выступить на страницах печати с первыми своими статьями,
которые покажут, что поднимаются новые силы среди
послушного стада.
Его планы встречают поддержку жены, потому что она
верит в Хуана и потому что с каждым днем все менее
доступными становятся для нее наряды, шляпки и
шелковые чулки. Едва он входит в дом, как тут же
заявляет ей:
— Ты уже прочла о «Миннесоте»? Так вот, я немедля
сажусь писать свою первую статью. Посмотрим,
действительно ли Хименес, этот журналист, друг Хулиана, сумеет
помочь мне опубликовать ее. Я не смог остаться в суде и
повидать Антоыио. Так получилось, что я попал на первое
663
судебное заседание, и оно довело меня до белого каления.
Я вылетел оттуда пулей и теперь объявляю войну. Все, что
я говорил тебе прежде, остается в силе. Сегодня же
вечером ты отправишься вместе с детьми к Росите, снова
начнешь печатать на машинке и научишь этому детей. И
стенографии тоже. Надо приложить для этого все усилия.
Дом, даже если со мной что-нибудь случится на работе или
где-нибудь еще, уже почти выплачен, и если я умру или
меня убьют, у тебя останется крыша над головой.
Впрочем, не думаю, чтобы меня убили. Это я на всякий случай.
Помни о том, что я тебе говорил в последний раз. Детей, в
особенности Нэыэ, ты должна научить, если я не успею
сделать этого сам, жить на земле, а не парить в облаках.
Видно, Христос, спустившись на землю с порученной ему
миссией, поторопился убраться восвояси, ибо мы уже
давно могли убедиться в том, сколь мало преуспели люди в
любви к ближнему. Прежде всего вбей Нэнэ в голову
самое главное и мудрое изречение: «Если можешь, добывай
деньги честно. Если нет, добывай деньги». А еще лучше,
для простоты и краткости, сведи все к двум словам:
«Добывай деньги». Когда есть деньги, то маловероятно, что
ты окажешься на месте Антонио Баро. Но если такое
вдруг случится, то в твоем распоряжении будут лучшие
адвокаты. В тюрьме, как повсюду, привилегии
покупаются за деньги, а законники с продажной совестью всегда к
твоим услугам. За деньги пользуются лучшими врачами,
которые не лечат бедняков. Деньги открывают путь к
широким знаниям. Если есть деньги, каким бы путем они ни
были нажиты, с тобой будут иметь дело самые
неприступные и высокопоставленные особы, от судьи до
священника, от самой почтенной матери семейства до
настоятельницы самого привилегированного заведения для благородных
девиц. За деньги можно приобрести дипломы, должности,
награды. Тех, у кого есть деньги, любят женщины. Только
с деньгами можно быть по-настоящему свободным,
достойным человеком. Конечно, не в деньгах счастье, но это
первостепенное и необходимое условие для того, чтобы в
полной мере наслаждаться любовью, здоровьем,
культурой, моралью, пользоваться всеобщим уважением,
почестями, обладать настоящей свободой в выборе своего
призвания, быть независимым, достойным человеком. Когда я
смотрел на весь этот фарс, названный судебным
процессом, мне вспомнилось еще одно великолепное изречение:
«Мораль изучается по кодексу». Можно иметь дюжину
664
государственных постов ц обогащаться, как в сказке про
лампу Аладдина; можно совращать сколько угодно же л»
ниш или иметь трех-четырех на виду у всех; можно
поглощать дома, наследства, земли и многое другое
совершенно безнаказанно, если умеешь обходить букву закона!
И, наконец, пусть Нэнэ научится водить автомобиль, а как
только сможет — управлять самолетом. Пусть научится
пользоваться кулаками по всем правилам. Мы пошлем его
учиться боксу. Хороший тумак, от которого в голове
звенит, а в глазах темнеет, лучше всего доказывает твою
правоту. Пусть знает, что такое сабля и шпага, научится
метко стрелять. Купим ему пистолет, и он будет ездить в
поле со мной или с тобой, если меня не станет. Он должен
уметь постоять за себя, даже если для этого понадобится
уничтожить того, кто встанет у него на пути. А теперь...
Принеси-ка мне перо и бумагу!
Пока она идет за бумагой, он решает, какой псевдоним
лучше всего избрать для себя. Пожалуй, тот, который он
придумал несколько дней назад: Хуан Креол. Этот
псевдоним больше всего соответствует всей его жизни, всей
его психологии. И если, наконец, он сделает единственно
возможную и быструю карьеру, карьеру политика, то этот
псевдоним как нельзя лучше будет отвечать его натуре:
чувственной, великодушной, ветреной, безрассудной,
болезненно самолюбивой, глубоко интеллектуальной, но
растраченной впустую, одержимой нелепыми идеями,
поступками п намерениями, позволившими ему быть и игроком,
и служащим, и политиком. А став политиком, испытать
головокружительный взлет от нищеты к роскоши. Хуан
Креол!
Сидя перед чистым листом бумаги, он решается
написать памфлет, отказавшись от простого и
непринужденного, точного и изящного стиля своих замечательных
очерков. Он пишет памфлет в подражание всеми признанным
старейшим памфлетистам, поражающим простодушных
людей.
ПРЯМОЙ НАВОДКОЙ
Наши жалкие политиканы, разрушающие
республику,— предатели, подобные тем выродкам, нашим
соотечественникам, которые запятнали грязью
славные страницы героической борьбы за
независимость.
665
Предатели п трусы еще в большей степени.
Ибо те были темны, невежественны и несмотря ни на
что храбро сражались, рискуя своей головой в борьбе
с патриотами.
Нынешние же предатели прячут свои когти, глубоко
затаив ненависть и злобу.
Под их «благородной» личиной таится жестокость,
скрытая в грязных душонках.
Они не способны во всеуслышание заявить о своем
сознательном эгоизме.
Напротив, они маскируют его гражданскими
порывами и патриотическим великодушием.
А их отчаянная, ожесточенная борьба за выгодные
должности, доходные посты и министерские кресла
скрывается под маской демократического альтруизма
и ревностной заботы о республике.
Тогда как те немногие граждане, люди воистину
благородные, те, кто «не мог раскрыть преступлений» и
вынужден терпеть их долгие годы, плачут и
мучительно страдают от собственного бессилия.
Они не могут спасти республику, которая в
несравненно большей степени принадлежит им, их детям и
внукам, чем тем, кто ее обескровил и обесчестил!
Они не могут спасти ее, потому что нет народа!
Потому что предатели вместе с республикой
обескровили и обесчестили народ!
Но горе им, если бы они довели свое черное дело до
конца!
Горе им, если бы одинокая звезда, сияющая на алом
знамени, которое символизирует собой кровь,
пролитую в страшной полувековой борьбе за свободу,
исчезла с небосвода Америки!
ббб'
Им не помогли бы тогда никакие «Миннесоты»!
Прежде чем они смогли бы прибегнуть к чужой,
подлой помощи, мы уничтожили бы их прямой наводкой.
Прямой наводкой можно было бы уничтожить всех
предателей, если бы этот безошибочный удар нанес
сам кубинский народ, когда бы меньше предавался
«танцам и развлечениям» и больше задумывался
о своей тяжелой жизни.
Если бы это был народ времен Фигероа, Марти, Ма-
сео, народ, который знал, что такое достоинство,
благородные идеалы и героическая борьба за свободу.
Народ, который способен уничтожить предателей!
Хуан Креол
Пять лет спустя Хуан Кабрера был избран депутатом
в палату представителей на четыре года и, можно сказать,
одной ногой уже влез в сенат. Совесть его чиста, потому
что он посылает половину жалованья сборщика налогов в
Пето; оплачивает домик Петре, а заброшенный им ранее
первенец служит на государственном предприятии.
У Хулиты открытый счет в самом роскошном
универсальном магазине «Эль Энканто», и она в восторге от жизни.
Нэнэ заканчивает курс обучения и скоро получит звание
бакалавра, а заодно учится в спортивном клубе наносить и
получать удары кулаками и шпагой. Нэна берет частные
уроки французского и английского языков, а также пения
и игры на скрипке. В двухэтажном доме с пианино и
слугой, в новом районе Гаваны, живет «его» блондиночка с
нежно-розовой кожей и изящной современной фигурой.
Он посещает ночной ресторанчик па набережной Мале-
кон. Имеет акции, плантации сахарного тростника,
время для занятий литературой и десять собственных домов,
один из которых, самый великолепный, где живет
постоянно, приобрел у доктора Роберто Руиса. У него есть
бриллиант стоимостью в тысячу песо, две машины в его
основном доме, а одна — в доме у блондиночкп; десять
билетов на бесплатный проезд по стране и пятьдесят
костюмов из полотна «супер-экстра».
667
Однажды днем они обедают с Хулиапом, отмечая
победу, которую одержал Хуан, воспользовавшись наконец
советами друга.
— Да, между прочим,— спрашивает его Хулиан,
попивая «Бенедиктин» после коктейля.— Что прикажешь мне
делать с тем злополучным пакетом, в котором хранятся
любовные записочки? Принести тебе их как-нибудь в
палату, чтобы ты порвал?
— Не надо. Порви сам. В конце концов надо быть
человечным. Бедняжка ни в чем не виновата. Она вовсе не
была распущенной. Просто в ней говорил необузданный
инстинкт возраста, с которым она не могла справиться.
— До чего же ты стал великодушен!
— Это от успеха, дружище.
— Теперь ты действительно можешь сказать, что
одержал победу.
— Да, по-креольски.
— Иначе и быть не могло. Ведь мы живем не
где-нибудь, а на Кубе, среди креолов. А теперь, когда наступит
естественная реакция, когда придет неизбежная пора
обнов л ения...
— Ну и пусть наступает! Нам теперь уже все равно...
ПРИМЕЧАНИЯ
ГЕНЕРАЛЫ И ДОКТОРА
Стр. 19. ...«галисийская сардина»...— «Галисийцами», или
«галисийскими сардинами», на Кубе в прошлом, а иногда и сейчас
называют всех испанцев, независимо от провинции, из которой они
происходят.
Ньяпъиго.— Т&к называют членов тайного братства негров
«Абакуа». На Кубе «ньяньиго» искони означало — храбрец, не
знающий страха, презирающий опасность. Но вместе с тем это слово
всегда означало: «опасное, темное, преступное».
Стр. 20. ...непременного Рипальду.— Имеется в виду Мартинес
де Рипальда, испанский писатель конца XVI — начала XVII в.,
иезуит, преподаватель философии и теологии, известный
религиозный оратор. Его труды и в новое время служили своего рода
хрестоматией для начальных испанских школ, в особенности «Ка-
техисис и краткое изложение христианской доктрины» (1618).
Стр. 21. Сеитен — старинная испанская монета.
Стр. 22. Дон Хасиичо— ногастик.— «Ногастыми»,
«большеногими» дразнилп на Кубе испанцев; особенно в ходу это выражение
было во времена борьбы за отделение от Испании.
Стр. 23. ...реликвии Десятилетней войны.— Имеется в виду
освободительная война 1868—1878 гг.
Моитепеп Ксавье де (1824—1902) — популярный в свое время
французский романист и драматург.
Стр. 26. Сеспедес Карлос Мануэль де (1819—1874) —
выдающийся борец за независимость Кубы.
Аграмонте Игнасио (1841—1873) — кубинский патриот,
прогрессивный деятель и военный руководитель во время
Десятилетней освободительной войны (1868—1878 гг.).
Стр. 28. ...портрет Масео.— Имеется в виду Антонио Масео,
национальный герой Кубы, прославленный генерал, заместитель
генералиссимуса Максимо Гомеса.
Второе мая.—2 мая 1808 г. жители Мадрида подняли
восстание против войск Наполеона Бонапарта. День Второго мая
считается испанским национальным праздником.
670
...марш волонтеров по улицам города...— Отряды волонтеров
в поддержку колониального режима на Кубе вербовались из
среды проживавших в стране испанцев.
...по улицам... убранным в желтое и красное...— Желтое, а
также красное — основные цвета испанского знамени тех времен.
«Ла Ковадопга» — марш, названный так в честь деревни Ко-
вадонга в испанской провинции Астурия, где в 718 г. состоялось
первое сражение испанцев с маврами, положившее начало
Реконкисте.
«Мисгела» — алкогольный напиток, приготовленный из
водки, воды, сахара, с добавлением небольшого количества
корицы.
Стр. 29. ...презренный мамби.— Словом «мамби» испанцы
называли восставших в середине XIX в. негров в Доминиканской
республике. Когда на Кубе началась Десятилетняя война, испанцы
стали так называть и кубинских повстанцев. Кубинские патриоты
с гордостью приняли это прозвище.
Стр. 31. ...о студентах 71-го...— Речь идет о
студентах-медиках, ложно обвиненных в «надругательстве над могилой»
волонтера. Около тридцати пяти человек были приговорены к
каторжным работам, восемь — расстреляны.
«Диарио де ла Марина» — о дна из старейших кубинских
газет реакционного, происпанского направления, была закрыта
после революции 1959 г.
Стр. 33. ...речь, достойную... Федерико Капдевилы.— Имеется
в виду капитан Федерико Капдевила, который был защитником
студентов на процессе по делу 1871 г. (см. примеч. к с. 31).
.„бессмертной славой Навас-де-Толоса и Уод-Раса.— При
Навас-де-Толоса в 1212 г. произошло одно из известных в
истории Испании сражении, предрешивших победу над
маврами. Уод-Рас — место, где в 1860 г. между испанцами и
марокканцами произошло сражение, положившее конец войне в
Африке.
Стр. 36. Альпаргаты — традиционная крестьянская обувь тина
сандалий на веревочной подошве.
Стр. 45. Хуан де Диос Леса (1852—1910) —мексиканский поэт,
политик и дипломат.
...улицы... замощены по системе Мак-Адама...— Мак-Адам —
шотландский инженер, придумавший способ мощения улиц
щебенкой, умятой катком. На Кубе так стали мостить улицы с
1834 г.
Б аире — одно из местечек в провинции Орьенте, где в 1895 г*
началось вооруженное восстание, положившее начало национгль-
но-освободительной войне 1895—1898 гг.
671
Стр. 46. ...<?... душах эмигрантов, расплодивших табачные
фабрики по всей Флориде...— Имеются в виду рабочие-табачники и
хозяева табачных фабрик, эмигрировавшие в США в связи с
кризисом табачной промышленности во время Десятилетней войны.
В Нью-Йорке, а особенно в Ки-Уэсте и в Тампе, они создали
сильную табачную промышленность, которая конкурировала
с Гаваной.
Солеа, петенера — народные андалузские папевы,
сопровождающие танец.
Пунто гуахиро — крестьянские кубинские напевы,
исторически восходящие к народным андалузским мелодиям.
Стр. 47. Гуаябера — мужская рубашка особого покроя,
навыпуск, первоначально была одеждой крестьян — гуахиро, затем
стала модной и в городе.
Стр. 58. Морито — один из вариантов игры в бильярд.
Стр. 61. Вьюда — один из вариантов игры в бильярд.
Стр. 72. «Валеары» — обувь, производством которой славились
в те времена Балеарские острова.
Стр. 77. Петушиные бои (петушиный цирк) — одно из
любимых народных развлечений на Кубе. Кубинские художники часто
изображают кубинца с петухом или сам бой петухов.
...«корову» — из двух монет.— В игре в карты — общая
ставка двух или нескольких игроков в складчину.
Стр. 79. Белые карты — карты без фигур, от десяти и
ниже.
Стр. 108. ...был самым выдающимся автономистом...— Авто-
номизм — оппозиционное движение в 1881—1899 гг. Автономисты
выступали за самостоятельность Кубы при сохранении
суверенитета Испании.
«Кайо-Уэсо кубано» («Кубинский Ки-Уэст»).—Ки-Уэст —
город на острове того же названия. В Ки-Уэсте и Тампе
патриотические кубинские организации были наиболее многочисленными
и активными. В Ки-Уэсте в 1892 г. был подписан акт об
основании Кубинской революционной партии.
«Коиститусиональ».— Имеется в виду партия
«Конституционный союз», созданная в 1878 г. и ставившая целью сохранение
Кубы за Испанией без каких бы то ни было реформ.
Стр. 111. Гальвес Хосе Мария — известный кубинский
адвокат и журналист, возглавлявший движение автономистов с
момента его возникновения.
Саладригас Карлос — один из известных ораторов-автонома-
стов.
«Неизменные» — так называли на Кубе сторонников
колониального режима,
672
Стр. 112. ...теперь ее зовут Ла Арреманеа.— При посвящении в
какой-нибудь африканский культ обычно, помимо мирского
имени, принимали новое имя, в соответствии с правилами данного
религиозного сообщества.
Стр. 124. ...офицерикам Марии-Кристины.— Имеются в виду
офицеры испанской армии, части которой находились на Кубе.
Мария-Кристина — испанская королева-регентша при малолетием
сыне, короле Альфонсо XIII.
Стр. 125. ...синие и белые портьеры...— Синий и белый —
основные цвета знамени сражавшейся Кубы, ныне государственного
национального флага Республики Куба: алый треугольник с белой
звездой и пять полос — три синих и две белых. Три синих
полосы символизировали три провинции, на которые в те
времена делилась Куба, белые полосы — чистоту помыслов
повстанцев, треугольник — единство и силу нации, звезда —
политическую независимость острова, надежду и будущее счастье
страны.
Стр. 126. Куэто Хосе А. дель — профессор университета,
известный адвокат и оратор.
Хиберга Элисео — знаменитый адвокат и оратор.
Стерлинги (Маркес Карлос и Маркес Мануэль) — видные
деятели движения автономистов.
Висенте Гарсиа — кубинский землевладелец из Тупаса
(провинция Орьенте); подготовил восстание в Тунасе, одновременно
с другими выступлениями положившее начало в 1868 г.
Десятилетней войне.
...протестовал в Барагуа под легендарными манго.— В феврале
1878 г. был подписан завершивший Десятилетнюю войну за
независимость компромиссный Санхонский пакт, согласно которому
руководители освободительной войны обязывались прекратить
вооруженную борьбу, а испанцы обещали реформы в управлении
Кубой, всеобщую амнистию и освобождение рабов, принимавших
участие в войне. Антонио Масео, руководивший
освободительными силами в провинции Орьенте, отказался капитулировать.
Испанский главнокомандующий генерал Мартинес Кампос
предложил встретиться с Масео, надеясь склонить его к капитуляции.
В марте 1878 г. в городе Барагуа (Мангос-де-Барагуа)
встретились Мартинес Кампос с его генеральным штабом и небольшая
группа наиболее популярных героев освободительной армии во
главе с Антонио Масео, который выразил протест против Санхон-
ского пакта и объявил решение революционных освободительных
сил не соглашаться ни на какие мирные условия, если они не
основаны на всеобщей немедленной отмене рабства и признании
независимости Кубы.
43 К. ловейра 673
Стр. 128. ...спасения Сангили...— Имеется в виду Хулио Сан
гили, легендарный генерал и герой Десятилетпей войны. История
о том, как в 1871 г. он попал в плен к испанцам и как его друг
и военачальник Игнасио Аграмонте выручил его, очень
популярна на Кубе.
...встречи в Лас-Гуйсимас, вступления в Олъгин...— Имеются
в виду наиболее яркие эпизоды Десятилетней войны.
Стр. 130. ...звуками «Вайямесы»...— «Байямееа», или «Гимн
Байямо», национальный гимн Кубы, слова и музыка Педро Фиге-
редо. Гимн появился в период подготовки к восстанию 1868 г.
Впервые был исполнен в городе Байямо в день религиозного
праздника, демонстративно, в присутствии испанского
губернатора, по общему сговору между патриотически настроенными
жителями Байямо, подменив собой религиозный марш. Город Байямо
был взят революционными освободительными войсками Сеспеде-
са и объявлен временной столицей «Свободной Кубы».
Стр. 131. «...гнусно укрываются в чужих краях».,.— Фразы в
кавычках, по-видимому, цитаты из прессы автономистов,
содержащие типичные нападки на сепаратистов и на Хосе Марти. К
описываемому времени уже была создана Кубинская революционная
партия и надвигалась национально-освободительная война,
опиравшаяся на широкие демократические слои кубинского
общества, что и вызывало негодование умеренных — автономистов.
Стр. 132. ...как говорил наш пламенный основатель
«Литературных листов»...— Имеется в виду Мануэль Сангили, издатель и
редактор литературно-критического журнала «Литературные
листы»; видный деятель освободительного движения, участник
Десятилетней войны, после окончания которой стал доктором нрава;
профессор, литературный критик, журналист.
Стр. 139. Пресвятая дева делъ Кобре (дева Милосердия).—
Кобре — местечко близ города Сантьяго-де-Куба, где находится
храм во имя Пресвятой девы дель Кобре, считающейся
покровительницей Кубы; у ее алтаря среди прочих подношений лежит и
Нобелевская медаль — дар Э. Хемингуэя в знак любви к народу
Кубы.
Стр. 140. «Да Унион» — кубинская еженедельная газета,
выходила с 1873 г., освещала проблемы рабочего движения.
Стр. 141. ..Масб и эти люди из Байре...— Речь идет о
вооруженном восстании в феврале 1895 г., положившем начало
национально-освободительной войне. Восстание вспыхнуло в провинции
Орьенте, в городах Байре, Хигуани и Гуантанамо. В районе
города Мансанильо повстанческими отрядами руководил генерал Бар-
толомё Масб.
„.все, кто в Ибарре, и заговорщики в Гаване схвачены...—
€74
Речь идет о начале национально-освободительной войны 1895—
1898 гг. Испанский генерал-губернатор Кальеха нанес серьезный
удар движению, арестовав Хулио Сангили и Хосе Мариа Агирре,
которым было поручено руководство восстанием в западных
провинциях — Гаване и Матансасе; в Ибарре находились
возглавляемые Лопесом Коломой и другими повстанческие отряды,
которые были разгромлены.
Стр. 142. Мы им припомним «Вирхилиуса», бедного Варо-
пу...— На английском пароходе «Вирхинпус» более ста экснеди-
циоыеров (в том числе кубинский патриот генерал Бернаве Варо-
на) в 1873 г. направлялись из США к берегам Кубы. Испанскому
кораблю удалось настичь «Вирхиниус» в английских
территориальных водах, и несмотря на то, что военное снаряжение было
затоплено и команда судна была английской, пароход был
задержан и отконвоирован в Сантьяго-де-Куба, и все без исключения —
команда во главе с капитаном и пассажиры — были обвинены в
«пиратстве» и осуждены на расстрел. Когда были расстреляны
первые пятьдесят человек*, на рейде Сантьяго появился
английский военный корабль, командир которого потребовал прекратить
расправу, угрожая в противном случае бомбардировкой городу.
Так было спасено сто два человека.
...студентов...— См. прпмеч. к с. 31.
Пи-и-Маргалъ Франсиско (1824—1907) — испанский
политический деятель, лидер левых республиканцев; адвокат и литератор.
Стр. 143. Любой сакатека метит чуть ли не в президенты, а
янки только и ждут с раскрытыми жабрами, как бы повторить
свой мексиканский подвиг.— На Кубе одетого в ливрею
служащего похоронного бюро презрительно называли «сакатека». Сакате-
ки — индейское племя, обитавшее на территории нынешней
Мексики, о чем до сих пор напоминают штат и город Сакатекас.
Говоря о «мексиканском подвиге», автор намекает на американо-
мексиканскую войну 1846—1848 гг., когда, спровоцировав
«восстание» американских плантаторов в Тексасе, США вторглись па
территорию Мексики и в результате «присоединили» к себе почти
половину страны.
Стр. 144. Мануэль Гарсиа — легендарный предводитель
крестьян, объединявшихся в конце XIX в. в повстанческие отряды для
борьбы против помещиков; о храбрости и справедливости
Мануэля Гарсиа складывались легенды, а испанские власти
называли его «бандитом».
Стр. 149. ...Тельо Санчес, Хосе Мигель Гомес, Паичо Каррильо
и другие люди 68-го года.— Имеются в виду ветераны
Десятилетней войны, принимавшие участие в национально-освободительной
войпе 1895—1898 гг.
675
...во времена Большой войны — то есть Десятилетней войны.
Стр. 151. ...о высадке братьев Масео...— В апреле 1894 г.
около Баракоа (провинция Орьенте) высадились с группой патрио-
1ов Антонио и Хосе Масео.
Кромбет Флор — генерал освободительной армии,
сражавшийся под командованием Антонио Масео.
...мы узнали о Марта, о его легендарной смерти...— Хосе
Хулиан Марти-и-Перес (1853—1895) — «апостол независимости»,
идеолог и вождь национально-освободительного движения на Кубе;
знаменитый поэт и публицист. Погиб 19 мая 1895 г. в бою с
испанцами при Дос-Риос.
Эль-Пасо (Пасо-дель-Ыорте) — старинное название местечка
Сыодад-Хуарес на севере Мексики.
//^яльго-и-Костилья Мигель (1753—1811)—герой
национально освободительной борьбы мексиканского народа, предводитель
восстания индейцев в Мексике в 1810—1811 гг. против испанского
господства и креольских помещиков; Идальго создал свое
правительство в Гвадалахаре, издавшее в декабре 1810 г. декреты о
возвращении индейцам общинных земель. Восстание потерпело
поражение, Идальго был захвачен и казнен.
Пупта-Арепас — чилийский порт на берегу Магелланова цро-
лмпа.
Can-Мартин Хосе (1778—1850) —один из виднейших
руководителей борьбы за независимость испанских колоний в Америке,
генерал, аргентинец. В 1814 г. командовал вооруженными силами
аргентинских патриотов. В 1817 г. возглавил военный поход в
Чили, перешел с армией Лиды, разбил испанские войска, в
результате чего Чили была освобождена от испанского господства.
В 1821 г. войска Сан-Мартина освободили от испанцев Перу.
Хуан Бруно Сайас — медик по образованию, одни из
выдающихся кубинских генералов, участников
национально-освободительной войны 1895—1898 гг. По плану «кампании вторжения»
должен был пройти вместе с Лптонио Масео до Манагуа, но в
июле 1896 г. погиб в провинции Гавана.
Стр. 152. Эстрада Пальма Томас — один пз лидеров
Десятилетней войны, но с ярко выраженной проамериканской
ориентацией. В 1902 г., после провозглашения Кубинской республики, был
избран первым президентом Кубы, проводил политику, угодную
США.
Вейлер — испанский генерал Валериано Всйлер-и-Николау,
маркиз де Тенерифе, известный кубинцам своей жестокостью еще
со времен Десятилетней войны (его называли «генерал железной
руки»); в 1896 г. был назначен генерал-губернатором Кубы в свя-
8и с отзывом генерала Мартинеса Кампоса, бессильного справить-
676
ся с освободительным движением. Из террористических мер Всн-
лера особенно известен декрет о так называемой «концентрации»
(см. примеч. к с. 185).
Вуд — американский военный губернатор на Кубе с декабря
1899 г. по май 1902 г.
Стр. 155. «Старый Китаец» (Чино Вьехо) — прозвище
генералиссимуса Максимо Гомеса.
Стр. 156. Каиовас дель Кастильо Антонио — премьер-министр
Испании с марта 1895 г.; консерватор, сторонник сохранения Кубы
за Испанией; в августе 1897 г. был убит анархистами.
...республику... «хай алая»...— «Хай алай» на языке басков
означает «веселый праздник». Так назвали первую открытую в
Сан-Себастьяне в 1887 г. площадку для игры в мяч, с партером,
ложами и галереей для зрителей. Игра эта превратилась в
азартное предприятие, подобное бегам.
Генерал Калъеха...— Имеется в виду генерал-губернатор Кубы
ко времени начала национально-освободительной войны 1895—
1898 гг. Он распорядился беспощадно расстреливать кубинских
повстанцев, попавших в плен. Не справившись с накатывающим
освободительным движением, в марте 1895 г. был отозван в
Испанию.
...во дворце па Пласа-де-Армас.— Пласа-де-Армас—
старинный городской центр Гаваны, начавший складываться в XVI в.
Стр. 157. ...в легендарных равнинах Колисео...— В районе
города Колисео (провинция Матансас) кубинскими повстанцами
во время «кампании вторжения» были разбиты части
регулярной испанской армии.
Стр. 162. Гонсало де /fecada-и-Аростеги (1868—1915) —
оратор, публицист, последователь Хосе Марти, секретарь Кубинской
революционной партии.
...зарегистрированные в хунте в качестве добровольцев... в
составе так называемых экспедиций...— В марте 1878 г. кубинские
эмигранты в Нью-Йорке создали боевую группу из пяти человек,
которая стала называться хунтой, а позднее Революционным
кубинским комитетом. Главной своей задачей комитет считал
координацию и руководство всеми революционными организациями па
Кубе, закупку и отправку на Кубу оружия и боеприпасов и
организацию экспедиций, доставлявших их. Во главе комитета стал
ветеран Десятилетней войны генерал Каликсто Гарсиа,
членами комитета были — Томас Эстрада Пальма, Гонсало де
Кесада-и-Аростеги, Эдуардо Йеро, Бенхамин Герра, Хоакип
Кастильо Дуани. Когда в 1880 г. Каликсто Гарсиа высадился
с экспедицией на Кубе, председателем комитета был избран
Хосе Марти.
677
...газету Трухильо...— Имеется в виду газета «Эль Порвенир»
(«Будущее»), которую основал в Нью-Йорке Энрике Трухильо —
журналист, патриот, помогавший повстанцам.
Эдуардо Йеро Будуэн — журналист из Сантьяго, автономист,
позднее сепаратист, эмигрировавший в Нью-Йорк.
Бенхамип Герра — владелец сигарных фабрик в Ки-Уэсте,
впоследствии казначей Кубинской революционной партии а
кубинского представительства в Нью-Йорке.
Стр. 163. ...о сражениях при Пералехо и Маль-Тъемпо...—
В июле 1895 г. повстанческая армия под водительством Антонио
Масео в районе Пералехо дала сражение испанским войскам
генерала Кампоса, которые, несмотря на численное превосходство,
были полностью разгромлены. Сражение при Маль-Тьемпо,
происшедшее позднее, также закончилось победой повстанческой
армии.
Стр. 164. ...старичок с крылатой душой...— По-видимому, речь
идет о Сальвадоре Сиснеросе-и-Бетанкуре, маркизе де Санта-
Лусия. Крупный землевладелец и влиятельное лицо в провинции
Камагуэй, с молодых лет принимал участие в освободительном
движении; во время Десятилетней войны отдал свои земли
крестьянам, а то, что у него осталось, завещал Ассоциации
ветеранов борьбы за независимость. В сентябре 1895 г., когда было
сформировано правительство Кубинской республики, был избран
президентом «сражающейся Кубы».
Рафаэль Кабрера — кубинский патриот, возглавлявший одну
из экспедиций на Кубу, высадившуюся в июле 1895 г. в
провинции Орьенте.
Хулиан Ветанкур — кубинский патриот, служил военным
врачом в освободительной армии во время пационально-освобод и
тельной войны.
Раби Хесус — один из наиболее популярных деятелей
освободительного движения; выходец из зажиточной испанской семьи,
он порвал с ней, вначале принимал участие в освободительном
движении в Венесуэле, а затем целиком посвятил жизнь борьбе
за независимость Кубы, которая стала его второй родиной.
Хоакин Кастилъо Дуани — генерал освободительной армии;
член Революционного кубинского комитета (см. примеч. к с. 162).
...все деяния и сочинения Бароны, Монтехо... Бетанкура...—
Энрике Хосе Барона (1849—1933) — видный деятель
освободительного движения; литератор, журналист, поэт, философ, профессор,
политик; написанный им в начале национально-освободительной
войны манифест «Куба против Испании», в котором
рассматриваются политико-социальные истоки освободительного движения,
был принят Кубинской революционной партией и направлен всем
673
латиноамериканским народам; Рикардо Артеага-и-Монтехо — сви-
щенндк из Камагуэя, видный оратор, примкнувший в числе
прочих духовных лиц к сепаратистам; Луис Викториано Бстапкур —
поэт, сотрудничавший в журнале «Куба» Э.-Х. Варопы, но более
известен как политический оратор в революционной палате
представителей во время Десятилетней войны.
Стр. 165. „.портреты... Маркова...— По-видимохму, речь идет о
доминиканце Маркосе делъ Росарио, высадившемся вместе с Хосе
Марти, Максимо Гомесом и другими экспедициоперами в апреле
1895 г. у берегов северо-восточной Кубы.
Стр. 167. ...чтецом па табачной фабрике...— Чтения на
табачных фабриках, где зародились первые рабочие организации,
связаны с началом рабочего движения на Кубе. Табачникам во
время работы читали газеты, произведения выдающихся мыслителей
разных эпох, художественную литературу.
Матагас — один из предводителей крестьянских отрядов,
восставших против кубинских помещиков.
Вуэльта-Абахо — район в провинции Пинар-дель-Рио,
знаменитый своим табаком.
Стр. 175. ...зубрили по Оллендорфу...— Имеется в виду
популярный в конце XIX в. самоучитель иностранных языков Оллен-
дорфа.
Стр. 176. ...о «вторжении»...— Имеется в виду «кампания
вторжения*: стратегический план, задуманный Максимо Гомесом и
Антонио Масео, к осуществлению которого они приступили в
октябре 1895 г. «Этот поход в западные провинции — одна из самых
ярких и славных страниц в истории кубинского освободительного
движения. Немногочисленная и плохо вооруженная
освободительная армия за три месяца прошла с боями весь остров от Барагуа
до Мантуа, проделав путь в 1700 километров, форсировав,
казалось, неприступную линию испанских укреплений и захватив у
испанцев большие трофеи... К 1 января 1896 г. освободительная
армия вошла в провинцию Гавана, угрожая столице...» (А. М.
Зорина. Из героического прошлого кубинского народа. М., 1961,
с. 193.)
Стр. 179. «Яра» — газета кубинской эмигрантской колонии в
Ки-Уэсте. Как и в других газетах кубинских эмигрантов на юге
США, в ней публиковались решения, принятые Революционным
комитетом, речи и обращения революционных деятелей,
боровшихся за независимость Кубы. Яра — местечко под Байямо
(провинция Оръенте), откуда Карлос Мануэль де Сеспедес
в 1868 г. обратился к кубинцам с призывом начать
восстание прошв испанцев, iwropoe положило начало Десятилетней
вой и <\
679
Стр. 181. Фермии Валъдес Домингес — адвокат, кубинский
патриот, близкий друг Хосе Марти.
Стр. 185. ...учреждал известную всем концентрацию...—
Стремясь лишить освободительную армию продовольственной базы,
запугать население и пресечь борьбу с испанскими карательными
отрядами, Вейлер издал в феврале 1896 г. три приказа, один из
которых касался так называемого «режима концентрации»:
сконцентрировать все сельское население страны в городах и
населенных пунктах, занятых испанскими войсками; в результате этого
режима повсеместно прекращались сельскохозяйственные работы,
сжигались поселения, уничтожались посевы, отбирались лошади
и скот; запрещено было всякое свободное передвижение по стране.
Жертвы «режима концентрации», не обеспеченные ни жильем, ни
работой, ни средствами к существованию, ютились в хибарках из
соломы или пальмовых листьев и массами умирали от голода,
холода и эпидемий; жители, пе подчинившиеся приказам Вейлера,
объявлялись мятежниками и беспощадно уничтожались.
Стр. 197. Браво Корреосо Антонио — один из виднейших
ораторов кубинской эмиграции, высланный за сепаратистские
убеждения в Испанию, а затем перебравшийся в Нью-Йорк.
Бетанкур Мапдулей Альфредо — один из известных
ораторов-автономистов.
Стр. 199. Ролофф Карлос — варшавянин, покинувший Польшу
после поражения восстания 1863 г.; прибыв на Кубу, воевал в
рядах освободительной армии. Кубинцы называли его «русский
храбрец».
Лакрет — генерал освободительной армии в 1895—1898 гг.
...побег Эвапхелипы Коссио...— Кубинская патриотка Эванхе-
лина Коссио бежала из гаванской женской тюрьмы-. «Лас Реко-
хидас», репортажи о ее чудесном спасении обошли все газеты
США.
...линией траншей, фортов и заграждений, которые опоясали
остров от Мариеля до Маханы...— Имеется в виду построенная при
Вейлере линия укреплений в западной части острова.
Гибель героя ста боев...— 7 декабря 1896 г. в бою при Сап-
Педро (провинция Гавана) погиб Антонио Масео.
Стр. 200. Серафип Санчес и Хосе Масео, Хуан Бруно Сайас и
Нестор Арангуреи, Кастилъо, Леонсио Видалъ, Касалъяс —
кубинские патриоты, принимавшие активное участие в национально-
освободительной войне 1895—1898 гг. Генерал Серафип Санчес —
крупный военачальник, ближайший помощник Антонио Масео;
Рафаэль Касальяс — испанский офицер, во главе трех
кавалерийских эскадронов присоединившийся к повстанцам. Отряд его был
вскоре разгромлен, сам он погиб.
680
Эмилио Ну пьес — генерал освободительной армии во время
войны 1895—1898 гг.
...находился в ставке «Ла Реформа» под началом у
генералиссимуса...— Генералиссимус — генерал Максимо Гомес. «Ла
Реформа» — родовое имение М. Гомеса в республике
Санто-Доминго, штаб и убежище кубинских повстанцев; так же называлось и
поместье на Кубе, где находилась ставка генералиссимуса во
время национально-освободительной войны 1895—1898 гг. «Ла
Реформа» назвали и военную кампанию под руководством М. Гомеса,
в результате которой был нанесен большой урон испанской
армии.
Каликсто Гарсиа.— Генерал Каликсто Гарсиа,
председатель «Хунты пяти» (см. примеч. к с. 162), высадился на
Кубе в 1880 г.
...при Руби и Канделарии...— Имеются в виду города
в провинции Пинар-дель-Рио, при которых происходили
победоносные для кубинцев сражения по плану «кампании
вторжения».
Кабанья — крепость на берегу Гаванской бухты, построенная
во второй половине XVIII в., во время освободительных войн
служила военной тюрьмой.
Стр. 201. ...институт Смитсопа...— Имеется в виду научное
учреждение, основанное в 1846 г. на средства английского химика
и минералога Джеймса Смитсона. Смитсоновский институт ставил
своей задачей «распространение знаний среди людей». Позднее па
основе коллекции, собранной Д. Смитсоном, был организован
музей естественных наук, постепенно пополнявшийся материалами,'
собранными в экспедициях.
Уильям Мак-Кинли — президент США (1897—1901). При Мак-
Кинли было развязано вмешательство в конфликт между
Испанией и Кубой и началась испано-американская война (май —
август 1898 г.), закончившаяся установлением на Кубе
американского военно-оккупационного режима, продлившегося с 1 января
1899 г. до 20 мая 1902 г.
Стр. 208. ...взрыва в Гаванской бухте броненосца «Мейп».—
15 февраля 1898 г. на рейде Гаваны взорвался американский
крейсер «Мейн». Вместе с судном погиб экипаж, 262 человека. «Взрыв
крейсера, так же как и антиамериканские выступления в
Гаване 11—12 января 1898 г. и инцидент с опубликованием письма
испанского посла в Вашингтоне, позволившего себе
неблагожелательное высказывание в адрес президента США,
послужили непосредственным поводом к испано-американской войне»
(А. М. Зорин а. Из героического прошлого кубинского народа.
М., 1961, с. 224). Историки допускают, что взрыв на аме-
681
рпкаиском броненосце мог быть осуществлен в провокационных
целях.
Стр. 212. Варгас Вила Хосе Мариа (I860—1 #33) — ко л умой й-
ский писатель, работавший, в частности, в жанре
приключенческого романа.
Стр. 213. ...консул Ли...— Имеется в виду генерал Фитцюг Ли,
генеральный консул США в Гаване, которого кубинские
патриоты принимали за человека, искренне сочувствующего делу
независимости Кубы. Есть основания полагать, что истинные его
намерения вполне соответствовали тайным помыслам
вашингтонского кабинета Мак-Кинли, то есть — свободная от Испании
Куба под протекторатом США.
.. появилась объединенная резолюция...— Имеется в виду
резолюция, которую вотировал конгресс Соединенных Штатов
19 апреля 1898 г.; в ней объявлялось, что население Кубы «имеет
право быть свободным и независимым», что Испания должна
отказаться от своего суверенитета над Кубой и отозвать с острова
вооруженные силы. Вскоре Испания и США объявили о
состоянии войны между ними.
Стр. 226. ...курьер Карвахалъ — Федерико Энрикес-и-Карва-
халь — друг и соратник Хосе Мартн.
Стр. 227. Эстеван Ворреро Эчеваррия (1849—1906) — кубинский
писатель, известный как автор философских рассказов.
Стр. 230. ...громкое имя: «Сцевола».— Гай Муций Сцевола —
герой древнеримского предания.
Стр. 235. Хутия — зверек из семейства грызунов.
Стр. 237. ...о его славном подвиге вместе с его другом Агра-
м он те...— Речь идет о спасении Хулио Сантили из плена (см.
примеч. к с. 128).
Стр. 238. «Тата» Санчес— По-видимому, имеется в виду
командир повстанческой армии Тельво Санчес, которого ласково
прозвали «Тата» — отец.
Стр. 248. Сесар Канту (1804—1895) — итальянский историк п
писатель, автор «Всеобщей истории», переведенной на многие
языки мира.
Стр. 250. Дьюи в Кавите... Сэмпсон в Сантьяго... В Каиее
испанцы...— Война между Испанией и США развертывалась на
двух театрах: у берегов Антильских островов и на Филиппинах;
Кавите — крепость и порт на острове Лусон в Тихом океане.
В мае 1898 г. эскадра американского адмирала Дьюи потопила
в Манпльской бухте эскадру испанского контр-адмирала Монте-
хо. В июле эскадра американского адмирала Сэмпсона разбила при
выходе из гавани Сантьяго-де-Куба эскадру испанского
адмирала Серверы. II в той и в другой операции силы амери-
682
капского флота намного превосходили силы противника. Во
всех десантных и сухопутных операциях американским
войскам помогали части кубинской освободительной армии.
Город Каней (провинция Орьенте) был взят при решающей
поддержке повстанцев под командованием генерала Каликсто
Гарева.
...в Париже сочинялся мирный договор..— Согласно договору
от 10 декабря 1898 г., Испапия отказывалась от суверенитета над
Кубой. После эвакуации испанских войск США должны была
оккупировать страну.
...в согласии со знаменитой «Joint Resolution»..,— то есть так
называемой «Объединенной резолюцией» (см. примеч. к с. 213).
Эредиа Хосе Мариа (1803—1839) — выдающийся нубийский
поэт.
Луасес Хоакин Лоренсо (1826—1867) — известный кубинский
поэт и драматург.
Поэй-ш-Алой Фелипе (1799—1891) — известный натуралист и
поэт.
Гитерас Педро Хосе (1814—1890) — кубинский историк, автор
«Истории острова Кубы», первого труда, посвященного всеобщей
истории страны.
Лус-и-Кабалъеро Хосе Сиприано де ла (1800—1862) —
знаменитый кубинский философ, мыслитель и педагог.
Стр. 251. Пласа-дель-Вапор — рынок в Гаване, построенный
в начале XIX в.; в настоящее время не существует.
Версалъяс — район в городе Матапсас.
Сан-Севериио — крепость в городе Матаясас, служившая
военной тюрьмой.
Стр. 261. ...история с двумя флагами...— В течение первой
военной оккупации Кубы Соединенными Штатами (1 января
1899 г.— 20 мая 1902 г.) на официальных зданиях в стране
развевалось два государственных знамени — знамя Республики Куба
и знамя США.
Стр. 262. «Эль Мундо» — гаванская газета.
...наши высокие покровители воевали с Гогенцоллериами.—
6 апреля 1917 г. США объявили войну Германии. Вслед за ними
войну Германии объявило и кубинское правительство,— шаг,
продиктованный зависимостью от США.
Стр. 266. ...до второй оккупации.— Имеется в виду вторая
военная оккупация Кубы Соединенными Штатами (сентябрь 1906 г.—
январь 1909 г.) по просьбе президента Томаса Эстрады Пальмы в
связи с обострением политической обстановки в стране и
Августовским восстанием, вызванным его намерением выдвинуть свою
кандидатуру в президенты на второй срок.
683
Стр. 269. «Гений и., фигура».— Игра слон, имеющая в виду
сочинение итальянского антрополога и криминалиста С. Ломбро-
зо «Гений и безумие».
Стр. 270. Национальная партия.— Имеется в виду партия,
объединившая преимущественно буржуазно-помещичьи и
мелкобуржуазные слои; возникла в период первой американской
оккупации.
Стр. 272. А тут нагрянул август...— Имеется в виду
Августовское восстание 1906 г. (см. примеч. к с. 266).
Стр. 276. «Эль Энканто» — самый роскошный универсальный
махазин в Гаване. Вскоре после революции 1959 г. был взорван
контрреволюционерами в террористических целях.
Стр. 277. ...дворец «Капитапес Хенералес» — в колониальные
промена резиденция генерал-капитана (испанского наместника на
Кубе), позднее — кубинского правительства; дворец расположен
на Пласа-де-Армас.
Генерал Бланко—последний испанский генерал-губернатор
на Кубе.
Стр. 278. Бар паве Антонио Педро Хосе Мариа (1761—1793) —
французский политик и оратор, славившийся своим
красноречием.
Мирабо (1749—1791) — французский политик, знаменитый
оратор времен французской революции.
Кастеляр Эмилио (1832—1899) — известный испанский
оратор, писатель и политик.
Стр. 288. «Между своими, чего стыдиться нам» — Етзвание
комедии-буфф (на Кубе их называют «сайнете») знаменитого в
те времена автора и актера Густаво Ребреньо (1873—1957),
писавшего для гаванского театра «Альгамбра».
Стр. 293. ...делающие политику... под африканский барабан...—
Имеются в виду политики, посещавшие посвященные божествам
афрокубинских языческих культов ритуальные празднества, для
того чтобы привлечь к себе симпатии простого народа, собрать
голоса перед выборами.
Стр. 294. ...казался Баярдом...— Педро де Террайл, сеньор де
Баярд — французский военачальник XVI в.; в Испании Баярд —
имя нарицательное для рыцаря без страха и упрека.
Д'Апнунцио Габриэль (настоящее имя — Каэтано Рапагнета;
1863—1938) — итальянский поэт, романист, драматург.
Стр. 295. Корради Фернандо — испанский писатель, политик,
историк второй половины XIX в.
Риверо Николас Мариа — испанский оратор и адвокат.
Хусто Хуан — аргентинский медик, писатель, политик,
социалист.
684
Стр. 296. Джордж Энрике — американский социолог и экопо-
мдст.
К оста Андрее — итальянский политик, один из основателей
итальянской Социалистической партии.
Ле Даптек Феликс Алехандро — французский биолог и
философ. _
Стр. 297. Система «Бертильон» -— система обнаружения
преступников, «бертильонаж», созданная Альфонсом Бертильоном —
французским медиком и антропологом.
Стр. 298. Февраль.— Имеется в виду Февральское восстание
на Кубе в 1917 г., возникшее в результате политической кампании
протеста против переизбрания президента Мепокаля и вызвавшее
еще одну американскую интервенцию по просьбе кубинского
президента.
Стр. 303. Эхидо — улица в Гаване, на которой во времена
действия романа находилось управление провинции Гавана.
Стр. 313. Вторым Масой... Артолой палати представителей.—
Хуан Хосе Маса-и-Артола (1867—1939) —известный оратор в
первые годы республики, считался мастером энергичного и
возвышенного слога.
Бонафу-и-Ктмперо (1855—1918) — французский журналист и
писатель, занимал некоторые официальные должности в
Испании, Пуэрто-Рико и на Кубе.
Стр. 317. ...из трех сил, представляющих республику.—
Имеются в виду президент и две палаты конгресса: сенат и палат
представителей.
ХУАН КРЕОЛ
Стр. 361. .. пресвятой девой Реглой — божьей матерью
мулаткой... перекочевавшей сюда с другой стороны Гаванской бухты —-
Регла — один из районов Гаваны, расположенный на южном
берегу Гаванской бухты.
Стр. 382. «Саламейский алькальд» — пьеса испанского
драматурга Кальдсрона де ла Барка (1600—1681).
«Веселый ужин» — пьеса испанского поэта и драматурга
Бальтасара де Алькасара (1530—1606).
Стр. 437. Ипхепио — сахарный завод.
Батей — территория сахарного завода с прилегающими к
пому поселком и плантациями.
Стр. 440. Сибопеи — первобытное индейское племя,
населявшее Кубу; ныне не существует.
Стр. 456. «Вана» — так в простонародье па Кубе сокращенно
называют Гавану.
685
Сгр. 504. ...единственная дочь лердиста, вынужденного
эмигрировать из Мексики...— Лердистами называли сторонников
президента Мексики Себастьяна Лердо де Техада, незаконно
свергнутого в 1876 г. Порфирио Диасом.
Стр. 528. Тоетой -— мексиканская серебряная монета, равная
пятидесяти сентаво.
...генерал Диас провозгласил себя пожизненным президентом
республики...— Имеется в виду Порфирио Диас, президент
Мексики с 1877 по 1880 г. и с 1884 по 1911 г.
Стр. 564. Комаль — глиняный диск для выпечки маисовых ле-
пешек.
Стр. 649. Инхеньерос Хосе (1877—1925) — аргентинский фило-
соф^га гериалист, общественный деятель.
Бортрина Хоакин Мариа де (1850—1889) — испанский поэт,
СОДЕРЖАНИЕ
Ю. Погосов. Псевдореспублика и творчество Карло-
са Ловейры
ГЕНЕРАЛЫ И ДОК1ОРА
Перевод Л. Архиповп
Время грусти и сомнений
Время надежд и героизм
Время неуверенности
F a p л о с Л о в е й р а
ГЕНЕРАЛЫ И ДОКТОРА
ХУАН КРЕОЛ
тор А. Шлейфер
члй редактор
ова
тор