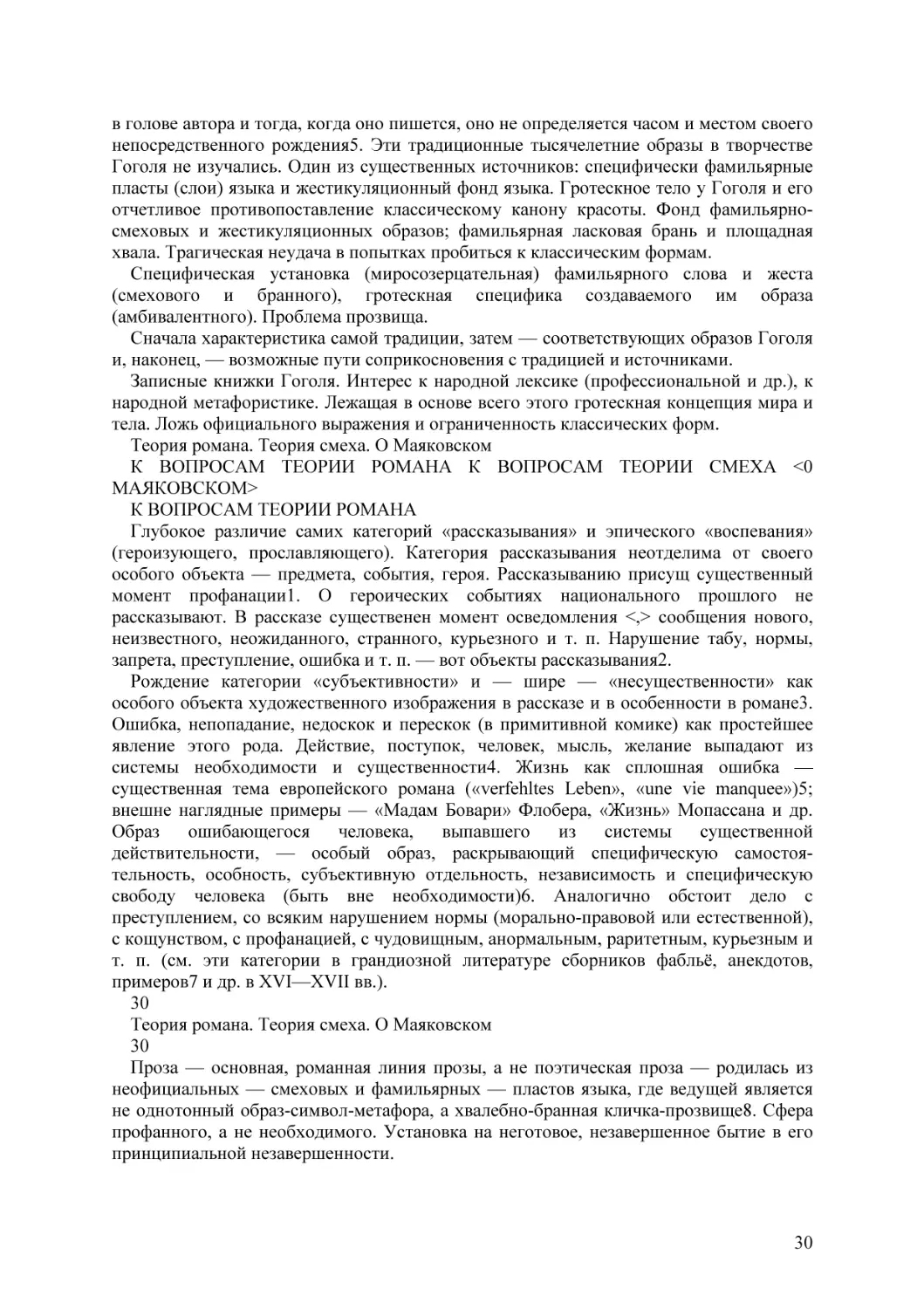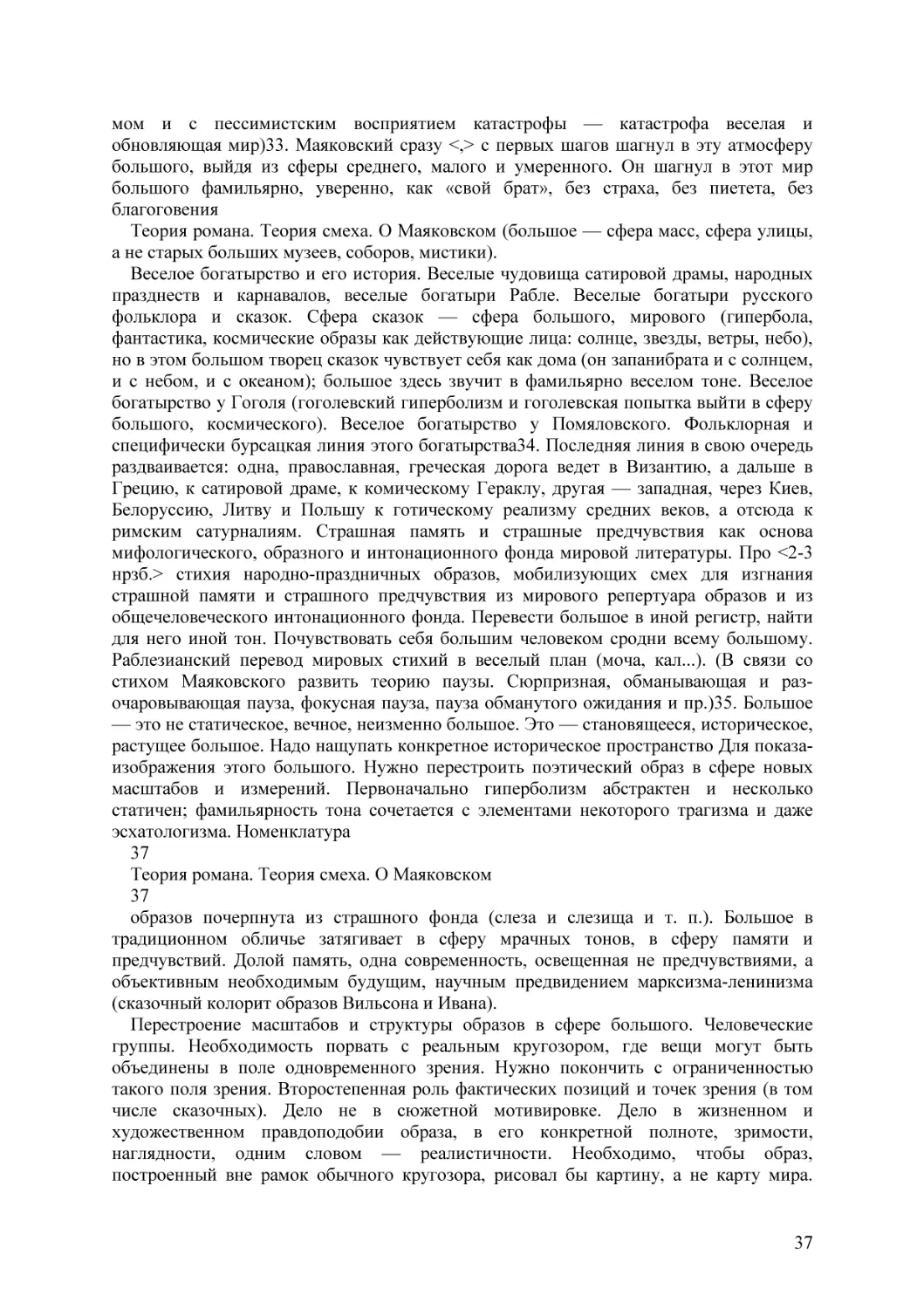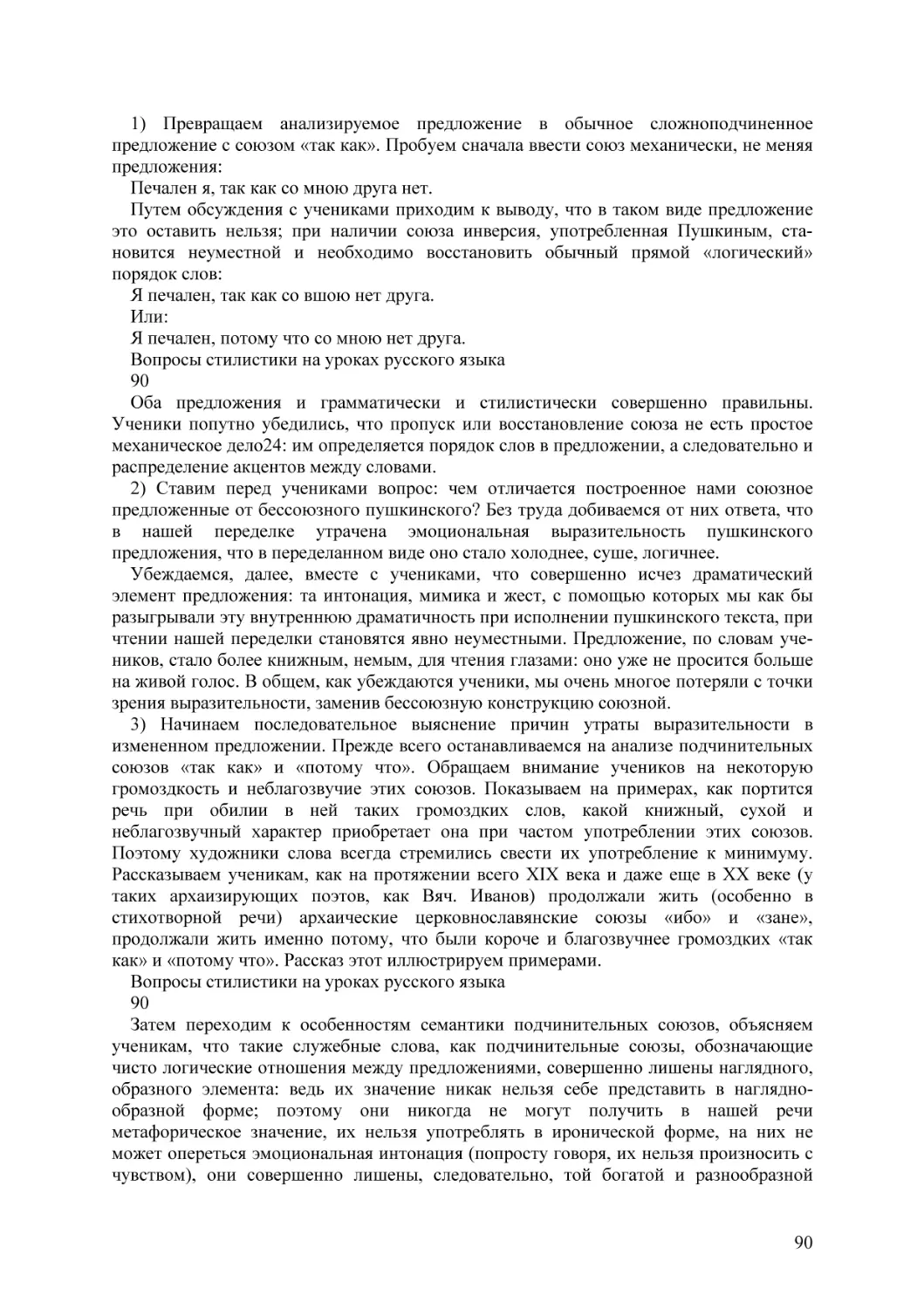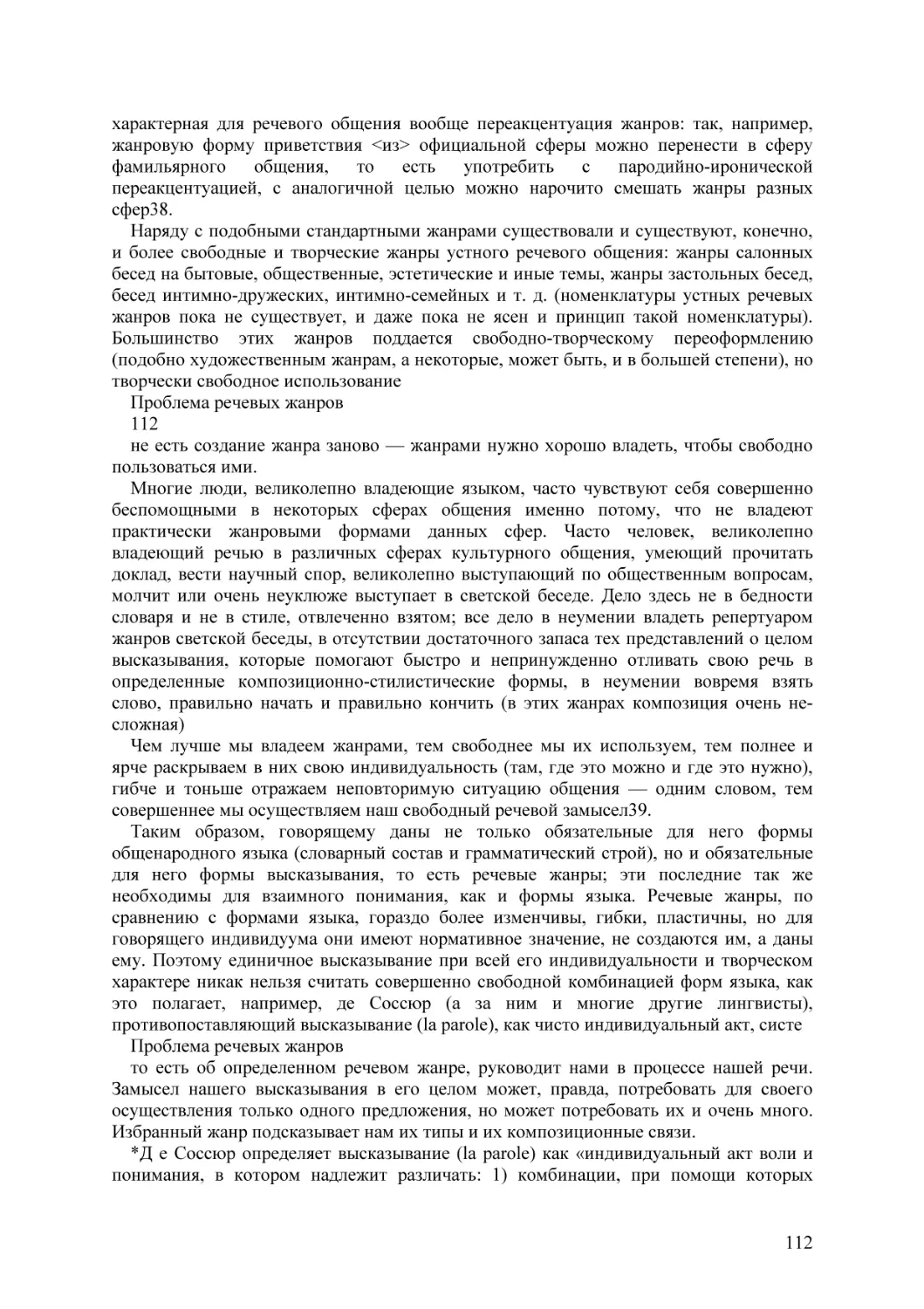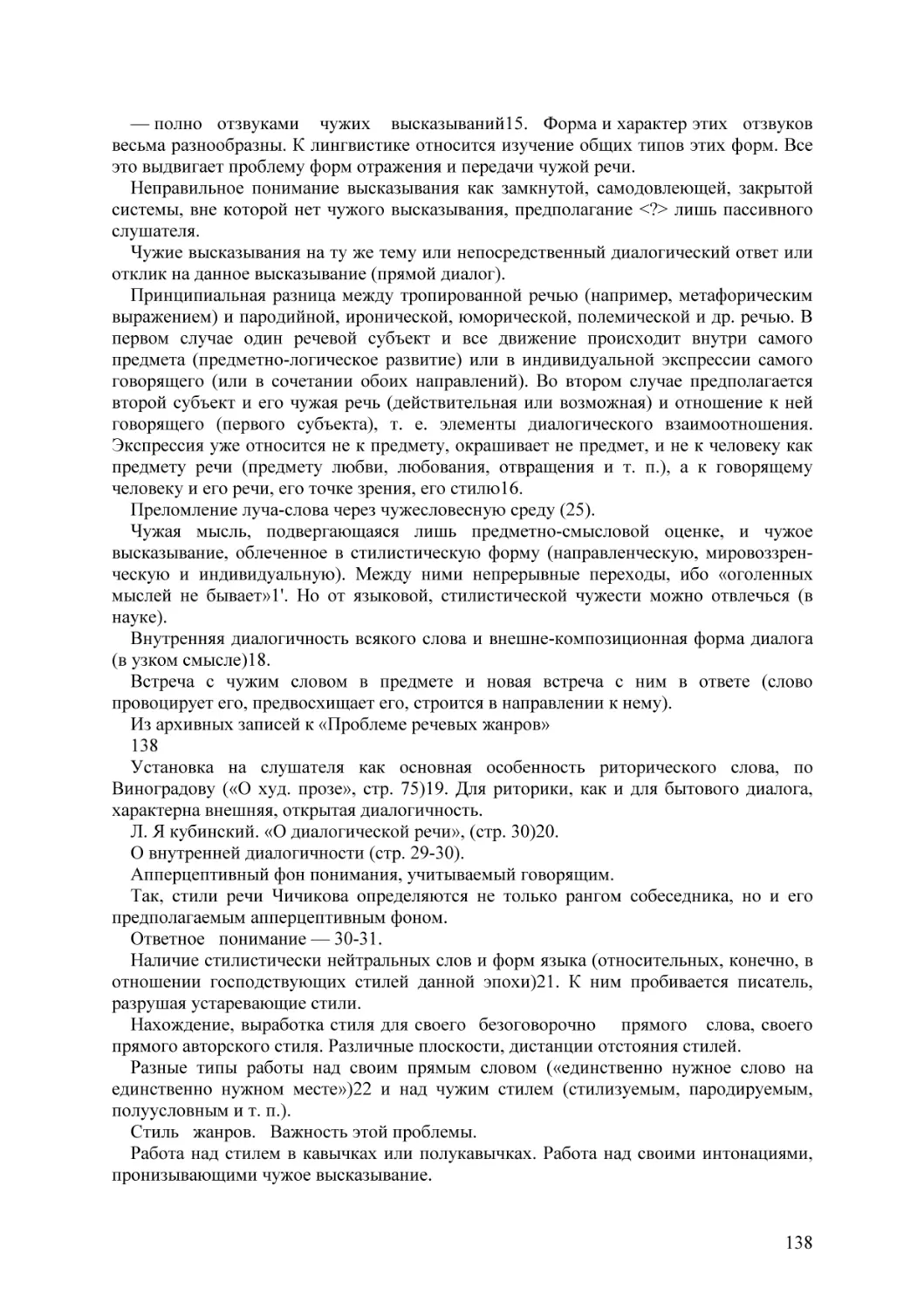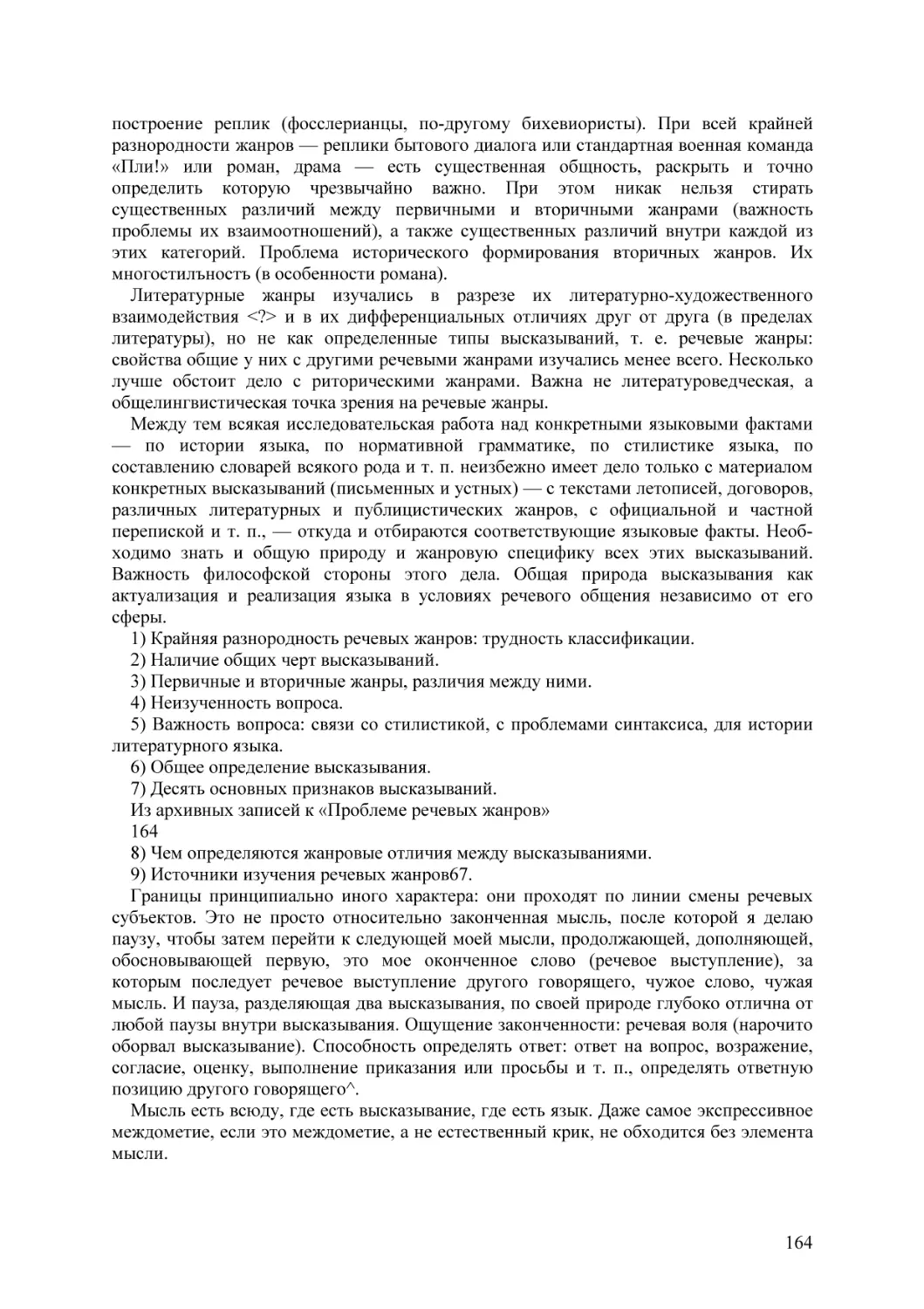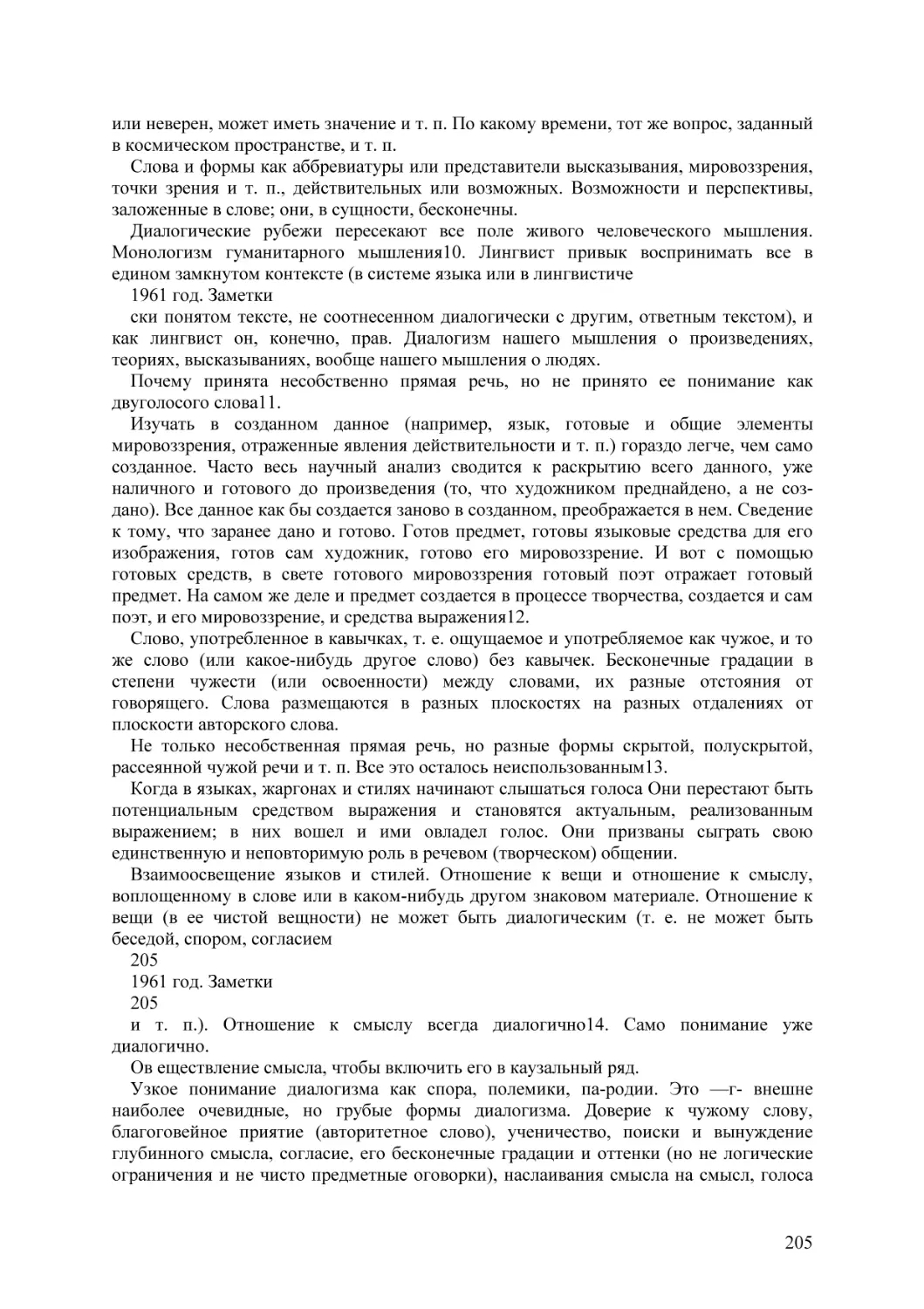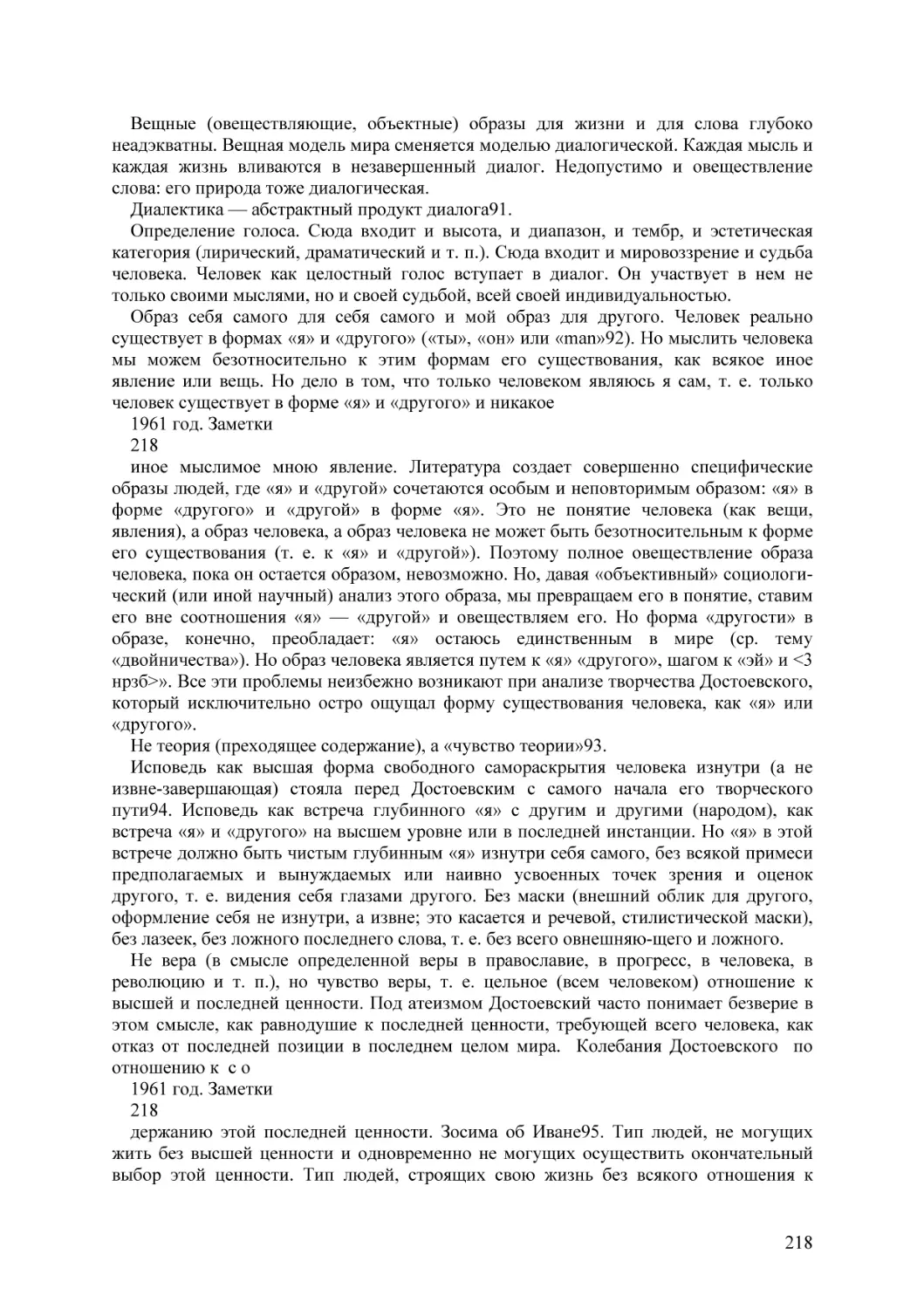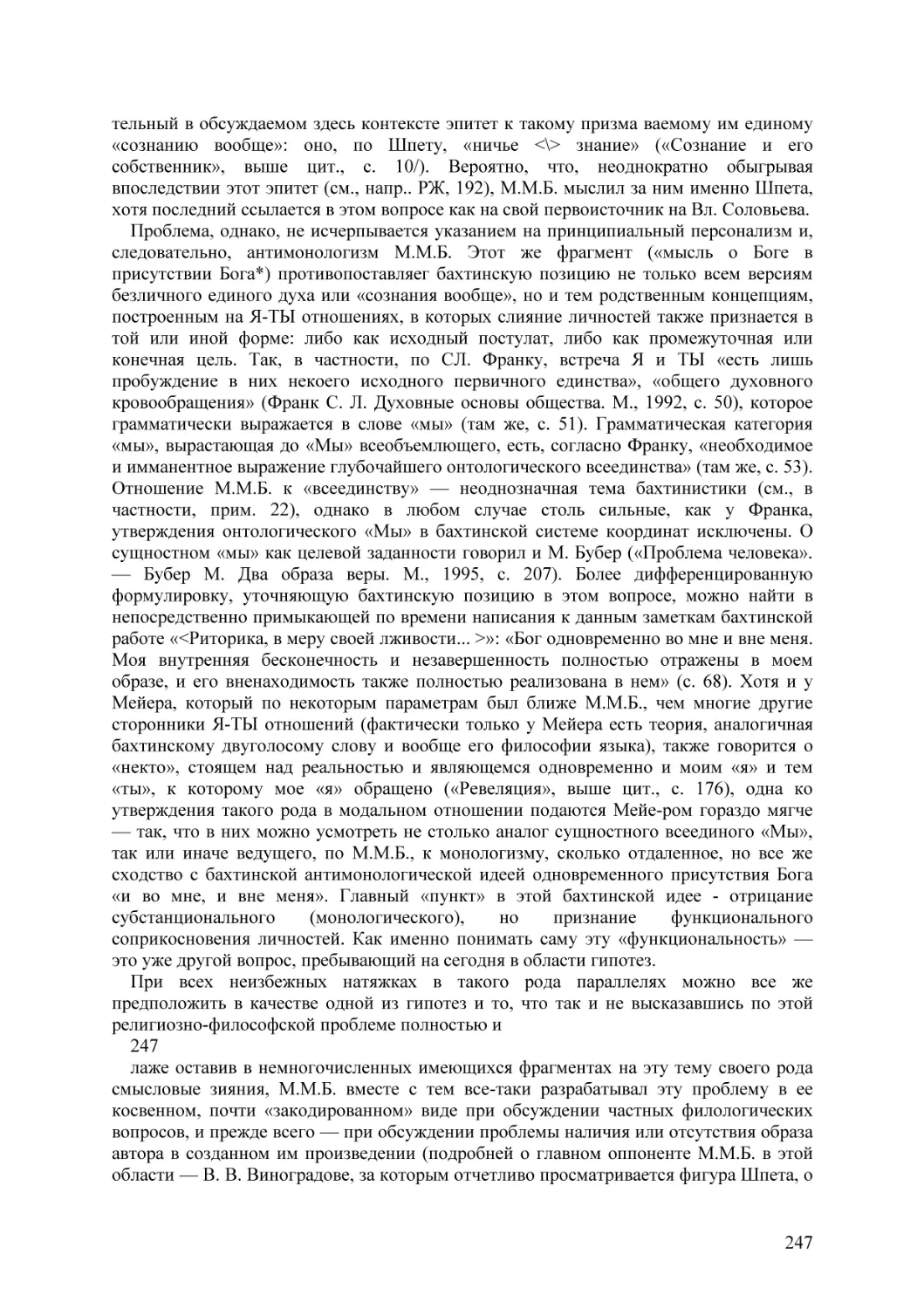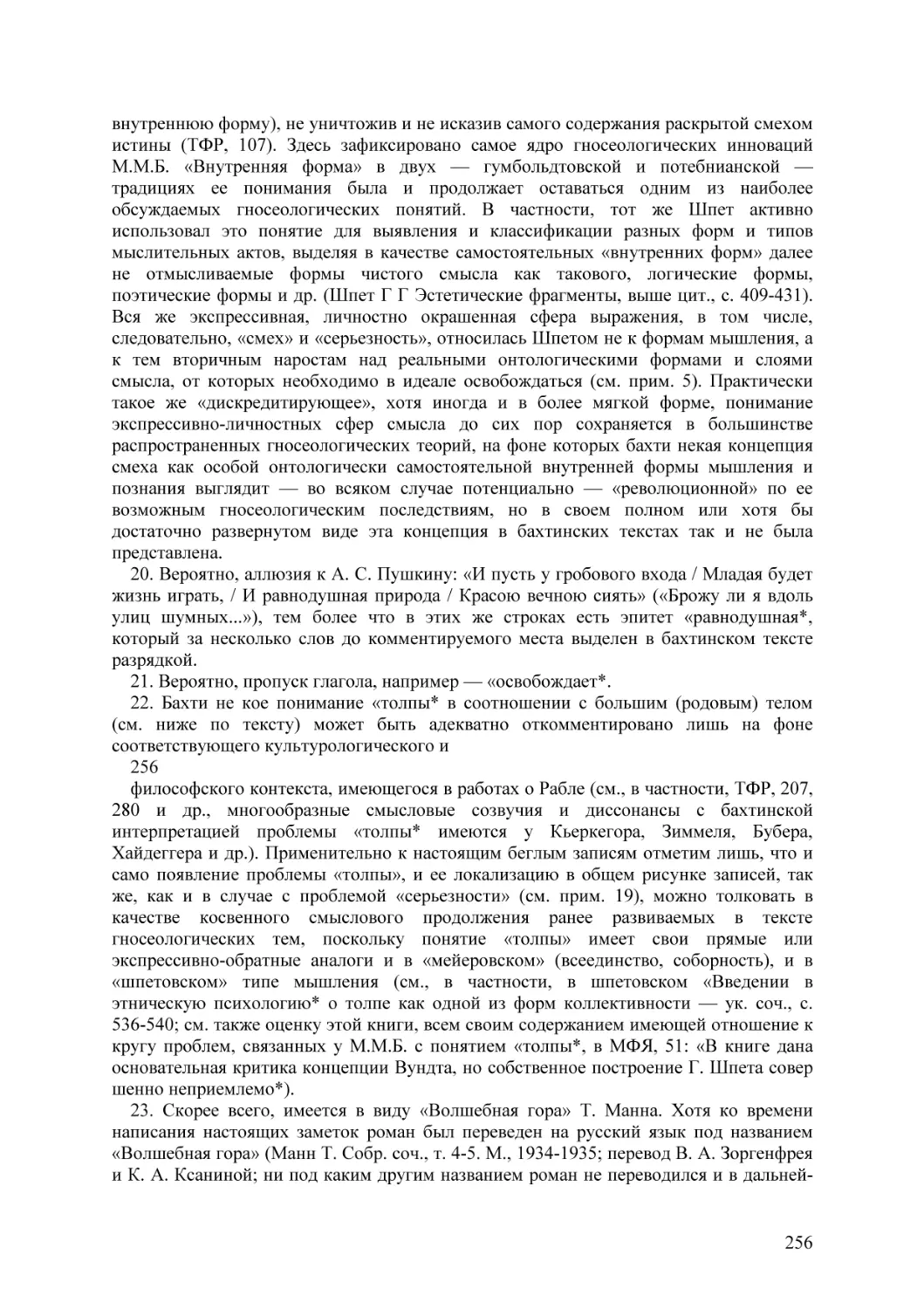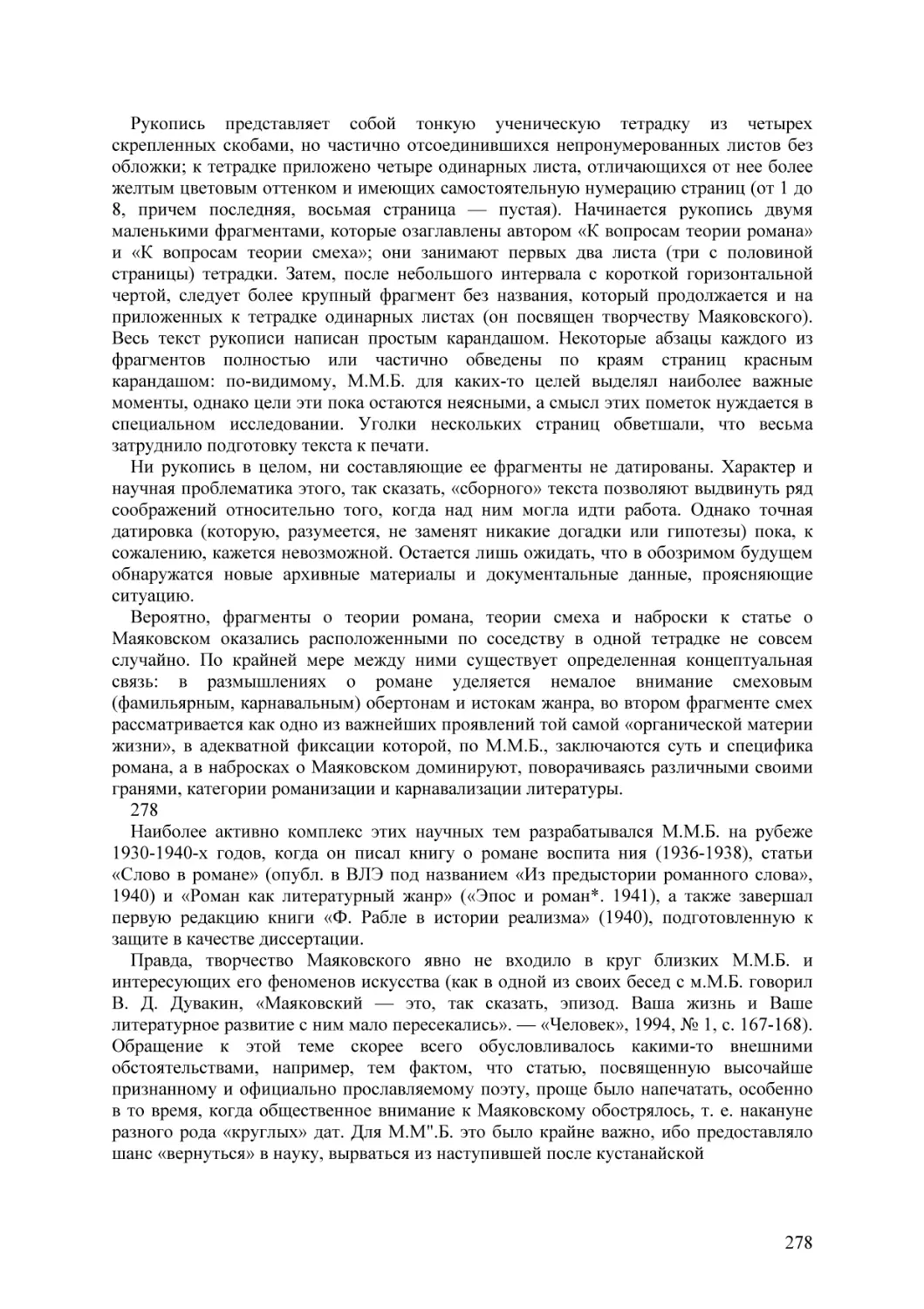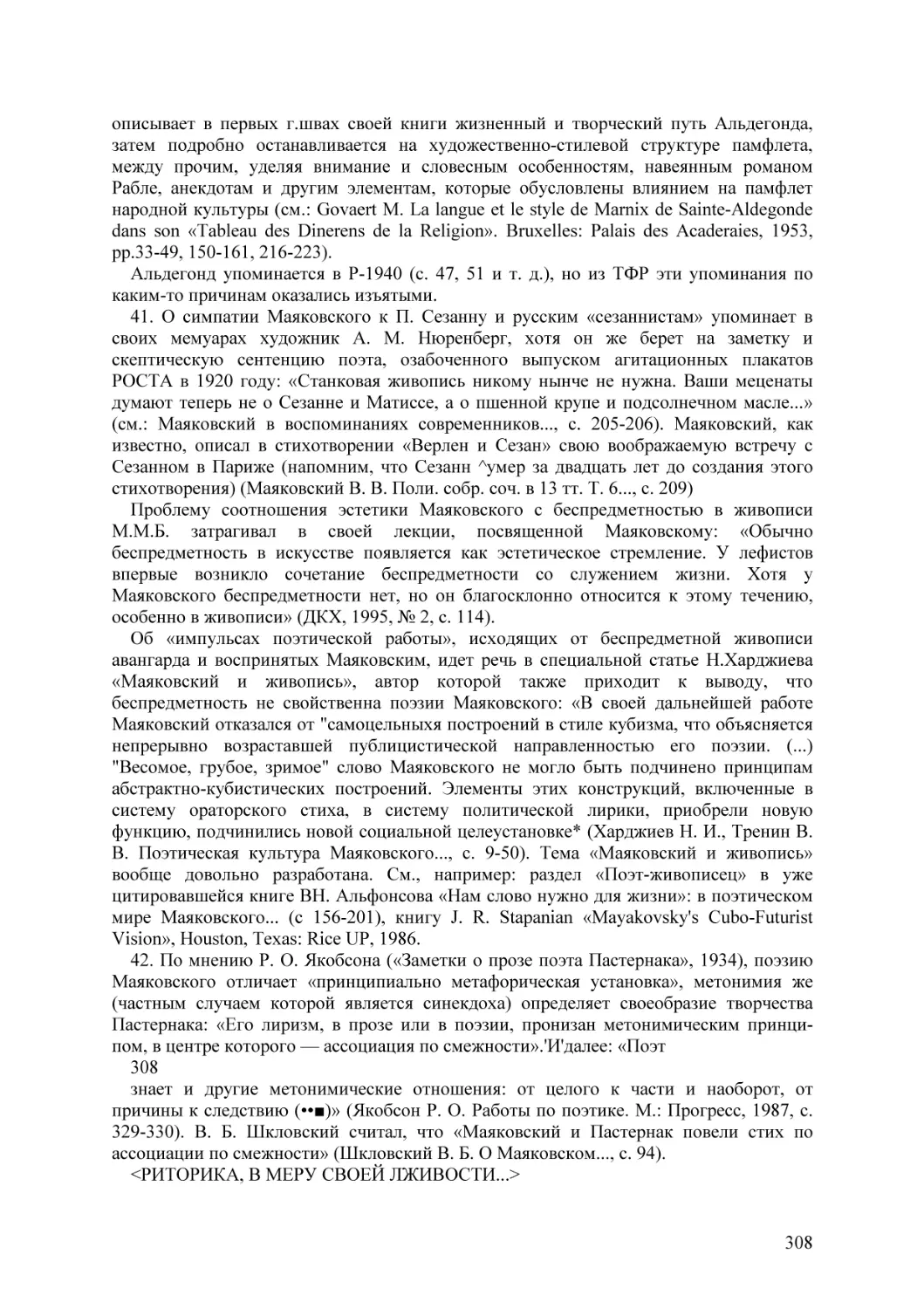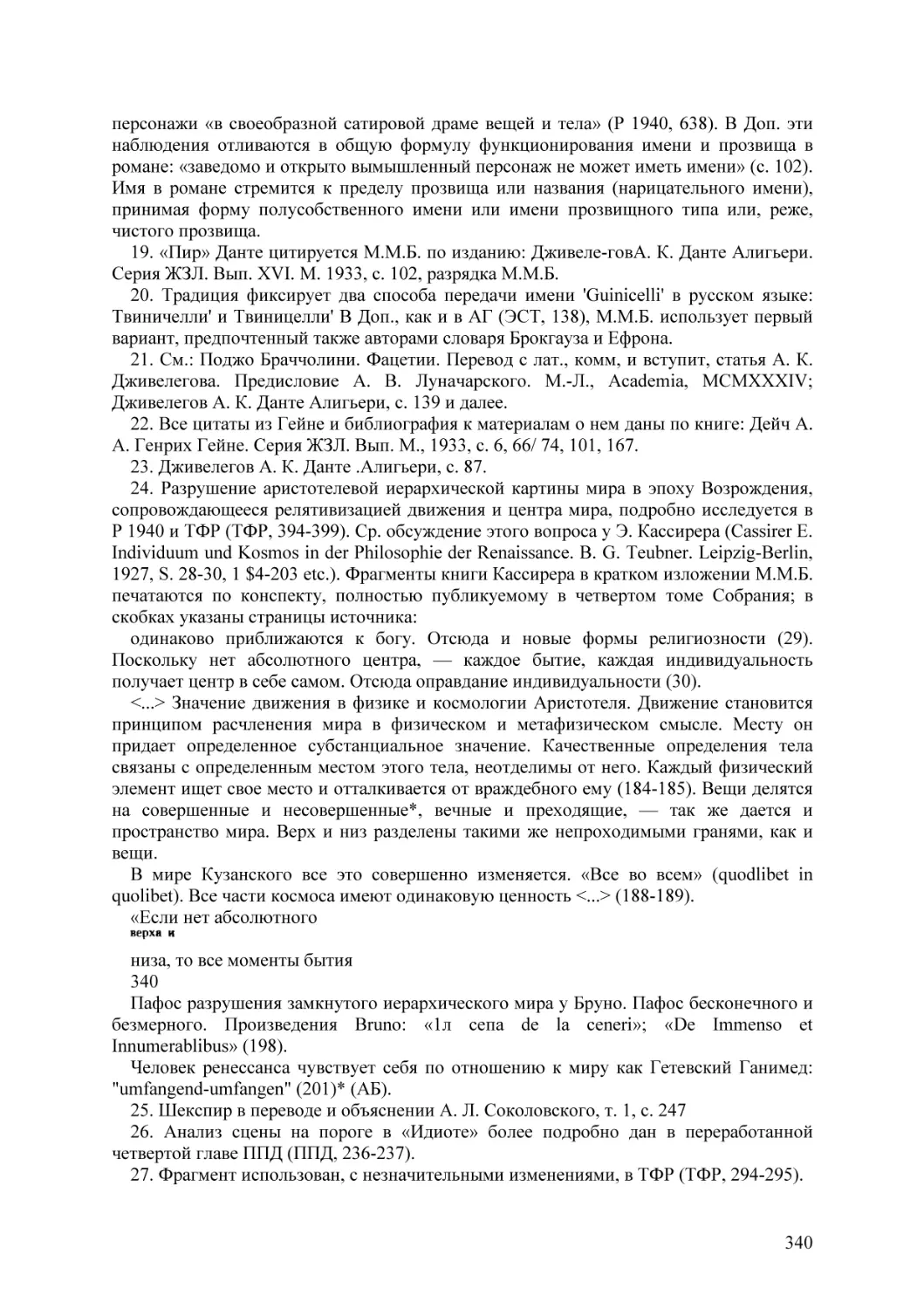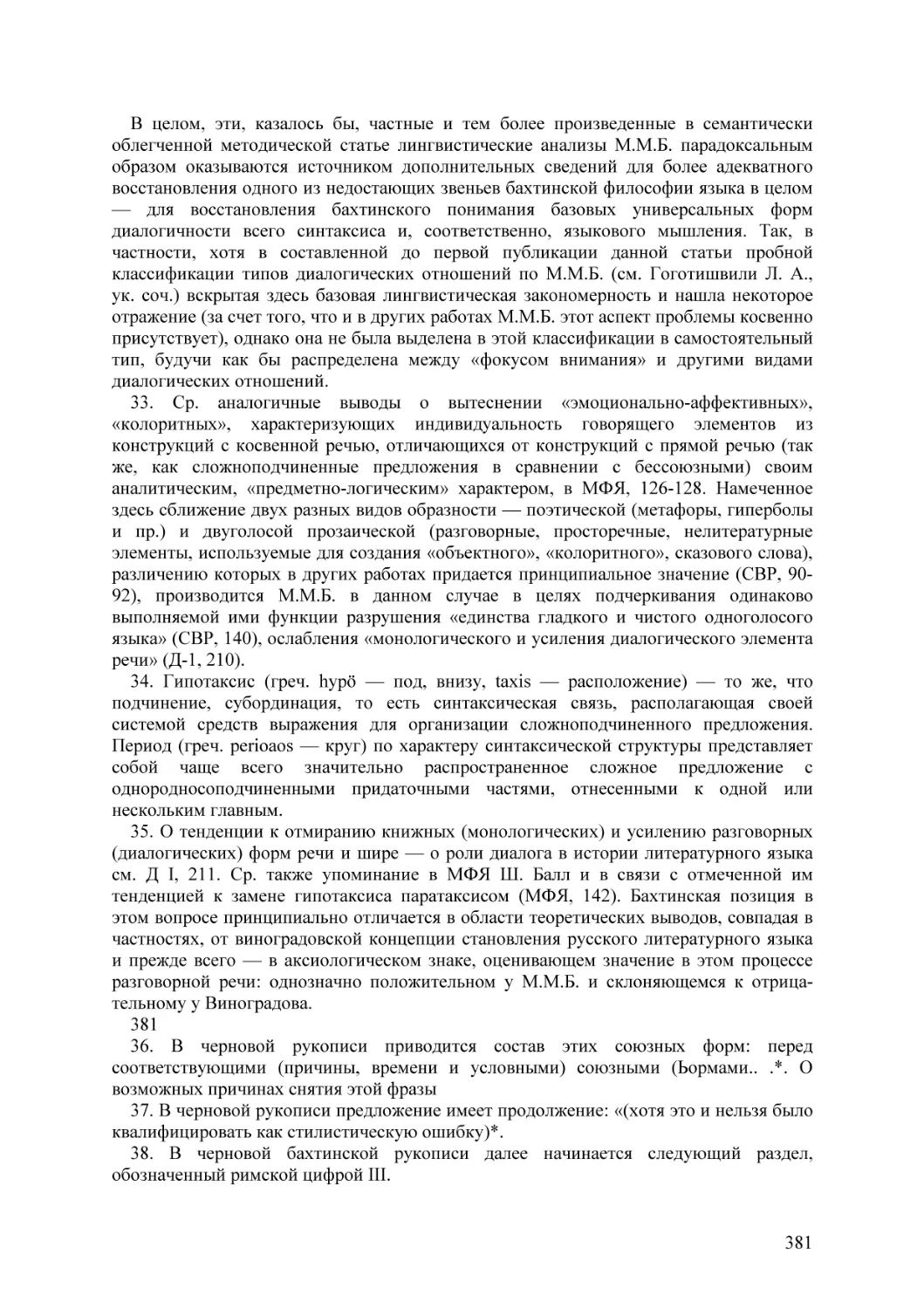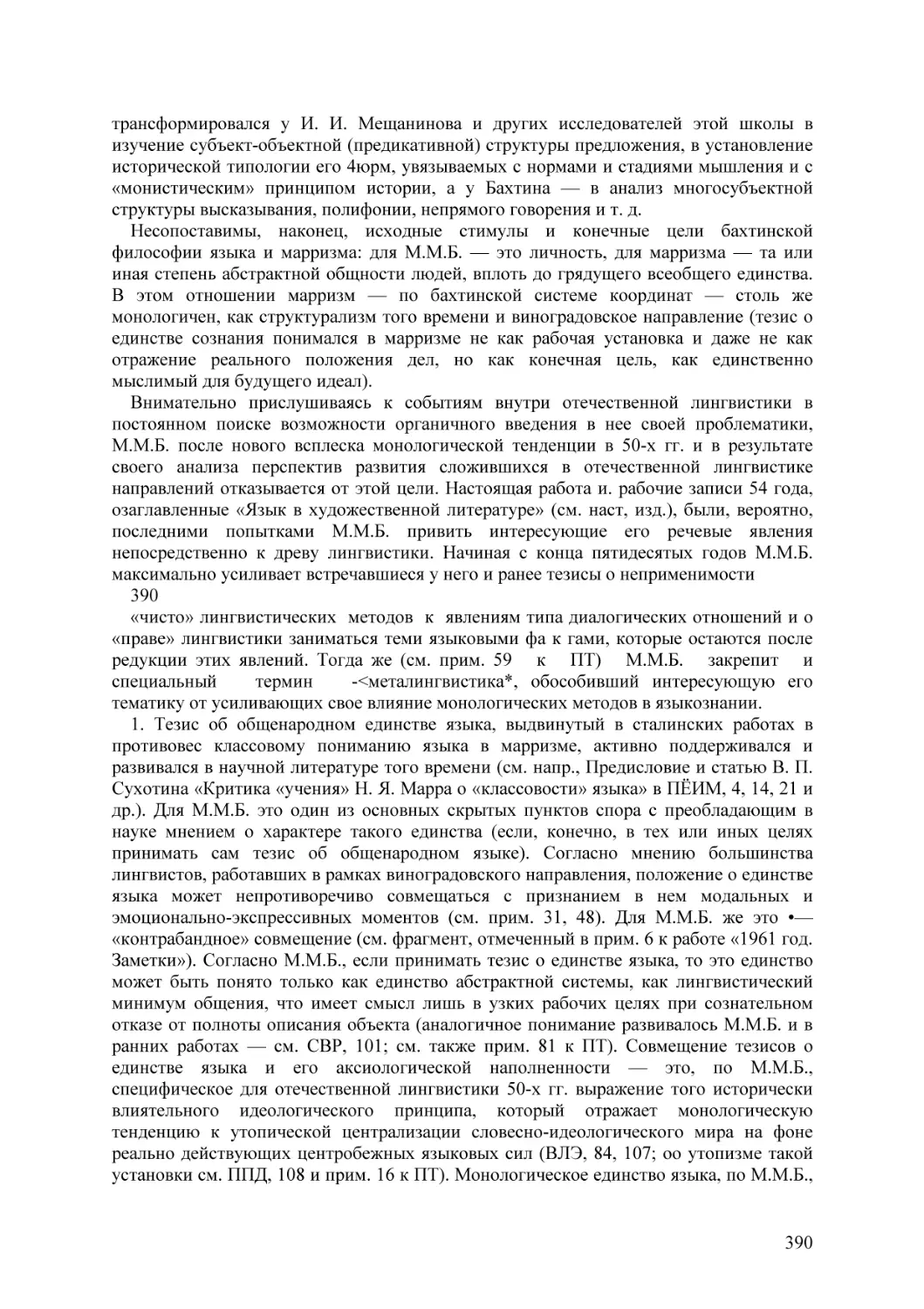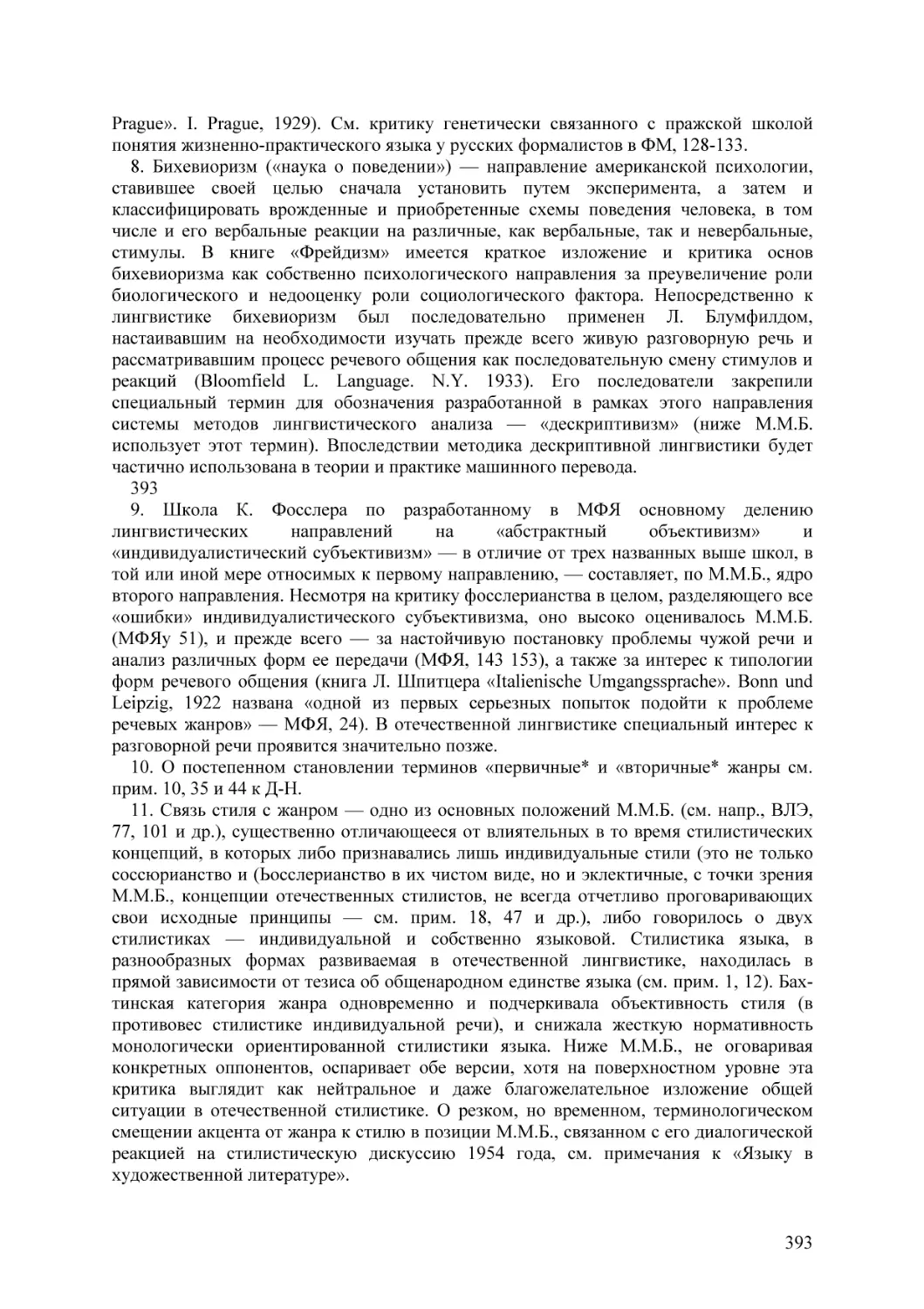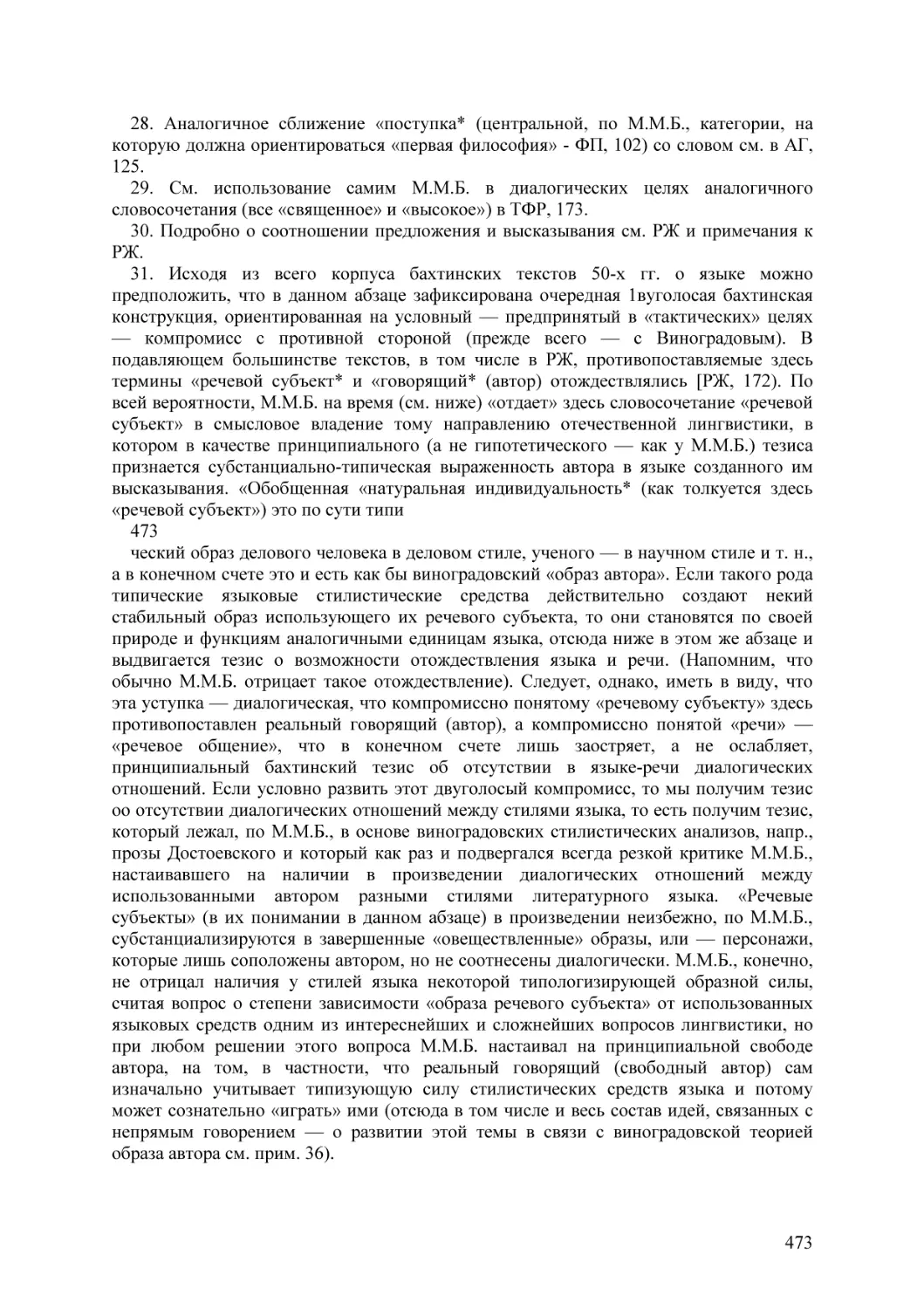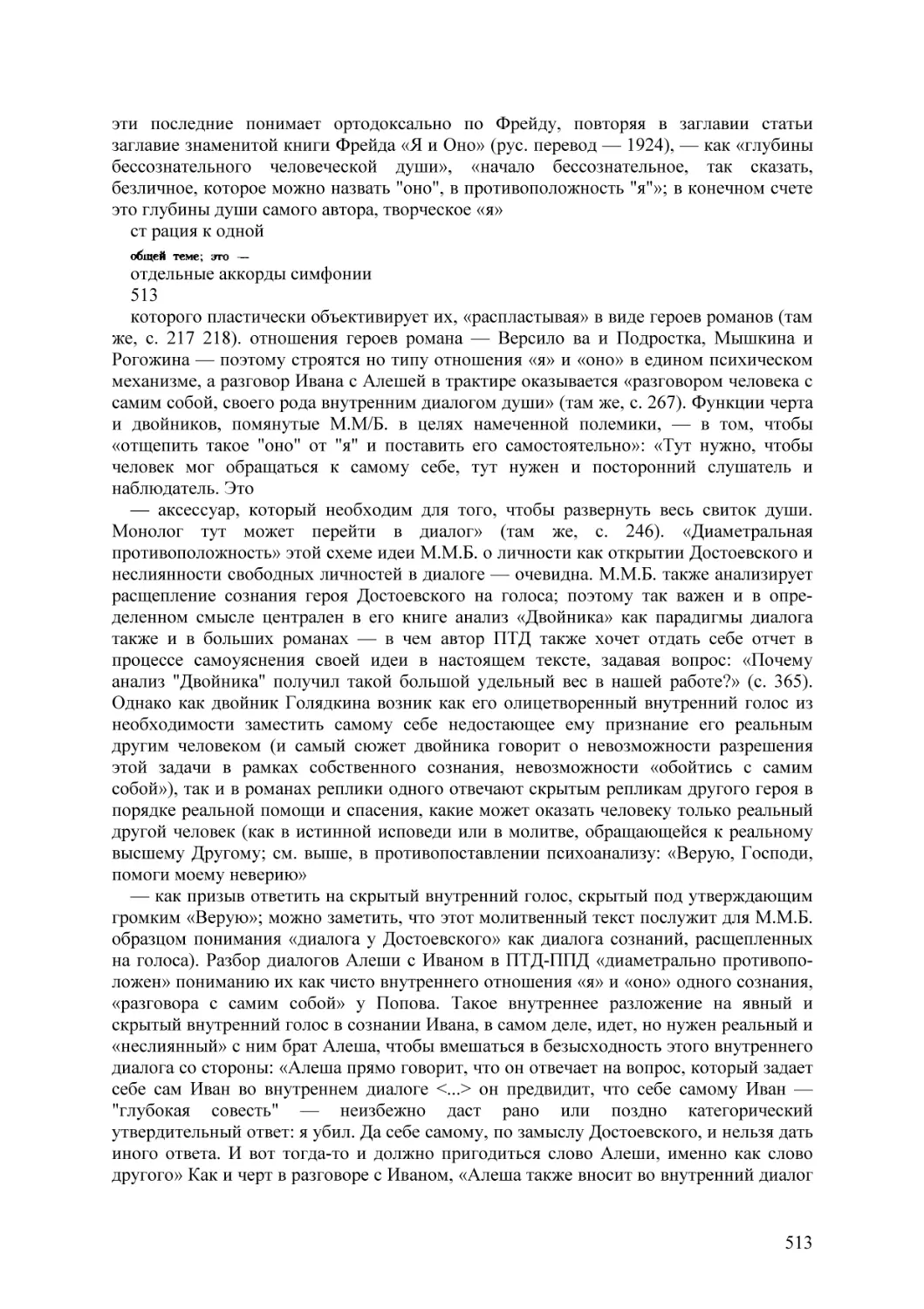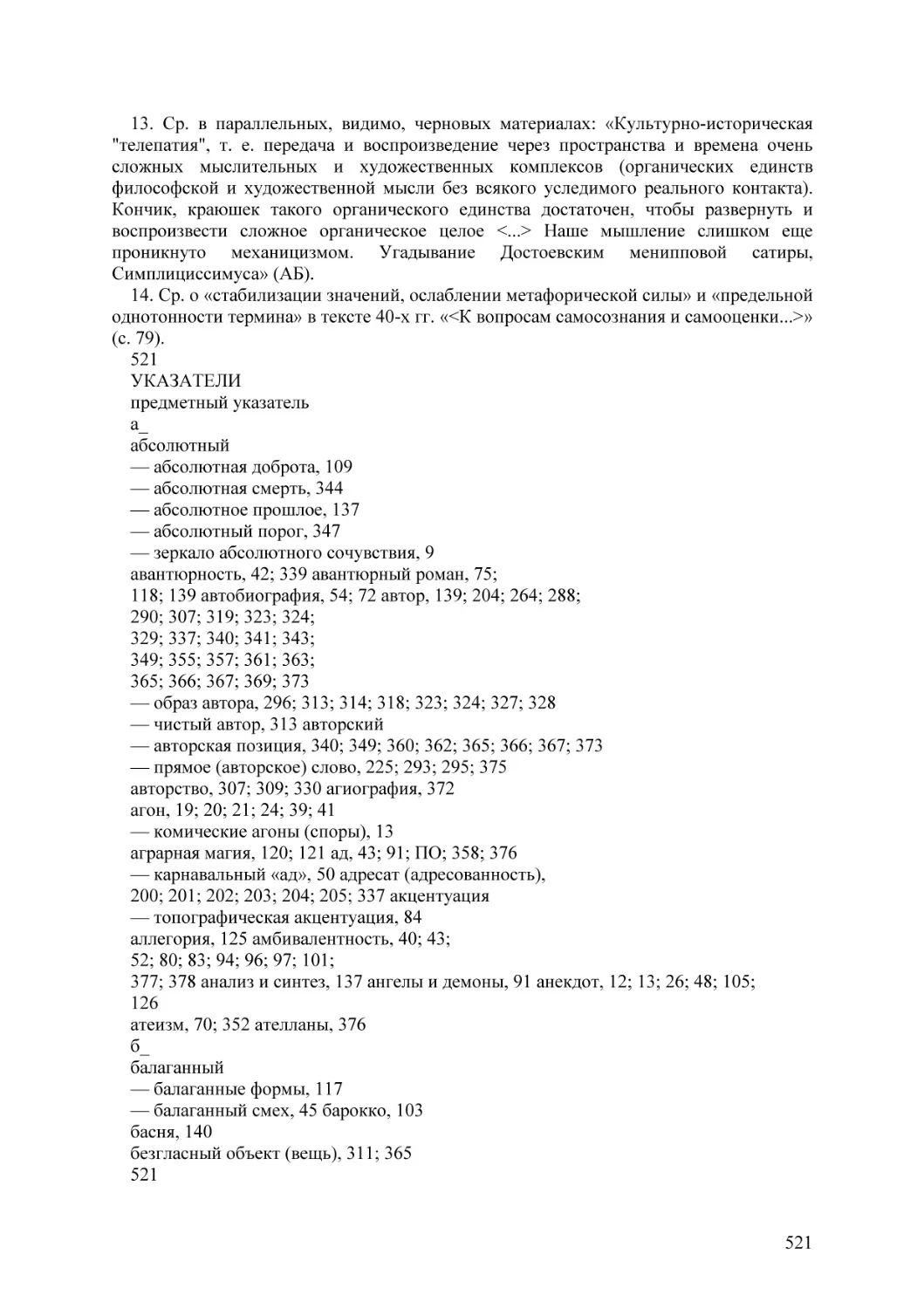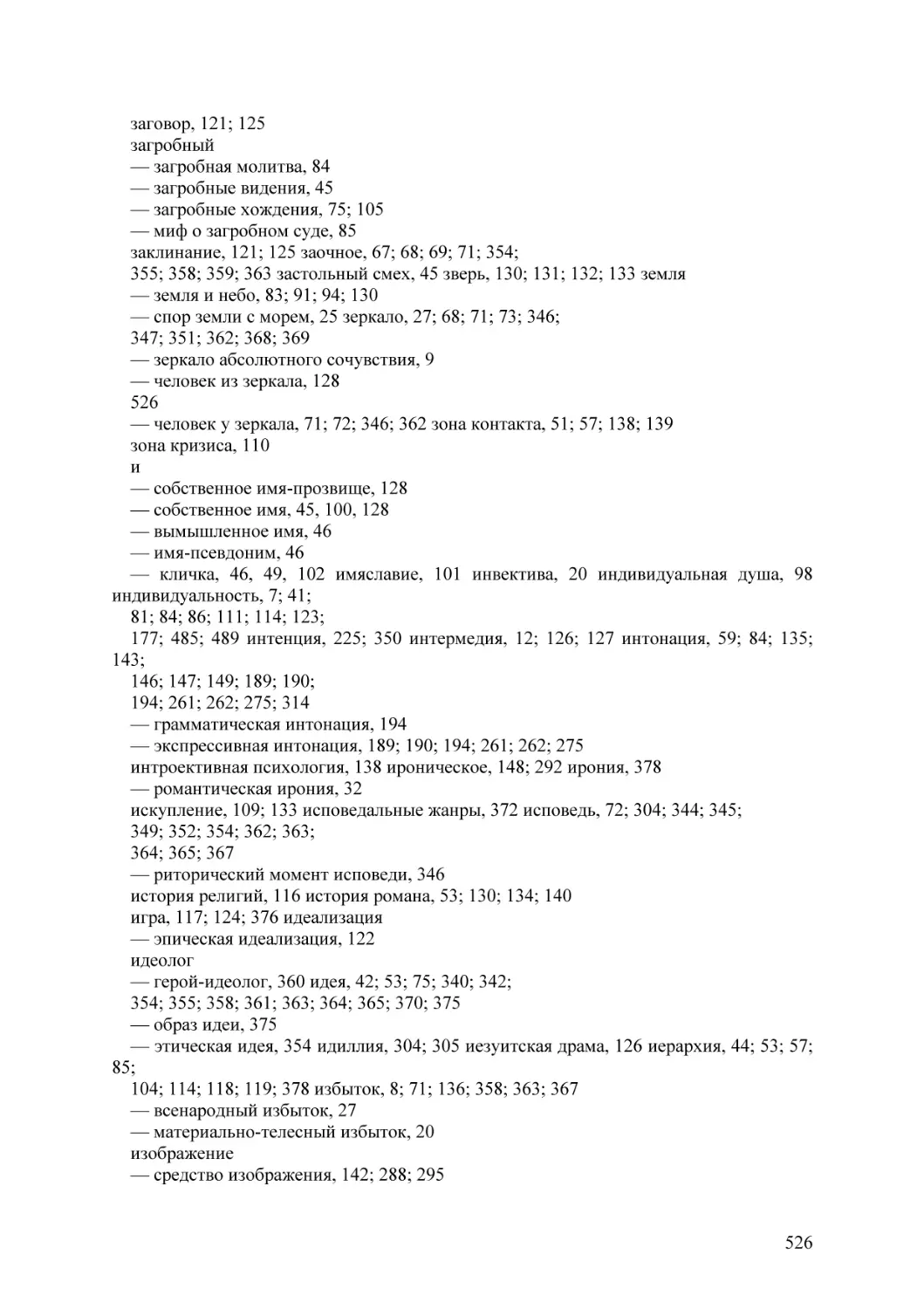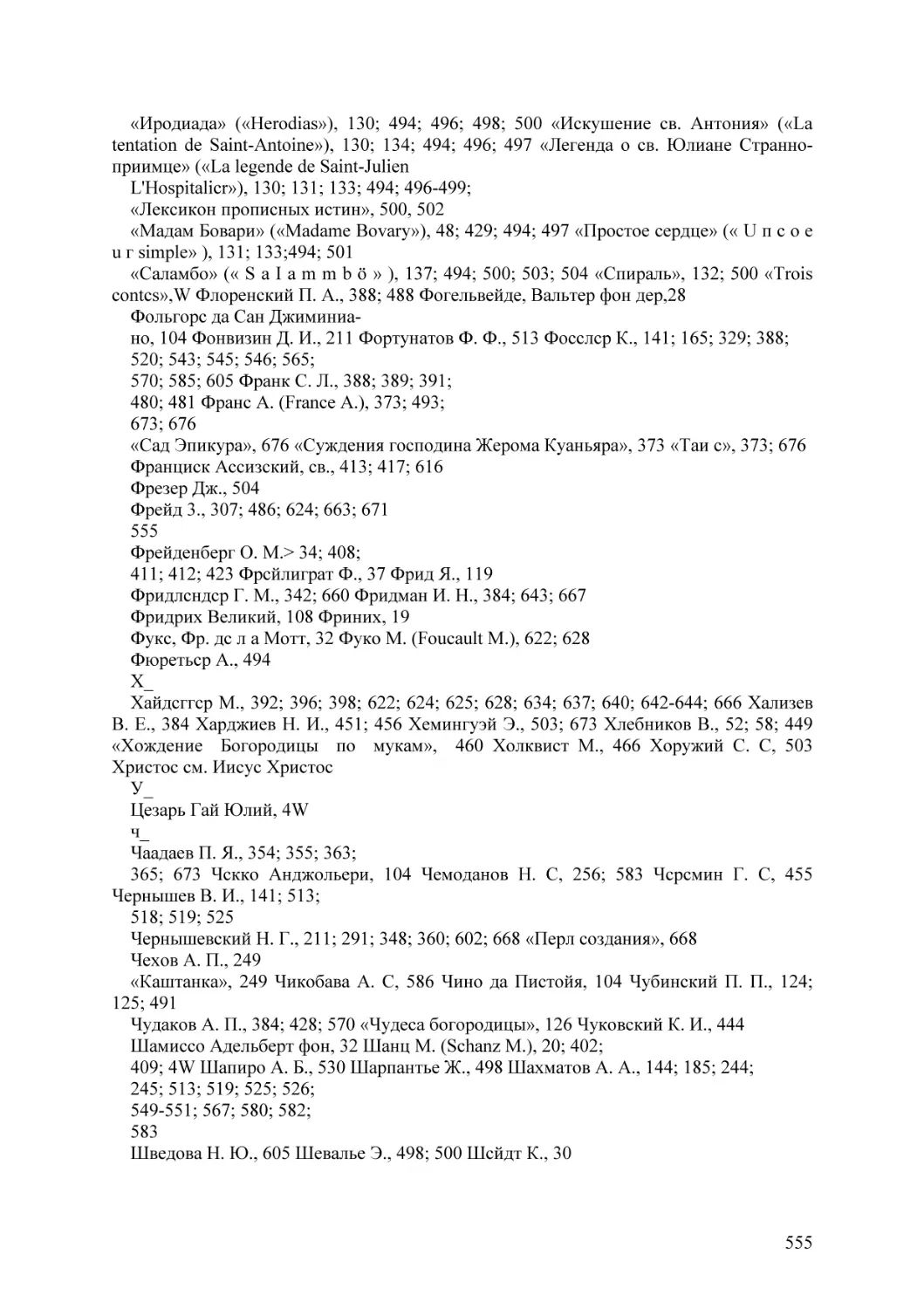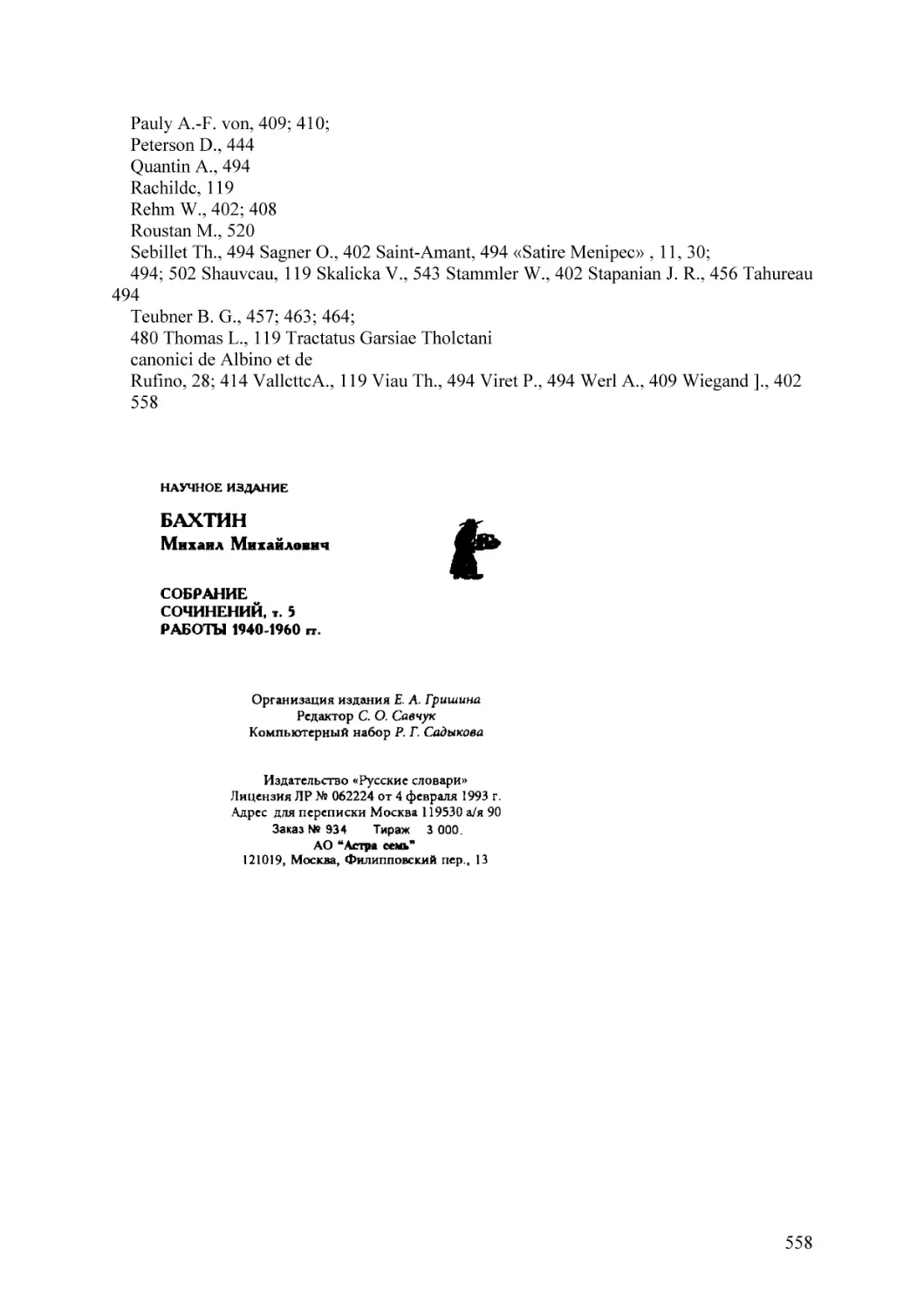Автор: Бахтин М.М.
Теги: литературоведение философия социальная философия собрание сочинений издательство языки славянской культуры
ISBN: 5-89216-011-4
Год: 1997
Текст
Саранск, лето 1955 г.
М.М.БАХТИН
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В СЕМИ ТОМАХ
1
ББК 83 БЗО
Издание подготовлено при финансовой поддержке Российского гуманитарного
научного фонда и Международного научного фонда
Редакторы тома: С. Г. Бочаров, Л. А. Гоготишвили
Настоящее издание является первым научным собранием сочинений Михаила
Михаиловича Бахтина. В пятом томе собраны его работы 1940-х — начала 1960-х
годов, самого малоизвестного читателям времени деятельности мыслителя. Многие из
работ публикуются в настоящем томе впервые, но и те исследования, что уже
печатались, даются в новых текстах и новой композиции, будучи заново подготовлены
по рукописям, хранящимся в архиве автора. В целом том можно назвать целиком
архивным. В материалах тома присутствуют главные темы творчества Бахтина — его
философская антропология и философская лингвистика, философские основы
гуманитарных наук, концепция текста, теория жанров речи, поэтика Достоевского и
Рабле, а также Шекспира, Гоголя, Флобера, Маяковского, проблемы сентиментализма
и сатиры. Том обстоятельно комментирован.
ISBN 5-89216-011-4 (т. 5) ISBN 5-89216-010-6
О С. Г. Бочаров, В. В. Кожинов, 1997
2
О С. Г. Бочаров, Л. А. Гоготишвили, Н. А. Паньков, И. Л. Попова, комментарии,
1997
О Институт мировой литературы РАН, текстологическая и научная подготовка
текстов, 1997
О «Русские словари», оформление, оригинал-макет, редактирование, 1997
ОГЛАВЛЕНИЕ*
От редакторов тома........................................................5
К философским основам гуманитарных наук.........7 (386)
Сатира.............................................................................11(401)
«Слово о полку Игореве» в истории эпопеи...........39 (416)
К истории типа (жанровой разновидности)
романа Достоевского............................................42 (417)
<К вопросам об исторической традиции и о
народных источниках гоголевского смеха>.....45 (420)
К
вопросам
теории
романа.
К
вопросам
теории
смеха.
<0
Маяковском>...............................48 (424)
К вопросам теории романа...............................................48 (426)
К вопросам теории смеха..................................................49 (434)
<0 Маяковском>................................................................50 (438)
<Риторика, в меру своей лживости...>.....................63 (457)
«Человек у зеркала».................... .................................71 (464)
<К вопросам самосознания и самооценки...>........72 (466)
Дополнения и изменения к Рабле.............................80 (473)
<0 ФлоберО...............................................................130 (492)
К стилистике романа.................................................138 (507)
Вопросы стилистики на уроках русского языка
в средней школе...................................................141 (510)
Многоязычие,
как
предпосылка
развития
романного
слова.......................................................157 (533)
Проблема речевых жанров.......................................159 (535)
Из
архивных
записей
к
работе
«Проблемы
речевых
жанров»......................................................207 (555)
Диалог.................................................................................207 (560)
Диалог I. Проблема диалогической речи......................209 (563)
Диалог II.............................................................................218(569)
Подготовительные материалы>..................................240 (576)
Язык в художественной литературе.......................287 (591)
«Мария Тюдор»...........................................................298 (611)
Проблема сентиментализма.....................................304 (613)
Проблема текста.........................................................306 (618)
<Указатель содержания, вложенный в тетрадь N» 1>..................327
1961 год. Заметки........................................................329 (647)
<Указатель содержания, вложенный в тетрадь N» 2>..................361
Достоевский. 1961 г...................................................364 (668)
Заметки 1962 г.-1963 г..............................................375 (678)
Комментарии........................................................................379
Указатели...............................................................................680
Предметный указатель...............................................................683
Именной указатель.....................................................................710
3
* В скобках указаны страницы соответствующих комментариев.
ОТ РЕДАКТОРОВ ТОМА
Настоящим томом начинается издание первого научного собрания сочинений
Михаила Михайловича Бахтина.
На протяжении трех последних десятилетий происходила постепенная публикация
творческого наследия мыслителя. Автор при жизни издал две свои знаменитые книги
— о Достоевском (две редакции — 1929 г. и 1963 г.) и о Рабле (1965) и ряд статей.
Другие теоретические и философские его труды публиковались уже посмертно; они в
основном собраны в двух книгах — «Вопросы литературы и эстетики» (1975) и
«Эстетика словесного творчества (1979); ранняя философская работа «К философии
поступка» увидела свет в 1986 г.; ряд небольших по объему текстов был напечатан в
последние годы. В целом к настоящему времени большой этап первой публикации
основного корпуса сочинений М. М. Бахтина можно в главном считать завершенным.
Вместе с тем, хотя в архиве автора не сохранилось еще не известных читателю
крупных и законченных работ, он содержит обширный корпус неопубликованных
материалов разного характера — как самостоятельных текстов на различные темы, так
и подготовительных, рабочих или лабораторно-дневниковых, представляющих для
воссоздания целостного бахтинского мыслительного контекста особый интерес. Кроме
того, как в подобных случаях бывает, этап первой публикации оставил большую
текстологическую проблему. Первые публикации архивных текстов по чрезвычайно
трудным рукописям (какими и были многочисленные посмертные публикации Бахтина), как правило, не бывают совершенными. Осуществленные до сих пор издания
трудов Бахтина надо признать во многих случаях несовершенными текстологически и
недостаточно проработанными научно: лишь книгу «Эстетика словесного творчества»
можно считать комментированным изданием, но и содержащийся в ней комментарий
нельзя не признать, конечно, лишь предварительным.
Открывающееся настоящим томом собрание сочинений М. М. Бахтина должно быть
научным. Это означает, во-первых, иное качество подготовки текстов: все тексты, как
публикуемые впервые, так и уже печатавшиеся ранее, готовят
4
ся заново по сохранившимся в архиве автора рукописям (а для большей части его
работ имеются архивные источники; случаи, когда опубликованные работы являются
единственным источником текста, в его наследии немногочисленны: такова, например,
книга «Проблемы творчества Достоевского» 1929 г.); таким образом, читатель должен
во всех случаях получить новые тексты Бахтина, в том числе и уже известных работ.
Во-вторых, в собрании предпринимается обширная публикация рукописных
материалов, в том числе сопровождавших работу автора над известными трудами (в
этом отношении настоящий том является наиболее «архивным» — что стало одним из
главных мотивов начала публикации издания с пятого тома; подробнее об этом см.
ниже общую преамбулу к комментариям). И, наконец, в-третьих, все тексты
обстоятельно комментируются, и комментарий этот имеет исследовательский
характер. По замыслу авторского коллектива, работающего над собранием,
последовательный текстологический и исследовательский комментарий ко всем
публикуемым работам должен сложиться в целостную картину бахтинских идей.
В общем плане настоящего собрания сочинений сочетаются хронологический и
проблемный принципы:
/ том. Философская эстетика 1920-х годов.
4
2 том. «Проблемы творчества Достоевского» (1929). Статьи о Толстом (1929).
Приложение: Записи курса лекций по истории русской литературы (20-е гг.; записи Р.
М. Мирки -ной).
3 том. Теория романа (1930-е годы).
4 том. Книга о Рабле и материалы к ней (1940-1970).
5 том. Работы 1940-х — начала 60-х годов.
6 том. «Проблемы поэтики Достоевского» (1963). Работы 60-70 годов.
7 том. Работы «круга Бахтина».
5
К философским основам гуманитарных наук
К ФИЛОСОФСКИМ ОСНОВАМ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
Познание. вещи и познание личности1. Их необходимо охарактеризовать как
пределы: чистая мертвая вещь, имеющая только внешность, существующая только для
другого и могущая быть раскрытой вся сплошь и до конца односторонним актом этого
другого (познающего). Такая вещь, лишенная собственного неотчуждаемого и
непотребляемого
нутра,
может
быть
только
предметом
практической
заинтересованности. Второй предел — мысль о Боге в присутствии Бога2, диалог,
вопрошание, молитва. Необходимость свободного самооткровения личности. Здесь
есть внутреннее ядро, которое нельзя поглотить, потребить, где сохраняется всегда
дистанция, в отношении которого возможно только чистое бескорыстие; открываясь
для другого, она всегда остается и для себя. Вопрос задается здесь познающим не себе
самому и не третьему в присутствии мертвой вещи, а самому познаваемому. Значение
симпатии и любви. Критерий здесь не точность3 познания, а глубина проникновения4.
Здесь познание направлено на индивидуальное. Это область открытий, откровений,
узнаний, сообщений. Здесь важна и тайна, и. ложь (а не ошибка5). Здесь важна
нескромность и оскорбление и т. п. Мертвая вещь в пределе не существует, это —
абстрактный элемент (условный); всякое целое (природа и все ее явления, отнесенные
к целому) в какой-то мере личностно6.
Сложность двустороннего акта познания-проникновения. Активность познающего и
активность открывающегося (диалогичность). Умение познать и умение выразить себя.
Мы имеем здесь дело с выражением и познанием (пониманием) выражения. Сложная
диалектика внешнего и внутреннего. Личность имеет не только среду и окружение, но
и собственный кругозор. Взаимодействие <?> кругозора познающего и кругозора
познаваемого. Элементы выражения (тело, не как мертвая вещность, лицо, глаза и т.
п.), в них скрещиваются и сочета
5
К философским основам гуманитарных наук
5
ются два сознания (я и другого)7, здесь я существую для другого и с помощью
другого. История конкретного самосознания и роль в ней другого (любящего).
Отражение себя в другом. Смерть для себя и для другого. Память.
Конкретные проблемы литературоведения и искусствоведения, связанные с
взаимоотношением окружения и кругозора, я и другого; проблема зон; театральное
выражение. Проникновение в другого (слияние с ним) и сохранение дистанции (своего
места), обеспечивающее избыток познания. Выражение личности и выражение коллективов, народов, эпох, самой истории, с их кругозорами и окружением. Дело не в
индивидуальной сознательности выражения и понимания. Самооткровение <?> и
формы его выражения народов, истории, природы и т. п.
Предмет гуманитарных наук — выразительное и говорящее бытие8. Это бытие
никогда не совпадает с самим собою и потому неисчерпаемо в своем смысле и
5
значении. Маска <?>, рампа, сцена, идеальное пространство и т. п., как разные формы
выражения представительности бытия (а не единичности и вещности) и бескорыстия
отношения к нему. Точность, ее значение и границы. Точность предполагает
совпадение вещи с самой собой. Точность нужна для практического овладения. Самораскрывающееся бытие не может быть вынуждено и связано. Оно свободно и
потому не предоставляет никаких гарантий. Поэтому здесь познание ничего не может
нам подарить и гарантировать, например, бессмертия, как точно установленного факта,
имеющего практическое значение для нашей жизни. «Верь тому, что сердце скажет,
нет залогов от небес»9. Бытие целого, бытие человеческой души, раскрывающееся
свободно для нашего акта познания, не может быть связано этим актом ни в одном
существенном моменте. Нельзя переносить на них категорий вещного познания (грех
метафизики). Душа свободно говорит нам о своем бессмертии, но доказать его нельзя.
Науки ищут то, что остается неизменным при всех изменениях (вещи10 или функции).
Становление бытия — свободное становление. Этой свободе можно приобщиться, но
связать ее актом познания (вещного) нельзя. Конкретные проблемы различных
литературных форм: автобиографии, памятники (самоотражение в сознании врагов и в
сознании потомков) и пр.
К философским основам гуманитарных наук
Оболочка души лишена самоценности и отдана на милость и милование другого.
Несказанное ядро души может быть отражено только в зеркале абсолютного
сочувствия18.
6
Проблема памяти приобретает одно из центральных мест в философии11.
Какой-то элемент свободы присущ всякому выражению. Абсолютно непроизвольное
выражение перестает быть таковым. Но бытие выражения двусторонне: оно осуществляется только во взаимодействии двух сознаний (я и другого);
взаимопроникновение с сохранением дистанции; это — поле встречи двух сознаний,
зона их внутреннего контакта.
Философские и этические различия между внутренним самосозерцанием (я для себя)
и созерцанием себя в зеркале (я для другого, с точки зрения другого)12. Можно ли
созерцать и понимать свою наружность с чистой точки зрения я для себя.
Нельзя изменить фактическую вещную сторону прошлого, но смысловая,
выразительная, говорящая сторона может быть изменена, ибо она незавершима и не
совпадает сама с собой (она свободна). Роль памяти в этом вечном преображении
прошлого13. Познание — понимание прошлого в его незавершимости (в его
несовпадении с самим собою). Момент бесстрашия в познании. Страх и устрашение в
выражении (серьезность), в самораскрытии, в откровении, в слове14.
Корреспондирующий момент смирения познающего; благоговение.
Проблема понимания. Понимание как видение смысла, но не феноменальное13, а
видение живого смысла переживания и выражения, видение внутренне осмысленного,
так сказать, самоосмысленного явления.
Выражение как осмысленная материя или материализованный смысл16, элемент
свободы, пронизавший необходимость. Внешняя и внутренняя плоть для милования.
Различные пласты души в разной мере поддаются овнешнению. Неовнешняемое
художественно ядро души (я для себя). Встречная активность познаваемого предмета.
Философия выражения. Выражение как поле встречи двух сознаний. Диалогичность
понимания17.
К философским основам гуманитарных наук
6
6
Проблема серьезности Элементы внешнего выражения серьезности: нахмуренные
брови, устрашающие глаза, напряженно собранные складки и морщины ит. п. —
элементы страха или устрашения, изготовка к нападению или к защите, призыв к
подчинению <?>, выражение неизбежности, железной необходимости, категоричности,
непререкаемости и т. п.19 Опасность делает серьезным. Ее минование разрешается
смехом. Необходимость серьезна — свобода смеется. Просьба серьезна, смех никогда
не просит, но дарение может сопровождаться смехом. Серьезность практична и в
широком смысле слова корыстна. Серьезность задерживает, стабилизует, она обращена
к готовому, завершенному в его упорстве и самосохранении. Это не спокойная и
уверенная в себе сила (та улыбается), но сила угрожаемая и потому угрожающая или
молящая слабость. Природа представленная как всесильное и всепобеждающее целое
не серьезна, а равнодушна или прямо улыбается («сияет»20) и смеется. Последнее
целое нельзя представить себе серьезным — ведь вне его нет врага, — оно равнодушно
весело; все концы и смыслы не вне, а внутри - его. Ему ничего не предстоит; ведь
предстоящее делает серьезным. Смех упраздняет тяжесть будущего (предстоящего)21,
от забот будущего, будущее перестает быть угрозой.
Тяга, свойственная всем культурным людям, — приобщиться толпе, замешаться в
толпу, слиться с толпой, раствориться в толпе22; не просто с народом, а с народной
толпой, толпой на площади, войти в сферу специфического фамильярного общения,
вне всяких дистанций, иерархии и норм; приобщиться большому телу. Фамильярное
«ты» в маскараде; маска внеиерархична. Маскарадно-карнавальные сцены (отчасти и
сцены балов — праздников — театра; в драмах и романах (у Лермонтова, у Толстого, у
«Зачарованной горы»23 и т. п.). Темы «Повестей Белкина» как существеннопрозаические: мистификации, профанации, случайности, выпадения из нормы.
Рабле проливает свет и на очень глубокие вопросы происхождения, истории и
теории художественной прозы. Эти вопросы мы и выделяем24 здесь попутно и можем
дать их предварительную формулу: прозвище, профанация межа языков и т. п.
Систематически и на расширенном материале мы предполагаем разработать эти
вопросы в другом месте25.
Сатира
САТИРА. 1. Словом «сатира» обозначаются три явления: 1) определенный
стихотворный лиро-эпический мелкий жанр, сложившийся и развивавшийся на
римской почве (Нэвий, Энний, Луцилий, Гораций, Персии, Юве-нал) и возрожденный
в новое время неоклассиками (сатиры Матюрена Ренье, Буало, Кантемира и др.); 2)
другой менее определенный смешанный (с преобладанием прозы) чисто
диалогический жанр, возникший в эллени-стическую1 эпоху в форме философской
диатрибы (Бион, Телет)2, преобразованный и оформленный циником Ме-ниппом (HI в.
до н. э.) и названный по его имени «менипповой сатирой»; поздние образцы ее на
греческом языке представлены для нас в творчестве Лукиана (II в. н. э.), на латинском
языке до нас дошли фрагменты сатир Варрона («Saturae Menippeae»), сатира Сенеки
«Апоколо-кинтозис» («Отыквление») и, наконец, сатирический роман Петрония
(«Сатирикон»); эта форма сатиры непосредственно подготовила важнейшую
разновидность европейского романа, представленную на античной почве
«Сатириконом» Петрония и отчасти «Золотым ослом» Апулея, а в новое время —
романами Рабле («Гаргантюа и Пантагрюэль») и Сервантеса («Дон Кихот»); кроме
того, форма «менипповой сатиры» представлена в новое время замечательной
политической сатирой «Satire Menippee» (1594) и знаменитым комическим диалогом
Бероальда де Вервилля («Le Moyen de parvenir»)3; 3) определенное (в основном —
отрицательное) отношение творящего к предмету своего изображения (т. е. к
изображаемой действительности), определяющее выбор средств художественного
7
изображения и общий характер образов; в этом смысле сатира не ограничена
указанными выше двумя определенными жанрами и может пользоваться любым
жанром — эпическим, драматическим, лирическим4; мы находим сатирическое
изображение действительности и различных ее явлений в мелких фольклорных жанрах
— в пословицах и поговорках (существует целая обширная группа сатирических
пословиц и поговорок), в народных этологических
8
Сатира
эпитетах, т. е. кратких сатирических характеристиках жителей различных стран,
провинций, городов (например, старо-французские «blasons»: «Лучшие пьяницы — в
Англии» или «Самые глупые — в Бретани»), в народных анекдотах, в народных
комических диалогах (ими особенно богата была Греция), в мелких
импровизированных шутовских жанрах придворных и народных (городских) шутов и
клоунов, в мимах, комедиях, фарсах, интермедиях, в сказках — народных и
литературных (например, сатирические сказки Тика, Гофмана, Салтыкова-Щедрина,
Толстого), в эпических поэмах (древнейший греческий сатирический эпос — песни о
дурачке Маргите, существенный сатирический элемент есть в «Трудах и днях»
Гесиода), в песенной лирике — народной (например, сатирические уличные песни
Франции) и литературной (сатирические песни Бе?анже, Барбье, Некрасова), вообще в лирике (лирика ейне, Некрасова, Маяковского),
в новеллах, повестях, романах, в очерковых жанрах; в этом океане сатирического
творчества — народного и литературного, — использующего разнородные жанры и
формы, специфические жанры римской и менипповой сатиры представляются лишь
маленькими островками (хотя историческая роль их весьма существенна). Таковы три
значения слова «сатира».
2. История и теория сатиры разработана очень слабо. Последовательному и строгому
изучению подвергнут, в сущности, только жанр римской сатиры. Даже мениппова
сатира, ее фольклорные корни и ее историческая роль в создании европейского романа
изучены далеко не достаточно. Что же касается до между-жанровой сатиры, т. е. до
сатирического отношения к действительности, реализующегося в разнороднейших
жанрах (третье значение слова «сатира»), то с ее систематическим изучением дело
обстоит очень плохо. История сатиры не есть история определенного жанра, — она
касается всех жанров, притом в наиболее критические моменты их развития. Сатирическое отношение к действительности, реализуемое в каком-нибудь жанре, обладает
способностью преобразовывать и обновлять данный жанр. Сатирический момент вносит в любой жанр корректив современной действительности, живой актуальности,
политической и идеологической злободневности. Сатирический элемент, обычно
неразрывно связанный с пародированием и травестирова
8
Сатира
нием, очищает жанр от омертвевшей условности, от обессмысленных и переживших
себя элементов традиции; этим он обновляет жанр и не дает ему застыть в
догматической каноничности, не дает ему превратиться в чистую условность. Такую
же обновляющую роль играла сатира и в истории литературных языков: она освежала
эти языки за счет бытового разноречия, она осмеивала устаревшие языковые и
стилистические формы. Известно, какую роль сыграли сатирические произведения
(новеллы, соти, фарсы, политические ирелигиозные памфлеты, такие романы,
ния литературных языков нового времени и в истории их обновления во второй
половине XVIII века (сатирические журналы, сатирические и сатирикоюмористические романы, памфлеты). Правильно понять и оценить эту роль сатиры в
8
процессе обновления литературных языков и жанров можно только при постоянном
учете связи сатиры с пародией. Исторически их нельзя разъединять: всякая
существенная пародия всегда сатирична, и всякая существенная сатира всегда
сочетается с пародированием и травестированием устаревших жанров, стилей и языков
(достаточно назвать мениппову сатиру, обычно насыщенную пародиями и
травестиями, «Письма темных людей», романы Рабле и Сервантеса). Таким образом,
история сатиры слагается из важнейших («критических») страниц истории всех
остальных жанров, особенно романа (он был подготовлен сатирой и в последующем
обновлялся с помощью сатирического и пародийного элемента). Отметим еще для
примера обновляющую роль комедии делл'арте. Ее определили народно-сатирические
маски и мелкие шутовские жанры — анекдоты, комические агоны (споры), народноэтологические передразнивания диалектов и т. п. Комедия эта оказала громадное
обновляющее влияние на все драматическое творчество нового времени (и не только
на драматическое, отметим, например, влияние ее форм на романтическую сатиру, в
особенности на Гофмана, или косвенное ее влияние на Гоголя). Особо нужно подчеркнуть исключительно важную роль сатиры в истории реализма. Все эти вопросы
истории сатиры очень слабо разработаны. Историки литературы занимались больше
отвлеченной идеологией того или иного сатирика или наивно
как «Гаргантюа
истории созда9
Сатира
реалистическими заключениями от произведения к современной ему исторической
действительности.
Не лучше обстоит дело и с теорией сатиры. Особое между-жанровое положение
сатиры чрезвычайно затрудняло теоретические исследования ее. В теориях литературы
и поэтиках сатира обычно фигурирует в разделе лирических жанров, т. е. имеется в
виду только римский сатирический жанр и его неоклассические подражания. Такое
отнесение сатиры к лирике — весьма обычное явление. Горнфельд, например,
определяет ее так: «Сатира в своей истинной форме есть чистейшая лирика — лирика
негодования»5. Исследователи же, ориентирующиеся на сатиру нового времени и
особенно на сатирический роман, склонны признавать ее чисто эпическим явлением.
Некоторые считают сатирический момент, как таковой, внехудожественной,
публицистическою примесью к художественной литературе. Также разноречиво
определяется и отношение сатиры к юмору: одни их резко разделяют, считают их даже
чем-то противоположным, другие же видят в юморе лишь смягченную, так сказать,
«добродушную» разновидность сатиft»i. Не определены ни роль, ни характер смеха в сатире. 1е определены
взаимоотношения сатиры и пародии. Теоретическое изучение сатиры должно носить
историко-систематический характер, причем особенно важно раскрыть фольклорные
корни сатиры и определить особый характер сатирических образов в устном народном
творчестве.
3. Одно из лучших определений сатиры — не как жанра, а как особого отношения
творящего к изображаемой им действительности — дал Шиллер. Примем его за
исходный пункт. Вот оно: «In der Satire wird die Wirklichkeit als Mangel dem Ideale als
der höchsten Realität gegenübergestellt... Die Wirklichkeit ist also hier ein notwendiges
Objekt der Abneigung»6. В этом определении правильно подчеркнуты два момента:
момент отношения сатиры к действительности и момент отрицания этой действительности как недостаточности (als Mangel). Эта недостаточность раскрывается, по
9
Шиллеру, в свете идеала «как высшей реальности». Здесь сказывается идеалистическая
ограниченность шиллеровского определения: «идеал» мыслится как нечто статическое,
вечное и отвлеченное, а не как историческая необходимость наступления нового и
10
Сатира
10
лучшего (будущего, заложенного в отрицаемом настояаем). Необходимо особо подчеркнуть (этого не делает 1иллер) образный характер
сатирического отрицания, отличающий сатиру, как художественное явление, от
различных форм публицистики^1!. Итак, сатира есть образное отрицание современной
действительности в различных ее моментах, необходимо включающее в себя — в той
или иной форме, с той или иной степенью конкретности и ясности — и
положительный момент утверждения лучшей действительности. Это предварительное
и общее определение сатиры, как и все такого рода определения, неизбежно и
абстрактно и бедно. Только исторический обзор богатого многообразия сатирических
форм позволит нам конкретизировать и обогатить это определение.
4. Древнейшие фольклорные формы образного отрицания, т. е. сатиры, суть формы
народно-праздничного осмеяния и срамословия. Эти формы носили первоначально
культовый характер. Это был обрядовый смех («rire rituel» — по терминологии S.
Reinach а7). Но это первоначальное ритуально-магическое значение осмеяния и
срамословия может быть только реконструировано наукой (с большим или меньшим
правдоподобием), все же известные нам по памятникам формы народно-праздничного
смеха уже художественно переоформлены и идеологически переосмыслены: это —
уже сложившиеся формы образного отрицания, включающие в себя момент утверждения. Это — фольклорное ядро сатиры. Приведем важнейшие факты. Во время
фесмофорий, Галоа8 и других греческих праздников женщины осыпали друг друга насмешками с непристойной бранью, сопровождая выкрикиваемые слова непристойными
жестами; такие смеховые перебранки назывались aioxpoAxyyia (т. е. «срамословие»).
Плутарх рассказывает о беотийском празднике «Daeda-1а»* (плутарховский текст не
сохранился, но передан Эвсе-бием), во время которого разыгрывался фиктивный
брачный обряд, сопровождавшийся смехом, а кончавшийся сожжением деревянной
статуи. Об аналогичном празднике рассказывает и Павсаний. Это — типичный
праздник возвращения к жизни божества вегетации; смех здесь связан с образами
смерти и возрождения производительной силы природы. Особенно и интересен и
важен рассказ Геродота
Сатира
10
(Herod. V, 83) о празднике Деметры, во время которого женские хоры осмеивали
друг друга; здесь это осмеяние, конечно, также было связано с мотивами смерти и возрождения производительной силы. Дошли до нас свидетельства и об осмеяниях во
время греческих свадебных обрядов. Существует интересная экспликативная легенда,
объясняющая связь между смехом и непристойностью, с одной стороны, и между
смехом и возрождением, с другой. Эта легенда отражена в гомеровском гимне к Деметре. После похищения Персефоны в преисподнюю скорбящая Деметра отказывалась от
питья и пищи, пока ее не рассмешили Ямбы10, проделав перед нею непристойный
жест.
Народно-праздничное посрамление и осмеяние мы находим и на римской почве.
Гораций изображает в одном из своих посланий (epist. 2.1, 139) праздник жатвы, во
время которого совершаются вольные осмеяния и посрамления в диалогической форме
(fescennina licentia). Об аналогичном празднике говорит и Овидий (Fastes, III, р. 675-
10
676)11. Известны римские триумфальные осмеяния (carmina triumphalia)12, также
имевшие диалогическую форму. Упомяну, наконец, сатурналии с их узаконенной
свободой смеха и организованным осмеянием и посрамлением шутовского царя
(старого царя, старого года).
Все эти праздники осмеяния, как греческие, так и римские, существенно связаны с
временем — со сменою времен года и сельскохозяйственных циклов. Смех как бы
фиксирует самый момент этой смены, момент смерти старого и одновременно
рождения нового. Поэтому и праздничный смех является одновременно и
насмешливым, бранным, посрамляющим (уходящую смерть, зиму, старый год) смехом
и смехом радостным, ликующим, приветственным (возрождение, весна, свежая зелень,
новый год). Это — не голая насмешка, отрицание старого неразрывно слито здесь с
утверждением нового и лучшего1-3. Это воплощенное в смеховых образах отрицание
имело, следовательно, стихийно-диалектический характер.
По свидетельству самих древних, эти народно-праздничные формы осмеяния и
срамословия и были теми корнями, из которых выросли литературные сатирические
формы. Аристотель (Poet. с.4, р.1448*, 32) видит корни комедии в ямбических
песенных посрамлениях («iapßi^eiv»),
Сатира
11
причем он отмечает диалогический характер этих посрамлений («ufyißi^ov
акХу\Хокх^»). М. Теренций Варрон в своей работе о происхождении драмы («De
scaenicis originibus») находит ее зачатки в различных празднествах — в ком пи-талиях,
в луперкалиях и др. Наконец, Ливии (Liv. 7, 2, 4) сообщает о существовании народной
драматической «сатуры», выросшей из фесценнин14. Ко всем этим утверждениям
древних (особенно Ливия) нужно, конечно, относиться критически. Но не подлежит
никакому сомнению глубокая внутренняя связь античного литературно-сатирического
образного отрицания с народно-праздничным смехом и посрамлением. И в
дальнейшем развитии античной сатиры она не порывает своей связи с живыми
формами народно-праздничного смеха (например, существенна связь с сатурналиями
эпиграмматического творчества Марциала и романа-сатуры Петрония).
Мы наблюдаем шесть основных черт народно-праздничных осмеяний и
посрамлений, повторяющихся затем во всех сколько-нибудь существенных явлениях
сатирического творчества античности (да и всех последующих эпох развития
европейской сатиры): 1) диалогический характер осмеяния-посрамления (взаимоосмеяние хоров); 2) присущий этим осмеяниям момент пародирования,
передразнивания; 3) универсальный характер осмеяний (осмеяние божеств, старого
царя, всего господствующего строя (сатурналии);
4) связь смеха с материально-телесным производительным
началом
(срамословие);
5) существенное отношение осмеяния к времени и временной смене, к возрождению,
к смерти старого и рождению нового; 6) стихийная диалек-тичность осмеяния,
сочетание в нем насмешки (старое) с весельем (новое)(111. В образах осмеиваемого
старого народ осмеивал господствующий строй с его формами угнетения — в образах
нового он воплощал свои лучшие чаяния и стремления.
5. Классическая Греция не знала особого специального жанра сатиры. Сатирическое
отношение к предмету изображения (образное отрицание) реализуется здесь в разнороднейших жанрах. Очень рано возник здесь народный комико-сатирический эпос —
песни о дурачке Маргите
Сатира
11
(древние приписывали их Гомеру, Аристотель выводил из них комедию);
«Маргит»15 — первый европейский образец «дурацкой сатиры» («Narrensatire») —
одного из самых распространенных видов сатиры в средние века и в эпоху
Возрождения. Дурак в этом виде сатиры в большинстве случаев выполняет троякую
функцию: 1) его осмеивают, 2) он сам осмеивает, 3) он служит средством осмеяния
окружающей действительности, тем зеркалом, в котором отражаются дурацкие черты
этой действительности. Дурак часто совмещает в себе черты плуга с чертами наивного
простака, не понимающего глупой или лживой условности социальной
действительности — обычаев, законов, верований (что особенно важно для
выполнения третьей, разоблачающей окружающую действительность, функции).
Таким, по-видимому, и был Маргит, насколько можно судить по дошедшим до нас
чрезвычайно скудным свидетельствам и фрагментам. Очень рано возникла и замечательная пародия на героический эпос — «Война мышей и лягушек». Это
произведение свидетельствует о том, что уже в VII-VI вв. до н. э. греки обладали высокой культурой пародирования. Предметом осмеяния в «Войне мышей и лягушек»
служит само эпическое слово, т. е. жанр и стиль архаизующей героической поэмы.
Пародия эта является, следовательно, сатирой (образ-ным отрицанием) на
господствующий, но уже отмирающий стиль эпохи (и такой является всякая подлинная
пародия и травестия)16. Осмеяние это не было голой насмешкой, поэтому греки и
могли приписывать эту пародию самому Гомеру. Наконец, сильный сатирический
элемент есть в поэме Гесиода «Труды и дни» (сатирическое изображение судов,
властей, деревенских тягот, вставная сатирическая басня и т. п.). Характерно, что
именно здесь рассказана легенда о четырех веках, отражающая глубоко сатирическое
ощущение времени, смены веков и поколений (как ценностных миров), и глубоко
сатирическое осуждение настоящего (знаменитая характеристика «железного века»);
здесь нашло свое яркое выражение и характерное для мифологического мировоззрения
вообще и для всей античной сатиры перенесение «идеала», утопического царства
добра, справедливости и изобилия, из будущего в прошлое («золотой век»).
12
Сатира
12
В области лирики сатирический элемент (образное отрицание) определил собою
греческую ямбическую поэзию (Архилох, Гиппонакт). Ямб непосредственно возникает
из народно-праздничных осмеяний и срамословии. В нем сочетаются диалогическая
обращенность, грубая брань, смех, непристойности, пожелания смерти, образы
старости и разложения. Ямб откликается на современную действительность, на
злободневность; в нем даются бытовые подробности и появляются образы
осмеиваемых людей и даже иронический образ самого автора (у Архилоха). В этом
отношении ямб резко отличается от всех остальных жанров греческой лирики, с их
условностью и с их высоким, отвлекающимся от современной действительности,
стилем.
Но сильнее всего проявлялся сатирический элемент в формах греческой комедии и
мима. (К сожалению, богатое комическое наследие греков для нас почти полностью
потеряно; для классической эпохи мы располагаем только комедией Аристофана).
Особенно богато сатирическими формами было комическое творчество Сицилии и
Нижней Италии. В эпоху Фриниха и Эсхила, когда комедия в Аттике носила характер
ямбических песен, в Сиракузах создается комедия с развитым диалогом и
существенным сатирическим содержанием. Ее создатель — Эпихарм из Коса17. В
основе ее лежит народно-праздничный смех и
12
Развитые формы сицилийской народной шутовской комики. 1а той же народносатирической основе вырастает и литературный мим18, созданный младшим
современником Эпихарма — Софроном. И в комедии Эпихарма и в миме Софрона
сюжет и интрига отступают на задний план перед чисто сатирическими зарисовками и
перед сатирическими диалогами народно-праздничного типа. Эпихарм создал (точнее
— обработал) и типичные народно-праздничные агоны: «Спор земли с морем», «Спор
Логоса с Логиной»19. В творчестве Эпихарма травестии высокого мифа сплетаются с
сатирическими сценками; древние передают, что он впервые вывел на сцену образ
паразита и образ пьяного.
Аналогичные сочетания образов действительности с пародиями и травестиями, с
непристойностями и бранью в формах импровизированного диалога или полу-диалога
имели место и в представлениях, которые давали по всей
Сатира
Греции дейкеласты и фаллофоры (о них мы узнаем у Афинея)20.
Комедия Аристофана — уже вполне созревшая могучая социально-политическая
сатира. Но и она выросла из тех же корней народно-праздничных осмеяний и
срамословии. В традиционную структуру ее входит комический народно-праздничный
агон, сатирико-полемическая инвектива (парабаза); самая комедия в ее целом в
известной мере является пародией на трагический жанр, кроме того ее содержание
пестрит травестиями и пародиями (главным образом на Эврипида), она полна брани и
непристойностей (связанных с материально-телесным производительным началом).
Предметом осмеяния и посрамления служит настоящее, современность, со всеми ее
актуальными и злободневными вопросами (социальными, политическими,
общеидеологическими, литературными); образное отрицание этого настоящего
(современности) носит резко выраженный гротескный характер: уничтожающая
насмешка сочетается в них с веселыми мотивами производительной силы,
материально-телесного избытка, обновления и возрождения; умирающее и изгоняемое
старое чревато новым, но это новое не показано в конкретных образах
действительности, — оно присутствует лишь в веселом оттенке смеха и в образах
материально-телесного начала и производительной силы (непристойности)^.
6. Рим обычно считают родиной сатиры. Известно утверждение Квинтилиана (10, 1,
93): «Satira tota nostra est». Это верно лишь в отношении определенного и самостоятельного жанра литературной сатиры; сатирический элемент в фольклоре и в
различных общих литературных жанрах был достаточно развит в Греции и оказал
существенное влияние и на развитие римского сатирического жанра.
Самое название сатиры происходит от латинского слова «satura», обозначавшего
первоначально блюдо, наполненное всевозможными жертвенными приношениями,
затем паштет, фарш, наконец, вообще «смесь» (в этом смысле оно применялось и к
заголовкам, касавшимся нескольких предметов). Это слово было перенесено на
литературный жанр, по-видимому потому, что он носил смешанный характер, не
исключено и влияние греческого слова «satyri» (это допускают Моммсен, Шанц,
Дитерих и др.)- Если
13
Сатира
верить Ливию, то существовала драматическая сатура, связанная с фесценнинами
(многие ученые подвергают ее существование сомнению). Первым писавшим сатиры
был Н э в и й (Cn. Naevius, начало его литературной деятельности относится, повидимому, <к> 235 г. до н. э.). Его сатиры носили, по-видимому, диалогическую форму
и отражали политическую современность; были в них и личные инвективы (против
Метеллов). Писал сатиры и Э н н и й (Q. Ennius, род. 239, ум. \69 до н. э.). В них также
13
имел место диалогический элемент; об этом свидетельствуют некоторые фрагменты и
упоминания среди его сатир спора смерти с жизнью (т. е. типичного народнопраздничного агона). Но подлинным создателем жанра римской сатиры был Л у ц и л и
й . Дошедшие до нас многочисленные фрагменты и свидетельства (в том числе
Горация: Sat. 1,4; 1,10; 2,1) позволяют создать довольно полное представление об
особенностях его сатиры. Вот эти особенности: 1) основа сатиры — диалогическая, тип
диалога — не сю-жетно-драматический и не философско-исследовательский, но
беседно-разговорный; автор беседует сам, заставляет говорить своих персонажей (так,
в 14 кн., как говорящий, выступал Сципион Младший), изображает диалогические
сцены (например, два собрания богов в 1 кн., судебный процесс во второй книге); 2) в
сатиры входят элементы литературной пародии (например, на ходульную трагическую
героизацию), литературной полемики (по вопросам стиля, грамматики, орфографии;
этим вопросам была посвящена 10 кн.); 3) в сатиры вводится автобиографический,
мемуарный элемент (так, в третьей книге изображалось путешествие автора из Рима к
Сицилийскому проливу); 4) основным содержанием сатир является образное
отрицание современности в различных ее проявлениях (политическая испорченность и
коррупция, власть золота, пустое честолюбие, роскошь и изнеженность, разбогатевшие
плебеи, грекомания, религиозные предрассудки и др.)» сатирик остро ощущает свой
«век», настоящее, современность (он имеет дело не с единым идеализованным
временем, как прочие жанры), в ее ограниченности и преходящести (то, что должно
отойти, умереть, как разлагающееся, испорченное); 5) положительное начало сатиры,
ее «идеал», даны в форме идеаль
14
Сатира
14
ного прошлого: это — старо-римская добродетель (virtus). Так определился жанр
римской сатиры у Луцилия.
На высшую ступень формально-художественного совершенства жанр римской
сатиры был возведен Горацием. Но критика современности в условиях августовской
эпохи, по сравнению с Луцилием, ослаблена и смягчена.
Сатира Горация является искусной системой вза-имосцепляющихся бесед: из одной
беседы мы переходим, вовлекаемся, в другую, беседа цепляется за беседу, один
собеседник сменяется другим. Например, в 6ой сатире 1ой книги автор сначала
говорил с Меценатом, но вот в беседу вмешивается Тиллий (Tillius), затем слово снова
переходит к Меценату, потом — опять к Тиллию, в промежутке мы оказываемся на
форуме и слышим возбужденные речи неназванных лиц; в другой сатире (1,4) говорит
Крисипп, затем неназванные лица, потом отец поэта. Из этой непрерывной свободнобеседной стихии все время возникают и снова исчезают отдельные образы говорящих
людей, характерные или типические, более или менее четко охарактеризованные. Этот
беседный диалог, освобожденный от связи с действием (как в драме) и от стеснений
строго философского анализа (как в классическом философском диалоге греков), несет
у Горация характерологические, размышляющие и изображающие функции; иногда
ему придается легкий пародийный характер. Слово в этой системе сцепляющихся
бесед несет прямые изобразительные и выразительные функции, т. е. изображает,
размышляет, и одновременно само изображается, показывается, как характерное,
типическое, смешное слово. В общем свободно-беседное слово горацианской сатиры
(это касается также и слова в эподах и посланиях) по своему характеру максимально
близко к романному слову. Гораций сам называл свои сатиры (как и послания)
«sermones», т. е. «разговоры» (Epist. 1,4,1; 2,1, 250; 2,2,60).
14
Автобиографический, мемуарный элемент у Горация развит еще сильнее, чем у
Луцилия. Подробно изображаются отношения автора с Меценатом. В 5 сатире первой
книги дается дневник путешествия его с Меценатом в Брундизий. В 6 сатире той же
книги появляется образ отца автора и передаются его наставления.
Сатирам Горация присуще острое ощущение современности, а следовательно, и
дифференцированное ощущение
Сатира
15
времени вообще. Именно время, мое время, мои современники, нравы, быт, события,
литература именно моего времени являются подлинным героем горацнан-ских сатир;
если этот герой (мое время, современность, настоящее) и не осмеивается в полном
смысле, то о нем говорят с улыбкой; его не героизуют, не прославляют, не воспевают
(как в одах), — о нем разговаривают, разговаривают свободно, весело и насмешливо.
Современность в сатирах Горация — предмет свободно-насмешливых бесед.
Сатурналиевский вольный смех в отношении существующего строя и господствующей
правды смягчен до улыбки. Но народно-праздничная основа этого сатирического
восприятия современной действительности совершенно очевидна.
Последний существенный этап развития жанра римской сатиры — Ювенал (бедная и
абстрактная сатира юноши Персия не внесла ничего существенного). С точки зрения
формально-художественной, сатира Ювенала — деградация. Но в то же время в ней
гораздо резче, чем у его предшественников, проявляется народно-праздничная (фольклорная) основа римской сатиры.
У Ювенала появляется новый тон в отношении отрицаемой действительности
(современности) — возмущение (indignatio). Он сам признает возмущение основной
движущей силой своей сатиры, организатором ее («facit indignatio versum»).
Возмущение становится как бы на место сатирического смеха. Его сатиру поэтому
называют «бичующей». Однако, на деле возмущение вовсе не замещает смеха.
Возмущение, скорее, — риторический придаток ювеналовой сатиры: формальная
структура и образы ее организованы смехом, хотя внешне он и не звучит, и внешне
вместо него появляется иногда патетика возмущения. Вообще в сатирах Ювенала
риторическая патетика декламатора борется с народно-с меховой сатирической
традицией. Попытка Риббека отделить подлинного Ювенала-сатирика от ритора
находит себе опору в этой двойственности (Риббек признавал подлинность только
первых девяти и одиннадцатой сатиры, но и в этих подлинных сатирах он находил
искажения, внесенные чужою рукою ритора). Сатира Ювенала сохраняет беседнодиалогический характер, хотя и несколько риторизованный. Ощущение
современности, века, исключительно обострен
Сатира
15
ное. Он не понимает, как можно писать длинные поэмы с условными
мифологическими мотивами. Испорченность века такова, «что трудно не писать сатир»
(первая сатира). Образное отрицание современной действительности простирается от
дворца императора (Домициана, см.: 4** сат.) до мелких бытовых подробностей
римской жизни (например, утреннее времяпрепровождение римской матроны в 6ой
сат.). Характерно заявление Ювенала, которым он кончает первую сатиру: «Попробую,
что позволительно против тех, кого пепел покрыт на Фламинской или Латинской»21.
Это значит, что он нападает только на мертвых, т. е. на прошлое, на Домицианов век
(писал он при Трая-не). Это заявление имеет двоякий смысл: 1) в условиях
императорского Рима (хотя бы и при мягком режиме Траяна) такая оговорка была
необходима; 2) народно-праздничные осмеяния и срамословия умирающего, уходя-
15
щего, старого (зимы, старого года, старого царя) и их традиционная свобода
использованы здесь Ювеналом. В связи с народно-праздничными смеховыми формами
нужно понимать и непристойности Ювенала (традиционная связь смеха и брани со
смертью, с одной стороны, и с производительной рождающей силой и материальнотелесным началом — с другой)HV1.
Таков жанр римской сатиры. Эта сатира вобрала в себя все то, что не находило себе
места в строгих и связанных высоких жанрах: разговорный диалог, письмо, мему-арноавтобиографический момент, непосредственное впечатление от самой жизни, но
прежде всего и главнее всего — живую актуальную современность. Сатира была свободна от мифа и условностей, от высокого тона и от системы официальных оценок, —
от всего того, что было обязательно для всех остальных жанров. Сатира была свободна
и от обезличенного условного времени высоких жанров. Эта свобода сатирического
жанра и присущее ему чувство реального времени определяется его связью с
фольклорным смехом и посрамлением. Напомним, кстати, о связи с сатурналиями
сатирических эпиграмм Марциала.
7. Элленистическая и римско-элленистическая «менип-пова сатира»22 также
определялась народно-праздничным смехом. В основе ее лежит своеобразное
сочетание древнего диалогического взаимоосмеяния и взаимопосрамления и древнего
комического «спора» (агона), типа «спора жизни
Сатира
со смертью», «зимы с летом», «старости с молодостью» и т. п., с кинической
философией. Кроме того, существенное влияние на развитие менипповой сатиры
(особенно поздних ее форм) оказали комедия и мим. Наконец, в эту сатиру проник
существенный сюжетный элемент, благодаря сочетанию ее с жанром фантастических
путешествий в утопические страны (утопия искони тяготела к народно-праздничным
формам) и с пародиями на спуски в преисподнюю и подъемы на небо23. Радикальное
народное осмеяние господствующего строя и господствующей правды, как
преходящей, стареющей, умирающей, утопия, образы материально-телесного начала и
непристойности (производительная сила и возрождение), фантастические путешествия
и приключения, философские идеи и ученость, пародии и травестии (мифов, трагедий,
эпоса, философских и риторических жанров), смешение жанров и стилей, стихов
(преимущественно пародийных) и прозы, сочетание различнейших типов диалога с
повествованием и письмами, — все это определяет состав менипповой сатиры на всем
протяжении ее развития — у Мениппа, Варрона, Сенеки, Петрония, Лукиана. Более
того, все это мы находим в романе Рабле и отчасти в «Дон Кихоте». Особенно важное
значение имеет широкое отражение в менипповой сатире идеологической
действительности. Становление и изменение идей, господствующей правды, морали,
верований в строгих жанрах не могло быть отражено. Эти жанры предполагали
максимум несомненности и устойчивости, в них не было места для показа
исторической относительности «правды». Поэтому мениппова сатира и могла
подготовить важнейшую разновидность европейского романа. Но в условиях
античного рабовладельческого строя, лишенного перспектив, все заложенные в этой
сатире возможности полностью не могли развиться.
8. Средневековая сатира. Корни средневековой сатиры — в местном фольклоре. Но
довольно существенное значение имело и влияние римской культуры смеха — мима и
сатурналий (традиция которых в разных формах продолжала жить на протяжении
всего средневековья). Средневековье с большими или меньшими оговорками уважало
свободу дурацкого колпака и предоставляло народно-праздничному смеху довольно
широкие привилегии. «Праздники глупцов»24 и «праздник осла»25 устраи
16
16
Сатира
17
вались низшим клиром в самих церквах. Очень характерное явление, так
называемый «risus paschalis», т. е. пасхальный смех: во время пасхи традиция
разрешала смех в церкви, который мыслился как веселое возрождение после долгого
поста и уныния; чтобы вызвать этот смех, проповедник с церковной кафедры позволял
себе вольные шутки и анекдоты. «Risus paschalis» — христианизованная
(приспособленная к христианским воззрениям) форма
S\bKAopHoro смеха и, может быть, смеха сатурналий, ень много пародийных и
сатирических произведений средневековья выросло под прикрытием этого
легализованного смеха. Значительной сатирической продуктивностью обладал и
рождественский смех. В отличие от пасхального смеха он реализовался не в рассказах,
а в песнях26. Была создана громадная продукция рождественских песен, религиозная
рождественская тематика переплеталась в них с народными мотивами веселой смерти
старого и рождения нового; сатирическое осмеяние старого часто доминировало в этих
песнях, особенно во Франции, где рождественская песня («Noel») стала одним из
популярнейших жанров революционной уличной песни. И в другие праздники
средневековья смех и осмеяние были в известной мере легализованы, терпимы. С
праздниками и рекреациями была связана богатейшая пародийная литература
средневековья (латинская и на народных языках)™. Особенно важное значение по
своему влиянию имели (в более поздние периоды средневековья) карнавал и связанные
с ним смеховые формы (романы Рабле и Сервантеса носят резко выраженный
карнавальный характер).
Сатирическое творчество средних веков было чрезвычайно разнообразно. Кроме
богатейшей пародийной литературы (имевшей безусловное сатирическое значение) сатирический элемент проявлялся в следующих основных формах: 1) дурацкая сатира, 2)
плутовская сатира, 3) сатира обжорства и пьянства, 4) сословная сатира в узком
смысле, 5) сатирическая сирвента. Кроме того, сатирический элемент находит себе
выражение в других жанрах средневековой литературы: в церковной драме, в эпосе
шпильманов и кантасториев, в дьяблериях мистерий, во второй части «Романа о Розе»
(Жана де Мена), в моралите, соти и фарсах.
Сатира
17
Образ дурака средневековой сатиры (и сатиры эпохи Возрождения) — фольклорного
происхождения. Отрицание сочетается в нем с утверждением: его глупость (простота,
наивность, бескорыстие, непонимание дурной социальной условности) оказывается
неофициальной мудростью, разоблачающей господствующую правду (господствующий ум). Но рядом с этим дурак является и чисто отрицательным воплощением
глупости. Но и в этом последнем случае осмеивается не только он, но и вся окружающая его действительность. Например, в одной поэме XII века «Зеркало глупцов»
(«Speculum stultorum» Ни-геллуса) герой ее, осел Брунеллус (обычный животный образ
дурака), сбежавший от хозяина, лечится в Салерно, учится богословию в Париже (в
Сорбонне), основывает собственный монашеский орден. Повсюду осел оказывается на
своем месте. В результате осмеивается медицинский педантизм Салерно, невежество
Сорбонны, нелепости монашества. Большую сатирическую роль сыграл двойственный
образ дурака в соти позднего средневековья.
Плутовская сатира средневековья не всегда может быть резко отделена от дурацкой.
Образ плута и дурака часто сливаются. Плут также не столько сам осмеивается и разоблачается, сколько служит пробным камнем для окружающей действительности, для
тех организаций и сословий средневекового мира, к которым он примазывается или с
17
которыми соприкасается. Такова его роль в «Попе Амисе», в животном эпосе о Лисе
(«Рейнеке Лис»), в плутовских фаблио и шванках. Плут, как и дурак, не бытовой
насмешник, а фольклорный образ, своего рода реалистический символ двойственного
значения, сатирическое зеркало для отрицания плутовского мира. Бытовым образом
плут станет только в поздних формах плутовского романа.
Такой же своеобразный характер реалистического символа носит в средневековой
сатире обжорство и пьянство. В фольклорной, народно-праздничной системе образов
еда и питье были связаны с плодородием, возрождением, всенародным избытком (с
этим положительным мотивом был связан и образ толстого брюха). В условиях
классовой действительности эти образы приобретают новое значение: с их помощью
осмеиваются жадность и тунеядство духовенства, изобилие еды и питья превра
Сатира
18
щаются в обжорство и пьянство. Древний положительный гиперболизм получает
отрицательное значение. Но этот процесс не может совершиться до конца: образы еды
и питья сохраняют двойственное значение, осмеяние обжорства и тунеядства
сочетается с положительной (радостной) акцентуацией самого материально-телесного
начала. Такова сатира «День некоего аббата», где изображается времяпрепровождение
аббата, состоящее исключительно из безмерной еды, питья и очищения желудка
всякими способами (с этого он начинает свой день). В другой замечательной сатире
«Tractatus Garsiae Tholetani» (XI в.)28 изображается непрерывное и безмерное пьянство
всей римской курии во главе с папой. Образы этого типа сатиры носят гротескный
характер: они преувеличены до чрезмерности, причем это преувеличение носит
одновременно и отрицательный характер (жадность и обжорство тунеядцев) и характер
положительный (пафос материального изобилия и избытка).
Взаимоосмеяние сословий играет громадную роль в средневековом сатирическом
творчестве. Сатирические образы попа, монаха, рыцаря, крестьянина несколько схематизованы: за сословными чертами нет индивидуального характерного лица (понастоящему оживают эти образы только в сатире эпохи Возрождения).
Все четыре перечисленных вида сатиры связаны с фольклором. Поэтому образы
отрицания здесь организуются смехом, они конкретны, двузначны (отрицание сочетается в них с утверждением, насмешка с весельем), уни-версалистичны, не чужды
непристойностей, сатира здесь сплетается с пародией. Эти виды сатиры нашли свое завершение в эпоху позднего средневековья в таких народных книгах, как
«Еуленшпигель», в «Корабле глупцов» Бранта, в поздних версиях Рейнеке-Лиса, в
соти, фарсах и новеллах. В отличие от этого сатирическая сирвента не связана с
народным смехом, в основе ее лежит отвлеченно-политическая или моральная
тенденция (таковы, например, сирвенты Вальтера фон дер Фогельвейде, отличающиеся
большими художественными достоинствами; это — подлинная лирика негодования).
9. Эпоха Возрождения — эпоха небывалого расцвета сатиры, создавшая
непревзойденные образцы ее. Острое и сознательное ощущение времени, смена эпох
мировой ис
Сатира
тории, свойственные Возрождению, делали сатиру важнейшим жанром эпохи.
Осмеяние и срамословие старого и радостная встреча нового — древняя народнопраздничная основа сатиры — в эпоху Возрождения наполняются конкретным и
осознанным историческим содержанием и смыслом. Эпоха Возрождения использовала
все формы средневековой сатиры и пародии, формы античной сатиры (особенно
менипповой — Лукиана, Петрония, Сенеки) и непосредственно черпала из
18
неиссякаемого источника народно-праздничных смеховых форм — карнавала, низовой
народной комики, мелких речевых жанров.
Роман Рабле является замечательным синтезом всех сатирических форм античности
и средневековья на основе карнавальных форм его времени. С помощью этих форм ему
с исключительной ясностью <и> глубиной удалось показать смерть старого мира
(«готического века») и рождение нового в современной ему действительности. Все
образы его стихийно-диалектичны: они раскрывают единство исторического процесса
становления, в котором новое непосредственно родится из смерти старого. Его смех
одновременно и беспощадно-насмешливый и ликующий, в его стиле — нерасторжимое
сочетание хвалы и брани (брань переходит в хвалу и хвала в брань).
Для Возрождения характерно органическое сочетание сатиры с пародией. «Письма
темных людей»29 — чистейшая пародия, и в то же время это замечательный сатирический образ умирающего средневековья. Таким же органическим элементом является
пародия в романе Сервантеса. Сатира Возрождения, как и всякая большая и подлинная
сатира, дает слово самому осмеиваемому миру. Умирающий мир — старая власть,
старый строй, старая правда — в лице его представителей продолжает субъективносерьезно играть свою роль, но объективно он уже оказывается в положении шуга, его
претензии вызывают только смех. Эту карнавальную ситуацию и использует сатира
Возрождения. Ее использовал Рабле в ряде эпизодов своегоромана, использовал
Сервантес, использовали автоские и протестантские памфлетисты. Например, один из самых замечательных
протестантских памфлетов «О различиях в религиях» Марникса де Сент-Альдегонда
писан в форме богословского трактата (громадных размеров) от
темных
политиче19
Сатира
лица ортодоксального католика, врага протестантов. Условный автор со всею
наивностью разоблачает свою религию, защищая последовательно и до конца все ее
нелепости и суеверия, он выставляет ее на смех. Благодаря такому способу построения,
богословский памфлет Мар-никса <имел> художественно-сатирическое значение (в
частности он оказал определяющее влияние на «Тиля Уленшпигеля» Шарля де
Костера). На том же принципе построена замечательная политическая сатира времен
Лиги «Satire Menippee». Она направлена против Лиги. В начале ее ярмарочный
шарлатан рекламирует чудодейственное средство «vertu catholicon», а затем
изображает заседание членов Лиги, которые в своих прямых и откровенных выступлениях разоблачают себя и свою политику.
Дурацкая сатира нашла свое завершение на высшей ступени гуманистической
культуры в «Похвале Глупости» Эразма, в некоторых масленичных играх Ганса Сакса.
Плутовская сатира — в раннем испанском плутовском романе и в плутовских новеллах
Сервантеса и Грим-мельсхаузена (во всех этих явлениях плут не становится еще чисто
бытовым персонажем). Сатира обжорства и пьянства завершается немецкими
«гробианцами» (Каспар Шейдт, Фишарт)30. Во всех этих явлениях Возрождения
народно-праздничный смех и связанные с ним образы дурака, плута, еды и питья,
производительной силы поднимаются на высшую ступень идеологического сознания,
наполняются историческим содержанием, используются для воплощения нового
исторического сознания эпохи.
19
10. В XVII веке сатирическое творчество резко оскудевает31. Стабилизация нового
государственного строя и новых господствующих и определяющих литературные
требования и вкусы социальных групп, сложение неоклассического канона — все это
оттеснило сатиру на второй план литературы и изменило ее характер. Смех утратил
свой радикализм и свою универсальность, он был ограничен явлениями частного
порядка, отдельными пороками и общественными низами; смех и история
(исторические деятели и события), смех и философская мысль (мировоззрение) стали
несовместимыми. Главным объектом подражания стал жанр римской сатиры (Гораций
и Ювенал). Таковы сатиры Ренье и Буало. Элементы возрожденческой сатиры (влияние
Рабле и Сервантеса) име
20
Сатира
20
ются лишь в романах этого периода: у Сореля и Скарро-на. Только комедия,
оплодотворенная могучим и благотворным влиянием комедии делл'арте, выросшей из
народно-праздничных корней, достигла в творчестве Мольера вершин своего
сатирического развития.
Эпоха Просвещения снова создала преблагоприятную почву для развития сатиры.
Сатира опять становится радикальной и универсальной; влияние Горация и Ювенала
сменяется новым влиянием Петрония и Лукиана. Оживают некоторые формы великой
возрожденческой сатиры. Таковы сатирические романы Вольтера (особенно
«Кандид»); непонимание простака или человека иной культуры используется для
разоблачения и осмеяния обессмысленных и отмирающих форм — социальных,
политических, идеологических — современной действительности. В «Микромегасе»
Вольтера и особенно в творчестве Свифта оживают формы гротескной сатиры
(чрезмерные преувеличения, фантастика), но они претерпевают существенные
изменения: отпадает их положительный полюс (веселый, возрождающий оттенок
смеха, пафос материально-телесного производительного начала). Рационализм и
механицизм просветителей, неисторичность их мировоззрения и отсутствие скольконибудь существенных связей с народным смеховым творчеством не позволили сатире
Просвещения подняться на высоту возрожденческой сатиры. Существенное значение
имели памфлеты эпохи Просвещения (особенно английские — например, Свифта,
Дефо и др.), лежащие на границе образного отрицания и публицистики.
Довольно существенную роль в истории сатирического творчества нового времени
сыграли английские сатирические журналы 18го века («Зритель» и «Болтун»)32. Ими
были созданы и закреплены жанры мелкой журнальной сатиры: диалогический,
очерковый, пародийный. Эта жур-нально-сатирическая форма изображения и осмеяния
современности в значительной мере повторяет — в новых условиях — формы
горацианской сатиры (разговорный диалог, масса возникающих и исчезающих образов
говорящих людей, передразнивание социально-речевых манер, полудиалоги, письма,
смесь шутливых и серьезных размышлений). Созданные в 18°" <веке> мелкие формы
журнальной сатиры — с несущественными изменениями
Сатира
20
— продолжали жить на протяжении всего 19го века (да, в сущности, и до наших
дней).
Романтики не создали большой сатиры. Тем не менее они внесли в сатирическое
творчество ряд существенных и новых черт. Их сатира направлена по преимуществу
против культурных и литературных явлений современности. Таковы литературно-
20
сатирические (и пародийные) пьесы Тика, сатирические сказки и рассказы Брентано,
Шамис-со, Фуке, отчасти Гофмана. Отрицаемая действительность
— преимущественно культурного и литературного порядка
— сгущается для романтиков в образе «филистера»; разнообразными вариациями
этого образа полна романтическая сатира; в осмеянии филистера часто появляются
формы и образы народно-праздничного смеха. Наиболее оригинальная и глубокая
форма сатиры у романтиков — сатирическая сказка. Осмеяние действительности
выходит здесь за пределы культурных и литературных явлений и поднимается до
очень глубокой и принципиальной сатиры на капитализм. Такова изумительная сказка
Гофмана «Крошка Цахес» (и в других фантастических и гротескных произведениях
Гофмана мы находим элементы глубокой антикапиталистической сатиры).
Французский романтизм разрабатывал лирическую сатиру Ювеналова типа (лучший
образец — «Les Chätiments», «Кары», Виктора Гюго)33.
Наследником романтической сатиры был и Генрих Гейне, но ему в области
сатирической лирики почти удается совершить переход от романтизма к реализму (он
преодолел поверхностную тенденциозность «Молодой Германии»), благодаря его
ориентации на радикализм демократического движения эпохи и на народное
творчество. Романтическая ирония, готическая снижающая пародия, традиция
французской революции и боевой уличной песни, формы мелких журнальносатирических (разговорных) жанров, масленичный смех своеобразно сочетаются в замечательной стихотворной сатире Гейне.
Во Франции народно-песенная сатирическая традиция оплодотворила сатирическую
лирику Беранже. Та же традиция уличной сатирической песни, но в сочетании с наследием римской сатиры, определила сатирическую лирику Барбье (см. его «Ямбы» и
«Сатиры»).
Сатира
21
Дальнейшая судьба сатиры в 19°" веке такова. Чистая сатира жила по преимуществу
в формах мелких журналь-но-сатирических жанров. Новых больших форм сатиры
19ый век не создал. Сатира сыграла свою творческую роль в процессе подготовки и
создания европейского романа, который и стал основным жанром, изображающим
современную
действительность.
Элементы
образного
отрицания
этой
действительности играют в романе 19"» века большую или меньшую роль. Иногда они
принимают форму юмора (например, у Теккерея, у Диккенса); этот юмор ничто иное,
как смягченный и субъективированный народно-праздничный смех (одновременно и
насмешливо уничтожающий и радостно возрождающий), утративший при этом свою
стихийную диалектичность и свой радикализм.
20ый век не вписал в историю сатиры никаких существенных и новых страниц.
Упомянем о попытках возрождения романтической сатиры (драматической Тиковской
и Гофмановской) в немецком экспрессионизме (Штернгейм, Верфель и др.)»
интересное использование народно-праздничных <...>
<...> <Некрасов> часто применяет сатирический способ саморазоблачения
отрицаемой действительности (уже в сатирах 40-х годов, например: «Ростовщик»,
«Нравственный человек»). Замечательны с точки зрения сатирической техники сюжет
и построение поэмы «Кому на Руси жить хорошо»: фантастичность и сказочность,
обрамляющие сюжеты, традиционно сатирический «спор» мужиков, путешествие
мужиков, определенное сюжетом рассказа претендентов в счастливцы и т. п. В
результате <создается> поражающая по разнообразию и полноте картина русской
действительности, ее старых отмирающих частей и зачатков нового, будущего (см.
юное плакально-бранное прославление в песне Гриши).
21
Наследником лучших традиций развития мировой сатиры был и Салтыков-Щедрин.
Характерно, что уже первая очерковая сатира его, «Губернские очерки», кончается
видением странной похоронной процессии, в которой участвуют герои «Очерков».
Оказывается: «Прошлые времена хоронят» (не важно, что уже и тогда Щедрин не
верил в окончательность этих похорон). Салтыков сам дал замечательную формулу
подлинно сатирического изображения
Сатира
действительности: он говорил, что во всяком факте «прошедшее и будущее, хотя и
закрыты для невооруженного глаза, но тем не менее совершенно настолько же
реальны, как и настоящее». Для сатирика настоящее нацело разлагается на прошлое и
будущее, никакого нейтрального и самодостаточного настоящего не остается. Современная действительность есть процесс смерти прошлого и рождения будущего, но в
эпоху Щедрина будущее было еще только зачато, поэтому картина смерти и
разложения экономического, социального и политического строя России и
господствующей идеологии (и классовой и либеральной) доминирует в творчестве
Щедрина. Универсализм, историчность, гротеск и фантастика, сказка, саморазоблачение действительности, сатирические диалоги достигают у Щедрина вершины своего
развития JIX)
12. Полпреды будущего («идеалы») в той или иной форме, в той или иной степени
всегда наличествуют в сатире, поэтому будущему неизбежно были присущи утопические черты. Только марксизм-ленинизм раскрыл это будущее научно и как
необходимость. Это будущее стало у нас растущей действительностью. Оно родилось
и растет
изображение нашей современной действительности менее всего может быть
образом, отрицающим ее. Умирание прошлого в нашей действительности бессильно и
занимает ничтожное место. Но оно есть еще, и поэтому есть и должна быть советская
сатира. Важнейшая сатирическая задача остается, конечно, у советской литературы в
отношении нашего дореволюционного прошлого и в отношении капиталистического
мира, как окружения.
Reinach S. Le Rire ritucl. — Reinach S. Cuhes, Mythe» et Religion». Vol. 4. Paris, 1912,
p. 109-129. Hoffmann E. Die Feecenninen. — Rheinische» Museum, 1896, № 51, S. 320—
325. Lezius J. Zur Bedeutung von Satire. — Wochenschrift für klassische Philologie, 1891,
№ 8, S. 1131-1133. Flöget K.-Fr. Geschichte des Grotesk-Komischen. Leipzig, 1788.
Переработка: Dr. Fr.-W. Ebeling. Flögel's Geschichte des Grotesk-Komischen. Leipzig,
1862; последняя переработка: Max Bauer, 1914. Schneegans H. Geschichte der grotesken
Satire. Strassburg, 1894. Фрейденберг О. M. Повтика сюжета и жанра. Л., 1936. Glass М.
Klassische und romantische Satire. Stuttgart, 1905. Алферов А. Д. Петрушка и его предки
(Очерк иэ истории народной кукольной комедии). М., 1895. Сумцов Н. Ф. Разыскания в
области анекдотической литературы. Анекдоты о глупцах. — Сборник Харьковского
историко-филологического общества. Т. 11. Харьков, 1899, с. 118—315. Пельтцер А. П.
Происхождение анекдотов в русской народной словесности. — Там же, с. 57—117.
Добролюбов И. А. Русская сатира Екатерининского
В
нашей
действительности. Поэтому
22
Сатира
времени. (Собр. соч., т. I). Lcrucnt С. La Satire en France ou la litt erat urc militante au
XVIе s. Paris, 1866. Birl Th. Zwei politische Satiren des alten Rom. Marburg, 1888.
22
ДОПОЛНЕНИЯ К ПЕРВОЙ РЕДАКЦИИ СТАТЬИ «САТИРА»
[I.] Дадим прежде всего определение сатиры — не как жанра, а как особого
отношения творящего к изображаемой им действительности. Сатира есть образное
отрицание современной действительности в различных ее моментах, необходимо
включающее в себя — в той или иной форме и с той или иной степенью конкретности
и ясности — и положительный момент утверждения лучшей действительности
(«идеала как высшей реальности», по определению Шиллера). Образный характер
отрицания отличает сатиру, как художественное явление, от различных форм
публицистики. Образное отрицание может принимать в сатире две формы. Первая
форма — смеховая: отрицаемое явление изображается как смешное, оно осмеивается.
Вторая форма — серьезная: отрицаемое явление изображается как отвратительное,
злое, возбуждающее отвращение и негодование. Основной и самой распространенной
формой сатиры является первая, т. е. смеховая форма: такова вся фольклорная сатира,
таковы важнейшие явления античной (кроме Ювенала) и средневековой сатиры,
такова, наконец, великая сатира эпохи Возрождения (Рабле, Сервантес, Эразм, Гуттен
и др.). В ряде случаев и там, где видимого смеха нет, самые образы отрицания
организованы все же смехом (например, у Ювенала). Иногда в одном произведении
объединены обе формы сатирического отрицания (например, у Теккерея). Смеховая
сатира является важнейшим видом комического Там, где комика лишена сатирической
направленности, она становится поверхностной и относится к области чисто
развлекательной литературы («смех ради смеха»).
Образное отрицание действительности, т. е. сатира, может иметь более или менее
объективный и существенный характер в зависимости от того, в какой мере она
является отражением того реального отрицания, которое диалектически накопляется и
вызревает в самой действительности и ведет к изменению всего ее строя. Сатира,
выражающая интересы умирающих классов и реакционных групп, бывает проникнута
субъективными элементами; образное отрицание в такой сатире лишено связи с
развивающейся действительностью и с реальным будущим; поэтому такая сатира часто
(например, у реакционных романтиков) проникнута полным пессимизмом. Сатира,
выражающая интересы новых социальных классов и групп, идущих на смену старым,
отражает реальное отрицание, созревающее в самой действительности; такая сатира
свячана с реальным будущим и потому оптимистична. Такова, например, сатира эпохи
Возрождения, отражавшая смерть средневекового строя и рождение нового мира.
Особенно важное значение имеет во все эпохи развития сатиры ее связь с народным
сатирическим смехом. Благодаря этой связи, например, великие сатирики эпохи
Возрождения (Рабле, Сервантес) преодолевали классовую ограниченность и умели
подняться до глубо
23
Сатира
23
кой критики не только умирающего феодального строя, но и молодого
капиталистического.
[П.] 7) в образах осмеиваемого «старого)» очень рано проступают черты социальной
действительности: народ осмеивает в этих образах господствующий строй с его
формами угнетения (недаром римские фесценннны были запрещены), в образах же
«нового» народ воплощал лучшие свои чаяния и свои стремления.
Рожденные еще в условиях доклассового общества, формы народно-праздничных
осмеяний продолжают жить и при классовом строе; сохраняется их стихийная
диалектнчность, радикализм отрицания, оптимизм; но они обогащаются новым
народным опытом, применяются к новым формам социального угнетения; углубляется
23
и обогащается и их утопическая сторона (народные чаяния и стремления). На их
основе расцветают многообразные формы народной сатирической комики, так
называемые «стоячие маски», типические ситуации и т. п., которые определяют затем
литературную комедию, мим, новеллы и другие формы литературной сатиры.
Мы остановились так подробно на античных формах народного смеха потому, что
подобные же формы были и у всех новых народов, и процесс возникновения и
развития смеховой сатиры протекал у этих народов аналогично. Достаточно напомнить
о масленичном, карнавальном смехе, о народных масках (Пульчинелла, Арлекин и др.),
о связи с этими формами импровизированной итальянской комедии («Комедия
делл'арте»), о соти, фарсах, о карнавальном характере сатиры Рабле. Особенно важное
значение имело отношение народного смеха к времени и к временной смене: благодаря
ему в формах народной смеховой сатиры складывались и созревали образы для
выражения смены эпох, относительности господствующего строя и того нового
исторического ощущения, которое проникает в романы Рабле и Сервантеса.
[III.] Несмотря на то, что Аристофан занимал в современной ему социальной борьбе
консервативную позицию (он был врагом демократии), его сатира, проникнутая
народным смехом, сумела выразить протест обездоленных масс рабовладельческого
общества против господства плутократии (в господство плутократии выродилась
античная демократия).
[IV.] Связь с сатурналиями определяет более радикальную, по сравнению с
Горацием, социальную направленность Ювеналовой сатиры против самых основ
разлагающегося императорского Рима.
[V.] Во всех этих многообразных смеховых формах осуществлялся — с большею
или меньшею силой и сознательностью — народный протест против средневекового
строя с его сложной системой угнетения.
[VI.] Из всех немецких романтиков Гофман более других преодолел ограниченность
романтической критики действительности. Благодаря своей связи с сатирическим
фольклором, его сатира, пользуясь методами гротеска и фантастики, изображает с
исключительной яркостью те уродства и извращения, которые порождаются в жизни и
сознании людей властью денег, товара и бюрократической государ
Сатира
24
ственной машины. Ограниченность романтической сатиры преодолевают также
Байрон и Гейне.
Судьба сатиры в XIX в. существенно меняется. Чистая сатира отступает на задний
план; она живет по преимуществу лишь в мелких журнально-сатирических жанрах и в
лирической сатире, связанной с революционной народно-песенной традицией
(Беранже, Барбье, Фрейлиграт). Сатира сыграла свою творческую роль в процессе
подготовки и создания европейского романа и критического реализма. Поэтому
история сатиры в XIX в. почти сливается с историей романа и в особенности с
историей критического реализма. Бальзак, Флобер, Мопассан, Золя были сатириками в
той мере, в какой они были критическими реалистами. Критический реализм — это
вершина образного отрицания, подъем на которую был подготовлен веками развития
сатиры.
[VII.] Подлинная большая русская сатира, связанная с национальными иародносмеховыми корнями, появляется только у Гоголя.
Сатирическое творчество Гоголя непосредственно связано с народ-но-смеховыми
корнями: с украинским народно-праздничным смехом («Вечера на хуторе близ
Диканьки», «Миргород»), с формами народной сатирической комики («Нос», комедии,
«Мертвые души»). В то же время Гоголь связан с лучшими традициями европейской
24
сатиры (с раблезианской линией). В произведениях Гоголя мы найдем сатирический
гротеск (положительно-отрицательные преувеличения), элементы дурацкой и
плутовской сатиры, сатиры обжорства, комические диалоги ит. п. В результате
достигается образное отрицание современной действительности исключительной
глубины и силы: оно направлено не только против феодально-крепостнического строя,
но и против наступающего капитализма.
[VIII.] Сатира Некрасова сочетает лучшие традиции европейской песенной сатиры
(Беранже, Барбье) с национальной народно-сатирической традицией. Отсюда ее
глубочайший народный радикализм и непримиримость. Развиты у него и элементы
диалогической сатиры.
[IX ] Салтыков — замечательный мастер не только смеховой, но и серьезной сатиры
(лучший ее образец — «Господа Головлевы»).
Существенный сатирический характер носит драматургия Сухово-Кобылина и
Островского. В области русского романа сатирический элемент есть у всех
представителей русского критического реализма: у Тургенева (особенно «Дым» и
«Новь»), Гончарова, Григоровича, Писемского и Толстого (особенно «Воскресение»).
И здесь, на русской почве, история сатиры в значительной мере сливается с историей
критического реализма.
[X.] Если не говорить о замечательных сатирических элементах в романах и пьесах
Горького и не касаться журнальных сатирических жанров (в том числе и сатирического
фельетона Горького), то основными явлениями советской сатиры нужно признать: 1)
сатирическую
Camapa
ляри*У Маяковского и 2) сатирическую прозу Ильфа и Петрова. Мая^овскии создал
замечательные образцы как «внутренней» сатиры (например, «Прозаседавшиеся»), так
и сатиры на капиталистическую современность (например, такие его американские
стихи, как «Блэк энд уайт», «Сифислис» и др.)- Лучшие традиции мастерства мировой
сатиры (разговорный диалог, гротеск и фантастику, брань, саморазоблачение
действительности и пр.) Маяковский сумел подчинить специфическим советским
задачам и придал им исключительно боевой и действенный характер. Наша сатира
вообще непосредственно связана с действием и подготовляет его; она может быть и
должна быть прямым сигналом к действию. В этом одна из ее основных особенностей.
25
«Слово о полку Игореве» в истории эпопеи
«СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕН В ИСТОРИИ ЭПОПЕИ
Процесс разложения эпопеи и создания новых эпических жанров. Роль в этом
процессе «Теогонии» и «Трудов и дней» Гесиода, «Песни о Роланде» и «Слова о полку
Игореве». Элементы специально-литературной и общеидеологической полемики
(религиозной, политической).
«Слово о полку Игореве» — это не песнь о победе, а песнь о поражении (как и
«Песнь о Роланде»). Поэтому сюда входят существенные элементы хулы и
посрамления (дело идет о поражении не врагов, а своих)1. Этим определяется сложный
состав этого произведения. Основой жанра остается форма героической эпопеи
(прославление героического прошлого дедов и отцов). Но предметом здесь служит
«выпадение из дедовской славы». Отсюда фольклорные элементы «плача», с одной
стороны, и «посрамления», с другой.
Элементы посрамления в carmina triumphalia2. Развенчание царя в раба в
сатурналиях. Формы народно-праздни-чных карнавальных осмеяний. Отсюда три системы образов, три стиля, три тона.
25
Образные системы «плача» и «посрамления» пересекаются и частично покрывают
друг друга. В точке пересечения обеих систем лежит образ мрака, временно победившего свет, т. е. прохождение через фазу мрака и смерти (оскудения) и возрождения.
С этим образом связана система образов ущерба в природе. С процессом борьбы мрака
со светом, жизни со смертью, связан и круг образов битвы и смертей, как посева,
жатвы, молотьбы, пира и брачного пира. Элементы «спора», «агона»: спор певцов
(Гомер и Гезиод), спор жизни со смертью, мрака со светом, поста с масленицей,
жирных времен с худыми и др. На почве этих жанровых форм возможно изображение
современности с ее противоречиями, возможна литератур
26
«Слово о полку Игореве» в истории эпопеи
26
нал и политическая полемика, возможны обличения, призывы и пропаганда,
возможна свобода осуждения. Амбивалентность ведущих образов «посрамления» и
«плача». Смелость поэта, от своего имени корящего князей. Эта смелость должна была
опираться на какие-либо жанровые формы.
Для «Слова» характерно не только то, что это песнь3 о поражении, но особенно и то,
что герой не погибает (радикальное отличие от Роланда). Беовульф, сделав свое дело,
погибает. Игорь, претерпев временную смерть (плен, «рабство»), возрождается снова
(бегство и возвращение). Он ничего не сделал и не погиб.
К проблеме жанра. Форма словесного целого, аналогичная синтаксическим формам,
вообще формам языка. Отличие от языковых форм. Целое речи (высказывания)
— внеязыковая категория. Конец и начало всей речи — сюжетно-предметносмысловые, а не лингвистические термины. Грамматические связи кончаются в
пределах периода; связи целого — композиционные связи. Лингвистические связи, как
таковые, не могут конституировать целого. 1_[елое — внеязыковое и потому нейтральное к языку. Поэтому жанры, как формы целого (следовательно, предметно-смысловые
формы), междуязычны, интернациональны. В то же время жанры существенно связаны
с языком, ставят перед ним определенные задания, реализуют в нем определенные
возможности. Но язык вообще может реализоваться только в конкретных
высказываниях. Жанры, как формы целого высказывания, существуют во всех
областях словесной культуры. Но нас интересуют только художественно-литературные
жанры. Но прежде всего возникает проблема поэтических родов.
Жанр есть последнее целое высказывания, не являющееся частью большего целого.
Жанр, становящийся элементом другого жанра, в этом своем качестве уже не является
жанром.
Роман может быть не только рассказом, но и демонстрацией (не драматической)
написанных документов. Это
— не драматизация, а монтаж. Это — конструктивный жанр.
«Слово о полку Игореве» в истории эпопеи
Какие эпохи культурной и литературной жизни обнимает творчество Гете. Эпоха
просвещения. Эпоха преро-мантизма с эпохой бури и натиска. Эпоха романтизма,
раннего и позднего. Начало эпохи реализма (подготовка его). Конец эпохи
просвещения — начало творчества. Перечислить важнейшие произведения,
предшествующие первому выступлению (Руссо, Фильдинг, Макферсон, Гольдемит,
Виланд и др.). Проблема лирики в 18 веке (в эпоху просвещения). Механические
категории эпохи просвещения начинают сменяться органическими. Отвлеченносоциальные категории сменяются проблемами конкретно-индивидуально жизненными
(жизни, смерти, любви и др.) и историческими. Социальный человек оказался гораздо
сложнее: он не захотел отказаться от своего индивидуального богатства и своей
26
проблематики. Социальный субъект просветителей абсолютно не лиричен.
Индивидуальность, лиричность и историческое. Концепция человека ренессанса,
неоклассицизма, эпохи просвещения и преромантизма и романтизма.
Проблема новеллы. Историческое многообразие типов новеллы. Циклы и сборники
новелл. Новелла и роман. Комическая новелла. Диалогическая новелла. Logistorici
Варрона. Новелла и агон. Связь новеллы с фольклором.
Новелла и нарушение «табу», дозволенное посрамление, словесное кощунство и
непристойность. «Необыкновенное» в новелле есть нарушение запрета, есть
профанация священного4. Новелла — ночной жанр, посрамляющий умершее солнце
(«Тысяча и одна ночь» и пр., связь со смертью).
27
К истории типа романа Достоевского
К
ИСТОРИИ
ТИПА
(ЖАНРОВОЙ
РАЗНОВИДНОСТИ)
РОМАНА
ДОСТОЕВСКОГО
Кажущаяся новизна, неожиданность, парадоксальность, оксюморность этого типа
(сочетание диалога Платона с острой авантюрностью бульварного романа,
реалистическая фантастика, глубинный реализм, идея как герой, роман-трагедия и т.
п.)1.
Характерное для менипповой сатиры одновременное созерцание (сочетание) двух
бездн (верха и низа, падения и подъема, проклятия и хвалы, осанны); две бездны у Достоевского . Карнавальный характер столкновения и общения людей у Достоевского:
плоскость человечности у него — сатурналиевская плоскость, где раб равен царю, где
проститутка и убийца сходятся со святым и с судьею, где законы мира сего временно
отменяются. Психологизация материально-телесного низа у Достоевского: вместо
полового органа и зада становятся грех, сладострастная мысль, растление,
преступление, двойные мысли3, внутренний цинизм; святость великого грешника
(слияние верха и низа, лица и зада, хождение колесом, черт как изнанка Ивана,
двойничество). Карнавальная основа образа Смер-дякова: совокупление грешника с
юродивой (святой), барина с самой последней женщиной (самым низким низом,
низким даже по росту) в пьяную (карнавальную) ночь; рождение в бане (из мокроты
банной), незаконный сын, повар (существенная традиция), бульонщик и фарш,
убийство отца («sia ammazzato...»4), падучая, падение в погреб, двойник Ивана,
циничнейший
нигилизм
(отрицание
всякой
идеальности),
карнавальное
(сатурналиевское) «все позволено», раб (слуга) хочет обменяться местом с барином
(законными детьми — братьями); повешение (распятие) царя-раба; карнавальная тайна
(кто убил?), замещение жертвы (убийство искупляет невинный); рождение и
27
К истории типа романа Достоевского
смерть (мать и Алеша, смерть от родов Лизаветы Смердящей); амбивалентный
характер образа Смердящей, смердящая святость, смердящая смерть и воскресение.
Карнавальный характер проблемы отцеубийства в романе; Грушенька как проституткасвятая (между прочим соблазняет-спасает Алешу, — «Луковка»); и Зосима —
смердящий святой, пир в Кане Галилейской (сатурнализо-ванно истолкованный),
поклон в ноги будущему убийце (страдальцу, замещению жертвы); образ замученного
мальчика, побитого камнями, н е убивающего, а защищающего грешного отца
(Илюша); исторический карнавал смены устоев и истин, карнавал капитализма5.
Карнаваль-но-сатурналиевая трактовка униженных и оскорбленных у Достоевского
(обратная иерархия, мир наизнанку). Аналогичное истолкование — анализ
«Преступления и наказания» и «Бесов» (отец и сын). Карнавальный характер всякой
эксцентричности у Достоевского (например, неожиданных встреч ит. п.). Самозванство
27
и развенчания у Достоевского; развенчания на площади (таковы были и площадные,
развенчивающие диалоги Сократа). Каждая комната у Достоевского (например,
комната-гроб Расколь-никова) — кусок площади (или кусок ада и рая, кусок Голгофы,
кусок карнавальной площади, где распинают или терзают, разрывают на части царяшута, где сталкиваются разделенные иерархией люди, где сходятся верх и низ). Такова
комната Сони, где происходят сцены признания и чтения Евангелия, комната
Мармеладова, где происходят поминки (пир на гробу) с последующим карнавальным
выходом его обезумевшей и умирающей жены (мать и проститутка, проститутка
спасает отца и детей, кормит их своим телом, поит своей кровью). Комната Шатова и
развенчание Ставрогина, комната Кириллова, комната Иволгина, карнавальная сцена
на именинах у Настасьи Филипповны (рассказы откровенные, шут-идиот-жених,
сватовство, превращение нищего в богача, карнавальный приезд Рогожина, сожжение
денег в очаге и т. п.), комната в Мокром (Чермашня). Каждая комната, как отрезок
специфически карнавальной плоскости мира, мир не от мира сего, перенесенный на
землю и переряжающий все земные отношения, всех действующих лиц земли. Карнавальный характер и функции мечты у Достоевского (невозможное возможно), мечты
таких мечтателей, как
28
К истории типа романа Достоевского
28
герой «Белых ночей», «Записок из подполья». Карнавально-сатурналиевский
характер «Идиота»; Идиот и Рогожин у трупа зарезанной героини (даже игральные
карты, как деталь). Карнавально-сатурналиевское разрушение иерархии, как основной
пафос романов Достоевского. Сатурналиевский характер «проникновенных» бесед и
откровенности (как цинической, так и пронизывающей правды, так и исповедального
признания-саморазоблачения; «обнажения» в «Бобке» и т. п.). Специфическая сатурналиевская
концепция
«правды»
у
Достоевского
(социально-обратноиерархический — откровенно-разоблачающий — внутренне-искренний аспект правды,
правды личности и места, противопоставление ее гордыне, самозванству, внешности и
т. п.). Вера в чудо, в неожиданное изменение жизни и своего положения в жизни
(например, Человек из подполья), в превращение раба в царя, низа в верх.
Специфически сатурналиевская изъятость мира Достоевского из общих,
непраздничных, каждодневных законов жизни. Установка на слово, нарушающее
законы и нормы речевого общения (своей крайней откровенностью или цинизмом, или
правдивостью, или разоблачением глубин, обнажением глубинной правды и т. п.).
Подобно брани, оно разрывает иерархическую условность речи и мысли, оно нарушает
табу проникновения в глубинные сферы.
Самозванец — Иван-царевич в «Бесах». Развенчание царя-шута.
Об исторической традиции и о народных источниках гоголевского смеха
<К ВОПРОСАМ ОБ ИСТОРИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ И О НАРОДНЫХ
ИСТОЧНИКАХ ГОГОЛЕВСКОГО СМЕХА>
1. К вопросам об исторической традиции и о народных источниках Гоголевского
смеха.
2. Стилистическая проблема собственного имени (в эпосе и романе).
3. К истории жанровой разновидности романа Достоевского.
I. Предварительная характеристика своеобразия Гоголевского смеха. Это не узко
сатирический смех1. Белинский и шестидесятники неправомерно хотели сделать из
него чистого (узкого) сатирика. Он был шире и больше сатирика, но сам запутался.
Ранняя бесцельность смеха. Путаница с понятием юмора как добродушного смеха (в
«Шинели»). Ближайшие западные источники: Стерн, романтический смех (его
28
карнавальные корни), Дон-Кихот и др. Русские источники: Нарежный, Котляревский,
народно-праздничный смех, площадной балаганный смех, бурсацкий смех, застольный
смех.
Три линии традиций народно-праздничного смеха: 1) risus paschalis, 2) карнавальный
смех, 3) рекреативный смех («ученый смех»). Церковная и около-церковная сфера
первой и третьей линии. Их интернациональный характер, связь с сатурналиями.
Универсальный и амбивалентный характер этого смеха. Специфические связи смеха с
загробными видениями. Исконная связь смеха со смертью привела к созданию
специфического жанра — смеховых видений. Явление похоронного смеха на Украине
не узкий жанризм, а его символическое расширение. Рассеянные клочки смеховых
видений (загробные проклятия: подавиться на том свете галушкой). Веселая
чертовщина (дьябле-рии).
1 радиция изобр<ажения> тяжб.
29
Об исторической традиции и народных источниках гоголевского смеха
Жанровые типы: «с петуха на осла»2, фатрасы3, смехо-вые прогностики;
карнавально-кухонная антология, смехо-вые инвокации и номинации, веселая брань,
карнавальные алогизмы, карнавальная изнанка; метод топографического снижения.
Брань, драки и побои (притом в карнавально-свободном освещении). Амбивалентная
брань и амбивалентная хвала (прославляющий стиль Ив<ана> Ив<ано-вича> и
Ив<ана> Ник<ифоровича>). Осмеяние о ф и -иальности (всякой официальности как
таковой), ринципиальная внеофициальность точки зрения. Смех как точка зрения на
весь мир. Это несовместимо ни с какой официальностью. База этого утрачена. Отчасти
в этом трагедия Гоголя.
П. Только в личном творчестве впервые появляется вымышленное имя. Собственные
имена в сравнениях (у Данте, у Рабле и пр.), в эпитете и даже в метафоре. Проблема
олицетворения в новом плане. Приемы усиления собственности в слове. Момент
историчности в имени (а не логической единственности). Превращение имени в кличку
(чтобы не путать героев). В «Комедии» Данте нет вымышленных имен: действие
происходит в историческом и современно-историческом мире (реальной именной
современности). Вымышленные имена — прозвища дьяволов. Имя-псевдоним в
романе с ключом и в пасторали. Аллегорический метод 17-18 вв. Отношением к
материалу (предание, реальная историческая современность, прямая или
зашифрованная, вымысел, индивидуально-характерный или типический и т.п.)
определяется и характер имени.
Чем заменяется в имени момент общности. Возможность метафорической игры в
имени. Вокруг имени может быть своеобразная метафорическая игра. Хвала и брань
тяготеют к имени; относясь к вещи, они вносят в нее элемент собственности
(персонифицируют ее).
Страшное и смешное. Их истинная связь (смех как преодоление страха) и
одновременная противоположность. Страшное в раннем творчестве Гоголя
(«Страшный кабан», «Страшная рука», «Кровавый бандурист», «Страш
29
Об исторической традиции и о народных источниках гоголевского смеха
29
ная месть» и пр.). Школа кошмаров и ужасов. Смешные страшилища у Гоголя. Чума
и смех у Бокаччьо. Смешные страшилища в «Сорочинской ярмарке».
Веселовский о кадрах традиционных образов и личном творчестве4.
Индивидуальные влияния и проходящие через них безыменные традиции; внутренняя
логика традиционных образов, сюжетов, жанров. Произведение никогда не рождается
29
в голове автора и тогда, когда оно пишется, оно не определяется часом и местом своего
непосредственного рождения5. Эти традиционные тысячелетние образы в творчестве
Гоголя не изучались. Один из существенных источников: специфически фамильярные
пласты (слои) языка и жестикуляционный фонд языка. Гротескное тело у Гоголя и его
отчетливое противопоставление классическому канону красоты. Фонд фамильярносмеховых и жестикуляционных образов; фамильярная ласковая брань и площадная
хвала. Трагическая неудача в попытках пробиться к классическим формам.
Специфическая установка (миросозерцательная) фамильярного слова и жеста
(смехового и бранного), гротескная специфика создаваемого им образа
(амбивалентного). Проблема прозвища.
Сначала характеристика самой традиции, затем — соответствующих образов Гоголя
и, наконец, — возможные пути соприкосновения с традицией и источниками.
Записные книжки Гоголя. Интерес к народной лексике (профессиональной и др.), к
народной метафористике. Лежащая в основе всего этого гротескная концепция мира и
тела. Ложь официального выражения и ограниченность классических форм.
Теория романа. Теория смеха. О Маяковском
К ВОПРОСАМ ТЕОРИИ РОМАНА К ВОПРОСАМ ТЕОРИИ СМЕХА <0
МАЯКОВСКОМ>
К ВОПРОСАМ ТЕОРИИ РОМАНА
Глубокое различие самих категорий «рассказывания» и эпического «воспевания»
(героизующего, прославляющего). Категория рассказывания неотделима от своего
особого объекта — предмета, события, героя. Рассказыванию присущ существенный
момент профанации1. О героических событиях национального прошлого не
рассказывают. В рассказе существенен момент осведомления <,> сообщения нового,
неизвестного, неожиданного, странного, курьезного и т. п. Нарушение табу, нормы,
запрета, преступление, ошибка и т. п. — вот объекты рассказывания2.
Рождение категории «субъективности» и — шире — «несущественности» как
особого объекта художественного изображения в рассказе и в особенности в романе3.
Ошибка, непопадание, недоскок и перескок (в примитивной комике) как простейшее
явление этого рода. Действие, поступок, человек, мысль, желание выпадают из
системы необходимости и существенности4. Жизнь как сплошная ошибка —
существенная тема европейского романа («verfehltes Leben», «une vie manquee»)5;
внешне наглядные примеры — «Мадам Бовари» Флобера, «Жизнь» Мопассана и др.
Образ
ошибающегося
человека,
выпавшего
из
системы
существенной
действительности, — особый образ, раскрывающий специфическую самостоятельность, особность, субъективную отдельность, независимость и специфическую
свободу человека (быть вне необходимости)6. Аналогично обстоит дело с
преступлением, со всяким нарушением нормы (морально-правовой или естественной),
с кощунством, с профанацией, с чудовищным, анормальным, раритетным, курьезным и
т. п. (см. эти категории в грандиозной литературе сборников фабльё, анекдотов,
примеров7 и др. в XVI—XVII вв.).
30
Теория романа. Теория смеха. О Маяковском
30
Проза — основная, романная линия прозы, а не поэтическая проза — родилась из
неофициальных — смеховых и фамильярных — пластов языка, где ведущей является
не однотонный образ-символ-метафора, а хвалебно-бранная кличка-прозвище8. Сфера
профанного, а не необходимого. Установка на неготовое, незавершенное бытие в его
принципиальной незавершенности.
30
Если в финале событий все остается на своих местах, сохраняется или
восстанавливается, если мы остаемся или возвращаемся в дорогой нам мир, если все
выходит «по-нашему», то живущему человеку в таком финале и хорошо и уютно, но
мыслящему и созерцающему (а не хотящему) здесь нечего делать. Мысль и созерцание
питаются радикальными сменами, концами миров, своих, обжитых миров, своих
правд, своих справедливостей9.
В нашей работе нет никаких философских выводов, нет никаких оценок и
предпочтений. Наша задача чисто историческая и историко-систематическая. Расшифровать и понять огромный, почти необъятный мир народно-праздничных форм и
образов, обымающий наш официальный «культурный» мирок завершенных и
однотонно простилизованных ценностей: «Я понять тебя хочу, темный твой язык
учу»10. Для понимания необходима известная степень условной «интеллектуальной
симпатии», но не следует перетолковывать ее в безусловную; это — рабочая
эвристическая симпатия, эвристическая любовь как средство понимания чужого и —
может быть — враждебного языка.
К вопросам теории спеха. Определение Канта: «Смех вызывается ожиданием,
которое внезапно разрешается ничем»1. К этому близка и мысль Спенсера: смех есть
показатель того, что усилие привело к пустому месту2. Все это — формальные
определения; кроме того они игнорируют в смехе момент радости, веселья, который
есть во всяком живом и искреннем смехе. Дело в том, что это «ничто», которым
разрешается ожидание или усилие, воспринимается и оценивается смехом как нечто
радостное, положительное, веселое, освобождающее от мрачной серьезности,
важности, значительности ожидания, от серьезности и значительности предстоящего
(все оказалось вздором, пустяками);
Теория романа. Теория смеха. О Маяковском
Выбор языка (улица). Проблема тона (все тоны фальшивы и невозможны)1.
Проблема новой серьезности, нового пафоса и монументальности. Проблема вещи.
Элементы уличного языка, его акценты и построение. Роль крика. В известные эпохи
количество смешного в мире (чудищ и чудовищ, шаблонов и ерунды, опустевших
смешных форм, смешного пафоса, смешной серьезности, нестрашного уже страха и т.
п.) становится необычайно большим; истинная большая серьезность покидает все готовые, сложившиеся, устойчивые, освященные традицией, обжитые чувством формы,
начинает стыдиться всех этих
31
отрицательный же полюс (момент) смеха направлен именно против ожидания,
против усилия, которые заранее квалифицируются смехом как официальные,
вздорные, надутые; смех развенчивает серьезность этих усилий и ожиданий; это
радостное освобождение от серьезности. (Если бы серьезность усилия или ожидания
оценивалась бы положительно, то их неуспех не вызывал бы смеха). Кроме того смех
по самой природе своей глубоко неофициален: он создает фамильярный праздничный
коллектив по ту сторону всякой официальной жизненной серьезности. Чучело, кукла,
механизм — это развенчанная серьезность, это — карнавальный «ад», это — старость,
претендующая на жизнь3. Бергсон игнорирует также, что то пространство, в котором
кувыркаются, падают, дерутся клоуны, выскакивает чертик на пружине, движется картонный плясун, нарастает снежный ком, — пространство топографическое, где верх и
низ (и другие направления) имеют абсолютное значение; нельзя понять все эти явления
вне той арены, той площадки, где они совершаются, вне телесно-космических
координат их4. Вся теория Бергсона знает только отрицательный полюс смеха. Смех
— это мера исправления; комическое — это недолжное5. Трудность анализа подлинно
комического (смехового) определяется тем, что отрицательное и положительное в
31
явлениях комического неразъединимо слиты, между ними нельзя провести четкой
границы. Основная идея верна: жизнь смеется над смертью (мертвым механизмом). Но
органическая материя жизни в смехе положительна.
Теория романа. Теория смеха. О Маяковском
32
форм, повисает в воздухе, ищет новых форм. Происходит великое переселение
серьезности. В старых формах нельзя быть до конца серьезным. Борьба с эстетикой, с
шаблоном того, что нравится, что настраивает определенным образом. Превратить в
образ недавно сделанную вещь (не меч, а кольт, не солнце, а электрическая
лампочка)2. Все дело во временной дистанции. Перевод образа в зону контакта,
фамильяризация мира смехом. Залезание во внутрь, потрошение, выворачивание
наизнанку. Показать, что внутри ничего нет3. Из истории римской сатиры.
Сатурналии, триумфы, похороны4. Что вошло отсюда в официальную литературу5.
Изменение временных координат литературы. Разговор с современником. Ближе к
будущему, чем к прошлому. Ориентация слова в аудитории, в отношении своих слушателей, эта ориентация сочетается с ориентацией во времени. Великие эпохи
переориентации временных координат художественного слова. Из Гете («Пария»,
брань и нежный шепот)6.
Основная задача — героизация сов ре м е н -н о с т и . Задача эта совсем не такая
простая. В истории литературы она ставилась неоднократно, но решена она не была. С
точки зрения сложившихся традиций литературы эта задача парадоксальна. Поэтому и
решение ее, поскольку с этими традициями не решались порвать, было
парадоксальным: приобщить настоящее прошлому, представить его в одежде
героического прошлого, поднять до прошлого, до отцов и дедов, до «дедовской славы»
(«Слово о полку Игореве»). Но такая героизация требовала абстракции от всего
конкретного и специфического в современности. Но героизовать прошлое нужно в
категориях будущего, тогда и малейшая былинка современности, малейшая бытовая
деталь могла быть героизована7. Но для этого будущее должно было быть впервые
воспринято и увидено объективно; надо было нащупать руками это необходимо
грядущее будущее. Утопическое, отвлеченное, нормативно-идеальное будущее для
этого не годилось. Это будущее и не могло быть прямолинейным продолжением
героического прошлого. Это стало возможным только у нас. Для овладения
современностью в свете будущего необходима была радикальная и бесповоротная
ссора с прошлым (не индивидуалистически-анархическая и
Теория романа. Теория смеха. О Маяковском
ности у Уитмена8. 1. Маяковский и время. Z. Маяковский и язык (выбор языка). 3.
Выбор тона и ритма. 4. ОщуЙение аудитории. 5. Маяковский и наши дни. М. и время, ачать с показа важности
темы времени у М., его постоянного ощущения времени, с подбора цитат о времени из
стихов; рассуждение о временной дистанции из «Как делать стихи» . И уже затем
углубленная постановка проблемы и исторический экскурс.
Ориентация на современника и разговор с ним во все эпохи определяла выбор тона
(амбивалентного) и языка. Фамильяризация мира. «Сочтемся славою, ведь мы свои же
люди». До конца творчества монумента-лизм у М. оставался фамильярным.
«Монументов мраморная слизь»10 и т. п. Фамильяризация мира в ранних поэмах М.
Снижающие уличные образы («флейта водосточных труб»), образы телесного низа,
ругательства, конкретные люди, имена, названия (адреса) из интимной биографии (так
до конца)11. Космические масштабы фамильяри-зации. Для этого необходимо и
раздувание собственного я (маниа грандиоза) до космических пределов (в духе романтической фамильяризации). Космично и тело и все телесно-душевные процессы.
32
Образ выпрыгивания и выле-зания из себя (образ сердечного пожара, вылезание Бурлюка через глаз)12 — оживление древнего гротеска (также и слияние тела с вещами,
стирание границ между ними). Как в дальнейшем эта космичность «я» и это вылезание
из себя превращаются в представительство и слияние с классом («Во весь голос» —
безымянность массового творчества социализма)13. Вездесущий и космический образ
Ленина.
строй), опора
Попытка
33
богемная, а объективно-исторически обоснованная). Как понимал будущее (resp.
современность) футуризм. Здоровая линия в нем (Хлебников). Надо было нащупать будущее в современности. Сначала безъязычная улица, потом — организованный класс.
Показ того, как рождалось это будущее, в поэме «Ленин». Когда будущее прочно
победило, стало возможно воссоединение его с героическими традициями прошлого
(появилась и перспектива для отбора). Первая фаза — разрыв с прошлым, с прошлым в
современности (пошлость, мещанство, буржуазный
Теория романа. Теория смеха. О Маяковском
33
Эволюция «крика». Ни в одну эпоху уличный крик как основа тона (соти, Рабле,
мениппова сатира и др.) не моГ подняться до монументального крика-лозунга
(несмотря на влияние криков герольда)14.
Диалог с богом и космический конец «Облака в штанах». Специфичность этого
космизма15.
Изображение и выражение любви у Маяковского.
Отграничение от пошлого модернизма. Беззастенчивость в провозглашении своей
гениальности, как черта фамильяризма. От прозаической двутонности развороченного
мира до новой поэтической однотонности он не успел подняться. Место в этом
процессе развития ре к л а м ы (история, крики Парижа) и окон сатиры. Тенденциозность Маяковского, как устремленность в будущее. В главе о тоне проблема новой
серьезности и ее специфика. Одна из важнейших исторических задач таких эпох —
сдвинуть ножницы прозы и поэзии, уничтожить слишком резкий разрыв между ними
(не отменяя их своеобразия). Предшествующие эпохи поэтизировали прозу
(символизм). У Маяковского — прозаизация поэзии (с точки зрения элементарной
поэтической лексикологии его стих пестрит «прозаизмами»). Он романизует ее. Связь
с историей романа16. Отсюда рождается новая специфика поэтической речи
(ритмические особенности, деление на строки, новые рифма и строфа и т. п.).
Калейдоскоп истории лексики — лексический отбор, совершаемый столетиями,
создание поэтического табеля о рангах; перетряхивание и новый отбор, новая
иерархия. И отвлеченная идея делает тенденциозным и будущее, но тенденциозность
эта разная
Вообще проблема времени в литературе. Полнота времени. Специфическая
искривленность образов при неполноте времени. Умение видеть время.
Беззастенчивость самовосхваления и самовозвеличивания (уже в модернизме,
Брюсов, Бальмонт). Нарочитое нарушение норм условной скромности, вызов
общепринятому. Освободить самосознание от пут условности, показать свое «я» вне
норм общепринятого приличия выражения, во всех его нескромных претензиях. В
«памятниках» это гордое самосознание и самовосхваление облекалось в традиционную
33
и освященную форму17. Здесь это самовосхваление фамильяризовано и усвоило
уличный тон, оно
Теория романа. Теория смеха. О Маяковском
34
сочеталось с тонами площадной рекламы. История самовосхваления в античности
(Плутарх и др.)18. Проблема и история тона автобиографического самосознания.
История самосознания поэта находит интересное завершение у Маяковского.
Характерное для «памятников» отношение к врагам и потомкам. Самоосознание себя в
истории. Самосознание и признания любящего как основная лирическая тема. Как
преобразовал ее Маяковский. Полемика с любовным поэтическим вздохом старой
традиции. Изображение любящего я, любовных чувств и предмета любви. Космическиуличный характер этого в ранних поэмах. Язык любви. Выражение нежности у
Маяковского. Проблема лирической искренности. История самосознания поэта — от
«Маяковский векам»19 — до безымянного подвига в «Во весь голос». С самого начала
стремление выдать свой голос за голос миллионов, свое «я» за «я» миллионов; голос
безъязыкой улицы, мир во мне... Дать формулу раннего космизма М., сопоставить с
уитменов-ским космизмом. Гений, говорящий от лица массы и к массе, а не от
избранных к избранным. Отсюда новая формула одиночества гения. Осмеивают не
масса (die Menge), а избранные. Одиночество среди ближайшего и имеющего голос
меньшинства; но масса пока безъязычна.
Новое отношение к материальным вещам; гул вещей и материальной жизни
становится ритмом20. Крик, как основа нового поэтического тона. Поэтика крика и его
история (от соти до Уитмена). Противопоставление крику «шепота», «напева», «ямбов
и хореев», «мандолиннича-нья» ит. п. (выборка из текста всех определений и эпитетов
Маяковского к старой поэзии и старому стиху). Обнаглевшее самосознание у
модернистов. История гротескного образа смешанного тела (тела и вещи; выборка из
текста) и несобранного разбросанного тела (животов, ушей, ног и т. п., выборка из
текста). Распадение замкнутого классического тела. Как гротескное тело
(первоначально неорганизованный хаос улиц и площадей) организуется массовое
историческое тело класса. Это — одна из важнейших страниц в истории гротеска21.
При первом взгляде образная система М. напоминает «чудовищный стиль» орнаментов
XV и XVI веков (смешанное тело). Изображение войны поста с масленицей. Картины
Брейгеля. Разрушение старых границ между
Теория романа. Теория смеха. О Маяковском
34
отдельными телами и между телами и вещами. Мир выглядит по-новому. Но затем
хаос организуется и проводятся новые границы. Завершенное единичное тело и
единичная вещь могут жить и функционировать лишь в очень ограниченном, лишь в
более или менее комнатном мирке. В космических или мировых масштабах они
невозможны. Историческая группа из небольшого количества действующих лиц.
Временная и пространственная дистанция — средняя. Века и массы требуют иной
дистанции, очень далекой и очень близкой, только не средней, комнатной
(наблюдающий помещается в пределах комнаты, а не вне ее). На какой дистанции
(пространственной и временной) находится поэт, как быстро и как часто он меняет эту
дистанцию, каковы масштабы (пространственные и временные) изображаемого.
Маяковский отлично понимал эту проблематику («Как делать стихи»)22. В этом плане
Клубить проблему гиперболы и превосходной степени, реобладание средних
величин и измерений в литературе. Показать историю не в маленьких (комнатных)
группах исторических лиц, а в ее существенной массовости — в смешанных массах
материков, стран, людей и вещей. Появляется Ленин в коридоре Смольного, и затем он
34
снова разбрасывается в коллективах, в вещах и пространствах. Задача — найти зримое,
образное, историческое пространство для изображения, пространство с новыми
масштабами, с новым распределением вещей и людей. В этом новом пространстве
изображения дан образ мавзолея Ленина. «Бездонный обрыв в четыре ступени, обрыв
от рабства в сто поколений.. обрыв и край — это гроб и Ленин, а дальше коммуна во
весь горизонт». В этом же пространстве построен образ: «И оттуда в дни оглядываясь
эти, голову Ленина взвидишь сперва. Это от рабства десяти тысячелетий к векам
коммуны сияющий перевал». Найдено и совершенно новое сочетание пространства и
времени в образе, новый хронотоп23. Эти четыре ступени и этот сияющий перевал
одновременно и пространственны и временны, и наглядно реальны и фантастичны,
секрет здесь — в неразрывности слияния и максимальной насыщенности пространства
временем (сопоставить с дантовской картиной мира, дантовским
Теория романа. Теория смеха. О Маяковском
35
пространством)24. Эта новая хронотопичность и резкие изменения масштабов
приводят к нарушению привычной пространственно-временной логики образов и
кажущейся несвязности их. (Этапы в поисках исторического пространства; мениппова
сатира, Данте, Шекспир, «Микромегас» Вольтера и пр.). Роль гиперболы. Методы
построения образа Вильсона^5. Тактика и стратегия. Тактика знает лишь видимое
столкновение с врагом, она знает лишь реальный кругозор в пределах, доступных
полевому биноклю. И временной кругозор ее ограничен временем боя. Стратегия и
политика войны неограниченны во времени и необозримы в пространстве. Баталист
старой школы мог изображать лишь тактические моменты войны, лишь решения
тактических задач, стратегическая картина войны (а тем более политическая) могла
быть изображена лишь условно-символически на карте; она не укладывается в
пределах реального одновременного кругозора. Надо найти новый непривычный
кругозор, исторический и образный одновременно. Разрушаются и старые границы
биографии исторического деятеля: она начинается задолго до его рождения («Ленин»).
Здесь нет старого чередования сценок (тактика) и обобщений-генерализаций
(стратегия), как у Толстого, чередования крупного и мелкого плана, как в кино; здесь
достигнуто слияние их в новом едином плане, в новом едином кругозоре. Генерализация и сценка слиты и показаны сразу с одной точки зрения, с одной дистанции, из
одного вновь завоеванного наблюдательного пункта. Где нашел этот пункт поэт? Где
он находится и откуда наблюдает? С этим неразрывно сплетается и проблема тона и
аудитории. Это подготовляется уже гиперболическим «я» ранних поэм, шагающим по
мирам. С первых же стихов раздвигаются масштабы (студень и океан, флейта
водосточных труб и т. п.); вещи начинают расти (или <?> тушат пожар сердца). С этой
новой позиции нельзя шептать, надо кричать. Один из этапов — изображение города,
как целого, изображение улицы, площади, как улицы вливаются в площади (с птичьего
полета). Земной шар, а не условный глобусик. Отелеснивание, как прием новой
генерализации и слияния планов. Гротескное тело и фольклор с их специфическим
кругозором помогли поэту в его поисках исторического пространства и новой
дистанции. Конкретный и
Теория романа. Теория смеха. О Маяковском
35
зримый образ партии (совершенно нового исторического образования) мог быть
показан только в этом новом историческом пространстве (как и образ ее вождя).
Раскрыть громадность слова «пролетариат». Одический пафос огромного. Но в этом
мире огромного поэт фамильярен, как фамильярна наполняющая этот мир масса; он
35
чувствует себя своим человеком в этом побеждающем историческом мире. Поэтому
ода двутонна, монументализм фамильярен26.
Раскрыть не бытовую (как в критическом реализме), не внеисторическую (и даже
антиисторическую) современность, но именно историческую современность,
подлинную историю, творимую современностью, а не прошлым, показать в
фамильярном современнике подлинного героя, героя нашего времени без кавычек. И в
отношении прошлого он нарочито разрушает дистанцию, нарочито фамильярен, <1
нрзб.> воспринимает прошлое как настоящее, в фамильярной зоне контакта <2 нрзб.>.
Каламбурный характер рифм. Эта каламбурность рифмы характерна для
Маяковского27. Вообще характерен не музыкальный (не лирический), а особый,
каламбурный, характер всякой звукописи, аллитерации, ассонанса, повтора. В чем
специфика такой рифмы и в чем ее функция? Теория прозвища28. Пробудить или выдумать этимологическое значение звукового образа, осмыслить звук непосредственнопредметно. Она выпячивает и материализует слово (как реализованная метафора). Она
сближает несвязанные между собой явления, она нарушает иерархию, это — рифмамезальянс. Она граничит с бранным прозвищем, она фамильяризует мир. Теория
частушки и частушечной рифмы (злободневность частушки)29. Эта рифма
определяется и тоном Маяковского и особой структурой его образа. Глагол «орать» у
Маяковского.
Величина и дистанция в буржуазном реализме — средние. В борьбе с романтизмом
он даже заостряет эту среднесть до маленького (герой — маленький человек). Уже
сентиментализм приносит с собою пафос среднего и малого, укладывающегося в
комнатные масштабы. Представление о реальном срастается с представлением чего<то> среднего и малого (нормального) и с недоверием ко всему большому, громад
Теория романа. Теория смеха. О Маяковском
36
ному, как к чему-то нереальному, фантастическому, выдуманному, ложному,
раздутому, иллюзорному. В мельчающем реализме это представление о реальном и
подлинном начинает сближаться (и даже смыкаться) с обывательским, мещанским
недоверием и ненавистью ко всему большому, нарушающему норму (большому
человеку, большой мысли, большому событию). Карман-ность, портативность,
комнатность становятся положительным эпитетом не только к вещам (карманные
издания и справочники, комнатный рояль), но и подразумеваемым эпитетом реального
(карманные мысли и т. п.).
«Трамвайный кодекс будней» (Луговской)30, «карта будня» (Маяковский). Неверие
в большие события и перевороты (трезвое, практическое мышление их не признает).
Это, конечно, уже не серьезные реалистические сред-несть и малость большого
реализма (ведь эта средняя сфера мира и истории должна была быть понята и изучена),
это — пошлые обывательские настроения, с которыми футуризму и молодому
Маяковскому приходилось сражаться.
Как это ни странно, очень последовательную теорию среднего в космическом плане
как основы всех земных измерений и оценок дал Гердер (в первых главах своих
«Идей...»): среднее расстояние Земли от Солнца, средний размер ее среди других
планет, средняя земная температура, умеренные пояса; Земля — нечто специфически
среднее и умеренное в мировом пространстве, и поэтому только она одна могла стать
ареной жизни и культуры, которые возможны только в атмосфере умеренности31.
Предчувствия надвигающегося большого — событий, переворотов, катастроф,
космических, мировых и иных, — охватившие русское общество до войны. Мистическое и революционное кликушество символистов, декадентов, Мережковского и
иных32. Позиция футуристов, Хлебникова и Маяковского (борьба Рабле с эсхатологиз-
36
мом и с пессимистским восприятием катастрофы — катастрофа веселая и
обновляющая мир)33. Маяковский сразу <,> с первых шагов шагнул в эту атмосферу
большого, выйдя из сферы среднего, малого и умеренного. Он шагнул в этот мир
большого фамильярно, уверенно, как «свой брат», без страха, без пиетета, без
благоговения
Теория романа. Теория смеха. О Маяковском (большое — сфера масс, сфера улицы,
а не старых больших музеев, соборов, мистики).
Веселое богатырство и его история. Веселые чудовища сатировой драмы, народных
празднеств и карнавалов, веселые богатыри Рабле. Веселые богатыри русского
фольклора и сказок. Сфера сказок — сфера большого, мирового (гипербола,
фантастика, космические образы как действующие лица: солнце, звезды, ветры, небо),
но в этом большом творец сказок чувствует себя как дома (он запанибрата и с солнцем,
и с небом, и с океаном); большое здесь звучит в фамильярно веселом тоне. Веселое
богатырство у Гоголя (гоголевский гиперболизм и гоголевская попытка выйти в сферу
большого, космического). Веселое богатырство у Помяловского. Фольклорная и
специфически бурсацкая линия этого богатырства34. Последняя линия в свою очередь
раздваивается: одна, православная, греческая дорога ведет в Византию, а дальше в
Грецию, к сатировой драме, к комическому Гераклу, другая — западная, через Киев,
Белоруссию, Литву и Польшу к готическому реализму средних веков, а отсюда к
римским сатурналиям. Страшная память и страшные предчувствия как основа
мифологического, образного и интонационного фонда мировой литературы. Про <2-3
нрзб.> стихия народно-праздничных образов, мобилизующих смех для изгнания
страшной памяти и страшного предчувствия из мирового репертуара образов и из
общечеловеческого интонационного фонда. Перевести большое в иной регистр, найти
для него иной тон. Почувствовать себя большим человеком сродни всему большому.
Раблезианский перевод мировых стихий в веселый план (моча, кал...). (В связи со
стихом Маяковского развить теорию паузы. Сюрпризная, обманывающая и разочаровывающая пауза, фокусная пауза, пауза обманутого ожидания и пр.)35. Большое
— это не статическое, вечное, неизменно большое. Это — становящееся, историческое,
растущее большое. Надо нащупать конкретное историческое пространство Для показаизображения этого большого. Нужно перестроить поэтический образ в сфере новых
масштабов и измерений. Первоначально гиперболизм абстрактен и несколько
статичен; фамильярность тона сочетается с элементами некоторого трагизма и даже
эсхатологизма. Номенклатура
37
Теория романа. Теория смеха. О Маяковском
37
образов почерпнута из страшного фонда (слеза и слезища и т. п.). Большое в
традиционном обличье затягивает в сферу мрачных тонов, в сферу памяти и
предчувствий. Долой память, одна современность, освещенная не предчувствиями, а
объективным необходимым будущим, научным предвидением марксизма-ленинизма
(сказочный колорит образов Вильсона и Ивана).
Перестроение масштабов и структуры образов в сфере большого. Человеческие
группы. Необходимость порвать с реальным кругозором, где вещи могут быть
объединены в поле одновременного зрения. Нужно покончить с ограниченностью
такого поля зрения. Второстепенная роль фактических позиций и точек зрения (в том
числе сказочных). Дело не в сюжетной мотивировке. Дело в жизненном и
художественном правдоподобии образа, в его конкретной полноте, зримости,
наглядности, одним словом — реалистичности. Необходимо, чтобы образ,
построенный вне рамок обычного кругозора, рисовал бы картину, а не карту мира.
37
Необходимо, чтобы вещи реально и убедительно соприкоснулись и вступили бы в
связь в этом расширенном кругозоре, нужно создавать живые (а не
конструктивистически мертвые) группы людей и вещей. Полнота времен в новом
образе большого. Улица и народная сказка дали первоначально язык этому новому
большому. Гениальничанье (genialische Treiben) бурных гениев и романтиков.
Особенности их творческого самосознания. Сопоставление с футуристами и
Маяковским36.
«Ревем паровозом до хрипоты и
«Лечу ущельями, свисты приглушив»37. Граница между человеком и вещью здесь
проведена по-новому. Старый поэт очень резко отделяет себя от вещи: паровоз ревет, а
не я. Я сосредоточен в себе, а ревущий паровоз — это мое окружение, мое
впечатление, я не реву с ним, я его слышу, и этот рев может вплетаться в мои
переживания, может служить для них аккомпанементом, но именно как чужой рев
паровоза, а не мой рев с помощью паровоза, между мной и ревущим паровозом
непереходимая (непереступимая) грань. Я отчужден от вещи, не чувствую себя
ответственным соучастником ее дела. На самом же деле, конечно, едущий человек
ревет паровозом. Ведь если мы летим на поезде (поездом), то мы и ревем поездом, —
это не наше окружение, — это мы сами, расширенные и
Теория романа. Теория смеха. О Маяковском
38
удлиненные техникой, граница человека проходит дальше __за паровозом.
Органичность слияния человека с паровозом осуществляется с помощью
отелеснивающих машину метафор — «ревем» и «до хрипоты». Такие перемещающие
границы и расширяющие человека образы — расширяющие по линии материального
роста
_ могут быть художественно убедительными только при
условии, что сам человек перестает быть замкнутым и завершенным эгоцентричным
внутренним мирком, только переживающим и созерцающим, что он отелесни-вается,
не отделяется от коллектива, резко активизуется, вовлекается в движение и работу
людей и вещей. Параллельно отелесниваются и вещи. Меняется соотношение человека
и вещей: вещи и мир не перед ним, а с ним, он не в мире, а с миром, с ним и и м
(миром) движется и живет. Это новое соотношение на большом космическом и
историческом материале. Он не изнутри приобщается к вещам, а сплетается с ними в
зоне внешнего материального контакта38. Эти большие измерения прежде всего
материальны, разрывы не штопаются отвлеченной мыслью или отвлеченным чувством.
Материальны непрерывно.
Маяковский и Верхарн39. Линия Верхарна через де Костера ведет к Альдегонду40 и
Рабле. Библейские образы у Маяковского.
Сезанн и беспредметность в живописи. Разрушение старых границ между
предметами, разрушение завершенности единичной вещи как центральная проблема.
Ограниченная маленькая единичная вещь не может быть ведущим началом и
неделимым элементом произведения. Надо найти нечто цельное и единое (конкретнообразное), но выходящее за пределы единичной вещи41.
Проблема синекдохи в ее новом использовании. Отрыв части от целого для создания
нового целого высшего порядка (разрушение старого завершенного и готового целого
не должно быть самодовлеющим)42. «Красотой оболган» — разоблачен эстетикой.
Красота и завершенность. Может ли быть красивым становление. Красота, завершенность и отнесенность в прошлое. Борьба старого с новым Создаются новые целые в
новых границах; разлагающееся старое и неготовое новое. Но из этого, двутелого и
двутонного хаоса к новой монументальности.
38
Теория романа. Теория смеха. О Маяковском
39
Эта борьба нового со старым в истории мировой литературы и в фольклоре создала
целую систему образов.
«А где же душа?! Да это ж — риторика!» Необходимость перестройки авторской
«души». Принципы этой перестройки. И лирический и эпический субъект должны
быть перестроены. При сохранении его замкнутой индивидуальности он может быть
только субъектом ограниченного кругозора и противостоять единичным завершенным
вещам, он не может связать собою разбросанные в пространстве и времени события
большой жизни; в сфере большого ему нечего делать. От гротеска к монументализ-му.
В «грубой» истории, где старое борется с новым, такая лирическая душа может быть
только на стороне завершенного и обжитого старого.
Риторика, в меру своей лживости.
<РИТОРИКА, В МЕРУ СВОЕЙ ЛЖИВОСТИ...>
12/Х-43г.
Риторика, в меру своей лживости, стремится вызвать именно страх или надежду. Это
принадлежит к существу риторического слова (эти аффекты подчеркивала и античная
риторика). Искусство (подлинное) и познание стремятся, напротив, освободить от этих
чувств. На разных путях от них освобождает трагедия и от них освобождает смех1.
Слияние хвалы и брани как высшая художественная объективность (голос целого).
Культ приобщения умершего собранию предков, описанный у Полибия2.
Координаты эпического образа; приобщение к прошлому, в котором ценностный
центр.
Эпос вмещает в далевой план эпического прошлого всю полноту ценности; с точки
зрения эпоса всякое будущее (потомки, современники) может быть только оскудением
(«Да, были люди в наше время... богатыри, не вы...»).
В эпосе все лучшее в поле изображения; <в> романе же все хорошее именно вне
изображенного мира, в будущем, в изображенном мире только нужда и чаяние этого
будущего.
Каждая вещь имеет два имени — высокое и низкое. Прозвище. Два имени в
«Онегине»: Татьяна, сентиментальные имена деревенских баб у Лариной. Два имени у
мира, два языка об одном и том же мире.
Первая глава «Онегина». Опыт жанрового анализа (как приложение к статье). За
вторым именем вещи или лица нужно идти в фамильярные пласты разноречия.
Проблема диалога. Роль времени в диалоге. Спор времен.
Традиция и символы (у Достоевского) и их сознательное применение к современной
действительности. Это си
39
Риторика, в меру своей лживости...
39
стема или это случайность и натяжка, вроде солярного истолкования Наполеона. В
любом материале можно найти то же самое.
В основе — исконно-романное нарушение табу (профанация). Откровенность,
самообнажение и брань. Не обычный ход жизни, а вера в чудо, в возможность его
коренного нарушения. Действие совершается в хронотопических точках, изъятых из
обычного хода жизни и из обычного жизненного пространства, в эксцентрических
точках, в инфернальных, райских (просветление, блаженство, осанна) и чистилищных
точках. Какова сцена события у Достоевского. Прощупать ее традиционную
организацию. Организация (топографическая) античной трагедийной или комической
сцены, мистерийной сцены, цирковой арены, храма, балаганных подмостков. Он не
39
умел работать с большими массами времени (биографического и исторического);
биографический роман так и не удался, и из всех его романов не сложишь ни
биографического романа, ни романа поколений, ни романа эпох. Из этих эксцентрических, кризисных, инфернальных точек никогда не сложишь линии биографического
или исторического становления. Обычно сцена является сгущением обычного хода
жизни, конденсацией временного жизненного процесса, потенцированного ходом и
временем жизни; у Д<остоевского> они выпадают из времени, строятся в его разрывах
или сломах. Один человек умирает и рождает из себя совершенно другого нового
человека без преемственной связи с самим собою; продолжение романа было бы
другим романом о другом герое, с другим именем. Сон и сонная сатир а 3 (одна из
разновидностей менипповой сатиры).
Страстное неприятие своего места в жизни становится предпосылкой жизни. Это
место не принимается даже как исходный пункт для подъема. У героя нет семьи, нет
сословия, он ни в чем не укоренен.
Точка зрения извне, ее избыточность и ее границы. Точка зрения изнутри на себя
самого. В чем они принципиально не могут покрыть друг друга, не могут слиться.
Именно в этой точке несовпадения, а не в едином духе (равнодушном к точке зрения
изнутри или извне) совершаются события. Вечная тяжба в процессе самосознания «я»
и «другого».
Риторика, в меру своей лживости...
40
Ответственность и вина за мир у Гоголя. Космический гротеск страшной мести.
Исповедально-автобиографический момент в творчестве Гоголя. Проповеднический
момент в нем.
Элемент насилия в познании и в художественной форме. Прямо пропорциональный
насилию элемент лжи. Слово пугает, обещает, порождает надежды, прославляет или
бранит (слияние хвалы и брани нейтрализует ложь). Самовысказывания властителей4.
Элемент насилия в объектном познании. Предварительное умерщвление предмета
_ предпосылка познания, подчинение мира (превращение
его в предмет поглощения) — его цель. В чем умерщвляющая сила художественного
образа: обойти предмет со стороны будущего, показать его в его исчерпанности и этим
лишить его открытого будущего, дать его во всех его границах, и внутренних и
внешних, без всякого выхода для него из этой ограниченности, — вот он весь здесь и
больше его нигде нет; если он весь здесь и до конца, то он мертв и его можно
поглотить, он изъемлется из незавершенной жизни и становится предметом
возможного потребления; он перестает быть самостоятельным участником события
жизни, идущим рядом дальше, он сказал уже свое последнее слово, в нем не оставлено
внутреннего открытого ядра, внутренней бесконечности. Ему отказано в свободе, акт
познания хочет окружить его со всех сторон, отрезать его от незавершенности,
следовательно, от свободы, от временного и от смыслового будущего, от его
нерешенности и от его внутренней правды. То же делает и художественный образ, он
не воскрешает и не увековечивает его для него самого (но для себя). Но это одна
сторона дела; ему предписывают извне, кем он должен быть, его лишают права на
свободное самоопределение, его определяют и останавливают этим определением. Это
насилие в образе органически сочетается со страхом и запугиванием. Говорящий
(творящий) серьезен, он не улыбается. В серьезности имплицитно содержатся требование, угроза, нажим. Будь тем, чем ты должен быть (извне навязанное
долженствование). Вечная угроза сегодняшнего дня всему, что хочет выйти за его
пределы: несвоевременно, не нужно, не соответствует задачам... Самое
40
несвоевременное бывает самым свободным, самым
правдивым,
самым
бескорыстным. Сегодняшний
[}иторика. в меру своей лживости...
41
день не может не лгать. Чем больше в нем железа и крови, тем больше такие
сегодняшние дни застывают в веках гнетущею тяжестью истории. Сегодняшний день
всегда выдает себя (когда он насильничает) за слугу будущего. Но это будущее —
будущее продолжение, преемственность гнета, но не выход на свободу, не
преображение. Говорить должна внутренняя свобода и неисчерпаемость предмета.
Познают элементы необходимости в мире, т. е. то в нем, в чем уже нет свободы, что
может быть использовано, потреблено, что чисто служебно. Эта позиция оправдана,
пока не выходит за свои пределы и не становится насилием над живым. Только любовь
может увидеть и изобразить внутреннюю свободу предмета. Она еще серьезна, но
хочет улыбаться, эта улыбка и радость, непрерывно побеждающие серьезность,
разглаживающие черты лица серьезности, побеждающие угрозу в тоне. Только для
любви раскрывается абсолютная непотреби-мость предмета, любовь оставляет его
целиком вне себя и рядом с собой (или позади). Любовь милует и ласкает границы;
границы приобретают новое значение. Любовь не говорит о предмете в его отсутствие,
а говорит о нем с ним самим. Слово-насилие предполагает отсутствующий и
безмолвствующий предмет, не слышащий и не отвечающий, оно не обращается к нему
и не требует его согласия, оно заочно. Содержание слова о предмете никогда не совпадает с содержанием его для себя самого. Оно дает ему определение, с которым он
никогда и принципиально не может согласиться изнутри. Это слово-насилие (и ложь)
смыкается с тысячами личных мотивов в творце, замут-няющих чистоту его — жаждой
успеха, влияния, признания (не слова, а творца), со стремлением стать силой гнетущей
и потребляющей. Слово хочет оказывать влияние извне, определять извне. В самом
убеждении заключается элемент внешнего давления. Мир варится в своем собственном
соку; необходим постоянный приток извне, из миров иных.
До сих пор сказанное человеческое слово исключительно наивно; а говорящие —
дети — тщеславные, самоуверенные, надеющиеся. Слово не знает, кому оно служит,
оно приходит из мрака и не знает своих корней. Его серьезность связана со страхом и с
насилием. Подлинно добрый, бескорыстный и любящий человек еще не гово
Риторика, в меру своей лживости...
41
рил, он реализовал себя в сферах бытовой жизни, он не прикасался к
организованному слову, зараженному насилием и ложью, он не становился писателем.
Доброта и любовь, поскольку они есть у писателя, посылают слову ироничность,
неуверенность, стыдливость (стыд серьезности). Слово было сильнее человека, он не
мог быть ответственным, находясь во власти слова; он чувствовал себя глашатаем
чужой правды, в высшей власти которой он находился. Он не чувствовал своего
сыновства и этой власти правды. Элемент холода и отчуждения в правде. Только
контрабандой проникали в нее элементы добра и любви, ласки и радости.
Согревающей правды еще не было, была только согревающая ложь. Творческий
процесс есть всегда процесс насилия, совершаемого правдой над душой. Правда
никогда еще не была родной человеку, не приходила к нему изнутри, а не извне; она
всегда была одержимостью. Она была откровением, но не была откровенной;, она всегда что-то умалчивала, окружала себя тайной и, следовательно, насилием. Она
побеждала человека, она была насилием, не было сыновства. Кто в этом виноват,
правда или человек. Человек встречается с правдой о себе, как с умерщвляющей силой.
Благодать всегда сходила извне.
41
Сам предмет не соучаствует в своем образе. Образ в отношении самого предмета
является либо ударом извне, либо даром ему извне, дар неоправданный, лицемернольстивый. Восхваляющий образ сливается с ложью предмета о самом себе: он и
скрывает и преувеличивает. Принципиальная заочность образа. Образ закрывает
предмет и, следовательно, игнорирует возможность его измениться, стать другим. В
образе не встречаются и не сочетаются голоса предмета и говорящего о нем. Предмет
хочет выпрыгнуть из себя самого, живет верой в чудо своего внезапного
преображения. Образ заставляет его совпасть с самим собою, ввергает его в
безнадежность завершенного и готового. Образ использует до конца все привилегии
своего вненахождения. Затылок, уши и спина предмета у него на первом плане. Все это
— пределы. В образе еще жива его магическая стадия. Пережитки насилия в образе.
Задача смыслового преображения. Дематериализация смыслом и любовью.
Установка на неуничтожимость предмета, а не на его уничтожимость-истребимость.
Или чистое самовысказыва
Риторика, в меру своей лживости...
42
ние, чистое одиночество в себе, без точки зрения извне, один голос, одинокая
очность или молитвенное обращение. Одинокий голос чистого самовысказывания и
заочный образ никогда не встречаются (нет плоскости для этой встречи) или наивно
смешиваются (самосозерцание в зеркале). Внутренняя ценностная бесконечность
человека и ничтожность и замкнутость его внешнего заочного образа в другом;
средняя между ними — маленький <1 нрзб.> образ себя самого. Уложить себя в свой
заочный образ, потушить в нем бесконечность своего ценностного самосознания,
умереть в нем и стать предметом поглощения и потребления. Вера в адекватную этой
внутренней бесконечности любовь. Положительная наука строит заочный образ мира
(умерщвляющий) и хочет замкнуть в нем становящуюся жизнь и смысл. В заочном
образе мира нет голоса самого мира, нет и его говорящего лица, а только спина и
затылок. Поиски новой плоскости для встречи я и другого, новой плоскости для
построения образа человека. Не игнорировать историю и историчность образа.
Вера в адекватное отражение себя в высшем другом, Бог одновременно и во мне и
вне меня, моя внутренняя бесконечность и незавершенность полностью отражена в
моем образе, и его вненаходимость также полностью реализована в нем.
Что во мне может быть оценено и осмыслено только с точки зрения другого
(внешность в широком смысле, наружность, habitus души, целое жизни, доступное
только чужой памяти обо мне).
Любовь к себе, жалость к себе, любование собой сложны по своему составу и
специфичны. Все духовные элементы любви к себе и самооценки (за вычетом самосохранения ит. п.) являются узурпацией места другого, точки зрения другого. Не я себя
внешнего оцениваю положительно, а я требую этого от другого, я становлюсь на его
точку зрения. Я сижу всегда на двух стульях. Я строю свой образ (осознаю себя)
одновременно и из себя и с точки зрения другого.
Точка зрения вненаходимости и ее избыток. Преимущественное использование всего
того, что другой принципиально не может знать о себе самом, не может в себе
наблюдать и видеть. Все эти элементы несут по преимуществу завершающую
функцию. Возможность объективно
Риторика, в меру своей лживости..
нейтрального самосознания и самооценки, не зависимой от точки зрения я или
другого. Это и есть умерщвляющий заочный образ. Он лишен диалогичности и
незавер-шимости. Завершенное целое всегда заочно. Завершенное целое нельзя
увидеть изнутри, но только извне. Завершающая вненаходимость.
42
Образ человеческой души. Только выразительные элементы в ней, могущие стать
словом, т. е. ее обращенность вовне, только внешность души. Человек как предмет художественного изображения. Художественное изображение человека, его формы и
границы.
Окружение и кругозор.
Превосходная степень. Временной («первый») и качественный («лучший») элемент в
ней. Аронотопичность сцены. Анализ этой хронотопичности. Человек на сценической
площадке (на полотне, герой словесного произведения); момент выделения. Он в точке
встречи кругозора с окружением; он вне себя, он входит в сферу выражения. Это
сложная точка встречи и взаимодействия зон, точек зрения, границ.
Образ человека как центральный образ всей художественной литературы.
Направления в создании этого образа, этика литературы. Проблема героизации.
Проблема не героизующей идеализации. Проблема типизации. Проблема
взаимоотношения автора и героев. Заочный образ и во-прошание героя. Элементы и
типы завершения. Степень вещности (resp. заочности) образа героя. Степень свободы
(принципиальной незавершимости) в образе героя. Вненаходимость героя. Элементы
наивной вненаходи-мости (точка зрения другого) в рассказе от «я». Нейтрализованный
образ «я» (рассказ о себе, как о другом).
У Гоголя была чрезвычайно развита специфическая этическая ответственность в
отношении героя, несмотря на почти предельную заочность его образов. Именно эта
предельная заочность, это умерщвление людей в образе, и обостряла для него вопрос
об их спасении и преображении как людей. Родство методов заочного завершения
образов с бранью. Потеря в брани положительного возрождающего полюса.
Ложь — это наиболее современная и актуальная форма зла. Феноменология лжи.
Чрезвычайное многообразие и тонкость ее форм. Причины ее чрезвычайной актуализа
43
Риторика, в меру своей лживости...
43
ции. Философия лжи. Ложь риторическая. Ложь в художественном образе. Ложь в
формах серьезности (соединенных со страхом, с угрозой и насилием). Нет еще формы
силы (могущества, власти) без необходимого ингредиента лжи. Слепота к смысловому
идеальному бытию (независимо от того, знает его кто-нибудь или нет), к смыслу в
себе. Обманутого превращают в вещь. Это — один из способов насилия и
овеществления человека. Легенда о Великом инквизиторе в новом свете.
Международное значение романов Достоевского. История типа этого романа3. Как
складывались эти специфические формы изображения действительности и внутреннего
человека. Структурно-композиционный тип романа. Сюжет и его особенности
(провоцирование, испытание, вопрошание). Образ героя.
Анализ выражения серьезности и полюса этого выражения (страх, угроза, жалость,
сострадание, горе и пр.).
Атеизм 19го в. — примитивный и плоский — ни к чему не обязывал религию,
можно было верить «по старинке». Новое очередное преодоление наивности. Ею
определяются все основы и предпосылки нашего мышления и нашей культуры.
Необходимо новое философское удивление перед всем. Все могло бы быть другим.
Надо вспоминать мир, как вспоминают свое детство, любить его, как можно любить
только что-то наивное (ребенка, женщину, прошлое).
Человек у зеркала
«ЧЕЛОВЕК У ЗЕРКАЛА»
Фальшь и ложь, неизбежно проглядывающие во взаимоотношении с самим собою.
Внешний образ мысли, чувства, внешний образ души. Не я смотрю изнутри своими
43
глазами на мир, а я смотрю на себя глазами мира, чужими глазами; я одержим другим.
Здесь нет наивной цельности внешнего и внутреннего. Подсмотреть свой заочный
образ. Наивность слияния себя и другого в зеркальном образе. Избыток другого. У
меня нет точки зрения на себя извне, у меня нет подхода к своему собственному
внутреннему образу. Из моих глаз глядят чужие глаза.
44
К вопросам самосознания и самооценки
<К ВОПРОСАМ САМОСОЗНАНИЯ И САМООЦЕНКИ...>
К вопросам самосознания и самооценки в теоретическом и историческом плане
(автобиографии, исповеди, образ человека в литературе и т. п.). Важность этой проблемы для самых существенных вопросов литературы. Мир населен созданными
образами других людей (это — мир других, и в этот мир пришел я); среди них есть и
образы я в образах других людей. Позиция сознания при создании образа другого и
образа себя самого. Сейчас это узловая проблема всей философии. Начать с анализа
примитивной позиции самоосознания (но не в историческом плане). Человек у зеркала.
Сложность этого явления (при кажущейся простоте). Элементы его. Простая формула:
я гляжу на себя глазами другого, оцениваю себя с точки зрения другого. Но за этой
простотой необходимо вскрыть необычайную сложность взаимоотношений участников
(их окажется много) этого события. Вненаходимость (я вижу себя вне себя). Как дана
моя внешность для меня самого. Фрагменты моего тела, непосредственно (без зеркала)
данные мне извне. Как я представляю себя самого, когда думаю о себе. Я ставлю себя
на сцену, но не перестаю ощущать себя самого в себе. Невозможность ощущения себя
целиком вне себя, всецело во внешнем мире, а не на касательной к этому внешнему
миру. Пуповина тянется к этой касательной. Связь со специфическим неверием в свою
смерть (слова Паскаля)1. Я не знаю того сплошь внешнего и всецело во внешнем мире
находящегося моего тела, которое станет трупом; оно может быть предметом мысли,
но не живого опыта. Я в той точке касательной, которая никогда не может оказаться
целиком в мире, стать бытием (действительностью) в нем, а следовательно, и
уничтожиться в нем; я не могу весь войти в мир, а потому не могу и весь выйти (уйти)
из него. Только мысль локализует меня целиком в бытии, но живой опыт не верит ей.
Как разрешается этот конфликт между мыслью и живым опытом, между миром мысли,
в
44
К вопросам самосознания и самооценки
котором я внутри, и миром вне меня, на касательной к которому я нахожусь. Здесь
есть конфликт, но нет противоречия. Зависимость от другого человека перед зеркалом.
Стоя на касательной к миру, я вижу себя целиком находящимся в мире, таким, каким я
являюсь только для других. Что во мне может быть осмыслено и оценено только для
других. Мое тело, мое лицо; какие чувства и оценки себя могут быть мною только
узурпированы у других. Направленность на свое целое, скорбь о себе, героизация, быть
в своем образе для других, уйти в него с касательной. Мир весь передо мной, и, хотя он
есть и позади меня, я всегда отодвигаю себя на его край, на касательную к нему. Эта
зависимость от другого (в процессе самоосознания и самооправдания) — одна из
основных тем Достоевского, определяющая и формальные особенности его образа
человека. Мир весь передо мною, и другой целиком в нем. Для меня он — кругозор,
для другого — окружение.
С «объективной» точки зрения существует человек, личность и т. п., но различие
между я и другим относительно: все и каждый является я , все и каждый является
другим. Аналогия с иррациональным различием правой и левой перчатки» предмета и
его отражения в зеркале. И тем не менее я чувствует себя исключением, единственным
44
я в мире (остальные все другие) и живет этим противопоставлением. Этим создается
этическая сфера абсолютного неравенства я всем другим, вечного и абсолютного исключения я (оправданного исключения). Какие же явления жизни <и> творчества
лежат именно в этой сфере, определяются специфическими законами этого
исключения? Все может быть связано с этой сферой, ложь, знание и незнание
(нарочитое незнание), иллюзии о себе и самообман. Построение своего образа в другом
и для других. При этом построении мы переходим вовнутрь мира, но сохраняем связь с
касательной. Специфика сочетания точки зрения извне и изнутри. Точка
соприкосновения сознаний. Большинство людей живет не своей исключительностью, а
своей другостью. Исключительность материализуется и становится паразитической
(эгоизм, честолюбие и
Понятие и образ человека. Познание и изображение личности.
45
К вопросам самосознания и самооценки
45
Отсутствие внутреннего пространства (interieura) у Достоевского. Все действие, все
события совершаются н а пороге. Он выводит из мира, из дома, из комнаты. Войти
вовнутрь и успокоиться, окружить себя миром, комнатами, вещами, людьми, своим
миром, своей комнатой, не у порога, не <на> границе. Он знает одно движение —
вовнутрь человека, именно сюда он вытесняет, загоняет человека из внешнего мира, но
и это нутро человека, внутренние глубины его оказываются границей, порогом
(порогом другой души), точкой соприкосновения сознаний (и раздвоением
собственного сознания), безысходным диалогом; нечем окружить себя и не в чем
успокоиться. Человек окружен миром, своей комнатой, квартирой, природой,
пейзажем, — он живет внутри мира и в нем действует; вокруг него плотные и теплые
массы мира; он внутри внешнего мира, а не на границах его.
Познание и изображение личности. Из царства объект-ности, вещности, однозначной
готовности, необходимости, где работает овещняющее познание, мы вступаем в царство свободы, непредопределенности, неожиданности и абсолютной новизны,
бесконечных возможностей и несовпадения с самим собой. Но границы этого царства
свободы, по мере хода познания, отодвигаются все дальше и дальше: в личности
оказываются все новые и новые оболочки вещного и необходимого (где меня нет до
конца, где я не я ): то, что казалось последним свободным ядром, оказывается новой
оболочкой душевной плоти (пусть и более тонкой). Незавершимое ядро, не
совпадающее с самим собою. Некоторая однородность познания и овеществляющего
художественного изображения.
Организация пространства у Достоевского. Это не обычное художественное земное
пространство, в котором человек прочно локализован и окружен. Эта организация
пространства связана с Inferno. Это не пространство жизни, а выхода из жизни, это —
узкое пространство порога, границы, где нельзя устроиться, успокоиться, обосноваться, где можно только перешагнуть, переступить. История этого пространства.
Schwellendialoge. Формы и виды порога и границ в архитектуре. Все действие с самого
начала и до конца совершается в точке кризиса, в точке перелома.
Организация пространства и организация времени. Все действие совершается в
Магометово мгновение2. Мгнове
К вопросам самосознания и самооценки
45
ние кризиса. Все с самого начала известно и предчувствовано. Время ничего не
умерщвляет и не рождает, оно в лучшем случае только проясняет. Вся жизнь в одном
45
мгновении. История этой концепции времени в литературе3. Время в менипповой
сатире.
Образ города и его художественная специфика.
Тип романа Достоевского и история этого типа4 (его историческое развитие, его
исторические корни).
S о 1 i 1 о q u i а — как один из корней. Moralia и их разновидности. Особое место
Menippea. Испытание правды (старой новой правды) на человеке. Образ Диогена.
Образ Мениппа. Человек не характер, не тип, а воплощение некой правды,
представитель ее. Сюжет носит экспериментирующий, провоцирующий (и,
следовательно, — фантастический) характер. Особая трактовка времени и
пространства. Универсализм. Доведение идеи (пунктиром) до ее последних
практических выводов и последствий.
Каковы были реальные пути жизни и передачи этой традиции (как книжные, так и не
книжные). Авантюрный роман барочной традиции. Церковная и житийная литература
(книга Иова). Испытание праведника (грешника). Народный кукольный театр. Гоголь и
историческая специфика его форм. Средневековая драма (см. «Великий инквизитор»).
Самый язык инвольвирует и передает столетиями слагавшиеся точки зрения
(специфическое неблагообразие тех пластов языка, которые избрал Достоевский).
«Диалоги мертвых». Лукиановские диалоги (беседа через тысячелетия Инквизитора с
Христом). Вольтер и мениппова сатира («Кандид», «Микромегас» и др.). В сюжет
вводится весь мир, все человечество, Бог и пр. Загробные хождения (традиция их у
Гоголя). Жизнь — ад, который мгновенно может быть превращен в рай (таинственный
незнакомец Зосимы). Метод доведения до предела (у Гоголя доведение до предела,
потенцирование, пошлости и пустоты). История основных сюжетных мотивов (отцеубийство5, возрождение грешника); амбивалентность, благословляющие проклятия (и
обратно, юродство как источник). Художественная роль преступления. Тема русского
Фауста; исторический генезис составляющих ее мотивов. Первоначальные черновые
наброски Достоевским целого, сцен и диалогов, раскрывающие филогенезис его
формы (мениппова сатира). Мотивы безумия и самоубийства
К вопросам самосознания и самооценки
46
(типичные для менипповой сатиры). Характерное для менипповой сатиры
отношение к современности. Испытание нигилиста и атеиста, испытание святого.
Равнодушно-завершенные — люди не на пороге; их сановитость, собственное
достоинство, самолюбование, самодовольство (Миусов и пр.).
Новая страница в истории гуманизма. (К столетию первых выступлений
Достоевского: «Бедные люди» — 15/1-1846 и «Двойник» — 1/II-1846 г.). Любовь или
жалость. Свободный человек или счастливый раб. Человек — вещь, больное и слабое
животное, невинное дитя. Человек весь и сполна завершен и готов, весь здесь во всех
своих возможностях, ждать от него больше нечего. Не требования к нему, но жалость.
Жалеющий всегда выше жалеемого, над ним. Жалость унижает человека, она игноЙирует его свободу, завершает и даже овеществляет его. Калость нельзя
противопоставлять любви, она должна быть неотделимой составною частью любви.
Дело не в отвлеченной теории гуманизма, не в проповеди любви к человеку, а в
способах художественного изображения человека, в образе человека.
Специфичность образа человека в русской литературе. Ответственность за своего
героя как за живого человека, боязнь принизить в нем человека, оскорбить в нем
человеческое достоинство, завершить его до конца. Стремление расширить
человечность, найти человека там, где его до сих пор не искали («Станционный
смотритель»). Своеобразие русского сентиментализма (и в частности стерни-анства).
46
Трагедия завершенности героя Гоголя. Неприятие сплошной завершенности,
безнадежной законченности своих героев (Чичикова, Плюшкина): они еще не сказали
своего последнего слова, они еще могут преобразиться. Разоблачение человеческих
иллюзий (в частности иллюзий о себе самом) как параллельная тема западной
литературы (Стендаль, Бальзак, Флобер). Разная трактовка мечтательности и мечтателя
(Достоевский и Флобер). Гуманизм Жорж Занд. 1843 г. Достоевский переводит
«Евгению Гранде»6, предлагает брату Михаилу перевести «Матильду» Сю7, 1844 г.
(первая половина года) переводит «La derniere Aldini» Жорж Занд8, рекомендует брату
перевод всего Шиллера. Чтение в рукописи «Петербургских шарманщиков»
Григоровича (осень 1844 г.9). В начале зимы
К вопросам самосознания и самооценки
47
1845 г. Достоевский читает роман Фредерика Судье «Memoires du Diable»10. В
октябре 1845 г. читает «Теверино» Жорж Занд и в восторге от нее (напечатано в
«Отечественных записках», 1845, X).
Гоголь только довел до предела специфику прозаического образа человека, образапрозвища, довел до границ. Но на границе неизбежно должна была встать проблема
образа. Необходимо было вернуть человеку (герою) утраченное им имя. Модель
последнего целого, модель мира, лежащая в основе каждого художественного образа.
Эта модель мира перестраивается на пр<от>яжении столетий (а радикально —
тысячелетий). Пространственные и временные представления, лежащие в основе этой
модели, ее смысловые и ценностные измерения и градации. Интеллектуальный уют
обжитого тысячелетнею мыслью мира. Система тысячелетиями слагавшихся
фольклорных символов, изображавших модель последнего целого. В них — большой
опыт человечества. В символах официальной культуры лишь малый опыт
специфической части человечества (притом данного момента, заинтересованной в
стабильности его). Для этих малых моделей, созданных на основе малого и частичного
опыта, характерна специфическая прагматичность, утилитарность. Они служат схемой
для практически заинтересованного действия человека, в них, действительно, практика
определяет познание. Поэтому в них нарочитое утаивание, ложь, спасительные
иллюзии всякого рода, простота и механичность схемы, односмыс-ленность и
односторонность оценки, однопланность и логичность (прямолинейная логичность).
Они менее всего заинтересованы в истине всеобъемлющего целого (эта истина целого
непрактична и бескорыстна, она безразлична к временным судьбам частного). Большой
опыт заинтересован в смене больших эпох (большом становлении) и в неподвижности
вечности, малый же опыт — в изменениях в пределах эпохи (в малом становлении) и
во временной, относительной стабильности. Малый опыт построен на нарочитом
забвении и на нарочитой неполноте. В большом опыте мир не совпадает с самим
собою (не есть то, что он есть), не закрыт и не завершен. В нем — память, не имеющая
границ, память, спускающаяся и уходящая в дочеловеческие глубины материи и
неорганической жизни, опыт жизни миров и атомов. И история отдельного чело
К вопросам самосознания и самооценки
47
века начинается для этой памяти задолго до пробуждения его сознания (его
сознательного я ). В каких формах и сферах культуры воплощен этот большой опыт,
большая не ограниченная практикой память, бескорыстная память. Трагедия, Шекспир
— в плане официальной культуры — корнями своими уходят во внеофициальные
символы большого народного опыта. Язык, непубликуемые сферы речевой жизни,
символы смеховой культуры. Не переработанная и не рационализованная
официальным сознанием основа мифа. Надо уметь уловить подлинный голос бытия,
47
целого бытия, бытия больше, чем человеческого, а не частной части, голос целого, а не
одного из партийных участников его. Память надындивидуального тела. Эта память
противоречивого бытия не может быть выражена односмысленными понятиями и
однотонными классическими образами. Соответствующие слова Гете (кажется, по
поводу «Парии»)11. Развернутая критика того, как изучают этот опыт фольклористы
(перевод логики целого на язык логики частного и т. п.). Эта большая память не есть
память о прошлом (в отвлеченно временном смысле); время относительно в ней. То,
что возвращается вечно и в то же время невозвратно. Время здесь не линия, а сложная
Й)рма тела вращения. Момент возвращения уловлен ицше, но абстрактно и
механистически интерпретирован им. В то же время открытость и незавершенность,
память о том, что не совпадает с самим собой. Малый опыт, практически осмысленный
и потребляющий, стремится все омертвить и овеществить, большой опыт — все
оживить (во всем увидеть незавершенность и свободу, чудо и откровение). В малом
опыте — один познающий (все остальное — объект познания), один свободный
субъект (все остальное — мертвые вещи), один живой и незакрытый (все остальное —
мертво и закрыто), один говорит (все остальное безответно молчит). В большом опыте
все живо, все говорит, этот опыт глубоко и существенно диалогичен. Мысль мира обо
мне, мыслящем, скорее я объектен в субъектном мире. В философии, в особенности в
натурфилософии начала века, все это все же рационализовано и оторвано от
тысячелетних систем народных символов, все это дано как собственный опыт, а не как
проникновенное истолкование многотысячелетнего опыта челове
К вопросам самосознания и самооценки
чества, воплощенного во внеофициальных системах символов.
Греческая мысль (философская и научная) не знала терминов (с чужими корнями и
не участвующих в том же значении в общем языке), слов с чужим и неосознанным
этимоном. Выводы из этого факта имеют громадную важность.
В термине, даже и не иноязычном, происходит стабилизация значений, ослабление
метафорической силы, утрачивается многосмысленность и игра значениями. Предельная однотонность термина.
Роль нарочитого забвения в организации образа. Борьба с памятью. Большая память
по-особому понимает и оценивает смерть. Эта память позволяет обойти меня самого (и
мою эпоху) во времени. Самосожжение и универсализация своего я. Все неповторимо
оригинальное, открывающее, бесстрашное в образе рождается именно за счет этой
памяти. Память не обедняет образа: он живет новой жизнью во времени, происходит
непрестанное обогащение и обновление его смысла в развивающемся далее контексте
мира, ослабляются моменты корыстной практичности, узкой заинтересованности.
48
Дополнения и изменения к «Рабле»
ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К «РАБЛЕ»
18/VI 44 г.
К истории смеха (гл. II)1. Смех и зона контакта с незавершенным настоящим. Смех
впервые открывает современность, как предмет изображения. Фамильяризация мира,
предпосылка бесстрашия подготовляют исследовательскую установку в отношении к
миру и свободный опыт. Прошлое (в далевом образе) не может быть предметом смеха.
Смех и будущее2. Открытие личного бытового и мемуарного.
Экскурсы: 1. Рабле и Гоголь3; 2. значение менипповой сатиры в истории романа4.
Современность («моя современность») — объект брани по преимуществу.
Современность, наше время всегда бранят, это стало ходячим речевым штампом.
Достаточно ознакомиться с отзывами современников величайших эпох (по журналам,
мемуарам, дневникам), чтобы убедиться, что тогда современность только бранили (во
48
времена Пушкина современники жаловались на отсутствие литературы). Официальный
характер чистой хвалы.
Однотонность и одностильность всего официального. «Веселое бесстрашие» в
известной мере тавтология, ибо полное бесстрашие не может не быть веселым (страх
— конститутивный момент серьезности), а подлинная веселость не совместима со
страхом. Бесстрашный образ = веселый образ (смеховой). Фонд этих бесстрашновеселых
образов
—
народно-праздничное
веселье,
фамильярная
речь,
жестикуляционный фонд (вот где нужно искать этот фонд бесстрашно веселых
образов, а не в официализован-ной системе хмурого мифа; трагедия плюс сатирова
драма восстановляют амбивалентность и цельность народного образа).
Реальное физическое заражение (причастие) родовым человеческим и национальнонародным («наши») бесстрашием в карнавальной толпе.
49
Дополнения и изменения к «Рабле»
49
Веселое бесстрашие как предпосылка познания (новое понятие вылупливается из
сократического диалога).
«Пантеево рагу» и комический Дионис (брат Жан).
Две линии развития менипповой сатиры; одна из них — однотонно-оксюморная —
завершается Достоевским.
О инициализация образа и связанная с нею однотонность его. Образ из
амбивалентной сферы переводится в чисто серьезный план, становится
односмысленным, черное и белое, положительное и отрицательное разделяются и противопоставляются. Это — процесс затвердевания новых границ между смыслами,
явлениями и вещами мира, внесение в мир момента устойчивости (стабилизация новой
иерархии), увековечивания (канонизации); это — процесс осерьезнения мира (его
образов, мыслей о нем, оценок его), внесение в него моментов угрозы, устрашения,
страха. Но этот процесс затвердевания и осерьезнения образов мира совершается
только в официальных сферах, но эта официализованная культура — островок,
окруженный океаном неофициального.
Физический контакт, контакт тел, как один из необходимых моментов
фамильярности. Вступление в зону физического контакта, в зону господства моего
тела, где можно тронуть руками и губами, можно взять, ударить, обнять, растерзать,
съесть, приобщить к своему телу, или быть тронутым, обнятым, растерзанным,
съеденным, поглощенным другим телом. В этой зоне раскрываются все стороны
предмета (и лицо и зад), не только его внешность, но и его нутро, его глубина. Это зона
пространственно-временная.
Кроме серьезности официальной, серьезности власти, устрашающей и пугающей
серьезности, есть еще неофициальная серьезность страдания, страха, напуганности,
слабости, серьезность раба и серьезность жертвы (отделившейся от жреца). Особая
наиболее глубокая (ив известной мере свободная) разновидность этой неофициальной
серьезности. Неофициальная серьезность Достоевского. Это — предельный протест
индивидуальности (телесной и духовной), жаждущей увековечения, против смены и
абсолютного обновления, протест части против растворения в целом, это —
величайшие и обоснованней -шие претензии на вечность, на неуничтожимость всего,
что однажды было (непринятие становления). Вечность мгно
Дополнения и изменения к «Рабле»
49
вения. Чистое проклятие, которое должно смениться в финале чистой хвалой
(осанной).
49
Мудрость обезличивающего целого у Толстого (Ерошка, Платон Каратаев и др.)Однотонность амбивалентности у Гете (он считал, что только в стихах можно выразить
противоречивую амбивалентность, так как не владел смеховой алогической прозой3).
Не осанна, а гомеровский «вечный (неуничтожимый) смех» богов6.
Фауст народного романа и Фауст Гете. Образ Фауста народного романа родился (как
чертенок Пантагрюэль) из неофициальной, фамильярной, чертыхающейся, всепрофанирующей (амбивалентно-кощунственной) стихии средневековой студенческой
богемы, это — верный бурш с головы до ног, кутила-сквернослов (вроде брата Жана),
внеиерархическая личность фамильярного общения, для которой нет ничего святого и
заветного, порождение карнавально-масленичных шуток и мистификаций, и космизм
его — карнавально-масленичный. В основе образа и сюжета лежит реализованное
ругательство — «чорт побери!» (христианизованная однотонная форма
благословляющего проклятия, пожелания обновляющей смерти). Реализованная брань
лежит и в основе романа Рабле и в основе спусков в преисподнюю. Это — мениппова
сатира, переведенная в однотонный регистр. Смех Мефистофеля. Пережиток парности
(двутелости) образа. Своеобразное использование парности в сцене любовного
свидания Фауст — Гретхен, Мефистофель — Марта (то появляется лицо, то зад,
хождение колесом). Мениппова сатира и здесь оказывается ведущей к первофеномену
романа. Термин «мениппова сатира» так же условен и случаен, так же несет на себе
случайную печать одного из второстепенных моментов своей истории, как и термин
«роман» для романа.
Все такие мировые образы, как Фауст (и органически связанные с ними сюжеты и
типы построения целого произведения, т. е. жанровой разновидности), должны быть
пересмотрены в свете народно-праздничной, карнавальной подосновы мировой
литературы. Их анализ окажется несравненно сложнее, их смысл несравненно глубже
и, так сказать, предельнее в свете их подлинной традиции и ее сложной истории. Здесь
— противоборство амбива
Дополнения и изменения к «Рабле»
50
лентных хвалебно-бранных образов, охваченных процессом официализации,
переводимых в однотонный (и односмысленный) регистр, характерный для последних
веков европейской культуры.
[«Мир вечный праху твоему». Представление о мире, вечности, небытии и
уничтожении. Случайность, ничтожность уничтожения и смерти; ничего нельзя
сказать; смерть — что-то преходящее и в сущности ничего не говорящее, нет никаких
оснований для ее абсолютизации; абсолютизируя ее, мы превращаем небытие в дурное
бытие, отсутствие — в дурное присутствие; смерть во времени и она временна, ибо мы
знаем ее действие только на самом маленьком отрезке времени и пространства7 (плоти
смерть <?> — коробка-воровка8).]
Характерная для менипповой сатиры (и всех ее порождений) тяга к предельности, к
космизму, к последнему целому, ее топографизм, ее вражда к среднему, среднетипическому, натурально-реалистическому (ординарно-среднее, не исключительное не
имеет права появляться за рампой).
Сделать образ серьезным значит устранить из него амбивалентность и
двусмысленность, нерешенность, готовность изменить свой смысл, вывернуться наизнанку, его мистифицирующую карнавальную сущность, значит остановить хождение
колесом, кувыркание его, отделить лицо от зада (остановить в момент, когда лицо
находится на первом плане), отделить хвалу от брани, обрубить все выходящие за его
пределы отростки и ответвления.
50
Идея неискупимости и непоправимости у Достоевского и ее художественное
значение.
Связанное с осерьезнением9 отделение смерти от жизни, хвалы от брани, объявить
устойчивым и неизменным. Слияние в быстром кружении лица и зада и в быстром
качании (подъеме-падении) — верха и низа (неба и преисподней). Остановить
кружение и взлеты-падения, поставить на ноги лицом к публике. Праздничность
образа, его изъятость из прямолинейности практической серьезности жизни и
продиктованных этой серьезностью норм и запретов.
Необходимо найти новый миросозерцательный подход к хвале и брани как к
исключительно важным миросозерцательным, культурным и художественным
категориям. Их
Дополнения и изменения к «Рабле»
51
роль в создании образа человека. История хвалебного (прославляющего) слова и
история брани (посрамляющего слова). Фольклорные корни того и другого. Хвалебнобранное прозвище.
Самопрославление восточных деспотов и богов в истории хвалы. Апологетика
загробных молитв. Формы увенчаний (героев, императоров)1".
Формы монументализма и героизации. Ощущение могущества и силы (власти) как
конститутивный момент их. Отношение к врагам. Философия хвалы (и прославления).
Момент увековечивания и неизменности, тождественности (враждебный смене); роль
памяти. Отношение прославления к прошлому (отцам) (мотив брани — убийство отца);
эпическое прославление. Отношение хвалы к смерти. Хвала (прославление, увенчание)
и идеализация, сублимация. Топографический момент хвалы (высота, верх, даль, лицо,
перед). Отношение к размеру (большой, увеличение, в противоположность к
уменьшающей хуле). Гиперболизм и его двоякое значение. Роль и значение
превосходной степени, ее типы и разновидности. Именно здесь, в области чистой
хвалы создавались формы завершенной и глухой индивидуальности, преодолевалась
двутелость.
Жажда славы и увековечения в памяти потомков, своего имени (а не прозвища) в
устах людей; забота о своем памятнике. Говорящие камни.
Почему придаем мы такое значение категориям хвалы и брани? Они составляют
древнейшую и неумирающую подоснову основного человеческого фонда языковых
образов (серьезных и смеховых мифов), интонационного и жестикуляционного фонда
(обертоны индивидуализованной и экспрессивной интонации и жестикуляции), они
определили основные средства изображения и выражения (начиная с материала). Они
определяют топографию мира и топографическую акцентуацию, проникающую весь
образный и жестикуляционный фонд (т. е. основные архитектурные формы, а не
поверхностный орнамент на них) — верх, низ, зад, перед, лицо, изнанка, нутро,
внешность и т. п. Обертональный характер всего того, что кажется нейтральным к
хвале и брани, что определяет меняющиеся направления и стили (классицизм,
романтизм и т. п.), что только поверхностно перекрывает и вуалирует, как орнамент в
архитектуре, основное движение больших
Дополнения и изменения к «Рабле»
51
(несущих) архитектурных форм (ведь орнамент не участвует в их движении, он не
несет тяжестей, не выдерживает сопротивления).
Победы, титулы, награждения, — все то, что определяло и определяет жизнь, что
строит (иерархический) образ человека.
51
Миф о загробном суде и его громадная формообразующая роль в истории создания
образа человека. Устрашение как необходимый момент монументального стиля.
Подчеркивание иерархической бездны между человеком и человеком (властителем и
трепещущими рабами). Самоутверждение неотделимо от уничтожения врагов, возвеличение неотделимо от принижения всех остальных людей.
Проблема хвалы-прославления у Шекспира: подавляющее и уничтожающее
самоутверждение в «Короле Лире», «Ричарде III» и в «Макбете». Продление жизни
(сверх положенного ей предела) и увековечивание ее возможно лишь ценою убийства
(в пределе — убийства сына, убийства детей, мотив избиения младенцев);
амбивалентное дополнение к отцеубийству. Проблема замещения-смены (смерть отца,
наследство)11. Проблема увенчания-развенчания у Шекспира (вообще проблема
венца).
Жестокость и пролитие крови как конститутивный момент силы и жизни.
Однотонное (не карнавальное)* растерзание, не ритуальная (или полуритуальная, без
возрождения и обновления) жертва.
Нас захватывают и поражают именно основные тона Шекспира, но осознаем,
осмысливаем и обсуждаем мы пока только обертоны. (Макбет на уровне современной
криминалистики, Лир и феодальные представления о делимости государственной
территории). Макбет не преступник, логика всех его поступков — необходимая
железная логика самоувенчания (и шире — логика всякого увенчания, венца и власти,
и еще шире — логика всякой самоутверждающейся и потому враждебной смене и
обновлению жизни). Начинает Макбет с убийства отца (Дункан — замещение отца: он
родственник, он седой и т. п.), здесь он — наследник, здесь он приемлет смену;
кончает он убийством детей (замещение сыновей), здесь он — отец, не принимающий
смены и обновления (развенчания). Это — надъюридическое преступление всякой
самоутверждающейся жизни (implicite включающей в себя как
Дополнения и изменения к «Рабле»
свой конститутивный момент убийство отца и убийство сына), надъюридическое
преступление звена в цепи поколений, враждебно отделяющегося, отрывающегося от
предшествующего и последующего, мальчишески попирающего и умерщвляющего
прошлое (отца, старость) и старчески враждебного будущему (к сыну, к юности), это
— глубинная трагедия самой индивидуальной жизни, обреченной на рождение и
смерть, рождающейся из чужой смерти и своею смертью оплодотворяющей чужую
жизнь (если здесь можно говорить о психологии, то о глубинной психологии самой
жизни, психологии индивидуальности, как таковой, психологии борьбы сомы и плазмы
в душе человека). Но эта трагедия (и преступление) самой индивидуальной жизни
вложена в потенцирующую форму трагедии венца-власти (властитель, царь, увенчанный — предел и торжество индивидуальности, венец ее, реализующий все ее
возможности); и здесь все поступки Макбета определяются железной логикой всякого
увенчания и всякой власти (враждебной смене), конститутивный момент ее — насилие,
угнетение, ложь, трепет и страх подвластного и обратный, возвратный страх
властителя перед подвластным. Это — надъюридическое преступление всякой власти.
Это — первый глубинный план образов (ядро их); но трагедия индивидуальности и
потенцирующей ее власти вложена в трагедию узурпатора, т. е. властителяпреступника (это уже юридическое преступление); здесь уже железная логика
преступления (не случайного преступления) и психология (в обычном смысле)
преступника. Юридическое преступление (перед людьми и общественным строем)
необходимо, чтобы раскрыть (эксплицировать), актуализовать (вызвать из глубин
бессознательного) и конкретизовать глубинное преступление (потенциальную
преступность) всякой самоутверждающейся индивидуальности, всякой рождающейся и
52
умирающей жизни (другой жизни, жизни вечной, мы не знаем и только постулируем и
должны постулировать ее). Усмиренный законом человек, т. е. не преступник, volensnolens принимает смену, резиньирует перед законом смены, его поступки
определяются страхом, его мысль и слово подчинены цензуре сознания12; он
терпеливо дожидается смерти отца, искренне ее боится и оплакивает ее, искренне
любит сына-наследника (и преемника) и искренне живет
53
Дополнения и изменения к «Рабле»
53
для сына; такой человек не годится в герои трагедии, он не актуализует глубин,
скрытых за нормальным (т. е. обузданным и усмиренным) ходом жизни, не может раскрыть внутриатомных противоречий жизни. Существенная формообразующая роль
преступления в литературе (особенно наглядно у Достоевского). Поэтому трагедия (и
преступление) всякой власти (т. е. и самой законнейшей) раскрывается на образе
узурпатора (преступного властителя). Это — второй план образов Шекспира. Далее
идет третий план, конкретизующий и актуализующий образы уже в разрезе его
исторической современности (этот план полон намеков и аллюзий); этот план
непосредственно сливается, переходит в орнамент (всякие фиктивные, нарисованные и
барельефные, не несущие никакой тяжести колонны, фиктивные окна, ложное, не
соответствующее действительному движению архитектурных масс, движение
орнаментальных линий и т. п.), смягчающий и вуалирующий соотношение сил и
движение основных архитектурных форм. [В новых драмах, наприм<ер>, драмах
Ибсена, все дело в орнаменте (почти злободневном к тому же), налепленном на
картонный, бутафорский и лишенный всякой архитектурной сложности каркас]
Шекспир — драматург первого (но не переднего) глубинного плана. Поэтому он мог
брать любые сюжеты, любых времен и народов, мог переделывать любые
произведения, лишь бы они были хотя бы отдаленно связаны с основным
топографическим фондом народных образов; он актуализовал этот фонд; Шекспир
космичен, пределен и топографичен; поэтому его образы — топографичные по
природе своей — способны развить такую необычайную силу и жизненность в топографическом и сплошь проакцентуированном пространстве сцены13. [Наша сцена —
пустой ящик без топографии и акцентов, нейтральный ящик; в нем могут жить только
образы второго и третьего плана, жить мелкой, жидкой, далекой от всяких пределов
жизнью, на этой сцене можно только суетиться, но не существенно двигаться<;>
вперед, назад, вверх и вниз — только практически осмыслены вещами, так, а не иначе
поставленными. Ее пустоту и безакцентность приходится загромождать
натуралистическими декорациями, реквизитами и аксессуарами.]
Все существенное у Шекспира может быть до конца осмыслено только в первом
(топографическом) плане.
Дополнения и изменения к «Рабле»
53
Здесь осмысливается то, что у Макбета нет ни отца, ни детей (переход из второго
плана в первый), что он довлеет себе; здесь осмысливается и мотив «нерожденного
женщиной» (Кесарева сечения) и др.
Другие стороны той же проблемы в «Короле Лире». Самый сюжет замечателен:
передача наследства при жизни, умереть до смерти, подглядеть свою собственную посмертную судьбу, произвольная (а не добровольная) преждевременная смена (своего
рода самоубийство), наивное неверие в то, что дети-наследники по природе своей
убийцы отца (почему здесь дочери, восполненные сыновьями в параллельной истории
Глостера), попытка проверить это; испытывая их «благодарность» (наивно веруя в
53
истинность поверхностной подцензурной логики чувств, мыслей, слов, в
подцензурную, хотя бы и искреннюю, любовь и уважение, пиетет к отцу детей,
подцензурную преданность и пиетет подданных)! он сам дает им в руки оружие для
убийства. Ослепленный властью царя и отца, он всерьез принимает созданную
собственной же властью и устрашением подцензурную ложь детей и подданных; он
проверяет незыблемость поверхностной (внешней) подцензурной иерархии, проверяет
официальную ложь мира (дети и подданные любят и уважают царя и отца,
облагодетельствованный благодарен благодетелю и т. п. официальные истины); он
терпит крушение, мир выворачивается на изнанку, он впервые коснулся подлинной
реальности мира, жизни и человека. Проблема венца и властителя здесь глубже,
мудрее и сложнее раскрыта, она здесь менее однотонна, чем в «Макбете», здесь все
проникнуто народной амбивалентной мудростью сатурналий и карнавала. Тема
безумия.
Другие стороны той же проблемы в «Цезаре» и в хрониках. Но исключительна
сложность ее постановки в «Гамлете». Ложная игра сил в орнаменте здесь глубоко
завуалировала действительное движение основных архитектурных масс. Это —
сдвинутый, смещенный «Царь Эдип»: Креонт (если бы он был братом Лая) убил отца
Эдипа и женился на его матери; что делать Эдипу, который знает, что потенциальный,
подлинный, убийца по природе — он; вместо него убил другой; мститель здесь
оказывается убийцей-соперником (сопоставление с Достоевским: кто из братьев
действительно хотел убить и кто
Дополнения и изменения к «Рабле»
54
действительно убил). Месть за отца оказалась бы на самом деле просто устранением
соперника: не ты должен был убить и наследовать, а я. Измена матери. Офелия
оказывается потенциальной заместительницей матери на кровосмесительном ложе (в
образе женщины мать и любовница слиты, одно и то же лоно и рождает и оплодотворяется в coitus'e). Гамлет не принимает отцеубийственной роли наследника. Убив
Клавдия (который тоже ведь разыгрывает любящего отца), Гамлет должен погибнуть и
сам, как соубийца (потенциальный). Преступление заложено в самую сущность
самоутверждающейся жизни, и, живя, нельзя не запутаться в нем. Как и Лир, Гамлет
соприкоснулся с подлинной реальностью мира, жизни и человека; вся система
официального добра, правды, пиетета, любви, дружбы и пр. — рухнула. Глубоко
наивно сводить все это к психологии нерешительного, заеденного рефлексией или
чрезмерно щепетильного человека. Сместились и слились верх и низ, перед и зад, лицо
и изнанка, но это раскрывается в однотонном трагическом плане. Такова жизнь. Она
преступна по своей природе, если ее утверждать, если упорствовать в ней, если
осуществлять ее кровавые задачи и настаивать на своих правах, следовало бы
покончить самоубийством, но и смерть сомнительна. Но и здесь время от времени
звучат освобождающие тона сатурналий и карнавала. [Для идеолога последних
четырех веков европейской культуры характерна смесь детской наивности с лукавым
шарлатанством, иногда к этому присоединяется своеобразная духовная одержимость.
Любить и жалеть одинокое и покинутое, наивно-жалкое бытие и с беспощадной и
бесстрашной трезвостью всматриваться в окружающую его холодную пустоту.]
Влияние народной хвалы и народной площадной рекламы на жанр «о собственных
произведениях» (рекламирование продукции) и вообще на формы официальной однотонной хвалы.
Основные перипетии как в «Царе Эдипе», так и в «Гамлете» определяются
выяснением вопроса, кто же убил; необходимо найти убийцу, чтобы спасти Данию от
несчастья (чумы); тень отца соответствует оракулу.
54
К «Макбету»14
«fair is foul and foul is fair» (прекрасное — дурно, а дурное — прекрасно). (Действ. I,
Дополнения и изменения к «Рабле»
55
сцена I, заключительное двустишие — первая его строка — ведьм).
Боденштедт замечает, что слово « Ь 1 о о d у » (кровавый) встречается
почти на каждой странице «Макбета».
Сцена 3 (диалог ведьм): 1-ая ведьма: где ты была, сестра? 2 ведьма: душила свиней.
3 в<едьма>: сестра, откуда ты? 1 в<едьма>: у жены моряка были каштаны в переднике,
она чавкала (mounch'd), чавкала, чавкала. — «Дай мне», — сказала я. — «Убирайся,
ведьма», — крикнула туша, откормленная огузком. Муж ее отплыл в Алеппо
капитаном Тигра, а я поплыву бесхвостой крысой за ним в решете. Поплыву, поплыву,
поплыву! ...Я иссушу его, как былинку; сон не отяготит его век ни днем, ни ночью.
Будет он жить проклятым человеком. Девятью
девять недель будет он чахнуть, хиреть и томиться.......
Смотрите, что у меня!...... Большой палец матроса, утонувшего, когда он
возвращался домой. Все три: Рука в руку, роковые сестры, что разносят гибель по земле и по морю. Кружитесь, кружитесь! Трижды тебе и трижды мне и трижды еще,
чтобы вышло девять...
Макбет, входя, говорит (та же 3-я сц.): « S о foul and fair а day I have not
seen» (такого плохого и прекрасного дня я никогда не видал).
Сц. 4: Кавдорский тан, по словам Малькольма, умер спокойно «as one that has been
studied in his death» (как человек, который изучил смерть). Изучение уничтожает страх.
Сц. 4: Слова Дункана: «я начал тебя садить и буду работать, чтоб ты пополнел от
роста» (обращение к Макбету).
Слова Банко в ответ на объятия Дункана: «если я вырасту здесь (т. е. на груди
Дункана), то жатва будет ваша».
Слова Дункана: «моя полная радость, своевольничая от избытка, хочет скрыться под
каплями печали» (амбивалентность).
Его же слова о Макбете: «in his commendation I am fed. It is a banquet to те» (хваля
его, я питаюсь; это пир для меня).
Дополнения и изменения к «Рабле»
55
Непристойные шутки привратника (шута) в 1-ой сц. II-Го действия непосредственно
следуют за трагической сценой убийства Дункана; это — надгробные шутки. В «Ромео
и Джульете» после мнимой смерти Джульеты в ее комнате появляются музыканты и
шутят в присутствии тела умершей.
1 i е — лгать и 1 i е — лежать; у Шекспира обычная игра слов с этими омонимами.
Действие III, сц. 4: слова Макбета к призраку Банко: во избежание восстания
мертвецов из могил, он желает им быть исклеванными коршунами и орлами, которые,
скрыв в себе их тела, сделаются для них как бы надгробными монументами.
Д. IV, сц. 3: Малькольм: «I should pour the sweet milk of concord into hell» (я вылил бы
сладкое молоко мира в ад).
Там же Макдуф о благочестии матери Малькольма: «She died every day she lived»
(она умирала каждый день, пока жила).
Макбет занимает место живого (как он думает) тана Кавдорского. «Но тан Кавдора
жив!., зачем же облекаете меня в чужую вы одежду?»
Он хотел бы, чтобы венец достался ему без его активности (неизбежно преступной).
По поводу устранения Малькольма (как законного наследника) он говорит:
Поступков злых невольно глаз боится...
(Иван Карамазов)
55
Но если б мог поступок сам свершиться!
Призрак Банко занимает место Макбета на пиру. Через всю трагедию проходит
борьба живого с мертвыми, чье место в жизни занимает живой.
В образах (сравнениях, метафорах и др.) Шекспира всегда даны оба полюса — и ад и
рай, ангелы и демоны, и земля и небо, жизнь и смерть, и верх и низ (они амбивалентны
тематически, но не по тону); они топографичны; они космичны, в их игру вовлекаются
все стихии мира, вся вселенная. Образ у Шекспира всегда чувствует под собою ад, а
над собою — небо (т. е. действительную топографию сцены), он глубоко топографичен
и пределен. Сравнения его или материализуют-отелеснивают (телесная топография)
или окосмичивают (мировая топография) явле
Дополнения и изменения к «Рабле»
ние, раздвигают его до пределов мира, от полюса до полюса, игру их сводят к игре
стихий (как у Эсхила), все малое они раздвигают до большого, предельного (в отличие
от сравнений, где оба члена одинакового размера). Примеры:
Макдуф: Вставайте все! стряхните ваш На смерть похожий сон: здесь перед вами
Сон смерти настоящей! Образ верный Последнего суда! — Малькольм и Банко! Зову я
вас, как мертвых из могил. Чтоб с лицами, страшнейшими чем лица У Мертвецов,
явились вы сюда Смотреть на этот ужас! («Макбет» Д II, сц, 1).
Макбет: О, если б умер
За час я перед этим — встретил я
Тогда бы смерть с восторгом].. Что же верно,
Что свято после этого.' Весь мир
Один обман!., (там же)
Леди Макбет
Приди, о ночь! — обволоки себя
Чернейшей адской мглой, чтоб острый нож
Мои не видал готового удара
И чтоб прорвать завесу тьмы не мог
Небесный свод внезапным громким криком:
«Остановись!..» (Д I, сц. 5).
Макбет Смерть его
Должна наполнить громким звуком трубы Архангелов, чтобы проклясть навек
Вскочивший на ретивого коня, Иль херувим, несущийся по вихрю, Поступок бросит
страшный мой в глаза Вселенной всей и сделает, что слезы. Пролившись хлябью волн,
в себе потопят Тот вихрь и ураган!.. (Д I, сц. 7).
Макбет Теперь полмира
Объято сном, как смертью; злые грезы
Тревожат сон людей....
... Не выдай же, земля.
Моих шагов, куда бы их направить
Ни вздумал я!.. Не возопите, камни.
От ужаса.......
Будь глух, Дункан! не слушай этот звон.
В рай или в ад тебя отправит он!... (Д И, сц. 1).
Леди Макбет говорит, что она сама бы убила Дункана, если бы во сне он не был так
похож на ее о т ц а .
56
Дополнения и изменения к «Рабле»
56
57
Бывают эпохи, когда дети угнетают и убивают отцов (ренессанс, наша), и эпохи,
когда, наоборот, отцы угнетают и умерщвляют детей (все авторитарные эпохи).
Через всю трагедию проходит также игра: жизнь — сон — смерть.
Макбет в Д. V, сц. 3 предлагает врачу вылечить государство и сунуть нос в мочу
государства.
1И а к 6 с т : Поздней бы должно
Elfi умереть! Для этаких известии
Всегда найдется время! — Завтра, завтра!..
Все завтра без конца, н так плетется.
Чуть видным шагом, время до минуты,
Когда сказать придется нам: «прощай»
Всему, что было — н глупцы не видят,
Что все, чем занимались мы вчера,
Служило только факелом, светившим^
В пути к могиле нам!.. Прочь, глупый факел!..
Довольно ты горел! Вся наша жизнь —
Пустая тень! актер, что корчит рожи
На гаерских подмостках!.. Минет час
И нет его! Жизнь — сказка, что бормочет
Глупец другим глупцам!.. Из всех он сил
Старается занять их, иль встревожить.
И ничего в конце не выйдет, кроме
Глупейших пустяков. (Д V, сц. 5).
Эти и подобные обобщения касаются не только жизни преступника, а всякой
человеческой жизни.
В известной мере «Макбета» можно назвать и трагедией страха (страха,
свойственного всему живому). Нет обеспеченности в жизни, нет спокойного (и
вечного) обладания. Всякая активность преступна (в пределе это всегда убийство).
Идеал — внутриутробное состояние.
К «Отелло»
Ночь с адом сговорится, Чтоб мог на свет скорее он (план Яго) родиться. (Д. I, сц. 3).
В разговоре Дездемоны с Яго о женщинах Яго дает образ женщины в духе
готического реализма (но без положительного полюса). Снижающие сравнения в речи
Яго. «Кажется губы с руками опять складываются в поцелуй». «Желаю твоим пальцам
(Кассио в момент свидания с Дездемоной, подозревая поцелуй — губы и руки) быть
клистирными наконечниками» (Д. II, сц. 1).
Дополнения и изменения к «Рабле»
57
О т е л л о Как я дивлюсь, как счастлив я, что вижу
Тебя уж здесь!.. Блаженство моих дней!..
Когда б всегда нас ждал, за бурным вихрем,
Такой покой — пусть пробудил бы ветер
Смерть яростью! пусть мои корабль взлетал бы
До облаков] пусть до вершин Олимпа
Плескали б хляби вод и вновь свергались
До глубины, на столько же далекой
От неба как и ад].. О, если б смерть
Пришла теперь сразить меня — сказал бы
Я ей в лицо, что умираю в самый
57
Блаженный миг].. (Jt И» сц. 1).
Яго говорит о том, что англичанин перепьет всякого (амбивалентная хвала). (Д. II,
сц. 3.)
Снижающие шутки музыкантов в начале IIIго действия: место духовым
инструментам под хвостом.
В речах трагических (высоких) героев (наприм<ер>, Отелло) преобладают образы
космической топографии (земля, небо, ад, рай, жизнь, смерть, ангел, демон, стихии); в
речах же шутов (привратник в «Макбете») и таких героев, как Яго, преобладают
образы телесной топографии (лицо — зад, совокупление, зверь о двух спинах, еда,
питье, постель, испражнение и т. п.), т. е. снижающие образы.
Проблема жеста в Шекспировском театре. На сцене, топографичность которой
ощущается, жест неизбежно сохраняет какую-то степень топографичности
(символичности), так сказать, показывает на верх и низ, на небо и землю (как при
клятвах, вообще при ритуальных жестах), экспрессивный (в нашем смысле)
психологический жест вписан в оправу топографического жеста (ведь и слова
облекают переживания героя в топографические образы, а не в поясняющие сравнения
в новом духе); ведь и комната (дворец, улица и т. п.), в которой действует, жестикулирует герой, не бытовая комната (дворец, улица), ведь она вписана в оправу
топографической сцены, она на земле, под нею ад, над ней небо, действие и жест,
совершаясь в комнате, совершаются одновременно в топографически понятой
вселенной, герой все время движется между небом и адом, между жизнью и смертью, у
могилы. Бытовая реалистическая декорация стирает все следы топографичности, в ее
условиях шекспировский жест вырождается, а словесные топографические образы
начинают звучать почти комически. Топографический жест особенно ясен в
Дополнения и изменения к «Рабле»
58
комическом (смеховом) театре и до сих пор еще жив в балагане и на цирковой арене
(в ином плане — в церкви); спуск комических героев в преисподнюю.
В топографических сравнениях и образах Шекспира мы прощупываем логику клятв,
проклятий, ругательств, заклинаний, благословений.
О т е л л о : Когда ее
Ты оболгал!.. Когда такую пытку
Зажег во мне — так не молись же больше!
Забудь на век, что совесть есть в сердцах!
Твори дела, каких страшней и хуже
На свете нет] Как горы громозди
Ряд ужасов! Заставь заплакать небо
И вздрогнуть шар земной] — Ты не прибавишь
Ни атома к жестокому проклятью,
Какое ждет тебя! (Д III, сц, 3).
О т е л л о О, для чего не сорок тысяч жизнен Дано мерзавцу атому! — одной,
Чтоб мстить ему, мне мало!.. Правда все!.. 0 0
Сомнений нет! Взгляни сюда: подул оаклинаЮЩИИ жест
На воздух я — исчезла с этим вздохом
Моя любовь] Месть черную зову я
Из адских недр] Пусть свой венец и трон
Любовь отдаст неукротимой злобе!
Грудь разорвись].. Гнетешь меня ты ядом
Змеиных жал!.. (Там же)
58
Эмнлня: Не в год, не в два узнаем Мужчину мы' Ведь мы для них лишь корм!
Готовы съесть они нас с голодухи, А сыты раз — так палец в рот и вон! (Д III, сц 4).
Отелло
О, дьявол! Если б стала Беременной земля от этих слез, То каждою
слезинкой в ней бы зачат Был крокодил! (Д IV, сц 1).
О т е л л о Что сделала? — На небе отвратят
От дел таких лицо! Луна сокроет
От них свой взгляд!.......... (Д IV, сц 2).
О т е л л о Преддверница, что занимаешь должность
Обратную со стражем райских врат —
Стоишь у адской двери ты., (к Эмилии) (там же)
О т е л л о Ов пытки час! час мук невыразимых!
Покрылись тьмой и солнце и луна
В глазах моих!.. Дрожит весь мир].. Готов
От ужаса распасться он в обломки] (Д V, сц 2).
Отелло
Сюда, сюда, рой демонов] гоните Меня от глаз небесной чистоты!..
Пусть буду я развеян бурным вихрем]
Дополнения и изменения к «Рабле»
59
В поток огня низвергните мой прах! Туда, туда! в поток горящей серы! Где дым и
смрад... Мертва ты Десдемона! Мертва!., мертва!.. О!... (Д V, сц 2).
Трагедия необеспеченности, сомнения, страха возможности (возможность,
отравляющая действительность; доверие-недоверие к человеческой природе).
Рождение
и
формирование
нашего
экспрессивно-психологического
индивидуального жеста. Он развивался по мере потускнения и стирания
топографических координат действия и жеста, по мере превращения словесных топографических образов в условные речевые штампы (с соответствующей модерацией их,
смягчением). Ставший речевым штампом словесный топографический образ утрачивает всякую связь с конкретным топографическим жестом и даже с самым
представлением о таком жесте; еще раньше утрачивается амбивалентность образа и
жеста (штампы топографического верха живут в официальных, высоких пластах речи,
а связанные с ними выражения топографического низа сохраняются только в
фамильярных пластах). Например, «на небе отвратят от дел таких лицо» — здесь
двойной топографический образ (что весьма обычно): небо — космический верх и л и
ц о — телесно-топографический верх; «отвратить лицо», «отвернуться от человека» —
один из наиболее устойчивых топографических жестов (живущий еще и поныне); ему
соответствует жест показывания зада (или предложение поцеловать в зад) или
смягченный жест — повернуться спиной. Жест телесного низа жив до сих пор в фамильярном общении, особенно в форме показывания кукиша (т. е. фалла, телесного низа);
в официальном же быту сохранилось только требование «вежливости» — не садиться
спиной к другому человеку (т. е. не отвращать от него лица, не показывать ему зада);
но в высоких официальных сферах речи сохранился отрешенный от жеста (и даже от
всякого представления о жесте) речевой штамп «отвратить лицо», «отвернуться».
Нужно вообще сказать, что в низших пластах фамильярного общения еще живы и ярки
топографические жесты телесного низа, и потому эти пласты представляют громадный
научный интерес. Их же высокие амбивалентные дополнения остались лишь в обедненной и редуцированной форме речевых штампов офици
Дополнения и изменения к «Рабле»
59
альной речи. У Шекспира словесные топографические образы и жесты распределены
между героями и персонажами высокого и низкого (шутовского) плана и иногда между
59
разными состояниями одного и того же героя, переходящего из одного плана в другой.
Так, топография космического (и отчасти телесного) верха господствует в речах и
жестах Отелло, Дездемоны, Кассио, — топография же телесного низа у Яго, Эмилии и,
конечно, у шутов. Но когда Отелло охвачен «безумием» ревности (традиционное
прохождение героя-солнца через фазу затмения и временной смерти-безумия), когда
образ Дездемоны в его воображении переходит из высокого космического плана
небесной чистоты, рая и ангела в план телесного низа — развратницы («ложь» и
«лежание»), его речь (и его жесты) наводняется образами телесного низа и временами
сближается с речью Яго. Мы наблюдаем это и у Лира в стадии «безумия», где он переходит на роль короля-шута. Особенно интересно проследить это на образе Гамлета: в
состоянии фиктивного безумия мир раскрывается для него в аспекте телесного низа,
образы которого сочетаются в его речах с сохраняющимися образами высокой
топографии (восстановление амбивалентности).
Поблекли и стерлись топографические координаты действия, слова и жеста, они
оказались в плотном (непроницаемом) бытовом и отвлеченно-историческом плане,
сквозь который перестали просвечивать пределы и полюсы мира. Сохраняющиеся
топографические элементы (низы и верхи, переды и зады) становятся относительной и
условной, неощущаемой формой. Действие, слово и жест получают практическибытовое, сюжетно-прагматическое и отвлеченно-историческое (рациональное)
осмысление, но главным и решающим становится их экспрессивное осмысление: они
становятся выражением индивидуальной души, ее внутренних глубин. Если раньше
жест воспринимался, «читался» экстенсивно в отношении к конкретным (и зримым)
топографическим пределам и полюсам мира, между которыми он был простерт,
вытянут (он показывал на небо или на землю, или под землю — в преисподнюю,
показывал перед или зад, благословлял или уничтожал, приобщал жизни или смерти;
см. характеристику сюжета «Фауста» у Гете15), если, читая его, наш
Дополнения и изменения к «Рабле»
60
глаз должен был двигаться от полюса к полюсу, от предела к пределу, чертя,
вычерчивая топографическую линию, осевые координаты жеста и человека, локализуя
действующего и жестикулирующего с его душою в целом мира, то теперь жест
читается интенсивно, т. е. только в отношении к одной точке — самому говорящему,
как более или менее глубокое выражение его индивидуальной души; самая же эта
точка — говорящая жестом душа — не может быть локализована в целом мира, ибо
нет (осевых) координат для ее локализации. Единственное направление жеста — к
самому говорящему, место же самого говорящего в последнем целом мира непосредственно, зримо не определяется жестом (линия его ведет внутрь, в глубины
глубин его индивидуальной души), если это последнее целое и предполагается, то оно
опосредствовано сложным мыслительным процессом, рукой его не покажешь (что
именно и делал топографический жест). Непосредственно и зримо локализуется и
осмысливается жест и положение, место человека лишь в ближайшем целом —
семейно-бытовом, жизненно-сюжетном, историческом; он в большинстве случаев
далек от полюсов жизни и смерти (отодвинут от них обычным, благоустроеннобезопасным бытом штатского буржуазного человека 19го века). Типичность
экспрессивного комнатного жеста, что-нибудь вроде дрожания руки, раскрывающей
портсигар и достающей папиросу: типично именно сочетание бытовой практической
осмысленности с индивидуальной внутренней экспрессивностью жеста, причем
последняя, как всякая субъективность, раскрывается именно в нарушениях,
отклонениях жеста от нормального (практически целесообразного, практического,
технического) пути, в его торможениях и ошибках.
60
Эта внутренняя интенсивность индивидуальной души ищет новых интенсивных же
координат в этом новом бесконечно осложненном, временно и пространственно относительном мире. Предельная глубина внутреннего, говоря словами Августина, internum
aeternum человека16, у Достоевского снова оказывается на топографической мистерийной сцене (своеобразный этап этого пути у Гоголя). За комнатами, улицами,
площадями, несмотря на их сгущенную
реалистическую
типичность,
снова
сквозят
Дополнения и изменения к «Рабле»
61
(просвечивают) полюсы, пределы, координаты мира. Каждое действие, слово, жест
исполнены напряженной предельности. При анализе топографических образов
— мифических и народно-праздничных — все время учитывать воплощенный в них
родовой страх и преодолевающий его смех.
Гнусливый голос неаполитанских инструментов в «Отелло» (Д. III, сц. 1) — аллюзия
шута на сифилис.
W г е t с h — «девчонка» — бранное для женщины
— слово употребляется одновременно в уменьшительно-ласкательном смысле.
«Have you scored те» — дословно — «так вы меня сосчитали» — значит —
покончили со мной, схоронили меня17.
Комната Раскольникова, такая типичная петербургская комната в таком
типичнейшем петербургском доме, — это
— гроб, в котором Раскольников проходит через фазу смерти, чтобы возродиться
обновленным. Сенная площадь, улицы — все это — арена борьбы бога с дьяволом в
душе человека; каждое слово, каждая мысль соотнесены с пределами, с адом и раем, с
жизнью и смертью. Но характерно, что жизнь и смерть здесь даны исключительно во
внутреннем плане, касаются только души, физическая гибель никому (из главных
героев) не угрожает, борьбы между жизнью и смертью в земном плане здесь вовсе нет;
живут герои в мире вполне безопасном. Но как проблемны эти полюсы и координаты,
определяя человека, они сами нуждаются в определении, они сами втянуты в борьбу
(требуются какие-то координаты координат).
и мя и прозвище18. Для имени характерна неосознанность его этимона; корни имен
не принадлежат к живым языкам и значение их не может ощущаться. Расшифровки
греческих или древнееврейских (реже — старославянских) корней имени дают
однотонные и односмысленные прославляющие характеристики («мужественный»,
«победитель», «славный» и т. п.). Но, конечно, не этим значением определяется выбор
и эмоционально-смысловая окраска имени, а характером того святого, который
освятил и канонизовал это имя, или того лица (отца, деда, вообще предка, друга,
исторического деятеля), в честь или в память которого выбрано данное имя (самый
Дополнения и изменения к «Рабле»
61
выбор чаще всего определялся по святцам датой рождения; см. замечательный по
глубине амбивалентный образ выбора имени для рожденного человека у Гоголя,
«Шинель»). Имя может получить эмоционально-смысловую окраску независимо от
всего этого по своему звуковому образу («красивое» имя), обычно по сходству с
какими-либо звуковыми образами родного языка (иногда, наоборот, иностранного). По
звуковому сходству с каким-либо словом родного языка имя может получить характер
прозвища, переродиться в прозвище (например, имя Акакий («какать») связано по
звуку с образом материально-телесного низа (испражнения), также Хоздазад). См.
имена Видоплясова, снижение имени (фамилии) в материально-телесный низ путем
подбора соответствующей рифмы у Достоевского (недопустимость произвольного
61
выбора имени). Все это — эмпирика имени, она различна у разных народов, в разных
культурах и исповеданиях, за которой встают более существенные философские
проблемы имени. Собственное имя (человека, города, страны и т. п.) является наиболее
глубоким и существенным выражением (по своей функции, конечно, а не по эмпирике
своего
конкретного
происхождения)
прославляющих,
хвалебных,
чисто
благословляющих, уточняющих (увековечивающих) начал языка. Оно связано с
рождением, началом, и благословляет на жизнь, и оно связано со смертью и приобщает
памяти (в пределе — вечной памяти). Его сущность — благословение и хвала. С
другой стороны имя выделяет, индивидуализует и одновременно приобщает к
традиции (роду, истории), связывает, укореняет, приобщает индивидуальному же, но
объемлющему целому рода, нации, истории, целому чисто положительному, чисто
хвалебному, прославляемому (к божьему миру). Имя по сущности своей глубоко
положительно, это — сама положительность, само утверждение (назвать — утвердить
на веки вечные, закрепить в бытии на всегда, ему присуща тенденция к нестираемости,
несмываемости, оно хочет быть врезанным как можно глубже, в возможно более
твердый и прочный материал и т. п.), в нем нет ни грана отрицания, уничтожения,
оговорки (особая сторона имени — это «я» в чужих устах, я для другого в
положительном аспекте). Поэтому вокруг имени сосредоточиваются все положительные, утверждающие, хвалебно-прославляющие фор
Дополнения и изменения к «Рабле»
62
мы языковой жизни (оно глубоко эпично, с другой стороны и эпос (также трагедия)
не могут быть анонимными или псевдонимными или неисторичными, т. е. о заведомо
вымышленном, типическом, только возможном лице, как роман). Если что-либо
отрицается, должно быть уничтожено, то прежде всего нужно забыть, нужно
вычеркнуть из списков бытия его имя. Так Август в своих «Gestа» не называет имен
своих врагов, врагов народа и государства. Пока сохраняется имя (память), сохраняется
(остается) в бытии именуемый, продолжает еще жить в нем. Поэтому так страшны
всякие посягательства на имя (на «доброе имя», шутки с именем и т. п.). Отсюда и
всякие виды табу, связанные с именем (вплоть до живого и в наши дни запрета
«nomina sunt odiosa»). Это исключительное значение имени в жизни языка, как
предельного хвалебно-прославляющего полюса этой жизни, определяет и объясняет
такие явления, как локальные именные мифологемы (см. их пародирование у Рабле),
как прославляющая игра с именами, лежащая в основе хвалебных од Пиндара, такие
явления, как мистика имени и имен, как в той или иной степени мистически
окрашенные философии имени, такие явления как имяславие и т. п.
В противоположность имени прозвище тяготеет к бранному, к проклинающему
полюсу языковой жизни. Но подлинное прозвище (как и подлинное ругательство)
амбивалентно, биполярно. Но преобладает в нем развенчивающий момент. Если
именем зовут и при зывают, то прозвищем скорее прогоняют, пускают его вслед, как
ругательство. Оно возникает на границах памяти и забвения. Оно делает собственное
нарицательным и нарицательное собственным. Оно по-особому связано с временем:
оно фиксирует в нем момент смены и обновления, оно не увековечивает, а
переплавляет, перерождает, это — «формула перехода». Оно, как и имя, связано с
рождением и смертью, но оно их сближает и сливает, превращает колыбель в гроб и
гроб в колыбель. Оно делает прозываемого определенным, исчерпанным, разгаданным
и больше ненужным («пора на смену»). (Разгадывание прозвища в сказке приводит к
гибели разгаданного.) Имя связано с топографическим верхом (оно записано на небесах, оно связано с лицом человека); прозвище связано с топографическим низом, с
задом, оно пишется на спине
62
Дополнения и изменения к «Рабле»
человека. Имя освящает, прозвище профанирует; имя официально — прозвище
фамильярно. Прозвище в известном смысле типизует прозываемого, имя никогда не
может типизовать; страх, мольба, преклонение, благоговение, пиетет и
соответствующие им языковые и стилистические формы тяготеют к имени; имя
серьезно и в отношении к нему всегда существует дистанция; ослабление дистанции
есть уже начало перерождения имени в прозвище; поэтому словесные формы ласки,
если в них есть момент интимности, а тем более фамильярности, не совместимы с
именем: уменьшительно-ласкательные формы собственных имен есть уже выход
имени в иную сферу языковой жизни, начало перерождения его в прозвище (-кличку);
имя втягивается в зону контакта и перерождается в ней; подлинно интимная и
фамильярная ласка пользуется не уменьшительными именами (в них сохраняется еще
некоторая степень официальности и, следовательно, дистанция), а создает свои особые
прозвища-клички (от названий предметов, частей тела и др.) в умень-ш<ительной>
форме (амбивалентные) и очень часто пользуется для этого ругательствами. Имя
эпично: в эпосе Гомера — только имена и к ним чисто прославляющие
(утверждающие) постоянные эпитеты; в поэме «Война мышей и лягушек» — только
прозвища с отчетливо осознанным этимоном (также в «Маргите»). Прозвище связано с
настоящим и с зоной настоящего. В романе (и во всех профанирующих и работающих
в зоне контакта жанрах) нет имен: здесь либо типические фамилии, либо фамилии
прозвищного типа — Обломов, Раскольников и т. п., либо прямо прозвища —
Лебеэятников, Лужин, или аллюзии на действительные фамилии (Болконский, Друбецкой), этим им придается момент типичности и заведомой вы мы тленности;
заведомо и открыто вымышленный персонаж не может иметь имени, ведь имя его
приобретает оттенок чего-то типического, характерного, своеобразного, это уже не
имя, а название персонажа. Во всех этих явлениях имя переходит в иные сферы
языковой жизни, приобретает иные функции, начинает стремиться к пределу прозвища
или названия (нарицательного). Момент отрицания, уничтожения, умерщвления в
прозвище: оно метит в ахиллесову пяту прозываемого. Оно не благословляет на жизнь
и не приобщает к вечной памяти, но посылает в
63
Дополнения и изменения к «Рабле»
63
телесную могилу для переплавки и нового рождения, это как бы особый штемпель
изношенности и брака.
Благословляющий и топографически высокий жест поэтической метафоры (вообще
тропа), она приобщает к высшему, и она дистанциирована. Первофеномен поэтического слова — имя. Первофеномен слова прозаического
— прозвище. Свойственная поэтическому слову тенденция к увековечиванию,
прославлению, связь с памятью. Увековечивание имени, слава имени как основной
центр прославляющих и увенчивающих энергий словесной жизни. Можно сказать
грубо и упрощенно так: если слово лишено непосредственных практических коммуникативных целей, т. е. если оно не исчерпывается своей непосредственной службой
действию, то ему остается только либо прославлять (хвалить), либо ругать
(проклинать) мир и его явления.
Каждому слову официальной сферы соответствует слово-прозвище вульгарной
фамильярной сферы.
Наша, европейская, теория литературы (поэтика) возникла и развивалась на очень
узком и ограниченном материале литературных явлений. Она слагалась в эпохи стабилизации литературных форм и национальных литературных языков, в эпохи, когда
63
большие события литературной и языковой жизни — потрясения, кризисы, борьба и
бури
— были уже давно позади, когда самая память о них уже изгладилась, когда все уже
утряслось и отстоялось, отстоялось, конечно, только в самых верхах официализованной литературы и языка. Место Аристотеля, Горация, Буало, позитивного
литературоведения 19го в. Литературная жизнь таких эпох, как эллинизм, позднее
Возрождение (конец ренессанса и начало барокко), не могла найти отражения в теории
литературы. Она слагалась в эпохи преобладания поэзии (в официализованных верхах
литературы), в эпохи, когда Шекспир был дикарем и варваром, Рабле и Сервантес —
литературой для занимательного (легкого) чтения масс (и детей). Романтики
(расширение ими пространственного и временного кругозора литературоведения очень
значительно) по существу мало могли изменить это положение вещей. За порогом
канонизованной литературы с ее жанровой системой всегда, а особенно в такие эпохи,
как эллинизм, позднее средневековье, раннее барокко, существует масса, так сказать,
неприкаянных
Дополнения и изменения к «Рабле»
64
жанров (в большинстве своем мелких, но не только мелких). Это — либо обломки,
либо зачатки. Взаимоотношения между ними своеобразны.
Вся, всё и все втягивались в сферу фамильярного
общения.
Разрушение
иерархической дистанции в отношении мира и его явлений.
Итальянские поэты XIV века (современники Данте).
Фольгоре да Сан Джиминиано: народный простой язык (полемика с ученой
поэзией), воспевал любовь, наряды, еду, напитки, любовь.
Чекко Анджольери: из биографических фактов характерна его ненависть к
родителям и благочестивому укладу родного дома: его стихи насыщены радикальнейшим бунтарством, организующую роль в них играют проклятие и брань,
отвращение ко всему официальному, ко всякому порядку. Бранные вызовы миру и
всему человечеству (универсалиям): он все хотел бы спалить и уничтожить
(карнавальным огнем). Его основные темы: женщины, кабак и кости. Традиции
вагантов в его поэзии.
Еретическая культура итальянских городских коммун. В ней есть существенный
момент внеофици-альности. Громадная историческая роль этой еретической культуры.
Высший (или — точнее — низший) предел этой еретической культуры —
народная карнавальная площадь.
Данте о вульгарном языке в «Пире»: «Это — ячменный хлеб, которым будут
насыщаться тысячи... Это будет новый свет, новое солнце, которое взойдет тогда,
когда закатится старое. Оно будет светить тем, кто находится во мраке и в потемках,
ибо старое им не светит»19.
В латинском трактате «Об итальянском языке» Данте исходит из различения языка
«условного» (латинский) и живого народного. Он ставит, далее, вопрос, какой
итальянский volgare нужно считать литературным или «высоким» (собственно
«придворным») volgare: это язык, переработанный под влиянием сицилийской придворной традиции Гвидо Гвиничелли20, Гвидо Кавальканти, Чино да Пистойя и им
(Данте). Это — первый в Европе лингвистический трактат, и его тема: выбор языка,
взаимоориентация языков и диалектов. Определение языка истинного.
Дополнения и изменения к «Рабле»
64
Вокруг каждого великого писателя создаются народные карнавальные легенды,
переряживающие его в шута. Так, Пушкина эти легенды превращали в придворного
64
шута Балакирева. Существует даже карнавальный Данте. Ряд анекдотов о нем: как он
разбросал инструменты у кузнеца, перевиравшего его стихи, как он назвал «слоном»
докучавшего ему почитателя. Ряд анекдотов изображает его саркастические ответы
Кан Гранде (т. е. превращающие его в род шута при тиране). Многие анекдоты о Данте
Поджио Браччьолини включил в свои «Фацетии»21.
Мотивы загробных хождений есть и у Лукиана, у Стация, у Овидия.
Слова Гейне из одного из его автобиографических произведений:
«Если, читатель, ты хочешь сетовать на разлад, то сетуй на то, что мир сам
раскололся надвое. Ведь сердце поэта — центр мира, поэтому оно с воплем должно
было разбиться в наши дни. Кто кичится тем, что его сердце остается цельным, тот
признает, что у него прозаическое обособленное сердце. Через мое же сердце прошла
великая трещина мира, и потому я знаю, что великие боги щедро одарили меня
милостями перед другими людьми и удостоили меня мученического ореола поэта. Мир
был цельным в древности и в средние века, тогда и поэты были с цельной душой. Но
всякое подражание им в наше время — это ложь, которая ясна всякому здоровому
взору и которая не может поэтому уйти от насмешки».
Гейне о своей юношеской драме «Ратклифф» пишет: «На очаге честного Тома в
«Ратклиффе» закипает уже великий «суповой вопрос», который ныне размешивает
ложками тысяча плохих поваров и который ежедневно, накипая, бежит через край.
Изумительный счастливчик-поэт, он видит дубовые леса, которые еще дремлют в желудях, и он ведет диалоги с поколениями, которые еще не родились».
«Лирическое интермеццо» Гейне. Оно было названо так, потому что было издано
между двумя драмами («Альманзор» и «Ратклифф»). В письме к издателю (Дюммлеру
в Берлин) он характеризует их, как «крепкий цикл юмористических писем в народном
духе».
Дополнения и изменения к «Рабле»
65
В письме к Мозеру Гейне пишет: «Моя душа — гуттаперчевая, она часто
растягивается до бесконечности, и часто сокращается до крошечных размеров». К
теории фамильярного образа (сравнения); движение не к имени, а к прозвищу (ср.
«Мою любовь, широкую, как море»).
В 1830 г. в Вандсбеке Гейне увлекается чтением «Тьера и милосердного господабога» (т. е. увлекается историей французской революции и библией). Здесь —
профанирующая фамильяризация имен, превращающая их в прозвища.
Гейне на Гельголанде получил известие о революции 30го года:
«То были солнечные лучи, завернутые в газетную бумагу, и они произвели в душе
моей самый дикий пожар. Мне казалось, что я мог зажечь весь океан до Северного
полюса тем огнем вдохновения и безумной радости, который пылал во мне...» (к
теории фамильярного образа в зоне контакта).
Александр Дейч «Гейне»:
«Поистине хаотичность «Атты Тролля» вполне оправдана подзаголовком «Сон в
летнюю ночь», где наряду с благовестом
часовни
звучит звон погремушек
шутовского колпака:
Это мудрое безумье\ Обезумевшая мудрость] Вздох предсмертный, так внезапно
Превращающийся в хохот!..
Недаром критики любят сравнивать эту сатиру Гейне с большими фантастическими
комедиями Аристофана, а Брандес прямо утверждает, что со времен классической
древности не рождалось еще поэта, обладавшего более сходным умом с Аристофаном,
чем Гейне. «Глубина бесстыдства и полет лирики» — вот основные сходства
сатирической поэзии Гейне и Аристофана, по мнению Брандеса.
65
Действительно, силою своей фантазии Гейне, подобно Аристофану, выворачивает
мир
наизнанку,
смешивает
границы
логичного
с нелогичным
Гейне
пользуется романтикой как
Дополнения и изменения к «Рабле»
оружием, но это не мешает ему сокрушать эту романтику, взрывать ее изнутри.
Поэтому удары, нанесенные Аттой Троллем, достались и немецкому либерализму, и
мелкобуржуазному радикализму, и «политической поэзии», и тевтонствующей
глупости — но заодно и романтике.
(Стр. 167).
Роль оксюморных словосочетаний (однопланных и двухпланных) в поэзии Гейне.
Проблема комической фантастики (проблема «менипповой сатиры»). В предисловии
к «Германии» Гейне говорит, что звон погремушек юмора кое-где сглаживает
серьезные тона, а фиговые лист-к и , прикрывавшие наготу кое-каких мыслей, в нетерпении сорваны поэтом.
Heinrich Heines Briefwechsel hg. von Friedrich Hirth, München, 1914—1920, Bd. 1—3.
G. Karpeles. Heinrich Heines Memoiren. Berlin, 1909.
Herbert Eulenberg. Heinrich Heines Memoiren. Berlin. (Это — сборники
автобиографических материалов).
Сатиры. Перевод и вступительная статья Юрия Тынянова. Л., 1927.
«Германия» Перевод Ю. Тынянова. «Звезда» 1931 г. кн. 1022.
Замечательное высказывание Данте в его «Пире»:
«Ах, если бы владыка вселенной устроил так, чтобы и другие не были передо мною
виноваты, и я не терпел кары несправедливой, кары изгнания и бедности! Ибо было
угодно гражданам прекраснейшей и славнейшей дочери Рима, Флоренции, исторгнуть
меня из сладчайшего ее лона, где я родился и был вскормлен, пока не достиг вершины
своей жизни, и где я хочу от всего сердца с миром для нее успокоить усталый дух свой
и окончить дни, мне отмеренные. И пошел я странником по всем почти городам и
весям, где говорят на нашем языке, чуть не нищенствуя, показывая против своего
желания следы ударов фортуны, которые очень часто и несправедливо ставят в вину
потерпевшему. Поистине стал я кораблем без ветрил и без руля, которого противные
ветры, раздуваемые горестной нуждой, гоняют к разным берегам, устьям и гаваням. И
казался я низким взору многих, которые, быть может, по некоей молве обо мне
представляют меня другим. В мнении этих людей не только была унижена личность
моя, но
66
Дополнения и изменения к «Рабле»
66
потеряли цену и творения мои, как уже написанные, так и предстоящие. Причина
этого (не только в отношении меня, но и в отношении всех), чтобы указать ее здесь
вкратце, заключается в том, что слава, когда приходит издалека, раздувает заслуги
выше действительных размеров, а присутствие уменьшает их больше, чем по
справедливости следует». (Цитирую по А. К. Дживелегову «Данте»)23.
Heines Werke in zehn Bänden Insel-Verlag 1910-1915.
Семитомное издание Ernst Elster (Leipzig 1887-1890 и поел. изд. 1916).
Площадь св. Марка в Венеции. Эта площадь тесна. Между статуей (медной) св.
Федора и крылатым львом св. Марка — место вольности: здесь можно было играть в
кости и в другие запрещенные игры.
Любовь Фридриха Великого к застольным беседам (в «Сан-Суси»).
66
Галилей читал лекции по топографии дантовского ада, измерил форму адской
воронки, пользуясь геометрическими и архитектурно-механическими категориями (эта
работа по поручению флорентийской академии художеств в 1584 г.).
Исключительная любовь Галилея к комическому, притом к гротескному Особенно
он ценил Франческо Берни и Руццанте (Анджело Беалько). Комические хвалы Берни
(блазоны), создавшие целую школу, представители которой прославляли сифилис,
штаны, слюну, различные блюда (колбасу) и овощи. Сам Берни прославил чуму
(болезнь). Подражая Берни, Галилей сочинил в 1589 г. шуточное стихотворение на
тему о тоге (профессорской).
Руццанте — автор деревенских комедий. В 1604 г. Галилей вместе со Спинелли
написал в стиле Руццанте диалог о новой звезде (беседа двух пастухов). Высмеивание
схоластических противников и изложение в шаржированном виде только еще
зарождавшихся идей Коперника.
Диалог Антонио Франческо Донн «Мраморы» (1582 г.). Здесь во втором диалоге
коперниканскую систему защищает шутник (шут) Карафулла, пользующийся самыми
шутовскими и нелепыми аргументами. Интересна эта фигура шута, выступающего с
пропагандой новых революционных идей в науке. Гномический элемент у Бруно.
,1опо.1нсния и изменения к «Рабле»
67
Николай Кубанский и представитель народа и площади, как протагонист его
диалогов.
Высвобождение движения из аристотелевской иерархической системы мира,
релятивизация движения, предполагающая релятивизацию центра мира24.
Слияние хвалы и брани, двутонность слова и образа, — решающий (определяющий)
стилистический фактор. Во всех официальных системах литературы и во всякой (в
какой бы то ни было мере) официализованной речи хвала и брань разъединены и
противопоставлены. Чем дальше от последнего целого, чем ближе к сфере частного и
временного, тем дальше от слияния хвалы и брани.
К анализу «Короля Лира».
Значение мотива безумия. Соломенный венец и соломенный скиптр Лира.
«Смелое сочетание сумасшедшего человека с человеком правды и милости
принадлежит к одному из тех чудес поэзии, какие можно найти только в Шекспире»
(А. Л. Соколовский, т. I, стр. 247)23.
Мотив незаконного сына (не устроенного официальным порядком, не имеющего
законного отцовства).
[Простая и просто любящая душа, не зараженная софизмами теодицеи, в минуты
абсолютного бескорыстия и непричастности поднимается до суда над миром, над бытием и виновником бытия. Эти минуты редки, потому что человеческое сознание
подкуплено бытием. Добро этой судящей души лишено всякого положительного
содержания, оно все сводится только к осуждению бытия, к отвращению. Это голос
небытия, судящий бытие, в нем самом нет ни грана бытия, ибо бытие все отравлено
ложью. Но бытие, раз возникнув, неискупимо, неизгладимо, неуничтожимо;
нарушенную абсолютную чистоту и покой небытия нельзя восстановить. Ни
искупления, ни нирваны. Не дано измерить страдания (оно доступно лишь в чистой
форме; наркоз).
Новый аспект правды. Она никого не осуждает, не разоблачает, не унижает, не
отнимает, не уменьшает, ничего не требует, в ней нет ни грана насилия и серьезности,
она только сияет и улыбается, хотя она и полна милующей жалости. Она —
абсолютная доброта. Элементы насилия и шарлатанства.
Дополнения и изменения к «Рабле»
67
68
Физическая жизнь с любовью вступает в новую сферу бытия. Жизнь получает
признание извне, вне себя. Проблема бессмертия. Ад как жизнь вне любви.]
...Вперед тебе Я больше не отец!.. Навеки будешь Ты мне чужой! Последний варвар,
Скиф Иль людоед, что жадно рвет зубами Труп собственного сына — встретит больше
В моей душе участья и любви, Чем ты, когда-то бывшая родной Мне дочерью!.. (Д I,
сц. 1).
К теории романа. Обзор старейших теорий романа (Юэ и др.), любовь, частные
безымянные сферы истории, роль женщин в истории, восприятие прошлого на уровне
современности.
Изучение пространственно-временной топографии (хронотопа) мира в литературе.
Основные значащие места этой топографии. Художественное значение человек, его
поступок, его слово и его жест приобретают только, когда он находится в одном из
этих мест. За всяким реальным бытовым, местом должно просвечивать его
топографическое место, чтобы оно могло стать ареной существенного художественнозначимого события, оно должно быть вписано в топографическое пространство,
должно быть соотнесено с координатами мира. Наш понимающий глаз совершает
сложное движение от полюса к полюсу, проходящее и через точку говорящего и
действующего. В игру вовлекается весь мир; искусство структурно (в малом повторяется большое). Город, улица, площадь, дом, комната, ложе (кровать, диван),
сидение, порог (дверь, лестница). Проблема порога у Достоевского. Schwellendialog
(немцы вообще терминологичны, им присуща тенденция каждое слово превращать в
термин, т. е. начисто обесстиливать его, французам напротив свойственна тенденция к
имени, даже в термине они пробуждают его метафоричность и его стилистическую
окраску). В области телесной топографии порогу соответствует зона plexus solaris (зона
смеха, агонии, родовых спазм, рыдания, потуг при испражнении), зона кризиса. Всякое
движение в пространстве, всякое перемещение (всего человека, руки при
жестикуляции), кроме своего реального, сюжетного и бытового осмысления (переход
от постели к столу, движение
Дополнения и изменения к «Рабле»
к двери, вставание, переход из одной комнаты в другую и т. п.), имеет всегда
определенное топографическое (иерархически окрашенное) осмысление, это —
перемещение из одной топографической точки в другую (герой или приближается к
рампе, или к заднему плану, приближается к аду или к раю, к порогу и т. п.),
.определяемое топографической структурой сцены и литературного пространства
(даже в быту вставание, выступление вперед или отход назад, слова, произносимые
при входе или при выходе, у двери, на пороге, прощание у порога и т. п.). Этим определяется двойная логика всякого движения и всякого места (всякое движение есть
перемещение топографически полярное). Какие сцены разыгрываются у Достоевского
на пороге (у двери, на лестнице, в передней); особое значение у него всякого
появления, прихода (неожиданного, эксцентричного, т. е. оправданного не
прагматикой сюжета и быта, а чисто топографически). Во всяком сюжете есть реальная
прагматика и топографическая схема. Стол — алтарь — могила. Момент увенчания и
развенчания в топографической схеме сюжета (отсюда верх и низ, перед и зад).
Передний план, задний план, председатель и т. п. топографически-иерархические слова
и выражения. Значение слов перед уходом. Сцены на пороге в «Идиоте» (ожидание —
диалог со швейцаром в швейцарской в ожидании генерала, первое знакомство с
Настасьей Филипповной на пороге квартиры И Волгиных26, покушение Рогожина и
припадок, попытка самоубийства Ипполита на ступеньках террасы и др.). Мы все
отлично ощущаем органичность выбора места (все это не могло бы происходить
68
внутри комнаты). Поклон у порога Кате-рин<ы> Ив<ановны> Мите и др. связанные с
этим события; последнее слово и дело человека перед уходом (завершающий жест). В
связи с этим поставить проблему о границах сознания (сознательности) в
художественном понимании^ (творческом и воспринимающем); попытки свести эту
засознательную топографическую основу образа к мертвой традиции, к пережиткам.
Здесь-то именно и происходит подлинная универсализация образа, отнесение его к
целому мира, преодоление его внеху-дожественной единичности и абстрактной
общности (понятийности, экземплярности, типичности и т. п.). Йн^ дивидуализующая
универсализация; она-то и нуждается в
69
Дополнения и изменения к «Рабле»
69
топографической схеме мира. В основе этой схемы лежит совершенно конкретная
зримая модель мира. Если отмыс-лить эту топографииность, то от подлинной
художественности образа ничего не останется. Современное художественное сознание
опирается на эту топографическую схему образа и не может не опираться на нее, но
само-то сознание (истолковывающее и рационализирующее) осве-щаег сюжетнопрагматическую,
характерологическую,
психологическую,
социальную,
идеологическую стороны образа.
К значению народно-праздничных форм и фамильяри-зации. Оставаясь в пределах
иерархически-стабилизованного официального мира, явление, вещь, человек не могут
раскрыть своих новых сторон, не могут обновиться, в отношении их существуют
неизменные дистанции: к ним не подойдешь ближе, не взглянешь на них с новой точки
зрения; ценностная, иерархическая перспектива мира остается неизменной.
Необходимо выйти за пределы этой системы, необходимо столкнуться с человеком и
вещью во внеофициальном, внеиерархическом плане, вне обычной, серьезной,
освященной колеи жизни. Народно-праздничные фамильяризующие формы и дают эту
плоскость, дают право взглянуть на мир вне признанной правды, вне священного;
праздники освящают профанацию: в этом своеобразная противоречивая природа
народной стороны праздника, праздничное право народной площади, этого
своеобразного утопического мира.
В эпохи великих переломов и переоценок, смены правд вся жизнь в известном
смысле принимает карнавальный характер: границы официального мира сужаются, и
сам он утрачивает свою строгость и уверенность, границы же площади расширяются,
атмосфера ее начинает проникать повсюду (в эти эпохи наблюдается даже
чрезвычайное расширение употребления речевых и жестикуляционных фамильярных
форм: фамильярного « ты», бранных выражений, ослабление всякого этикета, более
фамильярное обращение детей с родителями и вообще взрослыми и т. п.). Характерны
такие явления: Грозный, борясь с удельным феодализмом, с удельно-вотчинной
правдой и святостью, ломая старые государственно-политические, социальные и в
известной мере моральные устои, не мог не
подвергнуться
существенному
влиянию народно
Дополнения и изменения к «Рабле»
праздничных площадных форм, форм осмеяния старой правды и старой власти со
всей их системой травестий, иерархических перестановок (выворачиваний на изнанку),
развенчаний и снижений; не порывая со звоном колоколов, он не мог обойтись и без
звона шутовских бубенчиков; даже во внешней официальной стороне организации
опричнины были элементы этих форм (вплоть до карнавальных атрибутов внешности,
метла, например), внутренний же быт опричнины носил явно экстерриториальный
карнавальный характер. Позже, в период стабилизации, опричнина не только была
69
ликвидирована и официально дезавуирована, но проводилась борьба с самым духом ее,
враждебным всякой стабилизации. Еще ярче все это в эпоху Петра: звон шутовских
бубенчиков здесь совершенно заглушает колокольный звон (в отличие от Грозного,
Петр к этому последнему не только равнодушен, но и враждебен). Дело не только в
широчайшей культивации Петром форм праздника глупцов, развенчания и шуточные
увенчания которого прямо вторгались в государственную жизнь (почти полное
слияние шутейных и серьезных званий и власти), — новое зарождалось и проникало в
жизнь сначала в потешном наряде, так в потешной форме внедрялась европейская
военная организация и техника (это была не просто детская игра в войну, но в ней
были элементы противопоставления и развенчания старой государственной армии,
были элементы карнавальной экстерриториальности, аналогичные опричнине); и в
дальнейшем ходе реформ ряд элементов их переплетался с элементами шутовского
травестирования и развенчания (стрижка бород, переодевание в европейское платье,
политес и др.); (использовались и русские бытовые формы домашних шутов и дур).
Фамильяризация отношений, угнетение стариков молодежью. Восприятие реформ
представителями старого мира и старой правды, как гибели богов, европейского — как
шутовского; пробуждение эсхатологизма (во все эпохи расцвета эсхатоло-гизма,
сопутствующего всякой смене правд, происходит параллельное усиление народносмеховых форм, как реактива). Борьба Грозного с иерархической окраской территории,
обезличивание и фамильяризация ее (чтобы она могла стать государственной).
Раблезианское развенчание колоколов в бубенчики27.
70
Дополнения и изменения к «Рабле»
70
Все это к концу IVой г л Там же о тяге к слиянию с толпой, не просто с народом, а с
народом в его празднично-площадном аспекте. Любовь к площадному народному
веселью Пушкина, Грибоедова и др. [Там же о том, почему классовый идеолог не
может найти доступа к народному ядру. Социальный характер смеха, соборный смех
(параллель к молитве всей церкви). Там же о незаражении ядом серьезности до конца,
одержимостью серьезностью.] Сопоставление с народно-трагическими формами;
проблема границ и смены (гибели индивидуальности) в трагическом аспекте. Особенно
ясно народность обеих форм, их общность (проблема смены, венца и развенчания,
отцов и детей) и их различие можно раскрыть на творчестве Шекспира (в частности и
мотив безумия и его относительности).
Карнавальные формы при дворе Людовика XIго. Шут при короле получает новое
значение, происходит слияние шута и короля. Необходимость в такие эпохи
выдвижения из низов, т. е. резкий разрыв с иерархическим началом (старым в процессе
создания нового).
Дополнения к V I I 0 и гл. К вопросу слияния хвалы и брани (стр. 595):
существенность хвалебных и бранных форм языка (прославления-увенчания и
развенчания-брани). Официализация мира и его однотонность. Отравленность всех
форм речи страхом (слабостью) и устрашением; перечисление этих форм.
Роль фамильяризации, уничтожения дистанции, перевод образов в с меховую зону
контакта, предпосылка бесстрашия — все это в заключение; там же и открытие
современности смехом и фамильярным разрушением дистанции.
Только гротескная концепция тела знает символику тела. Органическая связь
двутелости с двутонностью. Дву-телые споры и диалоги и их значение в истории
литературы. Спор старости с юностью, рождающего с рождаемым в конечном счете
является подосновой основного трагического конфликта всей мировой литературы:
борьбы отца с сыном (смена), гибели индивидуальности. «Лучший дар —
70
нерожденным быть». Спор небытия с бытием (возникновением, нарушением тишины и
целостности, сплошности небытия). Одна из больших и незамеченных тем мировых
слов и образов — сомнение в смерти; эта
Дополнения и изменения к «Рабле»
71
тема завуалирована реактивной и замещающей темой надежды на бессмертие.
Непоправимость бытия. Простейшая формула сомнения в смерти в монологе Гамлета.
Она является предпосылкой буддизма2®. Нельзя вырваться из бытия; бытие
безвыходно.
К Iой гл. Несколько слов о раблезианской непристойности. Непонятны и
неоправданы сокращения и купюры в переводах Рабле; их можно было бы объяснить
только глупым лицемерием и грубым невежеством, а также и безответственностью,
нежеланием вникнуть в существо дела. Непристойности Рабле не возбуждают и не
могут возбуждать никаких сексуальных эротических чувств и возбуждений
(ощущений), не могут их разжигать, они не имеют никакого отношения к эротической
чувственности; они возбуждают только смех и мысль, притом универсальную и
трезвейшую мысль, следовательно, с точки зрения каких бы то ни было чувственных
влечений, абсолютно холодную мысль, их цель — протрезвление человека,
освобождение его от всякой одержимости (в том числе и чувственной), подъем
человека в высшие сферы бескорыстного, абсолютно-трезвого и свободного бытия, на
такие вершины бесстрашного сознания, где менее всего его может замутить какое бы
то ни было чувственное возбуждение. Настоящая порнография стремится возбудить
сексуальные ощущения, а вовсе не смех; смех — если он и имеет иногда место —
носит побочный характер и служит только для прикрытия; менее всего
порнографический образ обращается к мысли; его цель — возбуждать сексуальность, и
он рисует такие черты явления, которые эту сексуальность способны возбуждать.
Рабле никогда и ничего не рисует способного возбудить чувственность: менее всего
найдете вы у него образы возбуждающей чувственность красоты (специфической),
привлекательности, пикантности; любое совершенно корректно сделанное описание
женской красоты, сложения, наряда способны более возбудить чувственность, чем
самые непристойные образы у Рабле; у Рабле вообще нет изображения молодого тела;
наиболее непристойные образы связаны у него со старостью, со старухами (например,
новелла про льва и старуху); это определяется, конечно, гротескной концепцией тела
(рождающая старость, рождающая смерть); гротескное тело — космическое, симво
Дополнения и изменения к «Рабле»
71
лически расширенное, смешанное с вещами — вообще не способно возбуждать
чувственности: оно уродливо и безобразно с точки зрения новых сексуально
окрашенных представлений о красоте (как и с точки зрения нового художественного
канона красоты); образы Рабле так же не способны задевать нашей чувственности, как
иллюстративный материал к любой истории религий — все эти чудовищные идолы с
разинутыми ртами, преувеличенными фаллами, грудями и т. п. Гротескное тело
доэротич-но и надъэротично в нашем смысле (с точки зрения нашего понимания
эротики), в нем реализованы древнейшие и глубочайшие мысли о мире в его целом, в
нем выделены и подчеркнуты все существенные с точки
Кения этой мысли моменты (не абстрактной, конечно), ротрезвляющую
раблезианскую непристойность можно назвать философской непристойностью (она
диаметрально противоположна эротической). Очищать Рабле от непристойности так
же нелепо, как очищать медицинские книги от всех терминов, касающихся телесного
низа (в женских школах изучать анатомию и физиологию человека до пояса). Она
71
здесь, как и в медицинской литературе, служит целям познания и мысли (но только
универсально-философской).
К проблеме тона. Если мы проанализируем тональность слова, любого словесного
образа, то мы всегда вскроем в нем, хотя бы и в приглушенной мо-дерированной
форме, тон мольбы- молитвы или хвалы - прославления Это первая пара основных
тонов (с ними связаны и соответствующие молитвенные или хвалебные стили и
структурные первофеномены). Вторая пара: тон угрозы- устрашения и страхасмирения. Эти основные тона имеют многочисленнейшие вариации (и осложняются
разнообразными обертонами): просьба, умиление, жалоба, почтение, пиетет, гнев,
отчаяние, тревога, печаль (элемент жалобы), торжество (устрашающей силы),
благодарность и пр. и пр. Все эти тона по своей природе иерархичны: они звучат в
мире неравных, больших и маленьких, сильных и слабых, властителей и угнетенных,
господ и рабов, отцов и детей; они внефамильярны и серьезны; особый характер брани
и проклятий. Основой художественной тональности слова не может не быть любовь
(какой-то минимум ее необходим
Дополнения и изменения к «Рабле»
72
для художественного подхода к миру). Но тона любви замутнены иерархическими
тонами; нет чистого тона любви. Нет еще форм, созревших в мире равных и в атмосфере бесстрашной свободы, за исключением специфических форм фамильярного
общения (изолированных, утопических, площадных форм).
К проблеме гоголевского смеха: анализ предисловий к «Вечерам» и сопоставление с
раблезианскими прологами (площадной ярмарочный тон, прославление кушаний,
организующая роль брани и т. п.)29. Гротескное анатомизирование в «Тарасе Бульбе»;
площадное (карнавальное) утопически окрашенное фамильярное общение в Сечи;
увенчания-развенчания в Сечи; гротескное смешанное с вещами тело в образах Гоголя;
алогизмы; роль прозвищ и превращение имен в прозвища; веселое богатырство; игра и
образы игры; праздничная тематика (сопоставление «Майской ночи» с «Игрой в
беседке»).
[Пока мир не завершен, смысл каждого слова в нем может быть преображен
(следовательно, и каждой законченной человеческой жизни). В целом еще продолжающегося, еще не сказавшего своего последнего слова мира не завершена ни одна жизнь.]
Праздничное нарушение иерархии (фамильяризация) в «Вечерах»: голова и прочие в
одном мешке, кузнец при дворе императрицы, отец и сын на равных правах (в ухаживании), неравные браки. Влияние балаганных форм на Петербургские повести.
Старость и эротика (старуха, «оскоромиться» в «Вне»; превращение старухи в
молодую и др.).
Игра (в карты) с ее реальными результатами (нищий — богач и обратно,
однодневные, эфемерные, увенчания-развенчания) карнавализует жизнь, разрушает ее
иерархию (уравнение всех возрастов и положений за карточным или рулеточным
столом (см. нарушение всего социального строя, рушение его, во время игры в мяч в
«пророческой загадке» у Рабле), здесь властвует особая условная, утопическая,
закономерность, для которой нет генералов, королей, отцов и детей и пр.). Эта
карнавальная атмосфера, создаваемая рулеткой, царит в «Игроке» Достоевского.
Карнавализация мира, создаваемая властью денег (капитализмом)
у
Бальзака.
Этот момент есть в
Дополнения и изменения к «Рабле»
«Идиоте»; «идея» Подростка; нарушение социальной иерархии (смешение верхов и
низов) в бульварном авантюрном романе; роль в нем (аналогичная в известном
смысле) преступления, фигура сыщика (своеобразного наследника п и к а р о ).
72
Замечательный образ Лекока. Карнавальная атмосфера проникает и «Рокамболя» и
«Молодость Генриха» и всевозможные «Тайны дворов»: через барочный роман и
средневековье они связаны с традициями сатурналий (это авантюрно -бульварновеликоеветско-детективное чтение для горничных и лакеев есть какой-то современный
суррогат сатурналий; см. «Ибикус», «из грязи — в князи» и пр.). Все это проливает
свет на историю европейского романа и на жизнь литературных традиций. Надо
прощупать новые узловые моменты жизни образов (сатурналии, карнавал, ярмарочная
площадь и др.). В том же плане: театральная повозка, богема, современный театр —
все это обломки древней народной площади, площади сатурналий, праздника глупцов,
карнавалов. Эти обломки древней экстерриториальной площади со смеющимся
народом в измененном, искаженном, извращенном виде переносятся в гостиные,
мансарды поэтов и художников, в кабаки и рестораны, на современную ночную улицу,
за кулисы театров, в коридоры- университетов, в дортуары закрытых учебных заведений {€ypc2L, «Республика Шкид» и т. п.), в массовую литературную'продукцию, в
фельетоны газет. Современные арготические увлечения (особенно во французской
литературе) в вагоне поезда и т. п. Элементы этого во всех жаргонах (например,
школьных). На высоком языке Тютчева это хаос, пробуждаемый ночным ветром,
ночная душа человека, мир снов и пр. При генетическом родстве и смысловой
общности между всеми этими явлениями существуют громадные различия, которые
необходимо учитывать: нужно внести строгую дифференциацию в этот разнообразный
мир. Тема власти денег уже у Пушкина вливается в карнавальную традицию
(«преисподняя»-подвал барона, вражда отца с сыном, «Сцены из рыцарских времен»,
«Пиковая дама»). Тот же мир в формах фамильярной речи и фамильярной мысли,
фамильярного жеста, бытовой эксцентричности, случайных встреч и столкновений и т.
п.
73
Дополнения и изменения к «Рабле»
73
Элементы этого (особенно «рекреации слов») в кубизме и сюрреализме. В высшей
степени интересна фигура Alfred Jany (1873-1906), автор «Ubu-Roi» (1896); площадные
элементы, карнавальная стилизация, раблезиан-ство. Он оказал большое влияние на
сюрреализм. О нем: Chasse «Les sources сГUbu-Roi» 1922 и его же «Les pas perdus»
1924; Vallette A. «Alfred Jany» 1928; Rachilde «Alfred Jany ou le surmül des lettres» 1928;
Shauveau «Notes sur Alfred Jany» — Mercure de France 1/XI 1926.
Max Jacob (1876) — один из создателей кубисти-ческой поэзии; разговорная речь,
юмор; влияние на сюрреализм. О нем: Thomas L. «Мах Jacob» в Les nouveües litteraires
1928...
Сюрреалисты сменяют дадаистов, большинство переходят из одной группы в
другую: А. Бретон, Ф. Супо, П. Элюар. Провозглашение младенческого ощущения мира, примата подсознательного над сознанием и логикой. Нарушения реальных
соотношений между вещами. О сюрреализме статья Фрид Я. в «Интернациональная
литература» 1933, № 4. Breton А. «Manifeste du surrealisme, Poisson soluble» Р. 1924; его
же «Les pas perdus». Р. 1924; его же «Introduction au discours sur le peu de realite», P.
1927; его же «Second manifeste du surrealisme» P. 1930; его же «Qu'est-ce que le
surrealisme» P. 1934.
Жданов И. H. (академик) «Беседа трех святителей и Yoca monachorum» (1892) в
Сочинения Жданова, 2 тт., изд. Акад. наук, СПБ, 1907.
Образ Золушки (Сандрильона). Мифологическое истолкование этого образа:
олицетворение дня и ночи. Оно в настоящее время отвергается наукой. См. Сент-Ив:
«Les contes de Ch. Perrault et les recits paralleles. Leurs origines. Coutumes primitives et
73
liturgies sai-sonnieres» Он вскрывает в этой сказке пережитки примитивных обычаев и
календарных культов, мотив маскарада он ставит в связь с весенней масленичной
обрядностью.
Здесь есть и мотив возрождения (преображения); существенен мотив нарушения
иерархии (мира на-изнанку); сопоставление кухни и дворца (карнавальный комплекс);
трактовка женского начала (аналогично Кордели<и> в «Лире»).
Дополнения и изменения к «Рабле»
74
Колядки. Праздник новолетия (calendae) у многих народов был перенесен на
праздник рождества (христианизация). Подробное сличение новогодних и святочных
празднеств новоевропейских народов с праздниками греко-римскими обнаруживает не
только сходство названий, но и совпадение отдельных моментов обрядов, увеселений и
пр.
Разбираясь в сложном комплексе святочных обрядов и песен новоевропейских
народов, этнографы и фольклористы вскрывают элементы, восходящие у многих
народов к явлениям традиционной аграрной магии и местных культов, элементы,
заимствованные из греко-римской культуры как в эпоху дохристианскую, так и
позднее, в причудливом сочетании «языческого» и христианского.
Ярким выражением так наз<ываемой> продуцирующей первобытной аграрной
магии, правда при этом часто уже не сознаваемой современным крестьянством,
являются многочисленные обряды, долженствующие изображением сытости и
довольства вызвать урожай, приплод, счастливый брак и богатство.
Новогодние «щедривки» на Украине.
При Юстиниане (VI в.) празднование январских календ было перенесено церковью
на весь святочный цикл от рождества по крещение. Это содействовало смешению
обрядов разных циклов.
Анализ (обстоятельный) образов украинских колядок произвел А. А. Потебня (см.
Потебня А., «Объяснения малорусских и сходных песен», т. II, Варшава, 1887 (то же
«Русский филологический вестник» тт. XI-X VII, 1884-1887); Веселовский А. Н.
«Разыскания в области русского духовного стиха» вып. VII «Румынские, славянские и
греческие коляды», СПБ, 1883.
Колядки и щедривки, в соответствии со своим аграрно-магическим смыслом,
величают хозяина и членов его семьи, с помощью словесных образов вызывают
представления о урожае, богатстве, приплоде и браке. Поэтическое слово, как во
многих других случаях в фольклоре, выполняет ту же магическую функцию, как и
сопровождаемый им обряд. Связь с крестьянским обиходом образов колядки
(реальным, бытовым, низким). Однако в со
Дополнения и изменения к «Рабле»
74
ответствии с магической функцией песни исполнители ее стремятся к созданию
образов, идеализирующих реальную бытовую жизнь крестьянина; поэтому они рисуют
роскошные картины жизни вышестоящих классов: князей, бояр, купцов (высший,
карнавальный король); имеет место воспроизведение по традиции песен, созданных в
высших господствующих классах (как и в свадебной поэзии заимствования из
боярского быта); сохранились, благодаря этому, образы княжеско-дружинного и
боярско-феодального строя (исторические элементы). С аграрно-магическими и
историческими моментами переплетаются христианские. Христианские легенды
приспособляются иногда к потребностям аграрной магии: «сам милый господь волика
гонит, пречистая дева есточки носит, а святой Петро за плугом ходит». Образы богов и
святых придают большую магическую силу поэтической формуле. Споры между
74
солнцем, месяцем и дождиком (побеждает обычно последний гость). Мотив появления
небесных гостей, определяющих благополучие человека (см. этот же мотив в романе).
К проблеме заговора и заклинания.
Образы изобилия, сытости и богатства в фольклоре. Их первоначальное аграрномагическое значение. Выяснение этого значения само по себе еще ничего не объясняет
в последующей жизни этих образов. В этом «начале» содержится неизмеримо меньше,
чем в последующей жизни, такие объяснения стремятся большое втиснуть в малое и
этим дискредитировать его смысловую значимость. При этом самое начало это
сужается и перетолковывается. Понятия «аграрный» и «магия» берутся в их позднем
суженном и ограниченном значении (только аграрный, только магический); но ведь
тогда, когда имело место это начало, аграрное было всем, было мировым, объединяло в
себе все стороны жизни коллектива, в нем участвовала и разыгрывалась вся природа и
вся культура; а магическое включало в себя и все то, что впоследствии стало
художественным воздействием, научным познанием и т. п. И именно поэтому из
такого начала и могла проистечь такая богатая и глубокая жизнь образов.
Обособившиеся элементы этого комплекса стали впоследствии чем-то специфически
аграрным и специфически магическим. Для последующей жизни решающее значение
Дополнения и изменения к «Рабле»
имели: их космический универсализм, их всенародность, их связь со временем и с
будущим, их абсолютная желай -ность, их праздничность. В последующей жизни в их
праздничности особое значение приобрели (в соответствующих условиях
исторического существования народных низов): их праздничная свобода, их
внеофициальность, их связь со смехом (специфическая веселость, радостность); таково
значение их в сатурналиях. Именно этим определяется их исключительная живучесть и
их грандиозное значение в литературе.
Живая и доныне (в различных вариациях) теория пережитков и реликтов. Называть
эти образы пережитками аграрно-магической стадии так же нелепо, как называть
могучий и ветвистый, живой и растущий дуб пережитком
Скрытая соблазнительность подобных объяснений сводится к дискредитации
смыслрвой противоречивой сложности, к дискредитации живого, всего большого,
растущего, не совпадающего с самим собою (и потому до конца не уловимого,
практически неудобного). Здесь ярко проявляется обособившаяся и отъединившаяся
тенденция познания к умерщвлению познаваемого, к замене живого мертвым, к
превращению большого в маленькое, становящегося в неподвижное, незавершенного в
оконченное, к отсечению будущего (с его свободой, следовательно, с его
неожиданными возможностями), наконец, и специфическая тенденция к снижению
начал (в противоположность их эпической идеализации и героизации), к дискредитации и разоблачению явлений их происхождением и началом.
Можно дать своеобразную теорию познания в духе разобранных нами
амбивалентных народно-праздничных образов. Акт познания амбивалентен: он
умерщвляя рождает, уничтожая обновляет, снижая возвышает. Положительный полюс
отпал. Современному познанию свойственна тенденция к упрощению и обеднению
мира, к разоблачению его сложности и полноты (он меньше, беднее и проще, чем вы
думали) и — главное — к его умерщвлению. Сделать его практически удобным
предметом потребления (включая в него и самого потребляющего). Игнорирование
всего того, что не может быть потреблено (и
75
Дополнения и изменения к «Рабле»
75
75
прежде всего его свободы-незавершенности и его индивидуальности).
Дегероизирующая лакейская тенденция познания (это — не готическое возрождающее
снижение). Отрыв познающих от народных корней. Народ и лакеи. Даже победу
народной революции они прежде всего используют для оплевания (прошлого),
механизации, нигилистических снижений, обеднений и упрощений мира и пр.30
[Корделия, разоблачающая старческую закоснелость старика-короля — старого
короля — Лира, снова его возрождает (родит) в любви, превращает в ребенка, становится его матерью.]
В народно-смеховой культуре раскрываются и развиваются такие стороны этих
образов, которые в серьезных формах, особенно в условиях официальной культуры,
раскрыться не могут. Узаконенная свобода смеховой культуры сыграла при этом также
громадную роль; но решающее значение принадлежит, конечно, внутренней сущности
самого смеха. Но как раз смеховая культура изучалась менее всего.
Проблемы украинского фольклора в связи с Гоголем31.
Мода на украинский фольклор в конце 20х годов (Сомов, Маркевич). Жанры
украинской обрядово-магической поэзии окончательно остановились в своем развитии
к концу XVI в. (в этом виде они сохранились до XIX в., когда были записаны).
Церковный публицист 1ван Вишенський в одном из своих посланий (конец XVI в.)
призывает бороться с пережитками язычества, изгнать их из городов и сел «в болото».
Он называет: «Коляды, щедрый вечер», «волочельное по Воскресении» (величальные
весенние песни, заклинания будущего урожая, ставшие продолжением Пасхи), «на
Георгия мученика праздник дьявольский» (весенние действа в честь бога —
покровителя стад, начальника весны), «Купала на Крестителя» (праздник летнего
солнцестояния; похороны солнечного бога)32.
Колядки и ще/цмвки сопровождались иногда действами ряженых (хождение с
«Козой»). Новое собрание их дал В. Гнатюк в «Етнограф1чн<ом> зб1рнике», тт. 35-36,
1914 г.33
Среди весенних песен особенно интересны русальные и «троецыа» (русальные — от
греко-римских розалий) —
Дополнения и изменения к «Рабле»
76
обряды, первоначально посвященные чествованию умерших предков.
Наиболее полное собрание купальских песен дала Ю. Мошинска в Zbior
wiadom<osci>, т. 5, 1881 г.34 В этих песнях соединяются мотивы элегического плача о
погибшей и утонувшей «Марене» с насмешливо-сатирическими перебранками дивчат с
парубками.
Наиболее богатый материал по свадебной и похоронной обрядности в 4ом томе
«Трудов» Чубинского35. Н. Сумцов «О свадебных обрядах, преимущественно
русских», Харьков, 1881 г., Ф. К. Волков «Rites et usages nuptiaux en Ukraine» в журн.
«L'anthropologie» 1891-1892, ч. II-III; и его же «Этнографические особенности
украинского народа» в коллективном труде «Украинский народ в его прошлом и
настоящем», 1916, т. II, X. Ящуржинський «Свадьба малорусская, как религиознобытовая драма» в «Киевская старина», 1896 г., 11.
Сущность свадебного обряда: добровольный брак, изображается как насильственное
похищение; эндогамический внутриплеменной) брак представляется экзогамическим
внеплеменным) и только при условии этой инсценировки считается «правильным» и
прочным. Эта инсценировка доисторических форм брака обросла чертами княжескодружинного быта, приобретшими символико-магическое значение.
Похоронная обрядность. Причитания-голосшня; тексты и комментарии к ним в
«Етнограф. зб.» тт. 31-32, I. Свенцицького и В. Гнатюка; кроме того, исследования В.
76
Данилова в «Киевской старине», 1905, и «Украш», 190736; эти причитания
сопровождались на Подолии и в некоторых местах Прикарпатья особыми
«похоронными забавами», «грашками при мерш» (играми у мертвеца) —
своеобразными религиозными мимами, инсценирующими прение бога с чортом
(«тягнене бога»), а иногда превращающимися в комедийно-бытовые сценки.
Общее количество украинских сказочных сюжетов в 1914 г. исчислялось в две
тысячи с лишним (С. В. Савченко «Русская народная сказка», гл. IV)37.
Украинский сказочный фольклор имеет фантастику, исключительно богатую по
части демонологических представлений (особенно в сказках, записанных на Галич и
не, см. сб. Гнатюка В., «Знадоби до укр. демонологи», тт. 1-2.
Дополнения и изменения к «Рабле»
77
Етнограф. 3ÖipH., т. 15, т. 34-35 — 1575 рассказов). Обращает внимание также
сравнительное богатство комических мотивов с разными оттенками комизма от
язвительной сатиры до мягкого юмора — особенно в новеллах (см. назв<анные> выше
сборники Чубинского и Драгоманов^ и в дополнение к ним «Казки та оповщання з
Подьлля», в записах 1850—1860 рр., упорядкував М. Левченко, 1928) и анекдотах
(Гнатюк В., «Галицько-русыа анекдоти», Ет-ногр. зб1рн., т. VI).
Значение XVI в. на Украине. Борьба с польским игом и с Турцией, формирование
украинской национальности.
Пародийная «Дума про Михия» XVIII века.
Роль странствующих бурсаков, исполнявших «набожные» песни (псалмы и канты;
печат<ные> изд<ания> этих песен вроде «Богогласника» 1790 г.); также и лирические
песни. Их авторы — бурсацкая богема, канцеляристы, выходцы из козацкой среды.
В XVI в. выдвигается впервые вопрос о национальном языке, возникает потребность
создать письменную «руську мову», отличную от славянской и польской. На эту
«мову» переводятся книги церковно-учительные и богослужебные («Пересопницкое
Евангелие» — 1555-1561). Проблема многоязычия на Украине (церковно-славянский,
польский, латинский, русский, мо-ва). Украина подобна Южной Италии (рождение
смеховых форм).
Малороссийские заговоры и заклинания, «замовлюван-ня», «закляття». Лучший
сборник П. Ефименко «Сб. малороссийских заклинаний» в «Чтениях Общ. ист. и древностей российских», Москва, 1874, кн. 8с£ исследования А. Ветухова, 1907, и V.
Mansikka, «Uber russische Zauberformeln», 1909. Проклятия, как основа «Страшной
мести» Гоголя. Скрытое влияние их (рядом с бранью) на построение образов героев у
Гоголя. Гротескный характер проклятия, содержащийся в нем образ разъятого тела.
Особенности барочной проповеди: метафоры, аллегории, «концепты» —
«остроумные изображения» — специальные словесные фокусы для заинтересовывания
слушателей; цитата из евангелия, выворачиваемая на все лады, толкуется в смыслах
«буквальном», «аллегорическом»,
Дополнения и изменения к «Рабле»
77
«моральном» и т. д. более в целях развлечения, чем поучения слушателей.
В проповедях содержались «приклады» — повествовательные примеры, многие из
которых перешли впоследствии в фольклор новелл и анекдотов.
Виршевая поэзия. Видное место в ней занимают стихотворные панегирики,
прославления духовной и светской знати (путь к оде).
Драма. Ее образцы — польско-латинская иезуитская драма эпохи барокко и отчасти
немецкая школьная драма эпохи контрреформации. Первые сведения о представлении
77
в школах «комедий» идут с конца XVI века. Интермедии — «междувброшенные
игралища». Реалистическая интермедия в пьесе Митрофана Довгалевського, 1736 г.38
В официальной литературе главное внимание уделяется литературе «чудес»; она
обширна, начиная от католического сборника «Великое зерцало». «Тератургима або
чудо» Афанасия Кальнофойського, 1638. Изобилуют сборники «Чудес богородицы»:
«Небо новое» Иоанниюя Галя-товського, 1665, «Руно орошенное» Дмитрия
Ростовского, 1683 и др., настойчиво проводящие идею наград и кар — своего рода
систему запугивания и устрашения. В эпоху, когда «реформационные веяния»
носились в воздухе, когда угрожали то нападки униатов, то брожения среди мещанства
и селян, — мобилизовывался весь аппарат святынь, вокруг него подновлялся и
творился целый эпос легенд, устрашающих и требующих беспрекословного подчинения авторитету.
Особенности украинской литературы XVIII в. К украинскому языку в
господствующем классе постепенно устанавливается высокомерно-пренебрежительное
отношение. Он становится языком низким, внеофициальным; это освобождает его
фамильяризующие энергии (у него нет стимулов к официализации). Верхи и все
официальное русифицируется. Национально-народная литература продолжает жить в
среде мелкой шляхты, мелких чиновников, городского мещанства. Она становится в
основном рукописной анонимной (как литература готического реализма). В ней
преобладает смеховой реалистический стиль. Интересна судьба интермедии.
Дополнения и изменения к «Рабле»
78
[В основе топографического жеста и топографической сцены (события) у Шекспира
и их восприятия лежит пространственно-ценностное движение снизу вверх и обратно,
те же готические качели, то же хождение колесом, но в серьезном плане.]
Интермедия первоначально — шутовской выход (вносивший в целое
топографическое движение сверху вниз). Затем эти антракты разрастаются, например,
в пьесе Митрофана Довгалевського (1736) интермедия уже потеснила текст основной
драмы. Комические антракты начинают становиться параллельными к основному действию, становятся своеобразным пародированием его. В основном действии на сцену
выходил Валаам, древний маг, передававший свою мудрость трем царям-волхвам и
пророчивший о Христе, — в интермедии же появляется псевдоученый прощелыгашляхтич, тоже будто бы знающий «что деется в пекле и в небе», но не возбуждающий
никакого доверия у двух селян, которые над ним издеваются и гонят его прочь; в
другой драме в основном действии аллегорический земледелец проводит в монологе
(высокого стиля) параллель между «прозябшим зерном» и воскресением из мертвых,
— в интермедии же — взятый из повседневности хлебороб, которому добрый урожай
дороже всяких мудрствований и который спешит расправиться с бабой, делавшей
«закрутки». В дальнейшем параллелизм отпадает и интермедия приобретает самостоятельный интерес. Старейшие из известных нам интермедий (в пьесе Якуба Гаватовича,
1619) заимствовали фабулу из готового запаса бродячих анекдотов книжного происхождения; в пьесах же Довгалевського и Г. Кониського (1747) в основу интермедий
клались бытовые наблюдения39. Рядом с анекдотически-литературными «хлопами»
появляются реальные помещики (пан Подстолий и пан Бандолий), появляются
угнетенные панами арендаторы, селяне и их избавители — «козак» или «москаль»,
появляются, наконец, и знаменитые «пиворезы» , «мандрованые (странствующие)
дьяки» Исключительная роль в литературе эпохи ман дрова -н ы х дьяков, т. е.
бродячих школяров. Они аналогичны западноевропейским голиардам или вагантам;
они здесь, на Украине, теснее и существеннее связаны со средою сельских и городских
демократических масс. Продук
78
Дополнения и изменения к «Рабле»
79
ция их анонимна, но некоторых мы знаем по именам, напр < им ер > Илью
Турчиновського, чья автобиография
— любопытная новелла плутовского жанра. Характерны фигуры «волочащегося
чернца», стихотворца конца XVII
— начала XVIH в., Климентия Зиновьева, а в конце XVIII в. «мандрованого
философа» и поэта Григория Саввича Сковороды.
[Для фамильярной речевой стихии характерна тенденция этимологизировать каждое
собственное имя, например, Голиафа, и этим превращать его в прозвище. Только в зоне
контакта, в зоне настоящего возможен открытый и сознательный вымысел: из
моментов изображения события (мифического, исторического) вымысел переходит в
ядро события, начинает, наконец, вымышлять самое событие.]
В книгу своих стихов Климентий Зиновьев заносил все, что попало: сведения о
болезнях, о погоде, о купцах, о корчмах ит. п.; у него имеется апология ремесла
«ката»40.
Дух критики XVII-XVIII века: «он врывался буйной волной смеха в такие
освященные и школьным авторитетом и бытовым обычаем формы, как рождественские
и пасхальные вирши. В то время как на церковных верхах и в XVIII веке продолжалось
сочинительство и внедрение в массы «набожной песни» (в 1790 г. печатается сборник
таких песен «Богогласник»), мандрованые дьяки вносили элементы бурлеска и
пародии в религиозную поэзию. В известных нам «р1здвяних» и «велико дних»
виршах-пародиях нельзя, конечно, видеть выступлений антирелигиозного характера:
но налицо в них резкое снижение торжественного стиля, фамильярное похлопывание
по плечу ветхозаветных патриархов и «старенького бога», разрушение традиции» (А.
Белецкий)41.
[В загадках реализуется особое направление языкового творчества, аналогичное
превращению имен в прозвища и, обратно, нарицательных названий в собственные
имена-прозвища; в загадках происходит фамильяризация высокой поэтической
метафоры, олицетворение фамильярно-прозвищного типа; все это — прозаические
энергии языка, стремящиеся от именного (хвалебного) к прозвищному полюсу
(бранному, амбивалентному); загадка разоблачает и умерщвляет (сбрасывает вниз, в
преисподнюю: гибель разгаданного сфинкса, Stälzfüsschen, «человек из зеркала»).]42
Дополнения и изменения к «Рабле»
79
Значение вертепной драмы — другой пример трансформации «академического»
жанра при посредстве тех же мандрованых дьяков. Связанная, однако, приурочением к
определенной дате культового календаря и консервативностью техники (кукольный
театр), она не пошла далеко в своем развитии, и отдельные, дожившие до наших дней в
памяти стариков, ее образцы свидетельствуют о неподвижности жанра. Но в деле
сближения с фольклором вертепная драма достигла большего, чем интермедия43.
Петров Н., Очерки из истории украинской литературы XVII и XVIII веков (Киевская
искусственная литература XVII и XVIII вв., преимущественно драматическая). Киев,
1911; Резанов В., Из истории русской драмы. Школьные действа XVII-XVIII вв. и театр
иезуитов, Москва, 1910; Его же, Драма украшська (тексты XVII-XVIII вв. с введениями); вып. I, Киш, 1926; вып. III-VI, Киш, 1926-1928 (изд. не закончено); Перетц
В., Историко-литературные исследования и материалы, т. III — Из истории
развитиярусской поэзии XVlII в., СПБ, 1902 (к истории вирш); Петров Н., О словесных
науках и литературных занятиях в Киевской академии от начала ея до преобразования
в 1819, «Труды Киевской дух. академии», 1866, кн. 7, 11, 12; 1867, кн. 1; 1868, кн. 3;
79
Сумцов Н., К истории южнорусской литературы семнадцатого столетия, вып. I, Лазарь
Баранович, Харьков, 1885; вып. II, Иоанникий Галятовский, Киев, 1884; вып. III —
Иннокентий Гизель, Киев, 1884; «Пам'ятки украшсько-русько'1 мови i лггератури», том
VII — Bipuri Климентия Зинов1е-ва сина, вид. В. Пеоегц. Льв1в, 1912; Сборник харьк.
ист.-фил. о-ва, т. VII, Харьков, 1894 (Сочинения Г. С. Сковороды, собранные и
редактированные проф. Д. И. Багалеем; другое изд. — Собр. соч. Г С. Сковороды с
заметками и примечаниями В. Бонч-Бруевича, СПБ, 1912).
О Флобере
<0 ФЛОБЕРЕ>
Картина Брейгеля «Искушение св. Антония» как источник Флобера1: смешанное
тело, стирание границ, идея вечно обновляющейся материи. Такие же гротескные
образы на витражах руанского собора2: звери, охота и кровь св. Юлиана, танцы, кровь,
отрубленная голова Иоанна («Иродиада»), но Флобер не воспроизвел гротескной идеи
танца (головою вниз)3. Также — кукольное ярмарочное представление.
Непубликуемые сферы речи4 в юности Флобера и их порождения («Garcon»* и др.).
Фамильярность в его юношеских письмах, особенно в письмах к нему де Пуатвена, в
письмах к Фейдо6.
Последний отголосок руанского праздника дураков в праздновании патрона
Флобера, св. 41оликарпа7.
Историческая типичность Флобера (редкое совмещение почти гениальности и
типичности). Исключительная важность Флобера для понимания судеб реализма, его
трансформации и разложения. Такое же значение для истории романа, для проблемы
«прозаизма». Последующая, но не окончательная, победа однопланности и, в особенности, однотонности. Окончательное угасание двутелости и двутонности романнопрозаических образов.
Молодая Саломея, замещающая стареющую Иродиаду, пляска ее головою вниз и
отрубленная голова Иоанна, обрамленная пиром. Хождение колесом смысла. Три типа
святости, три типа иллюзий. Убийство родителей в Св. Юлиане8. Древность мотива:
убийство животных как первородный грех9 (Ксенофан10 и др.). Напои меня, накорми
меня, согрей меня11.
Жизнь и образ жизни, пошлость и образ пошлости (увековечение того, что лишено
всяких внутренних прав на вечность). Что прибавляет образ к жизни (чего изнутри ее
самое в ней нет). Образы вещей у Флобера и у парнасцев (в частности, образы
животных — это целая страница литературы парнасцев12). Специфика настоящего,
моего времени, моей эпохи, моей современности, моего про
80
О Флобере
странства. Что вносится сюда перемещением в прошлое. Оно становится объектом
специфической любви. Вообще прошлое и мое прошлое. Проблема вспомянутой жизни
от Флобера до Пруста. Образ животного, стремление проникнуть в специфику его
жизни. Создать монумент животного. Своеобразное возрождение обожествления
зверей, учения у зверей. Охота и растерзание зверей у Юлиана. Но сложившееся
мировоззрение, проторенные колеи мыслей отводят от глубокой и существенной
постановки этой проблемы. Уловить наиболее элементарный аспект жизни, ее
первофеномен. Проблема жалости. (Отец — хирург, плачущий при виде страдающей
собаки). Не мог вынести операции. Древняя проблема жалости (в частности к животным) и ее глубина. Шопенгауэр13. Важна жалость к биологическому минимуму жизни.
Человечество обнаглело, совершенно перестало стыдиться убоя, утратило древний
стыд перед убоем и кровью животных. Ее просто спрятали и не видят. Друг Флобера в
то же время пишет «Муму» (глухота и собака, параллель к «Простому сердцу» и к
80
«Юлиану»). Всё страшное в жизни спрятано, в глаза смерти (и следовательно —
жизни) не смотрят, опутали себя успокоительными ходячими истинами, событие
жизни разыгрывается на самой спокойной внутренней территории, в максимальном
отдалении от границ ее, от начал и концов и реальных и смысловых. Специфика
буржуазно-мещанского оптимизма (оптимизм не лучшего, а благополучного). Иллюзия
прочности не мира (и миропорядка), а своего домашнего быта. Куда девались
космический страх и космическая память14. Категория бытовой безопасности и
устойчивости. Формы косвенной борьбы за жизнь (сконденсированной в деньгах) без
встречи со смертью, борьбы, которая ведется в уютнейших и безопаснейших
помещениях банков, бирж, контор, кабинетов и пр. Древняя проблема жалости; это
наиболее
развенчанная
и
психологизованная,
одомашненная
категория.
Противопоставление жалости любви (Карамазов). Ее абсолютная нетребовательность
(поэтому нет места и для иллюзий и разочарований). Египет с богами-зверями, с
образом зверя, как одним из центральных образов культуры. В чем привлекательность
образа арабской танцовщицы15. Элементы кошачьей породы в египетском образе
зверя. Образы кошек у Бодлера (образы великанши, нищих, падали, безобразной
81
О Флобере
81
проститутки у него же16, Флобер о проститутках17). Образ зверя — неосознанный
центр художественного мира Флобера. Писатель только тогда велик, когда сумеет
вырваться из маленьких перспектив своего времени, сумеет за деревьями увидеть лес,
за паутиной недавних и случайных тропинок времени сумеет прощупать какую-нибудь
большую за грань истории уходящую магистраль мировой и человеческой жизни,
основные трассы мировой жизни. Флобер почти это сделал, поэтому он почти
гениален.
Острое ощущение (и отчетливое и резкое сознание) возможности совершенно иной
жизни и совершенно иного мировоззрения, чем данные настоящие жизнь и мировоззрение, — предпосылка романного образа настоящей жизни18. Творящее сознание
находилось раньше внутри жизни и мировоззрения, вдали от ее смысловых начал <и>
кон?ов, как единственно возможной и оправданной жизни. 1оэтому образ этой жизни
мог быть не только формально, но и содержательно монументален, и любовь <к> этой
единственно возможной и бесспорной жизни могла быть пиэтетной, вообще могла
иметь особое качество. Ее изображали любовью, а не пониманием. Не изменения в
пределах данной жизни (прогресс, упадок), а возможность принципиально иной жизни,
с иными масштабами и измерениями. Возможность совершенно иного мировоззрения.
В свете этой возможности всё настоящее общепризнанное мировоззрение (знающее
только себя и потому бесконечно самоуверенное, тупо самоуверенное) представляется
системою глупостей, ходячих истин19, и не только самые истины, но и способы их
приобретения, открытия, доказательства, самое понятие истинности, верности. Острое
ощущение возможности совершенно иного взгляда на ту же жизнь. В иные эпохи
точно пробуждается память о своих предсуществова-ниях, человек перестает
укладываться в пределах своей жизни. В этом свете должна быть пересмотрена
проблема мечты. План «Анубиса» и «Спирали»^0. Легенда о Будде, отдавшем себя
всего за жизнь голубки21. Исключительная роль зверя во внеевропейских культурах.
Европейское человечество нового времени забыло проблему зверя (как оно многое
забыло), зверь не задевает ни совести, ни мысли человека. Каким-то образом он снова
задел и совесть и в особенности мысль Флобера. Влечение к Египту и своеоб
О Флобере
81
82
разно реализованная метафора «bete» — человеческая глупость в лице буржуа.
Вырождение гуманизма и зазнайство человека. Наивный гуманизм, от которого
отталкивался Флобер. Элемент зверя в гротеске. Специфическое единство жизни,
которую нельзя понять в узко-человеческих рамках ближайшей эпохи его становления.
Это элементарное единство жизни сохранялось в образах гротеска. Жалость относится
именно к животному началу в человеке, ко всяческой «твари» и к человеку, как твари;
к духовному, надтварному, свободному началу (там, где человек не совпадает с самим
собою, со своим «есть») относится любовь. Иллюзия о себе самом и ее значение у
Флобера (боваризм22). Для настоящего художника (да и мыслителя) всё в мире и в
мировоззрении перестает быть чем-то само собой разумеющимся. И бытие и истина
становятся ходячим бытием и ходячей истиной. За всем начинают сквозить иные
возможности.
Элементарная жизнь и ее правильное углубленное понимание. Невинность, чистота,
простота и святость этой элементарности (для нее все близко и все
?одное). Рядом с образом зверя становится образ ребенка. Ipocroe сердце23.
Невинность и беззащитность элементарного бытия, оно создано, оно невинно в своем
«есть», безответственно за свое бытие; не оно себя создало и оно не может спасти себя
самого (его нужно жалеть и миловать24). Оно глубоко доверчиво, оно не подозревает о
возможности предательства (Муму, виляющая хвостиком); поэтому-то убой у
Ксенофана связан с предательством (с нарушением клятвы и верности); кровожадность
и жестокость элементарного бытия невинны. Животные, дети, простые люди лежали на
совести восточного человека (египтянина, буддиста25); особый тип доброты-жалости.
(У Соловьева: жалость к низшему, любовь к равному и благоговение к высшему26).
Отсюда и образ творца как виновника бытия и буддийский путь искупления как
освобождения всей твари от бытия-страдания. Весь этот комплекс проблем с разных
сторон актуализировался эпохой. «Дитё плачет»2', убийство отца (убийство родителей
Юлиана) у Достоевского. Родились в один год и умерли почти в одно время28. Оба
выросли на Бальзаке, оба изучали отцов церкви, оба ненавидели всё «само собой разумеющееся» и квази-понятное и квази-простое, и оба люби
О Флобере
82
ли истинную «святую» простоту животных и детей. Флобер и позитивизм. Общая
сущность позитивизма и формализма29; нерешительность мысли, отказ от
мировоззренческих решений, от мировоззренческого риска, безусловная честность и
солидность этого отказа. Но это явление сложно и противоречиво: безусловная
зрелость и ненаивность (требовательность) мысли сочетается с наивной верой в науки
и факт, с наивным практицизмом, с ощущением удобства и дешевизны такого отказа от
мировоззрения и последних вопросов.
«Искушение св. Антония» как «мениппова сатира». Элементы менипповой сатиры в
других произведениях Флобера30.
Проблема судеб человеческого чувства и жизни сердца в произведениях Флобера.
Проблема глупости — betise — в произведениях Флобера31. Своеобразное и
двойственное отношение его к глупости. Реализация метафоры «животного». Наивная
глупость и мудрая глупость. Пристальное изучение человеческой глупости с
двойственным чувством ненависти и любви к ней.
Узловой момент в истории романа. Эпоха Теккерея, Диккенса, великого русского
романа; адаптация во Франции «Вильгельма Мейстера» и т. п. Формы романа здесь
достигают завершенности и одновременно начинается разложение и деградация; все
эти моменты мы найдем у Флобера. Найдем мы в нем и элементы деградации в натура-
82
лизм (и respective в позитивизм), но найдем и элементы тех двух линий, на которых
роман поднялся до своих вершин: линия Пруста и — в особенности — Джеймса
Джойса32 и линия великого русского романа — Толстого и Достоевского.
Современная действительность как конститутивный для романа объект
изображения.
Картина действительности без грана спасительных иллюзий.
Душа варвара. Душа восточной женщины33. Душа материи. Теофиль Готье и
Египет34.
Возможность совершенно иной жизни и совершенно иной конкретной ценностносмысловой картины мира, с совершенно иными границами между вещами и
ценностями, иными соседствами. Именно это ощущение составляет не
О Флобере
83
обходимый фон романного видения мира, романного образа и романного слова. Эта
возможность иного включает в себя и возможность иного языка, и возможность иной
интонации и оценки, и иных пространственно-временных масштабов и соотношений.
Причудливое многообразие вер в их конкретном выражении.
Разъятие, разрывание, расчленение на части, разрушение целого как первофеномен
человеческого движения — и физического и духовного (мысль).
Свести к началу, к древнему невежеству, незнанию — этим думают объяснить и
отделаться. Диаметрально противоположная оценка начал (раньше священные, теперь
они профанируют)33. Разная оценка движения вперед: оно мыслится теперь как
чистое, бесконечное, беспредельное удаление от начал, как чистый и безвозвратный
уход, удаление по прямой линии. Таково же было и представление пространства —
абсолктгная прямизна. Теория относительности впервые раскрыла возможность иного
мышления пространства, допустив кривизну, загиб его на себя самого, и,
следовательно, возможность возвращения к началу. Ницшевская идея вечного
возвращения36. Дело здесь в возможности совершенно иной модели движения. Но это
особенно касается ценностной модели становления, пути мира и человечества в
ценностно-метафорическом смысле слова. Теория атома и относительность большого и
малого. Две бесконечности — вне и внутри каждого атома, каждого явления.
Относительность уничтожения. Проблемы первобытного мышления занимают очень
большое место в современном мировоззрении37; специфическая порочность в
господствующей постановке проблемы первобытного мышления. Упрощенно и грубо
ее можно формулировать так: первобытное мышление воспринимают только на фоне
современного мышления, анализируют и оценивают в свете этого последнего; не
делают контрольной попытки рассмотреть современное мышление на фоне
первобытного и оценить его в свете последнего; допускают только какой-то один тип
первобытного мышления, между тем как существует многообразие таких типов, причем отдельные типы, может быть, больше отличаются друг от друга, чем так
называемое первобытное мышление (произвольная смесь различных типов) от
современного;
О Флобере
83
нет никаких оснований говорить о п е р в о бытном мышлении, но лишь о различных
типах древнего мышления (попытки измерить их расстояние до первобытного наивны;
разница в отдаленности этих древних мышлений и современного мышления от
первобытного, в сущности, quantite negligeable38), допускается какое-то чудесное
крайне резкое ускорение в темпах движения к истине за последние четыре века;
расстояние, пройденное за эти четыре века, и степень приближения к истине таковы,
83
что то, что было четыре века назад или четыре тысячелетия назад, представляется
одинаково вчерашним и одинаково далеким от истины (настолько <... ) ...>39 пяти
веков в отношении истины все кошки серы (некоторое исключение допускается только
для античности); движение мыслится либо прямолинейным, либо замкнутыми циклами
(в духе Шпенглера); практически еще совершенно не изжит теоретически давно
отвергнутый миф о существовании перво бытных народов; типы мышления, шедшие
по совершенно иным и вовсе не параллельным с нашим путям, рассматриваются как
шедшие по нашему же пути, но только бесконечно отставшие; допустим многообразие
геометрических отношений различных путей мышления о мире: параллельные, пересекающиеся под разными углами, обратные нашему (но не в отношении к истине) и
др.40 Своеобразная система открытий и забвений. Современное мышление приводится
к одному знаменателю и чрезвычайно упрощается (за сетью недавних троп теряются
основные колеи и магистрали). Прошлое мира и человечества также бесконечноконечно, как и его будущее, и это относительно каждого момента, каждый одинаково
отстоит от конца и от начала; проблема воскрешения отцов и ее логика. Можно
допустить параллельные ряды жизней во времени, пересечение разных линий времени.
Род Флобера по отцу — это род ветеринаров. До конца сознательная, до конца сама
себе ясная и до конца проникнутая сознательной авторской волей мысль,
односмыслен-ная, однозначная, совпадающая сама с собою и где автор совпадает с
самим Собою, без остатка и избытка своего-чужого, — в данном случае нас <?>
интересует менее всего. Это — нечто наиболее временно ограниченное, сегодняшнее,
преходящее, смертный отход становления, <...>41. Ужас равнодушия, ужас совпадения
с самим со
О Флобере
84
бою, примирения со своею данной жизнью в ее благополучии и обеспеченности,
удовлетворенности односмысленны-ми, однозначными и сплошь данными и готовыми,
совпадающими сами с собой мыслями. Равнодушие как нежелание переродиться, стать
другим. Политика строит жизнь из мертвой материи42, только мертвые,-себе равные
кирпичи43 годны для построения политического здания (48й год в изображении
Флобера44).
Библейские образы силы, власти, гнева в «Саламбо». Самосознание властителя.
Образ сексуально окрашенной красоты абсолютно чужд гротескной концепции
тела45. Половые органы, совокупление носят объективный телесно-космический
характер и лишены индивидуализованной сексуальности.
Фамильярно-площадная речь как единое ценностно-смысловое целое. Мир без
дистанций. Фамильярно-площадная стихия речи как основной источник. Ближайшая
кристаллизация тех же форм в ругательствах и jurons46. Большая параллельная
кристаллизация их в формах народно-праздничного веселья (карнавал) и в формах
народной площадной комики.
Художественный и мыслительный жест расчленения на части, противоположный
дистанциирующему, отдаляющему, оцельняющему и героизующему эпическому жесту
(движению сознания), относящему в абсолютное прошлое, увечняющему жесту. Это
нельзя сводить к противоположности анализа и синтеза: и анализ и синтез нового
времени одинаково лежат в сфере расчленяющего сознания.
Все препятствует тому, чтобы человек мог оглянуться на себя самого.
К стилистике романа
К СТИЛИСТИКЕ РОМАНА
Корни романного слова1.
84
I. Пародийное слово2: 1) парное пародийное слово, как процесс разложения
двутелого образа*; фольклорные споры; первофеномен романного диалога — спор
времен4;
2) собственно пародийное слово и его разновидности.
II. Прозвище. Имя и прозвище; прозвище и метафора5. Блазоны6.
III. Гибридные конструкции и многоязычие7. Основные недостатки теории жанров.
1) Отрыв от истории языка (виновата и узость лингвистического подхода); 2)
ориентация на стабильные эпохи;
3) неисторичность; 4) отсутствие философской основы8 (модель мира, лежащая в
основе жанра и образа9).
Все жанры ориентированы на миф (последнее целое), роман на философию (и
науку)10.
Возможность иной действительности, как предпосылка романного жанра11. '
Далевой образ и зона контакта.
Проблема стилизации. Роман, как наиболее подлинный эпический жанр.
Проблема психологии и действия в романе.
Интроекция и кризис интроективной психологии.
Стремление искать подлинного человека не в нем, а вне его: в творчестве, в делах, в
том, что он видит и слышит. Проблема границ человека. Проблема перестроения
образа.
Зона контакта с незавершенной действительностью. Анализ сократического диалога
и образ Сократа12.
Новый тип героизации: герой-святой-шут. Легенда о семи мудрецах (хранители
сокровищницы народной мудрости)13.
<...> формирования европейской поэтики. <...> литературной стабилизации.
Ориен<тация на официа>льную <?>14 литературу, на классические жанры и
классические язык и стиль в широком смысле этого слова (завер
85
К стилистике романа
85
шенность, однотонность и односмысленность и т. п.). Мир неклассических форм15.
Роман существовал в эти эпохи стабилизации, но находился за порогом большой
литературы и не оказывал определяющего влияния на теоретическую мысль. Роман
вошел в большую литературу, но к нему нет теоретического подхода, ни к специфике
построения его образов, ни к глубокому своеобразию романного слова16. В процессе
своего развития и роман подвергался влиянию стабилизирующих, классицистских,
завершающих тенденций, но до конца официальным жанром он никогда не был.
Большие судьбы слова и образа не поняты теорией литературы: она знает только
мелкую, периферийную жизнь слова и образа, суетню направлений и технологию
эпигонского творчества . Проблема романа позволит углубить наше теоретическое
мышление о литературе, расширить его горизонты. Роман — единственный становящийся жанр. Он позволяет заглянуть в лабораторию творчества, но не
индивидуального, поверхностно сознательного и технического, но в большую
лабораторию жанрового творчества (которое осмысливает и управляет индивидуальным творчеством, не доходя до их отвлеченного и поверхностно практического
сознания). Бессмертных романов почти нет (без оговорки только Рабле, с оговоркою
же Сервантес и Достоевский).
Наша теоретическая мысль питается очень короткой и обедненной памятью.
Влияние риторики на роман18 (пробуждение страха и надежды). <...> образа Сократа.
Но подлин<но?> народ<..?> <...>19 надеется и не боится.
85
Мы не знаем, в каком мире мы живем. Роман хочет нам его показать.
Ближайшее
пространство,
местные
локальные
легенды,
приближение,
фамильяризация. И в то же время утопическая даль.
Возможность иной жизни (иной судьбы) и авантюрный роман.
Постановка автора романа (в отличие от эпоса и других завершающих жанров).
Вторжение в роман риторического20 элемента. Убеждение. Диалогический элемент
связан не только с риторикой.
Влияние журнала и газеты на роман (вообще печати) — становление и зона
контакта.
К стилистике романа
86
Жанры подобны национальностям или государствам в политической жизни мира
(роль деятелей — писатели)21.
Характеры животных как основа типологической характеристики. Звериные
элементы в образах Т ере ига и др. ранних типологических образах (образах «низкого»,
не героического бытия). Античная физиогномика. Басня. Гротеск. Древний опыт
изучения животных и учения у них. Значение этого в истории романа и романных
образов. Флобер.
Вопросы стилистики на уроках русского языка
ВОПРОСЫ СТИЛИСТИКИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В СРЕДНЕЙ
ШКОЛЕ
Грамматические формы1 нельзя изучать без постоянного учета их стилистического
значения. Грамматика, оторванная от смысловой и стилистической стороны речи, неизбежно вырождается в схоластику.
Это положение, в его общей формулировке, в настоящее время звучит уже как
трюизм. Но с его конкретным применением в преподавательской практике дело
обстоит далеко не благополучно. На практике преподаватель очень редко дает и умеет
давать стилистическое освещение изучаемых грамматических форм. Стилистикой он
еще занимается иногда на уроках литературного чтения (весьма, кстати сказать, мало и
поверхностно), а на уроках русского языка — чистой грамматикой2.
Беда в том, что в нашей методической литературе совершенно отсутствует скольконибудь систематическая разработка стилистики отдельных грамматических форм Даже
вопрос в этом разрезе в нашей литературе почти никогда не ставился и не ставится .
Чтобы уяснить себе стилистическое значение какой-нибудь грамматической формы,
например, видов глагола, причастия, деепричастия, преподавателю приходится
обращаться к таким трудно доступным книгам, как «Из записок по русской грамматике» А. А. Потебни7. Да и там он найдет, хотя и очень глубокий, но далеко не всегда
пригодный для его практических нужд ответ на свои вопросы. Систематического же
* Старая попытка В. Чернышева построить такую стилистику неудачна и почти
ничего не может дать нашему преподавателю. См.: Чернышев В. «Правильность и
чистота русской речи (опыт русской стилистической грамматики)». СПб., 1914-19153.
** Стилистическая грамматика (и ее основа: лингвистическая стилистика) лучше
всего разработана во Франции. Научные основы ее были заложены в трудах иколы
Фердинанда де Соссюра (Баии, Сетей, Тибоде и др.)4- Имеются прекрасно
разработанные пособия для школьной практики3. В Германии этими вопросами
занималась школа Фосслера (Лео Шпитцер, Лорк, Лерх и ДР)6.
86
Вопросы стилистики на уроках русского языка
Каждая грамматическая форма является одновременно и
86
можно и должно осветить с точки зрения заложенных в ней изобразительных и
выразительных возможностей, т. е. осветить и оценить стилистически. При изучении
же некоторых разделов синтаксиса — притом очень важных — такое стилистическое
освещение является совершенно необходимым. Это прежде всего имеет место при
изучении параллельных и заменяющих синтаксических форм, т. е. там, где говорящий
и пишущий имеет возможность выбора между двумя или несколькими грамматически
равно правильными синтаксическими формами10. Выбор в этих случаях определяется
уже не грамматическими, а чисто11 стилистическими соображениями, т. е.
изобразительной и выразительной эффективностью данных форм. Без стилистических
объяснений, следовательно, здесь уже никак нельзя обойтись.
Ученик, например, узнает, при каких условиях определительное придаточное
предложение может быть заменено причастным оборотом и когда такая замена
невозможна, знакомится он и с грамматической техникой этой замены. Но ни учителя,
ни учебник ничего не говорят ученику о том, когда и для чего эта замена производится.
Невольно возникает вопрос: для чего ему уметь производить замену, если он не
понимает цели такой замены? Ясно, что узко-грамматическая точка зрения в этих
случаях совершенно недостаточна12. Два предложения —
Новость, которую я сегодня услышал, меня очень заинтересовала. Новость,
услышанная мной сегодня, меня очень заинтересовала.
— грамматически одинаково правильны. Грамматика разрешает обе формы. Но
когда мы должны предпочесть одну, а когда другую форму? Чтобы на этот вопрос отве
* А некоторые синтаксические упражнения в его учебнике прямо дезориентируют в
этом вопросе преподавателя*.
ЛИ
средством
каждую такую форму
87
освещения вопросов стилистической грамматики он, повторяем, вообще нигде не
найдет.
Нечего и говорить, что учебники С. Г. Бархударова и изданные под его редакцией
методические разработки к ним никакой помощи преподавателю в этом деле не оказаВопросы стилистики на уроках русского языка
87
тить, надо понимать их стилистические плюсы и минусы, т. е. стилистическую
специфику каждой из этих форм. Учитель должен показать ученикам в возможно более
доступной для них форме, что мы теряем и что мы приобретаем, избирая то или иное
из этих предложений. Он должен объяснить им, что, производя замену придаточного
предложения причастным оборотом, мы ослабляем глагольность этого предложения,
подчеркиваем побочность действия, выраженного глаголом «услышал», а вместе с тем
ослабляется и значение обстоятельственного слова «сегодня»; но, с другой стороны,
при замене происходит концентрация мысли и акцента на главном «герое» этого
предложения, на слове «новость», одновременно с этим достигается и большая
сжатость выражения.
В первом предложении два действующих лица, как бы два героя: «новость» и «я»,
причем одни слова группируются вокруг «новости» («очень», «заинтересовала»,
«меня»), другие — вокруг «я» («услышал», «сегодня»); во втором предложении второй
герой («я») сходит со сцены, и все слова группируются теперь вокруг единственного
героя «новость» (вместо «я услышал» мы говорим теперь «новость услышанная»). В
связи с этим меняется и смысловой удельный вес отдельных слов, составляющих
87
данное предложение. Чтобы заставить учеников самим разбираться13 в этом деле,
полезно поставить им такой вопрос: можно ли произвести замену, если говорящему
важно подчеркнуть14, что именно сегодня он услышал новость? Ученикам сразу
станет ясно, как понижается удельный вес этого слова при замене. Ученикам следует
далее показать, что глагольность предложения и удельный вес обстоятельственных
слов можно еще более ослабить, поставив причастный оборот перед определяемым
словом:
Услышанная мною сегодня новость очень меня заинтересовала.
Путем правильного интонирования этого предложения покажем ученикам, что слова
«услышанная мною сегодня» произносятся в более быстром темпе и почти вовсе лишены акцента. Смысловая значимость этих слов резко понижается: наша интонация как
бы небрежно пробегает мимо них, торопясь к слову «новость» без остановки в пути,
без паузы. Учениками уясняется стилистический смысл постановки причастного
оборота перед определяемым словом,
Вопросы стилистики на уроках русского языка
88
который был для них совершенно заслонен формально-грамматическим вопросом о
запятых. Кстати, и этот последний вопрос предстанет для них в новом свете.
Сказанным стилистическое освещение наших предложений, конечно, далеко еще не
исчерпывается. Но для наших целей этого достаточно. Нам важно было лишь показать
на этом примере совершенную необходимость стилистического освещения всех
подобных синтаксических форм13. К сожалению, наши преподаватели весьма часто
плохо умеют давать такие освещения. На вопросы учеников о том, когда и для чего
следует производить замену (а подобные вопросы задаются часто и настойчиво),
преподаватель обычно ограничивается ответом, что следует избегать частого
повторения слова «который»16, что следует руководиться17 соображениями
благозвучия. Подобные ответы недостаточны, а в сущности и неверны.
Стилистическое освещение совершенно обязательно при прохождении всех
вопросов синтаксиса сложного предложения18, т. е. всего курса VIIго класса19. Узкограмматическое изучение этих вопросов приводит к тому, что ученики в лучшем
случае научаются только неплохо разбирать готовое предложение в готовом чужом
тексте, научаются еще правильно употреблять знаки препинания в диктантах, но их
собственная устная и письменная речь почти не обогащается новыми оборотами:
многими знакомыми им по грамматике формами они вовсе не пользуются, при пользовании же другими проявляют полную стилистическую беспомощность.
Прохождение синтаксиса без стилистического освещения, не обогащая речи
учеников, лишено всякого творческого значения, не помогает им творить собственную
речь, оно научает их только разбираться в уже созданной чужой готовой речи. А ведь
это уже схоластика. В настоящей работе мы намерены остановиться на более
подробном стилистическом освещении только одной формы — формы бессоюзного
сложноподчиненного предложения. В деле воспитания творческой речи учеников
правильное и глубокое изучение этой формы имеет, по нашему убеждению,
исключительно плодотворное значение. Между тем вопрос этот не был освещен в
нашей литературе. В трудах Потебни, Шахматова, Пешковского рассеяно, правда,
немало ценных наблюдений над различными видами бес
Вопросы стилистики на уроках русского языка
88
союзного подчинения, но наблюдения эти <не> систематизированы и далеко не
полны в стилистическом отношении20. Вопрос этот интересует нас здесь, конечно,
прежде всего в плане методики.
88
На примере стилистического анализа этого частного грамматического вопроса мы
надеемся лучше уяснить наше общее положение о роли стилистики на уроках русского
языка21.
Бессоюзное сложноподчиненное предложение (во всех его разновидностях) в
самостоятельной письменной речи учеников старших классов (VIII, IX, X) встречается
крайне редко. Это известно по опыту каждому преподавателю. Мною были специально
просмотрены все домашние и классные сочинения учеников двух параллельных
отделений VIII класса за первое полугодие, всего около трехсот сочинений. И вот во
всех этих сочинениях обнаружилось всего только три случая употребления бессоюзного сложноподчиненного предложения (кроме цитат, конечно)! С тою же целью мною
было просмотрено около восьмидесяти сочинений учеников X класса за тот же период.
В них обнаружилось всего семь случаев употребления этих форм22. Беседы с
преподавателями других школ подтвердили мои наблюдения. В начале второго
полугодия я устроил в VIII и X классах специальные диктанты па бессоюзное
сложноподчиненное
предложение.
Результаты
диктантов
были
вполне
удовлетворительными: пунктуационных ошибок в бессоюзном сложноподчиненном
предложении оказалось очень мало.
Диктанты и последующие беседы с учениками убедили меня в том, что, встречаясь с
бессоюзным сложноподчиненным предложением в чужом готовом тексте, ученики
неплохо в нем разбирались, помнили правила и почти не ошибались в постановке
знаков препинания. Но в то же время они совершенно не умели пользоваться этой
формой в собственной письменной речи, не умели работать с ней творчески. Это
явилось результатом того, что в VII классе стилистическое значение этой
замечательной формы не было надлежащим образом освещено. Ученики не узнали ей
цену. Надо было ее перед ними раскрыть. Путем тщательного стилистического анализа
особенностей и достоинств этой формы нужно было привить ученикам вкус к
Вопросы стилистики на уроках русского языка
89
ней, заставить их полюбить бессоюзное сложноподчиненное предложение как
замечательнейшее средство речевой выразительности. Но как это сделать?
Вот как, по моим наблюдениям и опыту, следует строить эту работу. В основу ее
положим подробный анализ следующих трех предложений:
1) Печален я: со мною друга нет (Пушкин).
2) Он засмеется — все хохочут (Пушкин).
3) Проснулся: пять станции убежало назад (Гоголь)23
Приступая к анализу первого предложения, прежде всего прочитываем его с
максимальной выразительностью, даже несколько утрируем его интонационную
структуру, а с помощью мимики и жеста усиливаем заложенный в этом предложении
элемент драматизма: очень важно заставить учеников услышать и оценить те моменты
выразительности (прежде всего — эмоциональной), которые исчезнут при
превращении бессоюзной конструкции в обыкновенное союзное подчинение; пусть
они почувствуют ведущую роль интонации в предложениях этого типа; пусть они
ощутят и увидят, с какой внутренней необходимостью при произнесении пушкинской
строки интонация сочетается с мимикой и жестом. После того как предложение
услышано учениками, доведено до их непосредственного художественного
восприятия, можно приступить к анализу тех средств, какими достигается его
художественный эффект, его выразительность. Анализ этот следует строить в таком
порядке:
89
1) Превращаем анализируемое предложение в обычное сложноподчиненное
предложение с союзом «так как». Пробуем сначала ввести союз механически, не меняя
предложения:
Печален я, так как со мною друга нет.
Путем обсуждения с учениками приходим к выводу, что в таком виде предложение
это оставить нельзя; при наличии союза инверсия, употребленная Пушкиным, становится неуместной и необходимо восстановить обычный прямой «логический»
порядок слов:
Я печален, так как со вшою нет друга.
Или:
Я печален, потому что со мною нет друга.
Вопросы стилистики на уроках русского языка
90
Оба предложения и грамматически и стилистически совершенно правильны.
Ученики попутно убедились, что пропуск или восстановление союза не есть простое
механическое дело24: им определяется порядок слов в предложении, а следовательно и
распределение акцентов между словами.
2) Ставим перед учениками вопрос: чем отличается построенное нами союзное
предложенные от бессоюзного пушкинского? Без труда добиваемся от них ответа, что
в нашей переделке утрачена эмоциональная выразительность пушкинского
предложения, что в переделанном виде оно стало холоднее, суше, логичнее.
Убеждаемся, далее, вместе с учениками, что совершенно исчез драматический
элемент предложения: та интонация, мимика и жест, с помощью которых мы как бы
разыгрывали эту внутреннюю драматичность при исполнении пушкинского текста, при
чтении нашей переделки становятся явно неуместными. Предложение, по словам учеников, стало более книжным, немым, для чтения глазами: оно уже не просится больше
на живой голос. В общем, как убеждаются ученики, мы очень многое потеряли с точки
зрения выразительности, заменив бессоюзную конструкцию союзной.
3) Начинаем последовательное выяснение причин утраты выразительности в
измененном предложении. Прежде всего останавливаемся на анализе подчинительных
союзов «так как» и «потому что». Обращаем внимание учеников на некоторую
громоздкость и неблагозвучие этих союзов. Показываем на примерах, как портится
речь при обилии в ней таких громоздких слов, какой книжный, сухой и
неблагозвучный характер приобретает она при частом употреблении этих союзов.
Поэтому художники слова всегда стремились свести их употребление к минимуму.
Рассказываем ученикам, как на протяжении всего XIX века и даже еще в XX веке (у
таких архаизирующих поэтов, как Вяч. Иванов) продолжали жить (особенно в
стихотворной речи) архаические церковнославянские союзы «ибо» и «зане»,
продолжали жить именно потому, что были короче и благозвучнее громоздких «так
как» и «потому что». Рассказ этот иллюстрируем примерами.
Вопросы стилистики на уроках русского языка
90
Затем переходим к особенностям семантики подчинительных союзов, объясняем
ученикам, что такие служебные слова, как подчинительные союзы, обозначающие
чисто логические отношения между предложениями, совершенно лишены наглядного,
образного элемента: ведь их значение никак нельзя себе представить в нагляднообразной форме; поэтому они никогда не могут получить в нашей речи
метафорическое значение, их нельзя употреблять в иронической форме, на них не
может опереться эмоциональная интонация (попросту говоря, их нельзя произносить с
чувством), они совершенно лишены, следовательно, той богатой и разнообразной
90
жизни, какой живут в нашей речи слова с вещественным, образным значением. Эти
чисто логические союзы, конечно, совершенно необходимы в нашей речи, но это —
холодные, бездушные слова23.
4) После анализа подчинительных союзов переходим к вопросу об их влиянии на
весь окружающий контекст. Прежде всего поясняем ученикам стилистическое
значение порядка слов в предложении (точнее, освежаем этот вопрос в их памяти,
потому что они уже должны его знать). Показываем (на примерах) особое
интонационное значение первого слова в предложении (после паузы). Короткий союз,
стоящий в начале предложения, не занимает особого интонационного места, но
сложные союзы «так как» и «потому что» непроизводительно заполняют это первое
место (будучи сами безакцентными) и этим ослабляют всю интонационную структуру
предложения. Далее, семантическая природа этих союзов, их специфическая
холодность оказывают влияние на весь порядок слов в предложении: эмоциональная
инверсия становится невозможной. Сравнивая пушкинское предложение с нашей
переделкой, показываем ученикам, как снизился, вследствие перемещения,
интонационный вес слова «печален» в первой части сложного предложения и слова «со
мною» — во второй, как резко ослабляется эмоциональная окраска слова «нет».
5) Приводим учащихся к самостоятельной формулировке выводов из нашего
анализа. Вот эти выводы. В результате замены бессоюзного пушкинского предложения
союзным произошли следующие стилистические изменения:
а) логическое отношение между простыми предложениями,
обнажившись
и
выдвинувшись на первый
Вопросы стилистики на уроках русского языка
91
план, ослабило эмоциональное и драматическое отношение между печалью поэта и
отсутствием друга;
b) резко сократилась интонационная нагрузка как на каждое отдельное слово, так и
на все предложение: роль интонации заменил теперь бездушный логический союз;
слов в предложении стало больше, но простора для интонации стало гораздо меньше;
c) драматизация слова мимикой и жестом стала невозможной;
d) снизилась образность речи;
e) предложение как бы перешло в немой регистр, стало более приспособленным для
чтения его глазами, чем для выразительного чтения вслух;
г) предложение утратило свою сжатость и стало менее благозвучным26.
Анализ второго пушкинского предложения можно провести, опираясь на все
сказанное, гораздо короче. Нужно сосредоточить внимание учеников только на том
новом, что есть во втором предложении. Прежде всего напоминаем ученикам, что
здесь имеет место уже иное логическое отношение между простыми предложениями:
это находит свое выражение и в другом знаке препинания27. Затем переходим к замене
данной бессоюзной конструкции союзной. Здесь мы сразу встречаемся с трудностями.
Предложение «Когда он засмеется, то все хохочут» совершенно не удовлетворяет
учеников. Все чувствуют, что утрачивается какой-то очень существенный оттенок
смысла. Начинаем выяснять. Одни предлагают формулировку: «Всякий раз, когда он
засмеется, хохочут все», другие — «Только тогда, когда он засмеется, осмеливаются и
все хохотать», третьи — «Достаточно ему засмеяться, как все начинают угодливо
хохотать». Последнее предложение все находят наиболее адэкватным по смыслу, хотя
оно и слишком свободно перефразирует пушкинский текст. В результате обсуждения с
учениками мы приходим к выводу, что и слова «всякий раз», и «только тогда, когда», и
«достаточно..., как» и даже слова «осмеливаются» и «угодливо» передают различные
оттенки смысла пушкинского предложения и в этом отношении нужны, но и все они
91
вместе взятые не исчерпывают всей полноты этого смысла, настолько он неотделим от
формы его словесного выражения.
Вопросы стилистики на уроках русского языка
92
Прежде чем перейти к дальнейшему анализу, полезно ознакомить учеников с
семантическими особенностями союзных слов, которые появляются при замене
данного типа предложения. Союзные слова, в отличие от союзов, не лишены образного
элемента, но эта образность их сильно ослаблена и потому лишена метафорической
силы; допускают они также и некоторую (очень слабую) эмоциональную окраску.
Наличие союзных слов в предложении (особенно громоздких) логизирует его
структуру, хотя и не в такой степени, как наличие сложных подчинительных союзов.
В дальнейшем анализе мы выдвигаем следующие моменты.
1) Для второго пушкинского предложения характерна драматичность, но не
эмоциональная, как в первом, а динамическая. Действие как на сцене развертывается
перед нашими глазами; второе простое предложение («все хохочут») буквально
откликается на первое («Он засмеется»). Перед нами не рассказ о действии, а как бы
само действие. Эта динамическая драматичность достигается прежде всего строгим
параллелизмом в построении обоих предложений: «он» — «все», «засмеется» —
«хохочут»; второе предложение является как бы зеркальным отражением первого, как
и хохот гостей является действительным отражением онегинского смеха. Построение
речи драматически воспроизводит, таким образом, то событие, о котором эта речь
рассказывает28. Обращаем внимание учеников и на форму будущего времени глагола
в первом предложении («засмеется»): она усиливает драматичность действия и в то же
время выражает его многократность (передаваемую при союзном подчинении с помощью «всякий раз как»).
2) Обращаем внимание учеников на исключительную лаконичность пушкинского
предложения: два простых не-распространенных предложения, всего четыре слова, а с
какою полнотою оно раскрывает роль Онегина в этом собрании чудовищ, его
подавляющую авторитетность! Отмечаем также, что выбором для Онегина слова
«смеется», а для чудовищ — «хохочут» ярко показано, как они грубо и подхалимски
утрируют действия своего повелителя.
3) Приводим учащихся к заключительному выводу из нашего анализа: пушкинское
бессоюзное предложение не
Вопросы стилистики на уроках русского языка
92
рассказывает о событии, а драматически разыгрывает его перед нами самой формой
своего построения. Когда мы пытаемся передать его смысл с помощью союзной формы
подчинения, то мы от показа переходим к рассказу, а потому, сколько бы мы ни
вводили дополнительных слов, мы никогда не передадим всей конкретной полноты
показанного29. Логизируя путем ввода союзных слов отношение между простыми
предложениями, мы разрушаем наглядную и живую динамическую драматичность
пушкинского предложения30.
Разобрать третий пример после всего сказанного уже совсем легко. Уже знакомый
нам динамический драматизм у Гоголя выражен еще более резко, хотя и несколько поиному. Необходимо при чтении гоголевского текста несколько преувеличенно
передать интонацию приятного изумления проснувшегося путника. Пауза между
простыми предложениями (отмеченная тире31) полна здесь напряженным ожиданием
какого-то сюрприза — это нужно выразить при исполнении с помощью интонации,
мимики и жеста, а затем с веселым изумлением подать второе предложение с особым
ударением на, слове «пять» (целых пять!). Мимика и жест при исполнении этого
92
предложения сами просятся — их не удержишь! Мы видим перед собой этого путника,
протирающего заспанные глаза и с приятным изумлением узнающего, что, пока он
спал, он проехал уже пять станций. Когда мы делаем попытку передать это с помощью
союзного подчинения, мы сбиваемся на многословный рассказ, но все же так и не
можем передать всей полноты показанного, драматически разыгранного перед нашими
глазами. После обсуждения с учениками мы останавливаемся на следующей замене:
«Когда я проснулся, то оказалось, что уже пять станций убежало назад».
Когда это предложение сформулировано и записано на доске, я обращаю внимание
учеников на смелое метафорическое выражение, почти олицетворение, употребленное
Гоголем: «пять станций убежало назад». Ведь не станции убегали назад, а путник ехал
вперед (хотя именно таково непосредственное впечатление едущего). Ставим перед
учениками вопрос, хорошо ли звучит это выражение в нашей переделке гоголевского
предложения (у Гоголя-то оно звучало отлично), уместно ли оно в обстановке союз
Вопросы стилистики на уроках русского языка
93
ного подчинения. Ученики соглашаются со мной, что выражение это несколько
нарушает логический стиль нашего предложения и что его следует заменить более
трезвым и рациональным, но менее образным и динамическим выражением: «я
проехал уже пять станций». В результате переделок получилось вполне корректное, но
сухое и бледное предложение: от гоголевской динамической драматичности, от
стремительного и смелого гоголевского жеста ровно ничего не осталось.
На основе разобранного примера, привлекая и дополнительный материал,
разъясняем ученикам, что в холодной атмосфере, создаваемой подчинительными
союзами и союзными словами, увядают и блекнут все яркие метафорические
выражения, образы и сравнения, что в обстановке трезвого союзного подчинения
излюбленные Гоголем гиперболические сравнения и метафоры, иной раз и прямые
алогизмы, были бы совершенно невозможны32. Далее мы несколько расширяем эти
положения и показываем на примерах, как в условиях сложноподчиненного предложения с союзами (особенно в причинном) происходит строгий лексический отбор:
устраняются слова с сильной эмоциональной окраской, слишком смелые метафоры, а
также и слова недостаточно «литературные» (в более узком понимании этого слова),
простонародные, связанные с грубым бытом, специфические выражения разговорного
языка. Сложноподчиненное предложение с союзами тяготеет к литературно-книжному
стилю и чуждается разговорной живости и непринужденности бытовой речи33.
Здесь можно в доступной форме рассказать ученикам о значении синтаксических
форм бессоюзного подчинения в истории русского литературного языка, показать им,
как сложные гипотаксические34 периоды XVIII в., холодные и риторические,
тормозили сближение литературно-книжного языка с живым разговорным; показать,
что борьба архаической книжной и живой разговорной стихии в литературном языке
была неразрывно связана с борьбой сложных (периодических) конструкций с
простыми — в основном бессоюзными — формами разговорного синтаксиса35. Хорошо проиллюстрировать эти положения примерами разговорного синтаксиса из басен
Крылова (чрезвычайно, кстати, динамического), полезно сопоставить стиль Карамзина
в сложных гипотаксических периодах его «Истории госу
Вопросы стилистики на уроках русского языка
93
дарства Российского» со стилем его сентиментальных повестей.
Подобные исторические экскурсы можно делать не только в VIII классе, но и в VII
при хорошем составе класса.
93
Закончив анализ избранных нами трех предложений из произведений классиков,
следует показать ученикам, как обычны формы бессоюзного подчинения в нашей
обиходной речи. Следует проанализировать такое, например, предложение: «Я очень
устал: слишком много у меня работы». Сопоставив его с предложением: «Я очень
устал, так как у меня слишком много работы», следует показать, как понижается во
втором случае живость и выразительность речи. Раскрыв громадное значение в нашей
речи форм бессоюзного подчинения, показав их преимущества перед
соответствующими союзными формами36, следует, однако, указать ученикам на
законность и необходимость существования в языке и этих последних форм; нужно
показать не только очень важное значение союзного подчинения в практической и
научной речи, но и невозможность обойтись без него в художественной литературе.
Ученики должны понимать, что формы бессоюзного подчинения применимы далеко не
всегда.
Затем вместе с учениками подводятся итоги всей проделанной стилистической
работе. При этом преподаватель проверяет, в какой мере достигнута им цель работы:
удалось ли ему привить ученикам вкус и любовь к бессоюзному подчинению, сумели
ли ученики по-настоящему оценить выразительность и живость этих форм. Если эта
цель достигнута, то преподавателю остается только руководить практикой учеников по
внедрению этих форм в их устную и письменную речь.
Эта практика проводилась мною так. Прежде всего мы проделали ряд специальных
упражнений, в которых на заданные темы мы строили разнообразные варианты союзных и бессоюзных сложноподчиненных предложений, тщательно взвешивая
стилистическую уместность и целесообразность той или иной формы. Затем при
проверке домашних и классных работ я обращал особое внимание на все случаи, где
целесообразна была замена союзной формы подчинения бессоюзной, и производил в
тетрадях соответствующую стилистическую переработку37. При раз
Вопросы стилистики на уроках русского языка
94
боре работ в классе все эти предложения зачитывались и обсуждались, причем
«авторы» иногда и не соглашались с моей редакцией, возникали оживленные и
интересные споры. Были, конечно, и случаи, когда некоторые ученики слишком
увлекались бессоюзными формами и употребляли их не всегда уместно.
Результаты всей этой работы были в общем вполне удовлетворительны.
Синтаксический строй речи учеников значительно улучшился. В двухстах сочинениях
VIII класса за второе полугодие оказалось уже более семидесяти случаев употребления
бессоюзных сложноподчиненных предложений. В X классе результаты были еще
лучше: почти в каждом сочинении встречалось по два-три таких предложения.
Изменение синтаксического строя привело и к общему улучшению стиля учеников:
стиль стал живее, образнее, эмоциональнее, а главное — в нем стало раскрываться
индивидуальное лицо пишущего, зазвучала его живая индивидуальная интонация.
Стилистические уроки не пропадали даром.
Следует, в заключение, отметить, что стилистические анализы, даже самые тонкие и
филигранные, вполне доступны и очень нравятся ученикам, если только они проводятся живо и если сами ребята включены в активную работу. Насколько скучны
узко-грамматические разборы, настолько увлекательны стилистические анализы и
упражнения. Более того, эти анализы, правильно поставленные, осмысливают для
учеников грамматику: сухие грамматические формы, освещенные их стилистическим
значением, по-новому оживают для учеников, становятся им и понятнее и
интереснее38.
94
Преподаватели русского языка знают из опыта, что письменная речь учеников
претерпевает обычно очень существенный перелом. В младших классах между
письменной и устной речью детей нет резкого разрыва. Сочинений на литературные
темы и рассуждений они еще не пишут, а в своих творческих работах описательного и
повествовательного характера они ведут себя в смысле языка довольно
непринужденно; поэтому язык в этих работах, хотя частенько и корявый, но живой,
образный и эмоциональный; синтаксис у детей близок к разговорному; о правильности
конструкций они еще не очень заботятся, поэтому
Вопросы стилистики на уроках русского языка
95
строят довольно смелые предложения, иной раз весьма выразительные. Никакого
лексического отбора они еще не знают, поэтому лексика у них пестрая, бесстильная, но
также выразительная и смелая. В этом детском языке, хотя и неуклюже, проявляется
индивидуальность пишущего; язык еще не обезличен.
Затем наступает перелом. Начинается он обычно к концу VII класса, но своего
апогея достигает в VIII и IX классах. Ученики начинают писать сугубо литературнокнижным языком. Образцом для них становится штампованный язык учебников по
литературе: ведь, в сущности, к простым пересказам учебников сводятся их первые
сочинения по литературе3^. Но под их неопытным пером язык учебников становится
еще более штампованным и безличным. Ученики начинают бояться всякого
оригинального выражения, всякого оборота, непохожего ни на один из знакомых им
книжных штампов. Пишут они для глаза и не проверяют написанного голосом,
интонацией, жестом. Язык их, правда, становится Формально правильнее, но он
безличен, бесцветен и тускл. Книжность этого языка, несходство его с живой и
непринужденной устной речью представляется ученикам чем-то положительным.
Вот здесь-то и необходима серьезная работа преподавателя40. Надо добиться нового
перелома в письменной речи учеников; надо снова сблизить ее с живой и выразительной устной речью, с языком живой жизни. Но это сближение должно произойти на
более высоком уровне культурного развития: нужна не детская, наивная непринужденность речи, но мужественная уверенность и смелость воспитанного на
классических образцах языка.
Правильная постановка работы в VII классе имеет для всего этого дела решающее
значение. Синтаксис сложного предложения должен с начала и до конца освещаться
стилистическим анализом41. Это даст ученикам хорошую предохранительную
прививку против предстоящей им детской болезни — сугубой книжности их
письменного языка. Эту болезнь они перенесут гораздо легче и избавятся от нее
скорее42.
Стилистическую работу нужно неослабно продолжать и в VIII классе. В IX классе
надо добиться полного перелома, надо вывести учеников из тупика книжности на
дорогу грамотного, культурного и вместе с тем живого, смелого и
Вопросы стилистики на уроках русского языка
95
творческого языка жизни. Обезличенный, отвлеченно-книжный язык — тем более
наивно щеголяющий своей сугубой книжностью — признак полуобразования. Полная
культурная зрелость человека говорит не на таком языке43.
Но ведь язык оказывает могучее влияние на мышление говорящего. В формах
обезличенного, штампованного, безобразного, отвлеченно-книжного языка не может
развиваться мысль творческая, оригинальная, исследовательская, не отрывающаяся от
богатства и сложности жизни44. С каким языком юноша выйдет из стен средней
95
школы — от этого в значительной мере зависит дальнейшая судьба его творческих
способностей. А за это отвечает преподаватель.
Успешное разрешение задачи — приобщить ученика живому творческому языку
народа — требует, конечно, многих и разнообразных форм и приемов работы. Среди
этих форм немаловажное место занимает и охарактеризованная нами работа над
бессоюзным подчинением. В деле борьбы с обезличенным книжным языком эти бессоюзные предложения сильное оружие: в них, как мы видели, свободнее всего
проявляется индивидуальное лицо говорящего, отчетливее всего звучит его живая
интонация. Как только удается внедрить эти предложения в письменную речь
учеников, они начинают влиять и на другие формы этой речи, на весь стиль ее, вокруг
этих форм начинается процесс разрушения обезличенных книжных речевых штампов,
повсюду начинает пробиваться индивидуальная интонация пишущего. И
преподавателю остается путем гибкого и осторожного руководства помогать этому
процессу рождения языковой индивидуальности ученика.
Многоязычие, как предпосылка развития романного слова
МНОГОЯЗЫЧИЕ, КАК ПРЕДПОСЫЛКА РАЗВИТИЯ РОМАННОГО СЛОВА
Многоязычие в строгом смысле (т. е. выходящее за пределы национального языка) в
романе — исключение. Многоязычные (многонациональные) намеренные стилистические гибриды в романе, конечно, чрезвычайно редки. Многоязычие в романе, как
правило, не выходит за пределы расслоения данного национального языка. И в то же
время подлинное активное многоязычие является необходимой предпосылкой
романного жанра. Только оно может внести момент глубокого критицизма в жизнь
языка. Для многоязычного сознания язык вообще приобретает новое качество,
становится чем-то совсем другим, чем он был для глухого одноязычного сознания.
В творчестве Гоголя смех снова сыграл решающую роль в истории русского романа,
обновившего европейский роман, поставившего романный жанр на новую, не достигнутую в Европе ступень развития (Толстой, Достоевский). В творчестве Гоголя
воссоздается перед нами в личной, страстной и драматической форме древняя
взаимоориентация и борьба эпического и романного слова, далевого геРоического и смехового фамильярного плана, трагического еракла с комическим
Гераклом, трагедии с менипповой сатирой. Долгий исторический процесс здесь
воплощен в личную трагедию, в жизненный и психологический конфликт. Куда деть, в
каком жанре пристроить порожденные смехом образы. Кризис старой литературной
серьезности. В этом плане исключительный исторический интерес приобретает не
написанная часть «Мертвых душ», а именно самый замысел этой «поэмы» во всем
процессе его становления: в этом замысле в новых условиях воспроизводятся
творческие поиски «Дон-Кихота», Рабле, Данте, плутовского романа, Стерна, т. е.
основные этапы развития европейского романа. В смехе Гоголя можно порой слышать
и отзвуки сатурналий и отзвуки греческого смеха, создавшего сатирову драму,
комического Геракла, мима и
96
Многоязычие, как предпосылка развития романного слова
эту иерархию. 11ережиток ее в «лексическом отборе» современной стилистики. В
этом демократи-зованном языке создается новая иерархия (на иных началах, без
священного).
Проанализировать сложные отношения и оттенки отношений к чужому слову в
средневековой литературе.
ощущение этой
Эпоха Возрождения разрушила
96
97
пр. Поэма о смерти старого и рождении нового. Но новое оказывается Чичиковым,
химерой. Максимально резкий разрыв между чистым риторическим прославлением и
смехом (Тьфуславль). Исключительно резко и последовательно выраженная
официальность николаевской эпохи. Официальная народность и прославление. Стихия
неофициального. Все неофициальное и неосмысленное, алогичное в слове, в жесте, в
бытовой подробности привлекало Гоголя. В человеческой фигуре и в лице он видит
вещь (кувшинное рыло, редьку в двух положениях) или зверя (медведя). В слове он
ищет прозвище. Вскрыть логику гротескного образа в описаниях наружности. Большое
он ищет не в образах идеальных людей, а в богатырстве, в веселом народном
богатырстве.
Иерархическое отношение средневековья к слову, мно-гостильность (сложная и
чрезвычайно тонкая) этой иерархии слов и стилей. Выработалось также и
специфическое
Проблема речевых жанров
ПРОБЛЕМА РЕЧЕВЫХ ЖАНРОВ
I. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЧЕВЫХ ЖАНРОВ
<...>Все многообразные области человеческой деятельности связаны с
использованием языка. Вполне понятно, что характер и формы этого использования
так же разнообразны, как и области человеческой деятельности, что, конечно,
нисколько не противоречит общенародному единству языка1. Использование языка
осуществляется в форме единичных конкретных высказываний2 (устных или письменных) участников той или иной области человеческой деятельности. Эти
высказывания отражают специфические условия и цели каждой такой области не
только своим содержанием (тематическим) и языковым стилем, то есть отбором
словарных, фразеологических и грамматических средств языка, но прежде всего своим
композиционным построением. Все эти три момента — тематическое содержание,
стиль и композиционное построение — неразрывно связаны в цело м * высказывания и
одинаково определяются спецификой данной сферы общения. Каждое отдельное
высказывание, конечно, индивидуально, но каждая сфера использования языка
вырабатывает свои относительно устойчивые типы таких высказываний, которые мы и
называем речевыми жанрами4.
Богатство и разнообразие речевых жанров необозримо, потому что неисчерпаемы
возможности разнообразной человеческой деятельности и потому что в каждой сфере
деятельности
вырабатывается
целый
репертуар
речевых
жанров,
дифференцирующийся и растущий по мере развития и усложнения данной сферы.
Особо нужно подчеркнуть крайнюю разнородность речевых жанров (устных и
письменных). В самом деле, к речевым жанрам мы должны отнести и короткие
реплики бытового диалога (причем разнообразие видов бытового диалога в завис и
97
Проблема речевых жанров
мости от его темы, ситуации, состава участников чрезвычайно велико), и бытовой
рассказ, и письмо (во всех его разнообразных формах), и короткую стандартную
военную команду, и развернутый и детализованный приказ, и довольно пестрый
репертуар деловых документов (в большинстве случаев стандартный), и
разнообразный мир публицистических выступлений (в широком смысле слова:
общественные, политические); но сюда же мы должны отнести и многообразные
формы научных выступлений и все литературные жанры (от поговорки до
многотомного романа). Может показаться, что разнородность речевых жанров так
велика, что нет и не может быть единой плоскости их изучения: ведь здесь в одной
97
плоскости изучения оказываются такие разнороднейшие явления, как однословные
бытовые реплики и многотомный художественный роман, как стандартная и
обязательная даже по своей интонации военная команда и глубоко индивидуальное
лирическое произведение и т. п. Функциональная разнородность, как можно подумать,
делает общие черты речевых жанров слишком абстрактными и пустыми. Этим, вероятно, и объясняется, что общая проблема речевых жанров по-настоящему никогда не
ставилась. Изучались — и больше всего — литературные жанры. Но начиная с античности и до наших дней они изучались в разрезе их литературно-художественной
специфики, в их дифференциальных отличиях друг от друга (в пределах литературы), а
не как определенные типы высказываний, отличные от других типов, но имеющие с
ними общую словесную (языковую) природу. Общелингвистическая проблема высказывания и его типов почти вовсе не учитывалась5. Начиная с античности изучались
и риторические жанры (причем последующие эпохи не много прибавили к античной
теории); здесь уже обращалось больше внимания на словесную природу этих жанров
как высказываний, на такие, например, моменты, как отношение к слушателю и его
влияние на высказывание, на специфическую словесную завершенность высказывания
(в отличие от законченности мысли) и др. Но все же и здесь специфика риторических
жанров (судебных, политических) заслоняла их общелингвистическую природу.
Изучались, наконец, и бытовые речевые жанры (преимущественно реплики бытового
диалога), и притом как раз с общелингвистической
98
Проблема речевых жанров
98
точки зрения (в школе де Соссюра6, у его новейших последователей —
структуралистов', у американских бихе-виористов8, на совершенно другой
лингвистической основе у фосслерианцев9). Но это изучение также не могло привести
к правильному определению общелингвистической природы высказывания, так как
оно ограничивалось спецификой устной бытовой речи, иногда прямо ориентируясь на
нарочито примитивные высказывания (американские бихевиористы)
Крайнюю разнородность речевых жанров и связанную с этим трудность
определения общей природы высказывания никак не следует преуменьшать. Особенно
важно обратить здесь внимание на очень существенное различие между первичными
(простыми) и вторичными (сложными) речевыми жанрами (это не функциональное
различие). Вторичные (сложные) речевые жанры — романы, драмы, научные
исследования всякого рода, большие публицистические жанры и т. п. — возникают в
условиях более сложного и относительно высокоразвитого и организованного
культурного общения (преимущественно письменного): художественного, научного,
общественно-политического и т. п. В процессе своего формирования они вбирают в
себя и перерабатывают различные первичные (простые) жанры, сложившиеся в
условиях непосредственного речевого общения. Эти первичные жанры, входящие в
состав сложных, трансформируются в них и приобретают особый характер:
утрачивают непосредственное отношение к реальной действительности и к реальным
чужим высказываниям; например, реплики бытового диалога или письма в романе,
сохраняя свою форму и бытовое значение только в плоскости содержания романа,
входят в реальную действительность лишь через роман в его целом, то есть как событие литературно-художественной, а не бытовой жизни. Роман в его целом является
высказыванием, как и реплика бытового диалога или частное письмо (он имеет с ними
общую природу), но в отличие от них это высказывание вторичное (сложное)10.
Различие между первичными и вторичными (идеологическими) жанрами
чрезвычайно велико и принципиально, но именно поэтому природа высказывания
98
должна быть раскрыта и определена путем анализа и того и другого вида; только при
этом условии определение может стать
Проблема речевых жанров
99
адэкватным сложной и глубокой природе высказывания (и охватить важнейшие его
грани); односторонняя ориентация на первичные жанры неизбежно приводит к
вульгаризации всей проблемы (крайняя степень такой вульгаризации —
бихевиористическая лингвистика). Самое взаимоотношение первичных и вторичных
жанров и процесс исторического формирования последних проливают свет на природу
высказывания (и прежде всего на сложную проблему взаимоотношения языка и
идеологии, мировоззрения).
Изучение природы высказывания и многообразия жанровых форм высказываний в
различных сферах человеческой деятельности имеет громадное значение для всех
почти областей лингвистики и филологии. Ведь всякая исследовательская работа над
конкретным языковым материалом — по истории языка, по нормативной грамматике,
по составлению всякого рода словарей, по стилистике языка и т. д. — неизбежно имеет
дело с конкретными высказываниями (письменными и устными), относящимися к
различным сферам человеческой деятельности и общения, — летописями, договорами,
текстами законов, канцелярскими и иными документами, различными литературными,
научными и публицистическими жанрами, официальными и бытовыми письмами,
репликами бытового диалога (во всех его многообразных разновидностях) и т. д., —
откуда исследователи и черпают нужные им языковые факты. Отчетливое
представление о природе высказывания вообще и об особенностях различных типов
высказываний (первичных и вторичных), то есть различных речевых жанров,
необходимо, как мы считаем, при любом специальном направлении исследования.
Игнорирование природы высказывания и безразличное отношение к особенностям
жанровых разновидностей речи в любой области лингвистического исследования
приводят к формализму и чрезмерной абстрактности, понижают историчность исследования, ослабляют связи языка с жизнью. Ведь язык входит в жизнь через конкретные
высказывания (реализующие его), через конкретные же высказывания и жизнь входит
в язык. Высказывание — это проблемный узел исключительной важности. Подойдем в
этом разрезе к некоторым областям и проблемам языкознания.
Прежде всего о стилистике. Всякий стиль неразрывно связан с высказыванием и с
типическими формами выска
Проблема речевых жанров
99
зываний, то есть речевыми жанрами11. Всякое высказывание — устное и
письменное, первичное и вторичное и в любой сфере речевого общения —
индивидуально и, потому, может отразить индивидуальность говорящего (или
пишущего), то есть обладать индивидуальным стилем. Но не все жанры одинаково
благоприятны для такого отражения индивидуальности говорящего в языке
высказывания, то есть для индивидуального стиля. Наиболее благоприятны — жанры
художественной литературы: здесь индивидуальный стиль прямо входит в само
задание высказывания, является одной из ведущих целей его (но и в пределах
художественной литературы разные жанры предоставляют разные возможности для
выражения индивидуальности в языке и разным сторонам индивидуальности).
Наименее благоприятные условия для отражения индивидуальности в языке наличны в
тех речевых жанрах, которые требуют стандартной формы, например, во многих видах
деловых документов, в военных командах, в словесных сигналах на производстве и др.
Здесь могут найти отражение только самые поверхностные, почти биологические
99
стороны индивидуальности (и то преимущественно в устном осуществлении
высказываний этих стандартных типов). В огромном большинстве речевых жанров
(кроме литературно-художественных) индивидуальный стиль не входит в замысел
высказывания, не служит одной <из> его целей, а является, так сказать, эпифеноменом
высказывания, дополнительным продуктом его. В разных жанрах могут раскрываться
разные слои и стороны индивидуальной личности, индивидуальный стиль может находиться в различных взаимоотношениях с общенародным языком. Самая проблема
общенародного и индивидуального в языке в основе своей есть проблема
высказывания (ведь только в нем, в высказывании, общенародный язык воплощается в
индивидуальную форму). Самое определение стиля вообще и индивидуального стиля в
частности требует более глубокого изучения как природы высказывания, так и
разнообразия речевых жанров.
Органическая, неразрывная связь стиля с жанром ясно раскрывается и на проблеме
языковых или функциональных стилей12. По существу языковые или функциональные
стили есть не что иное, как жанровые стили определенных сфер человеческой
деятельности и общения. В каждой
Проблема речевых жанров
сфере бытуют и применяются свои жанры, отвечающие специфическим условиям
данной сферы; этим жанрам и соответствуют определенные стили. Определенная
функция (научная, техническая, публицистическая, деловая, бытовая) и определенные,
специфические для каждой сферы условия речевого общения порождают
определенные жанры, то есть определенные, относительно устойчивые тематические,
композиционные и стилистические типы высказываний. Стиль неразрывно связан с
определенными тематическими единствами и — что особенно важно — с
определенными композиционными единствами: с определенными типами построения
целого, типами его завершения, типами отношения говорящего к другим участникам
речевого общения (к слушателям или читателям, партнерам, к чужой речи и т. п.).
Стиль входит как элемент в жанровое единство высказывания. Это не значит, конечно,
что языковой стиль нельзя сделать предметом самостоятельного специального
изучения. Такое изучение, то есть стилистика языка как самостоятельная дисциплина,
и возможно и нужно. Но это изучение будет правильным и продуктивным лишь на
основе постоянного учета жанровой природы языковых стилей и на ^основе
предварительного изучения разновидностей речевых жанров. До сих пор стилистика
языка лишена такой основы. Отсюда ее слабость. Нет общепризнанной классификации
языковых стилей. Авторы классификаций часто нарушают основное логическое
требование классификации — единство основания13. Классификации чрезвычайно
бедны и недифферен-цированны. Например, в недавно опубликованной академической
грамматике русского языка даются такие стилистические разновидности языка:
книжная речь, народная речь, отвлеченно-научная, научно-техническая, газетнопублицистическая, официально-деловая, фамильярная быязыковыми стилями в качестве стилистических разновидностей фигурируют
диалектные слова, устарелые слова, профессиональные выражения. Такая
классификация стилей совершенно случайна, и в ее основе лежат разные принципы
(или основания) деления на стили. Кроме того, классификация эта и бедна и мало
дифференцирована
* Такие же бедные н лишенные четкости и продуманного основа товая речь, вульгарное
с этими
100
100
Проблема речевых жанров
ния классификации языковых стилей дает А. Н. Гвоздев в своей книге «Очерки по
стилистике русского языка» (М., 1952, с. 13-15) и применительно к английскому языку
Н. Н. Амосова в статье «К проблеме языковых стилей в английском языке в связи с
учением И. В. Сталина об общенародном характере языка» в «Вестнике Ленинградского университета)», 1951, № 5. В основе всех этих классификаций лежит
некритическое усвоение традиционных представлений о стилях языка.
Этот наш тезис не имеет ничего общего с фосслеоианским положением о примате
стилистического над грамматическим17 и с другими аналогичными положениями
идеалистической лингвистики. Наше дальнейшее изложение покажет это с полною
ясностью.
101
Все это является прямым результатом недопонимания жанровой природы языковых
стилей и отсутствия продуманной классификации речевых жанров по сферам человеческой деятельности (а также и очень важного для стилистики различения первичных и
вторичных жанров).
Отрыв стилей от жанров особенно пагубно сказывается при разработке ряда
исторических вопросов. Исторические изменения языковых стилей неразрывно
связаны с изменениями речевых жанров. Литературный язык — это сложная
динамическая система языковых стилей; их удельный вес и их взаимоотношения в
системе литературного языка находятся в непрерывном изменении16. Еще более
сложной и на иных началах организованной системой является язык литературы, в
состав которого входят и стили нелитературного языка. Чтобы разобраться в сложной
исторической динамике этих систем, чтобы от простого (и в большинстве случаев
поверхностного) описания наличествующих и сменяющих друг друга стилей перейти к
историческому объяснению этих изменений, необходима специальная разработка
истории речевых жанров (притом не только вторичных, но и первичных), которые
более непосредственно, чутко и гибко отражают все происходящие в общественной
жизни изменения. Высказывания и их типы, то есть речевые жанры, — это приводные
ремни от истории общества к истории языка. Ни одно новое явление (фонетическое,
лексическое, грамматическое) не может войти в систему языка, не совершив долгого и
сложного пути жанрово-стилистического испытания и отработки
В каждую эпоху развития литературного языка задают тон определенные речевые
жанры, притом не только втоПроблема речевых жанров
101
ричные (литературные, публицистические, научные), но и первичные (определенные
типы устного диалога — салонного, фамильярного, кружкового, семейно-бытового,
общественно-политического, философского и Др.)- Всякое расширение литературного
языка за счет различных внелите-ратурных слоев народного языка неизбежно связано с
проникновением во все жанры литературного языка (литературные, научные,
публицистические, разговорные и др.) в большей или меньшей степени и новых
жанровых приемов построения речевого целого, его завершения, учета слушателя или
партнера и т. п., что приводит к более или менее существенной перестройке и
обновлению речевых жанров. Обращаясь к соответствующим нелитературным слоям
народного языка, неизбежно обращаются и к тем речевым жанрам, в которых эти слои
реализуются. Это в большинстве случаев различные типы разговорно-диалогических
жанров; отсюда более или менее резкая диалогиза-ция вторичных жанров, ослабление
их монологической композиции, новое ощущение слушателя как партнера-собеседника, новые формы завершения целого и др. Где стиль, там жанр. Переход стиля
101
из одного жанра в другой не только меняет звучание стиля в условиях несвойственного
ему жанра, но и разрушает или обновляет данный жанр.
Таким образом, и индивидуальные и языковые стили довлеют речевым жанрам.
Более глубокое и широкое изучение этих последних совершенно необходимо для
продуктивной разработки всех вопросов стилистики.
Но и принципиальный и общий методологический вопрос о взаимоотношениях
лексики и грамматики, с одной стороны, и стилистики — с другой, упирается в ту же
проблему высказывания и речевых жанров.
Грамматика (и лексика) существенно отличается от стилистики (некоторые даже
противопоставляют ее стилистике18), но в то же время ни одно грамматическое исследование (я уже и не говорю о нормативной грамматике) не может обойтись без
стилистических наблюдений и экскурсов. В целом ряде случаев граница между
грамматикой и стилистикой как бы и вовсе стирается. Существуют явления, которые
одними исследователями относятся к области грамматики, другими — к области
стилистики. Такова, например, синтагма19.
Проблема речевых жанров
102
Можно сказать, что грамматика и стилистика сходятся и расходятся в любом
конкретном языковом явлении: если рассматривать его только в системе языка, то это
грамматическое явление, если же рассматривать его в целом индивидуального
высказывания или речевого жанра, то это стилистическое явление. Ведь самый выбор
говорящим определенной грамматической формы есть акт стилистический. Но эти две
точки зрения на одно и то же конкретное явление языка не должны быть взаимно
непроницаемы друг для друга и не должны просто механически сменять друг друга, но
должны органически сочетаться (при самом четком методологическом различении их)
на основе реального единства языкового явления. Только глубокое понимание
природы высказывания и особенностей речевых жанров может обеспечить правильное
разрешение этой сложной методологической проблемы.
Изучение природы высказывания и речевых жанров имеет, как нам кажется,
основополагающее значение для преодоления упрощенных представлений о речевой
жизни, о так называемом «речевом потоке», о коммуникации и т. п., представлений,
еще бытующих в нашем языкознании. Более того, изучение высказывания как
реальной единицы речевого общения20 позволит правильнее понять и природу единиц
языка (как системы) — слова и предложения.
К этой наиболее общей проблеме мы и переходим.
II. ВЫСКАЗЫВАНИЕ КАК ЕДИНИЦА РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ. ОТЛИЧИЕ ЭТОЙ
ЕДИНИЦЫ ОТ ЕДИНИЦ ЯЗЫКА (СЛОВА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ)
<...> Идеалистическая лингвистика XIX века, начиная с В. Гумбольдта, не отрицая
коммуникативной функции языка, старалась отодвинуть ее на задний план как нечто
побочное; на первый план выдвигалась функция независимого от общения становления
мысли. Такова знаменитая гумбольдтовская формула: «Вовсе не касаясь нужды
сообщения между людьми, язык был бы необходимым условием мышления для
человека даже
Проблема речевых жанров
* Гумбольдт В. О различии организмов человеческого языка и о влиянии этого
различия на умственное развитие человечества. СПб.,
1859, с. 51.
102
при всегдашнем его одиночестве» Другие, например фосслерианцы, выдвигали на
первый план так называемую экспрессивную функцию21. При всем различии в
102
понимании этой функции отдельными теоретиками сущность ее сводится к
выражению индивидуального мира говорящего. Язык выводится из потребности
человека выразить себя, объективировать себя. Сущность языка в той или иной форме,
тем или иным путем сводится к духовному творчеству индивидуума. На почве
идеалистической лингвистики выдвигались и выдвигаются и несколько иные вариации
функций языка, но характерным остается если и не полное игнорирование, то
недооценка коммуникативной функции языка. Язык рассматривается с точки зрения
говорящего, как бы одного говорящего без необходимого отношения к другим
участникам речевого общения22. Если роль другого и учитывалась, то как роль
слушателя, который только пассивно понимает говорящего23. Высказывание довлеет
своему предмету (то есть содержанию высказываемой мысли) и самому высказывающему. Язык по существу нуждается только «в говорящем — одном говорящем
— ив предмете его речи, если же при этом язык может служить еще и средством
общения, то это его побочная функция, не задевающая его сущности. Языковой
коллектив, множественность говорящих, конечно, никак нельзя игнорировать, говоря о
языке, но при определении сущности языка этот момент не становится необходимым и
определяющим природу языка моментом. Иногда языковой коллектив рассматривается
как некая коллективная личность, «дух народа» и т. п. и ему придают огромное
значение (у представителей «психологии народов»24), но и в этом случае множественность говорящих, «других» в отношении каждого данного говорящего, лишена
существенности. <...>
В буржуазной лингвистике до сих пор еще бытуют такие фикции, как «слушающий»
и «понимающий» (партнеры «говорящего»), «единый речевой поток» и др. Эти фикции
дают совершенно искаженное представление тЗ сложном и многосторонне-активном
процессе речевого
Проблема речевых жанров
общения. В курсах общей лингвистики (даже и в таких серьезных, как де
Соссюра25) часто даются наглядно-схематические изображения двух партнеров
речевого общения — говорящего и слушающего (воспринимающего речь), дается
схема активных процессов речи у говорящего и соответствующих пассивных
процессов восприятия и понимания речи у слушающего. Нельзя сказать, чтобы эти
схемы были бы ложными и не соответствовали бы определенным моментам
действительности, но, когда они выдаются за реальное целое речевого общения, они
становятся научной фикцией. В самом деле, слушающий, воспринимая и понимая
значение (языковое) речи, одновременно занимает по отношению к ней активную
ответную позицию26: соглашается или не соглашается с ней (полностью или
частично), дополняет, применяет ее, готовится к исполнению и т. п.; и эта ответная
позиция слушающего формируется на протяжении всего процесса слушания и
понимания с самого его начала, иногда буквально с первого слова говорящего. Всякое
понимание живой речи, живого высказывания носит активно-ответный характер (хотя
степень этой активности бывает весьма различной); всякое понимание чревато ответом
и в той или иной форме обязательно его порождает: слушающий становится
говорящим («обмен мыслями»). Пассивное понимание значений слышимой речи —
только абстрактный момент реального целостного активно-ответного понимания,
которое и акту а-лизуется в последующем реальном громком ответе. Конечно, не
всегда имеет место непосредственно следующий за высказыванием громкий ответ на
него: активно-ответное понимание услышанного (например, команды) может непосредственно реализоваться в действие (выполнение понятого и принятого к
исполнению приказа или команды), может остаться до поры до времени молчаливым
ответным пониманием (некоторые речевые жанры только на такое понимание и
103
рассчитаны, например лирические жанры), но это, так сказать, ответное понимание
замедленного действия: рано или поздно услышанное и активно понятое откликнется в
последующих речах или в поведении слышавшего. Жанры сложного культурного
общения в большинстве случаев рассчитаны именно на такое активно-ответное
понимание замедленного действия. Все, что мы
104
Проблема речевых жанров
104
здесь говорим, относится также с соответствующими изменениями и дополнениями
к письменной и читаемой речи.
Итак, всякое реальное целостное понимание активно-ответно и является не чем
иным, как начальной подготовительной стадией ответа (в какой бы форме он ни осуществлялся). И сам говорящий установлен именно на такое активно-ответное
понимание: он ждет не пассивного понимания, так сказать, только дублирующего его
мысль в чужой голове, но ответа, согласия, сочувствия, возражения, исполнения и т. д.
(разные речевые жанры предполагают разные целевые установки, речевые замыслы
говорящих или пишущих). Стремление сделать свою речь понятной — это только
абстрактный момент конкретного и целостного речевого замысла говорящего. Более
того, всякий говорящий сам является в большей или меньшей степени отвечающим:
ведь он не первый говорящий, впервые нарушивший вечное молчание вселенной, и он
предполагает не только наличие системы того языка, которым он пользуется, но и
наличие каких-то предшествующих высказываний — своих и чужих, — к которым его
данное высказывание вступает в те или иные отношения (опирается на них,
полемизирует с ними, просто предполагает их уже известными слушателю). Каждое
высказывание — это звено в очень сложно организованной цепи других высказываний.
Таким образом, тот слушающий со своим пассивным пониманием, который
изображается в качестве партнера говорящего на схематических рисунках общих
лингвистик, не соответствует реальному участнику речевого общения («обмена
мыслями»). То, что представлено схемой, только абстрактный момент реального
целостного акта активно-ответного понимания, подготовляющего ответ (на который и
рассчитывает говорящий). Такая научная абстракция сама по себе вполне оправданна,
но при одном условии: если она четко осознается только как абстракция и не выдается
за реальное конкретное целое явления; в противном случае она превращается в
фикцию. Последнее как раз и имеет место в буржуазной лингвистике, так как подобные абстрактные схемы хоть и не выдаются прямо за отражение реального речевого
общения, но и не восполняются указаниями на большую сложность реального явления.
В результате схема искажает действительную картину
Проблема речевых жанров
Грамматика русского языка, т. 1. М., 1952, с. 51.
речевого общения, устраняя из нее как раз наиболее существенные моменты.
Активная роль другого в процессе речевого общения таким путем ослабляется до
предела, что соответствует духу идеалистической лингвистики.
То же игнорирование активной роли другого в процессе речевого общения и
стремление вообще обойти этот процесс проявляются в нечетком и двусмысленном
употреблении такого термина, как «речь», или «речевой поток». Этот нарочито
неопределенный термин обычно должен обозначать то, что подвергается делению на
языковые единицы, которые мыслятся как его отрезки: звуковые (фонема, слог,
речевой такт) и значащие (предложение и слово). «Речевой поток распадается...»,
«наша речь делится...» — так обычно вводятся в общих курсах лингвистики и
грамматики, а также и в специальных исследованиях по фонетике, лексикологии,
104
грамматике разделы, посвященные изучению соответствующих языковых единиц. К
сожалению, и наша недавно вышедшая в свет академическая грамматика пользуется
тем же неопределенным и двусмысленным термином «наша речь». Вот как вводится
соответствующий раздел фонетики: «Наша речь прежде всего разделяется на
предложения, которые в свою очередь могут распадаться на словосочетания и слова.
Слова четко делятся на мелкие звуковые единицы — слоги... Слоги делятся на
отдельные звуки речи, или фонемы...»
Что же это за «речевой поток», что же это за «наша речь»? Какова их
протяженность? Имеют они начало и конец? Если они неопределенной длительности,
то какой отрезок их мы берем для разделения его на единицы? По всем этим вопросам
господствует полная неопределенность и недосказанность. Неопределенное слово
«речь», могущее обозначать и язык, и процесс речи, то есть говорение, и отдельное
высказывание, и целый неопределенно длинный ряд таких высказываний, и
определенный речевой жанр («он произнес речь»), до сих пор не превращено
лингвистами в строго ограниченный по значению и определенный (определимый)
термин (аналогичные явления имеют место и в других языках). Это объясняется почти
полной неразработанностью проблемы высказывания и
105
Проблема речевых жанров
* Да его и нельзя выдержать. Такое, например, высказывание, как «А!» (реплика
диалога), нельзя разделить на предложения, словосочетания, слоги. Следовательно,
любое высказывание не подойдет. Дальше, делят высказывание (речь) и получают
единицы языка. Очень часто затем предложение определяют как простейшее высказывание27, следовательно, оно уже не может быть единицей высказывания. Молчаливо
предполагается речь одного говорящего, диалогические обертоны отбрасываются.
По сравнению с границами высказываний все остальные границы (между
предложениями, словосочетаниями, синтагмами, словами) относительны и условны.
105
?ечевых жанров (а следовательно, и речевого общения). 1очти всегда имеет место
пуганая игра всеми этими значениями (кроме последнего). Чаще всего под
выражением «наша речь» понимают любое высказывание любого человека; причем
такое понимание никогда не выдерживают до конца
Но если неопределенно и неясно то, что делят и расчленяют на единицы языка, то
неопределенность и путаница вносится <и> в эти последние.
Терминологическая неопределенность и путаница в таком методологически
центральном узловом пункте лингвистического мышления являются результатом
игнорирования реальной единицы речевого общения — высказывания. Ведь речь
может существовать в действительности только в форме конкретных высказываний
отдельных говорящих людей, субъектов (этой) речи. Речь всегда отлита в форму
высказывания, принадлежащего определенному речевому субъекту, и вне этой формы
существовать не может. Как ни различны высказывания по своему объему, по своему
содержанию, по своему композиционному построению, они обладают, как единицы
речевого общения, общими структурными особенностями, и прежде всего совершенно
четкими границами. На этих границах, имеющих особо существенный и принципиальный характер, необходимо подробно остановиться.
Границы каждого конкретного высказывания, как единицы речевого общения,
определяются сменой речевых субъектов, то есть сменой говорящих. Ведь речевое
общение — это «обмен мыслями» во всех областях человеческой деятельности и быта.
Всякое высказывание — от короткой (однословной) реплики бытоПроблема речевых жанров
105
106
во го диалога и до большого романа или научного трактата — имеет, так сказать,
абсолютное начало и абсолютный конец: до его начала — высказывания других, после
его окончания — ответные высказывания других (или хотя бы молчаливое активноответное понимание другого, или, наконец, ответное действие, основанное на таком
понимании). Говорящий кончает свое высказывание, чтобы передать слово другому
или дать место его активно-ответному пониманию. Высказывание — это не условная
единица, а единица реальная, четко отграниченная сменой речевых субъектов,
кончающаяся передачей слова другому, как бы молчаливым «dixi», ощущаемым
слушателями <как знак>, что говорящий кончил2**.
Эта смена речевых субъектов, создающая четкие границы высказывания, в разных
сферах человеческой деятельности и быта, в зависимости от разных функций языка, от
различных условий и ситуаций общения носит разный характер, принимает различные
формы. Проще и нагляднее всего мы наблюдаем эту смену речевых субъектов в
реальном диалоге, где высказывания собеседников (партнеров диалога), называемые
здесь репликами, сменяют друг друга. Диалог по своей простоте и четкости — классическая форма речевого общения («обмена мыслями»). Каждая реплика, как бы она
ни была коротка и обрывиста, обладает специфической завершенностью, выражая
некоторую позицию говорящего, на которую можно ответить, в отношении которой
можно занять ответную позицию. На этой специфической завершенности
высказывания мы остановимся дальше (это один из основных признаков
высказывания). В то же время реплики связаны друг с другом. Но те отношения,
которые существуют между репликами диалога, — отношения вопроса-ответа, утверждения-возражения, утверждения-согласия, предложения-принятия, приказанияисполнения и т. п. — невозможны между единицами языка (словами и
предложениями): ни в системе языка (в вертикальном разрезе), ни внутри высказывания (в горизонтальном разрезе). Эти специфические отношения между репликами
диалога являются лишь разновидностями специфических отношений между целыми
высказываниями в процессе речевого общения. Эти отношения возможны лишь между
высказываниями разных речевых субъектов, предполагают других (в отноше
Проблема речевых жанров
* Рубцы межей во вторичных жанрах.
106
нии говорящего) членов речевого общения. Эти отношения между целыми
высказываниями не поддаются грамматикализации, так как, повторяем, они
невозможны между единицами языка, притом не только в системе языка, но и внутри
высказывания
Во вторичных речевых жанрах — особенно в риторических — мы встречаемся с
явлениями, которые как будто противоречат этому нашему положению. Очень часто
говорящий (или пишущий) в пределах своего высказывания ставит вопросы, сам на
них отвечает, возражает себе самому и сам же свои возражения опровергает и т. п. Но
эти явления не что иное, как условное разыгрывание речевого общения и первичных
речевых жанров. Такое разыгрывание характерно для риторических жанров (в
широком смысле, включая и некоторые виды научных популяризации), но и все другие
вторичные жанры (художественные и научные) пользуются разными формами
внедрения в конструкцию высказывания первичных речевых жанров и отношений
между ними (причем здесь они в большей или меньшей степени трансформируются,
ибо нет реальной смены речевых субъектов). Такова природа вторичных жанров. Но во
всех этих явлениях отношения между воспроизведенными первичными жанрами, хотя
они и оказываются в пределах одного высказывания, не поддаются грамматикализации
106
и сохраняют свою специфическую природу, принципиально отличную от отношений
между словами и предложениями (и иными языковыми единицами —
словосочетаниями и т. п.) внутри высказывания .
Здесь на материале диалога и его реплик необходимо предварительно коснуться
вопроса о предложении, как единице языка в его отличии от высказывания,
как единицы речевого общения.
[Вопрос о природе предложения — один из сложнейших и труднейших в
лингвистике. Борьба мнений по этому вопросу в нашей науке продолжается и в
настоящее время . В нашу задачу не входит, конечно, раскрытие этой проблемы во
всей ее сложности, мы намерены коснуться лишь одного аспекта ее, но такого аспекта,
который, как
Проблема речевых жанров
107
нам кажется, имеет существенное значение для всей проблемы. Нам важно точно
определить отношение предложения к высказыванию. Это поможет более яркому
освещению высказывания, с одной стороны, и предложения — с другой.]
Этим мы займемся в дальнейшем, — здесь отметим только, что границы
предложения как единицы языка никогда не определяются сменой речевых субъектов.
Такая смена, обрамляющая предложение с двух его сторон, превращает предложение в
целое высказывание. Такое предложение приобретает новые качества и
воспринимается совершенно иначе, чем то же предложение, обрамленное другими
предложениями в контексте одного высказывания того же говорящего. Предложение
— это относительно законченная мысль, непосредственно соотнесенная с другими
мыслями того же говорящего в целом его высказывания; по окончании предложения
говорящий делает паузу, чтобы затем перейти к следующей своей же мысли, продолжающей, дополняющей, обосновывающей первую. Контекст предложения — это
контекст речи того же речевого субъекта (говорящего); с внесловесным контекстом
действительности (ситуация, обстановка, предыстория) и с высказываниями других
говорящих предложение соотносится не непосредственно и не самолично, <а> лишь
через весь окружающий его контекст, то есть через высказывание в его целом31. Если
же предложение не окружено контекстом речи того же говорящего, то есть если оно
является целым законченным высказыванием (репликой диалога), то оно оказывается
непосредственно (и самолично) перед лицом действительности (внесловесного
контекста речи) и других чужих высказываний; за ним следует уже не пауза,
определяемая и осмысливаемая самим говорящим (паузы всякого рода, как явления
грамматические, рассчитанные и осмысленные, возможны лишь внутри речи одного
говорящего, то есть внутри одного высказывания; паузы между высказываниями носят,
конечно, не грамматический, а реальный характер; такие реальные паузы —
психологические или вызванные теми или иными внешними обстоятельствами —
могут разрывать и одно высказывание; во вторичных художественно-литературных
жанрах такие паузы рассчитываются художником, режиссером, актером, но эти паузы
принципиально отличны как
Проблема речевых жанров
107
от грамматических пауз, так и от пауз стилистических — например, между
синтагмами — внутри высказывания), за ним ожидается ответ или ответное понимание
другого говорящего. Такое предложение, ставшее целым высказыванием, приобретает
особую смысловую полноценность: в отношении его можно занять ответную позицию
— с ним можно согласиться или не согласиться, исполнить, оценить и т. п.;
107
предложение же в контексте лишено способности определять ответ, оно приобретает
эту способность (точнее, приобщается к ней) лишь в целом всего высказывания.
Все эти совершенно новые качества и особенности принадлежат не самому
предложению, ставшему целым высказыванием, а именно высказыванию, выражая
природу высказывания, а не природу предложения: они присоединяются к
предложению, восполняя его до целого высказывания. Предложение, как единица
языка, всех этих свойств лишено: оно не отграничивается с обеих сторон сменой
речевых субъектов, оно не имеет непосредственного контакта с действительностью (с
внесловесной ситуацией) и непосредственного же отношения к чужим высказываниям,
оно не обладает смысловой полноценностью и способностью непосредственно
определять ответную позицию другого говорящего, то есть вызывать ответ. Предложение, как единица языка, имеет грамматическую природу, грамматические
границы, грамматическую законченность и единство. (Рассматриваемое в целом
высказывания и с точки зрения этого целого, оно приобретает стилистические
свойства.) Там, где предложение фигурирует как целое высказывание, оно как бы
вставлено в оправу из материала совсем инойг природы. Когда об этом забывают при
анализе предложения, то искажают природу предложения (а одновременно и природу
высказывания, грамматикализуя ее). Очень многие лингвисты и лингвистические
направления (в области синтаксиса) находятся в плену такого смешения, и то, что они
изучают как предложение, есть, в сущности, какой-то гибрид предложения (единицы
языка) и высказывания (единицы речевого общения). Предложениями не
обмениваются, как не обмениваются словами (в строгом лингвистическом смысле) и
словосочетаниями — обмениваются мыслями, то есть высказываниями, которые
строятся с помощью единиц языка
Проблема речевых жанров
108
— слов, словосочетаний, предложений; причем высказывание может быть построено
и из одного предложения, и из одного слова, так сказать, из одной речевой единицы
(преимущественно реплика диалога), но от этого единица языка не превращается в
единицу речевого общения.
Отсутствие разработанной теории высказывания, как единицы речевого общения,
приводит к нечеткому различению предложения и высказывания, а часто и к полному
их смешению32.
Вернемся к реальному диалогу. Как мы говорили, это
— наиболее простая и классическая форма речевого общения. Смена речевых
субъектов (говорящих), определяющая границы высказываний, здесь представлена с
исключительной наглядностью. Но и в других сферах речевого общения, в том числе и
в областях сложно организованного культурного общения (научного и
художественного), природа границ высказывания одна и та же.
Сложные по своему построению и специализированные произведения различных
научных и художественных жанров при всем их отличии от реплик диалога по своей
природе являются такими же единицами речевого общения: они так же четко
отграничены сменой речевых субъектов, причем эти границы, сохраняя свою
внешнюю четкость, приобретают здесь особый внутренний характер, благодаря тому,
что речевой субъект — в данном случае автор произведения — проявляет здесь свою
индивидуальность в стиле, в мировоззрении, во всех моментах замысла своего
произведения. Эта печать индивидуальности, лежащая на произведении, и создает
особые внутренние границы, отделяющие это произведение от других произведений,
связанных с ним в процессе речевого общения данной культурной сферы: от
произведений предшественников, на которые автор опирается, от других произведений
108
того же направления, от произведений враждебных направлений, с которыми автор
борется, и т. п. Произведение, как и реплика диалога, установлено на ответ другого
(других), на его активное ответное понимание, которое может принимать разные
формы: воспитательное влияние на читателей, их убеждение, критические отзывы,
влияние на последователей и продолжателей и т. п.; оно определяет ответные позиции
других в сложных условиях речевого общения, обмена мыслями данной сферы культу
Проблема речевых жанров
109
ры. Произведение — звено в цепи речевого общения; как и реплика диалога, оно
связано с другими произведениями-высказываниями — и с теми, на которые оно
отвечает, и с теми, которые на него отвечают; в то же время, подобно реплике диалога,
оно отделено от них абсолютными границами смены речевых субъектов.
Таким образом, смена речевых субъектов, обрамляющая высказывание и создающая
его твердую, строго отграниченную от других связанных с ним высказываний массу,
является первой конститутивной особенностью высказывания, как единицы речевого
общения, отличающей его от единиц языка. Переходим ко второй особенности его,
неразрывно связанной с первой. Эта вторая особенность — специфическая
завершенность высказывания.
Завершенность высказывания — это как бы внутренняя сторона смены речевых
субъектов: эта смена потому и может состояться, что говорящий сказал (или написал)
все, что он в данный момент или при данных условиях хотел сказать. Слушая или
читая, мы явственно ощущаем конец высказывания, как бы слышим заключительное
«dixi» говорящего. Эта завершенность — специфическая и определяется особыми
критериями. Первый и важнейший критерий завершенности высказывания — это возможность ответить на него, точнее и шире — занять в отношении его ответную
позицию (например, выполнить приказание). Этому критерию отвечает и короткий
бытовой вопрос, например «Который час?»33 (на него можно ответить), и бытовая
просьба, которую можно -выполнить или не выполнить, и научное выступление, с
которым можно согласиться или не согласиться (полностью или частично), и
художественный роман, который можно оценить в его целом. Какая-то завершенность
необходима, чтобы на высказывание можно было реагировать. Для этого мало, чтобы
высказывание было понятно в языковом отношении. Совершенно понятное и
законченное предложение, если это предложение, а не целое высказывание, состоящее
из одного предложения, не может вызвать ответной реакции: это понятно, но это еще
не все. Это «все» — признак целостности высказывания — не поддается ни
грамматическому, ни отвлеченно-смысловому определению34.
Проблема речевых жанров
109
Эта завершенная целостность высказывания, обеспечивающая возможность ответа
(или ответного понимания), определяется тремя моментами (или факторами), неразрывно связанными в органическом целом высказывания: 1) предметно-смысловой
исчерпанностью; 2) речевым замыслом или речевой волей говорящего; 3) типическими
композиционно-жанровыми формами завершения.
Первый момент — предметно-смысловая исчерпанность темы высказывания —
глубоко различен в разных сферах речевого общения35. Эта исчерпанность может
быть почти предельно полной в некоторых сферах быта (вопросы чисто фактического
характера и такие <же> фактические ответы на них, просьбы, приказания и т. п.),
некоторых деловых сферах, в области военных и производственных команд и
приказов, то есть в тех сферах, где речевые жанры носят максимально стандартный
характер и где творческий момент почти вовсе отсутствует. В творческих сферах
109
(особенно, конечно, в научной), напротив, возможна лишь очень относительная
предметно-смысловая исчерпанность; здесь можно говорить только о некотором минимуме завершения, позволяющем занять ответную позицию. Объективно предмет
неисчерпаем, но, становясь темой высказывания (например, научной работы), он
получает относительную завершенность в определенных условиях, при данном
положении вопроса, на данном материале, при данных, поставленных автором целях,
то есть уже в пределах определенного авторского замысла. Таким образом, мы
неизбежно оказываемся перед вторым моментом, который с первым неразрывно
связан.
В каждом высказывании — от однословной бытовой реплики до больших, сложных
произведений науки или литературы — мы охватываем, понимаем, ощущаем речевой
замысел или речевую волю говорящего, определяющую целое высказывания, его
объем и его границы. Мы представляем себе, что хочет сказать говорящий, и этим
речевым замыслом, этой речевой волей (как мы ее понимаем) мы и измеряем
завершенность высказывания. Этот замысел определяет как самый выбор предмета (в
определенных условиях речевого общения, в необходимой связи с предшествующими
высказываниями), так и границы и его предметно-смысловую исчерпанность.
Проблема речевых жанров
110
Он определяет, конечно, и выбор той жанровой формы, в которой будет строиться
высказывание (это уже третий момент, к которому мы обратимся дальше). Этот
замысел — субъективный момент высказывания — сочетается в неразрывное единство
с объективной предметно-смысловой стороной его, ограничивая эту последнюю,
связывая ее с конкретной (единичной) ситуацией речевого общения, со всеми
индивидуальными обстоятельствами его, с персональными участниками его, с
предшествующими их выступлениями — высказываниями. Поэтому непосредственные
участники общения, ориентирующиеся в ситуации и в предшествующих
высказываниях, легко и быстро схватывают речевой замысел, речевую волю
говорящего и с самого начала речи ощущают развертывающееся целое высказывания.
Переходим к третьему и самому важному для нас моменту — к устойчивым
жанровым формам высказывания. Речевая воля говорящего осуществляется прежде
всего в выборе определенного речевого жанра. Этот выбор определяется спецификой
данной сферы речевого общения, предметно-смысловыми (тематическими)
соображениями, конкретной ситуацией речевого общения, персональным составом его
участников и т. п. И дальше речевой замысел говорящего со всей его индивидуальностью и субъективностью применяется и приспособляется к избранному жанру,
складывается и развивается в определенной жанровой форме. Такие жанры
существуют прежде всегог во всех многообразнейших сферах устного бытового
общения, в том числе и самого фамильярного и самого интимного.
Мы говорим только определенными речевыми жанрами, то есть все наши
высказывания обладают определенными и относительно устойчивыми типическими
формами построения целого. Мы обладаем богатым
?епертуаром устных (и письменных) речевых жанров, фактически мы уверенно и
умело пользуемся ими, но теоретически мы можем и вовсе не знать об их
существовании. Подобно мольеровскому Журдену, который, говоря прозой, не
подозревал об этом, мы говорим разнообразными жанрами, не подозревая об их суще-^
ствовании. Даже в самой свободной и непринужденной* беседе мы отливаем нашу
речь по определенным жанро
Проблема речевых жанров
110
вым формам, иногда штампованным и шаблонным, иногда более гибким,
пластичным и творческим (творческими жанрами располагает и бытовое общение).
&ти речевые жанры даны нам почти так же, как нам дан родной язык, которым мы
свободно владеем и <без> теоретического изучения грамматики. Родной язык — его
словарный состав и грамматический строй — мы узнаем не из словарей и грамматик, а
из конкретных высказываний, которые мы слышим и которые мы сами воспроизводим
в живом речевом общении с окружающими нас людьми. Формы языка мы усваиваем
только в формах высказываний и вместе с этими формами. Формы языка и типические
формы высказываний, то есть речевые жанры, приходят в наш опыт и в наше сознание
вместе и в тесной связи друг с другом. Научиться говорить — значит научиться
строить высказывания (потому что говорим мы высказываниями, а не отдельными
предложениями36 и, уж конечно, не отдельными словами). Речевые жанры организуют
нашу речь почти так же, как ее организуют грамматические формы (синтаксические).
Мы научаемся отливать нашу речь в жанровые формы, и, слыша чужую речь, мы уже с
первых слов угадываем ее жанр, предугадываем определенный объем (то есть
приблизительную длину речевого целого), определенное композиционное построение,
предвидим конец, то есть с самого начала мы обладаем ощущением речевого целого,
которое затем только дифференцируется в процессе речи. Если бы речевых жанров не
существовало и мы не владели бы ими, если бы нам приходилось их создавать впервые
в процессе речи, свободно и впервые строить каждое высказывание, речевое общение,
обмен мыслями, было бы почти невозможно.
Жанровые формы, в которые мы отливаем нашу речь, конечно, существенно
отличаются от форм языка в смысле их устойчивости и принудительности
(нормативности) для говорящего. Они в общем гораздо гибче, пластичнее и
речевых жанров очень велико. Целый ряд распространен-нейших в быту жанров
настолько стандартен, что индивидуальная речевая воля говорящего проявляется
только в выборе определенного жанра, да еще в экспрессивном интонировании его.
Таковы, например, многообразные короткие
бытовые жанры
приветствий,
прощаний, по
этом отношении разнообразие
111
Проблема речевых жанров
*Этн и аналогичные явления интересовали лингвистов (преимущественно историков
языка) в чисто стилистическом разрезе как отражение в языке исторически
изменчивых форм этикета, вежливости, благопристойности. См., например, F Brunot .
111
здравлений, пожеланий всякого рода, осведомлении о здоровье, о делах и т. п.
Многообразие этих жанров определяется тем, что они различны в зависимости от
ситуации, от социального положения и личных взаимоотношений участников
общения: имеются высокие, строго официальные, почтительные формы этих жанров
наряду с формами фамильярными, притом разных степеней фамильярности, и
формами интимными (они отличны от фамильярных) Эти жанры требуют и
определенного тона, то есть включают в свою структуру и определенную
экспрессивную интонацию. Жанры эти — в особенности высокие, официальные —
обладают высокой степенью устойчивости и принудительности. Речевая воля обычно
ограничивается здесь избранием определенного жанра, и только легкие оттенки экспрессивной интонации (можно взять более сухой или более почтительный тон, более
холодный или более теплый, внести интонацию радости и т. п.) могут отразить индивидуальность говорящего (его эмоционально-речевой замысел). Но и здесь возможна
111
характерная для речевого общения вообще переакцентуация жанров: так, например,
жанровую форму приветствия <из> официальной сферы можно перенести в сферу
фамильярного
общения,
то
есть
употребить
с
пародийно-иронической
переакцентуацией, с аналогичной целью можно нарочито смешать жанры разных
сфер38.
Наряду с подобными стандартными жанрами существовали и существуют, конечно,
и более свободные и творческие жанры устного речевого общения: жанры салонных
бесед на бытовые, общественные, эстетические и иные темы, жанры застольных бесед,
бесед интимно-дружеских, интимно-семейных и т. д. (номенклатуры устных речевых
жанров пока не существует, и даже пока не ясен и принцип такой номенклатуры).
Большинство этих жанров поддается свободно-творческому переоформлению
(подобно художественным жанрам, а некоторые, может быть, и в большей степени), но
творчески свободное использование
Проблема речевых жанров
112
не есть создание жанра заново — жанрами нужно хорошо владеть, чтобы свободно
пользоваться ими.
Многие люди, великолепно владеющие языком, часто чувствуют себя совершенно
беспомощными в некоторых сферах общения именно потому, что не владеют
практически жанровыми формами данных сфер. Часто человек, великолепно
владеющий речью в различных сферах культурного общения, умеющий прочитать
доклад, вести научный спор, великолепно выступающий по общественным вопросам,
молчит или очень неуклюже выступает в светской беседе. Дело здесь не в бедности
словаря и не в стиле, отвлеченно взятом; все дело в неумении владеть репертуаром
жанров светской беседы, в отсутствии достаточного запаса тех представлений о целом
высказывания, которые помогают быстро и непринужденно отливать свою речь в
определенные композиционно-стилистические формы, в неумении вовремя взять
слово, правильно начать и правильно кончить (в этих жанрах композиция очень несложная)
Чем лучше мы владеем жанрами, тем свободнее мы их используем, тем полнее и
ярче раскрываем в них свою индивидуальность (там, где это можно и где это нужно),
гибче и тоньше отражаем неповторимую ситуацию общения — одним словом, тем
совершеннее мы осуществляем наш свободный речевой замысел39.
Таким образом, говорящему даны не только обязательные для него формы
общенародного языка (словарный состав и грамматический строй), но и обязательные
для него формы высказывания, то есть речевые жанры; эти последние так же
необходимы для взаимного понимания, как и формы языка. Речевые жанры, по
сравнению с формами языка, гораздо более изменчивы, гибки, пластичны, но для
говорящего индивидуума они имеют нормативное значение, не создаются им, а даны
ему. Поэтому единичное высказывание при всей его индивидуальности и творческом
характере никак нельзя считать совершенно свободной комбинацией форм языка, как
это полагает, например, де Соссюр (а за ним и многие другие лингвисты),
противопоставляющий высказывание (la parole), как чисто индивидуальный акт, систе
Проблема речевых жанров
то есть об определенном речевом жанре, руководит нами в процессе нашей речи.
Замысел нашего высказывания в его целом может, правда, потребовать для своего
осуществления только одного предложения, но может потребовать их и очень много.
Избранный жанр подсказывает нам их типы и их композиционные связи.
*Д е Соссюр определяет высказывание (la parole) как «индивидуальный акт воли и
понимания, в котором надлежит различать: 1) комбинации, при помощи которых
112
говорящий субъект пользуется языковым кодексом с целью выражения своей личной
мысли, и 2) психофизический механизм, позволяющий ему объективировать эти
комбинации>. См. Ф. де Соссюр. Курс общей лингвистики. Огиз, М., 1933, с. 3840.
Таким образом, Соссюр игнорирует тот факт, что кроме форм языка существуют еще и
формы комбинаций этих форм, то есть игнорирует речевые жанры.
форме целого высказывания,
113
ме языка как явлению чисто социальному и принудительному для индивидуума
Огромное большинство лингвистов если не теоретически, то практически стоят на той
же позиции: видят в высказывании только индивидуальную комбинацию чисто
языковых (лексических и грамматических) форм и никаких иных нормативных форм
практически в нем не обнаруживают и не изучают.
Игнорирование речевых жанров как относительно устойчивых и нормативных форм
высказывания неизбежно должно было приводить лингвистов к уже указанному нами
смешению высказывания с предложением, должно было приводить к положению
(которое, правда, никогда последовательно не защищалось), что наша речь отливается
только в устойчивые, данные нам формы предложений, а сколько таких взаимно
связанных предложений мы произнесем подряд и когда мы остановимся (кончим), —
это предоставляется полному произволу индивидуальной речевой воли говорящего или
капризу мифического «речевого потока».
Когда мы избираем определенный тип предложения, мы избираем его не для одного
данного предложения, не по соображениям того, что мы хотим выразить данным
одним предложением, — мы подбираем тип предложения с точки зрения того целого
высказывания, которое предносится нашемуречевому воображению и которое
определяет
Проблема речевых жанров
113
Одна из причин игнорирования в лингвистике форм высказывания — это крайняя
разнородность этих форм по композиционному построению и в особенности по их размеру (речевой длине) — от однословной реплики до большого романа. Резкое различие
в размерах имеет место и в пределах устных речевых жанров. Речевые жанры поэтому
представляются несоизмеримыми и неприемлемыми в качестве единиц речи.
Поэтому многие лингвисты (главным образом исследователи в области синтаксиса)
пытаются найти особые формы, которые были бы чем-то средним между предложением и высказыванием, которые обладали бы завершенностью, подобно
высказыванию, и в то же время соизмеримостью, подобно предложению41. Таковы
«Фраза» (например, у Карцевского42), «коммуникация» (Шахматов и другие43).
Единства в понимании этих единиц у пользующихся ими исследователей нет, потому
что в жизни языка им не соответствует никакой определенной и четко отграниченной
реальности. Все эти искусственные и условные единицы безразличны к смене речевых
субъектов, происходящей во всяком живом и реальном речевом общении, поэтому и
стираются самые существенные границы во всех сферах действия языка — границы
между высказываниями. Отсюда (вследствие этого) отпадает и главный критерий
завершенности высказывания как подлинной единицы речевого общения —
способность определять активную ответную позицию других участников общения.
В заключение этого раздела еще несколько замечаний о предложении (подробнее к
вопросу о нем мы вернемся в итоговой части нашей работы).
Предложение, как единица языка, лишено способности определять непосредственно
активно-ответную позицию говорящего. Только став целым высказыванием, отдельное
113
предложение приобретает эту способность. Любое предложение может фигурировать в
качестве законченного высказывания, но в этом случае, как мы уже знаем, оно
восполняется рядом очень существенных моментов неграмматического характера, в
корне меняющих его природу. И вот это обстоятельство и служит причиной особой
синтаксической аберрации: при анализе отдельного предложения, выделенного из
контекста, его домысливают до целого
Проблема речевых жанров
114
высказывания. Вследствие этого оно приобретает ту степень завершенности, которая
позволяет отвечать на него.
Предложение, как и слово, — значащая единица языка. Поэтому каждое отдельно
взятое предложение, например, «Солнце взошло», совершенно понятно, то есть мы
понимаем его языковое значение, его возможную роль в высказывании. Но занять в
отношении этого отдельного предложения ответную позицию никак нельзя, если
только мы не знаем, что говорящий сказал этим предложением все, что он хотел
сказать, что этому предложению не предшествуют и за ним не следуют другие
предложения того же говорящего. Но тогда это уже не предложение, а полноценное
высказывание, состоящее из одного предложения: оно обрамлено и отграничено
сменой речевых субъектов, и оно непосредственно отражает внесловесную
действительность (ситуацию). На такое высказывание можно ответить.
Но если это предложение окружено контекстом, то оно обретает полноту своего
смысла44 только в этом контексте, то есть только в целом высказывании, и ответить
можно только на это целое высказывание, значащим элементом которого является
данное предложение. Высказывание, например, может быть таким: «Солнце взошло.
Пора вставать». Ответное понимание (или громкий ответ): «Да, действительно, пора».
Но оно может быть и таким: «Солнце взошло. Но еще очень рано. Нужно еще поспать»
. Здесь смысл высказывания и ответная реакция на него будут другими. Предложение
это может входить и в состав художественного произведения как элемент пейзажа.
Здесь ответная реакция — художественно-идеологическое впечатление и оценка —
может относиться только к целому пейзажу. В контексте другого произведения это
предложение может получить символическое значение. Во всех подобных случаях
предложение является значащим элементом целого высказывания, приобретающим
свой окончательный смысл лишь в этом целом.
Если наше предложение фигурирует в качестве законченного высказывания, то оно
приобретает свой целостный смысл в определенных конкретных условиях речевого общения. Так, оно может быть ответом на вопрос другого: «Взошло ли солнце?»
(конечно, при определенных, оправдывающих этот вопрос обстоятельствах). Здесь это
вы
Проблема речевых жанров
114
оказывание является утверждением определенного факта, утверждением, которое
может быть верным или неверным, с которым можно согласиться или не согласиться.
Предложение, утвердительное по своей форме, становится реальным утверждением
лишь в контексте определенного высказывания.
При анализе такого отдельного предложения обычно и воспринимают его как
законченное высказывание в какой-то до предела упрощенной ситуации: солнце
действительно взошло, и говорящий констатирует: «Солнце взошло», говорящий
видит, что трава зеленая, и заявляет: «Трава зеленая». Подобные бессмысленные
«коммуникации» часто прямо рассматриваются как классические случаи предложения
. В действительности же всякое подобное сообщение к кому-то обращено, чем-то
114
вызвано, имеет какую-то цель, то есть является реальным звеном в цепи речевого
общения в определенной сфере человеческой деятельности или быта.
Предложение, как и слово, обладает законченностью значения и законченностью
грамматической формы, но эта законченность значения носит абстрактный характер и
именно поэтому и является такой четкой; это законченность элемента, но не
завершенность целого. Предложение, как единица языка, подобно слову, не имеет
автора. Оно ничье46, как и слово, и, только функционируя как целое высказывание,
оно становится выражением позиции индивидуального говорящего в конкретной
ситуации речевого общения. Это подводит нас к новой, третьей особенности
высказывания: к отношению высказывания к самому говорящему (автору высказывания) ик другим участникам речевого общения.
Всякое высказывание — звено в цепи речевого общения. Это — активная позиция
говорящего в той или иной предметно-смысловой сфере. Поэтому каждое высказывание характеризуется прежде всего определенным предметно-смысловым содержанием.
Выбор языковых средств и речевого жанра определяется прежде всего предметносмысловыми заданиями (замыслом) речевого субъекта (или автора). Это — первый
момент
высказывания,
определяющий
его
композиционно-стилистические
особенности.
Второй момент высказывания, определяющий его композицию и стиль, —
экспрессивный момент, то
Проблема речевых жанров_
прессивный момент имеет разное значение и разную степень силы, но есть он
повсюду: абсолютно нейтральное высказывание невозможно. Оценивающее
отношение говорящего к предмету своей речи (каков бы ни был этот предмет) также
определяет выбор лексических, грамматических и композиционных средств
высказывания. Индивидуальный стиль высказывания определяется главным образом
его экспрессивной стороной. В области стилистики это положение можно считать
общепризнанным. Некоторые исследователи даже прямо сводят стиль к эмоциональнооценивающей стороне речи47.
Можно ли считать экспрессивный момент речи явлением языка как системы? Можно
ли говорить об экспрессивной стороне языковых единиц, то есть слов и предложений?
На эти вопросы необходимо дать категорически отрицательный ответ48. Язык, как
система, обладает, конечно, богатым арсеналом языковых средств — лексических,
морфологических и синтаксических — для выражения эмоционально-оценивающей
позиции говорящего, но все эти средства, как средства языка, совершенно нейтральны
по отношению ко всякой определенной реальной оценке. Слово «миленький» —
ласкательное как по своему корневому значению, так и по суффиксу — само по себе,
как единица языка, так же нейтрально, как и слово «даль»49. Оно — только языковое
средство для возможного выражения эмоционально-оценивающего отношения к
действительности, но ни к какой определенной действительности оно не отнесено, это
отнесение, то есть действительную оценку, может осуществить только говорящий в
своем конкретном высказывании. Слова — ничьи, и сами по себе они ничего не
оценивают, но они могут обслужить любого говорящего и самые различные и прямо
противоположные оценки говорящих.
И предложение, как единица языка, нейтрально и не имеет само по себе
экспрессивной стороны; оно получает ее (точнее — приобщается к ней) только в
конкретном высказывании. Здесь возможна та же аберрация. Такое предложение, как
«Он умер», по-видимому, включает в себя определенную экспрессию, тем более —
такое пред
115
сферах речевого общения экс116
есть субъективное эмоционально-оценивающее отношение говорящего к предметносмысловому содержанию своего
Проблема речевых жанров
*Она, конечно, осознается нами и существует как стилистический фактор и при
немом чтении письменной речи.
116
ложение, как «Какая радость!». На самом же деле предложения такого рода
воспринимаются нами как целые высказывания, притом в типической ситуации, то
есть как своего рода речевые жанры, имеющие типическую экспрессию. Как
предложения они ее лишены, нейтральны. В зависимости от контекста высказывания
предложение «Он умер» может выражать и положительную, радостную, даже
ликующую экспрессию. И предложение «Какая радость!» в контексте определенного
высказывания может приобрести иронический или горько-саркастический тон.
Одним из средств выражения эмоционально-оценивающего отношения говорящего к
предмету своей речи является экспрессивная интонация, отчетливо звучащая в устном
исполнении Экспрессивная интонация — конститутивный признак высказывания. В
системе языка, то есть вне высказывания, ее нет. И слово и предложение, как языковые
единицы, лишены экспрессивной интонации. Если отдельное слово произносится с
экспрессивной интонацией, то это уже не слово, а законченное высказывание,
выраженное одним словом (нет никаких оснований развертывать его в предложение).
Существуют очень распространенные в речевом общении довольно стандартные типы
оценочных высказываний, то есть-оценочные речевые жанры, выражающие похвалу,
одобрение, восхищение, порицание, брань: «Отлично!», «Молодец!», «Прелесть!»,
«Позор!», «Гадость!», «Болван!» и т. п. Слова, приобретающие в определенных
условиях социально-политической жизни особый вес, становятся экспрессивными
восклицательными высказываниями: «Мир!», «Свобода!» и т. п. (это — особый,
общественно-политический речевой жанр). В определенной ситуации слово может
приобрести глубоко экспрессивный смысл в форме восклицательного высказывания:
«Море! Море!» (восклицают десять тысяч греков у Ксенофонта)50.
Во всех этих случаях мы имеем дело не с отдельным словом, как единицей языка, и
не со
значением этого слова, а с завершенным высказыванием не конкретным
смыслом — содержанием данного высказывания; значение слова отнесено здесь к
определенной
Проблема речевых жанров
*Когда мы строим свою речь, нам всегда предносится целое нашего высказывания: и
в форме определенной жанровой схемы и в форме индивидуального речевого замысла.
Мы не нанизываем слова, не идем от слова к слову, а как бы заполняем нужными
словами целое. Нанизывают слова только на первой стадии изучения чужого языка, да
и то только при плохом методическом руководстве.
116
реальной действительности в определенных же реальных условиях речевого
общения. Поэтому мы здесь не просто понимаем значение данного слова, как слова
языка, а занимаем в отношении к нему активную ответную позицию (сочувствие,
согласие или несогласие, стимул к действию). Таким образом, экспрессивная
интонация принадлежит здесь высказыванию, а не слову.
И тем не менее очень трудно расстаться с убеждением, что каждое слово языка само
по себе имеет или может иметь «эмоциональный тон», «эмоциональную окраску»,
«ценностный момент», «стилистический ореол» и т. п., а следовательно, и
116
свойственную ему, как слову, экспрессивную интонацию. Ведь можно думать, что,
выбирая слова для высказывания, мы как раз и руководствуемся присущим отдельному
слову эмоциональным тоном: подбираем те, которые по своему тону соответствуют
экспрессии нашего высказывания, и отвергаем другие. Именно так изображают свою
работу над словом сами поэты, и именно так истолковывает этот процесс стилистика
(например, «стилистический эксперимент» Пешковского51).
И все-таки это не так. Перед нами уже знакомая нам аберрация. Выбирая слова, мы
исходим из замышляемого целого нашего высказывания , а это замышляемое и созидаемое нами целое всегда экспрессивно, и оно-то и излучает свою экспрессию (точнее,
нашу экспрессию) на каждое выбираемое нами слово, так сказать, заражает его
экспрессией целого. Выбираем же мы слово по его значению, которое само по себе не
экспрессивно, но может отвечать или не отвечать нашим экспрессивным целям в связи
с другими словами, то есть в связи с целым нашего высказывания. Нейтральное
значение слова, отнесенное к определенной реальной действительности в
определенных реальных условиях речевого общения, порождает искру экспрессии. А
ведь именно это и происходит в процессе создания высказывания. Повторяем, только
контакт языПроблема речевых жанров
117
нового значения с конкретной реальностью, только контакт языка с
действительностью, который происходит в высказывании, порождает искру
экспрессии: ее нет ни в системе языка, ни в объективной, вне нас существующей
действительности.
Итак, эмоция, оценка, экспрессия чужды слову языка и рождаются только в процессе
его живого употребления в конкретном высказывании. Значение слова само по себе
(без отнесения к реальной действительности), как мы уже сказали, внеэмоционально.
Есть слова, которые специально означают эмоции, оценки: «радость», «скорбь»,
«прекрасный», «веселый», «грустный» <?> и т. п. Но и эти значения так же
нейтральны, как и все прочие. Экспрессивную окраску они получают только в
высказывании, и эта окраска независима от их значения, отдельно, отвлеченно взятого:
например, «Всякая радость мне сейчас только горька»; здесь слово «радость»
экспрессивно интонируется, так сказать, вопреки своему значению.
Однако, сказанным вопрос далеко не исчерпывается. Он значительно сложнее. Когда
мы выбираем слова в процессе построения высказывания, мы далеко не всегда берем
их из системы языка, в их нейтральной, словарной форме32. Мы берем их обычно из
других высказываний, и прежде всего из высказываний, родственных нашему по
жанру, то есть по теме, по композиции, по стилю; мы, следовательно, отбираем слова
по их жанровой спецификации. Речевой жанр это не форма языка33, а типическая
форма высказывания, как такая, жанр включает в себя и определенную типическую,
свойственную данному жанру экспрессию. В жанре слово получает некоторую
типическую экспрессию. Жанры соответствуют типическим ситуациям речевого
общения, типическим темам, следовательно, и некоторым типическим контактам
значений слов с конкретной реальной действительностью при типических
обстоятельствах. Отсюда и возможность типических экспрессии, которые как бы
наслаиваются на слова. Эта типическая жанровая экспрессия принадлежит, конечно, не
слову, как единице языка, не входит в его значение, а отражает лишь отношение слова
и его значения к жанру, то есть к типическим высказываниям. Эта типическая
экспрессия и соответствующая ей типическая интонация не обладают той силой
принуди
Проблема речевых жанров
117
118
тельности, которой обладают формы языка. Это более свободная жанровая
нормативность. В нашем примере «Всякая радость мне сейчас горька» экспрессивный
тон слова «радость», определяемый контекстом, конечно, не типичен для этого слова.
Речевые жанры вообще довольно легко поддаются переакцентуации, печальное можно
сделать шутливо-веселым, но в результате получается нечто новое (например, жанр
шутливой эпитафии).
Эту типическую (жанровую) экспрессию можно рассматривать, как «стилистический
ореол»54 слова, но этот ореол принадлежит не слову языка, как таковому, а тому
жанру, в котором данное слово обычно функционирует, это — отзвук жанрового
целого, звучащий в слове55.
Жанровая экспрессия слова — и жанровая экспрессивная интонация — безлична,
как безличны и самые речевые жанрьР6 (ведь они являются типической формой индивидуальных высказываний, но <не> самими высказываниями). Но слова могут
входить в нашу речь из индивидуальных чужих высказываний, сохраняя при этом — в
большей или меньшей степени — тона и отзвуки этих индивидуальных высказываний.
Слова языка — ничьи57, но в то же время мы слышим их только в определенных
индивидуальных высказываниях, читаем в определенных индивидуальных
произведениях, и здесь слова имеют уже не только типическую, но и более или менее
ярко выраженную (в зависимости от жанра) индивидуальную экспрессию,
определяемую неповторимо-индивидуальным контекстом высказывания.
Нейтральные словарные значения слов языка обеспечивают его общность и
взаимопонимание всех говорящих на данном языке, но использование слов в живом
речевом общении всегда носит индивидуально-контекстуальный характер. Поэтому,
можно сказать, что всякое слово существует для говорящего в трех аспектах: как
нейтральное и никому не принадлежащее слово языка, как чужое слово других людей,
полное отзвуков чужих высказываний, и, наконец, как мое слово, ибо поскольку я
имею с ним дело в определенной ситуации, с определенным речевым намерением, оно
уже проникается моей экспрессией. В обоих последних аспектах слово экспрессивно,
но эта экспрессия, повторяем, принадлежит не самому слову: она рождается в точке
того контакта слова с реальной дей
Проблема речевых жанров
118
ствительностью в условиях реальной ситуации, который осуществляется
индивидуальным высказыванием. Слово в этом случае выступает как выражение
некоторой оценивающей позиции индивидуального человека (авторитетного деятеля,
писателя, ученого, отца, матери, друга, учителя и т. п.), как аббревиатура
высказывания.
В каждую эпоху, в каждом социальном кругу, в каждом маленьком мирке семьи,
друзей и знакомых, товарищей, в котором вырастает и живет человек, всегда есть
авторитетные,
задающие
тон
высказывания,
художественные,
научные,
публицистические произведения, на которые опираются и ссылаются, которые
цитируются, которым подражают, за которыми следуют. В каждую эпоху, во всех
областях жизни и деятельности есть определенные традиции, выраженные и
сохраняющиеся в словесном облачении: в произведениях, в высказываниях, в
изречениях и т. п. Всегда есть какие-то словесно выраженные ведущие идеи
«властителей дум» данной эпохи, какие-то основные задачи, лозунги и т. п. Я уже не
говорю о тех школьных, хрестоматийных образцах, на которых дети обучаются
родному языку и которые, конечно, всегда экспрессивны.
118
Вот почему индивидуальный речевой опыт всякого человека формируется и
развивается в непрерывном и постоянном взаимодействии с чужими индивидуальными
высказываниями. Этот опыт в известной мере может быть охарактеризован как
процесс освоения — более или менее творческого — чужих слов (а не слов языка).
Наша речь, то есть все наши высказывания (в том числе и творческие произведения),
полна чужих слов, разной степени чужести или разной степени освоенности, разной
степени осознанности и выделенности. Эти чужие слова приносят с собой и свою
экспрессию, свой оценивающий тон, который освояется, перерабатывается,
переакцентуируется нами.
Таким образом, экспрессивность отдельных слов не есть свойство самого слова, как
единицы языка, и не вытекает непосредственно из значений этих слов, — экспрессия
эта либо является типической жанровой экспрессией, либо это отзвук чужой
индивидуальной экпрессии, делающей слово как бы представителем целого чужого
высказывания, как определенной оценивающей позиции.
Проблема речевых жанров
Tlepaoe и последнее предложение высказывания вообще имеют своеобразную
природу, некоторое дополнительное качество. Ведь это, так сказать, предложения
«переднего края>, стоящие непосредственно у самой линии смены речевых
субъектов38.
119
То же нужно сказать и о предложении, как единице языка: оно так же лишено
экспрессивности. Мы уже говорили об этом в начале настоящего раздела, остается
только несколько дополнить сказанное. Дело в том, что существуют типы
предложения, которые обычно функционируют как целые высказывания определенных
жанровых типов. Таковы вопросительные, восклицательные и побудительные
предложения. Существует очень много бытовых и специальных жанров (например,
военных и производственных команд и приказаний), которые, как правило,
выражаются одним предложением соответствующего типа. С другой стороны,
предложения этого типа сравнительно редко встречаются в связном контексте
развернутых высказываний. Когда же предложения этого типа < входят > в
развернутый связный контекст, то они явственно несколько выделяются из его состава,
и притом, как правило, стремятся быть либо первым, либо последним предложением
высказывания +(или относительно самостоятельной части высказывания) Эти типы
предложений приобретают особый интерес в разрезе нашей проблемы, и мы еще
вернемся к ним в дальнейшем39. Здесь же нам важно только отметить, что
предложения этого типа очень прочно срастаются со своей жанровой экспрессией, а
также особо легко впитывают в себя и индивидуальную экспрессию. Эти предложения
много способствовали закреплению иллюзии об экспрессивной природе
предложения6".
И еще одно замечание. Предложение, как единица языка, обладает особой
грамматической интонацией, а вовсе не экспрессивной. К особым грамматическим
интонациям относятся: интонация законченности, пояснительная, разделительная,
перечислительная и т. п. Особое место занимают интонации повествовательная,
вопросительная, восклицательная и побудительная: здесь как бы скрещивается
интонация грамматическая с интонацией жанровой (но не экспрессивной в точном
смысле этого слова). Экспрессивную интонацию предложение приобретает только в
целом высказывания. Приводя пример предложения для
Проблема речевых жанров
119
119
анализа его, мы обычно снабжаем его некоторой типической интонацией, превращая
его в законченное высказывание (если предложение взято нами из определенного
текста, мы интонируем его, конечно, в соответствии с экспрессией данного текста)61.
Итак, экспрессивный момент — это конститутивная особенность высказывания.
Система языка обладает необходимыми формами (то есть языковыми средствами) для
выражения экспрессии, но сам язык и его значащие единицы — слова и предложения
— по самой природе своей лишены экспрессии, нейтральны. Поэтому они одинаково
хорошо обслуживают любые оценки, самые различные и противоположные, любые
оценивающие позиции <...>
Итак, высказывание, его стиль и его композиция определяются его предметносмысловым моментом и его экспрессивным моментом, то есть оценивающим
отношением говорящего к предметно-смысловому моменту высказывания62. Никакого
третьего момента стилистика не знает. Она учитывает только следующие факторы,
определяющие стиль и композицию высказывания: систему языка, предмет речи и
самого говорящего и его оценивающее отношение к этому предмету. Выбор языковых
средств, согласно обычной стилистической концепции, определяется только
предметно-смысловыми и экспрессивными соображениями. Этим определяются и
языковые стили, и направленческие, и индивидуальные. Говорящий с его
мировоззрением, с его оценками и эмоциями с одной стороны и предмет его речи и
система языка (языковых средств) — с другой — вот и все, чем определяется
высказывание, его стиль и его композиция. Такова господствующая концепция.
В действительности дело обстоит значительно сложнее. Всякое конкретное
высказывание — звено в цепи речевого общения определенной сферы. Самые границы
высказывания определяются сменой речевых субъектов. Речевое общение — это
процесс многосторонне-активного «обмена мыслями». Обмениваемые мысли не
равнодушны друг к другу и не довлеют каждая себе, они знают друг о друге и взаимно
отражают друг друга. Эти взаимные отражения определяют их характер. Каждое
высказывание полно отзвуков и отголосков других высказываний, с которыми оно
связано общностью сферы речевого общения. Каждое высказывание прежде всего
нужно рассматривать как от
Проблема речевых жанров
*Инто нация особенно чутка н всегда указывает за контекст.
в е т на предшествующие высказывания данной сферы (слово «ответ» мы понимаем
здесь в самом широком смысле): оно их опровергает, подтверждает, дополняет,
опирается на них, предполагает их известными, как-то считается с ними. Ведь
высказывание занимает какую-то определенную позицию в данной сфере общения, по
данному вопросу, в данном деле и т. п. Определить свою позицию, не соотнеся ее с
другими позициями, нельзя. Поэтому каждое высказывание полно ответных реакций
разного рода на другие высказывания данной сферы речевого общения. Эти реакции
имеют различные формы: чужие высказывания могут прямо вводиться в контекст
высказывания, могут вводиться только отдельные слова или предложения, которые в
этом случае фигурируют как представители целых высказываний, причем и целые высказывания и отдельные слова могут сохранять свою чужую экспрессию, но могут и
переакцентуироваться (иронически, возмущенно, благоговейно и т. п.), чужие высказывания можно пересказывать с различною степенью их переосмысления, на них
можно просто ссылаться как на хорошо известные собеседнику, их можно молчаливо
предполагать, ответная реакция может отражаться только в экспрессии собственной
речи — в отборе языковых средств и интонаций, определяемом не предметом собственной речи, а чужим высказыванием о том же предмете; этот случай типичен и
важен: очень часто экспрессия нашего высказывания определяется не только — а иной
120
раз и не столько — предметно-смысловым содержанием этого высказывания, но и
чужими высказываниями на ту же тему, на которые мы отвечаем, с которыми мы полемизируем: ими определяется и подчеркивание отдельных моментов, и повторения, и
выбор более резких (или, напротив, более мягких) выражений, и вызывающий (или,
напротив, уступчивый) тон и т. п. и т. п. Экспрессия высказывания никогда не может
быть понята и объяснена до конца при учете лишь одного предметно-смыслового содержания его. Экспрессия высказывания всегда в большей или меньшей степени
отвечает, то есть выражает отношение говорящего к чужим высказываниям, а не только его отношение к предмету своего высказывания Фор121
Проблема речевых жанров
121
мы ответных реакций, наполняющих высказывание, чрезвычайно разнообразны и до
сих пор специально совершенно не изучены63. Эти формы, разумеется, резко
дифференцируются в зависимости от различия тех сфер человеческой деятельности и
быта, в которых совершается речевое общение. Как бы ни было высказывание
монологично (например, научное или философское произведение), как бы ни было оно
сосредоточено на своем предмете, оно не может не быть в какой-то мере и ответом на
то, что было уже сказано о данном предмете, по данному вопросу, хотя бы эта
ответность и не получила отчетливого внешнего выражения: она проявится в
обертонах смысла, в обертонах экспрессии, в обертонах стиля, в тончайших оттенках
композиции. Высказывание наполнено диалогическими обертонами64, без учета
которых нельзя до конца понять стиль высказывания. Ведь и самая мысль наша — и
философская, и научная, и художественная — рождается и формируется в процессе
взаимодействия и борьбы с чужими мыслями, и это не может не найти своего
отражения и в формах словесного выражения нашей мысли.
Чужие высказывания и отдельные чужие слова, осознанные и выделенные как
чужие, введенные в высказывание, вносят в него нечто, что является, так сказать,
иррациональным с точки зрения языка как системы, в частности с точки зрения
синтаксиса. Взаимоотношения между введенной чужой речью и остальною — своей —
речью не имеют никаких аналогий ни с какими синтаксическими отношениями в
пределах простого и сложного синтаксического целого, ни с предметно-смысловыми
отношениями между грамматически не связанными отдельными синтаксическими
целыми в пределах одного высказывания. Зато эти отношения аналогичны (но,
конечно, не тождественны) отношениям между репликами диалога. Обособляющая
чужую речь интонация (в письменной речи обозначаемая кавычками) — явление
особого рода: это как бы перенесенная вовнутрь высказывания смена речевых
субъектов. Создаваемые этой сменой границы здесь ослаблены и специфичны:
экспрессия говорящего проникает через эти границы и распространяется на чужую
речь, которую мы можем передавать в иронических, возмущенных, сочувственных,
благоговейных
Проблема речевых жанров
121
тонах (эта экспрессия передается с помощью экспрессивной интонации, в
письменной речи мы ее точно угадываем и ощущаем, благодаря обрамляющему чужую
речь контексту, или внесловесной ситуации — она <?> подсказывает
соответствующую экспрессию). Чужая речь, таким образом, имеет двойную
экспрессию — свою, то есть чужую, и экспрессию приютившего эту речь
высказывания. Все это имеет место прежде всего там, где чужая речь (хотя бы одно
слово, получающее здесь силу целого высказывания) приводится открыто и отчетливо
121
выделена (в кавычках): отзвуки смены речевых субъектов и их диалогических
взаимоотношений здесь слышатся отчетливо. Но во всяком высказывании при более
глубоком его изучении в конкретных условиях речевого общения мы обнаружим
целый ряд полускрытых и скрытых чужих слов разной степени чуждости. Поэтому
высказывание изборождено как бы далекими и еле слышными отзвуками смен речевых
субъектов и диалогическими обертонами, до предела ослабленными границами
высказываний, совершенно проницаемыми для авторской экспрессии. Высказывание
оказывается очень сложным и многопланным явлением, если рассматривать его не
изолированно и только в отношении к его автору (говорящему), а как звено в цепи
речевого общения и в отношении к другим, связанным с ним высказываниям (эти
отношения раскрывались обычно не в словесном — композиционно-стилистическом
— а только в предметно-смысловом плане)65.
Каждое отдельное высказывание — звено в цепи речевого общения. У него четкие
границы, определяемые сменой речевых субъектов (говорящих), но в пределах этих
границ высказывание, подобно монаде Лейбница, отражает речевой процесс, чужие
высказывания, и прежде всего предшествующие звенья цепи (иногда ближайшие, а
иногда — в областях культурного общения — и очень далекие).
Предмет речи говорящего, каков бы ни был этот предмет, не впервые становится
предметом речи в данном высказывании, и данный говорящий не первый говорит о
нем. Предмет, так сказать, уже оговорен, оспорен, освещен и оценен по-разному, на
нем скрещиваются, сходятся и расходятся разные точки зрения, мировоззрения,
направления. Говорящий — это не библейский Адам66, имеющий
Проблема речевых жанров
дело только с девственными, еще не названными предметами, впервые дающий им
имена. Упрощенные представления о коммуникации, как логико-психологической
основе предложения, заставляют вспоминать этого мифического Адама. В душе
говорящего происходит сочетание двух представлений (или — наоборот —
расчленение одного сложного представления на два простых), и он изрекает
предложения вроде следующих: «Солнце светит», «Трава зеленая», «Я сижу» и т. п.
Подобные предложения, конечно, вполне возможны, но они либо оправданы и
осмыслены контекстом целого высказывания, который приобщает их речевому
общению (в качестве реплики диалога, популярной научной статьи, беседы учителя на
уроке и т. п.), либо, если это законченные высказывания, то они как-то оправдываются
ситуацией речи, включающей их в цепь речевого общения. В действительности,
повторяем это, всякое высказывание, кроме своего предмета, всегда отвечает (в
широком смысле слова) в той или иной форме на предшествующие ему чужие
высказывания. Говорящий не Адам, и потому самый предмет его речи неизбежно
становится ареной встречи с мнениями непосредственных собеседников (в беседе или
споре о каком-нибудь бытовом событии) или с точками зрения, мировоззрениями,
направлениями, теориями и т. п. (в сфере культурного общения). Мировоззрение,
направление, точка зрения, мнение всегда имеют словесное выражение (оголенных
мыслей не бывает). Все это — чужая речь (в личной или безличной форме), и она не
может не найти своего отражения в высказывании. Высказывание обращено не только
к своему предмету, но и к чужим речам о нем. Но ведь даже легчайшая аллюзия на
чужое высказывание дает речи диалогический поворот, какой не может дать ей
никакая чисто предметная тема. Отношение к чужому слову принципиально отлично
от отношения к предмету, но оно всегда сопутствует этому последнему. Повторяем,
высказывание — звено в цепи речевого общения, и его нельзя оторвать от
предшествующих звеньев, которые определяют его и извне и изнутри, порождая в нем
прямые ответные реакции и диалогические отклики.
122
Но высказывание связано не только с предшествующими, но и с последующими
звеньями речевого общения. Когда высказывание создается говорящим, их, конечно,
123
Проблема речевых жанров
123
еще нет. Но высказывание с самого начала строится с учетом возможных ответных
реакций, ради которых оно, в сущности, и создается. Роль других, для которых
строится высказывание, как мы уже знаем, исключительно велика. <...> Мы уже
говорили, что эти другие, для которых моя мысль впервые становится действительною
мыслью (и лишь тем самым и для меня самого), не пассивные слушатели, а активные
участники речевого общения. Говорящий с самого начала ждет от них ответа, активного ответного понимания. Все высказывание строится как бы навстречу этому
ответу.
Существенным (конститутивным) признаком высказывания является его
обращенность к кому-либо, его адресованность. В отличие от значащих единиц языка
— слова и предложения, которые безличны, ничьи и никому не адресованы,
высказывание имеет и автора (и — соответственно — экспрессию, о чем мы уже
говорили) и адресата. Этот адресат может быть непосредственным участникомсобеседником бытового диалога, может быть дифференцированным коллективом
специалистов какой-нибудь специальной области культурного общения, может быть
более или менее дифференцированной публикой, народом, современниками,
единомышленниками, противниками и врагами, подчиненным, начальником, низшим,
высшим, близким, чужим и т. п.; он может быть и совершенно неопределенным,
неконкретизованным другим (при разного рода монологических высказываниях
эмоционального типа) — все эти виды и концепции адресата определяются той
областью человеческой деятельности и быта, к которой относится данное
высказывание. Кому адресовано высказывание, как говорящий (или пишущий)
ощущает и представляет себе своих адресатов, какова сила их влияния на
высказывание — от этого зависит и композиция и — в особенности — стиль высказывания. *
Каждый речевой жанр в каждой области речевого общения имеет свою
определяющую его как жанр типическую концепцию адресата.
Адресат высказывания может, так сказать, персонально совпадать с тем (или с
теми), кому высказывание отвечает В бытовом диалоге или в обмене письмами это
персональное совпадение обычно: тот, кому
Проблема речевых жанров
я отвечаю, является и моим адресатом, от которого я в свою очередь жду ответа (или
во всяком случае активного ответного понимания). Но в случаях такого персонального
совпадения одно лицо выступает в двух разных ролях, а это различие ролей как раз и
важно. Ведь высказывание того, кому я отвечаю (соглашаюсь, возражаю, исполняю,
принимаю к сведению и т. п.), уже налично, его же ответ (или ответное понимание)
еще предстоит. Строя свое высказывание, я стараюсь его активно определить; с другой
же стороны, я стараюсь его предвосхитить, и этот предвосхищаемый ответ в свою
очередь оказывает активное воздействие на мое высказывание (я парирую возражения,
которые предвижу, прибегаю ко всякого рода оговоркам и т. п.). Говоря, я всегда
учитываю апперцептивный фон восприятия моей речи адресатом: насколько он
осведомлен в ситуации, обладает ли он специальными знаниями данной культурной
области общения, его взгляды и убеждения, его предубеждения (с нашей точки
зрения), его симпатии и антипатии — ведь все это будет определять активное ответное
понимание им моего высказывания. Этот учет определит и выбор жанра высказывания,
123
и выбор композиционных приемов, и, наконец, выбор языковых средств, то есть стиль
высказывания. Например, жанры популярной научной литературы адресованы определенному кругу читателей с определенным апперцептивным фоном ответного
понимания; другому читателю адресована специальная учебная литература и уже
совсем другому — специальные исследовательские работы. В этих случаях учет
адресата (и его апперцептивного фона) и влияние адресата на построение
высказывания очень просты: все сводится к объему его специальных знаний.
В других случаях дело может обстоять гораздо сложнее. Учет адресата и
предвосхищение его ответной реакции часто бывает многосторонним, сложным и
напряженным, вносящим своеобразный внутренний драматизм в высказывания (в
некоторых видах бытового диалога, в письмах, в автобиографических и исповедальных
жанрах). Острый, но более внешний характер носят эти явления в риторических
жанрах.
Особый характер носят отраженные в высказываниях бытовых и деловых областей
речевого общения социальное положение, ранг и вес адресата. В условиях классового и
в
124
Проблема речевых жанров
*Напомню соответствующее наблюдение Гоголя: «Пересчитать нельзя всех оттенков
и тонкостей нашего обращения... У нас есть такие мудрецы, которые с помещиком,
имеющим двести душ, будут говорить совсем иначе, нежели с тем, у которого их
триста, а с тем, у которого их триста, будут говорить опять не так, как с тем, у которого
их пятьсот, а с тем, у которого их пятьсот, опять не так, как с тем, у которого их
восемьсот; словом, хоть восходи до миллиона, все найдутся оттенки» («Мертвые
души», гл. 3)
11лощадная громкая откровенность, называние вещей своими именами характерны
для этого стиля.
124
особенности в условиях сословно-классового строя наблюдается чрезвычайная
<дифференция> речевых жанров и соответствующих им стилей в зависимости от
титула, ранга, чина, имущественного и общественного веса, возраста адресата и
соотносительного положения самого говорящего (или пишущего). Несмотря на
богатство <диффе-ренций> как основных форм, так и нюансов, эти явления носят
стандартный и внешний характер: они не способны вносить сколько-нибудь глубокого
внутреннего драматизма в высказывание. Они интересны лишь как примеры хотя
довольно грубого, но зато очень наглядного выражения влияния адресата на
построение и стиль высказывания .
Более тонкие оттенки стиля определяются характером и степенью личной близости
адресата к говорящему в различных фамильярных речевых жанрах, с одной стороны, и
интимных — с другой. При всем громадном различии между фамильярными и
интимными жанрами (и — соответственно — стилями) они одинаково ощущают
своего адресата в большей или меньшей степени вне рамок социальной иерархии и
общественных условностей, так сказать, «без чинов». Это порождает специфическую
откровенность речи (в фамильярных стилях доходящую иногда до цинизма). В
интимных стилях это выражается в стремлении как бы к полному слиянию говорящего
с адресатом речи. В фамильярной речи, благодаря отпадению речевых запретов и
условностей, возможен особый, неофициальный, вольный подход к действительности
Поэтому фамильярные жанры и стили могли сыграть большую и положительную роль
в эпоху Возрождения в деле разрушения официальной средневековой картины мира68;
124
и в другие периоды, когда стоит задача разрушения традиционных официальных
стилей и мировоззреПроблема речевых жанров
125
ний, омертвевших и ставших условными, фамильярные стили приобретают в
литературе большое значение. Кроме того, фамильяризация стилей открывает доступ в
литературу таким пластам языка, которые до того находились под речевым запретом.
Значение фамильярных жанров и стилей в истории литературы до сих пор
недостаточно оценено.
Интимные жанры и стили основаны на максимальной внутренней близости
говорящего и адресата речи (в пределе — как бы на слиянии их). Интимная речь
проникнута глубоким доверием к адресату, к его сочувствию — к чуткости и
благожелательности его ответного понимания. В этой атмосфере глубокого доверия
говорящий раскрывает свои внутренние глубины. Этим определяется особая
экспрессивность и внутренняя откровенность этих стилей (в отличие от громкой
площадной откровенности фамильярной речи).
Фамильярные и интимные жанры и стили (до сих пор очень мало изученные)
чрезвычайно ярко раскрывают зависимость стиля от определенного ощущения и
понимания говорящим своего адресата (своего высказывания) и от предвосхищения
говорящим его Iактивно-ответного понимания. На этих стилях особенно ясно
обнаруживается узость и неправильность традиционной стилистики, пытающейся
понять и определить стиль только с точки зрения предметно-смыслового содержания
речи и экспрессивного отношения к этому содержанию со стороны говорящего. Без
учета отношения говорящего к другому и его высказываниям (наличным и
предвосхищаемым) нельзя понять ни жанра, ни стиля речи.
Но и так называемые нейтральные или объективные стили изложения, максимально
сосредоточенные на своем предмете и, казалось бы, чуждые всякой оглядки на другого, инвольвируют все же определенную концепцию своего адресата. Такие
объективно-нейтральные стили производят отбор языковых средств не только с точки
зрения их адекватности предмету речи, но и <с> точки зрения предполагаемого
апперцептивного фона адресата речи, но этот фон учитывается максимально
обобщенно и с отвлечением от его экспрессивной стороны (и экспрессия самого
говорящего в объективном стиле минимальна). Объективно-нейтральные стили
предполагают как бы то
Проблема речевых жанров
125
ждество адресата с говорящим, единство их точек зрения, но эти одинаковость и
единство покупаются ценою почти полного отказа от экспрессии. Нужно заметить, что
характер объективно-нейтральных стилей (а следовательно, и лежащая в основе его
концепция адресата) довольно разнообразен в зависимости от различия областей
речевого общения.
Вопрос о концепции адресата речи (как ощущает и представляет его себе говорящий
или пишущий) имеет громадное значение в истории литературы. Для каждой эпохи,
для каждого литературного направления и литературно-художественного стиля, для
каждого литературного жанра в пределах эпохи и направления характерны свои
особые концепции адресата литературного произведения, особое ощущение и
понимание своего читателя, слушателя, публики, народа. Историческое изучение
изменений этих концепций — задача интересная и важная69. Но для ее продуктивной
разработки необходима теоретическая ясность в самой постановке проблемы.
125
Следует отметить, что наряду с теми реальными ощущениями и представлениями
своего адресата, которые действительно определяют стиль высказываний (произведений), в истории литературы существуют еще условные или полуусловные формы
обращения к читателям, слушателям, потомкам ит. п., подобно тому как наряду с
действительным автором существуют такие же условные и полуусловные образы
подставных авторов, издателей, рассказчиков разного рода. Огромное большинство
литературных жанров — это вторичные, сложные жанры, состоящие из различных
трансформированных первичных жанров (реплик диалога, бытовых рассказов, писем,
дневников, протоколов и т. п.). Такие вторичные жанры сложного культурного
общения, как правило, разыгрывают различные формы первичного речевого общения.
Огсюда-то и рождаются все эти литературно-условные персонажи авторов,
рассказчиков и адресатов. Но самое сложное и многосоставное произведение
вторичного жанра в его целом (как целое) является одним и единым реальным
высказыванием, имеющим реального автора и реально ощущаемых и представляемых
этим автором адресатов.
Итак, обращенность, адресованность высказывания есть его конститутивная
особенность, без которой нет и не мо
Проблема речевых жанров
*Отмстим, что вопросительные и побудительные типы предложений, как правило,
фигурируют как законченные высказывания (в соответствующих речевых жанрах)70.
126
жет быть высказывания. Различные типические формы такой обращенности и
различные типические концепции адресатов — конститутивные, определяющие
особенности различных речевых жанров.
В отличие от высказываний (и речевых жанров) значащие единицы языка — слово и
предложение — по самой своей природе лишены обращенности, адресованности: они
и ничьи и ни к кому не обращены. Более того, сами по себе они лишены всякого
отношения к чужому высказыванию, к чужому слову. Если отдельное слово или
предложение обращено, адресовано, то перед нами законченное высказывание,
состоящее из одного слова или одного предложения, и обращенность принадлежит не
им, как единицам языка, а высказыванию. Окруженное контекстом предложение
приобщается обращенности только через целое высказывание как его составная часть
(элемент)
Язык, как система, обладает громадным запасом чисто языковых средств для
выражения формальной обращенности: лексическими средствами, морфологическими
(соответствующие падежи, местоимения, личные формы глаголов), синтаксическими
(различные шаблоны и модификации предложений). Но действительную обращенность
они приобретают только в целом конкретного высказывания. И выражение этой
действительной обращенности никогда не исчерпывается, конечно, этими
специальными языковыми (грамматическими) средствами. Их может и вовсе не быть, а
высказывание при этом может очень остро отражать влияние адресата и его
предвосхищаемой ответной реакции. Отбор всех языковых средств производится
говорящим под большим или меньшим влиянием адресата и его предвосхищаемого
ответа.
Когда анализируется отдельное предложение, выделенное из контекста, то следы
обращенности и влияния предвосхищаемого ответа, диалогические отклики на предшествующие чужие высказывания, ослабленные следы смены речевых субъектов,
избороздившие высказывание изнутри, утрачиваются, стираются, потому что все это
чуждо приПроблема речевых жанров
126
127
роде предложения, как единицы языка. Все эти явления связаны с целым
высказывания, и там, где это целое выпадает из зрительного поля анализирующего,
они перестают для него существовать. В этом — одна из причин той узости
традиционной стилистики, на которую мы указывали. Стилистический анализ,
охватывающий все стороны стиля, возможен только как анализ целого высказывания и
только в той цепи речевого общения, неотрывным звеном которой это высказывание
является. <...>
Из архивных записей к «Проблеме речевых жанров»
ИЗ АРХИВНЫХ ЗАПИСЕЙ К РАБОТЕ «ПРОБЛЕМА РЕЧЕВЫХ ЖАНРОВ»
ДИАЛОГ
Формы языка, отражающие взаимоотношения говорящих (местоимения, вокативные
формы, императивные и вопросительные конструкции и т. п.). Эти формы обычно
разносятся по различным лингвистическим категориям на основании иных
лингвистических признаков. Их надо выделить и классифицировать именно как
специфические формы диалогических взаимоотношений говорящих1 (события
общения и борьбы2).
Особая действенность диалогической речи. Особые темпы диалогической речи.
Обновление монологических жанров речи за счет диалога.
Диалог с точки зрения участников его (мои и чужие реплики) и монолог с точки
зрения третьего*, где реплики оказываются в одной плоскости воспринимающего.
Язык и речь4. Речь — реализация языка в конкретном высказывании. Жанровые
формы этих высказываний.
Речь подчиняется всем законам языка, в ней мы находим все его формы (словарный
состав, грамматический строй, фонетику). Мы можем дать языковой анализ любой
речи, то есть любого высказывания или его части (отрывка). Да и всякий анализ может
быть анализом конкретной речи (примеры, образы <?> и т. п.). Но кроме форм языка в
речи имеются и другие формы — формы высказывания. Проанализированная нами с
точки зрения словарного состава, грамматической структуры речь (отрывок) может
быть репликой бытового диалога, стихом, строфой <?>, романом, научным
высказыванием, афоризмом и т. п. или отрывком из этих жанров.
Классификация речи (не языка) по функциям5 и по жанрам. Одно с другим
неразрывно связано. По функциям (бытовая речь, научная, художественная, деловая
проза, техническая речь и т. п.). Сфера применения языка почти безгранична6. Это
определяет многообразие функций
127
Из архивных записей к «Проблеме речевых жанров»
127
и resp. жанров речи. Жанры: разные виды бытового диалога и виды реплик такого
диалога, виды технического диалога (в военном деле — команды, ответы, императивные <?> формы на производстве, стандартные вопросы и ответы), литературные
жанры, жанры научной речи, информационные, газетные, пропагандистские,
агитационные жанры ит. п., формулы законов («язык не дан изначально <?>»).
Необычайное разнообразие речевых жанров и отсутствие классификации (даже,
например, в области деловой прозы).
Общие функции: коммуникативная и экспрессивная.
Общие жанры: диалог и монолог7. Застывание монологических жанров8, их, так
сказать, отрыв от народа. Степень широты диалогического общения. Узкий круг общения порождает жаргонизацию языка, образование паразитических <?> жаргонов
(семейный язык у Толстого).
127
История взаимоотношений диалога и монолога в различные эпохи. Проблема стиля
60-х годов9.
Умение сказать (выразить) и умение ответить.
Формы вежливости, этикета, такта в языке. Эти формы раскрываются <?> в
диалогической речи.
Борьба мнений и научная дискуссия. Всенародное обсуждение.
Проблема болтовни.
Реальный и условный диалог. Различные степени условности.
Замыкание мысли в монологические формы.
Полемичность, политическая заостренность, влияние коллектива. В застывших
монологических формах преобладают профессионализмы, терминологизмы,
культивируется презрение к непосвященным. Застывшие монологические жанры
обычно пересматриваются <?> в процессе их диа-логизации.
Общее увеличение удельного веса диалога в литературе.
Монологизация (Пруст, Джойс) или ожаргонивание диалога. Автор выходит из
такого ожаргоненного, овеществленного диалога.
Специфические формы диалога, связанные с национальными особенностями языка.
Формы речи нельзя отрывать от форм языка10.
Коллективное обсуждение статей и работ. Кабинетное монологизирование.
Из архивных записей к «Проблеме речевых жанров»
ДИАЛОГ I Проблема диалогической речи
Проблема понимания у Потебни и потебнианцев. Понимание не повторяет, не
дублирует говорящего, оно создает свое представление, свое содержание; и говорящий
и понимающий остаются каждый в своем собственном мире; слово дает только
направление, острие конуса. Между тем говорящий и понимающий вовсе %ie остаются
каждый в своем собственном мире; напротив, они сходятся в новом, третьем мире,
мире общения, они обращаются друг к другу, вступают в активные диалогические
отношения1. Понимание всегда чревато ответом. В слове говорящего всегда есть
момент обращения к слушателю, установка на его ответ. Это ярче всего и проявляется
в диалогической речи. Отношение между репликами диалога иное, чем между двумя
предложениями монологического контекста или между двумя высказываниями на одну
и ту же тему, не связанными диалогически.
Относительность различия монолога и диалога2. Каждая реплика в известной
степени монологична (высказывание одного субъекта) и каждый монолог — в
известной мере реплика, поскольку входит <?> в контекст обсуждения или вопроса,
предполагает слушателей, предшествующую полемику и т. п. Диалог обнимает <?> высказывания по крайней мере двух субъектов, но связанных
128
Просто понимание и понимание, чреватое ответом. Понимание реплики и понимание
монологического целого11.
Проблема целого, законченности, завершенности12.
Связь с актуальной проблемой драматургии. Бесконфликтность13 разлагает и
диалог.
Заключение: изучение диалога позволит лучше и глубже осветить многие явления
языка, которые полнее и ярче всего раскрываются именно в диалогической речи, в
которой раскрывается природа языка как средства общения и орудия борьбы.
Из архивных записей к «Проблеме речевых жанров»
128
128
между собой диалогическими отношениями, знающих друг о друге, отвечающих
друг другу, и эта связь (отношение друг к другу) отражается в каждой реплике диалога,
определяет реплику.
Обращение литературы к разговорной или к народной речи. Это не только
обращение к словарю, к синтаксису (более простому), — это прежде всего обращение к
диалогу, к разговорности, как таковой, к непосредственному ощущению слушателя, к
усилению момента общения, коммуникативности. Это — ослабление монологического
и усиление диалогического элемента речи.
Оценка жанров с точки зрения их диалогичности (внутренней и внешней).
Большая или меньшая степень сосредоточенности говорящего на самом себе или на
предмете (научный монолог), т. е. большая или меньшая степень монологичности (или
resp. — диалогичности), экспрессивности (в смысле функции3).
Гумбольдт о понимании4. Проблема понимания и ее исключительная важность.
Установка на максимальную понятность, на всенародную понятность. Установка на
ограниченное понимание, на зашифровку, на криптограмму, на заумность. Такова
установка всех жаргонов — от арго до дворянских жаргонов. Расширить круг
понимающих или, наоборот, сузить этот круг.
1. Высказывание, как первичная единица речи. Виды высказываний по функции
(бытовая речь, научная, художественная и т. п.). Виды высказываний по отношению к
слушателю: диалог и монолог, их относительность. Связь монолога с экспрессивной
функцией.
2. Проблема понимания. Диалогичность понимания.
3. Диалог и его виды. Значение диалогической речи для литературы. Проблема
диалога в науке и в образных <?> сферах науки. Научные дискуссии. Прессконференции. Конференции всякого рода и т. п.5 <...>
Душа понимающего — это не tabula rasa, слово борется с ней и перестраивает ее.
Степень понятности монолога и изолированно взятой реплики. Предложение,
вырванное из монологического контекста, и реплика, вырванная из диалога. В чем
разница? Какие связи нарушаются (разрываются) в том или в другом случае?
Из архивных записей к «Проблеме речевых жанров»
129
На диалоге лежит печать не одной, а нескольких индивидуальностей. <...>
1. Особенности словарного состава диалогической речи (междометия, местоимения
и др.).
2. Особенности грамматического строя (повелительное наклонение и т. п.6).
Более сильное и специфическое отражение личности говорящего в диалоге
(экспрессивность7). В чем специфичность? Отношение к другому (полемическое и
иное), личность говорящего формируется в борьбе с партнером.
Роль диалога в истории литературного языка. Характерное для современного
литературного языка отмирание книжных форм речи и усиление разговорных.
Книжные формы по существу монологичны. Они ограничивают роль партнера и
ориентированы на узкий круг книжных читателей, причастный специфической
книжной условности. Усиление диалогического момента и расширение самого диалогического общения. Диалогизация литературного языка в эпоху революционных
демократов.
Ориентация Карамзина на салонную <?> дворянскую разговорность. Ориентация
Пушкина на Крылова и Фонвизина.
Усиление диалогического элемента в недраматических литературных жанрах.
Сокращение описательных частей и вообще речи от автора. Появление рассказчика
(борьба с книжностью и монологичностью). Полемичность автора.
129
Роль борьбы мнений, споров. Герцен. Развитие идеологического диалога (борьба
мнений) в романе. Диалоги у Тургенева, Толстого, Чернышевского и др.
Роль сатирических журналов, роль эпистолярного жанра.
Установка на ответ, возражение, немедленную реакцию. Особое влияние реальных
условий и обстановки речи.
Какими формами обогащается язык, реализуясь в речи. Формами целого, конец,
завершение, абсолютное начало. Предложение и высказывание. Степень и характер
законченности. За предложением может следовать другое предложение того же
говорящего. Конец высказывания предполагает смену речевого субъекта8. Я все
сказал, должен выступить другой, хотя бы и молчаливым согласием-несогласием.
Из архивных записей к «Проблеме речевых жанров»
130
Высказывание в его целом всегда обращено, имеет определенного адресата
(«читатель», «публика» и их различия по эпохам), в его конце это отношение
заостряется. Предложение не имеет адресата, оно имеет контекст, с которым связано
предметно-логическими и синтаксическими связями.
Всякая речь кончается, но не пустотой, а дает место чужой речи (хотя бы и
внутренней), ожидание ответа, эффекта и т. п.
Единица речи9 — высказывание. Всякое высказывание по природе своей есть
реплика диалога (общение и борьба). Речь по своей природе диалогична.
Относительность различия диалога и монолога.
Всякое усиление экспрессии личности говорящего в монологической речи (т. е.
всюду, где мы начинаем живо ощущать индивидуальную личность говорящего) есть
усиление ее диалогических потенций.
Реальный и условный диалог. Реальный диалог омывает <?> все монологические и
условно-диалогические формы, служит их лоном и коррективом <?>. Язык делает
возможной речевую жизнь, с другой стороны он сам подвергается ее воздействию.
Новые формы появляются в речи (слова, фразеологические обороты, грамматические
формы), чтобы затем обобщиться и стабилизироваться в языке. Через стиль в язык1 .
Такое новообразование становится жаргонизмом; нужны особые условия, чтобы оно
вошло в общенародный язык (обработка языка писателем).
Проблема смерти языка и мертвых языков.
Сферы употребления языка в социальной жизни. Многообразие и безграничность11
этих сфер. В различных сферах вырабатываются различные речевые жанры, т. е.
формы высказываний.
Речь — это язык in actu. Недопустимо противопоставление в какой бы то ни было
форме1"* языка и речи. Речь также социальна как и язык. Формы высказываний также
социальны, определяются общением, как язык.
Сообщение готовой мысли, выражение готового чувства (эмоции), готового
намерения (волевого акта) и становление, формирование мысли, чувства, решения в
языке, в процессе выражения.
Из архивных записей к «Проблеме речевых жанров»
130
Проблема внутреннего монолога, формы стиля и формы целого (формы
завершения). Неразрывность связи между стилем и жанром, изученная только для
поэтической речи. <...>
1. Становление, формирование мысли совершается в том же процессе общения,
обмена мыслями13. Диалогическая формула Маркса-Энгельса14. Мысль выясняется
для себя самого лишь в процессе ее выяснения для другого. Поэтому нет и не может
быть, так сказать, абсолютного монолога, т. е. никому не адресованного, чисто
130
индивидуального выражения мысли для себя самого. Такой абсолютный
индивидуальный монолог, если мы его помыслим, не нуждался бы в языке, понятном
для других, утратил бы всякое отношение к сфере языка. Всякое высказывание
диалогично, т. е. адресовано другим, участвует в процессе обмена мыслями, социально.
Абсолютного монолога — выражения индивидуальности — нет, это — фикция
идеалистической философии языка, выводящей язык из индивидуального творчества.
Язык по природе своей диалогичен («средство общения»). Абсолютный монолог, который был бы языковым монологом, исключается самой природой языка.
(Идеалистическое языкознание изучает язык так, как если бы он был
монологическим).
Но если язык по социальной природе своей диалогичен, если абсолютный монолог
не возможен, то относительное различение диалогических и монологических форм
речи не только допустимо, но и необходимо. Наряду с диалогическими формами речи
(например, бытовой диалог) существуют монологические формы речи (например,
научное творчество, повести и рассказы, лирические произведения и др.). Это не
абсолютные монологи, но по своей организации они резко отличаются от диалогов. В
пределах таких монологических целых как роман различаются монологическая речь
автора (или рассказчика) и диалоги действующих лиц. Нет нужды доказывать
очевидное наличие существенных различий диалогической и монологической речи в
пределах (и на основе) общей диалогичности языка. Естественно предположить, что
формы диалогической речи представляют особый интерес, как выражающие в более
резкой и чистой форме социальную природу языка
Из архивных записей к «Проблеме речевых жанров»
131
как средства общения (что, конечно, не снижает
значимости и относительно-монологической <?> речи).
2. Язык и речь. Сферы применения языка (почти безграничны). Функции языка и
формы высказываний. Проблема единицы языкового общения, обмена мыслями.
3. Определение диалога и его проблемы.
4. Роль диалога в истории литературного языка. Диалог и письменность.
Монологичность письменности (законы, анналы <?>, религиозные речевые формы,
виды священных текстов, молитвы и пр.).
5. Диалог в литературе. Теория поэтического языка, идущая от Аристотеля,
тропированная <?> речь, на диалог не распространяется. Изучался только авторский
язык, язык персонажей изучался только натуралистически (преобладание объектных
диалогов в прошлом, изменения <?> в будущем) 15.
Обмен готовыми мыслями и чувствами и становление мыслей и чувств в диалоге.
Становление действия в диалоге (драматический диалог в точном смысле этого слова).
Формы языка, ведущие более активную жизнь в диалоге (например, местоимения,
некоторые глагольные формы). Они вели эту жизнь и в прошлом (ретроспекция). Проблема происхождения языка и отдельных его форм.
Предложение вовсе не является единицей речевого общения16. Если высказывание
(реплика диалога, пословица, афоризм и т. п.) состоит из одного предложения, то это
предложение уже не является просто предложением: к нему присоединяется нечто
новое (новое качество) — речевая завершенность, за ним может следовать уже не
другое предложение, а чужое высказывание (понимание — оценка). Два речевых
субъекта, обмен мыслей, диалогическая граница. <...>
Диалогическая речь и мышление. Становление мысли в диалоге. Борьба нового со
старым.
131
Стиль салонной <?> речи, стиль фамильярной речи, стиль официальной или деловой
беседы. Стили диалогической речи. Каждый владеет несколькими стилями. Эти стили
определяются отношением к собеседнику (всей сложностью социальной иерархии),
целью беседы (ее темой), специфическими формами диалогического общения
(салонная светская <?> беседа, интимные признания, деловой разговор в учреждении и
т. п.), внешней обста
Из архивных записей к «Проблеме речевых жанров»
132
новкой беседы, событиями, определяющими беседу. Речевые диалогические стили
Чичикова17.
Кроме реплик отдельных персонажей, характеризующих их, их стиль, их
социальный и индивидуальный облик, есть еще диалог в его целом, т. е. встреча,
соприкосновение и борьба разных индивидуальностей18.
Важность для понимания внутренних законов языка.
Различие монологического высказывания и реплики диалога.
Композиция малых и больших словесных масс. Лингвистика кончает сложным
предложением, периодом, которые являются элементами высказывания, и не знает
композиции словесных целых. Когда предложение становится целым высказыванием,
оно меняет свое качество. Проблема
?ечевых жанров высказываний. Ее сложность и трудность. 1зучаются только
литературные жанры, но они специфичны и прежде всего синтетичны (или
синкретичны).
На маленьких жанрах изучить проблему завершенности. Проблема речевого
общения, т. е. взаимодействия говорящих. Отражение в формах языка этого
взаимодействия, позиций говорящих, сценария и мизансцены речевого общения; слова
и формы, имеющие не предметное, а относительно-диалогическое значение.
Диалогическое взаимоотношение стилей в романе (они соотносятся как реплики
диалога). Например, архаизмы в лирике и в романе (у Пушкина). Речь здесь
располагается в разных плоскостях. Лексические оттенки чреваты здесь образами
людей, их выбор определяется не предметными соображениями. Анализ «Евгения
Онегина» с точки зрения влияния на него диалогической речи, диалогического
разноречия19. Всякая приведенная чужая речь (хотя бы и простая цитата) предполагает
диалогическое отношение к ней (хотя бы согласие, подтверждение). <...>
Проблема взаимного понимания. Дело идет не о простом понимании (пассивном),
имеющем целью просто понять, что хочет сказать говорящий, без оценки понятого, без
выводов из него, без ответной реакции. Такого понимания в сущности никогда не
бывает, это — фикция. Всякое понимание в большей или меньшей степени чревато
ответной реакцией или словесной или действенной (например, выполнение
понимаемого приказания или просьбы и т. п.). Именно на такое активное, ответное
Из архивных записей к «Проблеме речевых жанров»
понимание установлена речь говорящего; понимание не дублирует понимаемое;
такое пассивное дублирование было бы бесполезно для общества20. Но в степени и
характере активности понимания есть существенное различие между монологом и
диалогом. Этой особой активностью взаимного диалогического понимания
определяется специфическая действенность, драматизм21 диалогической речи.
Темпы и интонации диалогической речи. Они оказывают влияние на темпы и
интонации монологических жанров.
Связь между предложениями и абзацами монологической речи и связь между
репликами диалога. <...>22
132
Итак23,
стиль определяется не
предметно-логическим значением слов, а
экспрессией, т. е. стилистическим ореолом, характеризующим субъекта речи и его
отношение к действительности, выраженной в предметно-логической стороне
слова. В диалогической речи к этому присоединяется третий момент — отношение
к
чужому
слову
о
том
же предмете,
т. е. к предшествующей и
последующей, ответной (предвосхищаемой, направляемой, ожидаемой) реплике
собеседника. Отношение к собеседнику так же определяет речь, как и отношение к
предмету (к действительности). Отношение к собеседнику и его речи — определяющий момент речи в диалоге, вне которого нельзя понять реплики. Но этот
момент implicite присутствует во всякой речи, поскольку всякая речь предполагает
слушатеиное, монолог более сосредоточен на предметно-логической или эмоциональнолирической стороне речи, не отклоняется от этой сосредоточенности действительным
или предполагаемым вмешательством другого (чужой точки зрения, чужого
несогласия и т. п.). Слушатель в монологической речи носит более неопределенный и
коллективный характер (хотя этот коллектив и может ощущаться дифференцированно:
друзья-единомышленники, враги-оппоненты и т. п.). Главное — монолог исключает
вмешательство слушателя на поворотных моментах речи, слушатель может реагировать только на весь монолог в его целом и притом только заочно. Избравший
монологическую форму тем самым получает
право
исключительной
сосредоточенности на
монологе ощущение слушателя
133
Из архивных записей к «Проблеме речевых жанров»
133
предмете своей речи и на своем отношении к нему, право на известную
независимость от слушателя, отказ от оглядки на слушателя. При изучении
монологической речи анализ может почти ограничиться предметно-логическим значением речи (т. е. изображенной или воображенной объективной действительности) и
самим субъектом речи в его отношении к предмету речи. Ведь такова действительная
установка, таков замысел монологической речи24.
С диалогической речью дело обстоит гораздо сложнее: при анализе реплики мы
должны учитывать определяющее влияние собеседника и его речи, выражающееся в
отношении самого говорящего к собеседнику и его слову. Предметно-логический
момент слова становится ареной встречи собеседников, ареной становления точек
зрения и оценок их. В монологе от этого можно отвлечься. Конечно, необходимо
учитывать относительность монолога (ведь абсолютного монолога не бывает), но
установленные нами относительные различия между монологом и диалогом, несмотря
на эту относительность, очень существенны. Далее, необходимо учитывать разные
жанры монолога, некоторые из которых предполагают более острое ощущение
слушателя и учет его. Степень диалогизации монолога может быть очень различной.
Необходимость считаться с различными точками зрения, высказываемыми по
предмету речи, необходимость полемизировать с одними, опираться на другие точки
зрения (цитаты, пересказы чужих взглядов и т. п.), — приводит к диалогизации монологической речи. Более того, можно говорить об общей исторической тенденции
диалогизации монолога (научного, публицистического, художественного, газетных и
журнальных жанров и т. п.). Диалогизация стилей.
133
Монологическая сосредоточенность говорящего на самом предмете своей речи и на
своем отношении к нему без оглядки на слушателя, без прямого учета чужих точек
зрения и оценок.
Статистические подсчеты употребления различных форм языка в монологе и
диалоге.
Проблема синонимики. <...
1. Переход к высказыванию (речевому жанру).
2. Определение высказывания и его границ. Высказывание и предложение.
Из архивных записей к «Проблеме речевых жанров»
3. Отношение к собеседнику и чужому высказыванию. Три фактора, определяющие
стиль высказывания. Типы отражения чужого слова (диалогические обертоны).
4. Проблемы стилистики. Неразрывная связь стиля с жанром, а жанра — с
условиями общения.
5. Классификация речевых жанров.
6. Источники изучения26.
И деловая канцелярская речь-стиль определяется отношением к другому —
адресату. «Предлагаю» <?>, «просим» и т. п. Здесь стиль определяется традициями или
практическими, целевыми установками жанра, но об индивидуальном стиле говорить
не приходится. В бытовой речи — индивидуальная манера.
Разговорно-бытовые жанры очень резко отражают влияние слушателя и его речи
(всевозможные уступки и оговорки в пользу слушателя, речевой такт и т. п.). Сложные
взаимоотношения стиля и жанра. Жанры часто меняют стили, стили перемещаются по
сферам и по жанрам. Стиль, переходя из одного жанра в другой, изменяет его,
переносит в него особенности первого жанра. Проникновение разговорных стилей в
литературу диалоги -зирует литературные жанры.
ДИАЛОГ II
В. В. Виноградов. Насущные задачи советского литературоведения. (Вопросы
литературоведения в свете трудов И. В. Сталина по языкознанию. Изд. Акад. наук
СССР, М., 1951 г.)1.
«Изучение стилистического многообразия языка художественной литературы
невозможно без знания стилей общелитературного, общенационального языка.
Литературный язык, достигший высокой ступени развития, представляет собой
разветвленную систему связанных друг с другом и соотносительных стилей. Не все эти
стили равноценны. Они различаются по сферам применения, по смысловому объему,
по составу слов и конструкций. Немотиви
134
Из архивных записей к «Проблеме речевых жанров»
134
рованное перемещение выражения из одного стиля языка в другой —
функционально далекий — воспринимается как резкий диссонанс или как средство
комизма» (11) 2.
«Исследование этого круга вопросов предполагает разработку стилистики
общенародного языка. Принципы и задачи стилистики как лингвистической
дисциплины остаются до сих пор еще не вполне ясными, основные понятия и
категории этой науки — не определенными. Термин «стиль» в применении к
функциональным разновидностям национально-литературной речи имеет другое
содержание, чем в тех случаях, когда он обозначает систему выразительных средств
словесно-художественного произведения или литературного направления. Вопросы и
задачи нормализации3 общенародного языка, борьба с засорением разговорной речи
жаргонными выражениями, узко местными провинциализмами нуждается для
134
успешного разрешения в теоретической базе стилистики. Стилистика национального
языка должна активно содействовать росту культуры речи. Теория в этой области
языкознания особенно тесно соединена с практикой, переплетается с ней. Глубокое
понимание стилистики общенародного языка в ее развитии должно лежать и в основе
словесного творчества писателя. Язык литературного произведения рассчитан на
восприятие и оценку его в аспекте общенационального языка».
«Особенное значение в этом кругу вопросов приобретают наблюдения над языковой
синонимикой в области грамматической и лексико-фразеологической. Изучение
синонимических средств выражения, присущих общенародному, национальному
языку, поможет установить его живые активные стили и определить закономерности
его семантического развития. Исследование стилистического многообразия языка
невозможно в отрыве от изучения функциональных своеобразий его употребления в
разных сферах общественной жизни». (11—12).
«В классовом обществе круг функционально-стилистических различий речи
пересекается различиями социально-диалектного характера. Разные социальные
группы, разные классы, будучи небезразличны к языку4, стремятся использовать его в
своих интересах. В стилях литературного языка в таких случаях отражаются различия
«лингвистических вкусов»5 и типических приемов выражения, свойственных тому или
иному социальному кругу и
Из архивных записей к «Проблеме речевых жанров»
135
обусловленных его культурой. Например, нетрудно распознать типические черты
речевого стиля, насыщенного «семинарской риторикой» или профессиональноцерковной ученостью XIX в. в таком отрывке из «Записок протоиерея Певницкого...»
Следует отрывок (пример речевого стиля).
Приводится пример стиля военного писаря или телеграфиста (Подшивалова).
«Образно-художественная функция языка основывается на коммуникативной
функции его как средства общения и обмена мыслями, из нее исходит, но подчиняет ее
задачам и законам словесно-художественного выражения. Широта, многообразие и
эстетическая целенаправленность использования общенародного языка и его
«ответвлений» резко отличает художественную литературу от идеологических
надстроек другого типа, которые выражаются, сохраняются и закрепляются с помощью
языка».
«Функции языка в художественной литературе расширяются и усложняются. На базе
общенародного языка, при помощи его выразительных возможностей создаются
формы художественного изображения, принципы речевого построения образов и
характеров, приемы типизации и индивидуализации речи персонажей, осложненные
способы ведения диалога, богатая художественная фразеология, целый арсенал
изобразительных средств».
«В закономерностях развития средств словесно-художественной образности и
экспрессии выражается национальная специфика литературы. Чем сильнее и долговечнее их действие, тем ближе они к словесно-художественному творчеству народа,
его национальным качествам. Печать глубокого национального своеобразия лежит на
них». (13).
«Ценность и значимость художественного слова «определяется тем, когда, где, на
каком месте и, главное, для чего оно поставлено». «Надо каждое слово, — говорил
Салтыков-Щедрин, — рассчитать, чтобы оно не представляло диссонанс, но было
именно то самое, какое следует»6. Пушкину принадлежит афоризм, остро вскрывающий огромное значение способов подбора и соединения слов в системе целого
135
предложения. «Разум неистощим в соображении понятий, как язык неистощим в
соединении слов. Все слова находятся в лексиконе;
Из архивных записей к «Проблеме речевых жанров»
136
но книги, поминутно появляющиеся, не суть повторения лексикона». (А. С. Пушкин.
Полное собр. соч., т. VII. М.-Л., 1951, стр. 445) 7.
Стилистическая атмосфера произведения определяет смысл художественного
образа, его функцию, его оценку со стороны автора. Стиль речи — с р е д с т в о
характеристики
говорящего8.
Синонимические
средства
языка
глубоко
индивидуальны, т. е. народны или национальны» (16).
«В стиле речи отражаются социальные вкусы и уровень культуры говорящего или
пишущего. «Из уст человека, — говорил Салтыков-Щедрин, — не выходит ни одной
фразы, которую нельзя было бы проследить до той обстановки, из которой она
вышла». В стиле произведения выражается общественное лицо писателя и его
индивидуально-творческая личность». (16)
«Стиль великих произведений русской художественной литературы, их образные
обобщения, приемы выразительности воплощают и концентрируют неиссякаемую силу
общенародного русского языка в его идеальном пределе, в его поэтических
возможностях. Поэтому-то процесс художественного творчества великого народного
писателя, так же как его стиль, не может быть и не должен быть сведен только к
отражению и словесно-художественному выражению узкого социально-классового
мировоззрения» (17). <...>*
Проблема речевых жанров.
Эта проблема соотносительна с проблемой языковых и индивидуальных стилей.
Единица речевого общения. Предметно-смысловая полнота и завершенность высказывания.
Бытовой диалог и его осложнения в идеологических сферах общения. Диалогизация
монолога.
Проблема завершенности высказывания. Полный, исчерпывающий ответ на данный
вопрос. Доказанная теорема. Полное описание. Исчерпанный анализ. Разные типы
предметно-смысловой законченности.
Субъективная исчерпанность речи. Dixi. Ответное понимание или активный ответ.
Проблема (мысль) не исчерпана в объективном плане (здесь возможно бесконечное
развитие), но относительно исчерпана для автора, в данных условиях, в данной
ситуации и т. п.
Из архивных записей к «Проблеме речевых жанров»
136
Историческая проблема развития жанров. От гимна <?> или загадки до научного
трактата. Первичные простые жанры (новелла, песня) и вторичные синтетические
(роман)10.
Речевые жанры определяются с одной стороны меняющимися формами общения, с
другой, — предметно-смысловой целесообразностью и логикой содержания.
Обращенность каждого жанра к слушателям или читателям.
Обветшание стилей и их разрушение.
Слово определяется не только своим отношением к предмету, но и своим
отношением к чужому слову (чужому стилю).
Соотносительность жанра и стиля (не только в литературе, но и <во> всех других
сферах речевого общения). Все эти сферы должны быть точно отграничены и определены. Необходимы четкие дифференциации внутри каждой сферы. Ситуация, цель,
136
предмет определяют и выбор стиля (слов и грамматических форм) и выбор речевого
жанра.
Степень сосредоточенности речи на самой себе. Степень учета слушателя.
Направленность слова на предмет всегда осложняется наличием чужих слов, чужих
точек зрения о том же предмете. Химера создания языка заново <?> (дадаизм, сюрреализм, адамизм). Встреча в предмете с чужим словом о нем. Эти встречи,
столкновение, влияние, борьба и размежевание могут быть скрытыми и открытыми.
Непроницаемая завеса стилей, через которую пробивался реалистический стиль
Пушкина (см. В. В. Виноградов11). История вопроса, полемика в научной речи. Предполагаемые точки зрения и оценка собеседника. Установка на понимание собеседника
предполагает не только знание им языка (языковое понимание), но учитывает и
определенные мнения собеседника, вкусы и оценки его.
Неизученность жанров. Разработана только теория литературных жанров, но
разработана на специфической узкой основе Аристотеля и неоклассицизма. Ведущие
жанры современной литературы, такие, например, как роман, вовсе не разработаны.
Теория жанров исходит из предметно-смысловых определений. Изучалась и связь
жанра со стилем (Аристотель, Гораций, Буало, Ломоносов).
Из архивных записей к «Проблеме речевых жанров»
137
Диалог, спор, борьба предполагают взаимное языковое понимание.
Это — проблема жанровых форм речи. В процессе развития культуры эти речевые
жанры специализировались, так как специализировались формы культурного общения
(научного, художественного, технического и т. п.); существенные этапы —
письменность и книгопечатание. Все это содействует специализации жанров и их
сосредоточению на предмете.
Чем условнее и традиционнее стиль, тем менее он учитывает конкретного, живого,
современного слушателя, тем более он монологичен12. Разрушение таких стилей начинается с их пародийной диалогизации. В переломные моменты всегда усиливается
диалогическая стихия речи, обостряется ощущение слушателя-современника, врага и
друга, усиливается борьба со всякой условностью, с условным монологизмом.
Обращение к разговорным стилям, расширение сферы литературного языка
неразрывно связано <?> с обращением к диалогу; происходит — и это очень важно —
расширение концепции слушателя-современника, его демократизация. Условность,
ослабляя ощущение и учет слушателя, в то же время отрывает слово и от реальной
действительности. Диалогизация, обостряя ощущение и учет чужого слова (активноответного слушателя современника), в то же время сближает слово с действительностью, обеспечивает и более правильную и творческую предметную
сосредоточенность его13. Тради-циональная условность в области искусства
соответствует догматизму в области науки.
Рост диалога в литературе и диалогизация монологических частей.
Более широкая, а главное — более глубокая постановка проблемы чужой речи во
всех сферах речевого общения (начиная от форм цитирования)14. <...>
Становление, развитие мысли в споре, в диалоге и ее закрепление в монологических
формах. Эти два момента нельзя разрывать, между ними непрерывные переходы.
Общая диалогичность всех речевых жанров (всех форм речевого общения) и
относительное различение диалога и монолога. Отражение и в монологических формах
диалогического обмена мыслями, учета активного слушателя. Каждое высказывание —
и реплика диалога, и монолог
Из архивных записей к «Проблеме речевых жанров»
137
137
— полно отзвуками чужих высказываний15. Форма и характер этих отзвуков
весьма разнообразны. К лингвистике относится изучение общих типов этих форм. Все
это выдвигает проблему форм отражения и передачи чужой речи.
Неправильное понимание высказывания как замкнутой, самодовлеющей, закрытой
системы, вне которой нет чужого высказывания, предполагание <?> лишь пассивного
слушателя.
Чужие высказывания на ту же тему или непосредственный диалогический ответ или
отклик на данное высказывание (прямой диалог).
Принципиальная разница между тропированной речью (например, метафорическим
выражением) и пародийной, иронической, юморической, полемической и др. речью. В
первом случае один речевой субъект и все движение происходит внутри самого
предмета (предметно-логическое развитие) или в индивидуальной экспрессии самого
говорящего (или в сочетании обоих направлений). Во втором случае предполагается
второй субъект и его чужая речь (действительная или возможная) и отношение к ней
говорящего (первого субъекта), т. е. элементы диалогического взаимоотношения.
Экспрессия уже относится не к предмету, окрашивает не предмет, и не к человеку как
предмету речи (предмету любви, любования, отвращения и т. п.), а к говорящему
человеку и его речи, его точке зрения, его стилю16.
Преломление луча-слова через чужесловесную среду (25).
Чужая мысль, подвергающаяся лишь предметно-смысловой оценке, и чужое
высказывание, облеченное в стилистическую форму (направленческую, мировоззренческую и индивидуальную). Между ними непрерывные переходы, ибо «оголенных
мыслей не бывает»1'. Но от языковой, стилистической чужести можно отвлечься (в
науке).
Внутренняя диалогичность всякого слова и внешне-композиционная форма диалога
(в узком смысле)18.
Встреча с чужим словом в предмете и новая встреча с ним в ответе (слово
провоцирует его, предвосхищает его, строится в направлении к нему).
Из архивных записей к «Проблеме речевых жанров»
138
Установка на слушателя как основная особенность риторического слова, по
Виноградову («О худ. прозе», стр. 75)19. Для риторики, как и для бытового диалога,
характерна внешняя, открытая диалогичность.
Л. Я кубинский. «О диалогической речи», (стр. 30)20.
О внутренней диалогичности (стр. 29-30).
Апперцептивный фон понимания, учитываемый говорящим.
Так, стили речи Чичикова определяются не только рангом собеседника, но и его
предполагаемым апперцептивным фоном.
Ответное понимание — 30-31.
Наличие стилистически нейтральных слов и форм языка (относительных, конечно, в
отношении господствующих стилей данной эпохи)21. К ним пробивается писатель,
разрушая устаревающие стили.
Нахождение, выработка стиля для своего безоговорочно прямого слова, своего
прямого авторского стиля. Различные плоскости, дистанции отстояния стилей.
Разные типы работы над своим прямым словом («единственно нужное слово на
единственно нужном месте»)22 и над чужим стилем (стилизуемым, пародируемым,
полуусловным и т. п.).
Стиль жанров. Важность этой проблемы.
Работа над стилем в кавычках или полукавычках. Работа над своими интонациями,
пронизывающими чужое высказывание.
138
Расхищение интенций и отчуждение стилей (и элементов их) — 40 и дальше.
Слово насыщается смысловыми нюансами (контекстуальными) и оценками.
Виды чужой и получужой речи. Проблема гибридных конструкций — 59-60-61 и
<далее>.
Речевые жанры с первичным подходом к действительности.
Модус непрямого говорения. Примеры из Толстого (Каренин).
Дня типа многозначности или двусмысленности: троп и двуголосое слово.
Два смысла метафоры нельзя разделить между двумя голосами, двумя репликами,
нельзя метафору сделать дву
Из архивных записей к «Проблеме речевых жанров»
Кто должен изучать формы высказывания, т. е. речевые жанры? Лингвист?
Литературовед?
Реформа литературного языка как передвижка существующих форм речи из одной
сферы их применения в другую. Но эти формы речи приносят с собой и соответствующие им речевые жанры (например, диалог).
Влияние слушателя-собеседника на речь. В диалоге выступает реальный слушатель,
реплики которого даны и определяют ответные реплики.
Высказывание — это минимум того, на что можно ответить, <с> чем можно
согласиться или не согласиться. Высказывание отрицает или утверждает нечто. На
предложение нельзя ответить, потому что само по себе оно
139
акцентной. Метафорическое движение языка не диалогично. Анализ примеров из
Аристотеля (судья — жертвенник). Различные концепции метафоры — 92 и дальше.
Проблема диалогизирующего фона высказывания.
Проблема изображения говорящего человека, но говорящего по-своему, имеющего
свой стиль (социальный и мировоззренческий ).
Проблема образа языка-стиля, образа речи (типической и в той или иной степени
индивидуализированной).
Чужое слово как распространеннейшая тема речи. Это вытекает из диалогической
природы языка (обмен мыслями). Стр. 104 и дальше.
Каждое высказывание инвольвирует определенную концепцию слушателя, его
апперцептивный фон, степень его ответности, определенную дистанцию.
Высказывание как территория борьбы — 121.
Особенности изображенной речи1 — 125-126. Стиль, стилизация и изложение —
стр. 148-49-50.
Характеристика излагающей прозы (гладкость и пустота) — 151.
Категория литературности — 152-153.
Процесс канонизации и процесс переакцентуации стилистических явлений —
190 и даль-ше^.
Из архивных записей к «Проблеме речевых жанров»
139
ничего не утверждает (и не отрицает). Оно становится утверждением только в
контексте, в связи с другими предложениями в целом высказывании. Если
предложение не имеет контекста, то, если это не пример для анализа, оно является уже
не предложением, а целым высказыванием, состоящим из одного предложения. Оно
приобретает новые качества: оно уже что-то утверждает (или отрицает)
— конечно, в разной степени модальности — не ним можно соглашаться или не
соглашаться, спорить, подкреплять и т. п.24 Здесь выступает роль другого. Мысль становится предметом обмена с другим.
139
Части монологического целого становятся мыслями в целом контексте, и могут быть
отсюда выделены и обсуждены отдельно.
Не просто мысль, а мысль-утверждение. Предложение
— законченная мысль, но вне контекста она еще ничего не утверждает, с ней еще
нельзя спорить. Предложение можно обсуждать только с точки зрения его грамматической правильности.
Высказывание уже принадлежит к области идеологии (но оно не обязательно носит
классовый характер).
«Подождите, я еще не кончил». Или — dixi.
Выделенное из контекста предложение, которое обсуждается, рассматривается как
законченное высказывание (за <?> которое говорящий отвечает).
Отношение к предметно-смысловому содержанию <высказывания>25 (в науке) и
отношение к его стилю (мировоззрению). «Кто жил и мыслил...»26 Сопоставление с
аналогичной тирадой Грушницкого27.
Стиль здесь нельзя отделять от предметно-смыслового содержания. Спорят и со
стилем (как выражением мировоззрения).
Тот минимум, после которого можно дать слово другому, можно произвести обмен
мыслями.
Высказывание, таким образом, входит в область идеологии, но общие типические
формы высказываний, т. е. жанры, касаются языка. Так же и формы отражения чужого
высказывания, связанные с этим. Пограничная сфера. Философия языка.
Высказывание не совпадает с суждением. Высказывание может предполагать не
логическую, а иную оценку.
Из архивных записей к «Проблеме речевых жанров»
140
На границах высказывания происходит смена речевых субъектов. Конец
высказывания как бы обрывается в возможную чужую речь. Границы высказывания
это границы речевых субъектов, т. е. диалогические границы.
Целое высказывания и его конец (завершенность) не могут определяться только
предметно-смысловой логической законченностью. Присоединяется завершающая
воля автора: dixi, а теперь ваше слово. Высказывание как целое всегда обращено,
адресовано кому-то. Вопрос о предметно-смысловой стороне не исчерпан, но моя роль
в нем пока (относительно) исчерпана.
Высказывание, таким образом, по самой природе своей получает отношение к
чужому высказыванию, к чужой речи, к действительной или возможной речи
собеседника-слушателя-читателя. И это отношение к чужому высказыванию
определяет данное высказывание, находит в нем обязательное отражение (отражение
чужой речи).
Не только конец, но и начало высказывания определяется чужой речью. Проблема
зачина. Нельзя начать без учета слушателя и его апперцептивного фона.
Но высказывание не только ограничивается и округляется со всех сторон своим
отношением к возможной чужой речи, оно на всем своем протяжении сохраняет связь
с нею, отражает ее.
Реплика диалога или монологическое высказывание.
Внутренняя структура высказывания. Чем определяется отбор языковых и
стилистических
средств:
1)
предметно-смысловым
содержанием
(т.
е.
направленностью на предмет речи), 2) экспрессивностью, т. е. выражением говорящего
субъекта (его эмоций, его отношения к предмету речи), 3) отношением к слушателю и
к чужой речи (третьего лица) 28.
140
Третий момент обязательно29 наличен во всяком высказывании, как <в> реплике,
так и в монологе. Нельзя понять стиля речи без этого, в высшей степени важного,
стилеобразующего момента.
Дело идет именно о стиле высказывания, а не о стиле языка в точном смысле. Стиль
конкретного высказывания всегда включает в себя отношение к слушателю, хотя бы
стиль заявления, резолюции на нем положительной, стиль военной команды и т. п.
Из архивных записей к «Проблеме речевых жанров»
141
Мировоззренческие и направленческие стили. Становясь стилями конкретного
высказывания, они приобретают, даже при максимальной чистоте и выдержанности,
полемический, апологетический, стилизаторский характер. Пользование сложившимся
стилем это почти всегда в известной степени стилизация, т. <к.> инвольвирует <?>
отношение говорящего к данному стилю (оговорочное говорение <?>, отношение как к
чужой или получужой речи).
Далеко не все явления языка (слова, фразеологические единства, даже
морфологические и синтаксические формы) нейтральны30. Они пахнут стилями, с
ними связаны определенные мировоззренческие, направленческие, социальные оценки.
Эти слова приходится употреблять оговорочно, брать их в интонационные кавычки.
Кроме нейтральных, ничьих слов, в языке много слов чужих или получужих для
говорящего, для его, т. е. адэкватного его замыслу, стиля.
Оговорочное употребление в любом стиле (деловом, например) слов, характерных
для другого стиля. «Как говорят в быту», «как сказали бы поэты», «говоря на
канцелярском языке» и пр.
Какие же существуют формы отношения к слушателю-читателю-собеседнику и к
чужой речи в высказывании? Как их классифицировать.
Прежде всего нужно коснуться <?> такого явления. Собеседник-слушатель-читатель
— второе лицо, к которому обращено, адресовано высказывание, которому я отвечаю
или ответ которого я предвосхищаю. Но третье лицо, высказывание которого я
привожу, которого я цитирую, с которым полемизирую и соглашаюсь, также становится вторым лицом, поскольку я вступаю с ним в диалогические отношения, т. е.
становится субъектом диалогического отношения. Говорящий человек и его речь не
могут быть просто предметом речи, поскольку я говорю о них, они становятся для
меня диалогическим партнером. Далее слушатель и чужая речь могут иметь
коллективную, обобщенную форму. Так, <например,> в полемических и оговорочно
употребленных стилях.
Классификация диалогических партнеров. Собеседник в прямом диалоге, которому я
отвечаю. Апперцептивный фон собеседника-слушателя. Его предвосхищенный ответ.
Из архивных записей к «Проблеме речевых жанров»
141
Отношение ко всему уже сказанному о предмете речи (хотя бы в форме — обычно
считается, говорят), скрытая опора или скрытая полемика.
Диалог, диалогизованный монолог и сосредоточенная на своем предмете речь.
Диалогические отношения — позиция согласия-несогласия, оценка.
Троп и двуголосое слово. Двоякое использование синонимики.
Проблема отражения чужой речи и ее влияния. Формы этого отражения. Речь
(чужая) остается вне высказывания или она входит в высказывание, входит в прямой
или в разных видах непрямой формы (гибридизация) 31. Во всех случаях это
определяет высказывание: и его стиль, и его композицию. <-... >32
Предложение, как и отдельное слово, если оно правильно составлено, мы понимаем,
т. е. нам ясно его значение, но мы не можем его оценить, согласиться или не
141
согласиться, т. е. невозможно ответное понимание и использование. Оценить,
согласием-несогласием занять какую-то позицию.
В качестве диалогического партнера выступает публика, критики, ученые
специалисты, потомки, народ и т. п. Разные концепции слушателей, на которых
ориентировано высказывание.
В разговорной речи у говорящего не индивидуальный стиль, а индивидуальная
манера строить свое высказывание.
Проблема скрытой полемики (122-123) 33. Изучение форм высказывания на основе
того, что каждое высказывание (притом самое монологическое и одинокое, самодовлеющее) участвует в общественном обмене мыслями, является единицей такого
обмена, определяется этим диалогическим по своей природе обменом.
Жанр народной эпической песни, сказки.
Изменения в слове, происходящие при переходе слова из одного конкретного
высказывания в другое и в процессе взаимоориентации этих высказываний.
Использование языка неравнодушными к нему классами34, социальными группами,
направлениями, мировоззрениями. Но главное — стилистическое расслоение языка,
определяемое мировоззрениями и направлениями. Стр. — 128-129.
Из архивных записей к «Проблеме речевых жанров»
142
Конструктивные, синтетичные жанры33, элементами которых являются целые
высказывания, хотя и неполноправные и подчиненные высшему единству целого
(роман, драма и др.).
Связи (синтаксические и композиционные) внутри высказывания (реплики или
монолога) и связи между высказываниями.
Ведущие языковые формы для тех или иных речевых жанров, например, ведущие
(организующие) формы глагола. Они организуют не предложения, а задают тон всему
речевому целому*6.
Иерархический принцип различения стилей. Возвышающие и снижающие стили.
Дело здесь не в простом отражении социальной иерархии в классовом обществе (такое
упрощеное понимание было бы вульгаризацией). Важна диалогическая взаимосвязь
стилей, служащих друг для друга диалогизующим фоном. Бранная и хвалебная
направленность стилей3\
Не во всех речевых жанрах может проявляться индивидуальная манера говорящего.
Стилеобразующим началом часто является традиция жанра (например, стиль военной
команды, стиль законодательных актов, стиль производственных распоряжений и
сигналов и т. п.).
Именно в высказываниях, т. е. в речевых жанрах, и совершается использование
языка в классовых и групповых целях (мировоззренческих, направленческих и др.). Но
при этом высказывания, являющиеся единицами общественного обмена мыслями,
базируются на общенародной общности языка, ставящей определенные границы
использованию (при переходе этих границ высказывание перестает быть понятным).
На основное (общеязыковое и нейтральное)38 значение слов и форм языка
наслаиваются особые дополнительные значения преимущественно оценочного
характера. Происходит как бы заражение отдельных слов и форм языка
определенными оценками (стилистическими ореолами39). Это заражение происходит в
высказываниях. Возможны даже индивидуальные окраски явлений языка. Механизм
этого процесса нельзя понять без более глубокого изучения структуры высказывания
как единицы речевого общения, без понимания ее диалогической природы.
Из архивных записей к «Проблеме речевых жанров»
142
142
Все области идеологии пользуются языком, но пользуются по-разному.
Проблема понимания. «Я не понимаю, что вы хотите этим сказать». Языковое
значение высказывания при этом ясно и понятно.
Мы подходим к проблеме контекстуального значения слова40. Именно сюда
относится знаменитый афоризм Пушкина41. Общенародный язык обслуживает не
только все общество (все его классы и социальные группы), не только все сферы жизни
общества (производство, идеология и др. — от базиса до надстройки), но и всевозможные единичные и неповторимые ситуации, все возможные и неповторимые
замыслы говорящих и пишущих, все новейшие открытия. Познанный мир необычайно
расширился, изменился, обогатился, дифференцировался за тот период времени, в
течение которого язык почти не изменился. Целые новые и основные <?> области действительности были открыты, были выражены и описаны с помощью языка, основной
фонд которого — и грамматический строй и фонологическая система — остался без
изменений. Все это ставит проблему контекстуального значения всех явлений языка.
Изучение пластов и наслоений значения и смысла слов. Эти наслоения бывают как
предметно-смысловыми, так и экспрессивными.
Что присоединяется (напластовывается) к значению слова в языковом стиле
(«лексический оттенок»)?42 Что напластовывается на значение в направленческом
стиле? Что напластовывается в индивидуальном стиле? Наконец, — в единичном
индивидуальном высказывании (контекстуальное значение)<?> Чем определяется
выбор единственно нужного слова и единственно нужного для него места?43
Продуктивная разработка проблемы контекстуального значения невозможна без более
глубокого изучения природы и структуры высказывания.
Функция и ситуация.
Что остается от контекстуального значения в системе общенародного языка? Не
только реминисценции, не только ассоциации, но известная гибкость и потенциальное
богатство основного значения, особая способность к контекстуальным комбинациям.
Из архивных записей к «Проблеме речевых жанров»
143
Высказывание (реплика) может состоять из одного до предела неполного
предложения: «И?» Понуждение к продолжению речи, к открытию главного. Это «и»
принадлежит другому голосу
Первичные речевые жанры, непосредственно и прямо отражающие ситуацию
общения, и жанры вторичные, специализированные, отражающие сложную ситуацию
организованного культурного общения44. Но эти специализированные жанры в
большинстве своем слагаются из первичных жанров (драма из реплик, роман и др.).
Организация этих жанров определяется специальными целями и условиями данной
сферы общения, но входящие в их состав жанры носят первичный характер. Роман —
это энциклопедия первичных речевых жанров, не отдельный роман, а романный жанр
(письма, бытовые диалоги, дневники, анналы <?>, протоколы, исповеди, бытовые
рассказы и т. п.). Поэтому роман — важнейший материал43 для изучения этих
первичных жанров (хотя нужно учитывать, что здесь эти жанры, изъятые из условий
реального речевого общения и подчиненные целям романа, в большей или меньшей
степени трансформированы). В большинстве случаев эта трансформация идет по линии
развития заложенных в самом первичном жанре возможностей, а не насилует и не
искажает <?> этих жанров.
В романе мы найдем все разнообразнейшие виды диалога:
1) Многообразные разновидности бытового диалога: грубо-фамильярного,
светского, интимного, площадного и уличного, салонного, семейного, интимного,
альковного, с разным составом участников, в разных ситуациях, на разные темы и с
143
разными целями (классификации Форм бытового диалога до сих пор нет). Речевые
стили Чичикова в зависимости от собеседника.
2) Деловые и профессиональные диалоги: служебные (канцелярские),
производственные, коммерческие (связанные с куплей-продажей и заключением
всякого рода сделок и операций, у Гоголя), биржевые, военные (изображение военных
советов у Толстого и др.), следственные и судебные (подробное драматизованное
изображение следствий и судоговорении <?> имеет место в романах с самого начала
его развития, т. е. с греческого (софистического) романа46); диалогическое
столкновение различных
Из архивных записей к «Проблеме речевых жанров»
144
классов и социальных групп: барин с крепостным, офицер с солдатом, начальник с
подчиненным, людей равного положения; разнообразные ситуации диалога и пр.
3)
Идеологические
диалоги:
философские,
научные,
ху-дожественнонаправленческие, морально-этические (исповедальные), политические и др.; отражение
борьбы мнений во всех областях идеологической жизни — одна из важнейших задач
романа (уже с жанра сократических диалогов — одного из зачатков романного жанра
на античной почве);
4) Внутренние диалоги разных типов — «к себе самому», диалогические формы
развития внутренней жизни, формы обсуждения с самим собою, формы
диалогического становления индивидуальной мысли героев и т. п.
Умение <?> и изобретательность в деле <?> создания диалогических ситуаций —
очень важная черта романиста.
Интересная задача — классифицировать разнообразнейшие формы диалога у
Бальзака и охарактеризовать специфику каждой из этих форм.
Мы говорим о диалогах как первичных речевых жанрах и не касаемся
художественных функций диалога в романах.
Отражение различных форм первичного жанра письма в истории романа.
Таким образом, роман на всех этапах своего исторического развития —
исключительно важный источник для изучения первичных речевых жанров, их
структуры (диалогической) и их разнообразных форм. Разумеется и другие
литературные жанры дают материал для такого изучения, но в несравненно меньшей
степени.
Изучение речевых жанров существенно поможет и изучению языковых стилей и — в
особенности — сложной социальной истории их формирования (и их переакцентуации,
переосмысления).
Сложная жизнь языковых, идеологических (направлен-ческих, мировоззренческих) и
социальных <стилей>, история возникновения, развития, борьбы этих стилей, их
трансформации и переакцентуации не могут быть поняты без глубокого изучения
речевых жанров, их диалогической природы и их разновидностей.
Нуждается в изучении речевых жанров и история литературного языка.
Из архивных записей к «Проблеме речевых жанров»
Обращение к разговорному языку, к разговорному стилю в процессе преодоления
книжности в истории русского литературного языка было неизбежно связано с
обращением к тем речевым жанрам, в которых этот стиль реализовался, т. е. к
различным формам диалога, что приводило к усилению диалогичности как
художественной литературы48, так и публицистических и даже научных жанров.
Миновать <?> эти жанры с их специфическими особенностями никак нельзя при
изучении истории литературного языка.
Несущественность деления на разговорные и книжные жанры.
144
Жанры, служащие источником для изучения первичных речевых жанров: 1)
драматические жанры, в особенности народно-комические (Сатарова драма, мимы,
комедии — для античной стадии, фарсы, комические драмы средневековья («игра в
беседу» <?>), соти, шарада <?> и т. п.), 2) сатирические жанры (мениппова сатира,
серьезно-сме
145
Первичные жанры сохраняют в романе свою упругость, свое своеобразие. Роман
заинтересован в использовании возможностей (преимущественно, диалогических),
которые заложены в этих жанрах.
Проблема речевых жанров.
1. Определение речевых жанров. Их социальная и диалогическая природа.
Индивидуум здесь выступает как партнер в диалоге, его мысль формируется для
других, а не для себя. Критика буржуазной лингвистики.
2. Раскрытие диалогической природы первичных жанров. Отражение в них чужой
речи. Их манера и стиль определяются не только предметом и экспрессией, но и
слушателем и его речью.
3. Значение проблемы для стилистики. Критика стилистического монологизма.
Изучение внешней политики стилей (апологетика, полемика, разные степени
условности, разные формы преломления).
4. Проблема контекстуального значения слова (ситуация, мировоззрение,
индивидуальность).
5. Классификация речевых жанров: 1) диалогические и монологические, 2)
первичные и вторичные (специализо-ванные и конструктивные).
6. Источники изучения речевых жанров47.
Из архивных записей к «Проблеме речевых жанров»
145
ховые жанры античности, Лукиан), 3) публицистические жанры, очерки и пр.
Советские производственные очерки — почти документальное отражение жизни
языка в сфере производственной деятельности.
Проблема условности и борьба с нею в истории литературного языка, литературноязыковых и художественно-литературных стилей.
Проблема композиции речевых жанров. Лингвистика и композиция. Речевые жанры
— композиционные и стилистические единства, определяемые функцией (художественные, научные, бытовые высказывания), условиями общения (книжные
монологические жанры, установленные на читателя, публику, специалистов, военные
команды, официальные заявления, адресованные определенному учреждению и т. п.),
наконец, конкретной ситуацией речевого общения. Предмет высказывания, его автор и
его адресаты.
Проблема речевых жанров <—> одна из важнейших узловых проблем филологии.
Она лежит на границах лингвистики и литературоведения, а также и тех почти совершенно еще не разработанных разделов филологии49, которые должны изучать жизнь
слова и специфическое использование языка во всех сферах общественной жизни и
культуры («сферы употребления языка почти безграничны»). Теоретическая
разработка этой узловой проблемы филологии необходима для более глубокого и
методологически четкого построения стилистики как лингвистической, так и
художественной, семасиологии <?> и др. Связь с идеологическим и классовым
использованием языка. Проблема функций языка, проблема контекстуального значения. Таковы те линии, те нити, которые сплетаются в узле этой проблемы. Должна
быть создана более дифференцированная классификация языковых стилей
(существующие классификации грубы <?> и упрощенны, не вмещают целого ряда
145
существенных стилистических явлений и даже вовсе не способны вместить более
тонкие стилистические нюансы).
Лингвистика и проблема композиции словесных, речевых жанров, т. е. построения
речевых целых (высказываний), притом не только художественных, но и во всех
сферах применения языка.
Из архивных записей к «Проблеме речевых жанров»
«Основные языковые единицы, из которых состоит наша речь, имеющие целью
сообщение другим наших мыслей»51.
При всех дальнейших лингвистических рассуждениях эти «другие», для которых
только и существует речь, исчезают. Речь определяется только говорящим и предметом
сообщения.
Речь и язык. Слово и предложение входят в систему языка и являются его
единицами (языковыми единицами) лишь в своей абстрактной форме (по И. В.
Сталину). В своей конкретной форме они являются единицами высказывания, а не
речи.
Слова — кирпичи, грамматика — правила и способы построения, здания же — это
высказывания52.
«Наша речь расчленяется прежде всего на предложения, каждое из которых, являясь
более или менее законченным высказыванием, выражает отдельную мысль»53.
Пауза, отделяющая предложения друг от друга54. Такая пауза существует только
внутри высказывания. Между высказываниями пауза совсем особого рода (если здесь
вообще можно говорить о паузе). Эта «пауза» уже не определяется говорящим,
который кончил свою речь. Она определяется собеседником и всей ситуацией речи.
Сложное предложение остается предложением и не приближает нас к границам
высказывания, не порождает еще нового качества.
«Речь наша имеет своей целью сообщать другим наши мысли. Эти мысли
облекаются в речи в форму предложе-нии»^.
Если предложение действительно облекает как форма всю ту мысль, которую мы
хотим сообщить другому, то это уже не только предложение, но и целое высказывание.
Оно завершается уже не паузой, а концом, за ним следует не другое предложение, а
чужая речь, действительное или
146
Можно ли рассматривать высказывание как сложное синтаксическое целое, т. е.
растворять проблему высказывания в синтаксисе, рассматривать целое высказывания
как некое синтаксическое целое (по аналогии со сложным предложением или
периодом) 50.
Из архивных записей к «Проблеме речевых жанров»
146
возможное высказывание другого (т. е. его понимание, чреватое ответом или
выполнением), оно обращено к другому, оно в той или иной форме отражает в себе
действительную или возможную чужую речь.
Предметно-смысловой момент высказывания (предмет сообщения, то, что
сообщается), экспрессивный момент, т. е. оценивающее отношение говорящего
(индивидуальное или коллективное) к предмету сообщения, т. е. к предметносмысловому моменту, наконец, третий определяющий момент высказывания —
отношение высказывания (и говорящего) к собеседнику-слушателю-читателю и его
слову (уже сказанному и предвосхищенному), к чужой мысли в процессе обмена
мыслями.
146
Существует ли этот третий определяющий момент высказывания г Не растворяется
ли он в двух первых (т. е. в предмете и в экспрессии высказывания)? Находит ли он
реальное, материальное, определяющее отражение в высказывании?
Чужое высказывание (второго или третьего лица) может быть иногда
самостоятельным предметом высказывания, т. е. я могу говорить о чужом
высказывании, сообщить его другому. Но это предмет sui generis. Говоря о чужой речи,
мы не можем не занять какой-то диалогической позиции в отношении к ней,
соглашаться и не соглашаться с ней, относиться к ней полемически, иронически,
приводить ее как истинное положение, авторитетное, сомнительное и т. п. Таким
образом, здесь есть отношение к чужой речи диалогического характера. Экспрессия,
относящаяся не к предмету, а к чужой речи о предмете, носит особый характер: это —
экспрессия согласия-несогласия (выражающаяся в интонации), иронии, сомнения в
правильности и т. п., это — особая диалогическая экспрессия. Эта экспрессия имеет
место и там, где чужая речь не является предметом высказывания, а остается вне его36.
<...>
Диалогические обертоны, которые во всякой речи примешиваются к ее основному
тону
Формы диалогического отношения к чужому высказыванию, формы отражения
слушателя и его речи чрезвычайно разнообразны, но почти вовсе не изучены (мы поч
Из архивных записей к «Проблеме речевых жанров»
147
ти ничего не прибавили к античной риторике). Изучение их — важная задача,
стоящая перед нашей наукой.
Когда мы отвлекаемся от целого высказывания, когда мы изучаем предложение как
элемент условно-монологического контекста, мы перестаем слышать все
диалогические обертоны, кроме самых грубых и внешних.
Проблема контекста и его границ. Ближайший контекст и целое высказывания. Есть
такие стилистические явления (некоторые диалогические обертоны), которыераскрываются только в целом контекста.
Предложение можно определить как тот грамматический (синтаксический)
минимум, в который может облечься целое высказывания57. При этом предложение
приобретает признаки, качества, которых оно, как предложение в контексте, не имеет.
Различать значение слов и содержание мысли. Содержание мысли раскрывается,
реализуется с помощью значений слов только в конкретном высказывании.
В сложных и сосредоточенных на своем предмете специализированных культурных
жанрах всегда можно прощупать упругие органические формы первичных жанров. Во
все переломные моменты в истории литературного языка и стилей происходит
обращение к первичным речевым жанрам и прежде всего к диалогу.
Каждое (сколько-нибудь ответственное) высказывание о предмете знает и другие
высказывания о том же предмете (согласные и несогласные), как-то ориентируется
среди этих чужих высказываний. Эта ориентация может найти прямое выражение в
высказывании (изложение чужих мнений, цитаты и ссылки, полемика и др.). Но этого
отражения может и не быть: в таком случае всегда есть, хотя бы и трудно уловимые
диалогические обертоны Далее, всякое высказывание учитывает последующую
реакцию на него — согласие, возражение, сомнение и т. п., т. е. ответное понимание.
Это предвосхищение ответа также может иметь прямое выражение в речи, но может
порождать только диалогические обертоны.
Самая монологическая, самая сосредоточенная на своем предмете речь
(максимально далекая от всякой риторичности) все равно имеет такие диалогические
обертоны.
147
Из архивных записей к «Проблеме речевых жанров»
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ >
Дополнение слова (в номинативном предложении) до предложения и до
высказывания (с помощью интонации, жеста и т. п.). Слово может, минуя
предложение, сразу дополняться до высказывания Общее <?> всем многообразным
видам высказываний — от «а!» до большого романа. Это общее отличает
высказывание от всех видов синтаксических единств — синтагмы, предложения,
сложного предложения. Речевая законченность мысли. Смена речевых субъектов.
Представление о речевой законченности и нормы такой законченности глубоко
различны в зависимости от разных
148
Учет социального положения, ранга слушателя, и учет его апперцептивного фона.
Предложение — отдельная мысль среди других отдельных мыслей того же
говорящего58. «Отдельность» высказывания другого рода.
Высказывание кончается там, где кончается речь (роль, реплика или монолог)
данного речевого субъекта и где выступает другой — говорящий или понимающий и
оценивающий речь первого.
Проблема целого. («Всё»). Не с элементами системы мы имеем дело, а с целым.
Проблема завершения и конца.
Понимание языка и понимание высказывания, понимание значения слов и
понимание содержания мысли или образа.
Не мысль, а обмен мыслями, не высказывание (изолированное и самодовлеющее), а
обмен высказываниями с другими в пределах данного общества.
Мысль становится действительной мыслью в процессе обмена мыслями, т. е. в
процессе высказывания для другого.
Диалогические обертоны: скрытая полемика, легкая пародийность <?> и ирония в
некоторых местах, рассеянная и скрытая чужая речь, полемическое оправдание
подчеркивания отдельных положений и слов и т. п. Диалогизирую-щий фон. <...>59
Из архивных записей к «Проблеме речевых жанров»
148
сфер общения и разных типических ситуаций внутри данной сферы (каждой сферы).
Речевой замысел говорящего и его речевая воля. Выражение позиции в данном
вопросе, в данной ситуации и т. п. Действенность. Субъект и предикат высказывания.
В какой мере приложимы эти понятия при анализе высказывания1. В чем единство
больших литературных произведений? Драмы, романа и т. п. или большого научного
трактата, публицистической статьи. Что спаивает во-едино множество разнородных
синтаксических единств, предложений, суждений и т. п. Единство индивидуального
стиля. Критерий полноты и исчерпанности.
Говорящий исчерпал себя для данного замысла, данной ситуации. Он может
продолжить, но сперва дает слово другому или хотел бы добиться от него понимания
(согласия-несогласия). Я могу хотеть молчаливого понимания (согласия).
Завершенность литературного произведения (ни слова не убавишь и не прибавишь).
Относительная завершенность научного произведения.
Лингвистика всегда боялась подойти к границам высказывания, бежала от этих
границ, оставалась внутри контекста, где и чувствовала себя уверенно.
Как определяется относительная законченность, завершенность, исчерпанность
высказывания. Предметно-смысловой момент. Замысел говорящего. Исчерпанность замысла.
[К началу: Проблема2 не лингвистическая, но и не литературоведческая. Эта
проблема не относится специально к лингвистике, не относится и специально к
148
литературоведению, не относится и к другим филологическим дисциплинам, но при
этом она касается и лингвистики, и литературоведения, и всех других филологических
дисциплин. .Это — проблема общефилологическая, задевающая все грани жизни слова
и в языке и во всех сферах человеческой культуры.]
Высказывание занимает позицию в социально-классовой, политической,
мировоззренческой, направлен-ческой <?> борьбе, происходящей во всех <?> сферах
<?> человеческой культуры и идеологии, и понять высказывание нельзя, не занимая в
отношении него ответной позиции: оно требует от нас согласия-несогласия,
Из архивных записей к «Проблеме речевых жанров»
149
признания или опровержения <?>. Высказывание, в зависимости от сферы
человеческой деятельности, может быть классовым, партийным, но может и не быть
таковым. Вторичные высказывания специальных областей культуры и идеологии
изучаются литературоведением и философией, но не с точки зрения организации
больших словесных масс (наша проблема).
Важность проблемы словесного завершения.
Третий3 признак определяет тематическую и к о м п о э и ц и о н н о - с т и л и
с т и ч е с -кую сторону высказывания. (Завершенность — композиция).
Лингвистика и высказывание. Боязнь границ. Моноло-гизм лингвистики.
Из трех признаков высказывания вытекает, что его нельзя рассматривать
<изолированно> от других высказываний, с которыми оно связано в процессе обмена
мыслями. Отношение к другому высказыванию — конститутивный момент
высказывания. Следовательно, оно не может не отражать в себе — в своей
композиции, в своем стиле — другого говорящего, адресата высказывания и чужого
высказывания, с которыми оно связано в процессе обмена мыслями. На этом моменте
необходимо особо остановиться.
Проблема границ контекста. Контекст данного высказывания (одного речевого
субъекта) и контекст речевого общения (других высказываний), определяющий данное
высказывание.
Проблема контекста и его границ. Это — самостоятельная тема статьи4.
Словесный и несловесный контексты. Контекст высказывания и контекст понимания
(апперцептивный фон). Монологический и диалогический контекст.
Одно дело предложение, обрамленное контекстом того же речевого субъекта
(говорящего), другое — предложение, служащее целым высказыванием, обрамленное
контекстом чужих высказываний или потенциально-словесной ситуацией (например,
реплика в контексте диалога).
Например, вопросительное предложение, обрамленное контекстом того же
говорящего и не предполагающее ответа другого говорящего (на него обычно отвечает
сам гово
Из архивных записей к «Проблеме речевых жанров»
149
рящий, но это далеко не всегда риторический вопрос в точном смысле). Или
вопросительное предложение, являющееся реальным вопросом, обращенным к
другому.
Необходимо сосредоточить свое внимание именно на форме целого высказывания и
определить типы форм целого высказывания, т. е. речевые жанры.
Система стилей и разновидностей общенационального языка. Связь со сферами
человеческой деятельности. Эту систему стилей нельзя изучать без раскрытия системы
речевых жанров.
149
Жанр — это отстоявшаяся типологически устойчивая форма целого высказывания,
устойчивый тип построения целого.
Почему неправомерно говорить о разных жанрах предложения (о повествовательном
жанре, вопросительном, восклицательном, побудительном)? Потому что предложение
не есть целое высказывание. Можно говорить только о формах предложения3.
Нечеткость и двусмысленность при анализе предложений. Отдельное предложение
анализируют вне контекста и примышляют (прибавляют, вкладывают) к нему — часто
совершенно непроизвольно — такие моменты, которые присущи только целому
высказыванию, т. е. рассматривают его так, как если бы оно было целым законченным
высказыванием, состоящим из одного предложения. Высказывание может состоять из
одного предложения, но предложение никогда не равняется высказыванию. Это —
явления разного порядка.
Что такое «речевой поток» и на какие единицы он делится. Речевой поток в устах
одного говорящего.
Восклицание и вопрос как драматизация текста.
Восклицательные, вопросительные и побудительные предложения занимают особое
место. Они по своей природе стремятся стать целыми высказываниями и отличаются
резко выраженной обращенностью. Они не контекстуальны. Предложения, состоящие
из одного слова, также по природе не контекстуальны (они тяготеют к внесловес-ному
контексту: «Пожар!»6).
Есть предложения, по самой своей природе требующие внесловесный контекст (т. е.
лежащие на границах целого высказывания, глядящие за эти границы) и непосредственно обращенные к другому говорящему.
Из архивных записей к «Проблеме речевых жанров»
150
Важно все то в предложении, что указывает за пределы контекста, т. е. все то, что
включает высказывание в процесс обмена мыслями.
Своему экспрессивному отношению к предметно -смысловой стороне речи
говорящий может придавать такое же общезначимое значение, как предметному
смыслу; он во всяком случае хочет приобщить к нему слушателей. Это — объективная
субъективность. Чистая же субъективная субъективность (я люблю, мне грустно по
личным причинам и т. п.) является предметом высказывания, а не его экспрессией (эта
последняя — сочувствие, изумление, сострадание) 7.
Понимание «высказывания», «коммуникации» у Шахматова и др. Это —
психологический,
логический
или
предметный
эквивалент
предложения,
гипотетически конструированный для объяснения предложения. Иногда это
предполагаемая единица процесса мышления или процесса осмысленного переживания
одного субъекта. Все это произвольные конструкции, а не реальные факты.
Критика определения предложения в академической грамматике8.
«Коммуникация» Пешковского. Интонация сообщения (обращенность, адресованная
интонация). Она принадлежит лишь целому высказывания, а предложению лишь
взятому вне контекста и фигурирующему как целое. Целое высказывания передает
свою интонацию предложению. Интонация сообщительности определяется лишь
отношением к другому говорящему, т. е. она обращена, адресована.
Оттенок законченности мысли. В какой мере он принадлежит предложению9. <...>
Коммуникативная функция языка проявляется именно в высказывании10.
Предложение — особое словесное произведение, это такое выражение мысли, в
котором обнаруживаются новые самостоятельные смысловые признаки, не
свойственные входящим в его состав словам или словосочетаниям. Это касается и
150
высказывания как целого, в нем проявляются признаки, которых нет в составляющих
его предложениях11.
Категории времени и модальности, выражающие отношение сообщения к
действительности, могут быть свой
Из архивных записей к «Проблеме речевых жанров»
151
ственны только предложению в его целом (независимо от наличия глагола).
Эти категории в высказывании приобретают реальное, утверждающее значение, а не
формально обобщенное как в предложении12. <...>
Понятие речевого целого у Пешковского. Это речевое целое, ощущаемое как единое
и в основном интонационное, ничего не имеет общего с речевыми жанрами
(высказываниями). На такие речевые целые распадается высказывание. Высказывание
не всегда может быть про-износительно и интонационно непрерывным и единым
(особенно в письменной речи). Эти речевые целые следуют друг за другом и оставляют
нас неудовлетворенными, пока, наконец, не завершится высказывание.
Проблема фразы. Ритмико-мелодические средства выражения единства мысли13.
Одно дело относительно законченная единица речи (и мышления) одного
говорящего субъекта (единицы, на которые явственно распадается его речь), другое
дело — единица речевого общения (высказывание).
Возможно, что единицы речи (предложения) сформировались из единиц общения
(высказываний), но это область гипотез, в которую пока не следует вторгаться14.
Понятие коммуникации у А. А. Шахматова. Это — логико-психологическая основа
предложения.
«Простейшая коммуникация» — сочетание двух представлений.
Предложение как грамматически организованная единица речевого общения или
речевого сообщения (Шахматов, и Виноградов соглашается с ним) 15. <...>
«Что ты рисуешь?» — «Д ом».
Смысл второго высказывания раскрывается только в связи с первым. Высказывание
существует прежде всего для второго лица, а не для безучастного третьего (читателя).
Функции интонации: 1) грамматически синтезирующая, 2) расчленяющая на
синтагмы, 3) предикативная, 4) модально-дифференцирующая.
Конфликт между предметно-смысловой и эмоционально-субъективной стороной
предложения16.
Значение разных типов предложений в контексте цельных
высказываний
и
определение функции
Из архивных записей к «Проблеме речевых жанров»
151
и сферы стилистического употребления предложений разного строения17.
М. Н. Петерсон. Лекции по современному русскому языку, М. 1941 г.18
Слово вне контекста, вне синтаксического окружения, по утверждению А. А.
Потебни — «искусственный препарат» . Оно во всяком случае характеризуется
наибольшей степенью абстрактности. Словосочетание — первая ступень
конкретизации слова в минимальном контексте.
«Язык есть важнейшее средство человеческого общения» (Ленин), и как бы ни были
разнообразны его отдельные функции (сообщение, называние, выражение экспрессии,
вопрос), они не выходят за пределы коммуникации — основного назначения и цели
речевой деятельности.
Тем не менее, в зависимости от конкретных условий высказывания в данной
конкретной обстановке, коммуникация как ведущая, организующая и всеобъемлющая
функция языка выступает и в виде простого сообщения о событии, факте, и в виде
151
наименования (или указания) различных явлений действительности, и в форме вопроса
или побуждения с той или иной степенью экспрессивной окраски. Все эти
разнообразные формы речевой коммуникации перекрещиваются в предложении, как в
фокусе, и определяют отбор и употребление специфических языковых средств
лексико-морфологического и фонационного порядка.
Употребление и употребительность отдельных типов словосочетания обусловлена
содержанием и характером целого текста (произведения, высказывания), отношением
говорящего к окружающей действительности, особенностями его мировоззрения и
идеологических позиций.
«Наша речь распадается на высказывания. Каждое высказывание выражается особой
фразой. Фраза распадается на слова, соединенные между собою по законам грамматики и объединяемые общей интонацией» (С. О. Карцеве -кий, Повторительный курс
русского языка, Госиздат, М.Л., 1928)»
Таким образом, предложение, как предикативное выражение суждения,
противопоставляется фразе, содержащей любое высказывание или сообщение.
Естественно, что в такой формально-синтаксической теории нет благоприятных
условий для глубокой разработки учения о предложи
Из архивных записей к «Проблеме речевых жанров»
152
нии. Основная «ячейка» языка, в которой особенно ярко обнаруживаются
диалектические законы развития языка и мышления, гораздо меньше привлекает
внимание языковеда-метафизика, чем фраза. Тут вся суть предложения, все
разнообразие типов предложения и их семантических разрядов в современном русском
языке, все стилистическое многообразие возможных экспрессивно-смысловых и
модальных модификаций одного и того же предложения, зависящих от социальных
условий речи, от бытовой ситуации, от целей сообщения, вообще, от реальной действительности, — сводится к построению предикативной синтагмы. Понятие же фразы
охватывает у Карцевского все типы высказываний, кроме тех, которые
непосредственно подводятся под формально-логическую схему суждения. К фразам
относятся и высказывания в составе беглой диалогической речи («неполные
предложения», по традиционной терминологии), и сложные предложения, и все типы
не-предикативных нерасчлененных предложений. Само собой разумеется, что
изучение фразового синтаксиса у Карцевского ведется в том же метафизическом
направлении20.
Что дано и что создается в акте речи. Высказывание в его целом создается, его
элементы (грамматические, словарные и др.) даны21.
Слова выражают уже бытующие в данном коллективе понятия, синтагмы же
возникают лишь в процессе речи и не укоренились еще в быту данного коллектива, они
(синтагмы) служат для выражения понятий, возникающих в процессе нашей мысли,
для которых нет обозначений в языке.
Слышна обычно делимость на синтагмы и нет четкой делимости на слова. Такова
точка зрения Л. В. Щербы. Синтагма — категория активного и притом стилистического синтаксиса. Всякий литературный текст, по словам Л. В. Щербы, есть до некоторой
степени загадка, которая всегда имеет разгадку, зависящую от степени понимания
текста, от его истолкования. Синтагма — семантико-синтаксическая единица речи.
«Речевой такт» — понятие чисто ритмическое, «дыхательная группа» — понятие физиологическое22.
Наша речь как поток звуков. Этот поток распадается на отрезки, разделенные
паузами.
152
Из архивных записей к «Проблеме речевых жанров»
153
Четыре вида мелодии: утвердительная, вопросительная, повелительная,
восклицательная23.
Н. Г. Морозова «О понимании текста» («Известия Академии педагогических наук
РСФСР», 1947, вып. 7 — «Вопросы психологии понимания», «Труды Института
психологии»). Она предлагает различать: «фактическое содержание текста,
сообщаемое в словах, словосочетаниях и грамматически оформленных предложениях,
иначе значение — и смысл, мотивационно-личностное отношение к тому, о чем
говорится»24. <...>
«С диалектико-материалистической точки зрения правильно было бы рассматривать
синтагму как синтаксико-семантическое единство, отражающее в составе данной речи
«кусочек», отрезок или элемент действительности, подвергающейся оценке с позиций
говорящего лица» (В. В. Виноградов, стр. 234) 25.
Е. В. Кротевич. «К вопросу о синтаксическом членении речевого потока».
Не только смысловые, но и синтаксические связи могут выходить за пределы того
предложения, где они получают свое формальное выражение. Вот поэтому трудно
согласиться с мнением, будто бы предложение — это «отдельное сообщение,
обособленное в своем содержании и в своей грамматической форме». Предложение не
является абсолютно изолированным в .речевом п о т о -к е , оно лишь одно из более
или менее самостоятельных и относительно законченных, замкнутых звеньев в цепи
единого высказывания26.
«В синтагматическом членении выражаются тонкие смысловые и стилистические
оттенки сообщения. Поэтому выделение синтагм, или, вернее, членение на синтагмы
всегда связано с полным и точным осмыслением целого сообщения или целого
высказывания. Если взять одно какое-нибудь предложение, вырванное из контекста, то
по отношению к нему можно лишь экспериментально, так сказать, ставить вопрос: как
оно может быть расчленено на синтагмы в зависимости от своей семантики, от своего
социального назначения и своего осмысления; какое значение и оттенки значений в
этом предложении связываются с тем или иным возможным его синтагматическим
расчленением. Но и такой экспериментальный анализ, возможный лишь по отношению
к родному языку или к такому
Из архивных записей к «Проблеме речевых жанров»
языку, которым исследователь владеет в совершенстве, как родным, не может
исчерпать всех возможных осмыслений данного предложения, встречающихся в
реальной действительности при постоянной и жизненной необходимости обмена
мыслями27 и отражающих многообразие жизненных ситуаций и явлений. Например,
чеховская фраза из «Каштанки»: «Жизнь потекла как по маслу» в контексте этого
рассказа, в композиции целого произведения должна быть осмыслена как одна
синтагма».
«Кроме того, в зависимости от контекста, жизненной ситуации, образа говорящего
лица, экспрессии речи и т. п. одно и то же предложение, при том же синтагматическом
членении, а иногда и при том же порядке слов, может быть осмыслено по-разному.
Дело в том, что в семантику синтагм входят и экспрессивные интонации речи».
(В. В. Виноградов. Понятие синтагмы в синтаксисе
ххкого языка». Под редакцией ак. В. В. Виноградова.
Гос. уч.-пед. изд. Мин. проев. РСФСР, М., 1950 г., стр. 248—249.)
«Между тем, в зависимости от контекста действительности, от стиля речи и от задач
сообщения, от его экспрессивной атмосферы, от конкретной ситуации и образа
говорящего лица это предложение — даже при указанном порядке слов — может
153
представлять собою одну цельную синтагму («Мой двоюродный брат вчера вечером
приехал ко мне»), две синтагмы («Мой двоюродный брат / вчера вечером приехал ко
мне»), три синтагмы («Мой двоюродный брат / вчера вечером / приехал ко мне»),
четыре синтагмы («Мой двоюродный брат / вчера, / вечером, / приехал ко мне») и даже
пять синтагм («Мой двоюродный брат / вчера, / вечером, / приехал — / ко мне»). Само
собою разумеется, что при экспрессивной индивидуализации сообщения (например,
при подчеркивании неожиданности приезда именно к данному лицу) возможны и
другие разнообразные синтагматические членения этого предложения, связанные —
каждое — с своеобразным смыслом целого», (стр. 250).
«Правильно заметил Е. В. Кротевич по этому поводу: «Не все то, что может быть
переставлено, является во всех случаях (и будучи не переставленным) обязательно
отдельной синтагмой». Но суть дела вовсе не в механи
русского
синтаксиса современного
154
Из архивных записей к «Проблеме речевых жанров»
154
ческой перестановке или расстановке синтагм, а в разнообразии средств
синтагматического выражения, отражающих жизнь в ее сложном движении и
внутренних противоречиях, во всем разнообразии ситуаций, мотивов личной
деятельности и т. п.» (стр. 251).
«Легко заметить, что и целое предложение становится синтагмой, когда мы
рассматриваем его не само по себе, а как компонент или смысловую часть более
сложного единства, когда мы стремимся понять его смысл в контексте сложного
целого». (252).
«Синтагма — это семантико-синтаксическая единица речи, отражающая «кусочек
действительности», наполненная живой экспрессией и интонацией данного сообщения.
Она находится в тесной смысловой связи со всеми другими такими же семантикосинтаксическими единицами того же высказывания, той же речи». (253).
«Само собою разумеется, нельзя изучать связь синтагм только по их смежности.
Объединяясь в более крупные смысловые единства, в синтагмы высшего порядка, как
выражался Л. В. Щерба, они уже в этом новом качестве сопоставляются и сливаются с
однотипными же синтаксическими единствами. Возникают не только новые более
сложные синтаксические целые, но и складывается новый уровень смысловых
сочетаний». (253).
«Раскрытие способов сочетания синтагм в системе разных типов предложений,
описание синтаксических приемов образования разных видов «синтагм высшего
порядка» в составе сложного синтаксического целого, изучение принципов
взаимодействия и соотношения синтагматического членения предложений и более
крупных синтаксических объединений с разными формами их грамматических построений — все это и многое другое, относящееся сюда, — задача особого
исследования». (254).
«Углубленная разработка теории синтагм на основе диалектико-материалистической
языковедческой методологии должна соответствовать глубокому, стилистикосинтаксическому исследованию состава и строя сложных речевых единств
современного русского языка». (256)28.
Из архивных записей к «Проблеме речевых жанров»
154
154
Доц. Н. С. Поспелов. «О грамматической природе сложного предложения»29.
Материалистическое понимание предложения как живой клеточки цельной единицы
человеческого общения.
«Наряду с простыми и сложными предложениями мы, конечно, должны признать
наличие в языке и синтаксически организованных групп предложений, рисующих одну
картину, в которой мы осмысляем отдельные ее части, или выражающих такую
сложную мысль, которая распадается на ряд отдельных мыслей. Так построенная
группа образует сцепление предложений, связанных единством высказывания при
сохранении синтаксической самостоятельности отдельных предложений в ее составе.
Такую группу предложений условно можно назвать сложным синтаксическим целым»,
(стр. 326).
Н. С. Поспелов. «Сложное синтаксическое целое и основные особенности его
структуры». («Доклады и сообщения Ин-та русского языка», вып. 1, изд. Акад. наук
СССР, М.-Л., 1948).
Н. С. Поспелов. «Проблема сложного синтаксического целого в современном
русском языке». («Труды кафедры русского языка МГУ», кн. 2-я, изд. МГУ, М., 194Ö).
<...>
Единица речевого общения (высказывание) и единица становления мысли
(некоторые типы предложений). Взаимодействие и взаимовлияния этих единиц,
невозможность проведения между ними четкой границы. Нельзя отрывать становление
мысли от общения, но ни отождествлять, ни сливать их нельзя — их нужно строго
различать. Бывает сообщение готовой (чужой, непродуманной) мысли другим и бывает
мышление для себя с максимальным отвлечением от сообщения другим. Общение
(речевое) глубоко содержательно, имеет объективную почву (говорящие общаются, так
сказать, в истине). Говорящий ничего не сообщает только ради сообщения, но
обязательно исходит из объективной значимости сообщаемого (его истинности,
красоты, правдивости, нужности, выразительности, искренности). Общению нужна
объективная значимость (во всех ее многообразных формах в зависимости от сферы
общения), без нее общение выродилось бы и разложилось бы. Всякое высказывание в
той или иной форме имеет дело с объективной действительностью, не зависящей от
сознания
Из архивных записей к «Проблеме речевых жанров»
155
и воли людей (говорящих, общающихся), не зависящей и от самого общения.
Всякое высказывание в своей сфере стремится овладеть объективной сущностью
явления, и язык должен удовлетворять этому стремлению. Не допустим релятивизм.
Язык обладает способностью выражать объективную, независимую от самого языка, от
сознания, от общения, истину. Не допустим и социальный прагматизм,
ограничивающийся ближайшей социальной нужностью высказывания (эта нужность
может быть очень далекой, мыслящий может, а иногда должен от нее отвлекаться)30.
Высказывание как целое оформляется отношением к другому, предложение же —
своей относительной предметной законченностью.
Сочетание представлений в уме говорящего. Проблема внутренней речи.
Проблема понимания. Проблема контекста. Границы контекста31. <...>
Субъект речи и субъект языка. Язык, как и научное познание, не нуждается во
множественности говорящих (множественности сознаний). Система языка
укладывается в рамки одного говорящего сознания. Диалога, спора (как и классовой
борьбы) нет в языке. Язык гарантирует понимание, следовательно, слияние,
отождествление говорящих сознаний в акте их взаимного понимания; расхождение же
их (индивидуация), спор и диалог начинаются за пределами языка. Даже
155
индивидуальный язык должен быть устойчивой постоянной системой, чтобы
гарантировать свое единство и свою понятность для самого (одинокого) говорящего
(определенное слово каждый раз должно обозначать одно и то же и т. п.). Единство и
непрерывность сознания32.
Различные определения отдельного слова: фонетические критерии (пауза и
ударение), семантические (выражение отдельного представления или отдельного
понятия), грамматические (потенциальный минимум предложения). <...>33.
Особенности высказывания, отличающие его от языка.
Новизна высказывания34.
Всякое высказывание сообщает нечто новое в самом широком смысле слова, хотя бы
в виде указания, что надо
Из архивных записей к «Проблеме речевых жанров»
156
делать, или в виде подтверждения уже известного (новым является именно
подтверждение). Это новое — обязательный момент замысла высказывания (замысел,
правда, не всегда удается). Это новое входит в замысел как новое для слушателей
(читателей), т. е. оно всегда относительно. Ответ на вопрос: который час. Популярная
работа не сообщает ничего нового для науки (для специалистов), но предполагается,
что она сообщает нечто еще неизвестное тем читателям, для которых предназначается
популяризация.
Новое — творческий момент высказывания. Это одновременно и действенный
момент высказывания. Эта действенность имеет разнообразнейший характер. Признание, согласие или несогласие, оскорбление, обман, угроза, клевета, проклятие и т. п.
Раскрытие позиции говорящего. Высказывание меняет взаимоотношения говорящих
(объединяет или разъединяет их, превращает во врагов или в друзей, приводит к
бракам или разрывам и т. п.). Особая действенность драматических реплик. Всякое
высказывание продвигает жизнь вперед, не только сообщает нечто новое, но и вносит
нечто новое во взаимоотношения людей (более или менее широкого круга); каждое
высказывание в этом отношении исторично35. Запись такого высказывания —
исторический документ.
В узких рамках журнальной статьи36 приходится отказаться от обзора (анализа)
интересной и сложной (запутанной) истории вопроса (от Аристотеля, который уже
поставил эту проблему, до Соссюра и американских бихевиористов).
Новизна содержания и новизна факта высказывания, но одно неотделимо от другого.
Дополнительные, не входящие в замысел высказывания, особенности высказывания:
раскрытие характера самого говорящего и др.
Особенность высказывания: возможность различать замысел и его выполнение
(осуществление)37. Объективное определение замысла. Замысел не должен быть
субъективным домыслом истолкователя. Противоречия между замыслом и его
выполнением, их перебои — объективный факт, который может относительно точно
наблюдаться в высказывании.
Из архивных записей к «Проблеме речевых жанров»
156
Отсюда двойной критерий в оценке высказывания: верна ли мысль (замысел) и
хорошо ли эта мысль выражена (осуществление замысла).
Различие между содержанием и замыслом.
Общее становится индивидуальным, известное — новым, обязательное —
свободным.
Завершенность, пронизывающая каждый элемент высказывания. Отнесенность к
целому каждого элемента высказывания. Это дает дополнительный оттенок каждому
156
элементу. Отношение каждого элемента к целому сочетается с отношением его через
это целое к чужому высказыванию, к ответному пониманию слушателя (читателя).
(Синтагма у Виноградова) зв.
Отношение к чужому высказыванию (ответному пониманию) и дифференциальный
момент (дифференциальная природа языковой единицы)39.
Анализируя отдельное предложение как относительно законченную мысль, мы
примышляем к нему некий общий нормальный контекст, в котором обычно
фигурирует или могло бы фигурировать подобное предложение (словесный или
несловесный контекст, ситуацию и т. п.). Этот примышляемый контекст минимален.
Он содействует оцельне-нию предложения, превращению его в потенциальное высказывание.
Определение коммуникации как сочетания двух представлений или, наоборот, как
расчленения цельного представления на составляющие его элементы40. Это оценивают
как исходный пункт, содержание и цель коммуникации. Но так ли это?
Такое понимание коммуникации чрезвычайно упрощает дело. Например,
коммуникация «трава зеленая» или «трава зеленеет»41. Говорящий исходит из этого
кусочка действительности42 (или своих представлений о нем) и сообщает о нем
другим. Но почему он заговорил об этом и зачем понадобилось это сообщать другому?
Все это остается за пределами упрощенно понятой коммуникации. Трава зазеленела и
говорящий сообщил об этом. Сообщению предшествовал только факт зеленения травы.
Коммуникация отражает только этот факт как нечто чистое и самодовлеющее. Этим
все начинается и этим все кончается.
Из архивных записей к «Проблеме речевых жанров»
157
На самом деле всякая коммуникация на что-то отвечает и на какой-то ответ
рассчитывает (хотя бы на ответное понимание). Коммуникация отражает не только
факт действительности, составляющий ее содержание, но и предшествующие
высказывания о том же факте или о чем-то, имеющем к нему отношение (то, что
заставило обратиться к данному факту). Эти предшествующие высказывания и
предполагаемый ответ не могут не найти своего отражения в высказывании.
Разные степени и границы контекста, необходимые для понимания.
Тропы (метафора, сравнение и т. п.) как способ вовлечения нового материала в
высказывание, как его расширение, обогащение.
Слово как название предмета (номинативная
?ункция слова). С этим не совпадает значение слова. )дин и тот же предмет может
быть назван словами разного значения. Имена собственные только номинативны (т. е.
только называют предмет, нр^ не имеют характеризующего предмет значения)43. <...>
Понимание как вызывание у слушающего того же представления как и у
говорящего.
Однако анализ актов сознания указывает, что представления, возникающие у
слушающего и говорящего, отнюдь не входят непосредственно в предмет сообщения.
Зрительные образы, вызываемые словами (т. е. представления), случайны,
индивидуальны и причудливы.
Поэтический образ не допускает яркости чувственных восприятий.
Итак, индивидуальные представления не являются общим звеном понимания. <...>
Этимология слова сама по себе не раскрывает нам всего содержания слова. Этимон
слова часто лишь исторически входит в его содержание.
Выражение значений и выражение эмоций.
Значение слова раскрывается как сложное структурное целое, включающее: 1)
сумму различительных признаков, в <том> числе и этимон, с помощью которого
157
обозначается (т. е. выделяется и классифицируется) данное явление действительности;
2) предметную отнесенность, т. е. указание на известный предмет или
множественность предметов; 3) социаль
Из архивных записей к «Проблеме речевых жанров»
158
н у ю оценку обозначаемого, в том числе и те элементы эмоциональности, которые
часто воспринимаются в плане индивидуально-психологической оценки. <...>
Три момента в семантике предложения: 1) законченность сообщения, законченность
речевой коммуникации; завершенность речевой коммуникации в предложении препятствует непосредственному продолжению его как той же единицы сообщения.
Поэтому Г. Пауль называет предложение «закрытой конструкцией»; А. Мейе
указывает, что предложение «довлеет само себе, не завися грамматически ни от какого
другого предложения или его части». (А. Мейе. Введение в сравнительное изучение
индоевропейских языков. 1938, стр. 359). 2) Предикативность предложения. 3)
Модальность предложения (отношение говорящего к реальности).
«Таким образом, предложение определяется как грамматически оформленная
единица сообщения (коммуникации), выражающая свое содержание (предикативную
связь своих членов) в аспекте его отношения к действительности». (Р. О. Шор и Н. С.
Чемоданов. Введение в языкознание. М., 1945 г., стр. 140)44.
«Являясь основным средством общения, речь имеет своею главною функцией)
законченное и конкретное выражение коммуникации. Поэтому, слово не
ограничивается одним только своим свойством обозначать наименование предмета и
понятия. Напротив, само это наименование устанавливается в языке потребностями
общения. Следовательно, не может быть ни одного слова, которое не находило бы себе
места в законченном высказывании. Когда исследовательским путем составляется
словарь языка, слово включается в него с теми значениями, которые закрепляются за
ним в речи... Но и те слова, которые в своей форме и значении устанавливаются по их
использованию в живой речи, взятые в отдельности приобретают в словаре некоторый
оттенок отвлеченности. Этого оттенка они лишены в предложении, откуда и
изъемлются для их помещения в словарь. В предложении, наоборот, слово, в отличие
от своего абстрактного словарного содержания, выступает в своем конкретном бытии.
В таком виде оно и существует в речи, используемое без каких-либо затруднений в
самых различных сочетаниях в значительном коли
Из архивных записей к «Проблеме речевых жанров»
Громадность различия между высказываниями
и
составляющими
его
языковыми элементами
(словами, предложениями, формальными элементами).
Элементы языка как бы входят здесь в иную
158
честве языков, вовсе не имеющих академически составленных словарей».
«То, что слово есть непосредственный соучастник речи, видно хотя бы из того, что
оно может приобретать выражение законченного предложения и в своем отдельном
употреблении. Но в последнем случае данному слову придается жизненный,
экспрессивный оттенок, и оно не ограничивается только своим, отмеченным выше,
словарным назначением передачи общего представления о предмете или понятии, ср.
стол!, когда хотят предупредить, что на дороге стоит стол, на который можно
натолкнуться и т. д. В последнем случае наличествует законченное высказывание». (И.
И. Мещанинов. Члены предложения и части речи. М.-Л., 1945 г., стр. 6-7).
[Значение непрямого употребления слова (речи во всех ее моментах), ироничного,
пародийного, оговорочного и т. п. — в истории формирования литературного языка во
158
Франции XVI в.] Ведь язык литературы в значительной степени есть непрямое
использование речи (отраженная и переданная чужая речь)45.
«Так как предложение конкретизирует субъект в его бытии согласно действующим
нормам сознания и, в основном, устанавливает субъект в его действии или состоянии,
то субъект с предикатом и являются теми необходимыми элементами предложения, о
которых сейчас идет речь. Субъект без предиката и предикат без субъекта не дают
каждый в отдельности законченного выражения высказывания. Субъект сам по себе не
определяет своего места в реальной действительности. Он остается отвлеченным от
бытия, пока рассматривается лишь в своем предметном содержании и лексической
форме словесного выражения. Предикат, передаваемый тоже словом, т. е. лексической
единицей, равным образом выступает носителем отвлеченного понятия, пока он не
уточнен субъектом», (стр. 168)46. <...>
Из архивных записей к «Проблеме речевых жанров»
159
сферу бытия: они становятся здесь реальным утверждением или отрицанием,
получают отношение к истине, добру и красоте, отношение к реальности, становятся
позицией индивидуального лица, приобретают событийно-исторический характер.
Предложение, как грамматическая форма, остается в арсенале средств языка, и
только высказывание приобщает ее к действительности47. <...>
Различные степени и формы проявления индивидуальности говорящего в
зависимости от сферы общения. Различные степени и формы влияния чужого
высказывания.
Всякое целое имеет границы (оно, так сказать, обтекаемой формы), и эти границы,
как границы целого, существенны.
Словарное слово и грамматическая форма (в том числе и форма предложения)
безразличны к разделам между высказываниями. При составлении словаря и
грамматики границы высказываний, их индивидуальность, их взаимоотношения, их
идеологический смысл совершенно безразличны. Две столкнувшихся противоречивых
реплики, из которых одна истинна, а другая ложна, одинаково дают материал и для
словаря и для грамматики (например, для типологического анализа форм предложений,
хотя бы и по их модальности)48.
Высказывание в его целом никак нельзя оторвать от его отношений к другим чужим
высказываниям.
Недопустимость противопоставления языка и речи. Речь — язык in actu. И язык и
речь одинаково социальны«>.
Дублирующее понимание бесполезно для общества. Понимание как схождение в
одной практически осмысленной точке.
Экспрессивная сторона речи. Стилистический ореол50. <...>
Как меняется слово, переходя из устного контекста в литературно-письменный,
книжный контекст, какие новые качества оно в нем приобретает и что оно в нем
теряет. С другой стороны, что приносит слово устной речи в письменную речь.
Передвижка из одной сферы речевого общения в другую. Дело не только в изменении
экспрессивной стороны слова («стилистического ореола»), но в степени и направлении
обобщения. Когда слово может стать руга
Из архивных записей к «Проблеме речевых жанров»
159
тельством. Степень предметности (образности) и отвлеченности слова в духе
античных риторик. Название единственного предмета и связь с образностью.
159
Элемент собственности и нарицательности есть в каждом слове. Необходимо
правильно определить их взаимоотношения и их стилистическое значение.
Исчерпанность вопроса в высказывании. Предложение (простое) никогда почти <?>
не исчерпывает (оно не доказывает, не описывает и т. п.). Подобно суждению и
понятию оно имплицитно, высказывание же всегда эксплицитно.
Высказывание изучали сквозь призму предложения, притом простого предложения.
Поэтому самый факт сложного предложения ставил лингвистику в тупик.
Даже однословное высказывание эксплицитно: его эксплицирует внесловесный
контекст.
Чем восполняется отдельное слово до целого высказывания (эксплицирующий
контекст «Пожар! »51 и <пр.>) и чем восполняется отдельное предложение до целого
высказывания (эксплицирующий контекст: «трава зелена», «я пришел» и т. п.).
Суждение («человек — смертен») высказывают ради выводов из него
(эксплицирующий контекст).
Предложение и слово имеют внутренний контекст (в речи того же говорящего),
высказывание же — чужесло-весный контекст. Слово или предложение в
чужесловесном контексте становится высказыванием.
Мы не отвечаем (слыша предложение), пока не убедимся, что это всё, что
продолжения не будет. Тогда предложение превращается в высказывание и
приобретает способность вызывать ответ.
Дело не в субъективном намерении говорящего, а в объективной завершенности
высказывания, отличающей его от предложения.
Высказывание в его целом указывает за свои границы в чужесловесный контекст.
Слово и предложение — во внутренний контекст.
В некоторых сферах общения имеет место крайняя профессионализация языка, в
других — жаргонизация.
Что происходит при перенесении стиля из одного жанра в другой (как меняется
стиль и как меняется жанр).
Из архивных записей к «Проблеме речевых жанров»
160
Реальное отражение чужой речи <в> высказывании (даже состоящем из одного
слова): чужие слова, переданные со своей интонацией (иронической, возмущенной, пиэтетной и т. п.); пропуск слов, имеющихся в чужом высказывании (например, при
ответе на вопрос: Ив. Ив. пришел? — Пришел, и т. п.); экспрессивная интонация,
определяемая не содержанием данного высказывания , а < отвечающая > на
предшествующее чужое высказывание или на предвосхищаемое последующее
(смущенная, уступающая, вызывающая, дразнящая, примирительная и т. п.), т. е.
определяемая чужим высказыванием; цитаты всякого рода и т. п.
Чужое слово, хотя бы одно слово (даже без вещественного значения: «Что за "но",
без всяких "но"!»), приобретает значение целого высказывания, отношение к которому
носит диалогический характер. К нему всегда устанавливается отношение согласия или
несогласия (в соответствующей экспрессивной оболочке: одобрения, восхищения,
возмущения, иронии и т. п.). Интонация слова, противопоставленного чужому
высказыванию («стриженный — бритый» и т. п.).
Грамматический синтаксис и стилистический синтаксис, в частности учение о
синтагме. В последнем случае словосочетание и предложение (как синтагмы)
рассматриваются в целом высказывания (следовательно, в аспекте личности
говорящего, экспрессии, ситуации, отражения чужой речи: выделенная <?> синтагма
<?> иногда прямо определяется предшествующим или предвосхищаемым высказыванием53). Но отсюда следует и необходимость выхода за пределы данного
160
высказывания (учет диалогических обертонов и т. п.). Сочетание грамматических и
композиционно-стилистических категорий в синтаксисе. Отсюда важность нашей
проблемы для разработки синтаксиса.
Чистый волюнтаризм высказывания. <...> Высказывание всегда обосновывается
объективно (в самом широком смысле).
Понимание языка и понимание высказывания. Индивидуально-творческому акту
высказывания (la parole54) соответствует индивидуально-творческий же акт ответного
понимания данного высказывания партнером. Такое понимание подобно не
высказанной вовне реплике.
Из архивных записей к «Проблеме речевых жанров»
Мы одинаково понимаем каждое слово, каждую грамматическую форму, каждое
предложение (как грамматическую форму), но при этом из тех же самых одинаково
понимаемых элементов речи мы строим два диаметрально противоположных
высказывания по данному вопросу. Что из этого следует:
1) что язык нейтрален к диаметральному расхождению точек зрения,
2) что противоположность определяется отношением высказываний (а не языка) к
объективной действительности (научно, эстетически или этически воспринимаемой)^5,
3) что язык нейтрален к спору и борьбе говорящих, одинаково являясь орудием как
одной, так и другой из спорящих сторон.
Однако не все точки зрения одинаково содействуют развитию языка56.
Синтагматические отношения (по Соссюру) — только в пределах одного
высказывания. Диалогические отношения протяженности им игнорируются. Каждый
элемент протяженной линии речи получает свою значимость лишь в меру своего
противопоставления предшествующему и
последующему в пределах того же высказывания. Но высказывание в его целом
получает свое значение в меру своего противопоставления предшествующему и
последующему чужому высказыванию, но это противопоставление носит совершенно
иной диалогический (а не синтагматический) характер57.
Даже коммуникация во внутренней речи отвечает на внутренний же заданный себе
самому вопрос (зеленая ли трава).
Типологическая интонация законченности (ритми-ко-мелодический строй) входит в
грамматическую структуру предложения, экспрессивная же интонация — индивидуальная и совершенно свободная — определяется высказыванием как целым и
является не грамматическим, а композиционно-стилистическим моментом.
Об экспрессивной интонации высказывания. Наличие экспрессивной интонации —
один из основных признаков высказывания. Слово и предложение получают экспрессивную интонацию лишь в целом высказывания, как неотделимые от этого целого
элементы (части) его. Если от
161
Из архивных записей к «Проблеме речевых жанров»
161
дельное слово или отдельное предложение имеют экспрессивную интонацию, то это
законченные высказывания («Пожар!», «Он умер!» и т. п.). Слово как лексическая
единица не имеет интонации, оно получает ее только в предложении. Интонация
предложения носит грамматический, т. е. типический (не индивидуальный) характер,
соответствуя определенным грамматическим типам построения предложения
(вопросительная интонация, повествовательная, повелительная, уступительная,
перечислительная, пояснительная и т. п.). Эти интонации, как грамматические,
языковые, обязательны для говорящего (нормативны). Экспрессивная интонация
161
индивидуальна и совершенно свободна. Так, высказывание «Он умер» в зависимости
от конкретной ситуации и индивидуальности говорящего (его индивидуального
замысла) может произноситься и в трагическом тоне; и в меланхолическом, и
равнодушном, и в радостном, ликующем, можно дать выражение и перебою чувств (и
грустно и печально) и т. п. Так сказать, естественная интонация этого предложения —
печальная (так как факт смерти печален <г>), но она не становится от этого
грамматической, она соответствует содержанию (типическому) высказывания, а не
типологическому построению предложения.
Высказывание индивидуально и событийно. Как таковое, оно изучается исторически
(например, история литературы), но возможен типологический подход к ним: существуют
относительно
устойчивые
композиционно-стилистические
типы
высказываний в разных сферах общения. Поэтому возможна и типология
экспрессивных интонаций, соответствующих определенным композиционностилистическим типам высказываний38.
Слово, выделенное из контекста высказывания, приобретает абстрактный словарный
характер59. То же самое происходит и с предложением. Его модальность приобретает
формальный характер.
Анализируемое как пример предложение относится к некоторому типическому
контексту или рассматривается как законченное высказывание.
Констатация (трава зеленая), но бесконечно много <?> других констатации: и небо
синее, и свежий ветерок и т. п. Происходит отбор, выделение, дается какая-то жанровая направленность (целеустремленность) высказыванию
Из архивных записей к «Проблеме речевых жанров»
162
(описание — картина природы; осведомление о погоде при определенных
обстоятельствах, элементарное осведомление учащихся о хлорофилле и т. п.). Вне
всего этого данное предложение — определенный формальный тип грамматического
предложения. В сущности — школьный <?> пример коммуникации.
Общие основные признаки высказывания (т. е. всех речевых жанров):
1) смена речевых субъектов,
2) адресованность, обращенность высказывания,
3) завершенность высказывания,
4) отношение к действительности, к истине,
5) событийность высказывания (историчность),
6) экспрессивность высказывания,
7) новизна высказывания,
8) различение замысла и выполнения. Классификация речевых жанров. Источники
их изучения.
9) Диалогические обертоны60.
Значение проблемы. Особенно для построения синтаксиса. Новые стилистические
проблемы. Особое значение диалогических обертонов при изучении языковых, мировоззренческих, направленческих и индивидуальных стилей.
Роль общества (в его целом) в процессе создания языка и роль конкретного партнера
(или партнеров) в процессе речевого общения, роль и взаимовлияние обмениваемых
мыслей.
Проблема взаимоотношений между лексикологией и грамматикой с одной стороны и
стилистикой — с другой.
Стилистика с одной стороны противополагается грамматике, с другой — входит в
нее. Лексические и грамматические синонимы. Эта проблема упирается в проблему
речевых жанров. Также и проблема стилей языков.
162
Проблема языковых и речевых единиц: первые леке и-кологичны (слово) и
грамматичны (предложение), вторые — композиционно-стилистичны (словосочетание
и синтагма?62). Здесь единица приобретает характер целого (высшего типа).
Отнесенность к личности говорящего.
Необходима четкая классификация стилей языка. Здесь обычны пересекающиеся
классификации (разные основания). Например в акад. грамматике: книжная речь,
народная речь, диалектное слово, просторечное, профессиональное, устарелое,
отвлеченно-научная речь, научно-техническая, газетно-публицистическая, офицмально
Из архивных записей к «Проблеме речевых жанров»
163
деловая. Путаница понятий — речь, диалект, стиль. Фамильярно-бытовая речь,
вульгарное просторечие. Нейтральный стиль литературной речи™.
Грамматика как нормативно-стилистический справочник.
При определенных условиях частица может образовать целостное высказывание (в
диалогической речи).
Стилистические пометы.
Коммуникативная функция и функция выражения мысли — две стороны одного и
того же. «Обмен мыслями»64. <...>
Проблема индивидуального и общенародного в языке писателя (и шире — в языке
говорящего).
Всякое высказывание -<— это «событие»65. Событийно-исторический характер
признания, свидетельского показания, закона, приказа, подтверждения или отрицания
и т. п.
Высказывание всегда имеет автора и поэтому может иметь и индивидуальный стиль.
Проблема общенародного и индивидуального.
Стилистическая помета слова, как лексической единицы
Язык системен, высказывание органично.
Разнородность жанров. Общие черты их. Единица речевого общения.
Простые (первичные) и сложные (вторичные жанры). Эти последние возникают в
условиях организованного культурного общения — художественного, научного,
общественно-политического и т. п. Первичные жанры, входящие в состав сложных,
трансформируются и приобретают особый характер (утрачивают непосредственное
отношение к действительности и к чужим высказываниям). Например, реплики
бытового диалога в романе. Они входят в действительность лишь через роман в его
целом и по линии романа, т. е. как событие литературно-художественной, а не бытовой
жизни***.
Языковые стили изучались и определялись с точки зрения функций языка, но без
всякой связи с конкретными речевыми жанрами. Жанры и вопросы стиля в связи с
жанрами изучались только — в области литературы (и риторические, публицистические жанры). Жанр, как типическая форма высказываний, как типическая единица
речевого общения, не изучался. Самая природа высказывания как речевого целого
остается не раскрытой. Необходимо прежде всего изучить (правильно определить)
природу высказывания, а уж затем и различные типические формы высказываний, т. е.
речевые жанры в собственном смысле.
Из архивных записей к «Проблеме речевых жанров»
163
Изменения в стилях литературы (введение новых стилей) связаны всегда с
использованием новых первичных жанров (например, письма, фамильярного диалога и
т. п.). И для истории литературного языка важно, какие речевые жанры задают в нем
тон в данную эпоху (наприм., в литературе 60-х годов). Изучались бытовые диалоги,
163
построение реплик (фосслерианцы, по-другому бихевиористы). При всей крайней
разнородности жанров — реплики бытового диалога или стандартная военная команда
«Пли!» или роман, драма — есть существенная общность, раскрыть и точно
определить которую чрезвычайно важно. При этом никак нельзя стирать
существенных различий между первичными и вторичными жанрами (важность
проблемы их взаимоотношений), а также существенных различий внутри каждой из
этих категорий. Проблема исторического формирования вторичных жанров. Их
многостилъностъ (в особенности романа).
Литературные жанры изучались в разрезе их литературно-художественного
взаимодействия <?> и в их дифференциальных отличиях друг от друга (в пределах
литературы), но не как определенные типы высказываний, т. е. речевые жанры:
свойства общие у них с другими речевыми жанрами изучались менее всего. Несколько
лучше обстоит дело с риторическими жанрами. Важна не литературоведческая, а
общелингвистическая точка зрения на речевые жанры.
Между тем всякая исследовательская работа над конкретными языковыми фактами
— по истории языка, по нормативной грамматике, по стилистике языка, по
составлению словарей всякого рода и т. п. неизбежно имеет дело только с материалом
конкретных высказываний (письменных и устных) — с текстами летописей, договоров,
различных литературных и публицистических жанров, с официальной и частной
перепиской и т. п., — откуда и отбираются соответствующие языковые факты. Необходимо знать и общую природу и жанровую специфику всех этих высказываний.
Важность философской стороны этого дела. Общая природа высказывания как
актуализация и реализация языка в условиях речевого общения независимо от его
сферы.
1) Крайняя разнородность речевых жанров: трудность классификации.
2) Наличие общих черт высказываний.
3) Первичные и вторичные жанры, различия между ними.
4) Неизученность вопроса.
5) Важность вопроса: связи со стилистикой, с проблемами синтаксиса, для истории
литературного языка.
6) Общее определение высказывания.
7) Десять основных признаков высказываний.
Из архивных записей к «Проблеме речевых жанров»
164
8) Чем определяются жанровые отличия между высказываниями.
9) Источники изучения речевых жанров67.
Границы принципиально иного характера: они проходят по линии смены речевых
субъектов. Это не просто относительно законченная мысль, после которой я делаю
паузу, чтобы затем перейти к следующей моей мысли, продолжающей, дополняющей,
обосновывающей первую, это мое оконченное слово (речевое выступление), за
которым последует речевое выступление другого говорящего, чужое слово, чужая
мысль. И пауза, разделяющая два высказывания, по своей природе глубоко отлична от
любой паузы внутри высказывания. Ощущение законченности: речевая воля (нарочито
оборвал высказывание). Способность определять ответ: ответ на вопрос, возражение,
согласие, оценку, выполнение приказания или просьбы и т. п., определять ответную
позицию другого говорящего^.
Мысль есть всюду, где есть высказывание, где есть язык. Даже самое экспрессивное
междометие, если это междометие, а не естественный крик, не обходится без элемента
мысли.
164
В завершенности высказывания (в отличие от отвлеченной логической
законченности мысли — «трава зеленая») проявляется как индивидуальность
говорящего (его речевого замысла, речевой воли), так и определяющее влияние чужой
речи (ответного понимания).
И слово (как и предложение) имеет относительно законченный смысл. Например,
слово «пожар» в предложениях «Остерегайтесь пожара», «Нет пожара» «Пожар!». Эта
законченность проявляется в совокупности всех его форм (падежных, числа и т. п.). Но
в высказывании «Пожар!» обычная законченность слова приобретает новое качество,
становится завершенностью (выражает замысел говорящего, получает отношение к
действительности, отношение к слушателю, становится выражением позиции,
получает способность вызывать ответ и т. п.).
Единицы языка получают отношение к действительности, к реальному времени, к
слушателю и его ответу, к истине или к ценности не непосредственно, а через целое
высказывание. Модальность и категории времени в слове и в предложении являются
лишь формами, лишь возможностями69.
1. Постановка проблемы.
Из архивных записей к «Проблеме речевых жанров»
165
2. Высказывание как единица речевого общения; отличие этой единицы от единиц
языка (слова и предложения).
3. Завершенность (целостность) высказывания; отличие этой завершенности от
относительной законченности слова и предложения. Способность вызывать ответ.
4. Отношение высказывания к чужим высказываниям (предшествующим и
ожидаемым), его обращенность, адре-сованность, диалогические обертоны.
5. Идеологичность высказывания, его способность быть оцененным по существу (с
точки зрения истины, добра, эстетической ценности и т. п.).
6. Событийность высказывания.
7. Экспрессивность высказывания70.
Контекстуальное значение слова и предложения есть ничто иное, как элемент
завершенности через целое высказывание.
Стиль языка и индивидуальный стиль конкретного высказывания. Первый из них —
жанровый стиль определенной сферы общения. Функция определяет стиль в
неразрывной
связи
с
жанром
(определенным
тематико-композиццонным
оформлением). Большая дифференциация стилей и более глубокое изучение явлений и
оттенков стиля (не только лексических, но и синтаксических, интонационных и т. п.).
Влияние стиля всегда связано и с влиянием определенной композиции приемов,
свойственных данному жанру. Обращение к разговорной лексике приводит и к
диалогизации речи. В различные эпохи литературного языка задают тон определенные
жанры.
Свойственные речевым жанрам типы завершения, типы отношения к слушателю и к
чужой речи, типы экспрессивности. Зависимость стиля от размера высказывания, т. е.
его объема (жанра).
Утвердительное предложение может послужить исходным пунктом для reductio ad
absurdum71 и т. п. Ирония.
Внутренняя речь также не является каким-то непрерывным речевым потоком, в
котором думающий и переживающий не вступает ни в какие отношения с другими говорящими: внутренняя речь перебивается и реальным общением с другими и чтением,
в ней есть элемент обращенности и особые формы завершения, она распадается на
своеобразные высказывания72.
Из архивных записей к «Проблеме речевых жанров»
165
166
В сущности это речевые жанры, состоящие из одного предложения. Типы
предложений, которые как правило функционируют лишь как целые высказывания:
вопросительные, побудительные73. Есть и слова, которые как правило являются
целыми высказываниями (и которые нелепо рассматривать как слова или как
предложения'4), например, «Здравствуй!», «Прощай!», «До свидания», «Будь здоров» и
т. п. Это — особый вид стандартных бытовых речевых жанров.
На предложение можно ответить (занять в отношении его позицию) только в том
случае, если мы знаем, что ему ничего не предшествует и за ним ничего не следует, т.
е. что это целое высказывание, что его границы определяются сменой говорящих:
перед нами и начало и конец речи — высказывания.
Слово и предложение как предложение и слово данного высказывания (автора)
имеют логические границы (и грамматические), так сказать, безличные границы, не
знающие автора.
Грамматика и стилистика. Грамматика (и лексика) суще-ственно отлична от
стилистики, но в то же время ни одно грамматическое исследование (я уж не говорю о
нормативной грамматике) не может обойтись без стилистических наблюдений и
экскурсов. В целом ряде случаев граница между грамматикой и стилистикой как бы
вовсе стирается. Существуют явления, которые одними исследователями относятся к
области грамма-тики, другими — стилистики. Такова, например, синтагма. Грамматика
и стилистика различны, но в то же время и неразрывно связаны друг с другом. Каждое
грамматическое явление, рассматриваемое не в системе языка только, но и в целом
конкретного высказывания или речевого жанра, становится стилистическим явлением,
точнее, раскрывает свой стилистический аспект. Только глубокое изучение природы
высказывания и речевых жанров позволяет правильно определить объем и задачи
стилистики, ее отличие от грамматики и ее единство с ней.
Проблема единиц языка и единиц речевого общения. Проблема синтаксиса.
Представления о речевом потоке и единицах языка. Не непрерывный речевой
поток, а сложная динамическая
система
высказываний. Какова же природа
высказывания? <...>
Национальное своеобразие речевых жанров, особенно первичных (типы завершения,
ощущения слушателя, рит-мико-мелодического рисунка и т. п.).
Из архивных записей к «Проблеме речевых жанров»
166
Свойственное жанру отношение к действительности76. Тип отражения реальности.
Установка не на слушающего, а на отвечающего (возражающего, соглашающегося,
исполняющего, продолжающего и т. д.). И самое понимание носит ответный характер.
Слово — лексема, слово — часть речи, слово — член предложения, слово — элемент
речевого жанра (стилистический оттенок слова), слово — элемент индивидуального
высказывания (контекстуальное значение слова).
Когда мы выбираем лексему для словаря, мы <безразличны> к тем жанрам, в
которых данное слово встречается. Но когда мы указываем стилистический оттенок
слова, мы уже учитываем определенные речевые жанры, где это слово употребляется
(реплики фамильярного бытового диалога, канцелярский документ, научный трактат и
т. п.). Стилистически нейтральные слова — они могут употребляться в любых жанрах.
Игнорируются разделы между высказываниями, смены речевых субъектов. Между
тем эти разделы вносят совершенно новое качество, имеют громадное принципиальное
значение. <...>
Пушкин о словаре и высказывании77.
166
В отношении единиц языка предшествующее и последующее даны. В отношении
высказывания последующее не дано, но предвосхищается. Для другого <?> —
упомянуть о Гумбольдте.
Точка зрения говорящего, точка зрения понимающего и точка зрения отвечающего.
Предложение, как единица языка, существует только в системе грамматического
строя данного языка.
Те отношения, которые существуют между единицами речевого общения,
обмениваемыми мыслями, высказываниями, нельзя встретить между единицами языка:
ни в системе (вертикальный разрез), ни внутри высказывания (горизонтальный
разрез)'8.
Я сопоставляю язык не с надстройкой, не <с> идеологией, не <с> мышлением, не
<с> содержанием мышления, не с мировоззрением, а <с> речевым общением, которое
является сферой применения языка, которая «почти безгранична». Речевое общение и
есть сфера применения языка.
Из архивных записей к «Проблеме речевых жанров»
167
Язык — это система, речевое общение — это сложный процесс особого рода.
Многосторонне-активный характер речевого общения.
Пассивное понимание и его теория возникли главным образом на художественных
жанрах, лишенных воспитательного значения, активного вмешательства в жизнь.
Разыгрывание первичных жанров в некоторых риторических жанрах: риторические
вопросы, сам отвечает, возражает себе, опровергает собственное возражение.
Фикции — слушающий, пассивное понимание, единый речевой поток; сложный
многосторонний процесс речевого общения. Всякое понимание установлено на ответ,
чревато ответом, — согласием-несогласием, исполнением-отказом и т. п. Ответное
понимание эквивалентно высказыванию, это
— потенциальное высказывание, выполняющее функции звена в цепи речевого
общения. Такое ответное понимание рано или поздно найдет словесное воплощение,
отразится в той или иной форме в каком-нибудь высказывании.
Элемент условности речевых единиц. Они теряют его, становятся реальноцельными, когда их границы сливаются с границами смены речевых субъектов, т. е.
когда они становятся целыми высказываниями (из одного слова или из одного
предложения).
В этой искаженной <?> картине появляется и другая фикция — речевой поток79.
Речь одного говорящего в пределах одного высказывания действительно может быть
охарактеризована как речевой поток: его протяженность
— от начала до конца данного единого высказывания. Этот поток привлекают для
того, чтобы делить его на единицы, которые мыслятся как его отрезки: звуки, сочетания звуков (слог, фонема, речевой такт), слова и предложения (собственно единицы
языка).
Звуковые единицы и значащие единицы. Под речевым потоком принято <?>
понимать следующие друг за другом высказывания. Границы между высказываниями
как бы утрачивают существенность Речевой поток превращается в некую безличную
речь, в которой различаются лишь звуковые или значащие единицы. Можно сохранить
термин речь в сос-сЮровском смысле, но термин речевой поток, как основу для
деления на единицы нужно заменить высказыванием и речевым общением, как
сложным <?> процессом, распа
Из архивных записей к «Проблеме речевых жанров»
167
167
дающимся на высказывания. «Наша речь» в смысле «наши высказывания». Иногда
— речевое общение. Нужна четкость терминологии80. Речь одного речевого субъекта
или речевое общение. Другие
Понятие коммуникации, понятие фразы. Границы коммуникации точно не
очерчиваются или очерчиваются психологически или логически без отношения к
смене говорящих. То же и фраза. Все эти термины стирают границы высказываний.
Предложение начинает замещать высказывание, т. е. признается уже не единицей
языка, а единицей речевого общения. Между единицами языка выдвигают <?>
коммуникацию и фразу.
Делят речь, а получают единицы языка.
Речь в смысле способности говорить (соответствующие жанры речи и т. п.).
Терминологическая непритязательность <?> и путаница приводит к игнорированию
реальных единиц речевого общения, к стиранию самых существенных границ, какие
только существуют в речевом общении — границ между высказываниями. Не
безличный речевой поток, а соотносящиеся друг с другом конкретные высказывания.
Каждое предложение как бы стремится окружить себя контекстом или стать целым
высказыванием.
Мы воспринимаем отдельно взятое предложение как целое высказывание.
Остановиться на диалоге.
Связи между репликами, невозможные внутри высказывания.
Внутренняя сторона смены речевых субъектов — завершенность высказывания,
способность быть отвеченным <г>, определять ответную позицию.
Речевые жанры как раз и характеризуются различными способами, типами
завершения.
Подождите, я еще не кончил. Слушая, мы уже занимаем позицию, нам не терпится с
ответом. Законченность реплики и абстрактная законченность мысли в суждении. В
высказывании <выражается>81 отношение к действительности и позиция говорящего.
Это присоединяется к предложению, когда оно становится целым высказыванием.
Невозможность диалогических отношений между предложениями внутри
высказывания8^.
Из архивных записей к «Проблеме речевых жанров»
168
Особый характер первого и последнего предложения в высказывании, начинающего
и кончающего: они односторонне соотнесены со сменой речевых субъектов.
«Который час?»83 — это предложение, но одновременно это речевой жанр бытового
общения. Между ними нельзя поставить знак равенства. Предложение — абстрактная
единица, дополняемая в жанре высказывания непосредственным отношением к
действительности, границами, определяемыми сменой речевых субъектов и т. п. Эти
особенности не даны в самом словесном составе предложения (кроме интонации),
поэтому при анализе нужно указывать, с чем мы имеем дело. То же предложение в
сложном вторичном жанре: «Который час?», — спросил он, открывая глаза, —
«неужели я проспал?» и т. д.
Сталинская концепция языка — это концепция языка как системы (притом
нормативной), не совпадающей с речевым общением, условием которого эта система
является, но неразрывно с <ним> связанной.
Произведения разных жанров. Роль другого. Встреча с другим. Разные формы
другого в сложном культурном общении. «Каждое <?> слово на суд публики».
Субъективная позиция слушателя, его литературно-условная концепция, его
объективная действительность. Формы встречи с другим: критика, отзывы читателей,
168
обсуждения в различных организациях, воспитательное воздействие, убеждение,
влияние, продолжение (в науке) и т. п.
Потенциальное высказывание (ответное понимание) как звено в цепи речевого
общения.
Язык и связанное с ним мышление здесь становятся высказыванием и содержанием
мышления-мировоззрения.
Отдельное предложение не может быть оценено с точки зрения замысла говорящего,
а только с точки зрения своего соответствия определенной грамматической норме.
Определение синтагмы во вторичных жанрах: использованное первичное
высказывание (письмо, рассказ от автора ит. п.) является здесь ближайшим
контекстом; однако необходимо учитывать и целое.
Слово «пожар» и высказывание «Пожар!». Мы можем считать, что докладчик не
сказал главного, что он ничего не сказал, что он с нашей точки зрения должен был ска
Из архивных записей к «Проблеме речевых жанров»
169
зать, — мы его за это критикуем, но не прежде, чем мы увидим, что он кончил, что
больше он ничего не скажет, что он выполнил свою речевую волю. Чисто предметная
(в разных сферах разная) законченность, исчерпанность темы сочетается с
субъективной речевой волей (именно на этом закончить, именно это сказать). Так это
было задумано, таков замысел, мы чувствуем этот речевой замысел и чувствуем, что
говорящий его выполнил. Невозможна объективная завершенность в науке (с точки
зрения предмета). Ни одну тему объективно исчерпать нельзя, но ее можно завершить
при данных обстоятельствах, при данных поставленных автором целях, т. е. в пределах
данного замысла. Если говорящий сам прерывает свое высказывание (заметив реакцию
собеседника), то хоть он и не выполняет своего первоначального замысла, но все равно
выполняет свою измененную речевую волю.
Разные композиционные формы завершения, характерные для определенных
речевых жанров.
Таким образом, предметная исчерпанность, речевая воля и композиционные формы
жанра**4. Оцельнение.
Именно целостность высказывания не поддается ни грамматикализации, ни
логизации.
Наличие стандартных жанров.
Высказывание как словесное целое. Оцельнение.
Во многих жанрах (особенно стандартных) эта целостность носит формальнокомпозиционный характер.
Непосредственное отношение к действительности, свойственное только
высказыванию.
Мы чувствуем, что он сказал всё. что хотел сказать. Мы охватываем значение
целого, ощущаем речевую волю говорящего.
Обязательные концовки: в деловых бумагах, в письмах; иногда жанровые трафареты.
Размеры целого. Стиль.
Мы говорим только определенными речевыми жанрами, мы практически владеем
ими. иной раз и не подозревая об их существовании. Даже в самой свободной и
непринужденной беседе мы отливаем нашу речь по определенным жанровым формам,
иногда жанровым штампам и шаблонам, которые даны нам так же. как дан язык (ведь и
язык мы слышим и усваиваем лишь в формах высказываний и вместе с
высказываниями). Наряду с шаблонными жанрами есть жанры гибкие, пластичные,
есть жанры творческие (они есть и в быту). Но мы. подобно молъеровскому Журдену.
говорим прозой, не подозревая об этом. Жанры нам знакомы как
169
Из архивных записей к «Проблеме речевых жанров»
170
формы языка, и поэтому часто, слыша начало речи, мы уже охватываем целое и
предвидим конец. Если бы <мы> не владели жанрами так же. как мы владеем родным
языком, или если бы речевых жанров вовсе не было, и мы творили бы их каждый раз
свободно в процессе речи, речевое общение было бы так же невозможно, как при
отсутствии языка. Конечно, жанры пластичнее, свободнее, гибче форм языка. Здесь нет
такой строгой нормативности. Смешение высказываний и речевых жанров с
предложениями отвлекает от изучения речевых жанров, внушая иллюзию (которую
никто последовательно защищать не мог), что мы говорим предложениями, что наша
речь отливается только в устойчивые, данные нам. формы предложений, а сколько
таких взаимосвязанных предложений мы произносим подряд и когда мы остановимся
(кончим). — это предоставляется полному произволу и капризу «речевого потока»^.
Достаточно произвести анализ бытовых диалогов и реплик в реалистических
романах, сопоставить их, чтобы убедиться, что бытовые речевые жанры есть, что
характер построения и самые размеры реплик не случайны.
Речевой замысел, речевая воля с самого начала применяются и приспособляются к
определенным жанрам, с самого начала складываются и развиваются в традиционных
жанровых формах, что не исключает, конечно, ни поисков адекватного жанра, ни
новаторской ломки жанра.
Условность, штамп, реальность и творчество. Во всяком высказывании происходит
борьба этих начал.
Говорящему даны язык (система языка) и жанры. Только в рамках того и другого он
осуществляет свою творческую свободу. И те и другие обеспечивают взаимное
понимание. Не анархическое разрушение, а познание и творческое освоение их.
Речевой замысел или речевая воля минимальны в области стандартных жанров,
здесь они часто сводятся просто к выбору жанра (иногда и к его экспрессивному
интонированию). Биологическая индивидуальность в командах (сила и тембр,
темперамент).
Особая своеобразная природа предложения, совпадающего с речевым жанром, и
особая природа первого и последнего предложения в высказывании.
Когда мы избираем определенный тип предложения, мы избираем его не для одного
предложения, не по соображениям того, что мы хотим выразить данным одним
предложением, — мы подбираем типы предложений с точки зрения того целого высказывания, которое предносится <?> и которое определяет наш выбор. Представление о
форме целого высказывания, т. е. об определенном речевом жанре, руководит нами в
процессе нашей речи.
Из архивных записей к «Проблеме речевых жанров»
170
Мы плохо говорим в тех областях, в которых не владеем практическим жанровым
репертуаром, например, жанрами светской беседы. Человек, умеющий прочесть
доклад, вести научный спор, великолепно выступающий по общественным и
политическим вопросам, молчит или неуклюж в светской беседе. Дело не в словаре, и
не в стиле, отвлеченно вмятом, а <в> неумении владеть репертуаром светских жанров,
<в> отсутствии запаса тех представлений целого, которые помогают отливать речь в
определенные композиционно-стилистические формы, прежде всего умения начинать
и кончать высказывания. С творческими жанрами, имеющими письменные образцы,
дело обстоит, конечно, по-другому.
Драматург или романист, не понимающий и не чувствующий речевых жанров
(бытовых), не способен дать живой и убедительный диалог: герои вместо реплик
170
читают какие-то газетные статьи или с глазу на глаз с возлюбленной или интимным
другом произносят митинговые речи и т. п.
Отсутствие культуры речевых жанров. Нельзя состряпать разговор из газетных
жанров или общественных речей, нельзя в комнатке вдвоем с близким человеком произносить речи, рассчитанные на тысячную аудиторию разношерстных людей на
площади под открытым небом. Реплики слишком длинны, включают очень многое,
рассчитанное на публику, а не на собеседника, с которым прожил всю жизнь.
Художник должен иметь чуткое ухо не только к языковым стилям, но и к речевым
жанрам (внехудожес-твенным). Выдуманные речевые жанры заполонили нашу
литературу86.
Это касается жанров устной речи. Целое письменных жанров — перед глазами <?>.
И здесь всегда письменные же образцы.
Идея лингвистики высказывания де Соссюра. Он не знает речевых жанров.
Высказывание для него — свободное использование форм языка. Оно совершенно
свободно строится из этих элементов языка, как системы: устойчивых и нормативных
форм для отливки целых высказываний, т. е. жанров, он не знает. И высказывание у
него лишено четких границ: он не знает смены речевых субъектов.
Короткие жанры приветствий, прощаний, стандартные жанры осведомления о
здоровье, о делах и т. д. Здесь только экспрессивная интонация принадлежит
говорящему.
Из архивных записей к «Проблеме речевых жанров»
vJho могло встречаться еще в предшествующих высказываниях другого, т. е. в
чужой речи. В окружающих контекстах или при продолженных контекстах это слово
может повторяться в новых комбинациях.
Относительная законченность предложения. На предложение нельзя ответить, мы
должны ощутить его как всё. как целое высказывание.
171
Жанры делятся по тематике, предложения по тематике не делятся. Предложение
связывается с темой через жанр и его стиль87.
Говорим <?> фразами, коммуникациями и т. п.88 Найти какую-то единицу не столь
разнообразную (несоизмеримую), как высказывание или речевой жанр.
Разнообразие речевых жанров, шаблонных и творческих. Как проявляется свобода?
Владение репертуаром жанров. Критика де Соссюра. Высказывание и предложение.
Жанровые формы, в которые мы отливаем нашу речь, конечно, существенно
отличаются от форм языка в смысле их устойчивости и принудительности,
нормативности.
Роман распадается не на предложения, а на композиционные единства, в которых мы
прощупываем формы различных трансформированных первичных жанров.
Именно жанры обладают особой жанровой модальностью. Рассказ о действительном
происшествии нельзя спутать с художественным рассказом о происшествии вымышленном.
Особый принципиальный интерес представляют предложения, являющиеся целыми
высказываниями, и первые и последние предложения высказываний. Они ведут себя
иначе, ибо более непосредственно соприкасаются с внесловесной действительностью и
с чужими высказываниями.
Высказывание индивидуально (и свободно), но индивидуальность его
осуществляется не только через общенародный и обязательный (нормативный) язык,
но и через нормативную же и не индивидуальную форму высказываний, т. е. через
171
речевой жанр. Высказывание — это не свободная комбинация форм языка, потому что
и форма самого высказывания не свободна, а дана. Дан не только язык, но и жанр.
Высказывание, состоящее из одного предложения. Здесь каждое слово
эксплицируется непосредственно внесловесным контекстом действительности и
чужими высказываниями. Ведущее <?> слово (субъект речи89) фигурирует здесь один
раз в контексте данного предложения.
Из архивных записей к «Проблеме речевых жанров»
172
Письменные жанры — искусственные жанры (особенно — вторичные), с ними мы
работаем сознательно и руководствуемся определенными образцами (письма разного
рода, деловые бумаги, приказы <?>, законы, о жанрах сложного культурного общения
и говорить нечего).
Одна из причин игнорирования речевых жанров, как мы ранее сказали. —
принципиальная <?> разнородность жанров, в том числе и резкие различия в размерах:
от однословной реплики до большого романа. Но и в пределах устных жанров эти
различия очень сильны. Высказывания как единицы речевого общения представляются
совершенно несоизмеримыми. Поэтому вводят искусственную единицу, что-то среднее
между высказыванием и предложением. Мостик между языком и высказыванием
(речевым общением). Фраза, коммуникация.
Форма предложения не есть форма целого, а форма элемента, единица, но единица
не речевого общения, а единица языка и высказывания90. Законченность предложения
носит отвлеченный <?> характер, это законченность элемента. По отношению к
предложению нельзя занять ответной позиции.
Не элемент, а нечто целое, нечто завершенное, на что можно ответить.
Все эти фиктивные единицы^ безразличны к смене речевых субъектов. Стираются
самые существенные границы — границы между высказываниями. Отсюда отпадает и
главный критерий — способность определять активный <?> ответ.
Высказывание — это активная позиция говорящего в речевом общении, жанр <—>
форма такой активной позиции. Поэтому жанр — мост между формами языка и
индивидуальным неповторимым высказыванием.
Форма предложения и форма высказывания.
Предложение не есть высказывание, а типы предложений это не типы
высказываний92.
Предложение «Солнце взошло??^ совершенно понятно, т. е. мы понимаем его
значение как предложения. Но занять в отношении этого совершенно понятного нам
предложения ответную позицию никак нельзя, не зная, что это — всё. Мы не знаем,
чем оно восполняется <?> в <?> контексте высказывания. Допустим, что высказывание
такое: «Солнце взошло. Пора вставать». Здесь уже возможно ответное понимание (да.
действительно пора вставать). Или такое: «Солнце взошло. Немедленно уходи». Этот
приказ можно выполнить или не выполнить. Но возможно и такое высказывание:
«Солнце взошло. Пора вста
Из архивных записей к «Проблеме речевых жанров»
172
вать. Но я намерен <?> поспать еще часа два». Здесь уже иная ответная реакция. Во
всех этих случаях мы берем предложение в контекстах реальных высказываний в
сфере бытового речевого общения и представляем себе ответ с точки зрения реального
участника этого общения. Но предложение это может входить в какое-нибудь
художественное произведение, входить в состав пейзажа. Здесь ответная позиция —
это художественно-идейная оценка целого произведения или хотя бы отдельной <?>
значимой части его — пейзажа. Предложение же это в отдельности, вне целого
172
описания природы, оценено быть не может. В контексте другого произведения оно
может получить и символическое значение: речь может идти о наступлении новой
мировой эры и т. п., что выясняется из контекста.
Наконец, наше предложение может стать и завершенным высказыванием и совсем
не иметь словесного контекста. Например, как реплика в диалоге: «Взошло ли
солнце?» — «Солнце взошло». Или высказыванием человека, раскрывшего <?>
закрытые окна: «Солнце взошло» (в зависимости от внесловесного контекста оно
может быть и радостным <?>, и грустным, и равнодушным и т. п.). Здесь опять
возможна ответная реакция, но не на предмет, а на высказывание. Это — констатация
факта, которая может быть верной или неверной (в условиях внесловесной ситуации).
Когда анализируют предложение, то и имеют в виду обыденный <?> последний
случай: его рассматривают как законченное утверждение о том. что солнце
действительно взошло. Но таким реальным утверждающим фактом наше предложение
становится лишь как законченное высказывание в конкретной ситуации. Предложение
же как таковое ничего не утверждает и не отрицает, но дает лишь форму отрицания
или утверждения, которые используются высказыванием. Так же и время.
При анализе предложения мы и представляем его себе как высказывание в
аналогичной упрощенной ситуации: солнце взошло и человек говорит: «Солнце
взошло». Человек смотрит весной на траву и изрекает: «Трава — зелена». На самом
деле такие высказывания делаются при более сложной и осмысленной ситуации: как
ответ на вопрос, как реплика в жанре <?> диалога. Такие высказывания существуют
лишь как грамматические примеры.
Или мы знаем классический контекст, из которого изъято пред-94
ложение .
Ведь подобные сообщения к кому-то обращены, чем-то вызваны, имеют какую-то
цель.
Кончить вопросом о контексте95. Предложение, как и слово, имеет словесный
контекст того же говорящего. Высказывание — внесловесный контекст и другие
чужие
Из архивных записей к «Проблеме речевых жанров»
173
высказывания. Высказывание определяется не только своим предметно-смысловым
содержанием, не только субъективно-эмоциональным отношением говорящего к этому
содержанию, но и своим отношением к чужим высказываниям, связанным с ним в
процессе речевого общения.
Экспрессивность высказывания. Неразрывность связи и выражения себя, своей
позиции, с отношением к другому и его слову96. Обертоны тех контекстов, откуда
слово или предложение вошло в данное высказывание. Эти контексты гораздо шире
ближайшего
общения.
Обертоны
мировоззрений,
направлений,
стилей,
индивидуальных манер и т. п.
Высказывание с самого начала строится с учетом возможного ответа. Высказывание
строится для другого. Мысль становится действительной мыслью лишь в процессе ее
сообщения другому, сознание становится практическим сознанием для другого Обмениваемые мысли неотрывны друг от друга, взаимно отражают Друг Друга. Это
взаимное отражение пронизывает и предметно-смысловую, и композиционную, и — в
особенности — стилистическую сторону высказывания.
Экспрессия принадлежит не слову, не предложению, а лишь высказыванию.
Существуют, конечно, и типические экспрессии. Существуют формы возможной
экспрессии. Язык не имеет индивидуального субъекта, слова и предложения ничьи.
Они нейтральны9^.
173
Экспрессия выражается^ не только в звучащей интонации, но и путем выбора
языковых средств, но лишь в условиях индивидуального высказывания. Те же средства
(в отдельности взятые) приобретают иное экспрессивное значение в другом
высказывании. Тон. окраска изложения <?>. Реакция говорящего на предметносмысловую сторону своей речи.
Реальная данность чужой мысли (чужого высказывания) вне моей речи.
В каждом слове могут быть диалогические обертоны. Язык одинаково хорошо
обслуживает все классы (антагонистические <?>). все партии, все социальные
группировки.
Шутливое использование эпитафий ( переакценту ация^ создает новый жанр).
Речевому жанру свойственна типическая экспрессия, поскольку жанр — типическое
высказывание.
Речевые жанры оценки^: выражаемое восклицательным предложением выражение
<?> эмоций, похвала, восхищение, одобрение, ругательное выражение и т. п. Это —
довольно стандартные
Из архивных записей к «Проблеме речевых жанров»
174
речевые жанры, которые довольно легко поддаются переакценту а-ими. Жанр
поступает в распоряжение оценивающей личности.
Чужие слова, включенные в высказывание, не могут быть простым предложением
или словом (заключенным в кавычки), — они воспринимаются как высказывание и
сами кавычки обозначают как бы смену речевых субъектов в пределах высказывания^.
Это уже вторичные жанры.
Типические оценки, довлеющие <?> жанрам.
Вопросительные и восклицательные предложения — жанры, обычно входящие в
другие жанры103.
Проблема обращения. Обращающиеся <?> наименования <?>. Солнце! Море!
(Анабасис)*04. Смерть! Смерть! Обращенность превращает слово в высказывание.
Вкладывая в слово эмоцию, мы превращаем его в высказывание.
Слова, имеющие значение эмоций: радость, горе и производные <?>.
Слово радость с горькой интонацией — это не типичное употребление этого слова.
Проблема жанровых образцов.
Слово берется и из индивидуального высказывания. Чужое слово.
Предложение. В заключение — нейтральность языка.
Но слово можно выбирать не просто в духе определенных типических
высказываний, т. е. в определенном жанровом стиле, но и из определенных
индивидуальных высказываний. Слова языка ничьи, но в то же время мы их слышим
только в определенных индивидуальных высказываниях, читаем в определенных
индивидуальных произведениях, а здесь слова могут иметь уже не только типическую,
но — в зависимости от речевого жанра — и более или менее ярко выраженную
индивидуальную
экспрессию
(интонацию),
определяемую
неповторимоиндивидуальным контекстом высказывания. Слова языка ничьи, общие, и только этим
обеспечивается общенародное взаимное понимание, но в то же время мы встречаемся с
ними только во владении говорящих индивидуумов, как <с чужими словами>, и по
этим чужим словам мы учимся говорить свои.
Каждое слово существует для говорящего в трех аспектах: как ничье слово языка,
как чужое слово других, полное отзвуков чужих высказываний, и, наконец, как мое
слово, ибо поскольку я имею с ним дело, оно уже пронизывается моей экспрессией. В
обоих последних аспектах оно экспрессивно, ибо здесь оно воспринимается не в
системе языка, а как элемент конкретных высказываний.
174
Слово заражается индивидуальными экспрессиями.
Из архивных записей к «Проблеме речевых жанров»
175
Эти экспрессии, повторяем, не принадлежат слову, а являются лишь отзвуком в
нем конкретных высказываний, конкретных
активно
оценивающих
пози
иий 105.
В сложных вторичных жанрах мы прощупываем <?> границы смен речевых
субъектов106. Эти жанры дают многообразнейшие способы разыгрывания форм
первичного речевого общения. Различные формы условных слушателей, собеседников,
рассказчиков и т. п.
Влияние в каждую эпоху отдельных произведений, речей, отдельных удачных
формулировок. Часто высказывания (отдельные предложения) становятся как бы
представителями целого.
Но что такое предметно-смысловой момент высказывания, о котором мы до сих пор
по существу еще ничего не сказали? Предметно-смысловой момент не складывается из
значений составляющих его значащих единиц языка — слов и предложений.
Отношение предметного смысла к языковым значениям очень сложное. Его нельзя
сравнить с отношением детских кубиков к той картине, которая из них составляется.
Здесь каждый кубик содержит, так сказать, реальную частичку картины. Языковые
значения вовсе не являются такими частичками предметно-смыслового целого
высказывания, и это целое вовсе не является комбинацией этих значений. Важна
отнесенность этих значений к реальной действительности, использование их в целях
овладения (познавательного, художественного, действенного) новыми моментами действительности. Говоря, мы не комбинируем готовые элементы, а относим, применяем
их к действительности. <...>
Предметно-смысловой момент высказываний (включая научные, художественные и
публицистические <?> произведения) и является применением мышления и языка с его
системой значений в определенных исторических условиях к определенным явлениям
действительности — от мелочей быта до объективных законов природы и общества.
Значения языка обобщены и нейтральны, предметно-смысловой момент конкретен и
сочетается с экспрессивным моментом. Он может быть истинным или ложным,
красивым и безобразным, добрым и злым, он может быть классовым и неклассовым
(например, законы науки). Считать классовыми все бытовые высказывания было бы.
конечно, вульгаризацией.
Мировоззрения (как и направления) дают кажущиеся отложения в языке, подобно
разобранной нами экспрессии. <...>
Из элементов системы языка нельзя сложить мировоззрение. Система значений
языка ничего общего не имеет с системой мировоззрения ш'.
Из архивных записей к «Проблеме речевых жанров»
175
Упрощенное представление о коммуникации: увидел и сказал. Язык, определенное
предметное содержание и экспрессивное отношение к этому содержанию со стороны
говорящего. О каком бы предмете внешнего или внутреннего мира человек не говорил,
он имеет <дело> не только с этим предметом, но он говорит с кем-то, кому-то, которые
о том же предмете говорили, говорят, будут говорить (отвечая на высказывание),
которые понимают этот предмет иначе или не знают о нем (я предполагаю или знаю,
что они не знают). Говоря о предмете, я кому-то отвечаю, возражаю, соглашаюсь,
ожидаю ответа или ответного понимания другого.
Степень сосредоточенности на своем предмете бывает разная, соответственно и
разная степень реакции на чужую речь. Между речевыми жанрами в этом отношении
175
очень существенные отли-чия108. Широта и даль диалогических откликов: ближайшие
участники общения (партнеры бытового диалога) и участники данной сферы
культурного общения и так называемая публика. Непосредственный и опосредованный
речевой контакт.
Намеченная в примененных <?> формах языка мизансцена речевого общения.
Арсенал средств. Но в отдельном предложении и в отдельном слове диалогических
откликов нет.
Тот. кому отвечают, становится тем. кто будет отвечать. Такую двойную роль всегда
играет партнер диалога.
Оговоренность предмета речи. Говорящий — не первый, говорящий <?> об этом
предмете. Мысль и облекающие ее слова обрастают диалогическими обертонами.
Иногда безличные чужие слова: обертоны диалогической взаимоотраженности <?> с
чужими/чу ж дыми стилями (пародии, пародийные стилизации), направлениями,
мировоззрениями.
Предмет становится ареной встречи собеседников (беседа или спор о каком-нибудь
бытовом событии), ареной столкновения точек зрения и оценок (в области идеологии).
Чужая точка зрения реализуется в высказывании.
Оговорочные употребления слов и выражений (получужие).
Концепция слушателя, лежащая в основе данного стиля (читатель <?>).
Чужое высказывание само может стать предметом речи.
Высказывание может сводиться к переакцентуированной передаче чужого
высказывания (передразнивание).
Чужая речь как реальная данность вне моей речи.
Из архивных записей к «Проблеме речевых жанров»
176
Диалогические обертоны примешиваются к основному тону.
Отношение к чужой речи — очень важный определяющий фактор стиля.
Упрощенные представления о коммуникации.
Предметно-смысловой момент высказывания находится в ведении специальных
дисциплин: только они компетентны разобраться в научной, художественной,
философской, политической, моральной сторонах высказывания. Мы подходим к
высказыванию с лингвистически-философской точки зрения, т. е. с несколько
расширенной лингвистической точки зрения. С этой точки зрения мы и должны
оценить, понять предметно-смысловой момент, т. е. именно как момент словесного
целого, в его отношении к языку с одной стороны и к речевому общению с другой.
Различные трактовки чужой речи, различные формы отношения к ней, различные
концепции активного адресата <?> речи — важный момент, определяющий различия
между речевыми жанрами (до сих пор мы говорили о высказываниях) .
Документальность высказывания и иной характер языкового факта.
Предметно-смысловую целостность жанра говорящий и понимающий охватывают
прежде всего.
Даже легчайшая аллюзия на чужое высказывание дает речи диалогический оборот,
какой не может дать никакая новая предметная тема. Отношение к чужому слову
принципиально отлично от всякого предметного отношения.
Язык не наука, не искусство, не мировоззрение, но он делает все это возможным.
Цель высказывания — в ответной реакции. Высказывание никогда не бывает
самоцелью <Р>110.
Роль другого для действительного сознания. Роль предвосхищения. Учет
апперцептивного фона. Концепция слушателя.
Адресованность высказывания в его целом.
176
Условный слушатель вторичных жанров.
Адресат и тот, кому отвечают.
Полуусловные и условные обращения (к музам <?> или к музе, напр.).
Популярные жанры, учебники, исследования. Социальный учет: Чичиков.
Сложность явления отношения к адресату.
Характерное для эпохи, для определенных направлений и стилей ощущение
читателя, концепция адресата.
Официальный стиль (высокий), фамильярный, интимный стили в основном и
определяются свойственной соответствующим жанрам концепцией адресата. Личное
отношение к адресату (степень близости): фамильярный и интимный стили.
Из архивных записей к «Проблеме речевых жанров»
177
В высказывании, как в настоящем, сходятся прошлое и будущее. И те, кому
высказывание отвечает, и адресат его — при всех различиях в направлении — связаны
в едином событии речевого общения, и они сходятся и отзвуки их переплетаются
внутри самого высказывания. Свое и чужое в высказывании. v
Нельзя изучать высказывание изолированно, вне цепи речевого общения.
Письмовники, литература образцовых диалогов: сокровищница Амадиса111,
диалоги и письма по Ричардсону <?> и т. п. Но это — обработки в духе определенно
направленного искусственного жанра, культивирующегося в старых романах (и
вообще вторичных жанрах). Новый роман ориентируется на подлинники, реальные
формы первичного речевого общения.
Уверенность в чуткости и благорасположении адресата, глубина интимности.
Предвосхищенное чужое слово, чужая реакция.
Важность третьего стилеобразующего фактора: отношения к чужому высказыванию.
Чисто монологического стиля не существует^. Диалогические обертоны, смена
речевых субъектов.
Переход к предложению.
Проблема условности речи — одна из важных проблем речевого общения. Она
определяется отношением языка к действительности, способами отношения элементов
языка к действительности.
Переходы к пятой особенности^.
Концепции языка как творчества (индивидуального и коллективного).
Все идеологические критерии и оценки не применимы к языку: истинность, красота,
справедливость и т. п. Известная нейтральность языка. Язык одинаково хорошо
обслуживает все классы и группы населения — все идеологии. Язык дает языковые
средства по выражению любой идеологии, для построения как ложных, так и истинных
суждений.
Однако не все идеологии одинаково благоприятствуют <?> использованию языка и
его усовершенствованию.
Подлинная модальность (действительное отношение к действительности) присуща
только высказыванию, но формальные средства для выражения модальности наличны
в системе языка (предложение). Научная, художественная, бытовая модальность.
Жанровая модальность определяет разные типы отношения высказывания к
действительности.
Из архивных записей к «Проблеме речевых жанров»
177
Действенность (и событийность) высказывания.
Отношение к внесловесному контексту. Встреча языка с действительностью через
высказывание.
177
Действительность как предмет высказывания и действительность как ситуация
высказывания.
Значение мировоззрения. Его нет в языке. Язык не подсказывает мировоззрения и не
может его подсказать, ибо его нет в языке. Но без языка мировоззрение не может ни
сложиться, ни выразиться (одно от другого не отделимо). Но язык гораздо больше дает
правильному мировоззрению — истинному и передовому <?> — и гораздо больше
получает от него (не становясь мировоззрением ).
Все идеологические высказывания (сложного культурного общения) определяются
мировоззрением. Оно проникает даже и в бытовые жанры. Но эти жанры выражают
всегда социальную типичность и индивидуальную характерность.
Язык и мировоззрение.
Языковое мировоззрение <?> Потебни.
Мировоззрение наслаивается на значения языка только в связи с конкретными
высказываниями, как отзвуки их. Отдельные слова становятся представителями этих
(мировоззренческих <?>) высказываний.
Язык не может быть непосредственной целью творчества. Он является результатом
иного <?> творчества.
Отнесенность к действительности высказывания. Дело не в словесном окружении
контекстом, дело не в комбинациях, меняющих значение слова. Ведь высказывание
может состоять из одного слова, которое, следовательно, не имеет контекста, но такое
высказывание будет иметь конкретный смысл, а не значение^. Потому что это слово
отнесено к действительности: имеет автора, имеет адресата, непосредственно
окружено внеслсвесной ситуацией, является выражением конкретного акта мысли,
имеет определенное предметное содержание. Значение слова здесь относится и
применяется к определенной действительности в определенной обстановке.
Анализируя речь, мы наталкиваемся на особые границы, границы, определяемые
сменой речевых субъектов. С чего мы начинаем анализ. Речь имеет какое-то
абсолютное начало, границу, за которой — чужое высказывание.
Как происходит применение языка в конкретных высказываниях?
Нас интересует, конечно, не метод <?> применения мышления в конкретной области
деятельности и познания (это дело теории познания), а применение языка.
Ил архивных записей к «Проблеме речевых жанров»
178
Язык не подсказывает ни мировоззрения, ни эстетиче с к и х взглядов и оценок, ни
моральных. <...>
Нельзя выхолащивать формы и значения языка. Язык существует для речевого
общения, для творчества.
Рубцы от смен речевых субъектов *15, от трансформированных речевых жанров.
Формальная законченность предложения и подлинная смысловая завершенность
мысли, на которую можно ответить.
Язык, как общее, объективно существует в нашей речи.
Полустершиеся рубцы чужих высказываний.
Проблема многостильности отдельных жанров. Очень многие диалогические жанры
бытового общения бывают многостильными, поскольку они включают в себя полемическую, ироническую, пародийную передачу чужой речи. Сложные вторичные жанры,
как правило, отражают всю многостильность речевого общения. Вторичный речевой
жанр — это своего рода drama historikon. Это — переданное и пересказанное речевое
общение. Притом не только воспроизводятся чужие стили, но и сам автор пользуется
несколькими стилями (как своими).
178
На заре буржуазной идеалистической лингвистики была создана концепция
Гумбольдта.
язык„
в художественной литературе
Отношение высказывания к языку, точнее — говорящего к языку, еще точнее —
выражаемого содержания к языку как средству выражения. Разный характер и разные
степени оговорочного отношения к языку. От наивного реализма (магизма) до
иронической условности и релятивизма. Этим определяется стиль речевой культуры.
Между выражаемым и выраженным нет тождества1. Необходимо различать отношение
высказывания к себе самому и к языку.
Карнавальное мировоззрение. Маскарад вещей (в про-гностиках и загадках).
Карнавальная метафористика.
Строительный материал и построенное индивидуальное целое высказывания.
Контекстуальные функции (или индивидуальные функции). Общие же функции сами
становятся строительным материалом.
Литература не просто использование языка2, а его художественное познание3
(соотносительно научному познанию в лингвистике), образ языка, художественное
самоосознание языка. Третье измерение языка. Новый модус жизни языка4.
Образ говорящего человека, говорящих людей — общества. Непосредственность
жизни языка во всех других сферах его применения. Там он служит непосредственным
целям коммуникации и выражения*. Здесь он сам становится объектом изображения.
Речевая жизнь во всей ее конкретности.
Речевые стили как объекты изображения. Это не стенограмма речевой жизни
общества, а типический художественный образ этой жизни.
Человечность художественного образа. За каждым словом, за каждым стилем, за
каждой фонетической идиосинкразией6 — живая личность говорящего человека
(типического и индивидуального).
179
Язык в художественной литературе
179
Язык как средство изображения: изображение вещей и выражение собственных
переживаний. Язык как средство7 изображения не совпадает с прямой авторской
речью.
Основная проблема — проблема взаимоотношений изображающей и изображенной
речи. Две пересекающиеся плоскости8.
Сложность и трехмерность индивидуального стиля писателя: он определяется
диалогическим отношением к другим стилям, к чужой речи.
И иностранные языки могут быть объектом изображения.
Отношение (экспрессивное) не к предмету (природе, вещи), не к событию (победе,
гибели, осуществлению желаний и т. п.), а к чужому слову, к чужой речи.
Образ речевой жизни во всем ее многообразии: внутренняя речь разного типа при
разных обстоятельствах, многообразные виды диалога (бытовой, интимный, фамильярный, светский, салонный, деловой, научный и т. п.), деловая переписка, военные
приказы и т. п. Бесконечное разнообразие речевых жанров9.
В языке автора различные стили чужой речи, не прикрепленные к персонажам.
Разная степень солидаризации.
Язык целого литературного произведения нового типа (реалистического романа).
Это не сумма «языков» (речевых и индивидуальных стилей), это — система «языков» и
стилей, система сложная и одновременно единая. Это единство прежде всего
функционально, оно проявляется в единстве отношения ко всем этим языкам и стилям.
179
Стиль начинается там, где на сцене появляется говорящий, производящий отбор10.
Но все, что он может отобрать (любая помета, любой стилистический оттенок), потенциально содержится в языке11.
Отношение к «языкам» выражено в языке произведения (выражено, но не
высказано). Здесь много говорящих и в то же время один говорящий (автор).
Организационный центр произведения и пласты разной степени отдаленности от
него. Найти слова, язык, стиль, находящийся в самом организационном центре
произведения12.
Язык в художественной литературе
180
Язык самоосознающийся, ставший объектом себя самого (даже в лирике в отличие
от естественного, сырого, документального выражения своих чувств, «крика души»).
Образ языка. Он типичен, но он включает в себя и авторское отношение к нему,
авторскую экспрессию. Как осуществляется это отношение? От пародийного заострения и преувеличения до сопоставления и контрастирования с другими речами, путем
локализации в целом.
И речи персонажей рассматриваются только как средства изображения или
выражения. Но они — объект изображения13.
Об основной эстетической особенности языка художественной литературы14.
К произведению можно подойти как стенограмме речей героев и автора, как к
лингвистическому документу, источнику.
Язык вступает в сферу литературно-художественного его употребления. Эта сфера и
жизнь языка в этой сфере принципиально отличается от всех остальных сфер речевой
жизни (научной, бытовой, деловой и т. п.). В чем основная и принципиальная
особенность этой сферы. Язык здесь является не только средством коммуникации и
выражения, определяемыми> определенным предметом и целью, но и сам является
предметом, объектом изображения.
Язык здесь нельзя рассматривать как определенный функциональный стиль,
подобно стилю научной речи13.
В нем мы найдем все возможные языковые, речевые, функциональные стили,
социальные и профессиональные жаргоны и т. п. Он лишен ограниченности
(соответственно с другими стилями) и относительной замкнутости стиля16. Но эта
многостильность и — в пределе — «всестиль-ность» языка литературы является
следствием основной особенности литературы. Литература это, во-первых, искусство,
т. е. художественное образное познание (отражение) действительности, и, во-вторых,
художественное образное отражение с помощью языка — материала этого искусства.
Основная особенность литературы — язык здесь не только средство коммуникации
и выражения-изображения, но и объект изображения.
Язык в художественной литературе
180
Как провести границу между изображающим (средством) и изображаемым языком.
Авторские изображения природы, обстоятельств, событий — с одной стороны, речи
персонажей — социально-характерные — с другой. Но изображающая речь в
огромном большинстве случаев тяготеет к изображаемой, а чистого изображающего
слова от автора может и не быть, или оно может быть изборождено оговорочными
изображенными стилями и манерами (речевые авторские маски).
Образ говорящего (речевого субъекта). Лингвистика познает его только в тех
абстрактно-относительных координатах <?> субъекта речи, которые определяются
самим языком (занимаемая говорящим относительная точка во времени в отношении к
сообщаемым событиям, отношение к коллективу речевого общения, передаваемое
180
местоимением, род и число17). Художественное познание направлено именно на образ
говорящего в его индивидуальной конкретности.
Модальные категории языка.
Стиль предполагает отбор, отбор же выдвигает <?> и определяет личность
отбирающего (его мировоззрение, его идеалы, оценки, эмоции и т. п.).
Язык в литературе существует в двух модусах, в других сферах — только в одном.
Во всех остальных сферах язык (средство выражения) только предметно направлен,
выражает определенное содержание для определенных целей. И этой предметной и
целевой направленностью и определяется выбор средств выражения, т. е. стиль. Если
при этом строится образ говорящего и образ языка, то это вовсе не входит в задание
речи (не входит ни в предмет, ни в цель ее). Этот образ не интересует говорящего, и
говорящий не сообщает его слушателю (если он не актерствует и не разыгрывает).
Отбор средств производится самим говорящим и одним говорящим.
В литературе же при создании образа говорящего и образа языка (образа речи) отбор
производит не сам говорящий, а автор за говорящего, но с точки зрения самого
говорящего. Но в то же время и со своей авторской точки зрения, направленной на
образ речи и говорящего (типизующей, заостряющей и т. п., т. е. отбирающей с точки
зрения образной цели).
Язык в художественной литературе
181
Ведь такова природа художественного образа: мы и в нем и вне его, живем в нем
изнутри и видим его извне. В этом двойном переживании и видении — сущность художественного познания: «жизнь другая — моя-не-моя». Писатель не стенографирует
речи своего персонажа, но и не навязывает ему своей речи (вообще ничего не навязывает). Таково отношение художника к своему герою: он живет и в нем и вне его и
сочетает эти два аспекта в высшем единстве образа18.
Образ речи нельзя дать вне образа говорящего19. Ничьей речи и не существует.
Язык изображается «под формою жизни» (Чернышевский) 20.
Это художественное познание языка (а не научно-лингвистическое) имеет огромное
практическое значение. Оно учит творческому использованию языка (а не только
правильному), преодолевает языковую наивность и языковой догматизм,
ограниченную одностильность и бессознательную многостильность, т. е.
бесстильность. Оно поднимает язык на высший уровень его жизни, в сущности, новый
и высший модус жизни языка. Именно в этом состоит формирующее влияние
литературы на развитие общенародного языка, а не в том, что литература дает образцы
правильного и хорошего языка21.
Речевые стили (особенно некоторые) и социальные и профессиональные жаргоны
становятся смешными в своей ограниченности и наивной непосредственности. Это —
один из важнейших источников речевой комики. Стили можно пародировать, язык
пародировать нельзя.
Роль речевого субъекта, говорящего. Эта роль в нашей лингвистике сведена к
минимуму. Язык художественной литературы дает ключ к правильному пониманию
этой роли. Язык как средство общения дает иную концепцию говорящих, чем язык как
средство выражения (идеализм )227
Проблема отношений Отношения между речами и стилями в единстве произведения.
Трудность и важность определения этих отношений. Здесь есть некий ускользающий
момент, в котором как раз все дело. Эти отношения не укладываются в рамки тех
логико-грамматических отношений между значащими элементами языка (в самом
широком смысле), которые знает лингвистика23.
Язык в художественной литературе
181
182
Многостильные жанры занимали огромное место уже в древнейших литературах, но
в последующие эпохи они были заслонены (в официальной литературе) одностильными жанрами. Поэтому кажется24, что многостильность характерна для новой
литературы. Карнавальные жанры в широком смысле слова.
Изучение языка художественной литературы приобретает исключительно важное
значение. Можно прямо сказать, что язык здесь приобретает
новое
качество,
новые измерения. Преодоление языковой наивности и примитивности23.
Примитивное понимание образа и образности.
Преодоление языковой наивности и догматизма. Ироническая нейтрализация всех
стилистических оттенков в языке культурного человека нового времени. Оговорочное
использование стилистических оттенков, не отдаваясь во власть их. Как вульгарносниженный, так и высокий (патетический)26 одинаково подаются с ироническим
оттенком. В этом отношении очень показательно изучение интимных и фамильярных
писем (а также и официальных тех же лиц). Письма Пушкина.
Стили воспринимаются как чужая речь (в кавычках).
Стилистика почти совершенно не изучает речевого общения, обмена мыслями*7, она
слишком привязана к текстам (литературным текстам). [И проблема границ текста не
поставлена.]28 Реализация языка как средства общения в самом общении. Характерно,
что статья В. В. Виноградова о неполных предложениях в разговорной речи заимствует
все без исключения примеры только из литературных произведений29. Совершенно не
изучалась внутренняя речь30.
Непрямое использование стилей. Самое сопоставление стилей (разделенных между
разными голосами) в пределах одного единого контекста произведения заставляет их
взаимоосвещаться, превращает их в освещенные образы стилей.
Образ речи не может не быть одновременно и образом говорящего человека.
Литературоведческая стилистика (поэтика) разрабатывала главным образом
изображающую речь в разрезе изобразительных и выразительных средств ее (эпитетов,
метафор и др. тропов <?>, сравнений, олицетворений,
Язык в художественной литературе
182
фигур речи и т. п.). Их31 интересовала преимущественно авторская речь (речь
персонажей и рассказчиков с точки зрения их предметной изобразительности в одной
плоскости с авторской речью); лингвистическая стилистика интересовалась
преимущественно речевыми стилями (функциональными и экспрессивными32),
социальными и профессиональными жаргонами и т. п., рассматривая их как факты
языка (а не как компоненты единого стиля произведения); поэтому она
преимущественно интересовалась речами персонажей и рассказчиков (и в авторской
речи искала элементов стилей и жаргонов); все это также воспринималось в одной
плоскости (в плоскости национального языка данной эпохи)33.
Изобразительные средства изображают природу, вещи, события и действия и
молчащего человека. Но человек должен заговорить сам (или прямо от себя или через
авторскую речь — несобственная прямая речь34). И эта речь уже не лежит в плоскости
авторской речи (хотя и входит в единство стиля произведения).
Речь рассказчика и персонажа-рассказчика может иметь и прямое предметноизобразительное значение. Так, рассказ Пимена о Грозном («...тих сидел пред нами
Грозный...»33) дает художественно-объективный образ Грозного (можно сказать,
пушкинский образ), это — предметная направленность (изобразительность) речи
Пимена; в то же время эта речь является образом речи (и образом личности) русского
182
летописца, изображенного Пушкиным, как создателем его типизованной речи
(типический образ летописного стиля, летописного мировоззрения). Пимен гово?ит о Грозном, а Пушкин этой речью его говорит о нем, 1имене. Герой показывает
нам предмет, а мы видим его самого.
Проблема сложных взаимоотношений изображающей и изображенной речи.
Проблема гибридных образований36. Эта проблема может быть разрешена только на
фоне тщательного и глубокого изучения языка эпохи и речевого общения эпохи. В
процессе речевого общения, в процессе обмена мыслями (в широком смысле) стили,
жаргоны, формы не лежат рядом друг с другом, а находятся в сложных
взаимоотношениях взаимодействия и борьбы, пересечения, взаимопроникновения;
таковы и их взаимоотношения в активном речевом сознании говорящих. Когда
Язык в художественной литературе
183
мы их проецируем в плоскость языка, они располагаются в нем как слои или как
концентрические круги (образ Пеш-ковского37). И именно это речевое общение с его
борьбой, с его диалогической природой отражается в образах литературы.
Нельзя абстрактно логизировать диалогические отношения; диалог всегда
оркестрован стилями, жаргонами, манерами, индивидуальными стилями.
Но здесь мы подходим к основному вопросу: не выходят ли эти взаимоотношения
между речами-высказываниями, стилями, жаргонами за пределы лингвистики? Не говорит ли об этом самая диалогическая природа этих взаимоотношений? Может быть
мы выходим здесь в сферу выражаемого содержания38. Литературоведческая стилистика здесь прямо совершает прыжок из области лингвистики в область эстетики,
мировоззрения, политики и т. д. Лингвистическая стилистика останавливается, не
дойдя до этих пограничных вопросов.
Мы считаем эту проблему пограничной. Такие проблемы имеют исключительно
важное принципиальное значение, они в значительной степени получают философский
характер. Они сложны и очень дискуссионны. Но от них никуда не уйдешь.
Проблема взаимоотношений- языка и речи (но не индивидуального высказывания,
parole в соссюровском смысле, а речевого общения) 39.
Речевое общение предполагает по крайней мере двух представителей говорящего на
данном языке коллектива — говорящего и слушающего. Нет речи вне языкового
коллектива, и нет речи без установки на слушателя.
Эта проблема лучше всего раскрывается на материале художественной литературы,
отражающей речевое общение во всем его многообразии и сложности, дающей язык в
новом качестве и в новом измерении, сочетающей слово во всех его словесных
возможностях с мыслью, чувством и действительностью.
Язык в художественной литературе40.
Для правильного понимания языка художественной литературы необходимо прежде
всего определить место и роль языка в художественной литературе, в корне отличную
от его роли в других сферах речевого общения. На
Язык в художественной литературе
183
этот вопрос существует бесспорный <?> ответ: художественная (эстетическая)
функция — средство изображения и выражения. Можно поставить наряду с другими
функциональными и экспрессивными стилями41. Нет такого стиля (функционального
и экспрессивного), такого жанра, такой формы языка, для которых нельзя было <бы>
найти ярчайшего примера в художественной литературе.
Являются ли все эти стили средствами сообщения и выражения. Имеет ли, например,
научный стиль в литературе те же прямые функции, что и в науке, деловой стиль —
183
деловые цели, выражают ли эти стили авторские научные теории, деловые
соображения. Иногда, да. Но далеко не всегда эти стили употребляются по своему
прямому предметному назначению, в своей прямой предметной направленности.
Художественная литература не эклектическое соединение4* науки, публицистики,
деловой практики и т. п. Все эти стили разделены между разными голосами. Они
являются здесь не средством изображения, сообщения, выражения, как в других
сферах, а сами становятся объектом или предметом изображения. Не только средством
построения образа, но и сами являются построенным образом.
Вопрос о наличии одностильных жанров, где нет образа говорящего человека.
Прямое авторское слово не типизует речь писателя-профессионала. Например,
Толстой. Типизует говорящего человека, а человек говорит и тогда, когда молчит
(внутренней речью, передаваемой внутренними монологами).
Речь-образ, т. е. типизованная речь, и прямая авторская речь, не типизованная, а
предметно-направленная (там, где такая нетипизованная речь есть).
Во все периоды литературы мы найдем пародии на прямую писательскую речь
определенного направления, на штампы этой речи, на своего рода писательский
жаргон. Это уже типизованные, заостренные образы такой речи.
Сложная
проблема организационных
центров43.
Разностильными могут быть и нехудожественные произведения, но там стиль
используется
по
своему прямому
назначению
(в примере Сорокина из
Сеченова44) или в целях полемики (в публицистике).
Язык в художественной литературе
184
Когда и в какой мере в замысел автора (его художественную волю) входит создание
образа автора?4^
Прикладная область языкознания (лингвистики) изучает средства языка в их
применении в определенных сферах речевого общения (бытового, художественного и
т. п.). Необходимость сотрудничества с литературоведами, представителями наук и т.
п. Конкретные речевые условия. Мы назвали бы эту область не прикладной, а
пограничной46. Она изучает наиболее общие формы применения средств языка в
определенных условиях и целях речевого общения, формы перехода языка в речь, но
не в изолированно взятое (замкнутое) индивидуальное высказывание, а в «обмен
мыслями», во взаимодействие высказываний.
Перспектива произведения как единого целого. В перспективе этого целого речь
персонажа звучит совсем по другому, чем в условиях своего самостоятельного существования в реальных условиях речевого общения: в сопоставлении с другими речами
и авторской речью она приобретает дополнительное значение47, на ее прямые,
предметно обусловленные, акценты наслаиваются новые авторские акценты
(ироничные, негодующие и т. п.), как тени, падающие на нее от окружающего
контекста. Например, протоколы вскрытия купца, зачитываемые в суде («Воскресение»), стенографически точные, без утрировки, без сгущений, без пародии,
доведены до абсурда, звучат иначе, чем они звучали бы в реальном судебном деле
среди других судебных документов и протоколов. Но они звучат не на суде, а в романе,
где и они — эти протоколы — и весь суд окружены другими речами (внутренними
монологами героев и т. п.), соотнесены с ними, в том числе с прямой толстовской
авторской речью. В перспективе голосов, речей, стилей протокол судебного вскрытия
становится образом протокола, его специфический стиль — образом стиля. Самый
факт обрамления48 речи другими речами в единстве целого произведения вносит в нее
184
дополнительные моменты, сгущает ее до образа речи, создает для нее иные границы,
чем <в> условиях реального существования в данной сфере.
Кроме того, автор сгущает стиль, подчеркивает его отдельные
моменты,
преувеличивает, иногда, наоборот,
Язык в художественной литературе
185
ослабляет (например, элементы языка петровской эпохи у А. Толстого49). Но
главное — контекстуальность50. Ото всех сколько-нибудь самостоятельных частей
контекста тянутся диалогические нити, которые сходятся в организационном центре.
Немецкая речь фашистов в «Русском лесе» Леонова. Лекция Вихрова51.
Контекстуальное обрамление относительно самостоятельной речевой части обладает
диалогической природой.
В пограничной области перехода средств языка в речевое общение происходит
встреча между лингвистикой и другими науками, сферами культуры и жизни. Если
лингвист будет держаться подальше от своих границ, он никогда не встретится с
литературоведом вплотную. И литературовед, замкнутый в сфере отвлеченной
идейности и социологической проблематики, никогда по-настоящему не встретится с
лингвистом. Боязнь пограничных проблем приводит к недопустимому замыканию наук
в себе самих и к научному застою (к разобщению наук).
Разное влияние на элементы речи своего (предметно направленного) и получужого
контекста. Трехмерная контекстуальность.
Эти явления, в основном, относятся к области семантики52.
«Мария Тюдор»
«мария тюдор»
Два года тому назад наша страна вместе со всем прогрессивным человечеством
отмечала 150-летие со дня рождения Виктора Гюго, прогрессивного писателя
Франции, демократа и гуманиста. «Мария Тюдор» — одна из его лучших и наиболее
насыщенных социальной проблематикой драм. Нельзя, поэтому, не приветствовать
постановку этой драмы на сцене Мордовского драматического театра.
Виктор Гюго — романтик, но его творчество принадлежит к тому прогрессивному
типу романтизма, который
A. М. Горький назвал «активным романтизмом», к которому мы относим М. Ю.
Лермонтова, А. Мицкевича, Байрона. Этот романтизм характеризуется своим жизнеутверждающим оптимизмом и активным призывом к борьбе за высокие общественные
идеалы.
Драматическая манера В. Гюго основана преимущественно на использовании всего
необычного и неожиданного. Исключительные события (заговоры, мятежи, месть,
казни, убийства), исключительные герои (короли и королевы, шуты, разбойники,
шпионы, комедианты, палачи, уроды, таинственные незнакомцы), необычная
обстановка (дворцы, тюрьмы, места казней, подземелья и катакомбы, ночные площади
и улицы), неожиданные повороты судеб, счастливые и несчастные случайности,
стремительность действия, резкие контрасты — такова драматургическая поэтика В.
Гюго.
Но вся эта яркая и своеобразная поэтика необычного и исключительного
используется В. Гюго не для достижения внешних эффектов, не для пустой
занимательности. Гюго подчиняет ее высоким познавательным и моральным целям:
она служит более резкому раскрытию социальных противоречий — прежде всего
непримиримого противоречия между угнетателями и угнетенными — и более глубокому проникновению в сущность человеческих характеров.
185
B. Гюго выводит людей из их обычной жизненной колеи, ставит их в
исключительные положения, чтобы заставить их раскрыться до конца, выявить все
заложенные в них,
186
«Мария Тюдор»
186
скрытые в обычной жизни, и добрые и злые возможности, чтобы заставить своих
героев действовать в полную меру своих сил и говорить с предельной откровенностью.
В. Гюго показывает в своих драмах жизнь раскаленной до белого накала, чтобы
разжечь и в зрителях активную ненависть ко всему злому и любовь к доброму.
Все эти особенности романтической драматургии В. Гюго очень ярко выражены и в
«Марии Тюдор».
Перед творческим коллективом Мордовского театра стояла нелегкая задача —
правильно понять и освоить эти особенности драмы Гюго. Нужно было не увлечься
внешними романтическими эффектами, не сбиться на пошлую буржуазную мелодраму,
а подчинить все и вся раскрытию глубокого идейного замысла автора.
На наш взгляд, театр хорошо справился с этой трудной задачей. Режиссер спектакля
М. Г. Григорьев дал глубоко продуманное и верное решение спектакля в целом как в
идейном и стилистическом, так и в историческом плане. На зрителей пахнуло со сцены
мрачной и жестокой атмосферой Англии середины 16 века. Каменное, суровое, почти
тюремное внешнее обрамление сцены настраивало зрителей на правильное восприятие
изображенной жизни, как жизни в тюрьме: тюрьма — это не только Тауэр (древняя
«королевская тюрьма» Англии, где проходят два последних действия спектакля),
тюрьма — это и дворец королевы, и набережная Темзы, и Лондон, и вся жизнь Англии
той эпохи, с ее казнями, палачами, виселицами, кострами, чудовищным насилием и
вечным страхом. Такое обрамление сцены помогает правильному раскрытию идейного
замысла В. Гюго.
Уже с первых сцен первого акта отчетливо и резко — как этого и требует стиль Гюго
— раскрывается первая ведущая антитеза всей пьесы: противопоставление двух миров
— мира угнетателей (королева, Фабиано, Ренар, лорды) с его заговорами, интригами,
фаворитами, палачами, жестокостью, злобой, завистью и жадностью, и мира
угнетенного народа («человек из народа», рабочий-чеканщик Гильберт, Джен,
Джошуа) с его честным трудом, любовью, бескорыстием и справедливостью. Это противопоставление проходит в живом драматическом движении через всю пьесу и
разрешается в конце ее торжеством «человека из народа».
«Мария Тюдор»
186
Второе ведущее противопоставление, неразрывно связанное с первым:
противопоставление двух типов любви — любви королевы Марии и любви рабочего
Гильберта и Джен. И эта антитеза в напряженнейшем драматическом действии
проходит через всю пьесу, разрешаясь в конце ее торжеством подлинной любви
«человека из народа».
Режиссеру и артистам удалось, как уже отмечалось, правильно понять этот идейный
замысел В. Гюго и сделать его основной задачей спектакля. Правильно решен, на наш
взгляд, и ритм спектакля.
Обратимся к трактовке отдельных образов драмы, т. е. к игре артистов.
Роль королевы Марии — трудная роль. Образ королевы должен, по замыслу Гюго,
вызывать у зрителей двойственное отношение: и отталкивать его, и вызывать сочувствие, причем отрицательное отношение должно доминировать. Такие образы с
двойной оценкой трудно играть: всегда угрожает опасность упростить образ, сделать
186
его однотонным. Артистка А. С. Капустина избежала этой опасности. Она создала
правильный, достаточно сложный и тонкий рисунок роли, проявила настоящее
мастерство и большой художественный такт. По замыслу В. Гюго, в образе королевы
раскрывается тот тип любви, который только и возможен в отвратительном страшном
мире угнетателей. Королева любит своего фаворита Фабиано сильной и страстной
любовью. Но эта любовь разъедается злобной ревностью, постоянным недоверием,
надменностью. Королева любит не Фабиано, а «своего Фабиано», т. е. лишь постольку,
поскольку он нераздельно и телом и душой будет принадлежать только ей. Чужого
Фабиано она ненавидит всеми силами своей души. До самоотверженности такая
любовь не способна подняться. Неспособна она и дать счастья: она может только
мучить и терзать и Фабиано и собственное сердце королевы. Но все же это — любовь.
А по Гюго, даже и такая любовь вносит проблеск человечности в развращенную и
обесчело-веченную самовластием душу Марии Кровавой. В последних двух актах
драмы любовь поднимает образ королевы почти до подлинного трагизма. А. С.
Капустина раскрывает все это с большой силой и убедительностью, но нам кажется,
что трагизм образа в последних двух актах следовало бы несколько усилить.
«Мария Тюдор»
187
Яркий, обаятельный образ Гильберта создал артист Б. И. Карпов. Мужественность,
твердость, решительность сочетаются в этом человеке из народа с глубочайшей нежностью и чуткостью. Исключительные и страшные события, ворвавшиеся в скромную
трудовую жизнь Гильберта, позволили раскрыться огромным богатствам его глубокой
и цельной души. Он носитель той любви, которую В. Гюго считал любовью
подлинной. Гильберт любит Джен самоотверженной и в то же время полнокровной,
мужественной и страстной любовью: он хочет сделать Джен своею, он борется за
Джен, он ненавидит ее соблазнителя, но он любит Джен, а не «свою Джен» и сам готов
ценою своей жизни устроить ее счастье с другим. Готовность к самопожертвованию
сочетается у него с могучей жаждой жизни и счастья. Это мы видим в сцене перед
побегом, в третьем акте, убедительно проведенной Б. И. Карповым. По мысли В. Гюго,
только такая любовь способна создать подлинное человеческое счастье. Такая любовь
в среде угнетателей невозможна, она — достояние простых людей из народа.
Все это прекрасно раскрыто актером в своем герое. Только в одном месте, в начале
сцены в покоях королевы, где Гильберт заявляет, что он «раздумал умирать», потому
что измена Джен не доказана, игра Б. И. Карпова не вполне убедительна: в спокойном,
почти юридически бесстрастном анализе улик против Джен мы не чувствуем почти
никаких следов той страшной борьбы с сомнениями и с отчаянием, которая всю ночь
терзала и мозг и сердце Гильберта. Это несколько ослабляет драматизм сцены.
В образе Джен (артистка 3. П. Улановская) показано рождение подлинной любви. В
начале драмы Джен еще не любит Гильберта, точнее, любит его любовью-благодарностью, любовью-уважением: ведь он заменял ей отца. Но в ходе действия, когда
перед ней раскрывается в борьбе и подвиге вся мощь души Гильберта и вся сила его
любви к ней, в душе Джен рождается ответная любовь к нему, такая же сильная,
страстная и самоотверженная. И Джен преображается, вырастает на наших глазах,
вступает в борьбу за спасение Гильберта и побеждает в ней. 3. П. Улановская дала
правильное и глубокое решение образа Джен, очень важного в идейном замысле В.
Гюго.
«Мария Тюдор»
187
187
Прекрасный образ Джошуа создал артист Я. М. Ко-ломасов. Мудрость много
видевшего на своем веку старого человека сочетается в нем с большой душевной
теплотой и с какой-то почти детской нежностью.
Симон Ренар (артист Н. А. Иванов), представитель Испании, ведет всю внешнюю
интригу пьесы. Это — типичный представитель мира угнетателей, холодный и бездушный интриган, умеющий всех и все — и людей и самые высокие человеческие
чувства (любовь Гильберта) — использовать, как орудие в своей нечистой
политической игре. Н. А. Иванов создал убедительный образ Ренара. Но следовало бы
несколько усилить самоуверенную наглость этого всесильного представителя
могущественной Испании.
Вполне удачен образ Неизвестного в исполнении артиста В. И. Январева. Это —
характерная романтическая фигура (она есть почти во всех драмах В. Гюго), таинственная и страшная, воплощающая в себе и рок, и совесть, и страшную
неожиданность случая, врывающегося в жизнь.
Артист А. С. Новопавловский умело сыграл типичного авантюриста той эпохи:
беспринципного,
аморального,
наделенного
красотой
и
темпераментом,
использующего все и вся — и прежде всего любовь — для достижения власти и
богатства. Особенно хорошо раскрывает актер нутро Фабиано в первом акте. Однако в
сцене разоблачения, во втором акте, артист несколько упрощает рисунок своей роли.
Но в этом повинен не один А. С. Новопавловский.
Дело в том, что в спектакле есть одно слабое место — массовые сцены с лордами во
втором и третьем актах. В первом акте, в сцене заговора, лорды действуют прекрасно
(это очень удачная сцена), но во втором акте, в покоях королевы, они словно забыли и
о своем заговоре и о своей жестокой ненависти к Фабиано. А в сцене разоблачения
этого последнего они присутствуют как безучастные зрители.
Нельзя допустить мысли, чтобы у наших артистов, воспитанных на заветах К. С.
Станиславского, могло быть пренебрежительное отношение к участию в «массовках».
Они, конечно, отлично знают, каким трудным и ответственным делом является игра в
массовых сценах. Очевидно, не удалось найти правильного решения данной сце
«Мария Тюдор»
188
ны. Только этим можно объяснить вялое и даже несколько унылое поведение лордов
в покоях королевы. На наш взгляд лорды в этой сцене должны быть охвачены еле
сдерживаемой яростью против Фабиано, они были бы рады ринуться вниз и растерзать
его в клочья, если бы это было возможно. Когда Фабиано разоблачен и повержен,
ярость переходит в злобное ликование. Такое поведение лордов, заклятых врагов
Фабиано, заставило бы и его реагировать ответною яростью затравленного волка.
Между тем Фабиано ведет себя так, как если бы лордов и вовсе не было на сцене, он
даже почти и не глядит в их сторону.
Правильное решение этой сцены помогло бы лучшему раскрытию идейного замысла
пьесы, помогло бы ярче показать взаимную ненависть, разъедающую мир угнетателей.
В третьем акте, во время народного восстания, лорды охвачены страхом перед
народом. Испуган и Ре нар. Он сам через своих агентов содействовал восстанию, оно в
данном случае в его интересах. Но когда оно вспыхнуло, когда он услышал могучий
гнев народа, он не мог не испытать животного страха всех угнетателей перед восставшим народом. Когда он пугает королеву, уговаривая ее уступить, он и сам боится.
Думается, что такое решение углубило бы идейный смысл сцены народного
восстания.
В заключение хотелось бы еще отметить хорошую работу художника М. М.
Матюнина. Эта работа немало содействовала созданию атмосферы всего спектакля.
188
Спектакль «Мария Тюдор» — творческая удача коллектива Мордовского театра.
М. БАХТИН,
кандидат филологических иаук.
Проблема сентиментализма
проблема сентиментализма
Недооценка сентиментализма в происходящих спорах о реализме. Зыбкость и
неопределенность границ сентиментализма (как и всех течений такого масштаба). С
одной стороны он переходит и частично сливается с романтизмом (предромантизм,
руссоизм, сентиментальный романтизм1). С другой стороны он почти сливается с
потоком реализма (Диккенс, Флобер, натуральная школа, Достоевский). Несмотря на
эту зыбкость исторических границ, сентиментализм в своем ядре является совершенно
определенным, четким и в высшей степени своеобразным явлением. Это — подлинное
открытие. Внутренние связи между людьми (Маркс об обмене индивидуальностями2).
Семья не как социально-экономическая ячейка. Внутренний человек и интимные связи
между внутренними людьми. Маленький, слабый человек. Развенчание грубой силы,
величия, героизма (грубого и внешнего)3. Ребенок и чудак (оттенки шуга, сближение
образов, метафорические соответствия образов, а не разделение понятий). Элементы
сентиментализма. Сельско-идиллическая стадия. Античная стадия. Средние века.
Идиллии Возрождения. Сельский сентиментализм 18-го века. Переход
сентиментализма в город (урбанистический сентиментализм). Социальная конкретизация маленького и слабого человека. Тема страдания. Самоценность и
самоцельность личности. Животные, вещи и природа в сентиментализме. Природа (и
животные) не может быть образом как предмет эксплуатации. Формы
сентиментализма: письмо, дневник, исповедь, внутренний монолог, документализм и
пр.
Сущность сентиментализма и его исторические разновидности. Сухость и трезвость
буржуазного реализма4.
Борьба с овеществлением, в том числе с объясняющим (каузальным)
овеществлением.
Сочувствие, сострадание, жалость5. Эмоциональное богатство. Сентиментальные
культы, их эмоциональные
189
Проблема сентиментализма
189
разновидности6. Выход героя за рамки произведения7. Особая структура образа
героя.
Проследить элементы сентиментализма до наших дней (до Б. Брехта).
«Лабиринт мира и рай сердца» (Амос Коменский)8.
Не подражание, а сострадание, сочувствие, оплакивание, вечная память.
Сентиментализм Ромена Роллана.
Узкая и пренебрежительная оценка сентиментализма. Подмена сентиментализма
«сентиментальностью», побочным продуктом сентиментализма. Чувствительность в
жизни, мода на чувствительность. Но в основе лежит особый глубоко существенный
подход к человеку и миру (к природе, к животным, к вещи). Подход, позволяющий
увидеть и осмыслить (художественно освоить) такие стороны действительности,
которые не существовали для других направлений. Переоценка масштабов,
возвеличение маленького, слабого, близкого, переоценка возрастов и жизненных
положений (ребенок, женщина, чудак, нищий). Переоценка жизненной детали, мелочи,
подробности. Я существую для другого.
189
Экстерриториальность человека сентиментализма (ребенка, чудака, нищенки <?> и
т. п.), вне мира сего, вне жизненной колена Абсолютное бескорыстие. Своеобразная
философия чудачества. Натуральная школа как разновидность русского
сентиментализма10.
Взаимоотношение направлений и жанров. Влияние жанров на направления (идиллии
на сентиментализм). Переработка жанров направлениями11.
Проблема текста
проблема текста
Проблема текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных науках. Опыт
философского анализа.
Приходится называть наш анализ философским прежде всего по соображениям
негативного характера: это не лингвистический, не филологический, не
литературоведческий или какой-либо иной специальный анализ (исследование).
Положительные же соображения таковы: наше исследование движется в пограничных
сферах1, т. е. на границах всех указанных дисциплин, на их стыках и пересечениях.
Текст (письменный и устный) как первичная данность всех этих дисциплин и
вообще всего гуманитарно-филологического мышления (в том числе даже богословского и философского мышления в его истоках)2. Текст является той
непосредственной действительностью (действительностью мысли и переживаний)3, из
которой только и могут исходить эти дисциплины и это мышление. Где нет текста, там
нет и объекта для исследования и мышления. «П одразумеваемый» текст4. Если
понимать текст широко — как всякий связный знаковый комплекс, то и
искусствоведение (музыковедение, теория и история изобразительных искусств) имеет
дело с текстами (произведениями искусства). Мысли о мыслях, переживания
переживаний, слова о словах, тексты о текстах. В этом основное отличие наших
(гуманитарных) дисциплин от естественных (о природе), хотя абсолютных,
непроницаемых границ и здесь нет5. Гуманитарная мысль рождается как мысль о
чужих мыслях, волеизъявлениях, манифестациях, выражениях, знаках, за которыми
стоят проявляющие себя боги (откровение) или люди (законы властителей, заповеди
предков, безыменные изречения и загадки и т. п.). Научно точная, так сказать,
паспортизация текстов и критика текстов — явления более поздние (это — целый
переворот в гуманитарном мышлении, рождение недоверия6).
190
Проблема текста
190
Первоначально вера, требующая только понимания — истолкования. Обращение к
профанным текстам (обучение языкам и т. п.). Мы не намерены углубляться в историю
гуманитарных наук, и в частности филологии и лингвистики, — нас интересует
специфика гуманитарной мысли, направленной на чужие мысли, смыслы, значения и
<...,> т. е. реализованные и данные исследователю только в виде текста. Каковы бы ни
были цели исследования, исходным пунктом может быть только текст.
Нас будет интересовать только проблема словесных
текстов, являющихся
первичной данностью соответствующих гуманитарных дисциплин — в первую
очередь лингвистики, филологии, литературоведения и др.
Всякий текст имеет субъекта, автора (говорящего, пишущего). Возможные виды,
разновидности и формы авторства . Лингвистический анализ в известных пределах
может и вовсе отвлечься от авторства^/ Истолкование текста как «примера»
(примерные суждения, силлогизмы в логике, предложения в грамматике, «коммутации»9 в лингвистике и т. п.). Воображаемые тексты (примерные и иные).
Конструируемые тексты (в целях лингвистического или стилистического
190
эксперимента). Всюду здесь появляются особые виды авторов, выдумщиков примеров,
экспериментаторов с их особой авторской ответственностью (здесь есть и второй
субъект: кто бы так мог сказать).
Проблема границ текста. Текст как высказывание10. Проблема функций текста и
текстовых жанров.
Два момента, определяющих текст как высказывание: его замысел («интенция») и
осуществление этого замысла. Динамические взаимоотношения этих моментов, их
борьба, определяющая характер текста. Расхождение их может говорить об очень
многом. «Пелестрадал» (Л.Толстой)11. Оговорки и описки по Фрейду (выражение
бессознательного}1*. Изменение замысла в процессе его осуществления13.
Невыполнение фонетического намерения.
Проблема второго субъекта, воспроизводящего (для той или иной цели, в том числе
и исследовательской) текст (чужой) и создающего обрамляющий текст (комментирующий, оценивающий, возражающий и т. п.).
Особая двуплановость и двусубъектность гуманитарного мышления.
Проблема текста
191
Текстология как теория и практика научного воспроизведения литературных
текстов. Текстологический субъект (текстолог) и его особенности14.
Проблема точки зрения (пространственно-временной позиции) наблюдателя в
астрономии и физике.
Текст как высказывание, включенное в речевое общение (текстовую цепь) данной
сферы. Текст как своеобразная монада1 , отражающая в себе все тексты (в пределе)
данной смысловой сферы. Взаимосвязь всех смыслов (поскольку они реализуются в
высказываниях).
Диалогические отношения между текстами и внутри текста. Их особый (не
лингвистический) характер. Диалог и диалектика16.
Два полюса текста. Каждый текст предполагает общепонятную (т. е. условную в
пределах данного коллектива) систему знаков, «язык» (хотя бы язык искусства). Если
за текстом не стоит «язык», то это уже не текст, а естественно-натуральное (не
знаковое) явление, например, комплекс естественных криков и стонов, лишенных
языковой (знаковой) повторяемости. Конечно, каждый текст (и устный и письменный)
включает в себя значительное количество разнородных естественных, натуральных
моментов, лишенных всякой знаковости, которые выходят за пределы гуманитарного
исследования (лингвистического, филологического и др.), но учитываются и им (порча
рукописи, плохая дикция и т. п.). Чистых текстов нет и не может быть. В каждом
тексте, кроме того, есть ряд моментов, которые могут быть названы технически-м и
(техническая сторона графики, произношение и т. п.). Итак, за каждым текстом стоит
система языка. В тексте ей соответствует все повторенное и воспроизведенное и
повторимое и воспроизводимое, все, что может быть дано вне данного текста
(данность)17. Но одновременно каждый текст (как высказывание) является чем-то
индивидуальным, единственным и неповторимым, и в этом весь смысл его (его
замысел, ради чего он создан). Это то в нем, что имеет отношение к истине, правде,
добру, красоте, истории. По отношению к этому моменту все повторимое и
воспроизводимое оказывается материалом и средством. Это в какой-то мере выходит
за пределы лингвистики и филологии. Этот второй момент (полюс) присущ самому
тексту, но раскрывается только в ситуации и в цепи тек
Проблема текста
191
191
стов (в речевом общении данной области). Этот полюс связан не <с> элементами
(повторимыми) системы языка (знаков), но с другими текстами (неповторимыми) особыми диалогическими (и диалектическими, при отвлечении от автора) отношениями.
Этот второй полюс неразрывно связан с моментом авторства. Этот второй полюс
ничего не имеет общего с естественной и натуральной случайной единичностью; он
всецело осуществляется средствами знаковой системы языка. Он осуществляется
чистым контекстом, хотя и обрастает естественными моментами. Относительность
всех границ (например, куда отнести тембр голоса чтеца, говорящего и т. п.).
Изменение функций определяет и изменение границ. Различие между фонологией и
фонетикой18.
Проблема смыслового (диалектического) и диалогического взаимоотношения
текстов в пределах определенной сферы. Особая проблема исторического
взаимоотношения текстов19. Все это в свете второго полюса. Проблема границ
каузального объяснения. Главное — не отрываться от текста (хотя бы возможного,
воображаемого, конструированного).
Наука о духе. Дух (и свой и чужой) не может быть дан как вещь (прямой объект
естественных наук), а только в знаковом выражении, реализации в текстах и для себя
самого и для другого20. Критика самонаблюдения21. Но необходимо глубокое, богатое
и тонкое понимание текста. Теория текста.
Естественный жест в игре актера приобретает знаковое значение (как произвольный,
игровой, подчиненный замыслу роли).
Натуральная единственность (например, отпечатка пальца) и значащая (знаковая)
неповторимость текста. Возможно только механическое воспроизведение отпечатка
пальца (в любом количестве экземпляров); возможно, конечно, такое же механическое
воспроизведение текста (например, перепечатка), но воспроизведение текста субъектом (возвращение к нему, повторное чтение, новое исполнение, цитирование) есть
новое неповторимое событие в жизни текста, новое звено в исторической цепи речевого общения.
Всякая система знаков (т. е. всякий «язык»), на какой узкий коллектив ни опиралась
бы ее условность, принци
Проблема текста
192
пиально всегда может быть расшифрована, т. е. переведена22 на другие знаковые
системы (другие языки); следовательно, есть общая логика знаковых систем,
потенциальный единый язык языков (который, конечно, никогда не может стать
конкретным единичным языком, одним из языков)23. Но текст (в отличие от языка, как
системы средств) никогда не может быть переведен до конца, ибо нет потенциального
единого текста текстов24.
Событие жизни текста, т. е. его подлинная сущность, всегда разыгрывается на
рубеже двух сознаний, двух субъектов.
Стенограмма гуманитарного мышления. Это — всегда стенограмма диалога особого
вида: сложное взаимоотношение текста (предмета изучения и обдумывания) и
создаваемого
обрамляющего
контекста
(вопрошающего,
понимающего,
комментирующего, возражающего и т. п.), в котором реализуется познающая и
оценивающая мысль ученого. Это — встреча двух текстов — готового и создаваемого
реагирующего текста, следовательно, встреча двух субъектов, двух авторов.
Текст не вещь, и поэтому второе сознание, сознание воспринимающего, никак
нельзя элиминировать или нейтрализовать.
Можно идти к первому полюсу, т. е. к языку, языку автора, языку жанра,
направления, эпохи, национальному языку (лингвистика) и, наконец, к
192
потенциальному языку языков (структурализм, глоссематика). Можно двигаться ко
второму полюсу — к неповторимому событию текста. Между этими двумя полюсами
располагаются все возможные гуманитарные дисциплины, исходящие из первичной
данности текста.
Оба полюса безусловны: безусловен потенциальный язык языков и безусловен
единственный и неповторимый текст.
Всякий истинно творческий текст всегда есть в какой-то мере свободное и не
предопределенное эмпирической необходимостью откровение личности. Поэтому он (в
своем свободном ядре) не допускает ни каузального объяснения, ни научного
предвидения25. Но это, конечно, не исключает внутренней необходимости, внутренней
логики свободного ядра текста (без этого он не мог бы быть понят, признан и
действенней).
Проблема текста
193
Проблема текста в гуманитарных науках. Гуманитарные науки — науки о человеке в
его специфике, а не о безгласной вещи и естественном явлении. Человек в его
человеческой специфике всегда выражает себя (говорит), т. е. создает текст (хотя бы и
потенциальный). Там, где человек изучается вне текста и независимо от него, то это
уже не гуманитарные науки (анатомия и физиология человека и др.).
Проблема текста в текстологии. Философская сторона этой проблемы26.
Попытка изучать текст как «вербальную реакцию» (бихевиоризм)27. Кибернетика,
теория информации, статистика и проблема текста. Проблема овеществления текста.
Границы такого овеществления.
Человеческий поступок есть потенциальный текст и может быть понят (как
человеческий поступок, а не физическое действие) только в диалогическом контексте
своего времени (как реплика, как смысловая позиция, как система мотивов)*8.
«Все высокое и прекрасное» — это не фразеологическое единство в обычном
смысле, а интонационное или экспрессивное словосочетание особого рода. Это —
представитель стиля, мировоззрения, человеческого типа, оно пахнет контекстами, в
нем два голоса, два субъекта (того, кто говорил бы так всерьез, и того, кто пародирует
первого)29. В отдельности взятые (вне сочетания) слова «прекрасный» и «высокий»
лишены двуголосости; второй голос входит лишь в словосочетание, которое
становится высказыванием (т. е. получает речевого субъекта, без которого не может
быть и второго голоса). И одно слово может стать двуголосым, если оно становится
аббревиатурой высказывания (т. е. обретает автора). Фразеологическое единство
создано не первым, а вторым голосом.
Язык и речь, предложение и высказывание30. Речевой субъект (обобщенная
«натуральная» индивидуальность) и автор высказывания. Смена речевых субъектов и
смена говорящих (авторов высказывания)31. Язык и речь можно отождествлять,
поскольку в речи стерты диалогические рубежи высказываний. Но язык и речевое
общение (как диалогический обмен высказываниями) никогда нельзя отождествлять.
Возможно абсолютное тождество двух и более предложений (при накладывании друг
на друга, как
Проблема текста
193
две геометрические фигуры, они совпадут), более того, мы должны допустить, что
любое предложение, даже сложное, в неограниченном речевом потоке может
повторяться неограниченное число раз в совершенно тождественной форме, но как
высказывание (или часть высказывания) ни одно предложение, даже однословное,
никогда не может повториться: это — всегда новое высказывание (хотя бы цитата).
193
Возникает вопрос о том, может ли наука иметь дело с такими абсолютно
неповторимыми индивидуальностями, как высказывания, не выходят ли они за
границы обобщающего научного познания. Конечно, может. Во-первых, исходным
пунктом каждой науки являются неповторимые единичности и на всем своем пути
<она> остается связанной с ними. Во-вторых, наука, и прежде всего философия, может
и должна изучать специфическую форму и функцию этой индивидуальности.
Необходимость четкого осознания постоянного корректива на претензии на полную
исчерпанность абстрактным анализом (например, лингвистическим) конкретного
высказывания. Изучение видов и форм диалогических отношений между высказываниями и их типологических форм (жанров высказываний). Изучение
внелингвистических и в то же время вне смысловых (художественных, научных и т. п.)
моментов высказывания. Целая сфера между лингвистическим и чисто смысловым
анализом; эта сфера выпала для науки32.
В пределах одного и того же высказывания предложение может повториться
(повтор, самоцитата, непроизвольно), но каждый раз это новая часть высказывания,
ибо изменилось его место и его функция в целом высказывания.
Высказывание в его целом оформлено как таковое вне-лингвистическими
моментами (диалогическими), оно связано и с другими высказываниями. Эти
внелингвистические (диалогические) моменты пронизывают высказывание и изнутри.
Обобщенные выражения говорящего лица в языке (личные местоимения, личные
формы глаголов, грамматические и лексические формы выражения модальности и
выражения отношения говорящего к своей речи) и речевой субъект. Автор
высказывания.
Проблема текста
194
С точки зрения внелингвистических целей высказывания все лингвистическое —
только средство33.
Проблема автора и форм его выраженности в произведении. В какой мере можно
говорить об «образе» автора34.
Автора мы находим (воспринимаем, понимаем, ощущаем, чувствуем) во всяком
произведении искусства. Например, в живописном произведении мы всегда чувствуем
автора его (художника), но мы никогда не видим его так, как видим изображенные им
образы. Мы чувствуем его во всем как чистое изображающее начало (изображающий
субъект), а не как изображенный (видимый) образ35. И в автопортрете мы не видим,
конечно, изображающего его автора, а только изображение художника. Строго говоря,
«образ автора» — это contradictio in adjecto. Так называемый «образ автора» — это,
правда, образ особого типа, отличный от других образов произведения, но это образ, а
он имеет своего автора, создавшего его. Образ рассказчика в рассказе от «я», образ
героя автобиографических произведений (автобиографии, исповеди, дневника,
мемуаров и др.), автобиографический герой, лирический герой и т. п. Все они измеряются и определяются своим отношением к автору-человеку (как особому
предмету изображения), но все они — изображенные образы, имеющие своего автора,
носителя чисто изображающего начала. Мы можем говорить о чистом авторе в отличие
от автора частично изображенного, показанного, входящего в произведение как часть
его36.
Проблема автора самого обычного, стандартного бытового высказывания. Мы
<можем> создать образ любого говорящего, воспринять объектно любое слово, любую
речь, но этот объектный образ не входит в намерения и задания самого говорящего и
не создается им как автором своего высказывания.
194
Это не значит, что от чистого автора нет путей к автору-человеку, — они есть,
конечно, и притом в самую сердцевину, в самую глубину человека, но эта сердцевина
никогда не может стать одним из образов самого произведения. Он в нем как целом,
притом в высшей степени, но никогда не может стать его составной образной
(объектной) частью. Это не natura creata и не natura naturata et creans, но чистая natura
creans et non creata37.
Проблема текста
195
В какой мере в литературе возможны чистые безобъектные одноголосые слова?
Может ли слово, в котором автор не слышит чужого голоса, в котором только он и он
весь, стать строительным материалом литературного произведения? Не является ли
какая-то степень объект-ности необходимым условием всякого стиля? Не стоит ли
автор всегда вне языка как материала для художественного произведения? Не является
ли всякий писатель (даже чистый лирик) всегда «драматургом» в том смысле, что все
слова он раздает чужим голосам, в том числе и «образу автора» (и другим авторским
маскам)? Может быть, всякое безобъектное, одноголосое слово является наивным и
негодным для подлинного творчества. Всякий подлинно творческий голос всегда
может быть только вторым голосом в слове. Только второй голос — чистое
отношение38 — может быть до конца безобъектным, не бросать образной,
субстанциональной тени. Писатель — это тот, кто умеет работать на языке, находясь
вне языка, кто обладает даром непрямого говорения39.
Выразить самого себя — это значит сделать себя объектом для другого и для себя
самого («действительность сознания»). Это — первая ступень объективации. Но можно
выразить и свое отношение к себе как объекту (вторая стадия объективации). При этом
собственное слово становится объектным и получает второй — собственный же —
голос. Но этот второй голос уже не бросает (от себя) тени, ибо он выражает чистое
отношение, а вся объективирующая, материализующая плоть слова отдана первому
голосу4".
Мы выражаем свое отношение к тому, кто бы так говорил. В бытовой речи это
находит свое выражение в легкой насмешливой или иронической интонации (Каренин
у Л.Толстого)41, интонации
удивленной, непонимающей, вопрошающей,
сомневающейся, подтверждающей, отвергающей, негодующей, восхищенной и т. п.42
Это — довольно примитивное и очень обычное явление двуголосости в разговорнобытовом речевом общении, в диалогах и спорах на научные и другие идеологические
темы. Это — довольно грубая и мало обобщающая двуголосость, часто прямо
персональная: воспроизводятся с переакцентуацией слова одного из присутствующих
собеседников. Такой же
Проблема текста
195
грубой и мало обобщающей формой являются различные разновидности пародийной
стилизации. Чужой голос ограничен, пассивен, и нет глубины и продуктивности (творческой, обогащающей) во взаимоотношении голосов. В литературе — положительные
и отрицательные персонажи.
Во всех этих формах проявляется буквальная и, можно сказать, физическая
двуголосость.
Сложнее обстоит дело с авторским голосом в драме, где он, по-видимому, не
реализуется в слове.
(Carl Friedrich von Weizsächer, «Zum Weitbild der Physik». 7. erweiterti<?> Auflage.
S. Hirzel Verlag, Stuttgart, 1958)43.
195
«Den Vorwurf der Geisteswissenschaft gegen die naturwissenschaftlichen Methoden
möchte ich auf die Formel bringen, daß die Naturwissenschaft das Du nicht kennt. Das ist mit
der Forderung gemeint, man solle geistige Phänomene nicht kausal erklären, sondern
verstehen. Wenn ich als Philologe den vom Verfasser gemeinten Sinn eines Textes, als Historiker die Absicht eines handelnden Menschen aufzufassen suche, so trete ich als Ich mit
einem Du in ein Gespräch ein. Diese Art der Begegnung mit ihrem Gegenstand kennt die
Physik nicht, weil ihr Gegenstand ihr nicht als ein Subjekt gegeben ist. Dieses personale
Verstehen ist eine Weise der Erfahrung, die uns dem Mitmenschen gegenüber offensteht;
dem Stein, Stern und Atom gegenüber nicht» (S. 177-178).
Человек — существо историческое, и большая часть гуманитарных наук —
исторические науки. «Под историчностью мы прежде всего понимаем необратимость хода времени, однократность судьбы, неповторимость всякой ситуации.
Во-вторых, мы понимаем под историчностью знание о том, что дело обстоит именно
так, т. е. осознанную
жизнь в однократности собственной судьбы» (178). В
этом втором смысле природа не является осознанно историчной. Но в первом
смысле она так же фактически исторична, как и человек. Историчность, например,
второго закона термодинамики. Временная протяженность физических, природных
«судеб», правда, гораздо длительнее, области же, где можно найти с известной
приближенностью повторимые события и
Проблема текста
196
свершения (процессы), значительно больше. Но это различие количественное.
Эксперимент связан с верой в законы (закономерность). Мы экспериментируем не
ради единичного случая, а ради типического события, мы экспериментируем, чтобы
предсказывать. Поэтому фактическая историчность ограничивает применение
экспериментального метода. В прошлом ничего нельзя изменить. Но и в науках о
природе каждый закон имеет определенную ограниченную область применения.
Ограниченный эксперимент возможен и в некоторых гуманитарных дисциплинах
(экономика, психология).
Проблема объектности и субъектности личности. Границы объектного изучения
личности.
«Die Tatsache aber, daß die Naturwissenschaft das Du nicht kennt, führt uns zu einer ganz
anderen Frage: nicht, ob man am Menschen experimentieren kann, sondern ob man in ihm
experimentieren will und darf? Was tue ich dem Mitmenschen an, indem ich ihn in Gedanken
oder in der Tat als bloßes Objekt behandle? Auf diese Frage seheint sich mir alles
zusammenzuziehen, was der Naturwissenschaft an den Menschen vorgebracht worden ist.
Denn so viel ich sehe, setzt die Personalität meines Mitmenschen rein theoretisch der
Anwendung des Kausalprinzips auf ihn, der Durchführung, von Experimenten an ihm keine
Schranken. Wer darauf verzichtet, den Mitmenschen als Du anzusprechen, beraubt sich selbst
zwar der entscheidenden Erfahrung über ihn. Aber keine Unmöglichkeit hindert mich, diese
Erfahrung zu gewinnen und sie dann doch ebenso wie die rein deskriptiv erwer-bene in ein
Schema kausaler Abläufe einzuordnen, ja in ihrem Feld wie in jedem anderen zu
experimentieren. Wir alle kennen die Augenblicke der Selbsterkenntnis, in denen wir einsehen, daß wir, wo wir frei zu handeln wähnten, einer sozialen Konvention, eines
ökonomischen Zweckmäßigkeit, einem unbewußten Trieb, einer Verblendung gefolgt sind;
Augenblicke, in denen wir uns selbst zum Objekt kausaler Erkenntnis werden. Und wir alle
kennen die Versuchung, in dem Zwischengelände zwischen Haß, Liebe und Gleichgültigkeit,
in dem sich der heutige Mensch bewegt, in zynischer Weise mit den menschlichen
Erfahrungen zu experimentieren. Wer von uns wäre ihr nie erlegen? Eben dies ist die
Erfahrung
196
_Проблема текст а
197
unserer Zeit, daß das Du ein Wert, aber ein fast schutzloser Wert ist» (S. 178-179).
Различия между пониманием и объяснением и проблема их взаимных границ.
«Auch in der Biologie hat diese Denkweise immer wieder Widerspruch wachgerufen. Das
Berechtigte des Widerspruches scheint sich mir wiederum in dem Satz zuzammenzu-fasse,
daß das Du vergessen wurde. Theoretisch heißt das, daß der Erfahrungsbereich des
Verstehens nicht ausgenützt wird. Ihr ohne Antropomorphismus zu verwerten, etwa in der
Tierpsychologie, ver bangt freilich eine sehr hohe methodische Zucnt. Die ungelöste
prinzipielle Frage, die hier entsteht, betrifft den Zusammenhang der «verständlichen» und der
«erklärbaren» Lebensäußerungen — den Zusammenhang, vermittels dessen der Körper die
Seele beheimatet oder ist, die Seele sich im Körper oder als Körper darstellt. Ein Irrweg
scheint mir aber der im engeren oder weiteren Sinne vitalistische Versuch zu sein,
physikalischen feststellbare Phänomene zu finden, die grundsätzlich physikalisch nicht
sollten erklärt werden können. Der Organismus ist theoretisch so wenig wie praktisch gegen
das Experiment geschützt; er muß es erleiden. Was der Physiker beobachten kann, wird er
wohl schließlich auch mit seinen Begriffen denken können» (S. 180).
«Aber er kann uns andererseits auch daran erinnern, daß das Leben zugleich Subjekt ist,
Subjekt wie ich Selber, der ich Teil des Lebens bin. «Um das Leben zu erforschen, muß man
sich am Leben beteiligen» (Viktor v. Weizsäcker). Wenn ich erkenne um den Preis des
Tötens, wenn die Weise meiner Beteiligung am Leben der Mord ist, so mag du gewonnene
Erkenntnis zutreffend sein, aber ist sie segensreich?» (S. 181).
Viktor v. Weizsäcker, Anonima. Bern 1946 и Der Begriff sittlicher Wissenschaft,
Frankfurt 194844.
Внешнее влияние или истинная конвергенция (когда два направления мысли
коснулись какой-нибудь стороны одной и той же правды).
Res cogitans и res extensa45 Декарта. Преодоление абсолютного разрыва между ними
в современной физике. Проблематика «наблюдателя» в атомной физике. Слияние
объекта и субъекта в квантовой механике. «Высказывание» в квантовой механике.
Взаимодействие
Проблема текста
197
между атомом и человеком. Объективно-субъективное понятие «состояния».
Увидеть и понять автора произведения — значит увидеть и понять другое, чужое
сознание и его мир, т. е. другой субъект («Du»). При объяснении — только одно
сознание, один субъект; при понимании — два сознания, два субъекта. К объекту не
может быть диалогического отношения, поэтому объяснение лишено диалогических
моментов (кроме формально-риторического). Понимание всегда в какой-то мере
диалогично46.
Различные виды и формы понимания47. Понимание языка знаков, т. е. понимание
(овладение) определенной знаковой системы (например, определенного языка).
Понимание произведения на уже известном, т. е. уже понятом языке. Отсутствие на
практике резких границ и переходы от одного вида понимания к другому.
Можно ли говорить, что понимание языка как системы бессубъектно и вовсе лишено
диалогических моментов? В какой мере можно говорить о субъекте языка как системы?48 Расшифровка неизвестного языка: подстановка возможных неопределенных
«говорящих», конструирование возможных высказываний на данном языке.
Понимание любого произведения на хорошо знакомом языке (хотя бы — родном)
всегда обогащает и наше понимание данного языка как системы.
197
От субъекта языка к субъектам произведений. Различные переходные ступени.
Субъекты языковых стилей (чиновник, купец, ученый и т. п.). Маски автора (образы
автора) и сам автор.
Социально-стилистический образ бедного чиновника, титулярного советника
(Девушкин, например). Такой образ, хотя он и дан способом самораскрытия, дан как
«он» (третье лицо), а не как «ты». Он объектен и экземплярен. К нему еще нет
подлинно диалогического отношения49.
Приближение средств изображения к предмету изображения как признак реализма
(самохарактеристики, голоса, социальные стили, не изображение, а цитирование героев
как говорящих людей).
Объектные и чисто функциональные элементы всякого стиля.
Проблема текста
198
Проблема понимания высказывания. Для понимания и необходимо прежде всего
установление принципиальных и четких границ высказывания. Смена речевых
субъектов50. Способность определять ответ Принципиальная ответность всякого
понимани я . « Канитферстанд» 52.
При нарочитой (сознательной) многостильности между стилями всегда существуют
диалогические отношения. Нельзя понимать эти взаимоотношения чисто лингвистически (или даже механически).
Чисто лингвистическое (притом чисто дескриптивное) описание и определение
разных стилей в пределах одного произведения не может раскрыть их смысловых (в
том числе и художественных) взаимоотношений. Важно понять тотальный смысл этого
диалога стилей с точки зрения автора (не как образа, а как ф у н к ц и и)53. Когда же
говорят о приближении средств изображения к изображаемому, то под изображаемым
понимают объект, а не другой субъект («ты»).
Изображение вещи и изображение человека (говорящего по своей сущности).
Реализм часто овеществля-е т человека, но это не есть приближение к нему. Натурализм с его тенденцией к каузальному объяснению поступков и мыслей человека (его
смысловой позиции в мире) еще более овеществляет человека. «Индуктивный» подход,
якобы свойственный реализму54, есть, в сущности, овеществляющее каузальное
объяснение человека. Голоса (в смысле овеществленных социальных стилей) при этом
превращаются просто в признаки вещей (или симптомы процессов), им уже нельзя
отвечать, с ними уже нельзя спорить, диалогические отношения к таким голосам
погасают.
Степени объектности и субъектности изображенных людей (resp. диалогичности
отношения к ним автора) в литературе резко различны. Образ Девушкина в этом отношении принципиально отличен от объектных образов бедных чиновников у других
писателей. И он полемически заострен против этих образов, в которых нет подлинно
диалогического «ты». В романах обычно даются вполне конченные и подытоженные с
точки зрения автора споры (если, конечно, вообще даются споры). У Достоевского —
стенограммы55 незавершенного и незавершимого спора.
Проблема текста
198
Но и всякий вообще роман полон диалогических обертонов (конечно, не всегда с его
героями). После Достоевского полифония властно врывается во всю мировую литературу.
В отношении к человеку любовь, ненависть, жалость, умиление и вообще всякая
эмоция всегда в той или иной степени диалогичны.
198
В диалогичности (resp. субъектности своих героев) Достоевский переходит какую-то
грань, и его диалогичность приобретает новое (высшее) качество.
Объектность образа человека не является чистой вещностью. Его можно любить,
жалеть и т. п., но главное — его можно (и нужно) понимать. В художественной
литературе (как и вообще в искусстве) даже на мертвых вещах (соотнесенных с
человеком) лежит отблеск субъектности.
Объектно понятая речь (и объектная речь обязательно требует понимания — в
противном случае она не была бы речью, — но в этом понимании диалогический
момент ослаблен) может быть включена в каузальную цепь объяснения. Безобъектная
речь (чисто смысловая, функциональная) остается в незавершенном предметном
диалоге (например, научное исследование)36.
Сопоставление высказываний-показаний в физике.
Текст57 как субъективное отражение объективного миКа, текст — выражение сознания, что-то отражающего, согда текст становится
объектом нашего познания, мы можем говорить об отражении отражения. Понимание
текста и есть правильное отражение
отражения.
Через чужое отражение к
отраженному объекту.
Ни одно явление природы не имеет «значения», только знаки (в том числе слова)
имеют значения. Поэтому всякое изучение знаков, по какому бы направлению оно
дальше ни пошло, обязательно начинается с понимания.
Текст — первичная данность (реальность) и исходная точка всякой гуманитарной
дисциплины. Конгломерат разнородных знаний и методоь, называемый «филологией»,
«лингвистикой», «литературоведением», «науковедением» и т. п. Исходя из текста, они
бредут по разным направлениям, выхватывают разнородные куски природы,
обществен
Проблема текста
199
ной жизни, психики, истории, объединяют их то каузальными, то смысловыми
связями, перемешивают констатации с оценками. От указания на реальный объект
необходимо перейти к четкому разграничению предметов научного исследования.
Реальный объект — социальный (общественный) человек, говорящий и выражающий
себя другими средствами. Можно ли найти к нему и к его жизни (труду, борьбе ит. п.)
какой-либо иной подход, кроме как через созданные или создаваемые им знаковые
тексты. Можно ли его наблюдать и изучать как явление природы, как вещь.
Физическое действие человека должно быть понято как поступок, но нельзя понять
поступка вне его возможного (воссоздаваемого нами) знакового выражения (мотивы,
цели, стимулы, степени осознанности и т. п.). Мы как бы заставляем человека говорить
(конструируем его <возможные> показания, объяснения, исповедь, признания,
доразвиваем возможную или действительную внутреннюю речь и т. п.). Повсюду
действительный или возможный текст и его понимание. Исследование становится
спрашиванием и беседой, т. е. диалогом. Природу мы не спрашиваем, и она нам не
отвечает58. Мы ставим вопросы себе и определенным образом организуем наблюдение
или эксперимент, чтобы получить ответ. Изучая человека, мы повсюду ищем и
находим знаки и стараемся понять их значение.
Нас интересуют прежде всего конкретные формы текстов и конкретные условия
жизни текстов, их взаимоотношения и взаимодействия.
Диалогические отношения между высказываниями, пронизывающие также изнутри
и отдельные высказывания, относятся к металингвистике59. Они в корне отличны от
всех возможных лингвистических отношений элементов как в системе языка, так и в
отдельном высказывании.
199
Металингвистический характер высказывания (речевого произведения).
Смысловые связи внутри одного высказывания (хотя бы потенциально
бесконечного, например, в системе науки) носят предметно-логический характер (в
широком смысле этого слова), но смысловые связи между разными высказываниями
приобретают диалогический характер (или во всяком случае диалогический оттенок).
Смыслы разделены между разными голосами. Исключительная важность голоса,
личности60.
Проблема текста
200
Лингвистические элементы нейтральны к разделению на высказывания, свободно
движутся, не признавая рубежей высказывания, не признавая (не уважая) суверенитета
голосов.
Чем же определяются незыблемые рубежи высказывания? Металингвистическими
силами.
Внелитературные высказывания и их рубежи (реплики, письма, дневники,
внутренняя речь и т. п.), перенесенные в литературное произведение (например, в
роман). Здесь изменяется их тотальный смысл. На них падают рефлексы других
голосов, ив них входит голос самого автора61.
Два сопоставленных чужих высказывания, не знающих ничего друг о друге, если
только они хоть краешком касаются одной и той же темы (мысли), неизбежно вступают друг с другом в диалогические отношения. Они соприкасаются друг с другом на
территории общей темы, общей мысли.
Эпиграфика. Проблема жанров древнейших надписей. Автор и адресат надписей.
Обязательные шаблоны. Могильные надписи («Радуйся»). Обязательные шаблонизированные формы именных призывов, заклинаний, молитв и т. п. Формы восхвалений и
возвеличиваний. Формы хулы и брани (ритуальной). Проблема отношения слова к
мысли и слова к желанию, воле, требованию. Магические представления о слове.
Слово как деяние62. Целый переворот в истории слова, когда оно стало выражением и
чистым (бездейственным) осведомлением (коммуникацией)^3. Ощущение своего и
чужого в слове. Позднее рождение авторского сознания64.
Автор литературного произведения (романа) создает единое и целое речевое
произведение (высказывание). Но он создает его из разнородных, как бы чужих
высказываний. И даже прямая авторская речь полна осознанных чужих слов. Непрямое
говорение, отношение к своему языку как к одному из возможных языков (а не как к
единственно возможному и безусловному языку).
Завершенные, или «закрытые», лица в живописи (в том числе и портретной). Они
дают исчерпанного человека, который весь уже есть и не может стать другим Лица
людей, которые уже всё сказали, которые уже умерли или как бы умерли. Художник
сосредото
Проблема текста
чивает внимание на завершающих, определяющих, закрывающих чертах. Мы видим
его всего и уже ничего большего (и иного) не ждем. Он не может переродиться,
обновиться, пережить метаморфозу, — это его завершающая65 (последняя и
окончательная) стадия.
Отношение автора к изображенному всегда входит в состав образа. Авторское
отношение — конститутивный момент образа. Это отношение чрезвычайно сложно.
Его недопустимо сводить к прямолинейной оцен-к е. Такие прямолинейные оценки
разрушают художественный образ. Их нет даже в хорошей сатире (у Гоголя, у
Щедрина). Впервые увидеть, впервые осознать нечто уже значит вступить к нему в
отношение: оно существует уже не в себе и для себя, но для другого (уже два
200
соотнесенных сознания). Понимание есть уже очень важное отношение (понимание
никогда не бывает тавтологией или дублированием66, ибо здесь всегда двое и потенциальный третий67). Состояние неуслышанности и непонятое™ (см. Т. Манн68). «Не
знаю», «так было, а впрочем, мне какое дело» — важные отношения. Разрушение сросшихся с предметом прямолинейных оценок и вообще отношений создает новое
отношение. Особый вид эмоционально-оценочных отношений. Их многообразие и
сложность69.
Автора нельзя отделять от образов персонажей, так как он входит в состав этих
образов как их неотъемлемая часть (образы двуедины и иногда двуголосы). Но образ
автора можно отделить от образов персонажей; но этот образ сам создан автором и
потому также двуедин. Часто вместо образов персонажей <имеют> в виду как бы
живых людей.
Разные смысловые плоскости, в которых лежат речи персонажей и авторская речь.
Персонажи говорят как участники изображенной жизни, говорят, так сказать, с
частных позиций, их точки зрения так или иначе ограничены {они знают меньше
автора). Автор вне изображенного (и в известном смысле созданного им) мира. Он
осмысливает весь этот мир с более высоких и качественно иных позиций. ТЧаконец,
все персонажи и их речи являются объектами авторского отношения (и авторской
речи). Но плоскости речей персонажей и авторской речи могут пересекаться, т. е.
между ними возможны диалогические отношения. У Достоевско
201
Проблема текста
201
го, где персонажи — идеологи, автор и такие герои (мыслители-идеологи)
оказываются в одной плоскости. Существенно различны диалогические контексты и
ситуации речей персонажей и авторской речи. Речи персонажей участвуют в
изображенных диалогах внутри произведения и непосредственно не входят в реальный
идеологический диалог современности, т. е. в реальное речевое общение, в котором
участвует и в котором осмысливается произведение в его целом (они участвуют в нем
лишь как элементы этого целого). Между тем автор занимает позицию именно в этом
реальном диалоге и определяется реальной ситуацией современности. В отличие от
реального автора созданный им «образ автора» лишен непосредственного участия в
реальном диалоге (он участвует в нем лишь через целое произведение), зато он может
участвовать в сюжете произведения и вступать в изображенные диалоги с
персонажами (беседа «автора» с Онегиным). Речь изображающего (реального) автора,
если она есть, — речь принципиально особого типа, не могущая лежать в одной
плоскости с речью персонажей70. Именно она определяет последнее единство
произведения и его последнюю смысловую инстанцию, его, так сказать, последнее
слово.
Образы автора и образы персонажей определяются, по концепции В. В.
Виноградова, языками-стилями; их различия сводятся к различиям языков и стилей, т.
е. к чисто лингвистическим71. Внелингвистические взаимоотношения между ними
Виноградовым не раскрываются. Но ведь эти образы (языки-стили) в произведении не
лежат рядом друг с другом как лингвистические данности, они здесь вступают в
сложные динамические смысловые отношения особого типа. Этот тип отношений
можно определить как диалогические отношения. Диалогические отношения носят
специфический характер: они не могут быть сведены ни к чисто логическим (хотя бы и
диалектическим), ни к чисто лингвистическим (композиционно-синтаксическим). Они
возможны только между целыми высказываниями разных речевых субъектов (диалог с
201
самим собой носит вторичный и в большинстве случаев разыгранный характер72). Мы
не касаемся здесь вопроса о происхождении термина «диалог» (см. у Гирцеля73).
Проблема текста
202
Там, где нет слова, нет языка, не может быть диалогических отношений, их не может
быть между предметами или логическими величинами (понятиями, суждениями и др.).
Диалогические отношения предполагают язык, но в системе языка их нет74. Между
элементами языка они невозможны. Специфика диалогических отношений нуждается в
особом изучении.
Узкое понимание диалога как одной из композиционных форм речи (диалогическая
и монологическая речь75). Можно сказать, что каждая реплика сама по себе монологична (предельно маленький монолог), а каждый монолог является репликой большого
диалога (речевого общения определенной сферы). Монолог как речь, никому не адресованная и не предполагающая ответа. Возможны разные степени монологичности.
Диалогические отношения — это (смысловые) отношения между всякими
высказываниями в речевом общении. Любые два высказывания, если мы сопоставим
их в смысловой плоскости (не как вещи и не как лингвистические примеры), окажутся
в диалогическом отношении. Но это — особая форма ненамеренной диалогичности
(например, подборка разных высказываний разных ученых или мудрецов разных эпох
по одному вопросу).
«Голод, холод!» — одно высказывание одного речевого субъекта. «Голод!» —
«Холод!» — два диалогически соотнесенных высказывания двух разных субъектов;
здесь появляются диалогические отношения, каких не было в первом случае. То же с
двумя развернутыми предложениями (придумать убедительный пример'6).
Когда высказывание берется для целей лингвистического анализа, его диалогическая
природа отмысливается, оно берется в системе языка (как ее реализация), а не <в>
большом диалоге речевого общения.
Огромное и до сих пор еще не изученное многообразие речевых жанров: от
непубликуемых сфер внутренней речи до художественных произведений и научных
трактатов77. Многообразие площадных жанров (см. Рабле78), интимных жанров и др.
В разные эпохи в разных жанрах происходит становление языка.
Язык, слово — это почти все в человеческой жизни. Но не нужно думать, что эта
всеобъемлющая и много-граннейшая реальность может быть предметом только од
Проблема текста
202
ной науки — лингвистики и может быть понята только лингвистическими методами.
Предметом лингвистики является только материал, только средства79 речевого
общения, а не самое речевое общение, не высказывания по существу и не отношения
между ними (диалогические), не формы речевого общения и не речевые жанры.
Лингвистика изучает только отношения между элементами внутри системы языка,
но не отношения между высказываниями и не отношения высказываний к действительности и к говорящему лицу (автору)80.
По отношению к реальным высказываниям и к реальным говорящим система языка
носит чисто потенциальный характер81. И значение слова, поскольку оно изучается
лингвистически (лингвистическая семасиология), определяется только с помощью
других слов того же языка (или другого языка) и в своих отношениях к ним;
отношение к понятию или художественному образу или к реальной действительности
оно получает только в высказывании и через высказывание. Таково слово как предмет
лингвистики (а не реальное слово как конкретное высказывание или часть его, часть, а
не средство).
202
Указатель содержания, вложенный в тетрадь № 1
<УКАЗАТЕЛЬ СОДЕРЖАНИЯ, ВЛОЖЕННЫЙ В ТЕТРАДЬ № 1>
№1
1. Проблема образа автора. Стр. 21-2382
2. Возможно ли чистое одноголосое (безобъектное) слово в литературе? Творящий
автор всегда вне языка как материала, это всегда второй голос в слове — чистое
отношение 23-25
3. Характер двуголосости в бытовой речи. 25-27
4. Изложение Weizsäcker'а; невозможность диалогического подхода (беседы,
обращения <ты>) в отношении явлении природы, проблема понимания; понимание и
каузальное объяснение. 27-34
5. Проблематика «наблюдателя> в атомной физике; слияние объекта и субъекта в
квантовой механике; объективно-субъективное понятие «состояния)». 35
6. При объяснении только одно сознание (объясняющее), при понимании — два;
объяснение лишено диалогических моментов (кроме риторических или обращенных к
слушателю). 35-36
7. Образ бедного чиновника дан объектно, как «он>, к нему возможен
сентиментальный подход, но не диалогическое отношение. 37
8. Объектные и функциональные элементы стиля; в авторском стиле преобладают
функциональные элементы, в стиле героев и рассказчика — объектные; при наличии
существенных функциональных элементов стили вступают в диалогические отношения. 38
9. Овеществление человека; превращение голосов в признаки вещей или симптомы
процессов. 39-40
10. Разные степени объектности (resp. диалогичности); образ Де-вушкина по
сравнению с образами бедных чиновников. 40
11. Обычно в романах (монологических) даются уже подытоженные с точки зрения
автора споры; у Достоевского стенограммы незавершнмого спора; диалогические
обертоны; после Достоевского полифония властно врывается в мировую литературу.
40-41
12. Объектность и понимание. 41-42
13. Предметно-смысловые связи и диалогические связи голосов; лингвистические
элементы не знают рубежей высказывании, суверенитета голосов; рефлексы других
голосов. 46-4883
14. Понимание есть уже очень важное диалогическое отношение, услышанность. 5052
203
Указатель содержания, вложенный в тетрадь 1
15. Разная данность автора н героев, их речи лежат в разных плоскостях; диалог
внутри произведения (героев) и реальный идеологический диалог современности, в
котором участвует автор; в какой мере и когда пересекаются (диалогически) плоскости
авторской речи и речей героев; созданные образы (маски) автора, входящие в
плоскость героев. 52-54
16. Определение специфики диалогических отношений; узкое понимание диалога и
монолога как композиционно - стилистических форм.
54-58
17. Слово как всеобъемлющая реальность и язык как предмет лингвистики. 58-60.
203
1961 год. Заметки
1961 ГОД. ЗАМЕТКИ
203
Начать с проблемы речевого произведения1 как первичной реальности речевой
жизни. От бытовой реплики до многотомного романа или научного трактата.
Взаимодействие речевых произведений в разных сферах речевого процесса.
«Литературный процесс», борьба мнений в науке, идеологическая борьба и т. п. Два
речевых произведения, высказывания, сопоставленные друг с другом, вступают в
особого рода смысловые отношения, которые мы называем диалогическими. Их особая
природа. Элементы языка внутри языковой системы или внутри «текста» (в строго
лингвистическом смысле) не могут вступать в диалогические отношения2. Могут ли
вступать в такие отношения, т. е. говорить друг с другом, языки, диалекты
(территориальные, социальные, жаргоны), языковые (функциональные) стили (скажем,
(фамильярно -бытовая речь и научный язык и т. п.) и др.? Только при условии
нелингвистического подхода к ним, т. е. при условии трансформации их в «мировоззрения» (или некие языковые или речевые мироощущения), в «точки зрения», в
«социальные голоса» и т. п. Такую трансформацию производит художник, создавая
типические или характерные высказывания типических персонажей (хотя бы и не до
конца воплощенных и неназванных); такую трансформацию (в несколько ином плане)
производит эстетическая лингвистика (школа Фос-слера , особенно, по-видимому,
последняя работа LH пит -цера4). При подобных трансформациях язык получает
своеобразного «автора», речевого субъекта5, коллективного носителя (народ, нация,
профессия, социальная группа и т. п.). Такая трансформация всегда знаменует выход за
пределы лингвистики (в строгом и точном ее понимании). Правомерны ли подобные
трансформации? Да, правомерны, но лишь при строго определенных условиях
(например, в литературе, где мы часто, особенно в романе, находим диалоги «языков»
и языковых стилей) и при строгом и ясном методологическом осозна
204
1961 год. Заметки
204
нии. Недопустимы такие трансформации тогда, когда, с одной стороны,
декларируется внеидеологичность языка, как лингвистической системы (его
внеличностность), а с другой — контрабандой вводится социально-идеологичее -кая
характеристика языков и стилей (отчасти у В. В. Виноградова6). Вопрос этот очень
сложный и интересный (например, в какой мере можно говорить о субъекте языка или
речевом субъекте языкового стиля, или об «образе» ученого, стоящего за научным
языком, или образе делового человека, стоящего за деловым языком, образе бюрократа
за канцелярским языком и т. п.).
Своеобразная природа диалогических отношений. Проблема внутреннего
диалогизма. Рубцы межей высказываний. Проблема двуголосого слова. Понимание как
диалог. Мы подходим здесь к переднему краю философии языка и вообще
гуманитарного мышления, к целине. Новая постановка проблемы авторства (творящей
личности)7.
Данное и созданное8 в речевом высказывании. Высказывание никогда не является
только отражением или выражением чего-то вне его уже существующего, данного и
готового. Оно всегда создает нечто до него никогда не бывшее, абсолютно новое и
неповторимое, притом всегда имеющее отношение к ценности (к истине, к добру,
красоте и т. п.)9. Но нечто созданное всегда создается из чего-то данного (язык,
наблюденное явление действительности, пережитое чувство, сам говорящий субъект,
готовое в его мировоззрении и т. п.). Все данное преображается в созданном. Анализ
простейшего бытового диалога («Который час?» — «Семь часов»). Более или менее
сложная ситуация вопроса. Необходимо посмотреть на часы. Ответ может быть верен
204
или неверен, может иметь значение и т. п. По какому времени, тот же вопрос, заданный
в космическом пространстве, и т. п.
Слова и формы как аббревиатуры или представители высказывания, мировоззрения,
точки зрения и т. п., действительных или возможных. Возможности и перспективы,
заложенные в слове; они, в сущности, бесконечны.
Диалогические рубежи пересекают все поле живого человеческого мышления.
Монологизм гуманитарного мышления10. Лингвист привык воспринимать все в
едином замкнутом контексте (в системе языка или в лингвистиче
1961 год. Заметки
ски понятом тексте, не соотнесенном диалогически с другим, ответным текстом), и
как лингвист он, конечно, прав. Диалогизм нашего мышления о произведениях,
теориях, высказываниях, вообще нашего мышления о людях.
Почему принята несобственно прямая речь, но не принято ее понимание как
двуголосого слова11.
Изучать в созданном данное (например, язык, готовые и общие элементы
мировоззрения, отраженные явления действительности и т. п.) гораздо легче, чем само
созданное. Часто весь научный анализ сводится к раскрытию всего данного, уже
наличного и готового до произведения (то, что художником преднайдено, а не создано). Все данное как бы создается заново в созданном, преображается в нем. Сведение
к тому, что заранее дано и готово. Готов предмет, готовы языковые средства для его
изображения, готов сам художник, готово его мировоззрение. И вот с помощью
готовых средств, в свете готового мировоззрения готовый поэт отражает готовый
предмет. На самом же деле и предмет создается в процессе творчества, создается и сам
поэт, и его мировоззрение, и средства выражения12.
Слово, употребленное в кавычках, т. е. ощущаемое и употребляемое как чужое, и то
же слово (или какое-нибудь другое слово) без кавычек. Бесконечные градации в
степени чужести (или освоенности) между словами, их разные отстояния от
говорящего. Слова размещаются в разных плоскостях на разных отдалениях от
плоскости авторского слова.
Не только несобственная прямая речь, но разные формы скрытой, полускрытой,
рассеянной чужой речи и т. п. Все это осталось неиспользованным13.
Когда в языках, жаргонах и стилях начинают слышаться голоса Они перестают быть
потенциальным средством выражения и становятся актуальным, реализованным
выражением; в них вошел и ими овладел голос. Они призваны сыграть свою
единственную и неповторимую роль в речевом (творческом) общении.
Взаимоосвещение языков и стилей. Отношение к вещи и отношение к смыслу,
воплощенному в слове или в каком-нибудь другом знаковом материале. Отношение к
вещи (в ее чистой вещности) не может быть диалогическим (т. е. не может быть
беседой, спором, согласием
205
1961 год. Заметки
205
и т. п.). Отношение к смыслу всегда диалогично14. Само понимание уже
диалогично.
Ов еществление смысла, чтобы включить его в каузальный ряд.
Узкое понимание диалогизма как спора, полемики, па-родии. Это —г- внешне
наиболее очевидные, но грубые формы диалогизма. Доверие к чужому слову,
благоговейное приятие (авторитетное слово), ученичество, поиски и вынуждение
глубинного смысла, согласие, его бесконечные градации и оттенки (но не логические
ограничения и не чисто предметные оговорки), наслаивания смысла на смысл, голоса
205
на голос, усиления путем слияния (но не отождествления), сочетание многих голосов
(коридор голосов), дополняющее понимание, выход за пределы понимаемого и т. п.
Эти особые отношения нельзя свести ни к чисто логическим, ни к чисто предметным.
Здесь встречаются целостные позиции, целостные личности (личность не требует
экстенсивного раскрытия — она может сказаться в едином звуке, раскрыться в едином
слове), именно голоса.
Слово (вообще всякий знак) межиндивидуально. Все сказанное, выраженное
находится вне «души» говорящего, не принадлежит только ему. Слово нельзя отдать
одному говорящему. У автора (говорящего) свои неотъемлемые права на слово, но
свои права есть и у слушателя, свои права у тех, чьи голоса звучат в преднайденном
автором слове (ведь ничьих слов нет)15. Слово — это драма, в которой участвуют три
персонажа (это не дуэт, а трио)16. Она разыгрывается вне автора, и ее недопустимо
интроицировать (интроэкция) внутрь автора.
Если мы ничего не ждем от слова, если мы заранее знаем все, что оно может сказать,
оно выходит из диалога и овеществляется.
Самообъективация (в лирике, в исповеди и т. п.) как самоотчуждение и — в какой-то
мере — преодоление. Объективируя себя (т. е. вынося себя вовне), я получаю
возможность подлинно диалогического отношения к себе самому.
Только высказывание имеет непосредственное отношение к действительности и
к живому говорящему человеку (субъекту). В языке только потенциальные
возможности (схемы) этих отношений (местоименные,
1961 год. Заметки
временные и модальные формы17, лексические средства и т. п.). Но высказывание
определяется не только своим отношением к предмету и к говорящему субъекту
(автору) и своим отношением к языку как системе потенциальных возможностей,
данности, но, что для нас важнее всего, к другим высказываниям непосредственно в
пределах данной сферы общения. Вне этого отношения оно реально не существует
(только как текст). Только высказывание может быть верным (или неверным),
истинным, правдивым (ложным), прекрасным, справедливым и т. п.
Понимание языка и понимание высказывания (включающее ответность и,
следовательно, оценку).
Нас интересует не психологическая сторона отношения к чужим высказываниям (и
понимания), но отражение ее в структуре самого высказывания.
В какой мере лингвистические (чистые) определения языка и его элементов могут
быть использованы для художественно-стилистического анализа. Они могут служить
лишь исходными терминами для описания. Но самое главное ими не описывается, в
них не укладывается. Ведь здесь это не элементы (единицы) системы языка, ставшие
элементами текста, а моменты высказывания.
Высказывание как смысловое целое.
Отношение к чужим высказываниям нельзя оторвать от отношения к предмету (ведь
о нем спорят, о нем соглашаются, в нем соприкасаются) и от отношения к самому
говорящему. Это — живое триединство. Но третий момент до сих пор обычно не
учитывался. Но и там, где он учитывался (при анализе литературного процесса, публицистики, полемики, борьбы научных мнений), особая природа отношений к другим
высказываниям, т. е. смысловым целым, оставалась не раскрытой и не изученной (их
понимали абстрактно, предметно-логически, или психологически, или даже
механически-каузально). Не понята особая, диалогическая природа взаимоотношения
смысловых целых, смысловых позиций, т. е. высказываний.
Экспериментатор составляет часть экспериментальной системы (в микрофизике).
Можно сказать, что и понимающий составляет часть понимаемого высказывания,
206
текста (точнее, высказываний, их диалога, входит в него как новый участник).
Диалогическая встреча двух сознаний в гуманитарных науках. Обрамление чужого
высказы
207
1961 год. Заметки
207
вания диалогизующим контекстом. Ведь даже и тогда, когда мы даем каузальное
объяснение чужого высказывания, мы тем самым его опровергаем. Овеществление
чужих высказываний есть особый способ (ложный) их опровержения. Если понимать
высказывание как механическую реакцию и диалог как цепь реакций (в дескриптивной
лингвистике или у бихевиористов18), то такому пониманию в равной мере подлежат
как верные, так <и> ложные высказывания, как гениальные, так и бездарные
произведения (различие будет только в механически понятых эффектах, пользе и т. п.).
Эта точка зрения, относительно правомерная, подобно чисто лингвистической точке
зрения (при всем их различии), не задевает сущности высказывания как смыслового
целого, смысловой точки зрения, смысловой позиции и т. п. Всякое высказывание претендует на справедливость, истинность, красоту и правдивость (образное
высказывание) и т. п. И эти ценности высказываний определяются не их отношением к
языку (как чисто лингвистической системе), а разными формами отношения к
действительности, к говорящему субъекту и к другим (чужим) высказываниям (в
частности к тем, которые их оценивают как истинные, прекрасные и т. п.).
Лингвистика имеет дело с текстом, но не с произведением. То же, что она говорит о
произведении, привносится контрабандным путем и из чисто лингвистического анализа не вытекает. Конечно, обычно сама эта лингвистика с самого начала носит
конгломератный характер и насыщена внелингвистическими элементами19. Несколько
упрощая дело, чисто лингвистические отношения (т. е. предмет лингвистики) — это
отношения знака к знаку и знакам в пределах системы языка или текста (т. е.
системные или линейные отношения между знаками). Отношения высказываний к
реальной действительности, к реальному говорящему субъекту и к реальным другим
высказываниям, отношения, впервые делающие высказывания истинными или
ложными, прекрасными и т. п., никогда не могут стать предметом лингвистики.
Отдельные знаки, система языка или текст (как знаковое единство) никогда не могут
быть ни истинными, ни ложными, ни прекрасными и т. п.
Каждое большое и творческое словесное целое есть очень сложная и многопланная
система отношений. При творческом отношении к языку безголосых, ничьих20 слов
1961 год. Заметки
207
нет. В каждом слове голоса, иногда бесконечно далекие, безымянные, почти
безличные (голоса лексических оттенков, стилей и пр.), почти неуловимые, и голоса
близкие, одновременно звучащие.
Всякое живое, компетентное и беспристрастное наблюдение с любой позиции, с
любой точки зрения всегда сохраняет свою ценность и свое значение.
Односторонность и ограниченность точки зрения (позиции наблюдателя) всегда может
быть прокорректирована, дополнена и трансформирована (< переосмыслена>) с
помощью таких же наблюдений с других точек зрения. Голые точки зрения (без живых
и новых наблюдений) бесплодны.
Известный афоризм Пушкина о лексиконе и книгах21 (II т.).
К проблеме диалогических отношений. Эти отношения глубоко своеобразны и не
могут быть сведены ни к логическим, ни к лингвистическим, ни <к> психологическим,
ни к механическим или каким-либо другим природным отношениям. Это — особый
207
тип смысловых отношений, членами которых могут быть только целые высказывания
(или рассматриваемые как целые, или потенциально целые), за которыми стоят (и в
которых выражают себя) реальные или потенциальные речевые субъекты22, авторы
данных высказываний. Реальный диалог (житейская беседа, научная дискуссия,
политический спор и т. п.). Отношения между репликами такого диалога являются
наиболее внешне наглядным и простым видом диалогических отношений. Но диалогические отношения, конечно, отнюдь не совпадают с отношениями между
репликами реального диалога, — они гораздо шире, разнообразнее и сложнее. Два
высказывания, отдаленные друг от друга и во времени и в пространстве, ничего не
знающие друг о друге, при смысловом сопоставлении обнаруживают диалогические
отношения, если .между ними есть хоть какая-нибудь смысловая конвергенция (хотя
бы частичная общность темы, точки зрения и т. п.). Всякий обзор по истории какогонибудь научного вопроса (самостоятельный или включенный в научный труд по
данному вопросу) производит диалогические сопоставления (высказываний, мнений,
точек зрения) высказываний и таких ученых, которые ничего друг о друге не знали и
знать не могли. Общность проблемы
1961 год. Заметки
208
порождает здесь диалогические отношения. В художественной литературе —
«диалоги мертвых» (у Лукиана, в XVII веке23); в соответствии с литературной
спецификой здесь дается вымышленная ситуация встречи в загробном царстве.
Противоположный пример — широко используемая в комике ситуация диалога двух
глухих, где имеется реальный диалогический контакт, но нет никакого смыслового
контакта между репликами (или контакт воображаемый). Нулевые диалогические
отношения. Здесь раскрывается точка зрения т.ретьего в диалоге (не участвующего в
диалоге, но его понимающего). Понимание целого высказывания всегда диалогич-н о .
Нельзя, с другой стороны, понимать диалогические отношения упрощенно и
односторонне, сводя их к противоречию, борьбе, спору, несогласию. С о гласие —
одна из важнейших форм диалогических отношений. Согласие очень богато
разновидностями и оттенками. Два высказывания, тождественные во всех отношениях
(«Прекрасная погода!» — «Прекрасная погода!»24), если это действительно два
высказывания, принадлежащие разным голосам, а не одно, связаны диалогическим
отношением
согласия.
Это определенное диалогическое событие во
взаимоотношении двоих, а не эхо. Ведь согласия могло бы и не быть («Нет, не очень
хорошая погода» и т. п.).
Диалогические отношения, таким образом, гораздо шире диалогической речи в
узком смысле2'. И между глубоко монологическими речевыми произведениями всегда
налич-ны диалогические отношения.
Между языковыми единицами, как бы мы их ни понимали и на каком бы уровне
языковой структуры мы их ни брали, не может быть диалогических отношений
(фонемы, морфемы, лексемы, предложения и т. п.). Высказывание (как речевое целое)
не может быть признано единицей последнего, высшего уровня или яруса языковой
структуры (над синтаксисом), ибо оно входит в мир совершенно иных отношений
(диалогических), не сопоставимых с лингвистическими отношениями других
уровней26. (В известном плане возможно только сопоставление целого высказывания
со словом). Целое высказывание — это уже не единица языка (и не единица «речевого
потока»
_1961 год. Заметки
208
208
или «речевой цепи»), а единица речевого общения, имеющая не значение, а с м ы с л
(т. е. целостный смысл, имеющий отношение к ценности — к истине, красоте и т. п. —
и требующий ответного понимания, включающего в себя оценку). Ответное понимание
речевого целого всегда носит диалогический характер.
Понимание целых высказываний и диалогических отношений между ними
неизбежно носит диалогический характер (в том числе и понимание исследователягуманита-риста); понимающий (в том числе исследователь) сам становится участником
диалога, хотя и на особом уровне (в зависимости от направления понимания или
исследования). Аналогия с включением экспериментатора в экспериментальную
систему (как ее часть) или наблюдателя в наблюдаемый мир в микрофизике (квантовой
теории). У наблюдающего нет позиции вне наблюдаемого мира, и его наблюдение
входит как составная часть в наблюдаемый предмет. Это полностью касается целых
высказываний и отношений между ними. Их нельзя понять со стороны. Самое
понимание входит как диалогический момент в диалогическую систему и как-то
меняет ее тотальный смысл. Понимающий неизбежно становится «третьим» в диалоге
(конечно, не в буквальном арифметическом смысле, ибо участников понимаемого
диалога кроме «третьего» может быть неограниченное количество), но диалогическая
позиция этого «третьего» — совершенно особая позиция. Всякое высказывание всегда
имеет адресата (разного характера, разных степеней близости, конкретности, осознанности ит. п.), ответное понимание которого автор речевого произведения ищет и
•предвосхищает. Это — «второй» (опять же не в арифметическом смысле). Но кроме
этого адресата («второго») автор высказывания с большей или меньшей осознанностью
предполагает высшего « н а д а д -р е с а т а » («третьего»), абсолютно справедливое
ответное понимание которого предполагается либо в метафизической дали, либо в
далеком историческом времени. (Лазеечный адресат27). В разные эпохи и при разном
миропонимании этот нададресат и его идеально верное ответное понимание
принимают разные конкретные идеологические выражения (бог, абсолютная истина,
суд беспристрастной человеческой совести, народ, суд истории, наука и т. п.). Автор
никогда не может отдать всего себя и все
1961 год. Заметки
209
свое речевое произведение на полную и окончательную волю наличным или
близким адресатам (ведь и ближайшие потомки могут ошибаться) и всегда предполагает (с большей или меньшей осознанностью) какую-то высшую инстанцию
ответного понимания, которая может отодвигаться в разных направлениях. Каждый
диалог происходит как бы на фоне ответного понимания незримо присутствующего
«третьего», стоящего над всеми участниками диалога (партнерами). (См. понимание
фашистского застенка или «ада» у Т. Манна как абсолютной «неуслышанности», как
абсолютного отсутствия «третьего л28).
Указанный «третий» вовсе не является чем-то мистическим или метафизическим
(хотя при определенном миропонимании и может получить подобное выражение), —
это конститутивный момент целого высказывания, который при более глубоком
анализе может быть в нем обнаружен. Это вытекает из природы слова, которое всегда
хочет быть услышанным, всегда ищет ответного понимания и не останавливается на
ближайшем понимании, а пробивается все дальше и дальше (неограниченно)29. Для
слова (а следовательно, для человека) нет ничего страшнее безответности Даже
заведомо ложное слово не бывает абсолютно ложным и всегда предполагает
инстанцию, которая поймет и оправдает, хотя бы в форме: «всякий на моем месте
солгал бы также».
209
К. Маркс говорил, что только высказанная в слове мысль становится действительной
мыслью для другого и только тем самым и для меня самого30. Но этот другой не
только ближайший другой ( адрес ат-«второй»), но в поисках ответного понимания
слово идет все дальше и дальше.
«Услышанность» как таковая является уже диалогическим отношением. Слово хочет
быть услышанным, понятым, отвеченным и снова отвечать на ответ и так ad infinitum.
Оно вступает в диалог, который не имеет смыслового конца (но для того или иного
участника может быть физически оборван). Это, конечно, ни в коей мере не ослабляет
чисто предметных, исследовательских интенций слова, его сосредоточенности на
своем предмете. Оба момента — две стороны одного и того же, они неразрывно
связаны. Разрыв между ними происходит
1961 год. Заметки
только в заведомо ложном слове, т. е. в таком, которое хочет обмануть (разрыв
между предметной интенцией и интенцией к услышанности и понятости).
Слово, которое боится «третьего» и ищет только временного признания (ответного
понимания ограниченной глубины) у ближайших адресатов.
Критерий глубины понимания как один из высших критериев в гуманитарном
познании. Слово, если оно только не заведомая ложь, бездонно. Набирать
глубину (а не высоту и ширь). Микромир слова.
Высказывание (речевое произведение) как неповторимое, исторически единственное
индивидуальное целое.
Это не исключает, конечно, композиционно-стилистической типологии речевых
произведений. Существуют речевые жанры (бытовые, риторические, научные,
литературные и т. п.). Речевые жанры — это типовые модели построения речевого
целого. Но эти жанровые модели принципиально отличаются от лингвистических
моделей предложений31.
Единицы языка, изучаемые лингвистикой, принципиально воспроизводимы
неограниченное количество раз в неограниченном количестве высказываний (в том
числе воспроизводимы и модели предложений)32. Правда, частота воспроизведения у
разных единиц разная (наибольшая у фонем, наименьшая у фраз). Только благодаря
этой воспроизводимости они и могут быть единицами языка и выполнять свою
функцию. Как бы ни определялись отношения между этими воспроизводимыми
единицами (оппозиция, противопоставление, контраст, дистрибуция и т. п.), эти
отношения никогда не могут быть диалогическими, что разрушило бы их
лингвистические (языковые) функции.
Единицы речевого общения — целые высказывания — невоспроизводимы (хотя их и
можно цитировать) и связаны друг с другом диалогическими отношениями.
Переработать главу о сюжете у Достоевского. Авантюрность особого рода.
Проблема «менипповой сатиры». Концепция художественного пространства. Площадь
у Достоевского. Искорки карнавального огня. Скандалы, эксцентрические выходки,
мезальянсы, «истерики» и т. п. у Достоевского. Их источник — карнавальная площадь.
210
1961 год. Заметки
210
Анализ именинного вечера у Настасьи Филипповны. Игра в признания (ср. «Бобок»).
Превращение нищего в миллионера, проститутки в княгиню и т. п. Мировой, можно
сказать, вселенский характер конфликта у Достоевского. «Конфликт последних
проблем». Безграничность контактов со всем и вся в мире. Характеристика Иваном
русских юношей33. В качестве главных героев он изображает только таких людей,
спор с которыми у него еще не кончен (да он не кончен и в мире). Проблема открытого
210
героя. Проблема авторской позиции. Проблема «третьего» в диалоге34. Разные
решения ее у современных романистов (Мориак, Грэм Грин и др.).
«Доктор Фаустус» Томаса Манна как косвенное подтверждение моей концепции35.
Влияние Достоевского36. Беседа с чортом. Рассказчик-хроникер и главный герой.
Сложная авторская позиция (см. в письмах Манна). Пересказы (словесные
транспонировки) музыкальных произведений: в «Неточке Незвановой»37, но особенно
пересказ оперы Тришатова38 (здесь буквальное совпадение текстов о голосе
дьявола39); наконец, пересказы поэм Ивана Карамазова. Герой-автор. Главное же —
проблема полифонии.
Совершенно новая структура образа человека — полноправное и полнозначное
чужое сознание, не вставленное в завершающую оправу действительности, не
завершимое ничем (даже смертью), ибо смысл его не может быть разрешен или
отменен действительностью (убить не значит опровергнуть). Это чужое сознание не
вставляется в оправу авторского сознания, оно раскрывается изнутри как вне и рядом
стоящее, с которым автор вступает в диалогические отношения. Автор, как Прометей,
создает независимые от себя живые существа (точнее, воссоздает), с которыми он
оказывается на равных правах40. Он не может их завершить, ибо он открыл в них
нечто, что незавершимо извне. Он открыл то, что отличает личность от всего, что не
есть личность. Над нею не властно бытие. Таково первое открытие художника.
Второе открытие — изображение (точнее, воссоздание) саморазвивающейся идеи (не
отделимой от личности). Идея становится предметом художественного изображения,
раскрывается не в плане си
1961 год. Заметки
211
стемы (философской, научной), а в плане человеческого события.
Третье открытие художника — диалогичность как особая форма взаимодействия
между равноправными и равнозначными сознаниями.
Все три открытия, в сущности, едины: это три грани одного и того же явления.
Эти открытия носят формально-содержательный характер. Их формальная содержательность глубже, сгущеннее, общее того конкретно-идеологического изменчивого
содержания, которое их наполняет у Достоевского. Содержание равноправных сознаний меняется, меняются идеи, меняется содержание диалогов, но открытые
Достоевским новые формы художественного познания человеческого мира остаются.
Если у Тургенева отбросить содержание споров Базарова и П. П. Кирсанова, например,
то никаких новых структурных форм не останется (диалоги протекают в старых одноплоскостных формах)41. Сравнение с формами языка и формами логики, но дело
здесь идет о художественных формах. Образ шахмат у Соссюра42. Достоевский
разбивает старую художественную плоскость изображения мира. Изображение
впервые становится многомерным.
После моей книги (но независимо от нее) идеи полифонии, диалога, незавершимости
и т. п. получили очень широкое развитие. Это объясняется растущим влиянием
Достоевского, но прежде всего, конечно, теми изменениями в самой действительности,
которые раньше других (ив этом смысле пророчески) сумел раскрыть Достоевский43.
Преодоление монологизма. Что такое монологизм в высшем смысле44. Отрицание
равноправности сознаний в отношении к истине (понятой отвлеченно и системно). Бог
может обойтись без человека, а человек без него нет. Учитель и ученик (сократический
диалог)45.
Наша точка зрения вовсе не утверждает какую-то пассивность автора, который
только монтирует чужие точки зрения, чужие правды, совершенно отказываясь от
своей точки зрения, своей правды. Дело вовсе не в этом, а в совершенно новом, особом
211
взаимоотношении между своей и чужой правдой. Автор глубоко активен, но его активность носит особый, диалогический характер.
1961 год. Заметки
212
Одно дело активность в отношении мертвой вещи, безгласного материала, который
можно лепить и формировать как угодно, и другое — активность в отношении чужого
живого и полноправного сознания. Это активность вопрошающая, провоцирующая,
отвечающая, соглашающаяся, возражающая и т. п., т. е. диалогическая активность, не
менее активная, чем активность завершающая, овеществляющая, каузально
объясняющая и умерщвляющая, заглушающая чужой голос не-смысловыми
аргументами. Достоевский часто перебивает, но никогда не заглушает чужого голоса,
никогда не кончает его «от себя», т. е. из другого, своего сознания. Это, так сказать,
активность бога в отношении человека, который позволяет ему самому раскрыться до
конца (в имманентном развитии), самого себя осудить, самого себя опровергнуть. Это
— активность более высокого качества. Она преодолевает не сопротивление мертвого
материала, а сопротивление чужого сознания, чужой правды. И у других писателей мы
встречаем диалогическую активность в отношении тех героев, которые оказывают
внутреннее сопротивление (например, у Тургенева в отношении Базарова)46. Но здесь
этот диалогизм — драматическая игра, полностью снятая в целом произведения.
Фридлендер в своей прекрасной статье об «Идиоте»47, показывая активность и
вмешательство автора, показывает в
большинстве
случаев
именно
такую
диалогическую активность и этим только подтверждает мои выводы.
Подлинные диалогические отношения возможны только в отношении героя,
который является носителем своей правды, который занимает значимую
(идеологическую) позицию. Если переживание или поступок не претендуют на
значимость (согласие — несогласие), а только на действительность (оценку), то
диалогическое отношение может быть минимальным.
Но может ли значимый смысл стать предметом художественного изображения? При
более глубоком понимании художественного изображения идея может стать его
предметом. В этом — второе открытие Достоевского.
1961 год. Заметки
212
Всякий роман изображает «саморазвивающуюся жизнь», «воссоздает» ее. Это
саморазвитие жизни не зависимо от автора, от его сознательной воли и тенденций. Но
это независимость бытия, действительности (события, характера, поступка). Это —
логика самого независимого от автора бытия, но не логика смысла-сознания. Смыслсознание в его последней инстанции принадлежит автору и только ему. И этот смысл
относится к бытию, а не к другому смыслу (чужому равноправному сознанию).
Всякий творец воссоздает логику самого предмета, но не создает и не нарушает ее.
Даже ребенок в своей игре воссоздает логику того, во что он играет. Но Достоевский
раскрывает новый
предмет и новую логику этого предмета. Он открыл
личность
и саморазвивающуюся логику этой личности, занимающей позицию и
принимающей решение по самым последним
вопросам мироздания. При этом
промежуточные звенья, в том числе и ближайшие обыденные, житейские звенья, не
пропускаются, а осмысливаются в свете последних вопросов как этапы или символы
последнего решения48. Все это было раньше в плане монологизма, в плане одного
сознания. Здесь же открыта множественность сознаний.
Высший тип бескорыстного художника, который ничего не берет от мира. Такого
последовательного антигедонизма нигде больше не найти.
Достоевский «только проецировал ландшафт своей души» (Леттенбауэр)49.
212
Выражение в художественном произведении писательского «я». Монологизация
творчества Достоевского. Не анализ сознания в форме единого и единственного «я», а
анализ именно взаимодействия многих сознаний, не многих людей в свете одного
сознания, а именно многих равноправных и полноценных сознаний.
Несамодостаточность, невозможность существования одного сознания. Я осознаю себя
и становлюсь самим собою, только раскрывая себя для другого, через другого и с
помощью другого. Важнейшие акты, конституирующие самосознание, определяются
отношением к другому сознанию (к Ты). Отрыв, отъединение, замыкание в себя как
основная причина потери себя самого. Не то, что происходит внутри, а
1961 год. Заметки
213
то, что происходит на границе своего и чужого сознания, на пороге. И все
внутреннее не довлеет себе, повернуто вовне, диалогизовано, каждое внутреннее переживание оказывается на границе, встречается с другим, и в этой напряженной встрече
— вся его сущность50. Это — высшая степень социальности (не внешней, не вещной, а
внутренней)^1. В этом Достоевский противостоит всей декадентской и идеалистической (индивидуалистической) культуре, культуре принципиального и безысходного
одиночества. Он утверждает невозможность одиночества, иллюзорность одиночества.
Само бытие человека (и внешнее и внутреннее) есть глубочайшее общение. Быть —
значит общаться. Абсолютная смерть (небытие) есть неуслышанность52,
непризнанность, невспомянутость (Ипполит). Быть — значит быть для другого и через
него — для себя. У человека нет внутренней суверенной территории, он весь и всегда
на границе53, смотря внутрь себя, он смотрит в глаза другому или глазами другого.
Все это не есть философская теория Достоевского, — это есть его художественное
видение жизни человеческого сознания, видение, воплощенное в содержательной
форме. Исповедь вовсе не является формой или последним целым его творчества (его
целью и формой своего отношения к себе самому, формой видения себя), — исповедь
является предметом его художественного видения и изображения. Он изображает
исповедь и чужие исповедальные сознания, чтобы раскрыть их внутренне социальную
структуру, чтобы показать, что они (исповеди) не что иное, как событие
взаимодействия
сознаний,
чтобы
показать
взаимозависимость
сознаний,
раскрывающуюся в исповеди34. Я не могу обойтись без другого, не могу стать самим
собою без другого; я должен найти себя в другом, найдя другого в себе (во
взаимоотражении, во взаимоприятии). Оправдание не может быть само оправданием,
признание не может быть само признанием. Мое имя я получаю от других, и оно
существует для других (самоименование — самозванство). Невозможна и любовь к
себе самому.
1961 год. Заметки
213
Капитализм создал условия для особого типа безысходно одинокого сознания.
Достоевский вскрывает всю ложность этого сознания, движущегося по порочному
кругу.
Отсюда изображение страданий, унижений и и е -признанности человека в
классовом обществе. У него отняли признание и отняли имя.
Его загнали в
вынужденное одиночество, которое непокорные стремятся превратить в гордое
одиночество (обойтись без признания, без других).
Маркс о возвращении к себе самому в чистом общении, об обмене любовью55.
Реальных путей к этому, на которые вступил русский народ (их указал Маркс),
Достоевский не знал. Он видел конечную цель, но не видел земных путей и средств.
Сложная проблема унижения и униженных.
213
Никакие человеческие события не развертываются и не разрешаются в пределах
одного сознания. Отсюда враждебность Достоевского к таким мировоззрениям,
которые видят последнюю цель в слиянии, в раство?ении сознаний в одном сознании, в снятии индивидуацин. 1икакая нирвана не
возможна для одного сознания56. Одно сознание — contradictio in adjecto. Сознание по
существу множественно. Pluralia tantum. Не принимает Достоевский и таких
мировоззрений, которые признают право за высшим сознанием брать на себя решения
за низшие, превращать их в безгласные вещи57.
Я перевожу на язык отвлеченного мировоззрения то, что было предметом
конкретного и живого художественного видения и стало принципом формы. Такой
перевод всегда не адэкватен.
Не другой человек, остающийся предметом моего сознания, а другое полноправное
сознание, стоящее рядом с моим и в отношении к которому мое собственное сознание
только и может существовать.
Достоевский сделал дух, т. е. последнюю смысловую позицию личности, предметом
эстетического созерцания, сумел увидеть дух так, как до него умели видеть только тело
и душу человека. Он продвинул эстетическое видение в глубь, в новые глубинные
пласты, но не в глубь бессознательного, а в глубь-высоту сознания. Глубины сознания
есть одновременно и его вершины (верх
1961 год. Заметки
214
и низ в космосе и в микромире относительны)58. Сознание гораздо страшнее всяких
бессознательных комплексов59.
Утверждение о том, что все творчество Достоевского является одной и единой
исповедью. На самом же деле исповеди (а не одна исповедь) здесь не форма целого, а
предмет изображения. Исповедь показана изнутри и извне (в своей незавершимости).
Человек из подполья у зеркала60.
<...>61
После «чужих» исповедей Достоевского старый жанр исповеди стал, в сущности,
невозможным. Стал невозможным и наивно-непосредственный момент исповеди, и ее
риторический момент, и момент условно-жанровый (со всеми его традиционными
приемами и стилистическими формами). Стало невозможным непосредственное
самоотношение в исповеди (от самолюбования до самоотрицания). Раскрылась роль
другого, в свете которого только и может строиться всякое слово о себе самом.
Раскрылась сложность простого феномена смотрения на себя в зеркало: своими и
чужими глазами одновременно, встреча и взаимодействие чужих и своих глаз,
пересечение кругозоров (своего и чужого), пересечение двух сознаний.
Единство не как природное одно-единственное, а как диалогическое согласие
неслиянных двоих или нескольких62.
«Проецировал ландшафт своей души». Но что значит «проецировал» и что значит
«своей»? Нельзя понимать проецирование механически, как перемену имени, внешних
жизненных обстоятельств, финала жизни (или события) ит. п. Нельзя понимать и как
некое общечеловеческое содержание, вне отнесенности к «я» и «другому», т. е. как
объективную, нейтральную внутреннюю данность. Переживание берется в границах
объектно-определенного характера, а не на границах «я» и «другого», т. е. в точке
взаимодействия сознаний. И «свое» нельзя понимать как относительную и случайную
форму принадлежности, которую легко сменить на принадлежность другому и
третьему (переменить собственника или переменить адрес).
214
Изображение смерти у Достоевского и у Толстого. У Достоевского вообще гораздо
меньше смертей, чем у Толстого, притом в большинстве случаев убийства и самоубийства. У Толстого очень много смертей. Можно гово
1961 год. Заметки
215
рить о его пристрастии к изображению смерти. Причем — и это очень характерно —
смерть он изображает не только извне, но и изнутри, т. е. из самого сознания умирающего человека, почти как факт этого сознания. Его интересует смерть для себя, т. е.
для самого умирающего, а не для других, для тех, которые остаются. Он, в сущности,
глубоко равнодушен к своей смерти для других63. «Мне надо одному самому жить и
одному самому умереть»64. Чтобы изобразить смерть изнутри, Толстой не боится
резко нарушать жизненное правдоподобие позиции рассказчика (точно умерший сам
рассказал ему о своей смерти, как Агамемнон Одиссею65). Как гаснет сознание для
самого сознающего. Это возможно только благодаря известному овеществлению
сознания. Сознание здесь дано как нечто объективное (объектное) и почти нейтральное
по отношению непроходимой (абсолютной) границы «я» и «другого». Он переходит из
одного сознания в другое, как из комнаты в комнату, он не знает абсолютного «
порога».
Достоевский никогда не изображает смерть изнутри. Агонию и смерть наблюдают
другие. Смерть не может быть фактом самого сознания. Дело, конечно, не в
правдоподобии позиции рассказчика (Достоевский вовсе не боится «фантастичности»
этой позиции, когда это ему нужно66). Сознание по самой природе своей не может
иметь осознанного же (т. е. завершающего сознание) начала и конца, находящегося в
ряду созйания как последний его член, сделанный из того же материала, что и
остальные моменты сознания. Начало и конец, рождение и смерть имеют человек,
жизнь, судьба, но не сознание, которое по природе своей, раскрывающейся только
изнутри, т. е. только для самого сознания, бесконечно. Начало и конец лежат в
объективном (и объектном) мире для других, а не для самого сознающего. Дело не в
том, что смерть изнутри нельзя подсмотреть, нельзя увидеть, как нельзя увидеть своего
затылка, не прибегая к помощи зеркал. Затылок существует объективно, и его видят
другие67. Смерти же изнутри, т. е. осознанной своей смерти, не существует ни для
кого, ни для самого умирающего, ни для других, не существует вообще. Именно это
сознание для себя, не знающее и не имеющее последнего слова, и является предметом
изображения в мире Достоевского.
1961 год. Заметки
215
Вот почему смерть изнутри и не может войти в этот мир, она чужда его внутренней
логике. Смерть здесь всегда объективный факт для других сознаний; здесь выступают
привилегии другого. В мире Толстого изображается другое сознание, обладающее
известным минимумом овеществлен -ности (объектности), поэтому между смертью
изнутри (для самого умирающего) и смертью извне (для других) нет непроходимой
бездны: они сближаются друг с другом.
В мире Достоевского смерть ничего не завершает, потому что она не задевает самого
главного в этом мире: сознания для себя. В мире же Толстого смерть обладает
известною завершающей и разрешающей силой.
Достоевский дает всему этому идеалистическое освещение, делает онтологические и
метафизические выводы (бессмертие души и т. п.). Но раскрытие внутреннего
своеобразия сознания не противоречит материализму. Сознание вторично; оно
рождается на определенной стадии развития материального организма, рождается
объективно, и оно умирает (объективно же) вместе с материальным организмом
215
(иногда и раньше его), умирает объективно. Но сознание обладает своеобразием,
субъективной стороной, для себя самого, в терминах самого сознания оно не может
иметь ни начала, ни конца. Эта субъективная сторона объективна (но не объектна, не
вещна). Отсутствие осознанной смерти (смерти для себя) такой же объективный факт<,
как> и отсутствие осознанного рождения. В этом — своеобразие сознания.
Проблема обращенного слова Идея Чернышевского о романе без авторских оценок и
авторских интонаций68.
Влияние Достоевского еще далеко не достигло своей кульминации. Наиболее
существенные и глубинные моменты его художественного видения, переворот,
совершенный им в области романного жанра и вообще в области литературного
творчества, до сих пор еще не освоены и не осознаны до конца. До сих пор еще <мы>
вовлечены в диалог на преходящие темы, но раскрытый им диалогизм
художественного мышления и художественной картины мира, новая модель внутренне
диалогизованного мира не раскрыты до конца. «Сократический диалог», пришедший
на смену трагическому диалогу, — первый шаг в истории
1961 год. Заметки
216
нового романного жанра69. Но это был только диалог, почти только внешняя форма
диалогизма70.
Наиболее устойчивые элементы содержательной формы, которые подготовляются и
вынашиваются веками (и для веков), но рождаются лишь в определенные, наиболее
благоприятные моменты и в наиболее благоприятном историческом месте (эпоха
Достоевского в России). Достоевский об образах Бальзака и их подготовке71. Маркс об
античном искусстве72. Преходящая эпоха, рождающая непреходящие ценности. Когда
Шекспир стал Шекспиром73. Достоевский еще не стал Достоевским, он только еще
становится им74.
В первой части — рождение новой формы романа (новой формы видения и нового
человека-личности; преодоление овеществления). Во второй части75 — проблема
языка и стиля (новый модус ношения одежды слова, одежды языка, новый модус
ношения своего тела, своей во площе нности ) 76.
В первой части — радикальное изменение позиции автора (в отношении к
изображаемым людям, которые из овеществленных людей превращаются в личности).
Диалектика внешнего и внутреннего в человеке. Критика авторской позиции Гоголя в
«Шинели» (еще довольно наивное начало превращения героя в личность). Кризис
авторской позиции и авторской эмоции, авторского слова77.
Овеществление человека. Социальные и этические условия и формы этого
овеществления. Ненависть Достоевского к капитализму. Художественное открытие
человека-личности. Диалогическое отношение как единственная форма отношения к
человеку-личности, сохраняющая его свободу и незаверши-мость. Критика всех
внешних форм отношения и воздействия: от насилия до авторитета; художественное
завершение как разновидность насилия. Недопустимость обсуждения внутренней
личности (Снегирева с Лизой в «Карамазовых», Ипполита с Аглаей в «Идиоте»78; ср.
более грубые формы этого в «Волшебной горе» Манна (с Шоша и Пеперкорном79);
психолог как шпион80). Нельзя предрешать личность (и ее развитие), нельзя подчинять
ее своему замыслу. Нельзя подсматривать и подслушивать личность, вынуждать ее к
самооткрытию. Проблемы испо
1961 год. Заметки
216
веди и «другого». Нельзя вынуждать и предрешать признания
(Ипполит)81.
Убеждение любовью8^.
216
Создание нового романа (полифонического) и изменение всей литературы.
Преобразующее влияние романа на все остальные жанры, «романизация» их83.
Все эти структурные моменты взаимозависимости сознаний (личностей) переведены
на язык социальных отношений и индивидуально-жизненных отношений (сюжетных в
широком смысле слова).
«Сократический диалог» и карнавальная площадь.
Овеществляющие, объектные, завершающие определения героев Достоевского не
адэкватны их сущности.
Преодоление монологической модели мира.
Зачатки этого в «сократическом
диалоге»84.
Карнавальное выведение85 человека из обычной, нормальной колеи жизни, из
«своей среды», потеря им своего иерархического места (уже со всею отчетливостью в
«Двойнике»). Карнавальные мотивы в «Хозяйке».
Достоевский и сентиментализм86. Это открытие человека-личности
и его
сознания
(не в психологическом смысле) не могло бы совершиться без открытия
новых моментов в слове, в средствах речевого выражения человека. Раскрылся
глубинный диалогизм слова87.
Человек изображается у Достоевского всегда на пороге или, другими словами, в
состоянии кризиса.
Расширение понятия сознания у Достоевского. Сознание, в сущности, тождественно
с личностью человека88: все в человеке, что определяется словами «я сам» или «ты
сам», все, в чем он находит и ощущает себя, все, за что он отвечает, все между
рождением и смертью.
Диалогические отношения предполагают общность предмета интенции
(направленности)89.
Монологизм в пределе отрицает наличие вне себя другого равноправного и ответноравноправного сознания, другого равноправного «я» («ты»). При монологическом
подходе (в предельном или чистом виде) «другой» всецело остается только объектом
сознания, а не другим сознанием. От него не ждут такого ответа, который мог бы все
изменить в мире моего сознания. Монолог завершен и глух к чужому ответу, не ждет
его и не признает за ним решающей силы. Монолог обходит
1961 год. Заметки
217
ся без другого и потому в какой-то мере овеществляет всю действительность.
Монолог претендует быть последним словом
Он закрывает изображенный мир
и изображенных людей.
Биографическая (и автобиографическая) цельность90 образа человека, включающего
в себя то, что никогда не может быть предметом собственного опыта, что получено
через сознание и опыт других (рождение, наружность и т. п.). Зеркало. Разложение
этого цельного образа. То, что получаешь от другого и в тонах другого и для чего нет
собственного тона.
Диалогическая природа сознания, диалогическая природа самой человеческой
жизни. Единственно адэкватной формой словесного выражения подлинной человеческой жизни является незавершимый диалог Жизнь по природе своей диалогична.
Жить — значит участвовать в диалоге — вопрошать, внимать, ответствовать,
соглашаться и т. п. В этом диалоге человек участвует весь и всею жизнью: глазами,
губами, руками, душой, духом, всем телом, поступками. Он вкладывает всего себя в
слово, и это слово входит в диалогическую ткань человеческой жизни, в мировой
симпосиум.
217
Вещные (овеществляющие, объектные) образы для жизни и для слова глубоко
неадэкватны. Вещная модель мира сменяется моделью диалогической. Каждая мысль и
каждая жизнь вливаются в незавершенный диалог. Недопустимо и овеществление
слова: его природа тоже диалогическая.
Диалектика — абстрактный продукт диалога91.
Определение голоса. Сюда входит и высота, и диапазон, и тембр, и эстетическая
категория (лирический, драматический и т. п.). Сюда входит и мировоззрение и судьба
человека. Человек как целостный голос вступает в диалог. Он участвует в нем не
только своими мыслями, но и своей судьбой, всей своей индивидуальностью.
Образ себя самого для себя самого и мой образ для другого. Человек реально
существует в формах «я» и «другого» («ты», «он» или «man»92). Но мыслить человека
мы можем безотносительно к этим формам его существования, как всякое иное
явление или вещь. Но дело в том, что только человеком являюсь я сам, т. е. только
человек существует в форме «я» и «другого» и никакое
1961 год. Заметки
218
иное мыслимое мною явление. Литература создает совершенно специфические
образы людей, где «я» и «другой» сочетаются особым и неповторимым образом: «я» в
форме «другого» и «другой» в форме «я». Это не понятие человека (как вещи,
явления), а образ человека, а образ человека не может быть безотносительным к форме
его существования (т. е. к «я» и «другой»). Поэтому полное овеществление образа
человека, пока он остается образом, невозможно. Но, давая «объективный» социологический (или иной научный) анализ этого образа, мы превращаем его в понятие, ставим
его вне соотношения «я» — «другой» и овеществляем его. Но форма «другости» в
образе, конечно, преобладает: «я» остаюсь единственным в мире (ср. тему
«двойничества»). Но образ человека является путем к «я» «другого», шагом к «эй» и <3
нрзб>». Все эти проблемы неизбежно возникают при анализе творчества Достоевского,
который исключительно остро ощущал форму существования человека, как «я» или
«другого».
Не теория (преходящее содержание), а «чувство теории»93.
Исповедь как высшая форма свободного самораскрытия человека изнутри (а не
извне-завершающая) стояла перед Достоевским с самого начала его творческого
пути94. Исповедь как встреча глубинного «я» с другим и другими (народом), как
встреча «я» и «другого» на высшем уровне или в последней инстанции. Но «я» в этой
встрече должно быть чистым глубинным «я» изнутри себя самого, без всякой примеси
предполагаемых и вынуждаемых или наивно усвоенных точек зрения и оценок
другого, т. е. видения себя глазами другого. Без маски (внешний облик для другого,
оформление себя не изнутри, а извне; это касается и речевой, стилистической маски),
без лазеек, без ложного последнего слова, т. е. без всего овнешняю-щего и ложного.
Не вера (в смысле определенной веры в православие, в прогресс, в человека, в
революцию и т. п.), но чувство веры, т. е. цельное (всем человеком) отношение к
высшей и последней ценности. Под атеизмом Достоевский часто понимает безверие в
этом смысле, как равнодушие к последней ценности, требующей всего человека, как
отказ от последней позиции в последнем целом мира. Колебания Достоевского по
отношению к с о
1961 год. Заметки
218
держанию этой последней ценности. Зосима об Иване95. Тип людей, не могущих
жить без высшей ценности и одновременно не могущих осуществить окончательный
выбор этой ценности. Тип людей, строящих свою жизнь без всякого отношения к
218
высшей ценности: хищники, аморалисты, обыватели, приспособленцы, карьеристы,
мертвые и т. п. Среднего типа людей Достоевский почти не знает.
Исключительно острое ощущение своего и чужого в слове, в стиле, в тончайших
оттенках и изгибах стиля, в интонации, в речевом жесте, в телесном (мимическом)
жесте, в выражении глаз, лица, рук, всей внешности, в самом способе носить свое тело.
Застенчивость, самоуверенность, наглость и нахальство (Снегирев), ломание и
кривляние (тело корчится и вертится в присутствии другого) и т. п. Во. всем, чем
человек выражает себя вовне (и следовательно, для «другого»), — от тела до слова —
происходит напряженное взаимодействие «я» и «другого»: их борьба (честная или
взаимный обман), равновесие, гармония (как идеал), наивное незнание друг о друге,
нарочитое игнорирование друг друга, вызов, непризнание (человек из подполья,
который «не обращает внимания»96 и т. п.) и т. п. Повторяем, эта борьба происходит
во всем, чем человек выражает (раскрывает) себя вовне (для других), — от тела до слова, в том числе до последнего слова. Светскость как выработанная, готовая, застывшая
и усвоенная (механически) внешняя форма выражения себя вовне (владения своим
телом, жестом, голосом, словом и т. п.), где достигнуто полное и мертвое равновесие,
где нет борьбы, где нет живых «я» и «другого», их живого и длящегося взаимодействия. Противоположны этой мертвой форме «благообразие» и гармония
(любовь), достигаемые на основе общей высшей идеи (ценности, цели), свободного
согласия в высшем («золотой век», «царствие божие» и т. п.).
Достоевский обладал исключительно зорким глазом и чутким ухом, чтобы увидеть и
услышать эту напряженнейшую борьбу «я» и «другого» в каждом внешнем выявлении
человека (в каждом лице, жесте, слове), в каждой живой форме современного ему
общения. Всякое выражение (выразительная форма) утратило свою наивную це
1961 год. Заметки
219
лостность, распалось и разъединилось, как «распалась связь времен» в социальноисторическом мире его современности. Эксцентричность, скандалы, истерики и т. п. в
мире Достоевского. Это не психология и не психопатология, ибо дело здесь идет о
личности, а не о вещных пластах человека, о свободном самораскрытии, а не о заочном
объектном анализе овеществленного человека.
Понятие человека и образ человека у Толстого. «Кай смертен» и «я» (Иван
Ильич)97. Понятие человека и живой человек в форме «я».
Задача настоящей вступительной статьи — раскрыть своеобразие художественного
видения Достоевского, художественное единство созданного им мира, новизну созданного им типа (разновидности) романного жанра и его особое отношение к слову как
материалу художественного творчества. Историко-литературных проблем в собственном смысле мы будем касаться лишь постольку, поскольку это необходимо для
правильного раскрытия этого своеобразия98.
Исповедь для себя как попытка объективного отношения к себе самому
безотносительно к форме «я» и «другой». Но при отвлечении от этих форм
утрачивается как раз самое существенное (отличие «я для себя» и «я для другого»).
Нейтральная позиция по отношению к «я» и «другому» невозможна в живом образе и в
этической идее. Их нельзя уравнять (как правое и левое при их геометрическом
тождестве). Каждый человек есть «я» для себя, но в конкретном и неповторимом
событии жизни «я» для себя только я единственный, а все остальные другие для меня.
И эту единственную и незаместимую позицию в мире нельзя отменить с помощью
понятийного обобщающего (и абстрагирующего) истолкования.
Не типы людей и судеб, объектно завершенные, а типы мировоззрений (Чаадаева,
Герцена, Грановского, Бакунина, Белинского, нечаевцев, долгушинцев и т. п.). И
219
мировоззрение он берет не как абстрактное единство и последовательность системы
мыслей и положений, а как последнюю позицию в мире в отношении высших ценностей. Мировоззрения, воплощенные в голосах. Диалог таких воплощенных
мировоззрений, в котором он сам участвовал. В черновиках на ранних стадиях
формирования
1961 год. Заметки
220
замысла эти имена (Чаадаев, Герцен, Грановский и др.) называются прямо, а затем,
по мере формирования сюжета и сюжетных судеб, уступают место вымышленным
именам. С начала замысла появляются мировоззрения, а уже затем сюжет и сюжетные
судьбы героев (перед ними «моменты», в которых наиболее ярко раскрываются
позиции). Достоевский начинает не с идеи, а с идей — героев диалога. Он ищет цельный голос, а судьба и событие (сюжетные) становятся средством выражения голосов.
Интерес к самоубийствам как сознательным смертям, смертям-выводам, смертям —
звеньям сознательной цепи, где человек завершает себя сам изнутри.
Завершающие моменты, будучи осознанными самим человеком, включаются в цепь
его сознания, становятся преходящими самоопределениями и утрачивают свою завершающую силу. «Дурак, который знает, что он дурак, уже тем самым не дурак» — эта
нарочито примитивная и иронически-пародийно поданная мысль (Алеша из
«Униженных и оскорбленных»99) тем не менее выражает суть дела.
Завершающие слова автора (без единого грана обращенности), заочные слова
«третьего», которые сам герой принципиально не может услышать, не может понять,
не может сделать их моментом своего самосознания, не может на них ответить. Такие
слова лежали бы уже вне диалогического целого. Такие слова овеществляли бы и
унижали бы человека-личность.
Последнее целое у Достоевского диалогично. Все главные герои — участники
диалога. Они слышат все, что говорится другими о них и на все отвечают (о них ничего
не говорится заочно или за закрытой дверью). И автор — только участник диалога (и
его организатор). Заочных, вне диалога звучащих, овеществляющих слов очень мало, и
они имеют существенное завершающее значение только для второстепенных
объектных персонажей (которые, в сущности, выводятся за пределы диалога как
статисты, не имеют своего обогащающего и меняющего смысл диалога слова).
Внеположные сознанию силы, внешне (механически) его определяющие: от среды и
насилия до чуда, тайны и авторитета. Сознание под действием этих сил утрачивает
1961 год. Заметки
220
свою подлинную свободу и личность разрушается. Сюда, к этим силам, нужно
отнести и подсознательное («оно»)100.
Сентиментально-гуманистическое развеществление человека, образ которого
остается объектным: жалость, низшие виды любви (к детям, ко всему слабому и
маленькому). Человек перестает быть вещью, но не становится личностью, т. е.
остается объектным, лежащим в зоне «другого», переживаемым в чистой форме
«другого», в отдалении от зоны «я». Так даны многие герои в раннем творчестве и
второстепенные в позднем (Катерина Ивановна, дети и др.).
Сатирическая объектность и разрушение личности (Кармазинов, отчасти Степан
Трофимович и др.).
После увлеченного софилософствования и философствования с героями «по поводу»
началось объективное изучение внеположной произведению, но определяющей его
реальной исторической действительности, т. е. до эстетической, дотворческой
реальности. Это было и необходимо и очень продуктивно101.
220
Чем ближе образ к зоне «я для себя», тем меньше в нем объектности и
завершенности, тем более он становится о б о азом личности, свободной и незавершимой. Классификация Аскольдова102, при всей ее глубине, превращает особенности
личности (разные степени лич-ностности) в объектные признаки человека, между тем
как принципиальное различие между характером и личностью (очень глубоко и верно
понятое Аскольдовым) определяется не качественными (объектными) признаками, а
положением образа (каков бы он ни был по своим характерологическим признакам) в
системе координат «я для себя» и «другой» (во всех его разновидностях). Зона свободы
и незавершимости.
Во всем тайном, темном, мистическом, поскольку оно может оказывать
определяющее влияние на личность, Достоевский усматривал насилие, разрушающее
личность. Противоречивое понимание проблемы старчества103. Тлетворный дух (чудо
поработило бы). Именно это определило художественное видение Достоевского (но не
всегда его идеологию).
Овеществление человека в условиях классового общества, доведенное до предела в
условиях капитализма. Это овеществление совершается (осуществляется) внешни
1961 год. Заметки
221
ми силами, действующими вовне и извне на личность; это — насилие во всех
возможных
формах
его
осуществления
(экономическое,
политическое,
идеологическое), и бороться с этими силами можно только вовне и внешними же
силами (оправданное революционное насилие); целью же является личность.
Проблема катастрофы104. Катастрофа не есть завершение. Это — кульминация в
столкновении и борьбе точек зрения (равноправных сознаний с их мирами).
Катастрофа не дает им разрешения, а, напротив, раскрывает их неразрешимость в
земных условиях, она сметает их все, не раз?ешив. Катастрофа противоположна триумфу и апофеозу. 1о существу, она лишена и
элементов катарсиса. Задачи, которые стоят перед автором и его сознанием в
полифоническом романе, гораздо сложнее и глубже, чем в романе гомофоническом
(монологическом). Единство эйнштейновского мира сложнее и глубже ньютоновского,
это — единство более высокого порядка (качественно иное единство).
Подробно осветить различие между характером и личностью. И характер в какой-то
мере независим от автора (неожиданный для Пушкина брак Татьяны), но
независимость (собственная логика) носит объектный характер. Независимость
личности носит качественно иной характер: личность не поддается (сопротивляется)
объектному познанию и раскрывается только свободно диалогически (как «ты» для
«я»). Автор — участник диалога (в сущности, на равных правах с героями), но он несет
и дополнительные, очень сложные функции (приводной ремень между идеальным
диалогом произведения и реальным диалогом действительности).
Достоевский раскрыл диалогическую
природу общественной жизни, жизни
человека. Не готовое бытие, смысл которого должен раскрыть писатель, а незавершимый диалог со становящимся многоголосым смыслом.
Единство целого у Достоевского носит не сюжетный и не монологический идейный
характер, т. е. одноидейный. Это единство надсюжетное и надыдейное.
Борьба объектных характерологических определений (воплощенных главным
образом в речевых стилях) с моментами личностными (незавершимо
1961 год. Заметки
221
стью) в ранних произведениях Достоевского («Бедные люди», «Двойник» и др.)Рождение Достоевского из Гоголя, личности из характера.
221
Анализ именинного вечера у Настасьи Филипповны. Анализ тризны Мармеладова.
Распад эпической целостности образа человека. Субъективность. Несовпадение с
самим собою. Раздвоение105.
Не слияние с другим, а сохранение своей позиции виенаходимости и связанного с
ней избытка видения и понимания. Но вопрос в том, как Достоевский использует этот
избыток. Не для овеществления и завершения. Важнейший момент этого избытка —
любовь (себя самого любить нельзя, это — координатное отношение), затем
признание, прощение (беседа Ставрогина с Тихоном), наконец, просто активное (не
дублирующее) понимание, услышанность. Этот избыток никогда не используется как
засада, как возможность зайти и напасть со спины. Это открытый и честный избыток,
диалогически раскрываемый другому, избыток, выражаемый обращенным, а ж
заочным словом. Все существенное растворено в диалоге, поставлено лицом к лицу.
Порог, дверь и лестница. Их хронотопическое значение. Возможность в одно
мгновение превратить ад в рай (т. е. перейти из одного в другое, см. «Таинственный
незнакомец»106).
Логика развития самой идеи, взятой независимо от индивидуального сознания (идеи
в себе, или в сознании во-^лкте, или в духе вообще), т. е. предметно-логическое и
(темное ее развитие, и особая логика развития о п лощенной в личности идеи. Здесь
^деп, поскольку она воплощена в личности, регулируется координатами «я» и
«другого», по-разному преломляется в различных зонах. Эта особая логика
раскрывается в произведениях Достоевского. Поэтому нельзя адэкватно понять и
проанализировать эти идеи в обычном предметно-логическом, систематическом плане
(как обычные философские теории).
«Конечное значение» памятника определенной эпохи, ее интересов и запросов, ее
исторической силы и слабости. Конечное значение — ограниченное значение.
1961 год. Заметки
222
Явление здесь равно себе самому, совпадает с самим собою.
Но кроме этого конечного значения, памятника есть еще его живое, растущее,
становящееся, меняющееся значение. Оно не рождается (полностью) в ограниченную
эпоху рождения памятника — оно подготовляется на протяжении веков до рождения и
продолжает жить и развиваться на протяжении веков после рождения. Это растущее
значение нельзя вывести и объяснить только из ограниченных условий одной данной
эпохи, эпохи рождения памятника. См. К. Маркс об античном искусстве. Это растущее
значение и является тем открытием, которое совершается каждым великим
произведением. Как всякое открытие (например, научное), оно подготовляется веками,
но совершается в оптимальных условиях одной определенной эпохи, когда оно наэре-л
о . Эти оптимальные условия и должны быть раскрыты, но они не исчерпывают,
конечно, растущего и непреходящего значения произведения.
Вступление: Цель, задачи и ограничения вступительного исследования. Открытие,
сделанное Достоевским. Три основных грани этого открытия. Но предварительно
дадим краткий очерк литературы о Достоевском под углом зрения этого открытия.
Слово, живое слово, неразрывно связанное с диалогическим общением, по природе
своей хочет быть услышанным и отвеченным. По своей диалогической природе оно
предполагает и последнюю диалогическую инстанцию. Получить слово, быть
услышанным. Недопустимость заочного решения. Мое слово остается в продолжающемся диалоге, где оно будет услышано, отвечено и переосмыслено.
В мире Достоевского, строго говоря, нет смертей как объектно-органического факта,
в котором ответственно-активное сознание человека не участвует, — в мире Достоевского есть только убийства, самоубийства и безумие, т. е. только смерти-
222
поступки, ответственно сознательные. Особое место занимают смерти-уходы
праведников (Макар, Зосима, его брат-юноша, таинственный незнакомец). За смерть
сознания (органическая смерть, т. е. смерть тела, Достоевского не интересует) человек
отвечает сам (или другой человек — убийца, в том числе казня
1961 год. Заметки
223
щий). Органически умирают лишь объектные персонажи, в большом диалоге не
участвующие (служащие лишь материалом или парадигмой для диалога). Смерти как
органического процесса, совершающегося с человеком без участия его ответственного
сознания, Достоевский не знает. Личность не умирает. Смерть есть уход. Человек сам
уходит. Только такая смерть-уход может стать предметом (фактом) существенного
художественного видения в мире Достоевского. Человек ушел, сказав свое слово, но
самое слово остается в незавершимом диалоге.
К Аскольдову: личность не объект, а другой субъект. Изображение личности требует
прежде всего радикального изменения позиции изображающего автора — обращенности к .«ты». Не подметить новые объектные черты, а изменить самый
художественный подход к изображаемому человеку, изменить систему координат.
Дополнить проблему авторской позиции в гомофоническом и полифоническом
романе. Дать определение монологизма и диалогичности — в конце второй главы.
Образ
личности
(т. е. не объектный об-а слово). Открытие (художественное)
Достоевского.
этой же главе изображение смертей у Толстого и Достоевского. Здесь же внутренняя
незавершимость героя. В начале главы при переходе от Гоголя к Достоевскому показать необходимость появления героя-идеолога, занимающего последнюю позицию в
мире, тип принимающего последние решения (Иван в характеристике Зосимы). Герой
случайного семейства определяется не социально устойчивым бытием, а берет
последнее решение на себя самого. Подробно об этом в третьей главе.
Во второй главе о замысле «объективного романа» (т. е. романа без авторской точки
зрения) у Чернышевского (по В. В. Виноградову)107. Отличие от этого замысла
подлинно полифонического замысла Достоевского. У Чернышевского в его замысле
отсутствует диалогизм (соответствующий контрапункту) полифонического романа.
Указатель содержания, вложенный в тетрадь ЛФ 2
<УКАЗАТЕЛЬ СОДЕРЖАНИЯ, ВЛОЖЕННЫЙ В ТЕТРАДЬ № 2>
№2
1. О возможности диалогических отношений между языками, соц. жаргонами,
языковыми стилями и т. п.; трансформация, превращение их в социальные голоса,
обобщенные проф. голоса. Стр. 1-4
2. Определение диалогизма, разнообразие диалогических отношений и голоса как
единицы диалога, голос может выразиться интенсивно в едином слове. Слово в
диалоге как драма, выпадение из диалога и овеществление слова. 9-11
3. Экспериментатор как часть экспериментальной системы, понимание как
вхождение в диалог; каузальное объяснение как ложное опровержение. 14-15
4. Диалогические отношения, их отличие от логических и др.; диа-логизм шире
диалога; диалоги мертвых; диалогические отношения согласия; отличие от
лингвистических отношений. 19-24
5. Проблема третьего в диалоге; над адресат высказывания; проблема услышанностн
и ответностн; критерий глубины. 24-30
6. Проблема сюжета у Достоевского; его влияние. 32-33
7. «Доктор Фаустус» Т. Манна. 33-34
223
8. Открытие новой структуры образа человека — чужое сознание, не вставленное в
завершающую оправу действительности, вне и рядом стоящее сознание. Прометей,
создающий свободных людей, которые оказываются с ним (со своим автором) на
равных правах Он открыл нечто, что незавершимо извне. 34-35
9. Второе открытие — саморазвитие воплощенной идеи; третье — Аналогичность
как особая форма взаимоотношения равноправных сознаний; единство трех открытий.
35
10. Формально-содержательный характер открытий; ср. с Тургеневым. 35-36.
И. Идея полифонии после моей книги.
12. Особая активность автора полифонического романа (диалогическая). 37-40
13. Идея как предмет художественного видения и изображения.
40-41
14. Логика действительности, ограничивающая произвол художника, и логика
личности, воплощающей идею. 41
15. Личность связана с последними вопросами и последними решениями. 41-42
16. Одно сознание не может существовать без другого сознания; то, что происходит
на границах, на пороге двух созна
224
Указатель содержания, вложенный в тетрадь № 2
224
нни; внутреннее не довлеет себе; общение; быть значит общаться, быть и для
другого, быть услышанным и увиденным. 43-45
17. Исповедь и ее трактовка у Достоевского как события взаимодействия и
взаимозависимости сознаний; невозможность одинокого самопрнзнанжя и
самооправдания; непрнзнанность человека в классовом обществе; невозможность
одинокого сознания; видение не души, а духа. 45-49
18. Исповедь не последняя форма» * предмет изображения у Достоевского;
разложение наивной исповеди; человек у зеркала. 49-51
19. Переживание безотносительно к форме «я» и «другого. 51-52
20. Изображение смертей у Толстого и Достоевского; овеществление сознания; связь
с авторской позицией. 52-57
21. Влияние Достоевского еще не достигло своей вершины; какие стороны его
творчества еще не поняты. 57-58
22. Подготовка наиболее устойчивых элементов содержательной формы и
оптимальные эпохи их актуализации. 58-59
23. Содержание первой части. 59-60
24. Овеществление человека; борьба с насилием, внутренним вы-нуждением и
подглядыванием, неуважением. 60-61
25. Преодоление монологической модели мира; раскрытие глубинного диалогизма
слова; порог и кризис; определение личности. 62-63.
26. Определение монологиэма; отказ другому в последнем слове. 63-64
27. Биографическая целостность образа никогда не может стать предметом
собственного опыта; зеркало. 64
28. Диалогическая природа самой человеческой жизни; незавер-шимый диалог;
человек участвует в этом диалоге и словом и всем телом (глазами, губами и т. п.);
проблема выразительности человек выразителен весь, и он выражает всем свою позицию в диалоге — ив отношении последнего смысла и в отношении «другого», во
всяком выражении вовне — отношение к другому, внутреннее я встречается с
«другим»; определение голоса; мой образ для себя и мой образ для другого; понятие о
224
человеке и образ человека (в форме «я» и «другого»); исповедь как форма встречи
глубинного я с другим, маски и лазейки. 64-69
29. Типы людей в отношении к последней ценности. 69-70
30. Острое ощущение своего и чужого в слове и в теле; наглость, застенчивость,
неблагообразне (зубная боль человека из подполья); благообразие и гармония; светскость, важность нт. п. (Миусов уважал свои взгляд) как мертвое и фальшивое
равновесие; свободное с о гласие в высшем; исключительная чуткость Достоевского к
борьбе «я» и «другого». 70-72
31. Не вещная психология, а логика личности. 72-73
32. Задачи вступительного исследования. 73-74
Указатель содержания, вложенный в тетрадь № 2
33. Невозможность нейтральной позиции в отношении «я» и «другого)»; исповедь.
74
34. Типы мировоззрений (Чаадаева, Грановского и др.), исторически-конкретные
голоса и их диалог, а уж затем сюжет и судьбы героев. 75-76
35. Завершающее слово автора овеществляло и унижало бы личность; заочные слова
только о второстепенных персонажах, не участвующих в диалоге. 77-78
36. Внеположные сознанию силы (от среды до чуда, тайны и авторитета),
разрушающие личность; сентиментальная и сатирическая объектность. 78-79
37. Изучение доэстетической, дотворческой реальности (эпохи).
79
38. Характер и личность; критика Аскольдова; положение образа в системе
координат. 80
39. Насилие (чудо); овеществление человека в классовом обществе. 80-81
40. Проблема катастрофы. 81-82
41. Задачи автора полифонического романа, раскрывающего не характеры, а
свободные личности; диалогическая природа жизни; рождение Достоевского из
Гоголя. 82-84
42. Вненаходимость и избыток. 84-85
43. Порог и кризис. 86
44. Логика развития воплощенной идеи. 86-87
45. Конечное значение (в условиях эпохи) и растущее значение памятника, его
подготовка в веках и открытие в оптимальных условиях эпохи. 87-88
46. Вступление и его задачи. 88-89
47. Диалогическая природа слова. 89
48. Убийства и самоубийства у Достоевского; уходы праведников.
89-90
49. Дополнения ко второй главе. 91-92.
225
Достоевский. 1961 г.
ДОСТОЕВСКИЙ. 1961 г.
С о гласие как важнейшая диалогическая категория. Огромное богатство и
разнообразие видов и оттенков согласия (основных тонов и обертонов его). Параллель
с музыкой. Н е согласие бедно и непродуктивно. Существеннее разно гласие; оно, в
сущности, тяготеет к согласию, в котором всегда сохраняется разность и неслиян-ность
голосов. Согласие никогда не бывает механическим или логическим тождеством, это и
не э х о ; за ним всегда преодолеваемая даль и сближение (но не слияние). Бесконечно
далекие и еле уловимые с о звучия. В согласии всегда есть элемент нежданного, дара,
чуда, ибо диалогическое с о гласие по природе своей свободно, т. е. не
предопределено, не неизбежно.
225
Существует некий минимум согласия как необходимое условие диалога (общий
язык, какой-то минимум взаимопонимания). Подлинное согласие является идеей
(регулятивной) и последней целью всякой диалогичности.
Во второй главе полемика со сторонниками концепции единой исповеди в
произведениях Достоевского, одной души, одного душевного ландшафта, с
психоанализом, с работой Попова и др.
Слово о присутствующем: в плане содержания особая деликатность и
ненавязывание. Свободное раскрытие и провоцирование. Полемика с Комаровичем.
В монологическом романе часто творится суд без предоставления подсудимому
последнего слова. Во второй главе о последнем слове самосознания, в третьей — о
последнем слове идеи. Ни самосознание человека (личность), ни идея, воплощенная в
человеке, не могут быть безгласными объектами приговора или вывода. Они остаются
со своим словом в незавершимом диалоге.
В третьей главе в вопросе о мышлении голосами дать развернутое определение
голоса как воплощенной идейной позиции в мире. Воплощение голоса в теле. Проблема выразительности у Достоевского (дух, а не душа). В той же главе о мышлении
конкретными мировоззрения
226
Достоевский. 1961 г.
226
ми (Белинского, Чаадаева и т. п.) по черновым заметкам (Долинин)1.
Кончить главу образом молодого ученого из «Хозяйки», который2 представляет себе
идею в образной форме, т. е. не мыслит, а видит ее3.
Карнавальная площадная вольность и фамильярная откровенность в условиях
гостиной превращается в скандал и эксцентричность.
Герои Достоевского не оставляют трупов4. Образ трупа (например, Раскольникова
или Ивана) в мире видения Достоевского не возможен.
Почему анализ «Двойника» получил такой большой удельный вес в нашей работе?
Поздняя оценка самого Достоевского не случайна5. Неудача серьезнейшего замысла
очень много дает аналитику. Диалогизм, исповедь. Обращенное слово.
Напряженнейшая словесная атмосфера.
Где развить тему о монологическом овеществлении человека. Где координатные
различия «я» и «другого».
Самосознание как доминанта изображения героя. Но эта доминанта предполагает
радикально новую авторскую позицию в отношении к изображаемому герою. Дело
идет не об открытии каких-то новых черт или новых типов человека (социальнохарактерологических), которые могут быть открыты, увидены и поняты с прежней
позиции, т. е. без радикальной перемены позиции. Дело идет именно об открытии
такого нового целостного аспекта человека (личности или «человека в человеке»),
которое требует радикально нового подхода к человеку, новой авторской позиции6.
«Человек в человеке» это не вещь, не безгласный объект, — это другой субъект, другое
равноправное «я», которое должно свободно раскрыть себя самого. Со стороны же
видящего, понимающего, открывающего это другое «я», т. е. человека в человеке,
требуется особый подход к нему — диалогический подход Это и есть та радикально
новая позиция, которая превращает объект (в сущности овеществленного человека) в
другой субъект, в другое «я», свободно раскрывающее себя. Автор отказывается от
объективирующего и завершающего подхода к человеку, при котором человек дан весь
и до конца, познается как объект весь сплошь без остатка, хочет он того или не хочет
(у объекта познания не спраши
Достоевский. 1961 г.
226
227
вают, хочет или не хочет он стать объектом познания и до какого предела, к нему не
обращаются с вопросами, изучающий и экспериментирующий ставит вопросы не ему,
а о нем себе самому или другому познающему в едином акте познания); человек при
этом, становясь предметом объективирующего познания, перестает быть тем
единственным, бесконечным и незавершимым миром, каким он является для себя
самого («я для себя» ) и каким он воистину есть, и становится ограниченным со всех
сторон и во всех отношениях одним из неограниченного множества объектов для
познающего сознания. Тут и встает задача познать человека в его истинной сущности
как другое «я», единственное, бесконечное и незавершимое, познать не себя самого, а
другое, чужое «я». Достоевский считает, что и свое «я» («я для себя» ) нельзя понять,
познать и утвердить без другого: без другого «я» и без признания и утверждения
другим «я» моего «я» («я для другого» ). «Я» по природе своей не может быть одиноким, одним «я». Необходимо взаимное отражение и взаимное утверждение двух и
множества «я», двух и множества бесконечностей (как равноправных).
Необходимо отметить, что художественное познание человека резко и
принципиально отлично от его абстрактного познания, образ человека принципиально
отличен от понятия о человеке. Образ не может быть нейтральным к формам «я» и
«другого» (к этим координатным отношениям), не может отвлечься от этих форм.
Образ всегда видит и дает человека и изнутри (из «я для себя» ) и извне (из другого и
для другого, <в> конечном счете из автора и для автора), в своем кругозоре и в чужом
объемлющем кругозоре, в конечном счете кругозоре автора. Мы и в нем и вне его.
Образ невозможен лишь при одной точке зрения, сущность образа — в своеобразном
сочетании (и слиянии) «изнутри» и «извне» (овнешнение внутреннего и оживление
внешнего). Но основная авторская позиция — позиция вненаходимости. И единство
целого и его завершение (идейное и иное) дается с этой объемлющей позиции
вненаходимости. Если бы автор сливался бы изнутри со своими героями (полное
вчувствова-ние или вживание в них), то он только дублировал бы жизнь, что и не
возможно и не нужно. Автор всегда
Достоевский. 1961 г.
227
имеет избыток над изображаемой изнутри жизнью. И за счет этого избытка автор
создает целое и завершает его. Наличие во всяком образе человека точки
зрения
изнутри
(как бы
потенции к единственности, бесконечности и
незавершимости) делает невозможным полное и
предельное
овеществление
человека в образе. Но тенденция к овеществлению есть, поскольку образ
человека остается объектным. Какая-то степень овеществления человека в образе
неизбежна в условиях классового общества. Но полное овеществление невозможно,
поскольку в авторском избытке есть любовь, сочувствие, сострадание и др. чисто
человеческие реакции на другого человека, невозможные в отношении чистой вещи.
Новая позиция автора в полифоническом романе, раскрывающая в человеке другое
«я для себя», бесконечное и незавершимое, не разрушает образа, ибо позиция
вненаходимости автора остается в полной силе. Но меняется т о п о с этой
вненаходимости и содержание избытка. Преодолевается объектность человека. Преодолевается монологическая односубъектность мира. Монологическая модель
сменяется моделью диалогической. Каждый герой становится голосом-позицией в
незаверши-мом диалоге. Позиция автора — сама диалогическая — перестает быть
объемлющей и завершающей. Раскрывается многосистемный мир, где не одна, а
несколько точек отсчета (как в эйнштейновском мире)7. Но разные точки отсчета и,
следовательно, разные миры взаимосвязаны друг с другом в сложном полифоническом
227
единстве. Функцию этого сложного единства осуществляет автор (эйнштейновский
разум).
Что такое завершенный монологический мир? Это мир, в котором героям его уже
нечего больше сказать; они все сказали, и последнее окончательное слово за них и за
себя говорит автор, опираясь на свою вненаходимость и свой решающий избыток. Не
обязательно, конечно, это слово дано в прямой авторской речи, которой вообще может
не быть, и слово это, художественно завершающее, а не абстрактно (философски,
этически и т. п.) оценивающее и судящее.
И в чистом рассказе от «я» (в литературной исповеди, например) всегда есть
авторская вненаходимость
Достоевский. 1961 г.
228
(в противном случае литературное произведение превратилось бы во вне
художественный личный документ).
Для того, чтобы открыть человека в человеке и художественно его показать (а не
сделать предметом отвлеченно философского мышления), необходимо радикально
освободить свое отношение к нему от тенденции к овеществлению человека, в том
числе и от его художественной объектности. Необходимо обратиться к нему как к
свободному и незавершимому «я», равноправному мне, которого нельзя вынудить,
нельзя остановить и завершить познанием.
К вступлению. «Против» В. Шкловского8. «Для Достоевского характерна передача
сущности явления в форме спора».
«...чем вызван тот спор, следом которого является литературная форма
Достоевского...»
«...объяснение стилистического своеобразия идеологией...»
«Спор включается в самую основу художественного построения произведений
Достоевского».
«Полифонический роман Достоевского».
Герой Достоевского участвует в мировом диалоге весь, всем своим существом:
своим словом, своим поступком, своим лицом, глазами, телом, каждым жестом, своим
молчанием, даже своей смертью (самоубийством). Герои Тургенева живут,
осуществляют свою социальную и индивидуальную судьбу (которая их вполне завершает) и между прочим и спорят9. У героев Достоевского вся их жизнь и судьба
растворяются в споре, в занимаемой ими диалогической позиции.
Этим определяется и особый характер выразительности у Достоевского. Это —
диалогическая выразительность Все, что выражает герой, окрашено, пронизано его
отношением к другому, всегда включает в себя элемент полемики или согласия,
отражает себя в зеркале чужого сознания. Всякое переживание героя лежит на границе
своего и чужого сознания, осознается из себя и из другого. Герой Достоевского всегда
перед зеркалом, т. е. глядится на себя и на свое отражение в чужом сознании10. Это и
создает особый характер его выражения во вне. Он знает о своей вненаходимости для
другого. Наружность Ползункова. Наружность Снегирева11.
Достоевский. 1961 г.
228
Выражение всякого чувства осложнено отношением к другому.
Исключительно обостренное отношение к своему отражению в зеркале чужого
сознания, вплоть до ненависти к этому зеркалу, до желания разбить его
(«Таинственный посетитель» )12.
Аскольдов «Психология характеров у Достоевского».
Личность и характер, различие в степени индивидуальности13.
228
Особенности героев: способность к сверхличным эмоциям, самоцельное актерство,
двойные переживания и результирующее отсюда самоотражение в другом и для другого и т. п.
П. Попов «"Я" и "оно" в творчестве Достоевского». «Достоевский», Москва, Гос.
Акад. художественных наук, 1928.
Функции черта и двойников: «оно» воплощается в персонаж, чтобы вступить в
диалогические отношения к «я», и таким образом осознается и преодолевается. Но и
другие герои являются продуктами разложения одного авторского сознания, например,
Подросток и Версилов. Отсюда и кажущиеся сюжетные неувязки. Реально только
одно-единственное сознание самого автора.
Задача настоящего вступительного исследования — раскрыть основные
художественные особенности (художественного) творчества Достоевского. По нашему
убеждению, Достоевский является одним из величайших новаторов в области самой
формы, т. е. самых основ художественного видения и понимания человека и мира.
Можно, как мне кажется, прямо говорить о художественном перевороте, совершенном
Достоевским (хотя переворот этот был, конечно, подготовлен веками и тысячелетиями
предшествующего развития художественной прозы): Достоевский как бы создал новую
художественную модель мира14.
Художественное новаторство Достоевского проявляется в четырех моментах:
1) Достоевский создал новый тип романа, который мы условно называем
полифоническим романом; этому полифоническому типу романа (и вообще
творчества) принадлежит будущее,
Достоевский. 1961 г.
229
2) Достоевский открыл новый художественный подход к человеку как предмету
художественного видения и наблюдения, нашел новую художественную позицию
наблюдателя-экспериментатора, позволившую ему раскрыть такие глубинные пласты в
человеке, которые раньше были недоступны; в результате радикально изменился
художественный образ человека в литературе,
3) в творчестве Достоевского идея (или, точнее, судьба идеи) впервые стала
предметом художественного видения и изображения,
4) Достоевский сумел раскрыть и использовать такие стороны в слове (языке) как
материале литературы, которые до него оставались в тени и использовались слабо и
недифференцированно, — именно диалогические стороны слова, Достоевский с
исключительной силой и глубиной актуализирует для художественных целей заложенные в слове диалогические энергии, внутреннюю диа-логичность слова; до него
использовались по преимуществу монологические моменты слова, т. е. организация
словесного целого в единстве одного творческого сознания (одноплановые и
одноголосые сочетания), художественная модель мира в литературе была
монологической, Достоевский же диалогизует все, к чему прикасается, единственно
адекватной формой словесного выражения человеческой жизни является для него
незавершимый диалог, он создает диалогическую модель мира в литературе (мы имеем
в виду, конечно, не узко-композиционное и несколько внешнее понимание монолога и
диалога).
Эти четыре особенности новаторского художественного видения Достоевского
составляют неразрывное единство. Все это в сущности только разные грани единой
художественной модели мира, созданной Достоевским. Каждой из этих особенностей
посвящены особые разделы нашей работы.
Этими четырьмя основными особенностями определяются и остальные черты
(моменты) творчества Достоевского: особенности сюжета, особенности в
229
использовании пространственных и временных ценностей и др. Все эти производные
моменты мы выделяем в особый раздел нашей работы.
В обширной литературе о Достоевском указанные особенности его творчества не
могли остаться незамеченными
Достоевский. 1961 г.
230
(в первой главе мы даем краткий очерк этих раскрытий^ >), но их радикальная15
новизна и органическое единство новой модели мира, созданной Достоевским, как нам
кажется, до сих пор остаются еще недостаточно раскрытыми. Литература о
Достоевском сама была слишком вовлечена в тот незавершенный диалог по острейшим
идеологическим проблемам16 (религиозным, этическим, с оцально-политическим),
каким является все творчество Достоевского. Ограниченная и преходящая острота
идеологической проблематики заслоняла более глубинные и устойчивые структурные
моменты его художественного видения17.
Мы полагаем также, что, несмотря на огромное влияние Достоевского на
современную литературу, радикально новые художественные принципы, введенные
Достоевским, до сих пор еще далеко не освоены и писателями. Мы убеждены, что эра
Достоевского, как художника, еще впереди.
Поставленная нами задача требует от нас и ряда определенных ограничений. Прежде
всего мы не будем касаться конкретного (ограниченного) содержания поставленных
Достоевским идеологических проблем18, т. е. мы не дадим себя вовлечь в
незавершенный диалог творчества Достоевского по существу, так как нас интересует
самая структура этого диалога, своеобразная логика этого сплошь диалоги -зованного
художественного мира, т. е. нас интересует именно модель этого мира. Таково первое
ограничение19.
Второе ограничение касается эпохи Достоевского, т. е. тех социальноэкономических условий, той социально-политической, общеидеологической и
литературной борьбы, из которых непосредственно вырастает творчество
Достоевского и которыми оно определяется. Эпоха Достоевского не будет
непосредственным предметом нашего изучения, однако не касаться ее мы, конечно, не
можем: переворот, совершенный Достоевским, не был бы возможным ни в какую иную
эпоху. Но в этом вопросе мы будем опираться на труды других исследователей. (Как
раз в последние годы советское литературоведение обогатилось рядом ценных работ
по данному вопросу).
Наконец, третье ограничение, может быть, самое существенное. Мы утверждаем,
что Достоевский совершил
Достоевский. 1961 г.
230
некий переворот в области- литературы, создал новую модель художественного
мира. Такой переворот мог быть осуществлен только в оптимальности условий
определенной эпохи, какой и была эпоха Достоевского. Достоевский — плоть от плоти
и кость от кости своего времени. Но завершаясь и, так сказать, воплощаясь в
определенную эпоху, такой переворот подготовляется на протяжении долгих столетий
и даже тысячелетий. Достоевский — наследник, продолжатель и завершитель одной из
традиций, долгой традиции, корни которой уходят еще в античную почву
(сократический диалог, диатриба, мениппова сатира, сатурналии, карнавал,
исповедальные жанры, агиография и т. д.). Традиция эта очень сложная, богатая
противоречивыми моментами и до сих пор мало изученная. По-настоящему понять и
оценить своеобразие художественного мира Достоевского можно только на фоне этой
традиции. Указанные нами выше четыре особенности художественного мира
230
Достоевского в элементах, зародышах и зачатках зачинались, формировались и
развивались на протяжении двух с половиной тысячелетий, но созреть и понастоящему родиться на свет, стать законченным и единым художественным миром,
стать переворотом в литературе они могли только в оптимальных условиях эпохи
Достоевского. Но от прослеживания этой исторической традиции в настоящем
вступительном исследовании мы должны почти полностью отказаться. Только в
четвертом разделе, посвященном сюжетным, пространственным и временным
ценностям, мы касаемся этой традиции, так как понять некоторые особенности
трактовки пространства и времени у Достоевского вне этой традиции почти невозможно (например, хронотоп «порога», на котором совершаются почти все важнейшие
события в мире Достоевского). В основном наше вступительное исследование носит
чисто теоретический характер.
Таковы принятые нами ограничения, вытекающие (диктуемые) из нашей задачи. Но
одновременно наша задача потребует от нас и некоторого выхода за пределы
творчества Достоевского, а именно постановки ряда обще-эстетических и теоретиколитературных проблем (и отчасти философских проблем), без которых невозможно
раскрыть своеобразия художественного новаторства Достоевского.
Достоевский. 1961 г.
Порог как хронотоп20. Переход во времени. Достоевский в записи в альбом
Козловой: не может распознать, кончает он или только начинает свою жизнь (339)21.
Вторая особенность: важно именно изменение авторской позиции.
Диалогические отношения не между репликами конкретного диалога, но между
голосами, целыми образами, целыми планами романа (макродиалог) и одновременно
диалогические перебои в каждом слове, в каждом жесте, в каждом переживании
(микродиалог). Развить в этом смысле четвертую особенность22.
Диалогические отношения между живыми голосами нельзя логизировать, нельзя
свести к голому pro и contra. Все духовные (и все осознанные, осмысливаемые)
отношения диалогичны.
Развить первую особенность: полифонический или многоголосый роман, резко
отличный от господствующего типа гомофонного или монологического романа. Равноправные с автором голоса.
К четвертому пункту: все основные связи и отношения в полифонном романе носят
диалогический характер: голоса, образы героев, планы романа и микродиалогические
отношения (точнее разложение) в каждом слове и т. п.
Письма23: стр. 5, 12, 33-34, 52 (о нигилистах и их отцах), 53 (образы в «Братьях
Карамазовых», носители идеи и диалогические отношения), 56-57 (то же), 58-59
(толкование образа Ивана и Инквизитора), 62-63, 64-65 («Карамазовы» ), 91-92 (образ
Зосимы), 108-109 (о диалогическом воплощении pro и contra, не по пунктам, а косвенно
и т. д.), 117, 118 (образ Мити), 128 (об отрицании Христа), 136-137 (Соловьев о знаниях
человечества, о двойственности человеческой природы), 175, 177-178, 190 (Иван и
черт).
[Сопоставление с «Таис» и серией о Куаньяре Франса24. Приключение правды в
«Сатириконе»25, лупанарии, гетеры ит. п., только потом появится Мария Египетская и
т. п.].
231
Достоевский. 1961 г.
231
Поэтика Достоевского (во введении как задача вступительного исследования)26.
Огромная технологическая работа, опубликование черновиков, четырехтомное
собрание писем, изучение творческой истории отдельных произведений. Наконец,
231
работа по изучению эпохи Достоевского. Творчество Достоевского никогда не сходило
с повестки дня советского литературоведения27.
Задачи поэтики отступили на задний план перед очень важными задачами
исторического изучения эпохи Достоевского и перед задачами критики отдельных
реакционных идей в публицистике Достоевского и отчасти отдельных голосов в его
полифонических романах (эта критика продолжала традиции революционных
демократов, особенно Салтыкова-Щедрина, и Горького).
В последнее время возобновляется разработка вопросов поэтики (отчасти в книгах
Ермилова и особенно Кирпоти-на)28. Вопросы поэтики заняли значительное место в
академическом сборнике, к которому мы переходим29.
Вера в возможность сочетания голосов, но не в один голос, в многоголосый хор, где
индивидуальность голоса и индивидуальность его правды полностью сохраняется. В.
диалоге не участвуют те, кому никакая <?> правда не нужна (Лужины, Миусовы,
Кармазиновы и Др.)- Но атеисты и нигилисты в этом диалоге участвуют. См. Письма,
стр. 52 и др. Только такая правда разбивает монологическую плоскость.
Лебезятниковы ее разбить не могут.
«Мы хоть и врем, да довремся же когда-нибудь до правды». Лужин, сколько бы ни
лгал, до правды никогда не доврется*0.
Осуществлена всегда может быть только частичная правда.
Чтобы был только голос Зосимы, но не было бы вовсе Ивана (или наоборот).
«В старых книгах Достоевский искал и находил споры» (В. Шкловский, стр. 172 и
дальше споры в библии и
др.)31Заметки 1962-1963
ЗАМЕТКИ 1962 г-1963 г.
1. Редуцирование смеха в творчестве Достоевского1.
2. Гармонически эквипотенциальная система и жанр2.
3. Превращение собственного мировоззрения в предмет художественного видения, т.
е. в прототип образа идеи3.
4. Каждый образ имеет отношение к целому, предвосхищает его и является его
представителем, притом противоречивого и становящегося целого. Без отношения к
этому целому образ перестает быть образом, становится просто единичным, частным
явлением, не выходящим за свои пределы.
Двуединые образы у Т. Манна («Круль», «Избранник»).
За победой всегда просвечивает поражение, за поражением — победа4, за началом
— конец и т. п. Всякое «да будет» неизбежно вбирает в себя «да прейдет».
Проблема преступления как центральная проблема Достоевского. Преступление и
грех.
Никто не причастен преступлению Раскольникова (ни Соня, ни Дуня, ни Порфирий,
только Свидригайлов). Мышкин чувствует свою солидарность (сопричастность) с
убийцей — Рогожиным.
Борьба за свое место в жизни (бальзаковская тема). Индивидуализм и одиночество.
Слезинка замученного ребенка. Свое и чужое страдание. Через преступление выход за
пределы естественного порядка (закона жизни).
Минусировать из смерти все то, что не может быть пережито в форме я.
Проблема смеха в творчестве Достоевского.
Фальшивая прямая фантастическая патетика в ранних письмах Достоевского.
Элементы позы. Отказ от прямого патетического слова. Проблема серьезности.
Проблема гоголевского смеха; его ложная интерпретация. «Мертвые
232
232
Заметки 1962-1963_
233
души» как «Божественная комедия» в смеховом плане. Мистерия в творчестве
Гоголя. Звучит только дьяблерия, а сама мистерия — редуцирована. После Пушкина и
Гоголя смеховая (карнавальная) линия в русской литературе оборвалась. Традиция
смехового (карнавального) ада (Гоголь — Достоевский). Неосуществленные замыслы
Пушкина («Мария Шёнинг»5 — смерть — смех, психическое раздвоение, проститутка
— убийство и т. п.).
Анализ «Братьев Карамазовых». Образ Федора Павловича как образ шута.
Наружность шута у Смердякова: несмеющийся, надуто-хмуро-серьезный шут (особый
тип шута), подмигивающая серьезность (пиковая дама). Черт-приживальщик —
порождение и повторение Федора Павловича. Роль юродивой, блаженной и гетеры в
жизни Федора Павловича. Проблема сыновей — желание избавиться от них (как
потенциальных наследников-убийц). «Скупой рыцарь»6. Буду жить долго и никому
наследства не оставлю. Спор о наследстве как основа сюжета. Он же сливается со
спором о гетере. Анализ скандала в келье Зосимы. Анекдоты (о Дидро, о святом без
головы); игра (шутка) Ивана в церковность.
Стиль ранних писем Достоевского и тирада Лебядкина о «позорах» и «безднах» (в
гостиной Варвары Петровны).
Система пародийных отражений или дублирований («верующие бабы —
неверующие дамы»). Смеховой образ Хохлаковой, входящий как в сферу Зосимы, т. е.
церковную сферу, так и сферу нигилистов.
Подмигивание Свидригайлова и др.
Образ доктора-иностранца (ателланы, комедия дель ар-те). Образ пьяного (шута с
надрывом), из репертуара мима. Спор (синкриза) веры с неверием в смеховом плане:
«За коньячком», выступление «Валаамовой ослицы» с элементами пародии на жития и
проповеди, дурацкая вера Григория. И вера и неверие в равной мере поданы в пародийно-смеховом плане. Пародийный и контаминированный образ Зосимы в пьяной
болтовне Федора Павловича (см. смешение с другим Байрона в «Дядюшкином сне»7).
Проблема ложной серьезности. Она связана с проблемой безоговорочно серьезного,
последнего и окончательного слова. Стремление уйти, удержаться от него (эпохэ8).
«Не как дурак же я верю», «горнило сомнений»9. Рядом с дурацкой верой Григория
стоят дурацкие сомнения
_Заметки 1962~1963
Тип героя Достоевского (литературный и общеэстетический). Морософ
(глупомудрый). Сократ, Диоген, Эпикур, Маркольф10, Уленшпигель, Дон Кихот,
Симплицис-симус и др. Отличие от типа эпического героя. Герой «Жития великого
грешника» чрезвычайно похож на Сим-плициссимуса11. Из романных героев —
Ставрогин. Неисчерпанность жизненным положением и судьбой. Незавер-шимость и
несовпадение с самим собою. Эксцентричность. Скандал. Шутовство и чудачество.
Во всей мировой литературе наиболее близкими к Достоевскому по духу и по форме
два произведения: «Климентины»12 и «Симплициссимус». При том «Климен-тин» он,
вероятно, вовсе не знал, а «Симплициссимуса», вероятно, знал только понаслышке, из
вторых рук. Какие же основания для сопоставления (при отсутствии реальных
контактов)? Смысловая (художественно-смысловая) конвергенция и единство
традиции13.
Об ироническом употреблении модных терминов (модель, моделирование и т. п.) и
вообще терминов. Определенность термина (и его устойчивость и однозначность)
может быть только функциональной и только в системе. Где такой системы нет (в
литературоведении), определенность и однозначность изолированного, отдельного
233
термина превращает его в тот лежачий камень, под который вода не течет, живая вода
мысли. Это касается всех гуманитарных дисциплин, кроме лингвистики структурного
типа14.
Карнавальные формы и их огромная моделирующая сила. Отличие от сменяющихся
форм официального мировоззрения. Основные отличия: амбивалентность (сочетание
хвалы и брани, жизни — смерти и т. п.), другие границы между явлениями, отсутствие
завершенности (окончательного конца, точки), отрицание односторонней серьезности
234
Хохлаковой. Дурацкая вера Ферапонта. Легкомысленное ожидание чуда, которое
разделяют и строгие монахи и Алеша. Поцелуй Христа Великому Инквизитору. Но и
этот последний не сжигает Христа. Сила здесь ничего не может разрешить. Должны
остаться оба собеседника.
Заметки 1962-1963_
234
и др. Увенчание-развенчание как одно из важнейших проявлений амбивалентности.
Официальные системы — это субстанциальные, а не функциональные системы (они
дог-матизуют материал и формы шахматных фигур). Низ и верх. Хождение колесом
(относительность верха и низа в колесе).
О наружности героев Достоевского: это или шуты Федор Павлович, Смердяков, черт
и др.) или маски Свидригайлов, Ставрогин). Но другие определенного лица не имеют
(Раскольников, Иван). Образ Терсита-шута, приданный Достоевским Петру
Верховенскому. Проблема тона и ее исключительное значение для литературы.
Ограниченная серьезность (в пределах прошлого, классового строя).
Шут не занимает место в иерархии. Серьезность, определяемая местом в иерархии.
Элемент угрозы, страха, запрещения. Отрицание относительности верха и низа. Неприятие развенчания.
Как человек становится шутом (Гриммельсхаузен).
Тон серьезности, рожденный в условиях угнетения и насилия и страха, организовал
определенные формы культуры, в том числе и определенные жанровые, сюжетные и
стилистические формы литературы (в основном — официальной). Известная степень
внутренней и внешней принудительности этих форм. Их строгая иерархичность; освящение незыблемых границ; недопустимость переходов и снижений. Картина мира, где
все явления строго разграничены и занимают неизменимые места (положения) в
иерархии. Эта картина мира глубоко субстанциональна. С ней нельзя шутить, она
монолитно серьезна. Здесь нет места для пародии и иронии, для пародирующих
двойников, для смен масок и переодеваний. Здесь все равно себе самому. Здесь нет
дублирований и второго плана. Незыблемость официальной иерархии.
комментарии
В настоящей, 5 м томе Собрания сочинений М. М. Бахтина собраны его работы
1940-х — начала 60-х годов. Ни одна из них (за исключением небольшой газетной
статьи 1954 г.) не была опубликована при жизни автором. Это и понятно: почти все эти
тексты автор рассматривал как рабочие, черновые, лабораторные и не предназначал их
к печати. Около половины из них были опубликованы посмертно, два текста
печатались лишь фрагментарно. 12 текстов публикуются в настоящем томе впервые.
В творческой биографии М. М. Бахтина 40-50-е годы — самый глухой период.
Автор живет незаметно в провинции, работая школьным учителем в Савелове
(Кимрах) — до осени 1945 — и затем преподавателем пединститута (позднее
университета) в Саранске, ничего за это время (кроме нескольких выступлений
местного значения в мордовской прессе) не печатал. Последние неудачные попытки
выйти в печать относятся к предвоенным годам: оставшаяся неизданной и
234
несохранившался книга о романе воспитания для издательства 4 Советский писатель»
и статья 4 Сатира* для невышедшего 10 тома * Литературной энциклопедии», также
несохранившался (в настоящем томе публикуется ее сохранившийся неполный
черновой вариант). Известные надежды связываются с законченной в 1940 г. большой
работой о Рабле, которую автор в 1946 г. защищает в качестве диссертации в ИМЛИ,
но хлопоты об ее издании также обречены на неудачу (см. ниже комментарий к *
Дополнениям и изменениям к "Рабле"»). В целом Бахтин в эти годы находится в
состоянии почти что научного и литературного небытия. Ситуация резко меняется,
вместе с общим историческим поворотом, в начале 60-х гг. (см. комм, к тексту «1961
год. Заметки»). 1963 — год выхода «Проблем поэтики Достоевского» — и является
верхней хронологической границей настоящего тома. Материалы, относящиеся к
переработке книги о Достоевском, заключают его.
В состав тома входят творческие тексты М. Бахтина за 1940-1962 гг., со
хранившиеся в его архиве. Они дают картину работы автора в эти глухие десятилетия,
которая продолжалась, по экзистенциалистской формуле, «без надежды на успех».
Новых законченных трудов за это время он, строго говоря, не написал (кроме, может
быть, «Проблемы речевых жанров» и «Проблемы текста», да и эти работы тоже —
предварительные и незавершенные). Но мысль его работала в «неофициальных»
формах как бы научного и философского дневника, листами из которого выглядит
большая часть составивших этот том материалов. Автор продумывает далее свои
прежние темы и открывает новые. Можно выделить в текстах этого периода несколько
главных направлений мысли: 1) собственно философская рефлексия вокруг основных
проблем бахтинской антропологии и эстетики («я» и «другой», личность и вещь, слово
и вещь, «вопросы самосознания и самооценки»); в текстах периода намечается их
новый синтез, определяемый как «философские основы гуманитарных наук» (см.
комм, к этому тексту); 2) продолжается разработка «раблезианской» проблематики и ее
внедрение в бахтинскую картину истории культуры и литературы; 3) на протяжении
всего периода уясняются новые подходы к творчеству Достоевского, давшие в
результате книгу 1963 г.; 4) автор заново обращается к философско-лингвистической
проблематике, открытой еще в 20-е годы, разрабатывал теорию речевых жанров и
обосновывая понятие металингвистики. Эти направления мысли сложно
переплетаются между собой, образуя разветвлен
235
ный философско филологический контекст, который и отличает мысль Бахтина и
представление о котором лучше всего могут дать именно подобные неофици альные,
лабораторные тексты. Теоретическая проблематика идет в них рука об руку с поэтикой
важнейших для автора мировых писателей, прежде всего Достоевского и Рабле, а
также Шекспира и Гоголя; в текстах этого периода открываются и такие достаточно
неожиданные для читателей Бахтина персональные фокусы его теоретического
внимания в литературе, как Флобер и даже Маяковский, а также, скажем, такой не
подвергшийся исследованию, но зна чительно упоминаемый автор, как Джойс (см. *<0
Флобере>» и комм, к этому тексту).
В целом можно предлагаемый том назвать целиком архивным. За единственным
исключением уже упомянутой (и в известном смысле дежурной) газетной статьи 1954
г., все составляющие том материалы печатаются по рукописям в архиве. Это относится
как к текстам, публикуемым впервые, так равным образом и к уже публиковавшимся: в
этих последних исправляются немалочисленные неточности и ошибки первоначальных
публикаций, восстанавливаются непрочитанные ранее слова. Два текста,
публиковавшиеся фрагментарно, печатаются впервые полностью: «К философским
основам гуманитарных наук» и «К вопросам теории романа. К вопросам теории смеха.
235
<0 Маяков ском>». На втором из них надо остановиться специально, поскольку с ним
связана принципиальная проблема публикации бахтинских текстов в настоящем
издании.
Публикация этого текста — это, в сущности, публикация тетради, в которой он
записан автором. Текст, как показывает его составное заглавие (частично авторское,
частично редакторское), состоит из трех достаточно автономных звеньев, образующих
в то же время связанный переходящей из звена в звено проблематикой общий
теоретический контекст, который редакторы и комментатор предпочли сохранить, не
разбивал его в публикации на три отдельных текста.
Другой случай, когда мы пошли по пути публикации тетрадей, менял создавшееся
по прежним публикациям представление о бахтинских текстах, но восстанавливая их
авторскую композицию, связан с такими известными читателям работами, как
«Проблема текста» и «К переработке книги о Достоевском». Обе они в настоящем томе
печатаются в новой, существенно отличающейся от прежних публикаций, композиции
(см. комм, к тексту «1961 год. Заметки»).
В данных случаях публикация тетрадей оправдана цельностью их состава. В других
случаях, когда тетрадь заполнена пестрым материалом и находящиеся в ней тексты
тематически и проблемно разграничены автором, они, конечно, печатаются как
самостоятельные работы (например, «Слово о полку Игореве в истории эпопеи» и «К
истории типа (жанровой разновидности) романа Достоевского»).
Публикация бахтинских текстов на архивной основе — текстологический принцип
настоящего Собрания сочинений. Предлагаемый 5-й том в составе Собрания
отличается, как представляется, своей особой спецификой. Никакой другой том,
вероятно, не будет архивным в такой степени. Можно, видимо, с уверенностью
сказать, что многое из состава тома сам автор не стал бы печа тать. Однако редакторы,
текстологи и комментаторы тома приняли решение познакомить читателя с составом
сохранившихся творческих текстов автора самого малоизвестного нам периода его
работы. Нам открывается в материалах тома лаборатория мысли автора, продолжавшей
работать и развиваться в чрезвычайно малоперспективных исторических и личных
обстоятельствах. Принимая во внимание особый характер этого тома, рабочий
коллектив Собрания и постарался подготовить его к изданию прежде всего и раньше
других томов, вне порядковой очереди.
Из материалов тома единственная работа печатается с купюрами, произведенными
публикаторами согласно распоряжению, полученному от автора: см. комм, к
«Проблеме речевых жанров» и к архивным материалам, относящимся к этой работе.
236
В принципы издания входит публикация рукописных материалов, сопровождавших
работу автора над известными трудами. В настоящем томе такие материалы
печатаются или в составе комментариев к текстам (см., напр., комм, к «<0 Флобере>»),
или, в большинстве других случаев, в основном корпусе, как самостоятельные тексты.
В корпусе тома три таких солидных подготовительных материала: «Дополнения и
изменения к "Рабле"», затем философско-лингвистический блок материалов к
«Проблеме речевых жанров» и, наконец, заключающие том несколько текстов,
относящихся к переработке книги о Достоевском. Самостоятельное значение этих
текстов очевидно всем читателям и исследователям Бахтина.
Датировка работ явилась особой проблемой для настоящего тома. Лишь некоторые
из них датированы автором, некоторые другие можно более или менее определенно
датировать или по палеографическим признакам, или по сопутствующим внешним
обстоятельствам. Однако ряд текстов, главным образом в первой половине тома, очень
трудно приурочить к более или менее точной дате, и приходится их поэтому широко
236
датировать началом или первой половиной 40-х годов. Здесь существенной является их
принадлежность савеловскому (до сентября 1945) периоду — поскольку все материалы
тома биографически разделяются на две — савеловскую и саранскую — части.
Не все тексты озаглавлены автором в рукописи. В нескольких случаях текст, как
стихотворение, озаглавливается по первым словам, заключенным в редакторские
угловые скобки. («<Риторика, в меру своей л живости... >», *<К вопросам
самосознания и самооценки...>»). Редакторскими являются такие заглавия, как «<0
Малковском>», «<0 Флобере>».
В текстах исправляются лишь явные описки, особенности авторской орфографии и
пунктуации сохраняются. Сокращения слов и имен, которыми автор пользуется не
всегда регулярно, раскрываются в угловых скобках. Угловые скобки всюду являются
редакторским знаком; знаком <?> сопровождаются слова, в прочтении которых
остается сомнение, знаком <...> — пропуски в тексте в местах непоправимых
повреждений рукописи. Квадратные скобки — авторский знак, которым внутри своих
текстов в рукописях пользовался Бах тин. Все подчеркнутые автором в рукописи слова
и фрагменты текста (а иногда и части слова: «с о гласие» — см. с. 364 наст, тома) —
передаются разрядкой; однако для передачи подобных же авторских выделений в
цитируемых им стихотворных текстах (в «Дополнениях и изменениях к "Рабле"»),
чтобы не разрушать строку, используется курсив. Рукописи Бахтина изобилуют вторич
ными авторскими пометами, большей частью позднейшими, делавшимися при
пересмотре автором текста (отчеркивания и приписки на полях); они, как правило,
описываются в комментариях. Там же даются переводы иностранных текстов.
Комментарии в настоящем томе имеют особенности, отражающие характер тома.
Так, как правило, в них дается достаточно подробное описание воспроиз водимой
рукописи: положение рукописи в тетради (если это тетрадь), палео графические
признаки и т. п. Используется доступный комментаторам эписто лярный (письма М. М.
Бахтина и в особенности к нему) и документальный материал (протоколы заседаний
кафедры Мордовского пединститута университета), хранящийся в его архиве. Все
ссылки на материалы этого архива сопровождаются знаком: (AB). Комментаторы
уделяют особое внимание выявлению связей данного комментируемого текста с
другими работами Бахти на и с его проблемным миром в целом, а также
восстановлению затекстового, общенаучного контекста, в связи (чаще всего неявной) с
которым находится проблематика данного текста, так, теоретическая стратегия
философско лингвистических работ автора 50-х годов может быть понята лишь на
фоне тех лингвистических дискуссий и обсуждений положения в отечественном языкознании того времени, обзор и анализ которых и предпринят комментатором таких
работ, как «Проблема речевых жанров» и архивные материалы к ней, ♦Язык в
художественной литературе», «Проблема текста». Задачей комментария может быть
попытка хотя бы гипотетической реконструкции концепции автора, лить намеченной и
неразвернутой в данном тексте: так, небольшая запись
237
«Проблема сентиментализма» — вероятно, лишь предварительный набросок к
большой теме, интересовавшей автора с конца 30-х годов; по его устному
свидетельству, о сентиментализме им была написана работа, которая не сохра нилась;
в комментарии к краткому наброску и делается попытка, как бы собрать бахтинский
взгляд на сентиментализм из разных работ, в которых она так или иначе отразилась.
Комментарий может выявить не всегда указанные автором источники и даже
вкрапления конспектов и выписок из других исследований в авторском тексте; такого
рода вкрапления выявлены комментатором «Дополнений и изменений к "Рабле"» (см.
комм, к ним), характерны они и для архивных материалов к «Проблеме речевых
237
жанров». Важным для комментирования было также изучение обширных конспектов
фундаментальных трудов на европейских языках (главным образом на немецком),
содержащихся в тетрадях ММ Б и относящихся к концу 30-х — первой половине 40 х
годов; в комментариях используются бахтинские конспекты таких известных книг, как:
G. Misch. Geschichte der Autobiographie, 1907, E. Cassirer. Philosophie der symbolischen
Formen, Tl. 2, 1925, и Individuum und Kosmos in der Philosophie der Renaissance, 1927, и
др. (см. комм, к работам «Сатира», «Дополнения и изменения к "Рабле"», «"Человек у
зеркала"»). Выделения в тексте комментариев и в приводимых цитатах,
принадлежащие комментаторам, передаются курсивом. Отсылки комментаторов к
текстам Бахтина, печатающимся в на стоящем томе, даются с указанием лишь
страницы тома в скобках после цитаты: (с. ООО).
Картина деятельности М. М. Бахтина 40-х — начала 60-х годов будет неполной, если
не включить в нее названия работ, значащиеся в официальных документах этого
времени (списки научных трудов, представлявшиеся автором в разные годы, работы,
записанные в планах кафедры Мордовского пединститута-университета). В бумагах
М.М.Б. в АБ хранятся два варианта (черновой и беловой) следующего списка, оба
написанные рукою автора (приводим беловой список):
«Список научных работ М. М. Бахтина. I. Опубликованные в печати.
1. «Проблемы творчества Достоевского», Ленинград, 1929 г. (монография, 262 стр.)
2. «Толстой драматург», Юбилейное издание Л. Н. Толстого, т. IX, Москва
Ленинград, 1929 г.
3. «Идеологический роман Л. Н. Толстого», там же, т. VIII, М.-Л., 1929.
4. Вступительная статья и комментарии к отдельному изданию «Анны Карениной»
Л. Н.Толстого, Ленинград, 1930 г.
5. «Изучение спроса колхозного сектора» (статистическое исследование),
«Советская Торговля», Москва, Комакадемия, 1934 г.
6. «Сатира (ее история и теория)», Литературная Энциклопедия, т. X (находится в
печати).
П. В рукописи
7. «Рабле в истории реализма» (монография, 664 стр. на машинке), 1940 г. (отзывы
профессоров А. А. Смирнова и Б. В. Томашевского).
8. «Роман воспитания в Германии», 1938 г., 189 стр. на машинке (отзыв проф. Л. И.
Тимофеева).
9. «Мениппова сатира и ее значение в истории романа», 1941 г. (4 печ. листа).
10. «Теория романа» (монографическое исследование, 30 печ. листов); от дельные
главы были доложены в Институте Мировой Литературы им. Горького в 1940-1941 гг.»
Список подписан автором, но не датирован. Вероятно, он составлялся около 1945 г.
в связи с устройством в Мордовский пединститут и послужил осно вой для двух
других уже официальных списков, представлявшихся в 1945 г. в Саранск и годом
позже в Москву в ИМ Л И перед защитой диссертации (датирован 27.VI. 1946; ГА РФ,
ф. 9506, оп. 73, д. 71, лл. 95, 76). В публи куемом рукописном списке АБ пункт 5
зачеркнут автором, но последующая нумерация пунктов не изменена; в официальные
списки этот пункт затем не
238
включался (как, очевидно, сомнительный для списка научных работ филолога, а
главное, выдававший ссыльное прошлое автора, в официальных документах
замаскированное). Зато загадочная работа об «Анне Карениной», о которой ничего не
известно (отдельное издание романа со статьей и комментариями ММ.Б. нами не
обнаружено), присутствует также в списке ИМЛИ. Тома юбилейного собрания
Толстого указаны, вероятно, по памяти, неверно как в рукописном, так и в
238
официальном списке. Невышедший том «Литературной энциклопедии» со своей
«Сатирой» автор, как видим, уже в 1945 г. полагал еще находящимся «в печати». От
рукописного списка список ИМЛИ отличается лишь тем, что во второй раздел здесь
включена еще одна работа: «Художественная проза Гете», 15 печ. л., 1943 г., а также
сдвинута ближе к моменту представления списка датировка работы о менипповой
сатире (в черновом варианте рукописного списка АБ вначале означенная 1940, затем в
беловом варианте — 1941, в официальном списке ИМЛИ — 1944 г.) и к «Теории
романа» также поставлена близкая дата — 1945 г.
Из документов кафедры всеобщей литературы Мордовского пединститута
университета можно извлечь такой список тем и названий (некоторые из них записаны
автором или отмечены в институтских отчетах как выполненные работы или
прочитанные доклады, большая же часть — как запланированные темы): в отчете за
1945/46 уч. год значится как «в основном законченная» раоота «о народных
источниках гоголевского смеха» ( приказом по пединститу ту от 15 мал этого года
М.М.Б. командирован в Москву для сбора материалов к книге о Гоголе); «Основные
проблемы стилистики романа» (доклад на секцион ном заседании литературного
факультета 11.02.1948; работа «Стилистика романа» значится в кафедральных планах);
«Вопросы теории и истории романа» (запланированная на 1948 г. книга в 40 листов);
«Творчество Гете и Достоевского» (записано в планах на 1948-1950 гг. как
«продолжение старых работ»); «Буржуазные концепции эпохи Возрождения
(критическая историография вопроса)» (1948 1949; план работы: «1. Концепции
Возрождения до Буркхардта. 2. Критический очерк концепции Буркхардта»);
«Источники концепции А. Н. Веселовского» (другая формулировка: «Критика
концепции А. Н. Веселовского»); «Язык и стиль литературных произведений в свете
учения И. В. Сталина о языке» (1951); «Диалог в литературе и его виды» (статья
включена в общий план изучения «проблемы языка и стиля литературного
произведения в свете учения И. В. Сталина о языке»; см. комм, к «Из архивных
записей к работе "Проблема речевых жанров"»); «Проблема речевых жанров» (1953);
«Вопросы теории литературы в средней школе» (методическая статья в планах на
1953-1955); «Слово как образ (к вопросам поэтической семантики)» (план на 1954;
проспект работы записан в протоколе заседания кафедры от 3.01.54: «1. Предметносмысловой момент слова и его виды. 2. Экспрессивный момент слова. 3. Слово как
образ»); «Проблема эстетических категорий» (1956-1957); «Проблема сентиментализма
во французской литературе» (1958); «Проблема сентиментализма (к истории
критического реализма)» (1958 1959). Этот перечень тем составлен по материалам АБ
и по опубликованным архивным данным из госархивов (Центральный гос. архив
Республики Мордовия, архив Мордовского гос. университета им. Н. П. Огарева); см.:
«Биографический указатель ММ. Бахтина», подготовил В. И. Лаптун («Странник»,
молодежный журнал, Саранск, 1995, № 5 6, с. 90 94); «Хронологический указатель к
биографии М. М. Бахтина», сост. В. И. Лаптун и Т. Г. Юрченко («М. М. Бахтин в
зеркале критики», М., 1995, с. 99-102); С. С. Конкин, Л. С. Конкина. Михаил Бахтин.
Саранск, 1993, с. 267 268.
Как показывает состав текстов, образующих настоящий том, единственная
сохранившаяся реальная работа, соответствующая этим планам, отчетам и спискам, —
«Проблема речевых жанров» (но и она осталась, по-видимому, незавершенной).
Некоторым другим записанным в документах темам соответствуют в материалах АБ
лишь предварительные черновые наброски и разработки (о народных источниках
гоголевского смеха, к стилистике романа, диалог, сентиментализм; тема менипповой
сатиры проходит сквозь многие материалы тома). Некоторые тексты, вероятно, не
сохранились (см. комм, к «Проблеме
239
240
сентиментализма»). В основном же запланированные работы, по видимому,
написаны не были. В свои официальные планы автор записывал собственные темы,
которыми он в различных формах занимался многие годы, однако реальной картине
творческой работы М.М.Б. двух этих десятилетии официальные документы, конечно,
соответствуют очень условно. Зато документы воспроизво дят идеологический фон, на
котором приходилось работать автору, словно бы собственной судьбой
иллюстрировавшему одну из главных тем своей истори ческой культурологии —
соотношение официального и неофициального в истории культуры и общественной
жизни (о самоопределении автором собственной творческой судьбы как
«неофициальной» — см.: С. Бочаров. Событие бытия. - Новый мир, 1995, № 11, с. 213214).
Редакторы и комментаторы настоящего тома благодарят за разнообразную помощь,
выразившуюся главным образом в сообщении необходимых специальных сведений, —
В. Айрапетяна, Н. И. Балашова, Т. В. Васильеву, П. А. Грин цера, А. А. Гусейнова, Л.
Ф. Кациса, В. В. Кожинова, В. И. Лаптуна, С. Л. Лейбович, В. Л. Махлина, А. Е.
Махова, Л. С. Мелихову, fA В Ми хайлова, Н. И. Николаева, Л. Д. Опульскую, Н. С.
Павлову, Е. Г. Падерину, М. В. Подмарькову, С. О. Савчук, В. Страда, В. Н. Топорова,
И. Н. Фридмана. За полезные советы благодарим наших рецензентов — В. Е. Хализева
и А. П. Чудакова.
В настоящем томе тексты работ готовили и комментарии к ним написали:
К ФИЛОСОФСКИМ ОСНОВАМ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК. Текст:
Л. В. Дерюгина. Комментарий: Л. А. Гоготишвили. САТИРА. Текст и комментарий:
ИЛ. Попова.
СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ В ИСТОРИИ ЭПОПЕИ. Текст: Л. В. Дерюгина.
Комментарий:
И.
Л.
Попова.
К
ИСТОРИИ
ТИПА
(ЖАНРОВОЙ
РАЗНОВИДНОСТИ) РОМАНА ДОСТОЕВ
СКОГО. Текст. Л. В. Дерюгина. Комментарий: С. Г. Бочаров. <К ВОПРОСАМ ОБ
ИСТОРИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ И О НАРОДНЫХ ИС .
ТОЧНИКАХ ГОГОЛЕВСКОГО СМЕХА>. Текст и комментарий:
И. Л. Попова.
К ВОПРОСАМ ТЕОРИИ РОМАНА. К ВОПРОСАМ ТЕОРИИ СМЕХА. <0
МАЯКОВСКОМ>. Текст: Г. И. Теплова и Н. А. Паньков. Комментарий: Н. А. Паньков.
<РИТОРИКА, В МЕРУ СВОЕЙ ЛЖИВОСТИ...> Текст и комментарий: И. Л.
Попова.
«ЧЕЛОВЕК У ЗЕРКАЛА». Текст и комментарий: С. Г. Бочаров. <К ВОПРОСАМ
САМОСОЗНАНИЯ И САМООЦЕНКИ...>. Текст и коммента рий: И. Л. Попова.
ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К «РАБЛЕ». Текст: Л. С. Мелихова и
И. Л. Попова. Комментарий: И. Л. Попова. <0
ФЛОБЕРЕ>.
Текст:
Л. В.
Дерюгина. Комментарий: С. Г Бочаров,
Л. А. Гоготишвили (примечания 35 40). К СТИЛИСТИКЕ РОМАНА. Текст:
Л. В. Дерюгина. Комментарий:
С. Г. Бочаров.
ВОПРОСЫ СТИЛИСТИКИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В СРЕДНЕЙ
ШКОЛЕ. Текст: Л. С. Мелихова. Комментарий: Л. А. Гоготишвили (при участии С. О.
Савчук).
МНОГОЯЗЫЧИЕ, КАК ПРЕДПОСЫЛКА РАЗВИТИЯ РОМАННОГО СЛОВА.
Текст и комментарий: И. Л. Попова.
ПРОБЛЕМА РЕЧЕВЫХ ЖАНРОВ. Текст и комментарий: Л. А. Гоготишвили.
240
240
<ИЗ АРХИВНЫХ ЗАПИСЕЙ К РАБОТЕ «ПРОБЛЕМА РЕЧЕВЫХ ЖАНРОВ»>
(ДИАЛОГ. ДИАЛОГ 1. ДИАЛОГ 11. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИА ЛЫ). Текст
и комментарий: Л. А. Гоготишвили.
ЯЗЫК В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ. Текст и комментарий: Л. А.
Гоготишвили.
♦МАРИЯ ТЮДОР». Комментарий: С. Г. Бочаров.
ПРОБЛЕМА СЕНТИМЕНТАЛИЗМА. Текст и комментарий: С. Г. Бочаров.
ПРОБЛЕМА ТЕКСТА. Текст: Л. В. Дерюгина. Комментарий: Л. А Гоготишви ли.
1961 год. ЗАМЕТКИ. Текст: Л. В. Дерюгина. Комментарий: С. Г. Бочаров
(преамбула, примечания 33-107), Л. А. Гоготишвили (преамбула, приме чания 1 32).
ДОСТОЕВСКИЙ. 1961 г. Текст и комментарии: С. Г. Бочаров. ЗАМЕТКИ 1962 г. —
1963 г. Текст и комментарий: С. Г. Бочаров. Общая преамбула к комментариям — С. Г.
Бочаров.
Принятые в комментарии сокращения:
М.М.Б. — Михаил Михайлович Бахтин. АБ — Архив М. М. Бахтина.
АГ — Автор и герой в эстетической деятельности. — См.: М. М. Бахтин. Эстетика
словесного творчества.
ВЛЭ — М. Бахтин. Вопросы литературы и эстетики. М., Художественная
литература, 1975.
Д — Диалог (в настоящем томе).
Д-1 — Диалог I (в настоящем томе).
Д-Н — Диалог II (в настоящем томе).
ДКХ — Диалог. Карнавал. Хронотоп. Журнал научных разысканий о биографии,
теоретическом наследии и эпохе М. М. Бахтина. Витебск, 1992 — 1995.
Доп. — Дополнения и изменения к «Рабле» ( в настоящем томе).
Достоевский — Ф. М. Достоевский. Полное собрание сочинений в 30 томах. Л.,
Наука, 1972 — 1990.
Зап. — Из записей 1970-1971 годов. — См.: М. М. Бахтин. Эстетика словесного
творчества.
МФЯ — В. Н. Волошинов. Марксизм и философия языка. Основные проблемы
социологического метода в науке о языке. Издание 2-е. Л., Прибой, 1930. UM —
Подготовительные материалы (в настоящем томе).
ППД — М. Бахтин. Проблемы поэтики Достоевского. Издание второе, переработанное и дополненное. М., Советский писатель, 1963. ПТ — Проблема текста (в
настоящем томе).
ПТД — М. М. Бахтин. Проблемы творчества Достоевского. Л., Прибой, 1929. P-I940
— М. М. Бахтин. Франсуа Рабле в истории реализма. Рукопись, 1940 (АБ).
Р 1949/1950 — М. М. Бахтин Творчество Рабле и проблема народной культу ры
Средневековья и Ренессанса. (Второй вариант диссертации, перерабо тайной для
представления в ВАК в 1949-1950 гг.). Рукопись (АБ).
РЖ — Проблема речевых жанров (в настоящем томе).
СВР — Слово в романе. — См.: М. Бахтин. Вопросы литературы и эстетики.
ТФР — М. Бахтин. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и
Ренессанса. М., Художественная литература, 1965.
Ф — В. Н. Волошинов. Фрейдизм. Критический очерк. М.-Л., ГИЗ, 1927.
ФМ — П. Н. Медведев. Формальный метод в литературоведении. Критическое
введение в социологическую поэтику. Л. Прибой, 1928.
241
ФП — М. М. Бахтин. К философии постун См.: Философия и социоло
241
гия науки и техники. М., Наука, 198(3. .Крон. — Формы времени и хронотопа в
романе.
См.. М. Бахтин. Вопросы
литературы и эстетики. ЭСТ — М. М. Бахтин. Эстетика словесного творчества. М.,
Искусство, 1979.
к философским основам гуманитарных наук
Впервые (с сокращениями) — в составе примечаний С. С. Авери-нцева и С. Г.
Бочарова к частично основанным на настоящих записях бахтинским заметкам 1974 г.
«К методологии гуманитарных наук» (ЭСТ, 409-411). Название авторское. Рукопись
представляет собой двойной листок из ученической тетрадки, полностью исписанный
карандашом мелким убористым почерком, практически без всякой правки. Судя по
однотипности всех параметров графического оформления автографа, в том числе — по
отсутствию, несмотря на его тематическое распадение на две части (см. ниже), какихлибо известных по другим рукописям показателей временных перерывов в работе
(текст, в частности, несомненно написан одним и тем же карандашом), записи были
сделаны «на одном дыхании», вероятно даже — в один и тот же день. Рукопись
вложена — по-видимому, в целях сохранности — в обложку от другой ученической
тетради за 1946 г., не совпадающую по фактуре с двойным тетрадным листком самой
рукописи и потому не указывающую на точную датировку записей. Исходя из
совокупности имеющихся косвенных данных сопоставительно текстологического и
непосредственно содержательного характера (в частности, из предположительно
восстановленной И. Л. Поповой истории тематических и терминологических
изменений в многочисленных бахтинских текстах о Рабле — см. преамбулу к Доп., а
также прим. 19), можно предполагать, что настоящие записи были составлены позже Р
40, но раньше Доп., то есть не раньше начала 40-х гг. и не позже 1943 г. Никаких
данных о возможном внешнем заказе на текст такого содержания к настоящему
времени нет.
В рукописи имеется характерный бахтинский значок (горизонтальная линия с
небольшим кружком посередине — отмечен в прим. 17), свидетельствующий о смене
темы. После значка идет небольшой абзац «общего» содержания, а за ним — абзац с
подчеркнутыми первыми словами «Проблема серьезности*. Таким способом М.М.Б.
обычно обозначал в рукописях ведущую тему нижеследующего фрагмента, но не
название всей работы. Авторское название записей («К философским основам
гуманитарных наук») дано в «абсолютном» начале текста отдельной, подчеркнутой и
более крупно, нежели сам текст, написанной строкой. Такое неокончательно-рабочее
оформление автографа создает проблему, имеющую не только текстологическое, но и
содержательно-теоретическое значение. Два или один бахтинский текст содержат
настоящие записи? Свидетельствует ли поставленный М.М.Б. значок об их полном
сюжетном и смысловом распадении на две не взаимосвязанные части, или здесь
имеется все же диффузное содержательное взаимопроникновение двух формально
различных тем (о гуманитарной гносеологии и о Рабле)? В первом издании фрагмент,
начинающийся словами «Проблема серьезности», опубликован не был (ЭСТ, 409-4И).
Решение публиковать в настоящем издании весь состав записей в
242
качестве одного текста (остающееся, конечно, спорным) основано как па уже
отмеченном выше графически цельном оформлении записей, гак и на том, что,
несмотря на свое формальное тематическое распадение, записи сохраняют тем не
менее одну и ту же философскую направленность, единую смысловую и модальную
интонацию. Несомненная «одновременность» написания обеих частей автографа
косвенно подтверждает также их не только формальное, но и смысловое «соседство».
Можно даже предполагать, что фактически впервые использованный здесь в качестве
242
особого методологически весомого «хронотопа» ракурс рассмотрения раблезианской
тематики через призму «серьезности* был навеян именно предшествующей темой о
философских основах гуманитарных наук (см. прим. 19). Составляя записи на эту тему,
но параллельно обдумывая в то же время характер необходимых добавлений или
изменений в своих текстах о Рабле, М.М.Б., вероятно, сразу же зафиксировал во второй
части появившийся в связи с разработкой гносеологической темы новый разворот
раблезианской проблематики, не предполагая его непосредственной сюжетной связи с
предшествующей гносеологической частью, но и не разделял их как две совершенно не
соприкасающиеся области. В постраничных примечаниях будут отмечены те места из
«гносеологической» части рукописи, которые могут быть проинтерпретированы как
импульс или как жанрово-стилистический эквивалент смысловых компонентов
«раблезианской» части.
В любом случае публикация данных записей в качестве единого текста
представляется целесообразной уже по той причине, что они являются одним из
первых по времени и наглядных по характеру свидетельств если не прямо сюжетного,
то «мысленного» соприкосновения и даже сопряжения в общем философском
контексте двух полюсов бахтинской мысли — «персоналистически-полифонического»
и «раблезиански-родового» (в записях «соседствуют», разделенные всего несколькими
абзацами, «диалог с Богом» и «большое тело»). Присутствие обоих полюсов придает
записям амбивалентное смысловое напряжение, вплоть до угадываемых и
ускользающих от какого-либо однозначного понимания «зияний» (см. прим. 2, 6, 8 и
др.), но это же, одновременно, индуцирует возникновение неожиданных параллелей и
исчезновение ожидаемых «поверхностных» противоречий. Заост-ренно-диссонансному
восприятию способствует и рабочий характер записей, насыщенных чисто
констатационными редуцированными отсылками к крупным смысловым блокам,
известным по другим работам М.М.Б. Все такого рода неразвернутые упоминания
активных бахтинских понятий («кругозор и окружение*, «дистанция* и «избыток*,
«диалогичностъ* и «выражение*, «я и другой*, «зоны* героев и «встреча*), прямо
отсылающие к АГ, ФП, ПТД, МФЯ и др. работам, а также, соответственно, все
собственно «раблезианские» мотивы по необходимости оставлены в настоящих
примечаниях без комментария. Не оговариваются в постраничных примечаниях и те
содержательные и терминологические нюансы, которые возникают при сопоставлении
данных записей с частично основанными на них более поздними заметками «К
методологии гуманитарных наук», так как необходимый для этого исторический
ракурс комментирования (выявление вызванных тридцатилетним промежутком
смысловых и терминологических изменений как у самого М.М.Б., так и во внешней
научной ситуации) целесообразней ввести — что и предполагается сделать — при
публикации самих этих поздних заметок.
Усиливает смысловую многослойность записей и их насыщенность либо прямым
употреблением широко применяемых в то время категорий, либо подразумеваемыми
аллюзиями к ним. Создавая псевдоэффект терминологической «общепонятности»
бахтинского текста, эти категории и аллюзии всегда вместе с тем чуть сдвинуты в
сторону
243
свойственного именно М.М.Б. понимания проблемы. Этот «сдвиг» почти не имеет
прямого лексического выражения, ощущаясь в основном, используя терминологию
самого М.М.Б., как «второй голос» в слове. Искусственное воссоздание в
комментариях этого отсутствующего «прямого» слова М.М.Б. было бы неизбежно
неадекватным; целесообразней подставляется ориентировать комментарии на
«очерчивание»
тех
соответствующих
времени
написания
выразительно
243
противопоставленных смысловых позиций, в дискуссионно напряженном поле между
которыми движется, «двуголосо отсвечивая», бахтинекая мысль. Хотя краткость
записей не позволяет с достаточной уверенностью поименно восстановить всех
реально имевшихся здесь в виду М.М.Б. оппонентов, однако среди них несомненно
были Г Г Шпет и А. А. Мейер, которые и приняты условно в настоящих комментариях
за символических представителей тех дискуссионно противопоставленных друг другу
религиозно-философских
и
гносеологических
позиций
(«арелигиознофеноменологической» и «православно-платонической»), одновременно противостоя
которым, движется в данных записях мысль М.М.Б.
Известно, что взгляды Шпета и Мейера были хорошо знакомы М.М.Б.; известны —
в целом — и их бахтинские оценки: однозначно критическая по отношению к Шпету
(см., в частности, прим. 22) и неоднозначно положительная, двойственная, по
отношению к Мейеру. Фигура Шпета — одного из самых ярких и острых
представителей того типа философского мышления, который в терминах М.М.Б.
является принципиально монологическим, — интересна в данном случае и потому, что
во многом именно он стоял в истоке того влиятельного в отечественной гуманитарной
науке направления, скрытая полемика с которым пронизывает практически все работы
М.М.Б. 50-70-х гг. по лингвистической, литературоведческой и общеметодологической
проблематике, соответствующей теме настоящих записей (функциональным
«заместителем» Шпета и, соответственно, главным «именным» оппонентом в этих
бахтинских текстах станет В. В. Виноградов — см. примечания к РЖ, ПТ, блоку
архивных подготовительных материалов к РЖ и к работе «Язык в художественной
литературе»). Ситуация с Мейером и с условно символизируемым им платоническим
направлением русской философии (П. А. Флоренский, С. Н. Булгаков, С. Л. Франк, А.
Ф. Лосев и др.) сложнее: этого направления не было на авансцене 50-70-х гг. и,
соответственно, диалогическая полемика с ним (со всей шкалой оценок: от согласия до
неприятия) исчезла из последующих бахтинских работ, во всяком случае — из их
поддающихся на сегодня однозначному восстановлению диалогически заостренных
слоев. Меньше, чем «шпетовское», затрагивалось это направление и в
предшествующих работах М.М.Б. Фактически именно данные записи дают
наибольший материал для понимания бахтинской оценки этого направления, что
связано с их необычной по сравнению с другими бахтинскими текстами терминологической и смысловой тональностью: М.М.Б. активно применяет здесь
конечно, в своей аранжировке — некоторые термины и понятия, которые
контекстуально как бы прямо «указывают» на русский платонизм («диалектика
внутреннего и внешнего*, «бытие*, «память*, «целое*, «становление* и даже
«выражение* — понятие, используемое в настоящих записях именно в традиции этого
направления, а не, скажем, в смысле Б. Кроче и фосслерианцев, как это было, напр., в
МФЯ). В определенном смысле настоящие записи звучат как «авторизованный
перевод» мейеровского смыслового поля на более строгий «шпетовский» язык
(известно критическое отношение М.М.Б. к свободной языковой манере,
распространенной в русской философии), точнее — не «перевод», а сознательное
«совмещение* двух разнящихся философских планов с целью высечь из этого
совмещения
244
необходимую уже самому М.М.Б. смысловую искру. Сопоставление грех
разноплановых терминологических рядов («мейеровскою*, «шпетовского» и
собственно «бахтинекого») тем более интересно, что у Мейера (в меньшей степени —
и у других представителей русского платонизма) есть целый ряд терминов, которые
прямо соприродны бахтинским (таковы, в частности, многие понятия, окружающие у
244
Мейера аналогично — вплоть до подразумеваемой двуголос ости — используемую им,
и тоже в качестве одной из центральных, категорию «высказывание»). Совершенно
очевидно, с другой стороны, что это частичное терминологическое пересечение с
«мейеровским» рядом имеет у М.М.Б. и своего рода «запретные зоны», то есть такие
«мейеровские» категории, которые никак невозможны у М.М.Б. в той же смысловой и
экспрессивной функции (в «шпетовеком» же терминологическом ряду таких
«запретных зон» нет, но в нем нет и фундаментально «соприродньгх» терминов —
М.М.Б. абсолютно свободно движется в «шпетовском» поле, функционально
приращивая свой — «второй» — голос к любому его сектору). «Запретна», прежде
всего, категория «мифа* (аналогичная ситуация и с категорией «символа*), которая и у
самого Мейера, и у большинства других платоников, играя сакральную
центрирующую роль, иерархизирует через свои принципиально и сознательно не
категоризуемые смысловые потенции все другие, в том числе и строго употребляемые,
термины. М.М.Б. избегает этой категории (причем избегает и в позитивных, и в негативных контекстах); можно даже в определенном смысле говорить, что именно где-то
здесь в его концепции ощутима некоторая терминологическая «пустота», частично
заполняемая понятием «топографически единая картина мира» (напр., в Доп.), но чаще
— каждый раз именуемая заново. Не имея сколько-нибудь устойчивого языкового
обозначения, это смысловое поле некоторого всеобъемлющего аксиологического и
ценностного целого, в котором и на фоне которого только и возможны диалогические
отношения, тем не менее ощутимо практически во всех работах М.М.Б., составляя, в
том числе и из-за своей «неназванности», одно из самых трудных мест для интерпретации. В настоящих записях это смысловое поле, имеющее отдаленные диалогические
созвучия с платоническим мифом, не только имплицитно присутствует (в частности, в
категории «целого»), но как бы «взрывает» текст, неоднократно создавая в нем самые
напряженные смысловые натяжения, не ослабляемые «холодной водой» строгой
шпетовской терминологии. Смысловая глубина и неоднозначность наращиваются в
записях и за счет того, что диалогическое сопряжение мейеровской и шпетовской
стилевых и интеллектуальных манер накладывается здесь на указанную выше
амбивалентно-полюсную разноналравленность самой бахтинской мысли, иногда
расходясь, иногда совмещаясь с ней по векторам. Выявленные конкретные смысловые
«перемещения» бахтинской мысли в этом «четырехмерном» пространстве указаны в
постраничных комментариях. В целом данные записи, благодаря такой их двойной
перекрещивающейся амбивалентности, в определенном смысле являются, несмотря на
их краткость, vK-лючевым» текстом для бахтинских работ 40-50-х гг составляющих
настоящий том.
1. Терминологическая пара «вещь* и «личность* широко, но неоднозначно
использовалась в то время и в русской, и в европейской философии. Иногда она
выносилась в название работ (см., напр., Франк С. Л. Личность и вещь. — «Русская
мысль», 1908, № 11), но чаще это противопоставление было не столько прямым
объектом исследования, сколько выразительным средством для описания других
объектов. В такой — дефинирующей — функции полные или частичные аналоги
данной терминологической пары применялись (с разны
245
ми. в том числе и негативными, коннотациями) практически во всех шачимых для
М.М.Б.
философских
направлениях
(неокантианстве,
ф'моменологии,
экзистенциализме, персонализме, интуитивизме и Ф ) Некоторые аспекты бахтинской
позиции
рельефней
оттеняются
при
сопоставлении
используемой
им
терминологической пары «вещь» и «личность» с теми ее вариациями, которые были
распространены в 120-е — 30-е годы в русской философии. Так, в частности, А. А.
245
Meil-ер использовал, наряду с этой «исходной» парой, противопоставление «нечто* и
«некто* или «л» и «вещь* («Ревеляция (Об откровении)».
Мейер А. А. Философские сочинения. Париж, 1982, с. 170-171). Коли сам Мейер, так
же как и М.М.Б., проводит принципиальную границу между «я* и «вещью*
(«предметом»), то Г. Г. Шпет, тоже пользовавшийся этой вариацией, напротив,
максимально сближает их (ср.: «я есть предмет», «я есть социальная «вещь» —
«Сознание и его сооственник». — Шпет Г Г Философские этюды. М., 1994, с. 101,
102), что закономерно следует из свойственного Шпету, вероятно, под влиянием
Гуссерля, критического отношения к дильтеевскому разделению наук о духе и о
природе (Шпет квалифицировал это дильтеев-ское разделение как «гипноз, под
которым пребывает еще немало философов и людей науки...» — «Введение в
этническую психологию».
Шпет Г Г Сочинения. М., 1989, с. 519). М.М.Б., при всех оговорках, всегда,
напротив, позитивно оценивал это разделение Дильтея как исторически вовремя
прозвучавшую идею; вероятно даже, что в генетической перспективе именно эта идея
сыграла свою роль в выборе М.М.Б. противопоставления «вещи» и «личности» в
качестве средства для описания специфики гуманитарных наук. Особо следует,
видимо, выделить в числе применявшихся в философии вариаций используемой здесь
М.М.Б. терминологической пары противопоставление «вещи* и «имени* (см., в
частности, лосевскую работу начала тридцатых годов «Вещь и имя». — Лосев А. Ф.
Бытие. Имя. Космос. М., 1993, с. 802-880). Эта вариация, непосредственно связанная с
разделяемым многими русскими платониками имяславским учением, может быть
сопоставлена с другой бахтинской терминологической парой, имеющей аналогичное
философское содержание, но активизирующей несколько иной — непосредственно
языковой — аспект темы, (■парой «имя* и «прозвище* (см., в частности, Доп., где при
обсуждении соотношения «имени» и «прозвища» прямо упоминается имяславие в
качестве учения, абсолютизирующего одну из сторон проблемы — с 101). Отсутствие
эксплицитного языкового аспекта (хотя он отчетливо просматривается, например, в
категории «выражение*, максимально активной в МФЯ) относится к числу
отличительных свойств [энных бахтинских записей. В большинстве других работ — в
соответствии с фундаментальным бахти неким положением о взаимосвязи личности и
языка — лингвофилософский аспект выдвигается на первый план, и, соответственно,
то категориально-терминологическое и функциональное место, которое в настоящих
записях занято терми-чо\Г «личность», обычно отдается различным языковым
аналогам • «текст», «высказывание», «слово» и др., но никогда — только «имя»)
Поэтому и специфика гуманитарного мышления преимущественно вписывается в
других работах М.М.Б. (в отличие от настоящих записей) как «слова о словах»,
«тексты о текстах» (777, 306).
2. Фрагмент «мысль о Боге в присутствии Бога*, изъятый из первой публикации (см.
ЭСТ, 409), уточняет амбивалентно выраженную здесь бахтинскую позицию как
принципиально персоналисти-ческую в смысле отрицания не только возможности, но
— главное — самого стремления к слиянию личностей (в том числе и к слиянию с
Абсолютной Личностью) как к конечной высшей цели или «второму пределу*. В
лекциях и выступлениях М.М.Б. 1924-1925 гг., остав
246
шихся в записях Л. В. Пумпянского и опубликованных Н. И. Ни колаевым,
«персональное отношение к персональному Богу* оцени вается как конститутивный
признак религии, противостоящий всс\< версиям единого сознания, с той или иной
степенью целесообразности развиваемым в философии и других науках («М. М.
Бахтин как фи лософ». М. 1992, с. 246). Интересно, что у Шпета имеется вырази
246
тельный в обсуждаемом здесь контексте эпитет к такому призма ваемому им единому
«сознанию вообще»: оно, по Шпету, «ничье <\> знание» («Сознание и его
собственник», выше цит., с. 10/). Вероятно, что, неоднократно обыгрывая
впоследствии этот эпитет (см., напр.. РЖ, 192), М.М.Б. мыслил за ним именно Шпета,
хотя последний ссылается в этом вопросе как на свой первоисточник на Вл. Соловьева.
Проблема, однако, не исчерпывается указанием на принципиальный персонализм и,
следовательно, антимонологизм М.М.Б. Этот же фрагмент («мысль о Боге в
присутствии Бога*) противопоставляег бахтинскую позицию не только всем версиям
безличного единого духа или «сознания вообще», но и тем родственным концепциям,
построенным на Я-ТЫ отношениях, в которых слияние личностей также признается в
той или иной форме: либо как исходный постулат, либо как промежуточная или
конечная цель. Так, в частности, по СЛ. Франку, встреча Я и ТЫ «есть лишь
пробуждение в них некоего исходного первичного единства», «общего духовного
кровообращения» (Франк С. Л. Духовные основы общества. М., 1992, с. 50), которое
грамматически выражается в слове «мы» (там же, с. 51). Грамматическая категория
«мы», вырастающая до «Мы» всеобъемлющего, есть, согласно Франку, «необходимое
и имманентное выражение глубочайшего онтологического всеединства» (там же, с. 53).
Отношение М.М.Б. к «всеединству» — неоднозначная тема бахтинистики (см., в
частности, прим. 22), однако в любом случае столь сильные, как у Франка,
утверждения онтологического «Мы» в бахтинской системе координат исключены. О
сущностном «мы» как целевой заданности говорил и М. Бубер («Проблема человека».
— Бубер М. Два образа веры. М., 1995, с. 207). Более дифференцированную
формулировку, уточняющую бахтинскую позицию в этом вопросе, можно найти в
непосредственно примыкающей по времени написания к данным заметкам бахтинской
работе «<Риторика, в меру своей лживости... >»: «Бог одновременно во мне и вне меня.
Моя внутренняя бесконечность и незавершенность полностью отражены в моем
образе, и его вненаходимость также полностью реализована в нем» (с. 68). Хотя и у
Мейера, который по некоторым параметрам был ближе М.М.Б., чем многие другие
сторонники Я-ТЫ отношений (фактически только у Мейера есть теория, аналогичная
бахтинскому двуголосому слову и вообще его философии языка), также говорится о
«некто», стоящем над реальностью и являющемся одновременно и моим «я» и тем
«ты», к которому мое «я» обращено («Ревеляция», выше цит., с. 176), одна ко
утверждения такого рода в модальном отношении подаются Мейе-ром гораздо мягче
— так, что в них можно усмотреть не столько аналог сущностного всеединого «Мы»,
так или иначе ведущего, по М.М.Б., к монологизму, сколько отдаленное, но все же
сходство с бахтинской антимонологической идеей одновременного присутствия Бога
«и во мне, и вне меня». Главный «пункт» в этой бахтинской идее - отрицание
субстанционального
(монологического),
но
признание
функционального
соприкосновения личностей. Как именно понимать саму эту «функциональность» —
это уже другой вопрос, пребывающий на сегодня в области гипотез.
При всех неизбежных натяжках в такого рода параллелях можно все же
предположить в качестве одной из гипотез и то, что так и не высказавшись по этой
религиозно-философской проблеме полностью и
247
лаже оставив в немногочисленных имеющихся фрагментах на эту тему своего рода
смысловые зияния, М.М.Б. вместе с тем все-таки разрабатывал эту проблему в ее
косвенном, почти «закодированном» виде при обсуждении частных филологических
вопросов, и прежде всего — при обсуждении проблемы наличия или отсутствия образа
автора в созданном им произведении (подробней о главном оппоненте М.М.Б. в этой
области — В. В. Виноградове, за которым отчетливо просматривается фигура Шпета, о
247
специфических лингвистическом и литературоведческом контекстах проблемы образа
автора и о деталях позиции М.М.Б. см. прим. к РЖ, ПТ, к блоку подготовительных
материалов к РЖ и к работе «Язык в художественной литературе»). Настойчиво
отрицая субстанциональное присутствие автора-творца в его творении (одна из
кратких хранящихся в АБ бахтинских разработок на эту тему начала 60-х годов,
озаглавленная «Об одной эстетической особенности образа», прямо кончается жестким
для бахтинской стилевой манеры и прямо направленным против Виноградова резюме:
«Недопустимо субстанциональное представление автора») и тем самым,
соответственно, отрицая пантеизм, М.М.Б. настаивал вместе с тем на функциональном
присутствии автора в произведении (см. прямо об авторе не как образе, но как функции
в ПТ, 319), то есть настаивал — если перевести это в религиозно-философский
контекст — на наличии не субстанционального, но иного по своей природе касания
Божественного и тварного миров. Если оценивать позицию М.М.Б. как лежащую в
русле православия, то в качестве объясняющей посылки для понимания этой особой
связи можно мыслить православный энергетизм, но в любом случае известен конечный
символ балтийского понимания этой связи — диалогизм (диалогизм поддается
энергетическому, но не только энергетическому, толкованию). Поскольку любые
насыщенные и однозначные религиозно-философские толкования были бы здесь
преждевременны, то применительно к настоящим записям целесообразно лишь
развернуть данное бахтинское положение в абстрактном, чисто гносеологическом
ракурсе, сопоставив «вещь* и «личность* с гносеологическими «субъектом* и
«объектом*. Известный тезис о том, что «нет субъекта без объекта» (и обратно), что,
как это чаще всего формулировал сам М.М.Б., они сделаны «из одного куска» (М.М.Б.
связывал философскую обработку этого положения с Хайдеггером — см. ЭСТ, 396),
вероятно, также не разделялся М.М.Б. полностью, хотя в работах волошиновского
цикла именно эта идея разрабатывалась в специфически бахти не ком и новом для того
времени плане. Правомерным этот тезис становится, по М.М.Б., только в том случае,
если к предмету познания подходить как к «вещи» (тогда эта «вещь», действительно,
во многом будет зависеть в евоих качествах, согласно работам волошиновского цикла,
от субъекта, формируясь, в частности, за счет исходящей от субъекта оценки). Но если
к предмету подходить как к «личности» (то есть в сфере гуманитарного познания), то
образ познающего и познаваемого как сделанных из «одного куска» теряет силу:
между познающим и познаваемым в гуманитарных науках никакого сущностного
(субстанционального) единства быть не может. Между ними — всегда диалог, то есть
тоже общность, но особого — функционального — типа, предполагающая
одновременно и неслиянность (невозможность субстанционального отождествления) и
нераздельность (невозможность исключения какого-либо участника диалога без того,
чтобы не умертвить сам диалог) личностей. Отсюда —«функционализм» М.М.Б. может
быть оценен в этом контексте как светский символ одного из центральных положений
христианского учения.
248
3. Проблема «точности* в естественных и гуманитарных науках, к которой М.М.Б.
еще вернется ниже в настоящих записях, была в то время заострена Э. Гуссерлем в
связи с произведенным им критическим анализом дильтеевского разделения наук о
духе и природе (см., напр. Гуссерль Э. Философия как строгая наука. Новочеркасск,
1994, с. 196 и др). Неоднократно возникала тема точности знания и у Шпета
(«Мудрость или разум?* — Шпет Г Г Философские этюды, выше цит., с. 245-252),
который и был здесь, скорее всего, скрытым оппонентом М.М.Б. Мейер, напротив,
затрагивал эту тему в аналогичном бахтинскому ключе («Ревеляция», выше цит., с.
196).
248
4. «Проникновение* в текстах М.М.Б., в том числе и в настоящем, это получужой —
полупринимаемый, полуоспариваемый — термин, восходящий, скорее всего, к Вяч.
Иванову, согласно которому «проникновение» было одной из главных черт творческой
манеры Ф. М. Достоевского. Если в настоящем фрагменте поставленный М.М.Б.
акцент на этом понятии положителен, то далее в тексте (см. второй идущий ниже
абзац) акцент будет смещен в негативную сторону в соответствии с достаточно
критическим отношением М.М.Б. к теории вчувствования в целом (см. АГ).
5. Ср. об «ошибке* как о единственном известном системно-монологическому типу
мышления принципе индивидуализации личности в процессе познания в ППД, 107.
Именно такое — «монологическое», по М.М.Б., — понимание ошибки давалось в том
числе и Г. Г. Шпетом («Скептик и его душа». — Шпет Г Г Философские этюды, выше
цит., с. 140). В целом содержание данного фрагмента отражает специфическую
бахтинскую настроенность против преобладавшей в то время в гносеологии, в том
числе и гуманитарной, «иерархии» поддающихся познанию «слоев», или
«компонентов», смысла, согласно которой конечной целью познания является
безличный чистый смысл, имеющий свою, далее не отмысливаемую форму, а все
«привносимое» от персоналистических моментов акта познания считается,
соответственно, вторичными и даже «побочными» напластованиями, от которых в
идеале следует отвлекаться. Безличный логически-чистый смысл при этом мыслится
как отражение объективного отношения между вещами и предметами, а «побочные»
— субъективно-экспрессивные — компоненты смысла вообще выводятся за пределы
общей гносеологии, расцениваясь только как специфический предмет частной науки —
психологии. Со всей последовательностью и настойчивостью такое понимание
проводилось Шпетом, причем основным «материалом» для общих гносеологических
выводов был у него — так же как и у М.М.Б. — язык: «...в слове как таковом нет
особого носителя субъективных представлений и переживаний говорящего. Через них
понимание слова как такового не обогащается. Здесь речь идет о познании не смысла
слова, а о познании самого высказывающего то слово. Для слова это — функция
побочная... (>гого заключения нужно твердо держаться, потому что не только
дилетантизм до сих пор возится со словом как передатчиком «чужой души». Если
угодно, то, конечно, можно на этой роли слова сосредоточить все внимание, и это,
конечно, не лишено интереса, но этот интерес, эти занятия, это внимание —
психологов* (Шпет Г Г. Эстетические фрагменты, выше цит., с. 429). Шпет здесь —
прямой антипод М.М.Б., для которого, наоборот, именно безличный логически-чистый
(то есть в его терминах — монологический) смысл, составляющий, конечно,
необходимый компонент любого акта познания, является тем не менее — в
гуманитарных науках во всяком случае — вторичным и даже «техническим» аспектом
процесса познания. Сам по себе этот «переворот» гносеологической «иерархии» слоев
смысла еще
249
не отражает специфику бахтинской позиции (аналогичные утвержде ния встречались
и в некоторых других философских течениях, ориентированных на аксиологию,
переживание, философию жизни и т. п.), она в гораздо большей мере содержится в том,
что именно М.М.Б. понимал под теми «составляющими» акта гуманитарного познания,
для которых такой «чистый» безличный смысл является техническим (вторичным,
побочным) моментом. В настоящих записях эта сторона вопроса как бы сокрыта под с
виду обычным для сторонников аксиологического или ценностного подхода (или
«переживалыциков», как иронично называл их Шпет) ходом мысли, однако сам состав
называемых здесь М.М.Б. понятий (тайна, ложь, откровение, нескром ностъ,
оскорбление и др.; о добавлениях к этому бахтинскому списку см. прим. 14 и 19),
249
фактически возводимых в ранг приоритетных гносеологических категорий
гуманитарного познания, резко выводит его рассуждение за пределы стандартно
понимаемой аксиологии с ее системами ценностей. Это и не безлично понимаемые
Добро, Истина или Красота, и не «одиночество», «отчужденность» или «страх» в их
изолированно-субъективном
понимании,
преимущественно
свойственном
персонализму; приоритетные гносеологические категории М.М.Б. — это «имена» для
разных типов диалогических отношений между личностями, и именно они составляют,
по М.М.Б., конечную цель гуманитарного познания (в частных гуманитарных науках
эти бахтин-ские категории претерпевают соответствующие метаморфозы, трансформируясь, например в лингвистике, в формы и типы речевого общения, то есть в
жанры). Из такого понимания приоритетов гносеологии следуют далеко идущие
выводы, меняющие не только «технологию» гуманитарного мышления, но и его
философскую и даже религиозную телеологию, однако настоящие записи не раскрывают этих перспектив бахтинской мысли (они проговариваются, да и то не в полный
голос, лишь в крупных работах, и прежде всего — в ПТД и ТФР). Однако и
характерное для данных записей редуцированное изложение дает тем не менее
основания для хотя бы чисто логического противопоставления бахтинской позиции не
только шпетовской (и в целом феноменологической), но и мейеровской гносеологической «иерархии». Мейер тоже оспаривает гносеологическое первенство «чистого»
деперсонифицированного смысла, но в качестве противовеса он предлагает хотя и не
стандартно-безличные аксиологические ценности, в которых полностью отсутствовал
бы «другой*, но все же категории нормативно-регламентирующие: веление, запо ведь,
зов, требование и др. (ук. соч., с. 1у4). Эти категории по самой природе своей
«диалогичны», так как они звучат в человеке, согласно Мейеру, в качестве голоса
«самой реальности», но в бахтинских координатах такой императивно звучащий извне
«голос» сохраняет в себе отчуждение и холод безличных истин. Эта принципиальная
разница в позициях Мейера и М.М.Б. может быть проиллюстрирована и в их
отношении к языку, где, с другой стороны, наиболее весомо проявляется и их
глубинное сходство, основанное на свойственном обоим и фундаментальноонтологически понимаемом диалогизме. Мейеровская императивная нормативность
«голоса реальности», диалогически воспринимаемого человеком, жесткая однозначная
модальность этого «голоса» сказались на его отношении к языку как таковому,
который стал пониматься уже не только как форма или как функция, но и как само
содержание, как сама субстанция «голоса реальности»: «Откровение... заключено уже
в самом языке, в языковых образах, в том, что можно было бы назвать истиною языка»
(Мейер А. А., ук. соч., с. 216). С этим, конечно, вряд ли бы согласился М.М.Б., но
интересно, что с этим мог согласиться, хотя бы частично, Шпет, также склонный
видеть в языке, как вместилище безличного «ничьего* логоса, источник истины (о том,
что между
250
Мейером и Шпетом были точки схождения и в обсуждаемой здесь проблеме
нормативной модальности, см. ниже) М.М.Б. знал уже имеющиеся и предчувствовал
возможные в дальнейшем точки схождения «мейеровской» и «шпетовской* линий:
нормативные гносеологические модели «мейеровского» типа, даже если они и
учитывали диалогизм, ставились им в один ряд с монологическими безличными моделями типа шпетовской; при перечислении они давались М.М.Б. «через запятую* (см.
ППД, 106), то есть нормативизм фактически расценивался М.М.Б. лишь как
усложненная вариация монологизма. Последнее обстоятельство существенно для
понимания причин того, почему, настойчиво оспаривая впоследствии (в 50-е — 70-е
годы.) нормативизм, М.М.Б. полемизировал не с мейеровским, но со шпетовским
250
типом мышления (отразившимся, в частности, в нормативно ориентированной
лингвистической концепции В. В. Виноградова — см. примечания к блоку
подготовительных материалов к РЖ). «Норма» была для М.М.Б. объективной точкой
схождения «мейеровской» и «шпетовской» традиций в становлении отечественной
культуры 50-х — 70-х годов, и в этом смысле он равно противостоял обеим, но так как
нормативная струя в отечественной культуре была индуцирована, по наблюдениям
М.М.Б., внимательно следившего за ситуацией в частных гуманитарных науках,
именно шпетовской линией, последняя и стала преимущественным объектом критики.
Исходный нормативизм мейеровского типа, действительно, не имел в 50-е — 70-е гг.
сколько-нибудь заметного влияния на отечественные гуманитарные науки (фактически
он не имел даже внутреннего смыслового оазвития), в феноменологии же
отечественного образца, а вслед за ней и в структурализме, сложилась обратная
ситуация. Понятия «ценности» и «нормативных законов» тоже изначально
содержались в этих концепциях (в частности, у самого Гуссерля — см. ук. соч., с. 339 и
др.). У Шпета нормативный «заряд» просматривался уже в том, что те пласты смысла,
которые оценивались им как «побочные» и подлежащие снятию (то есть все
экспрессивное и личностное), не должны были тем не менее, по мысли Шпета,
вступать между собою в «эстетические противоречия», разрушающие «все
сооружение», ибо, согласно Шпету, существуют объективные законы эмоциональной
гармонии, законы уравновешенности экспрессии (Шпет Г Г Эстетические фрагменты,
выше цит., с. 468). отсюда до «нормы» даже не шаг, а полшага, который и был сделан
отечественной лингвистикой и литературоведением. Они шагнули и еще дальше: у
самих Гуссерля и Шпета нормативизм был все-таки периферией концепции, а у
отечественных продолжателей этой традиции он стал тендировать к центру
методологического мышления в гуманитарных науках: закономерности «чистого»
смысла транспонировали свою регламентирующую силу на смысл «нечистый»
(личностный), обратившись тем самым в аксиологические нормы.
6. Возможно, аллюзия к знаменитому фрагменту М. Бубера о дереве, созерцая
которое, «я», согласно Буберу, вступает с ним в отношения взаимности, воспринимая
его в единстве природного и шире
космического целого («Я и Ты». — Бубер М. Два образа веры. М., 1995, с. 18-19).
Характерно, что в написанном через несколько десятилетий Послесловии к «Я и Ты»
Бубер, поясняя положения этой своей ранней работы, начинает именно с темы
взаимоотношения человека с природой (в частности, со зверем) как с вызвавшей
наибольшее непонимание (там же, с. 85-86). Здесь, действительно, имеются подводные
рифы пантеизма (см. ниже). Ср. также аналогичные положения у мейера: «Образы, с
которыми мы сталкиваемся в нашем опыте природы, сами являются не только
данностями, но и знаками, говорящими о жизни... для того, чтобы услышать слово
жизни, необ251
ходимо найти в себе отклики образам природы...» (ук. соч., с. 208). Шпег, напротив,
считал персонифицирующее толкование природы метафизическим злоупотреблением
(«Сознание и его собственник», выше цит., с. 102).
Данное, с «пантеистическими рифами», место записей М.М.Б.,
трудности в толковании бахтинской мысли (подробней см. прим. 8).
7 Этот центральный для всей концепции М.М.Б. тезис о скрещении и сочетании двух
сознаний резко отвергался — конечно, вне всякой связи с именем М.М.Б. — Шпетом.
«... невзирая на крайний трюизм утверждения, что не может быть «сознания
сознания»... это утверждение не бессмысленно» («Сознание и его собственник», выше
цит., с. 99-100).
251
8. При всей отточенности данной формулировки она крайне непрозрачна в устах
М.М.Б. Это — один из самых сложных терминологических двуголосых гибридов
данного бахтинского текста. Если здесь эта мысль звучит как бы по-хайдеггеровски, то
в близких по времени написания заметках «<Риторика, в меру своей лживости... >»
встречается выражение, прямо связанное, скорее всего, с Мейером: «голос самого
мира* (с. 68). Глубинная метафоричность всех такого рода широко распространенных
в то время и несомненно подразумевавшихся здесь М.М.Б. символических выражений
не могла не привести к резкой постановке в философии принципиального вопроса о
том, кто же, собственно, мыслится в этих выражениях реальным субъектом речи, ее
«автором» (см. заостренную постановку этого вопроса у М. Бубера в его работе
«Диалог», где имеется специальная, так и названная глава: «Кто говорит?» — Бубер М.
Два образа веры, выше цит., с. 105). Ответы на вопрос об «авторе» давались самые
разные (Бог, сам язык, реальность, жизнь, природа, «только» человек и др.). М.М.Б.
несомненно знал и учитывал эту ситуацию, но ни самого вопроса в его прямой (а,
значит, неизбежно религиозной) форме, ни однозначного ответа на этот вопрос в
текстах М.М.Б. нет. В каждом случае бахтинские высказывания такого рода имеют
сложное, связанное с временным контекстом, смысловое строение, включающее
чужую — либо прямо смысловую, либо только языковую — позицию.
Дополнительные трудности для интерпретации данного фрагмента создает и сугубо
индивидуальная манера М.М.Б. употреблять такие «взрывоопасные» философские
термины, как «бытие*. «Бытие» почти нигде не имеет у М.М.Б. какого-либо
распространенного, «солидно-метафизического», смысла, в том числе и
платонического. В бахтинских работах к этому, обычно несущему субстанциональную
валентность термину тянулись — за счет окружающего контекста — смысловые нити,
идущие от одного из «динамизированных» (или — в другом ракурсе —
«функционализированных») контекстуальных соседей, чаще всего — от «события* или
«становления* (см. в этом плане прямое антиплатоническое высказывание о
понимании Достоевским «идеи» не как «бытия», а как «события» в ПТД, 239), то есть
из «бытия» в бахтинских текстах последовательно изымался общепризнанно присущий
ему субстанциональный и усиливался лишь иногда подразумеваемый в нем
функционально-динамический аспект. С другой стороны, субстанциональность и
своего рода статичность (почти «вечность») всегда вводились М.М.Б. в его понимание
личности («я для-себя*, несказанное и непотребляемое «ядро* души и др.); только
между так — субстанционально — понимаемыми личностями и возможно
диалогическое взаимо-действие. Отсюда следует, видимо, что категория «бытия»,
имманентно предполагающая в ка
вместе с некоторыми
вызывает определенные
252
честве одного из основных своих предикатов субстанциональность, использовалась
М.М.Б. в двуголосом плане: как завуалированная отсылка именно и только к
персоналистической субстанциональности (все же, что не имеет по определению или
употреблению прямой связи с личностным бытием, например, безличная «чистая»
идея, субстанциональностью по М.М.Б. — если двуголосый подтекст восстановлен
нами верно — не обладает). Во всяком случае такое понимание бахтинского тезиса
должно быть верно для настоящих записей, так как в их начале выдвинуто положение,
что любое выражение и говорение, в том числе «метафорически» приписываемое, как в
комментируемом здесь фрагменте, бытию, персонифицировано, то есть и исходит от, и
направлено к личности.
252
В собственно филологическом или культурологическом плане (то есть при
отвлечении от религиозно-философского аспекта) изложенный тезис не вызывает
интерпретационных трудностей, но ситуация в очередной раз осложняется тем, что он
предполагает и свою обратную 4юрмулу: все, что обладает субстанциональностью, в
той или иной степени персонифицировано и потому потенциально способно к
«говорению». И действительно, в этих же записях М.М.Б. в персона-листическом
ключе используется не только абстрактный и потому гибкий, легко поддающийся
интеллектуальному обыгрыванию термин «бытие», но и понятие природы (см. прим.
6), более «конкретное» и менее «обыгрываемое». Подводные «пантеистические рифы»
здесь как бы обнажаются. Предикат субстанциональности в «природе» несравненно
весомей, он входит в само сущностное ядро понятия, и потому подразумеваемый
М.М.Б. в таких словоупотреблениях персоналисти-ческии, а значит, несущий в себе
субстанциональность, смысл как бы сливается с самой природой, становящейся тем
самым «своего рода» личностью (существом). Возникающее при этом дискуссионное
пространство связано в контексте русской философии не только с пантеизмом (или
гилозоизмом), но — в долевой перспективе — и с острыми проблемами софиологии.
Целый шлейф аналогичных проблем возникает и по поводу казалось бы однозначных
понятий М.М.Б. уже в сфере конкретных частных наук, так как и при обсуждении
последних М.М.Б., как это теперь становится очевидным, всегда ставил
принципиальные для себя вопросы о форме (субстанциональной или функциональной)
присутствия автора — в его произведении, говорящего — в его высказывании,
типического образа — в речевом стиле и т. д. В конечном счете эта же проблематика
определяет собой и глубинный уровень бахтинской концепции полифонии.
Бахтинские тексты не предполагают однозначных ответов на все эти вопросы. Ни
прямо пантеистические (включая осложненно социологические), ни прямо
дуалистические (абсолютно разводящие Бога и мир, автора и его творение) толкования
такого рода фрагментов М.М.Б. неправомерны. И то, что Бог (автор, говорящий,
типический образ говорящего) не входит субстанционально в тварный мир (в
произведение, высказывание, стиль языка), и то, одновременно, что Он тем не менее
«присутствует» в этом мире — оба эти положения являются константами бахтинской
мысли (см. уже упоминавшуюся в прим. 2 бахтинскую 4юрмулу: Бог одновременно во
мне и вне меня) Стандартный диалектический ход в смысле снятия напряжения между
тезисом и антитезисом через синтез сам по себе здесь практически ничего не даст:
нужно хотя бы пунктирно наполнить пространство этого «синтеза» специфически
бахтинской смысловой плотью, которая обозначила хотя бы векторное направление
для понимания возможно предполагавшегося М.М.Б. типа совмещения этих
контрпозиций. Такую «векторную» смысловую перспективу может, в частности, дать
то отмеченное выше обстоятельство, что острота указанной философской дилеммы для
мысли М.М.Б. так или иначе сказалась на
253
центральных для его концепции частных гуманитарных нововведениях, из чего, уже
чисто гипотетически, можно предположить, что тезис о «субстанциональном
отсутствии автора при его же функциональной явленности* и в религиозной сфере
может трактоваться по принципу полифонии или непрямого говорения. Бог не дан в
мире субстанционально, но при этом не просто «понимается* в нем, «слышится через»
него, «говорит» им. Одного этого мало, чтобы уловить специфику М.М.Б. (аналогично
мыслили и Бубер, и Мейер, и Хайдеггер, и даже, при некоторой смене угла зрения —
при «замене» Бога в его принципиально арелигиознои концепции на, скажем, «логос»
— Шпет). Тварный мир может — в соответствии со спецификой бахтинской мысли в
целом — толковаться как именно непрямая или несобствен ная прямая речь Бога со
253
всеми вытекающими отсюда и до сих пор не отрефлектированными даже в
лингвистике последствиями. Логические «узелки» при такой интерпретации
бахтинской позиции будут развязаны, но конкретный религиозно-философский смысл
этой гипотетической реконструкции может оказаться самым непредсказуемым, то есть
вопрос о религиозной позиции М.М.Б. останется в этом случае «еще более» открытым.
9. Цитата из стихотворения В. А. Жуковского «Желание» (перевод из Шиллера); ср.
ту же цитату в АГ, 112: «... в бытии нет гарантий долженствования, «нет залогов от
небес». О смерти и бессмертии см. также в Доп. и в лекциях и выступлениях М.М.Б. в
1924-1925 гг. в записях Л. В. Пумпянского (выше цит., с. 233).
10. В автографе над незачеркнутым «вещи* надписано «субстанции*.
11.0 памяти см. прим. 13.
12. О теме зеркала у М.М.Б. см. примечания к работе «Человек у зеркала».
13. Ср.: «Выясняется, что всякий действительно существенный шаг вперед
сопровождается возвратом к началу... точнее, к обновлению начала. Идти вперед
может только память, а не забвение. Память возвращается к началу и обновляет его»
(«Рабле и Гоголь*. — ТФР, 533). Проблема памяти, данная здесь в чисто
констатационном и потому редуцированном плане, обычно сочетается у М.М.Б. с
почти отсутствующим в настоящих записях языковым аспектом. Понимая память не
только как свойство субъективного (изолированно-личностного) единства сознания, но
и как своего рода категорию культуры, М.М.Б. связывал «механизм* действия такой
культурологической памяти с формами языка как с «накопленной памятью в ее полном
смысловом объеме* («Рабле и Гоголь», там же). В этом смысле язык (его стилевые и
жанровые формы, и прежде всего древние и новые формы живого разговорного —
диалогического — общения) занимает, по М.М.Б., вместе с памятью одно из
центральных мест в современной философии (см. фрагмент, отмеченный в прим. 11). К
бахтинскому пониманию памяти как возврата к началам напрашивается аллюзия к Ф.
Ницше, но с точки зрения связи между памятью и языком значительней и интересней
оказываются параллели с разработками этой темы у двигавшегося в платоническом
русле Вл. Соловьева. Ср.: «Как память, поднимаясь над сменой моментов непосредственного сознания, удерживает исчезающее и возвращает исчезнувшее, так слово,
поднимаясь, кроме того, над сосуществовани ем дробных явлений, собирает
разрозненное в такое единство, которое всегда шире всякой данной наличности и
всегда открыто для новой. Память есть надвременное в сознании, слово есть и
надвремен
254
ное, и надпространственное» ([Теоретическая философия). — Соло въев В. С.
Сочинения в 2 т. Т 1 М. 1988, с. 812)
14. Расширение данного выше (см. прим. 5) состава специфически бахтинских
гносеологических категорий. См. также прим. 19.
15. Косвенное свидетельство внутренней антифеноменологической направленности
настоящих записей. Вероятно, под «не феноменаль ным* видением смысла имеется в
виду не видение имманентно при сущего сознанию инвариантного (внеопытного и
внеисторического) чистого смысла, а видение смысла, идущего извне, от
субстанционально противопоставленной и свободно самораскрывающейся личности,
сохраняющей — что также звучит антифеноменалистически неовнешняемое
«ядро* — «я-для-сеоя» (см. ниже по тексту). В ранних работах (АГ и Фи)
феноменологический метод применялся самим М.М.Б.
16. Ср. в работе «<Риторика, в меру своей лживости... >» формулировку
«дематериализация смыслом и любовью» (с. 67), являющуюся как бы дефиницией
«обратной» задачи «познающего» (в отличие от описываемой здесь «прямой» задачи
254
«материализовать смысл», встающей перед выражающим себя, то есть
«познаваемым»).
17 Ниже в рукописи следует специфический бахтинский значок, фиксирующий
смену темы (см. преамбулу).
18. Об «абсолютном сочувствии* см. прим. к работе «Человек у зеркала».
19. Непосредственно тематически и логически-сюжетно появление здесь, после
фиксации смены темы, проблемы серьезности связано, вероятно, с ведущейся в то
время подготовкой к продолжению работы над раблезианской тематикой (см. прим.
25), но цельный характер рукописи, написанной как бы на едином дыхании (все
внешние «технические» характеристики рукописи никак не изменились — см.
преамбулу), позволяет увязать проблему серьезности, взятую в контексте настоящих
примечаний, и с темой «философских основ гуманитарного познания». Эта возможная
связь просматривается, в частности, через предполагаемо ведущуюся в
предшествующих записях скрытую полемику с -- условно — «мейеровским» течением.
С этой точки зрения, «серьезность» могла возникнуть здесь как найденная
обобщающая категория для фиксации критической бахтинской оценки той
«нормативной» (императивно-силовой) модальности мейеровской теории ценностей, о
которой говорилось в прим. 5. Имеются даже основания предполагать, что тема
серьезности — в той значительной форме, которую ей впоследствии придал М.М.Б. в
работах о Рабле впервые появилась именно в данных записях, исходным и, по
предположению, не измененным смысловым импульсом которых была
персоналистическая, а не «родовая» (раблезианская) тематика. Ниже в этом же абзаце
М.М.Б. противопоставит «серьезность* подробно разработанной им ранее категории
«смеха*, и при этом специально акцентирует внимание на том, что не только
«природа*, но и — это существенно! — отдельно от нее названное «последнее целое*
серьезны быть не могут, что значительно ближе к ним противостоящая «серьезности»
категория «смеха». Впоследствии это противопоставление смягчится: если здесь
«голос целого» почти отождествлен со «смехом», то в Доп. и в работе «<Риторика, в
меру своей лживости...>» резкой границы между смехом и серьезностью уже нет; они
становятся амбивалентными полюсами единого целого, «голос» которого понимается
как амбивалентное слияние хвалы и брани, имени и прозвища.
255
В бахтинской критике однотонной «серьезной* модальности мейеров-( кого типа
виден vKpaeuieK» фундаментальной и остро дискуссионной темы о пунктах спора и
согласия М.М.Б. с имевшимися в то время разными версиями «модернизации»
православия. Ср. в связи с этим: «Правда никогда еще не была родной человеку... Она
была откровением, но не была откровенной... Она побеждала человека, она была
насилием, не было сыновства. Кто в этом виноват, правда или человек...» («<Риторика,
в меру своей л живости... >», с 67)
С другой стороны, осуществленный М.М.Б. во второй части записей резкий поворот
сюжета мог иметь не менее дискуссионно заостренную направленность и против того
принципиально арелигиозного типа мышления, который в настоящих примечаниях
условно называется «шпетовским». «Серьезность» и «смех» расширяют состав специфически бахтинских (противопоставленных «шпетовским») гносеологических
категорий (см. прим. 5 и 14), более того: они фактически мыслятся М.М.Б. как
«классификационные критерии* для предполагаемой типологии этих категорий. С
точки зрения скрытого спора со «шпетовским» типом гуманитарного мышления,
характерно, что при разработке этой темы"в текстах о Рабле М.М.Б. «подымет планку»
смеха еще выше, прямо называя его «внутренней формой* мышления и познания,
формой, которую нельзя сменить (в частности, на серьезность, то есть на другую
255
внутреннюю форму), не уничтожив и не исказив самого содержания раскрытой смехом
истины (ТФР, 107). Здесь зафиксировано самое ядро гносеологических инноваций
М.М.Б. «Внутренняя форма» в двух — гумбольдтовской и потебнианской —
традициях ее понимания была и продолжает оставаться одним из наиболее
обсуждаемых гносеологических понятий. В частности, тот же Шпет активно
использовал это понятие для выявления и классификации разных форм и типов
мыслительных актов, выделяя в качестве самостоятельных «внутренних форм» далее
не отмысливаемые формы чистого смысла как такового, логические формы,
поэтические формы и др. (Шпет Г Г Эстетические фрагменты, выше цит., с. 409-431).
Вся же экспрессивная, личностно окрашенная сфера выражения, в том числе,
следовательно, «смех» и «серьезность», относилась Шпетом не к формам мышления, а
к тем вторичным наростам над реальными онтологическими формами и слоями
смысла, от которых необходимо в идеале освобождаться (см. прим. 5). Практически
такое же «дискредитирующее», хотя иногда и в более мягкой форме, понимание
экспрессивно-личностных сфер смысла до сих пор сохраняется в большинстве
распространенных гносеологических теорий, на фоне которых бахти некая концепция
смеха как особой онтологически самостоятельной внутренней формы мышления и
познания выглядит — во всяком случае потенциально — «революционной» по ее
возможным гносеологическим последствиям, но в своем полном или хотя бы
достаточно развернутом виде эта концепция в бахтинских текстах так и не была
представлена.
20. Вероятно, аллюзия к А. С. Пушкину: «И пусть у гробового входа / Младая будет
жизнь играть, / И равнодушная природа / Красою вечною сиять» («Брожу ли я вдоль
улиц шумных...»), тем более что в этих же строках есть эпитет «равнодушная*,
который за несколько слов до комментируемого места выделен в бахтинском тексте
разрядкой.
21. Вероятно, пропуск глагола, например — «освобождает*.
22. Бахти не кое понимание «толпы* в соотношении с большим (родовым) телом
(см. ниже по тексту) может быть адекватно откомментировано лишь на фоне
соответствующего культурологического и
256
философского контекста, имеющегося в работах о Рабле (см., в частности, ТФР, 207,
280 и др., многообразные смысловые созвучия и диссонансы с бахтинской
интерпретацией проблемы «толпы* имеются у Кьеркегора, Зиммеля, Бубера,
Хайдеггера и др.). Применительно к настоящим беглым записям отметим лишь, что и
само появление проблемы «толпы», и ее локализацию в общем рисунке записей, так
же, как и в случае с проблемой «серьезности» (см. прим. 19), можно толковать в
качестве косвенного смыслового продолжения ранее развиваемых в тексте
гносеологических тем, поскольку понятие «толпы» имеет свои прямые или
экспрессивно-обратные аналоги и в «мейеровском» (всеединство, соборность), и в
«шпетовском» типе мышления (см., в частности, в шпетовском «Введении в
этническую психологию* о толпе как одной из форм коллективности — ук. соч., с.
536-540; см. также оценку этой книги, всем своим содержанием имеющей отношение к
кругу проблем, связанных у М.М.Б. с понятием «толпы*, в МФЯ, 51: «В книге дана
основательная критика концепции Вундта, но собственное построение Г. Шпета совер
шенно неприемлемо*).
23. Скорее всего, имеется в виду «Волшебная гора» Т. Манна. Хотя ко времени
написания настоящих заметок роман был переведен на русский язык под названием
«Волшебная гора» (Манн Т. Собр. соч., т. 4-5. М., 1934-1935; перевод В. А. Зоргенфрея
и К. А. Ксаниной; ни под каким другим названием роман не переводился и в дальней-
256
шем), М.М.Б., вероятно, читал книгу по-немецки и перевел название сам, причем (если
исходить из смысла романа и значения немецкого слова «Zauber») не менее, видимо,
точно, чем в «официальных» переводах.
24. Возможно прочтение: «выдвигаем*.
25. Вероятно, имеются в виду Доп., в начале которых подняты почти все намеченные
здесь темы (фамильяризация мира, смех и будущее, серьезность, толпа, бесстрашие как
предпосылка познания, целое и др.).
Печатается впервые по автографу и фрагментам авторизованной машинописи,
хранящимся в АБ. Статья написана в конце 1940 г. в Савелове для десятого тома
«Литературной энциклопедии» (1929-1939;
Текст и история его создания восстановлены по материалам АБ. Предложенная
реконструкция заведомо не достаточна: в бумагах М.М.Б. не сохранилось полного
текста статьи. АБ располагает: 1) неполной рукописью и разрозненными фрагментами
машинописи первой редакции «Сатиры»; 2) фрагментами дополнений к первой
редакции; 3) библиографией; 4) фрагментами подготовительных материалов к статье;
5) конспектами ряда источников, использованных в статье и внесенных в
библиографию.
Автограф: две ученические тетради в клетку по 12 листов каждая и отдельный
(двойной) лист из тетради в клетку, на котором записан конец статьи. Тетради
пронумерованы: в правом верхнем углу обложек карандашом проставлены
соответственно цифры «1» и «II». На обложке первой тетради черными чернилами
помечено: «Сатиры», а
«сатира»
257
чуть ниже, простым карандашом: «Сатира». Записи в обеих тетрадях сделаны
непрерывно, простым карандашом, ровным, мелким, не всег да разборчивым
почерком, почти без исправлений. В конце второй тетради текст обрывается на
полуслове, последние параграфы статьи (с конца 10го по 12 ый) записывались, по всей
видимости, на отдельных листах. Лист (или листы) с текстом конца 10 го и большей
части 11 го параграфов в АБ не обнаружены. Однако один из фрагментов недостающей
части 11го параграфа печатается по сохранившемуся фрагменту машинописи
«Сатиры». При публикации статьи все особенности авторской орфографии и
пунктуации полностью переданы.
Дополнения к первой редакции «Сатиры»: девять фрагментов машинописи, два из
которых ([I] и [II]) существуют также и в рукописном варианте. Печатаются целиком,
по тексту машинописи, с сохранением авторской орфографии и пунктуации.
Местоположение
фрагмента
Дополнений
в
основном
тексте
отмечено
соответствующей римской цифрой в квадратных скобках.
Библиография к статье известна в двух вариантах: более полном (тринадцать
позиций, записанных на отдельном листе в клетку, вложенном в тетрадную обложку
вместе с рукописными фрагментами Дополнений к «Сатире»} и сокращенном (девять
позиций, записанных от руки на последней, 29 , странице машинописного текста
статьи). Печатается по полному варианту, с уточнениями.
Подготовительные материалы: пять несброшюрованных листов (из них два сложены
пополам) в тетрадной обложке, озаглавленной «Проблема сатиры». Большая часть
набросков из подготовительных материалов реализована в тексте статьи;
неразвернутые в основном тексте фрагменты приводятся в комментарии.
Конспекты к статье: четыре ученические тетради, плотно заполненные простым
карандашом, с пометами на полях красным карандашом. Среди конспектов
257
преобладают выписки из энциклопедических издании: 1) конспект-перевод с
немецкого: Satura. — Der Große Brockhaus. Handbuch des Wissens in 20 Bänden, 15-te,
völlig neubearbeitete Auflage von Brockhaus' Konversations-Lexikon. Bd. 16. Leipzig, 1933,
S. 462-463; 2) конспект-перевод с немецкого: Wiegand J. Satire. — Reallexikon der
deutschen Literaturgeschichte. In 4 Bänden. Hrsg. von P. Merker und W Stammler. Bd. 3.
Berlin, 1928/29, S. 137-146; 3) конспект-перевод с немецкого: Rehm W Satirischer
Roman. — Iba., S. 146-151; 4) конспект-перевод с французского: Reinach S. Le Rire
rituel. — Reinach S. Cultes, Mythes et Fleligions. V IV Paris, 1912, p. 109-129; 5) конспект:
Горнфельд А. Г. Сатира. — Энциклопедический словарь, изд. Ф. Брокгаузом и И.
Ефроном. Т XXVIII (пт. 56). СПб., 1900, с. 462; 6) выписки, сделанные по-русски из:
Handbuch der klassischen Altertumswissenschaft in systematischer Darstellung. Bd. 8:
Geschichte der römischen Literatur bis zum Gesetzgebungswerk des Kaisers Justinian von
Martin Schanz. Teil 1: Die römische Literatur in der Zeit der Republik. München, 1907.
Издание «Литературной энциклопедии» (1929-39) прервалось с началом войны и
впоследствии не возобновилось. К 1940 г. вышло девять томов* 1, 2 (1929); 3, 4 (1930);
5 (1931); 6 (1932); 7, 8 (1934); 9 (1935); 11 (1939). Работа над десятым томом, главным
образом в силу ответственности помещенных в нем статей «Социалистический
реализм» и «Сталин», затянулась. Корректура была возвращена Главлитом в
издательство для переработки. По сохранившейся корректуре «пропущенный» том со
статьей «Сатира», написанной С. Нельс, которую, судя по всему, и должна была
заменить работа М.М.Б., напечатан в 1991 г. в Мюнхене (Литературная энциклопедия.
Т. 10. München, О. Sagner, 1991). Восстановить недостающие фрагменты «Сатиры»
М.М.Б. могли бы разыскания в архиве
258
<.Читературной энциклопедии». Архив 1-9 томов, а также материалы, асающиёся
проекта издания, его стратегии, и ходатайства о его возобновлении после войны
хранятся в РГАЛИ (ф. 623, 132 ед.; см. 1акже: ф. 1328, оп. 3, ед. хр. 263 и ф. 279, оп. 1,
ед. хр. 52) Местонахождение архива десятого тома, если предположить, что этот архив
сохранился, осталось для нас неизвестным.
Сведения об истории текста «Сатиры» немногочисленны и почерпнуты главным
образом из переписки М.М.Б. с редакцией «Литературной энциклопедии», хранящейся
в АБ. 26 октября 1940 г. из «Литературной энциклопедии» на имя М.М.Б. по
московскому адресу его младшей сестры Натальи Михайловны Перфильевой
(Сретенский бульвар, д. 6/1, кв. 147) курьер доставил письмо, подписанное ученым
секретарем редакции Екатериной Николаевной Михайловой, с предложением
подготовить статью «Сатира» объемом 25-30 тысяч знаков к 15 ноября 1940 г. и
просьбой срочно сообщить о своем решении [Приложение 7]. Согласие было дано;
заказ редакции за номером 26 датирован тем же 26 октября. По всей видимости,
М.М.Б. представил статью к сроку. 11 декабря 1940 г. Борис Васильевич
Михайловский, в то время редактор «Литературной энциклопедии», отправил по
савеловскому адресу М.М.Б. (станция Савелово Ярославской железной дороги, ул.
Интернациональная, д. 19) отзыв на статью «Сатира» [Приложение 2]. М.М.Б. получил
письмо Б. В. Михайловского, судя по дате на почтовом штемпеле, 19 декабря. Статью
предлагалось переработать: исключить из определения упоминание о не-смеховой
сатире, указать на качество сатирического отрицания и его социальную
направленность, расширить разделы о русской и советской сатире, «очень важно, —
писал в заключение Б. В. Михайловский, — чтобы то оригинальное и свежее, что Вы
вносите в понимание С<атиры>, могло сочетаться с теми представлениями, к<ото>рые
существуют (и не без основания) в нашем литературоведении». Вторая редакция
статьи, исправленная и дополненная, была готова к концу декабря. 30 декабря 1940 г.
258
М.М.Б. уведомляет Б. В. Михайловского об отправке переработанной рукописи в
Москву [Приложение 3]. Сравнить две редакции и оценить характер внесенных
изменений пока не представляется возможным: в АБ не сохранилось ни рукописи, ни
черновиков дополнений ко второй редакции «Сатиры». Самое общее представление о
второй редакции «Сатиры» складывается на основании отзыва Б. В. Михайловского.
Отзыв на переработанную рукопись статьи датирован 6 января 1941 г., М.М.Б. получил
его, судя по дате на почтовом штемпеле, 11 января, в Савелове [Приложение 4].
Новый, переработанный и расширенный вариант (свыше двух печатных листов, по
свидетельству Б. В. Михайловского! в общем устраивал редакцию. Смущала
терминология («деформация», «экспериментирование» с действительностью, «провоцирование»), некоторая категоричность формулировок и значительное превышение
объема. После внесения редакторской правки, смягчения формулировок и
вынужденного сокращения текста «Сатиры» Б. В. Михайловский намеревался
переслать статью автору для окончательного согласования. Мы не располагаем
документальными свидетельствами о том, была ли статья отредактирована и
согласована с М.М.Б., известно, однако, что гонорар за «Сатиру» выплатили. В АБ
сохранился талон к почтовому переводу, по которому 7 марта 1941 г. М.М.Б. получил
1158 руб. 82! коп. из расчета 12D0 руб. за авторский лист, как и полагалось по
договору, за вычетом 18 руб. налогов и 23 руб. 18 коп. почтовых расходов.
259
Приложение 1
М.М. Бахтину
26 октября 1940 г.
Уважаемый Михаил Михайлович!
Редакция «Литературной энциклопедии» просит Вас написать статью «Сатира» для
X тома, который подготовляется к сдаче в печать. Объем статьи — 25.000-30.000 печ.
знаков; срок представления статьи — 15 ноября с. г.; гонорар — 1.200 публ. с
авторского листа. Статья должна заключать в себе: 1. Определение сатиры, 2. Краткую
историографию вопроса, 3. Рассмотрение важнейших видов сатиры, 4. Сжатый обзор
важнейших явлений сатиры в развитии мировой литературы (сатира в народном
творчестве, в античной литературе, в средние века, сатира Возрождения и т. д.); особо
должна быть выделена сатира в русской литературе, включая советскую. В историческом обзоре не следует стремиться к исчерпывающей полноте; нужно показать
своеобразные качества и функцию сатиры на основных этапах исторического развития,
сатирические жанры, выдвинутые важнейшими художественными направлениями.
Редакция просит Вас срочно дать ответ. Если Вы согласны, редакция вышлет Вам
официальный заказ. Желательно было бы, чтобы Вы встретились с редактором для
предварительного согласования установок статьи.
Ученый секретарь Е. Михайлова
Приложение 2.
М.М. Бахтину
11 декабря 1940 г.
Глубокоуважаемый Михаил Михайлович!
Относительно дальнейшей работы над статьей «Сатира». Мы думаем следующим
образом. В общем необходимо итти по пути спецификации понятия С. Для этого
нужно:
1) Поставить вопрос о качестве отрицания в С. Обычно в советской критике под С.
разумеют решительное, резкое отрицание явлений, враждебных автору. Здесь обычно
видят отличие С. от юмора, к<ото>рый является более мягким отрицанием, раскрывает
в явлении также положительные моменты. Это может объясняться не только
259
слабостью критицизма художника (бывает и так), но гл. обр. различием объектов С. и
юмора. В последнем могут осмеиваться, напр., недостатки, наличные у жертв
известного социального строя (напр., гуманистический юмор в петербургских повестях
Гоголя в отношении «маленького человека»). С. же направляется против активных
носителей социального зла, его виновников (напр., в «Ревизоре» Гоголя). На этот
вопрос нужно откликнуться в статье.
2) Лучше последовательно придерживаться воззрения на С. как на отрицание
посредством смеха, указывая на «не смеховую» С. в порядке оговорки, но не вводя
этот вид в основное определение.
3) Для уяснения понятия С. нужно отграничить его от других возможных методов
отрицания, которыми располагает
260
критический реализм. Хорошо бы показать, чем отличается сатирическое отрицание,
хотя бы Щедрина или Гоголя, от отрицания, скажем, в романах Л. Толстого или М.
Горького (где отрицание не сводится к наличным подчас элементам С, а в основном
достигается иными средствами). Все это нужно не ради уяснения критического
реализма, а для более четкого отграничения понятия С. от других, соприкасающихся с
ним.
4) Ваши вставки по С. XIX в. и русской С. еще не устраняют впечатления
недооценки С. XIX в., в частности русской. Нужно бы ярче и содержательнее показать
значение этой С, ее наполненность, социальную ценность. Это как-раз могло бы
получиться в связи с разработкой вопроса п. 3. Нужно развить абзац и о советской С,
гл. обр. о С. Маяковского.
Мы очень просим Вас, насколько возможно, в этих направлениях поработать над
статьей. Очень важно, чтобы то оригинальное и свежее, что Вы вносите в понимание
С, могло сочетаться с теми представлениями, к<ото>рые существуют (и не без
основания) в нашем литературоведении. Это особенно важно для энциклопедической
статьи.
С товарищеским приветом
Б. Михайловский
Приложение 3.
Б. В. Михайловскому*
30 декабря 1940 г.
Многоуважаемый Борис Васильевич!
Статья «Сатира» мною основательно переработана. Все Ваши указания (за которые я
Вам весьма благодарен) мною выполнены, кажется, полностью. Очень прошу Вас по
прочтении сообщить мне Ваши впечатления.
С глубоким уважением
М. Бахтин
Приложение 4.
М.М. Бахтину 6 января 1941 г.
Глубокоуважаемый Михаил Михайлович!
Вы, действительно, основательно доработали статью. Теперь в ней даны
необходимые определения и различения, дана, по-моему, более правильная
перспектива на развитие сатиры в новое время. То направление, в к<ото>ром Вы
переработали
* Печатается по автографу, хранящемуся в АБ. Черновик письма на тетрадном листе
в линейку, 21x16,7, выполнен фиолетовыми чернилами, ровным, разборчивым
почерком. (На обороте листа — набросок письма к А. А. Смирнову, в котором М.М.Б.
260
беспокоится о судьбе рукописи «Рабле*, отправленной в Ленинград, но еще не
полученной А. А. Смирновым. См. об этом: комм, к Доп.).
261
статью, мне кажется правильным; статья стала богаче, многогранней. Кое-что меня
смущает в терминологии. Не слишком ли Вы напираете на термины «деформация»,
«экспериментирование» с действительностью? Мне кажется, что, сохраняя соответствующую мысль, ее можно выразить зачастую более мягко (указывая, напр., на
моменты заострения, гиперболизации и т. д.). Не совсем ясным осталось для меня
«провоцирование» как момент сатиры. Но в общем статья теперь получила уже такой
вид, что дальнейшее — дело редакторской обработки, за которую я вскоре и примусь.
Главная трудность теперь — сокращение статьи, к<ото>рал выросла до 2 с лишним
листов. Буду просить Екатерину Николаевну о максимально возможном размере для
статьи, но, конечно, сокращение придется провести значительное, после того, как
отредактирую статью, перешлю ее Вам для согласования в перегдеоотанном виде.
Желаю Вам, Михаил Михайлович, опубликовать поскорее и побольше Ваших работ.
Поскольку я частично смог познакомиться с ними сам и по рассказам товарищей, они
вызывают у меня большой интерес свежестью, оригинальностью, пытливостью мысли,
широтой горизонтов, эрудицией, теоретической проблемкостью. Уверен, что Ваши
работы составят значительный вклад в нашу теорию литературы. Привет!
Б. Михайловский
«Сатира» является единственным известным опытом М.М.Б. в жанре
энциклопедической статьи. Требования к ее содержанию и структуре изложены в
приведенном выше редакционном письме [Приложение I]. Пожелания редакции были в
основном выполнены: первый раздел статьи посвящен значениям понятия сатира',
второй отдан историографии вопроса, третий — общему определению сатиры, и
только исторический обзор важнейших явлении сатиры оказался отнюдь не «сжатым»
и занял большую часть отведенного объема (с четвертого по двенадцатый разделы). Из
европейских энциклопедии, как свидетельствуют подготовительные записи и текст
статьи, М.М.Б. ориентировался прежде всего на: Der Große Brockhaus. Handbuch des
Wissens in 20 Bänden. 15-te Auflage. Bd. 16. Leipzig, 1933 и Reallexikon der deutschen
Literaturgeschichte in 4 Bänden. Berlin, 1925-33. К обыкновенно строгим нормам
энциклопедической статьи: полноте и точности сведений, краткости и доступности их
изложения — в советских изданиях добавилась известная жесткость идеологических
установок. В тексте статьи и особенно в Дополнениях можно найти ряд необходимых
устойчивых словосочетаний: 'классовая ограниченность', 'отмирающий строй', 'формы
социального угнетения1 Достаточно жесткий жанровый канон существенно
ограничивал М.М.Б., и все-таки сотрудничество в «Литературной энциклопедии»
позволило, пусть в облегченной форме, изложить некоторые идеи работ по теории
романа и недавно завершенной книги о Рабле, перспективы публикации которой
виделись тогда призрачными и ненадежными (см.: комм, к Доп.).
М.М.Б. определяет сатиру как между-жанровое явление, особое, «критическое»
отношение творящего к изображаемой им действительности, основанное на
амбивалентном сатирическом смехе, восходящем к архаическим народно-праздничным
осмеяниям. В Дополнениях к первой редакции вводится новое уточнение, отделяющее
смеховую сатиру от не-смеховой, серьезной сатиры. Следуя тем же принципам
построения жанровой теории, что и в работах о романе, М.М.Б. излагает теорию
сатиры с точки зрения «большого времени». Жизнь жанра начинается задолго до его
канонизации; напротив, формальная опре261
261
деленность свидетельствует об известной исчерпанности. Не вводя понятия
'предыстория1, используемого в работах по теории романа, М.М.Б. рассматривает
праздничные фольклорные формы как предтечи сатиры. Сатирическое слово
пождалось и жило в народных осмеяниях и срамословиях и ими обновлялось на
протяжении своей истории. Шесть из тринадцати позиций библиографии также
составляют источники, посвященные предыстории сатирического: смеховым
праздникам и народным комическим жанрам (кукольной комедии, анекдоту и др.).
Тема серьезно-смеховых жанров, в частности, менипповой сатиры в истории романа,
над которой М.М.Б. работал с начала 1940-х гг.,
обозначенная М.М.Б. как конститутивный признак жанра, — отрицания,
включающего в себя и момент утверждения жизни новой и лучшей, то есть
утопический момент, — обусловливается фольклорным ядром сатиры, амбивалентным
праздничным смехом. Сатира включена в ряд смеховых жанров, осерьезнение же
сатиры происходит в Новое время как результат редукции праздничного, а
следовательно, и сатирического смеха. В Зап. 1970-71 гг. М.М.Б., возвращаясь к теме,
резко противопоставляет праздничный смех редуцированному, несмеющемуся
сатирическому смеху Нового времени: «Веселый, открытый, праздничный смех.
Закрытый, чисто отрицательный сатирический смех. Это не смеющийся смех* (ЭСТ,
339).
«Сатира» в сжатой форме вобрала в себя концептуальные моменты книги о Рабле,
касающиеся характеристик народно-праздничного смеха. Материалы по истории
сатиры от античности до Возрождения, проблема 'серьезного и с мехового',
обозначенная в статье, и оставшаяся за ее пределами, но намеченная в
подготовительных записях тема 'смехового и слезного', а также ряд
библиографических позиций, например, статья С. Райнаха о ритуальном смехе,
включенная впоследствии в ТФР, — напротив, дополняют главные работы М.М.Б. о
смеховых жанрах и народной смеховой культуре.
1. М.М.Б. передает греческие имена в системе Эразма Роттердамского, основанной
на латинской транслитерации: например, 'элленистический', 4Эвсеб"ий' (то есть г\ —>
е, ß —> б) вместо 'эллинистический', 'Евсевий' (то есть ц —> и, ß —> в), как предписывают правила русского языка, зафиксировавшие в этих словах византийский способ
транслитерации, связанный на Западе с именем Иоганна Рейхлина. Возможно, здесь
сказалось влияние немецких источников, предпочтение которых очевидно, а также
желание упорядочить передачу греческих слов в научном языке; во всяком случае
М.М.Б. следует этому правилу регулярно не только в комментируемой статье, но и в
других работах.
2. Здесь и в четвертой главе ППД М.М.Б. рассматривает duampu бу (жанр моральнофилософской проповеди в форме диалога с отсутствующим собеседником, созданный
киниками, впоследствии проникший в римскую и византийскую литературы и
оказавший существенное влияние на жанровые особенности христианской проповеди)
в орбите менипповой сатиры, отмечая, что диалогизованный характер диатрибы
приводил к «диалогизации самого процесса речи и мышлездесь только
сатирического отрицания,
ния» (ППД, 160).
3. «Способ добиться успеха в жизни»; издан в 1612 г анонимно. Первоначально
приписывался различным авторам, в том числе Д'Обиньи и Рабле. См.: ТФР, 69, 100.
262
4. Таким образом, например, сатира определена в Словаре Н. Бродского: «В
несколько неопределенном и расплывчатом смысле сатирою называется всякое
литературное произведение, в котором выражено некоторое определенное отношение к
явлениям жизни, а именно — осуждение и осмеяние их, выставление их на общий
смех, позор и негодование. В этом смысле сатирою может быть и эпос <...> и роман
<...> и комедия <...> и лирические произведения» (Литературная энциклопедия.
Словарь литературных терминов. Под ред. Н. Бродского и др. В 2-х тт. Т. 2. М.-Л.,
1925, с. 754).
5. См.: Горнфелъд А. Г Сатира. — Энциклопедический словарь, изданный Ф.
Брокгаузом и И. Ефроном. Т. XXVIII (пт. 56). СПб., 1900, с. 461, кол. II.
6. «Действительность, как недостаточность, противопоставляется в сатире идеалу,
как высшей реальности <...>. Стало быть, действительность в ней становится
обязательным объектом неприятия» (Ф. Шиллер «О наивной и сентиментальной
поэзии»). Ср. интерпретацию этого определения сатиры в статье В. Рема
«Сатирический роман» (Rehm w. Satirischer Roman. — Reallexikon der deutschen
Literaturgeschichte. In 4 Bänden. Bd. 3. Berlin, 1928/29, S. 146-147).
7. См.: Reinach S. Le Rire rituel. — Reinach S. Cultes, Mythes et Religions. V IV Paris,
1912, p. 109-129. «Rire rituel», в переводе М.М.Б. «обрядовый смех», означает
возвращение к жизни, возрождение к жизни новой и лучшей, жизненную
интенсивность и полноту, торжественное утверждение божественного присутствия. С.
Райнах систематизирует известные описания античных смеховых праздников (дедал,
тесмофорий, луперкалий и др.) и указания на ритуальную силу смеха (Гомер о смехе
зеленеющей земли fII. XIX, 362] и о смехе богов I&oßeoroq у€кщ: П. I, 599; Od. VIII,
327]; Плинии о способ ности Зороастра смеяться с рождения; Светоний о смеющейся
статуе Зевса и пр.), особо подчеркивая теургический характер смеха и слез. В
христианском мире смех подвергся большей секуляризации, чем слезы; в христианских
храмах еще плачут, но уже не смеются; в театре, напротив, смеются, но стесняются
плакать («неуместная профанация слез», — добавляет М.М.Б.). Материалы статьи С.
Райнаха, не включенные в первую редакцию книги о Рабле, использованы в ТФР (ТФР,
62, 80, 88). Мысль о разных путях секуляризации смеха и слез в христианском мире, о
смеховом и слезном аспектах мира разрабатывается М.М.Б. в первой половине 1940-х
гг. (см. «<0 Флобера», «Проблема сентиментализма», «<Риторика, в меру своей лживости...^ и комментарии к ним в настоящем томе), к этой же теме он возвращается и в
начале 1970-х гг. (см.: Зап., 345, 352). Ср. также фрагмент о 'плаче' и 'смехе' как двух
метафорах смерти у О. М. Фрейденберг (Фрейденберг О. М. Поэтика сюжета и жанра.
Л. 1936, с. 114, 587-388).
8. Галоа — греческий праздник гумна. Как и другие известные праздники вегетации
(талисии, тесмофорий, дионисии и т. д.) носил мистериальный характер. В нем
принимали участие только женщины. Обряд включал в себя демонстрацию
производительных органов и сопровождался срамословием. Таинство дублировалось
сценой еды, «мучного жертвоприношения», — поеданием жертвенных пирожных,
выпеченных в форме срамных частей тела. (См.: Фрейденберг О. М. Поэтика сюжета и
жанра, с. 111-112).
263
9. Дедалы (ДтбаЯлх; по одной из версий восходит к корню 'ЬаХ\ отсюда 'ooti&xXeoc'
— художественный. См.: Paulys Real-Enzyclopädie der classischen Altertumswissenschaft.
R. I, Hbd. 8. Stuttgart, 1901, S. 1991) — языческий праздник, известный в Беотии.
Сопровождался вырезанием из дерева статуй богов, дедалов или ксоанов, с последующим их сжиганием в память о мифологическом событии примирения Геры и Зевса.
Гера, рассердившись на Зевса, удалилась в Эвбею; Зевс, стремясь вернуть Геру,
263
разыграл обряд фиктивной свадьбы: деревянную статую, накрытую покрывалом, везли
на паре быков и говорили всем, что везут невесту Зевса; узнав о намерении Зевса
жениться, Гера вернулась и, обнаружив обман, рассмеялась и примирилась с Зевсом.
М.М.Б. в подготовительных записях, вслед за С. Райнахом (Reinach S. Le Rire rituel, р.
110-111), обозначает три составляющих ритуальной драмы праздника: 1) гнев
богини
ревность), означающий временную смерть божества вегетации; 2) рак богов
(hierogaraie), цель которого заключается в магическом воздействии на
производительные силы; 3) смех богини, означающий возрождение, возвращение к
жизни.
О праздновании дедал сообщают Павсаний (Paus. IX, 3, 1-4; см.: Павсаний. Описание
Эллады. Пер, С. Кондратьева. — Поздняя греческая проза. М., 1961, с. 240-241) и
Плутарх (в передаче Евсевия: Euseb. Ргоер. Evang., III, init.).
10. В подготовительных материалах М.М.Б. излагает эту легенду по версии
Эмпедокла. У Эмпедокла роль Ямбов выполняет Баубо. Ритуальная фигурка Баубо из
обожженной глины (Baubo — материнское лоно) была найдена и описана Дильсом:
живот — лицо, поднятое платье — волосы, на голове-животе — блюдо с плодами.
Жест Баубо нарушал табу и изгонял демонов, одолевавших Деметру. О том же
магическом жесте как способе удержать бегущих с поля боя: Плутарх, Moralia, р. 241
в; Юстин, 1, 6, 3 (см. Reinach S. Le Rire rituel, р. 115-117). Ср. устройство
«выворачивающихся» марионеток в европейском театре: поднятое платье-голова —
выворачивание, превращающее женскую фигурку в мужскую. Макеты марионеток см.:
Flöget К. -Fr. Geschichte des Grotesk-Komischen. Neu bearbeitet und erweitert von Dr. F.-W
Ebeling. Verlag von A. Werl, Leipzig, 1862, Приложение: лист X.
11. Фесценнины (от лат. fascinum — 'фаллический амулет', символ рождающей
силы) — праздник по окончании жатвы (Horat. Epist. 2, 1, 139) или сбора винограда
(Verg. Geo. 2, 385), связанный с культом вегетации. Помимо сельскохшяиственньгх
праздников фесценнины входили также в структуру свадебного обряда (fescennina
nuptialis). Участники обряда обменивались импровизированными насмешливыми,
часто непристойными, стихами. Диалогическая форма фесценнин и сопутствующая им
праздничная свобода были усвоены италийской драмой (см.: Schanz М. Die
Fescenninen. — Geschichte der römischen Literatur..., S. 21-23). В списке литературы к
«Сатире* М.М.Б. указывает статью Е. Гофман, посвященную ритуалу фесценнин и
<фесценнинной свободе», свободе неофициального праздника (HojTmann Е. Die
Fescenninen. — Rheinisches Museum für Philologie. Frankfurt am Main, 1896, № 51, S.
320-325). Фесценнины не принадлежали к числу официальных праздников римского
городского и государственного календаря. В них участвовали преимущественно
бывшие свободные италийские земледельцы, получившие частичные гражданские
права по Законам XII таблиц, которые в то же время ограничили их праздничную
свободу. Е. Гофман рассматривает «фесценнинную свободу» (fescennina licentia) как
фиктивное restitutio in integrum, сопоставимое с сатурналиевой свободой рабов
(характер fescennina
264
licentia описан Сенекой в «Медее*: v. 107, 113). Фесценнины не только разрушали на
время социальную иерархию, но и восстанавливали дух либералий. В смешении
официального и неофициального культов, в разнузданности праздновавших и
«смирении» власть имущих, тер певших посрамление себя и своих богов, Е. Гофман
видит амбивалентный акт возмездия-покаяния: возмездия побежденных и покаяния
победителей. Отсюда же происходит и представление об отвращающей от бед силе
смеховых праздников: испытать смеховое поругание значит защитить себя от гнева
264
низверженных богов. (Критику представления о фесценнинах. данного в статьях М.
Шанца и Е. Гофман, см. в частности: Paulys Real-Enzyclopädie der classischen
Altertumswissenschaft, R. I, Hbd. 12, S. 2223).
12. Carmina triumphalia — 'триумфальные песни', которыми солдаты победившей
армии приветствовали своего полководца. Нередко имели диалогический характер,
представляя собой «спор» между армией и народом или между победившим и
поверженным полководцами о награде триумфатору. Насыщенные шутками и
непристойностями, триумфальные песни не отличались высокой художественностью;
Ливии называл их «carmina incondita» (Liv. 4, 20, 2), то есть грубыми, неискусными
песнями (см., например, приветствие солдатами Цезаря: «Urbani, servate uxores:
moechum calvom adducimus» — 'горожане, храните жен: мы привели плешивого
прелюбодея'). См.: Schanz М. Geschichte der römischen Literatur..., S. 2o-24.
13. Сатира и сатирический смех в основе своей амбивалентны. Сатирическое
отрицание, как отрицание посредством смеха, содержит в себе и момент утверждения.
В этом состоит один из центральных и, пожалуй, один из наименее проясненных
вопросов созданной М.М.Б. философии смеха. Утверждающее начало в полной мере
присуще «высокому» смеху, обладающему катартической, «очищающей» и
«возрождающей», силой. Однако традиция «высокого» смеха, как и почва для
переживания смехового катарсиса, давно и безвозвратно утрачена: уже Аристотель
знал только «очищающую» силу трагедии. Редукция, коснувшаяся смеха, в большей
степени затронула его положительную, утверждающую сторону: отрицательную
(«осмеивающую») силу смеха можно психологически пережить, его утверждающую
сторону — только умозрительно реконструировать. В сатирическом, редуцированном
смехе (понятом здесь расширительно, включая смех народных праздников и смех
Рабле) М.М.Б. пытается рас слышать отголоски амбивалентного смеха «высокой
комедии».
Момент утверждения в смехе по существу утопичен. Отрицание и утверждение в
смехе имеют разную направленность: в смехе утверждается не отрицаемый им порядок
«этой» жизни, не ложь и насилие разрушаемой им иерархии, но порядок «другой»
жизни, радость жизни новой и лучшей, — иначе говоря, официальная, людьми
выстроенная иерархия отрицается в смехе свободным утверждением божественного
присутствия. (Об утопическом характере карнавального смеха см.:
14. Согласно сообщению Ливия (Liv. 7, 2, 4), в 364 г. до н. э. во время Римских игр
(ludi Romani) к цирковому действу добавилось театральное, во время которого актеры,
пришедшие из Этрурии, исполняли, в составе фесценнин, диалогические песни под
аккомпанемент флейты. Фесценнины, включающие в себя песни диалогического
характера, получили название 'satura' (Критику достоверности сообщения Ливия и
историю вопроса см.: Schanz М. Geschichte der römischen Literatur..., S. 21-23).
265
15. «Маргит* (Мару1тп£) — греческая сатирическая поэма, дошедшая во
фрагментах. Атрибуция и датировка (предп. VII-VI вв. до н э.) представляют
затруднение. Аристотель приписывал ее Гомеру ( Eth. Nie. VI, 72; Poet. 4) и полагал
предшественницей комедии: <. .."Маргит" относится к комедиям так же, как Илиада" и
"Одиссея" — к трагедиям» (пер. М. Л. Гаспарова). Свидетельство Евстратия
Никейского, согласно которому Архилох, Кратин и Калли-мах также считали автором
поэмы Гомера, признается спорным. Имя Маргит' Евстафий возводит к 'цбруо^' (
безрассудный'), приравнивая ого к 'цахюс' ( глупый*). Маргит совершает «подвиги
наоборот»: не знал, как обращаться с женой, пока та не научила его хитростью; боялся
женщин и спрашивал у матери, не отец ли произвел его на свет и пр. Ко II в. н. э. о
Маргите сообщают уже не как о герое по->мы, но как о фольклорном герое-глупце,
265
персонаже анекдотов, комических сценок; Светоний включает его в список народных
дураков и простаков ('цхцро! ка! гбтуоец). Метрической особенностью поэмы является
бурлескное чередование гекзаметров и ямбов. Метрическому смещению соответствует
семантико-стилистический
сдвиг:
высокая
(или
нейтральная)
лексика
гекзаметрического стиха сменяется разго-ворно-инвективнои в ямбическом стихе, так
что пародируемое эпическое событие переводится в материально-телесный, смеховой
план. Например, во фрагменте Оксиринхского папируса № 2309, атрибуция которого
«Маргиту», правда, не бесспорна, слову 'TeO%oq' ('ваза, погребальная урна') в
гекзаметрическом стихе ^ соответствует 4&цц' ( ночной горшок') — в ямбическом. У
Гомера 'xe^x0^' встречается в значении 'доспехи; укрывающие героя от неприятеля во
время боя' (П. III, 328); 'сецц в пародийно-комическом контексте приобретает значение
«доспехов» материально-телесного низа. (См.: Мущини на Л. Н. Ранняя греческая
инвектива и ее литегштурная основа. — Традиции и новаторство в античной
литературе (К 100-летию со дня рождения академика И. И. Толстого). Сер. Philologie
classica. Вып. 2. Л. Изд. ЛГУ, 1982, с. 46-55). См.: ВЛЭ; 426, 46^
16. Ср. у О. М. Фрейденберг: «И если древняя комедия сохраняет генетическое
тождество с трагедией в форме ее пародии, то и сатира, пародируя эпос, обнаруживает
в этом виде следы своей былой с ним увязки» (Фрейденберг О. М. Поэтика сюжета и
жанра. Л., 1936, с. 322). О знакомстве М.М.Б. с книгой О. М. Фрейденберг, в большей
степени, чем скупое упоминание о ней в «Рабле* (ТФР, 62), свидетельствует
подробнейший конспект, сохранившийся в АБ.
17 По одной из версий, чаще всего признающейся недостоверной, )пихарм
происходил с о. Кос (см.: Paulys Real-Enzyclopädie, К. I, Hbd. 11, S. 34).
18. Мим (от *Ц1ЦО^' — 'подражание') — первоначально сценки из повседневной
жизни, вид представления народного театра. Мог иметь как диалогическую форму, так
и приближаться к монодраме: монолог главного действующего лица сопровождался
короткими репликами или только мимикой других участников представления.
Литературную (}юрму миму придал Софрон из Сиракуз в V в. до н. э. Историю
трансформации мима и мимического смеха в европейскую культуру средневековья и
Ренессанса исследовал Г. Рейх (Reich Н. Der Miraus. Ein literarentwicklunasgeschichtlicher Versuch. In 2 Bänden. Berlin, 1903. См.: ТФР, 31, 62-64, 79,
82, 109. Ср. характеристику книги Г Рейха, данную М. Л. Гаспаровым: Гаспаров М. Л.
Поэт и поэзия в римской культуре. — Культура древнего Рима. Т. 1. М., Наука, 1985, с.
301, прим. 2). Г. Рейх рассматривает историю смехового как историю самостоятельной,
«второй» культуры, насчитывающую два-три
266
тысячелетия. Квинтэссенцию смехового он видит в амбивалентном мимическом
смехе: «... светлый, простодушный, непреодолимый смех, когда человек смеется всем
телом, чтобы с удовольствием услышать, как звенят на его собственной голове
колокольчики невидимого дурацкого колпака. Этот смех, благодаря древнегреческому
миму, раздается повсюду...» — S. 41). Г Рейх вскрывает народно-мимическую природу
сократического диалога и обозначает смеховое, мимическое ядро европейской драмы
средневековья и Ренессанса, мимическую подоснову ее образов, завершая план своего
экскурса Шекспиром. Взгляды Г. Рейха подвергались критике главным образом за то,
что чуть ли не единственным источником смехового он считал мим (см., например:
Lehmann Р. Die Parodie im Mittelalter. München, 1922); почти так же М.М.Б. упрекали в
преувеличении роли менипповой сатиры в истории романа (см., например: Шкловский
В. Б. Тетива. О несходстве сходного. (Раздел «О мениппеях»), — Шкловский В. Б.
Избранное в 2 тт. Т. 2. М., Художественная литература, 1983, с. 241-
266
19. «Го кос! в&Хаооа», «ЛауосксЛ Xoylva » ('Xoyiva' — производное женского рода
от 'Xavoq'. См.: Thesaurus graecae linguae ab Henrico Stephano constructus. V 1-6. Paris,
1842-46. V 5, p. 352).
20. См.: Афиней. Пир софистов. Пер. С. Ошерова. — Поздняя греческая проза. М.,
1960, с. 449-470.
21. Сатира Ювенала цит. М.М.Б. по: Ювенал. Сатиры. Пер. Д. С. Недовича и Ф. А.
Петровского. M.-Jl., Academia, 1937, с. 6.
22. Тема менипповой сатиры, над которой М.М.Б. работал с начала 1940-х гг. (см.:
«К истории типа (жанровой разновидности) романа Достоевского»; Доп. и комм.,
прим. 4, с. 483-484), рассматривается здесь традиционно, в соответствии с жанром
статьи.
23. Ср.: О. М. Фрейденберг называет спуск в преисподнюю и подъем на небо
«топикой сатиры» и отмечает, что в основу «низких» и «высоких» жанров, менипповой
сатиры и «Inferno» Данте, положен один и тот же культовый материал: «... отнесись
Данте не с религиозной точки зрения к идее смерти и греха, а с реалистической, — кто
знает, не постигла ли бы «Божественную комедию» жанровая судьба мистерии...»
(Фрейденберг О. М. Поэтика сюжета и жанра, с. 322).
24. Праздники глупцов (fest um stultorum, festum fatuorum, festum follomm, festum
innocentium, festum hypodiaconorum etc.) считаются наиболее древними из
приблизительно двадцати известных в средневековой Европе смеховых праздников,
вошедших в церковную и околоцерковную практику христиан. Восходят к
сатурналиям и близким к ним новогодним обрядам. Праздновались преимущественно в
двенад-цатидневие от Рождества до Богоявления на городских площадях, возле храмов
и в самих храмах. Ритуал праздника глупцов сводился к пародийной травести и
рождественской церковной службы. Из толпы выбирался дурацкий епископ,
возглавлявший праздничную процессию ряженых, направлявшуюся к храму.
Участники процессии переодевались в животных, шутов, мужчины — в женщин;
разрисовывали лица или надевали маски. Собственно «служба», сопровождавшаяся
едой и возлияниями, обнаруживает связь с архаическим комплексом пира (его
описание см.: ТФР, 302-328). Во время «службы» вместо Евангелия произносились
смеховые пародийные тексты (например, во время пира, завершавшего процессию
1540 г. в Руане, читали «Хронику Гаргантюа»), а среди «паствы» поощрялись любые
формы
267
нарушения запретов: прихожане веселились, выкрикивали непристойности,
гримасничали, ели и пили на алтаре и пр.
История праздников дураков - это еще и девятивековая история их запрещении,
соборных и судебных: первое из известных запрещений было вынесено в 633 г.
Толедским собором, последним и окончательным признается постановление
Дижонского парламента 1552 г. Относительная терпимость церковной и светской
власти первоначально объяснялась снисхождением к новообращенным, не способным
быстро привыкнуть к богослужению на чужом языке и смириться с христианской
аскезой. (Приемы языковой игры, в том числе комические снижающие этимологии,
связанные с непониманием священного языка, М.М.Б. относит к числу основных
сатирических приемов и рассматривает их как на материале Рабле (ТФР, 497-504), так
и на материале Гоголя: «<К вопросам об исторической традиции и о народных
источниках гоголевского смеха>», 46-47; Доп., с. 99-103; «Рабле и Гоголь»: ВЛЭ, 491495). Позднейшие апологии праздников глупцов основывались преимущественно на
признании смеха (шутовства, глупости) «второй природой» человека (см. циркулярное
267
послание парижского богословского факультета от 12 марта 1444 г., цитируемое
М.М.Б. в переводе с немецкого, по книге К.-Фр. Флёгеля (Flögel К. Fr. Geschichte des
Grotesk-Komischen, S. 227, 460): ТФР, ö4 — и восходящую к Книге Иова формулу палы
Льва XIII: «Так как церковь состоит из божественного элемента и элемента
человеческого, то этот последний должен быть раскрыт с полной откровенностью и
честностью, как сказано в книге Иова: "Бог не нуждается в нашем лицемерии"»: ТФР,
85). Ср. А. Я. Гуревич о скрытом «под покровом религиозного сознания» в народных
праздниках средневековья «мощном пласте архаических, "исконных" стереотипов
практического или интеллектуального "освоения мира"» (Гуревич А. Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. М., Искусство, 1990, с. 48), что
справедливо в отношении праздников сельскохозяйственного цикла, вошедших в
христианский календарь в своем первозданном виде (например, 'праздник пахоты' или
'праздник жатвы), однако вызывает сомнение в отношении «смешанных праздников», к
которым относятся и праздники глупцов, так как их обряды прямо связаны с
евангельскими событиями, христианскими праздниками и символикой.
25. Праздник осла — смеховой праздник, известный в Европе и особенно широко во
Франции; первые свидетельства о нем относятся к IX в. Ритуал праздника осла
представлял собой смеховую травестию евангельского события бегства Марии в
Египет. Процессия во главе с ослом, на которого сажали девушку с младенцем,
направлялась в храм. В храме читалась пародийная «ослиная месса», в которой воздавалась хвала ослу, спасшему Марию и Младенца. Каждая часть «мессы» завершалась
рефреном «И-А!», в конце священник трижды кричал ослом, после чего вся «паства»
славила «господина осла» полулатинской-полуфранцузской песенкой (текст и нотную
запись см.: Flögel К. Fr. Geschichte des Grotesk-Komischen, S. 228-230). См. также:
Lecku H. Geschichte des Ursprungs und Einflusses der Aufklärung in Europa. LeipzigHeidelberg, 1873.
О празднике осла, ослиных мимах, об образе осла как символе материальнотелесного начала в легендах о Франциске Ассизском, а также о возрождающем смысле
«крика осла» в «Идиоте» Достоевского и об образе осла и «крике осла» в «Соловьином
саде» Блока см.: ТФР, 88. Ср. Ницше об ослиной мессе, о «пробуждающем» крике осла
и о празднике осла: Ницше Ф. Так говорил Заратустра («Пробуждение», «Праздник
осла»). — Ницше Ф. Сочинения в 2-х тт. Т. 2. М\, Мысль, 1990, с. 226-229. См. также
начало «ослиной мессы» в «По ту сторону
268
добра и зла» (аф. 8) «В каждой философии есть пункт, где на сцену выступает
«убеждение* философа, или, говоря языком одной старинной мистерии:
adventavit asinus
pulcher et fortissimus». (Пер. H. Полилова) — Ницше Ф. Сочинения в 2-х тт. Т 2, с
246; см. также: комм. К. А. Свасьяна: п. 65, с. 776.
26. Момент рождественского веселья выражался не только в формах песен и гимнов,
но и в образцах пародийных проповедей, насыщенных грубыми шутками и
благочестивыми кощунствами. См., например, описание рождественской проповеди
XV в., в которой проповедник использовал образ обедни игроков, представив
кардиналов демонами игры и продавцами карт, церковь таверной, общину игроками, а
алтарь — карточным столом. (Franz А. Messe im deutschen Mittelalter. Freiburg, 1902).
27. Подробный анализ пародийной литературы средневековья дан П. Леманом в
книге: Lehmann Р. Die Parodie im Mittelalter. München, 1922, конспект которой
сохранился в АБ.
28. «Tractatus Garsiae Tholetani canonici de Albino et de Rufino» — анонимная сатира
на латинском языке, изданная в 1099 г. Анализ ее сюжета, поэтики, особенностей
268
приемов языковой игры представлен Г. Шнеегансом: Schneegans Н. Geschichte der
grotesken Satire. Strassburg, 1894, S. 69-76. В подготовительных материалах к «Рабле*
сохранился набросок более подробного исследования текста сатиры. Фрагмент рабочей
тетради М.М.Б. конца 1930 гг. мы приводим здесь полностью:
«"Tractatus Garsiae Tholetani". Изображается пир папы, его бесконечные тосты
(ектинья). Род состязания в питье. Епископ оказывается достойным пьяницей.
Сатирический, пародийный и травестирующий характер этой знаменитой сатиры.
Проанализировать направление смеха и комики. Что здесь отрицается и что служит
предметом веселой игры. Пародируются места из Библии, моменты литургии
(ектинья). Но автор вовсе не относится к ним отрицательно; он вовлекает их в игру, но
не отрицает их. Далее пародируется культ реликвий мучеников; но автор также вовсе
не отрицает этого культа. Отрицается только подкупленность курии и ее преданность
роскоши и пирам. Это сатирическое отрицание частного порядка. Самое изображение
пира курии, неутолимой жажды палы, состязания в питье епископа с кардиналами
вовсе не является пуританским отрицанием всего этого. Изображение пира — традиционное ядро сатировой травестии. Автор пользуется этим комплексом пира для
отрицательных целей (обличения курии), но сам этот комплекс как целое сохраняет
свою положительную логику, логику внебытовую, связанную с плодородием и избытком, с богатством и полнотой пиршественного веселья. Этот традиционный комплекс
сохраняет свой положительный характер и в чисто сатирических, традиционных
пародиях. Сохраняется в них и момент пародийной игры с высоким, а не абстрактного
отрицания его. Таким образом, и эти традиционные пародии остаются в основном
сатировскими травестиями. Элементы утопической свободы и бьющего через край
избытка сатурного века организуют центральный образ пира, создают атмосферу этого
образа, повторения, богатые перечисления, гротескную чрезмерность. Телесная
чрезмерность вообще характерна для всех образов плодородия.
269
Отличие сатировой драмы от сатиры в нашем позднем смысле. В сатировой драме
преобладает положительное, утверждающее начало.
Таким же традиционным комплексом является разъятие тел мучеников Руфина и
Альбина (подробное перечисление их реликвий).
Самый момент пародирования священных текстов и обрядов, совершенно чуждый
отрицанию их, является переодеванием, переменой одежд, обновлением, веселой
травестией, <3 нрзб.> переменой ролей» (АБ).
29. «Письма темных людей* («Epistolae obscurorum virorum») — немецкая сатира,
созданная К. Руоеаном, Г. Бушем и У. фон Гутте-ном, на латинском языке, в двух
частях. Издана анонимно в 1515 г. (I часть) и в 1517 г. (II часть). Задумана по аналогии
с «Письмами знаменитых людей» И. Рейхлина и представляет собой мистификацию
писем пс>луграмотных монахов противнику И. Рейхлина, магистру Ортуину Грацию.
Смешение немецкого с вульгарной латынью позволяет авторам использовать
пародийные приемы языковой игры, в том числе особенно активно ложные этимологии
(например, слово 'magister' возводится к 'ma^is' и 4ter', так как учитель «втрое» умнее
своего ученика; к 'magis' и terreo', так как учитель вызывает страх у ученика, к 'magis
sedere', так как учитель находится выше своего ученика — II Ер. 23).
30. О гробианистах, об оригинальном творчестве Фишарта и Де-декинда, а также о
переводе Рабле, осуществленном Фишартом в 1575 г., см.: ТФР, 15, 71-73, 175, 247,
250; Р 1940, 51-53. На обороте с. 50 в корпусе Р-1940 карандашом сделана следующая
помета: «Буржуазная ограниченность Фишарта. От космических масштабов до
мещанского быта. Всенародный избыток и изобилие на пасхальном столе мелкого
немецкого бюргера».
269
31. Оскудение сатирического творчества происходит на фоне начинающегося в
XVIII в. нового этапа редукции смеха. Редукция смеха, по М.М.Б., есть потеря или
сведение к минимуму возрождающего момента смехового начала. Ощущение единства
и неисчерпаемости бытия, присущее всенародному смеху, сменяется отчуждением,
сознанием своей отъединенности от мира и от другого в формах иронии, юмора,
сарказма: «Карнавальное мироощущение как бы переводится на язык субъективно
идеалистической философской мысли...» (ТФР, 44).
32. «Болтун» (1709-1711, выходил через день) и «Зритель» (1711-1712, выходил
ежедневно) — сатирические листки Джозефа Аддисона (1672-1719) и Ричарда Стила
(1672-1729). Авторами журналов были по преимуществу сами редакторы, выступавшие
под псевдонимами или анонимно, и значительно реже — их немногочисленные
сотрудники. За пределами Англии более известен «Зритель», переведенный
впоследствии на французский, голландский, немецкий и др. С середины XVIII в.
известен и в России, а в 1792 г. И. А. Крылов, П. А. Плавильщиков и А. И. Клушин
издавали в Петербурге сатирический журнал под тем же названием.
33. Название цикла В. Гюго «Les Chätiments» в русском переводе более известно как
«Возмездия» (ср. Пумпянский Л. а. Стиховая речь Лермонтова. — Литературное
наследство. М. Ю. Лермонтов. I. Т. 43-44. М., Изд. АН СССР, 1941, с. 402 и далее).
270
«СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ» В ИСТОРИИ ЭПОПЕИ
Фрагмент «''Слово о полку Игореве" в истории эпопеи» печатался дважды, с
сокращениями: «День поэзии — 1981». М., Советский писатель, 1981, с. 76-77
(публикация В. В. Кожинова); Бахтин М.М. Литературно-критические статьи. М.,
Художественная литература, 1986, с. 517-518. Примыкающие к нему фрагменты
публикуются впервые. Тексты не датированы, относятся, предположительно, к 194()1941 гг. Печатаются полностью, по автографу, хранящемуся в АБ, с исправлениями;
исправления очевидных описок в комментарии не оговариваются.
Текст записан на пяти первых страницах общей тетради, простым карандашом,
границы фрагментов отчеркнуты. Общая тетрадь в линейку заполнена целиком,
характер автографа указывает на то, что записи велись непрерывно: за
комментируемыми фрагментами следуют пять конспектов (Gundolf F. Goethe. Berlin,
1922; Гете И. в. Избранная лирика. Под ред. А. Габричевского и С. Шервинского. Вст.
ст. и прим. А. Габричевского. М.-Л., Academia. 1933; Поспелов Г. Н. Теория
литературы. М., Гос. Уч.-пед. изд., 1940 (ч. 2. Поэтические жанры и их композиция);
Тимофеев Л. И. Основы теории литературы. М., Гос. Уч.-пед. изд., 1940 (гл. 7. Жанры
и жанровые формы /роды и виды литературы/); Bobertag F. Geschichte des Romans und
der ihm verwandten Dichtungsgattungen in Deutschland. I. Abteilung: Bis zum Anfang des
XVIII. Jahrhunderts, Bd. 1. Breslau, 1876), конспекту книги Г. H. Поспелова
предшествует короткий черновой набросок М.М.Б., по-видимому, к докладу о романе,
фрагмент «К истории типа (жанровой разновидности) романа Достоевского» заключает
тетрадь (см.: с. 42-44). Ни одна из записей, ни сама тетрадь не датированы. Конспекты
книг, изданных в 1940 г., позволяют датировать тетрадь не ранее 1940 г. Состав
материалов: тематика фрагментов, подбор конспектируемых книг и тезисный план к
сообщению о романе — дает основание предполагать, что комментируемые тексты
являются набросками к одному из двух докладов М.М.Б. о романе, прочитанных в
ИМЛИ 14 октября 1940 г. и 24 марта 1941 г., а, значит, не могли быть записаны
позднее 1941 г.
Фрагменты тетради имеют ярко выраженный черновой характер и фиксируют, повидимому, предварительный этап отбора материала для будущего доклада: первый
набросок посвящен «Слову о полку Игореве» и проблемам происхождения и теории
270
жанров, второй — творчеству Гете, два последних — происхождению и теории
новеллы. В копотком плане к докладу, записанном перед конспектом книги Г. Н.
Поспелова, М.М.Б. отчасти проясняет основную линию доклада: «Начать с
терминологической проблемы. Возникновение романа. Роман и фольклор. Переход к
роману Гете и Пушкина (функции романа в истории литературы, функции романа в
творчестве писателя). Стилистическая проблема романа. Характеристика основных
разновидностей романного жанра».
В начале тетради М.М.Б. тезисно формулирует основы теории речевых жанров,
определяя жанр как «последнее целое высказывания», и затрагивает проблему внутри
родовых жанровых сдвигов: разложение эпопеи и формирование новых эпических
жанров. (Некоторые положения теории речевых жанров М.М.Б. обозначены на рубеже
1920-30-х гг. в работах В. Н. Волошинова: МФЯ\ Воло шинов В. Н. Конструкция
высказывания. — «Литературная учеба*, 1930, № 3, с. 78-8о и др. В начале 1950-х гг.
М.М.Б. возвращается к исследованию речевых жанров в РЖ (с. 159-206); к тому же
времени относится и неосуществленный замысел книги «Жанры речи»).
271
Жанровые и стилистические сдвиги внутри поэтического рода, как и внутри романа
и связанных с ним прозаических жанров, М.М.Б. объясняет децентрализацией целого,
подготовленной изменениями пространственно-временных и языковых форм. Так в
«Слове о полку Игореве» абсолютное эпическое прошлое распадается на время побед и
время поражений. Соответственно, и однотонное прославление прошлого, остающееся
жанровой основой «Слова», перемежается в нем незнакомыми классической эпопее (в
отношении к своему прошлому) амбивалентными тонами 'плача' и 'посрамления'.
Изменение пространственно-временных форм, повлекшее за собой жанровый сдвиг,
так же радикально меняет хронотоп судьбы героя: Игорь не совершает подвига и не
погибает, смерть перестает быть абсолютным завершением героя и предметом
эпического прославления. Во временной смерти, которую претерпевает герой «Слова»,
М.М.Б. видит решающий поворот от абсолютного прошлого эпопеи к незавершенности
прозаических жанров и романного героя.
1. Ср.: «За победой всегда просвечивает поражение, за поражением
— победа, за началом — конец и т. п. Всякое «да будет» неизбежно вбирает в себя
«да прейдет» («Заметки 1962 г. 1963 г.», с. 375).
2. О carmina triuraphaJia см.: комм, к «Сатире», прим. 12.
3. В рукописи: «битва».
4. Подосновой диалогической новеллы М.М.Б. считает комические агоны типа
'спора жизни со смертью' Образцом книги новелл, в которой комплекс смерти (ночи)
абсолютно преобладает над комплексом жизни, являются «Ночные бдения»
Бонавентуры (см.: ТФР, 45, 47-48, 59): каждая из 16 новелл-«дозоров», включая
«апологию жизни», повествует о смерти (смерти вольнодумца, смерти монахини и т.
д.). Выбранный М.М.Б. вариант перевода заглавия ('Nachtwachen'
— ночные дозоры'; ср.: Бонавентура. Ночные бдения. Пер. В. Б. Микушевича. М.,
Наука, 1990) заключает в себе невольную аллюзию на «Ночной дозор» Рембрандта
(1642), зримо обозначая традицию и в то же время свидетельствуя о ее оскудении.
Кощунства и профанация пронизывают каждую новеллу и книгу в целом, начиная с
выбора имени фиктивного автора, профанирующего имя главы францисканского
ордена. Смех здесь, как в средневековой и ре нес-сансной традиции, сопутствует
смерти (смех перед лицом смерти, рассказ о человеке, умершем от смеха и др.), а
происхождение и дела ночного сторожа внешне обнаруживают точки соприкосновения
с поступками карнавального шута (происходил от черта, молился в притоне и смеялся
в храме). Однако это только внешнее сходство, оскудение и редукция праздничного
271
смеха лишают смех ритуального смысла, который он имел в Европе средневековья и
Ренессанса: «Так древнее всенародное ритуальное осмеяние божества и средневековый
смех в храме во время праздника дураков превращается на рубеже XIX века в
эксцентрический смех в церкви одинокого чудака» (ТФР, 48).
к истории типа (жанровой разновидности) романа достоевского
Печатается впервые. Текст записан на пяти последних страницах тетради,
открывающейся заметкой «Слово о полку Игореве в истории эпопеи» (см. в наст, томе
выше и описание тетради в комм, к ней).
272
Настоящий текст соотносится с другим (см. ниже: <<<К вопросам об исторической
традиции и о народных источниках гоголевского смеха^), где его тема записана 3-м
пунктом плана, но осталась здесь нереализованной, как можно предположить, по той
причине, что разработка на эту тему уже существовала в виде настоящего текста, и
нереализованный пункт плана просто к ней отсылал.
По-видимому, настоящий текст — наиболее раннее свидетельство о начале новой
работы автора над романом Достоевского, давшей двадцать лет спустя результат в
виде ППД. О намерении «снова приняться» за Достоевского он позднее писал Е. В.
Тарле, о чем мы знаем из ответа последнего от 19 августа 1946 г. на неизвестное нам
письмо М.М.Б. (в фонде Е. В. Тарле в архиве РАН не обнаружено): «Очень рад был
узнать из Вашего письма, что Вы собираетесь со временем снова приняться за Федора
Михайловича» (АБ; см.: Новое литературное обозрение, №2, 1993, с. 84). Слово «со
временем» говорит о долгосрочности этого плана, но, судя по публикуемому тексту,
размышления в направлении к будущему новому «Достоевскому» уже идут в начале
40-х гг.
В замысле же автора подобная работа на будущее изначально запрограммирована
уже в тексте ПТД, о чем говорят «Предисловие» и отдельные замечания в тексте книги.
Книга открывалась сообщением о том, что «чисто технические соображения»
заставляют автора исключить «все исторические проблемы» и ограничиться «лишь
теоретическими проблемами творчества Достоевского». «Но историческая точка
зрения все время учитывалась нами; более того, она служила тем фоном, на котором
мы воспринимали каждое разобранное нами явление. Но фон этот не вошел в книгу»
(ПТД, 3). «Это не значит, конечно, что Достоевский в истории романа изолирован и
что у созданного им полифонического романа не было предшественников. Но от
исторических вопросов мы должны здесь отвлечься» (ПТД, 10-11). В замечаниях этих
записана программа гипотетического будущего преобразования книги, с дополнением
«синхронического» подхода «диахроническим», между которыми «должна быть
непрерывная связь и строгая взаимная обусловленность» (ПТД, 3). Осуществление
этой программы и констатировал впоследствии автор ППД: «Нам кажется, что наш
диахронический анализ подтверждает результаты синхронического. Точнее:
результаты обоих анализов взаимно проверяют и подтверждают друг друга» (ППД,
240-241).
Каким, однако, представлялся автору ПТД исторический фон, не вошедший в книгу,
судить достаточно трудно. В лекции о Достоевском 20-х г. (в записи Р. М. Миркиной;
см. т. 2 наст, собрания) исторические сопоставления отсутствуют. Первое подключение
исторической точки зрения наблюдается несколько лет спустя после ПТД в СВР.
Жанровый тип романа Достоевского определен здесь как роман испытания, а
«исторические традиции, оставившие свой след» в его романе, фиксируются
следующие: связь с европейским барочным романом испытания XVII в. через
английский готический роман, французский социально-авантюрный роман, Бальзака и
немецкую романтику (Гофмана), а также непосредственная связь «с житийной
272
литературой и христианской легендой на православной почве». «Этим и определяется
органическое соединение в его романах авантюры, исповеди, про блемности, жития,
кризисов и перерождения, то есть весь тот ком плекс, который характерен уже для
римско-эллинистического романа испытания» (следует ссылка на Апулея; см.: ВЛЭ,
203). В этой картине исторических традиций отсутствуют ключевые для будущей IV-й
главы ППД категории сократического диалога, мсниппеи и карнавала. О том, что
исторический фон, незримо стоящнй за ПТД, существенно отличался от исторического
материала, открыто введенного в ППД, выразительнее всего говорит решительное
отрицание в ПТД значения
273
платоновского диалога для диалога Достоевского. «Самое сопоставление диалогов
Достоевского с диалогом Платона кажется нам вообще несущественным и
непродуктивным, ибо диалог Достоевского вовсе не чисто познавательный,
философский диалог. Существенней сопоставление его с библейским и евангельским
диалогом* (ПТД, 240). Эта картина и оценка роли сократического диалога будет
существенно пересмотрена в ППД, где автор вознамерится проследить жанровую
традицию Достоевского до её античных истоков, к которым будет возводиться и
раннехристианская литература как источник Достоевского (характерно здесь
замечание о «Сне смешного человека*, что в нем «господствует не христианский, а
античный дух» — см. с. 200; см. также в подготовительных материалах к переработке
книги: «Приключение правды в «Сатириконе*, лупанарии, гетеры и т. п. только потом
появится Мария Египетская и т. п.* — с. 373).
Карнавальные аспекты античной культуры интересовали М.М.Б. еще в пору его
пребывания в петроградском университете: в разговоре 19.12.19/1 с составителем
настоящего комментария он называл латинские комические персоны одной из своих
студенческих тем: «Собрал большой материал, вернулся потом — в 30-е годы». Но мениппейно-карнавальная концепция творчества Достоевского, видимо, лишь постепенно
сложилась. Очевидно, она оформилась в результате его занятий исторической
поэтикой романа в 30-е годы, создания теории хронотопа и написания книги о Рабле
(первого варианта 1940 г.) и статьи «Сатира» (хотя значение менипповой сатиры и ее
традиций в европейской литературе здесь еще ограничено, Достоевский же вообще в
статье не упомянут). Публикуемый текст — вероятно, первый результат (из
сохранившихся работ М.М.Б.) вторжения освоенного в этих работах материала в
исследование романа Достоевского. Можно отметить известную грубоватость (в
сравнении с более тонкими анализами в ППД) наложения мениппеино-карнавальной
схемы на ситуации романов Достоевского в этом черновом тексте, составленном «для
себя». Отработка новой концепции творчества Достоевского идет в последующих
текстах, публикуемых в настоящем томе («<Риторика, в меру своей лживости...>»,
Доп., «<К вопросам самосознания и самооценки. >», наконец, в цикле
подготовительных материалов, непосредственно предшествовавших переработке книги
в начале 60-х гг. и замыкающих этот том).
1. Завязкой будущей IV главы ППД был в ПТД анализ разнородного состава романа
Достоевского, отталкивавшийся от характеристик Л. П. Гроссмана (ПТД, 21-27, 96-98).
«Соединение чужероднеиших и несовместимейших материалов» как композиционный
принцип Достоевского, по Гроссману (ПТД, 25), и возводится М.М.Б. к жанровым
истокам карнавального фольклора и поздней античности. В то же время в этом
гетерогенном комплексе ищется обоснование идеи полифонического романа,
поскольку «несовместимейшие элементы материала Достоевского распределены
между несколькими мирами и несколькими полноправными сознаниями» (ПТД, 24).
Перечисленные далее формулы — это различные определения «парадоксального»,
273
«оксюморного» типа романа Достоевского в литературе о нем, либо принадлежащие
ему самому. «Сочетание диалога Платона с острой авантюрностью бульварного
романа» — это почти цитата из Гроссмана. «Реалистическая фантастика» —
популярная формула, восходящая ко многим самоопределениям Достоевского (см.: В.
Н. Захаров. Концепция фантастического в эстетике Ф. М. Достоевского. — В кн.:
Художественный образ и историческое сознание. Петрозаводск, 1974; Р Г. Нагаров.
Творческие принципы Ф. М. Достоевского. Саратов, 1982, с. 127-135; В. Н. Топоров.
Миф. Ритуал. Символ. Образ. М.,
274
1995, с. 221-222). «Глубинный реализм» — перефразировка известной (^юрмулы
«реализма в высшем смысле» как изображения «всех глубин души человеческой»
(Достоевский, т. 27, 65). «Идея как герой» — мысль Б. М. Энгельгардта в статье
«Идеологический роман Достоевского» (в сб.: Достоевский. Статьи и материалы, под
ред. А. С. Долинина, сб. II. Л., 1924, с. 91), подробно рассмотренной в ПТД (34-51).
«Роман-трагедия» — формула Вячеслава Иванова; ее критика в ПТД, 14-16.
2. «Братья Карамазовы», часть IV, IX; Достоевский, т. 15, 80.
3. «Идиот», ч. II, XI; Достоевский, т. 8, 258.
4. «Смерть тебе!» (итал.) — ритуальный возглас участников римсценка из этого описания (мальчик гасит свечу своего отца с карнавальным криком
«Sia ammazzato il Signore Padre!») вспоминается в ППД, 169 и ТФР, 269-272.
5. Ср. в ППД, 225: «Капитализм, как некогда «сводник» Сократ на афинской
базарной площади, сводит людей и идеи».
<к вопросам об исторической традиции и о народных источниках гоголевского
смеха>
Публикуется впервые, по автографу, хранящемуся в АБ. Рукопись не озаглавлена и
не датирована. Относится, предположительно, к первой половине 1940-х гг. (датировка
условна и основана на сравнительном анализе палеографических и содержательных
особенностей автографа и других текстов первой половины 1940-х гг.).
Текст записан с обеих сторон двух листов гладкой, сильно пожелтевшей бумаги
размером 20,э X 30 см, темно-синими чернилами, крупным почерком, без помарок и
исправлений.
Комментируемый текст имеет вид наброска с характерным преобладанием назывных
предложений в синтаксической структуре. Состоит из трех разделов, темы которых
обозначены в начале, в виде плана; границы фрагментов отчеркнуты. Содержание
первого и второго разделов соответствует заявленному плану, третий раздел «К
истории жанровой разновидности романа Достоевского» отсутствует, его место
занимает набросок о «страшном и смешном» в творчестве Гоголя. Фрагмент с близким
названием «К истории типа (жанровой разновидности) романа Достоевского» записан
М.М.Б. около 1940-1941 гг. в той же тетради, что и работа «"Слово о полку Игореве" в
истории эпопеи», и публикуется в наст, томе отдельно (с. 42-44).
i. к вопросам об исторической традиции и о народных источниках Гоголевского
смеха.
Народно-праздничная основа гоголевского смеха отмечена М.М.Б. в первой
редакции «Рабле* (Р-1940, 659-664), подробнее контекст фольклорных и литературных
источников прозы Гоголя разработан во фрагментах первой половины 1940-х гг.
(«Многоязычие, как предпосылка развития романного слова», «<Риторика, в меру
своей лжи
ского карнавала, описанного
274
274
вости...>», «<К вопросам самосознания и самооценки...>» и др.) и наиболее полно и
разносторонне представлен в Доп.
Исследование природы гоголевского смеха в работах М.М.Б. подспудно или явно
сопровождается критикой бергсоновой философии смеха (Бергсон А. Смех. Пер. И.
Гольденберга. — Бергсон А. Собрание сочинений. Т. 5. СПб., изд. М. И. Семенова,
1914, с. 96-206; объяснение существа комического эффекта, проиллюстрированное
примером из Гоголя, — с. 165). Книга Бергсона, особенно в части толкования
известной формулы Канта («Смех вызывается ожиданием, которое внезапно
разрешается ничем» — с. 142), оказала влияние и на исследования природы
комического у Гоголя (см. развитие этих идей в позднейшей работе В. Я. Проппа:
Пропп В. Я. Природа комического у Гоголя П962]. Публикация В. И. Ереминой. —
«Русская литература*, 1988, Jsfe 1, с. 27-43; ср. характеристику фабулы у Гоголя,
данную А. Белым: Белый А. Мастерство Гоголя. М., ОГИЗ ГИХЛ, 1934, с. 20 и далее).
Основания критики Бергсона изложены М.М.Б. во фрагменте «К вопросам теории
смеха» (с. 49-50; см. также: ТФР, 80; «Рабле и Гоголь» — ВЛЭ, 492): «Вся теория
Бергсона знает только отрицательный полюс смеха» (с. 50), катартическое,
возрождающее начало смеха в его эстетике не учитывается.
М.М.Б. придерживается другой точки зрения, подкрепленной двухвековой
традицией исследования гротескно-комических, смеховых, народно-праздничных
форм. Как и в толковании диалогической природы романов Достоевского, в
представлении об амбивалентной природе гоголевского смеха и его народнопраздничных корнях М.М.Б. более близок к работам Вяч. Иванова, к изложенной им в
статье 1925 г. «теории всенародного смеха» Гоголя (Иванов Вяч. «Ревизор» Гоголя и
комедия Аристофана. — «Театральный Ок тябръ*. Сб. I. Л.М., 1926, с. 89-99; цит. по:
Иванов Вяч. Собрание сочинений. В 4-х тт. Т. 4. Брюссель, 1987, с. 385-398, варианты
— с. 753-754). Вяч. Иванов рассматривает смех как «эстетическую категорию форм
коллективного самосознания», особо отмечая сопоставимую с трагическим катарсисом
очистительную силу смеха: «Всенародный Смех есть целительная, катартическая сила
«высокой Комедии» — так мог бы выразить свой постулат Гоголь на языке древних
эстетиков, — Аристотель уже не пережил психологически последней, и потому знает
«очистительное» действие только трагической музы» (с. 391; ср. М.М.Б. об
освобождающей силе трагедии и смеха: «<Риторика, в меру своей лживости...>», с. 63
и о «катарсисе пошлости» в «Рабле и Гоголе» — ВЛЭ, 495). Положительное начало
гоголевского смеха сосредоточено в образе «соборно смеющегося народа» (с. 391; ср.
М.М.Б. о «соборном смехе (параллели к молитве всей церкви)»: Доп., 114), однако
почва для переживания катартического воздействия смеха утрачена, а утверждающее
начало как таковое в Новое время прочно связано со сферой официальной серьезности,
морализующего пафоса. Поэтому и трагедию Гоголя М.М.Б. понимает, в известном
смысле, как трагедию жанра: «... патетика врывалась в мир менипповой сатиры как
чужеродное тело...» (ВЛЭ, 471, ср. замечание Вяч. Иванова о комедии 1оголя: «...
ветхие меха традиционной комедии не могут вместить нового вина, предчувствуемого
Гоголем: он морализует поневоле, потому что в формы его не умещается иное
содержание всенародной идеи» — с. 754).
За внешним противоречием морализующей идеи и смехового образа в
произведениях Гоголя стоит вопрос о совместимости праздничного смеха с
христианским отношением к миру, вопрос, занимавший также исследователей
смеховой культуры и творчества Рабле (см., например: Flögel К.-Fr. Geschiente des
Grotesk-Komischen. Neu bearbeitet und erweitert von Dr F.-W Ebeling. Verlag von A. Werl.
Leipzig, 1862;
275
275
^chneejrntis И Geschichte der grotesken Satire. Verlag von k.J. 1rubner, Strassburg, 1894;
Reich H. Der Mimus. Ein literar-»4itwi< kliin^sgeschichtlicher Versuch. Bd. 1. Berlin,
1903). Применительно к 1 оголю существо проблемы предельно внятно сформулировал
Вяч. Иванов: «... Гоголь хочет, чтобы всенародный смех был христианским
преодолением всего того, что искажает подлинную (в христианском смысле) красоту
человека. Совместим ли Смех с христианским отношением ко злу в мире и в
собственной душе? И может ли эстетическая по существу эмоция Смеха быть
непосредственным выражением морального пафоса? <...> Гоголь знал все это слишком
хорошо, и тирады об очистительном смехе его самого не до конца убеждали, и во
всяком случае не могли разрешить фатальный для него конфликт между художником и
христианином в его душе* (с. 754). М.М.Б., в отличие от Вяч. Иванова, нигде прямо не
обозначает основания конфликта, но в обеих своих главных книгах отмечает
исторические попытки его преодоления, понимая, вместе с тем, утопичность надежд па
его окончательное разрешение как в опыте религиозной жизни, так и в эстетическом
опыте. С одной стороны, в книге о Рабле мрачной морализующей религиозности
противопоставлена «духовная веселость» сниритуалов, с другой стороны, в книге о
Достоевском полифония роман» становится той предчувствованной Гоголем
эстетической формой, в которой может воплотиться христианская идея. (См. также
фрагмент «О спиритуалах (к проблеме Достоевского)*, публикуемый .1 шестом томе
Собрания, где сходятся обе обозначенные М.М.Б. 1 емы)
П. Стилистическая проблема собственного имени (в эпосе и романе).
Содержание второго наброска по большей части развернуто в Доп.
Соответствующий фрагмент Доп. может быть рассмотрен как своего рода
автокомментарий к этому тексту (Доп. с. 99-103; комм. прим. 18).
М.М.Б. исследует прозу Гоголя с точки зрения становления романа, как стадию
фамильяризации и смеха, отмеченную особой стилистикой имени и прозвища и особой
стилистикой переходных форм: имен прозвищного типа, полу собственных имен,
псевдонимов и др. Границы между именем, первофеноменом поэтического слова, и
про-иппцем, первофеноменом прозаического слова, неустойчивы («В слове он <Гоголь
— комм.> ищет прозвище» — с. 158). С одной стороны, в • иду ослабленности границы
между собственным и нарицательным именем, между называнием лица и вещи,
прозвище превращается в iivbi (Коробочка); с другой стороны, в имени
обнаруживается и обмгрывается ложная, снижающая этимология (Акакий — см.: Доп.,
I0U). и имя переходит в прозвище. (О прозвище и переходе имени ирочишпе в
произведениях Гоголя см. также: «<К вопросам самосознания и самооценки...>», с. 77;
«Многоязычие, как предпосылка развития романного слова», с. 158; Доп. с. 102;
«Рабле и Гоголь» — KT.). 489-490; Зап. — ЭСТ, 358.)
По сравнению с Доп. в комментируемом фрагменте яснее звучит тема
вымышленного имени героя (имени прозвищного типа) и вымышленного имени автора
(псевдонима), что позволяет говорить о мегафорической игре в имени, в том числе на
криптограмматическом уровне текста. В аспекте становления романа вымышленное
имя автора является своеобразной формулой перехода от исторического имени эпопеи
к прозвищному имени романа (см. об игре условным автором, носителем
вымышленного имени, как о выражении «особой «непоэтической» точки зрения» на
мир: СВР, 126).
276
Третий набросок, «<Страшное и смешное>», тематически перекликается с первым; в
нем кратко обозначены узловые моменты п изучении природы гоголевского смеха и
его народно-праздничных источников: Г) характеристика исторической традиции
«высокого* смеха и смеха Гоголя; 2) анализ традиционных образов народной смеховой
276
культуры, фамильяризующего языкового и жестикуляцион ного фонда; 3)
исследование источников гоголевского смеха и путей его соприкосновения с
традицией народной культуры. М.М.Б. отмечает бессознательное тяготение Гоголя к
большим формам всенародного искусства и, в завершенных работах («Сатира», «Рабле
и Гоголь» и др.), «расшифровывает» контекст источников гоголевского смеха,
показывая, с одной стороны, влияние на Гоголя Рабле (через Стерна), а с другой
стороны, влияние на него украинского фольклора и карна-вал изо вал ной литературы,
прежде всего В. Т. Нарежного и И. П. Ко-тляревского.
В последнем наброске М.М.Б., таким образом, возвращается к началу текста, к его
общему плану, яснее и четче, чем в первом фрагменте, обозначает план исследования
'исторической традиции и народных источников гоголевского смеха' Содержание
комментируемого фрагмента в значительной степени реализовано в Доп. (с. 99-103,
117), в написанной около 1970 г. второй части «Рабле и Гоголя» (см., например, анализ
записных книжек Гоголя: ВЛЭ, 491), в Зап. (ЭСТ, 358-360).
1. О понятии 'сатира' в узком и широком смысле слова см.: «Сатира», с. 11-12. Ср.
характеристику гоголевского смеха, данную в Зап.: «Веселый, открытый, праздничный
смех. Закрытый, чисто отрицательный сатирический смех, Это не смеющийся смех.
Гоголевский смех весел» (ЭСТ, 339).
2. 'С петуха на осла' (калька с фр. 'coq-ä-l'äne'); вариант русского эквивалента: 'в
огороде бузина, а в Киеве дядька' — жанр нарочитой словесной бессмысленности
(«отпущенная на волю речь» — ТФР, 460). Название жанра ведет свою историю от
заглавия стихотворения Клемана Маро «Epitre du coq-ä-l'äne, dediee ä Lyon Jaroet»
(1535). М.М.Б. рассматривает «кокаланы» как жанр народной комики, построенный на
речевой несвязности, непоследовательности, нарочитых логических противоречиях, —
и говорит о его влиянии как на поэтику Гоголя, так и на поэтику Рабле (ТФР, 460-463;
о кокаланах в произведениях Гоголя: Р-1940, 662; «Рабле и Гоголь» — ВЛЭ, 488).
3. Фатрасы (fatrasie) — стихотворный жанр, основанный на объединении с помощью
ритма и рифмы произвольных, нарочито несочетаемых друг с другом в тематическом и
логическом плане слов. Нередко используется как вставной жанр, например, в соти.
(См.: ТФР,
^4. Ср.: Фрейденберг О. М. Поэтика сюжета и жанра. Л. 1936,
5. В подготовительных материалах к изучению менипповой сатиры (первая
половина 1940-х гг.) М.М.Б. раскрывает обозначенную здесь тему традиции и влияния
несколько подробнее:
<1.> «Процесс творчества совершается не в голове творящего и не на бумаге. Он
совершается в большом мире и в большом времени (в большой объективной памяти
человечества). Это слово на протяжении столетий лежало рядом (сочеталось, созвучало, отвечало) с такими и такими-то словами, этот образ
277
со всем своим прошлым приходит сюда. [Уто объективный процесс, где слова и
образы развертывали свою логику*
<2> «Чем оригинальнее, новее писатель, тем больше прошлого вспомнит и обновит
его творчество (не индивидуальная память). Все прошлое, вся история жанра в
обновленном виде раскроется в его творчестве. Именно логика жанра, в смысле присущей ему возможности, его полнота актуализуется в нем. Наиболее оригинальное и
новое несет в себе больше всего памяти, обновляет максимум прошлого, в нем
раскрывается то, чем оно (прошлое — комм.) было чревато» (АБ).
к вопросам теории романа К вопросам теории смеха <0 маяковском>
Рукопись в полном составе публикуется впервые (о публикации некоторых ее
отдельных частей см. ниже).
277
Рукопись представляет собой тонкую ученическую тетрадку из четырех
скрепленных скобами, но частично отсоединившихся непронумерованных листов без
обложки; к тетрадке приложено четыре одинарных листа, отличающихся от нее более
желтым цветовым оттенком и имеющих самостоятельную нумерацию страниц (от 1 до
8, причем последняя, восьмая страница — пустая). Начинается рукопись двумя
маленькими фрагментами, которые озаглавлены автором «К вопросам теории романа»
и «К вопросам теории смеха»; они занимают первых два листа (три с половиной
страницы) тетрадки. Затем, после небольшого интервала с короткой горизонтальной
чертой, следует более крупный фрагмент без названия, который продолжается и на
приложенных к тетрадке одинарных листах (он посвящен творчеству Маяковского).
Весь текст рукописи написан простым карандашом. Некоторые абзацы каждого из
фрагментов полностью или частично обведены по краям страниц красным
карандашом: по-видимому, М.М.Б. для каких-то целей выделял наиболее важные
моменты, однако цели эти пока остаются неясными, а смысл этих пометок нуждается в
специальном исследовании. Уголки нескольких страниц обветшали, что весьма
затруднило подготовку текста к печати.
Ни рукопись в целом, ни составляющие ее фрагменты не датированы. Характер и
научная проблематика этого, так сказать, «сборного» текста позволяют выдвинуть ряд
соображений относительно того, когда над ним могла идти работа. Однако точная
датировка (которую, разумеется, не заменят никакие догадки или гипотезы) пока, к
сожалению, кажется невозможной. Остается лишь ожидать, что в обозримом будущем
обнаружатся новые архивные материалы и документальные данные, проясняющие
ситуацию.
Вероятно, фрагменты о теории романа, теории смеха и наброски к статье о
Маяковском оказались расположенными по соседству в одной тетрадке не совсем
случайно. По крайней мере между ними существует определенная концептуальная
связь: в размышлениях о романе уделяется немалое внимание смеховым
(фамильярным, карнавальным) обертонам и истокам жанра, во втором фрагменте смех
рассматривается как одно из важнейших проявлений той самой «органической материи
жизни», в адекватной фиксации которой, по М.М.Б., заключаются суть и специфика
романа, а в набросках о Маяковском доминируют, поворачиваясь различными своими
гранями, категории романизации и карнавализации литературы.
278
Наиболее активно комплекс этих научных тем разрабатывался М.М.Б. на рубеже
1930-1940-х годов, когда он писал книгу о романе воспита ния (1936-1938), статьи
«Слово в романе» (опубл. в ВЛЭ под названием «Из предыстории романного слова»,
1940) и «Роман как литературный жанр» («Эпос и роман*. 1941), а также завершал
первую редакцию книги «Ф. Рабле в истории реализма» (1940), подготовленную к
защите в качестве диссертации.
Правда, творчество Маяковского явно не входило в круг близких М.М.Б. и
интересующих его феноменов искусства (как в одной из своих бесед с м.М.Б. говорил
В. Д. Дувакин, «Маяковский — это, так сказать, эпизод. Ваша жизнь и Ваше
литературное развитие с ним мало пересекались». — «Человек», 1994, № 1, с. 167-168).
Обращение к этой теме скорее всего обусловливалось какими-то внешними
обстоятельствами, например, тем фактом, что статью, посвященную высочайше
признанному и официально прославляемому поэту, проще было напечатать, особенно
в то время, когда общественное внимание к Маяковскому обострялось, т. е. накануне
разного рода «круглых» дат. Для М.М".Б. это было крайне важно, ибо предоставляло
шанс «вернуться» в науку, вырваться из наступившей после кустанайской
278
полулегального существования. Вполне возможно, что он хотел предпринять такую
попытку в конце 1939 — начале 1940 гг. в преддверии десятилетия со дня смерти
Маяковского.
Но, с другой стороны, как теорией романа, так и теорией смеха М.М.Б. настойчиво
продолжал заниматься и в последующее время, например, в середине 1940-х годов
(тексты этих лет, соотносимые с комментируемой рукописью, печатаются в наст.
томе). Что касается Маяковского, то 1943 год тоже был юбилейным (50-летие со дня
рождения), хотя и отмечался гораздо скромнее, по-видимому, из-за военных условий.
К тому же апрельский и июльский номера любого литературного и литературнохудожественного издания за любой (а не только юбилейный) год во второй половине
1930-х и 1940-е, в принципе, могли обнародовать статью под рубрикой, скажем, «К
восьмой годовщине со дня смерти В. Маяковского», «Памяти В. Маяковского» и т. д.
(см., например: «Литературный современник», 1938, № 4; «Литературный критик»,
1935, № 4; «Звезда», 1946, №7-8 и др.). Поэтому ориентация на «круглые» даты,
связанные с Маяковским, пожалуй, не очень надежна (так же, кстати, как и поиски
перекличек с теми или иными текстами литературной и научной «среды»: достаточно
велик риск случайного совпадения).
Несколько «зацепок» помогают отыскать материалы АБ. Так, в первом фрагменте в
качестве иллюстрации к одному из центральных тезисов упоминаются романы
Флобера и Мопассана. Между тем, примерно в середине 1940-х годов М.М.Б.
специально размышляет о Флобере (см. фрагмент о нем в наст. томе). Фрагмент о
теории смеха явно тяготеет к проблематике «Рабле». Подготовительные же материалы
к «Рабле» периода создания первоначальной версии книги достаточно компактны. Тот
факт, что «К вопросам теории смеха» граничит с текстами о романе и о Маяковском,
больше свидетельствует о вероятной принадлежности этого фрагмента к началу 1940-х
годов (когда шла доработка первой редакции), чем к концу 1930-х (когда она
создавалась). Кроме того, в АБ сохранился пятый том из собрания сочинений А.
Бергсона (СПб., 1914), содержащий работу «Смех», откликом на которую в
значительной степени является только что названный фрагмент М.М.Б. (см. об этом
далее). На обороте титульного листа остались сделанные простым карандашом записи,
датированные 1943-1945 годами (записи эти, впрочем, удостоверяют, что книга
находилась в руках у М.М.Б. в 1943-1945 гг., никоим образом не опровергая
возможности штудирования ее и в предшествующем
ссылки и отъезда
полосы фактически
279
десятилетии, тем более что многочисленные пометки на полях работы Ьергсона,
увы, едва ли удастся точно датировать^. В Р 1940 упоминание о Бергсоне, позднее
включенное в ТФР (с. 80), еще отсутствует. В «Списке литературы, цитируемой или
упоминаемой (в ссылках или аллюзиях)», который состоит из 172 названий и изложен
на 9 страницах, книга Бергсона «Смех» также не отмечена — ни в русском переводе,
ни на языке оригинала. Это позволяет предположить, что данный фрагмент написан
после 1940 года. В итоге, поскольку более точная хронологическая привязка
невозможна, приходится принять предположительную широкую датировку: начало —
первая половина 1040-х годов.
Публикуемая рукопись, которая при желании легко и естественно разбивается на три
отдельные, самостоятельные части (что и будет осуществлено при комментировании),
думается, все же должна предстать перед читателем в ее изначально целостном виде.
Во-первых, каждый из этих трех фрагментов при такой публикации выступает в
279
качестве непосредственного, теснейшего контекста для понимания двух других и
одновременно становится своеобразным «диалогизующим фоном» для их взаимной
«новой встречи», обоюдного преломления и освещения. Во-вторых, напечатанный
таким образом текст «разносоставной» рукописи дает нам возможность хотя бы слегка
приоткрыть завесу тайны над творческой лабораторией ученого, проникнуть в
динамику его мыслительного процесса, осознать принципы и этапы напряженной
работы его интеллекта. Только прослеживание максимального числа различных
вариаций, оттенков, формул, сопоставление получивших развитие и оставшихся
неразвернутыми научных мотивов и линий способно привести к созданию более или
менее полной картины, и комментируемые фрагменты, несомненно, сослужат при этом
хорошую службу.
к вопросам теории романа
Публикуется впервые.
В своем письме к Р. О. Якобсону в марте 1921 года Н. С. Трубецкой отзывался о его
ранней работе «Новейшая русская поэзия. Набросок первый» (Прага, 1921): «Как книга
— эта не хороша, и даже, пожалуй, не стоило печатать. Как мысли — есть много
интересного и верного» (N. S. Trubetzkoy's letters and notes. Prepared to publication by R.
Jakobson. The Hague—Paris: Мои ton, 1975, p. 17). Жанр публикуемого фрагмента
МГМ.Б. также можно было бы определить — «мысли о романе». Не принявшие
окончательной формы и не предназначенные для печати, они отразили один из этапов
становления романной концепции ученого. Теоретическая проблематика лишь бегло
намечена, попытки ее последовательного изложения или тем более разрешения не
делается. Но несмотря на это, публикуемый текст представляет интерес и как штрих в
общей картине бахтинского творчества, и сам по себе, поскольку возвышается над
уровнем сугубо черновых материалов, «отмененных», «снятых» каноническими
версиями. И логика мысли, и расстановка акцентов, и подбор иллюстраций здесь
таковы, что лишь частично совпадают с соответствующими параметрами ранее
публиковавшихся работ М.М.Б. о романе — при всем бросающемся в глаза сходстве с
ними по многим пунктам. Особенно заметно это отличие в выдвижении на первый
план понятия «ошибки». В «Эпосе и романе» оно отсутствует, растворяясь в
категориях «опыта, познания и практики» (ВЛЭ, 459), «личного опыта», «всяких новых
узнаваний», «всякой личной инициативы» (там же, 460) и т. п. В Хрон. оно фигурирует
как атрибут
280
только авантюрно-бытовой разновидности романа: «Начальная инициатива (
)
принадлежит
самому
герою и его характеру. Инициатива эта, правда, не
положитель пая (и это очень важно); это инициатива вины, заблужде ни я,
ошибки...» (там же, 267). Здесь же ошибка трактуется как одна из основ «философии»
романа вообще, будучи проявлением и возможным следствием выражаемой им
новизны, субъективности, свободы (ср. в Доп. упоминание о будущем «с его свободой,
с его неожиданными возможностями» — с. 122).
Большой значимостью наделяется в тексте и понятие «профанации» (также немного
«редуцированное» в «Эпосе и романе» и прочих работах того же цикла). М.М.Б., с
одной стороны, включает его в тот же ряд, где находятся категории «нового»,
«странного», «курьезного», «ошибки», «преступления», «нарушения нормы»,
«выпадения из системы необходимости и существенности» и т. д. (в противовес
ассоциирующимся с эпосом категориям «старого», «существенного», «священного»,
«необходимого»...); а с другой стороны, профанация отнесена им к числу смеховых и
фамильярных «первоначал» романа.
280
В связи с проблемой зарождения романа примечателен один момент, который
заслуживает отдельного упоминания. В заключительном абзаце неожиданно
возникают мотивы некоего «самоотчета-исповеди», редкие в научном дискурсе и тем
более удивительные у крайне сдержанного М.М.Б. Мыслитель, увлекшийся романом
из-за того, что роман покинул зону однозначной и однотонной серьезности, ученый,
десять лет упоенно исследовавший язык народной смеховой культуры, вдруг
признается себе, что этот язык ему не только чужд, но, может быть, даже и враждебен!
В одном из своих текстов наст, тома («Язык в художественной литературе», 1954)
М.М.Б. писал, что
жанра), построение «образа говорящего и образа языка» не входит ни в задание
речи, ни в предмет, ни в цель ее: «Этот образ не интересует говорящего, и говорящий
не сообщает его слушателю (если он не актерствует и не разыгрывает)» (с. 290).
Однако у многих современных «бахтинистов» сложился образ М.М.Б. как «певца
карнавальных увеселений и телесной жизни». На самом деле все, как видно, гораздо
сложнее, и неизвестно еще, как сам М.М.Б. отнесся бы к такому своему образу. По его
определению, «в гуманитарных науках точность — преодоление чуждости чужого без
превращения его в чисто свое...» (ЭСТ, 371). Заключительный абзац публикуемого
текста как раз и напоминает о том, что в восприятии М.М.Б. народно-смехового мира
существовали «дистанция (вненаходимость) и уважение» (ЭСТ, 350).
1. В первых строках фрагмента рассматриваются теоретические аспекты, известные
по «Эпосу и ооману» и СВР (в последней из статей это, например, страницы оо
«авторитарном слове», на которых фигурирует и категория «профанации», сближенная
с нарушением табу. — ВЛЭ, 155). Категория «рассказывания» в дальнейшем практически не встречается в работах М.М.Б., хотя, как явствует из публикуемого текста,
она имела определенный смысловой потенциал. Только в ФМ эта категория
присутствует, но и там употребляется в несколько ином, так сказать, «конструктивнотехническом» значении, в каком ее трактовали представители формальной школы. В
главе ФМ о сущностном единстве социальной оценки и поэтической организации
произведения фактически используется опоязовский стиль и таким образом
выражается несогласие с В. Б. Шкловским (в особенности и прежде всего), а также с Б.
М. Эйхенбаумом: «...фабула вовсе не является заменимой и уничтожимой (в
немотивированном искусстве)
мотивировкой
сюжетного
развертывания
(торможений,
во всех других сферах, кроме
(особенно романного
281
отступлений и пр.); фабула развертывается вместе с сюжетом: рассказываемое
событие жизни и действительное событие самого рассказывания сливаются в единое
событие художественного произведения» (ФМ, 172). В данной цитате «рассказывание»
понимается — в духе формалистов — как способ «композиционного построения
вещи», «деформации» фабульного материала (В. Б. Шкловский) или как «некоторая
система разнообразных мимико-артикуляционных жестов»
iE. М. Эйхенбаум), но при этом освобождается от пафоса гипертро-шрованности
литературного приема (ср.: «Можно установить несколько типов обрамляющих
новелл или, вернее, способов вставлять новеллу в новеллу. Наиболее употребительный
— это рассказывание
новелл-сказок
для задержания исполнения какого-нибудь
действия (...). В то же время создавался европейский тип обрамления с мотивировкой
рассказывания
во
имя
рассказывания» — Шкловский В. Б. Развертывание
сюжета. Пг.: ОПОЯЗ, 1921, с.15-16).
281
В комментируемом фрагменте М.М.Б. категория «рассказывания» соотносится не с
категорией «рассказываемое» (пара, замещающая пару «сюжет — фабула» и
родственная понятию «сказ*). но с категорией эпического «воспевания», т. е. смысл ее
не заключается в акцентировании затрудненности поэтической речи и в имитации
изустности, а скорее охватывается традиционным и старым термином
«повествование», который может быть рассмотрен в данном случае как наиболее
адекватный синоним. Однако, естественно, семантическое ядро только что
перечисленных понятий^в значительной оепени едино: по словам А. П. Чудакова,
«любое "рассказывание1 предстает в виде композиционно упорядоченного изложения,
поэтому вопрос связывается с понятием повествования, наррации вообще и их
структурными особенностями» (Чудаков А. П. В. В. Виноградов и теория
художественной речи начала XX в. — Виноградов В. В. О языке художественной
прозы. Избр. труды. М.:Наука, 1980, с.299)
2. Здесь вызывает интерес не повторявшееся больше в работах М.М.Б.
сосредоточение в одном типологическом ряду такого множества «объектов
рассказывания» и их атрибутов. По отдельности они были представлены в разных
статьях и фрагментах: «Все эти изолированные вещи, описываемые в романе, странны
и редки; поточу они и описываются. (...) ...не связанными между собой курьезами и
раритетами и наполнены пространства чужого мира в греческом романе» (ВЛЭ, 252253); «Через преступление выход за пределы естественного порядка (закона жизни)»
(с. 375) и т. д.
В принципе, с такой формулировкой специфики романного «рассказывания»,
думается, согласились бы многие современные теоретики романа, которые оспаривают
бахтинское понимание данного жанра как «столкновения различных художественноязыковых стихий» (Е. М. Мелетинский). Например, А. Д. Михайлов определяет жанровую сущность романа как «конфликт между индивидуальными побуждениями героев и
общепринятыми нормами» (Михаилов А. Д. Французский рыцарский роман и вопросы
типологии жанра в средневековой литературе. М.: Наука, 1976, с.68). Это гегельянская
— по своим истокам — постановка вопроса (см.: мелетинский Е. М. Введение в
историческую поэтику эпоса и романа. М.:Наука, 1986, с. 125-139). То ли М.М".Б. в
публикуемом фрагменте попытался как-то примирить свою концепцию с Гегелевой, то
ли логика научного исследования привела его на каком-то этапе к умозаключениям,
соотносимым с этой линией теоретической мысли, однако других, более масштабных
попыток развертывания подобного рода идеи он, кажется, не предпринимал, предпочтя
развитие комплекса категорий, которые концентри
282
руются вокруг понятия «полифонизм» («разноречие», «многоязычие» и т д)
3. Трудно сказать, подразумевается ли здесь возникновение упомянутых категорий
как факт истории эстетики (например, у Гегеля, который, как известно, считал ядром
романического конфликта противоречие между «бесконечной внутри себя
субъективностью» и «рассудочным, упорядоченным собственными силами миром». —
Гегель Г В. Ф. Эстетика. Т. 2. М.: Искусство, 1969, с. 286, 303), или идет речь о
выдвижении самим М.М.Б. этих категорий в рамках собственной концепции романа
(ср.: «Эпическая цельность человека распадается в романе и по другим линиям:
появляется существенный разнобой между внешним и внутренним человеком, в
результате чего предметом опыта и изображения — первоначально в смеховом, фамильяризующем плане — становится субъективность человека; появляется
специфический разнобой аспектов: человека для себя самого и человека в глазах
других. Это распадение эпической (и трагической) целостности человека в романе в то
же время сочетается с подготовкой новой сложной целостности его на более высокой
282
ступени человеческого развития» — ВЛЭ, 480). Судя по всему, более оправдан второй
вариант толкования этой фразы, однако это никоим образом не означает
невозможности параллельной реализации первого и второго семантических планов, т.
е. сопоставления категориальной системы автора с традиционной системой понятий
европейской эстетики.
4. Следует сразу отметить, что многие перечисленные в комментируемом пассаже
категории («действие, поступок, человек, мысль») прекрасно вписываются в
бахтинскую концепцию романа как жанра идеологического по преимуществу.
Например, в СВР специально подчеркивается, что «человек в романе может
действовать ие меньше, чем в драме или в эпосе», причем «действие, поступок
человека в романе необходимы как для раскрытия, так и для испытания его
идеологической позиции, его слова» (ВЛЭ, 146-147). Между тем, идеологема того или
иного героя вполне может вступить в конфронтацию с системой господствующих
ценностей. Не исключено, что М.М.Б. в дальнейшем избегает понятия «ошибка»
именно потому, что оно «завершает» потенциальный диалог, априорно определяет
правоту и неправоту спорящих голосов.
Некоторое предвосхищение этой теоретической посылки можно обнаружить также в
Хрон., там, где говорится об абстрактности событии, охватываемых авантюрным
хронотопом: «Всякая конкретизация, даже просто бытовая конкретизация, вносила бы
свои закономерности, свой порядок, свои необходимые связи в человеческую жизнь и
время этой жизни» (ВЛЭ, 251). Кроме того, «выпадение из системы необходимости и
существенности» фактически характерно и для авантюрного сюжета — как его трактует М.М.Б. в ПТД: лишенный «завершающей функции», «авантюрный сюжет не
опирается на наличные и устойчивые положения — семейные, социальные,
биографические, — он развивается вопреки им». И далее: «Человек действует в
костюме аристократа как человек: стреляет, совершает преступления, убегает от
врагов, преодолевает препятствия и т. д.» {ПТД, 99-100). Однако в публикуемом
фрагменте намечалась, по-видимому, более широкая, даже универсальная (в рамках
эстетики романа) интерпретация данной проблематики, выходящая за пределы только
авантюрного хронотопа и собственно авантюрного сюжета. Подтверждается это
прежде всего тем, что в качестве примеров здесь приводятся «Мадам Бовари» Флобера
и «Жизнь» Мопассана, в которых романная «незавершенность» достигаете я без
обращения к авантюрным мотивам.
283
5. «Verfehltes Leben* (нем.), iiianquee» (фр.) «неудавшаяся жизнь*.
6. Тоже достаточно «гегельянский* по своему пафосу и смыслу тезис. Однако, вопервых, понятия «особости», «свободы* и т. п. характерны и для самого М.М.Б.
(например, в СВР, где он рассуждает об «особости* условного автора либо
рассказчика, отделенных от действительного автора в качестве носителей особого
словесно-идеологического, языкового кругозора, или об обладании «особой»
идеологией, которое отличает героев романа от героев эпоса — ВЛЭ, 126, 147). Вовторых, данный отрезок публикуемого текста осложнен редуцированным, но
расшифровываемым смеховым подтекстом, а это уже как бы «фирменный» бахти
некий знак. Прежде всего обращает на себя внимание, что «самостоятельность»,
«свобода», «ошибка» и другие признаки оказавшегося «вне необходимости» человека
(героя романа) с помощью аналогии приравниваются (в предшествующей фразе) к
недоскоку, перескоку и другим приемам примитивной комики, а также (в следующей
фразе) к профанации как одной из форм фамильярной речи. Между прочим, тут
вероятна аллюзия на одно из мест бергсоновского «Смеха», — книги, которая, как уже
говорилось, сохранилась в АБ и стала предметом размышлений М.М.Б. в следующем
283
фрагменте этой же рукописи, — где обсуждается феномен «картонного плясуна» (или
«марионетки»): «Все серьезное в жизни имеет своим источником нашу свободу.
Чувства, которым мы дали назреть в себе, страсти, которые мы выносили; действия
обдуманные, подготовленные, одним словом, все, что исходит от нас, и все, что
действительно наше, — все это дает жизни ее характер, — иногда драматический,
обычно же — значительный. Что же надо, чтобы превратить все это в комедию? Надо
представить себе, что видимая свобода прикрывает собою веревочки и что мы здесь,
как говорит поэт,
... d'humbles marionetts
Dont le fil est aux mains de la Necessite
(жалкие марионетки, нить от которых в руках необходимости)» (Бергсон А. Смех.
Пер. с фр. И. Гольденберга. — Бергсон А. Собр. соч. Т. 5. С.-Петербург: Издание М. И.
Семенова, 1914, с. 139).
М.М.Б., отнюдь не склонный отождествлять свободу с серьезностью, меняет эту
расстановку акцентов на диаметрально противоположную: смех, по его мнению,
вызывается не иллюзией свободы, скрывающей косность бытия, а преодолением этой
косности, необходимости — нарушением нормы, профанацией и т. д. Особенно ощутима смеховая «закваска» романа в том, как он возник (об этом идет речь в следующем
абзаце фрагмента), но — если воспользоваться одним из любимых выражении М.М.Б.
— «в пределе» смех и на более поздних стадиях развития этого жанра является
гарантией «незавершенного бытия в его принципиальной незавершенности», ибо
романная проза, по определению М.М.Б. (тоже в следующем абзаце), — это «сфера
профанного, а не необходимого» (ср. в «Эпосе и романе»: «Смех — существеннейший
фактор в создании той предпосылки бесстрашия, без которой невозможно
реалистическое постижение мира. Приближая и фамильяризуя предмет, смех как бы
передает его в бесстрашные руки исследовательского опыта — и научного и художественного — и служащего целям этого опыта свободного экспериментирующего
вымысла» — ВЛЭ, 466).
Характерно, что Бергсон рассматривает смех как «воспитательное средство», как
разоблачение «недолжного» (М.М.Б. говорит об этом во
284
фрагменте «К вопросам теории смеха») При этом смех должен наказывать
закоснелость, автоматизм в поведении человека. Каковы же проявления этой столь
немилой сердцу Бергсона косности? Вот они: «Малейшая косность характера, ума и
даже тела должны (...) вызывать неодобрение общества как верный показатель
деятельности замирающей, а также деятельности, стремящейся обособиться, отдалиться от общего центра, к которому общество тяготеет, одним словом, — как
показатель эксцентричности». — Бергсон А. Собр. соч. Т
с. 106.
Иначе говоря, смех, по Бергсону, — средство борьбы общества с отступлением от
некоей усредненной нормы. М.М.Б. же, напротив, подчеркивает в смехе (и в романе)
пафос субъективности — т. е. фактически эксцентричности, — пусть даже подчас и
ошибающейся, но все же свободной от норм и запретов.
7. «Пример (лат. exemplum — образец), короткий назидательный рассказ на основе
исторических поступков, действий, высказываний, в которых концентрируются
положительные или отрицательные черты поведения людей или групп в определенных
ситуациях. Примеры — существенный элемент системы общего образования; ораторы
использовали их для аргументации. Сборники примеров, систематизированные
тематически, составляли Корнелий Непот и Валерий Максим» (Словарь античности.
Пер. с нем. М.: Прогресс, 1989, с. 459). История этого жанра не закончилась в
античную эпоху. По словам А. Д. Михайлова, «"пример" был типичным жанром
284
средневековой литературы, причем жанром функциональным, религиознодидактическим...» (Михайлов А. Д. Старофранцузская городская повесть «фаблио» и
вопросы специфики средневековой пародии и сатиры. М.: Наука, 1986, с. 77). А. Д.
Михайлов коснулся и соотношения «примера» с «фаблио»: «Фаблио не вполне было
14примером" Его повествование было направлено на само себя, оно не должно было
иллюстрировать какую-то постороннюю мысль, ие должно подвергаться
перекодированию и расшифровке. Фаблио не предполагало наличия обрамления, ради
которого "пример" и рассказывался» (там же). Упоминания этого жанра попадаются и
в других текстах самого М.М.Б., например, в Доп. (раздел «Проблемы украинского
фольклора в связи с Гоголем»): «В проповедях содержались «приклады» — повествовательные примеры, многие из которых перешли впоследствии в фольклор новелл
и анекдотов» (с. 126).
8. Рождению и формированию стилистического своеобразия романа М.М.Б.
посвятил специальную работу («Из предыстории романного слова»). Но на
заключительной странице этой статьи мы узнаем о нерешенности как раз той задачи,
которая прямо связана с описанием рождения романного слова и которая
сформулирована в комментируемом абзаце: «Очень важной задачей является также
изучение тех речевых жанров, преимущественно фамильярных пластов народного
языка, которые сыграли огромную роль в формировании романного слова и которые в
преобразованном виде вошли в состав романного жанра. Но это уже выходит за
пределы нашей работы» (ВЛЭ, 445-446). До некоторой степени «механизм»
возникновения романа из эпоса (через посредство фамильярной хвалебно-бранной
лексики) разобран М.М.Б. в «Эпосе и романе»: «Первым и весьма существенным
этапом становления была фамильяризация образа человека. Смех разрушил эпическую
дистанцию; он стал свободно и фамильярно исследовать человека (...)» (ВЛЭ, 478). И в
другом месте: «Эта зона максимально фамильярного и грубого контакта: смех—
брань—побои. В основном это развенчание, то есть именно вывод предмета из делевого плана, разрушение эпической дистанции (...)» (ВЛЭ, 466. Ср.
285
также в Доп. «Имя эпично... (...) Прозвище связано с настоящим и с зоной
настоящего. (
) Первофеномен поэтического слова —имя Первофеномен слова
прозаического — прозвище »( с. 102-103).
9. Похожая мысль звучит и у А.Бергсона. Французский философ на одной из страниц
своей работы рассуждает о «механизме» некоторых детских игр, способных вызвать
комический э^Ьфект, и в качестве примеров приводит ряд оловянных солдатиков и
карточный домик: что будет, если толкнуть солдатика или тронуть карту... «Основное
свойство механической памяти комбинации заключается в том, что она обыкновенно
обратима, т. е. возвращается к своему исходному пункту. Ребенок смеется, глядя, как
шар, пущенный в кегли, все опрокидывает, все разбрасывает на своем пути; ему
становится еще смешнее, когда шар, проделав все свои обороты, повороты, то и дело
задерживаясь на ходу, возвращается к своей исходной точке. Другими словами, только
что описанный нами механизм комичен даже тогда, когда он действует прямолинейно;
он становится еще комичнее, когда действует кругообразно и когда все старания
действующего лица, в силу рокового сцепления причин и следствий, приводят его
просто на прежнее место» (Бергсон А. Собр. соч. Т. 5... с. 141).
Процитированное место служит у Бергсона непосредственным поводом для
перехода к некоторым существующим определениям природы комизма: «Если принять
во внимание, насколько сильно распространен этот род комического, то станет
понятно, почему он обратил на себя внимание некоторых философов. Сделать
длинный путь для того, чтобы совершенно неожиданно возвратиться к точке отправле-
285
ния, — это значит безрезультатно затратить труд. Это могло дать повод определить
комическое именно таким образом. Такова, по-видимому, мысль Спенсера: смех есть
показатель того, что усилие привело к пустому месту. Уже Кант говорил: "Смех
вызывается ожиданием, которое внезапно разрешается ничем"» (там же, с.142).
Пассаж комментируемого фрагмента М.М.Б. о кругообразности, отсутствии
динамики движения также достаточно близко соприкасается с кратким обзором (в
следующем фрагменте) нескольких — причем тех же самых — определений смеха.
Сходство ассоциативных ходов здесь, быть может, чисто внешнее и сугубо случайное,
однако нельзя и вовсе исключить возможность интертекстуального диалога, тем более
что соответствующие отрывки Бергсонова текста отчеркнуты М.М.Б. на полях его
экземпляра книги. Поэтому, стремясь к адекватному пониманию публикуемого текста,
желательно учесть и попытаться осмыслить такую возможность.
По Бергсону, комизм заключается в механическом кругообразном движении (или
действии), которое завершается ничем, приводит к пустоте. М.М.Б. в данном абзаце
как будто бы вообще не задевает проблематику комизма. Однако, при ближайшем
рассмотрении, здесь можно уловить моменты, которые побуждают к корректировке
предыдущего утверждения. Implicite комический план представлен хотя бы уже
расположением «серьезного» абзаца между двумя «смеховыми» (о «профанном»
происхождении романной прозы й о необходимости расшифровать народнопраздничную образность): при всей тезисности изложения и очевидной отдельности
каждого тезиса ощущается, тем не менее, некий единый концептуальный стержень,
обеспечивающий относительную целостность фрагмента. «Прооранная» установка на
принципиальную незавершенность бытия поддерживается пафосом «радикальных
смен» и отрицанием убаюкивающего круговращения. Но, во-первых, «радикальные
смены, концы миров, (...) своих правд, своих справедливостей» — это ничто иное, как
легкая перефразировка традиционных для М.М.Б. формул карнаваль
286
ного смеха в ТФР: «радикальная смена и обнов ление всего существующего»
(с. 298); «одно временная смерть старого и рождение нового мира» (с. 504);
«ругательство развен ч а н и е, как правда о старой власти, об уми р а ю щ е м
м и р е» (с. 214-215) и т. п. (ср. также в Доп. фактически сентенцию о «концах (...)
своих
правд»: «Сделать образ серьезным значит устранить из него (...) готовность
изменить свой смысл, вывернуться наизнанку (...)» — с. 83). Во-вторых, мотив
«возвращения в конце к началу» в принципе также отнюдь не нейтрален по отношению
к трактовке М.М.Б. философии смеха, что доказывается прямым упоминанием этого
мотива в следующем фрагменте рукописи («К вопросам теории смеха»): «...это
ничто", которым разрешается ожидание или усилие, воспринимается и оценивается
смехом как нечто радостное, положительное, веселое (...)».
Другое дело, что в комментируемом абзаце кругообразное движение
провозглашается не совмещающимся с фундаментальными свойствами романа.
Поскольку в работах М.М.Б. жанр романа, сме-ховые обертоны и динамика «смен и
обновлений» (это, кстати, касается не только сюжетного, но и языкового уровня — ср.
определение многоязычия в «Предыстории романного слова»: «...сложный процесс
борьбы языков и диалектов, гибридизации, очищений, смен и обновлений (...)» —
ВЛЭ, 431) являются почти тождественными понятиями, то «нероманное» отсутствие
поступательного развития безо всяких вариантов оказывается отторгнутым от
смеховой стихии. Иначе говоря, здесь «ничто» почему-то не «воспринимается смехом
как нечто радостное, положительное, веселое (...)» (ср. еще дальше в тексте «К
вопросам теории смеха»: «Если бы серьезность усилия или ожидания оценивалась бы
286
положительно, то их неуспех не вызывал бы смеха». В данном случае неуспех усилия
или ожидания, кажется, смеха не
кой-то степени противоречит как мнению Бергсона по сходному поводу, так и
некоторым постулатам философии смеха самого М.М.Б. Но это противоречие нельзя
не счесть «рабочим» и частным, обусловленным, во-первых, незаконченностью текста,
а во-вторых, стремлением М.М.Б. акцентировать значимость «смен и обновлений», что
имело последствием, вероятно, частичную переоценку помогающего им «усилия и
ожидания».
Идеи кругообразного движения М.М.Б. касается в Хрон., характеризуя греческий
«авантюрный роман испытания», в котором действие развивается следующим образом:
«Никаких сколько-нибудь остающихся внешних и внутренних изменений не
происходит в результате всех событий романа. К концу романа восстанавливается
исходное нарушенное случаем равновесие. Все возвращается к своему началу; все
возвращается на свои места. В результате всего длинного романа герой женится на
своей невесте. И все же люди и вещи через что-то прошли, что их, правда, не
изменило, но потому именно их, так сказать, подтвердило, проверило и установило их
тождество, их прочность и неизменность» (ВлЭ, 257). Здесь эта идея также, на первый
взгляд, рассматривается безотносительно к проблематике комизма. Но на самом деле
тема смеха просто упрятана в подтекст. В косвенной форме она проявляется, например,
в том, что М.М.Б. явно предпочитает лишенному «смен и обновлении» (как на
сюжетном, так и на языковом уровнях) греческому роману иные античные жанры т. н.
«серьезно-смехового» направления, замешенные именно на этой динамике:
«...некоторые разновидности эллинистической и римской сатиры несравненно более
"романны", чем греческий роман» («Из предыстории романного слова». — ВЛЭ, 430)
(ср. в этой связи суждение современного исследователя о М.М.Б.: «...он главное
внимание
комментируемого абзаца в ка287
уделяет античной менипповой сатире, сократическим диалогам, житийноисповедальной литературе как истинной колыбели романа. Обо всем этом он говорит
даже больше, чем о Петронии и Апулее...». — Мелетинский Е. М. Введение в
историческую поэтику эпоса и романа с.129).
10. Эти строки из пушкинских «Стихов, сочиненных ночью во время бессонницы»
(вторая строка в редакции В. А. Жуковского) послужили эпиграфом ко второй главе
ТФР. В письме от 4.XI.65 г. М.М.Б. писал В. В. Кожинову по этому поводу: «Очень
рад, что Вы спасли мой эпиграф из Пушкина. Я действительно запомнил эти стихи еще
в ранней юности и не сверял их с текстом» («Москва*, 1992, № 11-12, с. 182).
К ВОПРОСАМ ТЕОРИИ СМЕХА
Впервые опубликовано В. В. Кожиновым под названием «Из заметок о комическом»
в ежегоднике «День поэзии. 1986». М.: Сов. писатель, 1986, с. 222-223.
Второй фрагмент данной рукописи отделен от первого довольно слабо: название его
написано более мелкими буквами, чем название первого, и к тому же не обладает
подобающей названию дистанциро-ванн остью от самого текста (который следует
сразу же за ним, без интервалов и пробелов, как это и воспроизведено в настоящей
публикации). В принципе этот фрагмент можно даже рассматривать как часть первого,
имеющую собственный подзаголовок, тем более, что между фрагментами существует и
определенная проблемно-тематическая преемственность, а также логическая связь
(именно поэтому научная проблематика данного фрагмента отчасти затрагивалась в
комментариях к фрагменту предыдущему): вслед за призывом автора к расшифровке
287
народно-праздничных форм и образов как бы происходит воплощение призыва в
действительность.
Этот маленький набросок является своеобразным откликом (почти рецензией) на
книгу А.Бергсона «Смех». Правда, апелляция к И. Канту и Г. Спенсеру, бросающаяся в
глаза в начале фрагмента, может поначалу ввести в заблуждение. Однако, в
действительности, и Кант, и Спенсер явно цитируются по книге Бергсона, и в центре
внимания М.М.Б. — бергсоновская теория, «выдвигающая в смехе преимущественно
его отрицательные функции» (ТФР, 80).
Работа А. Бергсона «Смех» (три статьи о смехе, сначала, в 1899 году,
опубликованные в «Revue de Paris», а позднее соединенные в книгу) переводилась на
русский язык дважды. Впервые она вышла под названием «Смех в жизни и на сцене» в
переводе под редакцией А. Е. Яновского (С.-Петербург: Изд. Т-во «XX век», 1900). Во
второй раз — в переводе И.Гольденберга в собрании сочинений Бергсона. М.М.Б. в
своем фрагменте обнаруживает знакомство со вторым из переводов (например,
упомянутый им «картонный плясун» в переводе под ред. А. Е. Яновского назван
«марионеткой» — на с. 74), да это и вполне закономерно, ибо, как уже сообщалось,
М.М.Б. располагал именно изданием 1914 года; оно хранится в АБ и, вероятно, принадлежало сначала И. И. Канаеву (на обложке и титульном листе остались карандашные
надписи: «И. И. Канаев»). С некоторыми уточнениями и исправлениями перевод
И.Гольденберга был переиздан в 1992 году (Бергсон А. Смех. М.: Искусство, 1992).
288
Если внимательно вчитаться в комментируемый текст, то выяснится, что М.М.Б.
возражает Бергсону по тем же пунктам, что и немецкому ученому Г Шнеегансу, автору
книги «История гротескной сатиры* (Schneegans Н. Geschichte der grotesken Satyre.
1894. См.: ТФР, г>2 и 329-337). Можно составить двойную шкалу и свести на ней
попарно все упреки, адресованные, с одной стороны, Шнеегансу, а с другой —
Бергсону (и как бы стоящим за ним Канту и Спенсеру, хотя Бергсон далеко не
полностью солидарен с Кантом и Спенсером. Но М.М.Б. в данном случае
абстрагируется от частных деталей, сосредоточиваясь на общих, основополагающих
моментах). Тогда мы сразу же убедимся в практически буквальном совпадении этих
упреков.
1. Кант—Спенсер: «формальные определения»;
Шнееганс: «чисто формальный механизм (...) восприятия».
И. Кант—Спенсер: «игнорируют в смехе момент радости» (Бергсон: «знает только
отрицательный полюс смеха», «комическое — это недолжное»);
Шнееганс: «Если природа гротескной сатиры заключается в преувеличении чего-то
отрицательного и недолжно г о , то совершенно неоткуда взяться тому радостному
избытку в преувеличениях, о котором говорит сам Шнееганс».
Iii. Бергсон: «игнорирует (...), что то пространство, в котором кувыркаются, падают,
дерутся клоуны, (...) — пространство топографическое, где верх и низ (...) имеют
абсолютное значение»;
Шнееганс: «совершенно игнорирует фольклорные источники гротеска».
Почему при такой близости полемических формулировок разногласиям со
Шнеегансом отведено в ТФР несколько страниц, а бергсонов-ская концепция комизма
только однажды упоминается вскользь (да и это упоминание отсутствовало в Р-1940)
— не совсем ясно, так же как неясно и то, когда был написан комментируемый текст, с
какой из книг М.М.Б. познакомился раньше и т. п. Б таком предпочтении кое-что
может показаться слегка странным, хотя, несомненно, есть и своя логика, которую
нужно уловить. Шнееганса М.М.Б. называет автором «истории» и лишь «отчасти
теории» гротеска, но именно его избирает в качестве мишени при оспаривании
288
«отрицательной» философии смеха. Статус Бергсона-теоретика несравненно выше, но
теоретическая контроверза с ним остается за пределами книги. Соображения,
которыми мог руководствоваться М.М.Б., думается, таковы. Подходы Ш нее ганса и
Бергсона к смеху во многом пересекаются, свойственные им обоим ошибки, по
мнению М.М.Б., «чрезвычайно типичны». При подобном раскладе прерогатива должна
принадлежать, вероятно, тому из исследователей, кто «провоцирует» к более концентрированному изложению соответствующего материала (все-таки объем книги хоть и
очень велик, но ограничен). Поскольку Шнееганс «историю и теорию гротескной
сатиры ориентирует именно на Рабле», то полемика с ним одновременно обнажала
слабые стороны развенчиваемой концепции и способствовала раскрытию народнопраздничной сущности раблезианских образов (о которых Бергсон говорит мало и
очень редко).
То, что в связи с книгой Шнееганса обсуждается проблема гротеска, а в
комментируемом фрагменте речи о гротеске не идет, и в центре внимания находится
смех, — едва ли означает существенное различие. Понятия гротеска и смеха для
М.М.Б. нераздельны (ср.: «Шнееганс показывает разный характер смеха в каждом из
трех типов комического. (...) в третьем случае (гротеск) происходит осмеяние
определенных социальных явлений (...)» — ТФР, 330).
1. Хрестоматийно известное кантовское определение смеха. К. Сотонин приводит
его в своем «Словаре терминов Канта (к трем
289
"Критикам")* (Казань: Изд. кн. магазина М. А. Голубева, 1913, с. 168): «Смех
(Lachen) — "аффект из внезапного превращения напряженного ожидания в ничто'*
(составитель словаря использует перевод Н. М. Соколова, выполненный для издания:
Кант И. Критика способности суждения. С.-Петербург, 1898, с. 210). Это же определение (в том же переводе и по тому же изданию) цитируется, например, во втором
томе «Философской энциклопедии* (М.: Сов. энциклопедия, 1962, с. 574. Статья
«Комическое»). Перевод Н. М. Соколова, значительно уточненный и исправленный,
лег и в основу издания «Критики способности суждения» в 6-томном собрании
сочинений И.Канта (см.: Т. 5. М.: Мысль, 1966). Определение смеха в этом издании
звучит так: «Смех есть аффект от внезапного превращения напряженного ожидания в
ничто» (с.352). В 5-м томе российского собрания сочинений Бергсона это определение,
по-видимому, переведено И.Гольденбергом с фр.: «Смех вызывается ожиданием,
которое внезапно разрешается ничем» (Бергсон А. Собр. соч. Т. 5... с. 142). М.М.Б.
цитирует Канта по изданию Бергсона.
2. Герберта Спенсера М.М.Б. также приводит (не цитирует!) по книге Бергсона, а тот
передает мысль Спенсера, также не цитируя дословно, по французскому переводу его
работы «Физиология смеха»: Spenser Н. Essais. 1891, vol. 1, р. 295 et suiv. (указывается
самим Бергсоном; см., например, его «Предисловие» к 23-му или 24-му изданию
«Смеха»: Bergson Н. Le rire. Essai sur la signification du comique. 24 ed. Paris, 1925, p.VII.
«Предисловие» перепечатано в московском издании книги 1992 года, с. 8. Кант, кстати,
в списке работ, на которые опирался автор, почему-то отсутствует). См. также русское
издание «Физиологии смеха» (С.-Петербург, 1881, с. 14 и далее).
М.М.Б. не придает значения различиям между концепциями Канта, Спенсера и
Бергсона, полагая их едва ли не взаимозаменимыми. Точнее, Кант и Спенсер
«замещают* Бергсона, но не наоборот
iхарактерно, что о Бергсоне М.М.Б. впервые упоминает в середине )рагмента, но
говорит при этом: «Бергсон игнорирует также...* —. как если бы полемика уже
продолжалась. Т. е. названы были только Кант и Спенсер, но Бергсон, видимо, имелся
в виду одновременно с ними. Характерно также, что в финале фрагмента, при
289
подведении итогов, М.М.Б. словно забывает о Канте и Спенсере: «Вся теория Бергсона
знает только отрицательный полюс смеха»). Но сам Бергсон настаивает на различии
между своими представлениями о смехе и представлениями Канта и Спенсера,
которые, по его мнению, «пришлось бы принять с некоторыми ограничениями, потому
что есть, несомненно, бесполезные усилия, которые не вызывают смеха. Но если в
наших последних примерах крупная причина приводит к маленькому следствию, то
только что перед этим мы приводили другие примеры, совершенно противоположного
характера, в которых крупное следствие вызывается маленькой причиной. Надо
признать, что это второе объяснение было бы не лучше первого. Несоразмерность
между причиной и следствием в том или ином смысле никогда не бывает
непосредственным источником смеха. Мы не смеемся над тем, что в известных
случаях эта несоразмерность может обнаружить, то есть, я бы сказал, над особого рода
механизмом, который благодаря ей становится видимым для нас позади целого ряда
следствий и причин. Забудьте оо этом механизме, и вы теряете единственную путеводную нить, которая может вести вас в лабиринте комического; правилу же, которому
вы следовали, быть может, и приложимому к нескольким специально подобранным
случаям, всегда будет грозить опасность неприятной встречи с первым попавшимся
примером, который может разбить его в пух и прах» (Бергсон А. Собр. соч. Т 5..., с.
143).
290
3. В этой фразе мотивы Бергсона (кукла, механизм) оказались переплетенными с
мотивами самого М.М.Б. (чучело, «ад*, старость). Здесь М.М.Б. подчеркивает
моменты, которые сближают его концепцию с бергсоновскои, отыскивает переклички
и схождения (ср. далее в тексте фрагмента: «Основная идея верна: жизнь смеется над
смертью (мертвым механизмом)»). Приведем наиболее характерные пассажи из обеих
сопоставляемых работ. «Смех», с. 112: «Позы, жесты и движения человеческого тела
смешны постольку, поскольку это тело вызывает в нас представление о простой
машине»; с. 122: «Резюмируем все сказанное: мы имеем здесь дело с одним и тем же
эффектом, который все более утончается, переходя от идеи искусственной
механизации человеческого тела, если так можно выразиться, к идее той или иной
подмены естественного искусственным». ТФР, 171: «В начале этого праздника на
площади было разыграно сражение с эффектными моментами, с фейерверком и даже с
убитыми, которые оказались потом соломенными чучелами. (...) Фигурировал здесь и
обязательный карнавальный мад"»; с. 429: «Народная культура по-своему организует
образ преисподней: бесплодной вечности противопоставлялась чреватая и рождающая
смерть, увековечению прошлого, старого — рождение умирающим прошлым лучшего
будущего, нового».
4. Клоуны, чертик на пружине, картонный плясун, снежный ком
— это примеры, которыми иллюстрирует свои рассуждения Бергсон (с. 128, 135,
138, 139-140). «Пгххггранство топографическое» — термин М.М.Б., определенный им
в ТФР: «Снижение и низведение высокого носит в гротескном реализме вовсе не
формальный и вовсе не относительный характер. Верх" и "низ" имеют здесь
абсолютное и строго топографическое значение. Верх — это небо; низ
— это земля; земля же — это поглощающее начало (могила, чрево) и начало
рождающее, возрождающее (материнское лоно). Таково топографическое значение
верха и низа в космическом аспекте. В собственно телесном аспекте, который нигде
четко не отграничен от космического, верх — это лицо (голова), низ —
производительные органы, живот и зад» (с. 26. См. также: 383-3&4. О телеснокосмической топографичности пространства и времени М.М.Б. размышляет и в Доп.:
«На сцене, топографичность которой ощущается, жест неизбежно сохраняет какую-то
290
степень топографичности (символичности), так сказать показывает на верх и низ, на
небо и землю (...) и комната (дворец, улица и т. п.), в которой действует,
жестикулирует герой, не бытовая комната (дворец, улица), ведь она вписана в оправу
топографической сцены, она на земле, под нею ад, над ней небо (...)» — с. 94). Ср. в
этой связи, как излагаются пространственно-временные представления Бергсона:
«Жизнь представляется нам как известная эволюция во времени и как известная
усложненность в пространстве. Рассматриваемая во времени, она есть оеепрерывный
прогресс существа, которое непрерывно стареет: это значит, что она никогда не
возвращается назад и никогда не повторяется. Взятая в пространстве, она
представляется нам в виде сосуществующих элементов, связанных между собою
такими тесными внутренними узами, созданных в такой исключительной степени друг
для друга, что ни один из них не мог бы принадлежать одновременно двум различным
организмам; всякое живое существо есть закрытая система явлений, неспособная
интерферировать с другими системами» (Бергсон А. Собр. соч. Т. 5..., с. 144).
5. Ср.: «Комическое (...) выражает (...) известное индивидуальное или коллективное
несовершенство, требующее немедленного исправления. Смех — это известный
общественный жест, которым под
291
черкивается и пресекается известная специальная рассеянность людей и событий»
(Бергсон А. Собр. соч. Т. 5..., с. 144); «...смех не может быть абсолютно справедливым.
( ) Его цель — устрашать, унижая. Он не достигал бы ее, если бы природа не оставила
для этого даже в лучших людях маленького запаса злобы или хотя бы язвительности»
(там же, с 205).
<0 МАЯКОВСКОМ>
Впервые опубликовано В. В. Кожиновым в ДКХ (1995, №2, с. 124-134) под
названием «Наброски к статье о В. В. Маяковском».
Судя по всему, М.М.Б. обращался к творчеству Маяковского трижды: в 1920-е годы,
примерно в начале 1940-х гг. (в комментируемом тексте) и в начале 19/0-х гг. (см.
далее).
Как уже указывалось, работа М.М.Б. над статьей о Маяковском, возможно,
обусловливалась стремлением М.М.Б. напечатать ее где-либо, чтобы выйти из
«полулегального» положения после ссылки (статью о Маяковском было опубликовать
гораздо проще, чем, скажем, о Достоевском). Вместе с тем, не следует и очень уж
преувеличивать роль внешних факторов в научной судьбе М.М.Б. Конечно, он по
необходимости соотносил свои планы и действия с условиями реальной
действительности и в той или иной степени вынужден был приспосабливаться к ней.
Но, пожалуй, ни один компромисс не навязывался М.М.Б. только воздействием извне,
без наличия каких-то внутренних импульсов и побуждений, подталкивающих его в том
же примерно направлении. Маяковский, не будучи, так сказать, «своим» поэтом для
М.М.Б., все же, несомненно, занимал его, оценивался им высоко. В «приватной»
лекции, прочитанной в 1926 или 1927 году, М.М.Б. сдержанно назвал Маяковского
«видным представителем футуризма», но при этом подчеркнул немалые его заслуги
перед русской поэзией (см.: ДКХ, 1995, № 2, с. 111-114). Прежде всего М.М.Б.
отмечал, что Маяковский, вместе с другими футуристами, раз и навсегда преодолел
лексические ограничения классической традиции, обогатил ее, открыл дорогу для
«говора городских низов», «уличного жаргона» (там же, с. 111). Обращалось там
внимание и на некоторые другие «новации» Маяковского. Например: «Маяковский на
русской почве в новой форме, в другой обстановке внес в поэзию риторизм, который
до него был очень мало представлен. И в этом его заслуга неоспорима» (там же, с. 112).
291
Некоторые пассажи лекции вполне могут быть восприняты как предвосхищение
будущей «карнавальной» концепции М.М.Б., развитой им, на гораздо более обширном
материале, в книге о Рабле, но примененной также и в комментируемых набросках.
Вот как М.М.Б., к примеру, объяснял слушателям своей лекции сущность метафоры у
Маяковского: «Его метафора логична и эмоционально очень груба. Ее можно выделить
как удачное словцо, как удачную уличную брань. Ругательство всегда метафорично, но
строится оно не на тонких нюансах, а на грубом сродстве. Оно может лишь или
возвеличить, или унизить, низвести. Но это не является недостатком метафоры; о достоинстве метафоры можно судить лишь в зависимости от целей, которым она служит.
Маяковскому такая метафора идет» (там же, с. 112. Ср. в ТФР, 178: «Площадная хвала
и площадная брань — это как бы две стороны одной и той же медали»; 4о8:
«...большинство ругательств амбивалентно: они связаны с звериными чертами, телесными недостатками, глупостью, пьянством, обжорством, испражне
292
ниями...»). Карнавальные обертоны звучали и, скажем, в следующем фрагменте
лекции о Маяковском: «Основная тема поэзии Маяковского
- провозглашение живой жизни в низах, где нет ничего устойчивого» (ДЯХ 1995, №
2, с. 113. Ср. один из лейтмотивов ТФР: «В карнавальном мире ощущение народного
бессмертия сочетается с ощущением относительности существующей власти и
господствующей правды» — с. 278).
Достаточно очевидно, что в набросках к статье о Маяковском М.М.Б. не только
стремился к использованию тактически выгодного повода для публикации, но и
продолжал обдумывать, постепенно хотя бы отчасти «осваивать» творчество крупного
поэта. Уже первая фраза: «Выбор языка (улица)» — с одной стороны, возвращает нас к
вступительным тезисам вышеупомянутой лекции, а с другой — помещает в самую
сердцевину бахтинских эстетико-теоретических и историко-литературных штудий
рубежа 1930-1940-х годов («многоязычное сознание», реализующееся в романе, и т. д.).
Подхватывается здесь и тема карнавальности Маяковского, так что можно даже
услышать перекличку с теми или иными моментами лекции: «Она [каламбурная рифма
— комм.] сближает несвязанные между собой явления, она нарушает иерархию, это —
рифма-мезальянс. Она граничит с бранным прозвищем, она фамильяризует мир» (с.
57); «Большое
— это (...) становящееся, историческое, растущее большое» и т. д.
И спустя много лет М.М.Б. как бы на новом витке возвратится — в общих чертах —
к тем оценкам и характеристикам, которые дал поэту в лекции и в комментируемых
набросках. В 1973 году, когда Дувакин во время записи разговоров с М.М.Б. побудит
его порассуждать о Маяковском, Михаил Михайлович скажет: «...у Маяковского много
карнавального, очень много. Причем как раз никогда не показывалось и не оттенялось
это, наиболее сильное в нем: карнавальная стихия. Она проявлялась, конечно, прежде
всего в ранний его период, футуристический период» («Человек», 1994, № 2, с. 168.
См. также: ДЯл, 1995, №2, с. 152-164). Некоторые слова и акценты совпадают при этом
почти буквально. В набросках М.М.Б. намеревался специально остановиться на
«глаголе "орать" у Маяковского». В беседе с Дувакиным он упоминает о том, что
Маяковский «сам про себя почти всегда говорил: "я ору" Не "пишу", не "пою", а "ору »
(«Человек», 1994, № 1, с. 167). В лекции М.М.Б. похвалил Маяковского за то, что он
«сам заметил свою связь с библейским стилем и внес его в поэму "Война и мир" Свою
задачу он сумел разрешить: библейский стиль не вносит диссонанса в поэму» (ДКл,
1995, № 2, с. 113). Беседуя с Дувакиным о Маяковском, М.М.Б. выделяет то же
произведение поэта: «...мне очень понравилась его "Война и мир" Там были очень
интересные строфы, очень хорошие строфы» («Человек». 1994, № 1, с. 166). В
292
некоторых репликах вспоминающего о былом М.М.Б. словно бы синтезируется,
сводится воедино то, что им было сказано в 1920-е годы и позже, в начале 1940-х: так,
мотив фамильярного риторизма (лекция) и мотив площадного крика (наброски)
сливаются, когда мы пробегаем взглядом страницы журнального варианта беседы: «Да,
интонационно... новая тоника. Что сблизило его максимально с той речью, с
ораторской, но ораторско-фамильярной. Как говорили ораторы, скажем, эпохи
Парижской коммуны и т. д., и т. д. Крик, крик почти. Вообще еще тоже своеобразное
сопряжение поэзии с площадным криком» (там же, с. 167). Иные же детали в разновременных трактовках М.М.Б. Маяковского довольно существенно различаются.
Например, в 1920-е годы М.М.Б. утверждал, что «фальши, как у Северянина, у
Маяковского нет» (ДКХ, 1995, № 2, с. 113), а в 1973 году оказывается, что даже в
понравившейся ему поэме Маяковского, «Война и мир», «были, конечно, фальшивые,
выдуманные, нарочитые строчки» («Человек», 1994, № 1, с. 166).
293
Впрочем, этот тезис о фальшивых строчках навеян в первую очередь
неблагоприятным впечатлением М.М.Б. от стихов Маяковского советских лет, когда
тот «стал прославителем» («Человек», 1994, № 2, с. 167). М.М.Б., разумеется, никогда
не был согласен с казенным оптимизмом Маяковского-прославителя. В набросках «<0
Маяков ском>» он, правда, попытался «скрестить» свои концепции с официальномарксистской фразеологией. Но что-то помешало ему довести намеченное до конца:
статья так и осталась недописанной, столь непривычные в его текстах идеологические
клише — так и не дошли до печати... А автор — автор не изменял себе, обдумывая
статью о Маяковском, не изменил себе и остановившись на полуслове, вернее, на
стадии проекта, «полуфабриката».
В лекции о Маяковском М.М.Б. обронил мысль о том, что политическая
тенденциозность «не унижает поэзии Маяковского: достоинство поэзии измеряется
художественным выражением» (ДКХ, 1995, № 2, с. 114). Очень важная мысль. Вопервых, мы лишний раз убеждаемся, что М.М.Б. ценил талант Маяковского. А вовторых, некоторые доктринальные издержки не унижают и работы самого М.М.Б., так
как — перефразируем его приведенный несколько выше афоризм — достоинство
научной работы измеряется концептуальным выражением, т. е. изъяснением и
развитием неких глубоких, оригинальных, провоцирующих на творческий диалог идей.
В комментируемом тексте таких идей много. Но примечателен он не только этим, а
еще и своей, так сказать, прикладной направленностью: фундаментальные эстетические концепции помогают здесь М.М.Б. раскрыть своеобразие яркого и сложного
поэта, да к тому же еще представителя литературы 20-го столетия (о двадцатом веке,
как известно, М.М.Б. почти не писал).
1. О выборе языка (правда, в более специфическом смысле — в связи с трактатом
Данте «Об итальянском языке») и проблеме тона М.М.Б. пишет также в Доп. Среди
основных тонов слова там упомянуты тона мольбы-молитвы, хвалы-прославления,
угрозы устрашения, страха-смирения, причем сказано, что «основой художественной
тональности слова не может не быть любовь (какой-то минимум ее необходим для
художественного подхода к миру)» (с. 116-117). Но вообще говоря, эти вопросы
относятся к числу сквозных во всем творческом наследии М.М.Б. Например, в СВР
читаем: «Литературно-активное языковое сознание всегда и повсюду (во все
доступные нам исторические эпохи литературы) находит языки", а не язык. Оно
оказывается перед необходимостью выбора языка. Каждым своим литературнословесным выступлением оно активно ориентируется в разноречии, занимает в нем
позицию, выбирает "язык"» [ВЛЭ, 108). Или в Зап.: «Недопустимость однотонности
(серьезной). Культура многотонности. Сферы серьезного тона. (...) В многотонной
293
культуре и серьезные тона звучат по-другому: на них падают рефлексы смеховых
тонов, они утрачивают свою исключительность и единственность, они дополняются
смеховым аспектом. (...) Проблема тона в литературе (смех и слезы и их дериваты)»
(ЭСТ, 338, 339, 345).
2. Ср. полемическое рассуждение самого Маяковского: «"Мечи", "шлемы" и т. д.,
разве можно подобными словами петь сегодняшнюю войну! Ведь это язык
седобородого свидетеля крестовых походов. Живой труп, право, живой труп.
Ненужность, старость этих поэтов в том, что они словесную оболочку, звуковое
платье берут истрепанные. Поймите! Каждое чувство, каждый предмет вырастает из
одежды слова. Одежда треплется. Надо
294
менять* (Маяковский В. В. Поли. собр. соч. в 13 тт Т 1. М.: ГИХЛ, 1955, с. 327).
Антитезу «солнце — электрическая лампочка» М.М.Б. также упоминает, повидимому, далеко не случайно. По словам Е. Малкиной, «все, что пишет Маяковский о
солнце, — прямая полемика с преклонением символистов перед солнцем»
(«Литературный современник», 1938, № 4, с. 206). «Лампочка» обозначает здесь
практическую направленность поэзии Маяковского (незадолго перед смертью он делал
рекламы для Электрозавода. С этой рекламой и с «образом» лампочки связаны
некоторые обстоятельства литературного противостояния Маяковского с лидером
конструктивизма и. Сельвинским. См.: Ка-цисЛ. Ф. «Маякоша... Любимейший враг...».
Маяковский в поэтической полемике конца 20-х — начала оО-х годов. —
«Литературное обозрение», 1993, № 6, с. 92).
3. С самого начала затрагивается и через весь комментируемый текст проходит
весьма интересовавшая М.М.Б. в это время (начало 1940-х годов) тема романизации
литературы. Непосредственно суть проблемы будет сформулирована чуть дальше:
«Предшествующие эпохи поэтизировали прозу (символизм). У Маяковского —
прозаиза-ция поэзии (с точки зрения элементарной поэтической лексикологии его стих
пестрит "прозаизмами"). Он романизует ее. Связь с историей романа». Однако уже
первые фразы набросков фактически подготавливают введение поэзии Маяковского в
теоретический контекст романизации, ибо здесь оказываются так или иначе
упомянутыми, заявленными, отмеченными три основные особенности, которые, по
мнению М.М.Б., принципиально отличают роман от всех остальных жанров: «1)
стилистическая трехмерность романа, связанная с многоязычным сознанием,
реализующимся в нем; 2) коренное изменение вреп ост роения литературного образа в романе, именно зона максимального контакта с
настоящим (современностью) в его незавершенности» (ВЛЭ, 454-455). Ср. также далее:
«Смех обладает замечательной силой приближать предмет, он вводит предмет в зону
грубого контакта, где его можно фамильярно ощупывать со всех сторон, переворачивать, выворачивать наизнанку, заглядывать снизу и сверху, разбивать его внешнюю
оболочку, заглядывать в нутро, сомневаться, разлагать, расчленять, обнажать и
разоблачать, свободно исследовать, экспериментировать». — Там же, с. 466). О
грубом, фамильярном контакте, заглядывай и и в нутро — по отношению к
поэтическим «вещам» — говорит и сам Маяковский в статье «Как делать стихи»:
«Детей (молодые литературные школы также) всегда интересует, что внутри
картонной лошади. После работы формалистов ясны внутренности бумажных коней и
слонов. Если лошади при этом немного попортились — простите!» (Маяковский В. В.
Поли. собр. соч. в 13 тт. Т. 12.
4. Слово «похороны», по первому впечатлению, может показаться здесь
неуместным, но в контексте бахтинского теоретического наследия подобный
типологический ряд выглядит вполне естественным (ср., например, в тезисах к
294
диссертации «Рабле в истории реализма»: «. смех сатировой драмы, римский
триумоЬальный и похоронный смех, смех сатурналий» — ДКХ, 1993, № 2-3, с. 104; в
«Из предыстории романного слова»: «Для Рима особенно характерна упорная
живучесть ритуальных осмеяний. Общеизвестны узаконенные ритуальные осмеяния
солдатами триумфатора; общеизвестен римский ритуальный смех на похоронах; (...)
нет надобности распространяться о сатурналиях» — ВЛЭ, 423).
менных координат
романе; 3) новая зона
М.: ГИХЛ, 1959, с. 81).
295
5. Апелляция к истории римской сатиры, надо полагать, хотя бы косвенно
соотносится с первой из перечисленных в примечании 3 (но не названных прямо в
комментируемом абзаце) фундаментальных особенностей романа. Характерно, что в
работе «Эпос и роман» М.М.Б., упомянув о многоязычии романа, отсылает читателя к
статье «Из предыстории романного слова» (1940), где немало внимания уделяется как
раз древнеримским источникам романа: «Мир римской смеховой культуры был не
менее богат и разнообразен, чем греческий мир. (...) Нам важнее здесь не ритуальные
корни этого смеха, важна литературно-художественная продукция его, важна роль
римского смеха в судьбах слова. Смех оказался таким же глубоко продуктивным и
неумирающим созданием Рима, как и римское право» (ВЛЭ, 423). Но, разумеется,
«стилистическая многомерность романа» неразрывно связана с другими присущими
ему особенностями, так же как «римский смех» способствовал не только зарождению
«многоязычия», но и «изменению временных координат литературы», «переводу
образа в зону контакта». Просто М.М.Б. здесь, как кажется, последние особенности
акцентирует, а первую несколько убирает в тень (хотя она все-таки присутствует:
«элементы уличного языка» и т. д.).
6. По словам самого Гете, «Пария» является «подражанием одной индийской
легенде... Здесь мы находим парию, который свое положение не считает безнадежным,
он обращается к богу богов и требует посредника, который и появляется, правда,
довольно странным способом. Отныне каста эта, не допускавшаяся ни к какой святыне,
ни к какому храму, приобрела собственное божество, в котором высшее начало,
будучи привито низшему, выступает в образе некоего третьего, странного существа»
(Гете И. В. Собрание сочинений в 10 томах. Т. 1. М.: Художественная литература,
1975, с. 508). Композиция этой небольшой поэмы трехчастна: два лирических
песнопения парии обрамляют сюжетное повествование о жене брамина, которая
погибла от меча разгневанного мужа, но воскрешена сыном. Причем ее голова
прирастает к телу казненной в то же время преступницы, в результате чего и
происходит амбивалентное сочетание противоположных начал:
Так мне велено, браманке: Головой вздымаясь к небу, Ведать, парил, должна я Силу
тяжкую земли.
(Перевод А. Кочеткова)
Обычно пафос «Парии» трактуется в социальном духе — как защита обездоленных
(см. комментарии к сборникам и собраниям сочинений Гете). Однако в контексте
данной работы М.М.Б., по-видимому, актуализируется иной, более глубокий
ассоциативно-смысловой ряд поэмы: момент сдвига, переориентации, перехода от
изначальной, дистанцированной, стабильной гармонии к состоянию вечной
«неготовости», будоражащей активности, когда устойчивый канон сменяется сплавом
смешного с серьезным, возвышенного с низким, прошлого с настоящим... Именно
такое понимание формулы «брань и нежный шепот» («брань и хвала») выдвигается в
295
ТФР: «Двутонный образ, сочетающий хвалу и брань, стремится уловить самый момент
смены, самый переход от старого к новому, от смерти к рождению. Такой образ
развенчивает и увенчивает одновременно» (ТФР, 180). Именно так сам М.М.Б. толкует
эту формулу в ТФР (471. Выделено М.М.Б.): «Интересную разработку темы
двутелости в серьезном философском аспекте дает Тете в своем стихотворении
296
"Пария" Слияние хвалы и брани (в отношении к божеству) в тематическом (а не
стилистическом) однотонном плане выражено здесь так:
И ему шепну я нежно, И ему свирепо крикну, Что велит мне ясный разум, Чем
взбухает грудь угрюмо. Эти мысли, эти чувства — Вечной тайной будь они.
(Перевод А.Кочеткова)
(Ср. в оригинале:
Und ich werd' ihn freundlich mahnen, Und ich werd' ihm wütend sagen, Wie es mir der
Sinn gebietet, Wie es mir im Busen schwellet. Was ich denke, was ich fühle — Ein
Geheimnis bleibe das.
Goethes Gedichte. Zweiter Band. Berlin: S. Fisher, 1905, S. 81).
Подобным же образом М.М.Б. прочитывает стихотворение «Пария» и в черновом
наброске, опубликованном в настоящем томе (1946 г.): «Надо уметь уловить
подлинный голос бытия, целого бытия, бытия больше, чем человеческого, а не частной
части, голос целого, а не одного из партийных участников его. Память надындивидуального тела. Эта память противоречивого бытия не может быть выражена однос мы
елейными понятиями и однотонными классическими образами. Соответствующие
слова Гете (кажется, по поводу "Парии")» (с. 78).
б АБ хранится тетрадь, относящаяся к началу 1940-х годов, в которой содержится
подробный конспект следующего издания: Ге-те И. В. Избранная лирика. Под ред. А.
Г. Габричевского и СВ. Шервинского. М.-Л.: Academia, 1933 («Сокровища мировой
литературы»). М.М.Б. фиксирует в тетради часть примечаний к стихотворению
«Пария» и два фрагмента из него, в переводе А. Кочеткова (оба процитированы выше:
четверостишие «Так мне велено, браманке...» и несколько более расширенный вариант
той строфы, которая приведена в ТФР. Причем указанное четверостишие и два стиха,
выделенных курсивом в ТФР, отчеркнуты в рукописи карандашом с правой стороны
листа).
7. О «героизации современности» как задаче, решавшейся в истории литературы,
М.М.Б. размышляет в работе «Эпос и роман»: «Впервые эта переориентация
совершилась в эпоху Ренессанса. В эту эпоху настоящее, современность, впервые
почувствовало себя не только незавершенным продолжением прошлого, но и неким
новым и героическим началом. Воспринимать на уровне современности значило уже
не только снижать, но и подымать в новую героическую сферу. Настоящее в эпоху
Ренессанса впервые почувствовало себя со всею отчетливостью несравненно ближе и
роднее будущему, чем прошлому» (ВЛЭ, 482-483). В набросках к статье о Маяковском,
однако, М.М.Б. акцентировал нерешенность этой задачи.
Формула «малейшая былинка современности», возможно, является вариацией одной
из строк «Облака в штанах» («мельчайшая пылинка
296
живого»). См.: Маяковский В. В. Поли. собр. соч. в 13 тт. Т. 1. М.: ГИХЛ, 1955, с.
184.
8. Уитмена М.М.Б. упоминает в набросках несколько раз: в дальнейшем отмечаются
его космизм, поэтика крика, гениальность, демократизм. Все эти качества
американского поэта многим бросались в глаза, как и его сходство с Маяковским (см.,
например, работы К. И. Чуковского: «Маяковский». — Маяковский в воспоминаниях
296
современников. М.: ГИХЛ, 1963, с. 122-125; «Мой Уитмен», раздел «Его поэзия»;
«Уитмен в русской поэзии». — Чуковский К. И. Мой Уитмен. Очерки о жизни и
творчестве. Избранные переводы из «Листьев травы». Проза. М.: Прогресс, 1966, с. 946, 251-2э6).
О героизации Уитменом современности незадолго до М.М.Б., в 1935 году (в
предисловии к ленинградскому изданию Уитмена), писал Д. С. Мирский:
«Действительность, которую утверждал Уитмен, была буржуазная действительность.
Но утверждал он в ней не то, что в ней было буржуазно-ограниченного, а то, что в ней
было творчески-прогрессивного. Это творчески-прогрессивное он раздувал и
преувеличивал, но если в системе это раздувание приводило к грубому искажению
перспективы, в поэзии это оборачивалось тем гиперболизмом, который законно и
органически присущ искусству...» (МирскийД. Поэт американской демократии. —
Уитман У. Листья травы. Л.: Худож. литература, 1935, с. 19).
Что же до параллели «Маяковский—Уитмен», то наряду со сходством не раз
указывалось и на существенные различия между ними. См., например, мнение В. Н.
Альфонсова по этому поводу: Альфонсов В. п. «Нам слово нужно для жизни»: в
поэтическом мире Маяковского. Л.: Сов. писатель, 1984, с. 50. См. также: Brown Е. J.
Mayakovsky: а Poet in the Revolution. N. Y.: Paragon House Publishers, 1988, pp.89, 115,
171, 177, 182-183; Peterson D. Mayakovsky and Whitman: the Icon and the Mosaic. —
«Slavic Review». 1969, XXVIII, pp.416-426.
9. «Чем вещь или событие больше, тем и расстояние, на которое надо отойти, будет
больше. Слабосильные топчутся на месте и ждут, пока событие пройдет, чтоб его
отразить, мощные забегают на столько же вперед, чтоб тащить понятое время.
Описание современности действующими лицами сегодняшних боев всегда будет
неполно, даже неверно, во всяком случае — однобоко.
Очевидно, такая работа — сумма, результат двух работ — записей современника и
обобщающей работы грядущего художника» («Как делать стихи». — Маяковский В. В.
Поли. собр. соч. в 13 тт. Т.12. М.: ГИХЛ, 1959, с. 98).
10. Неточная цитата. Правильно:
Мне наплевать
на бронзы ногопудье, мне наплевать
на мраморную слизь.
Маяковский В. В. Поли. собр. соч. в 13 тт. Т.10. М.: ГИХЛ, 1958, с. 284.
11. Все эти особенности поэтики Маяковского М.М.Б. также рассматривает в русле
романизации литературы. Ср. в статье «Эпос и роман»: «Романист тяготеет ко всему,
что еще не готово. Он может появляться в поле изображения в любой авторской позе,
может изображать реальные моменты своей жизни или делать на них аллюзии, может
вмешиваться в беседу героев, может открыто полемизировать
297
со своими литературными врагами и т д.» (B.1J, 470) Впрочем, здесь не будет
излишним и напоминание о^ том, что, по словам М.М.Б., «абсолютно отождествить
себя, свое "я", с тем "я", о котором я рассказываю, так же невозможно, как невозможно
поднять себя самого за волосы. Изображенный мир, каким бы он ни был реалистичным
и правдивым, никогда не может быть хронотопически тождественным с
изображающим реальным миром, где находится автор — творец этого изображения»
(там же, 405). Ср. в ТФР: «Гротескно-фантастический (и даже космический) образ
Пантагрюэля вплетен здесь в совершенно реальную и интимно знакомую автору
действительность; он путешествует по знакомым и близким автору местам,
встречается с личными друзьями авто р а, видит те же предметы, которые видел и
297
автор. В эпизоде много собственных имен, названий местностей и имен лиц, — и все
они совершенно реальны, даются даже адреса лиц (Тирако и Ардийона)» (479-480).
Следует отметить также, что склонность Маяковского к изображению «конкретных
людей, имен, названий (адресов)» в 1920-е годы, возможно, поддерживалась и
лефовской установкой на документальность, на создание т. н. «литературы факта».
12. Образ сердечного пожара нарисован в первой части поэмы «Облако в штанах»
(Маяковский В. В. Поли. собр. соч. в 13 тт. Т. 1. М.: ГИХЛ, 1955, с. 180). Сцена
вылезания Бурлюка через глаз содержится в третьей части той же поэмы (там же, с.
186).
Вместе с темой гротеска в статье уже со всей определенностью начинают звучать до
сего момента несколько маргинальные мотивы книги о Рабле. Поэзия Маяковского
включается не только в контекст романизации литературы, но и в параллельный ему,
переплетающийся с ним контекст карнавализации.
13. Не вполне ясно, почему М.М.Б. повторяет мысль о «безымянности массового
творчества», «безымянном подвиге» в «Во весь голос». Скорее эти словосочетания
должны быть отнесены к поэме «150 000 0Ö0».
14. Образный ряд «крик — площадь — трибуна — оратор — глашатай — герольд» и
т. д. является одним из ключевых как в творчестве Маяковского («крикогубый
Заратустра», «агитатор, горлан, главарь», etc.), так и в комментируемых набросках
М.М.Б. Соответственно эта тема сопровождала Маяковского в откликах на его раннюю
поэзию (ср., например, слова М. Горького: «Пусть крик, пусть ругань, пусть угар, но
только не молчание, мертвое леденящее молчание» — цит. по кн.: Альфонсов В. Н.
«Нам слово нужно для жизни»: в поэтическом мире Маяковского..., с. 33), позднее
находилась в центре полемики Маяковского с конструктивистами, обвинявшими его в
примитивной агитационности. См. об этом: КаицсЛ. Ф. Пастернак и Шопен (О второй
редакции «Баллады» Б. Пастернака «Бывает, курьером на борзом...»). — «Известия
РАН. Серия литературы и языка». 1995, т. 54, № 3, с. 63-76.
К предполагаемому времени работы М.М.Б. над данным текстом было уже довольно
много написано об ораторской — а также разговорно-фамильярной — доминанте в
поэзии Маяковского (см., например: Арватов Б. Социологическая поэтика. М.:
Федерация, 1928, с. 101-126; Винокур Г. Маяковский новатор языка. М.: Сов. писатель,
1943, с. 111-134- Гофман В. О языке Маяковского. — «Звезда», 1936, № 5, с. 197-215;
Мышковская Л. По вопросам поэтики Маяковского. — «Красная новь», 1934, № 4, с.
185-198; и т. д.).
298
Для М.М.Б. эти мотивы были близки илш одари его работе над ис следованием
карнавальной культуры в ТФР («площадное слово», крики Парижа» и т п.).
15. По воспоминаниям А. Н. Тихонова, Максим Горький «цитировал стихи из
wОблака" и говорил, что такого разговора с богом он никогда не читал, кроме как в
книге Иова, и что господу богу от Маяковского здорово влетело...» (цит. по кн.:
Перцов В. О. Маяковский. Жизнь и творчество. Изд. 3-е. Т. 1. М.: Худож. литературу
1976, с. 322).
Ср. в этой связи размышления современного исследователя: «...в творчестве раннего
Маяковского присутствует и определенная двойственность отношений с Богом, с им
сотворенной реальностью. С одной стороны, богоборчество бесспорно ("из-за
голенища достаю сапожный ножик"), Бог уравнен с Жирным, с буржуем. Но при этом
Поэту Маяковскому как бы не хватает признания со стороны этого ненавидимого и
презираемого Бога: "И Бог заплачет над моею книжкою!"
Это сказано в модальном значении, это желаемое. В действительности же очевидно,
что позиция "сверхчеловека" там, наверху, никем не замечена ( Глухо. Вселенная спит,
298
положив на лапу с клещами звезд огромное ухо"), т. е. еще в ранний период
Маяковский допускает некие "неосвоенные" области, где влияние его кончается. Очень
неохотно, но он, несмотря на богоборчество, признает и некую тайну, осложняющую
простую, социальную схему мира, представленную в его поэзии, в им созданной
реальности» (Макарова И.
A. Христианские мотивы в творчестве Маяковского. — «Русская литература», 1993,
№ 3, с. 158-159).
16. О диалектике взаимоотношений прозы и поэзии размышляли в 1920-1930-е годы
и представители формальной школы, полагая при этом, что проза одержала победу над
поэзией (см.: Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М.: Наука, 1977, с.
168; Эйхенбаум Б. м. О литературе. Работы разных лет. М.: Сов. писатель, 1987, с.
446). Осмысление Маяковского в контексте русского романа XIX века было начато Р.
О. Якобсоном в работе «О поколении, растратившем своих поэтов» (1930). —
«Вопросы литературы», 1990,Ъ 11-12, с. 77, 84.
17. Специфика формы самосознания и самовосхваления «памятников» выявляется в
работе «Эпос и роман»: «В жанре «памятника» поэт строит свой образ в будущем
далевом плане потомков (ср. надписи восточных деспотов и надписи Августа). В мире
памяти явление оказывается в совершенно особом контексте, в условиях совершенно
особой закономерности, в иных условиях, чем в мире живого видения и практического
и фамильярного контакта. Эпическое прошлое — особая форма художественного
восприятия человека и события. Она почти полностью покрывала собой
художественное восприятие и изображение вообще» (ВЛЭ, 462). В Ленинграде 1920-х
годов Л. В. Пумпянский читал доклад, построенный на сопоставлении трех
«Памятников» — Горация, Державина и Пушкина. М.М.Б. вспоминает об этом в одной
из бесед с Дувакиным (см.: «Человек», 1994, № 2, с. 160. См. также текст доклада,
опубликованный Н. И. Николаевым: «Вопросы литературы», 1977, № 8, с. 135-151).
Сопоставление того, как тема «памятника» решалась у Маяковского и
B. Я. Брюсова, содержится в уже упоминавшейся статье В. Гофмана «О языке
Маяковского». — «Звезда», 1936, № 5, с. 198-202.
18. Историю самовосхваления в античности М.М.Б. затрагивает в нескольких
работах. В Хрон. он рассматривает эту тему обобщенно,
299
суммарно, в принципе: «Позже, в эллинистически-римскую эпоху, когда публичное
единство человека распалось, Тацит, Плутарх и некоторые риторы специально ставили
вопрос о допустимости прослав ления себя самого. Разрешался этот вопрос в
положительном смысле. Плутарх подбирает материал, начиная с Гомера (где герои
занимаются самопрославлением), устанавливает допустимость самопрославления и
указывает, в каких формах оно должно протекать, чтобы избегнуть всего
отталкивающего. Один второстепенный ритор, Аристид, также подбирает обширный
материал по этому вопросу и приходит к выводу, что гордое самопрославление —
чисто эллинская черта; самопрославление вполне допустимо и правильно» [ВЛЭ, 283).
В статье «Эпос и роман» намечаются некоторые контуры исторической традиции и
основополагающие постулаты философии самовосхваления в античности: «Коснемся
(...) проблемы самопрославления" у Плутарха и др. "Я сам" в условиях далевого плана
существует не в себе и для себя, но для потомков, в предвосхищаемой памяти
потомков. Я осознаю себя, свой образ в дистанциированном далевом плане; мое
самосознание отчуждено от меня в этом дистанциированном плане памяти; я вижу
себя глазами другого. Это совпадение форм — точек зрения на себя и на другого —
носит наивный и целостный характер, расхождения между ними еще нет. Нет еще
исповеди-саморазоблачения. Изображающий совпадает с изображаемым" (там же,
299
477). Примечательно употребление формулы я сам" (как известно, таково название
автобиографии Маяковского) в данном контексте. Формула эта встречается в той же
статье еще раз ("Настоящее, современность как таковая, "я сам", и "мои современники", и "мое время" были первоначально предметом амбивалентного смеха — и
веселого и уничтожающего одновременно». — Там же, 464) и, вероятно, еще раз
подтверждает, что Маяковский не был вовсе уж чужд М.М.Б., присутствовал в
активном запасе его образов и ассоциаций.
19. Название одной из частей поэмы «Человек».
20. Ср.: «Так обстругивается и оформляется ритм — основа всякой поэтической
вещи, проходящая через нее гулом. Постепенно из этого гула начинаешь вытискивать
отдельные слова» («Как делать стихи». — Маяковский В. В. Поли. собр. соч. в 13 тт. Т.
12..., с. 100).
21. В этом пассаже статьи снова на первый план выходит проблематика «Рабле», в
особенности главы «Гротескный образ тела у Рабле и его источники» (см. ТФР, 329399). Думается, особый интерес здесь представляет суждение М.М.Б. о «массовом
историческом теле класса» как одной из трансформаций «гротескного тела».
Несомненно, обнародование этого тезиса оживит поутихшую было полемику о
внутренней соотнесенности между концепциями М.М.Б. и идеологическими основами
сталинизма. Достаточно вспомнить некоторые фрагменты из работ Б. Гройса: «Если в
"монологизме" у М.М.Б. обычно справедливо видят метафору официальной
сталинской культуры, то карнавал является не "демократической альтернативой" этой
культуре, а ее иррациональной, деструктивной стороной: бахтинские описания
карнавала более всего напоминают атмосферу сталинских показательных процессов с
их
неожиданными
"увенчаниями
—
развенчаниями"
(...)
Конкретную
индивидуальность М.М.Б. понимает как определенную телесность, обреченную
смерти: культурное бессмертие получает "идеология", а не я", или душа» (Гройс Б.
Ницшеанские темы и мотивы в советской культуре 30-х годов. — Бахтинский сборник.
Вып. II. М., 1992, с. 118). Тема «Бахтин и сталинизм» (или
300
«Бахтин и марксизм» и т. д.), в самом деле, заслуживает права быть рассмотренной
— хотя и более спокойно, взвешенно, серьезно, чем это чаще всего пока делается: без
публицистических передержек и эмфатических фигур. Как пишет С. Г. Бочаров,
«следователь ему [Бахтину — комм.) намекал, вспоминал М.М.: "Мы ведь знаем, что
вы и марксистским методом превосходно владеете" И владел, о чем говорят не только
спорные тексты, но и две статьи о Толстом, написанные под колпаком, под
следствием...» (Бочаров С. Г. Об одном разговоре и вокруг него. — «Новое
литературное обозрение», 199о, № 2, с. 74). Категория «исторического тела класса»
(как и упоминания в других местах статьи об «организованном классе»,
«представительстве и слиянии с классом», «громадности слова "пролетариат"» и т. п.)
тоже об этом свидетельствует. Причем М.М.Б., так сказать, творчески применяет
ходовые идеологические клише, «привязывая» их к собственной понятийной системе.
Как уже говорилось, целью этих маневров, несомненно, является попытка обойти
возможные препятствия на пути к публикации статьи. Не следует забывать и о том, что
все перечисленные выше марксистские «формулы» напрямую заимствованы из стихов
самого Маяковского, духа и буквы которых М.М.Б., естественно, приходилось
придерживаться. Вот, например, вероятная «первооснова» бахтинского словосочетания
«слияние с классом»:
Я счастлив,
что я
этой силы частица,
300
что общие
даже слезы из глаз. Сильнее
и чище
нельзя причаститься великому чувству
по имени —
класс!
(Маяковский В. В. Поли. собр. соч. в 13 тт. Т. 6. М.: ГИХЛ, 1957, с. 304).
22. «...для делания поэтической вещи необходима перемена места или времени.
Точно так, например, в живописи, зарисовывая какой-нибудь предмет, вы должны
отойти на расстояние, равное тройной величине предмета. Не выполнив этого, вы
просто не будете видеть изображаемой вещи» («Как делать стихи». — Маяковский В.
В. Поли. собр. соч. в 13 тт. Т. 12..., с. 98).
23. Ср.: «Если ранний Маяковский видел себя пророком будущего человечества и
свои стихи — пророчеством о будущем, — то теперь роль пророка передавалась
практическому делателю ис тории, приобретающему черты мессии, а поэзия
претендовала не более чем на разъяснение конечного смысла личности и дела вождя».
И далее: «...вся художественная "телеология" обеих поэм носила отчетливо сакральный
характер. И "Владимир Ильич Ленин", и "Хорошо!" — менее всего "литература",
предназначенная для того, чтобы ее "читать" Маяковский не случайно так яростно
отстаивал идею "слышимой поэзии", всячески подчеркивая роль исполнения в
раскрытии ее смыслов. Поэт в роли исполнителя становился литур-гом, он не говорил,
но священнодействовал. Символистская идея художника-теурга парадоксально
решалась Маяковским в рамках рево
301
люционного искусства, призванного творить новую действительность» (Мусатов В.
В. О логике поэтической судьбы Маяковского. «Известия РАН. Серия литературы
и языка». 1993, т.52, № 5, с. 27-28).
24.
Структура
дантовской
1тространственно-временной
картины
мира
воспроизводится в Хрон.: «Буквально и с гениальной последовательностью и силой
осуществляет это вытягивание мира (исторического в своем существе) по вертикали
Данте. Он строит изумительную пластическую картину мира, напряженно живущего и
движущегося по вертикали вверх и вниз: девять кругов ада ниже земли, над ними семь
кругов чистилища, над ними десять небес. Грубая материальность людей и вещей
внизу и только свет и голос вверху. Временная логика этого вертикального мира —
чистая одновременность всего (или "сосуществование всего в вечности"). Все, что на
земле разделено временем, в вечности сходится в чистой одновременности
сосуществования» (ВЛЭ, 306-307). И далее: «Отсюда исключительная напряженность
всего Дантова мира. Ее создает борьба живого исторического времени с вневременной
потусторонней идеальностью. Вертикаль как бы сжимает в себе мощную рвущуюся
вперед горизонталь» (там же, 308). См. об этом также: ТФР, 437-438.
25. В поэме «150 ООО ООО».
26. Соотнесение Маяковского и футуристов с ораторской, риторической стихией
XVIII века фигурирует и в статье Тынянова «Промежуток», частично напечатанной в 4
номере «Русского современника» (1924 год), журнала, по заказу которого Бахтин
написал статью «Проблема материала и формы в словесном художественном
творчестве» (но она так и не увидела света в то время, так как журнал прекратил свое
существование): «Русский футуризм был отрывом от серединной стиховой культуры
XIX века. Он в своей жесткой борьбе, в своих завоеваниях сродни XVIII веку, подает
ему руку через, голову XIX века. Хлебников сродни Ломоносову. Маяковский сродни
Державину. (...) Маяковский возобновил грандиозный образ, где-то утерянный со
301
времен Державина. Как и Державин, он знал, что секрет грандиозного образа не в
"высокости , а только в крайности связываемых планов — высокого и низкого, в том,
что в XVIII веке называли "близостью слов неравно высоких", а также "сопряжением
далековатых идей"» (Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино..., с. 175176). Эту же тему поднимал Б. М. Эйхенбаум в конспектах «Речи о Мандельштаме»:
«Ода существует по инерции — и не двупланная, как у Маяковского (героическое и
комическое), а "голая", хвалебная» (Эйхенбаум Б. м. О литературе..., с. 447). О
доминировании оды в позднем творчестве Маяковского упоминал Р. О. Якобсон («О
поколении, растратившем своих поэтов». — «Вопросы литературы», 1990, № 11-12, с.
92). Из новейших работ на ггу тему см.: Киш I. The Ode and the Odic. Essays on
Mandelstam, Pasternak, Tsvetaeva and Mayakovsky. Stockholm, 1994 (Stockholm studies in
Russian literature, № 30).
27. Ср. вывод современного исследователя: «Каламбурная рифма — это созвучие,
закрепляющее переосмысление значения слова. ( ) Стихи Маяковского насыщены
каламбурами, но именно в рифмах каламбур в отмеченном смысле встречается реже»
(Гончаров Б. П. звуковая организация стиха и проблема рифмы. М.: Наука, 1973, с.
180). Ср. также: «Таким образом как бы намечается новая система рифмовки, в
которой организующий ритмические ряды повтор-рифма располагается по обе стороны
ударной гласной. С точки зрения стилистической такие рифмы, приближающиеся к
омонимиче
302
ским (ср. в особенности каньте Канте или вены Вены), в связи с объединением в
одном созвучии отдаленных, неожиданно сопоставленных смысловых рядов,
производят впечатление каламбурной рифмы, напоминая полународныи комический
стих, построенный на игре слов: "Был в Париже, был и ближе, был в Италии, был и далее..."
В композиции стихотворений Маяковского эти броские рифмы играют особенно
существенную роль» (Жирмунский Ё. М. Теория стиха. Л.: Сов. писатель, 1975, с. 375376).
28. См.: Имя и прозвище (Доп. с. 99).
29. Ср.: «...социальное задание — дать слова для песен идущим на питерский фронт
красноармейцам. Целевая установка — разбить Юденича. Материал — слова
солдатского лексикона. Орудия производства — огрызок карандаша. Прием —
рифмованная частушка.
Результат:
Милкой мне в подарок бурка и носки подарены. Мчит Юденич с Петербурга, как
наскипидаренный.
Новизна четверостишия, оправдывающая производство этой частушки, — в рифме
"носки подарены" и "наскипидаренный" Эта новизна делает вещь нужной,
поэтической, типовой.
Для действия частушки необходим прием неожиданной рифмовки при полном
несоответствии первого двухстрочья со вторым. Причем первое двухстрочье может
быть названо вспомогательным» (Маяковский В. В. Как делать стихи. — Маяковский
В. В. Поли, собр. соч. в 13 тт. Т. 12..., с. 87-88).
30.
Трамвайному кодексу будней — не верь!
Глухому уставу зимы —
не верь! Зеленой программе весны — не верь!
Поставь их
в журнал исходящих.
302
(Луговской В. А. Кухня времени. — Луговской В. А. Собр. соч. в 3 тт. Т. 1. М.:
Худож. литература, 1971, с. 159).
31. «Итак, Земля — тело срединное и по положению в солнечной системе, и по
величине, и по времени и пропорции вращения ее вокруг оси и обращения вокруг
Солнца, и далеки от нее обе крайности: и слишком большое и слишком малое, и
слишком быстрое и слишком медленное» (Гердер И. Г. Идеи к философии истории
человечества. Перевод и примечания А. В. Михайлова. М.: Наука, 1977, с. 15-16).
32. См.: КацисЛ. Ф. Алокалиптика «серебряного века». Эсхатология в
художественном сознании («Человек», 1995, № 2, с. 143-154).
33. Здесь, как и в случаях упоминаний об уличном крике, оте лесниеании и т. п.,
М.М".Б. варьирует и использует для раскрытия поэтики Маяковского мотивы своей
книги о Рабле. Ср.: «Если возможны, заявляет автор "Пророческой загадки",
предсказания по звездам и по божественному наитию, то он, автор, берется предска303
:тть, что произойдет на этом самом месте ближайшею зимою. "'Появятся
беспокойные люди" ("las du repoz et fachez du sejour") ,')ти беспокойные люди внесут
смуту и разъединение между друзьями и родственниками, они разделят всех людей на
партии, они вооружат детей против отцов; будет уничтожен всякий порядок, стерты
все социальные различия; низшие утратят всякое уважение к высшим. ( ) Брат Жан
отказывается видеть в этом пророчестве серьезный и мрачный смысл: "...я вижу здесь
только один смысл, то есть описание игры в мяч, впрочем, довольно туманное" (кн. 1,
гл. VIII). (...) Основная задача пародийно-травестирующих предсказаний, пророчеств и
гаданий — развенчать мрачное эсхатологическое время средневековых представлений
о мире, обновить его в материально-телесном плане, приземлить, отелеснить его,
превратить его в доброе и веселое время* (ТФР, 25/-258). Ср., кстати, рассуждение о
катастрофе из проспекта к переработке книги о Достоевском (с. 357).
Нечто подобное «веселой катастрофе* М.М.Б. представляет собой, между прочим,
словосочетание А. А. Блока «веселый ужас», также употребленное в связи с
обсуждением творчества футуристов («Без божества, без вдохновенья». — Блок А. А.
Собр. соч. в о тт. Т. 4. Л.: Худож. литература, 1982, с. 428).
34. Эту линию развития славянской народной культуры (за исключением, пожалуй,
Помяловского) М.М.Б. затрагивает специально в работе «Рабле и Гоголь» (см.: ВЛЭ,
484-495), а также в Доп. (с. 119). Кстати, поэтика Гоголя (которым М.М.Б. увлеченно
занимался в 1940-е годы, о чем свидетельствуют и Доп., и работа «<К вопросам об
исторической традиции и о народных источниках гоголевского смеха>», публикуемая
в наст, томе) во многом родственна поэтике Маяковского. Первым на это родство
обратил внимание Андрей Белый в своей книге 1934 года «мастерство Гоголя», уделив
целую главу «Гоголь и Маяковский» для описания присущих им обоим гиперболизма
и обильного словотворчества. См. также работу Н. И. Харджиева «Гоголь в стихах
Маяковского» (Харджиев Н. И., Тренин В. В. Поэтическая культура Маяковского. М.:
Искусство, 1970, с. 184-190). Конечно, все это не следует абсолютизировать, но и такая
маленькая деталь важна, если мы хотим понять, был ли интерес к Маяковскому
органичен для М.М.Б.
35. Наметки теории паузы, набросанные в данном фрагменте статьи, носят отчетливо
психологизированный характер и, по-видимому, навеяны стиховедческими работами
формалистов (чьи идеи М.М.Б. предполагал развить). Ср.: «В русском так называемом
силлабо-тоническом стихе периодичность динамического ударения вызывает
ожидание его повторности вслед за определенным безударным промежутком. Эта
ритмическая инерция, этот заданный ряд сосуществует для воспринимающего
силлабо-тонические стихи с фактическим акцентным рядом, и несовпадение обоих
303
рядов вызывает те моменты обманутого ожидания, о которых мы говорили выше»
(Якобсон Р. О. О чешском стихе, преимущественно в сопоставлении с русским. Берлин, 1923, с. 35) Позднее у М.М.Б. встречались отдельные замечания, которые можно
интерпретировать как попытку выведения философии паузы: «Тишина и звук.
Восприятие звука (на фоне тишины). Тишина и молчание (отсутствие слова). Пауза и
начало слова. Нарушение тишины звуком механистично и физиологично (как условие
восприятия); нарушение же молчания словом персоналистич-но и осмысленно: это
совсем другой мир. (...) Молчание — осмысленный звук (слово) — пауза составляют
особую логосферу, единую и
304
непрерывную структуру, открытую (незавершимую) целостность* (ЭСТ, 337-338).
Следует признать, что развернутой и глубокой теории паузы не выдвинуто до сих
пор. В терминологии с самого начала развития стиховедения сохраняется разнобой, у
каждого исследователя более или менее «своя* система категорий, и никто не в силах
удовлетворительно объяснить разницу между «паузой» и «дуолью», «паузой» и
«леймой», «паузой» и «стяжением» и т. д. (См. об этом, например: Гаспаров М. Л.
Русский трехударный дольник XX в.. — Теория стиха. Л.: Наука, 1968, с. /4). Часть
стиховедов во главе с М. Л. Гаспаровым вообще считают паузу «лишь
декламационным
элементом»
(см.
статью
«Пауза»
в
«Литературном
энциклопедическом словаре». М.: Сов. энциклопедия, 1987, с. 2/1), не имеющим
отношения к теории стиха. Соответственно и роль паузы в поэзии Маяковского при
таком подходе сводится к нулю. С другой стороны, еще Л. И. Тимофеев в 1941 году
писал о стихе Маяковского: «Новым было введение в строку паузы как элемента
ритма, во-первых, и превращение слова в самостоятельную единицу, во-вторых»
(Тимофеев Л. И. Поэтика Маяковского. М.: Сов. писатель, 1941, с. 65). Значение паузы
как важнейшего средства для усиления в стихах Маяковского «особой повышенной
эмоциональной напряженности» слова очень активно подчеркивает в своих работах Б.
П. Гончаров (см. его статью «О паузах в стихе Маяковского». — «Русская литература»,
1970, № 2; см. также раздел «Паузирование и его художественное значение» в его
книге «Поэтика Маяковского». М.: Наука, 1983).
36. Ср. некоторые текстуальные переклички (при разной расстановке акцентов) с
лексикой журнальных статей 30-х годов о Маяковском. Например: «Гениальничанье,
выпячивание своего "я", самовлюбленность — эти черты бросаются в глаза в герое
Маяковского» (статья В.Полонского о Маяковском в «Новом мире», 1930, № 6.
Перепечатана в сборнике избранных работ Полонского: О литературе. М.: Сов.
писатель, 1988, с. 214). «Романтическая» интерпретация Маяковского и сопоставление
его с немецкими романтиками фигурируют в «Охранной грамоте» Б. Л. Пастернака
(1930): «...под романтической манерой, которую я отныне возбранял себе, крылось
целое мировое прият ье Это было пониманье жизни как жизни поэта. Оно перешло к
нам от символистов, символистами же было усвоено от романтиков, главным образом
немецких.
Это представленье владело Блоком лишь в теченье некоторого периода. В той
форме, в которой оно ему было свойственно, оно его удовлетворить не могло. Он
должен был либо усилить его, либо оставить. Он с этим представленьем расстался.
Усилили его Маяковский и Есенин» (Пастернак Б. Л. Собр. соч. в 5 тт. Т. 4. М.: Худож.
литература, 1991, с. 227).
М.М.Б., однако, скорее всего завершил бы сопоставление Маяковского с бурными
гениями и романтиками отрицательным вердиктом. Концепция «большог о»,
развиваемая в набросках, как кажется, тесно связана с описанием «образа большого
человека у Рабле», которое имеет место в Хрон.: «...раблезианский большой человек
304
принципиально отличается от всякого героизма, противопоставляющего себя массе
других людей как нечто исключительное по своей крови, по своей природе, по своим
требованиям и оценкам жизни и мира (от героизма рыцарского и барочного романа, от
героизма романтического и байроновского типа, от ницшеанского сверхчеловека)»
(ВЛЭ, 390). Впрочем, в лекции о Маяковском М.М.Б. заявлял, что для Маяковского
характерна «ницшеанская тема
305
отсутствия обязательств* {ДКХ, 1995. № 2, с. 113), и, значит, данный Бопрос не такто легко поддается однозначному решению
37 Строки из стихотворения «Нашему юношеству* (1927).
38. Это значительное по объему рассуждение отталкивается от предыдущих
(«гротескный образ смешанного тела», «отелеснивание», «зона фамильярного
контакта» и т. д.), неся в себе одновременно и некую новую, специфическую ноту —
проблему «вещи» как «техники», устранение границ между телом и миром в
специфическом для XX века смысле (Ср. у Платонова, в «Происхождении мастера»:
«Сашу интересовали машины наравне с другими действующими и живыми
предметами: он скорее хотел почувствовать их, пережить их жизнь, чем узнать.
Поэтому, возвращаясь с работы, Саша воображал себя паровозом и производил все
звуки, какие издает паровоз на ходу. Засыпая, он думал, что куры в деревне давно спят,
и это сознание общности с курами или паровозом давало ему какое-то удовлетворение*. — Платонов А. П. Собр. соч. в 3 тт. Т. 1. М.: Сов. Россия, 1984, с. 437).
«Метафора техники» и «техника метафоры» у Маяковского — эти две грани его
творчества, будучи рассмотренными вместе и воедино, должны, безусловно, привести
к впечатляющим научным результатам. Пока же представляются самоочевидными
лишь два момента. Во-первых, непосредственным и ближайшим истоком подобных,
технипирующих тенденций у Маяковского является теоретическая доктрина
футуризма, как итальянского, так и русского (при всех имеющихся различиях между
ними). Ср.: «Мы будем воспевать огромные толпы, волнуемые трудом, погоней за
удовольствием или возмущением; (...) огромные пароходы, обнюхивающие горизонты;
локомотивы с широкой грудью, которые несутся по рельсам, подобно огромным
стальным коням, запряженным в длинные трубы...» (Маринетти Ф. Первый манифест
футуризма. — Тастевен Г. Футуризм: (на пути к новому символизму). С приложением
главных футуристических манифестов Маринетти. М.: Ирис, 1914, с. 7-8. См. также
новый перевод в книге «Называть вещи своими именами. Программные выступления
мастеров западноевропейской литературы XX века». М.: Прогресс, 1986, с. 160-161).
Ср. также парафразу футуристических лозунгов из «Диалога о футуризме (Здравого
смысла тартарары)», написанного В. Я. Брюсовым («Русская мысль», 1914, № 3, с. 84).
Во-вторых, несмотря на эстетическую «нудительность» техницистских веяний в
поэзии Маяковского, они подвержены действию неких не познанных еще, но не менее
органичных и бытийственных, чем у Платонова, внутренних законов. В этом контексте
интересен вывод, к которому пришла В. А. Арутчева при публикации записных книжек
Маяковского. Прослеживая эволюцию знаменитого образа «сердца-мотора» из
«Письма товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», она обратила внимание на
то, что Маяковский отказался от первых строк первоначального варианта строфы:
Трусь как лодка бортом к борту льну и думаю про то чтоб опять пошло в работу
сердце стынущий мотор:
«Маяковский отбрасывает первые две строки, отказываясь от полюбившегося ему
образа человека-лодки, который в сочетании с образом двух следующих строк —
сердца-мотора — неожиданно приобретает -третье, далеко не поэтическое значение —
305
человека-моторной лодки. Второй:образ" ему, очевидно, дороже» (Новое о
Маяковском.
306
. иггературное наследство. Т.65. М Изд-во АН СССР, 1958, с. 377). Паровоз —
наряду с автомобилем - принадлежит, по-видимому, к числу «привилегированных»
образов мировой литературы, метафори-нтки осмысливающих взаимоотношения
между человеком и техникой ! см. об этой образной парадигме довольно обширный
материал, подобранный в книге: Ginestier Р. The Poet and the Machine. Transl. frora tne
French by M. B. Friedman. New Häven, Conn.: College and UP, 1961, pp.75-102. См.
также: Белецкий А. И. В мастерской художника слова. М.: Высшая школа, 1989, с. 84111, раздел «Изображение живой и мертвой природы»; Тименчик Р. Д. К символике
трамвая в русской поэзии. — Символ в системе культуры. Труды по знаковым
системам. Вып.21. Тарту, 1987, с. 135-143; и т. д.).
В связи с размышлениями М.М.Б. о человеке, «расширенном и удлиненном
техникой», ср. один из монологов гетевского Мефистофеля:
Да, каждый получил свою башку, Свой зад, и руки, и бока, и ноги. Но разве не мое,
скажи, в итоге Все, из чего я пользу извлеку? Купил я, скажем, резвых шестерню. Не я
ли мчу ногами всей шестерки, Когда я их в карете разгоню?
(Перевод Б. Л. Пастернака)
Ср., кстати, и определение техники, данное К. Марксом в «Критике политической
экономии»: «Природа не строит ни машин, ни локомотивов, ни железных дорог, ни
электрического телеграфа, ни сельфакторов и т. д. Все это — продукты человеческого
труда, природный материал, превращенный в органы человеческой воли, властвующей
над природой (...). Все это — созданные человеческой рукой органы человеческого
мозга, овеществленная сила знания» Маркс п., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т.46, ч.Н. М.:
Политиздат, 969, с. 215). Необходимо поэтому отметить, что технократические
пристрастия были свойственны не только футуризму начала века, но и марксистской
идеологии в Советском Союзе 192СГ-х годов и после-дующих десятилетий, особенно
начиная со знаменитой «индустриализации». Маяковский (как и Платонов), конечно,
улавливал эти тенденции. Он даже старался пропагандировать соответствующие
официозные мифологемы: большевики — «железные*, поэт - «рабочий» («Теперь
повернем вдохновенья колесо»; «я больше всего рифмы строгал» и т. д. См. об этом:
Малкина Е. Маяковский и буржуазно-дворянская эстетика. — «Литературный
современник», 1938, .V 4, с. 2Q7), человек — «машина», «производительная сила» и т.
д. Особенно ярко этот комплекс идей воплощен в стихотворении «Протестую!» (1924)
(Маяковский В. В. Поли. собр. соч. в ГЗ тт. Т Ъ. ., с. 17-19). Ср. в до сих пор не
опубликованной хранящейся в \Б лекции о ЛЕФе: «Лефисты же, как и коммунисты,
высоко оценивали технику».
М.М.Б. привлекает, разумеется, не превращение человека в меха-•шзм, а
4>амильярный контакт человека и механизма, их гармоническое слияние друг с
другом. Вероятно, развивая комментируемый гезис, М.М.Б. написал бы об
универсальном, положительном, утверждающем, амбивалентном (серьезно-смеховом,
снижающем и возрождающем) смысле подобных, т. е. технических образов. Между
прочим, не следует забывать, что наброски о Маяковском рас подсажены в одной и той
же рукописи с маленьким фрагментам, «К вопросам теории смеха», имеющим прямое
отношение к оспариванию бергсонов
306
ской концепции комического. Строчка «Ревем паровозом до хрипоты», по Бергсону,
должна восприниматься как однозначно, причем отрицательно, зло, сатирически
смешная: «Возвращаемся (...) к нашему центральному представлению: к
306
механическому, наложенному ни живое. Живое существо, (...) это человеческое
существо, личность. Механическое же приспособление, напротив, вещь. Наш смех
возбуждало мгновенное преображение личности в вещь (...). ...мы смеемся всякий раз,
когда личность производит на нас впечатление вещи г (Бергсон А. Собр. соч. Т. 5..., с.
127). М.М.Б. же рассуждает об этой метафоре вполне серьезно, даже не без некоторой
философической патетики, напоминающей о его трактатах 1920-х гг. («Я отчужден от
вещи, не чувствую себя ответственным соучастником ее дела»), используя при этом
еще и смеховую терминологию ТФР. Трудно судить, не скрываются ли здесь
ассоциация и полемика с Бергсоном, однако на всякий случай напомним
заключительную фразу из фрагмента «К вопросам теории смеха», чтобы
актуализировать сущность расхождении М.М.Б. и французского мыслителя, быть
может, значимых в данном контексте: «Основная идея верна: жизнь смеется над
смертью (мертвым механизмом). Но органическая материя жизни в смехе
положительна» (с. 50).
Интересные и в определенной степени перекликающиеся со взгля дами М.М.Б.
соображения о «философии вещи» у Маяковского принадлежат Г. О. Винокуру. Он
отмечал, что «Маяковский употребляет притяжательные прилагательные от слов,
которые или вовсе не имеют при себе прилагательных в общем языке или производят
только прилагательные относительные (...)• Поэтическая цель подобного словоупотребления совершенно прозрачна и продиктована Маяковскому общим его
стремлением к уничтожению разницы между лицом и вещью» (•••)" (Винокур Г. О.
Маяковский новатор языка..., с. 45). Ср.: «Он изменил отношение определения к
определяемому, отнесясь к предмету мертвому, как к предмету живому» (Шкловский
В. Б. О Маяковском. М.: Сов. писатель, 1940, с. 136). См. также об этом: Коварский Н.
Маяковский и проблема культуры («Литературный современник», 1938, № 4, с. 184199).
39. Верхарн (наряду с Уитменом) является общепризнанным предшественником
Маяковского. Ср. суждение самого Маяковского: «Разве можно было думать о красоте
пьяных кабаков, контор, грязи улиц, грома города до Верхарна?» (Цит. по кн.: Черемин
Г. С. Путь Маяковского к Октябрю. М.: Наука, 1975, с. 79). Сопоставление
Маяковского с Верхарном, правда, по несколько другим «параметрам» (бунтарство,
разрушительство, анархизм) кратко проводится и в лекции о Маяковском (ДКХ, 1995,
№ 2, с. 113).
40. Марникс де Сент-Альдегонд (Marnix de Sainte-Aldegonde. 1540 1598). В «Краткой
литературной энциклопедии» о нем сообщается следующее: «...голландский писатель,
политический деятель. Получил теологическое образование. Личное знакомство с
Кальвином в Женеве превратило его из католика в приверженца кальвинизма.
Сторонник Вильгельма Оранского, он с оружием в руках принимал участие в
Нидерландской буржуазной революции XVI в. Назначенный бургомистром
Антверпена, он не сумел, однако, отстоять город и сдал его в 1585 г. испанцам. Его
книга "Улей святой римской церкви'1 ("Biencorf der Heilige Roomsche Kercke", 1569) —
сатира, острая пародия на традиционные схоластические послания. Изданная анонимно
песня "Вилъгельмус" ("Wilhelmus") стала боевым гимном нидерландских гезов»
(«КЛЭ». Т. 4. М.: Сов. энциклопедия, 1967, стли. 647). Литература о нем
немногочисленна. Из книг, доступных на территории бывшего СССР, назовем
напечатанную без указания
307
места и года издания книжку Н. Н. Любовича «Марникс де Сент-Альдегонд как
политический деятель* и фундаментальное исследование Марселя Говера о языке и
стиле памфлета Альдегонда «Изображение различий между религиями». Говер
307
описывает в первых г.швах своей книги жизненный и творческий путь Альдегонда,
затем подробно останавливается на художественно-стилевой структуре памфлета,
между прочим, уделяя внимание и словесным особенностям, навеянным романом
Рабле, анекдотам и другим элементам, которые обусловлены влиянием на памфлет
народной культуры (см.: Govaert М. La langue et le style de Marnix de Sainte-Aldegonde
dans son «Tableau des Dinerens de la Religion». Bruxelles: Palais des Acaderaies, 1953,
pp.33-49, 150-161, 216-223).
Альдегонд упоминается в P-1940 (с. 47, 51 и т. д.), но из ТФР эти упоминания по
каким-то причинам оказались изъятыми.
41. О симпатии Маяковского к П. Сезанну и русским «сезаннистам» упоминает в
своих мемуарах художник А. М. Нюренберг, хотя он же берет на заметку и
скептическую сентенцию поэта, озабоченного выпуском агитационных плакатов
РОСТА в 1920 году: «Станковая живопись никому нынче не нужна. Ваши меценаты
думают теперь не о Сезанне и Матиссе, а о пшенной крупе и подсолнечном масле...»
(см.: Маяковский в воспоминаниях современников..., с. 205-206). Маяковский, как
известно, описал в стихотворении «Верлен и Сезан» свою воображаемую встречу с
Сезанном в Париже (напомним, что Сезанн ^умер за двадцать лет до создания этого
стихотворения) (Маяковский В. В. Поли. собр. соч. в 13 тт. Т. 6..., с. 209)
Проблему соотношения эстетики Маяковского с беспредметностью в живописи
М.М.Б. затрагивал в своей лекции, посвященной Маяковскому: «Обычно
беспредметность в искусстве появляется как эстетическое стремление. У лефистов
впервые возникло сочетание беспредметности со служением жизни. Хотя у
Маяковского беспредметности нет, но он благосклонно относится к этому течению,
особенно в живописи» (ДКХ, 1995, № 2, с. 114).
Об «импульсах поэтической работы», исходящих от беспредметной живописи
авангарда и воспринятых Маяковским, идет речь в специальной статье Н.Харджиева
«Маяковский и живопись», автор которой также приходит к выводу, что
беспредметность не свойственна поэзии Маяковского: «В своей дальнейшей работе
Маяковский отказался от "самоцельныхя построений в стиле кубизма, что объясняется
непрерывно возраставшей публицистической направленностью его поэзии. (...)
"Весомое, грубое, зримое" слово Маяковского не могло быть подчинено принципам
абстрактно-кубистических построений. Элементы этих конструкций, включенные в
систему ораторского стиха, в систему политической лирики, приобрели новую
функцию, подчинились новой социальной целеустановке* (Харджиев Н. И., Тренин В.
В. Поэтическая культура Маяковского..., с. 9-50). Тема «Маяковский и живопись»
вообще довольно разработана. См., например: раздел «Поэт-живописец» в уже
цитировавшейся книге ВН. Альфонсова «Нам слово нужно для жизни»: в поэтическом
мире Маяковского... (с 156-201), книгу J. R. Stapanian «Mayakovsky's Cubo-Futurist
Vision», Houston, Texas: Rice UP, 1986.
42. По мнению Р. О. Якобсона («Заметки о прозе поэта Пастернака», 1934), поэзию
Маяковского отличает «принципиально метафорическая установка», метонимия же
(частным случаем которой является синекдоха) определяет своеобразие творчества
Пастернака: «Его лиризм, в прозе или в поэзии, пронизан метонимическим принципом, в центре которого — ассоциация по смежности».'И'далее: «Поэт
308
знает и другие метонимические отношения: от целого к части и наоборот, от
причины к следствию (••■)» (Якобсон Р. О. Работы по поэтике. М.: Прогресс, 1987, с.
329-330). В. Б. Шкловский считал, что «Маяковский и Пастернак повели стих по
ассоциации по смежности» (Шкловский В. Б. О Маяковском..., с. 94).
<РИТОРИКА, В МЕРУ СВОЕЙ ЛЖИВОСТИ...>
308
Впервые, под названием «<0 любви и познании в художественном образе>», с
существенными текстологическими погрешностями: Литературная учеба*, 1992, № 56, с. 153-156 (публикация В. В. Ко-жинова, подготовка текста В. И. Славецкого). В
настоящем издании печатается по автографу, хранящемуся в АБ.
Текст записан на восьми листах общей тетради, между конспектами. «Тетрадь для
записи (под карандаш)» в картонной сине-серой обложке, потемневшей от времени,
состоит из двадцати трех листов линованной, желтой бумаги (в трех склеенных блоках
по двенадцати листов, первоначально образовывавших тетрадь, не достает тринадцати
листов, пяти в первом блоке и восьми — в третьем). Записи в тетради сделаны в
следующем порядке: 1) окончание конспекта книги Г. Миша «История автобиографии»
(Misch G. Geschichte der Autobiographie. Bd. 1: Das Altertum. Druck und Verlag von B. G.
Teubner, Leipzig-Berlin, 1907); 2) комментируемый текст;
3) конспект: Левиоовм. Ю. Путешествие в некоторые отдаленные страны мысли и
чувства Джонатана Свифта, сначала исследователя, а потом воина в нескольких
сражениях. М., Советский писатель, 1939;
4) «Человек у зеркала» (публикуется в настоящем томе: с. 71). Тетрадь заполнена
плотно,
пропуски
незначительны:
комментируемый
текст
отделен
от
предшествующего конспекта тремя чистыми страницами, далее записи велись
непрерывно (границы между фрагментами отчеркнуты), последние четыре листа
тетради не заполнены.
Комментируемый текст, как и вся тетрадь, записан мягким простым карандашом,
мелким, не всегда разборчивым почерком, очертания букв из-за рыхлой фактуры
бумаги не четки. Пометы внутри текста сделаны тем же карандашом, по ходу работы,
при публикации подчеркнутые фрагменты текста переданы разрядкой. На правом поле
рукописи имеются вторичные пометы — вертикальные отчеркивания красным
карандашом, свидетельствующие о том, что М.М.Б. просматривал комментируемый
текст, как и другие записи 1940-х гг., при подготовке ППД.
Рукопись датирована: в левом верхнем углу первого листа отмечена дата начала
записи — 12 октября 1943 г., по ней и вся тетрадь, остальные фрагменты которой не
датированы, предположительно отнесена к 1943 г. Текст автором не озаглавлен. По
общему для настоящего Собрания правилу, в название работы вынесены ее начальные
слова: «<Риторика, в меру своей л живости... >».
По всей вероятности, комментируемый текст является материалом к статье.
Основанием для такого заключения служит упоминание о жанровом анализе первой
главы «Онегина» как о «приложении к статье* (с. 63). Более точная атрибуция текста
затруднена. Хотя вычленение доминантной темы в рабочих записях М.М.Б. почти всегда условно, обозначенные в тексте темы 'эпос и роман', 'диалог', точка зрения автора и
ее избыток', исследование некоторых аспектов поэтики и о^илософци прозы Гоголя и
Достоевского позволяют предположить, что запись от 12 октября 1943 г. относится к
статье о
309
романе, как дополнение к завершенной ранее или набросок к еще не написанной
работе.
Историей и теорией романа М.М.Б. занимается с 1930-х гг. В 1940 и 1941 гг., на
основе докладов, прочитанных в ИМЛИ 14 октября 1940 г. и 24 марта 1941 г., он
готовит две статьи о романе: «Слово в романе (К вопросам стилистики романа)» и
«Роман как литературный жанр». (В переработанном виде первая известна под
названием «Из предыстории романного слова» — ЁЛЭ, 408-446, вторая — под
названием «Эпос и роман (О методологии исследования романа)» — ВЛЭ, 447-483;
беловые автографы статей 1940-41 гг. и сделанные по ним тогда же машинописи
309
хранятся в АБ; на обложке ученической тетради, в которой помещен беловой автограф
«Слова в романе», карандашом написано: «Доклад прошу перепечатать в 3-х экземплярах. 1 экз. очень просил автор. Л. И. Тимофеев считает нужным это для него сделать.
<Подпись неразборчива — комм.>. 21.10.40 г.»).
В 1943 г., когда прерванная войной издательская деятельность понемногу
восстанавливается, М.М.Б. возобновляет попытки опубликовать свои довоенные
работы и одновременно берется за их дополнение и переработку (тогда же
возобновляются хлопоты об издании *Рабле> — см.: комм, к Доп.). 12 сентября 1943
г., ровно за месяц до записи комментируемого текста, Л. И. Тимофеев, отвечая М.М.Б.
(письмо М.М.Б. не обнаружено), сообщает об издательской ситуации в Москве и о
продвижении довоенных сборников: «1. Сборник наш до сих пор не пошел в печать
(первый), а последующие — в связи с войной — и не осуществились вовсе. Однако, —
есть надежда, что скоро первый сборник пойдет в печать, и мы приступим к
подготовке второго сборника, в котором будут темы, которые должны Вас
заинтересовать» (АБ). Вполне вероятно, что в октябре 1943 г. М.М.Б. взялся за переработку статьи (или статей) о романе, результатом которой и мог быть
комментируемый текст
Доклады 1940 и 1941 гг. тесно связаны друг с другом: в обоих рассматриваются
вопросы происхождения и истории романа, в обоих смех и многоязычие изучаются как
важнейшие предпосылки становления романного слова. Однако в постановке проблем
'эпоса и романа1, 'памяти и познания', Аилосоо^ских аспектов теории романа
комментируемый текст более близок к докладу 1941 г. Основные моменты,
развернутые в тексте, обозначены в статье «Эпос и роман»: «Память, а не познание
есть основная творческая способность и сила древней литературы. <...> Опыт,
познание и практика (будущее) определяют роман. <...> Эпический материал
транспонируется в романный, в зону контакта, пройдя через стадию фамильяризации и
смеха. Когда роман становится ведущим жанром, ведущей философской дисциплиной
становится теория познания» (ВЛЭ, 458-459). (Упомянутый в качестве приложения
жанровый анализ первой главы «Онегина», по всей видимости, не сводился к жанровостилистической характеристике пушкинского романа, данной в статье «Из предыстории романного слова» — ВЛа, 410-416. Фрагмент рабочей тетради первой половины
1940-х гг. подтверждает это предположение: «Анализ начала «Онегина». «Мой дядя».
Лицо — маска — скорбь. К черту умирающего. Фамильяризация и снижение
семейного начала, жизни и смерти» — АБ). Однако обсуждение философских
вопросов теории романа осталось в основном за пределами «Эпоса и романа» (то
* В Списке научных работ, представленном М.М.Б. в 1946 г. вместе с другими
документами к защите диссертации (ГА РФ, ф. 9506, оп. 73, д. 71, л. 76, 95. См.
Преамбулу к комментариям, с. 382-383), под 1945 г. указан труд «Теория романа» в 30
п. л. Рукопись «Теории романа* в АБ не обнаружена.
310
же ограничение вводилось в статье «Из предыстории романного слова* и в рабочей
тетради первой половины 1940-х гг.: «Мы не можем углубляться в проблемы
философии жанра...» — АБ). Комментируемый текст, напротив, посвящен
преимущественно
гносеологическим вопросам теории
жанра:
проблемам
художественного познания в категориях V и другого' и проблемам сознания,
создающего образы V и другого', — позиции несовпадения с самим собой при
создании образа я , позиции вненаходимости при создании образа 'другого' и их неслиянности, вследствие ценностной ущербности первой и ценностного избытка второй.
Таким образом, изучение философских аспектов теории жанра возвращало М.М.Б.,
на новых основаниях, к главному вопросу его ранних работ, к «узловой проблеме всей
310
философии» — «позиции сознания при создании образа другого и образа себя самого»
(с. 72). Обращение к темам АГ, ФП, ПТД, прослеживаемое и в других текстах
«савеловского» периода, с одной стороны, свидетельствовало о стремлении М.М.Б.
прояснить общие начала своей философии после «Рабле*; с другой стороны, изучение
смеха и смеховых форм, завершившееся созданием в 1940 г. книги о Рабле, открывало
новый, скорее предчувствованный, чем обозначенный в 1920-е гг., аспект «узловой
проблемы всей философии» — серьезно-смеховую двутон-ность познания и
самосознания в категориях я' и 'другого'.
Признание серьезно-смеховой двутонности мира и слова о мире является, пожалуй,
самым важным итогом 1940-х гг. и наиболее существенным дополнением к основам
философии и эстетики, сформулированным М.М.Б. в 1920-е гг. Это добавление было
последовательно учтено при переработке книги о Рабле (Доп.), книги о Достоевском
(ППД, материалы 1961-63 гг.), статей о романе. К числу последних, при всей
условности рубрикации рабочих записей М.М.Б., относятся, по-видимому,
комментируемый текст и фрагмент «<К вопросам самосознания и самооценки...>».
Диа)ферен1шация точек зрения 'я' и 'другого' (и их доминант: 'я для себя плох',
'другой для меня хорош') в АГ, ФП, ПТД никак не обусловлена двутонностью сознания
и образа: правда о другом и о себе осмыслена в категориях 'хвалы' и 'брани', но вне их
связи с серьезным и смеховым тоном. Последующее изучение философии смеха и
эстетики смеховых форм показало, однако, что становление самосознания как диалога
«между человеком и его совестью» (ППД, 156) совершается и в смеховом плане
(отдельно, в ТФР, М.М.Б. рассматривает амбивалентный праздничный смех как форму
коллективного самосознания). Более того, какой-то элемент (направленного на себя и
на другого) смехового тона, в явной или редуцированной форме, для самосознания
необходим: тон серьезности (чистый тон хвалы) чреват узурпацией точки зрения
'другого' и, как следствие, оправдательной ложью о себе самом («Восхваляющий образ
сливается с ложью предмета о самом себе: он и скрывает и преувеличивает» — с. 67).
Однако и смеховая однотонность лжива. Смеховой тон (чистый тон брани), подавляя
самосознание (взгляд 'я для себя'), оборачивается объективацией, овеществлением
образа («Обманутого превращают в вещь» — с. 70) и, как следствие, разрушением
самосознания, отчаянием в 4юрме отказа от покаяния и/или в образе двойника. Разрушающее воздействие смеха отмечено М.М.Б. уже в работах 1920-х гг.: в АГ
подчеркнут человекоборческий элемент самочинного юродства (как результат
отчаяния), провоцирующий «бесконечность самоотмены покаяния» (юродство Федора
Павловича Карамазова), и человекоборческий элемент иронии, провоцирующий
эстетическую форму отчаяния — образ двойника с присущей ему «ненавистью к
зеркальной одержимости» (ЭСТ, 128).
311
Образ, однако, не может не стремиться к двутонности, хотя бы в силу того, что в его
основе лежит модель последнего целого, модель мира, в которой встречаются и
примиряются серьезное и смеховое: «Последнее целое нельзя представить себе
серьезным — ведь вне его нет врага, — оно равнодушно весело; все концы и смыслы
не вне, а внутри его» (с. 10). Самосознание, становясь художественной доминантой в
построении образа, формирует и новую позицию автора по отношению к герою, в
основе которой лежит меняющаяся на протяжении тысячелетий, то есть в «большом
времени», модель разговора человека с Богом. С этой точки зрения М.М.Б. говорит о
позиции автора в эпосе и романе, об ответственности и вине за мир у Гоголя при
однотонной (смеховой) завершенности его героев и о радикально новой позиции
автора в романе Достоевского. Проблема заочности образа в прозе Гоголя и
преодоления однотонной (монологической) завершенности героя у Достоевского
311
освещена в ППД (ППД, 77-81), в то же время существенная сторона диалога
Достоевского, открытая в комментируемом тексте, осталась за пределами второй
редакции книги.
Реконструкция этой части замысла М.М.Б., в силу предварительного, эскизного
характера рабочих записей, затруднена, однако обозначить узловые моменты в
характеристике диалога Достоевского и традиции или, точнее, традиций, которые
встречаются и скрещиваются в нем, все-таки можно, тем более, что та же тема развита
во фрагменте «<К вопросам самосознания и самооценки.. .>», и оба текста
взаимодополняют и взаимоосвещают друг друга.
На первый взгляд, самостоятельные и далекие друг от друга философские и
собственно эстетические вопросы, поставленные М.М.Б. в комментируемом тексте:
феноменология лжи и торжествующей (тоталитарной) правды, заповедь любви и ее
осуществление на земле, встреча и взаимовлияние канонической (книжной) и
народной традиции, мистериальные корни пространственной организации события в
романе Достоевского — связываются в одно целое в перспективе тематического
анализа главы «Великий инквизитор», диалога Ивана и Алеши Карамазовых, «поэмы»
Ивана и «предисловия» к ней. В исследовании мотивов возвращения и непризнания
Христа, лжи и ее оснований («чуда», «тайны» и «авторитета»), беседы с Богом в
«Хождении Богородицы по мукам» и пространства, в котором разворачивается этот
разговор, проявляет себя, как и предполагал М.М.Б., «глубинная существенность»
диалогической формы «Легенды о Великом инквизиторе», а через нее и диалогической
формы последнего романа Достоевского.
В первой редакции книги, подходя к анализу «Легенды о Великом инквизиторе»,
М.М.Б. говорит о двух типах диалога, о диалоге Платона и диалоге Иова: о влиянии на
Достоевского Книги Иова (и «некоторых евангельских диалогов») и о
непродуктивности для его романа чисто познавательного диалога платоновского типа,
замечая, однако, что «к наиболее существенным художественным особенностям
диалога Достоевского и библейский диалог нас не подведет» (ПТД, 240).
Комментируемый текст отчасти проясняет эту оговорку: диалог Достоевского
рождается на границе двух традиций, канонической (диалога Иова и евангельских
диалогов) и апокрифической (диалогов типа «Хождения Богородицы по мукам» и
легенды о возвращении и непризнании Христа).
В разговоре человека с Богом в эсхатологических апокрифах и в неканонических
литературных жанрах, использующих апокрифические сюжеты, слышны равно не
знакомые каноническому диалогу — «слишком человеческие» — слезные и смеховые
тона (слезы Богородицы, молящей о грешниках, в «Хождении Богородицы по мукам» и
сатирический (смеховой) тон легенды о возвращении и непризнании
312
Христа). В жанровом типе романа Достоевского 'испытание правды на земле'
разворачивается в слезно-смеховых тонах испытания праведника и испытания
грешника. Учитывая историческую подвижность канона и канонического, а также то,
что всякий канон переживает свою доканоническую стадию и «помнит» о ней, в
орбиту диалога Достоевского и жанрового типа 'испытания правды на земле' вовлекаются не только христианские апокрифы, но и понятая более широко диалогическая
традиция неканонических жанров, от менипповой сатиры и диалогов лукиановского
типа. (М.М.Б. допускает влияние, через византийскую литературу, менипповой сатиры
на древнерусскую литературу, на жанровые формы житий и хождений).
Новый акцент в характеристике диалога и жанрового типа романа Достоевского,
отмеченный, помимо комментируемого текста, в целом ряде фрагментов
«савеловского» периода («К истории типа (жанровой разновидности) романа
312
Достоевского», «<К вопросам самосознания и самооценки...>», Доп. и др.),
подготовлен предшествующим исследованием неканонических смеховых форм в книге
о Рабле и в статье «Сатира». Однако нельзя исключать и обратного: первопричиной обращения к народной культуре средневековья и Ренессанса, ставшей впоследствии,
благодаря книге о Рабле, самостоятельной темой в философии и эстетике М.М.Б.,
было, по-видимому, намеченное в ПТД изучение жанровой традиции двух диалогов
последнего романа
Христом. В этом смысле книга М.М.Б. о Рабле и его теория романа вырастают из
одного эпизода книги о Достоевском, из анализа «глубокой существенности»
диалогической формы «Легенды о Великом инквизиторе», уходящей своими корнями в
низовую (смеховую) литературу средневековья и Ренессанса.
Во фрагментах подготовительных материалов к ППД, не использованных в книге,
историческая традиция «беседы через тысячелетия Инквизитора с Христом» (с. 75)
обозначена следующим образом: «Приключения правды. Протестантская сатира, в
частности, легенда о возвращении и непризнании Христа. Soliloquia» (АБ). Источники
«Легенды о Великом Инквизиторе» в низовой литературе средневековья и Ренессанса
находили и до М.М.Б. (отметим, например, указанное И. И. Лапшиным влияние на
Достоевского латинского пародийного сборника XIII в. «Carmina Burana»: Лапшин И.
И. Как сложилась «Легенда о Великом инквизиторе». — О Достоевском. Сборник
статей. Под ред. А. Л. Бема. Вып. 1. Прага, 1929, с. 126-127; краткий обзор истории
вопроса см.: Достоевский, XV, 461-465), однако целенаправленного исследования
жанровой традиции 'испытания правды иа земле', восходящей к эсхатологическим
апокрифам и неканоническим литературным жанрам, прежде не предпринималось. Во
фрагментах «савеловского» периода, как и во второй редакции книги о Достоевском,
история форм диалога человека с Богом («диалога на пороге»: перед смертью, казнью,
судом) выстроена с помощью эвфемистичного в данном контексте понятия 'мениппова
сатира', «случайность» и «условность» которого М.М.Б., впрочем, специально
оговорил (Доп.
Слезный аспект мира, открывающийся в апокрифических диалогах и через них в
диалоге Достоевского, изучен менее подробно. В 1940-1970-х гг. М.М.Б. несколько раз
приступал к исследованию жанрового типа 'хождения по мукам', слезного тона,
жалости и сострадания (см.: «Проблема сентиментализма», с. 304-3Ö5 и комм.: с. 613617; ЭСТ, 345, 354 и др.), однако эти размышления остались в виде набросков и в ППД
не вошли.
В диалоге Достоевского, на границе канонического (диалога Иова и евангельских
диалогов) и апокрифического диалога человека с Богом, привносящего в Абсолютное
«слишком человеческие» серьезно
разговора
Инквизитора с
313
смеховые тона, предельно полно раскрывается лежащее в основе самосознания
глубинное противоречие закона личности и заповеди любви, существо которого
М.М.Б. обозначил в своих ранних работах, в ФП и АГ, и тезисно повторил в
комментируемом тексте.
Вечная тяжба в процессе самосознания я' и 'другого' обусловлена ценностной
ущербностью точки зрения 'я' и ценностным избытком видения 'другого': «Я люблю
другого, но не могу любить себя, другой любит меня, но себя не любит; каждый прав
313
на своем месте, и не субъективно, а ответственно прав» {ФП, 116). В АГ та же мысль
выражена в парадоксальной форме противоречия заповеди: «Нельзя любить ближнего
как самого себя или, точнее, нельзя самого себя любить, как ближнего, можно лишь
перенести на него всю ту совокупность действий, какие обычно совершаются для себя
самого» (ЭСТ, 44-45). Краеугольная для философии диалога М.М.Б. мысль в
формулировке АГ восходит к Достоевскому, к фрагменту <Залисной книжки 18631864 гг>, впервые опубликованному в 1924 г. Л. П. Гроссманом (Гроссман Л. IL Путь
Достоевского. Л., Изд. Брокгауз-Ефрон, 1924, с. 130-131): «... Возлюбить человека, как
самого себя, по заповеди Христовой, — невозможно. Закон личности на земле
связывает. Я препятствует. Один Христос мог, но Христос был вековечный от века
идеал, к которому стремится и по закону природы должен стремиться человек. Между
тем после появления Христа, как идеала человека во плоти, стало ясно как день, что
высочайшее, последнее развитие личности именно и должно дойти до того (в самом
конце развития, в самом пункте достижения цели), чтоб человек нашел, сознал и всей
силой своей природы убедился, что высочайшее употребление, которое может сделать
человек из своей личности, из полноты развития своего я, — это как бы уничтожить
это я, отдать его целиком всем и каждому безраздельно и беззаветно. И это величайшее
счастие. Таким образом, закон я сливается с законом гуманизма, и в слитии, оба, и я и
все (по-видимому, две крайние противоположности), взаимно уничтож<енн>ые друг
для друга, в то же самое время достигают и высшей цели своего индивидуального
развития каждый особо.
Это-то и есть рай Христов. <...> Итак, человек стремится на земле к идеалу,
противоположному его натуре. <...> Тут-то и равновесие земное» (Цит. по:
Достоевский, XX, 1?2, 175).
В осознании глубинного противоречия 'я' и 'другого', в стремлении к идеалу через
любовью принесенную жертву своего я другому и всем, рождается новое
художественное видение Достоевского. Борющееся или смиренное противостояние
души Богу сменяется чувством сыновства: «Бог одновременно и во мне и вне меня» (с.
68) — и, как следствие, выражением свободы воли героя в нравственном вопрошании:
Как поступил бы Христос? («Нравственный образец и идеал есть у меня, дан, Христос.
Спрашиваю: сжег ли бы он еретиков — нет. Ну так значит сжигание еретиков есть
поступок безнравственный». — Достоевский, XXVII, 56; см.: ППД, 130).
Реконструировать намеченный в комментируемом тексте анализ «Легенды о
Великом инквизиторе» с точки зрения самосознания героя и радикально новой
позиции автора вряд ли возможно. Из комментируемого текста, однако, следует, что
М.М.Б. намеревался раскрыть самосознание героя-автора в диалоге Инквизитора с
Христом сквозь диалог героя с самим собой и с Богом, показать специфику вненаходимости героя в позиции автора и особенность полифонии голосов автора и герояавтора перед лицом «последних вопросов».
1. Начало текста почти дословно повторяет фрагмент рабочих записей М.М.Б. «К
вопросам теории романа» (около 1941 г., АБ), частично использованных в докладе
«Роман как литературный жанр»
314
(ИМЛИ, 24 марта 1941 г.; автограф и машинопись: АБ): «Только риторика, в меру
своей лживости, стремилась вызвать страх и надеж ду (эти аффекты подчеркивают
античные риторики); искусство и познание стремятся, напротив, освободить от этих
чувств. От них освобождает трагедия, от них освобождает смех» (АБ) Там же М.М.Б.
говорит о природе бесстрашия трагедии и смеха:
«И трагедия и смех одинаково питаются древнейшим человеческим опытом
мировых смен и катастроф (исторических и космических), памятью и предчувствиями
314
человечества, отложившимися в основном человеческом фонде мифа, языка, образов и
жестов. И трагедия и особенно смех стремятся изгнать из них страх, но делают они это
по-разному. Серьезное мужество трагедии, остающейся в зоне замкнутой
индивидуальности. Смех реагирует на смену весельем и бранью. И трагедии и смеху
одинаково чужды и враждебны мораль и оптимизм, всякие скороспелые и куцые
«гармонии» на наличном материале (того главного, что могло бы гармонизировать,
еще нет в наличности), отвлеченная идеальность и сублимация. И трагедия и смех
одинаково бесстрашно смотрят в глаза бытию, не строят никаких иллюзий, трезвы и
требовательны» (АБ).
Ср.: Э. Кассирер о Чгграхе и надежде' ('Furcht und Hoffnung': «амбивалентном
чувстве "страха" и "надежды » — конспект М.М.Б., .АБ): Cassirer Е. Philosophie der
symbolischen Formen. II Teil: Das mythische Denken. Bruno Cassirer Verlag. Berlin, 1925,
S. 100-103.
О природе трагического и смехового катарсиса в работах М.М.Б. см.: комм. «<К
вопросам об исторической традиции и о народных источниках гоголевского смеха>»,
с. 421-422.
2. Polybius, 6, 53. См.: Misch G. Geschichte der Autobiographie. Bd. 1: Das Altertum.
Druck und Verlag von B. G. Teubner. Leipzig-Berlin, 1907, S. 129-131 и конспект М.М.Б
(АБ).
3. О «сонной сатире» и роли кризисного сна в романе Достоевского, сна накануне
самоубийства и на грани безумия см.: ППД, 156, 197-206. В рабочих записях 1940-х гг.
М.М.Б. подробнее говорит о роли сна (и мечты) в романе и эпосе:
«И сон эпического и трагического героя никогда не выводит его за пределы его
судьбы (в другую жизнь), он может видеть только пророческие сны, только
предвосхищающие ту же судьбу. Мечта и сон в романе начинают играть громадную
роль именно как выхода в другую жизнь. Эта роль мечты и сна особенно важна в
романе типа Достоевского. Она впервые появляется в менипповой сатире и в
родственных жанрах» (АБ).
Ср.: Ф. Ницше о сне и иллюзии в греческой трагедии: Ницше Ф. Рождение трагедии,
или Эллинство и пессимизм. Пер. Г. А. Рачинского. — Ницше Ф. Сочинения в 2-х тт.
Сост. К А. Свасьян. Т 1. М. Мысль, 1990, с. 47 157
4. См.: Misch G. Geschichte der Autobiographie. Bd. 1: Das Altertum. LeipzigBerlin, 1907 и фрагменты конспекта М.М.Б. комм, к Доп.: прим. 9, с. 485.
5. См.: фрагмент «К истории типа (жанровой разновидности) романа Достоевского»,
с. 42-44 и комм. с. 417-420.
315
ЧЕЛОВЕК У ЗЕРКАЛА»
Впервые, с неточностью, — «Литературная учеба», 1992. № 5-6, с. 156 (публикация
В. В. Кож и нова, подготовка текста В. И. Сла-вецкого). Печатается по автографу,
записанному вслед за текстом «<Риторика, в меру своей лживости...>» в той же «общей
тетради», тем же карандашом (два текста в тетради разделены конспектом книги Мих.
Левидова «Путешествие в некоторые отдаленные страны. Мысли и чувства Джонатана
Свифта, сначала исследователя, а потом воина в нескольких сражениях», М.,
Советский писатель, 1939). Исходя из авторской датировки предшествующего текста,
может быть датирован концом 1943 г. Тема «человек у зеркала» рассматривается и в
предыдущем тексте, самая же формула повторяется в более позднем тексте «vK
вопросам самосознания и самооценки...>» (с. 72) и в еще более позднем фрагменте,
озаглавленном «Очерки по философской антропологии», в составе Зап. (ЭСТ, 351).
Впервые же эта тема подробно рассмотрена еще в АГ (ЭСТ, 31-32), таким образом, она
проходит сквозь все полувековое творчество М.М.Б., так или иначе присутствуя в
315
большей части его работ. Вероятно, кавычки, в которые заключено название
настоящего краткого текста, выделяют у автора как бы автоцитату его постоянной
темы.
«Человек у зеркала» у М.М.Б. — модель раскрытия той основной проблемы его
филоссфской антропологии, о которой им сказано, что «сейчас это узловая проблема
всей философии» (с. 72). Об использовании образа зеркала для постановки в
теоретической философии XX в. таких ее «узловых проблем», как сознание и
самосознание, «я» и «другой», могут дать представление замечания Г. Г. Шпета по
поводу работы П. Наторпа «Allgemeine Psychologie», Tübingen, 1912. Шпет оспаривает
«зеркальную» аналогию Наторпа, иллюстрирующую проблему самосознания; по
Наторпу в изложении Шпета: «Как сетчатка не может видеть самое себя иначе, как
только в зеркальном отображении, так и об Я, как объекте, можно говорить только не в
буквальном смысле: Я как в зеркале отражается в своем содержании» (Г. Шпет.
Сознание и его собственник. М., 1916, с. 44; см. также: г Г. Шпет. ФилосооЪские
этюды. М., Прогресс, 1994, с. 97). Нет сомнения в том, что обе работы — Наторпа и
Шпета — были в поле зрения М.М.Б. еще в 10-20-е гг., но, конечно, дело не в
отдельном примере, а в философском контексте, в котором определялись темы
бахтинской мысли, и «человек у зеркала» среди них. В отношении к этой теме
заслуживает быть отмеченной выписка, сделанная М.М.Б. при конспектировании
книги Э. Кассирера (вероятно, в конце 30-х гг.): «Непосредственный переход от
физиологии и психологии к этике на почве идеи "микрокосма" Парацельс говорит, что
человек "ein Bildnis in eim Spiegel, gesetzt hinein durch die vier element", и в то же время
человек для него центр мира (118)» (АБ). В соответствующем месте книги Кассирера
излагается учение Парацельса о человеке: «Auf der einer Seite ist ihm der Mensch nichts
anderes als "ein bildnus in eim spiegel, gesetzt hinein durch die vier element", und
"gleicherweis wie der im spiegel niemants mag seins wesens verstand geben, niemants zu
erkennen geben, was er sei, dan allein es stat da wie eine tote bildnus, also ist der mensch an
im selbs auch, und aus ime wird nichts genommen, allein was aus der eußeren erkantnus
kompt, des figur er im spiegel est" Und doch faßt dieses "tote Bildnis" alle Kräfte der reinen
Subjektivität, alle Kraft des Erkennens und des Wollens, in sich, und wird eben damit in
einem neuen Sinn, zum Kern und Mittelpunkt der Welt» (E. Cassirer. Individuum und
Kosmos in der Philosophie der Renaissance. B.G.Teubner. Leipzig/Berlinh 1927, S. 118:
«CT одной стороны человек для него не что иное, как отражение (образ) в зеркале,
образованное четырьмя стихиями", и "подобно тому как этот в зеркале никому
316
не может дать понятия о своей сущности, о том, что он есть, потому что вот он один
стоит там как мертвое изображение, так и человек сам в себе существует, и ничего
нельзя из него извлечь, кроме только того, что дается внешним познанием, образ
которого он представляет в зеркале" И все же это "мертвое отражение" содержит в себе
все силы чистой субъективности, все силы познания и воления и тем самым в каком-то
новом смысле становится центром и средоточием мира» — пер. Н. С. Павловой). Как
можно видеть, антропология Парацельса в этом схваченном конспектом М.М.Б. месте
книги Кассирера прямо смыкается с проблематикой, остающейся «узловой» и в
середине XX века.
Итак, тема настоящего отрывка — сквозная тема М.М.Б. Постоянный мотив при ее
анализе: «Сложность этого явления (при кажущейся простоте). Элементы его» (с. 72).
В нравственной философии М.М.Б. ситуация человека у зеркала — универсальная
метафора. От анализа пространственной ситуации этого простого события в АГ он
восходит к духовной ситуации самосознания человека-личности в ПТД, подобно тому
как сам Достоевский, согласно анализу в ПТД, от простого перевода (но равнозначного
316
«коперниканскому перевороту») гоголевского героя в ситуацию самосозерцания в
зеркале («даже самую наружность "бедного чиновника", которую изображал Гоголь,
Достоевский заставляет самого героя созерцать в зеркале») восходит уже в этих
первых вещах к сложной проблематике своего творчества: «функцию зеркала
выполняет и постоянная мучительная рефлексия героев над своей наружностью, а для
Голлдкина — его двойник» (ПТД, 55; ППД, 64). Перерабатывая в 1961-1962 гг. свою
книгу о Достоевском, автор наметит ввести в нее и «развить» тему настоящего
фрагмента, о чем свидетельствует запись на полях авторского рабочего экземпляра
ПТД, в котором производилась правка для новой редакции книги; здесь на полях с. 185
записано: «Человек у зеркала. Развить» (АБ). Эта ремарка относится к анализу
«Записок из подполья», а именно — к мотиву ненависти подпольного человека к
своему лицу и его зеркальному отражению; формулировки этого анализа совпадают с
формулировками комментируемого фрагмента 1943 г.: «Он сам глядит на свое лицо
чужими глазами, глазами другого. И этот чужой взгляд перебойно сливается с его
собственным взглядом и создает в нем своеобразную ненависть к своему лицу» (ПТД,
185). Такие определения, как «зеркальная одержимость» и ненависть к ней, возникают
на пересечении проблемы исповеди с творчеством Достоевского уже в АГ: «Возможна
бесконечность самоотмены покаяния. Этот момент аналогичен ненависти к зеркальной
одержимости; как выглядит лицо, так может выглядеть и душа» (ЭСТ, 12о).
Мотив «одержания» чужим взглядом, замутняющего «оптическую чистоту бытия»
(ЭСТ, 30) и содержащего возможность «уплотнения» этого взгляда «до самостояния,
почти до локализованного в бытии лица» (двойника), таким образом, прописан уже в
анализе акта смотрения в зеркало в АГ; но здесь же намечен и другой путь «уплотнения», ведущий не к «личине», а к «истинному лику», — благодатный путь обретения
оформляющего мой образ «ответственного автора» (ГУСТ, ЗТ)-31). Эта инстанция,
тяготеющая в эстетике М.М.Б. к повышенному статусу и заглавной букве
(прорывающейся однажды в 1Г: «отпущение и благодать нисходят от Автора» — ЭСТ,
71), также входит в зеркальную ситуацию в ее всеобъемлющем диапазоне и порождает
образ «иного» зеркала в заметке «К философским основам гуманитарных наук»:
«Несказанное ядро души может быть отражено только в зеркале абсолютного
сочувствия» (с. 9). Представляется, что «абсолютный» эпитет этого «зеркала»
соотносится с тютчевским «И нам сочувствие дается, Как нам дается благодать» и
намекает на бла
317
годатную зеркальность бытия (противоположную по смыслу и знаку описанной в
комментируемом тексте обычной, но «демонической» в своей обычности зеркальной
ситуации), в которой угол падения как бы не равен углу отражения (который «нам не
дано предугадать»). «Вера» в эту «иную» зеркальность, «отражающую» мое истинное
«я-для-себя», проступает и в других черновых текстах, публикуемых в настоящем
томе: «Вера в адэкватное отражение себя в высшем другом, Бог одновременно и во мне
и вне меня. Моя внутренняя бесконечность и незавершенность полностью отражены в
моем образе...» (с. 68). В недавней статье Ю. И. Левина «Зеркало как потенциальный
семиотический объект», содержащей классификацию его «семиотических
возможностей», подобный образ «иного» зеркала регистрируется как один из случаев
«нарушения отдельных аксиом объекта»: «Нарушение аксиомы буквальности
изображения может приводить, в частности, к идее зеркала, отражающего не
видимость, а сущность...» (Труды по знаковым системам, т. XXII, Тарту, 1988, с. 1011).
Зеркальная метафора многообразно работает в описаниях экзистенциальных
ситуаций у М.М.Б., например: «смерть изнутри нельзя подсмотреть, нельзя увидеть,
317
как нельзя увидеть своего затылка, не прибегая к помощи зеркал» (с. 347). «Затылок»
же в бахтинских координатах соответствует «заочному образу мира», в котором нет
«его говорящего лица, а только спина и затылок» (с. 68). Эта роль телесных и
пространственных образов в описаниях духовных ситуаций характеризует
философский стиль М.М.Б.: «Достоевский, объективируя мысль, идею, переживание,
никогда не заходит со спины, никогда не нападает сзади... спиною человека он не
изобличает его лица» (ПТД, 101-102). В одном же из последних текстов М.М.Б.
(«Ответ на вопрос редакции "Нового мира"*, 1970) зеркальная аналогия возникает в
рамках характеристики больших процессов истории культуры, в связи с вопросом о
понимании в масштабах эпох и культур: «Великое дело для понимания — это
вненаходимость понимающего — во времени, в пространстве, в культуре — по
отношению к тому, что он хочет творчески понять. Ведь даже свою собственную
наружность человек сам не может по-настоящему увидеть и осмыслить в ее целом,
никакие зеркала и снимки ему не помогут; его подлинную наружность могут увидеть и
понять только другие люди, благодаря своей пространственной вненаходимости и
благодаря тому, что они другие» (ЭСТ, 334).
Сопоставление философии «человека у зеркала» Бахтина с ролью
Лакана дается в кн.: Александр Эткинд. Эрос невозможного. История психоанализа
в России. Медуза, СПб., 1Ö93, с. 401-405. Ср. также в книге К. Кларк и М. Холквиста:
«В противоположность Лакану Бахтин понимает зеркальную стадию как сопредельную
всем процессам сознания: самосознание бесконечно, поскольку мы находимся в
процессе создания самих себя, потому что зеркало, которое мы используем, чтобы
видеть себя, — это не пассивно отражающее стекло, но активно преломляющая оптика
других людей» (Katerina Clark, Michael Holquist. Mikhail Bakhtin. Cambridge, Mass. and
London, England, 1984, p. 79; пер. Л. В. Дерюгиной).
<К ВОПРОСАМ САМОСОЗНАНИЯ И САМООЦЕНКИ...>
Впервые: «Литературная учеба», 1992, № 5-6ч с. 156-159 (публикация В. В.
Кожинова, подготовка текста В. И. Славецкого). Печата
зеркала в
концепции
318
сгся с уточнениями, по автографу, хранящемуся в АБ. Автограф не датирован и не
озаглавлен. Относится к первой половине 1940-х гг., предположительно, не ранее
конца 1943 г. и не позднее начала 1946 г.
Текст записан в ученической тетради. Тетрадь в линейку из восьми листов заполнена
целиком, включал внутреннюю сторону задней обложки, ровным разборчивым
почерком, фиолетовыми чернилами, сначала сильно разбавленными. Фрагмент «Роль
нарочитого забвения...» записан на отдельном листе в линейку, вложенном в тетрадь,
теми же чернилами и публикуется в одном корпусе с текстом тетради.
Точная датировка фрагмента затруднена. Текст записан не позднее января-февраля
1946 г., на что указывает упоминание о приближающемся столетии первых
произведений Достоевского («к столетию первых выступлении Достоевского: «Бедные
люди» — 15/1-1846 и «Двойник» — 1/11-1846* г.» — с. 76), однако это упоминание,
придававшее тексту формальную актуальность, необходимую для публикации работы
(см. фрагмент письма Л. И. Тимофеева к М.М.Б. от 12 сентября 1943 г. — с. 477),
могло быть сделано с некоторым «запасом», учитывающим время подготовки статьи,
поэтому нижняя граница датировки не вполне очевидна. Тематически и структурно
фрагмент примыкает к наброскам октября 1943 г. «<Риторика, в меру своей
318
лживости...>» (с. 63-70) и «Человек у зеркала» (с. 71) и, по всей видимости, является
материалом к той же статье. Отсюда следует, что комментируемый текст был написан
либо в Савелове, не ранее конца 1943 г., либо уже в Саранске, в конце 1945 — начале
1946 гг., когда М.М.Б., по какой-то причине, возможно, в связи с работой над «Теорией
романа», вернулся к начатой в Савелове, а затем оставленной статье.
Комментируемый фрагмент отражает первый, черновой этап работы.
Предварительный, эскизный характер текста оставляет известную непроясненность как
отдельных мест, так и целого замысла, частично восстановить который помогают
фрагменты 1943-44 гг. («<Риторика, в меру своей лживости...>», «Человек у зеркала»,
Доп.), ППД и рабочие записи М.М.Б. первой половины 1940-х гг.
Комментируемый набросок отчетливо делится на две части: в первой
рассматриваются теоретические вопросы самосознания, во второй — самосознание как
доминанта художественного образа в романе Достоевского. Содержание второй части
текста развернуто в книге о Достоевском и почти полностью исчерпывается ею,
содержание первой только отчасти реализовано в законченных работах М.М.Б.
Проблема самосознания, «узловая проблема всей философии» и центральная
проблема теории романа М.М.Б. диалогически расщеплена и обозначена как «позиция
сознания при создании образа другого и образа себя самого» (с. 72). В диалогической
открытости сознания, освобождающей 'я' и другого' от их завершенности в объектном
познании и художественном изображении, М.М.Б. видит выход из кризиса сознания,
перед лицом которого оказалась европейская философия и эстетика в конце XIX в.
Полемика с Ницше, с идеей исчерпанности сознания, провоцирующей нигилизм и
отчаяние, пронизывает весь набросок, хотя имя Ницше упомянуто в нем только раз (с.
78), — и представляется существенной для философии и эстетики М.М.Б. в целом.
М.М.Б. выделяет три позиции самосознания, которые условно, в силу
непроясненности черновой записи и известной нерасположенности автора к готовым
терминам (о предельной однотонности термина М.М.Б. говорит в конце фрагмента),
можно назвать 'наивной' («человек у зеркала»), 'трагической' («одинокое
самосознание» трагической индивидуальности) и 'полифонической', — и
рассматривает их во взаимодействии, внутри жанровой разновидности романа Достоев
319
ского. В теоретическом плане две крайние монологические позиции самосознания,
наивная и трагическая, предельно противопоставлены: первой присуща зеркальная
одержимость другим, второй — напротив, полное отчуждение другого (в пределе
смерть другого).
Наивную позицию самосознания, в чистом виде эксплицированную в первом романе
Достоевского, М.М.Б. обозначает формулой «человек у зеркала» (см. «Человек у
зеркала», с. 71 и комм.). Однако семантика 'зеркала1, 'отражения', человека у зеркала'
выходит за рамки традиционных философского и семиотического контекстов. Образ
«человека у зеркала» распадается здесь на две не сводимые друг к другу точки зрения
внешнего и внутреннего человека у зеркала, причем на первый план выдвигается
словесная, диалогическая зеркальность души в новых границах, не совпадающих с
границами внешнего человека. В ППД, говоря о перевороте, осуществленном
Достоевским в гоголевском мире (то есть о преодолении завершенности гоголевского
героя), М.М.Б. рассматривает два эпизода из «Бедных людей»: в одном Макар
Девушкин видит себя в зеркале во время визита к генералу, в другом созерцает себя,
как в зеркале, в герое гоголевской «Шинели» (Достоевский, I, 92, 62-63; ПТД, 55, ППД,
64-65, 77-78). Предметом рефлексии героя в романе Достоевского становится, таким
образом, не только созерцающий себя, свою наружность, свое тело, внешний человек,
но и внутренний человек, его мировоззрение, язык и индивидуальная правда (то есть
319
моменты, имеющие границе-образующую силу для образа внутреннего человека — «К
вопросам теории романа», около 1941 г., АБ), отраженные, как в зеркале, в слове
другого и о другом.
Овеществленный образ «человека у зеркала» в известной степени сближается с
образом одержимого познанием «объективного человека» Ницше, с его «отражающей,
как зеркало, и вечно полирующейся душой»: «Все, что еще остается в нем от
«личности», кажется ему случайным, часто произвольным, еще чаще беспокойным: до
такой степени сделался он в своих собственных глазах приемником и отражателем
чуждых ему образов и событий» (Ницше Ф. По ту сторону добра и зла. Пер. Н.
Полилова. — Ницше Ф. Сочинения в 2-х тт. Т. 2. М., Мысль, 1990, с. 328, 329).
Позиция «объективного человека» в познании, как она видится «солипсилюбивому»
уму, и овеществленный образ «человека у зеркала» обнаруживают точки соприкосновения в перспективе проблемы 'познания и изображения личности', поставленной в
комментируемом тексте и во фрагменте «<Риторика, в меру своей лживости...>».
М.М.Б. находит обитую предпосылку познания и овеществляющего изображения в
представлении о конечности, исчерпанности мира и человека и видит выход из тупика
овнешнен-ности и данности не в философском или эстетическом солипсизме, а в
кардинально новой, преодолевающей солипсизм, (полифонической) позиции человека
(автора) в познании и изображении личности.
Со свободной от солипсизма позицией автора «Бедных людей» М.М.Б. связывает
открытие «новой страницы в истории гуманизма» (с. 76). В «Бедных людях»
зеркальность души героя входит в его кругозор, становится предметом рефлексии
(избыток видения автора в Ich-Erzählung наивного героя-автора сведен к минимуму) и
провоцирует своеобразный «бунт» против завершенности (то есть смерти без
обновления) гоголевского героя и тем самым против своей литературной
завершенности. Мировоззренческую безвыходность бунта «человека у зеркала»
М.М.Б. раскрывает в Доп.: «Простая и просто любящая душа, не зараженная
софизмами теодицеи, в минуты абсолютного бескорыстия и непричастности
поднимается до суда над миром, над бытием и виновником бытия. <...> Добро этой
судящей души лишено всякого положительного содержания, оно все сводится только к
осуждению бытия, к отвращению. Это голос небытия, судящий бытие...»
320
(с 109). «Человек у зеркала» не может весь войти в диалог, не может занять
активную позицию в диалоге: другой подавляет в нем зачатки полемического слова и
прямого исповедального слова, но и другость <человека у зеркала» иллюзорна.
Наивная позиция самосознания в диалоге предельно овнешнена в пассивном
однонаправленном
слове
Ich-Erzählung,
окрашенном
преимущественно
в
приглушенные слезные гона (таков тон писем Макара Девушкина).
Наивному отождествлению 'я' и 'другого' противостоит их предельная
разъединенность в одиноком самосознании трагической индивидуальности, познавшей
этическую сферу абсолютного неравенства V и 'другого' и тем самым поставившей под
сомнение саму возможность следования на земле заповеди любви: «Нельзя любить
ближнего как самого себя или, точнее, нельзя самого себя любить, как ближнего,
можно лишь перенести на него всю ту совокупность действий, какие обычно
совершаются для себя самого» (ЭСТ, 44-45; ср. развитие той же мысли в <Записной
книжке 1863-1864 гг.> Достоевского и в монологе Ивана Карамазова в главе «Бунт»
(Достоевский, XX, 172-175; XIV, 215-216); трудность прямого прочтения приведенного
выше фрагмента АГ обусловлена сложной внутреннедиалогической позицией М.М.Б.:
его мысль опосредована мыслью Достоевского, но в кругозор М.М.Б. входит не только
320
прямое слово Достоевского, но и слово Ивана Карамазова, и диалог авторахристианина с героем-атеистом).
Проблема одинокого самосознания в историческом плане в жанрах трагедии и
автобиографии раскрыта в Доп. Там же развернуты и другие темы, тезисно
обозначенные в комментируемом тексте: история мотива отцеубийства,
художественная роль преступления, трансформация образа (и самосознания)
действительного и потенциального отцеубийцы от ых|хжла (Эдип) к Шекспиру
(Макбет, Гамлет) и от трагедий Шекспира к роману Достоевского (Дмитрий и Иван
Карамазовы) .
Позиция одинокого самосознания в диалоге, предельно полно выраженная Иваном
Карамазовым в последнем романе Достоевского, сохраняет тенденцию к
монологичности: важнейшие диалоги Ивана Карамазова являются либо
диалогизованными монологами (беседа Инквизитора с Христом), либо иллюзией
диалога в больном, раздвоенном сознании (разговор Ивана с чертом). Слово одинокого
самосознания в диалоге окрашено преимущественно в иронические или пародийные
тона редуцированного смеха. Редукция смеха, как показал М.М.Б., асимметрична: она
затрагивает в основном положительную, возрождающую сторону смеха, не касаясь его
отрицательной, умерщвляющей стороны. В смехе Нового времени приглушен или
вовсе сведен на нет тон радости, выражающий причастность я другому и всем. Утратив
возрождающую силу, редуцированный смех становится отчуждающим моментом,
направленным на дискредитацию слова другого и тем самым на утверждение себя и
своего слова.
Отчуждение 'я' от другого' (в пределе смерть другого) создает мя трагической
индивидуальности альтернативу в бытии: или само->тверждающаяся активность и
стремление узурпировать место другого (в пределе высшего другого) или отказ от
преступной активности. "Илн смерть другого как насильственная преждевременная
смена (в пределе убийство отца/убийство сына, овнешняющее надъюридическое
преступление самоутверждающейся активности) и своя смерть как насильственная
произвольная смена (в пределе самоубийство) — или сомнение в смерти. На одном
полюсе — неприятие становления и нарастание эсхатологизма, на другом — бытие как
непрерывный круг становлений: в каждом явлении бытия усматривается момент
возникновения и исчезновения, но эти моменты по существу являются страданием,
поэтому и бытие, независимо от его содержания, является
321
страданием, избавление от которого приходит в результате освобождения от самой
формы времени, как выход в нирвану.
В Доп. М.М.Б. вскрывает в монологах Гамлета тему сомнения в смерти, «одну из
больших и незамеченных тем мировых слов и образов» (с. 114Г В комментируемом
тексте, апеллируя к Паскалю, он обозначает философскую подоснову сомнения в
смерти, «специфическое неверие в свою смерть» (с. 72), следующее из
непостижимости для человека, изнутри своего сознания, своей смерти. Фрагменты
«Мыслей» Паскаля, которые должны были, по-видимому, прямо звучать в статье, в
контексте наброска преломляются, с одной стороны, монологами Ивана Карамазова
(отзвуки паскалевых мыслей слышны в монологе Ивана в главе «Бунт» и в «поэме»
Ивана (см.: Достоевский, XV, 555, 561), анализ которой является важным смысловым
узлом комментируемого фрагмента) и, с другой стороны, мыслью Ницше об
«интеллектуальной совести» Паскаля (Ницше Ф. По ту сторону добра и зла. Пер. Н.
Полилова. — Нищие Ф. Сочинения в 2-х тт. Т. 2. М., Мысль, 1990, с. 277).
М.М.Б. толкует суждение Паскаля о несоразмерности человека мировым пределам и
о невозможности изнутри человеческого сознания постичь небытие, из которого
321
извлечен человек, и бесконечность, которой он поглощается: человек не знает всецело
во внешнем мире находящегося своего «тела, которое станет трупом» (с. 72; ср. «Нам
тяжело даже просто сравнивать себя с конечными вещами». — Паскаль Б. Мысли.
Пер., вст. ст., комм. Ю. Гинзбург. М., Изд. им. Сабашниковых. 1995, с. 135), но он не
знает и бесконечного внутреннего, новых, интенсивных координат души. Человек
Нового времени, обреченный на срединный путь, оказывается, таким образом, на своеобразной мистерийной сцене, где между безднами небытия и бесконечности, на краю
бесконечного хаоса разыгрывается жизнь, как ставка в «рулетке спасения»: Бог или
ничто. (В емком хронотопи-ческом образе «касательной» и «точки касательной», в
которой, по мысли М.М.Б., развертывается диалог, просвечивает, как прообраз,
мистерийная сцена Паскаля).
Диалог, обращенное слово разрывают дурную бесконечность становлений,
наполняют голосами вечное безмолвие бесконечных пространств, заполняют любовью
холодную пустоту, окружавшую человека. Полифоническое самосознание автора и
героев-протагонистов (князя Мышкина, Алеши Карамазова) в диалоге Достоевского
раскрыты М.М.Б. в ПТД и ППД. Отметим только, что этическая бездна, разделяющая
'я' и 'другого', преодолевается в полифоническом самосознании любовью принесенной
жертвой своего я и овнешняется в диалоге проникновенным словом герояпротагониста. Проникновенное слово в каждой точке двунаправленно: оно обращено
вовне (как разговор человека с Богом) и вовнутрь (как диалог между человеком и его
совестью, то есть судящим в нем Богом — см.: Достоевский, XXIV, 109).
1. Из контекста дальнейших рассуждений М.М.Б. можно предположить, что он
имеет в виду мысль Паскаля о несоразмерности человека:
«199 (72). <...> Так что же есть человек в природе? Ничто по сравнению с
бесконечностью, все по сравнению с небытием, середина между ничто и все; он
бесконечно далек от постижения крайностей; цель и начала вещей надежно скрыты от
него непроницаемой тайной.
Равным образом — не способен понять небытие, из которого он извлечен, и
бесконечность, которою он поглощается.
Ему остается только ловить какую-то видимость вещей срединных, навсегда
отчаявшись познать их начала и цель. Все вещи вышли из небытия и стремятся к
бесконечности. Кто проследит эти удивитель
322
ные пути? Творец всех чудес их знает. Больше этого не может никто. <...>»
«372 (483). Быть членом означает получать жизнь, бытие и движение только от духа
всего тела. А для тела отдельный член, не видящий тела, к которому он принадлежит,
— всего лишь естество гибнущее и умирающее. Он, однако, полагает себя всем целым,
и не видя более тела, от которого зависит, полагает, что зависит только от самого себя,
и хочет сеоя самого сделать средоточием и телом. Но поскольку в нем самом не
заключено начала жизни, то он лишь теряется и путается в сомнениях о своем естестве,
догадываясь, что он — не тело, но все же не видя, что он — член тела. <...>» (Паскаль
Б. Мысли. Пер., вст. ст., комм. Ю. Гинзбург. М., Изд. им. Сабашниковых 1995, с. 133,
175).
Очевидно, что тема трагической философии Паскаля, звучащая в комментируемом
тексте, отнюдь не ограничивается процитированными выше фрагментами. Неверие в
свою смерть и мысль о безвыходности бытия заключены в «рулетке спасения»
Паскаля, в дилемме Бог или ничто, в самой возможности пожертвовать «Богом за
Ничто», названной Ницше «парадоксальной мистерией последней жестокости»
(Нищие Ф. По ту сторону добра и зла. Пер. Н. Полилова. — Ниц ше Ф. Сочинения в 2х тт. Т. 2. М., Мысль, 1990, с. 283). В этой связи необходимо обозначить выходящую за
322
рамки комментария проблему заочного диалога М.М. и Н.М. Бахтиных о трагическом
и христианском видении мира и о «пари Паскаля» (Бахтин Н. М. Паскаль и трагедия.
— «Звено*, 1927, № 228, 229; см.: Бахтин Н. М. Из жизни идей. Сост., поел., комм. С.
Р. Федякина. М., Лабиринт, Ю95, с. 27-33).
К теме Достоевский и Паскаль см.: Лапшин И. И. Достоевский и Паскаль. —
Научные труды Русского Народного Университета в Праге. Т. I. Прага, 1928, с. 55-63
(235-243); Его же. Как сложилась «Легенда о Великом инквизиторе». — О
Достоевском. Сборник статей. Под ред. А. Л. Бема. Вып. I. Прага, 1929, с. 136;
Достоевский, XV, 555, 561.
2. Магометово мгновение — мгновение, в которое Магомет, разбуженный
архангелом Гавриилом, совершил путешествие из Мекки в Иерусалим, побывал в раю,
беседовал с Богом, ангелами и пророками, спускался в ад, а возвратясь, успел
остановить падение сосуда с водой, который, улетая, задел крылом архангел Гавриил.
Достоевский уподобляет «магометову мгновению» минуты «необыкновенного
усиления самосознания», испытанные им самим (см.: Ковалевская С. В. Воспоминания
и письма. М., Изд. АН СССР, 1961, с. 106) и его героями, князем Мышкиным в
«Идиоте» и Кирилловым в «Бесах» (Достоевский, VIII, 188-189; X, 450-451) перед
эпилептическим припадком: «... в этот момент мне как-то становится понятно
необычайное слово о том, что времени больше не будет. Вероятно, — прибавил он
<князь Мышкин — комм.>, улыбаясь, — это та же самая секунда, в которую не успел
пролиться опрокинувшийся кувшин с водой эпилептика Магомета, успевшего, однако,
вчту самую секунду обозреть все жилища Аллаховы» (Достоевский, VIII,
Магометово мгновение — момент выхода из жизни и прозрения целого бытия,
переживаемый (это особенно подчеркивает Достоевский) физически, а не
галлюцинаторно, во сне или в мечте, следовательно, это не время другой жизни
сознания, как время сна, мечты или иллюзии, а момент «высшего самоощущения и
самосознания», физически преображающий всего человека: «Это не земное; я не про
то, что оно небесное, а про то, что человек в земном виде не может перенести. Надо
перемениться физически или умереть» (Достоевс
323
кий, X, 450). Ср.: М.М.Б. о князе Мышкине: «У него как бы нет жизненной плоти,
которая позволила бы ему занять определенное место в жизни (тем самым вытесняя с
этого места других), поэтому-то он и остается на касательной к жизни» (ППД, 234).
(Стоит, однако, особенно отметить сомнения князя Мышкина в том, являются ли
моменты, предшествующие приступам падучей, проблесками «высшего бытия» или,
напротив, инициированы «самым низшим» (Достоевский, VIII, 188), а также
сюжетообразующую роль мгновенного превращения жизни-ада в рай в рассказе
Зосимы о таинственном госте).
3. Исторические формы времени и хронотопа самосознания исследованы М.М.Б. в
работе 1937-38 гг., известной под названием «Формы времени и хронотопа в романе.
Очерки по исторической поэтике» (ВЛЭ, 234-4Ö7). Ее отчасти дополняет публикуемый
ниже фрагмент «Материалов» 1938 г.:
«Как меняются хронотопы самосознания человека? На что опирается это
самосознание? По каким приметам времени оно ориентируется? Показать эволюцию
форм от Исократа до Пруста и Джойса. Публичные хронотопы: античная греческая
площадь, римская семья, читатель моих произведений, культовый хронотоп исповеди,
средневековая площадь и др. Хронотопы одинокого самосознания и его опоры.
Самосознание в буржуазном обществе. Положить в основу положение Маркса в «К
еврейскому вопросу». Особо о времени самосознания. Проблема исторического
самосознания. Время самосознания, опирающегося на исторические приметы.
323
Субстанциональность личности раскрывается в историческом времени. Этим
преодолевается второй идеальный сюжет» (АБ).
4. См. «К истории типа (жанровой разновидности) романа Достоевского», с. 42-44.
5. Об истории мотива отцеубийства от Эсхила и Соо^юкла к Шекспиру и
Достоевскому, а также о трансформации образа действительного и потенциального
отцеубийцы (Эдип — Макбет, Гамлет — Иван Карамазов) см.: Доп., с. 85-99.
6. Достоевский перевел «Евгению Гранде» Бальзака в 1844 г.: см. «Репертуар и
Пантеон», 1844, № 6, с. 386-457; № 7, с. 44-125 (см.: Достоевский, I, 459).
7. Письмо к М. М. Достоевскому с предложением перевести «Матильду» Е. Сю
датировано 31 декабря 1843 г. (Достоевский, XXVIII,, 83-84).
8. Достоевский оставляет почти законченный в апреле-мае 1844 г. перевод
«Последней Альдини» Жорж Санд, узнав, что роман уже переведен на русский язык в
1837 г. (см.: Достоевский, I, 459).
9. См.: Григорович Д. В. Литературные воспоминания. М. Гослитиздат, 1961, с. 8485.
10. Следы этого чтения ощутимы в диалоге Ивана с чертом в главе «Черт. Кошмар
Ивана Федоровича» (см.: Достоевский, II, 518; XV,
11. Вероятно, М.М.Б. имеет в виду слова Гете не о «Парии», а о стихотворении
«Одно и все» («Eins und alles», 1821) из письма к Ф.-В. Римеру от 28 октября 1821 г.
Две заключительные строфы этого стихотворения в переводе Н. Вильмонта (в
контексте комменти
324
руемого фрагмента особенно важна последняя строфа. «Пусть длятся древние
боренья. / Возникновенья, измененья / Лишь нам порой не уследить. /Повсюду
вечность шевелится, / И все к небытию стремится, / Чтоб бытию причастным быть») и
фрагмент из письма Гете к Римеру М.М.Б. выписывает около 1940-41 гг. по изданию:
Гете И. -В. Избранная лирика. Под ред. А. Габричевского и С. Шервин-ского. Вст. ст. и
прим. А. Габричевского. М.-Л., Academia, 1933, с. 265-266; — в ту же тетрадь, где
помещены публикуемые в настоящем томе тексты «"Слово о полку Игореве" в истории
эпопеи» и «К истории типа (жанровой разновидности) романа Достоевского»: «Эти
строфы содержат и раскрывают, быть может, самое темное (abstruse), что есть в
современной философии. Я и сам почти готов поверить, что только одной поэзии
может уда ться до известной степени выразить та кие тайны, которые в прозе обычно
ка жутся нелепыми, потому что они могут быть выражены лишь в противоречивых
положениях, не поддающихся человеческому рассудку. К сожалению, в таких вещах
замысел не очень-то помогает исполнению, и это лишь благосклонные дары удачного
мгновения, которые в конце концов, после долгих приготовлений, являются как
непрошенные, случайные гости...» (Пер. А. Габричевского; разрядкой переданы слова,
подчеркнутые в выписке М.М.Б.). Ср.: Доп., 82.
ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К «РАБЛЕ»
Впервые: «Вопросы философии*, 1992, № 1, с. 134-164 (подготовка текста и
публикация Л. С. Мелиховой). В настоящем издании печатается по рукописи с рядом
уточнении после дополнительной сверки. Особенности авторской орфографии и
пунктуации сохранены, исправлены только очевидные описки. Сокращения, которыми
М.М.Б. пользуется не всегда регулярно, раскрыты в угловых скобках. Пометы внутри
текста — квадратные скобки и короткие пометы-комментарии на полях цитируемых
М.М.Б. текстов — также сохранены. Фрагменты, подчеркнутые в рукописи, переданы,
в традиции прижизненных изданий М.М".Б., разрядкой; в поэтическом тексте, чтобы
не разрушать стихотворную строку, вместо разрядки используется курсив. Пометы,
324
имеющиеся на полях рукописи, описаны в комментарии. В комментарии также
уточняются библиографические позиции и даются варианты транслитерации имен.
Автограф Доп. хранится в АБ. Фрагмент его воспроизведен на
Г»нтисписе и вкладке книги: «Беседы В. Д. Дувакина с М. Бахтиным». М., ПрогрессКультура, 1996 (в печати). Автограф составляют тринадцать двойных ненумерованных
листов рыхлой, нелинованной, сильно пожелтевшей бумаги со слегка обтрепанными
краями. Листы плотно исписаны с двух сторон (52 страницы) ровным, крупным,
разборчивым почерком, почти без исправлений, пером средней толщины. Ближе к
краям листов (поля почти отсутствуют) чернила несколько изменили свой цвет,
«побурели», кое-где выцвели, отчего прочтение ряда мест сегодня крайне затруднено.
Рукопись озаглавлена и датирована автором. Ниже заглавия, в правом углу листа,
начало работы над текстом помечено 18"ым июня 1944 г. (для рукописей М.М.Б.
характерна именно такая датировка, закрепляющая начало, а не завершение работы над
текстом). Внутри текста и на полях имеются пометы, сделанные рукою М.М.Б. Пометы
внутри текста внесены теми же чернилами, по ходу работы. Пометы на полях
325
сделаны позднее, в три слоя (фиолетовыми чернилами, простым и красным
карандашами), предположительно, при переработке «Рабле* в конце 1940-х и в начале
1960-х гг. (чернила и простой карандаш), а также при подготовке ППД в начале 1960-х
гг. (красный карандаш). Характер рукописи: четкий, разборчивый почерк; фрагментарность текста, при которой каждый фрагмент носит характер вставки в корпус первой
редакции «Рабле*, — указывает, с одной стороны, на подготовку текста к перепечатке
(или к диктовке машинистке: по воспоминаниям Н. П. Перфильева, мужа И. М.
Бахтиной (Перфильевой), М.М.Б. диктовал первую редакцию «Рабле* в 1940 г. у них
на квартире), а, с другой стороны, свидетельствует о том, что Дол. предшествовал
черновой этап работы, следы которого в АБ не найдены.
Сведения об истории текста скудны. Доп. написаны в июне 1944 г. в Савелове, к
первой редакции книги о Рабле. Книга М.М.Б. о Рабле известна в трех редакциях.
Первая, «Франсуа Рабле в истории реализма* (Р-1940), завершена в конце 1940 г., а 15
ноября 1946 г., с внесением минимальной правки и присовокуплением библиографии,
защищена в качестве диссертации на соискание ученой степени кандидата
филологических наук в ИМЛИ. Первая редакция известна в машинописном варианте
(рукопись «Рабле*, с которой делалась машинопись, описывается в четвертом томе
Собрания). Хранится в АБ и ОР ИМЛИ. Сравнение экземпляров Р-1940 из Ао и DP
ИМЛИ показывает, что различия между ними сводятся к объему правки, внесенной
позднее, от руки; машинопись обоих экземпляров идентична. В «домашнем»
экземпляре М.М.Б. правка внесена в несколько слоев, отдельные вставки записаны
карандашом на оборотах листов. «Список литературы, цитируемой или упоминаемой
(в ссылках и анализах) в диссертационной работе Бахтина "Рабле в истории реализма"»
(172 позиции на девяти страницах, подписан) составлен и приложен позднее, перед
зашитой, около 1946 г. (сохранен во второй редакции «Рабле*), поэтому при описании
Р-1940 не учитывается. Все ссылки на Р-1940 даются по экземпляру из АБ.
Р-1940: 664 страницы машинописи; на титульном листе: имя автора, заглавие
(«Франсуа Рабле в истории реализма*) и дата (1940 г.); оглавление отсутствует. Текст
первой редакции состоит из восьми глав, не имеет вступления и заключения: I. Рабле и
проблема фольклорного и готического реализма (с. 1-45; понятие готический реализм
заменено на 'гротескный реализм' около 1946 г., перед защитой, аккуратной правкой от
руки; во вторую редакцию первая глава вошла под тем же названием, в ТФР
переработана во Введение). 2. Рабле в истории смеха (с. 46-150). 3. Площадное слово в
романе Рабле (с. 151-230). 4. Народно-праздничные формы и образы в романе Рабле (с.
325
231-354; эпиграф из «Бориса Годунова»: «Внизу народ на площади кипел / И на меня
указывал со смехом...» — сохранен во второй редакции, а в ТФР заменен цитатой из
Гераклита). 5. Пиршественные образы у Рабле (с. 355-392). 6. Гротескный образ тела у
Рабле и его источники (с. 393-490). 7. Образы материально-телесного низа в романе
Рабле (с. 491-597). 8. Образ и слово в романе Рабле (с. 598-664). Р-1940 завершается
фрагментом о Рабле и Гоголе (с. 659-664; в структуре главы не выделен и не
озаглавлен). Фрагмент о Рабле и Гоголе был исключен из второй редакции и в ТФР
также не вошел, но, дополненный в 1970 г. (по сравнению с редакцией 1940 г.
расширен вдвое), опубликован как отдельная работа «Рабле и Гоголь (Искусство слова
и народная смеховая культура)» (см.: ВЛЭ, 484-495; подробнее об истории текста,
первой публикации и вариантах заглавия см.: прим. 3).
Вторая (Р-1949/50) и третья (ТФР) редакции «Рабле* создавались путем внесения
дополнений и изменений в текст Р-1940.
326
I> 1949/50 {«Творчество Рабле и проблема народной культуры -редневековья и
Ренессанса*) была подготовлена М.М.Б. в 1949-Г)0 гг. для представления в ВАК на
утверждение ученой степени док-гора филологических наук. Весной 1949 г. экспертная
комиссия ВАК рассмотрела диссертацию (Р-1940) и вернула ее автору на доработку
(отзыв экспертной комиссии, переписанный рукою М.М.Б., хранится в его архиве).
Через год, весной 1950 г., переработанный текст * Рабле* (Р-1949/50) был вновь подан
в ВАК (черновик письма М.М.Б. в ВАК с сообщением об отправке рукописи датирован
15 апреля 1950 г. — АБ). Однако и на основании новой редакции <Рабле* степень
доктора филологии М.М.Б. присуждена не была. Через шесть лет после зашиты
диссертации М.М.Б. получил диплом кандидата филологических наук (МФЛ № 01287
от 2 июня 1952 г. - АБ).
Р-1949/50 существует в машинописном варианте, хранится в АБ. Вторая редакция
переработана и, по сравнению с первой, расширена (74/ страниц против 664),
библиография 1946 г. сохранена. Фрагменты дополнений и изменений (специально для
этой редакции написанное Введение — 29 страниц; переработанная первая глава и отдельные вставки в последующие главы рукописи — всего около 50 страниц)
перепечатаны заново; в остальном же текст составлен из экземпляра машинописи Р1940, старые номера страниц аккуратно стерты, а новая нумерация внесена от руки.
Исправления в структуре и содержании основного текста незначительны и более всего
затронули первую и восьмую главы. Однако, если изменения, внесенные в первую
главу, были сделаны в основном по воле автора, а потому сохранились по большей
части и в ТФР, то переработка восьмой главы носила вынужденный характер. М.М.Б.
изменил название восьмой главы («Образы Рабле и современная ему
действительность» вместо первоначального «Образ и слово в романе Рабле»; в ТФР сохранен вариант 1949-50 гг., хотя при подготовке ТФР в экземпляре, хранящемся в АБ,
рукою автора главе возвращено прежнее название) , ввел эпиграф из К. Маркса и Ф.
Энгельса, а также, под давле* нием рецензентов, исключил фрагмент о Рабле и Гоголе.
Дополнения и изменения 1949-50 гг. сам М.М.Б. оценивал в письме к В. В. Кожинову
от 7 июля 1962 г. следующим образом: «Я дополнял ее <рукопись «Рабле* — комм.>
(около 1950 г.) по «указаниям» экспертной комиссии ВАКа и внес в нее много
отвратительной вульгарщины в духе того времени» (цит. по: «Литературная учеба*,
1992, № 5-6, с. 150; публикация В. В. Кожинова, подготовка текста В. В. Федорова).
Третья редакция «Рабле*, ТФР, издана в 1965 г. Большая часть поправок 1949-50 гг.
при подготовке ТФР была снята. Радикальной переработке подверглось Введение,
написанное с использованием материалов первой главы Р-1940, и глава «Рабле в
истории смеха» (в Р-1940 вторая, а в ТФР, соответственно, первая); обновилась терми-
326
нология, пополнился круг научных источников. Фрагмент о Рабле и i оголе, который
М.М.Б. предполагал восстановить и существенно расширить, пришлось исключить и
из третьей редакции «Рабле*. «С оаботой я сильно запаздываю, — писал М.М.Б. 10 мая
1964 г. Л. Е. Пинскому. — Начал было коренную переработку, написал заново
введение и почти всю первую главу. Но в дальнейшем приходится ограничиваться
только самым необходимым минимумом обновления» (цит. по: ДКХ, 1994, № 2 (7), с.
61; публикация и подготовка текста из архива Л. Е. Пинского Н. А. Панькова).
Впервые же М.М.Б. взялся за обновление рукописи «Рабле* в июне 1944 г., работая
над Доп. Тогда, летом 1944 г., после почти четырех лет безуспешных попыток
напечатать «Рабле* появилась надежда на издание книги московским Гослитиздатом.
327
В конце 1940 г., сразу но завершении работы над рукописью, М.М.Б. передал один
экземпляр ее А. К. Дживелегову, в Москву, а другой, через И. И. Панаева, — А. А.
Смирнову, в Ленинград. Переписка М.М.Б. с А. А. Смирновым (письма и открытки А.
А. Смирнова и черновики некоторых писем М.М.Б.) хранится в АБ. Из нее следует, что
в 1941 г. М.М.Б. получил предложение напечатать только часть работы — вторую
главу с коротким, на семь-восемь страниц, введением по материалам первой главы — в
«Западном сборнике».
12 декабря 1940 г. А. А. Смирнов отвечает М.М.Б., беспокоящемуся о судьбе
отправленной в Ленинград рукописи «Рабле*: «Жду с нетерпением Вашей рукописи,
которую прочту с наслаждением <...>. Я уже рассказал В. М. Жирмунскому о Вашем
Рабле и заинтересовал его и некот<орых> других моих товарищей. Очень приятно
знать также о сочувственном интересе к Вашей работе А. К. Дживелегова». В конце
января рукопись была, наконец, получена, и 30 января 1941 г. А. А. Смирнов сообщает
об этом М.М.Б.: «...ваш «Рабле» прибыл ко мне на квартиру. Однако, я не перевез его
сюда <в Дом творчества под Ленинградом — комм.> по причине тяжести рукописи, не
поместившейся в мой портфель...». Через два месяца, 22 марта 1941 г., частично
ознакомившись с текстом «Рабле» и высоко оценив прочитанную часть, А. А. Смирнов
впервые заговаривает о перспективах издания книги и советует м.М.Б. подумать о
защите диссертации: «Теперь встает вопрос: что делать практически с Вашей работой?
Не думали ли Вы поставить вопрос о ее представлении на ученую степень?». О
возможностях публикации «Рабле» целиком или в извлечесожалеет, что второй выпуск «Западного сборника» уже сдан в производство, «не то,
— пишет он, —непременно предложил бы включить в него одну из Ваших глав или
какое извлечение из Вашей работы». Следующее письмо от 28 мал 1941 г. опять не
вносит ясности, но уже
«Западного сборника» говорится более внятно: «Перспективы с Вашей работой
таковы. У нас готовится следующий № «Западного сборника», и я мечтаю о том, чтобы
напечатать в нем Вашу гл. II с предпосланным ей очень кратким резюме (страниц на 78) Вашей гл. 1. Полностью гл. I неудобно давать ввиду ее сугубой полемичности, а
также того, что она превосходна как введение к Вашему обширному труду в целом , но
слишком велика как введение к одной гл. 1Г. Я уже говорил об этом В. М.
Жирмунскому, от которого это зависит, ибо он возглавляет наш западный отдел. Надо
только добиться, чтобы он прочел хоть эти 2 главы, что довольно трудно сделать, ибо
он сверхъестественно занят». В том же письме А. А. Смирнов сообщает о своем
намерении в ближайшее время встретиться с Д. Д. Обломиевским, редактором
западноевропейского отдела ленинградского Литиздата, и переговорить с ним об
издании «Рабле* книгой. В случае благоприятного исхода дела А. А. Смирнов советует
М.М.Б. пойти на ряд уступок: сократить объем текста до двадцати листов, то есть
327
почти вдвое, и изъять «многие физиологические и соответствующие лексические
детали».
Война и эвакуация отложили осуществление всех этих планов на неопределенное
время. 29 июня 1941 г. А. А. Смирнов еще пытается обнадежить М.М.Б.: «Я принял все
меры к тому, чтобы вопрос о налечатании Вашей работы и в сборнике и книгой
протекал наиболее благоприятно. Конечно, сейчас все это затормозится, и надо
запастись терпением» — но дальше их переписка обрывается и возобновляется
* В начале 1960-х гг., готовя ТФР к печати, м.м.Б. переработал первую главу но
Введение к книге.
ниях пока ничего определенного
5 июня 1941 г. о публикации
новом выпуске
328
только через год, летом 1942 г. Уезжая из Ленинграда в Ярославль, А. А. Смирнов
сдал рукопись «Рабле* на хранение в архив ИРЛИ. 12 августа 1942 г. он пишет об этом
М.М.Б.: «Конечно, я не мог вывезти из 71<енин>града не только своих книг, но даже и
рукописей. Ваш «Раблэ» сдан мною на хранение в архив Института Литературы
Ак<адемии> Наук*. Впоследствии, вплоть до середины декабря 1944 г., тема «Рабле* в
их переписке не затрагивается. Сданный в архив экземпляр рукописи М.М.Б. смог
получить обратно только перед защитой, в 1946 г., при деятельном участии И. И.
Канаева.
«Московский» экземпляр «Рабле* во время войны находился у А. К. Дживелегова.
12 сентября 1943 г. Л. И. Тимофеев, отвечая на вопрос М.М.Б. о судьбе рукописи,
сообщает: «Дживелегов в Москве и никуда не уезжал, так что В<аша> рукопись, надо
полагать, в сохранности». В том же письме обсуждается и издательская ситуация в
Москве: «Издательских возможностей мало <...>, издают книги не более 10 печ. листов
обычно, но все же кое-какие возможности находятся, если тема книги в достаточной
мере "актуальна"» — и возможность переезда М.М.Б. в Москву. Одним из главных
условий для переезда и получения постоянной работы в Москве ЛИ. Тткифеев считает
защиту диссертации: «... если мыслить В<аш> переезд сюда, как получение штатной
работы, то — боюсь Вас сразу обнадежить: уж очень это сейчас трудно. Штаты
урезаны, все забито. Если же Вас устроит договор, то думаю, что можно с гарантией
сказать, что он быстро будет с Вами заключен, поскольку это может быть сделано и по
отделу советской литературы, которым я заведую. Вообще-то говоря, мне совершенно
очевидно, что включение Вас в штаты института было бы для института
исключительно выгодной операцией, но дойдет ли эта моя мысль до нашего директора,
— я еще не знаю. Вопрос о В<ашем> переезде ведь в значительной мере является
вопросом снабжения. Я, к сожалению, ие помню — оформлены ли у Вас звание и
степень, что дает право на так наз<ываемый> «литер Б». Если их нет, — Вам надо
ускорить защиту» (АБ).
М.М.Б., однако, по-прежнему связывает надежду «выбраться из Савелова» с
изданием «Рабле* и разговора о защите не поддерживает. В 1944 г., стараниями Б. В.
Томашевского при посредничестве М. В. Юдиной, переговоры с московским
Литиздатом поначалу приносят успех. В конце декабря 1944 г. Б. В. Томашевский и А.
А. Смирнов пишут внутренние рецензии на рукопись М.М.Б. (их тексты публикуются
в четвертом томе Собрания). Дело осложняется тем, что оба рецензента пользуются
одним, специально присланным М.М.Б., экземпляром Р-1940, передавая его по частям
из Москвы в Ярославль с оказией, так что 27 декабря М.М.Б. телеграммой, а несколько
328
позже письмом торопит А. А. Смирнова с отправкой рецензии и рукописи «Рабле* в
издательство: «Дело очень затянулось, и я боюсь, — пишет М.М.Б., — что
благопр<иятный> для книги климат мог измениться. Для меня это дело имеет
первостепенное значение, от него зависит возможность выбраться <1 нрзб.> из
Савелова, где дальнейшая <1 нрзб> работа становится невозможной» (черновик б/д,
предположительно конец декабря, после 27 числа, 1944 г. — АБ).
В 4>еврале 1945 г. в публикации «Рабле* было отказано. Обстоятельства отказа
М.М.Б. спустя несколько месяцев излагает следующим образом: «...из бесед с Вл. Фед.
Шишмаревым и Дм. Дм. Ооло-миевским я убедился, что опубликовать моего Рабле в
Москве в бди-жайшее время не удастся из-за принятой уже книги Евниной »
* При публикации фрагментов писем орфография не унифицируется: оба варианта,
«Рабле» и «Рабл»», последовательно сохранены. ** Бенина Е. М. Франсуа Рабле. М.,
Гослитиздат, 1948.
329
(черновик письма к А. А. Смирнову от 24 июня 1945 г ). После неудачи в Москве
М.М.Б., по совету Д. Д. Обломиевского, справляется о возможности издания «Рабле* в
Ленинграде, но, не добившись ничего определенного, к началу лета 1945 г. принимает
решение представить рукопись на соискание ученой степени доктора филологических
наук в ИМЛИ: «Я решил не без колебаний (по совету некоторых влиятельных
работников Института им. Горького), — сообщает М.М.Б. 24 июня 1945 г. А. А.
Смирнову, — представить книгу в Институт в качестве докторской диссертации». В
силу неразработанности процедуры присуждения докторской степени, минуя
кандидатскую, друзья советуют М.М.Б. ограничиться последней. 22 июля 1945 г. И. И.
Канаев пишет М.М.Б.: «А. А. <Смирнов — комм.> говорил с Шишм<аревым>, и тот
высказал сомнение в том, что Вам ВКВШ разрешит защиту сразу докторской. Не знаю,
кто этот вопрос будет продвигать, но если нет надежного человека, то М.Б. лучше
оставить этого гордого журавля и взяться за синицу — кандидатскую, а то уже
слишком много времени утекло и еще утечет из-за неотчетливой постановки вопроса»
(АБ). Таким образом, летом 1945 г. началась история защиты «Рабле* в качестве
диссертации, растянувшаяся на семь лет и закончившаяся в 1952 г. выдачей М.М.Б.
кандидатского диплома.
Пока же, в июне 1944 г., готовя рукопись «Рабле* к печати, М.М.Б. берется за ее
переработку. Он пишет фрагменты-вставки, а в некоторых случаях только обозначает
темы, которыми намеревается дополнить книгу, но, против обыкновения, пользуется
не отдельными листами, как и в 1960-е гг. при переработке ТФР, а записывает их
подряд, одним текстом, регулярно отмечая главу (иногда страницу) Р-1940, к которой
относится фрагмент. Доп., тем самым, целиком «вписаны» в структуру первой
редакции «Рабле*. И все же границы между темами и фрагментами проницаемы и
условны. За ними угадывается общий план переработки книги, включающий, как
следует уже из заглавия, не только дополнения, но и изменения к «Рабле*.
В середине 1944 г. М.М.Б., таким образом, собирался подготовить новую редакцию
книги. Реконструкция ее сколь гипотетична, столь и необходима при анализе Доп.
Новая редакция, которая так никогда и не оформилась в один целый текст, не только
дополняла первую редакцию «Рабле* новым историко-литературным материалом, но и
затрагивала общую концепцию книги. Изменения 1944 г. представляются сегодня
существеннее и радикальнее тех, что были внесены впоследствии в Р 1949/50 и ТФР.
Фрагменты Доп. относятся ко второй, четвертой, седьмой, первой главам и к
заключительному разделу о гоголевском смехе. Значительное временное и
географическое расширение контекста (история мениппеи, Данте и итальянское
Возрождение, Шекспир, Гейне, Гоголь, Достоевский) не означало ни размывания темы,
329
ни смешения акцента в сторону сравнительно-исторического изучения. В рабочей
тетради 1938 г. М.М.Б. отметил эту особенность своего метода: «Мы слишком много
протягиваем нитей от Раблэ во все стороны, слишком далеко уходим от него в глубину
прошлого и будущего (будущего относительно Раблэ), позволяем себе слишком
далекие и внешние сопоставления, сравнения, аналогии, слишком ослабляем узду
научного метода. Можно усмотреть в этом неуместное увлечение раблэзиан-ским
духом, необузданностью его сопоставлений, аналогий (часто по внешнему звуковому
сходству слов), его coq-ä-l'äne. Это, однако, не ситуация Раблэ (в некоторой степени
допустимая в книге о нем). Определение нашего метода. Мы собираем все
прослеженные вперед и назад опыты в один раблэзианский узел» (АБ). Через призму
Рабле М.М.Б. намеревался исследовать значение прозвища, профаиного,
330
межи языков в происхождении, истории и теории романа (ср.: «К философским
основам гуманитарных наук», с. 10).
За внешним расширением историко-литературного контекста обнаруживается
целенаправленное углубление философского плана книги. Доп. отмечают новый
поворот в работах М.М.Б., угадывающийся в ряде фрагментов первой половины 1940-х
гг. («К философским основам гуманитарных наук», «<Риторика, в меру своей
лживости...>», «<К вопросам самосознания и самооценки...>»): после интенсивного
расширения (в конце 1920-х и в 1930-е гг.) круга исследуемых про-олем начинается
возвращение к «своим» темам и их углубленная проработка. Помимо влияния внешних
обстоятельств здесь заметно стремление найти общие планы, эксплицировать общую
мировоззренческую и методологическую основу своей философии, восходящую к
работам 1920-х гг.: ФП, АГ, «Искусству и ответственности». В Доп. сходятся
контексты АГ, ФП. Ф, МФЯ. ПТД, с ясностью и свободой говорится об абсолютной
доброте и любви, о надъюридической природе преступления всякой власти, о
неизмеримости страдания и преступности всякой самоутверждающейся активности.
Главным же, пожалуй, является то, что Доп. вводят в корпус книги о смеховой
культуре проблему серьезности. Проблема серьезности
— 'трагического космоса , 'любви' и 'страдания', 'слезной культуры1
— осталась в основном за пределами P-W40, а затем и ТФР. Отсюда происходит
распространенное и очевидно ошибочное представление об абсолютизации м.М.Б.
смеха как универсального возрождающего начала: релятивизующал сила смеха
кажется ничем не уравновешенной, абсолютной, разрушающей архитектоническое
целое бытия. Тем самым философия «Рабле» неизбежно оказывается непроясненной, а
противоречие серьезного и смехового, овнешняющее противоречие духа и тела,
времени и вечности и относящееся, по выражению М.М.Б., к глубинной трагедии
самой индивидуальной жизни, принимается за противоречие в мировоззрении автора
«Достоевского* и «Рабле*.
М.М.Б. исследует проблему серьезности в серии работ первой половины 1940-х гг.:
во фрагменте «Проблема серьезности», опубликованном в настоящем томе в составе
текста «К философским основам гуманитарных наук»; в работах «<Риторика, в меру
своей лживости...^ и «<К вопросам самосознания и самооценки...>». Доп. завершают
этот ряд текстов и, в известном смысле, подводят итог изучению проблемы
серьезности, как она виделась М.М.Б. в 1940-х гг.
Линия серьезной культуры от трагедий Софокла («Царь Эдип») к трагедиям
Шекспира («Гамлет», «Макбет») и от них к романам Достоевского («Братья
Карамазовы») отмечает три узловых этапа становления личности в европейской
культуре. Путь от общего ощущения жизни к осознанию своего 'я' лежит, с одной
стороны, через размежевание вещного субъекта и вещного объекта, т. е. через
330
познание, а с другой стороны, через противопоставление 'я' 'другому', т. е. через
самосознание. Особая роль античной трагедии на этом пути состоит в том, что в ней
слагается новая окорма личности и самосознания, в которой для сознания единства
личности человеку требуется 'другой' см.: ЭСТ, 63-65; ср.: Cassirer Е. Philosophie der
symbolischen Formen. I. Teil: Das mythische Denken. Bruno Cassirer Verlag. Berlin, 1925,
S. 243-244); Шекспиру принадлежит открытие и оправдание индивидуальной жизни
внешнего человека во внешних же топографических координатах мира, Достоевскому
— открытие и оправдание внутреннего человека в интенсивных координатах
«предельной глубины внутреннего, <...> internum aeternum человека» (с. 98).
Выбор текстов для анализа: «Царь Эдип» — «Гамлет» — «Братья Карамазовы», —
позволяет М.М.Б. показать, как тгяшсформируется тема преступления (мотив
отцеубийства — «отцеубийственная роль
331
наследника») и связанная с ней тема суда (образ свидетеля и судии) от Софокла до
Шекспира и Достоевского. Ценностное смещение мировых образов (образа
отцеубийцы, действительного или потенциального: Эдип — Гамлет — Иван
Карамазов) и жанровых форм (трагедии и полифонического романа) характеризуется
изменением пространственно-временной картины мира, на этом основании в Доп.
включены экскурсы в историю форм времени и ценностного топоса.
Исследование проблемы серьезности, трагического космоса на глубинном уровне
подразумевает исследование 'идеи-образа смерти' и меняющихся представлений о
смерти, следствием которых является трансформация самосознания личности и
пространственно-временного видения мира. Смерть в трагедии Софокла, в образе
судьбы, становится космической силой и приобретает черты индивиду ал изующей
универсализации, в отличие от мифологического сознания, в котором время
ощущается как непрерывная цепь рождений и смертей. В трагедиях Шекспира смерть
переживается уже как катастрофа индивидуальности, как насильственная (или
произвольная) преждевременная смена, результат преступной по природе своей
самоутверждающейся активности. На одном полюсе трагического космоса Шекспира
— смерть как преждевременная смена и бытие с присущими ему мрачной
серьезностью, неприятием становления и нарастанием зсхатологизма; на другом —
сомнение в смерти и бытие как непрерывный круг становлений, становлений без конца
и, следовательно, без цели и смысла: в каждом явлении бытия усматривается момент
возникновения и исчезновения, но эти моменты по существу являются страданием, не
уравновешенным жертвой, поэтому и бытие, независимо от его содержания,
воспринимается как страдание, избавление от которого приходит в результате
освобождения от самой формы времени, как выход в нирвану. Тема сомнения в смерти
и реализующие ее метафоры «смерть-сон» и «сон-покой» вскрыты М.М.Б. в образе
Гамлета. Смерть как преждевременная смена принимает насильственную форму (в
пределе убийство) — Макбет или произвольную (в пределе самоубийство) — Лир. В
первом случае время оплотняется волей, самоутверждающейся активностью, в другом
— мыслью, отказом от преступной активности. Смерть перестает сознаваться как
катастрофа индивидуальности в полифоническом романе, в жанровом типе романа
Достоевского. В новых интенсивных координатах внутреннего человека время
оплотняется не волей и мыслью, но страданием и любовью; любовью принесенная
жертва своего я уравновешивает страдание («...человек беспрерывно должен
чувствовать страдание, которое уравновешивается райским наслаждением исполнения
закона, то есть жертвой. Тут-то и равновесие земное» — Достоевский, XX, 175), и
смерть сознается во времени как порог, граница, как добровольная ненасильственная
смена.
331
Тема трагического космоса от Софокла к Шекспиру и от Шекспира, «идеолога
последних четырех веков», к Достоевскому, проходящая через работы М.М.Б. разных
лет, так и осталась в свернутом, пунктиром обозначенном виде. О «Царе Эдипе» он
говорит в АГ (ЭСТ, 63-65), к Шекспиру возвращается в Зап. (ЭСТ, 345) и отчасти в
статье «К методологии гуманитарных наук» (ЭСТ, 367). В Доп., как и в других
фрагментах, чувствуется неокантианская подоплека, контекст сочинении Э. Кассирера
(Cassirer Е. Philosophie der symbolischen Formen. II. Teil: Das mythische Denken. Bruno
Cassirer Verlag. Berlin, 1925; Cassirer E. Individuum und Kosmos in der Philosophie der
Renaissance. B. G. Teubner. Leipzig-Berlin, 1927) подразумевается. При известной
близости материала нельзя не отметить важного методологического различия в
позициях М.М.Б. и Э. Кассирера. В рецензии на «Философию символических форм»
СЛ. Франк писал: «... на труде Кассирера неизбежно должно было отразиться то
простое и
332
роковое положение, что — как слепой не может познавать живопись и глухой или
немузыкальный человек — музыки, — человек, лишенный непосредственного органа
восприятия' религиозной жизни (или утративший его), фактически не в состоянии
уловить самого существа дела в этой области» (Франк С. Новокантианская философия
мифологии. — «Путь*, Париж, 1926, № 4 (июнь-июль), с. 149. Цит. по: Путь. Орган
русской религиозной мысли. Книга I (I-VI). М., Ин-форм-Прогресс, 1992, с. 533). О
работах М.М.Б. мы этого сказать не можем.
Обсуждение в книге о смеховой культуре проблемы серьезности, если бы оно
состоялось, по своим последствиям было бы сопоставимо с введением в книгу о
Достоевском, при подготовке ППД, проблемы смехового. Опыт переработки «Рабле*
1944 г., как и опыт переработки «Достоевского*, в равной мере не являлся ни
попыткой механического соединения серьезной и смеховой культуры, ни попыткой их
заведомо невозможного «здесь», вне последнего целого, примирения. Введение в
корпус «Рабле* проблемы серьезности вносило известное противоречие в
«концепцию» книги, но оно восстанавливало двутон-ность мира и человека,
игнорирование которой могло обернуться более серьезными мировоззренческими
просчетами.
Однотонная серьезность противопоставляется в Доп. однотонному смеху. В
контексте «Рабле* это противоречие только усиливается. Однако противопоставление
мрачной серьезности и вечности смеху и времени — только один аспект проблемы и,
очевидно, не главный. Здесь и в записях конца 1930-х гг. М.М.Б. рассматривает смех
как необходимый этап на пути к новой, «не мрачной» серьезности: «Мрачный характер
провиденциализма и предопределенности. Веселый характер времени и исторического
процесса. Это — необходимый этап на пути к новой исторической серьезности
(однако, не мрачной)»
За однотонностью серьезного и смехового во всякой официальной идеологии
скрывается непреодоленный разрыв между 'идеей-образом смерти' и 'идеей-образом
возрождения', между страданием и жертвой. Мысль, выраженная в «Проблеме
серьезности» в предельно концентрированной форме: «Последнее целое нельзя
представить себе серьезным...» (с. 10), — очеловечена в Доп. неофициальной
серьезностью страдания героев Достоевского, а в ТФР — «духовной веселостью»
францисканских спиритуалов.
При подготовке ТФР текст Доп. оказался почти не использованным. Только
некоторые фрагменты текста 1944 г. вошли затем в книгу (например, фрагмент об
Иване Грозном и Петре I — ТФР, 294-295). однако отзвуки исследованного и
обдуманного в Доп. угадываются в работах М.М.Б. 1960-70-х гг., особенно в ППД.
332
Прообраз важнейшего основания новой редакции четвертой главы «Достоевского» («...
ничего окончательного в мире еще не произошло...» — ППД, 223) рождается здесь, в
контексте Доп.: «Пока мир не завершен, смысл каждого слова в нем может быть
преображен (следовательно, и каждой законченной человеческой жизни). Б целом еще
продолжающегося, еще не сказавшего « поего последнего слова мира не завершена ни
одна жизнь» (с. 117).
Стр. 80: фрагмент со слов «К истории смеха...» до конца абзаца отчеркнут простым
карандашом с пометой «К заключению».
Стр. 81: фрагмент со слов «Официализация образа...» до конца абзаца отчеркнут
простым карандашом с пометой «II».
Стр. 82: фрагмент со слов «Фауст народного романа...» до слов ... и космизм его —
карнавально-масленичный» отчеркнут простым
333
карандашом; со слов «Реализованная брань лежит и в основе романа Рабле...» до
слов «... карнавальной подосновы мировой литературы» отчеркнут чернилами с
пометой «К заключению».
Стр. 83: фрагмент со слов «Сделать образ серьезным...» до конца абзаца отчеркнут
чернилами с пометой «VII».
Стр. 83-84: фрагмент со слов «Связанное с осерьезнением отделение смерти от
жизни...» до слов «...преодолевалась двутелость» отчеркнут чернилами с пометой
«VII».
Стр. 84-85: фрагмент со слов «Почему придаем мы такое значение^...» до конца
следующего абзаца отчеркнут чернилами с пометой
Стр. 98-99: фрагмент со слов «Единственное направление жеста. ..» до конца
следующего абзаца отчеркнут красным карандашом.
Стр. 99: фрагмент со слов «Комната Раскольникова...» до конца абзаца отчеркнут
красным карандашом.
Стр. 103: фрагмент со слов «Можно сказать грубо и упрощенно...» до конца абзаца
отчеркнут красным карандашом.
Стр. 103-104: фрагмент со слов «Наша, европейская, теория литературы...» до конца
абзаца отчеркнут красным карандашом.
Стр. 104: фрагмент со слов «Еретическая культура...» до конца абзаца отчеркнут
чернилами с пометой «IV»; со слов «Данте о вульгарном языке...» до конца абзаца —
чернилами с пометой «VIII».
Стр. 105: фрагмент со слов «Вокруг каждого великого писателя...» до конца абзаца
отчеркнут чернилами с пометой «IV».
Стр. 108: фрагмент со слов «Площадь св. Марка...» до конца абзаца отчеркнут
чернилами с пометой «IV»; со слов «Комические хвалы Берни...» до конца абзаца
отчеркнут чернилами с пометой «заключен<ие>*.
Стр. 109: фрагмент со слов «Слияние хвалы и брани...» до конца абзаца отчеркнут
чернилами с пометой «VII».
Стр. 110-112: фрагменты со слов «К теории романа» до конца абзаца и со слов
«Художественное значение...» до конца абзаца отчеркнуты красным карандашом.
Стр. 112: фрагмент со слов «К значению народно-праздничных форм...» до конца
абзаца отчеркнут красным карандашом и чернилами с пометой «IV».
Стр. 117-118: фрагмент со слов «Праздничное нарушение иерархии...» до конца
следующего абзаца отчеркнут красным карандашом.
1. Название второй главы Р-1940.
333
2. Постановка проблемы 'смех и время' в Доп. совпадает с тем, как она решена во
фрагменте текста 1937-38 гг., известном под названием «Формы времени и хронотопа в
романе. Очерки по исторической поэтике» (см.: гл. VII-IX — ВЛЭ, 516-391). По всей
видимости, М.М.Б. намеревался использовать в новой редакции «Рабле» материалы
тогда не опубликованной работы. Философские основы про
334
блемы лучше всего с4юрмулированы в подготовительных записях к «Рабле* конца
1930-х гг.: «Открытие материи в смехе и с помощью смеха. И становление смешно.
Смешно рождение, рост, смерть, все неготовое, не застывшее, не завершенное. Смешно
все в аспекте времени. Время, изменение делает смешным мир* (АБ).
3. Фрагмент о Рабле и Гоголе завершает Р 1940 (Р 1940, 659-664). Однако в корпусе
первой редакции «Рабле* не имеет заглавия и не образует специального раздела. Из
второй редакции исключен по настоянию рецензентов; при подготовке ТФР несколько
дополнен и изменен, однако в книгу так и не вошел. Около 1970 г. расширен
приблизительно вдвое (набросок второй части текста «<Гоголь и нео-литературенная
речевая жизнь народа>» публикуется в четвертом томе Собрания) и напечатан под
названием «Искусство слова и народная смеховая культура (Рабле и Гоголь)*. —
Контекст-1972. М., Наука, 1973, с. 248-259, а затем под заголовком «Рабле и Гоголь
(Искусство слова и народная смеховая культура)». — ВЛЭ, 484-495, с двойной
датировкой: 1940, 1970. В заключительной части Доп. и в публикуемых набросках «<К
вопросам об исторической традиции и о народных источниках гоголевского смеха>»,
«<Многоязычие, как предпосылка развития романного слова>» контекст исследования
гоголевского смеха и его народно-праздничных источников существенно расширен:
известно, что в 1940-50 гг. М.М.Б. собирал материалы для книги о Гоголе, оставшейся
ненаписанной.
4. Значение менипповой сатиры в истории романа рассматривается М.М.Б. в
четвертой главе ППД. Однако первые наброски к теме, сохранившиеся в АБ, относятся
к началу 1940-х гг. (видимо, по завершении «Рабле*), см.: «К истории типа (жанровой
разновидности) романа Достоевского». В «Списке научных работ М. М. Бахтина»,
составленном им самим в первой половине 1940-х гг. (но после 1941 г.), в разделе «В
рукописи» под № 9 (непосредственно после «Рабле*) названа статья «Мениппова
сатира и ее значение в истории романа (4 печ. листа)», датированная 1941 г. (в
черновике «Списка» указан 1940 г.) САБ).
В Доп. М.М.Б. трижды возвращается к проблеме менипповой сатиры: сначала он
обозначает тему в самом общем виде («... значение менипповой сатиры в истории
романа» — с. 80), затем «сужает» ее до романов Достоевского («Две линии развития
менипповой сатиры; одна из них — однотонно-оксюморная — завершается
Достоевским» — с. 81) и вновь рассматривает общие свойства мениппеи, но уже в
топографическом аспекте. При всей близости формулировок концепция менипповой
сатиры в работах М.М.Б. 1940-х гг. имеет некоторые особенности в сравнении со
сложившейся в 1960-е гг. В Доп. подчеркнута однотонность романов Рабле и
Достоевского: романы Достоевского завершают «однотонно-оксюморную» линию
мениппеи, а роман Рабле — однотонную смеховую линию. При этом М.М.Б. различает
официальную и неофициальную серьезность, серьезность власти и серьезность
жертвы, «отделенной от жертвенника». Романы Достоевского отнесены к сфере
неофициальной серьезности, серьезности страдания. Однако неофициальное' в
концепции Доп. не обязательно предполагает 'смеховое , карнавальный момент
неофициальной серьезности не отмечен, так что высказывание 'и Евангелие карнавал',
зафиксированное В. Н. Турбиным в 1960-е гг. (см.: Тирбин В. Н. Незадолго до
Водолея. Сборник статей. М., Радикс, 1994, с. 464), трудно приписать М.М.Б. времен
334
создания Доп. даже на правах апокрифа. В 1960-е гг., напротив, акцент смещается в
сторону единства серьезно-смехового, сосредоточенного в понятии 'серьезно-смеховых
жанров' (oTcoajooyeXoiov). 'Серьезно-смеховое', как и 'мениппея', и
335
'карнавал1, имеет мировоззренческий смысл и употребляется расширительно,
расшюстраняясь на жанровые формы, далеко отстоящие во времени от той, чье имя
они носят (несколько ниже комментируемого фрагмента М.М.Б. говорит об условности
и случайности терминов 'мениппова сатира' и 'роман', несущих иа себе «случайную
печать одного из втогххггепенньгх моментов своей истории» — с. 82). В 1960-е гг.
М.м.Б. вводит также понятие 'карнавализацил' и говорит о карнавализации мениппеи,
обозначая процесс проникновения смеха в философское ядро жанра и снимая тем
самым проблему однотонности. В ППд по сравнению с Доп. очевиден, таким образом,
иной ракурс проблемы: в Дол. романы Достоевского и Рабле разведены на уровне
обертонов, в ППд же исследуется основной тон, филогофское ядро романа, — и
разделяющая их граница однотонности серьезного и смехового преодолевается.
5. Стилистика алогической прозы рассматривается в Р-1940 не только на материале
Рабле, но и над материале Гоголя. В ее основе лежат нарочитые нелепицы (coq-a-1'äne),
необузданность сопоставлений, игра слов, сочетание «иронического рекламирования и
похвал».
6. «ooßeow; уОс*;» (II. I, 599; Od. VIII, 327). См.: ТФР, 79; в Р-1940 не упоминается.
7 Смерть никогда не была чисто биологическим моментом, поэтому она всегда
оформлена. «Оформление смерти как социального события» (Записи к «Рабле», конец
1930-х гг. — АБ). Как и в АГ, М.М.Б. говорит здесь о смерти внешнего человека (тела)
в его пространственной определенности и о смерти внутреннего человека (души) в
координатах времени. Как и в АГ, он различает момент переживания смерти изнутри
('моя смерть') и извне ('смерть другого') (ЭСТ, 90-99). Аспект внешней жизни и смерти
рассмотрен в Доп. на материале трагедий Шекспира, аспект внутренней жизни и
смерти — на материале романов Достоевского. По сравнению с АГ в Доп. усилен момент разграничения индивидуального и надындивидуального плана идеи-образа
смерти. Конституирование понятия 'индивидуальность' в эпоху Ренессанса
сопровождается сменой вертикальной ценностной модели мира горизонтальной. В
горизонтальной, «экстенсивной», модели мира с присущим ей оправданием
индивидуальности смерть оформляется и осознается как катастрофа. Страх человека
перед неизбежностью катастрофы сублимируется в образе вечности и тем самым
оборачивается отказом от идеи возрождения (реализованная однотонная форма
пожелания смерти без надежды на возрождение: мир вечный праху твоему). В
надындивидуальном плане смерть временна и совершается во времени, она
продуктивна как момент становления, как пролог возрождения к жизни новой и
лучшей. Идея смерти в индивидуальном плане очеловечена серьезностью страдания,
доступного только в личной, частной форме. Таков, по М.М.Б., путь одинокой души,
проходящей кризисные, чистилищные точки и возрождающейся к новой жизни, в
романах Достоевского.
8. Образ гроба ниже развернут в аспекте внутренней жизни и смерти героя
«Преступления и наказания»: петербургская комната Раскольникова («коробкаворовка») — гроб, в котором герой проходит фазу смерти (см.: развитие этого мотива
— ППД, 229).
9. Можно было бы сказать, что 'осерьезнение' — оборотная сторона карнавализации
слова, образа, жанра. Однако понятие
335
карнавализация' появляется позднее. Вообще смеховая культура получает свое
терминологическое оформление в контексте исследования серьезной культуры в
работах первой половины 1940-х гг.
336
(«<Риторика, в меру своей л живости... >», Доп.) и в 1960-е гг., при переработке
ППД, но в корпус книги о Рабле понятия 'смеховая культура' и 'карнавализадия'
последовательно вводятся в начале 1960-х гг., при подготовке ТФР.
10. Жанровые и нарративные формы самопрославления в культуре Египта и Греции
с точки зрения открытия и утверждения индивидуальности исследуются в книге Г.
Миша «История автобиографии» (Misch G. Geschiente der Autobiographie. Bd. 1: Das
Altertum. Druck und Verlag von B. G. Teubner, Leipzig-Berlin, 1907). Связанные с
самопрославлением (Selbstverherrlichung) моменты монументализации и героизации,
памяти и забвения, собственного имени, культа мертвых и форм посмертного
увенчания обозначены в Доп. с использованием материалов книги Г. Миша, конспект
которой сохранился в АБ. Конспект (четыре пронумерованные ученические тетради по
12 листов, на обложке первой чернилами помечено: «Автобиографии и биографии», а
чуть ниже, карандашом: «Миш») составлен, предположительно, около 1940-41 гг.
(окончание конспекта записано в той же тетради, что и публикуемые в настоящем томе
фрагменты 1943 г. «<Риторика, в меру своей лживости...>» и «Человек у зеркала»).
Большая его часть выполнена по-немецки, и только незначительная часть записей
сделана по-русски. Первая представляет собой выписки из текста оригинала, вторая —
реферативное изложение фрагментов источника и собственные размышления М.М.Б.
Ниже приводится часть заметок М.М.Б., проясняющих смысл комментируемого места
Доп.:
<\> «Определить путем анализа этих материалов египетских биографических
надписей в могильных зданиях — комм>, каков образ человека в них и чем
определяются границы этого образа. Роль памяти и выделение всего значительного
(«первый», «самый») и монументального».
<2> «Роль и характер превосходной степени в этих надписях. На этом материале
поставить во всей ее глубине проблему хвалы- прославления и брани. Индивиду ал и
зующая сила превосходства. Оно выделяет из однородного множества и дает право на
увековечение памятью. <...> Иногда эти биографии составлялись еще при жизни самим
умершим, но чаще потомками: их содержание и стиль были определены твердым
обычаем».
<3> «Это — явления древнего восточного придвор ного стиля. Этот стиль известен
всем из Ветхого Завета, где Иегова часто говорит, как ассирийский властитель. <...>
Властитель в этом стиле абсолютно превышает всех других людей: он или прямо
является богом (как в Египте), или происходит от богов и наделен их властью, или,
наконец, осуществляет на земле высшую миссию».
<4.> «Враг (притом поверженный) необходимый ингредиент этого самосознания;
таким же ингредиентом является и покоренное пространство (перечисление стран) и
племена. Путь от этих надписей к оде и к поэтическим «памятникам»: самовозвеличение, враги, побежденное пространство и племена, помещение себя, как
говорящего, в точке после смерти, т.е. в будущем».
<5.> «Границы человека и космоса становятся текучими. Происходит их новое
взаиморазграничение и, следовательно, создание нового образа человека (в новом
мире). Тираны VII и VI в., как первые политические индивидуальности. Их освещение
в народном предании и морализирующих анекдотах (в кате
336
336
гориях «мудгюсти» и «судьбы»). <...> Эпическое и романное ( на(>одноамбивалентное) понимание этих категорий».
Ii В первой редакции «Рабле* М.М.Б. обозначил мотив страха черед сыном,
«неизбежным вором и убийцей», и, в пределе, мотив убийства сына как оборотную
сторону отцеубийства (Р-1940, 311-312) Заключительная часть этого фрагмента, где,
собственно, и была раскрыта амбивалентность мотивов убийства отца и убийства сына,
в г 1949/50 и ТФР не вошла. Приводим ее здесь, по тексту Р-1940:
«Но этот же мотив <мотив страха перед сыном — комм.> играет существенную роль
и в «Скупом рыцаре» Пушкина. Скупой барон не лжет, обвинял сына в том, что он
хочет его убить и обокрасть, у него, правда, нет доказательств э м п и р и ч е -с к о г о
порядка, но он знает, что сын по самой своей природе есть тот, кто будет жить после
него и будет владеть его добром, т е. убийца и вор. Скупой барон, как Аронос, хочет
быть вечным, не иметь смены, не иметь наследников («О, если б из могилы притти я
мог, сторожевою тенью сидеть на сундуке и от живых сокровища мои хранить, как
ныне»). Поэтому и молодому Альберу не случайно подсказывают мысль об
отцеубийстве» lt>; 1940,312).
12. Цензура1, в значении 'вытесняющего механизма на границе бессознательного и
подсознательного', восходит к 3. Фрейду (ФрейгУЗ. Введение в психоанализ. Лекции.
М., Наука, 1991, с. 189 и др.). М.М.Б., однако, говорит о 'цензуре сознания'
{усмиренного законом человека), о подцензурной, т.е. подчиненной сознанию, логике
чувств, мыслей, слов. Критическая переакцентуация категории психоанализа
выдержана в духе ранней книги «В. Н. Волошинов. Фрейдизм». М.М.Б. отмечает, что
момент критики сознания постоянно сопутствует основной идее Фрейда, однако
«фрейдовское бессознательное ничем принципиально не отличается от сознания; это
— только другая форма сознания, только идеологически иное ее выражение» |'Ф, Г27).
Критическому пересмотру в /fon. подвергаются и другие .атегории, восходящие к
Фрейду: 'сублимация', 'замещение', бессознательное', 'смещение' («Гамлет» —
«смещенный "Царь Эдип"»
е. 88). Механизмы вытеснения, сублимации М.М.Б. относит к сфере сознания, т. е.
переводит их из психологического в архитектонический, формально-творческий план и
рассматривает как принципы оформления внутренней жизни и самоутверждающейся
активности ловека.
То же относится к 'тону' и 'жесту' Фрейд, со ссылкой на К. Абе-оГл.ясняет, как при
посредстве тона и/или жеста амбивалентные древнейших языков могли быть поняты в
одном из двух проти-жных значений: «Тон речи и сопровождающий ее жест должны
ясно показать, какое из двух противоположных значений гово-•'< имел в виду» (Фрейд
3. Введение в психоанализ, с. 146). , напротив, рассматривает психологический жест (и
тон) «в топографического жеста» (и тона), овнешняющего ценност-'шографические
пределы, к которым обращено и направлено Гон и жест, переведенные из
психологического в топографиче план, становятся формой объективации жизни и
личности, • >;>! чнизующнм и оформляющим внутреннюю жизнь началом, принц;лгм1 ценностного видения и закрепления себя» (АГ, 124).
13. В первой редакции «Рабле* исследуются формы времени, в Доп. акцент смещен
на ценностную структуру пространства, в котором действует и осознает себя герой, —
на топографический аспект мира, в Р-1940 обозначенный в самом общем виде (Р-1940,
16 и др.). Философские основы осмысления художественного времени и про
337
странства определены М.М.Б. в работах 1920-х гг., в ФП и АГ. В 19а0-е гг. он
исследует исторические формы временной (ВЛЭ, 234-407) и пространственной
337
картины мира и впоследствии намеревается дополнить этими материалами книгу о
Рабле.
Контекст понятия 'топография' в Доп. чрезвычайно широк и претендует на
универсальность: топография мира', 'телесная топогра фия , 'топографический образ',
'топографический жест', |топографи-чески понятая вселенная', топографические
сравнения', 'топографические координаты действия, слова, жеста', 'топографическая
акцентуация' и др. Изменение пространственно-временного видения мира, а вовсе не
смены направлений и стилей, которыми оперирует традиционная теория литературы,
по мнению М.М.Б., отражает ценностную трансформацию мировых образов и
жанровых форм.
Утверждение и оправдание индивидуальности в Новое время, как показывает
М.М.Б., ознаменовывается сменой вертикальных (топографических) координат
горизонтальными, безакцентными. Образом топографического видения мира в Доп.
становится мистерийная сцена с ее трехчастным устройством (небо-земля-ад). Всякое
движение в пространстве мистерииной сцены ценностно окрашено, топографически
полярно: герой в каждом слове, жесте, движении «чувствует под собою ад, а над собою
— небо» (с. 91). Горизонтальное, гомогенное пространство, воплощенное в образе
театральной сцены Нового времени, лишено акцентов, в нем, — пишет М.М.Б., —
«можно только суетиться, но не существенно двигаться» (с. 87). Безакцентные координаты видения мира М.М.Б. называет «экстенсивными», в противоположность
«интенсивным», топографическим, а в подготовительных записях к «Рабле» указывает
на фольклорные источники горизонтальной утопии («за морями», «в тридевятом
царстве» и пр.).
14. М.М.Б. цитирует Шекспира по изданию: Шекспир в переводе и объяснении А. Л.
Соколовского в 8 тт. Т. 1. СПб., Изд. тов. А. Ф. Маркса, 1894 — и использует в
анализах «К Макбету» и отчасти «К Отелло» некоторые примечания переводчика: со
слов «fair is foul...» — прим. 1 (с. 464)- со слов «Боденштедт замечает...» — прим. 2 (с.
464); со слов «Сцена 3 (диалог ведьм)...» — прим. 7 (с. 464); со слов «Макбет, входя,
говорит...» — прим. 8 (с. 464); со слов «Сц. 4: Кавдорский тан...» — прим. 14 (с. 465) с
собственным комментарием: «Изучение уничтожает страх»; со слов «Сц. 4: Слова
Дункана...» — прим. 16 (с. 465); со слов «Слова Банко...» — прим. 17 (с. 465); со слов
«Слова Дункана...» — прим. 18 (с. 465) с замечанием в скобках: «амбивалентность»; со
слов «Его же слова о Макбете...» до слов «...это пир для меня», — прим. 20 (с. 465); со
слов «Не — лгать...» — прим. 64, 71 (с. 232); со слов «Действие III, сц. 4...» — прим. 55
(с. 469); со слов «Д. IV, сц. 3...» — прим. 76 (с. 471); со слов «Там же Макдуф...» —
прим. 77 (с. 471). Все акценты внутри выписок, переданные разрядкой, принадлежат
М.М.Б.
15. Одна из емких характеристик идеи (и сюжета) «Фауста» передана Эккерманом.
«С горних высот через жизнь в преисподнюю...* (Эккерман И.-П. Разговоры с Гете.
Пер. Н. Ман. М., Художественная литература, 1986, с. 522; запись от о мая 1827 г.).
16. По всей вероятности, речь идет о следующем высказывании Августина:
«postposito deo, aeterno interno sempitemo bono» (De civ. Dei; 15, 2). В таком виде, как у
М.М.Б., со ссылкой на Августина, эту формулу использует Г. Миш. Анализируя 45-й
фрагмент Гераклита, он находит в нем предвосхищение предельной глубины
внутреннего, internum aeternum Августина (Misch G. Geschiente der Autobiographie, S.
69). В конспекте книги Г Миша у М.М.Б. это
338
м<"сто отчеркнуто красным карандашом, а слова «internum aeternum» выделены
особо (Aß). См. также: упоминание об «internum aeternum» Августина в Материалах к
338
переработке книги о Достоевском (нач. 1960-х гг., АБ), публикуемых в шестом томе
Собрания.
17. Здесь в текст Доп. вновь включаются материалы примечаний А. Л. Соколовского
к переводу «Отелло* (см.: прим. 14, с. 487): прим. 48 (с. 230), прим. 51 (с. 230), 76 (с.
233).
18. Два наброска к теме 'имя и прозвище', относящиеся к самому началу 1940-х гг. и
перекликающиеся с проблематикой Доп., записаны М".М.Б. в той же тетради, что и
публикуемые в настоящем томе тексты «К истории типа (жанровой разновидности)
романа Достоевского* и «"Слово о полку Игореве" в истории эпопеи»:
<1.> «Прозвище-кличка по своей роли в прозаическом творчестве аналогична
метафоре в творчестве поэтическом. Но метафора однотонна. Слияние хвалы-брани в
прозвище, верха и низа, старого и молодого, прошлого и будущего, оно стремится
фиксировать действенную, динамическую противоречивость смены».
<2> «Иронические хвалы — похвалы глупости Эразма, похвала Агриппы, похвала
подагры Фишарта — как особый, несколько риторизованный, тип слияния хвалы и
брани, как расширенное амбивалентное прозвище» (АБ).
М.М.Б. не обращался к построению собственно философии имени, как П. А.
Флоренский, А. Ф. Лосев, С. Н. Булгаков , однако о некоторых философских основах
проблемы имени в трудах М.М.Б. все-таки можно судить на основании работ 1940-х гг.
и особенно Доп.
Знаменательна сама постановка проблемы — 'имя и прозвище', актуализирующая
дихотомичность имени. Имя указывает на определенный онтологический статус его
носителя (свидетельствует о его существовании) и/или выражает определенное
качество называемого (свидетельствует о его сущности). Первая сторона имени
предельно полно реализуется в освященном, канонизованном имени (и в наречении
этим именем при рождении, принятии веры или переходе в иную веру), другая — в
прозвище с прозрачной для носителя языка внутренней формой. Вне сакрального и
профанного пределов граница между двумя сторонами имени менее отчетлива.
Преобладание в имени одного из двух качеств прямо зависит от временной ориентации
текста: в повествовании о прошлом в имени преобладает указание на онтологический
статус его носителя (в том числе мотив памяти), в зоне настоящего, напротив, имя
выражает преимущественно качество называемого. Следствием этого является
отмеченное М.М.Б. преобладание имен в эпосе и прозвищ в романе.
Тема имени и прозвища в истории и теории романа затронута в Р 1940, в работах «К
философским основам гуманитарных наук», «<К вопросам об исторической традиции
и о народных источниках гоголевского смеха>», «Многоязычие, как предпосылка
развития романного слова», «К стилистике романа» и др. В происхождении, истории и
теории прозаического слова, первофеноменом которого М.М.Б. считает прозвище,
наиболее существенна «формула перехода» прозвища в имя и имени в прозвище,
разрушающая риторическую однотонность слова, образа, жанра. Особая роль в этом
процессе принадлежит смеховым жанрам и роману Рабле. В восьмой главе Р-1940
(«Образ и слово в романе Рабле») говорится о превращении прозвища в имя при его
переходе из низовых фамильярных слоев языка в «обобщающий и
* Флоренский П. А. Мысль и язык. — Флоренский П. А. У водоразделов мысли. Т. 2.
М., Правда, 1990, с. 109-338; Лосев А. Ф. Философия имени. М 1927; Булгаков С. Н.
Философия имени. Париж. 1953.
4*8
систематизирующий» книжный контекст. М.М.Б. отмечает ослаблен-ность,
размытость границ между лицами и вещами и, следовательно, между именем и
прозвищем, между собственным и нарицательным именем в романе Рабле: все они
339
персонажи «в своеобразной сатировой драме вещей и тела» (Р 1940, 638). В Доп. эти
наблюдения отливаются в общую формулу функционирования имени и прозвища в
романе: «заведомо и открыто вымышленный персонаж не может иметь имени» (с. 102).
Имя в романе стремится к пределу прозвища или названия (нарицательного имени),
принимая форму полусобственного имени или имени прозвищного типа или, реже,
чистого прозвища.
19. «Пир» Данте цитируется М.М.Б. по изданию: Дживеле-говА. К. Данте Алигьери.
Серия ЖЗЛ. Вып. XVI. М. 1933, с. 102, разрядка М.М.Б.
20. Традиция фиксирует два способа передачи имени 'Guinicelli' в русском языке:
Твиничелли' и Твиницелли' В Доп., как и в АГ (ЭСТ, 138), М.М.Б. использует первый
вариант, предпочтенный также авторами словаря Брокгауза и Ефрона.
21. См.: Поджо Браччолини. Фацетии. Перевод с лат., комм, и вступит, статья А. К.
Дживелегова. Предисловие А. В. Луначарского. М.-Л., Academia, MCMXXXIV;
Дживелегов А. К. Данте Алигьери, с. 139 и далее.
22. Все цитаты из Гейне и библиография к материалам о нем даны по книге: Дейч А.
А. Генрих Гейне. Серия ЖЗЛ. Вып. М., 1933, с. 6, 66/ 74, 101, 167.
23. Дживелегов А. К. Данте .Алигьери, с. 87.
24. Разрушение аристотелевой иерархической картины мира в эпоху Возрождения,
сопровождающееся релятивизацией движения и центра мира, подробно исследуется в
Р 1940 и ТФР (ТФР, 394-399). Ср. обсуждение этого вопроса у Э. Кассирера (Cassirer Е.
Individuum und Kosmos in der Philosophie der Renaissance. B. G. Teubner. Leipzig-Berlin,
1927, S. 28-30, 1 $4-203 etc.). Фрагменты книги Кассирера в кратком изложении М.М.Б.
печатаются по конспекту, полностью публикуемому в четвертом томе Собрания; в
скобках указаны страницы источника:
одинаково приближаются к богу. Отсюда и новые формы религиозности (29).
Поскольку нет абсолютного центра, — каждое бытие, каждая индивидуальность
получает центр в себе самом. Отсюда оправдание индивидуальности (30).
<...> Значение движения в физике и космологии Аристотеля. Движение становится
принципом расчленения мира в физическом и метафизическом смысле. Месту он
придает определенное субстанциальное значение. Качественные определения тела
связаны с определенным местом этого тела, неотделимы от него. Каждый физический
элемент ищет свое место и отталкивается от враждебного ему (184-185). Вещи делятся
на совершенные и несовершенные*, вечные и преходящие, — так же дается и
пространство мира. Верх и низ разделены такими же непроходимыми гранями, как и
вещи.
В мире Кузанского все это совершенно изменяется. «Все во всем» (quodlibet in
quolibet). Все части космоса имеют одинаковую ценность <...> (188-189).
«Если нет абсолютного
низа, то все моменты бытия
340
Пафос разрушения замкнутого иерархического мира у Бруно. Пафос бесконечного и
безмерного. Произведения Bruno: «1л сепа de la ceneri»; «De Immenso et
Innumerablibus» (198).
Человек ренессанса чувствует себя по отношению к миру как Гетевский Ганимед:
"umfangend-umfangen" (201)* (АБ).
25. Шекспир в переводе и объяснении А. Л. Соколовского, т. 1, с. 247
26. Анализ сцены на пороге в «Идиоте» более подробно дан в переработанной
четвертой главе ППД (ППД, 236-237).
27. Фрагмент использован, с незначительными изменениями, в ТФР (ТФР, 294-295).
340
28. Под «простейшей формулой сомнения в смерти», являющейся «предпосылкой
буддизма», М.М.Б. подразумевает, вероятно, слова Гамлета «Окончить жизнь —
уснуть! / Не более!». Стоит, однако, заметить, что М.М.Б. предпочитает перевод А. Л.
Соколовского и использует в тексте Доп. не только сам перевод, но и объяснения к
нему и некоторые, данные в примечаниях, подстрочники. В передаче АЛ.
Соколовского тема сомнения в смерти новой гранью открывается в последних,
предсмертных словах Гамлета: «А я найду в безмолвии покой!». 'The rest is silence'
переведено в подстрочнике как 'покой в молчании1 (или 'покой — молчание'). Замена
при переводе 'the rest' ('конец', 'остальное', 'дальнейшее') его омонимом 'the rest'
('покой') актуализирует, по мнению А. Л. Соколовского, смысл ответной реплики
Горацио: «And flights of angels sing thee to thy rest* ('пусть сонм парящих ангелов
пропоет над твоим покоем') (Шекспир в переводе и объяснении А. Л. Соколовского, т.
2, с. 153, 166-167, прим. 148).
Нельзя также не заметить, что в подтексте емкой формулы М.М.Б. слышится отклик
на мысли Ф. Ницше о буддизме (о христианстве и буддизме, искуплении и нирване, о
предпосылках буддизма: Ницше Ф. Антихристианин. Пер. А. В. Михайлова. —
Сумерки бо гов. М., Издательство политической литературы, 1989, с. Зо-38), с одной
стороны, и о «гамлетовской доктрине», с другой. В перспективе же одной из
центральных тем Доп. — самосознания трагической индивидуальности — в кругозор
автора входили, по-видимому, и слова Ницше, написавшего о себе: «... Я мог бы стать
Буддой Европы, что, конечно, было бы антиподом индийского» (Nietzsche F. Schriften
und Entwürfe 1881-1885. — Nietzsche F. Werke. Hrsg. von F. Koegel. 2 Abt. Bd. 12.
Leipzig, 1897, S. 365. Цит. в пер. К. А. Свасьяна по изд.: Ницше Ф. Сочинения в 2-х тт.
Т. 1. М., Мысль, 1990, с. 22).
О европейских параллелях, в философии и литературе, к концепции буддийской
нирваны см.: Щербатской Ф. И. Концепция буддийской нирваны. Комментарии В. Н.
Топорова. — Щербат ской Ф. И. Избранные труды по буддизму. М., Наука, 1988, с.
250-253, 412-419.
29. Анализ Предисловий к первой и второй частям «Вечеров» и их сопоставление с
раблезианскими прологами см.: «Рабле и Гоголь» — ВЛЭ. 486.
30. Ср. фрагмент лекции М.М.Б., прочитанной в начале 1920-х гг., об «Истории
Государства Российского» Н. М. Карамзина: «Нельзя объяснять прошлое как
совокупность ошибок, потому что это прошлое нужно продолжить. Когда народ
перестает героизовать свое прошлое, это свидетельствует об иссякании его
исторических сил, о кануне его гибели. Поскольку прошлое дает толчок к созданию на
341
стоящего, его нужно героизовать. Метод героизации стал основным
художественным методом "Истории"* (Запись Р М. Миркиной, АБ).
31. Заключительная часть Доп., посвященная украинскому фольклору, составлена в
основном как конспект по материалам статей А. И. Белецкого {Белецкий А. И.
Украинская литература. Украинская литература до конца XVII в. Литература XVIII в.
— Литературная энциклопедия. Т. 11. М. 1939, с. 509-558, 528-539, 539-545).
32. Имеется в виду «Послание к кн. Острожскому» Ивана Вишен -ского: «... Коляды
з мест и сел учением выженете; не хочет бо Христос, да при Его рождестве
дьявольские коляды месце мают, але нехай собе их в пропасть свою занесеть...
Волочельное по Воскресении, з мест и з сел выволокши, утопите. Не хочет бо Христос
при своем славном Воскресении того смеху и руганя дьявольского имети. На Георгия
мученика праздник дьявольский на поле исшедших сатане сферу танцами и скоками
чинити разорете; гневает бо ся на землю вашу Георгий мученик, што не мать
христианина православного, которий ругане тое диявольское очистити и изгнати
341
могл...» (Цит. по: Белецкий А. И. Старинный театр в России. 1. Зачатки театра в народном быту и школьном обиходе южной Руси — Украины. М., 1923, с. 15).
33. Гнатюк В. Колядки i щедр1вки. Т. 1, 2. — Етнограф1чний зб'рник. Т. XXXVXXXVI. Льв1в, 1914.
34. Moszynska Jözefa. Kupajlo... — Zbiör wiadomosci do antropologii krajowej. Krakow,
1881, t. V, s. 24-101.
35. Труды этнографическ о-стилистической экспедиции в Западно-Русский край,
снаряженной Русским Географическим Обществом. Юго-Западный отдел. Материалы
и исследования, собранные П. П. Чубинским. Т. I-VII. СПб., 1872-1877.
36. Свенцщъкий I. Похоронш голосшня. — Етнограф1чний зб'р-ник. Т. XXXIXXXII. Лынв, 1912, с. 1-129; Гнатюк В. Похоронш звича! й обряди. — Там же, с. 131424; Данилов В. Носители похоронных причитаний в Малороссии. — Киевская
старина, 1905, № 4, с. 30-33; 1Его же. Взаимовлияние украинских погребальных
причитаний и бытовых песен. — Там же, 1905, № 3, с. 230-236; Его же. Одна глава об
украинских похоронных причитаниях. — Там же, 1905, № 11-12, с. 198-509; Его же.
Додатки до огляду украшських лубяних сшвальниюв та мал юн Ki в. — Украина, 1907,
№ 3, с. 390-393.
37. Савченко С. В. Русская народная сказка (История собирания и изучения). —
Киевские Университетские Известия. Киев, 1912, № 10, с. 1-73; № 11, с. 75-137; № 12,
с. 139-173; 1913, № 2, с. 175-220.
38. Речь идет о «Комическом действии на Рождество Христово» Митрофана
Довгалевского.
39. «Трагедия альбо образ смерти пресвятого Иоанна Кр>естителя» Я куба
Гаватовича и «Воскресение Мертвых» Георгия Конисского.
40. Апология ремесла палача у Климентия Зиновьева в вирше «О катах» см.: Bipini
Ером. Климентия Зинов1ева сина, вид. В. Перетц (Памятки Украшсько-pycbKOi мови i
лггератури. Т. VII). Льв1в, 1912, № 60, с. 35-ЗбГ
41. Белецкий А. Украинская литература до конца XVIII в., с. 541342
42. В рабочих записях М. М. Б., относящихся к времени создания Доп., есть
небольшой раздел «К проблеме загадки». Помимо материалов к библиографии он
содержит одно важное замечание, дополняющее комментируемый фрагмент: «Разгадка
загадки (узнание и понимание тайны) приближает, фамильяризует разгаданное,
уничтожает страх перед ним (разгадка связана с улыбкой и со смехом)» (АБ). В Доп.
М.М.Б. отмечает разоблачающую, умерщвляющую энергию разгадки (гибель
разгаданного сфинкса), в рабочих записях, напротив, подчеркивает ее, связанную со
смехом, возрождающую силу, указывая тем самым на амбивалентный характер
ответного смысла и, следовательно, самой загадки как вопросно-ответной формы.
О вкладе М.М.Б. в исследование диалогических отношений, в том числе
диалогических конструкций типа загадки см.: Топоров В. Н. Из наблюдений над
загадкой. — Исследования в области балто-славянской духовной культуры. Загадка как
текст. I. М., Индрик, 1994, с. 95-97.
43. Вертепная рождественская драма, более всего известная в обработке Димитрия
Ростовского, разыгрывалась преимущественно кукольным театром и не претерпела
существенных изменений вплоть до начала XX в. Устройство вертепного ящика, трехили чаще двухъярусного, наглядно сохраняло топографический характер средневековой мистерийной сцены и позволяло представлять споры Жизни со Смертью, Неба с
Землей, разверзание земли и поглощение Ирода адом и т. д. В верхнем ярусе
представляли Рождество Христово, поклонение волхвов, бегство в Египет; в среднем
— смерть Ирода (борьбу Ирода со смертью и/или с чертом, похищающим его душу, т.
342
е. буквально перетаскивающим Ирода в «ад», в нижний ярус вертепа), в нижнем
разыгрывались комические сценки (потасовки, поединки с чертом и пр.). В
двухъярусном вертепе действия среднего и нижнего уровней («земли» и «ада»)
совмещались, и история Ирода перемежалась народными сценами.
Значение вертепной драмы в истории русской литературы первой трети XIX в. явно
недооценивается. Между тем вертепный театр был частью живой традиции,
связывающей творчество Пушкина, о карнавальных истоках которого М.М.Б.
намеревался написать, со средневековой мистерией и драмами Шекспира.
Рождественская мистерия, показывающая смерть Ирода, является ядром, глубинной
подосновой «Бориса Годунова», и в истории о «царе Ироде» звучат ее основные тона.
<0 ФЛОБЕРЕ>
Печатается впервые. Текст записан почти набело (с несколькими вставками и
минимальными поправками) на отдельных листах пожелтевшей рыхлой бумаги
большого формата (28x22 см), на 11,5 страницах, фиолетовыми чернилами. Не
озаглавлен и не датирован. В двух местах непоправимо поврежден на затертом и
обтрепанном нижнем крае листа (де4>екты отмечены в тексте знаком <...>). К тексту
примыкают сохранившиеся с ним в комплекте:
1) Два списка библиографии по Флоберу на отдельных листах, вложенных в
обложку от школьной тетради с типографской датой выпуска 18.VII-1944 г. Первый
список — рукой М.М.Б., состоит из 9 названий, включая «Собрание сочинений
Флобера в 10 тт. под ред.
343
А. В. Луначарского и М. Д. Эйхенгольца. Гослитиздат, 1933 и...» (так в автографе:
собрание осталось незаконченным), служившее, видимо, автору основным источником
в работе, а также «Избранные произведения» Флобера, Гиз, М.-Л., 1928, 6 монографии
по-французски (авторы: R. Dumesnil, А. Thibaudet, Е. Maynial, Р. Martin о, К.
Descharraes et R. Dumesnil, E. L. Ferrere) и книгу Т. Перимовой «Творчество Флобера»,
М., 1934. На обороте листа — запись рукой М. В. Юдиной: «Книги для ММ Б». Лист
сложен вчетверо и, видимо, был послан Юдиной в письме, после чего, вероятно,
вернулся к М.М.Б. вместе с заказанными книгами. 22 октября 1944 г. М.М.Б. писал
Юдиной в связи с ее хлопотами об издании его рукописи о Рабле: «Очень прошу Вас
написать обо всем через Гадину Ивановну. Пришлите через нее и книги (они мне очень
нужны). Кроме указанных в списке, мне необходима еще и следующая книга:
«Binswanger Paul. Ehe aesthetische Problematik Flauberts. Frankfurt а. M., 1934» (OP РГБ,
ф. 527, картон 10, д. 41, л. 14). С большой вероятностью можно смотреть на эту заявку
как на дополнение к списку книг о Флобере и, таким образом, датировать занятия
Бахтина Флобером концом 1944-1945 гг. В этом случае текст о Флобере в контексте
работ, написанных в Савелове, занимает место следом за Доп., датированными
автором 18.VI-44 г. (переклички проблематики этих текстов отмечаются ниже).
Второй список — рукой неизвестного лица — озаглавлен: «Книги по Флоберу»; он
состоит из 15 названий книг преимущественно по-французски, две по-немецки и две
по-русски; из них повторяется из первого списка только книга Т. Перимовой.
2) Записи М.М.Б. на таких же листах такими же чернилами (3,5 стр.), что и основной
текст о Флобере; приводятся полностью:
Французский реализм XVI века (Дюперье* Ноэль дю Файль, Бероальд де Вервиль,
школа Маро и др.). 1. Эпоха и личности. 2. Источники и влияния (смеховой фольклор и
народно-праздничные формы, готический реализм, фарс, соти, и др. <?> итальянская
новелла, античные moralia). 3. Гротескный характер реализма, особенности жанра и
стиля <?>. 4. Язык. 5. Значение гротескного реализма в истории европейского романа и
прозы. Их жизнь в последующих веках.
343
Гюстав Флобер 1 Эпоха и личность 2. Ближайшие предшественники (Стендаль,
Бальзак). 3. Источники и влияния. 4. Проблема <?> критического реализма (пересмотр
штампов). 5. Периоды творчества и группировка произведений. 6. Роман из
современной жизни. 7. Историко-романтические романы <и> повести. 8. Особенности
реализма Флобера. 9. Проблема флоберовского эстетизма. 10. Значение Флобера в
истории реализма.
Dumesnil R. Gustave Flaubert, Р., 1933; Maynial, Flaubert et son milieu, Р., 1927;
Thibaudet A. Gustave Flaubert, Р., 1922; Descharraes R. et Dumesnil R., Autour de Flaubert,
2 vis., Р., 1912; Deraorest D. L., L'expression figuree et symbolique dans l'oeuvre de G.
Flaubert, Р., 1931; Ferrere E. L.. Lesthetique de G. Flaubert, Р., 1913; Faguet E., Flaubert, Р.,
1899; Martino P. Le roraan realiste sous le Second Empire, Р., 1913; Sainte-Beuve С. A.,
Causeries du lundi, t. XIII, Р., 1858; Brunetiere F., Le roman naturaliste, Р., 1883; France A.,
La vie litteraire, 2-е et 3-е series, Р., 1889-1891; Lemaitre J., Les contemporains, 8-e serie,
Р., 1918.
* Так в рукописи; ср. далее в том же тексте по-французски: Des Periers. Комм.
344
К проблеме реалистического об ра з а Типы и разновидности реалистического
образа. Понятие «критического реализма» и его проблематика. Проблема художественного отрицания. Отрицающий образ. <...> Индивиду ал изую щая и тип изую щая
деталь. Любовь — любование, как основа детализации (индивидуализующей).
Описания и номинации у Флобера. Реальность как сфера среднего, типического.
Бесформенность штатского человека. Флобер выдвигает не отрицательные качества, а
пустоту и ничтожность положительного. Проблема пошлости. Проблема настоящего
как принципиально отрицательного и смешного. Такова реальность в аспекте
настоящего. Отсутствие топографического осмысливания, нет универсализующих координат.
Лучшее издание Флобера: Oeuvres corapletes, ed. L. Conard, Р., 18 vis., 1909-1912; то
же, нов. изд. 1921-1928. Есть изд. А. Quantin, 8 vis., Р., 1885; А. Lemerre, 10 vis., Р.,
1874-1885. Oeuvres corapletes illustrees, 12 vis., Librairie de France, P 1921-1925.
Переиздает Флобера также Charpentier.
Собрание сочинении Флобера в 10 тт. Под общей ред. А. В. Луначарского и М. Д.
Эихенгольца, Гослитиздат, М.-Л., 1933-1337 (вышли тт. 1-7; лучшее изд., даны новые
переводы с
Рядом вступ. статей и комментариями). Избранные произведения, ед акция,
вступительная статья и коммент. А. В. Луначарского и М. Д. Эихенгольца, Гиз,
Москва-Ленинград, 1928.
«Manuscrit Autographe» опубликовало в этом году два произведения Флобера — «La
derniere heure» и «La fiancee et la tombe» (подр. см. в журн. «Печ. и рев.», 1929, кн. 7,
стр. 121).
Французские реалисты XVI века: Bonaventure Des Periers, Noel du Fail, Guillaume
Bouchet, Jacques Tahureau, Nicolas de Choliers, «Satire Menippee»; протестантские
полемисты и памфлетисты: Pierre Viret, Henri Estienne и др. Анонимная литература
эпохи.
Французские реалисты XVII века: Сорель, Скаррон, Фюретьер. Поэты-либертины
(Saint-Amant, Theophil Viau, dAssoucy). Анонимная литература эпохи (наприм.
литература «Caquets»).
XVI в.: Meflin de Saint-Gelays, Спор о женщинах, Coquillant, Клеман Маро и его
школа, «Поэтика» Tn. Sebillet.
«La tentation de Saint-Antoine», первая редакция 1849 г., окончательная — 1874.
«Madame Bovary» — 1857. «Salammbo» — 1863. «L'education sentimentale» — 1869.
344
«Trois contes» («Un coeur simple», «La legende de Saint-Julien L'Hospitalier», «Herodias»)
— 1877. «Bouvard et Pecuchet» — не закончен.
Работа о Флобере Перимовой.
1) проблема индивидуализма (почувствовать себя представителем всякой
индивиду<альности?>).
2) проблема пессимизма (разрушение наивного оптимизма, трусливого оптимизма).
3) разрушение всякой наивности (доверчивости, мечтательности и т. п.) — великая
задача протрезвления человека, освобождения его от всяких иллюзий, выполнявшаяся
французской литературой (этапы <?> — Рабле, Монтень, Вольтер,
* В рукописи повторено 2) и далее соответственно. Нумерация исправляется.
о мм.
345
4) бесстрашие подлинного реализма. () предпосылке бесстрашия забывают
5) проблема идеологического становления
6) особая концепция пошлости
1) творческое преодоление пессимизма («бронзовые фразы*)
проблема эстетизма Флобера (только в искусстве сочетается необходимость со
свободой, человек ответственный творец с начала и до конца, пронизывает своим
сознанием <и> волей все, до последней детали).
Разрушение наивности. Все доброе (любовь, доверие, героизм, вера и т. п.| —
наивно. Это обессиливает и обесценивает добро. Различные формы наивности (вплоть
до старомодности, провинциализма ит. п.). Освободить добро от наивности,
протрезвить все стороны добра. Провести его через горнило всезнающей трезвости и
смеха. Наивность и жалка и смешна, она трагикомична. Трагикомедия добра.
Трагикомедия культуры, идейности, бескорыстия.
[Отголоски risus paschalis в русских летописях («на Руси есть веселие пити..>;
проповеди XI и XII веков]. (АБ)
Можно рассматривать эту запись как программу развернутого монографического
изучения Флобера в широком историко-теоретическом контексте; написанный текст о
Флобере тогда представляет фрагмент к такому изучению. Вероятно, можно считать
фигуру Рабле определяющей этот контекст, о чем говорят имена французских
писателей XVI и XVII веков: все они упоминаются в ТФР как принадлежавшие к
окружению Рабле или его традиции.
В 1933-1938 гг. вышли 8 томов Собрания сочинений Флобера в 10 тт., на них и
остановившегося, но один из них («Письма 1831-1854, М.-Л., 1933) не имел номера;
поэтому М.М.Б. указывает, что «вышли тт. 1-7». Ссылка на «Печать и революцию» не
совсем точна: указанное сообщение — в № 8 за 1929 г., с. 121. Слова «в этом году» в
этом месте записи соотносятся с предыдущей фразой записи и указывают на 1928 г., а
не на дату записи.
3) Текст, озаглавленный «К стилистике романа» и кончающийся словом: «Флобер».
Печатается ниже как самостоятельный текст в настоящем томе.
Флобер — достаточно неожиданная тема в наследии М.М.Б. В его известных нам
работах имя Флобера встречается редко, и даже в ТФР (а Флобер был в XIX веке
страстным апологетом Рабле) упомянуто только раз в примечании, в связи с темой
«непубликуемых сфер речи» (ТФР, 459), причем примечание это представляет собой
обработанный текст из публикуемого фрагмента. При этом оно присутствует во
втором, переработанном варианте рукописи М.М.Б. о Рабле (Р—1949/50), но его нет в
первом варианте 1940 г. («Франсуа Рабле в истории реализма»); видимо, занявшись
345
Флобером в раблезианском контексте в 1944-1945 гг., автор написал публикуемый
фрагмент, откуда затем перенес лишь одно место в новый вариант диссертации и затем
в книгу ТФР. Надо, однако, отметить, что имя Флобера присутствовало в другом месте
рукописи 1940 г., которое затем перешло и в текст Р—1949/50, но было снято в ТФР. В
Р—1940 в главе 1-й («Рабле в истории фольклорного и готического реализма») на с.
145 читаем:
346
«Ряд великих писателей XIX в. — Мериме, Флобер, Альфонс Додэ и др. — оставили
отзывы, свидетельствующие об их высокой оценке Рабле. Можно говорить и о
некотором влиянии Рабле на их творчество (например, на «Бувара и Пекюше»
Флобера). Но это влияние не могло быть ни глубоким, ни существенным. Самое
основное и самое существенное в Рабле — амбивалентный фольклорный готический
смех — было слишком чуждым их творчеству и их времени». К этому месту сделано
примечание: «Молодой Флобер в 1839 г. писал о Рабле глботу. В 1868 году он
рассказывает, что никогда не засыпает, не прочтя «un chapitre du sacro-saint, immense et
extra-beau Rabelais» (АБ).
«Этюд о Рабле» написан Флобером в конце 1838 г., опубликован посмертно, см.:
Постов Флобер. О литературе, искусстве, писательском труде. Сост. С. Л. Лейбович.
М., Художественная литература, 1984, с. 283-292. Французская фраза — из письма
Флобера Э. Феидо от ноября-декабря 1867; см.: Oeuvres com nie t es de Gustave Flaubert.
Correspondance, Ъ-е serie, Paris, 1929, p. 341.
Публикуемый текст позволяет включить Флобера в ряд главных имен, с которыми
М.М.Б. связывал свои общие историко-теоретические концепции, или посвятив им
самостоятельные работы, как Достоевскому, Рабле, Гете, отчасти Шекспиру (в Доп.),
или постоянно их учитывая в качестве одного из опорных звеньев концепции: так,
одним из важнейших имен у М.М.Б. постоянно присутствует Данте (но вряд ли таким
именем был для него Толстой, хотя он и написал о нем две статьи). Имена Пушкина и
Гоголя также должны быть названы в этом ряду. К таким опорным именам теперь
присоединяется и Флобер, с которым в публикуемом тексте связывается ряд
центральных тем М.М.Б. В то же время статус Флобера в этом ценностном ряду
важнейших для исследователя имен несколько ограничен характерной формулой о его
почти гениальности. Эта последняя как бы ограничена (хотя в то же время и
сформирована) «исторической типичностью» Флобера и его установкой на создание
реалистического образа своей современности (ср. в приведенных выше записях,
сопровождающих публикуемый текст, фразу об отсутствии в подобном образе
«топографического осмысливания» и «универсализу-ющих координат», т. е. тех
свойств, какие были выявлены на примере Шекспира в Доп.). Не случайно взгляд
М.М.Б. на Флобера главным образом основан на флоберовских произведениях
«другого ряда», в которых выразилась его эстетическая оппозиция современности
(«Искушение святого Антония», «Легенда о св. Юлиане Странноприимце»,
«Иродиада»). «Почти» как характеристика флоберовского величия говорит о том его
внутреннем противоречии, которое сам он остро чувствовал, когда писал Луизе Коле
22 ноября 1852 г. под впечатлением чтения «Дон Кихота»: «Господи, каким
чувствуешь себя маленьким! Каким маленьким!» (Постав Флобер. Собрание
сочинений в 10 тт. Письма 1831-1854. Государственное издательство художественной
литературы, М.-Л., 1933, с. 281).
В публикуемом тексте с Флобером связываются такие общие темы, как судьбы
европейского реализма и европейского романа, тема «возможностей совершенно иной
жизни и совершенно иного мировоззрения» как «предпосылка романного образа
настоящей жизни», «общая сущность позитивизма и формализма», большая тема
346
«начал» истории и человеческого мышления, критика теорий «первобытного
мышления» и понимания движения и становления как прямолинейного прогресса. Но
особенно окрашивает этот текст и отличает его среди
* «главу святейшего, необъятного и прекраснейшего Рабле* (франц.)
347
работ М.М.Б. акцент на таких неожиданных темах, как животное и ребенок, и
вообще «элементарная жизнь» как аспект бытия и ее глубина. Фрагмент о Флобере
показывает значение этой темы, как бы периферийной в концептуальном мире М.М.Б.,
но выдвигающейся в некоторых его работах иа видный план: таковы глава об идиллическом хронотопе в Хрон. и проблема сентиментализма, интересующая особенно
позднего М.М.Б. эО-х — 70-х гг.: см. текст о сентиментализме, публикуемый впервые
в наст, томе, и комментарий к нему, а также заметки о сентиментализме и «слезном
аспекте мира» в Зап. {ЭСТ, 345-346, 354-356). Флобер упомянут здесь в связи с
«буржуазными оттенками сентиментализма»: «Интеллектуальная слабость/ глупость,
пошлость (Эмма Бовари и сострадание к ней, животные» (ЭСТ, 365). В то же время,
по-видимому, Флобер для М.М.Б. подключался как последнее, трезво-реалистическое
ее звено, к «раблезианско-идиллической линии», представленной именами Стерна,
Гиппелл и Жан-Поля (ВЛЭ, 383). Фрагмент о Флобере обнаруживает значение
большой подспудной темы, лишь отчасти проявленной в творчестве М.М.Б.; также и
на самого Флобера он дает неожиданный взгляд: тезис о том, что «образ зверя —
неосознанный центр художественного мира Флобера» — еще подлежит осмыслению
(если не ограничиться чудесным черным оленем в «Легенде о св. Юлиане» и попугаем,
чудесным тоже в воображении героини, в «Простом сердце»; но, вероятно, тезис этот
надо понять расширительно — как указание на животный аспект человеческой жизни,
весьма акцентированный в изображении ее Флобером). Тема защиты элементарной
жизни, животного и ребенка, от «обнаглевшего человечества» (европейского
человечества) доходит в этом тексте М.М.Б. до публицистического пафоса;
неожиданно в этой связи и обращение (не встречающееся, кажется, в других работах
М.М.Б., за исключением одной параллели в хронологически синхронных Доп. — см.
ниже прим. 25: ср. также в заметках 1961 г. к переработке книги о Достоевском:
«Никакая нирвана не возможна для одного сознания» — с. 345) к восточным духовным
ценностям (Египет, буддизм). Сам автор в 60-е — 70-е годы, рассказывая своим новым
собеседникам (в том числе В. Н. Турбину и С. Л. Лейбович) о своих неосуществленных
замыслах, называл такую тему, как «Флобер и животные»: в такой формулировке тема
приобрела характер легендарного сообщения еще до того как публикуемый текст был
обнаружен в АБ при подготовке настоящего собрания сочинений. Апокрифические
формулировки темы: «работа об изображении животных в литературе — Флобер» (В.
Н. Турбин. Незадолго до Водолея. М., 1994, с. 30), «Образы животных в произведениях
Флобера» (из воспоминаний Н. А. Жукова — см.: ДКХ, 1994, № 3, с. 98); при этом
работа считалась «безнадежно утраченной» (В. Н. Турбин) или даже «скуренной» (Н.
А. Жуков).
1. Замысел «Искушения святого Антония», произведения всей жизни Флобера (три
редакции: 1848-1849, 1856, 1870-1872), возник иод впечатлением картины Питера
Брейгеля-младшего (Адского), виденной им в Генуе, в палаццо Бальбо, в мае 1845 г.
См. письма Флобера А. Ле Пуатвену от 13 мая 1845 и м-ль Леруайе де Шантепи от 5
июня 1872 (Гюстав Флобер. Собр. соч. в 10 тт. Письма 1831-1854, с. 86; там же, т. VIII,
МГ., 193о, с. 369). Описание картины содержится в путевых заметках Флобера 1845 г.;
см.: Oeuvres corapletes de Gustave Flaubert. Notes de Voyages. Paris, 1910, v. 1, p. 36-37.
Воспроизведение картины (черно-белое): Гюстав Флобер. Собр. соч. в 10 тт., т. IV, М.,
1936, между с. 208-209. Гравюра Ж. Калло на этот сюжет висела у автора на стене в
347
Круассе. «Мне очень нравится эта картина — писал он Луизе Коле 21-22 августа 1846.
— Давно хотел ее иметь. В печальном гротеске есть для меня очарование
348
необыкновенное; он соответствует внутренним потребностям моей желчношутовской натуры» (Гюстав Флобер. О литературе..., т. 1, с. 80-81). Интересно здесь
отметить, что копия с картины Мурильо на этот сюжет была у Пушкина в
Михайловском и отразилась, вероятно, как и русская лубочная картина на ту же тему, в
гротескных образах сна Татьяны. См.: В. Ф. Боцяновский. Незамеченное у Пушкина —
«Вестник литературы», 1921, № 6-7; Н. Л. Бродский. «Евгений Онегин». Роман А. С.
Пушкина. Пособие для учителя. М., 1964, с. 236; Ю. М. Лотман. Роман А. С. Пушкина
«Евгений Онегин». Комментарий. Л., 1980, с. 272-273.
2. «Легенда о св. Юлиане Странноприимце» Флобера (1875-1876) заканчивается
словами: «почти так же она изображена на расписной оконнице в одной из церквей
моей родины» (Гюстав Флобер. Собр. соч. в 10 тт., т. V, М.-Л., 1934, с. 9о). «Если
хочешь познакомиться с этой легендой, возьми «Опыт о живописи на стекле» Л англу
а», — писал Флобер племяннице Каролине 25 сентября 1875 (Гюстав Флобер. О
литературе..., т. 2, с. 160). В книге Э.-Г. Ланглуа «Исторический и описательный опыт
о живописи на стекле и самых замечательных витражах» (1832) житие св. Юлиана
изложено по витражам Руанского собора. Рисунок этого витража Флобер хотел
поместить в отдельном издании «Легенды» (письмо Ж. Шарпантье от 16 февраля 1879
— см.: Гюстав Флобер. Собр. соч. в 10 тт., т. VIII, с. 495). Воспроизведение витража:
Гюстав Флобер. Собр. соч. в 10
3. Упрек Флоберу здесь не вполне понятен. В описании танца Саломеи в «Иродиаде»
(1876) есть момент, сближающий его с гимнастическим упражнением или выходкой
клоуна: «Она упала на руки, пятками в воздух, прошлась так по помосту, точно
огромный скарабей, и внезапно остановилась» (Собр. соч. в 10 тт., т. V, с. 127).
4. Этот абзац, доработав его, автор перенес во второй вариант своей работы о Рабле,
а затем в ТФР (с. 459). См. наст. комм, выше.
5. Garcon (парень, малый) — гротескный персонаж, созданный воображением
Флобера и друзей его молодости, прежде всего А. Ле Пуатвена, по модели героев
Рабле, приспособленной к буржуазной современности, «нечто вроде современного
Гаргантюа в обличье коммивояжера», по словам племянницы Флобера (Jean Вгипеаи.
Les debuts litteraires de Gustave Flaubert. Paris, 1Б62, p. 151). Garcon — амбивалентный
персонаж, соединяющий буржуазную тупость с издевкой над нею и над самим собой.
Его подробную характеристику дали братья Гонкуры в своем дневнике: «Существо
это, довольно трудно поддающееся определению, ... по типу очень напоминало
Пантагрюэля. Оно представляло собой издевку над материализмом и романтизмом,
карикатуру на философию Гольбаха. Флобер и его друзья присвоили ему все атрибуты
живого существа, совершенно реальные проявления человеческого характера... Шутка
эта была тяжеловесная, упорная, терпеливая, непрестанная, героическая, вечная, как
шутка в захолустном городке или у немцев. У Малого были характерные жесты —
жесты автомата, отрывистый и пронзительный смех, совсем на смех непохожий, была
огромная физическая сила» (Эдмон и Жюль Гонкуры. Дневник. М., 1964, т. 1, с. 243).
6. Как и к другим адресатам, например, к Эрнесту Шевалье. О письмах Альфреда Ле
Пуатвена к Флоберу комментатор замечает: «Его письма к Флоберу переполнены
непристойностями и могут печа348
гаться только с сильнейшими купюрами» (Ю. /Данилин. Примечания. Гюстав
Флобер. Собр. соч. в 10 тт. Письма 1831-1854, с. 410)
348
7. «Я еще никак в себя не приду после празднования дня святого Поликарпа», —
писал Флобер племяннице 28 апреля 1880, за десять дней до смерти, и сообщал о
множестве полученных им к этому дню (27 апреля) писем и подарков (О литературе...,
т. 2, с. 278). В письмах Флобер уподоблял свою реакцию на ненавистную современность поведению этого священномученика 2 в., житие которого составлено его
учеником св. Иринеем Лионским, и называл себя Поликарпом. В письме Луизе Коле от
21-22 августа 1853: «У святого Поликарпа была привычка затыкать себе уши и, убегая
прочь, повторять: «В какой век, о Боже, повелел ты мне родиться!» Вот и я становлюсь
этаким святым Поликарпом» (О литературе..., т. 1, с. 306).
8. Герою «Легенды» Флобера предначертан жестокий путь к святости. Охотничья
страсть, толкающая его, как рок, все более яростно убивать животных, приводит его в
состоянии ослепляющего аффекта к убийству родителей, предсказанному пораженным
им на охоте черным оленем. Очевидно, этот сюжет соотносится в связи мыслей М.М.Б.
с идеей об отцеубийстве как скрытой «сущности самоутверждающейся жизни», ее
глубинном грехе, «надюридическом преступле-нии», как она выявлена в трагедиях
Шекспира, в Доп. (с. 85).
9. Так в библейской литературе толкуется тот момент события грехопадения,
который носит название «кожаных риз» (Бытие, 3, 21): они образовались в результате
первых закланий, которыми был ознаменован грех (Толковая Библия, ред. А. П.
Лопухина, Пб., т. I, 1904, с. 30).
10. Ссылка здесь и далее на Ксенофана загадочна. Образы животных играют важную
роль в критике Ксенофаном антропоморфной греческой религии, следуя логике
которой быки должны бы были представлять себе богов быками, а кони — конями
(Фрагменты ранних греческих мыслителей, подг. А. В. Лебедев, ч. 1, М., 1989, с. 171).
Также в одной своей элегии, говоря о перевоплощении душ, он рассказывает о
Пифагоре, заступившемся за избиваемого щенка: «Стой! Перестань его бить! В
бедняге умершего друга Душу я опознал, визгу внимая ее» (там же, с. 170-171). однако
тема уооя животных, связанная с предательством, в известных нам фрагментах и
поэтических произведениях Ксенофана не обнаруживается.
11. Три просьбы прокаженного в финале повести о Юлиане. Прокаженный здесь
отождествляется «с Господом нашим Иисусом». Ср.: «Ибо алкал Я, и вы дали Мне
есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня истинно
говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали
Мне» (Мф.у гл. 25, 35, 40).
12. Прежде всего у Ш. Леконта де Лиля («Варварские стихотворения», 1862), а также
в сонетах Ж. М. Эредиа. О своей высокой оценке поэзии Эредиа М.М.Б. говорил в
беседе с В. Д. Дувакиным в феврале 1973 г. («Человек*, 1993, № 4, с. 153).
13. Это имя связано с проблематикой фрагмента не только общей темой
сострадания, отождествляемого с любовью у Шопенгауэра, но и конкретным мотивом
искупления твари как задачи человека; в поддержку этого мотива Шопенгауэр
ссылается на Мейстера Экхардта («Мейстер Экхардт хочет сказать: за то, что человек в
себе и вместе с собой искупает и животных, он пользуется ими в этой жизни»), на
349
новозаветное Послание к Римлянам («Ибо тварь с надеждою ожидает откровения
сынов Божиих... Ибо мы знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне...»
— Рим., гл. 8, 19, 22) и на буддизм; см.: А. Шопенгауэр. О четверояком корне... Мир
как воля и представление, т. 1. Критика кантовской философии. М., 1993, с. 475.
Неожиданный у М.м.Б. буддийский мотив также, видимо, отсылает к Шопенгауэру.
14. Ср. замечание в приведенных выше записях об отсутствии «топографического
осмысливания» в материале современности, давившем на художественный метод
349
Флобера. В координатах бахтин-ского большого времени Флобер характеризуется
одновременно как этим ограничивающим горизонт писателя давлением, так и мощным
художественным сопротивлением современности, как родством с великими именами,
позволяющим М.М.Б. ввести его в свой историко-теоретический пантеон, так и
непревозмогаемым отличием от них, побуждавшим Флобера чувствовать себя
«маленьким» перед ними. Ср. в Доп.: «Шекспир космичен, пределен и топографичен»
(с. 87).
15. В письмах из Египта и затем в написанных на их основе путевых заметках
Флобер технически-подробно описывает танцы египтянки Кучук-Ханем и нубиянки
Азизе; см.: Notes de Voyage, v. 1, р. 156-157, 165-166; Flaubert. Correspondance. Paris,
Gallimard, v. 1, 1973, p. 600, 605-606. Впечатления эти были потом использованы в
картине танца Саломеи в «И роди аде» (см. прим. выше).
16. В стихотворениях «Кошки», «Кошка», «Кот», «Гигантша», «Падаль», «Пляска
смерти»; нищие и проститутки проходят сквозь многие стихотворения «Цветов зла». О
своем «особом пристрастии» к Бодлеру в юности М.М.Б. рассказывал В. Д. Дувакину
(«Человек*, 1993, «Nb 4, с. 153).
17. В письмах к друзьям молодости оечь идет о них постоянно, при этом в тонах
патетических, с вызовом буржуазной добропорядочности, напр., в письме Эрнесту
Шевалье от lö марта 1839: «Да, сто тысяч
раз да, — я больше люблю б....., чем гризеток... Нет, по мне уж
низменность так низменность — это поза, и она ничем не хуже других. Здесь я
хорошо знаю, с чем имею дело. Я полюбил бы всем сердцем красивую, пылкую
женщину и б.... в душе. Вот до чего я дошел» (Письма 1831-1854, с. 46-47; в оригинале
слово с отточиями — une putain — см.: Flaubert. Correspondance. Paris, Gallimard, v. 1,
1973, p. 33).
18. Ср. в статье «Эпос и роман» (возникшей первоначально как доклад «Роман как
литературный жанр», 1941): «Сама романная действительность — одна из возможных
действительностей, она не необходима, случайна, несет в себе иные возможности»
(ВЛЭ, 480).
19. Систему эту Флобер синтезировал в своем «Лексиконе прописных истин»,
составлявшемся им в последние 30 лет жизни. Замысел «Лексикона» описан им в
письме Луизе Коле от 17 декабря 1852 г. (Письма 1831-1854, с. 286-287).
20. Замысел романа «Анубис» был результатом путешествия в Египет и на Ближний
Восток (1849-1850). Это «история женщины, которая хочет быть любимой богом»
(письмо Луи Буйе от 14 ноября 1850, см.: О литературе..., т. 1, с 1о6). Из этого замысла
вырос роман «Саламбо». См. о замысле: Б. Г. Реизов. Творчество Флобера. М., 1955, с.
331-333. Там же (с. 304) — о проекте романа «Спираль», относящемся к началу 60-х гг.
и возникшем под впечатлением этюда в
350
прозе Ш. Бодлера «Искусственный рай» (1861); тема жизни в мечте в jtom
флоберовском замысле связывалась с бодлеровской темой «искусственного рая» как
состояния опиомана. О книге Бодлера (и в связи с ней о книге Томаса де Квинси
«Исповедь англичанина описфага», тему которой варьировал Бодлер] М.М.Б.
вспоминал в той же беседе с Дувакиным («Человек*, 1993, 4, с. 148-149).
21. Одна из буддийских джатак: Будда в облике царя по имени Шиба отдает свое
тело как выкуп за голубя, преследуемого соколом (в обличье которого скрыт бог
Индра). См.: Арья Шура. Гирлянда джатак или Сказания о подвигах Бодхисаттвы, пер.
с санскрита А. П. Баранникова и О. Ф. Волковой. М., 1962, с. 327.
22. Термин, подобный нашей «обломовщине», был создан французским эссеистом
Жюлем де Готье в книге «Боваризм, или опыт о власти воображения» (1902). О
350
явлении боваризма М.М.Б. говорил в докладе «Роман как литературный жанр» («Эпос
и роман», 1941) в связи с возможностью для читателя романа сделать его «заменою
собственной жизни» (ВЛЭ, 475). Почти синхронно флоберовскому (опережая его на
десятилетие) русский вариант «боваризма» возник в «Белых ночах» Достоевского; это
еще один аспект сближения двух писателей, намеченного в публикуемом тексте и в
одном из вскоре за ним написанных: «Разная трактовка мечтательности и мечтателя
(Достоевский и Флобер)» (с. 76). Одновременно и независимо о боваризме как явлении
духовной культуры XIX-XX вв. писал в эмиграции старший брат М.М.Б. — Николая
Бахтин. «Слово привилось — лишнее доказательство того, что оно выражает
существенный факт»
— писал он в статье, которую можно считать для него программной,
— «Разложение личности и внутренняя жизнь» («Числа», Париж, 1930/1931, № 4).
Для него явление боваризма было симптомом внутреннего разлада современного
человека, диагностированного Флобером (и философски предельно остро выявленного
и, как считал Н. Бахтин, в значительной мере преодоленного Ницше): «человек 19г го
века обыкновенно не смеет быть тем, чем он себя сознает, и не хочет сознавать себя
тем, что он есть» (Н. М. Бахтин. Статьи. Эссе. Диалоги. М., 1995, с. 48).
23. Повесть с этим названием (1876) — «рассказ о незаметной жизни» (письмо Роже
де Женетт от 19 июня 1876; см.: Собр. соч. в 10 тт., т. VIII, с. 455) и, можно сказать,
сам образ «элементарного бытия», сводящегося к минимуму привязанностей, и этот
минимум — дети и животное (попугай).
24. Можно отметить перекличку этих слов, относящихся к «элементарному бытию»,
с темой «милования» и «эстетического спасения» одного человека другим как героя
автором в АГ
25. Ср. обращение к буддийской теме в непосредственно перед тем написанных Доп.
(с. 115). Здесь неожиданно «предпосылка буддизма» усматривается в монологе
Гамлета, в котором звучат мотивы «сомнения в смерти» и «безвыходности бытия» в
скрытом противоречии христианской идее бессмертия.
26. Анализ «первичных данных нравственности» в «Оправдании добра» Владимира
Соловьева (1894-1897). Эти данные: стыд как отношение к низшей природе в себе,
жалость как отношение к другому подобному и равному человеку и как источник
любви «в смысле чисто психологическом» («Гораздо раньше Шопенгауэра русский
народ в своем языке отождествил эти два понятия: «жалеть» и «любить» значит для
него одно и то же») и благоговение как отношение к выс
351
шему — источник религиозного чувства. См.: Вл. Соловьев. Сочинения в 2-х тт., М.
1Ö88, т. 1, с. 51-56, 119-135, особенно с. 128)
27. «Братья Карамазовы», ч. 3, кн. 9, IX; Достоевский, т. 14, 456.
28. Можно отметить и такой сближающий двух писателей биографический факт, как
детство, проведенное в больничной квартире.
29. М.М.Б. продолжает исследование связей этих двух явлений, начатое в 20-е гг. в
статье «Проблема содержания, материала и формы в словесном художественном
творчестве» (1924) и ФМ. Эта связь двусторонняя: «позитивизм с его вышколенностью
и щепетильнейшей научной осторожностью» (ФМ, 63) подготовил отторжение
поэтики «от общей философской эстетики» и «стремление построить науку во что бы
то ни стало» (ВЛЭ, 7-11), характеризующие формализм, и в то же время он был
объектом преодоления и играл роль сдерживающего противника в формировании
западноевропейского искусствоведческого формального направления, описанного в
ФМ с уважением (ФД/, 59-7о). К этому европейскому позитивизму, влиявшему на
Флобера, относится двойственная уважительно-презрительная характеристика его в
351
настоящем фрагменте. Ситуация русского формализма в соотношении с позитивизмом
описана в ФМ совершенно иначе: «Те положительные задачи, которые выполнил
позитивизм в западноевропейских гуманитарных науках — обуздать мысль,
вышколить ее, приучить ее понимать весомость эмпирического конкретного факта, —
у нас не была выполнена и продолжала стоять на очереди ко времени появления
формалистов» (ФМ, 78-79).
30. Продолжается расширение круга действия менипповой сатиры в европейской
литературе в понимании М.М.Б. В статье «Сатира» ее значение еще ограничено, и ее
традиция в европейской литературе не простирается далее знаменитой «Satire
Мёшррее» 1594 г. и книги Рабле. В работах начала 40-х гг. эта традиция
распространяется на творчество Достоевского (см. в наст, томе выше: «К истории типа
(жанровой разновидности) романа Достоевского», «<Риторика, в меру своей
лживости...>», Доп.), а в публикуемом тексте и на Флобера.
31. Одна из главных тем Флобера, приобретающая у него поистине монументальный
характер («Человеческая глупость, Безысходна, величава» — можно вспомнить эти
строки А. Блока из стихотворения 1914 г.) и концентрированная в особенности в его
последнем незаконченном романе «Бувар и Пекюше» (1872-1880) и в «Лексиконе прописных истин», который должен был войти в ненаписанную вторую часть романа. В
«Буваре и Пекюше» сказались как двойственность отношения автора к явлению
глупости (два героя романа — типы «наивной глупости», карнавальные фигуры
глупцов-чудаков, изображенные не без симпатии и любования ими), так и животная
метафора, заложенная в слове «betise»: роман изобилует гротескными сравнениями
действующих лиц, в том числе двух героев, с различными животными и птицами.
Амбивалентность глупости — одна из тем ТФР («раблезианская апология глупости как
одной из форм н е о ф и циальной правды, как особой точки зрения на мир»: см. с. 284285, 464); ср. в поздних заметках М.М.Б. о «различии между глупостью
(амбивалентной) и тупостью (однозначной)» (ЭСТ,
32. Этот взгляд на развитие европейского романа XIX-XX вв., согласно которому
линия Пруста и Джойса явилась одной из двух вершинных линий, наряду с линией
Толстого и Достоевского, знаменуя
352
собой обновление жанра после периода стабилизации формы романа в XIX в. с
одновременно начавшимися «разложением и деградацией* (Флобер оказывается на
перекрестье этих процессов, заключая в себе все тенденции), — остался
неразвернутым в романной теории М.М.Б., но он весьма симптоматичен. Этот взгляд
не столь неожида-нен в контексте лабораторной, «неофициальной» работы М.М.Б. 3040-х гг. В лабораторных текстах встречаются замечания, говорящие об интересе к
романному новаторству этих авторов, в особенности — к речевым экспериментам
Джойса. В тетради конца 30-х гг., озаглавленной — «К вопросам теории романа», —
один из текстов открывается фразой, суммирующей целую программу изучения:
«Проблема изображения непрерывного и прерывистого речевого потока от Горация до
Джеймса Джойса» (АБ). Запись, ставящая Джойса в бахтин-ское большое время и в
первый ряд всемирной литературы. Весьма интересно, что в вариантах рукописи о
Рабле и затем в ТФР Флобер появился как бы на месте Джойса. А именно: в тексте
1940 г. (Р-1940) 1 в гл. VII («Образы материально-телесного низа в романе Рабле»), с.
578, к абзацу, в котором речь идет об «алогических сферах непубликуемой речи в
новое время», сделано примечание: «Попытки этого рода, безусловно очень
значительные и интересные, делаются Джеймсом Джойсом. Аналогичные попытки
делаются и рейдиствующими оксфордцами (Оден и Спендер), есть они также у
352
емингуэя, Дос Пассоса и др., но они менее существенны». Карандашная приписка на
полях машинописи, сделанная, видимо, позже: «Другим вариантом тех же попыток
является дадаизм, и в особенности сюрреализм. Использование этих форм в
реакционных целях (противопоставленных? положных?> научному мировоззрению
(АБ). В переработанном варианте рукописи (Р-1949/50) это примечание на этом самом
месте заменено тем самым примечанием на тему «непубликуемых сфер речи» у
Флобера, перенесенным из публикуемого текста 1944-Г945 гг. и перешедшим затем в
ТФР, 459, о котоSm см. выше в настоящем комментарии. Итак, оценка линии Пруста-жойса в
публикуемом фрагменте не изолирована у М.М.Б., архивные тексты которого
свидетельствуют о теоретическом интересе к немалому кругу явлений западного
искусства XX в. См. также сближения с древней карнавальной традицией, проходящей
сквозь историю европейского романа, явлений кубизма, дадаизма и сюрреализма, имен
Альфреда Жарри и Макса Жак оба, а также поэтов-сюрреалистов, в Доп. (с. 119). В
ТФР в освещении тех же явлений (того же Жарри и тех же сюрреалистов) изменены
акценты: они предстают явлениями модернистского гротеска, в большей мере
отграничиваемого от «карнавального наследия гротескных мотивов и символов», чем
сближаемого с ним (ТФР, 53-60). Очевидно, этот аспект романной и карнавальной
теории М.М.Б., связанный с его несомненным вниманием к явлениям современного
модернизма, не получил у него развития по условиям времени (позднейшая карандашная приписка на полях машинописи 1940 г. уже имеет, видимо, автоцензурный
характер). Но слово «в особенности» в отношении к Джойсу говорит о многом.
Проблему значения Джойса для М.М.Б. угадал С. С. Хоружий, не знавший архивных
текстов и исходивший из того, что «сам Бахтин не оставил об этом даже намека. В его
текстах нет ни единого упоминания Джойса, и этот факт тоже требует объяснений...»
— в статье «Диалог Джойса и Бахтина на тему о легком чтении», представляющей
отклик на книгу: R. В. Kerschner. Joyce, Bakhtin and Populär Literature. Chapel Hill, North
Caroline: University of North Caroline Press, 1989 (ДКХ, 1992, № 1, c. 123-126).
33. Темы «Саламбо». Обе темы обсуждаются в письме Флобера к Ш. Сент-Беву (в
ответ на критику им романа) от 23-24 декабря
353
1862: «Нет ничего сложнее варвара... ни я, ни вы, никто не может понять восточную
женщину...» (Oeuvres completes. Correspondance, 5-е serie, р. 56, 58).
34. «Роман мумии» — «археологический роман» Т. Готье о древнем Египте (1858) —
вышел, когда Флобер работал над «Саламбо».
35. Здесь и ниже М.М.Б. критикует «этнографическую» разновидность позитивизма
(неприятием позитивизма и формализма фактически пронизан весь состав настоящих
записей — см. прим. 29). Под упоминаемой здесь оценкой «начал» как «священных»
имеется в виду, скорее всего, теория первобытной религии истинного богопознания
(или — прарелигии), восходящая к «сравнительной мифологии» как ответвлению
«сравнительного изучения религий» (Хр. Гейне, Фр. Шлегель, Я. Гримм и др.).
Противоположная — «профанная» — оценка «начал» как низшей стадии культуры,
эволюционно развивающейся по восходящей прямой вплоть до современного типа
мышления, с той или иной степенью настойчивости разрабатывалась в работах Э.
Тейлора, Ш. Летурно, Д. Фрезера и др., но в своем наиболее отчетливом виде она была
сформулирована
Л.
Леви-Брюлем.
Хотя
использованное
здесь
М.М.Б.
терминологическое противопоставление «священного» и «профанного» однозначно
связывается в этнографии с основателем французской социологии Э. Дюркгеймом,
считающимся в том числе и «учителем» Леви-Брюля, именно круг идей последнего,
судя по дальнейшему развитию данного фрагмента (см. прим. 37), мыслится здесь как
353
основной объект критики (сам Дюркгейм не находил принципиальных качественных
различий между архаическими и современными обществами).
36. Возникновение концепции «вечного возвращения» сам Ницше относил к 1881 г.
(см. Nietzsche F. Werke: In 3 Bd. Hrsg. von Karl Schlechte. München. 1982, S. 1128).
Летом того же года Ницше разрабатывал эту концепцию в черновых набросках к
ненаписанной книге «Die Wiederkunft des Gleichen». Содержание данной идеи Ницше
составляет одно из самых темных мест его наследия, т. к. большая часть относящихся
сюда материалов известна по книге «Воля к власти», составленной после смерти
Ницше его сестрой Э. Фёрстер-Ницше и неоднократно — не без оснований —
подвергавшейся критике за ее произвольную композицию, неточности, ошибки и пр.
Достаточно отчетливое представление об этой идее Ницше можно составить, однако,
по 341 афоризму «Веселой науки» (см. Ницше Ф. Сочинения в двух томах. Том 1, М.,
1990, с. 660; см. здесь же комментарий К. А. Свасьяна по поводу концепции «вечного
возвращения» — с. 813-814). Бахтинское понимание «вечного возвращения» скорее
всего не совпадает с ницшевским: Ницше ценился в этом смысле М.М.Б. вероятно
лишь за исторически своевременное заострение этой проблемы. Подробнее о
специфически бахтинском понимании «возврата к началам» см. прим. 13 к работе «К
философским основам гуманитарных наук».
37. На протяжении 30-х годов понятие «первобытного мышле ния* однозначно
связывалось с работами Л. Леви-Брюля, хорошо к тому времени известными русскому
читателю. В 1930 г. в издательстве «Атеист» вышла книга «Первобытное мышление»,
представляющая собой перевод двух основных к тому времени трудов Леви-Брюля:
«Мыслительные функции в низших обществах» («Les fonctions mentales dans les
societes lnferieures», 1910) и «Мышление примитивов» («La mentalite primitive», 1922).
Дополнительным стимулом к оживлению дискуссий о первобытном мышлении стал
перевод более поздней (1935 г ) работы Леви-Брюля «Le sumaturel et le Naturel dans la
354
inentalite primitive» («Сверхъестественное в первобытном мышлении». М., 1937).
Стержнем
концепции
Леви-Брюля
было
принципиальное
качественное
противопоставление коллективных компонентов первобытного («прелогического», т. е.
безразличного к противоречиям, и «мистического») мышления и мышления
современного («нормально» логического или «концептуального»). Эта идея сразу же
вызвала ряд продолжительных дискуссий (в частности, во Французском Обществе
Философии); против Леви-Брюля в печати высказались Ф. Боас и Б. Малиновский,
частично поддержал Леви-Брюля Э. Кассирер. Не могла не вызвать дискуссии позиция
Леви-Брюля и у нас (теория прелогического первобытного мышления и его
«восхождения» к мышлению современному соответствовала эволюционной социальноэкономической доктрине марксизма, но, с другой стороны, Леви Брюль высказывал
также тезис о принципиальном различии между мистицизмом первобытного
мышления и «зрелой», то есть закономерно присущей развитому мышлению, религией
современной культуры, что не могло не бередить фундаментально-атеистическую
«душу» марксистов). Проблема первобытного мышления, действительно, занимала
«большое м е с т о » в тогдашнем мировоззрении, причем, если сам Леви-Брюль был
все-таки достаточно осторожен в своих формулировках (см., напр., его предисловие к
русскому изданию «Первобытного мышления», в котором, в частности, имеется
превентивное утверждение, — соответствующее, кстати, одному из бахтинских
положений ниже по тексту, — о том, что «если принять в расчет древность жизни
человека на земле, то люди каменного века отнюдь не более первобытны, чем мы» —
Леей-Брюль Л. «Сверхъестественное в первобытном мышлении». М., 1994, с. 7), то его
многочисленные у нас как сторонники, так и оппоненты довели идею прелогического
354
первобытного мышления до ее крайнего, заостренно-однозначного, понимания. Так
было «сподручней» и поддерживать эту идею, и критиковать ее (поддерживали ЛевиБрюля Богданов, Бухарин, Марр и др., оспаривали — Каутский и др.; в собственно же
научных кругах дискуссия была значительно более мягкой по форме, напр., у А. Ф.
Лосева, причем в целом преобладало спокойно-позитивное отношение к идее
первобытного мышления, как, напр., у Г. Г. Шпета). Вероятно, именно этот —
специфически «отечественный», т. е. крайне заостренный на марксистском фоне —
контекст проблемы и имелся здесь прежде всего в виду М.М.Б. под «господствующим»
и, соответственно, резко критикуемым ниже пониманием вопроса, так как в
академических этнографических исследованиях — во всяком случае зарубежных —
ситуация не была, конечно, столь однозначно прямолинейной. Однако, критика М.М.Б.
имела, вероятно, и вторую цель (подробней см. прим. 40).
38. Незначительная величина (франц.).
39. Здесь в автографе — непоправимое повреждение текста.
40. Косвенным свидетельством преимущественной установки данных бахтинских
записей на специфический «отечественный* контекст обсуждения проблемы
первобытного мышления (см. прим. 37) является то, что практически по каждому
приведенному здесь М.М.Б. критическому пункту можно назвать — в качестве своего
рода «противовеса» — имена тех этнологов или философов, которые в своих уже
вышедших ко времени написания настоящих бахтинских заметок работах занимали
такую же критическую позицию в названных в данном абзаце и связанных с
первобытным мышлением конкретных вопросах, как и М.М.Б., что, однако, не
предопределяет, конечно, их какой-либо близости в собственно содержательном плане.
355
Так, против однозначно эволюционных доктрин в этнологии и истории
неоднократно выступал в 30-40-е гг. хорошо известный М.М.Б. и достаточно высоко
им ценимый Л. Февр; большинство известных историков констатировали к тому
времени провал всех попыток объяснения мира и его истории через призму
рациональной механики доэйнштейновской «эры»; в «Диалектике мифа» А. Ф. Лосева,
вышедшей в 1930 г., принципиально оговаривалось, что мифологическое мышление
должно рассматриваться не на фоне и «глазами» современного мышления, а с точки
зрения самого мифа, «его глазами»; идея некоего «единого» типа первобытного
мышления уступила к тому времени место необычайно разросшейся классификации:
А. Тойнби, напр., насчитывал шестьсот пятьдесят первобытных обществ, причем
движение истории понималось тем же Тойнби как постоянные «отступления» и
«возвращения»; те типы мышления, которые, по М.М.Б., шли по совершенно иным,
вовсе не параллельным с нашим путям (напр., буддизм, который несколько раз
возникает в данных записях именно в таком контексте), получили к сороковым годам
общее название «типов цивилизации», и таких типов насчитывали более двадцати (в
том числе и буддийский, и даже русский); уже начал к тому времени активно
печататься и К. Леви-Gr росс, который оспаривал Леви-Брюля по тем же, что и М.М.Б.,
пунктам; более того — Леви-Огросс был склонен оценивать «начала», т. е. архаические
общества, хотя и не как сакральные (см. прим. 35), но — как более гармоничные и
естественные для человека, чем современные общества (ср. в этом смысле выше по
данному тексту М.М.Б. об «элементар ной* жизни с ее невинностью, чистотой,
простотой и святостью).
Преимущественная направленность бахтинской критики против упрощен новульгарной этнографии, таким образом, достаточно очевидна. И все же в ней
чувствуется вместе с тем и второе, подводное течение, — хотя бы по одному тому, что
такое однозначное понимание подразумеваемых М.М.Б. в данном месте оппонентов и
355
стилистически, и модально, и — во многом — содержательно не «увязывается» с
тоном и смыслом других частей данных записей, достаточно «открытых» и
адресованных как бы более «близкому» читателю, чем обрисованный выше тип
оппонента. Если иметь в виду весь состав данных записей, то можно, видимо,
предположить, что критика М.М.Б. метит здесь и в другую цель. Гипотетически можно
даже предполагать, что в действительности она направлена не только на одну
определенную — упрощенно-вульгарную — разновидность «этнографического»
мышления, но на само это мышление в целом, если оно претендует на философские
обобщения, так как этнография как таковая самой природой своих исследовательских
методов — как бы они ни были редуцированы в тех или иных филоссфски насыщенных исследованиях — является, скорее всего, с точки зрения М.М.Б., принципиальным
овеществлением культуры и всей области духа вообще. Этнография без элементов
позитивизма перестала бы быть таковой (не случайно выше в данных записях М.М.Б.
дает «через запятую» с позитивизмом, т. е. фактически как равно критикуемый
синоним, понятие формализма: именно формализм лежал в определенной мере в
истоках структурализма, и именно последний стал приоритетным методом
исследования как раз в тех этнографических работах, которые выше были приведены в
качестве своего рода «противовеса» к конкретным пунктам бахтинской критики теории
первобытного мышления; напомним также, что именно структурализм окажется в 5070-е годы в центре критического внимания м.М.Б.). Если еще более укрупнить
предполагаемый объект бахтинской критики, то, исходя из всего состава записей,
можно говорить, что таковым здесь является вообще вся новоевропейская культура с
ее рационализмом (resp., монологизмом), непризнанием «возможности совершен
356
но иной жизни и совершенно иной конкретной ценностно смысловой картины мира»
(с. 134), стремлением разъять (с. 135), расчленить инородное органическое целое на
части с тем, чтобы привести их к одному рациональному знаменателю, и т. д. В
качестве альтернативы и в данных бахтинских записях, — хотя и мимоходом, —
мыслится как бы «романное* видение истории (см. с. 132, 135), при котором между
сознательно признаваемым и принимаемым причудливым разнообразием типов
мышления, культур, религий и пр. устанавливаются не рационализированные (и все
аналогичные им), а диалогические (полифонические) отношения. В этом смысле
выраженная в настоящих записях позиция М.М.Б. в связи с проблемой первобытного
мышления оказывается противостоящей не только упрощенно-вульгарным, но и
любым усложненно-дифференцированным историко-ггнографическим концепциям.
41. Дефект в рукописи.
42. «Это с4)ера, которая истиной не освещается», — говорил М.М.Б. о политике в
разговоре с автором настоящего комментария 5 янв. 1972 (см.: Новое литературное
обозрение, 1993, № 2, с. 82).
43. Ср. более сложное использование образа кирпичей в позднем «Ответе на вопрос
редакции «Нового мира» (1970): «Шекспир, как и всякий художник, строил свои
произведения не из мертвых элементов, не из кирпичей, а из форм, уже отягченных
смыслом, наполненных им. Впрочем, и кирпичи имеют определенную
пространственную форму и, следовательно, в руках строителя что-то выражают» (ЭСТ,
351).
44. В романах «Воспитание чувств» (1864-1869) и «Бувар и Пекюше».
45. Более подробное развитие мысли — в Доп., 115-116.
46. Карнавальная божба и клятва; см.: ТФР, 208-209.
К СТИЛИСТИКЕ РОМАНА
356
Печатается впервые. Текст записан на 23/4 стр. такой же рыхлой писчей бумаги,
такими же фиолетовыми чернилами, что и текст о Флобере и примыкающие к нему
записи (см. прим. к «<0 Флобере^); эти внешние палеографические признаки и
заключающее рукопись имя Флобера дают основание считать данный текст спутником
публикуемого выше фрагмента о Флобере и также датировать его концом 1944-1945 гг.
Имя Флобера как последнее слово рукописи можно рассматривать как указание на
целевую причину (так сказать, энтелехию) текста: можно думать, что это очередное
обращение автора к проблемам «стилистики романа» в данном случае было стимулировано его занятиями Флобером, с которым он связывал «узловой момент в истории
романа» (с. 134). Занятия Флобером заново повели автора к общей проблеме романной
стилистики, а эта последняя привела к Флоберу и теме животных, стоящей в центре
фрагмента о нем. Соотношение двух текстов — один из примеров соотношения
общетеоретического исследования и монографического внимания к отдельному
писателю, соотношения, отличающего стиль мышления М.М.Б.
357
♦К стилистике романа» — магистральная проблема всего творчества М.М.Б.,
начиная с ПТД (второй их части: «Слово у Достоевского») и СВР, где подход автора к
теории романа сразу сформулирован как «упор на "стилистику жанра » (ВЛЭ, 12).
Публикуемый текст представляет собой новую вариацию всего комплекса тем и
гг., ни одна из которых не была, однако, опубликована (кроме ПТД, в которых все
же — лишь приступ к общей романной теории М.М.Б. 30-х гг.), что побуждало автора
поднимать эти темы снова и снова. К большинству из них можно сделать отсылки к
уже известным теперь работам автора (опубликованным, в большинстве своем,
посмертно), что и делается ниже. В то же время текст содержит формулировки и
повороты тем, в других работах не встречающиеся; такова общая (но при этом
многоаспектная) формула «основных недостатков теории жанров», таков тезис,
несколько вызывающий, о «бессмертных романах» (т. е. о том, что их «почти нет»), с
выделением одного Рабле и «оговорками» о Сервантесе и Достоевском, таково
уподобление жанров «национальностям или государствам в политической жизни
мира», наконец, «животный» мотив и его значение «в истории романа и романных
образов», непосредственно подводящий (или возвращающий) к имени Флобера.
Доклад «Основные проблемы стилистики романа» был сделан автором в
Мордовском пединституте в Саранске 11 февраля 1948 г. (протокол секционного
заседания литературного чЬакультета — Центральный гос. архив Республики
Мордовия, ф. 546, оп. 1, д. 227, л. 38); тема «Стилистика романа» записана в плане
научных работ кафедры всеобщей литературы пединститута (С. С. Конкин, Л. С.
Конкина. Михаил Бахтин. Саранск, 1993, с. 267).
Рукопись, по которой печатается текст, имеет невосстановимые повреждения:
оторван нижний угол одного из листов — отсюда пробелы в тексте.
1. Вписано между строками посередине листа — как, возможно, подзаголовок
текста.
2. О пародийном слове как источнике слова в романе — во всех работах автора по
теории жанра; см.: ВЛЭ, 122, 175, 185-186, 418-445; ТФР, 25-27 и далее. Оо обширном
мире разнообразных видов пародий как «своего рода этюдов к роману» в эпохи
подготовки жанра: ВЛЭ, 450.
3. Ср.: ВЛЭ, 421; ТФР, 32, 60-61, 71, 214, 223, 349, 441; также с. 82, 84 наст. тома.
4. О жанрах dits (сказов) и debats (прений, споров) в народно-праздничной
средневековой культуре: ТФР, 165. Там же (с. 472) — об античных и средневековых
«народно-праздничных спорах времен и возрастов» («зимы с весной, старости с
юностью, поста с изобилием, старого времени с новым временем»). См. также в Доп.
357
5. См.: ТФР, 46, а также особенно Доп., с. ПО наст. тома. Проблематика имени как
«первофеномена поэтического слова» и прозвища как «первофеномена слова
прозаического» особенно интересовала автора в годы написания Доп. и настоящего
текста; ср. также постановку проблемы собственного имени в эпосе и романе (со
ссылками на Данте и Рабле) в заметке начала 40-х гг. «<К вопросу об исторической
традиции и о народных источниках гоголевского смеха>» (с. 46); здесь же — о
«возможности метафорической игры в имени». Ср. в этой заметке мысль о появлении
вымышленного имени «только в личном творчестве», выражением которого стал
роман, плод личного
мотивов, уже многократно
предьщущих
358
опыта и свободного вымысла (ВЛЭ, 481), с парадоксальным тезисом о том, что в
романе «нет имен», в Доп. (с. 102). Та же тема — в поздних записях М.М.Б. о Гоголе:
«Мир без имен, в нем только прозвища и клички разного рода» (ЭСТ, 358).
6. О блазонах: ТФР, 464-468.
7. См.: ВЛЭ, 417-446.
8. Ср.: «Большинство не склонно к радикальному пересмотру основной философской
концепции поэтического слова. Многие вообще не видят и не признают философских
корней той стилистики (и той лингвистики), в которой они работают, и уклоняются от
всякой фи-лодофской принципиальности» (ВЛЭ, 80). Сказанное о стилистике
относится и к теории жанров, тесно переплетавшейся, до слияния, со стилистикой у
М.М.Б.
9. Ср.: «понимая жанр не в формалистическом смысле, а как зону и поле
ценностного восприятия и изображения мира» (ВЛЭ, 471). Теорию жанров как
типических форм ценностного овладения определенными сторонами действительности
автор развил еще в ФМ, 175-185.
10. Роман, по концепции М.М.Б., связан с «радикальным переворотом в судьбах
человеческого слова», состоявшим в разрушении абсолютной сращенности языка с
национальным мифом и «власти мифа над языком» (ВЛЭ, 178-181). Эпос и трагедия
возможны «только на почве единого и целостного национального мифа» (ВЛЭ, 429).
«Новый трезвый художественно-прозаический романный образ и новое, основанное на
опыте, критическое научное понятие формировались рядом и одновременно» (ВЛЭ,
481). Ср. в Доп.: «новое понятие вылупливается из сократического диалога» (с. 81).
11. Ср.: ВЛЭ, 480, а также «<0 Флобере>», с. 132.
12. О Сократе как «новом типе прозаической героизации», с сочетанием народной
маски непонимающего дурака-шута «с чертами мудреца высокого типа (в духе легенд
о семи мудрецах)»: ВЛЭ, 467. В «карнавализованных легендах» вокруг него «герой
превращается в шута (ср. позднейшую карнавализацию легенд вокруг Данте, Пушкина
и т. п.)»: там же.
13. Семь мудрецов — древняя мифологема, воплотившаяся в поэзии Вавилона
(поэма о Гильгамеше) и Индии и оказавшая влияние на формирование представлений о
ранней греческой философии. Легендарные известия о семи греческих мудрецах, чья
мудрость выразилась «в кратких и достопамятных изречениях», содержатся в диалогах
Платона «Протатор» и «Гиппий больший» (см.: Платон. Собрание сочинений в 4 тт., т.
1, М., 1990, с. 386, 455); ими названы здесь мыслители, законодатели и политические
деятели VII-VI вв. до Р.Х.
358
среди них — Фал ее Милетский и Солон). Времени семи мудрецов список которых
не совпадает с платоновским) посвящена 1-я книга сочинения Диогена Лаэртского «О
жизни, учениях и изречениях знаменитых философов» (М., 1979, с. 63-102). «Семь
мудрецов» — устойчивая формула бродячих сюжетов древней повествовательной
литературы разных народов; на Руси была широко известна «Повесть о семи
мудрецах», переведенная с польского (а на польский с латинского) в XVI или XVII в.
(см.: А. Н. Пыпин История русской литературы, т. 2, СПб., 1898, с. 529-532). У М.М.Б.
мотив возникает также в ст. «Эпос и роман» (1941) в связи с образом Сократа: см.
предыдущее примечание к настоящему тексту. Также в архивных
359
записях конца 30-х гг., связанных с работой над темой романа воспитания: «Циклы
легенд о мудрецах, возникшие на античной почве (о семи мудрецах, о Сократе, о
Диогене и др.), создают совершенно новый тип образа человека и героя, существенно
родственный романному типу» (АБ).
14. Дефекты рукописи (угол листа оторван).
15.
Открытие
«особого
внежанрового
или
междужанрового
мира»,
представляющегося автору огромным, не отлившимся в форму романом, в культуре
поздней античности, средневековья и Ренессанса (ВЛЭ, 424-425) — одно из
крупнейших открытий М.М.Б.
16. Ср.: ВЛЭ, 451.
17. Ср.: ВЛЭ, 449, 451.
18. Одна из сквозных тем романной теории М.М.Б., у которого обоснование особой
прозаической художественности как второй ведущей линии развития европейской
литературы (наряду с поэтическим в собственном смысле словом) шло через пересмотр
традиционного отнесения художественной прозы и романа к риторическим формам, в
том числе в современных работах Г. Г. Шпета и В. В. Виноградова (полемика с книгой
которого «О художественной прозе», М.-Л., 1930, была одним из аспектов тотального
теоретического спора М.М.Б. с Виноградовым, проходившего по комплексу тем на
протяжении десятилетий, начиная с ПТД; см. ниже комм, к блоку архивных
материалов к РЖ и к ПТ, а также к текстам «Вопросы стилистики на уроках русского
языка в средней школе» и «Язык в художественной литературе». См.. ВЛЭ, 80-82, 165166, 210, 217-220, 409, 475-476; ЭСТ, 354-357).
19. Дефекты рукописи.
20. В рукописи было начато: «иронического».
21. М.М.Б. любит освещать свою теорию жанров разного рода сравнениями; ср.
уподобление изучения классических жанров изучению мертвых языков, «изучение же
романа — изучению живых языков, притом молодых» (ВЛЭ, 448).
ВОПРОСЫ СТИЛИСТИКИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В СРЕДНЕЙ
ШКОЛЕ*
Впервые — в журнале «Русская словесность», 1994, № 2, с. 47-56 (публикация и
примечания Л. С. Мелиховой). В архиве сохранилось два рукописных текста. Один
написан рукой М.М.Б. на разрозненных тетрадных листках, не пронумерованных, но
сложенных по порядку и вложенных в обложку от ученической тетради. На обложке
имеется заголовок: «Л/. М. Бахтин. Вопросы стилистики на уроках русского языка в
средней школе*, но на первой странице самой рукописи заглавие иное: «Л/. М. Бахтин.
Вопросы стилистики на уроках русского языка в VII-ом классе. Стилистическое
значение бессоюз
* В написании настоящих комментариев принимала участие С. О. Савчук.
359
359
ного сложного предложения*. В настоящем издании текст озаглавлен в соответствии
с заголовком на обложке тетради. По всей видимости, эта рукопись является исходным
черновым вариантом статьи (кроме обычной авторской правки здесь встречаются и
разные стилистические варианты одного и того же фрагмента; некоторые абзацы
перечеркнуты волнистой линией). Помимо связного текста, окончание которого
отмечено М.М.Б. специальным значком, в эту же обложку вложены три отдельных
листка, представляющие собой, вероятно, ученические работы по немецкому языку, на
обратных (чистых) сторонах которых имеются разрозненные бахтинские записи на
тему статьи, не локализованные в сплошном тексте рукописи.
Второй хранящийся в архиве рукописный текст (постранично пронумерованная
ученическая тетрадь с вложенными в нее 5 листами — всего исписано 25 страниц)
написан поочередно несколькими разными почерками, ни один из которых не является
бахти неким. Судя по характерным особенностям этих почерков (в том числе по
многочисленным орфографическим ошибкам у одного из «писцов»), можно
предполагать, что этот текст записывался под диктовку М.М.Б. несколькими
школьниками-старшеклассниками. Вероятно, имея перед собой свои исходные
черновые записи к статье, М.М.Б. надиктовывал «писцам» исправляемый по ходу
диктовки и задумываемый как окончательный вариант статьи. Однако и этот второй
«писарский» вариант остался не законченным (рукопись не озаглавлена, не
датирована; в ней не исправлены орфографические ошибки, то есть М.М.Б. скорее
всего не перечитывал эту рукопись и, следовательно, не подготавливал ее не только
для сдачи в какую-либо официальную инстанцию, но и для машинописи). Вероятно,
надобность в окончательном оформлении текста отпала (см. ниже).
Сравнение первой (бахтинской) и второй («писарской») рукописей свидетельствует,
что переработка коснулась, прежде всего, начала и окончания статьи (т. е. первой и
третьей части, вторая же часть работы практически идентична в обоих вариантах).
Имеются и композиционные отличия: в бахтинском черновике работа имеет три
раздела, отмеченные римскими цифрами, а в «писарском» варианте такая нумерация
отсутствует (хотя сохранены увеличенные пробелы между соответствующими
разделами текста). Помимо частных стилистических и лексических различий между
двумя рукописями имеются и более значительные расхождения: сжатые черновые
записи М.М.Б. развернуты в «писарском» варианте в большие фрагменты, встроенные
в окружающий контекст. Расширены по сравнению с черновиком и «обзорная» часть
статьи, и справочный аппарат. В настоящей публикации воспроизводится вторая
«писарская» рукопись без каких-либо изменений (за исключением исправленных
орографических ошибок), но вместе с тем все существенные содержательные отличия
«писарской» рукописи от чернового бахтинского варианта (прежде всего фрагменты
черновика, не вошедшие в окончательный текст) специально оговорены и приведены в
постраничных примечаниях.
Статья написана в период работы М.М.Б. в качестве преподавателя
железнодорожной школы № 39 ст. Савелово Калининской (Тверской) области и —
одновременно — средней школы № 14 г. Кимры (1942-1945). Благодаря
сохранившимся в архиве документам можно произвести и более точную датировку.
Во-первых, в черновую бахтинскую рукопись вложен одинарный, исписанный с обеих
сторон тетрадный листок, на котором рукой М.М.Б. записан набросок плана-конспекта
открытого урока по русскому языку в Х-ом классе 14 школы на тему: «Тире и
двоеточие в сложном предложении (обзорное повторение)*. Согласно этому плануконспекту, открытый урок был проведен (или был запланирован к проведению)
18.IV.45 г. В число шести языковых примеров, которые предполагалось рассмотреть на
360
360
этом уроке, входят и те три предложения, на стилистическом анализе которых
основана данная статья. Можно предположить, что конспект открытого урока либо
составлялся М.М.Б. одновременно с работой над статьей, либо, скорее, предшествовал
написанию статьи. В пользу второго предположения говорит различие в типах анализа
лингвистического материала: на уроке, насколько можно судить по плану, намечался
более традиционный (логико-синтаксический и интонационный) анализ, в статье же
опробован обновленный стилистический анализ, отражающий специфически
бахтинский «диалогический» подход к языку.
Во-вторых, в архиве сохранился отдельный тетрадный листок с написанным рукой
М.М.Б. текстом следующего содержания:
«Индивидуальная работа М.М.Бахтина на тему: «Вопросы стилистики на уроках
русского языка в VII ом кл » может быть закончена и выслана только 10 июня, т.к.
М.М.Бахтин в настоящее время очень занят на своей основной работе как
преподаватель и член экзаменационной комиссии в X ом кл. 14-ой школы.
Директор 39 шк.»
Вероятнее всего, этот текст является сформулированным самим М.М.Б. черновиком
для справки, отправленной или подготовленной к отправлению (в связи с
необходимостью производственного или отчетного характера) в какое-либо из
подразделений органов народного образования (например, методический кабинет,
курсы повышения квалификации и т. п.). Этот документ позволяет с точностью до
дней установить намеченный самим М.М.Б. срок окончания работы над статьей — не
позднее 10 июня 1945 г. Хотя в самом документе год не зафиксирован, но это не мог
быть ни какой-либо предшествующий год (фабричная маркировка даты выпуска
тетради с «писарской» рукописью — 18.VII. 1944, то есть тетрадь выпущена после 10
июня 1944 года), ни пследующий, так как 1945 — последний год работы М.М.Б. в
школе. То, что статья, как уже говорилось, не была окончательно завершена и, скорее
всего, так и не была отправлена официальному адресату, связано, вероятно, с уже
намечавшейся к тому времени переменой места работы М.М.Б. и его переездом в г.
Саранск (согласно документам, уже с сентября 1945 г. М.М.Б. числится доцентом
кафедры зарубежной литературы Мордовского пединститута).
Формальный повод для написания данной работы не вполне ясен. Если черновая
бахтинская рукопись скорее всего составлялась как основа для устного публичного
выступления (на что указывает слово «доклад» в ее заключительной части, а также
отдельные особенности синтаксиса), то во втором «писарском» варианте эти знаки
принадлежности к жанру доклада отсутствуют, а в уже упоминавшейся справке
создаваемый М.М.Б. текст назван «индивидуальной работой», которая может быть
«выслана», то есть речь, вероятно, шла о статье или методической разработке, отсюда
— используемое в настоящем издании жанровое определение данной работы М.М.Б.
как «статьи» в определенном смысле условно.
Соответствуя по стилю научно-методическому исследованию и да же представляя
собой «высокий образец» этого жанра, статья далеко выходит тем не менее по своему
содержанию за рамки собственно методического жанра. В содержательном плане
статья может восприниматься в одном ряду с теоретическими работами
«лингвистического цикла» (МФЯ, вторая часть ЛТД, СВР, РЖ, ПТ и др.), тем более,
что между этими работами и настоящей статьей обнаруживаются не только
лексические, но и теоретические параллели (некоторые из них отмечены ниже в
примечаниях) Статья несомненно имеет двупланное
361
построение и, соответственно, двух предполагаемых читателей: учителя-методиста и
лингвиста, хотя «лингвистическое прочтение* статьи, конечно, менее прозрачно и
361
очевидно. Смысловые нити, ведущие от первого (методического) ко второму
(теоретическому) плану статьи, отчетливей проступают на фоне общего положения дел
в методической литературе того времени. И в данной статье М.М.Б. — как всегда —
точно учитывает сложившуюся ситуацию: имеющиеся в статье чисто методические
аспекты должны были по замыслу представлять самостоятельный интерес для
читателя-методиста, поскольку они прямо касались наиболее дискуссионных тогда
методических тем (сохраняют они этот интерес и до сегодняшнего дня, так как в методике обучения русскому языку до сих пор не установилось какого-либо однозначного
понимания затрагиваемых М.М.Б. вопросов). В частности, бахтинская статья прямо
ориентирована на ведущееся в России с середины XIX века (а с начала XX века —
вызывающее особенное внимание) широкое обсуждение кризиса школьного
преподавания русского языка. Формально позиция М.М.Б. близка здесь к той отечественной методической традиции, которая развивалась Ф. И. Буслаевым, И. И.
Срезневским, К. Д. Ушинским, А. М. Пешковским, В. И. Чернышевым, Л. В. Щербой и
др. В рамках этой традиции велась близкая М.М.Б. критика оторванности содержания
курса русского языка от потребностей школы; утверждалась, в частности, необходимость пересмотра статуса грамматики в школьном курсе; усиливался акцент на
творческом изучении «живого» русского языка. Особое значение придавалось
разработке стилистического аспекта, в частности, вопросов грамматической
стилистики, которая как раз и была в эпицентре теоретического внимания М.М.Б. в
области лингвистики. Разделял М.М.Б. и общий пафос этой методической традиции,
проявлявшийся в постоянной и настойчивой критике догматизма и схоластики в
школьном обучении. Корень методических разногласий внутри этой единой традиции
заключался в различном понимании причин школьного догматизма и схоластики,
причем в разное время преобладали и разные варианты понимания этих причин.
Можно условно выделить два основных этапа: начало XX века и 20 — 30-е годы. Если
в начале века источник догматизма и схоластики видели преимущественно в
господстве «ненаучных» представлений о языке, то в 20 — 30-е годы, наоборот, — в
«ультраформализме», то есть в гипертрофии «научности». Первое понимание причин
кризиса школьного преподавания концентрированно отразилось на Первом съезде
преподавателей русского языка военно-учебных заведений (1903 г.), в работе которого
принимали участие И. А. Бодуэн де Куртенэ, И. А. Соболевский, Ф. Ф. Фортунатов, А.
А. Шахматов, Л. В. Щер-ба, Д. Н. Ушаков и др., а затем — на Первом Всероссийском
съезде преподавателей русского языка и словесности (27.12.1916 — 4.01.1917).
Рекомендации обоих этих съездов призывали искать научную основу методики
преподавания языка в теоретическом языкознании, что и оказало решающее влияние
на практику школьного образования в послереволюционные годы. Так как
«теоретическое языкознание» того времени развивалось либо в духе Ф. де Соссюра,
либо прямо в русле русского формализма (а обе эти тенденции лингвистики
оспаривались М.М.Б.), то и в школьной методике господствовали формалистические
схемы и анализы. И хотя в течение 20-х — 30-х годов (второй этап методических
дискуссий) школьный курс подвергся некоторой корректировке в результате
непрекращающейся критики со стороны более широко понимавших свою область
науки лингвистов (см., напр., критику А. М. Пешковским «ультраформалистических»
тенденций в преподавании языка — прим. 2), однако общая установка школьной
методики на соссюровско-формалистическое (как бы
362
«научное») языкознание сохранилась и в 40-е годы, то есть ко времени написания
М.М.Б. настоящей статьи.
362
Внешне позиция М.М.Б. хорошо «укладывается» в рамки того понимания причин
кризиса школьного образования, которое сложилось на втором этапе развития
указанной методической традиции (совпадая, в частности, с критикой
ультраформализма Пешковским), однако в действительности она равно противостоит и
первому, и второму варианту понимания причин кризиса: и формализму, и Пешковскому (о различиях между позициями М.М.Б. и Пешковского см. прим. 12). Причина
господства схоластики в школьном образовании лежит, согласно мысли М.М.Б.
(теоретически обоснованной в МФЯ и методологически конкретизированной в данной
статье), в принципиально ложной — монологической — ориентации, общей всем
соперничающим в то время как чисто теоретическим, так и методическим типам
лингвистического мышления (в том числе и тому его типу, который проявился, в
частности, в ^работах Пешковского и который формально, а следовательно —
ошибочно, может восприниматься как близкий самому М.М.Б. в данной статье).
Истоки общего преобладания в лингвистике монологических тенденций М.М.Б.
усматривал в самой истории становления и формирования этой науки, которая
складывалась в «процессе овладения мертвым чужим языком» (МФЯ, 75). Живой язык
при таком подходе и в науке, и в школе изучается так, «как если бы он был мертвым, а
родной — так, как если бы он был чужим» (МФЯ, 78). Фактически М.М.Б. стоял,
видимо, на той точке зрения, что преодоление схоластики и догматизма в школьном
образовании станет возможным только после того, как в самой теоретической
лингвистике будут преодолены монологические тенденции; путь же к преодолению
лингвистического монологизма лежит, согласно общей бахтинской философии языка,
через полную и всестороннюю адаптацию лингвистикой всего того круга проблем,
который связывался М.М.Б. с центральным для него понятием «диалогических
отношений».
На этом фоне становится прозрачней та связь, которая существует в данной статье
между ее внешне-методическим и глубинно-теоретическим планами. Представляя
собой с виду частный стилистически-методический анализ конкретного
синтаксического явления (бессоюзного сложного предложения), производимый, как
это заявлено в самой статье, в целях развития индивидуального стиля речи учащихся,
на своем втором, теоретическом, уровне данная статья одновременно направлена и на
уточнение общей лингвистической концепции М.М.Б.: здесь разработан (на основе
особо понимаемых диалогических отношений) один из ранее остававшихся не до
конца ясным частных фрагментов намеченной еще в ранних работах глобальной
теоретической задачи «пересмотра форм языка в их обычной лингвистической
трактовке» (МФЯ, 98). Хотя замысел этой принципиально новой для лингвистики
«диалогической» классификации всех языковых форм так и не был реализован М.М.Б.
полностью ни в практическом, ни в теоретическом отношении, именно он, скорее
всего, должен рассматриваться как конечная гипотетическая цель всей
лингвистической концепции М.М.Б. (подробнее об этом см. прим. 1 кД). Конкретные
синтаксические анализы, произведенные в МФЯ, ПТД, СВР и настоящей статье,
позволяют предположительно оценить потенциальную эвристическую силу этого
бахтинского замысла, причем каждая из этих работ имеет в этом отношении свои отличительные особенности.
Своеобразие настоящей статьи состоит в том, что если в других работах
«испытание» диалогической теории проводилось в основном на различных способах
передачи чужой речи, которые по самой своей природе уже предполагают
диалогические отношения (акцент при
363
363
этом ставился на изучение языка литературных произведений, в которых само
наличие разных персонажей уже изначально предполагает и наличие диалогических
отношений), то здесь объектом «обновленной проблематизации» является бессоюзное
сложное предложение, то есть общеязыковая и традиционно никак не связываемая с
диалогичностью синтаксическая конструкция.
Прежде чем перейти к специфике установленной М.М.Б. связи между этим далеким,
с обычной точки зрения, от диалогизма типом предложений и диалогическими
отношениями, необходимо оговорить возникающую здесь терминологическую
проблему. В 40 — 50-е годы М.М.Б. нередко пользовался в своих текстах разного рода
терминологическими «гибридами», представляющими собой либо полный, либо —
чаще — редуцированный собственно бахтинский «смысл», облеченный в «чужую»,
широко распространенную (а значит — понятную предполагаемому М.М.Б. читателю)
языковую «оболочку». (Подробнее об этой своего рода риторической стратегии М.М.Б.
в 50-е годы, о ее причинах и целях см. общую преамбулу к блоку подготовительных
материалов под общим заглавием «Из архивных записей к работе «Проблема речевых
жанров»). Аналогичная в терминологическом отношении ситуация сложилась и в
настоящей статье. Сам термин «диалогические отношения» ни разу не употребляется в
тексте статьи; не упоминается в ней также ни о диалоге, ни о диалогичности. В
качестве же функционального синонима («терминологического гибрида») к этому
кругу бахтинских категории используется понятие <драматизалши* (или
«драматичности»). Разумеется, термин «драматизация» не является полным аналогом
диалогических отношений. Более того: в других работах понятие «драматизации»
используется иногда почти как антипод диалога. Так, в литературоведческих работах
М.М.Б., в которых разрабатывается теория полифонии (о связи полифонии с
диалогическими отношениями см. ППД, 272 — 273), драма не только не
рассматривается как полифоническое явление, но прямо называется монологическим
жанром (ППД, 22 — 23). Однако, если учитывать апперцептивный фон читателя, на
который ориентировался М.М.Б. в настоящей статье (а этот фон включал в себя, в
частности, активную жизнь понятия драматизации в известных и авторитетных
лингвистических работах того времени, в том числе — в многочисленных работах В.
В. Виноградова), то понятие драмы и связанные с ним производные (драматизм,
драматичность, драматизация и пр.) оказываются удобным, хотя и «получужим»,
синонимическим аналогом диалогических отношений, поскольку они создают для
читателя наглядный образ распадения целого монологического высказывания «на
разные голоса». Этот двуголосый терминологический гибрид часто использовался
М.М.Б. и в других текстах, например, в работе «1961 год. Заметки», с. 332: «Слово —
это драма, в которой участвуют три персонажа (это не дуэт, а трио)». Можно даже
говорить об устойчивой текстуально-смысловой корреляции между диалогизмом и
драматизмом, прослеживаемой во многих работах М.М.Б. (МФЯ, ППД, СВР, ПТ, Д'-/).
Вполне вероятно и предположение, что понятие «драматизма* было неразвернутым
смысловым зародышем очередной диалогически ориентированной бахтинской
категории, противопоставленной сугубо монологической интерпретации драматизма у
постоянного оппонента М.М.Б. — В. В. Виноградова (см. прим. 21 к Д-1).
Что касается данной статьи, то имеющаяся здесь прямая связь между
«драматичностью» и «диалогическими отношениями» проявляется уже в той цели,
ради которой М.М.Б. использует прием «драматизации» анализируемых предложений
(то есть нарочитое утрирование мимики, жестов, эмоциональной интонации и др.).
Этот прием направлен здесь на то, чтобы наглядно продемонстрировать нали
364
364
чие в каждом бессоюзном сложном предложении нескольких (не меньше двух)
«героев», способных внести в эту формально единую (монологическую) конструкцию
свой «голос» и, следовательно, способных вступить между собой в диалогические
отношения. В конечном счете М.М.Б. подводит здесь читателя к общетеоретическому
выводу о принципиальной диалогичности (драматичности) всех бессоюзных
конструкций как таковых (см. прим. 26, 30, 32).
Этот теоретический вывод по поводу казалось бы отдельной синтаксической
конструкции затрагивает тем не менее весь синтаксис и всю грамматику в целом. Взяв
в качестве объекта анализа структурный тип предложения, выделенный на основе
обычных логико-грамматических (монологических) критериев, но придав ему диалогическую интерпретацию, М.М.Б. тем самым фактически проблематизи-рует здесь
фундаментальные постулаты лингвистики, в частности — те критерии, которые
традиционно кладутся в основу грамматической классификации языковых явлений.
Имплицитно подразумеваемая при этом фундаментальная проблема может быть
сформулирована следующим образом: к чему приведет «столкновение»
монологического и диалогического подходов? Не разрушит ли бахтинский
диалогический метод анализа существующую, построенную на формально-логических
(монологических) критериях классификацию бессоюзных сложных предложений, а за
ней — и классификацию всех сложных предложений? Или же напротив: результаты
применения диалогического подхода подтвердят оправданность выделения в качестве
самостоятельного типа и бессоюзного сложного предложения (со всеми его вариантами), и, следовательно, всех других структурных типов предложения, что в свою
очередь поддержит и традиционно используемые критерии классификации языковых
явлений. Какие-либо категорические ответы на эти вопросы от имени М.М.Б. были бы
преждевременными, прежде всего потому, что сам М.М.Б. только наметил контуры
возможной новой (диалогической) классификации языковых явлений. Однако то, что
диалогический подход так или иначе изменил бы, по мнению М.М.Б., традиционную
классификацию, несомненно. Вопрос заключается лишь в том, насколько существенны
будут эти изменения: коснутся ли они только отдельных типов предложений или —
предельная версия — в корне изменят и самую номенклатуру, и тип соотношений
между классифицируемыми объектами.
Что же касается именно бессоюзных сложноподчиненных предложений,
проанализированных в данной статье, то (если условно развить пунктирно намеченные
М.М.Б. моменты) этот единый с логико-грамматической (монологической) точки
зрения тип предложения скорее всего распадется на несколько разных типов
диалогических синтаксических конструкций, хотя, с другой стороны, эти разные типы
и могут на более высоком уровне абстракции рассматриваться как некий единый
«архитип», обладающий общими, уже чисто формальными, языковыми показателями.
В связи с этой общетеоретической проблемой возникает и вопрос о том, случаен ли
выбор М.М.Б. в данной статье именно бессоюзных конструкций в качестве объекта
диалогического анализа? Если не принимать в расчет предположения, что это могло
быть сделано либо по внешнему тематическому заказу, либо по соображениям
практического удобства (возможность дать диалогическую интерпретацию
синтаксическому типу, изучаемому в школьной программе), то в качестве одной из
причин этого выбора могло быть то, что М.М.Б. и раньше относил бессоюзные
конструкции к числу языковых явлений, «сигнализирующих» о внутренних
тенденциях развития языка в целом. Такого рода упоминание о бессоюзных сложных
предложениях встречается уже в МФЯ (в связи с отмеченной Ш. Балли новейшей
общеязыковой тенденцией предпочитать паратаксические сочетания пред
365
365
ложений гипотаксическим — МФЯ, 142); в данной же статье М.М.Б. обращает
внимание на активную роль бессоюзных предложений именно в истории русского
литературного языка, переживающего с конца XVIII века процесс постепенного
отмирания книжных, а по М.М.Б. — монологических, форм речи и усиления
разговорных форм, ориентированных на собеседника, на общение, на диалог (Д-/, 211).
Будучи оптимальной языковой формой для воплощения этой тенденции, бессоюзные
конструкции, проникающие из разговорной речи в литературные жанры, влекут за
собой ослабление монологического и усиление диалогического элемента речи,
способствуя формированию обновленных (по М.М.Б., обновленных именно в сторону
диалогизма) черт общего синтаксического строя языка
Следует, видимо, специально оговорить, что М.М.Б. по-своему применяет здесь и
традиционные приемы синтаксических анализов: то, что в монологической
лингвистике используется как «прямое» доказательство, М.М.Б. использует как
доказательство «от противного». Так, применяемый М.М.Б. метод трансформации
бессоюзных конструкций в сложноподчиненные предложения, смысл которого
(метода) состоит в выявлении (словесном выражении) и тем самым выдвижении на
первый план именно логических (в частности — каузальных) отношений между
частями бессоюзного предложения, служит здесь не экспликацией прямых
пресуппозиции (что, согласно монологическому лингвистическому мышлению,
проясняет самый смысл исходного предложения), а наглядной иллюстрацией
обратного обстоятельства: того, что суть диалогических отношений, входящих в
глубинную содержательную структуру бессоюзных сложных предложений, не может
быть сведена ни к логическим, ни к формально-грамматическим, ни к
психологическим, ни к механическим, ни к каким-либо иным природным отношениям
(«1961 год. Заметки», с. 335). Ни одна из «трансформаций» не только не в состоянии,
по М.М.Б., адекватно передать смысл исходного высказывания , но и, будучи по самой
своей природе основана на подчеркивании монологических связей, неизбежно ведет к
редукции имеющихся в исходном предложении диалогических отношений. Если, как
того требует метод синтаксических трансформаций, эксплицировать логические
отношения, которые, конечно, так же как и диалогические отношения, имплицитно
присутствуют в каждом бессоюзном сложном предложении, то мы приходим к
«обычным» сложноподчиненным предложениям с временными или причинными
отношениями, как бы не зависящими от ситуации речи. Экспликация же
диалогических отношений ведет в бахтинском анализе к восстановлению
подразумеваемой коммуникативной ситуации, всегда основанной на взаимодействии
нескольких позиций — автора, «героя», темы, слушающего, говорившего ранее
(конкретная диалогическая характеристика бессоюзных предложений и более
подробное изложение теоретических аспектов бахтинских анализов будут даны в
соответствующих постраничных примечаниях], то есть выявляет некую имплицитную
смысловую перспективу, либо ускользающую при традиционном синтаксическом
анализе, построенном на формально-логических основаниях, либо принципиально
игно* Ср. противоположное мнение А. М. Пешковского, согласно которому эво люция
языка идет в сторону большей грамматической дифференциации, будь то
дифференциация сочинительная или подчинительная (то есть от бессоюзия — к
союзному соединению предложений) — Пешковский А. М. Русский синтаксис в
научном освещении. М., 1956, с. 474.
* Ср. в этой связи противоположное утверждение А. М. Пешковского об абсолютной
тождественности значения интонации (связывающих части бессоюзных предложений)
366
определенным логическим типам союзов (Пешковский А. М. Русский синтаксис...,
470).
367
рируемую
этим
анализом.
Последнюю
возможность
(принципиальное
игнорирование) никак не следует исключать уже хотя бы на том основании, что в
виноградовских работах, написанных после выхода ЛТД и после публикации
волошиновской статьи «О границах поэтики и лингвистики» (сб. «В борьбе за
марксизм в литературной науке». Л., 1930), специально направленной против
виноградовского типа анализа, все, что в бахтинских координатах входят в рубрику
«диалогические отношения», настойчиво продолжало оцениваться, хотя и с
некоторыми оговорками чисто смыслового (не лингвистического) характера, как
риторические явления, фундированные в конечном счете на логической праоснове,
понимаемой в духе Г. Г. Шпета i подробнее об этой стороне проблемы см. примечания
к работе «К философским основам гуманитарных наук»).
В целом второй, глубинно-теоретический, план настоящей статьи оказывается
настолько существенным, что с его помощью можно восстановить некоторые и
теоретические, и практические лакуны, вазникающие в бахтинистике при попытке
реконструкции бахтинской философии языка в ее полном объеме (см. прим. 15, 26, 30,
32).
1. В черновой (бахтинской) рукописи, имеющей три помеченных цифрами раздела, в
начале текста стоит римская единица — I.
2. Проблема соотношения грамматики и стилистики в связи с обсуждением
школьного курса русского языка поднималась с конца
XIX в. (Ф. И. Буслаев, И. И. Срезневский, К. Д. Ушинский, Н. Ф. Бу-наков,
В.И.Чернышев и др.), но особую остроту она приобрела в период подготовки и
осуществления школьной реформы (начало
XX в. и пореволюционные годы). Об эволюции взглядов в этой области см. А. М.
Пешковский. «Вопросы изучения языка в семилетке», «Роль грамматики при обучении
стилю», «Как вести занятия по синтаксису и стилистике в школах взрослых». —
Пешковский А. М. Вопросы методики родного языка, лингвистики, стилистики. М.,
1930. Смена научно-методических концепций курса русского языка (см. преамбулу)
непосредственно отражалась в школьных программах: если программа 1921/1922 г.
фактически узаконивала критикуемый здесь М.М.Б. отрыв грамматики от других
разделов русского языка, относя ее к занятиям, дающим знания, в то время как
стилистика причислялась к занятиям, дающим навыки, то в программе 1933/1934 г.
изучение русского языка было ориентировано прежде -'•его на овладение основными
речевыми жанрами, при этом занятия грамматикой, лишенной прежнего
господствующего положения, прямо увязывались с занятиями по стилистике,
орфографии, культуре речи. Однако в дальнейшем, в программе 1938/1939 г. и в
стереотипных программах последующих лет, действовавших в школе в период написания М.М.Б. данной статьи, аналогичные положения действительно приобрели
декларативный и противоречивый характер, отмеченный здесь М.М.Б.: с одной
стороны, осуждался «искусственный, вредный :>'\.;{>ыв» между грамматикой,
литературным чтением и культурой речи
()юрмулировались задачи интегрированного по своей сути курса русского языка (что
отмечено М.М.Б. как трюизм), но, с другой тороны, раздел «Развитие речи» был
целиком перенесен в программу по литературному чтению, что ограничивало занятия
русским языком гцюжде всего усвоением грамматических понятий и правил
правописания («чистая грамматика» по М.М.Б.), чему соответствовали и сами
рекомендуемые программой методы изучения языка (грамматический разбор, подбор
367
примеров на грамматические правила, исторический комментарий к отдельным
языковым явлениям и под.).
О специфически бахтинском понимании соотношения грамматики и стилистики см.
МФЯ, РЖ, СВР.
т
3. Василий Ильич Чернышев (1867 — 1949) — известный и ав торитетный в то
время лингвист, автор трудов в области русского литературного языка и языка
художественной литературы, диалектологии, лексикологии и лексикографии,
орфоэпии, стилистики, методики русского языка. Книга Чернышева «Правильность и
чистота русской речи. Опыт русской стилистической грамматики», еще в ру копией
удостоенная Академией наук (по представлению А. А. Шахма това) премии имени М.
И. Михельсона за 1909 г., выдержала с 1911 по 1915гг. три издания. Негативная оценка
книги В. И. Чернышева объясняется, вероятно, принципиальным несогласием М.М.Б. с
предложенной в ней трактовкой стилистической грамматики как свода норм и
вариантов употребления языковых единиц, что делает эту книгу «нормативно
стилистическим справочником*. Выбор Чер нышевым критерия «правильности» в
качестве основы для построения стилистики грамматических форм отражает, с точки
зрения М.М.Б, общую приверженность отечественной лингвистики нормативному
(монологическому) подходу к языку. О критической бахтинской оценке нормативного
аспекта в лингвистике как отчетливого выражения монологической тенденции см.
прим. 3 к Д-Н. Интересно, что уже первое издание книги Чернышева было подробно
разобрано в рецензии известного слависта И. В. Ягича, который, характеризуя в целом
общую концепцию книги как безукоризненную, все же рекомендовал в качестве
пожелания автору расширить третью, синтаксическую часть за счет собственно
стилистического комментария (см. Черны шее В. И. Избранные труды в 2-х т. Т. 1. М.,
1970, с. 652-654), что фактически соответствует смыслу бахтинской критики. Однако
общепризнанная оценка книги Чернышева, в том числе и ее стилистической части,
была высоко положительной. Продолжая традицию, идущую от нормативных
грамматик М. В. Ломоносова и Ф. И. Буслаева, и оказывая, вследствие
общепризнанной высокой оценки, серьезное влияние на отечественную лингвистику,
труд Чернышева во многом способствовал усилению интереса к нормативным
аспектам как в теоретических работах, связанных с культурой речи (Г. О. Винокур, С.
И. Ожегов, Г. В. Степанов, Ф. П. Филин и др.), так и в практических пособиях по
стилистике, словарях «трудностей*, «правильностей» и т. д. (А. Н. Гвоздев, К. С.
Горбачевич, Д. Э. Розен-таль, Л. И. Скворцов и др.). Характерно, что и В. В.
Виноградов (в отличие от М.М.Б.) достаточно высоко оценивал работы Чернышева
(см. Виноградов В. В. В. И. Чернышев как исследователь русского литературного
языка. — «Русский язык в школе», 1947, № 2; вступительная статья к изданию:
Чернышев В. И. Избранные труды в 2-х т. Т 1. М., 1970).
4. О школе Ф. де Соссюра см. прим. 6 к РЖ. Среди основных работ представителей
этой школы в области лингвистической стилистики следующие: Балли (Байи) Шарль
(Bally Ch., 1865-1947). Precis de stylistique. Geneve, 1905; Traite de stylistique francaise, t.
1-2. Hdlb., 1909. Рус пер.: Французская стилистика. M., 19ol; Le langage et la \ie, 1913;
Linguistique generale et linguistique francaise. Р., 19o2. Pye пер.: Общая лингвистика и
вопросы французского языка. М., 1955. Сеше Альбер (Sechehaye А., 1870-1946). La
stylistique et la lin
uistique theorique. — Melanges linguistiques ofterts ä M. Ferdinand de aussure. Р., 1У08;
Les regles de la grararaaire et la vie du langage. — Germanisch-romanische Monatsschrift,
VI. 1914. Тибоде Альбер (Thibaudet А., 1874-1936). Французский литературовед
занимался также проблемами стилистики художественной литературы. Его
368
интерпретацию явления чужой («пережитой») речи (style indirect double), содержащуюся в книге «Gustave Flaubert» (Р., 1922), Л. Шпитцер выделял как наиболее
правильную (Spitzer L. Zur Entstehung der
369
sogenannten «erlebten Rede». — Germanisch-romanische Monatsschrift, XVI, 1928). Для
М.М.Б. несобственная прямая речь, как известно, была «узловым» пунктом, имеющим
принципиальное значение для всей лингвистики в целом (см. прим. 34, 38 к «Языку в
художественной литературе»).
5. Во Франции действительно издавалось много учебной литературы такого рода.
Что конкретно имел в виду М.М.Б., определить трудно, но см., напр., пособия: BaUy
Ch. Traite de stylistique francaise. T II. Hdlb., 1909 (том II содержит только упражнения,
адресованные студентам и старшим школьникам); Bouillol V. Le francais раг les textes.
Lecture expliquee. Rezitation. Gramraaire. Örthographe. Vocabulaire. Composition francaise.
Cours moyen. Р., 1929; Göby A. Le livre du maitre pour Tenseigneraent de Tanalyse. Р.,
1934; Leffrand E. Stylistique francaise. Р., 1924; Larousse P. Cours de style. Livre de l'eleve.
Р., 1875; Roustan M. Precis d'explication francaise. Р., 1911.
Интересно, что предложенные Л. В. Щербой образцы лингвистического анализа
художественного текста представляли собой, по его собственной характеристике,
«опыты пересаживания французского explication du texte» на почву отечественной
методики преподавания (ЩербаЛ. В. Опыты лингвистического толкования
стихотворений. I. «Воспоминание* Пушкина. Пгр., 1923; Опыты лингвистического
толкования стихотворений. II. «Сосна» Лермонтова в сравнении с ее немецким
прототипом. Л., 1936. — ЩербаЛ. В. Избранные работы по русскому языку. М., 1957,
с. 26-44, 97-109).
6. Подробный анализ основных положений школы Фосслера и критический разбор
работ ученых этой школы дан в МФЯ. О бахтин-ском отношении к школе Фосслера
см. прим. 9 к РЖ.
7. Ко времени написания М.М.Б. данной статьи существовало два подготовленных
самим А. А. Потебней издания его труда «Из записок по русской грамматике»: издание
1 — Воронеж, 18/4 (I-II части), издание 2 — Харьков, 1888 (1-Й части), 1899 (III часть).
Не завершенный самим Потебней выпуск IV «Глагол, местоимение, числительное,
предлог» (именно эту книгу, скорее всего, и имеет в виду М.М.Б. в данном случае),
подготовленный к изданию А. В. Ветуховым, М. Д. Мальцевым, Ф. П. Филиным к 100летию (1935 г.) со дня рождения А. А. Потебни, вышел в свет в 1941 г. действительно
небольшим тиражом 5000 экземпляров.
8. В черновом варианте статьи М.М.Б. конкретизирует эту негативную оценку
школьных пособий по русскому языку, прямо называя главный недостаток учебника
Бархударова, состоящий, по его мнению, в отсутствии всяких стилистических указаний
(за исключением отдельных замечаний стилистического характера в разделе о типах
простого предложения). Что касается помещенных в учебнике упраж нений,
«дезориентирующих», по М.М.Б., учителя и учащихся, то здесь, вероятно, имеется в
виду, что в упражнениях, связанных с подбором грамматических синонимов и как
будто бы прямо ориентированных на решение стилистических задач, такие
стилистические задачи не ставятся, а дело сводится лишь к тому, чтобы перечислить
«возможно большее количество» синтаксических конструкций, имеющих сходное
значение, без какого-либо объяснения происходящих при синтаксических
трансформациях смысловых изменений. Таково, напр., упр. 158 в разделе о
бессоюзных сложноподчиненных предложениях; остальные упражнения этого раздела
связаны с усвоением правил пунктуации: «спишите, расставьте знаки, объясните их»
369
(Бархударов С. Г. Грамматика русского языка. Ч. II. Синтаксис. Рига, 1941, с. 102). СрТ
прим. 12.
370
9. Под «одновременно» имеется, вероятно, в виду, что язык не только средство
коммуникации, но и средство изображения. Здесь, однако, зафиксированы лишь
первые два параметра из обычной для М.М.Б. «трехмерности» языка: опущено
измерение языка как объек та изображения. О проблеме соотношения изображающей и
изображенной речи по М.М.Б. см. примечания к работе «Язык в художественной
литературе».
10. В отечественной методической литературе постановка проблемы
грамматической синонимики принадлежит А. М. Пешковскому (Пешковский А. М.
Вопросы методики родного языка, лингвистики и стилистики, выше цит., с. 152-158,
60). В дальнейшем интерес к этой проблеме был, в частности, связан с интенсивной
разработкой методики преподавания русского языка как неродного (иностранного, в
национальной школе — Г. А. Золотова, Л. ТО. Максимов, И. П. Распопов, В. П.
Сухотин, и др.). Однако эксплицитное выражение задача изучения синтаксической
синонимики как одного из направлений работы по развитию речи получила в
отечественной школе только в программах по русскому языку на 1972/1973 г. О
соотношении позиций М.М.Б. и Пешковского см. прим. 12.
11. Слово «чисто* перенесено из черновой бахтинской рукописи; «писарской»
рукописи стоит «часто*.
12. Важный для М.М.Б. вопрос, касающийся вариативности грамматических форм
(«для чего ученику уметь производить замену, если он не понимает цели такой
замены») действительно не имеет большого значения в системе повлиявшего на
общую точку зрения в этом вопросе Пешковского, для которого важней
констатировать и классифицировать синонимические обороты и потому возможно
ограничиться «называнием грамматических отличий одного от другого при помощи
обычных терминов», поскольку «даже и такое констатирование все-таки
лингвистически и стилистически развивает учащегося» (Пешковский А. М. Вопросы
методики..., с. 60).
13. Так в «писарской» рукописи, в бахтинском варианте неразборчиво, но скорее —
«самим разобраться*.
14. См. прим. 15.
15. Бахтинский анализ этого примера («Новость, которую я сегодня услышал, меня
очень заинтересовала*) выполняет в статье роль оощесинтаксической экспозиции (см.
прим. 18) к дальнейшим анализам трех разных вариантов уже частной синтаксической
конструкции — бессоюзного сложного предложения. Не используя своей обычной
терминологии, М.М.Б. тем не менее фактически зафиксировал здесь универсальность
диалогических отношений для любого и каждого типа высказывания или предложения
* О несущественном в данной методической статье, но принципиальном в
теоретическом плане бахтинском разведении предложения и высказывания см. РЖ, в
этом отношении следует также иметь в виду, что, анализируя в даль нейшем отдельные
предложения, М.М.Б. тем не менее частично (см. ниже) учитывает при этом реальный
контекст тех художественных произведений, из которых эти предложения были взяты,
то есть фактически анализирует эти предложения как целые высказывания или как
элементы определенного, известного ученикам высказывания, что, согласно
бахтинскому пониманию (см. прим. 94 к ПМ), является, с одной стороны,
оправданным, но, с другой стороны, ограниченным методологическим приемом; ср.
также специально выделен
370
370
Причисление диалогических отношений к базовым синтаксическим универсалиям —
центральный стержень всей бахтинской философии языка в целом. Любое, даже самое
«нейтральное» или абстрактно отрешенное от диалога речевое выступление
неизбежно, по М.М.Б., содержит в себе эти отношения, так как диалогическими
моментами всегда осложнено уже само конципирование словом своего предмета {СВР,
90). Насыщенность высказываний этими отношениями, их удельный вес и степень
влияния на смысловую сторону речи могут быть самыми разными (могут быть они и
максимально редуцированы, почти полностью приглушены, но достижение «нулевого
предела» здесь все же невозможно). В бахтинских работах обычно анализируются
лишь усложненные «вторичные* формы диалогических отношений (разнообразные
способы отражения преднайденной, предвосхищенной или подразумеваемой чужой
речи, связанные с отношением говорящего и его высказывания к чужим точкам
зрения), собственно же языковой, «первично-синтаксический*, аспект затрагивался
М.М.Б. редко, однако — подразумевался всегда (особенно отчетливо теоретическая
сторона этой проблемы освещена в МФЯ при анализе внутренней речи). В конечном
счете все те усложненные формы диалогических отношений, которыми М.М.Б.
вплотную занимался в СВР, ПТД и других работах, изначально «фундированы» на
этом базовом типе диалогизма (конципировании словом своего предмета), так или
иначе влияющем и на само субъектно-предикатное строение фразы, и на
осуществляемую, даже в рамках одного предложения, смену акцентированных
«предметных» ориентиров (как бы «фокусов внимания»), и на освещение
взаимоотношений этих ориентиров, и на изменение их состава, в том числе чисто
количественного, и т. д. В проанализированном здесь примере универсальный аспект
проблемы выражен М.М.Б. через сопоставление «простого» количества «героев» (или
предметов): двух в исходном предложении и одного в трансформированном, а затем —
через объяснение происходящих при этой синтаксической трансформации изменений в
смысле фразы. (Более подробно о специфически бахтинском понимании этой базовой
диалогической универсалии языка, обозначенной как «фокус внимания предложения»
и сопоставленной с другими, усложненно-вторичными формами диалогических
отношений по М.М.Б., см. Гоготишвили Л. А. Философия языка М. М. Бахтина и
проблема ценностного релятивизма. — М. М. Бахтин как философ. М., 1992, с. 142174.)
Характерной в этом отношении особенностью настоящей статьи является нигде
более не встречавшееся в столь настойчивой форме акцентирование внимания на
количестве «фокусов внимания» в предложении и на синтаксических приемах
изменения этого показателя, то есть М.М.Б. касается здесь, хотя, конечно, под своим
особым, диалогическим, углом зрения, тех обычно избегаемых им проблем, которые
являются традиционным предметом изучения в системно-синтаксических
исследованиях (в частности, проблемы субъекта и предиката, которая напрямую
связана с анализом фокуса внимания предложения и его «глагольности», но которая
сознательно игнорировалась М.М.Б. в других случаях — см., напр., прим. 1 к ПМ,
хотя, судя по пометам в сохранившейся в архиве научной литературе, сама эта тема
вызывала постоянный интерес М.М.Б.). Обычный отказ М.М.Б. от рассмотрения такого
рода проблем объясняется, видимо, его принципиальным несогласием с
преобладавшими лингвистически
ное критическое бахтинское указание на то, что в виноградовской статье о неполных
предложениях все примеры взяты — без каких-либо ограничительных
методологических оговорок — из художественных произведений («Язык в
художественной литературе», с. 292).
371
371
ми подходами к этим темам, то есть подходами, которые, с бахтинской точки зрения,
основаны в своем большинстве на так или иначе понимаемой категории «система
языка» (о сложном отношении М.М.Б. к этой влиятельной лингвистической категории
см. прим. 24 к ДI). Базовые лингвистические универсалии, предполагавшиеся М.М.Б.,
не могли быть адекватно проинтерпретированы в рамках «системного» подхода,
стремление же проговорить тем не менее свою «диалогическую» точку зрения на фоне
чужеродных типов лингвистического мышления вело к тому, что М.М.Б. предпочитал
иллюстрировать специфику предлагаемого им метода на более «открытых» лингвистических проблемах — в области стилистики, жанрового расслоения языка,
способов передачи чужой речи и др. Все такого рода проблемы часто толковались в
лингвистике того времени как не собственно лингвистические, а как вторичные или
«прикладные» (см. прим. 38, 46 к работе «Язык в художественной литературе»). Сам
М.М.Б. называл их «пограничными». В область лингвистических универсалий, в самое
«сердце» системной лингвистики и — одновременно
— философии языка, отсюда вели лишь подразумеваемые М.М.Б. смысловые нити,
которые нередко еще более маскировались в результате часто используемого М.М.Б.
приема условного принятия чужеродных исходных постулатов (об условном принятии
категории «система языка» в РЖ см. прим. 12 к Д-1). Такая особая текстологическая и
терминологическая судьба этой темы требует для адекватной реконструкции
бахтинского понимания базовых лингвистических универсалий отдельных
специальных исследований. На сегодняшний момент все сказанное по этому поводу
может иметь лишь гипотетическое значение.
Неожиданное появление одного из аспектов этой обычно не эксплицируемой темы в
рамках настоящей максимально «облегченной» работы объясняется, видимо,
внутренними целями самой статьи: необходимостью подготовить фон для адекватного
восприятия последующих ниже анализов бессоюзных сложных предложений. Так,
если, анализируя первый «базовый» пример, М.М.Б. не расставляет никаких
иерархических ценностных акцентов, рассматривая и исходное предложение, и все его
модификации, включая и последнюю — «однофокусную», как равноправные способы,
используемые говорящим, чтобы подчеркнуть то тот, то другой момент своего замысла
(то есть М.М.Б. как бы надстраивает здесь над базовой универсалией второй
диалогический этаж — ориентацию на слушающего, см. упоминание об этой стороне
дела во фрагменте статьи, отмеченном в прим. 14), то при анализе бессоюзных
сложных предложений ситуация изменится: те синтаксические трансформации,
которые достигают
— в пределе — «одноо^юкусности», будут оцениваться М.М.Б. в несколько
негативном плане как сухой и холодный логизм, противопоставленный живому смыслу
многофокусных предложений (см. прим. 25, 30, 32). «Холодный» логизм является в
контексте настоящей нгатьи
функциональным
синонимом
к
бахтинскому
понятию
монологизма», который — в созданных здесь риторических координатах — может
быть охарактеризован как предельная одно4юкусность (однокругозорность)
предложения, то есть как сведение нескольких «героев», каждый из которых в
принципе может нести с собой и свой «голос», к одному «герою» (фокусу внимания), а
следовательно, и к одному голосу. Именно это (обеспечиваемое акцентированием
внимания на наличии в предложении одного или нескольких «героев» наглядное
объяснение причин появления в предложении двух или нескольких голосов) и было
здесь, видимо, нужно М.М.Б. Именно между этими «героями», которых в бессоюзном
сложном предложении всегда больше одного, и устанавливаются акцентированные
М.М.Б. ниже в статье драматические (resp. диалогические) отношения разно
372
373
го рода. Те же синтаксические трансформации бессоюзных сложных предложений,
которые в пределе стремятся к однофокусности, будут в дальнейшем оцениваться
М.М.Б. как усиливающие монологизм (логическую «холодность») высказывания.
Следует, однако, иметь в виду, что последнее обстоятельство не имеет в
лингвистической концепции М.М.Б. общего значения: диалогически разноголосыми
могут быть, по М.М.Б., за счет контекста всего высказывания и формально
одноо^окусные конструкции (см.,
строк из «Онегина»: «Все это часто придает / большую прелесть разговору* как
усиливающих пародийно-иронический акцент в предшествующей сентенции, то есть
как двуголосых, в СВР, 136). Дело в том, что, сконцентрировав внимание в
методических целях на наглядном объяснении возможных источников разных голосов
в одном предложении (на наличии нескольких «героев»), М.М.Б. отвлекается в
настоящей статье от всех других более сложных форм диалогичности, источник
которых лежит вне собственно языковой семантики использованных в предложении
языковых единиц (в окружающем контексте, в преднайденной и предвосхищенной
речи, в установке на «ходячее мнение» и т. д.). При дальнейшем анализе бессоюзных
сложных предложений М.М.Б. также будет опираться на контекст того произведения,
из которого были взяты эти примеры, однако роль контекста будет при этом
полностью исчерпываться только тем, что с его помощью учителю удобно точнее
объяснить ученикам происходящие при синтаксических трансформациях смысловые
изменения. Данная статья отнюдь не ориентирована на язык художественной
литературы, не он является здесь самоцелью: в конце статьи М.М.Б. выходит на
положение, что обладающие диалогической потенцией бессоюзные сложные
предложения — весьма частое явление в обычной разговорной и письменной речи.
Характерным дополнением к этому обстоятельству является выдвинутый в самом
начале статьи тезис о том, что язык — это не только средство сообщения, но и
средство изображения (см. прим. 9). Как бы в противовес этому положению в работах,
специально посвященных языку художественных произведений, говорится, что язык в
литературе — не только средство изображения, но предмет изображения (причем эта
отсутствующая в данной статье трехмерность языка вводится М.М.Б. не только в СВР,
но и в аналогично облегченной по стилю и терминологии работе «Язык в художественной литературе»). Понятие языка как средства показа, а не только рассказа
помогает перекинуть чисто методический мостик от предмета речи («героя») к
возможности услышать в предложении отраженную речь самого этого героя:
заговорить сам может только показанный (изображенный), а не просто информативно
описанный «герой».
Хотя в своих общих очертаниях произведенный М.М.Б. анализ первого «базового»
предложения и имеет очевидные параллели с различными известными в лингвистике
аналитическими методами (например — с методикой актуального членения; проблему
приоритета здесь нет смысла ставить), в бахтинском анализе имеется вместе с тем и
дополнительный — диалогический — аспект, чаще всего либо ускользающий от
других известных аналитических методов, либо просто игнорируемый в них
сознательно. В большинстве случаев даже те лингвистические методы анализа,
которые прямо ставят в центр внимания проблему диалога, учитывают лишь
отношение говорящего к слушающему в том его понимании, которое было
зафиксировано уже в традиционной риторике. Различия между этими методами и
концепцией М.М.Б. принципиальны, так как они диктуются различиями в толковании
тех фундаментальных постулатов, которые мыслятся лежащими в основе лингвистики.
Специфика бахтинского по
373
налр., бахтинскую оценку
пушкинских
374
ни мания фундаментальных постулатов в .ггой области до сих пор отчетливо не
осознана, что, в частности, нередко ведет в бахтинистике к смешению типов анализа,
встречающемуся, когда монологическая, с бахтинской точки зрения, методика
оценивается при ее применении как диалогическая, сопровождаясь при этом
постоянными и уже стандартными на сегодня ссылками на М^М.Б.
16. Подобные рекомендации избегать частого повторения союзов имеются и в
названной выше М.М.Б. книге В. И. Чернышева «Правильность и чистота русской
речи» (ук. соч., с. 639). Аналогичный пример частого повторения слова «который» и
критический анализ реакции учителей на эту ошибку рассматривается в статье Пешковского «Роль грамматики при обучении стилю» (Вопросы методики..., с. 130),
однако при этом у Пешковского в качестве единственного правильного способа работы
над ошибкой предлагается следующий: «сказать: «сократи одно из придаточных (или
оба) посредством причастия» (там же).
17. Так в «писарской» рукописи, в бахтинской рукописи возможно прочтение
«руководствоваться*.
18. Здесь расширяется данная выше более осторожная формулировка:
необходимость диалогического подхода (в терминах данного фрагмента статьи —
«стилистического освещения») относится теперь уже не только к отдельным
синтаксическим формам (см. фрагмент, отмеченный в прим. 15), но — ко всему
синтаксису сложного предложения; а так как из бахтинского анализа следует, что без
обращения к простому предложению диалогическое изучение сложных предложений
невозможно (см. последнюю синтаксическую трансформацию только что
проанализированного предложения, которая является простым предложением), то
сфера действия диалогического подхода «молчаливо» расширяется здесь М.М.Б. до
всего синтаксиса в целом, то есть диалогическому подходу придается универсальноязыковой статус. (См. также прим. 19).
19. В черновой (бахтинской) рукописи статьи имеется более подробный перечень
вопросов синтаксиса, требующих обязательной, по мнению М.М.Б., стилистической
интерпретации: «Подобное стилистическое освещение совершенно обязательно при
изучении всех остальных обособленных оборотов (и соответствующих замен), при
объяснении вопроса о месте придаточного предложения (перед главным, после или
внутри), при изучении сложных предложений с несколькими придаточными
(стилистическое значение форм соподчинения и последовательного подчинения) и в
ряде других случаев*.
20. О вероятной причине выбора М.М.Б. именно бессоюзных сложных предложений
в качестве объекта стилистического анализа в данной статье см. общую преамбулу. Из
упомянутых трудов Потебни, Шахматова, Пешковского, скорее всего, имеются в виду
следующие: Потебня А. А. Из записок по русской грамматике, IV М.-Л., 1941, с. 110116; 2 изд.: М., 1977, с. 132-140; Шахматов А. А. Синтаксис русского языка. Л., 1941;
Пешковский А. М. Вопросы методики родного языка, лингвистики, стилистики. М.-Л.,
19о0, с. 95-108, 133-161, 154-158; Русский синтаксис в научном освещении. М., 1914 (1
изд.), М., 1956 (7 изд.). С формальной точки зрения ближе всего к бахтинскому
пониманию природы бессоюзного сложного предложения находится трактовка не
упомянутого здесь В. В. Виноградова, рассматривавшего проблемы бессоюзного
соединения предложений в связи с анализом стилистических функций 4юрм
глагольного времени
374
375
(Виноградов В. В. Стиль «Пиковой дамы». - Виноградов В. В. Избранные труды. О
языке художественной прозы. М., 1980, с. 232-233). Однако в содержательном
отношении интерпретация Виногра довым бессоюзных предложений (в полном
соответствии с «монологическим» характером его общей языковой концепции — см.
прим. 3 к Д II) противоположна бахтинской: Виноградов видит в бессоюзных
конструкциях не диалогическое взаимодействие двух «голосов», а «субъектные
перемещения сфер повествования» в рамках единого монологического сознания, то
есть чередование разных планов одного и того же (авторского) сознания.
Следует иметь в виду, что используемый М.М.Б. в данной статье термин
«бессоюзное сложноподчиненное предложение» в настоящее время вышел из
употребления. В свое время этот термин сохранялся в школьной практике в
соответствии с преобладающей трактовкой бессоюзия как разновидности
сложносочиненных
и
сложноподчиненных
предложений
с
опущенными
сочинительными и подчинительными союзами (А. А. Потебня, А. М. Пешковский, А.
А. Шахматов, Л. В. Ще-рба). С 50-х годов получил распространение взгляд на
бессоюзное предложение как на самостоятельный структурно-семантический тип
сложного предложения (Н. С. Поспелов, В. В. Виноградов), что повлекло за собой
отказ от деления бессоюзных сложных предложений на сложносочиненные и
сложноподчиненные (см. Поспелов Н. С. О грамматической природе и принципах
классификации бессоюзных сложных предложений. — Вопросы синтаксиса
современного русского языка. М., 1950, с. 338-354). В школьном преподавании эта
смена ориентации в изучении бессоюзных предложений и соответствующая замена
терминов была зафиксирована в Программах по русскому языку и литературе на
1954/1955 г., то есть позже написания М.М.Б. данной статьи.
21. Далее в бахтинской рукописи следует новый раздел, отмеченный римской
цифрой II; в «писарском» варианте граница между разделами обозначена более
широким пробелом.
22. В соответствующем месте черновой рукописи имеется следующее добавление:
«Вообще характерно крайне редкое употребление двоеточия и тире в письменной речи
учащихся. Они употребляют их почти исключительно только в простом предложении с
однородными членами и обобщающим словом (тире еще и при пропуске связки).
Учащиеся не умеют пользоваться сложными конструкциями, где нужны <?> эти
знаки*.
23. М.М.Б. приводит примеры из: первый — Пушкин А. С. «19 октября»; второй —
Пушкин А. С. «Евгений Онегин» (гл. V, XVIII); третий — Гоголь Н. В. «Мертвые
души» (Т I, гл. XI).
Первоначально, как это видно из черновика, М.М.Б. планировал положить в основу
статьи анализ большего количества предложений: 1) Печален я: со мною друга нет; 2)
Он засмеется — все хохочут, Он бровь нахмурит — все молчат, 3) Проснулся пять
станций убежало назад; 4) Я очень устаю: слишком много у меня работы. Однако уже в
процессе написания чернового варианта первоначальный план претерпел изменения:
для характеристики типов бессоюзных конструкций оставлены первые три примера,
относящиеся к художественной литературе (изъято лишь второе предложение второй
рубрики), а четвертый пример, перечеркнутый в черновике волнистой линией, в слегка
измененном виде перенесен во втором варианте в другую часть статьи для
иллюстрации роли бессоюзных предложений в обиходной речи (см. с. 153). О знаке
препинания в третьем предложении см. прим. 31.
375
375
24. Ср. аналогичное резко критическое замечание в адрес Пешковского по поводу
его «эксперимента* по «механической*, «без соответствующей стилистической
переработки», замене прямой речи косвенной. Такого рода эксперименты оцениваются
как «только педагогически скверный и недопустимый метод классных упражнений по
грамматике», не имеющий ничего общего с «живой жизнью шаблонов в языке» (МФЯ,
124).
25. Необходимо иметь в виду, что, давая здесь такую «негативную» характеристику
подчинительным союзам, М.М.Б. следует доминантной цели настоящей статьи,
сознательно сужая область диалогических отношений (см. прим. 15). В «несуженном»
же контексте бахтинской лингвистической концепции подчинительные союзы
получают иную характеристику: за ними признается (отрицаемая здесь) способность
отражать двуголосое строение включающих их в себя предложений (см., в частности,
бахтинское описание одной из разновидностей «скрытой чужой речи» —
«псевдообъективной мотивировки*, которая основывается именно на диалогическом
использовании подчинительных союзов и союзных слов, в СВР, 118).
26. В рамках избранной узкой методической темы и, соответственно, в оправе
используемой здесь условной (получужой) терминологии («эмоциональная
драматичность» вместо «диалогических отношений», «холодная логика» — вместо
монологизма и др.) бахтинский анализ данного примера («Печален я: со мною друга
нет*) абсолютно самодостаточен. Однако если рассматривать этот анализ в контексте
лингвистической концепции м.М.Б. в целом, следует, видимо, обозначить смысловую
особенность подразумеваемых здесь М.М.Б. диалогических процессов. Так, хотя
трансформированные
синтаксические
конструкции,
представляющие
собой
сложноподчиненные предложения с при даточными причины («Я печален, так как
(потому что) со мною нет друга*), также несут в себе, согласно общей концепции
М.М.Б., безусловные диалогические нюансы, связанные с ориентацией боль-шеи части
предложений этого структурного типа на апперцептивный фон слушающего
(подробнее о бахтинском понимании диалогических отношений, связанных с
апперцептивным фоном адресата и обозначенных как «смена точек зрения», см.
Гоготишвили л. А. Философия языка М. М. Бахтина..., выше цит., с. 153-158), в данной
статье М.М.Б. фиксирует внимание на обратном обстоятельстве: на том, что эти
трансформированные конструкции до минимума ослабляют насыщенный диалогизм
исходного предложения, приближая его к монологическому высказыванию (к
обнаженной, выдвинутой на первый план и холодной «логичности»). Это не
«противоречие», но — многократно использовавшийся М.М.Б. для объяснения
универсальной природы диалогических отношений на чужом для него языке
сопротивлявшейся такому нововведению отечественной лингвистики логикориторический прием «доказательства от обратного»: редуцироваться может только то,
что существует.
Отмеченная в прим. 15 смысловая особенность настоящей статьи (иллюстрация
диалогических отношений в предложении через фиксацию в нем нескольких фокусов
внимания или «героев») выразилась здесь в том, что отчетливое двухфокусное
строение исходной пушкинской фразы, соответствующее двум частям этого сложного
предложения, сменяется в трансформированных конструкциях на свою редуцированную («почти» однофокусную) форму. В трансформированной конструкции («Я
печален, так как со мною нет друга*) один из формально имеющихся здесь двух
фокусов (кругозоров) выражен мощнее, а именно — кругозор «я». «Друг» же
фактически теряет здесь статус самостоятельного «героя»: даже сама предикативная
часть при
376
376
даточного предложения («нет*) в смысловом плане относится (то есть
предицируется) здесь не столько к «другу*, сколько ко «мне*. важно не то, что «нет
друга*, а то, что друга нет «со мною* (мы отвлекаемся здесь от тонкостей имеющихся
в лингвистике логико-грамматических толкований различных типов предикативности).
Снижение же смысловой роли второго «героя» (друга), а значит и ослабление его
потенциального голоса, ведет в свою очередь к снижению драматичности
(диалогичности) предложения.
Особо, видимо, следует оговорить и проблему интонации. В работах
волошиновского цикла переход интонации на «немой регистр» связывался с усилением
диалогичности (так как невозможно адекватно и без потерь проинтонировать вслух
внутреннее интерферентное слияние нескольких голосов в формально единой
языковой конструкции). В данной же статье, напротив, говорится об интонировании
как о самом удобном способе выявления драматизма (диалогичности) фразы.
Противоречия, однако, и здесь нет: помимо очевидных преимуществ использования
интонации (и жестов) для объяснения сути дела ученикам седьмого класса, нужно
иметь в виду и отмеченную выше смысловую особенность настоящей статьи: то, что
М.М.Б. полностью отвлекается здесь от тех диалогических отношений, которые
привносятся в высказывание извне (см. прим. 15), а именно такие, «привнесенные»,
виды диалогических отношений труднее всего поддаются интонированию. М.М.Б.
ведет здесь анализ фактически вне пушкинского контекста; он фиксирует внимание
исключительно на диалогических потенциях самой исследуемой синтаксической конструкции, отсюда — все приходящие извне, в том числе и от контекста, диалогические
моменты, которые сразу же проступили бы на поверхность, если бы целью настоящего
анализа было стихотворение в целом (как это и происходит в других бахтинских
работах), в данном случае безболезненно отсекаются.
27. Во вложенных в черновую бахтинскую рукопись отдельных листках содержится
следующее сравнение 1 и 2 предложений с точки зрения различий в их интонационной
структуре: «Эмоциональная выразительность вследствие понижения голоса на я
(печален я). В «Он засмеется* напротив имеет место повышение, придающее энергию
и динамичность*. Сопоставительный анализ интонационных рисунков всех трех
примеров и их семантическая интерпретация не нашли отражения в тексте самой
статьи.
28. В черновом варианте это предложение выглядит следующим образом: «Событие
речи драматически воспроизводит, таким образом, то реальное событие, о котором эта
речь рассказывает*.
29. О принципиальном отличии простого сообщения о событии и показаизображения события, то есть представления его в виде художественного образа, в
связи с бахтинской категорией хронотопа см. Хрон., 399.
30. В черновой рукописи фраза имеет продолжение: «(как и в первом примере, мы
утрачиваем эмоциональность)*.
Бахтинскии анализ второго примера бессоюзного сложного предложения («Он
засмеется — все хохочут*) с наибольшей прозрачностью иллюстрирует осевую
смысловую доминанту данной статьи: универсальность связи между «предметным»
(тематическим) и «голосовым» (диалогическим) расслоением предложений. Первый
пример («Печален я: со мною друга нет*) это как бы упрощенная иллюстрация этого
положения, так как источником возможного второго «голоса» в высказывании здесь
является не непосредственный
377
«герой» (тема) предложения, а слушающий (такое «узкое» толкование
диалогичности не только убедительно и понятно для учеников, но и закреплено в
377
традиционно ориентированных направлениях отече-i-твенной лингвистики).
Анализируемый ниже третий пример («Проснулся — пять станций убежало назад*),
напротив, является усложненной иллюстрацией смысловой доминанты статьи (М.М.Б.
фиксирует там процесс превращения второстепенных тематических элементов фразы в
самостоятельные «фокусы внимания», почти в «героев», то есть интерпретирует факт
превращения однофокусного предложения в двухфокусное как формальное условие
усиления диалогичности — см. прим. 15). В анализе же данного — второго — примера
все подразумеваемые в статье теоретические акценты обнажены почти до физической
наглядности: именно здесь становится до конца ясным противопоставление
изображения (показа) и простого рассказа; оба «героя» исходного предложения («он» и
«все») здесь не только персонифицированы (в третьем примере второй «герой» —
неодушевленная вещь), но прямо являются субъектами действия (в первом примере
второй «герои» — «друг» — не активный, но пассивный субъект действия, почти
трансформированный в объект); более того: изображенные здесь действия обоих
«героев» почти вплотную приближены к прямому словесному действию, что выражено
в так называемых речемыслительных глаголах («смеяться», «хохотать»); причем эти
речевые действия «героев» не изолированы, а драматически, то есть диалогически,
сопряжены (не случайно М.М.Б. использует при описании отношения второго
простого предложения к первому глагол «откликается»). Фиксируемая здесь М.М.Б.
динамическая драматичность является, таким образом, отдаленным и облегченным
предвестником полифонии: в анализируемом примере диалогические отношения
устанавливаются между двумя самостоятельными и «чужими» для автора «голосами».
До «настоящей» полифонии остается только один, но принципиальный шаг: «герой»
должен не только быть изображенным как субъект речемыслительного действия, но
должен непосредственно заговорить сам, получив право на свой особый источник
смысла в выстраиваемой автором общей смысловой позиции высказывания. (В
указанной выше пробной классификации типов диалогических отношений по М.М.Б.
представленные во втором примере отношения между редуцированными голосами
«героев» могут быть отнесены к разновидности «смен речевых центров» — см.
Гоготишвили Л. А., ук. соч., с. 149-153).
В бахтинском анализе данного примера также отразилась отмеченная в прим. 15
специфическая идея настоящего текста о наличии взаимозависимости между
количеством «героев» и характером (монологическим или диалогическим)
предложения. В признанной в статье за наиболее удачную трансформацию
синтаксической конструкции («Достаточно ему засмеяться, как все начинают угодливо
хохотать*) первый «герой» исходного предложения («он») фактически редуцируется
до некоего объектного условия, при котором осуществляются действия второго
«героя» («все*), превратившегося тем самым в центральный фокус предложения в
целом (синтаксически это достигается, в частности, переводом первого «героя» в
косвенный падеж — «ему*). Таким образом, и здесь, согласно ведущей идее статьи,
сведение двухфокусной конструкции к одно-фокусной «логизирует» предложение, то
есть усиливает его монологическое звучание. Следует специально отметить, видимо, и
то, что М.М.Б. избегает в данной статье давать формально-грамматические названия
тем типам связей, которые предполагаются между простыми предложениями в
исходных формах анализируемых бессоюзных сложных предложений: разбирая второй
пример, М.М.Б. лишь упоминает, что имеющийся здесь логический тип связи иной,
чем в первом при
378
мере, однако и при анализе первого примера «причинная* зависимость,
связывающая простые предложения, также не названа М.М.Б. Первые варианты
378
трансформации второго примера, которые были затем отклонены («Когда он засмеется,
то все хохочут* и др.), выдвигали на поверхность как бы «временные* соотношения
между простыми предложениями, которые, конечно, никак не соответствовали смыслу
исходной фразы и которые так и не были прямо названы или даже как-либо косвенно
обозначены М.М.Б. Игнорируя все такого рода формально-грамматические
определения типов логической связи, М.М.Б. ведет учеников (и читателей) к
принципиальному для него выводу о том, что никакой тип логических отношений в
принципе не может передать всего смыслового состава исходных диалогических
отношений. Этот вывод усилен здесь положением о том, что исходные диалогические
отношения не могут быть переданы и посредством сколь угодно развернутого
лексического обогащения трансформированных конструкций. В своей теоретической
перспективе совмещение этих положений ведет к ядру бахтинской лингвистической
концепции — к теории непрямого говорения.
31. В «писарской» рукописи и, соответственно, в настоящей публикации в этом
примере стоит другой знак — двоеточие. Двоеточие стоит и во всех современных
изданиях «Мертвых душ» Гоголя (в том числе и в изданиях 30-х годов). Однако в
черновых записях к статье самого М.М.Б., в том числе и в сохранившемся плане
открытого урока по русскому языку (см. преамбулу), в этом предложении стоит тире.
Если несоответствие между предполагавшимся М.М.Б. знаком препинания и
написанием примера в «писарской» рукописи можно объяснить случайной ошибкой
«писца» и тем, что М.М.Б. сам не вычитывал этой рукописи, то причина
несоответствия пунктуации самого М.М.Б. принятому в то время знаку в официальных
изданиях Гоголя кроется, возможно, в том, что, как показывает пунктуационная практика, тире и двоеточие — во многом «авторские» знаки, то есть знаки без жесткого
регламента употребления. М.М.Б. мог приводить этот пример «по памяти», отсюда —
и авторская пунктуация. (Интересно, что в современном русском языке отмечается
тенденция к расширению употребления тире — см. Шапиро А. Б. Современный
русский язык. Пунктуация. М., 1974). Если постановка в данном предложении
двоеточия более соответствует тяготеющим к жесткому регламенту школьным
правилам пунктуации, которые, основываясь на логико-синтаксическом анализе,
выявляющем между частями такого рода предложений временные и изъяснительные
отношения, предписывают для их обозначения именно этот знак (М.М.Б. же вообще
избегает в данной статье каких-либо названий для типов логической связи между
простыми предложениями — см. прим. 30), то постановка М.М.Б. тире может иметь
диалогическую мотивировку: тире как бы «отодвигает» вторую часть предложения от
первой, создает между фокусами внимания («героями») «незамещенное» пространство,
зрительно соответствующее паузе, то есть ту дистанцию, которая необходима для
установления между «героями» диалогических отношений (подробнее см. прим. 32)
Интересно, что в дореволюционных изданиях сочинений П. В. Гоголя (см., напр., Н.
В. Гоголь. Сочинения Н. В. Гоголя. Изд. 15. СПб., 1900. Т. 5, с. 222) в разбираемой
здесь гоголевской фразе тоже — как и у М.М.Б. — стоит тире.
32. Хотя в контексте обычных стилистических анализов, основанных на
традиционном понимании тропов, третье предложение («Проснулся — пять станций
убежало назад*) представляется самым простым и наглядным примером (именно так
оно как бы оце
379
нивается и в самой статье), однако, с точки зрения специфики бахтинской
диалогической стилистики, данное предложение, напротив, должно быть отнесено к
завуалированным усложненным случаям. Это обстоятельство связано с тем, что
М.М.Б. здесь в очередной раз выходит — конечно, не проговаривая это сколь бы то ни
379
было открыто — к проблеме базовых лингвистических универсалий (см. прим. 15). В
данном случае М.М.Б. как бы мимоходом проблематизирует лежащую в сердцевине
оспариваемого им типа лингвистического мышления традиционную теорию тропов (в
частности, метафор). Если вскрыть диалогический подтекст бахтинского анализа этого
примера, то окажется, что в гоголевской фразе метафора выполняет отнюдь не ту роль,
которая мыслится за ней в традиционной теории тропов, но особую синтаксическую
функцию, имеющую самое прямое отношение к д и алогизму, а именно: гоголевская
метафора эксплицирует в «однофокусном» событии его диалогические
(«двухфокусные») потенции. В целях сугубо логического удобства пояснения этого
положения целесообразней интерпретировать бахтинский анализ в обратной перспективе: не от исходного — к трансформированному предложению, а от
трансформации — к исходному примеру. Как и во всех предыдущих случаях, в
трансформации, признанной наиболее удачной («Когда я проснулся, то оказалось, что
я проехал уже пять станций*), в фокусе внимания находится один «герой» — «я»,
причем М.М.Б. целенаправленно ведет здесь рассуждение к тому, чтобы получить в
конечном счете именно однофокускую трансформацию. Производится даже
специальная — как бы инициированная учителем и одобренная учениками —
последняя синтаксическая процедура: перевод словосочетания «пять станций* с
синтаксического места подлежащего на место дополнения, что окончательно лишает
это сочетание статуса самостоятельного «героя». В исходной же гоголевской фразе
«героев» — два (скрытое здесь за глагольной формой «я» и «пять станций*), и именно
эта двухфокусность и дает возможность драматического прочтения фразы,
обеспечивает показ (изображение) события, а не просто рассказ о нем (как в
трансформированной конструкции). Фактически М.М.Б. как бы раскрывает механизм
осуществленной «мастером слова» (Гоголем) процедуры превращения однофокусного
предложения в двухфокусное. Отсюда и как бы преувеличенная бахтинская оценка
вполне обычного, можно сказать, «рядового» (с точки зрения традиционной теории
тропов) гоголевского метафорического приема как «смелого гоголевского жеста».
М.М.Б. акцентирует этой оценкой внимание на том, что в составе живой, семантически
богатой речи тропы — это не просто некий перенос значения по смежности, сходству,
аналогии и пр., то есть не просто явление лексической семантики, а особый синтаксический прием, способный в том числе и к выполнению прямо диалогических функций:
к превращению второстепенных элементов монологической по синтаксической
структуре фразы в самостоятельные фокусы внимания, в самостоятельных «героев»,
способных — в пределе - ввести в высказывание и свой «голос» (недаром М.М.Б.
определяет использованный Гоголем «смелый* прием как «почти олицетворение»)
Появившийся в гоголевской фразе второй <• герой* не может заговорить, он все еще
«вещь*, но уже такая «вещь*, с которой второй «герои» фразы может вступить в хотя и
ослабленные, но все же диалогические отношения (например, испытать по отношению
к ней диалогическую эмоцию — ожидание сюрприза). Имеющуюся здесь в виду
базовую лингвистическую универсалию можно сформулировать следующим образом:
двухфокусность — это формальное синтаксическое условие для диалогических
отношений. (Напомним, однако, что поле действия этой универсалии ограничено, так
как речь в данной статье изначально идет не о всех типах диало
380
гизма, но только о внутренне-синтаксическом, не связанном с «большим»
контекстом и внешней ситуацией типе диалогических отношений, поскольку при учете
последних факторов диалогическими отношениями могут, согласно М.М.Б.
насыщаться и однофокусные конструкции — см. прим. 15.)
380
В целом, эти, казалось бы, частные и тем более произведенные в семантически
облегченной методической статье лингвистические анализы М.М.Б. парадоксальным
образом оказываются источником дополнительных сведений для более адекватного
восстановления одного из недостающих звеньев бахтинской философии языка в целом
— для восстановления бахтинского понимания базовых универсальных форм
диалогичности всего синтаксиса и, соответственно, языкового мышления. Так, в
частности, хотя в составленной до первой публикации данной статьи пробной
классификации типов диалогических отношений по М.М.Б. (см. Гоготишвили Л. А.,
ук. соч.) вскрытая здесь базовая лингвистическая закономерность и нашла некоторое
отражение (за счет того, что и в других работах М.М.Б. этот аспект проблемы косвенно
присутствует), однако она не была выделена в этой классификации в самостоятельный
тип, будучи как бы распределена между «фокусом внимания» и другими видами
диалогических отношений.
33. Ср. аналогичные выводы о вытеснении «эмоционально-аффективных»,
«колоритных», характеризующих индивидуальность говорящего элементов из
конструкций с косвенной речью, отличающихся от конструкций с прямой речью (так
же, как сложноподчиненные предложения в сравнении с бессоюзными) своим
аналитическим, «предметно-логическим» характером, в МФЯ, 126-128. Намеченное
здесь сближение двух разных видов образности — поэтической (метафоры, гиперболы
и пр.) и двуголосой прозаической (разговорные, просторечные, нелитературные
элементы, используемые для создания «объектного», «колоритного», сказового слова),
различению которых в других работах придается принципиальное значение (СВР, 9092), производится М.М.Б. в данном случае в целях подчеркивания одинаково
выполняемой ими функции разрушения «единства гладкого и чистого одноголосого
языка» (СВР, 140), ослабления «монологического и усиления диалогического элемента
речи» (Д-1, 210).
34. Гипотаксис (греч. hypö — под, внизу, taxis — расположение) — то же, что
подчинение, субординация, то есть синтаксическая связь, располагающая своей
системой средств выражения для организации сложноподчиненного предложения.
Период (греч. perioaos — круг) по характеру синтаксической структуры представляет
собой чаще всего значительно распространенное сложное предложение с
однородносоподчиненными придаточными частями, отнесенными к одной или
нескольким главным.
35. О тенденции к отмиранию книжных (монологических) и усилению разговорных
(диалогических) форм речи и шире — о роли диалога в истории литературного языка
см. Д I, 211. Ср. также упоминание в МФЯ Ш. Балл и в связи с отмеченной им
тенденцией к замене гипотаксиса паратаксисом (МФЯ, 142). Бахтинская позиция в
этом вопросе принципиально отличается в области теоретических выводов, совпадая в
частностях, от виноградовской концепции становления русского литературного языка
и прежде всего — в аксиологическом знаке, оценивающем значение в этом процессе
разговорной речи: однозначно положительном у М.М.Б. и склоняющемся к отрицательному у Виноградова.
381
36. В черновой рукописи приводится состав этих союзных форм: перед
соответствующими (причины, времени и условными) союзными (Ьормами.. .*. О
возможных причинах снятия этой фразы
37. В черновой рукописи предложение имеет продолжение: «(хотя это и нельзя было
квалифицировать как стилистическую ошибку)*.
38. В черновой бахтинской рукописи далее начинается следующий раздел,
обозначенный римской цифрой III.
381
39. В черновой рукописи к этому предложению сверху приписано: «т. е. пересказом
пересказа*.
40. Во вложенных в черновую рукопись отдельных листках имеется не вошедший в
текст статьи фрагмент: «В погоне за формальной (узко-грамматической)
правильностью забывают задачу воспита ния речевой индивидуальности учащихся.
Боятся речевой смелости своих питомцев, часто просто рекомендуют не отступать от
речевых штампов, «чтобы не наделать ошибок*.
41. В черновой рукописи имеется добавление: «При повторении курса V и Vi
классов также следует наиболее трудные грамматические формы (виды глагола,
причастия и деепричастия) осве тить стилистически*. То обстоятельство, что М.М.Б.
вскользь говорит в данной статье (см. также с. 141) о стилистическом (а в его
координатах это значит «диалогическом») освещении грамматических форм как о само
собой разумеющейся задаче, косвенно свидетельствует, что М.М.Б. предполагал
диалогический пересмотр не только синтаксических форм, но и всей грамматики в
целом (см. преамбулу и прим. 15, 18, 32).
42. В третьей части статьи в упрощенно-методическом плане воспроизводится одна
из центральных проблем СВР — проблема «идеологического становления человека»
(см. СВР, 154-179).
43. В черновом варианте — «на другом языке*. См. более развернутое и
теоретически не редуцированное развитие этой темы в СВР.
44. В черновой рукописи другое окончание фразы: ...богатства и сложности
становящейся действительности*.
Публикуется впервые, по недатированному автографу, хранящемуся в АБ.
Текст записан на отдельном листе из ученической тетради в косую линейку. Лист
заполнен плотно (поля отсутствуют), с обеих сторон (лицевая сторона листа целиком,
оборот — приблизительно на 5/6), мелким, неразборчивым почерком, без исправлений
и вторичных помет. Большая часть рукописи выполнена простым карандашом, последние два абзаца — черными чернилами, несколько расплывшимися на рыхлой,
плохого качества, бумаге.
МНОГОЯЗЫЧИЕ, КАК ПРЕДПОСЫЛКА РАЗВИТИЯ РОМАННОГО СЛОВА
382
Рукопись озаглавлена, название подчеркнуто тем же карандашом, по ходу работы.
Текст имеет характер наброска и, как большинство набросков М.М.Б., не датирован.
Точно определить время его создания не представляется возможным, приблизительная
датировка также затруднена. Вероятно, набросок относится к «савеловскому* периоду
М.М.Б. (зима 1937/38 — лето 1945 гг.). Датировка условна и основана на
сравнительном анализе содержательных и терминологических особенностей
комментируемого текста и других работ этого периода.
Теорией и историей романа и романного слова М.М.Б. занимается в 1930-е гг. В
начале 1940-х гг., по следам только что завершенной книги о Рабле (Р 1940), он
возвращается к исследованию прозаического (романного) слова на новых основаниях,
в предварительной 4юрме обозначенных во фрагменте «Проблема серьезности*:
«Рабле проливает свет и на очень глубокие вопросы происхождения, истории и теории
художественной прозы. Эти вопросы мы и выделяем здесь попутно и можем дать их
предварительную формулу: прозвище, профанация <?>, межа языков и т. п.* («Я
философским основам гуманитарных наук*, с. 10). Как следствие, в работах 1940-х гг.
о романе вводится понятие 'многоязычие' — металингвистическая категория,
характеризующая становление диалогических отношений в истории прозаического
(романного) слова. (В более ранней статье 1934-Зэ гг., известной под названием
382
«Слово в романе», говорится только об одном аспекте 'многоязычия', о внутреннем
разноречии, о «ч у жой речи на чужом языке» — Еи1Э, 1л7). Многоязычие («межа
языков») исследуется в 1940-е гг. в одном контексте с типологией смехового образа (с
вопросами 'имени и прозвища', 'хвалы и брани', 'сакрального и профанного', 'серьезного
и смехового').
Этот новый акцент в теории и истории романного слова отмечен двумя докладами,
сделанными М.М.Б. в ИМЛИ, в 1940 и 1941 гг. (в Списке научных трудов,
составленном М.М.Б. не ранее 1941 г., оба доклада упомянуты как «отдельные главы»
из работы «Теория романа» в 30 п. л., рукопись которой в АБ не обнаружена — см.: с.
382-383): 1) «Слово в романе (К вопросам стилистики романа)» (прочитан 14 октября
1940 г.; беловой автограф и машинопись хранятся в АБ; черновой автограф — в архиве
М. В. Юдиной: ОР РГБ, ф. 527, картон № 24, е. х. 26, фотокопия — в АБ; на основе
текста доклада подготовлена статья «Из предыстории романного слова» — ^08446); 2) «Роман как литературный жанр» (прочитан 24 марта 1941 г.; автограф и
авторизованная машинопись хранятся в АБ; на основе доклада подготовлена статья
«Эпос и роман (О методологии исследования романа)» — ВЛЭ, 447-483). В постановке
проблемы многоязычия комментируемый набросок наиболее близок к докладу 1940 г.,
в котором многоязычие и смех рассмотрены как две важнейшие предпосылки развития
романного слова: «Мы считаем, — пишет М.М.Б., — что два больших фактора
подготовили и создали романное слово; один из них — смех, другой — многоязычие»
(Беловой автограф, с. 23). Наблюдения над черновой рукописью доклада подтверждают это предположение. В черновой тетради, на отдельном (первом) листе записан
план, первый пункт которого соответствует теме, вынесенной в заглавие наброска: «1.
Многоязычие, как одна из предпосылок романа. 2. Типология комического образа. 5.
<запись против цифры «3* отсутствует — комм>*. По тому же плану выстроен и
комментируемый текст: в первой части сжато изложены развернутые в докладе 1940 г.
тезисы о многоязычии и его роли в становлении романного слова, во второй части
намечена характеристика смеха и смехового образа (типологии 'профанного',
'прозвища', 'хвалы и брани') в произведениях Гоголя.
За исследованием своеобразия гоголевского смеха и смехового образа ясно
проступают контуры очерка истории русского романа, важ
383
нейшими событиями которой М.М.Б. считал творчество Гоголя и Достоевского. В
докладах 1940 и 1941 гг., как и в работах 1930-х гг., М.М.Б. последовательно
рассматривает историю западноевропейского эпоса и романа, но практически не
обращается к истории г>усского романа (исключение составляет жанровый анализ
«Евгения Онегина» как своего рода преамбула к статье «Из предыстории романного
слова»; упоминания о Гоголе и Достоевском в «Эпосе и романе» относятся к
позднейшим вставкам в текст — ВЛЭ, 470, 471, 475, 480). Темы 'эпос и роман',
'история романа и романного слова' на материале русской литературы намечены
М.М.Б. в набросках, сделанных около 1Ö40-1941 гг.: записанные в одной тетради
тексты «"Слово о полку Игореве" в истории эпопеи» и «К истории типа (жанровой
разновидности) романа Достоевского» обозначают крайние точки в гипотетическом
очерке истории русского романа. Своеобразию праздничного смеха и типологии
смехового образа в произведениях Гоголя посвящен заключительный фрагмент первой
редакции книги о Рабле (Р-1940, 659-664), завершенной в 1940 г.
Как видно, узел проблем, затронутых в комментируемом наброске, сконцентрирован
в записях М.М.Б. около 1940-41 гг. Однако исследованием прозы Гоголя и
Достоевского с точки зрения истории романа и романного слова, как и исследованием
'кризиса старой литературной серьезности' и смехового катарсиса («катарсиса
383
пошлости» — ВЛЭ, 495), также обозначенных в наброске, М.М.Б. будет заниматься на
протяжении всей первой половины 1940-х гг. В этом смысле набросок примыкает к
более поздним, чем доклад 1940 г., работам «савеловского» периода: «К философским
основам гуманитарных наук», «<К вопросам об исторической традиции и о народных
источниках гоголевского смеха>», «<Риторика, в меру своей лживости...>», Доп.
Таким образом, с достаточной долей уверенности можно сказать, что
комментируемый текст связан с планом и текстом доклада 1940 г. «Слово в романе (К
вопросам стилистики романа)», однако остается не ясным, является ли он наброском к
докладу, свидетельствующим о первоначальном намерении М.М.Б. построить
сообщение 14 октября 1940 г. на материале русского романа, или, напротив, иалисан
по следам доклада, возможно, как дополнение к нему. Тем не менее сравнительный
анализ комментируемого текста с докладами о романе и рабочими тетрадями М.М.Б.
1940-41 гг. позволяет предположительно уточнить время создания наброска: по всей
вероятности, он написан около 1940 (1941) г., хотя нельзя исключать возможности и
позднейшей, в пределах «савеловского» периода (то есть до лета 1945 г.), датировки.
ПРОБЛЕМА РЕЧЕВЫХ ЖАНРОВ
Впервые, в виде фрагментов — в «Литературной учебе», 1978, № 1, с. 200-219
(публикация В. В. Кож и нова), в увеличенном (но также неполном — см. ниже)
объеме в ЭСТ, 237-280 (публикация С. Г. Бочарова). Как в предшествующих, так и в
настоящем издании публикуется незаконченный черновой вариант статьи («белового»
варианта, скорее всего, не существует, так как работа над рукописью была, видимо,
прекращена до ее окончания — см. ниже). Кроме черновика сплошного текста статьи в
АБ имеется также ряд разрозненных «рабочих» записей подготовительного характера,
содержащих
384
первичную обработку темы, конспекты чужих работ, несколько меняющихся планов
статьи и т. д. (большая часть этих «рабочих* записей публикуется в настоящем томе
под общим заголовком «Из архивных записей к работе "Проблема речевых жанров"»).
Рукопись черновика статьи представляет собой сорок три двойных тетрадных листа
в линейку, сложенных по порядку и пронумерован -ньгх рукой М.М.Б. На первой
странице написано «Проблема речевых жанров», сам текст статьи начинается с третьей
страницы (вторая осталась чистой), с этой же, третьей, страницы начинается и сплошная нумерация рукописи (всего пронумеровано 170 страниц, последняя из которых
исписана не до конца). Рукопись написана карандашом; имеющаяся правка
производилась, скорее всего, непосредственно в процессе написания; явных
свидетельств вторичной обработки текста нет.
Исходя из совокупности данных, извлеченных из подготовительных материалов,
черновик писался в конце 1953 года; максимальный возможный «верхний» предел
прекращения работы над черновиком — начало 1954 года (см. общую преамбулу к
архивным записям). О незаконченности рукописи имеются несколько косвенных
свидетельств в самом ее тексте (см., в частности, прим. 59 и 70) и многочисленные
«прямые» свидетельства в подготовительных записях (см. общую преамбулу к блоку
подготовительных материалов). О возможных причинах прекращения работы над
статьей см. преамбулу и примечания к «Языку в художественной литературе».
В настоящем, как и в предшествующих, издании черновик публикуется с купюрами.
Из текста изъяты прямые упоминания и цитаты (вместе с обрамляющим их бахтинским
контекстом) из сочинения И. В. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания» и
некоторые другие ссылки того же рода, объясняемые, конечно, официальным характером текста как плановой работы в Мордовском пединституте (см. ниже). Изъятия
произведены публикаторами работы, получившими на то полномочия от автора,
384
просившего при публикации освободить РЖ от «скверных примесей» того же
свойства, как и те, что он вынужден был ввести в те же годы в рукопись диссертации о
Рабле, о чем он писал В. В. Кожинову 7 июля 1962 г. после отправки рукописи в
издательство: «Перед отправкой я бегло просмотрел рукопись и пришел в
совершенный ужас. Я дополнил ее (около 1950 г.) по «указаниям» экспертной
комиссии ВАК'а и внес в нее много отвратительной вульгарщины в духе того времени.
Я смог только заклеить прямые следы культа личности (увы, были и они)» (см.
«Москва», 1Ö92, № Ц-12, с. 180). При подготовке ТФР к печати сам М.М.Б. провел
работу по очистке текста от этих «следов», при подготовке РЖ он просил
публикаторов сделать это. В настоящей публикации сохранены все объемные купюры
(отмечены в тексте троеточиями в угловых скобках), но восстановлены мелкие — в
одно или несколько слов — изъятия (восстановлены, в частности, все случаи
использования М.М.Б. широко известного в то время «сталинского» по происхождению словосочетания «обмен мыслями* — см. прим. 13 к Д I; воспроизведена также
аллюзия к сталинскому положению о том, что «оголенных мыслей», т. е. мыслей,
свободных от языка, не бывает — см. прим. 17 к Д-Н; и др.). Восстановленные мелкие
изъятия и, главное, публикация в настоящем томе архивных подготовительных записей
к РЖ дает достаточно полное представление о конкретном содержании сохраненных
крупных купюр. По сравнению с предыдущими публикациями в текст внесены также
некоторые исправления, заново выверенные по автографу. За редкими исключениями
нормативного характера в публикации воспроизводится авторская пунктуация.
385
Формальным внешним поводом дли написания данного текста была, вероятно,
плановал научно-исследовательская работа М.М.Б. в Мордовском государственном
пединституте (в «тематических карточках» М.М.Б., в которых фиксировались
обязательные институтские задания, работа под названием «Проблема речевых
жанров» планировалась на 1953 год, что подтверждает и указанную выше датировку
рукописи). Имеются, вместе с тем, некоторые основания для предположения, что
данный текст готовился М.М.Б. и как статья (см., в частности, прим. 36 к ПМ\ именно
как «статья» зафиксирована данная плановал работа — в отличие от других — ив
тематической карточке М.М.Б. за 1953 год). Какие-либо сведения о том, где именно
могло предполагаться издание этой статьи, к настоящему времени, однако, не
известны.
В пользу предположения о наличии внешнего «заказа» на данный текст говорит и то,
что по своему стилю и жанру — это научная статья для периодического издания или
для практиковавшихся тогда проблемных сборников, рассчитанная на конкретного
читателя начала 50-х годов. РЖ — практически единственная работа М.М.Б., написанная непосредственно изнутри лингвистики с соблюдением терминологических норм
и риторических приемов, характерных для того времени. Вследствие этого
оригинальные собственно бахтинские идеи, адаптация которых к текущей ситуации
была, видимо, сверхзадачей статьи, занимают здесь сравнительно мало места: большая
часть текста, даже тогда, когда М.М.Б. очерчивает логические декорации для введения
своих специфических категорий (высказывания и речевых жанров), построена с
условно принятой чужой позиции, скрытое оспаривание которой ведется как
доказательство необходимости ее имплицитного самоограничения, то есть сужения
сферы своей компетенции в целях соблюдения логической чистоты посылок и
следствий (см. ниже). Специфические же бахтинские темы чужого слова, непрямого
говорения, диалогических отношений и др. здесь фактически лишь констатированы и
локализованы в намеченной общей схеме частных лингвистических дисциплин (см.
прим. 20), но не развиты в полной мере (см. прим. 28, 38, 39, 56). С другой стороны,
385
именно в этом тексте некоторые пункты бахтинской позиции, благодаря их
настойчивому и последовательному проговариванию на языке предполагаемого
читателя-лингвиста, получили наиболее развернутое толкование (прежде всего, сама
категория высказывания, также поданная опосредованно: через свое отличие от
общепринятых единиц языка — слова и предложения). В результате именно эта
работа, облегченная с точки зрения обычных для других текстов М.М.Б.
общефилологических и общефилософских комментариев, была «услышана»
лингвистами и во многом благодаря именно этой работе бахтинское понимание
«высказывания» и «речевых жанров» активно и прочно вошло в современную
лингвистику, что в свою очередь способствует и усилению интереса к
общефилософской языковой концепции М.М.Б. Однако ориентация только на эту
работу и тем более восприятие ее как непосредственного выражения бахтинской
позиции без необходимой коррекции на ситуацию начала 50-х гг. (см. ниже) не дадут
полной картины; она возможна только при насыщении имеющегося здесь логического
каркаса бахтинских идей их непосредственно содержательными компонентами из
других работ, и прежде всего — из ПТД и
Несмотря на подчеркнутую простоту изложения, текст — особенно для читателя,
далекого от ситуации начала 50-х гг., — непрозрачен. Эта смысловая многослойность
текста РЖ при кажущейся внешней простоте становится почти зрительно наглядной
при его сопоставлении с подготовительными материалами, по которым можно как бы
поэтапно проследить как зарождение и постепенное формирование почти
386
всех вошедших в РЖ тем, так и опробование различных вариантов их диалогической
(ориентированной на читателя) обработки. Практиче ски весь текст РЖ оказывается в
этом смысле с двойным «диалогическим» дном. В более подробном и конкретном виде
результаты такого сопоставления даны непосредственно в примечаниях к
подготовительным материалам, здесь же необходимо оговорить, видимо, лишь
несколько принципиальных моментов.
Прежде всего — о самой лежащей в логической основе РЖ дихотомии «система
языка» — «речь», с помощью которой осуществляется многофакторное
противопоставление предложения и высказывания. М.М.Б. не сразу остановился
именно на этой дихотомии: по подготовительным материалам видно, почему и «в
соревновании» с какими другими также опробуемыми альтернативами М.М.Б. выбрал
именно эти логико-риторические декорации для своей статьи (см. прим. 12, 24 к Д-/, 30
к Д-//, 98 к ПМ и др.). Можно проследить по подготовительным материалам и этапы
становления большинства вошедших в РЖ специфических категорий (напр.,
первичные и вторичные жанры — см. прим. 10); в большинстве случаев можно также
установить чаще всего прямо не называемые М.М.Б. первоисточники тех или иных
критикуемых в РЖ понятий (см., напр., о возможном источнике критикуемого термина
«речевой поток» в прим. 24 к ПМ) и выявить почти всегда имеющуюся, но также почти
всегда скрытую в РЖ «виноградовскую» призму, сквозь которую, как это следует из
анализа подготовительных материалов, М.М.Б. диалогически «проводит» почти все
упоминаемые им в РЖ конкретные лингвистические концепции и категории, даже не
связанные прямо с именем Виноградова. Благодаря подготовительным материалам
можно также точнее понять рабочие причины некоторой логической и
терминологической неустойчивости РЖ (см., напр., прим. 62 и прим. 60 к ПМ) и (при
фрагментарном сопоставлении) специфические бахтинские приемы «перевода» рабочих записей в беловой текст (см., напр., иллюстрацию происходящих при этом
изменений в прим. 66 к ПМ).
386
Далеко не все темы, затронутые в подготовительных материалах, вошли в РЖ (см.,
напр., прим. 32-35 к ПМ). Восстановление с помощью подготовительных материалов
полного, учитываемого самим М.М.Б. контекста, на фоне которого писался черновик
РЖ, уточняет реальный, задуманный М.М.Б., но так до конца и не осуществленный
масштаб этой работы.
В целом кроме собственно бахтинского состава научных идей в РЖ
просматриваются еще три смысловых плана: отзвуки развернувшейся в то время
критики марризма (прим. 1, 5, 12, 22, 30 и др.); бахтинская критическая реакция на
общее положение дел в синтаксисе и стилистике (прим. 2, 11, 14, 18-20, 31-34, 61 и др.)
и его опережающий ситуацию прогноз ближайших перспектив отечественной
лингвистики на середину и конец 50-х гг. (прим. 12, 20, 22, 32, 41, 44, 48 и др.)
Дискуссия о марризме по своим явным и скрытым причинам, внешним лозунгам и
действительным целям, по тем последствиям, к которым она так или иначе привела,
относится к числу наиболее сложных событий в отечественном языкознании. Под
4>ормально единым флагом (поддержка тезиса об общенародном единстве языка;
критика «гипертрофии» семантики у самого Н. Я. Марра и синтаксиса у его
последователей; неприятие классового подхода к языку и основанной на нем
русистики; поддержка критиковавшихся в марризме сравнительно-исторического
направления, фонетики, морфологии и др.) в этой кампании участвовали лингвисты
практически всех направлений, выбирал для критики из также далеко не однозначной
марровской школы всякий раз новые частные аспекты и интерпретируя их негативные
для лингвистики последствия часто диаметрально
387
противоположным образом. Например, так называемая «гипертрофия* семантики в
марризме в одних случаях критиковалась как причина «механического» дробления
языка на «формальную» и «идеологическую» части и, соответственно, как причина
ошибочной ориентации на десемантизированные и «технически» понимаемые
языковые средства (Виноградов В. В. Критика антимарксистских концепций стадиальности в развитии языка и мышления (1923 — 1940). — «Против вульгаризации и
извращении марксизма в языкознании». Часть 1. М., 1951, с. 149, 118. В дальнейшем
ссылки на этот сборник будут даваться через сокращение ПВИМ). В других случаях
первенствующее положение в марризме лексики и особенно семантики, напротив,
интерпретировалось как препятствие к изучению формальных системно-языковых
закономерностей, находящихся вне компетенции -семантики, в частности,
фонетических законов (Аванесов Р. И. «Новое учение» о языке и лингвистическая
география. — ПВИМ, 281-282, 284). Отрицаемое в первом случае берется за искомую
цель во втором. Такое же положение дел было и с другими «совместно» критикуемыми
положениями марризма: контраргументы, предъявляемые марризму, по существу
предназначались друг другу, а совместная кампания против марризма, действительно
тормозившего в своих агрессивных формах развитие науки, переросла в скрытую
взаимную борьбу наиболее представительных в то время направлений отечественной
лингвистики. Впоследствии эта борьба приняла более открытую форму в дискуссиях о
стилистике (см. примечания к работе «Язык в художественной литературе») и
структурализме в середине и конце 50-х годов. (Подробную информацию как о
собственно научной, так и об «околонаучной» ситуации в связи с антимарровской
кампанией можно получить по книге Алпатов В. М. История одного мифа. М., 1991).
м.М.Б. в настоящем тексте не только учитывает реальную дислокацию сил в общей
антимарристской кампании, но и заранее намечает последствия этой скрытой борьбы.
Текст ориентирован на три основные противоборствующие точки зрения: марризм,
«виноградовское» (условно) направление и зарождающийся отечественный структура-
387
лизм, к которому впоследствии с той или иной степенью близости перейдут скрытые
оппоненты «виноградовской» позиции. Существо споров между этими направлениями
М.М.Б. глубоко не задевает: помимо «персональных» аргументов против каждой из
этих точек зрения (см. ниже), в тексте имплицитно предполагается и общая ко всем им
претензия, связанная с общефилософской позицией М.М.Б. Все более или менее
заметные к тому времени силы и, главное, объединившая их в рамках критики
марризма общая тенденция времени отражает, по М.М.Б., нарастающую
монологизацию гуманитарного мышления в целом (см. прим. 1). Виноградовскал
позиция, так же как и формально противостоящие ей разнообразные версии структурализма, начиная с ранних работ оценивалась в кругу М.М.Б. как развитие
соссюровского направления в лингвистике, в частности, формализма (ФМ, 75, 88, 93 и
др.). Естественно, что внутренние •искуссии в рамках общей монологической
тенденции имели для М.М*.Б. частный характер, и в этих условиях занятая им позиция
могла быть только позицией нейтрального наблюдателя, участие которого в дискуссии
стимулировалось в основном завуалированным стремлением изнутри привить
отечественной лингвистике диалогическую ветвь. В этих целях М.М.Б., во-первых,
развивает систему логически чистых, с его точки зрения, следствий из условно принимаемых посылок (в качестве таких посылок используются наряду с дихотомией
системы языка и речи и «непререкаемые», восходящие к Сталину тезисы об
общенародном единстве языка и — одновременно
о его внеидеологичности) и, во-вторых, локализует в вырисовы
388
вающейся в результате этой логической операции общей схеме лингвистического
знания ту область, которая непосредственно интересовала самого М.М.Б.
(зафиксировано в понятии речевого общения).
Естественно вместе с тем, что при общей чуждости М.М.Б. всех трех основных
проявившихся в дискуссии о марризме точек зрения, в бахтинском отношении к
каждой из них имеются свои нюансы. Главным оппонентом — не в смысле «наиболее
враждебным», но в смысле «наиболее затрагивающим» М.М.Б. — было, безусловно,
виноградов ское направление (см. общую преамбулу к подготовительным материалам),
далекое по своим теоретическим установкам, в частности — на единое языковое
сознание, но наиболее близкое по конкретным темам (стилистика, язык
художественной литературы и др.). М.М.Б. стремится здесь доказать, что принятие
«непререкаемых» тезисов о единстве и одновременно внеидеологичности языка
неизбежно заставит сторонников этого направления пересмотреть свои исходные теоретические ориентации. В частности, если в начале 50-х годов в рамках этого
направления понятие «системы языка» в ее противопоставленности «речи»
расценивалось как необязательное и часто затемняющее существо вопроса, то уже в
1954 г. в дискуссии о стилистике дихотомия языка и речи действительно выдвинется
для этого направления на первый план в связи с проблемой разграничения языковых и
речевых стилей. Это в свою очередь должно будет, по М.М.Б., повлечь за собой и
принципиальную редукцию семантики в понимании основных единиц языка, в
частности — предложения, которое ранее недифференцированно рассматривалось как
одновременно и единица языка, и единица речи. В случае теоретически корректного, а
не только формального принятия новых «дихотомических» координат и в случае, если
предложение при этом будет продолжать рассматриваться как единица языка — все
«речевые», по излагаемой здесь версии М.М.Б., свойства предложения (а это и
модальность как отношение к действительности, и все виды экспрессии) должны будут
быть изъяты из семантики предложения. В целом все антивиноградовские аргументы
М.М.Б. имеют обобщенно-теоретический характер, практические, же результаты,
388
достигнутые в рамках этого направления, всегда достаточно высоко ценились М.М.Б.
Антивиноградовские мотивы подробно указаны в постраничных примечаниях к РЖ и
ко всему блоку подготовительных материалов.
Принципиально иного свойства бахтинское отношение к структурализму. В
пределах монологической парадигмы гуманитарного мышления структурализм, по
М.М.Б., наиболее последователен и потому логически «убедителен», отсюда — М.М.Б.
предвидит усиление струк-туралистического влияния, к которому объективно приведет
массированная критика марризма, независимо от субъективных целей ее участников.
Вместе с тем М.М.Б. подчеркивает и то обстоятельство, что структурализм в принципе
не приспособлен к тому, чтобы оценить особое значение в лингвистике таких тем, как
чужое
слово
или
непрямое
говорение.
Радикальность,
свойственная
рационалистическому типу мышления в целом, может, по М.М.Б., помешать
благожелательному, «без драк на меже», разделению лингвистических тем, что, в свою
очередь, может привести к тому, что после неизбежного этапа полного отказа от
семантики, стимулированного в отечественном структурализме не только пониманием
своего предмета, но и сверх меры болезненной реакцией на марризм, наступит не
менее неизбежный этап, когда семантика вернется в структурализм (что и случилось) и
когда бахти некая тематика (многосубъектность речи, расслоение «я» говорящего и т.
д. ) может опять оказаться вовлеченной в орбиту системно-языкового мышления, но
«вовлеченной» опять-таки в своей редуцированно-монологической (условно —
«виноградовской»)
4юрме
(постоянно
подчеркиваемый
М.М.Б.
парадокс
взаимообрапги
389
мости виноградовского и структуралистического направлений как крайних точек
амплитуды одного и того же монологического типа мышления). Ого предчувствие
М.М.Б., основанное на его проявившемся еще в 20-е гг. недоверии к
преимущественному интересу к форме и к декларативному отказу от области смысла,
также частично оправдается впоследствии.
Что касается темы «Бахтин и марризм», то, несмотря на существующую здесь
острую текстологическую проблему, связанную, в частности, с волошиновскими
работами, она не имеет реальной глубины. Сопоставление абстрагированных от
конкретной тематики и искусственно обнаженных от контекста тезисов, вызывающих
ощущение сходства этих направлений, не может дать реальной картины, как не дает ее
и любое другое обезличенное сопоставление абстрактных идей. Следование такой
абстрагированной методике сравнения с той же «отрицательной» степенью
достоверности порождало в дискуссии о марризме иллюзии о его сходстве
одновременно с потебнианством и фосслерианством, с одной стороны, и с
формализмом и структурализмом, с другой. Аналоги или источники марризма видели
также и в Касс и ре ре, и в Сепире, и в Якубинском, и в Жирмунском, объединяя весь
этот разросшийся круг ассоциаций одним словом — «идеализм». Действительно же
результативное поле сравнения — конкретные темы, непосредственно
разрабатываемые М.М.Б. и марровскои школой, не только не совпадали, но почти не
пересекались, что достаточно редко для одной в принципе науки (тем более если
утверждать при этом сходство исходных постулатов). В центре марризма стояла грамматика, точнее — исследование генезиса и семантики грамматических форм и
категорий, сначала в области лексики, затем преимущественно в синтаксисе. Для
Бахтина же чисто «грамматическое» никогда не составляло предмета анализа, равно
как речевое общение не было самостоятельным объектом исследования в марризме.
Столь резкое тематическое различие имеет решающее значение. Например, казалось
бы общий тезис о важности синтаксического аспекта в языке на практике
389
трансформировался у И. И. Мещанинова и других исследователей этой школы в
изучение субъект-объектной (предикативной) структуры предложения, в установление
исторической типологии его 4юрм, увязываемых с нормами и стадиями мышления и с
«монистическим» принципом истории, а у Бахтина — в анализ многосубъектной
структуры высказывания, полифонии, непрямого говорения и т. д.
Несопоставимы, наконец, исходные стимулы и конечные цели бахтинской
философии языка и марризма: для М.М.Б. — это личность, для марризма — та или
иная степень абстрактной общности людей, вплоть до грядущего всеобщего единства.
В этом отношении марризм — по бахтинской системе координат — столь же
монологичен, как структурализм того времени и виноградовское направление (тезис о
единстве сознания понимался в марризме не как рабочая установка и даже не как
отражение реального положения дел, но как конечная цель, как единственно
мыслимый для будущего идеал).
Внимательно прислушиваясь к событиям внутри отечественной лингвистики в
постоянном поиске возможности органичного введения в нее своей проблематики,
М.М.Б. после нового всплеска монологической тенденции в 50-х гг. и в результате
своего анализа перспектив развития сложившихся в отечественной лингвистике
направлений отказывается от этой цели. Настоящая работа и. рабочие записи 54 года,
озаглавленные «Язык в художественной литературе» (см. наст, изд.), были, вероятно,
последними попытками М.М.Б. привить интересующие его речевые явления
непосредственно к древу лингвистики. Начиная с конца пятидесятых годов М.М.Б.
максимально усиливает встречавшиеся у него и ранее тезисы о неприменимости
390
«чисто» лингвистических методов к явлениям типа диалогических отношений и о
«праве» лингвистики заниматься теми языковыми фа к гами, которые остаются после
редукции этих явлений. Тогда же (см. прим. 59 к ПТ) М.М.Б. закрепит и
специальный
термин
-<металингвистика*, обособивший интересующую его
тематику от усиливающих свое влияние монологических методов в языкознании.
1. Тезис об общенародном единстве языка, выдвинутый в сталинских работах в
противовес классовому пониманию языка в марризме, активно поддерживался и
развивался в научной литературе того времени (см. напр., Предисловие и статью В. П.
Сухотина «Критика «учения» Н. Я. Марра о «классовости» языка» в ПЁИМ, 4, 14, 21 и
др.). Для М.М.Б. это один из основных скрытых пунктов спора с преобладающим в
науке мнением о характере такого единства (если, конечно, в тех или иных целях
принимать сам тезис об общенародном языке). Согласно мнению большинства
лингвистов, работавших в рамках виноградовского направления, положение о единстве
языка может непротиворечиво совмещаться с признанием в нем модальных и
эмоционально-экспрессивных моментов (см. прим. 31, 48). Для М.М.Б. же это •—
«контрабандное» совмещение (см. фрагмент, отмеченный в прим. 6 к работе «1961 год.
Заметки»). Согласно М.М.Б., если принимать тезис о единстве языка, то это единство
может быть понято только как единство абстрактной системы, как лингвистический
минимум общения, что имеет смысл лишь в узких рабочих целях при сознательном
отказе от полноты описания объекта (аналогичное понимание развивалось М.М.Б. и в
ранних работах — см. СВР, 101; см. также прим. 81 к ПТ). Совмещение тезисов о
единстве языка и его аксиологической наполненности — это, по М.М.Б.,
специфическое для отечественной лингвистики 50-х гг. выражение того исторически
влиятельного идеологического принципа, который отражает монологическую
тенденцию к утопической централизации словесно-идеологического мира на фоне
реально действующих центробежных языковых сил (ВЛЭ, 84, 107; оо утопизме такой
установки см. ППД, 108 и прим. 16 к ПТ). Монологическое единство языка, по М.М.Б.,
390
никогда не дано, но только задано (ВЛЭ, 83). Принимая здесь тезис о единстве языка в
качестве исследовательской установки с ограниченными возможностями (о
постепенном формировании этой установки и о вызвавших ее «диалогических»
причинах см. примечания к блоку подготовительных материалов к РЖ), М.М.Б. тем не
менее ниже — не оговаривая это специально — оспаривает все те варианты его
толкования, которые не только пассивно выражали, но и активно способствовали
усилению тенденции к монологизации гуманитарного мышления и всего
идеологического контекста отечественной культуры в целом.
2. «Высказывание* к тому времени — распространенный аморфный термин,
используемый самыми разными исследователями и имеющий
везде
свое
толкование,
далекое
от
бахтинского (Карцевский, Мещанинов, Виноградов,
Поспелов, Сухотин и др.) Частичную — но больше на декларативном, чем
практическом уровне
аналогию с бахти не к им пониманием можно найти у И. Ф. Яковлева, который в
рамках борьбы с марризмом (см. В. М. Алпатов, ук. соч., с. 195-196) подвергался в это
время критике в том числе и за «слишком широкое» и «недифференцированное» понимание высказывания, лишенное всякой синтаксической (как и у М.М.Б.)
определенности (см. Попов П. С. Суждение и предложение. — Вопросы синтаксиса
современного русского языка. М., 1950, с. 9. В дальнейшем этот сборник будет
обозначаться через сокращение — ВС; М.М.Б. был знаком с этим сборником — см.
примечания к блоку
391
подготовительных материалов) В наиболее распространенном толковании термин
«высказывание» понимался как языковое выражение законченной мысли, имеющее то
или иное соотношение с предложением. Для М.М.Б. «высказывание» — центральная
категория его общелингвистической концепции, имеющая стабильное значение во всех
работах о языке, начиная с 20-х гг. (уточнялись или изменялись — в диалогических
целях — лишь детали толкования, но не суть термина). Впервые термин применен,
вероятно, в «Проблеме содержания, материала и формы в словесном художественном
творчестве» (ВЛЭ, 44, 63, 65 и др.). Возможно предположить терминологическое
влияние Л. П. Якубинского (см. его работу 1923 года «О диалогической речи», где
кроме «высказывания» употребляется также ставшее весомым для М.М.Б.
словосочетание «речевое общение* — см. прим. 20) и фосслерианцев (см. прим. 9). В
настоящей работе дано наиболее полное обоснование бахтинского понимания
целостности и границ высказывания. О связи высказывания с общефилософской
позицией М.М.Б. см. прим. 2, 24 к ПТ
3. Философская категория «целого* непосредственно связана у М.М.Б. с
лингвистической категорией «жанра*. О философском контексте этой бахтинской
темы см. примечания к «К философским основам гуманитарных наук»; в
непосредственно же лингвистическом плане специфика бахтинской позиции может
быть охарактеризована как принципиальное акцентирование функционального аспекта
при выявлении целостных языковых единиц (см. прим. 38, 39 к ПТ),
сопровождающееся применением персоналистического критерия при решении вопроса
о природе границ целого. В 40-50-е годы эта проблематика поднималась, в частности, в
дискуссиях внутри структурализма в виде темы о главенстве индуктивных (пражский
структурализм) или дедуктивных (Л. Ельмслев) методов, что во многом воспроизводило аргументы средневекового спора номинализма, концептуализма и
реализма (см. Skalicka V. Kadansky Strukturalismus а «prazska skola». — «Slovo a
Slovesnost». Т. X. 1948, № 3). М.М.Б в целом свойственна установка на «дедукцию», но
в отличие от Ельмсле-ва, настаивавшего на имманентном изучении языка и,
391
следовательно, на чисто лингвистических способах определения языкового целого
(аналогичной позиции придерживались и многие отечественные лингвисты), М.М.Б.,
также оспаривавший используемые в то время не лингвистические способы выявления
целого (логико-семантические, психологические, «материальные* и др. — см. прим.
34, 43), вводит не «абстрактно» или «собственно* лингвистический, а персоналисти
ческий критерий выявления границ речи (смена речевых субъектов — см. ниже по
тексту), который восходит к центральному для М.М.Б. философскому соотношению
«я* и «другого» (см. прим. 16 к ПТ). Ни в структурализме, ни в отечественной
нормативной лингвистике того времени персоналистический критерий не только не
вводился, но и не мог быть введен, исходя из самих предполагаемых теоретических
постулатов этих направлений.
4. Понятие речевых жанров восходит к работам волошиновского цикла (МФЯ, 23-24
и др.). Так же как и «высказывание» (см. прим. 2), «жанр» был в то время широко
употребляемым в лингвистике аморфным термином, часто синонимически не
различаемым с целым рядом аналогичных понятий (тип, форма, разновидность речи и
т. п.). Для М.М.Б. «жанр», будучи терминологическим фокусом скрещения многих его
оригинальных идей, имел принципиальное категориальное значение, связанное, с
одной стороны, с собственно литературоведческими работами (СВР, ПТД и др.), с
другой стороны
с общефилологической и даже общефилософской позицией М.М.Б.
392
(см., в частности, прим. 65 к ПТ) В течение 1954 года категория жанра подверглась в
отечественной лингвистике своего рода «дискредитации» (подробнее см. преамбулу к
«Языку в художественной литературе»), что могло стать одной из причин того, что
М.М.Б. оставил рукопись РЖ незаконченной.
5. В ранней работе (СВР, 88) М.М.Б. видит причину игнорирования речевых жанров
в их причастности к децентрализующим тенденциям словесно-идеологической жизни,
противоречащим установке на монологически единый (общенародный) язык (см. прим.
1). Интересно, что Виноградов, позиция которого всегда оценивалась М.М.Б. как
монологическая, в своей статье «Некоторые задачи изучения синтаксиса простого
предложения» («Вопросы языкознания», 1954, № 1, в дальнейшем — ВЯ) критиковал
среди прочего и версию вынужденного отнесения к одному категориальному разряду
речевых явлений принципиально разного объема, причем использовал при этом почти
идентичную с данной здесь М.М.Б. формулировку темы, отмечая, что в такого рода
версиях к одному разряду должны быть отнесены и односложная реплика, и
многотомный роман. Эта виноградовская статья была известна М.М.Б. (см. прим. z9 к
«Языку в художественной литературе»).
6. Имеется в виду созданная учениками Соссюра женевская школа лингвистики,
один из главных представителей которой Ш. Балли считал, что разговорный устный
язык, в котором на первый план выдвигается взаимодействие между индивидами,
является нормой использования языка и потому должен стоять в центре лингвистических исследований (Вайу Ch. Linguistique generale et linguistique francaise. Bern, 1950).
Критику женевской школы как одного из главных направлений «абстрактного
объективизма» см. в МФЯ, 60-64.
7. Речь идет скорее всего об одном из направлений структурализма того времени —
о пражском лингвистическом кружке (включавшем в себя и русских лингвистов —
Трубецкой, Карцеве кии, Якобсон), в котором бытовой диалог изучался как проявление
«ситуативного» или «практического» языка (в противоположность «теоретическому» и
«поэтическому» языкам), направленного на внелингвистический контакт в ситуации
устного общения, например, через жесты (Theses. «Travaux du Cercle linguistique de
392
Prague». I. Prague, 1929). См. критику генетически связанного с пражской школой
понятия жизненно-практического языка у русских формалистов в ФМ, 128-133.
8. Бихевиоризм («наука о поведении») — направление американской психологии,
ставившее своей целью сначала установить путем эксперимента, а затем и
классифицировать врожденные и приобретенные схемы поведения человека, в том
числе и его вербальные реакции на различные, как вербальные, так и невербальные,
стимулы. В книге «Фрейдизм» имеется краткое изложение и критика основ
бихевиоризма как собственно психологического направления за преувеличение роли
биологического и недооценку роли социологического фактора. Непосредственно к
лингвистике бихевиоризм был последовательно применен Л. Блумфилдом,
настаивавшим на необходимости изучать прежде всего живую разговорную речь и
рассматривавшим процесс речевого общения как последовательную смену стимулов и
реакций (Bloomfield L. Language. N.Y. 1933). Его последователи закрепили
специальный термин для обозначения разработанной в рамках этого направления
системы методов лингвистического анализа — «дескриптивизм» (ниже М.М.Б.
использует этот термин). Впоследствии методика дескриптивной лингвистики будет
частично использована в теории и практике машинного перевода.
393
9. Школа К. Фосслера по разработанному в МФЯ основному делению
лингвистических
направлений
на
«абстрактный
объективизм»
и
«индивидуалистический субъективизм» — в отличие от трех названных выше школ, в
той или иной мере относимых к первому направлению, — составляет, по М.М.Б., ядро
второго направления. Несмотря на критику фосслерианства в целом, разделяющего все
«ошибки» индивидуалистического субъективизма, оно высоко оценивалось М.М.Б.
(МФЯу 51), и прежде всего — за настойчивую постановку проблемы чужой речи и
анализ различных форм ее передачи (МФЯ, 143 153), а также за интерес к типологии
форм речевого общения (книга Л. Шпитцера «Italienische Umgangssprache». Bonn und
Leipzig, 1922 названа «одной из первых серьезных попыток подойти к проблеме
речевых жанров» — МФЯ, 24). В отечественной лингвистике специальный интерес к
разговорной речи проявится значительно позже.
10. О постепенном становлении терминов «первичные* и «вторичные* жанры см.
прим. 10, 35 и 44 к Д-Н.
11. Связь стиля с жанром — одно из основных положений М.М.Б. (см. напр., ВЛЭ,
77, 101 и др.), существенно отличающееся от влиятельных в то время стилистических
концепций, в которых либо признавались лишь индивидуальные стили (это не только
соссюрианство и (Ьосслерианство в их чистом виде, но и эклектичные, с точки зрения
М.М.Б., концепции отечественных стилистов, не всегда отчетливо проговаривающих
свои исходные принципы — см. прим. 18, 47 и др.), либо говорилось о двух
стилистиках — индивидуальной и собственно языковой. Стилистика языка, в
разнообразных формах развиваемая в отечественной лингвистике, находилась в
прямой зависимости от тезиса об общенародном единстве языка (см. прим. 1, 12). Бахтинская категория жанра одновременно и подчеркивала объективность стиля (в
противовес стилистике индивидуальной речи), и снижала жесткую нормативность
монологически ориентированной стилистики языка. Ниже М.М.Б., не оговаривая
конкретных оппонентов, оспаривает обе версии, хотя на поверхностном уровне эта
критика выглядит как нейтральное и даже благожелательное изложение общей
ситуации в отечественной стилистике. О резком, но временном, терминологическом
смещении акцента от жанра к стилю в позиции М.М.Б., связанном с его диалогической
реакцией на стилистическую дискуссию 1954 года, см. примечания к «Языку в
художественной литературе».
393
12. Теория языковых или функциональных стилей, занявшая определяющее
положение в отечественной стилистике начиная с конца 60-х гг., в начале 50-х по
существу еще только декларировалась на теоретическом уровне (А. М. Пешковский. Л.
В. Щерба, Г О. Винокур и особенно — В. В. Виноградов). М.М.Б. предвидел ее
будущее влияние и пытался предвосхитить его, намечая как теоретически спорные, тек
и перспективные моменты в таком понимании стиля (о •ложном неоднозначном
отношении М.М.Б. к самому функционально vry критерию в стилистике см. преамбулу
к «Языку в художественной литературе»).
13. Ср. СВР, 101-108, где в качестве единого основания классификации стилей
выдвигается не жанровый, но интенциональный момент (каждый стиль отражает
своеобразную «точку зрения» на мир), что формально шире, чем жанровый принцип,
но по существу не находится в противоречии к данному тексту, так как М.М.Б. придавал жанру универсальное значение как всякий раз новому способу видения и
понимания действительности, то есть как определенной «точке зрения» (ФМ, 180).
394
14. В первом томе «Грамматики русского языка» (М., 1952), на который ниже будет
прямая ссылка М.м.Б., нет специального раздела о стилистике; сказано лишь, что
стилистический ракурс пронизывает все разделы грамматики. Вероятно, приводимый
М.М.Б. список разновидностей языка собран им из разных разделов этого тома, в частности — из стилистических характеристик употребления различных грамматических
единиц. Второй том «Грамматики...» (в двух частях) вышел в 1954 г. (то есть скорее
всего уже после написания РЖ), но и в нем, хотя изложение вопросов синтаксиса и
ведется там с привлечением стилистических характеристик, специально выделенного
раздела о стилистике, где приводился бы данный список разновидностей, также нет. В
подготовительных материалах к РЖ предполагалось посвятить специальный раздел
критике академической грамматики (см., в частности, прим. 51-55 кД-Н).
15. Ср. рецензию на эту книгу В. В. Виноградова (ВЯ, 1952, №6), где также
отмечается нечеткость гвоздевской классификации стилей. Книга А. Н. Гвоздева могла
привлечь особое внимание М.М.Б. и тем, что в ней упомянуты явления «скрытой»,
«живописной» и «несобственной прямой» речи, разработанные в МФЯ. (См. также
прим. 34 к «Языку в художественной литературе»)
16. Данный и следующий абзацы воспроизводят — в редуцированном виде — ход
рассуждений в СВР (ВЛЭ, 101-108).
17. См. Фосслер К. «Грамматика и история языка». — Логос. Кн. 1. М., 1910, с. 167.
Критику этого положения см. в МФЯ, 52, 84-95.
18. См., напр., Винокур Г О. О задачах истории языка. — Ученые записки
Московского государственного педагогического института. Т. V. Вып. 1. 1941.
19. «Синтагма* — распространенный в то время, но неустановившийся термин. В
отечественной лингвистике встречался уже у Бодуэна, но специально разрабатывался
Л. В. Щербой и В. В. Виноградовым. Синтагма была в центре дискуссий конца 40-х —
начала эО-х годов. Элементом грамматики синтагма считалась в структурализме (см.
напр., Trubelzkoy N. Les rapports entre le determine, le determinant et la defini. Melanges
Ch. BaHy. 1939, р. 79; у нас аналогичное понимание синтагмы развивалось А. А.
Реформатским, А. В. Лоя и др); как категорию «стилистического синтаксиса» понимал
синтагму вслед за Щербой В. В. Виноградов («Понятие синтагмы в синтаксисе
русского языка» — ВС, 211, 248). Более подробно о бахтинском понимании синтагмы
см. блок подготовительных материалов к РЖ.
20. Понятие «речевого общения* (или «речевого взаимодей ствия*) относится к
числу специфических категорий М.М.Б., разра ботанных в 20-е гг. (МФЯ, 84-101
394
и др.). Так же как «высказывание» и «жанр», словосочетание «речевое общение»
часто использовалось в то время в лингвистике, но — в отличие от М.М.Б.
— без какого-либо четкого категориально! и статуса. Бахтинское «речевое общение»
не вписывается в соссюровскую дихотомию «язык
— речь». В отличие от соссюровской «речи* i; ;км подчеркнут не ин дивидуальный,
а социально типичный аспект ('м. прим. 40), однако эта «социальность» бахтинского
«речевого общения» принципиально отлична и от «монологической» социальности
соссюровского «языка», так как в ней учитываются типические форг.ы
.многосубъектного расслоения речи, а не абстрактно единое языковое сознание. Если
395
учитывать поздние работы М.М.Б., то можно предположить, что ко печная
бахтинекая схема лингвистических дисциплин предполагает не обычную диаду (язык
— речь) и даже не более редкую триаду терми нов (напр., у того же Соссюра или у Л.
В. Щербы, понятие «речевой деятельности» которого имеет некоторое сходство с
«речевым общением» М.М.Б.), но — квартет терминов: «язык» (как система), «речь»
(как совокупность текстов), «речевое общение* и «высказывание* (как единица
речевого общения) — см. ПТ, 311. В настоящем тексте внимание фиксируется на
противопоставлении «системы языка» и «речевого общения», причем одновременно в
двух целях: в качестве очередного аргумента в постоянной дискуссии М.М.Б. с
Соссюром о существовании особой области социально-типического в языке, которая
не покрывается понятием «система языка», и в качестве противовеса нечеткому,
аморфному пониманию «речи» или «речевого потока» в отечественной лингвистике
начала 50-х гг., влекущему за собой стирание всякого различия между областями языка
и речи, в результате чего предложение, напр., часто толковалось и как единица языка, и
как основная единица речи. Такое понимание «языка вообще», унифицирующее
семантические и аксиологические особенности речи, связанные в своей основе с
многосубъектностью речевого общения, в еще большей степени, чем структурализм,
способствовало, по М.М.Б., усилению монологической тенденции в отечественном
языкознании. См. прим. 27, 31, 32, 48 и др.
21. Философскую критику экспрессивных теорий см. АГ, 58-72; специально о
фосслерианстве — МФЯ. 85-95; об установке на «выражение» у русских формалистов
— ФМ, 120-128. Логика развития мысли в АГ, МФЯ, ФМ и настоящем тексте
совпадает в своих основных пунктах. О специфике бахтинского употребления термина
«экспрессивность» в эти годы см. прим. 16 к Д-ll.
22. М.М.Б. здесь, вероятно, намеренно заостряет тему, чтобы расширить само
понимание коммуникативной функции языка. Официальная версия того времени
предполагала единство двух функций языка — функции становления мысли и функции
коммуникативной (см., напр., квалификацию В. В. Виноградовым в связи с общей
критикой марризма противопоставления этих двух функций как «антимарксистского»
— «Критика антимарксистских концепций стадиальности в развитии языка и
мышления», ПВИМ, 118). Тезис о генетическом родстве этих функций не был
абсолютно чужеродным для М.М.Б. (см., напр., МФЯ, 102-108, а также прим. ПО к
ПМ, где это родство прямо утверждается), но в данном случае, чтобы выразить
специфику речевого общения, М.М.Б. важнее было подчеркнуть — на фоне условного
для него разведения двух функций — именно коммуникативную функцию, так как в
лингвистике того времени единство функций по сути дела только декларировалось и
коммуникативный аспект практически не рассматривался. Так, напр., в большинстве
работ того времени при анализе предложения, декларативно называемого
коммуникативной единицей, речь тем не менее шла либо о гом или ином понимании
его психологической основы (суждение, волевой акт и т. д. ), либо же о формах
395
отражения в нем объективной действительности, причем обе версии отличались
настойчивостью. См., в частности, критику В. В. Виноградовым А. М. Пешковского
как «идеалиста» за то, что его «не интересовал» вопрос о связи предложения с
действительностью («Идеалистические основы синтаксической системы проф. А. М.
Пешковского, ее эклектизм и внутренние противоречия». — ВС, 37, 74). Следует также
учитывать, что М.М.Б. понимал коммуникативную функцию шире ее обычного
толкования (см. прим. 63 к ПТ).
396
23. О «пассивном понимании» по М.М.Б. см. прим. 46 к ПТ
24. Имеется в виду школа X. Штейнталя и М. Лацаруса, у нас — Г Г. Шпета
(«Введение в этническую психологию». М., 1927). В ранних работах это направление
критиковалось за монологизацию общественного сознания, за сведение
множественности говорящих к гипотетически единому «духу нации» (МФЯ, 50-51).
Подробнее о бахтинском отношении к Шпету см. примечания к «К философским
основам гуманитарных наук».
25. Ф. де Соссюр. Труды по языкознанию. М., 1977, с. 50.
26. О категории «ответа» у М.М.Б. см. прим. 51 к ПТ.
27. См.. напр., цитированную выше М.М.Б. «Грамматику русского языка», с. У. См.
также прим. 32.
28. О вероятно первом употреблении критерия смены речевых субъектов как
способе определения границ высказывания см. прим. 8 к Д-1. Характерным
показателем бахтинской оценки ситуации в отечественной лингвистике начала 50-х гг.
является то свойство данного текста, что здесь по сравнению с ранними работами
основной пункт убеждения слушателя находится как бы на шаг «раньше», то есть
фактически лишь на подступах к собственно бахтинской тематике отражения чужого
слова в высказывании, которая здесь лишь пунктирно намечается (см. прим. 38, 39, 56).
В МФЯ вся подробно развернутая здесь проблематика выделения границ
высказывания сводилась фактически лишь к промежуточной констатации того, что
границы высказывания проходят по линии его соприкосновения с другими
высказываниями (МФЯ, 98; о возможных «диалогических» причинах акцентирования
разных моментов теории высказывания в РЖ и МФЯ см. общую преамбулу к блоку
подготовительных материалов к РЖ). Персоналистический критерии выявления
единицы речи, при всей своей казалось бы очевидности и более того — спонтанном
использовании, тем не менее официально не принят лингвистикой в качестве
конститутивного признака речевой единицы, что вызвано, видимо, не только тем
смущающим обстоятельством, что к единицам одного ранга будут в таком случае
отнесены и реплика диалога, и роман (см. прим. 5J, но и тем, что реплики диалога
(классической формы речевого общения, по М.М.Б. — см. ниже) чаще всего
рассматриваются в лингвистике не как отдельные, самостоятельные высказывания, а
как элементы некоего сверхличного «монологического» единства, то есть диалога как
единого сплошного текста (см. библиографию вопроса в Москалъская О. И.
Грамматика текста. М., 1981, с. 42). Ниже М.М.Б. подробно оспаривает это устойчивое
в лингвистике монологическое понимание диалога.
29. О логической многослойности данного и предыдущего абзацев см. прим. 82 к
ПМ.
30. В центре дискуссий о синтаксисе, как связанных, так и не связанных с критикой
марризма, стояли вопросы о грамматической природе предложения (предикативность,
модальность, субъектно-ооъектная структура, интонационное оформление) и о его
«порождающей» основе (логической, психологической, коммуникативной и др.) — см.
прим. 22, 42, 43. Особо стоял вопрос о роли синтаксиса в общем строе языка, в
396
частности, критиковалось преувеличение этой роли И. И. Мещаниновым, С. Д.
Кацнельсоном и др. за счет одновременного умаления значения фонетики, лексики и
морфологии. Для
397
М.М.Б. главным здесь была проблема смешения в предложении качеств единиц
системы языка и речевого общения (см. прим. 20, 32).
31. Вероятно, основным оппонентом здесь предполагался В. В. Виноградов, в теории
которого природа предложения связывалась с категорией модальности, содержащей в
себе прямое указание на отношение предложения к действительности («О категории
модальности и модальных словах в русском языке». — Труды Института русского
языка. М.-Л., 1950. Т. 2, с. 38-79). Отказ видеть в предложении непосредственное
соотношение с действительностью расценивался Виноградовым как «идеализм» (см.
прим. 22). Многочисленные критические аллюзии к этой стороне виноградовской
теории рассеяны по всему блоку подготовительных материалов к РЖ (см., напр., прим.
25 к ПМ).
32. Близкое к синонимичному употребление терминов «предложение» и
«высказывание» встречалось в работах многих исследователей, причем самых разных
направлений (Виноградов, Мещанинов, Сухотин, Галкина-Федорук и др. — см. прим.
2). Для М.М.Б. дело, конечно, не в терминологическом смешении самом по себе, но в
отразившемся в этом смешении логическом неразличении единиц системы языка и
речи, характерном для большинства направлений того времени. См., напр.,
определение предложений в цитировавшейся М.М.Б. «Грамматике русского языка» как
«основных» единиц языка и одновременно как элементов, на которые расчленяется
«наша речь». Каждое предложение, выражая, согласно академической грамматике,
отдельную мысль, является «более или менее законченным высказыванием» (с. 9).
Бахтинский упрек в неправомерном понимании предложения как «гибрида» языковой
и речевой единицы впоследствии был признан многими лингвистами как
справедливый.
33. Частый лингвистический пример — МФЯ, 101; ФМ, 130.
34. Бахтинское понимание завершенности высказывания противостоит
распространенным в то время версиям толкования завершенности предложения как
единицы коммуникации: логической
П. С. Попов), психологической (А. А. Шахматов), грамматической И. И.
Мещанинов), интонационной (С. О. Карцевский). Об истории
становления категории завершенности как признака высказывания см.
общую преамбулу к блоку архивных материалов.
35. Ср. аналогичное место в ФМ, 175-177.
36. Вероятно, дискуссионная отсылка к Виноградову, писавшему, что люди мыслят
и говорят «предложениями» («Идеалистические основы...», выше цит., с. 37).
Аналогичные высказывания можно также найти у Пешковского, Карцевского и др.
37. Вероятно, здесь прежде всего имеется в виду пятая глава четвертого тома
«L'honnetete dans la langage» из десятитомного издания firunot F. Histoire de la langue
francaise des origines ä 1900. T 1-10 P 1905-1943.
38. Взаимная переакцентуация жанров и сопровождающие ее явления двуголосости,
полифонии, пародии, сказа и др., намеченные здесь лишь как далекая перспектива,
составляют ядро бахтинской философии языка. См. прим. 28.
39. Локализация второго (см. прим. 38), не имеющего в данном тексте развернутого
обоснования, пласта бахтинской философии языка — проблемы «непрямого
говорения» (см. прим. 39 к ПТ).
397
397
40 Ф. де Соссюр. Труды но языкознанию, с. 52. Эта же цитата в числе других
использована в МФЯ, 62-63. См. также прим. 20. На верхнем поле той страницы
автографа, на которой помещена данная бахтпнская сноска, имеется следующая
надписанная, вероятно, при перечитывании рукописи и никак не локализованная
самим М.М.Б. фраза, vlla ранних стадиях речевой культуры говорят только жанра.чи,
не различая слов и предложений*.
41 Необходимость выделять наряду с предложением другие типы единиц речевой
коммуникации отмечалась многими языковедами. К тому времени в лингвистике
изучались (помимо названных М.М.Б. ниже) такие более крупные, чем предложение,
речевые явления, как абзац, полон, период, сверхфразовое единство, сложное синтаксическое целое и др. (А. X. Востоков, И. А. Фигуровский, .1. А. Булаховский, Б. В.
Томашевский, Н. С. Поспелов, А. М. Пешковский, В. В. Виноградов и др.). Единства в
понимании этих единиц не было Начала к тому времени зарождаться и лингвистика
текста. 1> целом, однако, эти явления находились на периферии лингвистического
мышления, уступая пальму первенства предложению. Согласно ранним работам
недостаток в подходе к единицам такого рода состоит, но М.М.Б. в применении к ним
индуктивных, а не дедуктивных ме-и,пв (гм. о неверном понимании жанра у
формалистов вследствие того, что они пришли к этой категории после изучения
частных элементов жанровой композиции, и критику понятия «конструкции из
нескольких предложений», введенного в ранней работе Б. В. Томаше-г'ч:оп> в ФМ,
175-179). См. также прим. 3.
42. «Паша речь распадается на высказывания. Каждое высказывание выражается
особой фразой. Фраза распадается на слова, соединенные между собой по законам
грамматики и объединенные общей интонацией» ХКарцевский С. О. Повторительный
курс русского языка. М.-Л., 1928, с 14). Законченность высказывания-фразы Карцеве
кого определяется законченностью интонации; при этом к четырем главным типам
законченных интонаций, мыслимым в системе ллыка, относились: утвердительная (или
повествовательная), вопросительная, восклицательная и побудительная (там же).
Фразы произносятся на едином выдохе и отделяются друг от друга паузами, что делает
фразу удобной для анализа (там же, с. 12, "99), то есть, по М.М.Б., придает ей
«соизмеримость». Предложение, по Карцевскому, лто предикативная синтагма (там же,
с. 33); чтобы стать фразой, оно доткно соединиться с законченной интонацией
(Karcevskij S. Sur la р'тя'пхе et la syntaxe en russe, — Cahiers Ferdinand de Saussure. 7. 10l(S, p. 34). В случае соединения с законченной интонацией фразой "Эд-ч' стать и любое
непредикативное словосочетание. Понятие фраполучило широкое распространение в лингвистике (А. М. Пешков-e«:mi, Л. А.
Булаховский и др.), однако ее толкование не было одно-!ым. Вероятно, вслед за
Карцевским и Пешковским понятие ! было
использовано
в
статье
волошиновского цикла
; ' грукция высказывания» («Литературная учеба», 1930, № 3, o\"j 8rJ), где она
понималась как ритмическое единство, имеющее внутреннее подразделение на группы
слов и объединенное единым гчысловым развитием. Понятие «фразы» неоднократно
всплывало в подготовительных материалах к РЖ; можно также предполагать, что
концепция Карцевского интересовала М.М.Б. прежде всего в ее переложении
Виноградовым (см., в частности, прим. 15 и 19 к ПМ).
43. «Коммуникация», по А. А. Шахматову, это «сочетание двух представлений,
приведенных движением воли в предикативную связь» («Синтаксис русского языка».
М., 1941, с. 19). Предложение — это языковое выражение коммуникации, являющейся
единицей мышления. Предложение Шахматова имеет и интонационные характеристики, однако, в качестве основного критерия или показателя у Шахматова (в отличие от
398
Карцевского — см. прим. 42) принимается не интонация, а истолкованная в логикопсихологическом плане категория предикативности. Для М.М.Б. такое абстрактное,
логико -психологическое выделение единицы речи есть проявление монологических
тенденций европейского рационализма, игнорирующего субъектную многослойность
бытия. С других позиций оспаривал шахма товскую теорию В. В. Виноградов,
считавший «идеализмом» говорить об отражении в единице речи связи представлений,
а не того или иного (истинного или ложного) отражения в ней связей самой действительности («Синтаксис русского языка» академика А. А. Шахматова». — ВС, с.
76). Все эти три версии выделения единицы речи — интонационная, логикопсихологическая и преференционная* (В. В. Виноградов) — равно оспаривались
М.М.Б. как монологические. Шахматовское понятие коммуникации в той или иной
степени оказало влияние на Пешковского, Мещанинова, Реформатского и др. В блоке
подготовительных материалов к РЖ это понятие, так же как и фраза Карцевского, чаще
всего возникало в связи с виноградовски-ми работами (см., в частности, прим. 15 и 16 к
ПМ).
44. Используемое здесь М.М.Б. противопоставление значения и смысла аналогично,
но не тождественно (вследствие понимания смысла как ответа) известной антиномии
«значение — смысл* в логической семантике. В 20-е годы то же противопоставление
имело у М.М.Б. другое терминологическое наполнение: «значение» — «тема» (МФЯ,
101-108, ФМ, 178-180, хотя и в этих работах эпизодически появлялся и термин
«смысл» — ФМ, 164 и сл.). Общепринятую терминологию («значение» — «смысл»)
М.М.Б. принял, видимо, в 30-е гг. (ВЛЭ, 94). Возможно, однако, что термины «смысл*
и «тема* имеют у М.М.Б. разные функции: исходя из того, что термин «тема»
использован и в настоящем тексте (РЖ, 179), можно предположить, что термин
«смысл» относится к предложению в контексте высказывания, а «тема» — к
высказыванию в целом.
45. Об источниках этих двух бахтинских примеров см. прим. 6 и 41 к ПМ. Ср. также
аналогичное предложение «летит птица* у А. А. Шахматова и критикующего его В. В.
Виноградова (ВС, с. 93).
46. Частый эпитет (ППД, 105, 124, 268; «1961 год. Заметки», с. 334). О
невоплощенном, не имеющем автора слове языка см. прим. 8 к ПТ. О предполагаемой
смысловой антитезе к этому бахтинскому эпитету в концепции Г. Г. Шпета см.
примечания к «К философским основам гуманитарных наук».
47. См. напр., у Б. В. Томашевского: «Слова любого языка в любом употреблении
помимо предметно-логического значения обладают еще экспрессией или, что то же,
стилистическим ореолом» («Язык и литература». — «Октябрь», 1951, № 7). См. также
прим. 55.
48. Ср. у Г. О. Винокура: мы имеем право утверждать, что действительно в самом
языке... кроме звуков, форм и знаков, есть еще нечто, именно экспрессия,
принадлежащая звукам, формам, знакам» («О задачах истории языка», выше цит., с.
17). Аналогичной позиции, хотя и не в столь категоричной форме, придерживалось
большинство отечественных лингвистов. И если В. В. Виноградов, в частности, и
высказывал сомнения в правомерности выделения в языке самостоятельных
собственно экспрессивных стилей (что предлагалось А. Н. Гвоздевым в его известных
М.М.Б. «Очерках стили
399
стики русского языка», выделявшим, напр., интимно-ласковый и шутливый стили —
с. 15), то это отнюдь не предполагало отказа В. В Виноградова от экспрессивных
моментов в системно-языковом значении слов (см. оба положения в цит. выше
рецензии на книгу \. Н. Гвоздева, с. 140, 144), на чем категорически настаивает здесь
399
М.М.Б., скорее всего знакомый с данной виноградовской рецензией. Интересно, что
именно это обстоятельство — теория экспрессивных стилей А. Н. Гвоздева,
поддержанная В. Д. Левиным, — станет одним из основных моментов дискуссии о
стилистике 1954 года. Отказ от экспрессивности в абстрактной системе языка, коль
скоро принимать это понятие в рабочих целях, — стабильный момент позиции М.М.Б.
Тема соотношения экспрессивности и системы языка встречается во многих
фрагментах подготовительных материалов к РЖ.
49. М.М.Б. мог оспаривать здесь, в частности, общую концепцию академической
грамматики, в соответствии с которой в русском языке выделялись особые имена
существительные и прилагательные с уменьшительно-ласкательным значением (ук.
соч., с. 264-271, 361-363 и др.).
50. Ксенофонт. Анабасис. Кн. 4. Гл. 3. (Атрибутировано в примечаниях к ЭСТ, 421).
51. Техника стилистического эксперимента, то есть искусственного придумывания
стилистических вариантов, предложенная А. М. Пешковским в статье «Принципы и
приемы стилистического анализа и оценки художественной прозы» (Ars poetica. М.,
1927, с. 29-68), предполагает, что каждый из лексических или синтаксических синонимов обладает своими исходными стабильными качествами, в том числе и
экспрессией. Выбирая тот или иной вариант, говорящий (или экспериментатор)
останавливается, согласно Пешковскому, на том, что в данном тексте «более нужно»
— «яркое или бледное», «сильное или слабое» (с. 61). Наличие специфических
экспрессивных качеств в различных синонимических языковых средствах
признавалось большинством исследователей, в том числе В. В. Виноградовым (цит.
выше рецензия на книгу А. Н. Гвоздева, с. 140). Ср. также критику Пешковского в
МФЯ, 124-126.
52. Часто используемая речевая формула: о слове реального языкового сознания как
слове «не из словаря» см., МФЯ, 71, 81; ФМ, 166; СВР, 106.
53. Принципиальный тезис М.М.Б. См. прим. 26 к «1961 год. Заметки*.
54. Вероятно, конкретная аллюзия к Б. В. Томашевскому (см. прим. 47).
55. Тема жанровой экспрессии, достаточно подробно здесь развернутая, в
подготовительных материалах была лишь пунктирно намечена (см. фрагменты,
отмеченные в прим. 98-101 к ПМ)
56. Очередное диалогически ориентированное упрощение темы (см. прим. 08). В
других работах, где противопоставление «системы языка» и «речи» не используется в
качестве условного исходного постулата и где, соответственно, нет столь резкой грани
между языком и экспрессией, М.М.Б. не отрицает возможности видеть некий образ
субъекта за языковым стилем («1961 год. Заметки», с. 329; СВР, 148-149; см. также
прим. 48 к ПТ). Определенная, хотя и редуцированная, персонифицированность
языковых стилей и жанров является условием (= причиной) существования стоявших в
центре
400
внимания М.М.Б. лизации, пародии, пол и иронии, непрямого говорения и др.
57 Этот и три следующих абзаца в сжатом виде воспроизводят ход рассуждений в
СВР, 102-107
58. Эта тема разрабатывалась в хорошо известной М.М.Б. книге Л^Шпитцера
«Italienische Umgangssprache». (См. прим. 9 и ППД,
59. За исключением чисто номинального повтора в сноске (см. прим. 70), М.М.Б. не
вернулся к этой теме, что свидетельствует о незаконченности текста статьи.
60. Вопросительная, восклицательная и побудительная интонации в большинстве
концепций относились к основным языковым типам интонаций, конституирующим
400
предложение (см. прим. 42, 61), в соответствии с чем экспрессивность, присущая этим
интонациям, придавалась и предложениям как единицам языка.
61. Бахтинская позиция в вопросе об интонациях принципиально расходится со
всеми распространенными в то время версиями, так как, независимо от частных
разногласий, принадлежность экспрессивных интонаций к языку признавали
практически все исследователи (Карцевский, Пешковский, Виноградов и др.). М.М.Б.
не только выделяет — в отличие от распространенных версий — в качестве
центрального типа жанровые интонации, которые если и рассматривались в других
концепциях, то лишь как периферийные, но и сближает с ними «основные», согласно
распространенной точке зрения, грамматические типы интонаций (вопросительную,
восклицательную и побудительную — см. прим. 60), оставляя в качестве собственно
«грамматических» интонации лишь те (перечислительная, разделительная и др.),
которые обычно занимали среди грамматических интонаций периферийное место (см.,
напр., Пешковский А. М. Русский синтаксис в научном освещении. М.-Л., 1928, с. 524,
537-538). Сместив классификационную шкалу интонаций в сторону речевых жанров,
М.М.Б. — хотя это и не проговаривается здесь специально, но несомненно имеется в
виду — оспаривает тем самым и типологию предложений, которая, исходя из
понимания предложения как в том числе и интонационного единства, часто строилась
по аналогии с типологией основных грамматических интонаций. Так, например,
основные «функциональные» или «модальные» типы предложений по В. В.
Виноградову — повествовательный, вопросительный и побудительный («основные
вопросы синтаксиса предложения». — Вопросы грамматического строя. М., 1955, с.
389-435J — являются по М.М.Б. не предложениями, но речевыми жанрами (МФЯ, 98).
М.М.Б. фактически оспаривает здесь сам принцип виноградовского подхода к
единицам языка. Какой же критерий должен быть положен в основу типологии
предложений (если при этом сохранять установку на систему языка) — здесь этот
вопрос остается открытым, но, если иметь в виду более поздние уточняющие
замечания М.М.Б. в других текстах, в частности, его оговорку, что в качестве единиц
языка он понимает не реальные предложения, а их «модели» («1961 год. Заметки», с.
Зо9), то можно предположить, что, по М.М.Б., типология предложений должна
строиться по их абстрактным грамматическим структурам, взятым безотносительно к
логико-психологическим и коммуникативно-прагматическим аспектам речи. Следует,
однако, иметь в виду, что при смене исходных постулатов, в данном случае — при
отказе от установки на систему языка, в бахтинской концепции предполагается совсем
другой подход к типологии предложений, который более адек
401
ватен глубинным интенциям бахтинской концепции (подробнее об ;угом подходе см.
преамбулу и примечания к «Вопросам стилистики...*).
62. Данное предложение, как это очевидно из дальнейшего, констатирует не
бахтинскую позицию, а позицию его оппонентов. Ср. о стилистике в «узком» смысле в
ППД, 248 и сл., ср. также СВР, 78, 83 и особенно — 89 и сл. (о возможной причине
некоторой двусмысленности данного абзаца см. прим. 23 к Д-1). Ниже М.М.Б. в kohj
спективном и частично редуцированном виде излагает существо своей общеязыковой
концепции.
63. Центральная тема М.М.Б. Разнообразные формы передачи чужой речи
исследованы в МФЯ, 113-157; СВР (ВЛЭ, 119-144); ППД, 242-359. См. также прим. 15.
64. Словосочетание «диалогические обертоны* не прижилось в бахтинских текстах,
оставшись редким, не терминологизированным сочетанием, хотя в подготовительных
материалах (см. прим. 60 к ПМ) диалогические обертоны предполагались быть
специально выделенными в особый (девятый по счету) признак высказывания.
401
65. Здесь — и опять в сжатом виде — изложено одно из принципиальных положений
бахтинской философии языка в целом. В отличие от лишь намечавшихся в то время, но
впоследствии широко принятых критериев анализа целостного текста, во многом
аналогичных приемам анализа предложений как единиц языка, то есть остающихся, по
бахтинской терминологии, «монологическими», здесь постулируется главенство
«персоналистического» принципа, позволяющего отразить
«многоголосую»
организацию уже не только речевого общения, распадающегося на высказывания, но и
любого и каждого, даже самого «монологического», высказывания в отдельности. В
наиболее отчетливом, но приспособленном специально для художественной прозы
виде эта методика анализа, долженствующая быть, по М.М.Б., примененной ко всем
видам высказываний, изложена при исследовании полифонического романа (ППД,
242-359). Если идея применения «персоналистического» принципа для выделения
единиц речи нашла отклик в лингвистике, то намеченный здесь следующий и главный
для самого М.М.Б. шаг — распространение влияния этого принципа на внутреннюю
территорию высказывания — еще в полной мере даже не отрефлектирован
лингвистикой.
66. См. то же сравнение в СВР, 92. С логикой развития мысли в СВР совпадают и
следующие абзацы настоящего текста.
67. См. ту же цитату, но в более крупном контексте в статье «Конструкция
высказывания*, с. 78 (отмечено в примечаниях к ЭСТ,
68. Эта тема специально разработана в ТФР.
69. Ср. в МФЯ, 121 предварительную историческую классификацию по первому
направлению диалогической ориентации слова (то есть не на предвосхищенное, но на
преднайденное
чужое
слово),
где
выделены
эпохи
авторитарного
и
рационалистического догматизма, реалистического и критического индивидуализма и,
наконец, релятивистического индивидуализма, характерного для XX века (имеется в
виду разложение авторского контекста с превалированием чужого слова). Основа
бахтинской философии языка — его теория «непрямого говорения» (см. прим. 39 к ПТ)
— может быть квалифи402
цирована как поиск выхода из ситуации «релятивистического индивидуализма» .
70. См. прим. 59.
ИЗ АРХИВНЫХ ЗАПИСЕЙ К РАБОТЕ «ПРОБЛЕМА РЕЧЕВЫХ ЖАНРОВ»
Все помещенные в настоящем блоке лингвистические записи М.М.Б., большая часть
которых публикуется впервые (кроме Д), были сделаны в начале 50-х годов до
написания РЖ. Основная часть этих записей (Д II, ПМ) непосредственно является
подготовительными материалами к РЖ, написанными уже после появления соответствующего замысла ^исключал начало Д-Н), однако и другие записи, связанные с
текущей работой М.М.Б. в Мордовском педагогическом институте, могут в
определенном смысле рассматриваться как подготовительные материалы именно к
этой работе, так как замысел РЖ складывался у М.М.Б., как это видно по содержанию
записей, именно в процессе их написания.
Публикуемые материалы не имеют четкой упорядоченной структуры ни
логического, ни риторического свойства. Это тематически перемежающиеся заметки
по поводу различных смысловых блоков, подаваемых то полностью изолированно друг
от друга, то в н е расчленен но -диффузном виде. Крайне редко какой-нибудь из этих
блоков развивается достаточно долго. Встречаются резкие смысловые повороты; очень
часты возвраты и вариации одной и той же темы; в текст вкраплены — в основном без
всяких отсылающих помет — прямые конспекты или диалогически осложненные
переложения
чужих
работ,
что
требовало
специального
комментария,
402
восстанавливающего реальный источник или скрытого оппонента и т. д. Именно этот
— открыто «рабочий» — характер записей придает им особый интерес для бахтинистики.
Прежде всего, благодаря подготовительным материалам можно точнее понять
замысел и структуру РЖ. Если ранее, в частности, можно было только предполагать,
что текст РЖ остался незаконченным, то теперь это становится очевидным. М.М.Б.
несколько раз намечает в подготовительных материалах предполагаемые планы РЖ
(см. прим. 47 к Д-Н; 26 к Д-1; оО, 67, /0 к ПМ), меняя по ходу работы их композицию, а
иногда и содержательный состав, но при этом определенный набор пунктов неизменно
входил во все эти различающиеся планы. При сравнении этих стабильных пунктов с
реальной композицией РЖ оказывается, что некоторые из них так и остались не
реализованными
(событийность,
историчность
и
новизна
высказывания;
классификация речевых жанров, источники их изучения и др.). Даже пунктирное
восстановление с помощью подготовительных материалов предполагавшегося М.М.Б.
содержания этих нереализованных пунктов придает новые смысловые оттенки уже
известному тексту РЖ. Становится возможным, благодаря данным материалам, и
прояснение чисто рабочих причин той некоторой терминологической, а иногда и
логической неустойчивости, которая встречается в РЖ. В целом рабочие записи
восстанавливают реальный масштаб замысла этой бахтинской работы.
Однако кроме выводов конкретно-смыслового порядка, связанных с уточнением
частных лингвистических идей М.М.Б., подготовительные материалы могут дать
бахтинистике основания и для выводов более общего характера, имеющих отношение
к глубинным пластам бахтинской философии языка и — опосредованно — к
продолжающей дискутироваться проблеме «девтероканонических* текстов. В публикуемых записях максимально обнажены для заинтересованного взгляда «личные»
отношения М.М.Б. с языком, его индивидуальная манера обращения со словом,
отражающая общие принципы занимаемой им в научных текстах авторской позиции.
Поэтому, если комментарии к РЖ были ориентированы прежде всего на собственно
смысловой, позитивно-лингвистический аспект статьи, то комментарии к данным
рабочим записям — в целях выявления специфики бахтинской авторской позиции —
строятся преимущественно в текстологическом плане. Такой текстологический
комментарий предполагал: установление, где это возможно, реальных источников
скрытых цитат и аллюзий; фиксацию различных этапов в становлении риторической
стратегии и терминологической системы РЖ; иллюстрацию непосредственной
зависимости от этих этапов всех чисто внешних, формальнологических
«самопротиворечий» бахтинского текста; выявление наиболее частых у М.М.Б.
приемов обращения с чужим словом и т. д.
Осуществленный здесь текстологический комментарий носит, безусловно,
предварительный и во многом поисковый характер, но все же он допускает уже
некоторые обобщения. В частности, судя по одному только количеству
восстановленных аллюзий и по их роли в общем смысловом пространстве, можно
предположить, что в лингвистических текстах М.М.Б. начала 50-х гг. (а возможно и в
другие периоды) был среди прочих и «главный» оппонент — В. В. Виноградов.
Характерно при этом, что, пронизывая собой большую часть текста, многоплановая
полемика с Виноградовым имеет тем не менее в основном скрытый характер: в
подготовительных материалах имя Виноградова упоминается крайне редко, а в тексте
РЖ он так и остался неназванным. Научные причины повышенного внимания М.М.Б. к
Виноградову частично указаны в примечаниях к конкретным фрагментам рукописей
(см. также примечания к РЖ и ПТ), возможные же инонаучные причины
«анонимности» этого внимания оставлены здесь без комментария.
403
Максимально учтен в данных записях и общий контекст отечественной лингвистики
того времени. Если на многочисленные вино-градовские работы М.М.Б.
ориентировался как на «преднайденную» чужую речь, то общая ситуация в
лингвистике того времени, которую М.М.Б. хорошо знал (в том числе и
околомарровские дискуссии, и сталинские работы о языке), учитывается здесь как
«предвосхищенная» чужая речь, то есть как источник для формирования как можно
более точной концепции адресата. Использование бахтинской терминологии при
описании риторической стратегии самого М.М.Б. не случайно: любая философская
концепция языка не может не основываться на личном опыте ее создателя.
Публикуемые бахтинские тексты насквозь диалогичны. Многие не только смысловые
повороты, но даже и чисто формальные логические аргументы М.М.Б. связаны с его
диалогической реакцией на преднайденную и предвосхищенную чужую речь. Более
того, специфические, казалось бы, термины РНС, в которых М.М.Б. зафиксировал
свою оригинальную теорию высказывания, оказались генетически связаны с наиболее
употребительными в
проблематикой (даже если сама эта проблематика так и не всплывает на поверхность
статьи — см., напр., о категориальной паре субъект/предикат в прим. 1 к ПМ).
Используются здесь как «получужие» даже термины монолог и диалог (М.М.Б.
оспаривает их у Виноградова). То же относится и к самому «высказыванию*, бывшему
в то время одним из наиболее употребительных и вместе с тем аморфных
лингвистических терминов. Однако без специального текстологи
лингвистическими
дискутируемой
404
ческого анализа эта диалогическая взаимосвязь бахтинской и общепринятой
терминологии может остаться незамеченной. Так, напр., понятие «завершенности* как
одного из основных признаков высказывания генетически связано, скорее всего, не с
ранним бахтинским понятием «завершения» (АГ), что на первый взгляд может
представляться вполне убедительным, а с широко дискутируемой в то время
проблемой «относительной смысловой законченности» предложения или другого
рассматриваемого в качестве речевой единицы языкового явления. Сущность раннего
бахтинского «завершения» во многом определялась тем, что оно извне (от «другого»)
нисходило на объект или субъект, «завершенность» же высказывания в РЖ имеет
принципиально имманентный характер. Хотя сохранение ассоциативной лексической
связи с ранним «завершением» здесь вполне возможно, но в смысловом отношении
«завершенность высказывания» — это прежде всего результат диалогической
ориентации М.М.Б. на дискуссии того времени о том критерии, который мог бы быть
положен в основу выделения содержательно (а значит и лингвистически) законченной
речевой единицы. Ради этой ориентации могли даже приноситься своего рода
«жертвы». Вступая в чужое для себя смысловое пространство предполагаемого
читателя-лингвиста и предлагая в ответ на его запрос в качестве критерия смысловой
законченности (завершенности) смену речевых субъектов, М.М.Б. шел тем самым на
усложнение своей собственной задачи, на ее как бы временный внутренний дисбаланс.
В самом деле: конечная цель М.М.Б. — разворот высказывания в сторону чужой речи,
смена же речевых субъектов — критерий изолирующий. При всей принципиальной
значимости этого критерия для бахтинской теории высказывания не он один должен
был бы в соответствии с конечной целью стоять в центре внимания, но и те разного
рода диалогические отношения, которые связывают данное изолированное и целостное
404
высказывание с другими высказываниями на эту же тему. Диалогическая тематика
фактически лишь констатируется в РЖ, лишь локализуется в лингвистическом пространстве (см. преамбулу к РЖ), основная же логическая и риторивания через смену речевых с^ъектов. В ранних работах волошиновского цикла,
напротив, проблема изоляции высказывания практически не рассматривается,
подчеркивается же прежде всего органичная диалогическая вовлеченность
высказывания в единый речевой поток. Безусловно, оба момента (определение
единичной целостности высказывания с помощью критерия смены речевых субъектов
и, с другой стороны, понимание высказывания как «звена» в единой речевой «цепи»)
всегда присутствовали в бахтинской лингвистической концепции, будучи в ней
связаны особой бахтинской «амбивалентной» логикой; преимущественное же
акцентирование одного из этих моментов (первого — в РЖ, второго — в работах
волошиновского цикла) вызывалось диалогической реакцией М.М.Б. на
соответствующую текущую ситуацию в отечественной лингвистике, причем такое
акцентирование могло в той или иной степени приглушать второй «амбивалентный»
полюс концепции, никогда, однако, не заглушая его полностью. В РЖ и в
подготовительных материалах к РЖ М.М.Б. приходится вследствие такого
ориентированного на читательское восприятие сознательного дисбаланса специально
оговаривать разного рода 4>антомные «самопротиворечия» (напр.: высказывание, с
одной стороны, закончено в себе и изолировано сменой речевых субъектов, с другой —
при его истолковании нельзя замыкаться в его пределах, за что, в частности,
критикуется Виноградов — см. прим. 53 к ПМ). И «завершенность» и «смена речевых
субъектов» — эти специфические и, казалось бы, прямо однозначные термины РЖ —
являются таким
ческая
проблему изоляции высказы405
образом двуголосыми терминологическими гибридами, причем эта двуголосость не
только лексическая, но и смысловая.
Такого же рода гибридами являются практически все понятия РЖ.
Подготовительные материалы свидетельствуют, что М.М.Б. вел широкий
предварительный поиск в этом направлении. В беловой вариант статьи М.М.Б. вводил
лишь те двуголосые конструкции, которые при любых контекстуальных
неожиданностях в достаточной степени сохраняли все же смысловую связь с его
глубинными идеями, и отказывался от тех из них, которые после своего рода
контекстуальной проверки на «совместимость» существенно нарушали эту связь.
Принятие очередной двуголосой конструкции или отказ от нее не зависели при этом от
того, сохранялась ли в них прямая логическая или хотя бы синонимическая ассоциация
с ранее употреблявшимися М.М.Б. терминами. Так, М.М.Б., судя по подготовительным
материалам, шел иа полную ассимиляцию чужого для него понятия «новизны»,
придавал ему статус особого признака высказывания, но практически отказался в ИЖ
от «родного» для себя терминологического ряда, восходящего к понятию «монолог»
(последнее было вызвано, скорее всего, бахтинской реакцией на широкое
распространение в то время виноградовско-го значения этого термина — см. прим. 24
к Д-1). Категория «завершенности», как мы видели, вообще толковалась «вопреки»
ранней терминологии. М.М.Б. «не держится» здесь (как, видимо, и везде) за языковые
формы, он предпочитает их оркестровать, сохраняя по отношению к любой из них
известную смысловую дистанцию. И даже более того: чужими или получужими могли
быть в бахтинских текстах не только эти непосредственно языковые формы, но и те,
405
уже чисто логические, «декорации», которые управляли смысловым развитием текста
(в РЖ, в частности, чужим является основной логический стержень статьи —
дихотомия системы языка и речи, на основе которой М.М.Б. противопоставляет
предложение и высказывание).
В целом, если несколько заострить сказанное, практически весь текст
подготовительных записей и, соответственно, весь текст РЖ являются «дву-» или
«много-голосыми». В них нет «прямого» бахтинчисле и чисто логических, материалов. Это, однако, никак не мешает тому, что
выраженная в этих текстах «идея» остается собственно авторской, бахтинской. Если не
держать постоянно в виду бахтинскую теорию непрямого говорения, то в этом можно
было бы усматривать некую «загадку» бахтинского стиля. Или парадокс: чем более
дистанцирован от М.М.Б. используемый им язык, тем быстрее и вернее выраженная в
этом тексте бахтинская «идея» доходит до читателя. Но парадоксы всегда сознательно
«сделаны», и бахтинский расчет был удручающе точным: текст РЖ сразу же после
своего опубликования был «услышан» лингвистикой, как услышали в свое время и
МФЯ. Гораздо сложнее в этом смысле обстоит дело с собственно лингвистическими
разделами в СВР и даже ПТД, где ориентация на читателя и его язык не столь
настойчива, а в определенном смысле — не столь риторически уступчива.
На основе настоящих подготовительных материалов, имеющих частный характер,
невозможно, конечно, сколь бы то ни было корректно решать вопрос о том, имеются
ли вообще в наследии М.М.Б. тексты, которые можно было бы рассматривать как
полностью прямую речь М.М.Б. Однако на их основе можно сделать как минимум тот
вывод, что текст РЖ, который обычно воспринимается как прямая речь М.М.Б., столь
же, условно говоря, «девтероканоничен», как и текст МФЯ. Они построены на
одинаковых принципах и из аналогичных авторских позиций, откуда следует, в
частности, что язык позитивной или нормативной лингвистики, а также логические
пресуппозиции структурализма были столь же дистанцированными от
ского слова: они созданы
чужих, в том
406
М.М.Б., как и язык марксизма. Все эти языки в равной степени для него условны и
равно чужды. И хотя можно, конечно, предполагать, что эта равная чуждость не
исключала тем не менее некой ценностной иерархичности — в смысле, напр.,
однозначного предпочтения М.М.Б. «немарксистских» языков (типа структурализма)
как бы по причине признания за ними несомненно больших смысловых и научных возможностей (а не по привнесенным этическим и политическим причинам) — все же
вероятней, что М.М.Б. не видел серьезных различий между этими «языками» с точки
зрения их изобразительных и даже смысловых потенций.
Вероятность последнего предположения связана с еще одним обстоятельством,
которое необходимо здесь оговорить. Подготовительные записи публикуются в
настоящем издании с купюрами. Кроме купюр «технического» характера (куда вошли
дословные или разрозненные, данные без всякой авторской оценки конспекты чужих
работ), из текстов изъяты, так же, как и из РЖ, те фрагменты, которые являются
развернутой бахтинской аранжировкой цитат из сталинских работ по языкознанию
(подробнее об этом см. преамбулу к РЖ). Вместе с тем в настоящем издании
публикуются сжатые бахтинские разработки сталинских и других марксистских
положений о языке (как и все другие темы, марксистская проблематика дается в
подготовительных материалах не последовательно, а вразбивку, то менее, то более
развернуто), что не только дает точное представление о составе привлекаемых М.М.Б.
406
сталинских цитат и о том направлении, в котором шло или могло идти их
использование, но и иллюстрирует то немаловажное обстоятельство, что «сталинские»
фрагменты не инородно вкраплены, а органично сплетены М.М.Б. с другими
«чужими» языками — с разными вариациями нормативной лингвистики, с позитивистски ориентированными концепциями, со структурализмом отечественного
образца и др. (установление точного «каталога» использованных М.М.Б. языков —
предмет специального исследования).
Эта несомненная органичная целостность бахтинских интенций на фоне
параллельно использованных и. казалось бы, принципиально разных по потенциям
языков ставит бахтинистику перед особой проблемой, частично аналогичной тем,
которые решались самим М.М.Б. при анализе авторской позиции в романе. Как строит
свою позицию М.М.Б.: как в полио^юническом или как в гомофоническом романе?
Аналогия, однако, не полная, и прежде всего потому, что авторская позиция в научном
тексте — даже если она строится с использованием разного рода двуголосых
конструкций — не может быть полифонической в полном смысле слова по самому
своему интенциональному заданию. Бахтинский текст, как и всякий научный текст, не
ставит своей целью диалогически соотнести, а следовательно и «изобразить», чужие
языки в их смысловых или иных потенциях; имея свое конкретное предметное задание,
бахтинский текст использует чужие языки лишь в качестве среды преломления
внешних им смысловых интенций. Отсюда — более осторожная формулировка
поставленного выше вопроса: сколько чуждых для себя языков использовал М.М.Б.
при подготовке и написании РЖ — несколько (в их соотносительной ценностной
иерархии) или же некий унифицированный единый чу жой язык, внутренне
сознательно не дифференцированный? Использует ли М.М.Б. несколько призм
преломления своего слова или все эти языки по сути своей — одна и та же призма?
Скорее всего, точнее будет второй ответ. В бахтинских текстах нет в этом смысле никакой существенной разницы между такими, напр., терминологическими парами, как
«базис и надстройка» и «система языка и речь». Обе эти пары — среда преломления, и
выбор между ними диктуется в каждом конкретном случае текущими потребностями
авторского предметного задания, его внутренней, словесно не выраженной, интенци
407
ей. Возможность использования М.М.Б. столь несомненно, для современного
взгляда, различных языков в качестве единой среды преломления может быть
объяснена их равной, с бахтинской точки зрения, принадлежностью к монологизму, и
даже не просто к монологизму, а к одному и тому же типу монологизма. Что касается
«современного взгляда», то это, как известно, одна из самых динамичных категорий.
Однако в любом случае, то есть вне всякой зависимости от ответа на вопрос о
единстве или дифференцированности среды преломления в бахтинских
лингвистических текстах, сам тот факт, что все использованные М.М.Б. языки были
именно преломляющей призмой, а не «прямым» словом, должен постепенно
обескровить все попытки однозначного причисления лингвистической концепции
М.М.Б. к тому или иному направленческому «лагерю» (марксизму, структурализму,
постмодернизму и т. п.), так как он обесценивает обычно применяемую при этом
аргументацию, основанную на восприятии в качестве прямого бахтинского слова того
или иного из использованных им чужих языков. Прямого слова в лингвистических
работах М.М.Б. нет: они построены не как культурно условное слово, не как стилизация, и даже не как однонаправленное двуголосое слово, но как разнонаправленное
двуголосое слово, которое, пользуясь чужим языком, вносит в него свою, вплоть до
враждебно противоположной, направленность, то есть включает в себя и скрытую
внутреннюю полемику (см. вторую и третью разновидности третьего типа слов в
407
бахтинской классификации в ППД). К постмодернизму такая авторская позиция
отнесена быть не может уже потому, что, несмотря на отсутствие прямого авторского
голоса, в бахтинских текстах тем не менее полновесно звучит его индивидуальная
смысловая интенция.
Если впоследствии опущенные в настоящем издании развернутые «сталинские»
фрагменты будут опубликованы, то на фоне предварительно установленной и
текстологически подтвержденной чуждости М.М.Б. всех других — «немарксистских»
— языков, использованных в РЖ, они вызовут в бахтинистике не абстрактную этикопол этическую, а конкретную лингвофилософскую проблему: не «М.М.Б. и марксизм»,
а «М.М.Б. и языки середины XX века». Тем самым будет восстановлена и реальная
содержательная глубина, а значит — и укрупненный историко-философский масштаб
всей проблемы девтероканонических текстов в целом.
ДИАЛОГ
Впервые, с неточностями, в «Литературной учебе», 1992, № 5-6, с. 159-160
(публикация В. В. Кожинова, подготовка текста В. И. Славецкого). В настоящем
издании публикуется заново, по автографу. Рукопись представляет собой два двойных
тетрадных листа, озаглавленных «Диалог» и постранично пронумерованных (исписано
шесть страниц). Текст написан карандашом, практически без правки.
Наиболее вероятно, что это — план-конспект доклада «Проблемы диалогической
речи на основе учения И. В. Сталина о языке как средстве общения*, необходимость
сделать который была предписана М.М.Б. на заседании Ученого совета Мордовского
государственного пединститута от 26.6.51 (АБ, протокол № 15). Данное заседание
Ученого совета специально было посвящено рассмотрению вопроса о перестройке
работы возглавляемой М.М.Б. кафедры на основе изучения сталинских работ по языку.
Предположительное время написания
408
этого конспекта доклада — начало 1952 года; то есть в хронологическом отношении
он, судя по своему тематическому составу и по
Жи пятым логико-риторическим установкам, предшествует Д II и ПМ. • этого
конспекта было написано, вероятно, только начало Д-1 (см. прим. 5 и 6 к Д-1), а сам он
был составлен скорее всего где-то в середине того срока, за который была полностью
исписана тетрадь Д-1. Исходя из этих предполагаемых сроков данные записи помещаются в блоке подготовительных материалов первыми. Архивные свидетельства о
том, состоялся ли сам доклад, к настоящему времени не известны.
1. Тема, от которой М.М.Б. впоследствии откажется в данных подготовительных
материалах (оиа будет звучать практически лишь в самом начале Д-1 — см. прим. 6 к
Д-1). В РЖ идея такой классификации языковых форм также не прозвучала и не могла
прозвучать вследствие принятого там в качестве логической платформы более
жесткого разведения системы языка и речевого общения, которое исключало
отражение диалогических отношений непосредственно в системе языка и предполагало
их отнесение только к речевой сфере (см. прим. 82 к ПМ). Здесь эта дихотомия
системы языка и речи носит, так же, как в СВР и ТФР, более мягкий и условный
характер (см. фрагмент, отмеченный в прим. 10). Реального смыслового противоречия
в этом, однако, нет: анализируя в РЖ аналогичные языковые явления, в частности —
вопросительные и восклицательные предложения, М.М.Б., как и здесь, оговаривает их
формальную предуго-товленность к отражению реальных речевых вопросов и
восклицаний (аналогично решает М.М.Б. и проблему модальности — см. прим. 92 к
ПМ). Главное для М.М.Б. в РЖ в том, что наряду с такой «формальной
предуготоелейностью» языковых форм они вместе с тем могут в реальной речи
выражать и прямо противоположный диалогический смысл (см. прим. 5 к ПМ), а
408
значит, и классификация такого рода явлений непосредственно в системе языка будет
носить либо условный, либо эвристический характер, будучи основана на таких
критериях и методах классификации, которые резко отличаются от принятых в
лингвистике. Естественно, что проблема такой классификации вследствие ее
теоретической принципиальности и одновременно практической сложности не могла
быть рассмотрена в тексте РЖ, направленном на обоснование лишь самых первых
шагов лингвистики в интересующем М.М.Б. направлении. Не была эта проблема
подробно исследована и в других работах М.М.Б. Однако именно эта эвристическая
для лингвистики бахтинская идея о принципиально новой классификации языковых
форм, основанной на диалогическом критерии, может расцениваться как
гипотетическая конечная цель всей лингвистической концепции М.М.Б.(именно в этом
направлении строились, в частности, конкретные синтаксические анализы в МФЯ, СЕР
и ППД). Среди предполагавшихся М.М.Б. путей к достижению этой цели следует
отметить, в частности, что ММ.Б. мыслил классифицировать таким способом в
основном невоспроизводимые (то есть синтаксические) языковые явления (см. прим.
32 к работе «1961 год. Заметки»), оставляя тем самым лексический пласт языка в
компетенции других методов лингвистических классификаций.
2. Распространенная в то время аллюзия к сталинской о^юрмули-ровке: «...язык,
будучи орудием общения, является вместе с тем и орудием борьбы и развития
общества» («Марксизм и вопросы языкознания». М.,1950, с. 18-19). В дальнейшем
отсылки к этой цитате отмечаться не будут.
409
3. Имеется в виду, что с точки зрения третьего монологом оказывается то, что в
реальной речи является диалогом (см. прим. 11)
4. К моменту написания данных записей строгое различение терминов «речь* и
«речевое общение* еще не соблюдается М.М.Б. (ср. прим. 9 и 16 к Д-1)
5. М.М.Б. использует здесь термин «функция* как синоним того значения, которое в
РЖ будет выражаться через термин «стиль*. Возможность такого синонимического
употребления была заложена в уже достаточно распространенном к тому времени и
известном М.М.Б. понятии «функционального стиля* (см. прим. 12 к РЖ). В РЖ
М.М.Б. остановится на более устойчивом значении термина «функция» (см. ниже по
тексту о коммуникативной и экспрессивной функциях языка) в связи, вероятно, с тем,
что обсуждение коммуникативной функции займет там одно из центральных мест.
Идея классификации жанров перешла из данного доклада в замысел РЖ, однако там
она так и осталась нереализованной (см. прим. 60 к ПМ).
6. Часто используемая в подготовительных материалах аллюзия к сталинской
цитате: «...Поэтому сфера действия языка, охватывающего все области деятельности
человека, гораздо шире и разностороннее, чем сфера действия надстройки. Более того,
она почти безгранична» (ук. соч., с.8).
7. Формальное подключение М.М.Б. к виноградовской традиции употребления
терминов «монолог» и «диалог» (подробнее об этом см. прим. 2, 24 к Д-1), которое,
однако, содержательно «подтачивается» в других фрагментах данного текста (см.
прим. 8, 9, 11).
8. В тексте РЖ и в подготовительных материалах к нему М.М.Б. откажется не только
от такого аксиологически негативно окрашенного значения термина «монолог»,
которое прямо соответствует его общефилософской концепции, но и от нейтральновиноградовского употребления этого термина (см. прим. 11).
9. Можно предположить, что формулируя эту тему как «проблема стиля 60-х годов»
(речь идет о XIX веке), М.М^Б. имел в виду оспорить виноградовскую оценку этого
периода как стилистически неупорядоченного и не поддающегося кодификации
409
вследствие происшедшего в то время смешения литературного языка с различными
диалектами и жаргонами, а значит, по М.М.Б., и вследствие его диалогизации (ср.
напр., у Виноградова: «Идеологический разброд, расширение объема понятия
литературности, столкновение архаических и революционных тенденций мешают
строгой кодификации стилей». — «Основные этапы истории русского языка» в кн.
Виноградов В. В. История русского литературного языка. М., 1978, с. 61). О возможном смысловом наполнении этой проблемы см. Д-1, 211. Об аналогичной
антивиноградовской позиции М.М.Б. в связи с понятием языковой нормы см. прим. 3,
5 к Д II
10. См. прим. 1.
11. Оставшаяся впоследствии не использованной двуголосая конструкция: с одной
стороны, М.М.Б. употребляет здесь и выше (см. прим. 3) термин «монолог» в его как
бы виноградовском значении (см. прим. 7), однако, с другой стороны, фиксирует с
помощью этого термина тот общий результирующий смысл диалога, который возникает у слушателя «со стороны», то есть фактически М.М.Б. придает здесь
виноградовскому понятию «монологическое целое» свое значение «полифонического
целого». У Виноградова, действительно, монологи
410
ческое целое могло включать в себя самые разные элементы, в том числе и
диалогические, отсюда и возникла, скорее всего, бахтинская идея развернуть такое
понимание до полифонии, оставив вместе с тем в неприкосновенности сам
виноградовскии термин «монолог». Однако неприятие монологического заряда
виноградовской концепции оказалось для М.М.Б. настолько принципиальным, что в
РЖ он отказывается от всех терминологических с ней компромиссов, «жертвуя» при
этом и самим термином «монолог» (см. прим. 2, 24 к Д-1), что никак не исключало,
конечно, использования М.М.Б. разного рода контекстуальных синонимов этого
термина (см., в частности, прим. 13).
12. Данный синонимический ряд может служить косвенным подтверждением того,
что категория завершенности как одного из основных признаков высказывания
складывалась у М.М.Б. не столько по ассоциативной связи с ранним понятием
завершения, сколько в связи с широко обсуждавшейся в лингвистике того времени
проблемой поиска критериев смысловой законченности речевых единиц (см. общую
преамбулу к архивным записям).
13. Под «связью с актуальной проблемой драматургии» имеется, вероятно, в виду
аллюзия к широко обсуждавшейся в то время «теории бесконфликтности», согласно
которой все противоречия в советской литературе должны сводиться лишь к борьбе
между «хорошим и отличным». Известно, в частности, что в одном из своих докладов
(«Проблема типического в советской литературе и зада чи преподавания литературы в
Мордовском государственном педагогическом институте*) на совместном заседании
кафедр института 25.02.53 г. М.М.Б. высказывал идею о «необходимости бороться с
бесконфликтностью» (именно в такой формулировке эта бахтинская идея
пересказывалась, судя по стенограмме заседания, участниками обсуждения доклада;
запись самого доклада в имеющейся в АБ стенограмме заседания отсутствует). В
центре дискуссии по бахти некому докладу был вопрос о том, «возможен ли в нашей
литературе сатирический роман в полном смысле слова» (бахтинская позиция
излагается при этом одним из его оппонентов следующим образом: «если нет
противоречий, то нет и сатирического романа»). Отсюда — понятным становится и
употребленный М.М.Б. в настоящих записях союз «и*: имеется, вероятно, в виду, что
«бесконфликтность» разлагает не только сатиру, но и диалог (фактически М.М.Б.
использует здесь термин «бесконфликтность» как контекстуальный литерату-
410
роведческий синоним монологизма). В целом, к 1953 году «теория бесконфликтности»
была опровергнута в официальной печати, сначала — в партийной, затем — и в
литературоведческой (в отчетном докладе XIX съезду партии Г. М. Маленков «указал»
на необходимость изображать в советской литературе «жизненные противоречия и
кон-фликты» и, соответственно, на необходимость развивать советскую сатиру;
литературоведческая обработка этой партийной критики «теории бесконфликтности»
со всеми соответствующими ссылками и именами была дана, в частности, в
сохранившейся в АБ и насыщенной бахтинскими пометами брошюре: Ревякин А. И.
Проблема типичности в реалистической художественной литературе. М. 1953).
ДИАЛОГ I
Публикуется впервые. Рукопись представляет собой полностью hCj писанную
карандашом общую тетрадь, на обложке которой рукой
411
М.М.Б. написано «Диалог», проставлена римская единица и указан год (1952). На
первой странице тетради имеется подзаголовок «Проблемы диалогической речи*,
который соответствует названию подготавливаемого в то время М.М.Б. доклада (см.
преамбулу к Д). Будучи начата в качестве подготовительных материалов к этому докладу, тетрадь «Диалог /» была, вероятно, продолжена и закончена уже после
отпадения этой необходимости: текст конспекта этого доклада (то есть Д) был,
вероятней всего, написан задолго до окончания тетради «Диалог /». Хотя М.М.Б.
продолжает делать в ней записи и в связи с другими аналогичными по тематике
работами текущего характера (см. прим. 5), однако, в своей преобладающей части эта
тетрадь может оассматриваться как подготовительные материалы именно к РЖ. Об
этом свидетельствуют как содержание тетради, так и встречающиеся в ней прямые
текстологические совпадения с беловиком РЖ (см., напр., прим. 23). В пользу этого
предположения говорит и то, что в конце тетради зафиксирован очередной план РЖ,
который, несмотря на то, что он, скорее всего, был вписан позже (см. прим. 26 К самим
своим наличием подтверждает, что при написании РЖ М.М.Б. обращался к данным
записям.
1. Здесь и ниже (см. пятый по счету абзац) — редкий для М.М.Б. разворот проблемы
понимания, часто поднимаемой в его работах. Обычно в бахтинских текстах
оспаривается противоположное отрицаемому здесь положение, то есть обычно М.М.Б.
оспаривает тезис о понимании как дублирующем отражении в сознании слушающего
замысла говорящего (см. РЖ, ПМ, ПТ и др., ср. также прим. 20). Использование
М.М.Б. в обоих случаях понятия «дублирование» рельефней очерчивает двойное
противопоставление бахтинской позиции одновременно обеим крайним, с его точки
зрения, тенденциям (понимание создает, по М.М.Б., не два разобщенных мира и не
общий один, снимающий всякое различие между говорящим и понимающим, а новый
третий мир). Значительный перевес в бахтинских текстах (в том числе и в РЖ) критики
теории дублирующего понимания связан, вероятно, с тем, что в отечественной
культуре и науке того времени преобладала, с бахтинской точки зрения,
монологическая, а не, скажем, релятивно-плюралистическая тенденция (см. прим. 1 к
РЖ).
2. Начинаемая этим абзацем тема относительного различия монолога и диалога не
имеет прямых терминологических соответствий ни в РЖ, ни в других уже известных
бахтинских работах, хотя сама идея такой относительности в них легко
«прочитывается». Обычно в бахтинских текстах преобладает более жесткое и
аксиологически окрашенное разведение монолога и диалога с усиленной критикой
первого, что дает формальные основания для нередкого в бахтинисти-ке, но неточного
вывода об абсолютном отрицании М.М.Б. монологических форм речи и сознания.
411
Само терминологическое разведение монолога и диалога (но не идея их
относительности) является в данном случае скрытополемической отсылкой к
виноградовским работам, в которых утверждается, в противоположность М.М.Б.,
приоритет монологических форм (см. В. В. Виноградов. О художественной прозе —
Виноградов В. В. Избранные труды. О языке художественной прозы. М., 1980, с. 70) В
устных выступлениях в Мордовском пединституте в начале 50-х годов М.М.Б., по всей
видимости, активно использовал это разведение, но в тексте РЖ М.М.Б. от него
отказывается (см. прим. 18 к Д-Н), переводя рассуждение в чисто диалогический
терминологический ряд, чтобы, вероятно, перебороть сугубо условное и
малосодержательное
(в
контексте
бахтинской
концепции)
употребление
«диалогической* терминологии, характерное для вино градовского направления.
412
3. Термин ^экспрессивность* употребляется М.М.Б. в настоящих записях в разных
смыслах. Здесь имеется в виду экспрессия как выражение (воплощение)
индивидуального замысла и, соответственно, подразумевается экспрессивная функция
языка (о других значениях термина см. прим. 7 и прим. 16 к Д 11). Проблема
соотношения экспрессивной и коммуникативной функций языка — одна из наиболее
активно обсуждавшихся в начале 50-х гг. тем. О соотношении экспрессивной и
коммуникативной функций по М.М.Б. см. РЖ, а также прим. 30 и ПО к ПМ.
4. Вероятно, имеется в виду гумбольдтовская цитата, приведенная в РЖ, 167-168.
5. Судя по подзаголовку, данному М.М.Б. тетради Д I (см. преамбулу), это
предварительный план доклада «Проблемы диалогической речи на основе учения И. В.
Сталина о языке как средстве общения*. Тематически в целом соответствуя Д, то есть
непосредственному краткому конспекту предполагаемого доклада, настоящий план
свидетельствует вместе с тем и о том, что в процессе подготовки этого доклада у
М.М.Б. постепенно складывались замыслы и других его работ той же содержательной
направленности: зафиксированная в первом пункте плана идея особого выделения
высказывания не перешла в Д, но легла в основу РЖ; с третьим пунктом этого плана
связан, возможно, замысел статьи «Диалог в литературе и его виды*, которая была
заявлена М.М.Б. в тематической карточке (в АБ имеет-ся копил) в качестве научноисследовательской работы в институте за 1952 год.
6. Конкретизация первого абзаца конспекта доклада. Впоследствии эта тема
практически исчезнет из подготовительных записей (см. прим. 1 к Д).
7. Второе (ср. прим. 3) и более развернутое в текстах М.М.Б. (в том числе и в РЖ)
значение термина ^экспрессивность*, понимаемое здесь как выражение отношения
говорящего не столько к предмету речи, сколько к чужим высказываниям о нем, то
есть здесь экспрессивность соотносится с диалогической речью в отличие от
понимания экспрессивности как функции языка, при котором она соотносится с речью
монологической.
8. В данном и последующем абзацах М.М.Б. выходит на проблематику, ставшую
впоследствии основной для текста РЖ, хотя к моменту написания этих абзацев идея
такой статьи еще, вероятно, не сложилась у М.М.Б. В частности, именно здесь
впервые, по-видимому, введен активный в РЖ критерий смены речевых субъектов.
9. Характерная для черновых записей нестрогость терминологии. В РЖ М.М.Б.
критикует термин «речь* за аморфность и нечеткость и определяет высказывание как
единицу «речевого общения*. Ср. прим. 16. О конечном (но тем не менее остающемся
диалогически условным) соотношении в бахтинской концепции терминов речь,
речевое общение, язык и высказывание см. прим. 20 к РЖ.
10. Тезис подан в фосслерианской терминологии, хотя М.М.Б. неоднократно
критиковал это направление, и именно за неверное, с его точки зрения, понимание
412
стилистики. В собственно бахтинской терминологии этот тезис звучит, скорее всего,
как «через жанр в язык». О нестандартном соотношении категорий стиля и жанра в
концепции М.М.Б. см. прим. 11 к РЖ.
413
11. Аллюзия к сталинской цитате (см. прим. 6 к И). В дальнейшем бахтинские
отсылки к этой цитате отмечаться не будут.
12. Имеется в виду недопустимость противопоставления языка и речи только по
критерию социальности. В других смыслах такое противопоставление используется
самим М.М.Б. В развернутом виде тезис о недопустимости противопоставления языка
и речи по критерию социальности разработан в МФЯ, но и там признается возможность применения понятия абстрактной системы языка в рабочих целях, что и будет
делать впоследствии сам М.М.Б., в том числе и в РЖ (для более четкого разведения
предложения и высказывания). И даже более того: именно на противопоставлении
системно-языковых и речевых единиц как на основной логико-риторической установке
будет строиться вся композиция РЖ (выбор этой установки будет произвевиду, что на глубинном, собственно бахтинском, смысловом уровне
противопоставление языка и речи не является действительно обязательным моментом;
обращение М.М.Б. к этой дихотомии, будучи выражением его постоянной и
максимально обостренной настроенности на апперцептивный фон предполагаемых
слушателей, имеет в большинстве случаев условный «двуголосый» характер.
13. Часто возникающая в бахтинских записях начала 50-х гг. (как и практически во
всех лингвистических текстах того времени — см., напр., прим. 27 к ПМ) аллюзия к
сталинскому определению языка: «Язык есть средство, орудие, при помощи которого
люди общаются друг с другом, обмениваются мыслями и добиваются взаимного понимания... Обмен мыслями является постоянной и жизненной необходимостью...» (ук.
соч., с. 18-19). В дальнейшем бахтинские отсылки к этому определению не
отмечаются. Вместе с тем это не чисто чужой, но «получужой» термин: понятие
«обмена высказываниями» активно использовалось еще в работе 1930 г. «Конструкция
высказывания» («Литературная учеба», 1930, № 3).
14. «Язык так же древен, как и сознание, язык как раз и есть практическое,
существующее и для других людей, и лишь тем самым существующее и для меня
самого действительное сознание, и, подобно сознанию, язык возникает лишь из
потребности, из настоятельной нужды в общении с другими людьми» (Маркс К.
Энгельс Ф. Соч. т IV, с. 20-21).
15. Новый вариант плана доклада или статьи (см. прим. 5). Концовка первого, самого
развернутого пункта этого плана имеет отчетливое двуголосое строение. М.М.Б.
применяет здесь необычный для него ракурс освещения диалогичности языка,
используя в качестве исходной формулы для рассуждений то, что обычно было их
конечной целью (доказательство диалогичности самой природы языка). Такое условно
основанное на авторитарных ссылках принятие в качестве нейтральной и
общепризнанной платформы того, что на самом деле является предметом скрытого
доказательства, необходимо уравновешивается здесь своего рода риторическими
уступками слушателю «виноградовского» типа: подчеркиваются отличия монолога и
диалога (хотя выше писалось об относительности этих различий — см. прим. 2);
однозначно говорится о романе как о монологическом жанре, что прямо соответствует
виноградовским оценкам (см. Виноградов В. В., ук. соч., с. 73), но противоречит
полифонической концепции самого М.М.Б.; акцентируется самостоятельное значение
относительно-монологических форм речи и т. д. В тексте РЖ эти «уступки»
практически исчезают.
ден М.М.Б. позже
413
Вместе с тем следует иметь в
414
16. Постепенное становление и фиксация более четкой терминоло гии. Ср. прим. 9.
17 См. цитату из «Мертвых душ» в РЖ, 202.
18. Постепенное введение диалогичности (полифоничности) внутрь романа, чуть
выше (см. прим. 15) компромиссно признаваемого как монологический жанр. Ниже
(см. шестой по счету абзац) этот мотив еще более усиливается М.М.Б.
19. Бахтинский анализ «Евгения Онегина* с точки зрения диалогического
разноречия см. в работе «Из предыстории романного слова» (ВЛЭ, 410-416).
20. См. прим. 1.
21. «Драматизм* — не получивший дальнейшего специального закрепления и
содержательного развития своеобразный смысловой зародыш особой бахтинской
категории, связанной с возможностью восприятия диалогической речи в ее внутреннем
распадении по разным «голосам». Здесь имеется в виду не реальный диалог и не полифоническая проза, относительно которых такая возможность не нуждается в рамках
бахтинской концепции в специальном оговаривании, но любое высказывание одного
субъекта речи («условно-монологическое» высказывание), которое обязательно несет в
себе диалогические обертоны. В других работах М.М.Б. наряду с «драматизмом»
используется также и целый ряд производных одноко-ренных слов (см. РЖ, «Вопросы
стилистики...» и др.)
22. В опущенном здесь фрагменте бахтинских записей содержатся беглые конспекты
работ разных авторов, в том числе — по двум специально выделенным темам: 1)
«Литературный язык и его пробле матика* (упоминаются следующие работы:
Виноградов В. В. Очерки по истории русского литературного языка XVII-XIX вв. М.,
1938; Шахматов А. А. Очерк современного русского литературного языка. Л., 1925;
сборник «Материалы и исследования по истории русского литературного языка». Т. I,
1949; Винокур Г. О. Русский язык. М., 1945) и 2) «Язык и стиль* (указаны работы:
Виноградов В. В. Русский язык. М., 1947; Винокур Г О. О задачах истории языка. —
Ученые записки Московского городского педагогического института. Ка4>едра
русского языка. 1941, т. 5, вып. I; Винокур Г. О. Понятие поэтического языка. — МГУ,
Доклады и сообщения филологического факультета. Вып. 3. М., 1947). В числе
ключевых понятий приводимых здесь М.М.Б. цитат из этих работ — норма,
общенародный язык, экспрессивность, образ говорящего, стиль, стилистический ореол.
Все они нашли то или иное отражение в последующих рабочих записях и в тексте РЖ.
В частности, ниже, уже в собственно авторском тексте, где М.М.Б. излагает свою
позицию в области стилистики, сразу же появляется термин Б. В. Томашевского
«стилистический ореол*. Хотя Томашевский не упоминается в данном фрагменте,
здесь тем не менее приведена соответствующая цитата из него — см. прим. 47 к РЖ.
Ниже (см. прим. 25) эта работа Томашевского будет названа М.М.Б.
23. На основе данного абзаца написан, вероятно, тот фрагмент РЖ, который
вызывает некоторую сложность в понимании бахтинской позиции (см. прим. 62 к РЖ).
Вводное слово «Итак*, имеющее здесь значение заключительного вывода из
предшествующих конспектов чужих работ, видимо, автоматически перешло в текст
РЖ, где конспекты отсутствуют и где, соответственно, оно и создает некото
414
рую двусмысленность. С другой стороны, при «переносе» этого абзаца в" РЖ
М.М.Б. принципиально обновил его содержательное наполнение: в черновых записях
стиль в оспариваемой М.М.Б. стилистической версии определяется не предметносмысловым значением слов, а экспрессией, а в РЖ он определяется и тем и другим, что
414
и логически более точно, и корректней передает чужую для М.М.Б. позицию. См.
также прим. 24.
24. Настоящий и следующий абзацы могут дать дополнительный материал для
уточненного понимания бахтинской позиции в ее постепенном словесном оформлении
среди «чужих» слов на ту же тему. Здесь М.М.Б. еще не отказался (как это произойдет
позже — см. прим. 18 к Д II) от использования в качестве логических декораций для
движения свой мысли терминологии «раннего» Виноградова (см. прим. 2), поэтому
«третий момент» стиля как бы скользит по линии разведения монолога и диалога,
будучи отнесенным в одном случае только к диалогу, в другом — ко «всякой речи». По
этой же причине и анализ монологической речи может здесь, по М.М.Б., почти ограничиться ее предметно-логическим содержанием (в отличие от РЖ, где третий компонент
стиля однозначно распространяется на все, в том числе монологические, виды
высказываний). Ниже М.М.Б. сначала ищет логические пути для усиления своей
позиции в рамках ранней виноградовской терминологии (характерно, что
используемые при этом термины, в частности, «диалогизация монолога», также имеют
отчетливую связь с виноградовскими текстами — см. Виноградов В. В., ук. соч., с. 79),
но затем полностью отказывается от нее, так как сам принцип разведения монолога и
диалога логически препятствует их сближению по вводимому М.М.Б. стилистическому
критерию. Наибольшее препятствие было связано, вероятно, с тем, что и монолог и
диалог являются речевыми явлениями, а речевое общение по самому своему
определению не может избежать в бахтинской концепции диалогических обертонов. В
этом смысле гораздо «перспективнее» оказалось другое противопоставление, так же,
как и дихотомия монолога и диалога, широко распространенное в отечественной
лингвистике (в том числе и в виноградовской школе) и также являющееся, с
бахтинской точки зрения, монологическим по своей природе. Имеется в виду
противопоставление системы языка и речи (см. прим. 4 к Д и прим. 12). В рамках этого
1иютивопоставле-ния бахтинская идея диалогической природы всякой речи, будь то
монолог, диалог или любые их комбинированные сложные формы, непротиворечиво
«ложится» на область речи, система же языка рассматривается при этом как условное
рабочее понятие, необходимое для фиксации тех языковых фактов, которые полностью
освобождаются для такого «рабочего» рассмотрения от каких бы то ни было
идеологических, аксиологических и диалогических моментов. Если в настоящих
подготовительных записях М.М.Б. в основном «работает» в русле дихотомии монолога
и диалога, а дихотомия системы языка и речи лишь постепенно вводится в них,
наращивал свои выразительно-смысловые возможности к концу работы, то в РЖ
фактически оставлен только этот второй — одновременно логический и риторический
— вариант «маршрута» бахтинской мысли в чужом смысловом пространстве. Следует
при этом отметить, что окончательный выбор этого варианта сопровождается в РЖ
значительным усилением критической струи, направленной на все разновидности
лингвистического моноло-гизма (то есть не только на первый, но и на второй вариант
логических декораций).
25. Здесь опущены бахтинские выписки из работы Б. В. Томашев-ского «Язык и
литература» (см. прим. 47 к РЖ). Проблемы синони
415
мики, непосредственно не вошедшие в состав тем РЖ, интересовали М.М.Б.,
вероятно, в связи с проблемой контекста, которую он намеревался сделать отдельной
темой статьи (см. прим. 4 к JIM). Здесь же М.М.Б. зафиксировал используемое
Томашевским словосочетание «стилистическая окраска», являющееся синонимом
«стилистического ореола» (см. прим. 22).
415
26. Настоящий план, имеющий реальное сходство с текстом РЖ, вписан, судя по
текстологическим приметам, в тетрадь позже — возможно, уже после написания
первой части РЖ (см. прим. 47 к Д-И). Скорее всего, это обновленный вариант того
плана второй части статьи, который зафиксирован в Пм, 265-266. Первая часть этого
плана, судя по пометам М.М.Б., считалась им выполненной (см. прим. 67 к ПМ).
Пятый и шестой пункты зафиксированного здесь плана остались не реализованными.
ДИАЛОГ II
Публикуется впервые. Судя по текстологическим данным (на обложке общей
тетради, содержащей эту рукопись, рукой М.М.Б. написано «Диалог», проставлена
римская двойка и указан год — 1952), это непосредственное продолжение рабочих
записей, начатых в тетради «Диалог I». В самом начале этой рукописи после
небольших по объему конспектов чужих работ впервые появляется название будущей
статьи — «Проблема речевых жанров* (см. прим. 9), что однозначно свидетельствует о
появлении соответствующего замысла уже в 1952 году, хотя в качестве
предполагаемой научно-исследовательской работы эта статья будет названа лишь в
тематической карточке М.М.Б. на 1953 г. (см. преамбулу к РЖ).
1. Ввиду показательности цитат бахтинский конспект этой виноградовской работы
приводится здесь полностью. Наиболее характерные места, оттеняющие различия
виноградовской и бахтинской позиций и проясняющие стратегию бахтинского
обращения с «чужим словом», отмечены в примечаниях. Хотя виноградовские работы
всегда привлекали внимание М.М.Б. сами по себе, в данном случае имелась и внешняя
причина его обращения к этой работе: на одном из заседаний Ученого совета
пединститута, специально посвященном разбору работы бахтинской кафедры (см.
преамбулу к Д), М.М.Б. обязали ознакомиться с материалами литературоведческой
сессии АН СССР, посвященной сталинским трудам по языкознанию.
2. В отличие от негативного оттенка в виноградовской оценке такого рода явлений
как нарушающих «норму» (см. прим. 3), М.М.Б. рассматривал их как проявление
позитивных процессов в речевой жизни общества (см. напр. бахтинское понятие
переакцентуации в СВР, 228 и сл.)
3. В бахтинской системе координат виноградовская установка на нормализацию
языка
является
концентрированным
выражением
монологической
(«центростремительной») тенденции в ее максимально активной форме. Естественно,
М.М.Б. не отрицал вовсе необходимость нормативного аспекта в лингвистике, но
оспаривал неправомерное, с его точки зрения, расширение сферы действия
нормативного подхода к языку, свойственное отечественной филологии (о пределах
применимости такого подхода и о его вспомогательном характере см.,
416
в частности, «Вопросы стилистики... , с 142-145). В виноградовской концепции
нормативная сфера была предельно широкой: от общенародного языка в
грамматическом аспекте до стилистики речи и даже языка художественной
литературы. Это на первый взгляд абстрактно-теоретическое различие между
бахтинской и виноградовской концепциями отражалось не только на теоретических
лингвистических рассуждениях, но и на самых тонких, смысловых и стилистических,
пластах обеих концепций — на анализе романной прозы. Так, на теоретическом уровне
Виноградов, несмотря на то, что он, как и все, был вынужден в то время опираться на
коммуникативную функцию языка («обмен мыслями»), тем не менее фактически
обходит ее применительно к литературе в понятии «образно-художественной функции» (см. ниже по тексту). В рамках бахтинского подхода этот «отказ» от приоритета
коммуникативности закономерно приводит к непризнанию Виноградовым
конститутивного значения для языка художественной литературы того круга проблем,
416
который М.М.Б. фиксировал с помощью понятия «чужой речи» и который считал центром всей художественной стилистики, отсюда — хотя бахтинские и виноградовские
анализы художественной речи сопоставимы не только по глубине, но и по
применяемой (почти тождественной) терминологии, результирующие толкования их
анализов резко расходятся, причем это расхождение находится в прямой связи с
проблемами нормы. См., напр., следующий «монологический» вывод Виноградова,
который помещен им на том логическом месте, где у М.М.Б. появился бы принцип
полифонии: «Все эти формы выражения, присущие рассказу Томского, неотъемлемы
от стиля самого автора. Следовательно, хотя образ Томского, как субъект
драматического действия, и именем и сюжетными функциями удален от автора, но
стиль его анекдота подчинен законам авторской прозы. В этом смешении субъективноповествовательных сфер проявляется тенденция к нормализации форм
повествовательной прозы, к установлению общих для «светского круга» норм
литературной речи. Ведь там, где субъектные плоскости повествования многообразно
пересекаются, структура прозы, в своем основном ядре, которое неизменно
сохраняется во всех субъектных вариациях, получает характер социальной
принудительности: создается нормальный язык «хорошего общества» С«Стиль
"Пиковой дамы"» — Виноградов В. В. Избранные труды. О языке художественной
прозы. М., 1980, с. 205. О соотношении виноградовской и бахтинской позиций в
области художественной прозы см. комментарии А. П. Чу-дакова к этому изданию —
с. 301 -305).
4. См. прим. 34.
5. Восходящее к фосслерианству понятие «лингвистического вкуса* и его аналоги
критиковались в МФЯ. Вместе с тем для М.М.Б. частое употребление Виноградовым
такого рода терминологии не свидетельствовало о принадлежности последнего к
фосслерианской школе: М.М.Б. считал Виноградова приверженцем противоположного
направления — «абстрактного объективизма» в духе де Соссюра (в современной
литературе Виноградова часто оценивают как последовательного фосслерианца).
Бахтинская оценка Виноградова как соссю-рианца связана, в частности, и с тем
значением, которое придавалось Виноградовым понятию «нормы», унифицирующему
в конечном счете все различия «лингвистических вкусов» в общенародном языке (см.
прим. 3). Для М.М.Б. общенародный язык в его виноградовском понимании
фактически отождествляется с соссюровской «системой языка». В 50-е годы
соссюрианские мотивы действительно усилились в виноградовских трудах, как и в
отечественной лингвистике в целом, что, вероятно, в значительной мере повлияло на
окончательный выбор
417
М.М.Б. в качестве «удобных» (то есть диалогически обращенных к читателю)
логических декораций для РЖ соссюрианскои по происхождению дихотомии «язык —
речь».
6. См. оспаривание этого положения в РЖ, 190 и аллюзии к нему в прим. 22, 43.
7. Эта пушкинская цитата использована М.М.Б. в ПМ (см. прим. 77) и в работе «1961
год. Заметки», с. 335.
8. Б. неоднократно оспаривает это положение в его гипертрофированном варианте:
стиль речи, по М.М.Б., не только средство внешней (авторской) характеристики
персонажа (то есть его объектное завершение), но и средство его самовыражения
(ППД). В рамках монологической концепции Виноградова цитируемое здесь М.М.Б.
положение является одним из принципиальных тезисов, логическое развертывание
которого приводит к понятию «образа автора*, в свою очередь подвергавшегося
бахтинской критике (см. примечания к «Языку в художественной литературв*л к ПТ).
417
9. Здесь опущены: краткий конспект редакционной статьи «Два года движения
советского языкознания по новому пути» («Вопросы языкознания», 1952, № 3);
упоминания о сборнике ПВИМ (см. преамбулу к РЖ): о работах А. Н. Гвоздева
«Очерки по стилистике русского языка». М., 1952 (см. прим. 15 к РЖ) и Н. Н.
Амосовой «К проблеме языковых стилей в английском языке в связи с учением И. В.
Сталина об общенародном характере языка» (Вестник Ленинградского университета,
1951, Mb 2), а также конспект статьи А. И. Оссовецкого «Об изучении языка русского
фольклора» («Вопросы языкознания», 1952, № 3, с. 93-112).
Сквозная тема этого опущенного фрагмента — соотношение общенародного и
индивидуального стилей; с этой же темы начинается и идущий ниже собственно
бахтинский текст, которому он впервые предписал заголовок «Проблема речевых
жанров*.
10. Вероятно, первое употребление терминов «первичные* и «вторичные* жанры. В
РЖ им придано несколько иное, расширенное, значение за счет расширения смысловой
области, покрываемой этими терминами: в РЖ они относятся не только к литературе,
но и ко всем без исключения сферам речевого общения (то есть новелла в рамках
расширенного в РЖ толкования этих терминов будет относиться уже не к первичным,
а ко вторичным жанрам).
11. Скорее всего, имеется в виду книга В. В. Виноградова «Стиль Пушкина». М.,
1941.
12. Постепенное смещение используемой М.М.Б. терминологии от принятой в
начале подготовительных записей (см. прим. 2 к Д-1) к той, которая фактически будет
использована в РЖ: в частности, понятие монолога от нейтрального (чужого для
М.М.Б.) названия центрального вида речи смещается в сторону аксиологически
негативно маркированного, что ближе к смысловому ядру собственно бахтинской
позиции. Соответствующие изменения происходят ниже и с термином «диалог».
13. Смысловой поворот, полностью не использованный ни в РЖ, ни в других
лингвистических бахтинских работах (кроме, частично, СВР). М.М.Б. намечает здесь
антирелятивный аспект своей диалогической концепции (которую часто упрекали и
упрекают именно в релятивизме), причем — и тоже вразрез с преобладающим мнением
М.М.Б. усматривает релятивистскую тенденцию не в диалоги
57]
ческом, а в монологическом типе сознания, хотя последнее субъективно и ощущает
себя непосредственно соотнесенным с действительностью. Тема природной
релятивности монологизма будет в редуцированной форме представлена в РЖ в виде
критики теорий, в том числе и виноградовской, так или иначе утверждающих прямую
связь элементов языка с действительностью.
14. Фиксация основной диалогической цели статьи: хотя чужая речь к тому времени
уже являлась одной из стабильных лингвистических и литературоведческих тем, ей,
однако, придавалось лишь частное значение, в то время как М.М.Б. считал
необходимым пересмотреть на ее основе всю философию языка в целом.
15. См. прим. 82 к ЯМ.
16. Вероятно, что начиная с этого абзаца, М.М.Б., не оговаривая этого специально,
делает записи по мере чтения своей более ранней работы «Слово в романе»,
остававшейся к тому времени не изданной (ниже М.М.Б. иногда указывает страницы
этой рукописи; здесь они даются в скобках). Следующий ниже «самоконспект» носит,
в основном, чисто констатационный характер, то есть М.М.Б. фактически лишь
намечает состав тех тем из СВР, которые понадобятся ему в связи с текущей работой,
иногда перемежая эту констатацию побочными мотивами. Настоящий же абзац имеет
иной характер: будучи несомненно связан с чтением СВР (ВЛЭ, 89-90), он вместе с тем
418
не просто фиксирует тему, но обрабатывает ее в направлении, связанном с текущей
работой. Сравнение источника и обработки позволяет, в частности, точнее понять
предвосхищаемого М.М.Б. оппонента и, соответственно, логико-риторическую
стратегию РЖ. Так, если в СВР индивидуальная экспрессия (то есть оценочное
отношение говорящего к предмету своей речи) лишь мельком упоминается как
«прямая» экспрессия (ВЛЭу 89), то здесь в связи с выдвижением на первый план
проблемы разведения двух видов экспрессии (в противовес общепринятому
пониманию экспрессии сугубо как выражения индивидуальной оценки) специально
подчеркивается отнесенность диалогической экспрессии не к предмету речи, а к чужим
речам о нем. Эта тема не получила окончательной разработки у М.М.Б.; в РЖ она
оставлена в несколько недосказанном виде, допускающем два толкования: либо
абсолютное разведение двух видов экспрессии (оценка предмета речи и оценка чужих
речей о нем), либо — на фоне признания чисто формальных различии между этими
видами — сведение их к единой универсальной категории экспрессивности. Можно
думать, что сам М.М.Б. склонялся ко второму толкованию, предполагающему,
упрощенно говоря, что экспрессия как таковая всегда связана либо с уже
прозвучавшей, либо с еще только предвосхищаемой чужой речью (см. прим. 56), а то,
что с ней не связано, всегда является в высказывании не его экспрессией, а его
предметом, как является, например, «радость» предметом речи в высказывании «Я
рад» (ср. ПМ, 244). Однако так как обоснование этой точки зрения необходимо
требовало разработки целого ряда общетеоретических и прямо фило-ссфкжих
вопросов, М.М.Б. ограничился в РЖ чисто формальным разведением двух видов
экспрессии (не следует также забывать, что текст РЖ не был закончен и окончательно
обработан М.М.Б.). В своем логическом пределе обоснование единой категории
«экспрессивности» не только оспаривало бы саму возможность выражения говорящим
своего оценочного отношения к «чистому» предмету речи, минуя тот или иной вид
реакции на чужое слово, но предполагало бы и отказ от категории «предмета речи» в ее
общепринятом толковании как от очередной лингвистической фикции, основанной на
презумпции
419
наличия вне языка (и, естественно, вне субъекта) какого-либо «чистого» предмета
(объекта). В частности, в МФЯ, 107 прямо утверждалось, что «предметное значение
формируется оценкой». В целом здесь с неизбежностью возникла бы вся кантианская
проблематика. Ситуация осложнялась также и тем, что термин «экспрессивность» нес
на себе и дополнительные коннотации, связанные с выражением как таковым, то есть с
экспрессивной функцией языка (см. прим. 3 и 7 к Д-1).
17. Неточная цитата из Сталина: «...Оголенных мыслей, свободных от языкового
материала, свободных от языковой «природной материи» — не существует» (Сталин
И. Относительно марксизма в языкознании. К некоторым вопросам языкознания. М.,
1950, с.3618. М.М.Б. фактически полностью отказывается здесь от принятого выше
(«виноградовского» по происхождению) разделения видов речи на монолог и диалог
(см. прим. 2 к Д-1).
19. См. СВР, 93.
20. Ссылка на Якубинского в СВР отсутствует. Невозможность указать
параллельные места в СВР для всех тем данного самоконспекта связана с тем, что эта
работа была опубликована с купюрами (в частности, указанный ниже анализ примеров
из Аристотеля также отсутствует в СВР).
21. Ср. иную трактовку «нейтральности* языковых единиц в РЖ и ниже по тексту
(прим. 30). Различие толкований связано с введением в РЖ логико-риторической
419
установки на дихотомию «система языка — речь» (см. прим. 12 и 24 к Д-1),
отсутствующей в СВР.
22. Вероятно, отсылка к цитате из Салтыкова-Щедрина, приведенной В. В.
Виноградовым — см. прим. 6.
23. Прерывание самоконспекта; в дальнейшем он возобновляется — см. прим. 33.
24. Здесь и ниже М.М.Б. выходит на конкретную проблематику и терминологию,
вошедшие в состав РЖ; все содержательные комментарии, связанные с этими темами,
даны к текстам РЖ и ПМ, в которых они разработаны более подробно.
25.
Слово
«высказывания*
пропущено
в
оригинале,
восстановлено
предположительно, по смыслу.
26. «Кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать людей...» (А. С. Пушкин.
Евгений Онегин. I, XLV1).
27. «Милый мой, я ненавижу людей, чтобы их не презирать, потому что иначе жизнь
была бы слишком отвратительным фарсом» (М. Ю. Лермонтов. Герой нашего времени.
— Сочинения в 4 томах, т. 4. М.Л., 1959, с. 514).
28. Термин «экспрессивность* во втором пункте «внутренней структуры
высказывания» употреблен здесь М.М.Б. в «чужом» смысле; в собственно бахтинском
понимании к области экспрессии относится и содержание третьего пункта — см. прим.
16.
29. Ср. прим. 24 к Д-1.
420
30. Очередное (ср. прим. 21) формальное противоречие с текстом РЖ, где все
явления (единицы) языка признаются нейтральными. Разница в толковании связана со
сменой логических декораций: в РЖ М.М.Б. примет в «рабочих» целях
противопоставление системы языка и речи, здесь же это противопоставление не входит
в пресуппозицию текста. Если систему языка и речь (речевое общение) не противопоставлять, то высказывание должно будет рассматриваться как единица верхнего (над
лексическим и синтаксическим) уровня языковой системы, и тогда, соответственно,
аксиологическая (экспрессивная) окраска, которая, по М.М.Б., исходит только от
высказывания, должна будет мыслиться распространенной и на все другие единицы
языка. Если же система языка и речевое общение противопоставлены (но не по
социальному критерию — см. прим. 12 к Д-1), то высказывание становится единицей
речи и тем самым начинает отличаться от языковых единиц по разным параметрам, в
том числе и по экспрессивному: единицы языка — нейтральны, высказывание —
экспрессивно (об усложняющем это противопоставление моменте, о типической
жанровой экспрессии см. РЖ). В РЖ преобладает второй логический вариант, а в
МФЯ, СВР, ТФР и других работах — скорее первый. С этой же сменой логических
декораций связаны и все так называемые «противоречия» бахтинских текстов в
вопросе о соотношении языка и мировоззрения.
31. Подробней о непрямых формах отражения чужой речи см. СВР, 170.
32. Опущена выписка из вышеуказанной (прим. 9) статьи «Два года движения
советского языкознания по новому пути».
33. Возврат к самоконспекту СВР, перемежающемуся текущими записями.
34. Вероятно, аллюзия к приведенным выше конспектам В. В. Виноградова — см.
прим. 4.
35. Промежуточный этап в окончательном становлении терминов «первичные* и
«вторичные* жанры — см. прим. 10 и 44.
36. Скрытая полемика с Виноградовым, рассматривающим предложения как
композиционные единицы повествования и делающим этот вывод на основе
стилистического анализа употребленных глагольных форм: «Такое подавляющее своей
420
численностью преобладание глагольных синтагм говорит о том, что для пушкинского
языка центр синтаксической тяжести лежал в субъектных формах словосочетания, то
есть в предложениях» («Стиль "Пиковой дамы"», выше цит., с. 228). В
оощелингвистическом аспекте это виноградовское положение закономерно
трансформируется в оспариваемое М.М.Б. понимание предложения как центральной
единицы речи.
37. «Хвала* и «брань* — одна из центральных категориальных пар
общефилосо^Ьской концепции М.М.Б. (см. ТФР иДоп).
38. Новое, сравнительно с предшествующим текстом, понимание экспрессивности,
вошедшее в РЖ — ср. прим. 30.
39. Аллюзия к Томашевскому — см. прим. 22 и 25 к Д-1.
40. Одна из предполагавшихся, но не реализованных тем РЖ — см. прим. 4 к Пм.
41. См. прим. 7.
421
42. Вероятно, имеется в виду «стилистический оттенок*. Термин «оттенок* именно в
значении экспрессивности широко употреблялся в стилистике (см., напр., Виноградов
В. В. Русский язык. М., 1972, с. 21).
43. Вероятно, здесь имеется в виду смысловая аллюзия к Салтыкову-Щедрину,
процитированному Виноградовым, что подтверждается сочетанием в одном
тематическом блоке бахтинских записей обеих виноградовских цитат
СалтыковаЩедрина и Пушкина (см. прим.
44. Здесь впервые зафиксировано то значение терминов «первичные* и «вторичные*
жанры, которое будет использовано в РЖ — ср. прим. 10 и 35.
45. Здесь и ниже намечено то, что должно было стать содержанием
предполагавшегося, но не реализованного пункта плана об источниках изучения
речевых жанров — см. прим. 4/ и прим. 60 к ПМ.
46. Софистический роман — одна из центральных тем в Хрон.
47 Вероятно, первый план РЖ, существенно видоизмененный впоследствии — см.
прим. 60 к ПМ и прим. 26 к Д-1.
48. Тема «истории литературного языка», часто возникающая в подготовительных
материалах, но не вошедшая в РЖ, также имеет у М.М.Б. характер скрытой полемики,
в основном — с Виноградовым, считавшим, в частности, что художественная
литература по самой своей природе, хотя и «перерезана диалогами», является
«монологической речью» («О художественной прозе», выше цит., с. 73). См. также
прим. 15 к Д-1.
49. Впоследствии М.М.Б. зафиксирует эти разделы в термине «металингвистика» —
см. прим. 59 к ЙТ и преамбулы к РЖ и к «Языку в художественной литературе».
50. Сам М.М.Б. отрицательно отвечал на этот вопрос (см. ниже, прим. 54, а также
прим. 41 к РЖ), что связано, в частности, с выбранной им установкой на условнорабочее разделение системы языка и речевого общения (см. прим. 24 к Д-1). В
терминологическом отношении здесь, вероятно, очередная аллюзия к Виноградову, делившему грамматику на четыре области, одна из которых — «учение о сложном
синтаксическом целом» («Русский язык», с. 13). Ср. также применение этого термина у
Н. С. Поспелова (прим. 29 к ПМ).
51. Цитата из академической «Грамматики русского языка» (Т. I. М., 1952, с. 9).
Здесь и ниже М.М.Б. критикует это издание, что должно было стать, но не стало
отдельной темой статьи.
52. Бахтинская обработка сталинской мета4юры: «Подобно тому, как строительные
материалы в строительном деле не составляют здания, хотя без них и невозможно
построить здание, так же и словарный состав языка не составляет самого языка, хотя
421
без него и немыслим никакой язык» (Сталин И. В. Марксизм и вопросы языкознания.
М., 1951, с. 23). Для М.М.Б. эта сталинская цитата была оживлена чтением
«Грамматики русского языка», где она приводится в развернутом виде (с. 7).
(ВЛЭ, 236-261).
53. «Грамматика русского языка», с. 9.
54. Ср. в «Грамматике русского языка»: «Предложения отделяются друг от друга
паузами» (с. 10).
55. Цитата из «Грамматики русского языка», с. 13.
56. См. прим. 30. Терминологически М.М.Б. разводит здесь два вида экспрессии,
содержательно же они сближаются, то есть обе относятся к единой универсальной
экспрессии как форме выражения оценочной позиции говорящего безотносительно к
тому, что именно является предметом речи — см. прим. 16. Ниже М.М.Б. фиксирует
для второго, диалогического, типа экспрессии понятие «обертон*, использованное в
РЖ.
57. Характерный для М.М.Б. прием: перенос распространенной в то время
логической фигуры лингвистического мышления на интересующую его область, что
придает его текстам двуголосую структуру. Ср. напр., у Виноградова (со ссылкой на
Щербу и других лингвистов): «Проще всего в грамматической плоскости
рассматривать слово как предельный минимум предложения...» («Русский язык», выше
цит., с. 14).
58. Диалогическая аллюзия к «Грамматике русского языка» — см. прим. 53.
59. В опущенной здесь концовке рукописи «Диалог II» находится первый черновой
вариант начала РЖ, представляющий собой связный текст, который уже по одному
этому стилистическому критерию не может рассматриваться как начало рабочих по
своему характеру записей в ПМ (см. прим. 1 и 3 к ПМ).
«^ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ>
Публикуется впервые. Так же как и тетрадь «Диалог И», данные записи являются
непосредственными рабочими заготовками для РЖ. Авторский заголовок у записей
отсутствует, поэтому оии условно названы здесь «Подготовительными материалами»
(ПМ). Рукопись представляет собой восемь исписанных карандашом ученических тетрадок, последовательно пронумерованных рукой М.М.Б. Записи начаты либо в самом
конце 1952 года, либо в начале 1953 года (дата изготовления тетради № 1 — II квартал
1952 г., дата изготовления тетради № 2 — I квартал 1953 г.; позже последнего из
указанных сроков не изготовлена ни одна из восьми тетрадок). Хотя хронологически
данные записи следовали, вероятно, за тетрадью «Диалог II», они не являются ее
непосредственным продолжением (возможно, что абсолютное начало данных записей
было утеряно самим М.М.Б. — см. прим. 1, 3 и прим. 59 к Д-Н). Рукопись насыщена
вторичными бахтинскими пометами, отражающими ход его работы с данными
записями по мере написания белового варианта РЖ (некоторые из этих помет
воспроизводятся в настоящем издании — см. прим. 61). Судя по содержанию записей,
по количеству их текстологических совпадений с текстом РЖ и по тому, что тетрадь №
8 осталась незаконченной, эти материалы непосредственно предшествовали написанию
РЖ.
1. Практически единственное использование М.М.Б. понятий субъекта и предиката,
стоявших в центре лингвистических дискус
422
сий того времени о предложении и, соответственно, имеющих прямое отношение к
поставленной М.М.Б. проблеме высказывания. Отказ М.М.Б. от употребления этой
категориальной пары связан, вероятно, с тем, что понятие предиката часто включало в
422
себя несопоставимые, с бахтинской точки зрения, языковые явления и процессы: с
одной стороны, — системно-синтаксические (напр., глагольные формы сказуемого), с
другой — чисто, по М.М.Б., речевые (напр., отношение к действительности,
экспрессивность и др.). Первый круг явлений, связанный с внутрисистемными
языковыми закономерностями, был полностью исключен М.М.Б. из тематического
состава РЖ, второй — непосредственно вошел в РЖ, но уже без упоминания понятия
предиката. Общая направленность бахтинского рассмотрения проблем этого рода
(модальность, законченность и др.) состояла в том, что они толковались как присущие
исключительно высказыванию, но никак не предложению, то есть фактически М.М.Б.
оспаривал то расширенное значение, которое придавалось в то время понятию
предиката, сводя его как бы лишь к первому, системно-языковому, кругу явлений,
точнее, к синтаксической структуре предложения как единицы системы языка (в
противном случае термин «предикат» должен был бы обсуждаться в РЖ). Кроме
программной виноградовской статьи 50-го года «О категории модальности и
модальных словах в русском языке» (Труды Института русского языка АН СССР, т. II.
М.-Л.,
вероятно, известной ему книгой Й. Й. Мещанинова «Члены предложения и части
речи» (М.-Л., 1945), где в одном тематическом блоке увязаны те же сквозные темы, что
и в данном фрагменте рабочих записей М.М.Б.: дополнение отдельного слова до
предложения и высказывания, проблема смысловой законченности и ее связь с
понятием предиката (ук. соч., с. 6-7). Именно у Мещанинова субъект и предикат
называются «необходимыми элементами высказывания» (с. 7), то есть именно этот
текст мог служить исходным стимулом для поставленного здесь М.М.Б. вопроса.
Характерно, что и у Мещанинова, и у Виноградова при обсуждении проблемы
предиката
термины
«предложение»
и
«высказывание»
используются
недифференцированно, практически как синонимы, что и давало М.М.Б. повод
говорить о распространении в лингвистике некоего «гибрида» предложения и
высказывания (РЖ, 176, см. также прим. 32 к РЖ).В этом плане возможно также
предположить, что при решении возникающих здесь вопросов М.М.Б. учитывал
позицию логика П. С. Попова, который в известной М.М.Б. статье «Суждение и
предложение» («Вопросы синтаксиса современного русского языка». М., 1950, с. 5-35;
в дальнейшем ссылки на этот сборник будут даваться через сокращение ВС), хотя и
придерживался точки зрения на предложение как на основную единицу речи, что
являлось главным пунктом оспаривания в РЖ (о различии позиций М.М.Б. и Попова
см. прим. 5 и 6), но вместе с тем специально оговаривал необходимость более четкого
употребления терминов «высказывание» и «предложение», а также толковал предикативность (причем, видимо, независимо от формировавшейся тогда же теории
актуального членения) как нечто «новое» в предложении (ВС, 28). Ниже, при
перечислении специфических свойств высказывания, отличающих его от предложения,
М.М.Б. также использует понятие «новизны» (см. прим. 34), оставшееся, правда, не
разработанным. Частично покрывает смысловое пространство понятия предиката и
один из основных у М.М.Б. признаков высказывания — завершенность (уточненный
М.М.Б.
аналог распространенного
в лингвистике понятия
«смысловой
законченности»).
Настоящий и предыдущий абзацы помещены на отдельном листе, вложенном в
тетрадь № 1; их предшествование записям в самой тетради, начинающимся в
настоящей публикации с третьего абзаца.
появление это!
[ематики у М.М.Б. было навеяно,
423
424
определено предположительно. Судя по характеру открывающих тетрадь записей,
им должен был предшествовать какой-то текст, остающийся к настоящему моменту
неизвестным (концовка Д-П не может рассматриваться как начало ПМ — см. прим. 3).
Абсолютное начало данных записей могло быть утеряно самим М.М.Б., так как именно
на этой тетради он проставил цифру 1.
2. Имеется в виду проблема речевых жанров (к этому моменту название
предполагаемой статьи уже было выбрано окончательно — см. прим. 9 к Д-П).
Квадратные скобки принадлежат М.М.Б.
3. Если судить по приведенному ниже списку основных признаков высказывания,
здесь имеется в виду завершенность высказывания. Хотя в чисто тематическом
отношении первые два признака по этому списку (смена речевых субъектов и
адресованность высказывания) упоминались в написанных ранее Д-1 и Д II, но именно
как признаки высказывания они там еще не были выделены (в том числе и в концовке
Д-Н), следовательно, естественно предположить, что ПМ не является
непосредственным продолжением Д-П (см. также прим. 59 к
4. В РЖ эта тема практически не реализована, но о ее предполагаемом наполнении
можно судить по разбросанным замечаниям в подготовительных материалах (см., в
частности, прим. 40 кД II). О далеких и близких контекстах как о предполагаемой
тематике своих новых работ М.М.Б. говорил, по свидетельству С. Г. Бочарова, и в 60-е
годы.
5. Очередное скрещение своего и чужого терминологических рядов как с целью
иллюстрации их различия, так и с целью создания двуголосой конструкции. В данном
случае неактивный в лингвистике, но активный у М.М.Б. термин «жанр» скрещивается
с активным в лингвистике «предложением», где оно фактически захватило все то пространство, которое отдано в концепции М.М.Б. высказыванию. Хотя «жанр
предложения* — это скорее всего искусственный бахтинский терминологический
гибрид, реально не встречавшийся в лингвистике, однако, создавая эту гибридную
конструкцию, М.М.Б. лишь доводит до логического конца действительно имевшую
место в лингвистике тенденцию к смешению форм предложения (вопросительных,
восклицательных и побудительных) с «житейскими» жанрами высказываний. У
Виноградова, в частности, говорится (с аналогичными ссылками на Н. Ф. Яковлева и
Н. И. Конрада) о «модальных типах предложений» («О категории модальности...»,
выше цит., с. 56 и др.), а так как для М.М.Б. тот или иной тип модальности есть один из
основных показателей жанра, то, соответственно, гибрид «жанр предложения» как
возможный чужой лингвистический термин получает в его системе координат
реальный гипотетический статус, тем более что наряду с вопросительными,
восклицательными и побудительными модальными типами предложений в литературе
того времени говорилось и о предложениях удивления, вероятности, намерения,
долженствования, приказания и т. д. В частности, П. С. Попов в цитированной выше
статье предлагал разбить побудительные предложения на пожелатель-ные
предложения и приказы и даже предполагал необходимость аналогичного анализа
такого — уже откровенно «жанрового» по М.М.Б. — речевого явления, как мольба
(ВС, 25). Для М.М.Б. все такого рода речевые явления — это «маленькие жизненные
жанры» (МФЯ, 98). Однако здесь имеется и некоторая тонкость: к таким маленьким
жизненным жанрам в МФЯ отнесены не только мольба, приказание, просьба и т. п., но
и вопрос и восклицание, которые, казалось бы, прямо соответствуют вопросительным
и восклицательным формам
424
424
предложения. По М.М.Б., вопросительные и восклицательные синтаксические
структуры остаются только и именно формами предложения, а не речевыми жанрами,
так как в реальной речи, где только и возможна, по М.М.Б., настоящая модальность,
они могут использоваться в любых, в том числе и противоположных по смыслу, целях
(восклицательное предложение как вопрос и т. д.). В РЖ тема вопросительных,
восклицательных и побудительных предложений частично затрагивается, но М.М.Б.
предполагал также (РЖ, 194) ее отдельное и специальное рассмотрение в конце статьи,
что, однако, так и не было осуществлено. Предполагаемое содержание этой темы
может быть восстановлено по подготовительным материалам (см. в частности, ниже по
тексту).
6. Содержание этого и окружающих абзацев и сам пример «Пожар!* служат
косвенным подтверждением того, что хотя статья П. С. Попова «Суждение и
предложение» так и не названа в подготовительных материалах, однако именно ее
чтением навеян данный фрагмент бахтинских записей (см. ВС, 23-24). Этой же статьей,
вероятно, навеян и другой бахтинский пример из РЖ — «Солнце взошло* (РЖ, 186),
хотя у самого Попова этот пример дается в форме — «Солнце зашло* (ВС, 32).
Естественно, что М.М.Б. иначе толкует эти примеры (у Попова оба предложения
рассматриваются с точки зрения их субъектно-предикативной структуры — см. прим.
1). Дополнительным свидетельством связи этих абзацев со статьей Попова является и
то, что ниже появляются аллюзии, включая и прямые ссылки, к статье В. В.
Виноградова, непосредственно следующей в сборнике ВС за статьей Попова (см. прим.
9).
7. О соотношении предмета речи и экспрессии по М.М.Б. см. прим. 16 к Д-П.
8. См. прим. 51-55 кД-Н.
9. Судя по использованной М.М.Б. терминологии, начиная с* предыдущего абзаца
идут записи, прямо или косвенно связанные с чтением статьи В. В. Виноградова
«Идеалистические основы синтаксической системы проф. А. М. Пешковского, ее
эклектизм и внутренние противоречия» (ВС, 36-74). Так, «интонация сообщения», о
которой идетречь в предыдущем абзаце, это приведенный Виноградовым термин
Пешковского, согласно которому (ВС, 41) такая интонация может быть свойствена
отдельной синтагме (предложению), а по М.М.Б. — только высказыванию. «Оттенок
законченности мысли», о котором идет речь в настоящем абзаце, — это тоже фрагмент
виноградовской цитаты из Пешковского (ВС, 42), причем, согласно последнему, такой
оттенок принадлежит фразе, а согласно Виноградову — предложению (Пешковский,
по Виноградову, смешивает словосочетания, фразы и предложения; напомним, что, по
М.М.Б., в виноградовской и схожих с ней лингвистических теориях происходит аналогичное смешение предложения и высказывания — см. прим. 1) Далее из текста
подготовительных записей опущена виноградовскал цитата из «Русского синтаксиса»
Пешковского (ВС, 43).
10. Выражение несогласия с мнением как самого Виноградова, так и анализируемого
им Пешковского о том, что коммуникативная функция языка проявляется в
предложении (ВС, 43).
11. Гибридная конструкция: первое предложение абзаца — цитата из Виноградова
(ВС, 48), второе — тезис самого М.М.Б. М.М.Б. часто использует этот прием, переводя
привычный для лингвистики логический аргумент в новую область.
425
12. Предьщущий абзац — цитата из Виноградова (ВС, 48), настоящий — «прямая»
речь М.М.Б. Далее в тексте опущены разрозненные виноградовские цитаты из
Пешковского (ВС, 50-55).
425
13. О речевом целом и фразе по Пешкове кому в изложении Виноградова см. ВС, 5659.
14. Судя по следующим ниже абзацам, М.М.Б. переходит здесь ко второй статье
Виноградова в том же сборнике «Синтаксис русского языка акад. А. А. Шахматова»
(ВС, 75-126). Так как в самом начале этой статьи Виноградов дает следующую цитату
из Шахматова: «В языке бытие получили сначала предложения, позже путем расчленения предложении... из них выделились словосочетания и слова...» (ВС, /5), то можно
предположить, что и здесь М.М.Б. использует прием переноса обычного для
лингвистики логического хода в интересующую его область (из синтаксиса в сферу
речевого взаимодействия}, стремясь тем самым к созданию двуголосой конструкции.
Вместе с тем, сама идея «первичности» высказывания (точнее — речевого
взаимодействия) уже звучала в более ранних работах, то есть М.М.Б. использует
двуголосые конструкции там, где для них существует «разрешающий» смысловой (но
не обязательно языковой! — см. общую преамбулу) фундамент в его собственной
концепции. Ср. созданные М.М.Б., ио впоследствии так и не использованные
терминологические гибриды, которые не опираются на такой фундамент — прим. 11 к
Д, прим. 62, 87.
15. ВС, 78. Редкое у М.М.Б. прямое упоминание Виноградова, объясняемое,
вероятно, тем, что вследствие известной логической и терминологической текучести
виноградовских текстов, в частности — спонтанного употребления терминов
«предложение», «высказывание», «речь», «речевое целое» и т. д., М.М.Б. специально
зафиксировал здесь, что все-таки именно предложение является, по Виноградову,
единицей речевого общения.
Ниже опущены прямые цитаты и неоткомментированное изложение отдельных
фрагментов виноградовской статьи с упоминанием получившей отклик в РЖ теории
коммуникации Карцевского (ВС, 83) и книги Е. С. Истриной «Вопросы учения о
предложении по материалам архива А. А. Шахматова» (ВС, 89).
16. Список функций интонации в предыдущем абзаце дан по Виноградову (ВС, 9Г),
настоящий абзац — бахтинское резюме виноградовской оценки шахматовской теории
коммуникации и предложения (ВС, 92). Ср. эту оценку с бахтинским пониманием
соотношения предметной и экспрессивной сторон речи (прим. 16 к Д-//).
17. Настоящий абзац является дословным фрагментом из предпоследнего абзаца
виноградовской статьи о Шахматове (ВС, 126). Разрядка бахтинская. Вероятно, эта
отрывочная цитата, не содержащая никаких упоминании об оценке Шахматова, что
было непосредственной темой ее виноградовского источника, приведена М.М.Б. в
целях фиксации пресуппозиций самого Виноградова (отмечены разрядкой), которые
М.М.Б. впоследствии будет оспаривать.
18. Начиная с этого абзаца, М.М.Б. переходит — без всяких помет — к беглым
записям в связи с чтением статьи В. П. Сухотина «Проблема словосочетания в
современном русском языке» из того же сборника (ВС. 127-183). Книга М. Н.
Петерсона упоминается Сухотиным на с. 136. Следующие ниже четыре абзаца — либо
сжатое изложение, либо прямые цитаты из статьи Сухотина (сс. 152, 162, 176), которые
приводятся М.М.Б., вероятно, в качестве иллюстрации
426
аморфного и недиф4>еренцированного употребления терминов выска зывание,
предложение, экспрессия и т. д.
19. М.М.Б. перешел здесь к записям по поводу третьей статьи Ви ноградова в том же
сборнике («Понятие синтагмы в синтаксисе рус ского языка». — ВС, 183-257). Цитата
из С. О. Карцевского приведена Виноградовым на с. 190 (у Виноградова указан также
426
опущенный здесь М.М.Б. номер страницы в работе Карцевского — 14). М.М.Б.
использует эту цитату в РЖ (см. прим. 42 к РЖ).
20. Весь абзац — незакавыченная прямая цитата из Виноградова (ВС, 190).
21. Двуголосая гибридная конструкция. Ср. у Виноградова: «Синтагма уже дана в
момент речи, это — готовый элемент языка. Предложение же создается, творится в
момент речи» (ВС, 202). О категориальной паре «дано — создано* в понимании
М.М.Б. см. прим. 17 к ПТ.
22. Данный и предшествующий абзацы — бахтинский коллаж приведенных
Виноградовым цитат из Л. В. Щербы (ВС, 210-212). Понимание синтагмы как
категории стилистического синтаксиса неоднократно будет упоминаться М.М.Б.
впоследствии.
23. Предыдущий абзац — фиксация мнения Р. И. Аванесова и В. Н. Сидорова в
изложении Виноградова (ВС, 215-216), настоящий — позиции А. Н. Гвоздева (ВС,
218). Об отношении М.М.Б. к А. Н. Гвоздеву см. прим. 15 к РЖ.
24. Цит. по ВС, 227. О категориальной паре «значение — смысл* у М.М.Б. см. прим.
44 к РЖ. Ниже опущены цитаты из указанной статьи Н. Г. Морозовой (ВС, 227-228) и
из также разбираемой Виноградовым статьи Е. В. Кротевича «К вопросу о
синтагматическом членении речевого потока» (ВС, 232). Ниже эта статья будет указана
М.М.Б. Хотя словосочетание «речевой поток* было достаточно употребительно в то
время (см., напр., И. И. Мещанинов, ук. соч., сс. о, 97 и др.) и сам М.М.Б. уже
использовал его выше (с. 243; встречалось оно и в МФЯ, 103, 107 и др.), но вероятно
все же, что выбор этого словосочетания М.М.Б. в качестве одного из основных
примеров аморфности лингвистических понятий (РЖ, 171) был стимулирован именно
этой статьей Кротевича, где ему придается почти терминологический статус.
25. Первое указание на источник цитаты, что связано, вероятно, с тем, что данное
положение Виноградова аккумулирует в себе те моменты его позиции, с которыми
М.М.Б. принципиально не соглашался. В частности, выражение «кусочек
действительности* несколько раз будет всплывать в бахтинских текстах как
оспариваемая «рассеянная чужая речь». См., напр., прим. 42.
26. Дословная цитата из статьи Кротевича (см. выше), данная по ВС, 247-248. О
щущение содержательной и даже терминологической близости позиции Кротевича к
бахтинской теории высказывания разрушается при сравнений их исходных стимулов и
конечных целей, для Кротевича предложение оставалось в центре внимания, и речь
при этом шла об изменении в способах членения предложения (в частности, на особо
понимаемые им синтагмы), а не о выделении другой (как у М.М.Б.) единицы речевого
общения. Отзвуки негативного оахтинского отношения к теории синтагмы как
единицы речевого потока см. в РЖ, 172, 176. Вместе с тем позиция Кротевича все же
ближе М.М.Б., чем позиция Виноградова, который весьма критически
427
оценивал приведенный здесь М.М.Б. вывод Кротевича, имеющий формальное
сходство с бахтинской концепцией (ВС, 247).
Ниже вплоть до отбивки идут (с указанием источника) прямые цитаты из этой статьи
Виноградова, которые приводятся здесь полностью ввиду их показательности для
сопоставления бахтинской и виноградовской позиций.
27. Виноградовская аллюзия к сталинским работам — см. прим. 13 к Д-1.
28. Последний абзац виноградовской статьи. При всей внешней схожести
приведенных цитат с бахтинской позицией именно в них зафиксировано главное,
принципиальное различие: установка Виноградова «от частного к общему» (от
синтагмы к сложным речевым единствам) и бахтинская установка «от общего к
частному» (сначала выделение реальной единицы речевого общения, то есть
427
высказывания, и лишь затем от нее — установление более частных языковых
закономерностей). М.М.Б. оспаривал подход «от частного к общему» в том числе и
потому, что в рамках этого подхода невозможно адекватно оценить значимость для
высказывания всех форм его внешней и внутренней реакции на чужую речь. См. прим.
38.
29. Статья Н. С. Поспелова, с чтением которой связаны четыре (следующих ниже
абзаца, помещена в том же сборнике — ВС, 321-338. М.М.Б. цитирует здесь сс. 323 и
326 этого издания. Несогласие М.М.Б. с поспеловским понятием «сложного
синтаксического целого*- объясняется теми же причинами, которые обусловили его
несогласие с виноградовскими разработками в этой области (см. прим. 28). Следует
отметить, что из всех предлагавшихся в то время терминов для обозначения единиц
речи, более крупных, чем предложение, именно поспеловский термин «сложное
синтаксическое целое» (ССЦ) наиболее привился в отечественной лингвистике,
активно используясь вплоть до последнего времени и составляя основную
конкуренцию бахтинскому «речевому жанру». Ниже опущен краткий конспект книги
А. А. Шахматова «Синтаксис русского языка» (Л., 1941).
30. Состав идей этого и двух предыдущих абзацев не был реализован в РЖ.
Тематически эти идеи входят в — условно — антирелятивистический пласт
бахтинской общефилософской позиции, разработанный в меньшей степени, чем ее
диалогический и полифонический пласты (см. прим. 39 к ПТ). В стилистическом же
отношении здесь в очередной раз просматривается выражение «своего» содержания
через «чужой» язык (в данном случае — виноградовский). При не учитывающем
постоянную двуголосость бахтинских записей терминологическом «захвате»
содержания данного фрагмента в полную собственность читателя здесь ошибочно
можно было бы увидеть идею независимости
экспрессивной функции
от
коммуникативной (см.
.'И См. прим. 4. Ниже опущены разрозненные цитаты из Ленина, Гумбольдта
(использована в /*Ж, 167-16&) и Соссюра.
32. Содержание абзаца не использовано в РЖ. Вместе с тем здесь '«проговорены»
некоторые специфические проблемы, возникавшие перед М.М.Б. в связи с
окончательно произведенным к настоящему моменту выбором в качестве логических
декораций для РЖ дихотомии «система языка — речь» (см. прим. 24 к Д-1).
33. Ниже опущен фрагментарный конспект книги Ф. де Соссюра «Курс общей
лингвистики» (М. 1933), лишь однажды прерываемый
428
авторской фразой М.М.Б., которую можно расценивать как емкую характеристику
понимания Соссюром объекта лингвистики в специ фически бахтинских терминах:
«Речевая цепь в пределах одн<>?о высказывания без смены речевых субъектов*.
34. Одна из отдельных и специальных тем, заявленных в подготовительных
материалах, но практически не реализованная в РЖ. См список основных признаков
высказывания на с. 263. О возможной связи бахтинской категории «нового* с
общелингвистической пробле мой предикативности см. прим. 1.
35. Заявленная здесь и в других местах рабочих записей тема «историчности*
осталась в Рт не реализованной. Характерно, что М.М.Б. использует понятие
историчности как частичный аналог собы тийности (о событийности см. прим. ИЗ).
36. Свидетельство «заказного» характера статьи — см. преамбулу к РЖ.
37. Сверху над «выполнением* надписано «осуществление*.
38. Имеется, вероятно, в виду, что виноградовская синтагма не учитывает проблему
целого высказывания и его отношение к чужим высказываниям — см. прим. 28.
428
39. Имеется в виду соссюровская теория дифференциальной природы знака, о
которой говорилось в опущенном выше фрагменте бахтинских записей (см. прим. 33).
Подробней эта тема раскрыта ниже.
40. В основном как «сочетание* двух представлений, но не отрицал и их
«расчленения*, понимали коммуникацию Потебня и Шахматов, как прежде всего
«расчленение* цельного представления — Вундт, Штеинталь и др. Однако оспаривая
ниже оба этих тезиса, М.М.Б. полемизирует одновременно (судя по используемой
терминологии) и с позицией Виноградова, критиковавшего, в частности, Шахматова за
то, что его учение о коммуникации «не принимает в расчет категорию модальности, то
есть отношение высказывания к действительности» (ВС, 81), и, соответственно, не
акцентирует внимания на том, что связь представлений в коммуникации
«соответствует связям предметов действительности» (ВС, 76). Диалогическая
ориентация следующего ниже фрагмента бахтинских записей на виноградовскую
теорию подтверждается и смысловыми, и чисто словесными отсылками к Виноградову
(см. прим. 41 и 42).
41. Знаменитый бахтинский пример, вошедший в РЖ (см. РЖ, 187). Впервые в
качестве примера это словосочетание было использовано, вероятно, Потебней, причем
именно как пример сочетания представлений (см. прим. 40), вслед за которым это
словосочетание стало кочевать с различающейся интерпретацией из работы в работу
Для М.М.Б. данный пример был оживлен, скорее всего, упоминания ми о нем (с
соответствующей ссылкой на Потебню) в статьях Вино градова о Пешковском и
Шахматове (ВС, 41, 113).
42. «Кусочек действительности* - аллюзия к Виноградову (см. прим. 25).
43. Начиная с этого абзаца в рукописи идет — без всяких помет — фрагментарный
конспект книги Р. О. Шор и Н. С. Чемоданова «Введение в языкознание» (М., 1945).
Ниже эта книга будет указана М.М.Б. Данный абзац — сжатый пересказ без всякой
авторской оценки начала § 22 «Значение слова. Предметная отнесенность»
429
(о.63). Ниже выборочно приводятся наиболее развернутые места из этого конспекта,
прямо связанные с тематикой РЖ (сс. 64-68, 73-75, 77, 131, 139-140 указанного
издания).
44. Ниже М.М.Б. переходит к выпискам из книги И. И. Мещанинова «Члены
предложения и части речи» (указана далее в тексте). Помимо собственно
содержательного аспекта, причиной обращения внимания М.М.Б. именно на эти
фрагменты книги Мещанинова могло быть недифференцированное употребление здесь
терминов «речь», «высказывание» и «предложение» (последнее рассматривается
Мещаниновым как синоним высказывания — см. прим. 1).
45. Авторский абзац М.М.Б., вклинившийся между цитатами из Мещанинова.
46. Об отношении М.М.Б. к понятиям субъекта и предиката см. прим. 1. Ниже
опущены бахтинские цитаты из статьи H.H. Амосовой «К проблеме языковых стилей в
английском языке...» (выше цит., ссЗЗ, 35).
47. Бахтинский антитезис к позиции Виноградова (см. прим. 40).
48. Критическая отсылка к виноградовской концепции модальных типов
предложения — см. прим. 5.
49. См. прим. 12 к Д-1.
50. Аллюзия к Томашевскому. См. прим. 22 к Д-1. 51.0 возможном источнике
примера см. прим. 6.
52. Скрытая полемика с преобладающей (в том числе и виноградовской) точкой
зрения на экспрессивную интонацию как на выражение прежде всего отношения
говорящего к содержанию высказывания — см. прим. 7 к Д-1 и 16 к Д-П.
429
53. Аллюзия к Виноградову: перечисляя те же факторы, влияющие на
синтагматическое членение предложения, что и Виноградов (см. бахтинские цитаты из
Виноградова на сс. 248-250), М.М.Б. добавляет к ним «отражение чужой речи*,
отсутствующее у Виноградова. Отсюда и следующий ниже бахтинский вывод о
необходимости выхода за пределы высказывания (у Виноградова анализ остается в
пределах высказывания). См. прим. 5/ и 82.
54. Термин Ф. де Соссюра, обозначающий индивидуальный речевой акт в
противоположность системе языка (langue).
55. Характерный для М.М.Б. прием как бы нейтрального и даже прямого
использования чужих для него авторитарных слов (в данном случае — «объективная
действительность*), которые вместе с тем содержательно «взрываются» в
последующей части фразы (отношение не к «объективной» действительности, а к
действительности, которая гак или иначе уже изначально воспринята). В целом М.М.Б.
здесь логически обрабатывает в нужном ему направлении подготавливаемую для
использования в качестве риторической декорации дихотомию «система языка —
речь».
56. Фраза вписана позже (в просвет между абзацами) в качестве, вероятно, ответа на
предвосхищаемый упрек в «буржуазном объективизме», хотя и в собственно
бахтинской концепции можно увидеть относительно «прогрессивные» и относительно
«регрессивные» языко
430
вые тенденции (см. о центростремительных и центробежных языковых тенденциях в
СВР, 83-88).
57 Аналогичный аргумент высказывался М.М.Б. и против Виноградова (см. прим.
53), что может служить дополнительным объяснением оценки М.М.Б. Виноградова как
представителя именно соссюри-анского (а не фосслерианского) направления (см. прим.
5 к Д-П). Такого же рода «монологичность» (то есть «замыкание» либо на системе
языка, либо на изолированном высказывании) М.М.Б. видел и во всех других попытках
того времени лингвистически охватить реальную речевую единицу.
58. Окончательная формулировка проблемы экспрессивности, вошедшая в РЖ. См.
прим. 08, прим. 3, 7 к Д-1, 16 и 30 кД-Н.
59. Аллюзия к Мещанинову (см. с. 257). Ниже М.М.Б. переносит этот же логический
ход и на предложение, что противопоставляет его позицию не только Мещанинову,
ограничивавшему действие этого рассуждения областью слов и не распространявшего
его на предложения, но и Виноградову, скрытой аллюзией к которому служит в данном
случае термин «модальность».
60. Девятый признак вписан позже, поэтому помещен (видимо — за неимением
места) после фразы «Классификация речевых жанров, источники их изучения*, хотя
логически он должен предшествовать ей. 1, 2, 3 и о признаки высказывания отмечены в
оригинале «галочками» — вероятно. М.М.Б. фиксировал таким образом при
перечитывании своих рабочих материалов те признаки, которые к этому моменту уже
получили отражение в подготавливаемом им беловом тексте, что очередной раз
свидетельствует о незаконченности РЖ. Композиция и терминологическая система РЖ
отличаются от намеченных здесь. В частности, «основные признаки* именуются в РЖ
«конститутивными особенностями* высказывания; изменены также очередность
подачи признаков и иногда их взаимное соотношение. Так, первая конститутивная
особенность высказывания в РЖ — смена речевых субъектов (РЖ, 178), вторая —
завершенность (там же), третья — отношение высказывания к самому говорящему и к
другим участникам речевого общения (РЖ, 187). По сравнению с приведенной здесь
схемой, эта третья «особенность» высказывания в РЖ более интегральна: в нее входят
430
экспрессивность (там же), диалогические обертоны как отношение к преднайденным
чужим словам (РЖ, 197) и адресованность как ориентация на предвосхищенную
чужую речь (РЖ, 197), то есть в РЖ внутрь одной особенности введено то, что здесь
зафиксировано как самостоятельные признаки высказывания. С другой стороны, на
фоне данной схемы отчетливей видна некоторая терминологическая неустойчивость
текста РЖ: элементы, входящие в состав третьей особенности — экспрессивность и
адресованность. — именуются сначала моментами или признаками (РЖ, 188, 189, 200),
а затем — конститутивными особенностями {РЖ, 195, 204), то есть частные элементы
третьей особенности терминологически трансформируются в самостоятельные
особенности. Восьмой признак по этой схеме (различение замысла и выполнения) не
выделен в РЖ в самостоятельную особенность, но частично отражен при анализе
завершенности высказывания (РЖ, 179-180). Четвертый и пятый признаки данной
схемы практически не задействованы в РЖ (имеются лишь отдельные смысловые
намеки на эту тематику). Не реализована в РЖ и проблема классификации речевых
жанров и источников их изучения (о предполагавшемся содержании этих смысловых
блоков можно судить по подготовительным материалам — см.. напр. прим. 45 к Д II)
В целом настоящая схема сни
431
мает все возможные недоразумения, связанные с терминологической
неустойчивостью РЖ.
61. Текст настоящих подготовительных материалов имеет разнообразные вторичные
(то есть проставленные при их перечитывании) пометы М.М.Б., некоторые из которых
оговариваются в данной публикации (см. напр., прим. 60). В настоящем фрагменте
впервые появляется помета, неоднократно используемая впоследствии и представляющая особый текстологический интерес: данный и предыдущий абзацы
крестообразно перечеркнуты М.М.Б., что, по всей видимости, надо понимать не как
отказ от содержания данных абзацев, но как знак того, что оно уже использовано к
моменту перечитывания в подготавливаемой беловой рукописи РЖ. И здесь и в
дальнейшем такие «перечеркнутые» абзацы даются курсивом и уменьшенным кеглем в
самом тексте бахтинских подготовительных материалов. В тех случаях, в которых
сравнение перечеркнутых фрагментов подготовительных материалов и основанного на
них текста РЖ может представлять наибольший интерес, в примечаниях будут
указываться соответствующие страницы из РЖ. Кроме крестообразного перечеркивания М.М.Б. часто использует также одну или две вертикальные линии слева от абзацев,
что, вероятно, говорит о вторичной бахтинской оценке степени важности данного
абзаца. В настоящем издании эти пометы не воспроизводятся.
62. Поставленный М.М.Б. вопросительный знак говорит о том, что зафиксированная
здесь идея о возможном отнесении словосочетания и синтагмы к речевым единицам
оценивалась М.М.Б. и в момент написания данного абзаца как сугубо гипотетическая.
Возникновение этой идеи несомненно связано с характерным для данных записей
поиском двуголосых конструкций (в данном случае «свое» содержание подается через
терминологию виноградовского типа), однако в отличие от других аналогичных
терминологических гибридов эта идея была впоследствии отвергнута М.М.Б. и не
вошла в текст РЖ как не соответствующая его логической структуре (ср. прим. 14).
63. См. прим. 14 к РЖ.
64. Начиная с этого абзаца, в рукописи идут — без специального указания — записи
М.М.Б. в связи с чтением сборника «Вопросы теории и истории языка в свете трудов
И. В. Сталина по языкознанию» (М., 195z). Для «чужого» глаза эти записи разрозненны
и фрагментарны (настоящий абзац, напр., является, вероятно, бахтинским резюме
одного из разделов статьи А. С. Чикобавы «Задачи советского языкознания в свете
431
сталинского учения о языке» — там же. с. 31-33), поэтому дальнейшие заметки М.М.Б.
по поводу этого сборника (в которых бегло упоминаются статьи В. Н. Ярцевой, В. В.
Виноградова и А. И. Смирницкого) здесь опускаются.
65. «Событие* — одна из центральных категорий ранних фило-cooJkkhx работ
М.М.Б. Гсм. ФП). Ö связи высказывания с событием см. прим. 2, 38, 39 к ПТ
66. На основе данного и последующих четырех перечеркнутых М.М.Б. абзацев
написан фрагмент первого раздела РЖ (РЖ, 161-162). Вместе с тем однозначного
соответствия здесь нет: имплицитная структура записей эксплицирована в РЖ в
развернутую смысловую форму, изменен порядок подачи тематических блоков и т. д.
Сопоставление этого фрагмента записей с текстом РЖ дает общее представление о той
обработке, которой были бы подвергнуты все рабочие записи М.М.Б., если бы они
готовились к печати самим автором.
432
67. Первые пять пунктов этого плана перечеркнуты М.М.Б. (они приблизительно
соответствуют содержанию первого раздела РЖ), последующие — нет, что
свидетельствует об изменении М.М.Б. по ходу написания беловика статьи ее
композиционно-риторического плана (см. прим. 70). Выше говорилось о девяти
признаках высказывания (см. прим. 60), здесь, в пункте 7, о десяти — вероятно, имелось в виду добавить способность высказывания вызывать ответ (см. 3 пункт на с. 267).
68. Ср. РЖ, 172-174.
69. Скрытый спор с Виноградовым, рассматривающим формы времени и наклонения
глагола как морфологические способы выражения модальных отношений в реальной
речи («О категории модальности...», с. 62).
70. Вероятно, здесь зафиксирован новый план второй части РЖ (см. прим. 67),
который, скорее всего, и лег в основу статьи, хотя и этот план не полностью
соответствует реальному содержанию РЖ: пятый и шестой пункты плана остались не
реализованными; отсутствует отдельное упоминание о смене речевых субъектов;
экспрессивность выделена как отдельная тема и отнесена в конец плана и т. д.
71. Сведение к абсурду (лат.).
72. Проблема внутренней речи, неоднократно возникающая в подготовительных
материалах, практически не «звучит» в РЖ, но достаточно подробно разработана в
МФЯ и «Фрейдизме». См. также прим. 34 к «Языку в художественной литературе».
73. Первое предложение абзаца вписано позже в имеющийся просвет; хотя
формально оно оказалось на первом месте в данном абзаце, содержательно его нужно
воспринимать вторым (в этом случае понятным становится и употребленное в нем
местоимение «это*, то есть «типы предложении», о которых идет речь в формально
втором предложении) .
74. В лингвистике того времени высказывания этого рода чаще всего понимались
именно как предложения; спор шел лишь о том, к какому типу предложений их
относить (см., напр., виноградовскую позицию в ВС, 112-113). См. также прим. 5.
75. Ср. РЖ, 166-167.
76. Опосредованная фиксация антивиноградовского тезиса: модальность как таковая
является, по М.М.Б., прерогативой жанра, а не предложения (см. прим. 5, 40).
77. См. прим. 7, 41 к Д II.
78. См. прим. 82.
79. О возможном источнике этого термина см. прим. 24.
80. О системе бахтинских терминов в этой области см. прим. 20 к РЖ.
81. В оригинале слово «выражается* (или его аналог) пропущено; восстановлено
предположительно, по смыслу.
432
82. Выразительный пример логической многослойности бахтинских текстов.
Устойчивая ориентация настоящих записей (и текста РЖ) на
433
чужую терминологию может вызвать ощущение внутренней противоречивости
бахтинской позиции в целом. В частности, в ПТД, СВР и других работах, более
обнаженно представляющих бахтинскую мысль, отношения между авторской и
введенной в высказывание чужой речью прямо оцениваются как диалогические; здесь
же сама возможность этого формально отрицается (см. также фрагменты, отмеченные
в прим. 78 и 102). Практически в такой же жесткой тональности данное положение
перешло и в беловой вариант статьи (см. фрагмент, отмеченный в прим. 29 к РЖ).
Вместе с тем и в рабочих записях (см. прим. 115), и в РЖ встречаются, хотя и в
неразвернутом виде, такие, напр., понятия, как «рубцы межей* внутри высказывания, в
которых ощущается отраженный след диалогических взаимоотношений между
авторской и разными формами чужой речи в пределах одного высказывания, причем
эти «рубцы» часто ссютветствуют формально-языковым синтаксическим членениям.
Жесткость настоящей 4юрмулировки объясняется тем, что употребленный здесь
термин «предложение» должен однозначно пониматься только как единица системы
языка, то есть в своем развернутом виде этот тезис означает лишь, что, рассмотренное
в грамматическом плане, ни одно предложение не будет содержать в себе каких бы то
ни было формальных показателей диалогичности или (как сказано в РЖ, 174) что
диало-гичность не поддается грамматикализации. Оспариваемые здесь М.М.Б.
лингвисты, утверждая признаваемую и М.М.Б. необходимость выхода за рамки
предложения в поисках его смысловых связей с другими частями высказывания,
стремились
обосновать
наличие
именно
формальных
(грамматически
воспроизводимых) показателей таких связей (в частности — синтаксических) и,
естественно, не выходили при этом за рамки высказывания (см. прим. 53 и 57).
Диалогические же отношения у М.М.Б. по самой своей природе основаны именно на
выходе за эти рамки в виде ориентации на другие чужие высказывания. Как раз в
последнем случае внутри одного высказывания между составляющими его
предложениями и можно отыскать диалогические отношения, как это делает и сам
М.М.Б. в других работах при анализе, напр., гибридных конструкций (СВР, ПТД).
83. См. прим. 33 к РЖ.
84. М.М.Б. фиксирует здесь три главных момента целостности высказывания,
которые вошли затем в текст РЖ и определили собой его композиционную структуру
(возможно, именно появлением этой новой логической схемы объясняется частичное
изменение в РЖ тех рабочих планов, которые были разработаны в подготовительных
записях — см. прим. 67 и 70).
85. Ср. РЖ, 180-181.
86. Данный и предшествующий абзацы представляют собой, вероятно, смысловой
блок, связанный с текущей научной работой М.М.Б. в Мордовском пединституте (см.
прим. 5 к Д I)
87 Очередное диалогическое заострение тезиса, связанное с поиском логически
убедительных для предполагаемого читателя аргументов. Основным критерием в
бахтинской классификации жанров следует, видимо, считать тот или иной тип
отношения к действительности, что имеет лишь опосредованную связь с темой, а
может и вовсе не иметь ее. Хотя при условном переходе на общепринятый язык
зафиксированное здесь М.М.Б. различие между жанром и предложением выглядит
удачным, однако впоследствии М.М.Б. отказался от него, так как оно заслонило бы
собой специфические моменты его теории жанров (см. прим. 14).
433
433
88. Имеется в виду, что это или нечто аналогичное часто утверждается в
оспариваемых М.М.Б. теориях — см. прим. 36 к РЖ.
89. Вероятно, описка: вместо «субъекта речи*, судя по продолжению абзаца, хорошо
ложится «предмет речи*. Однако, хотя это и менее вероятно, здесь могло иметься в
виду и противопоставление субъекта и предиката (см. прим. 1).
90. О соотношении, по М.М.Б., речевого общения и высказывания см. прим. 20 к
РЖ. Вопрос о роли предложения в высказывании не был подробно разработан М.М.Б.
Следует, вероятно, предполагать, что предложение, рассматриваемое как единица
высказывания, получило бы иные характеристики, нежели те, которые оно имело бы
как единица языка; в частности, его смысловая структура (то есть то, что обычно
называется предикативным или актуальным членением) описывалась бы в зависимости
от общей установки высказывания на чужую речь. Принципиально изменилась бы,
вероятно, и классификация сложных предложений, так как чисто логический критерий
определения типа связи между входящими в его состав простыми предложениями
должен был бы смениться диалогическим критерием. Подробнее оо этой стороне
бахтинской концепции см. примечания к «Вопросам стилистики...». В РЖ М.М.Б.
ограничился лишь одним аспектом этой темы — тем, что ни предложение, ни синтагма
или фраза не могут рассматриваться как самостоятельные речевые единицы (см. прим.
62).
91. Имеются в виду единицы типа фразы и коммуникации.
92.
Сжатый,
одновременно
терминологический
и
содержательный,
антивиноградовский тезис. В терминологическом плане М.М.Б. оспаривает здесь
достаточно частое у Виноградова синонимичное употребление словосочетаний
«модальные типы предложений» и «модальные типы высказываний» (см., напр., «О
категории модальности...», с 58), что соответствует общей критике М.М.Б. нечеткости
используемой в лингвистике терминологии. В содержательном же отношении здесь,
вероятно, имеется в виду, что указанное выше отождествление предложения с
реальной единицей речевого общения привело в числе негативных последствий и к
искажению общей типологии модальных отношений между речью, говорящим и
действительностью, так как формально-грамматически устанавливаемый тип
предложения прямо понимается при этом как одна из форм отношения говорящего и
его речи к действительности, что, по М.М.Б., свойственно только жанру речи, а не
единицам системы языка (см. прим. 87).
93. О возможном источнике примера см. прим. 6.
94. Ср. данный и предыдущий абзацы с РЖ, 186-187. О научной опасности и,
соответственно, пределах допустимости приема условного толкования литературных
примеров как жизненных высказываний см. «Конструкция высказывания», выше цит.
с. 170.
95. См. прим. 4.
96. Фактическое подтверждение тезиса о наличии единой универсальной экспрессии,
лишь формально подразделяемой на два вида (см. прим. 16 к Д-П).
97. Аллюзия к марксизму (см. прим. 14 к Д-1).
98. Связанная с окончательным выбором в качестве логического фундамента статьи
дихотомии системы языка и речи четкая фиксация
434
позиции, вошедшей впоследствии и в РЖ (ср. отличающиеся формулировки,
отмеченные в прим. 21 и 30 к Д-П)
99. Слово «выражается* восстановлено по смыслу; в оригинале глагол отсутствует.
100. Специфический бахтинский термин — см. прим. 2 кД II.
101. См. прим. 109.
434
102. Смягчение введенного выше тезиса о невозможности диалогических отношений
в пределах высказывания — см. прим. 82. Ниже (с. 281) эта тема продолжена, но в РЖ
она так и останется приглушенной.
103. Связанное с рабочим характером записей нестрогое употребление терминов
(предложение отождествляется с жанром — ср. прим. 5).
104. См. прим. 50 к РЖ.
105. Ср. данный и четыре предшествующих абзаца с РЖ, 192-193.
106. См. прим. 102.
107. Жесткость данного тезиса, формально противоречащего содержанию других
бахтинских работ (в частности, ТФР), вызвана специфической риторической
установкой РЖ. Реального содержательного противоречия между разными
логическими вариациями этой единой бахтинской темы нет (см. прим. 30 кД-Н).
108. Ср. Д-1, прим. 24, где М.М.Б., основываясь на противопоставлении диалога и
монолога, условно признавал абсолютную сосредоточенность последнего на своем
предмете (здесь же речь идет уже только о «степени» такой сосредоточенности).
109. И в подготовительных материалах, и в РЖ, действительно, нет
последовательного терминологического разведения «высказывания» и «речевых
жанров» (эти термины иногда используются М.М.Б. почти как синонимы), хотя
тематическая граница между этими понятиями ясна читателю и из лексического
значения терминов. Вместе с тем, необходимость терминологического разведения этих
понятий связана не только с требованиями логической четкости, но и с тем, что такое
разведение должно было привнести с собой новый смысловой блок. Специальная
разработка термина «речевые жанры» должна была привести к классификации жанров
(известно, что это прямо входило в планы М.М.Б. — см. прим. 60), а значит и к
разработке типологии всех возможных форм отношения речи к действительности, что
так и не было осуществлено М.М.Б. (имеются только разрозненные замечания на эту
тему — см., напр., о речевых жанрах оценки, отмеченных в прим. 101). Очевидно, что
решение этих проблем не было возможным в рамках данной статьи, они предполагали
совершенно иной
не позитивно-лингвистический, а филоссфско-лингвистический — контекст.
Классификация речевых жанров в свою очередь потребоват. д., что также не было реализовано в РЖ, где М.М.Б. принципиально ограничился
лишь самыми первыми шагами, которые, с его точки зрения, должна была сделать
лингвистика по направлению к интересующей его теме. Отказ М.М.Б. от этих тем,
вероятно, был связан и с принципиальной невозможностью их адекватного рассмотподачи
адресатов и
435
ния на том двуголосом, получужом языке, которым написан текст
ЯЗЫК В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Впервые, с неточностями, — «Литературная учеба», 1992, № 5-6, сс. 160-164
(публикация В. В. Кожинова, подготовка текста В. И. Сла-вецкого).
В настоящем издании публикуется заново по автографу. Рукопись представляет
собой ученическую тетрадку в 12 листов, в конец которой вложены еще два двойных
листа из другой тетрадки (в общей сложности — тридцать две пронумерованные рукой
М.М.Б. страницы). На обложке тетрадки наискосок написано карандашом «Язык в
художественной литературе*. Текст также полностью написан карандашом (последняя
фраза занимает начало тридцать второй, то есть последней, страницы). Имеющаяся в
435
рукописи небольшая правка производилась, судя по текстологическим показателям,
непосредственно в процессе написания текста; однако имеются и характерные для
М.М.Б. вторичные пометы, свидетельствующие о перечитывании рукописи — одна
или несколько вертикальных карандашных линий (лева от некоторых абзацев текста
(что обычно означает оценку данных абзацев как имеющих ту или иную степень
важности). Вторичные пометы в настоящей публикации не воспроизводятся. Хотя
подготовительные материалы обычно не нумеровались М.М.Б. (в отличие от записей, в
той или иной степени рассматриваемых как сплошной «беловой» текст), однако данная
рукопись, несмотря на произведенную в ней рукой М.М.Б. нумерацию страниц,
представляет собой, скорее всего, именно рабочие, подготовительные записи, вторично
не обрабатывавшиеся автором в сплошной связный текст. По своей сжатой
436
ПО. Контекстуально объяснимое риторическое заострение тезиса о поглощении
экспрессивной функции функцией коммуникативной (ср. иное понимание во
фрагменте, к которому дается примечание 30). Вместе с тем при соответствующем
логическом развертывании этот тезис совпадает с глубинной интенцией М.М.Б. В РЖ
эта тема звучит как «недооценка» лингвистикой коммуникативной функции языка (см.
прим. 22 к РЖ).
111. Подробно об Амадисе см. СВР, 193-209.
112. Ср. прим. 2 к Д/.
113. Имеется в виду, вероятно, «событийность высказывания* и его «историчность*,
зафиксированные выше в списке как пятый признак высказывания (с. 263). Вероятно,
следующая ниже тема (связь высказывания с действительностью) относилась М.М.Б.
именно к событийности высказывания и, следовательно, к его историчности (см. прим.
35).
114. О категориях смысл и значение у М.М.Б. см. прим. 44 к РЖ. См. также прим. 24.
115. См. прим. 82.
синтаксической и «зигзагообразной» тематической структуре данные записи во
многом аналогичны подготовительным материалам к РЖ. Здесь также, в частности,
достаточно отчетливо выделяются несколько разных ««приступов» к теме, которые
разнятся между собой не столько содержательными ракурсами, обычно несущими у
М.М.Б. дополнительные, собственно «♦авторские», смысловые моменты (как,
например, в ПТ), сколько — почти чисто риторическими установками, изменяющими
лишь способ подачи темы, но саму тему (язык в литературе как не только средство, но
и как объект изображения) сохраняющими в практически неизменном виде. В каждом
новом приступе к этой стабильной теме М.М.Б. опробует здесь разные гибридные
двуголосые конструкции, с помощью которых эта тема по-разному ориентируется в
контексте злободневных на тот момент лингвистических проблем (о бахтинском
рабочем приеме создания гибридных конструкций см. общую преамбулу к «Из
архивных записей к работе "Проблема речевых жанров"»). Свидетельствуют о рабочем
характере настоящих записей и встречающиеся в них синтаксические и стилистические
погрешности (см., напр., прим. 26). Какого-либо законченного или просто сплошного
текста, который основывался бы на данных рабочих записях, в архиве не обнаружено.
Не ясен и внешний повод для их написания. В относящихся ко времени создания
данного текста (то есть к концу 1954 года — см. ниже) тематических карточках
М.М.Б., в которых фиксировались его плановые задания по научно-исследовательской
работе в Мордовском пединституте (Саранск), настоящая тема не значится. Под
частично аналогичным заглавием за М.М.Б. числилась лишь работа за 1952 год
(«Проблема языка и стиля литературного произведения. Диалог в литературе и его
виды*), однако, судя по всему корпусу сохранившихся бахтинских рабочих записей
436
того времени, очевидно — даже если не брать в расчет временное несовпадение — что
подготовка к этой работе велась М.М.Б. в другом месте (см. прим. 5 к Д I). Очевидны
— исходя из заглавий — и тематические отличия между настоящими записями и
предполагаемой работой 1952 года. Отсутствие «белового» варианта может
объясняться в данном случае тем, что настоящие записи со-' ставлялись, возможно, не
в связи с плановой научной работой, предполагающей отчетность в виде письменного
текста, но в качестве рабочей заготовки к одному из многочисленных в те годы устных
выступлений М.М.Б. перед различными аудиториями.
Вместе с тем, вне всякой зависимости от текущей работы или от лекторской
деятельности тема «язык в художественной литературе» всегда была в центре
внимания М.М.Б. В этом смысле настоящие записи могут рассматриваться как одна из
частных специфических вариаций этой фундаментальной бахтинской темы. С точки
зрения центральной в записях идеи языка как объекта изображения они представляют
собой облегченную и адаптированную к условиям момента бахтинскую парафразу трех
его более ранних работ (СВР, «Из предыстории романного слова», «Эпос и роман»), в
которых эта идея не только раскрыта в ее полном нередуцированном объеме, но тоже
используется как своего рода композиционный стержень всего рассуждения в целом (о
косвенных свидетельствах обращения М.М.Б. к этим своим более ранним работам при
составлении настоящих записей см. прим. 4, 12, 34). Естественно, что при наличии
более развернутых работ на ту же тему настоящие записи представляют не столько
прямо содержательный, сколько «герменевтически» опосредованный интерес. В
частности, с их помощью можно восстановить одну из имеющихся в бахтинистике
лакун, так как настоящие записи — единственный текст, в котором отражен один из
ранее неизвестных (и до сих пор не исследованных в бахтинистике) этапов истории
разнообразных бахтинских попыток привить отечественной лингвистике диа
437
логическую «ветвь». Текстологический анализ записей показывает, что несмотря на,
казалось бы, «независимое» название и на отсутствие прямых словесных отсылок, они
несомненно являются выражением сложного бахтинского отношения к одной из самых
нашумевших общелингвистических дискуссий 50-х годов — к дискуссии о стилистике,
которая была проведена журналом «Вопросы языкознания» (в дальнейшем — ВЯ),
начиная с № 1 за 1954 год (где была помещена статья Р. Г. Пиотровского) и кончая № 1
за 1955 год, содержащим итоговую статью В. В. Виноградова. После окончания
антимарровской кампании вопросы стилистики закономерно выдвинулись на первый
план, так как именно в эту область лингвистики оказались оттесненными почти все
«спорные» проблемы, оставшиеся в наследство от неоднозначных результатов критики
марризма (см. преамбулу к РЖ). Формальной «зацепкой» для объявления общей
дискуссии стал доклад Ю. С. Сорокина «Об основных понятиях стилистики»,
сделанный на расширенном заседании Ученого совета Института языкознания АН
СССР в июне 1953 года. Позже, в № 2 за 1954 год, в ВЯ была напечатана и статья Ю.
С. Сорокина («К вопросу об основных понятиях стилистики»), представляющая собой
переработанный текст этого доклада. Имеющаяся в настоящих записях М.М.Б.
именная ссылка на Сорокина является, судя по ее смыслу (см. прим. 44), аллюзией
именно к этой его статье, что позволяет датировать записи не ранее
Сорокина, был подписан к печати в марте — следовательно, он мог появиться в
Саранске не ранее апреля: об уточнении датировки см. ниже). О пристальном
внимании М.М.Б. к стилистической дискуссии свидетельствуют многочисленные
карандашные пометы, имеющиеся на полях всех без исключения статей из
дискуссионного раздела по стилистике в сохранившихся в архиве М.М.Б.
принадлежащих ему номерах ВЯ (характерно, что статьи на другие темы в этих же
437
номерах журнала лишь изредка — судя по пометам — привлекали внимание М.М.Б.).
О том, что именно стилистическая дискуссия была подразумеваемым фоном данных
записей, говорит и то, что каждый из имеющихся в них трех разных приступов к теме
начинается с постановки (иногда — в почти идентичной формулировке) одной из
наиболее обсуждаемых участниками дискуссии проблем (см. прим. 1, 14, 40). То, что в
название записей не вынесено само слово «стилистика», дела ие меняет: специфика
языка художественной литературы — это также одна из центральных тем дискуссии.
Кроме того, есть достаточные основания полагать, что заглавие бахтинских записей
было навеяно статьей В. В. Виноградова «Язык художественного произведения»,
помещенной в качестве общетеоретического вводного материала ко всему пятому
номеру ВЯ за 1954 год (то есть опубликованной хотя и вне композиционно
выделяемого в журнале дискуссионного раздела о стилистике, но — в самый разгар
дискуссии и в очевидной связи с нею). Позиция В. В. Виноградова всегда была
небезразлична для М.М.Б. (о скрытой полемике с ним, пронизывающей все
лингвистические работы М.М.Б. того времени, даже если в них и не упоминается ^имя
Виноградова, см. преамбулу к «Из архивных записей к работе "Проблема речевых
жанров"»). В данном же случае Виноградов был не только косвенным участником
дискуссии, но во многом и ее организатором (Виноградов занимал пост главного
редактора журнала ВЯ), более того — Виноградов же был и ее своеобразным «героем»
(в выступлениях 4>ормального инициатора дискуссии Ю. С. Сорокина имеется хотя и
завуалированный, но тем не менее несомненный антивиноградовский мотив, что не
могло не привлечь внимания М.М.Б.; фигурировало имя Виноградова и в статьях
почти всех других участников дискуссии, причем чаще всего с положительными, почти
авторитарными коннотациями). Кроме того, на
второго
номер
438
писав итоговую статью по результатам дискуссии, Виноградов выступил и ее
завершителем, чем подтвердилось его особое после антимар-ровской кампании
положение в отечественной лингвистике того времени. Можно поэтому предполагать,
что если сама дискуссия о стилистике была несомненным подразумеваемым озоном
настоящих бахтинских записей, то статья Виноградова «Язык художественного
произведения» могла быть непосредственным «толчком» для их написания, что и
отразилось в названии записей. Последнее предположение позволяет уточнить и
датировку бахтинских записей: они были написаны, скорее всего, после выхода пятого
номера журнала со статьей Виноградова, но до окончании дискуссии (итоговая статья
Виноградова в № 1 за 1955 год никак в записях не отражена), то есть в конце 1954 или,
что менее вероятно, в самом начале 1955 года. В пользу такой датировки записей
говорит и то, что предположительно вскрытые в постраничных примечаниях аллюзии
к дискуссии относятся именно к тем статьям, которые помещены в четвертом и пятом
номерах журнала (Сорокин, единственный прямо названный М.М.Б. участник дискуссии, был своего рода одиозной фигурой, упоминавшейся практически в каждой
статье; неоднократно обсуждался в 4 и 5 номерах журнала и тот частный аспект
сорокинской статьи, который затронут у М.М.Б.). О конкретных пунктах спора М.М.Б.
с Виноградовым в данных записях см. постраничные примечания.
Датировка настоящих записей позволяет точнее определить и время написания РЖ.
Судя по некоторым текстологическим показателям, в том числе — по резкому
снижению насыщенности настоящего текста аллюзиями к сталинским работам о языке
438
(что вообще произошло во всей отечественной лингвистике к середине 1954 года, а в
столичных центрах — даже чуть ранее), можно предполагать, что беловой вариант РЖ,
в котором сталинские мотивы еще достаточно полнозвучны, был написан раньше
настоящих записей, вероятно даже — до середины 1954 года (точнее, к этому времени
беловой вариант РЖ был оборван, то есть оставлен недописанным — см. примечания к
РЖ и к «Из архивных записей к работе "Проблема речевых жанров"»). Хронологически
настоящие записи следуют, таким образом, непосредственно за РЖ. Из этого
временного соседства можно извлечь дополнительные данные о направлении
бахтинских поисков тех «мостков», по которым предполагалось вводить в поле
внимания отечественной лингвистики интересовавшую М.М.Б. диалогическую
тематику. В этом отношении имеется несколько характерных моментов, но прежде
всего, видимо, следует оговорить сложившуюся в данных записях неоднозначную
ситуацию с категорией «жанра*.
На фоне того значения, которое придавалось категории жанра в других, связанных с
художественной литературой, бахтинских работах, и, особенно, на 4юне той
подчеркнуто акцентированной весомости, которую имела эта категория в только что
писавшейся общелингвистической статье (РЖ), не может не возникнуть вопрос о
причинах ее почти полного исчезновения из настоящих записей («жанр» здесь лишь
изредка мелькает как нейтральный и общепонятный термин) Вопрос этот достаточно
сложен. Если усматривать в этой ситуации только ставшую уже банальным
объяснением бахтинскую любовь к «множественности терминов» и, соответственно, не
видеть здесь проблемы на том, в частности, основании, что выстраивание
«логических» скреп там, где они опущены самим автором, не только бессмысленно, но
и может оказаться прямым насилием над бахтинской мыслью, то тем самым придется
идти на риск принятия в качестве бахтинского терминологического или прямо
логического противоречия того, что в принципиально диалогической структуре
бахтинских текстов могло закладываться самим автором как особый дополнительный
смысловой план. (В концепции М.М.Б. действительно существуют смысло
439
ныс напряжения и даже контрнункты, но они расположены не на поверхностном —
терминологическом или о^юрмально-логическом уровне, а в глубинном религигонофилоссчрском пласте концепции; см., в частности, примечания к работе «К
философским основам гуманитарных наук»). Распутывание логических узлов на
внешнем уровне бахтинских текстов может способствовать обнаружению этого
второго — диалогического — смыслового плана.
Ситуация, однако, осложняется еще и тем, что если относительно текстов,
подготовленных к печати самим М.М.Б., априорное предположение о наличии в них
второго диалогического плана требует более пристального внимания в основном лишь
к словесной структуре самих этих текстов, то относительно архивных материалов,
особенно материалов, носящих рабочий характер, этого недостаточно. Здесь требуется
реконструкция того конкретного контекста, на фоне которого и для которого
создавались подобные материалы, так как в большинстве случаев этот контекст уже не
является органичным для читателя, «появившегося» через несколько десятилетий
после написания этих текстов (в лично подготовленных к печати работах М.М.Б. почти
все «сиюминутные» аллюзии сняты, и поле диалогической игры с читателем
расширяется тем самым до максимума, в пределе — до «большого времени»
культуры).
Так и в нашем случае — исчезновение категории жанра было, вероятно, прямо
связано с бахтинской ориентацией на указанную выше стилистическую дискуссию, так
как естественное выдвижение в этой дискуссии на авансцену обсуждения категории
439
стиля сопровождалось своего сюда «дискредитацией» лингвистических возможностей
жанра (эта общественная «дискредитация» жанра могла быть, кстати, и одной из
причин того, что М.М.Б. оставил рукопись РЖ незаконченной). Общим местом
дискуссии, начиная со статьи Сорокина, был тезис о некоторой расплывчатости тех
определений стиля, которые опираются на категорию жанра (напомним, что в РЖ
утверждался обратный тезис о пагубности отрыва стиля от жанров речи). Более
конкретные «обвинения», предъявленные участниками дискуссии «жанру», можно в
целом сгруппировать вокруг двух основных (в глубине своей — противоречивых)
положений. Первое положение, восходящее к Сорокину, состояло в том, что
понимание языкового стиля как жанровой разновидности литературного языка может
привести в конечном счете (в связи с тем, что жанровое разделение очень дифференцированно) к тому, что придется признавать отдельные стили народной песни,
баллады, сонета и т. д. (Сорокин Ю. С, ук. соч., с. /2). Второе положение против
использования в стилистике категории жанра заключалось в том, что так как понятие
жанра имплицитно включает в себя указание на ту или иную тематику, то и основанные на жанрах стили тоже будут нести в себе предопределенный содержательный
аспект, что превратит их уже не в собственно языковые, а в «мировоззренчески»
осложненные явления (о таком понимании проблемы см., напр., Ильинская И. С. О
языковых и неязыковых стилистических средствах. -- ВЯ, 1954, № 5, с. 84 и др.). Естественно, сразу после антимарровской кампании, в которой резко критиковалась в том
числе и тенденция к объединению языка с мировоззрением, в частности, — с
классовым, любое открытое толкование языкового стиля как в той или иной степени
семантического явления было заранее обречено. Отсюда — и бахтинский термин
«жанр» не мог быть адаптирован к такой ситуации без принципиальных смысловых
потерь (см., в частности, прим. 28).
Но эта же ситуация несла в себе и некоторые благоприятные для жанровой теории
М.М.Б. моменты, которые и были акцентированы в настоящих записях при полном
отказе от самой категории жанра. Оба антижанровых положения дискуссии могли —
при соответствующем
440
ракурсе — способствовать диалогическому, а значит, по М.М.Б., и жанрово
ориентированному, пониманию стилистики. О бахтинском диалогическом
обыгрывании второго положения, связанного с вопросом о возможности или
невозможности вводить внутрь стилистики содержательные (тематические) критерии,
см. прим. Зо. Аналогичное же диалогическое обыгрывание М.М.Б. первого,
«сорокинского» (условно) положения необходимо, видимо, оговорить особо. Фактически «сорокинский» антижанровый аргумент был одновременно направлен и против
влиятельного виноградовского понимания стиля как замкнутой системы определенных
языковых средств, при котором язык так или иначе мыслится, согласно М.М.Б., в
соссюровском плане, то есть как «система языка*. Тезис о наличии стилей в такого
рода абстрактной языковой системе чаще всего сопровождался каким-либо внешним
формальным «оправданием», и именно жанр часто использовался в концепциях
виноградовского типа в качестве такового: та или иная совокупность языковых средств
считалась соответствующей тому или иному жанру. На фоне такого понимания соотношения между стилем и жанром, фактически ограничивающегося простой констатацией
формально устанавливаемого соответствия между ними, «сорокинский» антижанровый
аргумент оборачивается аргументом против любых (а не только жанровых) версий
деления системы языка на стили, то есть против всех версий, в которых для выделения
стилей используются сугубо формальные внешние критерии без какого-либо
обращения к их семантической природе и которые вследствие этого по существу
440
имплицируют стили самой системе языка, как бы «самопорождающей» свою
стилистическую дифференциацию. Сам Сорокин выдвинул на первый план другой,
тоже внешний системе языка, но — по сути — содержательный (см. ниже) критерий
деления на стили — функциональный (или целевой). «Стратегически» это
предложение Сорокина, хотя оно лишь в максимально редуцированном виде
воспроизводит бахтинскую идею о необходимости расшатать логически-структурное
понимание единства языка, лежит тем не менее в русле бахтинской мысли (напомним,
что в РЖ «неразрывная связь стиля с жанром» также объяснялась М.М.Б. в том числе и
через понятие «функции»: «...языковые, или функциональные, стили есть не что иное,
как жанровые стили ...» — РЖ, 163). Сорокинское антижанровое положение
распространяется, таким образом, не на всякое (в том числе не на тематически
осложненное, как у М.М.Б.), но лишь на формалистическое понимание жанра (то есть
на жанр, понятый как аналогичная системе языка сугубо формальная структура),
категории же цели и функции речи имели в этом контексте достаточно отчетливый
содержательный (семантический) оттенок (см. прим. 38), что и делало сорокинскую
теорию частично созвучной М.М.Б. (и что, одновременно, вступало в существенное
противоречие со вторым заявленным в дискуссии антижанровым положением,
согласно которому жанры не могут быть использованы в качестве критерия,
влияющего на разделение языковых стилей, в силу имплицитно содержащейся в них
семантики). Отказ М.М.Б. от категории жанра (являющийся своего рода частичной
солидаризацией с Сорокиным) становится понятен на этом фоне в своем
«риторическом» диалогическом замысле: выдвижение в лингвистике на первый план
телеологического (функционального) критерия, который всегда содержался как один
из основных моментов в более дифференцированном бахтинском понимании жанра и
который как бы «обещал» включить в дальнейшем в состав базовых языковых понятий
как минимум адресата, могло оцениваться М.М.Б. как хотя и неустойчивая, но все же
уловимая тенденция к внутреннему самодвижению монологизма в сторону диалогизма,
чему, с бахтинской точки зрения, следует содействовать,
441
и том числе не отвлекал внимания на поверхностные терминологические споры.
Другое дело, что этот поворот в сторону диалогизма был в дискуссии лишь
потенциально заложен и что реальное движение в этом направлении так и не
состоялось. Монологическая, по бахтинской оценке, тенденция отечественного
языкознания после дискуссии не только устояла, но даже окрепла, что — вопреки
возможным бахтин-ским ожиданиям начала 50-х годов — произошло в том числе и с
самим окрепшим в дискуссии функциональным подходом, который так и остался лишь
имплицитной, в дальнейшем никак не реализованной возможностью выхода к
диалогизму бахтинского типа. Более того: именно из разработанных в дискуссии
версий функционального подхода развилось впоследствии мощное монологическое (в
бахтинском понимании) направление отечественного языкознания — функциональная
стилистика, к которой могут по наследству быть отнесены все диалогические
контраргументы, имеющиеся в «игровых» лингвистических работах М.М.Б. 50-х годов.
Возможно, что именно такая эволюция заявленного в дискуссии функционализма
была одной из причин того, что к началу 60-х годов М.М.Б. практически отказался от
своих попыток изнутри привить отечественной лингвистике диалогическую «ветвь» и
обособил всю диалогическую тематику в качестве отдельной филологической дисциплины — металингвистики. Могло, вероятно, повлиять на это решение М.М.Б. и то
принципиальное для него обстоятельство, что, введя в свой обиход понятие
«несобственной прямой речи», отечественная лингвистика толковала его
исключительно в монологическом смысле (см. прим. 34 и 38).
441
Следует, видимо, особо оговорить еще одно существенное различие между
настоящими записями и РЖ. Если в РЖ не устанавливалось никаких принципиальных
разграничений между языком художественной литературы и другими сферами
употребления языка (все это «жанры»: от односложной реплики бытового диалога —
до многотомного романа), то в настоящих записях между языком художественной
литературы и другими сферами такал разделяющая граница проведена, причем в
центральном для всей структуры записей противопоставлении языка как средства и как
объекта изображения. Разделение на «средство» и «объект» не соответствует
первичным и вторичным жанрам, введенным в РЖ, так как ко вторичным жанрам
относятся все сложные высказывания из любых (не только художественных) сфер
речевого общения. Это тоже лишь условное диалогическое «противоречие»,
создающее дополнительный смысловой подтекст: если иметь в виду концепцию
М.М.Б. в ее нередуцированном виде (см., напр., СВР), то свойство языка быть не
только средством, но и объектом изображения относится (так же как и вторичные
жанры в РЖ) не только к литературе, но и к другим собесам речевого общения. В
настоящих записях М.М.Б. акцентирует это различие, видимо, не для того, чтобы
противопоставить язык художественной литературы языку других сфер общения (это
противопоставление — диалогическая «дань» апперцептивному 4юну предполагаемого
читате-1я-участника дискуссии, занятого именно этой проблемой), но для того, чтобы
убедительней ввести саму идею различия между языком как средством и языком как
объектом изображения, то есть идею, которая, в свою очередь, несет в себе скрытые
диалогические потен нии и тем самым может способствовать достижению искомой
М.М.Б. цели — диалогизации лингвистического мышления («изображение» языка
неизбежно связано с образом говорящего, а значит между изображающим язык
автором и неизбежно появляющимся при этом «персонажем» возникают
диалогические отношения). М.М.Б. применяет здесь обычный для него прием
метамор4юзы членов логического
442
суждения: используемое в качестве логической «посылки* положение (различение
языка как средства и как объекта изображения) является на втором, диалогическом,
уровне записей не априорной «посылкой», а предметом скрытого доказательства и,
соответственно, теми логическими и риторическими воротами, через которые может
быть введена в лингвистику и стилистику не называемая прямо диалогическая
тематика. Впоследствии, когда М.М.Б. откажется от попыток привить отечественной
лингвистике диалогическую «ветвь», идея языка как объекта изображения станет
одной из главных тем бахтинской «металингвистики» как обособленной
филологической дисциплины (см. ППД).
1. В качестве первого из трех имеющихся в данных записях приступов к теме (ср.
прим. 14 и 40) М.М.Б. избрал один из основных вопросов, поднятых в дискуссии по
стилистике. Ср., напр., у
A. В. Федорова: «Предметом исследования стилистики является именно отношение
средства выражения к выражаемому содержанию» («В защиту некоторых понятий
стилистики». — ВЯ, 1954, №5, с. 69).
Такая постановка вопроса применительно к стилистике вообще в большинстве
случаев ассоциировалась участниками дискуссии, в том числе и Федоровым, с ранее
высказанными положениями все более набиравшего к тому времени силу авторитета В.
В. Виноградова (см., в частности, Виноградов В. В. Содержание и задачи курсов по
языковедческим дисциплинам в свете работ И. В. Сталина по языкознанию. —
«Вопросы языкознания в свете трудов И. В. Сталина». М., 1950, с. 198, где дана
практически та же формулировка темы). Сам
442
B. В. Виноградов в своей статье «Язык художественного произведения» (см.
преамбулу) тоже касается этого вопроса, но на этот раз лишь в отношении к языку
литературы. Согласно Виноградову, «адекватность выражения выражаемому» в
художественном творчестве всегда субъективна и индивидуальна (ук. соч., с. 25). Но
индивидуальный характер «адекватности» не меняет сущности дела — не отменяет
саму возможность такой адеквации. Это общее положение всех виноградов-ских работ
по стилистике, являющееся, в рамках бахтинской лингвистической концепции,
монологическим, разделялось, с теми или иными оговорками, даже оппонентами
Виноградова (см., в частности, Сорокин Ю. С, ук. соч., с. 69). Обратный тезис М.М.Б.
(о принципиальной недостижимости адекватности) основан на понимании стилистики
как науки, которая не должна ограничиваться рассмотрением соотношения
индивидуального говорящего, индивидуального предмета его речи (замысла) и
«общего» языка, а должна учитывать разнообразные диалогические отношения, в
которые вступает каждое высказывание и которые, вследствие своей не чисто
индивидуальной природы, вообще снимают связанный с индивидуальным замыслом
вопрос об адекватности, так как в языковой плоти речи звучат, с этой точки зрения, не
один, но несколько индивидуальных голосов (хотя бы и в их типологическом виде). В
настоящем фрагменте записей М.М.Б., скорее всего, ориентировался не столько на
усложненную, по сравнению с некоторыми предшествующими работами, позицию
Виноградова в его статье «Язык художественного произведения», сколько на более
однозначно заостренные высказывания участников дискуссии, причем, может быть,
именно на цитированную выше федоровскую статью, так как именно в ней прямо
утверждалось, что в функционально-речевых стилях «отношение средств выражения к
выражаемому содержанию... отличается устойчивостью» (с. 70). Следует поэтому
иметь в виду, что если на фоне стилистической дискуссии наше несколько упрощенное
толкование бахтинского антитезиса вполне достаточно для иллюстрации имевшегося
здесь в виду М.М.Б. размежевания, то в плане соотношения позиций М.М.Б. и
Виноградова оно нуждается в более глу
443
боной перспективе. Так, в частности, в указанной выше виноградовской статье не
предполагалось, что адекватное выражение замысла достигается непосредственными
языковыми значениями; адекватное выражение достигается, по Виноградову, через
сложную речевую структуру «образа автора*, которая строится в том числе и с помощью «смен и чередований» разных стилей («Язык художественного произведения»,
с.23), то есть с помощью того, что на поверхности напоминает бахтинский диалогизм.
Однако сходство носит лишь 4юр-мальный характер; подробней об отношении М.М.Б.
к виноградовско-му «образу автора» см. прим. 8, 12, 17, 19, 33, 34. См. также примечания к ИТ
2. Прямым источником имплицитно содержащейся здесь аллюзии М.М.Б. к
оспариваемой версии были, вероятно, статьи И. Р. Гальперина и В. Д. Левина, активно
употреблявших в соответствующих контекстах именно понятие «использования*
языка (см. Галъпе?ин И. Р. Речевые стили и стилистические средства языка. — ВЯ, 954, № 4, с. 80;
Левин В. Д. О некоторых вопросах стилистики. — ВЯ, 1954, № 5, с. 80-81 и др.).
Однако и это понятие чаще всего применялось участниками дискуссии как отсылка к
предшествующим авторитетным работам В. В. Виноградова. Так, в частности, И. Р.
Гальперин приводит следующую виноградовскую цитату: «В художественной
литературе общенародный, национальный язык со всем своим грамматическим
своеобразием, со всем богатством и разнообразием своего словарного состава
используется как средство и как о)юрма художественного творчества» (Виноградов В.
443
Некоторые вопросы советского литературоведения. — «Литературная газета». 19.05.
1951). В этой же виноградовской цитате употреблено и другое «ключевое» слово
настоящих бахтинских записей — «средство* (см. прим. 13). Оспаривая частные
мнения участников дискуссии, М.М.Б., таким образом, и здесь имеет в виду в далевой
перспективе Виноградова, точнее — не столько самого Виноградова, сколько то
усредненное (и потому лишенное усложняющих собственно виноградовский
«монологизм» деталей) терминологическое и идейное влияние Виноградова на
отечественную лингвистику, которое несло с собой, по мысли М.М.Б., укрепление
монологических тенденций. Собственно же виноградовскую концепцию М.М.Б.
оценивал выше ее усредненного отражения в отечественной лингвистике, в том числе
и в дискуссии.
3. Для самого М.М.Б. термин «познание*, как и гносеологический подход в целом,
достаточно чужды. Вероятно, гносеологический ракурс появился здесь в качестве
диалогического гибрида в связи с чтением статьи Г. В. Степанова «О художественном
и научном стилях речи», в которой специально обсуждается вопрос о специфике
художественного вида познания (ВЯ, 1954, Mb 4, с. 87-89). Внимание именно к этой
статье могло быть вызвано тем, что Степанов приходит в ней к следующей,
терминологически близкой М.М.Б. формулировке: «Специфика художественной
литературы состоит между прочим в том, что язык является для нее и формой, и
материалом, и в ряде случаев — объектом художественного осмысления...» (там же, с.
91) Параллель, однако, остается чисто формальной. Раскрывая в дальнейшем это свое
положение, Степанов фактически сводит все дело лишь к тому, что язык персонажа
(«объект осмысления») есть такая же «выразительная деталь (объект), как фигура,
шинель, очки» и т. д. (там же), то есть «овеществляет» язык, максимально отдаляясь
тем самым от бахтинской диалогической версии языка как объекта изображения.
444
4. «Образ языка*, «третье измерение языка* и «новый модус жизни языка* — это
концентрированные до символов самоцитаты. В развернутом виде эти символы даны в
работах СВР, «Эпос и роман» и «Из предыстории романного слова».
5. Очередной терминологический гибрид. Тема непосредственности жизни языка во
всех — кроме художественной литературы — сферах звучала у многих участников
дискуссии. См., напр., у В. Д. Левина: «Употребление стилистически выразительных
фактов языка в бытовой речи или в различных книжных нехудожественных жанрах
прямо и непосредственно подчинено коммуникативной функции языка..., в
художественном произведении такое употребление всегда несет и вторую,
эстетическую нагрузку» (ук. соч., с. 82). Как бы отправляясь от этого общего места,
ниже М.М.Б. предвдгирует к нему «необщее» распространение: специфика языка
литературы, с его точки зрения, не столько в некоей дополнительной, «второй
нагрузке» (что не меняет, но лишь утяжеляет одномерную концепцию языка), а в
принципиальной модификации языка: в его превращении из средства (материала или
формы) изображения в изображаемый образ.
6. Слово «идиосинкразия» прочитано предположительно.
7. Возможно, описка: здесь точнее ложится «Язык как предмет изображения...».
8. Скрытая полемика с Виноградовым, определявшим в своей статье «Язык
художественного произведения» «основную проблему* стилистического анализа
художественного произведения как анализ «речевой» структуры «образа автора»
(ук.соч., с. 26), причем эта структура отражается, согласно Виноградову, в чередовании
разных функционально-речевых типов, в смене разных форм речи, создающих в своей
совокупности целостный и внутренне единый «образ автора» (там же, с. 23). Для
М.М.Б. основа стилистического анализа не просто «смена» стилей и т. д., а именно их
444
диалогическое «пересечение» (отсутствие диалогического аспекта — основной, по
М.М.Б., порок виноградовского подхода). Отсюда — и индивидуальный стиль художественного произведения ие может не отразить диалогические отношения автора не
только к изображенным им языкам, но и к подразу меваемым, прямо не вошедшим в
произведение явыковым мировоззре ниям. Ниже М.М.Б. переходит к проблеме
«индивидуального стиля», то есть вводит термин, который, вероятно, исполняет здесь
роль функционального синонима к виноградовскому «образу автора».
9. Приглушенная отсылка к сталинским работам о языке (см. прим. 6 к Д).
10. «Отбор* — одно из ключевых понятий, пронизывающих всю стилистическую
дискуссию. В качестве обособленной темы понятия «отбора» и «говорящего»
рассматриваются в статье В. Г Адмони и Т. И. Сильман «Отбор языковых средств и
вопросы стиля» (ВЯ, 1954, № 4).
11. Последнюю фразу нельзя понимать как выражение собственно бахтинской
позиции. Об ограничительных методол о г ич ее к их условиях, при которых можно, по
М.М.Б., признавать в рабочих целях наличие стилистических оттенков в самом языке,
см. прим. к РЖ и ПМ.
12. Понятие «организационного центра*, еще дважды появляющееся в качестве
особой темы в настоящих записях (см. прим. 43, 45), является здесь, скорее всего,
свернутой самоцитатой из работы «Из предыстории романного слова» (ВЛЭ, 415-416),
так как связан
445
ный с организационным центром абзац этой более ранней работы полностью
тематически покрывает все поставленные в настоящих записях проблемы. Вместе с
тем понятие «организационного центра» могло в свое время появиться в статье «Из
предыстории романного слова» в качестве дискуссионной аллюзии к Виноградову, к
его опубликованной в 1936 г. работе о пушкинской «Пиковой даме», в которой это
понятие использовано в обобщающем оезюме после обсуждения тем, непосредственно
связанных с кругом бахтинских интересов, в частности, с несобственной прямой речью
(см. В. В. Виноградов. Стиль «Пиковой дамы». — Виноградов В. В. Избранные труды.
О языке художественной прозы. М., 1980, с. 226). «Организационный центр» — это как
бы нейтральная терминологическая полоса между резко расходящимися бахтинским и
виноградовским пониманиями проблемы автора: для Виноградова — это
контекстуальная замена «образа автора», имеющего непосредственное языковое
воплощение, для Бахтина — синоним последней смысловой инстанции произведения,
не имеющей непосредственного языкового выражения. Настоящие записи —
единственный текст, в котором это компромиссное нейтральное понятие поставлено
М.М.Б. в центр логико-риторической композиции.
13. Хотя М.М.Б. непосредственно оспаривает здесь, скорее всего, распространенное
«общее мнение», но само это «общее мнение» могло содержать для М.М.Б. прямую
отсылку к виноградовским работам. Так, если в статье «Язык художественного
произведения» Виноградов высказывался в этом смысле достаточно осторожно (выше
цит., с. 10-12), то в принципиальной для М.М.Б. виноградовской работе о пушкинской
«Пиковой даме» прямо утверждается, что и диалоги персонажей, и даже несобственная
прямая речь являются средствами изображения (выше цит., с. 215-216, 224). О
несобственной прямой речи см. также прим. 34.
14. Новый (второй) риторический приступ к теме (свидетельство чернового
характера записей). Ниже отчетливо просматривается и третий вариант развития
избранного здесь сюжета (см. прим. 40). Характерно, что во всех трех вариантах в
основном воспроизводятся — в разных терминологических и риторических
освещениях — одни и те же тематические блоки.
445
15. Вопрос о возможности или невозможности рассматривать язык художественной
литературы в качестве одного из стилей языка был центральной проблемой
стилистической дискуссии. О наиболее типичных решениях этого вопроса
участниками дискуссии см. в заключительной статье Виноградова («Итоги обсуждения
вопросов стилистики». — ВЯ, 1955, № 1, с. 85). М.М.Б. еще вернется к этой теме (см.
прим. 41).
16. Понятия «ограниченности* и «замкнутости* стиля как системы языковых
средств связывались участниками дискуссии с известным определением Виноградова:
«Стиль языка — это семантически замкнутая, экспрессивно ограниченная и
целесообразно организованная система средств выражения...». С критики именно этого
вино-градовского определения фактически начинается статья Ю. С. Сорокина (ук. соч.,
с. 70). Впоследствии большинство участников дискуссии (см., напр., указанную выше
статью В. Д. Левина) трансформировали поднятую Сорокиным проблему в вопрос о
языковой «бесстильности» художественной литературы, к которому и переходит ниже
М.М.Б. (см. также прим. 36 и 42).
446
17 Очередная скрытая аллюзия к Виноградову, все перечисленные здесь сугубо
лингвистические (то есть в бахтинском понимании — не охватывающие всей полноты
проблемы) способы характеристики говорящего субъекта использованы Виноградовым
в его цитированной выше работе о «Пиковой даме» для анализа созданного Пушкиным
«образа автора».
18. Ср. аналогичную, но более подробную обработку темы двойственности
художественного образа в СВР (ВЛЭ, 170).
19. М.М.Б. подробно излагает эту тему в СВР, ППД и других работах. Несмотря на
внешнюю нейтральную очевидность этого положения, оно содержит в себе несколько
взрывчатых смысловых гнезд, и прежде всего — неоднозначную проблему
соотношения между образом языка, образом человека и образом идеи. Высказанный
уже в первом издании книги о Достоевском бахтинский тезис о неразрывности связи
образов идеи и человека подвергся завуалированной (без указания имени М.М.Б.)
критике Виноградова. Анализируя в своей книге «О художественной прозе»
публицистику Достоевского (публицистика, по Виноградову, связана с риторикой, а
последняя мыслится в свою очередь как фундамент художественной прозы),
Виноградов приходит к выводу, что у Достоевского не реальный диалог, а
литературная иллюзия диалога, или «монологизированный диалог» (цит. по: Виноградов В. В. Избр. труды. О языке художественной прозы, с. 161), то есть что и у
Достоевского идеи сталкиваются в пределах единого («авторского») сознания, а не
являются каждая образом отдельного человека (как у М.М.Б.). Свой заключительный
вывод Виноградов формулирует таким образом, что его антибахтинская
направленность становится, благодаря примененной терминологии, почти именной:
используемые Достоевским приемы характеризуются Виноградовым как позволяющие
«ритору — в плоскости своего непосредственного сознания — разыграть сцены
борьбы идей, прикрепленных к поставленным в контрастную параллель силуэтам
персонажей. В этой контроверзе ораторский монолог получает форму «многоголосой»,
диалогической структуры, однако без всякой «театрализации», без всякого
«представления» манеры речи разных персонажей. Получается диалог не лиц, а систем
мировоззрения, условно воплощенных в лица» (там же. с. 167). Бахтинские выводы из
также произведенного им анализа публицистики Достоевского противоположны
виноградовским (ППД, 124-127; этот анализ был и в первом издании бахтинской
книги, то есть позиция М.М.Б. была известна Виноградову ко времени написания его
книги «О художественной прозе»).
446
20. Вероятно, имеется в виду следующее место из диссертации Н. Г Чернышевского
«Эстетическое отношение искусства к действительности» (1853 г.): «... часто
достаточно обратить внимание на предмет (что всегда и делает искусство), чтобы
объяснить его значение или заставить лучше понять жизнь. В этом смысле искусство
ничем не отличается от рассказа о предмете; различие только в том. что искусство
вернее достигает своей цели, нежели простой рассказ, тем более сухой рассказ: под
о^ормою жизни мы гораздо легче знакомимся с предметом, гораздо скорее начинаем
интересоваться им, нежели тогда, когда находим сухое указание на предмет»
(Чернышевский П. Г Полное собрание сочинений. М. 1949, т. 2, с. 85).
21. Дискуссионная аллюзия к Виноградову, неоднократно высказывавшему
аналогичные суждения. См., в частности, положение из виноградовской статьи
«Литературный язык и язык художественной литературы»: художественная литература
является «не только твор
447
ческой лабораторией, в которой определялись, выковывались и шлифовались нормы
национального русского литературного языка, но и высшей школой обучения
обработанной мастерами литературной речи, выразительной и правильной» (ВЯ, 1955,
№4, с. 23). М.М.Б. и раньше оспаривал эту позицию Виноградова (об их различии в
подходах к проблеме языковой нормы см. прим. 3, 5 кД-11).
22. О различии и соотношении экспрессивной и коммуникативной функции языка по
М.М.Б. см. прим. 21, 22 к РЖ.
23. Речь идет о неподвластных структурной лингвистике «диалогических»
отношениях, которые М.М.Б. впоследствии отнесет к области металингвистики (ЯГ,
ППД).
24. Идея проникновения многостильности в русскую литературу начиная с Пушкина
была высказана Ю. С. Сорокиным (ук. соч., с. 81), основывавшим на этой идее в том
числе и свой, не безразличный М.М.Б. антивиноградовский тезис о необходимости
отказаться от понятия стиля языка как замкнутой системы языковых средств
(возможно, именно ориентацией на позицию Сорокина вызвана достаточно мягкая
здесь модальность М.М.Б. — «кажется*).
25. Подробнее о языковой наивности по М.М.Б. см. «<Риторика, в меру своей
лживости...>».
26. Вероятно, пропущено слово — «стили*. Некоторая стилистическая
недоработанность текста (см. также предыдущее предложение) вызвана рабочим
характером рукописи.
27. «Обмена мыслями» — это аллюзия к широко использовавшейся в то время
сталинской цитате (см. прим. 13 к Д-1).
28. Проставленные здесь М.М.Б. квадратные скобки — характерный штрих для
понимания существенно изменяющихся в его лингвистических записях тематических
акцентов, по-разному расставляемых М.М.Б. в начале 50-х годов в зависимости от
общей ситуации в лингвистике. В только что писавшейся, но не законченной работе
(РЖ), в которой в центре внимания находился не стиль, но жанр, М.М.Б. особо
настойчиво проговаривал проблему границ текста (решаемую им с помощью критерия
смены субъектов речи). Здесь же — при обсуждении не жанра, но стиля в его
общепринятом тогда понимании — эта проблема оказывается как бы инородной
(отсюда — скобки). Стиль в уто время мыслился как бы «оторванным» от жанра (см.
преамбулу) и соотнесенным прежде всего с собственно языковыми явлениями, взятыми как бы из «системы языка» вне зависимости от форм и типов (жанров) речи. Для
самого М.М.Б., однако, какой бы то ни было существенный разрыв между стилем и
жанром представлялся искусственным; в 30-х годах мыслилось даже прямое
447
объединение этих категорий (во введении к СВР М.М.Б. настаивал на необходимости
именно «стилистики жанра» — см. ВЛЭ, 72-73).
29. Специальной работы по неполным предложениям именно в разговорной речи в
библиографии трудов В. В. Виноградова не чис--штся. М.М.Б. имеет здесь в виду,
вероятно, статью Виноградова 'Некоторые задачи изучения синтаксиса простого
предложения» (ВЯ, 1954, № 1); статья была прочитана М.М.Б. — в принадлежащем
ему номере журнала имеются соответствующие пометы. Именно в этой
виноградовской статье вводится со ссылкой на работу С. И. Поповой само понятие
«неполных» предложений (Попова С. И. Неполные предложения в современном
русском языке. — Труды института языкознания. Т 2. М., 1953, с. 3-136) Хотя
Виноградов вводит это
448
понятие в самом конце своей статьи, однако на всем ее протяжении им обсуждаются
разновидности предложений, в том числе и одночленные (или односоставные), и при
этом утверждается, что такого рода одночленные предложения, в частности,
«модальные слова-предложения», используются преимущественно в диалогической
речи, в ответных и вопросительных репликах собеседников. Однако Виноградов
отмечает здесь и то, что такие предложения «могут, как отголоски внутреннего
диалога, употребляться и в монологической речи» (с. 15). Смысл данного критического
замечания М.М.Б. может быть понят в разных направлениях. Прежде всего, М.М.Б.
неоднократно настаивал на необходимости оговаривать условность использования
цитат из литературных произведений в качестве лингвистических примеров (см. прим.
15 к «Вопросам стилистики...»). Возможна здесь и традиционная для М.М.Б. критика
виноградовского «имманентного» метода (его «привязанности» к литеоатурньгм
текстам — см. выше). Вероятно и предположение, что М.М.Б. подразумевает здесь
свое несогласие с виноградовским выводом в этой статье о том, что так называемые
неполные предложения должны получить в грамматиках свои структурнограмматические характеристики (с. 29) и тем самым, следовательно, должны быть
причислены в качестве самостоятельного структурного типа предложений к единицам
языка. Для М.М.Б. неполные предложения в разговорной речи — это «высказывания»,
а высказывание — вследствие его принципиальной диалогической природы — не
может быть, согласно М.М.Б., причислено к языковым единицам (если язык при этом
понимается как соссюровская система). Если несколько упростить проблему, то можно
сказать, что М.М.Б. здесь не согласен с тенденцией Виноградова
«грамматикализовать» жанры речевого общения (ср. аналогичную критику
виноградовской тенденции «грамматикализовать» поэтику в статье «О границах
поэтики и лингвистики». См. Волошинов В. О границах поэтики и лингвистики. — «В
борьбе за марксизм в литературной науке». Л., 1930).
30. См. прим. 34.
31. Имеется в виду — «стилистов-литературоведов».
32. Разделение на функциональные («указывающие на область общественного
применения») и экспрессивные («раскрывающие экспрессивно-эмоциональное
содержание речи») стили в отчетливом терминологическом виде было введено В. Д.
Левиным («О некоторых вопросах стилистики», выше цит., с. 77-/9). М.М.Б.
использует здесь именно эту терминологию, вероятно, и потому, что Левин был одним
из наиболее ярких сторонников отнесения как экспрессивных, так и функциональных
стилей непосредственно к сфере языка (там же, с. 79), что оценивалось М.М.Б. как
специфическое (то есть ограниченное в своей объяснительной силе) качество
«лингвистической стилистики» (см. ниже по тексту указание М.М.Б., что в лингвистической стилистике все эти явления рассматриваются как «факты языка»).
448
33. Выяснение отношений между литературоведческой и лингвистической
стилистиками — один из основных вопросов дискуссии. Предлагались самые разные
версии решения этого вопроса, начиная от почти полного отождествления
лингвистической и литературоведческой стилистик или, наоборот, их почти
абсолютного разведения и кончал разного рода компромиссными решениями. М.М.Б.
игнорирует здесь все эти высказанные в дискуссии оттенки толкований, рассматривал
их все с точки зрения своей диалогической концепции как одинаково монологические,
то есть как сводящие проблематику хотя и в разные, но в единые и замкнутые
плоскости: либо в плоскость
449
единой авторской речи, либо в плоскость единого национального языка данной
эпохи. С логической точки зрения введенный здесь критерий единой плоскости
(который, конечно, является ориентированным на читателя частичным
самоупрощением бахтинской позиции) оказывается весьма удобным, так как он
оттеняет особенности бахтинской позиции не только по отношению к изолированно
взятым литературоведческой и лингвистической стилистикам, но и к более сложным
ди4>ференцированным концепциям. Так, несмотря на свою внешнюю простоту этот
критерий позволяет уточнить и бахтин-ское отношение к виноградовской
стилистической концепции, которая не может быть однозначно названа ни чисто
литературоведческой, ни чисто лингвистической. При всей дифференцированности
виноградов ского подхода, с одной стороны, к речи автора, с другой, — к высказываниям персонажей и, кстати, при всех модификациях чисто теоретических
положений (а Виноградов неоднократно менял — во многом тоже по условиям
времени — эти чисто теоретические декорации) виноградовская концепция тем не
менее также может быть охарактеризована как ориентированная на единую плоскость,
при том только добавлении, что у Виноградова этих плоскостей две: в его концепции
равно имеет значение и плоскость авторской речи (закреплено в теории «образа
автора»), и плоскость единого нормированного литературного языка. Эти две
плоскости могут у Виноградова либо смыкаться в одну, либо полностью разводиться
(это зависит от толкования проблемы соотношения говорящего и «системы языка»), но
в любом случае между ними не бывает диалогических (в бахтин-ском смысле)
отношений (как их нет, по Виноградову, ни в системе языка, ни в индивидуальном
языковом сознании). Бахтинский критерий единой плоскости является, таким образом,
обобщенным символом бахтинских антиаргументов против соссюрианства в целом,
учитывающего только единую систему языка и одного говорящего на нем индивида
(индивидуально-творческий момент авторства у Виноградова с такой точки зрения —
это следствие характерного, согласно Воло-шинову, для виноградовской концепции не
отрефлектированного симбиоза Соссюра и Ф осел ера, при постоянном
методологическом преобладании первого — см. «О границах поэтики и лингвистики»,
выше цит.).
34. Понятие несобственной прямой речи (разработанное в немецкой и французской
лингвистике, но применительно к русскому языку впервые введенное и
проанализированное в МФЯ, что сопровождалось и некоторыми новшествами в
собственно теоретическом понимании этого понятия) прочно вошло к тому времени (в
отличие от других рассмотренных в МФЯ и ПТД разновидностей двуголосого слова) в
лингвистический обиход: о ней писали Виноградов, Булахов-ский, Гвоздев, Шведова и
др.; несобственная прямая речь была даже выделена в названии одного из разделов
академической грамматики (Грам. рус. языка. М., 1954. Т.IL Часть вторая, с. 404-434);
неоднократно обращались к ней и участники дискуссии (Виноградов, Гальперин,
Степанов, Левин и др.; Левиным же написан и соответствующий раздел в
449
академической грамматике). Можно отметить при этом характерную деталь: и в МФЯ,
и в настоящем, и в более поздних текстах М.М.Б. (см., напр., «1961 год. Заметки»)
употребляется (за единственным исключением — см. с 331, второй абзац сверху) форма «несобственная прямая речь*, а в научной литературе (вероятно, под влиянием
Виноградова, являвшегося, видимо, для многих первоисточником ознакомления с этим
термином) сначала употреблялась фюрма «несобственно прямая речь*, а затем,
начиная, видимо, с академической грамматики 1954 года, — «несобственно-прямая
речь*.
450
М.М.Б. не мог не следить за судьбой этого понятия в лингвистике. К тому времени
несобственная прямая речь (вопреки ее внутренней, по М.М.Б., сущности — слиянию
двух «неслиянных» голосов) понималась в лингвистике в большинстве случаев
монологически. Так, напр., И. Р. Гальперин понимал ее как «литературную обработку»
внутренней речи персонажей («Речевые стили и стилистические средства языка», выше
цит., с. 83). Сама внутренняя речь понималась при этом как речь, принципиально
лишенная коммуникативной (то есть диалогической) функции и потому реализующая
только «функцию выражения мысли». Будучи же литературно «обработана» в несобственной прямой речи, внутренняя речь эту коммуникативность, согласно Гальперину,
получает. (Такое толкование было, естественно, неприемлемо для М.М.Б.; напомним,
что в работах волошиновского цикла сама внутренняя речь понималась как особая
разновидность диалога). Исходной точкой для широкого использования понятия
несобственной прямой речи, в том числе и в его гальперинском понимании, было,
вероятно, виноградовское толкование этого термина, данное в частности, в работе
«Стиль «Пиковой дамы» (выше цит., с. 219-226). Выше (см. прим. 13) уже отмечалось,
что Виноградов и диалог персонажей, и несобственную прямую речь понимает здесь
— в противоположность М.М.Б. — как средство изображения и выражения (а не как
объект). При этом Виноградов (что, вероятно, и было в какой-то мере источником
выше описанного гальперинского понимания) связывает несобственную прямую речь с
изображением именно внутренней речи персонажа. Понятным становится в этом
контексте и идущее сразу после упоминания Виноградова бахтинское замечание о том,
что совершенно не изучалась внутренняя речь (см. фрагмент, отмеченный в прим. 30).
М.М.Б. имел в виду, вероятно, что внутренняя речь не изучалась (в том числе и
Виноградовым) «сама по себе», в своей собственной специфике: понятие внутренней
речи использовалось лишь в функционально-сопоставительном плане для определения
особенностей несобственной прямой речи. Диалогическая природа самой внутренней
речи при этом игнорируется; исследователей интересуют только способы ее
монологической передачи (обработки) в авторской речи. Согласно Виноградову,
«образ автора» скрепляет («синтезирует») все стили, в том числе и внутреннюю речь
персонажей, в нечто единое (по М.М.Б., соответственно, — в нечто монологическое),
причем это скрепляющее синтезирование осуществляется, по Виноградову, через
синтаксис, а значит — и через несобственную прямую речь (в ее виноградовском
понимании). Антибахтинский характер этой точки зрения совершенно очевиден.
Сказанное лишний раз подтверждает предположение, что в этих записях рассеяны
многочисленные аллюзии к виноградовской работе о «Пиковой даме», вызванные либо
ее непосредственным чтением во время составления данных записей, либо, что
вероятнее, являющиеся ее отражением через призму более ранних работ самого М.М.Б.
(«Из предыстории романного слова» и др.). Во всяком случае это предположение
позволяет объяснить причину выдвижения в данных записях на авансцену бахтинских
рассуждений понятия «организационного центра» (см. прим. 12), так как именно этим
понятием заканчиваются виноградовские рассуждения о несобственной прямой речи в
450
работе о «Пиковой даме» (выше цит., с. 226). О несобственной прямой речи см. также
прим. öS.
35. Не совсем точная цитата: «...здесь видел я царя, /Усталого от гневных дум и
казней./Задумчив, тих сидел меж нами Грозный,/Мы перед ним недвижимо стояли...».
— А. С. Пушкин. «Борис Годунов». Монолог Пимена из сцены «Ночь. Келья в
Чудовом монастыре (1603 года)».
451
36. М.М.Б. использует термин «гибридностъ* в разных, чаще всего двух, смыслах: 1)
в качестве названия одного из видов двуголосых предложений (обычно в этом смысле
М.М.Б. употребляет сочетание «гибридная конструкция»), которые по грамматическисинтаксическим показателям принадлежат одному говорящему, но в которых, с точки
зрения диалогического подхода, сопряжены две речевые манеры, два «голоса» (см.,
напр., СВР, 118) и 2) как аббревиатуру чужой для него научной позиции, согласно
которой ооман, будучи в основе своей фундирован на риторике, является «гибридным
образованием». Именно последнее словосочетание М.М.Б. использовал при одной из
редких у него открытых иллюстраций своих расхождении с Виноградовым (см. СВР,
81). В этом пункте бахтинской полемики с Виноградовым отчетливо проступает
стоявшая за Виноградовым и, несомненно, подразумеваемая самим М.М.Б. фигура Г.
Г. Шпета (у Виноградова использование термина «гибридное образование» также идет
с прямыми ссылками на Шпета). В данных записях сочетание «гибридное
образование» как раз и служит, вероятно, общепонятной в то время отсылкой к этому
направлению в отечественной лингвистике, положения которого оспариваются М.М.Б.
в дальнейшем смысловом развитии абзаца. Для самого М.М.Б. проблема гибридности
была оживлена, вероятно, активным обсуждением в стилистической дискуссии
вопроса о многостильности (в пределе — бесстильности) литературы нового времени
(см. прим. 16). На собственно теоретическом (а не просто терминологическом) уровне
М.М.Б. развил свое понимание этой проблемы, безусловно имея при этом в виду
оспорить позицию Шпета-Виноградова (хотя и не называя этих имен), в своей дифференцирующей теории «органических» (ненамеренных) и «намеренных» (сознательно
диалогических) гибридов (см. СВР, 170-174).
37. Вероятно, неточность: образ «концентрических кругов* обычно связывается в
лингвистике с именем Л. В. Щербы, писавшего, что «русский литературный язык
должен быть представлен в виде концентрических кругов — основного и целого ряда
дополнительных, каждый из которых должен заключать в себе обозначения (поскольку
они имеются) тех же понятий, что и в основном круге, но с тем или другим
дополнительным оттенком, а также обозначения таких понятии, которых нет в
основном круге, но которые имеют данный дополнительный оттенок» (ЩербаЛ. В.
Современный русский литературный язык. — «Русский язык в школе», 1939, № 4, с.
23). М.М.Б. упоминает здесь этот образ скорее всего в связи с чтением статьи Ю. С.
Сорокина, достаточно подробно (и критически) изложившего теорию концентрических
кругов Щербы (ук. соч., с. 69 и др.). Однако понятие «концентрических кругов»,
причем в аналогичном смысле, кочевало в то время по лингвистическим работам и без
прямой увязки с именем Щербы (см., напр., использование этого образа у Виноградова,
причем еще до появления соответствующей статьи Щербы, в книге «О
художественной прозе», выше цит., с. 90).
38. В 4юрмулировке этого вопроса М.М.Б., вероятно, намеренно ледует здесь за
участниками дискуссии, инициировав которую, К) С. Сорокин основал свой
антивиноградовский вывод о невозможности выделять стили языка в качестве
замкнутых систем лингвистических средств в том числе и на том положении, что
выбор той или иной языковой формы осуществляется говорящим не исходя из отвле-
451
ченных стилистических или жанровых требований, но исходя из содержания
высказывания и своего отношения к этому содержанию. Именно поэтому, по
заключению Сорокина, следует помнить, что специфика стилей выходит за собственно
языковые рамки (ук. соч., <' 74). В дальнейшем эта тема так или иначе затрагивалась
практиче
452
ски всеми участниками дискуссии (так, напр., И. С. Ильинская прямо начинает свою
статью «О языковых и неязыковых стилистических средствах» с постановки именно
этого вопроса — выше цит., с. 84). Коснулся этой темы и Виноградов, подчеркнув ее
неоднозначность: хотя содержание само по себе выходит за пределы собственно
лингвистического изучения, оно тем не менее оказывает, согласно Виноградову,
опосредованное влияние на стиль произведения и потому должно учитываться при
стилистических оценках («Язык художественного произведения», с. 4). Свою позицию
М.М.Б. ниже зафиксирует через обычное для него понятие «пограничной» области,
которое в более жесткой форме отзовется затем в ПТ (см. преамбулу). Однако
«пограничность» как таковая (а вместе с ней и обособление диалогической тематики в
качестве предмета особой дисциплины — мета-лингвистики, к идее которой — после
ряда попыток изнутри привить отечественной лингвистике диалогическую «ветвь» —
М.М.Б. пришел в ПТ и ППД) это лишь внешний — компромиссный — слой бахтинской позиции в этом вопросе, который, как это и будет ниже сказано М.М.Б., имел для
него принципиальное философское значение. То или иное философское решение этого
вопроса серьезно отражается, согласно М.М.Б., на самих постулатах лингвистики
(М.М.Б. в частности мыслил возможным коренной пересмотр всех грамматических
форм на основе расширения базовых собственно лингвистических универсалий за счет
введения в них неизбежно диалогизирующих сам язык понятий «говорящего»,
«слушающего», «оценки», «темы» и др.; подробнее о бахтинском расширении базовых
лингвистических универсалий см. примечания к «Вопросам стилистики...»). Для
самого М.М.Б., таким образом, предполагаемый «выход» лингвистики в сферу
содержания не составлял никакой проблемы: вводимые им в лингвистику (или
металингвистику) языковые универсалии как раз и составляют то, что в дискуссии
неотчетливо называлось «содержанием», однако прямо высказаться в этом смысле
было в то время и невозможно (на фоне только что отзвучавшей антимарровской
кампании) и «бесполезно» (судя по всему, М.М.Б. считал, что монологически
ориентированная отечественная лингвистика того времени просто «не услышала» бы
такого рода предложений). Показательным для М.М.Б. свидетельством «неготовности»
отечественной лингвистики к расширению своих базовых универсалий несомненно
являлось то обстоятельство, что, приняв в состав обсуждаемых тем несобственную
прямую речь и даже посвятив ей специальный раздел в академической грамматике,
практически все писавшие об этом синтаксическом явлении лингвисты (в том числе и в
академической грамматике) оценивали несобственную прямую речь не как
универсальное языковое явление, но лишь как специфический стилистический прием в
художественной литературе. Такое понимание несобственной прямой речи установилось, вероятно, под влиянием Виноградова (см., в частности, его статью «Язык
художественного произведения», выше цит., с. 15 и прим. 13). Характерно, что позиция
Виноградова совпадает в этом пункте с мнением последователя Соссюра III. Балли,
также исключавшего несобственную прямую речь из языка (см. критику Балли по
этому вопросу в МФЯ)
39. О бахтинском понимании терминов «язык*, «речь* и «речевое общение* см.
прим. 20 к РЖ. Судя по контексту, скрытым оппонентом здесь также мыслился
Виноградов, в концепции которого именно система языка и индивидуальное
452
высказывание являются крайними абсолютными пределами лингвистического
мышления (см. прим. 33).
40. Новый (третий) приступ к теме (ср. прим. 1 и 14).
453
41. Весь данный абзац в целом нельзя рассматривать как прямую речь М.М.Б. Это —
опробование нового, выстроенного М.М.Б. как коллаж из общих мест стилистической
дискуссии, логико-риторического «хронотопа» для введения своей темы. Так, различие
функциональных и экспрессивных стилей — это аллюзия к Левину (см. прим. 32);
эстетическая функция языка в литературе — «общее место» для всех участников
дискуссии, да и для всей лингвистики того времени в целом; как бы резюмирующим
выводом из дискуссии является и завершающее данный абзац предложение. Особо,
видимо, следует оговорить только проблему возможности или невозможности
постановки языка художественной литературы в один ряд с другими функциональными стилями. М.М.Б. здесь лишь как бы «пересказывает» сюжет дискуссии: в
данном абзаце такая возможность признается, а выше — отрицается (см. прим. 15).
Мнения участников, действительно, разделились (см. описание расстановки сил по
этому вопросу в итоговой статье Виноградова — выше цит., с.85); сам Виноградов
занимает здесь компромиссную позицию, отказавшись, видимо, от своих более
однозначных в этом отношении положений из «додискус-сионных» работ. Для М.М.Б.
же эта дилемма не имеет самостоятельного смысла: вопрос может решаться им поразному, в зависимости от выГннои в каждом данном случае диалогической перспективы (что как случилось, в
частности, даже внутри данного текста). Бахтинское «безразличие» к такой постановке
проблемы связано, вероятно, с его принципиально иным пониманием самой категории
стиля: не просто как того или иного состава языковых средств, а как отражения вызванного различными «точками зрения на мир» интенционального расслоения языка.
Специфика языка художественной литературы заключается при таком подходе в том,
что здесь сменена не просто интенциональная «точка зрения», но изменен «предмет
зрения», каковым становится в этом случае сам язык. В таких координатах важный для
участников дискуссии вопрос о признании или непризнании языка художественной
литературы одним из языковых стилей теряет всякую принципиальность и даже
отчетливость: если «точка зрения на мир» включает в себя взгляд на язык как объект
мира, то язык художественной литературы — один из языковых стилей, если не
включает, то — литература находится вне стилей языка. Вместе с тем, «встраивая»
свою позицию в общий контекст отечественной лингвистики, М.М.Б. вынужденно дает
в следующем ниже абзаце и свое условное решение этого вопроса, описывал язык
художественной литературы как не поддающийся постановке в один ряд с другими
языковыми стилями (подробнее об этой стороне вопроса см. преамбулу).
42. Прямо об эклектике стилей в художественной литературе (то есть с некоторым
негативным оттенком) в дискуссии не говорилось, но подаваемая как аксиологически
нейтральная идея смешения стилей в литературе была достаточно распространена (см.
прим. 12, 36). М.М.Б. заостряет о^юрмулировку, видимо, для того, чтобы рельефней
осветить возникающий здесь принципиальный, но практически не обсуждавшийся в
дискуссии вопрос: каким образом из смешения («эклектики») стилей возникает
единство художественного произведения, которое однозначно подразумевалось всеми
участниками дискуссии, говорившими о таком смешении? Фактически в дискуссии
предполагалось в качестве необсуждаемой аксиомы, что единство стилистически
гетерогенного художественного произведения обеспечивается, с одной стороны,
единством сознания и воли творца этого произведения, с другой стороны, единством
литературного языка эпохи, то есть принималась виноградовская позиция в решении
453
этого вопроса, которая неоднократно и в разных аспектах оспаривалась М.М.Б. Если,
однако,
454
иметь в виду более широкий исторический контекст, то вводимое здесь М.М.Б.
понятие «эклектики» стилей могло нести с собой отдаленные отзвуки шпетовского
понятия «гибридного образования», действительно имевшего отчетливый негативный
оттенок и относившегося именно к роману (см. прим. 36).
43. См. прим. 12, 45.
44. В статье Сорокина (ук. соч., с.75-76) приведены обширные выписки из научных
трудов ИМ. Сеченова, в которых в изобилии используются те языковые средства,
которые, по восходящей к Виноградову и оспариваемой Сорокиным теории замкнутых
стилей языка, никак не могут быть отнесены к научному стилю. Сорокинский пример
неоднократно всплывал в других статьях дискуссии, получал самые разные
толкования.
45. Косвенное свидетельство, что формальным поводом для данных бахтинских
записей могла послужить статья Виноградова «Язык художественного произведения»,
в которой не только неоднократно используется понятие «образа автора», но прямо
говорится, что «образ автора» — центральная проблема литературоведческой
стилистики (выше цит., с. 26; о бахтинском антитезисе этому виноградовскому
положению см. прим. 12). Вместе с тем «образ автора», как и «организационный
центр», мог появиться здесь и вследствие перечитывания М.М.Б. своих ранних работ
(см. прим. 4, 12, 34). Бахтинский ответ на поставленный им здесь вопрос можно найти
в ПТ
46. О понятии «пограничности* у М.М.Б. см. преамбулу и прим. 38. В качестве
контрастного фона для введения своего понятия М.М.Б. использует здесь скорее всего
широко обсуждавшееся положение Сорокина о том, что стилистика является особой
прикладной областью языкознания, так как речь в ней идет «об изучении средств языка
и их применении» (ук. соч., с. 82). См. ниже по тексту у М.М.Б. прямые лексические
совпадения с приведенными здесь в кавычках словами Сорокина.
47. Очередное обращение к одной из основных проблем дискуссии (о механизме
семантического обогащения языковых единиц в речи). Характерно, что М.М.Б., крайне
редко делавший пометы непосредственно в тексте читаемой им статьи (обычно все
пометы идут лишь на полях), подчеркнул виноградовскую формулировку этой темы —
«комбинаторные приращения смысла* («Язык художественного произведения», с. 15).
Разные варианты ответа на этот вопрос, представленные в дискуссии, в том числе и
виноградовский, для М.М.Б. несущественны: он предлагает свой ответ (приращение
смысла за счет скрещения голосов — см. ниже), который лежит в стороне от всех
представленных в дискуссии версий.
48. Подробнее о понятии «обрамления* см. СВР (ВЛЭ, 153, 169 170).
49. Имеется в виду роман А. Н. Толстого «Петр I».
50. Проблема контекста также была, начинал со статьи Сорокина (ук. соч., с. 79-82),
в центре внимания участников дискуссии. Если выше в данных записях М.М.Б.
использовал понятие контексту -альности как проходной термин в «чужом» для него,
но разделяемом большинством участников дискуссии смысле (контекстуальное значение как полный синоним индивидуального), то здесь М.М.Б. обогащает сугубо
индивидуальное понимание контекстуальности диалогическими (см. ниже) моментами,
имеющими не только индивидуально
454
авторскую природу. О бахтинском понимании проблемы контекста см. прим. 4 к
ГШ, 40 к Д II.
454
51. Немецкая речь используется в романе Л. М. Леонова «Русский лес» в эпизоде
допроса немецким офицером взятой в плен героини романа — Поли Вихровой (гл. 14).
Утрированно-упрощенный строй немецкой речи служит здесь сатирическим целям. В
лекции Ивана Вихрова о защите леса, произнесенной в первые дни войны (гл. 7),
напротив, максимально использованы синтаксические и семантические потенции
русского языка (вероятно, как национального сокровища той же природы, что и сам
русский лес). В обоих случаях образы «упрощенного» и «обогащенного» языков
строятся на 4юне окружающего контекста или, в используемых здесь М.М.Б.
терминах, с помощью их «контекстуального обрамления*.
52. Последняя фраза текста косвенно свидетельствует о его незаконченности: это,
скорее всего, не прямое утверждение М.М.Б., а новая терминологическая заявка
очередной широко обсуждаемой в дискуссии темы (о соотношении грамматики и
семантики или сема сиологии, о возможной степени вовлечения содержательносмысловых аспектов в компетенцию стилистики и др.). О наметившихся в этом
вопросе разногласиях между участниками дискуссии см. итоговую статью
Виноградова (выше цит., с. 62-63). Для М.М.Б. эта тема напрямую связана с описанной
выше (см. прим. 38) коренной дилеммой его лингвистической концепции: сузить ли (до
абстрактно-логической, внеаксиологически понимаемой системы языка) либо же,
наоборот, расширить (вплоть до включения широко понимаемых М.М.Б.
прагматических координат) состав базовых универсалий языка и, соответственно,
противопоставлять или не противопоставлять лингвистике «металингвистику» (см.
преамбулу).
«МАРИЯ ТЮДОР»
Впервые — «Советская Мордовия», 1954, № 245, 12 декабря. Печатается по тексту
газеты с исправлением предполагаемых опечаток. Сохранившийся в АБ черновой
материал говорит о том, что и эту более или менее дежурную рецензию, в которой
отдана дань обязательным формулам, автор достаточно основательно готовил. В АБ
сохранились записи, представляющие собой комментарий к драме Гюго и ее
романтической поэтике (но не к спектаклю Мордовского драматического театра), из
которых приводим выдержки, соотносящиеся с определенными постоянными темами
М.М^Б.; в газетном тексте рецензии, как можно видеть, содержание этих записей
отразилось достаточно слабо и бледно:
«Поэтика исключительного и антитезы.
Бесчеловечное положение и невоплощенная в положении чистая человечность.
Обычный жизненный путь, обычная нормальная судьба не раскрывают подлинных
возможностей человека.
Любовь и месть. Любовь побеждает месть.
Стремительность действия. Вместо монологов а parte.
От уродливого к прекрасному (даже в Марии Кровавой).
Неожиданность, случайность, внезапность. Жизнь, насыщенная событиями. Люди
говорят полным голосом, действуют в полную меру
455
своих возможностей, не сдерживают себя, не ограничивают, ничего не приглушают.
Громкость (повышенная) речи
Предельная откровенность. Таинственные разоблачители.
Полемическое отношение к историческому процессу.
Внешние и внутренние антитезы.
Интрига (коварство) и любовь. Мабилло и его монография о Гюго. Рисунки Гюго,
сделанные чернилами и молоком.
455
Отношение к Наполеону. Оно двойственно. Противопоставление узкому, мелочному
меркантилизму июльской монархии, жалкой трусости и ограниченности буржуазии; в
то же время он тиран.
Мы все время чувствуем полемику с буржуазной современностью, с буржуазным
типом человека, мелкого, рассудочного, не способного любить и ненавидеть.
Получается вторая антитеза (кроме внешних антитез в самом произведении). За тем же
обращался к эпохе Возрождения старший современник Гюго — Стендаль. <...>
Романтическая мимика, жестикуляция, интонация, тема. Неожиданность,
непредвиденность, случайность. Асимметрия. Эксцентричность. Контраст и антитеза.
Антитеза в начале: Вестминстер — Тауэр; Вестминстер-Тауэр — убогий домик
Жильбера (здесь уже антитеза двух миров).
Две пары: Королева — Фабиано, Жильбер — Джен.
Поэтика тайн черного готического романа: таинственный незнакомец с нитями
интриги (еврей), тайна происхождения героини.
Равнодушие любви к внешнему положению любимого.
Романтика палача.
Условные правила игры, которым подчиняются все участники. Жизнь — условная
игра. Психологическое неправдоподобие. Жильбер верит слову королевы. Часто это —
удачные и неудачные ходы или выпады на шпагах, а не психологически обоснованные
и внутренне необходимые поступки.
Любовь королевы, любовь Джен и любовь Жильбера. Фабиано — безлюбый
человек.
Правдивость и величие. По ком звонит колокол. Неизвестность: кто? Предельно
романтическая ситуация. Сначала мечутся. Потом ждут.
Жильбер ничего не знает о делах другого мира (развертывание антитезы —
чуждости двух миров).
Очеловечение человека Королева и Джен и ненавидят и сочувствуют друг другу.
Человек очеловечивается вне обычной колеи жизни. Так и в драме, так и в романе. В
этом — романтизм. Не видел реальных путей очеловечения человека. В этом —
утопизм. Но все же взоры обращены к народу (Жильбер).
Династические и придворные отношения, мешающие любить. Вечный конфликт
интриги и любви. <..'.>
Несколько внешний характер антитезы. Сделать антитезу внешне наглядной,
зримой. Эффекты антитезы.
Резкая и эоЬ^Ьектная смена условных жестов и мимики величественными) с бурноэкспрессивными и глубоко правдивыми. Королева превращается в женщину,
любящую, ревнующую, ненавидящую, страдающую.
Приподнятость тона. Извлечение э^Ьфектов из самой смены места действия.
Точка пересечения правдивого и великого.
Мятеж и любовный разговор. Смешение на сцене всего, что смешивается в жизни.
Смешения, а не постепенные переходы и развитие. Некоторая статичность
смешения. Отсутствие внутреннего становления при резкой внешней динамике.
456
Большие и противоречивые страсти и крупные ставки (Жильбер ставит и отдает
свою жизнь, и такого человека ищет Ренар). Игра жизни со смертью. Резкая смена
судеб.
Смешение обмана и искренности, правдивости в первой сцене королевы с Фабиано.
Откровенность страсти и откровенность холодного цинизма.
Добро и зло, великое и смешное, безобразное и прекрасное.
456
Дух эпохи во всем его многообразии и пестроте, несведенный к однотонному
единству (как у Шиллера). <...>» (АБ)
Монография Мабилло — Р. Mabilleau. Victor Hugo. Paris, 1893.
ПРОБЛЕМА СЕНТИМЕНТАЛИЗМА
Печатается впервые. Автограф на 5-ти стр. из школьной тетради, карандашом, без
поправок. Время работы над текстом примерно определяется первой фразой («споры о
реализме» — это большая дискуссия о реализме в мировой литературе, имевшая место
в ИМЛИ в апреле 1957 г.; материалы дискуссии печатались в «Вопросах литературы»,
1957, № 3-6 (июнь-сентябрь), в рубрике «Споры о реализме», и были опубликованы
отдельной книгой: «Проблемы реализма в мировой литературе», М., 1959) и более
точно — двумя протоколами заседаний кафедры литературы Мордовского
университета — от 10 октября 1958 г., где записано: «М. М. Бахтин сдает в печать
статью «Проблемы сентиментализма во французской литературе, 2 печ. л.», и от 10
декабря того же года: «ММ. Бахтин собрал материал для работы «Проблема
сентиментализма (к истории критического реализма)» (АБ). Вероятно, работа над
темой относится к 1958 — началу 1959 гг. В разговоре 28.10.1972 М.М.Б. говорил
составителю настоящего комментария о написанной им и не сохранившейся работе о
сентиментализме; осталось невыясненным, когда она была написана; публикуемый
конспективный текст — единственный специально на эту тему в АБ.
Сентиментализм остался неразвернутой темой творчества М.М.Б. второй его
половины (с конца 30-х гг. до Зап.). Интерес к нему определился в контексте работы
над книгами о романе воспитания и о Рабле: раздел об идиллическом хронотопе в
Хрон. В 40-е гг. близкие теме мотивы, такие, как животное и ребенок, «элементарная
жизнь» и ее глубина и «простая душа» — в центре фрагмента о Флобере (1944-1945;
см. комм, к нему в наст. томе). г\ концу 50-х гг. относится непосредственный приступ к
теме, единственный сохранившийся результат которого — публикуемый текст.
Наконец, конспективные тоже, но достаточно подробные заметки к теме содержатся в
Зап. (ЭСТ, 345-346, 354-355).
Тема «Достоевский и сентиментализм» намечена в планах переработки книги о
Достоевском (см. «1961 год. Заметки», с. 350), однако в ППД не вошла. В Зап. она
записана заново как тема возможной работы: «Достоевский и сентиментализм. Опыт
типологического анализа» (ЭСТ, 354).
Взгляд М.М.Б. на явление сентиментализма хотя и учитывает существующие
литературоведческие концепции и высказывается на фоне «происходящих споров», по
существу независим от них и строится в координатах собственной универсальной
бахтинской филологии. Из имен ученых, занимавшихся проблемой сентиментализма, в
указанных текстах один раз названо лишь имя А. Н. Веселовского как
457
аптора книги о Жуковском (ЭСТ, 345) Наиболее существенные (.«временные
отечественные теории, от которых мог отталкиваться \! М Ь. (Г А. Гуковского и Г Н.
Поспелова), рассматривали сентиментализм как переходное историко-литературное
явление, в основном объясняя его «из условий его эпохи» (ЭСТ, 531). Очевидное
отличие взгляда М.М.Б., как он наметился в перечисленных текстах, — в размахе
понимания исторических корней явления. Сентиментализм существует для М.М.Б.
главным образом не на фоне «борьбы литературных направлений и школ», которую
М.М.Б. признал «явлением периферийным и исторически мелким», он связан с
«большими и су1цественными судьбами литературы и языка» (ВЛЭ, 449, 451), и
особенно с такой проблемой, акцентированной в трудах М.М.Б. и восходящей «к
истокам речевой жизни» (ЭСТ, 359) — и в то же время к истокам как собственной
нравственной философии, так и теоретической филологии М.М.Б. (утверждавшего еще
457
в ранней своей филосо4>ской работе «эмоционально-волевое мышление, интонирующее мышление», «эмоционально-волевой тон», обтекающий «все смысловое
содержание мысли», как определяющее качество человеческой мысли и слова — см.
ФП, 107; ср. теорию интонации, развивавшуюся М.М.Б. также с 20-х гг.), — как
«проблема тона в литературе* (ЭСТ, 345), «тональности слова, любого словесного
образа (с 116). Проблема эта конкретизируется в рассмотрении таких парных
тональностей, как хвала и брань, прославление и мольба-молитва, наконец, смех и
слезы, причем утверждается миросозерцательное значение этих тонов в языке,
культуре и литературе (с. 8о). Бахтинская идея смеха как миросозерцательного явления
хорошо известна; о соответствующем значении слезного тона сказано им значительно
меньше, но слезы в его концепции основных тонов речевой и культурной жизни —
непременная пара смеху. Ср.: «Проблема т о -пав литературе (смех и слезы и их
дериваты)»: этой фразой вводится тема сентиментализма в Зап. (ЭСТ, 345). Слово в
бахтинской филологии существует не как нейтральное, очищенное от тона слово
соссюровской системы языка — такое слово его не интересует, — а как окрашенное и
проникнутое тоном, смехом или слезами. Понятие «слезного аспекта мира» (ЭСТ, 345)
только намечено в конспективных записях М.М.Б., но оно составляет пару громко им
проговоренному в ТФР и других работах смеховому аспекту как универсальному
аспекту мировой культуры. Это другой полюс эстетики М.М.Б. со своим комплексом
реальных мотивов: наряду с «образом большого человека» у Рабле и отвечающей ему
поэтикой больших масштабов и величин (ВЛЭ, 390) — «культ слабости,
беззащитности, доброты и г и. — животные, дети, слабые женщины, дураки и идиоты,
цветок, все маленькое и т. п.» (ЭСТ, 345). И это другой тон в звучании голоса самого
исследователя — наряду с тоном автора ТФР, словно подключающимся к громкому и
несколько жутковатому тону < смеющегося народного хора».
Интерес М.М.Б. к сентиментализму включен в его широкую исто-j)i.j;o
теоретическую концепцию и соотносится с такими полюсами ее, как- книги о
Достоевском и о Рабле. С ПТД он связан темой внутреннего человека и интимных
связей между внутренними людьми» (ср. формулу события романа Достоевского как
«связующего внутренних людей события»: ПТД, 20; ППД, 17). Но самое открытие
внутреннего человека, его «внутреннего, говоря словами Августина, internum
aeternum» (с. 98) М.М.Б. рассматривал как совершавшееся в европейской литературе в
ходе трансформации раблезианской (и сервантесовской) традиции, и здесь для него
особенное значение имели такие фигуры, в которых он находил «сложные сочетания
карнавал ьности с сентиментализмом» (ЭСТ, 345), смеха «с глубоко интимной
эмоциональностью» (ЭСТ, 339), как Стерн и Жан Поль, в
458
творчестве которых «сентиментально-идиллическое» сочеталось с раб лезианским (у
Стерна особенно) на почве «родства по линии фолькло ра» двух этих начал (ВЛЭ, 383).
На страницах ТФР, посвященных романтическому, «субъективному гротеску»,
сентиментализм не выделен как этап открытия «в ну тренней бесконечности
индивидуальной личности» (ТФР, 51), он сливается здесь с романтизсамое существо открытия изображается в терминах карнавальной теории как
«карнавал, переживаемый в одиночку с острым сознанием этой своей отъединенное™»
(ТФР, 44). Отмечается исключительное значение «образа чудака» как косвенной,
иносказательной формы раскрытия «внутреннего человека», не имевшего
первоначально прямой фюрмы для своего проявления: «Специфическое чудачество,
«шендеизм» (термин самого Стерна) становится важной формой для раскрытия
«внутреннего человека», «свободной и самодовлеющей субъективности», формой,
аналогичной «пантагрюэлизму», служившему для раскрытия целостного внешнего
458
человека в эпоху Возрождения» (ВЛЭ, 313). За этой историко-теоретической картиной,
полюсами которой являются ПТД и ТФР, просвечивает новозаветная антиномия
внутреннего и внешнего человека (выраженная в посланиях ап. Павла),
транспонированная в план истории культуры, литературы и языка; при этом полюсы
картины связаны многими непрерывными пере ходами. В этой историко-культурной
картине сентиментализм — существенное звено, хотя и не получившее развернутого
раскрытия в трудах М.М.Б.
В общефилософской же модели мира, характеризуемой у М.М.Б. такими пределами,
как «познание вещи и познание личности» (с. 7), сентиментально-гуманистический
комплекс определяется как «среднее» ее звено: «сентиментально-гуманистическое
развеществление человека», которое «остается объектным (•••)• Человек перестает
быть вещью, но не становится личностью...» Соответственно жалость и пр. моменты
эмоционального комплекса сентиментализма характеризуются как «низшие виды
любви (к детям, ко всему слабому и маленькому)» (с. 356). Тем самым значение темы в
общетеоретическом балтийском образе мира ограничивается. Вероятно, в задуманной
и неосуществленной работе о Достоевском и сентиментализме эти философские
аспекты темы должны были стать основными.
1. В Зап.: «Проблема сентиментального реализма fe отличие от сентиментального
романтизма; Веселовский» (ЭСТ, 345). В книге А. Н. Веселовского «В. А. Жуковский.
Поэзия чувства и сердечного воображения» (СПб., 1904) Жуковский понят как поэтсентименталист по преимуществу, «единственный настоящий поэт эпохи нашей
чувствительности» (с. 46), которого коснулись лишь «веяния роман тизма».
2. Вероятно, имеется в виду рассуждение о роли денег как «всеобщего извращения
индивидуальностей» и противопоставление ему истинно человеческого отношения
человека к человеку в «Экономичес-ко философских рукописях 1844 года» К. Маркса.
Деньги «смешивакл и обменивают все вещи», «обменивают любое свойство и любой
предмет на любое другое свойство или предмет, хотя бы и противоречащие
обмениваемому». «Предположи теперь человека как человека и его отношение к миру
как человеческое отношение: в таком случае ты сможешь любовь обменивать только
на любовь, доверие только на доверие и т. д.» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Из ранних
произведений.
мом, но фигуре Стерна
здесь первостепенная роль, и
М., 1956, с. 620).
3. С этими и подобными мотивами у позднего М.М.Б. связана тема спиритуалов,
затронутая автором в * специальном тексте начала 60 х гг. «О спиритуалах (к проблеме
Достоевского)» (т. 6 наст, собрания); ср. также в контексте темы сентиментализма в
Зап.: «Слезный аспект мира. Сострадание. Открытие этого аспекта у Шекспира
(комплекс мотивов). Спиритуалы. Стерн. Культ (слабости, беззащитности, доброты и т.
п. ...» (ЭСТ, 345). Спиритуалы — «в конце XIII в. наиболее радикальные последователи
Франциска Ассизского, 1>сзко протестовавшие против обмирщения церкви» (С. С.
Аверинцев; см.: ЭСт, 407). В тексте «О спиритуалах» с темой спиритуалов связано
резкое отрицание правды как побеждающей и торжествующей на земле силы,
«тоталитарной правды» (правды Великого инквизитора). Это одна из любимых мыслей
позднего М.М.Б., много раз возникавшая и в разговорах с составителем настоящего
комментария, в том числе в связи с романом М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита»
(прочитанным им еще до опубликования летом 1966 г. в Малеевке по машинописи,
специально присланной ему через А. 3. Вулиса Е. С. Булгаковой). Булгаковский
Иешуа, говорил М.М.Б., это Христос в традициях спиритуалов, средневековых
459
мистиков, последователей Иоахима Флорского, учивших о грядушей эре Святого Духа
и новых отношениях человека с Богом, освобожденных от моментов авторитарности и
подчинения. Тема спиритуалов была близка М.М.Б., любившему повторять, что правда
и сила несовместимы, правда всегда существует в смиренном облике, всякая власть,
торжество губительны и самое словосочетание «торжество правды» есть contradictio in
adjecto (из разговора 9.06.1970). Ср. записанное тогда же: «Правда не может
торжествовать и побеждать» (ЭСТ, 345). Связью с традицией спиритуалов и был
М.М.Б. интересен Христос у Булгакова (в то же время <с богословской точки зрения
это все на низком уровне» — отзывался он о евангельской части романа). См.: Новое
литературное обозрение, 1993, № 2, с. 72. Своеобразно францисканские мотивы (как-то
соотносящиеся, как представляется, со своеобразно также францисканским оттенком
облика старца Зосимы у Достоевского) — характерная особенность суждений позднего
М.М.Б.
4. Прежде всего имеется в виду так наз. просветительский реализм XVIII в.,
реакцией на который был сентиментализм. См.: ♦Реакция на неоклассическую героику
и на просветительский рационализм» (ЭСТ, 346). В материалах к книге о романе
воспитания (1937-1938) много говорится об «обедняющих» мир результатах философской работы просветителей и «суженной концепции действительности» в реализме
XVIII в. В проспекте к книге: «Наконец, в романе воспитания до Гете процесс
становления героя приводит в результате не к обогащению, а к некоторому обеднению
мира и человека. Многое в мире оказывается нереальным, иллюзорным,
развенчивается как предрассудок, фантазия, вымысел; мир оказывается беднее, чем он
казался прошлым эпохам и самому герою в юности. Развеиваются и многие иллюзии
героя о себе самом, он становится трезвее, суше и беднее. Такое обеднение мира и
человека характерно для критическо-ю и абстрактного реализма эпохи Просвещения»
(АБ) Запись в под
i отовительных материалах к книге: «Суженная концепция действи гельности
(бытия, реальности) в XVIII веке. «Et voilä tout» как характерная тенденция мысли,
уменьшающая, обедняющая реальность, оставляющая в ней гораздо меньше, чем
было» (АБ). В тех же материалах во фрагменте, посвященном идиллическому
хронотопу (вошедшем позднее отдельной главой в Хрон.), подчеркнуто ♦смягчение» и
«философская сублимация» граней реальности в идиллическом типе по отношению к
«сухости» и трезвости реализма (от романа Петрония до XVIII в.): «Но все эти
основные реальности жиз
460
ни даны в идиллии не в голо-реалистическом обличий (как у Пет роняя) , а в
смягченном и до известной степени сублимированном виде» (ВЛЭ, 374-375).
5. См. эту тему в тексте о Флобере в наст, томе, с отсылкой к Шопенгауэру. Ср. в
Зап.: «Ницше и борьба с состраданием. Культ силы и торжества. Сострадание унижает
человека и т. п.» (ЭСТ, 345). Упоминание Ницше звучит полемично, но скорее всего
фиксирует здесь другую грань противоречивой проблемы. Формула Ницше сложно
использована в тексте «О спириту ал ах»: «Внесение в абсолютное человеческих,
«слишком человеческих» представлений» (АБ). М.М.Б. здесь объединяется с Ницше в
оппозиции «тоталитаризму абсолютного», в то же время отрицаемые «слишком
человеческие» слова («побеждать, покорять, властвовать, требовать») соотносятся с
naqbocoM «воли к власти» самого Ницше (и в гораздо большей степени — вульгарного
ницшеанства). Изолированные замечания о Ницше и аллюзии на него, рассеянные в
текстах М.М.Б., ценно было бы сопоставить с апологией Ницше в парижских статьях
его брата, см.. Н. М. Бахтин. Из жизни идей. М., 1995. Отрицание категорий
460
«внутренней жизни» и «внутреннего человека» — пафос одной из самых ярких из этих
статей (с. 47-52).
6. О «местных культах», вызванных такими произведениями, как «Кларисса
Гарлоу», «Новая Элоиза», «Страдания молодого Вертера», «Бедная Лиза», см.: ЭСТ,
228. О местном московском культе вокруг «Бедной Лизы» см. в кн. В. Н. Топорова
«"Бедная Лиза" Карамзина». РГГУ, М., 1995, с. 90-123.
7 Ср. в материалах к «Роману воспитания» о «характерном для сентиментализма
отношении к художественному образу человека как к живому человеку,
художественно намеренном «наивном реализме» образа и его восприятия публикой»
(ЭСТ, 229).
8. Название трактата (1623-1631) Яна Амоса Коменского, чешского гуманиста и
педагога (1592-1о70); смысл заголовка раскрывается его полным титулом: «Лабиринт
света и рай сердца, т. е. ясное изображение того, что на этом свете и во всех предметах
его нет ничего, кроме суеты и заблуждения, сомнений и горестей, призрака и обмана,
тоски и бедствий и, наконец, досады и отчаяния; но тот, кто остается дома в сердце
своем и запирается с одним Господом Богом, приходит к истинному и полному
успокоению ума и к радости» (Я. А. Коменский. Избранные педагогические сочинения.
М., 1982, т. 1, с. 74).
9. Ср.: «Изъятое из жизни слово: идиота, юродивого, сумасшедшего, ребенка,
умирающего, отчасти женщины» (ЭСТ, 353).
10. Идея, родоначальником которой был Аполлон Григорьев, создавший термин
«сентиментальный натурализм» и пользовавшийся им в своих статьях 1840-х гг. для
характеристики русской натуральной школы и первых произведений Достоевского (но
не Гоголя, которого он от этого явления отделял). Эту интуицию Григорьева подверг
научной обработке В. В. Виноградов в большой статье «Школа сентиментального
натурализма» (1924; см.: В. В. Виноградов. Избранные труды. Поэтика русской
литературы. М., 1976, с. 141-187).
11. М.М.Б. принадлежит острая фюрмула соотношения этих двух литературных
реальностей: «За поверхностной пестротой и шумихой литературного процесса не
видят больших и существенных судеб литературы и языка, ведущими героями которых
являются прежде всего
461
жанры, а направления и школы — героями только второго и третьего порядка»
(ВЛЭ, 451). На пути мысли М.М.Б. интересу к сентиментализму предшествовал
интерес к идиллии, но к идиллии как жанру, расширенному до «хронотопа», т. е.
пространственно-временного целого, укорененного в «о^ольклорном комплексе» и
древней литературе, из которого как поздний исторический результат вышел для
М.М.Б. сентиментализм как направление.
Рабочие записи 1959-1960 гг. Впервые, под заглавием «Проблема текста», в
«Вопросах литературы» (19/6, № 10), затем, под заглавием «Проблема текста в
лингвистике, филологии и других гуманитарных науках. Опыт философского анализа»,
в ЭСТ, 28Г-307. Разные названия настоящих записей при их первых публикациях были
связаны с имеющейся здесь текстологической проблемой: рассматривать или не
рассматривать первый абзац записей («Проблема текста в лингвистике, филологии и
других гуманитарных науках. Опыт философского анализа») в качестве их авторского
названия. Хотя по своему стилистическому и синтаксическому строению этот абзац
может считаться авторским заглавием работы, однако, с другой стороны, он никак не
выделен в автографе М.М.Б. и может, следовательно, рассматриваться и как начало
самих записей с характерными для стиля рабочих заметок М.М.Б. назывными
предложениями. При остающихся сомнениях текстологом записей и ответственными
461
редакторами тома было принято совместное решение публиковать эту работу в
настоящем издании под заглавием «Проблема текста», что соответствует бахтин-скому
оформлению обложки тетради, содержащей эти заметки. На
углу — «1959 г.-1960 г.», наискосок в середине — «Проблема текста».
Автограф представляет собой общую тетрадь в линейку; из 84 страниц исписано 60,
остальные чистые. Текст написан синими чернилами, местами (когда, видимо,
кончались чернила в авторучке) — простым карандашом (сс. 5-6, 38-41, 53-59
автографа). Имеются также обычные для М.М.Б. вторичные карандашные пометы
(одна или несколько вертикальных черт сбоку некоторых абзацев); тем же, вероятно,
карандашом пронумерованы страницы рукописи и на обложке тетради проставлено
«№ 1». В тетрадь вложены два двойных листа в клетку из школьной тетради (также
исписанные синими чернилами и простым карандашом), в которых содержится
составленный М.М.Б. тематический указатель к настоящим записям (указатель
публикуется непосредственно после текста записей; о его соотношении с тематическим
составом самих записей см. прим. 57, 82-83J.
Совокупность указанных особенностей графического оорормления настоящих
записей косвенно свидетельствует, что они писались, скорее всего, непосредственно
перед работой «1961 год. Заметки»: на тетради, содержащей эти заметки, проставлено
«№ 2», кроме того аналогичным образом оформлены также и нумерация страниц, и
надписи на обложках, и тематические указатели к обеим тетрадям. Почти несомненно,
что внешнее оформление этих тетрадей осуществлялось одновременно; вероятно
также, что М.М.Б. мог в определенном смысле рассматривать их (например, с точки
зрения замысла переработки книги о Достоевском — см. преамбулу к «1961 год.
Заметки») в качестве содержательно связанных подготовительных материалов, хотя и
несомненно распадающихся на два отдельных
ПРОБЛЕМА ТЕКСТА
обложке имеются две записи
правом
462
конкретных замысла (по проблеме текста и по переработке НТД в ППД). Отсюда —
еще одна текстологическая проблема: где пролегает смысловая граница между
записями по проблеме текста и целенаправленными подготовительными материалами
к переработке книги о Достоевском? Ответ на этот вопрос существен для определения
реального объема ПТ При первых изданиях ПТ текст этой работы был составлен
публикаторами — исходя из текстологической, тематической и временной близости —
из тетради № 1 и начала записей (или — первого оЬрагмента) тетради № z (граница
между тетрадями отмечена в ЭСТ, 297 пробелом). Второй фрагмент тетради № 2 публиковался ранее как проспект к переработке книги о Достоевском (ЭСТ, 308-327). В
настоящем издании принято решение публиковать тексты записей тетрадей № 1 и № 2
раздельно.
Текст тетради № 1 впервые публикуется полностью: кроме указателя введен также
ранее опущенный небольшой фрагмент, представляющий собой бахтинский конспект
книги К. Ф. ф. Вайцзеккера (см. прим. 43-45; расположение этого опущенного ранее
фрагмента было отмечено в ЭСТ, 289 пробелом).
В АБ хранятся еще две общие тетради с рабочими записями М.М.Б., имеющими
отношение к замыслу отдельной работы по проблеме текста. На обложке обеих
тетрадей наискосок написано синими чернилами: «К проблеме текста» и проставлено в
нижних правых углах — «i960 г.» В верхнем правом углу одной тетради карандашом
написано «библиография», другой — «конспекты». В содержащей библиографию
462
тетради зафиксировано тридцать два наименования (с выходными данными)
лингвистических работ, имеющих то или иное отношение к проблеме текста (среди
авторов — Л. С. Выготский, В. А. Звегинцев, А. Гардинер, Б. Уорф, Л. Шпитцер, Л. В.
Щерба, Е. Р. Курилович, А. И. Смирницкий, Ö. С. Ахманова, О. Есперсен и др.). В
тетради, помеченной «конспекты», содержится конспект только одной работы —
Виноградов В. В. О языке художественной литературы. Гос. изд. худ. лит. М., 1959 (в
дальнейшем — ОЯХЛ\. Эта тетрадь исписана почти полностью; ничего, кроме выписок
из ОЯХЛ, достаточно объемных, в ней не имеется. М.М.Б. законспектировал книгу
Виноградова вплоть до ее 206 стр. (в самой книге — 653 стр.). Среди
заинтересовавших М.М.Б. фрагментов ОЯХЛ — абзацы, в которых Виноградов
активно (и недифференцированно) употребляет термин «текст» и «произведение»;
среди тем — специфика «языка художественной литературы», соотношение устной и
письменной оечи, оценка Виноградовым истории отечественного языкознания,
проблема типологии речевых произведений, типы монолога и диалога, образы
персонажей и образ автора, соотношение между лингвистикой и стилистикой,
проблема индивидуального стиля, композиция литературного произведения, функции
рассказчика, анализ прозы Пушкина (в связи с проблемой образа автора) и др.
Интересно, что при обсуждении последней из указанных тем Виноградов мимоходом,
без подробной разработки, использует понятие «несобственно прямой речи» (ОЯХЛ,
121-123); имя МГ.М.Б. при этом не упоминается. Во вскоре же последовавшей другой
книге Виноградова («Проблема авторства и теория стилей». М., 1961) М.М.Б. вскользь
упоминается (ук. соч., с. 30; о смысле этого упоминания см. прим. 18). В отличие,
видимо, от ОЯХЛ, эта новая книга Виноградова имелась в распоряжении М.М.Б.: в АБ
хранится ее экземпляр с пометами М.М.Б. (в том числе — и в том фрагменте, где
упоминается бахтинская книга о Достоевском 1929 года). Эта новая книга тоже не
была, вероятно, полностью прочитана М.М.Б.: бахтинские пометы на ее полях
прекращаются на с. 42 (сама книга содержит 614 с). Несомненно, что и в конце 50начале 60-х годов, так же, как и в течение всех пятидесятых (см. комментарии к РЖ),
Виноградов был фактически главным и, чаще
463
всего, «скрытым» оппонентом М.М.Б., во многом, видимо, инициировавшим
появление в бахтинских записях этих годов тех или иных терминов и понятий в их
двуголосо-гибридном, специфически бахтинском, использовании. Вероятно, что и
выбор термина «текст» в качестве доминантной программной темы отдельной работы
тоже в какой-то степени был связан с виноградовскими трудами (то же, видимо, можно
предположить и относительно термина «произведение», активно использованного
М.М.Б. в начале работы «1961 год. Заметки»). Основной, однако, и уже не просто
терминологической, проблемой, интересовавшей М.М.Б. в связи с концепцией
Виноградова, была все же тема «образа автора*, не исчезавшая из бахтинских работ
вплоть до самых последних предсмертных записей. О конкретных пунктах
диалогических компромиссов и принципиальных расхождениях между М.М.Б. и
Виноградовым см. в постраничных комментариях.
Скрытая полемика с Виноградовым не была, конечно, единственной причиной
обращения М.М.Б. к замыслу отдельной работы о тексте: данный термин был
максимально активен в то время в самых различных направлениях лингвистики,
оттеснив ранее достаточно широко употребляемые термины «высказывание», «речь»,
«речевой поток» ит. п. М.М.Б. ориентировался в этом смысле на всю ситуацию в
отечественной лингвистике в целом (о дискуссиях того времени по проблемам
текстологии и структурализма, о нарождающихся математических методах в
лингвистике, в рамках применения которых термин «текст» постепенно выдвигался на
463
авансцену, о дальнейшей судьбе этого термина см. в постраничных комментариях).
Никаких сведений о возможном внешнем заказе на работу такого содержания к настоящему времени нет, однако в целом очевидно, что настоящие рабочие записи отражают
стремление М.М.Б. адаптировать свою, сложившуюся еще в 20-е годы,
лингвистическую и оощефилологическую позицию к конкретной ситуации в
отечественном языкознании конца 50-х годов (как «Проблема речевых жанров» была
адаптацией к ситуации начала 50-х годов; характерно в этом смысле, что композиционно-тематическое развитие текста РЖ и ПТ во многом аналогично). Вместе с тем сама
по себе адаптация к ситуации не была, вероятно, конечной целью М.М.Б.; основной
движущий стимул всех такого рода попыток — это свойственное М.М.Б. с 20-х годов
стремление привить отечественной лингвистике интерес к общефилософским и
методологическим проблемам, желание задать ее дальнейшему развитию ту
перспективу, которая представлялась М.М.Б. необходимой.
К 1961 году замысел отдельной работы по проблеме текста был, вероятней всего,
отвергнут М.М.Б. (о возможных причинах, свидетельствах и следствиях этого отказа
см. прим. 8, 9, 31, 57, 82, 83 к ПТ и прим. 1, 2, 26 к «1961 год. Заметки»). Существенно
в этом смысле, что именно в настоящих записях впервые зафиксирован термин
«металингвистика*, появление и смысловое обоснование которого могут в
определенном плане интерпретироваться не только как отказ от конкретной работы по
проблеме текста, но и как отказ (по-видимому, в связи с «пессимистической» оценкой
перспектив развития отечественной лингвистики, все более склоняющейся к
о^юрмализо-ванным, структуралистическим или «виноградовским». т. е. одинаково
«монологическим», по М.М.Б., методам) от самой идеи привить интересующую его
тематику непосредственно к «древу» отечественной лингвистики. Вместе с тем
никакие «тактические» изменения в «терминологической оболочке» бахтинских
текстов разных годов не касались внутреннего сущностного «ядра» его
лингвофилософской позиции (двуголосие, непрямое говорение, полифония и др.), остававшегося стабильным по своим основным параметрам начиная с 20-х и вплоть до 70-х
годов. Отчетливо и во многом по-новому просматривается это «ядро» и в настоящих
записях (см. прим. 16, Зо, 39).
464
1. Понятие «границы* широко использовалось М.М.Б. в разных контекстах. См., в
частности, о «пограничных» проблемах в филологии, возникающих на стыке
собственно лингвистического и непосредственно смыслового анализов текста, в более
ранней работе «Язык в художественной литературе» (отмечено в прим. 46 к этой
работе; там же указан возможный контрастный фон из отечественной лингвистики 50х гг., на котором отчетливей проявляется специфика бахтин-ского понимания
«пограничных» проблем филологии). Изначально, однако, понятие «границы» имело в
текстах М.М.Б. более отвлеченное философское значение (см., напр., о предмете
философии как заданном систематическом единстве культуры, каждый акт которой
«существенно живет на границах», в работе «Проблема содержания, материала и
формы в словесном художественном творчестве» — ВЛЭ, 25; см. также лГ, 177), что
соответствовало тому устойчивому категориальному статусу, который был придан
этому понятию в хорошо известной М.М.Б. филоссфской традиции (у Ф.
Шлейермахера, Г В. Ф. Гегеля и особенно — у П. Наторпа).
2. Ср. МФЯ, 19-20. Существенно, что не язык (или «речь» в ее аморфном
понимании) рассматривается здесь как первичная данность гуманитарнофилологического мышления (как это свойственно многим версиям философии языка
XX века), но именно — текст, точнее — высказывание (см. прим. 10), являющееся
464
языковым воплощением поступка, то есть одной из основных категорий философии
М.М.Б. (см. прим. 28).
3. Редуцированная аллюзия к Марксу (см. прим. 14 к Д-1).
4. Судя по дальнейшему развитию данного абзаца, М.М.Б. имеет здесь в виду под
«подразумеваемым* текстом то, что в МФЯ описывалось — без употребления самого
этого понятия — как одна из специфических особенностей языка: как его необходимое
присутствие во всяком вообще идеологическом творчестве («...все иные, не словесные
знаки обтекаются речевой стихией, погружены в нее и не поддаются полному
обособлению и отрыву от нее» — МФЯ, 19). Вместе с тем принцип
«подразумеваемости* имел в работах волошиновского цикла и несколько иное, почти
«терминированное» значение, фиксирующее непосредственно лексически не
эксплицированные в речи ситуативно-оценочные компоненты содержания
высказывания (см., напр., пятый раздел в статье «Конструкция высказывания»,
имеющий соответствующее этому «терминированному» значению название.
«Внесловесная (подразумеваемая) часть высказывания» — «Литературная учеба»,
1930, JMb 3, с. 74-77; см. также Волошинов В. Слово в жизни и слово в поэзии. —
«Звезда». 1926, № 6, с. 250) Однако при укрупненном смысловом масштабе оба
указанных возможных толкования «подразумеваемости» совпадут: ситуативная содержательно-оценочная часть высказывания, не будучи лексически выражена во
внешней речи, тем не менее «погружена» в речевую стихию, «обтекается» ею в речи
внутренней, равно'сопровождающей, по М.М.Б., и процесс порождения говорящим
высказывания, и процесс его активного понимания слушающим, и любой вообще акт
сознания. Интересно, что принцип «подразумеваемости» достаточно широко
применялся в отечественной лингвистике 30-50 гг., но понимание этого принципа —
при его гипотетически возможной терминологической связи с работами
волошиновского цикла — было несовместимо с бахтинским: он толковался как
восстановление как бы опущенных, но «подразумеваемых» синтаксических звеньев в
разного рода неполных и эллиптических предложениях (см. в этом плане критику
такого понимания принципа «подразумеваемости»
465
В. В. Виноградовым, считавшим, что в таком случае все типы предложений, в том
числе — модальные и эмоциональные, ошибочно отождествляются с логическим
суждением, как это происходит, например, при восстановлении якобы полной
синтаксической формы восклицания одного из персонажей «Пиковой дамы»:
«Случай!*, когда это восклицание трансформируют в «Это был случай*. — Виноградов В. В. Некоторые задачи изучения синтаксиса простого предложения. — «Вопросы
языкознания», 1954, № 1, с. 5). По М.М.Б., «подразумеваемая» часть содержания не
может быть выражена (восстановлена) силами одной только лексической семантики
или синтаксиса, так как именно в этой части располагается сфера «неподвластных» им
диалогических отношений. В случае сведения «подразумеваемой» части смысла к
семантике восстановленных членов предложения она неизбежно монологизируется,
что не только редуцирует объем «подразумеваемого», но и искажает его (аналогичную
— монологическую — интерпретацию получила в отечественной лингвистике того
времени и несобственная прямая речь — см. прим. 34 к «Языку в художественной
литературе»).
5. Подробный комментарий к этой постоянной теме бахтинских текстов дан в
примечаниях к работе «К философским основам гуманитарных наук», в которой
разведение двух типов научности и проблема скользящей границы между ними
описывается не через противопоставление «вещи* и «текста*, как в настоящих записях
(см. с. 309), а через противопоставление «вещи* и «личности* (ср. в этом плане ниже
465
по тексту о разных степенях объектности и субъектности в изображении людей). В тех
или иных «рабочих» научных целях возможна, по М.М.Б., разная степень
овеществления или персонификации исследуемого объекта, в том числе
деперсонификация диалогических (вплоть до подключения математических методов —
ЭСТ, 349) и персонификация объектных отношений (вплоть до гилозоизма и
личностного понимания природы — см. «К философским основам гуманитарных
наук»); недопустимо лишь эклектичное смешение этих подходов, их методологическое
неразличение. В этом плане позиция М.М.Б. противостоит и абсолютному разведению
гуманитарного и естественнонаучного познания, свойственному риккертовской школе,
и их дильтеевскому противопоставлению лишь по вторичным признакам при
признании наличия в них некой единой инвариантной основы (подробней см. прим.
20).
6. Имеется в виду эпоха Ренессанса как эпоха конца двуязычия (ТФР, 507 и сл.) и
кризисные процессы в речевом сознании нового времени (СВР, 178-182; ЭСТ, 336337).
7. Одна из ключевых тем М.М.Б. См., в частности, о кризисе форм авторства как о
самой острой проблеме современной литературы в ЭСТ, 354. В ранней работе (АГ,
175-179) описаны следующие признаки кризиса авторских форм: сомнение в
познавательно -этической направленности творчества и расшатывание бесспорности
занимаемой автором позиции вненаходимости, что ведет к неприятию имманентных
критериев каждой данной области творчества и к глубокому недоверию ко всякой
вненаходимости (в том числе — и к имманентизации Бога в религии, к непониманию
церкви как внешнего учреждения и т. д.; см. также прим. 65). Языковой кризис —
общее место в философии XX века. Своеобразие бахтинской позиции отразилось в
том, что в ней зафиксировано внимание не столько на самом кризисе, сколько на уже
увиденном в истории культуры выходе из этого кризиса. Кризис, по М.М.Б., не только
привел к отказу от авторства (М. Хайдеггер, М. Фуко и др.) или к различным формам
466
скрытого молчания (Ортега-и-Гассет), не только способствовал потере автором
собственного прямого слова (монтаж документов, литература абсурда и др.), но —
прежде всего — он стимулировал появление исторически новых и «перспективных»
4юрм авторства (полифонии и других фюрм непрямого говорения — см. прим. Зэ-39).
8. М.М.Б. разнообразно варьирует в настоящих записях (см. ниже по тексту) свои
ответы на вопрос о степени подвластности проблемы авторства собственно
лингвистическим методам; впоследствии — при окончательном оформлении идеи
металингвистики, противопоставленной сугубо лингвистическим дисциплинам —
проблема авторства будет фактически выведена за пределы лингвистики. См., в
частности, о лингвистике как науке о невоплощенном слове (о не имеющем автора
языке) в ППДУ 242-247. Возможно предположение, что замысел специальной статьи о
тексте распался в том числе и по той причине, что термин авторство (так же как и
«высказывание») оказался к 1961 г. занят чужим для М.М.Б. — «виноградовским» —
смыслом (см. Виноградов В. В. Проблема авторства и теория стилей. М., 1961). И до
выхода этой виноградовской книги, то есть в настоящих записях, М.М.Б. неоднократно
(см. ниже по тексту) вступал в полемику с виноградовским пониманием проблемы
автора, но здесь он сохраняет некоторую надежду на теоретически перспективный
терминологический компромисс с тогдашней отечественной филологией (в том числе
и по поводу термина «текст»). Развитие событий, вероятно, сделало такого рода
компромиссы для М.М.Б. не только бесперспективными, но и затемняющими само
существо интересующих его филологических проблем.
466
9. Термин Л. Ельмслева, означающий в глоссематике тот тип зависимости, при
котором взаимная мена двух элементов означающего вызывает взаимную замену
соответствующих элементов означаемого (и наоборот); коммутация имеет место
между инвариантами и поэтому может использоваться как способ обнаружения
инвариантов.
10. В настоящих записях М.М.Б., вероятно, в целях вхождения в терминологический
контекст времени, сближает инородный термин «текст» с изначальным для своей
философии языка понятием высказывания (МФЯу РЖ и др.). Многофункциональный к
тому времени термин «текст» служит для М.М.Б. терминологическим мостиком
одновременно и к набирающему силу структурализму (см. прим. 9, 18, 2^-24, 38, 48,
53), и к отечественной текстологии, и к зарождающейся лингвистике текста — см.
«Вопросы текстологии». М., 1957; Гиндин С. И. Советская лингвистика текста.
Некоторые проблемы и результаты (1948-1975). — Изв. АН СССР Серия литератур ры
и языка. 1977, № 4; см. также прим. 13, 14, 26, 66, 75, 7/ Сближение, однако, оказалось
недолгим: уже в заметках 1961 года эти термины разводятся (с. 333-334), и текст
начинает пониматься только как лингвистическая данность (как «материал»), причем
если на :угом основании в заметках 1961 года у текста в отличие от высказывания
отрицается способность вступать в диалогические отношения, то в настоящих записях
эта способность у текста признается (см. ниже по тексту). В дальнейшем, в не
предназначавшихся самим М.М.Б. непосредственно для читателя записях (ЭСТ, 359),
эта терминологическая пара полностью разводится, однако в работе, подготовленной к
изданию самим М.М.Б., термины опять сближаются (ЭСТ, 364) — видимо, для того,
чтобы получить возможность, вступив тем самым в терминологический контакт с
имевшим в то время влияние отечественным структурализмом, противопоставить ему
свою позицию (ЭСТ, 372).
467
11. «Анна Каренина», ч. 4, гл. IV
467
12. Об обмолвках и описках у Фрейда см. Ф, 74 и сл. М.М.Б. в целом критически
(как Э. Гуссерль и М. Хайдеггер) относился к бессознательному по Фрейду: в книге
«Фрейдизм» бессознательное сводится к частной, хотя и особой — «неофициальной»
— 4юрме сознания (Фу 128 и др.).
13. Проблема становления и реализации замысла, получение им сначала внутренней,
а затем и внешней языковой формы, нередко модифицирующей замысел, —
устойчивая тема герменевтики, начиная с Шлеиермахера; не первый раз появляется
она и у М.М.Б. Так, согласно концепции книги «Фрейдизм», изменение замысла в
процессе его осуществления происходит как следствие обобществления себя, то есть в
результате адаптации замысла к борьбе различных социально-речевых сил в языковом
сознании личности (Ф, 114-121; разрабатывалась эта тематика и в МФЯ, и — частично
— в РЖ). Ср. выразительный на этом теоретическом фоне пример изменения замысла в
процессе его развертывания в настоящих записях у самого М.М.Б. — прим. 31 и 50.
Здесь М.М.Б. обращается к этой теме, вероятно, в связи с анализом черновых
набросков Достоевского в книге В. Шкловского «За и против. Заметки о Достоевском».
М., 1957, где, кстати, имеется одна из первых ссылок на работу М.М.Б. о Достоевском
после почти двадцатипятилетнего замалчивания (см. отзвук этой темы в ППД у 54-55),
а также в связи с обсуждением этой проблемы в текстологии того времени (С. Бонд и,
В. В. Виноградов и др. См., напр., ОЯХЛ, 259-329).
14. Проблемы текстологии были в 50-е гг. «на слуху». В частности, обсуждалось
мнение Б. В. Томашевского о текстологии как о системе приемов, высказанное им
первоначально в 20-е гг. («Писатель и книга». Л., 1928), но воспроизведенное в своих
467
основных деталях на совещании по текстологии в 1954 г. (см. «Вопросы текстологии»,
выше цит., с. 34-36 и др.). Свои позиции в области текстологии высказывали С. Бонд и,
Н. К. Гудзий, В. Шкловский, В. В. Виноградов, Г. О. Винокур — все эти позиции,
вероятно, были известны М.М.Б. Взгляды М.м.Б. отличались от высказываемых в
научной литературе, будучи и здесь непосредственно связаны с понятием
диалогических отношений, определившим специфически бахтин-ское толкование
фундаментальной текстологической проблемы понимания (см. прим. 46). Об
особенностях исследователя-гуманитариста (т. е. фактически «текстолога» как автора
«слов о словах») см. работу «К философским основам гуманитарных наук» и
комментарии к ней.
15. «Цепь», «звено в цепш (высказываний, текстов, произведений), «монада* —
часто встречающиеся в различных контекстах логические образы М.М.Б. (ВЛЭ, 25;
МФЯ, 74; многократно в РЖ, см. также ниже по тексту, ПТ, 309).
16. Символическая фиксация одной из центральных тем М.М.Б. об исконной
диалогичности (двутонности, двуголосости) слова (и соот ветственно — мышления),
претерпевающей историческую монологическую стадию в диалектике и
возрождающейся на качественно ином — личностном — уровне в полифонии и других
видах непрямого говорения. (См. ЭСТ, 352, 364 и прим. 38-39). Монологизация диалога в диалектике происходит, по М.М.Б., при условном или неосознанном
«втискивании» его реплик в одно и единое абстрактное сознание. О «предрассудках»
монологического рационализма, о «роковом теоретизме» нового времени,
«измыслившем» реально недействительного субъекта — сознание вообще, научное
сознание, гносеологический субъект — см. Ф/7, 86, 102, 104 и сл.; АГ, 79. О подмене в
монологической философии единства бытия единством сознания — ПЦД^ 106-108;
ЭСТ, 34b; о несводимости полифонии к диалектике — ПГЩ, 33-38. В этой теме
отчетливо проявляется своеобразие бахтинской мысли, стремящейся обособиться не
только от противоположных, но прежде всего — от родственных позиций. В
частности, М.М.Б. мыслил своими оппонентами в этом вопросе не столько Фихте или
Гегеля, чьи концепции удобно укладываются в рамки монологического, по М.М.Б.,
мышления, сколько неокантианцев (МФЯ, 31, 34-35 и др.). Г. Коген и его
последователи, в том числе из невельского окружения М.М.Б., с одной стороны,
признавали множественность сознаний и считали ошибкой Фихте, что он в своем
противопоставлении «Я» и «не-Я» под последним разумел внешний мир, а не другие
«Я», «Ты», «Мы». С другой стороны, в неокантианстве подчеркивалась прежде всего
однородность в организации всех множественных «Я» и отсюда делался шаг к
понятию «сознание вообще» или, по терминологии самих неокантианцев, к
«объективному систематическому философскому сознанию», к единому «сознанию
культуры» (Каган м. И. «Герман Коген». — Научные известия Академического Центра
Наркомпроса. М., 1922, с. 122-123). По М.М.Б., кантианцам пришлось «измыслить»
такое сознание, так как, несмотря на то, что трансцендентальный момент в
синтетическом суждении Канта и есть момент активности субъекта (то есть, по
М.М.Б., момент положительный), это не открыло кантианству выход изнутри
абстрактного познания в индивидуальный познавательный акт, не дало ему
возможности преодолеть дуализм познания и жизни (Ф/7, 86; у Кагана это же
обстоятельство философии Канта расценивается, напротив, негативно — как остаток
психологизма, см. ук. соч., с. 116). О применимости бахтинской критики абстрактного
теоретизма к этике Канта и Когена см. Ф/7, 97, 102 и др. В целом радикализм
антимонологических выводов М.М.Б. из факта ценностного противопоставления «я» и
«другого», их принципиальной «неслиянности» (АГ, 58, 80) расценивался им самим,
вероятно, как практически не имеющий аналогов. Фейербах, по М.М.Б., недооценивал
468
того факта, что между «я» и «другим» для христианина бездна, что деление между
ними происходит нацело, и поэтому не понял требования христианином креста для
себя и спасения для другого (Лекции и выступления М. М^ Бахтина в записях Л. В.
Пумпянского. — «М. М. Бахтин как философ». М., 1992, с. 235). Гуссерль и Дильтей
решали проблему отношения «я» и «ты» через «вчувствование» (бахтинскую критику
теории вчувствования в целом см. в АГ, 58-81, ее смягченный по отношению к
симпатическому и сочувственному сопереживанию по Когену вариант — в АГ, 72). У
А. Бергсона акт вчувствования доведен, по МГМ.Б., до максимума: он уже принадлежит не мне одному, а есть факт не ди4х}>еренцированного на «я» и «другого»
единства реальности (Лекции и выступления М. М. Бахтина в записях Л. В.
Пумпянского, выше цит., с. 243). Отметим, что и у Филосоо^юв середины века
соотношение «я» и «другого» не совпадает с бахтинским. Так, М. Хайдеггер относит
противопоставление «я» и ♦ты» к критикуемому им метафизическому кругу
субъективности и, следовательно, выводит его из бытия («Из разговора относительно
языка» в сборнике переводов «Онтологическая проблематика языка в современной
западной философии», ч. 1. М., 1975, с. 65. См. также прим. 69). У Сартра наличествует
немыслимая для M.MJB. цель
neant. Paris, 195/, р. 439). Гадамер, стремящийся совместить герменевтику с
диалектикой («монологизмом», по М.М.Б.), толкует понимание как внеличностное
смысл ос одержан ие, освобожденное от всякой связи с носителем мнений, с «я» и
«ты» («Истина и метод». М.,
«присвоить себе
(Sartre J. Р. L'etre et le
1988, с. 421). Сравнение позиции
469
с М. Бубером и некоторыми русскими философами (А. А. Мейером, Г Г Шпетом) см.
в комментариях к работе «К философским основам гуманитарных наук».
17. Принадлежность к языку как абстрактной, изъятой из речевого общения системе
(см. прим. 81) всего воспроизводимого и данного (в отличие от невоспроизводимости
элементов высказывания как единицы речевого общения) — активная идея М.М.Б. в
его печатающихся в настоящем томе работах о языке, начиная с 50-х гг., но как
логический ход это противопоставление встречалось и в 20-е годы (см., напр., МФЯ,
102). Вероятна связь этого логического противопоставления с неокантианской парой
«данного* — «заданного*, активной у М.М.Б. в 20-е годы (напр., АГ, 89), а
впоследствии трансформированной в «данное» — «созданное» (произведенное) — см.
«1961 год. Заметки», с. 330.
18. Фонетика — это артикуляторное и акустическое описание звуков речи в их
изоляции (изоляционный метод); фонология — разграничивает, классифицирует и
обобщает звуки речи с точки зрения тех структурных функций, которые они
выполняют в системе языка (интегральный метод). Одни и те же, с точки зрения
фонетики, звуки могут выполнять в разных языках и в разных подсистемах одного
языка различные фонологические (структурные) функции. О своеобразном
функционализме М.М.Б. см. прим. 38. М.М.Б., вероятно, был знаком не только с
ранними работами И. С. Трубецкого и Р. О. Якобсона, но и с их фонологическими
исследованиями 30-х гг. В 20-е гг., критически в целом оценивая раннего Якобсона как
представителя формальной школы, М.М.Б. вместе с тем положительно ссылался на те
места из его работ, в которых просматривается зарождающийся функционализм
Якобсона (см. ФМ, 115, где из цитаты из Якобсона делаются прямые функциональные
469
выводы: «не в лингвистическом признаке тут дело (речь идет о звуковых процессах в
поэтическом языке — Л. Г.), а в функциях этого, самого по себе индифферентного
признака в поэтическом телеологическом целом»). Вообще понятие «целого* играет в
философской системе М.М.Б. весомую роль (вероятно, здесь сказались идеи
достаточно высоко ценимого М.М.Б. Н. О. Лосского, хотя и помимо последнего эта
категория имеет солидную филосо4>скую генеалогию и репутацию), своеобразно
отражаясь в функционально заостряемых М.М.Б. частных гуманитарных дисциплинах
(ср., в частности, весомость понятия «целого* в бахтинской теории высказывания и
речевых жанров). Общефилософский смысл категории целого по М.М.Б. можно понять
по некоторым замечаниям в работе «К философским основам гуманитарных наук». Во
всяком случае определенная и вместе с тем особая связь между понятиями целого и
функции, характерная для филосоо^ского мышления М.М.Б., интуитивно ощущалась и
его сторонниками, и его оппонентами уже в 40-50-е гг., хотя и не всегда при этом
рационально осознаваясь. Интересно в этом смысле, что В. В. Виноградов предполагал
влияние М.М.Б. на Н. С. Трубецкого в работе последнего о Достоевском («Проблема
авторства и теория стилей», выше цит., с. 30), а Якобсон ссылался на языковедческие
работы В. Н. Волоши-нова в своей статье 1957 года («Шифтеры, глагольные категории
и русский глагол». — Принципы типологического анализа языков различного строя.
М., 1972).
19. См. ЭСТ, 348-351.
20. «Наука о духе» — это аллюзия к В. Дильтею (МФЯ, 30). Заслуга Дильтея, по
М.М.Б., в том, что он рассматривает переживание не как «вещь*, но как «значение*:
недостаток же «понимающей» и
470
«интерпретирующей» психологии Дильтея М.М.Б. видит в том, что в ней не
осознана обязательность знакового воплощения психического значения, причем как
для «другого», так и для самого переживающего, поскольку, по М.М.Б., невозможно
иметь значение (= чистую функцию — см. прим. 38) вне знакового материала, который
всегда так или иначе социально организован. В 20-е гг. эта сторона дильтеевской
психологии характеризовалась М.М.Б. как недооценка «социального характера
значения» (МФЯ, 30), а в 70-е — как «не преодоленный до конца монологизм Дильтея»
(ЭСТ, 364), что, в частности, связано, вероятно, с тем, как Дильтей (в отличие от
М.М.Б. — см. прим. 5) решал вопрос о соотношении гуманитарного и
естественнонаучного познания, считая основой этих форм научности одни и те же
логические операции и разделяя их лишь на основе вторичных признаков (Diltheu W.
Gesammelte Schriften. Bd. I-XVII. Stuttgart etc., 1957. Bd. V S. 330-334).
21. О самонаблюдении см. Ф, 27-31; МФЯ, 40-41. (Интересно, что логическая
последовательность восходящих к Дильтею тем в настоящих записях и в МФЯ
совпадает). Самонаблюдение признается М.М.Б. только в том случае, если его
предметом является внутренняя речь, внутренний знак, который — вследствие своей
социальной природы — при определенных условиях может стать знаком внешним.
Отсюда — логически закономерно возникает и следующая в настоящих записях тема о
необходимости «тонкого» понимания текста. О критике «вчувствования» (логической
пары к «интроспекции» Дильтея) см. прим. 16.
22. Идея использования взаимной переводимости языковых знаков как средства для
установления лингвистических универсалий (семантических инвариантов), восходящая
к Ч. Пирсу, вошла к концу 50-х гг. в состав основных положений структурализма,
теории информации и математической лингвистики, получив новые импульсы к
развитию в связи с кибернетической проблемой автоматизации перевода. М.М.Б. мог
ознакомиться с этой проблематикой по вышедшему в 1959 г. переводу книги У. Эшби
470
«Введение в кибернетику» с предисловием А. И. Колмогорова и по сборнику
«Проблемы кибернетики», 1958, вып. 1. Частично затрагивалась эта тема и в
проведенной журналом «Вопросы языкознания» в конце 50-х гг. дискуссии о структурализме, но, судя по бахтинским пометам в сохранившихся в АБ номерах журнала,
освещающих эту дискуссию, статьи с таким содержанием не привлекали особого
внимания М.М.Б. (в отличие от дискуссии по стилистике — см. прим. к работе «Язык в
художественной литературе»).
23. По сравнению с ранними высказываниями (СВР, 83-86, 101; МФЯ, 80-83 и др.)
М.М.Б. компромиссно смягчает здесь (видимо, под влиянием фонологических теорий,
функциональной лингвистики, глоссематики, структурализма и др. нарождающихся
направлений языкознания) свои обычный критический пао^ос по отношению к
грамматическому универсализму, к «утопической философеме» единственного языка и
т. п., что, согласно М.М.Б., характерно для аристотелевской поэтики, Лейбница,
Декарта, Гумбольдта и др. Однако конечный вывод М.М.Б. об абстрактности такого
рода построений, об их условной теоретичности, не допускающей практической
реализации ни в форме искусственного о^ормализованного языка, ни в форме
«усовершенствованного» естественного языка, и здесь остается неизменным. Эта
настойчивость бахтинской позиции в ситуации, когда проблема языка приобрела в
философии критическую остроту, оттеняет своеобразие подхода М.М.Б. к языку не
только в сравнении с
471
многочисленными версиями искусственного «терапевтического» воздействия на
«несовершенный», «двусмысленный» естественный язык, которыми оказался столь
богат XX век, но и в сравнении с менее радикальными позициями, например, Гуссерля,
который в ранних работах искал реальный путь к универсальной грамматике через
эйдетику языка («Логические исследования», ч. 4), или Хайдеггера, который искал не
столько новых форм обращения человека с языком, как М.М.Б., сколько, вслед за
Гумбольдтом, возможности возродить и исторически совершенствовать «поэтические»
силы естественного языка вплоть до получения способности идеальной выраженности
в нем «сказа» самого бытия (по М.М.Б., это монологическая утопия) — см. Хайдеггер
М. Путь к языку. — Онтологическая проблематика языка в современной западной
философии, ч. 1., выше цит., с. 29-30.
24. М.М.Б. отказывается здесь не от какой бы то ни было возможности исследовать
типологические моменты в структуре текста (высказывания), напротив — именно эти
моменты были целью М.М.Б. и в МФЯ и, особенно, в РЖ, но от приравнивания этих
моментов к безличным и абстрактным, по М.М.Б., единицам системы языка (о
невозможности признать высказывание единицей последнего
— над синтаксисом — уровня языковой системы и о наличии в тексте «свободного
ядра», определяемого его личностной структурой, см. прим. 25). Отказ М.М.Б. от
изучения безличных текстовых универсалий, оказавшихся, напротив, в центре
внимания дальнейшего развития структурализма, связан с глубинными пластами
бахтинской философии языка: деперсонификация и универсализация элементов текста
— это, по М.М.Б., овеществление его смысла, т. е. забвение всего связанного с
диалогическими отношениями. Тексты — в отличие от языков — не переводимы, ибо
не переводимы личности, то есть не сводимы к единому сознанию (см. прим. 16, 60).
Оспариваемая здесь идея «текста текстов» была бы адекватна установке на
принципиально отрицаемое М.М.Б. единое сознание. Наличие, пусть во многом —
подспудное, такой установки в лингвистической философии 50-х гг. получило
косвенное подтверждение в последующей эволюции структурализма, в частности —
французского, где субъект имеет тенденцию к растворению в безличных текстовых
471
универсалиях (см., напр., идеи М. Фуко о редукции самого понятия автора, о сведении
анализа текста к «чистым», то есть безличным, речевым фактам — Foucault М.
L'Archeologie du savoir. Paris. 1969). Аналогичные идеи, в частности, идея анализа
истории искусств «без художника», восходящая еще к Г Вельфлину и В. Воррингеру,
критиковалась в кругу М.М.Б. в своей формалистической версии уже в 20-е гг. (ФМ,
71-74). Неприятие любых форм редукции автора отчетливо видно и в толковании
М.М.Б. соотношения личности и Откровения: при отпадении Личности в Откровении
оно принимает, по М.М.Б., вещный характер (овеществление Откровения), становится
простым сообщением (или информацией — см. прим. 63). В таких случаях происходит
забвение Дара и Дающего, проистекающее из боязни личного Бога и персональной
ориентации в мире, что ведет к «культурному имманен-тизму» концепции единого
сознания (Лекции и выступления М. М. Бахтина в записях Л. В. Пумпянского, выше
цит., с. 246). Личностно организовано и пронизано диалогическими отношениями, по
М.М.Б., и Божественное Слово, так как оно возможно на человеческом языке только
как слово косвенное, данное через другого. Диалогические отношения пронизывают,
по М.М.Б., и канонизированную древне христианскую литературу, гиюникнутую
элементами мениппеи и карнавализации (ППД, löl). ö возможной интерпретации
бахтинского понимания Божественного Слова как несобственной прямой речи см.
комментарии к работе «К философским основам гуманитарных наук».
472
25. Признание в тексте «свободного ядра» непосредственно связано у М.М.Б. с
неустранимостью авторской позиции (прим. 24), с его пониманием личности, в
которой всегда есть что-то, что может открыться только в свободном слове и что не
поддается овнешняющему заочному определению (ППД, 78). В своем творческом ядре
личность ♦бессмертна» (ЭСТ, 371). Данное бахтинское положение имеет лишь
внешнее сходство, например, с известным учением о внутреннем ядре произведения,
непосредственно соотносимом с личностью автора у Шлейермахера или с аналогичной
теорией образа автора у В. В. Виноградова, так как всякое непосредственное (=
субстанциональное) тождество между самим автором и каким-либо, пусть самым
«нутряным», языковым пластом его высказывания в концепции М.М.Б. однозначно
отрицается. Бахтинская мысль развивается в одновременном противостоянии этим как
бы полярным позициям — полному растворению личности автора в безличных
текстовых универсалиях и, с другой стороны, «сгущению» авторской позиции до субстанционального языкового образа, почти «персонажа» текста, как это в конечном
счете происходит у Виноградова.
26. Вероятно, имеются в виду широко дискутировавшиеся в то время вопросы о
преодолении субъективных моментов в текстологических анализах, о различных
методах работы текстолога (метод ключевых слов, статистический, информационный и
др.), в основе обсуждения которых лежала философская проблема «герменевтического
круга» (взаимосвязь целого и частей при анализе текста), заостренная, в частности, С.
Бонди в его работах о ^рукописях Пушкина, а также непосредственно связанная с этим
проблема понимания в целом (см. прим. 46, 51). Соотношение целого и части в
высказывании исследовалось М.М.Б. в разные периоды (МФЯ, 80-81, 98-99; РЖ, 180184 и др.). Специфически бахтинское преломление эти темы получили в идее «чистого
автора» и форм его присутствия в целом произведения и его частях (см. ниже по
тексту; прим. 35-38; ЭСТ, 362-363).
27 Об отношении к бихевиоризму см. Ф, 26 и сл., специально о «вербальных
реакциях» — с. 31-32. См. также РЖ, 161.
472
28. Аналогичное сближение «поступка* (центральной, по М.М.Б., категории, на
которую должна ориентироваться «первая философия» - ФП, 102) со словом см. в АГ,
125.
29. См. использование самим М.М.Б. в диалогических целях аналогичного
словосочетания (все «священное» и «высокое») в ТФР, 173.
30. Подробно о соотношении предложения и высказывания см. РЖ и примечания к
РЖ.
31. Исходя из всего корпуса бахтинских текстов 50-х гг. о языке можно
предположить, что в данном абзаце зафиксирована очередная 1вуголосая бахтинская
конструкция, ориентированная на условный — предпринятый в «тактических» целях
— компромисс с противной стороной (прежде всего — с Виноградовым). В
подавляющем большинстве текстов, в том числе в РЖ, противопоставляемые здесь
термины «речевой субъект* и «говорящий* (автор) отождествлялись [РЖ, 172). По
всей вероятности, М.М.Б. на время (см. ниже) «отдает» здесь словосочетание «речевой
субъект» в смысловое владение тому направлению отечественной лингвистики, в
котором в качестве принципиального (а не гипотетического — как у М.М.Б.) тезиса
признается субстанциально-типическая выраженность автора в языке созданного им
высказывания. «Обобщенная «натуральная индивидуальность* (как толкуется здесь
«речевой субъект») это по сути типи
473
ческий образ делового человека в деловом стиле, ученого — в научном стиле и т. н.,
а в конечном счете это и есть как бы виноградовский «образ автора». Если такого рода
типические языковые стилистические средства действительно создают некий
стабильный образ использующего их речевого субъекта, то они становятся по своей
природе и функциям аналогичными единицам языка, отсюда ниже в этом же абзаце и
выдвигается тезис о возможности отождествления языка и речи. (Напомним, что
обычно М.М.Б. отрицает такое отождествление). Следует, однако, иметь в виду, что
эта уступка — диалогическая, что компромиссно понятому «речевому субъекту» здесь
противопоставлен реальный говорящий (автор), а компромиссно понятой «речи» —
«речевое общение», что в конечном счете лишь заостряет, а не ослабляет,
принципиальный бахтинский тезис об отсутствии в языке-речи диалогических
отношений. Если условно развить этот двуголосый компромисс, то мы получим тезис
оо отсутствии диалогических отношений между стилями языка, то есть получим тезис,
который лежал, по М.М.Б., в основе виноградовских стилистических анализов, напр.,
прозы Достоевского и который как раз и подвергался всегда резкой критике М.М.Б.,
настаивавшего на наличии в произведении диалогических отношений между
использованными автором разными стилями литературного языка. «Речевые
субъекты» (в их понимании в данном абзаце) в произведении неизбежно, по М.М.Б.,
субстанциализируются в завершенные «овеществленные» образы, или — персонажи,
которые лишь соположены автором, но не соотнесены диалогически. М.М.Б., конечно,
не отрицал наличия у стилей языка некоторой типологизирующей образной силы,
считая вопрос о степени зависимости «образа речевого субъекта» от использованных
языковых средств одним из интереснейших и сложнейших вопросов лингвистики, но
при любом решении этого вопроса М.М.Б. настаивал на принципиальной свободе
автора, на том, в частности, что реальный говорящий (свободный автор) сам
изначально учитывает типизующую силу стилистических средств языка и потому
может сознательно «играть» ими (отсюда в том числе и весь состав идей, связанных с
непрямым говорением — о развитии этой темы в связи с виноградовской теорией
образа автора см. прим. 36).
473
Намеченное здесь двуголосо-гибридное понимание «речевого субъекта» фактически
осталось в дальнейшем неиспользованным: хотя отзвуки этого понимания будут еще
слышаться в тексте (см., напр., четвертый след. ниже абзац и фрагмент, отмеченный в
прим. 48), однако уже внутри настоящего текста М.М.Б. возвратится к своему
изначальному пониманию «речевого субъекта» как к фактическому синониму
говорящего или автора (см. прим. 50), что свидетельствует в том числе и о рабочем
характере настоящих записей. В работе «1961 год. Заметки» также имеются оба
варианта употребления «речевого субъекта»: и как «коллективного носителя» стиля
языка (с. 329) и как реального говорящего, реального автора конкретного высказывания (с. 335). Высказанный выше вывод о возврате М.М.Б. к пониманию «речевого
субъекта» как реального конкретного автора высказывания может показаться на фоне
все же появляющихся использований данного словосочетания в типологическом, а не
конкретно-индивидуальном смысле излишне категоричным, однако обратное суждение
было бы уже однозначно неверно: все типологические использования этого
словосочетания остаются, во-первых, эпизодическими, во-вторых, поданными почти
всегда в некоей гипотетической модальности (см., напр., прим. 2 к «1961 год.
Заметки»). В любом случае здесь необходимо говорить о двух разных понятиях, не
всегда дифференцированно выражаемых терминологически. Для рабочих записей
такое положение дел вполне естественно. Аналогичные случаи сначала — поисков
новых терминологических гибридов, шаткого,
474
кочующего использования их, а затем — отказа от них неоднократно встречались и в
подготовительных материалах к РЖ (см. комментарии к ним). Вероятно также, что
зафиксированный в данном абзаце и отвергнутый в дальнейшем терминологический
компромисс явился своего рода промежуточным этапом между активными
бахтинскими попытками 50-х гг. привить отечественной лингвистике диалогическую
ветвь и окончательным отказом от этих попыток, выразившимся в фиксации
металингвистики как особой филологической дисциплины. И сам термин
«металингвистика», и идея особой дисциплины впервые появились именно в
настоящих записях ближе к их окончанию (см. прим. 59), в то время как их начало — в
том числе и комментируемый здесь фрагмент — еще было однозначно ориентировано
на поиск компромиссов. Аналогичная ситуация (сначала — двуголосое гибридное
употребление, а затем — почти полный отказ) сложилась и вокруг термина «текст*
(см. прим. 1, 2, 26 к «1961 год. Заметки»), что дает основание предположению о
необычном характере настоящих записей — об их как бы самоотрицающем смысловом
и риторическом строении: замысел отдельной работы именно о тексте к концу записей
был, скорее всего, полностью отвергнут, а сами записи получили не целевую
тематическую, а более привычную «рабоче-дневниковую» направленность, плавно и
органично перешедшую в тетрадь № 2 (работа «1961 год. Заметки»), где идея
специальной работы о тексте уже полностью отсутствует, так как категория «текста»
однозначно отнесена там к системе языка (см. прим. 2о к этой работе).
32. Ср. аналогичные места в ранней работе — СВР, 86-87, 92-93.
33. Один из основных тезисов М.М.Б. (ср. АГ, 168; ВЛЭ, 46), который, однако, не
следует понимать в абсолютном прагматическом смысле, чтобы не перейти
существенную грань в бахтинском понимании языка. Этот тезис необходим М.М.Б. не
для ограничения вырази-, тельных потенций слова в его общефилологическом крупном
смысле, но для четкого установления границ узко понимаемой (в духе Соссю-ра)
лингвистики (в отличие от металингвистики — см. прим. 80 и 59). Вне так понимаемой
«узкой» лингвистики слово у М.М.Б. преображается (см., в частности, о соотношении
слова как средства и осмысливающего слова как высшей цели в ЭСТ, 338).
474
34. Прямая аллюзия к теории «образа автора» В. В. Виноградова (ОЯХЛ, с. 253-258;
637-639 и др.). Этой темой пронизан фактически весь состав настоящих записей
(некоторые аспекты бахтинской позиции в этом вопросе затронуты в прим. 8, 25, 31,
35, 36, 48, 49, 53,
56).
35. Сквозной мотив М.М.Б. Ср. в ранних работах об авторе как принципе видения и
оформления, а не как видимой и оформленной индивидуальности — АГ, 179-180; ВЛЭ,
69-70. Об аналогах в поздних работах см. прим. 36-38.
36. Позже М.М.Б. назовет «чистого автора» — «первичным», а «частично
изображенного» — «вторичным» автором (Зап., 353). Здесь возможно также
установление собственно лингвистических ассоциативных параллелей между, с одной
стороны, чистым автором и говорящим и, с другой стороны, частично изображенным
автором и «речевым субъектом» в том гибридно-двуголосом значении этого словосочетания, компромиссный (связанный с Виноградовым) характер появления которого
и дальнейший отказ от которого описан в прим. 31. Данный и следующие ниже абзацы
придают дополнительные
475
смысловые детали для понимания этого условного гибридного словоупотребления
М.М.Б.
37. Использованные здесь латинские речевые формулы («природа сотворенная»,
«природа порожденная и творящая», «природа творящая и несотворенная») активно
употреблялись в различных религиозно -философских традициях (Иоанн Скот
Эриугена, латинские переводы Аверроэса, христианская схоластика, Спиноза —
подробней см. прим. к ЭСТ, 408). М.М.Б. применяет эти и параллельные им речевые
формулы и в других работах (Зап., 353; ЭСТ, 363).
38. Данный абзац в целом — центральное место настоящих записей, отражающее
стабильное «ядро» бахтинской лингвофилософской концепции (см. также прим. 39). В
отмеченном в данном примечании фрагменте явственно выступает на поверхность
рассуждений своеобразный глубинный «функционализм* М.м.Б., имевший место как в
ранних, так и в поздних работах, хотя и по-разному терминологически
проявляющийся. В основе бахтянского функционализма лежит, вероятно, по-особому
понятая категория целого (см. прим. 18), хотя и она не всегда всплывает на
поверхность бахтинских текстов. В настоящем фрагменте М.М.Б. по-своему
трансформирует, сводя воедино, несколько разноплановых функционально
ориентированных терминологических традиций, в частности: кантианскую и
неокантианскую терминологию («чистая форма» и «отношение» Канта, «чистое
чувство» Когена), буберовскую максиму «В начале было отношение», а также
— влиятельную к тому времени терминологию структурализма, следующего в этом
плане за Б. Расселом и Р. Карналом (вплоть до самого понятия «чистого отношения» у
Л. Ельмслева). «Релятивно-функциональная» терминология уже опробовалась в кругу
М.М.Б. ранее — см., напр., МФЯ, 31, где значение знака понимается как «чистое
отношение» (функция); однако в целом такого рода терминология — вопреки
очевидной весомости для текстов М.М.Б. этой темы
— сравнительно мало использовалась М.М.Б. (кроме СВР). Само понятие
«релятивизма» чаще всего применялось М.М.Б. в соответствующем времени
распространенном негативном смысле (напр., ФП, 88, 135; ППД, 93), но о позитивных
поисках в этом направлении свидетельствует, в частности, заглавие одной из работ Л.
В. Пумпянского, относящейся к лету 1919 года — «Опыт построения релятивистической действительности по «Ревизору» (Лекции и выступления М. М. Бахтина
1924-1925 гг. в записях'Л. В. Пумпянского, выше цит., с. 225), которая, судя по всему, в
475
самой своей идее вдохновлена М.М.Б. Можно, видимо, предполагать, что первенство
отношений перед субстанцией заложено во всех центральных категориях М.М.Б.,
прежде всего — в «диалогических отношениях* позднего периода и, соответственно, в
послужившем для них источником фундаментальном для ранних работ соотношении
«я» и «другого». Ни один из элементов всех описывавшихся М.М.Б. разнообразных
соотношений никогда не сгущался до приоритетной субстанции (см. критику всех трех
логически возможных вариантов субстанционального оплотнения исходной
бахтинской формулы: приоритета «я» над «другим» или «другого» над «я» — АГ, 3639, 48-54, 9/, либо же приведения «я» и «другого» к единому знаменателю — АГ, 53).
Для М.М.Б. предел — не «я», не «ты» и не всегда, с его точки зрения, монистическая
идея «человека вообще», но именно соотношение между ними. «Функциональный
релятивизм» (название условно) М.М.Б. — это не релятивизация цели или самих
усилий по ее достижению, но исключительно — релятивизация уже сложившихся и
господствующих в культуре форм и способов ее достижения (М.М.Б., в частности,
стремится релятивиро-вать формы языкового сознания — СВР. 137, 179-183 и др.) В
на
476
стоящих записях «чистое отношение» характеризует не только значение
изолированного знака (как это было в МФЯ), но и речевой смысл (то есть смысл
высказывания), который, по М.М.Б., может быть передан в своей чистоте
(«несубстанциональности») только через соотношение голосов, через их
целенаправленное оркестрирование автором (см. прим. 39 о непрямом говорении).
«Чистый автор» и «чистое отношение» — это не отказ от авторства (см. прим. 24), но
попытка обосновать его новую — несубстанциональную — 4юрму, предполагающую
не снижение, но повышение авторской активности (в частности, в полифоническом
романе — см. прим. 55). В этом смысле релятивизм М.М.Б. «антирелятивистичен» (в
негативном смысле этого термина); можно даже сказать, что в нем не обесценивается
4>актически ни одна из тех категорий или прямо сущностей, которые подвергались
релятивизации в разных философских направлениях. Так, если структурализм,
отвлекаясь от проблем языкового сознания, релятивирует плоть языка (см., напр.,
статью Л. Ельмслева «Метод структурного анализа в лингвистике» — «Acta linguistica»
(Copenhague), vol. VI, fasc. 2-3, 1950-1951), или — его способность соотноситься с
бытием, а в дальнейшем — и самого автора (см. прим. 24), то М.М.Б., целенаправленно
релятивируя формы языкового сознания (см., напр., СВР, 180-181), оставляет тем не
менее в неприкосновенности и личность («чистый автор»), и бытие (понимаемое как
событие), и плоть языка (вне знакового воплощения значение, по М.М.Б., фикция —
см. прим. 20), и «царство целей» (см. Зап., 338; прим. 33). Некоторая недостаточность,
точнее — очевидная недоговоренность функционально-релятивной теории языка
М.М.Б., вызывающая иногда ощущение утопичности этой теории, связана с также
очевидным опущением в текстах М.М.Б. религиозно-философской тематики. После
подробного анализа всех архивов Гкак самого М.М.Б., так и его «окружения») эта
лакуна, возможно, будет восстановлена; сейчас же можно лишь высказать
предположение, что позиция М.М.Б. в этом плане в определенном смысле аналогична
православному энергетизму, хотя и в его своеобразном понимании (с некоторыми
элементами протестантизма и, главное, с собственно бахтин-скими инновациями).
Подробней о возможных толкованиях религиозной стороны бахтинской философии
языка см. примечания к работе «К философским основам гуманитарных наук».
39. Одна из основных тем философии языка М.М.Б., напрямую связанная с
функционально-релятивной проблематикой (см. прим. 38). Понятие «непрямого
говорения* как способа, с помощью которого релятивированное языковое сознание
476
функционально преодолевает кризис авторства, введено в СВР, 137, 140 и др. (там же
используег-ся и образ «тени» — с. 136; см. также ППД, 9о). Эта многовалентная в
смысловом отношении тема разрабатывалась М.М.Б. в разных терминах и в разных
аспектах: в позитивно-научном (МФЯ, 109-157; ППД, 242-359), в историческом (ППД,
142-183; ТФР), в общефило-.югическом (СВР, 83-98, 108-113, 1о7-144 и др.), в
философском (ППД, СВР, ПТ и поздние работы). Однако так же, как и функциональнорелятивная концепция, теория «непрямого говорения» осталась вместе с тем в
бахтинских текстах в значительной степени непрозрачной во многих своих, прежде
всего — религиозных, аспектах, что закономерно вызвало ее самые разнообразные,
вплоть до противоположных, толкования. Так, еще при жизни М.М.Б. в связи,
вероятно, с заострением в философии языка середины XX века проблемы автора, в
частности — в связи со смещением акцента с вопроса «что говорится?» на вопрос «кто
говорит?», идея «непрямого говорения» получила не предполагаемое М.М.Б. в 20-е гг.
толкование как проявление принципиальной пассивности автора. Сам М.М.Б. активно
не
477
соглашался с пониманием полифонии (центральной формы непрямого говорения!
как отказа автора от своей точки зрения, от «своей правды* («1961 год. Заметки», с.
341; см. также прим. 7, 24) И действительно, ни одна из влиятельных версий
элиминирования автора, его растворения в языке и т. п. не приложима к бахтинской
теории. Так, в частности, «непрямое говорение» М.М.Б. — это не говорящее бытие
Хайдеггера в силу хотя бы уже того, что само бытие понималось ими по-разному: как
не включающее (Хайдеггер) и как включающее (М.М.Б.) в себя личностное измерение
(см. прим. 16, 69). «Выразительное» и «говорящее» бытие, как бы прямо похайдеггеровски звучащее, — это единичное и имеющее особые причины
словоупотребление М.М.Б. (см. прим. 8 к работе «К философским основам
гуманитарных наук»). Субъект говорения у М.М.Б. всегда личность (включая и
Абсолютную Личность) во ее всех возможных терминологических (иногда
максимально редуцированных) модификациях, в том числе и как «голос бытия». По
Хаидеггеру, говорит сам язык, а мы своей речью лишь прислушиваемся к нему, «давая
сказаться его сказу» («Путь к языку», выше цит., с. 16), по М.М.Б., говорит сам
человек, но не прямо, не собственным словом, а через оркестрирование (= режиссуру)
голосов других субъектов (но не безлично понимаемого бытия). Если у Хайдеггера
личность — медиум языка, то у М.М.Б., наоборот, язык — медиум личности
(первичного автора). У Хайдеггера традиционная формула «говорение на языке»
развилась в «говорение из языка» (там же), а у М.М.Б. — в «говорение через язык»
(СВР, 112, 127).
Не следует вместе с тем упускать из виду, что непрямое говорение — это больше
заданность, чем данность, и что М.М.Б. одновременно анализировал и прямую,
монологическую, речь, однако и в последней говорящий, по М.м.Б., тоже преломляет
свое слово через призму того или иного авторитетного для него жанрового стиля,
своего рода жанрового «мы» (см., напр., МФЯ, 89 и сл.), т. е. монологическая речь
тоже в определенном смысле является у М.М.Б. «непрямой» (см. в этом плане об
относительности различия монологической и диалогической речи, о невозможности
абсолютного монолога в архивных подготовительных материалах к РЖ). Поэтому если
сравнивать позицию М.М.Б. с тем выходом из языкового кризиса, который предлагает
напр., Гадамер (во многом следовавший за Хайдеггером), т. е. с возвратом к традиции,
преданию («Истина и метод», выше цит., с. 329-338) — а в терминах М.М.Б. это и есть
опора на «хор», на «мы», т. е. монологическая речь, — то, по М.М.Б., хотя этот выход,
возможно, и был бы желателен в некоторых случаях (МФЯ, 157), однако как панацея
477
он невозможен в силу хотя бы того, что интенциональная расхищенность языка по
социальным, профессиональным, мировоззренческим, жанровым, диалектным и др.
голосам, препятствующая утверждению единого и устойчивого «мы», принадлежит
самой приро де языка (СВР, 101-108). Единое и однозначное «мы», по М.М.Б.,
невозможно, как невозможен и абсолютный монолог. С другой стороны, хотя М.М.Б. и
близок здесь, казалось бы, к принципиальной критике языка как такового, это не
абсолютный языковой нигилизм (как, напр., можно толковать позицию Ортеги-иГассета, считавшего иллюзией полагать возможным что-либо выразить на
современном «анахроническом» языке — Oriega у Gasset Jose. Mision del bibliotecario.
Madrid, 1962, p. 116-121), но обоснование необходимости нетрадиционных —
непрямых — форм выражения, которые отнюдь не предполагают релятивизацию
смысловых интенций речи, остающихся, по М.М.Б., безусловными (СВР, 137).
Бахтинская теория «непрямого говорения» трудно поддается однозначному
пониманию вследствие, в частности, того, что она функционально и контекстуально
смещается в разных бахтинских текстах,
478
отсвечивая различными аспектами проблемы, между двумя амбивалентнонапряженными смысловыми позициями: между, с одной стороны, принципиальным
отказом ставить знак тождества между выражаемым и выражением, бытием и языком,
человеком и его речью и т п. и, с другой стороны, не менее принципиальным тезисом
(настойчиво звучащим, в частности, и в настоящих записях) о невозможности
«изучать» или «понимать» человека вне и без языка (текста, высказывания). Если это
парадокс, то — пользуясь недавними и еще не остывшими смыслами философских
категорий — пародокс не онтологический, а только гносеологический: в своем
смысловом ядре - это по сути одна из вариаций того фундаментального и многофункради нейтральности — обозначается через понятия «сущности» и «явления», но
которое имеет самые разнообразные контексты «применения», вплоть до вопроса о
форме присутствия Бога в тварном мире. «Человек не есть слово», с одной стороны, и
«Человек дан только через слово», с другой, — такова, вероятно, специфически
бахтинская аранжировка традиционных религиозно-филоссфских тем, и как таковая
она предопределена к тому, чтобы ускользать от однозначно-логического
истолкования.
40. Имманентная двуголос ость одного субъекта как способ безобъектного
самовыражения — это редкий у М.М.Б., хотя и ожидаемый, поворот темы о непрямом
говорении; поворот, не получивший подробного рассмотрения, хотя отсветы такой
постановки вопроса можно найти и в других бахтинских сюжетах (см., напр., прим.
56).
41. «Анна Каренина», ч. I, гл. 30. См. этот же пример и его объяснение в СВР, 141,
сноска 1.
42. Об интонации см. «Слово в жизни и слово в поэзии», выше цит., с. 252-255;
МФЯ, 105-107; РЖ, 189; ЭСТ, 369. См. также прим. 69.
43. Карл Фридрих фон Вайцзеккер. Картина мира в физике. Штутгарт, 1958.
Следующие ниже восемь абзацев являются оахтин-ским конспектом указанной книги
(с. 177-180). Конспект комбинированный: прямое цитирование Вайцзеккера на
немецком (абзацы 1,5, 7, 8) сменяется в других абзацах (2, 3, 4, 6) либо частичным
переводом (указано кавычками), либо частичным пересказом оригинала. Ниже
приводится русский перевод 1, 5, 7 и 8 абзацев бахтинского конспекта (перевод А. Е.
Махова; все выделения в тексте принадлежат М.М.Б.).
«Упрек, который гуманитарная наука адресует методам естествознания, я мог бы
сфюрмулировать так: естествознание не знает «Ты*. При этом имеется в виду, что
478
духовные 4>еномены нужно не объяснять причинно, а понимать. Когда я пытаюсь
понять как филолог — смысл текста, заложенный в него автором, как историк — цели
человеческих действий, то я как «Я* вступаю в диалог с неким «Ты*. Физике не
знаком этот род встречи со своим предметом, поскольку ее предмет не дан ей как
субъект. Это личностное понимание — 4юрма нашего опыта, которая применима к
нашим ближним, но не к камню, звезде и атому», (с. 177-178)
«Но тот факт, что естествознанию не знакомо «Ты*, приводит нас к совсем другому
вопросу: не о том, возможно ли экспериментировать на человеке, но о том, можно ли и
должно ли иа нем экспериментировать/ Что причиняю я своему ближнему, когда в
мыслях или на деле обращаюсь с ним как с простым объектом'? Мне кажется, что к
этому вопросу сводится все, что
ционального
которое чаще всего
479
уже было (и справедливо) сказано против применения естествознания к человеку.
Ведь, как мне видится, чисто теоретически личность моего ближнего никак не может
препятствовать применению к нему принципа причинности, проведению на нем
экспериментов. Кто отказывается обращаться к своему ближнему как к «Ты», тем
самым лишает самого себя важнейшего знания о нем. Однако ничто не мешает мне все
же получить это знание, а затем все-таки включить его — как полученное чисто
описательным путем — в причинную схему исходных данных, т. е.
экспериментировать в области этого знания как и в любой другой. Всем нам знакомы
моменты само-постижения, когда мы прозреваем, что, мня себя свободно действующими, мы на самом деле подчинялись социальным условностям, экономической
целесообразности, бессознательному влечению, ослеплению; моменты, когда мы сами
для себя стало вимся объектом причинного познания. И всем нам — в промежуточном
состоянии между ненавистью, любовью и равнодушием, в котором и существует
современный человек, — знакомо искушение цинично поэкспериментировать с
человеческим опытом. Кто из нас не был жертвой этого искушения? Опыт нашего
времени говорит о том, что «Ты» имеет цену — но цену почти ничтожную», (с. 178179)
«Также и в биологии этот образ мыслей вновь и вновь вызывал возражение.
Справедливую суть этого возражения я бы вновь свел к тому, что «Ты» было забыто. В
теоретическом плане это означает, что не используется опыт понимания. Чтобы, используя этот опыт, к примеру, в области психологии животных, не впасть в
антропоморфизм, нужна, возможно, очень высокая методологическая дисциплина.
Неразрешенный принципиальный вопрос, который встает здесь, касается связи между
«понимаемыми* и «объясняемыми* феноменами жизни — связи, посредством которой
тело служит прибежищем души или есть сама душа, а душа является в теле или как
тело. Однако мне представляется заблуждением виталистская (в узком или широком
смысле) попытка найти физически представимые феномены, которые нельзя было бы
полностью объяснить физикалистски. Организм как теоретически, так и практически
мало защищен от эксперимента; ему приходится терпеть его. То, что физик может
наблюдать, он может в конце концов и описать своими понятиями», (с. 180)
«Но, с другой стороны, он может и напомнить нам о том, что жизнь в то же время
есть субъект, такой же субъект, как и я сам, и в качестве такого субъекта я являюсь
частью жизни. Чтобы исследовать жизнь, нужно принимать в ней участие». (Виктор ф.
Вайцзеккер). «Если я познаю ценой умерщвления, если способ моего участия в жизни
— убийство, то полученное знание, будучи верным, — благословенно ли?» (с. 181).
479
44. Выходные данные этих книг Виктора фон Вайцзеккера взяты, вероятно, М.М.Б.
из библиографии к книге К Фр. фон Вайцзеккера (выше цит., с. 376).
45. «Вещь мыслящая» и «вещь протяженная». Хотя в бахтинском тематическом
указателе к этим записям настоящий фрагмент выделен в отдельный (пятый) пункт и
тем самым отграничен от изложения Вайцзеккера, которое зафиксировано в пункте 4
указателя, данный и предшествующий абзацы представляют собой, вероятно, беглую
номинацию тем из другой — небольшой — главы той же книги К. Фр. фон
Вайцзеккера (главы «Соотношение теоретической физики и
480
мышления Хайдеггера» — с. 243-245), где анализируется хайдегте-ровская критика
картезианской онтологии. Практически все зафиксированные в данном абзаце понятия
(«наблюдатель», слияние «объекта» и «субъекта», «атом», «состояние», включая и
«вещь мыслящую» и «вещь протяженную») разбираются в указанной главе. Возможно
вместе с тем, что здесь М.М.Б. особо зафиксировал тот разворот тем Вайцзеккера,
который позволяет ввести их в интересующий М.М.Б. контекст (зафиксировано в
понятии «высказывания* в квантовой механике). Вероятно также, что книга
Вайцзеккера послужила одним из источников сочувственного упоминания
хайдеггеровской критики «метафизического» противопоставления субъекта и объекта
в письме М.М.Б. к И. И. Канаеву от 11 октября 1962 г. (см. ЭСТ, 396).
46. В старинной герменевтической проблеме соотношения пони мания с
объяснением, в данном случае оживленной для М.М.Б. К. Фр. фон Вайцзеккером, но
являвшейся постоянной его темой, начиная с ранних работ, М.М.Б. всегда особо
подчеркивает
момент
диалогичности
понимания
в
противоположность
монологичности объяснения (МФЯ, 104 и др.). В отличие от распространенной версии
(Шлейермахер, Гуссерль, Дильтей, Гадамер, а в определенном смысле и русские
философы — см. прим. 2 и 5 к работе «К философским основам гуманитарных наук»)
М.М.Б. видел основу понимания не в приведении говорящего и слушающего к
единому знаменателю, но в принципиальной единичности каждого сознания (Лекции и
выступления М. М. Бахтина в записях Л. В. Пумпянского, выше цит., с. 246). С точки
зрения действительной продуктивности понимания важно, по М.М.Б., не то, что кроме
меня, понимающего, есть еще один, по существу такой же человек, а то, что он другой
для меня (АГ, 78). О ложности теории понимания, лежащей, по М.М.Б., в основе всей
европейской семасиологии и ориентирующейся на пассивное понимание, см. МФЯ, 74
и др.; СВР, 94-95, РЖ, 168-171. См. также прим. 47, 51, 66.
47. См. МФЯ, 68-71; Зап., 346-347; ЭСТ, 361, 367-368.
48. Эта проблема имеет у М.М.Б. два слоя: для самого М.М.Б. связь языка с
«мировоззрением» несомненна (ТФР, 515-523), но ответ на поставленный здесь
конкретный вопрос зависит от того, как понимать «систему языка» (при различных ее
пониманиях ответ необходимо, по М.М.Б., должен меняться). В частности, М.М.Б.
использует эту отчетливо поставленную Гумбольдтом и заостренную в гипотезе
Сепира-Уорфа проблему отражения в языке самобытного духа пользующегося им
народа как своего рода критерий методологической чистоты рационалистических
версий языка (структурализма и грамматического универсализма прежде всего).
Критически относясь к самой связываемой им с именем Ф. де Соссюра идее «системы
языка» как к не имеющей коррелята в реальном языковом сознании (см. прим. 81),
М.М.Б. часто, однако, работал в этих чужих для себя терминах и тогда — исходя из
продуманной им внутренней логики ггой чуждой позиции - категорически исключал из
системы языка все экспрессивные, ценностные или прямо мировоззренческие моменты
(РЖ, 188-191), считая обратное рассуждение — контрабандной вставкой («1961 год.
Заметки», с. 330; мотив «контрабанды» в прямо аналогичных контекстах встречался
480
уже в 20-е гг. — «Слово в жизни и слово в поэзии», выше цит., с. 247). Ценностноэкспрессивные моменты должны изучаться, по М.М.Б., не в лингвистике как науке о
«системе языка», но в «металингвистике* (см. прим. 59).
Терминологически данный и второй идущий ниже по тексту абзацы связаны с тем
предшествующим фрагментом настоящих записей,
481
гибридно-двуголосая организация которого отмечена в прим. 31. Понятие
«субъекта» и здесь, как и в предшествующем фрагменте, отнесено М.М.Б. к
типологическим образам говорящего, встающим за системой языка в целом и за его
отдельными стилями. Характерно, что реального (не типизуемого и не
овеществляемого) говорящего М.М.Б. и здесь (см. ниже по тексту) принципиально
противопоставляет всем типологическим объектным образам говорящего, в том числе
и виноградовскому «образу автора».
49. Обращение здесь к образу Макара Девушкина из «Бедных людей» Достоевского
связано, вероятно, с разбором этого образа Виноградовым (ОЯХЛ, 477-492). В
настоящем абзаце можно увидеть срормальное противоречие с бахтинской же оценкой
образа Девушкина ниже по тексту (в седьмом по счету абзаце, идущем следом), где
подразумевается, что в этом образе есть диалогическое «ты», как бы отвергаемое в
настоящем месте записей. Это кажущееся противоречие связано с рабочим характером
данных записей, с тем, в частности, что настоящий абзац является не прямым словом
М.М.Б., а лишь слегка развернутым в нужную сторону пересказом идей Виноградова с
минимальным подключением собственного голоса М.М.Б., который более «прямо»
зазвучит в идущем ниже абзаце о Девушкине. Так, использованное здесь М.М.Б.
понятие «самораскрытия* — это не синоним полифонии, а одно из ключевых слов из
виноградовской концепции формирования реализма в русской литературе (согласно
Виноградову, после Пушкина и Гоголя в середине 40-х гг. Достоевский, Некрасов,
Тургенев и другие «выдвинули новую задачу аналитического изображения
внутреннего мира национально-типических характеров из разных социальных сфер,
преимущественно низшего круга, с помощью их речевого самораскрытия» — ОЯХЛ,
477). Сама исходная тема настоящего абзаца («социально-стилистический образ*) тоже
не столько бахтинский, сколько виноградовский предмет исследования: если для
Виноградова такого рода образ является фактически конечной целью в предполагаемой
им синтетической (лингвистической и литературоведческой одновременно) методике
анализа художественного произведения, то для М.М.Б. это начальная (либо
промежуточная) цель. Настоящий абзац, таким образом, — это скрытая полемика с
Виноградовым, причем суть этой полемики осталась неизменной с 20-х гг. Характерно,
что в подготовлявшемся чуть позже написания ПТ переиздании книги о Достоевском
М.М.Б. практически идентично (за исключением Некоторых изменений в членении
текста на абзацы) воспроизвел свой имевшийся уже в первом издании анализ образа
Девушкина — анализ, который по своей диалогической установке резко расходится с
Виноградовеким. Никак не изменив самого анализа и основного текста книги, М.М.Б.
сделал вместе с тем в новом издании сноску на подразумеваемый в данном фрагменте
ПТ виноградовский разбор этого же образа (см. ППД, 282). Эта сноска имеет, как и
почти все другие «виноградовские места» бахтинских текстов, своего рода
двухакцентное строение: с одной стороны, виноградовский анализ назван там
«великолепным», с другой — упоминание имени Виноградова введено лишь на
периферийном и вскользь упоминаемом пункте собственного бахтинского анализа: при
оговаривании того обстоятельства, что структурные особенности двуголосого слова (т.
е. центр собственно бахтинской концепции) могут преломляться, как это и происходит
с образом Девушкина, «в строго и искусно выдержанной социально-типической
481
речевой манере» (характерно, что, оценивая виноградовский анализ как великолепный,
М.М.Б. разрядкой выделяет в данной сноске то, что этот анализ направлен именно и
только на «социальный характер» образа, т. е., с диалогической точки зрения М.М.Б.,
он изначально ограничен в своей объяснитель
482
ной силе). Виноградовские анализы прозы Достоевского не включают в себя,
согласно М.М.Б., самого главного (ППД, 301), так как в них недооценивается
«значение диалогических отношений между речевыми стилями» (ППД, 270, сноска). В
виноградовских анализах, действительно, при всем подчеркивании свойственного
Достоевскому частого стилистического перебоя разных социально-типических
речевых манер, этот перебой оценивается по преимуществу как тот или иной вид
своего рода языковой игры автора, которая в конечном счете создает в произведении
«образ автора* и которая никак не связана с диалогическими отношениями между
используемыми речевыми манерами (не случайно аллюзия к этому виноградовскому
анализу появилась на 4юне обсуждения М.М.Б. проблемы «образа автора»; см., в
частности, сопряжение темы недостаточности чисто лингвистического — дескриптивного — описания разных стилей в одном произведении, что, по М.М.Б., как
раз и характерно для Виноградова, с проблемой «образа автора» в идущем ниже пятом
по счету абзаце).
В качестве выразительной детали, подчеркивающей различие бах-тинского и
виноградовского анализов прозы Достоевского, можно отметить разное толкование
словечка «кухня*, которое используется в известном описании Девушкиным своего
жилища. Это описание подробно анализируется обоими исследователями. По
Виноградову, слово «кухня» здесь — это случайная бессознательная, т. е. как бы пофрейдистски выстроенная Достоевским «обмолвка*, которую Девуш-кин далее
«неудачно старается эвфемистически затушевать описаниями...» (ОЯХЛ, 481). По
М.М.Б., данный и аналогичные моменты речи Девушкина — это осознанная «оглядка*
на чужое слово (ППД, 275), которая определяет не только стиль и тон речи Макара
Девушкина, но и самую манеру мыслить и переживать (ППД, 277), характеризуемую
как «непрерывная скрытая полемика или скрытый диалог на тему о себе самом с
другим чужим человеком» (там же).
Чрезвычайно выразительным обстоятельством при этом является то, что, цитируя
письмо Девушкина, М.М.Б. и Виноградов приводят его в разных редакциях. У
Виноградова: «Я живу в кухне, то есть что я? Обмолвился, не в кухне...* (ОЯХЛ, 482);
у М.М.Б.: «Я живу в кухне, или гораздо правильнее будет сказать вот как: тут подле
кухни есть одна комната...* (ППД, 275; та же редакция приведена и в ПТД). Очевидно,
что использованная Виноградовым редакция, включающая само слово «обмолвился*,
как бы «играет на руку» его интерпретации письма Девушкина; с другой стороны, —
приведенная М.М.Б. редакция тоже более, чем виноградовская, соответствует
бахтинской интерпретации. В этом смысле немаловажно временное соотношение
обеих редакций: та редакция, которая соответствует окончательной авторской правке
текста, как бы может свидетельствовать о том стилистическом направлении, которое в
конечном счете доминирует у Достоевского и которое тем самым косвенно
«поддерживает» виноградовскую или бахтинскую интерпретацию. Виноградов
цитирует (установлено С. Г. Бочаровым) первопечатный текст «Бедных людей»
(«Петербургский Сборник», изданный Н. Некрасовым. СПб., 1846; причем цитирует с
небольшими неточностями — ср. в первопечатном тексте: «Я живу в кухне, то есть что
я? обмолвился! не в кухне...»; варианты первопечатного текста см.: До стоевский, т. 1,
с. 441). М.М.Б. цитирует текст, исправленный Достоевским для первого отдельного
482
издания романа («Бедные люди». Роман Ф. М. Достоевского. СПб., 1847) и затем
воспроизводившийся во всех собраниях сочинений.
В аналогичном — скрытно-цитатном и безоценочном — ключе построен и
следующий абзац о «приближении средств изображения к предмету изображения как
признаке реализма» (это — краткое резюме высказываний Виноградова о реализме, см.
ОЯХЛ, 473-487).
483
Здесь эта мысль подана как неоцененный пока интеллектуальный факт, бахтинская
же его оценка — негативная — дана через три абзаца ниже по тексту.
50. Обоснование границ высказывания через смену речевых субъектов дано в РЖ,
172-174. В настоящем месте записей М.М.Б. отказывается от намеченной выше
дифференциации терминов «речевой субъект» и «говорящий», возвращаясь к
изначальному смыслу словосочетания «речевой субъект» (см. прим. 31).
51. Связь понимания с ответом — сквозная тема М.М.Б. (МФЯ, 75 и др.; СВР, 95;
Зал., 350 и др.). Ср. герменевтическую логику вопроса и ответа у Гадамера («Истина и
метод», выше цит., с. 42о-445), который, в отличие от М.М.Б., понимает отношения
между «я» и «ты» как диалектические в гегелевском смысле (там же, с. 423; см. также о
диалоге и диалектике у М.М.Б. в прим. 16) и потому ответ транс4юрмируется у
Гадамера в логический ход, развивающий суждение в пределах абстрактного единого
сознания. Ср. также об ответ-ности человеческого слова у Хайдеггера («Путь к языку»,
выше цит., с. 22), с той разницей, что у Хайдеггера человек «отвечает» не на речь
других субъектов, а на «сказ» самого языка (в чем отражается свойственное
Хайдеггеру сравнительное «умаление» понятия «другого», напротив, центрального для
М.М.Б.).
52. Как это установлено в примечаниях к ЭСТ, 403, здесь имеется в виду событийная
канва третьей были из «Две были и еще одна» В. А. Жуковского, являющейся
переложением в стихах прозаического рассказа И. Гебеля «Kannitverstan» о немецком
ремесленнике, который, будучи в Амстердаме и не зная голландского языка, получал
на свои вопросы один и тот же ответ «Каннитферпгган» («Не могу вас понять»),
принимая его за некое собственное имя, породившее в его сознании фантастический
образ Каннитферштана.
53. Очередной момент диалога с Виноградовым, который, признавая наличие, в
частности, в «Бедных людях», разных речевых стилей, ограничивался лишь их
лингвистическим сопоставлением, игнорируя неизбежные при этом, по М.М.Б.,
диалогические отношения (см. у Виноградова о лингвистических «порывах» в речи
Девушкина, когда в ней возникает авторский голос; о том, что персонаж в момент
звучания в его речи авторского голоса как бы уходит «за кулисы» — ОпХЛ, 485-487).
Для М.М.Б. же — это ключевой момент в его концепции диалога стилей в романе.
Впоследствии эта же тема была использована М.М.Б. для размежевания с анализом
«Евгения Онегина» у Ю. М. Лотмала (Зап., 339; ЭСТ, 372, 403), причем состав
контраргументов против лотмановского анализа в принципе тот же, что и использованный здесь против Виноградова.
О содержательном аспекте понимания автора не как образа, а как функции см. прим.
2 к работе «К философским основам гуманитарных наук».
54. У Виноградова говорится о типизации и обобщении в реализме, или — о
свойственной реализму «генерализации» (ОЯХЛ, 492).
55. О стенографичности своего метода — в метафизическом смысле — писал сам
Достоевский в предисловии к «Кроткой» (ППД, 73). М.М.Б. часто пользуется этим
образом (см. выше по тексту — с. 31Ö; ППД, 85), который, однако, не означает у
483
М.М.Б. сближения автора с медиумом, лишь передающим услышанные голоса бытия,
но предполагает обновленную авторскую активность, «активность более высоко
484
го качества» («1961 год. Заметки», с. 342). Об образе Девушкина в сравнении с его
виноградовским пониманием см. прим. 49
56. Редкий у М.М.Б. разворот темы непрямого говорения. Безобъ-ектность научной
речи, видимо, предполагает неправомерность, с точки зрения М.М.Б., объектного
восприятия автора научного исследования (т. е. неправомерность «образа автора» в
виноградовском смысле^, так как вследствие функциональности этой речи, создающей
второй голос (вероятно, имеется в виду имманентная двутоло-сость — см. прим. 40),
первичный автор остается в науке без «субстанциональной тени». Редкий ракурс темы
непрямого говорения в науке имеет все же свои источники в подробно разработанной
ранней философии, смыкаясь, в частности, — хотя и с характерным для М.М.Б.
пропуском логических звеньев (Зап., 360) — с критикой теоретизма нового времени
(ФП, 96-97). Теоретизм, согласно ФП, привел к кризису авторства в науке, где человек
потерял возможность поступать от себя и действует «ex cathedra», как одержимый
имманентной необходимостью той или иной культурной области. Преодоление
кризиса в науке видится здесь М.М.Б. в том же направлении, что и преодоление
кризиса в художественном творчестве Достоевским, т. е. через непрямое говорение,
когда, с одной стороны, автор отказывается от прямого «собственного» слова, но, с
другой стороны, выражает себя через сочетание голосов, точнее — через второй голос
в собственной же речи. М.М.Б., таким образом, вводит и в науку «чистого автора»,
играющего здесь различными речевыми масками, но не теряющего при этом глубокую
интенциональность своей речи — что, по всей видимости, может быть отнесено и к
авторской речевой манере в научных текстах самого М.М.Б.
57. Шесть следующих ниже абзацев, включая данный, являются, видимо, новым
риторическим приступом к выбранной теме (здесь возникают прямые повторы, новые
зачины уже развитых тем, отчетливый «чужой» голос, сильнее, чем раньше, выражена
ориентация на возможного адресата). Косвенным доказательством этого служит и то,
что в созданном позже указателе к этим записям данные шесть абзацев не
зафиксированы — см. ниже по тексту, с. 327, где при переходе от темы 12 к теме 13
имеется пропуск нескольких страниц рукописи. Характерно, что в указателе не
зафиксированы и первые двадцать страниц рукописи (см. прим. 82), где развиваются
аналогичные темы. Вероятно, в составляющемся позже указателе М.М.Б. оставлял
только те моменты, которые могли ему непосредственно понадобиться, в частности,
при переработке книги о Достоевском (подробней о пропусках в указателе см. прим.
82-83), замысел же самостоятельной работы о «тексте» был, скорее всего, по тем или
иным причинам ко времени написания указателя отвергнут.
58. Молчание природы перед человеком — распространенный мотив в западной
герменевтике (см., напр., у Дильтея — Gesammelte Schriften, выше цит., с. 61). См.
также выше аналогичные места в ^ахтинском конспекте книги Вайцзеккера. О более
насыщенном и вместе с тем неоднозначном понимании этой темы самим М.М.Б. см. в
прим. 6 и 8 к работе «К философским основам гуманитарных наук».
59. По-видимому, первое (отмечено в ЭСТ, 402) употребление слова
«металингвистика* в качестве специально зафиксированного термина с четкими
границами. О смысловом наполнении этого понятия в дальнейшем см. ППД, 242-247.
Подыскивая термин для обозначения своей постепенно складывающейся концепции
особой филологической дисциплины, исследующей диалогические отношения, М.М.Б.
скорее всего, не создавал его заново, а — по обыкновению —
484
484
использовал, по-своему семантически обыграв, уже имевшийся в науке термин. Во
всяком случае — среди глбот, помещенных в хранящейся в АБ бахтинской
библиографии к проблемам текста (см. преамбулу) , которая была собрана до или во
время написания настоящих записей, имеется работа Whorf В. Collecteo Papers оп
Metalinguistics. Washington, 195Z (Уорф Б. Сборник статей по металингвистике.
Вашингтон, 1952).
60. Тесное, почти сущностное сближение личности со смыслом, а в дальнейшем с
саморазвивающейся идеей («1961. Заметки», с. 340; ППД, 112-123 и дрЛ оттеняет
своеобразие бахтинского персонализма, который сам М.М.Б. в своей последней
подготовленной к печати работе характеризует эпитетом «смысловой* — ЭСТ, 372373. Вместе с тем следует иметь в виду, что, сближая личность со смыслом, М.М.Б.
отказывался от аналогичного сближения личности с языком (см. прим. 39), настаивая
тем не менее на том, что только в слове и словом выражается личность (смысл). Из
всех возможных парных соотношении между элементами этой триады терминов
(личность, смысл, язык), менее всего описано в бахтинских текстах соотношение
смысл
— язык, остающееся одним из самых спорных вопросов в бахтинистике.
61. О внелитературных жанрах, перенесенных в роман, см. СВР, 134-137 и ППД.
62. О ритуальной брани и восхвалениях — ТФР, 19-23, о мифологическом и
магическом языковом мышлении — СВР, 178-182. О сближении слова с поступком
(частичным синонимом деяния) см. прим. 2, 28.
63. Этот переворот в его окончательности М.М.Б. связывает с новым временем, с
рождением культурного имманентизма и философемы единого сознания (Лекции и
выступления М. М. Бахтина в записях Л. В. Пумпянского, выше цит., с. 246).
Отношение М.М.Б. к термину «коммуникация* имеет, как минимум, две, каждый раз
контекстуально обусловленные, стороны: с одной — М.М.Б. критикует узкое
понимание коммуникативной функции в русском формализме и в ориентированной на
Гумбольдта лингвистике (ФМ. 128-130; РЖ, 167 и сл.), что связано с недооценкой
исконной, по М.М.Б., диалогической ориентацией слова на слушающего (СВР, 93-98);
в этом контексте, соответственно, коммуникация понимается как некий аналог
диалогизма, т. е. в позитивном плане. С другой стороны — М.М.Б. ограничивает
влияние чисто коммуникативных (осведомительных) аспектов языка, чтобы не
допустить превращения личностного смысла (голоса) в вещь, в простое сообщение (эта
же идея лежит по существу в основе теории полифонического романа и всей
философии языка М.М.Б. в целом). Во втором смысле термин «коммуникация» имеет у
М.М.Б. уже не позитивный, а негативный оттенок. Акцентирование в настоящих
записях (в отличие, скажем, от РЖ) негативных оттенков в термине «коммуникация»
связано, вероятно, с тем, что проблема коммуникации была в то время на поверхности
разнообразных лингвистических и окололингвистических дискуссий в качестве либо
особой области сравнительно молодой математической теории информации, либо
собственно .лингвистической темы (в это же время, в частности, Леви-Стросс
предложил создать единую науку о коммуникации
— Levi-Strauss С.- Antropologie structurale. Paris, 1058). В этом негативном,
отношении к естественнонаучно ориентированной теории коммуникации М.М.Б.
близок Хайдеггеру, объяснявшему кризис современного языка в том числе и его
деградацией до чисто информационного, коммуникативного средства, с помощью
которого человек
485
встраивается в мир современной техники и соответствующего ему
технократического мышления («Путь к языку», выше цит., с. 24-25). Интересно, что
485
Хайдеггер ссылается в этом докладе, произнесенном в январе 1959 года в Берлине, на
прозвучавший там же доклад К. Ф. 4юн Вайцзеккера (автора работы,
законспектированной М.М.Б. в настоящих записях) на имеющую прямое отношение к
обсуждаемому вопросу тему «Язык и ино^ормация» (там же, с. 3).
64. Имеются в виду «профессиональные фюрмы авторства», развившиеся в новое
время (Зал., 358). Хотя полнота власти мифа над языком и, соответственно, языковым
сознанием личности лежит, по М.М.Б., в гипотетическом доисторическом прошлом
(СВР, 181), до нового времени, когда «расцвел» роман — жанр, адекватный релятивированному и децентрализованному литературно-языковому сознанию, в литературе,
по М.М.Б., сформировались лишь «зачатки» романной прозы, т. е. профессионального
авторства, в частности, — в
?одноязычном и разноречивом мире эллинистической эпохи (СВР, 82). См. также
Зап., 536-337.
65. Завершение — одна из основных категорий философской эстетики М.М.Б.,
претерпевшая серьезные контекстуально-функциональные (не содержательные)
изменения. В ранних работах (напр., АГ, 14-22), где в центре внимания была позиция
автора до ее кризиса (см. прим. 7), завершающая функция автора по отношению к
герою оценивалась как фундаментальное сущностное свойство всякого эстетического
события, а Достоевский, с этой точки зрения, закономерно рассматривался как
нарушитель канона. Утрата авторитета авторской позиции вненаходимости,
характеризующая культурную ситуацию конца XIX века, явилась, по М.М.Б., одной из
причин кризиса автора, так как «завершение» необходимо требует такой авторитетной
вненаходимости. Ослабление завершающей функции стимулировало поиски новых
фюрм авторства, что и привело, по М.М.Б., к зарождению пол колонии и других с|юрм
непрямого говорения, в которых принципиально изменилась в том числе и сама
функция завершения: из средства объективирования героя с позиции вненаходимости
завершающие моменты трансформировались в материал самосознания самого героя.
Полное изменение функции завершения осуществилось, по М.М.Б., у Достоевского,
предметом художественного изображения которого стала не действительность
объективированного, овеществленного героя, но его самосознание как
действительность второго, высшего порядка. Здесь очевидна логическая
трансформация понятия «завершение», так как самосознание, по М.М.Б., незавершимо
(ППД, 71). Художественное завершение по отношению к самосознанию оценивается
теперь как разновидность насилия (ЭСТ, 317; подробнее о логических и
аксиологических трансфюрмациях, происходивших с бахтинской категорией
«завершение», см. (Рридман И. Н. Незавершенная судьба «Эстетики завершения». —
М. М. Бахтин как философ. М., 1992). Если, однако, отказаться от логического
пуризма, то гго положение не противоречит ранней эстетике М.М.Б., в которой также
утверждалась невозможность завершения самосознания изнутри {АГ, 90-99, 112-113 и
др.). Отказ от завершения объектного образа героя не означает одновременно отказа от
целостности, т. е. художественной завершенности, самого произведения. Полифония
предполагает художественное единство нового (не* монологического) типа (ППД, 6о).
Невозможно вместе с тем, да и бесцельно, отрицать, что М.М.Б. достаточно «вольно»
обращается с терминами; и прежде всего — со своими. Дело здесь не в логическом
соответствии'изолированно взятых словоупотреблений из разных временных
бахтинских'Контекстов, а в соположении самих этих контекстов в их целом. С этой
486
точки зрения, т. е. в исторической перспективе, категория завершения
контекстуально сместилась у М.М.Б. из функции автора по отношению к герою в
функцию жанра по отношению к воспроизводимой с его помощью действительности
486
(см. в этом аспекте категорию завершения в ФМ, 175-190). Категория жанра, ставшая
центром эстетики М.М.Б. в конце 20-х гг., придала новое контекстуальное освещение
практически всем бахтинским понятиям. В частности, у «завершения» появилась в том
числе и историческая ретроспектива: М.М.Б. описал становление полифонического
жанра, благодаря чему Достоевский стал уже пониматься не как необоснованный
нарушитель канона, пренебрегающий завершением, но как продолжатель одной из
трех исторических тенденции в становлении романа, а именно — карнавальной
тенденции (ППД, 145), в которой изначально, хотя и в неразвернутой форме,
проявлялась принципиальная незавершимостъ человека (с. 156). Для других тенденций
в развитии романа категория завершения продолжала оцениваться при этом М.М.Б. как
сохраняющая все те функции, которые были описаны в ранних работах.
66. В отечественной текстологии этот вопрос был заострен Б. То-машевским,
отрицавшим возможность ориентироваться на индивидуальную психологию автора и
«случайного» читателя и защищавшим понятие «идеального» (а по М.М.Б. —
«тавтологичного») читателя («Писатель и книга», выше цит., с. 138; Томашевский
воспроизводил эту свою концепцию и в конце 50-х гг. — см. прим. 14). М.М.Б. резко
критически относился к такой позиции (см. критику структурализма за его понимание
слушающего как зеркального отражения автора, дублирующего его, в ЭСТ, 367-368; о
ложной теории пассивного понимания по М.М.Б. см. прим. 46). Вместе с тем позиция
М.М.Б. отличается и от тезиса Шлейермахера «понимать автора лучше, чем он сам
себя понимал», разделяемого многими герменевтиками (Штейнталь, Дильтей,
Гадамер), так как эта формула обычно толкуется в том смысле, что это «лучшее»
понимание все равно ведет — через доведение до сознания того, что у автора было
бессознательно — к однозначной и единой интерпретации, безразличной к
своеобразию «я» и «ты» (по Гадамеру, напр., учет своеобразия «ты» автора необходим
лишь тогда, когда теряется надежда установить идеальное безличное понимание текста
— «Истина и метод», выше цит., с. 228). Ср. толкование формулы Шлейермахера у
М.М.Б. с подчеркиванием не унифицирующего, но творческого момента в понимании
в Зап., 346.
67. О «третьем» у М.М.Б. см. прим. 29 к «1961 год. Заметки».
68. См. прим. 28 к «1961 год. Заметки».
69. Ценностный подход свойствен М.М.Б., начиная с ранних работ. Соединение
понимания с ценностью — вещь не новая в философии (см., напр., Риккерт Г.
Философия жизни. Пг., 1922, с. 160), но в отличие от Риккерта М.М.Б. ставил акцент не
на абстрактной иерархии ценностей, относимых к гипотетическому единому сознанию,
но на конкретно поступающем человеке — действительном, по М.М.Б., центре
нехождения ценностей. Отсюда категория ценности трансформируется у М.М.Б. в
оценки (ФП, 127, 107-110 и др) Основные ценностные категории, по М.М.Б., — «я» и
«другой» (АГ, 163). Ср. в этом аспекте разницу в отношении к синтетическому
суждению Канта у М.М.Б. и неокантианцев (прим. 16). В таком отнесении ценностей в
личностный аспект нельзя видеть вместе с тем отрицания ценностного аспекта в самом
бытии (как это свойственно, напр., Хайдеггеру, см. «Письмо о гуманизме». —
Проблема человека в западной философии. М., 1988, с. 344), так как соотношение «я» и
«другого» понимается М.М.Б. (в отличие от Хайдеггера, см. прим. 16)
487
как соотношение в самом бытии-событии, и следовательно, ценность характеризует
само бытие. (Своеобразие понимания М.М.Б. «бытия-события» — это уже другая
тема). Об эмоционально-оценивающем, экспрессивном моменте в высказывании и в
языке, о социальных, индивидуальных, жанровых и других видах экспрессии и оценки,
об изменении значения слова в связи с переоценкой см. «Слово в жизни и слово в
487
поэзии», выше цит. с. 252-254; ФМ, 164-174; ВЛЭ, 65; МФЯ, 105-108; РЖ, 187-195, а
также комментарии к блоку подготовительных материалов к РЖ.
70. В данном абзаце — очередной момент полемики с Виноградовым, допускавшим
вторжение авторского повествования в речь персонажа, в частности, внутрь речи
Девушкина (ОЯХЛ, 488-490). См. также прим. 53.
71. Бахтинское резюме, не имеющее прямого словесного соответствия у самого
Виноградова, но близко воспроизводящее его мысль. В частности, Виноградов
утверждает факт появления авторского голоса в речи Девушкина с помощью чисто
лингвистического анализа (ОЯХЛ, 488-490).
72. Ср. РЖ, 173.
73. Hirzel R. Der Dialog. Ein literaturhistorische Versuch. T. 1-2. Leipzig, 1895
(атрибутировано в ЭСТ, 403). В книге прослеживается история диалога и его
литературных форм от античного эпоса до конца XIX века. Специально о
происхождении и сущности диалога — с. 2-67.
74. См. РЖ, 174.
75. Термины «монологическая* и «диалогическая* речь были широко
распространены в конце 50-х гг. благодаря работам Л. П. Якубинского, Л. В. Щербы,
В. В. Виноградова и др. М.М.Б. критически относился к общераспространенному тогда
пониманию этих терминов, оценивая его как «узкое*. См., в частности, такое «узкое»,
по М.М.Б., понимание диалога как сугубо композиционной формы речевого общения у
Якубинского («О диалогической речи». — избранные работы. М 1986, с. 25). С этой
(ФМ Ш:МФЯ, 114, 117 143) и другими работами Якубинского (ФМ, 114-115, 136)
М.М.Б. был знаком уже в 20-е гг.; в целом оценивая их критически, он вместе с тем
отмечал удачные терминологические нововведения. Подробней о смысле указанного
распространенного (а по М.М.Б. — «узкого») понимания монолога и диалога, о
разного рода гибридно-диалогическом обыгрывании М.М.Б. этого понимания, включая
поиски компромиссов или даже временный отказ от этой органичной для бахтинских
текстов терминологии, см. примечания к блоку подготовительных архивных
материалов к РЖ.
76. Свидетельство того, что данные записи — не работа «в стол», а taготовка для
предполагаемого текста. См. приведенный в работе «1961 год. Заметки» аналогичный
искомому здесь пример предложения, которое, будучи отдано попеременно разным
«голосам», вступает «само с собой» в диалогические отношения (с. 336).
77. См. разработку этой темы с введением разделения на «первичные» и
«вторичные» жанры в РЖ, 161 и сЬйч>-^.
78. См. ТФР, 157-213. ^
79. См. прим. 33.
488
80. Выраженное здесь узкое понимание с4>еры лингвистики (в щютивоположность
металингвистике) основывалось как на внутренних целях самого М.М.Б., так и на
действительной «узости» тем, пол ее всего интересовавших в то время
ориентированную на формальные и структурные методы лингвистику (в наиболее
яркой форме это видно у Л. Ельмслева). Впоследствии лингвистика значительно расширила круг своих интересов, включив в него практически все те темы, которые были
отнесены М.М.Б. к металингвистике, однако толкование этих тем остается в
большинстве
случаев
(если
воспользоваться
бахтинской
терминологией)
монологическим. Во всяком случае говорить об адекватной и — одновременно —
собственно лингвистической интерпретации бахтинских диалогических идей, несмотря
на многочисленные и во многом интересные попытки такого рода (напр., у А.
Вежбицкой), было бы преждевременным.
488
81. В МФЯ, 66-78 при критике «абстрактного объективизма» (соссюровского, по
М.М.Б., направления) выделяются три возможных ответа на вопрос о модусе
существования системы языка: 1) как непосредственной объективной реальности, 2)
как потенциальной данности, реальной в этом своем качестве для говорящих и слушающих, 3) как только рабочей абстракции, имеющей свои частные — теоретические
и практические — цели (изучение мертвых чужих языков). В настоящих записях
М.М.Б. смягчает — в целях диалога с отечественной лингвистикой того времени —
свою позицию, признавая и второй вариант ответа, в то время как в МФЯ признавался
лишь третий. Ср. также прим. 23.
82. В составленном М.М.Б. указателе зафиксированы не все фрагменты настоящих
записей. Опущены, как это видно по первому пункту указателя, первые 20 страниц
рукописи, посвященные специально проблеме текста. Аналогичный пропуск
фрагмента автографа, в котором также усиленно акцентирован термин «текст»,
отмечен ниже, в прим. 83 (см. также прим. 57). По всей видимости, настоящий
указатель составлялся М.М.Б. одновременно с указателем к работе «1961 год. Заметки»
с общей для обоих указателей целью — отметить те места своих рабочих записей,
которые так или иначе могут быть «полезными» для переработки ПТД в ППД (см.
преамбулу к «1961 год. Заметки»). Замысел же отдельной работы по проблеме текста
был к этому времени, вероятно, отвергнут. Об образе автора в связи с переработкой
книги о Достоевском см. прим. 83.
83. Пропуск в указателе 43-45 страниц рукописи, специально посвященных
проблеме текста (см. прим. 82). Формулировка 13 пункта указателя свидетельствует о
том выразительном обстоятельстве, что при реальном осуществлении переработки
ПТД в ППД М.М.Б., с одной стороны, использовал и те идеи ПТ, которые изначально в
указателе, т. е. в своего рода предварительном плане этой переработки, отмечены не
были, а, с другой стороны, разработал в ППд не все пункты, зафиксированные в
указателях. Так, с одной стороны, идея металингвистики, которая впервые была
высказана в настоящих записях (см. прим. 59) и которая текстуально расположена на
46 странице автографа, никак тем не менее не была отражена в формулировке
тринадцатого пункта указателя, фиксирующего именно данный фрагмент рукописи. Ни
в одном пункте указателя металингви-стика не только не была специально выделена,
но даже не была названа, однако впоследствии идея металингвистики была органично
введена и подробно разработана именно в ППД. С другой стороны, тема «образа
автора*, которая неоднократно возникает в указателе, из чего следует, видимо, думать,
что она изначально мыслилась в
489
качестве нового крупного тематического блока в перерабатываемой книге о
Достоевском, в ППД тем не менее практически не была вве дена (исключая беглые,
чисто констатационные упоминания).
1961 ГОД. ЗАМЕТКИ
Рукопись состоит из двух фрагментов разного характера, публиковавшихся в
предыдущих изданиях М.М.Б. раздельно. Первый из них (с. 329-339, до
разделительного интервала в тексте) при публикации в «Вопросах литературы», 1976,
№ 10, а затем в ЭСТ, 297-307, был произвольно включен в состав ПТ как ее
заключительная часть (см. в наст, томе выше комм, к ПТ). Второй большой фрагмент
(с. 339-360, начиная со слов «Переработать главу о сюжете у Достоевского») был
опубликован как самостоятельный текст: «Контекст-1976», с. 296-316 (публикация В.
В. Кожинова), под заглавием «План доработки книги 4 Проблемы творчества
Достоевского"»; ЭСТ, 308-327, под заглавием «К переработке книги о Достоевском».
489
В настоящем томе рукопись впервые публикуется в авторской композиции. Текст
записан в общей тетради синими чернилами, местами — простым карандашом. Все 92
стр. тетради исписаны полностью, до последней строки. Два составляющих текст
фрагмента отделены автором друг от друга на стр. 32 тетради интервалом. На обложке
тетради надпись синими чернилами: наискось в середине — «1961 год», внизу —
«Заметки»; в настоящей 1гу6ликации принимаем эту надпись как авторское заглавие
текста. Все страницы тетради пронумерованы автором простым карандашом; тем же
карандашом на обложке поставлено: «№ 2». Несомненно, эта нумерация тетради
связана с нумерацией тетради «№ 1», в которой записана ПТ (см. комм, к ней выше), и
обе нумерации производились одновременно, по окончании записей в тетради «№ 2», в
1961 или 1962 г. Таким обравторой как развитие проблематики первой. В самом деле, можно видеть, как
проблематика тетради «№ 1» плавно и органично переходит в тетрадь «№ 2», вероятно,
уже не ориентированную на написание специальной работы о тексте; о возможных
причинах и свидетельствах отказа автора от этого замысла см. в постраничных примечаниях (см., в частности, преамбулу и прим. 8, 9, 31, 82, 83 к ПТ и прим. 26 к
настоящим записям). В целом характер тетради «№ 2» определяет новый замысел,
вызванный событиями 1961 года (см. ниже) и относящийся к переработке старой книги
о Достоевском; второй фрагмент тетради и представляет собой непосредственный
приступ к этой работе, осуществленной в 1961-1963 гг. и определившей творческую
судьбу М.М.Б., переработке ПТД в ППД. В то же время, сопоставляя обе тетради и
составляющие их три текста — тетрадь «№ 1» (ПТ) и два фрагмента тетради «№ 2»,
можно рассматривать их как единое, взаимосвязанное, хотя и необычно организованное, целое. Можно считать, что сам автор своеобразно оформил тго целое, нумеруя
тетради и подчеркнув таким образом взаимосвязанность на фундаментальнотеоретическом уровне оощефилоссфско-общефилалогического и конкретнолитературоведческого замыслов.
Косвенным, но, как представляется, надежны**^ свидетельством фундаментальносмысловой связанности, во-первых, омш^етрадей и, во-вторых, первого и второго
фрагментов тетради «№ 2»^цвляетсятетрадям. В настоящем томе оба указателя публикуются непосредзом автор
рассматривая проблематику
характер составленных автором
490
етненно после текстов, к которым они относятся: ПТ и настоящих <Заметок».
Текстологический анализ формулировок различных пунктов этих указателей и,
главное, соотношение этих пунктов с составом самих записей в автограо^ах обеих
тетрадей говорят о том, что оба указателя составлялись не только одновременно (и,
видимо, в одно время с нумерацией двух тетрадей), но и достаточно целенаправленно и
были ориентированы на новый замысел переработки ПТД. Об этом говорит тот факт,
что материал ПТ и первого фрагмента второй тетради при фиксации в указателях
подвергался отбору, очевидно, целенаправленному, далеко не весь постраничный, и,
соответственно, тематический состав этих записей зафиксирован в указателях (см. о
характерных «пропусках» такого рода в указателе «№ 1» в прим. 57, 82-83 к ПТ); в
указателе «№ 2» опущены сс. 5-8, 12-13, 15-18 и 31 первого фрагмента автографа — в
то время как содержание второго фрагмента настоящих записей, непосредственно
490
относящегося к переработке книги о Достоевском, отражено в указателе «№ 2» полностью.
Материалы настоящего тома свидетельствуют о том, что цикл новых размышлений
автора над романом Достоевского, приведших к этой переработке, открывается в
начале 40-х годов. См. выше текст «К истории типа (жанровой разновидности) романа
Достоевского» и комм, к нему, а также — «<Риторика, в меру своей лживости...>»,
Доп., «<К вопросам самосознания и самооценки...>». О намерении «со временем снова
приняться» за Достоевского автор в 1946 г. писал Ь.В.Тарле (см. выше комм, к «К
истории типа...»). «Со временем» растянулось на полтора десятка лет, но в
публикуемых текстах 40-х годов размышления в направлении к новому
«Достоевскому» интенсивно идут. Можно выделить две основные крупные линии этих
размышлений:
1) Тема «истории типа» романа Достоевского, предполагающая восстановление
«исторической точки зрения», в свое время «по чисто техническим соображениям»
исключенной из ПТД, и дополнение «синхронического» подхода «диахроническим»
(ПТД, 3; см. комм, к «К истории типа...»). Это не значит, что при переработке книги
автор просто ввел в нее исторический фон, уже в готовом виде незримо стоявший за
ПТД Тексты 40-х гг. показывают, как новая «историческая точка зрения» на роман
Достоевского здесь формируется. Она формируется как результат освоения обширного
материала в ходе занятия автора исторической поэтикой романа в 30-е годы и
написания книги о Рабле (Р-1940). В текстах 40-х гг. идет отработка концепции
пространства и времени в романах Достоевского, категорий, остававшихся в тени в
ПТД. Категории эти рассматриваются в контексте развитой главным образом в Доп.
(на примере Шекспира) теории топографической картины мира, отличающейся
космическим символизмом и транспонирующейся в литературу из мифологического
мышления и народно-праздничной образности (понятие «топографического», как и
термин «хронотоп», применяющиеся в текстах 40-х гг. к Достоевскому, в дальнейшем
останутся не использованными в ППД, где содержание их в значительной мере будет
покрыто широко понятой «карнавальностью»). В текстах 40-х гг. формируется картина
«карнавально-мистерийного» пространства Достоевского, «просвечивающего» за
бытовым пространством: «За комнатами, улицами, площадями, несмотря на их
сгдоенную реалистическую типичность, снова сквозят (просвечивают^ полюсы,
пределы, координаты мира» (с. 98-99). Образы гоялдаой у Достоевского как
карнавальной площади, комнаты .Еадеольникова как внежизненного пространства,
«гроба», хронотоп-тнюрога» — уже присутствуют в этих текстах. Формулируется,
идея нелинейного, кризисного пространства-времени (времени как «Магометова
мгновения» — с. 74), сосредоточенного в кризисных,
491
хронотопических, эксцентрических точках, «изъятых из обычного хода жизни», «инфернальных, райских. . и чистилищных точках», чуждых связной поступательной
линии как принципу биографического романа или «романа эпохи»: «из всех его
романов не сложишь» такого романа, из кризисных точек «не сложишь линии
биографического или исторического становления» (с. 64). Хронотопическал концепция
творчества Достоевского, складывающаяся в 40-е годы, далеко не полностью уложится
в будущую IV главу ППД. Наблюдениями этих лет М.М.Б. намечает свой метод
мифопоэтического чтения Достоевского (ср. ст. В. Н. Топорова «О структуре романа
Достоевского в связи с архаичными схемами мифологического мышления», с посвящением М. М. Бахтину, и анализ в ней такого признака этой структуры, как
«отмеченные точки пространственно-временного континуума» — см.: В. Н. Топоров.
Миф. Ритуал. Символ. Образ. М., 1995, с. 200), метод, связанный через десятилетия с
491
опытами Вячеслава Иванова, прежде всего с его взглядом на роман Достоевского как
на великое исключение на фоне общей модели «современного романа», который он
понимал как форму «среднего, демотического искусства», отличая его от «большого,
гомеровского или дантовского, искусства» прежних времен (Вячеслав Иванов.
Борозды и Межи. Опыты эстетические и критические. М., «Мусагет», 1916, с. 10). Для
Иванова роман Достоевского явил собой на этом фоне восстановление черт большого,
всенародного искусства, наиболее чистой формой которого была для Иванова
греческая трагедия; отсюда его орормула романа-трагедии. М.М.Б. в ПТД, а затем в
ППД, оспорил эту формулу, но самое выведение Достоевского из ряда «современного
романа» (романа XIX века) и укоренение его в «большом времени» (более поздний
термин М.М.Б.) и традициях «большого, всенародного искусства», по Иванову (когда в
большом контексте рядом с именем Достоевского встают имена Шекспира и Данте,
как это мы видим в текстах М.М.Б. 40-х гг.), самую идею восстановления —
возобновил и укрепил собственным методом «топографического», «хронотопического»
анализа: «Предельная глубина внутреннего, говоря словами Августина, intern um
aeternum человека у Достоевского снова оказывается на топографической мистерийной
сцене (своеобразный этап этого пути у Гоголя)» (с. 98). Последнее замечание в скобках
объясняет значение гоголевской темы в разработках тех же 40-х гг. — как темы,
связанной не только с «дополнениями и изменениями к "Рабле"», но и с планами
переработки книги о Достоевском (к сожалению, в ППД эта гоголевская тема в новой
ее разработке не найдет отражения).
2) Дальнейшее продумывание «синхронного» (теоретического) подхода к роману
Достоевского в контексте главного направления философского размышления М.М.Б. в
40-е годы, определяемого формулой, давшей название его центральному тексту этой
поры — «JK философским основам гуманитарных наук» (см. в наст, томе выше).
ского романа с основами бахтинской антропологии начала 20-х гг. и ищется новое
обоснование «принципиального новаторства» Достоевского, отклоняющегося от
общего типа художественного «завершения» героя автором, описанного в АГ Тема о
Достоевском в заметках этого времени вплетается в размышление о проблеме
самосознания в «мире других» («это — мир других, и в -атот мир пришел я»), о
которой сказано, что «сейчас это узловая проблема всей философии» (с. 72). В
стремлении к уточнению и укреплению сЭДей идеи о необычной для классического
романа свободе героя по отношен**** к автору у Достоевского М.М.Б. опирается на
разработанную им в «особенности в эти годы (в «К философским основам
гуманитарных наук» тпкЧкде всего) ключевую оппозицию «личности» — «вещи». В
комментируемых «Заметках» на основе этой оппозиции сформулирован тезис о
личности
текстах этого времени
идеи полифониче492
как «новом предмете», открытом Достоевским, и «новой логике этого предмета»,
требующей новой позиции автора в его романе (с. 343). В этом контексте и гоголевская
тема является в специфическом повороте: мысль о повышенной этической
ответственности за героя у Гоголя именно вследствие предельно «заочного»,
овеществляющего способа его изображения (с. 76-77), — мысль, также оставшаяся в
набросках и не попавшая в ППД.
Обещанное Е. В. Тарле «со временем» возвращение к Достоевскому состоялось в
1961 г. в ситуации исторического поворота тех лет, позволившего не очень
определенным планам приобрести реальные очертания проекта переиздания книги.
492
Непосредственным стимулом к переходу долголетних размышлений в более
энергичную практическую стадию послужило предложение, полученное автором в
феврале 1961 г. от сотрудника итальянского издательства «Эйнауди» в Турине, в то
время аспиранта филологического факультета МГУ Витторио Страда. К этому времени
в зарубежной русской критике наблюдается (в конце 50-х годов) определенное
оживление интереса к старой книге ПТД\ ее «вспоминают» (то же происходит у нас:
см. ниже об обращении к книге в те же годы В. Б. Шкловского и Л. П. Гроссмана): в
нью-йоркском «Новом журнале», в т. 51 (1957) Р. Плетнев ведет полемику с ней,
используя статью Н. С. Трубецкого «О методах изучения Достоевского» («Новый
журнал», т. 4о, 1957), поскольку «здесь Трубецкой развивает положения, ранее его
высказанные Бахтиным» («Новый журнал», т. 51, с. 286), а в следующем номере
журнала появляется статья В. И. Седуро «Достоевский как создатель полифонического
романа (М. М. Бахтин о форме романа у Достоевского)», представляющая собой
апологетический реферат ПТД (т. 52, 1958, с. 71-93); в кн. 60 того же журнала (1960)
публикуется посмертно еще одна статья Н. С. Трубецкого — «О двух романах
Достоевского», — в которой автор ссылается на книгу М.М.Б., полностью разделяя ее
основную идею. В этой атмосфере возникает итальянское предложение. В
недатированном письме (полученном М.М.Б. в Саранске 22.02.1961, согласно
почтовому штемпелю) В. Страда сообщал о намерении издательства «Эйнауди»
подготовить полное собрание сочинений Достоевского по-итальянски и продолжал: «В
согласии с издательством я считаю целесообразным, чтобы предисловие этого, самого
полного собрания сочинении Ф. М. Достоевского принадлежало русскому
литературоведу. Я хорошо знаю Вашу очень оригинальную и интересную книгу о
творчестве Ф. М. Достоевского, и мне хотелось бы, чтобы эта книга была
вступительным исследованием итальянского перевода сочинений Достоевского. Но
надо было бы приспособить Вашу книгу для этой цели. Между прочим, и Вы, может
быть, хотели бы ее немножко перерабатывать» (АБ) .На следующий же день (23.02)
М.М.Б. ответил согласием и назначил срок представления работы через четыре месяца,
«так как моя книга потребует довольно значительной переработки и обновления»
(черновик письма к В. Страда хранится в АБ). В соответствии с целями итальянского
издательства, согласно которым книга М.М.Б., вместе с биографиче-еким очерком Л.
П. Гроссмана, должна была составить первый, вступительный том собрания сочинений
Достоевского (впоследствии не осуществившегося), М.М.Б. в этом письме, как и в ряде
других того же 1961 г., называет свода' будущую обновленную книгу «вступительной
работой» и «вредисловием»: «Над предисловием к Достоевскому я еще не линтя
работать» (письмо В. В. Кожинову от 3 мая 1961 — «MocjM*wrl992, № Ц-12, с. 178).
То же — и в комментируемых материалах к переработке книги: «Вступление: цель,
задачи и ограничения вступительного исследования» (с. 359); «В основном наше
вступительное исследование носит чисто теоретический характер» (с. 372). Под
«вступительным исследованием» здесь имеется в
493
виду вся книга в целом, что лишает силы толкование комментатора текста
«Достоевский. 1961 г.» в первой его публикации, полагающего, что «Бахтин
предполагал написать обширное предисловие (введение, вступление) к книге» и, таким
образом, «конструкция работы могла подвергнуться более решительной перестройке»
(ДКХ, 1994, № 1, с. 77).
Работа над «итальянским вариантом» шла в течение 1961 года; в начале 1962 г.
переработанная рукопись была отправлена в Турин, однако на этом дело там и
остановилось: задуманное собрание сочинений не состоялось, а итальянское издание
книги М.М.Б. вышло лишь в 1968 г., пять лет спустя после московского издания ППД,
493
с которого уже и сделан был перевод. Но с весны того же 1961 г. начинаются
энергичные действия ВВ. Кожинова с целью переиздания книги в Москве (в письмах
Кожинова к М.М.Б., хранящихся в АБ, они зафиксированы впервые в письме от
7.06.1961). В марте 1962 г. М.М.Б. получает официальное предложение от издательства
«Советский писатель», о чем 27 марта сообщает Кожинову: «Сейчас я приступаю к
новому пересмотру всей книги <...> Итальянский вариант книги меня не
удовлетворяет» («Москва», 1992, № 11-12, с. 180). Таким образом, переработка книги
имела два этапа, в 1961 и 1962 гг.
— для итальянского и московского издания. Комментируемые ниже три текста
отражают оба эти этапа работы. Соотношение этих подготовительных материалов с
осуществившейся книгой ППД, однако, требует особого комментария.
Еще на первом этапе работы, в самом ее начале, М.М.Б. писал Кожинову
(30.07.1961): «К переработке "Проблем" я только теперь приступаю. Думаю
ограничиться немногим (не позволяют ни время, ни листаж), а именно: 1) дополнить
критический обзор литературы, 2) углубить анализ особенности диалога и позиции
автора в полифоническом романе (последнее больше всего вызывало возражении и
недоумении) и 3) коснуться некоторых традиций Достоевского, в частности
карнавальной. Остальной текст думаю почти вовсе не трогать. Изложение я не
собираюсь делать популярнее» («Москва», 1992, № 11-12, с. 179).
На деле переработка этим не ограничилась и ближе коснулась текста книги и ее
терминологии (в том числе пришлось и «делать популярнее» эту последнюю).
Фронтальный анализ отличий ППД от ПТД будет дан в комментарии к ППД в т. 6
настоящего Собрания. Сейчас лишь можно выделить несколько основных направлении
в работе над новой редакцией книги: 1) введен вопрос о новой целостной авторской
позиции в полифоническом романе Достоевского (акцент на этой теме выразился в
изменении заглавия второй главы
— «Герой и позиция автора по отношению к герою в творчестве Достоевского»
вместо «Герои у Достоевского» в ПТД); 2) разработан тщательнее вопрос о диалоге у
Достоевского; именно в издании 19оЗ г. появилось разграничение «внешнего
композиционно выраженного диалога», «микродиалога» и «объемлющего их большого
диалога романа в его целом» (ППД, 57, 357); 3)широко введены темы исторической
поэтики и жанровой традиции, заново, по существу, написана IV глава; 4) поставлена
проблема металингвистического изучения слова (ППД, 242-247); 5) произведено
систематическое устранение социологической терминологии по всему тексту,
проведена переориентация исследования с язык» социологической поэтики 20-х гг. на
язык исторической поэтики; в целям акцент на исследование поэтики Достоевского
выразился в изменентмшзвания книги.
Все эти темы, хотя и в разной степени, отражены<в комментируе-мых материалах. В
то же время легко заметить, что их содержание значительно шире практической цели
доработки книги. В одном из текстов 40-х гг. записано: «Первоначальные черновые
наброски До
494
стоевским целого, сцен и диалогов, раскрывающих филогенезис его формы
(мениппова сатира)» (с. 75). Наблюдения над особым характером творческого процесса
Достоевского, как он отразился в его черновиках, «резко отличного от творческого
процесса других писателей (например, Л. Толстого)», вошли в ППД: «Б черновиках
Достоевского полифоническая природа его творчества и принципиальная
незавершенность его диалогов раскрываются в сырой и обнаженной форме» (ППД, 55).
И можно сказать, что комментируемые лабораторные материалы М.М.Б. в этом
отношении весьма подобны черновым тетрадям самого Достоевского к его романам.
494
Как известно, особенность этих последних — в том, что они представляют собой не
черновые редакции текста произведения ( таких у Достоевского после «Преступления
и наказания», собственно, мы не имеем), а чрезвычайно сложно развитые проспекты и
планы его содержания, характеров, сюжетных линий, слов (позиций) героев, при этом
воз можности смыслового и сюжетного развития имеют самостоятельный интерес, не
поглощаемый окончательными решениями готового текста романа; только у
Достоевского черновые сюжеты достигают такого развития, и для хорошего читателя
Достоевского его черновые тетради к романам представляют самостоятельное
интересное чтение. Следующие одна за другой черновые записи М.М.Б. к его новому
«Достоевскому» — это тоже «наброски целого» и «филогенезис» замысла,
превышающего реальное осуществление, с преобладанием смысловых возможностей
над конкретной работой с текстом. Любопытно, что определение «филогенезиса
формы» Достоевского как менипповой сатиры как бы переходит в характеристике
М.М.Б. на самые свойства творческого процесса писателя в его черновых тетрадях;
очевидно, имеется в виду такая особенность жанра, как «исключительная свобода
сюжетного и философского вымысла» (ППД, 152); черновые материалы к «Идиоту»
или «Подростку» демонстрируют высшую степень такой свободы, с какой возникают и
ломаются планы, проигрываются схемы целых романов, стремительно и радикально
меняющиеся; это кипящий котел, в котором характеры и сюжеты сливаются, склеиваются и разделяются, расщепляются, до противоположности изменяются. Пользуясь
бахтинским уподоблением, хочется и на собственные его лабораторные тексты к
новому «Достоевскому» взглянуть как на своего рода теоретическую мениппову
сатиру самого Бахтина. Изобилие содержания в этих текстах, лишь весьма частично
использованное затем в ППД, делает их самостоятельным материалом для суждений о
концепции Достоевского у М.М.Б.; эта концепция не дана нам полностью в книгах
1929 и 1963 гг. и подлежит реконструкции также на материале представленных в
настоящем томе лабораторных записей М.М.Б. 40-х — начала 60-х годов.
В их ряду комментируемые «Заметки» были, похоже, первым по времени текстом,
явившимся непосредственным приступом к переработке книги: автор еще исходит из
двухчастного строения книги, как в ПТД (с. 349). Первая же фраза: «Переработать
главу о сюжете у Достоевского» — выдвигает на первый план исторические проблемы,
связанные с будущей IV главой. Однако в целом они не преобладают, и основным
содержанием текста являются теоретические обоснования и уточнения по самому
острому и спорному вопросу об активности автора и его особой позиции у
«'Достоевского. Из вопросов исторических особенного внимания заслуживает фраза со
скрытым адресом — о сократическом диалоге*' пришедшем на смену трагическому
диалогу, как первом шаге, в .истории нового романного жанра (с. "348-349). Фраза эта
отсылает к поворотному пункту размышления неназванного здесь Ницше в его
«Рождении трагедии из духа музыки» (см.: Фридрих Ницше. Сочинения в двух томах.
М., 1990, т. I, с. 110-115) и, таким образом, обнаруживает один из скрытых источников
концеп
495
ции М.М.Б., развившейся в ином направлении от того же исходного пункта, нежели
исходившая из той же книги Ницше идея романа-трагедии Вяч. Иванова. Из
ницшевской идеи диалога-помана как завязки нового европейского художественного
цикла М.М.Б. вывел свою теорию прозаической художественности, признав ее,
вопреки Иванову, равнодостойной эпическому и трагическому канону; с этой линией
европейской литературы он и связал Достоевского. В материалах следующего этапа
переработки книги (публикуются в 6 т. наст. Собрания) автор возвращается к той же
495
теме, подчеркивая, что не из драматического диалога рождается диалогическая линия
европейской прозы; она, напротив, рождается из разложения трагического диалога
важнейший теоретический пункт «Заметок» — обоснование романа Достоевского
исходя из нового открытого им предмета и «новой логики этого предмета», словно
диктующей автору его новую и необычную позицию. Достоевский открыл личность —
таков озадачивающий, принимая во внимание века развития европейской личности,
тезис М.М^Б. Тем не менее утверждается это со всей серьезностью. Речь идет о таком
новом уровне понимания (видения — у художника) человека как личности, которое
равнозначно ее — впервые — художественному открытию. Эта мысль варьируется в
различных взаимоэквивалентных терминах: такова красивая фраза о том, что Достоевский сумел увидеть дух, «как до него умели видеть только тело и душу человека» (с.
345). Эта мысль отсылает к АГ, трактующему об эстетическом оформлении тела и
души человека-героя, при активном сопротивлении его духа, действующего здесь как
не подлежащая эстетическому завершению философская категория. Однако у Достоевского, продвинувшего «эстетическое видение вглубь», именно это сопротивление
личности-духа делается источником новой активности автора, активности «более
высокого качества», уподобляемой М.М.Б. в этом тексте «активности бога в
отношении человека» (с. 342). Этот теологический аспект теории авторства М.М.Б.,
присутствующий потенциально как в АГ, так и в книге о Достоевском,
проговаривается именно здесь, в непубличном, лабораторном тексте. В этом аспекте
являются и категории монолога и диалога: о^юрмулируется понятие «монологизм в
высшем смысле» (с. 341) как очевидное противоположение фюрмуле «реализма в
высшем смысле» у Достоевского. В целом комментируемые «Заметки» содержат такой
философский комментарий к концепции полио^онического романа, какой в самой
книге открыто не проговорен.
Можно составить перечень тем и найденных формулировок, оставшихся здесь, в
разработках, и в ППД не вошедших; наиболее значительные из них: вопрос об
исповеди как жанре, «форме целого», и как предмете изображения, и о фюрмах ее
трансформации у Достоевского; линия критики психоаналитического подхода
кДостоевско-му (в частности, предполагавшаяся полемика со статьей П. С. Попова см.: «Достоевский. 1961 г.» и комм, к нему); «Достоевский и сен тиментализм* как
сформулированная возможная тема и связанные с ней мысли о неполноценности
сентиментально-гуманистического раз-веществления человека, о «низших видах
любви»; различение веры и «чувства веры»; о способах выражения человека «от тела
до слова»; «проблема катастрофы»; сопоставления с «Волшебной горой» Т. Манна и
другими западными романистами. Особенно значительно развита здесь, в проспекте,
тема смерти у Достоевского и Толстого, «смерти для других», «смерти извне» и
«смерти для себя»,^«смерти изнутри»; в ППД эта тема отражена гораздо более
лаконично (/Щ7, 98). Нереализованными остались заявленные определения важнейших
категорий (голоса, монологизма) и намеченные типологии (типы людей по их
отношению к высшей ценности, типы мировоззрений), как и про
496
грамма полемик, долженствовавших быть введенными в книгу (в ее вторую главу,
см.: «Достоевский. 1961 г.»).
Некоторые абзацы в рукописи отчеркнуты автором слева на полях простым
карандашом. Обычно М.М.Б. таким способом при повторном просмотре рукописи
выделял места, намеченные к использованию в будущей книге; некоторые из этих мест
фиксируются далее в примечаниях.
Замыкающие настоящий том три лабораторных фрагмента 1961 -1963 гг.
непосредственно предшествовали переработке книги о Достоевском или на разных
496
стадиях сопровождали ее. Другой слои этой деятельности, ближе соотносящийся с
прямой работой над текстом книги, представляют записи, публикующиеся вот. наст.
Собрания. Там же будут опубликованы относящиеся к процессу переработки пометы
автора на страницах принадлежавшего ему экземпляра ПТД. В комментариях к
настоящему тому эти записи и пометы частично используются.
1. Уже первая фраза настоящих записей свидетельствует, что термин «текст*
потерял для М.М.Б. специальный интерес связанный с замыслом отдельной работы по
проблеме текста (ПТ). Тот глобально гуманитарный смысл, который в ПТ придавался
тексту, здесь сразу же «отдается» произведению. Текст же понимается здесь уже не как
синоним высказывания, т. е. единицы речевого обшения, а как единица системы языка
(см. прим. 19). Тем самым как оы устанавливается своеобразная иерархия терминов с
довольно жестким внутренним разделением: текст — это высказывание, взятое в
изоляции от диалогических отношений, т. е. фактически в изоляции от своей фундаментальной, по М.М.Б. природы (текст — это логический препарат высказывания,
полученный при его условном изучении с точки зрения системы языка); высказывание
— это реальная единица речевого общения (не подвластная компетенции системноязыковых исследований), произведение — это «художественное высказывание»
вторичного жанра, т. е. усложненный тип высказывания. Между текстом, с одной
стороны, и высказыванием и произведением, с другой, утверждаются те же жесткие
границы, которые уже сформулированы к этому времени М.М.Б. для
противопоставления лингвистики и металингвистики. О возможных причинах такого
снижения значимости категории текста см. прим. 26.
Обращение в начале настоящих записей именно к художественным высказываниям
косвенно свидетельствует также, что к моменту их написания мысль М.М.Б.
ориентировалась уже не на лингвистическую или филосооЪско-филологическую
работу, а на, возможно, переработку книги о Достоевском, т. е. на эстетику словесного
творчества. В этом смысле переход ко второму фрагменту настоящих записей (прямо
посвященных переработке книги о Достоевском) оказывается достаточно
естественным. См. также прим. 2.
2. Судя по прямым словесным и композиционно-логическим совпадениям (см.,
напр., ППД, 244), разрабатываемая здесь и ниже проблематика была впоследствии
использована при переработке книги о Достоевском. В этом фрагменте отчетливо
выражено отмеченное в прим. 1 снижение общефилологической значимости категории
текста. Ниже в этом же абзаце достаточно ощутима и та (отмеченная в прим. 31 к ПТ)
осторожно-гипотетическая модальная интонация, которая почти всегда сопровождает
бахтинские высказывания о возможности диалогических отношений между стилями
или диалектами, если их рассматривать с точки зрения системы языка.
3. Cii прим. 9 к РЖ.
497
4. Возможно — как это отмечено в ЭСТ, 423 — имеется в виду книга Spitzer L.
Romanische Literaturstudien. 1936-1956. Tübingen, 1959.
5. О противоречивой контекстуальной «судьбе» в бахтинских текстах
словосочетания «речевой субъект* см. прим. 31 к ПТ.
6. В литературоведческом аспекте о внеидеологичности языка по Виноградову см.
«О языке художественной литературы». М., 1959, с. 438 (в дальнейшем ОЯХЛ)\ о
социально-идеологических характеристиках языковых стилей — ОЯХЛ, 463, 473-490.
См. также прим. 48-49, 53, 71 к ПТ. О лингвистическом аспекте этой же проблематики
у Виноградова в оценке М.М.Б. см. прим. 1, 48, 50, 61 к РЖ, а также преамбулу и
комментарии к «Из архивных записей к "Проблеме речевых жанров"».
497
7. Имеется, вероятно, в виду бахтинская концепция непрямого говорения, в
частности, проблема авторской позиции в полифюническом романе (см. прим. 39 к
ПТ).
8. См. прим. 17 к ПТ
9. О категории ценности у М.М.Б. см. прим. 69 к ПТ
10. См. прим. 1 к РЖ и 16 к ПТ.
11. Несобственная прямая речь, а также «скрытая*, «полускрытая*, «рассеянная* и
другие формы передачи чужой речи (см. третий по счету абзац ниже по тексту,
отмеченный в прим. 13) применительно к русскому языку были подробно исследованы
в МФЯ (СВР, где также анализируются аналогичные явления, не было в то время
опубликовано). О ситуации, сложившейся к тому времени вокруг понятия
несобственной прямой речи, и о написании этого термина см. прим. 34 к работе «Язык
в художественной литературе». Ко времени создания настоящих записей эта ситуация
практически не изменилась: несобственная прямая речь продолжала пониматься в
монологическом ключе (см., в частности, специальный раздел о несобственной прямой
речи и об аналогичных синтаксических формах в академической «Грамматике
русского языка» под редакцией В. В. Виноградова, т. 2. М., 1954, с. 404-434).
Упоминается несобственная прямая речь, но в основном — мимоходом, и в ОЯХЛ
Виноградова (с. 226, 228, 476 и др.). где она интерпретируется либо как прием индивидуальной (а не оощеязыковой) стилистики, выходящий далеко за пределы
стилистических явлении общелитературной речи, либо как прием самоопределения
или самораскрытия (с. 477) персонажей (о критическом оахтинском отношении к
виноградовской — монологической с точки зрения М.М.Б. — идее самораскрытия см.
прим. 49 к
12. Ср. аналогичную критику теории поэтического языка у русских фюрмалистов и
их понимания творчества как перекомбинирования готовых элементов в ФМ, 133, 190
и др. (показательно в этом смысле, что в конце данного абзаца речь также идет именно
о «поэте»). Впоследствии этот упрек М.М.Б. достанется по наследству структуралистам.
13. См. прим. 11.
14. Каждый из использованных здесь терминов — «вещь* и «смысл* — имеет у
М.М.Б. еще по одному коррелирующему противопоставлению: «вещь*
противопоставляется «личности* («К философским основам гуманитарных наук»;
ЭСТ, 367, 370), «смысл* —
498
«значению* (см. прим. 44 к РЖ). «Личность» и «смысл» смыкаются в
специфическом «смысловом персонализме» М.М.Б. (см. прим. 60 к ПТ) Существуют в
бахтинских текстах и другие терминологические вариации этого противопоставления
(см. прим. 1 к работе «К философским основам гуманитарных наук»).
15. В РЖ имеется обратная формула: «Слова языка — ничьи...* (РЖ, 192), но
противоречия здесь нет, так как в РЖ и в настоящих записях используются разные
логико-риторические стратегии построения текста: текст РЖ построен на условном
признании соссюровского по происхождению противопоставления речи и системы
языка (подробно о постепенном становлении такого риторического замысла см.
комментарии к блоку архивных подготовительных материалов к РЖ), при этом
прокламируемая в РЖ «ничейность» слова мыслится только и именно в пределах
системы языка; в настоящих же записях, развивающихся внутри имманентного
смыслового пространства уже выделяемой М.М.Б. особой филологической
дисциплины — металингвистики, системно-языковой аспект принципиально отсечен.
Очевидно, что М.М.Б. целенаправленно обыгрывает понятие «ничейностш слова в
498
зависимости от контекстуальных установок того или иного из своих текстов. Особое
внимание М.М.Б. к понятию «ничейности* могло быть связано с тем, что оно
восходило в отечественной лингвистике к небезразличной для него языковой
концепции Г. Г. Шпета (см. прим. 2 к работе «К философским основам гуманитарных
наук»).
16. О двусторонней диалогической ориентции слова на преднайденную и
предвосхищенную чужую речь см. СВР, 89-95.
17. Об особенностях бахтинского понимания модальности (в противоположность
виноградовскому) см. прим. 31 к РЖ.
18. О бихевиоризме см. прим. 8 к РЖ.
19. См., в частности, критику смешения системно-языковых и речевых свойств в
понятии предложения в РЖ, 176 и др. В настоящем абзаце М.М.Б. однозначно
отказывается от термина текст как общефилологического (металингвистического)
понятия, перенеся его исключительно в область системной лингвистики (см. прим. 1).
20. См. прим. 15.
21. «... разум неистощим в соображении понятий, как язык неистощим в соединении
слов. Все слова находятся в лексиконе; но книги, поминутно появляющиеся, не суть
повторение лексикона» (Пушкин А. С. «Об обязанностях человека», сочинение
Сильвио Пеллико. — Поли. собр. соч. в 10 т. М.-Л., 1964, т. 7, с. 472). О возможном
(виноградовском) источнике, «оживившем» для М.М.Б. эту цитату, см. прим. 7 к Д II.
22. О специфике употребления в данном фрагменте понятия «речевой субъект* см.
прим. 31 к ПТ
23. О мениппее Лукиана «Разговоры в царстве мертвых» и о подражаниях ей, в
частности, в России XVIII в. см. ППД, 190.
24. Вероятно, использование здесь именно этого примера является скрытой
аллюзией к критике В. В. Виноградовым того «широкого» понимания термина
«высказывание», которое частично аналогично бахтинскому: «Высказыванием же
является (у оппонентов Виноградова — Л.Г ) и простое утверждение «Да», и замечание
«Прекрасная
499
погода сегодня», и роман в несколько томов» (Предисловие vГрамматике
русского языка», т. 2 Часть I. М. 1954, с. 83)
25. О диалогической (и монологической) речи в узком смысле см. прим. 75 к ПТ
26. Принципиальный отказ от рассмотрения высказывания изнутри системы языка в
качестве одной из ее единиц — закономерное следствие обособления металингвистики
как особой филологической дисциплины. Появление именно такого ракурса (вопроса о
возможности или невозможности рассматривать высказывание как единиц)7
последнего, над синтаксисом, уровня языковой структуры), вероятно, связано с тем,
что к концу 50-х гг. в результате дискуссий о стилистике и структурализме мало
занимавшая до этого отечественную лингвистику проблема соотношения языка и речи
была максимально заострена. Отсюда — естественно обострился и вопрос о сходстве
или различии системно-языковых и речевых закономерностей (см. отражение этих
споров в статье Т. П. Ломтева «Язык и речь» в Вестнике МГУ. Сер. 7. 1961, № 4).
Принципиально стоял тогда в связи с этим и вопрос о статусе текста — рассматривать
или не рассматривать его в качестве единицы системы языка. Внимательно
прислушиваясь к обсуждению этого вопроса, М.М.Б., вероятно, предугадал, что в конечном счете чаша весов склонится в сторону признания за текстом статуса системноязыковой единицы, причем именно в соссюрианском смысле, что, конечно, никак не
согласовывалось с бахтинскими идеями и что, вероятно, и послужило одной из
основных причин отказа М.М.Б. от диалогического компромисса с термином «текст»,
499
а, соответственно, и от замысла отдельной работы о тексте. Предвестником
установления такого (системно-языкового) понимания текста в отечественной
лингвистике могла быть для М.М.Б. статья Б. В. Горнунга (знакомого М.М.Б., в
частности, по защите диссертации и достаточно высоко ценимого) «О характере
языковой структуры». — «Вопросы языкознания», 1959, № 1. Этот номер журнала
хранится в АБ, и, судя по многочисленным (в сравнении с другими прочитанными
М.М.Б. работами) бахтинским пометам на полях, эта статья вызвала у него особый
интерес. Горнунг, употребляя термины «текст» и «высказывание» как синонимы,
утверждает в этой статье, в частности, что текст не должен противопоставляться
системе языка, что в тексте и в системе языка действуют одни и те же закономерности
(ук. соч., с. 45; этот абзац статьи Горнунга отмечен М.М.Б. четырьмя вертикальными
чертами, к последней из которых добавлены три горизонтальных черточки — как бы
«минусы», что, исходя из свойственной М.М.Б. системы помет, по-видимому,
означает, во-первых, повышенную значимость темы — отражено количеством
вертикальных черт, и, во-вторых, несогласие М.М.Б. с выводами Горнунга — отражено
в горизонтальных черточках-«минусах»). «Предчувствие» М.М.Б. во многом оказалось
верным. Впоследствии в рамках лингвистики текста понимание последнего как
высшей единицы синтаксического (или — надсинтаксического) уровня системы языка
действительно получило широкое распространение; введен был даже специальный
термин «текстема* (историю и библиографию вопроса см. Москаль екая О. И.
Грамматика текста. М., 1981, с. 4-12). Аналогичное (расходящееся с бахтинским)
понимание текста сложилось в дальнейшем и в отечественном структурализме.
27. Ср. о лазейке сознания и слова у героев Достоевского в ППД, 312-316.
28. В «Докторе Фаустусе» Т. Манна (атрибутировано в ЭСТ. 404) черт в беседе с
Леверкюном дает описание ада как «глубокого, звуко
500
непроницаемого, скрытого от божьего слуха погреба» (Собр. соч. в 10 т М., 1960, т.
5, с. 319-320) В своей «Истории «Доктора "Фаустуса"» Т. Манн комментирует это
описание ада как немыслимое, «если не пережить в душе все ужасы гестаповского
застенка» (там же, т. 9, с. 29).
29. Понятие «третьего*, часто возникающее в бахтинских текстах, не имеет
однозначного толкования, будучи всякий раз по-новому контекстуально
интерпретируемым образом. Ср. о слове как драме с тремя персонажами выше в
настоящем тексте (с. 332), по отношению к которому подразумеваемый в
комментируемом здесь фрагменте «третий» фактически становится «четвертым»; ср.
также понимание «третьего» как «героя» высказывания, т. е. как того, о ком или о чем
говорится («Слово в жизни и слово в поэзии», с. 254-256). Понимание «третьего» как
«нададресата» достаточно редко встречается в бахтинских текстах, чаще говорится
либо о «заочных словах» третьего, которые сам говорящий, напр., герой романа,
принципиально не может услышать, т. е. как об авторском слове, либо об общей для
говорящего и слушающего абстрактно-«объективной» (фактически безличной)
позиции третьего в науке — Зал., 348; либо о третейском суде в риторическом слове —
Зал., 355. Указанные контекстуальные понимания «третьего» даются у М.М.Б. (в
отличие от понятия «нададресата») в негативных тонах, так как «третий» в этих контекстах выступает как тот или иной заместитель безличного монологического
сознания. В понятии же «нададресата» предполагается установка на Абсолютного
Другого, на Его справедливое и оправдывающее понимание, т. е. на встречу «я» и
«другого» в последней диалогической инстанции. Хотя окончательных акцентов
М.М.Б. в комментируемом фрагменте не ставит, однако здесь, вероятно,
предполагается религиозная перспектива, которая более отчетливо просматривается в
500
ранних работах (АГ, ФП), и в более поздних записях (Зап., 356). Следует, видимо,
также оговорить, что такая установка на абсолютную «услышанность», на активное
понимание «нададресатом» не совпадает, а противостоит идее ложного, по М.М.Б.,
пассивно-дублирующего понимания в герменевтике (см. прим. 46 к ЯГ), поскольку
здесь не предполагается никакого смыслового слияния с «нададресатом»; дистанция и
диалогические отношения между говорящим и слушающим здесь не только сохранены,
но — в определенном смысле — усилены.
30. См. Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 3, с. 29.
31. См. прим. 61 к РЖ.
32. Понятие воспроизводимости языковых единиц в отличие от невоспроизводимости речевых элементов часто использовалось в то время как аргумент
за пазведение системы языка и речи — см., напр., Смиршщкий А. И. объективность
существования языка. Материалы к курсам языкознания. МГУ, 1954, с. 12-33 и статью
югославского лингвиста Ф. Ми куш а «Обсуждение вопросов стуктурализма в рамках
дискуссии о структурализме в «Вопросах языкознания», 1957, № 1, с. 2/-34 (последняя
статья имеет в хранящемся АБ номере журнала многочисленные пометы М.М.Б.).
33. «Братья Карамазовы», ч. 2, кн. 5, гл. III ; Достоевский, т. 14, 215.
34. См. в наст, тексте выше, с. 337-338.
35. СМ. ППД, 224, 300.
501
36. См. в «Истории "Доктора Фаустуса"» самого Т Манна, на которую есть ссылка в
ППД (224): «В эпоху моей жизни, прошедшую под* знаком "Фаустуса' , интерес к
больному, апокалиптически-гротесковому миру Достоевского решительно возобладал
у меня над обычно более сильной приязнью к гомеровской мощи Толстого» (Томас
Манн. Собр. соч. в 10 томах, т. 9. М. 1960, с. 287).
37. Достоевский, т. 2, 184. Этот пример из «Неточки Незвановой» корректирует
замечание в ППД по поводу изложения замысла оперы Тришатова в «Подростке», что
«Достоевский, за исключением этого места, в своих произведениях почти никогда не
говорит о музыке» (ППД, 298).
38. Достоевский, т. 13, 352-353.
39. См. ППД, 300.
40. Ср. ППД, 7; здесь Достоевский как автор сопоставлен с ге-тевским Прометеем, т.
е. с героем знаменитого стихотворения Гете (1774).
41. Тургенев выступает в этих заметках контрастным фоном для Достоевского; см.
также замечание в следующем варианте проспекта к переработке (с. 368). Ср., однако,
далее об особом случае Базарова у Тургенева (см. прим. 46).
42. К сравнению с шахматами де Соссюр прибегал, чтобы иллюстрировать свое
понимание системы языка и себе тождественной значимости его единиц, подобно
значимости шахматных фигур (см.: Ф. Соссюр. Труды по языкознанию. М., 1977, с.
120-122). М.М.Б. это соссюровское сравнение здесь нужно для отграничения художественных фюрм от «форм языка».
43. В более поздних черновых материалах (т. 6) это положение развито в связи со ст.
Л. П. Гроссмана «Достоевский-художник» в академическом сборнике «Творчество Ф.
М. Достоевского» (М., Наука, 1959), отклик на который М.М.Б. ввел в ППД (57-60). В
этих материалах записано: «оригинальная трактовка полифонии у Гроссмана подводит
нас к общеэстетическим и искусствоведческим проблемам полшфюнии, как они
ставятся в последнее время на Западе. Гроссман справедливо называет это
обновлением западной эстетики. Этот интерес к полифонии возник, по-видимому, вне
всякой прямой связи с творчеством Достоевского. Но это отражает глубинные сдвиги в
общекультурном и общеэстетическом сознании, которые подготовлялись уже давно и
501
которые раньше всех сумел гениально почувствовать и реализовать в своих
произведениях Достоевский» (дальнейший текст записи совпадает с текстом ППД, 60,
первый абзац).Повод к этим замечаниям дало следующее место в ст. Гроссмана:
«Аналогичные обновления классической эстетики наблюдаются в наши дни в западной
литературе. Интересны соображения сорбоннского проф. Шарля . 1ало о расширении и
обновлении прежнего несколько статичного и замкнутого понятия "прекрасной
фюрмы" новым принципом "художественнного контрапункта", одушевляющего своим
динамизмом воссоздание непосредственной жизни: "С этой новой точки зрения каждое
ценное произведение искусства должно рассматриваться как ввод в партитуру
нескольких голосов или партий (по терминологии полифонистов) с целью выделить
каждый голос как в^его собственной структуре, так и в его соотношениях (созвучных
или детонирующих) со всеми другими звучаниями в единой гармонии целого.
гЗогдасно п-ому методу картина должна рассматриваться как контрапункт кра
502
сок, объемов, линий, планов, перспектив, подлинных или стилизованных типов,
общих или индивидуальных внушений, навеянных зрителю сюжетом ит. д. В той мере,
в какой картина утверждает между этими пластическими "голосами" необходимые
созвучия и диссонансы или же напротив дает ненужные разрывы и штампы,
произведение прекрасно или уродливо" Это и есть "полифоническая структура"
(Charles Lalo, предисловие к кн.: У. G. Krqfft. Essai sur l'esthetique de la prose. Paris,
1952)» По ходу своих соображений о музыкальных соответствиях композиционным
принципам Достоевского Гроссман ссылается на книгу М.М.Б. 1929 г. (сб. «Творчество
Ф. М. Достоевского», с. 341-342). В то же время в той же черновой записи, где М.М.Б.
подхватывает суждение Гроссмана об обновлении классической эстетики, рядом
сказано: «Существенных концепций в свете нашего тезиса (полифония) не было» (АБ).
44. Это философское новообразование М.М.Б. весьма значительно для
характеристики его мировоззренческой позиции: понятие, образованное как очевидное
противоположение «реализму в высшем смысле» у Достоевского и переключающее
бахтинскую идею монологизма в религиозно-философский план, присутствующий как
в ПТД, так и в ППД неявно (принятая от Вячеслава Иванова формула «ты еси* как
правило истинного отношения человека к человеку заключает в себе цитирование
молитвы «Отче наш» как обращения к личности Бога). Монологическая «в высшем
смысле» позиция, не принимаемая, по М.М.Б., Достоевским, как и самим М.М.Б.,
формулируется далее словами о Боге, который «может обойтись без человека, а
человек без него нет». Ей противопоставляется понимание диалогического отношения
между Богом и человеком, в котором Бог заинтересован как в партнере по диалогу.
45. Ср. в ППД: платоновский диалог — «не педагогического типа, хотя монологизм
и силен в нем» (ППД, 108). Эту монологическую тенденцию диалога Платона автор
подчеркивал в ПТД, противопоставлял ему диалог Иова как тип диалога, «внутренне
бесконечного», «ибо противостояние души Богу — борющееся или смиренное — мыслится в нем как неотменное и вечное» (ПТД, 240). Эта ориентация на библейский, а не
платоновский диалог состояла в существенном параллелизме с развивавшейся
одновременно и независимо диалогической философией Мартина Бубера, о книгах
которого «Я и Ты» (1923) и «Диалог» (1930) Л. Шестов в 1933 г. сказал, что хотя в них
почти не говорится о Библии, они в последнем счете представляют собой комментарий
к ней (см.: Мартин Бубер. Два образа веры. М., 1995, с. 421). Это противопоставление
платоновского и библейского диалога, резко прочерченное в ПТД, будет
нейтрализовано в ППД. Весь этот абзац отчеркнут автором на полях.
46. Ср. о Базарове в записи лекции М.М.Б. по истории русской литературы 20-х гг.
(запись Р. М. Миркиной): «Но с героем, в котором автор увидел силу и хочет
502
героизовать, он не может справиться. Перед Базаровым все пасуют, пасует, виляет и
хочет польстить и сам Тургенев, но вместе с тем и ненавидит его» (т. 2 наст.
Собрания).
47. Г М. Фридлендер. Роман «Идиот». — В сб.: Творчество Ф. М. Достоевского. М.,
1959, с. 173-214.
48. Этот взгляд на соотношение «последних вопросов» и «промежуточных звеньев»
у Достоевского несколько корректирует сказанное о том же в ПТД: «И общение этого
«я» с другим и с другими происходит прямо на почве последних вопросов, минуя все
промежуточные, ближайшие формы» (ПТД, 240-241).
503
49. В книге В. Леттенбауэра, представляющей собой краткий курс истории русской
литературы от древней до советской литературы 20-х гг., встречается лишь выражение
«ландша4гг своей души», относящееся не к Достоевскому, а к Раскольникову:
«Внешняя среда, природный мир не имеют самостоятельного существования в творчестве Достоевского, соотнесены с человеком, одухотворены; комната, в которой он
живет, это ландшао^гг его души...» (das Zimmer, in dem er lebt, ist die Landschaft seiner
Seele) — см.: Russische Literaturgeschichte von Wilhelm Lettenbauer. Frankfurt/MainWien, 1955, S. 250).
50. Выразительную параллель этому тезису, укорененному в бахтинской философии
поступка, представляет программная статья его старшего брата «Разложение личности
и внутренняя жизнь» (1930/1931) с отрицанием «внутренней жизни» как
самодовлеющего феномена, составившего духовную болезнь европейского XIX столетия: «Итак, "внутренняя жизнь не имеет собственно никакого положительного
содержания»; «я» личности «не есть нечто чисто внутреннее, столь же мало, впрочем,
как и нечто чисто внешнее <...> Чтобы все, что внутри , было вовне» (Я. М. Бахтин.
Статьи. Эссе. Диалоги. М., 1995, с. 51-52).
51. Тезис, который можно считать последним словом — и разъяснением —
бахтинской социологии, присутствующей в его языке со второй половины 20-х гг., в
том числе активно и в ПТД, когда на язык социологических категорий он стал
переводить свою философию общения, свою концепцию слова-высказывания и свою
поэтику — что стало возможно благодаря широкому пониманию социального как
межчеловеческого отношения вообще, отношения не только коллективов, классов и
социальных групп («внешняя» социальность), но и экзистенциального отношения двух
людей, бахтинских «я» и «другого», автора и героя. Ср. о «внутренней» социальности в
те же 20-е годы у Л. С. Выготского: «Очень наивно понимать социальное только как
коллективное, как наличие множества людей. Социальное и там, где есть только один
человек и его личные переживания. И поэтому действие искусства, когда оно
совершает катарсис и вовлекает в этот очистительный огонь самые интимные, самые
жизненно важные потрясения личной души, есть действие социальное» (Л. С.
Выготский. Психология искусства. М., Искусство, 1968, с. 316). Бахтинское понятие
«социальной опенки», разработанное в ФМ (162-174) и действующее в ПТД (4), близко
этому пониманию социального действия искусства. Однако в новой редакции книги о
Достоевском социологическая терминология более автору не нужна, и он здесь
полностью избавляется от нее.
52. Ср. в настоящих «Заметках» выше об аде как «абсолютной не услышанности» (с.
338).
53. Ср. в ст. 1924 г. «Проблема содержания, материала и формы в ловесном
художественном творчестве»: «Не должно, однако, представлять себе область
культуры как некое пространственное целое, имеющее границы, но имеющее и
внутреннюю территорию. Внутренней территории у культурной области нет: она вся
503
расположена на границах, границы проходят повсюду, через каждый момент ее, систематическое единство культуры уходит в атомы культурной жизни, как солнце,
отражается в каждой капле ее. Каждый1 культурный акт существенно живет на
границах: в этом его серьезностъ4^'значительность; отвлеченный от границ, он теряет
почву, становится4'пустым, вырождается и умирает» (ВЛЭ, 25). Характерное для
мысли МГ.М.Б.
504
единство структурного понимания человеческой личности и культуры, единство
подхода к проблемам антропологии и истории культуры.
54. Вопрос о художественной функции исповеди в романе Достоевского так
занимает автора в настоящих «Заметках», возможно, в связи с той критикой, которой
его теорию полифонического романа в ПТД подверг В. Л. Комарович в обзоре «новых
проблем изучения Достоевского» в знаменитом журнале Макса Фасмера «Zeitschrift für
slavische Philologie». По мнению Комаровича, М.М.Б. не удалось дать обоснования
«конструкции» нового типа романа, речь в его книге, по существу, идет лишь «о
традициях одного из синтезированных в роман Достоевского литературных жанров», а
именно западноевропейской традиции литературного жанра исповеди, раскрываемых
главным образом в произведениях Достоевского меньшей формы («Бедные люди»,
«Записки из подполья», «Кроткая»), свойства которых затем распространяются на
главные романы, остающиеся в ПТД не исследованными. «Наблюдения Бахтина над
мЗаписками из подполья" и "Кроткой" во второй главе его книги доказывают лишь то,
что Достоевский усвоил своему творчеству традиционные формы литературного жанра
исповеди. Правда, у Достоевского эти формы переносятся на структуру его больших
романов. Но в каком объеме они там использованы, какие новые и своеобразные
функции на них там возложены, — это также не получает объяснения у Бахтина» (V.
Komaroviö. Neue Probleme der Dostoievskij-Forschung. 1925-1930. Teil 2. — Zeitschrift
für slavische Philologie. Herausgegeben von Max Fasmer, Bd. 11, Doppelheft 1/2, Leipzig,
1934, S. 234, 230-231; пер. комментатора; см. также: М. М. Бахтин в зеркале критики.
М., 1995, с. 78-83, пер. В. Л. Махлина). Рефлексия на эту тему здесь и далее в
настоящих «Заметках», вероятно, заключает в себе реакцию на критику Комаровича
(вероятно, фраза в следующих заметках к переработке книги — «Достоевский. 19о1
г.»: «Полемика с Комаровичем» — имеет в виду не только статью последнего в сб. А.
С. Долинина 1924 г., которая уже была рассмотрена в ПТД, но и прежде всего его
статью по-немецки 1934 г.; см. также ниже прим. 104 наст, комментария). В ППД тема
исповеди в том объеме внимания, которое уделено ей здесь, в заметках, не вошла.
Вообще же это одна из первых тем философской эстетики М.М.Б.; если далее в
настоящих заметках сказано, что исповедь «стояла перед Достоевским с самого начала
его творческого пути» (с. 352), то можно это сказать и о самом М.М.Б.: см. в АГ анализ
самоотчета-исповеди как первичной формы творческой самообъективации человека,
находящейся на границе поступка и художественного произведения (ЭСТ, 121-131);
здесь и замечание об исповеди у Достоевского — тема, которую автор предполагает
развить в дальнейших частях работы (в главе «Проблема автора и героя в русской
литературе», заявленной выписанным в рукописи заголовком главы, но не
написанной): «Эти вариации основной формы самоотчета-исповеди будут нами еще
рассмотрены в связи с проблемой героя и автора в творчестве Достоевского» (ЭСТ,
128). На тему исповеди М.М.Б. высказывался даже на допросе в ленинградском ОГПУ,
давая объяснения по поводу двухрефератов, прочитанных им в домашнем кружке о
Максе Шелере: «Первый реферат был об исповеди. Исповедь, по Шел еру, есть
раскрытие себя перед другим, делающее социальным ("словомто, что стремилось к
своему асоциальному внесловесному пределу ( грех") и было изолированным,
504
неизжитым, чужеродным телом во внутренней жизни человека» (см.: С. £. Конкин, Л.
С. Конкина- Михаил Бахтин. Страницы жизни и творчества. Саранск, Д993, с. 183).
505
55. Тезисы «Экономическо-философских рукописей 1844 года» К. Маркса:
«Коммунизм как положительное упразднение частной собственности — этого с а
моотчуждения человека — и в силу этого как подлинное присвоение человеческой
сущности человеком; а потому как полное, происходящее сознательным образом и с
сохранением всего богатства достигнутого развития, возвращение человека к самому
себе как человеку общественному, т. е. человечному» (Я. Маркс и Ф. Энгельс. Из
ранних произведений. М., 1956, с. 588); см. также выше прим. 2 к «Проблеме
сентиментализма».
56. Вновь скользящий буддийский мотив, появлявшийся в текстах 40-х гг.: см. в
наст, томе Доп. и комм, к «<0 Флобере>».
57. Вновь тема «монологизма в высшем смысле» (см. прим. 44).
58. Ср. подобное отождествление координат в высказывании Достоевского о своем
реализме «в высшем смысле* как об изображении «всех глубин души человеческой»
(Достоевский, т. 27, 65), из которого исходил М.М.Б. в своей идее творчества
Достоевского.
59. Завязка спора с психоаналитическими истолкованиями Достоевского,
образующего существенный мотив лабораторных текстов 1961-1962 гг. (см. о ст. П. С.
Попова в тексте «Достоевский. 1961 г.»), но не вошедшего в ППД. Слово «страшнее»,
несколько неожиданное и резкое в контексте этого размышления о «глуби-высоте
сознания», это как бы ответ психоанализу изнутри его собственных предпосылок;
возможно, оно отражает переживание опытов нашего века; исследователь «истории
психоанализа в России» цитирует эту фразу М.М.Б. рядом со словами Фрейда, так
объяснявшего прекращение работы во время фашистской оккупации Вены: «когда
сознание потрясено, невозможно испытывать интерес к бессознательному» (Александр
Эткинд. Эрос невозможного. История психоанализа в России. СПб., 1993, с. 380).
60. См. в наст, томе выше — «Человек у зеркала» и комм, к нему: тема, которую
автор предполагал подключить к переработке книги о Достоевском: в рабочем
авторском экземпляре ПТД к соответствующему месту анализа повести (ненависть
человека из подполья к своему лицу и его зеркальному отражению) на с. 185 записано
карандашом на полях: «Человек у зеркала. Развить» (АБ).
61. Купюру здесь составляет вклинившаяся в текст посторонняя запись, содержащая
полученную, видимо, автором от его московских корреспондентов (вероятно, от В. В.
Кожинова) информацию о свежих событиях в искусстве и философии:
«Художники — Юрий Васильев и Оскар Рабин. Э в а л ь д Ильенков. Диалектика
конкретного и абстрактного в "Капитале" Маркса, изд АН, 1960 г.
"Вопросы эстетик и", вып. \. изд. "Искусство", 1958 АН СССР, Ин-т истории
искусств, под общ. ред. Г. Недошивина). десь — статьи В. Тасалова, Л. Пажитнова и Б.
Шратина».
62. Ср. ППД, 127. Развитие этой темы — в следующем из лабораторных текстов
(«Достоевский. 1961 г.»).
63. Смерть для себя и смерть для других, проблЩа1 «смерти изнутри и смерти
извне» (ЭСТ, 90) — проблема бахтинско#Ч|л^ософской эстетики и как таковая она
рассмотрена еще в АГ незашкжмо от Толстого и Достоевского: «Страх своей смерти и
влечение к жизни-пребыванию носят существенно иной характер, чем страх смерти
505
другого, близкого мне человека и стремление к убережению его жиз ни. В первом
случае отсутствует самый существенный для второго случая момент: момент потери,
505
утраты качественно определенной единственной личности другого, обеднения мира
моей жизни, где он был, где теперь его нет — этого определенного единственного
другого <...> Но и помимо этого основного момента утраты нравственный
коэффициент страха смерти своей и другого глубоко различны <...> Не может быть
мною пережита и ценностная картина мира, где я жил и где меня уже нет» (ЭСТ, 9293). Ср. к этой теме замечание в одном из текстов 40-х гг. о «специфическом неверии в
свою смерть (слова Паскаля)» (с. 72). Таким образом, можно сказать, что Толстой и
Достоевский здесь, в комментируемых «Заметках», являются парадигмой
общефилософской бахтинской темы: характерный случай соотношения у него
философской темы и конкретного литературоведения.
64. Ср. в «Круге чтения» на 13 января: «"Умереть придется одному", сказал Паскаль,
И жизнь истинная — только та, когда живешь один перед Богом, а не перед людьми»
(Л. Н. Толстой. Поли. собр. соч., т. 41. М., 1957, с. 35).
65. «Одиссея», книга XI, ст. 385-466. Критику художественной «дерзости» Толстого
в изображении сознания умирающих героев, критику с точки зрения вместе и
эстетической и догматически-христианской дал в свое время К. Н. Леонтьев; он
противопоставил картину смерти князя Андрея Болконского как удовлетворяющую
одновременно и «требованиям психического реализма» и основоположениям веры —
«бессильной претензии» анализа сознания умирающего в эпизоде смерти Праскухина в
«Севастополе в мае»: в изображении кончины князя Андрея автор «ограничился
наиболее естественным приемом; он поставил себя в эту минуту на место Наташи и кн.
Марьи, а не на место самого умирающего или умершего. Так-то оно вернее!» (К.
Леонтьев. Собрание сочинении, т. VIII. М., 1912, с. 2В8). Впоследствии с иных
методологических точек зрения разобрал эпизод смерти Праскухина Б. М. Эйхенбаум,
дав яркое описание художественной позиции автора, найденной Толстым именно в
«Севастополе в мае», описание, которому отвечает бахтинская ее характеристика как
«монологической». Голос автора в этом рассказе — «голос уже не постороннего, а
потустороннего существа. Это — новая мотивировка, являющаяся как бы новым
освобождением от нее. После интродукции, устанавливающей этот звучащий сверху
тон авторского голоса, Толстой имеет художественное право применить к своим
персонажам мельчайший масштаб, никак не мотивируя особо своего анализа, потому
что он уже мотивирован этим тоном. Это было для Толстого важным художественным
открытием, последствия которого скажутся на всем дальнейшем творчестве» (Б.
Эйхенбаум. Лев Толстой. Книга первая. Пятидесятые годы. Л., Прибой, 1928, с. 175; на
эту книгу М.М.Б. ссылался в предисловии к т. 11 Полного собрания художественных
произведений Л. Н. Толстого, М.-Л., Госиздат, 1930, с. V; М. М. Бахтин. Литературнокритические статьи. М. Художественная литература, 1986, с 92).
66. См. в ПТД разбор предисловия к «Кроткой», где обоснована «4>антастичность»
позиции автора в этом рассказе (позиция фантастического стенографа): 777Д, 65-67;
ППДУ 72-75. Отличие позиции Достоевского от толстовской определяется тем, что
«для Толстого не возникает самой*1 Ъроблемы; ему не приходится оговаривать фантастичность^ своего приема»; ср. вышеприведенные суждения Б. М. Эйхенбаума.
506
67. Характерная для стиля мысли М.М.Б. «прозаическая» метафора духовного
состояния, раскрываемого путем его уподобления элементарным пространственнотелесным ситуациям, тем самым, что были исследованы еще в АГ, а затем не раз
служили автору материалом для описания духовных ситуаций и особенно — новой
литературной позиции автора у Достоевского; ср.: «Достоевский, объективируя мысль,
идею, переживание, никогда не заходит со спины, никогда не нападает сзади <...>
спиною человека он не изобличает его лица» (ПТД, 101-102).
506
68. См. ППД, 88-91.
69. Ср.: Фридрих Ницше. Сочинения в двух томах, под ред. К. А. Свасьяна. М.,
Мысль, 1990, т.1, с. 110-115: «Поистине Платон дал всем последующим векам образец
новой формы искусства — образец романа ...» (с. ПО).
70. Абзац отчеркнут автором на полях.
71. «Бальзак велик! Его характеры — произведение ума вселенной! Не дух времени,
но целые тысячелетия приготовили бореньем своим такую развязку в душе человека»
(письмо М. М. Достоевскому от 9 августа 1838 — Достоевский, т. 28, кн. 1, 51).
72. К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве. В 2 тт., т. 1. М. 1957, с. 134-136.
73. Ср. «Ответ на вопрос редакции "Нового мира"» (1970) — ЭСТ, 331
74. Пафос понимания Достоевского в книге М.М.Б., содержащий в себе объяснение
и судьбы этой книги: она не раскрыта пока еще для читателя, как сам Достоевский в
своих «глубинных моментах» еще для нас не раскрыт.
75. Деление книги на две части соответствует композиции ПТД: «Часть вторая.
Слово у Достоевского (Опыт стилистики)». Следование этому плану, видимо, говорит
о начальном этапе новой работы над книгой. В ППД этот план изменен, деление на две
части снято, «Слово у Достоевского» стало «главой пятой» книги.
76. Абзац отчеркнут на полях.
77. Абзац отчеркнут на полях.
78. См. ППД, 80.
79. Два эпизода в «Волшебной горе» Т. Манна: сначала Ганс Ка-сторп и Клавдия
Шоша «обсуждают внутреннюю личность» Питера Пеперкорна, затем Касторп с
Пеперкорном — Клавдию; в обоих случаях Клавдия и Пеперкорн произносят те же
слова: «А это не подлость, что мы о нем (о ней) так говорим?» (Томас Манн. Собрание
сочинений в 10 томах, т. 4. М., 1959, с. 361, 377). Вопрос, заключающий в себе
цитирование реплик Аглаи и Лизы Хохлаковой, разбираемых в ППД.
80. «Бесы», глава «У Тихона», слова. , Ставрогина Тихону: «Слушайте, я не люблю
шпионов и психологов, "палорайней мере таких, которые в мою душу лезут»
(Достоевский, т. 11,-11 )Л(См. ППД, 80-81.
507
81. Цитируя это место, Н. К. Бонецкая характеризует эти несколько фраз,
открывающихся словом «Нельзя», как «заповеди» М.М.Б.: «Некоторые места
бахтинских текстов, посвященных проблемам Достоевского, звучат как нравственные
заповеди» (Я. К. Бонецкая. Проблема авторства в трудах М. М. Бахтина. — Studia
Slavica Hung., т. 31. Budapest, 1985, с. 97).
82. Абзац отчеркнут на полях.
83. Абзац отчеркнут на полях.
84. Абзац отчеркнут на полях.
85. Далее в рукописи было начато и зачеркнуто: героя.
86. По-видимому, М.М.Б. хотел ввести эту тему в книгу. Но и десять лет спустя он
вновь записывает в тетрадь, которую в 1970-1971 гг. вел в доме для престарелых на ст.
Гривно, как тему возможного отдельного исследования: «Достоевский и
сентиментализм. Опыт типологического анализа» (ЭСТ, 354).
87. Абзац отчеркнут на полях.
88. Ряд отождествлений, через которые проводится в этих заметках идея личности,
отождествляемая с духом, затем — с сознанием.
основополагающие в ПТД, были сняты в процессе переработки книги по требованию
издательства «Советский писатель»: автору все же пришлось в 1962-1963 гг. делать
изложение «популярнее», чего первоначально он решительно делать не собирался (см.
выше в наст. комм, письмо В. В. Кожинову от 30.07.1961).
507
90. Далее в тексте было начато и зачеркнуто: личности.
91. Определяющая антиномия диалогической философии М.М.Б. См.: ЭСТ, 352, а
также устное высказывание автора о «диалектике гегелевского типа» как «обмане» в
разговоре с составителем настоящего комментария 17.11.1971 (Новое литературное
обозрение, № 2, 1993, с. 88).
92. Man (субстантивированное неопределенно-личное местоимение в немецком яз.)
— категория философии Мартина Хайдеггера. Мал — безличная сила, определяющая
обыденное существование человека, мир Мал — мир неподлинного существования.
93. В черновых материалах к «Подростку» — к характеристике «хищного типа»
(будущего Версилова) и его атеизма: «Но не из теории о том, что нет будущей жизни,
это происходит. И он сам смеется над тем, чтоб его характер мог быть таким от теории.
Но он ошибается: не от теории, а от чувства этой теории, ибо он атеист не по убеждению только, а всецело» (Достоевский, т. 16, 9).
94. «"Двойника" Достоевский мыслил как "исповедь" (не в личном смысле,
конечно)...» (ПТД, 152; ППД, 288) — со ссылкой на письмо Достоевского бражуот
января февретя 1847: «Но скоро ты прочтешь "Неточку йезванову'' Это будет исповедь,
как Г о л я д
к и н , хотя в.другим тоне и роде» (Достоевский, т. 28, кн. 1, 139).
89. Термины «интенция» и
Карамазовы», ч. 1, кн. вторая, VI; Достоевский,
508
96. См. ПТД, 176; ППД, 309.
97. «Смерть Ивана Ильича», гл. VI.
98. Абзац отчеркнут на полях.
99. «Униженные и оскорбленные», часть третья, гл. II; Достоев ский, т. 3, 309-310.
100. Вновь реплика в сторону психоаналитической концепции творчества
Достоевского, имеющая в виду, вероятно, статью П. С. Попова (см. ниже
«Достоевский. 1961 г.»).
101. Абзац отчеркнут на полях.
102. М.М.Б. возвращается к двум статьям С. Аскольдова, которые уже были
критически освещены в ПТД (17-20). Классификация, различающая «четыре вида
оформленности душевной жизни» — темперамент, тип, характер и личность, — дана в
статье «Религиозно-этическое значение Достоевского» (в сб.: Достоевский. Статьи и
материалы, под ред. А. С. Долинина. Пб., Мысль, 1922, с. 2-3), различение характера и
личности продолжено в ст. «Психология характеров у Достоевского» (Достоевский.
Статьи и материалы, под ред. А. С. Долинина, сб. второй. Л.М., Мысль, 1924):
«Характер и личность мы отличаем по степени выраженности и стойкости индивидуального начала» (с. 5). Возобновление старой полемики именно со статьями
Аскольдова связано, видимо, с потребностью заново обосновать категорию личности
как открытие Достоевского, обосновать ее в иной плоскости, чем по «степени
личностности» у Аскольдова, — в плоскости «координатного», архитектонически
уникального положения человека как личности в мире «других».
103. «Братья Карамазовы», ч. 1, кн. первая, V: «Правда, пожалуй, и то, что это
испытанное и уже тысячелетнее орудие для нравственного перерождения человека от
рабства к свободе и к нравственному совершенствованию может обратиться в
обоюдоострое орудие, так что иного, пожалуй, приведет вместо смирения и
окончательного самообладания, напротив, к самой сатанинской гордости, то есть к
цепям, а не к свободе» (Достоевский, т. 14, 27).
508
104. Появление этой темы в проспекте могло заключать в себе полемическую
реакцию на два источника — на мотив трагической катастрофы в ст. Вяч. Иванова
«Достоевский и роман-трагедия» («Роман Достоевского есть роман катастрофический,
потому что все его развитие спешит к трагической катастрофе» — см.: Вячеслав
Иванов. Борозды и Межи, с. 21) и, во-вторых, это может быть также ответ на критику
В. Л. Комаровича (см. выше прим. 54), упрекнувшего Бахтина в том, что он в ПТД
оставил без внимания «художественную функцию катастрофы» как сюжетного
разрешения диалогов романа, содержащего подведение смыслового итога: герой и
идея, по Комаровичу, «большей частью получают у Достоевского окончательное
завершение (и, соответственно, авторскую оценку) в совершенно иной сфере, в сфере
художественно-объективных событий, в сфере катастроф»; «катастрофа это вовсе не
"взаимодействие сознаний , но результат этого взаимодействия и в этом смысле завершающее заключение или предуказание конечного вывода автора» (V. Komarovic. Neue
Probleme der Dostojevskij-Ponehung. 1925-19Э0, S. 232). О чуждости эстетике М.М.Б.
классической категории катарсиса (столь действенной в концепции роман а-трагедии
Вяч.'Иванова) см. в ст. И. Н. Фридмана «Незавершенная судьба эстетики завершения"»
(М. М. Бахтин как философ. М. Наука, 1992, с. 56).
509
105. Ср. в письме Достоевского Е. Ф. Юнге от 11 апреля 1880 (Достоевский, т. 30,
кн. 1, 149); М.М.Б., вероятно, предполагал использовать в своей книге это письмо —
см. комм. 23 к следующему варианту проспекта переработки («Достоевский. 1961 г.»).
106. «Братья Карамазовы», ч. 2, книга шестая, II; Достоевский, т. 14, 275. У
Достоевского — «Таинственный посетитель».
107. См. прим. 68. О замысле романа Чернышевского «Перл создания» М.М.Б. судил
по его изложению в кн. В. В. Виноградова «О языке художественной литературы». М.,
Гослитиздат, 1959, с. 140ДОСТОЕВСКИЙ. 1961 г.
Впервые, с неточностями и ошибками, — ДКХ, 1994, № 1, с. 70-76, под заглавием
«<К переработке книги о Достоевском. Н>» (публикация ВВ. Кожинова). Текст
записан на 36 страницах «общей тетради» синими чернилами, перемежающимися
местами с простым карандашом. Авторская надпись на обложке тетради:
«Достоевский»; внизу обложки: «1961 г.» Принимаем эту надпись как авторское
заглавие текста.
Этот новый проспект переработки книги записывался, по-видимому, вслед за
предыдущими «Заметками» того же 1961 года. Некоторые места этих новых записей
близко подходят к будущему тексту ППД, в особенности — к тексту предисловия «От
автора»; определяется здесь как новая формула предмета исследования, ведущая к
новому заглавию книги, — поэтика Достоевского; найдены такие существенные для
ППД понятия, как «макродиалог» и «микродиалог». Однако и в этом тексте фронт
размышления шире практической цели переработки книги, в результате многое не
вместившей или вместившей только частично.
Это прежде всего относится к теме первой фразы, открывающей текст: «С о гласие
как важнейшая диалогическая категория». В ППД эта тема реализована лишь одной
новой фразой, введенной в книгу: «Нужно подчеркнуть, что в мире Достоевского и
согласие сохраняет свои диалогический характер, то есть никогда не приводит к
слиянию голосов и правд в единую безличную правду, как это происходит в
монологическом мире» (ППД, 127). В настоящем тексте тема развита достаточно
детально: различение несогласия и разногласия, перспективные представления
преодолеваемой дали и сближения (но не слияния), введенные в тему, связь с
явлениями дара, чуда, свободы, наконец, утверждение неразрывной связи диалога с
509
категорией согласия: согласие как необходимое условие диалога (необходимый
минимум согласия как такое условие) и его регулятивная идея (понятие Канта,
обозначающее целепо-лагающую функцию разума) и «последняя целы.
Сосредоточенность на категории «согласия» в настоящем тексте, несомненно,
выражает потребность автора осветить затененные стороны его полифонической
концепции и скорректировать, не снимая его, ее резкий тезис: «Все в романах
Достоевскаго сходится к диалогу <...> Все — средство, диалог — цель» (ПТ№ 216;
ППД, 339). Категория «согласия» неотлучно присутствует в книге о Достоевском, но
не пользуется здесь, так сказать, специальным вниманием. При этом она присутствует
в книге именно как диалогическая категория и входит в основное противопо
510
ставление диалога как принципа построения романа Достоевского пониманию этого
романа как построенного по диалектическому принципу (спор с Б. М. Энгельгардтом),
входит, таким образом, в противопоставление диалога — диалектике, основное для
мысли М.М.Б. в целом. Идею диалектического синтеза противоречий и голосов как
цели романа Достоевского М.М.Б. оспаривает, утверждая две возможности: голоса
сочетаются «как согласные, но не сливающиеся, или как безысходно противоречивые,
как вечная гармония неслиянных голосов или как их неумолчный и безысходный
спор» (ПТД. 48; ППД, 42); «Ни о каком синтезе не может быть и речи; может быть речь
лишь о победе того или другого голоса, или о сочетании голосов там, где они
согласны» (ПТД, 239). Согласие как «последняя цель» диалога, по мысли автора ПТДППД, утверждается Достоевским — религиозным мыслителем, в романе же
Достоевского действует доминанта иная: «В плане своего религиозно-утопического
мировоззрения Достоевский переносит диалог в вечность, мысля ее как вечное сорадование, со-любование, со-гласие. В плане романа это дано как незавершимость
диалога, а первоначально — как дурная бесконечность его* (ПТД, 216; ППД, Зо8).
Тема согласия органически едина с темой хора, также подспудно, но неотлучно
присутствующей в теории полифонического романа (и сохраняющей, в переводе на
свой язык, связь с принципиально не принимаемой здесь идеей романа-трагедии). Тема
хора вообще существенно присутствует в эстетике М.М.Б., прежде всего в АГ (см.:
ЭСТ, 106, 148-150), и неявно определяет голосоведение в концепции полифонического
романа: проецируя идеи АГ на ПТД, можно сказать, что голоса героев-протагонистов
Достоевского — это «голоса вне х ор а » (ЭСТ, 150); это свойство их особенно
акцентировано в ПТД, завершающихся острой картиной социально-экзистенциального
одиночества героя Достоевского, утратившего «твердую социальную опору»,
потерявшего «мы»: «Для одинокого его собственный голос становится зыбким, его
собственное единство и его внутреннее согласие с самим собою становится
постулатом» (ПТД, 241; эта концовка книги снята в ППД). Ср. в АГ: «Петь голос
может только в теплой атмосфере, в атмосфере возможной хоровой поддержки,
принципиального звукового неодиночества» (ЭСТ, 148). В то же время хор («осанна»)
предполагается как идеальный предел диалога (не достигаемый, по М.М.Б., в романе
Достоевского), «согласно его <Достоевского — Комм> основным идеологическим
предпосылкам», предполагающего «приобщение голоса героя к хору» (ПТД, 210; ППД,
Зо5). Эту все же подспудную в книге тему автор и проговаривает, наряду с разработкой
темы «согласия», в настоящем тексте ( см. фразу в последних абзацах его о вере «в
многоголосый хор», с. 374). Полифония и контрапункт, по М.М.Б., это способ
организации голосов, не имеющих «хоровой поддержки», голосов вне хора, в особого
рода художественную гармонию, в мир, который «по-своему так же закончен и
закруглен, как и дантовский мир» (ПТД, 49; ППД, 43). Но за этой своеобразной
гармонией мира Достоевского, «слово» для которой и «найдено» Бахтиным как
510
«полифония», стоит для исследователя большая нерешенность в «последних вопросах»
— как у героев Достоевского, так и у автора
^эмана (ср. в предыдущем тексте «1961 год. Заметки»: «Колебания остоевского по
отношению к содержанию этой последней ценности» — с. 352-353). «И было мукою
для них, что людям музыкой казалось» — цитирует М.М.Б. из Иннокентия Анненского
по поводу полифонии Достоевского в черновых записях (т. 6 наст. Собрания ); эти же
строки Анненского он читал в устной лекции о Достоевском, слышанной составителем
наст, комментария в доме для престарелых на ст. Гривно Курской ж. д. 26.08.1970.
511
Озабоченность темой «согласия» чувствуется и в других материалах к переработке
книги: «Самостоятельность, свободу и равноправие в согласии труднее осуществить,
чем при противоречиях и споре. Дети проявляют свою самостоятельность в капризе, в
наоборот (отчасти Нелли). Черт боится согласия (примкнуть к хору) как потери <?>
своей личности» (АБ). Тем не менее эта существеннейшая для концепции тема,
продумывающаяся здесь, в лабораторных текстах, развития в ППД не получила.
Неразработанность категории диалогического согласия, отмечает комментатор
настоящего текста в первой его публикации, Н. А. Паньков, обусловила трудности в
понимании главного принципа книги М.М.Б. (см.: ДКХ, 1994, № 1, с. 78). Так,
характерно суждение М. Л. Гаспарова об авторе книг о Рабле и Достоевском, что он
«принимает лишь две вещи» — «или комический хаос, или трагическую
разноголосицу» (М. Л. Гаспаров. М. М. Бахтин в русской культуре XX в. — Вторичные
моделирующие системы. Тарту, 1979, с. П2).
Другой не осуществленный в книге план — сформулированная здесь программа
полемик, среди которых должна была быть полемика «с психоанализом, с работой
Попова и др.»; она уже намечена в первом проспекте переработки книги. В рабочем
экземпляре ПТД с авторскими пометами на полях с. 220 также записано: «Полемика с
Поповым (диалоги "я" с "оно")» (АБ). Работа Попова — большая статья: П. С. Попов.
«Я» и «оно» в творчестве Достоевского. — Достоевский. Труды Государственной
Академии художественных наук, литературная секция, вып. третий. М., 1928, с. 217275. Вероятно, статья еще не успела попасть в поле зрения автора при подготовке ПТД,
при переработке же книги тридцать три года спустя привлечь внимание к ней мог
обзор В. Л. Комаровича по-немецки (см. комм. 54 к «1961 год. Заметки»), в котором
статья Попова и книга Бахтина рассмотрены параллельно как два «диаметрально
противоположных, но равно необоснованных тезиса», дающих ошибочные «ключи» к
построению романа Достоевского; обе интерпретации упрекаются Комаровичем в
неисторизме — в том, что «они оставляют без внимания историческую перспективу
созданного Достоевским литературного жанра» (Zeitschrift fiir slavische Philologie, Bd.
11, Doppelheft \/2, Leipzig, 1934, S. 234). Фраза в комментируемом тексте: «Полемика с
Комаровичем» — скорее всего имеет в виду этот обзор; ср. скрытые реакции на него
(не называя источника) в первом проспекте (см. выше комм, к нему, комм. 54 и 104).
Положения статьи Попова весьма кратко резюмированы в настоящем тексте
(«Функции черта и двойников...» и т. д., с. 369); они представляют собой, в самом деле,
«диаметральную противоположность» видению Достоевского Бахтиным при, в то же
время, общности некоторых исходных для развития той и другой концепции пунктов.
Спор с этой статьей поэтому должен был быть первостепенно принципиальным для
автора ПТД ППД и в то же время сурового критика
?)рейдизма еще с середины 20-х гг.: помимо книги «Фрейдизм» 1927 г. о которой
историк психоаналитического движения в России говорит, что, «независимо от
гипотетического авторства Бахтина», она «остается единственной серьезной работой за
полвека советского словоблудия по поводу психоанализа»: Александр Эткинд. Эрос
511
невозможного. История психоанализа в России. СПб., 1993, с. о97), надо вспомнить
высказывание М.М.Б. на собрании философского кружка 1 ноября 1925 г., залисачное
Л. В. Пумпянским: «Бл. Августин против донатистов подверг вкгутренний опыт
гораздо более принципиальной критике, чем психоанализ. "Верую, Господи, помоги
моему неверию" находит во внутреннем опыте то же, что психоанализ» (М. М. Бахтин
как философ. М., Наука, 1992, с. 245; публикация Н. И. Николаева). В
комментируемых лабораторных текстах спор с
512
психоанализом как «ключом» к Достоевскому также, по-видимому, неслучайно
сплетается с темой исповеди как «высшей формы с в о б о д н о г о самораскрытия
человека изнутри (а не извне завершающей)», как «встречи яи другого на высшем
уровне или в последней инстанции» (с. 352). Эту позицию автора ПТД-ППД А. Эткинд
определяет как «поэтику сопротивления» (психоаналитический термин) тому
пониманию роли «другого» в межчеловеческих отношениях, которое олицетворяется
фигурой психоаналитика по отношению к пациенту: «Процедуры психоанализа
условны и асимметричны; редкие моменты диалога, когда аналитик и пациент
общаются как свободные и равные субъекты, встроены, как в оправу, в жесткий
алгоритм ролевого поведения» (Александр Эткинд. Эрос невозможного, с. 406).
Философская оппозиция М.М.Б. теории психоанализа (столь же стойкая от 20-х до 60-х
гг., как оппозиция формализму — в 60-70-е годы структурализму — в эстетике),
вероятно, может быть представлена как оппозиция двух моделей общения — диалога и
психоаналитического сеанса. Позиция М.М.Б. «прямо противоположна куда более
распространенной в нашем веке аналитической позиции, столь ясно выраженной
Фрейдом: правда о человеке недоступна ему самому <...> Правда о человеке, какой ее
видит психоанализ, есть объективное описание его бессознательного, развенчивающее
иллюзии самосознания» (там же, с. 390-391). Можно видеть, что именно книга о
Достоевском у М.М.Б. является средоточием этого неявного (не высказанного
открыто) философского спора ( при том, что автор не избегал и в 20-е годы, и позже
пользоваться в нужных случаях фрейдистскими терминами и вводить
психоаналитическую проблематику в свои анализы: она, например, просматривается в
записи лекции конца 20-х гг. о Ф. Сологубе, прочитанной примерно тогда же, когда
был написан «Фрейдизм» — см. ДКХ, 1993, № 2-3, с. 149-152, и в положении о
«цензуре сознания» при анализе трагедии Шекспира, а сквозь нее — «глубинной
психологии самой жизни» — в Доп., тексте 1944 г. — см. с. об и комм, к Доп.). «Нельзя
подсматривать и подслушивать личность, вынуждать ее к самораскрытию» — эту
бахтинскую «заповедь» в предыдущем проспекте (см. прим. 81 к «Достоевский. 1961
г.») — можно считать его концентрированным ответом на психоанализ.
П. С. Попов в своей статье в опоре на ^умеренный (отвергающий
Йфизиологические схемы Фрейда»), «мой фрейдианский" подход к остоевскому»
находил «ключ к пониманию творчества Достоевского в целом» (Попов, с. 217). Ключ
— в понимании романа Достоевского как «изображения единого сознания <...>
Достоевский был творцом своеобразных романов, где в центре стоит изображение
судьбы единой, трагически настроенной души. Складки этой души персонифицированы и даны в виде отдельных личностей; но они — только иллюединого сознания <...> Это своеобразная творческая конструкция", когда отдельные
лица — лишь фрагменты единой душевной стихии, единого сознания» (там же, с. 217219). Таким образом, по существу, все формулировки намеченной М.М.Б. программы
полемик (с концепциями «одной души, одного душевного ландшафта») так или иначе
имеют в виду статью Попова. Попов также исходит из тезиса Достоевского о его
«реализме в высшем смысле» как изображении «всех глубин души человеческой», но
512
эти последние понимает ортодоксально по Фрейду, повторяя в заглавии статьи
заглавие знаменитой книги Фрейда «Я и Оно» (рус. перевод — 1924), — как «глубины
бессознательного человеческой души», «начало бессознательное, так сказать,
безличное, которое можно назвать "оно", в противоположность "я"»; в конечном счете
это глубины души самого автора, творческое «я»
ст рация к одной
отдельные аккорды симфонии
513
которого пластически объективирует их, «распластывая» в виде героев романов (там
же, с. 217 218). отношения героев романа — Версило ва и Подростка, Мышкина и
Рогожина — поэтому строятся но типу отношения «я» и «оно» в едином психическом
механизме, а разговор Ивана с Алешей в трактире оказывается «разговором человека с
самим собой, своего рода внутренним диалогом души» (там же, с. 267). Функции черта
и двойников, помянутые М.М/Б. в целях намеченной полемики, — в том, чтобы
«отщепить такое "оно" от "я" и поставить его самостоятельно»: «Тут нужно, чтобы
человек мог обращаться к самому себе, тут нужен и посторонний слушатель и
наблюдатель. Это
— аксессуар, который необходим для того, чтобы развернуть весь свиток души.
Монолог тут может перейти в диалог» (там же, с. 246). «Диаметральная
противоположность» этой схеме идеи М.М.Б. о личности как открытии Достоевского и
неслиянности свободных личностей в диалоге — очевидна. М.М.Б. также анализирует
расщепление сознания героя Достоевского на голоса; поэтому так важен и в определенном смысле централен в его книге анализ «Двойника» как парадигмы диалога
также и в больших романах — в чем автор ПТД также хочет отдать себе отчет в
процессе самоуяснения своей идеи в настоящем тексте, задавая вопрос: «Почему
анализ "Двойника" получил такой большой удельный вес в нашей работе?» (с. 365).
Однако как двойник Голядкина возник как его олицетворенный внутренний голос из
необходимости заместить самому себе недостающее ему признание его реальным
другим человеком (и самый сюжет двойника говорит о невозможности разрешения
этой задачи в рамках собственного сознания, невозможности «обойтись с самим
собой»), так и в романах реплики одного отвечают скрытым репликам другого героя в
порядке реальной помощи и спасения, какие может оказать человеку только реальный
другой человек (как в истинной исповеди или в молитве, обращающейся к реальному
высшему Другому; см. выше, в противопоставлении психоанализу: «Верую, Господи,
помоги моему неверию»
— как призыв ответить на скрытый внутренний голос, скрытый под утверждающим
громким «Верую»; можно заметить, что этот молитвенный текст послужит для М.М.Б.
образцом понимания «диалога у Достоевского» как диалога сознаний, расщепленных
на голоса). Разбор диалогов Алеши с Иваном в ПТД-ППД «диаметрально противоположен» пониманию их как чисто внутреннего отношения «я» и «оно» одного сознания,
«разговора с самим собой» у Попова. Такое внутреннее разложение на явный и
скрытый внутренний голос в сознании Ивана, в самом деле, идет, но нужен реальный и
«неслиянный» с ним брат Алеша, чтобы вмешаться в безысходность этого внутреннего
диалога со стороны: «Алеша прямо говорит, что он отвечает на вопрос, который задает
себе сам Иван во внутреннем диалоге <...> он предвидит, что себе самому Иван —
"глубокая совесть" — неизбежно даст рано или поздно категорический
утвердительный ответ: я убил. Да себе самому, по замыслу Достоевского, и нельзя дать
иного ответа. И вот тогда-то и должно пригодиться слово Алеши, именно как слово
другого» Как и черт в разговоре с Иваном, «Алеша также вносит во внутренний диалог
513
Ивана чужие акценты, но в прямо противоположном направлении. Алеша, как
"другой", вносит тона любви и примирения, которые в устах Ивана в отношении себя
самого, конечно, невозможны» (ПТД, 221-222; ППД, 343-344). На этих именно
страницах рабочего экземпляра ПТД (Am и записано рукой М.М.Б.: «Полемика с
Поповым (диалоги "я' с "оно")» (с. 220), «Незаместимость "другого" собою самим» (с.
221), «Это может сделать только реальный другой (против Попова)» (с. 222). Принцип
христианского персонализма на этих страницах отчетливо противостоит принципу
психоанализа. Вопрос о соотношении теории полифюни-ческого романа с
концепциями «единой души» продолжает обсуждаться
514
в литературе о Достоевском; см. в статье, принимающей книгу М.М.Б. и ее автору
посвященной: «Полифоничность его романов делает их героев носителями
самостоятельных, неслиянных голосов. И все-таки у них есть некое объединяющее их
ядро. Если в романах Толстого автор находится над героями, скрепляет их своей
последней и всеведущей волей, то в романах Достоевского автор внутри героев в том
смысле, что разные герои решают о д -ну и ту же задачу, все они намагничены в одну
сторону, взяты в ракурсе истории единой души, во-первых, и в прагматической связи с
автором, интериоризирующим себя в текст, во-вторых. Именно поэтому герой (герои)
романа Достоевского сопоставлен целому, а целое, роман предельно ипостасен»
(В.Н.Топоров. Мит. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области
мифопозтического. М., Прогресс — Культура, 1995, с. 196).
Наконец, третья линия мысли, перешедшая в ППД лишь частично, — сопоставления
и сближения с явлениями всемирной литературы разных эпох, в том числе с
литературой XX века; в ППД будут названы лишь имена Т. Манна и Хемингуэя, но
кроме того в предыдущем проспекте были названы Мориак и Грэм Грин, в настоящем
же тексте намечено сопоставление с Анатолем Франсом (см. ниже прим. 24). Фронт
сопоставлений, но развернутый больше в предшествующие эпохи, ширится в
следующем из относящихся к переработке книги текстов («Заметки 1962 г.-1963 г.»).
1. Ср. более развернутое изложение этого пункта в предыдущем проспекте (с. 354355) с апелляцией к черновикам Достоевского. В ППД этим записям соответствует
тезис о «прототипах идей» героев (идеи Чаадаева и Герцена как прототипы идеи
Версилова), с отсылкой к исследованию черновых тетрадей Достоевского в книге А. С.
Долинина «В творческой лаборатории Достоевского», М., Советский писатель, 1947
(ППД, 120-122). Наблюдения над отражением идей Белинского, Герцена и Чаадаева в
идейном портрете Версилова см. в этой книге Долинина, с. 26-27, 69-87. То же — во
второй книге А. С. Долинина «Последние романы Достоевского. Как создавались
"Подросток" и "Братья Карамазовы"», вышедшей в один год с ППД (М.-Л., Советский
писатель, 1963, с. 54, 104-125).
2. Зачеркнутое окончание фразы в рукописи: мыслит не отдельными мыслями, а
мирами.
3. См. ППД, 112-113.
4. Одна из резких формулировок, оттеняющих концепцию и характерных именно
для предварительных записей, но не вошедших в книгу.
5. «Повесть эта мне положительно не удалась, но идея ее была довольно светлая, и
серьезнее этой идеи я никогда ничего в литературе не проводил. Но форма этой
повести мне не удалась совершенно. Я сильно исправил ее потом, лет пятнадцать
спустя, для тогдашнего "Общего собрания" моих сочинений, но и тогда опять
убедился, что эта вещь совершенно неудавшаяся, и если б я теперь принялся за эту
идею и изложил ее вновь, то взял бы совсем другую форму; но в 46-м году этой формы
514
я не понял и повести не осилил» (Дневник писателя, 1877, ноябрь; Достоевский, т. 26,
65).
6. Найденные формулировки, перешедшие в книгу: ППД, 77.
7. Интерес к теории относительности А. Эйнштейна в кругу М.М.Б. 20-х годов
удостоверен записями Л. В. Пумпянского тех лет.
515
См., например, в записи цикла лекций М.М.Б. по философии Канта и неокантианства
(октябрь-ноябрь 1924) замечание о противоречии теории относительности «тому
пространству и времени, в котором построяется эстетический образ», т. е.
пространству и времени, исследованным М.М.Б. в АГ «Только с этим (эстетическим)
временем впадает в столкновение теория относительности» (ММ. Бахтин как философ,
с. 243). Но и роман Достоевского вышел, по М.М.Б., за границы этого «эстетического»
пространства и времени.
8. Полемическая заметка Виктора Шкловского «Против» (ответ на статью Романа
Якобсона «За и против Виктора Шкловского» по поводу книги последнего «За и
против», М., 1957), выдержки из которой выписывает здесь М.М.Б., использована в
ППД, 53. В заметке Шкловский опирался на книгу М.М.Б.: «Не я первый сказал, что
для Достоевского характерна передача сущности явления в форме спора. Об этом
писал Л. Гроссман в книге Путь Достоевского" (1928) и М. Бахтин в книге "Проблемы
творчества Достоевского" (1929)» (Вопросы литературы, i960, № 4, с. 98).
9. См. прим. 41 к тексту «1961 год. Заметки».
10. См. «Человек у зеркала» в наст, томе и комм, к нему.
11. Достоевский, т. 2, 5; т. 14, 181. Наблюдения над наружностью героев
Достоевского как особый аспект темы проходят через все проспекты к переработке (ср.
о способах выражения человеком себя вовне — «от тела до слова» — в предыдущем
проспекте, с. 353).
12. Мотив, возникший в эстетике М.М.Б. еще в АГ в связи с анализом богоборческих
и человекоборческих моментов в исповеди, «неприятия возможного суда божеского и
человеческого» (тема главы «Таинственный посетитель» в «Братьях Карамазовых») :
«Возможна бесконечность самоотмены покаяния. Этот момент аналогичен ненависти к
зеркальной одержимости; как выглядит лицо, так может выглядеть и душа» (ЭСТ, 127128). Автор АГ предполагал рассмотреть этот момент «в связи с проблемой героя и
автора в творчестве Достоевского» в последующей части трактата, которая не была
написана.
13. Ср. в «1961 год. Заметки» (с. 356-357 и прим. 102). С не удовлетворяющим
М.М.Б. принципом различения личности от характера в этой статье С. Аскольдова
соединяется мысль о «семейственности» образов Достоевского, образующих «одну
духовную семью», происходящую от одного духовного отца — их автора. «Эту
собранность всего в одном лице, и то с некоторыми ослаблениями отдельных
особенностей, можно только подозревать в их духовном отце — самом Достоевском. В
них он как бы воплощал различные стороны, иногда только таящиеся потенции самого
себя» (Достоевский. Статьи и материалы, под ред. А. С. Долинина, сб. второй, Л.-М.,
1924, с. 6, 17). Не случайно эти места из статьи Аскольдова приводит в своей работе П.
С. Попов (Попов, с. 219-220) в поддержку своего тезиса об изображении Достоевским
единой душевной стихни и отдельных лиц — как всего лишь ее фрагментов, так что
спор с Аскольдовым и Поповым должен был, очевидно, составить единый фронт
полемики, но неосуществившемуся замыслу М.М.Б. На статью Аскольдова в споре с
теорией Бахтина ссылается сочувственно и В. Л. Комарович (Neue Probleme der
Dostojevskij-Forschung, S. 231).
515
515
14. Абзац отчеркнут автором на полях рукописи, видимо, на дальнейших стадиях
формирования текста пи Ц; в самом деле, здесь автор близко подходит к
формулировкам нового предисловия «От автора» (ППД, 3).
15. Незачеркнут вариант в тексте: принципиальная.
16. Незачеркнут вариант: вопросам.
17. Абзац отчеркнут на полях. Ср. ППД, 3-4.
18. Незачеркнут вариант: не будем касаться по существу поставленных Достоевским
идеологических проблем...
19. Абзац отчеркнут на полях.
20. «На пороге» как формула кризисного пространства-времени Достоевского —
широко используется в ППД, но понятие «хронотоп», разработанное М.М.Б. еще в 30-е
годы, он в книгу не ввел — очевидно, по тем же причинам, по которым и термин
«интенция» пришлось вытравлять из текста книги. Очевидно, вводить совершенно
новый и дерзкий термин в условиях начала 60-х годов и своего вступления в
литературу после трех десятилетий научного небытия он еще не решался.
21. Две записи в альбом О. Козловой (черновая и беловая) от 31 января 1873 г.
приводятся М.М.Б. по изданию: Достоевский Ф. М. Письма в четырех томах. Т. IV, М.,
Гослитиздат, 1959, с. 339. Текст излагаемого места: «В то же время, несмотря на все
утраты, я люблю жизнь горячо, люблю жизнь для жизни и, серьезно, все еще собираюсь начать мою жизнь. Мне скоро пятьдесят лет, а я все еще никак не могу
распознать: оканчиваю ли я мою жизнь или только лишь ее начинаю. Вот главная
черта моего характера; может быть и деятельности». См. также: Достоевский, т. 27,
119; здесь в первой из цитируемых фраз разночтение: «...все чаще собираюсь начать
мою жизнь».
22. Этот и следующий абзацы отчеркнуты; ср. ППД, 56-57.
23. Далее в настоящем абзаце указываются страницы IV тома писем Достоевского,
завершившего в 1959 г. четырехтомное издание \. С. Долинина, начатое им еще в 1928
г. (несколько ниже в наст, тексте М.М.Б. отмечает «четырехтомное издание писем» как
достижение науки о Достоевском, вновь открывающее возможности исследования его
поэтики). М.М.Б. только что изучил этот том и отмечает письма, лежащие в русле его
новой работы над книгой. Ни одно из отмеченных писем он, однако, в ППД не
использовал; единственное, отмеченное первым (Н. Л. Озмидову, февраль 1878),
цитировалось еще в ПТД по изд.: Биография, письма и заметки из записной книжки
Достоевского, СПб., 1883, с. 118 (ПТД, 93; ППД, 133). Выписанные в настоящем
абзаце страницы отмечают письма: 5 — названное письмо Н. Л. Озмидову; 12 —
«Неизвестной матери» от 27 марта 1878; 33-34 — Л. В. Григорьеву от 21 июля 1878; 52
— В. Ф. Пуцыковичу от 3 мая 1879 («Если будете писать о нигилистах русских, то
ради бога, не столько браните их, сколько отцов их. Эту мысль проводите, ибо корень
нигилизма не только в отцах, но отцы-то еще пуще нигилисты, чем дети»); 53 — Н. А.
Любимову от 10 мая 1879 ( о книге 5-й «Карамазовых» — «Pro и contra» — и бунте
Ивана); 56-57 — К. П. Победоносцеву от 19 мая 1879; 58-59 — Н. А. Любимову от 11
июня 1879; 62-63 — Е. А. Штакеншнейдер от 15 июня 1879; 64-65 - Н. А. Любимову от
8 июля 1879; 91-92 — ему
516
же от 7/19 августа 1879 (о кн. 6-й романа — «Русский инок»: «Само собою, что
многие из поучений моего старца Зосимы (или лучше сказать способ их выражения)
принадлежат лицу его, т. е. художественному изображению его. Я же хоть и вполне тех
же мыслей, какие и он выражает, но еслиб лично от себя выражал их, то выразил бы в
другой окорме и другим языком. Он же не мог ни другим языком ни в другом духе
выразиться, как в том который я придал ему. Иначе не создалось бы художественное
516
лицо»); 108-109 — К. П. Победоносцеву от 24 августа — 13 сентября 187Ö; 117 — Е.
Н. Лебедевой от 8 ноября 1879; 118 — Н. А. Любимову от 16 ноября 1879; 128 — к
слушательнице высших женских курсов от 15 января 1880 («Вы действительно
страдаете и не можете не страдать. Но зачем же падаете духом? Не вы одни теряли
веру во Христа <...> Я знаю множество отрицателей, перешедших всем существом
своим наконец ко Христу. Но эти жаждали истины не ложно, а кто ищет, тот наконец и
найдет»); 136-137 — Е. Ф. Юнге от 11 апреля 1880 («На недавнем здесь диспуте
молодого философа Влад. Соловьева (сына историка) на доктора философии я
услышал от него одну глубокую фразу: "Человечество, по моему глубокому
убеждению (сказал он) знает гораздо более, чем до сих пор успело высказать в своей
науке и в своем искусстве*' <...> Что Вы пишете о Вашей двойственности? Но это
самая обыкновенная черта у людей... не совсем, впрочем, обыкновенных. Черта
свойственная человеческой природе вообще, но далеко-далеко не во всякой природе
человеческой встречающаяся в такой силе как у Вас. Вот и поэтому Вы мне родная,
потому что это раздвоение в Вас точь в точь как и во мне, и всю жизнь во мне было.
Это большая мука, но в то же время и большое наслаждение: Это — сильное сознание,
потребность самоотчета и присутствия в природе Вашей потребности нравственного
долга к самому себе и к человечеству. Вот что значит эта двойственность»); 175 — С.
А. Толстой от 13 июня 1880 (о пушкинской речи); 177-178 — Ю. Ф. Абаза от 15 июня
1880 (о «фантастическом в искусстве» и «Пиковой даме»); 190 — Н. А. Любимову от
10 августа 1880.
24. Значение имени А. Франса в контексте переработки книги о Достоевском
разъясняется в других, очевидно, более поздних материалах, в которых
вырабатываются формулировки будущей IV главы ППД: «Мы должны допустить и
непосредственное знакомство Достоевского, хотя бы поверхностное и из вторых рук, с
диалогами Платона, с Лукианом, с "Золотым ослом" Апулея и др., но мы полагаем, что
непосредственное влияние этих произведении было незначительным и
несущественным. Существенным и определяющим было их преломленное влияние
через более близкие к Достоевскому по времени, по проблематике и по
художественности традиции христианской литературы, 18-го века, Возрождения и т. п.
На него воздействовали лукиановы диалоги Вольтера и Дидро. Вряд ли он знал
лунную сатиру Гриммельсхаузена. Мы считаем почти вовсе исключенным его
знакомство (хотя бы и из третьих рук) с сатирами Варрона. Но такой
непосредственный контакт с первоисточниками диалогической линии художественной
прозы, если бы он и был, не имел бы существенного значения. Эти первоисточники
имели определенное влияние на несколько антикварный, гедонистический диалогизм
Ана-толя Франса, смаковавшего разноречивые чужие мысли, идеи и мировоззрения
различных эпох, предхристианские и ранние христианские ("Сад Эпикура", "Таис" и
др.)» (АБ).
25. См. ППД, 153: «В этом смысле можно сказать, что содержанием мениппеи
являются приключения идеи или правды в
517
мире: и на земле, и в преисподней, и на Олимпе». Здесь же о «Сатириконе»: «Не чем
иным, как развернутой до пределов романа "Менипповой сатирой", является
Сатирикон" Петрония» (ППД,
26. См. ППД, 3.
27 Официальная фраза из тех, что местами М.М.Б. репетирует и в подобных
черновых своих текстах; см. также ниже о критике «отдельных реакционных идей»
Достоевского со ссылками на «традиции революционных демократов», СалтыковаЩедрина и Горького. Но, что главное, подобные репетиции почти не переходят в
517
«спектакль»: в ППД они отразились лишь минимально (ссылки на борьбу Горького с
«достоевщиной»: ППД, 43).
28. В. Ермилов. Ф.М.Достоевский. М., 1956; В. Кирпотин. Ф. М. Достоевский. М.,
194/. Обе книги упоминаются в ППД, при этом книга Кирпотина введена в
продолжение обзора критической литературы о Достоевском (ППД, 51-52).
29. Творчество Ф. М. Достоевского, сборник Института мировой литературы им.
Горького, изд. АН СССР, М., 1959. В ППД рассмотрена одна статья из этого сборника:
Л. П. Гроссман. Достоевский-художник (ППД, 57-60), в которой автор ссылается на
ПТД. Эта ссылка, как и внимание В. Шкловского в книге «За и против» (1957) и
заметке «Против» (1960; см. прим. 8), — свидетельство пробуждения интереса к старой
книге М.М.Б. в конце 50-х гг., когда ее «вспоминают» как в отечестве, так и за
рубежом (В. Сецугю, Р. Плетнев — см. выше комм, к тексту «1961 год. Заметки», с.
6э0), что, несомненно, было знаками исторической подготовки ее нового рождения как
ППД.
30. Разумихин в «Преступлении и наказании» (ч. 3, I): «и хоть мы и врем, потому
ведь и я тоже вру, да довремся же наконец и до правды, потому что на благородной
дороге стоим, а Петр Петрович... не на благородной дороге стоит» (Достоевский, т. 6,
15о). Он же в другом месте романа: «вранье всегда простить можно; вранье дело
милое, потому что к правде ведет» (ч. 2, ГУ; Достоевский, т. 6, 105). Позже в Зап.
М.М.Б. еще раз вспомнит эти слова Разумихина в контексте противопоставления
диалога «риторическому спору», причем ставит рядом с ними и в параллель им слова
Достоевского о Христе вне истины и истине вне Христа: «В риторике есть безусловно
правые и безусловно виноватые, есть полная победа и уничтожение противника. В
диалоге уничтожение противника уничтожает и самую диалогическую сферу жизни
слова. В классической античности этой высшей сферы еще не было. Сфера эта очень
хрупкая и легко разрушимая (достаточно малейшего насилия, ссылки на авторитет и т.
п.). Разумихин о вранье как пути к правде. Противопоставление истины и Христа у
Достоевского» (ЭСТ, 355).
31. Виктор Шкловский. За и против. Заметки о Достоевском. М , Советский
писатель, 1957. Этой книге в первой главе ППД посвящен отдельный раздел (53-57), и
тезис Шкловского о споре, лежащем «в самой основе художественной формы
произведений Достоевского, в основе его стиля», ставится в центр внимания, однако
примеры «споров в библии» из книги Шкловского не рассматриваются. Примеры эти
Шкловский берет из черновых тетрадей к «Братьям Карамазовым» (спор Сатаны с
Архангелом Михаилом и Сатаны с Богом по публикации черновых тетрадей А. С.
Долининым: Ф. М. Достоевский. Материалы и исследования. Л., 1935, с. 288; то
518
же: Достоевский, т. 15, 336), ссылаясь на место из Соборного послания св. апостола
Иуды, I, 9 (о споре Михаила Архангела с диаволом о Моисеевом теле) и делая
заключение: «Достоевский в поисках доводов за и против нашел в Евангелии спор»
(Виктор Шкловский. За и против, с. 173), а далее говоря о споре Нового со Старым
Заветом (с. 175)
заметки 1962 г.-1963 г.
Впервые, с существенными ошибками, — «Литературная учеба», 1992, N9 5-6, с.
164-165 (публикация В. В. Кожинова, подготовка текста В. И. Славецкого). Печатается
по автографу, записанному в «общей тетради», на обложке которой автором сделана
надпись: «Заметки 1962 г.—1963 г.» — при этом вторая дата приписана, очевидно,
позже другими чернилами. Заметки относятся ко второму этапу работы над новой
книгой, к периоду непосредственной подготовки ее для московского издания (работа
над текстом книги была полностью закончена в о^еврале 1963 г., в марте она была
518
сдана в печать). Но и на этом этапе размышления автора далеко выходят из берегов
прямой работы над текстом книги. Из отличительных новых тем ППД обозначена в
записях проблема смеха (редуцированного) в творчестве Достоевского. Как и два
предыдущих проспекта, эти новые заметки дают представление о размахе
размышления над Достоевским, не вмес -тившемся в книгу. Из оставшихся за ее
пределами линий представляются особенно существенными намеченные связи с
русской (пушкинско-гоголевские мотивы) и мировой литературой («Клименти-ны» и
«Симплициссимус»).
Фраза
«Анализ
"Братьев
Карамазовых"»
позволяет
предположить, что в планах автора был, возможно, более собранный целостный разбор
последнего романа Достоевского (одно in повторяющихся, начиная со статьи-обзора В.
Л. Комаровича 1934 г., возражений на концепцию М.М.Б. состоит в том, что она не
подтверждена целостными анализами больших романов Достоевского, тогда как
подобные более или менее целостные разборы произведений меньшей формы —
«Двойника», «Записок из подполья», а затем в Uli И «Бобка» и «Сна смешного
человека» — в книге присутствуют). Чрезвычайно интересны в настоящих заметках
некоторые орошенные
т.гопом на бумагу, но не развитые и не вошедшие в книгу, наблюде-пад
архетипическими соответствиями, «просвечивающими» за ..'у:оплжами Достоевского:
Симплициссимус за героем «Жития вели-•:о гроншика», Терсит за Петром Верховенским, образ доктора-I рница как тип
комедии дель арте.
I См. ППД, 152, 156, 201, особенно 217 и 220-224. Открытие .-•сапного смеха,
пронизывающего все творчество Достоевского, 'лл главных открытий М.М.Б. в
Достоевском, притом главным i:o второй редакции книги. Тема комического у
Достоевского М.М.Б. хотя и была замечена в литературе о писателе, но ".'п слабо и в
частных моментах (из работ 20-30-х гг. можно 1
тичь известную работу Ю. Н.
Тынянова «Достоевский и Гоголь (к геормч пародии)», 1921 и специальную ст.
И. И. Лапшина «Комическое в произведениях Достоевского» в сб. «О Достоевском»,
под ред. А. Л. Бема, сб. 2, Прага, 1933).
2. Ср. замечание о «гармонии жанров» в классические эпохи и неучастии в ней
романа (ВЛЭ, 448-449).
519
3. См. ППД, 122-123.
519
4. См. ППД, 220-221. Ср. в наст, томе выше в тексте начала 40-х гг. о «Слове о полку
Игореве» интерес к этому эпосу, как и к «Песни о Роланде», как к «песни о
поражении» (с. 39).
5. Так в автографе М.М.Б.; у Пушкина — «Марья Шонинг».
6. О «Скупом рыцаре» в связи с проблемой сына и темой потенциального
отцеубийства как скрытой сущности «самоутверждающейся жизни» М.М.Б. писал еще
в P-194U; соответствующий фрагмент текста этой работы приводится выше в
комментариях к Доп. (примеч. 10).
7. «... Лорда Байрона помню. Мы были на дружеской ноге. Восхитительно танцевал
краковяк на Венском конгрессе. — Лорд Байрон, дядюшка! помилуйте, дядюшка, что
вы? — Ну да, лорд Байрон. Впрочем, может быть, это был и не лорд Байрон, а ктонибудь другой. Именно не лорд Байрон, а один поляк!» («Дядюшкин сон», гл. IV;
Достоевский, т. 2, 313).
8. Эпохэ (греч. ётсохп — воздержание от суждения) — философский термин
античного скептицизма, возобновленный в новой интерпретации в феноменологии Э.
519
Гуссерля, где он означает инструмент очищения предмета путем феноменологической
редукции от эмпирических связей.
9. «Стало быть, не как мальчик же я верую во Христа и его исповедую, а через
большое горнило сомнений моя осанна прошла, как говорит у меня же, в том же
^романе, черт» (из записной тетради Достоевского 1881 г.: Достоевский, т. 27, 86).
10. Маркольф — персонаж средневековой апокрифической литературы, легенд и
народных книг, группировавшихся вокруг имени библейского царя Соломона.
Известному в древней Руси апокрифу о Соломоне и Кйтоврасе и соответствовавшим
ему на западной почве легендам о Соломоне и Морольфе (имя героя в англосаксонских
и германских версиях сюжета; в латинских версиях это имя — Маркольф или
Маркульф) посвящено обширное исследование А. Н. Веселовского «Славянские
сказания о Соломоне и Кйтоврасе и западные легенды о Морольфе и Мерлине», СПб.,
1872, гл. IV — «Соломон и Морольф» (с. 245-303). Наиболее распространенная форма
в этих произведениях — диалоги Соломона с Марколыром-Морольфом, часто
отделявшиеся «от общей связи легенды» и ходившие «особой книгой, как любимое
народное чтение» (там же, с. 248). Веселовский анализирует эволюцию образа
Морольфа в сторону того типа, который М.М.Б. в комментируемом тексте определяет
как «морософ». В ранних версиях сюжета мудрость Морольфа-Маркольфа — вполне
серьезного характера. «Но уже со второй половины лII столетия, если не ранее, можно
наблюдать изменение типа: в разговоры Морольфа с Соломоном начинает вторгаться
значительная доля комического, иногда площадного элемента; и сам он выходит из
роли таинственного совопросника и становится лицом потешным, носителем
народного юмора и народной шутки. На всякое глубокомысленное изречение
Соломона он отвечает пословицей или притчей, которая большею частью не ладится с
вопросом, а только переводит его на низменную почву житейских отношений, где тот
же вопрос предрешила практика, так что оказывается смешным — поднимать его
серьезно» (с. 246).
Диалоги Соломона с Марколь4юм М.М.Б. упоминал в работе «Слово в романе»
(1940; позднейшее заглавие — «Из предыстории романного слова») в связи с вопросом
о средневековых пародийных языковых гибридах: «Перед нами нескончаемый
фольклорный диалог: прения хмурого священного слова с веселым народным словом,
нечто вроде знаменитых средневековых диалогов Соломона с веселым плутом
Марколь4юм, но Маркольф спорил с Соломоном на латинском же языке, — здесь же
спорят на разных языках» (ВЛЭ, 440).
11. В других черновых материалах к переработке книги, очевидно, параллельных
настоящим заметкам, записано как особая тема: «Гриммельсхаузен и Достоевский»
(АБ). В ППД Гриммельсхаузен упоминается несколько раз, но сопоставление
«Симплициссимуса» с < Житием великого грешника» и романами Достоевского
осталось неразвитым.
12. «Климентины» — произведение раннехристианской литературы, близкое по
литературным формам античному роману (3 в.). Как показывают рукописные
материалы АБ, ссылку на «Климентины» М.М.Б. собирался включить в уже готовый
машинописный «итальянский вариант» ППД на стадии его новой доработки для
московского издания: к с. 155 машинописи, соответствующей с. 161 ППД, к фразе
«Большое значение имеет и преобразующее проникновение мениппеи в
повествовательные жанры древнехристианской литературы» — было заготовлено
примечание: «1) Назову здесь только раннехристианский роман "Климентины" Этот
роман, являющийся одним из самых ранних источников легенды о Фаусте (указано А.
Н. Веселовским), многими своими темами и образами до странности созвучен
творчеству Достоевского» (АБ).
520
13. Ср. в параллельных, видимо, черновых материалах: «Культурно-историческая
"телепатия", т. е. передача и воспроизведение через пространства и времена очень
сложных мыслительных и художественных комплексов (органических единств
философской и художественной мысли без всякого уследимого реального контакта).
Кончик, краюшек такого органического единства достаточен, чтобы развернуть и
воспроизвести сложное органическое целое <...> Наше мышление слишком еще
проникнуто механицизмом. Угадывание Достоевским менипповой сатиры,
Симплициссимуса» (АБ).
14. Ср. о «стабилизации значений, ослаблении метафорической силы» и «предельной
однотонности термина» в тексте 40-х гг. «<К вопросам самосознания и самооценки...>»
(с. 79).
521
УКАЗАТЕЛИ
предметный указатель
а_
абсолютный
— абсолютная доброта, 109
— абсолютная смерть, 344
— абсолютное прошлое, 137
— абсолютный порог, 347
— зеркало абсолютного сочувствия, 9
авантюрность, 42; 339 авантюрный роман, 75;
118; 139 автобиография, 54; 72 автор, 139; 204; 264; 288;
290; 307; 319; 323; 324;
329; 337; 340; 341; 343;
349; 355; 357; 361; 363;
365; 366; 367; 369; 373
— образ автора, 296; 313; 314; 318; 323; 324; 327; 328
— чистый автор, 313 авторский
— авторская позиция, 340; 349; 360; 362; 365; 366; 367; 373
— прямое (авторское) слово, 225; 293; 295; 375
авторство, 307; 309; 330 агиография, 372
агон, 19; 20; 21; 24; 39; 41
— комические агоны (споры), 13
аграрная магия, 120; 121 ад, 43; 91; ПО; 358; 376
— карнавальный «ад», 50 адресат (адресованность),
200; 201; 202; 203; 204; 205; 337 акцентуация
— топографическая акцентуация, 84
аллегория, 125 амбивалентность, 40; 43;
52; 80; 83; 94; 96; 97; 101;
377; 378 анализ и синтез, 137 ангелы и демоны, 91 анекдот, 12; 13; 26; 48; 105;
126
атеизм, 70; 352 ателланы, 376
б_
балаганный
— балаганные формы, 117
— балаганный смех, 45 барокко, 103
басня, 140
безгласный объект (вещь), 311; 365
521
521
безумие, 88; 114
— мотив безумия, 109 бесконечность, 135; 366;
367
бессмертие, 8; ПО; 115 бессознательное, 86; 345 благоговение, 9; 58; 133 благодать,
67 благообразие, 353; 362 благословение, 100 блазон, 12; 108; 138 боваризм, 133 Бог, 7;
68; 75; 99; 341; 342; 489
— борьба бога с дьяволом, 99
— прение бога с чертом, 124
большие судьбы слова и
образа, 139 большое, 57; 58; 59; 60; 62 брань и хвала, 19; 29; 44;
46; 47; 49; 51; 57; 63; 65;
69; 80; 82; 83; 84; 85; 89;
94; 100; 108; 109; 114; 116;
117; 377; 485 буддизм, 115; 133 будущее, 10; 15; 18; 33; 34;
51; 52; 53; 60; 63; 65; 66;
80; 86; 122; 136; 485 буржуазный реализм, 57;
304 бурлеск, 128 бурсацкий смех, 45 буря и натиск, 41 бытие, 8; 49; 72; 83; 109;
ПО; 115; 340; 343; 344;
357
— бытие как общение, 344
— бытие-страдание, 133
— ходячее бытие, 133
— элементарное бытие,
133
В_
ваганты, 127 величальная песня, 123 вертепная драма, 129 верх и низ, 42; 43; 44; 50;
83; 89; 91; 94; 111; 345;
346; 378; 489
— телесный верх и телесный низ, 52; 96; 97; 116
— топографический верх и низ, 101
вечность (вечное), 77; 81; 83
вещность (вещное), 74;
348; 351; 354 вещь (вещи), 7; 8; 50; 51;
52; 54; 55; 56; 58; 60; 61;
76; 78; 130; 134; 304; 305;
309; 310; 311; 331; 341;
345; 352; 356; 365; 367;
489
— безгласный объект (вещь), 311; 365
— вещь и личность, 7; 8; 310
видение, 135; 344; 345; 348;
349; 354; 356; 360; 365;
369; 370; 371; 375 видение
— загробные видения, 45
— смеховые видения, 45 вирши, 126; 128; 129
522
вненаходимость, 68; 69; 72;
358; 363; 366; 367; 368 внутренний монолог, 304 внутренний человек, 70;
304
внутренняя речь, 261; 267;
522
292; 295 возможность, 132; 133; 134;
135; 138; 139; 299 возрождение, 16; 17; 20; 25;
26; 27; 39 Возрождение (Ренессанс),
28; 29; 30; 31; 41; 93; 103 временной (кругозор), 56 время, 16; 17; 18; 21; 23; 24;
28; 51; 52; 53; 55; 56; 62;
63; 74; 75; 79; 122; 136
— большое время, 423
— время и пространство, 55; 56; 62; 74; 75; 372
— спор времен, 138 встреча, 9; 310; 333; 344;
362
вторичные речевые
жанры, 161; 162; 166; 174;
204; 222; 233; 235; 264;
265; 277; 281; 286 вчувствование, 366 вымысел, 46; 128 вымышленное имя, 46
выражение, 7; 8; 9; 353; 368;
369
— средство выражения, 290; 291; 295
выразительность, 362; 364; 368
высказывание, 40; 159; 162; 167; 172; 195; 198; 199;
210; 212; 217; 228; 251; 252; 253; 265; 287; 307; 330; 332; 335
— высказывание и предложение, 174; 175; 176; 177; 184; 185; 186; 187; 188; 189; 194;
195; 205; 211; 212; 214; 226; 227; 242; 243; 251; 254; 257; 258; 259; 263; 266; 268; 339
— высказывание и слово, 188; 189; 190; 191; 192; 193; 205; 257; 258; 259; 262; 263;
266; 268
— завершенность высказывания, 178; 179; 185; 221; 254; 267
— чужая речь (слово, язык, высказывание), 49; 144; 158; 193; 196; 197; 198; 199; 216;
222; 223; 260; 267; 282; 288; 292; 322; 331
— целое высказывания 159; 176; 178; 179; 180; 184; 185; 186; 205; 206; 212; 227; 228;
231; 237; 240; 243; 247; 258; 273; 274; 283; 312; 333; 336
галоа, 15
гармония, 353; 362 гений, гениальность, 53;
54; 60; 130; 132 гениальный, 132 героизация, 21; 51; 52; 73;
84; 122; 138 героизм, 304
523
герой, 40; 42; 57; 64; 305; 342; 349; 350; 355; 357; 365; 366; 367; 368
— герой Достоевского, 368
— герой-идеолог, 360
— герой-святой-шут, 138
— эпический герой, 377 гибридные конструкции,
138; 225; 293 гипербола, 28; 55; 56; 59; 84 говорение
— непрямое говорение, 225; 292; 314; 322
говорящий, 169; 187; 202; 203; 204; 205; 209; 291; 294; 332
— говорящий и слушающий, 169; 170; 294
— образ говорящего, 290; 292; 295
гоголевский смех, 45; 47; 117
голос, 54; 342; 351; 354; 355;
361; 362; 363; 364; 367;
373; 374 гомофонический роман,
357; 360; 373 готический реализм, 59; 93;
126; 493 грамматическая интонация, 194 граница, 50; 52; 54; 55; 56;
523
60; 61; 64; 65; 66; 74; 111;
130; 131; 134; 138; 304;
343; 344; 347; 361; 377;
378; 485 грех, 30; 42; 375
— первородный грех, 130
гробианцы, 30
гротеск, 31; 34; 47; 52; 54;
56; 62; 108; 114; 115; 116;
117; 130; 133; 137; 140 гротескная сатира, 31 гротескное тело, 47; 54; 56;
115; 116; 117 гуманитарное мышление
(дисциплины, науки), 7;
306; 307; 310; 311; 320;
330; 333
д_
дадаисты, 119 палевой образ, 138 движение, 74; ПО; 111; 135;
136; 489 двойник, 42; 352; 369 — пародирующие двойники, 378 двуголосое слово,
225; 230;
311; 314; 315; 327; 330;
331
двутелость, 84; 114; 130 двутонность, 53; 57; 109;
114; 130 дейкеласты, 20 декаденты, 58 демоны и ангелы, 91 деревенская комедия,
108 дети (дитя, ребенок), 76;
133; 134; 355; 356 диалектика и диалог, 308;
351
диалог, 7; 12; 22; 25; 42; 53; 63; 74; 114; 177; 207; 208; 209; 210; 211; 212; 213; 214;
217; 223; 233; 234;
524
288; 294; 310; 324; 325; 328; 340; 341; 348; 351; 354; 355; 357; 359; 361; 362; 363; 364;
367; 368; 370; 371; 373; 374
— большой диалог, 360
— диалог Платона, 42
— диалектика и диалог, 308; 351
— комические диалоги, 12
— диалоги мертвых, 361
— незавершимый диалог, 360; 370
— сатирические диалоги, 19; 34
— сократический диалог, 81; 138; 341; 348; 350; 372
диалогизм, 342; 348; 350;
360; 361; 362; 365 диалогическая модель, 367;
370
диалогическая новелла, 41 диалогическая природа
(слова, сознания, человеческой жизни) 351;
357; 359; 362; 363 диалогические обертоны,
197; 198; 238; 239; 240;
263; 283 диалогические отношения,
209; 229; 238; 271; 288;
294; 308; 309; 312; 318;
319; 321; 322; 323; 324;
325; 328; 329; 330; 331;
332; 335; 336; 338; 339;
524
342; 349; 350; 361; 369;
373
диатриба, 11; 372 дистанция, 51; 52; 55; 56;
57; 102; 112; 114; 137 дневники, 80; 303 драма, 17; 126; 127
— вертепная драма, 129
— иезуитская драма, 126
— сатирова драма, 59; 80; 157
— школьная драма, 126
— церковная драма, 26 драматизация (драматизм,
драматичность), 40; 146; 147; 149; 150; 201; 202; 243
драматическая сатура, 17; 21
другой, 7; 8; 9; 64; 68; 69; 71; 72; 73; 168; 171; 177; 200; 203; 272; 279; 305; 318; 344;
346; 347; 349; 350; 352; 353; 354; 356; 358; 362; 363; 365; 366; 367; 368; 369
— я для другого, 354; 366
— я и другой, 73 другость, 73 дурак, 18; 27; 30 дурацкая сатира, 18; 26; 30 дух, 133;
309; 345; 351; 358;
362; 364 душа, 9; 62; 69; 74; 86; 98; 345; 351; 362; 364
— индивидуальная душа, несказанное ядро души, 9; 98
дьяблерия, 26; 45; 376 дьявол
— борьба бога с дьяволом, 99
525
ж
жалость, 68; 76; 131; 133;
304; 356 жанр, 11; 12; 18; 20; 39; 40;
138; 140; 305
— вторичные речевые жанры, 161; 162; 166; 174; 204; 222; 233; 235; 264; 265; 277;
281; 286
— жанр и направление, 305
— исповедальные жанры, 372
— первичные речевые жанры, 161; 162; 166; 174; 204; 222; 233; 235; 264; 265; 277;
281; 286
— речевые жанры, 159; 160; 162; 163; 164; 165; 167; 183; 221; 235; 236; 273; 277; 339
— теория жанров, 138
— тип (жанровая разновидность) романа Достоевского, 42; 354; 369
— эпические жанры, 39 жест, 16; 94; 96; 97; 98; 99;
103; ПО; 111; 137; 158; 463
— речевой жест, 353
— топографический жест, 94; 96; 97; 98; 128
— фамильярный жест, 47; 118
— эпический жест, 137 жестикуляционный фонд,
47; 80; 84 животное, 27; 76; 130; 131; 133; 134; 140; 304; 305
жизнь, 21; 41; 83; 91; 131; 132; 377
— спор жизни со смертью, 25 житие, 376
завершающее, 139; 340;
348; 350; 355; 363; завершение, 349; 357; 358;
366
завершенное, 49; 62; 340
завершенность, 61; 139; 356; 377
завершенность высказывания, 178; 179; 185; 221; 254; 267
загадка, 128
525
заговор, 121; 125
загробный
— загробная молитва, 84
— загробные видения, 45
— загробные хождения, 75; 105
— миф о загробном суде, 85
заклинание, 121; 125 заочное, 67; 68; 69; 71; 354;
355; 358; 359; 363 застольный смех, 45 зверь, 130; 131; 132; 133 земля
— земля и небо, 83; 91; 94; 130
— спор земли с морем, 25 зеркало, 27; 68; 71; 73; 346;
347; 351; 362; 368; 369
— зеркало абсолютного сочувствия, 9
— человек из зеркала, 128
526
— человек у зеркала, 71; 72; 346; 362 зона контакта, 51; 57; 138; 139
зона кризиса, 110
и
— собственное имя-прозвище, 128
— собственное имя, 45, 100, 128
— вымышленное имя, 46
— имя-псевдоним, 46
— кличка, 46, 49, 102 имяславие, 101 инвектива, 20 индивидуальная душа, 98
индивидуальность, 7; 41;
81; 84; 86; 111; 114; 123;
177; 485; 489 интенция, 225; 350 интермедия, 12; 126; 127 интонация, 59; 84; 135;
143;
146; 147; 149; 189; 190;
194; 261; 262; 275; 314
— грамматическая интонация, 194
— экспрессивная интонация, 189; 190; 194; 261; 262; 275
интроективная психология, 138 ироническое, 148; 292 ирония, 378
— романтическая ирония, 32
искупление, 109; 133 исповедальные жанры, 372 исповедь, 72; 304; 344; 345;
349; 352; 354; 362; 363;
364; 365; 367
— риторический момент исповеди, 346
история религий, 116 история романа, 53; 130; 134; 140
игра, 117; 124; 376 идеализация
— эпическая идеализация, 122
идеолог
— герой-идеолог, 360 идея, 42; 53; 75; 340; 342;
354; 355; 358; 361; 363; 364; 365; 370; 375
— образ идеи, 375
— этическая идея, 354 идиллия, 304; 305 иезуитская драма, 126 иерархия, 44; 53; 57;
85;
104; 114; 118; 119; 378 избыток, 8; 71; 136; 358; 363; 367
— всенародный избыток, 27
— материально-телесный избыток, 20
изображение
— средство изображения, 142; 288; 295
526
— объект изображения, 134; 287; 295
имя, 52; 63; 77; 84; 99; 101; 102; 103; 106; 117; 138; 344; 345
имя и прозвище, 47; 49 63; 77; 84; 99; 100; 101 102; 103; 106; 117; 128
57;
527
к
календы, 120 канты, 125
карнавал (карнавальное), 26; 29; 42; 43; 44; 59; 88; 89; 114; 117; 118; 119; 137; 287;
292; 350; 372; 376; 377
карнавальная площадь, 43;
104; 112; 339; 350; 365 карнавальный «ад», 50 карнавальный комплекс,
119
карнавальный король, 121 карнавальный смех
(осмеяние), 39; 45 картина мира, 55; 60; 134;
348; 378 катарсис, 357 катастрофа, 58; 357; 363 киническая философия, 25
классицизм, 84 классическое тело, 54 кличка, 46; 49; 102 колесо, 42; 130; 378 колядка,
120; 123 комедия, 12; 13; 16; 18; 19;
20; 25; 31
— комедия делл'арте, 13; 31; 376
— деревенская комедия, 108
— фантастическая комедия, 106
комический агон (спор), 13
комический диалог, 12 комическое, 17; 41; 48; 50;
107; 108; 125; 137; коммуникация, 167; 199;
244; 254; 255; 282; 283 компиталии, 17 конструкция
— гибридные конструкции, 138; 225; 293
контакт
— зона контакта, 51; 57; 138; 139
контекст, 239; 242; 259; 278;
292; 297; 310; 334 контрапункт, 360 концепт, 125 концы и начала, 131; 132
координатные отношения,
51; 358; 365; 366 король
— карнавальный король, 121
космизм, 53; 54 космическая память, 131 космическая топография, 94
космический страх, 131
космический универсализм, 122
космическое, 52; 54; 55; 58; 59; 61; 122
кощунство, 41
красота, 61
крещение, 120
кризис, 74; 75; 350; 362; 363
— зона кризиса, 110 крик, 50; 53; 54 критический реализм, 57;
493; 494
527
кругозор, 56; 62; 346; 366
— кругозор и окружение, 7; 8; 60; 73
кубизм, 119
кукольный театр, 75; 129 культура
— народно-с меховая культура, 123
— смеховая культура, 78; 123
527
купальская песня, 124
л_
лазейка, 352; 362 легенда
— христианские легенды, 121
лингвистика, 138; 215; 236; 241; 242; 259; 308; 326; 328; 329; 334; 339; 361; 377
лирика, 14; 41; 54; 57; 62 личность, 7; 44; 74; 304;
310; 332; 340; 343; 345;
349; 350; 354; 355; 356;
357; 358; 360; 361; 362;
363; 364; 365; 369
— личность и вещь, 7; 8; 310
— характер и личность, 43; 356; 358; 363; 369
— человек-личность, 349; 350; 355
логические отношения,
148; 149 ложь, 7; 47; 65; 66; 67; 69;
70; 73; 77; 86; 109; 376
— феноменология лжи, 69
луперкалии, 17
любовь, 41; 49; 53; 54; 66; 68; 76; ПО; 116; 117; 131; 132; 133; 134; 300; 301; 344; 345;
350; 353; 356; 358; 367; 494
магия аграрная, 120; 121 магометово мгновение, 74 макродиалог и микродиалог, 373
малое, 57; 58; 135; 305; 356 мандрованый дьяк, 127;
128;129 маска, 352; 362; 378 маскарад, 119 масленичный смех, 32 материал, 46
материально-телесное начало, 20; 24; 25; 28; 31; 42
материально-телесный избыток, 20
материально-телесный низ, 42
мемуары, 80
мениппова сатира, 11; 12;
13; 24; 25; 27; 29; 42; 51;
53; 56; 64; 75; 76; 80; 81;
82; 83; 106; 107; 125; 134;
157; 339; 372; 463 металингвистика, 321; 322 метафизика, 8; 348 метафора, 46; 47; 57;
61; 91;
103; ПО; 125; 128; 138;
225; 226 мечта, мечтатели, 43; 132;
463
528
микродиалог и макродиалог, 373
мим, 12; 19; 25; 124; 157; 376
мир
— картина мира, 55; 60; 134; 348; 378
— модель мира, 138; 348; 351; 362; 369; 370; 371; 372
— монологическая модель мира, 350; 367
— топографическая схема мира, 112
мировоззрение, 18; 131; 132; 133; 134; 135; 345; 351; 355; 364; 375
— мифологическое мировоззрение, 18
мистерия, 376 мистификация, 82 миф, 18; 24; 78; 80; 84; 85; 136; 138; 463
— миф о загробном суде, 85
— смеховые мифы, 84 мифологическое мировоззрение, 18
многоголосый роман, 373 многоязычие, 125; 138; 157 модель, моделирование, 377
528
— диалогическая модель, 367; 370
— модель движения, 135 модель мира, 138; 348; 351;
362; 369; 370; 371; 372
— монологическая модель мира, 350; 367
модернизм, 53; 54
молитва, 7; 114
— загробная молитва, 84
— мольба-молитва, 116 монолитная серьезность,
378
монолог, 127; 197; 200; 208; 209; 212; 213; 217; 223; 325; 304; 328; 350; 351; 370
— внутренний монолог, 304
монологизм, 341; 343; 350;
360; 362; 370 монологизм в высшем
смысле, 341 монологический
— монологическая модель мира, 350; 367
— монологический роман, 357; 364; 373
монтаж, 40
монументальное, мону-ментализм, монументальность, 50; 52; 53; 57; 61; 62; 85
моралите, 26
море
— спор земли с морем, 25 мотив
— мотив «нерожденного женщиной», 88
— мотив безумия, 109
— мотив избиения младенцев, 85
— мотив отцеубийства, 43; 84; 85; 86
— мотив убийства сына, 86
529
музыка, музыкальный, 57;
340; 364 мышление
— гуманитарное мышление, 7; 306; 307; 310; 311; 320; 330; 333
— первобытное мышление, 135
н
начала, 135
начала и концы, 131; 132 начало
— материально-телесное начало, 20; 24; 25; 28; 31; 42
небо и земля, 83; 91; 94; 130 небытие, 83; 109; 344 незавершенное настоящее, 80
незавершенность, 49; 68; 138
незавершимость, 340; 341; 349; 356; 358; 360; 367; 377
незавершим ый диалог,
360; 370 нейтральные (ничьи) слова, 187; 188; 189; 191; 192; 229; 279; 280; 291
ненаивность, 134 неоклассицизм, 11; 41 неофициальная серьезность, 81
неофициальное, 49; 50; 81 непристойность, 16; 19; 20; 24; 25; 28; 41; 115; 116
— философская непристойность, 116
непрямое говорение, 225; 292; 314; 322
непубликуем ые сферы речи, 130
несобственная прямая речь, 293; 331
нигилистическое снижение, 123
низ
над адресат, 337; 361
надежда и страх, 63; 65
529
надъюридическое преступление, 85; 86
наивность, 71; 133; 134; 292; 353; 494; 495
направление и жанр, 305
наркоз, 109
народ, 114; 123
народно-праздничные образы и формы, 39; 49; 59; 112; 137; 493
народно-празднич ный смех, 45
народно-смеховая культура, 123
народно-смеховые формы, ИЗ
народность, 114; 158 народно-трагические
формы, 114 настоящее, 15; 18; 20; 21;
34; 51; 57; 80; 102
— незавершенное настоящее, 80 натурализм, 134 натуральная школа, 304;
305
530
— материально-телесный низ, 42
— низ и верх, 50; 83; 89; 91; 94; 111; 378
— телесный верх и телесный низ, 52; 96; 97; 116
— топографический верх и низ, 101
нирвана, 109; 345 новелла, 13; 28; 41; 125; 126; 128
— диалогическая новелла, 41
— плутовская новелла, 30
обезличивающее целое, 82 обертон, 84; 85; 116; 197;
198; 218; 238; 239; 263;
267; 279; 327
— диалогические обертоны, 197; 198; 238; 239; 240; 263; 283
обновляющая смерть, 82 образ, 51; 55; 56; 57; 59; 60;
61; 71; 72; 73; 77; 82; 100;
130; 132; 135; 138; 139;
352; 354; 362; 366; 375;
463
— большие судьбы слова и образа, 139
— далевой образ, 138
— нар одно-праздничные образы и формы, 39; 49; 59; 112; 137
— образ автора, 296; 313; 314; 318; 323; 324; 327; 328
— образ говорящего, 287; 290; 291; 292; 295
— образ идеи, 375
— образ и понятие человека, 351; 352; 354; 362; 366
— топографическая схема образа, 112
— топографический образ, 95; 96; 97; 99
— фамильярный образ, 106
— эпический образ, 63 образное отрицание, 15;
17; 18; 19; 20; 21; 24; 31 обращенность, 355; 360; 365
обряд, 120; 124
— свадебные обряды, 16; 121; 124
— святочные обряды, 120 обрядность
— похоронная обрядность, 124
обрядово-магическая поэзия, 123 обрядовый смех, 15 объект, 289; 350; 360; 365; 366
— безгласный объект (вещь), 311; 365
объект изображения, 134;
530
287; 295 объектное, 350; 355; 357;
359; 360 объектность, 74; 347; 348;
356; 367; 368 общение
— бытие (как общение), 344
— речевое общение, 167; 177; 195; 267; 268; 269;
531
270; 277; 292; 293; 294; 308; 309; 311; 326; 337
— средство общения, 291; 292
овеществление, 76; 304;
311; 319; 327; 347; 349;
350; 351; 352; 354; 356;
358; 361; 362; 363; 365;
367; 368 овеществленность, 348 ода, 57; 101; 126; 485 одноголосое слово, 314;
327
однотонность, 80; 81; 114;
130; 139 однотонный, 49; 82; 83; 89 окружение
— окружение и кругозор, 7; 8; 60; 73
оксюморность, 42; 81; 107 олицетворение, 46; 119; 128 «оно», 356; 369
организационный центр,
288; 295; 297 осанна, 42 осел
— праздник осла, 25
— «с петуха на осла» (coq-а-Гапе), 46
осерьезнение, 81; 83 осмеяние, 15; 16; 17; 18; 19;
20; 24; 25; 26; 28; 29; 31;
32; 46; 113
— карнавальный смех (осмеяние), 39; 45
— сатирический смех (сатирическое осмеяние), 26; 45
ответ, 169; 170; 176; 179;
196; 197; 209; 266; 267;
277; 279; 319 отелеснивание, 56; 61 отношения
— диалогические отношения, 209; 229; 238; 271; 288; 294; 308; 309; 312; 318; 319;
321; 322; 323; 324; 325; 328; 329; 330; 331; 332; 335; 336; 338; 339; 342; 349; 350; 361;
369; 373
— координатные отношения, 51; 358; 365; 366
— логические отношения, 148; 149
отрицание, 14; 16; 27; 100 отцеубийство, 42; 43; 85; 133
официализация
(официализованные), 81; 103; 109; 114; 126
официальное, 49; 50; 51; 80; 104; 123; 158; 377; 378
п_
падение
— подъем-падение, 42; 83 памфлет, 13; 29; 30; 31 память, 8; 9; 60; 68; 77; 78;
79; 84; 100; 101; 102; 103; 132; 139; 423; 424; 463; 485
— индивидуальная память, 424
— космическая память, 131
панегирик, 126 парабаза, 20
531
пародийное слово, 138 пародирование, 12; 13; 17;
127; 415 пародирующие двойники,
378
531
пародия, 13; 14; 18; 19; 20; 21; 25; 28; 29; 128; 376; 378
пастораль, 46 пасхальный смех, 26 патетика, 375 пауза, 59 пафос, 50; 57 первичные
речевые
жанры, 161; 162; 166; 174;
204; 222; 233; 235; 264;
265; 277; 281; 286 первобытное мышление,
135; 136 первородный грех, 130 первофеномен, 131; 135
— первофеномен романа, 82;138
переакцентуация, 182; 192;
280; 314 песня
— величальная песня, 123
— купальские песни, 124
— русальные песни, 123 петух
— «с петуха на осла» (coq-а-Гапе), 46
пиетет, 58; 132 пир, 39; 43; 130; 414 письмо, 24; 25; 304 плач, 39; 40; 124 площадной
— праздничные площадные формы, 113
площадь
— карнавальная площадь, 43; 104; 112; 339; 350; 365
— ярмарочная площадь, 45; 114; 117; 118
плут, 18; 27
плутовская сатира, 26; 30 плутовская новелла, 30 плутовской роман, 27; 30; 157
поговорка, 11 подсознательное, 119; 356 подъем-падение, 42; 83 позитивизм и
формализм,
42; 134 позиция
— позиция авторская, 349; 360; 362; 365; 373
— позиция последняя, 352; 354; 360
познание, 7; 63; 65; 73; 74; 77; 81; 121; 122; 287
— теория познания, 122 покой, 109
политическая сатира, 11; 30
полифонический роман,
350; 357; 360; 361; 363;
367; 368; 369; 373; 374 полифонический тип
творчества, 369 полифония, 320; 327; 340;
341; 361 понимание, 9; 209; 210; 215;
216; 318; 319; 320; 321;
323; 327; 337; 338; 361
532
понятие и образ человека, 351; 352; 354; 362; 366
порог, 74; ПО; 111; 343; 347; 350; 358; 361; 362; 363; 372; 373
— абсолютный порог, 347 послание, 22; 123 последнее слово, 117; 324;
347; 351; 352; 353; 362;
364; 367; 376 последнее целое, 40; 77; 83;
109; 352; 355 последняя позиция, 352;
354; 360 последняя ценность, 352;
353; 362 пословица, 11 посрамление, 16; 17; 24; 39;
40; 84
поступок, 110; 311; 321; 368 похоронная обрядность, 124
похоронный смех, 45 поэзия
— обрядово-магическая поэзия, 123
— поэзия и проза, 53; 103
532
— ученая поэзия, 104 поэтика, 54; 103; 138; 374 поэтическое слово, 40; 53;
103; 120; 128 правда, 44; 49; 67; 109; 112;
113; 342; 373; 374 праздник, 59; 112; 113
— праздник дураков (глупцов), 25; 113; 118; 130
— праздник новолетия, 120
— праздник осла, 25 праздничность, 83; 122 праздничные площадные
формы, 113 предание, 46
предложение, 174; 175; 176; 184; 185; 186; 187; 188; 189; 194; 205; 211; 212; 214; 226;
227; 242; 243; 257; 258; 268; 339
— высказывание и предложение, 174; 175; 176; 177; 184; 185; 186; 187; 188; 189; 194;
195; 205; 211; 212; 214; 226; 227; 242; 243; 251; 254; 257; 258; 259; 263; 266; 268; 339
предромантизм
(преромантизм), 41; 304 прение бога с чертом, 124 преступление, 42; 48; 85; 86;
87; 118; 375
— юридическое преступление, 86
— надъюридическое преступление, 85; 86
причитание, 124 прогностики
— смеховые прогностики, 46
проза и поэзия, 49; 53 прозаическое слово, 49; 53; 103
прозвище, 47; 57; 63; 77; 84; 99; 100; 101; 102; 103; 106; 117; 128; 138; 158
— имя и прозвище, 47; 49; 57; 63; 77; 84; 99; 100;
533
101; 102; 103; 106; 117;
128; 138; 158 проклятие, 42; 45; 125 проповедь, 125; 126 прославление, 39; 84; 99;
158
— риторическое прославление, 158
— хвала-прославление, 19; 44; 49; 51; 57; 69; 116
простак, 18; 31
пространственно-временная топография, ПО
пространственно-временное, 55; 56; 81; 135; 370; 372
пространство, 50; 57; 58; 59; 87; 135; 139; 339
— топографическое пространство, 50; 100
пространство и время, 55;
56; 62; 74; 75; 372 профанация, 41; 48; 49; 64 прошлое, 9; 18; 21; 34; 51;
52; 57; 61; 63; 70; 80; 84;
86; 123; 131; 136; 424; 490
— абсолютное прошлое, 137
прямая речь, 295; 296; 322 прямое (авторское) слово,
225; 295; 375 псалмы, 125 псевдоним
— имя-псевдоним, 46 психоанализ, 364; 670 психология, психолог, 86;
89; 94; 138; 349; 354; 362
— интроективная психология, 138
путешествие, 25; 33
р_
развенчание, 43; 44 развенчание и увенчание,
85; ИЗ; 114; 378 разноречие, 63 разъятое тело, 125 рай, 43; 91; 358 рассказчик, 293;
313; 347 рассказывание, 48 реализм, 13; 32; 41; 42; 58;
59; 60; 93; 126; 130; 304;
318; 319; 493
— реализм буржуазный, 57; 304
533
— реализм готический, 59; 93; 126; 493
— реализм критический, 57; 493; 494
ребенок (дети, дитя), 133;
304; 305; 343 редуцирование смеха, 375 рекреативный смех, 45 религия
— история религий, 116 релятивизация, 109 Ренессанс (Возрождение),
28; 29; 30; 31; 41; 93; 103 речевое общение, 44; 167;
177; 195; 267; 268; 269;
270; 277; 292; 293; 294;
308; 309; 311; 326; 337 речевой жест, 353 речевой субъект, 290; 330;
335
534
— смена речевых субъектов, 172; 173; 175; 178; 197; 211; 228; 240; 266; 269; 271; 277
речевые жанры, 159; 160; 162; 163; 164; 165; 167; 183; 221; 235; 236; 273; 277; 339
— вторичные речевые жанры, 161; 162; 166; 174; 204; 222; 233; 235; 264; 265; 277;
281; 286
— первичные речевые жанры, 161; 162; 166; 174; 204; 222; 233; 235; 264; 265; 277;
281; 286
речь, 169; 171; 172; 175; 193; 207; 210; 212; 252; 258; 277
— внутренняя речь, 261; 267; 292; 295
— речь и язык, 214; 258; 271; 294; 286; 311
— непубликуемые сферы речи,130
— несобственная прямая речь, 293; 331
— прямая речь, 295; 296; 322
— фамильярная речь (форма, слово, общение), 47; 49; 137; 182; 202; 203
— чужая речь (слово, язык, высказывание), 49; 144; 158; 193; 196; 197; 198; 199; 216;
222; 223; 260; 267; 282; 288; 292; 322; 331
— язык и речь, 212; 214; 252; 258; 271; 294; 296; 311
римская сатира, 21; 22; 30; 51
ритм, 52; 54 риторика, 63; 139 риторический момент
исповеди, 346 риторическое прославление, 158 риторическое слово, 63 рождение, 16;
17; 26; 42; 34;
86; 100; 101; 115 рождественский смех, 26 рождество, 120 роман, 11; 12; 13; 14; 25;
31;
33; 40; 41; 42; 43; 45; 48;
53; 70; 75; 80; 102; 118;
121; 134; 138; 139; 157;
342; 348; 349; 369
— история романа, 53; 130; 134; 140
— первофеномен романа, 82;138
— роман авантюрный, 75; 118; 139
— роман барочный, 118
— роман бульварный, 42; 118
— роман гомофонический, 357; 360; 373
— роман Достоевского, 42; 44
— роман многоголосый, 373
— роман монологический, 357; 364; 373
— роман плутовской, 27; 30; 157
534
— роман полифонический, 350; 357; 360; 361; 367; 367; 368; 369; 373; 374
— роман сатирический, 11; 14; 31
534
— роман-сатура, 17
— роман с ключом, 46
— роман-трагедия, 42
— стилистика романа, 138
— теория романа, 48; 110
— тип (жанровая разновидность) романа Достоевского, 42; 70; 75; 354; 369
романизация, 53; 350 романное, 22; 135; 138; 139; 157
романтизм, 32; 41; 57; 60; 84; 103; 298; 299; 302; 304; 612
романтика, 106; 107 романтическая ирония, 32 романтическая сатира, 13; 32; 33
романтический смех, 45 роман-трагедия, 42 русальные песни, 123 руссоизм, 304
с_
самозванство, самозванец, 43; 44; 344
самооценка, 68; 69; 72
самопрославление (самовосхваление), 54; 84
самосознание, самоосознание, 8; 53; 54; 60; 64; 69; 72; 73; 343; 355; 364; 365; 472; 485
самоубийство, 88; 89; 111;
346; 355; 359; 363; 368 самоувенчание, 85 сатира
— сатира гротескная, 31
— сатира дурацкая, 18; 26; 30
— сатира мениппова, 11; 12; 13; 24; 25; 27; 29; 42; 51; 53; 56; 64; 75; 76; 80; 81; 82;
83; 106; 107; 125; 134; 157; 339; 372
— сатира плутовская, 26; 30
— сатира политическая, 11; 30
— сатира романтическая, 13; 32; 33
— сатира римская, 21; 22; 30; 51
— сатира сонная, 64
— сатира средневековая, 25; 27
— теория сатиры, 14 сатирическая сирвента, 26;
28
сатирический диалог, 19; 34
сатирический роман, 11; 14; 31
сатирический смех (сатирическое осмеяние), 26; 45
Сатарова драма, 59; 80; 157; 415
сатура
— драматическая сатура, 17; 21
— роман-сатура, 17
535
сатурналии, 16; 25; 26; 39;
43; 42; 44; 45; 51; 59; 88;
89; 118; 122; 157; 372 свадебные обряды, 16; 121;
124
свобода, 8; 9; 10; 22; 48; 65; 66; 74; 76; 117; 122; 123; 133; 349; 353; 354; 356; 364
свое и чужое, 136; 353; 362 святой
— герой-святой-шут, 138 святость, 42; 43; 130; 133;
134
святочные обряды, 120 сексуальность, 137 семь мудрецов, 138 сентиментализм, 57;
304;
305; 350 сентиментальность, 356 серьезность, 9; 10; 49; 50;
51; 53; 66; 67; 70; 80; 81;
114; 157; 372; 375; 376;
535
378; 463
— ложная серьезность, 376
— монолитная серьезность, 378
— неофициальная серьезность, 81
символизм, 53; 58 синекдоха, 61 синкриза, 376 синтаксис, 142; 144; 152; 155
синтез и анализ, 137 сирвента
— сатирическая сирвента, 26; 28
сказка, 12; 32; 34; 59; 60;
101; 124; 159 слово, 44; 51; 57; 99; 110;
139; 157; 158; 188; 189;
190; 191; 192; 193; 205;
257; 258; 259; 262; 263;
266; 268; 328; 346; 348;
349; 350; 351; 353; 354;
355; 359; 360; 361; 362;
363; 364; 368; 370; 376;
423
— большие судьбы слова и образа, 139
— высказывание и слово, 188; 189; 190; 191; 192; 193; 205; 257; 258; 259; 262; 263;
266; 268
— слово двуголосое, 225; 230; 311; 314; 315; 327; 330; 331
— слово заочное, 355, 363
— слово нейтральное (ничье), 187; 188; 189; 191; 192; 229; 279; 280; 291
— слово обращенное, 348; 358; 365
— слово одноголосое, 314; 327
— слово народное, 138
— слово пародийное, 138
— слово последнее, 117; 324; 347; 351; 352; 353; 362; 364; 367; 376
— слово поэтическое, 40; 53; 103; 120; 128
— слово прославленное, 84
— слово прямое (авторское), 225; 295; 375
536
— слово риторическое, 63
— слово романное, 22; 135; 138; 139; 157
— слово смешное, 22
— слово фамильярное (фамильярная речь, общение), 47; 49; 137; 182; 202; 203
— чужая речь (слово, язык, высказывание), 49; 144; 158; 193; 196; 197; 198; 199; 216;
222; 223; 260; 267; 282; 288; 292; 322; 331
— эпическое слово, 18; 157
слушающий (слушатель), 169; 170; 216; 282; 283; 294
— говорящий и слушающий, 169; 170; 294
смена речевых субъектов,
172; 173; 175; 178; 197;
211; 228; 240; 266; 269;
271; 277 смерть, 16; 17; 21; 26; 29; 34;
39; 40; 41; 43; 50; 72; 79;
82; 83; 84; 86; 89; 91; 93;
99; 101; 114; 115; 131; 344;
346; 347; 355; 359; 360;
362; 368; 375; 376; 377;
536
485
— смерть извне, 347; 348
— смерть изнутри, 347; 348
— смерть абсолютная, 344
— смерть обновляющая, 82
— смерть сознания, 359
— смерть тела, 359
— сомнение в смерти, 114; 115
— спор жизни со смертью, 25
смех, 10; 14; 15; 16; 17; 19; 20; 24; 25; 26; 28; 29; 30; 32; 33; 46; 47; 49; 50; 59; 63; 80;
82; 99; ПО; 114; 115; 157; 158; 375; 376
— редуцирование смеха, 375
— смех балаганный, 45
— смех бурсацкий, 45
— смех гоголевский, 45; 47; 117
— смех застольный, 45
— смех карнавальный, 39; 45
— смех масленичный, 32
— смех народно-праздничный, 45
— смех обрядовый, 15; см. также rire rituel
— смех пасхальный, 26
— смех похоронный, 45
— смех редуцированный, 375
— смех рекреативный, 45
— смех рождественский, 26
— смех романтический, 45
— смех сатирический (сатирическое осмеяние), 26; 45
— смех соборный, 114
— теория смеха, 49 смеховая культура, 78; 123 смеховая (карнавальная)
линия в русской литературе, 376
537
смеховое, 49; 80; 125; 126 смеховой миф, 84 смеховой театр, 95 смеховые видения,
45 смеховые прогностики, 46 смешное, 22; 46; 50
— страшное и смешное, 46
смысл, 331; 332; 342; 357 смысл-сознание, 343 снижение, 93; 94; 113
— нигилистические снижения, 123
соборный смех, 114 собственное имя, 45; 100; 128
собственное имя-прозвище, 128
событие, 65; ПО; 127; 128; 131; 264; 310; 341; 343; 344; 355; 362
событийность, 263; 267; 285
современность, 51; 52; 57;
60; 80; 135; 136 согласие, 332; 346; 353; 361;
362; 364 сознание, 8; 72; 73; 74; 86;
109; 111; 112; 119; 341;
342; 343; 344; 345; 347;
348; 350; 351; 355; 357;
359; 360; 361; 362; 368;
369
— смерть сознания, 359
— смысл-сознание, 343
537
— чужое сознание, 340; 342; 343; 361; 369
сократический диалог, 81;
138; 341; 348; 350; 372 сомнение в смерти, 114;
115
сон, 64; 93; 463 сонная сатира, 64 соседства, 134 соти, 13; 26; 27; 28; 36; 53;
54; 493 сочувствие
— зеркало абсолютного сочувствия, 9
социальность (внешняя и внутренняя), 41; 344
«с петуха на осла» (coq-ä-Гапе), 46
спор, 33; 39; 114
— комические споры (агоны), 13
— спор жизни со смертью, 25
— спор земли с морем, 25
— спор времен, 138 сравнение, 46; 91
— топографическое сравнение, 95
срамословие, 15; 17; 19; 20; 24; 29
средневековая сатира, 25; 27
средневековье, 103; 158; 304
среднее, 55; 57; 58; 494 средство выражения, 287;
290; 291; 295 средство изображения, 142;
288; 295 средство общения, 168;
291; 292; 326
538
становление, 8; 25; 29; 61;
64; 77; 81 стилизация, 138 стилистика, 141; 145; 162;
164; 166; 167; 190; 203;
206; 235; 263; 268 стилистика романа, 138 стиль, 18; 39; 158; 162; 163;
165; 166; 201; 203; 214;
215; 218; 223; 227; 228;
229; 231; 236; 243; 263;
264; 267; 290; 318; 353 страдание, 109; 304
— бытие-страдание, 133 страх, 9; 10; 46; 50; 58; 63;
65; 66; 70; 80; 81; 86; 93; 99; 102; 114; 116; 139; 378
— космический страх, 131
— надежда и страх, 63; 65 страшное и смешное, 46 сублимация, 84; 463 субъект, 307;
360; 365
— речевой субъект, 290; 330; 335
— смена речевых субъектов, 172; 173; 175; 178; 197; 211; 228; 240; 266; 269; 271; 277
— эпический субъект, 62 суд
— миф о загробном суде, 85
судьба
— большие судьбы слова и образа, 139
сцена
— топографическая сцена, 94; 98; 111; 127
сюжет, 19; 33; 70; 75; 82; 87; 97; 111; 355; 361; 363; 370; 472
— топографическая схема сюжета, 111
сюрреализм, 119
т_
табу, 41; 64; 101 театр
— кукольный театр, 75; 129
538
— смеховой театр, 95 текст, 292; 306; 307; 308;
309; 310; 320; 321; 329;
331; 333; 334 телесная топография, 50;
91; 94; ПО телесный верх и телесный
низ, 52; 96; 97; 116 тело, 43; 52; 54; 55; 72; 73;
78; 81; 115; 130; 137; 345;
349; 353; 359; 362; 364;
368; 489
— гротескная концепция мира и тела, 114
— гротескное тело, 47; 54; 56; 115; 116; 117
— двутелость, 61; 84; 114; 130; 138
— классическое тело, 54
— разъятое тело, 125
— смерть тела, 359 теодицея, 109 теория жанров, 138 теория литературы, 103;
139
теория относительности, 135
теория паузы, 59
539
теория прозвища, 57 теория познания, 122 теория романа, 48; ПО теория сатиры, 14
теория смеха, 49 термин, 79; ПО; 377 тип (жанровая разновидность) романа Достоевского, 42; 70; 75; 354; 369 типичность, 111; 130 типы мировоззрений, 354; 362
тон, 23; 24; 39; 50; 52; 53; 54; 56; 57; 59; 60; 116; 117; 378
топографическое, 50; 84; 87; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 111; 112; 127; 494
— топографическая акцентуация, 84
— топографическая схема мира, 112
— топографическая схема образа, 112
— топографическая схема сюжета, 111
— топографическая сцена, 94; 98; 111; 127
— топографический верх и низ, 101
— топографический жест, 94; 96; 97; 98; 128
— топографический образ, 95; 96; 97; 99
— топографическое пространство, 50; 100
— топографическое сравнение, 95
топография 83; 84; 91; 94; 97; ПО; 112
— топография космическая, 94
— топография мира, 84; 91
— топография телесная, 50; 91; 94; ПО
— топография сцены, 91
— топография пространственно-временная, НО
точка зрения, 46; 64; 68; 69;
71; 72; 73; 75; 308 травестия, 18; 19; 20; 25;
ИЗ; 414 травестирование, 13; 113 трагедия, 63; 78; 80; 87; 101;
157; 463
— роман-трагедия, 42 третий, 7; 207; 323; 336;
337; 338; 340; 355; 361 ты, 343; 350; 351; 357; 360
убийство, 85; 133; 346; 359;
363; 376 убийство отца и убийство
сына, 84; 85; 86
— мотив отцеубийства, 42; 43; 84; 85; 86; 133
— мотив убийства сына, 86
539
увенчание, 84; 85; 111; 117
— увенчание и развенчание, 85; 113; 114; 378
угроза-устрашение, 116 удивление
— философское удивление, 70
540
универсализм, 34; 122
— космический универсализм, 122
условность, 53 устрашение, 85; 114; 126
— угроза-устрашение, 116 утопия, 25; 51; 139 ученая поэзия, 104
ф
философия
— киничсская философия, 25
— философия имени, 101
— философия лжи, 70 философская непристойность, 116
философское удивление, 70
фольклор, 41; 56; 59; 62; 120; 121; 123; 124; 138; 416
форма, 53; 344; 345; 348; 369
— балаганные формы, 117
— народно-праздничные образы и формы, 39; 49; 59; 112; 137
— народно-смеховыс формы, 113
— народно-трагические формы, 114
— праздничные площадные формы, 113
формализм и позитивизм,
42; 134 функции языка, 207; 208;
210; 289 футуризм, 52; 58; 60
х_
характер и личность, 43;
356; 357; 358; 363; 369 хвала и брань, 19; 29; 42;
44; 46; 47; 49; 51; 57; 63;
65; 69; 80; 82; 83; 84; 85;
89; 94; 100; 108; 109; 114;
116; 117; 377; 485 хвала-прославление, 19; 44;
49; 51; 57; 69; 116
фаблио (фабльё), 27; 48 фаллофоры, 20 фамильяризация, 51; 52;
53; 57; 80; 106; 112; 113;
114; 117; 128; 139 фамильярное, 47; 50; 52;
56; 57; 58; 59; 81; 96; 104;
112; 117; 118; 128; 137;
365
— фамильярная речь (форма, слово, общение), 47; 49; 137; 182; 202; 203
— фамильярный жест, 47; 118
— фамильярный образ, 106
фантастика, 33; 34; 42; 58;
59; 107; 124 фантастическая комедия,
106
фарс, 12; 13; 26; 28; 36 фатрасы, 46 феноменология лжи, 69 фесмофории, 15
фесценнины, 17; 21 физиогномика (античная), 140
филистер, 32
540
ходячие истины, 131; 132; 133
540
ходячее бытие, 133 хождение
— загробные хождения, 75; 105
хор, 374
христианизация, 120 христианские легенды, 121 хронотоп, 55; 56; 358; 372;
373;472 художественное, 110; 112; 339; 348; 370; 371; 375
ц_
целое, 7; 10; 40; 61; 63; 68; 73; 78; 135; 313; 346; 357; 366; 367; 375
— целое высказывания, 159; 176; 178; 179; 180; 184; 185; 186; 205; 206; 212; 227; 228;
231; 227; 228; 231; 237; 240; 243; 247; 258; 273; 274; 283; 312; 333; 336
— целое мира, 98; 111
— целое обезличивающее, 82
— целое последнее, 40; 77; 83; 109; 352; 355
— целое речи, 40 целостность
— эпическая целостность, 358
цензура (сознания), 86 ценности, 49; 134; 135; 353
— последняя ценность, 352;353;362
церковная драма, 26 цитата, 125
ч
ш_
шванки, 27
частушка, 57 человек
— внутренний человек, 70; 304
— образ и понятие человека, 351; 352; 354; 362; 366
— человек в человеке, 365; 368
— человек из зеркала, 128
— человек у зеркала, 71; 72; 346; 362
— человек-личность, 349; 350; 355
черт, 42; 340; 369; 373; 376
— прение бога с чертом, 124
чистый автор, 313 чудак, чудачество 304; 305; 377
чудо, 44; 126; 355; 356; 363;
364; 377 чужой
— свое и чужое, 136; 353; 362
чужая правда, 67; 342 чужая речь (слово, язык,
высказывание), 49; 144;
158; 193; 196; 197; 198;
199; 216; 222; 223; 260;
267; 282; 288; 292; 322;
331
чужое «я», 366 чужое сознание, 340; 342; 343; 361; 369
541
школьная драма, 126 шпильманы, 26 шут, 43; 44; 105; 304; 376; 377; 378
— герой-святой-шут, 138
Щ_
щедривка, 120; 123
э_
экспрессивная интонация, 189; 190; 194; 261; 262; 275
экспрессивность, 168; 187;
188; 195; 224; 238; 244;
279; 288 экспрессионизм, 33 эксцентричность, 43; 354;
541
365; 377; 612 элементарное бытие, 133 эллинизм, 103 эпиграмма, 17 эпитет, 12; 46;
102 эпическое
— эпическая идеализация, 122
— эпическая целостность, 358
— эпические жанры, 39
— эпический герой, 377
— эпический жест, 137
— эпический образ, 63
— эпический субъект, 62
— эпическое слово, 18; 157
эпопея, 39
эпос, 17; 18; 45; 63; 101; 102; 139
эротика, 116; 117 эстетика, 51; 61
эсхатологизм, 58; 59; 113 этимон, 99; 102 этическая идея, 354
ю_
юмор, 14; 33; 45; 107; 119; 125
юридическое преступление, 86
Я
я, 52; 53; 54; 56; 64; 68; 69; 71; 72; 73; 78; 79; 305; 343; 344; 346; 347; 350; 351; 352;
353; 354; 356; 357; 358; 362; 363; 365; 366; 367; 368; 369; 375
— чужое «я», 366
я для другого, 354; 366 я для себя, 9; 348; 354; 356;
366; 367 язык, 40; 50; 52; 54; 60; 104;
135; 252; 258; 271; 294;
296; 308; 309; 328; 332;
336; 339; 349; 370; 463
— функции языка, 207; 208; 210; 289
— чужая речь (слово, язык, высказывание), 49; 144; 158; 193; 196; 197; 198; 199; 216;
222; 223; 260; 267; 282; 288; 292; 322; 331
язык и речь, 212; 214; 252;
258; 271; 294; 296; 311 язык литературы, 165 языковые функции, 207;
208; 210; 289 я и другой, 73
542
ямбы, 16; 17; 19 ярмарочная площадь, 45;
114; 117; 118 «я сам», 350; 351
carmina triumphalia, 16; 39 Daedala, 15 fescennina licentia, 16 interieur, 74 intemum
aeternum, 98 jurons, 137 «man», 351 moralia, 75; 493
Nocl, 26
rire rituel, 15; см. также
обрядовый смех risus paschalis, 26; 45; 495;
см. также пасхальный
смех
Schwellendialog, 74; 110; см.
также диалог на пороге Soliloquia, 75
aioxpoXoyia, 15
542
именной указатель
а_
Абаза Ю. Ф., 676
Абслъ К., 486
542
Аванссов Р. И., 539; 581
Август Октавиан, 101; 446
Августин Аврелий, Блаженный, 98; 487; 488; 674; 649; 670
Аверинцев С. С, 386; 616
Аверроэс, 632
Агриппа, 488
Адам, 198; 199
Аддисон Дж., 415
Адмони В. Г., бОО
Азизе, SOO
Айрапетян В., 384
Алпатов В. М., 539; 542
Алферов А. Д., 34
Альдегонд см. Марникс де Сент-Альдегонд
Альфонсов В. Н., 444-456
Амосова Н. Н., 165; 571; 584
Анненский И. Ф., 669
Апулей, 11; 418; 434; 676 «Золотой осел», 11; 676
Арватов Б., 445 Ардийон А., 445 Аристид, 447
Аристотель, 16; 18; 103; 109;
214; 222; 226; 253; 4W; 411;
421; 489; 573; 627 Аристофан, 19; 20; 36; 106 Арутчева В. А., 453 Архилох, 19; 411
Аскольдов С. А., 356; 360; 363;
369; 667; 674 Афинсй, 20; 412 АхмановаО. С, 619
Б_
Багалей Д. И., 129
Байрон Дж. Н. Г., 37; 298; 376;
452; 679 Бакунин М. А., 354 Балакирев И. А., 105 Балашов Н. И., 384 Балли Ш.
(BallyCh.), 141;
516; 519; 520; 532; 544;
546; 608 Бальзак О. де, 37; 76; 117; 133;
234; 349; 375; 418; 472;
493; 665 Бальмонт К. Д., 53 Баранников А. П., 501 Баранович Л., 129 Барбье А. О.,
12; 32; 37 «Сатиры », 32 « Я м 6 ы » , 32 Бархударов С. Г., 142; 520
543
Бахтин Н. М., 471; 501; 617; 661
Беалько А., 108 Белецкий А. И., 128; 454; 491 Белинский В. Г., 45; 354; 365; 673
Белый Андрей, 421; 451 Бем А. Л., 461; 471; 678 Беранже П. Ж., 12; 32; 37 Бергсон А.
(Bergson Н.)> 50;
421; 425; 426; 430-438;
455; 625 Берни Ф., 108
Бероальд де Вервилль, 11; 493
«Le Moyen de
parvenir», 11 Библия, 106; 414; 419; 660
Бион Борисфенит, 11 Блок А. А., 413; 451; 452; 502
Блумфилд Л., 544 Боас Ф., 505 Богданов А. А., 505 «Богогласник», 125; 128 Бодлер
Ш., 131; 132; 500; 501
«Искусственный
рай»,501
«Цветы зла», 500 Бодуэн дс Куртснэ И. А., 513; 546
543
Боккаччо Дж., 47 «Болтун» (журн.), 31 Бонавентура, 417 Бонди С. М., 624; 629
Бонецкая Н. К., 666 Бонч-Бруевич В. Д., 129 Боцяновский В. Ф., 498 Бочаров С. Г., 384386; 448; 535; 578; 639
Брандес Г., 106 Брант С, 28
«Корабль дураков»,
28
Браччолини Поджо, 489 «Фацстии», 105
Брейгель П. Старший, 54
Брейгель П. Младший, 130; 497
Брентано К., 32
Бретон А. (Breton А.), 119 «Manifeste du surrealisme», 119 «Lcs pas perdus»,119
«Second manifeste du surrealisme»,119
Брехт Б., 305
Бродский H. Л., 498
Брокгауз Ф., Ефрон И., 402; 406; 408; 489
Бруно Дж., 108; 490
Брюсов В. Я., 53; 446; 453
Буало Дспрео Н., 11; 30; 103; 222
Бубер М., 391; 395; 396;
398; 401; 626; 632; 660 Будда, 132; 490; 501 Буйе Л., 500
Булаховский Л. А., 550; 605
Булгаков М. А., 616
«Мастер и Маргарита», 616
Булгаков С. Н., 388; 488
Булгакова Е. С, 616
Бунаков Н. Ф., 518
Буркхардт Я., 383
Бурлюк Д., 52; 445
Буслаев Ф. И., 513; 518; 519
Бухарин Н. И., 505
Буш Г., 415
544
в
Вайцзеккер В. фон
(Weizsäcker Viktor von), 317; 636
Вайцзеккер К. Ф. фон (Weizsäcker Carl Friedrich von), 315; 327; 6/9; 635-637; 641; 643
Валерий Максим Рсатинский, 431
Варрон Марк Тсренций, 11; 17; 25; 676
«De originibus
scaenicis», 17
« L о gi st о ri ci» , 41
« Saturac
Mcnippcac», 11 Васильев Ю., 663 Васильева Т. В., 384 Вежбицкая А., 646 «Великое
зерцало», 126 Вельфлин Г., 628 Верфель Ф., 33 Верхарн Э., 61; 455 Веселовский
Александр Н., 47; \2Ъ\383; 613; 615; 679; 680
Ветухов А. В., 125; 520
Виланд Х.-М., 41
Вильгельм Оранский, 455
Вильсон В., 56; 60
544
Виноградов В. В., 218; 222; 225; 245; 248; 249; 254; 292; 324; 330; 360; 388; 392; 395;
428; 5W; 515; 518; 519; 522; 525; 526; 532; 538-542; 544-547; 549-553; 556-558; 562-564;
566-589; 593; 594; 596; 598-611; 617; 619; 620; 622712
624; 626; 629 631; 638641; 645; 655; 656; 668 Винокур Г. О., 445; 455;
519; 546; 551; 567; 624 Вишенский И., 123; 491 «Война мышей и
лягушек», 18; 102 Волков Ф. К., 124 Волкова О. Ф., 501 Волошинов В. Н., 385; 392;
416; 486; 518; 541; 543;
550; 557; 604; 621; 626 Вольтер 31; 56; 75; 494; 676 «Кандид», 31 «Микромегас»,31
Воррингср В., 628 Востоков А. X., 550 Вулис А. 3., 616 Вундт В., 583 Выготский Л. С,
619; 661
Габричевский А. Г., 416; 418;
443; 473 Гаватович Якуб, 127; 491 Гавриил архангел, 471 Гадамср Х.-Г., 625; 634;
637;
640; 644 Галилей Галилсо, 108 Галина Ивановна, 493 Галкина-Фсдорук Е. М., 549
Гальперин И. Р., 599; 605;
606 Ганимсд, 490 Гардинср А., 619 Гаспаров М. Л., 411; 452;
670
Гвиницелли Гвидо, 104; 489
Гвоздев А. Н., 165; 519; 546;
551; 552; 571; 581; 605 Гсбсль И., 640
Гегель Г. В. Ф., 428-430; 621;
625; 640; 666 Гейне Хр., 504 Гейне Г. (Heine Н.), 12; 32; 37; 105-108; 478; 489
«Альманзор», 105 «Атта Тролль», 106 «Вильям Ратклиф», 105
«Германия», 107 «Лирическое интермеццо», 105 «Сатиры», 107
Георгий мученик, 123
Гера, 409
Геракл, 157
Гераклит, 474; 487
Гсрдер И. Г., 58; 450
Геродот, 16
Герцен А. И., 211; 354; 355; 673
Гесиод, 12; 18; 39
« Т с о г о н и я » , 39 «Труды и дн и » , 12; 18; 39
ГетеИ.-В.,41;51;78; 82; 97;
383; 416; 418; 420; 442;
443; 454; 472; 473; 487;
490; 496; 616; 659 «Вильгельм Мей-стер», 134
«Итальянское путешествие», 420 « П а р и я » , 51; 442; 443 «Прометей», 659
«Страдания молодого Вертера»,617 «Фауст», 82; 97
«Одно и все» («Eins und alles»), 472; 473
Гиндин С. И., 623
Гинзбург Ю., 470; 471
Гиппсль Т. Г., 497
Гиппонакт, 19
Гирцель Р. (Hirzel R.), 324; 645 Гнатюк В., 123; 124; 125; 491 Говер М., 456
Гоголь Н. В., 13; 37; 45-47; 59; 65; 69; 75-77; 80; 98; 100; 117; 123; 125; 146; 151; 152;
157; 158; 202; 233; 323; 349; 357; 358; 360; 363; 375; 376; 380; 383; 398; 404; 405; 413;
545
418; 420-423; 431; 451; 457; 460; 465; 468; 474; 475; 478; 483; 484; 490; 496; 509; 526;
530; 531; 534; 535; 617; 638; 649; 650; 678
«Вечера на хуторе близ Д и к а н ь к и » , 37; 117
«Вий», 117 «Кровавый банду-рис т », 46
«Майская ночь», 117 «Мертвые д у ш и » , 37; 215; 225; 233; 283; 376; 530; 567
« М и р г о р о д » , 37 « Н о с » , 37 «Ревизор», 632 «Сорочинская ярма р к а », 47
«Страшная месть», 47; 125
«Страшная рука»,46 713
«Страшный кабан», 46
«Тарас Буль6а»,117 «Шинель» ,45; 100; 349 Гоготишвили Л. А., 384; 385;
522; 527; 529; 532 Голиаф, 128 Голубев М. А., 436 Гольбах П., 498 Гольденберг И.,
421; 430;
434; 436 Гольдсмит О., 41 Гомер, 18; 39; 102; 411; 447;
649; 659
«Илиада», 140; 378; 408; 484; 678 «Одиссея», 347;408; 484; 664 Гонкуры Э., Ж., 498
Гончаров Б. П., 449; 452 Гончаров И. А., 37
«Обломов», 102 Гораций Квинт Флакк, 11; 16; 21-23; 30; 31; 36; 103; 222; 446; 503
Горбам евич К. С, 519 Горну!Iг Б. В., 657 Горнфельд А. Г., 402; 408 Горький М., 37;
298; 374; 382;
4<)г>. 445; 446; 677 Готье Ж. де, 501 Готье Т., \ЪА\504
«Роман мумии», 504 Гофман В., 445; 446 Гофман Е. (Hofrmann Е.), 34;
409; 4Ю Гофман Э. Т. А., 12; 13; 32; 33;
36; 37; 418 Грановский Т. Н., 354; 355; 363 Грибоедов А. С, 114 714
Григорович Д. В., 37; 76; 472 Григорьев Ал. А., 617 Григорьев Л. В., 675 Григорьев
М. Г., 299 Гримм Я., 504 Гриммельсгаузен Г. Я. X., 30;
378; 676; 680 «Симплициссимус», 377; 678; 680 Грин Г., 340; 673 Гринцср П. А., 384
Гройс Б., 447 Гроссман Л. П., 419; 462;
650; 659; 660; 674; 677 Гудзий Н. К., 624 Гуковский Г. А., 614 Гумбольдт В. фон,
167; 168;
210; 269; 286; 400; 565;
582; 627; 628; 637; 642 Гуревич А. Я., 413 Гусейнов А. А., 384 Гуссерль Э., 390; 393;
395;
624; 625; 628; 637; 679 Гуттен У. фон, 35; 415 Гюго В., 32; 298-303; 415; 611613
«Мария Тюдор», 298;
299; 303; 611-613
«Les Chätiments», 32
Д_
Данилин Ю. И., 499 Данилов В., 124; 491 Данте Алигьери, 46; 55; 56; 74; 104; 105;
107; 108; 157; 412; 440; 449; 478; 482; 489; 496; 508; 509; 649; 669 «Божественная коме
д и я » , 46; 376
«Об итальянском языке», 104; 440 «Пир», 104, 107
Де Квинси Т., 501
Дс Костер Ш., 30; 61; 377 «Тиль Уленшпигель », 30; 377
дс Мен Ж., 26
«Роман о Розе»,26
дс Пуатвен см. Л с Пуатвсн
Дсдскинд Ф., 415
Дейч А. А., 106; 489
Декарт Р., 627
546
«День некоего аббата», 28
Дсперье Б. (Des Pericrs Bonavcnturc), 493
Державин Г. Р., 446; 449
Дерюгина Л. В., 384; 385; 466
Дефо Д., 31
Дживелсгов А. К., 108; 476;
477; 489 Джойс Дж., 134; 208; 380;
472; 502; 503 Дидро Д., 376; 676 Диккенс Ч., 33; 134; 304 Дильс, 409
Дильтей В. (Dilthey W.), 390;
393; 622; 625-627; 637;
641; 644 Димитрий Ростовский, 126;
492
«Руно орошенное», 126
Диоген, 75; 377; 5W Диоген Лаэртский, 509 Дионис, 81 Дитсрих А., 20 Добролюбов
Н. А., 34
Довгалевский Митрофан, 126;
127; 491 Додэ А., 496 Долинин А. С, 365; 420;
662; 667; 673-675; 677 Домициан, 24
Дони Антонио Франческо, 108
«Мраморы», 108 Дос Пассос Дж., 503 Достоевский М. М., 76; 472; 665
Достоевский Ф. М., 42-45; 63; 64; 70; 73-76; 77; 81; 83; 87; 88; 98; 100; ПО; 111; 117;
133; 134; 139; 157; 304; 319; 320; 324; 327; 339-350; 352-366; 368; 378; 379-385; 393;
396; 412; 413; 416-422; 438; 451; 457; 459^63; 465-473; 478-481; 483; 484; 488; 496; 497;
501; 502; 507; 508; 535; 602; 613-619; 624; 626; бЗО; 638-641; 643; 644; 646-654; 657-680
«Бедные люди», 318;
319; 327; 358; 465; 638641; 645; 662
«Белые н о ч и » , 44;
501
«Бесы »,43; 44; 356; 358; 374; 376-378; 665; 678 « Б о 6 о к » , 44; 340; 678 «Братья
Карамазовы »,42; 43; 75; 91; 131; 133; 340; 349; 353; 356; 358-360; 362; 365; 368; 369;
373; 374-378; 420; 459; 460; 502; 616; 658; 665-668; 672-678
1\Ь
«Двойник», 350; 358; 365; 465; 666; 672; 673; 678
«Дядюшкин сон», 376; 679
«Житие великого грешника», 377; 678; 680
«Записки из подпол ь я » , 44; 346; 353; 362; 465; 662; 663; 678 <3аписная книжка
1863-1864 гг.>, 462 «Игрок», 117 « И д и о т » , 43; 44; 111; 118; 340; 342; 344; 349; 350;
358; 375; 420; 652; 660; 665; 672
«Кроткая», 662; 664 «Неточка Незванова», 340; 659; 666 «Подросток», 118; 340; 359;
369; 659; 666; 672; 673
«Ползунков», 368 «Преступление и н а к а з а н и с » , 43; 99; 102; 340; 358; 359; 365;
374-376; 378; 648; 661; 677 «Сон смешного человека», 419; 678 «Униженные и
оскорбленные», 355; 667; 670
«Хозяйка», 350; 365 Драгоманов М., 125 Дувакин В. Д., 425; 439; 446;
473; 499-501 «Дума про Михия»,125 Дюммлер, 105 Дюперье см. Деперье Б. 716
Дюркгейм Э., 504
е_
Евангелие, 43; 125;
547
412; 419; 678 Евнина Е. М., 477 Евссвий Кесарии ский, \Ь\409 Евстафий Солунский,
411 Евстратий Никейский, 411 Ельмслев Л., 543; 623; 632;
633; 646 Еремина В. И., 421 Ермилов В., 374; 677 Есенин С. А., 452 Есперсен О., 619
«Еулсншпигель»,28 Ефименко П., 125
Ж_
Жакоб М., 503 Жан-Поль, 497; 614 Жарри А., (JarryA.) 119; 503
«Ubu-Roi», 119 Жданов И. Н., 119 Женетт Роже де, 501 Жирмунский В. М., 450; 476;
541
Жорж Санд, 76; 77; 492
«Последняя Альди-н и » , 76; 472
Жуков Н. А., 497
Жуковский В. А., 398; 434; 614; 615; 640
3_
Захаров В. Н., 419 Звсгинцев В. А., 619 Зевс, 408; 409 Зиммсль Г., 401 Зиновьев К.,
128; 129; 491
Золотова Г. А., 521 Золя Э., 37
Зоргснфрсй В. А., 401 «Зритель» (журн.),31
и
Кавальканти Гвидо, 104 Каган М. И., 625
Каллимах, 411 Калло Ж., 497 Кальвин Ж., 455 Кальнофойский Афанасий» 126
«Тсратургима або чудо», 126 Канасв И. И., 434; 476-478; 637
Кант И., 49; 421; 432; 434436; 450; 625; 632; 644;
668; 674 Кантемир А., 11 Капустина А. С, 300 Карамзин Н. М., 152; 211;
490; 617 «Бедная Лиза», 617 Карнап Р., 632 Каролина (племянница
Г. Флобера), 498; 499 Карпов Б. И., 301 Карцевский С. О., 185; 246;
247; 542; 544; 549-551;
553; 580; 581 Кассирср Э. (Cassirer Е.), 382;
463^*65; 479; 480; 489;
505; 541 Каутский К., 505 Кацис Л. Ф., 384; 441; 445;
450
Кацнельсон С. Д., 548 Квинтилиан Марк Фабий, 20 Кирпотин В. Я., 374; 677
Китоврас, 679 Кларк К., 466
«Климентины», 377;
678; 680 Клушин А. И., 415 «Книга Иова» см.
Иов
Ибсен Г., 87
Иван IV Васильевич
(Грозный), 112; 113; 293;
481
Иванов Вяч. И., 147; 393; 420-422; 649; 653; 660; 667
Иванов Н. А., 302 Иегова, 485
Иисус Христос, 75; 127; 373;
377; 460^*62; 469; 491;
499; 616; 677; 679 Ильенков Э. В., 663 Ильинская И. С, 595; 608 Ильф И., Петров Е.,
37 Иоанникий Галятовский, 126;
129
«Небо новое», 126 Иоанн Креститель, 123; 130; 491
Иоанн Скот Эриугсна, 632 Иоахим Флорский, 616 Иов, 75; 413; 446; 460; 461; ббО
548
Ириней Лионский, св., 499 Ирод, 492 Иродиада, 130 Исократ, 472 Истрина Е. С, 580
Иуда, an., 678
К
549
Ковалевская С. В., 471 Коварский Н., 455 Когсн Г., 625; 632 Кожинов В. В., 384; 416;
434; 438; 457; 464; 466;
475; 535; 536; 560; 591;
647; 650; 651; 663; 666;
668; 678 Козлова О., 373; 675 Коле Л., 496; 497; 499; 500 Колмогоров А. Н., 627
Коломасов Я. М., 302 Комарович В. Л., 364; 662;
667; 670; 674; 678 Коменский Ян Амос, 305; 617 Кондратьев С, 409 Кониский
Георгий, 127; 491 Конкин С. С. и Конкина Л. С,
383; 508; 662 Конрад Н. И., 578 Коперник Николай, 108; 465 Корнелий Непот, 431
Котляревский И. П., 45; 423 Кочетков А., 442; 443 Кратин, 411
Кротевич Е. В., 248; 249; 581;
582 Кроче Б., 388 Крылов И. А., 152; 211; 415 Ксанина К. А., 401 Ксенофан, 130; 133;
499 Ксенофонт, 189; 552
«Анабасис», 189; 280;
552
Курилович Е. Р., 619 Куч ук-Хан ем, 500 Кьсркегор С, 401
л_
Лакан Ж., 466
Лало Ш. (Lalo Ch.), 659; ббО
Ланглуа Э.Г., 498
Лаптун В. И., 383; 384
Лапшин И. И., 461; 471; 678
Лацарус М., 548
Ле Пуатвсн А., 130; 497; 498
Лебедев А. В., 499
Лебедева EH., 676
Лев XIII, 413
Леви-Брюль Л., 504-506
Лсви-Стросс К. (LeviStrauss Cl.), 506; 642 Лсвидов М. Ю., 457; 464 Левин В. Д., 552; 599-601;
604; 605; 609 Левин Ю. И., 466 Левченко М., 125 Лейбниц Г. В., 198; 627 Лсйбович
С. Л., 384; 496;
497
Леконт де Лиль Ш., 499 Лсман П. (Lehmann Р.), 414 Ленин В. И., 52; 55; 56; 246; 582
Леонов Л. М., 297; 611
«Русский лес», 297; 611
Леонтьев К. Н., 664
Лермонтов М. Ю., Ю; 298; 415; 520; 573 «Герой нашего времени», 227;573
Лсруайе де Шантспи, 497
Лерх Э., 141
Леттенбауэр В., 343; 661 Летурно Ш., 504
549
Ливии Тит, \1\2\\4W Ломоносов М. В., 222; 449; 519
Ломтсв Т. П., 657 Лопухин А. П., 499 Лорк Э., 141
Лосев А. Ф., 388; 390; 488;
549
505; 506 Лосский Н. О., 626 Лотман Ю. М., 498; 640 Лоя А. В., 546 Луговской В. А.,
58; 450 Лукиан, 11; 25; 29; 31; 75; 105;
236; 336; 461; 656; 676 Луначарский А. В., 489; 493;
494
Луцилий, 11; 21; 22 Любимов Н. А., 675; 676 Любович Н. Н., 456 Людовик XI, 114
м_
Мабилло П. (Mabillcau Р.),
612; 613 Магомет, 74; 471; 648 Макарова И. А., 446 Максимов Л. Ю., 521 Макферсон
Дж., 41 Маленков Г. М., 563 Малиновский Б., 505 Малкина Е., 441; 454 Мальцев М. Д.,
520 Ман Н., 487 Мандельштам О. Э., 449 Манн Т., 323; 338; 340; 349;
361; 375; 401; 653; 657;
658; 659; 665; 673 «Волшебная гора», 349; 401; 653; 665
«Доктор Фаустус», 340; 361; 657 «Избранник», 375 «История "Доктора Фаустуса"»,
659 «Приключения авантюриста Феликса Кру-л я » ( « К р у л ь » ), 375 «Маргит», 12;
17; 18; 102; 411
Маринетти Ф., 453 Мария, 413
Мария Египетская, 373; 419 Маркевич Б. М., 123 Маркольф (Маркульф, Морольф), 377; 679; 680 Маркс К., 213; 304; 338; 345;
349; 359; 448; 454; 472;
475; 566; 615; 621; 658;
663; 665 Маркс А. Ф., 487 Марникс дс Сснт-Альдсгонд
(Marnix de SainteAldegondc), 29; 30; 61; 455;
456
«О различии в рели г и я х », 29 Маро К., 423; 493; 494 Марр Н. Я., 505; 538-542; 547;
548; 556; 593-595; 608
Марциал Марк Валерий, 17; 24 Матисс А., 456 Матюнин М. М., 303 Махлин В. Л.,
384; 662 Махов А. Е., 384; 635 Маяковский В. В., 12; 38; 48; 52-55; 57-61; 380; 381;
550
384; 405; 424; 425; 438441; 443-457 «Блэк энд уайт»,38 «Владимир Ильич Ленин», 52; 56; 448 «Во весь г о л
о с », 52; 54; 445
«Война и мир», 439 «Как делать стихи», 52; 55; 441; 447-450 «Облако в штанах», 53;
443-446
«Пр озаседавшиеся», 38; 445; 449 «Сифилис »,38 «150 ООО ООО», 445; 449
«Хорошо!», 448
«Человек», 447 Медведев П. Н., 385 Мейе А., 256
Мейер А. А., 388-391; 393396; 398-400; 626 <&
Мейстер Экхардт, 499 Мелетинский Е. М., 428; 434 Мелихова Л. С, 384; 473; 5W
Мснипп Гадарский, 11; 25; 75 Мережковский Д. С, 58 Мериме П., 496 Метел л, 21
Меценат Гай Цильний, 22 Мещанинов И. И., 257; 541;
542; 548; 549; 551; 577;
581; 584; 585 Микуш Ф., 658 Микушевич В. Б., 417 Миркина Р. М., 418; 491;
ббО
Мирский Д. С, 444 Михайлов А. В., 384; 450; 490
Михайлов А. Д., 428; 431 Михайлова Е. Н., 403; 404 Михайловский Б. В., 403;
405; 406 Михельсон М. И., 519 Мицкевич А., 298 Миш Г. (Misch G.), 382; 457;
463; 485; 487 Мозср, 106 Мольер, 31; 180; 273 Моммсен Т., 20 Монтень М. де, 494
Мопассан Ги де, 37; 48; 425;
550
429
«Жизнь», 48;429 Мориак Ф., 340; 673 Морозова Н. Г., 248; 581 Москальская О. И.,
548; 657 Мошинска Ю. (Moszynska J.)>
124; 491 Мурильо Б. Э., 498 Мусатов В. В., 449 Мущинина Л. Н., 411 Мышковская
Л., 445
н_
Назиров Р. Г., 419
Наполеон I, 64; 612
Нарсжный В. Т., 45; 423
Наторп П., 464; 621
Невий, 11; 21
Недович Д. С, 412
Недошивин Г. А., 663
Некрасов Н. А., 12; 33; 37; 639 «Кому на Руси жить хорошо», 33
551
«Нравственный чело в е к », 33 «Ростовщик», 33 Нсльс С, 402 Нигсл Вирскер, 27
«Зеркало глупцов» («Spcculum stultorum»), 27 Николаев Н. И., 384; 39Г;
446; 670 Николай Кузанский, 109; 489 Ницше Ф., 78; 135; 398; 413; 414; 447; 452;
463; 467; 468; 470; 471; 490; 501; 504; 617; 652; 653; 665 Новопавловский А. С, 302
«Ночные дозоры»
(«Nachtwachen»), 417 Ноэль дю Фай ль (Noel du
Fail), 493; 494 Ньютон И., 357 Нюренберг А. М., 456
о_
Обломиевский Д. Д., 476-478 Овидий Публий Назон, 16; 105
«Fastes», 16 Огарев Н. П., 383 Оден У. X., 503 Ожегов С. И., 519 Озмидов Н. Л., 675
Опульская Л. Д., 384 Ортега-и-Гассет X. (Ortega у
Gasset J.), 623; 634 Ортуин Граций, 415 Оссовецкий А. И., 571 Островский А. Н., 37
Ошсров С, 412
п_
Павел, an., 500; 615 Павлова Н. С, 384; 465 Павсаний, 15; 409 Падерина Е. Г., 384
Пажитнов Л., 663 Пантелеев Л., Белых Г. «Республика Шкид», 118 Паньков Н. А., 384;
475; 670 Парацельс, 464; 465 Паскаль Б., 72; 470; 471; 664 Пастернак Б. Л., 445; 449;
452; 454; 456; 457 Пауль Г., 256 Пельтцер А. П., 34 Перетц В. Н., 129; 491
ПеримоваТ., 493; 494 Персии Флакк Авл, 11; 23 Персефона, 16 Перфильев Н. П., 474
Перфильева (Бахтина) Н. М.,
403; 474 Перцов В. О., 446 «Песнь о Роланде» ,39;
40; 679 «Перссопницкое
Евангелие», 125 Петерсон М. Н., 246; 580 Петр I, 113; 4*7 Петров Н. И., 38; 129
Петровский Ф. А., 412 Петроний Арбитр, 11; 17; 25;
29; 31; 434; 616; 617; 677 «Сатирикон», 11; 373; 419; 677 Пешковский А. М., 144;
190;
244; 245; 294; 513; 514;
517; 518; 521; 525-527;
12\
545; 547; 549 553; 579;
580; 583 Пиндар, 101 Пинский Л. Е., 475 Пиотровский Р. Г., 593 Пирс Ч., 627
Писемский А. Ф., 37 «Письма темных людей» («Epistolac
obscurorum
virorum»), 13; 29; 415 Пифагор, 499 Плавильщиков П. А., 415 Платон, 42; 419; 460;
509;
551
ббО; 665; 676 Платонов А. П., 453; 454 Плетнев Р. В., 650; 677 Плутарх, 15; 54; 409;
447 Победоносцев К. П., 675; 676 Поджио Браччолини, 105 Подмарькова М. В., 384
Полибий (Polybius), 63; 463 Поликарп, св., 130; 499 Полилов Н., 414; 468; 471
Полонский В., 452 Помяловский Н. Г., 59; 451 Попов П. С, 364; 369; 542;
549; 577-579; 653; 663;
667; 670-672; 674 Попова И. Л., 384; 386 Попова С. И., бОЗ Поспелов Г. Н., 416; 418;
614
Поспелов Н. С, 251; 526;
542; 550; 575; 582 Потебня А. А., 120; 141; 144;
209; 246; 285; 400; 520;
525; 526; 583 Пропп В. Я., 421
Пруст М., 131; 134; 208; 472;
502; 503 Пумпянский Л. В., 391; 398;
415; 446; 625; 628; 632;
637; 642; 670; 673 Пуцыкович В. Ф., 675 Пушкин А. С, 80; 105; 114;
118; 146-149; 151; 211; 215;
220-222; 232; 269; 293; 335;
357; 376; 400; 416; 434;
446; 486; 492; 496; 498;
509; 520; 524; 526; 528;
571; 573; 575; 601-603;
606; 619; 629; 638; 656;
678; 679
«Борис Годунов», 293; 474; 492; 606 «Евгений Онегин», 63; 150; 215; 324; 357; 457;
458; 498; 524; 526; 535; 567; 573; 640 «Марья Шонинг» («Мария Шёнинг»), 376; 679
«Пиковая дама», 118; 376; 526; 601; 602; 606; 622; 676
«Повести Белкина», Ю
«Скупой рыцарь», 376; 486; 679 «Станционный смотритель »,76 «Стихи, сочиненные
ночью во время 6 е с с о н н и ц ы » , 49; 434
«Сцены из рыцарских времен», 118 Пыпин А. Н., 509
552
р_
Рабин О., 663
Рабле Ф., 10; 11; 13; 25; 26; 29;
31; 35-37; 46; 53; 58; 59; 61;
80; 82; 101; 103; 113; 115-117;
139; 157; 325; 379-382;
384-387; 398-401; 406
408; 410; 411; 413-415;
419; 421^23; 425; 435;
438; 441; 445; 447; 450452; 456; 459; 461; 473479; 481-490; 493-496;
498; 502; 503; 508; 534536; 613; 614; 615; 648;
649; 670 Раинах С. (Rcinach S.), 15; 34;
402; 407-409 Распопов И. П., 521 Рассел Б., 632 Ревякин А. И., 563 Резанов В. И., 129
Реизов Б. Г., 500 «Рейнекс Лис»,27;28 Рейх Г. (Reich Н.), 411; 412 Рсйхлин И., 407; 415
Рембрандт X. ван Р., 417 РеньеМ., 11; 30 Реформатский А. А., 546; 551 Риббек О., 23
Риккерт Г., 622; 644 Ример Ф.В., 472; 473 Ричардсон С., 284
552
«Кларисса Гарлоу», 617
Розенталь Д. Э., 519 «Рокамболь», 118 Роллан Р., 305 Рубеан К., 415
Руссо Ж.Ж., 41
«Новая Элоиза»,6/7 Руццанте, 108
С
Савченко С. В., 124; 491 Савчук С. О., 384; 5W Сакс Ганс, 30 Саломея, 130; 498; 500
Салтыков-Щедрин М. Е., 12; 33; 34; 37; 220; 221; 323; 374; 405; 573; 575; 677 «Господа
Головлс-в ы » , 37
«Губернские очерки », 33 Сартр Ж.-П. (Sartre J.-P.), 625 Свасьян К. А., 414; 490; 504;
665
Свснцицкий И., 124; 491 Светоний Гай Транквилл,
408; 411 Свифт Дж., 31; 457; 464 Северянин И., 439 Ссдуро В. И., 650; 677 Сезанн П.,
61; 456 Сельвинский И., 441 Семенов М. И., 430 Сенека Луций Анней, 11; 25;
29; 4Ю
«Ап околокинтозис»,
11
Сент-Бев Ш. (SainteBeuve С. А.), 493; 503 Сепир Э., 541; 637 Сервантес Сааведра Мигель де, 11; 13; 26;
29-31; 35; 36; 103; 139; 508; 614 «Дон-Кихот», 11; 25; 45; 157; 377; 496 Сеченов И. М.,
295; 6W
553
Сеше А. (Sechehaye А.)> 141; 579
Сидоров В. Н., 581
Сильман Т. И., бОО
Скаррон П., 31; 494
Скворцов Л. И., 519
Сковорода Г. С, 128; 129
Славсцкий В. И., 457; 464; 466; 560; 591; 678
«Слово о полку Игореве», 39; 40; 51; 380; 381; 384; 416; 417; 679
Смирницкий А. И., 586; 619; 658
Смирнов А. А., 382; 476^78 Соболевский И. А., 513 Соколов Н. М., 436 Соколовский
А. Л., 109; 487;
488; 490 Сократ, 43; 138; 139; 341; 348;
350; 377; 420; 509; 5Ю Соловьев В. С, 133; 373; 391;
398; 399; 501; 502; 676 Сологуб Ф. К., 671 Соломон, 679; 680 Солон, 509 Сомов О.
М., 123 СорельШ., 31; 494 Сорокин Ю. С, 295; 593-596;
598; 601; 603; 607; 610 Соссюр, Ф. де, 141; 169; 183;
184; 253; 261; 270; 275; 276;
341; 513; 519; 539; 544;
546-548; 550; 570; 571;
582; 584; 585; 605; 608;
614; 631; 637; 646; 656;
657; 659 Сотонин К., 435 Софокл, 469; 472; 479; 480
«Царь Эдип»,88; 89 Софрон из Сиракуз, \9;477 Спендср С, 503 Спенсер Г., 49; 432;
434^36 Спиноза Б., 632 Срезневский И. И., 513; 578 Сталин И. В., 218; 237; 272;
383; 447; 536; 539; 542;
556; 559 562; 565; 566;
569; 577; 573; 575; 582;
586; 594; 598; бОО; 603 Станиславский К. С, 302 Стаций Публий Папиний, 105
Стендаль, 76; 493; 672 Степанов Г. В., 579; 599; 605 Стерн Л., 45; 76; 157; 423;
553
497; 674-676 «Жизнь и мнения Тристрама Шенди», 675 Стал Р., 475 Страда В., 384;
650 Сульс Ф., 77
Сумцов Н.Ф., 34; 124; 129 Супо Ф., 119
Сухово-Кобылин А. В., 37 Сухотин В. П., 527; 542;
549; 580 Сципион Африканский,
Младший, 21 Сю Э., 472
т_
Тарле Е. В., 478; 648; 650 ТасаловВ., 663 Тастсвен Г., 453 Тацит, 447 Тейлор Э., 504
Тсккерсй У. М., 33; 35; 134 Телет, 11
554
Теп лова Г. И., 384
Тибоде А. (Thibaudet А.), 141;
493; 519 ТикЛ.-И., 12; 32; 33 Тиллий, 22 Тимснчик Р. Д., 454 Тимофеев Л. И., 382;
416;
418; 452; 458; 467; 477 Тирако А., 445 Тихонов А. Н., 446 Тойнби А., 506 Толстая С.
А., 676 Толстой А. Н., 297; 610 «Петр I», 297; 6W «Похождения Невзорова, или Ибикус», 118 Толстой И. И., 411 Толстой Л. Н., 10; 12; 37; 56; 82; 134; 157; 208; 211; 225;
233; 295; 296; 307; 314; 346-348; 354; 360; 362; 382; 383; 405; 448; 496; 502; 652; 653;
659; 663; 664; 673 «Анна Каренина», 225; 314; 382; 383; 624; 635
«Война и м и р » , 82; 102; 664
« В о с к р е с е н и с » , 37; 296
«Круг чтения», 664 «Севастополь в мае», 664 «Смерть Ивана Ильича», 354; 667
Томашевский Б. В., 382; 477;
550-552; 567-569; 574;
584; 624; 644
Топоров В. Н., 384; 419;
490; 492; 617; 649; 673 Тренин В. В., 451; 456 Траян, 24
Трубецкой Н. С. (Trubetz-koy N. S.), 426; 544; 546; 626; 650 Турбин В. Н., 483; 497
Тургенев И. С, 37; 211; 341; 342; 361; 368; 638; 659; 660 « Д ы м » , 37 « Муму» , 131;
133 « Н о вь» , 37 «Отцы и дет и »,341; 342; 659; 660 Турчиновский И., 128 Тынянов Ю.
Н., 107; 446;
449; 678 «Тысяча и одна
н очь», 41 Тютчев Ф. И., 118; 465
У_
Уитмен У., 52; 54; 444; 455 Улановская 3. П., 301 Уорф Б. (Whorf В.), 619; 637; 642
Ушаков Д. Н., 513 Ушинский К. Д., 513; 518
Ф_
Фалес Милетский, 509 Фасмер М., 662 Фауст, 82; 680 Февр Л., 506 Федор, св., 108
Федоров А. В., 598 Федоров В. В., 475 Фсдякин С. Р., 471 ФейдоЭ., 130; 496
554
ФейербахЛ., 625 Фёрстер-Ницше Э., 504 Фигуровский И. А., 550 Филин Ф. П., 519;
520 Фильдинг Г., 41 Фихте И. Г., 625 Фишарт И., 30; */5; 4S8 Флёгсль К.-Фр., 413
Флобер Г., 37; 48; 76; 130-134;
136; 137; 140; 304; 380; 381;
384; 408; 425; 429; 492
504; 507-509; 613; 617;
663
«Анубис», 132; 500 «Бувар и Пекюше» («Bouvard et Pecuchet»), 494; 496; 502; 507
«Воспитание чувств» («L'education sentimentale», 494; 507
554
«Иродиада» («Herodias»), 130; 494; 496; 498; 500 «Искушение св. Антония» («La
tentation de Saint-Antoine»), 130; 134; 494; 496; 497 «Легенда о св. Юлиане Странноприимце» («La legende de Saint-Julien
L'Hospitalicr»), 130; 131; 133; 494; 496-499;
«Лексикон прописных истин», 500, 502
«Мадам Бовари» («Madame Bovary»), 48; 429; 494; 497 «Простое сердце» (« U п с о е
u г simple» ), 131; 133;494; 501
«Саламбо» (« S а I а m m b ö » ), 137; 494; 500; 503; 504 «Спираль», 132; 500 «Trois
contcs»,W Флоренский П. А., 388; 488 Фогельвейде, Вальтер фон дер,28
Фольгорс да Сан Джиминиано, 104 Фонвизин Д. И., 211 Фортунатов Ф. Ф., 513 Фосслср К., 141; 165; 329; 388;
520; 543; 545; 546; 565;
570; 585; 605 Франк С. Л., 388; 389; 391;
480; 481 Франс А. (France А.), 373; 493;
673; 676
«Сад Эпикура», 676 «Суждения господина Жерома Куаньяра», 373 «Таи с», 373; 676
Франциск Ассизский, св., 413; 417; 616
Фрезер Дж., 504
Фрейд 3., 307; 486; 624; 663; 671
555
Фрейденберг О. М.> 34; 408;
411; 412; 423 Фрсйлиграт Ф., 37 Фрид Я., 119
Фридлсндср Г. М., 342; 660 Фридман И. Н., 384; 643; 667
Фридрих Великий, 108 Фриних, 19
Фукс, Фр. дс л а Мотт, 32 Фуко М. (Foucault М.), 622; 628
Фюретьср А., 494
X_
Хайдсггср М., 392; 396; 398; 622; 624; 625; 628; 634; 637; 640; 642-644; 666 Хализев
В. Е., 384 Харджиев Н. И., 451; 456 Хемингуэй Э., 503; 673 Хлебников В., 52; 58; 449
«Хождение Богородицы по мукам», 460 Холквист М., 466 Хоружий С. С, 503
Христос см. Иисус Христос
У_
Цезарь Гай Юлий, 4W
ч_
Чаадаев П. Я., 354; 355; 363;
365; 673 Чскко Анджольери, 104 Чемоданов Н. С, 256; 583 Чсрсмин Г. С, 455
Чернышев В. И., 141; 513;
518; 519; 525
Чернышевский Н. Г., 211; 291; 348; 360; 602; 668 «Перл создания», 668
Чехов А. П., 249
«Каштанка», 249 Чикобава А. С, 586 Чино да Пистойя, 104 Чубинский П. П., 124;
125; 491
Чудаков А. П., 384; 428; 570 «Чудеса богородицы», 126 Чуковский К. И., 444
Шамиссо Адельберт фон, 32 Шанц М. (Schanz М.), 20; 402;
409; 4W Шапиро А. Б., 530 Шарпантье Ж., 498 Шахматов А. А., 144; 185; 244;
245; 513; 519; 525; 526;
549-551; 567; 580; 582;
583
Шведова Н. Ю., 605 Шевалье Э., 498; 500 Шсйдт К., 30
555
Шекспир У., 56; 78; 85; 87; 91; 94; 95; 97; 103; 109; 114; 127; 349; 380; 412; 469; 472;
478-480; 484; 487; 490; 492; 496; 499; 500; 507; 616; 648; 649; 671
«Гам лет», 88; 89; 97; 115;
470; 501
«Король Л и р » , 85; 88; 89; 97; 109; 119; 123 «Мак бет »,85; 86; 88-94 «Отелло»,9395; 97; 99 «Ричард 111» , 85
«Ромео и Джулье-та», 91 Шелер М., 662 Шсрвинский С. В., 416; 418;
443; 473 Шестов Л., ббО Шиллер Ф., 14; 15; 35; 76; 398; 613
Шишмарев В. Ф., 477; 478 Шкловский В. Б., 368; 374;
412; 427; 428; 455; 457;
624; 650; 674; 677; 678 Шлегель Фр., 504 Шлейермахер Ф., 621; 624;
629; 644 Шнееганс Г. (Schneegans Н.),
34; 414; 435 Шопен Ф., 445 Шопенгауэр А., 131; 499-501;
617
Шор Р. О., 256; 583
Шпенглер О., 136
Шпет Г. Г., 388-396; 398;
400; 401; 464; 505; 5W;
518; 548; 551; 607; 626;
656
Шпитцер Л. (Spitzer L.), 141; 329; 519; 545; 553; 619; 655
Шрагин Б., 663 Штаксншнейдер Е. А., 675 Штейнталь X., 548; 583; 644 Штернгейм,
33 Штриккер
«Поп А м и с » , 27
Щ
ЩербаЛ. В., 247; 250; 513;
520; 526; 545-547; 576;
581; 607; 619; 645 728
Щербатской Ф. И., 490
э_
Эврипид, 20
Эйнштейн А., 357; 367; 506; 673
Эйхенбаум Б. М., 427; 428; 446; 449; 664
Эйхенгольц М. Д., 493; 494
Эккерман И.-П., 487
Элюар П., 119
Эмпедокл, 409
Энгельгардт Б. М., 420; 669
Энгельс Ф., 213; 454; 475; 566; 615; 658; 663; 665
Энний Квинт, 11; 21
Эпикур, 377
Эпихарм, 19; 412
«Спор земли с морем» («Го ксс1 OdXoooa»), 19; 412 «Спор Логоса с Логин о й »
(«Лбуос, ка1 Axyyiva»), 19; 412
Эразм Роттердамский, 30; 35; 488
«Похвала Глупости », 30
Эредиа Ж. М., 499
Эсхил, 19; 92; 472
Эткинд А., 466; 663; 670; 671
Эшби У., 627
556
ю_
Ю вен ал Децим Юний, 11; 23;
24; 30; 31; 32; 35; 36; 412 Юденич Н. Н., 450 Юдина М. В., 477; 493; 534 Юлиан, св.,
130; 131; 133; 498
Юнге Е. Ф., 668; 676 Юрченко Т. Г., 383 Юстин, 409 Юстиниан I, 120 Юэ Ф., ПО
Я_
Ягич И. В., 519
Якобсон Р. О. (Jakobson R.),
426; 446; 449; 451; 456;
457; 544; 626; 674 Яковлев Н. Ф., 542; 578 Якубинский Л. П., 225; 541;
543; 573; 645 Январсв В. И., 302 Яновский А. Е., 434 Ярцева В. Н., 586
Ящуржинский X., 124
Bauer М., 34 Beck О., 402 Binswangcr Р., 493 Birt Th., 35
Bobertag F., 416; 418 Bouchet G., 494 Bouillot V., 520 Brown E. }., 444 Bruneau J., 498
Brunetiere F., 493 BrunotF., 182; 549 «Carmina Burana», 461 Cassirer В., 463; 479; 480
Charpentier, 494 Chasse, 119 Choliers N. de, 494 Conard L., 494 Coquillant, 494 d'Assoucy,
494 Demorest D. L., 493
Descharmes R., 493
Dumesnil R., 493
Ebcling Fr.-W., 34; 409
Elster E., 108
Estienne H., 494
Eulenberg H., 107
Faguet E., 493
Fcrrerc E. L., 493
Franz A., 414
Friedman M. В., 454
Ginestier Р., 454
Glass M., 34
GobyA., 520
Gundolf F., 416; 418
Hirth F., 107
Jacob M., 119
Karpcles G., 107
Kerschner R. В., 503
Koegcl F., 490
Krant J. G., 660
Kutik I., 449
Larousse Р., 520
Lccky H., 413
Lemaitrc J., 493
Lemerre A., 494
Lenicnt C, 35
Leroux E„ 402
Lezius J., 34
MansikkaV., 125
Martino Р., 493
Maynial E., 493
Meilin de Saint-Gelays, 494
Merker Р., 402
557
Pauly A.-F. von, 409; 410;
Peterson D., 444
Quantin A., 494
Rachildc, 119
Rehm W., 402; 408
Roustan M., 520
Sebillet Th., 494 Sagner O., 402 Saint-Amant, 494 «Satire Menipec» , 11, 30;
494; 502 Shauvcau, 119 Skalicka V., 543 Stammler W., 402 Stapanian J. R., 456 Tahureau
494
Teubner B. G., 457; 463; 464;
480 Thomas L., 119 Tractatus Garsiae Tholctani
canonici de Albino et de
Rufino, 28; 414 VallcttcA., 119 Viau Th., 494 Viret Р., 494 Werl A., 409 Wiegand ]., 402
558
558